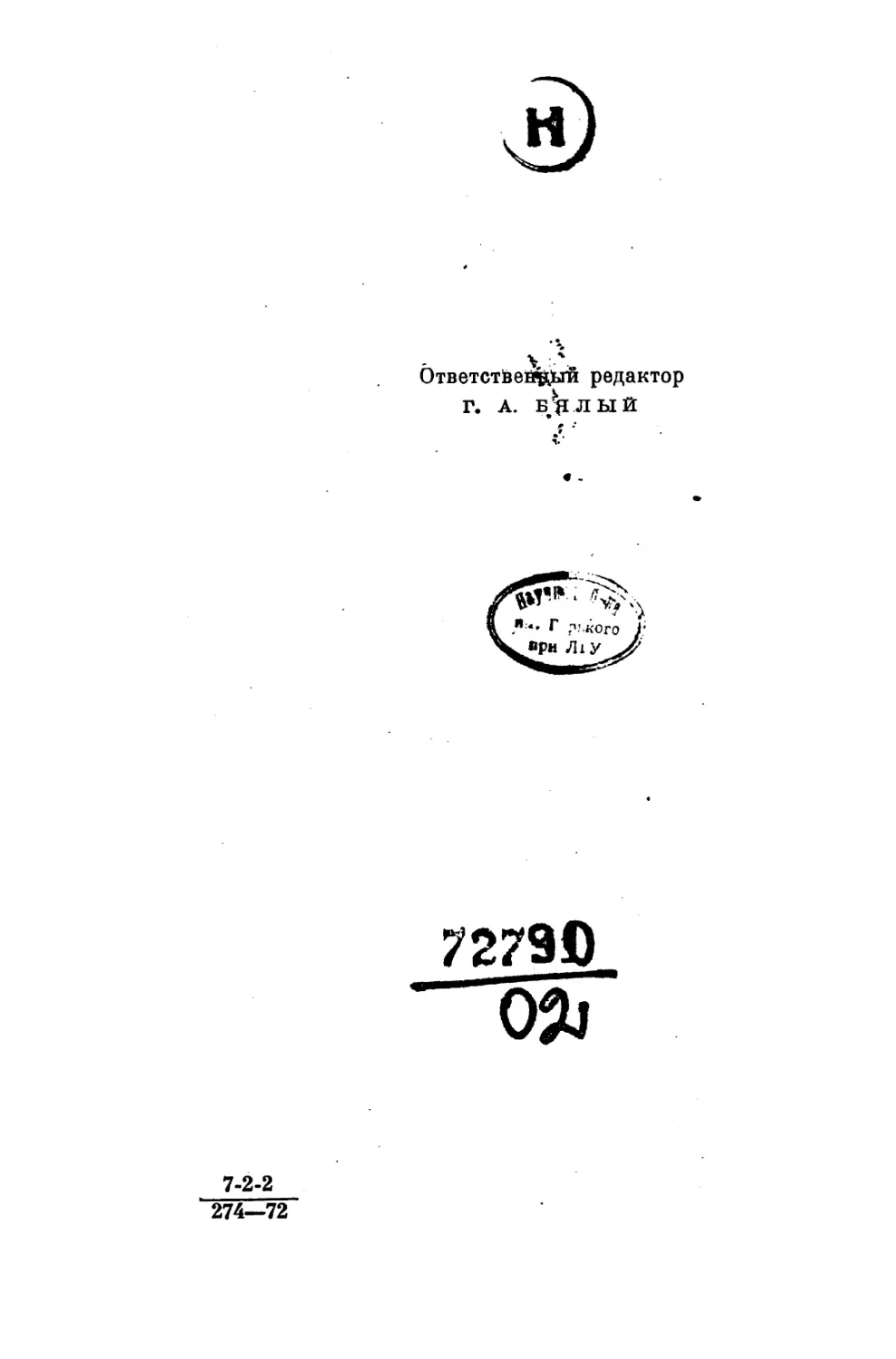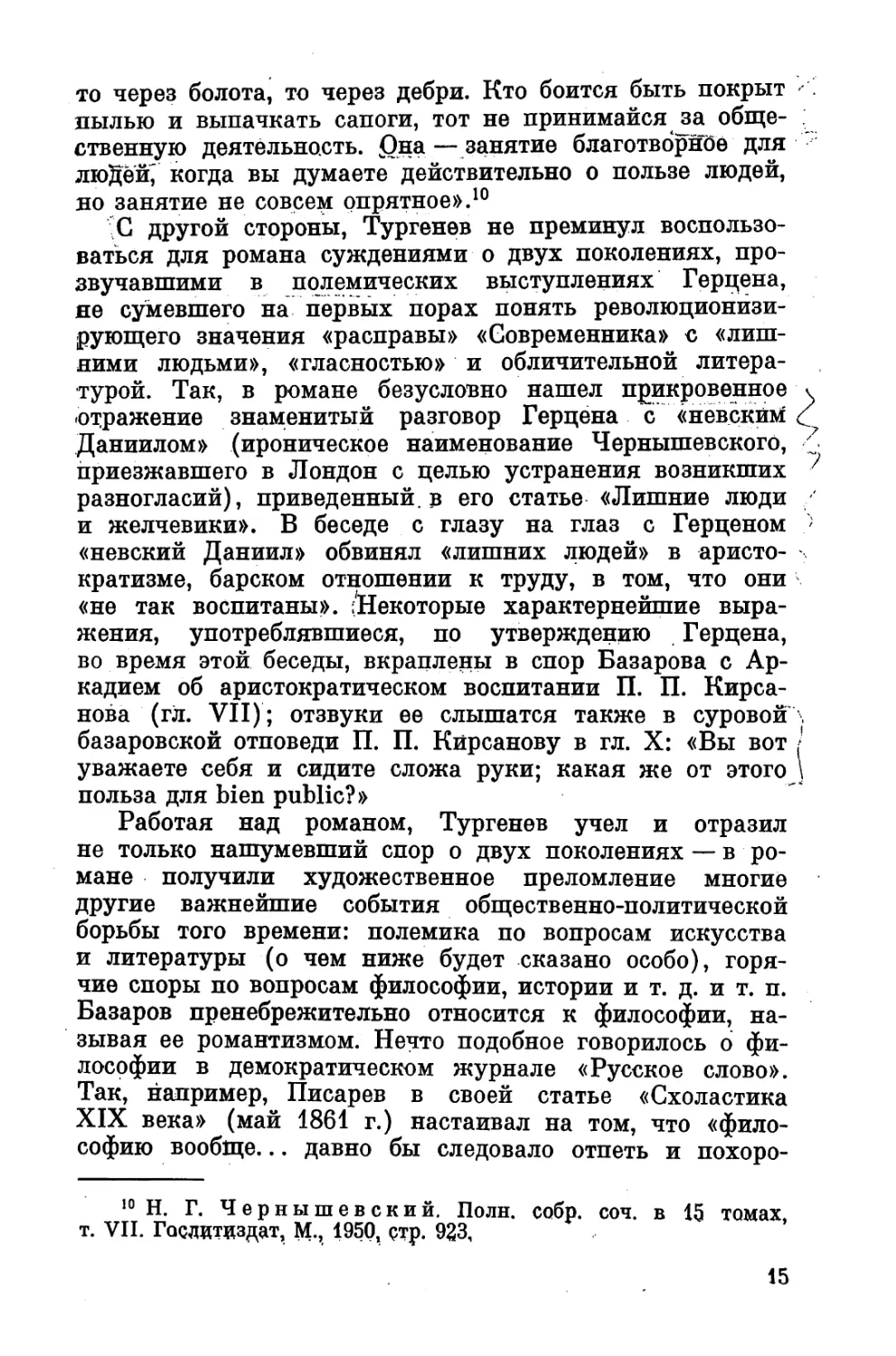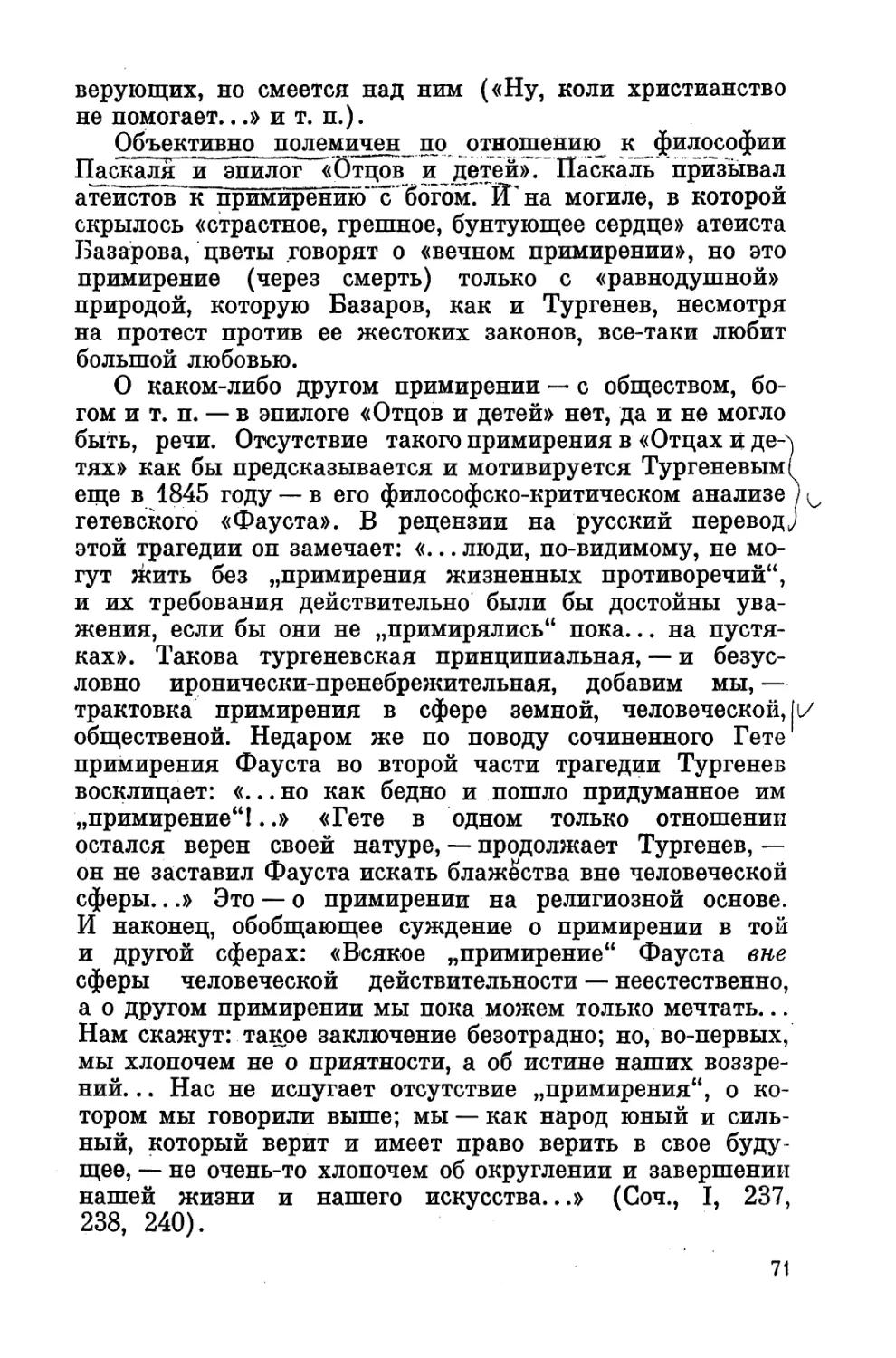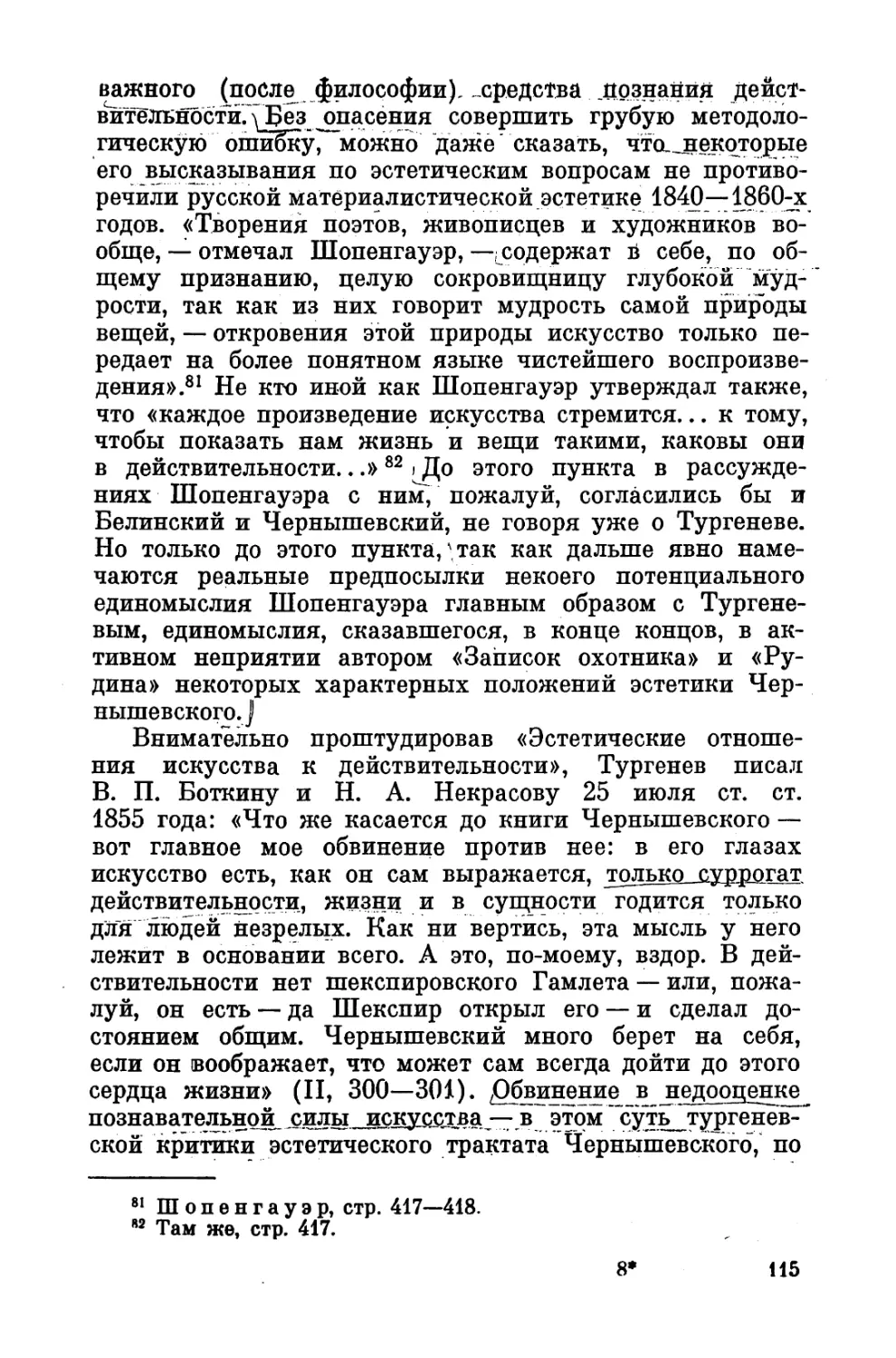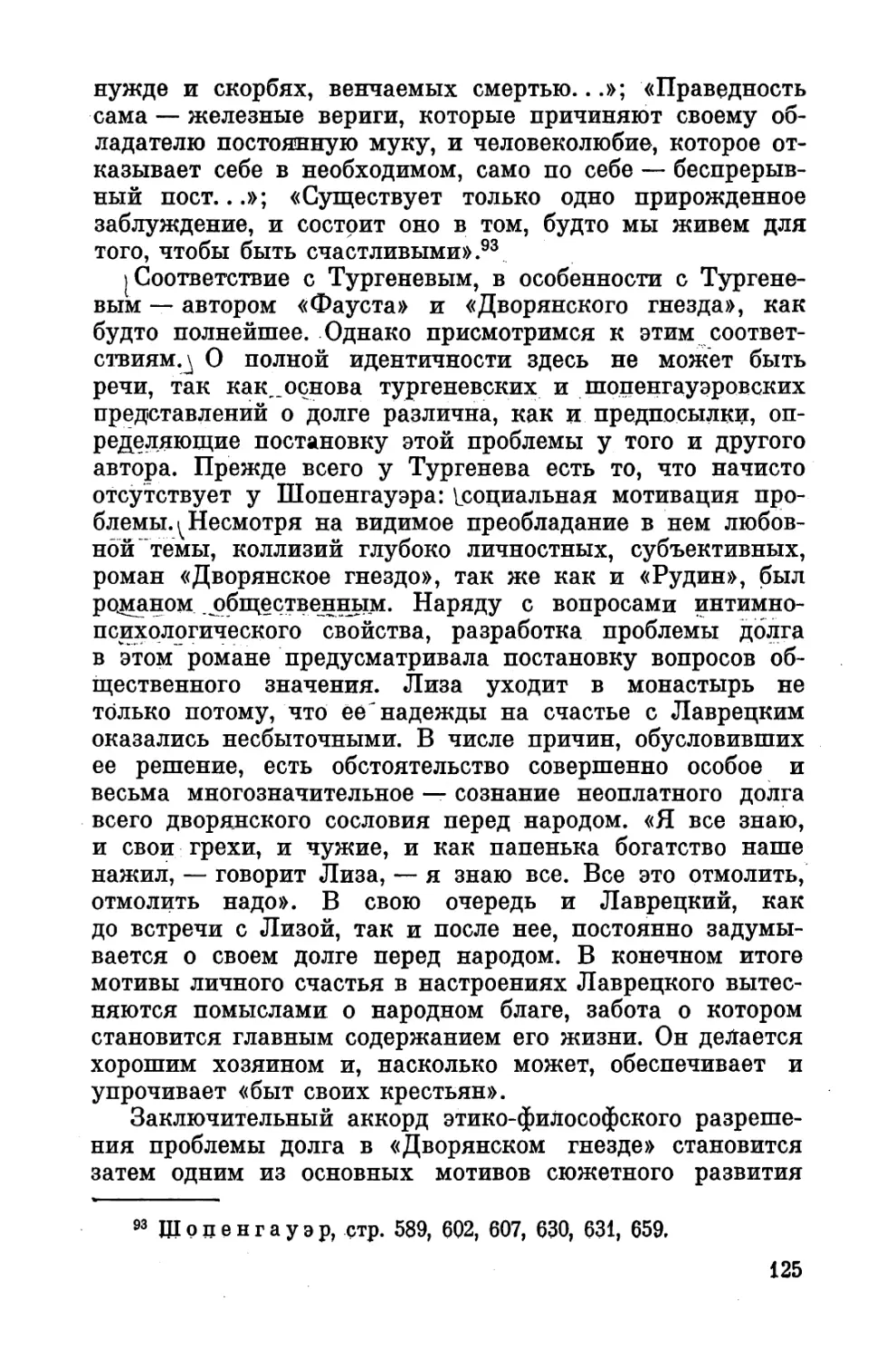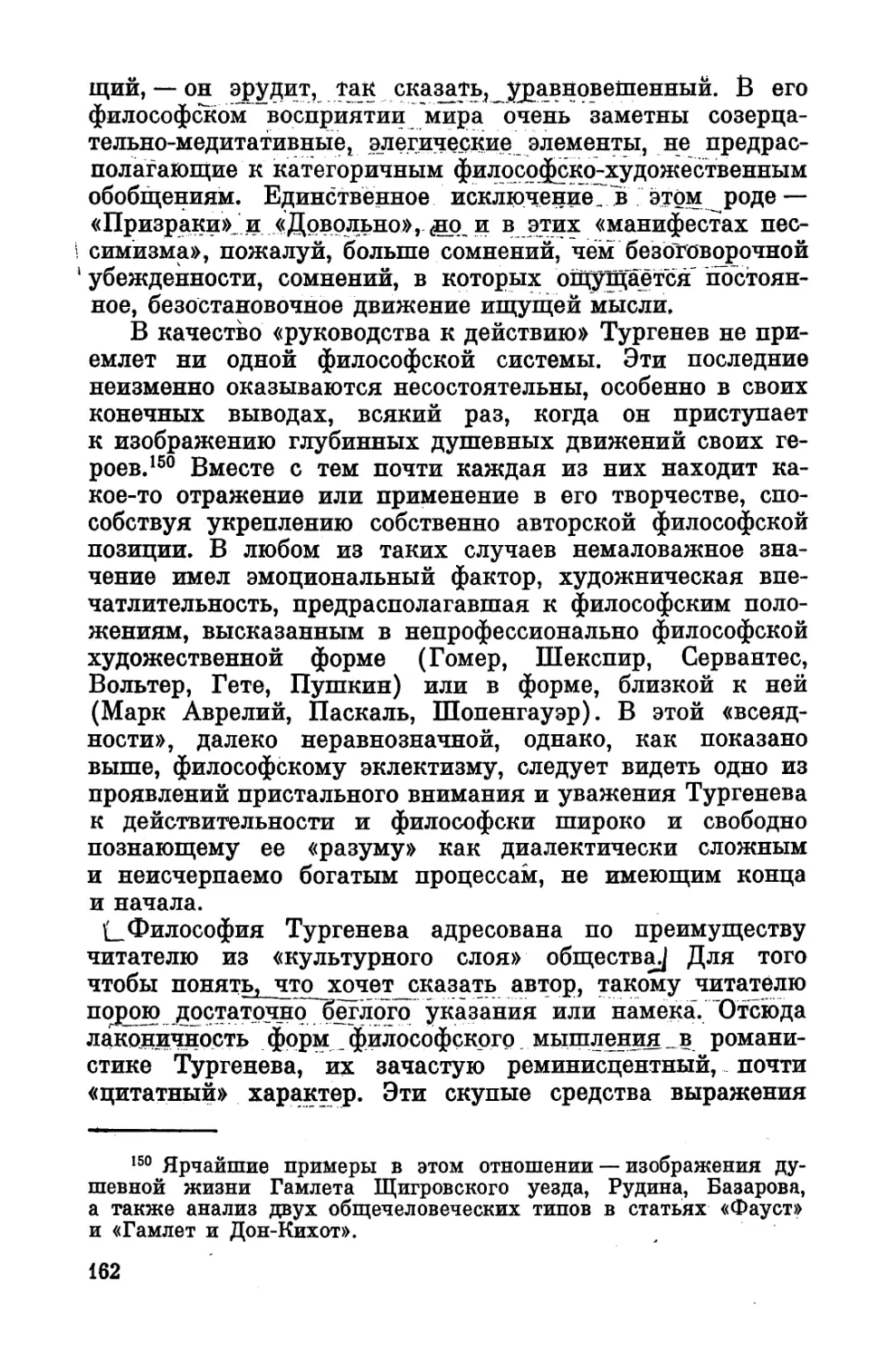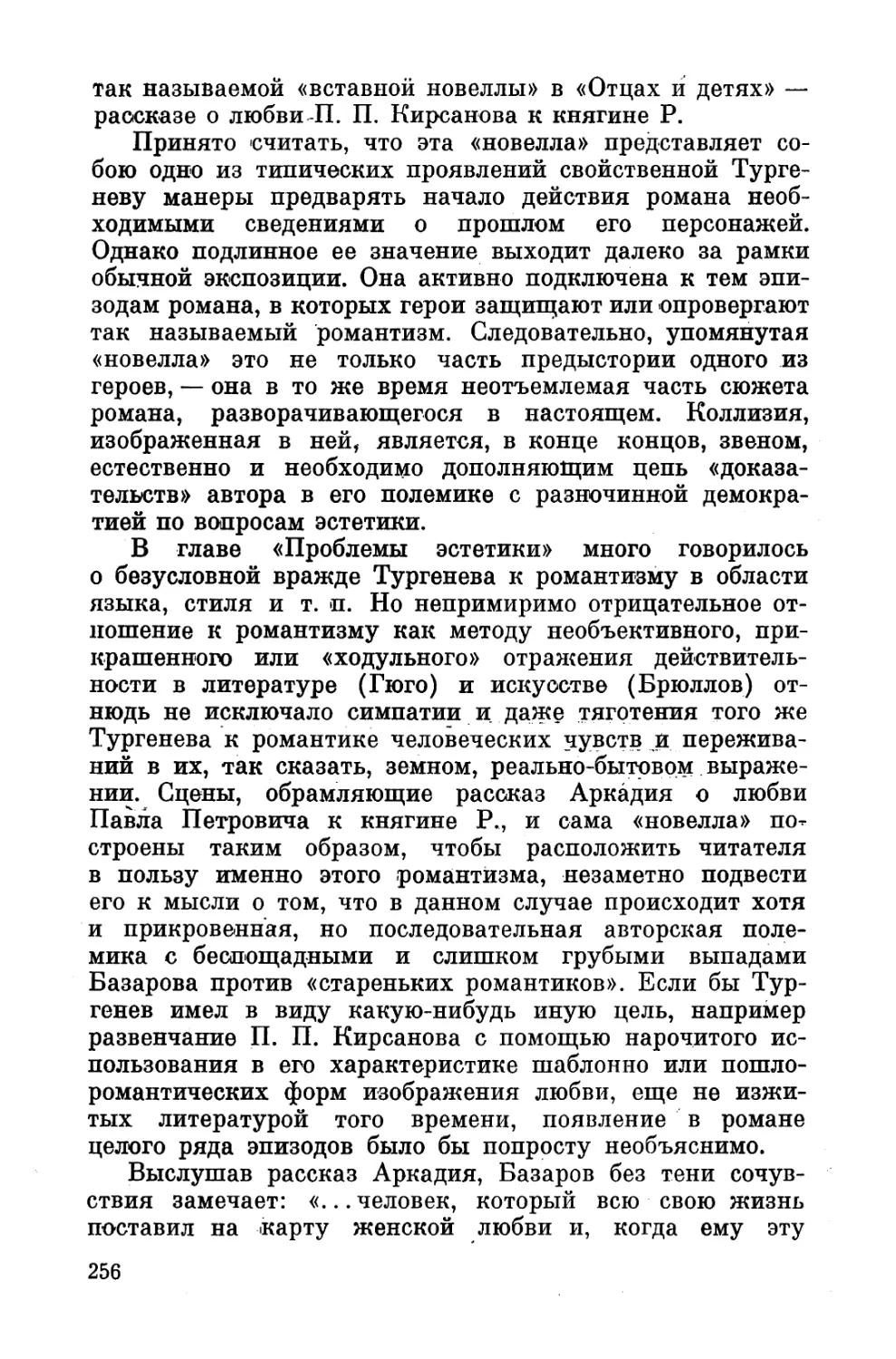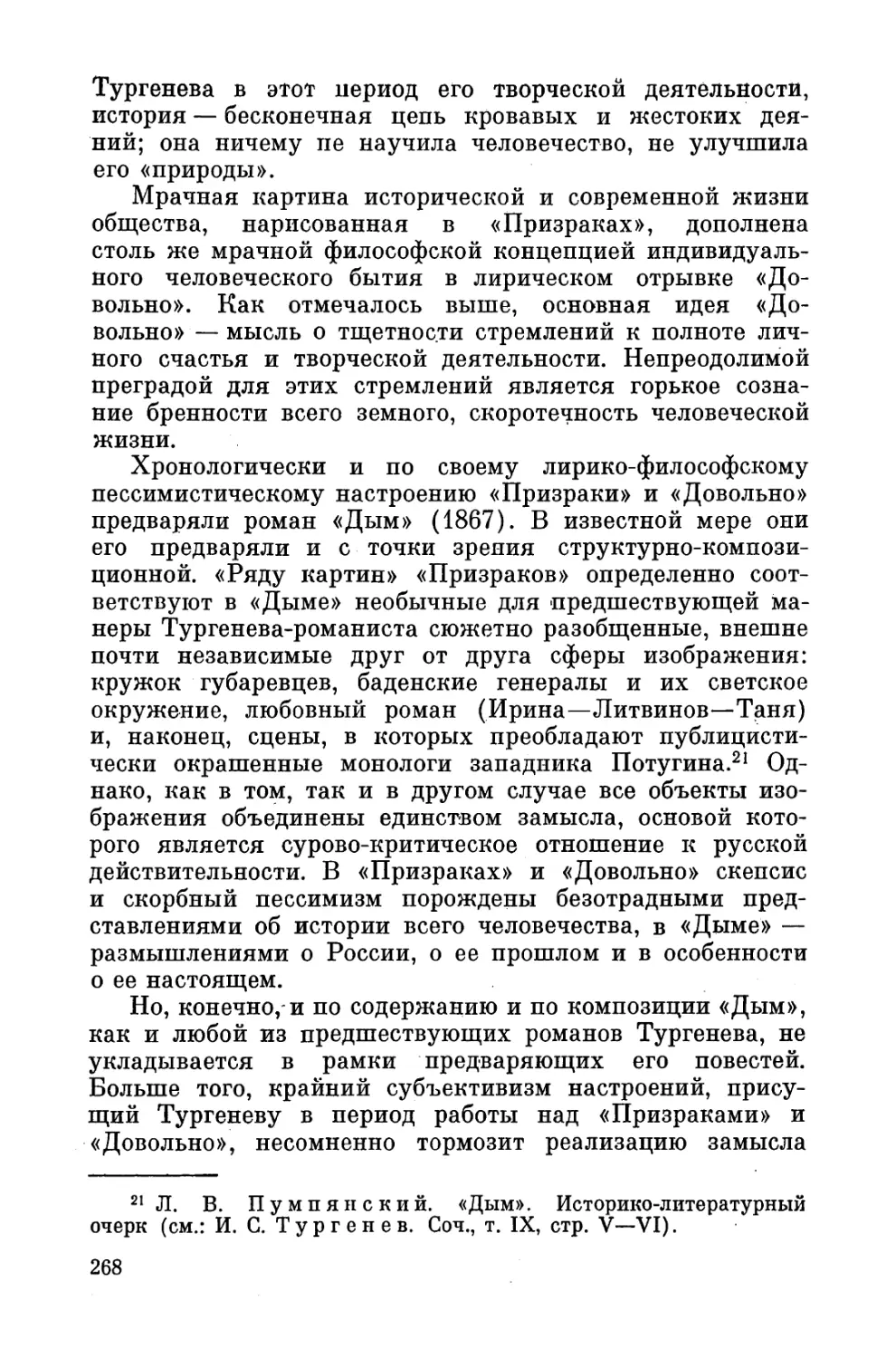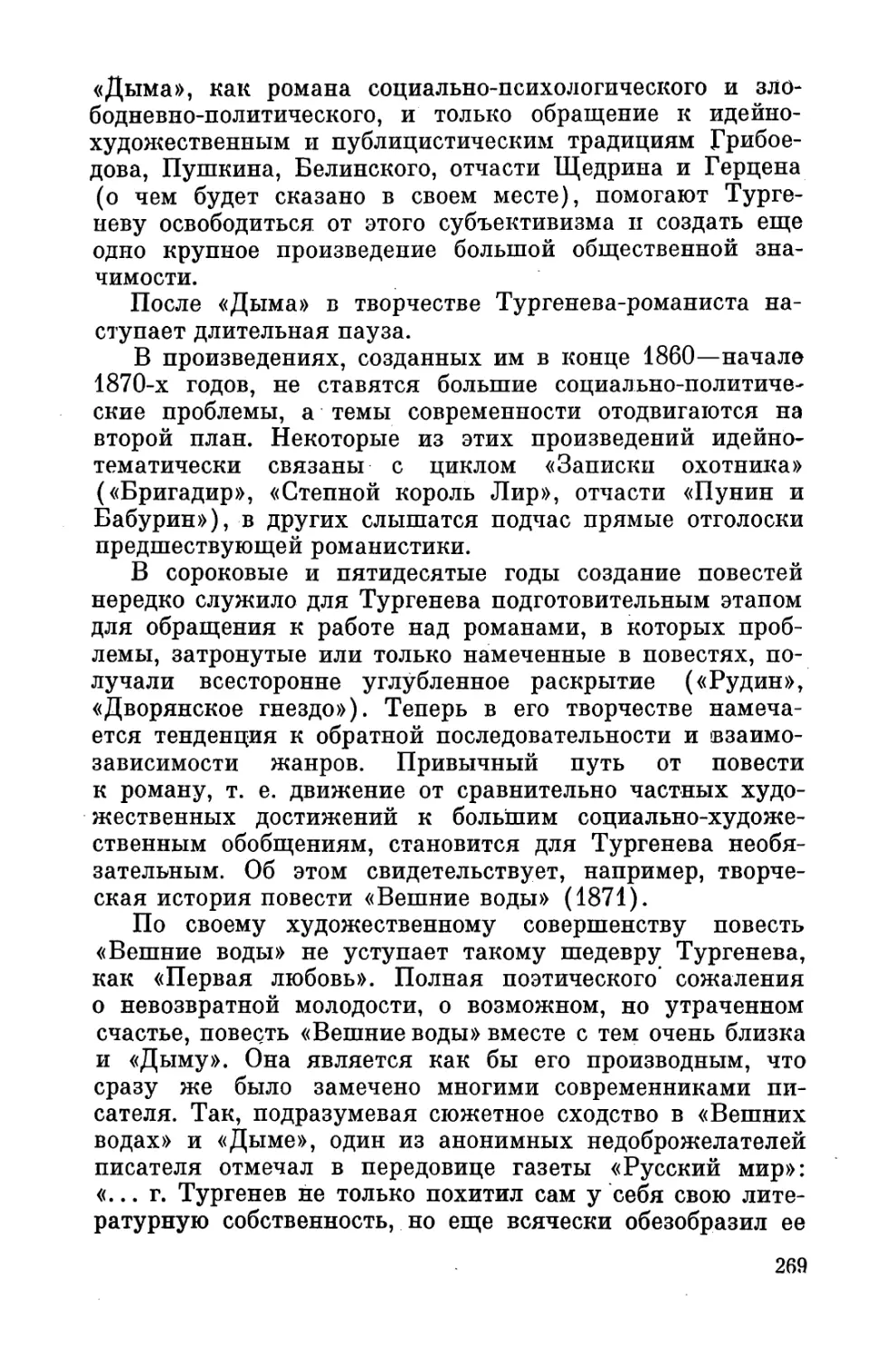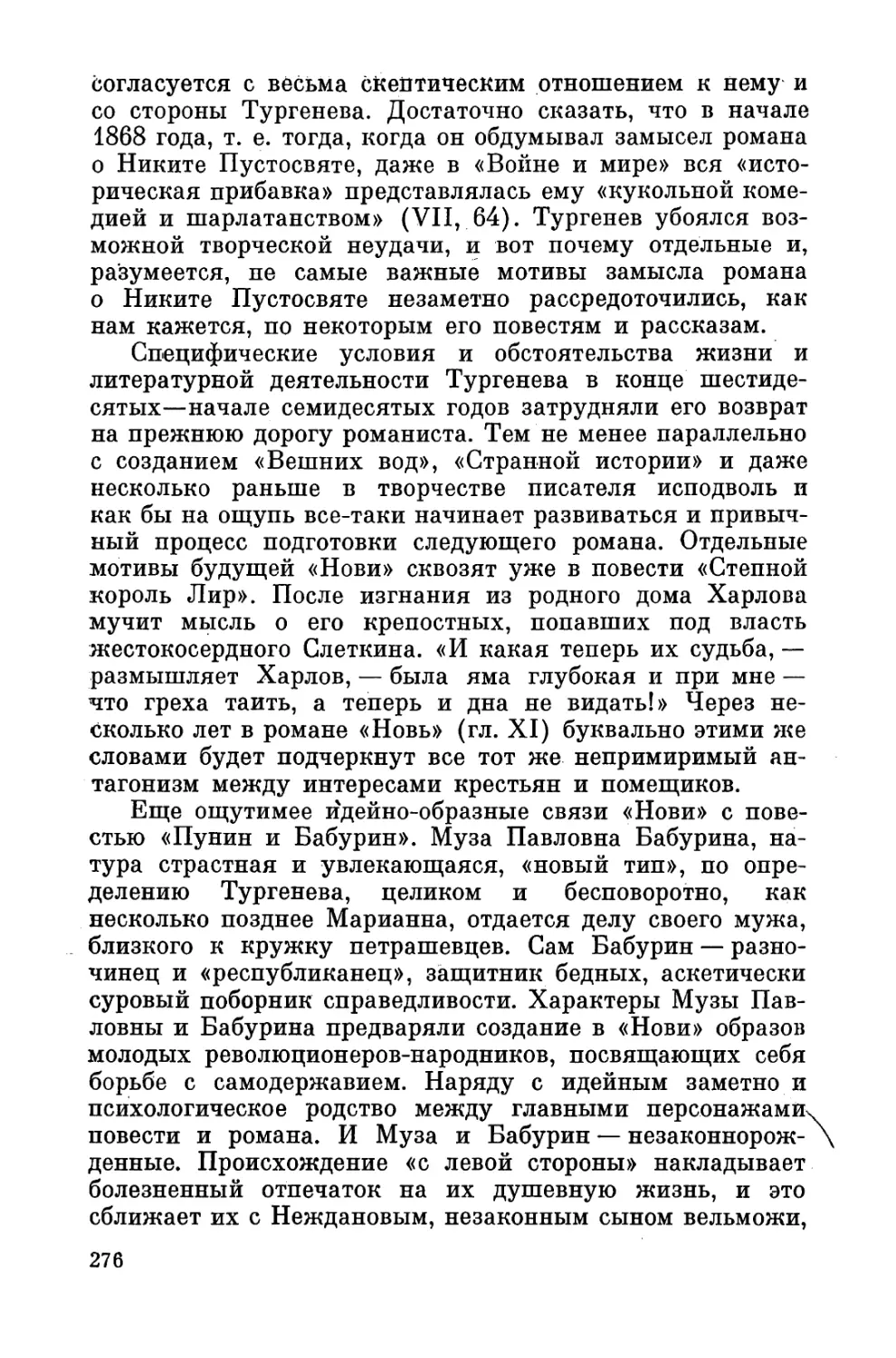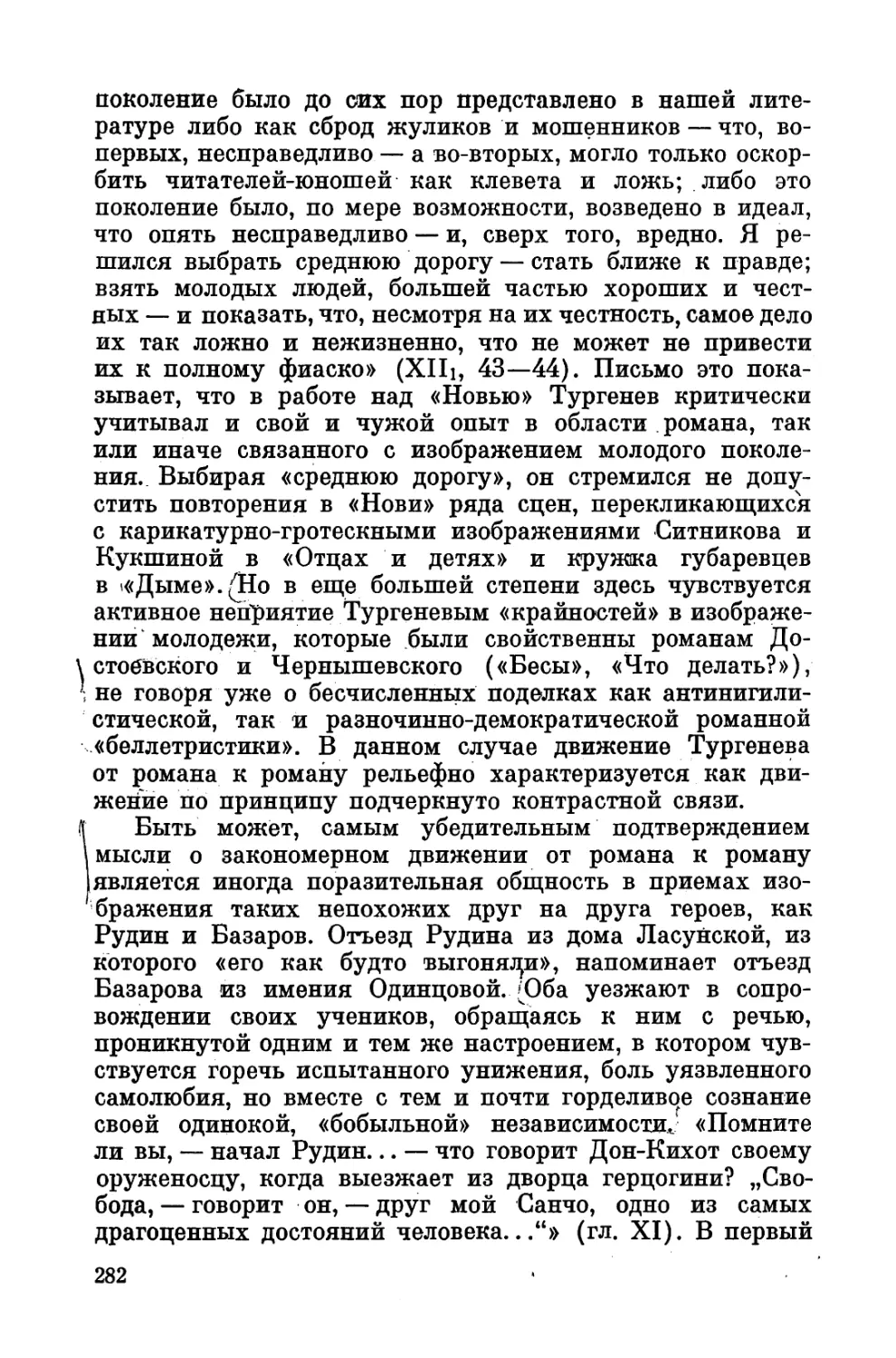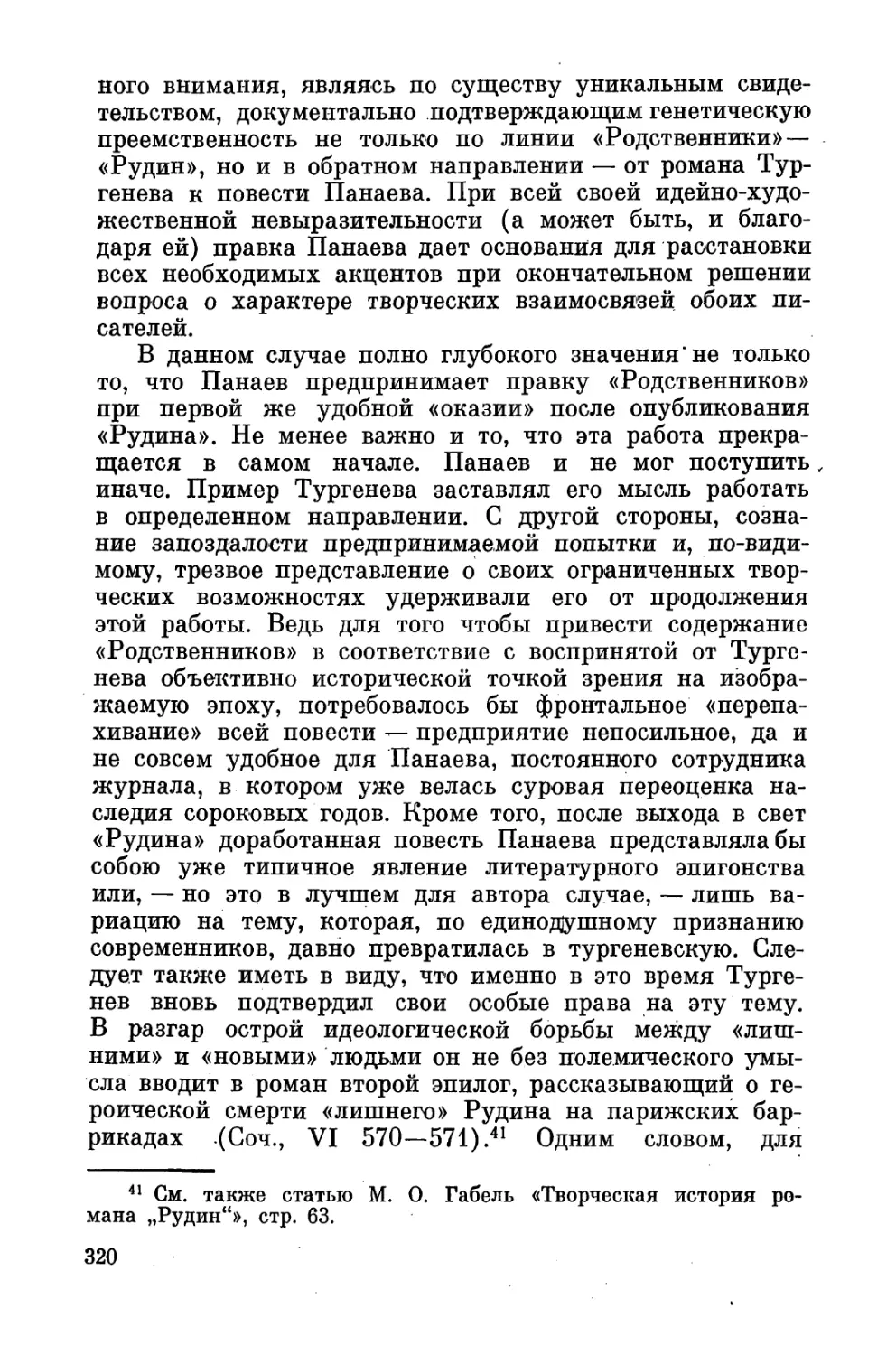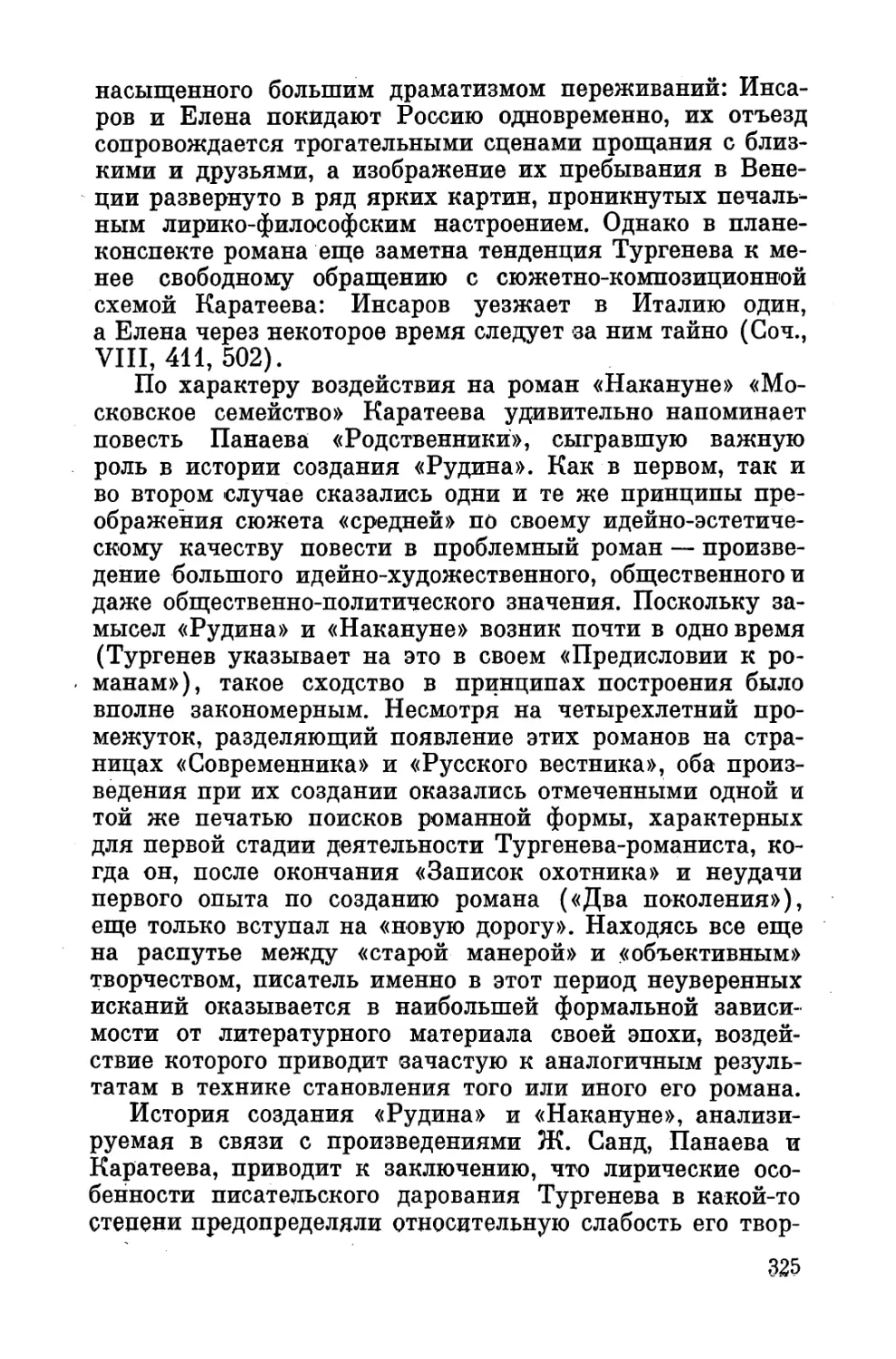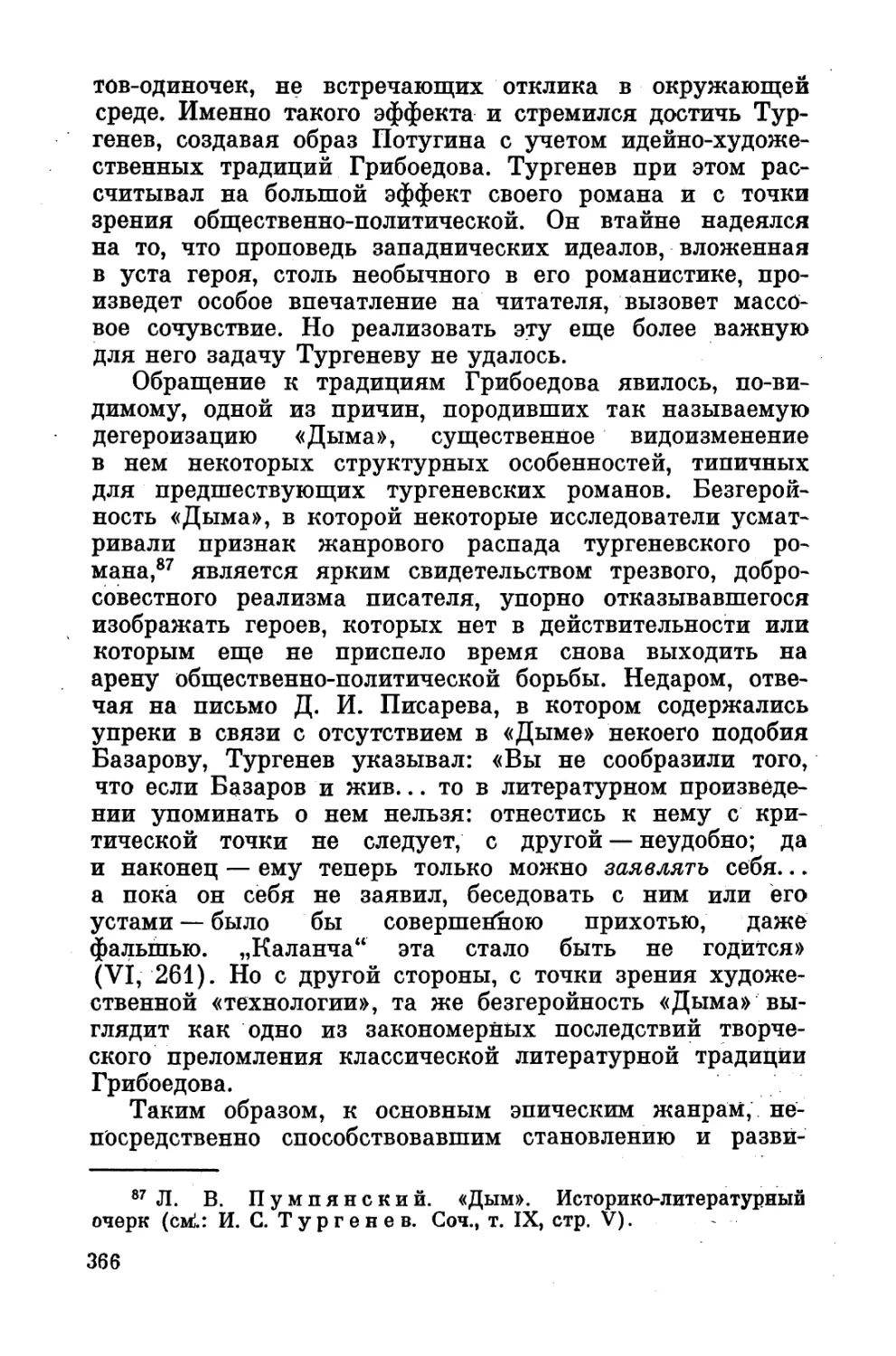Текст
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
•; wi
(ПУШКИНСКИЙ дом)
А.БАТЮТО
ТУРГЕНЕВ-
РОМАНИСТ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«НАУК А»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
Ленинград
1972
7-2 -2
274—72
Ответствей&ьги редактор
Г, А. Б'ДЛЫЙ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ
СОДЕРЖАНИЕ РОМАНОВ
ТУРГЕНЕВА
Тургенев принадлежал к плеяде крупнейших рус
ских писателей втррой половины XIX века, в творчестве
которых продолжали развиваться, обогащаясь новым со
держанием, реалистические
литературные традиции
Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Заслуга Тургенева
в более конкретной области романа заключалась в соз
дании и разработке особой разновидности этого жанра —
романа общественного, в котором своевременно и быстро
отражались новые и притом важнейшие веяния эпохи.
Основные герои тургеневского романа — так называв
шее «лишние» и «новые» люди, дворянская и разно-
чинно-демократическая интеллигенция, в течение зна
чительного исторического срока предопределявшая нрав
ственный
й идейно-политический уровень русского
общества, его чаяния и стремления. Один из ближайших
друзей писателя, П. В . Анненков, писал по этому поводу
в мемуарной статье «Замечательное десятилетие»: «Вся
литературная деятельность Тургенева может быть опре
делена как длинный, подробный и поэтически объяснен
ный реестр идеалов, какие ходййи по русской земле,
между разнородными слоями ее образованного и полу
образованного населения, в течение тридцати лет...» -
1
Ознакомившись со статьей Анненкова, Тургенев отме
тил: «Меня он вывернул, как перчатку, показав мне са
мому все мое сокровенное».
2
1
«Вестник Европы», 1880, No 5, стр. 30.
2
И. С . Тургенев. Поли. собр. соч. и писем в 28 томах.
Письма, т. XII, кн. 2. Изд. «Наука», Л., 1967, стр. 248. — В даль-
3
В романах Тургенева «Отцы и дети», «Иош.» и от
части «Дым» нашли отражение резкио с.тикиопения
различных социально-политических тенденций и рус
лом обществе I860-—1870-х годов, борьба между основ
ными силами, располагавшимися на противоположных
его полюсах: революционными демократами и затем
ранним революционным народничеством, с одной сто
роны, и либерализмом, нередко объединявшимся с от
кровенной реакцией (у Тургенева этот альянс особенно
отчетливо обрисован в «Нови»), с другой. Первые два
романа писателя были своеобразной, далеко не во всех
своих частях и элементах осознанной подготовкой к изо
бражению этих процессов, а роман «Накануне» —
увертюрой к нему, прозвучавшей достаточно громко и
отчетливо.
В «Рудине» Тургенев подводит итоговую черту под
разносторонним изучением природы «лишнего чело
века», предпринятым им до этого в ряде рассказов и по
вестей, и рисует фигуру, синтезирующую в своих идеях
и переживаниях строй мыслей и чувств, наиболее ха
рактерный для «русских людей культурного слоя» той
эпохи (Соч., XII, 303). Рудин— это просветитель и про
пагандист, блестящий представитель интеллектуальной
элиты 1840-х годов, вышедший из ее духовного центра —
московских философских кружков, в которых 3pej|H
пока еще смутные, но благородные «общечеловеческие»
идеалы молодых русских гегельянцев. Эта среда изоби
ловала вскоре заявившими о себе выдающимися и ве
ликими талантами в области литературы, науки и об
щественно-политической деятельности. Достаточно ска
зать, что к ней принадлежали Станкевич, Белинский,
Герцен, Огарев, Бакунин, Грановский, Боткин, Клющ-
ников и сам Тургенев. Вместе с тем Рудин является об
разом, впитавшим в себя типические особенности пове
дения «лишнего человека» и среднего, «массовидного»
нейшем ссылки на это издание даются сокращенно в тексте.
При цитировании писем указывается только том (римскими циф
рами) и страница; при цитировании сочинений те же обозначе
ния предваряются сокращенным написанием слова «Сочинения»,
напр.: Соч., V, 17. В тех случаях, когда том писем состоит из
двух книг, несколько ниже римской цифры, обозначающей том,
ставится арабская цифра, указывающая на первую или вторую
его книгу (XIIi, ХИ2 и т. д.) .
4
масштаба. В нем -сочетались и сила, и слабость людей
этого типа.
Вопрос о прототипах Рудина как в узком, так и
в широком смысле этого слова обстоятельно исследован
в специальной литературе. Напомним, однако, и здесь, —
с целью подчеркнуть четкость тургеневских художест
венных определений, связанных с конкретно-историче
ским изображением человека сороковых годов, — харак
теристику «Мишеньки» Бакунина, данную в 1841 году
В. Г . Белинским: «Черствая и холодная его натура
чужда страсти и полна ума».
3
Эти строки наталкивают
на размышления о том, как обошелся Рудин, в котором
кипит только ум, а «натура» холодна, с беззаветно по
любившей его Натальей Ласунской. Хотел или не хотел
этого Белинский, в его характеристике Бакунина обо
значилась теневая черта нравственного облика «лиш
него человека» сороковых годов, та черта, на которую
несколько позже обращает самое пристальное внимание
Тургенев-художник. В самом деле, «повадку» Рудина,
напоминающую «Бакунина, мы узнаем в поведении и
Чулкатурина из «Дневника лишнего человека», и «Гам
лета» из соответствующего очерка «Записок охотника»,
и Вязовнина из «Двух приятелей». Суть ее заключается
в том, что, вступая^ те. иди иные конфликтные отноше-*^
-ния
с- окружающей средой, типичный «лишний человек»^
_н е_умёет найга щтвдльнрго тона и в отношениях..с _жен=__
щинои,_ Обычно они чреваты для него позором или ка^
тастрофой. В этих отношениях мужчина и женщина
всегда неравны — по уму и способностям, по характеру
и поведению в обычной бытовой обстановке, по свеже
сти и чистоте чувства и т. д. и т. п . Во многих повестях
и романах Тургенева (особенно ранних) любовная кол-^
лизия часто является одним из важнейших средств обоб- <>
щенно-отрицательной характеристики «лишнего... чело-
v
века».
На последней стадии его странствий и безуспешных
поисков практически весомого «дела» на. пользу общую
Рудин изображается носителем уже только лучших
свойств лишних людей и средней, и высшей «квалифика
ции». В своей никому не приносящей пользы смерти на
3
В. Г. Белинский. Поли. собр. соч., т. XII . Изд. АН СССР,
М., 1956, стр. 16.
.5
разрушенной и опустевшей парижской баррикаде он
одновременно и жалок, и трогателен, и велик. Жалок и
трогателен — как по -детски бескорыстный и чистый серд
цем Яков Пасынков, всю жизнь восторженно витавший
в заоблачных высях «прекрасного» и «романтического»
и погибший, словно в насмешку над этим, с нелепой стре
лой в груди. Велик — как лицо трагическое, обладавшее
огромным запасом сил, не получивших должного приме
нения.
Изображением героической смерти Рудина Тургенев
полемически намекал на еще неисчерпанные возмож
ности культурной дворянской среды в лице ее по край
ней мере самых ярких и выдающихся представителей.
Вместе с тем не следует забывать о том, что приблизи
тельно через два года после написания этой сцены Тур
генев говорил о Михаиле Бакунине, — как
известно,
первом по значению прототипе главного героя романа,—
что «теперь это Рудин, не убитый на баррикаде», и со
жалел об его участи «устарелого и выдохшегося агита
тора»/ (V, 47).; Роман и в своем окончательно завершен-
нбмГ виде звучит все-таки как отходная рудинскому
типу.} По объективному смыслу тургеневского изображе
ния «лишний человек» действительно оказывается лиш
ним — и в сфере личной жизни, и на суровой арене ре
волюционных битв.
Тем не менее опять ему, «лишнему человеку», Турге
нев посвящает и следующий свой роман, изображая
в нем, этого человека в его наиболее совершенном выра
жении. Федор Иванович Лаврецкий, в сравнении с Дмит
рием Рудиным, — «средний», но его огромным преиму
ществом перед ним является гармоническая естествен
ность поступков и переживаний (лишь в конце романа
эта гармония нарушается противопоставлением долга
счастью, но об этом ниже). Его голова не «перевешивает»
сердца; он хорош и безупречен во многом — даже в своих
неудачах и поражениях.
История любви Лизы Калитиной и Лаврецкого, по
этически-горестный финал этой истории
относятся
к лучшим страницам тургеневской прозы. Добролюбов,
подвергнувший с позиций «разумного эгоизма» резкой
критике мотивы долга и самоотречения в тургеневской
повести «Фауст», в своем беглом анализе «Дворянского
гнезда» не счел возможным снова предъявить автору
6
аналогичйые обвинения. Тургенев, отмечал Добролюбов^
«умел поставить Лаврецкого так, что над ним трудно
иронизировать...» Сравнивая Лаврецкого с Рудиным,
Добролюбов писал: «Драматизм его положения заклю
чается уже не в борьбе с собственным бессилием,
а в столкновении с такими понятиями и нравами, с ко
торыми борьба, действительно, должна устрашить са
мого энергического и смелого человека... самое поло
жение Лаврецкого, самая коллизия, изображенная
г. Тургеневым и столь знакомая русской жизни, должна
служить сильною пропагандою и наводить каждого чи
тателя на ряд мыслей о значении целого огромного от
дела понятий, заправляющих нашей жизнью».
4
Разработка проблемы долга в «Дворянском гнезде»,
к которой мы еще не раз вернемся, означала в конце
концов особый поворот одной из основных проблем «Ру-
дина», связанной с поисками общественно-полезной дея
тельности. Однако, в противоположность Рудину,- глав
ный герой «Дворянского"
-
гнёзда» наделен сознанием
уже не только собственного бессилия; он употребляет
местоимение «мы», а не «яж> подчеркивая этим, что бу
дущее не сулит никакой особой роли и значения всему
его поколению.
Эпилог «Дворянского гнезда» овеян поэтической
дымкой прощания с уходящей в прошлое эпохой ро
мантического идеализма. Вместе с тем Лаврецкий обра
щается к молодежи "с напутственным словом: «Играйте,
веселитесь, растите, молодые силы... Жизнь у вас впе
реди. .. вам надобно дело делать, работать...» Здесь на
мечен переход к следующей группе романов Тургенева,
в которых в полный рост будут изображены «молодые
силы» новой России.
Начало нового этапа в творчестве Тургенева-рома
ниста, ознаменованное бурным вторжением в его кар
тины и образы социального, общественного, политически
злободневного содержания, было положено романом
«Накануне» (I860), главный герой которого и па со
циальному происхождению, и по характеру своего отно
шения к действительности является антиподом Рудина
и Лаврецкого.
4
Н. А . Добролюбов. Собр. соч. в 9 томах, т. VI. Гослит
издат, М. — Л., 1963. стр. 103—104.
7
В предисловии к собранию своих романов в издании
1880 года Тургенев связывает первоначальный замысел
«Накануне» с периодом пребывания в спасской ссылке
и событиями Крымской войны. «Фигура главной героини,
Елены, тогда еще нового типа в русской жизни, до
вольно ясно обрисовывалась в моем воображении»
(Соч., XII, 306), — отмечал Тургенев, недвусмысленно
указывая, таким образом, на то, что этот замысел зани
мал его до создания «Дворянского гнезда» и даже «Ру-
дина». Это свидетельство о том, что тема «лишних лю
дей», разрабатывавшаяся Тургеневым в рассказах, по-
j вестях и ранних романах, уже тогда не представлялась
ему единственно важной.
v
Историческим толчком к осуществлению замысла
«Накануне» явились назревший кризис крепостнической
системы, ускоренный поражением в Крымской войне, и
начало острейшего идейно-политического
конфликта
между либералами и разночинцами-демократами. Эти
характерные явления в русской общественной жизни
должны были окончательно убедить Тургенева в свое
временности задуманного им произведения, содержание
которого он тесно связывает с главной проблемой эпохи —
подготовкой крестьянской реформы.
Замысел романа «Накануне» был глубоко патриоти
чен. Смысл своей работы над ним Тургенев видел в том,
чтобы способствовать объединению всех здоровых сил
русского общества для участия в общенациональном
деле — освобождении крестьян. «В основание моей по
вести, — указывал Тургенев, — положена мысль о необ
ходимости сознательно-героических натур... для того,
чтобы дело подвинулось вперед» (III, 368). В романе
такими натурами являются Инсаров и Елена.
Мысль о необходимости сознательно-героических на
тур придает содержанию «Накануне» оттенок поучения,
не свойственный прежним романам писателя, что замет
ным образом, сказалось на его построении, на группи
ровке изображенных в нем характеров.
При изображении основных героев «Накануне» Тур
генев рельефно обозначает уже в самом начале повест
вования тот нравственный идеал, которым неизбежно
определяются настроения и поступки данного героя
на всем протяжении романа. В первой главе так изобра
жаются Шубин и Берсенев. Первый намек на главную
-8
особенность духовной жизни Елены дан в главе пятой,
в беглой реплике Шубина: «... она же все отыскивает
замечательных людей». В следующей главе эти поиски
Елены связываются с жаждой «деятельного добра», не
обычная сила которой подчеркивается здесь же:
«Иногда ей приходило в голову, что она желает чего-то,
чего никто не желает, о чем никто не мыслит в целой
России». Об идеале Инсарова — освобождении Болгарии
от иноземных захватчиков — читатель узнает также
в начале романа, еще до появления его в доме Стаховых.
В дальнейшем ходе повествования Шубин, Берсенев,
Инсаров и Елена раскрывают свои идеалы в общении
друг с другом и ближайшим окружением. Шубин
беззаботно порхает от одного увлечения к другому, а по
ступки Берсенева каждый раз подтверждают его пред
назначение быть «нумером вторым». В сфере обществен
ной это выражается в его достаточно пассивном посред
ничестве «между наукой и российскою публикой»,
а в плане интимно-бытовом — в посредничестве между
Еленой и Инсаровым. Эстет и гедонист Шубин неуто
мим в наслаждении искусством, в поэтизации природы
и любви—«какой угодно, лишь бы она была налицо»;
Берсенев же даже в научных занятиях, являющихся
его призванием, лишен подлинного вдохновения.
Верность одной основной, определяющей черте ду
ховного склада еще в большей степени показательна
для Инсарова и Елены. Инсаров прежде всего «желез
ный» человек, которому незнаком трагический разлад
между словом и делом, чувством и долгом, столь харак
терный для центральных героев «Рудина» и «Дворян
ского гнезда». «Сосредоточенная обдуманность единой и
давней страсти» накладывает свой отпечаток на все
мысли, чувства и поступки Инсарова: «При одном упо
миновении. .. родины не то чтобы лицо его разгоралось
или голос возвышался — нет! но все существо его как
будто крепло и стремилось вперед, очертание губ обо
значалось резче и неумолимее, а в глубине глаз зажи
гался какой-то глухой, неугасимый огонь». Личными
интересами, если они способны помешать выполнению
главной задачи, Инсаров, не колеблясь, пренебрегает,
явно предвосхищая этим жизненное .поведение -Рахме
това из романа Чернышевского «Что делать?». Лишь
убедившись в том, что Елена готова разделить с ним все
9
трудности и невзгоды ожидающей его борьбы, Инсаров
нарушает обычное для него правило не менять «ника
кого своего решения».
Гармоническое соответствие между идеалом и пове
дением Елены ощутимее всего сказывается в сценах ро
мана, посвященных изображению зарождения и разви
тия ее чувства к Инсарову. Естественное завершение
они получают в гл. XVIII («Так ты пойдешь за мною
всюду? ..» и т. д .).
Наглядность и назидательность такого построения
характеров усиливается преднамеренной последователь
ностью их изображения. Не случайно главные герои
вводятся в роман не просто «по очереди», а в строгом
соответствии с принципом своего рода нарастающей
прогрессии в общественной значимости их убеждений.
Характеристики этих персонажей (сначала Шубина и
Берсенева и только потом Елены), нарочито предпослан
ные появлению Инсарова, очень выгодно оттеняли мощь
и целеустремленность
«сознателъно-терожческой на
туры» последнего.
Подчеркивая узость идеалов Шубина и Берсенева,
Тургенев все время руководствуется основной идеей ро
мана (объединение всех здоровых сил) и потому далек
от намерения их развенчать. В его интерпретации и
Шубин, и Берсенев принадлежат все-таки к лучшим ,
представителям русского общества той глухой поры,
с которой связано действие в романе. Оба наделены
способностью честно мыслить и сочувствовать передо
вым идеям. Тургенев высказывает людям этого типа
свое строгое и нелицеприятное суждение о них, но только
с тем, чтобы чему-то их научить. В конечном итоге
«урок», полученный Шубиным и Берсеневым в процессе
общения с Инсаровым, приоткрывшим перед ними ши
рокие перспективы деятельности в национально-государ
ственных масштабах, воспринимается как «поучение»,
с которым автор обращается к наиболее сознательной
части русского общества, призывая ее проникнуться ос
вободительно-патриотическими идеями.
Новый роман Тургенева вызвал горячие разноречи
вые отклики во всех основных периодических изданиях
того времени. Наиболее глубоким был критический ана
лиз «Накануне» в статье Добролюбова «Когда же придет
настоящий день?» Подчеркивая типичцость образа {Слены,
19
Добролюбов указывал на to, ОДо сама действительность
подготовила его появление. «Лучшая, идеальная сто
рона ее существа, — писал Добролюбов, — раскрылась,
выросла и созрела в ней при виде кроткой печали род
ного ей лица, при виде бедных, больных и угнетен
ных. .. Не на подобных ли впечатлениях выросло и вос
питалось все лучшее в русском обществе?»
5
Обращаясь к Инсарову, Добролюбов писал, что
«обаяние» этого героя «заключается в величии и свя
тости той идеи, которой проникнуто все его существо».
Вместе с тем Добролюбов с присущей ему прямотой
указывал и на слабые, по его мнению, стороны романа
Тургенева.
«... Этот Инсаров, — констатировал кри
тик, — всё еще нам чужой человек... Тургенев, столь
хорошо изучивший лучшую часть нашего общества,
не нашел возможности сделать его нашим. Мало того,
что он вывез его из Болгарии, он недостаточно прибли
зил к нам этого героя даже просто как человека». Доб
ролюбов упрекнул Тургенева также, в том, что он не
столкнул «своего героя лицом к лицу с самым делом —
с партиями, с народом, с чужим правительством,
с своими единомышленниками, с вражеской силой...»
6
Политический смысл добролюбовской оценки «Нака
нуне» заключался в призыве к революции, для сверше
ния которой нужны русские Инсаровы, способные воз
главить бескомпромиссную, беспощадную борьбу с са
модержавием и крепостничеством. Добролюбов явно наме
кал и на то, что при этом не исключено нечто вроде
гражданской войны между «новыми» людьми и '«лиш
ними», все еще оказывавшими влияние на характер об
щественной жизни. Как то, так и другое было неприем
лемо для Тургенева, противоречило основной общест
венно-политической тенденции, пронизывающей его ро
ман, противоречило его идее объединения всех про
грессивных сил в стране для решения общенациональ
ной задачи.
Статья Добролюбова до крайности обострила отно
шения Тургенева с «Современником» и явилась'"важней
шим поводом" для его разрыва" с _ разночинно-демо^^и-
ческим редакционным ядром этого журнала. Вместе
5
Н. А. Добролюбов. Собр. соч. в 9 томах, т. VI, стр. 120.
6
Там же, стр. 122-123, 119.
11
с тек эта статья, поскольку в ней были четко опреде
лены взгляды и настроения «новых» людей и подверг
нуты очень суровой критике идеологи и деятели из двсн
рянско-либерального
лагеря,
оказала
несомненное,
во многом благотворное влияние на дальнейшую пи
сательскую деятельность Тургенева. Она способствовали
более глубокому проникновению автора «Накануне»
в сущность конфликта, предопределившего сюжетную
основу его следующего романа — «Отцов и детей»;х
Задуманный в августе 1860 года, роман «Отцы и
дети» был напечатан в февральской книге журнала
«Русский вестник» за 1862 год. В 1869 году, касаясь
истории создания этого романа, Тургенев писал:
«... в основание главной фигуры, Базарова, легла одна
поразившая меня личность молодого провинциального
врача... В этом замечательном человеке воплотилось —
на мои глаза — то едва народившееся, едва бродившее
начало, которое потом получило название нигилизма»
(Соч., XIV, 97).
7
Все это не исключало, однако, тесной
и непосредственной связи замысла Базарова и романа
в целом с отношением Тургенева к. разночинно-демокра-
тическому лагерю во главе с его идейным штабом —
журналом «Современник». К наблюдениям над провин
циальным врачом, личность которого до сих пор ос
тается загадочной (литературоведение располагает пока
7
Специальные исследования показали, что само слово «ни
гилизм» не является изобретением Тургенева — оно употребля
лось в русской критике и публицистике задолго до появления
в печати его романа. Исследователей интересовал также вопрос,
у кого именно мог позаимствовать Тургенев это определение,
получившее, однако, только благодаря ему широчайшее распрост
ранение в качестве термина, характеризующего революционные
убеждения (см.: М. П. Алексеев. К истории слова нигилизм.
В кн.: Сборник статей в честь академика А. И. Соболевского^'
Изд. АН СССР, Л.,
1928, стр. 413-417; Б, П. Козьмин.
Два слова о слове «нигилизм». «Известия Академии наук СССР.
Отделение литературы и языка», М. —Л ., 1951, т. X, вып. 4,
стр. 378—385; А. И. Б а т ю т о. К вопросу о происхождении слова
«нигилизм» в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети». (По поводу
статьи Б. П . Козьмина «Два слова о слове „нигилизм"»). Там же,
1953, т. XII, вып. 6, стр. 520—525; (Б. П . Козьмин. Еще о слове
«нигилизм». (По поводу статьи А. и . Батюто). Там же,- стр. 526—
528). Изучение рукописи «Отцов и детей» показало полную несо
стоятельность утверждений Б. П. Козьмина о том, что слово «ни
гилизм» заимствовано Тургеневым из публицистики М. Н . Кат
кова "(см.: Соч., VIII, 588—589).
12
jraffib теми скупыми азедейиями о йем, которые
в 1869 году пожелал с6#6щить Тургенев), «постепенно
примешивались и прикладывались подходящие эле
менты» (Соч., XIV, 97), взятые именно из этой среды,
в результате чего роман перешагнул границы специфи
чески литературного явления и превратился в «доку
мент» огромной общественно-политической значимости.
'Овязь концепции «Отцов и детей» с революционно-демо
кратической идеологией современники ощутили сразу же.
Они заговорили об этом в один голос, впрочем, как
на первых порах, так и значительно позже, отнюдь
не проявляя единодушия в оценках объективного значе
ния художественных и политических тургеневских обоб
щений. Так, ознакомившись с романом, Герцен выска
зал Тургеневу ряд критических замечаний, среди ко
торых было и такое: «Если б, писавши, сверх того — ты
забыл о всех Чернышевских в мире, было бы для
Базарова лучше».
8
Между тем другой знаменитый со
временник Тургенева писал о нем в 1876 году: «Турге
нев — писатель субъективный, и то, что не выливается
прямо, выходит у него плохо... Нет никого, кто бы вы
зывал его на споры и будил его мысль. В этом отноше
нии разрыв с „Современником" и убил его. Последнее,
что он написал, — „Отцы и дети" — было плодом обще
ния с „Современником". Там были озорники неприят
ные, но которые заставляли мыслить, негодовать, воз
вращаться и перерабатывать себя самого».
9
Тема двух поколений, предопределившая сюжет ро
мана «Отцы и дети», была подсказана Тургеневу оже
сточенной идеологической борьбой между либералами и
демократами, которая развернулась в период подготовки
крестьянской реформы и нашла широкое отражение
в критике и публицистике, являвшейся рупором обще
ственного мнения, эхом процессов, происходивших
в гуще самой жизни. Вопрос о двух поколениях, то есть
о людях сороковых и шестидесятых годов, получил осо
бую значимость в этой борьбе, так как был связан
с прямо противоположными представлениями враждую
щих сторон о путях отмены крепостного права.
8
А. И . Герцен. Собр. соч. в 30 томах, т. XXVII, кн. 1.
Изд. АН СССР, М., 1963, стр. 217 .
9
Н. Щедрин i(M. Е. Салтыков). Полн. собр. соч.,
т. XVIII. Гослитиздат, М., 1937, стр. 343.
13
Первые признаки рёзЁо полемического освещения
в печати вопроса о двух поколениях появились, как из
вестно, еще в 1856 году — в рецензии Чернышевского
на стихотворения Н. П . Огарева, затем в его же статье
«Русский человек на rendez-vous» (1858), посвященной
тургеневской повести «Ася». Суть высказываний Черны
шевского сводилась к тому, что время Рудиных и «на
ших Ромео» прошло и назрела необходимость «видеть и
слышать их преемников, способных к активному дей
ствию на общественно-политической арене. Развенчание
«лишних людей», начатое Чернышевским, продолжал
Добролюбов, посвятивший контрастной развернутой ха
рактеристике двух поколений значительную часть статьи
«Литературные мелочи прошлого года» (1858). В статье
«Что такое обломовщина?» (1859) Добролюбов отзы
вался о представителях старшего поколения еще резче,
а в ряде сатирических выступлений в «Свистке» беспо
щадно высмеял «гласность» и обличительную литера
туру, чем возбудил против себя негодование не только'
в лагере русских либералов, но и за пределами Рос
сии — в лондонской революционной эмиграции Герцена
и Огарева.
Как показали исследования, предпринятые в свое
время Н. Л. Бродским и М. К . Клеманом, характери
стики двух поколений, высказанные Чернышевским и
Добролюбовым, были искусно использованы Тургеневым
при обрисовке отношений Базарова с братьями Кирса
новыми и Аркадием. v Многие суждения Добролюбова,
на общественно-политические темы ожили в ожесточен
ных спорах Базарова с П. П . Кирсановым (особенно»
в гл. X), революционно-демократическая интонация ощу
щается в прощальных словах Базарова, обращенных
к Аркадию: «Ваш брат дворянин дальше благородного
1
смирения или благородного кипения дойти не может,,
а это пустяки. Вы, например, не деретесь — и уж вооб
ражаете себя молодцами, — а мы драться хотим. Да что!:
Наша пыль тебе глаза выест, наша грязь тебя замарает,,
да ты и не дорос до нас...» (Соч., VIII, 380X1 По духу
своему это базаровское заявление вполне согласуется:
с одним из высказываний Чернышевского о характере и
условиях деятельности подлинного революционера: «Ис
торический путь — не тротуар Невского проспекта;;
он идет целиком через поля, то пыльные, то грязные,,
14
то через болота, то через дебри. Кто боится быть покрыт
дылыо и выпачкать сапоги, тот не принимайся jsa обще
ственную деятельность. £на— занятие благотворное для
люДёйГ когда вы думаете действительно о пользе людей,
но занятие не совсем опрятное».
10
С другой стороны, Тургенев не преминул воспользо
ваться для романа суждениями о двух поколениях, про
звучавшими в полемических выступлениях Герцена,
не сумевшего на первых порах понять революционизи
рующего значения «расправы» «Современника» с «лиш
ними людьми», «гласностью» и обличительной литера
турой. Так, в романе безусловно нашел п£икровенное
отражение знаменитый разговор Герцена с «невским
Даниилом» (ироническое наименование Чернышевского,
приезжавшего в Лондон с целью устранения возникших
разногласий), приведенный, в его статье «Лишние люди
и желчевики». В беседе с глазу на глаз с Герценом
«невский Даниил» обвинял «лишних людей» в аристо
кратизме, барском отношении к труду, в том, что они
«не так воспитаны». гНекоторые характернейшие выра
жения, употреблявшиеся, по утверждению Герцена,
во время этой беседы, вкрацлены в спор Базарова с Ар
кадием об аристократическом воспитании П. П . Кирса
нова (гл. VII); отзвуки ее слышатся также в суровой
базаровской отповеди П. П. Кирсанову в гл. X: «Вы вот
уважаете себя и сидите сложа руки; какая же от этого
польза для bien public?»
Работая над романом, Тургенев учел и отразил
не только нашумевший спор о двух поколениях — в ро
мане получили художественное преломление многие
другие важнейшие события общественно-политической
борьбы того времени: полемика по вопросам искусства
и литературы (о чем ниже будет сказано особо), горя
чие споры по вопросам философии, истории и т. д. и т. п.
Базаров пренебрежительно относится к философии, на
зывая ее романтизмом. Нечто подобное говорилось о фи
лософии в демократическом журнале «Русское слово».
Так, например, Писарев в своей статье «Схоластика
XIX века» (май 1861 г.) настаивал на том, что «фило
софию вообще... давно бы следовало отпеть и похоро-
10
Н. Г . Чернышевский. Поли. собр. соч . в 15 томах,
т. VII. Гослитиздат, М., 1950, стр. 923,
15
нить». Отзвуки дискуссий такого рода постоянно слы
шатся в романе, сообщая ему характер своеобразной кон
центрированной художественной летописи современной
жизни.
Шристальное внимание к идеологическим битвам той
[Эпохи помогло Тургеневу воссоздать в своем романе кон
кретную обстановку борьбы демократов с либералами,
в ходе которой русское общество раскололось на два не
примиримых лагеря. Роман Тургенева явился одним
из ярких отражений столкновения тех социально-поли
тических сил, которые впоследствии были следующим
образом определены и охарактеризованы В. И . Лени
ным: «Либералы 1860-х годов и Чернышевский суть
представители двух исторических тенденций, двух исто
рических сил, которые с тех пор и вплоть до нашего
времени определяют исход борьбы за новую Россию».
11
Заслуга Тургенева состояла в том, что в русской классй-\
ческой литературе его роман был первым произведе-!
нием, в котором представлен четкий абрис начала этой
борьбы.
Тургенев был идейным противником революционной
демократии и по ряду вопросов полемизировал с нею
в своем романе. Тем не менее в «Отцах и детях» с наи
большим эффектом сказался основной принцип его
реализма: «... точно и сильно воспроизвести истину,
реальность жизни — есть высочайшее счастие для литера
тора, даже если эта истина не совпадает с его собствен
ными симпатиями» (Соч., XIV, 100). Противник дворян
ского класса, тургеневский Базаров выглядит личностью
сильной, героической, овеянной несомненным авторским
сочувствием. В образе Базарова Тургенев запечатлел
многие типические черты революционно настроенной
разночинно-демократической интеллигенции 1860-х го
дов. Вражда к самодержавно-крепостнической действи
тельности, презрение к барству, аристократизму и либе
рализму с его широковещательными, а на самом деле
жалкими и куцыми «принсйпами», любовь к труду и
уважение к людям трудящимся — основа «нигилизма»
Базарова.
11
В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 20. Изд. 5-е . Госполдт-
издат, М., 1961, стр. 174 —175,
R
Романами «Накануне» и «Отцы и дети» Тургенев по
ложил начало новой традиции в русской литературе
второй половины XIX века — изображению разночинной
демократии в качестве ведущей общественной силы,
пришедшей на смену дворянским революционерам и пе
редовым деятелям 1840-х годов. Независимо от своих
субъективных намерений этими романами Тургенев ока
зал значительное влияние на формирование револю
ционных идей в России, на формирование передового
общественного самосознания и, конечно, большое влия
ние на литературу своего времени. Почти одновременно
с «Накануне» написана повесть Помяловского «Моло
тов», проникнутая симпатией к «плебеям» и враждой
к «барству». Несколькими годами позднее вышли
в свет такие замечательные произведения, как роман
Чернышевского «Что делать?» и повесть Слепцова
«Трудное время», в которых, при всем их своеобразии,
нельзя не заметить генетической связи с «Отцами и
детьми». Несмотря на различие основополагающих идей,
одушевлявших литературную и общественную деятель
ность Чернышевского, Слепцова и Тургенева, рома- у
нистика последнего была одним из возбудителей их твор^
ческих усилий. В дальнейшем писателями из демокра
тического лагеря были созданы десятки повестей и
романов на тему о «новых людях», и многие из этих про
изведений (например, роман Омулевского «Шаг за ша
гом») отмечены печатью несомненного влияния Тур
генева.
«Русским Инсаровым» стал Рахметов из романа Чер
нышевского «Что делать?» Этот образ был во многом
полемичен по отношению к тургеневскому Базарову и
создавался в пору, когда" идейный разрыв революцион
ной демократии с Тургеневым стал непреложным фак
том. Однако все это не исключало известной преемст
венной зависимости замысла образа Рахметова от про
блематики тургеневского романа, постоянно связанной
с поисками нового героя. Такая зависимость подтверж
дается, в частности, использованием в «Что делать?»
характерных
композиционных
особенностей романа
«Накануне», о которых говорилось выше. В компози
ционном отношении группировка характеров (Лопу
хов — Кирсанов — Рахметов) напоминает аналогичную
группировку характеров в «Накануне» (Шубин — Бер-
2 А. Батюто
17
сенев — Инсаров). Обыкновенность, «заурядность» хо
роших «новых людей» Лопухова и Кирсанова пости
гается вполне только при сравнении их с Рахметовым,
а достоинства Рахметова как идеального революционера
еще рельефнее выделяются на фоне этой «нормы».
И Тургенев и Чернышевский преднамеренно представ
ляют читателю сначала своих сравнительно второсте
пенных героев и только после этого вводят в действие
главные силы — Инсарова и Рахметова. И в том и в дру
гом случае система характеров и определенная после
довательность в их обрисовке рассчитаны на один и
тот же эффект, но приоритет в применении таких прие
мов композиции образов в романе с ярко выраженной
тенденцией поучения обществу по праву принадлежит
Тургеневу.
Связь замысла образа Рахметова с романом «Нака
нуне» улавливалась современниками. В статье «Новый
тип» Д. И . Писарев отмечал: «Попытку г. Чернышев
ского представить читателям „особенного человека"
можно назвать очень удачною. До него брался за это
дело один Тургенев...»
12
В 1867. году выходит в свет пятый роман Турге
нева—-«Дым», задуманный как новое злободневное про-
изведенйё~на тему о состоянии русского общества и рус
ской общественной мысли в пореформенный период.
Первоначальному замыслу романа (конец 1862 года)
предшествовала полемика Тургенева с лондонской рево
люционной эмиграцией о дальнейших путях развития Рос
сии, завершившаяся временным прекращением его дру
жеских связей с Герценом и Огаревым. Разрыв Тургенева
с демократическим лагерем, наметившийся еще в пору
создания романов «Накануне» и «Отцы и дети», в годы
работы над «Дымом» продолжает расти и углубляться;
это накладывает резкий отпечаток уныния и скепти
цизма на его художественные обобщения в этом романе.
Давно установлено, что полемика Тургенева с Гер
ценом явилась зерном, из которого выросла вся публи
цистическая тенденция «Дыма», сказавшаяся главным
образом в речах Потугина, защищающего идеалы про
свещения и «цивилизации» на западноевропейский лад.
12
Д. И . Писарев. Соч. ц 4 томах, т. iy. Гослитиздат, М.,
1956, стр. 48, '
?
«
По Мере реализации замысла спор Тургенева с Герценом
трансформировался в «Дыме» в ожесточенную полемику
со славянофилами, идеализировавшими патриархальные
устои допетровской Руси. Такое преломление полемики
с Герценом было оправдано тем обстоятельством, что
со второй половины шестидесятых годов увлечение чуж
дым Тургеневу славянофильством снова стало входить
в моду.
13
Правда, и в герценовском отношении к кре
стьянской общине Тургенев • усматривал отдаленное
сходство с теориями славянофилов. Именно в связи
с этим он упрекал своего оппонента за «мистическое»
преклонение «перед русским тулупом» (V, 67).
Исследователей' творчества Тургенева всегда занимал
вопрос о значении так называемых «гейдельбергских
арабесок» в «Дыме» и о том, кто является прототипом
Губарева — «матки» русского «нигилизма» в Гейдель-
берге. Это и неудивительно, так как от того или иного
решения этих сравнительно «частных» вопросов сущест
венно зависела общая оценка идейно-политической на
правленности «Дыма». Долгое время в науке о Турге
неве считалась самой правильной точка зрения, выдви
нутая в комментариях Ю. Г. Оксмана. Суть ее сводилась
к тому, что «гейдельбергские арабески» являются памф
летом на лондонскую эмиграцию. Важнейшим основа
нием для такого заключения служили авторский список
прототипов персонажей «Дыма», в котором против фа
милии Губарева проставлена буква О.,
намекающая
на Огарева, и резкие выпады против последнего в по
лемике Тургенева с Герценом. Однако со времени поле
мики с Герценом и составления списка персонажей
с их прототипами до момента завершения романа прошло
около пяти лет, в течение которых Тургенев не только
поостыл, но и сумел придать первоначальному замыслу
«гейдельбергских арабесок» совсем иной оттенок.
В настоящее время возобладала другая точка зрения
на ^гейдельбергские арабески». Впервые она была ар
гументирована в статье Г. А . Вялого.
14
Недавно она под-
13
Связь замысла «Дыма» с полемикой Тургенева с Герценом
и славянофилами освещена в обширных и обстоятельных ком
ментариях Ю. Г. Оксмана (см!: И. С. Тургенев. Соч., т. IX .
Госиздат, М.— Л .; 1930, стр." 417—430).
14
Г. А. Бялый. «Дым» в ряду романов Тургенева. «Вестник
Ленинградского гос. университета», 1947, No 9.
2*
19
ТверЖдена йовык койкреМо-ДойазатеЛьныМ йсслеДОй&-
нием состава русской колонии в Гейдельберге.
15
Согласно
этой точке зрения, более соответствующей реальному
содержанию образов, составляющих окружение Губарева,
Тургенев метил не в руководителей революционной лон
донской эмиграции, а в идейно и нравственно разно
шёрстную группу их «учеников» и «соратников», на
время выпорхнувших за границу. В этих сценах содер
жалось не разоблачение революционной эмиграции
в Лондоне, а только своего рода поучение ей. Недаром
все в той же полемике с Герценом Тургенев предостере
гал: «Налив молодые головы вашей еще неперебродив-
шей социально-славянофильской брагой, <вы> пускаете
их хмельными, и отуманенными в мир, где им предстоит
споткнуться на первом шаге» (V, 68). Именно в этом
примечательном заявлении Тургенева содержится ключ
к пониманию замысла глав романа, в которых дано изо
бражение губаревского кружка. (В лице Губарева и его
сообщников Тургенев беспощадно высмеял случайных
союзников Герцена, людей политически и морально не
устойчивых, лишь до поры до времени кокетничающих
герценовскими идеями, а потом изменяющих им.
Таким образом, карикатурно-сатирическими портре
тами членов губаревского кружка Тургенев продолжал
разоблачение мнимого демократизма, начатое в романах
«Накануне» и «Отцы и дети» в образах. Лупоярова, Сит-
никова, Кукшиной и Аркадия Кирсанова. Так понимал
замысел этих сцен и Писарев, который писал Тургеневу:
«Сцены у Губарева меня нисколько не огорчают и не
раздражают. Есть русская пословица: дураков в алтаре
бьют. Вы действуете по этой пословице, и я с своей
стороны ничего не могу возразить против такого образа
действий. Я сам глубоко ненавижу всех дураков вообще,
и особенно глубоко ненавижу тех дураков, которые при
кидываются моими друзьями, единомышленниками и
союзниками».
16
Читатель, не располагающий достаточно обширными
и конкретными сведениями об общественной жизни ше
стидесятых годов, не задумывается о том, кого имел
•j
15
А. Б. Муратов. «Гейдельбергские арабески» в «Дыме».
«Литературное наследство», т. 76. Изд. «Наука», М., 1967.
16
Д. И. Писарев. Соч. в 4 томах, т. IV, стр. 424 .
20
fe виду Тургенев, создавая СВОЙ «гейдельбергсйие ара
бески» и, в частности, образ Губарева. Но даже такой
читатель сразу безошибочно определяет главную тенден
цию автора в изображении этих сцен. А тенденция эта
заключалась в срывайии масок с самодовольно-деспоти
ческого невежества и наглого ренегатства. Следует
все же на всякий случай еще раз напомнить, что отно
сительно версии Губарев — Огарев существует целый
ряд
документально-исторических
противопоказаний.
2 (14) января 1868 года Тургенев писал Я. П . Полон
скому: «Кстати, как же ты говоришь, что незнаком
с типом „Губаревых"? Ну, а г-н Краевский А. А. — не
тот же Губарев? Вглядись попристальнее в людей, ко
мандующих у нас, — ц во многих из них ты узнаешь
черты того типа» (VII, 26). Несколько позднее Турге
нев писал Герцену об Огареве: «Я... никогда не был
высокого мнения об его литературной деятельности, — но
всегда искренно уважал ето и знаю, какое у него золотое
сердце» (там же, 323). За несколько месяцев до офор
мления списка персонажей и прототипов «Дыма» Турге
нев говорил о Н. П . Кирсанове из романа «Отцы и дети»:
«Н<иколай> П<етрович> — это я, Огарев и тысячи дру
гих» (IV, 380). Наконец, почти неопровержимо доказано,
что такой светлый тургеневский образ, как образ Лав-
рецкого, создавался не без учета идей и личных пере
живаний все того же Огарева.
17
Между Лаврецким и
тупым Губаревым, без особых усилий превращающимся
в «помещика-дантиста», дистанция огромного размера.
Такова же дистанция и между Огаревым и Губаревым.
Правда, в облике Губарева все-таки сохранились
отдельные штрихи, напоминающие о тургеневских ха
рактеристиках Огарева в письмах к Герцену (особое
внимание к «общине», «тяжеловесный язык»). Без
условно какое-то значение имеют и звуковые ассоциации
в фамилиях Огарев и Губарев. Однако это лишь резуль
тат затухающей инерции первоначального замысла, ос
нова которого с течением времени подвергалась ради
кальной идейно-художественной перелицовке. Инерция—
вещь естественная и неизбежная, но не она в данном
случае определяла существо дела.
-
17
Г. Д о к с. Огарев и Тургенев. «Slavia», Прага, 1938, т. XVI,
No 1, стр. 84—94.
21
Ёолыпой патриотической заслугой Тургенева является
разоблачение в «Дыме» представителей махровой ре
акции, воспринимавших проведение крестьянской ре
формы как покушение на их материальные интересы.
Вылощенные русские генералы, проводящие свой от
пуск в Бадене, — это типичные
помещики-крепостники
в военных мундирах, плотоядно смакующие мысль о воз
вращении «совсем назад... чем дальше назад, тем
лучше». Бездушие, жестокость, цинизм, безнравствен
ность, сословное корыстолюбие — таков духовный багаж
баденских генералов в «Дыме». В образе генерала Рат-
мирова, «гладкого, румяного, гибкого и липкого», метя
щего в «государственные мужи», лицемерно разглаголь
ствующего о прогрессе как «проявлении жизни обще
ственной», современники узнавали портрет жестокого
крепостника и усмирителя генерал-губернатора Альбе-
динского.
18
В конце гл. XV Тургенев вскользь, но
многозначительно упоминает о том, что Ратмиров «за
секал белорусских мужиков». Эта характеристика Рат-
мирова согласуется с впечатлением Тургенева от другого
«государственного мужа» реакционного толка г— генерал-
адъютанта Ахматова, обер-прокурора Святейшего си
нода. В декабре 1857 года Тургенев писал о нем Герцену:
«... сладкий, учтивый, богомольный — и засекающий на
следствиях крестьян, не возвышая голоса и не снимая
перчаток» (III, 181). Конечно, Тургенев-художник на
верняка располагал целым рядом подобных впечатлений.
Щедро фиксировались они и в герценовском «Колоколе».
Под стать Ратмирову его коллеги: «тучный генерал»,
рекомендующий прогресс с помощью насилия' («вежливо,
но в зубы»); генерал «раздражительный», заботы кото
рого о просвещении выражаются в издевательском со
вете печатать в журналах только «таксы на мясо или на
хлеб»; генерал «снисходительный», заклинающий не
позволять «умничать черни» и ввериться «аристокра
тии». Эти аристократы, кочующие по фешенебельным
курортам Западной Европы, изображены в романе как
сборище скучающих паразитов, людей духовно убогих,
отличающихся «непониманием всего, на чем зиждется,
чем украшается человеческая жизнь».
18
О прототипах этого и других персонажей «Дыма» см.
в упомянутых выше комментариях Ю. Г. Оксмана.
22
С сатирическими изображениями аристократического
общества в «Дыме» тесно связана любовная история
Ирины и Литвинова. Ирина презирает высший свет,
исковеркавший ее жизнь, но она успела заразиться его
пороками. Вкоренившаяся привычка к роскоши, богат
ству, ничегонеделанию оказывается сильнее ее чувства
к Литвинову. Ирина глубоко несчастна оттого, что не
может порвать с ненавистной ей обстановкой. В этом
трагизм ее положения.
Изображение баденских генералов, их светского ок
ружения и гейдельбергских псевдореволюционеров сви
детельствовало о ненависти Тургенева к реакции,
а также о его презрении к плевелам в демократическом
движении. Однако наряду с этим Тургенев высказал
в романе и подчеркнуто-скептическое отношение ко всем
сторонам русской жизни, ко всем проявлениям русской
общественной мысли. Как и Литвинов в заключении
романа, Тургенев в этот период склонен считать «ды
мом» все, даже западническую проповедь Потугина.
И она тоже — «дым, дым и больше ничего». В пору со
здания «Дыма» Тургенев не видел в России сил, спо
собных противостоять реакции. Сильный своей критиче
ской стороной, роман в общем не содержал обнадежи
вающих прогнозов на ближайшее будущее и в известном
смысле замалчивал здоровые явления настоящего. По
этому Писарев имел, серьезные основания для того,
чтобы высказать Тургеневу такое суждение о его ро
мане: «„Дым"... представляется мне странным и злове
щим комментарием к „Отцам и детям". У меня шеве
лится вопрос вроде знаменитого вопроса: „Каин, где
брат твой Авель?" — Мне хочется опросить у Вас: Иван
Сергеевич, куда Вы девали Базарова?.. Неужели же
Вы думаете, что первый и последний Базаров действи
тельно умер в 1859 году от пореза пальца? Или неужели
же он с 1859 года успел переродиться в Бинда-
сова?..»
19
В семидесятые годы в России начинается новый этап
освободительного движения —эпоха раннего народниче
ства. В это же время завязываются и крепнут связи
Тургенева с виднейшими представителями этого дви
жения — эмигрантами-народниками Г. А . Лопатиным,
19
Д.И-Цисарев. Соч.в 4тоадх, т. IV,стр.424—425.
Jfr"
П. Л. Лавровым и некоторыми другими. Связи эти не
ограничиваются поверхностным эпизодическим общением.
Тургенев оказывает регулярную денежную поддержку
заграничному изданию журнала «Вперед!», обстоятельно
знакомится с народнической программой, высказывает
свое отношение к идейным разногласиям в народниче
ской среде.
/ Роман «Новь», напечатанный в первой и второй
книжках журнала «Вестник Европы» за 1877 год, по
священ изображению народничества в его первой ста
дии развития. Над «Новью» Тургенев работал около
шести лет, постепенно внося очень существенные кор
рективы в первоначальный замысел, целиком обуслов
ленный впечатлениями от заговора Нечаева и последо
вавшего затем судебно-политического процесса (1871 г.) .
Следы отрицательного отношения к деятелям нечаев-
ского типа сохранились и в окончательном тексте романа
(см. гл. XXII). Нечаевские методы — жестокий диктат,
склонность к заговорам, оправдание убийств неугод
ных людей — вызывают брезгливое чувство у Нежданова
и резкое осуждение со стороны самого Тургенева.
В своем подавляющем большинстве подлинные револю
ционеры семидесятых годов также не одобряли этих
методов. «Мы, новое поколение, относились отрицательно
к личности Нечаева и к приемам, к которым он прибегал
при вербовке членов в свои кружки, — отмечает в своих
воспоминаниях В. Н . Фигнер. — Его теория — цель оп
равдывает средства — отталкивала нас, а убийство Ива
нова внушало ужас и отвращение. Отношение к Тка
чеву, как революционному деятелю, придерживавшемуся
тех же приемов, было тоже отрицательное».
20
Осужде
ние нечаевщины Б «Нови» ощущается и в нарочито
сниженных
портретно-психологических
характеристи
ках Остродумова и Машуриной, изображенных нерас-
суждающими исполнителями деспотических повелений
некоего Василия Николаевича. Таким образом, л;аже
вч этой особенности романа, отра^1още^~ некоторые
черты его первоначального, замысла, сказывался лрису-
щий Тургеневу-романисту строгий историзм повество
вания.
20
В. Фигнер. Поли. собр. соч., т. I . Изд. 2-е . Изд. общества
политкаторжан, М., 1932, стр. 91,
24
Центральное место в романе заняли образы Нежда
нова и Марианны, воплощение которых, несмотря на
формальную
приуроченность действия
в_
«Нови»
к 1868 году, объективно связано все-таки с событиями
1874—1875 гг. — мас со вы м «хождением» революционной
интеллигенции «в народ» с целью поднять всеобщее врс-
станйе крестьян против царя и помещиков (в «хожде
нии» участвовало около двух тысяч юношей и девушек).
Тургенев не разделял веры народников в революцион
ные возможности крестьянства и его социалистические
инстинкты. Скептицизм по этому поводу он выражал
еще в 1862—1863 гг. в своей полемике с Герценом.
В семидесятые годы его отношение к народнической
идеологии, ставшей к тому времени основным идейным
оружием демократии, оставалось по-прежнему скепти
ческим. ^Цоэтому основная его задача в романе заклю
чалась в том, чтобы показать историческую несостоятель
ность и бесперспективность народнического движения.
Слабые стороны народнического движения раскрываются
в «Нови» посредством изображения горьких пережива
ний Нежданова, проявляющего полную неспособность
сблизиться с крестьянами, найти с ними общий язык.
Неждановское хождение в народ завершается личной
трагедией, в которой слышатся отзвуки трагедии обще
ственной.
Участь Нежданова как неудачливого народника-про
пагандиста была типичным явлением по крайней мере
\ в .самом начале семидесятых годов. Когда в печати по
явились данные о так называемом «процессе пятиде
сяти» (февраль—март 1877 г.), современники Тургенева
поражались сходством сцен романа, связанных с «хож
дением в народ», с показаниями революционеров о своей
деятельности в крестьянской среде. Оно было настолько
впечатляющим, что ввело в заблуждение некоторую
часть критиков, которые принялись утверждать, что
Тургенев будто бы .имел возможность заблаговременно
ознакомиться с данными процесса и затем исключительно
на этом материале построил свои роман. Так, критик
В. В. Марков писал в газете «С. -Петербургские ведомо
сти»: «Многие черты и подробности, которые казались
произвольными и придуманными, как, например, воде
вильные переодевания готовящихся идти в „народ", их
образ жизни в качестве „опростелых" ... их революцион-
25
ная агитация среди народа й т. д., взяты целиком из
действительности и прямо воспроизводят факты про
цесса. .. Политическое дело, обнаруженное правительст
венными властями еще два года тому назад, было слу
чайным, непредвиденным обстоятельством, которым ав
тор ловко воспользовался для своего романа, получившего
через это существенный интерес».
21
Такие суждения
современников свидетельствовали о том, что Тургенев
в «Нови» проявил хорошее знакомство с важнейшими
фактами общественно-политической жизни России, ог
ромное чутье, даже предвидение в понимании психологии
революционеров-народников. Характерно, что за не
сколько дней до начала политического процесса, взвол
нованный слухами о нем, В. М . Гаршин писал Е. С . Гар-
шиной: «Прочли ли вы „Новь"? Вот Й<ван> Серг<еевич>
на старости лет тряхнул стариною. Что за прелесть!
Я не понимаю только, как можно было, живя постоянно
не в России, так гениально угадать все это».
22
Скептическое отношение к несостоятельным теориям
народников не противоречило глубочайшему уважению
Тургенева к их личностям. Тщетность их усилий не
исключала в его глазах большого общественного значе
ния их деятельности. В ней писатель видел закономер-
'ноё" выражение протеста передовых русских людей про
тив реакции, принявшей особенно свирепые формы после
выстрела Каракозова. П. Л. Лавров, близко знавший
Тугенева в семидесятые годы, неоднократно обсуждав
ший с ним вполне откровенно политическое положение
в России, отмечал, что «во всех его словах высказыва
лась ненависть к правительственному гнету и сочувст
вие всякой попытке бороться против него».
23
«Ненависть
к правительственному гнету», к реакции вообще и, в ча
стности, к катковской вакханалии в печати выражается
уже во второй главе романа — в гневных словах Нежда
нова: «Пол-России с голода помирает, „Московские ве
домости" торжествуют, классицизм хотят ввести, сту
денческие кассы запрещаются, везде шпионство, притес-
21
«С.-Петербургские ведомости», 1877, 12 (24) марта, N° 71,
отдел «Литературная летопись», стр. 1 .
22
В. М. Гаршин. Поли. собр. соч., т. III . Изд. «Academia»,
М. — Л., 1934, стр. 109.
23
И. С Тургенев в воспоминаниях революционеров-семиде
сятников. Изд. «Academia», М. — Л., 1930, стр. 25.
26
нения, доносы, ложь и фальшь — шагу нам ступить
некуда...» (Соч., XII, 15).
Жертвенный героизм народников получил особенно
яркое отражение в духовном облике Марианны, в ее
нравственной чистоте, в ее жажде опрощения, в том эн
тузиазме и восторженной самоотверженности, с которыми
она готовится служить народу. В . Н. Фигнер в своих
воспоминаниях отмечала, что «Марианна очень напоми
нала» ее «сестру — Лидию»
24
—
одну из наиболее замет
ных участниц «процесса пятидесяти». Огромный процент
женщин среди участников этого процесса, поразивший
самого Тургенева, служил веским подтверждением прав
дивости созданного им образа. По этому поводу он писал:
«Один аристарх... уверял, что Марианн нет, что я их
выдумал — а тут вдруг процесс, где из пятидесяти двух
революционеров восемнадцать женщин — дело небыва
лое и неслыханное в Европе —ни в какое время!»
(XIIi, 106).
Сочувственное отношение Тургенева к народнической
молодежи подчеркнуто в «Нови» сатирическим изобра
жением ее врагов, к которым относятся «петербургский
„гранжанр" высшего полета» Калломейцев и сановный
либерал Сипягин, лицемер и карьерист, самовлюбленный
фразер, близкий к правительственным сферам. Тургенев
по существу не делает никакой разницы между оголте
лым реакционером Калломейцевым и преуспевающим
либералом Сипягиным. Оба они предстают как за
конченные охранители существующего порядка вещей.
Эти образы были восприняты в критике как несом
ненная удача Тургенева-художника.
Особая роль в романе отведена поборнику просвеще
ния народа Соломину, в котором Тургенев видел прообраз
общественного деятеля нового типа. Появление его в ро-^
мане на правах одного из главных героев обусловлено как
либеральными иллюзиями Тургенева, так, очевидно, и
теми выводами, которые писатель сделал после раскры
тия нечаевского заговора и краха массового хождения
революционеров «в народ» в последующие годы. Соло
мин прежде всего «не внезапный исцелитель обществен
ных ран», то есть не революционер в общепринятом
24
В. Фигнер. Студенческие годы. Изд. «Голос труда», М.,
1924, стр. 47.
27
смысле этого слова. Он противопоставлен не только Неж
данову и Маркелову, но и Базарову из романа «Отцы и
дети».
Взгляды Соломина на современную действительность
согласуются с пожеланиями Тургенева молодому поко
лению, изложенными в письме к прогрессивной обще
ственной деятельнице А. П . Философовой (1874 г.) .
«Времена переменились, — писал Тургенев, — теперь Ба
заровы не нужны. Для предстоящей общественной дея
тельности не нужно ни особенных талантов, ни даже
особенного ума — ничего крупного, выдающегося, слиш
ком индивидуального; нужно трудолюбие, терпение...
нужно уметь смириться и не гнушаться мелкой и тем
ной и даже низменной работы... Что может быть, на
пр <имер>, низменнее — учить мужика грамоте, помогать
ему, заводить больницы и т. д .. . » (X, 295).
Подобно Инсарову в «Накануне», Соломин — образ
назидательный: он создан в назидание прежде всего
народнической молодежи, наивно поверившей в скорую
и легкую победу над самодержавием в России. Револю
ционно-народнической программе переустройства обще
ства Тургенев стремился противопоставить идею посте
пенного развития, программу либерально-реформатор
скую. Однако объективное идейное содержание образа
Соломина оказалось гораздо шире рамок той полемиче
ской задачи, которой Тургенев руководствовался при его
создании и которая получила запоминающееся афори
стичное
выражение в эпиграфе романа. Недаром
А. В . Луначарский отмечал, что «в таком типе, как
Соломин... есть разные водоразделы», что «перед ним
расстилаются широкие горизонты». По мнению Луначар
ского, тип Соломина в зависимости от обстоятельств «мог
бы выродиться в меньшевика».
«Но, — продолжает
Луначарский — могло оказаться в нем соединение трез
вости с большим запасом энергии, которая появилась
вместе с революционным выступлением рабочего класса,
и тогда из него мог бы выйти настоящий революцио
нер».
25
Наряду с либерализмом Тургенева соломинское по-
^ степеновство вполне могло быть обусловлено и наблюде-
25
А. В. Луначарский. Русская литература. Гослитиздат,
М., 1947, стр. 97-98 .
28
ниями писателя над представителями демократического
лагеря. Во всяком случае отнюдь не исключено, что
в настроениях Соломина либеральное постепеновство ор
ганически сочетается с идеями длительной подготовки
крестьянской революции, высказывавшимися сравни
тельно «умеренными» революционерами из окружения
Лаврова.
Известно сочувственное понимание, с которым Тур
генев относился к убеждениям П. Л. Лаврова. «В Вашей
полемике против Ткачева, — писал Тургенев Лаврову
5 декабря н. ст. 1874 года,— Вы совершенно правы; но
молодые головы вообще будут всегда с трудом понимать,
чтоб можно было медленно и терпеливо приготовлять
нечто сильное и внезапное... Им кажется, что медленно
приготовляют только медленное — вроде постепенной ре
формы и т. д .» (X, 331). В этом характерном отклике
Тургенева на полемику между видными теоретиками на
родничества угадывается позднейшая общественно-поли
тическая
ориентация
Соломина,
сказывающаяся
в гл. XXIX и особенно в конце XXX главы, где подчерк
нут принципиально различный подход к проблеме рево
люции у Соломина и Маркелова, являющегося поборни
ком бакунинско-ткачевской тактики
г
в революционном
движении. Недавно совершивший поездку на родину,
Тургенев в этом же письме к Лаврову отмечает, что
«это самое впечатление выносят молодые люди из чте
ния Вашего журнала, который в большом количестве
проник в Россию и получил там авторитет и значение».
Очевидно, Тургенев знал о настроениях рядовых народни
ков-лавристов, работавших в России на нелегальном по
ложении, и в своем романе стремился к объективному
отражению этих настроений в образе Соломина.
Подготовительная работа над «Новью» свидетельст
вует о настойчивых поисках Тургеневым соответствий
Соломину в реальной действительности. Можно пред
полагать, что наблюдениями и сведениями, оживляю
щими замысел образа Соломина, Тургенев обязан оче
редным поездкам его в Россию. Глухие намеки на это
содержатся в ряде его писем, относящихся к 1874 году.
Так, 5(17) июня 1874 года он с явным удовлетворением
писал Флоберу: «Мое пребывание в России — во всяком
случае — не было бесполезным; я нашел почти то, что
искал» (X, 441). Аналогичны его признания в письмах
29
к Анненкову и парижскому издателю Этцелю, написан
ных приблизительно в то же время. Но особенно при
мечательно в этом отношении сообщение Тургенева
в письме к английскому критику В. Рольстону, написан
ном вскоре после опубликования в периодической пе
чати материалов следствия над революционерами-народ
никами («процесс пятидесяти»). Тургенев писал: «По
сылаю Вам также письмо (Цвиленева), которое было
прочитано во время следствия — я получил его от не
известного лица с примечанием, что оно могло быть на
писано Соломиным» (XIIi, 446). Письмо, о котором
говорит здесь Тургенев, было обнаружено у подсудимого
Н. Ф. Цвиленева, отказавшегося назвать имя его автора.
^Coдepжaниe его свидетельствует о том, что соломинские
одеи бродили в умах революционеров, зараженных сом
нением в успехе своей деятельности, и постепенно вы
двигались как возможное руководство к действию взамен
не оправдывающей себя тактики организации немедлен
ного повсеместного крестьянского бунта.
у
Поставленное в связь с проблематикой «Нови»,
письмо это, не привлекавшее до самого последнего вре
мени внимания исследователей, помогает по достоинству
оценить конкретно-исторический смысл тургеневских
определений характера Нежданова и Соломина. Прежде
всего оно проникнуто критическим отношением к рево
люционности, движущей силой которой является лишь
эмоциональный порыв, не подкрепляемый достаточным
знанием реальной обстановки в стране, истинного по
ложения. народа и его характера. Из письма видно, что
такая революционность, напоминающая настроения «ро
мантика реализма» Нежданова, была весьма распрост
раненным явлением в народнической среде и неизменно
приводила к плачевным результатам. С другой стороны,
некоторые положения письма, в частности сомнение
в правильности методов агитации и пропаганды, приме
нявшихся революционерами-народниками, звучат в уни
сон критицизму Нежданова. Что же касается центральной
мысли письма, она действительно свидетельствует о том,
что оно «могло быть написано Соломиным». Вот харак
терные выдержки из него: «Точно ли все вопросы ре
шены и не допускают сомнений? Неужели опыты (под
разумеваются неудачные попытки хождения в на
род,—А . Б .) ничего не говорят? Что такое народ?..
30
Вопросы йе только не решены, но и поставлены неверно,
опыт должен привести к сомнению. Дело в том, что рус
ский радикализм есть только отвлеченное умозаключе
ние, основанное на ненадежной подкладке чувства, не
знании натуры и потребностей русского человека и
условий исторической жизни его...» С горечью отмечая
многочисленные факты выдачи властям «интеллигент
ных пропагандистов» самими же крестьянами (что от
ражено также и Тургеневым в «Нови»), анонимный
автор письма предупреждал, что подобные явления бу
дут иметь место до тех пор, «пока в народе не создастся
самостоятельная народная мысль и более или менее че
ловеческая культура, которую еще нужно создать не
заграничными книгами, не возбуждением к восстанию,
а медленным человеческим развитием и влиянием там,
где этому не мешают окончательно неблагоприятные
условия...» Автор письма предлагал революционерам-
народникам ограничивать пока свою роль «внимательным
изучением массы и отдельных единиц ее, прививать от
дельным единицам сознание и критику, но ни в коем
случае не тенденциозную и поджигательную (что и де
лает Соломин в отношении «своего «фактотума» Павла, —
А. Б .), и вносить в массу... элементы человеческой
культуры и затем все предоставить переработке самого
народа и истории...» «Громадное большинство аресто
ванных было на ложном пути, — писал в заключение
автор письма, — они погибли без всякой пользы. Остав
шиеся должны наконец одуматься... мизерная группа...
должна съежиться и составить ядро будущей сознатель
ной радикальной партии, а пока вглядываться в среду,
среди которой живет, изучать ее и народ, изучать усло
вия его жизни и культурный строй, вырабатывать фун
дамент программы... и ждать... Ждать и работать ме
дленно, но прочно... Пора отделаться от очарования
„мужицкой" обстановки и не заботиться о внешности,
сохраняя сущность. Эти юные порывы без критики
ни к чему не поведут, кроме вреда».
26
Неизвестный автор этого письма не был исключе
нием в революционной среде начала семидесятых годов.
Из воспоминаний В. Н . Фигнер, относящихся в 1875 году,
видно, что подобные ему люди пользовались иногда очень
«Наш век», 1877, 20 марта, стр. 3 .
31
большим авторитетом и умели вселить бодрость в рево
люционеров-народников, тяжело переживавших полосу
провалов и поражений. «Лично я была в таком настрое
нии, — пишет Вера Фигнер, — что думала, — лучше бы
умереть. Из всех знакомых этого периода я могу с лю
бовью остановиться на одном нелегальном лавристе,
Антоне Таксис. Он поддержал меня в самые тяжелые
минуты и внушил некоторые принципы, с тех пор не
покидавшие меня... он постоянно твердил мне, что для
дела нужны не порывы, а терпеливая и кропотливая
работа; что результаты этой поистине черной работы
могут быть ничтожны, но мы должны быть к этому го
товы и не отчаиваться, так как каждая новая идея лишь
медленно воплощается в жизнь и при известных исто
рических условиях каждый делает лишь то, что он
может сделать».
27
Зоспоминания Веры Фигнер о лавристе Антоне Так
сисе неизбежно наводят на мысль о совершенно анало
гичной роли Соломина в идейном воспитании Марианны;
они заставляют также снова вспомнить о цитированном
выше письме Тургенева к А. П . Философовой. Не исклю
чено, что основные идеи этого письма сформировались
у Тургенева в результате общения с людьми, подобными
А. Таксису и автору цитированного выше письма.
> Письмо, обнаруженное при обыске Н. Ф. Цвиленева/
и характеристику роли лавриста Антона Таксиса в по
литической жизни Веры Фигнер можно расценивать как
важные документы, подтверждающие существование
в народническом движении начала семидесятых годов и
«романтиков реализма» Неждановых и более «трезвых»,
умудренных опытом Соломиных.
Литературная критика народнического направления
отказывала Тургеневу в правдивой обрисовке Нежданова
как типичного представителя революционной народниче
ской молодежи, а Соломина считала лицом, выдуманным
от начала до конца. Н . К. Михайловский писал по этому
поводу: «Мы, русские читатели, пожалуй, опять готовы
воспеть хвалу чуткости, но вдруг замечаем на авансцене,
в поэтическом центре романа, „черты знакомого лица".
Да — это старый, старый знакомый, это — „лишний чело
век". .. Одно, значит, из двух: или г. Тургенев приобрел
27
В.Фигнер.Поли.собр.соч., т. I,стр.97.
32
совсем задаром репутацию чуткости своими гамлетикамй
и самоедами сороковых годов, или оказался не очень чут
ким в 1876 году... слишком многое изменилось на
Руси за эти три, четыре десятка лет... Скептик, да еще
прирожденный скептик, неверующий, здесь особенно не
уместен, потому что он— исключение». В таком же
саркастическом тоне отзывался Михайловский о Соло
мине. «Он (Тургенев, — А. Б .) делает из него туманную
фигуру, какой-то ходячий, олицетворенный совет...
Но ведь, чтобы советовать, надо знать дело, а г. Тургенев
его не знает, следовательно, и подсказать Соломину может
только очень немногое. Оттого и туманна фигура Соло
мина и даже совершенно неправдоподобна...»
28
В данном случае Н. К. Михайловский прав далеко
не во всем. В добавление к опровержениям подобной
точки зрения на роман Тургенева, выдвинутым выше,
следует сослаться на отзыв другого не менее авторитет
ного современника Тургенева — П. А . Кропоткина. И он
отмечал, что «Новь» дает не вполне «правильное поня
тие» о революционном движении, так как Тургенев еще
не мог знать многих фактов героической деятельности
народников. Однако несмотря на это, писатель со своим
«обычным удивительным чутьем подметил», по опреде
лению Кропоткина, «две характерные черты самой ранней
фазы этого движения, а именно: непонимание агитато
рами крестьянства, вернее — характерную неспособность
большинства ранних деятелей движения понять русского
мужика, вследствие особенностей их фальшивого лите
ратурного, исторического и социального воспитания —
и, с другой стороны, —- их гамлетизм, отсутствие реши
тельности, или, вернее, „волю, блекнущую и болеющую,
покрываясь бледностью мысли", которая действительно
характеризовала начало движения семидесятых годов.
Если бы Тургенев писал эту повесть несколькими годами
позже, он, наверное, отметил бы появление нового типа
людей действия, т. е. новое видоизменение базаровского
и инсаровского типа, возраставшего по мере того как
движение росло в ширину и в глубину. Он уже успел
угадать этот тип даже сквозь сухие официальные от
четы о процессе „ста девяноста трех", и в 1878 году он
просил меня рассказать ему все, что я знал о Мышкине,
«Отечественные записки», 1877, No 2, стр. 322, 324.
3 А. Батюто
33
который был одной из наиболее могучих лйчйостей этого
процесса».
29
Этим отзывом П. А . Кропоткина критика Н. К. Ми
хайловского если не снимается, то в значительной сте
пени нейтрализуется. Нейтрализуются им и претензии
некоторых исследователей нашего времени, продолжаю
щих по традиции, возникшей в семидесятые годы
(Н. К. Михайловский и др.), упрекать Тургенева за то,
что в своем последнем романе он не показал героики
революционного движения, не изобразил его ярких под
вижников, рыцарей «без страха и сомненья».
«Новь» писалась не для того, чтобы «погладить по
головке молодежь» или польстить самолюбию ее «верую
щих» руководителей. В этом романе Тургенев размыш
ляет уже не о «героях», а о «хоровом начале» — его
занимает и беспокоит критическое положение всего рус
ского общества, судьба страны в целом. По этой же
причине и в фигурах крестьян, эпизодически появляю
щихся в романе, Тургенев стремился «представить»
только «ту их жесткую и терпкую сторону, которою
они
соприкасаются с Неждановыми, Маркеловыми
и т. д .» (XIIi, 39). И это делалось для того, чтобы резче
подчеркнуть и сделать очевидной по крайней мере для
сознательной, мыслящей части общества предопределен
ную историей бесперспективность революционного на
роднического движения.
Нельзя принижать значения того, что было сделано
Тургеневым — зорким наблюдателем бурных перипетий
русской общественно-политической жизни семидесятых
годов.
События, последовавшие за «Новью», и, в частности,
«процесс пятидесяти», показали, что гамлетизм Нежда
нова, расценивавшийся в критике как запоздалый ре
цидив сороковых годов, как показатель творческого
оскудения Тургенева, вынужденного якобы, бессильно
повторять самого себя, является чертой, характеризую
щей настроения отнюдь не единичных представителей
раннего народничества;
Сведения о гамлетизме народников Тургенев черпал
по преимуществу в среде лавристов, которую изучал
29
П. Кропоткин. Идеалы и действительность в русской
литературе. СПб., 1907, стр. 115—116.
34
настолько обстоятельно, насколько это было возможно
в его затруднительном положении наблюдателя из да
лека. Он проявил безусловно хорошую осведомленность
в настроениях массы революционеров лавристского на
правления, доказательством чему служат также еще не
учтённые тургеневедением отголоски ее идей и даже
фразеологии в переписке писателя, имеющей непосред
ственное отношение к «Нови». Мы имеем в виду знаме
нательные строки о Павле из письма Тургенева
к К. Д. Кавелину от 47 (29) декабря 1876 г., впервые
напечатанные" бейг искажений в собрании сочинений и
писем писателя, вышедшем в свет в 1953—1959 гг.:
«Быть может, мне бы 'следовало резче обозначить фигуру
Павла... будущего народного революционера, но это
слишком крупный тип — он станет
—со
временем... не
под моим, конечно, пером... центральной фигурой но
вого романа. Пока — я едва назначил его контуры»
(XIIi, 39). В первой публикации этого письма («Русская
мысль», 1892, No 10, стр. 8—9), как и во всех последую
щих (до 1959 г.) перепечатках, определение «будущий
народный революционер» заменено менее конкретным и
точным: «будущий деятель». После восстановления под
линно авторского текста весьма соблазнительным пред
ставлялось заключение о некоем историческом предвиде
нии здесь Тургеневым горьковского романа. Однако для
этого нет оснований, так как в данном случае мыслен
ный взор писателя обращен к настоящему в гораздо
большей степени, нежели к будущему. Суть дела в том,
что определение «народный революционер» встречается
в одной из развернутых корреспонденции с «мест», на
печатанной в журнале «Вперед!», содержание которого
являлось для Тургенева важнейшим источником психо
логического материала для «Нови». Настроенный от
нюдь не оптимистично, анонимный автор этой корреспон
денции писал: «Мало, очень мало можно найти людей
из цивилизованной среды, годных для революционной
деятельности; абсолютно неблагоприятна эта среда для
их выработки; вовсе не подходят типы „интеллигентной"
молодежи под тип народного революционера».TM В дан-
30
«Вперед!», 1874, No 2, стр. 146. — Здесь курсив мой, но
в тургеневском письме авторский, что является намеком на ре-
минисцентный характер определения, скрытым указанием на его
источник, известный, быть может, и адресату Тургенева.
3*
35
ном случае лаврист и Тургенев думают об одном и
( том же — о почти абсолютной безуспешности попыток
| «интеллигентного» революционера приспособиться в своей
деятельности к условиям крестьянской среды. Тип же
народного революционера представляется им пока еще
явно недостижимым и притом смутным идеалом. Лаврист
только упоминает о нем, а Тургенев ограничивается
«едва» обозначенной наметкой его «контуров».
В год смерти Тургенева романтизм раннего народни
чества, основанный на наивных представлениях о кре
стьянстве, на вере в легкую и скорую победу революции,
становится фактом прошлого. То, что в 1875—1876 го
дах было понятно Тургеневу и лишь немногим деятелям
революционного движения, теперь ясно уже большинству
народников. Об этом было недвусмысленно сказано
в прокламации П. Ф . Якубовича, выпущенной в день
похорон Тургенева. «Глубокое чувство сердечной боли,
проникающее „Новь" и замаскированное местами тон
кой иронией, не уменьшает нашей любви к Тургеневу, —
писал П. Ф. Якубович. — Мы ведь знаем, что эта ирония
не ирония нововременского или катковского лагеря,
а сердца любившего и болевшего за молодежь.
Да к тому же, не с подобной ли же иронией относимся
теперь сами мы к движению семидесятых годов, в ко
тором, несмотря на его несомненную искренность, стра
стность и героическую самоотверженность, действительно
было много наивного?»
31
Таков по необходимости краткий «реестр» основных
идей и событий из истории русской общественной жизни
1840—1870 годов, получивших непревзойденно яркое и
правдивое отражение в романах Тургенева. В них запе
чатлелись, однако, не только общественно-политические
взгляды писателя. Тургенев — это еще и глубокий фило
соф, и великолепный знаток русской и мировой истории,
и поборник реалистической эстетики в искусстве.
Если бы эти особенности миросозерцания и таланта пи
сателя не сказывались в его творчестве и не определяли
наряду или наравне с политическими убеждениями его
смысла, характера и направления, перед нами пред
стал бы общественный деятель, политический боец,
31
И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семиде*
сятников, стр. 7 .
36
журнальный критик и публицист, но не писатель-ху
дожник.
В настоящей монографии, посвященной анализу
тургеневского романа, автор стремился, руководствоваться
представлением о синтетичности мировоззрения писа
теля, нерасторжимыми слагаемыми которого являлись
политические убеждения, философско-исторические и
эстетические взгляды. Как идейно-художественное целое
роман Тургенева — порождение этого мировоззренческого
комплекса. Художественное наследие Тургенева-романи
ста и его специфика — это равнодействующая, возникаю
щая в результате тесного и множественного сочетания
различных элементов. Речь об этом и пойдет в следую
щих главах.
НЕКОТОРЫЕ
ФИЛОСОФСКО-ЭСТЕТИЧЕСЮИЕ
ПРОБЛЕМЫ И ИХ РОЛЬ
В ПОСТРОЕНИИ РОМАНА
ТУРГЕНЕВА
1. Проблемы философии
Творчество Тургенева-романиста теснейшим и кон-
кретнейшим образом связано с русской общественно-по
литической и вообще идеологической жизнью 1840—
1870-х годов. В результате углубленного изучения его
романов на этом фоне, благодаря настойчивому проник
новению в его творческую лабораторию, в понимании его
художественного наследия
и писательской манеры
остается все меньше белых пятен. С другой стороны,
роман Тургенева очевидным образом связан с культурой
XIX века в целом, и русской и западноевропейской,
с культурно-историческим, "художественным и философ
ским наследием предшествующих веков. ' В изучении
этих связей белых пятен гораздо больше, и, поскольку
речь идет о творчестве писателя с таким широким диапа
зоном эрудиции, полное исчезновение их в ближайшем
будущем вряд ли возможно предвидеть.
Первоочередной задачей в предлагаемом разделе
настоящей работы является анализ некоторых сторон
романистики Тургенева в свете его философских штудий
и интересов — проблема, до сих пор привлекавшая вни
мание исследователей лишь эпизодически, от случая
к случаю, главным образом в связи с избирательно-
целенаправленным, конкретно-историческим выяснением
философской подосновы «Призраков», «Довольно»,
1
цикла
1
Л. В . Пумпянский. Тургенев-новеллист (см.: И. С. Тур
генев. Соч., т. VII. Госиздат, М.— Л., 1929); М. К . А задов-
екий. Три редакции «Призраков». «Ученые записки Ленинград
ского гос. университета», 1939, No 20, серия филологических наук>
38
«таинственных йовестей»
2
и «Стихотворений в прозе»
3
или же в ходе обобщенной философско-эстетической
интерпретации всех этих произведений с привлечением и
ранних поэм.
4
Новые экскурсы в эту область необхо
димы — они помогут внести известную упорядоченность
в не совсем определенные и, как нам кажется, все еще
весьма неполные представления о том, что такое злобо
дневный общественно-политический, социально-психоло
гический роман Тургенева с точки зрения философской.
Философия сыграла огромную централизующую роль
в творчестве Тургенева и, в частности, в становлении его
романа. Между тем, несмотря на справедливость выска
занного в свое время замечания о том, что «у нас еще
нет отвечающей современным требованиям монографии
о развитии философских взглядов Тургенева»,
5
в науч
ных и научно-популярных работах о нем, написанных
в последние десятилетия, философии придается все
меньшее значение. Все чаще и чаще ей отводится место
где-то на периферии анализа общественного содержания
того или иного романа. Есть даже мнение, что так назы
ваемый философский «пессимизм» Тургенева — явление,
отжившее свой век, неспособное затронуть современного
читателя, чуть ли не чуждое ему. Но не является ли
этот пессимизм спутником неистребимой любви к жизни
и человеку, следствием тоски по идеалу, по какому-то.
иному, лучшему порядку в мире природы и в мире
человеческих отношений? Такой «пессимизм» не вражде
бен нашей современности.
Предпосылки философского содержания художествен
ного наследия Тургенева и, в особенности, его романи-
вып. 1; И. А. Винникова. Об идейных истоках «Призраков» и
«Довольно» И. С. Тургенева. В кн.: Вопросы славянской филоло
гии. Изд. Саратовского унив., 1963.
2
См.: Вл. Фишер. Таинственное у Тургенева. В сб.: Венок
Тургеневу. 1818—1918. Одесса, 1919; Г. Вялый. Тургенев и рус
ский реализм. М. — Л., 1962 (глава «Поздние рассказы. „Таинствен
ные" повести»). Принципиально важные замечания о характере
философии в «таинственных повестях» Тургенева есть также
в упомятутой выше статье Л. В . Пумпянского.
^ См.: Л. Гроссман. Последняя поэма Тургенева (Senilia).
В сб.: Венок,Тургеневу. 1818—Ща.Одесса, 1919; A. Walicki.
Turgenev and Schopenbauer. «Oxford Slavonic papers», 1962, vol. X .
4
M. Гершензон. Мечта и мысль И. С . Тургенева. М., 1919.
5
Л. В. Пумпянский. Тургенев-новеллист, стр. 7.
39
стики исследованы недостаточно. Притом многое из того,
что неоднократно говорилось по этому поводу, кажется
сейчас уже спорным или неясным. Так, например,
в тургеневедении, — и, пожалуй, на равных правах, —
все еще сосуществуют прямо противоположные представ
ления о философской сути романа «Отцы и дети».
«Основа мировоззрения Базарова», — утверждается в од
ной из монографий, — «глубочайший философский пес
симизм», не имеющий «ничего... общего с Фейербахом;
это пессимизм самого Тургенева... его основа — инди
видуалистическая философия Шопенгауэра...»
6
Этому
заключению противоречат доводы новейшего исследова
теля, в основание которых положена мысль о плодотвор
ном «максимализме» Базарова, всецело обусловленном
безграничной требовательностью «к себе и к другим».
7
Полярность, несовместимость, а главное, крайняя не
полнота подобных оценок, отражающих, однако, весьма
заметные тенденции в тургеневедении, объясняются
односторонним, недостаточно конкретным и вместе с тем
категорично-избирательным подходом к решению важ
ной и сложной проблемы.
1
Первая точка зрения высказана
в эпоху процветания вульгарного социологизма, когда
культивировалась мода навешивать на великих писа
телей ярлыки, свидетельствующие якобы об их «клас
совой ограниченности», обязательной сословной пред
убежденности, ущербности их миросозерцания и т. п.
) В аргументации автора второй из названных работ
Чувствуется веяние, идущее от Писарева, однако и она
не свободна от субъективизма. В ряде случаев он судит
о Базарове, не считаясь с законами, по которым создан
этот образ. В результате тургеневский герой превра
щается подчас в какое-то отвлеченное, сверхъестествен--
ное существо сатанинского или демонического характера.
Так, например, согласно этим суждениям, «Базаров дол
жен быть один». Кроме желания замкнуться в презри
тельно-гордом одиночестве, у него, пожалуй, и цели нет
никакой. А что касается его отношения к природе, то, по
утверждению Ю. Манна, влюбленному в свое дело уче-
•*
6
И. И. В е к с л е р. И. С. Тургенев и политическая борьба
шестидесятых годов. Изд. АН СССР, Л., 1934, стр. 31 (курсив
мой, — А. Б.).
7
Ю. Манн. Базаров и другие. «Новый мир», 1968, No 10,
стр. 246.
40
ному-естественнику Базарову природа представляется ни
больше, ни меньше как «скопищем отчужденных и мерт
вых предметов.. » Чем не демон, чем не сатана? Мы от
нюдь не навязываем исследователю этих определений, ибо,
по его же словам, «эпитет „сатанинский", брошенный
Павлом Петровичем, не пустой по отношению к База
рову».
8
Здесь, как нам кажется, Ю. Манн сближается с Пи
саревым, но уже с тем Писаревым, который, желая под
черкнуть непреодолимую силу нигилизма шестидесятых
годовЛ его якобы полное пренебрежение к самоконтролю
и общепринятым нормам этики, размашисто сравнивал
ёпГсГхолерой и тому подобными стихийными явлениями.
Нужно ли в наше время доказывать, что далеко не все
пйсаревские характеристики существа нигилизма соответ
ствовали объективному содержанию романа Тургенева?
Да, Базаров страшно одинок, но это одиночество вы
нужденное, порожденное не личным капризом, а реаль
ными социально-историческими и общественными усло
виями, па которые и в «самом романе, и в многочислен
ных полемических разъяснениях «по поводу» Тургенев
указывает достаточно определенно. Порождалось оно
в значительной степени и очень близким авторскому
общефилософским ощущением и восприятием проблемы
«человек и природа», но об этом следовало бы сказать
отчетливее. Причины и предпосылки базаровского одино
чества заслуживают более обстоятельного анализа еще
и потому, что такой анализ несомненно способствовал бы
дальнейшей конкретизации и углублению уже сложив
шихся представлений о мировоззрении самого Тургенева.
При чтении интересной, но, к сожалению, в иных
своих частях слишком тезисно построенной статьи
Ю. Манда неизбежно возникает не праздный вопрос
о u философском генезисе «максимализма»^ . Базарова.
Если этот последний не тяготеет к Шопенгауэру, то где,
на каких пунктах послегегелевского (а может быть, и бо
лее раннего) развития философии следует искать источ
ники формирования подобных убеждений? Не мог же
Базаров сочинять их экспромтом — в спорах со «старич
ками» Кирсановыми, в небрежных собеседованиях сАрка-
Там же, стр. 245 и ел.
41
днем, Одинцовой, крестьянскими ребятишками, мужи
ками и т. п.!
В упомянутой статье мы не найдем удовлетворитель
ного ответа как на этот, так и на многие другие вопросы.
Очевидно, крайне досадуя на «шаблонность» статей и
исследований, тесно увязывающих творчество Тургенева-
романиста со злобою дня, \Ю. Манн на первый взгляд
весьма убедительно говорит о праве большого писателя
на независимую от этой злобы оригинальную идейно-
, художественную и философскую концепцию образа.
Одйако по существу разве так уж реальна эта незави-
\ симость? Право правом, а независимость писателя от
злобы дня — вещь практически почти невозможная. Кон
цепции художников, особенно крупных, вызревают не
в безвоздушном пространстве. Обычно они обусловлены
социальным и духовным опытом современной им обще
ственной жизни и вообще создаются с учетом вершин
ных достижений как современного, так и предшествую
щего развития духовной культуры всего человечества.
Разумеется,
исследование
тургеневского романа
с точки зрения философской не может вестись изоли
рованно и в пределах его собственного творчества.
Очевидна необходимость попутного "обращения к целому
ряду других произведений писателя (не говоря уже
о его переписке и литературно-критическом наследии),
имеющих во многом общую с его романами идейно-фи
лософскую подоснову. Таковы прежде всего «Фауст»,
«Поездка в Полесье», «Призраки» и «Довольно», создан
ные или задуманные в непосредственной хронологиче
ской близости к созданию или замыслу романов
«Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и
дети» и «Дым». Первоначальный замысел «Призраков»,
например, относится к Д855 году, т. е. приблизительно
ко времени, когда Тургенев писал «Рудина» и «Фауста»;
«Дым» задуман в конце 1862 года — до появления в пе
чати «Призраков» и «Довольно». «Призраки» и «До
вольно» представляют собою некий философский эпи
центр, сгущение в одном фокусе специфически окрашен
ной философской мысли Тургенева. Она долгое время
исподволь накапливалась в его предшествующем твор
честве и оказала затем воздействие на характер многих
его последующих произведений. Наконец, с «Призра
ками» и «Довольно» связывается чаще всего так на-
42
зываемый шопенгауэризм писателя — вопрос, который
нельзя обойти при характеристике его общефилософских
взглядов. Таким образом, в свете избранной нами темы
все названные романы и повести можно уподобить сооб
щающимся сосудам. Условное или насильственное разъ
единение их на основании формально-жанровых призна
ков помешало бы правильной постановке «опыта».
Конкретному анализу всей этой -проблематики сле
дует цредпослать еще несколько вводных замечаний.
Речь пойдет о характере тургеневского восприятия фило
софии вообще.
Известно, что атмосфера философских интересов
окружает Тургенева уже в ранней молодости. В начале
сороковых годов, мечтая об ученой карьере, он под ру
ководством профессора-энтузиаста К. Вердера прилежно
штудирует в Берлинском университете Гегеля, а возвра
тившись на родину, удостоивается степени магистра
философии. Тургенев превосходно был осведомлен
в учениях французских просветителей и утопистов,
о чем свидетельствуют его тонкие замечания о Дидро,
Сен-Симоне, Фурье, хорошо знал Фейербаха, являлся
ближайшим свидетелем становления и развития фило
софской мысли русской революционной демократии,
начиная с Белинского и Герцена, увлекался Шопен
гауэром, изучая почти одновременно произведения глав
ных адептов вульгарного материализма, и т. д . и т . п .
Примечательно, что об одном из этих последних Тургенев
писал в 1860 году А. А . Фету: «Принялся за Карла
Фогта. Ужасно умен и тонок этот гнусный материя-
лист!» (IV, 83). Свидетельствующее о крайней любозна
тельности Тургенева, о широте его познаний и известной
терпимости в области философии, это высказывание ха
рактерно и тем, что содержит недвусмысленно ирониче
ский выпад по адресу философов из реакционного лагеря,
идейным штабом которых был «Русский вестник» Кат
кова. Именно эти «философы», с которыми зачастую
солидаризировался и Фет, считали «гнусным» и безнрав
ственным всякий материализм, — без какого бы то ни
было учета его оттенков и направлений. Для Турге
нева же, впитывавшего, как губка, новые веяния
в общественно-политической жизни, в науке и филосо
фии, не существовало в этом отношении никаких табу.
Читая сочинения вульгарных материалистов, он не
43
избегает и застольных бесед с этими «ниспровергате
лями» (IV, 296).
Конечно, не случайно эмпирически-трезвая, нередко
нарочито «циничная» фразеология вульгарных материа
листов употребляется главным героем романа «Отцы и
дети» в качестве сильнодействующего противоядия под
сахаренному романтизму и идеализму.
«Любовь —
форма, а моя собственная форма уже разлагается», —
говорит Одинцовой умирающий Базаров. Нечто подобное
слышится подчас и в суждениях самого автора.
В 1869 году он пишет Герцену: «... и как видишь, что
начинает разлагаться современная ячейка, покорившая
под иго своей отдельности разные газы, земли и соли —
так и за свою ячейку начинаешь несколько беспокоиться»
(VII, 309—310). Разумеется, рассуждая о человеческих
душе и теле, завзятый идеалист почел бы кощунст
вом разлагать их на такие первозданно грубые ингре
диенты (газы, земли, соли и т. п .). Безбожная,
«примитивная» манера научно-философского мышления,
к которой особенно тяготели вульгарные материалисты,
была знамением времени, и Тургенев, как видим, также
платил ей определенную дань.
Однако, наряду с процессом жадного, неудержимого
поглощения и усвоения различных философских систем
и учений, в духовном развитии Тургенева довольно рано
обнаруживается некое определенно противоборствующее
начало. (Уже в Берлинском университете художествен
ную натуру Тургенева, тяготевшую к образному пости
жению мира, утомляют философские отвлеченности. У него
зреет ироническое отношение к философии. Будущий
писатель нередко ищет отдохновения и отрады в заня
тиях, более соответствующих его пока еще неосознанным
естественным склонностям. По свидетельству Ф. Боден-
штедта, Тургенев признавался ему впоследствии, что во
время пребывания в Берлинском университете Гете
интересовал его больше, чем «Гегель и его апостолы»
(V, 643). В связь с этой первой ласточкой — ирониче
ским отношением к Гегелю — следует поставить и фа
мильярное обращение с целым рядом других философов,
отразившееся в письме Тургенева к братьям Бакуниным,
написанным в период подготовки к магистерским экзаме
нам в Петербургском университете (апрель 1842 г.):
«... вчера съел за один присест Декарта, Спинозу и Лейб-
44
ница; Лейбниц у меня еще бурчит в желудке — а я себе
на здоровье скушал Канта — и принялся за Фихте: но
этот человек несколько черств...» (I, 222). Здесь же тя
желые, трудно перевариваемые философские цитаты Тур
генев с явным облегчением перемежает цитатами поэти
ческими (Пушкин) и музыкальными (Грунд).
Вспоминая о раннем периоде своих отношений
с Белинским, Тургенев писал: «Со мной он говорил
особенно охотно потому, что я недавно вернулся из
Берлина, где в течение двух семестров занимался геге
левской философией и был в состоянии передать ему
самые свежие последние выводы» (Соч.,
XIV, 29).
И добавлял многозначительно: «Мы еще верили тогда
в действительность и важность философических и мета
физических выводов, хотя ни он, ни я, мы нисколько не
были философами и не обладали сопособностью мыслить
отвлеченно, чисто, на немецкий манер...» (там же).
Проходит совсем немного лет после возвращения Тур
генева на родину, и его отношение к Гегелю и всей не
мецкой идеалистической философии меняется в корне.
На рубеже сороковых годов появляются в печати
работы Фейербаха «К критике гегелевской философии»
(1839) и «Сущность христианства» (1841). В первой
отрицался философский идеализм, во второй получали
конкретно реалистическое объяснение религиозные пред
ставления о божественном происхождении природы и че
ловека, утверждалась смелая для того времени мысль
о боге как порождении человеческой фантазии, наделяю
щей его всеми основными человеческими свойствами. Озна
комившись с этими произведениями Фейербаха не позд
нее 1847 года, Тургенев отмечал: «Среди всех, кто пописы
вает теперь в Германии, Фейербах — единственный чело-
век, единственный характер и единственный талант» (I,
445).
С этого момента в письмах и критических статьях
Тургенева проскальзывают все чаще то шутливо-насмеш
ливые, то недвусмысленно-неуважительные суждения
о философии и философах, причем из последних осо
бенно достается философам с традиционно «немецким»
складом мышления — за их сухость, педантическую
склонность к систематизированию и подчас ложно-глубо
комысленному наукообразию. «Немцы считают гуся, эту
обдуманную, осторожную птицу, глупым, — писал, на-
45
пример, Тургенев в рецензий на «Записки ружейного
охотника» С. Т . Аксакова; — русский человек, напротив,
заметил, что даже гром обращает на себя внимание
гуся; действительно, при каждом ударе он, скривив го
лову, смотрит в небо. Правда, он от этого нисколько не
становится умнее, но эту участь он разделяет со многими
философами» (Соч., V, 417). В мае 1853 года Тургенев
знакомится с Фетом, и в его характеристике свойств
ума, характера и таланта поэта сквозит нечто сходное
вышеприведенному шутливому заключению: «Натура по
этическая, но немец, систематик и не очень умен —
оттого и благоговеет перед 2-ой частью Гетева „Фауста'Ч
Его удивляет, что вот, мол, тут все человечество выве
дено — это почище, чем заниматься одним человеком.
Я его уверял, что никто не думает о гастрономии
вообще, когда хочет есть, а кладет себе кусок в рот»
(II, 163).
В специальной литературе много раз указывалось на
активную роль эпистолярного наследия Тургенева в его
художественном творчестве.
9
Факты, мысли, беглые наблю
дения, полемические высказывания и резюме, зафиксиро
ванные в переписке писателя, запоминались им надолго
и нередко получали как бы второе рождение в его рома
нах и повестях, разрастаясь иногда на совершенно иной
конкретно-социальной и бытовой основе в самостоятель
ные сценки, диалоги и т. п. Перед нами один из таких
случаев. Безусловно есть что-то общее между тургенев
ской иронией по адресу философствующего Фета и желч
ными репликами Базарова на речи Павла Петровича Кир
санова, запальчиво апеллирующего к «логике истории»^
«-— Да на что нам эта логика? Мы и без нее обхо
димся.
—
Как так?
—
Да так же. Вы, я надеюсь, не нуждаетесь в логике
для того, чтобы положить себе кусок хлеба в рот, когда
9
См. вступительную статью Б. М. Эйхенбаума в кн.: А. Ост
ровский. Тургенев в записях современников. Л ., 1929, стр. 9 —
11; примечания Ю. Г. Оксмана к роману «Дым» (И. С. Турге
нев. Соч., т. IX . Госиздат, М. —Л ., 1930, стр. 417—437); статью
М. П. Алексеева «Письма И. С. Тургенева» *(1, 39—42), а также
реальные комментарии почти ко всем наиболее значительным
дроизведениям Тургенева в академическом собрании его сочи
нений.
46
вы голодны. Куда нам до этих отвлеченностей!»
(Соч., VIII, 242).
Определенно подразумевая одну из основных идей
Гегеля, Тургенев писал П. В. Анненкову 3 мая н. ст .
1853 года: «Я знаю, что в природе и в жизни все так или
иначе примиряется...» Однако вторая половина этой
фразы звучит неожиданно сурово и отнюдь не по-геге
левски: «Если жизнь не может, смерть примирит»
(II, 144). Это уже самобытно тургеневский, трагически-
философский акцент, который, подобно эху, отзовется
через несколько лет в эпилогах романов «Рудин» и
«Отцы и дети».
Усвоив из Гегеля по существу только плодотворную
идею развития, Тургенев критически воспринимает дру
гие компоненты его философии.
Постепенно подобные прямые и скрытые выпады про
тив отдельных философов и «философствования» вообще
перерастают в «нигилистические» оценки философских
систем. Так, уже в высшей степени характерно пренебре
жительное недоумение Тургенева по поводу цензурных
урезок в рецензии на «Записки ружейного охотника»:
«Что г-н ценсер подозревал в этом отрывке — пантеизм,
что ли... не знаю» (II, 123). Само.слово «система» ста
новится в устах Тургенева синонимом узкого, односторон
него или предубежденного взгляда на действительность.
«Вы становитесь свободны, свободны от собственных
воззрений и предубеждений, — писал Тургенев Л. Н . Тол
стому в январе 1857 года. — Глядеть налево так же
приятно, как направо — ничего клином не сошлось —
везде „перспективы"...
Дай бог, чтобы Ваш кругозор
с каждым днем расширялся! Системами дорожат только
те, которым вся правда в руки не дается, которые хотят
ее за хвост поймать; система — точно хвост правды, но
правда как ящерица: оставит хвост в руке -— а сама убе
жит: она знает, что у ней в скором времени другой
вырастет» (III, 75). С этой же точки зрения он крити
кует в шестидесятые годы славянофильство, герценов-
скую «антитезу» Запада и Востока и кавелинскую теорию
«родового быта», категорически утверждая, что никакое
«красноречие» не спасет их от «зияющей могилы»,
в которой уже лежит философия Гегеля и Шеллинга)
(V, 64). Несколько позднее он с неменьшей резкостью осу
дит толстовский исторический фатализм э «Войне и мире».
47
Наиболее законченную формулировку тургеневское
отношение к системам получило в письме к М. А. Милю
тиной (1875 г.), являвшемся ответом на школьную по
становку вопроса о характере его миросозерцания.
«Определить мое собственное миросозерцание... да еще
в сжатом виде, в письме?! — недоумевал Тургенев. —
Отнестись либо отрицательно, либо юмористически к по
добному вопросу было бы легко и даже естественно...
не менее естественно и правдиво было бы сказать: да
господь его знает?.. скажу вкратце, что я преимуще
ственно реалист — и более всего интересуюсь живою
правдою людской физиономии; ко всему сверхъестествен
ному отношусь равнодушно, ни в какие абсолюты и си-
^стемы не верю, люблю больше всего свободу — и, сколько
могу судить, доступен поэзии. Все человеческое мне до
рого. Славянофильство чуждо — так же как и всякая
ортодоксия. Кажется, сказал довольно — а, в сущности,
все это — одни слова...» (XI, 31—32).
Неприязненное отношение Тургенева к философским
системам и теориям ощущается все время и в его худо
жественном творчестве/ Гамлета Щигровского уезда
отвлеченные штудии и умозрения в духе немецкого фи
лософского идеализма превращают постепенно в жалкое
и несчастное существо без имени, мучительно сознаю
щее свою неоригинальность. Рудин в гостиной Ласунской
говорит о свойстве человеческого ума отыскивать общие
начала в частных явлениях. Это опять гегелевская идея,
однако особенно резкой критике Тургенева подвергается
именно Рудин, оторванный от русской действительности
гегельянец, человек, зачастую склонный к пустопорож
нему фразерству и краснобайству, к искусственному
усложнению, возведению в философский «абсолют»
простых и всем понятных чувств. Имея в виду автори
теты, Базаров в романе «Отцы и дети» презрительно це
дит сквозь зубы: «Да зачем же я стану их признавать?
И чему я буду верить? Мне скажут дело, я соглашусь,
вот и все»! Одним из самых главных убеждений
этого героя является отрицание всякой философии, не
имеющей прямого отношения к жизненной практике.
Однако вместе с тем базаровское отрицание отвлеченной
философии носит несомненно философский характер.
Это нечто вроде гетевского: «Теория, мой друг, сера, но
зелено вечное древо жизни». Это отрицание не живой
48
философской мысли, а прежде всего застывших «систем»,
схоластически отвлеченных умозрений. Потугин в «Дыме»/
не без сочувствия автора желчно потешается над публи
цистами, пропагандирующими в своих статьях теории
утопического социализма («...поднять старый, стоптан
ный башмак, давным-давно свалившийся с ноги Сен-Си
мона или Фурие, и, почтительно возложив его на голову,
носиться с ним, как со святыней, — это мы в состоя
нии...»). Наконец, Остродумов и Машурина в «Нови»,
эти представители народнической «толпы», слепо веря
щие в значительность и непогрешимость некоего Васи
лия Николаевича, в «таинственном» облике которого
угадываются, однако, знакомые черты деспотически
грубой и недалекой натуры Губарева из романа «Дым»,
изображены людьми ограниченными, духовно неинтерес
ными.
Таким образом, если не считать увлечения гегелевской
философией во время кратковременного пребывания
в Берлинском университете, Тургенев никогда не был
последовательным приверженцем той или иной философ
ской системы, а тем более такой, которая создава
лась бы по преимуществу одним философом, будь то
Гегель, Фейербах, Шопенгауэр или кто-нибудь другой.
Но, разумеется, все это не означало принципиального
пренебрежения к философии. Исключительная эрудиция
Тургенева в этой области постоянно сказывается на его
творчестве, способствуя появлению и закреплению в нем
некоторых более или менее постоянных философских мо
тивов, приобретавших с течением времени все большую
отчетливость.
Среди философских проблем, серьезно занимавших
Тургенева на протяжении, в сущности, всей его литера
турной деятельности, первостепенное значение имеет
мысль о человеческом ничтожестве, настойчиво разраба
тываемая им в целом ряде произведений, начиная
с «Поездки в Полесье» и кончая «Стихотворениями
в прозе». Присутствие ее сказывается и в романах, —
причем наиболее заметно и значимо оно в «Отцах и де
тях», центральном произведении этого цикла. (По этой
причине, а также потому, что возникновение первона
чальной философской доминанты «Отцов и детей» в йз^
вестном смысле предшествовало формированию замысла
v
и «Накануне», и «Дворянского гнезда», и «Рудина»,
4 А. Батюто
49
анализ романистики Тургенева в свете его философских
штудий, можно начать и с этого романа.
В своем отзыве на роман «Отцы и дети» Герцен об
ронил знаменательную фразу: «Requiem на конце —
с дальним апрошем к бессмертию души — хорош, но опа
сен, ты эдак не дай стречка в мистицизм».
10
Герцен имел
в виду поэтические заключительные строки эпилога,
в котором говорится о могиле Базарова и его безутеш
ных старичках родителях: «Неужели их молитвы, их
слезы бесплодны? Неужели любовь, святая, преданная
любовь не всесильна? О, нет! Какое бы страстное, греш
ное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы,
растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими не
винными глазами; не об одном вечном спокойствии
говорят нам они, о том великом спокойствии „равно
душной" природы; они говорят также о вечном прими
рении и о жизни бесконечной...»
Тургенев живо откликнулся на это замечание Гер
цена. «В мистицизм я не ударился и не ударюсь»,—
писал он в ответном письме. Однако здесь же, в некото
ром противоречии с первым утверждением, он продолжал:
«... в отношении к богу я придерживаюсь мне,ниа
Фауста:
Wer'darf ihn nennen,
Und wer bekennen:
Ich glaub'ihn!
Wer empfinden
Und sicn unterwinden
Zu gagen: Ich glaub'ihn nicht! ll
Впрочем — это чувство во мне никогда не было тайной
для тебя» (IV, 383).
Это разъяснение замечательно своей неопределен
ностью, подчеркивающей отнюдь не безразличное отно
шение к религиозным верованиям. Хотя вопрос о реаль-
10
А. И . Герцен. Собр. соч. в 30 томах, т. XXVII, кн. 1.
Изд. АН СССР, М, 1963, стр. 217 .
11
Буквальный перевод:
Кто решится его назвать
Или сказать: «Я верю в него»,
Кто воспримет его своим чувством
Или осмелится сказать:
«Я в. него не верю?»
50
ном существовании бога был решен Тургеневым в отри
цательном смысле еще во времена знакомства с сочине
ниями Фейербаха и тесного общения с Белинским, его
религиозному скепсису нередко сопутствовало печальное
сожаление об утраченной вере. Отсутствие же этой
последней только усугубляло значимость для него той
философской проблемы, заключительным, но ничего не
разрешающим аккордом которой в романе «Отцы и дети»
является его эпилог.
В комментариях /к тому месту гетевского «Фауста»,
которое процитировано в тургеневском письме к Герцену,
отмечается, что «беседа Фауста с Маргаритой о религии
носит на себе явно автобиографические черты. Отноше
нием Гете к христианской религии интересовались мно
гие его друзья. В записках Кестнера мы читаем: „Он
никогда не ходит в церковь и на исповедь... уважает
христианскую мораль, но не в церковном ее понима
нии"».
12
Комментарий, как видим, подтверждает, в сущ
ности, атеистический характер высказывания Фауста.
Естественно предположить, что Тургенев, хорошо знав
ший биографию Гете, намекал, быть может, и на эти
обстоятельства. Это тем более вероятно, что в целом ряде
случаев он и сам оказывается то в положении Гете,
лишь уважавшего «христианскую мораль», то в положе
нии Фауста с его жаждой счастья, веры, вечной молодо
сти и бессмертия. Так, отвечая на упреки ревностной
христианки и моралистки Е. Е. Ламберт по поводу
воспитания его дочери, Тургенев пишет в 1862 году:
«Почему Вы полагаете, что Полинька... не ходит
в церковь?.. Я бы себе не позволил такого посяга
тельства на ее свободу—и если я не христианин — это
мое личное дело — пожалуй, мое личное несчастье»
(V, 71). Это почти гетевское отношение к религии.
Правда, в нем нет олимпийского спокойствия. Тургенев
ставит себя в обособленное положение но отношению
к верующим, но его религиозному скептицизму не свой
ственны отличительные признаки победившего или побе
ждающего учения. Это скептицизм не воинствующий, не
торжествующий, а скорее скорбящий; недаром он ассо
циируется с «личным несчастьем», под которым подразу-
12
И.-В . Гете. Собр. соч. в 13 томах, т. V. Гослитиздат, М.,
1947, стр. 567.
4*
51
мевается, очевидно, и утрата последних надежд на воз
можность продолжения существования в «ином мире».
Как бы ни были наивны и бессодержательны эти
надежды, расставаться с ними было тяжело. Отсюда еди-
. ни чны е, крайне робкие, но психологически естественные
I и закономерные попытки занять некую срединную по-
| зицию между религией и атеизмом, безуспешно предпри
нимаемые Тургеневым как в период, предшествовавший
возникновению замысла «Отцов и детей», так и непо-
средствено после завершения этого романа. Вот как
определяет Тургенев свое душевное состояние в письме
к той же 'корреспондентке в декабре 1859 года: «При
сутствие постоянной мысли о тщете всего земного,
о близости чего-то, что я назвать не умею. Слово:
смерть — одно нет выражает вполне этого чего-то, а по
тому обращение к богу — рядом с порывами на заповед
ные зеленые луга» (III, 385). Эта двойственность устрем
лений Тургенева-философа в чем-то весьма существенном
соответствует опять-таки настроению Фауста во время
его беседы с Вагнером:
Тебе знакомо лишь одно стремленье,
Другое знать — несчастье для людей.
Ах, две души живут в больной груди моей,
Друг другу чуждые, — и жаждут разделенья!
Из них одной мила земля, —
И здесь ей любо, в этом мире,
Другой — небесные поля,.
Где духи носятся в эфире...
О, как бы я плащу волшебному был рад,
Чтоб улететь на нем к неведомому миру!13
Тревожные сомнения и порывы не покидают Турге
нева и позже. В конце 1861 года он пишет: «Естествен
ность смерти гораздо страшнее ее внезапности или необы
чайности. Одна религия может победить этот страх....
Но сама религия должна стать естественной потребностью
в человеке, — а у кого ее нет — тому остается только
с легкомыслием или с стоицизмом (в сущности это всё
равно) отворачивать глаза». Но здесь же продолжает:
«Одна моя знакомая... была поражена легкостью, с кото
рой человек умирает: — открытая дверь заперлась — и
только... Но неужели тут и конец! Неужели смерть есть
не что иное как последнее отправление жизни? — Я реши-
13
Там же, стр. 88 .
52
телъно не знаю, что думать...»
(IV, 312. — Курсив
мой, — А. Б.).
Не случайно приблизительно в таком же положении
оказываются к этому времени некоторые любимые герои
Тургенева. (Сродная Фаусту «эгоистическая» жажда лич^у
ного счастья перемежается в их мятущемся сознании
предчувствием неотвратимой и непоправимой беды, обра
щение к «богу» и «чуду» — ощущением полной беззащит
ности перед чем-то неведомым и страшным. Достаточно
напомнить о размышлениях Елены Стаховой у постели
больного Инсарова: «Зачем смерть, зачем разлука, бо
лезнь и слезы? или зачем эта красота, это сладостное
чувство надежды, зачем успокоительное сознание проч
ного убежища, неизменной защиты, бессмертного покрови
тельства? Что же значит это улыбающееся, благословляю
щее небо, эта счастливая, отдыхающая земля? Ужели это
все только в нас, а вне нас вечный холод и безмолвие?
Ужели мы одни... одни... а там, повсюду, во всех этих
недосягаемых безднах и глубинах, — все, все нам чуждо?
К чему. же. тогда эта жажда и радость молитвы?..
Неужели же нельзя умолить, отвратить, спасти... О боже!
Неужели нельзя верить чуду?» (гл. XXXIII). Глубокий
философский подтекст этих размышлений, в которых не
мало общего с авторскими настроениями, исчерпывающе
прокомментирован впоследствии в итоговом обращении
Тургенева к проблеме «чуда» и его источнику — религии.
В стихотворении в прозе «Молитва» (июнь 1881 г.) он
пишет: «О чем бы ни молился человек — он молится
о чуде. Всякая молитва сводится на следующую: „Вели
кий боже, сделай, чтобы дважды два —не было четыре!"
Только такая молитва и есть настоящая молитва —
от лица "к лицу. Молиться всемирному духу, высшему
существу, кантовскому, гегелевскому, очищенному, без
образному богу — невозможно и немыслимо.
Но может ли даже личный, живой, образный бог
сделать, чтобы дважды два — не было четыре?
Всякий верующий обязан ответить: может...» (Соч.,
XIII, 197).
Вера в «чудо» естественна, но скептическое отноше
ние к ней тоже естественно и правомерно — таков фило
софский смысл этого «комментария»,
одновременно
мужественного и печального, гуманного и безотрадного.
Нужно сказать, что и в данном случае, наряду с явным
53
пренебрежением к безобразному, отвлеченно-философ
скому теоретизированию в духе Канта и Гегеля, в фило
софской мысли Тургенева сквозят гетевские интонации.
В самом деле, если мы еще раз обратимся к Фаусту,
например, к его размышлениям в момент церковного
благовеста, мы обнаружим в них нечто подобное:
О звуки сладкие! Зовете мощно вы
Меня из праха — вновь в иные сферы!
Зовите тех, чьи души не черствы,
А я — я слышу весть, но не имею веры!
Меня ли воскресить? Могу ли верить я?
А чудо — веры есть любимое дитя!
14
Таким образом» и в молодости, и в пору духовной зре
лости, и на закате литературной деятельности Тургенев-
философ неоднократно проявляет склонность к преднаме
ренному или скрытому противопоставлению Гете Гегелю
и по существу всей немецкой идеалистической фило
софии.
После создания романов «Накануне» и «Отцы и
детщ^происходит полное раскрепощение Тургенева от
заманчивых ^ИЛЛЮЗИЙ христианского миросозерцания,' но
совершается оно не безболезненно. Пожалуй, самым
красноречивым свидетельством этого является потрясаю
щий своей горечью отклик писателя на смерть Ю. Ф. Са
марина, отличавшегося, как известно, глубокой религиоз
ностью. «Теперь он узнал, — писал Тургенев П. В . Ан
ненкову, — правда ли было то, чему он так горячо верил.
То-то удивился он, когда не только не встретил Хомя
кова, К. Аксакова и др., — да и самого себя не нашел!
Но не хочу кощунствовать» (XI, 240).
Каким бы недвусмысленно отрицательным ни было
отношение Тургенева к «сверхъестественному» в после
дующие годы, его колебания в этом вопросе в период
создания романа показывают, что замечанием Герцена
о «дальнем апроше к бессмертию души» пренебрегать
все же не следует. Ведь в эпилоге «Отцов и детей» был
и остался мотив «о вечном примирении и о жизни бес
конечной», а с ним тесно соседствует и гармонически со
гласуется мотив о «грешном, бунтующем сердце» База-:
14
Там же, стр. 75.
54
рова, которому это «примирение» и «жизнь бесконеч
ная» как бы обещаны. Тургенев отвергал мистическое
начало в эпилоге, но в таком случае чем же другим
объясняется появление в нем этих мотивов? ^Исчерпы-
вающий ответ на все эти вопросы как будто всецело за
ложен в характере философски окрашенных сомнений
и колебаний Тургенева, J многократно зафиксированных
в его переписке/ Эпилог «Отцов и детей» — это как бы
некая равнодействующая, стройный художественно-фи
лософский синтез, возникший главным образом на зыб
кой основе личных противоречивых переживаний писа
теля. Однако если ограничиться такой интерпретацией
концовки романа, остается в тени не менее важцая про
блема изначального происхождения и формирования
подобных философских настроений.
Наконец, не могло ли случиться и так, что, не бу
дучи сам верующим, Тургенев, руководствуясь ка
кими-то особыми соображениями, заставил «дать стречка
в мистицизм» своего героя? Этот отнюдь не риториче
ский вопрос уже ставился в специальной литературе.
В статье М. К. Азадовского «Обходном сюжетном совпа
дении («Смерть атеиста» в романе Омулевского и у Ип-
пслитаТэна)» есть такое суждение о тургеневской трак
товке атеизма Базарова: < «Раскаявшийся или примирив
шийся с „небом" перёд смертью атеист — одна из
популярнейших тем и не только у представителей реак
ционного крыла (литературы, — А. Б .)
...
Социально-
классовые позиции художника сказываются <в изображе
нии этого момента с наиболее резкой и выпуклой от
четливостью.^ Так, чрезвычайно характерна для Тургенева
та примиренческая позиция, которую занимает в его
романе Базаров...»
15
Основанная на «согласии» Базарова принять перед
смертью услуги священника, на описании религиозного
обряда над ним и, по всей вероятности, на тех же моти
вах примирения и жизни бесконечной, которые пока
зались подозрительными Герцену, точка зрения М. К. Аза
довского свидетельствует о том, что разъяснения Турге
нева о его отношении к мистицизму вообще и, в част-
15
См. сб.: Академия наук СССР. XLV. Академику Н. Я . МарруЛ
Изд. АН СССР, М.-Л., 1935, стр. 589.
55
ности, в «Отцах и детях» нуждаются в какой-то допол
нительной аргументации.
Прежде всего следует напомнить, что оценка послед
них глав романа и его эпилога, данная в статье
М. К_ Азадовского, противоречит суждениям многих
современников Тургенева. «Умереть так, как умер Ба
зарова—писал Писарев, — все равно, что сделать вели
кий подвиг...»
16
Атеист Писарев не сказал бы этих
слов, если бы хоть на минуту мог предположить, что
в конце романа Тургенева речь идет о примирении ге
роя с богом. Другой крупный представитель демократи
ческого лагеря, Н. В . Шелгунов, высказал свое мнение
по этому вопросу "(в статье «Люди сороковых и шести
десятых годов») в недвусмысленно конкретной форме:
«... г . Тургеневу ничего не стоило заставить Базарова
перед смертью причаститься, однако он этого не сде
лал».
17
В журнале «Сын отечества» о Базарове также
говорилось, что он «умер, поразив отца с матерью двой
ной скорбью. Несмотря на все увещания отца, он не ис
полнил христианского долга».
18
Находя прикровенно
атеистический элемент в описаниях последних часов
жизни Базарова и прозрачно намекая на это обстоя
тельство, критик «Сына отечества» писал: «Наконец,
нам странно и то: зачем романисту нужно было выстав
лять Базарова причащающимся или не причащаю
щимся? Знаете ли, этот вопрос как-то щекотлив и...
неловок».
19
Нетрудно догадаться, что этот вопрос ще
котлив и неловок для критика потому, что исчерпывающе
откровенный и объективный ответ на него противоре
чил бы официозной христианской этике, имевшей силу
закона. Отношения героя романа к религии он касается
лишь вскользь, боясь скомпрометировать автора.
Можно было бы привести и другие, не менее харак
терные, свидетельства в пользу последовательного
атеизма Базарова, например из книги М. А. Авдеева
«Наше общество в героях и героинях литературы»
(СПб., 1874), о которой Тургенев отзывался положи-
16
Д. И . Писарев. Соч. в 4 томах, т. И . Гослитиздат, М.,
1955, стр. 45—46.
17
«Дело», 1869, ноябрь, отдел «Современное обозрение», стр. 49.
18
«Сын отечества», 1862, No XIII, 1 апреля, стр. 307.
19
Там же, No XIV, 8 апреля, стр. 336.
56
тельно, а также из статей критиков, питавших вражду
к демократии и потому с особенным рвением изощряв
шихся в нападках на Базарова. Но лучше всего, ко
нечно, обратиться за доказательствами к самому роману.
(.Скупыми, но отчетливыми штрихами, с помощью
беглых реплик и намеков Тургенев обрисовывает цель
ный образ атеиста, в закоренелом равнодушии которого
к религии сомневаться не приходится^
Со .своими родителями Базаров находится в состоя
нии мирного, если можно так выразиться, конфликта
на почве различного отношения к религии. Василий
Иванович и его жена терпеливо и робко переносят не
верие сына, а тот нередко подтрунивает над религиоз
ными предрассудками родителей. В гл. XX, «прощаясь
с матерью, он поцеловал ее в лоб, — а она обняла его и
за спиной, украдкой, его благословила трижды». В сле
дующей главе отец просит у сына извинения за то, что
тайком отслужили молебен по случаю его приезда.
В той же главе священник «первый поспешил пожать
руку Аркадию и Базарову, как бы понимая заранее, что
они не нуждаются в его благословении». В гл. XXVII
суеверная Арина Власьевна хочет надеть сыну «ладонку
на шею» и тут же сокрушается: «... да ведь он не поз
волит». Там же, узнав, что отец ходил к заутрене, Ба
заров грубовато острит: «Ну, это дело девятое!» Когда
Базаров убеждается в неизбежности смертельного ис
хода своей болезни, в его советах отцу, совершенно по
терявшему голову от горя, продолжает звучать явная из
девка над религией, хладнокровно-презрительная насмеш
ка над «всемогуществом» бога. «Вы оба с матерью должны
теперь воспользоваться тем, что в вас религия сильна, —
замечает он, — вот вам случай поставить ее на пробу».
И далее, в том же духе: «Ну, коли христианство не по
могает, будь философом, стоиком, что ли!» И наконец,
о той сцене, которая подала повод для процитирован
ного выше заключения из статьи М. К . Азадовского.
Сцену эту, ввиду ее особой важности, приводим почти
полностью.
Отец просит Базарова причаститься перед смертью:
«... утешь нас с матерью, исполни долг христианина!...
ведь навек, Евгений... ты подумай, каково-то. . . по лицу
его сына, хотя он и продолжал лежать с закрытыми гла
зами, проползло что-то странное.
57
— Я не отказываюсь, если это может «вас утешить, —
промолвил он наконец: — но мне кажется, спешить еще
не к чему. Ты сам говоришь, что мне лучше.
—-
Лучше, Евгений, лучше; но кто знает, ведь это
все в божьей воле, а исполнивши долг...
—
Нет, я подожду... А если мы с тобой ошиблись,
что ж! ведь и беспамятных причащают.
— Помилуй, Евгений...
—
Я подожду. А теперь я хочу спать».
Таким образом, о капитуляции Базарова перед рели
гией вряд ли можно говорить всерьез. Базаров поступает
в данном случае как человек твердый и в то же время
дёгакатный, умеющий, когда это необходимо, отнестись
с^чутким пониманием к вере другого человека. Только
поэтому в разговоре с отцом он не отказывается от при
частия резко и безоговорочно. Но в конечном итоге он
все-таки отказывается, и вся история кончается тем, что
традиционный религиозный обряд совершается над ним
помимо его воли, когда он находится в бессознательном
состоянии.
Согласие с мыслью о примирении Базарова с «небом»
равносильно игнорированию первоначальных, глубин
ных истоков авторского замысла, построения и ос
мысления этого характера в свете его отношения к ре
лигии. Разночинная демократия 1860-х годов в массе
своей отличалась подчеркнутым отсутствием религиоз
ности. Атеизм был для нее одной из форм отрицания
существующего строя, и Тургенев, как художник-реа
лист, конечно, учитывал это обстоятельство. ^Однако рас
сматривать замысел образа Базарова только как резуль
тат наблюдений и выводов, связанных исключительно
с действительностью 1860-х годов, было бы не совсем
верно,) На этом замысле не мог не отразиться тот по
истине огромный запас общей культуры и знаний, ко-
торыи^был накоплен Тургеневым к этому времени. Этот
источник "замысла почти не изучен; между тем в данном
случае он приобретает особенно важное значение.
Отрицание основных догматов религии, специфиче
ское отношение к природе, жизни и смерти, отливаю
щееся впоследствии в знаменитую, а для многих крити
ков-современников и одиозную формулу о человеческом
ничтожестве, — все
эти компоненты базаровского фи
лософского видения мира, во многом созвучные фило-
58
•^
софским убеждениям самого_ ^Тургенева, начали сла
гаться в творческом сознании писателя приблизительно
в 1847 — 1848 ггм т. е . задолго...до. его., знакомства с реаль
ными разночинцами-демократами. Первый абрис База
рова-философа, нигилиста в вопросах веры, намечается
в обобщающе критических суждениях Тургенева о дра
матургии Кальдерона. Будущий автор «Отцов и детей»
потрясен «мощью», «В'еличием», «непоколебимой верой»,
пронизывающей художественное утверждение религиоз
ных начал в произведениях испанского драматурга, од
нако именно эти начала он отвергает, опираясь в пер
вую очередь на самого человечного, самого антихри
стианского поэта» Шекспира и материалистическую
философию Фейербаха^ По словам Тургенева, основная
идея «Поклонения кресту», одной из лучших драм Каль
дерона, — «это уничижение всего, что составляет до
стоинство человека перед божественною волею, безраз
личие, с каким благодать снисходит на своего избран
ника, ко всему, что мы называем добродетелью или
пороком...»
Заключительные
сцены
«Поклонения
кресту», в которых это «уничижение» наиболее очевидно,
в философской интерпретации Тургенева получают оп
ределенно фейербахианскую окраску. «Ведь это еще
новое торжество для человеческого разума, — воскли
цает он, ^- потому что существо, столь отважно провоз
глашающее свое собственное ничтожество, тем самым
возвышается до равенства с этим фантастическим боже
ством. ..» Человек признает себя «игралищем» этого бо
жества, а между тем, продолжает Тургенев, снова почти
цитируя Фейербаха,
«оно само создание его рук»
(I, 449).
20
\]3 своеиикрил'ике, _Кальдарона_Тургенев^.опирается на
Фейербаха, Шекспира и многих.. друхих_художников и
мы^^гателей древности^ и нового_ Bp^vieHH_j(3cxH^a1_jreTe,
Байрона,
-
быть может, Лермонтова и Жорж Санд), так
или иначе затрагивавших в своем творчестве тему бунта
20
В связи с этим достаточно напомнить одно из многочис
ленных авторских пояснений к «Сущности христианства»:
«Ф<ейербах> поставил себе в своей книге задачей свести бога
или религию к ее человеческому источнику и тем самым теоре
тически и практически упразднить ее в человеке» (см.: Людвиг
Фейербах. Избранные философские произведения, т. П . М.,
1955, стр. 410).
59
яркой личности против устоев мироздания. (^«Я предпо
читаю Прометея, — заявляет Тургенев, — предпочитаю
Сатану, тип возмущения и индивидуальности. Какой бы
я ни был атом, я сам себе владыка; я хочу истины, а не
спасения; я чаю его от своего ума, а не от благодати»
(там же).
Религия здесь гордо отвергается, но взлелеянная ею
и философией идея о человеческом ничтожестве ос
тается, контрастно трансформируясь затем в одну из важ
нейших проблем, возникающих уже перед беспокойным
атеистическим сознанием. Человек, наделенный этим
сознанием, сомневается во всем, кроме разума, и не же
лает признать всемогущества другого, на этот раз реаль
ного в своем безразличии к нему «божества» — природы.
^Суждения Тургенева о творчестве Кальдерона — это
первая, но пока еще только чисто теоретическая предпо
сылка философии, которая потом во многом предопреде
лит высказывания и переживания Базарова^ конкрет
ное дке, эмоционально-образное и отчасти сюжетно-фа-
бульное ее выражение формируется попутно (правда,
пока лишь в качестве почти бессознательной художест
венной «заготовки» впрок) под ощутимым противоре
чивым воздействием сочинений другого философа-ка
толика, жившего приблизительно в одно время с Каль-
дероном, (jto не отличавшегося свойственным ему
фанатически суровым пренебрежением к земной участи
отдельного человека. ;Можно утверждать, что образ Ба
зарова-атеиста навеян "в известной мере философскими
концепциями Б. Паскаля, замечательного французского
математика, физика и философа XVII века, человека
разносторонне и щедро одаренного, ученого, обладавшего
незаурядным литературным дарованием, автора «Писем
к провинциалу» и всемирно известных «Мыслей».
Кальдерон отталкивал Тургенева безжалостным ре
лигиозным аскетизмом, между тем в философии более
земного и человечного Паскаля были элементы, явно
созвучные настроениям писателя, окончательно опреде
лившимся в последующие годы его жизни. Тургеневу
были родственны по духу подкупающе искренние, пе
чальные философские размышления Паскаля о чело
веке, о краткости, мгновенности его бытия по сравнению
с «вечностью», о месте и положении человека — ни
чтожно малой величины, «атома» — в безграничной все-
60
ленной. Другая сторона философии Паскаля, получив
шей преимущественное развитие во второй половине его
жизни, проникнутой смирением перед богом и типич
ными для верующего упованиями на загробную жизнь,
никогда не вызывала у него сочувствия. Это_двоякое
отношение к философии Паскаля четко определилось
у Тургенева в 1840-е годы и нашло потом отражение
в его творчестве, особенно в романе «Отцы и дети».
30 апреля 1848 года Тургенев писал Полине Виардо:
«Жизнь — это красноватая искорка в мрачном и немом
океане Вечности, это — единственное мгновение, кото
рое «нам
1
принадлежитит.д.ит.д.ит.д.,этовсеиз
бито, а между тем это верно... Что я делал вчера,
в субботу? Я читал книгу, о которой часто отзывался
с большой похвалой, каюсь, не зная ее. „Провинциаль
ные письма" Паскаля. Это вещь прекрасная во всех от
ношениях. Здравый смысл, красноречие, комическая
жилка — всё здесь есть. А между тем это произведение
раба, раба католицизма...» (I, 458). Через два дня Тур
генев совершает одинокую лесную прогулку. Примеча
тельно, что в его отчете об испытанных при этом
впечатлениях снова очень явственно слышатся интимно-
философские и антикатолические интонации, характер
ные для его размышлений во время чтения «Провин
циальных писем». Паскаль и здесь явно окрашивает
переживания Тургенева. «Я без волнения не мргу ви
деть, — признается он, — как ветка, покрытая молодыми
зеленеющими листьями, отчетливо вырисовывается на
голубом небе — -почему? Да, почему? По причине ли
контраста между этой маленькой живой веточкой, ко
леблющейся от малейшего дуновения, которую я могу
сломать, которая должна умереть, но которую какая-то
великодушная сила оживляет и окрашивает, и этой веч
ной и пустой беспредельностью, этим небом, которое
только благодаря земле сине и лучезарно? ..» И далее:
«Я не выношу неба, — но жизнь, действительность, ее
капризы, ее случайности, ее привычки, ее мимолетную
красоту... всё это я обожаю... Я предпочту созерцать
торопливые движения утки, которая влажною лапкой
чешет себе затылок на краю лужи, или длинные блестя
щие капли воды, медленно падающие с морды непод
вижной коровы, только что напившейся в пруду, куда
она вошла по колено, — всему тому, что херувимы (эти
61
прославленные парящие лики) могут увидеть в небе
сах. ..» (I, 459—460; см. также стр. 458 и 587).
Однако далеко не все, о чем говорится здесь и выше,
связано целиком с «Провинциальными письмами». На
строение, определяющее начало отзыва о Паскале,
а также философско-лирический пассаж о «маленькой
живой веточке» и окружающей ее «пустой беспредель
ности» навеяны знаменитыми «Pensees», к которым впо
следствии Тургенев обращается неоднократно.
В 1862 году он пишет графине Ламберт: «Будем
пользоваться тем невеселым фактом, что мы вообще по
пали на нашу планету — но попали в одно время —
и не выпустим друг друга из вида: помощь всякому нужна
и от всякого — и с первого до последнего дня жизни...»
(V, 70). Через два года эта же мысль выражается
в письме Тургенева к Фету, но уже с прямыми и точными
ссылками на Паскаля: «... не следует двум приятелям
жить в одно и то же время на земном шаре и не подавать
друг другу хоть изредка руку. Вы только обратите внима
ние на следующий рисунок:
вечность
а
вечность...
Точка «а» представляет то кратчайшее мгновенье —
се raccourci d'atome, как говорит Паскаль — в теченье
которого мы живем;—еще мгновенье — и поглотит нас
навсегда немая глубина нихтзейн'а... Как же не вос
пользоваться этой точкой?» (V, 245—246). Паскалева
точка в данном случае — это все та же, затерянная в не
объятных просторах вселенной, «красноватая и окорока»
человеческой жизни, о которой, и восхищаясь Паскалем,
и осуждая его, Тургенев писал П. Виардо.
В «Отцах и детях» имя Паскаля не упоминается, но
некоторые поступки, настроения и высказывания глав
ного героя этого романа звучат определенно в унисон
с его философией. Следует особо отметить, что это от
носится прежде всего к размышлениям Базарова
в гл. XXI, которые были охарактеризованы в свое время
как результат прямого исключительного воздействия на
Тургенева со стороны Шопенгауэра.
21
Между тем суще
ство и форма выражения их настолько близки «Мыс-
21
И. И . Веке л ер. И. С . Тургенев и политическая борьба
шестидесятых годов, стр. 31.
62
Лям>>, что невольно возникает предположение о прикро-
венном цитировании этой книги в романе. В самом деле:
Паскаль
Я вижу эти ужасающие про
странства вселенной, которые за
ключают меня в себе, я чувствую
себя привязанным к одному уголку
этого обширного мира, не зная, по
чему я помещен именно в этом,
а не другом месте, почему то ко*
роткое время, которое дано мне
жить, назначено мне именно в этом,
а не в другом пункте целой веч
ности, которая мне предшествовала
и которая за мной следует. Я вижу
со всех сторон только бесконеч
ности, которые заключают меня
в себе как атом; я как тень, кото
рая продолжается только Момент и
никогда не возвращается. Все, что
я сознаю, это только то, что я дол
жен скоро умереть...
22
Тургенев
Узенькое местечко, ко
торое я занимаю, до того
крохотно в сравнении с ос
тальным пространством, где
меня нет и где дела до
меня нет; и часть вре
мени, которую мне удастся
прожить, так ничтожна пе
ред вечностию, где меня
не было и не будет...
А в этом атоме, в этой ма
тематической точке кровь
обращается, мозг работает,
чего-то хочет тоже... Что
за безобразие! Что за пу
стяки!
Этим размышлениям Базарова придается трагически-
бунтарская тональность, усиливающаяся по мере прибли
жения романа к концу. Ими усугубляется скепсис База-
рова, граничащий с отка5ШГот~ЗЁTMвной общественно-
политической деятельности.. Ими в какой-то 'степени
предопределены также и его безотрадные раздумья
6 своей ненужности для России — несмотря на очевидную
зависимость этих раздумий от таких конкретных соци
ально-исторических обстоятельств, как неподготовленность
народа к революции, как равнодушие темной крестьян
ской массы к целям и задачам разночинно-демократиче-
ской пропаганды. Отсюда сомнение Базарова в перспек
тивности всех своих начинаний. Дело не столько в том,
что Филипп или Сидор, возможно, не скажут ему спасибо
22
Блез Паскаль. Мысли. С предисл. Прево-Парадоля. Пер.
П. Д . Первова. СПб., 1888, стр. 32. — Перевод П. Д . Первова очень
точен. Ср. с французским оригиналом: Pensees da Pascal publiees
dans leur texte authentique avec un commentaire suivi et une etude
litteraire par Ernest Havet. Paris, 1852, p. 136. В дальнейшем все
цитаты из Паскаля даются в этом переводе, предварительно све
ряемом, в каждом конкретном случае, с французским оригина
лом. Ссылки на русский перевод приводятся в тексте сокращенно:
«Мысли».
63
за отвоеванную для них «белую избу», сколько в том,
что ^сознание неотвратимости смерти обессмысливает, по
убеждению Базарова, даже успешные социальные пре
образования}
Специфически философская обусловленность этих на
строений бегло подчеркивалась уже современниками Тур
генева. Так, возвращаясь к эпохе шестидесятых годов,
автор одной анонимной статьи о «Нови» резонно заметил:
«Отрицательное направление мысли, зародившееся в те
годы, рельефно выдается в Базарове, но в общественном
смысле он "являет из себя какую-то созерцательную фи-
Г
УРУ» отвлеченного философа, которому нет дела до прак
тических нужд и задач времени».
23
Базаров не боится
смерти, но мысль о ней для него — это тупик, из которого
нет выхода. «Ну, будет он, — говорит Базаров о му
жике, — жить в белой избе, а из меня лопух расти бу
дет; — ну, а дальше?» В конце концов настроение База
рова облекается в формулу, характерную сочетанием
мужества и безнадежности: «Старая штука смерть, а каж
дому внове».
Благодаря философии Паскаля (в дальнейшем мы
увидим, что,~ конечно, не только благодаря ей, однако
в^пеуэвую Р-З&Редь...допытаемся определить в творчестве
Тургеневе важнейшие точки соприкосновения именно
с нею) конкретно-историческое начало в мировоззрении
Базарова, тесно связанное с русской "действительностью
186Т£х^одов7 органически переплетается с началом обще
человеческим, с'«вечными» проблемами жизни и смерти,
неизбежными для людей во все времена человеческой
истории. Недаром Аркадий, выслушав эту маленькую,
но многозначительную исповедь Базарова, замечает:
«... то, что ты говоришь, применяется вообще ко всем
людям...»
Иногда следы влияния идей Паскаля на строй база-
ровской мысли обнаруживаются в самых неожиданных
местах, там, где, казалось бы, герою вовсе не до филосо
фии, например после неудачного объяснения с Одинцовой.
По дороге в отцовскую деревеньку Базаров говорит Ар
кадию с раздражением: «Черт знает, что за вздор! Каж
дый человек на ниточке висит, бездна ежеминутно под
23
Новый роман И. С. Тургенева. «С.- Петербургские ведомости»,
1877, No 6, б (18) января, стр. 1.
64
ним разверзнуться может, а он еще сам придумывает
себе всякие неприятности, портит свою жизнь». Несмотря
на сниженно бытовое, грубоватое звучание этой сентен
ции, она перекликается с философским положением
Паскаля о человеке и двух бесконечностях. «Кто рассмот
рит себя с этой точки зрения, — писал Паскаль, — тот
ужаснется самого себя; он увидит, что только материаль
ная оболочка, которую дала ему природа, поддерживает
его в висячем положении между двумя пропастями,
между бесконечностью и отсутствием бытия...» («Мысли»,
стр. 38; ср. с французским оригиналом, стр. 7, 8).
С проблемою «человек и вечность», «человек и все
ленная» тесно связаны в философии Паскаля размышле
ния о человеческом ничтожестве. Такая же картина на
блюдается и в творчестве Тургенева. Очень характерно
в этом отношении начало рассказа «Поездка в Полесье»:
«... проникает в сердце людское сознание нашей ничтож
ности. Трудно человеку, существу единого дня, вчера
рожденному и уже сегодня обреченному смерти, трудно
ему выносить холодный, безучастно устремленный на него
взгляд вечной Изиды... вся душа его никнет и замирает;
он чувствует, что последний из его братии может исчез
нуть с лица земли — и ни одна игла не дрогнет на этих
ветвях; он чувствует свое одиночество, свою слабость,
свою случайность — и с торопливым, тайным испугом об
ращается он к мелким заботам и трудам жизни; ему
легче в этом мире, им самим созданном, здесь он дома,
здесь он смеет еще верить в свое значенье и в свою
силу».
Одна из особенностей «Поездки в Полесье» — развер-
' нутая характеристика переживаний героя в условиях от
решенности от забот и развлечений внешнего мира,
в уединении. Именно эти условия вызывают у него со
средоточенное ощущение близости смерти, порождают
мысль о равнодушном могуществе и безучастии природы
к своему «случайному» и «ничтожному» созданию — че -
( ловеку. Важно отметить, что в философии Паскаля воз
никновение у человека мыслей о собственном ничтоже
стве мотивировано теми же причинами. Он говорит о том,
что «людей с детства обременяют заботою об их счастии...
им дают обязанности и дела, которые мучат их целый
день с рассвета... стоит отнять у них все эти заботы:
тогда они увидели бы себя, задумались бы над тем, что
5 А. Батюто
65
они такое, откуда пришли и куда пойдут...» («Мысли»,
стр. 68).[Стоит человеку надолго остаться в одиночестве,
и он неизбежно начинает размышлять о своем природном
«несчастном положении»^/ «... мы слабы и смертны,
мы столь жалки, что ничто не может нас утешить, когда
мы станем ближе вдумываться в наше положение»
(«Мысли», стр. 69). «Отсюда происходит, — замечает
Паскаль, — что люди так любят шум и движение; отсюда
происходит, что тюрьма служит таким ужасным наказа
нием; отсюда происходит, что прелесть уединения для
них служит непостижимою вещью» («Мысли», стр. 70).
Выход из этого печального состояния тот же, что и у тур
геневского героя, — бегство в сутолоку повседневной
жизни, «которая нас отвращает от мысли о нашем не
счастном положении и развлекает нас» («Мысли»,
стр. 70).
Когда роман «Отцы и дети» появился в печати, кри
тик «Отечественных записок» в статье «Принципы и ощу
щения» писал с негодованием: «...жить с людьми нельзя
без принципов... Как же жить? Для этого нужно их лю
бить, а не презирать, как ничтожество, которое смердит;
нужно уважать людей, а не отрицать их».
24
Определяя
таким образом поведение Базарова, критик полагал, что
он раскрывает подлинную точку зрения Тургенева на это
лицо. В действительности дело обстояло совсем иначе.
После слов: «Что за безобразие! Что за пустяки!», заклю
чающих рассуждение о краткости человеческого бытия,
Базаров говорит: «Я хотел сказать, что они вот, мои
родители то есть, заняты и не беспокоятся о собственном
ничтожестве, оно им не смердит... а я. .. я чувствую
только скуку да злость». На самом деле здесь речь идет
не о презрении к людям, а о мятежных настроениях
самобытно мыслящей индивидуальности, протестующей
против стихийных законов природы. Перед лицом этих
законов она сознает себя то песчинкой, то атомом, то
«червяком полураздавленным», но не желает примиряться
с таким горьким уделом. Тургенев относится с сочув
ственным пониманием к этому свойству базаровского ха
рактера, потому что многое из того, о чем думает Базаров,
ему по-настоящему близко. Уже в сороковые годы в жиз-
24
«Отечественные записки», 1862, март, отдел «Современная
хроника», стр. 119.
66
нерадостных, полных любви и молодости письмах Турге
нева к П. Виардо нет-нет да и встречаются безотрадные
мысли, которые впоследствии передадутся многим персо
нажам его художественных произведений. «Да, она та
кова: она равнодушна, — пишет Тургенев о природе
в 1849 году, — душа есть только в нас, и, может быть,
немного вокруг нас... Это слабое сияние, которое древняя
ночь вечно стремится поглотить...» Тургенев признает,
что «это не мешает негодяйке-природе быть восхити
тельно прекрасной», но даже в этом ее волшебно-измен
чивом и обаятельном облике он зорко подмечает черты
ее устрашающей внутренней сути. Свой коротенький
экскурс в область равнодушной природы и ее безжалост
ных законов Тургенев заканчивает словами: «Соловей
может доставлять нам чудные восторги, в то время как
какое-нибудь несчастное полураздавленное насекомое
мучительно умирает у него в зобу. Проклятие, как это
мрачно!» (I, 470).
^Гдма человеческого ничтожества разрабатывается
в «Мыслях» Паскаля в различных аспектах, и для вы
яснения отношения Тургенева к Базарову "очень важное
значение имеет учет всей совокупности суждений Паскаля
по этому вопросу. Паскаль подчеркивал не только сла
бость, ТйНиГ'сйлу человека перед лицом природы, что
нашло выражение в его крылатом афоризме: человек —
это_ мыслящий тростников ряде мест своей книги раз
мышления человека о собственном ничтожестве Паскаль
ставит в прямую зависимость от развития в нем мысли
тельной способности, разума. Чем выше эта способность,
тем неизбежнее подобные размышления. «Главное вели
чие человека заключается в том, что он сознает себя
ничтожным, — пишет Паскаль. — Дерево не сознает себя
ничтожным. Сознавать себя ничтожным значит быть
ничтожным; но, с другой стороны, сознавать, что я ни
чтожен, значит быть великим. Сознание этого самого ни
чтожества и доказывает величие. Это ничтожество владыки,
ничтожество короля, лишившегося власти» («Мысли»,
стр. 45). А вот что писал о человеке Тургенев (в отрывке
«Довольно»): «Ему одному дано „творить"... но странно
и страшно вымолвить: мы творцы... на час.. . В этом
наше преимущество — и наше проклятие: каждый из
этих „творцов" сам по себе, именно он, не кто другой,
именно это я, словно создан с преднамерением, с пред-
5*
67
начертанием; каждый более или менее смутно понимает
свое значение, чувствует, что он сродни чему-то высшему>
вечному, — и живет, должен жить в мгновеньи для мгно
венья. .. Величайшие из нас — именно те, которые глубже
всех других сознают это коренное противоречие...» Это)
заключение Тургенева можно считать философским ком-j
ментарием поведения Базарова, зачастую проникнутого/
тем же настроением.
Итак, базаровские размышления о жизни и смерти,
о вечности и человеческом ничтожестве близки авторским
раздумьям, а через автора — мыслям Паскаля. По мне
нию Паскаля, мысли о собственном ничтожестве — при
знак величия человека, по мнению Тургенева — тоже,
ибо людей, обостренно чутко реагирующих на «коренное
противоречие» между человеком и природой, раскрывае
мое "в' «Отцах и детях» и в «Довольно», писатель считает
«величайшими из нас». <J3 этом одна из существенных
основ замысла и разработки характера Базарова-' Таким об
разом, \ в данном "случае философски подтверждаются и в из
вестной мере конкретизируются многочисленные заявления
автора о своем герое как личности, выходящей далеко за
пределы обычной человеческой положительной нормы.
В 1862 году, получив от Достоевского отзыв об «Отцах
и детях», к сожалению, не сохранившийся, Тургенев пи
сал ему: «Вы до того полно и тонко схватили то, что я хо
тел выразить Базаровым, что я только руки расставлял
от изумленья — и удовольствия. Точно Вы в душу мне
вошли и почувствовали даже то, что я не счел нужным
вымолвить» (IV, 358). Не потому ли Тургенев так востор
женно встретил отзыв Достоевского, что в нем была уга
дана именно эта особенность замысла характера Базарова?
Разумеется, утверждать это категорически нет никакой
возможности, но в принципе такое предположение не ли
шено оснований. Дело в том, что в позднейших высказы
ваниях Достоевского, по-видимому не противоречащих
его первоначальному впечатлению от романа, выражен
ному в не дошедшем до нас письме, есть такие строки
о Тургеневе и его герое: «Ну, и досталось же ему за
Базарова, беспокойного и тоскующего Базарова (признак
великого сердца), несмотря на весь его нигилизм».
25
Как
25
Ф.М.Досто евский, Собр. соч. в 10томах, т. IV.Гос
литиздат, М., 1956, стр. 79.
68
видим, Базаров велик и по мнению Достоевского. При
знаки его величия, указываемые Достоевским, — тоска
и беспокойство, — это, конечно, следствие глубокой не
удовлетворённости неустроенностью и несовершеством
окружающей действительности, следствие разлада с нею.
В дальнейшем Достоевский как бы продолжит анализ
души и характера «нигилиста», впервые предпринятый
в романе «Отцы и дети», и в поведении своего Родиона
Раскольникова обнаружит и подчеркнет (правда, с пре
имущественным уклоном в область социологии, а не фи
лософии) те же признаки «великого сердца».
26
Вывод о величии Базарова, возникающий при сопо
ставлении некоторых идей романа с философией Паскаля,
очень важен, но он не единственный и даже не самый
значительный.
В своих «Pensees» Паскаль часто обращается к теме
«вечность и человек», однако далеко не случайно jpac-
суждения Базарова на эту тему в гл. XXI романа пора
зительно близки тем страницам книги Паскаля, на ко
торых аналогичные мысли высказываются не от лица
автора, а вкладываются в уста атеиста, утрачивающего,
вследствие неверия в бога, интерес ко всем мировым цен
ностям и цинически отрицающего смысл человеческого
бытия. Паскаль мучительно искал утешения в вере и на
этом пути, естественно, не мог не заявить о своем неприя
тии атеизма.. За приведенным выше рассуждением атеиста
в «Pensees» следует авторская ремарка: «...кто не при
шел бы в ужас, увидевши себя солидарным в чувствах
с такими презренными людьми?» И далее: «... ничто
не указывает больше на испорченность сердца, как неже
лание убедиться в непреложности обещания вечности...»
(«Мысли», стр. 35). Таких ремарок в книге Паскаля
много; зачастую они облекаются в подчеркнуто дидакти
ческую, нравоучительную форму, например: «Я также
не вечен и не бесконечен; но я хорошо вижу, что в при
роде есть существо необходимое, вечное и бесконечное»
(«Мысли», стр. 49). Жизнь человеческая, по Паскалю,
трагична, и единственное утешение в ней для верую
щего — неустанное обращение к религии, а для атеиста —
26
См.: Г. А. Бялый. О психологической манере Тургенева
(Тургенев и Достоевский). «Русская литература», 1968, No 4,
стр. 41 —45.
69
примирение с богом/ Паскаль недвусмысленно указывает-
на этот выход в своей книге: «Без Иисуса Христа человек;
по необходимости был бы в пороке и ничтожестве; с Иису
сом Христом человек изъят из порока и ничтожества...
Вне его есть только порок, ничтожество, заблуждения,
мрак, смерть, отчаяние» («Мысли», стр. 191).
ЛГак глубокие размышления Паскаля о человеке, его
назначении и месте в природе обернулись в конце концов
капитуляцией перед религией.._ уСтрастный и беспощадный:
обличитель иезуитов в «Провинциальных письмах»,
Паскаль все-таки склоняется перед церковью не только^
в этом произведении, но и в «Pensees». Как отмечено*
выше, именно за это Тургенев в 1840-е годы назвал;
Паскаля «рабом католицизма». В сущности, то же самое,
только в еще более резкой форме, Тургенев сказал
о Паскале на склоне лет. В письме к П. В. Анненкову
от 22 ноября/4 декабря 1877 года (см. приписку Турге
нева к этому письму, датированную следующим днем),,
делясь своими впечатлениями от жизни во Франции,,
Тургенев отмечал с очевидным сарказмом: «Традиции^
иезуитов и традиции империи слились в одно прекрасное,
целое. Можно им сказать, как некогда Pascal: Mentiris
impudentiesime!»
27
Но тот же Pascal потом целовал:
у иезуитов ручку» (XII, 235).
{В противоположность Паскалю Тургенев не судит
своего отрицателя Базарова за нигилизм в вопросах веры,
не пытается спасти его от «мрака и отчаяния», якобы ;
порождаемых атеизмом^ Больше того. Концепция образа
Базарова объективно направлена против конечных ре
лигиозных выводов философии Паскаля. Так, например,
Паскаль вопрошал осуждающе: «Неужели
1
это мужество,
если умирающий человек станет, среди слабости и аго
нии, вооружаться против бога, всемогущего и вечного?»
(«Мысли», стр. 223). Сценами смерти Базарова Тургенев
отвечает на этот вопрос утвердительно: да, мужество,
и незаурядное. Базаров знает, что со смертью перед ним
наглухо и навсегда захлопывается дверь в живой мир.
Пытаясь представить себе смерть, он видит «какое-то
пятно... и больше ничего» и — не только не обращается
в страхе и смятении к богу, этой последней надежде.
27
Бесстыднейшая ложь! (лат,).
верующих, но смеется над ним («Ну, коли христианство
не помогает...» и т. п.).
Объективно полемичен по отношению к__ философии
Паскаля и~эпилог «Отцов и детей». Паскаль призывал
атеистов к примирению ~с богом. ЕПна могиле, в которой
скрылось «страстное, грешное, бунтующее сердце» атеиста
Базарова, цветы говорят о «вечном примирении», но это
примирение (через смерть) только с «равнодушной»
природой, которую Базаров, как и Тургенев, несмотря
на протест против ее жестоких законов, все-таки любит
большой любовью.
О каком-либо другом примирении — с обществом, бо
гом и т. п. — в эпилоге «Отцов и детей» нет, да и не могло
быть, речи. Отсутствие такого примирения в «Отцах и де-
4
тях» как бы предсказывается и мотивируется Тургеневым!
еще в 1845 году — в его философско-критическом анализе
гетевского «Фауста». В рецензии на русский перевод,
этой трагедии он замечает: «... люди, по-видимому, не мо
гут жить без „примирения жизненных противоречий",
и их требования действительно были бы достойны ува
жения, если бы они не „примирялись" пока... на пустя
ках». Такова тургеневская принципиальная, — и безус
ловно иронически-пренебрежительная, добавим мы, —
трактовка примирения в сфере земной, человеческой,
общественой. Недаром же по поводу сочиненного Гете
примирения Фауста во второй части трагедии Тургенев
восклицает: «... но как бедно и пошло придуманное им
„примирение"!..»
«Гете в одном только отношении
остался верен своей натуре, — продолжает Тургенев, —
он не заставил Фауста искать блажёства вне человеческой
сферы...» Это — о примирении на религиозной основе.
И наконец, обобщающее суждение о примирении в той
и другой сферах: «Всякое „примирение" Фауста вне
сферы человеческой действительности — неестественно,
а о другом примирении мы пока можем только мечтать...
Нам скажут: такое заключение безотрадно; но, во-первых,
мы хлопочем не о приятности, а об истине наших воззре
ний. .. Нас не испугает отсутствие „примирения", о ко
тором мы говорили выше; мы — как народ юный и силь
ный, который верит и имеет право верить в свое буду
щее, — не очень -то хлопочем об округлении и завершении
нашей жизни и нашего искусства...» (Соч.,
I, 237,
238, 240).
71
Природа всесильна и вечна, но чувства и МЫСЛИ, вол
новавшие Базарова, тоже вечны. Свойственные, по убеж
дению Тургенева, всему роду человеческому в прошлом,
настоящем и будущем, они постоянно возрождаются в но
вых индивидуальностях, в новых поколениях, приходя
щих на смену ушедшим. Поэтому закономерно появление
в эпилоге романа столь любимого Тургеневым пушкин
ского определения природы — «равнодушная»«[Оно удачно
подчеркивает философско-элегический, быть может, от
части пантеистический, но отнюдь не религиозный, не
мистический характер эпилога.
28
Таково значение и происхождение мотивов «вечного
примирения» и «жизни бесконечной» в эпилоге романе
иОтцы и дети».
Сцены смерти Базарова и эпилог романа возникали
в творческом сознании писателя под сложным воздей
ствием философских построений Паскаля. Композиция
этих сцен в целом идейно противостоит философии
Паскаля, однако некоторые элементы ее воспринимаются
как образное воплощение отдельных близких Тургеневу
мыслей философа.
В том, что Базаров умирает, сказывается неверие Тур
генева в успех революционного дела, однако на том, как
умирает Базаров, лежит отпечаток иных особенностей '
мировоззрения писателя, вовсе не обязательно связанных
с его конкретными политическими убеждениями.
Трудно отрицать суровое благородство и красоту
смерти Базарова. Она возвышенна, потому что герой
умирает с достоинством. £)на неотвратима, как рок, и Ба
заров знает об этом. (Благодаря _этому конец романа на
поминает финалы ^ятжчяых_т^тё^ш3
увенчивающие
свершение великих событий или столкновение грандиоз
ных страстей. Вместе с тем смерть героя неожиданна,
случайна до нелепости и происходит от обидно ничтожной
28
В связи с «пантеизмом» Тургенева нам представляется вер
ным замечание А. Ф. Кони. «В „Стихотворениях в прозе" и в по
следних строках „Отцов и детей", — пишет он в одной из своих
статей, — мелькают намеки на пантеизм автора; но и этот взгляд
на слияние с природой, при котором смерть не уничтожает со
ставных частей, а лишь разрешает их от прежнего единства, давая
им существовать при иных условиях, нигде не выражен им с твер
дой определенностью» (см.: А. Ф . Кони. Собр. соч. Т . VI. Статьи
и воспоминания о русских литераторах. М ., 1968, стр. 360).
72
причины. Базаров умирает не на баррикаде, как Рудин,
не на пути к свершению великих подвигов во имя осво
бождения родины, как Инсаров, не в борьбе с непреодо
лимыми: жизненными препятствиями и даже не на дуэли,
хотя и она есть в романе. Пореза пальца оказывается
вполне достаточно, чтобы почти молниеносно сокрушить,
превращая в ничто, человека большого ума и воли, стой
кого и сильного., В таком контрастном сочетании проти
воречивых деталей и положений, создающих,__однакр,
стройное и единое впечатление, чувствуется присутствие
какой-то особой руководящей идеи. Она состоит в том,
что в романе смерть конкретного „разночинца Базарова
изображается как смерть человека вообще, жизнь кото
рого ежеминутно находится во власти _ капризов всемо
гущей'"стихии.
Изображение смерти Базарова имеет несомненно об
щие черты с философской концепцией смерти человека
в «Pensees» Паскаля. «Незачем целой вселенной опол
чаться, чтобы его раздавить, — говорит Паскаль о чело
веке. — Пара, капли воды достаточно, чтобы его умерт
вить. Но если бы даже вселенная раздавила его, человек
был бы еще более благороден, чем то, что его убивает;
потому что он знает, что он умирает; а вселенная ничего
не знает о том преимуществе, которое она имеет над ним»
(«Мысли», стр. 47).
Мистическое начало, окрашивающее конечные фило
софские выводы Паскаля, всегда было чуждо Тургеневу.
Паскаль нашел утешение в религии, и к нему вполне
применима характеристика религиозного сознания, дан
ная Фейербахом в «Сущности христианства»: «Религиоз
ный человек отменяет ничтожество человеческой деятель
ности тем, что делает свои мысли и поступки объектом
бога, человека — целью бога... и божественную деятель
ность — средством человеческого спасения».
2
* Вряд ли
Тургенев мог не заметить этого принципиально важного
в философском отношении резюме у Фейербаха. А если
так, оно неизбежно должно было восприниматься им
в контрастной связи с апологией религии у Паскаля и
Кальдерона, с сочинениями которых он знакомился при
близительно в то же время. Вот почему имена Кальде-
29
Людвиг Фейербах. Избранные философские произведе
ние, т. II, стр. 60.
4J3
I рона, Паскаля и Фейербаха, мыслителей столь непохожих
(друг на _ffpyrar в тургеневской переписке сороковых годов
' упоминаются или подразумеваются в непосредственном
соседстве и даже в сочетании (таково, например, несо
мненно подразумеваемое контрастное сочетание имен
Кальдерона и Фейербаха в тургеневской интерпретации
драмы «Поклонение кресту»). Пользуясь зачастую одной
и той же религиозно-философской терминологией («нич
тожество», «спасение», «благодать» и т. п.), все эти мыс
лители по-разному решали вопрос об отношении человека
к богу и религии вообще, и серьезное внимание, уделяв
шееся Тургеневым каждому из них, свидетельствовало
о его разностороннем и глубоком, отнюдь не дилетантском
и скоропреходящем интересе к определенным философ
ским проблемам.
Паскалевский способ решения важной для Тургенева
проблемы бытия, естественно, не мог его удовлетворить.
Он должен был казаться ему по меньшей мере наивным.
То же самое следует сказать о Базарове, в сознании ко
торого вопрос о человеческом ничтожестве не «отме
няется» именно в силу того, что оно до последнего вздоха
, героя остается атеистическим. Поэтому тема о человеке
и вечности получает развернутую образно-философскую
(трактовку и обоснование в «Довольно», свидетельствуя
!
о дальнейшем развитии и углублении трагических на
строений писателя.
По сравнению с «Отцами и детьми» в «Довольно»
ощущается уже неудовлетворенность Тургенева паскалев-
ской аргументацией в пользу величия человека, сознаю
щего свое ничтожество перед природой. В соответствии
с этим приведенный выше отрывок, в котором «величай
шими из нас» называются люди, наиболее глубоко по
стигающие «коренное противоречие» между человеком
и природой, Тургенев заканчивает горьким вопросом:
«... но в таком случае — спрашивается — уместны ли
слова: величайший, великий?» Упоминая в «Довольно»
о достоинстве «сознания собственного ничтожества... на
которое намекает Паскаль... называя человека мысля
щим тростником», Тургенев заключает: «Слабое достоин
ство! Печальное утешение!» — и обращается к Шекспиру,
в трагических образах которого находит больше созвучия
своим философским настроениям. В противовес Паскалю
приводятся строки из «Макбета»: «Наша яшзць — одна
74
бродячая тень; жалкий актер, который рисуется и кичится
какой-нибудь час на сцене — а там пропадает без вести;
сказка, рассказанная безумцем, полная звуков и ярости —
и не имеющая никакого смысла». Зато усиленное звуча-1
ние получают в «Довольно» суждения Тургенева о чело4
веке и природе, соответствующие мыслям Паскаля о че
ловеческом ничтожестве, порождаемым сознанием «на
шего природного несчастного положения», ощущением
слабости, жалкости и эфемерности человеческого бытия.
Это находит выражение и в повести «Призраки», в конце
которой рассказчик спрашивает: «И зачем я так мучи
тельно содрогаюсь при одной мысли о ничтожестве?»
Наибольшую отчетливость ^подобные мысли Тургенева
приобретают, как известно, в «Senilia».
В связи с проблемой Тургенев—Паскаль, нельзя не
упомянуть о мимолетных, но, с нашей точки зрения, пол
ных глубокого значения замечаниях Л. П. Гроссмана.
Его статья о «Стихотворениях в прозё^ТГургенева, напи
санная свыше полувека тому назад, начинается знаме
нательной фразой:<«^Стихотворения в прозе" кажутся на
первый взгляд случайными листками, оброненными из
записной книжки писателя, чем-то
_ вдоде^ бессмертных
черновиков Паскаля в русской литература». Меткое срав
нение! Правда, вслед за этим автор замечает: «На самом
деле в кажущейся отрывочности этих тургеневских на
бросков господствует органическое единство и полная
спаянность частей вокруг крепких стержней основных
замыслов».
30
Но разве «спаянность» отдельных частей,
подчиненных единому замыслу, не одушевляет, в конце
концов, и композицию «Мыслей»?
Основной пафос статьи Л. П. Гроссмана состоит в том,
чтобы включить \«Стих!Отворения в прозе» в поток турге
невских «художественных комментариев» к тем или иным
«страницам» сочинений Шопенгауэра.
3
!/ Однако, быть мо
жет, непроизвольный, но все же объективно недвусмыс
ленный намек на выдающуюся роль Паскаля в формиро-
вании философской мысли Тургенева, .содержится и в сле
дующем замечании из той же статьи исследователя:
«... в
„Сенилиях" явственно прозвучал стон одного из
v зо Л. Г р о с с м а н. Последняя поэма Тургенева (Senilia^y
стр. 57.
:
"""
~'~
~
зг
См. там же, стр. 87.
75
любимых трагических мыслителей Тургенева: „L'infini
de ces espaces sans bornes m'effraye.. ."».
32
Л. П . Гросс
ман не указывает, кому принадлежит это выражение,
но после всего сказанного о Тургеневе и Паскале совер
шенно очевидно, что ученый цитирует в данном случае
(правда, не совсем точно) именно «Pensees».
33
Эти фактические справки и наблюдения свидетель
ствуют о недопустимости сведения всего комплекса фи-
лософской мысли ^Тургенева к какому-нибудь одному
йо^^нику. Паскаль, Шопенгауэр и многие другие фи-
'йбсофы, причем, как увидим впоследствии, и философы,
жившие задолго до них, — очевидно, только так следует
ставить этот вопрос. К Шопенгауэру мы еще вернемся.
Сейчас же считаем необходимым еще раз подчеркнуть,
что 1цгаоритет в__иетачальном формировании философского
«пессимизма» Тургенева принадлежал явно не ему, а роль
главного философского «наставника» писателя в пору
расцвета его творческой деятельности — не только ему.
Оставляя эту проблему пока в стороне, все же укажем
заранее еще на некоторые обстоятельства, свидетель
ствующие в пользу нашей точки зрения.
Выше цитировались некоторые доводы из монографии
И. И . Векслера. Как мы помним, суть их сводилась
к тому, что убеждения Базарова это убеждения самого
Тургенева и основа тех и других — «индивидуалистиче
ская философия Шопенгауэра». Обосновывая свое заклю
чение, Векслер ограничивается тем, что цитирует как
раз тот отрывок из гл. XXI «Отцов и детей», который
в настоящей работе рассматривается в тесной связи
с вопросом о влиянии на Тургенева со стороны Паскаля.
Никаких указаний или ссылок на определенные страницы
сочинений Шопенгауэра, на которых можно было бы
обнаружить сколько-нибудь конкретные философские эк
виваленты размышлениям Базарова, в книге Векслера
нет. Попытаемся восполнить этот пробел и посмотрим,
что из этого получится.
Шопенгауэр пишет: «Жизнь во всяком случае должна
скоро кончиться, так что те немногие годы, которые
32
Там же, стр. 80. — Курсив мой, — Л. Б.
33
У Паскаля: «Je vois ces effroyables espaces de Tunivers...»
и т. д . (см.: Pensees de Pascal publiees dans leur texte authentiqu-a
avec un commentaire suivi et une etude litteraire par Ernest Havet,
p. 136).
76
нам еще, быть может, суждено прожить, совершенно ис
чезают перед бесконечностью того времени, когда нас
уже больше не будет».
34
То, что говорит здесь Шопен
гауэр, напоминает начало базаровских размышлений
вслух. Однако продолжив цитату, мы воочию убеждаемся,
насколько бывают в конечном счете несостоятельны по
спешные и слишком категоричные выводы. Буквально
^след за тем, что нами только что процитировано, Шопен
гауэр пишет: «Вот почему при свете мысли даже смеш
ным кажется проявлять такую заботливость об этой капле
времени, приходить в такой трепет, когда собственная или
чужая жизнь подвергается опасности, и сочинять траге
дии, весь ужас которых имеет свой нерв только в страхе
смерти... могучая привязанность к жизни... неразумна
и слепа».
35
Итак, первая половина шопенгауэровского высказыва
ния почти идентична некоторым представлениям База
рова, но зато вторая, быть может, не во всем противореча
тому, что думает и чувствует ироничный и желчный Ба
заров, радикально, противоречит устойчивому «трепетно»-
философскому настроению Тургенева. (Невозможно отри
цать его органическую, склонность- к «сочинению траге
дий» на^биологической и философской основе «страха
смерти». Таким образом, если бы Тургенев руководство
вался положениями Шопенгауэра, подобными вышеприве
денному (разумеется, во второй его части), проблема че
ловеческого ничтожества или вовсе не появилась бы,
или же, с течением времени, навсегда исчезла в его твор
честве. Этого, как мы знаем, не случилось. Следует также
иметь в виду, что цитата из Шопенгауэра представляет
собою один из многочисленных примеров сочетания соб
ственно шопенгауэровских идей с воззрениями, восприня
тыми им от других философов^
Не прочь пококетничать эрудицией, Шопенгауэр
обильно, но зачастую без ссылок на имена и источники
уснащивает свои философские рассуждения тщательно
отпрепарированными изречениями великих умов прош
лого. Делается это для вящей убедительности, а еще чаще
просто для «украшения» (собственное определение Шо
пенгауэра) философской системы, которая и без того
34
Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление,,
т. П . Пер. Ю. . . .И. Айхенвальда. М., 1901, стр. 479.
^ Там же, стр. 4797
~" '"*
П
ttafccetcfc eky вйолйе убедительной. В Данном случае не*
особой нужды в обстоятельном перечислении философов
и художников слова, изречения которых придавали опре
деленный лоск и эффектность философской аргументации
Шопенгауэра. Речь идет только об одном конкретном,
но специально не оговоренном автором заимствовании или
совпадении идеи. / Ларчик, оказывается, раскрывается
просто. На первую половину цитаты из Шопенгауэра,
так же как и на знаменитые суждения Базарова, следует
смотреть как на реминисценцию из Паскаля. По существу
это Паскаль, а не Шопенгауэр. Но существуют ли, помимо
текстуальных совпадений, какие-нибудь другие достаточно
веские основания для подтверждения неслучайности и
даже закономерности этой реминисценции? То есть
можно ли в данном случае говорить не гадательно об
известной преемственности по линии Паскаль—Шопен
гауэр? Обратимся за очередной справкой к трудам ком
петентного литературоведа-западника Л. В . Пумпянского.
Подобно Л. П . Гроссману, Л. В . Пумпянский настаивает
на исключительном значении сочинений Шопенгауэра
в качестве главного стимула философских настроений
Тургенева, но акцентирует свое внимание не на «Стихо
творениях в прозе», а на «Призраках» и «Довольно».
В процессе анализа этих произведений он, между прочим,
указывает, что Шопенгауэр «сложил свой блестящий, не
подражаемо точный язык главным образом на образцах
французских моралистов XVII и XVIII вв.» .
36
Упомянуты
французские моралисты не только XVIII, но и XVII века,
следовательно, определенно «задета» эпоха жизни и дея
тельности Паскаля. Кроме того, публицистика и фило
софия последнего безусловно моралистичны. Все это дает
право предполагать, что, говоря о французских морали
стах, исследователь подразумевал, по всей вероятности,
и этого философа, т. е . считал его одним из предшествен^
ников Шопенгауэра по крайней мере в области языка
и стиля. А к чему иногда приводит такого рода зависи
мость, вряд ли стоит напоминать. Итак, перед нами еще
один аргумент из числа тех, которые не позволяют на
стаивать на первородстве и преобладании влияния Шо
пенгауэра в романе «Отцы и дети», в лирико-философских
отрывках «Призраки» и «Довольно», в «Стихотворениях
Л. В. Пумпянский. Тургенев-новеллист, стр. 11.
78
в прозе» и во всех других произведениях писателя, от
личающихся подчеркнутой философичностью.
В подтверждение доводов о значительной роли Паскаля
в формировании философских основ мировоззрения Тур^
генева приведем, наконец, пространные и весьма харак
терные выдержки из его письма к Полине Виардо, став
шего достоянием печати лишь в самое последнее время.
В июне 1859 года, т. е. буквально в тот год и даже месяц,
к которому впоследствии будет приурочено действие в ро
мане «Отцы и дети», отправляясь в небольшое путеше
ствие по Франции, Тургенев выбирает в качестве дорож
ного чтения именно «Мысли» Паскаля —по его словам,
«самую ужасную, самую несносную книгу из всех когда-
либо напечатанных». Поначалу Тургенев не находит как
будто достаточно выразительных слов для изъявления
своей антипатии к Паскалю. «Он растаптывает все, что
есть дорогого у человека, — замечает писатель по адресу
французского философа, — и бросает вас на землю,
в грязь, а затем, чтобы вас утешить, предлагает вам
религию, которую разум (разум самого П.) не может
не отвергнуть, но которую сердце должно смиренно при
нять». Однако вслед за этим определения существа паска-
левской философии начинают звучать в ином регистре,
перерастая постепенно в восторженное удивление.
«Никогда еще никто не подчеркивал того, что подчерки
вает Паскаль, — констатирует Тургенев, — его тоска, его
проклятия — ужасны. В сравнении с ним Байрон — розо
вая водица. Но какая глубина, какая ясность — какое ве
личие! Послушайте: „Мы бессильны знать все наверняка,
так же как и не звать (ничего совсем. Мы плывем в огром
ном просторе, всегда неверном и бурном, бросаемые из
одного его конца в другой. К ка!кому бы причалу мы
ни думали пристать и закрепиться — он качается и дви
жется прочь; и если мы следуем за ним, он не дается
в руки, ускользает, вечно убегает от нас. Нет ни в чем
для нас опоры. Такое положение естественно, и все же
оно противоположно нашим склонностям: мы горим же
ланием обрести прочную устойчивость, самую надежную
твердь, чтобы возвести на ней башню, вздымающуюся
в бесконечность; но вся наша постройка трещит, и земля
распахивает свои бездны".
Какой свободный, сильный, дерзкий и могучий язык!
И эти удары резца:
79
„Последний акт кровав, как ни прекрасна комедия
во всем остальном. Наконец, бросают комья земли на го
лову — и все кончено навсегда".
Или:
„Смотрят вверх, но опираются на песок, и когда ру
шится земля, падают, глядя в небо"».
37
В заключение Тургенев опять пишет, что ему «свело
оскоминой рот от этого чтения», но преобладающее его
впечатление от главного философского сочинения Паскаля
такого рода репликами и ремарками, конечно, ничуть
не колеблется. <Д1аскаль поражает и заражает его траги
ческой глубиной "своей философии настолько, что при
сравнении с нею даже мрачная гениальная рефлексия
Байрона представляется лишь «розовой водицей».
На протяжении целых десятилетий мировоззрение пи
сателя ощутимо соприкасается с философией Паскаля,
существеннейшие черты которой получают прямое или
прикровенное отражение и развитие в его творчестве.
Она привлекает писателя прежде всего тем, что принято
называть космическим пессимизмом. Философия Паскаля
несомненно способствовала кристаллизации и отшлифовке
взглядов Тургенева на человека в его отношении к при
роде, «провидению», религии и т. п. Наряду с подкупаю
щей искренностью и непосредственностью, обостренно
личной заинтересованностью, проявленными Паскалем
в ходе решения этих проблем, Тургеневу-художнику не
сомненно импонировала также афористичность его фило
софской мысли, образность его языка.
В своем отношении к Паскалю Тургенев не был оди
ночкой в русской литературе. Влияние Паскаля безус
ловно заметно также в строгой философской лирике
Тютчева, которую Тургенев, как известно, ценил очень
высоко. Центральный философский образ Паскаля: чело
век — мыслящий
тростник — является
определяющим
в стихотворении Тютчева «Певучесть есть в морских
волнах», проникнутом, как и многие страницы произве
дений Тургенева, ощущением разлада человека с при
родой:
Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре
Душа не то поет, что море,
И ропщет мыслящий тростник?
«Иностранная литература», 1971, No 1, стр. 184,
No
Связь настроений Базарова с философией природы
и человеческого общества, характерной для самого Тур
генева и отчасти для Паскаля, придавала этому герою
качества, на первый взгляд, вовсе не типичные для де
мократии 1860-х годов. Действительно, в известной мере
она вносила какой-то диссонанс в подчеркнуто трезвые,
проникнутые духом реализма речи Базарова. > Однако эта
связь не была следствием лишь субъективного настроения
автора. Сближая взгляды позитивиста Базарова с «Мыс
лями» Паскаля, Тургенев, очевидно, учитывал, что на
характер философии последнего значительное влияние
оказывали его специальные занятия точными науками —
физикой и математикой. Так, например, утверждение
Паскаля о неспособности разума к полному познанию
вещей основано на формах и математического мышления,
является, в сущности, его производным. Вселенная бес
конечна, следовательно, непостижима разумом как целое,
как нечто, имеющее _ какие-то определенные границы.
С другой стороны, каждая мельчайшая частица мира до
бесконечности делима;* следовательно, так же как и все
ленная, она никогда не может быть познана разумом
до конца. В связи с этим Паскаль говорит о человеке:
«... он одинаково неспособен видеть то ни^то, из которого
он извлечен, и то бесконечное, в котором он поглощен.
Что же ему остается делать, как не замечать кое-какие
внешние признаки середины вещей, если он навеки ли
шен надежды знать их начало и конец?» («Мысли»,
стр. 38—39).
Таким образом, скептическое отношение Паскаля
к возможностям разума высказывается им с материали
стической позиции^ опирающейся на данные науки.)
В~ "принципиально аналогичном положении оказывается
и Базаров, и притом, конечно, не случайно в гл. XXI,
имеющей, как отмечено выше, и без того немало общего
с философией Паскаля. Базаров здесь также не склонен
всецело полагаться на разум и мотивирует свое недоверие
к нему с помощью естествознания: «... я придерживаюсь
отрицательного направления — в силу ощущения. Мне
приятно отрицать, мой мозг так устроен — и баста! Отчего
мне нравится химия? Отчего ты любишь яблоки? — тоже
в силу ощущения. Это всё едино. Глубже этого люди
никогда не проникнут».
@ А. Батютд
21
Базаров верит в естествознание и возникшее на его
основе вульгарно-материалистическое понимание мира.
С другой стороны, чувствуется, что это последнее не мо
жет удовлетворить его до конца, что оно уже теперь ка
жется ему несовершенным и заслуживающим. критики.
По поводу собственного вульгарно-материалистического
сведения честности к ощущению он тут же заявляет:
«А? что? Не по вкусу? .. Нет, брат! Решился все косить —
валяй и себя по ногам!» По-видимому, неспроста База
ров несколько ранее советовал Кирсанову почитать бро
шюру Бюхнера лишь «на первый случай», а Тургенев по
этому поводу говорил, что Базаров рекомендует «Stoff
und Kraft» «как популярную, т. е . пустую книгу»
(IV, 379).1_Следует считаться также с возможностью того,
что базаровское энергическое суждение о честности
и ощущениях являлось, быть может, всего лишь мало
к чему обязывающей данью времени, широко распростра
ненной тогда моде на хлесткие определения, т. е. что оно
представляло собою афоризм с оттенком парадоксаль-
HOCTHJ Известно,"что все «нигилисты» обожали парадоксы:
«Самопожертвование — это ~ страстный порыв эгоизма»,
«Жертва — сапоги всмятку» (Чернышевский); «Собствен
ность — это кража» (Прздон) и т. д. и т. п. Впрочем,
к этому вопросу мы еще вернемся.
Правильное понимание связи настроений разночинца
Базарова с философией Паскаля позволяет снять с него
м&огие обвинения в цинизме и беспринципности, выдви
гавшиеся, как известно, не только критикой, враждебной
демократическому направлению. Оно позволяет точнее
определить особенности замысла романа, свидетельствую
щие о том, как глубоко Тургенев сроднился с избранным
им типом, как гуманно и неподдельно велико было его
сочувствие к интимно-человеческим переживаниям База
рова и как широко был им задуман этот трагический
образ.
Несмотря на перенасыщенность конкретной и очень
злободневной общественно-политической проблематикой,
«Отцы и дети» — самый философский роман Тургенева.
1
Вопреки обыкновению, характерному для большинстве
его героев, Базаров оказывается побежденным не «жен
щиной», не «средой», не силой жизненных обстоятельств,
а_столь_презираемой им «философией», пробуждающей
у него неотступное сознание своей беспомощности перед
за
Лицом смер^й^Вб всяком случае, скерть это единственный
противник, перед которым ему приходится пасовать.
«Вы посмотрите, что за безобразное зрелище, — с горечью
и возмущением говорит Базаров о себе во время послед
него свидания с Одинцовой: — червяк полураздавленный,
а еще топорщится. И ведь тоже думал: обломаю дел
много, не умру, куда! задача есть, ведь я гигант! А те
перь вся задача гиганта — как бы умереть прилично,
хотя никому до этого дела нет...»
\Кдк философское произведение роман «Отцы и дети»
занимает промежуточное положение между «Поездкой
в Полесье» и «Довольно»^.] Мотивы, намеченные в «По
ездке в Полесье», получают в нем дальнейшее развитие,
а в «Довольно» — бурное завершение. С дацной точки
зрения «Отцы и дети» не стоят особняком в романистике
писателя. В различных вариациях, но с неизменно пе
чальным выводом в конце проблема человеческого ничто
жества возникает в каждом его романе. Если в «Отцах
и детях» попытки ее решения, предпринимаемые бунта
рем Базаровым, естественно перерастают в протест против
универсальных законов природы, то в «Дворянском
гнезде» и в «Накануне» она облекается в форму элеги
ческого смирения перед неизбежностью: «Лиза еще жила
где-то, глухо, далеко., . Но что сказать о людях еще
живых, но уже сошедших с земного поприща?..»; «След
Елены исчез навсегда и безвозвратно, и никто не знает,
жива ли она еще, скрывается ли где, или уже кончилась
маленькая игра жизни, кончилось ее легкое брожение,
и настала очередь смерти».
Следует особо отметить, что, подобно Базарову, глав
ный герой «Накануне» умирает от случайной причины,
которой могло бы и не быть, если бы, допустим, за реа
лизацию сюжета этих произведений взялся писатель,
отличающийся иным фияосо^сцш _в^ШШШМШ мира.
Самый характерный пример в этом отношении — Черны
шевский и его знаменитый роман «Что делать?», напи
санный несколько позже с недвусмысленным намерением
противопоставить его роману «Отцы и дети». Случай
ность— неожиданное возвращение Варвары Павловны —
разрушает счастье Лаврецкого и Лизы, превращая их
в людей без будущего. «Счастье зависит не от нас, а от
бога», — говорит Лиза, и этим лишний раз подчеркивается
зависимость человека от каких-то высших сил. Револю-
6*
83
ционно-демократическая критика нередко иронизировала
по поводу этой философской тенденции в творчестве Тур
генева. «Путь создания возвышенных характеров, при
нужденных смиряться под ударами рока, — писал Добро
любов, — сделался очень скользким...»
38
В «Дыме» проблема _ ничтожества имеет мрачную,
почти^иблеискую огласовку, ~а в «Нови» —-холодную,
обнаженно "реалистйческую, лишённую проникновенного,
повышенно эмоционального лирического сопровождения,
столь присущего ее разрешению в эпилогах «Дворянского
гнезда», «Накануне» и «Отцов и детей». Покидающему
Баден Литвинову кажется «дымом все, собственная
жизнь, русская жизнь — все людское... все торопится,
спешит куда-то
—
и все исчезает бесследно...» Нежданов
идет к «старой яблоне» гнетуще отрешенный от всего
живого, в совершенном одиночестве, под «безучастно-
слепым и мокрым небом». В последнем письме к другу
он даже не пытается раскрыть свое душевное состояние
и только советует устало: «... прочти в „Евгении Оне
гине" описание смерти Ленского. Помнишь: „Окна мелом
забелены; хозяйки нет..." Вот и все». На робкий вопрос
Машуриной, не сохранилось ли что-нибудь из вещей
Нежданова, на память о нем, Паклин отвечает: «Все это
исчезло вместе с ним — все попало в общий круговорот —
и замерло навеки! Только что у друзей осталось воспоми
нание, пока они сами не исчезнут в свою очередь!» ^Это
опять возведение факта печального завершения единич
ного- человеческого существования на степень философ
ского обобщения о жизни в целом.
^Принципиально иной, мажорно-романтической пред
ставляется трактовка этой проблемы в «Рудине»рНо та
ково лишь первое, поверхностное впечатление. В гл. III
этого романа речь заходит о том, что придает «вечное
значение временной жизни человека». Рудин вдохновенно
излагает поэтическую скандинавскую легенду о царе и его
воинах, расположившихся на отдых «в темном и длинном
сарае, вокруг огня...» «Вдруг небольшая птичка влетает
в раскрытые двери и вылетает в другие. Царь замечает,,
что эта птичка, как человек в мире: прилетела из тем
ноты и улетела в темноту, и недолго побыла в тепле
38
Н. А . Добролюбов. Собр. соч. в 9 томах, т. VI. Гослит
издат, М.— Л., 1963, стр. 104.
84
и свете...» «Точно, наша жизнь быстра и йиадояша, —*
эффектно резюмирует Рудин; — но все великое . совер
шается через людей. Сознание быть орудием тех высших
сил должно заменить человеку все другие радости: в са
мой смерти найдет он свою жизнь, свое гнездо...» Здесь
уже есть знакомые нам мотивы и настроения, но герой
пока еще не способен проникнуться ими всерьез, по-тур-
гёневски. Эпизодически возникнув, они надолго исчезают,
уступая'место другим, не философским задачам романа.
В следующих главах начинается разоблачение фальши
вых сторон натуры Рудина, читатель перестает ему до
верять, и его философско-романтические рассуждения
о вечности и высоком назначении человека забываются
как красивая, но пустая фраза.) Лишь в эпилоге Рудин
выглядит вполне искренним и естественным. Но когда
он сравнивает свою неудавшуюся жизнь с догорающей
лампадой, становится очевидным, что от прежнего Ру
дина — философа-романтика и оптимиста — уже ничего
не осталось.
Как установлено Н. Л . Бродским, Тургенев позаим
ствовал скандинавскую легенду из первого тома «Истории
России с древнейших времен» С. М . Соловьева. Однако
заимствование это было отнюдь не рабским. Рассказывае
мая в связи с приходом в стан одного из англо-саксонских
королей проповедника христианского учения, легенда
в передаче С. М . Соловьева имеет следующую концовку:
«Такова и жизнь людская на земле и ее мгновенное те
чение, если сравнить его с продолжительностью времени,
которое предшествует и последует. Это время и мрачно,
и беспокойно для нас; оно мучит нас невозможностью
познать его; так, если новое учение может дать нам
какое-нибудь верное известие об этом предмете, то стоит
принять его».
39
/В тургеневском романе делается акцент
на общечеловеческом, философском содержании легенды
и по существу игнорируется ее прохристианская тенден
ция.^ «Высшие силы», упоминаемые Рудиным, это не бог, '
3
а всего лишь теоретически отвлеченная формула, заклю
чающая в себе целый ряд понятий о стихийных началах
в романтическом, идеально-философском выражении (рок,
судьба, предназначение, дух и т. п.), что не противоречит
39
Цит. по статье Н. Л . Бродского «Генеалогия романа „Ру
дин"», напечатанной в сб.: Памяти П. Н. Сакулина. М., 19М, стр. 23.
85
й cMbicjry соседнего рудийского йзреЧёйия: «все великое
совершается через людей». Т. е. бог здесь не при чем.
Такая огласовка легенды показывает, что верное пред
ставление о «предмете» Тургенев был готов искать всюду:
в истории, философии, искусстве, поэзии, — где угодно,
но только не в догматах веры.
С философским представлением о мгновенности чело
веческой жизни («лишь красноватая искра в немом
океане вечности») естественно гармонирует сюжет и ха
рактер сюжетного развития в большинстве романов Тур
генева: они отличаются скоротечностью, стремительными
во времени завязкой и неожиданной развязкой, трагиче
скими, как правило, финалами,; в которых герои выну
ждены навсегда распроститься с~ надеждами на счастье,
с мечтами о деятельности или с самой жизнью. У Турге
нева значительны идея романа и ее художественное во
площение, сюжет же сам по себе и в особенности та
«площадка», на которой происходит его быстрая реали
зация, не отличаются масштабностью и глубоким погру
жением в атмосферу повседневного существования, кото
рые так присущи романистике его современников — Тол
стого, Достоевского, Гончарова и др. Круг персонажей
в его романе сравнительно невелик; основное действие
в нем и пространственно всегда ограничено( (вспомним
в связи с этим базаровское и паскалевское определения:
«узенькое местечко», лишь «уголок... обширного мира»).
Все эти свойства и признаки романной структуры у Тур
генева, несомненно обусловленные не только эстетиче
скими, но и философскими нормативами, особенно на-
тлядны в «Дворянском гнезде» и в «Накануне»/
В своей статье о романе «Накануне»" Добролюбов
не без основания отмечал, что «сущность повести вовсе
не состоит в представлении нам образца гражданской,
т. е . общественной доблести», так как Тургенев «и не
в состоянии был бы написать героическую эпопею»; что
«из всей „Илиады" и
„Одиссеи" он присваивает себе
только рассказ о пребывании Улисса на острове Калипсы,
и далее этого не простирается».
40
Критику боевого рево
люционно-демократического журнала «Современник» хо
телось бы увидеть в романе изображение самой борьбы
Инсарова за национальное освобождение своей родины,
Н. А . Добролюбов. Собр. соч. в 9 томах, т. VI, стр. 119.
86
борьбы, которая могла бы служить примером для лучших
русских людей, готовящихся к схватке с «внутренними
турками». Между тем он нашел в нем только приготов
ления к этой борьбе, вкрапленные в канву быстротечной
истории любви. \ Для романа, в котором ставились боль
шие общественно-политические проблемы, это был суще
ственный недостаток. ;Но как произведение с „опрзделен-
ной философской подосновой, имевшей, по замыслу
автора, вневременное, «вечное» значение, роман «Нака
нуне» ЛЗшгодаря этому .изъяну _ в его сюжете только
выиграл. В результате суженности, специфической ргра-
иичеяцосш его действия, излюбленные Тургеневым фило
софские мотивы прозвучали более отчетливо и впечат
ляюще. Недаром все тот же суровый и бескомпромиссный
Добролюбов не смог не обратить особого внимания на
проникнутое «строгой истиной и бесконечно грустной
прелестью» изображение последних дней совместной
жизни Инсарова и Елены в Венеции. «Для нас, —
отмечал он, — это самое задушевное, самое симпатичное
место всей повести».
41
А ведь именно в этих сценах окон
чательно проясняется и реализуется намерение Тургенева
не покидать ограниченных пределов «острова Калипсы».
Два мгновенные человеческие существования вспыхи
вают на мгновенном празднике молодости, счастья, кра
соты, торжества идеалов добра и свободы и также мгно
венно погасают — таков глубинно-философский смысл
романа «Накануне» и, по-видамому,~то же следует ска
зать о «Дворянском гнезде». Тургеневская специфически
философская интерпретация главных событий этого ро
мана чувствуется не только в его эпилоге. Она сквозит
и раньше, —- например, в потаенно скорбном собеседова
нии Лаврецкого и Лемма, в равной мере подавленных
сознанием совершающейся, в сущности, уже совершив
шейся катастрофы.
«— Ну, что скажете? — проговорил наконец Лав-
рецкий.
—
Что я скажу? — угрюмо возразил Лемм. - — Ничего
я не скажу. Все умерло, и мы умерли...»
Подобная философская тенденция намечалась и в ро
мане «Дым», который имел первоначальное заглавие
41
Там же,
8J
«Две жизни»; но потом она была заслонена обнаженно
политическими, публицистическими задачами.
/«Pensees» Паскаля сыграли очень заметную роль
в творчестве Тургенева.} Но значения этой книги все-таки
не следует и преувеличивать. Во всяком случае было бы
по меньшей мере наивно рассматривать ее в качестве
единственного фактора, стимулировавшего появление
в "тургеневской романистике определенной философской
тональности. В ходе предшествующего изложения под
черкивалось двоякое, — и позитивное, и критическое, —
отношение к Паскалю, отразившееся как в переписке
писателя, так и в его художественном творчестве («Отцы
и дети», «Довольно»). Сам по себе этот «факт» достаточно
красноречив. Но в высшей степени знаменательно также
и то, что подтверждение своим интимно-философским
представлениям о жизни и смерти, вполне гармонирую
щим с некоторыми основными положениями «Pensees»,
Тургенев зачастую обнаруживает и вне сочинений Пас
каля. В 1872 году он пишет брату: «Все мы существа
эфемерные, „petits papillons (Tun moment",
42
как говорит
Вольтер, все осуждены на скорую смерть — и не успеешь
оглянуться, как уже все покончилось!» (IX, 257). Между
^покорным христианином Паскалем и едким насмешником
j и безбожником Вольтером — дистанция огромного раз
мера. Несмотря на это, Тургенев без особого труда нахо
дит у обоих субъективно близкие ему общие мотивы.
Случай этот, разумеется, не единичный. В 1860 году,
узнав о безнадежном состоянии брата писателя, Н. Н. Тол
стого, к которому испытывал сердечную симпатию,
Тургенев отмечает: «Вот как нас всех ломает судьба;
поневоле повторишь слова Гете в „Эгмонте":
43
„Словно
подхлестываемые незримыми духами, неудержимо мчат
солнечные кони времени легкую колесницу нашей судьбы,
и нам остается только крепче держать возжи и, дергая
тут влево, там вправо, направлять колеса прочь от камня,
от обрыва. Куда летим — кто знает? И едва ли кто вспом
нит, откуда"» (IV, 85, 482). Подобно Вольтеру, Гете в дан
ном случае совершенно независимо от Паскаля как бы
варьирует, а затем развивает до логического конца харак-
42
Минутные мотыльки (франц.).
43
Приводим следующую далее немецкую цитату сразу в рус
ском переводе.
8§
верные мотивы, намеченные в «Peneees». Если бы люди,
утверждал Паскаль, были избавлены от груза мелких
забот повседневной жизни, «они увидели бы себя, заду
мались бы над тем, что они такое, откуда пришли и куда
пойдут» («Мысли», стр. 68). уТаким образом, Паскаль,
Вольтер, Гете, а вслед за ними и Тургенев оказываются
здесь в сходное положении людей, перешагнувших рубеж
будничной повседневности, за которым начинается для
них аналогичное по философскому настроению постиже
ние мира и человека.
Наконец, если мы снова обратимся к самому первому
суждению Тургенева о Паскале, послужившему отправ
ной точкой для развития нашей темы, мы заметим, что
в нем также заложено четкое представление о множе
ственной интерпретации этой философской проблематики
уже в допаскалевские времена. В самом деле, то, что
говорит по этому поводу Паскаль (вторая половина
XVII века), даже молодому Тургеневу кажется очень
«верным», но... «избитым», т. е . в известном смысле
повторением давно сказанного (см. I, 458). Это заключе
ние служит веским основанием для поисков философских
предпосылок разрабатываемой Тургеневым проблемы че
ловеческого ничтожества в весьма и весьма отдаленном
прошлом. Ряд прямых и косвенных указаний Тургенева
свидетельствует о том, что важнейшим источником этих
предпосылок являлась для него_греко^ищкая .антич
ность.
Едва ли не первые скрытые намеки на нее содержатся
в упоминавшейся выше рецензии на «Записки ружейного
охотника». В этой рецензии Тургенев приводит три ха
рактерные цитаты из великолепного гетевского фрагмента
«Природа», проникнутого праздничным философским
оптимизмом, и замечает по поводу одной из них: «Если
только „через любовь" можно приблизиться к природе,
то эта любовь должна быть бескорыстна, как всякое
истинное чувство: любите природу не в силу того, что
она значит в отношении к вам, человеку, а в силу того,
что она вам сама по себе мила и дорога, — и вы ее пой
мете» (Соч., V, 416). В основном по такому философскому
принципу создавались Тургеневым лирические пейзажи
в только что законченном цикле «Записки охотника».
В дальнейшем, приблизительно с «Поездки в Полесье»,
он начинает обращать пристальное внимание на дисгар-
89
Монию, «коренйое противоречие» между природой и чело
веком, представляющим ее себе в образе безучастно
доброго и безучастно жестокого существа. Философские
«заявки» на неоднократные изображения этого конфликта
в будущем мелькают в той же рецензии на книгу С. Т . Ак
сакова, и в этом отношении она безусловно перекликается
с критико-философскими эпистолярными суждениями
Тургенева о Кальдероне и Паскале, в которых уже ощу
щаются, как мы отмечали, первые признаки философской
атмосферы, сгустившейся впоследствии в романе «Отцы
и дети».
Тургенев формулирует свои мысли, как будто всецело
опираясь на философский фрагмент Гете, однако в дей
ствительности это не совсем так; чувствуется в этом ка
кая-то более широкая платформа. Тургенев цитирует:
«Природа проводит бездны между всеми существами,
и все они стремятся поглотить друг друга. Она все разъ
единяет, чтобы все соединить... Кажется, она только
и хлопочет о том, чтобы создавать личности, — и личности
ей ничего не значат. Она беспрестанно строит и беспре
станно разрушает...» (там же, 416)- .7 _Все дело в том,
что и Гете обнаруживает здесь зависимость от кого-то.
Этот «кто-то» — античность, ее наука и^философия, гар
моничныйпсихический склад человека той эпохи с его
предрасположенностью к «прекрасному» и широкой,
стройной постановке проблем мироздания, — одним сло
вом, все ее культурно-историческое наследие, восторжен
ная любовь к которому со стороны Гете общеизвестна.
Основополагающие суждения из гетевского фрагмента,
приведенные Тургеневым в его рецензии, цитатно близки
высказываниям античных философов, стремившихся про
никнуть в сущность деятельного начала природы, вечной
материи. «Все, что она создает, она же и разрушает,
чтобы воссоздать снова». Это цитата из сочинений Се
неки.
44
гНо и Сенека в данном случае лишь повторял то,
что со времен _Дещ)1£щта^... _Эпикура стало почти общим
мecтoм_^JaдтатаoЙJфв[лocoфиид
Полностью переведённыиТка русский язык Герценом,
гетевский фрагмент вошел в состав его «Писем об изу
чении природы» на правах некоего неофициального
44
Люций Анней Сенека. Избранные письма к Люцилию.
СПб., 1893, стр. 59—60.
90
вступления, логически закономерного перехода к изло
жению и анализу греческой философии. В этом приме
чательном факте нельзя не видеть одно из многочислен
ных свидетельств отчетливого понимания Тургеневым и
его современниками присутствия античного колорита
в философии молодого Гете. Впоследствии Гете не
сколько пренебрежительно судил об этом своем произ
ведении. «Ему, охлажденному летами, не нравился более
восторженный язык, необузданность некоторых выра
жений», — замечает по этому поводу Герцен.
45
Но, как
видим, / и_Тургенев, охлажденный_если не летами, то
опытом философских размышлений, обнаруживает анало
гичную тенденцию сразу после создания «Записок охот
ника»: Его философское восприятие природы в этот пе
риод уже неоднородно, небезмятежно; свет и тени в нем
постоянно чередуются, перемежаются...
Мифология, история, искусство, философия античного
мира никогда не были для Тургенева объектами пассив
ного, бесстрастно-академического изучения. Они посто
янно возбуждали его художественное чувство и мысль,
придавали своеобразный колорит многим страницам его
произведений, нередко предопределяли его отношение
к современной общественно-политической жизни и лите
ратуре. Так, например, своим друзьям Тургенев неодно
кратно советует «читать» и «перечитывать» Гомера, при
чем «вся эта прелесть первого появления поэзии в устах
бессмертного и счастливого народа» недвусмысленно
противопоставляется им «полусентиментальной, полуиро
нической возне с своею больною личностью», которой, по
его словам, отличаются произведения многих «новейших
писателей» (II, 189).
15 (27) июня 1861 года, то есть ровно за полтора ме
сяца до окончания романа «Отцы и дети», Тургенев пи
сал: «... со времен древней трагедии мы уже знаем, что
настоящие столкновения — те, в которых обе стороны до
известной степени правы» (IV, 262. — Курсив Турге
нева). Сказано это в связи с обострением отношений
между Россией и Польшей, однако непосредственная
хронологическая близость высказывания к периоду ра
боты над «Отцами и детьми» позволяет видеть в нем
одно из характерных свидетельств творческих раздумий
45
А. И. Герцен, Собр. соч . ? 30 томах, т. III, стр. 138.
91
писатели идд остро проблемным сюжетом своего романа.
И самом дело, по только Тургенев, но и главный герой
его романа Назаров размышляет по временам о том же.
«-- Да правда-то где, на какой стороне?» — спраши
вает Аркадий Базарова.
—
Где? Я тебе отвечу, как эхо: где?» (Соч., VIII,
324).
В несколько иной вариации эта мысль сквозит затем
в «Довольно»: «Шекспир опять заставил бы Лира
повторить свое жестокое: „Нет виноватых" — что дру
гими словами значит: „нет и правых"» (Соч., IX, 119).
СМожно без преувеличения сказать, что упомянутый
Тургеневым принцип построения античной трагедии
(«обе стороны до известной степени правы») последо
вательно применялся им при изображении в «Отцах и
детях» идейной распри двух поколений и оказал влия
ние на конечный результат его художественных обобще
ний. Принадлежа по рождению и воспитанию к поколе
нию Кирсановых, что настоятельно подчеркивалось им
самим («Н<иколай> П<етрович> — это я, Огарев и ты
сячи других...» - — IV, 380), Тургенев тем не менее воз
дает должное их антиподу Базарову, изображая; этого
«демократа до конца ногтей» человеком большого ума и
воли, человеком высокого благородства души. Вщщос
о том, кто прав и кт!>^вдш)ва^-^сютаехся.- В_ ^романе .откры
тым, до известное ..прав©...Багрова...на .суровую критику
и даже ломку существующего строя Тургеневым все-таки
не^отрицается.
Мысль об античной трагедии продолжает занимать
Тургенева и позже, в связи с определением его отноше
ния к революционному народничеству, причем в этот
период она находит двоякое преломление в его твор
честве,
Тургенев осуждает тактику индивидуального террора,
применявшуюся революционерами-народниками, но от
дает дань глубочайшего уважения их жертвенному ге
роизму (стихотворение в прозе «Порог»). По своему
идейно-художественному значению изображение рево
люционерки-народницы в этом стихотворении сродни
изображению судьбы разночинца-шестидесятника База-
poBaJ В обоих случаях Тургенев живописует подлинную
трагедию в положении передовых людей своего времени
и ни в коей мере не ставит под сомнение высокую зна-
92
чимость этой трагедии. Герои этих произведений — оди
нокие провозвестники будущего, перед ними раскры
вается только один путь — путь борьбы и тяжких лише
ний, и их неизбежная прекрасная гибель уже сама
до себе стоит победы.
Существенно иная картина представлена в романе
«Новь». По сравнению с Базаровым и безымянной де
вушкой из «Порога» образы этого романа (за исключе
нием, йыть может, Марианны) значительно бледнее,
в них гораздо меньше нравственного обаяния, духовной
красоты и цельности.) В особенности это относится
к Нежданову. Положение его тоже трагично, но это
трагедия, так сказать, не настоящая, потому что, по за
мыслу Тургенева, перед бунтарем Неждановым была
предуказываемая самою жизнью возможность выбора
иного пути (путь постепеновца снизу Соломина), но он
этой возможностью не воспользовался, — т. е. сам по
ставил себя в трагическое положение в то время, когда
мог бы этого избежать. Честный, но слабый, нереши
тельный, мятущийся Нежданов лишь в известной мере
достоин сочувствия и сожаления, так как он —не герой
настоящей трагедии, обязательный признак которой —
конфликт, приводящий к неизбежной катастрофе.
С таким представлением о логике образов в «Нови»
гармонируют позднейшие с^дения,-Тургенева об антич
ной трагедии, в связи с русским ^революционным народ
ничеством, высказанные в беседах с Я. П. Полонским.
По свидетельству последнего, «в участи тех, которые
у нас так бесплодно погибают», Тургенев не видел «ни
чего истинно трагического».
Развивая эту мысль,
он ссылался на «Антигону» Софокла. «Вот это, — го
ворил он, — трагическая героиня! Она права, потому что
весь народ, точно так же, как и она, считает святым де
лом то дело, которое она совершила (погребла убитого
брата). А в то же время, тот же народ и Креона, кото
рому вручил он власть, считает правым, если тот требует
точного исполнения своих законов. Значит и Креон
прав, когда казнит Антигону, нарушившую закон. J3?a
коллизия двух идей, двух прав, двух равно^аконнь1х
побуждении и есть то,. что мы называем трагич.е„ским.
Из этой коллизии вытекает высшая нравственная правда,
и эта-то правда, всею своею тяжестью, обрушивается
на то лицо, которое торжествует. Но можно ли сказать,
93
что то учение или та мечта, за которую погибают
у нас, — есть
правда, признаваемая народом и даже
большинством русского общества?»
46
Разумеется, такое истолкование идейно-философского
содержания «Отцов и детей», «Нови» и стихотворения
в прозе «Порог» отнюдь не создает полного представле
ния о сложнейших перипетиях творческой истории и
предыстории этих произведений. ^Вместе с тем важно
подчеркнуть, что во всех указанных случаях в'""затле
ла* Тургенева-философа и Тургенева-эстетика все -таки
имели место явные поползновения и на античную огла-
совку узловых конфликтов русской"' действительности.
В романах, как, впрочем, и в целом ряде других про
изведений Тургенева, немало реалий, образов, имен,
суждений, творчески заимствованных из культурного
наследия античной эпохи. Мифологическе образы (Кас
тор и Поллукс) использованы в характеристике взаимо
отношений Базарова с Аркадием. Отец Базарова выгля
дит «неким Цинциннатом», со вкусом цитирующим
не только Жан-Жака Руссо, но и Горация. Он же с под
купающей манерностью заявляет о себе: «Я ведь плебей,
homo novus...» Это явная реминисценция из «Сравни
тельных жизнеописаний» Плутарха, в которых есть раз
вернутая социальная характеристика «новых людей»
древнего Рима, несомненно способствовавшая устойчивой
акклиматизации аналогичного термина в русских усло
виях второй половины XIX века.
Не то в шутку, не то всерьез Михалевич, студенче
ский товарищ Лаврецкого, назван «полтавским Демо
сфеном»; однако в следующем романе мы встречаем со
всем уже нешуточное сравнение Инсарова с Брутом.
В «Довольно» Тургенев скорбит по поводу того, что
природа покрывает «плесенью божественный лик фи-
диасовского Юпитера», что «драгоценнейшие строки Со
фокла» подвергаются губительному воздействию вре
мени, что дикое невежество варваров явилось причиной
гибели прекрасных статуй Аполлона и картин Апеллеса.
Там же есть многозначительное упоминание об Аристо
фане, перекликающееся, как нам кажется, с ранними
суждениями Тургенева о нем. Удрученный жалким со-
46
Я.П.Полонский.И.С.Тургеневусебявегопоследний
\приезд на родину. «Нива», 1884, No 4, стр. 86.
94
стояййем французского театра, Тургенев писал в койце
1847 года: «Как это слабо, бледно, робко и мелко рядом
с тем, что из того же самого мог бы сделать — не го
ворю Аристофан, но хоть кто-нибудь из его школы! Ко
медию фантастическую, необычайную, насмешливую и
трогательную, безжалостную ко всему, что есть слабого
и дурного в обществе и в самом человеке, и заканчи
вающуюся смехом над своею собственною нищетой, по
дымающуюся до возвышенного, чтоб и над ним по
смеяться, снисходящую до глупости, чтоб и ее просла
вить и бросить в лицо нашей спеси... Дорого бы мы
дали, чтобы быть зрителями такой комедии!» (I, 451—
452). Эти разновременные, но сходные высказывания
об Аристофане можно рассматривать в одном ряду с мно
гочисленными «заявками» Тургенева на сатирические
изображения в «Дыме». С точки зрения Тургенева-фи
лософа, и губаревцы, и баденские генералы, и светские
дамы из их окружения занимаются именно тем «вздо
ром», который «две тысячи лет тому назад» был осмеян
Аристофаном (ср.: Соч., IX, 119 и 247—248). В связи
с «Дымом» следует вспомнить также о римском поэте-
лирике Катулле, стихи которого определенно помогают
Потугину точнее выразить свое отношение к русской
действительности.
Одно из тургеневских стихотворений в прозе —
«Нимфы» — насквозь пронизано- античным колоритом.
В нем чувствуется сожаление о смене эпох, в резуль
тате которой веселая и непосредственная, женственно
прекрасная языческая античность, нашедшая отражение
в мифотворчестве, исчезла с лица земли под напором
аскетического христианства. Известно, что начало этого
стихотворения представляет собою поэтическую обра
ботку предания, зафиксированного Плутархом в его
трактате «Об ораторах».
47
Вообще, значение Плутарха
для Тургенева (как и значение некоторых других исто
риков античности, о которых придется говорить не
сколько ниже) до сих пор еще не оценено по достоин
ству. Дело в том, что в суждениях Тургенева, навеянных
детальным знакомством с сочинениями этого историка,
есть затаенная грусть, определенно гармонирующая
с его общефилософскими представлениями о смысле че-
47
См. комментарий М. П. Алексеева (Соч., XIII, 661).
95
ловеческой жизни. Добродушно иронизируя над Фетом,
развернувшим в семидесятые годы кипучую деятель
ность по упрочению своего материального благосостояния,
Тургенев писал: «Вы мне напоминаете Пирра и его бе
седу с Кинеасом. Помните: „Когда мы все завоюем —
мы будем отдыхать..." — „Да отчего же не сейчас от
дыхать?"» (XII, 376). Диалог или «беседа», о которой
здесь упоминается, полно приведена именно у Плутарха,
причем ее печальный философский подтекст подчерки
вается там недвусмысленно. Снедаемый неутолимой,
но не приносящей счастья жаждой побед и завоеваний,
не имеющий времени для размышлений о смысле про
исходящего вокруг, Пирр поражен верностью лаконич
ного замечания своего собеседника-философа.
48
Сила античного искусства, продолжающего оказывать
могучее воздействие на современного человека, особенно
подчеркивается Тургеневым в его очерке «Пергамские
раскопки». В 1880 году он специально посетил Берлин
ский музеи, "в котором реставрировались относящиеся
к III веку до н. э. греческие горельефы, изображавшие
битву богов с гигантами. «Там, — отмечал с художни
ческим волнением Тургенев, — есть
небольшая, вполне
сохранившаяся женская голова из желтоватого мра
мора. .. Эта прелестная голова до того кажется, по вы
ражению, нам современною, что, право, невольно ду
маешь, что она и Гейне читала и знает Шумана...»
(Соч., XV, 39). С восторгом рассказывая о тех же го
рельефах в письме к Полине Виардо, Тургенев воскли
цает: «О! существуют одни только греки, а мы все — эпи
гоны. .. Когда все это будет установлено, нужно при
ехать это посмотреть, — весь
мир будет совершать
паломничество, чтобы увидеть это, потому что это на
стоящие Святые места».
49
Все эти проявления большой любви и уважения Тур
генева к античной культуре засвидетельствованы им и
в почти официальной форме. Когда в конце 1860-х го
дов в русском обществе разгорелась полемика по поводу
реального и классического образования, Тургенев возра
жал против пуризма, догматизма и прочих злоупотребле-
48
См.: Плутарх. Сравнительные жизнеописания, т. П. М.,
1963, стр. 48.
49
«Иностранная литература», 1971, N° 1, стр. 193.
96
ний реакции в этом важном деле. Он защищал право
учащейся молодежи на свободный, соответствующий
ее природным задаткам, и склонностям выбор «реаль
ного» или «классического» направления в образовании.
О себе же самом он сказал: «Я вырос на классиках и
жил и умру в их лагере» (IX, 133).
Человеческая жизнь, отражаемая античным искус
ством, воспринимается Тургеневым-художником как- не
что" универсальное, всеобъемлющее и вм.есте с тем|
потенциально таящее в себе богатейшие задатки и пред-'
посылки глубоких отражений внутреннего мира чело
века искусством последующих эпох. В известном смысле
она — предвосхищение того, что занимает и волнует со
временного человека. Недаром в том же очерке «Пергам-
ские раскопки» Тургенев выражает согласие с искусст
воведами и критиками, которые «говорили о том, что и
в древнем^искусстве проявлялось нечто напоминаю
щее то, что гораздо позже называлось романтизмом и
реализмом» (Соч., XV, 38). Отсюда один шаг до диа
лектически^ многозначной интерпретации античного ис
кусства с точки зрения общефилософской. Именно
в этом искусстве, «озаренном словно вечно смеющимся
солнцем», Тургенев обнаруживает самые. _ранние под
тверждения своим философским размышлениям ^""чело
веческом ничтожестве. «Вы будете в Петербурге ди
виться превратности времен при взгляде на развалины
Боткина, — писал он в 1869 году — «О armes Menschen-
geschlecht, dem Laube des Waldes vergleichbar» — воскли
цал уже Гомер» (VIII, 102).
50
Аналогична его реакция
на слухи о приближающейся кончине Ф. И. Тютчева:
«... несчастный род человеческий,, листьям подобный»
(X, 129). Трагические обстоятельства в жизни и дея
тельности замечательных людей XIX века, из которых
многие были его близкими друзьями, а еще чаще
их смерть неизменно настраивали мысль Тургенева
на философский лад, гармонически озвученный ремини
сценциями из античной поэзии, истории и философии.
В добавление к сказанному напомним характерные суж
дения Тургенева в связи с ложным известием о пораже
нии Гарибальди: «Хотя мне хорошо известно, что роль
50
«О несчастное человеческое племя, подобное листьям леса!»
(нем.). — Курсив мой, — А. £.
7 А. Батюто
97
честных людей на этом свете состоит почти исключи
тельно в том, чтобы погибнуть с достоинством — и что
Октавиан рано или поздно непременно наступит на
горло Бруту — однако мне все-таки стало тяжело»
(V, 44). Вспомним также его отклики на смерть Стан
кевича, Белинского, Грановского, Добролюбова, Герцена,
Ю. Ф. Самарина и др. Этот «обычай» Тургенева удиви
тельно согласуется с одним из выражений древней клас
сической мудрости, принадлежащим Эпикуру: «Будем
выказывать сочувствие <умершим> друзьям не оплаки
ванием их, ^размышлением о них...»
51
Неточно цитируя «Илиаду» в переводе И. Г . Фосса,
чтением которого он увлекался еще будучи студентом
Берлинского университета, ^Тургенев придает гомеров
скому тексту подчеркнуто пессимистическую огласовку.
Про1схЬдит это в результате некой_ непреднамеренной
тенденциозности, обусловленной тем, что к Гомеру здесь
обращается не Тургенев-художник, восхищавшийся «мо
лодостью и свежестью» его эпической поэзии, а Тур
генев-философ, стремящийся оттенить в мировоззрении
легендарного автора «Илиады» и «Одиссеи» пока еще
очень смутные, но, с его точки зрения, несомненные при
знаки зарождения занимающей его философской про
блематики] Тургенев не прокладывает здесь какой-то но
вый путь в понимании античности, а следует давно на
метившейся традиции.
!
Он не первый занимался такой
философской «модернизацией» гомеровского текста.( Лю
бопытно, что нечто подобное мы встречаем в одной
из комедий Аристофана, которыми Тургенев так восхи
щался:
О ничтожное, жалкое племя людей, дети праха,
увядшие листья,
О бессильный, о слабый, о немощный род, преходящие
бледные тени,
О бескрылые, бренные вы существа, вы, как сон,
невесомы и хрупки...
Это цитата из комедии «Птицы».
52
Напомним, что
в конце сороковых годов Тургенев обещал прочесть По-
51
Материалисты древней Греции. Собрание текстов Гераклита,
Демокрита и Эпикура. Госполитиздат, М., 1955, стр. 223.
52
Аристофан. Комедии, т. II. М ., 1954, стр. 46.
98
лине Виардо именно «Птиц» или «Лягушек», предвари
тельно «отбросив всё, что там уж чересчур цинично»
(1,452).
В сущности, таково восприятие Тургеневым-филосо^
фом культурно-исторического наследия античной эпохи
в целом. Даже © тех случаях, когда античное искусство,
история и философия не дают исчерпывающего ответа
на волнующие его вопросы, ogn, в силу заложенных
в них потенций, все-таки представляют собою значитель
ную часть той фундаментальной основы, на которой
возникают и зиждутся философские построения в его
творчестве. При этом нужно иметь в виду, что такая
позиция Тургенева в отношении античности опреде
ляется задолго до выхода в свет большинства его по
вестей и романов, имеющих специфически философскую
окраску. Так, в конце 1857 года он пишет из Рима:
«Вчера я более часа бродил по развалинам Дворца це
зарей — и проникся весь каким-то эпическим чувством;
эта бессмертная красота кругом, и ничтожность всего
земного, и в самой ничтожности величие — что-то глу
боко грустное, и примиряющее, и поднимающее
душу...» (III, 179—180).
Как видим, альтернатива, в высшей степени харак
терная для философских настроений Паскаля (ничто
жество— величие), обосновывается
и формулируется
здесь независимо от последнего — и притом на «мате
риале» другой эпохи. Таким образом., .. .в .„жножествелном
сочетании мировоззренческих элементов (шекспиров
ский, паскалевский, гетевский, гегелевский, фейерба
хианский, пушкинский, субъективно авторский), при
дававших в конце концов своеобразное философское зву
чание романистике Тургенева и его творчеству в целом,
безусловно присутствие и античного элемента. В этом
убеждает конкретное сопоставление с данными античной
философии некоторых, как схожих с философией Пас
каля, так и противоречащих ей типических особенностей
тургеневского миропонимания.
Представления о безмерности пространства, о без
граничности вселенной, о величинах бесконечно малых,
ничтожных на фоне беспредельного мироздания были
свойственны уже миросозерцанию древнегреческих.- .фи
лософов-материалистов. В поэме Лукреция «О природе
вещей» есть такие строки:
7*
99
Должен ты помнить всегда, что вселенная неизмерима,
Видеть, что небо одно в отношении к целой вселенной
Есть лишь ничтожная часть у нее и малейшая доля,
Меньше еще, чем один человек по сравненью с землею.. .
53
Известно, что эти мысли о вселенной Лукреций за
имствует у Эпикура, а Эпикур в какой-то мере — у Де
мокрита и Левкиппа, которые впервые в древнегрече
ской философии выдвинули учение о мельчайших
материальных частицах-атомах, движущихся в окру
жающей их «великой пустоте».
Античные атомисты были зачинателями материали
стической философии, находившимися под сильнейшим
обаянием открытых ими всеобщих истин о природе ми
роздания. «Частной» проблеме, которая постоянно за
нимает Тургенева, они не успели уделить сколько-ни
будь серьезного внимания. Судьба отдельного человека,
«песчинки мирозданья», обладающей сознанием и по
тому остро ощущающей свою затерянность и уязвимость
в окружающем ее равнодушном и бесконечцом космосе,
их еще не очень печалила. Впрочем, утверждать это ка
тегорически вряд ли можно, так как от их сочинений
сохранились лишь разрозненные фрагменты, на основа
нии которых трудно составить достаточно полное пред
ставление об эмоционально-субъективном, своеобразно-
личностном выражении этой философии. Для этого не
обходима способность «прозрения»; однако ею обычно
обладали великие мыслители и художники последую
щих эпох, а Тургенев — один из них. j
Человеку, задумывающемуся о своем положении
в мире, Демокрит и, в особенности, Эпикур и его последо
ватели (главным образом Лукреций) советовали постичь
необходимость в природе вещей и выработать на этой
основе безмятежность духа, ясное и безбоязненное пред
ставление о жизни и смерти как закономерной и даже
(полезной смене естественных явлений в вечном мировом
движении^
54
Сам по себе этот факт говорит о том, что
аудитория античных философов не отличалась однород
ностью, что в ней имелись инакомыслящие, которых
53
Лукреций. О природе вещей. Пер. с лат., вступ. статья
и комм. Ф . А . Петровского. Изд. АН СССР, М., 1958, кн. VI,
стр. 224, стихи 649—652.
54
Лукреций пишет об этом подробно в кн. III своей поэмы.
100
следовало убедить, но на крторых_отнюдь. не всегда дои
ствовала логика научно-философских доводов. Кромо
того, существует предание о «вечно плачущем» Герак
лите и «вечно смеющемся» Демокрите, и писатели-фи
лософы, к числу которых принадлежал Тургенев, по-
видимому, воспринимали его как свидетельство одновре
менного зарождения иуэазвития традиций-, оптимизма и
пессимизма в античной фяяософшщ Любопытно, что это
предание нашло, в частности, отражение в заключитель
ной строфе шутливой позмы Вольтера «Jean qui pleure
et qui rit». Примечателен, далее, тот факт, что проци
тированная во французском оригинале в одном из писем
Е. А. Баратынского к матери, эта строфа попадает
в 1854 году в поле зрения Тургенева, занимавшегося
подготовкой к печати малоизвестных стихотворений
поэта. Тургенев переводит ее на русский язык.
55
Так,
благодаря «посредничеству» Баратынского, в -собрании
сочинений писателя появилось коротенькое, но харак
терное стихотворение — перевод из Вольтера, содержав
шее отдаленный намек на ту философскую проблему,
которая просвечивает затем в своеобразной тургеневской
цитации «Илиады» Гомера.
56
Античные материалисты уже оперировали философ
скими категориями необходимости и свободы, необходи
мости и случайности, но им было чуждо представление
о тесной связи, диалектической взаимопррникаемости
этих всеобщих законов._ Рни не допускали мысли об их
равноправном сосуществовании. Поэтому Эпикур декла
рировал: «Я предупредил тебя, случайность, и отгоро
дился от всякого твоего тайного проникновения.
Ни тебе, ни другому какому обстоятельству мы не вы
дадим себя. Но когда необходимость поведет нас, мы,
с презрением плюнув .на жизнь и на тех, кто за нее по-
55
^М^^_ммента£ий JVLJL_ Алексеевa_j[Co4^JClIX_ 689—690);
текст перевода из Вольтера- —там жег_28Э^
56
Разумеется, это вовсе не значит, что Тургенев впервые
познакомился с преданием о Демокрите и Гераклите обязательно
через Вольтера и Баратынского. Это предание упоминается, на
пример, в одном из герценовских «Писем об изучении природы^
впервые напечатанных в журнале «Отечественные запиоки»
за 1845—1846 гг. (см. «Письмо третье. Греческая философия»).
Но скорее всего Тургенев узнал о нем еще радше •=-$ студен
ческие годы, когда изучал историю философии,
v
101
пусту цепляется, уйдем из жизни, в прекрасной песне
победно восклицая, что жизнь нами хорошо прожита».
57
В целом эта жизнерадостно-фаталистическая трак
товка бытия, формулируемая к тому же в полемике
с теми, кто «попусту цепляется» за жизнь, т. е . с «пес
симистами», была неприемлема для Тургенева.); И все-
таки Тургенев-художник отдает ей известную дань (об
раз худржника-эпикурейца„ Шубина в романе «Нака
нуне» ).\ Но Тургенев-философ, всю жизнь страстно вос
стававший против действия закона необходимости в от
ношении бытия индивидуальности, нередко в такого
рода вопросах стоит на диалектических позициях, реши
тельно отвергая метод одностороннего предпочтения не
обходимости или свободы. Во всеоружии фундаменталь
ного знания истории философии он очень резко кри
тикует в 1870 году толстовско-урусовскую концепцию
исторического фатализма: «Нельзя так легко разре
шать вечный, более чем трехтысячелетний спор между
необходимостью вещей и свободной волей — и уничто
жение (как то делает Толстой) одной из спорящих сто
рон — не разрешение задачи; оно показывает только не
устойчивость и незрелость мысли, сопряженные с дет
ским нетерпением и самомнением недоучки» (VIII, 184).
При таком знакомстве с основами философии в их мно
говековом развитии неудивительна феноменальная зор
кость Тургенева на Тхаракт1з]шы^
Так, напри
мер, от него не укрылось, по-видимому, то обстоятельство,
что даже Эпикур, при всей безмятежности его миросо
зерцания, покоящегося на знании «общих и важнейших
принципов»,
58
на безоговорочном признании закона не
обходимости и т. п., все-таки испытывал по временам
смутное ощущение неуюта в мире. «Против всего можно
добыть себе безопасность, — отмечал Эпикур, — а
что
касается смерти, мы, все люди, живем в неукрепленном
городе».
59
Тургенев неоднократно высказывал нечто по
добное («перевалившись за пятьдесят лет, человек живет
как в крепости, которую осаждает — и:рацосили поздно
возьмет смерть», — писал он, например, в одном из пи
сем к Герцену — VII, 310). Весьма вероятно — во йсяг/
57
Материалисты древней Греции, стр. 222.
68
Там же, стр. 196.
69
Там же, стр. 220,
102
МоМ сйучае, не йсйл*очейо, — Что оДин из возйо#сны£
источников подобных его настроений и высказываний —
философские фрагменты Эпикура.
Наиболее тесно и конкретно-зримо соприкосновение
тургеневской философской концепции человеческого ни
чтожества с философией стоиков, возникшей уже на
закате античного мира и потому, при всем ее суровом,
подчас ледяном бесстрастии, пронизанной печальными
мотивами увядания и разрушения. При этом характерно,
что почти все мотивы как сходства, так и прямой или
прикровенной полемики Тургенева с произведениями
Паскаля, с неукоснительной закономерностью прослежи
ваются и здесь, в процессе «сличения» философии пи
сателя с философией стоицизма. Приведем несколько
примеров.
То, что говорят Паскаль и Тургенев о мимолетности
человеческой жизни, уподобляя ее точке, затерянной
между двумя бесконечностями времени и пространства,
несомненно гармонирует с высказываниями Сенеки и^
Марка Аврелия^ «Все мы... если наш краткий век срав
нить ~~с вечностью, находимся в одинаких условиях.
На долю каждого из нас выпадает из вечности меньше,
чем наименьшее; ибо и самая малая часть все-таки
часть; мы же живем бесконечно малое время, почти один
миг...»
60
Сенеке вторит Марк Аврелий — уже в самом
начале своей книги: «Жизнь вообще мимолетна...»
61
И далее: «Оглянись назад — там безмерная бездна вре
мени, взгляни вперед —там другая беспредельность...»;
«Нет, по-видимому, ничего устойчивого, а рядом с нами
безмерная бездна прошедшего и грядущего, в которой все
исчезает». И наконец: «Подумай о... краткости жизни,
о зияющей бездне вечности за тобой и пред тобой, о бес
силии всего материального».
62
Чем-то вроде прелюдии к философской беседе База
рова с Аркадием под стогом сена можно считать сле-
60
Люций Анней Сенека. Избранные письма к Люцилию.
СПб., 1893, стр. 216.— В дальнейшем ссылки на это издание
даются в сокращении: Сенека.
61
Марк Аврелий. Наедине с собой. Размышления. Пер.
с греч. и примеч. С. Роговина. Вступ. очерк С. Котляревского.
Изд. М . и С. Сабашниковых, М., 1914, стр. 19. — В дальнейшем
ссылки на это издание также даются в сокращении: Марк Авре
лий.
62
Там же, стр. 52, 66, 176.
103
дующие^х^актерные высказывания стоиков: «Каждый
день, каждьш~час доказывают нам наше ничтожество и
каким-либо новым способом напоминают забывшим о их
бренности, а задумавшихся о вечной жизни заставляют
вспомнить о смерти...»;
63
«Сколько Хризиппов, сколько
Сократов, сколько Епиктетов поглотила уже вечность!
Пусть эта мысль приходит тебе в голову по поводу каж
дого человека и каждой вещи... Скоро ты забудешь обо
всем, и все, в свою очередь, забудет о тебе».
64
Как отмечено выше, доминанта философской беседы
в гл. XXI «Отцовой детей».определяется в словах База
рова, текстуально напоминающих характернейшие по
ложения из «Perisees» Паскаля. Но нетрудно убедиться,
что медитации Базарова в данном случае с неменьшим
основанием можно рассматривать и в качестве почти
цитатного воспроизведения суждений на аналогичную
тему у Марка Аврелия, который склонен к бесконечным
вариациям в постановке этой философской проблемы.
Это ряд вопросов, на которые у него дается ответ, за
частую буквально предвосхищающий размышления и
Паскаля, и Тургенева, и его нигилиста.
Совпадения эти, конечно, не случайны. (В академиче
ском собрании сочинений и писем Тургенева есть лишь
одно-единственное упоминание о Марке Аврелии,
65
; тем
не менее этот в сущности самый яркий представитель
позднего римского стоицизма несомненно принадлежал
к числу тех философов, на которых никогда не распро
странялась ирония писателя. Мыслитель на троне, срав
нительно гуманный император, Марк Аврелий уже своих
современников подкупал необычным для человека столь
высокого положения пристальным вниманием к судьбе
отдельной личности?} Но, пожалуй, главным основанием
для философского тяготения Тургенева к Марку Авре
лию являлось то обстоятельство, что проблема человече-
63
Сенека, стр. 217.
64
Марк Аврелий, стр. 95.
65
В сентябре 1882 года Тургенев писал Л. Н . Толстому: «По
клонитесь от меня также переводчику Марка Аврелия князю
Урусову» (Х1Н2, 29). Очевидно, этот поклон человеку мало или
совсем незнакомому следует объяснить не только вежливостью
(как известно, Толстой тоже увлекался Марком Аврелием),
но и тем, что Л. Д . Урусов занимался переводом сочинений одного
из любимых тургеневских философов.
104
ского ничтожества в интерпретации этого стоика уже
имела признаки подспудно-лирической, элегической ок
раски, не свойственной размышлениям на эту тему
у других философов — его предшественников. У Марка
Аврелия просто, ясно, но подчас с глубокой грустью
говорится о том, что постоянно занимает Тургенева и
многих его героев.
«Какая частица безмерного и беспредельного времени
уделена каждому из нас? — вопрошает совсем «по-база-
ровски» Марк Аврелий. — Еще немного — и она исчез
нет в вечности... На каком клочке земли мы пресмы
каемся? ..» «Ничтожна жизнь каждого, ничтожен тот
уголок земли, где он живет, ничтожна и самая долгая
слава посмертная: она держится лишь в нескольких
кратковечных поколениях людей...» И еще: «Тебя ув
лекает мечта о славе? Обрати внимание на то, как
быстро все предается забвению, на хаос времени, бес
предельного в ту и другую сторону, на суетность пох
вал. .. на незначительность пространства, пределами
коего слава ограничена. Ведь вся земля только точка.
А какой крошечный уголок ее занимает место твоего
пребывания? . .»
66
Кроме несомненного созвучия с основными философ
скими мотивами повествования в гл. XXI романа «Отцы
и дети» здесь очевидна также перекличка с тем, что го
ворится о непрочности человеческой памяти в «Призра
ках», «Довольно» и во многих письмах Тургенева, хро
нологически близких этим произведениям. О зыбкости,
недолговечности «посмертной» славы Тургенев пишет,
например, Я. П. Полонскому (Декабрь 1868 года) как
о чем-то само собою разумеющемся, непреложном, как
аксиома: «Когда люди на земле воображали, что наш
шарик центр вселенной — то и они придавали всему
земному преувеличенное значение. Мысль, что через ка
ких-<нибудь> пятьдесят лет от твоей деятельности не
останется пылинки — очень охладительно действует на
самолюбие, — хотя, с другой стороны, вполне предаваться
ей не следует — а то, пожалуй, всякую работу бросишь»
(VII, 260). Та же мысль, но уже с непосредственным
применением к самому себе высказывается даже в поле-
66
Марк Аврелий, стр. 181^182, «32—33, 40.
105
мичной, предельно злободневной статье «По поводу „От
цов и детей
1
*»: «...что за важность? Кто через двадцать,
тридцать лет будет помнить обо всех этих бурях в ста
кане воды и о моем имени — с тенью или без тени?»
(Соч., XIV, 105—106)^ Но, как обычно у Тургенева,
солидарность с тем или иным философом не исключает
принципиальных разногласий с ним. V
Атеистов, выказывающих строптивое «нежелание убе
диться в непреложности обещания вечности», Паскаль
называет «презренными людьми». Квалифицируя неве
рие как признак «испорченности сердца», он призывает
этих отступников вернуться в лоно церкви, примириться
с богом.\дта. чуждая миросозерцанию Тургенева религи-
озно-морализатбрская, дидактическая тенденция весьма
ощутима" и в философии стоиковд Различие между стои
ками и Паскалем заключалось только в том, что в пер
вом случае в качестве .средства исправления скептиков,
бунтарей и отступников выдвигалась безусловная покор
ность языческим богам и законам природы, а во вто
ром — покорность всепримиряющему единому христиан
скому богу. В очевидном соответствии с тем, что гово
рится по этому поводу у Паскаля, Сенека утверждает:
«Ничтожен и жалок тот, кто вечно ропщет и, находя
неудовлетворительным мировой порядок, хочет исправ
лять богов, вместо того чтобы исправиться самому».
67
А Марк Аврелий пишет: «Наибольшим позором покры
вает себя душа человеческая, когда возмущается против
мира... ибо ропот по поводу чего-либо происходящего
есть возмущение против природы целого... Человек про
свещенный и скромный обращается ко вседающей и
всеотбирающей назад природе со словами: „Дай, что
пожелаешь, и возьми обратно, что пожелаешь". Говорит
же он так не из дерзновения, а повинуясь природе и
благоволя ей».
68
УЗСЛИ такого рода заявления в «Pensees» неоднократно
вызывали со стороны Тургенева активное теоретически-
философское и практически-художественное противодей
ствие, получившее особенно четкое и глубокое выраже
ние в романе «Отцы и дети£^то, очевидно, то же самое
следует сказать о его отношении к аналогичным момен-
67
Сенека, стр. 245.
68
Марк Аврелий, стр. 23, 149.
106
tfaM в философий стоицизма. ^Как художник-философ
Тургенев и у стоиков заимствуетГ"не характерную для
них систему общефилософского видения мдра,Г а ЛИШЬ
отельные ее положения, звучащие в унисон с его соб
ственным миросозерцанием. ^Все же остальное, и в том
числе конечные утешительские выводы стоиков, увенчи
вающие их размышления о человеческом ничтожестве,
или совсем не трогают писателя или отвергаются им по
тому принципу, которого он придерживался в процессе
творческого, неоднозначно сложного и подчас полемич
ного преломления и использования в своей романистике
философии Паскаля.
Правомерность такого заключения подтверждается
беглыми, но чрезвычайно емкими по своему философ
скому значению репликами Базарова, упоминавшимися
нами выше в числе прочих доказательств его безогово
рочного атеизма. Речь идет об угрюмо-иронических
базаровских советах своему отцу, потрясенному созна
нием надвигающейся роковой развязки: «Ну, коли хри
стианство не помогает, будь философом, стоиком, что ли!
Ведь ты хвастался, что ты философ?» Это вынесение
христианства в сущности за одни скобки с философией
стоицизма весьма знаменательно. Христианство и стои
цизм крдтически рассматриваются здесь в одном ряду
с точки зрения их возможностей облегчать страдания
человека, приносить ему утешение в трагических обсто
ятельствах жизни.
Что же именно мог иметь в виду Базаров, напоминая
отцу о философах-стоиках? Разумеется, не только обще
принятые ходячие представления о них как о людях,
умевших с завидным мужеством переносить тяжкие
удары судьбы. / Похоже на то, что в сложившейся ситуа
ции, когда христианство оказывается совершенно не
состоятельным, Базаров «кстати» вспоминает о доводах
стоиков против страха смерти и не без иронии реко
мендует своему отцу проникнуться хоть ими — как
последним из доступных для него средств утешенця^
«Мы умираем один за другим через короткие проме
жутки времени. Смерть настигает всех нас: победитель
следует за убитым. А потому не из-за чего особенно
беспокоиться. Не все ли равно, сколько времени укло
няться от смерти, которой в конце концов все-таки не
избегнешь?» Эта формула невозмутимости человеческого
107
i
духа перед лицом смерти провозглашалась Сенекой.
66
В данном случае не исключается намек Базарова и на
следующее еще более характерное философское умоза
ключение, принадлежащее тому же Сенеке: «Если же ты
слишком привязан к самому факту жизни, то знай, что
из того, что уходит с твоих глаз, ничто не гибнет, но
все возвращается в лоно природы, из которого вышло
затем, чтобы возродиться. Все кончается, ничто не исче
зает. И смерть, которой мы так боимся и ненавидим,
только видоизменяет жизнь, а не отнимает ее».
70
Сенека
касается здесь излюбленной античными философами и
не чуждой Тургеневу темы об извечном круговороте яв
лений в природе. Именно поэтому все сказанное им до
известной степени согласуется с некоторыми мотивами
в эпилоге «Отцов и детей».^Но, конечно, лишь до изве
стной степени, так как у Тургенева и его героя нет и
тени уверенности в том, в чем так уверен (или делает
вид, что уверен) Сенека, который пишет далее: «Насту
пит день, и мы снова выйдем на свет... Кто надеется
вернуться, тот уходит спокойно»^
1
(Таким образом, то, что еще могло, -хотя бы теорети
чески, сослужить _ какую-то службу человеку слабому,
нуждающемуся в поддержке, совершенно бессильно и
недействительно в отношении Тургенева и его героя.
В глазах реалиста Базарова, подступившего к последней
своей черте, всякое религиозно-философское утешитель-
ство, какой бы изощренной аргументацией оно ни рас
полагало, несостоятельно, иллюзорно, призрачно. Будь
Базаров чуточку поречистее, он выразил бы свое отно
шение к такому утешительству словами Тургенева, ска
занными в декабре 1861 года, т. е. в пору работы над
романом. Он бы сказал, что «естественной потребности»
в религии он в себе не ощущает, а «с легкомыслием или
69
Сенека, стр. 198.
70
Там же, стр. 71 . — Религиозным вариантом этого утеши
тельного философского положения является довод, часто выдви
гавшийся Марком Аврелием; он впечатляет сочетанием почти
детской наивной непосредственности и непоколебимой логики:
«Если боги существуют, то выбыть из числа людей
v
вовсе
не страшно: ведь боги не ввергнут тебя во зло. Если же богов
не существует, или им нет дела до людей, то что за смысл мне
жить в мире, где нет богов или нет промысла? Но боги сущест
вуют. ..» (Марк Аврелий, стр. 20).
71
Сенека, стр. 71 .
108
с стоицизмом... отворачивать глаза» от проблем бытия
и небытия он тоже не в состоянии.
Снова несколько забегая вперед, отметим, что в пред
смертных лаконичных собеседованиях с отцом, а также
с Одинцовой («старая штука смерть, а каждому внове»)
Базаров-философ вольно или невольно в чем-то, быть
может, перекликается с Шопенгауэром, который утвер
ждал: «Смерть — поистине гений-вдохновитель, или му-
загет, философии... Едва ли даже люди стали бы фило
софствовать, если бы не было смерти». Он же, касаясь
вопроса о религиозно-философском утешительстве, кон
статировал с оттенком высокомерия: «Подобное утеше
ние составляет главную цель всех религий и философ
ских систем, и они прежде всего представляют собою
извлеченное из собственных недр мыслящего разума
противоядие против нашего сознания о неизбежности
смерти».
72
с Однако и шопенгауэровская философская си
стема оказалась, в конце концов, отнюдь не свободной
от утешительства.
Тургенев и его герои часто «спотыкаются» на воп
росе о смерти. £Это для них извечно актуальная и не
разрешимая проблема^ Неисправимые жизнелюбцы, они
не в состоянии примириться с мыслью о грядущем
превращении каждого индивидуума в «ничто» и говорят
об этом всегда с позиций интересов всего человечества,
человека вообще. «Случается, что человек, — отмечает
Тургенев в эпилоге романа «Накануне», — просыпаясь,
с невольным испугом спрашивает себя: неужели мне
уже тридцать... сорок... пятьдесят лет? Как это жизнь
так скоро прошла? Как это смерть так близко надвину
лась?» (Соч.,
VIII, 166. Курсив мой, — А. Б.).
В 1878 году, сравнивая течение человеческой жизни
с действием песочных часов, Тургенев думает о том же:
«Когда я лежу в постели и мрак облегает меня со всех
сторон —мне постоянно чудится этот слабый и непре
рывный шелест утекающей жизни... Мне жутко»
(Соч., XIII, 210). Подобного рода размышления крайне
типичны для Тургенева и его персонажей, но совершенно
72
Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление,
т. II. Пер. Ю. И. Айхенвальда. М ., 1901, стр. 476—477. — В дальней
шем ссылки на это издание даются в сокращении: Шопен
гауэр.
109
иное мм видим у Шопенгауэра. Подготавливал позиции
для провозглашения своих окончательных философских
выводов, он пишет: «. Л^в_Европе мнения человека — и
часто даже одного и того же человека — сплошь да ря
дом продолжают колебаться между пониманием смерти
как абсолютного уничтожения и уверенностью в нашем
полном бессмертии с ног до головы.1_Д тот и другой вы
вод одинаково неверны^ но для нас важно не столько
найти правильную" средину между ними, сколько под
няться на более высокую точку зрения, с которой по
добные взгляды рушились бы сами собою».
73
На эту
«более высокую точку зрения», отражающую равнодушие
и презрение к жизни, Шопенгауэр впоследствии и подни
мается. Что же касается Тургенева, он принципиально
не мог до нее «возвыситься», — между прочим, и потому,
что в отличие от Шопенгауэра был гуманистом, не пре
зирал, а любил и жалел людей. Презрение, с одной
стороны, и любовь и жалость, с другой — это и есть те
два философски непримиримых полюса в отношении
к человеку и его жизненному уделу, на которых вполне
независимо и обособленно друг от друга располагаются
мысль Шопенгауэра и мысль ТургенещЦ
В проявлениях гуманизма Тургенева нередко ощу
щается добрая старая закваска фейербахианского фило
софского антропологизма, который он горячо приветство
вал в годы своей молодости. Недаром же Тургенев еще
тогда называл Фейербаха «единственным человеком»
среди немецких философов.
В дальнейшем мы еще неоднократно убедимся в осо
бой, чреватой далеко идущими последствиями симпатии
Тургенева к Марку' Аврелию, симпатии, обусловленной
не только совпадениями в их философских суждениях
о человеческом ничтожестве, но также известной общно
стью в их представлениях о характере исторического
процесса. |Тем не менее целый ряд положений и выводов
этого философа, сформулированных в соответствии с ос
новными догмами стоицизма, был органически несовме
стим с тревожным, но в конечном итоге жизнелюбивым
миросозерцанием писателя. Многие философские поуче
ния Марка Аврелия сводились к пренебрежительному
73
Там же, стр. 477—478. — Курсив мой, — А. В.
110
отказу от радостей и горестей жизни, к проповеди того,
чтобы человек «стоял выше наслаждений и страданий...
а самое главное —- чтобы он безропотно ждал смерти,
как простого разложения тех элементов, из которых
слагается каждое живое существо...» «Если для самих
элементов нет ничего страшного в их постоянном пере
ходе друг в друга, — с холодным спокойствием замечает
философ, — то где основания бояться кому-либо их об
щего изменения и разложения? Ведь последнее согласно
с природой, а то, что согласно с природой^ не может
быть дурным».
74
Для Тургенева-философа это, конечно,
не довод. «То, что согласно с природой», обрекающей
человека и его творения на смерть и разрушение, пред
ставляется ему «дурным» даже в «Довольно» и в таких
его позднейших произведениях (см., например, начало по
вести «Вешние воды»), где говорится об «отвращении
к жизни» («taedium vitae») с характерными ссылками
на «римлян».
Марк Аврелий отчасти предвосхищает тургеневские
размышления о природе в рецензии на «Записки ружей
ного охотника», в повести «Поездка в Полесье» и неко
торых других произведениях. Так, например, он пишет:
«Для природы целого вся мировая сущность подобна
воску. Вот она слепила из нее лошадку; сломав ее, она
воспользовалась ее материей, чтобы вылепить деревцо,
затем человека, затем еще что-нибудь. И все это суще
ствует лишь самое краткое время».
75
Как философская
констатация факта это вполне приемлемо для Тургенева.
Но тот же; Тургенев никогда и ни в коей мере не со
гласился бы с впечатляюще образным и вместе с тем
логически-бесстрастным заключением этой характери
стики бессознательной деятельности неустанно созидаю
щей и разрушающей природы: «Для ларца (подразуме
вается человек, его жизнь,—А. Б.) нет ничего ужасного
в том, чтобы быть разобранным, как и в том, чтобы быть
сколоченным».
76
74
Марк Аврелий, стр. 23—24 .
75
Там же, стр. 95—96.
76
Там же, стр. 96. — Аналогичные красочно-бесстрастные су
ждения на эту тему встречаются в книге Марка Аврелия нередко.
Например: «На жертвеннике много кусочков ладана. Один из них
попал сюда раньше, другие позже — разницы здесь нет никакой»
(стр. 43).
Ш
Щ^цостоянном антагонизме с такого рода «бесчувст
венной» философией очень рельефно сказывается сущест
венное отличие пессимизма Тургенева от пессимизма
в обычном, традиционном понимании этого слоца. > Пес
симизм Тургенева безутешен, однако его безутешность
следствие^ не столько усталости или разочарования
в жизни, сколько неутолимой любви к ней, к ее «слу
чайностям и капризам», к ее «мимолетной красоте»,
находящей полное выражение в индивидуальности, в че
ловеке — высшем творении природы. Тургенев грустит
и печалится не оттого, что жизнь не представляет собою
ничего притягательного, ^лавный и постоянный источ
ник его философской печали — в сознании неизбежности
ее прекращения, в сознании того, что отдельный человек,
будь он даже Фауст или Прометей, не может рассчиты
вать на личное бессмертщуЕго угнетает мысль об утрате
способности ощущать, мыслить, страдать, любить, дей
ствовать. В канун нового 1883 года Тургенев указывает
в своем дневнике на то, что беспокоило и волновало его
еще в ранней молодости: «Ничтожество меня страшит —
да и жить еще хочется...» (Соч., XV, 212).^Диалекти
чески-неразрывное сочетание «пессимизма» и «опти
мизма» в философских настроениях писателя, выраженное
этой удивительно простой и в то же время емкой по
смыслу фразой, характеризует всю его жизнь и литера
турную деятельность.) В июне 1870 года Тургенев пишет
Полине Виардо: «Кажется, Боткин говорил Анненкову
накануне своей смерти с той превосходной сжатостью
русского языка, в которой он не уступает даже латыни:
„Хоть так, да жить!" По-французоки это значит: „Даже
в состоянии, в каком вы меня видите, — жить прежде
всего". Мы еще не дошли до состояния Боткина — это
лишний повод хотеть жить!»
77
И в последние свои ме
сяцы, омраченные непрерывным физическим страданием
и мучительным ожиданием конца, Тургенев утверждает:
«Жизнь все-таки дело хорошее» (XIIIi, 256). Но как все
это противоречит основному философскому убеждению
Шопенгауэра, наиболее четко сформулированному также
под конец жизни и притом не без ходульно-театрального
пафоса! «С объективной ценностью жизни дело обстоит
весьма скверно, — резюмирует Шопенгауэр, — и во вся-
77
«Иностранная литература», 1971, No 1, стр. 188.
112
ком случае остается под большим сомнением, следует
ли жизнь предпочитать небытию; можно сказать даже
так, что если бы предоставить свободу слова опыту и
рассуждению, то небытие, наверное, взяло бы верх.
Постучитесь в гробы и спросите у мертвецов, не хо
тят ли они воскреснуть, — и они отрицательно покачают
головами».
78
В окружающем мире для Тургенева не существует
явлений, которые были бы «хуже смерти». Так он ду
мает в сороковые годы, влюбленно созерцая безмятеж
ное колыхание «маленькой живой веточки» под лучами
солнца. Так он думает и в шестидесятые и семидесятые
годы —и скорбя над могилой Базарова, и провожая
в последний путь друзей молодости, и создавая свои
«пессимистические» шедевры «Довольно» и «Стихотворе
ния в прозе». «Отрицание всякой живой человеческой
жизни» Тургенев инкриминирует даже Л. Н. Толстому,
опубликовавшему
в 1882 году свою
«Исповедь»
(ХШ2, 89).
(Несмотря на очевидность своеобразной и очень глу
бокой оптимистической подосновы печали Тургенева, она
мало или "совсем не учитывалась научной литературой,
специально посвященной генезису его миросозерцания
в шестидесятые и последующие годы.,Это привело к серь
езным просчетам в определении как специфики, так и
удельного веса пессимизма в его творчестве. С наиболь
шей отчетливостью это сказалось в непомерном преуве
личении влияния философии Шопенгауэра на Тургенева.
Обратимся теперь непосредственно к освещению этого
вопроса.
Нет сомнения, интерес Тургенева к Шопенгауэру был
глубоким и, начиная с определенного момента, доста
точно устойчивым. Большинство исследователей сходится
на том, что первые признаки шопенгауэризма появ
ляются в переписке Тургенева с графиней Е. Е. Ламберт
(крайние даты—1856—1867). Действительно, отрывки
некоторых писем писателя к этой образованной велико
светской даме, отличавшейся, подобно Лизе Калитиной,
религиозностью и независимостью мысли, звучат как
явные отголоски идей Шопенгауэра. В мае 1861 года
Тургенев поверяет ей свое представление о счастье:
78
Шопенгауэр, стр. 479.
8 А. Батюто
ИЗ
«Жизнь вся в прошедшем — а настоящее только дорого,
как отблеск прошедшего... А между тем, что же было
такого особенно хорошего в прошедшем? Надежда, воз
можность надеяться — т. е . будущее... Это похоже на
игру слов — но оно действительно так. Жизнь человеческая
так и проходит —- entre ces deux chaises» (IV, 236—237).
Конечно, это не случайная «игра слов», не результат
склонности к легкой и блестящей, ни к чему не обязы
вающей салонной causerie — уже хотя бы потому, что
_в
художественном творчестве Тургенева неоднократно
встречаются развернутые, классически законченные об
разные эквиваленты этим философским размышле
ниям, — таковы, например, интимно-лирические шедевры
его «Первая любовь» и «Вешние воды|. И все это безу
словно находит определенное соответствие в сочинениях
Шопенгауэра. «Если жизнь что-нибудь дает, то лишь
N
для, того, чтобы отнять, — утверждает Шопенгауэр. —
у
Очарование дали показывает нам райские красоты, — но
они исчезают, подобно оптической иллюзии, когда мы
поддаемся их соблазну. Счастие, таким образом, всегда
лежит в будущем или же в прошлом, а настоящее по
добно маленькому темному облаку, которое ветер гонит
над озаренной солнцем равниной: перед ним и за ним
все светло, -— только оно само постоянно отбрасывает
от себя тень. Настоящее поэтому никогда не удовлетво
ряет нас, а будущеее ненадежно, прошедшее невоз
вратно».
79
Начало увлечения Тургенева Шопенгауэром «дати
ровалось» и еще конкретнее — моментом выхода в свет
третьего лейпцигского издания «Мира как воли и пред
ставления» (1859).
80
Есть, однако, данные, на основании
которых можно предполагать, что первое знакомство пи
сателя с философией Шопенгауэра состоялось значи
тельно раньше, что оно предшествовало и появлению
в печати упомянутого лейпцигского издания и началу
его переписки с Ламберт. Чтобы убедиться в этом, сде
лаем небольшое отступление в область эстетики.
^Шопенгауэр придавал огромное значение искусству
и особенно подчеркивал его роль в качестве самого
79
Шопенгауэр, стр. 594.
80
Л. Гроссман. Последняя поэма Тургенева (Senilia),
стр. 86.
114
важного (после философии), „средства дознания Дейст-
витеЛБностиД Без опасения совершить грубую методоло
гическую ошшку, можно даже сказать, чта^некоторые
его высказывания по эстетическим вопросам не противо
речили русской материалистической эстетике 1840—1860-х
годов. «Творения поэтов, живописцев и художников во
обще, — отмечал Шопенгауэр, —, содержат в себе, по об
щему признанию, целую сокровищницу глубокой муд
рости, так как из них говорит мудрость самой природы
вещей, — откровения этой природы искусство только пе
редает на более понятном языке чистейшего воспроизве
дения».
81
Не кто иной как Шопенгауэр утверждал также,
что «каждое произведение искусства стремится... к тому,
чтобы показать нам жизнь и вещи такими, каковы они
в действительности...»
82
^До этого пункта в рассужде
ниях Шопенгауэра с ним, пожалуй, согласились бы и
Белинский и Чернышевский, не говоря уже о Тургеневе.
Но только до этого пункта, \ так как дальше явно наме
чаются реальные предпосылки некоего потенциального
единомыслия Шопенгауэра главным образом с Тургене
вым, единомыслия, сказавшегося, в конце концов, в ак
тивном неприятии автором «Записок охотника» и «Ру-
дина» некоторых характерных положений эстетики Чер
нышевского.)
Внимательно проштудировав «Эстетические отноше
ния искусства к действительности», Тургенев писал
В. П . Боткину и Н. А. Некрасову 25 июля ст. ст.
1855 года: «Что же касается до книги Чернышевского —
вот главное мое обвинение против нее: в его глазах
искусство есть, как он сам выражается, только суррогат
действительности, жизни и в сущности годится только
для людей незрелых. Как ни вертись, эта мысль у него
лежит в основании всего. А это, по-моему, вздор. В дей
ствительности нет шекспировского Гамлета — или, пожа
луй, он есть — да Шекспир открыл его — и сделал до
стоянием общим. Чернышевский много берет на себя,
если он воображает, что может сам всегда дойти до этого
сердца жизни» (II, 300—301). ^винение в ^едооценке^
познавательной, сшы^сщш1ва_— в
этоц суть_тургенев-
ской критики эстетического трактата Чернышевского, по
Шопенгауэр, стр. 417—418.
Там же, стр. 417.
8*
115
сей день не утрачивающей своего принципиального зна-
чёнийг.~Яо~ выдвигая свой «главный» контраргумент про
тив эстетики Чернышевского, Тургенев, как нам кажется,
вполне мог опираться и на Шопенгауэра, который в од
ной из специальных глав своей книги («О внутренней
сущности искусства») говорит следующее:/«.. .в резуль
тате каждого чисто объективного, а следовательно и
каждого художественного восприятия вещей является
новый взгляд на сущность жизни и бытия, новый ответ
на вопрос: „что такое жизнь?" На этот вопрос каждое
истинное и удавшееся художественное произведение
дает, на свой лад, вполне правильный ответ». И далее
(но здесь мы вынуждены отчасти повторить процитиро
ванное выше): «... Каждое произведение искусства стре
мится, собственно говоря, к тому, чтобы показать нам
жизнь и вещи такими, каковы они в действительности,
jto какими не всякий может видеть их непосредственно,
потому что они окутаны туманом объективных и субъек
тивных случайностей. Этот туман искусство и рассеи
вает»^ Если не по форме, то по сути своей, что, ко
нечно, гораздо важнее, эти высказывания совершенно
идентичны знаменитым репликам Тургенева по поводу
«Эстетических отношений...». С помощью приведенных
параллелей можно уточнить, как нам кажется, прибли
зительную дату знакомства Тургенева с сочинениями
Шопенгауэра. Эта дата — не позднее первой половины
1855 года.
Впрочем, и независимо от знакомства Тургенева с со
чинениями этого философа к середине пятидесятых го
дов в их эстетике несомненно были объективно родствен
ные мотивы. Оба, например, часто цитируют в разных
вариациях меткое суждение Вольтера («секрет быть
скучным, это — говорить все»), полагая его в основу
своих представлений о «технике» создания подлинно
художественных произведений. Оба отличались способ
ностью чрезвычайно острого и яркого ощущения кра
соты мира и «магической» силы искусства, тонко улав
ливающего и отражающего эту красоту.
Шопенгауэр утверждал, что/«в искусстве... лучшее
слишком духовно для того, чтогаг его можно было пре
подать внешним чувствам: оно должно родиться в фан-
Там же, стр. 417. — Курсив мой, — А. В.
116
Т&ЗЙИ зрители, хотя рождает его само художественное
произведение. Вот чем объясняется, что эскизы великих
мастеров часто производят более сильное впечатление,
чем их законченные картины. , .»
84
^ Эта характеристика
Шопенгауэра, относящаяся в основном к живописи,
вполне применима ко многим произведениям Тургенева.
[В_своей художественной практике он нередко руководст
вуется аналогичными эстетическими принципами и соз-
дает~"тэскйзы», поражающие современников богатством
и одухотворённостью содержания,Уне^всегда поддающегося
обычным меркам определения идейно-эстетатеской^ цен
ности литёратурющ^произведений. .Вспомним, что Гонча
ров называл Тургенева мастером именно «эскиза» и
с этой точки зрения восхищался «Записками охотника»
и некоторыми сценами в его романах. Но еще более ха
рактерны в этом отношении отзывы «свирепого» Щед
рина, который был «потрясен» потоком «светлой поэзии,
разлитой в каждом звуке» «Дворянского гнезда» и явно
не находил слов для точного определения своих впечат
лений, порожденных чтением этого романа. «Да и что
можно сказать о всех вообще произведениях Турге
нева? — восклицал Щедрин. — То ли, что после прочте
ния их легко дышится, легко верится, тепло чувствуется?
Что ощущаешь явственно, как нравственный уровень
в тебе поднимается, что мысленно благословляешь и
любишь автора? Но ведь это будут только общие места,
а это,' именно это впечатление оставляют после себя эти
прозрачные, будто сотканные из воздуха образы, это
начало любви и света, во всякой строке бьющее живым
ключом и однако ж все-таки пропадающее в пустом
пространстве. Но чтоб и эти общие места прилично вы
сказать, надобно самому быть поэтом и впадать в ли
ризм. Герои Тургенева не кончают своего дела: они
исчезают в воздухе... Поэтому-то хоть о Тургеневе и
много писали, но не прямо об нем, а лишь по поводу
его... о самом Тургеневе писать невозможно. Сочине
ния его можно характеризовать его же словами, кото
рыми- он заключает свой роман: на них можно только
указать и пройти мимо. Я давно не был так потрясен,.
но чем именно — не могу дать себе отчета. Думаю, что
ни тем, ни другим, ни третьим, а общим строем ро-
84
Там же, стр. 418—419.
117
мана».^ Аналогичное настроение неизбеяКйо порождается
«Дворянским гнездом» и в душе современного читателя —
даже при повторном и многократном перечитывании
этого романа.
/Можно привести десятки философских суждений
Тургенева, напоминающих те или иные высказывания
в сочинениях Шопенгауэра. Так, характерному тезису
Шопенгауэра о тщете усилий человечества, направлен
ных на то, чтобы разорвать цепи извечно царящего
в мире страдания, определенно соответствует не менее
характерное образное тургеневское резюме на ту же
тему: «Мухи, без передышки бьющиеся об оконное
стекло, — вот, думается, самое точное наше изображение»
(V, 457). Давно установлено, что перекличка с Шопен
гауэром наиболее отчетлива в «Довольно». /Тургенев
в «Довольно» и Шопенгауэр в своей книге «Мир как
воля и представление» пользуются даже одной и той же
лейсикой, заимствованной из произведений Шекспира.
Чтобы убедиться в этом, достаточно процитировать одно
из многочисленных шопенгауэровских опровержений фи
лософского положения Лейбница, высмеянного в свое
время Вольтером («все к лучшему в этом лучшем из
миров»): «Когда мы присмотримся к актерам, которые
действуют на столь прочно устроенной сцене, когда мы
увидим, что вместе с впечатлительностью появляется и
страдание, возрастая в той мере, в какой она развивается
до интеллигенции, и что рука об руку с последней все
больше и больше выступают и усиливаются алчность и
горе, пока, наконец, человеческая жизнь не обращается
в сплошной материал для одних только комедий и тра
гедий, — тогда ни один человек, если только он не
лицемер, не почувствует склонности петь славословия».
86
В одном из тургеневских стихотворений в прозе изобра
жается «разговор» альпийских вершин Юнгфрау и Фин-
с^ерааргорна, надменно взирающих на суетливое суще
ствование раскинувшегося у их подножия людского му
равейника. В течение «разговора» проходят «тысячи
85
Н. Щедрин (М. Е . Салтыков). Поли. собр. соч.,
т. XVIII. Гослитиздат, М., 1937, стр. 144. — Термин Салтыкова-
Щедрина («общий строй романа») несколько позднее употреб
лялся также Добролюбовым и тоже применительно к творчеству
Тургенева —в статье «Когда же придет настоящий день?»
(см.: Н. А. Добролюбов. Собр. соч. в 9 томах, т. VI, стр.105).
86
Шопенгауэр, стр. 604.
118
лет —одна минута», и люди, «козявки», жалкие «дву
ножки», исчезают под белой холодной пеленой безмолвия
(результат неизбежного катаклизма), а горы, неизменные
и величавые, остаются на прежнем месте, «над навсегда
замолкшей землей». ^Впечатляющие образы этого сти
хотворения как бы вышиты по философской кавгве,
скупо намеченной Шопенгауэром: «... только горы одни
выдерживают натиск того разрушительного потока, ко
торый быстро увлекает все на свете, а с ним и нашу соб
ственную эфемерную личность».
87
\Однако сколько бы мы ни занимались подобного рода
сопоставлениями с целью подчеркнуть преемственность
или параллелизм в философском мышлении Тургенева
и Шопенгауэра, все-таки: не они создадут законченное
представление о действительных пропорциях шопенгауэ-
ризма в творчестве писателя. Нужна более, „широкая,
конвенционная точка зрения, опирающаяся на конкрет-
н^"~^равнйтельный анализ преломления в творчестве
Тургенева и Шопенгауэра каких-то общих для них круп
ных социально-политических и философских проблем.
Ёсли~~в принципиальном их решении Шопенгауэром и
Тургеневым наблюдается гармония — вывод будет один,
если же нет, придется расстаться с некоторыми тради
ционно сложившимися на этот счет представлениями
Ряд узловых, актуальных как для Тургенева, так и
для Шопенгауэра социально-философских и этических
проблем \ (проблема долга и «вины», вопрос о человече
ском ничтожестве и проблемы, связанные с пониманием
характера и сущности исторического процесс^ впервые
выпукло обозначен в тургеневедении 1930-х годов —
в упоминавшихся «статьях и монографиях JL Д^ЛуМг
пянского, И. И . Векслера^ отчасти М. К. Азадовского,
М. К . Клёмана
88
и др. Но вся эта проблематика и в осо
бенности основные предпосылки обращения к пей Турге
нева хгатерпретируются в трудах названных ученых слиш
ком ojs^ocTO^o^He и не 5ёз уклона к вульгарнб^сбциоло
гическим построениям, характерным для литературове
дения тех лет. В самом деле, Л. В . Пумпяотскйй" и
его последователи объясняют интерес Тургенева к Шо-
87
Там же, стр. 415.
88
М. К . Клеман. Иван Сергеевич Тургенев. Очерк жизни
и творчества. Гослитиздат, Л., 1936, стр. 97, 166—169.
119
пенгауэру и такими факторами, как исключительная мода
па него в Западной Европе начала 1850-х годов, обще
доступностью его сочинений, граничащей с «мифологиче
ским^ примитивизмом», и т. д . и т. п . Главной же пред
посылкой обращения Тургенева к Шопенгауэру они счи
тают настроения, связанные с революционными выступле
ниями народных масс в 1848 году. После событий
1848 года господствующий класс теряет уверенность
в прочности своих позиций хозяина жизни, сомневается
в своих творческих возможностях, утрачивает представ
ление о перспективах общественного и исторического
развития и ищет оправдание своей неспособности к ак
тивной перестройке мира в философских системах пес
симизма. «Буржуазия нашла своего мудреца» в лице
Шопенгауэра, — замечает Л. В . Пумпянский, — «и ради
него изменила традициям своей же собственной класси
ческой философии, наследие которой было ей уже не по
силам... Это был грубый регресс».
89
Поскольку духов
ное развитие Тургенева неотделимо, по утверждению
ученого, от буржуазной культуры Запада, он неизбежно
подвергается общей участи, т. е . воспринимает из без
отрадно-упадочной философии Шопенгауэра наиболее
характерные ее черты и является, таким образом, про
водником «грубого регресса» в своем собственном твор
честве. Л. В . Пумпянский недвусмысленно утверждает
это, определяя /философское развитие Тургенева как
«путь от умеренного "гегельянства к импрессионистиче-
ско^ушопенгауэризму».
90
* Л. В. Пумпянский не распро
страняет свое обобщение на романы Тургенева,-—в этом
отношении он гораздо осторожнее И. И. Векслера и
М. К. Клемана^)—однако согласившись с его утвержде
нием о могучем, поистине универсальном философском
воздействии Шопенгауэра на буржуазную интеллигей-
цию своего времени и, в частности, на Тургенева^неиз-
бежно пришлось бы доводить его мысль до конца./ТЭтого
потребовала бы прежде всего логика изучения творче
ства Тургенева, в котором роман и новелла хронологи
чески (да и не только) постоянно сопутствуют друг
ДРУГУ- Если создавая сегодня новеллу, писатель испы
тывает влияние Шопенгауэра, он, очевидно, не сможет
89
Л. В . Пумпянский. Тургенев-новеллист, стр. 6, 7.
90
Там же, стр. 7.
120
йё испытывать его й завтра, работая над романом. К та
кой постановке вопроса обязывает и выдвщжение
1848 года в качестве даты, знаменующей начало некоего
поворота в философском развитии Тургенева. Приняв
на веру это разграничение эпох в философском развитии
писателя, пришлось бы бесплодно доказывать, что в из
вестном смысле реакционны и упадочны все ~шесть~его
романов, сыгравших немаловажную роль в формиро
вании передового общественного самосознания в Рос
сии, а заодно и антикрепостнический цикл «Записки
охотника», добрая половина которого написана также
после 1848 года. /
LMbi не согласны с точкой зрения Л. В . Пумпянского'
и считаем, что ей можно противопоставить любой не
предвзятый взгляд на творчество Тургенева. Сошлемся
все же на авторитетный отзыв, сформулированный вскоре
после кончины Тургенева одним из великих русских
писателей. \
«Воздействие Тург<енева> на нашу литературу было
самое хорошее и плодотворное. Он жил, искал и в про
изведениях своих высказывал то, что он нашел —
все, что нашел. Он не употреблял свой талант... на то,
что<бы> скрывать свою душу, как это делали и делают,
а на то, чтобы всю ее выворотить наружу. Ему нечего
было бояться. По-моему, в его жизни и произведениях
есть три фазиса: 1) вера в красоту (женскую любовь—
л
искусство). Это выражено во многих и многих его ве
щах; 2) сомнение в этом и сомнение во всем. И это вы
ражено и трогательно, и прелестно в „Довольно", и
3) не формулированная, как будто нарочно из боязни
захватать ее... двигавшая им и в жизни, и в писаниях
вера в добро — любовь и самоотвержение, выраженная
всеми его типами самоотверженных и ярче и прелестнее
всего в Дон-Кихоте, где парадоксальность и особенность
формы освобождала его от ... стыдливости перед ролью
проповедника добра». Эта суммарная философско-эсте -
тическая и этическая оценка личности и творчества Тур
генева принадлежит Л. Н. Толстому,
91
и она несрав
ненно точнее и справедливее по существу дела. Позд
нейшим жестким обвинениям в потенциальной реак-
91
Л. Н. Толстой. Поли. собр. соч., т. 63. Гослитиздат, М,—Л.,
1934, стр. 149—150.
121
циоййости, в
«соЦиальйо» обусловйейнок тяго^еййй
к упадочной философии, оказавшей «культуропонижаю-
щее» воздействие на ряд повестей писателя, сделавшей
их «культурно бесплодными»,
9
3 здесь противостоит тезис
о «сомнении во всем», по-человечески естественном и
к тому же выраженном «и трогательно и прелестно»;
проникновенная характеристика открытости по природе
светлого таланта, которому «нечего было бояться», не
зачем «скрывать свою душу»; и, наконец, констатация
совсем уж несвойственной Шопенгауэру веры в добро,
стыдливой, но неизменной. Все эти «компоненты» всегда
составляли основу личности и творчества Тургенева — и
до и после 1848 года.
В конце концов несостоятельными оказались и ши
роко распространенные в тургеневедении 1930-х годов
представления об эстетическом credo Тургенева, сфор
мулированном в «Довольно»: «Венера Милосская, по
жалуй, несомненнее римского права или принципов
89 года».! ^
этот Д0В
°Д
в
Ф°Р
ме
сомнения, в котором
чувствуется боль души и уж во всяком случае не зло
радство в связи с так и не состоявшимся проведением
в жизнь принципов братства, равенства и свободы,у вос-
принимался как саморазоблачение писателя-идеалёга,
изверившегося в социальном прогрессе.^ При этом, од
нако, не учитывалось, что, с точки зрения Тургенева,
искусство оказывалось «несомненнее» и «реальной по
литики» Бисмарка, одушевлявшей милитаристские при
тязания реакционной юнкерской Пруссии. Ведь тем же
Тургеневым сказано по поводу удачного приобретения
Берлинским музеем пергамской находки: «Пруссия...
закрепила за собою такое завоевание, которое, конечно,
принесет ей больше славы, чем завоевание Эльзаса и
Лотарингии и, пожалуй, окажется прочнее» (Соч., XV,
34). В «Довольно» Тургенев сомневается в бессмертии
и самого дорогого для него после жизни — искусства*. Пес
симизм, казалось бы, стопроцентный и непоколеСшмвди
Но проходит полтора десятка лет, и Тургенев с не мень
шей искренностью и убежденностью высказывает прямо
противоположное заключение. Он говорит о том, что
пергамские горельефы «предстанут перед удивленными
92
Все эти определения принадлежат Л. В. Пумпянскому
(см. стр. 8, 24).
122
взорами ньщешних поколений во всей своей двухтыся-
челетней, скажем более — в своей бессмертной красоте»
(Соч., XV, 35). Подобно Венере Милосской, пергамские
горельефы для Тургенева — олицетворение мощи антич4
ного художественного гения, и он прославляет эту мощь
и живучесть, неувядаемостъ ее созданий в пору завер
шения «пессимистического» цикла стихотворений в прозе!
V Выводы литературоведов 1930-х годов, настойчиво
сближавших Тургенева с Шопенгауэром, во многом да
леко не безупречны. ] Но эти ученые правильно указали
на ряд социально-философских и этических проблем, на
которые прежде всего должно направляться внимание1
исследователя, интересующегося вопросами философ
ского генезиса творчества писателя в связи с его проек
цией на сбчинения немецкого философа. Рассмотрим
эти проблемы в том порядке, в котором они перечислены
выше (стр. 119).
Философским основанием
сюжета
«Дворянского
гнезда» является мысль о непреодолимом противоречии
между велениями долга и стремлениями человека к сча-(
стью. Следует отметить, что сходные мотивы встречались
уже в «Якове Пасынкове». Героиня этой повести Софья
Злотницкая, жизнь которой сложилась неудачно, говорит
о своем умении «молчать и терпеть». Личный опыт при
водит ее к выводу: «...наша жизнь не от нас зависит;
но у нас у всех есть один якорь, с которого, если сам не
захочешь, никогда не сорвешься: чувство долга». (Без
отрадная философия долга, равнозначная отречению от
счастья, обрамляет, затем любовный сюжет «Фауста»/
«... жизнь не шутка и не забава, жизнь даже не на
слаждение. .. жизнь — тяжелый труд. Отречение, отре
чение постоянное —- вот ее тайный смысл, ее разгадка:
не исполнение любимых мыслей и мечтаний, как бы
они возвышенны ни были, — исполнение долга, вот о чем
следует заботиться человеку; не наложив на себя цепей,
железных цепей долга, не может он дойти, не падая, до
конца своего прцрища; а в молодости мы думаем: чем
свободнее, тем лучще, тем дальше уйдешь. Молодости
позволительно так,думать; но стыдно тешиться обманом,
ко£да суровое лицо истины глянуло наконец тебе в глаза.
' 1%ршцац! Прежде я прибавил бы: будь счастлив; те-
перь скащзрт;ебе: старайся жить, оно не так легко, как
кажется».
^«
;
>^:
123
«Не так легко, как кажется» поначалу, складывается
жизнь Лизы и Лаврецкого, Елены и Инсарова, братьев
Кирсановых в романе «Отцы и дети», Ирины и Литви
нова в «Дыме», Санина в «Вешних водах» и т. д . и т. п.
Каждый из них в трудную минуту жизни -— а такая
минута неизбежно наступает — говорит или размышляет
о страдании, о недостижимости счастья, о долге, само
отречении, смирении и покорности, зачастую порождае
мых философски окрашенным сознанием вины. «Счастье
зависит не от нас, а от бога»,— замечает Лиза в послед
нем разговоре с Лаврецким, и (перед такими доводами
несомненный атеист Лаврецкий, человек вполне интелли
гентный и образованный, вынужден отступить.. Следо
вательно, он признает за ними и какую-то особую убе
дительность, основывающуюся не только на религиозных
предрассудках." "«Неужели уже довольно! — вопрошает
Елена. — Я
была счастлива не одни только минуты, не
часы, не целые дни — нет, целые недели сряду. А с ка
кого права? .. А если этого нельзя? .. Если это не дается
даром?» Из двух братьев Кирсановых светский лев Па
вел Петрович наиболее удачлив в молодости, но в конце
романа именно он сгибается под тяжким бременем
жизни особенно низко и заговаривает о долге («будем
выполнять наш долг») при таких обстоятельствах, ко
торые не сулят ему никакой перспективы в будущем.
Сознанием, что жизнь складывается далеко не так, как
, бы хотелось, не в соответствии с личными планами,
естественными желаниями и побуждениями, а напере
кор им, пронизаны и раздумья Базарова.
В какой степени все это соотносится с философией
Шопенгауэра? ^На первый взгляд, в весьма и весьма зна
чительной, причем смысловое соответствие сопровож
дается и лексическим^ Приведем подряд несколько выдер
жек из основного философского труда Шопенгауэра:
«Жизнь представляется нам как задача, как урок, кото
рый надо отработать, — и потому в большинстве случаев
она являет собою непрерывную борьбу с невзгодой...»;
«Поистине, человеческое бытие нисколько не имеет ха
рактера подарка: напротив, оно скорее представляет со
бою долг, который мы должны заплатить по условию...»;
«Каждый думает, что он имеет законнейшее право на
счастье и наслаждение... между тем гораздо правильнее
было бы видеть цель нашей жизни в труде, лишениях,
124
нужде и скорбях, венчаемых смертью...»; «Праведность
сама — железные вериги, которые причиняют своему об
ладателю постоянную муку, и человеколюбие, которое от
казывает себе в необходимом, само по себе — беспрерыв
ный пост...»; «Существует только одно прирожденное
заблуждение, и сострит оно в том, будто мы живем для
того, чтобы быть счастливыми».
93
Соответствие с Тургеневым, в особенности с Тургене
вым — автором «Фауста» и «Дворянского гнезда», как
будто полнейшее. Однако присмотримся к этим соответ
ствиям.^ О полной идентичности здесь не может быть
речи, так как^основа тургеневских и шопенгауэровских
представлений о долге различна, как и предпосылки, оп
ределяющие постановку этой проблемы у того и другого
автора. Прежде всего у Тургенева есть то, что начисто
отсутствует у Шопенгауэра: ^социальная мотивация про
блемы. ^Несмотря на видимое преобладание в нем любов
ной темы, коллизий глубоко личностных, субъективных,
роман «Дворянское гнездо», так же как и «Рудин», был
ровном общественным. Наряду с вопросами интимно-
психологического свойства, разработка проблемы долга
в этом романе предусматривала постановку вопросов об
щественного значения. Лиза уходит в монастырь не
только потому, что её надежды на счастье с Лаврецким
оказались несбыточными. В числе причин, обусловивших
ее решение, есть обстоятельство совершенно особое и
весьма многозначительное — сознание неоплатного долга
всего дворянского сословия перед народом. «Я все знаю,
и свои грехи, и чужие, и как папенька богатство наше
нажил, — говорит Лиза, — я знаю все . Все это отмолить,
отмолить надо». В свою очередь и Лаврецкий, как
до встречи с Лизой, так и после нее, постоянно задумы
вается о своем долге перед народом. В конечном итоге
мотивы личного счастья в настроениях Лаврецкого вытес
няются помыслами о народном благе, забота о котором
становится главным содержанием его жизни. Он делается
хорошим хозяином и, насколько может, обеспечивает и
упрочивает «быт своих крестьян».
Заключительный аккорд этико-философского разреше
ния проблемы долга в «Дворянском гнезде» становится
затем одним из основных мотивов сюжетного развития
93
Шопенгауэр, стр. 589, 602, 607, 630, 631, 659.
125
в следующем романе. В нем частное, личное еще более
отодвигается на второй план целями «деятельного добра»,
задачами служения народу. |Частное и общее здесь слито
воедино с заметным преобладанием последнего, и на это
обстоятельство, как на важнейший аргумент, намекает
Елена в своей мольбе к богу|| «Не для меня одной нужна
его жизнь!» (курсив мой, —~Л. В.) . Но в таком виде тема
или идея жизненного предназначения как в «Накануне»,
так и в «Дворянском гнезде» явно не согласуется с по
становкой проблемы долга у Шопенгауэра, который
в противоположность Тургеневу утверждает: «Не о по
ведении и его результатах трактует этика, а только о во-
лении... Не судьба народов, которая существует только
в явлении, а судьба отдельной личности, — вот что нахо
дит себе моральное определение. Собственно говоря, на
роды — простые абстракции; действительно существуют
одни только индивидуумы» ,
94
Как видим, положив в ос
нование проблгемы долга, намеченной в «Якове Пасын-
кове» и «Фаусте», вопрос о судьбе «отдельной личности»,
Тургенев уже в «Дворянском гнезде»,^в процессе несрав
ненно более конкретной, обстоятельной и глубокой трак
товки этой проблемы, выдвигает на передний план вовсе
не абстрактный для него вопрос о судьбе народа^ В пер
вом случае («Фауст») Тургенев идет навстречу Шопен
гауэру, во_втором («Дворянское гнездо») явно отталки
вается от его философского индивидуализма. Быстрота, и
резкость такого поворота свидетельствуют о нестойкости
«влияния», о его не централизующей, а скорее вспомо
гательной, служебной роли в творчестве писателя.
\ Столь же зыбки и в конце концов необязательны соот
ветствия в тургеневском и шопенгауэровском понимании
проблемы вины, входящей неотъемлемой составной ча
стью в содержание проблемы долгам Главным источником
смутного, но фатального сознания вины, присущего каж
дому человеку, Шопенгауэр считает мотивы, созвучные
библейским представлениям о первом грехопадении, ко
торое ^ его интерпретации отнюдь не легендарно: Выдви
гая эту точку зрения, он полемизирует с античными фи
лософами, ссылается на отцов церкви, а также, — что
весьма и весьма небезразлично в связи с выяснением
вопроса о подлинных границах его влияния на Турге-
94
Там же,гстр. 613.
126
нева, — на Кальдерона, художййка — аоологе?а *рй-
стианства7~«Дрёвние, именно стоики, а также перипате
тики и академики, — пишет Шопенгауэр, — тщетно пы
тались доказать, что достаточно одной добродетели для
того, чтобы сделать жизнь счастливой: опыт громко во
пиет против этого... Серьезное и глубокое решение этой
проблемы лежит в том христианском учении, что дела
не оправдывают; следовательно, хотя бы человек прояв
лял
всяческую справедливость
и
человеколюбие,..
он все-таки, вопреки Цицерону,
еще не... свободен
от всякой вины... величайшая вина человека — то, что
он^ родился, как сказал просветленный христианством
поэт Кальдерон — гораздо более глубокий, чем названные
мудрещ!)):
95
Далее, и опять-таки ь полном согласии
с Кальдероном, Шопенгауэр утверждает, что «глубочай
шая истинность... величие и возвышенный характер»
христианства заключаются в его аскетизме.
96
\Но, как от
мечалось выше, Тургенев не принимал основ миросозер
цания испанского драматурга и противопоставлял ему
миросозерцание «самого человечного, самого антихри
стианского поэта» Шекспира, j Таким образом, по край
ней мере главная предпосылка, на которой базируется
философская теория вины у Шопенгауэра — христиан
ское учение о первородном грехе — безусловно чужда
Тургеневу. Отметим кстати, что Шопенгауэр цитирует
«Жизнь есть сон»
97
—
одну из драм Кальдерона, в про^
цессе идейно-художественного анализа которых Турге
нев еще в сороковые годы отчетливо формулирует свое
антирелигиозное философское credo.
Наделяя Лизу и Елену религиозным ощущением
вины, Тургенев подчеркивал не свое личное принци
пиально-философское понимание этого вопроса, а стре
мился прежде всего к тому, чтобы отразить реальное
положение вещей в русском обществе того времени,
в частности, цельность религиозного миросозерцания,
свойственную по преимуществу его женской половине,
в силу ряда причин постоянно отстававшей в своем ду
ховномразвитии от половины мужской. Лаврецкий
95
Там же, стр. 627.
96
Там же, стр. 641.
97
См.: Педро Кальдерон. Пьесы, т. I. Изд. «Искусство»,
М., 1961, стр. 475.
127
склоняется йбред силой и чистотой религиозного убежде
ния Лизы, воспитанного, по словам Добролюбова, целой
областью устарелых «понятий, заправляющих нашей
жизнью».^ Но покорное смирение перед силой убеждения
не равносильно в данном случае признанию его истин
ности.! Лаврецкий вынужден смириться еще и потому,
что'Для него, как и для Тургенева, религиозное чувство
Лизы не только признак цельности или «отсталости»;
оно, если угодно^—признак народности, ее натуры. «Сла
вянофил» Лаврецкий, без труда разбивающий^ «запад
ника» Паншина «на всех пунктах» (см. гл. XXXIII),
оказывается здесь в свою очередь побежденным «на
родной правдой».
(В отличие от «Дворянского гнезда» в романе «Нака
нуне» решение философской проблемы -о несоответствии
между стремлениями к счастью и долгом освобождается
в конце концов от религиозного налета. На помощь
Елене, размышляющей о наказании, о возмездии за ка
кую-то вину перед богом, приходит сам автор, пытаясь
подсказать ей иное, с его точки зрения, несравненно
более глубокое понимание существа проблемы. «Елена не
знала, — замечает Тургенев, — что
счастие каждого че
ловека основано на несчастии другого, что даже его
выгода и удобство требуют, как статуи — пьедестала, не
выгоды и неудобства других».уВ этой формуле —ключ
к пониманию неразрешимого у Тургенева философского
противоречия между счастьем и долгомцНеразрешимого,
как нам кажется, потому, что* невольный проповедник
безотрадных принципов долга и смирения перед неизбеж
ностью, /Тургенев здесь впервые, но далеко не в послед
ний раз пытается опереться на учение Дарвина, который,
как известно, научно обоснованный им закон борьбы за
существование, действующий в животном мире, склонен
был распространять и на жизнь человеческого общества.}
Работа
над рукописью
«Накануне»
началась
16 (28) июня 1859 года; напечатан роман был в январ
ских номерах журнала «Русский Вестник» за 1860 г.
(цензурное разрешение — 18 января и 3 февраля
1860 г.), а «Происхождение видов» Дарвина опубликовано
в конце ноября 1859 года. Если на основании зтих дан
ных все же немного рискованно настаивать на философ
ском преломлении в «Накануне» естественнонаучных
теорий и открытий Дарвина, то такого рода сомнения,
128
пожалуй, полностью отпадают в отношении следующего
романа. «Отцы и дети» появились в печати в начале
марта 1862 года, действие в этом романе относится
к году, опубликования «Происхождения видов», и в ре
чах Базарова есть суждения, свидетельствующие о том,
чтр дарвиновский закон в его неправомерно расширитель
ном толковании ему уже хорошо известенГ БазнровНпод-
час высокомерен, безжалостен и нетерпим как «избран^
ная натура», как «бог», которому не пристало «горшки
обжигать». В проявлениях его любви к Одинцовой, в его
неожиданной ненависти к Аркадию, которого он
с наслаждением готов схватить за горло, угадываются
повадки хищника, руководствующегося правом сильного.
В известной мере на праве сильной «особи», доверяю
щейся всецело своим инстинктам, основаны и его рас-
суждения о принципах и ощущениях.
98
Наконец, нелест
ное" мнение Базарова о человеке («какую клевету ни
взведи на человека, он в сущности заслуживает в двад
цать раз хуже того») тоже является неким производным
от философии, построенной на неверно понятом законе
борьбы за существование. Клевета не безнравственна —
по-видимому, и этот вывод — плод убеждения в том, что
и сам оклеветанный в борьбе со своими противниками
при первом подходящем случае не преминет воспользо
ваться тем же недостойным, но, в свете дарвиновского за
кона, вполне обычным и даже обязательным оружием.
^Из перечисленных высказываний и поступков База
рова следует, что это знание — одна из важнейших
предпосылок его пессимизма, приводящего к тягостному
разладу с окружающим "миром.» Вместе с тем он по
стоянно ощущает себя в незавидном положении человека,
внутренне не соглашающегося с этим жестоким законом
жизни, крайне болезненно переносящего его действие на
других и на самом себе: «Вон молодец муравей тащит
98
В монографии М. К. Клемана ,(<<Ивад Сергеевич Тургенев.
Очерк жизни и творчества», стр. 145—ЛШ) убедительно доказы
вается, что базаровские рассуждения о принципах и оп^ущейиях
восходят к Добролюбову., ~ Однако при этом все же не следует
забывать о характерной особенности творчества Тургенева.
Мы имеем в виду почти обязательную множествен oc^j^
лок появления тех илииных штрихов в его образах и картинах.;
ЭтаГчерта Тургенева-художника обнаруживается в любом его ро
мане. Весьма наглядно проступает она также при анализе «При
зраков» и «Довольно» (см. ниже).
9 А. Батюто
129
полумертвую Муху. Тащи ее, брат, тащи! Не смотри на
то, что она упирается, пользуйся тем, что ты, в качестве
животного, имеешь, лравр не признавать чувства сострада
ния, не то что наш брат, самоломанный!» ^Выходит, Ба
заров все-таки не может вступить на этот «единственно
правильный» путь борьбы и уничтожения во имя самосо
хранения, £ибо ему знакомо и свойственно и чувство со
страдания и чувство личной ответственности, тайное чув
ство личной «вины» за все, что совершается вокруг него
и в его собственной душу
Впоследствии Тургенев заявлял: «Везде и всюду
то же дарвиновское „battle for life", а по-французски:
Ote-toi de la pour que je m'y mette» (XIIi, 292). Это вовсе
не значит, что на место проблемы Тургенев — Шопен
гауэр следует поставить проблему Тургенев — Дарвин.
Но это, в конце концов, значит, что, погружаясь в гущу
актуальных для него вопросов философии, этики, поли
тики, науки, Тургенев-художник штудировал, учитывал
и творчески использовал в своей литературной деятель
ности труды многих философов, ученых, общественных
деятелей и т. nj
Сам Дарвин признавал, что его предтечей в прокла
мировании закона борьбы за существование являлся от
части Мальтус. Тургенев, конечно, знал Мальтуса.
В известном^Ъмысле предтечей Дарвина был и Шопен
гауэр, который писал: «... как для жизни целого, так и
для жизни каждого отдельного существа условия даны
лишь в обрез и скупо, — не более того, сколько нужно
для удовлетворения потребностей; оттого жизнь индиви
дуума проходит в беспрестанной борьбе за самое суще
ствование, — на
каждом шагу ей угрожает гибель».
99
Но в этом смысле предшественниками и Дарвина, и
Щльтуса, и Шопенгауэра б^ли_ещ(1_фщрсрфь1 антич
ности. Об одном из них упоминает в своей книге
МГ~0. Гершензон: «Заканчивая „Накануне", Тургенев
писал: „Каждый из нас виноват уже тем, что живет".
Он, верно, не знал древнего Анаксимандра и его страшной
мысли о Бесконечном, из которого личность рождается,
чтобы в урочный час быть уничтоженной другой лич
ностью за грех своего минутного отщепления от целого;
99
Шопенгауэр, стр. 606—607.
130
но он думал так же».,
100
Возможно, Тургенев действи-i
тельно ничего не знал об Анаксимандре, но разве
в античном мире один Анаксимандр размышлял об этом
или приблизительно об этом? Впрочем, гораздо «ближе»
к Шопенгауэру, Мальтусу и Дарвину оказывается в дан
ном случае Сенека, прямо заявляющий: «Ведь что до
стается тебе, отнято у кого-нибудь другого».
101
>2?!55±-JLS§5^UB5§Ei6giK_a_ .nEpfiaeM. долга_и вины^ на
меченная в повестях «Яков Пасынков» и «Фауст» и раз
вернутая затем в романах «Дворянское гнездо», «Нака
нуне» и «Отцы и дети», отнюдь не является_1ШССЕгвньщ
повторением философии Шопенгауэра. Во-первых, оче
видно, что Тургенев обращается здесь не только к ней;
его представления о долге и вине опираются также на'
научно-философскую традицию, существовавшую как до
Шопенгауэра, так и после него.[Во-вторых, моменты сов-
падений с философией Шопенгауэра, обнаруживаемые
в названных произведениях Тургенева, уравновешиваются
и даже подавляются моментами принципиальных разли
чий в освещении ими одних и тех же проблем.
"Еще~~ более существенны различия и противоречия
в тургеневской и шопенгауэровской трактовке идеи о че
ловеческом ничтожестве. Мало-мальски беспристрастный
и не традиционный подход к решению этого вопроса по
казывает, что в гораздо большей степени, чем философия
Шопенгауэра, Тургеневу импонировали стихийно-материа
листическое мышление античных философов, философия
Паска^_Феиербаха_ и . мироощущение таких художников-
мыслителей как Шекспир, Вольтер, Гете, ПушкинУОни
называли материю или природу по-разному: доброй, же
стокой, безмятежной, прекрасной, безучастной, равнодуш
ной, — но
все они сходились на том, что материя или
природа первична и бесконечна и существует всегда,
а человек, — лишь «ничтожная часть... малейшая доля»
этой материи (Лукреций), «минутный мотылек» (Воль
тер), «существо единого дня» (Тургенев) и т. д . и т. п.
Философско-художественные декларации о трагизме бы-
т^ия и человеческом ничтожестве, харажтердь1а^для.:всего
творчества Тургенева, имеют своим исходным моментом
чаще всего именно это непреодолимое, по его~словам,
100
М. Гершепзон. Мечта и мысль Тургенева, стр. 61.
101
Сенека, стр. 67.
9*
131
«коренное противоречие» между изначальной, вечно
живой природой и человеком — ее эфемерным созданием.
Тургеневские герои смиряются перед таким миропорядком
или восстают против него, но во всех подобных случаях
указанное противоречие в их интерпретации остается
трагически неразрешимым.
Между тем у воинствующего идеалиста Шопенгауэра
это противоречие сйнмаётсяГ на первых же страницах вто
рого тома \<Мира как воли и представления»/ в котором,
как известно, заключена квинтэссенция его философии.
Сначала внешнее сходство, а затем по существу радикаль
ное несходство в основах шопенгауэровского и тургенев
ского миросозерцания как нельзя нагляднее комменти
руется следующим программным заявлением немецкого
философа, открывающим второй том его книги: «В бес
предельном пространстве бесчисленные светящиеся шары;
вокруг каждого из них вращаются около дюжины мень
ших, освещенных; горячие извнутри, они покрыты оце
пенелой, холодной корой, на которой налет плесени поро
дил живые и познающие существа, — вот эмпирическая
истина, реальное, мир. Но не подобает для мыслящего
существа, — продолжает Шопенгауэр, — стоять на одном
из этих бесчисленных шаров, свободно витающих в бес
предельном пространстве, — не
зная, откуда несешься,
не зная, куда; не подобает ему быть только одним из
бесчисленных похожих друг на друга существ, которые
сталкиваются между собою, кружатся, томятся, беспре
рывно и быстро возникая и погибая в безначальном и
бесконечном времени: и нет при этом ничего устойчивого,
кроме материи и возвращения все тех же разнообразных
органических форм, по известным путям и каналам, су
ществующим однажды навсегда. Все, чему может научить
эмпирическая наука, это лишь более точные свойства и
законы таких процессов»,— пренебрежительно замечает
Шопенгауэр, имея ввиду естественнонаучное знание, опи
рающееся на философский материализм. И продолжает
далее с очевидными реверансами не просто в сторону
идеализма, а идеализма по преимуществу субъективного,
берклеанского и кантианского: «... и вот, наконец, фило
софия нового времени, в особенности благодаря Беркли и
Канту, сознала, что все это на самом деле тольксгмозговой
феномен и подчинено множеству таких значительных и
разнообразных субъективных условий, что его кажущаяся
132
абсолютная реальность исчезает и оставляет место для
совершенно другого миропорядка, который лежит в осно
вании этого феномена, т. е . относится к последнему, как
самая вещь в 'себе к простому явлению»Л
02
Далее Шопенгауэр излагает извечный спор о приори
тете между материей и субъектом, не отдавая видимого
предпочтения ни тому, ни другому, но в действительности
попирая опять-таки материю. Приводим наиболее харак
терные выдержки из этого «спора», который в своих ко
нечных выводах был бы явно немыслим в передаче Тур
генева.
«Материя.
К счастью, дерзость твоего утверждения (о примате
субъекта над объектом, — А. Б .) скоро будет опровергнута
реальным образом, а не на словах только. Еще несколько
мгновений, — и тебя не станет, и ты вместе со своим вели
чанием погрузишься в ничто: ты пронесешься, как тень, и
потерпишь участь всех моих преходящих форм. Я же —
я останусь невредимая и неуменыпенная, в течение бес
конечного времени, из тысячелетия в тысячелетие, и не
зыблемо буду созерцать игру моих сменяющихся форм.
Субъект.
Это бесконечное время, которое ты хвалишься прожить,
существует, как и бесконечное пространство, которое ты
наполняешь, только в моем представлении; мало того,
оно — простая форма моего представления... которая
тебя воспринимает, вследствие чего только ты и суще
ствуешь. А уничтожение, которым ты мне грозишь, пости
гает не меня, — иначе и ты вместе со мной уничтожи
лась бы: оно постигает только тот индивидуум, который
на короткое время служит моим носителем и который
я представляю себе, как и все другое»^
103
В финале этого спора утверждается, что материя и
субъект «нераздельно связаны», что «оба» вторичны и
обязаны своим происхождением и существованием чему-то
или кому-то третьему, имя которому— воля.
104
В конеч
ном счете шопенгауэровская воля — лишь подновленное
наименование некой надмировои~сущности, еще одна ва
риация гегелевского или кантовского отвлеченного, безбб-
Шопенгауэр, стр. 1 —2 .
Там же, стр. 17 .
Там же, стр. 18.
133
разного бога, к которому Тургенев проявлял еще;
"большее недоверие, чем к богу образному, христианскому/
(см. выше, стр. 53—54). На основании этого нетрудно*
прийти к заключению, что даже в своих индивидуалисти
ческих крайностях философия Базарова, например, —
главного философа среди философствующих персонажей;
Тургенева, — принципиально не совпадает с тем, на что*
мы постоянно наталкиваемся в рассуждениях Шопенгау
эра. ЗБазаровский философский индивидуализм, предрас
полагающий его к мыслям о ничтожестве, совсем другого,
рода — протестантский, а не мизантропический. «Ну, бу
дет он жить в белой избе, — говорит Базаров о му
жике, — а из меня лопух расти будет; ну, а дальше?»'
Дальше будет все: и лопух, и, быть может, белая изба»
. для мужика, и обязательно синее небо — но без Базарова..
\Как материалист и атеист, Базаров отдает себе в этом^
ясный отчет, и вся его тайная печаль, как и печаль.
Тургенева, —г в сознании невозможности личного приоб
щения к будущему этого мира, к его завтрашнему дню,
каким бы он ни был.; Но Шопенгауэра отсутствие такой
перспективы не беспокоит. Больше того, в положении,
аналогичном базаровскому, он вообще не усматривает
никакой бесперспективности, так как, по его утверждению,
весь мир соблазнительных для человека многообразных
форм и проявлений материи исчезает вместе с ним.
' «Мир, — настаивает он, — существует ... только в пред
ставлении, а не существует еще и вторично, вне
последнего» — ив подтверждение своих слов ссылается
на философскую полемику Лихтенберга с Эйлером.
«Я, — замечает Шопенгауэр, — особенно рекомендую здесь
следующее место в сочинениях Лихтенберга (Геттинген,
1801, т. И, стр. 12 и ел.): „Эйлер говорит в своих Письмах
о различных предметах естествознания (т. II, стр. 224),
что гром так же гремел бы и молния так же сверкала бы,
если бы даже и не было ни одного человека, которого
молния могла бы поразить. Это очень распространенное
мнение; но я должен сознаться, что мне никогда не легко
было вполне понять его. Мне всегда казалось, что понятие
быть есть нечто заимствованное из нашего мышления, и
если не существует ощущающих и мыслящих тварей, то
ничего больше и нет"».
105
105
Там же, стр. 9.
Природа, материй всегда остаемся, индивидуумы на
всегда исчезают — такова точка зрения Тургенева. Этой
страдательной роли по отношению к материи индивидуум
не играет или не должен играть — такова точка зрения
Шопенгауэра. По Тургеневу, человек ничтожен потому,
что ему недоступно вечное наслаждение жизнью, т.„е. он
ничтожен не сам по себе, а только в силу своей зависимо
сти от законов природы. По Шопенгауэру, человек ничто
жен и сам по себе и потому, что жизнь, которой он
дорожит, «не стоит нашей привязанности».' Во имя сохра
нения жизни Тургенев ищет выхода из трагического про
тиворечия между природой и человеком и не находит
его. Во имя отрицания жизни Шопенгауэр изображает ее
самыми'черными красками и провозглашает своим деви
зом «тоску по утраченном рае небытия».
106
Каждого уми
рающего он напутствует словами: «Ты перестаешь быть
чем-то таким, чем лучше было бы тебе никогда и не ста
новиться».
107
Каждого живущего он пытается убедить
в том, что «меньше всего будет бояться полного уничто
жения в смерти тот, кто познал, что он уже и теперь
ничто...»
108
Спасение от горестей и ничтожества жизни
Шопенгауэр видит в добровольном отказе от нее. «Великая
основная истина», по утверждению Шопенгауэра, содер
жится в «христианстве... в браманизме и буддизме»,
которые проповедуют «потребность в искуплении из бы
тия, исполненного страданий и повинного смерти, и
достижимость этого искупления путем отрицания воли,
т. е . путем решительного противодействия природе...»
109
Неизбежность смерти — исходная точка пессимизма Тур
генева. У Шопенгауэра же она — заключительный и успо
каивающий аккорд его философии.
{При ^ен^Е[скренности крайнего пессимизма Шопен
гауэра, в нем было все-таки много позерского, показного,
рассчитанного на дешевый эффект.) Поэтому если бы
Тургеневу выпал случай конкретно полемизировать с не
мецким философом, он имел бы все основания ответить
на его проклятия жизни, опираясь на ироническую аргу
ментацию даже такого оптимиста как Эпикур. Подчерки-
106
Там же, стр. 480.
107
Там же, стр. 517.
108
Там же, стр. 634.
109
Там же, стр. 654.
'
135
йая противоестественный, философски несостоятельный
характер жизнененависти у некоторых своих современни
ков и вместе с тем как бы указуя из дали веков на мысли
телей типа Шопенгауэра, Эпикур утверждал: «...еще
хуже тот, кто говорит, что хорошо не родиться, „а родив
шись, как можно скорее пройти врата Аида". Если он
говорит так по убеждению, то почему не уходит из
жизни? Ведь это в его власти, если это было действительно
им твердо решено. А если в шутку, то напрасно он говорит
это среди людей, не принимающих его мнения».
110
^Таково «единение» Тургенева с Шопенгауэром в раз
решении ими философского вопроса о человеческом ничто-
жестве^«Только маленькие, ограниченные люди могут
совершенно серьезно бояться смерти, как своего уничто
жения, — писал Шопенгауэр, — людям же высоко одарен
ным подобные страхи остаются вполне чужды».
111
/Став
на эту точку зрения, пришлось бы в категорию «малень
ких, ограниченных людей» зачислить не только Тургенева,
но и автора «Войны и мира» и «Анны Карениной»...
Паскаль искал спасения от ничтожества в религии,
уЬтоики проповедовали мужество, бесстрастие, безропот
ную покорность законам природы, Шопенгауэр призы
вал смерть. Все эти рецепты «спасения» оказались для
Тургенева в равной степени неприемлемы.
Какую-то отдаленную перекличку с Тургеневым, раз
мышляющим о человеческом ничтожестве, можно обнару
жить лишь на тех страницах сочинений немецкого фило
софа, которые написаны под очевидным воздействием
других мыслителей. Одним из них был несомненно Гете.
Выше мы особо отмечали тяготение Тургенева в пору и
после создания «Записок охотника» к философии молодого
Гете (фрагмент «Природа»). Шопенгауэр иногда обнару
живает аналогичную склонность.
112
Но поскольку, как
отмечалось выше, и Гете в своем фрагменте был весьма
несвободен от посторонних философских влияний (антич
ные философы), о прямом воздействии Шопенгауэра на
Тургенева во всех подобных случаях говорить не прихо
дится. В дополнение к этому следует, быть может, указать
еще на одно обстоятельство, свидетельствующее о не-
110
Материалисты древней Греции, стр. 210.
111
Там же, стр. 490.
112
См., напр.: Шопенгауэр, стр. 488.
136
котором косвенном сходстве в воззрениях Шопенгауэра и
Тургенева. Обосновывая отдельные важнейшие положения
своей философии, Шопенгауэр, подобно Тургеневу, стре
мится опереться на традиции пессимизма, существовавшие
во все эпохи человеческой истории, и называет массу имен,
среди которых немало любимых и русским писателем. Так,
свои нападки на оптимизм он щедро пересыпает соответ
ствующими цитатами из сочинений Геродота, Плутарха,
Сократа, Платона, Софокла, Гомера, Гераклита, Феогниса,
Эврипида, Плиния, Шекспира, Свифта, Вольтера, Байрона
и, наконец, Леопарди.. .
пз
[Более или менее действенноевлияние на Тургенева со
стор5йБГ~;ШопенгауЭра "локализовано'""по" преимуществу
в-^<Призраках»^и «Довольно»г в которых писатель излагает
свои ^взгляды на историю. Однако даже в связи с генези
сом этой философской проблематики приходится повторить
то, что сказано по поводу некоторых философских поло
жений Паскаля в романе «Отцы и дети».\Наряду с извест
ным тяготением к Шопенгауэру, в «Призраках» и «До
вольно» обнаруживается склонность писателя к синтети
ческому и вместе с тем выборочному использованию и
преломлению тех или иных философских традиций, на
чиная с их зарождения еще в древнем мире. (Недаром
Тургенев, размышляя о «беспрестанной повторяемости»
жизни, нередко ощущал себя «как бы принадлежащим
к давно минувшему... современником Сезостриса» (IV,
184). Философская аргументация для подтверждения
правдивости безотрадной картины мира, нарисованной
в «Призраках» и «Довольно», черпалась им у целого ряда
философов, историков и художников всех времен и наро
дов. Только некоторые из них названы самим Тургене
вым. Незримое же присутствие многих других можно
обнаружить, следя за ходом его мысли в годы, предше
ствовавшие созданию этих лирико-философских «от
рывков».
Наблюдая военный психоз в Париже по случаю
победы Франции и Италии над Австрией, Тургенев
писал П. В . Анненкову 1 (13) августа 1859 г.: «...завтра
происходит в Париже великое преториански-цезарское
празднество... все улицы Парижа перерыты, везде на
ставлены триумфальные ворота, венецианские мачты,
113
Там я<е, стр. 608—611,
137
статуи, эмблемы, колонны, везде навешаны знамена и
цветы: это император будет держать аллокуцию в цесар-
ско-римском духе своим militibus;
114
так что maxima
similitudo invenire debet между Galliam hujusce tempo-
ris et Romam Trajani necnon Caracallae et aliorum He-
liogabalorum.. .
115
Я, разумеется, бежал из Парижа в то
самое время, как сотни поездов со всех концов Европы,
с свистом и треском, мчали тысячи гостей в центр мира;
всякое военное торжество ist mir ein Crauel,
116
подавно
это: будут штыки, мундиры, крики, дерзкие sergeants
de ville
117
и потом облитые адъютанты, будет жарко,
душно и вонюче — connu, connu!..»
118
(III, 333).
Эмоционально-философская перекличка такого рода на
блюдений и оценок с соответствующими сценами
в «Призраках», давно отмеченная в специальной лите
ратуре,
11
? станет особенно очевидной, если мы продол
жим приведенную цитату: «Лучше сидеть перед раскры
тым окном и глядеть в неподвижный сад... В комнате
свежо и тихо, в коридорах слышны голоса детей, сверху
доносятся звуки Глюка... Чего больше?» (III, 333).
Тургенев бежит от военного угара в тихий Куртавнель,
в круг спокойных и привычных занятий, в атмосферу
дружеской приязни и сладостно-элегических пережива
ний, навеваемых воспоминаниями, природой и столь лю
бимым им искусством, т. е . явно предвосхищает поведение
основного персонажа «Призраков^ ^^Общий тонус и после
довательность^впечатлений и переживаний, характерных
для этого персонажа во время его полетов над цезарист
ским Римом и над Isola Bella, предуказаны здесь с исклю
чительной ТОЧНОСТЬ!^
Тургенев и впоследствии неоднократно судил о нена
вистной ему наполеоновской Франции и ее вождях,
пользуясь образами и сравнениями, заимствованными из
римской истории. В одном из писем, относящихся к на-
114
Воинам (лат.) .
115
можно найти величайшее сходство между Галлией нынеш
него времени и Римом Траяна, а также Каракаллы и прочих Ге-
лиогабалов (лат.).
116
мне отвратительно (нем.).
117
полицейские (франц.).
.
118
знакомо, знакомо! (франц.).
^
119
См.: А. Андреева. «Призраки» как исповедь Ив. С. Тур
генева. «Вестник Европы», 1904, сентябрь, стр. 17.
138
чалу 1865 года, он совсем уже недвусмысленно отмечал,
что «принц Наполеон держится настоящим Тиберием или
Домицианом» (V, 469). Появление столь примечательных
архаических образов и сравнений как в эпистолярных
тургеневских оценках второй империи, так и в несом
ненно связанных с ними картинах далекого исторического
прошлого в «Призраках» и «Довольно», — все это в из
вестной мере обусловлено конкретными обстоятельствами
в духовной жизни Тургенева, не имевшими прямого от
ношения к философии Шопенгауэра, а именно: присталь
ным изучением классических трудов по античной истории,
по-видимому не случайно предпринятым как раз в эпоху
наибольшего «расцвета» деятельности Наполеона III.
В декабре 1856 года Тургенев писал Герцену: «Прогло
тил Суетония, Саллюстия (который мне крайне не понра
вился), Тацита и частью Тита Ливия. Ты спросишь, что
за латиномания на меня напала? Не знаю. Может быть,
она навеяна современностью» (III, 45). На другой день он
пишет о том же В. П . Боткину: «А прочел я Суетония,
Саллюстия (которого возненавидел за изысканность
слога), Тацита и начал Тита Ливия; я нахожу этих писа
телей, особенно первых — весьма современными» (там же,
47). Несмотря на, казалось бы, очевидную тавтологию,
второе письмо существенно уточняет направление поисков
Тургенева и их результат. Из всех названных историков
его особенно заинтересовали «первые», т. е . Светоний и
Саллюстий. Но писания Саллюстия отталкивают его
«изысканностью слога». Следовательно, остается только
один историк, полностью удовлетворяющий запрос Турге
нева в данном случае: совершающемуся в настоящем)
найти убедительную аналогию в прошлом. Этот историк —;
Светоний, автор «Жизни двенадцати_цезаьрайГ».
"Книга Свётбния —- сжатая и вместе с тем проникно
венно обстоятельная летопись устрашающе жестоких дея
ний носителей императорской власти в эпоху ее становле
ния и упрочения в древнем Риме. Пользуясь фактами,
давно известными, впрочем, и до него, Светоний повест
вует о безграничном честолюбии и цинизме, бесчеловечии,
духовном и физическом разврате и вырождении римских
властителей. Все императоры, попавшие в поле его зрения,
приходят к власти путем насилия и вероломства, а полу
чив ее, управляют народом и государством, повторяя и
множа преступления, совершенные до них. Таковы не
139
Только Тиберий, Калигула или Йерон, но даже Веспасиан
и даже Юлий Цезарь. Как видим, такой взгляд Светония
на историю и ее движущие силы отнюдь не противоречит
_
тому, что высказывается по тому же поводу Тургеневым
в «Призраках» и «Довольн^.
В тургеневских лирико-философских отрывках есть
детали, косвенно свидетельствующие и о более конкретной
перекличке со Светонием. В «Довольно» утверждается,
что «если бы вновь народился Шекспир... его проница
тельный взор не открыл бы ничего нового в человеческом
быту... То же легковерие и та же жестокость, та же по
требность крови, золота, грязи...» Последние слова, при
всем их тесном соотношении с картинами «человеческого
быта», представленными в трагедиях Шекспира и, как
утверждают некоторые исследователи, с философскими
положениями Шопенгауэра, безусловно находят себе из
вестную аналогию в книге Светония, в которой есть,
между прочим, и такое определение характера, поведения
и, в сущности, жизненной философии императора Тибе-
рия: «грязь, замешанная кровью»}
20
В связи с отражением
в «Довольно» исторических штудий Тургенева любопытен
и другой факт, приводимый в книге Светония — в главе,
посвященной жизнеописанию Домициана, императора
жестокого и беспредельно тщеславного, стремившегося
увековечить себя и свои деяния в памяти потомков:
«Ворота и арки, украшенные колесницами и триумфаль
ными отличиями, он строил по всем кварталам города
в таком множестве, что на одной из них появилась гре
ческая надпись „Довольно*'».
121
На основании этого есте
ственно напрашивается заманчивое предположение о воз
можном заимствовании именно у Светония заглавия
«Довольно». Кстати сказать, тем же возгласом, но на
латинском языке заканчивается цитированное выше
письмо Тургенева к Анненкову, в котором так настойчиво
подчеркивается сходство «Галлии нынешнего времени»
с цезаристским Римом (III, 334).
«Латиномания», напавшая на Тургенева в конце
1856 года, тотчас сказывается появлением в его переписке
соответствующей лексики, фразеологии, образности, спе-
120
Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей.
М., 1964, стр. 97.
121
Там же, стр. 217.
140
Мифической идейной окраски в суждейиях о совреМенйО-
сти, переходящих затем и в творчество. В связи с этим
интересно отметить, что до знаменательного обращения
к римским историкам, и, в частности, к Светонию, образ
ность в тургеневских оценках наполеоновской империи
была иной, причем определенная обусловленность ее кру
гом чтения подчеркивалась самим писателем.
В этом отношении чрезвычайно показательна его ха
рактеристика личности и деятельности Наполеона I, сде
ланная в августе 1849 года: «Что за великая и мощная
организация этот Наполеон, что за сила характера, какая
последовательность и какое единство в воле! И вместе
с тем никогда не было человека, более принадлежавшего
прошлому. Он подводит полный итог прошлому, но пово
рачивается спиной к будущему, к тому будущему, которое
долго будет биться в цепях, скованных им для него.
Монархия умирала в Европе: он организовал власть, пра
вительство, этот отвратительный призрак, который бесси
лен что-либо произвести, пустой и глупый, со словом
Порядок на устах, с саблей в одной руке и с золотом
в другой, всех нас давящий своими железными ногами.
Черт возьми! что за восточный образ! Отличный переход
к... Корану. Я только что начал его читать» (I, 485).
Таким образом, среди многих источников, благодаря
обращению к которым формировалась, оттачивалась и
отстаивалась философия «Довольно» и «Призраков»,,
«Жизнь двенадцати цезарей» Светония безусловно заслу
живает специального упоминания.
Источники, в какой-то степени предопределявшие воз
никновение этих произведений Тургенева, многочисленны
и подчас парадоксально резко и неожиданно отличаются
друг от друга своими «возрастными» данными, но. в.этом'
нет ничего удивительн^огр,.Так, например, в одной из ли
тературоведческих работ последнего времени идейное
содержание «Призраков» сближается генетически с гер-
ценовской публицистикой в «Колоколе». В ней утвер
ждается, что картина Парижа, бегло набросанная
в гл. XIX «Призраков», «близка по своему общему зву
чанию и даже отдельными деталями к описанию француз
ской столицы в „Концах и началах"».
122
122
И. А . В инн и ко в а. Об идейных истоках «Призраков»
и «Довольно» И. С. Тургенева, стр. 90 .
141
«В своем определений йАшерии Наполеона Ш, — подчер
кивает автор названной статьи, — Тургенев был совер
шенно солидарен с Герценом, который в 1858 году писал:
„Бонапартизм действует лишь при помощи смерти. Его
слава — вся из крови, вся из трупов. В нем нет созида
тельной силы... Все это призраки, привидения: импе
рии, королевства, династии, герцоги, маршалы, границы,
союзы"».
123
Шопытка прокомментировать «Призраки» «Концами и
началами», имевшими, как известно, самое непосредствен
ное отношение к животрепещущей социально-политиче
ской «злобе дня», представляется нам не менее естествен
ной и правомерной, чем обращение к философско-истори-
ческим штудиям писателя, связанным с античной эпохой.
Одно не исключает другого, так как многообразие конкрет
ных социально-политических, философско-исторических,
литературно7астетиче,ск.их и иных предпосылок —- обычное
явление в истории создания выдающихся произведений.
^К тому же мастерское сочетание и использование их
в «Призраках» и «Довольно» как нельзя лучше подчерки
вает характерную тенденцию Тургенева в этих произведе
ниях — вынести одновременный приговор и современ
ности и весьма далекому историческому прошлому, поста
вить между ними по существу знак равенства, д Правда,
следует все-таки иметь в виду, что обращение Тургенева
к римской истории предшествовало созданию «Концов и
начал». К тому времени, когда начали появляться в печати
знаменитые «письма» Герцена, отношение Тургенева
к наполеоновской империи успело вполне определиться.
[Кроме того, в герценовском и тургеневском восприятии
западноевропейской действительности пятидесятых годов
существенны важные моменты несходства.! «Пессимизм»
Герцена, сказывающийся в его оценках наполеоновской
Франции, обусловлен прежде всего актуальными со
циально-политическими соображениями и отличается чет
кой антибуржуазной направленностью. «Пессимизм» же
Тургенева, несмотря на обилие в «Призраках» точных
реалий и беспощадных наблюдений, связанных с крити
кой буржуазной действительности, более расплывчат,
более широк по своему диапазону; он имеет явно «косми
ческий» оттенок.
Там же, стр. 91.
142
Возвращаясь к вопросу о значении культурно-исто
рического наследия античности в формировании идей
ного содержания «Призраков» и «Довольно», следует
настоятельно подчеркнуть, что наряду с «Жизнью две
надцати цезарей» Светония существенную роль в этом
отношении могла сыграть (и, по-видимому, сыграла)
книга философских, размышлений Марка Аврелия, неод
нократно цитировавшаяся выше в связи с генезисом
в творчестве Тургенева настроений, порожденных мыс
лями о человеческом ничтожестве.
Определяя истоки тургеневской философии истории
в «Призраках» и «Довольно», М. К. Азадовский и, в осо
бенности, Л. В . _ Пумпянский целиком возводят ее
к основному
г
труду Шопенгауэра «Мир как воля и пред
ставление». В подтверждение этого ими приводятся, на
первый взгляд, весьма убедительные, можно сказать,
неотразимые цитаты из книги «франкфуртского фило
софа», подобные, например, следующей: «История на
каждой своей странице показывает одно и то же, в раз
ных формах... Главы человеческой истории в сущности
отличаются между собою только именами и хронологией:
действительное содержание их всюду-—одно и то же».
124
Отрицать наличие в «Призраках» и «Довольно»
картин и высказываний по существу своему подчас совер
шенно идентичных с этими философскими положениями
Шопенгауэра мудрено. И все же внесение существенней
ших коррективов в решение этой проблемы, предложен
ное в работах упомянутых ученых, превращается в срав
нительно легкую задачу, как только закономерная парал
лель Тургенев — Шопенгауэр начинает естественно и
столь же закономерно обрастать другими параллелями,
имеющими, по-видимому, не меньшее право на существо
вание. Все дело в том, что и тургеневские суждения о .че
ловеческом ничтожестве, и его представления о характере
исторического процесса, с особой силой сказавшиеся
в «Призраках» и «Довольно», имеют по крайней мере
двухтысячелешюю предысторию, и философии Шопен
гауэра принадлежит в этой предыстории роль лишь
последнего звена в цепи.
Создатель новейшей «самобытной» философии, пригод
ной на все случаи жизни, превратившейся, по ирониче-
124 Шопенгауэр, стр. 455,
143
скому замечанию Л. В. Пумпянского, в «явление интел
лектуального обихода»,
125
Шопенгауэр презрительно отзы
вается о «Ветхом завете», видя в нем первоисточник
вульгарного оптимизма, породившего впоследствии и
«предустановленную гармонию» у Лейбница, и «вечную
субстанцию» у Спинозы, и «плоский реализм» у Гегеля и
его последователей. «Как в религиях, так и в философии, —
писал Шопенгауэр, —sоптимизм представляет собою корен
ную ошибку, которая заступает дорогу всякой истине;*.
126
Между тем даже в «Ветхом завете», в частности в знаме
нитых своим мрачным колоритом рассуждениях ^Эккле
зиаста, можно найти немало черт, гармонирующих с его
пессимизмом., Как известно, для Экклезиаста характерна
прежде всего склонность к многократной констатации
безотрадной повторяемости как общей картины мира, так
и индивидуального человеческого бытия/'
известная связь между философией Экклезиаста и
Шопенгауэра и определенное тяготение самого Турге
нева к библейскому пессимизму отмечались еще в доре
волюционной науке и критике.
12
^ Но вот не менее ха
рактерный пример из обширной категории философских
поучений «язычника» Марка Аврелия, нередко удиви
тельно совпадающих с тем, что говорится у Экклезиаста
и Шопенгауэра: «Постоянно размышляй о том, что все
происходящее ничем не отличается от происходившего
ранее и имеющего произойти в будущем. Пусть предста
нут перед твоим взором целые периоды жизни и сход
ные друг с другом положения, которые известны тебе
или из собственного опыта или из истории более раннего
времени, как-то весь двор Адриана, весь двор Филиппа,
Александра, Креза. Ибо повсюду здесь одно и то же,
только действующие лица другие».
128
Разница между
суждениями Марка Аврелия и Шопенгауэра в данном
случае лишь чисто стилистическая: первый выражает
свою мысль в старомодной форме обращения к некоему
125
Л. В. Пумпянский. Тургенев-новеллист, стр. 10.
126
Шопенгауэр, стр. 651.
127
Н. Страхов. Критические статьи об И. С. Тургеневе
и Л. Н. Толстом, т. I. Изд. 4-е. Киев, 1901, стр. 55; Ив. Иванов, А
И. С. Тургенев. Жизнь, личность, творчество. Нежин, 1914,'
стр. 183—184, 461.
128
Марк Аврелий, стр. 151. См. также открывающий это
издание «Вступительный очерк» С. Котляревского, стр. Х1ДХ,
144
подразумеваемому безмолвному
собеседнику (чаще
всего — это сам автор), второй — в безличной, «объек
тивной» манере, более свойственной современной эпохе.
Что же касается сути дела, ее «аврелианокая» трактовка
в ряде мест книги Шопенгауэра не подлежит сомнению.
Шопенгауэр почти цитировал римского философа, когда
писал, что история только «делает вид, будто всякий раз
сообщает нечто новое, между тем как в действитель
ности она, от начала и до конца, повторяет одно и то же,
под разными именами и в разной оболочке».
129
Следова
тельно, по крайней мере наравне с суждениями Шопен
гауэра такого рода высказывания Марка Аврелия вполне
могли служить Тургеневу в «Призраках» и «Довольно»
как бы философскими тезисами, подлежащими развитию
в образной форме.
Марк Аврелий неизменно советует: «... что бы
ни произошло, всегда будь готов сказать: „Ведь это то
самое, что я уже часто видел". Вообще, куда ни повер
нись, всюду найдешь одно и то же: оно составляет со
держание истории древней, средней и новой, к нему же
сводится в данный момент жизнь государств и отдель
ных домохозяйств. Нет ничего нового...»
130
По суще
ству эта же философская аргументация, в результате
которой в одном и том же освещении предстают как ис
тория вообще, так и жизнедеятельность «отдельных до
мохозяйств», нередко активно применяется Тургеневым
даже в практике житейских отношений, — особенно
в тех случаях, когда он испытывает настоятельную по
требность в том, чтобы как можно убедительнее развен
чать и дискредитировать «новизну» и полезность неко
торых пореформенных начинаний в области «крестьян
ского быта», отмеченных печатью
славянофильских
тенденций. «Душевно радуюсь преуспеянию нашего
крестьянского быта, о котором Вы повествуете, — ирони
чески замечает Тургенев в одном из писем к Фету (де
кабрь 1869 г.), —и ни на волос не верю ни в общину,
ни в тот пар, который, по-Вашему, так необходим. Знаю
только, что все эти хваленые особенности нашей жизни
129
Шопенгауэр, стр. 457.
1ао
Марк Аврелий, стр. 91. — В другом месте своей книги
Марк Аврелий высказывает аналогичную точку зрения и на бу
дущее: «Люди будут делать одно и то же, как ты ни бейся»
(стр. НО).
ДО А. Батюто
145
нисколько не свойственны исключительно нам — и что
все это можно до последней йоты найти в настоящем
или в прошедшем той Европы, от которой Вы так су
дорожно отпираетесь. Община существует у арабов (от
чего они и мерли с голоду — а кабилы, у которых ее нет,
не мерли), пар, круговая порука — все это было и есть
в Англии, в Германии — большей частью было, потому
что отменено. Нового ничего нет под луною, поверьте,
даже в Степановке; даже Ваши три философских этажа
не новы» (VIII, 150).
Несомненен глубочайший пиетет Тургенева к фило
софской мысли прошлых веков не только в связи с ее
тяготением к оптимизму или. пессимизму. Не менее
важна безусловно апологетическая ее оценка по более
крупному счету. Даже в тех выводах античных фило
софов, которыми утверждается неизменность поведения
человечества во все эпохи его исторической и домашней
жизни, Тургенев ощущает и подчеркивает подвижность,
неустанную пытливость, свойственную их мысли, ее диа
лектическую способность к широкому охвату явлений
с гуманных позиций насущных общечеловеческих инте
ресов.
.
Марк Аврелий был необыкновенной, нравственно
обаятельной личностью, стоиком, обладавшим мягким и
отзывчивым сердцем. Констатируя неуютное положение
человека в неустроенном мире, он искренно сочувствует
его горестям и страданиям и этим выгодно отличается
как от Шопенгауэра, так и от своих предшественников
по философии стоицизма, например, Сенеки, от сочине
ний которого постоянно веет невозмутимым бесстрастием
и непоколебимо холодной дидактикой.
131
Многое из того,
что говорит Тургенев-философ, всецело перекликаясь
якобы с Шопенгауэром, в афористичной, конспективно-
лапидарной форме сказано уже у Марка Аврелия. Своей
философско-эмоциональной тональностью его размыш
ления о человеческой судьбе нередко напоминают то эле
гические, то безнадежно-протестующие медитации и
в «Накануне», и в «Отцах и детях» и, конечно, прежде
131
Думается, что именно эти черты личности и философии
Сенеки имел в виду Тургенев, остроумно критикуя манеру выра
жаться одного из женских персонажей поэмы К. К. Случевского
«Трактир»: «„Здесь крепнет дума..." Барышня пришла пошалить,
а говорит, как Сенека» (IV, 145).
146
Ёсбгб — в «Призраках» и в «Довольйо». Это еМу При
надлежат строки, исполненные величавой грусти и со
жаления: «Как это случилось, что боги, устроившие все
так прекрасно и с такой любовью к людям, просмотрели
только ту несообразность, что люди вполне достойные,
как бы заключившие союз с божественным началом...
после своей смерти не возрождаются к новой жизни,
а угасают навсегда?»
132
Разве не в унисон с этими горь
кими недоумениями и вопросами римского философа
звучат слова Тургенева о человеке, который «не повто
ряется», несмотря на то, что он «творец», созданный
словно «с преднамерением, с предначертанием» («До
вольно», гл. XVI)?
Наконец, книга Марка Аврелия могла оказать опре
деленное воздействие и на самую сюжетную схему
«Призраков». Основанием для такого заключения яв
ляется следующий любопытный пассаж из этой книги:
«Знай, что если бы ты, внезапно поднявшись вверх
над землей, бросил бы взгляд на человеческие дела и
на многоизменчивый ход их, то преисполнился бы презре
ния к ним, имея в то же время возможность созерцать
столько существ, обитающих окрест, в воздухе и эфире,
и что, сколько бы раз ты не подымался таким образом,
ты всегда увидишь одно и то же, единообразное и крат-
ковечное. И этим-то мы гордимся!»
133
По существу это
как бы первая предпосылка идейно-фабульной схемы
«Призраков». А вот вторая, которая вместе с тем рас
пространяется и на «Довольно»: «Разумная душа обле
тает. , . весь мир и окружающую его пустоту... прони
кает в беспредельную вечность, постигает периодическое
возрождение целого и понимает, и сознает, что наши по
томки не увидят ничего нового, как и наши предки
не видели ничего сверх того, что видим мы, но что чело
век, достигший сорока лет, если он обладает хоть каким-
нибудь разумом, в силу общего единообразия некоторым
образом уже видел все прошедшее и все имеющее
быть».
134
Рассуждения Марка Аврелия о краткости человече
ского бытия и повторяемости истории, — мотивы, без-
132
Марк Аврелий, стр. 175.
133
Там же, стр. 179.
134
Там же, стр. 159.
10*
147
условно созвучйые и Тургеневу и Шопенгауэру, — увей-
чйваются обычно этическими рекомендациями, совер
шенно несвойственными философии последнего. Марк
Аврелий проповедует терпимость, «благожелательное»
отношение к людям даже недостойным и необходимость
«общеполезной деятельности»; он уверен в самоценности
деятельного добра.
135
.
В период создания «Довольно»
Тургенев сомневается и в этом. Но в подавляющем
большинстве других своих произведений (романы, по
вести, поэмы, пьесы, стихотворения в прозе и т. п.)
он в этом не сомневается. \Общественно-политическое
и эстетико-философское credo всего его творчества
можно определить его же знаменательными словами
из речи «Гамлет и Дон-Кихот», которые отнюдь не про
тиворечат основам этики Марка Аврелия.; Мы имеем
в виду характерное суждение Тургенева по поводу пред
смертного признания знаменитого героя Сервантеса
в том, что теперь он уже не Дон-Кихот, а «снова Алонзо
добрый», как его «некогда называли, — Alonso el Bueno».
«Это слово удивительно,—замечает Тургенев;—упоми
новение этого прозвища, в первый и последний раз —
потрясает читателя. Да, одно это слово имеет еще значе
ние перед лицом смерти. Все пройдет, все исчезнет,
высочайший сан, власть, всеобъемлющий гений, все рас
сыплется прахом... t Но. добрые дела не разлетятся ды
мом;
они долговечнее
самой сияющей
красоты»
(Соч., VIII, 191).
; Таким образом, и в вопросах личной и социальной
этики между Тургеневым и Марком Аврелием наблю
дается перекличка, причем по своему значению она, по
жалуй, более существенна, чем перекличка в этой об
ласти Тургенева с Шопенгауэром (проблема долга и
вины).
Марк Аврелий был по преимуществу философом.
Тургенев же по преимуществу художник, хотя и с фи
лософским складом ума. Поэтому для него немыслимо
конкретное решение этических проблем вне сферы пре
красного. В 1848 году его точка зрения на добро и кра
соту еще существенно отличается от того, что говорится
им по этому поводу в статье «Гамлет и Дон-Кихот».
Не без кокетства своим эстетизмом, он писал тогда
Там же, стр. 48, 49 и др.
148
в одном из посланий к Полине Виардо: «... нравствеййоё
чувство и чувство прекрасного — это две шишки, кото
рые ничего не имеют общего между собой. Счастлив тот,
кто обладает ими обеими» (I, 461). К числу этих счаст
ливцев Тургенев не относил, очевидно, прежде всего са
мого себя. Однако в дальнейшем всем своим творчеством
он как бы опровергает первую половину своего утверж
дения. vC^ годами «нравственное чувство» возымело в его
глазах такое же важное значение, как и «чувство пре
красного». Искомым идеалом для него становится рав
новесие этих чувств, их синтетическое сочетание. При
мечательно, что нарушение такого равновесия в изо
бражаемых им типах и характерах неукоснительно
сказывается на его художническом и субъективном
к ним отношении. Известная несовместимость нравст
венного чувства с чувством" пршрасного в характере
Инсарова/ "выражающаяся в его глуховатости к искус
ству, приводит к тому, что Тургенев уважает, но вряд
ли по-настоящему любит этого героя. \ Слабое развитие
чувства прекрасного у Соломина обусловливает одно
тонность, почти серость этого характера. Совершенно
очевидно, что и в данном случае можно говорить лишь
об уважении автора к своему персонажу. Зато в целом
ряде других характеров Тургенев выявляет и подчерки
вает гармоническое слияние нравственного и эстетиче
ского начал.. Больше того, нередко красоту тургеневских
характеров определяет именно их высокая нравствен
ность. Такова прежде всего Лиза Калитина, ум и сердце
которой с безошибочностью инстинкта отвергают все
недоброе, корыстное, пошло-прозаическое и бескрылое.
Сущность характера Лизы глубоко понята Лаврецким
и в особенности Леммом — художником по натуре. Не
даром же этот последний, узнав о притязаниях фата и
дилетанта Паншина на ее руку, проницательно и поко-
ряюще спокойно замечает, что такое чистое существо,
как Лиза, может любить только прекрасное. Прекрасен
не Паншин, а Лаврецкий, и его-то и полюбит Лиза./
иЙ>едицентральных персонажей романистики Тур
генева есть лишь одно лицо, которое несмотря на свою
неприкрытую не только глухоту, но и враждебность
ко всему «романтическому», т. е . прекрасному, поль
зуется, в конце концов, глубочайшей симпатией автора.
Это Базаров. Но происходит это потому, что антиэсте-
149
Физй Демократа Базарова, точно так же как и ётб
«волчьи» повадки, явления все-таки не органические,
а скорее внешние, наносные, не характеризующие су-
I щества его натуры. В глубине души Базаров очень добр,
следовательно, по Тургеневу, он человек безусловно
нравственный; Затем Базаров много толкует о «пользе»,
т. е . добре для всех. Но притягательность и даже обая
ние его идей и его характера этим не исчерпываются.
Он достоин преклонения, но преклонения опять-таки
за что-то большее, чем стремление к обычной общепо
лезной деятельности, ибо, по словам Тургенева, «перед
только полезными людьми не преклоняются». /Все дело
в том, что Базаров не просто труженик в мастерской
природы — он принадлежит к категории «героев», «ху
дожников труда», людей «красивых» и «пленительных»
своим творческим, трудовым артистизмом (X, 295, 296J^
Если даже отвлечься на некоторое время от довольно
убедительной, с нашей точки зрения, связи важнейших
философских предпосылок содержания «Призраков» и
«Довольно» с общекультурным наследием античности,
то и тогда придется признать, что с холодно и тща
тельно продуманной, законченной системой пессимизма
у Шопенгауэра эти произведения Тургенева соотносятся
как горестный, но кратковременный лирический порыв.
Во всяком случае, когда Тургенев снова возвращается
к объективному повествованию -^ роману, его взгляды
на жизнь, историю, средства воздействия на ее ход, не
утратив присущего им привкуса пессимизма, в целом
продолжают сохранять принципиальные отличия от не
изменно пессимистической теории бытия у Шопенгауэра.
Тургенев не мирится со status quo, что мы постоянно
наблюдаем у немецкого философа, — он ищет и предла
гает пути и способы обновления, а это значит, что он
верит в возможность улучшения общественных, со
циально-политических, экономических отношений в че
ловеческом общежитии. Не последовательно безотрад
ный, как у Шопенгауэра, а сложный, меняющийся
в зависимости от той или иной личной или социально-
политической ситуации, т. е . живой, а не догматиче
ский, — таков
подлинный взгляд Тургенева-философа
на окружающую действительность. Этим, между прочим,
объясняется и типичное для него в оценках жизненных
явлений тяготение к употреблению противоположных
150
по своему значению изречений давней мудрости, став
ших эталонами обиходно-бытовой философии. С одной
стороны, это извечно-библейское: «все суета сует и вся
ческая суета», а с другой — народно-просторечное, не
унывающее, чисто русское: «перемелется — мука будет».
Находясь в эпоху создания «Призраков» и «До
вольно» в состоянии духовной подавленности, Тургенев
на некоторое время оказывается в плену субъективи-
стко-волюнтаристских представлений о смысле челове
ческой истории, но в дальнейшем он постепенно от них
освобождается. [Уже в «Дыме», самом «пессимистиче
ском» его романе, написанном вслед за «Призраками» и
«Довольно», слышатся ;лщпь_^отзвуки_. ж оцеЩ!ау^£там^
Впрочем, нужно иметь в виду, что и в этих «отзвуках»
отнюдь не всегда ощутима только шопенгауэровская то
нальность. Так, например, Потугин заявляет: «Характер
людской разве меняется? Каким в колыбельку, таким и
в могилку» (гл. XIV). Шопенгауэр часто говорит
о том же в ряде мест своей книги.
136
Изначальная не
изменность человеческого характера — одна из предпо
сылок «его» теории о движении человеческого общества
не вперед, а только «по кругу», о постоянных возвраще
ниях вспять, к уже пройденному. Однако похоже на то,
что мысль Потугина в данном случае тяготеет скорее
к философии русского фольклора, чем к специальным тру
дам по философии. Она заставляет вспомнить аналогич
ный по смыслу эпиграф к роману «Дворянское гнездо»,
впоследствии опущенный: «На что душа рождена, того
бог и дал». Как известно, этот эпиграф был заимствован
Тургеневым из сборника песен Кирши Данилова.
Р<эман «Дым» и во многом предопределявшая его
идейное содержание полемика Тургенева с Герценом
наглядно свидетельствуют о том, что в вопросах о путях
и характере развития человеческого общества, особенно
занимавших Тургенева в это время, в прогнозах буду
щего его мысль очень редко пересекалась с философией
Шопенгауэра, а в целом ряде случаев самым решитель
ным образом ей противоречила.
Когда в 1862 г. Герцен выступил с циклом статей
«Концы и начала», в которых гневно осудил буржуаз
ные отношения в Западной Европе, утвердившиеся после
136
Шопенгауэр, стр. 525, 615, 621, 622 и др.
151
революции 1848 года, и высказал надежду на то, что
Россия сумеет избежать подобной участи с помощью
общинного социализма, Тургенев с ним не согласился.
В своих возражениях лондонскому изгнаннику он ква
лифицировал его ранне-народнические идеалы как ро
мантическую утопию, в чем-то перекликающуюся с тео
риями славянофилов, и настойчиво напоминал о законах
социально-экономического и культурного развития, обя
зательных для всех европейских стран, связанных
общностью происхождения и исторической судьбы. Тур
генев не восхищался буржуазными порядками в Запад
ной Европе. Поэтому как настоящее, так и ближайшее
будущее отсталой России, которая, по его мнению, не
избежно должна была вступить на путь буржуазного
развития, уже проложенный европейскими странами,
ее «старшими сестрами», рисовалось ему отнюдь не в ро
зовом свете. В суждениях о западноевропейской и рус
ской буржуазии Тургенев, по его словам, был «больше
мизантроп», чем Герцен, и его совет последнему: «Шо
пенгауэра, брат, надо читать поприлежнее, Шопен
гауэра» (V, 65) — воспринимается, на первый взгляд,
как самое веское свидетельство теснейшей связи его
«мизантропии» с крайними формами пессимизма этого
философа.
Однако в действительности все обстояло не так
просто. Прежде всего, нельзя не считаться с многозна
чительными репликами Тургенева на упрек Герцена
в поклонении авторитету Шопенгауэра — «идеального
нигилиста, буддиста и мертвиста».
137
«Я не нигилист,—
возражал Тургенев... — Я называю
Шопенгауэра —
ты упрекаешь меня в поклонении авторитету*..»
(V, 73—74 . Курсив Тургенева). Из этого можно за
ключить, что пристальное внимание писателя к филосо
фии истории у Шопенгауэра не исключало критического
к ней отношения уже в 1862 году. На чем же конкретно
оно основывалось?
В полемике Тургенева с Герценом четко определи
лись две противоположные точки зрения на способы
преобразования русской пореформенной жизни — бур
жуазно-либеральная, выдвинутая автором «Отцов и де-
137
А. И . Герцен. Собр. соч. в 30 томах, т. XXVII, кн. I,
стр. 266.
15?
тей», и революционно-демократическая, герценовская.
Но в переводе на отвлеченный, объективный философ
ский язык и та и другая точки зрения означали призна
ние .поступательного движения доисторическом процессе^
и в этом смысле обе в равной степени противоречили
коренным основам философии истории у Шопенгауэра,
который отрицал идею прогресса, ^По-видимому, именно
на это важнейшее обстоятельство стремился указать
Тургенев, отвечая на хлесткое обвинение Герцена,
но выразил свою мысль недостаточно определенно. Од
нако то, на что в 1862 году лишь намекалось, стало
очевидностью в 1867 году, когда, после четырехлетнего
перерыва, полемика между Тургеневым и Герценом во
зобновилась в связи с выходом в свет романа «Дым».
Неуклонно придерживаясь прежней точки зрения,
высказанной в 1862 году, Тургенев пытался убедить
Герцена в том, что деятелям его типа не приходится рас
считывать на активную поддержку народа в области
практической реализации идеалов общинного социа
лизма, так как в непросвещенной народной массе царят
«глушь, и темь, и тирания»; что первейшая задача
«меньшинства образованного класса» состоит в том,
чтобы прежде всего заняться уничтожением этих пле
вел в инертном народном сознании. В соответствии
с этим революционно-демократической доктрине Герцена .
Тургенев противопоставил (идею постеценного развития,
основными движущими силами которого провозглаша
лись просвещение народа, наука и цивилизация. На во
прос, «что делать» с народом сейчас, в настоящий момент,
Тургенев отвечал: «... возьмите науку, цивилизацию —
и лечите этой гомеопатией мало-помалу» (VII, 14). Эта
формула, вцражающая ведущую, просветительскую тен
денцию мировоззрения Тургенева, является в то же
время ключом к пониманию подоплеки его критического
отношения к философии истории у Шопенгауэра. Все
дело в том, что в книге Шопенгауэра «Мир как воля и
представление» науке и просвещению, их роли в исто
рической жизни народов по существу не придается
сколько-нибудь серьезного значения. «Действительное
и глубокое облагорожение человечества, — утверждал
Шопенгауэр, — может быть достигнуто не столько извне,
сколько извнутри, т. е . не просвещением и наукой,
а скорее на чисто физиологическом пути размноже-
153
ния».
138
Тщательно штудировавший Шопенгауэра, Тур
генев, конечно, не мог не знать об этом. Следует также
иметь в виду, что и замена науки и просвещения «чисто
физиологическими факторами» (под которыми подразу
мевалось культивирование хорошей наследственности),
предлагалась Шопенгауэром не без горькой иронии.
Он и такое решение проблемы считал неосуществимой
утопией, так как, вступив на этот путь «облагорожения
человечества» и будучи до конца последовательным,
пришлось бы, по его словам, совершить невозможное —
, «кастрировать всех негодяев» и запереть «в монастырь
всех дур».
139
И в ходе полемики с Герценом, и в романе «Дым»
Тургенев видит спасение России в новых формах обще
ственного и социально-экономического быта, базирую
щихся на просвещении и науке, на духовной и техниче
ской цивилизации национальной жизни. Шопенгауэр же
не полагается ни на какие рецепты оздоровления
как жизни отдельных народов, так и человечества
в целом. «Земное счастье» человечества, в которое ве
рили и к которому разными путями стремились Герцен
и Тургенев, не верящему в прогресс Шопенгауэру пред
ставляется одинаково недостижимым и «жалким» и
в прошлом, и в настоящем, и в будущем. В его интер
претации оно всегда «обманчивая, хрупкая и печальная
вещь, и никакие конституции и законодательства, ни
какие паровозы и телеграфы никогда не сделают из него
чего-нибудь истинно хорошего».
140
Здесь „каждоа. слово „противоречит философским, исто
рическим и политическим взглядам Тургенев Вряд ли
следует специально упоминать об уважении Тургенева
к «конституциям и законодательствам», но о его отноше
нии к техническому прогрессу как одному из важнейших
проявлений способности человечества к неограниченному
138
Шопенгауэр, стр. 544.
139
См. там же. — Шопенгауэр был убежден, что каждый новый
рождающийся человек наследует свой нравственный облик и ос
новные черты характера обязательно от отца, а интеллект от ма-
тери. Отсюда его ненависть к «негодяям» и «дурам», возведенная
в ранг философского обобщения, как всегда блестящего по силе
и мрачной красоте выражения, но весьма уязвимого с точки зре
ния науки^
140
Там же, стр. 457.
154
развитию напомнить следует. Уже в сороковые годы Тур
генев писал: «Теперь... нет крупного общего движения,
за исключением, может быть, движения промышленности,
которая, если ее рассматривать с точки зрения нарастаю
щего подчинения сил природы человеческому гению, мо
жет быть, сделается освободительницей, обновительницей
человеческого рода» (I, 451). Впоследствии, критикуя
толстовскую философию в «Войне и мире», в частности
его преклонение перед стихийно-бессознательным нача
лом в истории, Тургенев также подчеркивал огромное
значение порождений человеческого «гения» и «разума» —
трансконтинентальной железной дороги в Северной Аме
рике, подготовительных работ по прорытию Панамского
канала, прокладки подводного телеграфа и т. п.
(VIII, 101).
Резкие разногласия между Тургеневым и Шопенгауэ
ром в вопросе о роли науки и просвещения закономерно
приводили в конечном итоге к еще более важным и
принципиальным разногласиям в понимании ими при
роды исторического процесса. При всех колебаниях в этом
вопросе, особенно характерных для него в период созда
ния «Призраков», «Довольно» и отчасти романа «Дым»,
Тургенев-романист — неутомимый глашатай идей разви
тия и прогресса. В противоположность Шопенгауэру, ви
девшему в истории не «субординацию», а только «простую
координацию фактов»,
141
Тургенев не отрицает в ней
трудного, но все-таки поступательного движения от про
стого к болеесложному, от несовершенного к более совер
шенному, "от «зла» к «добру». «„Не мудрствуя лу
каво", радуюсь поражению Франции, — писал Тургенев
в 1870 году, — ибо вместе с нею поражается насмерть
наполеоновская империя, существование которой несовме
стимо с развитием свободы в Европе» (VIII, 270. Курсив
мой, — А. В.) . По существу то же самое Тургенев имел
в виду в 1849 году, когда подчеркивал, что Наполеон I
«поворачивается спиной к будущему... которое долго
будет биться в цепях, скованных им для него» (I, 485).
Долго — следовательно, не всегда же! Эти разновремен
ные высказывания Тургенева о характере исторического
процесса как бы синтезированы в сентенции его alter ego
в «Дыме» «пессимиста» Потугина, сентенции, знамена-
141
Там же, стр. 452.
155
тельно увенчивающей рассуждения о прошлом и будущем
России: «Да ведь известное дело: от худого к хорошему
никогда не идешь через лучшее... Через худшее к хо
рошему!» (Соч., IX, 172—173).
(^Романы «Отцы и дети» и «Дым» воспринимались мно
гими современниками как покушение на передовые
идеалы эпохи, как выражение крайней вражды к осво
бодительному движению.^Между тем первый посвящен
памяти Белинского, а второй имеет нечто вроде после
словия в форме воспоминаний о великом критике, в ко
торых основная идея романа опять поставлена в прямую
связь с духовным наследием сороковых годов^ В речах
Потугина слышатся отголоски эстетических и обще
ственно-политических взглядов Белинского.
142
,Иеслиего
речи приобретают подчас слишком мрачный колорит,
исчерпывающее объяснение этому следует искать в пер
вую очередь не в субъективно-философских настроениях
автора (хотя и они, конечно, имели немаловажное зна
чение), а в неприглядной реальной обстановке, характе
ризовавшей положение русского общества в пореформен
ный период. Тургенев прекрасно разбирался в этой
обстановке. Само название романа являлось символом «га
зообразного», «непланетарного» состояния России, всту
пающей в полосу нового общественного и социально-эко
номического развития. ^ Оно ^раякало и подчеркивало
не безнадежность, а ^неопределенной^ ситуаций. В связи
с этим следует вспомтгаь-о^-примечатёЬгьных советах Тур
генева А. П. Голицыну, который в 1867 году предпринял
неудачную попытку перевода романа на французский
язык. «Согласен, что заглавие „Fumee" — на французском
языке совершенно не годится, — писал Тургенев... —
Что бы вы сказали о заглавии „Неизвестность"? Или —
7,Между прошлым и будущим"? Или — „Без берегов"?
Или, может быть, „В тумане"»? (VI, 422).^
Философская идея развития, поступательного движе
ния пронизывает и последний тургеневский роман «Новь»,
142
См.: М. К. Азадовский. «Певцы» И. С. Тургенева. «Из
вестия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка»,
М., 1954, т. XIII, вып. 2, стр. 148—151; Н. Л . Бродский. Белин
ский и Тургенев. В сб.: Белинский историк и теоретик литературы.
Изд. АН СССР, М.—Л, 1949. (
143
См.: А. Б. Муратов. О заглавии романа И. С . Тургенева
«Дым». «Вестник Ленинградского гос. университета», 1962, No 2,
серия истории, языка и литературы, вып. 1, стр. 159—161.
156
сложная проблематика которого исподволь намечалась
в набросках, планах, конспектах, в ряде его эпистолярных
высказываний. Так, возвращаясь в одном из писем к на
шумевшему в свое время вопросу о Базарове, Тургенев
писал: «Народная жизнь переживает воспитательный пе
риод внутреннего, хорового развития, разложения и сло
жения; ей нужны помощники — не вожаки, и лишь
только тогда, когда этот период кончится, снова появятся
крупные, оригинальные личности... А пока будем сами
учиться азбуке и учить других— и добро делать пома
леньку» (X, 296). С точки зрения политической это ти
пичное выражение программы либерального постепенов-
ства; с точки зрения общефилософской — приглушенный
апофеоз эволюции, исторически оптимистичной в своей
основе.
Наконец, в 1880 году, подводя итоги своей почти трид
цатилетней деятельности в области романа, Тургенев
прежде всего стремился оттенить в своих романах прин
ципы историзма, которыми предусматривалось раскрытие
типичных явлений духовной жизни общества в их взаи
мосвязях и качественных переходах. Подчеркивая напря
женную динамику в движении и развитии русской об
щественной мысли, он указывал, что именно эта динамика
была главным объектом его внимания как художника-
романиста. «В течение всего этого времени, — писал Тур
генев, — я стремился, насколько хватало сил и умения,
добросовестно и беспристрастно изобразить и воплотить
в надлежащие типы и то, что Шекспир называет: „the
body and pressure of time" <самый образ и давление вре
мени >, и ту быстро изменявшуюся физиономию русских
людей культурного слоя, который преимущественно слу
жил предметом моих наблюдений» (XII, 303).
В эпистолярном наследии писателя есть письмо, часто
цитируемое в связи с определением его эстетических
взглядов, но несомненно отражающее и более широкие,
общефилософские представления
Тургенева-романиста
о действительности. В июне 1876 года он писал
В. Л, Кигну: «Если Вас изучение человеческой физионо
мии, чужой жизни интересует больше, чем изложение
собственных чувств и мыслей; если, напр., Вам приятнее
верно и точно передать наружный вид не только чело
века, но простой вещи, чем красиво и горячо высказать
то, что Вы ощущаете при виде этой вещи или этого чело-
157
века — значит, Вы объективный писатель и можете
приняться за повесть или за роман... Прежде я так ра
ботал—и то не всегда» (XI, 279—280). .Поскольку в по
следних словах содержится прозрачный намек на лйрико-
философские медитации «Призраков» и «Довольно»,
письмо в целом можно рассматривать также и в качестве
косвенной ретроспективной критики философского идеа
лизма шопенгауэровской окраски, идеализма, который,
несмотря на его претензию стать универсальным сред
ством решения всех важнейших философских проблем,
характеризуется прежде всего односторонним, субъек
тивно-импрессионистским подходом к действительности.»
. Тургенев-романист обязан Шопенгауэру весьма не
многим. Но в конце концов уязвимым оказывается и
прямо противоположный вывод о Тургеневе-новеллисте.
Характеризуя тургеневскую философию в повестях ше
стидесятых годов, Л. В. Пумпянский пишет: «... от еди
ничного наблюдения, от усмотренной связи совершается
взлет к общему суждению о жизни, с пропуском всех
посредствующих ступеней, так что громадный пробег
мысли соединяет отрывочный „эпизод" и генеральное
„учение".
Благодаря влиянию Шопенгауэра, вся атмо
сфера тогдашней немецкой культуры была отравлена
144
легкостью этого взлета, способного мгновенно „офилосо-
фить" любое фрагментарное жизненное наблюдение, по
добно тому, скажем, как Эллис в „Призраках" мгновенно
может перенестись за тысячу верст!..» . Таким образом, —
заключает ученый, — «между совершенно единичным на
блюдением и ответственнейшим обобщением» у Турге
нева «нет никакой внутренней преграды, никакого „мето
дологического пространства"».
145
Мы стремились показать, что на самом деле этот
«взлет», обусловленный отнюдь не «любыми» жизнен
ными наблюдениями, был не так уж легковесен. В ин
тервале между «импрессионистическими» наблюдениями
и генеральным «учением» (если эти определения вообще
применимы к творчеству Тургенева) ( его философская
мысль и в романе и в повестях опиралась на такое «ме-
144
По утверждению Л. В . Пумпянского, это «отравление» за
тронуло и значительнейшую часть русской культуры —от Турге
нева до Чехова включительно.
145
Л. В. Пумпянский. Тургенев-новеллист, стр. 8.
158
токологическое пространство», в пределах которого сво
бодно умещалась философия от Гераклита до Фейербаха,
т. е. опыт рефлектирующего сознания, накапливавшийся
в течение "вековi и даже тысячелетий. Выше (см. стр? 103)
мы цитировали Марка Аврелия («И нет, по-видимому,
ничего устойчивого, а рядом с нами безмерная бездна
прошедшего и грядущего, в которой все исчезает. .N
.»
и т. д .). ЦВажно отметить, что непосредственной предпосыл
кой _этого философского заключения, по духу своему
очень близкого Паскалю и Тургеневу, является в сущ
ности основное философское положение не кого иного
как Гераклита. Лишь чуть-чуть перефразируя последнего,
Марк Аврелий писал: «Ибо сущность подобна непрерывно
текущей реке; действия беспрестанно сменяют друг друга,
причины подлежат бесчисленным изменениям».
14
^ Таким
образом, аврелианское, паскалевское и тургеневское срав
нение человеческой жизни и сознания с искрой, мигом,
«математической точкой» в бесконечном мировом движе
нии пронизано в известном смысле и вот каким философ
ским настроением. 1.
Верно, что на «методологическом пространстве», в ко
тором оперирует мысль Тургенева, сравнительно скромное
место отведено Гегелю и его диалектике — ценнейшему
достижению домарксовой философии. Однако того же
нельзя сказать о Фейербахе, воздействие которого* на
Тургенева вряд ли справедливо ограничивать хронологи
ческими рамками сороковых годов. Не говоря уже об од
ной из основ философской концепции образа Базарова
(атеизм), отзвуки фейербахианства несомненны в эпилоге
романа «Накануне» и даже в переписке с Е. Е . Ламберт,
в которой наряду с «шопенгауэризмом» все же проскаль
зывает фейербахиански окрашенная любовь к человеку
вообще — средоточию всего живого на земле. Опора на
Фейербаха ощущается и в более конкретных проявле
ниях, — например, в примечательных собеседованиях Ба
зарова с Одинцовой в гл. XVI. Правда, в этом случае
мы имеем дело с фейербахианством, воспринятым через
Чернышевского, доводы которого в известной степени
огрубляются (Соч., VIII, 577—579). Наконец, отзвуки
философии Фейербаха определенно слышатся в самых
Марк Аврелий, стр. 66 .
159
поздних высказываниях Тургенева. С этой точки зрения
любопытно сопоставить его доводы, выдвигавшиеся в спо
рах с Я. П. Полонским (лето 1881 г.), с характерными
репликами Фейербаха в ответ на критику «Сущности
христианства». В своих воспоминаниях Я. П . Полонский
отмечает, что Тургенев «любил слово „природа" и часто
употреблял его, и терпеть не мог слова „материя": просто
не хотел признавать в нем никакого особенного содержа
ния или особенного оттенка того же понятия о природе.
Я не видал, спорил он, и ты не видал материи — на
кой же ляд я буду задумываться над этим словом?
И так как в этом не сходились наши воззрения, я отстаи
вал слова: „материя", „сущность", „абсолютная истина"
и проч. и проч.».
147
Совершенно аналогично тургеневскому
пренебрежение к укоренившейся философской термино
логии у Фейербаха, причем высказывалось оно последним
с не меньшей запальчивостью: «Для Ф<ейербаха> бог,
дух, душа, Я —пустые абстракции, но такие же пустые
абстракции для него — тело, материя, вещество. Истина,
сущность, действительность для него только в чувствен
ности. Разве ты когда-нибудь воспринимал, разве видел
тело, материю? Ведь ты видел и воспринимал только вот
эту воду, вот этот огонь, вот эти звезды, эти камни, эти
деревья, этих животных, этих людей — всегда лишь
вполне определенные чувственные индивидуальные вещи
и существа, но никогда не видел ни тела и ни души,
ни духа и ни вещества как таковых...» И далее: «Для
меня природа, так же как и „дух", есть не что иное,
как общий термин для обозначения существ, вещей и
предметов, отличаемых человеком от самого себя и от
своего творчества и объединенных под общим названием
природы, но это не есть всеобщая сущность, отвлеченная
и отмежеванная от действительных вещей, не есть некая
персонификация и мистификация».
148
Нет оснований сомневаться в достоверности воспоми
наний Я. П. Полонского: они написаны под очень свежим
впечатлением последних встреч с писателем. К тому же,
не надеясь на свою память, поэт после каждой встречи
147
Я. П. Полонский. И . С. Тургенев у себя в его послед
ний приезд на родину, стр. 62.
148
Людвиг Фейербах. Избранные философские произве
дения, т. II, стр. 420—421.
160
с Тургеневым прибегал к своей записной книжке, пунк
туально фиксируя в ней высказывания собеседника, по
казавшиеся ему наиболее примечательными. Таким обра
зом, эти воспоминания, хотя и косвенное, но все же до
статочно авторитетное и убедительное свидетельство
о том, что и по прошествии почти сорока лет с момента
первого знакомства с сочинениями Фейербаха следы
увлечения ими не изгладились в душе Тургенева. «Хотя
он и был в юности поклонником Гегеля, — напоминает
Полонский, — отвлеченные понятия, философские тер
мины давно уже были ему не по сердцу».
149
Они были ему
не по сердцу прежде всего потому, что одной из главных
предпосылок его скептического отношения к немецкой
идеалистической философии, переполненной этими от
влеченными понятиями и терминами, была материалисти
ческая философия Фейербаха. Не всегда осознанное и по
следовательное, но тем не менее могучее тяготение
к материализму, — и притом, не книжному, живому, пол
нокровному, чувственно-образному, — в
какой-то мере
безусловно предуказанное Фейербахом,
сохраняется
у Тургенева до конца его литературной деятельности.
Подведем итоги.
В ряду философски окрашенных повестей и всех без
исключения романов Тургенева нет произведений, в ко
торых писатель всецело опирается на положения какого-
нибудь одного философа или же, наоборот, целиком их
отвергает. В этом смысле творчество Тургенева не укла
дывается в ^традиции философски тенденциозной художе
ственной литературы, начало которым было положено
во- второй половине XVIII века. Вольтер, например, писал
своего саркастически остроумного, беспощадного «Кан
дида» с целью развенчать философский оптимизм Лейб
ница, а Джек Лондон через двести с_ лишним лет создавал
некоторые свои вещи во славу Герберта Спенсера. То же
самое можно сказать о многих пцсателях с мировым име
нем^ но не о Тургеневе. С ним дело обстоит совсем иначе.
В ^философии он не скептик, не дилетант, не фанатически
убежденный проповедник новых или давно устаревших
принципов. ^Он разносторонний, всеобъемлющий эрудит А
но эрудит опять-таки и не бесстрастный и не воинствую-1
149
Я.П.*Полонский.И.С.Тургенев у себя в его послед
ний приезд на родину, стр. 62.
И А. Батюто
161
щий, — он эрудит, так ска^тьг ^авновешенный. В его
философском восприятии мира очень заметны созерца-
тельно-медитативные^ элегические элементы, не предрас
полагающие к категоричным философско-художественным
обобщениям. Единственное исключение Гз этом роде —
«Призраки»_и «Довольно», <нр,и в этих «манифестах пес-
\ симизма», пожалуй, больше сомнений, чём безоговорочной
1
убежденности, сомнений, в которых огоущается" постоян
ное, безостановочное движение ищущей мысли,
В качество «руководства к действию» Тургенев не при
емлет ни одной философской системы. Эти последние
неизменно оказываются несостоятельны, особенно в своих
конечных выводах, всякий раз, когда он приступает
к изображению глубинных душевных движений своих ге
роев.
150
Вместе с тем почти каждая из них находит ка
кое-то отражение или применение в его творчестве, спо
собствуя укреплению собственно авторской философской
позиции. В любом из таких случаев немаловажное зна
чение имел эмоциональный фактор, художническая впе
чатлительность, предрасполагавшая к философским поло
жениям, высказанным в непрофессионально философской
художественной форме (Гомер, Шекспир, Сервантес,
Вольтер, Гете, Пушкин) или в форме, близкой к ней
(Марк Аврелий, Паскаль, Шопенгауэр). В этой «всеяд
ности», далеко неравнозначной, однако, как показано
выше, философскому эклектизму, следует видеть одно из
проявлений пристального внимания и уважения Тургенева
к действительности и философски широко и свободно
познающему ее «разуму» как диалектически сложным
и неисчерпаемо богатым процессам, не имеющим конца
и начала.
Философия Тургенева адресована по преимуществу
читателю из «культурного слоя» обществу/ Для того
чтобы понять, что хочет_сказать автор, такому читателю
порою достатрчно^беглогоуказания или намека. "Отсюда
лаконичность форм .философского мышления_в романи
стике Тургенева, их зачастую реминисцентный, почти
«цитатный» характер. Эти скупые средства выражения
150 ярчайшие примеры в этом отношении — изображения ду
шевной жизни Гамлета Щигровского уезда, Рудина, Базарова,
а также анализ двух общечеловеческих типов в статьях «Фауст»
и «Гамлет и Дон-Кихот».
162
Тургенев предпочитает всем другим также и потому, что
основная,, постоянно занимающая его философская про
блема—вопрос о жизни и смерти:"— по
природесвоей]
не нова— она многократно, глубоко и разносторонне раз-[
рабатывалась в предшествующей истории развития фило
софии и искусства) Как писатель уникально образован
ный, для которого немыслимо существование вне атмо
сферы общекультурных интересов, Тургенев всегда опи
рается ^на устоявшиеся философские традиции. Вместе
с тем во всем его творчестве мы не найдем ни одного
случая пассивно-подражатедьного воспроизведения поло
жений той или иной философской системы.
Во всех эпохах истории духовной культуры человече
ства Тургенев чувствует себя как дома, и принципы его
философско-художественного анализа и постижения как
современности, так и прошлого, возраст которого исчис
ляется нередко веками и тысячелетиями, можно опре
делить его же словами, характеризующими деятель
ность молодого Пушкина: «Le genie prend son bien par-
tout oii il le trouve» (гений берет свое добро везде, где
его находит) (Соч., XV, 68).
Подобно гению Пушкина, гений Тургенева был доб
рым гением, одухотворенным неиссякаемой симпатией
к людям, искавшим и всегда находившим в них черты
благородства, высокой нравственности и самоотвержен
ности. {При всем «пессимизме» Тургенева, ему свойственно
глубокое убеждение в то1ЬчЛто.,с^тдое- .н ач:ало--в- .- ж изни -|
вообще и в человеке в частности существует — и суще- j
ствует оно «для истребления зла, для противодействия
враждебным человечеству силам...» «Мы видели их,
и когда переведутся такие люди, — писал Тургенев, имея
в виду Дон-Кихотов испанских, болгарских, русских
(а несколько позднее античных — Брут и итальянских —
Гарибальди), живших и действовавших до него и в его
время, — пускай закроется навсегда книга истории! в ней
нечего будет читать» (Соч., VIII, 174, 181). Исследова
телям, которые подчас столь недальновидно и несправед
ливо сводили самую суть жизненной философии Турге
нева к Шопенгауэру, можно было бы напомнить, что
в противоположность великому русскому писателю этот
философ взирает на человека с известным высокомерием,
как на существо не только страдающее, но и достойное
страданий, ибо «человеческая природа», по его словам,
11*
163
«в общем низменна и дурна».
151
Огромная мировоззрен
ческая дистанция между ним и Тургеневым станет осо
бенно очевидной, если мы попытаемся это этико-философ-
ское мерило человеческой ценности применить к таким
персонажам писателя как Наталья Ласунская, Рудин,
Лежнев, Волынцев, Лиза Калитина, Лаврецкий, Лемм,
Елена Стахова, Инсаров, Берсенев, Шубин, Базаров, Лит
винов, Потугин, Нежданов, Марианна, Соломин, Марке-
лов и т. д . и т . п. Противоречие между одной из осново
полагающих идей Шопенгауэра и началами добра, «любви
и света», выраженными этими образами Тургенева, полу
чится полное и непримиримое../Да и сам умерший худож
ник, от лица которого ведется «мизантропическое» повест
вование в «Довольно», — разве по своей природе он так
уж низмен, дурен и безнравствен^
Шопенгауэровские «дополнения к четвертой книге»
имеют эпиграф, заимствованный из сочинений Лао-Тзы:
«Все люди хотят одного: освободиться от смерти; они
не умеют освобождаться от жизни».
152
И этот централь
ный тезис безотрадной философии Шопенгауэра, рекомен
дующей в своих конечных выводах отказ от «воли
к жизни», не встречает сколько-нибудь убедительной ана
логии в подавляющем большинстве произведений пи
сателя. Его герои отнюдь не жаждут смерти как един
ственного «спасения» от горестей бытия. Наоборот, их
мысль постоянно работает в прямо противоположном на
правлении. Зачастую о том же красноречиво свидетель
ствует и биологический фон, на котором они изобра
жаются. Достаточно вспомнить сцены в Васильевском,
когда Лаврецкий, зачарованный буйством зелени, роста,
здоровья, царящих в окружающей его степной глухомани,
чувствует себя благодарно обновленным всем этим, по
молодевшим, сбросившим со своих плеч тяжкий груз
прошлого. «Скорбь о прошедшем таяла в его душе, как
весенний снег, и — странное дело! — никогда не было
в нем так глубоко и сильно чувство родины». Жизнеутвер
ждающее ощущение силы и прелести бытия господствует
в сценах любви в «Накануне» и в «Отцах и детях» (объ
яснение Аркадия с Катей в саду Одинцовой); в описа- •
ниях расцветающей среднерусской природы в начальных
151
Шопенгауэр, стр. 60.
152
Там же, стр. 473.
164
главах тех же романов, причем во втором случае пейзаж
ная живопись выдерживается в реалистически-светлых
пушкинских тонах (см. гл. III романа «Отцы и дети»);
в сцене побега Марианны и Нежданова из дома Сипяги-
ных, насквозь пронизанной бодрящими запахами трав,
росы, и т. д. и т. п. Разумеется, такого рода сцен
не меньше и в новеллистике Тургенева.
^Если смотреть на роман Тургенева с философской
точки зрения, в нем нельзя не отметить еще одной и, по
жалуй, самой важной особенности — противоречивого и,
можно сказать, неразрывного переплетения идей про-
гресса, одушевляющих"'^изображения'' социально-полити
ческой и психологической истории русского общества,
с идеями неподвижности или безотрадной повторяемости,
характеризующих представления писателя о вселенной,
о космосе^ Вторая категория идей подчас затемняла про
грессивное значение первой, ^ результате чего, атмосфера
философского «пессимизма», окутывающая роман Турге
нева, неправомерно представлялась многим его современ
никам более густой, чем это есть на самом деле.? Вместе с
тем та же вторая категория идейсообщала общественному
содержанию романа Тургенева высокое философское звуча-
ние, выгодно отличавшее его от нередко слишком заземлен
ных произведений литературы второй половины XIX века,
не выходивших в своих художественнь1Х обобщениях
дёйствительЖсти 'за''ограниченные пределы злобы дня.
Романы Тургенева принято называть летописью рус
ской действительности 1840—1870-х годов. t Этим удачным
определением подчеркивается одновременно его чуткость
к «живым струнам» общества, неоднократно отмечавшаяся
демократической критикой, и его историзм, правдивосхь.
Но эта скоротечная, в форме романа, летопись неизбежно
грешила бы известным эмпиризмом, не обладай Тургенев,
даже при его огромном изобразительном таланте и чело
веколюбии, глубоко философским мышлением, неизменно
включавшим как будто обычные "социальные и психоло
гические явления своей эпохи в вечный поток мировой
жизнй;^Благодаря этой особенности дарования Тургенева,
злоба дня, отраженная в его романистике, приобрела дол
говременный характер и, как наследие Пушкина, Лермон
това, Толстого, никогда не утратит своего общечеловече
ского значения и «культуроповышающего» воздействия
на читателя.
165
2. Проблемы эстетики
В ходе предшествующего изложения решались в ос
новном две задачи: 1) вскрывалось и настоятельно под
черкивалось многообразие источников формирования фи
лософской мысли Тургенева и 2) прослеживался характер
ее художественного воплощения в ряде его повестей и ро
манов. В литературной деятельности Тургенева философия
сыграла очень важную, но подчас потаенно-конструктив
ную ^ольГБыть может, поэтому при аналитическом про
чтении произведений писателя невольно приходит на па
мять его афоризм в одном из писем к Теодору Шторму:
«Лучшие люди, как и лучшие книги, — это те, в которых
много читаешь между строк...» (VI, 369). Думается, что,
выдвигая эту точку зрения, Тургенев подсознательно имел
в виду и «лучшие книги», написанные им самим. Во вся
ком случае, в числе его крупных произведений, созданных
цосле «Записок охотника», есть по крайней мере два —
[«Дворянское гнездо» и «Отцы и дети», — к которым
^вполне применимо определение, сформулированное в пе
реписке с Теодором Штормом.
В настоящей главе речь пойдет об эстетических прин
ципах, также имевших исключительное значение для
Тургенева-художника. (Подобно философским воззрениям,
они во многом предопределили как стилистическую, так,
в известном смысле, и идейную структуру его романа^
Следует, однако, иметь в виду, что если в философии
Тургенев любил «хватать назад», нередко обращаясь
1Г1Гамь1м истокам философского мышления человечества,
то в эстетике он держится в более узких пределах и .ру
ководствуется ее нормами, выработанными по преимуще
ству в новейшее время. В этом нет ничего удивительного,
так как Тургенев был неутомимым поборником реализма,
под знаком которого мировая литература начала бурно
развиваться только в XIX веке. Пренебрежение реализ
мом или сколько-нибудь серьезные отступления от него
обычно вызывали у писателя раздражение, легко перехо
дившее в негодование. )Не отличался он равнодушием
и в своем отношении к своеобразным течениям и оттен
кам в общем потоке реалистической литературы^ Отсюда
специфические различия в формирующих воздействиях
философии и эстетики на его роман. Воздействие послед
ней отливалось, как правило, в более злободневные формы»
166
побуждая писателя к остро критическому восприятию
таких канонов в литературном процессе, которые, с его
точки зрения, являлись уже устарелыми, устаревающими
или, наоборот, слишком «модными».
Следует остановиться в первую очередь на суждениях
Тургенева о крупнейших западноевропейских и русских
писателях, творивших приблизительно в одно время с ним.
Эти суждения имеют особую познавательную ценность,
поскольку относятся к той поре, когда он уже пользо
вался по праву репутацией вполне сформировавшегося,
зрелого художника слова. Нетрудно заметить, что, неза
висимо от степени их справедливости, подавляющее боль
шинство его критических высказываний о таких писате
лях как Бальзак, Виктор Гюго, Гонкуры, Доде, Мериме,
Золя, Толстой и Достоевский являются вместе с тем
ретроспективным утверждением своей собственной ма
неры в области романа. Оценивая главные особенности
творчества этих писателей, он обращает внимание, — со
знаком минус,— как раз на то, что нехарактерно или
даже эстетически неприемлемо для него самого в прак
тике его литературной деятельности. Таким образом, со
вокупность этих высказываний дает возможность соста
вить хотя и общее, но достаточно точное представление
если не о типе тургеневского романа в целом, то по край
ней мере о некоторых его важнейших типологических
особенностях.
Через всю жизнь Тургенев пронес решительную не
любовь к Гюго, которую це могли смягчить ни яркий
талант автора «Отверженных» (кстати сказать, все-таки
признававшийся Тургеневым), ни его заслуги и громкая
популярность в качестве непримиримого противника ре
жима Второй империи. С точки зрения Тургенева, в твор
честве Гюго нашли выражение худшие тенденции роман
тического восприятия и отражения действительности —
склонность к «фразе», «трескучим эффектам» и холодной
риторике, сближавшая его, с представителями «ложнове-
личавой школы» в России (Марлинский, Кукольник,
Брюллов); безудержный субъективизм; отсутствие про
стоты, естественности, чувства меры и т. д . и т . п. Все эти
«грехи» Гюго — романтика и в поэзии и в прозе.— Турге
нев неустанно подчеркивал в своих эпистолярных и кри
тических суждениях. Так, уже в рецензии на «Записки
ружейного охотника», отвергая «эгоизм» писателей ро-
167
Мантического направления, порождающий в их описаниях
природы подмену «простой и ясной передачи внешних
явлений... рассуждениями по их поводу», Тургенев за
мечает: «Главным образцом поэзии такого рода может слу
жить В. Гюго (см. его «Orientales»). Трудно исчислить,
сколько эта ложная манера нашла себе подражателей и
поклонников, и между тем ни один его образ не останется:
везде видишь автора вместо природы; а человек только
и силен тогда, когда он на нее опирается» (Соч., V, 415).
Не случайно уже это и другие сравнительно ранние
суждения Тургенева по духу своему совершенно совпа
дают с общелитературными критериями Пушкина и, что
еще более знаменательно, с рядом пушкинских убийствен
ных оценок, относящихся к творчеству Гюго непосредст
венно. В заметке «О поэтическом слоге» Пушкин писал:
«Мы не только еще не подумали приблизить поэтический
слог к благородной простоте, но и прозе стараемся при
дать напыщенность, поэзию же, освобожденную от ус
ловных украшений стихотворства, мы еще не понимаем».
1
В соответствии с этим критерием Пушкин, как и Турге
нев, квалифицирует «Les Orientales» Гюго как «блестя
щие», но «натянутые», его поэтические вымыслы назы
вает «нелепыми», его восприятие предмета изображения
«неровным» и «грубым», драмы «уродливыми», а роман
«Последний день приговоренного к смерти» исполненным
к<огня и грязи».
2
- В -Л872.ХОДУ Тургенев пишет Я. П . Полонскому об ан
глийском поэте С^инберне, только что вступавшем тогда
на литературную арену: «... он подражает Виктору
Гюго — но в нем есть действительная страстность и по
рыв, а в Гюго часто все это сочинено» (Х~, 8). Через^ три
года он сообщает В. В . Стасову свой отзыв о статьях
Гюго, печатавшихся в «Rappel»: «Сожалею о том, что не
владею достаточной силой выражения, чтобы сказать,
до какой степени я их презираю — как и вообще всю его
прозу». И добавляет многозначительно: «Радуюсь также
Вашему суждению о Пушкине, Гете и Моцарте; оно в по
рядке вещей. Еще бы Вы их не любили!» (XI, 117).
В унисон с этим отзывом звучат суждения в письмах Тур-
1
А. С. Пушкин. Поли. собр. соч., т. XI . Изд. АН СССР,
М.— Л., 1949, стр. 73.
2
Там же, стр. 175, 94; т. XII, стр. 138, 140—141 .
168
генева (к П. В. Анненкову, И. П . Борисову, М. М. Стасю-
левичу) о романах Гюго, пользовавшихся широким при
знанием публики: «Вот и Гюго забирает громадные
деньги за своих „Miserables". Черт знает — уж не мы ли
глупы?» (VI, 99); «Вы не получаете „Отечественных
записок", а я страдаю этим несчастьем: там есть перевод
безобразных „Тружеников моря" господина Гюго...»
(там же) и, наконец, пожалуй, наиболее резкий выпад
против «господина Гюго», — как автора романа «Девяно
сто третий год» — «Роман Гюго нечитаем; до этакого ис
ступления фразы и фальши, до такого старческого, за-
дорливого и бесплодного самотрясения никто не доходил
пикогда!!» (X, 225).
Выше, в связи с характеристикой общефилософских
убеждений Тургенева, цитировалось его письмо
к
В. Л. Кигну (см. «стр. 157—158) и высказывалось пред
положение, что его можно рассматривать в одном ряду
с многочисленными свидетельствами критического отноше
ния писателя к философскому идеализму. Однако в основ-
ком письмо имеет все-таки значение не философского, а
литературного документа, в котором четко указаны нормы
объективного творчества в жанрах повести и романа^Эти
нормы также вполне согласуются с эстетическими сужде
ниями зрелого Пушкина и, противопоставляя их принци
пам романтической эстетики, Тургенев, конечно, снова, и
уже в который раз, метил прежде всего в Гюго, самую
заметную фигуру в западноевропейском романтизме
XIX века. Такой вывод подтверждается продуманными,
контрастными сопоставлениями стиля Пушкина и Гюго
и речи Тургенева на открытии в Москве памятника вели
кому русскому поэту (Соч., XV, 70).
В резко отрицательном отношении Тургенева к Гюго
сказалось принципиально несхожее у обоих писателей
ощущение «прекрасного» в искусственно с этой же эсте
тической позиции во многом неприемлемо для Тургенева
ir творчество явных антиподов Гюго.—
ГонкуровLi Золя.
ГГо его определению, Гонкуры и в особенности Золя тоже
«сочиняют», но в противоположность романтику Гюго
«пошло-реалистическим образом». Предпочитая поэтиче
скому вымыслу, опирающемуся на реальность, «науч-
11ый», бесстрастно-исследовательский метод отражения
жизни, они попадают в плен натуралистической эмпирии.
«Я его с трудом осилил, хотя таланту пропасть, — писал
169
Тургенев о романе Золя «Проступок аббата Муре». — Вся
середина, где прежде всего нужна поэзия да фантазия,
очень тяжела. Тут одной реалистической кистью ничего
не поделаешь» (XI, 53). Конечно, упоминая об «одной
реалистической кисти», Тургенев имел в виду не класси
ческий реализм, которому отнюдь не свойственно пренеб
режение к фантазии и поэтическому началу вообще. Он
подразумевал именно натурализм, специфическое откло
нение от него.
С точки зрения Тургенева, подлинная поэзия и объек
тивность, столь чуждые творчеству романтика Гюго, и в про
изведениях натуралиста Золя встречаются лишь на пра
вах случайных гостей. «Кажется, я никогда не читал ни
чего столь непроходимо скучного, как
„Нана", — пишет
он в ноябре 1879 года Флоберу. — .. .
Какая убийствен
ная пошлость, какое нестерпимое обилие мелочей; не
скольких крепких словечек, равно как и немногих крупиц
поэзии, явно недостаточно для того, чтобы заглушить от
вратительный вкус этого варева» (ХНг, 369). И в следую
щем письме к тому же адресату — о том же романе:
«... что особенно не понравилось бы Золя — трудно себе
представить что-нибудь менее объективное — это чертов
ски тенденциозно...» (там же, 374).
Литературный вкус Тургенева, тяготевшего к «благо
родной простоте» пушкинского слога, постоянно раздра
жает цветистая, эффектная, нередко ходульная фразеоло
гия Гюго. Однако слишком заземленная, «циничная» лек
сика натуралистических описаний в романах Золя импо
нирует ему ничуть не в большей степени. Именно вслед
ствие этого он с особой неприязнью говорит о «похабности
сюжета» романа «Нана», расцвеченного «множеством не
печатных выражений» (ХПг, 161), а роман «Западня»
характеризуется им как «совершенно жуткая книга», ко
торую он читал со смешанным чувством «отвращения» и
восхищения, причем «отвращение в конце концов одер
жало верх» (XII, 434).
Не менее характерными являются тургеневские обви
нения писателей-натуралистов в холодном объективизме,
в отсутствии у них энтузиазма, веры в идеал, одушевляв
ших, например, творчество Жорж Санд. Один из первых
намеков на эти важные недостатки содержится в его
письме к Флоберу (4 июля н. ст. 1876 г.): «Золя, кажется,
написал длинную статью о г-же Санд в своем русском
170
журй&лё; статья очень хороша — но, говорят, немного су
ховата. Золя не в состоянии в полной мере судить
о г-же Санд. Между ними слишком большое расстояние»
(XI, 412). В дальнейшем мы увидим, что и художествен
ный метод Жорж Санд подвергался в свою очередь суро
вой критике со стороны Тургенева, так как свойственные
ей идеальные стремления не находили в ее повестях и
романах достаточно глубокого, а главное — реалистически
убедительного образного воплощения. Сущностью подлин
ной поэзии, одушевляющей совершенные произведения
в любом роде искусства, Тургенев считал примирение,
идеального с реальным, т. е . органический синтез этих!
начал. Между тем этот синтез в романистике Жорж Санд
отсутствовал, а если и имел место, то выражался зача
стую в банальных формах. Однако в данном случае,
в связи с определением позиции Тургенева в отношении
натурализма, следует особо подчеркнуть это характерное
противопоставление Жорж Санд Золя, противопоставле
ние, в результате которого Жорж Санд как носительница
идеальных стремлений предстает, по сравнению с Золя,
в гораздо более выгодном свете.
По поводу теоретических суждений по вопросам ли
тературы, высказывавшихся Золя в «Парижских пись
мах», которые печатались в журнале «Вестник Европы»,
Анненков писал Тургеневу в мае 1879 года: «Он смеши
вает печальнейшим образом идеализм с риторикой и ро
мантизмом, не подозревая, что идеализм такая же природ
ная сила в человечестве, как и все остальное...»
Здесь же, говоря о «Братьях Земгано» Гонкура, Аннен
ков замечает: «Это реализм вычурный, не менее роман
тических чудовищностей Гюго и братии» (XIЬ, 449).
В ответном письме Анненкову Тургенев констатирует:
«Все, что Вы говорите о Зола и Гонкурах, умно, как день»
(ХП2, 81).
) Итак, натурализм Золя и Гонкуров, возникший
в ""борьбе с романтическим направлением во французской
литературе, представляется Тургеневу и Анненкову, глу
боко усвоившим поэтику Пушкина и эстетику Белинского,
такой же дурной крайностью, как и романтизм Гюго]
В сущности чуть ли не одинаково «вычурно» и то, что
создают Гюго и его последователи, и то, что пишут Золя
и Гонкуры. Все это не настоящая или неполная правда
в искусстве.
171
[Высшим мерилом красоты и правды в искусстве были
для Тургенева художественные достижения Пушкину
Когда же он обращался к натурализму Золя, таким ме
рилом являлось для него и творчество Льва Толстого.]
«Для французского вкуса, — утверждает Тургенев, —
Толстой слишком прост — потому что слишком правдив.
А Зола только кричит в фельетонах о натурализме,
о „documents humains" — а на деле ни в своих произве
дениях не придерживается этой нашей правды, ни в чу
жих ее не чует. Тут „недоступная черта меж ними есть"»
(ХП2, 102).
^На первый взгляд, некую идеальную искомую сере
дину между крайностями Гюго и Золя представляла со
бою, в интерпретации Тургенева, творческая манера Про-
спера Мериме. В тургеневском некрологе о нем подчер
кивалось, что" в литературе Мериме «дорожил правдой и
стремился к ней, ненавидел аффектацию и фразу, но чуж
дался крайностей реализма и требовал выбора, меры, ан
тичной законченности формы» (XIV, 213). Эта оценка
основных эстетических принципов литературной деятель
ности Мериме и в особенности указание на то, что фран
цузский писатель был поборником «античной закончен
ности формы», в значительной степени прилагается к ху
дожественному наследию самого Тургенева. Античное
чувство меры в искусстве ценилось им очень высоко. Так,
например, в письме к немецкому искусствоведу и фило
логу Людвигу Фридлендеру (октябрь 1869 г.) он писал:
«Получил Ваше письмо — а также брошюру о Менандре,
которую прочел с большим интересом. Она воссоздает
прекрасный образ изящного и умного грека самых луч
ших времен, которого боги наделили этим высшим
даром — чувством меры...» (VIII, 354).- Высокая продук
тивность тургеневского стремления к «античной закон
ченности формы» неоднократно подчеркивалась в иност
ранной критике. Известный историк литературы Мель
хиор де Вогюэ приводит в связи с этим следующую
характеристику, принадлежащую Ипполиту Тэну: «Турге
нев-художник наиболее совершенный между теми, кто
писал после греков; никто не может сравниться с ним
в строгом выборе материала, в трезвости и скульптурной
красоте форм; каждая из его маленьких повестей (Тэн,
очевидно, не делал в данном случае никакого различия
172
между повестью и романом Тургенева. — А . Б .) напоми
нает безупречную античную камею».
3
Однако преклонение Тургенева перед античными
писателями, культивировавшими чувство, меры, не^безого-
вароннсц VQH намекает на это в цитированном отзыве
о Менандре — говоря о том, что боги наделили греческого
драматурга «высшим даром — чувством меры», он добав
ляет многозначительно: «быть может, слишком щедро»
(VIII, 354). Что же касается Мериме, Тургенев даже
в некрологической статье о нем не преминул указать
на его излишества в этом отношении — «некоторую су
хость и скупость исполнения» XIV, 213),"которые в свою
очередь способствовали устранению из его прозы всякого
субъективного элемента. Долгие годы дружбы, основанной
на общности литературных вкусов и симпатий, — а Ме
риме кроме того был еще и чуть ли не единственным
в то время французом, знавшим русский язык и благого
вевшим перед Пушкиным, — все это в конце концов смяг
чило, а может быть, и совсем изгладило в памяти Турге
нева первое довольно неприятное впечатление от знаком
ства с ним. Об этом впечатлении следует напомнить, так
как в чем-то очень существенном оно не противоречит
итоговой тургеневской оценке творчества Мериме. В марте
1857 года Тургенев писал из Парижа одному из своих
русских приятелей: «Я познакомился со многими литера
торами, и с Мериме. Похож на свои сочинения: холоден,
тонок, изящен, с сильно развитым чувством красоты и
меры и с совершенным отсутствием не только какой-ни:
будь веры, но даже энтузиазма» (III, 97).
,С точки зрения Тургенева, злоупотребление мерой
тоже недопустимо: оно чревато холодностью, бесстрастием.
ИГ здесь образцом для него по-прежнему остается Пушкин,
который обладал очень развитым, но отнюдь не гипертро
фированным чувством меры. В пушкинском «поэтическом
темпераменте» Тургенева восхищает «особенная смесь
страстности и спокойствия... объективность его дарова
ния, в котором субъективность его личности» все-таки
постоянно «сказывается... внутренним жаром и огнем»
(XV, 71).
-
.
Во французской
литературе второй
половины
XIX века Тургенев больше чем кого бы то ни было ценил
3
«Орловский вестник», 1897, No 87, 1 (13) апреля.
173
Флобера и Мопассана, писателей объектйВй6-рёалйс$йЧе'
ского направления, руководствовавшихся в практике по
строения романа не натуралистическими или какими-ни
будь иными теориями, а прежде всего законами самой
жизни.* «Мы с вами кроты, роющйег нашу борозду в одном
направлении», — отмечает
с удовлетворением Тургенев
в переписке с автором «Мадам Бовари» (VII, 382). Это
направление — «живая и человеческая правда», которую
Тургенев и Флобер ищут «неустанно» (там же). Турге
нев восхищается и «слогом» Флобера — его строгостью,
законченностью, лаконизмом, объективным спокойствием.
«Слог Флобера как из мрамора вырезан», — замечает он
в одном из писем (X, 490).
Что касается Мопассана, это, по Тургеневу, талантли
вейший продолжатель Флобера. «Известный... молодой
романист Гюи де Мопассан, — пишет Тургенев, — бес
спорно самый талантливый из всех современных фран
цузских писателей, написал роман (речь идет о романе
«Жизнь», — А. Б.)
...
Со времени появления „Г-жи Бо
вари" ничего подобного не появлялось. Это не то, что
Зола и пр.... Либо я ничего не смыслю — либо роман
Мопассана из ряда вон выходящее явление, капитальней
шая вещь...» (ХШ2, 100).
( Тургенев не ошибся в этой оценке. Причем огромный
реалистический талант Мопассана он заметил и оценил
по достоинству одним из первых.) Поражает точность и
четкость этой оценки и в другом отношении. Не закрывая
глаз на «скабрезность», свойственную многим произведе
ниям Мопассана, Тургенев в этом не всегда чистом по
токе безошибочно обнаруживает настоящую жемчужину.
Удивительна и трогательна характеристика «Жизни»
в другом его письме: «... роман прелесть — и чистоты
чуть-чуть не шиллеровской» (ХШг, 124).
Ни один из упоминавшихся выше западноевропейских
писателей, — за исключением, быть может, Жорж Санд,
о которой речь впереди, — не сыграл сколько-нибудь су
щественной роли в изначальном формировании романа
Тургенев^ В своем подавляющем большинстве они и
не могли оказать такого влияния на Тургенева, так как
работали почти в одно время с ним, даже параллельно
с ним и притом в пору его полной и безусловной творче
ской самостоятельности. Иные же из них, например, Мо
пассан, могли Тургенева назвать одним из своих лите-
174
рзтурных учителей.
4
Тем не менее в целом творчество
каждого из этих писателей, если его рассматривать в свете
критического восприятия Тургенева, является источником
богатейших косвенных данных, позволяющих составить
общее представление о характере его собственного ро
мана.
Некоторые основные типологические особенности ро-
манаГТургенёва достаточно рельефно раскрываются в про
цессе его сопоставления (по принципу контраста) с ро
манистикой Гюго, Бальзака, Золя, Гонкуров, Мериме,
Доде. (Во-первых, это роман без приподнятого ИЛИ, как
говорит Тургенев, «напыщенного» романтизма в слоге —
главного признака литературной манеры Гюго.Що^складх;
своей души Тургенев одновременно и реалист и роман
тик, но романтизм, находящий себе прибежище в области
лексического ^отбора и стиля вообще, преследуется: им "бу
ровое неутомимоГ Тургенев; никогда не подменяет про
стых "и ясных изображений жизненных явлений рассуж
дениями «по поводу». В этом отношении руководством
к действию является для него один из принципов пушкин
ского художественного метода, упомянутый и подчеркну
тый им в его речи о великом поэте. Тургенев особенно-
восхищался пушкинским «Анчаром» — в связи с отсут
ствием в нем «всяких толкований и моральных выводов»
(Соч., XV, 70). Подобных толкований Тургеневу удается
избегать почти полностью.
:«Романтизм» в романе Тургенева .(как,-впрочем^ и
в подавляющем большинстве его произведений) прояв
ляется в повышенном тонусе изображаемых жизненных
явлений: в стремлении и умении писателя «застать» сво-
4
Характеризуя впоследствии литературно-эстетические прин
ципы Тургенева, автор «Жизни» счел необходимым особенно под
черкнуть его пренебрежение ко «всем старым формам романа,
построенного на интриге, с драматическими и искусными комби
нациями», и его требование, чтобы писатели «давали „жизнь",
только жизнь —„куски жизни", без интриги и без грубых при
ключений». Считая роман самой новой литературной формой, Тур
генев, по словам Мопассана, вполне разделявшего его точку зре
ния, стремился к тому, чтобы одновременно и «упростить и воз
высить этот род искусства, который является искусством жизни
и должен стать историей жизни» (см.: Мопассан. Поли. собр.
соч. в 42 томах, т. XI . М., 1958,^стр. 177). Как видим, формулируя
свой взгляд на реалистический роман, Мопассан почти всецело
Опирается на Тургеневу.
175
его героя в момент его душевного взлета (ночное объяс
нение Лаврецкого с Лизой в саду Калитиных, объяснение
Елены с Инсаровым у часовни, «неожиданные» пылкие
речи аскетически сурового Инсарова, выражающие его
страстную и благородную любовь к своей порабощенной
родине); (в остром_ощщении _<<пре^асного>> в будничном,
обыденном,~~естественном течении жизни природы и че
ловеческогообщества; наконец, в акценте на «вечных»
чувствах, свойственных человеку, — любви, доброте, спра
ведливости, стремлении к идеалу. | Если можно так выра
зиться, это романтизм реалистический, и гГодйинногй поэ
зии в нем, конечно, не меньше, чем в обычном классиче
ском романтизме..; .
Одна из отличительных особенностей тургеневского
романа обязательное присутствие в нем типов, в пережи
ваниях которых отражены настроения людей с сильно раз
витым общественным «инстинктом». В 1879 году Тургенев
пишет Анненкову: «Роман Доде мне менее понравился,
нежели Вам, вероятно потому, что по самой натуре сю
жета вместо типов являются одни портреты, чуть-чуть
застланные прозрачной дымкой. А ведь интересны только
типы...» (ХП2, 161). Тургенев прекрасно понимает, что
«оплошность» Доде в данном случае вполне извинительна
(речь шла о его романе «Короли в изгнании»), но при всех
оговорках его упрек французскому романисту все же ос
тается в силе. Однако подобных смягчающих обстоя
тельств Тургенев совсем не находит, когда ему прихо
дится оценивать творчество Бальзака. В отношении этого
писателя Тургенев непримиримо враждебен и, пожалуй,
не в меньшей степени, чем в отношении Гюго. Он при
знается, что из сочинений Бальзака он «никогда не мог
прочесть более десяти страниц сряду», до того он ему
«противен и чужд» (ХШг, 76). Примечательно, что это
говорит не молодой Тургенев, а Тургенев, которому оста
лось жить немногим больше полугода... До конца жизни
он сохраняет мнение о Бальзаке, высказанное в пору
завершения «Рудина»: «Бальзак воздвигается идолом, и
новая школа реалистов ползает в прахе перед ним, рабски
благоговея перед Случайностью, которую величают Дей
ствительностью и Правдой» (III, 67—68). ^Роман Баль
зака неприемлем для Тургенева, так как «типов» в нем
он не обнаруживает..Д произведениях этого писателяТур-
генев видит отражения только случайного, внешнего. Та-
176
кая оценка, конечно, несправедлива. Но зато она красно
речиво свидетельствует о том, чем является собственно
тургеневский реалистический роман. Случайность в обри
совке типов тургеневского романа не допускается,
в идеале же она исключается полностью. Тургенев и в ха
рактерном ищет и изображает только наиболее характер
ности jmT изображения всегда сжаты, лаконичны." Быть
может, этим следует объяснить его особую антипатию
к Бальзаку. гСтолкнулись две формы реалистического ро- '
мана совершенно различные по стилю, и Тургенев не смог
объективно оценить то, что в высшей степени не соответ
ствовало привычной для него собранной манере худо
жественного повествования.)
О тургеневском чувстве меры, о его тяготении к антич-
1
ной законченности формы, о характерном для него не
приятии «цинических» особенностей натурализма и, на
оборот, о его уважении к идеалам, пронизывающим сан-
довскую форму романа, сказано выше. Наличие в той или
иной степени всех этих основополагающих компонентов
(за вычетом, разумеется, особенностей, свойственных ма
нере Золя) в структуре тургеневского романа очевидно.
Однако это схематичное итоговое резюме было бы явно
неполным без учета и анализа еще одной очень важной
категории критических высказываний Тургенева, имею
щих непосредственное отношение к теории и практике его
романного творчества. Мы имеем в виду его суждения
о Достоевском и Толстом.
Среди русских и западноевропейских романистов
XIX века, подвергавшихся настойчивой критике Турге
нева, Достоевский и Толстой занимают совершенно осо
бое место. Достоевского-человека и Достоевского-писа
теля Тургенев вовсе не любил, а за бурным ростом Тол
стого, в котором он задолго до многих других выдающихся
писателей и критиков почувствовал и приветствовал ху
дожника мирового масштаба,
5
он наблюдал в течение де
сятилетий все-таки со смешанным чувством восторга и
досады.
5
В этом отношении наиболее выразительно суждение
о «Войне и мире», высказанное в статье «По поводу „Отцов и де
тей"». Здесь Тургенев утверждал, что «по силе творческого, поэти
ческого дара» эта эпопея «стоит едва ли не во главе всего, что
явилось в европейской литературе с 1840 года» (Соч., XIV,
107-108).
Л2 А. Батютр
177
В тему настоящей главы не входит широкая поста
новка проблем Тургенев — Достоевский и Тургенев —
Толстой. Больше того, мы намерены предельно ограни
чить свою задачу и вернуться к сравнительно частному,
давно поставленному вопросу, —{впрочем, к вопросу из
числа тех, которые в критике и литературоведческой
науке не совсем справедливо считаются уже вполне ре
шенными. (Рель^ойдет о психологическом анализе в ро
манистике Тургенева в связи с его отношением к психо-
логйшу'Достоевског^
7
^ КакГ художники-психологи, Толстой и Достоевский
были гениальными первооткрывателями, внесшими в пси
хологический анализ, применявшийся в предшествующем
литературном процессе, много необычного, принци
пиально нового.^ В этом отношении они резко отличались
от всех других выдающихся русских писателей, не исклю
чая, разумеется, и Тургенева: На вопрос, в чем состоит
коренное различие между ними, любая статья или моно
графия, специально затрагивающая проблему психологи
ческого анализа у Тургенева, Достоевского и Толстого,
отвечает приблизительно следующим образом. ( В проти
воположность диалектикам Достоевскому и Толстому,
стремившимся заглянуть в самые потаенные глубины
души человека, Тургенев ограничивается в ее изображе
нии скупыми указаниями лишь на внешние признаки глу-
, бины души. В связи с этим исследователями часто цити
руется или подразумевается письмо Тургенева к начи
нающему тогда писателю К. Н . Леонтьеву (1860 г.),
в котором сказано: «Поэт должен быть психологом, но
тайным: он должен знать и чувствовать корни явлений,
но представляет только самые явления — в их расцвете
или увядании» (IV, 135). Толстого и в особенности До
стоевского интересует бесконечный поток противоречи
вого человеческого сознания, Тургенев обращает внима
ние только на его «узловые» моменты; он делает акцент
по преимуществу на главном или, как он сам говорит,
-на
характерном и т. д. и т . п . Все это верно. Однако
6
См. статью Н. Г. Чернышевского о ранних произведениях
Л. Н. Толстого (Поли. coop, соч., т. III. Гослитиздат, М., 1947,
стр. 421 —431), статью Б. М . Энгельгардта «Идеологический роман
Достоевского» (в кн.: Ф. М . Достоевский. Статьи и материалы.
Сб. II. Л . —М ., 1924), книгу М. М . Бахтина «Проблемы творчества
Достоевского», Л., 1929.
178
йй в одном исследовании мы йе найдем ясного otBe'M
на другие не менее важные вопросы, а именно: ^почему
для Тургенева приемлем только такой, уравнительно
обеднённый психологический анализ? Почему Тургенев-
художник, обладавший громадным талантом и безупреч
ным литературным вкусом, писатель высокой эстетиче
ской культуры, умевший в настоящем «художестве» все
понять и оценить по достоинству, проявлял удивите ль-
ную_невосприимчивость, холодность, а подчад JH острую
враждебность к психологии Достоевского в целом и к не
которым^ ее характерным особенностям у Толстого? По
скольку таких ответов не дано, читателю предоставляется
право самостоятельно формулировать заключение на этот
счет. Чаще всего оно сводится к тому, что во всех подоб
ных случаях Тургенев проявлял печальную но, впрочем,
извинительную неспособность "возвыситься до уровня До
стоевского и Толстого. В сущности такое заключение глу
боко ошибочно. Подлинная причина «отставания» Турге
нева от Достоевского и Толстого в области психологиче
ского анализа кроется не в сравнительной ограниченности
его творческих потенций, а в чем-то другом.
В статье Г. А. Вялого «О психологической манере Тур
генева (Тургенев и Достоевский)» убедительно доказано
присутствие «достоевщины» в раннем творчестве Турге
нева, т. е . задолго до появления ее в ряде произведений
самого Достоевского. Г . А. Вялый подчеркивает, что
принципы изображения душевной жизни главных героев
«Гамлета Щигровского уезда» и «Дневника лишнего че
ловека» в значительной степени предвосхищают приемы,
которыми пользуется Достоевский при обрисовке уеди
ненного сознания подпольного человека в «Записках
из подполья». ^Еазница в приемах Тургенева и До
стоевского заключалась при этом только в интенсивности
их применения. Изображая болезненные состояния души
своих персонажей, их склонность к мучительству, злобе
и самоистязанию, Тургенев держался в пределах возмож
ного, реально допустимого^ Достоевский же, по обыкнове
нию, не соблюдал в этом отношении никаких ограниче
ний.
7
Несмотря, однако, на эти различия, и Чулкатурин
и Гамлет Щигровского уезда все же воспринимаются чи-
7
Г. А . Бялый. О психологической манере Тургенева (Турге
нев и Достоевский). «Русская литература», 1968, No 4, стр. 34—41.
12*
179
тателем как натуры крайне изломанные, неуравновешен
ные, дошедшие чуть ли не до последнего градуса самоис
тязания, мучительного самоанализа, болезненного само
углубления^
Примеры совпадений психологической манеры Тур
генева и Достоевского, приведенные в статье Г. А. Вя
лого, настолько многочисленны и красноречивы, что
в общих ее выводах сомневаться не приходится. Следова
тельно, широко распространенное мнение о прирожден
ной неспособности или непредрасположенностй Турге
нева к усложненному анализу противоречивых психиче
ских
состояний
нужно
признать
несправедливым
по крайней мере в отношении того периода его творче
ства, который предшествовал его обращению к роману.
Что же заставило Тургенева в своей дальнейшей лите
ратурной практике решительно отказаться от приемов,
напоминающих психологическую манеру Достоевского?
И если этот отказ был преднамерен и чем-то обоснован,
то чем именно? От исчерпывающего ответа на эти воп
росы многое зависит в понимании природы всего твор
чества Тургенева и, в частности, его романа.
/Тургенева невозможно было убедить ни в новизне
психологической манеры Достоевского, ни в ее праве
на существование в качестве художественного достиже
ния, необходимого и полезного в ходе дальнейшего "раз
вития реализма. В ряде эпистолярных высказываний
по этому поводу, относящихся к разным годам его
жизни, он прямо или косвенно намекал на ее неориги
нальность, нередко сопровождая подобного рода намеки
указаниями на неблагоприятное воздействие «достоев
щины» на читателей и начинающих писателей, на пуб
лику в целом. Наиболее отчетливо эта тенденция про
явилась у него после смерти Достоевского.
В 1881 году один из членов редакции «Вестника Ев
ропы» (А. Н . Пыпин) обратился к нему с предложением
выступить на страницах этого журнала со статьей о До
стоевском. По словам Тургенева, от него ожидали не ли
тературных воспоминаний, к жанру которых он с не
которым усилием все же приспособился, а чего-то еще
более затруднительного в смысле исполнения — профес
сионально-критической «оценки» (XIIIi, 55). Но пред
ложение редакции «Вестника Европы» было чревато и
целым рядом специфических трудностей и неудобств
180
для Тургенева, обусловленных, в Конце кондов, харак
тером всех его предшествующих взаимоотношений
с Достоевским. «Я сперва согласился, — замечает Турге
нев,—а
потом раздумал. Правду сказать (о Достоев
ском) мне нельзя — теперь — и выйдет, что я хочу при
случае о себе напомнить. А знаменательны были эти
похороны! С архиереем! И сочувствие молодежи! .. Сал
тыкова бы так не хоронили.
8
И дай бог ему пожить. Но
это урок и предмет размышления» (XIIIi, 58).
Глубочайшая антипатия к Достоевскому сквозит
здесь в каждом слове. Характерны и скрытая тревога
Тургенева за молодежь, боготворившую Достоевского, и
его противопоставление усопшему писателю здравствую
щего Салтыкова-Щедрина. В письме содержатся также
явные намеки на знаменитый памфлет Достоевского
в «Бесах», к которому Тургенев отнесся в свое время
терпимо, но не без брезгливости и, надо полагать, — на
разные точки зрения Достоевского и Тургенева на твор
чество Пушкина, отразившиеся в их выступлениях
на недавних пушкинских торжествах. Надо полагать,
что, если бы Тургенев выполнил обещание, данное ре
дакции «Вестника Европы», написанная им статья
во многом безусловно противоречила бы прочно утверж
давшимся в обществе представлениям о Достоевском как
гениальном писателе и «всечеловеке». Таким образом,
момент для выступления с объективной оценкой твор
чества Достоевского казался Тургеневу неподходящим,
идти же против течения с гадательными шансами на ус
пех он не пожелал.
В сентябре следующего года в журнале «Отечествен
ные записки» появилась статья Н. К. Михайловского
«Жестокий талант», подавшая Тургеневу удобный повод
для нового обобщающе-резкого суждения о Достоев
ском — но опять в частном письме. Оно-то и является
ключом к его пониманию творчества Достоевского.
«Прочел я... статью Михайловского о Достоевском, —
пишет Тургенев Салтыкову-Щедрину. — Он верно под
метил основную черту его творчества. Он мог бы вспом
нить, что и во французской литературе было схожее
явление — а именно пресловутый маркиз де Сад. Этот
8
Салтыков-Щедрин в это время поправлялся после болезни,
в течение которой многие опасались за его жизнь.
181
Даже кйигу написал: „Tourments et supplices",^ в кото
рой он с особенным наслаждением настаивает на раз
вратной неге, доставляемой нанесением изысканных мук
и страданий. Достоевский тоже в одном из своих рома
нов тщательно расписывает удовольствие одного люби
теля. .. И как подумаешь, что по этом нашем де Саде
все российские архиереи свершали панихиды и даже
предики читали о вселюбви этого всечеловека! Поистине
в странное живем мы время!» (ХПЬ, 49).
В «Гамлете Щигровского уезда» и в «Дневнике лиш
него человека» Тургенев в значительной мере предвос
хищает психологическую манеру Достоевского в «Запис
ках из подполья», а через тридцать лет беспощадно со
относит ее с приемами действительно «пресловутого»
маркиза де Сада, по-видимому, намекая при этом
на все то же произведение Достоевского. ; Происходит,
как видим, полное отчуждение Тургенева от этой манеры.
Вселюбовь и всечеловечность Достоевского Тургенев
и его ближайшие друзья считали лишь внешней эффект
ной оболочкой, скрывающей от постороннего неискушен
ного взгляда несимпатичные стороны его натуры и ху
дожественного дарования. Любопытен в этом отношении
отклик Анненкова на смерть и похороны Достоевского —
по духу своему он совершенно совпадает с первым впе
чатлением Тургенева от тех же событий, но вместе с тем
в известном смысле дополняет и расцвечивает его но
выми оттенками и штрихами. 6 (18) февраля 1881 года
Анненков писал Тургеневу: «Как жаль, что Достоевский
лично не мог видеть своих похорон, — успокоилась бы
его любящая и завидущая душа, християнское и злое
сердце. Никому таких похорон уже не будет. Он един
ственный, которого так отдают гробу, да и прежде только
патриарх Никон да митрополит Филарет Дроздов по
лучили нечто подобное его отпеванию. Радуйся, милая
тень. Добилась ты того, что причислили тебя к лику
твоих предшественников святого, византийского пошиба.
Может быть, скоро и мощи твои явятся и мои дети ус
лышат
еще:
„Преподобный Феодоре, моли бога
о нас..."» (ХШ2, 305).
Послав это откровенное и в высшей степени ядови
тое по отношению к Достоевскому письмо, Анненков
9
«Казни и пытки» (франц.).
182
всполошился за свою репутацию тонкого и проницатель
ного литературного критика
(явно
неравнодушного
к тому же к возможному суду будущих поколений) и
через некоторое время попросил Тургенева вернуть его
или. уничтожить. Тургенев не сделал ни того, ни дру
гого, и этот факт показывает, что точка зрения Аннен
кова на личность Достоевского казалась ему обоснован
ной и вполне заслуживающей того, чтобы с ней ознако
мились когда-нибудь потомки.
Итак, жестокость, садизм — вот, по Тургеневу, > «ос
новная черта» творчества Достоевского. Разумеется, это
преувеличение, граничащее с большой неправдой. Но,
повторяем, в данном и во всех подобных случаях прин
ципиальное значение имеют не ошибочность или непол
нота литературных мнений и оценок Тургенева, относя
щихся к личности и творчеству того или иного писателя,
а та общая эстетическая платформа, та центральная
эстетическая позиция, с которой эта критика проводится.
О существовании темных сторон в человеческой на
туре, о непрестанной борьбе добра и зла в человеческом
обществе Тургенев-философ знает, пожалуй, не меньше
Достоевского. Не отрицает этих темных сторон и кон
трастов и Тургенев-художник. Однако его этика и эсте
тика вопиют против изощренного поиска подобных яв
лений и преувеличений в их оценке. Jlo Тургеневу,
Достоевский предпочитает смотреть на мир с точки зре
ния больного, мятущегося уединенного сознания своих
героев, а это недопустимо, поскольку неизбежно со
пряжено не только с искажениями общей картины дей
ствительности, — такая метода приводит .к., тому,_ что
ата картина заслоняется изображениями потока хаоти-
че^^ГШйШв^ШШЖ„.Х?^
иае11В0Т0
сознания. Я или под
меняет собою все помимо "нёГо" существующее или же
отбрасывает на внешний мир густую и сумрачную тень,
сквозь которую трудно рассмотреть предметы и явления
в их подлинной, реальной значимости.
[С точки . .зредия_ Тургенева^ _ „чрезмерное внимание
к уединенному сознанию и болезненной сумятице его
проявлений становится как бы единственно важной
целью Достоевского, свидительствуя, таким образом,_ о его
крайнем субъективизме в деле художества, об 1эгоизме>>,
пронизывающем его
психологаческую ^^манеру^^том
«эгоизме» в самом широком смысле этого слова, а "не
183
только в области «слога», который, судя по высказыва
ниям .того же Тургенева, присущ не только Гюго и по
добным ему поэтам и прозаикам, создающим свои "про
изведения в русле романтического направления, но и
многим другим писателям XVIII и XIX веков, подчас
независимо от их ] принадлежности к той или иной ли
тературной школе} Этот «эщязмж имеет самые различ
ные модификации, но Тургенев неустанно подчеркивает
свое непримиримое отношение к любой из них. Так, уже
в 1853 году он пишет С. А. Миллер, будущей жене поэта
А. К . Толстого: «Хотел бы я начать с вами войну за
Жан-Поля — но на бумаге это почти невозможно, и
я отлагаю это до нашего свидания». Однако здесь же,
противопоставив творчеству Жан-Поля «Одиссею» Го
мера, Тургенев все-таки не преминул отметить: «... вся
эта прелесть первого появления поэзии в устах бес
смертного и счастливого народа — лучше всего отвратит
вас от той полусентиментальной, полуиронической возни
с своей больною личностью, которой, посреди всех но
вейших писателей, отличается и Жан-Поль» (II, 189).
/* В августе 1855 года Тургенев пишет: «Я на днях
прочел „Авторскую исповедь" Гоголя... как жалка эта
смутная чепуха, эта самолюбивая возня с самим собою —
перед ясною, здравою, безличною художественностью
Пушкина!» (II, 308). В пятидесятые годы Тургенев не
однократно говорил о желательности в современной ли
тературе синтеза пушкинского и гоголевского направле
ний, но при этом, конечно, имелись в виду органическое
развитие и слияние с пушкинскими тех гоголевских тра
диций, начало которым было положено не «Выбранными
местами из переписки с друзьями» и «Авторской испо
ведью», а «Ревизором» и «Мертвыми душами».
Уклонения от этой магистральной дороги в литера
туре в сторону «эгоизма», высшим выражением которого
он считает психологическую манеру Достоевского^, Тур
генев одинаково отчетливо видит и в большом и в малом.
Так, очень характерны" указания на родовые признаки
и ростки «достоевщины» в тургеневской оценке творче
ства молодого К. Н. Леонтьева. «Ваша беда — какая -то
запутанность хотя верных, но уже слишком мелких
мыслей, какое-то ненужное богатство задних представ
лений, второстепенных чувств и намеков, — пишет Тур
генев Леонтьеву... — Вспомните, что как ни тонко и
184
многосложно внутреннее устройство какой-нибудь ткайи
в человеческом теле, кожи напр., но ее вид понятен и
однороден... Глядите больше кругом себя и возитесь
меньше с самим собою» (II, 259). О том, что скрывается
за этими советами и наставлениями, в особенности,
за последним из них, свидетельствует характеристика
Леонтьева в письме Тургенева к Анненкову: «Талант
у него есть, но сам он весьма дрянной мальчишка, само
любивый и исковерканный. В сладострастном упоении
самим собою, в благоговении перед своим „даром", как
он сам выражается, он далеко перещеголял полупокой
ного Федора Михайловича» (II, 104).
После всего сказанного неудивительны его характе
ристики романов Достоевского,
написанных после
«Записок из подполья». «Рассказ Достоевского в 1-м No
„Русского вестника" — действительно замечательная фо
тография, — пишет Тургенев, имея в виду «Преступле
ние и наказание», — только уж очень много он сам с со
бою возится» (IV, 60). По существу это обвинение
в тягчайшем литературном грехе ("фо^графизл^ГТ)но
и~~означает «]рйобл1[чёниё» "пристрастия Достоёвского-
ггсихолога к «мелким мыслям», «ненужному богатству
задних представлений, второстепенных чувств и наме
ков», т. е ., иными 'Словами, — его склонности к фиксации
всего потока чедовеческого сознания, а не только его уз
ловых, самых характерных и, следовательно, самых не
обходимых моментов. Аналогичны суждения о «Пре
ступлении и наказании» в письме к другому адресату:
«Первая часть „Преступления и наказания" Достоев
ского замечательна; вторая часть опять отдает прелым
самоковыряньем» (VI, 66). И далее: «А „Преступление и
наказание" Достоевского я отказался читать: это что-то
вроде продолжительной колики — в холерное время по
милуй бог!» (VI, 109). И, наконец, о романе «Подрос
ток» — в письме к Салтыкову-Щедрину: «Я заглянул
было в этот хаос: боже, что за кислятина, и больничная
вонь, и никому не нужное бормотанье, и психологиче-
ческое ковыряние!!» (XI, 164. Курсив мой, — А . Б .) .
Чуть ли не единственным современным русским пи
сателем, достойным глубочайшего преклонения, Турге
нев считал Толстого. «При всех своих слабостях и чуда
чествах, при всем даже своем вранье» (подразумевались
философские концепции Толстого, — А. Б .) автор «Войны
185
й Мира» представлялся ему «йастойгДиМ гигайтом между
остальной литературной братьей», производил на него
«впечатление слона в зверинце: нескладно, даже не
лепо—но огромно —и как умно!» (VII, 302). Тем не
менее это не исключало отдельных, порою очень резких
выпадов Тургенева против рецидивов «эгоизма», встре
чавшихся, по его мнению, и в психологической манере
Толстого, — правда, гораздо реже, чем у Достоевского,
и не в таком мучительно-болезненном выражении.
17(29) января 1858 года Тургенев уведомляет Тол
стого: «... Некрасов забраковал „Музыканта" (речь шла
о «Люцерне», — А. Б .), — что в нем ему не понравилось,
сам ли музыкант, возящееся ли с собою лицо?» (III,
188). Тургеневу эта повесть также не нравится — он
видит в ней «смешение Руссо, Теккерея и краткого пра
вославного катехизиса» (III, 138). Намеки на известную
зависимость Толстого по крайней мере от Руссо чувст
вуются затем и в его хвалебных отзывах о «Казаках»,
которых он считает шедевром Толстого и «всей русской
повествовательной литературы» (X, 207), но с одной ха
рактерной оговоркой. «„Казаков" я читал и пришел от
них в восторг, — пишет Тургенев Фету и И. П. Бори
сову в апреле 1863 года. — Одно лицо Оленина пор
тит общее великолепное впечатление. Для контраста ци
вилизации с первобытной нетронутой природой не было
никакой нужды снова выводить это возящееся с самим
собою, скучное и болезненное существо. Как это Толстой
не сбросит с себя этот кошемар!» (V, 113. Курсив
мой,— Л. Б .). \ В/ последние годы жизни, в беседах
с Я. П. Полонсгшм, Тургенев обстоятельно развивал по
существу аналогичный взгляд на характер Левина из
романа «Анна Каренина». По свидетельству Я. П . По
лонского, Тургенев «никак не мог понять, отчего граф
Толстой так очевидно пристрастен к Левину, тогда как
этот Левин для него, Тургенева, антипатичен донельзя.
И, разумеется, Тургенев был в этом случае недоволен
вовсе не недостатком творчества в авторе, а тем, что,
по его мнению, этот первенствующий герой романа, Ле
вин, хуже Вронского, хуже Облонского — эгоист и себя
любец в высшей степени. Зачем же автор за ним так
ухаживает?
—
Неужели же, говорил мне Тургенев, ты хоть одну
минуту мог подумать, что Левин влюблен или любит
Кити, или что Левин вообще может любить кого-нибудь.
Нет, любовь ^есть одна из тех страстей, которая надламы
вает наше „я", заставляет как бы забывать о себе и
о своих интересах. Левин же, узнавши, что он любим
и счастлив, не перестает носиться с своим собствен
ным я, ухаживает за собой. Ему кажется, что даже из
возчики и те как-то особенно, с особенным уважением
и охотой предлагают ему свои услуги. Он злится, когда
его поздравляют люди, близкие к Кити. Он ни на ми
нуту не перестает быть эгоистом и носится с собой до
того, что воображает себя чем-то особенным. Психоло
гически все это очень верно (хотя я и не люблю психо
логических подробностей и тонкостей в романе), но все
эти подробности доказывают, что Левин эгоист до мозга
костей...»
10
О нелюбви;_ . Тургенева к «психологическим
подробностям и тонкостям», и не только в романе, сви
детельствует все его творчество' Нечто вроде самокри
тичного признания в этом отношении содержится только
в одном из его писем к Флоберу —в связи с отзывом
последнего о «Странной истории». 4 июня н. ст. 1873 года
Тургенев писал французскому романисту: «Вы справед
ливо находите первый рассказ («Странная история»)
несколько куцым. Надо было его значительно больше
развить — психологические состояния недостаточно только^
называть. Но лень!» (X, 394). В дальнейшем Тургенев
отдает известную дань более подробной обрисовке слож
ных психических состояний (некоторые из «таинствен
ных» повестей и отчасти роман «Новь» — образ Неж
данова). Но эта в общем мало характерная для него^
тенденция намечается лишь в конце жизни.
Как .всякий, лодлинный_ худржник^психолог, Тургенев
неравнодушен^ к процессам духовной жизни гербяТ'Рд^
яа^^ jjidiBMQe отличие его психологической маяеры от
толстовской заключается вГ том, что в ней постоянно вй
1
ден принципиальный противник изображения [всего этого
процесса. ]:JIa авансцене тургеневского романа героиГ по
является только в самые ответственные моменты своей
жизни; писатель изображает не непрерывное^ течение и
чередование" его психических состояний, не поток созна
ния, а лишь наиболее, значительные его всплески.'
10
Я. П. Полонский. И . С. Тургенев у себя в его последний
приезд на родину, «Нива», 1884, JST» 7, стр. 159. — Курсив мой,—
Л. Б.
В специальных работах последнего времени намети
лась тенденция к сближению психологических манер
Тургенева и Толстого, что представляется нам совер
шенно неправомернымл Так, например, И. А . Винникова
утверждает: «Когда перед Тургеневым стала задача изо
бражения душевной жизни как процесса, как борьбы
противоречий, он прибегнул к тем художественным при
емам, которые уже были найдены Л. Толстым».
11
Это
говорится в связи с анализом тургеневских приемов при
изображении Литвинова. «Дым», таким образом, вы
двигается в качестве романа, в котором Тургенев-психо
лог преодолевает самого себя, двигаясь в направлении
толстовской «диалектики души». Но очень трудно пред
ставить читателя, которому образ Литвинова покажется
более сложным и глубоким ( в смысле психологической
разработки), чем образ Базарова, выписанный с помо
щью приемов лишь «тайной психологии». К тому же
сама Винникова находит приемы, аналогичные тем, ко
торыми изображен Литвинов, в «Дворянском гнезде».
Где же движение Тургенева в сторону новых для него
методов психологического анализа? ] Между тем много
численные попытки окрасить тургеневский психологизм
в толстовские тона характерны и для книги С. Е . Шата
лова, появившейся в печати несколькими годами позже.
12
Оба автора за «диалектику души» принимают мало-
мальски развернутые размышления тургеневских героев.
«Диалектика души» подразумевает изображение про
цесса, нескончаемого потока душевной жизни, с тща
тельной фиксацией всех его перипетий и противоречий,
т. е . именно то, что Тургеневу совершенно несвойст
венно.
Если в тургеневской критике психологической ма
неры Достоевского главное место занимают жесточай
шие _выпады против «мучительства», против психоло
гизма изощренно-сложного, являющегося, по его мне
нию, лишь оборотной стороной «возни» со своей больной
личностью, то в его критике толстовской «диалектики
души» преобладает существенно иная акцентировка^
11
И. Винникова. И . С. Тургенев в шестидесятые годы.
Саратов, 1965, стр. 114 .
12
С. Е. Шаталов. Проблемы поэтики И. С . Тургенева. М .,
1969, стрТ1917194Г202,~2Т2,'229 и др.
188
В психологической манере Толстого Тургеневу претит
в основном не повышенный интерес к субъективным
болезненным переживаниям (этим грехом Толстой гре
шил не так уж много), а склонность к часто повторяю
щемуся воспроизведению излюбленных психологических
ситуаций, мотивировок и определений. При этом следует
отметить, что так же, как и в случаях критического оп
ровержения «эгоизма» в психологической манере До
стоевского и отчасти самого Толстого, Тургенев и здесь
намекает, — правда, не всегда называя имена, — на ка
ких-то предшественников, в числе которых подразуме
ваются подчас весьма известные писатели XVIII и
XIX веков.
Основные претензии к Толстому наиболее отчетливо
сформулированы в многочисленных отзывах Тургенева
о «Войне и мире». В феврале 1868 года он пишет Аннен
кову: «Насчет так называемой „психологии" Толстого
можно многое сказать: настоящего развития нет ни
в одном характере, а есть старая замашка передавать
колебания, вибрации одного и того же чувства, положе
ния, то, что он столь беспощадно вкладывает в уста и
в сознание каждого из своих героев: люблю, мол, я,
а в сущности ненавижу и т. д . и т. д. Уж как приелись
и надоели эти quasi-тонкие рефлексии и размышления
и наблюдения за собственными чувствами. Другой пси
хологии Толстой словно не знает или с намерением ее
игнорирует. И как мучительны эти преднамеренные,
упорные повторения одного и того же штриха — усики
на верхней губе княжны Болконской и т. д .» (VII,
64—65. Курсив мой, — А. Б.). В письме к И. П. Бо
рисову Тургенев говорит о «бездне... старой психологи
ческой возни» в «Войне и мире», в письме к Полонскому
«психология» Толстого в этом романе снова определя
ется как «капризно-однообразная возня в одних и тех
<же> ощущениях» и т. д. и т. д. (VII, 76, 87. Курсив
мой, — А. Б.).
Важно отметить, что с этой же позиции Тургенев
резко критикует в шестидесятые годы и некоторые ран
ние произведения Толстого, вызывавшие у него востор
женное удивление в момент их первого появления в пе
чати. Так, например, имея в виду «Отрочество», Тур
генев в 1854 году утверждал, что «скоро... одного
только Толстого и будут знать в России» (II, 232).
189
Приблизительно тогда же повесть «Детство» он назы
вал «прелестной», а «Севастопольские рассказы» — «пре
восходной вещью» (II, 152, 295). В это время, время
становления таланта Толстого, его психологическая ма
нера ничуть не раздражает Тургенева. Но проходит ка
кой-то десяток лет, и в его отзывах по крайней мере
о некоторых из этих произведений начинают звучать
иные ноты. «Стал я читать — и вдруг убедился, что это
пресловутое „Детство" — просто плохо, скучно, мелкотрав-
чато, натянуто — и устарело до невероятности... Или,
может быть, я устарел и отупел?» (VI, 55. Курсив
мой, — А. Б.).
На первый взгляд все эти оценки и характеристики
неоправданно, парадоксально-нигилистичны в своей ос
нове, поскольку устарелым, мелкотравчатым и надоев
шим называется в них то, что в глазах подавляющего
большинства современников было неразрывно связано
с глубочайшим новаторством Толстого в области психо
логического анализа. В чем же здесь дело? И что же,
в конце концов, представляют собою, по Тургеневу, все
эти «старые замашки» в психологической манере Тол
стого с точки зрения литературной генетики?
V Некоторые исследователи считают, что «старая психо
логическая возня, составляющая „положительно моно
манию Толстого", ассоциировалась у Тургенева с каприз
ным, навязчивым и Де_сдлодт1м^,самоанализом лишнего
человека», что «эта сосредоточенность российского Гам
лета на своих сугубо индивидуалистических^ пережива
ниях ^представлялась писателю мелкой, эгоистической,
ведущей ~ к разобщенности с человечестаом».
1
^ Такое
объяснение в известном смысле точно и справедливо.
Вместе с тем оно крайне недостаточно.
г
Думается, что,
употребляя эти и подобные им определения, Тургенев
уже в те далекие от нас годы проницательно и настой
чиво намекал на то, что было установлено и четко сфор
мулировано лишь впоследствии, на основании система
тического изучения художественного наследия Толстого,
взятого в окружении таких источников, которые в свое
время еще не могли быть доступны автору «Отцов и
детей» (мемуары, дневники и переписка Толстого, ру-
13
Г.Б.Курляндская. Метод и стиль Тургенева-романиста.
Тула, 1967, стр. 151.
190
кописйые Материалы и т. п.)./Мы имеем в виду просле
женную в книгах Б. М . Эйхенбаума йзв^тЩгю обуслов
ленность психологаческой.. манеры Толстого воздейст
вием не только со стороны Руссо, но и со стороны
Стерна, создателя «Сентиментального путешествия» .и
«Тристрама Шенди». На целом ряде примеров и сопо
ставлений Б. М . Эйхенбаум показал, что влечеЕсие Тол-^
стого к XVIII веку, — по крайней мере в молодости,—
«явление (фганотёскре и закономерное, что английская
и французская литература этой эпохи составляет его
главное и излюбленное чтение», что «Руссо и Стерн,
духовные вожди эпохи Карамзина и Жуковского, ока
зываются его любимыми писателями».
14
Б. М . Эйхен
баум отмечает, что Толстой в период своего художест
венного становления «не чужд сентиментальной тради
ции» в ее чистом виде и ссылается в связи с этим на
письма писателя к Т. А. Ергольской и, что еще убеди
тельнее, на стиль авторского обращения к читателям в по
вести «Детство». Это обращение показалось, вероятно, Не
красову слишком «архаистическим» и потому было опу
щено им, к великому неудовольствию Толстого, при под
готовке этой повести к печатанию в журнале «Современ
ник».
15
В начале повествования о жизни Тристрама Шенди
Стерн отмечал: «Оступления, бесспорно, подобны солнеч-
14
Борис Эйхенбаум. Молодой Толстой. Петербург—Берлин,
1922, стр. 16—17.
15
Там же, стр. 17 . — В дальнейшем эти выводы, во многом
близкие точке зрения Тургенева, получали неоднократное под
тверждение, причем границы «архаистических» устремлений Тол
стого выносились и за пределы XVIII века. Сошлемся на «Слово
о Толстом» Л. М . Леонова, в котором, в частности, о «руссоизме»
Толстого говорится следующее: «... противоречивая и сложная
биография Толстого помогла ему показать людское сердце в самых
неожиданных сеченьях, и, конечно, после Руссо никто еще не рас
пахивал его читателю до такой степени настежь... В пятнадцать
лет мальчик Толстой назовет себя учеником Руссо, и эта робкая
вначале искра самоанализа в полную силу разгорится в зрелые
годы, когда писатель вслед за великим энциклопедистом, на не
меньшем уровне человековедения создаст еще одну „Исповедь" —
пристрастный, третьей степени допрос самого себя, пожалуй —
беспощадней, чем у Августина, изобретателя этого редкого лите
ратурного жанра» («Литературное наследство», т. 69, кн. 1. Изд.
АН СССР, М., 1961, стр. 10, 13—14).
191
йоМу свету; — ойи составляют Жизнь и душу чтения».
16
При всем своем тяготении к Стерну Толстой уже в мо
лодости относится к этой методике критически. В его
дневнике есть такая запись (10 августа 1851 г.): «Я за
мечаю, что у меня дурная привычка к отступлениям; и
именно, что эта привычка, а не обильность мыслей, как
я прежде думал, часто мешают мне писать и заставляют
меня встать от письменного стола и задуматься совсем
о другом, чем то, что я писал. Пагубная привычка. Не
смотря на огромный талант рассказывать и умно болтать
моего любимого писателя Стерна, отступления тяжелы
даже у него».
17
Следует, однако, иметь в виду, что
у Стерна есть отступления двоякого рода. Одни из них
представляют собой скачки в сторону от главной темы
(они-то и претят Толстому), другие же являются но
выми вариациями уже реализованных событийно-пси
хологических мотивов повествования, к чему Толстой,
наоборот, весьма предрасположен. Эти прихотливые воз
вращения назад пленяют Стерна не меньше, чем скачки
в сторону. Они — характерная черта его художествен
ной манеры, одна из главных определяющих особенно
стей его стиля.
Тургенева не раздражает эта манера у самого Стерна,
поскольку, очевидно, все хорошо в свое время, но уже
в конце сороковых годов он не находит достаточно слов,
чтобы выразить свое негодование по адресу его эпигонов
и последователей. Так, прочтя «Путешествие вокруг
моей комнаты» графа де Местра (апрель 1848 г.), Тур
генев отмечал: «.. .это подражание Стерну, написанное
очень умным человеком, — а я заметил, что из подража
ний бывают всего отвратительнее самые остроумные
подражания, когда они принимаются всерьез». И далее:
«Особенно подражатели Стерна внушают мне отвраще
ние, — эгоисты, полные чувствительности, которые не
жатся, облизываются, любуются собой, стараясь в то же
время казаться простыми и добродушными» (I, 459).
По существу сказанное о «Путешествии вокруг моей
комнаты» де Местра (особенно в своей заключителньой
16
Лоренс Стерн. Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джен
тльмена. М ., 1968, стр. 81.
17
Л. Н . Толстой. Поли. собр. соч., т. 46. Гослитиздат,
М.—Л ., 1934, стр. 82.
192
части) напоминает то, что говорил Тургенев о толстов
ском Левине во время своего последнего приезда в Спас
ское, а в промежутке между этими высказываниями —
о манере Жан-Поля и даже (в известном смысле) об «Ав
торской исповеди» Гоголя. Что касается Жан-Поля, напри
мер, скрытые упреки в стернианстве, содержащиеся в бег
лых суждениях о дем в цитированном выше тургеневском
письме к С, А. Миллер, не подлежат никакому сомнению.
Жан-Поль и в самом деле был обязан Стерну весьма мно
гим, и Тургенев, по-видимому, имел в виду именно это об
стоятельство, намекая заодно на некое присутствие ана
логичного начала в творчестве «всех новейших писателей».
В подтверждение такого заключения сошлемся на опреде
ления жан-полевской литературной манеры в статье од
ного из советских исследователей западноевропейской ли-
тературы. «Жан-Поль, — отмечается в этой статье, — сам
подчеркивает свою зависимость от Эразма, Свифта и
Стерна». И далее: «Проза Жан-Поля становится гипертро
фией всех отличительных особенностей прозы учителя,
автора „Тристрама Шенди" и „Сентиментального путе
шествия". .. Сентиментальность становится необходимым
условием положительного героя Жан-Поля. Его характе
ризует расплывчатость, постоянная повторяемость одно
образных сентиментальных переживаний...»
18
ит.д.
ит.п.
|Таким образом, на протяжении более чем тридцати лет
для Тургенева, характерна устойчивая антипатия ^опре
деленному ряду литературных явлений, которые,_с~его
точки зрения, в той или иной мере обязаны своим про
исхождением Руссо или Стерну или же обоим этим пи
сателям вместе. К этому литературному ряду причисля
ются им и некоторые отличительные особенности психо
логического письма Толстого. Они-то и воспринимаются
Тургеневым, привыкшим считать наиболее удачным и
совершенным выражением новейших литературных форм
пушкинский стих и пушкинскую прозу (а Толстому она
представлялась «голой!»), как «старье», как ничем не
оправданное возвращение к отживающим свой век ли
тературным традициям, отмеченным по преимуществу
печатью сентиментализма («возня с самим собой»).
18
В. Адмони. Жан-Поль Рихтер. В сб.: Ранний буржуазный
реализм. Л., 1936, стр. 549, 550, 553.
13 А. Батюто
193
Вместе с тем Тургенев, разумеется, весьма и весьма
далек от того, чтобы упрекать автора «Войны и мира»
и «Анны Карениной» в рабской подражательности.
В этом отношении граф де Местр и граф Толстой —ве
личины в его представлении явно несоизмеримые. Во
всех случаях прямого или прикровенного сближения
Толстого с Руссо, Стерном или Жан-Полем Тургенев
подразумевает лишь известное усвоение методики повто
ряемости. Так, для Толстого (если, конечно, иметь
в виду «всего» Толстого, а не только «молодого») в общем
неорганичны сентиментальность и юмор, слияние и взаи
модействие которых в стиле Стерна является главной
приманкой, соблазняющей его подражателей и последова
телей (то же самое следует сказать в связи с сатирой
Жан-Поля: Толстой обличает не как сатирик, а как су
ровый моралист-проповедник). Кроме того, по-толстовски
«капризно-однообразная» и в то же время не по-толстовски
изысканно-витиеватая (теперь бы мы сказали — старо
модная) повторяемость в психологическом анализе Стерна
превращается нередко как бы в самоцель; писатель под
час явно любуется ею как проявлением неистощимой жи
вости своего воображения. Нечего и говорить, что манере
Толстого присуща гораздо большая «серьезность» и со
средоточенность. У него «повторения» обычно представ
ляют собою существеннейшие вехи на пути настойчивых,'
многосложных и многоплановых поисков решения ка
кой-нибудь социально или психологически важной задачи.
Толстой многословен, но он никогда не «болтает». «Умно
рассказывать» — это также весьма на него не похоже .
Тем не менее привкус стернианства в психологической
манере Толстого все-таки ощущался Тургеневым и вы
зывал с его стороны противодействие, которое можно
сравнить с реакцией организма на вторжение инородного
тела. Нужно сказать, что в этом пункте «несовмести
мость» тургеневского психологизма с толстовским сказы
валась с наибольшей отчетливостью.
(Принципиальные различия в приемах психологиче
ского анализа, применявшихся Толстым и Тургеневым,
предопределены разными задачами, которые они ставили
перед собой в процессе постижения действительности, во
многом несходным философско-эстетическим ее осмысле-
ниемлТолстой постоянно стремится к созданию новой
жизненной философии, способной разом разрешить все
194
«проклятые» вопросы его^ эпохи, Тургенев же опирается
на фйософиво "уже сформировавшуюся, давно и не обя
зательно им самим найденную, притом такую, в которой
созерцательное начало заметно преобладает над началом
действенным, накладывая соответствующий отпечаток на
его творчество.
Интересно, что, высказываясь в 1885 г. о романистике
Тургенева, Толстой подчеркивал ее уязвимость именно
с этой точки зрения. «Тургенев, — говорил он, — до самой
смерти так и занимался в сущности пустяками. Я чувст
вовал это еще тогда (т. е . в пятидесятые—шестидесятые
годы, — А. Б .), и это впоследствии возбудило даже его не
удовольствие на меня. Настоящее лучшее его произведе
ние — „Записки охотника". Тут есть прямая цель. А по
сле ему, очевидно, стало нечего писать, и пошла ужас
ная чепуха. Я помню, как Анненков, главный критик,
я и другие собрались у Панаева читать „Рудина". Я чув
ствовал, что это чушь и больше ничего... Лаврецкий,
Базаров — и это все мне тоже не нравится. Лучше всего
„Новь": тут выведено что-то реальное, соответствующее
жизни. А в Рудине, Лаврецком, Базарове — ничего нет:
что говорит Базаров, то только разве и хорошо. Да и
быть ничего не могло: ведь те движения, представителями
которых являются Рудин, Лаврецкий, совершались только
в умственной сфере, в поступки не"переходили, оттого-то
и не могли дать содержание художественному произве
дению, тогда как „Новь" могла.. .».
19
4 Своей «парадоксальностью» этот отзыв Толстого
значительно превосходит иные очень резкие тургеневские
характеристики его -творчества. Это лишний раз "свиде
тельствует о том, что такого рода суждения следует вос
принимать не буквально, а прежде всего в~свётё""порО'ж-
дабшёго^^^L^acjoM^fleHM в общих фйлЬсофско-эстетиче-
ских установках — извечном камне преткновения в обще
нии Тургенева с Толстым. Несмотря на "то что оба бо
ролись за правду жизни в искусстве, их творчество
в своем конкретном выражении представляло собою, как
и следует у больших писателей, пишущих приблизительно
в одну и ту же эпоху, весьма несхожие разновидности
реализма.
19
«Литературное наследство», т. 69, кн. 2 . Изд. «Наука», М.,
1961, стр. 50.
13*
195
«Новь» — не самый лучший роман Тургенева, но Тол
стой более или менее одобрительно отзывается только об
этом романе, потому что видит в нем признаки перехода
от созерцания к действию, к «поступкам»; перехода от
«движения... только__"в умственной сфере» к движению
в области непосредственной жизненной практики. Рево
люционеры его тоже интересовали и во многом привле
кали. Впрочем, в связи с этим можно предполагать, что
на Толстого особенно благоприятное впечатление про
извела и соломинская линия романа и, в частности,
программа «малых дел» в народе, излагаемая в беседе
Соломина с Марианной (гл. XXIX). То, что говорит здесь
Соломин, находит известный отклик в более ранних наст
роениях Толстого (и опять-таки в связи с его отрицатель
ными суждениями о произведениях Тургенева — «Дво
рянском гнезде» и «Накануне»). Пренебрежительно от
казываясь от чтения всякого рода «повестей», как занятия
бесплодного и бесполезного, Толстой писал Фету 23 фев
раля ст. ст. 1860 года: «Другое теперь нужно. Не нам
нужно учиться, а нам нужно Марфутку и Тараску вы
учить хоть немножко того, что мы знаем.. .».
20
Итак, одна из предпосылок толстовских «излишеств»
и тургеневской сдержанности в «психологии» заложена
в специфике их мировоззрения. Но одна из предпосы
лок, — следовательно, не единственная.
^Тургенев-философ тяготеет к мысли о повторяемости
истории и жизни вообще, Тургенев-эстетик
—
непримири
мый враг повторяемости] В этом, казалось бы, очевидном
противоречии на самом деле нет никакого противоречия.
Все дело в том, что, по Тургеневу, иногда «повторяются»
даже весьма хронологически удаленные друг от друга
циклы исторической и общественной жизни человечества,
но совсем не обязательно частная, индивидуальная
жизнь — в пределах цикла. Вследствие этого Тургенев-
философ и Тургенев-эстетик как бы делят между собою
сферы приложения сил: первый обращает основное вни
мание на повторяемость циклов (как отмечалось выше,
в наиболее чистом виде эта тенденция обнаружилась
в «Призраках» и «Довольно»), второй —на неповторимое
своеобразие человеческой жизни в русле того или иного
20
Л. Н . Толстой. Полы. собр. соч., т. 60, стр. 325.
196
цикла. В этом другая важная причина крайней непри
язни Тургенева к повторяемости в психологическом ана
лизе^
Неутомимо ищущий вместе со своими героями какую-
то новую «веру», нередко заранее сам не знающий, к ка
кому итогу приведут его эти бесконечные поиски, одним
словом — постоянно находящийся в движении, Толстой не
избежно вынужден затрачивать массу «лишнего» мате
риала на отшлифовку своих идей и создание своих
образов.ЦОсновы же и специфика более выработанного и
устоявшегося философского и художественного миросо
зерцания Тургенева избавляют, его от этой необходимости.
В результате очень часто то, что Толстому кажется слож
ным, многозначным и текучим, требующим обстоятельной
психологической расшифровки, печальному скептику Тур
геневу представляется давно знакомым, а значит — ни
в коей мере не подлежащим усложненно-повторяющемуся
художественному исследованию. Недаром в цитированном
выше письме к Фету^Тургёнев иронически советовал:
«Предоставьте Толстому открывать, как говаривал
В. П . Боткин, Средиземное море» (VIII, 150).
Тургенев убежден, что в художественном творчестве
незачем заниматься многократным воспроизведением «од
нозначных» явлению Если уже в момент первого зна
комства с ними ясно, что они из себя представляют, все
последующее становится ненужной роскошью. Кроме того,
с его точки зрения такой способ изображения сущест
венно замедляет процесс постижения изображаемого, яв
ляется его тормозом.
\ Таким образом,, философия, .нередко обволакивающая
творчество Тургенева дымкой печальной созерцательности,
некоей непредрасположенности к активному действию,
вступает в тесный контакт с эстетикой, придающей —
уже как бы по контрасту — его творчеству и, в частности,
свойственной ему системе психологического анализа ка
чества противоположного
свойства"
111
стремйтельно'стЁ,
внутренний взрывной динамизм, простоту линий, харак
терную для целеустремленного поступательного движения.,
Своеобразие тургеневского «общественного» романа, "его
конструктивные особенности, метод отражения в нем дей-1
ствительности, — все это не может быть раскрыто и по-;
иято до конца без учета этого одновременного воздействия/
на него со стороны философии и эстетики.
197
Вражда к повторяемости (и не только в «психоло
гии») не исключает в ряде случаев применения ее самим
Тургеневым, но у него роль таких повторений всегда
принципиально иная, не толстовская: она состоит обычно
не в расширении границ действия, описания или анализа
душевной жизни героя, а имеет противоположную цель.
Как это ни странно на первый взгляд, но с помощью
повторений изображение у Тургенева сжимается до пре
дела, ничего не теряя при этом в своем основном смыс
ловом значении. В этом отношении характерно, например,
изображение ночного спора Лаврецкого с Михалевичем
в романе «Дворянское гнездо». Сначала эскизно дана
общая характеристика его содержания, а потом вместо
связно последовательного изображения спора со всеми
его перипетиями и нюансами обозначаются по преиму
ществу его фазы. Повторения же важны не сами по
себе — они лишь подчеркивают длительность и горяч
ность спора. «—Что же ты после этого? разочарован
ный? — кричал Михалевич в первом часу ночи...
Ты эгоист, вот что! — гремел он час спустя... Я теперь
нашел, как тебя назвать, — кричал тот же Михалевич
в третьем часу ночи... — ты байбак, и ты злостный бай
бак, байбак с сознаньем, не наивный байбак... И когда же,
где же вздумали люди обайбачиться? — кричал он в че
тыре часа утра, но уже несколько осипшим голосом...»
(Соч., VII, 202, 203, 204).
Конечно, в психологическом отношении смысл такой
«повторяемости» совершенно непохож на то, что сплошь
и рядом встречается у Толстого в «Войне и мире» или
в «Анне Карениной».
Приведем еще два-три характерных примера.
В диалоге с Павлом Петровичем непосредственно пе
ред дуэлью Базаров ограничивается тем, что повторяет
уже только концы фраз (и не своих, а своего собесед
ника), однако в этом раскрывается весь Базаров в дан
ную минуту. В каждом его небрежно произнесенном
ответном слове чувствуется благодушное презрение к ри
туалу дуэли, чопорно уважаемому Павлом Петровичем;
сквозит ирония как по адресу противника, так и по своему
собственному адресу (ввязался в историю с «аристокра-
тишкой», так теперь уж ничего не поделаешь — нужно
как-то соблюдать декорум)... Напоминая о причинах
дуэли, Павел Петрович говорит:
198
«— Мы друг друга терпеть не можем. Чего же
больше?
—
Чего же больше, — повторил иронически Базаров.
—
Что же касается до самых условий поединка, то
так как у нас секундантов не будет — ибо где же их
взять?
Именно, где их взять?»
И перед самой дуэлью:
«— Мы можем приступить?
—
Приступим.
—
Новых объяснений вы, я полагаю, не требуете?
—
Не требую...
—
Соблаговолите выбрать.
—
Соблаговоляю».
С помощью все тех же повторений, несомненно имею
щих значение своеобразных приемов психологического
анализа, рассчитанного на предельно минимальную, но
тем не менее вполне достаточную, т. е . окупающую себя
затрату изобразительных средств, показано стремление
Базарова и Одинцовой к сближению друг с другом, их
тайное, все нарастающее волнение.
«— Вы так непогрешительно правильно устроили
вашу жизнь...
—
И вы находите, что я непогрешительна...
—
Зачем вы, с вашим умом, с вашей красотою живете
в деревне?
—
Как? Как вы это сказали? — с живостью подхва
тила Одинцова. — С моей... красотой?..
—
Ну, теперь я понимаю, почему мы сошлись с вами;
ведь и вы такой же, как я.
—
Мы сошлись... — глухо промолвил Базаров...
—
Я уверена, что ваша эта, как бы сказать, ваша
напряженность, сдержанность исчезнет наконец?
—
А вы заметили во мне сдержанность... как вы еще
выразились... напряженность?»
После этой краткой, но психологически весьма насы
щенной подготовки, во время которой как бы невольно
обнажаются
переживания собеседников, происходит
взрыв: Базаров открыто признается в любви.
Однако в подавляющем большинстве случаев толстов
ским ^спространенным психологическим^ _ првто^енидм
в твррчестае~ТургеШ
противостоят не эти
усеченные повторы, а приемы умолчания, пауз, нередко
199
своеобразной психологически-смысловой перегрузки от
дельной фразы, а подчас даже и отдельного слова. Вот как
разъяснял впоследствии Тургенев значение только одного
слова в романе «Накануне»: «Когда же... Елена говорит
Увару Ивановичу „плашмя", она, чувствуя себя счастливою
и желая ему угодить, напоминает ему об его царицынском
хохоте. Можно, пожалуй, после слов „промолвила она
наконец" прибавить: „желая ему напомнить сцену в Ца
рицыне", но я полагаю, что это не совсем-то нужно;
можно удовлетвориться и тем, что после слова „плашмя"
поставить несколько точек...» (XIII2, 171). Вне рамок
художественного произведения самому художнику потре
бовалось несколько фраз, чтобы раскрыть психологиче
скую нагрузку только одного слова. Прокомментирован
ный автором прием — типичнейший в его практике.
Точно таким же образом в гл. XXV того же романа изо
бражается кратковременный выход больного Инсарова из
бредового состояния: «Резеда, — шепнул он, и глаза его
опять закрылись». Снова одинокое слово полно глубокого
психологического значения, которое можно вполне оце
нить, лишь вспомнив описание первого свидания Елены
с Инсаровым у него на квартире. Проводив Елену, Инса
ров подумал: «Не сон ли это?» Но тонкий запах резеды,
оставленный Еленой в его бедной, темной комнатке, на
поминал ее посещение. Слово «резеда» в устах Инсарова
означает, что мысль о Елене не покидала его в течение
всей его тяжелой болезни. Других слов на «эту тему»
в ромаце просто нет.
Стремление к экономии изобразительных средств,
поиски единственно верного словесного выражения пред
мета наблюдается у Тургенева всюду — в описаниях, пор
третных, психологических и иных характеристиках пер
сонажей. Но наиболее рельефно эта особенность его
манеры сказывается в диалогах, собеседованиях дейст
вующих лиц. Сама натура Базарова велит ему быть сдер
жанным, скупым на слова. Однако, если присмотреться
внимательно, к аналогичному выводу придется прийти
в отношении чуть ли не всех тургеневских героев, не
исключая при этом и таких, которые выводятся в качестве
любителей поговорить или даже в качестве фразеров.
Очень речист у Тургенева Потугин, но можно ли без
существенных оговорок употребить подобное определение
в отношении Рудина, например, который, несмотря на
200
свою репутацию говоруна и оратора, выпестованного
в московских философских кружках, по сравнению с ге
роями Достоевского и Толстого выглядит почти молчаль
ником?^
Текст тургеневского романа буквально кишит паузами
и умолчаниями. Прием долгой паузы или умолчания, за
которым, как правило, скрывается не всегда даже назван
ный, но понятный чуткому читателю поток мыслей,
чувств и переживаний, — излюбленное, щедро применяе
мое Тургеневым средство психологической характери
стики. Вот Лаврецкий и Лемм едут теплой весенней но
чью в Васильевское. Трогательный старый музикус пы
тается подобрать «хорошие» слова для романса («вы,
звезды, о вы, чистые звезды!..) и с сокрушением умол
кает, потому что «не поэт».
«— Мне жаль, что и я не поэт, -— заметил Лаврец-
кий.
—
Пустые мечтанья! — возразил Лемм и углубился
в угол коляски. Он закрыл глаза, как бы собираясь зас
нуть.
Прошло несколько мгновений... Лаврецкий прислу
шался. .. „Звезды, чистые звезды, любовь", —шептал ста
рик.
„Любовь", — повторил про себя Лаврецкий, заду
мался, — и тяжело стало у него на душе.
—
Прекрасную вы написали музыку на Фридолина,
Христофор Федорыч, — промолвил он громко... »
Ясно, что у обоих тяжело на душе под бременем пере
житого, но о том, что перед мысленным взором разоча
рованного Лемма и усталого Лаврецкого во все продол
жение этой сцены брезжит одна и та же «чистая
звезда» — образ Лизы, — на это пока только намекается.
Лемм стыдится прямо говорить о Лизе («он закрыл
глаза, как бы собираясь заснуть»); Лаврецкий при
слове «любовь» задумывается, и его обращение, после
паузы, к Лемму показывает, что он тоже пытается как-то
отвлечься от этого образа.
Вот Базаров в разговоре с Аркадием (гл. IX) делает
рискованное заявление: «Эге-ге . . . Ты придаешь еще
значение браку; я этого от тебя не ожидал». Сказанное
Базаровым оставляется как будто без внимания. Но иная
точка зрения на брак все же ощущается в подтексте —
о ней дано понять... умолчанием: «Приятели сделали
201
несколько шагов в молчанье» — и затем перевели разго
вор в другое русло...
Инсаров, сидя в венецианском театре, замечает об
игре Виолетты в «Травиате»:
«— Да, — промолвил он, — она
не шутит: смертью
пахнет.
Елена умолкла».
Нужно ли пояснять, что Елена умолкла потому, что сидит
рядом с Инсаровым, которого тоже подстерегает смерть.
В гл. V «Отцов и детей» на террасу входит Фенечка —
впервые при Аркадии, и «Павел Петрович строго нахму
рил брови, а Николай Петрович смутился». Фенечка
только вошла и вышла — больше ничего, но после этого
«на террасе в течение нескольких мгновений господство
вало молчание», нарушенное лишь приходом Базарова.
Описывая пребывание Базарова и Аркадия в губерн
ском городе, Тургенев рисует портрет пошлой нигилистки
Кукпшной. Однако и в этих прямолинейно сатирических
сценах писатель не пренебрегает психологическими пау
зами.
«— Господа, будем говорить о любви, — прибавила
Евдоксия, томно уронив руку на смятую подушку дивана».
«Наступило внезапное молчание» — ибо речи о любви
в устах такой женщины, как Кукшина, должны коро
бить (и коробят) нравственное и эстетическое чувство
всякого мало-мальски интеллигентного человека.
В гл. XIX, мотивируя свой отъезд из имения Одинцо
вой, Базаров с раздражением говорит о том, что он
«у ней не нанимался».
«Аркадий задумался, а Базаров лег и повернулся ли
цом к стене.
Прошло несколько минут в молчании».
Одинцова нравится обоим, но оба стремятся скрыть
друг от друга свои чувства. Базаров для этого даже
поворачивается «лицом к стене».
В гл. XXV, имея в виду свои отношения с Базаровым,
Аркадий спрашивает собеседницу:
«— Разве вы замечаете, что я уже освободился
из-под его влияния?».
Вместо того чтобы пояснить, что при этом подумала
Катя («Да, освободился; но я тебе об этом пока не скажу,
потому что ты юношески самолюбив»), Тургенев ограни-
202
чивается указанием на подчеркнуто психологическую
паузу в диалоге: «Катя промолчала».
Только приступив к чтению романа, еще в сущности
ничего не зная о Базарове, читатель тем не менее уже
кое о чем догадывается. Встретив Аркадия и Базарова,
Николай Петрович везет их в Марьино. По дороге
Аркадий разнеживается:
«— Какой зато здесь воздух! Как славно пахнет!
Право, мне кажется, нигде в мире так не пахнет, как
в здешних краях! Да и небо здесь...
Аркадий вдруг остановился, бросил косвенный взгляд
назад и умолк». Это первый намек на то, что Базаров
«враг всяческих излияний», а Аркадий в его присутствии
стесняется быть самим собой. Вскоре вслед за этим
Николай Петрович начнет читать стихи из «Евгения Оне
гина», Базаров же прервет его декламацию просьбой при
слать спички. В этом вторая тайная (но уже более кон
кретная) психологическая характеристика Базарова как
непримиримого противника «романтизма». Недаром через
некоторое время Базаров не преминет заявить Аркадию:
«А отец у тебя славный малый», но «стихи он напрасно
читает».
В гл. XVI Базаров излагает свои взгляды на человече
ское общество: «Все люди друг на друга похожи... Люди,
что деревья в лесу; ни один ботаник не станет заниматься
каждою отдельною березой». Одинцова с ним не согла
шается, спрашивает Аркадия:
«— А ваше какое мнение, Аркадий Николаевич?
—
Я согласен с Евгением, — отвечал он.
Катя поглядела на него исподлобья».
В продолжение всего этого разговора Катя не произно
сит буквально ни одного слова, только смотрит на База
рова и Аркадия то «исподлобья», то с «недоумением»; но
именно эти взгляды свидетельствуют о том, что она напря
женно следит за беседой, безмолвно принимает в ней
участие и тоже не соглашается с «нигилистами». Тургенев
таким образом дает понять, что у незамешой Кати, этой
почти девочки, есть самостоятельность мысли, независи
мость характера.
Так в ряде романов Тургенева реализуется центральное
теоретическое положение его «психологии»: писатель
«должен знать и чувствовать корни явлений, но представ-
203
ляет только самые явления». В отличие от Толстого и
Достоевского писатель строит, свои анализ таким образом,
что, не рассказывая подробно о душевных переживаниях,
все-таки дает читателю возможность составить более или
менее полное представление об их существе. Как уже
отмечалось, Тургенев рассчитывает при этом только
на чуткого читателя. «Не вдавайтесь в излишнее
мотивирование, — советовал он начинающей писательнице
Л. Я . Стечькиной, — путный читатель поверит Вам и
поймет Вас; — а непутный... господь с ним — для него и
писать не стоит» (XIIi, 359). Знаменательно, что все это
говорится тому самому автору, которого незадолго до
этого Тургенев упрекал в подражании Толстому. «Я не
знаю, много ли Вы читали Льва Толстого, — писал он; —
но уверен, что для Вас изучение этого бесспорно первого
русы&го писателя положительно вредно... Всякий раз,
когда Вы касаетесь природы, у Вас выходит прелестно —
и тем более прелестно, что Вы всего кладете два, три
штриха — но характерных. ..Ив психологической работе
надо так же поступать... car le secret d'ennuyer est celui
de tout dire»
21
(там же, 317—318).
«Тайный» психологический анализ Тургенева скуп и
«поверхностен» только на первый взгляд. При помощи
такого анализа Тургенев убеждает, например, в том, что
Базаров лишь с виду насмешник, скептик и бессердечный
циник. Об этом говорят сцены объяснения Базарова
с Одинцовой. Недомолвки, обрывки фраз, замедленные
речи, паузы показывают, что оба все время ходят по краю
пропасти. Но на большое, искреннее чувство оказывается
в конце концов способным именно «нигилист». О суровой
человечности, сдержанной силе переживаний Базарова
свидетельствуют также его немногословные речи перед
смертью. На отчаянный зов отца: «Евгений!.. сын мой,
дорогой мой, милый сын!» — Базаров отвечает медленно,
и в голосе его впервые звучат трагедийно-торжественные
ноты:
«— Что, мой отец?»
В связи с этим уместно напомнить характерное су
ждение Тургенева о приемах психологического анализа,
21
Так как секрет того, как вызывать скуку, как раз в том
и состоит, чтобы все высказать (франц.).
204
высказанное в рецензии на пьесу Островского «Бедная
невеста». «Г-н Островский в наших глазах, так сказать,
забирается в душу каждого из лиц, им созданных, —
констатирует Тургенев, — но мы позволим себе заметить
ему, что эта бесспорно полезная операция должна быть
свершена автором предварительно. Лица его должны на
ходиться уже в полной его власти, когда он выводит их
перед нами. Это — психология, скажут нам; пожалуй, но
психолог должен исчезнуть в художнике, как исчезает
от глаз скелет под живым и теплым телом, которому он
служит прочной, но невидимой опорой... нам, — заклю
чает Тургенев, — дороже всего те простые, внезапные
движения, в которых звучно высказывается человеческая
душа...» (Соч., V, 391—392). Отметим, что и в данном
случае Тургенев чувствует за своей спиной поддержку
прежде всего со стороны такого могучего учителя и союз
ника в деле художества, как Пушкин. Тургеневскому
пиетету перед «простыми» и «внезапными» душевными
движениями вполне соответствует представление Пуш
кина об «истинном» поэтическом вдохновении — он видел
его в умении поэта уловлять «движения минутного,
вольного чувства...»
22
^Собранно-лаконичному
стилю
Тургенева-психолога
присущи некоторые свойства, как бы предвосхищающие
искусству кино. Сцены в его романах чередуются ^кине
матографической быстротой, усугубляемой не всегда за
метными для неискушенного глаза зияниями между ними.
Такие сцены похожи на то, что мы теперь называем
! «кадрами», и Тургенев, по-видимому, одним из первых
в русской литературе начал разрабатывать и совершен
ствовать этот прием.
23
Романы, написанные в пору полного
расцвета таланта писателя («Дворянское гнездо», «Нака
нуне», «Отцы и дети»), изобилуют сценами, как бы не
завершенными в своем развитии, полными значения, не
раскрываемого до конца. Такие сцены с четкими обозна-
22
А. С. Пушкин. Поли. собр. соч., т. XI, стр. 201.
23
Несколько беглых упоминаний о «кадрах» у Тургенева сеть
в книге С. Е . Шаталова «Проблемы поэтики И. С . Тургепева»
(см. стр. 191, 212). Впрочем, значительно раньше суждения на этот
счет высказывались и в одной из моих статей (см.: А. И . Б а т ю т <>.
Структурно-жанровое своеобразие романов Тургенева 50-х —начала
60-х годов. В сб.: Проблемы реализма русской литературы
XIX века. Изд. АН СССР, М. —Л., 1961, стр. 147).
ченияки переходов от одной к другой, кладут отпечаток
на общий поток действия в романе. Оно развивается
нервными толчками, но в целом создается, если можно
так выразиться, впечатление плавной прерывистости.
В сцене у пруда Лаврецкий спрашивает Лизу:
«— Но почему вы заговорили о смерти?
—
Не знаю. Я часто о ней думаю...
—
Этого не скажешь, глядя на вас теперь: у вас
такое веселое, светлое лицо, вы улыбаетесь...
—
Да, мне очень весело теперь, — наивно возразила
Лиза.
Лаврецкому захотелось взять ее обе руки и крепко
стиснуть их...
—
Лиза, Лиза, — закричала Марья Дмитриевна, —
поди сюда, посмотри, какого карася я поймала...»
Этой последней фразой намерение Лаврецкого явно и,*
конечно, не случайно пресекается.
«— Почему же вам кажется, что у Владимира Нико
лаевича сердца нет? — спросила она несколько мгновений
спустя». Т. е . речь заходит уже совсем о другом.
«— Я вам уже сказал, что я мог ошибиться; а впро
чем, время все покажет». После этого Лиза задумывается,
а Лаврецкий заговаривает о «посторонних вещах» —
«о своем житье-бытье в Васильевском, о Михалевиче,
об Антоне» и т. п.
Сцена за фортепьяно (гл. XXX): «Лиза начала играть
и долго не отводила глаз от своих пальцев. Она взгля
нула, наконец, на Лаврецкого и остановилась: так чудно
и странно показалось ей его лицо.
—
Что с вами? — спросила она.
—
Ничего, — возразил он, — мне очень хорошо; я рад
за вас, я рад вас видеть, продолжайте.
—
Мне кажется,—говорила Лиза несколько мгнове
ний спустя...»
Очевидно, в эти несколько мгновений Лиза раз
мышляла о словах Лаврецкого и выражении его лица, но
эти мгновения — своего рода граница между «кадрами» —
подразумеваются, но остаются за пределами психологиче
ского изображения.
Наиболее характерный пример «прерывистости» пове
ствования в «Дворянском гнезде» содержится в описании
свидания Лаврецкого с Лизой в ночном саду.
«— Но вы меня любите, Лиза? Мы будем счастливы?
206
Она опустила глаза; он тихо привлек ее к себе, и го
лова ее упала к нему на плечо... Он отклонил немного
свою голову и коснулся ее губ». На этом месте описание
резко, без единого намека на хотя бы какой-нибудь подго
товительный переход к последующему изложению, пре
рывается фразой с нового абзаца: «Полчаса спустя Лав-
рецкий стоял уже перед калиткой сада».
Аналогично применение подобного приема в описании
любовного объяснения Инсарова с Еленой. Гл. XVIII,
сцена в часовне: «— Так ты пойдешь за мною всюду? —
говорил он ей четверть часа спустя». Эта глава заканчи
вается фразой: «— Так здравствуй же, — сказал он
ей,— моя жена перед людьми и перед богом!» А следую
щая (другой писатель в данном случае ни за что бы не
стал разбивать одну главу на две, как это делает
Тургенев) начинается словами: «Час спустя Елена...»
В этом отношении характерен и дневник Елены. Каза
лось бы, устарелый для XIX века прием — вводить
в текст повествования дневник героя. Но весь вопрос
в том, как вводить. Дневник Елены не только сокращает
количество страниц романа, знакомящих читателя с ее
характером и настроениями, но, по-видимому, некоторые
из них и вовсе исключает путем подмены. Кроме того,
дневник состоит из беглых отрывков (своеобразные
сцены), причем каждый из них предваряется многото
чием. Все это подчеркивает вехообразность изображения
духовного развития Елены, создает иллюзию его кине
матографической прерывистости.
Кинематографическое чередование сцен, молниеносно
заменяющих друг друга, наиболее зримо в «Отцах и
детях» — романе, занимающем центральное положение
в романистике Тургенева. В гл. VIII пугливую Фенечку
в ее флигельке посещает П. П . Кирсанов, которому не дает
покоя мысль о внешнем сходстве этой одворянивающейся
крестьяночки с княгинею Р. «Да, — продолжал, как бы
говоря с самим собой, Павел Петрович, — несомненное
сходство. — Он внимательно, почти печально посмотрел на
Фенечку.
—
Это дядя, — повторила она, но уже шепотом.
—
А! Павел! Вот где ты! —раздался вдруг голос Ни
колая Петровича ».
В гл. XXI Василий Иванович и Аркадий беседуют
о будущем Базарова.
207
«— Как вы думаете, — спросил Василий Иванович
после некоторого молчания, — ведь он не на медицинском
поприще достигнет той известности, которую вы ему про
рочите?
—
Разумеется, не на медицинском, хотя он и в этом
отношении будет из первых ученых.
—
На каком же, Аркадий Николаич?
—
Это трудно сказать теперь, но он будет знаменит.
—
Он будет знаменит! — повторил старик и погрузился
в думу.
—
Арина Власьевна приказали просить чай кушать, —
проговорила Анфисушка, проходя мимо...»
В той же главе изображается размолвка Базарова
с Аркадием. Базаров не шутя готовится схватить своего
приятеля за горло, но...
«— А! вот куда вы забрались! — раздался в это мгно
вение голос Василия Ивановича...»
Еще один характернейший пример — из гл. XXVI.
«—Я убеждена, что мы не в последний раз ви
димся, — произнесла Анна Сергеевна с невольным дви
жением.
—
Чего на свете не бывает! — ответил Базаров,
поклонился и вышел.
—
Так ты задумал гнездо себе свить? — говорил он
в тот же день Аркадию, укладывая на корточках свой
чемодан».
И здесь разрыв между сценами ничем не заполнен,
даже внешне никак не обозначен. По существу своему
это все те же «кадры», быстро сменяющие друг друга
в моменты высокого напряжения душевного состояния
героя, резко подчеркивающие психологические и событий
ные повороты, но в целом создающие впечатление закон
ченности, единства и полноты в обоих аспектах повество
вания.
Для Тургенева характерна манера вставлять в речи
персонажей романа «Отцы и дети» «поч^и цитаты» из
многочисленных журнальных полемик. Сцены, где Ба
заров спорит с Павлом Петровичем, небрежно доказывая
последнему, что «нас не так мало», что «от копеечной
свечи Москва сгорела», что «бабушка надвое сказала»
насчет неуспеха революционного дела, полны намеков на
современность, на жгучую злобу дня. Все они отличаются
208
беглостью, лаконизмом, но чувствуется их необыкновен
ная емкость. Наконец, и «Накануне» и «Отцы и дети»
в целом представляют собою нечто вроде огромных пре
рванных сцен: Инсаров и Базаров умирают в самом начале
своего поприща. Таким образом, тургеневский роман
вообще, а не только отдельные сцены в нем, характери
зует потенциальная" возможность его продолжения, разно
образного развития намеченных в нем сюжетных линий и
психологических положений. Но писатель не реализует
этой заманчивой для романиста возможности, потому что
основная его цель — обрисовать духовный облик героя
лишь в главных его чертах, рассказать о его типических
настроениях и руководящих идеях —уже достигнута.
Делается это так, что многие поступки и действия героя,
определяющиеся его духовным складом, не нуждаются
в изображении и не изображаются. л
В свое время Писарев указывал на присутствие этой
художественной тенденции прежде всего в описании
смерти Базарова. «Оттого, что Базаров умер твердо и
спокойно, — писал он, — никто не почувствовал себе ни
облегчения, ни пользы; но такой человек, который умеет
умирать спокойно и твердо, не отступит перед препят
ствием и не струсит перед опасностью».
24
Впоследствии
многие писатели из демократического лагеря (Чернышев
ский в «Что делать?», Омулевский в романе «Шаг за
шагом» и др.), пытаясь представить передового человека
в более полном, чем у Тургенева, и более верном, по их
мнению, освещении, стремились показать его именно
в борьбе с «препятствиями», в столкновении с конкрет
ной «опасностью»? они как бы «продолжали» изображение^
«не завершенное» Тургеневым.
Помимо чисто эстетических соображений, культивиро
вание своеобразной формы повествования в тургеневском
романе диктовалось теснейшей связью его творчества
с современностью. Писателю важно было поспеть за на
бегающей «последней волной жизни» (выражение кри
тика Н. Н. Страхова,— А . Б .), не опоздать в изображении
«самого образа и давления времени», «быстро изменяю
щейся физиономии русских людей культурного слоя».
24
Д. И . Писарев. Соч. в 4 томах, т. II. Гослитиздат, М.,
1955, стр. 46.
14 А. Батюто
209
(Принципы «тайного» психологического анализа, полу
чившие широкое применение и развитие в «Дворянском
гнезде», «Накануне» и в «Отцах и детях», менее заметны
в «Дыме» и «Нови»!. [В этих романах психологическая
тайнопись и скоропись хотя и не отвергается, но все же
в значительной мере уступает обычному психологическому
анализу, представляющему собой довольно подробный ком
ментарий духовной жизни героя. ^Психологический анализ
в последних двух романах видоизменяется в связи с изме-г
нениями в жанровой структуре тургеневского романа.
«Дым» и «Новь» — романы не только общественно-психо
логические, но и сатирико-публицистические. Во всяком
случае элементы сатиры и публицистики в этих романах
весьма значительны. Публицистические же и сатириче
ские намерения и задачи не предрасполагали писателя
к щедрому применению тайного психологического ана
лиза; они требовали прямого, непосредственного выра
жения.
Как художник-психолог, Тургенев не похож на своих
современников — на Островского, Гончарова и, в особен
ности, на Толстого и Достоевского, раскрывавших широ
чайшие возможности и перспективы в изображении
«диалектики души». }Однако и тургеневский психологи
ческий анализ не бый преходящим явлением в истории
русской литературы.: Тургеневская психологическая тай
нопись нашла в дальнейшем широкое применение и раз
витие в творчестве такого замечательного художника
слова, как Чехов —в его рассказах, повестях и в осо
бенности в ..его_драматургии, исключительно насыщен
ной подтекстом, «подводными течениями», психологиче
скими паузами и умолчаниями, полными глубокого зна
чения.
; Линия мирового литературного развития, намеченная
творчеством Шекспира, Гете, Пушкина, — вот основная
линия, по которой движется роман Тургенева. Это направ
ление Тургенев считает наиболее плодотворным и перспек
тивным."
После драматургии Шекспира с ее мощными
страстями и трагическими конфликтами, в которой внеш
ний мир и душевный мир человека изображаются всегда
крупным планом; после созданий Гете с их «объектив
ностью и тишиной», сравниваемой Тургеневым с «дра
гоценной тишиной естественности и искренности, которою
природа так сильно действует на нас» (VII, 31; Соч.?
210
XV, 99); наконец, после Пушкина, стремившегося к сий-
тезу этих начал («Борис Годунов» и «Маленькие траге
дии», а из прозы, быть может, и «Капитанскаядочка»), —
после всего этого непрестанная «возня» того или иного
писателя со своей или чужой «больной» или просто «эго
истической» личностью воспринимается Тургеневым как
пережиток литературной старины, как недопустимый ана
хронизм. чКак отмечалось выше, наиболее полное выраже
ние этой неперспективной, с его точки зрения, тенденции
Тургенев усматривает в романе Достоевского. Более уме
ренны, но все же существенны его претензии к роману
Толстого. Различиями в психологической манере этих
трех писателей в значительной степени объясняются рез
кие контрасты в построении их романов.
Толстой занят долговременной, неторопливой, обстоя
тельной, разносторонней и «повторяющейся» критикой
всей многосложной структуры "личных, социально-эконо
мических и общественных отношений русской жизни
XIX века. Эта критика проводится с позиций тдивидуаль-
ного сознания, обычно наделённого осоСюйвпечатлитель^
ностью~~и ^глубоким нравственным чувством (Андрей,
Болконский, Пьер Безухов, Левин, Нехлюдов). Достоев
ский в своей критике также отправляется од_^фитяриев
индивидуального сознания, отличающегося, однако^ хнпер-
трофированШй^даненностью. В его отношении к миру
больше динамики, страстнсш тревоги, поспешности, мучи
тельного беспокойства. Манере Толстого и Достоевского
Тургенев-романист противопоставляет другие принципы:
хотя^ и далёконе безразличный, но все-таки взгляд со
стор^ны,^ «безличную» (^ъективность, унаследованв[ую
от Пушкина и сопровождаемую только внутренним'* Жа
ром" и огнем субъективного чувства. "Несмотря на то что
в переживаниях самого Тургенева много общего с наст
роениями его персонажей (РуДина, Лаврецкого, Поту-
гина, Литвинова и даже Базарова), он, как и Пушкин,
предпочитает наблюдать за ними с некоторого расстоя
ния; со своими персонажами он никогда не сливается
вполне.
, Освобожденный от груза усложненной «психологии»,
«общественный» роман Тургенева при сравнении его с ро
маном Толстого и Достоевского выглядит подвижнее как
в событийном*.так ив психологическом отношении* JEMy
свойственна большая^избирательность в материале>_ и сред-
14*
211
Q^ax -Изображения. В романах «Рудин», «Дворянское
гнездо», «Накануне», «Отцы и дети» и «Новь» в сфере
художественного созерцания писателя оказываются целые
пласты русской жизни, в них выдвинуты на передний
план идеалы^ придававшие особый смысл существова
нию передовых русских людей на протяжении несколь
ких Десятилетий, но какими экономно-скупыми, по срав
нению ч.с Толстым и Достоевским, средствами, все это
сделано! Тургенев-романист никогда не дает «стречка»
в философские и психологические крайности. ^Страстно
заинтересованный разнообразными новыми веяниями
в окружающей действительности, ^Тургенев вполне созна
тельно и преднамеренно, даже «тенденциозно», стре
мился к построению романа по возможности однолиней
ного, притом такого романа, который должен иметь
актуальное значение в общественной жизни людей «куль
турного слоя» сейчас, сию минуту. Отсюда его резко
Критическое отношение к формам романа, которые по
тем или иным причинам затрудняют возможность дости
жения такого эффекта. Взволнованно-хаотичная чрез
мерность (во всех измерениях) романа Достоевского,
изощренно глубокий психологизм этого романа совер
шенно неприемлемы для Тургенева и потому, что они «сби
вают» с прямой и, следовательно, самой короткой дороги
к цели. Его вкус писателя-общественника в высшей сте
пени раздражают также отдельные звенья грандиозной
структуры романа Толстого (его «философия», его «пси
хология» ). (ТВ противоположность этим типам романа
роман Тургенева отличается ясностью и отчетливостью
основной идеи, стремительным движением вперед, лако
низмом и общедоступностью формы, рассчитанными на
немедленное, безотказное воздействие на читателя:
Этой же цели соответствует часто несвойственная ма
нере Достоевского, например, большая определенность
в тургеневском отборе «типов» и сюжетов для романа.
25
Рудин, Лаврецкий, Базаров не просто типические лица.
25
Напомним, что с установкой только на типы неоднократно
полемизировал иценно Достоевский. Так, в романе «Идиот»
он настаивает на том, что для художника значительный интерес
должны представлять и люди совершенно бесцветные, «обыкно
венные», «ординарные». Свою мысль Достоевский аргументирует
следующим образом: «Совершенно миновать их в рассказе никак
нельзя, потому что ординарные люди поминутно и в большинстве
212
Каждый из них сознает себя представителем тех или
иных культурно, социально, наконец, политически значи
мых «ячеек» общества, игравших, играющих или соби
рающихся играть заметную роль в общественной жизни.
Обычно в романе Тургенева речь идет об избранной дво
рянской интеллигенции, о передовой разночинной демо
кратий, о смене поколений, о борьбе между ними, даже
о целых этапах в истории освободительного движения
(революционное народничество). (Специфичность проблем
и сюжетики романа Тургенева не предрасполагали
к скрупулезности в области психологического анализа.
. Из двух типов современного романа — роман Достоев
ского и роман Толстого — Тургеневу в особенности про
тивопоказан первый. Недаром еще в 1856 году он говорил
о том, что «ни в одном человеке не нужно докапываться
до дна» (III, 65). Не нужно по двум причинам: во-пер
вых, потому, что главное в человеке можно определить и
изобразить с помощью характеристической художествен
ной «детали», т. е . без «докапывания»; во-вторых, потому,
что поток темных противоречий в душе человека, с яв
ным пристрастием, нагнетанием и преувеличением фик
сируемый в романе Достоевского, претит не только
эстетическому вкусу Тургенева, но не убеждает его
и по существу — с точки зрения здоровой человеческой
нормы.
В заключение этого беглого этюда следует, быть мо
жет, несколько подробнее проанализировать некоторые
особенности романа «Новь», в котором есть эпизоды,
необходимое звено в связи житейских событий; миновав их,
стало быть, нарушим правдоподобие. Наполнять романы одними
типами или даже просто, для интереса, людьми странными и не
бывалыми было бы неправдоподобно, да, пожалуй, и неинтересно.
По-нашему, писателю надо стараться отыскивать интересные и по
учительные оттенки даже и между ординарностями. Когда же,
например, самая сущность некоторых ординарных лиц именно за
ключается в их всегдашней и неизменной ординарности или, что
еще лучше, когда, несмотря на все чрезвычайные усилия этих лиц
выйти во что бы ни стало из колеи обыкновенности и рутины,
они все-таки кончают тем, что остаются неизменно и вечно одною
только рутиной, тогда такие лица получают даже некоторую своего
рода и типичность, — как ординарность, которая ни за что не хо
чет остаться тем, что она есть, и во что бы то ни стало хочет
стать оригинальною и самостоятельною, не имея ни малейших
средств к самостоятельности» (см.: Ф. М. Достоевский. Собр.
соч. в 10 томах, т. VI. М., Гослитиздат, 1957, стр. 522—523).
213
весьма наглядно иллюстрирующие теоретическое неприя
тие Тургеневым «достоевщины» в сфере изображения
уединенного сознания.
Нёждавов из «Нови» является в известном смысле
исключением среди .основных персонажей всей романи
стики Тургенева. В его натуре есть черты, сближающие
егб сг «ггамлетиками» и «самоедами» сороковых годов,
изображенными в ранних повестях писателя и жестоко
высмеянными впоследствии в романе «Накануне» (вспом
ним обличительные речи Шубина). Вместе с тем по ха
рактеру изображения эта фигура чем-то отдаленно < напо
минает и типичных героев Достоевского. Это существо
изломанное, мятущееся, все сотканное из противоречий,
жаждущее деятельности, но заранее убежденное в своей
неспособности к ней. В этом последнем пункте Нежданов
превосходит даже Рудина: он колеблется и страдает от
неуверенности в себе уже в самом начале романа. Инте
ресно отметить, что некое психологическое родство Не
жданова с уединяющимися героями Достоевского под
черкивается самим Тургеневым, высказывающим в пла
нах романа следующее замечание о людях его типа:
«Они несчастные, исковерканные — и мучатся самой этой
исковерканноотью, как вещью, совсем к их делу не подхо
дящей» (Соч., XII, 314). А чуть ниже дано многозначи
тельное определение натуры Нежданова — как будто
совсем в духе пронизывающих наблюдений Достоевского:
«Темперамент уедияеяно-революционный, но не демокра
тический» (там же, 318). Тургенев выделяет курсивом
второе и третье определения, но не менее любопытно и
первое, потому что на всем протяжении романа недемо
кратическая революционность и уединенность — эти ос
новные признаки темперамента Нежданова — существуют
на равных правах и подчеркиваются автором всегда в их
неразрывной связи.
[Итак, перед нами как будто единственный, но тем не
менее знаменательный образчик возвращения Тургенева-
романиста к психологической манере, характеризовавшей
его работу над «Гамлетом Щигровского уезда» и «Дневни
ком липшего человека», той манере, которая, как отмеча
лось выше, объективно предвосхищала психологический
«садизм» в «Записках из подполья». На самом же деле
это только видимость. В повествовании, изображающем
Гамлета Щигровского уезда и Чулкатурина, последним
214
не противопоставлены герои, хотя бы в какой-то степени
выражающие авторское представление о действительности,
а в «Нови» такое противопоставление — и очень эффект
ное, резкое — есть. В противоположность Достоевскому
(и самому себе в период создания «Гамлета Щигровского
уезда» и «Дневника лишнего человека») Тургенев не де
лает только Нежданова главным лицом романа, не сосре
доточивает все свое внимание на анализе его болезненных
переживаний. Как реалист, он считается с тем, что такие
люди, как Нежданов, существуют, следовательно, до
стойны изображения. Но между Неждановым и им самим
прочной духовной близости все-таки нет . Нежданову
«позволено» думать и чувствовать так, как это свойственно
его натуре, вступающей в мучительное соприкосновение
со специфическими жизненными обстоятельствами, по
стоянно угнетаемой ими. Но точке зрения на действитель
ность, свойственной сознанию этого уединенного револю
ционера, в романе сопутствуют другие, более отрадные
проявления взглядов на ту же действительность, харак
терные для Марианцы и Соломина. А все вместе объеди
нено и сфокусировано в единой, «объективной» точке
зрения автора, трезво наблюдающего со стороны все
«события», происходящие в душе героев. Примечательно
также, что в романе «Новь» с известной горечью наме-
кается на то, что все революционное народничество по
существу представляет собою искусственно уединившуюся
прослойку русского общества, не имеющую поэтому пра
вильного представления об окружающей действительности.
Именно уединенность народников, обусловленная отвле
ченностью их революционной теории, приводит, по Турге
неву, народничество в целом, — несмотря на его героизм и
самоотверженность, — к трагическому отрыву от практи
чески незнакомого ему народа.
Таким образом, психологическая характеристика уеди
ненного сознания в романе «Новь» пронизана тайным и
явным, но в обоих случаях принципиальным осуждением
уединенности вообще.
Если рассматривать роман Тургенева и, в частности,
характеры всех его главных героев с точки зрения нецрия-
тия «эгоизма» в жизни и литературе, естественно напра
шивается заключение об удивительно стройном соответ
ствии существа этих образов литературно-критической и
философско-эстетической мысли писателя. Особенно гар-
No
монично и зримо оно по линии женских образов, в разра
ботке которых нет и намека на всякого рода психологиче
ские ухищрения и нюансы, диалектические тонкости,
переходы и противоречия, свойственные манере Достоев
ского и Толстого. Мало-мальски проницательный читатель
уже по началу действия в тургеневском романе чувствует,
что Елена и Марианна, например, это воплощение самоот
верженности, смутные, но несомненные признаки которой
угадываются и в характере Натальи Ласунской. Все они
живут не для себя, и, в конечном счете, не столько ради
любви к своему избраннику, сколько во имя «дела» его
жизни. В один ряд с ними должна быть поставлена Лиза,
уходящая в монастырь отмаливать грехи лихоимства и
«эгоизма» целого сословия. Что касается мужских персо
нажей, достаточно сказать, что даже угрюмый, жестокий и
беспощадный Базаров по существу лишен личного
эгоизма. «Хочется с людьми возиться, хоть ругать их, да
возиться с ними» — такое заявление отражает отнюдь не
индивидуалистические убеждения этого героя. Недаром
Тургенев, возражая против попыток некоторых критиков
объяснить «несимпатичные» черты характера Базарова
неблагоприятными условиями семейного и школьного
воспитания в детстве и в юности, настойчиво напоминал
и подчеркивал: «Все истинные отрицатели, которых
я знал — без исключения (Белинский, Бакунин, Герцен,
Добролюбов, Спепшев и т. д.)
—происходили от сравни
тельно добрых и честных родителей. И в этом заклю
чается великий смысл; это отнимает у деятелей, у отри
цателей всякую тень личного негодования, личной раз
дражительности. Они идут по своей дороге потому только,
что более чутки к требованиям народной жизни» (IV,
380). По существу эти же качества героев тургеневского
романа подчеркивал впоследствии и Салтыков-Щедрин.
«Базаровы, Рудины, Инсаровы, — писал он, — все это
действительные носители «добрых чувств», подлинные
мученики той темной свиты призраков, которые противо
поставляют добрым стремлениям свое бесконтрольное и
угрюмое поп possumus».
26
Тема «униженных и оскорбленных» — одна из веду
щих в творчестве Достоевского. Присутствует она и
26
Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Поли. собр. соч., т. XV.
Гослитиздат, М., 1940, стр. 612. — Non possumus — нельзя {лат.).
216
в романах Тургенева. В художественной интерпретации
Тургенева эта тема важна не столько сама по себе,
сколько по тому дополнительному характерному освеще
нию, которое она придает изображаемому писателем
внутреннему миру дворянской и разночинно-демократи-
ческой интеллигенции. Впрочем, и в таком своем вспомо
гательном значении она развивается в по-тургеневски
преображенном виде. В поле зрения писателя оказы
ваются не городские низы, как у Достоевского, а главный
тогда представитель народа — крестьянин, и реализуется
эта тема, как правило, в унаследованной от «Записок
охотника» форме лапидарного поэтического обобщения
только лучших свойств души людей «из простого звания».
За исключением разве только Базарова, у которого на то,
есть особые права, герои романов Тургенева размышляют
о народе с красивой печалью; образ крестьянина вырисо
вывается в их восприятии чаще всего в ореоле одухотво
ренного смирения, покорности, иногда — в ореоле бесша
башного удальства, безоглядного мужества. Таковы верный
слуга рода Лаврецких старик Антон, доживающий свой
невеселый век в заглохшем Васильевском, — раб, IB на
туре которого все рабское с годами повыветрилось и ос
талось одно человеческое; молящийся крестьянип с по
чернелым от горя лицом, поразивший Лаврецкого «пугли
вой» и «суровой» безысходностью своего страдания («Что
для них может заменить утешение церкви?» — подумал
Лаврецкий...»), отчаянный смельчак буфетчик Василий,
о котором вспоминает в своем дневнике Елена («ма
менька дала ему пять рублей» за подвиг, а ей «хотелось
ему в ноги поклониться»). С мимолетного облика этих
персонажей как бы смыты все или почти все признаки
«низкой» и «грязной» жизненной прозы.
У Тургенева-романиста, затрагивающего тему «уни
женных и оскорбленных», мы не найдем картин, подоб
ных развернутым изображениям бытия Макара Девуш-
кина или семейства Мармеладовых, — картин, в которых
подчас парадоксально сочетаются свет и тень, низкое и
высокое, грубое и нежное, не случайно подчеркиваемое
даже и в чисто внешних данных, характеризующих тот
или иной персонаж. В самом деле, объединение в харак
теристике одного лица (притом лица положительного,
пользующегося безоговорочной симпатией автора) таких
противоречащих друг другу определений, как «грубое»
217
*~>
имя Макар и «нежная» фамилия Девушкин — это в стиле
только Достоевского. Мысль о нарочитом у Достоевского
сочетании как будто несочетаемого неизбежно возникает
и при сопоставлении вынужденного страшного ремесла
Сони с доходящими до святости чистотой и величием
ее души. В художественной палитре Тургенева-романиста
мы не встретим ничего подобного — все это не согла
суется с гармонической природой его таланта, противоре
чит ей.
Сони Мармеладовы невозможны в романистике Турге
нева, а Лизы Калитины — в романистике Достоевского.
Быть может, отчасти поэтому многие современники Тур
генева, в том числе и Достоевский, нередко третировали
его как писателя «для дам», робко или манерно отвора
чивающего взор от неизящных проявлений действитель
ности. Здесь не место вступать в полемику с критиками
и недоброжелателями Тургенева (кстати сказать, их не
мало и в наше время); отметим только, что мягкий и
«слабый» Тургенев умел зорко подмечать и ценить в лю
дях суровое «мужское начало». Простейшие сопоставле
ния показывают, что в этом отношении у него было изве
стное преимущество прежде всего перед Достоевским.
Так, например, его Лаврецкий и Базаров, — именно по
тому, что они мужчины, а не мятущиеся неврастеники, —
никогда бы не унизились до мысли об убийстве презрен
ной старухи. С другой стороны, Раскольникову, убиваю
щему это гадкое существо, вряд ли удалось бы без
рисовки и всяческих «сложных» и «противоречивых» пере
живаний сделать то, что спокойно и без лишних слов
делает Базаров во время дуэли. По складу своего явно
не «мужского» характера Раскольников неспособен стать
вровень и с Лаврецким. Оскорбленный женой и ее лю
бовником, Лаврецкий уже не похож на того безобидного,
не от мира сего увальня, каким представлялся прежде.
В интеллигентном, гуманном Лаврецком просыпается
дикая кровь его крутых предков, перемешанная с «гру
бой» мужичьей кровью, и ему хочется пойти и сказать
своим оскорбителям: «Вы со мной напрасно пошутили;
прадед мой мужиков за ребра вешал, а дед мой сам был
мужик, — да убить их обоих». Краткая, точная, вырази
тельная речь, в которой ощущается реальная угроза.
Но Лаврецкий не пойдет и не убьет — тот же инстинкт
мужского достоинства не позволит. В противоположность
218
«эгоистическим» героям Достоевского он переживет свою
семейную драму и крушение надежд на новое счастье
сдержанно, не выставит напоказ свои переживания...
Свет «добра» и «истины», озаряющий героев Достоев
ского и Толстого обычно лишь в самом конце повествова
ния о них, до героев тургеневского романа доходит
гораздо раньше. Тургенев сознательно пренебрегает изо
бражением промежуточных стадий развития или пере
рождения своих героев или же сводит такое изображение
до минимальных размеров, что очень заметно уже в «Ру-
дице». Главные причины, порождавшие эти и другие
существеннейшие различия и несовпадения в художест
венной и, в частности, в психологической манере Турге
нева, Достоевского и Толстого, мы попытались определить
выше. J
*
*
*
Скрытой борьбе Тургенева с Достоевским (в особен
ности) и Толстым за пушкинскую объективность, за «уп
рощенные» начала в деле литературного творчества со
путствовала в известный период его открытая полемика
no^BonjwcjiM^^
Но если в первом случае Тургенев скрещивал оружие
по преимуществу в области психологаческого_анализа,
то во второмкамнем преткновения явились некоторые
принципиальные различия в понимании им и револю
ционными демократами искусства вообще. Полемика Тур
генева с Достоевским, Толстым и другими крупными
писателями велась в основном с эстетических позиций
его уже созданной романистики. Напротив, полемика с ре
волюционными демократами, осложненная рядом важных
обстоятельств в ходе общественно-политической и литера
турной жизни 1860-х годов (ожесточенной идеологической
борьбой революционных демократов с либералами, вы
двигавшими взаимоисключающие точки зрения на спо
собы социально-политического и экономического преоб
разования русской действительности), повлияла на роман
Тургенева непосредственно — она в значительншНягШВни
предопределила характер его самого крупного произведе
ния в этом жанре.
Творчество Тургенева-романиста отличается одной
очень важной особенностью, которую условно можно на-
219
звать методом соединения «апофеозы» и критики в изо-
бращевтаГден^альных событий и героев. Этот метод, ха
рактерный для всех романов Тургенева, за исключением,
может быть, «Дыма», предусматривает разносторонность
изображения (но разносторонность «упорядоченную»,
а не «хаотичную», как у Достоевского), при котором обя
зательно выставляются, по собственному определению
писателя, «худые и хорошие стороны» явления или лица.
Тургенев стремится к изображению характеров в сово
купности и органической нераздельности их положитель
ных и отрицательных свойств, так как убежден в слож
ности человеческой натуры, потенциально способной,
по его мнению, и на дурное и на хорошее. «Кто хоть не
много знает сердце человеческое», утверждал Тургенев,
тот «не смутится этими противоречиями» (Соч., XIV, 146).
Показателем пристального интереса Тургенева к «этим
противоречиям» может служить, например, изображение
в романе «Накануне» отца Елены, Николая Артемьевича
Стахова. На всем протяжении романа Стахов изображен
существом пустым, тщеславным, капризно-эгоистичным,
мелочным и пошлым. И вдруг «неожиданно», в момент
последнего прощанья с дочерью, этот человек совершенно
преображается. Аналогичный пример из того же ро
мана — Увар Иваныч, закоренелый флегматик, ведущий
растительный образ жизни, но в то же время — «черно
земная сила», по-своему глубокий мыслитель и провидец,
отзывчивая душа. Подобного рода превращения и проти
воречия представляются писателю одновременно естест
венными и загадочными. Нечего и говорить, что всякого
рода превращения и противоречия наиболее заметны
в поведении Базарова — характере самом сложном из всех
созданных Тургеневым.
«Апофеоза» в романах Тургенева — это не прославле
ние в обычном значении этого слова, а трезвое изображе
ние реальности во всех ее «хороших», в том числе и
идеальных, еще недостаточно четко определившихся, воз
можностях роста и развития. Критика у него также не
имеет ничего общего с эмпирией. И то и другое обуслов
лено активным стремлением к исчерпывающему раскры
тию типических особенностей общественного бытия, и по
ложительных, и отрицательных. УКонечная цель в приме
нении этого синтетического метода — запечатлеть перед
обществом его собственное изображение и способствовать
и''
220
таким образом росту общественного и национального са-
мосозцанцй.
Метод «апофеозы» и критики резко обнаружился уже
в первом романе Тургенева и был оценен по достоинству
наиболее проницательными современниками писателя.
27
В двух последующих романах критика лишь на первый
взгляд совершенно подавлена «апофеозой». Критическое
начало в изображении Лаврецкого, «законно-трагическое»
положение которого, по определению Добролюбова, как бы
исключает иронию, сказывается и в неумении этого героя
правильно определить свои отношения с крестьянами, и
в горьком сознании того, что роль лучших людей
1840-х годов все-таки уже сыграна до конца. Лаврецкий
не случайно уступает дорогу «молодым силам» и уходит
незамеченный ими. В «Накануне» «апофеоза» «созна
тельно-героической» натуры Инсарова, продиктованная
почти гражданским пафосом ее «необходимости» в новых
условиях русской жизни («для того чтобы... подвинулось
вперед» дело освобождения крестьян и вообще обновле
ния русской жизни), также сопровождается критикой,
которая улавливается в таких с виду не очень серьезных
репликах Шубина, как «ирой», «сушь и сила», «талантов
нема»; в шубинской статуэтке Инсарова, изображающей
этого героя в позе барана с упрямо выставленным лбом,
и т. д . О своей солидарности с Шубиным Тургенев вскоре
заявит прямо, сказав, что для него возможно только ува
жать («а этого мало») человека, равнодушного к красоте
в природе и в искусстве. «Хочу пояснить Вам, — писал
Тургенев Ламберт, — почему именно между моей дочерью
и мною мало общего: она не любит ни музыки, ни поэзии,
ни природы, ни собак, а я только это и люблю... она за
меняет недостающее ей другими, более положитель
ными... качествами; но для меня она —между нами —
тот же Инсаров» (IV, 134). Все это лишний раз свиде
тельствует о том, что изображение даже бесспорно
положительных явлений не мыслится Тургеневым без
критики. Критика в таких случаях противостоит, но не
противоречит «апофеозе».
Наиболее законченное выражение этот метод нашел
в романе «Отцы и дети». «Апофеоза» Базарова несом-
27
См. отзыв К. С. Аксакова о «Рудиие», цитируемый ниже,
в главе «Тургенев и Жорж Сайд».
221
ненна. Умом, широтой своих взглядов и задач, полным
отсутствием барства, мужеством и твердостью Базаров
действительно «подавляет» всех других героев романа.
Тургенев имел основание утверждать: Базаров — это
«торжество демократизма над аристократией». Бесспорно
справедливо и другое утверждение писателя — о том, что
вся его «повесть направлена против дворянства как пе
редового класса». С помощью «апофеозы» Базарова Тур
генев изображает некоторые лучшие, типичнейшие осо
бенности духовного склада и поведения демократов-рево
люционеров. Критическое же начало в «Отцах и детях» —
явление несравненно более сложное. В принципах
критического изображения Базарова нашли прихотливое
отражение и тенденциозность писателя и его честная
объективность. На теснейшее переплетение в «Отцах и
детях» того и другого с некоторым недоумением указал
еще Герцен в одном из своих позднейших отзывов на это
произведение. «Странные судьбы отцов и детей! — писал
Герцен. — Что Тургенев вывел Базарова не для того, чтоб
погладить по головке, — это ясно; что он хотел что-то сде
лать в пользу отцов, — и это ясно . Но в соприкосновении
с такими жалкими и ничтожными отцами, как Кирса
новы, крутой Базаров увлек Тургенева, и, вместо того,
чтобы посечь сына, он выпорол отцов».
28
Характеризуя общественно-политическую
позицию
писателя в 1860-е годы, В. И . Ленин отмечал, что Турге
нева «тянуло к умеренной монархической и дворянской
конституции», что «ему претил мужицкий демократизм
Добролюбова и Чернышевского».
29
В. И . Ленин обратил
внимание на главный источник тенденциозности писателя.
Либеральные предубеждения Тургенева не могли не
отразился неблагоприятным образом на романе «Отцы и
дети» и его главном герое.(Тенденциозность Тургенева яв
ственно ощущается в подчеркнутом огрублении некото
рых вложенных в уста Базарова высказываний идеологов
революционной демократии; в том, что в речах Базарова
замечается полное отсутствие пропагандистского пафоса
(«Верь мне или не верь, это мне все едино!»); в TOM^JJO
28
А. И. Герцен. Собр. соч. в 30 томах, т. XX, кн. 1. Изд.
АН СССР, М., 1960, стр. 339.
29
В. И . Ленин. Поли. собр. соч., т. 36. Изд. 5-е . Госполит-
издат, М., 1962, стр. 206.
222
Тургенев все-таки заставляет Базарова сомневаться в ус
пехе революционного дела и творческой активности на
рода. Кроме того, Базаров порой непривлекателен и
в быту: он циничен по отношению к женщине (рассужде
ния о «богатом теле»), жестоко самолюбив («пропасть
базаровского самолюбия»). Все_эти_черты_в образе_героя
обусловлены полемической настроенностью писателя в мо
мент создания наиболее значительного своего романа.
Однако историко-познавательное, общественное и худо
жественное значение «Отцов и детей» не было бы так
велико, если бы в основе критических изображений в этом
романе лежала^только голая тенденциозность.
Тридцать лет тому назад в своей статье «Великое на
следие Тургенева» Н. К . Пиксанов писал: «Вокруг База
рова сложилось... крупнейшее недоразумение: будто в его
высказываниях эстетических (в частности, о Пушкине)
Тургенев пародировал взгляды Чернышевского. Но Тур
генев сам указывает, что суждение о Пушкине, буквально
близкое к базаровскому, высказал в присутствии Турге
нева Н. В . Успенский. А в других суждениях Базарова...
пародирован не Чернышевский, а Писарев и его подго
лоски».
30
С тех пор мнение о том, что в базаровском от
рицании искусства отразились взгляды Писарева (о Н. Ус
пенском речь впереди), прочно утвердилось в литерату
роведении. В сущности говоря, нет ни одной серьезной
работы о Тургеневе, появившейся в последующие годы,
в которой эта проблема не решалась бы в полном или
приблизительном соответствии с суждениями, высказан
ными в статье Н. К. Пиксанова. '
Однако с этим заключением никак нельзя согласиться
потому, что ему противоречит хронология создания ро
мана, не говоря уже о логике его замысла. 6 (18) апреля
1862 г. Тургенев писал Фету о героях романа «Отцы и
дети»: «Я все эти лица рисовал, как бы я рисовал грибы,
листья, деревья; намозолили мне глаза — я и принялся
чертить» (IV, 371). Д . И. Писарев в пору создания ро
мана, т. е . в 1860—1861 годы, никак не мог «намозолить
глаза» Тургеневу. Писарев — «разрушитель эстетики»
«начинается», как известно, позднее. Напомним также
тургеневскую характеристику творческого метода извест-
30
И. С. Тургенев. Материалы и исследования. Орел, 1940,
стр. 74 .
223
ного писателя Воборыкина, которая многое проясняв*
в интересующей нас проблеме. «Я легко могу представить
его, — писал Тургенев о Боборыкине, — на развалинах
мира, строчащего роман, в котором будут воспроизведены
самые последние „веяния" погибающей земли. Такой то
ропливой плодовитости нет другого примера в истории
всех литератур! Посмотрите, он кончит тем, что будет
воссоздавать жизненные факты за пять минут до их на
рождения!» (ХШ2, 90).
/Конечно, в идеях Базарова, соотносимых с убежде
ниями шестидесятников писаревского толка, Тургенев,
как «всякий крупный и проницательный художник, мог
кое-что и предугадать и предвосхитить, однако при этом
не следует все-таки забывать, что неизменный принцип
Тургенева, неукоснительно проведенный через все его
романы, — стремление изображать только такие «веяния»,
которые представляли собою или недавнее историческое
прошлое русской общественной жизни, или животрепе
щущий факт современности. ч Тургенев в своем романе
«Отцы и дети» ставил вопросы, уже назревшие в созна
нии общества, обусловленные такими фактами действи
тельности, которые уже имели некоторую давность. Ут
верждать же, что во взглядах Базарова на искусство от
разились главным образом эстетические теории Писарева
(т. е., точнее говоря, пренебрежение к эстетике, отрица
ние искусства), значит приписывать Тургеневу вовсе ему
несвойственную «торопливость» Боборыкина, граничив
шую с_беспредметной игрой воображения, и, в конце кон
цов, приглушать" повышенно злободневное звучание его
романа. Еще Белинский писал о Тургеневе: «Он может
изображать действительность, виденную и изученную
им, если угодно — творить, но из готового, данного дейст-
вительностию материала... Главная характеристическая
черта его таланта заключается в том, что ему едва ли бы
удалось создать верно такой характер, подобного которому
он не встретил в действительности. Он всегда должен
держаться почвы действительности».
31
Как видим, вопрос
о том, кого имел в виду Тургенев, когда подчеркивал ни
гилистическое отношение Базарова к искусству, нельзя
втискивать в узкие рамки частного вопроса о так назы-
31
В. Г. Белинский. Поли. собр. соч., т. X. Изд. АН СССР,
М., 1956, стр. 345—346.
224
ваемых прототипах; он имеет прямую связь с проблемой
творческого метода писателя.
1В базаровском отрицании искусства нашла своеобраз
ное отражение эстетика «Современника», взгляды Чер
нышевского и Добролюбова, а не писаревское антиэсте
тическое начало, ворвавшееся в русскую общественную
жизнь подобно урагану, но... все -таки после того как ро
ман «Отцы и дети» был уже создан. /
В статье «По поводу „Отцов и детей"» Тургенев писал:
«За исключением воззрений Базарова на художества, —
я разделяю почти все его убеждения» (Соч.,
XIV,
100—102). Если вместо определения «разделяю» мы по
ставим другой термин — «понимаю» (а по смыслу этой
статьи Тургенева и его романа мы имеем на это право) —
перед нами точная формула отношения писателя к идео
логии разночинцев-демократов, в том числе и к их эсте
тике. В романе «Отцы и дети» Тургенев «понимает»
«почти все» убеждения разночинцев-демократов, т. е . умеет
отдавать им должное, даже подчас не соглашаясь с ними.
Что же касается их эстетики, здесь не обошлось без по
лемики самой страстной, самой непримиримой: В связи
с этим нужно, наконец, признать, ч?о у Тургенева были
объективные, не только голой враждой "обусловленные
предпосылки для спора в «Отцах и детях» с эстетической
теорией Чернышевского и Добролюбова.
По мнению Базарова, искусство бесполезно, и именно
с этой точки зрения — с точки зрения практической
пользы для жизни — сколько-нибудь" знающий химик ста
вится им выше «всякого поэта». Только однажды он при
знает полезность искусства. Живопись ценится им как
подсобное средство, сокращающее сроки ознакомления
человека с интересующим его материалом науки. Виды
Саксонской Швейцарии заинтересовали Базарова «с точки
зрения... геологической, с точки зрения формации гор»,
потому что, полагает он, «рисунок наглядно представит
мне то, что в книге изложено на целых десяти страни
цах» (гл. XVI). Базаров здесь почти буквально повторяет
мысль Чернышевского, у которого в «Эстетических от
ношениях искусства к действительности» говорится сле
дующее: «Искусство вернее достигает своей цели, нежели
простой рассказ, тем более ученый рассказ: под формою
жизни мы гораздо легче знакомимся с предметом, гораздо
скорее начинаем интересоваться им, нежели тогда, когда
15 А. Батюто
225
находим сухое указание на предмет». И несколько ниже:
«Наука и искусство (поэзия) — „Handbuch" дЛЯ начи
нающего изучать жизнь; их значение — приготовить
к чтению источников и потом от времени до времени
служить для справок».
32
Отмечая связь базаровской реп
лики с процитированным отрывком из диссертации Чер
нышевского, М. К. Клеман говорит по этому поводу:
«Чернышевский обосновывал утилитарную теорию искус
ства, выдвигая ее познавательное значение, а Тургенев
заставлял Базарова пародировать Чернышевского... Чер
нышевский разрушал в своей диссертации дворянскую
эстетику, а Тургенев приписывал в своем романе „моло
дому поколению" уничтожение всякой эстетики, полную
глухоту к поэзии вообще».
33
Такой вывод слишком суров.
Ведь речь идет о базаровской перифразе определенного
места из диссертации Чернышевского, который в данном
случае не занимается уничтожением дворянской эстетики,
а говорит об искусстве вообще, все-таки расценивая его
как справочное пособие. Чернышевский в данном месте
своего трактата указывает на служебную роль искусства
в жизни общества, однако делает это так, что известная
недооценка его зддожестветшо-познавательного значения,
т. е . его специфики, ощущается довольно сильно.
В советском литературоведении давно указаны и
с объективной обстоятельностью прокомментированы оши
бочные положения в эстетическом трактате Чернышев
ского. Наиболее существенное из них заключалось в фор
муле: искусство — суррогат действительности.
34
Турге
нев одним из первых заметил этот изъян в эстетике
Чернышевского, но в условиях острой и далеко не бес
пристрастной борьбы шестидесятых годов было не до спо
койствия, не до академизма. Тогда кипели страсти, мысли
выражались с резкой определенностью, «смягчающие об
стоятельства» в расчет не принимались. Тургенев был
32
Н. Г . Чернышевский. Поли. собр. соч., т. II, стр. 85, 87.
33
М. К . К л е м а и. Иван Сергеевич Тургенев. Очерк жизни
и творчества. Гослитиздат, Л., 1936, стр. 143—144.
34
См.: А. Лаврецкий. Белинский, Чернышевский, Добро
любов в борьбе за реализм. М., 1941, стр. 228—229; Б. И. Б у р с о в.
Чернышевский как литературный критик. Изд. АН СССР, М.— Л .,
1951, стр. 24—29; М. С. Каган. Эстетическое учение Чернышев
ского. Изд. «Искусство», Л. —М.,
1958, стр. 60; Б. Рюриков.
II. Г . Чернышевский. Критико-биографический очерк. М ., 1961,
стр. 102—103.
226
участником этой борьбы, непосредственно заинтере
сованным в ее исходе. Вот. почему в формуле Черны
шевского он видел нечто одиозное, рассматривая ее как
оскорбление самой идеи искусства (см. выше его оценку
«Эстетических отношений искусства к действительности»
в письме к В. П . Боткину и Н. А. Некрасову). Тем не ме^
нее думать на основании этого, что Тургенев^отрицал
в целом эстетическую теорию революционных демократов,/
было бы грубой натяжкой. (В основе этой теории лежала
проповедь реализма, завещанная Белинским, уважение
к действительности как главному и вечному источнику
искусства, а ведь Тургенев сам был воинствующим реа
листом, художнически влюбленным прежде всего в эту дей
ствительность, в правду обычной жизни. В эстетике Чер
нышевского Тургенев отрицал то, в чем он видел прояв
ление чрезмерной рассудочности и прямолинейного ути
литаризма. ,06 этом он отзывался всегда с раздражением
и полемическим, задором.
"Показывая базаровский нигилизм в отношении к ис
кусству, Тургенев преследует те же полемические цели.
Базаров очень мало говорит об искусстве, но все его суж
дения на эту тему не случайно носят подчеркнуто гипер
трофированный характер.
,Таким способом Тургенев
ре^ефно-выделяет именно те моменты в эстетике разно
чинцев-демократов, которые его возмущали. Следует при
этом особо отметить явную перекличку тургеневских эсте
тических оценок с пушкинскими.
В статье «О народной драме и драме „Марфа Посад
ница"» Пушкин писал: «Между тем как эстетика со вре
мен Канта и Лессинга развита с такой ясностию и об-
ширностию, мы все еще остаемся при понятиях тяжелого
педанта Готшеда; мы все еще повторяем, что прекрасное
есть подражание изящной природе и что главное досто
инство искусства есть польза. Почему же статуи рас
крашенные нравятся нам менее чисто мраморных и мед
ных? Почему поэт предпочитает выражать мысли свои
стихами? И какая польза в Тициановой Венере и Апол
лоне Бельведерском?»
35
Продолжая свою полемику с раз
ночинцами-демократами после создания «Отцов и детей»,
Тургенев по существу о том же говорит в «Довольно»,
А. С. Пушкин. Поли. собр. соч., стр. 177.
15*
227
в воспоминаниях о Белинском (см. Соч., XIV, 46), в речи
о Пушкине.
Известна великая любовь Тургенева к Пушкину.
Между тем Базаров издевается над Пушкиным, причем
издевается как один из числа тех людей, о которых
в свое время Пушкин отзывался следующим образом:
«Неуважение к именам, освященным славою (первый
признак невежества и слабомыслия), к несчастию, почи
тается у нас не только дозволенным, но еще и похвальным
удальством».
36
Как бы подтверждая справедливость этого
заключения Пушкина, в главе XXI Базаров говорите нем
самом: «Кстати, он, должно быть, в военной службе слу
жил. .. Помилуй, у него на каждой странице: На бой,
на бой! за честь России!»
Есть мнение, что эта вложенная в уста Базарова
оценка Пушкина возникла как результат наблюдений над
Н. В . Успенским, с которым Тургенев встречался в Па
риже в самом начале 1861 года. Однако эта аналогия
с Н. Успенским справедлива лишь отчасти. Во-первых,
следует иметь в виду, что многие современники Турге
нева, хорошо знавшие закулисную сторону литературы
(И. И . Панаев, Н. Г. Чернышевский, М. А. Антонович,
Ю. Г. Жуковский, Г. 3 . Елисеев и др.), думали иначе.
Все они негодовали на Тургенева в связи с тем, что, по
их глубокому убеждению, он окарикатурил в речах Ба
зарова убеждения Добролюбова, не исключая и его воз
зрений на поэзию, искусство (Соч.,
VIII, 590—593).
Им, как говорится, было виднее. К этому следует до
бавить, что приблизительно такой же точки зрения при
держивался впоследствии еще один современник Турге
нева, крупный специалист по истории литературы
А. Н. Пыпин. В своей известной книге о Некрасове он
отмечает: «Едва ли сомнительно, что, изображая, впослед
ствии, Базарова, Тургенев (хотя бы и имел в виду другой
живой оригинал, как говорят) вложил в это изображение
некоторые черты Добролюбова: Базаров, в собственном
представлении Тургенева, был натура почти героическая,
суровая, честная и непреклонная, но и с чертами грубыми,
не весьма симпатичными».
37
Во-вторых, достаточно про
следить ход мысли Тургенева в письме, где он сообщает
36
Там же, т. XII, стр. 71.
37
А. Н . Пыпин. Н . А . Некрасов. СПб., 1905, стр. 41.
228
Анненкову о своей встрече с Н. Успенским, чтобы убе
диться в том, что, наделяя Базарова столь грубою сентен
цией о Пушкине, он метил главным образом все-таки
в Добролюбова. Н . Успенский, по мнению Тургенева,
лишь приблизительно, и притом далеко не исчерпывающе,
изложил в данном случае точку зрения Добролюбова на
Пушкина.
Вот характерная выдержка из этого письма: «На днях
здесь проехал человеконенавидец Успенский (Николай)
и обедал у меня. И он счел долгом бранить Пушкина,
уверяя, что Пушкин во всех своих стихотворениях только
и делал, что кричал: „на бой, на бой, за святую Русь".
Он, однако, не вполне одобряет Добролюбова» (IV, 182).
Две фразы здесь особенно примечательны, заставляя пред
полагать, что Н. Успенский во всей этой истории лицо
почти случайное. Тургенев пишет: «И он (курсив мой, —
А. Б .) счел долгом бранить Пушкина...» Следовательно,
Тургенев не считал Н. Успенского единственным хулите
лем Пушкина. Вторая фраза наталкивает на мысль, что
Успенский в глазах Тургенева не только не единственный,
но и не главный враг Пушкина. «Он, однако, не вполне
одобряет Добролюбова», — добавляет Тургенев как бы
вскользь, но очень многозначительно, т. е. даже Н. Ус
пенскому, несмотря на всю резкость его отзыва о Пуш
кине, — так, очевидно, следует понимать Тургенева, —
Добролюбов кажется человеком, который в отрицании
Пушкина переходит всякие границы. А что Успенский,
по смыслу письма Тургенева, «не одобряет» Добролюбова
за то именно, что тот уж слишком нападает на Пушкина,
доказывает опять-таки первая из приведенных фраз:
«И он (Успенский, как и Добролюбов, — можем мы те
перь прибавить) счел долгом бранить Пушкина».
Дело в том, что в критических статьях Добролюбова,
действительно, встречались очень резкие суждения
о Пушкине. Известная часть этих суждений порождала
у Тургенева искреннее убеждение, что Добролюбов не по
нимает творчества Пушкина.
Как известно, Добролюбов неоднократно подвергал
критике стихотворения Пушкина «Бородинская годов
щина» и «Клеветникам России», а эти стихи, очевидно,
в первую очередь и имеют в виду Базаров и Н. Успен
ский, когда они почти слово в слово говорят: «на бой,
на бой!» и т.* д. В статье «Сочинения Пушкина» («Совре-
229
менник», 1858, No 1) Добролюбов писал о том, что Пуш
кин в последний период творчества выказывал «чрезмер
ное уважение к Штыку и презрение к оружию слова».
Правда, Добролюбов здесь же оговаривался: Пушкин
все-таки «не был решительным, слепым поклонником гру
бой силы...»
38
Резче отзыв о Пушкине в рецензии «Но
вые стихотворения В. Бенедиктова» («Современник», 1858,
No 1): «Привычка восхищаться пространством России
и силой несметных ее штыков со времен Ломоносова или
даже Симеона Полоцкого господствовала в нашей литера
туре. Около 1830 года Пушкин подновил воинственность
нашей поэзии
несколькими бранными стихотворе
ниями. ..»
39
Здесь с явным неодобрением говорится
о господстве в русской литературе военной темы и о под
держке этой темы Пушкиным (ср. с базаровским: «По
милуй, у него на каждой странице: „На бой, на бой..."»).
В следующей книжке «Современника» Добролюбов снова
упоминает «Бородинскую годовщину» и «Клеветникам
России», расценивая эти стихотворения как шаг назад —
«к державинской и ломоносовской эпохе». Позднее о «Бо
родинской годовщине» и «Клеветниках России» Добро
любов очень резко отозвался еще два раза: в рецензии
на «Утро. Литературный сборник» («Современник», 1859,
No 1) и в шестом номере «Свистка». Вне всякого сомнения,
эти последние два отзыва не могли не учитываться Тур
геневым. Вот они: «Пушкин с самого детства направ
ляем был так легкомысленно... что многие из важнейших
явлений и вопросов жизни прошли мимо него незамечен
ные, между тем как он предавался то псевдобайрониче
ским порывам, то барабанному патриотизму»;
40
«Мы
должны сказать откровенно: со времени патриотических
творений Пушкина, Майкова и Хомякова, мы не чи
тывали ничего столь громкого, как стихотворения
г. Якова Хама...» .
41
И «барабанный патриотизм», и
оскорбительное сравнение Пушкина с Яковом Хамом —
образом высмеянного Добролюбовым поэта-шовиниста,
воспевающего «подвиги» австрийских душителей италь-
38
Н. А. Добролюбов. Собр. соч. в 9 томах, т, И. Гослит
издат, М.—Л ., 1962, стр. 175.
39
Там же, стр. 195.
40
Там же, т. IV, стр. 131.
41
Там же, т. VII, стр. 490.
230
янской свободы, — все это, конечно, напоминает резкие
базаровские суждения о Пушкине.
Приведенные отзывы Добролюбова еще не выражали
существа его отношения к Пушкину. Все же, опираясь
на них, Тургенев вряд ли рассматривал их как основной
материал для полемики. Известно, что Белинский также
считал 1830-е годы в творчестве Пушкина шагом назад,
и Тургенев не упрекал Белинского за это. Все это за
ставляет предполагать, что, развертывая тему об отри
цании поэзии Базаровым, Турганев „должен был упи
раться в основном не л а-отзывы Добролюбова ,_о _ патриоти
ческих пушкинскгос_с^
1830-х годов, а на какие-то
другие его суждения. Так оно и было на самом деле.
Еще в статье Добролюбова «О степени участия народ
ности в развитии русской литературы» (Современник,
1858, кн. II) Тургенев мог натолкнуться на замечания,
которые, с его точки зрения, могли угрожать авторитету
Пушкина. Со времени Пушкина, писал в этой статье
Добролюбов, «литература вошла в жизнь общества, стала
необходимой принадлежностью образованного класса.
Но опять вопрос: как относится этот класс по количеству
и качеству к населению целой России? Здесь нельзя не со
знаться, даже с некоторым удовольствием, что класс
людей, изображенных Пушкиным и находящихся в близ
ких отношениях к нему, следовательно, им интересую
щихся, весьма малочислен у нас. Повторяем: говорим
это с удовольствием...»
42
Далее Добролюбов цитирует
большой отрывок из сочинений историка литературы Ми
люкова, оговарисаясь предварительно, что он вполне со
гласен с его смыслом. Между тем в этом отрывке Милю
ков пишет о том, что творчество Пушкина в 1830-е годы
поправело; что вследствие этого Пушкин уже не мог вер
нуть себе былые симпатии публики и т. д . Эти свои рас
суждения о Пушкине Милюков заканчивает так: «Ни
что не помогало, и смерть избавила его от печальной
необходимости видеть себя живым мертвецом посреди
того общества, которое прежде рукоплескало каждому
его слову».
43
Из вышеприведенного нетрудно было сделать два вы
вода: 1) Добролюбов «с удовольствием» констатирует
42
Там же, т. II, стр. 260.
43
Там же, стр. 262.
231
факт малочисленности «класса людей», интересующихся
Пушкиным; 2) творчество Пушкина имеет какое-то зна
чение в истории литературы, но и только; в настоящий
момент оно уже мертво, представляет из себя мало кому
интересную реликвию.
Но и это не было главным. Можно утверждать, что
острие художественной полемики Тургенева направля
лось в основном против литературно-эстетических выска
зываний в ряде статей Добролюбова («Черты для харак
теристики русского простонародья»,
«Стихотворения
И. Никитина», «Повести и рассказы С. Т . Славутинского»,
«„Перепевы".
Стихотворения обличительного поэта»),
появление которых на страницах «Современника» хро
нологически приблизительно соответствовало первой ста
дии работы над романом. Именно названные статьи и ре
цензии, особенно первые две, вызвали массу резких от
кликов в тогдашних журналах. Критики пользовались
одними и теми же цитатами из Добролюбова и в один
голос обвиняли его в непонимании художественности,
выносили ему необычно суровый даже по тем временам
приговор за враждебное отношение к Пушкину.
Первым бросил перчатку Добролюбову Ф. М. Достоев
ский: в февральском номере журнала «Время» за
1861 год была напечатана его статья «Г. —бов и вопрос
об искусстве». Подчеркивая тезис, что, с точки зрения
критика «Современника», «художественность дело пу
стое, третьестепенное, почти ненужное», Достоевский
писал: «Нам скажут, что мы это все выдумали, что
утилитаристы никогда не шли против художественности.
Напротив: не только шли, но мы заметили, что им даже
особенно приятно позлиться на иное литературное про
изведение, если в нем главное достоинство — художе
ственность. Они, например, ненавидят Пушкина, назы
вают все его вдохновения' вычурами, кривляниями, фо
кусами и фиоритурами, а стихотворения его — альбом
ными побрякушками... г. —бов почти прямо выказывает,
что художественность он считает ничем, нулем, и выказы
вает именно тем, что не умеет понять, к чему полезна
художественность».
44
^Подобные оценки литературно-эсте
тической позиции Добролюбова могли только усилить,
44
Ф. М . Достоевский. Поли. собр. художественных про
изведений, т. XIII. Госиздат, М.— Л., 1930, стр. 71 —72 .
232
подогреть полемическую настроенность Тургенева, служа
для него подтверждением того, что он .стоит, как рн вы
ражался, «на верной дороге». И все же нужно отметить,
что Тургенев в данном случае опирался не столько на
Достоевского и других литераторов, подвергавших оже
сточённому критическому обстрелу Добролюбова, сколько
на свои личные впечатления, предшествовавшие жур
нальной полемике. Так, письмо о «человеконенавидце»
написано в январе 1861 г., т. е. по крайней мере за месяц
до выхода в свет статьи Достоевского, а ряд других пи
сем Тургенева, в которых осуждался антиэстетизм Доб
ролюбова, и того раньше.
Главная идея рецензий Добролюбова — защита крити
ческого реализма, пропаганда «неукрашенного» изобра
жения действительности, требование демократизации ли
тературы. Народ — основная движущая сила историче
ского развития, поэтому изучение его жизни, выяснение
его нужд, знакомство с его бытом должно привлекать
особенное внимание литературы, если она претендует на
существенную роль в общественной жизни. Исходя из
этого, Добролюбов подвергает критике стихотворения Ни
китина, носившие на себе следы значительного влияния
так называемой дворянской поэзии. Дворянские поэты
ограничиваются «чрезвычайно узким крутом тонких
чувств, возвышенных стремлений и эфирных страда
ний».
45
Это происходит потому, что они не связаны
«кровно» с жизнью народа, не участвуют в ней «прямо».
В результате «простые явления простой жизни, насущ
ные требования человеческой природы, неукрашенное,
нормальное существование людей неразвитых мы не
умеем воспринять поэтически: нам нужно, чтоб все это
непременно облимонено было разными сентиментами
и подсахарено утонченным изяществом...»
46
По обыч
ному, традиционно установившемуся взгляду, «дело,
оказывается, в том, что претендовать на поэзию могут
только люди, совершенно обеспеченные материально,
или — еще лучше — люди, наслаждающиеся комфортом
жизни».
47
Проводя резкую грань между дворянским сословием
и народом, Добролюбов критикует ряд тем и настроений
45
Н. А. Добролюбов. Собр. соч. в 9 томах, т. VI, стр. 165.
46
Там же, стр. 166.
47
Там же.
233
«дворянской поэзии», порожденных привычкой к «ком
форту жизни». И здесь он дает чрезвычайно низкую
оценку творчеству Пушкина. Так, стихи «На холмах
Грузии» вместе со стихами Лермонтова и Фета дают ему
повод сделать такой вывод: «Прочтите всего Пушкина,
Лермонтова, почти всех современных поэтов: много ли
найдете вы у них задушевных звуков, вызванных про
стыми, насущными потребностями жизни? Повсюду
фантазия, аллегория, эфир; реализм проявляется только
в описаниях природы...»
48
Разбирая стихотворения Ни
китина, Добролюбов продолжает: «Читая такое стихотво
рение, так и припоминаешь себе альбомные побрякушки
„Я вас любил, любовь еще, быть может..'." или: „Нет,
нет, не должен я, не смею, не могу" и т. п. Не так вы
ражается истинное чувство живой и сильной натуры».
49
Выражение «альбомные побрякушки», подхваченное До
стоевским, получило затем широкое хождение в журна
листике в качестве неотразимой улики против Добролю
бова, который в своей беспощадной критике всякого рода
литературных поделок порою действительно не останав
ливался перед тем, чтобы зачислить в разряд никчемных
и даже пошлых произведений лирические шедевры Пуш
кина и Лермонтова. Так, в рецензии «„Перепевы"...»,
обращая внимание читателей на пародии, для которых
были использованы стихотворения: лермонтовское «Скажи
мне, ветка Палестины» и пушкинское «Цветок засохший,
безуханный», Добролюбов так квалифицирует пародии
и их объекты: «Это, конечно, забавно само по себе
и в то же время справедливо опошляет те quasi-высокие,
а в самом деле ребяческие и смешные мечты, которые
посвящены поэтами цветку безуханному и ветке».
50
Подвергнув критике определенный, свойственный дво
рянским поэтам круг тем и настроений, Добролюбов
приходит к выводу, что «художественный, младенчески-
беззаботный и грациозно-ребяческий период нашей поэ
зии был уже завершен Пушкиным»
51
и что «теперь,
если бы явился опять поэт с тем же содержанием, как
Пушкин, мы бы на него и внимания не обратили...»
52
48
Там же, стр. 165. — Курсив мой, — -
А. Б.
49
Там же, стр. 170.
50
Там же, стр. 215—216.
51
Там же, стр. 212 .
52
Там же, стр. 168.
234
Думается, что именно эти и подобные им отзывы Доб
ролюбова привлекали к себе самое пристальное внимание
Тургенева. Недаром в мемуарной литературе зафиксиро
вано следующее суждение о Добролюбове, приписывае
мое, по-видимому не без оснований, Тургеневу: «Публи
цисты-отрицатели, не признающие эстетических потреб
ностей. .. с нахальством хотят стереть с лица земли
поэзию, изящные искусства... Это, господа, литературные
Робеспьеры; тот ведь тоже не задумался ни минуты
отрубить голову поэту Шенье».
53
Добролюбов часто иронизирует над «эстетическими
тонкостями» и «поэтическими красотами». В статье
«Черты для характеристики русского простонародья»
(«Современник», 1860, No 9) он пишет почти презри
тельно о «художественности Никитина», ставя ее, од
нако., в один ряд с «рассуждениями о первой любви»
Тургенева. В упомянутой рецензии «„Перепевы"...»,
язвительно посмеявшись над стихотворением Фета «Буря
на небе вечернем...» и заявив, что «само по себе это
стихотворение — пародия», Добролюбов замечает, подчер
кивая скобками несущественность делаемой оговорки:
«... если не предупредить, разумеется, что тут бездна
поэтических красот».
54
Очевидно, что именно такого рода
отзывы внушили Тургеневу мысль, высказанную не без
горечи и раздражения в письме к Фету: «Вот и мы по
пали с Вами в число Подолинских, Трилунных и других
почтенных отставных майоров. Что, батюшка, делать!
Пора уступать дорогу юношам» (IV, 125). В момент,
когда писались эти строки, Тургенев занимался разра
боткой плана «Отцов и детей» и вскоре сообщил одному
из своих друзей, что «план... новой повести готов до
малейших подробностей» (там же, 137). Итак, работа
над планом почти совпадала по времени с выходом ре
цензий Добролюбова.
Чернышевский и Добролюбов не без оснований
высмеивали эстетические представления «образованных
людей», но в связи с этим у них иногда появлялись явно
нигилистические ноты. Так, в статье «Органическое раз
витие человека» Добролюбов писал: «Мы восхищаемся
всеми искусствами и утверждаем, что звуки опер Верди,
А. Я. Панаева. Воспоминания. Гослитиздат, 1948, стр. 288.
Н. А. Добролюбов. Собр. соч. в 9 томах, т. VI, стр. 216.
235
пейзажи Калама настраивают нас к чему-то возвышен
ному, чистому, идеальному. На самом-то деле под всем
этим скрывается, может быть, просто приятное удовле
творение слуха и глаз, а может быть, даже и желание
убить скуку... Мы совестимся представить себе вещи
как они- есть; мы непременно стараемся украсить, обла
городить их... Кто из образованных людей, наконец, —
сошлемся на самих читателей, — не говорил с уверен
ностью, даже иногда с восторгом о Гомере, о Шекспире,
пожалуй о Бетховене, о Рафаэле и его Мадонне, и, между
тем, многие ли сами-то понимали, в глубине души своей,
то, что говорили? Нет, что ни говорите, а желание по-
идеальничать в нас очень сильно; врачи и натуралисты
„имеют резон"».
55
Заметим, что именно Базаров — «врач и натуралист»,
усматривающий в творениях великих поэтов и худож
ников ни к чему не пригодные в жизни романтизм и ро
зовый идеализм. /Эти убеждения, созвучные критике и
публицистике Добролюбова, пронизанной воинствующим
демократизмом, разночинец-демократ Базаров доводит
до крайности, до абсурда. Он называет поэзию «ерундой»;
он же просит Аркадия не говорить «красиво», когда тот
в элегически-созерцательном настроении сравнивает па
дающий кленовый лист с порхающей бабочкой, восклицая
при этом: «Не странно ли! Самое печальное и мертвое —
сходно с самым веселым и живым» (гл. XXI). Базаров
смотрит на небо только тогда, когда ему «чихнуть хо
чется». Жизнь человеческая это прежде всего труд
(«Природа не храм, а мастерская, и человек в ней ра
ботник»); поэтому в ней не должно быть места ни ба
бочкам, ни малиновым закатам, ни музыке Шуберта,
ни стихам Пушкина, ни картинам Рафаэля, — они только
«рассыропливают» трудящегося человека. Так или при
близительно так интерпретировал впоследствии базаров-
ские убеждения «разрушитель эстетики» Д. И . Писарев.
Вместе с тем все это безусловно напоминает также и вы
сказывания Добролюбова о поэзии, далекой от обществен
ных интересов в прямом смысле этого слова: «Восход
солнца, пение птичек, блаженство сладострастья, неопре
деленное томление о чем-то ... никогда не привлекут...
55
Н. А. Добролюбов. Собр. соч. в 9 томах, т. II,
стр. 438—439.
236
живого, деятельного и энергического сочувствия...»;
56
«...вечера и девы — с облаками, луной, соловьями и
ручьями — пропадают сами собою».
57
Однако сходство между «антиэстетизмом» Базарова
и Добролюбова отнюдь не абсолютно. Неоднократно под
вергая критике творчество Пушкина, Добролюбов не от
рицал его исторического значения. Вместе с Чернышев
ским он подчеркивал огромное значение Пушкина
«не только в истории русской литературы, но и в исто
рии русского просвещения».
58
По его определению, Пуш
кин первый «сумел открыть поэзию не в воображаемом
идеале предмета, а в самом предмете, как он есть».
^Значит, несмотря на «ограниченность» пушкинского реа
лизма, выражавшегося, по его словам, лишь в описаниях
природы, Добролюбов все-таки не подвергал его полному
остракизму, как это делает Базаров. Резкие суждения
критика о Пушкине диктовались тактикой борьбы за
гоголевское направление в литературе, следовательно не
отражали его взглядов во всей полноте. Когда нужно было
определить, в чем состоит непреходящее значение Пуш
кина, Добролюбов давал его творчеству высокую оценку.
«Нам нужен был бы теперь поэт, — писал он все в той жо
рецензии на стихотворения Никитина, — который бы с кра
сотою Пушкина и силою Лермонтова умел продолжить
и расширить реальную, здоровую сторону стихотворений
Кольцова».
59
Недооценка чисто художественной, «вечной» струи
в творчестве Пушкина, так раздражавшая Тургенева
в "суждениях Добролюбова, объяснялась теми «времен
ными» задачами, которые пронизывали собою всю дея
тельность революционных демократов. И Чернышевский,
и Добролюбов, и большая аудитория примыкавшей к ним
передовой молодежи со дня на день ожидали крестьянской
революции, верили в нее, призывали к ней. В этих усло
виях необходима была мобилизация всех сил, в том числе
искусства и литературы, способных содействовать уско
рению революционного взрыва. Творчество Гоголя, а не
Пушкина выдвигалось Чернышевским и Добролюбовым
56
Там же, т. VI, стр. 168.
57
Там же, стр. 218.
58
Там же, т. I, стр. 295.
59
Там же, т. VI, стр. 168.
237
в качестве того идеологического и художественного ору
жия, которое могло' наряду с другими более сильными
средствами воздействия способствовать приходу рево
люции. Недаром же в романе Чернышевского «Что де
лать?» на книжной полке в комнате революционера Рах
метова стояли только «капитальные сочинения». Среди
них был Гоголь, .но не было Пушкина.
С этими взглядами Чернышевского и Добролюбова,
прочно укоренявшимися в сознании передовой молодежи
шестидесятых годов, Тургенев никак не мог согласиться.
Вот почему в своем романе он дал гипертрофированное
отражение прежде всего тех положений разночинно-де-
мократической эстетики, в которых эта точка зрения
выдвигалась на передний план. В качестве контраргу
мента Тургенев выдвигал довод, суть которого сводилась
к тому, что «художества» — это почти «физиологическая
необходимость» для человека, что они нужны ему на
всем протяжении его жизни, в том числе и в моменты
решения «временных задач».
Историей определен и правильно понят благородный
источник подчас излишне прямолинейных и резких су
ждений революционной демократии в области эстетики.
Под конец своей литературной деятельности (а может
быть, и значительно раньше) понял это и Тургенев.
Во всяком случае, в речи о Пушкине, подводя итоги
долгой борьбы вокруг его имени, борьбы, сопряженной
с неизбежной жестокостью и недоразумениями, Тургенев
указывал на целый ряд серьезнейших общественно-поли
тических .причин и обстоятельств, извинявших временное
охлаждение передовой разночинно-демократической мо
лодежи к Пушкину. По его словам, эти причины и об
стоятельства «лежали в самой судьбе, в историческом
развитии общества, в условиях, при которых зарожда
лась новая жизнь, вступившая из литературной эпохи
в политическую. Возникли нежданные и, при всей не
ожиданности, законные стремления, небывалые и не
отразимые потребности; явились вопросы, на которые
нельзя было не дать ответа... Не до поэзии, не до ху
дожества стало тогда. Одинаково восхищаться „Мертвыми
душами" и „Медным всадником" или „Египетскими но
чами" могли только записные словесники... Искусство,
завоевавшее творениями Пушкина право гражданства,
несомненность своего существования, язык, им создан-
238
ный, стали служить другим началам, столь же необхо
димым в общественном устроении. Многие видели и ви
дят до сих пор в этом изменении простой упадок; но мы
позволим себе заметить, что падает, рушится только
мертвое, неорганическое. Живое изменяется органи
чески — ростом. А Россия растет, не падает. Что подоб
ное развитие — как всякий рост — неизбежно сопряжено
с болезнями, мучительными кризисами, с самыми злыми,
на первый взгляд безвыходными противоречиями — дока
зывать, кажется, нечего: нас этому учит не только все
общая история, но даже история каждой отдельной лич
ности» (Соч., XV, 73—74).
В настоящей главе речь шла по преимуществу о нор
мах эстетики, обусловивших специфический характер
романа Тургенева, его стиль и отличительные особен
ности его реализма в более или менее общем, целостном
их выражении.
Теперь следовало бы вернуться к началу деятель
ности Тургенева-романиста с тем, чтобы оттенить свое
образие его романа в свете конкретных литературно-
генетических связей с рядом произведений, создавав
шихся его коллегами по литературному труду в России
и на Западе. Однако прежде чем перейти к освещению
этой темы, обратимся к анализу еще целого ряда вопро
сов, в своей совокупности также представлявших нема
ловажную проблему для Тургенева-романиста, но уже
в области жанра. Сделать это необходимо, так как и про
блема жанра, о которой сейчас пойдет речь, обычно ста
вится в тургеневедении слишком односторонне.
ПРОБЛЕМА ЖАНРА
В РОМАНИСТИКЕ ТУРГЕНЕВА
На роман Тургенева в его становлении и развитии
активно «работали» все литературные формы, в которые
облекалась его художественная мысль (очерк, повесть,
драма, критическая статья и т. п.) . Свыше полувека тому
назад профессор И. И . Иванов указывал на идейно-
жанровые связи романа Тургенева даже с его ранними
поэмами. Так, например, о поэме «Разговор» он писал:
«Это отцы и дети сороковых годов и в самой простой
форме: „старик" и „молодой человек" рассказывают друг
другу опыты своей жизни...»
1
В рассказе о «молодом
человеке» и его любви (та же поэма) И. И. Иванов
усматривал «первый очерк рудинского типа и первый
набросок знаменитого прощанья Рудина с Натальей.
Он полюбил и его полюбили, — и все-таки он расстался
с ней и сам не мог понять, зачем? Бежал, не зная сам,
куда...»
2
И далее не менее характерное резюме в связи
с бегством от своих возлюбленных героев поэм «Разго
вор» и «Андрей»: «Перепугается девичьей любви и Ру-
дин и Н. Н . и всем не будет чуждо раскаяние и сожале
ние. Что за смысл этой заячьей повадки?»
3
С другой
стороны, в одной из работ последнего времени роман
«Рудин» анализируется в достаточно тесной связи с дра
матическими жанрами. В ней с помощью соответствую
щих подсчетов доказывается, что в «Рудине» «реплики,
1
Ив. Иванов. Ивап Сергеевич Тургенев. Жизнь. Личность.
Творчество. Нежин, 1914, стр. 75.
2
Там же, стр. 75—76.
3
Там же, стр. 80 .
240
монологи, письма, — словом, прямая речь героев — со
ставляют восемьдесят процентов всего текста, чего нет
ни в одном произведении Тургенева. Весь „Рудин" вы
глядит поэтому как один огромный диалог, а описания
и небольшие клочки повествования в его ткани — как
вкрапления авторской речи в прямую речь действующих
лиц, или, если угодно, как разросшиеся ремарки драма
турга. С одной стороны, это — дополнительное свидетель
ство влияния „Записок охотника".
С другой — это, ко
нечно, свидетельство родственности „Рудина" драме».
4
Эти и некоторые другие выводы автора, построенные на
конкретном анализе «Рудина», весьма любопытны и
не лишены, конечно, известной убедительности. Однако
при этом все-таки невольно вспоминается письмо - Турге
нева к неизвестному адресату (11 (23) июня 1878 г.),
в котором он категорически высказывался против сцени
ческой обработки «Рудина». «Не могу... скрыть от вас, —
писал Тургенев, — что я принципиально против всякого
рода переделок романа для театра — и особенно в дан
ном случае, так как „Рудин" представляет собой психо
логический этюд. В России уже пытались приспособить
его для сцены, но отказались от этого» (XIIi, 479).
Как показали наблюдения многих исследователей
(И. И . Иванов, А. Е. Грузинский, А. И. Белецкий,
Н. Л. Бродский, Б. М . Эйхенбаум, М. К. Клеман,
Г. А. Бялый, Г. А. Цейтлин и др.), наиболее прочными
и постоянными следует считать связи романа Тургенева
с его повестью. Однако в решениях и этого вопроса до
сих пор далеко не все представляется ясным и вполне
доказательным. Так, например, справедливо, но крайне
неточно общепринятое мнение, что роман Тургенева пред
стает обычно в окружении «кольца» повестей, являю
щихся по отношению к нему как бы предварительными
этюдами.
5
Подобное заключение можно вполне распро
странить только на «Рудина» и «Дворянское гнездо».
Применительно к романам «Накануне» и «Новь» оно
явно нуждается в существенных оговорках и ограниче
ниях, а по отношению к роману «Отцы и дети», пожа-
4
В. Баевскпй. «Рудип» И. С. Тургенева
(к вопросу
о жанре). «Вопросы литературы», 1958, No 2, стр. 136.
5
М. К. К л е м а п. Ивап Сергеевич Тургенев. Очерк жизни
и творчества. Гослитиздат, Л., 1936, стр. 96—97.
1$ А. Батюто
241
луй, и совсем неверно. В самом деле, обозначить «кольцо»
из повестей-этюдов, непосредственно предварявших по
явление этого романа, весьма и весьма затруднительно.
Вообще традиционное представление о якобы неукосни
тельно-неизбежном в творчестве Тургенева движении от
повести к роману нуждается в серьезных уточнениях.
В действительности такой «фатальной» предопределен
ности в этом процессе не было. Больше того, вскоре/
} после упрочения гегемонии романа в литературной дея-\
! тельности писателя он, в свою очередь, начинает оказы-I
вать заметное сюжетно-композиционное воздействие на"
тургеневскую повесть. Этот своего рода обратный процесс
намечается приблизительно после создания «Дыма».
Наконец, заслуживает обособленной постановки и такой
вопрос, как движение от романа к роману. Все это яв
ляется достаточным основанием для того, чтобы вновь
обратиться к рассмотрению всех вопросов, связанных
с формированием романа Тургенева на основе взаимо
действия жанров внутри его творчества.
Прежде всего следует остановиться на ряде суждений
о повести и романе Тургенева, в значительной степени
порожденных, как нам кажется, нечеткими представле
ниями о подлинных причинах хаотичности и неупорядо
ченности в жанровой терминологии, употреблявшейся
самим писателем. Суждения, о которых пойдет речь,
также породили традицию: в настоящее время в общем
не принято придавать особого значения реальным и
весьма принципиальным жанровым различиям между
тургеневским романом и его повестью.
Занимаясь вопросами жанра в связи с изучением
«Рудина», Б. М . Эйхенбаум назвал этот роман повестью,
«шаблонность фабулы и персонажей» которой заставляет
видеть в ней эпигонское «завершение целой серии пове
стей» 1830—1840-х годов.
6
Наблюдения, содержащиеся
в комментариях Б. М . Эйхенбаума, не позволяют отрицать
связей «Рудина» с «светской повестью», однако с общим
«жестоким» заключением исследователя о жанровой при
роде и идейно-художественной значимости первого ро
мана Тургенева в настоящее время вряд ли кто-нибудь
согласится. Термины «жанровая неопределенность» и «по-
6
И. С . Тургенев. Соч.,
т. V. Госиздат, М.— Л .,
1928,
стр. 287.
242
весть», употребляемые Б. М . Эйхенбаумом при анализе
«Рудина», распространяются им и на некоторые другие
романы Тургенева. Так, например, по поводу «Отцов
и детей» в его комментариях сказано: «...Тургенев при
ехал в Россию, но „повесть" была еще не закончена.
О том, что повесть (или „роман", как он теперь иногда
называет свою новую вещь) близится к концу, он сооб
щает своим друзьям...» и т. д.?
Двойной термин (повесть-роман)
сохраняется и
в статье Л. В . Пумпянского о «Дыме». В ней выдвигается
тезис, что, «с точки зрения жанровой, „Дым" не есть
роман», что Тургенев «принужден ограничиться услож
ненной в направлении романа повестью».
8
А в моногра
фии А. Г . Цейтлина эта двойная терминология возво
дится в непреложный закон и прилагается ко всем рома
нам Тургенева. Можно «поучиться у Тургенева, — пишет
он, — созданию особой разновидности общественно-психо
логического романа, который стоит на границе повести
по предельной сжатости, концентрированности своего со
держания».
9
Как видим, главный критерий, применяе
мый здесь для определения жанра тургеневского ро
мана, — это
его объем. Но такой вывод уязвим даже
с точки зрения простого арифметического расчета.
У Тургенева есть не только «предельно сжатые», но
и пространные повести и романы. Повесть «Вешние
воды», например, по своему размеру ничтожно мало
уступает «Дворянскому гнезду», «Накануне» и «Дыму»,
а «Рудина» превосходит. Тем не менее «Вешние воды» —
повесть; романом ее — в тургеневском значении этого
слова — не назовешь . Роман «Новь» также не внушает
мысли о его «предельной сжатости». Таким образом,
критерий объема, выдвигаемый А. Г. Цейтлиным, до
вольно шаток.
Приведем еще одну цитату из книги А. Г. Цейтлина,
примечательную в том отношении, что, наряду с ошибоч
ными, на наш взгляд, представлениями о тургеневском
романе как романе-повести, в ней недвусмысленно ука
зывается на первоначальный и, по-видимому, основной
источник формирования подобного рода представлений:
7
Там же, т. VI. М.—Л., 1929, стр. 375.
1__Там же, т. IX. М .—Л ., 1930, стр. XVIII—XIX.
9
А. Г. Цейтлин. Мастерство Тургенева-романиста. Изд.
(«Советский писатель», М., 1958, стр. 433.
16*
243
«Тургенев не случайно называл свои романы повестями:
они действительно стоят на грани между этими жан
рами. .. И этой гибридностью жанра определяются мно
гие особенности структуры тургеневского романа».
10
Итак, первопричина происхождения представлений
о «гибридности» жанра тургеневского романа — соб
ственно тургеневские даже не суждения, а скорее ре
марки о жанре его романов.
Действительно, на протяжении многих лет Тургенев
попеременно называет свои романы то романами, то по
вестями. Эти колебания продолжаются у него вплоть до
работы над «Новью», и только в предисловии к изданию
1880 года все шесть романов твердо и безоговорочно
определены автором как романы. Ясно, что и в беско
нечных колебаниях жанровой терминологии у Тургенева
и в как бы неожиданном их прекращении безусловно
была определенная логика, но какая? Ясно и другое:
не разобрав, в чем тут дело, трудно прийти к оконча
тельному выводу о природе жанра тургеневского романа.
В основе этих колебаний лежало не сознание Турге
невым жанровой неопределенности своих романов и ро
мана вообще, а нечто другое. Ведь уже в 1853 году он
отдает себе ясный отчет в том, что «роман — не растя
нутая повесть, как думают иные», что эти жанры не сле
дует смешивать (II, 159). Почему же в дальнейшем он
так колеблется?
Как известно, первый опыт Тургенева на поприще
романиста оказался неудачным. Начатый в спасской
ссылке роман «Два поколения», на который возлагалось
столько надежд (отход от «старой манеры», связанной
с «субъективным», по форме фрагментарным отражением
действительности в «Записках охотника»), не был за
кончен и навсегда отложен в сторону ввиду неблагопри
ятных отзывов друзей и личной неудовлетворенности
писателя. Многочисленные «частности» и «отдельные
сцены», заполонив роман, предопределили структурную
аморфность этого «сочинения». Единого, стройного це
лого не получилось.
Суровые отзывы литературных друзей о «Двух по
колениях» и признание самим автором существенных не-
10
А. Г . Цейтлин.
Мастерство
Тургенева-романиста,
стр. 264. — Курсив мой, — А. В.
244
достатков в структуре этого романа — отправная точка
многолетних колебаний Тургенева в употреблении жан
ровой терминологии. Обескураженный неудачей первого
опыта, Тургенев вслед за этим как бы и вовсе не рассчи
тывает на успех в создании романа, мало верит в свою
способность к решению больших творческих задач.
Именно в таких условиях протекает работа над «Руди-
ным». С «Рудина» лачинаютоя у Тургенева поиски новой
романной формы, между тем, как справедливо указывает
Б. М . Эйхенбаум, писатель в пятидесятые годы ни разу
не назвал это произведение романом. Это — следствие
осторожности, так как за первой неудачей последовала
вторая. Поначалу «Рудин» в свою очередь подвергся
критике со стороны друзей и советчиков, убедивших пи
сателя в необходимости существенной его доработки,
и был затем довольно холодно встречен публикой. В ре
зультате Тургенев становится еще более «скромным» и,
словно демонстрируя свою скромность, включает «Ру-
дина» в состав «Повестей и рассказов» 1-856 года.
С этого же года Тургенев начинает некую борьбу за
право называть свои новые крупные вещи романами, но
чуткая реакция на критику по-прежнему порождает
у него постоянную готовность «сбавлять балл» этим своим
произведениям, покорно зачислять их в разряд повестей.
Подробный анализ, с этой точки зрения, огромного эпи
столярного наследия писателя был бы чрезвычайно по
казателен, однако он завел бы слишком далеко. Ограни
чимся наиболее характерными примерами.
«Дворянское гнездо», задуманное в 1856 году, Турге
нев тогда же назвал романом (III, 23). Правда, этот
термин почти сразу же исчезает, но появляется вновь
при очень знаменательных обстоятельствах. Шумный
успех «Дворянского гнезда» вселяет в Тургенева уве
ренность в своих силах и тотчас же отражается на ха
рактере употребляемых им жанровых определений.
27 марта ст. ст. 1859 года он пишет графине Ламберт:
«Я очень рад, что я не поддался желанию пользоваться
успехом моего романа и не выезжал направо и налево»
(III, 281). Употребление термина «роман» в данном слу
чае—прямое следствие «успеха». Однако через какой-
нибудь десяток дней Тургенев получает известное письмо
И. А. Гончарова о «Дворянском гнезде», переполненное
ядовитыми критическими замечаниями и намеками на
245
плагиат. Мажорное настроение Тургенева резко падает,
и в прямой связи с этим, 7 (19) апреля 1859 года,
отвечая на письмо Гончарова, он высказывает прямо-
таки уничижительные суждения о своей ... «повести».
Не менее примечателен «смиренный» тон суждений
о «Дворянском гнезде» и в письме к Морицу Гартману,
написанном под явным и еще очень свежим впечатле
нием от письма Гончарова: «...напечатал, — сообщает
Тургенев — маленький роман, который вы, может быть,
прочтете...» (III, 428). Жестким письмом Гончарова под
сказаны Тургеневу и робкое определение жанра «Дво
рянского гнезда» (хотя и роман, но «маленький»), и
неуверенность в том, что его прочтут («может быть,
прочтете...). Потребовалось несколько месяцев исклю
чительного успеха «Дворянского гнезда», чтобы это на
строение потеряло наконец свою остроту. И когда это
произошло, на титульном листе отдельного издания
«Дворянского гнезда», вышедшего в свет в конце ав
густа 1859 года, появился подзаголовок: «Роман».
В период повсеместного признания «Дворянского
гнезда» Тургенев уже работал над «Накануне». В июле
и августе 1859 года он часто пишет друзьям о своем но
вом произведении, в подавляющем большинстве случаев
называя его романом. Письма эти дышат спокойствием
и уверенностью: «Пока я занимаюсь своим романом, ко
торый подвигается понемногу...»; «Я много работаю над
новым моим романом...»; «Надеюсь к половине ноября
привезти в Москву... роман»; «..мой новый роман будет
помещен в „Русском вестнике"» (III, 329, 330, 332,
338—339). Роман «Накануне» не только роман —это
новый роман, следовательно, и оба предшествующие
ему романа Тургенев в это время уже не склонен назы
вать повестями. Однако в октябре 1859 года, закончив
работу над «Накануне», Тургенев «неожиданно» начи
нает сомневаться в оригинальности этого произведения.
Ему неясно, что вышло из-под его пера, и своими опа
сениями он делится с П. В. Анненковым: «... я теперь
не имею никакого суждения о том, что я произвел на
свет: кажется, эротического много, Шатобрианом пах
нет. ..»
Неизбежный спутник сомнения — термин «по
весть» — всплывает в этом же письме: «Конченная по
весть (название ей по секрету: «Накануне»...)» (III,
358—359). Безусловно в очевидной связи с характером
246
•г-
этого письма во всех относящихся к октябрю—ноябрю
1859 года письмах Тургенева, содержащих упоминания
о «Накануне», этот термин встречается очень часто.
Вот еще один в высшей степени типичный пример коле
бания жанровой терминологии в связи с предваритель
ным обсуждением того же романа в кругу друзей писа
теля. 3 (15) декабря 1859 года Тургенев писал П. В . Ан
ненкову: «... сейчас была графиня? Ламберт... и она
(прочитавши мой роман) так нертровержимо доказала
мне, что он никуда не годится, фальшив и ложен от
А до Z, — что я серьезно думаю — не бросить ли его
в огонь? Не смейтесь, пожалуйста, а приходите-ка ко
мне часа в три — и я вам покажу ее написанные замеча
ния, а также передам ее доводы» (III, 379). После
этого в течение долгого времени, захватывающего и
первую стадию работы над «Отцами и детьми», определе
ние «роман» вовсе не употребляется Тургеневым.
Обратимся теперь к «Отцам и детям». Здесь такая же
картина. Достаточно двух-трех примеров, чтобы в этом
убедиться. 26 сентября ст. ст . 1861 года Тургенев изве
щал Анненкова: «... пишу вам через Тют<че>вых, кото
рые... осудили мою повесть на сожжение» (IV, 290).
Статья «По поводу „Отцов и детей"», пожалуй, самый
любопытный в этом отношении документ. Шесть раз на
протяжении этой статьи Тургенев пользуется только
термином «повесть», однако в подстрочнике он приводит
цитату из своего дневника, начинающуюся фразой:
«Кончил наконец свой роман» (Соч.,
XIV, 99). Ко
нечно, и это противоречие не случайно, и в нем есть
своя закономерность. В июле 1861 года, заканчивая
роман, Тургенев мог только смутно догадываться
о возможной неблагоприятной реакции на него в демокра
тическом лагере. Он был еще относительно спокоен.
Статья же «По поводу „Отцов и детей"» была адресована
главным образом «молодому поколению», мнением кото
рого Тургенев дорожил, но которое упорно не верило в его
добрые намерения при «сочинении Базарова» и продол
жало считать роман «Отцы и дети» «клеветой». Несмотря
на активную защиту от нападок, в этой статье все-таки
слышатся покаянные ноты, ощущается сознание опреде
ленной вины перед демократической молодежью. Что ка
сается романа «Дым», напомним красноречивое само по
себе начало предисловия к отдельному изданию этой
247
вощи: «Ввиду многоразличных нареканий, которым под
верглась повесть „Дым"...» (Соч., IX, 329).
С конца шестидесятых годов употребление Тургеневым
термина «повесть» в отношении романов ощутимо идет
на убыль. За очень редкими исключениями «Дым» опре
деляется как роман. В огромном количестве посвященных
ему писем роман «Новь» называется повестью только два
раза, да и то лишь в момент первоначального оформле
ния замысла. И первые четыре романа, нередко в это
время упоминаемые в переписке писателя, лишь в исклю
чительных случаях называются повестями. Тургенев соз
дал особую, мобильную, только для его манеры характер
ную форму общественно-психологического и социального
романа и больше в этом не сомневается. Поэтому и кри
тика теперь уже не оказывает столь заметного в прошлом
влияния на настроения писателя, а горячий прием, устро
енный Тургеневу прогрессивной молодежью во время его
приезда на родину в 1879 году, окончательно убеждает его
в том, что он общепризнанный романист. И двойная жан
ровая терминология для характеристики собственных ро
манов отныне не применяется Тургеневым.
Характерные колебания в употреблении жанровой тер
минологии, прекратившиеся только под конец литератур
ной деятельности писателя в связи с исчезновением основ
ных предпосылок сомнений и неуверенности, усугубля
лись также рядом одних и тех же специфических
обстоятельств, регулярно возникавших в процессе его
работы почти над каждым романом в отдельности. Дело
в том, что первая стадия создания любого из тургенев
ских романов характеризуется обычно неясностью или
суженностью границ основного замысла. Естественное
следствие этого — крайняя осторожность автора в прогно
зах возможного результата его творческих усилий.
Так, повествование о «гениальной натуре» Рудина
в первой редакции этого романа имело по преимуществу
негативно-ироническую окраску. Это было повествование
не о широком круге типичных явлений в духовном разви
тии поколения сороковых годов, а скорее рассказ об одном
реальном лице (Бакунин). Стремясь показать изнанку
эффектного «фасада» этой примечательной личности, Тур
генев как бы сводил с нею давние счеты, заодно казня
и себя самого за былое увлечение философско-романти-
ческой риторикой. Рудин в первой редакции изображался
248
односторонне й, по всей вероятности, подчеркнуто тенден
циозно, что, конечно, «е делало его представителем це
лого поколения русской интеллигенции. Позднейшие при
знания Тургенева дают основание заключить, что до его
знакомства с повестью Каратеева «Московское семей
ство» замысел романа «Накануне» также не имел круп
ных очертаний, по существу он был лишен главного, что
отличает тургеневский роман (подробнее об этом гово
рится ниже — в главе «Тургенев и Панаев»). В высшей
степени характерна и смутность первоначального замысла
«Отцов и детей», что признается самим (писателем в ме
муарном очерке, посвященном истории создания этого
произведения. Образ Базарова, наметившийся в вообра
жении Тургенева после знакомства с провинциальным
врачом Дмитриевым, долгое время представлялся ему
«призраком», а его собеседнику, обладавшему «замеча
тельной чуткостью» на «веяния» эпохи, Базаров пока
зался даже похожим на Рудина (Соч., XIV, 98). Соотно
симый в этот момент только с врачом Дмитриевым, еще
не насыщенный многими другими «веяниями», характер
ными для эпохи шестидесятых годов, первоначальный
абрис Базарова, как и «гениальная натура» в первой ре
дакции «Рудина», представлял собою психологический
этюд, типичный для тургеневской повести. Наконец, долго
и без всякого движения лежат в портфеле писателя
планы «Дыма» и «Нови» — очевидно потому, что Турге
нев сознавал их недостаточную весомость в качестве пла
нов для реализации именно романа. Первоначальный за
мысел «Дыма», оформившийся в декабре 1862 года в ре
зультате полемики с Герценом, приобрел практический
смысл и значение только после того, как Тургенев решил
направить его острие против славянофильских концепций
исторического процесса в России и в Западной Европе. Но
такое обогащение и углубление замысла происходило по
степенно, в течение нескольких лет. То же самое следует
сказать о «Нови», предполагавшееся содержание которой,
судя по сохранившимся заметкам и наброскам, было
крайне сужено рамками нечаевского дела.
JKaK видим, в процессе... длительного обдумывания и
формирования замысла происходил неуловимый во вре
мени качественный скачок, сдвиг, в результате^.которого
психологическая повесть или социально-психологический
художественный «этюд» приобретали вдруг обширные
249
контуры общественно-психологического романа. Разу
меется, до этого знаменательного момента у писателя
было достаточно дополнительных поводов для всякого
рода сомнений в идейно-художественной, общественно-
иознавательной и жанровой значимости того или иного
задуманного им романа.
Мы попытались доказать, что сбивчивая жанровая
терминология у Тургенева обусловлена не жанровой не
определенностью его романа, а целым рядом других не
маловажных, но все-таки побочных обстоятельств: его
частыми, но преходящими сомнениями в своих возмож
ностях романиста, суровыми суждениями критики и чи
тателей и т. п. Таким образом, только сама по себе упо
требляемая Тургеневым терминология, по-видимому, еще
не может служить достаточной опорой для таких концеп
ций, в которых его роман квалифицируется как «гибрид
ный» жанр.
Подлинные представления Тургенева о специфически
жанровых свойствах и особенностях его романов ко
ренятся не в потоке непосредственно жанровых опреде
лений («повесть», «роман»), а в его прямых и косвенных
суждениях о том, что и как в них изображается.
В предисловии к собранию романов в издании
1880 года Тургенев писал: «Автор „Рудина", написанного
в 1855-м году, и автор „Нови", написанной в 1876-м, яв
ляется одним и тем же человеком. В течение всего этого
времени я стремился, насколько хватало сил и умения,
добросовестно и беспристрастно изобразить и воплотить
в надлежащие типы и то, что Шекспир называет:
„the body and pressure of time'\ и ту быстро изменяв
шуюся физиономию русских л&Дей культурного слоя,
который преимущественно служил предметом моих
наблюдений» (Соч., XII, 303). Емкие определения «тип»,
«общественный тип», «новый тип», как правило, употреб
ляются писателем только тогда, когда он говорит о своих
романах. Так, уже в самый момент возникновения за
мысла «Накануне» (1855 год) Тургенев намеревался по
ставить рядом с Еленой другой «новый тип» — не только
выразителя передовых общественных настроений («стрем
ление к свободе»), но и деятеля. В сущности, реализация
замысла именно романа потому только и отодвигалась
долгое время в сторону, что у Тургенева не было «под
рукой» такого «типа».
250
В январе 1873 года, начиная работать над «Новью»,
Тургенев пишет С. К. Кавелиной: «Я icaM понимаю и чув
ствую, что мне следует произвести нечто более крупное
и современное — и скажу Вам даже, что у меня готов
сюжет и план романа — ибо я вовсе не думаю, что в нашу
эпоху перевелись типы...» (X, 48—49).
В 1874 году, вспоминая об «Отцах и детях», Тургенев
следующим образом характеризует Базарова: «А Базаров
все-таки еще тип, провозвестник, крупная фигура, одарен
ная известным обаянием, не лишенная некоторого ореола»
(X, 295). Чрезвычайно характерно в этом/отношении и
письмо Тургенева к К. Д. Кавелину (17 декабря ст. ст.
1876 года) по поводу «Нови»: «Быть может, — писал
Тургенев, — мне бы следовало резче обозначить фигуру
Павла, соломинского фактотума, будущего народного ре
волюционера; но это слишком крупный тип — он станет
—
со временем... центральной фигурой нового романа...»
(XII,, 39).
4
Ни в одной повести Тургенева нет таких ярких и
крупных типов — выразителей общественного самосозна
ния,—какими являются центральные герои его романов:
Рудин, Лаврецкий, Елена Стахова, Инсаров, Базаров.
Тургеневский роман без общественного типа — крупной
или, в крайнем случае, достаточно колоритной в смысле
общественном личности, также до известной степени от
ражающей общественное самосознание (Потугин, Соло
мин),— просто немыслим. В этом одно из существенных
отличий тургеневского романа от его повести, которое,
надо полагать, с течением времени все отчетливее созна
валось самим автором.
Второе принципиаль:
ч
важное отличие тургеневского
романа от повести коренится в характере его построения.
При сравнении с повестью Тургенева его роман выглядит
как сложная и в то же время очень стройная сюжетно-
композиционная система с четко налаженной внутренней
взаимозависимостью между всеми ее подчас противоречи
выми элементами. Как и в повести, в романе Тургенева
есть второстепенные компоненты повествования, но среди
них нет таких, которые не способствовали бы в конце
концов выражению его основной идеи. Завершая работу
над «Отцами и детьми», Тургенев писал об этом романе:
«Он приближается к концу — главные все узлы уже рас
путаны» (IV, 274). «Узлы» сюжетные и психологические,
251
обязательно несколько тесно переплетающихся сюжетных
линий и коллизий — признаки его романа. В повести (за
исключением, быть может, только повести «Вешние
воды») такая множественность «узлов» обычно не наблю
дается. Ее основным сюжетно-композиционным признаком
является преобладание одной сюжетной линии, на протя
жении которой завязывается и разрешается только одна
коллизия.
Спорность определений тургеневского романа как
«усложненной в направлении романа повести» (Пумпян
ский) или как жанра эклектического, «гибридного»
(Цейтлин) становится особенно очевидной в ходе кон
кретного анализа взаимодействия этих жанров в творче
стве писателя.
Содержание «Рудина» подготовлено рядом психологи
ческих повестей и рассказов Тургенева, в которых варьи
ровалась тема лишнего человека. Это «Гамлет Щигров-
ского уезда», «Дневник лишнего человека», «Затишье»,
«Два приятеля», «Яков Пасынков», повесть в письмах
«Переписка». Последнее из названных произведений осо
бенно примечательно по своей двоякой роли в подготовке
создания «Рудина»: оно предваряет этот роман и в тема
тическом и в сюжетно-композиционном отношении.
Давно замечено, что одно из писем этой повести за
ключает в себе как бы «программу» или, точнее, сю-
жетно-композиционную схему будущего романа.
11
Вот ха
рактерные выдержки из этого письма («От Марьи Алек
сандровны к Алексею Петровичу»,
VII): «...мы,
женщины, по крайней мере те из нас, которые не удов
летворяются обыкновенными заботами домашней жизни,
получаем свое . окончательное образование все-таки от
вас — мужчин: вы на нас имеете сильное и большое влия
ние. .. Станем говорить о молодых девушках, особенно
о тех, которые, как я, живут в глуши, а таких очень много
в России... Представьте себе такую девушку. Вот ее
воспитание кончено; она начинает жить, веселиться; но
одного веселья ей мало. Она многого требует от жизни,
она читает, мечтает... о любви. Все об одной любви! —
скажете вы... Положим: но для нее это слово много
значит. Я опять-таки скажу, что говорю не о такой де
вушке, которой тягостно и скучно мыслить.., Она огля-
11
Ив. Иванов. Иван Сергеевич Тургенев, стр. 184.
252
дывается, ждет, когда же придет тот, о ком ее душа
тоскует... Наконец он является: она увлечена; она в руках
его, как мягкий воск. Все — и счастье, и любовь, и
мысль — все вместе с ним нахлынуло разом; все jee тре
воги успокоены, все сомнения разрешены им; устами его,
кажется, говорит сама истина; она благоговеет перед ним,
стыдится своего счастья, учится, любит. Велика его власть
в это время над нею!.. она предается тому, что его за
нимает, каждое слово его западает ей в душу: она еще не
знает тогда, как ничтожно, и пусто, и ложна может быть
слово, как мало стоит оно тому, кто его произносит... что
расчет самый мелкий, осторожность самая н^алкая могут
жить в молодом сердце рядом с самой страстной востор- .
женностью...» (Соч., VI, 171 — 172).
В этой характеристике положения и судьбы мысшйцей
русской девушки как бы предуказан весь любовный роман
«Рудина» с его ярким многообещающим началом и со
всеми его удручающими, почти позорными последствиями.
Но эта схема или программа соотносится только с «Руди-
ным». Попытки ее распространения на всю романистику
Тургенева, неоднократно предпринимавшиеся впослед
ствии,
12
следует признать неудачными — по той простой
причине, что очень важная итоговая посылка этой схемы
за исключением «Рудина» ни в одном романе писателя
не реализуется. Горестное резюме Марии Александровны
о лживости и пустоте красноречия героя, о присущей
ему жалкой, мелкой осторожности, предвосхищающее раз
вязку любовного романа в «Рудине», не гармонирует
с переживаниями Лизы, у которой нет никаких основа
ний для разочарования в Лаврецком, и резко противоре
чит настроению главной героини романа «Отцы и дети».
Нетрудно заметить, что здесь в положение пасующего
Рудина поставлен не Базаров, а Одинцова. В «Накануне»
оба, и герой и героиня, оказываются на высоте положе
ния, а в «Дыме» страдательную роль в завершающей ста
дии любовной коллизии играют одновременно Ирина и
Литвинов, причем последний ничуть не повинен в ее не
счастной развязке. Наконец, в «Нови» несостоятельность
Нежданова и в любви и в пропаганде народнических
доктрин отнюдь не порождает драмы в личной жизни
12
См., напр., упоминавшуюся уже книгу А. Г . Цейтлина «Ма
стерство Тургенева-романиста», стр. 67.
253
Марианны, так как любовной коллизии в этом романе по
существу нет.
Сюжетное сходство между «Перепиской» и «Рудиным»
не отменяет, однако, качественных различий в принци
пах построения этих произведений. «Перепиской» подго
товлены лишь сухая «программа» сюжета, лишь крайне
схематичная канва композиции, а не сами сюжет и ком
позиция романа в их живом конкретно-событийном и
образном воплощении. Из романа Тургенева путем соот
ветствующих урезок и сокращений всегда можно «сде
лать» повесть. Но тургеневская повесть в смысле своей
конструкции не является даже приближением к роману.
Это не облегченный роман, ибо в ней заключена лишь
предпосылка для романного построения. Буквально та
кое же соотношение между «повестью» и «романом»
наблюдается в ходе жанрового становления «Дворянского
гнезда». И в данном случае нет ничего похожего на слия
ние этих жанров в некоем «гибридном» построении, так
как происходит процесс, характеризующийся появлением
нового «качества: стройный и законченный сюжет романа
возникает из отдельного зерна, брошенного к тому же на
сюжетной периферии повести. Как роман, «Дворянское
гнездо» строится не посредством усложнения или углуб
ления конкретного сюжета тургеневского «Фауста», а на
основе превращения в самостоятельный сюжет доста
точно отвлеченной мысли, являющейся чем-то вроде этико-
философского постскриптума к эпилогу этой повести (пес
симистические рассуждения о «веригах долга»).
Этим выводом не отрицается наличие других преем
ственно-генетических связей между «Фаустом» и «Дво
рянским гнездом», однако все эти связи выражаются
в признаках явно второстепенного значения. Так, на
родственность некоторых описаний и образов в «Фаусте»
и «Дворянском гнезде» указывал в своей книге о Турге
неве А. Е . Грузинский: «... стоит сравнить там и здесь
чувство мира и тишины, охватившее героя в деревне,
характеристику Веры, являющейся прямым этюдом
к Лизе, фигуру немца Шиммеля с его благоговейным от
ношением к Вере, — этот
первый набросок Лемма...»
ит.n.
13i
Нов «Дворянском гнезде» могли быть другие Лиза
и Лемм, менее похожие на Веру и немца Шиммеля или,
13
А.Е.Грузинский.И.С.Тургенев.М., 1918,стр.135—136.
254
наоборот, более похожие, — все равно, это не внесло бы
сколько-нибудь существенных изменений в идейно-худо
жественную основу сюжета романа.
После создания «Дворянского гнезда» в сюжетном
взаимодействии романа Тургенева с его же повестью
происходит временный спад. Роман «Накануне», пожа
луй, единственный среди романов писателя, о котором
можно сказать, что его сюжет целиком заимствован из
повести, однако эта повесть была инородного происхож
дения. Нетрудно убедиться, что сходные мотивы, переко
чевавшие в «Накануне» из повестей «Переписка»,
«Фауст» и «Ася» (жажда деятельного добра^ и подвига,
характеризующая настроения Марьи Александровны,
Веры, Аси и Елены), без дополнительной опоры главным
образом на «Московское семейство» Каратеева не
смогли бы сыграть сколько-нибудь значительной кон
структивной роли в формировании его сюжетной основы.
Как отмечалось выше, в многочисленных работах,
посвященных изучению творчества Тургенева, нет отсы
лок ни к одной его повести, которую можно было бы рас
сматривать в качестве «предварительного этюда» к «От
цам и детям». Это и не удивительно. Романом «Отцы и
дети» ознаменован резкий поворот в литературной дея
тельности писателя, сказавшийся в перемещении его вни
мания с «лишних людей» на «русских Инсаровых». На
меки >ке на реальную возможность появления этих по
следних в русской жизни проскальзывают впервые лишь
в отдельных эпизодах романа «Накануне» (вспомним раз
говоры Шубина с Берсеневым и его переписку с Уваром
Ивановичем). С этой точки зрения сюжет «Отцов и де
тей» представляет собою естественное развитие и углуб
ление проблематики, впервые затронутой в «Накануне»
и не имеющей ничего общего со всем предшествующим
творчеством Тургенева.
Тем не менее о совершенной изоляции «Отцов и де
тей» в отношении сюжетики ранее написанных повестей
тоже говорить не приходится. До сих пор так и не отме
ченные в тургеневедении, связи все-таки существуют,
хотя значение их сравнительно невелико. Формирующее
влияние тургеневской повести сказывается только на
одном из эпизодов этого романа, но эпизод этот в изве
стном смысле настолько характерен, что на нем нельзя
не остановиться особо. Речь пойдет о сюжетном генезисе
255
так называемой «вставной новеллы» в «Отцах и детях» —
рассказе о любви П. П. Кирсанова к княгине Р.
Принято считать, что эта «новелла» представляет со
бою одно из типических проявлений свойственной Турге
неву манеры предварять начало действия романа необ
ходимыми сведениями о прошлом его персонажей.
Однако подлинное ее значение выходит далеко за рамки
обычной экспозиции. Она активно подключена к тем эпи
зодам романа, в которых герои защищают или опровергают
так называемый романтизм. Следовательно, упомянутая
«новелла» это не только часть предыстории одного из
героев, — она в то же время неотъемлемая часть сюжета
романа, разворачивающегося в настоящем. Коллизия,
изображенная в ней, является, в конце концов, звеном,
естественно и необходимо дополняющим цепь «доказа
тельств» автора в его полемике с разночинной демокра
тией по вопросам эстетики.
В главе «Проблемы эстетики» много говорилось
о безусловной вражде Тургенева к романтизму в области
языка, стиля и т. п . Но непримиримо отрицательное от
ношение к романтизму как методу необъективного, при
крашенного или «ходульного» отражения действитель
ности в литературе (Гюго) и искусстве (Брюллов) от
нюдь не исключало симпатии и даже тяготения того же
Тургенева к романтике человеческих чувств й пережива
ний в их, так сказать, земном, реально-бытовом выраже
нии. Сцены, обрамляющие рассказ Аркадия о любви
Павла Петровича к княгине Р., и сама «новелла» по
строены таким образом, чтобы расположить читателя
в пользу именно этого романтизма, незаметно подвести
его к мысли о том, что в данном случае происходит хотя
и прикровенная, но последовательная авторская поле
мика с беспощадными и слишком грубыми выпадами
Базарова против «стареньких романтиков». Если бы Тур
генев имел в виду какую-нибудь иную цель, например
развенчание П. П . Кирсанова с помощью нарочитого ис
пользования в его характеристике шаблонно или пошло-
романтических форм изображения любви, еще не изжи
тых литературой того времени, появление в романе
целого ряда эпизодов было бы попросту необъяснимо.
Выслушав рассказ Аркадия, Базаров без тени сочув
ствия замечает: «...человек, который всю свою жизнь
поставил на карту женской любви и, когда ему эту
256
карту убили, раскис и опустился до того, что ни на что
не стал способен, этакой человек — не мужчина, не са
мец. Ты говоришь, что он несчастлив: тебе лучше знать;
но дурь из него не вся вышла». Знаменитое базаровекое
выражение «не мужчина, не самец» неоднократно явля
лось предметом дискуссии в современной писателю кри
тике, а затем и в ряде литературоведческих работ, посвя
щенных изучению истории текста «Отцов и детей».
Известно, что выражение
«не самец», появившееся
в журнальном тексте романа, долгое время приписыва
лось редактору «Русского вестника» М. Н. Каткову,
стремившемуся, вопреки намерениям Тургенева, поболь
нее унизить его героя. В тексте отдельного издания ро
мана (1862 год) Тургенев видоизменил это написание.
Получилось: «не мужчина, но самец», W результате чего
вся тирада Базарова как будто утратила свое одиозное
звучание и получила даже противоположный смысл.
Однако в беловом автографе романа, недавно любезно
предоставленном в распоряжение советских исследовате
лей (при подготовке академического собрания сочинений
Тургенева из Национальной библиотеки в Париже
в Пушкинский дом поступил микрофильм этой рукописи),
черным до белому написано: «не мужчина, не самец».
Следовательно, самому Тургеневу были свойственны
колебания в написании этих слов.
14
Но какой бы ни была
окончательная точка зрения писателя по этому поводу,
приходится признать, что в контексте конкретных автор
ских «комментариев» к рассказанной Аркадием любовной
истории П. П . Кирсанова любой из двух вариантов база-
ровской характеристики поведения П. П . Кирсанова сви
детельствует не в пользу прежде всего самого Базарова.
Говоря «не мужчина, но самец», Базаров разоблачает
свою полную (пока) неспособность к пониманию «роман
тических тонкостей» в любви, тех ее сложных «загадок»
и «тайн», которые не поддаются анализу с точки зрения
физиологии. Наименование «самец» — высшая мера пре
зрения и одновременно несправедливости по отношению
к Кирсанову. Это определение выражало бы сущность
14
История текста романа (поправки, урезывания, дополне
ния и т. п.) в период подготовки его журнальной публикации
и отдельного издания подробно изложена мною в комментариях
к VIII тому академического собрания сочинений Тургенева,
стр. 573-589.
17 А. Батюто
257
характера последнего и его «философии» интимных отно
шений только в том случае, если бы после разрыва с кня
гиней Р. он нашел утешение в обществе других женщин.
Но смысл «вставной новеллы» о любви в ином. Кирсанов
по-настоящему, неизменно и глубоко любит одну жен
щину и не перестает мучиться этой любовью и в пору
своего торжества в качестве преуспевающего любовника.
Овладев «богатым телом» княгини Р., Кирсанов никак
не может покорить постоянно ускользающую из-под его
власти «загадочную» душу своей возлюбленной. Пол
нота счастья, обоюдная прочность чувства, и притом не
только физического, является для него недостижимым
идеалом, что и подчеркивается Тургеневым: «Не раз, воз
вращаясь к себе домой после нежного свидания, Кирса
нов чувствовал на сердце ту разрывающую и горькую
досаду, которая поднимается в сердце после окончатель
ной неудачи. „Чего же хочу я еще?" — спрашивал он
себя, а сердце все ныло».
Но употребляя и «противоположную» характеристику
П. П. Кирсанова — «не мужчина, не самец» — Базаров
точно таким же образом отдает предпочтение голой фи
зиологии, т. е . снова демонстрирует вульгарное отноше
ние к «романтизму». В первом случае Павла Петровича
жестоко осуждают за то, что он якобы «самец», во вто
ром — за то, что он не сумел удержаться на высоте по
ложения «самца». Оба приговора несправедливы, вслед
ствие чего Базаров предстает в незавидной роли грубого
и нечуткого человека.
\ В понятие «романтизм» Тургенев включает в данном
случае всю область интимных человеческих отношений,
а представление о базаровской вульгарно-упрощенной их
трактовке дополняет и закрепляет «цитацией» еще одной
формулировки «нигилиста»: «Важно то, что дважды два
четыре, а остальное все пустяки». Читатель, не прошед
ший специальной подготовки в школе Базаровых, по за
мыслу автора, неизбежно должен был вместе с ним не
соглашаться с подобными речами и ощущать в то же
время определенную симпатию к «старенькому роман
тику).
.
Другой «старенький романтик», отец Аркадия, изо
бражается человеком, чутким к лирико-элегическому на
чалу в искусстве. Что особенно примечательно, он наде
лен почти восторженной склонностью к восприятию как
258
раз тех шедевров романтической поэзии и музыки, к ко
торым сам Тургенев был всегда неравнодушен. Ведь Ни
колай Петрович Кирсанов играет на виолончели не что-
нибудь, а «Ожидание» Шуберта, одного из любимейших
композиторов автора. Тот же Николай Петрович, выну
жденный уступить настояниям Аркадия, расстается не
вообще с Пушкиным, а с поэмой «Цыганы», рассказы
вающей о романтической любви с ее изменами, рев
ностью и кровью, поэмой, в конце которой романтически
провозглашается извечный, как мир, тезис: «И всюду
страсти роковые, и от судеб защиты нет».
Ясно, что указания на любовь Н. П. Кирсанова к Шу
берту и Пушкину не посрамляли романтизма, а являлись
весьма серьезными контраргументами против безапел
ляционных нападок на него со стороны Базарова. В связи
с этим небезынтересно отметить неслучайную, конечно,
и, разумеется, не только хронологическую перекличку не
которых сцен романа с фактами из биографии писателя.
Изъятие томика Пушкина у Н. П . Кирсанова происхо
дит в разгар лета 1859 года, а 10(22) июля того же
года Тургенев настоятельно советует украинской писа
тельнице М. А . Маркович (Марко Вовчок): «Читайте,
читайте Пушкина; это самая полезная, самая здоровая
пища для нашего брата, литератора; когда мы сви
димся—мы вместе будем читать его» (III, 319).
Однако еще более убедительна защита романтизма
в сюжете самой «вставной новеллы».
В литературе о Тургеневе существует мнение, что
«рассказ о княгине Р. ведется так, точно это страница /
из какой-то иностранной повести романтического направ
ления», что «именно такое существо должно было полю
биться человеку, подобному Павлу Петровичу, поставлен
ному автором вне живых сил общечеловеческой жизни и
вне национальных стихий жизни русской».
15
Далее в ци
тируемой работе утверждается, что «портрет Одинцовой
выдержан в тех же почти тонах, что и портрет кня
гини Р. Это совокупность психологических антитез и
сложностей...»
16
Но верно ли это? Прежде всего вызы
вает определенное противодействие попытка как-то по -
15
Г. Бялый. Тургенев и русский реализм. Изд. «Советский
писатель», М.—Л ., 1962, стр. 154, 155.
16
Там же, стр. 165.
17*
259
роднить Одинцову с княгиней Р.) Несмотря на известное
сходство © приемах изображения, портретно-психологи-
ческая близость между этими персонажами представ
ляется крайне гадательной. (В самом деле, много ли об
щего у спокойной и уравновешенной, «ясной, как день»,,
барыни-эпикурейки Одинцовой с мятущейся, загадочной,,
временами почти безумной княгиней Р.? Кроме того, Анна
Сергеевна ведь вполне русская женщина, и Тургенев вся
чески это подчеркивает. Так, например, рисуя ее внеш
ность, он не преминул выделить даже такую мелкую,,
но характерную деталь: «Нос у ней был немного толст,
как почти у всех русских» (гл. XIV). Впрочем, и с пред
ставлением о княгине Р. как образе из «иностранной по
вести» плохо согласуется такая явно русская черта ее ха
рактера, как бесшабашная удаль. Любопытно, что в даль
нейшем именно эта черта с особой отчетливостью заскво
зит в проявлениях «казачьего» темперамента Полозовой
(«Вешние воды»), героини типологически во многом
близкой княгине Р. (обе обладают магнетически притя
гательным обаянием, способностью повергать своих по
клонников в унизительное состояние любовного рабства
и т. п.). Если же все-таки допустить, что княгиня Р. дей
ствительно напоминает персонаж из романтической по
вести нерусского происхождения, а Анна Сергеевна
Одинцова в свою очередь чем-то на нее похожа, тогда
остается неясным, в силу какой логики именно такая,
похожая на «иностранку» Одинцова «должна была по
любиться» Базарову. Ведь-Базаров отнюдь не поставлен,
подобно Павлу Петровичу, «вне национальных стихий
жизни русской». Его «дед землю пахал», и он этим гор
дится. Цсе эти обстоятельства заставляют усомниться
в правомерности соотнесения «вставной новеллы» о любви
со страницами какой бы то ни было иностранной роман
тической повести./ Суть дела заключается, очевидно, в том,
что в тургеневских изображениях подобных ситуаций по
ступки героя не всегда объясняются его связями с на
циональными стихиями или, наоборот, его полной от них
изоляцией} Представлениям Тургенева о должном и не
должном^о простом и сложном в жизни, а следовательно,
и в «художестве» присуща диалектическая гибкость, не
редко порождающая как будто неожиданные, но тем
не менее вполне естественные повороты в поведении изо-,
бражаемых им персонажей.
260
При дальнейшем анализе этой «нерусской» истории
оказывается, что в ней как-то «замешан» и сам автор.
Вот как определяет Тургенев душевное состояние Павла
Петровича перед развертыванием главных событий в ро
мане: «... у Николая оставалось чувство правильно про
веденной жизни, сын вырастал на его глазах; Павел, на
против, одинокий холостяк, вступал в то смутное, суме
речное время, время сожалений, похожих на надежды,
надежд, похожих па сожаления, когда молодость прошла,
а старость еще не настала» (гл. VII). Буквально этими же
словами Тургенев охарактеризовал свои личные пережи
вания на 42-м году жизни. «Вы, — писал он в письме
к А. А. Фету от 16 (28) июля 1860 года, — приписываете
ваше увядание, вашу хандру отсутствию правильной
деятельности... Э! душа моя! все не то... Молодость про
шла — а старость еще не пришла... Я сам переживаю
эту трудную, сумеречную эпоху, эпоху порывов, тем более
сильных, что они уже ничем не оправданы — эпоху по
коя без отдыха, надежд, похожих на сожаления, и сожа
лений, похожих на надежды» (IV, 108). Сопоставление
цитат красноречиво само по себе. Остается только доба
вить, что для Тургенева охарактеризованные здесь на
строения были очень типичны — и отчасти в силу тех же
причин, которые заставляли страдать его героя — «мерт
веца» П. П. Кирсанова.
Светский лев в отставке, Павел Петрович своей эф
фектной внешностью, эгоизмом, аристократической замк
нутостью, бесчисленными победами над женщинами
в прошлом отдаленно, но несомненно напоминает и отца
юного Вольдемара в повести «Первая любовь», а это зна
чит, что в облике этого мизантропа «на французский лад»
с «щегольски-сухой и страстной, не умеющей мечтать ду
шой» обнаруживается еще одна русская черта, вновь
вполне соотносимая с биографией писателя: как характер
Павел Петрович похож на Сергея Николаевича Тургенева.
Коллизия, положенная в основу рассказа о любви
П. П. Кирсанова к княгине Р., могла иметь место в лю
бых национальных условиях. С интересующей же нас
точки зрения взаимодействия жанров внутри творчества
писателя она явно тяготеет к предроманному периоду
в литературной деятельности Тургенева.
«В любви одно лицо — раб, а другое — властелин, и
недаром толкуют поэты о цепях, налагаемых любовью», —
261
так говорит Алексей Петрович в повести «Переписка»,
герой, согнувшийся под бременем рефлексии и хрониче
ского невезения в жизни, типичный «лишний человек»
сороковых годов.
Аналогичной философией любви окрашено содержание
повестей «Первая любовь» и «Вешние воды». Отзвуки ее
слышатся и в романе «Дым». Что же касается «Отцов и
детей», рассказ Алексея Петровича о непреоборимом чув
стве к безвестной танцовщице, сделавшей его своим «ра
бом», получает как бы второе рождение во вставной но
велле этого романа. В положении героя «Переписки» ока
зывается блестящий денди П. П . Кирсанов, а образу
возлюбленной Алексея Петровича соответствует, в опреде
ленном смысле, образ светской дамы княгини Р£ Именно
здесь и следует отметить особо почти буквальные совпа
дения в портретно-психологических характеристиках жен
ских образов.,л «Красавицей ее нельзя было назвать.
Правда, у ней были удивительные, золотисто-пепельные
волосы и большие светлые глаза, с задумчивым и в то же
время дерзким взором...» Это портрет танцовщицы
в «Переписке». Те же черты преобладают в облике кня
гини Р.: «...ее коса золотого цвета и тяжелая, как зо
лото, падала ниже колен, но красавицей ее никто бы не
назвал; во всем ее лице только и было хорошего, что
глаза, и даже не самые глаза... но взгляд их, быстрый,
глубокий, беспечный до удали и задумчивый до уны
ния. ..» Танцовщица в «Переписке» «сложена... была
прекрасно, и когда... плясала свой народный танец, зри
тели, бывало, топали и кричали от восторга...» Кня
гиня Р. также
«удивительно сложена» и танцует
«до упаду», всюду сопровождаемая толпою поклонников.
В «Переписке» особо подчеркиваются весьма посредст
венные интеллектуальные данные обольстительницы Алек
сея Петровича: «Вы, может быть, думаете, что она была
умна? — нисколько! Стоило взглянуть на ее низкий лоб,
стоило хоть раз подметить ее ленивую и беспечную ус
мешку, чтобы тотчас убедиться в скудности ее умственных
способностей». То же происходит и во вставной новелле.
В течение первой встречи с Кирсановым княгиня Р. «не
сказала ни одного путного слова». В дальнейшем «язык ее»
часто лепечет «самые пустые речи». У нее «небольшой
ум», и с точки зрения даже самой простой логики все ее
поведение представляет собою «ряд несообразностей».
262
^Таким образом, в сюжетно-композиционном отношении
любовная коллизия вставной новеллы является вторич
ной, более глубокой и обстоятельной разработкой некото
рых мотивов, намеченных в повести «Переписка». Как
в том, так й в другом случае перед нами весьма сходное
повествование о недавнем прошлом героев, но в «Отцах
и детях» оно подчинено особой задаче. цЗдесь ^штивы J
любви—рабства впервые и единственный раз на" протяже
нии всего творчества писателя предстают в своеобразной!
и 'необычной огласовке — как одно из естественных про
явлений романтизма, который последовательно защи- i
щается от нападений из лагеря «нигилистов^.
Авторская заинтересованность в исходе этой борьбы,
сказывающаяся в биографической окраске ряда сцен и эпи
зодов и в самой новелле и вокруг нее, становится осо
бенно очевидной при еще более тесном сопоставлении ана
логичных любовных коллизий в «Переписке» и в «Отцах
и детях» с характерными моментами личной биографии
писателя. Повествование о любви Алексея Петровича
к танцовщице и Павла Петровича/к княгине Р. в целом
является тщательно замаскированным 'отражением "интим
ных переживаний Тургенева и, в частности, его отноше
ний с П. Виардо. Грубо говоря, эти отношения и пережи
вания типизируются в «Отцах и детях» и на этом основа
нии прикровенно используются в качестве самого
реального и потому неотразимого довода в пользу «ро
мантизма».
В 1843 году Тургенев порывает отношения с Т. А . Ба
куниной. В том же году он знакомится с П. Виардо, вы
ступавшей на петербургской сцене, и вскоре становится
ее «рабом» на всю жизнь. Этими важными событиями
в личной жизни писателя в значительной степени пред
определяется
первоначальный
замысел «Переписки»
(1844).
Эпистолярная композиция этой повести, хроноло
гическая последовательность составляющих ее эпизодов
удивительно соответствуют истории и характеру отноше
ний Тургенева с Т. А . Бакуниной и П. Виардо. Сначала
это бессочный «философский роман» в письмах, медленно
зреющая обоюдная симпатия, в которой, однако, все время
недостает чего-то главного, затем жестокая, почти траги
ческая кульминация, как бы заранее предугаданная
в предшествующих размышлениях Марьи Александровны
263
о незавидном положении русской мыслящей девушки;
17
а потом катастрофа, обусловленная роковой встречей ге
роя с танцовщицей. В специальных исследованиях пер
вая и наиболее значительная по объему половина этого
любовного романа обстоятельно изучена в тесной связи
с биографией писателя,
18
но вторая до сих пор остается
в тени. Подобное невнимание к этому аспекту любовной
коллизии в «Переписке» ничем не оправдано, так как
речь идет о явлении, породившем важнейшие последствия
в личной биографии и в творчестве писателя.
Совпадения в портретно-психологических характери
стиках танцовщицы и княгини Р., безусловно роднящие
эти образы, приобретают особую значительность при об
ращении к истории рукописного текста «Переписки». Де
тальное изучение чернового автографа этой повести, скру
пулезное сопоставление различных вариантов привело
к обоснованному заключению:! «...в первом варианте
портрет танцовщицы, которую полюбил герой, ассоцииро
вался с внешним обликом Полины Виардо. В первона
чальном тексте у героини были вместо золотисто-пепель
ных — черные волосы, вместо светлых — черные глаза
и говорила она на ломаном испанско-французском наре
чии (намек на испанское происхождение П. Виардо)».
19
Таким образом, и танцовщица и княгиня Р. восходят,
в конце концов, к одному и тому же прототипу.
"
В 1844 году Тургеневу было очень трудно отъединить
личное от художественных образов и, надо полагать,
по этой причине работа над «Перепиской» велась с та
кими большими перерывами — она растянулась почти на
десятилетие. В процессе дальнейшей работы над повестью
Тургенев отнюдь не пренебрегает личным элементом,
но тщательно его маскирует. Практически это выра
жается в намеренном привнесении в образ женщины, раз
бившей жизнь Алексея Петровича, ряда черт, не совпа-
17
Кстати сказать, нечто подобное этим размышлениям есть
и в одном из писем Т. А. Бакуниной к Тургеневу (I, 543—544).
/18
См.: Л. В . Крестов а. Татьяна Бакунина и Тургенев.
В кн.: Тургенев и его время. Первый сборник под ред. Н . Л. Брод
ского. М—Пгр., 1923; Н. Л . Бродский. «Премухинский роман»
в жизни и творчестве Тургенева. В кн.: Документы по истории
литературы и общественности. Вып. 2 . И . С . Тургенев. Изд. Центр-
,
архива РСФСР, М.—Пгр., 1923.
19
Цитата из комментария Е. И . Кийко (Соч., VI, 529).
264
дающих с представлением о его первоначальном прото
типе. В результате образ знаменитой певицы, завоевавшей
общеевропейское признание, совершенно заслоняется без
вестной танцовщицей, не обладающей ни умом, ни талан
том. СВ «Отцах и детях» это соединение превращается
почти в пропасть. Здесь фигурирует уже даже не арти
стка, а светская дама, стихийная прожигательница жизни,
у которой, однако, еще очень много общего с промежу
точным образом./ На всем протяжении этого длительного
и изменчивого творческого процесса в полной неприкосно
венности остается только главное — субъективная фило
софия любви—рабства. Тайное же присутствие во вставной
новелле дорогого Тургеневу образа Полины Виардо уга
дывается лишь по двум его признакам, сохранившимся
в портрете княгини Р.: «удивительно сложена... но кра
савицей ее никто бы не назвал...»
В полемике с «нигилизмом» Тургенев не останавли
вается перед использованием целого ряда «аргументов»,
заимствованных из своей собственной биографии, и это,
конечно, лишний раз свидетельствует об огромном для
него значений проблемы «романтизма», разработанной
в образных построениях «Отцов и детей». Но на этом
не ставится последняя точка. Вставная новелла примеча
тельна еще тем, что и в данном случае в лице Базарова
одновременно критикуются и молодое поколение вообще,
и вполне реальные и притом наиболее влиятельные выра
зители его эстетического самосознания. Базаров с возму
щением заявляет: «И что за таинственные отношения
между мужчиной и женщиной? Мы, физиологи, знаем,
какие это отношения. Ты проштудируй-ка анатомию глаза:
откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному
взгляду?» С ведома Тургенева Базаров и здесь явно по
вторяет кое-что из суждений Н. А. Добролюбова в рецен
зии «Органическое развитие человека в связи с „его, умст
венной и нравственной деятельностью-)) - (1858). Большой
отрывок из этой рецензии цитировался выше. Поэтому
приведем его снова в значительном сокращении, возме
щая, однако, это урезывание вводом одной ранее пропу
щенной фразы, которую, как нам кажется, необходимо
процитировать именно в данном случае. «Мы совес
тимся, — писал Добролюбов, — представить себе вещи, как
они есть; мы непременно стараемся украсить, облагоро
дить их... Кто не убирал розовыми цветами идеализма —
265
простой, весьма понятной склонности к женщине?.. Нет,
что ни говорите, а желание поидеальничать в нас очень
сильно; врачи и натуралисты „имеют резон"».
20
Как видим,
базаровская безапелляционно отрицательная интерпрета
ция таинственного в отношениях мужчины и женщины
хотя и мягко, но все же намечена «в критических выска
зываниях Добролюбова.
Сознавая надуманный, головной характер своих отно
шений к действительности в ранней молодости, Тургенев
вместе со своими «лишними людьми» — Рудиным и ге
роями «Гамлета Щигровского уезда», и «Переписки» —
стремится к простоте и естественности («переход от
жизни мечтательной к действительной»). Это было дви
жение от романтизма к реализму в сфере личной и об
щественной жизни. Базаров и Добролюбов стремятся
к тому же идеалу, Но в восприятии автора «Отцов и де
тей» их представления о простоте и естественности грани
чат с упрощением. Исходя из этого, Тургенев стремится
показать, что романтизм, который высмеивали и прези
рали Базаров и Добролюбов, на самом деле презрения не
заслуживает, что этот романтизм — одна из норм челове
ческого существования. Отсюда безусловное сочувствие
Тургенева П. П . Кирсанову, безвозвратно потерявшему
и княгиню Р. и Фенечку, которая ему ее напоминала.
В этом смысле полны глубокого поэтического значения
беглые описания в эпилоге романа одиноких заграничных
скитаний Павла Петровича, его сиротливых бдений в чу
жих церквах, на брюлевской террасе в Дрездене и т. п.
Наконец, жизненность такого романтизма . доказывается
(а следовательно, и защищается) тем, что даже такой, ка
залось бы, неуязвимый человек, как Базаров, в своих от
ношениях с Одинцовой попадает в его сети, из которых
ему так и не суждено выбраться.
Полемика с идеалами молодого поколения, разверну
тая на немногих страницах вставной новеллы, не могла,
как в других эпизодах романа, вестись почти в открытую:
этому мешала интимная, субъективно близкая автору
конкретно-жизненная основа, на которой она строилась.
Но она очевидна, как очевидно, в конце концов, и потаен
ное использование при этом биографического материала.
20
Н. А. Добролюбов. Собр. соч. в 9 томах, т. II . Гос
литиздат, М. —Л., 1962, стр. 439. — Курсив мой,— Л . Б.
266
Таким образом, внешне как будто и пошловатая,
а на самом деле полная глубокого значения история
любви П, П. Кирсанова к княгине Р., рассказанная в ро
мане «Отцы и дети», генетически восходит к автобиогра
фическому источнику, впервые использованному в по
вести «Переписка». Что же касается упомянутого выше
заключения об «иностранной» окраске этой «новеллы»,
оно не лишено оснований лишь в том смысле, что отда
ленным прообразом и танцовщицы в «Переписке» и кня
гини Р. в «Отцах и детях» действительно являлась иност
ранка «романтического» испанского происхождения —
Полина Виардо.
*
*
*
В 1864—1865 годах Тургеневым написаны «Призраки»
и «Довольно» — произведения, тесно связанные между
собой общностью содержания и настроения. В основе того
и другого лежит интимно-философская исповедь писателя,
проникнутая пессимистическим пониманием истории че
ловеческого общества и природы. В повести «Призраки»
с помощью фантастического элемента (таинственный об
раз Эллис) Тургенев объединяет «ряд картин» далекого
исторического прошлого с картинами современности и
высказывает к ним свое отношение. Грозное видение ан
тичного мира — Юлий Цезарь во главе «железных» рим
ских легионов и разинская вольница, олицетворяющие,
с одной стороны, грубую власть императорского Рима,
а с другой — безудержную стихию русского крестьянского
восстания, внушают писателю чувство, сходное с ужасом.
Но эти призраки не лишены поэтического ореола: они
грандиозны и по-своему героичны. Иное чувство овладе
вает писателем, когда он обращается к современной дей
ствительности. Здесь все без исключения кажется мелким,
пошлым и безобразным. Буржуазный Париж представ
ляется ему грязным людским муравейником, снедаемым
жаждой золота и пошлых развлечений, а самодержавный
Петербург — огромной казармой, окутанной душной ат
мосферой муштры и солдатчины. «Минуя церковь св. Роха,
на ступенях которой первый Наполеон в первый раз про
лил французскую кровь», лирический герой повести с го
речью напоминает, что здесь же, в Париже, на Итальян
ском бульваре, через несколько десятилетий «третий На
полеон сделал то же самое и с тем же успехом». По мысли
267
Тургенева в этот период его творческой деятельности,
история — бесконечная цепь кровавых и жестоких дея
ний; она нршему пе научила человечество, не улучшила
его «природы».
Мрачная картина исторической и современной жизни
общества, нарисованная в «Призраках»,
дополнена
столь же мрачной философской концепцией индивидуаль
ного человеческого бытия в лирическом отрывке «До
вольно». Как отмечалось выше, основная идея «До
вольно»— мысль о тщетности стремлений к полноте лич
ного счастья и творческой деятельности. Непреодолимой
преградой для этих стремлений является горькое созна
ние бренности всего земного, скоротечность человеческой
жизни.
Хронологически и по своему лирико-философскому
пессимистическому настроению «Призраки» и «Довольно»
предваряли роман «Дым» (1867). В известной мере они
его предваряли и с точки зрения структурно-компози
ционной. «Ряду картин» «Призраков» определенно соот
ветствуют в «Дыме» необычные для предшествующей ма
неры Тургенева-романиста сюжетно разобщенные, внешне
почти независимые друг от друга сферы изображения:
кружок губаревцев, баденские генералы и их светское
окружение, любовный роман (Ирина—Литвинов—Таня)
и, наконец, сцены, в которых преобладают публицисти
чески окрашенные монологи западника Потугина.
21
Од
нако, как в том, так и в другом случае все объекты изо
бражения объединены единством замысла, основой кото
рого является сурово-критическое отношение к русской
действительности. В «Призраках» и «Довольно» скепсис
и скорбный пессимизм порождены безотрадными пред
ставлениями об истории всего человечества, в «Дыме» —
размышлениями о России, о ее прошлом и в особенности
о ее настоящем.
Но, конечно,-и по содержанию и по композиции «Дым»,
как и любой из предшествующих романов Тургенева, не
укладывается в рамки предваряющих его повестей.
Больше того, крайний субъективизм настроений, прису
щий Тургеневу в период работы над «Призраками» и
«Довольно», несомненно тормозит реализацию замысла
21
Л. В . Пумпянский.
«Дым». Историко-литературный
очерк (см.: И. С . Тургенев. Соч., т. IX, стр. V —VI).
268
«Дыма», как романа социально-психологического и зло
бодневно-политического, и только обращение к идейно-
художественным и публицистическим традициям Грибое
дова, Пушкина, Белинского, отчасти Щедрина и Герцена
(о чем будет сказано в своем месте), помогают Турге
неву освободиться от этого субъективизма и создать еще
одно крупное произведение большой общественной зна
чимости.
После «Дыма» в творчестве Тургенева-романиста на
ступает длительная пауза.
В произведениях, созданных им в конце 1860—начале
1870-х годов, не ставятся большие социально-политиче
ские проблемы, а темы современности отодвигаются на
второй план. Некоторые из этих произведений идейно-
тематически связаны с циклом «Записки охотника»
(«Бригадир», «Степной король Лир», отчасти «Пунин и
Бабурин»), в других слышатся подчас прямые отголоски
предшествующей романистики.
В сороковые и пятидесятые годы создание повестей
нередко служило для Тургенева подготовительным этапом
для обращения к работе над романами, в которых проб
лемы, затронутые или только намеченные в повестях, по
лучали всесторонне углубленное раскрытие («Рудин»,
«Дворянское гнездо»). Теперь в его творчестве намеча
ется тенденция к обратной последовательности и взаимо
зависимости жанров. Привычный путь от повести
к роману, т. е. движение от сравнительно частных худо
жественных достижений к большим социально-художе
ственным обобщениям, становится для Тургенева необя
зательным. Об этом свидетельствует, например, творче
ская история повести «Вешние воды» (1871).
По своему художественному совершенству повесть
«Вешние воды» не уступает такому шедевру Тургенева,
как «Первая любовь». Полная поэтического' сожаления
о невозвратной молодости, о возможном, но утраченном
счастье, повесть «Вешние воды» вместе с тем очень близка
и «Дыму». Она является как бы его производным, что
сразу же было замечено многими современниками пи
сателя. Так, подразумевая сюжетное сходство в «Вешних
водах» и «Дыме», один из анонимных недоброжелателей
писателя отмечал в передовице газеты «Русский мир»:
«... г. Тургенев не только похитил сам у себя свою лите
ратурную собственность, но еще всячески обезобразил ее
269
и превратил в карикатуру довольно сомнительного тона».^
Известный революционер П. А . Кропоткин писал о том,
что в «Дыме» «Тургенев задался, между прочим, целью
изобразить хищный тип русской „львицы" из высшего
общества; этот тип преследовал его целые годы, и он
возвращался к нему несколько раз, пока наконец не на
шел полного и чрезвычайно художественного выражения
в героине „Вешних вод"».
23
И при жизни Тургенева, и позднее, в специальной
литературе о нем, указывалось на единство завязки лю
бовной истории в «Дыме» и в «Вешних водах», отмеча
лось сходство любовных коллизий и характеров участ
вующих в них героев.
24
В самом деле, при сопоставлении
этих произведений нетрудно заметить, что Литвинов,
Ирина и Татьяна находят себе очевидное соответствие
в таких персонажах «Вешних вод», как Санин, Полозова
и Джемма. Еще П. В. Анненков, ознакомившийся с по
вестью в корректуре и давший ей восторженную оценку,
не преминул, однако, отметить, что «мотивы ее не очень
новы, а мысль-матерь уже встречалась прежде в Ва
ших же романах». Далее Анненков писал не без некоторой
досады: «Я, например, могу понять, что Санин под кнутом
Полозовой мог проделывать отвратительнейшие скачки,
но не могу понять, как он сделался лакеем ее, после пе
режитого процесса чистейшей любви. Это выходит
страшно эффектно в повести— правда! Но и страшно по
зорно для русской природы человека... Уж лучше бы Вы
прогнали Санина из Висбадена домой, от обеих любовниц,
с ужасом от самого себя, страдающего, гадкого и не по
нимающего себя, а то выходит теперь, что человек этот
способен одинаково вычмокивать вкус божественной ам
брозии и жрать калмыком сырое мясо...»
25
Характерен
ответ Тургенева: «Ох, любезнейший П<авел> В<асилье-
вич>, и обрадовали Вы меня, и зарезали своим пись
мом! .. зарезали неотразимой верностью Вашего упрека
насчет развязки! Представьте себе, что в первой редакции
оно было именно так, как Вы сказывали — точно Вы
прочли ее... Этой беде теперь уже помочь нельзя...»
22
«Русский мир», 1872, No 8, 10 января.
23
П. Кропоткин. Идеалы и действительность в русской
литературе. СПб., 1907, стр. 115.
24
См.: И. С. Тургенев. Соч., т. IX, стр. XVIII.
25
«Русское обозрение», 1898, No 3, стр. 18—19.
270
(IX, 197). Таким образом, даже сам Тургенев признавал
сюжетное сходство по крайней мере между первой редак
цией «Вешних вод» и «Дымом». Но возвращение к первой
редакции было бы равносильно признанию уже «рабской»
зависимости сюжета «Вешних вод» от сюжета «Дыма»,
и Тургенев, естественно, не мог на это пойти.
В окончательном виде повесть «Вешние воды» пред
ставляла собою новый вариант истории Литвинова и
Ирины, но рассказанной так, что социальные мотивы
в ней совсем заглушила психология интимных пережива
ний. Недаром, подчеркивая, в сущности, основное в со
держании «Вешних вод», Тургенев писал Я. П . Полон
скому: «...это пространственно рассказанная история
о любви, в которой нет никакого ни социального, ни по
литического, ни современного намека» (IX, 195).
Одностороннее углубление в «Вешних водах» любов
ной истории «Дыма» привело к характерной эволюции
образов. В изображении Полозовой получают дальнейшее
развитие только дурные стороны характера героини
«Дыма». Полозовой не свойственны ни колебания Ирины,
ни ее отвращение к нравам великосветского общества.
Больше всего Полозова ценит свободу, подразумевая, од
нако, под нею полную независимость от элементарных
норм морали. Это неутомимая искательница приключений,
авантюристка, преодолевающая любые препятствия на
пути к обладанию очередной жертвой. Наряду с неотра
зимым женским обаянием Тургенев постоянно подчерки
вает в облике Полозовой биологическое, хищное, животно-
грубое начало. Особенно явственно проступает оно в пор
третной
характеристике Полозовой в момент ее
окончательной победы над Саниным: на губах ее «змеи
лось торжество — а глаза, широкие и светлые до белизны,
выражали одну безжалостную тупость и сытость победы.
У ястреба, который когтит пойманную птицу, такие
бывают глаза». С другой стороны, в образе Санина полу
чает предельное развитие присущая Литвинову бесхарак
терность. Но у Литвинова все-таки оказывается доста
точно воли и самообладания, чтобы отвергнуть оскорб
ляющее его человеческое достоинство предложение Ирины
следовать за нею в Петербург («Мы тебе там подыщем
занятие...»). Санин, напротив, уже не может отказаться
от унизительной роли «раба» и даже «лакея» любимой
женщины («Куда же ты едешь?.. В Париж — или во
271
Франкфурт?» — не вопрошает, а скорее приказывает По
лозова, и он покорно следует за нею в Париж).
Смысл такой эволюции центральных образов «Дыма»,
перекочевавших в повесть «Вешние воды», заключался
в нагнетании мотивов трагического значения любви как
иррационального чувства, в подчеркивании беспомощности
человека перед лицом ее жестоких законов. Эти мотивы
встречались и раньше в повестях и романах Тургенева
(«Фауст», «Затишье», «Первая любовь», «Переписка»,
рассказ о любви П. П . Кирсанова к княгине Р. в «Отцах
и детях» и т. п.). Необычным и новым оказался факт пе
ренесения подобных мотивов не из повести в роман, а из
романа в «пространную» повесть, сопровождавшийся пре
небрежением к другим более важным мотивам, опреде
лявшим природу тургеневского романа. Таким образом,
намечалось перерождение романа в повесть. Это был
симптом, свидетельствовавший о сужении писательского
диапазона Тургенева, об ослаблении его внимания к об
щественной жизни, обусловленном его непостоянным пре
быванием на родине.
«Вешние воды» — самый характерный, но отнюдь не
единственный образец движения от романа к повести.
Впрочем, прежде чем перейти к дальнейшему обоснова
нию этого тезиса, небезынтересно отметить в той же
повести определенную сюжетно-образную перекличку
с другим романом Тургенева. Приготовления к partie de
plaisir и сама она в «Вешних водах» (см. гл. XV—XVI)
напоминает поездку в Царицыно в романе «Накануне»
(стычка с пьяными немецкими офицерами и т. п .).
Но идейно-психологическая и сюжетная роль подобных
сцен в «Накануне», как и полагается в тургеневском
романе, гораздо крупнее и значительнее. Поездка в Ца
рицыно не только способствует зарождению чувства
Елены к Инсарову — она дает первую важную характе
ристику этого персонажа, в характере которого заложены
качества возможного гражданского деятеля. В изображе
нии же внешне аналогичной ситуации в «Вешних водах»
не случайно нет никакого выхода за пределы личных
отношений, т. е. здесь роль partie de plaisir типично по-
вестная, а не романная.
Определенная тяга назад, к прежним романным пост
роениям образов ощущается и в «Странной истории»,
причем происходит это как раз в тех эпизодах повести,
272
которые обычно без достаточных на то оснований расце
ниваются как предвестие «Нови».
Идейное содержание «Странной истории» имеет лишь
чисто внешнюю связь с ее фабулой: рассказом об эксцен
тричной девушке, покидающей родительский дом ради
служения жалкому юродивому. Особое внимание Турге
нева привлекает цельность характера Софи, мечтающей
о самоотвержении, ищущей наставника, «который сам
бы... на деле показал, как жертвуют собою». Подобно
Лизе Калитиной, Софи религиозна. С Лизой сближает
Софи и ее положение в семье. Она дочь человека, упро
чившего свое благосостояние нечестным путем, и ее уход
из отчего дома мотивирован отчасти теми же обстоятель
ствами, которые обусловили решение Лизы уйти в мо
настырь. Религиозные предрассудки мешают Софи выб
рать правильную дорогу, но ее способность к подвигу
в глазах Тургенева от этого не умаляется. В конце по
вести прозрачно намекается на то, что при других более
благоприятных условиях из Софи могла бы сформиро
ваться подвижница отнюдь не религиозного толка. «Я не
понимал поступка Софи, — замечает рассказчик, — но я не
осуждал ее, как не осуждал впоследствии других деву
шек, так же пожертвовавших всем тому, что они считали
правдой, в чем они видели свое призвание. Я не мог не
сожалеть, что Софи пошла именно этим путем, но отка
зать ей в удивлении, скажу более, в уважении, я также
не мог. Недаром она говорила мне о самоотвержении...
У ней слова не рознились с делом».
Жаждой подвига и самоотверженного служения людям
Софи напоминает Елену Стахову из романа «Накануне».
Вместе с тем есть как будто объективные основания и
для того, чтобы видеть в ней некий отдаленный прообраз
Марианны в «Нови». Ведь Тургенев говорит о том, что
он «не осуждал впоследствии» других русских девушек,
отличавшихся героическими стремлениями к самопожерт
вованию. Однако в данном случае взгляд писателя обра
щен все-таки не вперед, а назад. Прежде всего указание
«впоследствии», на котором зиждутся заключения турге-
неведов о преемственной связи образа Софи с Марианной,
означает не позднее 1869 года (работа над повестью на
чата и закончена в этом году). В это время Тургенев, ко
нечно, еще ничего не знал и знать не мог о русских
девушках-народницах. Но самым серьезным аргументом
18 А. Батюто
273
против бытующей в тургеневедении традиционной точки
зрения по этому вопросу является вообще вся хронология
повествования в «Странной истории». Оно начинается
фразой: «Лет пятнадцать тому назад...» Следовательно,
действие отнесено совершенно точно к 1854—1855 го
дам, т. е. ко времени до создания и «Дворянского
гнезда» и «Накануне». Таким образом, говоря о «других»
девушках, которых он «не осуждал впоследствии», Тур
генев или рассказчик, — а в данном случае это одно и то
же, — скорее всего имел в виду девушек типа Лизы Кали-
тиной или Елены Стаховой. Следует отметить также, что
героиня из «Странной истории» представляет собою явно
сниженную вариацию образов Лизы и Елены. В ней изо
бражается лишь одна преобладающая черта характера,
проявляющаяся к тому же при исключительных обстоя
тельствах. В основу сюжета повести положен рассказ
о необычном, почти анекдотическом жизненном происше
ствии,
26
о редкостном состоянии души, в то время как
в «Дворянском гнезде» и в «Накануне» дано разносторон
нее изображение женских характеров на широком и
вполне «нормальном» социально-бытовом фоне.
В связи с «Вешними водами», «Странной историей»
и целым рядом других произведений, созданных прибли
зительно в тот же период, невольно вспоминается одно из
писем Тургенева к М. Е . Салтыкову-Щедрину (январь
1876 года), в котором сквозит тайная горечь: «Что ка
сается до меня и до невыгоды житья за границей, вдали
от родной почвы, вдали от столкновений и состязаний —
Вы тысячу раз правы; да переменить этого нельзя...
В литературных делах я принужден, как медведь зимой,
сосать собственную лапу: оттого-то и не выходит ничего»
(XI, 205). Оторванностью от «родной почвы», затрудняв
шей приток свежих наблюдений над русской действитель
ностью, которые могли бы служить материалом для по
строения совершенно новых произведений, объясняются и
обращение Тургенева в это время к жанру воспоминаний,
и его очень удачные, но запоздалые попытки продолжения
цикла «Записок охотника», и несомненные «перепевы»
в отдельных повестях некоторых мотивов из предшест
вующей романистики. Так, например, в связи с разра-
26
Тургенев отмечал, что весь рассказ составился у него
«из двух анекдотов» (VIII, 153).
274
боткой проблемы любви—рабства в «Дыме» и «Вешних
водах» следует упомянуть также о вариациях — только
в более оптимистической и светлой огласовке — той же
проблемы в повести «Бригадир».
Наконец, мысль о характерном для творческой манеры
Тургенева движении после «Дыма» от романа к повести
подтверждается еще одним очень важным обстоятельст
вом. С 1867 года, а может быть и значительно раньше,
Тургенев был увлечен замыслом исторического романа
о Никите Пустосвяте, знаменитом раскольнике XVII века.
Опираясь на данные об источниках и предпосылках этого
замысла, собранные в обстоятельной статье Ю. Д. Ле
вина,
27
можно прийти к заключению, что целый ряд сцен
и эпизодов в «Собаке», «Бригадире», «Степном короле
Лире» и «Странной истории», эпизодов, посвященных
изображению старообрядцев и старообрядческой психоло
гии, являются своеобразными отголосками или даже от
носительно «осовремененными» фрагментами этого, по-
видимому, широко задуманного, но, к сожалению, ненапи
санного романа.
Причины отказа Тургенева от реализации замысла
этого романа до сих пор неясны. Можно предполагать,
однако, что его устрашала сама перспектива обращения
к историческому роману ввиду особых трудностей, свя
занных с разработкой этого весьма непривычного для
него жанра. С точки зрения Тургенева и его ближайших
друзей, все без исключения попытки создания русского
исторического романа, предпринимавшиеся во второй
половине XIX века, представляли собою жалкое зре
лище. Так, в связи с очерком писательницы Н. Ломов-
ской, напечатанным в десятой книжке «Вестника Европы»
за 1879 г., П. В . Анненков писал М. М . Стасюлевичу:
«Она меня вознаградила вполне за исторические романы
с фальшивыми Ломоносовыми, царями Петром и Иваном
и всех их причтом. Господство исторических романов рус
ского пошиба в нашей беллетристике я считаю лучшим
доказательством ее глубокого падения».
28
Резко критиче
ское суждение Анненкова о русском историческом романе
27
Ю. Д . Левин. Неосуществленный исторический роман
Тургенева. В сб.: И. С . Тургенев. Статьи и материалы. Под ред.
акад. М . П. Алексеева. Орел, I960, стр. 96—131.
28
См.: М. М . Стасюлевич и его современники, т. III . СПб.,
1912, стр. 373.
18*
275
согласуется с весьма скептическим отношением к нему и
со стороны Тургенева. Достаточно сказать, что в начале
1868 года, т. е . тогда, когда он обдумывал замысел романа
о Никите Пустосвяте, даже в «Войне и мире» вся «исто
рическая прибавка» представлялась ему «кукольной коме
дией и шарлатанством» (VII, 64). Тургенев убоялся воз
можной творческой неудачи, и вот почему отдельные и,
разумеется, не самые важные мотивы замысла романа
о Никите Пустосвяте незаметно рассредоточились, как
нам кажется, по некоторым его повестям и рассказам.
Специфические условия и обстоятельства жизни и
литературной деятельности Тургенева в конце шестиде
сятых—начале семидесятых годов затрудняли его возврат
на прежнюю дорогу романиста. Тем не менее параллельно
с созданием «Вешних вод», «Странной истории» и даже
несколько раньше в творчестве писателя исподволь и
как бы на ощупь все-таки начинает развиваться и привыч
ный процесс подготовки следующего романа. Отдельные
мотивы будущей «Нови» сквозят уже в повести «Степной
король Лир». После изгнания из родного дома Харлова
мучит мысль о его крепостных, попавших под власть
жестокосердного Слеткина. «И какая теперь их судьба, —
размышляет Харлов, — была яма глубокая и при мне —
что греха таить, а теперь и дна не видать!» Через не
сколько лет в романе «Новь» (гл. XI) буквально этими же
словами будет подчеркнут все тот же непримиримый ан
тагонизм между интересами крестьян и помещиков.
Еще ощутимее идейно-образные связи «Нови» с пове
стью «Пунин и Бабурин». Муза Павловна Бабурина, на
тура страстная и увлекающаяся, «новый тип», по опре
делению Тургенева, целиком и бесповоротно, как
несколько позднее Марианна, отдается делу своего мужа,
близкого к кружку петрашевцев. Сам Бабурин — разно
чинец и «республиканец», защитник бедных, аскетически
суровый поборник справедливости. Характеры Музы Пав
ловны и Бабурина предваряли создание в «Нови» образов
молодых революционеров-народников, посвящающих себя
борьбе с самодержавием. Наряду с идейным заметно и
психологическое родство между главными персонажами
повести и романа. И Муза и Бабурин — незаконнорож
денные. Происхождение «с левой стороны» накладывает
болезненный отпечаток на их душевную жизнь, и это
сближает их с Неждановым, незаконным сыном вельможи,
276
И отчасти с Марианной, семейная жизнь которой также
небезоблачна. С другой стороны, угрюмостью, постоян
ными жизненными неудачами, ожесточением и в особен
ности своим бескомпромиссным характером Бабурин на
поминает Маркелова.
29
Однако, если точку зрения о ши
роком и неслучайном в семидесятые годы движении Тур
генева от романа к повести проводить с педантической
последовательностью (а на это есть основания), придется
признать, что и в данном случае было движение не только
от повести к роману, но и в обратном направлении, так
как все перечисленные признаки родства и сходства
можно объяснить и тем, что в 1874 году, когда создава
лась повесть «Пунин и Бабурин», Тургенев уже работал
над «Новью». Первая половина повествования в «Лунине
и Бабурине» генетически связана с «Записками охотника»
и далекими семейными воспоминаниями писателя, вторая
же может быть воспринята как ранний, но уже вполне
закономерный отголосок характерных мотивов почти со
зревшего замысла романа «Новь».
С давних пор в литературе о Тургеневе справедливо
указывается на зарождение одной из сюжетных линий
«Нови» в повести «Часы» (1875 г.) . В ней изображается
мальчик, а потом юноша Давыд, сын ссыльного разно
чинца, «плебей» по мироощущению, предтеча трезвого
«постепеновца снизу» Соломина.
30
Это, конечно, харак
терный, но зато и самый последний пример движения
от повести к роману. После «Нови» противоположное на
правление — от романа к повести — окончательно упрочи
вается в качестве господствующего в творчестве Турге
нева. Происходит явное движение к малым формам,
в которых роль общественно значимого содержания резко
понижается; рецидивы возвращения к прежним, зачастую
второстепенным сюжетным мотивам и образам своего
романа становятся обычным явлением в писательской
практике Тургенева.
В парижском архиве Тургенева хранятся план, кон
спект и «формуляры» действующих лиц так называемой
«незавершенной» или «новой повести», над которой пи
сатель работал урывками в течение 1877 и 1878—1879 гг.
31
29
Ив. И в а н о в. Иван Сергеевич Тургенев, стр. 657.
30
Там же, стр. 656 —657.
31
А. М а з о н. Парижские рукописи И. С. Тургенева. Изд.
«Academia», М—Л ., 1931, стр. 148.
277
А. Мазон резонно замечает, что в целом эта повесть
«производит впечатление чего-то уже знакомого. Похож
дения героя — Травина, колеблющегося между влечением
к таинственной авантюристке (почти чародейке) и лю
бовью к молодой девушке Маше, напоминает романиче-
сую ситуацию Литвинова в „Дыме", любовь юноши
в „Вешних водах" и легкий флирт между Неждановым и
Сипягиной в „Нови".
Это — внутренняя борьба между
лихорадочной страстью, влекущей к страданиям, и неж
ной привязанностью, ведущей к браку, к семейному
уюту».
32
Заметна в «незавершенной повести» и связь
с таинственными повестями Тургенева — «Кларой Милич»
и «Песнью торжествующей любви». Вместе с тем неко
торые черты наружности и характера главной героини
«незавершенной повести» Сабины Мональдески, намечен
ные Тургеневым в биографических заметках и «формуля
рах», заставляют снова вспомнить о княгине Р. из романа
«Отцы и дети». Вот наиболее характерные признаки пор-
третно-психологического облика Сабины: «...росту не
большого, сложена гибко, стройно... Волосы прекрас-
<ные>, белокурые, тонкие, обильные, длинные с золо
тистыми концами... взгляд несколько беспокойный,
загадочный, часто как бы недоумевающий... Впечатлитель
ность страшная — суеверие и подозрительность; влюбчива
и нечувственна... Очень много воли — и мало постоян
ства. Верит в судьбу, в предопределение... Существо не
счастное, странное, ^обаятельное... и несимпатичное»
(Соч., XIII, 331, 332). Подобно княгине Р., Сабина сама
не знает, чего хочет (Травин «предлагает ей жениться...
к изумлению, она и этого не хочет...»). Трудно понять,
«когда она лжет, когда нет». Кирсанов дарит княгине Р.
кольцо со сфинксом, здесь же фигурирует «браслет, един
ственная вещь», подаренная Травиным Сабине, и этот
браслет загадочно возвращается герою накануне его
свадьбы (XIII, 343, 344, 345).
К 1883 году относится замысел еще одной незавершен
ной повести Тургенева, получившей название «Нааалия
Карповна». Судя по архивным и мемуарным данным, по
весть была задумана как продолжение «Нови» после
знакомства писателя с новыми фактами о революционном
32
Там же, стр. 40—41.
278^
движении в России.
33
В 1881 г. в беседе с литератором-
народником С. Н . Кривенко Тургенев говорил: «„Новь"
ведь у меня не кончена. Я удивляюсь, как этого не за
метили. Там прямо оборваны нити, и как бы мне хоте
лось, если только буду в состоянии, написать продолжение
или что-нибудь подобное на ту же тему».
34
О разговоре
с Тургеневым «на ту же тему» вспоминал и П. А. Кро
поткин: «Знали ли вы Мышкина? — спросил он меня раз
в 1878 году. — Когда судили наши кружки, сильная лич
ность Мышкина, как известно, резко выступила вперед.
Я хотел бы знать все, касающееся его, — продолжал Тур
генев. — Вот человек, ни малейшего следа гамлетов
щины. — И, говоря это, Тургенев, очевидно, обдумывал
новый тип, выставленный русским движением и не суще
ствовавший еще в периоде, изображенном в „Нови"».
35
В набросках повести «Наталия Карповна» уже не зву
чат, как в «Нови», мотивы разочарования и крушения
всех надежд на успех революционного дела. Тургенев со
бирался вывести персонажей, наделенных более оптими
стическим и действенным миросозерцанием.
36
Однако от
ношение писателя к «делу» народников оставалось все-
таки прежним. Последним словом Тургенева-романиста
о революционном движении в России явилась «Новь», и
тип «жизнерадостного революционера», намеченный в по
вести «Наталия Карповна», конечно, не был новым «про
граммным» героем, призванным сменить «трезвого» посте
пеновца Соломина, как сменили в свое время Рудина и
Лаврецкого Инсаров и Базаров. По-видимому, Пимен Пи-
меныч («жизнерадостный революционер») должен был
представлять собою человека действия, в какой-то степени
близкого к терроризму, а резко отрицательное отношение
Тургенева к этому последнему, особенно после убийства
Александра II, общеизвестно. Таким образом, замысел
повести, построенный с учетом революционных событий
в России за последние годы, выглядит лишь как некое
дополнение к «Нови», но не больше.
33
См. комментарий И. А . Битюговой (Соч., XIII, 724—725).
34
И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесят
ников. Изд. «Academia», М.—Л ., 1930, стр. 243.
35
Там же, стр. 149—150.
36
Подробнее об этом см. в упомянутых комментариях
И. А . Битюговой (Соч., XIII, 726).
279
В идейно-композиционном отношении «Наталия Карт
повна» является одним из типичных примеров трансфор
мации романа в повесть. При всех их индивидуальных
особенностях, подчеркнутых в упомянутых комментариях,
главные герои повести — Павел Андреич, Кася и даже
«жизнерадостный революционер» — все-таки больше напо
минают Нежданова, Марианну и Соломина, чем отли
чаются от них, а само название нового произведения и
авторское скромное определение его жанра (recit) свиде
тельствуют об ограниченном захвате прежней проблема
тики. Если бы Тургенев прожил еще некоторое время и
закончил эту повесть, она, по-видимому, все равно не
представляла бы собою широкого изображения эпохи
1880-х годов. В ней не было бы принципиально новых
оценок русской общественно-политической жизни, во вся
ком случае таких оценок, по которым можно было бы
судить о существенных изменениях во взглядах на нее
Тургенева.
Подчеркивая многообразие жанрового взаимодействия
внутри творчества Тургенева, мы указывали в начале этой
, главы на то, что наряду с движением от повести к роману,
I сменившимся под конец литературной деятельности пи
сателя прямо противоположной тенденцией, было и дви
жение от романа к роману. Эта точка зрения не нуж
дается в подробной аргументации, поэтому в заключение
анализа жанровых проблем ограничимся лишь несколь
кими характерными примерами, подтверждающими ее
обоснованность.
Основные идеи, одушевлявшие романы Тургенева, ме
нялись в прямом соответствии с «быстро изменяющейся
. физиономией русских людей культурного слоя»./Сумма же
художественных приемов, применявшихся писателем
в процессе конструирования того или иного романа, оста
валась величиной более или менее постоянной, что приво
дило нередко к повторяемости отдельных как важных, так
и сравнительно второстепенных сюжетно-фабульных по
ложений.' Так, в ряде романов встречаются аналогичные
ситуации подсматривания любовных сцен и доносов на
влюбленных. Вспомним о поведении Пандалевского
в «Рудине», П. П . Кирсанова в «Отцах и детях» (правда,
в данном случае можно говорить только о невольном под
сматривании, донос же исключается полностью), лакея
в «Накануне», Сицдгицой в <(Цови». Встречаются в ро-
280
манах и вариации похожих образов, примем вполне осо
знаваемые самим Тургеневым. Так, например, в феврале
1872 г., в связи с разработкой образа Паклина, он делает
такую пометку в списке действующих лиц «Нови»: «Го
раздо шире и глубже и дельнее Пигасова» (Соч., XII, 317).
У Пигасова есть что-то общее и с Потугиным (едкий
юмор, склонность к ожесточенным, страстным нападкам,
невзрачная внешность). В связи с этим очень характерна
описка или ошибка М. Г . Савиной, писавшей В. И . Ба-
зилевскому из Баден-Бадена 7-го августа 1908 года:
«Здесь бродит тень Тургенева, но тщетно я ищу на ска
мейках Литвинова или Пигасова».
37
В разгар работы над «Новью» Тургенев услышал от
старой крестьянки слово «опростелые», которое показа
лось ему весьма знаменательным. «Изумительное, меткое
выражение и такое простое, несложное, такое многозна-
чущее... Оно должно стать таким же прозвищем, как
„нигилист"», — говорил Тургенев.
38
Это одно из многих
свидетельств в пользу того, что роман «Новь» был заду
ман как сходный по значению с «Отцами и детьми». Ра
ботая над «Новью», Тургенев постоянно возвращается
мыслью к предшествующим романам, сравнивает искомое
с уже достигнутым, стремится избежать «ошибок», допу
щенных в прошлом. Одно из писем Тургенева к М. Е. Сал
тыкову-Щедрину (3 (15) января 18,76 года) неоспоримо
свидетельствует о том, что роман «Новь» был задуман
с целью реванша за «Отцов и детей» и «Дым», которые
известной частью критики и читающей публики воспри
нимались как произведения, враждебные разночинной
демократии. «Ну, а теперь скажу два слова об „Отцах и
детях", так как Вы об них говорили, — писал Тургенев. —
Неужели Вы полагаете, что все, в чем Вы меня упрекаете,
не приходило мне в голову? Оттого мне и не хотелось бы
исчезнуть с лица земли, не кончив моего большого ро
мана, который, сколько мне кажется, разъяснил бы мно
гие недоумения и самого меня поставил бы так и там —
как и где мне следует стоять» (XI, 190). Уточняя свою
позицию в этом вопросе, Тургенев через год писал редак
тору «Вестника Европы» М. М . Стасюлевичу: «Молодое
37
Тургенев и Савина. Пгр., 1918, стр. 100.
38
Е. Ардов (Апрелева). Из воспоминаний об И. С. Тур
геневе. «Русские ведомости», 1904, No 18, 18 (30) января.
281
поколение было до сих пор представлено в нашей лите
ратуре либо как сброд жуликов и мошенников — что, во-
первых, несправедливо — а во -вторых, могло только оскор
бить читателей-юношей как клевета и ложь; либо это
поколение было, по мере возможности, возведено в идеал,
что опять несправедливо — и, сверх того, вредно. Я ре
шился выбрать среднюю дорогу — стать ближе к правде;
взять молодых людей, большей частью хороших и чест
ных — и показать, что, несмотря на их честность, самое дело
их так ложно и нежизненно, что не может не привести
их к полному фиаско» (XIIi, 43—44). Письмо это пока
зывает, что в работе над «Новью» Тургенев критически
учитывал и свой и чужой опыт в области романа, так
или иначе связанного с изображением молодого поколе
ния. Выбирая «среднюю дорогу», он стремился не допу
стить повторения в «Нови» ряда сцен, перекликающихся
с карикатурно-гротескными изображениями Ситникова и
Кукшиной в «Отцах и детях» и кружка губаревцев
в *« Дыме». (Но в еще большей степени здесь чувствуется
активное неприятие Тургеневым «крайностей» в изображе
нии молодежи, которые были свойственны романам До-
i стоевского и Чернышевского («Бесы», «Что делать?»),
\ не говоря уже о бесчисленных поделках как антинигили
стической, так и разночинно-демократической романной
«беллетристики». В данном случае движение Тургенева
от романа к роману рельефно характеризуется как дви
жение по принципу подчеркнуто контрастной связи.
Быть может, самым убедительным подтверждением
мысли о закономерном движении от романа к роману
является иногда поразительная общность в приемах изо
бражения таких непохожих друг на друга героев, как
Рудин и Базаров. Отъезд Рудина из дома Ласунской, из
которого «его как будто выгоняли», напоминает отъезд
Базарова из имения Одинцовой. (Оба уезжают в сопро
вождении своих учеников, обращаясь к ним с речью,
проникнутой одним и тем же настроением, в котором чув
ствуется горечь испытанного унижения, боль уязвленного
самолюбия, но вместе с тем и почти горделивое сознание
своей одинокой, «бобыльной» независимости* «Помните
ли вы, — начал Рудин... — что
говорит Дон-Кихот своему
оруженосцу, когда выезжает из дворца герцогини? „Сво
бода, — говорит он, — друг мой Санчо, одно из самых
драгоценных достояний человека..."» (гл. XI). В первый
282
день пребывания в Никольском Базаров думает об Один
цовой: «Герцогиня, да и полно», а покидая ее дом, заяв
ляет Аркадию: «...лучше камни бить на мостовой, чем
позволить женщине завладеть хотя бы кончиком пальца»
(гл. XIX). Встретившись в последний раз с Лежневым,
Рудин говорит о себе: j «... все кончено, и масла в лам
паде нет, и сама лампада разбита, и вот-вот сейчас доку
рится фитиль... Смерть, брат, должна примирить нако
нец...» В предсмертных речах Базарова те же мысли и
образы: «Я нужен России... Нет, видно не нужен...
Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет...»
Наконец, в эпилоге обоих романов скромно празднуются
две свадьбы, во время которых поднимаются тосты «за
здоровье Рудина» и «в память Базарова».г Все это тща
тельно продуманные приемы, с помощью которых «бес
приютный скиталец» Рудин и трагически одинокий «ни
гилист))" Базаров вводятся в единую семью лучших людей
России. Несмотря на различия в «вере» и в'социальном
происхождении, с точки зрения Тургенева все это «род
ственники» по духу, передовые ^русские интеллигенты,
извечно вступающие в непримиримые отношения с кос
ной или враждебной Средой, еще не связанные тесно
с народом, но уже жаждущие связи с ним.
РОМАН ТУРГЕНЕВА
И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ
Следующие несколько глав, объединяемые общностью
проблемы литературных традиций, посвящены анализу
романа Тургенева с точки зрения генетических и других
его связей с рядом произведений в жанре романа и по
вести, создававшихся в России и на Западе современниками
писателя. Речь пойдет о связях в области сюжетики,
фабулы, техники композиции, в приемах характеристики
персонажей и т. д. и т. п ., — связях, возникавших есте
ственно и неизбежно в ходе первоначального формирова
ния, развития и окончательного завершения замысла всех
без исключения романов Тургенева и, в особенности, тех
из них, которые были созданы, так сказать, в первую
очередь («Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне»).
Важнейшей задачей предстоящего анализа является не
столько скрупулезное обнаружение так называемых лите
ратурных аналогий и соответствий, сколько посильное
указание на те оригинальные творческие результаты, ко
торыми всякий раз с замечательной последовательностью
сказывалось в романном творчестве Тургенева его внима
ние к тем или иным сторонам и аспектам современного
ему литературного процесса.
В заключительных главах этого последнего раздела
монографии вопрос о литературных традициях рассматри
вается также в связи с более или менее конкретной
проекцией романа Тургенева на творчество его великих
предшественников — главным
образом Грибоедова и
Пушкина.
284
1. Тургенев и Жорж Санд
В начале 1850-х годов, закончив в основном цикл
«Записки охотника», Тургенев оказывается на литератур
ном распутье. Работа в области малой эпической
формы — рассказ, очерк, повесть — его теперь уже не
вполне удовлетворяет. Все это кажется ему «старой
манерой», с которой настала пора окончательно «рас
проститься». Стремясь к «спокойным линиям» «объектив
ного» творчества, т. е. к роману, но будучи не слишком
уверен в своих силах, Тургенев ищет опоры в русской
и западноевропейской литературах. Но Пушкин и Гоголь
кажутся ему недосягаемыми образцами, а художественная
практика известнейших на Западе писателей-современни
ков (Бальзак, Гюго) явно не соответствует его эстетиче
ским вкусам и склонностям. Размышляя о возможных пу
тях развития русского романа, Тургенев отвергает также
обстоятельный исторический роман Вальтера Скотта
(«пространное, солидное здание»), как уже несовремен
ный, отживший свой век и потому непригодный в русских
условиях. Об историческом же романе Дюма, заниматель
ном, но лишенном подлинной правды и глубины содержа
ния, Тургенев отзывается с полным пренебрежением.
В конце концов писатель останавливается на двух типах
романа — сандовском и диккенсовском. «Эти романы, —
пишет он, — у нас возможны и, кажется, примутся».
Все эти мысли Тургенев высказывал в переписке с совре
менниками (П. В. Анненковым, В. П . Боткиным, семей
ством Аксаковых) и главным образом в критической
статье о романе Евгении Тур «Племянница», напечатан
ной в 1852 году.
Тургеневские прогнозы о возможной акклиматизации
в русской литературе упомянутых типов западноевропей
ского романа, в основном, не оправдались. Роман
Диккенса не мог привиться на чужой почве. Для этого
он был, подобно творчеству Гоголя в русской литературе,
слишком своеобразным и самобытным явлением, уникаль
ным и неповторимым даже в национальных условиях.
Что касается романа Жорж Санд, его влияние если не на
русскую публику, то во всяком случае на русскую лите
ратуру в ее магистральном течении пресеклось довольно
быстро. Спад его ощущался уже в пятидесятые годы.
Поэтому упоминание Тургенева о Жорж Санд и Диккенсе
285
производит несколько странное и неожиданное впечат
ление. Не совсем ясно, чем он руководствовался, выска
зывая свой туманный, исторически запоздалый прогноз и
ставя при этом рядом имена писателей, столь непохожих
друг на друга. Обычно литературоведческие комментарии
по этому поводу сводятся к тому, что Тургенев объеди
нял диккенсовский и сандовский романы по общему им
признаку большой социальной проблемности. Но такое
объяснение явно недостаточно, поскольку острая со
циальность присуща произведениям не только этих пи
сателей.
Впоследствии некоторые мысли Тургенева, высказан
ные в статье о «Племяннице», приобрели большую
определенность. Стало, например, ясно, что по крайней
мере в отношении Диккенса он руководствовался
в 1852 году не социальным, а по преимуществу художе
ственным критерием. Предисловие Тургенева к француз
скому переводу «Двух гусаров» Л. Н . Толстого, написан
ное в 1875 году, ретроспективно свидетельствует о том,
что признаки диккенсовского начала он усматривал
в первом напечатанном толстовском произведении — по
вести «Детство».
Вот что писал Тургенев об этой замечательной повести:
«Это очерк первых лет человеческой жизни вроде того,
что пытался представить Чарльз Диккенс в своем пре
лестном романе „Домби и сын"; тонкость психологиче
ского наблюдения соединяется в нем с самою трогатель-
' ной поэзией» (Соч., XV, 107).
Сопоставляя эти суждения с тем, что говорилось
в статье о «Племяннице», нетрудно прийти к заключению,
что в 1852 году Тургенев, по-видимому, возлагал какие-то
более или менее определенные надежды на Л. Н. Тол
стого — как на одного из возможных продолжателей
в России литературного дела Диккенса. И все же
высказывания молодого Тургенева о Жорж Санд и Дик
кенсе в связи .с общими перспективами развития русской
литературы по-прежнему могут казаться почти чистой
случайностью. Но в свете его *личной творческой практики
они не были случайными, в особенности если при этом
иметь в виду только французскую писательницу. Долгое
время творчество Жорж Санд было ему субъективно
близко и дорого. Вследствие этого анализ проблем ста
новления и жанрового своеобразия романного творчества
286
Тургенева в иных случаях немыслим без обращения
к художественной манере Жорж Санд, без сопоставления
ее произведений, с указанной точки зрения, с некоторыми
его романами и в особенности с первым из них — романом
«Рудин».
Как известно, попытки такого рода уже предпринима
лись. Прежде всего следует упомянуть о работах Вл. Ка
ренина (Стасовой-Комаровой), в которых роман «Рудин»
бегло сопоставляется с романом «Орас» (1843). Исследо
вательница приходит к выводу, что образ Дмитрия Ру-
дина представляет собою ни больше ни меньше как рус
скую вариацию жорж-сандовского фразера Ораса; что
Наталья Ласунская, Волынцев и Лежнев, в свою очередь,
если не «списаны», то во всяком случае очень похожи,
соответственно, на персонажей Ж. Санд — Марту, Поля
Арсена и Теофиля. По ее мнению, некоторые характерные
отличия в психологической трактовке всех этих героев,
обусловленные их национальным происхождением, не
имеют существенного значения. Как увидим ниже, извест
ные основания для такого заключения были, но в целом
его следует признать односторонним, не отражающим под
линной сути творческих связей Тургенева с Ж. Санд.
Еще более спорным представляется основной вывод иссле
довательницы, казалось бы, логически вытекающий из
проводимых
ею историко-литературных параллелей.
«Главное, — утверждает она, — не
в этих отдельных
сходствах действующих лиц, а в общем ходе рассказа и
в отношении обоих авторов к своему герою: развенчание
человека слова перед людьми простого сердца, горячего
чувства, честного, хотя и скромного дела». «Это, — про
должает автор, — любимая тема Жорж Санд: противопо
ставление двух типов: типа, который Аполлон Григорьев
называет типом хищным, и типа смирного... т . е . людей,
поглощенных своей личностью, умственных, рефлекти
рующих, эгоистов или половинчатых, холодных или слабо
вольных, неспособных предаться одной идее, одному
горячему чувству, людей ума, оказывающихся не
состоятельными перед людьми воли ж сердца. Эта идея
проходит, что называется, красною нитью через все
почти романы Жорж Санд, от „Индианы" и до „Валь-
ведра" или прелестной „Марианны Шеврез"... и она же
является господствующей в произведениях Тургенева, от
„Свидания" в „Записках охотника" и „Аси" до „Клары
287
Милич", не говоря уже „Вешних водах" или „Якове Па-
сынкове"...»
1
В действительности все обстояло далеко не так просто.
Вывод Вл. Каренина, быть может, безусловно справедли
вый в качестве характеристики некоторых типических
особенностей творчества Ж. Санд, грешит явным преуве
личением по отношению к такому крупному и самобыт
ному писателю, как Тургенев. Независимо от субъектив
ных намерений исследовательницы, Тургенев в ее
представлении выглядит пассивным последователем фран
цузской романистки и притом на протяжении всей
своей писательской деятельности, что, конечно, уже
совсем неверно. В последние десятилетия точка зрения
Вл. Каренина не пользуется особым признанием в среде
тургеневедов, но она и не опровергается. Между тем
серьезные данные для ее опровержения содержатся уже
в первом романе Тургенева.
Отношению Тургенева к художественной манере
Жорж Санд была свойственна особая диалектика, без
учета которой многое в нем остается неясным. Ключом
к пониманию того, как подчас своеобразно и неожиданно
использовались идейно-художественные традиции Жорж
Санд в пору изначального формирования его романа, яв
ляется уже упомянутая статья о «Племяннице». Но су
ждения о Ж. Санд, высказанные в этой статье, вряд ли
могут быть правильно поняты при изолированном анализе,
вне их связи с целым рядом других высказываний писа
теля по тому же поводу. Поэтому прежде следует остано
виться на характеристике некоторых главных моментов
из истории восприятия Тургеневым личности и творчества
Жорж Санд в разные годы его жизни.
Интерес Тургенева к идеям и образам Жорж Санд
наметился, как и у большинства крупных деятелей рус
ской литературы, его современников (Белинский, Салты
ков-Щедрин, Герцен, Достоевский, Писемский, Гонча
ров и др.)» в сороковые годы и сказался определенными
последствиями в цикле очерков «Записки охотника».
В связи с этим часто цитировалось, например, письмо
1
Владимир Каренин. 1) Жорж Санд, ее жизнь и произ
ведения. 1804—1838. СПб., 1899, стр. 19—20; 2) Тургенев и Жорж
•Санд. В кн.: Тургеневский сборник. Под ред. А . Ф . Кони. Пб., 1921,
ютр. 94—95.
288
Тургенева к Полине Виардо (5 (17) января 1848 г.),
в котором он восхищается «описанием осеннего дня»
в романе «Франсуа Найденыш» (1847—1848). «У этой
женщины, — писал Тургенев о Ж. Санд, — есть дар пере
давать самые тонкие, самые мимолетные впечатления
твердо, ясно и понятно; она умеет рисовать даже благо
ухания, даже мельчайшие звуки» (I, 456). Мастерство
Жорж Санд в этой области, свойственный ей психологизм
и проникновенный лиризм пейзажа находили живейший
и родственный отклик у Тургенева, закрепляли в его
воображении впечатления, порожденные русской приро
дой, изображениями которой изобилуют «Записки охот
ника». В пору создания «Записок охотника» несомненное
влияние на Тургенева оказывало и народолюбие Жорж
Санд, выражавшееся в мягкой, поэтически-женственной
форме. В связи с этим один из исследователей отмечал
в очерках «Хорь и Калиныч» и «Касьян с Красивой
Мечи» определенную перекличку с изображениями
крестьян в романе Жорж Санд «Мопра» (1837). Справед
ливо подчеркивая, что в данном случае суть дела со
стояла не в слепом подражании, а в творческом прелом
лении в русских условиях жорж-сандовского видения
крестьянского мира, исследователь указал на ряд крас
норечивых аналогий в портретно-психологических харак
теристиках Пасьянса и тургеневского Касьяна: обоим
присущи ум, нежность, любовное отношение ко всему
живому, склонность к философскому восприятию при
родыит.п.
2
Впоследствии писатели как бы поменялись ролями.
В 1872 году Ж. Санд напечатала свой очерк «Пьер Бон-
нен», сопроводив его восторженным посвящением Турге
неву. Рассказывая о глубоком впечатлении, произведен
ном на нее «Записками охотника», с которыми она
познакомилась довольно поздно по несовершенному пере
воду Шаррьера, Ж. Санд с особой теплотой охарактери
зовала в этом посвящении свойственное Тургеневу
«чувство трогательной доброжелательности», которым, по
ее словам, «не обладали другие» русские «поэты и рома
нисты. Вам, —- писала Ж. Санд, — присущи жалость и
глубокое уважение ко всякому человеческому существу,
2
Н. Ф . Сумцов. Влияние Жорж Сайд на Тургенева. «Книжки
Недели», 1897, январь, стр. 11 —12.
19 А. Батюто
289
какими бы лохмотьями оно ни прикрывалось и под ка
ким бы ярмом оно ни влачило свое существование.
Вы — реалист, умеющий все видеть, поэт, чтобы все укра
сить, и великое сердце, чтобы всех пожалеть и все
понять».
3
М. П . Алексеев отмечает, что «В портрете
Пьера Боннена, зарисованном Ж. Санд, французские
критики не без основания усматривают некоторое сход
ство с образом Касьяна из „Записок охотника"». В свое
время к такому же выводу пришел EL В. Анненков,
который писал об этом в одном из своих писем к Турге
неву.
4
А еще через два года, прочтя повесть «Живые
мощи», Ж. Санд, по словам того же Анненкова, писала
Тургеневу: «Учитель, — все
мы должны пройти вашу
школу!»
5
Итак, в пору создания «Записок охотника» и позже
Тургенева сближало с Жорж Санд присущее им обоим
уважение к человеческой личности вообще и в особен
ности — к личности угнетенной.
Благородный гуманизм Жорж Санд нередко придавал
особую окраску тургеневской этике, его высказываниям
по вопросам литературно-общественной жизни его эпохи.
Так, в мае 1853 г. Тургенев писал И. Ф. Миницкому:
«Если разобрать поэзию зла, воплощенную в типе са
таны, то и в ней мы найдем основанием бесконечную
любовь — вспомните Consuelo. Во всяком случае, наше
призвание — не быть чертями — будемте людьми — и по
стараемся быть ими как можно долее» (II, 152). Ссылка
на роман Жорж Санд в данном случае весьма многозна
чительна. Дело в том, что Сатана, выведенный в этом ро
мане, проникнут состраданием и деятельной любовью
к людям («Христос, мой брат, не любил вас больше,
чем я люблю... Я не демон, я — архангел, вождь закон
ного восстания и покровитель великой борьбы... Я — бог
бедных, слабых, угнетенных»).
6
В феврале 1856 года
Тургенев чуть не поссорился с Л. Н. Толстым, который
«за обедом у Некрасова... по поводу Ж. Санд высказал
3
Цит. по статье М. П. Алексеева «Мировое значение „Записок
охотника"»
(см. сб.: Творчество И. С . Тургенева. М.,
1959,
стр. 101).
4
Там же.
5
Там же, стр. 102.
6
Жорж Санд. Консуэло, т. I . Изд. «Academia», Л., 1936,
стр. 377.
290
столько пошлостей и грубостей, что передать нельзя»
(И, 337). Д. В . Григорович, присутствовавший на этом
обеде, рассказывает в своих воспоминаниях, что Толстой
объявил себя «ненавистником» Жорж Санд, «прибавив,
что героинь ее романов, если б они существовали в дей
ствительности, следовало бы, ради назидания, привязы
вать к позорной колеснице и возить по петербургским
улицам».
7
Как видно из этих воспоминаний, Тургенев в споре
с Толстым горячо вступился за Ж. Санд, пропагандиро
вавшую в своих романах идеи женской эмансипации.
И это несмотря на то, что в его собственной повести «Два
приятеля» уже была нарисована эмансипированная вдо
вушка Софья Кирилловна Заднепровская—прообраз бу
дущей карикатурной Евдоксии Кукшиной.
8
В декабре
1856 года Тургенев признавался А. В . Дружинину, что
при встрече с Ж. Санд он не смог бы сказать ей «о па
дении ее (без сомненья) плохой пьесы...» И добавлял
многозначительно: «... я, как почтительный сын Ноя,
прикрываю, отвернув глаза, наготу моего родителя» (III,
53). Еще более характерное признание мы найдем в одном
из писем Тургенева к самой Ж. Санд (18(30) октября
1872 г.): «...по дороге в Ноан я намеревался сказать
вам, сколь велико было ваше воздействие на меня как
писателя... на сей раз я хочу сказать вам, как я был
взволнован и горд, когда читал то, что Ж. Санд написала
о моей книге, и как я был счастлив тем, что она поже
лала это сделать. У Шиллера есть такие стихи:
„Кто жил для лучших людей своего времени,
Тот жил для всех времен".
И вот сейчас, когда я устал от жизни, вы подарили мне
частицу своего бессмертия!» (X, 354). Наконец,
в 1876 году, возмущенный равнодушием русской прессы,
не почтившей памяти скончавшейся Ж. Санд, Тургенев
в письмах к Флоберу и в редакцию газеты «Новое
время» называл ее «великой писательницей» (Соч., XIV,
232), оказавшей «на русскую публику... наибольшее
влияние» (XI, 409) «щедрой, благоволящей натурой»,
7
Д. В . Григорович. Литературные воспоминания. Изд.
«Academia», Л., 1928, стр. 250.
8
На родственность этих персонажей впервые указано в кн.:
Ив. Иванов. Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь, личность, твор
чество (Нежин, 1914, стр. 175).
19*
291
горевшей «неугасимым пламенем поэтического энту
зиазма, веры в идеал», «одною из наших святых», овеян
ной ореолом свободы и высокой героики (Соч., XIV,
233-234).
Было бы, однако, большой ошибкой, особенно в связи
с решением вопроса о жанровых истоках романа Турге
нева, забывать о существенных различиях в отношении
писателя к личности Ж. Санд и ее творчеству. В разные
периоды его литературной деятельности Ж. Санд —г пере
довой и яркий человек своей эпохи и Ж. Санд — просто
художник означало для него отнюдь не одно и то же.
Сам Тургенев в статье-некрологе для «Нового времени»
говорит по этому поводу следующее: «Когда, лет восемь
тому назад, я впервые сблизился с Ж. Санд, восторженное
удивление, которое она некогда возбудила во мне, давно
исчезло, я уж не поклонялся ей...» (Соч. XIV, 233).
Опираясь на это высказывание, трудно определить точно,
когда именно началось охлаждение Тургенева к творче
ству французской писательницы. Если первые явственные
признаки ее влияния обнаруживаются в цикле «Записки
охотника», то «дата» его прекращения весьма неопреде
ленна. Она теряется где-то в пределах шестидесятых
годов, но, по-видимому, ее следует приурочивать все-таки
ко времени до создания романа «Отцы и дети». Прибли
зительно такими соображениями руководствовались после
смерти писателя некоторые критики, в литературно-кри
тических обзорах которых встречаются иногда очень
злые, но вместе с тем и меткие суждения по проблеме
Ж. Санд — Тургенев: в своем анализе они обычно не вы
ходили за хронологические рамки создания романа «На
кануне».
«Несмотря на то что Елена была превознесена выше
облак ходячих как лучший, как необыкновенно художест
венный тип русской „женщины-гражданки", — писал Бу
ренин, — в замысле и компоновке этого типа, если гово
рить всю правду, Тургенев позаимствовался из таких
книжных источников, как романы Жорж Санд, гораздо
больше, чем из наблюдений над действительными рус
скими женщинами. Несомненно также, что в нервической,
слегка надорванной Елене довольно искусственной „при
поднятости", что ее quasi-гражданский облик, если всмо
треться в него поглубже, представляется немного „сделан
ным", хотя, конечно, сделанным с большим искусством и
292
с искренним увлечением». Ядовитым намеком на литера
турное происхождение Елены являлась и следующая ее
буренинская характеристика: «... несмотря на „граждан
ские" претензии и сочувствия угнетенным щенкам и ни
щим девушкам, ничего не умеет делать, кроме как „от
даваться" то возвышенным мечтам, то герою своих
мечтаний».
9
Репутация Буренина как человека и критика
достаточно беспринципного, не раз выступавшего с злоб
ными выпадами не только против Тургенева, общеизве
стна. В его поведении было немало общего с деятель
ностью М. А. Антоновича, который на протяжении ряда
лет обливал грязью Тургенева — во имя защиты идеалов
«Современника» — а потом проделал то же самое с Не
красовым. Однако, если не принимать во внимание зло
пыхательский тон и моменты уродливого огрубления со
держания романа в трактовке Буренина, нужно признать,
что критику удалось верно указать на некоторые при
знаки жоржсандизма в «Накануне». Они сквозят в таких
чертах психологического облика тургеневской Елены, как
восторженная экзальтация, нервический темперамент и,
главным образом, жажда «деятельного добра». Все эти
признаки отличают поведение многих героинь Жорж
Санд и, по словам Тургенева, поведение ее самой.
Через несколько лет по существу аналогичные сужде
ния, но в более мягкой форме и с более широкими об
общениями были высказаны в «Критическом этюде»
Ю. Николаева. Возражая Тургеневу, называвшему Елену
новым типом в русской жизни, критик писал: «Но это не
был новый тип, не только в русской жизни, но даже и
в русской литературе — не говоря уже о французской.
В романах Жорж Санда, так усердно читавшихся и у нас,
давно уже выводился подобный тип — и, быть может, не
без влияния Жорж Санда этот женский тип сформиро
вался и в русской жизни, со своеобразною, конечно,
окраской и со своеобразными очертаниями... Существен
ные черты женщин и девушек этого типа заключаются,
по свидетельству самого Тургенева... „в смутном, хотя
сильном стремлении к свободе" и в искании „героя", ко
торому бы девица или дама „могла предаться"».
10
Мысль
9
В. Буренин. Литературная деятельность Тургенева. СПб.,
1884, стр. 116, 128.
10
Ю. Николаев. Тургенев. Критический этюд. М., 1894,
стр. 112 —113. —10. Николаев — псевдоним Говорухи-Отрока.
293
Ю. Николаева о широком воздействии Жорж Санд на рус
скую литературу и русскую* действительность вообще
(впрочем, об этом говорил и Тургенев, правда менее оп
ределенно)
впоследствии была развита в работах
Л. В. Пумпянского, который подчеркивал выдающуюся
роль романистики «великой француженки» в истории
развития освободительного движения в России, в «сложе
нии того типа женщины, который выдвинул незабвенную
фалангу революционерок 60-х и 70-х годов».
11
Вместе
с тем, не ограничиваясь указаниями на роман «Нака
нуне», Л. В . Пумпянский утверждал, что образы героинь
Ж. Санд стояли «над колыбелью» всех тургеневских жен
щин, ищущих деятельности, и в особенности тех из них,
которые находят эту деятельность в революционной
борьбе.
12
И все же как художественное целое роман «Нака
нуне» находится вне сферы влияния Ж. Санд. В период
создания и этого романа Тургенев уже «не поклонялся
ей». Об этом свидетельствует, например, и имеющее без
условно обобщающий характер суждение Тургенева о но
вом романе Ж. Санд «Даниэлла», высказанное в октябре
1857 года в одном из его писем к Полине Виардо: «Если
вы собираетесь прочесть „Даниэллу" — не
читайте оба
тома; это так плохо, что становится грустно; но в первом
томе есть прекрасные места, хотя характер Даниэллы
неправдоподобен... Я уже не раз замечал, что французов
меньше всего смущает отсутствие правды в художествен
ном произведении».
13
Скептическое отношение к художественной манере
Жорж Санд наметилось у Тургенева задолго до создания
романа «Накануне». Выражалось оно неоднократно, хотя
и не всегда определенно, на что имелись особые причины.
От прямой критики Тургенева удерживало уважение
к идейной направленности творчества Ж. Санд, призна
ние его значительной роли в воспитании молодого поко
ления в России. В связи с этим прежде всего следует на
помнить об обмене письмами между Тургеневым и
11
Л. В . Пумпянский. Романы Тургенева и роман «Нака
нуне». Историко-литературный очерк (см.: И,- С . Тургенев. Соч.,
т. VI. Госиздат, М—Л ., 1929, стр. 22).
12
Л. В. Пумпянский. Тургенев и Запад. В сб.: И. С. Тур
генев. Материалы и исследования. Орел, 1940, стр. 93 .
13
«Иностранная литература», 1971, No 1, стр. 183.
294
А. В . Дружининым по поводу содержания пЬвестй
«Фауст» (1856). Как известно, повесть заканчивалась ги
белью замужней женщины, полюбившей просветившего
ее героя. В этом Дружинин усмотрел явное нарушение
традиций Жорж Санд, во многих произведениях которой
обычно все происходит как раз наоборот: замужняя жен
щина уходит к новому избраннику, свободная любовь не
гибнет, а торжествует. «Окончание <„Фауста"> очень
важно: не усидели вы на Жорж Санде! — констатировал
Дружинин. — Понатужьтесь и скакните еще — да прочи
тайте книгу Льюэза о Гете — вот это пища».
14
Ответ Тур
генева Дружинину похож на отповедь. «Вы говорите, что
я не мог остановиться на Ж. Санд, — писал он, — разу
меется, я не мог остановитья на ней — так же, как, напр.,
на Шиллере; но вот какая разница между нами: для Вас
все это направление — заблуждение, которое следует
искоренить; для меня оно — неполная Истина, которая
всегда найдет (и должна найти) последователей в том
возрасте человеческой жизни, когда полная Истина еще
недоступна» (III, 29). Тургенев защищает идеально-ро
мантическое направление Ж. Санд от нападок сибарита и
холодного эстета Дружинина, подчеркивает в этом на
правлении нечто общее с шиллеровскими гуманно-герои
ческими идеями протеста против социальной несправед
ливости и низменной прозы мещанских житейских
отношений. В то же время нельзя не заметить: как худо
жественное достижение, творчество Ж. Санд оценивается
им достаточно трезво. Чувствуется, что оно не удовлетво
ряет каких-то очень важных запросов писателя. Подобно
драмам Шиллера и статьям Чернышевского, оно пред
ставляется ему все-таки «неполной истиной», очень полез
ной лишь в определенном «возрасте человеческой жизни».
В полемике с Дружининым Тургенев обошел полным
молчанием выдвинутую критиком антитезу: Гете —
Ж. Санд. Имя Гете им даже не упоминается. По-види
мому, объективное обсуждение этого вопроса завело бы
спорящих в дебри эстетических проблем, что в данном
14
Тургенев и круг «Современника». Неизданные материалы.
1847—1861. Изд. «Academia», М.- — Л., 1930, стр. 194. — О влиянии
Жорж Санд на раннее творчество Тургенева, в частности на по
весть «Андрей Колосов» (1844), • А. В . Дружинин писал в статье
«Повести и рассказы И. С. Тургенева» («Библиотека для чтения»,
1857, февраль, отдел «Критика», стр. 33).
295
случае не входило в задачу Тургенева. В своем письме
к Дружинину он настойчиво подчеркивает достоинства
Ж. Санд как писательницы с «направлением». Однако^
критическое отношение к ней как к художнику все-таки
ощущается в его доводах. Вообще отнюдь не академиче
ские вопросы о «направлении», о полной и неполной
«истине» (и не только в искусстве) особенно занимали
Тургенева; окончательное решение их в эти годы пред
ставлялось ему отнюдь не простым и легким делом. Его
сомнения по этому поводу явственно ощущаются, напри
мер, в размышлениях Лежнева, сравнивающего, с точки
зрения их воздействия на молодое поколение, «политиче
скую натуру» Рудина с более глубокой, разносторонней и
целомудренной душевной организацией Покорского. Ру-
дин обладал систематическим умом, а в пору своей ран
ней молодости — кипучим энтузиазмом и верой, на ходу
разрешающими всякие сомнения. «А ведь это-то и дейст
вует на молодежь! — замечает Лежнев. — Ей выводы по
давай, итоги, хоть неверные, да итоги! Совершенно добро
совестный человек на это не годится. Попытайтесь ска
зать молодежи, что вы не можете дать ей полной истины,
потому что сами не владеете ею... молодежь вас и слу
шать не станет. Но обмануть вы ее тоже не можете. На
добно, чтобы вы сами хотя наполовину верили, что обла
даете истиной» (гл. IV). По существу, в шестой главе
«Рудина» ставится та же проблема «неполной истины»,
что в письме к Дружинину, но с гораздо большей откро
венностью. Намек на диалектическое решение ее, только
угадываемый в возражениях критику, с которым у Тур
генева не могло быть прочного идейно-эстетического кон
такта, здесь уже совершенно очевиден. В речах Лежнева,
рассчитанных совсем на другую аудиторию, есть что-то
интимно-доверительное, они напоминают уже не отпо
ведь, а скорее исповедь. Ясно, на чью сторону склоняются
симпатии Тургенева и его героя, и все-таки оба еще не
решаются в открытую отдать безоговорочное предпочте
ние Покорскому...
В свете процитированных то восторженных, то дели
катно-критических высказываний Тургенева о Жорж
Санд уже как должное воспринимается логика двой
ственного отношения к ней в статье о «Племяннице».
Тургенев выдвигает ее роман в качестве некоего образца
для начинающего русского романиста, подчеркивает
296
с несомненным знаком плюс одну из типологических
особенностей ее творчества. Так, говоря о повести Евге
нии Тур «Долг», Тургенев отмечает, что в ней «попа
даются места, несколько напоминающие Жорж Санд, —
места, дышащие глубокой тревогой разгорающейся
страсти» (Соч., V, 372). Такие же «места» встретятся
в дальнейшем в собственном творчестве Тургенева —
в романах «Рудин», «Дворянское гнездо» и «Накануне».
G другой стороны, в статье чувствуется и совершенно
иная, критическая, тенденция в отношении творчества
Жорж Санд.
При внимательном чтении статьи о «Племяннице»
нетрудно заметить, что она носит обобщающий характер
и в той части, где Тургенев не высказывает предполо
жений о будущем русской литературы, а занимается,
казалось бы, исключительно критическим разбором ро
мана Евгении Тур. Роман «Племянница» является зача
стую только удобным поводом для нападения на женский
роман в целом и в особенности на ту его разновидность,
которая получила широкое распространение и призна
ние среди русских читателей благодаря писательской
деятельности Ж. Санд. Прежде всего, ряд конкретных
критических замечаний, высказанных по адресу Евгении
Тур и вообще по адресу женщин-писательниц, имеет
явное или скрытое, но в том и другом случае непосред
ственное отношение к Ж. Санд. Так, «в женских талан
тах» — причем при этом не делается исключения и для
«самого высшего из них — Жорж Санда» — подчерки
вается «что-то неправильное, нелитературное, бегущее
прямо из сердца, необдуманное, наконец, — словом, что-то
такое, без которого они бы на многое не покусились и,
между прочим, сна четырехтомный роман» (Соч., V, 374).
В числе характерных художественных огрехов романа
Евгении Тур Тургеневым отмечаются «несоразмерная
длиннота», недостаток чувства меры, «болтливость» опи
саний и диалогов, «окоторым решительно и ни под каким
видом не хочется остановиться» (Соч., V, 376). Нужно
иметь в виду, что уже за несколько лет до написания
статьи о «Племяннице», когда престиж Жорж Санд-
художника еще не был основательно поколеблен в глазах
Тургепева, по существу аналогичные претензии он
предъявлял даже к лучшим ее произведениям. В июле
1849 года он писал Полине Виардо: «На этих днях
297
я просмотрел „Консуэло".
Очень много прелестных
мест, но... Санд часто портит самые обаятельные свои
женские образы, заставляя их быть болтливыми, рассуди
тельными и педантичными. В том числе и маленькую
Фадетту» (1,347—348).
И сам по себе, а в результате критического пересказа
Тургенева в особенности, финал «Племянницы» выгля
дит очень похожим на растянутую концовку одного из
самых известных романов Ж. Санд. Тургенев характери
зует этот финал небрежно, как нечто весьма знакомое,
издавна присущее определенному разряду беллетристики:
«Но вот домашняя драма начинается: очарование давно
исчезло, выступают последствия грозной ошибки, тяжело
молодой женщине под гнетом ложного и унизительного
положения... Наступает время другу выступить вперед
и протянуть руку помощи. Но принять эту руку не
легко. Наступает обычное crescendo финала. Начинаются
недоразумения, подозрения, оскорбления... Клевета раз
ливается ядом; мгновенные возвращения
прежних
чувств, невольные укоры совести тотчас сменяются но
выми обидами. Безжалостный эгоизм, распаленный пре
ступной страстью, попирает добродушную и слишком
совестливую слабость...» и т. д. (Соч., V, 384). Если мы
вспомним, что происходит на многих десятках страниц
в последних главах романа «Орас», — бесконечные изде
вательства Ораса над своей возлюбленной, очень скоро
превратившейся в постылую жену; тягостные пережива
ния Марты, попавшей в безвыходное положение, —
одним словом, все те прозаически-мучительные, но вместе
с тем и явно «болтливые описания» угасшей любви, ко
торые предшествуют благополучному соединению Марты
с Полем Арсеном, — станет
очевидным, что сказанное
Тургеневым о «Племяннице» объективно имеет непосред
ственное отношение к этому роману Ж. Санд. Он не упо
минается Тургеневым, но в ряду произведений «женской»
беллетристики, подвергающихся его критике, этот роман
должен по праву занять одно из первых мест. Любовный
конфликт в нем завязывается, развивается и приводит
к неизбежным последствиям по классической «схеме»
«женского» романа, а именно эта схема и является одним
из главных объектов критики в статье Тургенева.
Жорж Санд — зачинательница этого типа романа, она
пользуется давним уважением Тургенева как талантли-
298
вая писательница с ярко выраженным передовым на
правлением. Но в данном случае эта особенность ее твор
чества как бы намеренно оставляется в тени. Ведется
трезвый критический анализ совсем в иной плоскости,
и в ходе этого анализа явно ставится под сомнение зна
чимость ее романа с точки зрения художественного реа
лизма, подвергаются прикровенной, но неотразимой на
смешке характерные приемы его построения, ставшие не
только традиционными, но и шаблонными, его сюжетика,
фабула и композиция, банальная группировка зачастую
бесцветных,
художественно неубедительных образов.
Свои критические стрелы Тургенев в первую очередь на
правляет по адресу Евгении Тур, но каждый раз часть
этих стрел неизменно попадает и в Ж. Санд.
Вскрывая главные художественные недостатки в по
строении «Племянницы», Тургенев, как правило, возво
дит их к первоисточнику — творчеству Ж. Санд. С по
мощью такого приема подчеркивается не столько подра
жательность произведения Евгении Тур (которая из
контекста статьи и без того очевидна), сколько типологиче
ское сродство целого ряда несимпатичных Тургеневу
явлений из области «женского» романа. Так, например,
излагая фабулу «Племянницы», Тургенев отмечает с яв
ной иронией: «В этот семейный кружок... введен один
друг дома... некто г. Ильменев, белокурый молодой чело
век, весь составленный из самоотвержения, неловкости,
преданности, почтительной грусти и затаенной любви,
одно из тех лиц, которых, с легкой руки Ральфа в „Ин
диане", непременно встречаешь в каждом женском ро
мане новейшего времени» (Соч., V, 375). Беглая ссылка
на «Индиану» естественно воспринимается в данном слу
чае как вполне обоснованный иронический намек на це
лую группу произведений Ж. Санд, в которых действи
тельно постоянно выводятся подобные герои. Это именно
те «люди воли и сердца», «смирные» антагонисты «хищ
ных» героев, о которых, пользуясь терминологией А. Гри
горьева, писала в своих исследованиях В. Д. Стасова-Ко
марова (см. выше). Но вот что говорит Тургенев об этих
«смирных», а заодно и о тех сюжетно-композиционных
комбинациях и «антитезах» критикуемого им романа, по
строение которых, так сказать, немыслимо без их уча
стия. Напомним, что это говорит уже в 1852 году тот
самый Тургенев, который якобы всю жизнь чуть ли не
299
подражал Ж. Санд именно в этом отношении. «Между
Машей, его ученицей, и им, — отмечает Тургенев, — су
ществуют отношения чрезвычайно нежные и вообще
весьма похвальные, но не лишенные некоторой тихой
скуки для читателя. Он ее наставник, ее друг, ее воспи
татель. Он ее очень любит, и она его любит; но вы уже
с первых страниц романа чувствуете, что эта взаимная
любовь не тотчас увенчается желанным успехом, что
идиллическую эту тишину нарушит буря, что сердцу
Маши суждено испытать чувство более страстное и зной
ное, чем ее детское расположение к своему скромному
наставнику. И действительно, эта буря наступает. Она
является в виде блестящего князя Чельского... его со
провождает какой-то г . Плетнеев, тоже белокурый госпо
дин с такой бледной физиономией, что память читателя
изо всех его призрачно мелькающих черт с трудом удер
живает одну какую-то полуребяческую, полустарческую
восторженность и мечтательность. Князь является и,
как водится, побеждает. Ильменев, как водится, тоже
догадывается, страдает и молчит. Плетнеев хотя менее
догадывается, но влюбляется, страдает и молчит тоже...»
Заканчивая разбор первого тома «Племянницы», Турге
нев изменяет пренебрежительно-иронический тон на
почти издевательский: «Особенно туманна, — отмечает
он, — середина этой первой части, благодаря упорному
пребыванию в ней Ильменева и Плетнеева — этих двух
сиамских близнецов несчастной любви; но обо всех этих
недостатках мы говорили выше, как о более или менее
неизбежных принадлежностях женского
писанъя...»
(Соч., V, 375, 376. Курсив мой, — А. Б.).
Во второй и третьей частях «Племянницы» Тургеневу
понравился только вставной эпизод этого романа — рас
сказ о жизни Антонины Бертини, впоследствии исполь
зованный им в повести «Несчастная».
15
Что же касается
«смирного» Ильменева, он по-прежнему вызывает у него
град ядовитых насмешек. Тургенев, например, пишет:
«Добродетельный Ильменев... прибывает в Москву перед
окончанием развязки отношений князя и Маши. Чита
тель приветствует его появление странным чувством, по-
15
См. статью А. И . Белецкого «Тургенев и русские писатель
ницы 30—60-х годов» (в сб.: Творческий путь Тургенева. Под ред.
Н. Л . Бродского. Пгр., 1923, стр. 154—156).
300
хожим на то, с которым мы часто встречаем иных наших
хороших друзей: нам приятно их увидеть, но нам не не
приятно с ними расстаться, и в их отсутствие мы как-то
охотнее отдаем им полную справедливость» (Соч., V,
378—379). Даже характеризуя князя Чельского, Турге
нев не удерживается от изъявления непримиримой
художнической антипатии к Ильменеву. «Князь Чель-
ский, — отмечает
он, — тоже неживое лицо» (Соч.,
V,
379. Курсив мой, — А. Б .) . «С Ильменевым, — отмечает
далее Тургенев, по-прежнему настойчиво подчеркивая
повторяемость одних и тех же сюжетных положений
в «женской» романистике, — Маша почти раззнакоми
лась: он, как все несчастные, но благородные любовники,
наложил на себя маску мнимого равнодушия и с муже
ством носил ее до тех пор, пока Маша была или казалась
счастливою...» (Соч., V, 384).
По своему характеру, роли и положению в романе
«Племянница» Ильменев почти двойник не только
Ральфа в «Индиане», что установлено самим же Турге
невым, но и Поля Арсена в «Орасе».
Возникновение, развитие и завершение любовного
конфликта в «Племяннице» целиком укладывается
в традиционную схему «женского» романа, а точнее — ро
мана Ж. Санд, которую можно выразить следующим
образом: Маша—Чельский—Ильменев («Племянница»),
Индиана—Раймон де Рамьер—Ральф («Индиана»),
Марта—Орас—Поль Арсен («Орас»). Все три «смирных»
героя-неудачника, изображенные в многочисленных про
явлениях своих докучных «добродетелей» и похвального
стоицизма, в конце концов оказываются самыми достой
ными претендентами на руку и сердце главных героинь
названных произведений. Именно такое шаблонное раз
витие и завершение любовного конфликта подвергается
нескончаемым насмешкам Тургенева. Об этом же свиде
тельствует и его итоговая реплика по окончании крити
ческого разбора «Племянницы»: «...Мы вправе предпо
лагать, что испытанная дружба Ильменева не останется
без награды» (Соч., V, 385). Наконец, в статье о «Пле
мяннице» следует особо отметить еще один критический
выпад Тургенева, устраняющий какие бы то ни было
сомнения в сознательном и преднамеренном сопоставле
нии творчества Евгении Тур и Ж. Санд по принципу
сюжетно-композиционного сходства. Тургенев вопрошает:
301
«Отчего Йльменев, этот добрый гений Маши, эта пре
данная, нежная, любящая натура, — отчего
он непре
менно должен быть неловок, неуклюж, некрасив и мол
чалив, отчего волосы торчат на его голове кверху в виде
листьев артишока?» И отвечает на этот вопрос следую
щим образом: «... мы не можем не видеть на самом
Ильменеве отражения опять-таки Чельского: каждый из
них представляется нам членом антитезы, уже тысячу
раз выведенной в романах, — антитезы блестящего, хо
лодного и ложного характера с характером истинным,
теплым, но уже слишком тусклым, и мы не можем
не сожалеть о том, что г-жа Тур, с ее живым взглядом на
вещи, пошла по этой несколько избитой дороге» (Соч.,
V, 380—381). Последние строки этой обобщающей ха
рактеристики сопровождаются подстрочным авторским
примечанием: «Вспомним, между прочим... Леона Леони
и Ганрие у Жорж Санда и проч. Г-жа Тур начитана,
но начитанность не всегда достоинство в сочинителе»
(Соч., V, 381). Тургенев здесь упрекает Евгению Тур
за подражание Ж. Санд, но делается это так, что и объ
ект подражания выглядит в достаточно невыгодном осве
щении: одновременно с констатацией факта подражания
высказывается искреннее сожаление о том, что Е. Тур,
«с ее живым взглядом на вещи, цошла по этой несколько
избитой дороге...»
Поль Ганрие, добродетельный герой романа «Леон
Леони», в сущности, ничем не отличается от Ральфа,
Поля Арсена и Ильменева, и только совершенно случай
ная смерть его в конце повествования не позволяет рас
сматривать схему любовного конфликта в этом романе
в одном ряду с Математически адекватными схемами
в «Индиане», «Орасе», и «Племяннице».
Подчеркнуто критическое отношение к русской и за
рубежной «женской» беллетристике, просвечивающее
в анализе романа «Племянница», само по себе, может
быть, и не нуждалось бы в столь подробном освещении,
если бы все это не получило определенного резонанса
в художественном творчестве Тургенева. Следует пола
гать, что именно этой критикой в известной мере как бы
предуказаны некоторые характерные особенности в прин
ципах формирования сюжетно-композиционной и образ
ной системы «Рудина». В «Рудине» определенно чув
ствуется и тяготение к традиционным композиционным
302
формам романа Ж. Санд и, в еще большей степени, ак
тивное отталкивание от них. Диалектический подход
к творчеству Ж. Санд, проявленный Тургеневым-крити
ком, продолжает сказываться и в работе Тургенева-ху
дожника.
Внешне схема любовной коллизии в романе Тургенева
(Наталья—Рудин—Волынцев) выглядит как сжатое во
времени и пространстве повторение «избитых» сюжетно-
композиционных положений женского романа, высмеян
ных самим же писателем в статье о «Племяннице».
Подобно своим предшественницам в «Индиане», «Орасе»
и «Племяннице», Наталья Ласунская страстно увлекается
блестящим Рудиным, пренебрегая верным, но неэффект
ным Волынцевым, но, в конце концов, вполне разочаро
ванная, возвращается к последнему. В ходе любовной
коллизии каждый ее участник отдельными чертами
своего характера или поведения в тех или иных конк
ретных ситуациях обязательно напоминает
героев
Ж. Санд. Так, Рудин, пользуясь присущим ему даром
вдохновенной импровизации, покоряет сердце Натальи
с первой же встречи: «...взор ее, неподвижно устремлен
ный на Рудина, и потемнел и заблистал... Подперши
голову рукою, она глядела пристально в темноту; лихо
радочно бились ее жилы, и тяжелый вздох часто при
поднимал ее грудь» (гл. III).
Аналогичную
событийно-психологическую
завязку
любовного конфликта мы находим в «Орасе». Описание
душевного состояния Марты, впервые встретившейся
с красноречивым фразером, очень похоже на приведен
ную тургеневскую характеристику переживаний На
тальи: «Марта подпала под власть его обаяния, и ничто
уже не могло спасти ее. Склонившись над работой со
стесненным дыханием и затуманенным взором, она из
редка отваживалась на робкий взгляд и всякий раз,
встречая взгляд Ораса, быстро опускала глаза в смуще
нии, исполненном ужаса и блаженства».
16
В том же романе
Жорж Санд выведен некто Теофиль, приятель и постоян
ный антагонист Ораса, изучивший до тонкостей его ха
рактер, персонаж, которому известны все тайны душевной
жизни героя в прошлом и настоящем. Пользуясь этим
преимуществом, Теофиль выступает зачастую в обличий
16
Жорж С а н.д . Орас. Гослитиздат, М., 1960, стр. 124 .
303
авторитетного истолкователя поступков и убеждений
Ораса, в роли резонера и даже судьи, неутомимо помо
гающего окружающим и читателю романа составить пра
вильное представление о подлинной сущности этой свое
образной личности. Теофиль восхищается, например,
«поразительной интуицией» Ораса, «благодаря которой
ему достаточно было мимоходом коснуться любого во
проса, чтобы тут же усвоить его и развить...»
17
Он же
подчеркивает нередко сомнительную
оригинальность
суждений своего антагониста. «Если он излагал какую-
нибудь идею, — замечает Теофиль, — то
вас поражал
(да и его самого тоже) явный плагиат, ибо эта идея при
надлежала вовсе не ему».
18
Нечто подобное говорит о Ру-
дине и Лежнев, выполняющий в романе Тургенева
функции, весьма сходные с основной задачей сандовского
Теофиля: «Рудин превосходно развивал любую мысль,
спорил мастерски; но мысли его рождались не в его го
лове: он брал их у других» (гл. VI). Наконец, Волынцев,
третий; участник любовного конфликта в «Рудине»,
в изъявлениях своих чувств к Наталье иногда робок и
неловок до косноязычия — как Ильменев в «Племян
нице», Ральф в «Индиане» или Поль Арсен в «Орасе».
По словам наблюдательного Пигасова, этот молчаливый
влюбленный, мужественно несущий свой крест неудач
ника, похож временами на «грустного зайца» (гл. VI).
Как видим, совпадения сами по себе достаточно крас
норечивы и не оставляют сомнений в реальном сущест
вовании сюжетно-композиционных и образных связей
между «Рудиным» и некоторыми романами французской
писательницы. Однако не следует придавать этим совпа
дениям слишком большого значения. Дело в том, что
сходство «Рудина» с романом «Орас», например, в ос
новном ограничивается теми моментами, на которые ука
зано, и на поверхности тургеневского повествования на
чинают проступать все явственнее несравненно более
существенные признаки
принципиального
различия
в трактовке аналогичных типов и внешне сходных сю
жетно-композиционных положений. Прежде всего эти
признаки бросаются в глаза при сопоставлении Волын-
цева с Полем Арсеном, Ральфом, Ильменевым и др.
Там же, стр. 56.
Там же, стр. 97.
304
Волынцев все-таки очень выгодно отличается от них
жизненной убедительностью своего психологического об
лика и поведения. Душевная жизнь Волынцева много
образнее и, что еще важнее, гораздо правдивее пережи
ваний его идеальных коллег по безответной любви. Не
которые сцены романа, рисующие отношение Волынцева
к Рудину и Наталье, естественно наводят на мысль
о скрытой полемике, являющейся по существу художест
венным преломлением и развитием насмешливо-прене
брежительной интерпретации сюжетно-композиционной
и образной системы «женского» романа, данной в статье
о «Племяннице». Так оно и было на самом деле.
Волынцев у Тургенева — нормальный, обычный че
ловек, каких много в действительности, а не придуман
ная с усилием ходячая добродетель, изображаемая с пре
тензией на создание идеально-непогрешимого характера.
Многие черты его душевного склада охарактеризованы
по принципу явно намеренного контраста с эмоцио
нально-неповоротливыми, «тусклыми», по определению
Тургенева, характерами героев Е. Тур и Ж. Санд. Те го
дами терпеливо дожидаются своего часа в любви, не вме
шиваясь в отношения своей дамы сердца к счастливому
сопернику. Волынцев, напротив, нередко строптив и даже
вспыльчив. Наблюдая беспрерывные триумфы Рудина
в гостиной Ласунской, и, в частности, одну из его сни
сходительно-беспощадных расправ с Пигасовым, Волын
цев не выдерживает: «Позвольте же каждому, — резко
заговорил Волынцев, и глаза его загорелись, — позвольте
каждому выражаться как ему вздумается. Толкуют
о деспотизме... По-моему, нет хуже деспотизма так на
зываемый умных людей. Черт бы их побрал!» Он умеет
быть нетерпеливым даже с Натальей, которую боготво
рит: «Раскланиваясь с Натальей, он не вытерпел и ска
зал ей, — тоже довольно резко: „Отчего^ вы так сму
щены, словно виноваты? Вы ни перед кем виноваты быть
не можете!"» (гл. VII). После визита Рудина, нетактично
4
сообщающего о любви к нему Натальи, Волынцев ос
корбляется и ревнует до бешенства. «Нет! — восклик
нул он, — я этого дольше выносить не в силах! Я вызову
этого умника, и пусть он меня застрелит, либо уж я по
стараюсь влепить пулю в его ученый лоб... Я ему до
кажу, что шутить со мной нельзя... Я его, проклятого
философа, как куропатку застрелю» (гл. X). Волынцев
20 А. Батюто
305
и внешне вполне нормален. У неловких и неизящных
героев Ж. Санд и ее последовательниц волосы за
частую «торчат... кверху» наподобие «листьев арти
шока», у него же вполне приличная наружность, даже
«прекрасные темно-русые усы», и незатрудненные ма
неры человека, привыкшего бывать в обществе. В «Ру-
дине», наконец, нередко происходят вещи почти невоз
можные в «женском» романе: преуспевающий блестящий
соперник не единожды компрометирует себя лестью
герою-неудачнику, постоянно заискивает перед ним при
явном к нему нерасположении: «Рудин называл его ры
царем, превозносил его в глаза и за глаза»,.«всегда шумно
приветствовал Волынцева», «но едва ли был к нему рас
положен» (гл. VI). В связи с этими сценами нельзя не
вспомнить об иронических замечаниях Тургенева по по
воду преклонения Евгении Тур перед ложным блеском
характеров покорителей девичьих сердец. Кстати сказать,
в таком преклонении Жорж Санд повинна иногда ничуть
не менее Е. Тур, что, возможно, также подразумевалось
Тургеневым.
«Мы не можем, — писал Тургенев, — считать
не
сколько жестких и строгих фраз, сказанных автором на
счет своего героя, достаточным вознаграждением за ту
невольную нежность к нему, которая то и дело либо вы
сказывается положительно, либо проглядывает между
строками... Отчего, с улыбкой юмора начиная рисовать
черты этого лица, не лишенного пленительности, но —
повторяем — комического и мелкокомического, — отчего
вдруг карандаш трепещет в нашей руке, и мы невольно
то смягчаем резкую линию, то придаем взору силу и
глубину, ложность которых чувствуем сами? ..» (Соч., V,
379—380). Конечно, Рудин не чета князю Чельскому,
обольстительному злодею Леону Леони или, например,
красавцу Анзолетто в «Консуэло», — персонажам, вполне
достойным того, чтобы над ними «хоть изредка... побря
кивали. .. гремушки веселой насмешки». Но зато Рудину
и наказание выбрано соответственное: над ним в данном
случае незримо заносится более «тяжелое орудие» — «бич
сатиры», о котором Тургенев также упоминает в статье
о «Племяннице».
Па принципу контраста изображено и благополучное
завершение любовного конфликта между Волынцевым и
Натальей: в нем нет приторного апофеоза любви — . обвдч-
306
ного лейтмотива аналогичных сцен в критикуемой Тур
геневым беллетристике (наиболее характерна в этом от
ношении концовка «Индианы», первого и, пожалуй, са
мого слабого романа Жорж Санд). Союз Натальи с Во-
лынцевым изображается как почти будничное явление —
сдержанно и лаконично, с присущими Тургеневу реали
стическим тактом и чувством меры. Но, оберегая Наталью
и Волынцева от ложного, сентиментально-романтического
пафоса в выражении их чувств, Тургенев «щадит» и по
бежденного. В финале романа Рудин, в противополож
ность многочисленным сандовским героям типа Ораса,
достоин глубокого сочувствия и уважения. Это уже не
фразер, не «путешествующий принц», поражающий вооб
ражение своих слушателей обдуманно эффектными
речами и позами, а лицо трагическое, «бесприютный ски
талец», сломленный в неравной борьбе за осуществление
не эгоистических идеалов. По сравнению с Орасом Рудин,
в конечном итоге, выглядит гигантом.
Разумеется, русский гегельянец, представитель поко
ления, подарившего России немало замечательных дея
телей в различных сферах общественной жизни, имел
достаточно оснований для того, чтобы затмить своей фи
гурой самовлюбленного мелкого буржуа Ораса, в конце
концов предающего своих друзей и делающего карьеру.
19
Однако принципиальные различия в жорж-сандовской и
тургеневской итоговых оценках духовной значимости
типа фразера определялись не только этим обстоятель
ством. Окажись Жорж Санд в положении Тургенева, она
19
Исчерпывающая характеристика Ораса с этой точки зре
ния дана Герценом, неоднократно использовавшим роман Жорж
Санд в своих нападениях на западноевропейскую буржуазную
цивилизацию: «Орас сам афиша, живая декорация, воплощенная
ложь. Вечный актер, он ежеминутно позирует... у него совсем
нет сердца к чему-нибудь вне его самого... Сверх собственной
опасности, для Ораса существует одна узда — партер, обществен
ное мнение; оставьте его одного — он не будет себе мыть рук...
Чтоб выправиться из смешного положения, он опозорит сестру,
предаст друга... страстно желает денег... Дайте ему сто тысяч
франков доходу и „monsieur le marquis" перед фамилией — он
не пустит вас к себе в дом. Существо это, позолоченное снаружи
и испорченное внутри, у которого развиты все страстные пополз
новения и ни одной страсти, вносит гибель и несчастие во все
круги людей простых и искренних» (А. И . Герцен. Собр. соч.
в 30 томах, т. XII. Изд. АН СССР, М., 1957, стр. 335—336).
20*
307
скорее всего увидела бы в Рудине второго Ораса со всеми
отталкивающими чертами его облика.
В предисловии к «Орасу» Жорж Санд подчеркивала,
что в своем романе она стремилась к резкому противо
поставлению героя, «наделенного безграничной самоот
верженностью»,
герою,
«обладавшему необузданным
себялюбием». Отдавая безоговорочное предпочтение пер
вому из них, Жорж Санд настаивала на том, что «оба
эти характера вечны», что природа «мало-мальски мы
слящих существ», разделенных на эти «два вида», неиз
менна в разные периоды человеческой истории.
20
В соот
ветствии с этим замыслом, в котором есть нечто напоми
нающее старые теории классицизма, а также некоторые
социально-утопические идеи, наложившие определенный
отпечаток на творчество писательницы,
21
в психологиче
ском портрете «необузданного себялюбца» Ораса преоб
ладают однообразно-мрачные тона, постепенно сгущаю
щиеся к концу романа. Орас последовательно и неук
лонно развенчивается во имя торжества высокой
добродетели в лице самоотверженного «простака» Поля
Арсена.
Тургенев шел иным путем. Дидактически-морализа-
торская и сентиментально-романтическая
тенденции,
в значительной мере предопределяющие в «Орасе» рас
становку главных героев и исход борьбы между ними,
совершенно отсутствуют в его романе. Вследствие этого
Рудин и Волынцев меньше всего похожи на статичные
олицетворения порока и добродетели, и если можно гово
рить об их противопоставлении, оно происходит совсем
на другой основе. Жорж Санд все время на стороне ан
типода Ораса, Тургенев же сочувствует и Рудину, и Во-
лынцеву. Образы Рудина и Волынцева изменчивы, по
тому что созданы по меркам живой действительности,
20
Жорж Санд. Орас, стр. 15—16.
21
Воздействие идей утопического социализма на Ж. Санд
было особенно сильным как раз в 1840-е годы, когда создавался
«Орас». Но в те же годы в ее творчестве наметился поворот
к так называемому деревенскому роману. Характерно высказы
вание Тургенева по этому поводу —в связи с появлением в пе
чати романа Ж. Санд «Франсуа Найденыш» (1847—1848):
«... ясно видно, что ей по горло надоели социалисты, комму
нисты, Пьер Леру и другие философы, что она ими измучена и
с наслаждением погружается в этот источник молодости — искус
ство простодушное и совершенно земное» (I, 456).
308
а не отвлеченных логических построений. В острых кон
фликтных отношениях Рудин и Волынцев обнаруживают
подчас противоречивые и неожиданные свойства и воз
можности своих характеров. В такой психологически гиб
кой трактовке образов сказывалось настойчивое стремле
ние Тургенева к «полной истине» художественного вос
произведения реальности, к той истине, на отсутствие
которой в творчестве Жорж Санд он намекал в цитиро
ванном выше письме к А. В. Дружинину.
Роман «Рудин» — первое крупное произведение Тур
генева, в котором явственно определилась его склонность
к реалистическому изображению неснимаемых противо
речий в душе незаурядного героя. В этом отношении
Рудин был предтечей Базарова и не имел ничего общего
со своим «предшественником» Орасом.
22
Появление этой
качественно новой особенности в художественной манере
писателя чутко отметил в свом отзыве на роман К. С. Ак
саков. 18 (30) июня 1856 года он писал Тургеневу:
«... такое лицо, как Рудин, замечательно и глубоко...
Нужна была зрелость созерцания для того, чтобы видеть
пошлость рядом с необыкновенностью, дрянность рядом
с достоинством, как в Рудине. Вывести Рудина было очень
трудно, и вы эту трудность победили...»
23
Известная зависимость Тургенева от Жорж Санд, ска
завшаяся в заимствовании некоторых приемов компози
ции, не вызывает особых сомнений. Иногда ощутима
преемственность и в принципах изображения главных и
второстепенных героев в романах «Рудин» и «Накануне».
Вместе с тем очевиден и другой, несравненно более важ
ный итог: в творческой практике Тургенева, в особен
ности при создании «Рудина», уже налицо художествен
ная полемика с Жорж Санд (образы Рудина и Волын-
цева), действенная, широко задуманная, углубленно
реалистическая огласовка жанра и образной системы ее
романа. Быть может, Тургенев стремился к этому не
всегда вполне осознанно, руководствуясь в иных случаях
скорее смутными, но безошибочными велениями своего
22
В данном случае мы совершенно не согласны с точкой
зрения В. Д. Стасовой-Комаровой, утверждающей, что «в „Ру
дине" весь характер героя навеян Орасом» (Владимир К а р е-
н и н. Жорж Санд, его жизнь и произведения, стр. 19. — Курсив
мой, — А. Б.).
23
«Русское обозрение», 1894, декабрь, стр. 587.
309
художественного инстинкта, чем последовательно целе
направленной идеей, — все равно, взаимодействие его
первого напечатанного романа с романистикой Жорж
Санд, не говоря уже о ее русских подражательницах,
объективно сводилось именно к такому результату.
Характеристику связей Тургенева с Жорж Санд в об
ласти построения романа уместнее всего закончить сло
вами французской писательницы: «... ни один ум не бы
вает тождествен другому и никогда одни и те же причины
не вызывают в разных умах одинаковых следствий; по
этому многие мастера могут одновременно стремиться пе
редать одно и то же чувство, разрабатывать один и тот же
сюжет, не опасаясь повторить друг друга».
24
2. Тургенев и Панаев
В связи с изучением истории формирования сюжета,
композиции и образной системы «Рудина» нужно, по-ви
димому, особенно учитывать один эпизод из предшест
вующей творческой биографии писателя, имевший психо
логически важные последствия, — крушение замысла ро
мана «Два поколения». Неудача, постигшая Тургенева
во время работы над этим обширным произведением,
только первая, написанная и потом уничтоженная часть
которого заняла целых пятьсот страниц,
25
усугубила его
сомнения в своих силах и заставила с еще большей на
стойчивостью искать опоры и поддержки извне. Первая
неудачная попытка по созданию крупной эпической
формы психологически предрасполагала Тургенева к тому,
чтобы пойти, так сказать, по пути наименьшего сопротив
ления, т. е. по линии использования уже накопленного
литературного опыта, своего и чужого. В первую оче
редь это привело его к роману Ж. Санд. Но использова
ние в «Рудине» некоторых сюжетно-композиционных ком
понентов этого романа свидетельствовало об умении
24
Жорж Санд. Орас, стр. 97—98.
25
Подробное освещение творческой истории незавершенного
романа «Два поколения» дано в статьях и комментариях
Л. Н. Назаровой и А. Мазона (см.: Соч., VI, 594—605; «Литератур
ное наследство», т. 73, кн. 1 . Изд. «Наука», М., 1964, стр. 39—58).
310
писателя вдохнуть новое содержание в отживающие свой
век литературные формы, следовательно, уже тогда слу
жило показателем его творческой зрелости и независи
мости. Разумеется, история создания «Рудина» не исчер
пывается только этими связями.
С точки зрения сюжетно-композиционной «Рудин»
представляет собою сложный синтез разнородных лите
ратурных явлений. Сравнительно небольшой по объему
и вхвоем первоначальном замысле не отличавшийся ши
рокой постановкой проблемы «липшего человека», «Ру
дин» как роман оказался в непосредственной близости
и к жанру повести. О жанровом взаимодействии «Ру
дина» и вообще всей романистики Тургенева с целым
рядом его собственных повестей мы уже говорили. Сей
час обратимся к характеристике жанровых и иных свя
зей «Рудина» с русской повестью сороковых годов.
Содержание романа «Рудин» и, в частности, характер
его главного героя в основном навеян и предопреде
лен русской действительностью, глубоким знакомством
Тургенева с гегельянским периодом в развитии передо
вой русской дворянской интеллигенции. В разработке
рудинской темы на родной почве Тургенев не был перво
открывателем-одиночкой. Здесь у него были соратники и
даже предшественники. Поэтому, если постановка во
проса о «литературных прототипах» Рудина все-таки
правомерна, их следует искать прежде всего в русской
литературе.
Один из предшественников Тургенева заслуживает
особого внимания по той роли, которую ему невольно
суждено было сыграть в формировании романа «Рудин».
Речь идет о И. И . Панаеве и его повести «Родствен
ники» (1847), преданной забвению еще при жизни
автора. Сопоставление повести Панаева с романом Тур
генева
26
приводит к неизбежному заключению: малоза
метный герой этой повести Григорий Алексеич — геге-
лист, выученик московского философского кружка, не
приспособленный к практической жизни человек, испы
тывающий постоянный разлад между словом и делом,
страдающий отсутствием воли, — находится в несрав-
26
Впервые такое сопоставление сделано в статье Н. Л. Брод
ского «Генеалогия романа „Рудин"» (в сб.: Памяти П. Н . Саку-
лина. М., 1931, стр. 18—35).
311
ыенно более близком идейно-психологическом родстве
с Дмитрием Рудиным, чем герой Ж. Санд. В целом по
весть Панаева можно рассматривать как один из сюжет-
но-композиционных прообразов этого романа Тургенева.
В ней есть даже своя Наталья, и отношения ее с героем
приводят приблизительно к такому же результату, как
в «Рудине». Сходство в сюжете и композиции становится
еще более очевидным при сравнении повести Панаева
с первой редакцией «Рудина», в которой роман, по трак
товке главного героя, был очень близок к психологиче
ской повести Тургенева — «Гамлету Щигровского уезда»,
«Дневнику лишнего человека», «Переписке». Названные
произведения создавались совершенно независимо от Па
наева, но с повестью последнего их объединяла одна об
щая черта — по преимуществу критическое освещение
характера «лишнего человека». К этому следует доба
вить, что первоначальное заглавие романа Тургенева —
«Гениальная натура» — также восходит к творчеству Па
наева — к его фельетону под таким же названием, напе
чатанному в пятом номере журнала «Современник» за
1855 г.
27
Н. Л. Бродский, которому принадлежит приоритет
в постановке и изучении проблемы Панаев — Тургенев,
не совсем прав, как нам кажется, только в одном. Он пи
шет: «Тургенев как автор „Рудина" стоял на почве
определившихся, застывших литературных образов; ри
совал те же портреты, над которыми работали его пред
шественники или современники, отличаясь от товарищей
по перу лишь степенью таланта, превращающего их
бледные наброски в яркие картины».
28
На самом деле
можно и следует говорить о различиях, обусловленных
не только «степенью таланта». Прежде всего была раз
ница в масштабах героя: Григорий Алексеевич из по
вести Панаева и аналогичные ему персонажи из произ-
27
См. статью М. О. Габель «Творческая история романа
„Рудин"» («Литературное наследство», т. 76. Изд. «Наука», М.,
1967, стр. 19—20). Там же приводятся примеры сюжетных совпа
дений в фельетоне Панаева и романе Тургенева. В частности,
указывается на перекличку «анекдота» Пигасова о романтиче
ской любви Рудина к особе легкого поведения — французской
модистке в немецком городке на Рейне — с рассказом Панаева
о такой же любви его героя к берлинской продавщице апель
синов.
28
Н. Л. Бродский. Генеалогия романа «Рудин», стр. 23,
312
ведений А. Д. Галахова («Превращение»), Ф. Ф. Корфа
(«Как люди богатеют»), А. Григорьева («Мое знаком
ство с Виталиным»)
29
— рядовые представители эпохи
сороковых годов, Рудин — один из самых выдающихся.
На это обстоятельство косвенно указывает сам же
Н. Л . Бродский — отчасти в названной статье, а также
в другом своем исследовании «Бакунин и Рудин».
30
Что же касается главных женских образов в повести Па
наева и романе Тургенева, разница между ними, очень
существенная и характерная, предопределенная принци
пиальными несовпадениями в художественном методе,
которым руководствовались оба писателя при создании
этих образов, осталась вовсе незамеченной исследова
телем.
В сцене у Авдюхина пруда раскрывается огромное
нравственное превосходство Натальи Ласунской над Ру-
диным, и сам герой с горечью признает свое унизитель
ное поражение в состоявшемся поединке характеров:
«Как я был жалок и ничтожен перед ней!» И далее,
в прощальном письме к Наталье: «...я точно недостоин
вас. Я не стою того, чтобы вы для меня отторглись от ва
шей сферы». Тургеневский «лишний человек» не впер
вые уступает здесь пальму первенства женщине. По су
ществу аналогичное признание делается в письме Але
ксея Петровича к Марье Александровне (повесть «Пе
реписка»), являющемся своеобразным дифирамбом кра
соте души и характера женщины и вместе с тем весьма
злою и самокритичной отповедью «лишнему человеку»
с его жалким эгоизмом: «Если б женщины знали, на
сколько они добрее, великодушнее и умнее мужчин... их
мысль не привыкла беспрестанно возвращаться к самой
себе, как у нашего брата. Они о себе мало думают
Они расточают свою душу, как щедрый наследник отцов
ское золото, а мы с каждого вздора берем проценты...»
В ряде своих повестей и романов, ставя русскую де
вушку лицом к лицу с той или иной разновидностью
«лишнего человека» («Затишье», «Переписка», «Рудин»,
«Ася», «Новь»), Тургенев неизменно отдает предпочте
ние идеальному женскому началу. В исследовательской
29
Там же, стр. 23—24.
30
«Каторга и ссылка», 1926, No 5.
313
Литературе неоднократно отмечалось, что эта особенность
его творчества преемственно связана с пушкинской тра
дицией («Евгений Онегин», «Рославлев»).
На первый взгляд, нечто подобное происходит и в по
вести Панаева. Герой «Родственников» в типично рудин-
ской ситуации произносит знаменательные слова: «Но
я никогда не буду в состоянии так любить, как она меня
любит! Нет, что ни говори, наши женщины несравненно
выше нас. Мы не стоим их, решительно не стоим.
Мы все эгоисты, рефлектеры... Мы ни на что не спо
собны, никуда не годны!»
31
Совпадение эмоций и сужде
ний героев Панаева и Тургенева в данном случае на
столько очевидно, что невольно напрашивается мысль:
поскольку «Родственники» написаны гораздо раньше
«Переписки» и «Рудина», не является ли преломление
пушкинской традиции в названных произведениях Тур
генева опосредованным — через повесть Панаева? Однако
для такого заключения нет никаких оснований. Все дело
в том, что восторженная характеристика Наташи и рус
ской женщины вообще, высказанная Григорием Алексее
вичем, не находит подтверждения в непосредственно ав
торском понимании и образном видении главного жен
ского характера повести.
Изображая Наталью, Панаев далек от намерения со
здать поэтический женский образ. Наряду с задатками
живой ищущей натуры он нередко с оттенком добродуш
ной иронии и снисходительного пренебрежения подчер
кивает в ее характере свойства, отнюдь не возвышающие
ее над окружающей средой. «Наташа, — отмечает, на
пример, Панаев, — несмотря на все ее достоинства, имела
небольшое поползновение к пересудам и сплетням, общее
всем деревенским барышням.».
32
По сравнению с пушкинской Татьяной и тургеневской
Натальей это явное снижение, так сказать, заземление
образа. В облике панаевской героини иногда проступают
даже черты физической неопрятности и ленивой скуки —
как порождения однообразного и бесцветного существо
вания в обстановке примелькавшегося деревенского быта.
В этом отношении красноречива следующая авторская
характеристика ее внешности и поведения. «Наташа была
31
И. И . Панаев. Романы и повести. СПб., 1888, стр. 453.
32
Там же, стр. 376.
314
не дурна собой, высока и стройна. На ней было ситцевое
платьице, с вырезкой на груди, со снурками и кистями,
и сверху немного засалившаяся черная кацавейка, обши
тая кошачьим мехом... Она все продолжала смотреть
в окно, хотя мальчик, гнавший стадо, давно прошел и
хотя смотреть уже решительно было не на что. Потом
она немного задумалась, облокотилась головой на руку
и... зевнула ... Дождь продолжал стучать в стекла.
Наташа еще раз зевнула».,
33
Трудно даже представить
нечто подобное в тургеневских описаниях внешности и
поведения Натальи Ласунской или в пушкинских харак
теристиках Татьяны Лариной.
В конце концов панаевская Наталья поставлена в по
ложение заурядной барышни из глухого деревенского
угла, которой необходимо «выскочить замуж». Влияние
косной среды оказывается выше ее нравственных воз
можностей к сопротивлению. По указке родных она ста
новится женой совершенно чуждого ей зубра-помещика,
проявляя, однако, при этом определенную склонность
к быстрому усвоению пошлой житейской мудрости. Тур
геневская же героиня, получившая не менее жестокий
урок от «лишнего человека», остается нравственно сво
бодной и независимой. Ее брак с Волынцевым — резуль
тат не принуждения, а естественно созревшего спокой
ного чувства, основанного прежде всего на уважении
к новому избраннику. И в этом отношении Наталья Ла-
сунская, не имея ничего общего с героиней Панаева, еще
больше сближается с пушкинской Татьяной. Обе сохра
няют и после катастрофы свое женское и человеческое
достоинство. Идеальное начало, определяющее их душев
ный склад, выдерживает испытание, остается незапят
нанным. Таким образом, при всей сюжетной близости
любовной драмы в «Рудине» и «Родственниках», портрет-
но-психологическая трактовка центральных женских пер
сонажей в этих произведениях оказывается принци
пиально различной: Тургенев продолжает классическую
пушкинскую традицию, Панаев — традиции натуральной
школы.
Принципиальные несовпадения в трактовке родствен
ных идейно-психологических явлений в творчестве Па
наева и Тургенева определились вполне после создания
33
Там же, стр. 372—373. — Курсив мой, — Л. В.
315
второй редакции «Рудина». Вместе с тем в этот же пе
риод или несколько позже имели место факты, дающие
основание взглянуть на, казалось бы, давно и оконча
тельно решенную проблему Панаев — Тургенев и еще
с одной, уже совсем неожиданной стороны.
В статье Г. В . Прохорова «Творческая история ро
мана „Рудин"» утверждается, что Панаев не мог не за
метить «поразительного сходства» между главными ге
роями романа «Рудин» и повести «Родственники».
34
Как
только что отмечено, в трактовке этих героев имелись
весьма существенные различия. Но утверждение Г. В. Про
хорова не совсем безупречно и с другой точки зрения.
Исследователь по существу нисколько не сомневается
в том, что сходство без особого труда было замечено не
только Панаевым, но и некоторыми другими современни
ками Тургенева (подразумевались, по-видимому, Некра
сов, Боткин, Анненков, Дружинин, а может быть и Чер
нышевский). Между тем до сих пор мы не располагаем
на этот счет никакими конкретными данными. Если допу
стить, что для Панаева и его друзей сходство «Рудина»
с «Родственниками»
было совершенно очевидным,
остается неясным, почему ни в печати, ни хотя бы
в частной переписке они не обмолвились об этом ни еди
ным словом. Не кажется ли такое умолчание несколько
странным? И в чем его настоящая причина? Как нам
кажется, исчерпывающее решение проблемы Тургенев—
Панаев зависит от ответа и на эти вопросы.
Как известно, Некрасов, Боткин и другие сотрудники
«Современника», принимавшие деятельное участие в об
суждении рукописи «Рудина», расценивали это произве
дение как незаурядное, выдающееся явление в русской
литературе. Когда же Тургенев, отчасти под воздейст
вием критических замечаний, пожеланий и советов, по
лученных из той же среды, внес в роман существенней
шие добавления, отношение к нему стало почти востор
женным. Ознакомившись с характеристикой кружка По-
корского, в образе которого угадывались дорогие для
Тургенева и его друзей черты личностей Станкевича и
Белинского, Некрасов писал Боткину: «Прекрасные, сер
дечно-теплые страницы и — необходимейшие в пове-
34
И. С. Тургенев. Материалы и исследования, стр. 132.
316
сти!..»
35
По определению Некрасова, сформулирован
ному в том же письме, Тургенев после создания «Ру-
дина» — «это человек, способный дать нам идеалы, на
сколько они возможны в русской жизни». Мнение Не
красова разделяли не только Боткин и Анненков, но и
Чернышевский, посвятивший «Рудину» прочувствован
ные строки в цикле «Очерков гоголевского периода рус
ской литературы». Заканчивая характеристику литера
турно-философского кружка Станкевича и Белинского,
Чернышевский писал: «И кто хочет перенестись на не
сколько минут в их благородное общество, — пусть пере
читает в „Рудине" рассказ Лежнева о времени его моло
дости и удивительный эпилог повести г. Тургенева».
36
Приведенные отзывы показывают, что внимание со
временников было приковано прежде всего к тем особен
ностям романа, при критической оценке которых исклю
чалась самая возможность постановки вопроса о литера
турных параллелях. В повести Панаева не было и намека
на те тургеневские идеи, выводы и обобщения, о которых,
как о главном достоинстве романа в целом, снова писал
Некрасов в феврале 1857 года: «Существенное значение
последней повести г. Тургенева — ее идея: изобразить
тип некоторых людей, стоявших еще недавно в главе
умственного и жизненного движения, постепенно охва
тывавшего, благодаря их энтузиазму, все более и более
значительный круг в лучшей и наиболее свежей части
нашего общества. Эти люди имели большое значение,
оставили по себе глубокие и плодотворные следы. Их
нельзя не уважать, несмотря на все их смешные или
слабые стороны». Обращаясь затем непосредственно
к главному герою романа, Некрасов констатировал, что
«... появление этой личности, могучей при всех слабо
стях, увлекательной при всех своих недостатках, произ
водит на читателя впечатление чрезвычайно сильное и
плодотворное, какого очень давно уже не производила ни
одна русская повесть»?
7
«Из действующих ныне писате
лей, — отмечал Чернышевский в одной из своих полеми-
35
Н. А. Некрасов. Поли. собр. соч. и писем, т. X. М., 1952,
стр. 259.
36
Н. Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. III . Гослит
издат, М., 1947, стр. 198.
37
Н. А . Некрасов. Поли. собр. соч. и писем, т. IX, стр. 389,
390. — Курсив мой, — А. Б.
317
ческих заметок, — нет никого, чьи заслуги перед публи
кою равнялись бы заслугам г. Тургенева».
38
Рассматривая «Рудина» как явление, не имеющее до
стойной аналогии в современной литературе, Чернышев
ский и Некрасов основывались на том, что этот роман
наряду с художественно-познавательным имел большое
воспитательное значение, внушая широкому читателю
представление о духовной преемственности между луч
шими людьми разных поколений, представление о важ
ной роли дворянской интеллигенции 1840-х годов .в фор
мировании передовой идеологии. При таком повышенно
эмоциональном восприятии основной идейной проблема
тики тургеневского романа всякая попытка его сопостав
ления с повестью Панаева по формальным признакам
выглядела бы на страницах «Современника» как неожи
данная и неуместная дань холодному академизму: уж
слишком велико было качественное различие в содержа
нии этих произведений. Оно неизбежно должно было за
слонить, отодвинуть в сторону не актуальную в тех
условиях историко-литературную проблему, никак не
связанную с общественными задачами литературной
критики «Современника». Поэтому можно предполагать,
что у Некрасова, Чернышевского, Боткина и Анненкова
мысль о сюжетно-композиционном сходстве «РуДина»
с «Родственниками» попросту не возникала. Только
Панаев, как лицо непосредственно заинтересованное,
имел, вероятно, предрасположение к особой чувствитель
ности в отношении сюжетно-композиционной специфики
«Рудина». Однако благодаря некоторым свойствам своего
характера ему нетрудно было вполне искренно проник
нуться мнением большинства членов редакции. Во вся
ком случае, если у Панаева на первых порах и возникали
самолюбивые авторские претензии к Тургеневу, эти на
строения скоро рассеялись. Панаев не мог не осознать
превосходства Тургенева буквально во всех аспектах
разработки аналогичной темы. Главное же преимуще
ство Тургенева перед Панаевым, надо полагать, особенно
остро воспринятое последним, заключалось в способности
автора «Рудина» к разностороннему и глубокому худо
жественному анализу типичных явлений общественной
38
Н.Г. Чернышевский. Поли. собр. соч., т. III, стр. 780, —
Курсив мой, — А. В.
318
жизни сороковых годов, в его желании и умении сказать
об этой эпохе справедливое и доброе слово.
Предположение о такой именно реакции Панаева на
роман Тургенева подтверждается обычно выпадающим
из поля зрения исследователей любопытным фактом из
дальнейшей творческой истории повести «Родствен
ники».
39
В 1860 году, подготавливая к печати второе
издание своей повести, Панаев закономерно оказывается
в роли уже не предшественника, а последователя Турге
нева, усваивающего не без пользы для себя творческий
опыт несравненно более зрелого и талантливого мастера.
Авторская правка текста «Родственников», проделанная
в 1860 году, показывает, что рассказ Лежнева о кружке
Покорского, вставленный Тургеневым в текст «Рудина»
в процессе его доработки, произвел на Панаева такое же
сильное впечатление, как на Некрасова, Боткина и дру
гих членов редакции. Именно в соответствии с этим об
стоятельством в подчеркнуто ироническую и даже прене
брежительную оценку деятельности московского фило
софского кружка, характерную для первого издания его
повести (1847 г.), Панаев пытается внести существенные
коррективы. В четвертой главе «Родственников» появ
ляются такие строки: «Но — это был все-таки замечатель
ный для своего времени кружок, много способствовавший
нашему общественному развитию... Память о нем всегда
сохранится в истории русского просвещения...»
40
Внося это добавление, Панаев, вслед за Тургеневым,
стремился к объективному освещению недавнего про
шлого в развитии русской дворянской интеллигенции, но
не достиг своей цели. В контексте всей повести процити
рованная вставка (единственная, кстати сказать) звучит
явным диссонансом, производит впечатление бледной и
беглой отписки, отнюдь не смягчающей односторонне
критического отношения автора к изображаемой им эпохе
и лицам. Тем не менее она заслуживает самого присталь-
39
Мы имеем в виду исследования или целиком посвященные
проблеме Тургенев—Панаев (известная статья Н. Л. Бродского),
или затрагивающие ее попутно в связи с освещением творческой
истории «Рудина» (цитированные выше статьи Г. В. Прохорова
и М. О . Габель, а также комментарии к роману как в отдельных
его изданиях, так и в. составе всех собраний сочинений Турге
нева, вплоть до последнего, академического).
40
И. Папаев. Соч., т. II . СПб., 1860, стр. 150.
319
ного внимания, являясь по существу уникальным свиде
тельством, документально подтверждающим генетическую
преемственность не только по линии «Родственники» —
«Рудин», но и в обратном направлении — от романа Тур
генева к повести Панаева. При всей своей идейно-худо
жественной невыразительности (а может быть, и благо
даря ей) правка Панаева дает основания для расстановки
всех необходимых акцентов при окончательном решении
вопроса о характере творческих взаимосвязей обоих пи
сателей.
В данном случае полно глубокого значения не только
то, что Панаев предпринимает правку «Родственников»
при первой же удобной «оказии» после опубликования
«Рудина». Не менее важно и то, что эта работа прекра
щается в самом начале. Панаев и не мог поступить,
иначе. Пример Тургенева заставлял его мысль работать
в определенном направлении. С другой стороны, созна
ние запоздалости предпринимаемой попытки и, по-види
мому, трезвое представление о своих ограниченных твор
ческих возможностях удерживали его от продолжения
этой работы. Ведь для того чтобы привести содержание
«Родственников» в соответствие с воспринятой от Турге
нева объективно исторической точкой зрения на изобра
жаемую эпоху, потребовалось бы фронтальное «перепа
хивание» всей повести — предприятие непосильное, да и
не совсем удобное для Панаева, постоянного сотрудника
журнала, в котором уже велась суровая переоценка на
следия сороковых годов. Кроме того, после выхода в свет
«Рудина» доработанная повесть Панаева представляла бы
собою уже типичное явление литературного эпигонства
или, — но это в лучшем для автора случае, — лишь ва
риацию на тему, которая, по единодушному признанию
современников, давно превратилась в тургеневскую. Сле
дует также иметь в виду, что именно в это время Турге
нев вновь подтвердил свои особые права на эту тему.
В разгар острой идеологической борьбы между «лиш
ними» и «новыми» людьми он не без полемического умы
сла вводит в роман второй эпилог, рассказывающий о ге
роической смерти «лишнего» Рудина на парижских бар
рикадах (Соч.,
VI 570—571).
41
Одним словом, для
41
См. также статью М. О . Габель «Творческая история ро
мана „Рудин"», стр. 63.
320
Панаева ситуация сложилась таким образом, что сколько-
нибудь серьезная доработка «Родственников» в указан
ном выше направлении грозила вылиться в прямое и не
ко времени подражание Тургеневу.
Итак, обязанный Панаеву в сравнительно узкой об
ласти сюжетостроения и композиции, Тургенев в свою
очередь оказывает заметное влияние на автора «Родст
венников», но уже не формой, а содержанием своего ро
мана — богатством его идей и обобщений, достоинство
которых определялось прежде всего их историзмом.
Известная зависимость от Панаева отнюдь не ставила
под сомнение репутацию Тургенева как самобытного
художника. Невольно оказав Тургеневу своего рода тех
ническую услугу, Панаев как бы избавил его от предва
рительной черновой работы по возведению каркаса ро
мана. Но и только. Что же касается Панаева, его по
пытка идти за Тургеневым выглядела беспомощной,
в творческом отношении почти безрезультатной. В та
ком неравнозначном распределении последствий литера
турных взаимосвязей сказалась подлинная дистанция
между крупным художником и писателем сравнительно
второстепенным, обратившимся в разное время к разра
ботке одной и той же темы. В писательской практике
Панаева нам неизвестен другой столь же характерный
случай следования по стопам общепризнанного автора.
Между тем в творчестве Тургенева, который на протяже
нии ряда лет испытывал неуверенность в технике по
строения романа, обращение к чужим сюжетно-компо -
зиционным схемам — явление не единичное. Нечто по
добное истории с Панаевым произошло при создании
романа «Накануне», причем на этот «грех» указал уже
сам автор.
В «Предисловии к романам» (1880 г.) Тургенев при
знавался, что сюжет «Накануне» восходит к построенной
на автобиографическом материале рукописной повести
его хорошего приятеля и соседа по имению Василия Ка-
ратеева. Отправляясь в Крым с орловским ополчением и
не надеясь вернуться оттуда живым, Каратеев передал
Тургеневу «небольшую тетрадку, страниц в пятнадцать»,
с просьбой сделать из нее «что-нибудь, что бы не про
пало бесследно...» В ней, по словам Тургенева, «бег
лыми штрихами было намечено то, что составило потом
содержание „Накануне"». О том, насколько важную роль
21 А. Батюто
321
сыграла эта «тетрадка» в формирований сюжета «Нака
нуне», свидетельствует суммарное изложение Тургеневым
ее содержания — невымышленной истории любви русской
девушки к болгарину Катранову.
Таким образом, Каратеев подарил Тургеневу не только
«схему» любовной коллизии для романа «Накануне», но
и главного искомого героя, без которого быстрая реализа
ция уже намеченного замысла, ввиду его сюжетной аморф
ности, была бы почти немыслима. Тургенев прекрасно со
знавал это. «Когда на следующий день я увидел Кара-
теева, — вспоминает
писатель, — я ... поблагодарил его
за то, что он вывел меня из затруднения и внес луч света
в мои, еще до тех пор темные, соображения и измышле
ния» (Соч., XII, 306—307).
В известном противоречии с этими признаниями, под
черкивающими особое значение повести Каратеева в ис
тории формирования сюжета «Накануне», находится низ
кая оценка ее литературного качества. Тургенев прямо
говорит о том, что «Каратеев ... не был рожден литера
тором», что его повесть написана «неумело». Нужно,
однако, иметь в виду, что в пятидесятые годы, находясь
под свежим и непосредственным впечатлением от по
вести и еще не представляя подлинных масштабов своего
будущего романа, Тургенев был, пожалуй, единствен
ным человеком, судившим о ней положительно и с этой
точки зрения. Так, зимой 1858—1859 гг. он неодно
кратно в тесном кругу читал из нее отрывки, «удив
ляя» слушателей «своим участием к произведению, не за
служивающему», по их мнению, «никакого внимания».
42
По-видимому, повесть Каратеева представлялась ему ни
чуть не хуже произведений многих второстепенных авто
ров, которыми зачастую поддерживалось и обеспечивалось
нормальное функционирование периодики того времени.
Во всяком случае, прежде чем воспользоваться ее сюже
том, Тургенев предпринял несколько попыток продвинуть
ее в печать. Так, в октябре 1854 года, не имея возможности
удовлетворить Некрасова очередной присылкой своего
произведения, Тургенев писал ему: «Я, брат, похвастался,
говоря, что принялся за работу... Постараюсь, однако же,
не оставить 1-го или 2-го No-а „Современника" без по-
42
П. В. Анненков. Литературные воспоминания. Гослит
издат, М., 1960, стр. 427.
322
вести. Я привезу с собою небольшую, но йёдурную повесть
Каратеева (которого ты у меня видел)» (II, 238). Так как
повесть в «Современнике» не появилась, Некрасов, надо
полагать, не посчитался с рекомендацией Тургенева.
На полях чернового автографа «Предисловия к рома
нам» сохранилась помета Тургенева: «Сама тетрадка
Кар<атее>ва была в руках пок<ойного> Дуд<ышкина> и,
если не пропала, должна находиться в его бумагах» (Соч.,
XII, 579). В 1850-е годы С. С . Дудышкин являлся факти
ческим редактором журнала «Отечественные записки»,
а это означает, что повесть Каратеева попала в его руки
в результате новой, ранее неизвестной попытки Тургенева
напечатать ее. Кстати, в том же черновом автографе, не
смотря на его большую хронологическую близость к окон
чательному тексту, все еще проскальзывают нюансы
в оценках повести, родственные первоначальным впечат
лениям Тургенева. Так, например, характеризуя здесь ка-
ратеевское повествование, Тургенев отмечает: «Все это
было рассказано очень горячо и правдиво...» (Соч.,
XII, 580).
Определяя отношение Тургенева к повести Каратеева
в пятидесятые годы, нужно учитывать еще одно обстоя
тельство. Приехав в Спасское в конце марта 1859 года,
Тургенев узнал о смерти ее автора
43
и сразу же сообщил
эту печальную для него новость графине Е. Е. Ламберт.
В том же письме упоминается о возобновлении работы над
романом (III, 281), которая до этого велась урывками и
выразилась лишь в составлении предварительного списка
действующих лиц. Очевидно, смерть Каратеева была одной
из причин, побудивших Тургенева активизировать свои
усилия, а значительное промедление с реализацией замы
сла «Накануне», объясняемое в «Предисловии к романам»
занятостью по созданию «Рудина» и «Дворянского гне
зда», следует поставить также в прямую связь с неосу
ществившимся намерением писателя напечатать повесть
своего «бедного друга». Все это говорит о том, что руко
пись Каратеева определенным образом заслуживала вни
мания и как литературное произведение. В противном
случае такое поведение Тургенева, и притом на длитель-
43
В «Предисловии к романам» Тургенев допускает ошибку,
говоря о смерти Каратеева во время Крымской войны.
21*
323
ном отрезке времени, выглядело бы по крайней мере не
логичным.
Только узнав о смерти Каратеева, положившей предел
его колебаниям, Тургенев по-настоящему почувствовал
себя вправе воспользоваться подаренным ему сюжетом.
Через несколько дней он пишет В. Я. Карташевской:
«Я теперь занят планом повести, мысль которой извле
чена мною из одного рассказа Каратеева, — и, если я ее
кончу, посвящу ее его памяти. В одном лице я поста
раюсь изобразить его самого» (III, 289).
44
Из воспоминаний П. В . Анненкова известно, что по
весть Каратеева имела название «Московское семейство».
Другие сведения о ней, сообщаемые Анненковым в допол
нение к тому, что рассказывает Тургенев, позволяют уста
новить определенную трансформацию в «Накануне» и не
которых второстепенных линий ее сюжета и композиции.
Так, например, излагая содержание повести, Анненков от
мечает, в частности, что она «изображала пожилого немца,
мучившего свою подругу, добродушную старушку, Агра-
фену Степановну, и дочь от них, прелестную барышню..,
которая не любила отца за грубое обращение с матерью».
45
В этом пересказе нетрудно узнать как бы предваритель
ный, но уже достаточно конкретный абрис тех сцен в «На
кануне», в которых изображается семья Стаховых и неза
видное положение в ней Елены. Согласно пересказу Ан
ненкова, Катранов, пораженный «злой чахоткой в Москве»,
уезжает в Италию и умирает там в полном одиночестве,
в то время как его возлюбленная оказывается в Париже,
обуреваемая «планами... явиться к больному в Италию и
утешить его последние минуты своим присутствием».
46
В романе Тургенева эти композиционно разобщенные эле
менты повествования объединены вместе с другими в еди
ном потоке стройно и быстро развивающегося действия,
44
В «Предисловии к романам» Тургенев отмечает, что «Ка-
ратеев... был романтик, энтузиаст, большой любитель литера
туры и музыки, одаренный притом своеобразным юмором, влюб
чивый, впечатлительный и прямой... Соседям он не нравился
за вольнодумство и насмешливый язык». В одном из писем
к А. В . Дружинину Тургенев так отзывается о Каратееве:
«...очень мил —и комически — забавен» (II, 308). Все эти
черты Каратеева нашли отражение в образе Шубина.
45
П. В . Анненков. Литературные воспоминания, стр. 427.
46
Там же, стр. 427—428.
324
насыщенного большим драматизмом переживаний: Инса
ров и Елена покидают Россию одновременно, их отъезд
сопровождается трогательными сценами прощания с близ
кими и друзьями, а изображение их пребывания в Вене
ции развернуто в ряд ярких картин, проникнутых печаль
ным лирико-философским настроением. Однако в плане-
конспекте романа еще заметна тенденция Тургенева к ме
нее свободному обращению с сюжетно-композиционной
схемой Каратеева: Инсаров уезжает в Италию один,
а Елена через некоторое время следует -за ним тайно (Соч.,
VIII, 411, 502).
По характеру воздействия на роман «Накануне» «Мо
сковское семейство» Каратеева удивительно напоминает
повесть Панаева «Родственники», сыгравшую важную
роль в истории создания «Рудина». Как в первом, так и
во втором случае сказались одни и те же принципы пре
ображения сюжета «средней» по своему идейно-эстетиче
скому качеству повести в проблемный роман — произве
дение большого идейно-художественного, общественного и
даже общественно-политического значения. Поскольку за
мысел «Рудина» и «Накануне» возник почти в одно время
(Тургенев указывает на это в своем «Предисловии к ро
манам»), такое сходство в принципах построения было
вполне закономерным. Несмотря на четырехлетний про
межуток, разделяющий появление этих романов на стра
ницах «Современника» и «Русского вестника», оба произ
ведения при их создании оказались отмеченными одной и
той же печатью поисков романной формы, характерных
для первой стадии деятельности Тургенева-романиста, ко
гда он, после окончания «Записок охотника» и неудачи
первого опыта по созданию романа («Два поколения»),
еще только вступал на «новую дорогу». Находясь все еще
на распутье между «старой манерой» и «объективным»
творчеством, писатель именно в этот период неуверенных
исканий оказывается в наибольшей формальной зависи
мости от литературного материала своей эпохи, воздей
ствие которого приводит зачастую к аналогичным резуль
татам в технике становления того или иного его романа.
История создания «Рудина» и «Накануне», анализи
руемая в связи с произведениями Ж. Санд, Панаева и
Каратеева, приводит к заключению, что лирические осо
бенности писательского дарования Тургенева в какой-то
степени предопределяли относительную слабость его твор-
325
ческой фантазии в сфере сложения и компоновки сюжета,
фабулы и композиции этих романов. Здесь ему нужен был
толчок извне, по преимуществу со стороны писателей-со
временников. Но, как отмечалось выше, автор «Рудина» и
«Накануне» нуждался в такой поддержке только в самом
начале своей работы. В дальнейшем он проявлял полней
шую независимость и как художник значительно опережал
тех авторов, «подсказкой» которых ему в той или иной
мере пришлось воспользоваться. По сравнению с рома
нами и повестями Ж. Санд, Панаева и Каратеева, несо
мненно стимулировавшими возникновение сюжетно-фа-
бульной и композиционной первоосновы «Рудина» и «На
кануне», эти романы Тургенева отличались совершен
ством языка и стиля, стремительной последовательностью,
упорядоченностью и лаконизмом в развитии действия,
жизненностью и психологическим богатством образов, осо
бой глубиной одушевлявшей их идеи — одним словом,
гораздо большей общественной и эстетической значимо
стью своей формы и содержания.
3. Тургенев и Гончаров
Неуверенность в сюжетостроении Тургенев-романист
испытывает вплоть до создания «Отцов и детей». В ряду
писателей, оказавших определённое воздействие на него
в течение этого периода, особое место занимает И. А . Гон
чаров.
Уже в пятидесятые годы Тургенев признавал в Гонча
рове мастера большой эпической формы, а свой талант
непревзойденного лирика-прозаика и очеркиста, обнару
жившийся в процессе создания «Записок охотника»,
расценивал порою как тягостное бремя, мешающее свобод
ному движению в поисках новых способов художествен
ного отражения действительности. Вспоминая об относя
щихся к этой эпохе суждениях Тургенева на литера
турные темы, К. Н. Леонтьев отмечал впоследствии:
«О других того времени русских писателях Тургенев гово
рил мне, что из них только один Гончаров обладает даром
„архитектурной постройки"...
Ни у себя самого, ни
у Григоровича, ни у Дружинина этой „архитектурной"
326
способности Тургенев не находил».
47
Через несколько лет
приблизительно о том же Тургенев писал самому Гонча
рову, правда, тому Гончарову, который, страдая болезнен
ной ревностью и подозрительностью, уважал в нем только
автора «Записок охотника», упорно не соглашаясь при
знать его самостоятельности и сколько-нибудь серьезного
значения в качестве романиста. Приведем из этого письма
лишь несколько характерных строк, свидетельствующих
о повышенной самокритичности писателя, о постоянно при
сущей ему отнюдь не нарочитой склонности преумень
шать размеры своих потенциальных творческих возможно
стей, а заодно и весомость того, что им уже было сделано
для русской литературы. «Кому нужен роман в эпическом
значении этого слова, — писал Тургенев, — тому я не ну
жен; но я столько же думаю о создании романа, как
о хождении на голове: что бы я ни писал, у меня выйдет
ряд эскизов...» (III, 290). Тем не менее настойчивое и пла
номерное движение от лирической «эскизности» «Записок
охотника» к созданию таких произведений (подразумева
лись, конечно, прежде всего романы), в которых можно
было бы продемонстрировать «целость и крепость харак
теров» и «глубокое и всестороннее проникновение в жизнь»
(там же), продолжалось.
Как известно, отношения между Тургеневым и Гон
чаровым на протяжении целого ряда лет не отличались
особой приязнью. Обострение их началось с момента по
явления в печати романов «Дворянское гнездо» и «Нака
нуне», в которых Гончаров усмотрел признаки покушения
на его литературную собственность. В устных беседах и
переписке, относящихся к этому времени, Гончаров не
устанно осыпал писателя упреками в заимствованиях.
В одном из писем к Тургеневу он утверждал, например,
что романы «Дворянское гнездо» и «Накануне» представ
ляют собою искусную перелицовку сюжета «Обрыва», хит
роумно «разложенного на две повести» и лишь для отвода
глаз «приправленного болгаром».
48
Свои оскорбительные
претензии Гончаров неоднократно подкреплял ссылками
на факты из истории предшествующих отношений с Тур
геневым, а именно: еще в 1855 году, рассчитывая на по-
47
К. Леонтьев. Воспоминания (1831—1868 гг.) . СПб., 1914,
стр. 112 .
*
8
И, А. Гончаров. Собр. соч., т, VIII. М ., 1955, стр. 309 .
327
лезные критические замечания, он во всех деталях и под
робностях ознакомил автора «Рудина» с планом «Об
рыва».
49
Со слов Гончарова вырисовывалась, таким образом,
весьма неприглядная картина: Тургенев воспользовался
его наивной доверчивостью и творческой медлительностью
и в романах «Дворянское гнездо» и «Накануне» реализо
вал как свои собственные главные художественные идеи
«Обрыва». Поскольку Тургеневу в данном случае инкри
минировалось использование сюжета чужого, притом еще
ненапечатанного произведения, это было равносильно об
винению в самом низменном и бесчестном плагиате.
Возмущенный очередным, особенно грубым выпадом
Гончарова, Тургенев потребовал третейского суда, кото
рый состоялся 29 марта ст. ст . 1860 года. Суд вынес за
ключение, отклонявшее обвинения в плагиате как совер
шенно необоснованные. «Произведения Тургенева и Гон
чарова как возникшие на одной и той же русской почве, —
отмечалось в этом заключении, — должны были тем самым
иметь несколько схожих положений, случайно совпадать
в некоторых мыслях и выражениях, что оправдывает и из
виняет обе стороны».
50
Гончаров в душе остался при своем мнении, хотя это
последнее не разделялось даже очень близкими ему
людьми. Так, например, А. В . Никитенко, присутствовав
ший на третейском суде, писал в своем дневнике о его
«подозрительном, жестком, себялюбивом и вместе лукавом
характере», заставлявшем его на каждое новое появляю
щееся в печати произведение Тургенева смотреть «пред
убежденными уже очами».
51
Дальнейшее поведение Гон
чарова подтверждало справедливость подобных суждений
о нем. В 1875—1876 годах он написал печально известную
«Необыкновенную историю», в которой уже все романы
Тургенева, за исключением «Рудина» и тогда еще не опуб
ликованной «Нови», рассматривались как вариации на
темы «Обрыва». Больше того, Гончаров настойчиво вы
сказывал предположение, что, не будь «Обрыва» и Тур-
49
См.: И. А. Гончаров и И. С. Тургенев. Изд. «Academia»,
Пб., 1923, стр. 33; Сборник Российской Публичной библиотеки,
т. И . Материалы и исследования, вып. 1. Игр., 1924, стр. 14—15.
50
П. В. Анненков. Литературные воспоминания, стр. 442.
61
Сборник Российской Публичной библиотеки, т. II, вып. 1,
стр. 174 —175.
328
генева, имевшего якобы дурную привычку не только
заимствовать, но и щедро раздаривать заимствованное,
в западноевропейской литературе не появились бы такие
произведения как «Дача на Рейне» Ауэрбаха, «Мадам
Бовари» и «Сентиментальное воспитание» Флобера.
52
Все эти факты свидетельствовали о болезненном ду
шевном состоянии писателя, омрачавшем последние деся
тилетия его жизни и литературной деятельности. Зная об
этом, современники тем меньшее значение придавали его
нападкам, чем в более резкой форме они выражались.
Маниакальное поведение Гончарова, казалось, само по
себе не допускало мысли о существовании какого бы то
ни было рационального зерна в его доводах. Вопрос пред
ставлялся наперед и окончательно решенным, поэтому,
дорожа спокойствием и престижем знаменитых писателей,
их друзья не склонны были вдаваться в особые тонкости
при обсуждении причин затянувшегося конфликта. Наобо
рот, они всячески стремились смягчить и приглушить его,
заботясь в то же время о том, чтобы все это не получило
широкой огласки. Подобную же деликатность неодно
кратно проявляли в дальнейшем исследователи творче
ства обоих писателей. Нужно сказать, что в историко-ли
тературном отношении такая прочно установившаяся
традиция не принесла пользы. Именно благодаря ей ре
зультаты изучения проблемы Гончаров—Тургенев до сих
пор не представляют собою ничего принципиально нового
по сравнению с выводами, сформулированными в цити
рованном выше решении третейского суда. Между тем
так ли уж во всем непогрешимо это решение?
«Эксперты», собравшиеся в марте 1860 года на квар
тире у Гончарова, не совершили никакой ошибки, отведя
предъявленное Тургеневу обвинение. Но в конфликте
Тургенева с Гончаровым живая суть дела, которая дол
жна по-настоящему интересовать историка литературы,
заключалась не в этом. Конечно, плагиата не было, как
не было и подражания. Но «схожие положения» все-таки
имелись, и происхождение их надлежало удовлетвори
тельным образом объяснить. Основное упущение как
первых, так и позднейших исследователей этой про
блемы заключалось в невольной или преднамеренной не
дооценке одной из важных предпосылок появления этих
52
Там же, стр. 48, 57 и др.
329
«схожих положений». Анненков, Дружинин и Дудыш-
кин, а вслед за ними видные специалисты, изучавшие
творчество Гончарова и Тургенева в наше время, рас
сматривали их как случайность, порожденную обраще
нием обоих писателей к одной и той же «русской почве».
Но к «русской почве» автор «Обрыва» и автор «Дворян
ского гнезда» и «Накануне» обратились в данном случае
не одновременно. Гончаров сделал это на несколько лег
раньше. Следовательно, правомерна постановка про
блемы о литературной связи и даже известной преемст
венности, — явлении обычном в литературных процессах
любой эпохи и, если при этом отпадает вопрос о плагиате
или пассивном подражании, явлении ничуть не предосу
дительном.
По сравнению с тем, что можно было наблюдать, со
поставляя «Рудина» с произведениями Ж. Санд и Па
наева, использование опыта Гончарова в ряде следующих
романов Тургенева отличалось фрагментарным характе
ром. Если при создании «Рудина» применялись и твор
чески видоизменялись целостные сюжетные схемы и
комплексы образов, встречавшиеся в произведениях дру
гих писателей, то здесь Тургенев ограничивается неким
примериванием лишь отдельных сюжетных положений и
образов «Обрыва» к своим слагавшимся независимо от
Гончарова сюжетно-композиционным и образным построе
ниям. Не имея практически первостепенного значения
в процессе оформления замысла, например, «Дворянского
гнезда», литературные материалы Гончарова при бли
жайшем с ними знакомстве все же порождали у Турге
нева в чем-то родственные манере Гончарова творческие
импульсы, закреплявшиеся затем в качестве своего рода
рабочих гипотез. При этом Тургенев, — правда, иногда
под усиленным давлением Гончарова, — мог без особого
для себя ущерба и отказаться от той или иной «заимст
вованной» детали.
Так, из переписки писателей известно, что в сцене
объяснения Лизы с Марфой Тимофеевной (гл. XXXVIII)
Тургенев пожертвовал каким-то «довольно слабым ме
стом», показавшимся Гончарову слишком похожим на
объяснение «бабушки с внучкой» после последнего роко
вого свидания Веры с Марком Волоховым.
53
Изучение
63
И. А. Гончаров. Собр. соч., т. VIII, стр. 310»
330
чернового автографа «Дворянского гнезда», впервые про
деланное в ходе издания академического собрания сочи
нений и писем Тургенева, пополнило подобного рода
сведения новыми данными, позволяющими составить бо
лее точное представление о существе претензий Гонча
рова. Дело в том, что в черновом автографе был намечен
мотив «падения» Лизы во время ее ночного свидания
с Лаврецким в саду Калитиных. Наличие такого мотива,
повлекшего за собою введение соответствующих деталей
в сцену объяснения, действительно давало повод гово
рить о некоторых сходных моментах в «Дворянском гне
зде» и «Обрыве». По настоянию Гончарова этот мотив не
получил развития, а затем и вовсе исчез из романа. То же
самое следует сказать об упоминающихся в черновом
автографе «четырех портретах предков». Гончаров (оче
видно, не в первый раз) писал об этом Тургеневу, ука
зывая, что и в. плане «Обрыва» «есть коротенькая от
метка о деде, отце и матери героя».
54
Тургенев учел и
это замечание: в первопечатном тексте «Дворянского
гнезда» осталось упоминание только об одном портрете
(см. гл. XIX).
55
Устранение этих деталей не отразилось на существе
замысла «Дворянского гнезда», но сами по себе они крас
норечиво свидетельствовали о той «невольной впечатли
тельности» по отношению к подготовительным материа
лам «Обрыва», которая, по неосторожному признанию са
мого Тургенева в одном из его не дошедших до нас пи
сем к Гончарову, проявлялась им во время работы над
романом.
56
Обстоятельные беседы с Гончаровым о замысле ро
мана «Обрыв» определенным образом наталкивали Тур
генева на ряд отдельных сюжетно-композиционных ре
шений, которые при других условиях могли возникнуть
гораздо позднее или не возникнуть вообще. В этой связи
следует напомнить об использовании биографических
преданий о роде Лутовиновых в обширной предыстории
Лаврецкого. Это был исконно тургеневский жизненный
материал, но включение его в роман произошло под пря-
54
Там же, стр. 306.
55
Приводимые здесь и выше конкретные данные о черновом
автографе «Дворянского гнезда» почерпнуты из комментария
Т. П. Головановой (Соч., VII, 464—465).
56
См»; И» А. Гончаров. Собр. соч., т. VIII, стр. 309 .
ddi
мым воздействием художественной концепции «Обрыва»,
в первоначальном плане которого предполагался подроб
ный рассказ о дворянской родословной Райского. Раздра
женный этим «совпадением», Гончаров вынужден был
«выключить из своей программы всю главу о предках
Райского».
57
Косвенное участие Гончарова в формировании сюжета
и композиции «Дворянского гнезда» и «Накануне» ска
залось и в некоторых других случаях. Так, например,
историю возникновения замысла «Накануне» не обяза
тельно начинать с упоминания о повести «Московское
семейство», которая была главным, но, может быть, не
самым первым по времени литературным «пособием»
в процессе создания этого романа. Намек на это есть
в позднейшем тургеневском предисловии к романам —
там указывается на то, что образ Елены «смутно» рисо
вался в воображении писателя еще до знакомства с «тет
радкой» Каратеева, т. е ., по-видимому, как раз в период,
когда Гончаров подробно рассказывал ему о плане «Об
рыва». В повести Каратеева Тургенева поразила лишь
фигура «болгара» — как некая искомая отправная точка
для создания художественно полноценного образа обще
ственно-политического деятеля, борца против иноземных
поработителей его родины. Судя по воспоминаниям Ан
ненкова, да и самого Тургенева, в бледной по очертаниям
Катерине из «Московского семейства» не было ничего
особенно оригинального, между тем гончаровская Вера
с ее стремлением к свободе и независимости могла произ
вести на него совсем иное впечатление. Это тем более
вероятно, что основная драматическая коллизия в перво
начальном замысле «Обрыва», существенно отличав
шаяся от того, что нам известно по окончательному тек
сту романа, была еще непривычной в русской литературе
пятидесятых годов, следовательно имела притягатель
ность соблазнительной новинки. Вместе с тем кое в чем
она напоминала сюжет повести Каратеева, крайне зани
мавший Тургенева в это время.
В статье «Намерения, задачи и идеи романа „Обрыв*
4
»,
написанной приблизительно в 1876 году, Гончаров от
мечал, что сначала вместо Волохова у него «предполага-
57
Сборник Российской публичной библиотеки, т. II, вып. 1,
стр. 22 .
332
лась другая личность — также сильная, почти дерзкая
волей, не ужившаяся, по своим новым и либеральным
идеям, в службе и в петербургском обществе и послан
ная на жительство в провинцию, но более сдержанная
и воспитанная, нежели Волохов. Вера также, вопреки
воле Бабушки и целого общества, увлеклась страстью
к нему и потом, вышедши за него замуж, уехала с ним
в Сибирь, куда послали его на житье за его политиче
ские убеждения».
58
Сопоставляя указания на замужество
Веры и ее отъезд с мужем в Сибирь, намеченные по пер
воначальному плану «Обрыва», с письмами Гончарова
к Тургеневу, нетрудно обнаружить в последних ядовитые
намеки на неумело замаскированную перелицовку этих
эпизодов в «Накануне». Так, выражая в одном из писем
нарочитое удивление по поводу того, что Елена «убегает
за любовником в Венецию», Гончаров добавлял много
значительно: «. ..отчеп/не в Одессу? Там ближе от Бол
гарии. ..»
59
Тургенев в такой маскировке не нуждался,
а Гончаров, очевидно, ничего не знал о повести Кара-
теева или же не придавал ей серьезного значения.
Однако ни то, ни другое не исключает допустимости,
в данном случае, предположения о том, что в сложении
сюжета «Накануне» наряду с основным воздействием
«Московского семейства» сыграл определенную роль и
роман Гончарова.
Одним из важнейших доказательств покушения Тур
генева на его литературные замыслы Гончаров считал
сходную, по его мнению, в «Обрыве» и в «Дворянском
гнезде» идейно-психологическую трактовку наиболее яр
ких женских образов, порожденную, как ему казалось,
одними и теми же приемами композиционного располо
жения этих образов по принципам контраста и семейного
родства. Гончаров писал по этому поводу: «У меня ба
бушка, у него тетка, две сестры, племянницы...»
60
Когда Тургенев ознакомил Гончарова с замыслом «Нака
нуне», последний усмотрел нечто подобное и в этом ро
мане. Небрежное и очень краткое упоминание Тургенева
о Зое, которая рядом с Еленой выглядела, по его словам,
58
И. А . Гончаров. Собр. соч., т. VIII, стр. 218.
59
Там же, стр. 309.
60
Сборник Российской публичной библиотеки, т. И, вып. 1,
стр. 20.
333
(<fan себе», было воспринято Гончаровым как йеЖблаййв
автора «Накануне» вдаваться в подробное обсуждение
компрометирующих его деталей.
61
«Дворянское гнездо»
к этому времени уже появилось в печати, но в тексте
«Накануне» еще не поздно было произвести какие-то
изменения, и Тургенев пошел на это: Зоя, фигурировав
шая сначала в качестве сестры Елены, была превра
щена в ее «компаньонку». Эта правка означала признание
известного резона в претензиях Гончарова, но только
с чисто формальной точки зрения.
Легко убедиться, что по отношению к Лизе ее сестра
Леночка не играет той роли, которая предназначена
Марфиньке в «Обрыве». Она введена в роман не для
контраста с Лизой, а просто потому, что в человеческом
общежитии помимо всяких других существуют и родст
венные связи. Что касается Зои, изображенной суще
ством незначительным до ничтожества, почти карикатур
ным, — она также не восприйимается в качестве некой
самостоятельной и по-своему оригинальной величины,
активно противопоставляемой Елене по аналогии с парой
Марфинька—Вера. Наличие двух сестер и «тетки»
в «Дворянском гнезде» и двух сестер в первоначальных
набросках «Накануне» как-то ассоциируется с распреде
лением основных женских персонажей в композиции
«Обрыва», но эти эпизодические ассоциации не могли
породить и не породили сколько-нибудь серьезных сов
падений в центральных сюжетных ситуациях и в харак
терах главных героев «Дворянского гнезда» и «Обрыва».
Тургеневскую Лизу объединяет с Верой Гончарова
только одна черта, свойственная, впрочем, большинству
женщин той эпохи, — религиозность. Но как индиви
дуальность, как Лиза Калитина, а не русская девушка
вообще, героиня «Дворянского гнезда» с ее поэтически
хрупкой женственностью и беззащитностью перед лицом
суровой действительности стоит особняком во всей рус
ской литературе XIX века. На волевую и страстную Веру,
не утратившую вкуса к личному счастью и после тяжких
душевных потрясений, она не походит. Тонкая поэзия и
неброская, но несомненная оригинальность, излучаемые
образом Лизы, сказываются даже в том, что у нее нет
«своих слов» для выражения ее богатого духовного мира.
61
И. А. Гончаров. Собр. соч., т. VIII, стр. 309.
334
Ё связи с &тйм етойт всПоМйитЬ 6 Йё^оДу1дЩи^ вбз?мса&
Тургенева во время чтения «Обрыва» в 1869 году: «Эда
ких дьявольски нестерпимых разговоров я что-то ни в од
ной литературе не запомню. Да и все лица —- и Мар-
финька (к Вере я только что приступил, но уже и она
отчеканила страничек восемь разговора), и Марк, и все —
кажутся мне общими местами, а Гончаров — какой-то
бог и царь и поэт общего места...» (VII, 299). Конечно,
эти высказывания
грешили явным преувеличением
в смысле объективной оценки художественных недостат
ков «Обрыва». Но, быть может, именно в этом и состоит
их интерес и большое познавательное значение: они по
казывают, насколько разными, непохожими друг на
друга художниками были Гончаров и Тургенев...
Еще меньше оснований для сближения пожившего,
робко мечтающего о счастье Лаврецкого с неунывающим
седым юношей Райским, а тем более с нигилистом Воло-
ховым. Последнего невозможно сравнивать даже с База
ровым. Скорее всего на недопустимость подобных парал
лелей и намекал Тургенев в 1869 году, как бы сводя за
одно запоздалые счеты с Гончаровым за его былые подо
зрения: «И что за фигура этот соблазнитель, Марк Во-
лохов? Почему этот свинопас — другого слова придумать
нельзя — увлекает Веру? Где сила, красота, ум, нако
нец?» (VIII, 13).
Можно с уверенностью утверждать, что сходства ме
жду главными героями «Дворянского гнезда» и «Обрыва»
не прибавилось бы и в том случае, если бы в романе Тур
генева был реализован мотив «падения», которому Гон
чаров в своем романе придавал особенно важное значе
ние. Элегически безнадежный финал отношений Лаврец
кого с Лизой все равно остался бы тем же, ничуть не со
звучным мажорным нотам в эпилоге «Обрыва». Очень
трудно представить Тургенева в роли Гончарова, рисую
щего Веру — покаявшуюся, склонившуюся перед авто
ритетом бабушки, нашедшую утешение и «законное»
счастье в буржуазно-благополучных объятиях Тушина.
Недаром же Тургенев называл «Обрыв» романом, напи
санным «чиновником для чиновниц».
Вообще проблемы любви и семейных отношений по
лучали в творчестве Гончарова и Тургенева принци
пиально различное освещение. В плане романа «Нака
нуне» Тургенев сделал для себя даже специальную за-
335
метку: «Показать дрянность и дряблость у нас семейной
жизни». И показал их — в лице родителей Елены.
Ни один роман Тургенева не кончается изображением без
облачного семейного счастья. Большинство его героев или
не имеют семейного пристанища, или не дорожат им,
или же отрываются от него в поисках иных, более высо
ких идеалов. Таковы Рудин и Лаврецкий, Инсаров и Ба
заров, Елена и Лиза, Ирина в «Дыме». Между тем Гон
чаров, особенно в романе «Обрыв», выказывает себя по
борником и хранителем семейных устоев, изображая их
с уклоном в идеализацию патриархальной старины.
В этом отношении Гончаров в сравнении с Тургеневым
выглядит законченным консерватором.
Как человека и писателя Гончаров упрекал Тургенева
за легкое, беззаботно-тщеславное скольжение по поверх
ности жизни. О том, насколько несправедливыми были
эти упреки, свидетельствуют горькие истины, высказывав
шиеся Тургеневым без всякой аффектации в год появле
ния в печати «Дворянского гнезда» и, конечно, налагав
шие определенный отпечаток на этот роман: «Мне
недавно пришло в голову, что в судьбе почти каждого че
ловека есть что-то трагическое, — только часто это траги
ческое закрыто от самого человека пошлой поверхностью
жизни. Кто останавливается на поверхности (а таких
много), тот часто и не подозревает, что он — герой тра
гедии. Например, здесь: кругом меня все мирные, тихие
существования, а как приглядишься — трагическое вид
неется в каждом, либо свое, либо наложенное историей,
развитием народа. И притом мы все осуждены на
смерть... Какого еще хотеть трагического?» (III, 354).
Характерные образные связи между романами Турге
нева и «Обрывом» ощутимы лишь при сопоставлении Рай
ского с Шубиным и Беловодовой с Одинцовой. Что ка
сается Райского и Шубина, беглые суждения по этому
поводу, сопровождаемые обычно не слишком точными
традиционными указаниями на однородность избранного
обоими писателями жизненного материала, можно встре
тить во многих литературоведческих работах.
62
Первая и,
кажется, единственная попытка подойти к вопросу о сход
стве этих образов с точки зрения литературной преемст-
62
См., напр., книгу А. Г . Цейтлина «И. А. Гончаров» (М.,
1950, стр. 403).
336
венности была предпринята Б. М . Энгельгардтом в его
интересном психологическом этюде, открывающем сбор
ник «И. А. Гончаров и И. С. Тургенев». Он писал: «Так,
быть может, в связи с толками Гончарова о Райском
(имелись в виду «толки» во время совместных обсужде
ний плана «Обрыва», — А . В .) Тургенев заинтересовался
психологией художника и ввел Шубина в «Накануне»,
как представителя искусства среди поклонников Елены».
Это очень верное замечание, однако Б. М. Энгельгардт не
развил свою мысль, да, впрочем, и утверждал ее недо
статочно последовательно, о чем свидетельствует ему же
принадлежащая парадоксальная оговорка: «Но сходство
их не более того, какое можно установить, например, ме
жду тем же Райским и Рудиным и т. д.»
63
Оговорка мало
убедительная, так как сходство Райского с Рудиным, вы
ражающееся в их принадлежности к весьма обширной
категории «лишних людей», включающей в -себя много
численные, индивидуально непохожие друг на друга раз
новидности, уж слишком неконкретно. Между тем Рай
ский и Шубин являются представителями одной и той же
прослойки «лишних людей» — это художественно одарен
ные натуры, капризные, но талантливые баловни судьбы,
бесхарактерные дилетанты, поклоняющиеся с оттенком
гедонизма искусству и женской красоте, но в то же время
весьма зоркие и неравнодушные наблюдатели обществен
ной жизни, в уста которых авторы нередко влагают свои
самые сокровенные мысли и чаяния. Шубин живее и
легкомысленнее Райского, но оба зачастую чувствуют и
думают в сущности одинаково, что нетрудно проиллю
стрировать рядом указаний на специфически однородные
у Гончарова и Тургенева приемы и характеристики их
настроений и переживаний. «Что за нежное, неуловимое
создание! — восклицает Райский под впечатлением пер
вых встреч с Верой. — Вся — мерцание и тайна, как
но^ь—-полная мглы и искр, прелести и чудес!» (ч. II,
гл. XVI). В первой главе романа, говоря о своей работе
над бюстом Елены, Шубин замечает, что выражение ее
взгляда «беспрестанно меняется, и от него меняется вся
фигура... Удивительное существо... странное суще
ство. ..» А в главе пятой, весь во власти художнического
чувства к Елене, Шубин уже явно вторит Райскому:
63
И. А. Гончаров и И. С. Тургенев, стр. 20.
72 22 А. Батюто
337
«Какая ночь, серебристая, темная, молодая!» Как хорошо
теперь тем, кого любят!» Сходно также изображение тра
гикомических переживаний Райского и Шубина, безус
пешно пытающихся добиться любви Веры' и Елены.
Между прочим, в связи с этим следует иметь в виду, что
и Вера и Елена пренебрегают этими героями по одним и
тем же мотивам, в которых отражается свойственная им
неподкупная строгость морального чувства: с их точки
зрения, Райский и Шубин, как все художники вообще,
не заслуживают серьезного внимания, потому что это —
прежде всего —- люди по-детски переменчивые и неглубо
кие, ищущие в жизни не дела, а только рассеяния и на
слаждения. Но быть может самым, убедительным доказа
тельством существования преемственной зависимости ме
жду Райским и Шубиным является следующая выдержка
из письма Райского к художнику Кириллову, написан
ного после ряда неудач и разочарований, постигших ге
роя в занятиях живописью, музыкой и литературой:
«И вы, и никто — не остановили меня, не сказали мне,
что я — пластик, язычник, древний грек в искусстве!..
Мое дело — формы, внешняя, ударяющая по нервам кра
сота! .. Не по натуре мне вдумываться в сложный меха
низм жизни! Я пластик, повторяю: мое дело только ви
деть красоту —и простодушно, не „мудрствуя лукаво"г
отражать ее в создании Теперь хотите ли знать, кто я,
что я?.. Скульптор!» (ч. V, гл. XXIII).
Сжатая самохарактеристика Райского, пожалуй, в еще
большей степени выражает натуру Шубина, главные осо
бенности его дарования и художнического миросозерца
ния. Но была здесь и разница. Суть ее заключалась в том,
что Райский подводился к такому пониманию и опреде
лению своей личности в результате длительного самоана
лиза, а стихийно талантливый и жизнерадостный турге
невский скульптор легко и свободно высказывал его уже
в первых главах романа. Изображение Шубина как бы
сразу началось с того, на чем по существу закончилось
пространное изображение Райского. В этом сказалось
одно из характерных проявлений резкого различия в сти
лях Гончарова и Тургенева.
Тургеневу была чужда склонность автора «Обломова»
и «Обрыва» к обстоятельно-неторопливой, обильной де
тализации изображений, его тяготение к такому типу
романа, в котором «укладывается вся жизнь, и целиком,
338
я по частям» («Обрыв», ч. I, гл. V). То, что Гоичдрону
кажется важным и необходимым, ему зачастую продет и
ляется второстепенным и необязательным. В противопо
ложность Гончарову он строго подчиняет свое повостио
вание изображению лишь самых ярких, ответственных
моментов в жизни герЬя,^иренебрегая подробной обрисов
кой всех промежуточных ее стадий. В свете этого основ
ного противоречия в стилях, обусловившего разные объем
но-хронологические границы романа у Гончарова и Тур
генева, -понятны и естественны подчеркнуто отрицательные
суждения об «Обрыве», неоднократно высказывавшиеся
Тургеневым после его выхода в свет. Поистине уничто
жающими были, в частности, и его отзывы о Райском,
но, предопределенные все тем же несходством в стилях
и в главных принципах построения романа, они не
могут служить основанием для сомнений в конкретно-
генетической зависимости образа Шубина от этого персо
нажа.
Среди материалов по истории создания ряда произве
дений Тургенева, введенных в литературоведческий обо
рот благодаря публикациям А. Мазона, есть первый спи
сок действующих лиц романа «Накануне», составленный
приблизительно в период с декабря 1857 по январь
1858 г.
64
Этот список может только подтвердить все ска
занное о Райском и Шубине.
В цитированном выше письме к Карташевской
{март 1859 г.) Тургенев писал о намерении изобразить
в «Накануне» самого Каратеева, что впоследствии и
было сделано. Но обращаясь к первому списку дейст
вующих лиц, мы заметим, что там, это намерение еще
никак не соотносилось с образом Шубина. Напротив,
из списка видно, что по крайней мере некоторые черты
характера Каратеева Тургенев собирался придать не Шу
бину, а его приятелю Берсеневу. В колонке прототипов,
расположенной слева и на некотором удалении от списка,
что хорошо заметно на фотографии, помещенной в вось
мом томе академического собрания сочинений, против
фамилии Берсенева есть помета, правильно расшифрован
ная А. Мазоном как сокращенное написание фамилии
Каратеев. Таким образом, для Шубина на этой стадии
64
А. Мазон. Парижские рукописи И. С. Тургенева. Изд.
«Academia», М.—Л ., 1931, стр. 65, 67. См. также: Соч., VIII, 499.
22*
339
предварительной компоновки замысла романа реальный
прототип еще не был подыскан. Но против вго фамилии
уже было обособленное, на первый взгляд расплывчатое
и ничего не говорящее, но на самом деле многозначитель
ное указание — Художник. Если при этом вспомнить,
что именно таково было первоначальное название романа
«Обрыв», вопрос о преемственной связи образа Шубина
с образом Райского получает документальное обоснова
ние.
65
В ходе дальнейшей работы над романом «Нака
нуне» жизненный материал, предназначавшийся для ис
пользования при создании образа Берсенева, сместился
на Шубина, синтезировался с впечатлениями, порожден
ными рассказами Гончарова о Райском, и так постепенно
в воображении Тургенева возникла живая и законченная
фигура его художника.
В «Обрыве» есть образ, о котором Тургенев отзывался
с еще большим раздражением, чем о Райском, Вере и
Марке Волохове. В письме к И. П. Борисову (12 (24) ян
варя 1869 г.) он утверждал: «Противнее г-жи Бело-
водовой я ничего не знаю. Какой-то начальник отделения
неокладных сборов в юбке». Как бы ощущая недостаточ
ную выразительность этой мстительной, но по существу
справедливой оценки, в письме к П. В . Анненкову,
написанном в тот же день, Тургенев сравнивал Софью
Беловодову с «немецким аптекарем» и через несколько
строк восклицал с комическим ужасом: «И какова должна
быть женщина, которой понравится Беловодова!!!!!!»
(VII, 278—280). Впоследствии и Гончаров признавал, что
при создании этого образа его постигла неудача. Тем не
менее Беловодову можно рассматривать как вполне ве
роятный литературный прототип Анны Сергеевны Один
цовой в романе «Отцы и дети».
Почти каждый значительный персонаж в романах Тур
генева имел одного или нескольких прототипов, которые
рано или поздно указывались самим автором или обна
руживались в процессе литературоведческого исследова
ния его творчества. Одинцова в этом отношении представ
ляет собою если не единственное, то одно из весьма не-
65
А. Мазон не обратил внимания на эту «мелочь». В списке
действующих лиц, опубликованном в его книге, написание «Ху
дожник» никак не выделено, в результате чего оно восприни
мается лишь как определение рода занятий Шубина.
340
многих исключений. По-видимому, не случайно авторская
обобщенная ее характеристика, высказанная в письме
к К. К . Случевскому («представительница наших празд
ных, мечтающих, любопытных и холодных барынь-эпи
куреек, наших дворянок», — IV, 381), в смысле прото-
типики никогда не уточнялась. Вместе с тем зна
менательно, что буквально всеми элементами этой
характеристики можно пользоваться в качестве приблизи
тельно точных определений внешнего облика и характера
Беловодовой. Беловодова и Одинцова похожи друг на
друга как сестры-близнецы с той, однако, весьма суще
ственной и далеко не случайной разницей, что, типологи
чески родственный холодной красавице Гончарова, тур
геневский образ получился несравненно более живым,
впечатляющим и привлекательным.
Тургенев «познакомился» с Беловодовой задолго
до опубликования «Обрыва» — и по устным рассказам
Гончарова и, так сказать, воочию: отрывок «София Ни
колаевна Беловодова» был напечатан в февральском но
мере журнала «Современник» за 1860 г. Интересно, что
уже тогда, т. е . всего за несколько месяцев до возникно
вения замысла «Отцов и детей», Беловодова не понрави
лась Тургеневу (см. IV, 44). Эти обстоятельства дают
основание предполагать, что появление образа Одинцовой
в романе «Отцы и дети» в какой-то мере обусловлено
творческим соревнованием с Гончаровым, намерением по
казать, чего можно достигнуть при удачной художествен
ной трактовке этого типа. Идя в данном случае вслед
за Гончаровым,* Тургенев явно превзошел своего пред
шественника в главном — в создании полной иллюзии
животрепещущей реальности. Его Одинцовой действи
тельно присущи волнующее обаяние женственности и
естественной грации, покоряющее Базарова как бы неза
висимо от усилий автора; трезвый и гибкий ум, способ
ный многое понять и оценить по достоинству. При всех
ее сибаритских наклонностях в каждом слове и душев
ном движении Одинцовой без труда угадывается жен
щина, искушенная разнообразным жизненным опытом и
потому немного насмешливая и добродушно снисходи
тельная ко всем окружающим ее людям.
Таким образом, если здесь имело место намеренное
художническое соревнование с Гончаровым, победа оста
лась за Тургеневым.
23 А. Батюто
341
Тургенев в данном случае отчасти заимствует у Гон
чарова и сюжетную ситуацию, но только в самых общих
схематических очертаниях, которые, по всей вероятности,
можно было бы отыскать во многих произведениях миро
вой литературы. Другое дело, конкретно событийное и,
в особенности, психологическое наполнение этой ситуации.
В принципе оно резко отличается от того, что есть в «Об
рыве». Райский, как и Базаров, стремится совлечь Бело-
водову со стези безмятежного существования, а та, по
добно Одинцовой, не идет на это, дорожа спокойствием
сердца и привычным комфортом издавна установившегося
жизненного распорядка. Но в поклонений Райского кра
соте Беловодовой, чем-то почти неуловимо напоминающем
базаровское увлечение «богатым телом» Одинцовой,
66
есть
раздражение, но нет подлинной страсти. Оно изобра
жается как бесконечно повторяющийся вялый процесс,
лишенный внешней и внутренней динамики. В одном из
своих писем Тургенев резонно отмечал, что «разговоры
между г-жою Беловодовой и Райским заткнули за пояс
некогда знаменитые разговоры между Ольгой и Обломо-
вым», что «это все отжило» (VII, 285).
Непомерно растянутые диалоги Райского и Беловодо
вой обрываются в пустоту, поскольку не имеют сюжет
ного продолжения. Без особого ущерба общему впечат
лению и структурной законченности «Обрыва» Гончаров
мог бы опустить эти, а заодно и некоторые другие сцены
и описания вплоть до приезда Райского в имение Татьяны
Марковны. Между тем роман Тургенева как цельное ху
дожественное произведение невозможно представить без
обрисовки взаимных отношений Базарова и Одинцовой.
В тургеневской композиции романа нет пассивных, а под
час и громоздких элементов, свойственных творческой
манере Гончарова.
Наконец, намеки на некую связь с мотивами «Обрыва»
обнаруживаются в позднейшей романистике Тургенева —-
уже после появления в печати этого романа Гончарова.
Так, в первой части «Обрыва» (гл. XI) описывается
поездка Райского и Татьяны Марковны Бережковой
66
Напомним о признаниях Райского перед незаконченным
портретом Беловодовой (ч. I, гл. XVII): «Я поклоняюсь красоте,
люблю ее, — он нежно взглянул на портрет, — телом и душой и,
признаюсь... — он комически вздохнул — больше телом...» .
342
К супругам Молочковым, Живущим в уездном городе со
вершенно уединенно. «„Чем же они замечательны?" —
спрашивает Райский перед тем, как туда отправиться.
„Да тем, что они... старички... Почтенные такие, — ска
зала бабушка, — лет по восьмидесяти мужу и жене. И не
слыхать их в городе: тихо у них, и мухи не летают. Сидят
да шепчутся, да угождают друг другу. Вот пример вся
кому: прожили век* как будто проспали. Ни детей у них,
ни родных! Дремлют да живут! .." В самом деле, муж и
жена, к которым они приехали, были только старички,
и больше ничего. Но какие бодрые, тихие, задумчивые,
хорошенькие старички! Оба такие чистенькие, так свежо
одеты; он выбрит, она в седых буклях, так тихо говорят,
так любовно смотрят друг на друга, и так им хорошо
в темных, прохладных комнатах, с опущенными шторами.
И в жизни, должно быть, хорошо! Бабушка с почтением
и завистью, а Райский с любопытством глядел на стари
ков, слушал, как они припоминали молодость, не верил
их словам, что она была первая красавица в губернии,
а он — молодец, и сводил, будто, женщин с ума». После
визита к Молочковым Райский уносит «какое-то тихое
воспоминание, дремлющую картину в голове об этой
давно и медленно ползущей жизни».
Беглое изображение буколической четы Молочковых
и хронологически и по своей художественной тональности
близко той главе «Нови», в которой с гораздо большей
и — в данном случае — несколько необычной для Турге
нева обстоятельной детализацией рассказывается об анек
дотически-патриархальном существовании Фимушки и
Фомушки. Но у Гончарова это описание не больше чем
художнический каприз, яркая жанровая сценка, не свя
занная идейно и композиционно с основными линиями
сюжетного развития его романа. Не то мы видим у Тур
генева, хотя сам писатель и поспешил согласиться с кри
тическими замечаниями Я. П . Полонского и К. Д . Каве
лина, находивших изображение четы Субочевых в «Нови»
излишним и даже «неуместным». «Фомушка и Фи-
мушка, — писал Тургенев Кавелину, — вставной ку<х>к;
его можно вынуть без всякого ущерба целому... Это одно
их осуждает бесповоротно» (XIIi, 39). Тургенев здесь
явно принижал значение этих сцен, что подтверждается,
впрочем, тем же письмом его к Кавелину, в котором есть
и такое замечание: «Я просто не устоял перед желанием
23*
343
нарисовать старорусскую картину —в виде „(Tun repous-
soir" — . или оазиса, как хотите». Оба характерные автор
ские определения — «оазис» и «repoussoir» (контраст) —
как бы приподнимают завесу над подлинным смыслом
главы о Фимушке и Фомушке. «Старорусская картинка»,
нарисованная в этой главе, введена в роман с целью ее
резкого противопоставления вульгарной разновидности
русского «нигилизма» семидесятых годов, олицетворяемой
Капитоном Голушкиным, иронически названным «про
грессистом двадцатого века». Сравнивая восемнадцатый
и «двадцатый» века русской жизни, Тургенев устами Пак-
лина, нередко выражающего в романе его собственные
мысли и настроения, говорит: «И там чепуха — и здесь
чепуха... Только та чепуха, чепуха восемнадцатого века,
ближе к русской сути, чем этот двадцатый век» (гл. XX).
Жизнь Фимушки и Фомушки в противоположность мо
рально и физически неопрятному существованию грубого
деспота и самодура Голушкина уподобляется стоячим, но
не гнилым водам, в которых есть своеобразная прелесть.
«Такие есть степные прудки, — замечает Паклин, — они
хоть и не проточные, а никогда не зацветают, потому что
на дне у них есть ключи. И у моих старичков есть
ключи -г - там, на дне сердца,
чистые,
пречистые»
(гл. XVIII).
В комической «чепухе восемнадцатого века» Тургенев
обнаруживает важные признаки «русской сути», пол
ностью утраченные веком «двадцатым»: сердечную от
зывчивость и доброту, по-детски наивную свежесть и не
посредственность восприятия действительности, человеч
ность и даже какую-то цепкую изначальную мудрость.
Недаром гадание Фимушки о характерах Нежданова, Со
ломина и Маркелова, основанное лишь на мимолетном
знакомстве с ними, приобретает тем не менее значение
окончательного приговора, по существу безошибочного
предвидения их дальнейшей судьбы.
Изображение Фомушки и Фимушки было проникнуто
злободневной политической тенденцией, несвойственной
типологически сродной, но все же по преимуществу без
мятежно-эпической, объективной художественной трак
товке молочковской идиллии в романе Гончарова. Благо
даря этой своей особенности глава о Фимушке и Фомушке
перекликается с колоритным эпизодом из другого широко
известного русского романа, появившегося в печати не-
344
задолго перед «Новью» — изображением плодомасовских
карликов в «Соборянах» Лескова.
67
Несвойственна супру
гам Молочковым в «Обрыве» и мизерность, почти игру-
шечность внешнего облика Фимушки и Фомушки, объеди
няющая их с персонажами Лескова. Таким образом,-
трудно определить, кому именно — Гончарову или Лес
кову — Тургенев был в большей степени обязан специфи
ческой идейно-художественной окраской этих сцен.
Но каков бы ни был ответ на этот конкретный вопрос,
бесспорен общий вывод: рисуя свои патриархально-буко
лические пары с резким (особенно в «Нови» и «Соборя
нах») отпечатком быта и психологии восемнадцатого века,
все три писателя творили в русле русской литературной
традиции, начало которой было положено «Старосвет
скими помещиками» Гоголя. Что касается Тургенева,
он первый воздал дань этой традиции еще в «Отцах и де
тях». Как справедливо отмечалось в исследовательской
литературе, типами старосветских помещиков у Турге
нева, наряду с Фомушкой и Фимушкой, являются и ста
рики Базаровы.
68
Использование гоголевской традиции в «Отцах и де
тях» нашло выражение в мягком колорите и светлом
юморе, в чувстве бесконечной доброжелательности и уча
стия, неизменно присущих описаниям незатейливого и
мирного семейного уклада старичков Базаровых. Но как
самобытный художник Тургенев и здесь не ограничи
вается пассивным воспроизведением чужой художествен
ной манеры.
Все изобразительные средства, все симпатии Гоголя
сфокусированы на фигурах Пульхерии Ивановны и Афа
насия Ивановича. Лишь в эпилоге «Старосветских поме
щиков», вместе с появлением «негодяя наследника, про
мотавшего достояние двух простаков»,
69
начинает приглу
шенно звучать неожиданно возникающая и сразу же об
рывающаяся тема двух совершенно чуждых друг другу
67
См.: Г. А. Бялый. От «Дыма» к «Нови». «Ученые записки
Ленинградского гос. педагогического института», 1956, т. XVIII,
вып. 5, стр. 96.
68
См.: В. М. Ф и ш е р. Повесть и роман у Тургенева. В сб.:
Творчество Тургенева. М ., 1920, стр. 31.
69
Слова, взятые в кавычки (здесь и на следующей стра
нице),—цитаты из статьи В. Г . Белинского «О русской повести
и повестях г. Гоголя» (см.: В. Г. Белинский. Поли. собр. соч.,
т. I. Изд. АН СССР, М., 1953, стр. 291).
* 345
поколений. В противоположность Гоголю тургеневские
старосветские помещики изображаются не сами по себе,
а как активные и равноправные участники великой се
мейной и общественной драмы, возникшей на очень ши
рокой основе идейно-психологических антагонизмов и
противоречий.
Рассказывая о трогательных, но безуспешных попыт
ках Василия Ивановича и Арины Власьевны сблизиться
со своим сыном, Тургенев по-гоголевски их любит, но при
этом не осуждает и «наследника». Являясь одним из фа
зисов всеобъемлющего духовного разлада между «отцами»
и «детьми», отношения, изображаемые в данном случае,
порождают взаимное непонимание, преодоление которого
не зависит от доброй воли любой из сторон. В складываю
щихся ситуациях нет правых и виноватых, как нет злых
и добрых, и тем они трагичнее, а страдания, ими порож
даемые, чище и одухотвореннее.
Трагические финалы, к которым подводят своих старо
светских помещиков Гоголь и Тургенев, предопределены
разными принципами авторского философски-художест
венного видения жизни этих персонажей. Если Гоголь,
по словам Белинского, сумел придать значение глубокой
поэзии «наружной простоте и мелкости», даже «пошло
сти» и «гадости» существования своих старосветских по
мещиков, то поэзия тургеневских изображений заключа
лась в обнаружении ничем не запятнанной душевной кра
соты его героев. Подчеркивая «очарование», возникающее
при чтении повести Гоголя, Белинский сравнивал Пуль-
херию Ивановну и Афанасия Ивановича с классическими
образами Филемона и Бавкиды. Подобные сравнения и
оценки были бы вполне уместны и в отношении тургенев
ской пары. Вместе с тем о старичках Базаровых никак
нельзя сказать того, что говорил Белинский в той же
статье о старосветских помещиках Гоголя. Это отнюдь не
«две пародий на человечество», которые «в продолжение
нескольких десятков лет пьют и едят, едят и пьют»; не
актеры «глупой комедии», в равной мере возбуждающие
и смех и участие. В изображении стариков Базаровых
было гораздо меньше типично гоголевского элемента,
чем в образах Фимушки и Фойушки, выведенных в по
следнем романе Тургенева.
В жанровом взаимодействии романа Тургенева с ли
тературным процессом соответствующей эпохи наблю-
346
дается определенная закономерность: по мере приближе
ния к кульминационной точке в творческом развитии ро
маниста («Отцы и дети») оно сводится почти на нет.
Сюжетно-композиционные СВЯЗРГ С произведениями других
авторов, очень рельефные в «Рудине», ослабевают уже
в «Дворянском гнезде». В следующем романе происходит
как будто резкий поворот вспять, но в значительной сте
пени это все-таки только видимость, так как повесть
«Московское семейство», из которой Тургенев извлек сю
жет для своего романа, представляла собою не закончен
ное целое, а скорее лишь крайне сырой и аморфный ма
териал для построения подлинно художественного произ
ведения. В сравнении с нею роман «Накануне» выглядел
грандиозным созданием. В данном случае не могло быть
речи ни об использовании каких-то художественных тра
диций, ни о литературной преемственности, ни, тем более,
о творческом соревновании. Написав «Накануне», Турге
нев как бы перечеркнул несовершенную повесть Кара-
теева, чего, конечно, нельзя сказать о произведениях
Ж. Санд, Гончарова и даже Панаева, которые в резуль
тате соприкосновения с формирующейся романистикой
Тургенева не утратили присущего им самостоятельного
литературного значения.
После написания «Накануне» Тургенев не отказы
вается от использования чужих приемов сюжетостроения и
композиции при конструировании лишь сравнительно вто
ростепенных компонентов повествования в том или ином
своем романе. Так, эпизодическое присутствие этих прие
мов заметно в сценах, изображающих стариков Базаровых,
и в главе о Фимушке и Фомушке. К этому следует доба
вить, что в последнем романе Тургенева, быть может, не
исключено частичное преломление и сюжетики Герцена.
В исследовательской литературе обращалось внимание
на невольную, но немаловажную роль издателя «Коло
кола» в создании таких романов Тургенева, как «Отцы и
дети» и «Дым». Как отмечалось выше, в ожесточенных
спорах Базарова с Павлом Петровичем Кирсановым
нередко проскальзывают то гневные, то желчно-презри
тельные реплики, явно «заимствованные» из лондонской
полемики Чернышевского с Герценом, запечатленной
в статье последнего «Лишние люди и желчевики».
70
06-
70
См.: А. Е . Грузинский. И. С. Тургенев, М., 1918,
стр. 153-154.
347
щеизвестно также, что полемика уже самого Тургенева
с Герценом косвенно сказалась в речах Потугина. Но все
это свидетельствовало об использовании в художествен
ных целях по преимуществу публицистической традиции
Герцена. Тургенев часто прибегал к подобным приемам,
искусно вкрапливая в свои романы характерные высказы
вания выдающихся людей своего времени. Это делалось
для того, чтобы наиболее полно и исторически достоверно
воссоздать картину напряженной идейно-политической
борьбы в русском обществе шестидесятых годов. Что ка
сается воздействия на Тургенева-романиста со стороны
Герцена-художника, то впервые оно обнаружилось в «Дво
рянском гнезде». Трудно не согласиться с А. С. Долини
ным, по мнению которого предки Лаврецкого введены
в этот роман «по образу и подобию» рода Столыгиных
в повести Герцена «Долг прежде всего» — «в той же по
следовательности смены различных поколений и с той же
целью: вступления к рассказу о центральном герое».
71
Таким образом, в сюжетно-генеалогическом отноше
нии предысторию Лаврецкого можно рассматривать,
в конце концов, как органический сплав собственно тур
геневских мотивов с элементами схожей сюжетики в про
изведениях Гончарова и Герцена. Возвращаясь к «Нови»,
следует отметить, что отъезд Нежданова на кондиции и
целый ряд характерных подробностей, включенных
в описание этого события, весьма напоминают аналогич
ный эпизод в романе Герцена «Кто виноват?», хотя о бук
вальной во всем близости и здесь говорить, конечно, не
приходится. Так, например, с заманчивым предложением
к Нежданову обращается не заботливый добряк-посредник
вроде Крупова, как это показано в случае с Круцифер-
ским в романе «Кто виноват?», а сам сановный «благоде
тель». Солдафон Негров у Герцена и лощеный цивилизо-,
ванный либерал Сипягин у Тургенева — ягоды одного
поля, но изображены по-разному. При всем том доста
точно резко бросаются в глаза субъективно схожие черты
в обрисовке психики, характеров, внешнего облика и по
ведения Нежданова и Круциферского: оба представляют
71
А. С . Долинин. О книге В. А . Путинцева «Герцен-пи
сатель». «Ученые записки Ленинградского гос. педагогического
института», 1954, т. IX, факультет языка и литературы, вып. 3,
стр. 306. См. также: А. Г . Цейтлин. Мастерство Тургенева-ро
маниста. Изд. «Советский писатель», М., 1958, стр. 235.
348
собою нежные романтические натуры, легко ранимые
грубой прозой жизни, совсем неприспособленные к дли
тельной и упорной борьбе за существование. Есть также
какая-то отдаленная перекличка и в изображениях пер
воначальной стадии отношений Нежданова с Сипягиной
и Круциферского с женой Негрова.
4. К вопросу о традициях
Грибоедова и Пушкина
в творчестве
Тургенева-романиста
Приблизительно с «Отцов и детей» в развитии турге
невского романа начинается особый период, который ус
ловно можно назвать периодом преднамеренного обраще
ния писателя к использованию традиций русской
классики. В предыдущих главах настоящего раздела мо
нографии речь шла о взаимодействии романа Тургенева
с рядом произведений современной ему русской и отчасти
западноевропейской литературы, сказывавшемся, глав
ным образом, в относительно узкой области сюжетострое-
ния и композиции. Иная картина вырисовывается при
анализе несравненно более многообразных и глубоких
связей творчества Тургенева-романиста с наследием его
великих предшественников — Пушкина и Грибоедова.
Преемственные связи романа Тургенева с творчеством
Пушкина и Грибоедова ощущаются в его языке и стиле,
сказываются на приемах изображения характеров, при
дают нередко пушкинско-грибоедовскую окраску даже са
мому строю художественного мышления Тургенева-рома
ниста. Однако по силе, широте и постоянству воздействия
на Тургенева идейно-художественные традиции Грибое
дова значительно уступали пушкинским.
В предлагаемой главе особое внимание обращено на
некоторые, еще не получившие должной интерпретации
в литературоведческой науке, характерные моменты в свя
зях романа Тургенева с творчеством Пушкина и Гри
боедова.
В шестидесятые годы Тургенев принимает очень ак
тивное участие в острой идеологической борьбе между
разночинцами-демократами и либералами, западниками и
славянофилами, «эстетами» и «йигилистами» в искусстве,
349
прогрессивными буржуазными реформаторами и край
ними реакционерами в сфере политики и социально-эко
номических отношений и обращение его к Пушкину и
Грибоедову в значительной степени предопределено спе
цифическими условиями и задачами именно этой борьбы.
Русская классическая литературная традиция исполь
зуется в романистике Тургенева в качестве одного из дей
ственных средств образного утверждения и защиты ос
новных идейно-эстетических убеждений писателя.
Отдельные признаки преломления стиля Грибоедова
встречаются в некоторых сатирических по своей нагрузке
диалогах романа «Отцы и дети». В главе XIII между
Кукшиной и Базаровым происходит такой разговор:
«— Pierre Сапожников... вы его знаете?
— Нет, не знаю.
— Помилуйте, Pierre Сапожников... он еще всегда
у Лидии Хостатовой бывает.
—
Яиеенезнаю».
Этот диалог является очевидной реминисценцией из
«Горя от ума» (действие III, явл. 3):
«Молчалин: Татьяна Юрьевна рассказывала что-то .. .
Чацкий. Ей почему забота?
, Молчалин. Татьяне Юрьевне?
Чацкий. Я с нею незнаком.
Молчалин. С Татьяной Юрьевной?
Чацкий. С ней век мы не встречались...
Молчалин.. Да это полно та-ли-с? Татьяна Юрьевна! ..
известная...»
Формальные различия в строе прозаической и стихо
творной речи отнюдь не мешают заметить в данном слу
чае, что презрение Чацкого и Базарова к. своим ничтож
ным собеседникам и их покровителям выражено прибли
зительно в одной и той же манере, вплоть до характерных
совпадений в выборе лексики и даже интонаций. В отли
чие от предшествующих романов в «Дыме» такого рода
реминисценции нз Грибоедова утрачивают значение яр
ких, но мимолетных стилистических блесток, разбросан
ных по ткани повествования на большом удалении друг
от друга, и становятся необходимыми звеньями стройной
системы стиля и образов.
Использование стилистики и образной системы «Горя
от ума» в предпоследнем романе Тургенева отмечалось
уже в XIX веке. Характеризуя стиль «Дыма», А. Н. Пле-
350
щеев в одном из писем к А. М . Жемчужникову (июль
1867 г.) писал: «Меткость и язвительность некоторых вы
ражений не уступят грибоедовским и не умрут, как они».
72
О репетиловских чертах в изображении кружка Губарева
писали в свое время профессор петербургского универси
тета О. Ф . Миллер и известный критик и историк лите
ратуры А. М. Скабичевский, утверждавший, что Бамбаев
представляет собою «сколок с грибоедовского Репети-
лова».
73
В последние годы подобного рода конкретные
наблюдения пополнились указаниями на перекличку гри-
боедовских Ипполита Удушьева и «ночного разбойника
и дуэлиста» с образами Ворошилова и Тита Биндасова.
В связи со всем этим один из исследователей творчества
Тургенева приходит к выводу, что «появление репетилов-
ской темы в губаревских эпизодах „Дыма" представляется
как нельзя более естественным, если учесть подчеркнутое
стремление Тургенева показать кружок Губарева как па
разитический нарост на теле чуждого для этого кружка
политического организма».
74
Комедию Грибоедова и роман Тургенева объединяет
свойственный им пафос прямого, бескомпромиссного об
личения темных сторон русской действительности, причем
оно ведется нередко в адекватной по стилю форме, по
рождающей в иных случаях совпадения в трактовке це-
72
«Русская мысль», 1913, No 7, стр. 121 .
73
Как во всех произведениях с ярко выраженной сатириче
ской тенденцией, фамилии подавляющего большинства персона
жей в «Горе от ума» и «Дыме» имеют особую смысловую на
грузку. В каждой из них обязательно содержится намек на ос
новное свойство характера или духовного склада ее носителя.
Что касается Бамбаева, то его фамилия весьма красноречиво
свидетельствует о точности наблюдения, принадлежащего Ска
бичевскому: по существу она является тонко подчеркнутой про
сторечно-русской перелицовкой «французской» фамилии Репети-
лова. Как в том, так и в другом случае намек на основное свой
ство героя, содержащийся в его фамилии, один и тот же: оба
склонны к шумной, надоедливо повторяющейся, восторженно
беспредметной болтовне обо всем на свете (Бам-баев: первая
половина написания этой фамилии определенно ассоциируется
с однообразной повторяемостью звуков колокола или какого-ни
будь другого источника столь же однообразного «шума»; вторая
половина обязана своим происхождением просторечному глаголу
баять — говорить, болтать, рассказывать побасенки).
74
Г. Бялый. Тургенев и русский реализм. Изд. «Советский
писатель», М.— Л ., 1962, стр. 191.
351
лых групп сатирических образов. В дополнение к тому,
что давно известно, следует упомянуть об эпизодах
«Дыма», в которых яркими мазками живописуется «бе
шенство сплетни», царящее в среде губаревцев и в свет
ском окружении баденских генералов. Нечто подобное
мы найдем в третьем действии «Горя от ума», где с лету
чей быстротой, с полным отсутствием малейших призна
ков здравого смысла, совести и уважения к человеческой
личности распространяется устрашающе жестокая в своем
наивном бесстыдстве клевета о сумасшествии Чацкого.
В алогизме градаций сплетни, рисуемой в «Горе от ума»
и «Дыме», в ее бессмысленно-бурном нарастании немало
общего с гоголевской манерой «подачи» сцен с участием
Хлестакова. Не исключено, что комедия Гоголя являлась
в этом отношении посредствующим звеном между «Горем
от ума» и романом Тургенева.
Однако следует ли отсюда, что использование тради
ций Грибоедова в «Дыме» ограничивалось только сферой
отрицания, обличения, сатиры? Ведь в «Дыме» очень
сильна и другая тенденция — проповедь положительного
идеала, который Тургенев видел в достижениях западно
европейской «цивилизации». Обе тенденции перепле
таются в романе настолько тесно, что сильное воздействие
извне на формирование одной из них не могло не отра
зиться как-то и на другой. В действительности использо
вание традиций Грибоедова в «Дыме» оказывается более
широким, чем принято считать, а следовательно, и более
значительным по своим творческим последствиям. Пред
определив специфику многих сцен романа, связанных
с обличением светского общества и представителей круж
ков русской эмиграции, играющих в демократизм, оно за
кономерно способствовало появлению в романе, наряду
с Репетиловыми и Удушьевыми, героя, выполняющего
одновременно функции обличения и функции выражения
в подчеркнуто публицистической форме основной автор
ской позитивной идеи. Есть достаточно серьезные основа
ния для постановки вопроса о подспудной идейно-худо
жественной связи замысла образа Потугина с образом
Чацкого. При изображении Потугина использование тра
диций Грибоедова сочеталось у Тургенева с обращением
к идейному наследию и личности Белинского, к интимно
дорогим для него воспоминаниям о дружбе и тесном ду
ховном общении с великим критиком.
352
Сближение Потугина с Чацким на первый взгляд мо
жет показаться сплошным парадоксом, поскольку в трак
товке этих персонажей слишком много несхожих черт.
Прежде всего Чацкий произносит свои обличительные
речи, будучи сам активным участником действия в коме
дии. Он, так сказать, не выпадает из ее сюжета. Между
тем позиция Потугина — это позиция не равнодушного,
но все-таки стороннего наблюдателя событий в романе.
Совершенно различны, прямо противоположны принципы
портретной характеристики этих героев. Мешковатый тур
геневский Потугин, в словах и жестах которого сквозит
подчас безмерное утомление безрадостно пожившего че
ловека, конечно, совсем не похож на Чацкого, изящного
и молодого, только вступающего в зрелую пору жизни и
полного радужных надежд. Обличая московское барство,
Чацкий с особой яростью обрушивается на процветаю
щую в его среде французоманию. То же временами делает
и Потугин, едко высмеивая русских помещиков, самозаб
венно фланирующих по Парижу и озабоченных лишь тем,
чтобы никто за границей не догадался об их «степном»
происхождении. Но при всем этом очевидно, что проблема
Россия и Запад в основном и ставится и разрешается
в «Дыме» отнюдь не по-грибоедовски. Чацкий и Поту
гин— горячие патриоты, искренно озабоченные судьбами
своего отечества, но первый из них весьма далек от того,
чтобы указывать русскому человеку на Запад как на об
разец для поучения. Чацкий страстно изобличает все
старое, отжившее, реакционное. Потугин же наряду
с этим посягает на новое, — правда, потому, что видит
в нем много уродливых явлений, порожденных все тем же
старым миром: невежество, привычку к рутине, неуваже
ние к труду, рабскую психологию, воспитанную веками
духовного гнета и социально-экономического насилия,
и т. п . Потугин — сторонник медленной, основательной,
«подземной работы» по обновлению русской жизни, но
эту методу он пропагандирует таким образом, что иногда
становится похож скорее на Фамусова, чем на Чацкого.
В этом отношении чего стоит, папример, только одна
желчно-брюзгливая потугинская тирада по адресу неопыт
ной и самонадеянной молодежи, проповедующей крайние
меры и безотлагательные решения: «Голубчики! и ваши
детки еще действовать не будут, а вам не угодно ли
в норку, в норку опять по следам старичков?» (гл. XIV).
353
Число подобных примеров, подчеркивающих индивидуаль
ное несходство Потугина с Чацким, можно было бы значи
тельно умножить, но по существу дела они не противоре
чат выдвинутой выше гипотезе, так как Тургенев вовсе и
не стремился к пассивному воспроизведению знаменитого
грибоедовского образа. У него была другая задача. Тра
диции Грибоедова он использует не как подражатель,
а творчески, выборочно, применительно к условиям иной
литературно-общественной эпохи. Его усилия направлены
к тому, чтобы, в известной мере опираясь на традицию
Грибоедова, создать в лице Потугина некую исторически
обусловленную разновидность Чацкого, впечатляющий
образ новой, оригинальной формации — что-то вроде Чац
кого шестидесятых годов, поднимающего руку уже не
только на московское барство, а на социально-экономиче
ский уклад целой России, подвергающего на свой лад
«нигилистическому» опровержению заодно с правой и
«слишком левую» тенденцию в идейно-политическом раз
витии русского пореформенного общества. Об этом еще
придется говорить, а пока отметим, что многочисленные
конкретные различия, а порою и контрасты в обрисовке
Чацкого и Потугина не заслоняют ни общего типологи
ческого родства между этими персонажами, ни определен
ного сходства в приемах их изображения. Для того чтобы
получить об этом приблизительно верное представление,
быть может, следует сначала взглянуть на «Дым» с точки
зрения ... пушкинских оценок комедии Грибоедова.
В январе 1825 г. Пушкин писал А. А . Бестужеву:
«В комедии „Горе от ума" кто умное действующее лицо?
Ответ: Грибоедов. А знаешь ли, что такое Чацкий? Пыл
кий, благородный и добрый малый, проведший несколько
времени с очень умным человеком (именно с Грибоедовым)
и напитавшийся его мыслями, остротами и сатирическими
замечаниями. Все, что говорит он, очень умно. Но кому
говорит он все это? Фамусову? Скалозубу? На бале мос
ковским бабушкам? Молчалину? Это непростительно.
Первый признак умного человека — с первого взгляду
знать, с кем имеешь дело и не метать бисера перед Репе-
тиловыми и тому под.»
75
В главных своих очертаниях
эта пушкинская характеристика Чацкого весьма дриме-
75
А. С . Пушкин. Поли. собр. соч., т. XIII. Изд. АН СССР,
М. - Л., 1937, стр. 138.
354
нима к Потугину. В самом деле, чьими как не тургёней-
скими мыслями и сатирическими замечаниями пересы
паны речи Потугина? Чтобы убедиться в этом, достаточно
обратиться к переписке Тургенева с Герценом (1862—
1863), в которой впервые был намечен, так сказать, идео
логический контур образа. Все, что говорит Потугин,
«очень умно», но его обильные, «пылкие» речи, как и
речи Чацкого, представляют собою как бы замкнутый
в самом себе монолог. Это глас вопиющего в пустыне: не
встречая отклика, он повисает в воздухе. Все дело в том,
что у Чацкого совсем нет сочувствующей ему аудитории,
а у Потугина по существу единственный собеседник, спо
собный его понять, да и тот ненадежный: всецело заня
тый своей любовью к Ирине, Литвинов слушает Потугина
весьма рассеянно. Таким образом, умные герои Грибоедова
и Тургенева незаметно для себя утрачивают «первый при
знак умного человека», попадают, грубо говоря, в глупое
положение. Налицо композиционно-психологическая бли
зость ситуаций, в которых им волей-неволей приходится
действовать. Не исключено, что пушкинская характери
стика Чацкого, данная в письме к А. А . Бестужеву, была
принята к сведению Тургеневым. Возможно, она как-то на
талкивала писателя на мысль поставить своего Потугина
в положение одинокого грибоедовского героя-протестанта.
Чацкий и Потугин принадлежат к типу людей одина
ковой судьбы, людей, не находящих себе места под солн
цем. Гонение, которому подвергается Чацкий, так сказать, ,
единовременно, полною мерой приходится испытывать и
Потугину, — правда, не в такой жестокой форме, но зато
регулярно, по-видимому, на протяжении всей его созна
тельной жизни.
Чуть ли не в самый момент появления романа «Дым»
в печати критики всех направлений, читатели из различ
ных слоев общества принялись судить о Потугине с него
дованием или попросту не принимая его всерьез. Нападе
ние последовало прежде всего со стороны «столпов обще
ства» — «людей религиозных, придворных, славянофилов
и патриотов» (VI, 247), т. е . из той типической среды,
которая породила когда-то грибоедовских Скалозубов и
Фамусовых. Здесь разоблачения высшего света и запад
ническая проповедь Потугина были восприняты как ос
корбление «патриотического чувства» и унижение на
ционального достоинства, как настоящее «гоненье на
355
Москву». В свою очередь виднейшие представители де
мократического лагеря отнеслись к Потугину с полным
пренебрежением, не придавая сколько-нибудь серьезного
значения глубокой критике пореформенной русской дей
ствительности, содержавшейся в монологах этого героя.
Герцену, например, высказывания Потугина показались
жалкой болтовней, досадным анахронизмом. В письме
к Тургеневу от 7 (19) мая 1867 г. он писал: «Я искренно
признаюсь, что твой Потугин — мне надоел. Зачем ты не
забыл половину его болтанья?»
76
Несколько позднее, судя
о Потугине с неменьшей резкостью, Герцен, сам того не
подозревая, рельефно подчеркнул грибоедовскую манеру
в его «исполнении», именно ту манеру, о которой столь же
неодобрительно отзывался Пушкин в письме к А. А. Бе
стужеву. В заметке «Отцы сделались дедами» есть такая
характеристика Потугина: «Представьте себе эту куклу,
постоянно говорящую не о том, о чем с ней говорят...»
77
Но высшая степень пренебрежения к Потугину была про
демонстрирована Писаревым, который в своем отзыве
о «Дыме» даже не упомянул о нем, как бы вовсе его и
не заметил. В ответном письме к критику Тургеневу
пришлось давать подробное разъяснение по этому поводу.
В том же письме, подводя итог обсуждению своего ро
мана, Тургенев констатировал, что он «не нравится...
почти всем русским читателям». Что же касается Поту
гина, Тургенев заметил: «Быть может, мне одному это
лицо дорого» (VI, 261). Чем это восприятие Потугина
критикой шестидесятых годов не похоже на прием, ока
занный в свое время Чацкому, к которому даже Пушкин,
даже Белинский (в эпоху его «примирения» с действи
тельностью) относились если не враждебно, то весьма
иронично?..
Однако еще более существенными представляются
преемственные связи между Чацким и Потугиным по при
знакам, которые с трудом поддаются классификации
с точки зрения непосредственных образных аналогий и ли
тературных параллелей. Обратимся к анализу этих связей.
В «Дыме» поражает странное несоответствие между
характером Потугина и его идеалами. Давно установлено,
76
А. И. Герцен. Собр. соч. в 30 томах, т. XXIX, кн. 1,
стр. 102.
77
Там же, т. XIX, стр. 261.
356
что „суждения Потугина о России и Западе близки самому
Тургеневу, по существу неотделимы от автора. Как изве
стно, эти суждения строго приурочены к важнейшему
переломному моменту в русской жизни, когда, после вве
дения в действие крестьянской реформы, «весь поколеб
ленный быт», по словам Тургенева, «ходил ходуном, как
трясина болотная» («Дым», гл. XXVII). Остро ощущав
шиеся Тургеневым шаткость, неупорядоченность, непри
вычность пореформенных отношений придавали особую
актуальность апологии западничества в его романе. Тур
генев был убежден в том, что активное усвоение западни
ческих идеалов русскими людьми «культурного слоя» мо
жет явиться единственным радикальным средством в деле
подлинного обновления русской жизни, в движении рус
ского общества по пути прогресса.
В силу своей значимости это основное идеологическое
credo, соседствующее в «Дыме» с беспощадной насмешкой
и обличением и придающее им подчас привкус горькогог
но необходимого лекарства, ко многому обязывало Турге
нева как художника. Во всяком случае, оно как-то пред
располагало к определенной последовательности в груп
пировке выразительных средств для его художественной
аргументации. Имея в виду успешное решение основной
идеологической задачи, поставленной в «Дыме», Тургенев,
казалось бы, должен был прежде всего сделать особенно
впечатляющим облик своего alter ego Потугина. Сделать
это было нетрудно — Тургенев мог пойти привычным для
него путем: окружить своего героя известным ореолом,
позаботиться о том, чтобы его речи звучали как можно
убедительнее, чтобы и сам по себе он возбуждал симпа
тию в окружающих его персонажах. Одним словом, ис
ходя из логики замысла «Дыма», Тургеневу следовало
наделить Потугина хотя, бы одной из тех ярких jiepT ха
рактера, интеллекта или нравственного облика, благодаря
которым герои прежних его романов покоряли умы и
сердца читателей. Однако этого не произошло. В жалком
облике Потугина, в его почти приниженной фигуре,
во всем его поведении не обнаруживается ни признаков
«гениальной натуры» Рудина или красоты духовного мира
Лаврецкого, ни железной целеустремленности Инсарова,
ни силы и трагизма переживаний, присущих Базарову.
Чем объясняется такое явное противоречие между запад
нической идеологической концепцией романа и ее кон-
357
кретным воплощением в «жалком» образе? Почему Поту-
гин, пропагандирующий идеалы, от претворения которых
в жизнь зависели, по глубокому убеждению Турге
нева, будущее России, ее социально-экономическое благо
получие и общественно-политический престиж, выглядит
столь неэффектно? Почему, наконец, Потугин, при его не
сомненно очень важном значении в группировке образов
«Дыма», не играет не только централизующей, но и
вообще сколько-нибудь активной роли в непосредственно
сюжетном развитии этого романа? Ответ на некоторые
из этих
вопросов
содержится
в
высказываниях
П. В. Анненкова. Подчеркивая тесную связь проповеди
Потугина с западничеством сороковых годов, а также су
щественные изменения в структуре этой «партии», проис
шедшие к тому историческому моменту, с которого начи
нается действие в романе Тургенева, Анненков писал:
«„Западники" умолкли и разошлись по сторонам. Партия
была рассеяна; члены ее, очутившиеся на различных по
прищах общественной деятельности, принялись, по мере
сил и по мере способов, предоставленных им, работать на
пользу просвещения и развития в отечестве. Влияние их
чувствовалось везде, самих их не было видно: они отка
зались от шума и от имени. Какая же была возможность
автору выбрать эффектного представителя для разбитой
партии?.. Ему оставалось заявить, при посредстве искус
ства, что основная мысль европофилов нисколько не
умерла на Руси, но что она живет преимущественно
в мыслящих людях, много видевших на своем веку,
сильно испытанных жизнью, богатых опытом и наблюде
нием. И вот каким образом случилось, что представителем
некогда знаменитого кружка западников явился, после
Белинского и Грановского, скромный, безвестный, ничем
себя не заявивший, но глубоко убежденный полусеми
нарист и полуразночинец».
78
Так впервые открыто была высказана мысль об из
вестном отражении в настроениях Потугина «лучших пре
даний нашей литературы 40-х годов»
79
и, в частности,
идей Белинского. Конкретная разработка этого вопроса,
78
П. В . Анненков. Русская современная история в ро
мане И. С. Тургенева «Дым». «Вестник Европы», 1867, No 6, отдел
«Историческая хроника», стр. 105—106.
79
Там же, стр. 103.
358
проделанная впоследствии в специальных исследованиях,
показала, что процитированное заявление Анненкова от
нюдь не голословно.
80
П. В . Анненков был ближайшим
другом и литературным советчиком Тургенева, пользовав
шимся особой привилегией свободного доступа в творче
скую лабораторию писателя. Поэтому его разъяснения
по поводу Потугина приобрели авторитетность докумен
тально обоснованной исторической справки, не утратив
шей определенного интереса и по сей день. И все же
разъяснения Анненкова явно недостаточны, так как,
вскрывая один из идейных первоисточников образа, они
почти не затрагивают его художественно-психологической
специфики. Благодаря историческим экскурсам Аннен
кова, становятся более или менее очевидными идейно-
исторические предпосылки «неэффектности» Потугина:
он всего лишь средний, рядовой представитель и аполо
гет западничества. Между тем в трактовке Тургенева
Потугин не просто неэффектен — он жалок и даже «за
бит». Анненков не вдается в специальные объяснения по
этому поводу. Воздерживается от них и Тургенев, но это
вовсе не значит, что в них нет никакой необходимости.
Как нам кажется, появление и этих особенно вырази
тельных черт в образе Потугина в какой-то мере объяс
няется своеобразием преломления традиций Грибоедова.
Творчески используя художественный опыт, накопленный
Грибоедовым, Тургенев заставляет своего героя в новых
общественно-исторических условиях испытывать все то же
«горе от ума», только более горькое и длительное. По
добно Чацкому, Потугин предстает одиноким и непоня
тым скитальцем, но уже изначально наделенным созна
нием незавидности своего положения. Если возвращаю
щемуся на родину Чацкому «дым отечества и гладок и
приятен», несмотря на ненавистное окружение москов
ского барства, то Потугин изображается человеком, давно
освободившимся от подобных иллюзий. Все, что подвер
гается его ожесточенной критике, представляется ему
только «дымом» и отнюдь не благовонным. В связи с этим
80
См.: Н. Бродский. Белинский и Тургенев. В кн.: Бе
линский историк и теоретик литературы. М.— Л., 1949, стр. 323—
342; М. К. Азадовский. «Певцы» И. С. Тургенева. «Известия
Академии наук СССР. Отделение литературы и языка», М., 1954/
т. XIII, вып. 2, стр. 148—151, а также комментарий к «Дыму»,
написанный Е. И. Кийко (Соч., IX, 527).
359
напомним о характерной, но не во всем ее значении осо
знанной контрастной ассоциации «Дыма» с «Горем от
ума» в негодующем послании Ф. И . Тютчева к Тургеневу:
И дым отечества нам сладок и приятен!
Так поэтически век прошлый говорит,
А в наш и сам талант все ищет в солнце пятен,
И смрадным дымом все отечество коптит!
Потугин — это как бы продолженный, постаревший
Чацкий, испытавший в несравненно более долгой, упор
ной и безнадежной борьбе с многоликим противником
не одно, а множество поражений и разочарований. Это
человек с большим жизненным опытом, с укоренившейся
привычкой к неприкаянности и духовному одиночеству
в любом обществе. Он красноречив по-прежнему, но
в его страстных монологах уже сквозит усталость.
Он твердо уверен в своей правоте, но, в отличие от героя
Грибоедова, он также твердо знает и о том, что со своими
идеалами он давно и почти никому не нужен. Это со
знание особенно остро потому, что, по верному определе
нию П. В . Анненкова, Потугин пропагандирует западни
ческие идеи в эпоху долговременной и настойчивой «ре
акции против них, в то время, когда люди озлобились
против вековечного, нескончаемого учения...»
81
Отсюда стыдливая деликатность Потугина в общейии
с Литвиновым, боязнь, зачастую вполне оправданная,
показаться назойливым даже единственному стоящему
собеседнику. Тургенев с тайным художническим волне
нием и сочувствием неоднократно подчеркивает этот тра
гизм положения проповедника без аудитории, печально
осознаваемый им самим. Уже в конце первой встречи
с Литвиновым Потугин замечает: «Но я уже так-таки
многонько беседовал с вами, то есть собственно говорил
я один, а вы, вероятно, сами по себе заметили, что че
ловеку всегда как-то совестно и неловко становится,
когда он много наговорит — один. Особенно так, с пер
вого раза...» (гл. V). Не менее характерны и вовсе не
неожиданны тревожный вопрос Потугина и реакция на
него Литвинова в гл. XIV: «Но вы, кажется, не слушаете
меня? — Литвинов встрепенулся...» Такой щецетиль-
81
«Вестник Европы», 1867, No 6, отдел «Историческая хро
ника», стр. 103—104.
360
ности, самокритичности, умения взглянуть со стороны на
свое безотрадное положение мы, конечно, не встретим
в поведении грибоедовского героя, но, судя по замыслу
Тургенева, так мог и должен был вести себя Чацкий,
попавший в еще более трудное положение, подавленный
не одним, а множеством жизненных испытаний.
Нужно полагать, что именно в таком понимании Тур
геневым характера Потугина скрывалась основная пред
посылка появления в нем ничем не примечательных,
не только не героических, но даже «жалких» черт.
С точки зрения Тургенева, эта жалкость не компромети
рует героя, а наоборот, скорее подчеркивает присущее
ему специфическое обаяние, так как целиком порождена
долговременным неблагоприятным воздействием внешней
среды. Этим следует объяснить ни разу и ничем не по
колебленное сочувствие к нему писателя. По-видимому,
оно усугублялось еще и тем, что таким же хорошим,
жестоко страдающим человеком,
«забитым» нуждой
и трагическими обстоятельствами своей литературно-об
щественной деятельности, нередко представлялся Турге
неву Белинский. Об этом свидетельствуют воспоминания
Тургенева о великом критике, в которых образ Белин
ского-трибуна, страстного глашатая новых истин, гнев
ного оратора и непобедимого диалектика, неустрашимого
борца за торжество дорогих ему убеждений, «схвачен»
и в более интимном, так сказать, домашнем своем вы
ражении. По' словам Тургенева, Белинский был неудач
лив в личной жизни, по-женски деликатен, застенчив,
неловок и даже робок в обычном состоянии своего духа.
Эти черты характера Белинского, любовно отмечаемые
в воспоминаниях о нем, несомненно нашли какое-то от
ражение и в облике Потугина. По-видимому, не случайно
в одном из писем к Я. П . Полонскому Тургенев обронил
многозначительное замечание: «... самому даже Поту-
гину лежит в основании известный образ» (VII, 328.
Курсив мой, — А. Б.).
Обращение Тургенева к традициям «Горя от ума»
отнюдь не знаменовало пассивного возвращения к лите
ратурной «старине», так как грибоедовский Чацкий,
в силу своей исключительной типичности, продолжал
оставаться очень живым общественно-социальным явле
нием в сущности чуть ли не в течение всего XIX века.
Емкость и многогранность, а главное живучесть типа
24 А. Батюто
36J
Чацкого на протяжении по крайней мере нескольких
десятилетий после его первого «открытия» в «Горе от
ума» были глубоко и тонко охарактеризованы в одной
из лучших критических статей, посвященных знаменитой
комедии, — в «Мильоне терзаний» И. А. Гончарова. Видя
в Чацком «вечного обличителя лжи», «передового воина,
застрельщика и —всегда жертву», Гончаров особо под
черкивал, что этот человеческий тип «неизбежен при
каждой смене одного века другим», что «положение Чац
ких на общественной лестнице разнообразно, но роль
и участь все одна, от крупных государственных и поли
тических личностей, управляющих судьбами масс, до
скромной доли в тесном кругу. Всеми ими управляет
одно: раздражение при различных мотивах... всем им
достается в удел свой „мильон терзаний"... Кроме круп
ных и видных личностей, при резких переходах из од
ного века в другой — Чацкие живут и не переводятся
в обществе, повторяясь на каждом шагу... Каждое дело,
требующее обновления, — продолжал Гончаров, — вызы
вает тень Чацкого... Вот отчего не состарелся до сих
пор и едва ли состареется когда-нибудь грибоедовский
Чацкий, а с ним и вся комедия. И литература не выбьется
из магического круга, начертанного Грибоедовым, как
только художник коснется борьбы понятий, смены поко
лений. Он или даст тип крайних, несозревших передовых
личностей, едва намекающих на будущее и потому не
долговечных, каких мы уже пережили немало в жизни
й в искусстве, или создаст видоизмененный образ Чац
кого, как после сервантесовского Дон-Кихота и шекспи
ровского Гамлета являлись и являются бесконечные их
подобия. В честных, горячих речах этих позднейших
Чацких будут вечно слышаться грибоедовские мотивы
и слова — и если не слова, то смысл и тон раздраоюитель-
ных монологов его Чацкого. От этой музыки здоровые
герои в борьбе со старым не уйдут никогда».
8
^
В высказываниях Гончарова, выделенных нами кур
сивом, как бы намечается путь, по которому неизбежно
должен пойти художник, если сама жизнь выдвинет
перед ним задачи, в чем-то перекликающиеся с основной,
82
И. А . Гопчаров. Собр. соч., т. VIII, стр. 32—33. — Кур
сивмой,—А.Б.
362
остающейся по-прежнему актуальной проблематикой
творчества Грибоедова.
Важно подчеркнуть, что Гончаров не один так думал.
Ведь Тургеневу, пожалуй еще в большей степени, чем
автору «Обломова», были свойственны тяготение к ши
рокой постановке вопросов о живучести классических
художественных образов, склонность к тесному и непо
средственному сближению литературных явлений про
шлого с современной ему действительностью. Достаточно
вспомнить только о его статье «Гамлет и Дон-Кихот»,
основные положения которой к тому же неоднократно
налагались им на образную систему его романистики,
начиная с «Дворянского гнезда» и кончая «Новью»
83
Следовательно, есть реальные основания для того, чтобы
рассматривать конкретные оценки и выводы из статьи
Гончарова в качестве хотя и косвенного, но тем не менее
вполне допустимого объяснения позиции Тургенева в от
ношении Грибоедова, занятой им в «Дыме».
В связи с предпринимаемой в настоящей работе по
пыткой идейно-психологического сближения Потугина
с Чацким и одновременно с Белинским знаменательными
и «идущими к делу» представляются многие другие сум
марные характеристики из статьи «Мильон терзаний»,
в особенности же настойчивые указания Гончарова на то,
что «Чацкого роль —роль страдательная». Такова, по
его мнению, роль «всех Чацких, хотя она в то же время
и всегда победительная. Но они не знают о своей победе,
они сеют только, а пожинают другие — и в этом их глав
ное страдание, то есть в безнадежности у спеха».
ы
Но, быть может, самым важным
свидетельством
83
Черты Дон-Кихота и Гамлета — в интерпретации Турге
нева-критика — наложили затем определенный отпечаток на об
разы Михалевича, Инсарова и Нежданова (см. комментарий
Т. П . Головановой в академическом собрании сочинений Турге
нева, т. VII, стр. 467—468; статью Н. Л. Бродского «Тургенев
в работе над романом „Накануне"» («Свиток», No 2, М., 1922) и
статью Н. Ф. Будановой «Роман „Новь" в свете тургеневской
концепции Гамлета и Дон-Кихота» («Русская литература», 1969,
No 2). Замечания о синтетическом отражении и донкихотских и
гамлетовских черт в образе Базарова см. в моей статье «Струк
турно-жанровое своеобразие романов Тургенева 50-х —начала
60-х годов» (в сб.: Проблемы реализма русской литературы
XIX века. Изд. АН СССР, М.—Л ., 1961, стр. 160—161).
84
И. А. Гончаров. Com соч., т. VIII, стр. 28. — Курсив
мой,—А.Б.
\
24*
363
в пользу правомерности гипотезы о синтетическом слия
нии и отражении в образе Потугина художественной
традиции Грибоедова и определенных черт мировоззре
ния и характера Белинского является четко и без коле
баний намеченная в статье Гончарова параллель: Чац
кий и целый ряд крупных деятелей во всех областях
русской культуры. Причем, черты бунтаря и обличителя
Чацкого Гончаров отмечал прежде всего в страстном
революционно-демократическом
темпераменте Белин
ского, во всех главных проявлениях его борьбы со «ста
рым веком». По этому поводу он писал: «Много можно бы
привести Чацких, — являвшихся на очередной смене эпох
и поколений — в борьбах за идею, за дело, за правду,
за успех, за новый порядок, на всех ступенях, во всех
слоях русской жизни и труда — громких, великих дел
и скромных кабинетных подвигов. О многих из них хра
нится свежее предание, других мы видели и знали,
а иные еще продолжают борьбу. Обратимся к литературе.
Вспомним не повесть, не комедию, не художественное яв
ление, а возьмем одного из позднейших бойцов с старым
веком, например Белинского... Прислушайтесь к его го
рячим импровизациям — ив них звучат те же мотивы —
и тот же тон, как у грибоедовского Чацкого. И так же
он умер, уничтоженный „мильоном терзаний", убитый
лихорадкой ожидания и не дождавшийся исполнения
своих грез...»
85
Напомним, что одно из первых выска
зываний «Белинского—Чацкого» после преодоления им
полосы «примирения с действительностью» посвящено
именно «Горю от ума», причем все, что он говорит при
этом о русском обществе того времени, через много лет
как бы воскресает заново на страницах «Дыма» — в мно
гочисленных полемических отступлениях автора, в раз
мышлениях Литвинова и особенно в речах его любимого
героя Потугина. В 1840 году Белинский с горечью при
знавался в письме к В. П . Боткину: «...всего тяжелее
мне вспомнить о „Горе от ума", которое я осудил с ху
дожественной точки зрения и о котором говорил свысока,
с пренебрежением, не догадываясь, что это благородней-
85
Там же, стр. 33. — Эта мысль Гончарова была подхвачена
впоследствии Д. Н . Овсянико-Куликовским, у которого Белинский
охарактеризован как «истинный Чацкий 40-х годов» (см.: Д. Н . О в-
сянико-Кулпковскпй. Собр. соч., т. VII.История русской
интеллигенции. Ч . 1. Изд. 5-е . СПб., 1914, стр. 50).
364
шее, гуманическое произведение, энергический (и при
том еще первый) протест против гнусной расейской
действительности, против чиновников, взяточников, бар-
развратников, против нашего... светского общества,
против невежества, добровольного холопства...»
86
Идеи Белинского и художественные образы Грибо
едова явно «помогли» Тургеневу при создании «Дыма».
Эта «помощь» выразилась в том, что очередной протест
писателя против «гнусной расейской действительности»
стал более ярким и динамичным, приобрел черты во
инствующей гражданственности.
Как идеолог Тургенев видит в Потугине «кочку»,
с «высоты» которой «можно еще обозревать всю Россию»
(VI, 261). Но как художник он изображает в нем прежде
всего умного неудачника, проповедующего насущно-необ
ходимые, но уже не новые и к тому же крайне не «мод
ные» идеалы. Эта вторая особенность в отношении автора
к Потугину, отчасти обусловленная судьбою западниче
ства, не игравшего в шестидесятые годы ведущей роли
в идейном развитии русского общества, является также
одним из важных последствий применения и творческого
развития в «Дыме» художественного метода Грибоедова.
Типологическое родство Потугина с Чацким в данном
случае проступает еще рельефнее и как бы вопреки
очевидным контрастам в идеологии этих героев (в речах
Потугина постоянно ощущается «глухой и неугасимый
огонь» западничества (VI, 261), а Чацкому оно, по край
ней мере в пошло-бытовом его выражении, претит).
Основное различие, а вместе с тем и основное идейно-
типологическое сходство между Чацким и Потугиным
выражаются, в конечном итоге, следующей единой фор
мулой: Чацкий терпит поражение как протестант пре
ждевременный, как предтеча преддекабристских веяний
в русском обществе; трагедия же Потугина состоит
в том, что он гоним и презираем за протест, сопровождае
мый проповедью убеждений, которые в шестидесятые
годы XIX века воспринимались как анахронизм. Таким
образом, контрасты и несовпадения в идеологии Чацкого
и Потугина нейтрализуются, а в известном смысле, по
жалуй, и возмещаются психологической адекватностью
их протеста, сходством их позиций в качестве протестан-
В. Г. Белинский. Поля>собр. соч., т. XI, стр. 576г
365
тов-одиночек, не встречающих отклика в окружающей
среде. Именно такого эффекта и стремился достичь Тур
генев, создавая образ Потугина с учетом идейно-художе
ственных традиций Грибоедова. Тургенев при этом рас
считывал на большой эффект своего романа и с точки
зрения общественно-политической. Он втайне надеялся
на то, что проповедь западнических идеалов, вложенная
в уста героя, столь необычного в его романистике, про
изведет особое впечатление на читателя, вызовет массо
вое сочувствие. Но реализовать эту еще более важную
для него задачу Тургеневу не удалось.
Обращение к традициям Грибоедова явилось, по-ви
димому, одной из причин, породивших так называемую
дегероизацию
«Дыма»,
существенное видоизменение
в нем некоторых структурных особенностей, типичных
для предшествующих тургеневских романов. Безгерой-
ность «Дыма», в которой некоторые исследователи усмат
ривали признак жанрового распада тургеневского ро
мана,
87
является ярким свидетельством трезвого, добро
совестного реализма писателя, упорно отказывавшегося
изображать героев, которых нет в действительности или
которым еще не приспело время снова выходить на
арену общественно-политической борьбы. Недаром, отве
чая на письмо Д. И . Писарева, в котором содержались
упреки в связи с отсутствием в «Дыме» некоего подобия
Базарову, Тургенев указывал: «Вы не сообразили того,
что если Базаров и жив... то в литературном произведе
нии упоминать о нем нельзя: отнестись к нему с кри
тической точки не следует, с другой — неудобно; да
и наконец — ему теперь только можно заявлять себя...
а пока он себя не заявил, беседовать с ним или его
устами —было
бы совершенною
прихотью,
даже
фальшью.
„Каланча" эта стало быть не годится»
(VI, 261). Но с другой стороны, с точки зрения художе
ственной «технологии», та же безгеройность «Дыма» вы
глядит как одно из закономерных последствий творче
ского преломления классической литературной традиции
Грибоедова.
Таким образом, к основным эпическим жанрам, не
посредственно способствовавшим становлению и разви-
87
Л. В . Пумпянский.
«Дым». Историко-литературный
очерк (см!.: И. С. Тургенев. Соч., т. IX, стр. V).
366
тию тургеневского романа (роман и повесть), следует
присоединить жанр драматический — «комедию» в ее
высоко гражданском грибоедовском звучании.
*
*
*
В заключение обратимся еще раз к вопросу Турге
нев—Пушкин. Как известно, влияние со стороны Пуш
кина писатель испытывал уже в молодые годы, когда
пробовал свои силы как поэт. Однако масштаб дарования
Тургенева в области стиха оказался недостаточным для
создания очень значительных произведений. Поэмы, на
писанные им в сороковые годы, являлись по существу
подражанием Байрону, Пушкину и Лермонтову. По этой
причине Тургенев впоследствии не любил вспоминать
о них и не решался включать их в собрания своих сочи
нений. Следующий этап в восприятии им пушкинских
традиций начинается в основном после создания «Запи
сок охотника», когда писатель быстро превращался
в крупного, общепризнанного мастера русской прозы.
В этот период усвоение Тургеневым пушкинских тради
ций, будучи очень активным и творчески плодотворным,
уже не имело ничего общего с подражательностью.
Конструктивная роль пушкинских традиций наиболее
отчетливо проявилась в области тургеневского романа.
Пушкин был не только создателем первого русского реа
листического романа. «Евгением Онегиным» положено
начало развитию особого, так называемого «культурно-
героического» жанра в истории русского реалистического
романа, главными отличительными признаками которого
являются изображение центрального героя, выражающего
дух своей эпохи, и своего рода суд над ним.
88
Тургенев
является самым ярким продолжателем этой традиции.
Подобно пушкинскому Онегину и лермонтовскому Пе
чорину, тургеневские Рудин, Лаврецкий, Инсаров и Ба
заров являются типическими выразителями обществен
ного сознания сначала сороковых, а затем шестидесятых
годов XIX века. Каждый из них — герой своего времени.
88
Л. В. Пумпянский. Романы Тургенева и роман «Нака
нуне». Историко-литературный очерк, (см.: И. С. Тургенев.
Соч., т. VI, стр. 9—26).
367
В исследовательской литературе неоднократно указы
валось и на то, что пушкинская традиция наложила
отпечаток и на женские образы у Тургенева. Главные
героини почти всех романов Тургенева (Наталья, Лиза,
Елена, Ирина) теми или иными чертами своего облика,
духовного склада, характера или положения в обществе
напоминают пушкинскую Татьяну. Лучшие женские об
разы романистики Тургенева при всем их индивидуаль
ном своеобразии являются как бы оригинальными «ва
риациями» этого обаятельного пушкинского образа.
Даже в наименее идеальном из них — Ирине из
«Дыма» — можно найти много общего с Татьяной Пуш
кина. По этому поводу один из исследователей творчества
Тургенева замечает: «Происходя из бедной, хотя и ро
довитой московской дворянской семьи, Ирина, как и
Татьяна, не по любви вышла замуж за генерала и заняла,
как и та, обособленное и заметное место среди петербург
ской знати. Как и Татьяна, Ирина не сливается в одно
со своим новым окружением и в глубине сердца остается
верной своей первой любви — Литвинову. Как и Онегин
Татьяну, Литвинов вторично встречает Ирину неожи
данно в блестящем светском кругу. . .» и т. д .
89
Разумеется,
следует иметь в виду, что во всех этих параллелях улав
ливается не только большое сходство, но и существенная
разница, обусловленная своеобразными, далеко не всегда
пушкинскими чертами в трактовке светского общества
Тургеневым-романистом. Главное различие заключалось
в том, что «Дым» как роман только начинался там, где
закончилось повествование об Онегине и Татьяне (о та
ком типичном для Тургенева приеме зачина романа мы
уже говорили выше, анализируя преломление. в «Дыме»
художественных традиций Грибоедова, а еще раньше —
подчеркивая характерные несовпадения в методах обри
совки одного и того же типа художника (Райский—Шу
бин) у Гончарова и Тургенева). Любовный роман
в «Дыме» совершается отнюдь не на фоне попутного
ознакомления героев и читателя с подлинной сущностью
«света» и светских отношений. По-настоящему этот ро
ман оказывается романом лишь в условиях четко наме
ченной возможности резкого разрыва героини с высшим
89
И. Эй гее. Значение Пушкина для творчества Тургенева.
«Литературная учеба», 1940, No 12, стр. 70.
368
светом, с самого начала изображаемым в подчеркнуто
мрачном освещении. Пушкин живописует по преимуще
ству пустоту, пошлость светских отношений. Тургенев же
делает основной упор на изображении их безнравствен
ности, жестокой бесчеловечности, почти бестиальности.
90
Тем не менее сопоставления, проделанные автором цити
рованной статьи, свидетельствуют о прямой компози
ционной зависимости любовной коллизии «Дыма» от
«Евгения Онегина». Однако всеми этими моментами
сходства и различия в типологии, образности, компози
ции художественные связи тургеневского романа с на
следием Пушкина далеко не исчерпывались.
По силе критического отношения к русской действи
тельности Тургенев-романист в эпоху полного расцвета
его деятельности занимает промежуточное положение
между Пушкиным и Гоголем. Эта отличительная особен
ность тургеневской творческой манеры в целом, рано
разгаданная наиболее чуткими современниками писа
теля, неоднократно подавала многим из них повод гово
рить о присутствии в его романах не только пушкинского
начала. Прочитав роман «Накануне», Л. Н . Толстой упре
кал Тургенева «в отрицательных приемах, напоминаю
щих Гоголя». «Нет человечности и участия к лицам,—
писал Толстой о художественной манере Тургенева
в этом романе, — а представляются уроды, которых автор
бранит, а не жалеет...»
91
Конкретно Толстым подразу
мевались, aio всей вероятности, такие персонажи, как
Курнатрвский, Зоя, Лупояров, Николай Артемьевич Ста
хов, Августина Христиановна. Нетрудно заметить, что,
изображая наиболее значительного из них — Н . А. Ста
хова, Тургенев нередко переступает границы добродуш
ной иронии, свойственной Пушкину при характеристике,
например, семейства Лариных в «Евгении Онегине». Изо
бразительные средства, применяемые им в данном слу
чае, заставляют вспомнить о Гоголе. Тургеневский Ста-
90
Приблизительно в таком положении, как Тургенев по отно
шению к Пушкину, через некоторое время по отношению к са
мому Тургеневу оказался Л. Н. Толстой (при создании романа
«Анна Каренина»). Интересные суждения по этому поводу, под
крепленные ссылками на переписку Толстого с известным крити
ком Н. Н. Страховым, содержатся в книге Г. А. Вялого «Тургенев
и русский реализм» (стр. 195-4 -197).
91
А. Фет. Мои воспоминания, ч. Г. М., 1890, стр. 317.
369
хов — злая карикатура на пошлость, лицо, по временам
вызывающее у читателя чувство брезгливости и негодо
вания.
«Отрицательные приемы» Гоголя в центральных ро
манах Тургенева отмечались не только Толстым. В связи
с «Отцами и детьми» Тургенев сообщал В. П. Боткину:
«Д<остоевский> уверяет, что эта одна вещь стоит всего,
что я написал, сравнивает ее с „Мертвыми душами" (!)»
(IV, 368). Наконец, Д. И . Писарев, отвечая критикам, на
падавшим на Тургенева за несправедливое отношение
к демократическим идеям, сказавшееся якобы в образах
Кукшиной и Ситникова, писал не без сарказма: «Ах! да,
это понятно; это значит: наших не тронь! Да как же, гос
пода, не трогать, если в числе наших много дряни, если
фирмою многих идей пользуются те самые негодяи, кото
рые за несколько лет тому назад были Чичиковыми,
Ноздревыми, Молчалиными и Хлестаковыми? Неужели
не трогать их в награду за то, что они перебежали на
нашу сторону? ..»
92
Попытки анализа тургеневских романов в свете гого
левских традиций нельзя назвать беспочвенными. В до
бавление к сказанному выше отметим, что, за исключе
нием Одинцовой, все лица, увиденные Базаровым и Арка
дием в губернском городе, куда они приехали «смотреть
помещиков», изображены с помощью приемов, напоми
нающих гоголевскую типизацию. Охорашивающийся и
самовлюбленный краснобай Колязин, с высоты своего са
новного величия наводящий порядок в губернском го
роде, представляет собою некую разновидность повзрос
левшего, сытого и преуспевающего Хлестакова. Несо
мненно в гоголевской манере создан Тургеневым образ
заматерелого чиновника-взяточника, «председателя ка
зенной палаты, сладкоглазого старика с сморщенными
губами, который чрезвычайно любил природу, особенно
в летний день, когда, по его словам, «каждая пчелочка
с каждого цветочка берет взяточку"».
93
Еще красноречи-
92
Д. И . Писарев. Соч. в 4 томах, т. II. Гослитиздат, М.,
1955, стр. 35.
93
Впрочем, следует отметить, что нечто подобное этому эпи
зоду есть и у Пушкина — в жанровых зарисовках «Капитанской
дочки», в частности в той сцене этой повести, где он изображает
«директора таможни, толстого и румяного старичка в глазетовом
кафтане», на военном совете у оренбургского военачальника,
370
Нее фигура губернатора Вурдалу, который «пригласил
Кирсанова и Базарова к себе яа бал и через две минуты
пригласил их вторично, считая их уже братьями и назы
вая их Кайсаровыми». Своей бестолковой суматошностью
и бесподобным апломбом, безудержной болтливостью и
бестактностью Бурдалу напомидает одновременно и Хле
стакова и Ноздрева. Такое впечатление усиливается
в дальнейшем указанием на его лихую расторопность
в ведении «государственных дел» — он приказывает
«своим чиновникам по особым поручениям носить
шпоры, на случай если он пошлет их куда-нибудь, для
скорости, верхом». В изображении губернатора Бурдалу
сквозит гоголевское сочетание добродушного юмора п
ядовитой сатиры. Даже Евдоксия Кукшина, изображаемая
на фоне этих человеческих диковинок, охарактеризована
не только как нигилистка, но и как помещица, умеющая
по-маниловски находить экзотическое в самых обыкно
венных явлениях («Я сама имением управляю, и, пред
ставьте, у меня староста Ерофей — удивительный тип,
точно Патфайндер Купера...»).
Присутствие гоголевской манеры («Мертвые души»,
«Ревизор») сказывается не только в сатирических гла
вах «Отцов и детей». Как отмечалось выше, в главах
романа, посвященных изображению родителей Базарова,
чувствуется манера Гоголя в период создания им «Старо
светских помещиков».
Мать Базарова — это как бы новый вариант Пульхе-
рии Ивановны, случайно пережившей свою эпоху.
«Арина Власьевна, — отмечает Тургенев, — была настоя
щая русская дворяночка... ей бы следовало жить лет за
двести, в старомосковские времена...» Любуясь наивной
патриархальностью Арины Власьевны, Тургенев, как и
Гоголь, сожалеет о том, что «подобные женщины теперь
уже переводятся» («Бог знает —; следует ли радоваться
этому!»).
И все же при создании романов Тургенева гоголевская
традиция не сыграла такой важной роли, как традиция
пушкинская, и в этом нет ничего удивительного. Сужен-
Подобно тургеневскому чиновнику, пушкинский «старичок» обла
дает пе менее характерной и гибкой психологией взяточника:
в ответ на просьбу генерала высказать свое мнение относительно
мер против Пугачева он предлагает «действовать ни наступа
тельно, ни оборонительно», а «подкупательно».
371
ность границ ее применения обусловлена тем, что, пре
клоняясь перед Гоголем-художником, Тургенев весьма
критически относился к реакционным чертам в его миро
воззрении. С Пушкиным же дело обстояло совсем иначе.
Идеалы Пушкина Тургеневу были очень близки, и эта
близость усугублялась наличием многих родственных черт
в самой природе их таланта. Обоим, например, присуща
то светлая, то грустная, зачастую подчеркнуто интимная
лирико-философская созерцательность, редко омрачаемая
вера в такие вечные категории, как разум, добро, искус
ство, любовь, красота и т. п . И Пушкину и Тургеневу
одинаково несвойственны ни крайние формы романтиче
ского протеста Лермонтова, ни иногда слишком зазем
ленный, болезненный реализм Гоголя с его безотрадными
галереями не людей, а «мертвых душ».
В связи с проблемой Тургенев—Пушкин следует
особо оттенить одно на первый взгляд не слишком важ
ное обстоятельство. В романистике Тургенева поражает
обилие неброских, не всегда явных, а подчас как будто
и случайных, незначительных по содержанию реминис
ценций из Пушкина. Можно предполагать даже, что не
которые- из них в пору работы Тургенева над тем или
иным романом не осознавались им как реминисценции
именно из Пушкина. Тем не менее большое значение их
для понимания подлинной роли пушкинских тради
ций в творчестве Тургенева-романиста не подлежит сом
нению. Эти как бы невольные отголоски свидетельствуют
прежде всего о том, что поэтика
-
Пушкина усваивалась
Тургеневым настолько органично, что порою незаметно
для писателя становилась неотъемлемой принадлежностью
его стиля. Пушкинское видение мира в образах подчас
естественно ощущалось Тургеневым как свое собственное,
как нечто искони ему присущее. Во всяком случае, в ше
стидесятые и последующие годы оно не было для него
чем-то инородным, привходящим извне. Источником таких
реминисценций являются обычно и поэзия, и проза, и
критика Пушкина.
Вряд ли осознавал Тургенев определенную преемствен
ную зависимость его описания дуэли в «Отцах и детях»
от соответствующих изображений в «Евгении Онегине»
и «Капитанской дочке». Между тем во всех трех произ
ведениях в описание дуэли вкраплены в сущности одни
и те же комические подробности, придающие изображению
372
напряженно драматических событий подчас подчеркнуто
юмористическую окраску. Назначение этих деталей со
стоит в развенчании романтических представлений
о дуэли. Именно поэтому в качестве секундантов Онегина,
Гринева и Базарова фигурируют «честный малый» Гильо,
престарелый инвалид Иван Игнатьевич и камердинер
Петр — люди сугубо мирные и даже робкие, а главное,
явно непригодные для столь «почетной» роли по при
чине своего недворянского происхождения и воспитания.
К тому же двое из этцх нарочито нетипичных секундан
тов разглашают тайну дуэли, что вызывает забавный пе
реполох в семьях ее участников.
Такая подчас скрупулезная перекличка Тургенева
с Пушкиным в области художественной детализации —
характерное явление в его романах. Так, например, в са
мом начале романа «Отцы и дети», при первой встрече
Базарова и Аркадия с Николаем Петровичем Кирсано
вым, цитируются строки из 7-й главы «Евгения Онегина»,
после чего следует описание радостного весеннего про
буждения природы — явно в традициях той же главы из
пушкинского романа (см. строфу I), с добавлением,
правда, существенно нового элемента, выражающегося
в социальной окрашенности пейзажа. Конструктивный
характер этой реминисценции из Пушкина, приводящей
к развернутому описанию сельского пейзажа, проникну
тому духом ожидания реформ, сознанием необходимости
«преобразований», для «небогатого» края, в котором соби
раются поселиться Аркадий со своим другом, не подлежит
сомнению.
Л. В. Пумпянский в свое время указал на то, что окон
чание первой главы «Дыма» представляет собою довольно
точное переложение сатирических строф из «Евгения Оне
гина»
94
(см. гл. VIII, строфы XXIV-XXYI). Но это
переложение не единично. Вот как охарактеризовано на
строение Литвинова после очередного посещения свет
ского общества в Баден-Бадене: «...если б Литвинов
обращал даже больше внимания на то, что говорилось во
круг него, он все-таки не вынес бы ни одного искреннего
слова, ни одной дельной мысли, ни одного нового факта
изо всей этой бессвязной и безжизненной болтовни. В са-
94
Л. В. Пумпянский.
«Дым». Историко-литературный
очерк (см.: И. С. Тургенев. Соч., т. IX, стр. X).
373
мых криках и возгласах йе слышалось увлечения; в самом
порицании не чувствовалось страсти... И хоть бы капля
живой струи подо всем этим хламом и сором! Какое
^ старье, какой ненужный вздор, какие плохие пустячки за
нимали все эти головы, эти души...» (гл: XV). Впечат
ления Литвинова поразительно напоминают то, что чув
ствует пушкинская Татьяна, попадающая в аналогичную
атмосферу светского общества: «Татьяна вслушаться же
лает в беседы, в общий разговор; но всех в гостиной зани
мает такой бессвязный, пошлый вздор; все в них так
бледно, равнодушно; они клевещут даже скучно; в бес
плодной сухости речей, расспросов, сплетен и вестей не
вспыхнет мысли в целы сутки... И даже глупости смеш
ной в тебе не встретишь, свет пустой» (гл. VII,
строфа XLVIII).
Известный эпизод «Нови», в котором Паклин расска
зывает об оклеветавшем его приятеле, обычно соотносят
с фактами биографии Тургенева, в частности с историей
его весьма неровных отношений с А. А . Фетом (Соч., XII,
15—16, 552). Однако если бы в четвертой главе «Евгения
Онегина» вдруг не оказалось строфы XIX («...нет не
лепицы такой... которой бы ваш друг с улыбкой, в кругу
порядочных людей, без всякой злобы и затей, не повторил
сто крат ошибкой; а впрочем он за вас горой: он вас так
любит... как родной!»), появление в «Нови», упомянутого
характерного эпизода было бы вовсе не обязательным.
Очевидно, пушкинские строки как-то побуждали Турге
нева придать своей ссоре с Фетом именно такую, а не
какую-нибудь иную огласовку. Впечатление 6 ремини
сценции, правда весьма отдаленной, создается также при
сопоставлении бегло упоминавшейся выше одной записи
из дневника Елены («Накануне») со знаменитой сценой
пожара в Кистеневке («Дубровский»). Поведение угрю
мого кузнеца Архипа, после жестокого обращения с при
казными неожиданно обнаруживающего человечность и
беззаветную отвагу (спасение кошки с крыши горящего
сарая), находит некое соответствие в поведении буфет
чика Василия, который также не задумываясь рискует
во время пожара собственной жизнью ради спасения
безногого, уже никому не нужного старика. У Пушкина
сцена пожара в Кистеневке, многозначительная сама по
себе, не сопровождается авторским комментарием. Турге
нев же, более мягкий и чувствительный, не преминул
374
вложить в уста Елены слова о человеке из народа,
исполненные жалости, восхищения и скрытой печали
(см. гл. XVI).
Характерные реминисценции из Пушкина встречаются
в критических высказываниях Тургенева, связанных с об
суждением его романов в печати. В своих объяснениях
с читателями он зачастую вспоминает и использует почти
текстуально аргументацию Пушкина-критика, в полемике
со своими недостаточно проницательными или бездарными
оппонентами прибегает к небрежной пушкинской иронии.
Лапидарные, остроумные пушкинские «Опровержения на
критики», нередко получают как бы второе рождение
в тургеневских статьях, предисловиях и письмах. Пушкин
писал: «О „Цыганах" одна дама заметила, что во всей
поэме один только честный человек, и то медведь».
95
Это
замечание заставляет вспомнить приведенное Тургеневым
в очерке «По поводу „Отцов и детей"» стилистически
аналогичное заключение «одной остроумной дамы», ко
торая, подобно даме пушкинской, также не увидела ни
какого положительного начала в его романе: «ни отцы,
ни дети... и вы сами нигилист» (Соч., XIV, 103). Пушкин
писал далее: «(Рылеев просил меня сделать из Алеко
хоть кузнеца, что было бы не в пример благороднее).
Всего бы лучше сделать из него чиновника 8 класса или
помещика, а не цыгана. В таком случае, правда, не было бы
и всей поэмы, ma tanto meglio».
96
В pendant пушкин
скому небрежно-ироническому возражению на замечание
Рылеева, которому хотелось бы видеть в Алеко образец
законченного романтического героя, звучит тургеневская
отповедь критикам, сетовавшим на отсутствие идеализа
ции в романе «Отцы и дети»: «Представить с одной сто
роны взяточников, а с другой — идеального юношу — эту
картинку пускай рисуют другие» (IV, 380). В том же
«Опровержении на критики» Пушкин заметил: «„Граф
Нулин" наделал мне больших хлопот. Нашли его (с по
зволения сказать) похабным, — разумеется в журна
лах. ..»
97
Как бы вторя Пушкину, вынужденному перено
сить нападки со стороны литературной черни, Тургенев
писал в «Предисловии к романам» (1880 г.): «...некоему
95
А. С. Пушкин. Поли. собр. соч., т. XI, стр. 153.
96
Там же.
97
Там же, стр. 155.
375
Дарагану дали даже обед по подписке в благодарность
за весьма строгую статью о „Накануне", в которой он
особенно настаивал на безнравственности главных дейст
вующих лиц» (Соч., XII, 304). Приступая к объяснениям
с критиками и читателями, выражавшими недовольство
его романами, Тургенев весьма нередко чувствовал себя
в положении Пушкина, травимого реакционной или аг
рессивно-бездарной критикой.
И в главных проблемах «художества», и в конкретных
вопросах литературной критики Пушкин наравне с Бе
линским был для Тургенева непогрешимым судией, на
ставником и «учителем». С течением времени перво
степенное значение пушкинских традиций для собствен
ного творчества осознается Тургеневым все глубже и
отчетливее и находит выражение как в образной ткани
его романа, так
г
ж в его литературно-критических выска
зываниях. Уже в 1853 году, размышляя о переходе к но
вой творческой манере и оглядываясь на достижения рус
ской литературы в поисках исходной отправной точки,
Тургенев в письме к П. В . Анненкову, усиленно трудив
шемуся над подготовкой к печати издания собрания сочи
нений Пушкина, заметил: «Все, что Вы говорите о романе
вообще, — очень умно и верно — Пушкин одним созда
нием лица Троекурова в „Дубровском" показал, какие
в нем были эпические силы» (II, 150). Впоследствии,
в беседе с одной из русских писательниц, Тургенев ука
зывал на другую сильную сторону великого таланта
своего «учителя»: «Из Пушкина целиком выработался
Лермонтов — та же сжатость, точность и простота».
98
Тур
генев-романист вполне мог бы при этом сослаться и на
свое творчество. И его образам и описаниям помимо про
стоты присущи четкость, точность, краткость («сестра
таланта»), исключительная выразительность при большой
экономии лексического материала.
Тургеневу-романисту особенно импонировала объек
тивность пушкинского художественного метода, находив
шего выражение прежде всего в «свободном» отношении
к предмету изображения. Подобно Пушкину, он стре
мится к объективности и почти всегда это стремление
успешно реализуется — даже в таких политически злобо-
98
А. Лука ни на. Мое знакомство с И. С . Тургеневым. «Се
верный вестник», 1887, No 2, стр. 54.
376
дневных романах, как «Отцы и дети», «Дым» и «Новь».
Упреки в вульгарно тенденциозном отношении к «отцам»
или к «детям» Тургенев отвергал с возмущением, спра
ведливо считая односторонний или предвзятый подход
к предмету изображения недостойным занятием для по
длинно добросовестного и талантливого писателя.
Объективность Тургенева в «Дыме» и «Нови» сказы
вается в его последовательном стремлении к точному
раскрытию и изображению уродств и трагических противо
речий русской пореформенной действительности. Отчет
ливо сказывается она также в независимом, безбоязненно-
критическом отношении к идеологическим системам,
оказывавшим большое влияние на общественную жизнь, —
к славянофильству, общинному социализму и народни
честву. В этом отношении Тургенев-художник, Турге
нев — общественный деятель явно перекликается с Тур
геневым-философом.
Свое независимое отношение к «системам», отчетливо
проявившееся в этих романах, Тургенев ставил в прямую
связь с пушкинскими принципами творчества, свободного
от предвзятого подхода к действительности. Об этом он
писал еще в статье «По поводу „Отцов и детей"»:
«...нужна правдивость, правдивость неумолимая в отно
шении к собственным ощущениям; нужна свобода, пол
ная свобода воззрений и понятий, и, наконец, нужна
образованность, нужно знание! . . Ничто так не осво
бождает человека, как знание, и нигде так свобода не
нужна, как в деле художества, поэзии... Может ли
человек „схватывать", „уловлять" то, что его окружает,
если он связан внутри себя? Пушкин это глубоко чувст
вовал, недаром в своем бессмертном сонете... он сказал:
.. . дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум...»
(Соч., XIV, 107).
Характерно, что строки из этого же стихотворения
Пушкина, особенно часто и любовно им цитировавшегося,
Тургенев полемически использовал в качестве эпиграфа
(впоследствии, правда, снятого) для «Нови» (XIIi, 100).
Апология пушкинских принципов «свободного» твор
чества подкреплялась у Тургенева ссылками на гениев
мировой литературы. То, что в статье «По поводу „Отцов
и детей"» превозносится как наследие,! завещанное Пуш-
25 А. Батюто
377
киным, и раньше и позже неоднократно связывается Тур
геневым также с именами Гете и, в особенности, Шекс
пира. Эти три классика — его главные литературные боги.
Сатиричность последних романов Тургенева, приобре
тавшая подчас гротескные формы сатиры Щедрина и
вместе с тем тесно связанная с традициями Грибоедова
(«Дым»), в основных своих очертаниях тяготела также
и к формам пушкинского творчества. За два года до
окончания «Нови» Тургенев писал А. С. Суворину: «Мне
иногда потому только досадно на свою лень, не дающую
мне окончить начатый мною роман, что две-три фигуры,
ожидающие клейма позора, гуляют хотя с медными, но
не выжженными еще лбами» (XI, 26). Вторая половина
этой фразы, конечно, не случайно представляет собою
перефразировку из стихотворения Пушкина «О муза пла
менной сатиры!» Далее Тургенев положительно отзы
вается о «Les chathnents» Гюго и вспоминает о Щедрине,
сатирический талант которого ценил в эти годы особенно
высоко. Однако концовка письма снова свидетельствует
о его предпочтительном отношении к более объективной
пушкинской художественной манере. «Художественное
воспроизведение — если оно удалось, — писал Тургенев,—
злее самой злой сатиры».
Органическим усвоением пушкинских принципов
«вольного» и «широкого», разностороннего и без прикрас
изображения характеров, принципов, которыми Пушкин
(в особенности Пушкин-драматург) в свою очередь был
обязан «отцу нашему Шекспиру», во многом предопре
делена логика изображения Базарова — самого яркого ге
роя в тургеневской романистике. В целом ряде суждений
о Базарове Тургенев не обходится без прямых упомина
ний о Пушкине или многозначительных намеков на его
художественную манеру. В данном случае, однако, осо
бый интерес представляет определенная группа этих суж
дений, а именно те из них, в которых звучат намеки на
связь замысла романа «Отцы и дети» с основной идейно-
художественной проблематикой «Капитанской дочки».
В письме к поэту К. К . Случевскому (14(26) апреля
1862 г.) Тургенев так определял замысел Базарова:
«... мне мечтался какой-то странный pendant с Пугаче
вым» (IV, 381). О каком Пугачеве здесь идет речь?
О Пугачеве — лице историческом, или же о Пугачеве
литературном, воссозданном Пушкиным в «Истории Пу-
378
гачева» и «Капитанской дочке»? Думается, что обяза
тельно о том и о другом, причем в справедливости вто
рого предположения убеждает письмо Тургенева к Гер
цену от 16(28) апреля 1862 г. Касаясь вопроса о замысле
Базарова, Тургенев подчеркнул здесь такие черты в ха
рактере своего героя и в своем отношении к нему, кото
рые заставляют вспомнить именно о пушкинской трак
товке Пугачева, развенчивавшей традиционные представ
ления о нем как о закоренелом преступнике и злодее."
О «нигилисте», помышляющем о ниспровержении само
державия (он отрицает «все», т. е. «не только искусство,
поэзию... но и .. . страшно вымолвить...»), Тургенев заме
чает в письме к Герцену, что хотел «сделать» его «вол
ком и все-таки оправдать его» (IV, 383). Эта по существу
пушкинская задача и была реализована в романе.
В несомненности авторского соотнесения «Отцов и де
тей» с «Капитанской дочкой» и конкретно Базарова с пуш
кинским Пугачевым убеждает и такое важное обстоятель
ство, как повторение Тургеневым сразу по окончании
романа, осенью 1861 года, знаменитой пушкинской фор
мулы: «Не приведи бог видеть русский бунт, бессмыслен
ный
и
беспощадный!»
10
°
Начиная приблизительно
с 1859 года и вплоть до наших дней критиками и учеными
потрачено немало усилий для уяснения социально-поли
тического смысла этой формулы. В частности, исследова
телей постоянно занимал вопрос, насколько эти слова,
вложенные в уста Гринева, отражали собственно автор
скую позицию в отношении крестьянского восстания.
Многочисленные суждения на этот счет носили и все еще
носят подчас взаимоисключающий характер.
101
Наиболее
99
Впоследствии это подало повод П. И . Чайковскому назвать
вождя крестьянского восстания, изображенного в «Капитанской
дочке», «удивительно симпатичным злодеем». Он же, мотивируя
свой отказ от создания оперы на сюжет «Капитанской дочки»,
писал: «Думаю, что как бы цензура ни оказалась благосклонной,
она затруднится пропустить такое сценическое представление,
из коего зритель уходит совершенно очарованный Пугачевым.
В повести это возможно — в драме и опере вряд ли, по крайней
мере у нас» (цит. по издапию «Капитанской дочки» в серии «Ли
тературные памятники», подготовленном и прокомментированном
Ю. Г . Оксманом: А. С. Пушкин. Капитанская дочка. - Изд.
«Наука», М., 1964, стр. 230).
100
См.: «Русский вестник», 1890, No 7, стр. 13.
101
Сводка этих высказываний дана в книге Ю.. Г. Оксмана
«От „Капитанской дочки" А. С. Пушкина йч^апискам охотника"
25*
379
объективной и доказательной нам представляется точка
зрения известного пушкиниста Б. В . Томашевского, ко
торый пишет: «... сочувствие крестьянской революции не
вытекало непосредственно из системы политического мыш
ления Пушкина, который был либеральным последовате
лем Монтескье, Вольтера, Бенжамена Констана и Сталь
и сам неоднократно высказывался за умеренную консти
туцию английского типа. Но с его программными взгля
дами боролось глубокое историческое чутье и инстинкт
художника, проникавшие в истинный смысл „судьбы на
рода". .. В существовавшей тогда обстановке Пушкин не
находил той культурной силы, которая могла бы явиться
союзником и возглавить крестьянское восстание. А без
этого возглавления крестьянское восстание могло бы вы
литься только в стихийное, разрушительное движение. От
сюда родилась формула: „Не приведи бог видеть русский
бунт, бессмысленный и беспощадный". Формула эта, хотя
и произнесенная от имени Гринева, выражает собственное
отношение Пушкина к стихийному крестьянскому вос
станию, основанное и на изучении крестьянских движений
прошлого... и на собственных впечатлениях от непрекра
щающихся крестьянских волнений, особенно ярко выра
зившихся в бунтах 1830 и 1831 гг. Перекладывать ответст
венность за эти слова с Пушкина на Гринева вряд ли
имеется необходимость, тем более что автор в конце
концов отвечает и за слова своих героев... Если он со
хранил эту фразу, то потому, что она отвечала собствен
ной системе взглядов Пушкина на крестьянскую револю
цию. За этой фразой не кроются ни презрение к русскому
крепостному крестьянству, ни неверие в силы народа, ни
какие бы то ни было охранительные мысли. Эта фраза
лишь выражает, что Пушкин не верил в окончательную
победу крестьянской революции в тех условиях, в кото
рых он жил. Мысли Пушкина о стихийности крестьян
ской революции не находятся в противоречии с теми по
ложительными красками, какими он пользуется для об
рисовки вождя крестьянского движения — Пугачева (что
дается опять-таки через восприятие того же Гри
нева)...»
102
При этом исследователь резонно напоминает
И. С . Тургенева». Саратовское кн. изд., 1959, стр. 121т-122. Особая
точка зрения автора исследования изложена там же, стр. 66 —70.
102
Б.Томашевский.Пушкин,кн.2.Изд.АНСССР,M.—JL,
1961, стр. 150, 188—189.
380
о том, что «формулу Гринева—-Пушкина... как объективно
историческую характеристику крестьянской революцион
ности» применял в 1899 году В. И . Ленин.
103
«Налич
ность революционных элементов в крестьянстве не под
лежит, таким образом, ни малейшему сомнению, — писал
В. И . Ленин в статье «Проект программы нашей пар
тии». — Мы нисколько не преувеличиваем силы этих эле
ментов, не забываем политической неразвитости и тем
ноты крестьян, нисколько не стираем разницы между
„русским бунтом, бессмысленным и беспощадным", и
революционной борьбой, нисколько не забываем того, ка
кая масса средств у правительства политически надувать
и развращать крестьян. Но из всего этого следует только
то, что безрассудно было бы выставлять носителем рево
люционного движения крестьянство, что безумна была бы
партия, которая обусловила бы революционность сво
его движения революционным настроением крестьян
ства».
104
В отношении Пушкина к крестьянину и крестьянской
революции много созвучного взглядам и настроениям Тур
генева. В самом деле, если говорить о сочувствии к обездо
ленному крепостному русскому крестьянину, то можно ли
во всей русской литературе второй половины XIX века
найти художественное свидетельство более яркое и крас
норечивое, чем «Записки охотника», созданные писателем,
впоследствии неоднократно подчеркивавшим свой либе
рализм в английском династическом смысле? С другой
стороны, «пушкинское» отношение Тургенева к устра
шающе безбрежной стихии крестьянского восстания вы
ражается в «Призраках». Однако как в том, так и в дру
гом случае он, подобно Пушкину, занимает в конечном
итоге отнюдь не охранительную позицию. Его позиция —
это позиция художника-мыслителя, одновременно погру
жающегося в историю народа и зорко наблюдающего его
настоящее положение, позиция художника-гуманиста, вся
деятельность которого одушевлена неустанным помыш
лением о судьбе России.
Как и Пушкин, Тургенев придавал огромное значение
преобразовательной миссии Петра I и возлагал большие
103
Там же, стр. 190.
104
В. И. Лен и н. Соч., т. 4. Изд. 5-е . Госполитиздат, М., 1959,
стр. 228-229.
\
381
надежды fla «МейЬШййс*вб образойайногб tai&cca», кото
рому, по его убеждению, следовало продолжать дело ши
рокого, в государственном масштабе, просвещения и «ци
вилизации» России, предпринятое в начале XVIII века.
Выросшее к середине XIX века в значительную, хотя и
далеко не однородную идеологическую силу, это мень
шинство становится главным объектом изображения в ро
манистике Тургенева. На смену Гриневым, Онегиным,
Печориным, погруженным по преимуществу в личные
интересы и переживания, приходят Рудины, Базаровы,
Неждановы, озабоченные, каждый по-своему, судьбами
народа, ищущие активной общественной деятельности.
Однако всем им весьма не чужды сомнения в успехе
своей деятельности и благих потенциях все еще темной
и косной, нравственно и политически неорганизованной
народной стихии.
В романе «Отцы и дети» сомнения в перспективах
крестьянской революционности присущи как автору, так
и его герою. Оба иногда склонны видеть в русском кре
стьянине даже некоего «таинственного незнакомца», об
щение с которым чревато всяческими сюрпризами. Вместе
с тем Базаров, этот представитель образованного мень
шинства уже совершенно новой, разночинно-демократи-
ческой формации, стремящегося со временем подчинить
аморфную крестьянскую массу централизующему влия
нию воинствующего радикализма, предчувствует, как и
пушкинский «Емеля», свою обреченность, но по-пуга
чевски же безбоязненно идет навстречу своей трагедии.
На ожесточенные предсказания неуспеха Базаров отве
чает угрюмо: «Коли раздавят — туда и дорога»,. Все это
находит если не конкретно-образное, то во всяком случае
суммарное идейно-психологическое соответствие в той
главе «Капитанской дочки», где Пугачев рассказывает
Гриневу поэтическую сказку о.гордом орле, которого не
прельщает спокойное, но зато и бесцветное существова
ние долгожителя ворона.
Так сомневающемуся Пушкину вторит в «Отцах и де
тях» сомневающийся Тургенев. В неменьшей степени эта
идейная преемственность ощущается в романе «Новь»,
насквозь пронизанном недоверием к стихийной крестьян
ской революционности. Успешную народную революцию
Тургенев если и считал возможной, то лишь в весьма от
даленном будущем. В связи с этим характерен его отказ
382
от детальной разработки в этом романе образа Павла,
о чем он писал в цитированном выше письме к К. Д. Ка
велину (см. стр. 35).
В 1880 году Тургенев молниеносно реагирует на опуб
ликование П. И. Бартеневым в «Русском архиве» «Про
пущенной главы» из «Капитанской дочки». Он переводит
ее на французский язык, снабдив характерно озаглавлен
ным предисловием: «Un episode de guerre civile en Rus-
sie» («Эпизод гражданской войны в России»). Основная
идея «Пропущенной главы», в которой также фигурирует
пушкинская формула о бессмысленном и беспощадном
крестьянском бунте, воспринимается Тургеневым как
идея, имеющая чрезвычайно актуальное значение и в его
эдоху —эпоху «нигилизма», который в своей борьбе с са
модержавием стремился опереться именно на крестьян
ство. Пугачевское восстание, изображенное в «Капитан
ской дочке», или гражданская война, по его определению,
конечно, не без оснований как-то ассоциируются Турге
невым и с характером его собственных изображений
в романах «Отцы и дети» и «Новь». Ведь в «Отцах и
детях» тоже идет речь о гражданской войне, правда, пока
в области только идеологической (столкновение разночин
ной демократии с дворянским либерализмом), а в романе
«Новь» обрисована такая социально-политическая ситуа
ция в русском обществе семидесятых годов, которая при
более динамичном сочетании исторических условий и
предпосылок могла привести уже к настоящей «граждан
ской войне».
В многосложной работе Тургенева по созданию образа
Базарова ощутимы и более конкретные образно-психоло
гические связи с художественной трактовкой Пугачева
у Пушкина. Тургеневского Базарова и пушкинского Пуга
чева роднит присущее их поступкам и переживаниям со
четание жестокости и подкупающей человечности. Синтез
«добра» и «зла», лежащий в основе их духовного облика,—
результат применения и Пушкиным и Тургеневым глав
ного принципа в художественном методе «великого серд
цеведца» Шекспира — «вольного и широкого изображения
характеров». Пушкин с особым успехом культивировал
этот принцип в «Борисе Годунове», маленьких трагедиях
и «Капитанской дочке», однако применение его в послед
нем из названных произведений, так же как^и в «Отцах
и детях», ве сопровождается подчеркнуто бесстрастной
383
манерой в трактовке «добра» и «зла». .В данном случае
для Пушкина и Тургенева «добро» в характерах Пуга
чева и Базарова представляется несравненно более суще
ственным и значимым объектом изображения, хотя «злое»
начало в них при этом отнюдь не затушевывается (ибо,
по определению Тургенева, «и Шекспир не страшится
выносить темные стороны души на свет поэтической
правды, на тот свет, который в одно и то же время и
озаряет и очищает их» (Соч., XV, 51).
Идя в таком изображении характера главного героя
вслед за Пушкиным, Тургенев подчеркивает противоречия
«добра» и «зла» в поведении Базарова и, в конце концов,
как и Пушкин, отдает предпочтение «добру». В целях
глубокого постижения правды человеческих отношений
Пушкин и Тургенев пользуются шекспировскими прие
мами обнажения души героя, но по сравнению с тем, что
обычно наблюдается в творчестве Шекспира, их субъек
тивное отношение к этому герою более интимно и бе
режно. Здесь очень отчетливо сказалась та характерная
для творчества Пушкина и Тургенева общность «обще
человеческих добрых чувств», которая настоятельно
подчеркивалась впоследствии Салтыковым-Щедриным.
«В этом смысле, — писал Салтыков-Щедрин, — он <т. е .
Тургенев> является прямым продолжателем Пушкина и
других соперников в русской литературе не знает...
ежели Пушкин имел полное основание сказать о себе,
что он пробуждал „добрые чувства", то же самое и
с такою же справедливостью мог сказать о себе и Турге
нев. -
Это были не какие-нибудь условные „добрые чув
ства", согласные с тем или другим переходящим веянием,
по те простые, всем доступные общечеловеческие „добрые
чувства", в основе которых лежит глубокая вера в тор
жество света, добра и нравственной красоты».
105
Наконец, преемственная зависимость между пушкин
ским Пугачевым и Базаровым обнаруживается также при
сопоставлении их речи, которая пестрит пословицами и
поговорками, обильно пересыпана образами и выраже
ниями, свойственными простонародиому речевому складу.
В языке Пугачева все эти элементы воспринимаются
как естественное следствие его образа жизни, его непо-
105
Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Поли. собр. соч., т. XV.
М., 1940, стр. 611—612.
384
средственной близости к народу. В языке же Базарова
они производят на первый взгляд несколько странное
впечатление, так как он интеллигент, человек, привык
ший к отвлеченному мышлению, выражающемуся в нор
мализованных, отстоявшихся формах литературной и на
учно-философской лексики, Кроме того, он выходец из
той социальной среды, «семинарский» дух и язык кото
рой зачастую третировался Тургеневым. Тем не менее
речь Базарова блещет исключительной меткостью, перво
родной живостью и выразительностью. Одно из возмож
ных объяснений этому явлению — воздействие на Турге
нева образно-языковой системы «Капитанской дочки».
Основа характера Базарова — народная (он только «на
половину» вырос из этой «почвы»), и в изображении ее
Тургенев умело использует пушкинский опыт.
В переводе на язык идеологии пушкинская и турге
невская художественная разработка образов вождя кре
стьянского восстания Пугачева и боевого разночинца-де
мократа Базарова означали неприятие «бунта», которое
не исключало, однако, глубочайшей симпатии обоих писа
телей к личностям бунтарей. В пору создания «Отцов
и детей» Тургенев нередко испытывал враждебное чувство
к Добролюбову, Чернышевскому и Некрасову, собственно
ко iBceMy кругу «Современника», который в случае раз
лива крестьянской революции несомненно стал бы чем-то
вроде ее главного штаба. Это видно из его переписки,
отдельные фрагменты которой сыграли конструктивную
роль в ряде эпизодов романа, имеющих определенно по
лемический оттенок. И все же роман в целом свидетель
ствует о том, что писатель сумел встать выше своих
политических и эстетических предубеждений. По-види
мому, и здесь благотворно сказывались последствия глу
бокого усвоения пушкинских заветов, которые помогали
Тургеневу подойти к созданию главного образа романа
с меркой художественной диалектики и объективности
в лучшем смысле этого слова.
«Евгением Онегиным» оказано известное влияние на
сюжетостроение и типологию тургеневского романа
в целом (роман «культурно-героический»).
106
Влияние
пушкинской программной лирики, художественной прозы
106
Термин принадлежит Л. В . Пумпянскому, которого мы не
однократно цитировали на всем протяжении настоящей работы.
335
и критики отразилось на тургеневской конкретной методо
логии изображения человеческих отношений вообще и,
в частности, на принципах построения такого характера,
как характер Базарова. Но, конечно, при всем его огром
ном значении для Тургенева-романиста, наследие Пушг
кина и Шекспира не было единственно важным источни
ком возбуждения его творческой мысли и фантазии. По
добно Тургеневу-философу, Тургенев-художник свободно
ориентировался в богатейшем прошлом всей мировой
культуры, и это являлось огромным стимулом в его ли
тературной деятельности. Совершенно очевидно, напри
мер, что при изображении основного конфликта в таком
исключительно злободневном произведении, как роман
«Отцы и дети», Тургенев опирался на лучшие гуманисти
ческие традиции античной классики. Наряду с шекспи-
ровско-пушкинскими принципами Тургенев применил
в этом романе один из основных принципов построения
античной трагедии («обе стороны до „известной степени
правы"», — см. выше раздел «Проблемы философии»),
что сказалось весьма заметными последствиями на ре
зультатах его художественных обобщений.
Защита аналогичных принципов характерна для ряда
критических суждений писателя, относящихся к эпохе
расцвета его творчества. Так, опровергая доводы Фета,
неоднократно выступавшего с апологетикой так называе
мого «бессознательного» искусства, он писал (январь
1862 г.): «... это между нами — нескончаемый спор: я го
ворю, что художество такое великое дело, что целого
человека едва на него хватает — со всеми его способно
стями, между прочим и с умом; — Вы поражаете ум
остракизмом — и видите в произведениях художества —
только бессознательный лепет спящего. Это воззрение
я должен назвать славянофильским — ибо оно носит на
себе характер этой школы: „здесь все черно — а там все
бело" — „правда вся сидит на одной стороне". А мы,
грешные люди, полагаем, что этаким маханием с плеча
топором только себя тешишь... Впрочем, оно, конечно,
легче; а то, признавши, что правда и там и здесь, что
никаким резким определением ничего не определишь-—
приходится хлопотать, взвешивать обе стороны и т. д.
А это скучно. То ли дело брякнуть так, по-военному:
Смирно! Ум — пошел, направо, марш! — стой! равняйсь! —
Художество! Налево — марш! стой! равняйсь! — И чу-
386
десно! Стоит только подписать рапорт — что все, мол,
обстоит благополучно. Но тут, — добавлял Тургенев с ко
варно-вопросительной
иронией, — приходится
сказать
с (умным или глупым, как по-вашему?) Гете:
Ja! Wenn es wir nur nicht wiissten!»
107
Спор в сущности на ту же тему был продолжен после
выхода в свет «Отцов и детей», когда Фет прислал Тур
геневу свой отрицательный отзыв, в котором охарактери
зовал этот роман как произведение, представляющее оп
ределенный круг жизненных явлений в одностороннем,
тенденциозном освещении. Письмо Фета не сохранилось,
но, судя по всему, он выражал в нем недовольство пред
почтительным отношением Тургенева к Базарову. Это
была критика, свидетельствовавшая о реакционных пози
циях Фета в понимании общественно-политических проб
лем современности, получивших отражение в «Отцах и де
тях». Тургенев отвечал следующим образом: «Тенденция!
а какая тенденция в „0<тцах> и д<етях>"— позвольте
спросить? Хотел ли я обругать Базарова или его превоз
нести? Я этого сам не знаю, ибо я не знаю, люблю ли
я его или ненавижу! Вот тебе и тенденция!.. Вы упоми
наете также о параллелизме; но где он — позвольте спро
сить — и где эти пары, верующие и неверующие? Павел
Петрович — верит или не верит? Я этого не ведаю...
Вы меня упрекаете в параллелизме — а другие пишут
мне: зачем Анна Сергеевна не высокая натура, чтобы
полнее выставить контраст ее с Базаровым? Зачем ста
рики Базаровы не совершенно патриархальны? Зачем
Аркадий пошловат — и не лучше ли было представить его
честным, но мгновенно увлекшимся юношей? К чему Фе-
ничка — и какой можно сделать из нее вывод?» (IV, 371).
Все это, конечно, перекликается с тем, что говорилось
об античной трагедии в цитированном выше письме к гра
фине Ламберт. Оба высказывания писателя из переписки
с Фетом весьма конкретно ассоциируются также с его
представлениями о художественном методе и жизненной
философии великого английского драматурга. Недаром
в очерке «Человек в серых очках» (1879) Тургенев ус
тами своего загадочного героя Франсуа сказал о Шекс-
•
•
•
т
107 <(да| Если б только мы не знали этого лучше!» (нем.)
(IV, 330-331).
387
пире: «Он умел видеть в одно и то же время и белое и
черное, что очень редко; и ни за белое не стоял, ни за
черное, что еще реже» (Соч., XIV, 122).
108
Так в вообра
жении писателя проблемы современной ему литературы
и собственного творчества четко и действенно проеци
ровались на высшие достижения искусства далекого
прошлого.
Художественные традиции античности, Шекспира,
Гете и, наконец, Пушкина с наибольшей отчетливостью
проявились в романе «Отцы, и дети», в котором Тургенев
стремится воздать должное каждой из враждующих сто
рон. И у демократа Базарова и у его противников наряду
с очевидными слабостями и недостатками писатель нахо
дит и подчеркивает присущие им положительные свойства
и качества. Поступая таким образом, Тургенев демонстри
ровал не либеральное прекраснодушие, не шаткость и
неопределенность своих идейно-эстетических позиций, не
бесстрастный объективизм, а свою способность к глубо
кому пониманию и отражению исторических перспектив
и закономерностей в развитии современного ему русского
общества. Несмотря на свой либерализм, тянувший его
в лагерь Кирсановых, Тургенев хотя и «до известной сте
пени», но все же признал «права» разночинцев-демокра
тов Базаровых на критику и даже ломку существующего
строя. Проявлению этой способности писателя «содейст
вовали» не только его талант, ум, нравственное чувство
и живейший интерес к общественной жизни, но и его
громадная эрудиция в области русской и мировой фило
софии, истории и литературы.
108
Еще раньше (в 1870 г.) непосредственно сам Тургенев ка
тегорически утверждал: «Художник, который лишается способ
ности видеть белое и черное — и направо и налево... стоит
на краю гибели» (VIII, 200).
ИЗДАТЕЛЬСТВО «Н А У К А»
ПИСЬМА
ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА
ТУРГЕНЕВА
Письма Тургенева — великолепная живописная па
норама литературной и общественной жизни России и
Западной Европы второй половины XIX века. Лев Тол
стой, Достоевский, Некрасов, Салтыков-Щедрин, Фет, По
лонский, Флобер, братья Гонкуры, Ипполит Тэн, Мопас
сан и другие оживают и встают перед взором читателя.
Он как бы слышит их голоса, узнает их думы... И сама
могучая фигура автора «Отцов и детей» видна^ во всех
ее сложностях и противоречиях. Замечательный сочный
язык писем Тургенева не уступает языку его художе
ственных произведений, а история создания «Рудина»,
«Нови», «Дыма», которую мы узнаем во всех подроб
ностях, становится живой и ощутимой.
В ярких письмах-произведениях отражены на
пряженные художественные искания Тургенева, его
страстные споры о судьбах
v
русской литературы и куль
туры, споры, породившие удивительные перипетии
дружбы, разрыва и снова дружбы Тургенева и Л. Тол
стого, Тургенева и Фета...
Читатель найдет в письмах много интересных мыс
лей Тургенева о литературе, о писательском творчестве,
о России и Европе, о народе и интеллигенции.
В магазинах конторы «Академкнига)) имеются сле
дующие тома писем И. С. Тургенева:
Том 2 (1851-1856). 1961. 718 стр. Цена 40 к.
Том 4 (1860—1862). 1962. 734 стр. Цена 1 р. 50 к.
Том 5 (1862-1865). 1963. 755 стр. Цена 1 р. 50 к.
Том 7 (1867-1869). 1964. 618 стр. Цена 1 р. 50 к.
Том 8 (1869-1870). 1964. 618 стр. Цена 1 р. 50 к.
Том 9 (1871—1872). 1965. 650 стр. Цена 1 р. 50 к.
Том 10 (1872—1874). 1965. 736 стр. Цена 1 р. 50 к.
Том 11 (1875-1876). 1966. 724 стр. Цена 1 р. 50 к.
Том 12 кн. 1 (1876—1878). 1967. 759 стр. Цена 1 р. 50 к.
То?л 12 кн.' 2 (1879—1880). 1967. 756 стр. Цена 1р. 50 к.
Том 13 кн. 1 (1880—1882). 1968. 624 стр. Цена 1 р. 50 к.
Том 13 кн. 2 (1882—1883). 1968. 544 стр. Цена 1 р. 50 к.
Имеются также в наличии:
Тургеневский сборник, вып. 1 . 1964. 471 стр. Цена 2 р. 26 к.
Тургеневский сборник, вып. 3.1967. 432 стр. Цена 2 р. 18 к.
В сборниках печатаются отдельные произведения,
черновые рукописи писателя, письма и другие мате
риалы, обнаруженные после выхода «Полного собрания
сочинений и писем» И. С. Тургенева в 28-ми томах.
Материалы сборника существенно дополняют «Пол
ное собрание...», еще ярче освещают творческую био
графию писателя.
ЗАКАЗЫ ПРОСИМ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:
Москва, В-463. Мичуринский проспект, дом No 12.
Магазин «Книга—почтой»
Ленинград, П-110. Петрозаводская улица, дом No 7.
Магазин «Книга—почтой»
Оглавление
Стр.
Общественно-политическое содержание романов Тургенева
3
Некоторые философско-эстетические проблемы и их роль
в построении романа Тургенева ........
38
1. Проблемы философии
38
2. Проблемы эстетики
Г
166
Проблема жанра в романистике Тургенева
240
Роман Тургенева и литературные традиции
284
1. Тургенев и Жорж Санд
285
2. Тургенев и Панаев
310
3. Тургенев и Гончаров . .
.
326
4. К вопросу о традициях Грибоедова и Пушкина
в творчестве Тургенева-романиста
349
Анатолий Иванович Батюто
ТУРГЕНЕВ-РОМАНИСТ
Утверждено к печати
Институтом русской литературы
(Пушкинский дом)
Редактор издательства Т. А. ЛапиЦкая
Художник Л. А. Яценко
^Технический редактор О. А . Мокеева
Корректоры К. И. В и д р е, Н. 3. Петрова
и В. А. Пузиков
Сдано в набор 23/Х 1971 г. Подписано к печати
1/II 1972 г.
Формат бумаги 84xl08Vs2.
Печ. л . 1274=20.58 усл. печ. л . Уч. изд. л. 21 .57.
Изд. М 4869. Тип. зак . J41 620. М -36508.
Тираж 21000. Бумага No 2. Цена 1р. 49 к.
Ленинградское отделение
издательства «Наука».
199164, Ленинград, Менделеевская линия, д. 1
1-я тип. издательства «Наука».
199034, Ленинград, 9 линия, д. 12