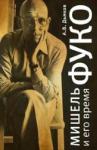/
Автор: Дьяков А.В.
Теги: философские системы и концепции философия отдельных стран европы философия история монография
ISBN: 978-5-91419-749-7
Год: 2012
Текст
A.B. ДЬЯКОВ
жиль
ДЕЛЕЗ
' ' Философия различия
А. В. Дьяков
ЖИЛЬ
ДЕЛЕЗ Философия
различия
Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2012
ИСТОРИЧЕСКАЯ
КНИГА
УДК 14
ББК 87.3(4)
Д931
Дьяков A.B.
Д931 Жиль Делёз. Философия различия. - СПб.: Алетейя,
2012. - 504 с.
ISBN 978-5-91419-749-7
Монография посвящена творчеству Жиля Делёза (1925-1995),
одного из самых ярких философов XX века. Мишель Фуко предрекал,
что когда-нибудь этот век назовут веком Делёза. Биография Делёза
представлена в широкой панораме интеллектуальной истории. Борьба
с гегельянством и феноменологией, литературная практика и
постструктурализм, квантовая теория и лингвистика служат основными вехами
творческого пути мыслителя. Его совместное творчество с Феликсом
Гваттари и дружба с Мишелем Фуко, участие в революционных
событиях 1968 г., друзья и враги - всё это находит подробное отражение
на страницах книги.
Издание предназначается философам, историкам и всем, кто
интересуется современным состоянием западной интеллектуальной традиции.
УДК 14
ББК 87.3(4)
ISBN 978-5-91419-749-7
9
© A.B. Дьяков, 2012
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2012
Оглавление
ВВЕДЕНИЕ 8
ЧАСТЫ. ДРЕВО 35
ГЛАВА 1. ПОРТРЕТ ФИЛОСОФА В ЮНОСТИ 37
ГЛАВА 2. ГАЛЕРЕЯ ПОРТРЕТОВ 50
ГЛАВА 3. ЛОГИКА РАЗЛИЧИЯ 108
ГЛАВА 4. АНТИ-ЭДИП 139
ГЛАВА 5.1970-е: РЕТЕРРИТОРИЗАЦИЯ 166
ГЛАВА 6. ТЫСЯЧА СКЛАДОК 186
ГЛАВА 7. КАК ФИЛОСОФСТВУЮТ КЛИНИКОЙ 217
ЧАСТЬ 2. РИЗОМА 228
ГЛАВА 1. ИСКУССТВО ЗАЧИНАТЬ МОНСТРОВ,
ИЛИ ДЕЛЁЗ КАК ИСТОРИК ФИЛОСОФИИ 234
§ 1.1. Низвержение платонизма 247
§ 1.2. Альтернатива посткантианству 255
§ 1.3. Преодоление Гегеля 264
§ 1.4. Маркс без Гегеля 270
§ 1.5. Альтюссер: прочь от ортодоксии 287
§ 1.6. Фрейд, который не любил шизофреников 290
ГЛАВА 2. ОТ ФЕНОМЕНОЛОГИИ К ПАТАФИЗИКЕ 301
§ 2.1. Грехи феноменологии 301
5 2.2. От Хайдеггера к Жарри и обратно 307
§ 2.3. Ещё раз о Бергсоне 311
ГЛАВА 3. САРТР: ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЕ ЭГО 317
ГЛАВА 4. КАК РАСПОЗНАТЬ СТРУКТУРАЛИЗМ 326
ГЛАВА 5. МЕЖДУ АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ФИЛОСОФИЕЙ И МАТЕМАТИКОЙ 336
ГЛАВА 6. ФУКО 345
ГЛАВА 7. ПРЕТЕНДЕНТЫ 354
§ 7.1. Деррида, двойник 354
§ 7.2. Бадью: самозванный претендент 361
5 7.3. Жижек: претендент-лаканист 366
5 7.4. Нанси: мыслить «с-» 369
5 7.5. Делёз и Мамфорд 372
5 7.6. Райх: ближайший претендент 377
5 7.7. Зеркало Бодрийяра 386
ГЛАВА 8. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЕЛЁЗА 390
ГЛАВА 9. SUBJECTUM 405
ГЛАВА 10. ОТ ХРОНОСА К ЗОНУ 414
ГЛАВА 11. ДЕЛЁЗ И ЛИТЕРАТУРА: КОНЦЕПТЫ
И ПЕРСОНАЖИ 429
ГЛАВА 12. РЕГИСТР ПОЛИТИЧЕСКОГО 434
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ:
О НЕСВОЕВРЕМЕННОСТИ ДЕЛЁЗА 445
БИБЛИОГРАФИЯ: РАБОТЫ Ж. ДЕЛЁЗА 467
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 487
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕННОЙ 497
УКАЗАТЕЛЬ ПРЕДМЕТНЫЙ 500
У книги нет ни объекта, ни субъекта, она по-разному
материально соткана из крайне разных дат и скоростей.
Приписывать книгу субъекту значит упускать из виду
такую работу материй и внешний характер их отношений.
Это значит фабриковать «благого Бога» ради
геологических движений. В книге, как и во всём остальном, есть
линии артикуляции или сегментации, страты и территории;
но также и линии ускользания, движения детерриториза-
ции и дестратификации. На таких линиях сравнительные
скорости потока влекут за собой феномены
относительного замедления, вязкости или, наоборот,
стремительности и разрывов. И линии, и измеримые скорости — всё это
конституирует некую сборку. Книга — такая сборка, и, как
таковая, она ни к чему не приписана.
Ж. Делёз, Ф. Гваттари, Тысяча плато
ВВЕДЕНИЕ
Есть учёные, для которых сама история
философии (как древней, так и новой) есть их
философия...
И. Кант, Пролегомены
Немного мыслителей избежали обычного искушения
стать специалистами по собственным открытиям...
Ж. Делёз, Спиноза
В своём П-м письме, которое, к сожалению, редко читают, Платон
пишет:
Более всего надо печься о том, чтобы ничего не записывать, но всё
познавать и усваивать: ведь невозможно, чтобы написанное не получило
огласки. Поэтому я никогда ничего не писал о таких вещах, и на свете нет
и не будет никакой Платоновой записи; а то, что теперь читают, — это
речи Сократа, когда он, ещё молодой, был прекрасен1.
Здесь Платон, этот славящийся своей плодовитостью писатель,
отказывается от всего написанного. Вернее, утверждает, что всё, что он
написал, представляет собой не его собственные философские
сочинения, а всего лишь стенограммы бесед, которые вёл со своими
учениками и оппонентами Сократ. В своих письмах Платон говорит, что писать
о трудных философских вопросах — дело совершенно бессмысленное
и даже вредное: люди с философски одарённой душой и сами до всего
этого дойдут, а бездарные, прочитав такие сочинения, преисполнятся
либо гордыней, либо презрением к философии, которую они тем самым
якобы превзошли. В VII-м письме Платон рассказывает, что сиракуз-
ский тиран Дионисий Младший, прослушав его наставления, записал
услышанное и стал выдавать этот текст за своё собственное учение. Пла-
Платон. Письма. Пер. С. П. Кондратьева / Соч. в 4-х т. Т. 4. М. : Мысль, 1994. С. 465.
Введение
9
тона же огорчил не факт плагиата, а то, что этот человек выказал тем
самым полную неспособность к философии. Таким образом, говорит он,
никогда и ни при каких обстоятельствах не стоит писать философские
трактаты. Единственно приемлемая форма письма а^я философа — это
сочинения по истории философии.
Делёз, создавший свой «философский театр», похоже, был
солидарен с платоновской точкой зрения. Его собственная философия стала
ниспровержением платонизма, причём инструменты а^л этого
ниспровержения он находил у самого Платона. Он с полным основанием
мог бы сказать, используя старинный платоновский стиль, что никогда
ничего не писал о важных проблемах, поднятых древним философом,
а лишь записывал то, что говорил сам Платон, ниспровергая платонизм.
Делёз говорил, что философ — это претендент. Тот, кто претендует на
истину, споря с философом-другом или с
философом-предшественником. Тот, кто претендует тем самым на дружбу. А самое главное —
на мудрость, ведь философия — это и есть любовь к мудрости, а
философ — её поклонник, домогающийся её и претендующий стать её
любовником. У него множество соперников, и окончательным
победителем никогда не станет ни один из них. А потому, действительно,
философия не имеет ничего общего с сочинением трактатов, автор которых
излагает плоды мудрости, которой он якобы овладел, но
представляет собой вечное соперничество. Другими словами, философия — это
история философии.
Все эти трюизмы призваны обозначить стратегию настоящей
книги — историко-философской книги, книги-комментария. Ведь
комментатор — это тот же претендент. Ему, конечно, страшновато ставить себя
в один ряд с такими грандиозными фигурами, как Платон и Делёз, а
потому он норовит спрятаться за чужую спину, заявив, что попросту
излагает чужую мысль. Само по себе это не постыдно, ведь к этому призывал
и божественный Платон. Глупо и думать, будто скромный комментатор
претендует втереться в ряд великих мыслителей. Однако, сколько бы он
ни подчёркивал, что всего лишь излагает какого-то философа, в данном
случае — Делёза, говорит-то здесь именно он. А значит, он тоже
оказывается в ряду претендентов.
Грустный это жребий — быть вынужденным стать в ряд
претендентов, зная, что не бывать тебе в первом ряду и что претендовать всё-таки
10
Введение
приходится, выставляясь самонадеянным глупцом, в то время как
никакой самонадеянности в тебе нет. Сходные раздумья привели Г. Ламберта
к мысли о вероломстве и злонамеренности комментаторов и историков
философии. Ведь комментатор претендует разъяснить, а то и исправить
ошибки изучаемого философа (впрочем, ведь ещё Кант считал, что цель
критики — улучшить критикуемое). «Можно сказать, что все
комментарии привносят определённую "глупость" в отношения между
автором и читателем: читатель становится поистине глупым и зависимым от
того, кто всё объяснит (так называемого "вторичного автора"); автор же
становится глупее оттого, что его самого нужно объяснять. Таким
образом, всякий комментарий несёт в себе это двойное отношение глупости
и понимания, даже если комментатор делает всё возможное, чтобы
этого избежать. Потому что правила репрезентации установлены заранее,
и даже в тех редких и исключительных случаях, когда комментатор не
желает их придерживаться, найдётся много читателей, которые
потребуют, чтобы он их выполнял» К
Выполнять правила придётся, не потому, конечно, что Делёз
нуждается в наших объяснениях, а потому что иначе заниматься историей
философии невозможно. Можно было бы, конечно, двинуться по тому
пути, что предложил сам Делёз — подкрасться к нему и зачать с ним
монстра, — но наш интерес лежит не в этой области. Наше намерение
состоит в том, чтобы понять самого Делёза, а такая герменевтика
требует строгого следования правилам. Поэтому мы последуем не Делёзу,
а Платону, предлагающему лишь записывать то, что удалось услышать
или увидеть. Это нисколько не упрощает задачи, ведь искусство
видения, быть может, не уступает искусству зачинать монстров. Функцию
комментатора мы станем понимать как функцию архивариуса,
обязанность которого — классифицировать и сортировать документы и
фиксировать всё происходящее.
Архивариус — это ещё не историк: это тот, кто «всего лишь»
собирает, приводит в надлежащий вид, классифицирует и систематизирует
материалы, на основании которых историк впоследствии будет
рассказывать свою историю. То есть создаст метанарратив. Метанарратив же
стремится к тотальности, к полному охвату материала и господству над
Lambert G. The Non-Philosophy of Gilles Deleuze. NY; L.: Continuum, 2002. P. IX.
Введение
11
ним. Если какие-то факты не хотят укладываться в систему тем хуже ^ля
фактов. В основании действий историка лежит очень простая,
выполняемая бессознательно операция: берутся начальная и конечная точки,
соединяются линией, а ход этой линии признаётся закономерным. Таким
образом, все включаемые ею точки должны этой закономерности
неукоснительно подчиняться. Всё, что подчиняться не желает, можно
отбросить или объявить случайным курьёзом. Так выстраивается всякая
телеологическая история, но так же выстраивается и всякое curriculum
vitae. Можно ли этого избежать? Да, наверное, можно, хотя и ценой
больших потерь.
До изобретения телеологической истории, т. е. до Лактанция и
Августина, историк мог быть не историком в нынешнем смысле, а просто
архивариусом. Историк философии, действующий как архивариус,
копит сведения о философе, рассказы очевидцев, по крохам собирает его
высказывания. Если бы о Делёзе писал Диоген Лаэртский, выглядело бы
это примерно так, как в тексте Андре Верно:
Делёз, философ, сын Диогена и Гипатии, жил в Лионе. О его жизни
ничего не известно. Он дожил до глубокой старости, хотя часто бывал
очень болен. Сказанное им сам он объяснял так: трудная жизнь сродни
чуду. Он называл активной всякую силу, которая направлена на
достижение власти. Это, говорил он, противоположность закона. Поэтому он
и прожил дольше, чем рассчитывал. К тому же, как он объяснял Хрисип-
пу, этому постоянству он и обязан именем стоика.
Он был одним из лучших ораторов своего времени и величайшим из
всех, кто сделал своей профессией преподавание философии. Понимали
его лишь немногие. Его подвергали гонениям: он был предметом зависти
и никогда не отступал. Он презирал эти невзгоды, радуясь жизни,
которая заключалась для него в том, чтобы философствовать.
Обладая надменным нравом, он поддерживал народ. Но у него была
блестящая ирония. Его голос был совершенно необыкновенным. Атеней
сравнивал его с громом, с шумом катящихся камней. Его речь была
весьма разборчивой, немного усталой, манера говорить — неспешной и
приятной. Аполлодор сравнивает его голос с голосом чародея. Это был
человек исполненный благородства, чуравшийся всего низкого.
Он много написал, возможно, больше, чем кто бы то ни было,
учитывая насыщенность его трудов. Хотя он много рассуждал о логике и о
морали, его следует отнести к физикам и считать среди них первым. Он
12
Введение
оставил книгу «О природе», которую Стобей ставит в один ряд с
Гераклитом и Лукрецием, говоря подобно оракулу: даже в отдалённом
будущем не появится ничего столь же великого, разве что какая-нибудь
«Этика», не принадлежащая Аристотелю.
Он говорил, что достаточно назвать три обстоятельства: место, час
и элемент. Место — это то, что становится. Что до часа, то это самый
тёмный час: ведь в его книгах много пугающего. Даже небо страшится своих
главных точек и созвездий, говорит он. Насчёт элемента трудно сказать
что-то определённое, так как он обо всём говорит с блеском. Он страстно
любил землю: Арат говорит, что он был троглодитом. Он восхвалял
волнистые линии вод, а огонь считал текучим. Его элемент, впрочем,
воздушен, поверхностен, лишён определённости и основания.
Он был последним из врачей, считавших медицину искусством.
Называют две книги о чудовищах, две о ранениях, а самая известная — о
водянке ног.
Аристоксен приводит его «Трактат о припеве», смелость которого
поражает. Ещё у него находим книги «О линии» и «О возвышенных
образах».
Прокл приводит весьма неясный отрывок о «Деве, что никогда не
жила, о любовнице и о матери, сосуществующей с одной и
современницей другой». Там же он говорит, что всякое воспоминание эротично.
Страбон подчёркивает, что он был замечательным «геологом». Вместе
с Феликсом он написал книгу «Против водянки», включающую
«Политику» и «Географию», где утверждается, что сумасшедших не бывает,
а также «О стратах», под которой надо понимать «Стратегию». Эту,
кажется, так и не понял никто из философского люда.
В геометрии он открыл пульсацию спиралей. Он провозглашал, что
любовь детей к матери повторяет страсть людей взрослых к другим
женщинам.
Было и много других Делёзов.
Вот перечень его трудов: «События», в 34 книгах. «Созвездия,
которые нас пронизают». «Невозможность бестелесного». «О парадоксе
и о судьбе». «О ранах, получаемых во сне». «Симптомы». «О
разрыве демонов». «О клубнях». «О благородном муже». «О безобразии
человеческого лица». «Об идиотах». «Невидимые свидетели». «Принц
философов». «Об уровнях». «Три завета». «Галльское, или О холоде,
или О жестокости». «О личинках». «Об идее, на нас глядящей». «Ми-
зософия». «О яйце». «О светлом и тёмном». «О вселенском
крюке». «О том, что всякая интенсивность мучительна». «О сардинах».
Введение
13
«По поводу вопроса "кто?"». «Об оргиях». «О личине». «О
всеобщем крушении». «Похвала Лукрецию». «О внутренностях». «О
сложности». «Обозрение вращений». «О том, что объяснять не следует».
«О единичностях, противных нам». «О клоаке». «О триумфе рабов».
«Покров». «О том, что побуждает нас быть проницательнее». «Об
абсолютной глубине». «О неведомой радости»1.
Жаль, что теперь так не пишут. Придётся и нам писать иначе.
Диогену Лаэртскому не было нужды искать систему в дошедших до него
разрозненных суждениях. Над ним не довлел долг показать эволюцию
творчества или взглядов того или иного мыслителя. Для современного
историка философии всё это стало обязательным.
Сам Делёз предложил альтернативу телеологической истории, во
многом сходную с методом, который использовал Диоген Лаэртский,
да и все прочие античные писатели. Если отказаться от необходимости
верить в перманентную закономерность, можно попытаться написать
историю случайностей. Мишель Фуко в «Словах и вещах» показал, как
функционирует такого рода дискурс, характерный для классической
эпохи: вместо систематической биологии — составление бестиариев,
вместо политической экономии — дискурс о накоплении богатств и т. п.
Работа архивариуса, о которой говорит Делёз, сродни этой
деятельности. Архивариус не стремится создать метанарратив, он оставляет
корпус текстов и идей разрозненным. Всякий элемент — сингулярность.
Элементы сочетаются друг с другом в случайном порядке, их сочетания
возникают и распадаются, точки перемещаются. Такое роение
образует виртуальное пространство, всякое событие в котором носит
случайный характер. Но можно ли таким образом заниматься историей
философии? И да, и нет.
С одной стороны, можно было бы «дать слово самому Делёзу»,
минимально систематизировав его высказывания и оставив их без
интерпретации: выстраивание материала само по себе уже обладает
достаточной интерпретативной силой. Но в таком случае можно было бы и не
писать книгу о Делёзе, ведь все могут прочитать его в оригинале или
в переводе. С другой стороны, прочитать недостаточно, тем более что
мы имеем дело с философом «трудным» и не поддающимся схватыва-
1 Bernold A. Suidas//Philosophie. 1995. №47. P. 8-9.
14
Введение
нию с наскока. А значит, нужно выработать некую стратегию чтения и,
пользуясь ею, предложить истолкование. История философии —
герменевтическая дисциплина. При этом следует помнить о различии между
герменевтикой и интерпретацией, позволяющей вычитать в тексте всё
что угодно. Так что заняться составлением архива или писать в духе
Диогена Лаэртского мы можем лишь с большой осторожностью, сочетая
эти приёмы с интерпретативными техниками. Но попытаться всё-таки
стоит.
Чего мы, собственно, хотим? Для чего вообще существуют
историко-философские сочинения? Не ^ая удовлетворения авторских амбиций,
и не ^ля того, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос о том или ином
философе, приписав его к той или иной рубрике. История философии должна
заставить мыслителя сказать то, о чём он до поры умалчивал, заставить
его раскрыть свои карты и объясниться. Насилие, учиняемое над
философом, в таком случае оказывается неизбежным. Ведь философы —
лукавый народ, и по доброй воле редко высказываются о самом потаённом.
В этом отношении история философии имеет много общего с жанром
интервью, ведь в интервью философ, как правило, говорит куда больше,
чем в книгах. Итак, мы интервьюируем Делёза, задаём ему вопросы и раз
за разом возвращаемся к одним и тем же темам, чтобы дать ему
выговориться и, быть может, в какой-то момент проговориться.
Материалом нам служит корпус сочинений Делёза. Он не слишком
велик, но тексты чрезвычайно насыщенны и многослойны, и
перечитывать их можно до бесконечности. Большая часть книг Делёза уже
переведена на русский, правда, не всегда удачно. Впрочем, ругать переводы —
занятие бессмысленное: хорошо уже то, что они есть, и самая широкая
публика может с ними ознакомиться, а специалист может обратиться
к французским оригиналам. Мы по традиции ссылаемся на
существующие переводы, стремясь не к точности в мелочах, а к пониманию
генезиса и генеалогии делёзианской философии.
Помимо книг, существуют лекции Делёза, читавшиеся в
университете Париж-VIII и доступные сегодня благодаря стараниям его
слушателей-энтузиастов. Лекции дают едва ли не более полное
представление об идеях Делёза, поскольку читались они студентам, и философу
приходилось не только упрощать многие моменты, но по несколько раз
возвращаться к ним, рассматривая их под разными углами. Слушатели
Введение
IS
часто обращались к Делёзу за разъяснениями и требовали разобраться
с тем или иным примером, тогда как читатель такой возможности лишён.
Помимо лекций, есть ещё большой корпус статей, написанных в
основном по случаю, но отражающих состояние мысли Делёза в тот или иной
момент. И наконец, есть интервью, в которых Делёзу задавали целевые
вопросы. Есть даже большой по объёму цикл телеинтервью,
претендующий на обобщение и исчерпание делёзианской мысли во всём её
многообразии. Весь этот корпус текстов составляет некое целое, ведь Делёз не
из тех мыслителей, которые сегодня говорят одно, а завтра могут
передумать и сказать нечто противоположное.
При работе над книгой мы пользовались многочисленной
литературой, посвященной творчеству Делёза, благо эта фигура вызывает
во всём мире огромный интерес и порождает поистине
труднообозримый корпус текстов. Прежде всего, это замечательная книга Ф. Дос-
са, посвященная творчеству Делёза и Гваттари, в которой, впрочем, не
происходит смешения этих двух фигур. Кроме того, многочисленные
общие работы по философии Делёза. И наконец, монографии,
посвященные отдельным её аспектам. Хотелось бы особенно отметить два
«словаря», подробно отражающих терминологию Делёза. Во-первых,
великолепный, поражающий своей дотошностью и для отечественной
науки на данный момент недостижимой тщательностью проработки
французский «Словарь Жиля Делёза», выпущенный как третий номер
«Les Cahiers de Noesis» за 2003 г.1 Здесь даётся не только история
возникновения и развития термина (с подробнейшей отсылкой к текстам),
но и его критика. Поистине, это издание должно служить укором всей
отечественной интеллектуальной традиции. Во-вторых, это куда менее
удачный словарь, выпущенный Эдинбургским университетом и
предлагающим общий терминологический обзор2.
Тот, кто берётся писать книгу о Делёзе, как и всякий историк
философии, может пойти двумя разными путями. С одной стороны, можно
принять логику и терминологию Делёза, продолжить его мысль,
подыграть ей. С другой — взглянуть на его творчество отвлечённо,
используя традиционную академическую терминологию и исследовательские
Les Cahiers de Noesis. 2003. № 3. Le Vocabulaire de Gilles Deleuze. Dir. R. Sasso et A. Villani.
The Deleuze Dictionary. Ed. A. Parr. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2005.
16
Введение
процедуры. Первый подход выглядит весьма привлекательным.
Действительно, что, казалось бы, может быть лучше чем погрузиться в делё-
зианскую мысль, эмпатически раствориться в ней, начать мыслить как
сам Делёз? При этом, конечно же, придётся говорить языком Делёза,
используя его собственные концепты и речевые обороты. Однако здесь
таится опасность: принявший такую позицию исследователь рискует
стать клоном Делёза, лишившись возможности критически воспринять
его идеи. Или увидеть систему там, где её нет. Мы уже достаточно
научены горьким опытом тех хайдеггерианцев, что бессмысленно громоздят
друг на друга дефисы да словеса в «хайдеггеровском» (как им
представляется) духе. Второй подход, хотя и проверенный временем, также не
лишён недостатков. Подходя к философу чисто внешне, также рискуешь
ничего в нём не понять. Или, хуже того, разнести его мысли по
рубрикам («кантианство», «спинозизм», «гегельянство» и т. п.), утратив
целое. И тем не менее, этот второй подход представляется нам меньшим
злом. К нему мы преимущественно и прибегнем, не забывая о том, что
так ярко выразил Ф. Зурабишвили: «Обычно мы стремимся к
однозначному определению Делёза. Был ли он спинозистом, ницшеанцем, берг-
сонианцем? (Были ли он хорошим? Были ли он плохим?) То, что
привлекает нас в таких фигурах как Делёз, почти неопределимо и не может
оцениваться в терминах подлинности или влиятельности. Отлич-
ностъ — новая и анонимная конфигурация, утверждающаяся в том
свободном и независимом творчестве, которое только и может носить имя
Делёза»1.
Дж. Агамбен предложил реконструировать генеалогию
современной французской философии по двум восходящим линиям — «линии
трансценденции», идущей от Канта через Гуссерля к Левинасу и Де-
ррида, и «линии имманенции» — от Спинозы, через Ницше к Делёзу
и Фуко (в обеих линиях должен присутствовать Хайдеггер)2.
Действительно, такая генеалогия вполне правомерна. Делёз — философ
имманенции, и об этом мы не раз скажем ниже. Однако не стоит думать,
будто две линии, о которых говорит Агамбен, идут параллельно и никогда
не сближаются. Можно было бы провести и другие линии. Весьма зна-
1 ZouRABiCHViLi F. Deleuze. Une philosophie de l'événement P.: PUF, 1996. Ρ 6.
2 Agamben G. Absolute Immanence / Potentialities: Collected Essays in Philosophy. Transi. D. Hel-
ler-Roazen. Stanford, 1999. Ρ 239.
Введение
17
чимой, на наш взгляд, оказалась бы та, что идёт от Канта не к
Гуссерлю и Левинасу, но к Жарри и Хайдеггеру (сам Делёз наметит её в своей
последней книге). Или та, что идёт от стоиков (а может быть, и от
гностиков) к Бергсону, и т. п. Впрочем, все генеалогии носят условный
характер, и одна ничуть не лучше другой. Кроме того, генеалогии, на наш
взгляд, интересны не тем, что прочерчивают прямую преемственность
или династию, а своими боковыми ветвями и побегами. Хотя бы
некоторые из них мы попытаемся обозначить во второй части книги.
Имя Жиля Делёза знакомо всем, кто хоть как-то соприкасается с
современной философией. Постструктурализм, с которым оно
ассоциируется, остался в недалёком прошлом, но, несмотря на это, а может быть,
благодаря этому, философия Делёза не утрачивает своей популярности.
Когда это имя воспринималось в ряду прочих (Фуко, Деррида, Лио-
тар... ), Делёза читали не так охотно, как других: уж очень мудрён. Ведь
есть постструктуралистские тексты, написанные легче и изящнее; есть
программы более радикальные. Но с течением лет, когда
постструктурализм и его культурологический коррелят постмодерн утратили блеск
новизны, в философии Делёза стали открываться прежде незамеченные
стороны. Обнаружилось, что это любопытнейший историк философии,
блестящий логик и стройный метафизик. Ничто не обязывает его
числиться по ведомству «постмодерна». Существует расхожее мнение
0 Делёзе как о ниспровергателе метафизики с такими её пороками, как
упорный поиск сущностей или стремление к снятию всех различий
и сведению всего и вся к тождествам. Делёз действительно стремится
ниспровергнуть такую метафизику, произведя её подрыв по
нескольким направлениям сразу. Но вместе с тем, сам он создаёт иную
метафизику — метафизику различия. Именно поэтому, как очень точно
подметил Д. Смит, у него не найти общих заявлений о характере западной
метафизики, её «логоцентризме» или насаждении «присутствия»1.
Делёзу выпало жить в интересное и трудное время. Он знавал
периоды культурного расцвета и оскудения, эпохи войны и мира, оккупации
и освобождения, времена повального увлечения левыми идеями и
краха коммунистической системы. Как и всякого интеллектуала, его за-
1 Smith D. W. Deleuze and Derrick, Immanence and Transcendence: Two Directions in Recent
French Thought // Between Deleuze and Derrida. Eds. P. Patton, J. Protevi. L.; NY.: Continuum,
2003. Ρ 50.
18
Введение
трагивало происходящее в мире, однако нельзя сказать, что его мысль
неизменно была отражением политической или культурной
повседневности. Как всякий философ, он был несвоевременен. Эта
несвоевременность выражалась в том, что с философами иных эпох он вёл куда более
интенсивный диалог, нежели со своим временем, и, делая этих
мыслителей современными, сам оказывался вне исторического контекста. Он не
был аполитичен, участвовал в демонстрациях и групповых акциях
революции 1968-го, но никогда не состоял ни в каких партиях и не
отождествлял себя ни с какими политическими движениями.
Все эти периоды, сменяющие друг друга, и драматические события,
которыми столь богата история XX века, несомненно, наложили свой
отпечаток на личность и тексты Делёза. Но, помня об этом, не стоит
пытаться увязывать любую Делёзову мысль с тем или иным внешним
событием. Делёз был несвоевременным философом; оставаясь человеком
своей эпохи, он непрестанно от неё ускользал, живя во всех эпохах разом.
А это выдвигает определённые требования и к книге о нём.
Делёз принадлежал к послевоенному поколению, которое мужало
в те времена, когда на интеллектуальной сцене господствовали
гегельянство, феноменология и экзистенциализм, и которое подвергло все три
доктрины разрушительной критике. Это не было простым капризом
интеллектуалов, стремящихся к новизне любой ценой, или
разрушительным нигилистическим жестом сыновей, отвергающих ценности отцов,
потерпевших поражение во Второй мировой войне. «1940 год — это
большое поражение рационализма в том усечённом виде, в котором он
существовал во Франции и в Англии, — писал в своём дневнике П. Дриё
Ла Рошель. — Но это не есть поражение науки или разума»1. Разум
должен был двинуться другим путём.
Конечно, этот мотив в какой-то мере присутствует в сознании
послевоенного поколения. П. Хандке когда-то сказал, что дети
проигравших находятся в более выгодном положении, нежели дети победителей,
поскольку на них не давит отцовская слава. А Франция во Второй
мировой потерпела быстрое и постыдное поражение. Пытаясь понять его
причины, французы осознали недостаточность картезианского рацио-
ДриёЛа Рошель П. Дневник. 1939-1945. Пер. под ред. С Л. Фокина. СПб. : Владимир Даль;
Ювента, 2000. С. 268.
Введение
19
нализма для его объяснения. Поэтому они обратились к гегельянству
и его разновидности — марксизму восприняв историцистский теле-
ологизм, и к немецкому экзистенциализму переняв от него
своеобразный стиль мышления. Этот последний в руках Ж.-П. Сартра вскоре
превратился в интеллектуальный терроризм, с которым будет
бороться поколение Делёза.
Что касается политики, послевоенное поколение во Франции
оказалось между двух огней: с одной стороны — Америка Трумэна, с
другой — СССР Сталина. Предлагалось выбирать, на чьей ты стороне: либо
ты за коммунистов, и тогда ты должен поддерживать сталинизм, либо ты
против коммунистов, и тогда ты на стороне американского капитализма.
Поскольку аморальность и цинизм буржуазии привели к позорной
капитуляции и коллаборационистскому режиму, все симпатии были на
стороне Французской компартии, ещё не утратившей героического ореола
одной из главных сил Сопротивления. Но в то же время, коммунистические
партии Западной Европы находились под жёстким влиянием И. В.
Сталина, которого тактически интересовала не мировая революция, а
восстановление разрушенной европейской экономики, то есть, укрепление
капитала. До поры этого удавалось не замечать, скрывая неутешительную
действительность за революционной риторикой, но в конце концов
пришлось взглянуть правде в лицо. И тем не менее, увлечение идеями
сталинизма после Освобождения было едва ли не всеобщим. Даже
недоброжелательно настроенный по отношению к СССР Р. Арон признавал, что
в ту эпоху «в воображении французов встал во всём его величии далёкий
образ героического и победоносного Советского Союза»1.
Господству в политическом дискурсе коммунистической доктрины
соответствовало господство в умах партийных интелектуалов
ортодоксального марксизма. Марксизм был орудием коммунистической
партии, роль которой в Сопротивлении была велика и которая не шла ни на
какие компромиссы с фашизмом. Марксизм представлялся доктриной
освобождения, научным знанием, способным разоблачить козни
капитализма и привести к победе трудящийся класс2.
1 Арон Р. Пристрастный зритель. Пер. Под ред. Б. M Скуратова. М. : Праксис, 2006. С. 171.
2 «... Знание Маркса с самого начала было знанием, стремящимся к власти, — писал П. Сло-
тердайк. — Задолго до того, как марксизм теоретически или практически добился
господствующего положения, он уже избирал... тактику силы, которой предстоит захватить власть.
20
Введение
Те интеллектуалы; для которых была недопустима самая мысль о том,
чтобы встать на сторону капитала, должны были мириться с таким
положением вещей. Они мучительно пытались найти компромиссное
решение между нетерпимым догматизмом партийного марксизма и
требовавшей поиска новых решений реальностью. Даже Сартр (а какое-то
время и Мерло-Понти) был вынужден лавировать, выступая с
заявлениями типа «экзистенциализм — это гуманизм». Но при этом он не
скрывал ни от себя, ни от других всю безнадёжность создавшегося
положения: «Поскольку исторической перспективой для нас является
война, поскольку мы должны выбирать между американским лагерем и
лагерем советским, а мы отказываемся содействовать войне как на той,
так и на другой стороне, мы выпали из истории, и наш голос — это глас
вопиющего в пустыне»1.
Французские философы составляют (или, по крайней мере,
составляли при жизни Делёза) очень тесный кружок, что-то вроде
салонного сообщества. К ним применима характеристика, которую Сартр
в 1947 г. дал французским писателям: «Централизация всех нас собрала
в Париже; с малой толикой везения какой-нибудь шустрый американец
может со всеми нами связаться за двадцать четыре часа, узнать за эти
двадцать четыре часа наше мнение о ЮНРРА, об ООН или ЮНЕСКО,
о деле Миллера и об атомной бомбе... предъявив для подписания
какой-нибудь манифест, петицию или протест...»2 Действительно, этот
узкий кружок составляет и подписывает огромное количество петиций
и протестов. Это следствие ещё одной особенности французских
интеллектуалов, духовные предки которых своими текстами подготовили
Революцию и были властителями дум представителей как высших, так
и средних классов. Они привыкли к тому, что к их мнению
прислушиваются. Философ во Франции — не просто кабинетный мыслитель, но
общественный деятель, а то и трибун. С этим связаны и напряжённые
Он всегда чересчур недвусмысленно навязывал "правильную линию" Он всегда, приходя в
неистовство, уничтожал всякую практическую альтернативу Он всегда говорил сознанию масс:
"Я твой господь и освободитель, у тебя не должно быть никаких иных освободителей, кроме
меня. Всякая свобода, которую ты найдёшь где-то в другом месте, есть мелкобуржуазный
уклон"». (Слотердайк П. Критика цинического разума. С. 162-163.)
Сартр Ж.-П. Что такое литература? Пер. Н. И. Полторацкой. СПб. : Алетейя, 2000. С. 245.
Там же. С. 158-159.
Введение
21
размышления об общественной роли интеллектуала и о его отношениях
с властью, к которым окажется причастен и Делёз.
Впрочем, философ никогда не составляет сумму идей своей эпохи.
Как правило, его волнует несвоевременное, а его собеседниками
становятся мыслители прошлого. Для Делёза это правило работает едва ли не
больше, чем j^aä всех остальных.
Один из признаков величия Делёза, — замечает А. Бадью, — состоит
в том, что, вопреки своему успеху, он оставался в стороне от главных
блоков мнений, определяющих собой парламентскую жизнь «в
миниатюре», свойственную нашей профессии... Он не был ни феноменологом,
ни структуралистом, ни хайдеггерианцем, ни импортёром
англо-саксонской аналитической «философии», ни либеральным неогуманистом
(или неокантианцем). Что в нашей славной стране, где всё
предопределено политически, означает: он не был ни попутчиком ФКП, ни новато-
ром-ленинистом, ни разочарованным пророком «отхода» от
политики, ни просвещённым западным моралистом прав человека, Как всякий
великий философ, — к тому же, это прекрасно сочетается с
аристократизмом его мысли, с его ницшеанскими принципами оценки активной
силы — Делёз представляет собой особый полюс1.
Так что единственная возможность проследить путь его
становления заключается в том, чтобы увидеть имена и книги, которыми этот
путь был отмечен. Но в то же время, философ не является и суммой
всего прочитанного: он принимает лишь то, что может назвать своим,
независимо от того, где он его нашёл. И потому нам не остаётся ничего
иного, как следовать за его мыслью, диагностируя её и выявляя её истоки.
В истории, которую мы застаём как некий трудноразличимый пласт
прошлого, все имена соседствуют друг с другом. По прошествии лет всё
труднее оказывается держать в уме существование «до» и «после».
Всякий философ предстаёт нашему взору монолитной фигурой, хотя
историк философии и может говорить о «раннем» и «позднем»
периодах его творчества. Луи Альтюссер пытался разрешить эту
проблему применительно к творчеству Маркса: можно ли считать, что ранний
Маркс — это Маркс? Ведь он столь разительно отличается от Маркса
Бадью А. Делёз. Шум бытия. Пер. Д. Скопина. М. : ФНИ «Прагматика культуры»; Логос-
Альтера/Ессе homo, 2004. С. 127-128.
22
Введение
позднего! Возможен ли объект, демонстрируемый А. Жарри — череп
Вольтера в детстве? Такие объекты, говорит Альтюссер, «неизбежны,
как и всякое начало. Они невозможны, поскольку мы не выбираем своего
начала». Философ не делает выбора, когда рождается а^я мысли и
мыслит в конкретном идеологическом мире. «Именно в этом мире он
вырос, именно в нём он научился двигаться и жить, с ним он "объяснился",
от него он освободился»1.
В творчестве Делёза принято выделять несколько этапов (историко-
философский, собственно философский, литературоведческий —
варианты рознятся у разных исследователей), предполагающих
эволюционирование взглядов философа, однако основные философские интуиции
этого мыслителя кочуют из одного произведения в другое. Так,
например, находимое уже в книге о Бергсоне учение о проблеме
встречается во всех последующих крупных работах и кристаллизуется в «Что
такое философия?»; учение о различии становится центральным с
конца 1960-х гг.; мы постоянно встречаем одних и тех же персонажей —
Л. Кэррола, М. Пруста, Α. Αρτο и др. Таким образом, имеет смысл
говорить о том, что Делёз создал грандиозную философскую эпопею, все
части которой объединены общими идеями и настроениями. Сам Делёз
стремился избежать структурирования этой эпопеи и считал, что,
подобно ризоме, она растёт сразу во все стороны. Поэтому не стоит
говорить о ранних или поздних, философских или историко-философских
периодах в его творчестве. Этот момент постоянства в философских
интуициях Делёза отмечает и А. Бадью: «...Исходя из бесчисленных
и с виду разрозненных случаев, принимая толчок, который дают
Спиноза и Захер-Мазох, Кармело Бене и Уайтхед, Мельвиль и Жан-Люк
Годар, Бэкон и Ницше, Делёз движется к понятийным продуктам, которые
я не побоюсь назвать однообразными, к совершенно особому режиму
постоянства, почти бесконечного повторения узкого набора понятий,
а также к виртуозной перемене имён там, где мыслимое на фоне этой
перемены остаётся существенно тем же».2 В другой работе А. Бадью
назвал Делёза бойцом «невидимого фронта»: Делёз, считает Бадью,
никогда не принадлежал к постмодернистскому течению, постоянно
спорил с Лаканом и Альтюссером и даже с Фуко расходился по вопросу
1 Альтюссер Л. За Маркса. Пер. А. В. Денежкина. М. : Праксис, 2006. С. 95.
2 Бадью А. Делёз. «Шум бытия». С. 25-26.
Введение
23
0 том, что такое конкретная сингулярность1. Названные Бадью авторы
(а Делёз внимательно «выслушивает» не только философов, но и
писателей, и кинорежиссёров) вызывали пристальный интерес
французского философа своим критическим отношением к традиционным теориям
репрезентации и субъективности. Отнести Делёза к какой-либо
философской школе не представляется возможным, и сам он всегда
сознательно избегал «школы», отказываясь от учителей, учеников и
лидерства. Делёз полагает, что в его позиции нет ничего существенно нового:
ведь философия всегда начинается с критики и борьбы: «В мысли
первичны взлом, насилие, враг, ничто не предполагает философию, всё идёт
от мизософии... Условия подлинной критики и подлинного творчества
одинаковы: разрушение образа мышления — как собственного
допущения, генезиса акта размышления в самом мышлении»2.
Делёзианская мысль не претерпевала радикальных изменений и
скачков из крайности в крайность. Философская эволюция Делёза
заключается в переходе от одного концепта к другому. При этом каждый прежний
концепт перетекает в новый, не отрицая и не разрушая бывший прежде.
Философия для него и заключается в создании концептов. И в этом
отношении его можно назвать одним из самых плодовитых в истории
философии мыслителей. Быть может, эти переходы можно если не описать,
то проиллюстрировать словами П. Слотердайка о том, что
«метафизики не "терпят крах", они выцветают, иссякают, впадают в застой,
становятся скучными, банальными, неважными и неправдоподобными»3. Так
происходит и с концептами — со временем они начинают
представляться своему создателю не соответствующими наличной
действительности, грубоватыми или попросту надоедают. Тогда философ
вырабатывает другие концепты, которые со временем может постигнуть та же
судьба. История философии при таком взгляде превращается в историю
концептов. Во всяком случае, с Делёзом дело обстоит именно так.
«Путь Делёза, — замечает Р. Боуг, — трансверсальный путь,
диагональ, в которой сходится несводимое, траектория, интенсифициру-
1 Badiou A. Deleuze, sur la ligne de front // Magazine littéraire. 2002. № 406. (Février). P. 19.
2 Делёз Ж. Различие и повторение. Пер. Н. Б. Маньковской и Э. П. Юровской. СПб., 1998.
С. 175.
3 Слотердайк П. Критика цинического разума. Пер. А. В. Перцева. Екатеринбург: У-Факто-
рия; М. : ACT, 2009. С. 520.
24
Введение
ющая расстояния между участками. Его путь является также способом
действовать — практика создания трансверсальных связей,
сходящихся множеств, утверждающих свои различия в связях»1. Делёза
принято упрекать в сложности и неудобочитаемости его текстов. Порой его
упрекают даже в излишней сухости стиля. К. Россе, к примеру,
уподобил его сухой тон крекеру без масла2. Конечно, и то, и другое в его
дискурсе присутствует. Однако едва ли стоит пенять на то, что
чтение его работ требует несколько большего усилия, чем обычно. Как
замечает во введении к «Словарю Делёза» К. Коулбрук, «если
сочинения Делёза оказываются трудными и неподатливыми, их нельзя
отбросить как стилистически неудачные, словно бы он должен был сесть
и сказать нам в немногих словах, что такое "различие как таковое" или
"имманентность"»3. Действительно, ничего подобного Делёз нам не
должен, он волен писать так, как пишет. А главное, как замечает тот же
шотландский автор, «мы не можем читать мыслителя с тем, чтобы
найти то, что он говорит "нам" как если бы тексты были средствами
передачи информации. Текст имманентен жизни; он создаёт новые связи,
новые стили мышления, новые образы и способы видения. Прочитать
текст — значит понять проблему, породившую его»4.
И тем не менее, трудности остаются. Делёз — писатель, требующий
от своего читателя значительных усилий, его тексты перенасыщены
терминологией, пришедшей из самых разных областей знания, а его стиль
хоть и изящен, но и впрямь несколько суховат. («Нас иногда упрекают,
что мы используем сложные слова "ради шика", заметил как-то Делёз. —
Но это не просто враждебность, это идиотизм. Для своего обозначения
концепт либо нуждается в новом слове, либо использует обычное слово,
но сообщает ему сингулярный смысл»5.) Его невозможно понять без
усилий, нужно вновь и вновь приближаться к нему с разных сторон.
Недаром сам он уподобил одну из своих написанных в соавторстве с Фе-
Bogue R. Deleuzes Way. Essays in Transverse Ethics an Aesthetics. Aldershot: Ashgate, 2007. P. 2.
Rosset С. Sécheresse de Deleuze // LArc 1972. № 49. P. 89.
Colebrook C. Introduction // The Deleuze Dictionary. Ed. A. Parr. Edinburgh: Edinburgh
University Press, 2005. P. 2.
Ibid. P. 4.
Беседа о «Тысяче плато» // Делёз Ж. Переговоры. 1972-1990. Пер. В. Ю. Быстрова. СПб. :
Наука, 2004. С. 50.
Введение
25
ликсом Гваттари книг множеству плато. Действительно, не существует
единой и единственной плоскости его мысли, таких плоскостей почти
бесконечно много1. Трудность усугубляется ещё и тем, что каждая его
книга как бы отсылает к другим, где должно найтись объяснение его
понятийному аппарату и характеру философствования. Однако другая
книга отсылает к третьей и т. п., круг замыкается, и читателю
приходится вечно скитаться в этом лабиринте. Другого способа понять Делёза
просто не существует. Нет «самой главной» книги Делёза, которая бы
всё объяснила и дала читателю путеводную нить.
«... Книги учёных среднего уровня обычно превосходят по
учёности своих авторов, тогда как глубина и своеобразие подлинного
"оригинального мыслителя" выражаются в том, что его сочинения не
превосходят своего создателя, а уступают ему»2, — сказал Э. Кассирер, имя
в виду Канта. Это вполне применимо и к Делёзу. Ибо, если преодолеть
воображаемый барьер его герметического слога, мы обнаруживаем
весьма прозрачные, а главное, конкретные мысли. При этом начинает
казаться, что мы поняли Делёза, поняли то, что он хочет сказать нам из
книги в книгу. Но это не так: Делёз куда сложнее той или иной своей
книги, он всегда ускользает и нигде не задерживается. Невозможно
зафиксировать даже его понятийный аппарат, поскольку от книги к книге
«понятия не столько развиваются вширь или вглубь, сколько
удваиваются и множатся, непрестанно являясь в новых обликах»3.
«Несмотря на то, что несколько непривычная философская практика Делёза пленяла,
озадачивала, а порой и раздражала многих, всё ещё необходимо проделать большую и серьёзную
работу над его наследием, чтобы предоставить ему то место, какого оно заслуживает, —
пишет В. Мюлар-Леонард. — Конечно, всякий, кому случалось иметь дело с Делёзом, может
засвидетельствовать чрезвычайную сложность его мысли. Эта сложность происходит как из её
инновационного характера, так и из головокружительной насыщенности интертекстуальных
и междисциплинарных отсылок, пульсирующих в его сочинениях. Метафизика, история
философии, математика, физика, психоанализ, литература, кино, живопись, музыка и политика — вот
основные фигуры, живые, выпуклые персонажи в его игре, драматической и при этом весьма
академичной, проникающей в природу реальности и мысли, событийности, материальности
и субъективности». (Moulard-Leonard V. Bergson-Deleuze Encounters. Transcendental
Experience and the Thought of The Virtual. Albany: State University of New York Press, 2008. P. 2.)
Кассирер Э. Жизнь и учение Канта. Пер. М. И.Левиной. СПб. : Университетская книга, 1997.
С. 40.
Khalfa J. Introduction // Introduction to the Philosophy of Gilles Deleuze. Ed. J. Khalfa. L.; NY:
Continuum, 2004. Ρ 4.
26
Введение
Вместе с тем, можно обнаружить переходящие из книги в книгу
общие интуиции Делёзовой мысли, общность подхода и тот особенный
«метод», который сам он называл трансцендентальным эмпиризмом.
Поэтому было бы неверно говорить, что мысль Делёза перескакивает
не только от темы к теме, но и от позиции к позиции. Несмотря на
разнородность (гетерогенность, как говорил сам Делёз) его терминологии
и исследовательского материала, его творчество внутренне весьма
цельно. И тем не менее, не стоит рассчитывать на лёгкость и простоту, когда
имеешь дело с Делёзом. Это касается не только его собственного
творчества, но и исследовательских работ. Как заметила К. Коулбрук,
«никакое введение в творчество Делёза не может быть простым, поскольку
сами его идеи сложны и противоречивы»1.
Ч. С. Пирс писал, что «главной ценностью исторического подхода
к философии является то, что он приучает ум окидывать философию
холодным научным взглядом, а не подходить к ней с пристрастием, как
если бы философы были конкурентами»2. Мы постараемся всемерно
следовать этому принципу, хотя сам Делёз, как мы скоро увидим, в
историко-философской работе преследовал несколько иные цели. Но мы
ему, как уже было сказано, не конкуренты, а потому двигаться тем же
путём вовсе не обязаны.
Философия ^^ля Делёза была связана с ниспровержением всех и
всяческих мифов. В статье о Лукреции он писал:
Первый философ — натуралист: он говорит о природе, а не о богах.
Его позиция в том, что его дискурс не должен вводить в философию
новые мифы, которые лишали бы Природу всей её позитивности.
Действующие боги — такой же миф религии, как и судьба — миф ложной
физики, а Бытие, Единое и Целое — миф ложной философии, которая вся
пропитана теологией3.
Делёз тоже был стоиком-натуралистом. Создание концептов — тоже
своего рода мифотворчество, в котором не находится места богам. Боги
не должны заслонять природу, они не должны становиться властителя-
1 Colebrook С. Gilles Deleuze. L.: NY.: Routledge, 2002. P. 7.
2 Пирс Ч. С. Принципы философии. Пер. В. В. Кирющенко и М. В. Колопотина. Т. 1. СПб. :
Санкт-Петербургское философское общество, 2001. С. 52.
3 Делёз Ж. Лукреций и симулякр / Логика смысла. Пер. Я. Я. Свирского. Под ред. А. Б. Толсто-
ва. М., Екатеринбург, 1998. С. 364.
Введение
27
ми жизни. Они могут быть лишь концептами, но философия,
создающая эти концепты, ничего общего не имеет с теологией. Именно
поэтому первый философ а^я Делёза — не Платон, а Лукреций, ведь первый
писал о богах, а второй — о природе. Это — философ par excellence.
В истории философии часто случается так, что над философом
тяготеет сложившееся по тем или иным причинам представление,
навешивающее на него ярлык. Сартр, к примеру, считается
«экзистенциалистом», а его заслуги в области метафизики отодвигаются в тень;
Хайдеггера считают феноменологом-реформистом, забывая о нём как
об историке философии или неокантианце. Делёза часто причисляют
к «постмодернистам», подразумевая под этим его отрыв от традиции
западноевропейской философии и уход в свободное деконструктивист-
ское умствование. Многие заявления Делёза действительно могут дать
для этого повод. Однако, если вчитаться в его тексты и внимательно
разобраться с его аргументами, мы повсюду увидим знакомую
проблематику (хотя способы проблематизации традиционными не назовёшь),
привычные людям западной философской традиции вопросы (хотя
и в непривычной постановке) и инструментарий, в котором ничего
специфически «постмодернистского» нет.
Термин «постмодернизм» применительно к философии вообще
представляется нам крайне неудачным и почти бессмысленным. Это
выражение, утвердившееся благодаря Ч. Дженксу в теории и истории
архитектуры, может более или менее успешно применяться в области
эстетики, оно годится ^ая определения постколониальной
политической системы. В философии и в гуманитарных науках вообще
выражение «постмодерн» стало общепринятым благодаря знаменитой книге
Ж.-Ф. Лиотара, который обозначил таким образом недоверие к метанар-
ративам. Но, помилуйте, когда ж это философия доверяла метанаррати-
вам? Доверие к метанарративам — удел исторической науки. Конечно,
метанарративы, которым доверяет история, вырабатывают философы,
однако это занятие не является непосредственной функцией
философии. Выстраивание метанарратива, пускай даже такой всеобъемлющей
Системы, как гегелевская, представляет собой философскую практику,
имеющую ценность именно ^ая самого философа. Если же мы
воспринимаем сказанное тем или иным философом как истину в последней
инстанции, — это уже не философия.
28
Введение
Таким образом, нам бы не хотелось применять термин
«постмодерн» или «постмодернизм» применительно к философии Делёза,
поскольку здесь он нам ничего не говорит, а только вносит путаницу.
Несколько более осмысленным представляется нам термин
«постструктурализм» — тоже, конечно, небезупречный. Прибегать к нему
приходится лишь поневоле. Выражение «постструктурализм»
родилось в Америке и выразило попытку отличить появившуюся на рубеже
60-х - 70-х гг. XX века французскую теорию, генетически связанную со
структурализмом, а вернее — со структурными исследованиями в
гуманитарных науках, — и в то же время преодолевающую структурализм
середины столетия. «Постструктурализм» — термин весьма
расплывчатый, ибо никогда не существовало школы, объединявшей философов,
к которым он применяется. И тем не менее, существует некая общность
в стиле мышления, в этической позиции, а главное, в общем
противнике у ряда авторов, одним из которых является Жиль Делёз. К этому мы
ещё вернёмся, а покалишь предварительно обозначим свою
терминологическую позицию: Делёза можно считать постструктуралистом, но не
стоит в каком бы то ни было смысле называть его постмодернистом1.
Делёз вписан в западноевропейскую философскую традицию.
Первая половина его творческой жизни была временем ученичества,
когда он занимался исследованием таких философов, которых трудно
заподозрить в «постмодерности» — Юма, Спинозы, Канта,
Бергсона. Несколько выделяется из этого ряда Фридрих Ницше, которого
Ю. Хабермас считает родоначальником постмодернизма. Но, если
составлять подобные (чересчур упрощённые, на наш взгляд) генеалогии,
постмодернистами придётся считать и Платона, и великих сирийско-
египетских гностиков. Ницше был философом, всецело
принадлежащим XIX веку, а то, что он оказался так востребован в следующем
столетии, причём именно теми, кто искал новые философские пути, не делает
его «постмодернистом». В конце концов, не менее востребованными
в XX веке оказались Гегель и Маркс. Но и те работы Делёза, что были
написаны начиная с 1967 г. и что в расхожем мнении предстают «пост-
Позволим себе рискованное сравнение, развивать которое здесь едва ли стоит: Делёза следует
признать постструктуралистом, но не постмодернистом, в то время как Поля Рикёра можно
считать постмодернистом, но не постструктуралистом.
Введение
29
модернистскими», также неразрывно связаны с западной метафизикой.
Мы попытаемся показать это в настоящей книге.
Если здесь вообще уместны сравнительные степени, можно сказать,
что из всего постструктуралистского цеха он был философом в
наибольшей степени. К. А. Пирсон даёт ему такую характеристику:
Делёз всегда был другом мудрости, хотя он взращивал странную
и опасную мудрость, всегда оставаясь посторонним, квартирантом,
незваным гостем при дворе разума, посмевшим нарушить мирное течение дел.
Имя собственное «Делёз» — сигнал, гетерогенная знаковая система,
напоминающая нам, что безмыслие не внешне по отношению к мысли, но
пребывает в самом его сердце. Чтобы проникнуть в лабиринт его мысли,
нужно отважиться на запретное, странные и незнакомые вещи из
будущего оказываются здесь понятнее и ближе, чем так называемая реальность
настоящего. Делёз никогда не требовал признания от «академизма»,
поскольку хотел лишь передать некое знание. Он был хамелеоном,
коринфянином и карикатурой, сводившейся ко множественности,
иррациональному числу, абстрактной машине.
Делёз был монстром. Его работа отмечена подрывной, опасной
попыткой спланировать новое становление мысли по ту сторону здравого
смысла и общепринятого, где мысль становится монструозной, ибо
отказывается от намерения изображать мысль. Все имена из истории
философии становятся масками и личинами в игре различия и повторения,
порождающей двусмысленности и многосмысленности при чтении
текстов и мыслителей. Делёз становится кантианцем, Кант становится делё-
зианцем, Спиноза движется по траектории, где утверждение
единственной субстанции оборачивается планом имманенции. В таких прочтениях
истории философии Спиноза, Лейбниц, Кант и Ницше освобождаются
от попыток зафиксировать «раз и навсегда» их время и место и, будучи
пропущены через термодинамическую историографию, приводятся к эн-
тропическому нарративу Эволюция сложной адаптивной системы мысли
Делёза весьма парадоксальна, и мы неизбежно сталкиваемся с комплика-
циями и импликациями её складок. Перед нами различия, но эти
различия монструозны. Делёз — философ чистой и пустой формы времени,
события (времени Эона), чистого становления и чистых различий. Но при
этом он — мыслитель контаминации, заражения и вироидной жизни1.
Pearson К. A. Deleuze utside / Outside Deleuze. On the Difference Engineer // Deleze and
Philosophy. The Difference Engineer Ed. K. A. Pearson. L.; NY: Roudedge, 1997. P. 2-3.
30
Введение
Действительно, Делёз былномадическим философом, хотя и
вписанным в академическую систему, но всегда норовящим ускользнуть от неё.
Быть может, в его позиции и впрямь выражался его «эмпиризм», как
утверждает Дж. Рейчмен1. Однако этот отход от академической традиции
во второй половине XX века уже был вполне традиционен. Делёз
принадлежал к интеллектуальной традиции, заданной такими философами,
как Жан-Поль Сартр — традицию ангажированных интеллектуалов, —
но при этом он же эту традицию изменял, придавая совершенно новый
смысл ангажированности. Его многолетняя преподавательская
деятельность в экспериментальном университете в Венсенне была своего рода
бегством, ускользанием от Сорбонны. В этом отношении он следовал
своим любимым философам, также отказавшимся от университетской
карьеры — Спинозе и Ницше. Подобно своим великим
предшественникам, «он был философом, совершенно свободным от круговращения
зависти, паранойи и "озабоченности влиянием" (или Эдипова
комплекса), обычно сопровождающего открытия или "обладание" идеями»2.
Несмотря на репутацию «постмодерниста», Делёз всегда оставался
приверженцем «старой» философии.
Я верю в философию как систему, — писал он в
«письме-предисловии» к книге Ж.-К. Мартена. — Понятие системы мне не нравится, когда
его связывают с Тождественностью, Подобием и Аналогией... Вопросы
об «устаревании философии», «смерти философии» меня никогда не
трогали. Я ощущаю себя совершенно классическим философом3.
Он и был классическим философом. Той средой, в которой
работала его мысль, были не модные течения современности, а философская
традиция прошлого. Делёз вступал в беседу с давно умершими
мыслителями как со своими современниками. Вернее, он умел сделать их
своими современниками. Классическим философом он был и в другом
смысле: он верил в безграничные возможности философии и не видел
никаких причин для её смерти. «Мы рискуем дважды недооценить
крупного автора, — писал Делёз в своей статье 1962 г. — Например,
Rajchman J. The Deleuze Connections. Cabridge (Mass.); L.: The MIT Press, 2000. P. 22-23.
Ibid. Ρ 27.
Lettre-préface de Gilles Deleuze // Martin J.-C. Variations. La philosophie de Gilles Deleuze.
P.: Payot; Rivages, 1993. P. 7.
Введение
31
проигнорировав его логические основания или систематический
характер его творчества»1. Это вполне применимо и к самому Делёзу,
который, несомненно, был именно крупным автором, и размеры этой
фигуры в наше время становятся всё более заметны. Поэтому мы ни в коем
случае не можем пройти мимо логики его мысли и отказать ей в
систематичности.
В своей лекции 18 апреля 1972 г. Делёз сказал, что занимается поп-
философией. Быть может, и не стоило бы принимать всерьёз то, что
было сказано в конкретной ситуации студентам Венсеннского
экспериментального университета, далёким от академизма. Однако своя доля
истины в этом есть. Делёз был твёрдо убеждён в том, что настоящая
философия может быть изложена простыми словами и понята любым
человеком, не получившим специальной подготовки. И это действительно
так, несмотря на то, что Делёз — философ сложный; при погружении
в его философию открывается её простота и доступность. Кроме того,
он считал, что философии нужна понимающая её не-философия:
«Философия находится в существенных и позитивных отношениях с не-фи-
лософией: она адресована непосредственно не-философам»2. «Новая
философия», вошедшая в моду в конце 1970-х гг., не имеет с этим
ничего общего; Делёз всегда питал отвращение к рыночным формам
популяризации философских идей. Его поп-философия ни в чём не сходна
с «философским маркетингом». Столь же далека она и от попыток
создания «народной философии», столь популярных в начале 1970-х гг.:
Делёз никогда не смешивал свою политическую деятельность (какой бы
скромной она ни была по сравнению, скажем, с революционной
активностью Сартра и Фуко) и философию. Какой бы популярной, народной
или революционной ни становилась философия (а это с ней порой
случается), она должна оставаться самой собой.
В англо-саксонском мире Делёза воспринимают, по выражению
С. Жижека, в «гваттаризованной» форме3, т. е. через призму сочинений,
написанных в соавторстве с Ф. Гваттари. Это не совсем верно: работы
Делёза, написанные им в одиночку, отличаются от тех, что он написал
1 Deleuze G. Jean-Jacques Rousseau précurseur de Kafka, de Céline et de Ponge // Arts. 1962.
№872. P. 3.
2 О философии // Делёз Ж. Переговоры. Пер. В. Ю. Быстрова. СПб., 2004. С. 182.
3 litEK S. Organs without Bodies. NY.; L.: Routledge, 2004. P. 20.
32
Введение
в соавторстве. По выражению Л. Р. Брайанта, «приравнивать "Делёза"
к "Делёзу и Гваттари" — значит игнорировать основополагающий
принцип логики множественности»1. Мы постараемся не допускать такой
ошибки. Делёз и Гваттари были соавторами, друзьями,
«претендентами». Однако они были людьми разных интересов, разного
темперамента, а главное — писали по-разному. У нас будет случай подробно
поговорить об их сотрудничестве, но пока заметим, что, несмотря на него, они
оставались совершенно различными мыслителями.
Ж.-К. Мартен в начале своей книги «Вариации. Философия Жиля
Делёза» замечает:
Философия Делёза с трудом поддаётся комментированию.
Действительно, множественности; перетекающие из книги в книгу, не
поддаются интерпретации генеалогическим или структурным способом. Дело
в том, что их очертания бесконечно варьируются, прочерчивают
спираль, каждый изгиб которой очерчивает границы на поверхности
множественного измерения2.
Действительно, комментированию философия Делёза подается
с большим трудом — она слишком вариативна, и в этом Ж.-К. Мартен
совершенно прав. Однако, та альтернатива, которую предлагает
французский исследователь — заняться вариациями — для нас
оказывается непригодна. Блестящая книга Мартена представляет собой скорее
палимпсест, нежели историко-философский труд. А наша цель как раз
в том и состоит, чтобы дать историко-философский портрет Делёза.
Философию Делёза нельзя свести к каким-то конкретным
положениям или концептуальным ходам, хотя попытки (более или менее
неудачные) в этом направлении предпринимаются. Так, например, А. Виллани
резюмирует теоретические достижения Делёза в трёх тезисах: «он
первым создал философию искусства, конгруэнтную современному
производству; он первым нашёл средства сделать философию частью
политики сопротивления-, своим конструктивизмом и трансцендентальным
эмпиризмом он возобновил связь с имманентной философией жизни»*.
Bryant L. R. Difference and Giveness: (Deleuzes Transcendental Epiricism and the Ontology of
Immanence). Evanston (111.): Northwestern Uniersity Press, 2008. P. X.
Martin J.-C. Variations. La philosophie de Gilles Deleuze. Pli.
ViLLANi A. Comment peut-on être deleuzien? // Deleuze épars. P.: Hermann, 2005. P. 77-78.
Введение
33
Всё это, конечно, справедливо, но за кадром остаётся Делёз как историк
философии, Делёз-кантианец (лейбницианец, спинозист и т. п.) и, быть
может, даже Делёз-метафизик.
Делёз терпеть не мог публичные выступления на конференциях,
«круглые столы» и дискуссии. В книге «Что такое философия?» он
писал:
...У философа очень мало вкуса к дискуссиям. Услышав фразу
«давайте подискутируем», любой философ убегает со всех ног. Спорить
хорошо за круглым столом, но философия бросает свои шифрованные
кости на совсем иной стол. Самое малое, что можно сказать о
дискуссиях, это что они не продвигают дело вперёд, так как собеседники никогда
не говорят об одном и том же. Какое дело философии до того, что некто
имеет такие-то взгляды, думает так, а не иначе, коль скоро остаются
невысказанными замешанные в этом споре проблемы? А когда эти проблемы
высказаны, то тут уж надо не спорить, а создавать для назначенной себе
проблемы бесспорные концепты. Коммуникация всегда наступает
слишком рано или слишком поздно, и беседа всегда является лишней по
отношению к творчеству1.
Интервью, которые всегда представляют большую ценность для
историка философии, также не вызывали у него большого энтузиазма.
В отличие, например, от своего друга Мишеля Фуко, который
пользовался интервью как строительными лесами для очередной книги,
Делёз, как правило, лишь высказывает уже сложившиеся идеи.
Это очень трудный способ «объясниться» — интервью, диалог,
беседа, — говорил он в «Диалогах» с Клэр Парне. — Большей частью,
когда мне задают вопрос, даже такой, что меня затрагивает, я замечаю, что,
в общем-то, мне нечего сказать. Вопросы, как и всё остальное,
изготавливаются. Если вам не позволяют изготовить свои собственные вопросы,
с элементами, приходящими откуда угодно, если они перед вами
«ставятся», ничего особенного вы не скажете. Искусство конструировать
проблему чрезвычайно важно: изобрести проблему, поставить проблему,
прежде чем найти решение. Ничего подобного не делается в интервью,
в обсуждении, в дискуссии. Даже размышление — в одиночку, вдвоём
или больше, оказывается недостаточным. Размышление — это не глав-
Делёз Ж.; Гваттари Ф. Что такое философия? Пер. С. Н. Зенкина. М. : Ин-т
экспериментальной социологии; СПб. : Алетейя, 1998. С. 41.
34
Введение
ное. Ещё хуже возражения. Всякий раз, когда мне возражают, мне хочется
сказать: «Ладно, ладно, давайте поговорим о чём-нибудь другом1.
Действительно, философию Делёза следует рассматривать с точки
зрения проблем, которые он ставит в своих текстах и соответственно
которым он вырабатывает те или иные концепты. Нет ни «самого
главного» текста Делёза, ни выступления, в котором он кратко обобщил бы
свои идеи к вящему удовольствию слушателя. «Если и можно понять
Делёза, то его концепты, его мысль следует постигать с точки зрения
проблем, к которым он обращается, а вовсе не с точки зрения
высказанных им философских положений»2. В этом отношении Делёз —
такой же сложный автор, как и Ницше: и в том, и в другом случае нельзя
полагаться на то, что автор сказал в том или ином месте. Полагаясь на
букву, недолго впасть в заблуждение. Дело здесь не в том, отречётся ли
от своих прежних взглядов философ, а в том, что вне контекста понять
его невозможно.
Наше исследование разделяется на две части. Первая имеет
древовидную структуру, поскольку движется хронологически, начиная
с рождения философа. Здесь мы попытаемся проследить
формирование и развитие делёзианской философии в связи с фактами биографии
философа. Это вполне традиционная, привычная для историка
философии схема. Вторая часть носит более ризоматический характер,
поскольку здесь мы попытаемся дать не систему делёзианской
философии, но обозначить контуры того пространства, в котором возникают
и взаимодействуют делёзианские концепты. Текста-ризомы при этом,
конечно же, не получится, ибо цель наша состоит не в подражании Де-
лёзу и Гваттари, а в том, чтобы прояснить то, что могло остаться
неясным в первой части, однако некоторая ризоматичность здесь,
безусловно, будет присутствовать.
Deleuze G., Parnet Cl. Dialogues. P.: Flammarion, 1996. P. 7.
Bryant L. R. Difference and Giveness. P. 4.
ЧАСТЬ 1. ДРЕВО
Нет ничего удивительного в том, что под влиянием
одинаковых внешних условий я сегодня поступаю иначе, чем вчера,
ибо я меняюсь, ибо я длюсь.
А. Бергсон, Опыт о непосредственных данных сознания.
В творчестве Делёза традиционно выделяют две линии или два
творческих модуса, подразумевая под этим, что в первую половину жизни
он писал историко-философские работы, а во вторую — труды, в
которых излагал собственное учение. Для первого приближения такое
различение вполне пригодно. Действительно, молодой Делёз написал
книги о Юме, о Канте, о Спинозе, о Бергсоне и о Ницше, в 1980-х гг.
вернувшись к истории философии и написав книгу о Лейбнице. С конца
1960-х гг. начинают выходить работы иного жанра. Здесь Делёз
формулирует свою программу новой формы философии. «Различие и
повторение» и «Логика смысла» закладывают её основания. Затем
начинается долгий период сотрудничества с Феликсом Гваттари, в соавторстве
с которым были написаны два тома «Капитализма и шизофрении»
и «Что такое философия?». Параллельно выходит ряд книг о
литературе — текст о Захер-Мазохе, книга о Прусте, «Критика и клиника» и
написанная вместе с Гваттари книга о Кафке. Всё вроде бы просто: сперва
Делёз писал историко-философские работы, набивая руку и набираясь
опыта (он и сам говорил, что это была подготовительная работа), а
потом взялся за работу над собственным проектом метафизики.
Однако при более близком знакомстве с творчеством философа
оказывается, что не так уж всё просто. Во-первых, в историко-философских
работах Делёза уже намечена основная проблематика его
«метафизических» сочинений и выработан метод «трансцендентального
эмпиризма», которым он будет пользоваться на протяжении всего своего
творчества. Большого ущерба намеченной периодизации это не
наносит. Напротив, это позволяет проследить корни делёзианской
метафизики, хотя, как верно подметил Д. В. Смит, «невозможно сказать, что
Делёз "спинозист" или "лейбницианец", без тщательного рассмотрения
36
Часть ι. Древо
того, как он пользуется идеями этих мыслителей» . Во-вторых, Делёз
всегда остаётся историком философии, о чём мы подробно поговорим
во второй части настоящей книги. И в-третьих, у Делёза нет никакой
«системы» или просто «метафизики», которую можно было бы
вывести из корпуса его текстов. Философия Делёза всегда ускользает, его
тексты непрестанно отсылают к текстам других авторов, так что областью её
существования оказывается громадное интертекстуальное
пространство, а сам Делёз обладает авторским правом лишь на незначительную
его часть.
Нам придётся вступить в это пространство, в этот лабиринт,
памятуя о том, что мы не можем слепо следовать той нити, что предлагает
нам Делёз. Ведь Делёз — весьма ненадёжная Ариадна, вместо
магистральной линии он предлагает нам целое сплетение или, как он сам
выражался, «ризому», спутанный клубок вместо нити. Сам он лишь
однажды попытался (вместе с Гваттари) написать «ризоматическую»
книгу. И, хотя результат вышел удачным, едва ли нам стоит следовать его
примеру, не обладая его талантами и преследуя совсем иные цели. Ведь
история философии должна если не распутывать клубок, то, по крайней
мере, показать, откуда и куда ведут составляющие его нити.
Сам Делёз предлагает следующее:
История философии, как нам представляется, должна играть роль,
во многом аналогичную роли коллажа в живописи. История философии
является воспроизведением самой философии. Следует, чтобы
изложение истории философии действовало как подлинный двойник и
включало присущее двойнику максимальное изменение. (Можно представить
философски бородатого Гегеля, философски безволосого Маркса на том
же основании, что и усатую Джоконду). В реальной книге надлежит так
рассказать о философии прошлого, как будто эта книга — воображаемая
и мнимая... Изложения истории философии должны представлять собой
некое замедление, застывание и остановку текста: не только текста, с
которым они соотносятся, но также текста, в который они включаются. Так
что у них двойное существование, в идеальном двойнике — чистое
повторение старого и современного текста, одного в другом2.
Mith D.WG.W.F. Leibniz // Deleuzes Philosophical Lineage. Eds. G.Jones & J. Roffe. Edinburgh:
Edinburgh University Press, 2009. P. 44.
Делёз Ж. Различие и повторение. С. 12.
Глава 1. Портрет философа в юности
37
Безусловно, мы должны постараться воспроизвести ту философию,
о которой взялись писать — философию Делёза, и от техники коллажа
нам никуда не деться. Но вот к созданию непохожего двойника мы не
стремимся. Напротив, в нашем случае это будет означать поражение.
Зачем нам, право же, бородатый Делёз? Или Делёз в кепке? Пускай
остаётся гладко выбритым носителем широкополой шляпы. Он и без того не
будет близнецом того, что существует где-то на поверхности
складчатого интертекстуального пространства, в котором нам предстоит
раскинуть свои сети.
Наше предприятие в первой части книги во многом сходно со
знаменитой «Охотой на Снарка». Во второй — с трапперством. Дело в том,
что сперва нам необходимо высадиться на незнаемую землю, где, по
слухам, водится снарк, а потом уже расставлять капканы на тех тропах,
где он чаще всего появляется. Что же до пессимистичной кэрроловской
концовки — что ж, и мы не гарантированы от того, что сей снарк может
оказаться буджумом. И тогда снаркующий исследователь исчезнет. Но,
быть может, явит себя новый Делёз. Не обязательно с бородой.
Например, с усиками, как у Пруста. Или как у Чаплина.
ГЛАВА 1. ПОРТРЕТ ФИЛОСОФА В ЮНОСТИ
Да, разумеется, все мы рождаемся в определённый
день, в определённом месте и начинаем мыслить и
писать в неком данном мире. Для мыслителя этот мир
в его непосредственности есть мир живых мыслей
своего времени, идеологический мир, в котором он
рождается для мысли.
Л. Альтюссер, За Маркса.
Родители Жиля Делёза считали себя настоящими парижанами, хотя
позже Жиль, основываясь на этимологических выкладках, говорил об
окситанском происхождении своей семьи. Его отец Луи Делёз был
инженером и владел маленьким предприятием с одним рабочим в подчи-
38
Часть ι. Древо
нении. После кризиса 1930 г. ему пришлось закрыть дело и пойти
работать на завод, конструировавший дирижабли. Мать, Одетта Камюэ,
занималась воспитанием детей и, по-видимому, не блистала никакими
особыми талантами.
Жиль Делёз родился 18 января 1925 г. в роскошной квартире
неподалёку от Триумфальной арки. Семья была мелкобуржуазной,
жалованье отца-инженера позволяло семье отдыхать на морском курорте в До-
виле (Нормандия). Папаша Делёз питал ненависть к Народному Фронту
и еврею Леону Блуму, усиливавшуюся от того, что на частном пляже
в Дювиле стали появляться рабочие, впервые получившие оплаченный
отпуск. Мать также испытывала приступы классовой ненависти,
потому что многие участки побережья оказались заполнены пролетариями.
Похоже, её меньше раздражали немцы, которые стали приезжать на
пляж на танках, чем рабочие, своим присутствием уничтожавшие
буржуазную привилегию. Одиннадцатилетний Жиль, напротив, считал это
«грандиозным». Много лет спустя он вспоминал девочку, которая в
течение пяти часов не могла оторвать восхищённого взгляда от моря1.
Семья была небольшой, но дополнялась домашними животными.
С тех пор, как Жиль принёс домой уличного кота, у него всегда жили
кошки или собаки. Впрочем, собак он недолюбливал и впоследствии
говорил, что считает собачий лай глупейшим криком и позором
животного мира. В конце 1980-х гг. Делёз в шутку замечал, что его «жизнь
в 17-м районе была чем-то вроде падения от шикарной квартиры
неподалёку от Триумфальной арки, где он родился, к всевозможным
апартаментам военного времени, к рю дОбиньи, где он несколько лет прожил
с матерью, а затем, когда он вырос, к рю де Визе, пролетарскому
кварталу 17-го»2. Отец потерял неплохо оплачиваемую работу и работал на
заводе; дирижабли немцы-оккупанты стали переделывать в резиновые
плоты. Жиль вспоминал постоянные денежные трудности, которые
избавили его от необходимости учиться в дорогой иезуитской школе.
Вместо этого он пошёл в общественную среднюю школу. Отец,
опрометчиво полагавший, что обладает педагогическими способностями,
1 Азбука Жиля Делёза: (Учебник для начинающих, подготовленный Клэр Парне). Пер. А. В.
Дьякова. М. : Изд-во РГСУ «Союз», 2004. С. 35.
2 Азбука Жиля Делёза. С. 34.
Глава 1. Портрет философа в юности
39
взялся учить Жиля алгебре. Тот ничего не мог понять, а отец через пять
минут начинал орать на непонятливого отпрыска. В эти детские годы
Жиль интересовался лишь коллекционированием почтовых марок.
Старший брат Жиля, Жорж, намеревался поступить в военную школу.
Жиль увлекался теннисом, сам неплохо играл, а однажды даже
попросил автограф у почти столетнего шведского короля, который сам
был прекрасным теннисистом. В «Фигаро» была напечатана
фотография, запечатлевшая этот момент. Впоследствии Делёз не мог играть
сперва из-за начавшейся войны, а потом из-за ухудшившегося здоровья,
но неизменно смотрел по телевизору соревнования по теннису и
футбольные матчи. Он рассказывал, что в четырнадцатилетнем возрасте
был весьма неплохим теннисистом, хотя ему и мешал его небольшой
рост. Кроме того, он немного занимался французским боксом, но после
первой же травмы бросил это занятие.
Война застала Жиля в Дювиле, и родители решили оставить его здесь
вместе с братом на год. Этот год он прожил в гостинице, превращенной
в лицей. В отсутствие родителей Жиль и Жорж совсем забросили
учёбу, однако вскоре им пришлось пересмотреть своё отношение к школе.
Дело в том, что в их классе появился молодой преподаватель Пьер Аль-
ваш, сын известного социолога, освобождённый от военной службы из-
за слабости здоровья и из-за того, что у него был только один глаз. Жиль
немедленно стал примерным учеником и, не довольствуясь лицейскими
занятиями, ходил за Альвашем на пляж. Там они разбирали
произведения А. Жида, А. Франса и Ш. Бодлера. Эта близость учителя и ученика
вызвала подозрения хозяйки гостиницы, и та написала родителям
братьев, предостерегая их от гомосексуальных наклонностей Альваша.
Несмотря на то, что эти подозрения не имели под собой никакого
основания, родители потребовали возвращения сыновей. Немецкие войска
в это время подходили к столице, и регулярное сообщение было
прервано. Братья сели на велосипеды и покатили домой, однако по дороге их
перехватили немцы и отправили в Рошфор, куда в то время был
эвакуирован завод Делёза-отца. Но братья не поехали в Рошфор, а вернулись
кАльвашу.
Через год они оказались в оккупированном Париже и поступили
в лицей Карно. Жорж стал бойцом Сопротивления, был схвачен
немцами и отправлен в Бухенвальд, по дороге в который умер. В семье
40
Часть ι. Древо
его считали чуть ли не святым, и Жиль всегда оставался в тени его
героической фигуры. Возможно, с этим и связано его раннее отдаление
от родных. Он был слишком юн, чтобы пойти по стопам 6рата; и годы
оккупации стали ^ая него школьными годами. Занятия по философии
в классе Жиля вёл профессор Валь; но иногда его замещал М. Мерло-
Понти. Этот последний казался Жилю чересчур меланхоличным. Он
увлёкся философией; как прежде увлёкся литературой. Атмосфера
в лицее была напряжённой: один из одноклассников участвовал в
Сопротивлении и был убит немцами. Но больше всего Делёза привлекала
философия: он уже точно знал; чем хочет заниматься в жизни. Через
общего друга Жана Маринье, избравшего карьеру врача, он
познакомился с Мишелем Турнье; занимавшимся философией в лицее Пастера под
руководством Мориса де Гандийяка. Несмотря на то; что Делёз был на
несколько лет моложе, новые друзья быстро признали, что в философии
он понимает куда больше их. Все вместе они стали ходить на культурные
мероприятия, которые организовывала в своём особняке
Мари-Магдален Деви. Здесь выступали Мишель Лейрис, Жан Полан, Поль Фламан,
Гастон Башляр, Жан Валь, Жан Ипполит и др. Едва ли они знали, что
вся эта интеллектуальная деятельность была призвана скрывать
подпольную работу Деви, скрывавшей у себя участников Сопротивления,
евреев и английских или американских диверсантов.
В 1943 г. вышла книга Сартра «Бытие и ничто». Делёз проглотил её
за две недели и впоследствии выучил чуть ли не наизусть. В мертвящей
атмосфере Оккупации эта книга представлялась ему единственным
признаком жизни. У Сартра он нашёл не только разительно
отличающуюся от академического спиритуализма философию, но и возможность
сочетать с философской деятельностью деятельность литературную.
По воскресеньям Делёз и Турнье ходили в театр. Однажды, когда они
смотрели «Мух» Сартра, была объявлена воздушная тревога, и
зрителей увели в бомбоубежище. Но два друга, презрев опасность,
бродили по пустынному Парижу и обсуждали конфликт Юпитера и Ореста1.
Война почти не задела будущего философа, и даже к немцам он не
испытывал сколько-нибудь сильной неприязни. Много лет спустя, в
своей книге о кино он будет со смесью сожаления и пренебрежения гово-
Tournier M. Célébrations. Paris: Gallimard, 2000. P. 425.
Глава 1. Портрет философа в юности
41
рить о том, что о существовании немецкого народа говорить вообще
не приходится, поскольку народ этот сложился при Бисмарке и
Гитлере, чтобы вскоре снова разделиться, а ни одна революция в Германии
не удалась1.
Попавший в салон Деви Делёз сразу стал здесь заметной фигурой.
Вокруг него шептались: «Он станет новым Сартром!». Он много
общался с Пьером Клоссовски; беседовали они в основном о Ницше.
В последнюю субботу каждого месяца Делёз с Гандийяком участвовали
в собраниях у Марселя Мора, где собирались университетские
преподаватели. Здесь бывали Александр Кожев, Жан Полан, Роже Кайуа, Жорж
Батай, Жан Ипполит, Сартр и другие. Кроме того, в 1944 г. Турнье с Де-
лёзом стали посещать лекции психиатра Жана Делая в Сальпетриере.
Много лет спустя Делёз говорил, что люди его поколения куда больше
понимали в философии, нежели в музыке, живописи или кино2.
Первая статья Делёза была опубликована в 1945 г. и называлась
«Описание женщины. К философии другого пола»3. Здесь он
подхватил идею Сартра, бросившего Хайдеггеру упрёк в том, что тот
описал бесполое человечество, но не пошедшего дальше своего
немецкого предшественника. Делёз представил своеобразную феноменологию
женского макияжа, заявив, что с женщиной в мире появляется Другой,
а через неё высказывается «внутренний мир». «Отсюда
необыкновенный сексуальный успех женщины: обладать женщиной — значит
обладать миром»4.
29 октября 1945 г. Сартр произнёс свою знаменитую речь
«Экзистенциализм — это гуманизм». Делёз и Турнье, сдавленные в плотной
толпе слушателей, не могли поверить своим ушам: тот, кого они считали
передовым философом, воскрешал замшелый гуманизм. После лекции
они пошли в кафе и, поделившись впечатлениями, поняли, что Сартр
больше не вызывает у них уважения. Впрочем, несмотря на
разочарование, Делёз ещё долго будет испытывать влияние Сартра. В 1964 г. он
напишет о своих надеждах и разочарованиях той поры:
1 Делёз Ж. Кино. Пер. Б. Скуратова. М. : Ad Marginem, 2004. С. 537.
2 Лекция 24 января 1978 г.
3 Deleuze G. Description de la femme. Pour une philosophie dautrui sexuée // Poésie 45. 1945.
№28. P. 28-39.
4 Ibid. P. 32.
42
Часть ι. Древо
Наши учителя — не просто преподаватели, хотя мы и нуждались
в преподавателях. Пока мы мужаем, наши учителя поражают нас
радикальной новизной, изобретают художественную или литературную
технику и помогают найти соответствующие способы осмысления нашей
современности... Вот кем был для нас (для поколения тех, кому было
двадцать лет на момент Освобождения) Сартр. Кто скажет что-нибудь
новое, если не Сартр? Кто научит нас новым способам мыслить?
Блестящее и глубокое творчество Мерло-Понти было академическим и в
значительной степени опиралось на Сартра. (Сартр охотно уподоблял
человеческое существование не-бытию «разрыва» в мире: озерца небытия,
говорил он. Но Мерло-Понти считал их складками, простыми
складками и сборками. Так различались жёсткий экзистенциализм и
экзистенциализм более мягкий, более умеренный.) Камю... увы! порой это было
напыщенное морализаторство, а порой абсурдизм из вторых рук; Камю
причислял себя к проклятым мыслителям, но вся его философия
отсылала к Лаланду и Мейерсону авторам, известным всем школярам. Новые
темы, некий новый стиль, полемический и агрессивный способ ставить
проблемы шли от Сартра. Растерянность и надежды Освобождения всё
открывали заново: Кафку американский роман, Гуссерля и Хайдеггера,
бесконечные выяснения отношений с марксизмом, порыв к новому
роману... Всё приходило через Сартра не только потому, что он был
философом и гением тотализации, но потому, что он умел изобретать новое.
Первые постановки «Мух», выход «Бытия и ничто», выступление
«Экзистенциализм — это гуманизм» были событиями: после долгих ночей
мысль и свобода стали едины1.
Делёз и Турнье создали небольшую группу, видевшую свою
задачу в том, чтобы смахнуть академическую пыль с философии.
«Французская мысль после 1945 года стала весьма туманной и
по-германски отвлечённой», — писал Р. Арон2. Молодые философы чувствовали
необходимость противопоставить этому новому академизму нечто
радикально иное. В 1946 г. группа выпустила единственный номер
журнала «Espace»; бросавший вызов рационализму и спиритуализму.
Делёз опубликовал здесь посвященную М.-М. Деви статью «Христос для
Deleuze G. «Il a été mon maître... » / L'île Déserte.Textes et entretiens 1954-1974. P. 109-110.
Арон Р. Пристрастный зритель. С. 382.
Глава 1. Портрет философа в юности
43
буржуазии»1, в которой прослеживал связь между христианством и
капитализмом. В этом тексте явно выразилось влияние Сартра, которого
спиритуалистка Деви ненавидела. Делёз писал о том, что в техногенном
мире всё меньше людей верит во внутренний мир человека, обращая
внимание только на внешнее. Девятнадцатилетний философ развернул
диалектику внутреннего и внешнего. Тем самым он скрыто
противопоставлял интериоризации, к которой призывал французов маршал Пе-
тэн, экстериоризации де Голля и Сопротивления. В успехе буржуазии
он усматривал последовательный процесс интериоризации, в котором
Природа подвергается спиритуализации в форме семьи, а Разум
натурализуется в форме родины. Последним шагом буржуазии
оказывается интериоризация всего того, что отвергал Христос — собственности
и денег. Духовная жизнь христианина натурализовалась в порыве к
Разуму и стала «буржуазной природой»2. От этой статьи, как и от
следующей3, также обнаруживавшей его приверженность сартрианству, Делёз
впоследствии отрёкся. Однако в 1964 г., после отказа Сартра от
Нобелевской премии, он признает колоссальное влияние, оказанное
Сартром на его поколение, и будет приветствовать выход «Критики
диалектического разума»4.
В том же 1946 г. Делёз написал предисловие к трактату о матезисе5,
который заинтересовал его своим далёким от академической науки
языком. Кроме того, ему представился случай высказать собственные
убеждения: «Жизнь — это единство души как идеи и тела как продолжения
души»6. Помимо этой спинозистской декларации, Делёз определил ма-
тезис как «знание жизни»7, несводимое ни к философии, ни к науке.
Влияния Сартра он в то время ещё никак не мог избежать и заявил, что
«всякое существование обретает свою сущность вне себя, в другом»8.
В следующем году он написал предисловие к роману Д. Дидро «Мона-
1 Deleuze G. Du Christ à la bourgeoisie // Espace. 1946. № 1.
2 Ibid. P. 105.
3 Deleuze G. Dires et profiles // Poésie 47.1947.
4 Deleuze G. Il a été mon maître // Arts. 1964.28 novembre. P. 8-9.
5 Deleuze G. Introduction // Malfatti de Montereggio J. Études sur la Mathèse. Paris: Griffon,
1946.
6 Ibid. P. XI.
7 Ibid. P. XV
s Ibid. P. XX.
44
Часть ι. Древо
хиня», в котором показывал функционирование «сентиментального»
и «свободного» дискурсов1.
Получив степень бакалавра, Делёз провёл год на подготовительных
курсах, а затем прослушал курс в лицее Людовика Великого. Здесь он
посещал лекции Фердинанда Алки и Жана Ипполита. В конце жизни он
будет рассказывать:
Я учился у двух преподавателей, которых я любил и которыми
восхищался, Алки и Ипполита. Ничем хорошим это не кончилось. У
одного были длинные белые руки и заикание, о котором было неизвестно,
страдает ли он им с детства или пользуется, чтобы скрыть свой акцент,
он служил картезианскому дуализму. У другого было крупное лицо с
плохо выраженными чертами, а гегелевские триады он отсчитывал ударами
кулака, чеканя слова2.
Его однокурсник Жан-Пьер Фай говорил, что Делёз с первых же
дней выделился своими необыкновенными способностями. И
наконец, в лицее Генриха IV молодой философ слушал курс Жана Бофре,
одного из главных французских популяризаторов философии
Хайдеггера. Бофре на первой же лекции заявил, что понять Хайдеггера
можно, только если вы говорите и думаете по-немецки. Неделю спустя
Делёз заявил ему, что нашёл французского мыслителя, предвосхитившего
идеи Хайдеггера — Альфреда Жарри. Он вернётся к этой теме в своей
последней книге3.
Обстановка на философском факультете была довольно душной:
После Освобождения мы оказались стиснуты историей философии.
Просто вникали в Гегеля, Гуссерля и Хайдеггера; как молодые собаки, мы
бросались в схоластику, которая была хуже средневековой. По счастью,
был ещё Сартр. Сартр представлялся нам выходом, настоящим порывом
ветра в затхлом чулане (и никого не интересовало его отношение к Хай-
деггеру с исторической точки зрения). Среди всего, что происходило
в Сорбонне, это было единственное, что давало нам силы тянуться к
чему-то новому. Сартр всегда оставался таким, не моделью, методом или
Deleuze G. Introduction // Diderot D. La Religieuse. Paris: Marsel Daubin, 1947.
Deleuze G., Parnet Cl. Dialogues. P. 18.
Делёз Ж. Один неведомый предшественник Хайдеггера: Альфред Жарри / Критика и
клиника. Пер. О. Е. Волчек и С. Л. Фокина. СПб. : Machina, 2002. С. 125-136.
Глава 1. Портрет философа в юности
45
примером, но порывом свежего воздуха, даже когда он просто сидел во
«Флоре», единственным интеллектуалом, изменившим положение
интеллектуала. Глупо спрашивать себя, был ли Сартр началом или концом
чего бы то ни было. Как все творческие люди, он был посередине. Тем
не менее, на меня не производили никакого впечатления ни
экзистенциализм той эпохи, ни феноменология, не знаю, почему, но всё это уже стало
историей, когда стали пытаться использовать её метод, имитировать её,
комментировать и интерпретировать — за исключением Сартра. Итак,
после Освобождения мы оказались заперты в истории философии, как
мы вскоре убедились, не включавшей нас самих, под тем предлогом, что
она открывает будущее мысли, которая, в то же время, есть самая что ни
на есть древняя мысль. Меня не трогала «проблема Хайдеггера»: был ли
он нацистом? (должно быть, должно быть); меня интересовало, какова
его роль в новом движении в истории философии1.
Несмотря на свои исключительные способности, Делёз не прошёл
вступительные экзамены в Эколь Нормаль и поступил в Сорбонну. Здесь
его друзьями стали Жан-Пьер Бамберже, Франсуа Шатле, Мишель Бю-
тор и др. Кроме того, здесь же учился его старый товарищ Турнье. Эта
компания ходила на все лекции Гастона Башляра, испытывая подлинное
восхищение. Делёз ходил также на лекции Жана Валя, который привил
ему интерес к англо-саксонской философии и до-феноменологическому
экзистенциализму:
Помимо Сартра, застрявшего на подводных камнях слова «бытие»,
самым значительным философом во Франции был Жан Валь. Он не
только познакомил нас с английской и американской мыслью, но и заставил
нас думать о многих новых вещах по-французски, в этом искусстве он
продвинулся дальше всех, придя к заиканию самого языка, к
использованию языка меньшинства2.
Сам Делёз между тем становился знаменитостью: каждое его
публичное выступление собирало множество молодых парижских
интеллектуалов.
В 1948 г. Делёз с друзьями стали готовиться к получению степени
агреже. Программа предполагала изучение двух текстов — «Материи
Deleuze G., Parnet Cl. Dialogues. P. 18-19.
Ibid. P 72.
46
Часть ι. Древо
и памяти» Бергсона и «Правила социологического метода»
Дюркгейма. Дюркгейма все читали с охотой, но Бергсон казался им нудным
спиритуалистом. Один лишь Делёз говорил, что это великий философ.
В доказательство он зачитывал своим друзьям фрагменты из «Материи
и памяти» и комментировал их. (Из этих комментариев впоследствии
родится большая статья, опубликованная в сборнике «Знаменитые
философы» (под редакцией М. Мерло-Понти) в 1956 г.1, а потом и книга
«Бергсонизм».) В это время у Делёза начались приступы астмы, и он
оказался прикован к постели. После гибели брата и смерти отца он жил
вдвоём с матерью на улице Добиньи. Друзья часто навещали его здесь.
Несмотря на проблемы со здоровьем, он получил степень агреже.
Мишель Турнье тем временем учился в Германии, в Тюбингене.
Вернувшись в Париж в 1950 г., он поселился в отеле на улице Анжу, где у него
часто бывал Делёз, решивший наконец жить отдельно от матери. Он
тоже снял здесь комнату — на месяц, как он полагал, однако проживёт
он здесь семь лет. Посетителей особенно поражало то, что все стены его
комнаты были завешаны репродукциями произведений живописи, так
что стен вовсе не было видно. Плата была невысокой, а отель — далеко
не роскошным, но Делёза это устраивало. Он мог жить в центре
Парижа и каждую неделю ездить в Амьен, где он работал с 1948 по 1952 гг.
Он уезжал в Амьен во вторник утром, а в Париж возвращался в пятницу
вечером или в субботу утром. В то время он одевался по правилам
провинциального лицея — чёрный костюм, белая сорочка и галстук.
Однако этот наряд дополняет шляпа, которая лежит перед ним на столе во
время лекций о Спинозе и о Бергсоне, а его длинные ногти уже стали
предметом насмешек студентов2. В это время у Делёза начался короткий
Deleuze G. Bergson, 1859-1841 // Les philosophes célèbres. Éd. M. Merleau-Ponty. P.: Editions
dArt Lucien Mazenod, 1956. P. P. 292-299.
В 1972 г. в «Письме суровому критику» Аелёз предложит несколько издевательских
объяснений тому, отчего у него такие длинные ногти, одно глупее другого: «Всегда можно сказать, что
мне их обрезала моя мать и что это связано с Эдипом и с кастрацией (гротескная, но
психоаналитическая интерпретация). Рассматривая кончики моих пальцев, можно также заметить,
что их подушечки, обычно выполняющие защитную функцию, недоразвиты, и прикосновение
к какому-либо предмету, особенно к ткани, доставляет мне раздражение и боль, и поэтому
длинные ногти — моя защита (тератологическая и селекционистская интерпретация).
Можно ещё сказать, и это будет правдой, что моя мечта состоит в том, чтобы быть если не
невидимым, то хотя бы недоступным восприятию, и что я компенсирую эту мечту, отпуская длин-
Глава 1. Портрет философа в юности
47
роман с актрисой Эвелин Рей, сестрой его друзей Жака и Клода Ланц-
манов. Больших последствий он не имел.
В послевоенных лицеях к преподавателям философии относились
снисходительно, и Делёз мог позволять себе значительную свободу.
Помимо преподавания программы бакалавра, он водил своих студентов на
мюзиклы, а потом на занятиях заставлял кого-нибудь из них изгибаться,
демонстрируя звучание кривой. В такой свободной атмосфере он
чувствовал себя вполне комфортно. Когда ему пришлось перебраться в
Орлеан, эта вольница кончилась.
Однажды Делёз поехал в Лилль к своему другу Пьеру Бамберже,
и тот привёл его на лекцию тогда ещё никому не известного Мишеля
Фуко. Делёз вспоминал, что лекция выдавала явно марксистскую
ориентацию начинающего философа. После занятий все трое обедали в доме
Бамберже, но тогда Делёз и Фуко не произвели друг на друга большого
впечатления. Их дружба начнётся позже.
В 1952 г. вышла первая книга Делёза, написанная в соавторстве с Ан-
дре Крессоном1, редактировавшим небольшую книжную серию типа
«жизнь и творчество». Делёз в это время писал дипломную работу по
Юму под руководством Жана Ипполита и Жоржа Кангийема.
Пользоваться печатной машинкой он не умел и потому прибегал к услугам
верного Турнье. Тот же Турнье делал для него переводы с немецкого. Когда
он получил готовую машинопись, у него родились подозрения, что
Турнье несколько сократил его текст.
В 1954 г. Делёз написал рецензию на «Логику и существование»
Ипполита2, где впервые наметил программу онтологии, которая найдёт
выражение в «Различии и повторении». «Философия должна быть
онтологией, — писал он, — она не может быть ничем иным; однако не
ные ногди, которые всегда могу спрятать в кармане, потому что больше всего меня шокирует
тот, кто их разглядывает (психосоциологическая интерпретация). Можно, в конце концов,
сказать: "Не следует грызть ногти, потому что они принадлежат тебе; если ты любишь ногти,
то грызи их у других, если хочешь и если можешь" (политическая интерпретация, Дарьей)».
(Делёз Ж. Письмо суровому критику / Переговоры. 1972-1990. Пер. В. Ю. Быстрова. СПб. :
Наука, 2004. С. 15-16.)
Cresson Α., Deleuze G. David Hume, sa vie, son œuvre. Paris: PUF, 1952.
Deleuze G.Jean Hyppolite, «Logique et existence» // Revue philosophique de la France et de
l'étranger. 1954. Vol. CXLIV № 7-9.
48
Часть ι. Древо
бывает онтологии сущности, есть только онтология смысла. Такова,
по-видимому, тема этой значительной книги, написанной столь
внушительным стилем. То, что философия — это онтология, значит
прежде всего, что она не является антропологией»1. Кант возвышается
над эмпирическим и психологическим, но остаётся в сфере
антропологии. «Пока детерминация остаётся субъективной, мы не покидаем
сферы антропологии»2. Согласно Ипполиту, бытие — это не сущность, но
смысл. Подмена смысла сущностью произошла уже у Платона,
показывающего, что «второй» мир является предметом диалектики, придавая
смысл «первому». У Канта эта подмена сохраняется, поскольку он
заменяет формальную способность способностью трансцендентальной,
бытие возможного — возможностью бытия, логическое тождество —
тождеством синтетическим, бытие логического — логичностью бытия. По
Ипполиту, ситуация меняется лишь у Гегеля. Ипполит восстаёт против
антропологической или гуманистической интерпретации Гегеля:
Абсолютное знание — это не мысль человека, но мысль Абсолюта о человеке.
Абсолютное знание не имеет ничего общего с таким эмпирическим
знанием, как философская антропология. Бытие не может быть
самотождественным; вещь не тождественна самой себе, поскольку, отличаясь от
всего несуществующего, она обретает своё бытие в этом различии. «После
столь богатой книги г. Ипполита можно задаться вопросом: а нельзя ли
создать онтологию различия, не наталкиваясь противоречие, поскольку
и само противоречие — всего лишь различие?»3
В конце 1952 г. Делёз получил назначение в Орлеан, где он будет
преподавать до 1955 г. На лекциях он чувствует себя свободнее, чем прежде,
и начинает их с рассказов о своих дорожных злоключениях:
У меня украли чемодан... Вы представляете, я открываю свой
чемодан в гостинице, и что я вижу? "Колгейт" "Пальмолив" и тому подобное...
Торговый представитель... Я помню, это был такой толстый господин...
Бельгиец, конечно... Как мне читать лекцию с зубной пастой и пеной
для бритья? С другой стороны, что сможет предложить толстый госпо-
Deleuze G.Jean Hyppolite, «Logique et existence» / L'île Déserte. Textes et entretiens 1954—
1974. Éd. D. Lapoujade. P.: Minuit, 2002. P. 18.
Ibid. P. 19.
Ibid. P. 23.
Глава 1. Портрет философа в юности
49
дин своим клиентам, когда откроет мой чемодан? "Критику чистого
разума"... и мою лекцию о трансцендентальном... это ведь не продашь...!
После такого вступления Делёз извлекал из кармана листок бумаги,
медленно разворачивал его и держал в руке на протяжении всей лекции,
никогда в него не заглядывая. Несмотря на впечатление импровизации,
он всегда тщательно готовился к лекциям. Как и в Амьене, он много
говорил о философии Спинозы, однако уделял время и психоанализу
Лакана, подчёркивая противостояние последнего с Д. Лагашем. В
Орлеане его учеником был Ален Роже, до встречи с Делёзом намеревавшийся
стать велогонщиком. Благодаря усилиям своего молодого наставника он
в конце концов станет профессором философии в Клермон-Ферране.
В 1955 г. Делёза перевели в парижский лицей Людовика Великого,
где он останется до 1957 г. Ален Роже также перебрался в Париж и
проходил дополнительный курс в лицее Генриха IV. Поскольку он
испытывал трудности с деньгами, Делёз часто водил его в ресторан или в кафе.
Но, поскольку и сам он был небогат, их трапезы нередко
ограничивались яичницей. На подготовительных курсах в лицее Людовика
Великого учениками Делёза были Мишель Клеман, который впоследствии
станет главным редактором журнала «Positif», и Франсуа Рено,
будущий философ-альтюссерианец. На занятиях он основное внимание
уделял Хайдеггеру и Лейбницу, а кроме того, много говорил о Прусте,
Руссо и Клоделе. Он советовал своим ученикам читать Амбруаза
Бирса и криминальные романы, выпускаемые издательством «Gallimard».
И наконец, он постоянно говорил о кино и заставлял учеников ходить
в кинотеатр. Что же касается музыки, он считал, что Эдит Пиаф столь же
хороша, как и Моцарт.
В 1956 г. благодаря всё тому же Турнье Делёз познакомился с
Фанни Гранжуан. В августе они поженились. Венчание было совершено по
католическому обряду. Они поселились в XV округе, в маленькой
квартирке на улице Морийо, принадлежавшей семье Фанни. Здесь будут
написаны его первые книги.
Roger A. Gilles Deleuze et l'amitié // Tombeau de Gilles Deleuze. Dir. Y. Beaubatie. Tulle: Mille
Sources, 2000. P. 36.
50
Часть ι. Древо
ГЛАВА 2. ГАЛЕРЕЯ ПОРТРЕТОВ
Это была стадия, предшествовавшая всякому цвету...
П. Акройд, Чаттертон
Выбор всегда определяется тем, что он исключает...
Ж. Делёз, Эмпиризм и субъективность
Свой творческий путь Делёз сравнивал с тем, что довелось
пройти Ван Гогу и Гогену: вначале оба великих колориста пользовались
углем, и лишь многие годы спустя почувствовали, что готовы обратиться
к цвету. «... Философия похожа на работу с цветом, и перед тем, как
заняться ею, следует много трудиться, чтобы обрести свой "философский
цвет" а философский цвет — это и есть концепт»1. Выбор персонажей
из истории философии также был неслучаен. Позже Делёз говорил, что
в юности ему
нравились авторы, противостоящие рационалистической
традиции... (и между Лукрецием, Юмом, Спинозой, Ницше для меня
существует тайная связь, образованная негативной критикой в их адрес,
культурой радости, неприязнью к внутреннему, внешним характером сил
и отношений, отрицанием власти и т. д.).
В 1953 г. вышла книга «Эмпиризм и субъективность: опыт о
человеческой природе по Юму», в основу которой легла дипломная
работа Делёза. Почему Делёз взялся за «хладнокровного, как бы созданного
для уравновешенных суждений Давида Юма»2? «Дело в том, —
объяснял он много лет спустя, — что эмпиризм — это что-то вроде
английского романа. Речь не о том, чтобы написать философский роман,
не о том, чтобы поместить философию в роман. Речь о том, чтобы
заниматься философией как романист, быть романистом в философии»3.
У Юма, считал Делёз, совершенно особенное положение в истории
философии. «Его эмпиризм ещё до появления этого термина был чем-то
1 Азбука Жиля Делёза. С. 42.
2 Кант И. Критика чистого разума. Пер. Н. Лосского. М. : Мысль, 1994. С. 440.
3 Deleuze G., Parnet Cl. Dialogues. P. 68.
Глава 2. Галерея портретов
51
вроде научно-фантастического мира. Как в научной фантастике,
возникает впечатление вымышленного, чуждого, странного мира,
населённого странными тварями; а также предчувствие того, что этот мир — наш,
и эти странные твари — мы сами... Наука или теория оказываются
исследованием, то есть практикой: практикой явно вымышленного мира,
который описывает эмпиризм, этюд об условиях легитимности практик
в этом эмпирическом мире, на деле оказывающемся нашим.
Грандиозная конверсия теории в практику»1.
Делёз предложил довольно необычную интерпретацию юмовской
философии, утвердив в качестве её центра концепцию субъективности.
Юм, говорит он, замещает психологию души (esprit), неспособную
обнаружить постоянство и всеобщность в собственном объекте,
психологией привязанностей (affections), которая, по мысли Юма, только и
может конституировать подлинную науку о человеке. Юм был уверен, что
все науки так или иначе обращаются к человеческой природе, так что вся
их система должна строиться на основании науки о человеке. «Но если
наука о человеке является единственным прочным основанием других
наук, то единственное прочное основание, на которое мы можем
поставить саму эту науку, должно быть заложено в опыте и наблюдении»2.
Прежде всего, говорит Делёз, Юм — моралист и социолог, и только
затем психолог, поскольку, согласно его «Трактату», душа (mind)
подвергается воздействию (affecté) в аффективной и социальной формах,
внутреннее единство которых раскрывается в истории. «Сама по себе
и в себе душа не является природой; она — не объект науки. Значит,
проблема, которая будет занимать Юма, такова: как же душа становится
человеческой природой?»3.
Юм, отказавшись от представления о разуме как о субстанции и от
учения о врождённых идеях, предложил рассматривать mind как
становящееся благодаря впечатлениям. Развивать метафизику причины впе-
Deleuze G. Hume / L'île Déserte. Textes et entretiens 1954-1974. P. 226.
Юм Д. Трактат о человеческой природе, или попытка применить основанный на опыте метод
рассуждения к моральным предметам. Пер. С. И. Церетели / Соч. В 2-х т. М. : Мысль, 1996.
С 57.
Делёз Ж. Эмпиризм и субъективность: Опыт о человеческой природе по Юму Критическая
философия Канта: учение о способностях. Бергсонизм. Спиноза. Пер. Я. И. Свирского. М. :
ПЭР СЭ, 2001. С 8.
52
Часть ι. Древо
чатлений и, соответственно, идей он также отказывается: «Мы вполне
можем спросить: какие причины заставляют нас верить в
существование тел? Но спрашивать, существуют ли тела или нет, бесполезно»1.
Этот момент оказывается центральным в делёзовской интерпретации
Юма, согласно которой юмовский рассудок — лишь движение аффекта,
становящегося социальным. Такой поворот удаётся благодаря тому, что
юмовский mind (рассудок) Делёз передаёт в соответствии с
французской традицией как esprit — дух или душа.
Юм не перестаёт утверждать тождество между душой,
воображением и идеями. Душа — не природа, у неё нет никакой природы. Она
тождественна идее в душе. Идея — это нечто данное, она такова в качестве
данного, она есть опыт. Душа — это данное. Это некое собрание идей,
а не система. И поставленный ранее вопрос можно выразить так: каким
образом это собрание становится системой?.. И тогда снова возможен
вопрос: как же душа становится субъектом? Как же воображение
становится способностью?2
Надо сказать, что интерпретация Делёза вполне правомерна, ведь
и сам Юм замечает, что использует слово «идея» не в локковском
смысле, т. е. в смысле наших «восприятий», а под термином
«впечатления» подразумевает не способ порождения восприятий в душе, но
сами восприятия3. Другими словами, как поясняет Делёз, посредством
воображения не делается ничего; всё происходит в воображении. Идеи
связываются в душе, но не посредством души. Ничто в душе не
выходит за пределы человеческой природы, потому что сама
человеческая природа выходит за пределы души: «ничто и никогда не является
трансцендентальным»4. Воображение становится природой, хотя и не
содержит в себе обоснования собственного становления; весь смысл
человеческой природы в том и состоит, чтобы качественно определять
воображение. Законом так понимаемой человеческой природы
оказывается ассоциация, и, как всякий закон, ассоциация задаётся результатами
собственных действий, а не какой-то причиной. Философия как наука
0 человеке вообще не нуждается в поиске причины; её дело — выявлять
1 Юм Д. Трактат о человеческой природе. С. 239.
2 Делёз Ж. Эмпиризм и субъективность. С. 9.
3 Юм Д. Трактат о человеческой природе. С. 63.
4 Делёз Ж. Эмпиризм и субъективность. СП.
Глава 2. Галерея портретов
53
следствия1. Итак, говорит Делёз, у Юма душа не активна, но
активируется и становится субъектом. Парадокс юмовой философии в том, что
так понимаемая субъективность выходит за пределы самой себя,
оставаясь при этом пассивной. «Субъективность задаётся как эффект, как
впечатление рефлексии»2. Природа же может быть исследована средствами
науки лишь в том отношении, в каком она действует на душу.
Таким образом, Делёз не просто написал историко-философское
исследование, посвященное конкретному философу, но попытался
обновить проблему юмовского эмпиризма. Более того, эту проблему он
принял на свой счёт. Как замечает Дж. Рейчмен, «распутывая эту тайну
и переформулируя смысл или проблему эмпиризма, Делёз
рассматривал это раннее исследование о Юме как работу по философии, а не
просто по истории философии. Постепенно он сделал эту проблему и этот
смысл своими собственными»3. Метод «трансцендентального
эмпиризма», который Делёз впоследствии сделает своим основным рабочим
инструментом, конечно, не мог быть найден у Юма, однако первый
импульс Делёз, несомненно, получил от шотландского философа4.
«Причина не может быть известна; у принципов нет ни причины, ни источника их
могущества. Изначален лишь результат их действия на воображение». (Там же. С. 12.)
Там же. С. 14.
Rajchman J. The Deleuze Connections. P. 16. Дж. Рофф идёт ещё дальше и обозначает шесть
наиболее значимых для Делёза проблем, которые тот обнаружил у Юма: 1 ) критика
негативности; 2) фигура институции; 3) представление об отношениях как внешних к их терминам; 4)
опасности, порождаемые мышлением; 5) генезис способностей; 6) пассивный синтез. (RoffeJ.
David Hume // Deleuzes Philosophical Lineage. Eds. G.Jones & J. Roffe. P. 75-78.)
« ... Если и есть смысл у термина "эмпиризм" в выражении "трансцендентальный эмпиризм"
которым Делёз порой окрещивает свой проект, его не стоит выводить из Юма, — пишет
Дж. Рофф. — Ирония Делёзова трансцендентального эмпиризма в том, что он вывел его из
Лейбница, Спинозы и Канта — из рационализма и трансцендентального идеализма, а вовсе не
из Юмовой философии... Скорее, Юм продолжал оказывать на Делёза влияние, несводимое
к его доктрине в целом. В то время как философии ассоциации в юмовской форме со всем
её набором правил формирования и исправления содержания не находится места в
трансцендентальном эмпиризме Делёза, его философия остаётся юмианской, поскольку основные
проблемы, обозначенные в самом первом Делёзовом исследовании продолжают вдохновлять
и проблематизировать всё его творчество. Точнее, трансцендентальный эмпиризм — это
название, которое в зрелом творчестве Делёза получила философская позиция,
разрабатывающая многие из проблем, обнаруженных им при чтении Юма. Трансцендентальный эмпиризм
не является юмианским, но он в высшей степени зависит от обращения Делёза к проблемам,
обозначенным в "Эмпиризме и субъективности"». (Ibid. P 81-82.)
54
Часть ι. Древо
Юмовская психология души есть психология простых элементов,
т. е. атомизм. С другой стороны, это психология предрасположенно-
стей, т. е. ассоцианизм. Однако Юм не создаёт атомистическую
психологию, но указывает внутри атомизма такое состояние души, которое
не допускает никакой психологии. Поскольку Юм касается лишь
практической стороны дела, его философию Делёз считает всецело
эмпирической. «Эмпирическая субъективность устанавливается в душе под
влиянием воздействующих на неё принципов, душа вовсе не обладает
характеристиками предсуществующего субъекта» К А значит, подлинная
психология души в каждом из своих моментов должна удваиваться
критикой ложной психологии души. Философия должна заниматься
критикой потому, что выход субъективности за пределы самой себя не дан
в идее непосредственно, а отсылает к душе, давая ей качественные
определения. Так что душа — одновременно и объект критики, и то, к чему
отсылают. Конечно, непосредственно эта мысль у Юма не вычитыва-
ется, но Делёз склонен находить её ретроспективно, как то, что нужно
вычитывать после Канта. Он хочет подчеркнуть, что психология
привязанностей превращается в философию конституированного субъекта.
«... Душа — не разум; разум — это привязанность души»2.
Сущность и судьба эмпиризма связана не с атомом, а с сущностью
ассоциации. По существу, проблема, которую ставит эмпиризм, связана
не с происхождением души, а с полаганием субъекта. Более того,
эмпиризм рассматривает такое Полагание как результат действия выходящих
за пределы [души] принципов, а не как результат генезиса... Душа — не
субъект, она субъективируется. И когда субъект формируется в душе под
действием принципов, то душа, одновременно, постигает себя как
Самость (Moi), ибо тогда она качественно определяется. Но если уж
субъект полагается только в собрании идей, то как собрание идей само может
постигаться в качестве самости, как оно может сказать «я» под
действием тех же самых принципов? Непонятно, каким образом можно
перейти от тенденций к самости, от субъекта к самости. Как, в конце концов,
субъект и душа могут стать одним и тем же в самости? Самость,
одновременно, должна быть и собранием идей, и предрасположенностью; и ду-
Делёз Ж. Эмпиризм и субъективность. С. 17.
Там же. С 19.
Глава 2. Галерея портретов
55
шой, и субъектом. Она — синтез, но непостижимый, поскольку такой
синтез воссоединяет в понятии источник происхождения и
качественное определение, не примиряя их друг с другом1.
Юм вынужденно ссылается на свою «привилегию скептика» и
признаётся, что эта задача ему не по силам, выразив, впрочем, надежду, что
по зрелом размышлении удастся предложить удовлетворительную
гипотезу2.
Прямым следствием позиции Юма является его утверждение о том,
что наша природа не является моральной; напротив, наша мораль
пребывает в нашей природе. Все элементы морали даны естественно, но сами
по себе образовать моральный мир не могут. Искусственное (в том
числе мораль) включено в природу, дуализма между ними нет, а
составляемое ими целое воздействует на душу, упорядочивая её. Поэтому,
продолжает Делёз, «природа достигает своих целей только с помощью средств
культуры, а тенденция удовлетворяется только через институт»3.
Другими словами, сущность общества заключается в институте, а не в
законе. История, таким образом, оказывается частью человеческой природы,
а природа обнаруживается как «осадок» истории, поскольку история
её не объясняет. Юмовская позиция, столь симпатичная Делёзу,
позволяет этому последнему выступить с критикой экономизма, заявляя,
что «ничто так далеко не отстоит от homo œconomicus, чем юмовский
анализ» нарождающегося капитализма. «История — подлинная наука
о человеческой мотивации — должна отбросить двойную ошибку
абстрактной экономии и фальсифицированной природы»4.
Юмовский субъект, продолжает Делёз, — это не качество, а
квалификация собрания идей. Идея здесь не репрезентативна, т. е. не является
ни объектом мысли, ни качеством вещи; она выступает схемой и
принципом конструирования субъекта. Идея не принадлежит субъекту, но
выступает принципом возможного согласия между субъектами.
Проблема самости, неразрешимая на уровне рассудка, находит моральное
и политическое решение в культуре.
Там же. С. 21.
Юм Д. Трактат о человеческой природе. С. 326.
Делёз Ж. Эмпиризм и субъективность. С. 36.
Там же. С. 37.
56
Часть ι. Древо
Само непрерывное существование мира есть не какой-то особый
объект, но характеристика мира в целом, принимаемая на веру. Таким
образом, фикция оказывается принципом человеческой природы.
Принципы человеческой природы вообще сводятся к преобразованию
всего многообразия формирующих субъекта идей в систему знания и его
объектов. Чтобы такая система существовала, восприятия должны
схватываться как отделённые от души, а восприятия — как оторванные от
чувств. Поэтому «система завершается только в тождестве системы
и мира», потому что система есть продукт принципов природы, а мир —
фикция воображения. «Мир — это Идея»1. Душа с точки зрения
философии — это бред и слабоумие. «Нет никакой завершённой
системы, синтеза или космологии, кроме воображаемой», а «система — это
сумасшедший бред»2. Душа манифестируется как бред, потому что по
существу своему она есть безумие. Юм оказывается непосредственным
предшественником Лакана.
Сущность эмпиризма Делёз рассчитывает найти в проблеме
субъективности. Субъект, говорит он, определяется движением и через
движение собственного развития. «Субъект — это то, что развивает само
себя»3. Поэтому единственное содержание идеи субъективности —
опосредование и трансценденция. Юмовского субъекта делает
субъектом его способность верить и изобретать. Это значит, что проблема
истины должна ставиться как критическая проблема субъективности:
по какому праву человек утверждает больше, чем знает?
Рефлексирующий субъект сам себя ставит под сомнение, а «конструирование
данного задаёт пространство №я устанавливания субъекта. Данное уже не
дано субъекту, скорее, субъект устанавливается в данном». А данное,
по Юму, есть поток чувственного, т. е. совокупность того, что является,
«бытие, равное явлению» 4. Заслугу Юма Делёз видит в том, что эту
эмпирическую проблему ему удалось поставить в чистом виде, очистив её
от трансцендентального и психологического.
Там же. С. 79.
Там же. С. 82. «Безумие — это человеческая природа, соотнесённая с душой, так же как
здравый смысл — это душа, соотнесённая с человеческой природой; одно — обратная сторона
другого». (Там же. С. 84.)
Там же. С. 86.
Там же. С. 88.
Глава 2. Галерея портретов
57
Философия опыта, развиваемая Юмом, выступает как критика
философии субстанции, но также как критика философии Природы.
Вопрос о природе не очевиден и не дан, но может быть поставлен только
субъектом, вопрошающим о ценности своей системы суждений.
Данное схватывается в движении, выходящем за пределы данного, говорит
Делёз. А субъект по своей сущности оказывается практическим.
Эмпиризм, подчёркивает Делёз, предполагает дуализм, проходящий
между терминами и отношениями, т. е. между силами природы и
принципами человеческой природы1. «Философская школа может называться
эмпирической лишь при том условии, что она развивает хоть какую-то
форму такой дуальности»2. Это философия воображения, а не
философия чувства. Вопрос «как субъект устанавливается в данном?»
означает «как воображение становится способностью?».
Сопряжённые принципы, продолжает свой комментарий Делёз,
превращают душу в субъекта, а фантазию — в человеческую природу,
учреждая субъекта в данном. Поэтому мы выступаем не только как субъект,
но как некое Я (Moi), «которое всегда — раб своего происхождения»3.
Внутри субъекта между принципами человеческой природы и фикци-
1 «Эмпиризм касается отношений — тех отношений, которые, по Юму, составляют
"человеческую природу", — пишет Дж. Рейчмен. — Однако эти отношения не должны основываться на
соглашении или на здравом смысле. Рассел показывал, что отношения являются "внешними по
отношению к терминам", однако эту идею необходимо продвинуть за пределы предикативной
логики, в рамках которой Рассел всё ещё работал над элементом "смысла" предшествующего
соглашениям и суждениям. Оригинальность Делёза состояла в освобождении эмпиризма от
допущений "здравого смысла" и признании того факта, что согласованность или когерентность
понятий в философии зависят от проблем, приходящих "извне" от того, что существует
прежде, чем что-либо будет "обосновано" и утверждено соглашениями. Он вводит опыт или экс-
периментализм мышления в область, предшествующую ставшему, интерсубъективному "мы"
и связывает его не с познанием самих себя или вещей, а скорее с соприкосновением с тем, что
мы пока не можем "определить" — с тем, что мы ещё не можем описать или о чём мы ещё не
можем договориться, поскольку у нас даже нет для этого слов. Таким образом, мы должны
сопротивляться кантианской попытке превратить "отношения" Юма в трансцендентальные
условия "Я мыслю"; скорее, мы должны усматривать их в "прагматике" "словесных" выражений, как
это было с понятием соглашения у Юма. Только в этом случае мы увидим всю силу юмовской
формулировки "проблемы субъективности" связанную с его взглядом на страсти и на
установления в их выражении, позволяющим нам освободиться от своих социальных ролей и увидеть
общество не как договор, но как опыт». (Rajchman J. The Deleuze Connections. P. 20.)
2 Делёз Ж. Эмпиризм и субъективность. С. 115.
3 Там же. С. 137.
58
Часть ι. Древо
ями ведётся полемика как следствие дуальности, о которой шла речь
выше. Таким образом, с одной стороны, субъект — это продукт
принципов в душе, с другой — сама душа, которая себя трансцендирует.
«В себе душа — не субъект: она — данное собрание впечатлений и
отдельных идей... Она становится субъектом, когда её живость
мобилизуется так, что часть, характеризуемая живостью (впечатление)
передаёт душу другой части (идея), а также когда все части, взятые вместе,
резонируют в акте производства чего-то нового»1. Субъект реагирует на
всякую часть данного, которое никогда не объединяет свои отдельные
элементы в единое целое. Веря и изобретая, мы обращаем данное в
природу, которая согласуется с бытием. Внутри данного мы учреждаем
отношения и формируем тотальности, зависящие не от данного, но от
принципов, а потому чисто функциональные. Их функции согласуются
с неизвестными нам скрытыми силами, от которых зависит данное.
Такое согласие между интенциональной целесообразностью и природой
Делёз называет «преднамеренностью» (finalité).
Делёз заканчивает книгу декларацией собственного взгляда на
философскую деятельность, полученного из обращения к философии Юма:
Философия должна формироваться как теория того, что мы делаем,
а не как теория того, что есть. То, что мы делаем, имеет собственные
принципы; и бытие может быть схвачено только как объект синтетического
отношения с помощью разнообразных принципов того, что мы делаем2.
Но, пожалуй, самым важным моментом юмовской философии,
который Делёз будет развивать на протяжении всей своей жизни,
оказывается его учение о договоре.
В теориях договора Юм критикует как раз то, что они дают нам
абстрактный и ложный образ общества, что они определяют общество
только негативным образом, что они видят в нем совокупность ограничений
эгоизмов и интересов вместо того, чтобы понимать общество как
позитивную систему изобретательных усилий. Вот почему так важно
помнить, что естественный человек — не эгоист: все зависит от концепции
общества3.
Там же. С 141.
Там же. С. 142.
Там же. С. 29.
Глава 2. Галерея портретов
59
Быть в обществе — &ая Юма значит заменять насилие договором,
в котором мышление каждого представляет в себе мышление других.
Такое представление впоследствии Делёз будет обнаруживать и у
Лейбница с его учением о гармонии между монадами. Таким образом, Юм
разворачивает критику теории естественного договора и «естественного
права». Договорные теории изображают общество, сущность
которого составляет закон и целью которого является гарантирование неких
естественных прав: «позитивное выводится за пределы общественного,
а общественное помещается на другой стороне — в негативном, в
ограничении, в отчуждении»1. Однако общество не может гарантировать
предсуществующие права; человек как раз и вступает в общество
потому, что таких прав у него нет. Институции есть система позитивных
средств, дающих человеку модель действий. При таком понимании вне
социального оказывается негативность и нехватка, а само социальное
предстаёт как позитивное и созидательное.
«Наряду с Фуко, Делёз и Спиноза принадлежат к той традиции
мысли, что называется "анти-юридической" — пишет М. Гэйтенс. — Эту
традицию определяет стремление мыслить вопреки фундаментальному
положению гуманистической философии о том, что социальность
предполагает организацию естественных аффектов человека под властью,
превосходящей естественное состояние, например, гоббсовского
Левиафана. Это юридическое представление утверждает дуальную
онтологию, устанавливающую два различных плана: во-первых, план
природы имманенции, а во-вторых, трансцендентный план, чья задача в том,
чтобы организовывать и социализировать первый»2. В дальнейшем
Делёз неоднократно будет говорить о своей приверженности теории
права, хотя ни в какую «философию права» это не выльется. Мишель Фуко
в середине 1970-х гг. предложил различать в истории западной мысли
историко-политический и юридически-философский дискурсы:
первый опирается на силовые отношения и утверждает их, конституируя
субъекта интереса, тогда как второй конституирует субъекта права.
И &ля Фуко, и для Делёза более важным представлялся дискурс
юридически-философский.
Там же. С. 38.
Gatens M. Through a Spinozist Lens: Ethology, Difference, Power // Deleuze: A Critical Reader.
Ed. P. Patton. Oxford: Blackwell, 1997. P. 164-165.
60
Часть ι. Древо
Влияние идей Юма можно усмотреть в вышедшей в том же 1953 г.
статье Делёза «Инстинкты и институции». Здесь он говорит, что
институции укоренены в социальной реальности и не связаны с
природой человека, как утверждают сторонники теорий естественного права.
Институция даёт индивиду социальную модель поведения,
представляя дело так, что у человека нет инстинктов, а есть одни лишь
институции. Такие институции, как государство, вторичны, поскольку
предполагают уже существующими институциональные отношения. «То, что
зовётся инстинктом, то, что зовётся институцией, — всего лишь
способы удовлетворения»1. Институции опираются на принцип полезности,
и тем не менее, всегда выходят за его рамки; инстинкт всегда действует
в рамках полезности. У Юма Делёз находит метод трансцендентальной
критики, позволяющей обозначить представление об инстинктах и
институциях как ключевой момент в спорах о природе человека. Но что
самое интересное, у Юма же он находит принцип различия, который
ляжет в основание его докторской диссертации. В 1972 г. Делёз напишет
статью о Юме для многотомной «Истории философии» Ф. Шатле2.
В общем, Юм в прочтении Делёза оказался непохож на того Юма,
с которым привыкли иметь дело историки философии. «Не сделал ли он,
по его выражению, "ребёнка за спиной" Юма? — спрашивает Ф. Досс. —
Во всяком случае, Юм Делёза — это дитя философской системы,
задуманной в XVTII в., и вопросов, сформулированных в XX в... »3 Или, как
выразилась П. де Мартилар, сформулированная Делёзом проблематика
Юма «чужда словарю исторического Юма»4. А А. Виллани
усматривает здесь попытку сделать неразличимыми эмпиризм и метафизику и
называет Делёза «метафизиком и нео-эмпириком»5.
После этой первой книги Делёз не писал ничего, кроме статей, целых
восемь лет, до 1962 г. Впрочем, годы молчания вовсе не были пустыми.
«Этот восьмилетний пробел в интеллектуальной жизни Делёза, — пи-
1 Deleuze G. Instincts et institutions / L'île Déserte. Textes et entretiens 1954-1974. P. 24.
2 Chàtelet F. Histoire de la philosophie. T. IV: Les Lumières. Paris: Hachette, 1972. P. 67-78.
3 Dosse F. Gilles Deleuze et Félix Guattari. Biographie croisée. Paris : Découverte, 2007. P. 143.
4 Martelaere P. Gilles Deleuze, interprète de Hume // Revue philosophique de Louvain. 1984.
T. 82. P. 224.
5 Villani A. Une généalogie de la philosophie deleuzienne: «Empirisme et subjectivité» //
Concepts. «Gilles Deleuze I». Mons, Sils Maria, 2002. P. 120.
Глава 2. Галерея портретов
61
шет М. Хардт, — в действительности представляет собой время
перехода, драматической переориентации его философского подхода. В этот
период он переходит от оси Юм-Бергсон, характеризующей его
ранние работы, к вектору Ницше-Спиноза, подводящему к его зрелому
творчеству»1. Возможно, добавляет американский исследователь, своей
оригинальностью мысль Делёза как раз и обязана этому
восьмилетнему молчанию, когда Делёз занялся осмыслением своей позиции вместо
того, чтобы следовать магистральным курсом своего времени: «Для
Делёза это был период скрытых поисков — период, когда он прокладывал
новые пути, лежащие в стороне от того, что приковывало всеобщее
внимание, и от общих мест французских споров о культуре, что, возможно,
и позволило ему позже оказать столь мощное воздействие»2.
Сам Делёз тоже не считал это время потраченным впустую.
Впоследствии он даже сделал такие пробелы объектом своего
читательского и исследовательского внимания:
Это словно провал в моей жизни, провал длиною в восемь лет.
Именно это меня и интересует в жизни любого, провалы, которые она
допускает, лакуны, иногда драматические, но иногда нет. Каталепсия или
что-то вроде сомнамбулизма в течение многих лет, захватывающие
значительную часть жизни. Возможно, в этих провалах совершается движение.
Так как вопрос в том, как совершить движение, как пройти сквозь стену,
чтобы прекратить биться об неё головой. Возможно, это значит не
передвигаться слишком много, не говорить слишком много, избегать ложных
движений, оставаться там, где нет памяти3.
В это время он работал, сперва в Орлеане, затем в парижском
лицее, и наконец, с 1957 по 1960 гг. — ассистентом в Сорбонне. Он читал
лекции по средам, с двух до трёх часов пополудни, и по субботам, в
десять утра. Зал набивался до отказа, студенты сидели даже на эстраде,
окружавшей трибуну, а за открытой дверью толпились те, кто не попал
в аудиторию. Потом зал сразу пустел, и читавшего лекцию после него
Раймона Полена встречали шесть человек. Его студент тех лет М.-А. Де-
камп вспоминал, что на этих лекциях Делёз говорил о корнях ириса, об-
Hardt M. Gilles Deleuze. An Apprenticeship in Philosophy. L.: UCL Press, 1993. P. XX.
Ibid.PXX-XXI.
О философии // Делёз Ж. Переговоры. С. 180.
62
Часть ι. Древо
разующих сеть. Впоследствии из этого упоминания родится концепт
«ризомы». Если курс 1954-1955 гг. был посвящен Аристотелю и Юму,
то лекции 1959-1960 гг. были посвящены Руссо (в связи с вопросами
об общественном договоре и естественном праве) и главе 3
«Творческой эволюции» Бергсона. Два года спустя этот курс получит
продолжение в виде статьи «Жан-Жак Руссо, предшественник Кафки, Селина
и Понжа»1, написанной по случаю 250-летия со дня рождения Руссо.
Научным руководителем Делёза был Жан Ипполит, который,
получив назначение в университет Страсбурга, предложил своему ученику
последовать за ним, но тот отказался уезжать из Парижа. Как мы уже
говорили, в 1954 г. Делёз написал рецензию на «Логику и
существование» Ипполита2, похвалив книгу за противопоставление чересчур
антропологическому представлению о Гегеле, предложенному А. Коже-
вом, образа Гегеля-онтолога. Ипполит понимал гегелевское движение
«от субстанции к субъекту» как движение сознания от верования к
абсолютному знанию. Сама гегелевская диалектика предстаёт у него как
внутренняя серия самопреобразований. Чтобы обрести себя, человек
должен стать объектом собственного знания, т. е. «овнешнить» себя,
подвергнуть самого себя отчуждению, постичь себя и наконец стать
собой. Иными словами, чтобы обрести сознание своей собственной
реальности, человек должен увидеть себя как Другого. «Чистое
переживание, это возвращение к природе, не имеет никакого значения, — писал
Ипполит, — и сознание — это всегда смысл, язык, а невыразимое как
абсолютная граница — это ничто»3. Прежде всего, это опыт языка,
каковой есть не только чуждая означаемому система знаков-означающих,
но «наличная вселенная смысла, и такая вселенная суть и перевод мира
внутрь, и вывод "Я" вовне»4. Но, несмотря на близость в понимании
Гегеля, молодой философ уже испытывал отвращение к гегельянству
как таковому и искал новые пути. Уже в рецензии на книгу Ипполита
Deleuze G. Jean-Jacques Rousseau précurseur de Kafka, de Céline et de Ponge // Arts. 1962.
№ 872.
Deleuze G. Jean Hyppolite, logique et existence // Revue philosophique de la France et de
l'étranger. 1954. № 7-9. P. 457-460.
Ипполит Ж. Логика и существование. Очерк логики Гегеля. Пер. В. Ю. Быстрова. СПб. :
«Владимир Даль», 2006. С. 28.
Там же. С. 36.
Глава 2. Галерея портретов
63
он заявил о том, что бытие не является самотождественным, и наметил
программу создания «онтологии различия». Когда в 1959 г. Ипполиту
предложили пригласить Делёза на семинары по философии марксизма,
инициированные Альтюссером, он отказался без объяснений. И когда
в 1971 г. Мишель Фуко задумает выпустить сборник статей памяти
Ипполита, Делёз не будет в нём участвовать.
Несколько ближе ему был руководитель его второй диссертации,
посвященной философии Спинозы, — Фердинанд Алки. Алки был
страстным защитником картезианского дуализма, полагавшим, что только
дуализм может сделать возможной метафизику субъекта и объекта. Делёз
в то время разделял приверженность Алки к метафизике, поскольку оба
были убеждены в том, что реальность не может сводиться к своей
репрезентации. В 1956 г. Делёз опубликовал рецензию на книгу Алки о
Декарте1, отметив, что Декарт обретает свою философию в движении син-
гуляризации, порывая с традицией. Тем же путём двинется и сам Делёз.
В 1963 г. он посвятит свою книгу о Канте Алки, но вскоре отношения
между ними испортятся: Алки будет обвинять своего бывшего ученика
в том, что тот погряз в структурализме, отвернувшись от метафизики
и проблемы субъекта.
Годы 1960-1964-й были очень продуктивными. Делёз получил от
CNRS долгосрочный отпуск, которым воспользовался для создания
ряда историко-философских работ.
В начале 1960 г. друг Делёза Костас Акселос готовил выпуск журнала
«Arguments», посвященный «проблеме любви». Он собрал
множество статей о Саде и предложил Делёзу написать о Захер-Мазохе. Тот
согласился, и в 1961 г. появилась его первая работа о литературе2. В 1967 г.
Делёз переработает эту статью в вышедший отдельным изданием текст
«Представление Захер-Мазоха»3.
«Великие клиницисты — это величайшие врачи»4, — пишет
Делёз, и эта мысль будет постоянно присутствовать в его последующем
1 Deleuze G. "Descartes, l'homme et l'œuvre" par Ferdinand Alquié // Cahiers du Sud. 1956. № 337.
P. 473-475.
2 Deleuze G. De Sacher-Masoch au masochisme // Arguments. 1961. № 21.
3 Deleuze G. Présentation de Sacher-Masoch. Paris: Minuit, 1967.
4 Делёз Ж. Представление Захер-Мазоха. Пер. А. В. Гараджи // Захер-Мазох Л., фон. Венера
в мехах. М. : РИК «Культура», 1992. С. 192.
64
Часть ι. Древо
творчестве, вплоть до «Критики и клиники»1. Когда врач даёт своё имя
той или иной болезни, совершается одновременно семиологический
акт огромного значения, поскольку имя собственное начинает конно-
тировать знаки. Именно это и происходит в случае Мазоха. Как и Сад,
Мазох является великим антропологом, предлагающим целостную
концепцию человека, культуры и природы и создающим новый язык. Но,
если у Сада повествовательная и описательная функция языка
становится функцией доказательной и наставляющей, то у Мазоха она
превращается в функцию диалектическую и убеждающую. Дискурс Сада
представляет собой активный процесс, а дискурс Мазоха — процесс
реактивный (с понятиями активности и реактивности мы вскоре
встретимся в книге Делёза о Ницше). Если Сад мыслит в терминах
институциональной одержимости, то Мазох — в терминах договора. Основным
объектом интереса Делёза и стал мазохистский договор, который он
рассматривал в свете юмовского представления о естественном
договоре. Делёз противопоставил практику договорного альянса мазохизма
институциональному владению, к которому стремится садизм. Кроме
того, текст о Захер-Мазохе позволил Делёзу наметить очень важную для
него мысль, которая впоследствии получит развитие в «Тысяче плато»:
«Его творчество связано с политическими и национальными
движениями центральной Европы, с панславизмом. Мазох так же неотделим от
революций 48-го года в Австрийской империи, как Сад неотделим от
французской Революции. Типы сексуальных меньшинств, которые он
изображает, очень сложным образом отсылают к национальным
меньшинствам Австрийской империи, так же как у Сада меньшинства либер-
тенов отсылают к пре-революционным ложам и сектам»2.
Хотя Делёз и опирается на работу Фрейда «По ту сторону принципа
удовольствия», он критикует фрейдово преувеличение роли отцовской
фигуры и комплекса кастрации. Этот текст высоко оценил сам Лакан,
советовавший читать его своим ученикам. Хотя в поздней версии
этого текста Делёз уже критикует лакановское представление о связи сим-
« Будучи скорее врачом, чем больным, писатель ставит диагноз, но это диагноз целому миру;
шаг за шагом он прослеживает болезнь, но это родовая болезнь человека; он оценивает шансы
на выздоровление; но, возможно, это зарождение человека нового... ». (Делёз Ж. Критика
и клиника. С. 76.)
Deleuze G. Mystique et masochisme / L'île Déserte. Textes et entretiens 1954-1974. P. 182.
Глава 2. Галерея портретов
65
волического строя с Именем-Отца1, это лишь частность. Гораздо более
важным Делёзу представляется, что «Лакан сформулировал один
глубокий закон, согласно которому символически уничтоженное вновь
возникает в реальном в галлюцинаторной форме»2. Стремление мазохиста
защитить свой фантазматический и символический мир от
«галлюцинаторных посягательств реального» приводит его к заключению договора.
Если садизм нацелен на установление институтов, то мазохизм
стремится к договору. Договор порождает закон, тогда как институт
принадлежит к строю, отличному от закона и заменяет закон динамической
моделью власти и силы3. Закон связывает действие и морализует его. Чистые
институты без законов свелись бы к модели перманентной революции
и вечной безнравственности. Сад считает, что институт —
единственная политическая форма, отличная от закона и договора, и стремится
противопоставить им революционный и республиканский институт.
Мазох совершает нечто обратное. Таким образом, великие клиницисты
оказываются великими политическими мыслителями.
Куда более важным &ля становления делёзовской философии было
обращение к творчеству Фридриха Ницше. Значимость этого момента
для формирования делёзианской мысли отмечают едва ли не все
исследователи. По справедливому замечанию Ф. Досса, «Ницше играет у Де-
лёза фундаментальную роль в плане формализации его собственных
философских позиций»4. Ему вторит Т. Мэй, говоря, что Делёз «может
быть прочитан как непосредственный ученик Ницше»5. Но самый зна-
«Не поддерживается ли таким образом малоаналитичная идея о том; что мать — это нечто
природное, а отец — единственный принцип культуры и представитель закона?». (Делёз Ж.
Представление Захер-Мазоха. С. 242.)
Там же. С. 243.
«Словом, договору присущ особый момент, благодаря которому он мыслится как нечто,
порождающее закон, и готов подчиниться ему, признав его верховенство; институту также
присущ особый момент, благодаря которому закон вырождается, а институт мыслится как нечто
высшее по отношению к закону». (Там же. С. 257.)
Dosse F. Gilles Deleuze et Félix Guattari. P. 159.
May T. Gilles Deleuze. An Introduction. NY.: Cambridge University Press, 2005. Ρ 58. Впрочем,
американский автор замечает: «Сводить делёзовскую мысль к Ницше было бы слишком
поспешно. Ницше можно интерпретировать разными способами. В одном отношении он
оказывается нишей, в которую можно уложить мысль Делёза. В другом — эти двое более далеки».
(Ibid.)
66
Часть ι. Древо
чимый, на наш взгляд, момент отмечает Р. Боуг, который пишет, что «из
всех... философов самым важным для Делёза был Ницше, в основном
потому, что Ницше предлагал ему альтернативу гегельянству»1. Сам же
Делёз признавал, что Ницше привил ему «наклонность говорить
простые вещи от своего собственного имени, от имени аффектов, силы,
переживания, опыта»2.
Обращение Делёза к творчеству немецкого философа было отнюдь не
случайным. Если в предвоенные годы ницшеанство интерпретировалось
как консервативная и аристократическая идеология, то во время Второй
мировой войны к творчеству Ницше обратился кружок философов, в
который входили Ж. Батай, Ж. Валь и Ж. Ипполит3. Кроме того, Ж. Кан-
гийем в своей диссертации «Нормальное и патологическое»4 (1943)
противопоставил ницшеанство эволюционизму. В 1946 г. из кружка
ницшеанцев образовалось Французское общество ницшеанских
исследований, возглавляемое Жаном Валем, который посвятил Ницше два
университетских курса (1958-1959 и 1960-1961 гг.)5. В 1950-е гг. началась
активная работа по переводу и комментированию ницшевских текстов.
Делёз и Морис де Гандийяк отвечали за издание полного собрания
сочинений немецкого философа. Делёз не был первым французским
философом, обратившимся к творчеству Ницше, однако в его книге была весьма
существенная j^ar развития всей французской философии новация: он
попытался прочитать Ницше не как втора блестящих афоризмов и
глубокомысленных фрагментов, но как систематически мыслящего философа.
Таким образом, вышедшая в 1962 г. книга Делёза «Ницше и
философия»6 стала плодом длительных усилий. Общий замысел Ницше,
говорит Делёз в самом начале своей работы, состоит во введении в
философию понятий смысла и ценности. И в этом отношении, замечает
он, вся современная философия «живёт до сих пор за счёт Ницше, од-
1 Bogue R. Deleuze and Guattari. L.; NY.: Routledge, 2001. P. 2.
2 Делёз Ж. Письмо суровому критику / Переговоры. С. 18.
■ Подробнее см.: Le Rider J. Nietzsche en France. De la fin du XIX siècle au temps présent. R: PUF,
1999.
4 Canguilhem G. Le Normal et le pathologique. P.: PUF, 1984.
5 Wahl J. La Pensée philosophique de Nietzsche des années 1885-1888. P.: La Sorbonne, CDU,
1959; WahlJ. LAvant-dernière pensée de Nietzsche. P.: La Sorbonne, CDU, 1961.
6 Deleuze G. Nietzsche et la philosophie. P.: PUF, 1962.
Глава 2. Галерея портретов
67
нако дела при этом складываются, быть может, вовсе не так, как того
хотелось самому мыслителю»1. Цель Делёза, таким образом, вполне
прозрачна: найти у Ницше то, что так важно аля современной философии,
представив найденное так, как оно виделось самому Ницше. В те годы
с Ницше ещё не было снято подозрение в том, что он был предтечей
и идеологом нацизма. И обращение к творчеству этого философа было
возможно лишь при условии его деполитизации, создания образа
гордого аристократа, далёкого от перипетий своего века. Но Делёз не
побоялся заявить о политической актуальности ницшеанства. «Можно ли
сказать, — спрашивал он в интервью 1967 г., — что возвращение к Ницше,
предполагает определённый эстетизм, определённый отказ от
политики, деполитизированный и деперсонализированный "индивидуализм"?
Пожалуй, нет. Политика — это тоже дело интерпретации.
Несвоевременное... никогда не сводится к политико-историческому элементу. Но
порой, в великие моменты, они совпадают»2.
Философия смысла и ценности, по Ницше, должна быть критикой,
однако в современной философии, говорит Ницше, сложилась
ситуация, когда именно теория ценностей порождает конформизм и
покорность. Делёз не упустил случая напасть на феноменологию, которая,
по его мнению, способствует постановке ницшевского вдохновения на
службу конформизму. Философия ценностей же Ницше есть
осуществление тотальной критики. Само понятие ценностей у него включает
критическое ниспровержение. «Критически поставленная проблема
есть проблема ценности ценностей, оценки, из которой происходит эта
ценность ценностей, и, стало быть, проблема созидания ценностей»3.
Оценка, говорит Делёз, это различающий элемент (élément différentiel)
Делёз Ж. Ницше и философия. Пер. О. Хомы. М. : Ad marginem, 2003. С. 33.
Deleuze G. L'Éclat de rire de Nietzsche / L'île Déserte. Textes et entretiens 1954-1974. P. 180.
В предисловии к американскому изданию книги Делёз напишет: «Ницше сочтут нигилистом,
хуже того, фашистом, по крайней мере, тёмным и ужасным пророком. Ницше знал это, он знал
ожидающую его судьбу, удваивая Заратустру "обезьяной'' или "шутом" предвидя, что Заратуст-
ру перепутают с его обезьяной (пророком, фашистом или безумцем). Поэтому книга должна
стремиться исправить практическое или эмоциональное непонимание, а также восстановить
концептуальный анализ». (Deleuze G. Préface pour l'édition américaine de «Nietzsche et la
philisophie» / Deux régimes de fous. Textes et entretiens 1975-1995. P. 191.)
Делёз Ж. Ницше и философия. С. 34.
68
Часть ι. Древо
ценностей, одновременно критический и творческий. Соотносимые со
своим различающим элементом оценки — это не ценности, но способы
и формы бытия тех, кто оценивает.
Отказываясь как от «высокой» (делающей ценности неотличимыми
от их источника), так и от «низкой» (заурядной точки отсчёта) точек
зрения, Ницше вырабатывает новое понятие генеалогии, где на место
кантовского принципа универсальности и утилитаристского принципа
подобия ставится различающий элемент — чувство различия или
дистанции. Генеалогия позволяет охватывать как ценность источника, так
и источник ценностей, подразумевая, что ценность ценностей
проистекает из присущего им различающего элемента. Понимаемая таким
образом критика в высшей степени позитивна, поскольку различающий
элемент с необходимостью выступает началом некоего созидания. Ниц-
шевская критика — это не реакция, но акция.
Этот способ бытия есть способ бытия философа, поскольку философ
предлагает себя как раз на роль того, кто способен орудовать различающим
элементом как началом критическим и творческим, то есть как молотом1.
Ницше, таким образом, заменяет метафизический дуализм
видимости и сущности корреляцией феномена и смысла. Один и тот же объект
или феномен изменяют свой смысл в зависимости от присваивающей их
силы, поэтому смысл — это понятие сложное: всегда налицо
множественность смыслов, констелляция и комплекс последовательностей и
сосуществований. Поэтому, говорит Делёз, философию Ницше нельзя
понять без осознания её сущностного плюрализма.
И если говорить начистоту, то плюрализм (иначе именуемый
эмпиризмом) есть не что иное, как сама философия. Плюрализм этот
выступает как изобретённый самой философией собственно философский образ
1 Там же. С. 37. Здесь нужно сделать одно замечание: в русской традиции перевода принято
говорить о философствовании молотом, тогда как у Ницше речь идёт скорее о молоточке.
Действительно, творчество при помощи молота невозможно, а вот молоточек скульптора —
инструмент вполне творческий. В то же время, как убедительно показал А. В. Перцев, быть может,
следует иметь в виду и диагностический молоточек невролога (См.: Перцев А. В. О русских
и русскоязычных переводчиках // Хора. 2008. № 3. С. 176-190). Это совершенно
соответствует представлению Делёза о философе как о клиницисте, которое он находит и у Ницше: «Вся
философия есть симптоматология и семиология. Науки образуют симптоматологическую
и семиологическую систему». (Делёз Ж. Ницше и философия. С. 37.)
Глава 2. Галерея портретов
69
мысли — как единственный гарант присутствия свободы в уме
индивида, единственный принцип неистового атеизма1.
Всякая сила может уцелеть в борьбе, только если заимствует облик
у тех сил, которые ей предшествуют и с которыми она борется.
Поэтому философии приходится носить аскетическую маску. Более того,
философии приходится верить в свою маску; она может лишь одержать
верх над своей маской, придав ей новый смысл, в котором отражается
её природа как антирелигиозной силы. Поэтому ницшевское искусство
интерпретации — это, помимо прочего, искусство раскрытия того, кто
маскируется и зачем. А от интерпретации философ движется к оценке
как задаче генеалогии.
Ницше — не диалектик: плюрализм — непримиримый и
единственно сущностный враг диалектики. Делёз опровергает распространённое
мнение о том, что Ницше плохо знал Гегеля и гегельянцев: «подобно
Марксу, Ницше находил козлов отпущения для своей критики именно
здесь»2. Идея сверхчеловека направлена против диалектической
концепции человека, а переоценка ценностей — против диалектики
присвоения или снятия отчуждения. «Антигегельянство пронизывает
творчество Ницше, подобно путеводной нити агрессивности»3.
Практический элемент различия у Ницше заменяет спекулятивный элемент
отрицания, противоположности или противоречия. В этом, говорит
Делёз, и заключается ницшевский эмпиризм.
Для Ницше, как и для Гераклита, вне становления нет бытия, вне
множественного нет единого. Множественное — это постоянный симптом
единичного, утверждение единого, как становление есть утверждение
бытия. Более того, утверждение становления само есть бытие, а
утверждение множественного само есть единое. И наконец, возвращение есть
бытие становящегося и бытие самого становления, бытие,
утверждающееся в становлении. Корреляция единого и множественного,
становления и бытия создаёт игру становления. Вечное возвращение —
второй этап этой игры, но также и фактор, значимый ^ая всей игры в целом.
«Ибо вечное возвращение — это возвращение, отличное от ухода, со-
Там же. С. 38.
Там же. С. 46.
Там же. С. 47.
70
Часть ι. Древо
зерцание, отличное от действия, но также — возвращение самого ухода
и возвращение акции, то есть сразу и момент, и цикл времени»1. Хотя
греки постоянно говорили о возвращении, а Ницше был большим
знатоком греков, скажет Делёз в «Различии и повторении», у него были все
основания считать вечное возвращение своим открытием: речь у него
идёт не о возвращении одинакового, подобного или равного, но о
полной метаморфозе и несводимом неравенстве2. Другими словами, смысл
идеи вечного возвращения заключается в том, что никогда не было
«самого первого раза», а значит, не будет и «самого последнего». Этот
аспект ницшеанской мысли Делёз будет развивать в книге о Лейбнице.
Игра образов у Ницше никогда не подменяет игру понятий и
философской мысли. Афоризм, формой которого так охотно пользуется
Ницше, есть форма плюралистической мысли, это интерпретация и
искусство истолкования3. Поэма же, к форме которой обращается поздний
Ницше, есть оценка и искусство оценивания, провозглашение смыслов.
В свою очередь, афоризм и поэма становятся объектами оценки и
интерпретации: смысл отсылает к различающему элементу, из которого
и проистекает его значение, а ценности отсылают к тому различающему
элементу, из которого проистекает их ценность. Различающий элемент,
таким образом, оказывается вторым измерением смысла и ценностей.
Через саморазвёртывание в нём философия достигает полной
интерпретации и оценки.
Там же. С. 77. «Вечное возвращение, — напишет Делёз в «Логике смысла», — это не теория
качеств и их циклических трансформаций; это теория чистых событий и их линейного
поверхностного сгущения. Вечное возвращение имеет смысл отбора и привязано к несовозможно-
сти, препятствуя её закреплению и функционированию». (Делёз Ж. Логика смысла. С. 237.)
А в версии книги о Ницше, вышедшей в 1965 г., он пишет: «Недоумевают также, что такого
удивительного в этом Вечном Возвращении, если оно значит не что иное, как замкнутый
цикл, то есть возваращение Всего, возвращение к тому же самому - но дело идёт как раз о
другом. Секрет Ницше состоит в том, что Вечное Возвращение является избирательным».
(Делёз Ж. Ницше. Пер. С. Л. Фокина. СПб. : Axioma, 2001. С. 49.)
Делёз Ж. Различие и повторение. С. 295.
«Никогда не существует единственного смысла вещи, — говорил Делёз в своём
заключительном слове на коллоквиуме в Руайомоне, состоявшемся в 1964 г. — У каждой вещи множество
смыслов, выражающих силы и становление действующих в ней сил. Более того: нет никакой
"вещи" есть только интерпретации и множество смыслов». (Deleuze G. Conclusions su la
volonté de puissance et l'éternel retour / L'île Déserte. Textes et entretiens 1954-1974. P. 165.)
Глава 2. Галерея портретов
71
У Ницше Делёз нашёл j^ar себя новые формы мысли, новые способы
выражения, позволяющие создать философию различия. Венное
возвращение — неирерахическая модель различия, опирающаяся на
концепцию активных и реактивных сил. «... Делёзова модель различия в его
исследовании Ницше основывается не на соссюровской лингвистике, а на
теории сил, на физике, — замечает Р. Боуг. — Различия создаются не
системой отношений произвольных элементов (вроде фонем в языке),
но посредством действия одной силы на другую. Мир — не текст, в
котором существуют лишь знаки, обращающиеся к другим знакам, но сеть
сил, где знаки оказываются симптомами сил... »1
Спиноза, говорит Делёз, открыл ^ля философии тело. Ницше
двигался тем же путём. Сознание для него — область Я (moi), подверженная
воздействиям внешнего мира. Но определяется оно не в терминах
реального в отношении экстериорности, а, скорее, в терминах ценностей
в отношении превосходства (supériorité). Сознание у Ницше — всегда
сознание чего-то низшего по отношению к высшему. Сознание — не
сознание себя (soi), но сознание Я (moi) в его отношении к себе. «Это
не сознание господина, но сознание раба по отношению к господину,
не обязанному что-либо сознавать»2. Эту ницшевскую критику
гегельянства Делёз представляет в лаканистском свете. Как раз в 1960 г. Лакан,
обозначив свой поворот от Гегеля к Канту, критиковал «дурацкое
кредо» психологии, согласно которому
я (moi) рассматривается как функция одновременно и синтеза, и
интеграции; сознание рассматривается как венец жизни, а эволюция — как
движение мира к сознанию; категорическое применение этого постулата
к психическому развитию индивида ведёт к употреблению понятия
«поведение», низводя до вздора весь драматизм человеческой жизни и
маскируя то обстоятельство, что ничто в жизни конкретного индивида не
позволяет утверждать, будто его конечная цель состоит в том, чтобы
постепенно двигаться к осознанию самого себя (soi) — что соответствовало
бы естественному развитию — в согласии с собой и при одобрении
общества, от которого зависит его счастье3.
Bogue R. Deleuze and Guattari. P. 33.
Делёз Ж. Ницше и философия. С. 103.
Lacan J. À cette place, je souhaite qu'achève de se consumer ma vie... // Psychanalyse. 1986. № 4.
P. 165.
72
Часть ι. Древо
Тело нельзя определить как поле действия сил или их «среду» — ни
того, ни другого на самом деле не существует. Нет ничего, кроме
«количеств силы»; «количеств реальности» не существует. Тело
определяется отношением между властвующими и подвластными силами; всякое
отношение сил составляет тело (химическое, биологическое,
социальное или политическое)1. Тело — множественный феномен,
складывающийся из множества несводимых друг к другу сил; его единство есть
единство множества, господства. Можно заметить, что здесь рождается
делёзовское представление о «теле без органов», о котором мы будем
много говорить в своё время. Более того, как замечает М. Хардт,
«анализ власти становится основанием j^aä фундаментального перехода
в исследованиях Ницше у Делёза: от онтологического основания власти
к этике жизненного творчества»2, которую он будет развивать,
обращаясь к философии Спинозы.
Схождение «вечного возвращения», по Делёзу, задаётся активным
и реактивным как изначальными качествами, выражающими
отношение силы к силе. Вступающие в отношения друг с другом силы лишены
количества, а значит, каждая из них лишена и качества,
соответствующего количественному различию сил. Низшие силы определяются как
реактивные; они не утрачивают количества своей силы, воплощая
определённые условия жизни, функции приспособления и сохранения.
Таким образом, это механическое приноравливание. Делёз отмечает очень
важный момент в ницшеанском понимании тела: понимание
организма исходя из реактивных сил совершенно недостаточно. Реактивные
силы — не механические устройства и не конечные цели, их
необходимо соотносить с властвующей над ними силой, которая не
реактивна, но активна. Активные силы ускользают от сознания, которое
выражает только отношение некоторых реактивных сил к силам активным,
властвующим над ними. Само сознание реактивно, а потому мы не
знаем возможностей тела. Но без активных сил сами реакции не были бы
силами. Таким образом, «деятельность сил необходимым образом бес-
1 «Стоит любым двум неравным силам вступить в отношения между собой, как они составят
тело; вот почему тело всегда есть продукт случайности в ницшевском смысле и оказывается
вещью более поразительной, воистину гораздо более поразительной, чем сознание и дух».
(Делёз Ж. Ницше и философия. С. 104.)
2 Hardt M. Gilles Deleuze. An Apprenticeship in Philosophy. P. 26.
Глава 2. Галерея портретов
73
сознательна», так что тело — нечто высшее по сравнению со всеми
реакциями и с сознанием как одной из них. Именно активные силы тела
делают его самостью (soi) и определяют эту самость как высшую. Наука
не должна идти в ногу с сознанием, «наука есть лишь там, где нет и не
может быть сознания»1.
Делёз вновь следует Лакану, интерпретируя ницшеанскую игру в том
духе, в каком Лакан описывал игру означающих между метафорой и
метонимией, которая проходит там, где меня нет, поскольку Я не в
состоянии определить в ней своё место. Поэтому Лакан говорит: «Я мыслю
там, где я не есмь, следовательно, я есмь там, где я не мыслю». И сам же
уточняет свою мысль: «Я не есмь там, где я игрушка моей мысли; о том,
что я есмь, я мыслю там, где я и не думаю мыслить»2. Всякое
представление об истине, по Лакану, может возникнуть лишь в том измерении, где
всякий «реализм» подчиняется метонимии, а доступ к смыслу
открывается только через движение метафоры. Означающее и означаемое вовсе
не залегают в общей плоскости; соединяющая их ось не проходит нигде,
и обнаружить её можно лишь обратившись к бессознательному. Делёзу,
интерпретирующему Ницше, близок отказ Лакана от биологизма:
бессознательное не имеет ничего общего с «врождённым» или
«инстинктивным»; элементы бессознательного есть элементы означающего. То,
что мыслит на моём месте, является другим моим Я. К этому другому
Я привязан больше, чем к себе самому, поскольку именно он
провоцирует движение там, где, казалось бы, навсегда установилась идентичность
самому себе.
Топическая гипотеза Фрейда, по Делёзу, восходит к Ницше, который
различает сознание и бессознательное как две системы реактивного
комплекса. Реактивное бессознательное определяется через мнемичес-
кие следы. Но этой реактивной системы недостаточно ьая адаптации,
поэтому нужна другая система, связанная с сознанием, где реакция
становится реакцией на непосредственный образ объекта. Обе
системы должны быть отделены друг от друга, а следы бессознательного не
должны вторгаться в сознание. Поэтому необходима третья, активная
сверх-сознательная способность, которая есть способность забывать.
1 Делёз Ж. Ницше и философия. С. 107.
2 Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном или Судьба разума после Фрейда. Пер.
А. К. Черноглазова // Московский психотерапевтический журнал. 1996. №. 1. С. 46.
74
Часть ι. Древо
Эта третья сила выступает как страж и надсмотрщик над первыми
двумя и характеризуется лишь функциональной деятельностью, причём
свою энергию она заимствует у второй.
Активность — это стремление к власти, порабощению, господству.
Реактивное можно интерпретировать как таковое лишь в отношении
к активному. Количество как таковое неотделимо от количественного
различия, а количественное различие — это сущность силы как её
отношение к самой себе. Количественное различие несводимо к равенству,
это ни к чему не сводимый элемент количества — не сводимый ни к
какому-либо иному элементу, ни к самому количеству. Качество же не что
иное, как количественное различие, соответствующее этому различию
во всякой силе, соотнесённой с другими силами.
Ницше, признаёт Делёз, не был склонен к науке и мало смыслил в ней.
Но по-настоящему его отделяет от науки не неосведомлённость, а
способ мышления, отказывающийся от принятого в науке уравнивания
количеств и компенсации неравенств1. В силу этого наука занимает строго
определённую позицию в отношении «вечного возвращения»: она
может его и утверждать, и отрицать, но механистическое его утверждение
и термодинамическое отрицание имеют нечто общее. Дело в том, что
в обоих случаях определённые количества энергии соотносятся с
постоянной суммой, а их различия обнуляются2. Механицизм
утверждает «вечное возвращение», предполагая, что количественные различия
между начальным и конечным состояниями системы взаимно
компенсируются, так что конечное состояние оказывается тождественно
начальному. Термодинамика отрицает «вечное возвращение», обнаруживая,
что количественные различия аннулируются только в конечном
состоянии системы, так что конечное недифференцированное состояние
противопоставляется дифференцированное™ начального состояния.
«Бытие или ничто, бытие или небытие равно недифференцированны:
«Критикуя науку, Ницше никогда не ссылается на привилегии качества по сравнению с
количеством; он ссылается на привилегии количественного различия по сравнению с равенством,
привилегии неравенства по сравнению с уравниванием количеств». (Делёз Ж. Ницше и
философия. С. 112.)
«В обоих случаях переходят от принципа конечности (постоянства суммы) к
"нигилистическому" принципу (аннулированию количественных различий с постоянной суммой)». (Там
же. С 114.)
Глава 2. Галерея портретов
75
обе концепции сходятся в идее становления с неким конечным
состоянием». Таким образом, механицизм не доходит до постулирования
«вечного возвращения», а термодинамика не достигает его отрицания;
в итоге оба впадают в тождество.
Ницше находил, что в науке преобладают пассивные, реактивные
и негативные понятия: феномены повсеместно интерпретируются
исходя из реактивных сил. Причиной тому незнание источников и
генеалогии сил. Ницше стремится к науке активной, способной раскрыть
активные силы, признавая в то же время силы реактивные,
интерпретировать реальные отношения между силами. Такая наука предстаёт в трёх
формах: как симптоматология (интерпретация феноменов и трактовка
их как симптомов, смысл которых лежит в продуцирующих их силах),
как типология (интерпретация сил с точки зрения их качества), как
генеалогия (оценка происхождения сил с точки зрения отношения к воле
к власти). В таких формах наука перестанет быть позитивизмом,
использующим пассивные понятия, а философия — утопией,
компенсирующей этот позитивизм. Философ соответственно станет симптома-
тологом (философ-вран, интерпретирующий симптомы), типологом
(философ-художник, моделирующий образцы), генеалогом (философ-
законодатель, определяющий генеалогию).
Ницшевское « вечное возвращение », продолжает Делёз, это не мысль
о тождестве, это синтетическая мысль об абсолютно различном,
требующая нового принципа за пределами науки — принципа репродукции
различного как такового, принципа повторения различия. «Вечное
возвращение» нельзя понять как тождество, непрерывность одного и того
же или состояние равновесия. «Не одно и то же, единое, возвращается
в вечном возвращении, но само возвращение есть единое, которое
высказывается только о различном и о различающем»1. Возвращается не то
же самое, не бытие; сам возврат есть единое, утверждающееся в
различном и во множественном. Тождество в «вечном возвращении»
указывает не на природу возвращающегося, но на факт возврата j^aä того, кто
различает. Поэтому «вечное возвращение» есть синтез времени и его
измерений, различного и его воспроизведения, становления и бытия.
Венное возвращение — это бытие становления, становления двоякого:
Там же. С. 115.
76
Часть ι. Древо
становления-активностью реактивных сил и становления-реактивно-
стью активных сил. Бытием обладает только становление-активностью,
а становление-реактивностью — нет. Таким образом, возвращение есть
целое, утверждающееся в одном моменте. «Вечное возвращение» —
это выражение принципа, на котором основано различие и его
повторение, и этот принцип у Ницше носит название воли к власти.
Воля к власти есть одновременно и генетическое начало силы, и
принцип синтеза сил. Понятие синтеза, как говорит Делёз, есть
«сердцевина кантианства, собственно кантианское открытие»1. А у Ницше нет не
только кантианских корней, но и соперничества с кантианством. Если
Шопенгауэр пытался оторвать кантианство от «диалектических
превращений», открыв перед ним новые перспективы, то &ля Ницше
причина этих воплощений заключается в недостаточности критики2.
Нишевская воля к власти — это генеалогический элемент силы:
генеалогический значит различающий и генетический. Это начало
продуцирования количественного различия между соотнесёнными друг
с другом силами. Из воли к власти проистекает одновременно и
количественное различие соотнесённых сил, и их соответствующее
качество. Поэтому интерпретатором выступает сама воля к власти. Однако
она не только интерпретирует, но и оценивает. Интерпретация — это
определение придающей вещи смысл силы; оценка — определение
придающей вещи ценность воли к власти. Поэтому воля к власти есть
детерминированная способность силы подвергаться воздействию.
В этом моменте Делёз усматривает несомненное влияние на Ницше
спинозизма: согласно Спинозе, любому количеству силы соответствует
её способность подвергаться воздействию. Так же и у Ницше
способность подвергаться воздействию означает не пассивность, а аффектив-
ность, так что и воля к власти у него оказывается «изначальной
аффективной формой».
Воля к власти всегда волит собственное качество, а не власть.
Антропоморфизм здесь совершенно неприемлем. Власть в воле есть то, что
1 Там же. С. 124.
2 «Радикальное преобразование кантианства, новое изобретение критики, которую Кант
предал в ту самую пору, когда задумал её, восстановление проекта критики на новых основаниях
и с новыми терминами — вот чего, кажется, искал Ницше (и что он нашёл в "вечном
возвращении" и "воле к власти"». (Там же. С. 125.)
Глава 2. Галерея портретов
77
хочет, это генетический и различающий элемент. Власть не
измеряется представлением, интерпретацией или оценкой; она сама есть то, что
интерпретирует, то, что оценивает, то, что хочет. А хочет она того, что
исходит из генетического элемента, т. е. власти, определяющей
отношение силы к силе и качество соотнесённых сил. Детерминируя нечто,
этот элемент детерминирует себя. Поэтому всякий феномен отсылает
к составляющему его смысл и ценность типу, но также к воле к власти
как к элементу, порождающему смысл его смысла и ценность его
ценности. Таким образом, воля к власти не домогается власти, а дарит. Её
единство есть единство множественного, а «монизм воли к власти
неотделим от плюралистической типологии»1.
У Ницше Делёз находит способ вопрошания и «метод»,
которыми будет пользоваться сам. Прежде всего, Ницше отказывается от
метафизической формулировки вопроса «что есть... ?», идущей от
Сократа и Платона, требовавших говорить одновременно и в плане бытия,
и в плане сущности. Однако сократический метод не кажется Ницше
плодотворным, поскольку действует лишь в нигилистических апорети-
ческих диалогах. Вопрос следует задавать иначе: «кто?», т. е. вопрошать
о том, кто выражается, проявляется или скрывается в рассматриваемой
вещи. Лишь так можно достичь сущности, которая есть смысл и
ценность вещи и обусловлена родственными вещи силами. Вопрос «что
есть... ?» — это тот же вопрос «кто?», только поставленный
неумело. Вопрос «кто?» — «трагический» вопрос, которому соответствует
«трагический» метод соотнесения понятия с волей к власти,
благодаря чему оно становится симптомом воли. Такой «метод драматизации»
есть метод дифференциальный, типологический и генеалогический.
Делёз говорит о ницшевской «Жалобе Ариадны». Много лет
спустя, и в шутку, и всерьёз он будет говорить, что, не будь он философом
и будь он женщиной, он стал бы плакальщицей (pleureuse); вознесение
жалобы — это искусство.
В жалобе есть некое лукавство, она как бы говорит: не обращайте
внимания на мою жалобу, не трогайте меня, не испытывайте ко мне
жалости, я сам об этом позабочусь. И в этой заботе о себе жалоба
трансформируется: происходящее непосильно для меня, поскольку это радость,
Там же. С. 184.
78
Часть ι. Древо
радость в чистом виде. Однако нам приходится это скрывать,
поскольку есть люди, не терпящие радующихся, оттого мы и прячем радость за
жалобой. Впрочем, жалоба — это не только радость, это ещё и тревога,
поскольку, осознавая свою силу, человек задаётся вопросом о её цене:
готов ли я рисковать ради этого жизнью? Как только человек осознаёт свою
силу, например, художник, постигающий цвет, разве он не рискует
жизнью? Когда Ван Гог пришёл к цвету, его охватила радость, и это лучше
объясняет его безумие, чем все эти психоаналитические бредни. Что-то
может сломаться, и это угнетает меня, и потому я жалуюсь на свою
непосильную ношу, несчастье или счастье, чаще всего несчастье1.
Этот метод, по сути, есть метод критический. Иным он и быть не
может, поскольку сама воля к власти как элемент смысла и ценностей
по необходимости определяется как элемент критический. Кант в своей
«Критике чистого разума» замыслил имманентную критику, т. е.
критику разума не со стороны чувства, опыта или любой другой внешней
инстанции, но со стороны самого разума. В этом заключается
существенное противоречие: разум у Канта выступает одновременно и как суд,
и как судья, и как подсудимый. У Канта не было метода, позволяющего
судить разум изнутри, не поручая ему же самому роль судьи, поэтому
замысел имманентной критики он не осуществил. «Трансцендентальная
философия отмечена условиями, которые остаются всё ещё внешними
обусловленному. Трансцендентальные принципы суть принципы
обусловливания, а не внутреннего генезиса»2. У Ницше есть принцип
внутреннего генезиса, вытекающий из понятия воли к власти, поэтому с
такой задачей он справляется успешнее.
В этом свете понятие истины также определяется с точки зрения
плюралистической типологии, начинающейся с топологии:
необходимо знать, к какой области принадлежат заблуждения истины, каков их
тип и кто их формулирует и постигает. Критическая задача
заключается в том, чтобы подвергнуть истинное испытанию низким, а ложное —
испытанию высоким. Только таким образом можно распознать себя
в истине. Философия не служит никакой власти, её задача — наносить
вред глупости и делать эту последнюю постыдной. Её единственное
Азбука Жиля Делёза. С. 50.
Делёз Ж. Ницше и философия. С. 194.
Глава 2. Галерея портретов
79
применение — изобличать низость1. Без критической работы
философии, возобновляющейся в каждую эпоху, философия умрёт, а вместе
с ней умрёт и образ философа как свободного человека. Философия —
всегда противник своего времени, философ создаёт лишь
несвоевременные и неактуальные концепты. «В несвоевременном есть истины
более прочные, нежели все исторические и вечные истины, вместе
взятые: истины грядущего»2.
Мысль, по Ницше, неактивна, и именно в этой неактивности она
проявляет все свои силы. Хайдеггер, напоминает Делёз, заметил, что «мы
ещё не мыслим», и источник этой темы нужно искать именно у Ницше.
Мы лишь ожидаем сил, которые могут сделать мысль чем-то
абсолютно активным, возведя её в степень утверждения. Мышление — это не
естественное применение некоторой способности, а экстраординарное
событие в самой мысли и &ая самой мысли. Но мысль никогда не
возвысится до этого события, если её к этому не принудить, совершив над ней
насилие. Такое насилие или «дрессировка» есть культура.
Культура навязывает реактивным силам образцы поведения, но её
главная цель — укрепление сознания через наделение его памятью как
способностью, противопоставленной забвению. Речь идёт не
собственно о памяти, подчёркивает Делёз, а о следах: эта «изначальная»
память — функция не прошлого, но будущего. «Память не о следах, но
о словах. В форме способности обещать, вовлечённости в будущее,
воспоминания о самом будущем»3. Здесь Делёз вновь отмечает сходство
фрейдизма с ницшеанством, поскольку у Фрейда к «предсознательно-
му» относятся вербальные следы, отличные от мнемических следов
системы бессознательного4. Цель культурного отбора — формирование
«Изобличать всякие фикции, без каких реактивные силы не могли бы одержать верх.
Разоблачать в мистификации смесь низости и глупости, которая к тому же способствует
поразительному сообщничеству жертв и палачей. Наконец, превращать мысль в нечто агрессивное,
активное и утверждающее... Побеждать негативное и его ложное обаяние». (Там же. С. 220.)
Там же. С. 223.
Там же. С. 271.
«Это различение позволяет ему (Фрейду — А. А·) ответить на вопрос о том, как сделать
(пред)сознательными вытесненные элементы. Ответ таков: "Восстанавливая промежуточные
предсознательные звенья, вербальные воспоминания". Ницше сформулировал бы этот вопрос
так: "Каким образом можно «задействовать» реактивные силы?"». (Там же.)
80
Часть ι. Древо
человека, способного обещать, а значит, — располагать будущим.
Только такой человек активен.
Книга вызвала восхищение у Мишеля Фуко, который предложил Де-
лёзу стать деканом в университете Клермон-Феррана, где сам он
возглавлял секцию философии. Делёз вскоре приехал в Клермон и провёл
целый день с Фуко и Ж. Вюйеменом1. Философский факультет
единодушно поддержал кандидатуру Делёза, однако министерство
образования утвердило другого кандидата — Роже Гароди. Фуко терпеть не мог
сталиниста и «партаппаратчика» Гароди, и вражда с ним сблизила обоих
философов. И дружба с Фуко, и ницшеанская линия в творчестве Делёза
имели продолжение. Они встречались каждый раз, когда Делёз приезжал
в Париж. Он и его жена подолгу жили в квартире Фуко. Кроме того,
Делёз написал восторженную рецензию на книгу Фуко о Раймоне Русселе2.
4 — 8 июля 1964 г. в Руайомоне состоялся коллоквиум по творчеству
Ницше, в организации и работе которого самое активное участие
приняли Делёз и Фуко. В 1965 г. Делёз опубликовал переработанный текст
о Ницше3, содержавший биографические сведения о жизни немецкого
мыслителя, словарь основных понятий и ряд фрагментов его
сочинений. В 1967 г. Делёз и Фуко совместно написали предисловие к 5-му тому
полного собрания сочинений Ницше4, хотя их понимание ницшеанской
проблематики всегда существенно различалось. Делёз делал упор на
концепцию «силы» и понятия «активного» и «реактивного»,
сходившихся в концепции «вечного возвращения». Для Фуко же всегда
важнее был генеалогический подход в творчестве Ницше. В интервью Фуко
заявил, что потребность в новом, критическом издании обусловлена
потребностью «уничтожить ложную архитектуру, созданную фанатичным
третьим лицом, и восстановить, насколько это возможно, тексты в соот-
1 В «Тысяче плато» Делёз будет указывать на книгу Вюйемена (Vuillemin J. Philosophie de
l'algèbre. P.: PUF, 1962) как на фундаментальный труд по проблематике множественности у Ри-
мана и Гельмгольца.
2 Deleuze G. Raymond Roussel ou L'Horreur du vide // Arts. 1963.23-29 octobre. P. 4. «В этом
сплетении различия и повторения, — писал он, говорится о жизни, о смерти и о безумии».
(Ibid.)
3 Deleuze G. Nietzsche. Ρ.: PUF, 1965.
4 Deleuze G., Foucault M. Introduction générale // Œuvres philosophiques complètes de
Nietzsche. P.: Gallimard, 1967. T. V P. I-IV
Глава 2. Галерея портретов
81
ветствии с собственным видением Ницше».1 «Третьим лицом» была
Элизабет Фёрстер-Ницше, сестра философа, которой он обязан своей
славой теоретика нацизма. Делёз, со своей стороны, говорил, что Ницше
для него — пример того, чем должна заниматься современная
философия, — радикальной критики и свободной индивидуализации2.
Впоследствии Фуко будет испытывать досаду из-за того, что многие
интеллектуалы воспринимают Ницше исключительно через прочтение
Делёза. П. Вейна он будет поддразнивать за то, что тот любит только
того Ницше, которого предлагает Делёз. Возможно, это было
выражением ревности: Делёз написал о Ницше поистине блестящую книгу.
В 1963 г. вышла книга Делёза «Критическая философия Канта»3,
которую он посвятил Ф. Алки. Хотя Кант не входил в число любимых
философов Делёза, он никогда не скрывал своего восхищения этой
мощной фигурой. В 1968 г. он скажет: «Когда речь идёт о творчестве такого
гения, не может быть и речи о несогласии. Сперва нужно суметь
восхититься; нужно увидеть поставленные им проблемы, его машинерию.
Именно восхищение делает возможной подлинную критику»4. Когда
рассеивается северный туман кантовской философии, взору предстаёт
удивительно красивая архитектура5. Но несколько лет спустя он всё-
таки признает, что писал о Канте как о своём враге, пытаясь показать,
как функционирует его система — «трибунал Разума, осмотрительное
использование познавательных способностей, покорность, ещё более
лицемерная в силу того, что нас называют законодателями»6.
Обращение к Канту после книги о Юме выглядит более чем
закономерным и полностью соответствует представлениям самого Канта,
который писал, что Юм, хотя и не пролил света на метафизику, но «вы-
1 Jannoud С. Michel Foucault et Gilles Deleuze veulent render à Nietzsche son vrai visage // Le
Figaro littéraire. 1966.15 septembre. P. 7.
2 Deleuze G. Entretien avec J.-N. Vaurnet // Les Lettres françaises. 1968.28 février — 5 mars.
3 Deleuze G. La Philosophie critique de Kant. Paris: PUF, 1963. Своеобразным «дополнением»
к этой работе можно считать опубликованную в том же году статью о кантовской эстетике:
Deleuze G. L'Idée de genèse dans l'esthétique de Kant // Revue d'esthétique. Vol. XVI. № 2. P. :
PUF, 1963. P. 113-136.
4 Deleuze G. Sur Nietzsche et l'image de la pensée / L'île déserte et autres texts. Textes et entretiens
1953-1974. P. 192.
5 Лекция 14 марта 1978 г.
6 Делёз Ж. Письмо суровому критику / Переговоры. С. 17.
82
Часть ι. Древо
бил искру, от которой можно было бы зажечь огонь, если бы нашёлся
подходящий трут»1. Этим трутом Кант считал свою «Критику»: Юм,
утверждал он, «лишь сумел &ая безопасности посадить свой корабль
на мель скептицизма», тогда как сам Кант старается «дать этому
кораблю кормчего, который на основе верных принципов
кораблевождения, почерпнутых из познания земного шара, снабжённый самой
подробной морской картой и компасом, мог бы уверенно привести корабль
к цели»2. Делёз, как мы вскоре увидим, полагает проект Канта
удавшимся и занимается исследованием кантовской картографии, позволяющей
ему привести корабль к цели поистине новой.
Прежде всего, «цель — это некое представление, задающее волю»3,
и (кантовский) рационализм в этом отношении не слишком
отличается от (юмовского) эмпиризма. Представление связано с субъектом,
поскольку оно усиливает или ослабляет его жизненные силы, определяя
в качестве способности чувства удовольствия и неудовольствия. Вопрос
об этой последней способности намечается в первых двух «Критиках»,
но ставится лишь в последней. Созерцание, даже априорное, не
является представлением. Делёз акцентирует приставку — re-presentation, —
утверждая, что представление необходимо включает в себя активное
воспроизведение (reprise) наличного. Поэтому само представление
определяется как познание — синтез пребывающего в наличии.
Априорное определяется как независимое от опыта потому, что
опыт никогда не даёт нам всеобщего и необходимого. Поэтому нам
приходится говорить о том, что выходит за пределы опыта. В этом
отношении, отмечает Делёз, Кант следует за Юмом. За пределы
данного нам в опыте мы выходим благодаря субъективным принципам.
Помимо обладания этими принципами, впрочем, мы должны располагать
благоприятной возможностью для их осуществления. Наш выход за
пределы опыта утверждается самим опытом. А значит, данные опыта
должны подчиняться тем же принципам, что и принципы субъектив-
1 Кант И. С. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука /
Трактаты. СПб. : Наука, 2006. С. 151.
2 Там же. С 154-155.
3 Делёз Ж. Критическая философия Канта: учение о способностях / Эмпиризм и
субъективность: Опыт о человеческой природе по Юму. Критическая философия Канта: учение о
способностях. Бергсонизм. Спиноза. Пер. Я. И. Свирского. С. 146.
Глава 2. Галерея портретов
83
ные, управляющие нашими поступками. В этом пункте Кант
порывает с Юмом: Юм считал субъективные принципы, позволяющие
выходить за пределы данного в опыте, принципами человеческой природы
(психологическими принципами ассоциации), тогда как Кант заявляет,
что то, что представляется нам как формирующее Природу, само с
необходимостью должно подчиняться тем же принципам, что и
принципы, руководящие нашими представлениями. Следовательно, по Канту,
«данное нам само подчиняется нашим поступкам»1; субъективность
принципов носит не эмпирический и не психологический, а
трансцендентальный характер.
«Коперниканская революция», произведённая Кантом,
заключается в замене идеи гармонии между субъектом и объектом принципом
необходимого подчинения объекта субъекту. Познавательная
способность оказывается законодательной, точнее, «есть что-то, что
законодательствует в познавательной способности»2. Кант, говорит Делёз, далёк
от субъективного идеализма, представляющегося по видимости самым
простым решением этой ситуации. Он отстаивает эмпирический
реализм: феномены — не видимости и не продукты нашей деятельности.
Они воздействуют на нас потому, что мы пассивные воспринимающие
субъекты, но подчиняются нам они потому, что они не есть вещи-в-себе.
Проблема отношений субъекта и объекта у Канта становится
проблемой связи между различными по природе субъективными
способностями — воспринимающей чувственностью и активным рассудком.
Мои представления являются моими лишь постольку, поскольку
связаны в единстве сознания так, что их сопровождает «Я мыслю».
Представления объединяются в сознании лишь постольку, поскольку
синтезируемое ими многообразие соотносится с объектом вообще (мы знаем
только качественно определённые объекты). Однако множественность
не отсылала бы к объекту, если бы не существовало объективности как
общей формы. Эта общая форма, «объект вообще», есть коррелят
«Я мыслю», т. е. единства сознания; это выражение и формальная
объективация cogito. «Следовательно, реальная (синтетическая) формула
cogito такова: я мыслю себя, и, мысля себя, я мыслю объект вообще, с ко-
Там же. С. 158.
Там же. С. 159.
84
Часть ι. Древо
торым я связываю представленное разнообразие»1. Из этого «Я
мыслю» развивается вся применимость рассудка, от которого зависит не
сам синтез, а единство синтеза и выражение этого единства.
Разум, отличающийся у Канта как способность от рассудка, говорит
нам, что объекты позволяют стремиться к систематическому единству
условий, данных в объекте, как к высшей степени нашего знания.
Феномены в своём содержании соответствуют идеям, а идеи —
содержанию феноменов, однако здесь можно выявить не подчинение, а лишь
соответствие. Кант избегает опасности возвращения идеи гармонии,
утверждая, что согласие способностей допускает несколько различных
«пропорций», в зависимости от того, какая способность (способность
познавательная, способность желания, чувства удовольствия и
неудовольствия, проявляющиеся соответственно как воображение, рассудок
и разум) задаёт отношение между ними. Заданное отношение согласия
ведёт к тому, что то или иное чувство кажется нам априорным фактом,
выйти за пределы которого мы не можем.
Способность желания допускает высшую форму, когда она задана
представлением чистой формы. Эта последняя есть форма всеобщего
законодательства. Действие, максима которого мыслится как всеобщий
закон, согласуется с моралью, а всеобщее выступает как логический
абсолют. Форма всеобщего законодательства принадлежит разуму,
который есть способность, непосредственно законодательствующая в
способности желания. В этой форме он называется чистым практическим
разумом. Только практический разум может задавать понятие свободы,
сообщая ему объективную реальность. А моральный закон оказывается
законом нашего умопостигаемого существования, т. е. это есть «закон
самопроизвольности и каузальности закона как вещи в себе»2. Здесь,
говорит Делёз, действует новая форма гармонии: если согласно
спекулятивному интересу разума рассудок законодательствует, а разум
умозаключает и символизирует, то согласно практическому интересу разума
законодательствует сам разум, а рассудок умозаключает и
символизирует. Общее моральное чувство поэтому есть согласие рассудка с разумом
под законодательством самого разума.
Там же. С 161.
Там же. С. 177.
Глава 2. Галерея портретов
85
Моральный закон не зависит от условий чувственности: свободная
каузальность не может быть объектом какого-либо созерцания.
Моральный закон оказывает воздействие на чувственность, однако
чувственность при этом рассматривается не как созерцание, а как ощущение.
Между природой чувственной и природой сверхчувственной
разверзается пропасть, но разверзается она, говорит Делёз, лишь затем,
чтобы быть заполненной. Свободная причинность имеет лишь
чувственно воспринимаемые результаты действия, а значит, практический
разум как закон свободной причинности сам должен обладать
причинностью в отношении явлений. Природа чувственная и природа
сверхчувственная стоят на одной почве — почве опыта. «... Когда разум
законодательствует в способности желания, сама способность желания
законодательствует над объектами»1. В силу этого даже воображение
оказывается частью общего морального чувства, поскольку
чувственно воспринимаемая природа может получать воздействия со стороны
сверхчувственного. Практический разум формирует понятие цели, ведь
именно моральный закон задаёт разумное существо как конечную цель
чувственно воспринимаемой природы.
Суждение не может законодательствовать над объектами, но
законодательствует над самим собой. А способность чувствовать выражает
субъективные условия существования способностей. Поэтому общее
эстетическое чувство не является завершением рассудка и разума. Не
законодательствуя над объектами, оно вообще не есть законодательная
способность. Это не объективное согласие способностей, но
субъективная гармония воображения и рассудка. Следовательно, общее
эстетическое чувство не завершает чувства логическое и моральное, но делает их
возможными и даёт им основание. Согласие между воображением и
разумом не просто допускается, но порождается в их разладе. Таким
образом, разум определяется не необходимым подчинением, а случайно
сложившимся согласием природы с нашими способностями.
Схема Канта оказывается тройной: в познавательной способности,
взятой в своей высшей форме, законодательствует рассудок; в
способности желания (опять-таки, взятой в своей высшей форме) — разум;
в способности чувствовать (в той же высшей форме) законодатель-
Там же. С. 187.
86
Часть ι. Древо
ствует суждение. Практическое суждение выражает согласие
рассудка и разума под предводительством разума; в теоретическом суждении
воображение подчиняется рассудку; рефлектирующее суждение
делает возможным переход от познавательной способности к способности
желания, от спекулятивного интереса к интересу практическому, делает
возможным переход от природы к свободе.
Три «Критики», говорит Делёз, оказываются поистине системой
пермутаций. Способности, во-первых, определяются связями
представления, а во-вторых, определяются как источники представлений.
Первые две «Критики» устанавливают связь между способностями, а
последняя открывает их согласие как условие возможности каждой из них.
Значение «Критики способности суждения» заключается в том, что
она представляет целесообразную связь между природой и человеком
как «результат чисто человеческой практической деятельности»1.
Обращение к Канту не было случайным эпизодом в творчестве Де-
лёза. В том же 1963 г. он опубликовал статью о кантовской эстетике2.
В 1978 г. он будет читать курс лекций по философии Канта, а в 1986-м
напечатает большую статью о «кантианской поэтике»3. Суждение
В. Декомба о том, что Делёз — прежде всего пост-кантианец, вполне
обоснованно, хотя скорее стоило бы говорить о «выстраивании своей
собственной картографии кантианских тезисов»4.
В своём лекционном курсе 1978 г. Делёз будет представлять кантов-
скую философию несколько иначе, нежели в своей книге. Великий
философ, говорит он здесь, — это тот, кто изобретает концепты и
работает с ними. В этом отношении Кант представляет собой невиданную
машину по производству концептов. Однако главный свой концепт —
трансцендентального субъекта — он заимствует из средневековой
философии и придаёт ему новое значение. Концепт трансцендентального
субъекта тесно связан с концептом априори. Априори — это
необходимое и универсальное. Всё, что дано в опыте, носит случайный и
единичный характер; априори — это то, что не зависит от опыта. Но, буду-
1 Там же. С 218.
2 Deleuze G. L'idée de genèse dans l'esthétique de Kant // Revue d'esthétique. 1963. № 2.
3 Deleuze G. Sur quatre formulas poétiques qui pourraient résumer la philosophie kantienne //
Philosophie. 1986. №9.
4 Dosse F. Gilles Deleuze et Félix Guattari. P. 154.
Глава 2. Галерея портретов
87
чи независимы от опыта, они имеют к опыту самое непосредственное
отношение: априори — это условия всякого возможного опыта.
Другими словами, универсальные предикаты, в противоположность
апостериорным (эмпирическим) предикатам. Пространство и время — не
категории, т. е. репрезентации, а презентации. Существенная новация
Канта в том и заключается, что он различает презентации и
репрезентации.
Другое новшество Канта — концепт феномена. До Канта под
феноменом понимали видимость, противопоставлявшуюся
интеллигибельной сущности. А это уже предполагает определённый статус субъекта.
Дуализм видимостей и умопостигаемых сущностей предполагает
мыслящего субъекта, для которого характерен существенный изъян: его
субъективность деформирует являющуюся ему вещь. Чтобы добраться
до самой вещи, субъекту необходимо перейти от видимости к
сущности. Кант предлагает принципиально новое понимание феномена:
феномен — это вовсе не видимость. Кант, говорит Делёз, был
подлинным основателем феноменологии. Феноменология начинается с того
момента, когда феномен начинают определять не как видимость, но
как явление. Если видимость отсылает к дизъюнкции
видимость/сущность, то феномен — к условиям явления чего-либо. Это столь
радикально меняет концептуальный ландшафт философии, что отныне вся
философия становится кантианской.
Субъект, предполагаемый дизъюнкцией видимость/сущность, —
субъект эмпирический; когда же речь идёт о конъюнкции
условие-явление, говорить приходится о трансцендентальном субъекте.
Трансцендентальный субъект — это совокупность всех условий, при которых
что-то является эмпирическому субъекту. Конечно, говорит Делёз,
Кант отчасти сохраняет старую дизъюнкцию видимость/сущность, он
постоянно настаивает на различении феномена и ноумена, т. е. вещи-в-
себе. Однако он преодолевает эту оппозицию, говоря, что вещь-в-себе
никогда не бывает известна сознанию. Он не ищет никакой сущности,
стоящей за феноменом. Всё, что является, является в условиях
пространства и времени и в формах опыта. Все это и составляет измерения
трансцендентального субъекта1.
Лекция 14 марта 1978 г.
88
Часть ι. Древо
Декарт предложил чрезвычайно важный ^ая западной философии
концепт мыслящей субстанции, тем самым совершив открытие
субъективности. Картезианское cogito — это понимание субстанции как
субъекта. «Я мыслю», — говорит Делёз, — это наиболее общий
принцип представления, т. е. единство способностей счёта, суждения,
воображения, памяти и т. п. Только основываясь на нём тождественное,
подобное, аналогичное и противоположное могут быть помыслены как
различные, а различие становится объектом представления лишь по
отношению к полагаемому этим принципом тождеству, аналогии,
противоположности и подобию. «Именно на этих ветвях распято различие»1.
Этот мир представления не позволяет мыслить различие в себе и
повторение для себя. Декартовское cogito обнаруживает три аспекта: 1) Я
существую — неопределённое существование; 2) время как форма, в
которой это существование определяется; 3) Я мыслю как определение.
Однако cogito, говорит Делёз, отсылает к «надтреснутому Я»
(трещина создаётся пронизывающим его временем), так что самые идеи
виртуально существуют на краях этой трещины, никогда её не заполняя, но
интериоризируя её2. Идеи соотносятся с «треснувшим Я распавшегося
cogito»3, т. е. со всеобщим распадом, характеризующим мышление как
трансцендентное применение способности.
После Декарта Кант совершает переворот: сохраняя форму
субъективности, он отказывается от субстанции. Таким образом, субъект
больше не понимается как субстанция: субъективность
освобождается от субстанциальности. Декарт говорит: «Я мыслю, следовательно,
я существую». Кант спрашивает: но каким образом я существую? Как
мыслящая вещь? На каком основании это можно утверждать? Декарт
счёл бы такой вопрос неправомерным: существование Я
неопределённо, а Кант хочет его определить. Никакого основания у него для
этого нет. Неопределённое существование не может определяться ни как
субстанция, ни как вещь. Декарт, говорит Делёз, допускает фатальную
ошибку, путая определимое и неопределимое. Кант же говорит, что
наше существование определяется в форме нашего познания, каковой
Делёз Ж. Различие и повторение. С. 173.
Там же. С. 211.
Там же. С. 240.
Глава 2. Галерея портретов
89
выступает время. Неопределённое существование может быть
определено в форме времени, которая есть форма мысли. Моё существование
тоже может определяться лишь через время. При этом формой,
которую Я получает от определённости, оказывается феномен во времени.
Я являюсь самому себе во времени. Это координаты воспринимающего,
т. е. пассивного бытия. Я не могу определить своё существование как
существование Я; Я — это спонтанность моего мыслительного акта.
Таким образом, время становится внутренней границей мысли.
Внешней границы больше нет. После Канта философия размышляет о том,
где проходит граница мысли, а не о том, что лежит за пределами мысли.
И когда Хайдеггер говорит, что мы ещё не мыслим, когда он связывает
время с мыслью, он оказывается кантианцем1.
В 1964 г., через год после публикации работы о Канте, Делёз
напечатал книгу «Пруст и знаки»2. Тем самым он наконец осуществил своё
стремление обратить философскую мысль на те сферы, которые
академическая традиция оставляла в стороне. Как и в тексте о Захер-Мазо-
хе, он применяет метод симптоматологии, порывая с герменевтической
традицией анализа литературных произведений: как отметил в своей
рецензии Р. Мози, Делёза не интересует интенциональность Пруста,
он ограничивается дешифровкой мира прустовских знаков3. Но что ещё
важнее, как показывает Ж.-К. Дюмонсель4, у Пруста Делёз находит ту
схему, где различие обретает свой объект в повторении.
Единство прустовской эпопеи, утверждает Делёз, состоит не в
воспоминании, а в повествовании об обучении. Пруст в его изображении
оказывается платоником: познавать или обучаться &ая него значит
припоминать. Однако память — всего лишь средство обучения, тогда как поиски
обращены не к прошлому, а к будущему. Обучение же непосредственно
связано со знаками как объектом «мирского обучения», так что
«проблема Пруста — это проблема знаков вообще»5. «Научиться — это,
Лекция 28 марта 1978 г.
Deleuze G. Proust et les signes. Paris: PUF, 1964.
Mauzi R. // Critique. 1966. № 225. P. 161.
Dumoncel J.-C. Le Symbole d'Hécate. Philosophie deleuzienne et roman proustien. Orléans:
HYX,1996.P60.
Делёз Ж. Марсель Пруст и знаки. Пер. Е. Г. Соколова. СПб. : Лаборатория метафизических
исследований при философском факультете СП6ГУ; Алетейя, 1999. С. 39.
90
Часть ι. Древо
прежде всего, рассмотреть материю, предмет, существо, как если бы они
испускали знаки для дешифровки, для интерпретации»1. Делёз
обнаруживает множество шифров, которыми пользуются прустовские герои:
дипломатический шифр Норпуа, стратегические знаки Сен-Лу,
медицинские симптомы Котара и т. п. Эти шифры и соответствующие им миры
отгораживаются друг от друга, но их единство состоит в том, что они
образуют системы знаков, исходящих от людей, предметов и материй.
У Спинозы Делёз находил три рода знаков: во-первых, знак как идея
следствия-эффекта, постигаемого при условии, что этот эффект отделён
от своей причины; во-вторых, знак как причина, схваченная при
условии, что мы не постигаем её природу и связь со следствием; в-третьих,
знак как внешняя гарантия денатурализованной идеи причины2. У
Пруста он выделяет четыре мира знаков:
1. Светский мир, плоские знаки которого позволяют понять, почему
кто-то принят или не принят в том или ном обществе.
2. Мир любви, а точнее, множество возможных миров,
обрисовываемых знаками предпочтения.
3. Мир впечатлений или чувственных свойств, выступающих как
материальные знаки других предметов, которые нам надлежит попытаться
расшифровать.
4. Мир искусства, дематериализованные знаки которого обретают
свой смысл в идеальной сущности и который интегрирует все прочие
знаки, окрашивая их эстетическим смыслом. «В пределе, сущность —
в знаках искусства»3.
Знаки образуют различные миры; всегда имеет место насилие знака,
заставляющее нас отправляться на поиски. Истина, говорит Делёз, не
проявляется с помощью аналогий, а «пробалтывается в
непроизвольных знаках»4. Здесь отчётливо заметно присутствие вдохновителя Де-
лёза той поры — Лакана, утверждавшего, что поиск бессознательного
имеет своим центром вопрос об истине: все заминки в нашей речи есть
высказывание истины; истина проявляется в свободных ассоциациях
и сновидениях, с которыми имеет дело психоанализ. В поле Вещи, со-
1 Там же. С. 29.
2 Делёз Ж. Спиноза. С 369-370.
■ Делёз Ж. Марсель Пруст и знаки. С. 39.
4 Там же. С 41.
Глава 2. Галерея портретов
91
гласно Лакану, проецируется то, что лежит по ту сторону цепочки
означающих, а преградой, останавливающей субъекта перед этой
неизречённой областью радикального желания и уничтожения, оказывается
эстетический феномен встречи с прекрасным, каковое является блеском
истины.
Поиск истины означает её расшифровку и истолкование,
совпадающее с разворачиванием знака в нём самом. Поэтому «Поиски» темпо-
ральны, а истина всегда оказывается истиной времени. Делёз
различает четыре временные структуры: время, которое теряют; утраченное
время; время, которое обретают; обретённое время. В первом
преимущественно запечатлеваются светские знаки, во втором — знаки любви,
в третьем — чувственные знаки, в четвёртом — знаки искусства.
Время произведения искусства — это «абсолютное время», в котором
сходятся и обретают соответствующую им истину все остальные
темпоральные дискурсы.
Обращение к Прусту во многом является продолжением
ницшеанской линии в творчестве Делёза. Как и Ницше, Пруст отказывается
искать «объективную» и универсальную истину, а потому в неменьшей,
чем Ницше, степени подрывает традиционный для философии образ
мысли. Прустовы «Поиски» представляют собой поиск истины,
которая всегда начинается с какой-либо силы, обращающейся на героя
и воздействующей на него (двусмысленная реплика де Шарлю, взгляд
Альбертины и т. п.). Именно это воздействие и побуждает субъекта
к поиску истины, которая именно в этом движении и производится.
Таким образом, для Пруста, как и &ля Ницше, истина — не что-то
пассивное, ожидающее в тени своего раскрытия, но продукт активной
творческой деятельности, т. е., проще говоря, интерпретация.
Различные издания книги о Прусте значительно рознятся.
Связано это с тем, что во втором и третьем изданиях (соответственно 1970
и 1976 гг.) Делёз ввёл гваттарианский термин «трансверсальность»,
о котором мы поговорим позже. Кроме того, как это часто случается,
впоследствии Делёз стремился придать новое толкование своей ранней
работе. В 1975 г. он скажет: «Вот что интересует меня теперь в
"Поисках": присутствие, имманенция безумия в произведении... »λ
Table Ronde sur Proust / Deleuze G. Deux régimes de fous. Textes et entretiens 1975-1995. P. 33.
92
Часть ι. Древо
В 1964 г. Луи Альтюссер предложил Делёзу прочитать серию
лекций в Эколь Нормаль, но тому пришлось отказаться, поскольку он стал
штатным преподавателем в университете Лиона, благодаря свой
политической неангажированности обойдя по конкурсу Жюля Вюйеме-
на и Анри Лефевра. Вюйемен не угодил местному начальству тем, что
в своей диссертации воспроизвёл формулу Прудона «Бог — это зло»,
а Лефевр — тем, что был марксистом. В этой должности Делёз
пробудет до 1969 г., не испытывая от неё особого восторга. Впрочем, здесь он
подружился с феноменологом Анри Мальдини, на которого он будет
ссылаться в «Различии и повторении»1. Несмотря на международную
известность, Мальдини пребывал в шатком положении
приглашённого лектора, и Делёз защищал его от университетского начальства. При
этом он поссорился с учеником Кангийема Франсуа Дагоне, который
поначалу отнёсся к нему весьма благожелательно. Кроме того, Делёз
свёл дружбу с Жанетт Коломбель — коммунисткой, близкой к Сартру.
Делёз с Фани и Коломбель со своим мужем часто вместе ходили в театр
и в кино. В ту пору наш герой особенно увлекался фильмами Ж.-Л.
Годара, М. Антониони, Ф. Феллини и И. Бергмана.
В университете Делёз читал лекции по философии Ницше, Спинозы,
Бергсона и Лейбница. Он постепенно отходил от истории философии
и всё больше времени уделял развитию собственных идей. Особенно
много он говорил о концепте события, который он нашёл у стоиков. Его
отношения с коллегами-преподавателями были довольно холодны, зато
на его лекции приходило много студентов с разных факультетов. И,
несмотря на занятость, он занялся подготовкой докторской диссертации.
Его дружба с Альтюссером в эти годы окрепла. В 1965 г. философ,
с именем которого стал ассоциироваться французский марксизм,
послал Делёзу свои труды. Тот отвечал в письме:
Я был весьма тронут тем, что ты прислал мне три своих книги.
Большего удовольствия ты не мог мне доставить. Я ещё не всё прочитал, но
уже не только прочитанные и вызвавшие у меня восхищение статьи, но
и всё то, чего я не знал (твоё объяснение понятия «проблема», общее
у нас обоих), а также фетиш и анализ роли, которую играет отчужде-
]
Делёз Ж. Различие и повторение. С. 129.
Глава 2. Галерея портретов
93
ние, — всё это представляется мне настолько важным, что я испытываю
душевное волнение1.
В 1966 г. Делёз опубликовал книгу о Бергсоне2, к которому он
давно питал интерес. В послевоенной Франции преобладал образ
Бергсона-психологиста. Жорж Политцер в 1929 г. опубликовал под
псевдонимом Франсуа Ару книгу в которой представил бергсонизм типично
буржуазной идеологией3. Расстрелянный нацистами Политцер стал
после Освобождения иконой коммунистического движения, и
созданный им образ Бергсона надолго утвердился в сознании французских
интеллектуалов. Делёз стремился вернуть Бергсона в пространство
философии, освободив его от идеологического ярлыка. А всем, кто считал
бергсонизм буржуазной философией, он указывал, что «Бергсон с
самого начала сумел сконцентрировать на себе ненависть французского
университета»4. В 1956 г. он уже написал главу о Бергсоне аая
редактируемого М. Мерло-Понти сборника «Знаменитые философы», где
впервые заявил о том, что подлинный философ занимается
изобретением концептов5. Тогда же он опубликовал текст своего выступления
перед Ассоциацией друзей Бергсона, в котором он постарался освободить
бергсонизм от психологизма и выявить его онтологическое измерение6.
А в 1960 г. он посвятил Бергсону лекционный курс7. Теперь настало вре-
1 Цит. по: Dosse F. Gilles Deleuze et Félix Guattari. P. 273.
2 Deleuze G. Le Bergsonisme. P.: PUF, 1966.
3 Politzer G. La Fin d'une parade philosophique, le bergsonisme. P: Pauvert, 1968.
4 Делёз Ж. Письмо суровому критику / Переговоры. С. 17.
5 «Проект, развиваемый Бергсоном, — писал он здесь, — порывал с критическими
философиями и не был чем-то новым даже для Франции, поскольку его общая концепция философии
и отдельные её аспекты примыкают к английскому эмпиризму Но метод, как и три придающих
ему смысл понятия, был совершенно нов». (Deleuze G. Bergson, 1859-1841 // Les
philosophes célèbres. P. 42.)
6 Deleuze G. La conception de différence chez Bergson // Les Études bergsoniennes. Vol. IV P.,
1956. P. 77-112. Дж. Бьянко подчёркивает, что в этой работе Делёз опирается на
интерпретацию Ж. Ипполита, находившего в бергсоновском учении о различии параллели с Гегелем.
См.: Bianco G. L'inhumanité de la différence. Aux sources de l'élan bergsonien de Deleuze //
Concepts, Gilles Deleuze. Mons: Sils Maria, 2003. Сам же Делёз начинает своё выступление
следующими словами: «Понятие различия проливает свет на философию Бергсона, и наоборот,
бергсонизм вносит огромный вклад в философию различия». (Deleuze G. La conception de
différence chez Bergson. P. 77.)
7 См.: Sauvagnargues A. Deleuze avec Bergson. Le cours de 1960 sur Г«Évolution créatrice» //
Annales bergsoniennes II. Bergson, Deleuze, la phénoménologie. Dir. F. Worms. P.: PUF, 2004.
94
Часть ι. Древо
мя для полновесной книги, в которой Делёз наметил основные моменты
своей докторской диссертации.
Главные вехи философии Бергсона, отмечает Делёз в первой же
строке своей книги, — длительность, память, жизненный порыв. А цель
книги самого Делёза — установить связь между этими понятиями и
представить концептуальное развитие, которое они в себе несут. В послесловии
к американскому изданию этого текста (1991 г.) Делёз говорит, что
возвращение к Бергсону, стремившемуся сделать метафизику строгой
наукой, основывается, во-первых, на обращении к его концепту
интуиции, понимаемой как метод, разоблачающий ложные проблемы и
выявляющий условия для постановки истинных проблем, во-вторых, на
восстановлении бергсоновской критики отношений науки и
метафизики, и в-третьих, на реактуализации его философии множеств1.
Метод бергсонизма — интуиция: не чувство, не вдохновение, не
«симпатия», а именно развитый метод, настаивает Делёз, причём один
из наиболее развитых в философии. Полагаясь на этот метод, Бергсон
стремится сделать философию «точной» дисциплиной, во всём
подобной науке. При этом возникает методологический вопрос: как
непосредственно указывающая на знание интуиция может быть методом,
если метод подразумевает опосредование? Ответ на этот вопрос
чрезвычайно важен для самого Делёза и, как мы впоследствии увидим,
станет определяющим для его собственной концепции. «Бергсоновская
интуиция, — замечает К. Боундас, — это метод разделения смесей в
соответствии с тенденциями, то есть реальными различиями. Так
понимаемая бергсоновская интуиция идентична делёзовскому
трансцендентальному эмпиризму»2.
Делёз выделяет у Бергсона три правила, позволяющих
«переоткрыть» интуицию:
1. Проверка на истинность или ложность должна применяться к
самим проблемам. Истинность или ложность мы привыкли относить к
полученному решению, подобно тому как в школе ученик ищет верный
ответ на поставленный учителем вопрос. Однако философ должен кон-
1 Deleuze G. A Return to Bergson / Bergsonism. NY.: Zone Books, 1991. P. 115-118. Послесловие
Делёза было написано в 1988 г., но увидело свет лишь три года спустя.
2 Boundas С. V. What Difference does Deleuze's Difference make? // Deleuze and Philosophy.
Ed. C.V. Boundas. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006. P. 10.
Глава 2. Галерея портретов
95
ституировать саму проблему ложные проблемы отбросить, а истинные
поставить. Подлинная проблема, по Бергсону, выдвигается тогда,
когда она разрешима. Делёз сравнивает это положение с формулой
Маркса: «Человечество ставит лишь те проблемы, какие способно решить».
«Речь в этих двух случаях, — говорит Делёз, — идёт вовсе не о том, что
проблемы подобны теням предсуществующих решений (весь контекст
указывает на обратное»1. Решение принимается в расчёт, но проблема
обретает решение лишь в зависимости от того способа, каким она
поставлена, от тех условий, при которых она определилась как проблема,
и наконец, в зависимости от терминов, которыми мы располагали для
её постановки. В этом смысле история человека предстаёт как история
конструирования проблем.
Дополнительное правило гласит, что ложные проблемы бывают либо
несуществующими (возникающие из-за путаницы в терминах), либо
плохо поставленными (возникающие из-за того, что их термины
представляют собой плохо проанализированные композиты (на наш взгляд,
удачный перевод термина mixtes)).
В идее небытия содержится идея бытия + логическая операция
обобщённого отрицания + психологический мотив для этой операции.
В идее беспорядка содержится идея порядка + её отрицание + мотив
такого отрицания. Поэтому в знаменитом паскалевском вопросе
«почему скорее нечто, чем ничто?» большее принимается за меньшее, в
результате чего мы начинаем считать, что небытие существует до бытия,
а возможное — до существующего, как если бы бытие должно было
заполнять пустоту.
Бытие, порядок или существующее истинны сами по себе; но в
ложной проблеме присутствует фундаментальная иллюзия, некое
«движение истины вспять », согласно которому предполагается, что бытие,
порядок и существующее предшествуют сами себе или же предшествуют
полагающему их творческому акту проецируя образ самих себя назад
в возможность, в беспорядок и в небытие, считающиеся изначальными.
Идея беспорядка появляется, когда мы ограничиваемся лишь общей
идеей порядка, вместо того чтобы признать два или более несводимых
1 Делёз Ж. Бергсонизм / Эмпиризм и субъективность: Опыт о человеческой природе по
Юму. Критическая философия Канта: учение о способностях. Бергсонизм. Спиноза. Пер.
Я. И. Свирского. С. 232.
96
Часть ι. Древо
друг к другу порядков. Идея небытия появляется, когда различные
реальности не схватываются, но смешиваются в однородность бытия
вообще, которое может противопоставляться только небытию. Наконец,
идея возможного появляется, когда вместо схватывания всякого
существующего в его сингулярности существование в целом
соотносится с заранее сформированной стихией, из которой всё возникает путём
«реализации»1. Мы оказываемся жертвами фундаментальной иллюзии,
соответствующей ложной проблеме. Бороться нужно не против
ложных решений, а против иллюзии, неотделимой от условий опыта.
2. Нужно бороться против иллюзии и переоткрывать «истинные
различия по природе, или сочленения реального»2.
Интуиция как метод (логического) деления, говорит Делёз, сходна
с трансцендентальным анализом: и то, и другое требует выхода за
пределы опыта к его условиям. Однако речь идёт не о кантовских
условиях всякого возможного опыта, а об условиях реального опыта. Это не
движение в сторону понятий, ибо понятия определяют лишь условия
всякого возможного опыта вообще (Кант). Необходимо найти
«сочленения», от которых зависит специфика реального опыта. «...Условия
опыта определяются, скорее, не в понятиях, а в чистых восприятиях.
И в то время, как эти восприятия сами объединяются в понятие,
именно понятие, выкраиваемое по самим вещам, только и соответствует им,
и, в этом смысле, оно не шире того, что должно объяснить»3.
Дополнительное правило гласит, что реальное — это не только то,
что формуется согласно естественным «сочленениям» и различиям
по природе, но также то, что заново пересекается с самим собой,
«следуя путям, сходящимся к одной и той же идеальной, или виртуальной,
точке»4.
3. Нужно ставить и решать проблемы в зависимости от времени, а не
от пространства.
«Воспринимать всё в терминах большего и меньшего, не видеть ничего, кроме различий в
степени и различий в интенсивности там, где более основательным образом присутствуют
различия по природе, — это, возможно, самая общая ошибка мышления, ошибка, присущая как
науке, так и метафизике». (Там же. С. 236.)
Там же. С. 237.
Там же. С. 243.
Там же. С. 244.
Глава 2. Галерея портретов
97
Все деления и дуализмы Бергсона, замечает Делёз, зависят от
разделения между длительностью и пространством. Интуиция сама по себе
не является длительностью; скорее, это движение, посредством
которого «мы возникаем из нашей собственной длительности»1. «..."Я",
которое не меняется, — не длится», — говорил Бергсон2. Эту нашу
длительность, добавляет Делёз, мы используем для утверждения и
распознавания других длительностей. Как замечает Т. Мэй, «Анри
Бергсон предлагает необходимый Делёзу подход. У Бергсона человеческое
измерение времени открывается на более широкий горизонт, который
ни отрицает человеческое измерение, ни даёт ему привилегию»3.
Бергсоновская длительность — это не только живой опыт, но опыт,
выходящий за свои пределы и в то же время условие опыта. Опыт всегда
даёт нам композит пространства и длительности. Такое разделение
открывает два типа «многообразий»: один представлен пространством
(многообразие внешнего, одновременности, рядоположенности,
порядка, количественной дифференциации и различие в степени) и есть
дискретное и актуальное числовое разнообразие; другой представлен
в чистой длительности (внутреннее многообразие
последовательности, неоднородности, качественной различённое™) и есть виртуальное
и непрерывное многообразие, не сводимое к числам. «Когда в 1950-х —
начале 1960-х Делёз прочитал Бергсона, — пишет Дж. Брюссо, — он
закрепил наиважнейшее различие — различие между движением от
возможного к реальному и движением от виртуального к актуальному»4.
Речь у Бергсона, говорит Делёз, идёт не о противопоставлении
Многого и Единого, а о различении двух типов многообразий, отсылающем
1 Там же. С. 247.
2 Бергсон А. Творческая эволюция. Пер. В. Флеровой. М. : ТЕРРА-Книжный клуб; КАНОН-
пресс-Ц2001.С41.
3 May T. Gilles Deleuze. An Introduction. P. 45. «Было бы ошибкой полагать, будто цель интуиции
для Делёза состоит в том, чтобы достичь этой данности, здесь и сейчас, — пишет Л. Р. Брай-
ант. — Скорее, объект интуиции — это не эфемерный случай в форме характеризующего
положение вещей произошедшего, а то, что можно назвать стилем, диаграммой становления
или морфологической сущностью... Морфологическая сущность характеризует не вещь, но
возможный мир, систему явлений, характер бытия... » (Bryant L. R. Difference and Giveness.
P. 66.)
4 Brusseau J. Isolated Experiences. Gilles Deleuze and the Solitudes of Reversed Platonism. NY:
State University of New York Press, 1998. P. 88.
98
Часть ι. Древо
к теории Римана, различавшего дискретные и непрерывные
многообразия (первые содержат в себе принцип собственных метрик, а вторые
разворачиваются на чём-то ином). Впрочем, бергсоновская
интерпретация отличается от римановской, утверждая, что непрерывные
многообразия принадлежат сфере длительности. Таким образом, длительность
для Бергсона не есть что-то неделимое или не поддающееся измерению,
но то, что делится, меняясь по природе и изменяется, варьируя свой
метрический принцип на каждой стадии деления. Таким образом,
«Бергсон... не довольствуется противопоставлением философского
видения длительности и научной концепции пространства, а рассматривает
проблему на почве двух типов многообразий»1. Для Бергсона
объективное — это то, что не обладает виртуальностью, в нём всё актуально
независимо от того, возможно оно или реально. Поэтому объект — это
не только то, что делится, но то, что при делении благодаря различиям
в степени не изменяется по природе. В этом смысле объект является
числовым множеством, ибо число — модель того, что делится, не
меняясь по природе.
Следовательно, длительность — это не просто что-то неделимое,
хотя Бергсон (ради удобства, замечает Делёз) выражается именно так.
Длительность делится постоянно и потому является многообразием.
Но делится она постоянно меняясь по природе, поэтому она является
нечисловым множеством, когда на каждой стадии деления можно
говорить о «неделимых». «Есть другое, без наличия нескольких) число
существует только потенциально»2. Поэтому субъективное, или
длительность, есть нечто виртуальное, виртуальное постольку,
поскольку оно актуализируется и пребывает в процессе актуализации, будучи
неотделимо от движения собственной актуализации. Ведь
актуализация осуществляется посредством дифференциации и благодаря
своему движению создаёт различия по природе. В числовом множестве всё
актуально; нет иных отношений, кроме отношений между актуально-
стями, и никаких различий, кроме различий в степени. Нечисловое
многообразие, определяющее длительность и субъективность, напротив, не
пространственно, а темпорально: от виртуального оно движется к
своей актуализации и актуализируется, создавая линии дифференциации,
1 Делёз Ж. Бергсонизм. С. 253-254.
2 Там же. С. 256.
Глава 2. Галерея портретов
99
соответствующие его различиям по природе. У многообразия такого
типа три свойства: непрерывность, неоднородность и простота.
Понятие многообразия, продолжает Делёз, спасает бергсоновскую
мысль от существования в терминах Единого и Многого.
Философские теории, комбинирующие Единое и Многое, претендуют на
реконструирование реальности с помощью общих идей. Делёз усматривает
у Бергсона следование Платону, высмеивавшему тех, кто утверждал,
что Единое есть Многое, и наоборот. «В каждом случае он [Платон]
спрашивал: как, сколько, когда и где? "Каково" единство много и
"каково" многое единого?»1. Поэтому общим пунктом у Платона и у
Бергсона оказывается поиск процедуры, способной задавать конкретную
«меру». Вместе с тем, бергсоновская длительность противоположна
диалектическому становлению, поскольку является многообразием и не
сводится к сочетанию, в котором Единое и Многое совпадают при
условии схваченности в высшей точке их всеобщности. Многообразие —
вовсе не то же самое, что многое, и его простота — не то же, что Единое.
«Фактически, именно категория многообразия — благодаря различию
по природе между двумя типами, которые оно подразумевает, —
позволяет нам осудить мистификацию мышления, оперирующего в терминах
Единого и Многого»2.
При этом, говорит Делёз, остаётся нерешённым вопрос о том,
действительно ли внешние вещи длятся. Длятся они только для
вспоминающего их сознания. Физический опыт движения наслаивается здесь на
психологический опыт длительности. Но психологическая
длительность у Бергсона требует переосмыслить вопрос о пространстве на
новых основаниях. Пространство у него — не просто форма внешнего,
оно фундировано в вещах, в отношениях между вещами и между
длительностями. Поэтому Бергсон — никоим образом не психологист.
«... Бергсон занимается чем угодно, но только не психологией,
поскольку материя — это скорее онтологический принцип мышления, нежели
простое мышление, психологический принцип материи и пространства
как таковых», — писал он в своей статье 1956 г.3
1 Там же. С. 258.
2 Там же. С. 261.
■ Deleuze G. Bergson, 1859-1841 / L'île Déserte. Textes et entretiens 1954-1974. P. 30. «Мы
знаем, замечает П. Монтебелло, — что сила прочтения Делёзом "Материи и памяти" в том,
100 Часть ι. Древо
Длительность — это память, а в силу этого сознание и свобода.
Память тождественна и коэкстенсивна длительности, однако такое
положение, говорит Делёз, имеет силу больше в принципе, нежели фактически.
Память связана с прошлым. Путая бытие как таковое с быть-настоя-
щим, мы полагаем, что прошлое перестало быть. Напротив, поясняет
Делёз мысль Бергсона, это настоящего нет. Настоящее — это всегда
чистое становление, внешнее самому себе. «Его не существует, но оно
действует»1. Стихия настоящего — не бытие, а действенность и
полезность. Прошлое уже перестало действовать и быть полезным, но не
перестало быть2. «Как мы воспринимаем то, что вещи пребывают не
внутри нас, а там, где они находятся, так же мы схватываем прошлое там, где
оно существует само по себе, а не в нас самих, не в нашем настоящем»3.
Это значит, что есть «прошлое вообще», подобное «онтологической
стихии», данное на все времена как условие «прохождения» каждого
конкретного настоящего. «Прошлое вообще» делает возможным
любые прошлые. Перемещение в «прошлое вообще» — это бергсонов-
ский «скачок в онтологию» (как замечает Делёз, это «почти къеркего-
ровская» идея), в котором мы перескакиваем в бытие-в-себе прошлого.
Древняя и онтологическая память, которая здесь работает, не имеет
ничего общего с психологией; лишь после «скачка» воспоминание
постепенно обретает психологическое существование, переходя из
виртуального в актуальное состояние.
Мы слишком привыкли мыслить в терминах «настоящего». Мы
верим, что настоящее является прошлым только тогда, когда оно
замещается другим настоящим. Тем не менее, давайте задумаемся: как бы могло
быть настигнуто новое настоящее, если бы прежнее настоящее действи-
что он разделил онтологическое прошлое и психологическое настоящее». (Монтебелло П.
Бергсон и Делёз, контр-феноменология. Пер. Ю. Подороги // Логос. 2009. № 3.101.)
1 Делёз Ж. Бергсонизм. С. 267.
2 «Бесполезное, бездействующее и бесстрастное, оно ЕСТЬ, в полном смысле этого слова; оно
сливается с бытием в себе. Не нужно говорить, что оно "было", поскольку оно и есть это в-себе
бытия, а также форма, под которой бытие сохраняется в себе (сохраняется в противовес
настоящему — форме, под которой бытие завершается и располагается вне самого себя). В
конечном счёте здесь пересматриваются изначальные определения: о настоящем каждое мгновение
мы должны говорить, что оно "было", а о прошлом, что оно "есть" что оно вечно, дано на все
времена». (Там же. С. 268.)
3 Там же. С. 269.
Глава 2. Галерея портретов
101
тельно не уходило в то самое время, в какое оно является настоящим?
Как могло бы любое настоящее хоть как-то пройти, если бы оно не было
прошлым в то самое время, когда является настоящим? Прошлое
никогда бы не конституировалось, если бы оно уже не было конституировано
с самого начала — в то самое время, когда оно было настоящим. Здесь
есть, так сказать, фундаментальная позиция времени, а также наиболее
глубокий парадокс памяти: прошлое «одновременно» с настоящим,
в котором оно уже есть1.
Прошлое и настоящее указывают не на два последовательных
момента, а на две сосуществующие стихии — не перестающее проходить
настоящее и не перестающее быть прошлое, через которое проходят
все настоящие. Иными словами, всякое настоящее возвращается к себе
как прошлое. Делёз вновь находит у Бергсона платонизм, сопоставляя
эту доктрину с платоновским учением об анамнезисе, также
утверждающим чистое бытие без прошлого, бытие в себе прошлого и
онтологическую память.
Бергсон критикует Эйнштейна за смешивание виртуального и
актуального, каковое проявляется во введении символического фактора, т. е.
фикции. Делёз утверждает, что эта критика направлена на смешивание
двух типов многообразий (актуального пространственного
многообразия и виртуального временного многообразия). Таким образом,
проблема в том, с каким типом многообразия мы имеем дело в
длительности. Эйнштейн придумал новый способ опространствливания времени,
однако в итоге он получил лишь символ для выражения композитов.
Длительность, продолжает Делёз, заключает в себе все качественные
различия, определяясь как изменение по отношению к самой себе.
Пространство представляет только различия в степени, выступая как схема
неопределённой делимости, о чём говорил ещё Зенон Элейский.
«Память — это, по сути, различие, а материя, по сути, — повторение»2.
Так впервые намечается проблематика, которую Делёз будет развивать
в «Различии и повторении». Более того, здесь же намечается концепт
плана (вырастающий из бергсоновского «плана природы»), который
будет иметь важнейшее значение в будущем совместном творчестве
Там же. С. 271.
Там же. С. 302.
102
Часть ι. Древо
Делёза и Гваттари: существует, говорит Делёз, несколько планов,
каждый из которых соответствует одной из степеней, сосуществующих
в длительности. «Слово "план", — добавляет Делёз, — отсылает,
скорее, к срезам, к коническим сечениям, а не к проекту или к
какой-нибудь цели»1. Эти конические сечения впоследствии дадут начало
концепту трансверсальности.
Все степени сосуществуют в некой единой Природе, которая
выражается 1) в различиях по природе и 2) в различиях в степени. Все
степени сосуществуют в неком едином Времени, являющимся природой
в себе. Таким образом, говорит Делёз, монизм и дуализм у Бергсона
непротиворечиво сочетаются как моменты метода. Дуальность
существовала между актуальными тенденциями, а виртуально (и только
виртуально) все степени сосуществуют. Сама точка унификации виртуальна
и возможна лишь как нечто сходное с Единым платонизма.
Завершая свою книгу, Делёз резюмирует то, с чего начинал:
длительность определяет виртуальное многообразие; память возникает как
сосуществование степеней различия в данном многообразии или
виртуальности; жизненный порыв есть актуализация виртуального согласно
линиям дифференциации в соответствии со степенями.
Надо сказать, что у Делёза получился весьма своеобразный
философский портрет Бергсона. «Тех, кто знаком с сочинениями Бергсона,
чтение Делёзова исследования приводит в замешательство, потому что
все теоретические элементы на месте, включая множество примеров, но
сам акцент изменяется, появляются неожиданные метафоры, зачастую
возводимые в ранг понятий», — пишет П. Эткинсон2.
Действительно, Делёз был весьма своеобразным историком философии, его книга
о Бергсоне не годится для первого знакомства с этим философом, а бер-
гсонианцев может озадачить, и тем не менее, Делёзу удалось решить две
важные задачи. Во-первых, он обрёл надёжную опору а^л позднейших
собственных построений, а во-вторых, вернул интерес к Бергсону во
Франции.
По позднейшему признанию самого Делёза, самым важным для него
философом был даже не Бергсон, а Спиноза. Спинозе была посвящена
1 Там же. С. 303.
2 Atkinson P. Henry Bergson // Deleuzes Philosophical Lineage. Eds. G.Jones & J. Roffe. P. 239.
Глава 2. Галерея портретов
103
«вторая диссертация» Делёза, «Идея выражения в философии
Спинозы», написанная под руководством Фердинанда Алки. В 1968 г. она
была опубликована под немного изменённым названием1. Как мы уже
говорили, у Делёза вышли некоторые разногласия с Алки,
отстаивавшим картезианский дуализм. Кроме того, как и в случае с Бергсоном,
ему пришлось преодолевать расхожее представление о Спинозе как
о чисто теоретическом мыслителе, не имеющем ничего общего с
реальностью. А. Кожев считал, что спинозизм — мёртвая система,
исключающая какую бы то ни было свободу. Делёз, напротив, стремился
показать, что Спиноза — мыслитель ницшеанского типа, живой и
свободомыслящий.
Над Спинозой я работал наиболее серьёзно в соответствии с
нормами истории философии, — говорил впоследствии Делёз, — но именно
он более всего произвёл на меня впечатление порыва ветра,
подталкивающего вас в спину всякий раз, как вы его читаете, впечатление ведьминой
метлы, которую он заставляет вас оседлать. Спинозу ещё даже не начали
понимать, и я здесь не исключение2.
Книга о Спинозе необычна в том отношении, что Делёз не
ограничивается концептуальным анализом, но показывает, каким образом
жизнь философа может быть частью его философии. По словам Ницше,
аскетические добродетели, которыми овладевает философ (смирение,
нищета, целомудрие), служат его собственным целям. Жизнь
философа — это «следствия-эффекты» самой его философии, она не
подчиняется потребностям, не основывается на целях и средствах, но берёт своё
начало в творчестве. «Так что те, кто нападает на философа,
испытывают стыд от того, что они нападают на проявления скромности, бедности
и целомудрия; и от этого их бессильная ярость лишь возрастает; сам же
философ, не сопротивляясь, принимает на себя каждый удар»3.
Мыслителя оправдывает сама его жизнь, и у Спинозы Делёз находит некое
единое целое, в которое складываются геометрический метод, профессия
Deleuze G. Spinoza et le problème de l'expression. P.: Minuit, 1968.
Deleuze G., Parnet Cl. Dialogues. P. 22.
Делёз Ж. Спиноза / Эмпиризм и субъективность: Опыт о человеческой природе по
Юму. Критическая философия Канта: учение о способностях. Бергсонизм. Спиноза. Пер.
Я. И. Свирского. С. 325.
104
Часть ι. Древо
полировщика линз и сама его жизнь. «Спиноза не верил ни в надежду,
ни даже в мужество; он верил только в радость и в зрение»1.
Делёз называет «Трактат об усовершенствовании разума» лучшим
изложением метода Спинозы, а в «Богословско-политическом
трактате» обнаруживает функцию философии как радикального деяния,
направленного на демистификацию, однако сосредоточивается в
основном на «Этике». У Спинозы Делёз находит две радикальные
новации. Во-первых, оптику: «Даже имея дело с религией, Спиноза
полирует линзы — спекулятивные линзы, обнаруживающие произведённый
эффект и законы его производства»2. Во-вторых, Спиноза предложил
философам тело в качестве новой модели. Речь у него идёт о том, что
тело шире имеющегося в нём знания, а мышление — шире
имеющегося у нас сознания. Это не просто обесценивание сознания в отношении
протяжённости, но, что важнее, обесценивание сознания в отношении
мышления, т. е. открытие бессознательного в мышлении. Эта
перспектива представляется Делёзу чрезвычайно важной, так что даже Ницше,
писавшего о том, что высшая деятельность принципиально
бессознательна, он считает спинозистом.
В тезисе Спинозы о том, что лишь одна субстанция обладает
бесконечностью атрибутов, сочетаются пантеизм и атеизм, однако
скандализировал общество он не этим, а своими практическими положениями,
подразумевающими осуждение «сознания», «ценностей» и «мрачных
состояний». «Этика» как топология имманентных модусов
существования смещает Мораль, связывающую существование с
трансцендентными ценностями, так что оппозиция ценностей (добро/зло)
вытесняется качественным различием модусов существования (хорошо/плохо).
Таким образом, Закон как трансцендентная инстанция вытесняется
знанием как имманентной способностью.
Всем своим творчеством, говорит Делёз, Спиноза осуждает
людей в «мрачном состоянии», тех, кто учреждает на этих состояниях
свою власть, и тех, кто ими омрачён. Другими словами, раба, тирана
и священника. Делёз тоже всю жизнь борется с этими персонажами.
«Этика» Спинозы говорит он, — это по необходимости этика радо-
Там же. С. 336.
Там же. С. 333.
Глава 2. Галерея портретов
105
сти, тогда как мрачные состояния всегда равнозначны бессилию. Таким
образом, этическая радость оказывается коррелятом спекулятивного
утверждения. Тройная проблема «Этики» сводится к вопросам: «как
мы добираемся до максимума радостных страстей, или радостных
пассивных состояний?», «Как мы формируем адекватные идеи?», «Как
мы начинаем осознавать себя, Бога и вещи?»1. Путь «Этики» пролегает
через имманентность, а имманентность, говорит Делёз, это само
бессознательное.
Делёз составляет своего рода словарь спинозистских понятий,
показывая, что оригинальность параллелизма Спинозы состоит в том, что
тот утверждает не только тождество «порядка» между телом и душой,
между феноменом тела и феноменом души, но и тождество
«соединения» между рядами протяжённости и мышления: «благодаря
спинозистской критике всякой эминенции, всякой трансценденции и равно-
смысленности, ни один атрибут не главенствует над другим, ни один не
зарезервирован для творца, ни один не отсылает к сотворенным
существам и к их несовершенству»2. Другими словами, ряд тела и ряд души
представляют не только один и тот же порядок, но и одну и ту же цепь
соединений под равными принципами. И наконец, Делёз
обнаруживает спинозистское тождество бытия: одна и та же вещь (модификация)
производится в атрибуте мышления под модусом души и в атрибуте
протяжённости под модусом тела. Параллелизм души и тела, согласно
мысли Делёза, есть первый случай общего эпистемологического
параллелизма между идеей и её объектом.
Впоследствии Делёз будет раз за разом возвращаться к
творчеству Спинозы. В 1970 г. он опубликует антологию текстов Спинозы,
сопровождаемых комментариями и жизнеописанием3, в 1978-м напишет
статью об актуальности спинозизма4, в 1980-81 учебном году посвятит
Спинозе лекционный курс в университете Венсенна, а в 1981 г.
обобщит свои ранние работы о голландском философе в новой книге об
1 Там же. С 349-350.
2 Там же. С. 366.
3 Deleuze G. Spinoza. Textes choisis. P.: PUF, 1970.
4 Deleuze G. Spiniza et nous // Revue de synthèse. 1978. Janvier. Этот текст представляет собой
выступление Делёза 1977 г. по случаю трёхсотлетия со дня смерти Спинозы.
106
Часть ι. Древо
«Этике»1, в которой «Спиноза послужит Делёзу орудием борьбы
против структурализма и психоаналитизма»2.
В своих лекциях Делёз говорит: философ — это не только тот, кто
изобретает понятия, но ещё и тот, кто открывает новые способы
чувствовать. Спиноза, используя геометрический метод, предлагает нам
«геометрический портрет» нашей жизни, предлагая возможность
проследить, как наши идеи следуют друг за другом. Однако, помимо
последовательности идей, наша жизнь характеризуется ещё и режимом
вариаций. Повседневные события ведут к изменению силы нашего
существования и нашей воли к действию. Это изменение Спиноза
называет аффектом. Идея и аффект — разные вещи: аффект не сводится
к интеллектуальному сопоставлению идей, он создаётся пережитым
событием, которое определяется идеей, но само идеей не является.
«Аффекты — это становления», — напишет Делёз в «Тысяче плато»3.
Делёз обнаруживает у Спинозы три вида идей: идеи ajfectio, понятия
и сущности4. Первый вид представляет привязанности тела: смешения
одного тела с другим, следы, оставляемые одним телом на другом, —
и отвечает первому роду знания. Аффект, т. е. воздействие одного тела
на другое, представляет собой смешение не только тел, но и душ
(например: Делёз часто говорил о том, что не любит сыр; это значит, что
соприкосновение его тела с сыром порождает душевный аффект отвра-
1 Deleuze G. Spinoza. Philosophie pratique. P.: Minuit, 1981.
2 Dosse F. Gilles Deleuze et Félix Guattari. P. 183.
3 Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. Пер. Я. И. Свирского.
Екатеринбург: У-Фактория; М. : Астрель, 2010. С. 423.
4 Лекции о Спинозе, читавшиеся в конце 70-х — начале 80-х гг., обнаруживают влияние
семиотики Ч. С. Пирса. В этой классификации идей можно усмотреть прямое сходство с
изложением пирсовых идей в книге о кино: «После того, как Пирс различил переживание и действие,
названные им, соответственно, Одинарностью и Двоичностью, он добавил к ним образ
третьего типа: "ментальное", или Троичность. Множество Троичности представляет собой терм,
отсылающий ко второму терму при помощи ещё одного или нескольких термов. Эта третья
инстанция предстаёт в значении, законе или отношении. На первый взгляд, всё это уже
включено в действие, но лишь на первый взгляд: действие, то есть поединок или пара сил,
подчиняется законам, которые делают его возможным, но осуществлению его никакой закон никогда
не способствует; хотя действие имеет некое значение, не значение образует его цель, ибо цель
и средства не включают в себя значение; действие устанавливает отношения между двумя
термами, но эти пространственно-временные отношения (например, оппозицию) не следует
смешивать с логическими». (Делёз Ж. Кино. С. 268.)
Глава 2. Галерея портретов
107
щения). Поэтому нет оснований проводить резкую границу между
душевной симпатией и вещественными отношениями. Этот ход Спинозы
Делёз справедливо расценивает как анти-картезианский: это отказ не
только от дуализма мыслящей и протяжённой субстанций, но и от идеи
cogito. Я знаю себя только в воздействии других тел на меня и как
смешение с другими телами. С этим же связано спинозистское различение
этики и морали. Этика для Спинозы — это проблема власти, а не
долженствования. В этом отношении, говорит Делёз, Спиноза глубоко
аморален, и именно поэтому им так восхищался Ницше.
Идея-понятие в большей степени касается воздействия других тел
на моё и характеризует отношения моего тела с другими. Идея-понятие
добирается до понимания причины: смешение тел порождает то или
иное следствие, и происходит это из-за различия тел по природе. Общие
понятия всегда отсылают к множественному, и тем не менее, остаются
индивидуальными. Каждое тело соответствует общему понятию и при
этом остаётся индивидуальным.
И наконец, третий вид идей — сущности. Этот вид идей
представляет собой чистые интенсивности. Моя собственная интенсивность
соотносится с интенсивностями других тел. Но ни одно тело не сводится
к другому. Поэтому имеет смысл говорить о сущностях.
Человек не определяется сущностью; скорее, его сущность сводится
к тому, на что он способен. Так что люди у Спинозы оказываются
количествами силы. Вместе с тем, Спиноза говорит о двух способах
существования (господина и раба), а потому в «Этике» речь идёт не о
количествах силы, а о полярности различных способов существования1.
«Этикой» Спиноза называет онтологию: его этика не имеет ничего
общего с моралью. Термин «этика», говорит Делёз, легко понять,
обратившись к современному понятию «этология», которым обозначается
наука о бытии существ.
В морали речь идёт о сущности и о ценностях. Поэтому мораль не
может стать онтологией: она всегда предполагает существование чего-
1 Лекция 9 декабря 1980 г. «Каждая сила, — пишет Делёз в книге о Фуко, — одновременно
обладает способностью воздействовать на другие силы и испытывать воздействие со стороны
других сил, так что каждая сила подразумевает взаимоотношения власти; именно всё силовое
поле в целом распределяет силы в зависимости от этих взаимоотношений и их вариаций».
(Делёз Ж. Фуко. С 99.)
108
Часть ι. Древо
то стоящего выше Бытия и служащего основанием для вынесения
оценочных суждений. Здесь ставится вопрос об осуществлении сущности.
Эта сущность не осуществляется сама собой, потому что человек не
является чисто разумным существом; поэтому мораль оказывается
процессом осуществления человеческой сущности. Спиноза часто говорит
о сущности, но это не сущность человека. Его интересует не сущность,
а существование. Поэтому, считает Делёз, его можно назвать первым
экзистенциалистом.
Делёз будет постоянно возвращаться к философии Спинозы, находя
у него платформу, необходимую для построения собственных
конструкций. «По Делёзу, исходной проблемой, определяющей весь проект
Спинозы, является проблема понимания различия или различения не только
между конечными элементами (когда, как у Декарта, изначально
принимается множество субстанций), но исходящего из бесконечности и
мыслящего бесконечность абсолютно и позитивно», — пишет П. Машри1.
ГЛАВА 3. ЛОГИКА РАЗЛИЧИЯ
...Трудность различения в языке не может устранить
различия в вещах.
И. Кант,
О применении телеологических принципов в философии
28 января 1967 г. Делёз выступил на заседании Французского
философского общества с докладом, озаглавленным «Метод драматизации».
Здесь он излагал мысли, которые войдут в «Различие и повторение»:
«Актуализацию Идеи определяют динамические процессы. Но как они
соотносятся с ней? Это именно драмы, они драматизируют Идею»2.
Но самое существенное заключалось, пожалуй, в том, что Делёз заявил
0 невозможности ставить философские вопросы так, как это делал
Платон: спрашивать «что?» а не «как».
1 Macherey P. The Encounter with Spiniza // Deleuze: A Critical Reader. Ed. P. Patton. P. 149.
2 Делёз Ж. Различие и повторение. С. 265.
Глава 3. Логика различия
109
Идея, открытие Идеи неотделимо от определённого типа вопроша-
ния. Идея есть прежде всего «цель», соответствующая как таковая
определённому типу вопрошания. Она возникает в ответ на постановку
определённых вопросов. В платонизме вопрос об Идее ставится в форме:
«Что такое... ?» Этот благородный вопрос ставится о сущности и
противопоставляется вульгарным вопросам, где речь идёт лишь о примере
или о случае. Таким образом, мы спрашиваем не о том, что красиво, но
о том, что такое красота. Не о том, где и когда совершается
справедливость, но о том, что такое справедливость. Не о том, как получить «два»,
но о том, что такое двойка. Не о том, сколько, но о том, что... Кажется,
весь платонизм противопоставляет главный вопрос, непрестанно
повторяемый Сократом, вопрос о сущности или об Идее, второстепенным
вопросам о мнении, выражающим лишь путаную манеру мыслить,
присущую старикам или несмышлёным детям, софистам или чересчур
ловким риторам.
И тем не менее, эта привилегия вопроса «Что такое... ?»
оказывается запутанной и сомнительной даже в платонизме и в
платонической традиции. Ведь вопрос «Что такое... ?», в конце концов, оживляет
лишь диалоги, называемые апоретическими. Возможно ли, чтобы вопрос
о сущности был вопросом противоречивым и сам ввергал нас в путаные
противоречия? Как только платоновская диалектика становится вещью
серьёзной и положительной, она принимает другие формы: кто? —
в «Политике», как? — в «Филебе», когда? — в «Софисте», при каком
условии? — в «Пармениде». Словно бы Идея могла положительно
определяться лишь в зависимости от трансцендентальных типологии,
топологии, дозировки, казуистики. Теперь используются те самые формы, что
ставились в упрёк софистам, низшие формы вопросов, неспособные
определить условия, при которых они могут быть поставлены, и их
идеальный смысл. Напрасно стали бы мы искать в истории философии такого
философа, который мог бы поставить вопрос «что такое?». Аристотель?
Нет, не Аристотель. Может быть, Гегель? Разве что Гегель, потому что его
диалектика была диалектикой пустой и абстрактной сущности,
неотделимой от движения противоречия. Вопрос «что такое?» предполагает
Идею как простоту сущности; поэтому простая сущность
предполагает бессущностное, а значит, в сущности, сама себе противоречит. Всякий
иной подход (такой, который намечается в философии Лейбница)
должен полностью отличаться от противоречия: на сей раз бессущностное
предполагает сущностное, причём предполагает его событийно.
Рубрика «событийного» формирует оригинальный язык свойств и событий.
по
Часть ι. Древо
Этот подход, отличный от подхода, предполагающего противоречие,
стоит назвать вице-дикцией. Он заключается в том, чтобы рассматривать
Идею как множество. Вопрос не в том, представляет собой Идея одно
или многое, или же то и другое сразу; существительное «множество»
обозначает область, где Идея как таковая оказывается ближе к
случайности, нежели абстрактная сущность, и может определяться лишь
вопросами какой? как? сколько? где и когда? в каком случае? — всеми формами,
расчерчивающими действительные пространственно-временные
координаты1.
После выступления Делёза состоялись весьма оживлённые дебаты,
фрагмент которых мы приведём, чтобы проиллюстрировать состояние
мысли Делёза на тот момент.
Фердинанд Алки: Я восхищён докладом, представленным нашим
другом Делёзом. Вопрос, который я хотел бы ему задать, очень прост и
касается начала его выступления. Делёз начал с того, что осудил вопрос «Что
такое?» и больше не возвращался к этому. Я принимаю то, что он сказал
после этого и понимаю, что он хотел поставить множество других
вопросов. Но мне кажется, что отказ от вопроса «Что такое?» был
несколько поспешным, и я не могу согласиться с тем, что он сказал нам в самом
начале, немного смутив нас: что ни один философ не ставил такой
вопрос, за исключением Гегеля. Признаюсь, это меня несколько удивляет: на
самом деле я знаю много философов, задававшихся вопросом «Что
такое?». Лейбниц спрашивал «что такое субъект?» или «что такое
монада?». Беркли спрашивал «что такое бытие?», «каковы смысл и значение
слова быть». Сам Кант спрашивал, «что такое объект?». Можно
привести много других примеров — думаю, неоспоримых. Мне показалось,
что далее Делёз повернул философию к другим проблемам, которые для
него, быть может, не столь важны, или, скорее, стал упрекать — впрочем,
небезосновательно — классическую философию за то, что она не
выработала понятий, применимых к науке, к психологическому или
историческому исследованию. На мой взгляд, это совершенно верно, и в этом
отношении сказанное им выше всяких похвал. Однако меня поразило,
что ни один из приведённых им примеров не был сугубо философским.
Он говорил нам о прямой линии — это пример из математики, о яйце —
физиологический пример, о генах — биологический пример. Когда он
Deleuze G. La Méthode de dramatization / L'île Déserte. Textes et entretiens 1954-1974.
P. 133-134.
Глава 3. Логика различия
111
добрался до истины, я сказал себе: вот наконец философский пример!
Но этот пример оказался неудачным, потому что Делёз сказал нам, что
следует спросить: кто желает истины? почему желают истины? почему
ревнивец стремится к истине? и т. п.; вопросы, конечно, чрезвычайно
интересные, но относятся не к самой сущности истины, а значит, не могут
считаться строго философскими вопросами. Скорее, это вопросы
философии, обращающейся к психологическим, психоаналитическим и т. п.
проблемам. Я, в свою очередь, хотел бы задать следующий вопрос: я
уяснил, что Делёз упрекает философию за то, что та, вопреки его желанию,
сделала из Идеи концепцию, непригодную для научных,
психологических, исторических проблем. Но я думаю, что наряду с этими проблемами
остаются ещё классические философские проблемы, а именно, проблемы
сущности. Во всяком случае, не думаю, что можно, подобно Делёзу,
говорить, будто великие философы никогда не ставили подобных проблем.
Ж. Делёз: Вы совершенно правы, мсье, в том, что многие философы
задавались вопросом «Что такое?». Но, может быть, для них это просто
удобная манера выражаться? Кант, конечно же, задаётся вопросом «что
такое объект?», но этот вопрос он ставит в рамках более глубокого
вопроса о том, как, что можно понимать в таком смысле: «Как это
возможно?». Важнее всего, на мой взгляд, тот новый способ, каким Кант
интерпретирует вопрос как? Когда Лейбниц ограничивается вопросом «Что
такое?», разве он достигает чего-либо иного, нежели определений,
называемых номинальными? Если же он добирается до реальных
определений, то разве это делается не через как? с какой тонки зрения? в каком
случае? У него есть целая топология, целая казуистика, проявляющаяся
в его интересе к праву. Я коснулся этого слишком поверхностно.
Другой ваш упрёк задевает меня ещё сильнее. Я глубоко убеждён
в специфичности философии, я разделяю с вами это убеждение. Итак, вы
говорите, что описанный мною метод применим повсеместно, в
различных науках, но мало подходит для философии. И что единственный
философский пример, к которому я обратился, пример с истиной, оказался
неудачным, поскольку заключался в том, чтобы раскрыть понятие истины
в психологических или психоаналитических определениях. Если это так,
то это провал. Ведь Идея как виртуальная-реальная не должна
описываться исключительно в научных терминах, даже если наука с
необходимостью вступает в процесс своей актуализации. Даже такие понятия как
сингулярное и регулярное, исключительное и всеобщее не исчерпывают
математику. Я обращусь к тезисам Лотмана: теория систем должна
показать, что движение научных понятий должно прибегать к возвышающей-
112
Часть ι. Древо
ся над ними диалектике. Pix динамика не сводится к психологическим
определениям (и когда я приводил в пример ревнивца как «тип» искателя
истины, речь шла не о психологическом характере, но о комплексе
пространства и времени, о «фигуре», связанной с самим понятием истины).
Мне кажется, что теория систем не только является философской, но
и формирует систему весьма особенного типа — философскую систему,
обладающую собственной динамикой, своими предшественниками,
своими порождающими сюжетами, своими философами. Во всяком случае,
при данных условиях такой метод имеет смысл1.
Осенью 1967 г. в Лион приехал Жак Лакан. Делёз встретил его на
вокзале и пригласил к себе выпить аперитив. Лакан согласился, но,
когда они прибыли на место, от спиртного отказался, а через десять минут,
сославшись на усталость, отправился в отель. За обедом в гостиничном
ресторане, на котором присутствовали Ж.-П. Шартье и А. Мальдини,
Лакан заказал бутылку водки, которую в скором времени наполовину
опорожнил. На слова Делёза о том, что его приезд в Лион станет
незабываемым событием, он бросил лишь загадочное «да нет же!».
После обеда Лакан прочитал лекцию, а вечер завершился ужином у
Делёза. Мальдини пришлось обежать весь Лион в поисках сигар для Лакана.
Мэтр был не в духе, и его визит ни у кого не оставил тёплых
воспоминаний.
Эта странная «невстреча» была довольно неожиданной. Лакан
неизменно высоко оценивал труды Делёза, советуя своим ученикам
читать не только его текст о мазохизме, но и «Различие и повторение»
и «Логику смысла» и намекая, что Делёз испытал большое влияние его
собственного учения. Он не преувеличивал: Делёз во второй половине
1960-х гг. действительно находился под сильным влиянием лаканизма.
Впрочем, это было временное увлечение. Как пишет Ф. Досс, «в
конце 1960-х гг., когда считалось, что психоанализ — дисциплина, идущая
в одной упряжке со структурализмом, Делёз заимствовал язык и
подход своих современников. Но использование этого языка было
недолгим: Делёз уже собирается выгнать из логова эту психоаналитическую
претензию... »2
Ibid. P. 147-150.
Dosse F. Gilles Deleuze et Félix Guattari. P. 228.
Глава 3. Логика различия
113
В университете Лиона революция 68-го приняла те же формы, что
и в Париже. Студенты срывали лекции и выступали против
академической системы образования. Коллега Делёза Женевьева Роди-Льюис,
изучавшая труды учеников Декарта, получивших название «младших
картезианцев», стала первой жертвой выступлений: студенты
дефилировали по улицам с плакатом «Долой младших картезианцев!». Сам Де-
лёз был одним из немногих лионских преподавателей, сразу принявших
сторону бунтующих студентов. Он участвовал в демонстрациях и даже
в столкновениях с ультраправыми группировками. Его дети, Жюльен
и Эмили, вывесили на балконе красные флаги.
Ж. Коломбель вспоминает, как однажды, когда она обедала у
Делёза и Фани, в дверь постучался запыхавшийся студент, сообщивший, что
к университету движется большая группа «фашистов». Делёз
немедленно вскочил и побежал в университет, чтобы присоединиться к
студентам. Студенты собирали камни, чтобы забросать ими противника.
Эстетический вкус Делёза сказался в том, что он собирал только белые
камни1. Впоследствии он скажет, что «май 68-го был чистым событием,
свободным от всякой нормальной или нормативной каузальности»2.
По-видимому, Делёз искренне верил в идеи Революции, усматривая
в ней возможность &ля свободной субъектификации индивидов. В
«Логике смысла» он писал:
Пустое место — ни для человека, ни для Бога; сингулярности — ни
общие, ни индивидуальные; ни личные, ни универсальные. Всё это
пробегается циркуляциями, эхом и событиями, которые производят
больше смысла, больше свободы и больше сил, чем когда-либо мечтал
человек или когда-либо было постижимо для Бога. Задача сегодняшнего дня
в том, чтобы заставить пустое место циркулировать, а доиндивидуальные
и безличные сингулярности заставить говорить, — короче, чтобы
производить смысл3.
Colombel J. Deleuze-Sartre: pistes // Deleuze épars. P. 43.
Deleuze G. Mai 68 na pas eu lieu / Deux régimes de fous. Textes et entretiens 1975-1995. P. 214.
Делёз Ж. Логика смысла. Фуко M. Theatrum philosophicum. Пер Я. И. Свирского. М. :
Раритет; Екатеринбург: Деловая книга, 1998. С. 106. Много лет спустя в своей книге о Фуко Делёз
напишет: «Если почитать некоторые статьи, то можно подумать, что события 1968 года
происходили в головах парижских интеллигентов. Следует напомнить, что они стали продуктом
долгой череды событий во всём мире и целого ряда течений международной мысли, которые уже
114
Часть ι. Древо
Впрочем, всё это не мешало его научной работе. Выписав
внушительную галерею портретов великих философов прошлого, Делёз занялся
детальной разработкой своей собственной концепции. Лето 1968-го он
провёл в деревенском доме в Лимузене, заканчивая работу над
докторской диссертацией, которую рассчитывал защитить осенью. Он
постоянно чувствовал себя усталым и ослабленным. Он полагал, что это рак,
и не спешил узнать диагноз, отдавая все силы работе. Но, когда началось
кровохарканье, он всё-таки обратился к помощи медицины. Врач
поставил диагноз: рецидив туберкулёза лёгких. Его госпитализировали, а
защиту диссертации перенесли на январь 1969 г.
Возможно, несколько лет назад Делёз и не выжил бы: он
практически лишился лёгкого. Но теперь медицина располагала мощными
антибиотиками. Философу пришлось регулярно принимать лекарства,
проходить обследования и беседовать с врачами. Врачи ему совсем
не нравились, особенно хирурги: он находил их власть одиозной. Он
испытывал неприязнь к тем способам, которыми медицина обретает
власть над человеком. Кроме того, он считал врачей людьми
некультурными и говорил, что их стремление к культуре приводит к
катастрофическими результатам1. Ещё одним неприятным последствием болезни
было то, что Делёзу, по-прежнему принимавшему участие в уличных
манифестациях, стало трудно убегать от полиции: бегать с одним
лёгким было непросто.
Однако, несмотря на болезнь, диссертация была закончена и в самом
начале 1969 г. представлена в Сорбонне. Диссертация называлась
«Различие и повторение». Здесь Делёз занялся ниспровержением
платонизма и господствовавшего в те годы во французской интеллектуальной
традиции гегельянства. Это, по его мысли, позволит усилить
онтологию. Платон, утверждает Делёз, подчинил различие изначальным силам
одинакового и подобного, объявив само по себе различие немыслимым.
Вечное возвращение Платон попытался упорядочить, сделав его
результатом идей. Однако в самом платонизме уже заложен антиплатонизм,
заставляющий подобие уступить место повторению.
привязывали возникновение новых форм борьбы к появлению новой субъективности, пусть
хотя бы в виде критики централизма и "качественных" (то есть касающихся "качества жизни")
протестов». (Делёз Ж. Фуко. С. 150.)
1 См. : Азбука Жиля Делёза. С. 55.
Глава 3. Логика различия
115
В этой диссертации, несущей, по свидетельству Поля Вирильо,
следы влияния книги М. Мерло-Понти «Видимое и невидимое»1, Делёз
попытался развернуть онтологическую программу. Другим
источником вдохновения для Делёза стал стоицизм, вернее, исследование
стоицизма у В. Голдшмидта2. Сам он позднее говорил, что, хотя в этой
работе ещё представлен избыточный университетский аппарат, он уже
пытается здесь освободиться от него, «трактуя письмо как поток, а не
как шифр»3. Делёз отошёл от формата историко-философской
работы. « ../'Различие и повторение" была первой книгой, где я попытался
"заняться философией", — говорил он много лет спустя в предисловии
к американскому изданию книги. — Всё, что я делал потом, было
связано с этой книгой, даже то, что мы написали с Гваттари... »4
Проблематику «Различия и повторения» Делёз называет витающей
в воздухе своего времени. Её знаки — подчёркнутая ориентация Хай-
деггера на «философию онтологического Различия»; структурализм,
отыскивающий различительные знаки в пространстве сосуществования;
новый роман, в своих размышлениях и в своих техниках вращающийся
вокруг различия и повторения; открытие повторения в областях
бессознательного, языка, искусства и др. Все эти признаки Делёз относит на
счёт генерализованного антигегельянства, где различие и повторение
заняли место тождественного и негативного, тождества и противоречия.
Современная жизнь такова, что, оказавшись перед лицом наиболее
механических, стереотипных повторений вне нас и в нас самих, мы не
перестаём извлекать из них небольшие различия, варианты и
модификации. И наоборот — тайные, замаскированные, скрытые повторения
восстанавливают в нас и вне нас голые, механические, стереотипные
повторения. В симулякре повторение уже нацелено на повторения,
различие — на различия. Именно повторения повторяются, различающее
различается. Цель жизни — добиться сосуществования всех повторений
в пространстве распределения различия...5
1 См.: ViRiLio P. Voyage d'hiver. Entretien avec M. Brausch. P., 1997. P. 47.
2 Goldschmidt V. Le Système stoïcien et l'idée de temps. P. : Vrin, 1953.
3 Делёз Ж. Письмо суровому критику / Переговоры. С. 18.
4 Deleuze G. Préface à l'édition américaine de «Différence et répétition» / Deux régimes de fous.
Textes et entretiens 1975-1995. P. 280.
5 Делёз Ж. Различие и повторение. С. 9-10.
116
Часть ι. Древо
Книга «Различие и повторение», по замыслу самого Делёза,
развивается в двух направлениях: одно относится к понятию различия без
отрицания, т. е. не подчинённого тождественному и не доходящего до
оппозиции и противоречия, другое — к понятию повторения,
обнаруживающего свою причину в структурах «скрытого повторения», в
которых дифференциальное маскируется и смещается. Оба направления,
признаётся философ, соединились спонтанно, потому что понятия
«чистого различия» и «сложного повторения» совпадают и смешиваются1.
Такой подход позволяет Делёзу развить своеобразную
педагогическую критику философии: как традиционная педагогика требует от
ученика найти единственно правильное решение задачи, как наука
впадает в «естественную иллюзию», копируя задачи с предположений, так
и философия стремится перенести поиск истинного и ложного в свои
задачи и моделирует форму проблемы в соответствии с формой
предположений. Отталкиваясь от бергсоновского метода «интуиции», Де-
лёз ниспровергает эту ложную форму проблематизации. Как замечает
К. Боундас «бескомпромиссная делёзовская теория различия имеет
большое значение аля познания. Она опирается на критику образа
мысли (распознавание через репрезентацию), утверждаемую философской
традицией в качестве догмы; она возвещает новое понимание того, что
такое философия (создание концептов); она требует новой
методологии — "трансцендентального эмпиризма"»2.
Делёз отстаивает позицию эмпиризма, который, на его взгляд, не
противодействует понятиям и не взывает к пережитому опыту. Напротив,
эмпиризм создаёт концепты, это мистицизм и математизм концептов.
Концепт трактуется здесь как объект встречи, здесь и сейчас. Только
эмпиризм позволяет сказать, что концепты есть сами вещи в «свободном»
и «диком» состоянии, по ту сторону антропологических предикатов.
Понятия здесь складываются, переделываются и разрушаются исходя из
подвижного горизонта, децентрированного центра и смещённой
периферии, которая эти концепты повторяет и различает. Отсюда credo
Делёза: «Мы верим в мир, в котором индивидуации лишены персонифи-
« Постоянному расхождению и смещению различия непосредственно соответствуют
смещение и маскировка в повторении». (Там же. С. 10.)
Boundas С. V. What Difference does Deleuzes Difference make? P. 8.
Глава 3. Логика различия
117
кации, особенности — доиндивидуальны... ». Свою книгу он называет
апокалиптической, в том отношении, что она выявляет «приближение
к связности, не более присущей нам, людям, чем Богу или миру»1.
Повторение не сводится к общности, между повторением и
подобием лежит сущностное различие. Общность выражает ту точку зрения,
согласно которой один термин может быть заменён другим.
Повторение же является необходимым и обоснованным действием лишь в
отношении того, что замене не подлежит. Повторение — это действие
в отношении единичного и особенного, лишённого подобного и
равноценного2. Повторение вытекает скорее из чуда, чем из закона»3: оно
направлено против сходной формы и равноценного содержания закона,
так что оно «противозаконно». Оно выражает особенное, а не общее,
универсальное, а не частное, примечательное, а не банальное,
единовременное, а не переменчивое, вечное, а не постоянное. Повторение — это
трансгрессия, оно изобличает номинальный характер закона и
открывает художественную реальность. Это непонятийное различие,
сопротивляющееся любой понятийной спецификации.
Делёз стремится выяснить, почему повторение нельзя объяснить
через форму тождественности понятия или представления, а только
через некий высший «позитивный» принцип. Философ движется к
прояснению этого вопроса через понятие о физическом процессе сиг-
Делёз Ж. Различие и повторение. С. 11. «В этом пункте, — замечает Л. Р. Брайант, —
становится ясной природа трансцендентальной проблемы, с которой имеет дело Делёз. В
эмпиризме, метафизике и трансцендентальной философии эмпирическая ошибка возникает из-за
неспособности подобраться к индивидуации. Эмпиризм не в состоянии объяснить индиви-
дуацию сущностей из-за трудностей номинального или материального определения, которые
скорее скрывают, чем раскрывают сущность различия, господствующего над видимостями
или явлениями. С другой стороны, метафизика и трансцендентальная философия утверждают
лишь сами себя, приписывая сущностям готовые индивидуации в форме Самости или Лица
(почти так же, как означивание принимает готовую денотацию), а не индивидуацию как
таковую. Таким образом, метафизика и трансцендентальная философия, можно сказать,
ограничиваются простым определением условий». (Bryant L. R. Difference and Giveness. P. 38.)
«Праздник имеет один явный парадокс — повторять "возобновляемое". Не добавлять второй
и третий раз к первому, а придавать первому разу "энную силу". От связи с этой силой
повторение опрокидывается, интериоризируясь; как говорил Пеги, не праздник Федерации чествует
или представляет взятие Бастилии, но взятие Бастилии заранее празднует все Федерации; так
первая белая кувшинка Моне повторяет все остальные». (Там же. С. 14.)
Там же. С. 15.
118
Часть ι. Древо
нализации, от которого неотделима логическая связь причинности1.
Знак — это эффект, обладающий двумя аспектами: один выражает
продуктивное нарушение симметрии, другой стремится его аннулировать.
Знак, говорит Делёз, не вполне относится к классу символов, но
подготавливает таковой, вводя внутреннее различие, хотя и оставляет
условия его воспроизведения вовне.
Такое расчленение причинности позволяет Делёзу говорить о двух
типах повторения: первый касается конечного абстрактного
эффекта (тип статического повторения), второй выступает как действующая
причина (тип динамического повторения). Первый касается внешнего
различия, второй — внутреннего. Один есть повторение одинакового,
объясняемое через тождество понятия и представления, другой
включает различие и сам включается в изменчивость идеи или разнородность
«апрезентации». Первый отрицателен (из-за недостаточности
понятия), второй утвердителен (из-за избыточности идеи). Первый
гипотетичен, статичен, экстенсивен, обыкновенен, материален и горизонтален,
второй категоричен, динамичен, интенсивен, необычен, духовен и
вертикален. Первый есть повторение в результате, второй — повторение
в причине. Первый раскрыт и объяснён, второй сокрыт и подлежит
объяснению. Первый движется по кругу, второй эволюционирует. Первый
принадлежит равенству, соизмеримости и симметрии, второй
основывается на неравном, несоизмеримом и диссимметричном. Если первый
неодушевлён, то второй владеет секретами демонического и
божественного. Первый точен, второй обладает подлинностью. При этом оба типа
повторения не являются независимыми друг от друга. Напротив, второе
является сингулярным субъектом первого, а первое — внешняя
оболочка и абстрактный эффект. В любой структуре повторения выявляется
сосуществование этих инстанций: второй тип является духом любого
повторения, его буквой и удостоверяющим шифром, сущностью
неконцептуального различия, в чём и состоит всякое вообще повторение.
Различие может быть внутренним и тем не менее непонятийным.
Внутренние различия драматизируют идею до того, как представить
1 « Мы называем "сигналом" систему, наделённую элементами нарушения симметрии, порядком
несоответствующих величин: "знаком" мы называем то, что происходит в такой системе,
вспыхивает в интервале, — такова коммуникация, которая устанавливается между
несоответствиями». (Там же. С 35.)
Глава 3. Логика различия
119
объект. Различие внутренне идее, хотя и внешне по отношению к
понятию как представлению об объекте. Встреча понятий различия не
может быть представлена изначально, она появляется благодаря интерфе-
ренциям и пересечениям двух линий — сущности повторения и идеи
различия. «Возможно, что ошибкой философии различия от
Аристотеля до Гегеля, включая Лейбница, было смешение понятия различия
с различием просто понятийным, ограничение включением различия
в понятие вообще»1.
Различие между двумя вещами носит лишь эмпирический характер,
и соответствующие определения неизбежно оказываются внешними.
Различие — это состояние определения как одностороннего
различения. Различие создается: «Вообразим вместо вещи, которая отличается
от другой, некую вещь, которая отличается, но при этом то, от чего она
отличается, не отличается от неё»2. Нельзя путать выявление понятия
различия с причислением различия к тождественности
неопределённого понятия. Различие — это не разное как данное, но то, посредством
чего даётся данное, причём даётся как разное. «Различие — не
феномен, но самый близкий к феномену ноумен»3.
В истории философии, говорит Делёз, всегда существовало лишь
одно онтологическое предположение: бытие однозначно. Делёз
замечает даже, что «всегда была лишь одна онтология, онтология Дунса
Скота, дающая бытию лишь один голос»4, хотя этот голос звучал
всегда, от Парменида до Хайдеггера. «Один голос создаёт гул бытия»5.
Будучи всеобщим, бытие не становится родом, оно выражается в одном
и том же смысле во всех различиях и модальностях. Бытие одинаково
в своих модальностях, но модальности неодинаковы, и, если оно
выражается в модальностях в одном смысле, то сами они не обладают одним
смыслом6. Сущность различий неодинакова, но они не меняют сущно-
Там же. С. 44.
Там же. С. 45.
Там же. С. 271.
Там же. С. 53.
Там же. С. 54.
«Эту логику смысла, — замечает Ф. Менг, — не следует смешивать с традиционной логикой
пропозиций, организующим принципом которой служит референт, то есть положение вещей.
Кроме того, этот смысл совершенно отличается от того смысла, который поставила в центр
120
Часть ι. Древо
сти бытия. Бытие выражается в одном смысле, но то, в чём оно
выражается, различается, так что бытие выражается в самом различии. Эта
однозначность бытия, непосредственно связанная с различием, требует
показать, как индивидуирующее различие предшествует в бытии
различиям родовым. «Повсюду первична глубина различия»1;
пространство и время выявляют оппозиции на поверхности, но существенные
различия существуют в глубине.
Различие ускользает от репрезентации, которая имеет лишь один
центр, одну убегающую перспективу, а потому и ложную глубину.
Репрезентация всё опосредует, но ничего не мобилизует и ничем не движет.
Движение же по необходимости включает множественность центров
и смещение перспектив. Каждая точка зрения должна сама стать вещью,
а вещь должна быть «разорвана» различием, в котором «угасает
тождество объекта, увиденного как видящий субъект»2. Каждый член ряда,
уже будучи различием, должен находиться в изменчивом соотношении
с другими членами, тем самым учреждая другие ряды, лишённые центра
и сходимости3. В различии феномен утверждается как знак, а движение
оказывается «эффектом». Этот «интенсивный мир различий», в
котором качества обретают основание, а чувственное — своё бытие, есть
объект высшего эмпиризма, благодаря которому множество и хаос
различия, эти «номадические дистрибуции», выступает онтологическим
«основанием». «... Различие — за каждой вещью, но за различием
ничего нет»4. Каждое различие проходит через все другие и находит себя
в каждом из них. Ницшевское «вечное возвращение» всегда-уже-при-
сутствует, а не возникает во вторую очередь. Мир не конечен или
бесконечен, как представляется с точки зрения репрезентации, он завершён
своей теории феноменология. Этот не тот смысл, что приходит из мира, сообщающегося с
сознанием или телом как чувственной плотью. Будучи множественным и номадическим, делёзи-
анский смысл пробегает по поверхности вещей и не может быть сконцентрирован в ноэмати-
ческом ядре как сущность вещей». (Mengue Ph. Ligique du sens // Le Vocabulaire de Gilles
Deleuze.R233.)
1 Делёз Ж. Различие и повторение. С. 72.
2 Там же. С. 79.
3 «В самом ряде нужно утвердить расхождение и смещение центра. Каждая вещь, каждое
существо должно видеть поглощение собственной идентичности различием, быть лишь
различием среди различий». (Там же.)
4 Там же.
Глава 3. Логика различия
121
и неограничен. Повторение — это бесформенное бытие всех различий,
а её последний элемент — неодинаковость.
Делёз противопоставляет репрезентации перспективизм.
Репрезентация бесконечно множит образы и «моменты», сохраняя центр —
сознание. Для перспективизма недостаточно умножать перспективы.
Каждой перспективной точке зрения должно соответствовать автономное
произведение, несущее свой смысл. Это неоформленный и
«необоснованный» хаос, единственный закон которого — его собственное
повторение и воспроизводство в смещающемся развитии, образующем
расходящиеся ряды. Каждый из этих рядов существует благодаря возвращению
других. Здесь всё становится симулякром — инстанцией, включающей
в себя различие как различие двух или более расходящихся рядов, в
которых симулякр устраняет всякое подобие. Здесь обретается реальный, а не
возможный опыт, пережитая реальность суб-репрезентативного1.
Парадокс повторения, отмечает Делёз, состоит в том, что о нём
нельзя говорить без учёта различия или изменения, вносимого в
созерцающее его сознание. Создание повторения включает три инстанции:
1) в-себе, которое делает его немыслимым или разрушает по мере его
возникновения; 2) для-себя пассивного синтеза; 3) основанное на
пассивном синтезе для-нас активного синтеза. Повторение существует для
различия, располагаясь между двумя различиями — внешним
(простым) и внутренним (трансцендентным).
Делёз рассматривает эти инстанции или времена как синтезы. В
циклических концепциях Иоахима Флорского, Дж. Вико и П. Баланша
первый момент замкнут на себя, второй открыт, а третий играет по
отношению к первым двум роль означаемого. При этом, говорит философ,
существуют разные повторения, не вполне согласующиеся друг с
другом: 1) внутрициклическое повторение (одного и того же события);
2) циклическое повторение (в конце третьего периода всё начинается
заново); 3) вечное возвращение (повторявшееся в первых двух
периодах проявится лишь в третьем, но в третьем всякая вещь повторяется
сама в себе). Этот третий тип повторения противостоит двум первым:
«Если верно, что элементом репрезентации является тождество, единицей измерения —
подобие, то единица измерения чистого присутствия, каким оно предстаёт в симулякре, —
"разрозненное" то есть постоянное, различие различия в качестве непосредственной
составляющей». (Там же. 93.)
122
Часть ι. Древо
настоящее и прошлое здесь являются измерениями будущего. Первый
синтез (синтез привычки) учреждал время как настоящее с пассивным
обоснованием, от которого зависели прошлое и будущее. Второй
(синтез памяти) утверждал время как чистое прошлое, заставляя настоящее
проходить и становиться иным. В третьем настоящее оказывается
агентом действия, а прошлое — действующим заочно условием. Таким
образом, прошлое, настоящее и будущее раскрываются как повторение
в трёх синтезах: настоящее — это повторяющееся, прошлое — само
повторение, а будущее — повторяемое. Сама философия повторения
также проходит эти стадии, повторяя само повторение, а эти стадии
обусловливают её программу, заключающуюся в том, чтобы
превратить повторение в категорию будущего, используя
повторение привычки и памяти как преходящие этапы; борясь, с одной стороны,
с Привычным, а с другой — с Мнемозиной, отказаться от содержания
повторения, которое так или иначе поддается «выманиванию»
различия (Габитус); отказаться от формы повторения, включающей различие,
ради его подчинения Одинаковому и Подобному (Мнемозина);
отказаться от слишком простых циклов, как претерпевающего обычное
настоящее (привычный цикл), так и образующего чистое прошлое
(памятливый или беспамятный цикл); заменить обоснование памяти простым
условием нехватки, а также — основание привычки
несостоятельностью «габитуса», метаморфозой агента Действия; избавиться от
агента и условия во имя произведения или продукта; превратить повторение
из того, что позволяет «выманить» различие или включает различие как
вариант, в мысль о производстве «совершенно отличного»; сделать так,
чтобы повторение для себя стало различием в себе1.
Эта программа, развивавшаяся католическими и
протестантскими мыслителями, вызывает критику Делёза, который предлагает свой
анализ трёх синтезов с опорой на психоанализ. Биопсихическая жизнь,
говорит он, включает «поле индивидуации», в котором в форме
возбуждения распределяются различия интенсивности. Система
подвижного распределения различий и локальных решений — это и есть то,
что Фрейд называл «Оно»2. Проблема Фрейда в том, чтобы выяснить,
Там же. С. 123.
«Слово "оно" означает в этом смысле не только неизвестное сомнительное местоимение, но
и наречие подвижности места — "там" и "сям" возбуждения и разрядки». (Там же. С. 125.)
Глава 3. Логика различия
123
как удовольствие из локального процесса превращается в
эмпирический принцип; организующий биопсихическую жизнь в Оно. А решение
этой проблемы основатель психоанализа находит в том, что
возбуждение как свободное различие должно быть «скручено» таким образом,
чтобы разрешение его было систематически возможным. С этого
момента начинается ряд синтезов.
1. « Скрученность» различия делает возможным удовольствие не как
таковое, но как принцип; так формируется второй слой Оно. Пульсации
либидо представляют собой слитые возбуждения; а на уровне каждого
слияния в Оно формируется мыслящий субъект, так что всё Оно
оказывается населено мыслящими субъектами, которые составляют
настоящее время Оно. Это чистый пассивный синтез.
2. На основании пассивных синтезов конституируется активный
синтез, состоящий в переносе связанного возбуждения на объект,
полагаемый как реальный. Мыслящий субъект согласно принципу
реальности активизируется и становится отличной от Оно топикой. Но позиция
реальности — вовсе не результат воздействия внешнего мира; принцип
реальности — не отрицание принципа удовольствия. «У обоих
принципов одинаковая поступь, хоть один и обгоняет другой»1. Принцип
реальности всего лишь определяет активный синтез как основанный на
предшествующих пассивных синтезах. Оба принципа, или оба ряда, не
существуют один без другого, и тем не менее они не схожи.
3. Третий синтез определяется взиамодополнительностью нарцисси-
ческоголибидо, конституирующего «несостоявшееся cogito» (Делёз
использует термин П. Рикёра), и инстинкта смерти и открывает «пустое
время». Это вечное возвращение, которому соответствует опыт смерти.
Активный синтез преодолевает пассивный, производя интеграцию
тождественных объектов или универсалий, тогда как синтез пассивный
сам себя преодолевает ради частичных или виртуальных объектов.
Делёз указывает на лакановский объект а, который, согласно
«французскому Фрейду», «выпадает» из субъекта в тревоге и выступает причиной
желания. Объект а, будучи причиной желания, не является ноэтическим.
Лакановский психоанализ отличается от гуссерлевой феноменологии
именно тем, что требует такой топологии, в которой просматривалась
Там же. С. 128.
124
Часть ι. Древо
бы оппозиция внутреннего/внешнего. В данном случае Делёза это
вполне устраивает. Кроме того, объект а связан не с организмом in vivo и даже
не с тем телом, о котором говорилМерло-Понти, а с фантазмом тела. Это
то первичное пространство, в котором функционирует логическая
артикуляция нас самих, имеющая два имени — желание и реальность. Они
составляют две стороны ленты Мёбиуса. Для того, чтобы появилось
нечто, не принадлежащее этой поверхности, нужно третье измерение.
Однако это третье измерение, подчёркивает Лакан, не создаёт объёмной
фигуры, но функционирует в переплетении, в узелке. Это «большой»
Другой, которого, впрочем, всё ещё недостаточно ьая появления
субъекта: субъект появляется как отсутствие, как купюра в желании Другого.
У Делёза этим Другим оказывается «тёмный предшественник».
Делёз подчёркивает, что у Лакана фаллос служит символическим
органом, свидетельствуя о себе как об отсутствующем и о прошлом,
будучи сущностно смещённым относительно самого себя и всегда
утраченным1. Такова психоаналитическая игра повторения, которая Делёзу куда
ближе, чем традиционная психоаналитическая теория, которая 1)
материалистична (потому что основывается на модели автоматического
повторения), 2) реалистична (потому что имеет дело только с
настоящим, вернее, со многими настоящими) и 3) скатывается к солипсизму
или монадизму (потому что толкует лишь о представлениях субъекта).
Лаканизм куда ближе Делёзу, заявляющему, что повторение возникает
не между двумя настоящими, но между двумя сосуществующими
рядами, складывающимися вокруг виртуального объекта. Смещение
виртуального объекта, циркулирующего в двух рядах, и порождает
повторение, подобно тому, каклакановский объект а одновременно обретается
и утрачивается в скольжении означающих2. Так что лакановский
фаллос — это символический орган повторения.
«Символический фаллос означает эротический модус чистого прошлого в той же мере, что
незапамятность сексуальности. Символ — всегда смещенный фрагмент, значимый для
прошлого, которое никогда не было настоящим: объект = х». (Там же. С. 133.)
«Что же до самого этого объекта, его нельзя более трактовать как последний или начальный
предел: это определяло бы его фиксированное место и тождественность, противные его
природе. Если он может быть "отождествлен" с фаллосом, то только в той мере, в какой его, по
выражению Лакана, никогда нет на месте: недостает идентичности, репрезентации». (Там же.
С. 136.)
Глава 3. Логика различия
125
Сходство с лаканизмом усиливается структуралистской трактовкой
виртуального у Делёза. Противопоставляя виртуальное реальному он
уточняет: виртуальное противостоит не реальному но, скорее,
актуальному, обладая реальностью в качестве виртуального. Реальность
виртуального заключается в дифференцированных элементах и связях между
ними. «Структура — это реальность виртуального»1. Процесс
виртуального — это не «становление», а «актуализация», так что речь здесь
идёт о существовании как таковом. «Каким может быть различие
между сущим и не сущим, если не сущее уже возможно, включено в концепт
до любых свойств, придаваемых ему концептом в качестве возможных?
Существование — то же, что и концепт, но вне концепта»2.
Виртуальное — этой свойство идеи, а существование производится исходя из
реальности идеи и в соответствии с имманентными ей пространством
и временем.
Виртуальное — ни в коем случае не «возможное». Если
возможное отсылает к форме тождественности концепта, виртуальное
означает чистую множественность идеи, исключающую тождество как
предварительное условие. Возможное — это удвоение концепта подобным
ему; актуализация виртуального происходит посредством различия,
порывая благодаря различию и повторению с подобием как процессом
и с тождеством как принципом.
Первый синтез выражает основание времени в проживаемом
настоящем, второй — обоснование времени чистым прошлым, а
третий — необоснованность. Эта необоснованность есть не что иное как
ницшевское вечное возвращение, утверждающее всё во множестве,
различии и случайности. Подчинение множественного Единому — это
смерть, то, что заставляет умереть раз и навсегда. Вечное возвращение
сущностно связано со смертью, потому что содержит смерть единого.
Но при этом оно сущностно связано с будущим, ведь будущее — это
и есть развёртывание и объяснение множественного, различного и
случайного. Поэтому субъект вечного возвращения всякий раз различный,
он принадлежит не единству, но множеству, не необходимому, но слу-
1 Там же. С. 256. « Мы должны избегать придания элементам и связям, составляющим структуру,
актуальности, которой они не обладают, и в то же время не лишать их присущей им
реальности». (Там же.)
2 Там же. С. 259.
126
Часть ι. Древо
чайному. Повторение в вечном возвращении разрушает все тождества
и подобия. Само тождество может существовать лишь как
проецируемое, или, вернее, ретроецируемое на первичное различие, так что любая
система подобия — это симулякр. «... Одинаковое и подобное не
отличаются от самого вечного возвращения. Они не предсуществуют
вечному возвращению: возвращаются не одинаковое и подобное, но вечное
возвращение — единственное одинаковое, единственное подобие того,
что возвращается... Вечное возвращение — одинаковое различия,
единое множественного, подобное несхожего»1.
Установление контакта между гетерогенными рядами возможно лишь
при наличии тождества между ними в осуществляющем коммуникацию
агенте. А этого агента, «тёмного предшественника», Делёз
описывает следующим образом: «Молния сверкает при различии напряжения,
ему предшествует невидимый, неощутимый темный предшественник,
предопределяющий дорогу, идущую вспять, никуда»2. Этот агент
непосредственно соотносит гетерогенные ряды, будучи в-себе различия, т. е.
различием второго уровня, соотносящим различное с различным самим
по себе. У него нет никакого иного места и никакого тождества, кроме
того, которого ему недостаёт. Так что и его логическая тождественность,
и физическое «подобие» выражают лишь статистический результат его
воздействий на всю систему. «Этот тёмный предшественник, — будет
говорить Делёз много лет спустя, — ставит различные потенциалы в
некоторое отношение, так что потенциалы вступают в реакцию,
порождающую наблюдаемый случай»3. Когда этот агент присваивает себе
недостающее тождество, возникает иллюзия подобия. Поэтому сходство
всегда носит внешний характер, а различие образует ядро системы.
Каждый ряд образует историю, и эти истории развиваются
одновременно. При этом основные ряды являются расходящимися, так что
горизонт их сходимости лежит в области хаоса. «Сам хаос наиболее
позитивен»4, говорит Делёз, поскольку в нём удерживаются и
утверждаются все синхронные ряды. Однако именно здесь должна находить своё
основание онтология: «Онтология — это рискованное дело: хаосмос,
1 Там же. С 160.
2 Там же. С. 152.
3 Азбука Жиля Делёза. С. 81.
4 Делёз Ж. Различие и повторение. С. 156.
Глава 3. Логика различия
127
из которого возникает космос»1. Хаосмос — это «божественная игра»,
у которой нет предсуществующего правила. Ничто не исключается из
этой игры, следствия не изымаются из случайности гипотетической
необходимостью; всякий ход приносит победу и влечёт за собой ход по
другому правилу. «Вместо оседлой дистрибуции — номадическая»2.
Вместо соотношения
гипотетическое-категоричное-проблематичное-императивное; вместо пары одинаковое-представление — различие
и повторение. Жребий брошен против неба, со всей силой смещения
алеаторической точки и императивных точек, подобных молниям,
образующих на небесах идеальные созвездия-задачи. Они падают на землю со
всей силой победоносных решений возвратного броска. Это игра на двух
столах. И как же не быть трещине на границе, на стыке столов? Как
узнать на первом — самотождественное субстанциальное Я, на втором —
себе подобный континуальный мыслящий субъект? Исчезло тождество
игрока, а также подобие расплачивающегося за последствия и
воспользовавшегося ими. Трещина, стык — форма пустого времени, Вертел, на
который нанизываются случаи. С одной стороны — лишь разбитое этой
пустой формой Я. С другой — только пассивный, навсегда распавшийся
в пустой форме мыслящий субъект3.
Защита диссертации была короткой: во-первых, Делёз уже был
признанным философом, и жюри решило не утомлять только что
перенесшего тяжёлую болезнь диссертанта, заслуги которого не вызывали
сомнения. Во-вторых, жюри опасалось нападения революционных бригад.
Председатель оказался перед выбором: можно было заседать на
первом этаже, откуда можно было легко убежать через запасной выход или
в крайнем случае выпрыгнуть в окно, но мятежные студенты слонялись
в основном именно здесь. С другой стороны, можно было заседать на
втором этаже, где мятежников было меньше, но в случае опасности
оттуда нельзя было убежать. Так что во время защиты диссертации никто из
членов комиссии не слушал Делёза: все смотрели на дверь. «... Нечасто
бывает, чтобы комиссия волновалась больше кандидата в доктора»4.
Там же. С. 245.
Там же. С. 340 (перевод изменён).
Там же. С 341.
Азбука Жиля Делёза. С. 66.
128
Часть ι. Древо
Одновременно с диссертацией Делёз завершил работу над книгой
«Логика смысла»; в которой заявил, что «бракосочетание между языком
и бессознательным—уже нечто свершившееся» и празднующееся нараз-
ные лады. В своей книге (которую сам он характеризовал как «попытку
написать роман, одновременно логический и психоаналитический»{) он
предложил «серию парадоксов, образующих теорию смысла». Смысл,
говорил Делёз, представляет собой «несуществующую сущность»
и специфически связан с нонсенсом. Опорными фигурами в этом
исследовании стали Л. Кэррол, впервые представивший «великую
мизансцену парадоксов смысла», и стоики, предложившие новый образ
философа, порвав с досократиками и платонизмом2.
У Кэррола Делёз находит взаимообратимость предела и его пересту-
пания, бесконечной тождественности и её оспаривания.
...Наличие собственного или единичного имени гарантируется
постоянством знания — знания, воплощённого в общих именах,
обозначающих паузы и остановки, в существительных и прилагательных, с
которыми имя собственное поддерживает постоянную связь. Так, личное
Я нуждается в мире и в Боге. Но когда существительные и
прилагательные начинают плавиться, когда имена пауз и остановок сметаются
глаголами чистого становления и соскальзывают на язык события, всякое
тождество из Я, Бога и мира исчезает3.
У стоиков Делёз обнаруживает различие между телами и
бестелесными «эффектами». Эти последние — не физические качества или
свойства, а, скорее, логические и диалектические атрибуты, не
положения вещей, а события. Эффекты не существуют, но обладают тем
минимумом бытия, которого им достаточно для того, чтобы быть не-вещью
и «не существующей сущностью». В этом противопоставлении Делёз
усматривает оппозицию поверхности и глубины, столь важную для его
последующей философии. Стоики, утверждает Делёз, предвосхитили
мысль Поля Валери о том, что «глубочайшее — это кожа».
Тела со своей толщей и глубиной существуют как смешение, в
котором одно тело проникает в другое. Бестелесные события на поверхно-
Делёз Ж. Логика смысла. С. 14.
Там же. С 13.
Там же.С 17-18.
Глава 3. Логика различия
129
сти и есть результаты смешения тел. Стоики расчленяют причинно
-следственную связь; соотносят причины с причинами и получают понятие
судьбы. Бестелесные же эффекты вовсе не могут выступать причинами
друг друга; это квази-причины; подчиняющиеся законам; выражающим
в каждом конкретном случае смешение тел. В этом их отличие от
Аристотеля и Канта; начинавших с различения видов причинности.
Стоический дуализм тел и эффектов решительно меняет характер философии:
если у Аристотеля категории высказывались о Бытии; а различие
присутствовало внутри Бытия; противопоставляя первичную субстанцию
и вторичные акциденции, то у стоиков положения вещей; количества
и качества оказываются такими же сущими, как и субстанция. Высшим
понятием здесь выступает не Бытие; а Нечто, принадлежащее и 6ытию;
и небытию.
Знаменитые парадоксы стоиков — это; по мысли Делёза;
одновременно и инструмент анализа языка, и средство синтезирования
событий. Язык одновременно и устанавливает пределы, и переступает их.
В языке присутствуют термины; постоянно смещающие область
собственного значения и обеспечивающие возможность взаимного
обращения связей в сериях. «Событие соразмерно становлению; а
становление соразмерно языку»; а потому «всё происходит на границе между
вещами и предложениями»1. Парадокс есть освобождение глубины
и выведение события на поверхность; юмор — искусство поверхности;
противопоставляемое прежней иронии как искусству глубины и
высоты. В «Тысяче плато» Делёз напишет; что стоики были первыми; кто
занялся философией языка.
В истории философии Делёз обнаруживает постоянное
противостояние платонизму: если стоики произвели ревизию платоновского
дуализма; то логика Оккама направлялась на снятие проблемы универсалий;
а А. фон Мейнонг выступал против гегелевской логики. Но самым
важным философом ^ля него остаётся Юм; поскольку «лишь эмпиризм зна-
ет; как выйти за пределы видимостей опыта; не попадая в плен Идеи»2.
Всё это движение; по мысли Делёза, направлялось на поиск некоего
элемента; не связанного ни с предложением; ни с его терминами, т. е. ни
Там же. С. 25.
Делёз Ж. Логика смысла. С. 40.
130
Часть ι. Древо
с объектом, ни с обозначаемым предложением положением вещей. «...
Смысл — это нечто "нейтральное", ему всецело безразлично как
специфическое, так и общее, как единичное, так и универсальное, как личное,
так и безличное»1. Нельзя сказать, существует ли смысл в вещах или
в разуме, поскольку ни физического, ни ментального существования
у него нет. Судить о нём можно только на основании круга, по которому
ведут нас отношения предложения. Смысл — это одновременно и
выражаемое (выраженное предложением), и атрибут положения вещей.
Одной стороной он обращен к вещам, другой — к предложениям, но
не сливается ни с теми, ни с другим, будучи границей между
предложениями и вещами.
Такое представление о смысле определённо восходит к двум текстам,
с которыми Делёз был хорошо знаком — к «Видимому и невидимому»
Мерло-Понти и к «Словам и вещам» Фуко. «Верно, что мир — это
то, что мы видим, и что, одновременно, нам ещё необходимо
научиться его видеть», — писал Мерло-Понти2. Его феноменологическая
установка была близка Делёзу, восхищённо писавшему в «Логике смысла»
о гуссерлевской «перцептивной ноэме»3. «... Когда я имею в
восприятии саму вещь, а не представление, я могу только добавить, что вещь
находится на острие моего взгляда и вообще моего исследования», —
продолжает Мерло-Понти4. Делёз обращается к феноменологии
именно потому, что находит здесь возможность отличать смысл восприятия
и от физических объектов, и от всего психологического. А у Фуко он
мог обнаружить ясную формулировку эмпирической задачи: «...Если
мы хотим оставить открытым отношение языка и видимого и
говорить, не предполагая их адекватности, а исходя из их несовместимости
(incompatibilité), оставаясь как можно ближе и к одному, и к другому, то
нужно отбросить имена собственные и удерживаться в бесконечности
1 Там же. С 39.
2 Мерло-Понти М. Видимое и невидимое. Пер. О. R Шпарага. Минск: «Логвинов», 2006.
С. 10.
3 Гуссерль «описывает ноэму как бесстрастную и бестелесную сущность, лишённую
физического или ментального существования, которая ни действует, ни подвергается
воздействию, — чистый результат, или чистое "явление"». (Делёз Ж. Логика смысла. С. 40.)
4 Мерло-Понти М. Видимое и невидимое. С. 14.
Глава 3. Логика различия
131
поставленной задачи»1. Здесь, «в бесконечности поставленной
задачи», Делёз обнаруживает тот «aliquid», который есть смысл события.
Вернее, «смысл и есть "событие"», а событие и есть смысл как таковой.
«Событие по самой сути принадлежит языку... Но язык — это то, что
высказывается о вещах»2.
Событие, продолжает Делёз, наличествует в языке, но оживает в
вещах. Вещи и предложения, повествующие о положении вещей,
находятся по разные стороны границы, представляемой смыслом. Эта граница
служит артикуляцией их различия (монизма здесь не больше, чем
дуализма, — замечает Делёз). Будучи атрибутом положения вещей, смысл
сверх-бытиен. В бытии он не пребывает, «он — aliquid,
относящийся к небытию»3. Он не существует как выраженное предложением, но
присущ предложению и обитает в нём.
Делёз пытается обойти соссюровскую схему значения, согласно
которой всегда существует бинарная оппозиция означающего и
означаемого. Для этого он модифицирует определения этих терминов, так что
означающее у него — любой знак, несущий в себе какой-либо аспект
смысла, а означаемое — коррелят этого аспекта смысла, дуально
противопоставляемый ему. Таким образом, означаемое — это не смысл,
а понятие в строгом значении этого термина, т. е. всякая вещь, которая
может быть задана на основе того различия, что устанавливает с этой
вещью данный аспект смысла. Поэтому означающее — это событие,
понимаемое как идеальный логический атрибут положения вещей, а
означаемое — само положение вещей вместе с его реальными
отношениями. Такая эмпиристская модификация соссюровской схемы позволяет
Делёзу пересмотреть распределение терминов в сериях означающего
и означаемого и обратиться к лакановской схеме скольжения
означающих (сам он непосредственно ссылается на Лакана).
Термины каждой серии непрерывно смещаются по отношению
к терминам другой серии, так что между ними существует
несовпадение. Это соотносительное смещение является изначальной
вариацией, без которой одна серия не может открываться в другую и отсылать
1 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. Пер. В. П. Визгина и R С. Автономо-
вой. СПб, 1994. С. 47.
2 Делёз Ж. Логика смысла. С. 42.
3 Там же. С. 53.
132
Часть ι. Древо
к другой. Обе серии в этом двойном скольжении утверждаются в
«бесконечном неравновесии» по отношению друг к другу. Означающая
серия представляет избыток по отношению к означаемой (Делёз
повторяет положение Леви-Строса). А эти соотносительное смещение серий
и избыток одной по сравнению с другой обеспечивается
парадоксальным элементом, который не сводится ни к какому-либо термину серий,
ни к какому-либо отношению между их терминами.
Эта парадоксальная инстанция непрестанно циркулирует по
обеим сериям, обеспечивая их коммуникацию и в то же время
непрестанно заставляет их расходиться1. Это одновременно вещь и слово, имя
и объект, смысл и денотат, выражение и обозначение и т. п. Она всегда
смещена по отношению к себе самой, а потому ей недостаёт
самотождественности или, как говорил Лакан, своего места2. А термины каждой
серии смещаются по отношению друг к другу именно потому, что
каждая серия несёт в себе эту инстанцию. Та серия, в которой эта инстанция
присутствует в качестве избытка, задаётся как означающая, а та, где она
присутствует в качестве недостатка, — как означаемая.
Такова она — расщеплённая по природе, незавершённая по
отношению к самой себе. Её избыток всегда отсылает к её собственному
недостатку, и наоборот. Но и эти определения тоже относительны. Ибо то,
что в одном случае представляет собой избыток, — это не что иное, как
чрезвычайно подвижное пустое место. А то, чего недостаёт в другом
случае, — это стремительный объект, эдакий пассажир без места, — всегда
сверхштатный и всегда перемещающийся3.
«... Серии сходятся не сами собой (что было бы невозможно), а вблизи парадоксального
элемента — точки, пробегающей линию и циркулирующей по сериям» (Там же. С. 242.)
В конце книги Делёз вновь ссылается на Лакана и прямо говорит, что «фаллос — это и есть
парадоксальный элемент или объект = х, всегда лишённый равновесия; это одновременно
избыток и недостаток, нечто никогда не равное себе, лишённое самоподобия,
самотождественности, собственного начала, собственного места и всегда ускользающее от самого себя:
плавающее означающее и утопленное означаемое, место без пассажира и пассажир без места,
пустая клетка (но способная создать излишек посредством этой пустоты) и сверхштатный
объект (но способный создать недостаток своим излишком)». (Там же. С. 298.)
Там же. С. 65. В статье «По каким критериям узнают структурализм?» Делёз
характеризует эту инстанцию следующим образом: «Оно является бессмыслием, которое оживляет по
крайней мере две серии и наделяет их смыслом, циркулируя в них. Именно оно в своей
вездесущности, вечном перемещении производит смысл в каждой серии, а также от одной серии
Глава 3. Логика различия
133
В тот момент, когда парадоксальный элемент пробегает серии,
сингулярности в них смещаются и перераспределяются. Если же сингу-
лярностями выступают вариабельные события, они коммуницируют
в одном и том же Событии, а их трансформации формируют историю.
События, говорит Делёз, — это идеальные сингулярности, коммуни-
цирующие в одном и том же Событии, так что они пребывают не в
каком-то настоящем времени, а в безграничном Эоне. Сингулярности, не
будучи чем-либо индивидуальным или личным, конституируют генезис
индивидуального и личного. Они распределяются в потенциальном,
которое самоосуществляется, производя фигуры, далёкие от этого
реализующегося потенциального.
Делёз предлагает пять принципиальных характеристик мира сингу-
лярностей:
1) сингулярности-события соответствуют неоднородным сериям,
организованным в метастабильную систему, которая обладает
потенциальной энергией, распределяющей различия между сериями;
2) сингулярности способны к само-воссоединению, процесс
которого перманентно смещается по мере того, как парадоксальный элемент
пробегает серии;
3) сингулярности блуждают по поверхности;
4) поверхность есть местоположение смысла, так что знаки
остаются бессмысленными, пока не входят в обеспечивающую резонанс двух
серий поверхностную организацию;
5) мир смысла имеет проблематический статус, т. е. сингулярности
возникают и распределяются в проблематическом поле как
топологические события.
Эти характеристики, по мысли Делёза, призваны обосновать
трансцендентальную философию, идущую на смену метафизике сущностей.
Своим предшественником на этом пути Делёз считает Лейбница,
выдвинувшего тезис о том, что всякая индивидуальная монада выражает
к другой и не прекращает смещать обе серии. Оно является словом = х, поскольку обозначает
объект = х, проблематичный объект. В качестве слова = χ оно пробегает определённую серию
означающего; но в то же время, будучи объектом = х, оно пробегает другую серию в качестве
означаемого. Оно не прекращает одновременно углублять и восполнять разницу между двумя
сериями». (Делёз Ж. По каким критериям узнают структурализм? / Марсель Пруст и знаки.
С. 164.)
134
Часть ι. Древо
целый мир. Выраженный мир не существует вне выражающих его
монад, а значит — он существует внутри монад в виде серий предикатов,
присущих этим монадам. Однако выражаемое не совпадает с
выражением, а только содержится в нём, сохраняя собственную самобытность.
Индивидуальная монада выражает все сингулярности мира, к которому
она принадлежит. Впрочем, Лейбниц не дошёл до делёзовского
понимания сингулярных точек, поскольку не постиг свободного (т. е.
случайного в ницшевском смысле) характера распределения сингулярностей1.
В плане выражения индивидуальности представляют собой
бесконечные аналитические предложения, а личности — конечные
синтетические предложения. Сами по себе индивидуальности и личности суть
онтологические предложения, обосновывающие друг друга. Третьим
элементом онтологического генезиса являются множественные
классы и меняющиеся свойства, не образующие никакого онтологического
предложения, но задающие условие или форму возможности
логического предложения как такового. Таким образом, между логическим и
онтологическим генезисом нет параллелизма, но есть своего рода
«переключатель», допускающий любые переходы и наложения.
«Логика смысла» стала книгой, в которой Делёз предложил
программу новой метафизики, более того, нового стиля мышления. Логика,
о которой говорит Делёз, представляет собой логику множественности,
ускользающую от закона тождества и утверждающую различие. Таким
образом, самый термин «логика» используется в непривычном
значении, указывая не на законы формального мышления, а на вечно
ускользающий от Закона смысл. Можно признать правоту за теми критиками,
которые утверждают, что это и не логика вовсе. Пожалуй, так и есть,
если брать термин «логика» в аристотелевском или в гегелевском смыс-
При этом Делёз предостерегает от превратного понимания учения Лейбница: «Было бы
большой вольностью настаивать, со ссылкой на философию Лейбница, на врождённости
предикатов у выражающих мир монад, ибо это уже предполагает со-возможность выраженного мира,
а последний, в свою очередь, предполагает распределение чистых сингулярностей согласно
правилам схождения и расхождения. Эти правила принадлежат логике смысла и события, а не
логике предикатов и истины. Лейбниц очень далеко продвинулся в этом первом этапе
генезиса — вплоть до осознания и полагания индивидуального в качестве центра, вокруг которого
сингулярности сворачиваются как внутри мира, так и на собственном теле индивидуального».
(Делёз Ж. Логика смысла. С. 155-156)
Глава 3. Логика различия
135
ле. Это «другая логика», которую Лакан искал в параноидном бреде.
Инстанция смысла здесь не фиксируется в строгих формах мышления,
а непрестанно скользит. Такая логика инспирируется эмпиризмом и не
сводится к сфере трансцендентального. Она принципиально
недиалектична и с Гегелем имеет ещё меньше общего, чем с Кантом. «Задача Де-
лёзовой логики заключается в том, чтобы суметь мыслить с точки
зрения множеств, а не тождеств или суждений, и увидеть нас самих и наш
разум как составленные множествами, а не предикатами и
содержащими их суждениями», — пишет Дж. Рейчмен. — ... Это логика "создания
концептов", происходящих из проблематизаций, так что её прагматика
пресуппозиций и цели иные, нежели у той логики, что говорит, как
двигаться от одних истинных суждений к другим или от
неопределённости к диалектической полноте, или добраться до априорных категорий
мысли»1.
«Логика смысла» со своей сложной архитектоникой стала
замечательным метафизическим произведением, которое можно
рассматривать и как спекулятивный трактат, и как психоаналитическую патогра-
фию. Кроме того, здесь уже намечаются многие идеи «Анти-Эдипа»,
которые необходимо сразу же отметить.
В «Логике смысла» Делёз, опираясь на работы М. Кляйн2,
утверждает, что формирование личности начинается с
параноидально-шизоидной позиции ребёнка, которая представляет собой «коммуникацию тел
в глубине и посредством глубины»3. «Глубинами» при этом
выступают оральность, рот и грудь; здесь начинается интроецирование. На этой
позиции формируются в качестве двух полюсов «Id» (резервуар инт-
роецированныхчастичных объектов) и «Ego» («тело без органов»,
завершённое благодаря проекциям).4 Можно сказать, что «Id» и «Ego»
Rajchman J. The Deleuze Connections. P. 50-51. (Логика Делёза, продолжает Рейчмен, «ни
дедуктивная, ни индуктивная, скорее, это логика некоего концептуального искусства, имеющего
дело с тем, что есть в нас проблематичного и запутанного» (Ibid. P. 52.)
Klein M. La Psychanalyse des enfants. P., 1932.
Делёз Ж. Логика смысла. С. 246.
«Шизофреническое расщепление, — говорит Делёз, — это расщепление между
взрывающимися, интроецируемыми и проецируемыми внутренними объектами, или, вернее, между
телом, расчленяемым этими объектами, — и телом без органов и без механизмов, порывающим
с проецированием так же, как и с интроецированием». (Там же. С. 253.)
136
Часть ι. Древо
соотносятся как «пустая» глубина и глубина «полная». «Тело без
органов» — выражение, заимствованное Делёзом у поэта Α. Αρτο. Это то,
что противится всем уровням организации, уровню организма и
организованной власти.1 Это «физический срез» плана имманентности.
Вторая позиция — депрессивная — на место мира глубинных симу-
лякров ставит мир «идола высоты». Депрессивное расщепление
происходит между двумя полюсами самоотождествления —
отождествлением «Ego» с внутренними объектами и его же отождествлением
с «объектом высоты», т. е. блаженным состоянием, данным лишь как
воспоминание (здесь Делёз приближается к понятию «реального»
у Ж. Лакана). «Хороший» объект (а инфантильное сознание делит все
объекты на «хорошие» и «плохие»), данный всегда как «уже бывший
прежде», представляется своего рода голосом, нисходящим с высоты.
Поэтому супер-эго имеет акустическое происхождение, что отмечал
ещё 3. Фрейд. «Для ребенка, — пишет Делёз, — первое приближение
к языку состоит в освоении его как модели предсуществующего, как
указывание на целый мир всего, что уже есть, как родного голоса,
который посвящает в традицию»2. (Не таково ли «утраченное» у М.
Пруста?) «Голос» ещё не является языком: у него есть отношения языка, но
нет условий, т. е. «события». Это уже не шум (звуковая шизоидная
система), но ещё и не язык. Во сне мы постоянно переживаем переход от
шума к голосу: «Пока мы спим, мы шизофреники, но становимся
маниакально-депрессивными вблизи точки пробуждения»3.
Третья позиция не связана ни с глубиной, ни с высотой, но всецело
фиксируется на поверхности. Эту позицию, по Делёзу, как раз и
следует назвать сексуальностью, поскольку сексуальность есть производство
частичных поверхностей (эрогенных зон). Либидо является
поверхностной энергией. Приход третьей позиции не означает полного
изживания первых двух: в глубине продолжают действовать шизоидные силы,
а в «высоте» — депрессивные. Описанный Фрейдом комплекс
кастрации как раз и возникает из-за двойной угрозы — со стороны
пожирающего «глубинного фаллоса» и «фаллоса высоты» как источника фруст-
См.: Deleuze G. Désir et plaisir // Le Magazine littéraire. 1994. № 328. P. 63.
Делёз Ж. Логика смысла. С. 254-255.
Там же. С. 256.
Глава 3. Логика различия
137
рации. Если мать представляет собой «тело глубины», то отец — «тело
высоты», что приводит к формированию комплекса Эдипа на
поверхности, где действуют образы матери и отца.
«Шум глубины был инфра-смыслом, под-смыслом, Unter-sinn;
голос высоты был пред-смыслом».1 Ребёнок «входит» в язык, который
он ещё не осознаёт как язык, уже имея пред-понимание (здесь
снова всплывает парадокс Леви-Строса). Вспомним пассаж о спящем из
прустовской эпопеи: «Иной раз, пока я спал, из неудобного положения
моей ноги, подобно Еве, возникшей из ребра Адама, возникала
женщина. Её создавало предвкушаемое мной наслаждение, а я воображал, что
это она мне его доставляет»2. И сам Делёз замечает: «нам кажется, что
оценка симптомов может быть достигнута только благодаря роману».3
Невротики создают интимные романтические истории, в которых
может проявляться, например, Эдипов комплекс. Не комплекс даёт нам
информацию об Эдипе и Гамлете, а сами Эдип и Гамлет дают нам
информацию о комплексе, тогда как психоанализ позволяет лишь установить,
что (вспомним издевательский пассаж У. Эко) Эдип страдает Эдиповым
комплексом.
Делёз считал «Логику смысла» книгой поворотной и впоследствии
вспоминал о ней с теплотой. «Я люблю "Логику смысла", потому что для
меня она знаменует разрыв, — писал он в 1976 г. в предисловии к
итальянскому изданию этого текста, — я впервые искал форму, которая не
была бы формой традиционной философии; а кроме того, это была
во многих отношениях весёлая книга; к тому же, я писал её во время
болезни»4. И далее: «Хотя меня уже не удовлетворяла история
философии, моя книга "Различие и повторение" всё ещё была достаточно
классической и, в сущности, архаической. Сделанный мной набросок
интенсивности был отмечен глубиной, настоящей или ложной: интенсивность
представлялась как появляющаяся из глубин... Новизна "Логики
смысла" заключалась в том, чтобы обратиться к поверхностям. Понятия ос-
Там же. С. 305.
Пруст М. В поисках утраченного времени. Т. 1. По направлению к Свану. Пер. Н. М.
Любимова. №, 1992. С. 14.
Там же. С. 311.
Deleuze G. Note pour l'édition italienne de «Logique de sens» / Deux régimes de fous. Textes et
entretiens 1975-1995. P. 58.
138
Часть ι. Древо
тались прежними: "множественность", "единичность" "интенсивность"
"событие" "бесконечность" "проблемы" "парадоксы" и "пропорции" но
реорганизованные в новом измерении. Таким образом, понятия
изменились, как и метод, своего рода сериальный метод поверхностей;
изменился и язык, который я стремился сделать куда более интенсивным,
порывистым»1.
Принято думать (порой повод к этому даёт сам Делёз), что
«Различие и повторение» и «Логика смысла» представляют такой же разрыв
в творчестве Делёза, какой усматривал в творчестве Маркса Л. Альтюс-
сер. В какой-то мере это, конечно, верно: эти две книги знаменуют
отход Делёза от историко-философских работ и создание его собственной
философии. Однако, несмотря на перемены в стиле письма и в самом
языке философствования, Делёз продолжает работать в прежнем
направлении: «Различие и повторение» и «Логика смысла» становятся
пространством, в котором развиваются уже намеченные в ранних
работах идеи, а радикального разрыва в творчестве Делёза не происходит.
Он всего лишь переходит на новый уровень развития.
«Логика смысла» и «Различие и повторение» нередко
воспринимаются как близнечные тексты, предлагающие две версии одного и того
же философского содержания. Действительно, между этими книгами
много сходств, а в текстах можно найти множество параллелей. И тем не
менее, каждая их них представляет собой самостоятельный опыт
мышления и развивает собственные линии. Если «Различие и повторение»
представляет опыт развития кантианской мысли вопреки Канту и тому
кантианству, что мы знаем из истории философии, то «Логика смысла»
опиралается на стоицизм. Поэтому каждая книга предлагает
собственную форму проблематизации и собственную форму мысли.
После защиты диссертации Делёз перенёс операцию по торакопла-
стии. У него осталось только одно лёгкое, и до конца своих дней он будет
страдать от одышки и слабости, вызванной дыхательной
недостаточностью. Следующий год он провёл с семьёй в своём «поместье» в Лиму-
зене, поправляя здоровье. Он с удовольствием заглатывал горы
таблеток, утверждая, что лекарства — важнейшая часть медицины, даже
в области психиатрии. Свою болезнь он рассматривал не как несчастье,
Ibid. Р. 59-60.
Глава 4. Анти-Эдип
139
но как способ обрести силу через слабость: болезнь, говорил он, делает
человека свободнее, ведь можно не ходить на работу, отказываться от
путешествий и рано ложиться спать.
Делёз не захотел возвращаться в Лион. Ему удалось устроиться в
экспериментальный университет в Венсенне, куда его уже давно звал его
друг Мишель Фуко, который стремился собрать вокруг себя весь цвет
тогдашней французской философии. Но в то время Делёз ещё не
оправился от обострения туберкулёза и был вынужден отказаться от этого
предложения.
ГЛАВА 4. АНТИ-ЭДИП
Человеческое тело — это заводящая сама себя машина,
живое олицетворение беспрерывного движения.
Ж. О. Ламетри, Человек-машина.
Франсуа Досс начинает свою книгу о Делёзе и Гваттари таким
пассажем:
В четыре руки. Творчество Жиля Делёза и Феликса Гваттари по сей
день остаётся загадкой. Кто пишет? Один или другой? Один и другой?
Как с 1969 по 1991 гг. за столь различными чувствованиями и столь
контрастными стилями могло разворачиваться общее интеллектуальное
строительство? Как они могли быть столь близки, никогда не
отказываясь от дистанции, проявлявшейся в их взаимном обращении на "вы"? Как
изобразить это уникальное приключение с его движущей силой и его
способностью вызвать к жизни что-то вроде "третьего человека", плод
союза обоих авторов?1.
Действительно, они были людьми из далёких миров. Однако именно
это позволило им составить чрезвычайно продуктивный тандем. Много
лет спустя в своей книге о кино Делёз скажет, что творческое
сотрудничество бывает плодотворным, «когда произведение не только видится,
но и осуществляется в соответствии с совершенно разными принципа-
1 Dosse F. Gilles Deleuze et Félix Guattari. RH.
140
Часть ι. Древо
ми творчества, которые объединяются, обеспечивая возможность
возобновляемого, но каждый раз уникального успеха»1. Так оно и было.
Интерес Делёза к проблеме психического заболевания
просматривается уже в «Логике смысла», где он писал, что «для
шизофреника речь идёт не о том, чтобы переоткрыть смысл, а о том, чтобы
разрушить слово, вызвать аффект и превратить болезненное страдание тела
в победоносное действие, превратить подчинение в команду —
причём всегда в глубине, ниже расколотой поверхности»2. Здесь же были
намечены основные концепты «Анти-Эдипа».
«...Психоаналитическая теория шизофрении склонна недооценивать всю важность и
динамизм темы тела без органов»3, — замечал Делёз. И добавлял:
«Шизофреническое расщепление — это расщепление между взрывающимися,
интроецируемыми и проецируемыми внутренними объектами, или,
вернее, между телом, расчленяемым этими объектами, — и телом без
органов и без механизмов, порывающим с проецированием так же, как
и с интроецированием»4. В 1970 г. он написал предисловие к книге
Л. Вольфсона «Шизо и языки»5, которая заинтересовала его
исследованием границ языков, сходным с тем, какое предпринял Раймон Руссель.
Таким образом, «Анти-Эдип» появился не на пустом месте, а стал
результатом многолетней работы. Конечно, не стоит отрицать того, что
многие идеи этой книги могли возникнуть только благодаря встрече
Делёза с Гваттари, как и того, что во многом она стала отражением событий
мая 1968-го. Р. Боуг пишет: «В 1972 г. философ Жиль Делёз и
психоаналитик и политический активист Феликс Гваттари опубликовали книгу
"Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения Г, полномасштабное нападение
на доктрины психоанализа, особенно на те, что были сформулированы
Жаком Лаканом и его последователями и широко распространились
в парижских интеллектуальных кругах в конце 1960-х и начале 1970-х гг.
В "Анти-Эдипе" многие видели философское выражение духа
студенческой революции Мая 1968-го — одни потому, что книга предлагала
развёрнутый и иконоборческий синтез марксистских и фрейдистских
1 Делёз Ж. Кино. С 406.
2 Делёз Ж. Логика смысла. С. 125.
3 Там же. С. 248.
4 Там же. С. 253.
5 Deleuze G. Préface // Wolfson L. Le Schizo et les langues. P.: Gallimard, 1970. P. 5-23.
Глава 4. Анти-Эдип
141
мотивов в рамках анти-структуральной ницшеанской тематики
освобождения; другие — потому что она, как им казалось, провозглашала
безответственную и анархическую политику либидинального
самопотакания. Книга имела громкий успех, став на какое-то время центром
широко распространившихся и оживлённых дебатов и до сих пор
остаётся самой известной работой Делёза и Гваттари. Конечно, её
популярность в значительной мере была связана со своевременностью и
резкостью её радикализма и критики психоанализа. И всё же "Анти-Эдип"
не был ни спонтанным выражением иррационализма Мая 68-го, ни оп-
портунистской эксплуатацией лаканистского культа. Скорее, это был
результат почти двадцати лет исследований, проводимых авторами в
области философии, психоанализа, политической теории; таким образом,
это в большей степени был ответ на интеллектуальные течения
последних десятилетий, нежели реакция на майское восстание»1.
«Анти-Эдип», который тот же Р. Боуг назвал «современной
версией "Антихриста" Ницше»2, был направлен против психоанализа с его
центральным учением о семейном треугольнике и об Эдиповом
комплексе. Впрочем, это лишь самый поверхностный смысл, заявленный
в самом названии книги. Этот текст бросил вызов всем семейным
теориям вообще, от психоанализа и семейной психотерапии до
антипсихиатрии. «Анти-Эдип» выступает против одномерности и узости
представления о человеке как о существе, проживающем свою жизнь в узких
рамках семейной группы. Человек живёт не в семье, а в мире, заявили
Делёз и Гваттари, он бредит не папой-мамой, а геополитикой, его
желание всегда носит социальный характер, а структуры социального
раскрываются не в неврозе, а в шизофрении.
Основным рабочим концептом «Анти-Эдипа» стала машина,
определяемая в её связи с потоками. «Мы определяем машину как всякую
систему, изымаемую из потока»3. Поэтому речь здесь идёт о
технических машинах, о социальных машинах, а чаще — о желающих машинах.
Машина не сводится к механизму, выходя за пределы этого понятия. Ещё
Кант подчёркивал, что механизм обладает лишь движущей силой, тог-
Bogue R. Deleuze and Guattari. P. 1.
Ibid. P. 83.
Deleuze et Guattari s'expliquent... / L'île Déserte. Textes et entretiens 1954-1974. P. 305.
142
Часть ι. Древо
да как организованное существо обладает силой формирующей. Так что
и делёзогваттарианские машины — скорее организмы, чем механизмы.
Но проблематика «капитализма и шизофрении» имеет иной смысл.
Тело социума (socius)1, говорил Делёз в своей венсеннской лекции
16 ноября 1971 г., пронизывается потоками, а человек представляет
собой прерывание потока. Поэтому он всегда выступает точкой отсчёта
для производства потоков. Все общественные формации занимаются
кодированием потоков, и только капитализм основывается на потоках
декодированных. (Собственно, Делёз и Гваттари здесь повторяют
слова Маркса из «Манифеста коммунистической партии» о том, что «всё
сословное и застойное исчезает»). Когда встречаются декодированные
потоки капитала и рабочей силы, детерриторизованные и
декодированные потоки денег и трудящихся, возникает капитализм. Таким образом,
капитализм зиждется на крахе предшествующих форм общественной
территориальности. В силу этого капиталистическая машина
представляет собой машину безумия. Все предшествующие общества кодировали
свои потоки и тем самым территоризовали их. Капитализм
отказывается и от первого, и от второго. Поэтому капитализм — это
шизофреническая система; он производит шизофрению на экономическом
уровне. Шизофреник точно так же декодирует и детерриторизует потоки,
в силу чего можно говорить о тождественности капитализма как
общественного устройства и шизофрении как процесса, представляющего
собой негатив капиталистической формации. Капитализм и
шизофрения сопоставимы на экономическом (но не на идеологическом) уровне,
они тождественны по природе, но различны по режиму.
Делёз и Гваттари познакомились благодаря Жан-Пьеру Мюйару,
который подружился с Гваттари в 1964 г. на семинаре Левой оппозиции,
а в 1966 г. стал врачом в клинике «La Borde». Ещё в конце 1950-х, изучая
медицину в Лионском университете, он слушал лекции Делёза.
Впоследствии они подружились, и однажды Делёз признался ему, что, говоря
в своих книгах о безумии и о психозе, чувствует себя неуверенно,
поскольку не знает этих явлений изнутри. Конечно, Мюйар мог бы пригла-
1 Под «социумом» Делёз понимает не общество как таковое, но социальную инстанцию,
играющую роль «социального тела». Именно в этой инстанции протекают и прерываются все
потоки, здесь происходит социальное инвестирование желания. См. начало лекции от 14
декабря 1971 г.
Глава 4. Анти-Эдип
143
сить его в «La Borde», но Делёз, по его словам, побаивался
сумасшедших. Тогда он решил свести философа с Гваттари. Весной 1969 г. эти
двое обменялись несколькими письмами, положившими начало их
дружбе. В июне 1969 г. в Лимузене Мюйар познакомил Гваттари и Франсуа
Фурке с Делёзом. Гваттари оказался неиссякаемым источником знаний
0 безумии и лаканизме, в котором Делёз видел для себя вызов. В свою
очередь, он использовал концепты из «Различия и повторения» в своём
докладе &ля Парижской фрейдистской школы1. Это выступление
обозначило его выход из тени Лакана и становление самостоятельным
теоретиком. Потом они опять обменивались письмами, в которых была
намечена программа совместной работы: критика эдипального треугольника
и преувеличения роли семейных отношений в психоанализе, а Гваттари
высказал мысль о том, что «капитализм — это шизофрения».
Вторая встреча состоялась в августе того же года в замке Дюжон
неподалёку от «La Borde». Φ. Фурке в своём письме описывал
происходящее так: «Контекст здесь забавный. Присутствие Делёза в Дюжоне
породило серию явлений, и на мой взгляд, серия эта будет продолжаться
долго. В Дюжоне много народу: помимо Феликса и Арьетт, здесь Рос-
тан, Лиан, Эрве, Мюйар, Эльда и т. п. И весь этот народ трепещет
перед сценой, с которой начинается каждое утро: Феликс и Делёз
интенсивно творят, Делёз делает замечания, подгоняет, критикует, связывает
с историей философии то, что предлагает Феликс»2. Гваттари охотно
признаётся в том, что работает несколько беспорядочно и нуждается
в крепкой руке философа, чтобы привести свои мысли в порядок. В то
время как все в замке общаются на «ты», Делёз и Гваттари сохраняют
между собой строгое «вы». Гваттари привык к коллективной,
групповой деятельности, но Делёз может работать только с одним партнёром3.
1 Guattari F. Machine et structure // Change. 1972. № 12.
2 Цит. по: Dosse F. Gilles Deleuze et Félix Guattari. P. 14.
3 24 июня 1973 г. Делёз писал своему компаньону: « Феликс, ах, Феликс, дорогой Феликс, вы мне
дороги, и ничто с моей стороны не может повлиять на наши отношения... Я уже
рассказывал вам недавно, что в начале нашей дружбы я сказал Арьетт: дело осложняется тем, что я хочу
навязать Феликсу то, от чего он никогда не захочет отказаться, а он — вовлечь меня в то, чего
я никогда не хотел бы делать. Ведь поначалу вы предложили расширить нашу работу вдвоём,
распространив её на нескольких членов CERFI. Я сказал, что для меня об этом не может
быть и речи, и долгое время мы никак не покушались: вы — на моё одиночество, я — на вашу
страсть к коллективности». (Цит. по: Dosse F. Gilles Deleuze et Félix Guattari. P. 28.)
144
Часть ι. Древо
Для Гваттари это довольно тяжёлый момент, ведь, когда Делёз покинет
замок, ему придётся работать в одиночку, а он к этому не привык.
После этого начался интенсивный обмен письмами, в ходе
которого складывалось то, что станет «Анти-Эдипом». Делёз каждый день
посылает своему компаньону сырые наброски. Гваттари также
приходится сидеть за рабочим столом, преодолев свою неприязнь к
одинокому творчеству. По вторникам после обеда они встречаются у Делёза
(утром тот читает лекции в Венсенне). Иногда Делёз приезжал в Дю-
жон, но в «La Borde» его нельзя было затащить никакими силами. Ален
Аптеман вспоминал, что однажды, когда Делёз обедал с Гваттари и его
друзьями, раздался телефонный звонок из клиники: один из пациентов
поджёг часовню и убежал в лес. Феликс со своим ассистентом
помчались ловить пациента, а побледневший Делёз спросил: «Как вы
выносите шизофреников?».
Они прекрасно сработались, благо их чувство юмора было сходным.
Между ними не возникало никакой ревности, каждый с восхищением
слушал другого. По выражению Ф. Досса, они составляли «настоящую
лабораторию по испытанию концептов»1.
Многие люди работали вдвоём... — рассказывал Делёз. — Однако
не существует ни правил, ни общей формулы. В своих прежних книгах
я пытался описать такого рода мышление; но описывать — ещё не
значит осуществлять такую мысль. (Даже кричать «да здравствует
множественность» — ещё не значит это делать, нужно практиковать
множественность. Недостаточно говорить: «долой жанры», нужно действительно
писать так, чтобы больше не было «жанров» и т. п.) Так вот, вместе с
Феликсом всё это становилось возможным, даже когда мы не встречались.
Нас было только двое, но, работая вдвоём, мы работали «между».
Переставали быть «автором». И это отсылало к другим людям, отличным и от
одного, и от другого. Пустыня росла, но становилась всё более
населённой. Это не имело ничего общего со школой, с признанием, но скорее с
узнаванием. И все эти истории становлений, противоестественных союзов,
эволюции, двуязычия и полёта мысли — всё это и было у нас с Феликсом.
Я многое брал у Феликса и надеюсь, что сам воздействовал на него так же.
Ты знаешь, как это бывает, и я повторюсь, потому что мне это представ-
Dosse F. Gilles Deleuze et Félix Guattari. P. 23.
Глава 4. Анти-Эдип
145
ляется важным: работают не вместе, работают «между». В этих условиях,
при таком типе множественности, возникает политика, микрополитика.
Как говорит Феликс, политика предшествует Бытию. Мы не работаем, мы
ведём переговоры. Никогда не было одного и того же ритма, всегда был
разрыв: я понимал, что говорит мне Феликс, и мог воспользоваться этим
шестью месяцами позже; то, что говорил я, он понимал сразу, на мой вкус,
слишком быстро, и всегда находился где-то ещё1.
В августе 1971 г. Делёз и Гваттари вместе с семьями встретились в
бухте Тулона. Пока их жёны и дети наслаждались солнцем и морем, учёные
мужи напряжённо работали. Потом они разъехались по домам и
дорабатывали фрагменты текста порознь, непрестанно обмениваясь ими. Текст
«Анти-Эдипа» был завершён к символической дате — 31 декабря.
Разбираться с авторством того или иного хода мысли или концепта
в «Анти-Эдипе», говорит С. Надо, значит «пренебрегать основным
понятием в их творчестве — понятием взаимодействия»2. Впрочем,
на наш взгляд, это всё же не лишено смысла и, кстати, не так уж
трудно. Так, Делёз привнёс в общий труд заимствованный у Α. Αρτο термин
«тело без органов», под которым понимал план, в котором
разворачивается процесс желания. В пределе, говорил Делёз, желание и тело без
органов — это одно и то же, поскольку тело без органов представляет
собой содержательный план желания, рассматриваемого как процесс3.
Гваттари обогатил это понятие антилаканистскими коннотациями: если
в системе Лакана привилегированная роль отводилась игре
означающих, то Гваттари акцентировал тело без органов как область
недетерминированного функционирования желания и власти. Сам Делез говорил,
что такие понятия, как «микро-политика желания»,
«трансверсальность», «детерриторизация» и «ретерриторизация» предложил
Гваттари. «Однако, — замечает Р. Сассо, — когда их предложил "Феликс",
они были поименованы — надо сказать, весьма удачно — при том, что
Делёз уже пытался сконструировать концепт "территории"»4. Тот же
Гваттари предложил центральный концепт «Анти-Эдипа» — машины.
1 Deleuze G., Parnet Cl. Dialogues. P. 23-24.
2 Nadaud S. Écrits pour LAnti-Œdipe. Paris: Lignes, 2006. P. 12
3 Лекция 14 мая 1973 г.
4 Sasso R. Déterritorialisation/Reterritorialisation // Le Vocabulaire de Gilles Deleuze. P. 95.
146
Часть ι. Древо
Сам Делёз подробно описал этот процесс совместных поисков в
беседе о первой их книге:
Два с половиной года тому назад я встретил Феликса. У него было
впечатление, что я опережал его, а он чего-то ждал. Дело в том, что у меня не
было ни ответственности психоаналитика, ни вины, прививаемой
психоанализом. Я не находил себе места, это приносило в мою жизнь
определённую лёгкость, и я считал психоанализ странным, как бы даже жалким. Но
я работал только с концептами, и притом довольно робко. Феликс
рассказывал мне о том, что он называл машинами желания: это была целостная
теоретическая и практическая концепция машины бессознательного,
бессознательного шизофреника. Тогда у меня было впечатление, что именно
он опережал меня. Но о своей машине бессознательного он рассказывал
ещё в терминах структуры, означающего, фаллоса и т. д. Это было
неизбежно, так как он был многим обязан Лакану (как и я). Но я говорил себе,
что было бы ещё лучше, если бы удалось найти адекватные концепты,
вместо того чтобы использовать понятия, созданные даже не Лаканом, а той
ортодоксией, которая возникала вокруг него. А Лакан говорил: мне не
помогают. Это была помощь шизофреника. И мы тем более обязаны Лакану
тем, что отказались от таких понятий, как структура, символическое или
означающее, которые никуда не годятся и к которым сам Лакан постоянно
возвращался, чтобы показать их оборотную сторону.
Мы решили, Феликс и я, работать вместе. Вначале мы обменивались
письмами. Затем, время от времени, происходили сеансы, где один слушал
другого. Было немало развлечений, впрочем, было немало и скуки. И
всегда кто-то из нас был слишком многоречив. Случалось так, что один
предлагал какое-то понятие, которое ничего не говорило другому, и тот мог
воспользоваться им только несколько месяцев спустя, в ином контексте.
И потом мы читали много книг, ни одну из них — полностью, только по
частям. Иногда обнаруживались вещи совершенно идиотские, которые
подтверждали вред Эдипа и великое убожество психоанализа, а иногда —
вещи, казавшиеся нам восхитительными, которые мы хотели использовать.
И затем мы много писали. Феликс трактовал письмо как шизоидный поток,
который приносит с собой самые разные вещи. Меня же интересовало, как
отдельная страница может обрываться со всех сторон и в то же время быть
замкнутой в себе, словно яйцо. И потом, в любой книге имелись ретенции,
резонансы, осадки и много скрытого, замаскированного. Тогда мы
действительно писали вдвоём, и у нас не было никаких связанных с этим
проблем. Мы создавали одну версию за другой1.
Беседа об «Анти-Эдипе» // Делёз Ж. Переговоры. С. 26-27.
Глава 4. Анти-Эдип
147
По словам Делёза, именно он освободил Гваттари от структурного
психоанализа Лакана. Но, должно быть, и сам Гваттари стремился к
этому освобождению, так что встреча с Делёзом стала &ля него лишь
решающим толчком. Этот процесс был обоюдным, к тому же, Гваттари
так и не порвал с психоанализом до конца. В 1988 г. Делёз говорил:
Любопытно, что не я вывел Феликса из психоанализа, это он меня вывел.
В моём исследовании о Мазохе, затем в "Логике смысла" я ещё верил, что
получил результаты, распространяющиеся на ложное единство
садомазохизма или даже на события, которые не соответствовали
психоанализу, но могли бы с ним примириться. Феликс, напротив, был и оставался
психоаналитиком, учеником Лакана, но учеником, похожим на "сына",
который знает, что примирение уже невозможно»1. Но теперь, когда их
встреча состоялась, оба автора смогли пуститься в отважное
предприятие — подвергнуть разрушительной критике психоанализ, достигший
к тому времени апогея популярности во Франции.
Сам Делёз выделял в этом сочинении два основных аспекта —
критику фрейдовского психоанализа и учение о капитализме в его
отношении к шизофрении.2 В 1973 г. он писал, что «Анти-Эдип» представляет
собой попытку мыслить «против психоанализа, но в
психоаналитических терминах»3. Надо сказать, что во время написания книги идея уже
носилась в воздухе: так, в ходе дискуссии «Психоанализ и марксизм»
(1970) Б. Мюльдворф заявил, что фрейдистскую проблему семьи
следует заменить более общей проблематикой воспроизводства социальных
индивидов в ракурсе данного исторического общества4.
Что касается техники этой книги, — объяснял Делёз в 1972 г., —
письмо вдвоём не составило особенной проблемы, зато мало-помалу
выявило весьма конкретную зависимость. В книгах по психиатрии или даже
1 О философии // Делёз Ж. Переговоры. С. 188.
2 Cm.:LArc. 1980. №49. Р. 52.
3 Делёз Ж. Письмо суровому критику / Переговоры. С. 19. «... Если у психоаналитиков, от
самых глупых до самых умных, реакция на эту книгу в целом враждебная, хотя она скорее
защитная, чем агрессивная, то, очевидно, не только из-за ее содержания, но и потому, что растет
количество людей, которым надоедает выговаривать "папа, мама, Эдип, кастрация, регрессия"
и видеть в сексуальности вообще, и в своей собственной в частности, образ собственного
тщедушия и слабости». (Там же.)
4 Marxisme et psychanalyse // Ls Nouvelle critique. 1970. № 37. P. 25.
148
Часть ι. Древо
по психоанализу шокирует дуальность между тем, что говорит
предполагаемый больной, и тем, что говорит его лекарь. Между «случаем» и
комментарием или анализом случая. Логос против патоса: больной должен
сказать что-то, а врач должен сделать сказанное им симптомом или
придать ему смысл. Это позволяет подмять под себя всё сказанное больным,
произвести лицемерный отбор.
Мы вовсе не претендовали написать книгу от лица сумасшедшего, мы
стремились к такой книге, где уже неизвестно, кто говорит, врач,
представляющий больного в настоящем, прошлом или будущем.
Поэтому мы задействовали столько писателей и поэтов: непонятно,
говорят ли они в качестве больных или врачей — больных или врачей
цивилизации. Короче, мы старались уйти от традиционной дуальности,
потому что мы писали вдвоём. Никто из нас не был ни сумасшедшим, ни
психиатром, двое были необходимы, чтобы высвободить процесс,
несводимый ни к безумцу, ни к безумцу и его психиатру.
Этот процесс мы называем потоком. Поток — это необходимое нам
понятие, лишённое всякой определённости. Это может быть поток слов,
идей, дерьма, денег, это может быть финансовый механизм или
шизофреническая машина: всё это избегает дуальности. Мы задумывали эту книгу
как книгу-поток1.
Категория «желающего производства», по мысли авторов,
позволяет им сочетать в рамках одной концепции наиболее ценное из
фрейдизма (а именно — учение о желании) и из марксизма (целостная
научная теория производства). Авторский тандем не просто стремился
синтезировать фрейдизм и марксизм («мы не собираемся
возвращаться к Фрейду или к Марксу»2, — говорил Делёз), но рассчитывал
избавить оба учения от присущих им крайностей. Фрейд, освобождая
желание, убил желающее производство, лишив желание
социального содержания. Маркс открыл законы социального производства, но
разорвал его связь с желанием индивида, оперируя только большими
социальными группами3. (Авторы, как мы видим, повторяют мысль
Deleuze et Guattari s'expliquent... / L'île Déserte. Textes et entretiens 1954-1974. P. 304-305.
Ibid. P. 308.
Роль марксизма в «Анти-Эдипе» ни в коем случае не следует преуменьшать. С. Чоат
замечает, что «'Анти-Эдип" — книга, настолько тесно связанная с Марксом, что многие тогдашние
[речь идёт о первом знакомстве с Делёзом в англофонном мире — А. Д.] комментаторы
пытались дистанцировать Делёза от Маркса, просто затем, чтобы показать, что существует и дру-
Глава 4. Анти-Эдип
149
Альтюссера об «антигуманизме» Маркса.) Делёз и Гваттари
претендуют находиться между Фрейдом и Марксом, открывая способ,
которым производственные отношения создаются «желанием» и которым
«желание» (т. е., говоря упрощённо, аффекты и импульсы) участвуют
в инфраструктуре производства, что и позволяет обосновать шизоана-
литический метод вместо психоаналитического1. Проводить
параллели между Фрейдом и Марксом, считают Делёз и Гваттари, совершенно
бессмысленно: при этом термины того и другого просто интериоризи-
руются друг в друге, но остаются друг другу чуждыми (как в
отождествлении денег и экскрементов).
Эпистемологическое обращение к марксизму и фрейдизму —
попытка реанимировать не бюрократические аппараты обоих течений, но
опыт их аналитического рассмотрения. Весь фрейдо-марксизм,
говорил Делёз, представляет собой поиск пути примирения обеих доктрин,
исповедующих сходные экономические учения — политическую
экономию и экономию либидинальную. Этот поиск приводит лишь к
параллелизму или к попытке найти такую точку, в которой одно учение
подключалось бы к другому. Делёз отказывается признавать
существование универсальной системы экономии, будь то экономия
политическая или либидинальная2.
Повсюду — машины, и вовсе не метафорически: машины машин, с их
стыковками, соединениями. Одна машина-орган подключена к другой
машине-источнику: одна испускает поток, другая его срезает3.
Так Делёз и Гваттари начинают свою самую известную книгу. Перед
ними стоит несколько задач — описать технологию машинного произ-
гой Делёз». (Choat S. Marx Through Post-Structuralism: Lyotard, Derrick, Foucault, Deleuze. L.;
NY: Continuum, 2010. P. 157.)
Б. Эдкинс справедливо замечает: «Исследуя отношения между Эдипом и капитализмом, Делёз
и Гваттари занимают место в нексусе психоанализа и марксизма. При этом они хотят избежать
как редукции психоанализа к марксизму (желание как проявление сил экономического
производства), так и редукции экономического производства к психоанализу (социальные
структуры как расширенная версия структур психических)». (Adkins В. Death and Desire in Hegel,
Heidegger and Deleuze. Edinburgh: Einburgh University Press, 2007. P. 146.)
Лекция 28 мая 1973 г.
Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. Пер. Д. Кралечкина.
Екатеринбург: У-Фактория, 2007. С. 13.
150
Часть ι. Древо
водства; определить пределы, в которых возможна аналогия между
производством желания на организменном уровне и
социально-экономическими процессами; дать критику фрейдизма и марксизма; и наконец,
предложить собственную позитивную программу.
Авторы рассматривают все процессы реальности как производство,
более того — как производство производств, регистрации и
потреблений. Как процесс производство выходит за пределы идеальных
категорий и представляет собой соотносящийся с желанием как со своим
имманентным принципом цикл. Такой подход возможен при условии, что
процесс не принимается за цель и не смешивается с собственным
бесконечным продолжением. Идеалистические категории выражения и
репрезентации здесь неприменимы.
Вся реальность у Делёза и Гваттари представляет собой
производство. Исследователи отмечают параллели с картезианским
отождествлением человека и машины и «человеком-машиной» Ламетри. Но,
если у французских рационалистов XVII-XV1II вв. речь шла
преимущественно о механическом движении и законах механики, то «у
Делёза и Гваттари механицизм принял жёсткие формы: всё
отождествляется только с машинами, механическими процессами»1. Такое суждение
не вполне правомерно: Делёз и Гваттари всячески стремятся
отказаться от идеалистических по своей природе отождествлений и аналогий,
очевидно опираясь на ницшевское ниспровержение
причинно-следственного идеализма: «движения не "вызываются" какою-то
"причиной"... они суть сама воля»2. Возведение следствия к причине, говорил
Ницше, — это то же самое, что возведение к суверенному субъекту или
душе. Субъект или душа производятся теми же машинами, а не
предшествуют производству.
Вместе с тем, «Анти-Эдип» вовсе не представляет механическую
картину реальности. Концепт «машина», позволяющий проводить
структурный анализ конкретных систем и выполнять трансверсаль-
ный срез реальности, в «Капитализме и шизофрении» призван
подчеркнуть, что бессознательное функционирует скорее как фабрика,
нежели как театр. Оно лишено всякого витализма, будь то теологичес-
Попова Н. Г. Французский постфрейдизм: (Критический анализ). М., 1986. С. 95.
Ницше Ф. Черновики и наброски 1885-1887 гг. Пер. В. М. Бакусева / Полное собрание
сочинений. Т. 12. М. : Культурная революция, 2005. С. 18.
Глава 4. Анти-Эдип
151
кого или антропоморфического, поскольку машины лишены какой бы
то ни было души или сущности. Желающие машины ни в чём не
подобны фабричным технологическим машинам, объединяющим
функциональные части в некое целое, они всегда гетерогенны. Недаром Делёз
и Гваттари замечают, что в то время как фабричные машины работают
лишь до тех пор, пока не сломаются, желающие машины работают лишь
постоянно ломаясь.
Но всё это, конечно не снимает вопроса о происхождении
машины, и авторы «Анти-Эдипа» разрешают его весьма изящно. Машина
не может сама себя производить, формировать и заводить. Машина
может объяснить функционирование организма, но не способы его
формирования. Ни механицизм, абстрагирующий структурное единство
машин, ни витализм, обращающийся к индивидуальному
специфичному единству живого, не могут дать удовлетворительного объяснения.
Ошибка того и другого состоит в том, что машина и желание остаются
во внешнем отношении друг к другу, и связь между ними оказывается
вторичной. Сложную машину нельзя рассматривать в качестве
единичного объекта: одна часть машины всегда захватывает своим кодом часть
другой машины и воспроизводится благодаря части другой машины.
Делёз и Гваттари используют пример С. Батлера1: шмель является
частью репродуктивной системы клевера. Считать ли машины органами,
или органы — машинами, несущественно. Если отбросить механицизм
и витализм, обнаруживается непосредственная связь между машиной
и желанием, «машина переходит в сердце желания, машина становится
желающей, а желание — машинным». Такой подход позволяет заодно
разделаться и с субъектом, которого наивное мышление полагает
источником желания:
Не желание находится в субъекте, машина в желании, тогда как
остаточный субъект — с другой стороны, рядом с машиной, на её
периферии, как паразит машины, добавочная часть позвоночно-машинного
желания. Короче говоря, настоящее различие проходит не между машиной
и живым, витализмом и механицизмом, а между двумя состояниями
машины, которые также оказываются двумя состояниями живого2.
Butler S. Erewhon. L.: Peter Mudford, 1970.
Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. С. 450.
152
Часть ι. Древо
Желание и объект желания составляют единое целое, «машину
машины». Если Фрейд предлагал модель энергетических потоков,
приводящих в действие психику, то Делёз и Гваттари утверждают, что
«объективное бытие желания — это само Реальное»1. Такой формы
существования, как психическая реальность, просто не существует.
Или, в марксистских терминах, не желание подкрепляется
потребностями, а наоборот, потребности проистекают из желания, выступая
контрпродуктами в произведённом желанием реальном.
Параллель между желающим производством и производством
социальным нужна для того, чтобы получить представление о теле без
органов. Параллель эта, замечают авторы, носит феноменологический
характер и не предсказывает природу или отношение этих двух производств.
Дело лишь в том, что формы социального производства также
предполагают состыкованный с процессом производства момент
антипроизводства и обусловленную им остановку. Роль тела без органов здесь
выполняет капитал, тело земли или деспотическое тело, которое, согласно
Марксу, не является продуктом труда, но предстаёт его естественной
или божественной предпосылкой. «... Общественное производство
является исключительно самим желающим производством в
определённых условиях»2. Другими словами, само общественное поле
«прорабатывается» желанием, будучи его исторически определённым
продуктом. Своим предшественником Делёз и Гваттари называют В. Райха,
который, отказавшись от принятой у мыслителей Франкфуртской школы
социальной философии спекуляции по поводу «ложного сознания»
и интериоризации, объяснял фашизм в терминах желания. Впрочем,
Райх не добрался до категории желающего производства, а потому не
увидел равнообъёмность понятий общественного поля и желания. Этот
«пробел» восполняют Делёз и Гваттари, утверждающие, что
«желающее производство — не что иное, как общественное производство»3.
Тождество желающей и общественной машин обнаруживается в том,
что и та, и другая имеют своим пределом не износ, а сбой. Всякая маши-
Там же. С. 50.
Там же. С. 53. «Существует только желание и общественное, и ничего другого». (Там же.)
А потому «существует лишь одно производство, а именно производство реального». (Там же.
С 57.)
Там же. С. 54.
Глава 4. Анти-Эдип
153
на работает только со скрипом, непрестанно ломаясь. Все её
дисфункции являются частью её функционирования, а не её смертью1.
Желающие машины основываются на «бинарном правиле»: одна
машина всегда состыкована с другой, а продуктивный синтез имеет
коннективную форму. Часть производства всегда прививается к
произведённому, так что желающее производство — это производство
производства, а всякая машина есть машина машины. При этом машины
определяются трансверсально, т. е. как системы срезов гилеморфиче-
ских материальных потоков. Машина производит срез потока,
поскольку является машиной машины, которая также производит поток,
также будучи срезом в отношении некой третьей машины и т. д. Не
следует понимать машины как органы тела: «Машины вовсе не
определяются как органы. Органы выступают лишь в качестве каких-либо
элементов машин»2.
Желающее производство представляет собой работу желающих
машин. Желающая машина включает в себя 1) «машины-органы», т. е.
собственно работающую часть, 2) «тело без органов» и 3) субъект.
Тело без органов возникает из-за желания остановки как
производственной смерти3 и перекликается с представлением Фрейда о Танато-
се. В «Логике смысла» Делёз характеризует его как «организм без
частей..., у которого нет ни рта, ни ануса, отбросившее все интроекции
и проекции и такой ценой завершившееся»4. Оно непроизводительно,
стерильно, непорождаемо и непотребляемо. В социальном
производстве Делёз и Гваттари также указывают «тела без органов», соответ-
1 «Никогда разногласие или дисфункция не означали смерти общественной машины, которая,
напротив, имеет привычку питаться вызываемыми ею противоречиями, провоцируемыми ею
кризисами, порождаемыми ею тревогами и адскими поступками, которые её укрепляют, —
капитализм научил нас этому и перестал сомневаться в себе, тогда как даже социалисты
отказались верить в возможность естественной смерти в результате износа. Никто никогда не
умирает от противоречий. Чем больше поломок, чем больше шизофрении, тем лучше всё работает,
по-американски». (Там же. С. 239.)
2 Deleuze G. Schizophrénie et société / Deux régimes de fous. Textes et entretiens 1975-1995.
P. 17.
3 « Полное тело без органов — это антипроизводство; но дополнительное качество коннектив-
ного или производящего синтеза как раз и состоит в стыковке производства с
антипроизводством, со стихией антипроизводства». (Там же. С. 23.)
4 Делёз Ж. Логика смысла. С. 248.
154
Часть ι. Древо
ствующие различным стадиям общественного развития: на стадии
«дикости» — «тело» земли, на стадии варварства — деспотия, на стадии
цивилизации — капитал. Тело без органов не представляет
капиталистическую машину в целом, но только тот уровень, на котором деньги
играют роль непродуктивной инстанции (деньги делают деньги)1.
«Желающая машина» всегда функционирует, будучи
«испорченной», т. е. совершая остановки (например, перерывы в приёме пищи,
дыхании, сексуальном влечении и т. п.). Единство желающего и социального
производства обеспечивает энергия либидо, инвестирующая социальное
поле в его экономических, исторических, расовых и культурных
феноменах. Субъект есть тот уровень, на котором устанавливаются аутентичные
отношения между «машинами-органами» и «телом без органов».
«Желающее производство» проходит три технологических стадии:
1. Желающие машины и тело без органов» производят взаимное
отталкивание. «Тело без органов», испытывая «отвращение» к ма-
шинности («шуму машинного производства»), останавливает
первоначальное производство, которое является естественным состоянием
индивида, и вызывает первичное подавление желания. При этом
желающая машина становится машиной параноической. Это
перевоплощение желающих машин, конституирующееся из отношения желающих
машин к телу без органов.
2. Тело без органов и машины-органы испытывают взаимное
притяжение, поскольку не могут существовать друг без друга. Это
притяжение выражается в регистрации процессов производства на поверхности
тела без органов. Такая регистрация вызывает видимость того, что всё
производство зависит только от тела без органов (точно так же
возникает иллюзия ведущей роли капитала в промышленном производстве).
Соответствующую модификацию желающей машины авторы называют
машиной безбрачной, заимствуя это выражение у М. Карружа.
Безбрачная машина производит «интенсивные количества», т. е. всё, что
проживается и переживается, но не является репрезентативным.
3. Снятие оппозиции между взаимным притяжением и
отталкиванием машин-органов и телом без органов достигается за счёт создания
чудодейственной машины — субъекта. Желание «просачивается» че-
]
Лекция 22 февраля 1972 г.
Глава 4. Анти-Эдип
155
рез тело без органов, порождая в нём деятельность, каковую потребляет
субъект. При этом субъект «не вступает в брак» с потребляемым, т. е.
свободен от него. Он остаётся номадической сингулярностью, кочуя на
поверхности «тела без органов» и не имея фиксированной
идентичности. Таково самопроизводство бессознательного.
Производство чистых интенсивностей безбрачной машиной
выявляет характер субъекта, чуждого эдиповой фигуре. Субъект производится
как придаток машины или её остаток, оставаясь на периферии
машинного производства в качестве дополнительной детали. «... Он на краю,
у него нет постоянной идентичности, он всегда децентрирован, будучи
выведенным из состояний, через которые он проходит»1. Субъект
обращается по периметру круга, в центре которого нет никакого Эго.
Вместо этого центр занимает безбрачная машина вечного возвращения. При
этом субъект является не каким-то суверенным началом вроде души или
духа, но элементом и эффектом машинного производства:
«Единственный субъект — это само желание на теле без органов»2.
Делёз и Гваттари ставят в центр своих размышлений шизофреника
с его децентрированной субъективностью как продукт и одновременно
машину капиталистического производства:
Шизофреник удерживается на пределе капитализма: он является его
развитой тенденцией, дополнительным продуктом, пролетарием и
ангелом-истребителем. Он смешивает все коды, он несёт раскодированные
потоки желания... Шизофрения — это желающее производство как
предел общественного производства3.
Предел капитализма и то, как он этот предел преодолевает, —
сугубо марксистская тема в работе Делёза и Гваттари. «То, что нас
интересует больше всего у Маркса, — говорил Делёз в беседе с А. Не-
гри, — это анализ капитализма как имманентной системы, которая
постоянно переходит свои границы и которая всегда обнаруживает
эти границы расширившимися, потому что граница — это и есть сам
Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. С. 40.
Там же. С 117.
Там же. С. 61.
156
Часть ι. Древо
капитал»1. Шизофреник, постоянно пребывающей на этом пределе, —
фигура, чуждая марксизму, но не такая уж чуждая Марксу, говорящему
о внутреннем пределе капиталистического производства. Фигура
шизофреника нужна Делёзу и Гваттари как альтернатива понятию
рабочего класса. «Мы больше не имеем в своём распоряжении образ
пролетария, которому было бы достаточно обрести сознание», — говорил
Делёз2. «Освобождение» Маркса от Гегеля достигается за счёт
обращения к этой фигуре.
В практическом плане тандем проводит различие между двумя
типами человеческих групп — революционных по своей сути
групп-субъектов и порабощенных групп, постоянно переходящих друг в друга.
Фрейдовский психоанализ допускает лишь измерение порабощенных
групп, вместо того чтобы извлекать из фантазма революционный
групповой потенциал. Этим должен заняться шизоанализ — дисциплина,
предлагаемая Делёзом и Гваттари. Следует помнить, что у Делёза и
Гваттари не было намерения создать какую-то революционную структуру,
вокруг которой могли бы сплотиться борцы за освобождение
желания. Ведь, как справедливо замечает Г. Ламберт, «работы Делёза и
Гваттари никогда не предназначались &ая институций и не должны были
институализироваться »3.
Шизоаналитическая программа носит кантианский характер. Как
Кант искал имманентные сознанию критерии, стремясь построить
трансцендентальную философию и разрушить трансцендентные
синтезы метафизики, так Делёз и Гваттари разрушают эдипальную
метафизику психоанализа и неправомерное использование синтезов
бессознательного, открыв трансцендентальное бессознательное, определяемое
имманентностью своих критериев. Кант совершил критическую
революцию. Делёз и Гваттари претендуют совершить материалистическую
революцию, опирающуюся на практику шизоанализа.
Предложенный Делёзом и Гваттари шизоанализ ниспровергает
насильственную эдипизацию, которой с увлечением предаётся
психоанализ. Шизоанализ не имеет своей целью решить проблему Эдипа лучше,
Контроль и становление / Делёз Ж. Переговоры. С. 218.
Там же. С. 220.
Lambert G. Who's Afraid of Deleuze and Guattari? N.Y.: Continuum, 2006. P. 11.
Глава 4. Анти-Эдип
157
чем это сделал психоанализ. Его задача — деэдипизировать
бессознательное, чтобы обратиться к подлинным проблемам. Деэдипизация не
может произойти за пределами психоанализа, поэтому необходимо
вернуться к самому психоанализу, превратив аналитическую машину в
деталь революционного аппарата. Шизоанализ — это политический и
социальный психоанализ, не обобщающий присутствие Эдипа в культуре,
но вскрывающий наличие «бессознательного либидинального
инвестирования историко-общественного производства»1. Его задача состоит
в том, чтобы деконструировать репрезентативное эдипальное
бессознательное и достичь непосредственного производящего
бессознательного. В конце концов, ничто не обязывает культуру быть эдипальной;
напротив, это Эдип является частью культуры. Как написал Делёз в статье
о детективных романах, «Эдип у Софокла был детективом, а не
детективный роман — эдипальным»2.
Вместе с тем, шизоанализ оказывается программой
«революционного инвестирования», благодаря которому желание перекраивает интерес
эксплуатируемых классов, высвобождая потоки, способные разрушить
разом все сегрегации. «Эдип взрывается, поскольку подорваны сами его
условия»3. Номадическое использование «коннективных синтезов»
противопоставляется сегрегационному. Параноидно-сегрегационному
бреду противопоставляется бред шизо-номадический. Бессознательное,
впрочем, продолжает колебаться между своими реакционными зарядами
и революционными потенциалами.
Наконец, Делёз и Гваттари дают своему шизоанализу следующую
обобщающую характеристику, несколько отдающую маоизмом:
Шизоанализ — это одновременно трансцендентальный и
материалистический анализ. Он является критическим в том смысле, что он
ведёт критику Эдипа или доводит Эдипа до точки его собственной
самокритики. Он ставит себе задачу исследовать трансцендентальное
бессознательное, а не метафизику; материальное — а не идеологическое;
шизофреническое — а не эдипово; нефигуративное — а не воображаемое;
реальное — а не символическое; машинное — а не структурное; молеку-
Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. С. 158.
Deleuze G. Philosophie de la série noir / L'île Déserte. Textes et entretiens 1954-1974. P. 116.
Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. С. 168.
158
Часть ι. Древо
лярное, микрофизическое и микрологическое — а не молярное или
стадное; производящее — а не выразительное1.
Эта формулировка отчётливо даёт понять, против кого выступают
авторы «Анти-Эдипа»: их враги — традиционный психоанализ,
реакционный капитализм, метафизический репрезентационизм и наивный
структурализм.
Хотя Делёз категорически отказался от расширения творческого
тандема, он охотно пользовался помощью друзей Феликса —
антропологов. «Культурная релятивизация» Эдипа уже витала в воздухе:
в 1966 г. супружеская чета Ортиг опубликовала монографию
«Африканский Эдип»2, вызвавший возмущение Гваттари и Ори, которые
считали, что никакого Эдипа в Африке быть не может. Приятели
Гваттари А. Адлер и А. Земплени много рассказали им об антропологии,
а только что вернувшийся из Африки М. Картри стал постоянным
информатором Феликса. В совместной статье Адлер и Картри показали,
что в догонских мифах материнский персонаж вовсе не занимает
центрального положения3. Феликс познакомил их с Делёзом, и тот принял
их идеи с большим энтузиазмом. Завязалась оживлённая переписка:
Адлер и Картри посылали Делёзу краткие сообщения, основанные на
этнологическом материале, и дивились тому, как он использует этот
материал. Делёз очень заинтересовался их сообщениями о
«сегментарных обществах» Африки. Таким образом, антропологические схемы
появились в «Анти-Эдипе» отнюдь не случайно.
Авторский тандем предлагает оригинальную историю желающего
производства и даёт типологию желающих машин. Первая машина —
территориальная: почва — это поверхность, на которой записывается
весь процесс производства, и в то же время квази-причина производства
и объект желания. Тело такой машины исчерпывается рабочими
органами. Вторая машина — варварская деспотическая, соответствующая той
характеристике, которую Маркс дал азиатскому способу производства:
государство основывается на первобытных деревенских общинах. Тело
такой машины благодаря предписаниям и запретам становится телом
без органов. Эта вторая машина вызывает наибольший интерес авторов,
Там же. С 176.
Ortigues М.-С, Ortigues Ε. Œdipe africain. P.: Pion, 1966.
Adler Α., Cartry M. La Transgression et sa derision // L'Homme. 1971 Juillet
Глава 4. Анти-Эдип
159
так что Дж. Рид даже замечает, что «предпринимаемая Делёзом и Гват-
тари интерпретация Марксовой теории докапиталистических
экономических формаций и последующее переосмысление теории производства
субъективности делает почти избыточный акцент на азиатском
способе производства»1. Третья машина — цивилизованная
капиталистическая, машина диахроническая, в которой возникает последовательность
сменяющих друг друга капиталистов, обосновывающая новую
креативность истории2. Каждый тип общественной машины производит
определённое «представление», элементы которого организуются на
поверхности социума: в первом случае это система коннотации-коннек-
ции, во втором — система подчинения-дизъюнкции, в третьем —
система координации-конъюнкции.
Таким образом, теория общества у Делёза и Гваттари представляет
собой обобщённую теорию потоков. При построении этой схемы
авторы опирались не только на данные этнологии, но и на работы Ф. Броделя
о становлении капитализма и на учение Ж. Деррида об
«империализме логоса». Вместе с тем, как справедливо замечает Э. Холленд, «Делёз
и Гваттари единственные из постструктуралистов воскрешают понятие
универсальной истории»3.
Освобождение желания — единственная возможность революции.
Революции, не высвобождавшие желание масс, были обречены на про-
Read J. The Age of Cynism: Deleuze and Guattari on the Production of Subjectivity in
Capitalism // Deleuze and Politics. Eds. I. Buchanan & N. Thoburn. Edinburgh: Edinburgh University
Press, 2008. P. 144.
«Мы выделили три крупные общественные машины, которые соответствуют дикарям,
варварам и цивилизованным. Первая — это глубинная территориальная машина, которая занята
кодированием потоков на полном теле земли. Вторая — это трансцендентная имперская
машина, которая занята перекодированием потоков на полном теле деспота и его аппарата, Urstaat:
она реализует первый серьёзный ход детерриторизации, но именно потому, что она добавляет
своё возвышенное единство к территориальным сообществам, которые она сохраняет,
собирая их, перекодируя их и присваивая их прибавочный труд. Третья — это современная
имманентная машина, которая занята раскодированием потоков на полном теле капитала-денег:
она реализовала имманентность, она сделала конкретным абстрактное как таковое,
натурализовала искусственное, замещая территориальные коды и деспотическое перекодирование
аксиоматикой раскодированных потоков; она осуществляет второй серьёзный ход
детерриторизации, но на этот раз уже потому, что она не даёт сохраниться никаким кодам и никаким
перекодированиям». (Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. С. 411-412.)
Holland Ε. Capitalism + Universal History // The Deleuze Dictionary. P. 37.
160
Часть ι. Древо
вал. Любопытна в этом отношении характеристика; которую Делёз
и Гваттари дают русской революции:
Огромная работа Ленина и русской революции заключалась в том,
что было выковано классовое сознание, соответствующее
объективной сущности или объективному интересу, а также в том, что в качестве
следствия капиталистическим странам пришлось считаться с классовой
биполярностью. Но этот великий ленинский разрыв не помешал
воскрешению государственного капитализма в самом социализме, так же как он
не помешал классическому капитализму обыграть его, продолжая свой
кротовий труд, множа срезы срезов, которые позволяли ему
интегрировать в свою аксиоматику отдельные части признанного класса,
отбрасывая всё дальше и дальше, на периферию, или загоняя в рабское положение
неконтролируемые революционные элементы (не более контролируемые
в официальном социализме, чем в капитализме). Поэтому выбор остался
только между новой — застывшей, террористической и быстро
перенасыщающейся — аксиоматикой социалистического государства и старой
циничной аксиоматикой капиталистического государства1.
Шизофреник — не революционер, однако шизофренический
процесс — это потенциал революции. Позитивная революционная
программа, предлагаемая Делёзом и Гваттари, сводится к двум задачам:
1) обеспечить машинное преобразование первичного вытеснения
и 2) различить в общественных инвестированиях бессознательное ли-
бидинальное инвестирование группы или класса. Проще говоря,
освободить желающее производство как на организменном, так и на
групповом уровнях. Революционеры слишком часто забывают, что революцию
делают из желания, а не из долга. Впрочем, создатели шизоанализа в
самом конце своего труда ещё раз подчёркивают: они не считают, что
революционер — это шизофреник, и наоборот. Революционен
шизофренический процесс (который не следует смешивать с общественным
производством шизофреника), тогда как параноический «метод»
носит реакционный или фашистский характер: это не психиатрические
категории, но экономико-политические. Сам по себе шизоанализ не
предполагает никакой политической программы; это не партия и не группа,
Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. С. 403-404.
Глава 4. Анти-Эдип
161
говорящая от имени масс1. Более того, он не говорит о том, какое
общество должно возникнуть в результате революции. Он лишь вопрошает
о том, какое место оставляет то или иное общество &ля желающего
производства, какую роль в нём играет желание и в каких формах
осуществляется примирение режима желающего производства и производства
общественного. То есть: существует ли возможность перейти от
производства молярных систем к формированию молекулярных множеств.
«Анти-Эдип» произвёл эффект разорвавшейся бомбы. Первый
тираж был распродан за три дня. Газета «Le Monde» посвятила книге две
страницы. Р. Жаккар назвал её пророчеством о шизофренизации
общества. Р. Пивидаль, бывший студент Делёза, а теперь профессор
философии в университете Париж-VII, заявил, что «Анти-Эдип» заново
ситуирует обозначенные В. Райхом и Г. Маркузе проблемы
психоаналитического дискурса в историческом контексте капитализма. Он
напоминал читателям, что, говоря о шизофрении, авторы не превозносят
одноимённую болезнь, но анализируют машину, которая не складывает
буквы в слова, но разлагает слова на буквы2. Ф. Шатле также
превозносил книгу3, назвав её авторов «новым Лукрецием», а кроме того,
организовал у себя дома большое собрание, посвященное обсуждению
«Анти-Эдипа», на котором присутствовал и сам Делёз.
Необычайная популярность «Анти-Эдипа» сыграла с его
авторами скверную шутку. Книгу читали (и читают по сей день) чуть ли не
все. При этом мало кто пытался выяснить истпинное намерение Делёза
и Гваттари. Возникло множество самых превратных толкований. Одни
считали, что желание — это какая-то форма спонтанности, и в свете
лозунга 68-го «Оргазм здесь и сейчас» «Анти-Эдип» прочитывался
как либертарианский и революционный текст. Другие видели в
желании что-то вроде партийности и спорили о том, какой политической
группе должен принадлежать этот текст. Многие студенты поняли из
книги лишь то, что быть сумасшедшим — это здорово, так что идеи
Делёза и Гваттари стали приспосабливаться контр-культурными группа-
«Не предполагается, что та или иная политическая программа будет разрабатываться в рамках
шизоанализа». (Там же. С. 597.)
Pi Vidal R. Psychanalyse, schizophrénie, capitalisme // Le Monde. 1972.28 avril.
Châtelet R Le combat d'un nouveau Lucrèce // Le Monde. 1972.28 avril.
162
Часть ι. Древо
ми. Некоторые радикально настроенные молодые люди решили даже,
что «Анти-Эдип» призывает употреблять наркотики. И, хотя Делёз
говорил, что единственная цель книги состоит в том, чтобы
воспрепятствовать превращению людей в шизоидов, в начале 1970-х гг. в этом
тексте многие увидели пропаганду вседозволенности. С течением
времени страсти поугасли, однако и по сей день «Анти-Эдип» остаётся
одним из самых неоднозначных и провокативных текстов, которые
знало ХХ-е столетие.
Неудивительно, что далеко не все рецензенты хвалили книгу; не
было недостатка и в упрёках. Костас Акселос обратил к Делёзу
страстную речь:
Почтенный французский профессор, хороший супруг, прекрасный
отец двух прелестных детей, верный друг, прогрессивный человек,
требующий основательных реформ во всех областях, где свирепствуют
эксплуатация и подавление... хотел бы ты, чтобы твои ученики и твои дети
в своей «настоящей жизни» пошли по твоему пути, или, например, по
пути Αρτο, который восхваляет столько писак?1
Вопрос был тяжёлый: сами Делёз и Гваттари указывали на тот тупик,
в который зашло антипсихиатрическое движение со своими
призывами к «шизофреническому путешествию», (хотя позже Делёз говорил,
что «путешествие» заключается в том, чтобы избежать
заколдовывания производства в клинике2). Одно дело — усматривать в шизофрении
революционный потенциал, и совсем другое — желать болезни своим
близким. Акселос и Делёз дружили много лет, но после этой
публикации они почти перестали общаться. В том же духе Ж.-М. Доменак
заявил, что ничего не имеет против предложенной в «Анти-Эдипе»
теории желания, но порицает авторов за то, что они не хотят обратиться
к реальному страданию людей: говоря о «желающих машинах», Делёз
и Гваттари прячутся за красивой метафорой, закрывая глаза на
«страдающие машины»3.
Не менее жёстко прозвучало заявление психиатра С. Куперник:
Axelos К. Sept questions à un philosophe // Le Monde. 1972.28 avril.
См.: Азбука Жиля Делёза. С. 34.
Domen ach J.-M. Œdipe à l'usine // Esprit 1972. Décembre. P. 856.
Глава 4. Анти-Эдип
163
То, что Делёз предлагает вместо Эдипа — это, в конце концов, не что
иное как нечеловеческое, бесчеловечное, доличностное желание, а это, на
мой взгляд, куда страшнее. Это зеркальное отражение энтропии,
преследовавшей Фрейда1.
Р. Жирар, в целом оценивая книгу положительно, заметил, что Делёз
и Гваттари, ниспровергая религиозность, фактически предлагают
новую форму пиетизма и ярко демонстрируют тупик тех направлений
мысли, которые не могут окончательно расстаться с апориями
психоанализа2. К. Мориак в «Фигаро» назвал «Анти-Эдипа»
«замечательной книгой», которую нужно «прочитать, перечитать, обдумать и
ожидать реакций, которые не замедлят последовать»3. М. Шапсаль
в «Express» писала о революционности книги, ничего не оставляющей
в тени, дающей «полноту образов и воображения, заставляющей
мечтать. Делёз и Гваттари помещаются в самом центре расчищенного ими
пространства и принимаются выкладывать свои новшества. На любой
вкус»4. М. Надо в «La Quinzaine littéraire» опубликовал фрагменты
организованной им трёхчасовой дискуссии с участием Ф. Шатле, С. Лекле-
ра, П. Кластра, Р. Дадуна и др. В ходе дискуссии Делёз и Гваттари
объясняли свой замысел.
Среди грома восторженных отзывов и проклятий самым громким
было молчание Лакана, который, по сведениям Ф. Досса, даже
специально проинструктировал членов своей Школы: никаких
комментариев и обсуждений. Книга Делёза и Гваттари наносила удар по
психоанализу и смущала лакановских учеников. Э. Рудинеско, слушавшая лекции
Делёза в Венсенне, пыталась разрядить обстановку, предлагая
рассматривать «Анти-Эдипа» как роман, в котором связуются воедино
сексуальность и классовая борьба и в котором психоанализ побивают картой
психиатрии5. Делёз пригласил Рудинеско в ресторан, чтобы продолжить
диалог. Его студентка твёрдо сказала, что не согласна с его райхиан-
ством. Делёз отвечал: «Всё это очень мило, но в настоящее время вы
1 KouPERNiK С. Un délire intelligent mais gratuity // Le Monde. 1972.28 avril.
2 Girard R. Système de délire // Critique. 1972. Novembre.
3 Mauriac C. L'Œdipe mis en accusation // Le Figaro. 1972.1 avril.
4 Chapsal M. Œdipe connais plus // L'Express. 27 mars — 2 avril.
5 Roudinesco E. Le bateau ivre du schizo débarque chez Al Capone // Les Lettres françaises. 1972.
19 avril.
164
Часть ι. Древо
способны лишь имитировать критику своих наставников. Подумайте
о том; чтобы найти свой собственный предмет»1. Андре Грин,
критиковавший лаканизм бывший ученик Лакана, выступил с более резкой
отповедью: «Анти-Эдип» — это контратака философии против фрейдо-
лакановского прорыва в мире идей. Вместе с тем, Грин признал заслугу
Делёза и Гваттари, которые смогли отойти от тезиса Лакана о том, что
бессознательное структурировано как язык. Однако отказ от комплекса
кастрации он рассматривал как отрицание всего богатства
клинического опыта. И наконец, Грин заявил, что Делёз и Гваттари следуют самой
ранней версии учения Фрейда: « Анти- Эдип — это до-Эдип»2.
Но, если психоаналитики обрушили на книгу вполне понятное
негодование, крупные философы приветствовали её появление. Ж.-Ф. Лио-
тар подчёркивал, что, несмотря на название, «Анти-Эдип» не является
полемической и разрушительной книгой. Напротив, это книга
позитивная: её ход во многом близок тому, что предпринимает Ж. Бодрийяр,
но, если Бодрийяр акцентирует обмен, то Делёз и Гваттари
подчёркивают производственные процессы3. Ж. Донзело проницательно отметил,
что Делёз и Гваттари вместо того, чтобы ставить не имеющий ответа
вопрос «что такое общество?» поставили вопрос «как мы существуем
в обществе?», так что социальное предстало в их дискурсе не каким-то
нейтральным полем, подчиняющимся своей внутренней логике, но
полем индивидуальных и общественных инвестиций4. Р. Кастель отметил
«бесценный вклад в критическую социологию психоанализа»5 и
несомненно удачное соединение порядка инвестиций желания с
социальной практикой.
Бывший студент Делёза Мишель Крессоль решил написать книгу
0 своём учителе. Первоначально он рассчитывал на то, что сам же Делёз
и будет руководить его работой, но тот отказался, заявив, что молодой
человек должен обрести собственное лицо. В итоге Крессоль написал
небольшую по объёму издевательскую книжку, в которой представил
«Анти-Эдипа» библией маленькой секты шизоаналитиков, которые
1 Roudinesco Ε. Généalogies. P.: Fayard, 1994. P. 54.
2 Green A. Réflexions critiques // Revue française de psychanalyse. 1972. Vol. 36. № 3. P. 497.
3 Lyotard J.-R Capitalisme énergumène // Critique. 1972. Novembre.
4 Donzelot J. Une anti-sociologie // Esprit. 1972. Décembre. P. 835-855.
5 Castel R. Le Psychanalysme. P.: Champs-Flammarion, 1989. P. 83.
Глава 5. 1970-е: ретерриторизация
165
ничего не делают, а только имитируют деятельность, а Делёза и
Гваттари — «учёными дураками»1, создавшими фантастическую безделушку.
Кроме того, Крессоль издевался даже над внешностью Делёза — его
рабочей чёрной блузой (эквивалентом розового платья Мэрилин Монро),
длинными ногтями и тёмными очками. Делёз добродушно отвечал на
эти нападки в статье, напечатанной в той же книжке:
С одной стороны, ты говоришь мне, что я загнан в угол во всех
отношениях — в жизни, в образовании, в политике, что я приобрёл
дурную славу, которая долго не продлится, и что я уже не выйду из этой
колеи. С другой стороны, ты утверждаешь, что я всегда плёлся в хвосте, что
я сосу вашу кровь, что нахожу приятным ваш яд, а вас, критиков, считаю
истинными экспериментаторами или героями, но что сам всегда остаюсь
с краю, разглядывая вас издалека и извлекая из всего этого пользу. Но
ничего подобного я не испытываю. Я уже в такой мере пресытился
шизофрениками, настоящими или ложными, что с радостью обращаюсь к
паранойе. Да здравствует паранойя!2
Споры об «Анти-Эдипе» не утихают по сей день. Одни авторы
ругают эту книгу, другие хвалят. Появляются весьма любопытные
интерпретации. Так, Ж.-К. Годдар называет шизоанализ мистикой
психического заболевания, в которой психотики занимают место святых.
«Подобно Христу Спинозы, делёзианский шизофреник — это
философ par excellence, a шизофрения — метафизическое знание»3.
Мистической книгой «Анти-Эдип» может казаться сегодня, но для
своего времени он был совершенно естественным выражением
революционной мысли. Не стоит, конечно, считать, что первая книга
Делёза и Гваттари увязла в революционной мифологии 60-х и в наше время
представляет интерес лишь как артефакт своей эпохи. «Анти-Эдип»
сохраняет свою актуальность и теперь, поскольку обозначенные в нём
проблемы не утратили актуальности, хотя, быть может, соответствующие
этим проблемам концепты теперь нуждаются в некотором обновлении.
Cressole M. Deleuze. P.: Éditions universitaires, 1973. P. 104.
Делёз Ж. Письмо суровому критику / Переговоры. 1972-1990. Пер. В. Ю. Быстрова. СПб. :
Наука, 2004. С 13.
Goddard J.-Сн. Mystique et folie. Essai sur la simplicité. Bruxelles: Desclée de Brouwer, 2002. P. 45.
166
Часть ι. Древо
ГЛАВА 5. 1970-е: РЕТЕРРИТОРИЗАЦИЯ
8 февраля 1971 г. было объявлено о создании «Группы информации
по тюрьмам», неформальным лидером которой стал Мишель Фуко. Де-
лёз принял активное участие в её работе, став заместителем Фуко в этой
диффузной организации, в которую входили Ж.-К. Пассерон, Ж. Гатте-
но, Р. Кастель, Ж. Рансьер, К. Мориак и др. Философа захватила бурная
деятельность, состоявшая из сбора свидетельств заключённых,
организации демонстраций и пикетов1. Как он написал в статье для «Nouvel
Observateur», «фронт политической борьбы сегодня проходит через
тюрьмы. Что тюрьма — это классовое дело, что оно касается прежде
всего рабочего класса и связана с рынком труда (самые жестокие репрессии
обрушиваются на молодых, которым грозит безработица и в которых
не нуждается рынок занятости) — такое осознание становится всё
более ясным в тюрьмах»2. У Фуко и Делёза родилось новое представление
о функции интеллектуала, которое они выразили в совместной беседе3.
Так кто же говорит и кто действует?, — вопрошал Делёз. — Это
всегда некое множество, даже в говорящей и действующей личности. Мы все
группки. И потому представительства больше нет, есть лишь действие,
действие теоретическое, действие практическое, находящееся в
отношениях перехода или сплетения4.
Фуко впоследствии считал, что Группа так и ничего и не достигла.
Но Делёз оценивал её деятельность иначе: им удалось обратить
внимание общества на те стороны социального бытия, которые обычно
не замечали. То, что сегодня говорится о тюрьмах, раньше просто
невозможно было сформулировать, и заслуга группы Фуко в этом
достижении весьма значительна. Но ещё важнее для Делёза был новый опыт
коллективной работы: «Во Франции впервые возник тот род группы,
1 Деятельность Группы информации по тюрьмам подробно описана в нашей монографии:
Дьяков А. В. Мишель Фуко и его время. СПб. : Алетейя, 2010. С. 235-242.
2 Deleuze G. «Ce que les prisonniers attendant de nous... » / L'île Déserte. Textes et entretiens
1954-1974. P. 286.
3 Deleuze G. Les intellectuels et le pouvoir // LArc. 1972. № 49.
4 Фуко M. Интеллектуалы и власть / Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи,
выступления и интервью. Ч. 1. Пер. С. Ч. Офертаса. М. : Праксис, 2002. С. 67.
Глава 5. 1970-е: ретерриторизация
167
что не имеет ничего общего ни с партией (бывали жуткие партии,
вроде "Gauche prolétarienne"), ни с предприятием (например, предприятие
по обновлению психиатрии)»1. Конечно, Делёз предпринимал и
самостоятельные действия. Например, поздней весной 1971 г. он вместе
с адвокатом Дени Ланглуа организовал расследование по делу избитого
полицией журналиста А. Жобера. Но работа с Фуко была аля него
чрезвычайно важна.
Я был заранее и абсолютно убеждён в том, что он прав, и что он
действительно сумел создать уникальную группу нового типа. Она была
новой, потому что была такой локализованной. Как и всё, что делал Фуко:
чем более оно локализовано, тем более оно действенно. Это был случай,
которого Фуко не мог упустить. Появлялись самые неожиданные люди,
ничего общего не имеющие с тюрьмой. Например, я думаю о вдове Поля
Элюара, которая очень помогла нам в тот момент, без каких-либо
особых причин. Были постоянные люди вроде Клода Мориака, который
был очень близок с Фуко. Когда мы занялись делом Джексона и
проблемой американских тюрем, неожиданно всплыл Жене. Он был
великолепен. Всё происходило очень быстро. Началось движение в самих
тюрьмах. Происходили мятежи. Всё это выплёскивалось наружу, к движению
подключались тюремные психиатры, тюремные врачи, семьи
заключённых. Нужно было выпускать брошюры. Эти бесконечные задачи Фуко
и Дефер брали на себя. Идеи принадлежали им. Мы следовали за ними.
Следовали со страстью. Я вспоминаю типичный безумный день ГИТ,
в котором чередовались хорошие и трагические моменты. Кажется, мы
отправились в Нанси. Пробыли там с утра до вечера. Утро началось с
делегации в префектуру, потом мы должны были пойти в тюрьму, потом —
провести пресс-конференцию. Она началась прямо в тюрьме, а
манифестация закончилась только днём. После такого дня я сказал себе, что
больше просто не выдержу. У меня не было ни энергии Фуко, ни его силы.
У Фуко была поразительная жизненная сила2.
Отношения с Фуко были очень тёплыми, хотя оба философа
расходились в своём понимании функции интеллектуала и в научных
интересах. Фуко в эти годы разрабатывал аналитику власти, тогда как Делё-
Deleuze G. Foucault et les prisons / Deux régimes de fous. Textes et entretiens 1975-1995.
P. 255.
Ibid. P. 257-258.
168
Часть ι. Древо
за и Гваттари больше интересовала социальная практика. Кроме того,
Фуко настороженно относился к Гваттари. И тем не менее, они
сотрудничали не только в практических, но и в теоретических акциях. Так, Де-
лёз принимал участие в семинаре Фуко 1971-1972 г. в Коллеж де Франс,
где разбиралась история убийцы XIX в. Пьера Ривьера.
В 1972 г. Делёз и Гваттари совершили вояж в Гейдельберг, где
участвовали в митинге в поддержку антипсихиатрической группы
«Социалистический коллектив пациентов». Руководителем группы был врач
поликлиники Гейдельбергского университета В. Губер, который после
беспорядков в Гейдельберге был заключён в тюрьму.
В 1971 г. Делёз познакомился с художником Жераром Фроманже-
ром, с которым они будут дружить долгие годы. Знакомство
произошло при довольно комичных обстоятельствах. Фроманжер договорился
о своей выставке с владельцем картинной галереи Карлом Флинкером.
Однако тот вдруг замолчал, и Фроманжер отправился в галерею лично,
чтобы на месте выяснить, что происходит. Флинкер представил ему
женщину по имени Фани, отвечавшую за галерею, и сказал, что боится дру-
зей-гошистов Фроманжера, которые могут устроить беспорядки в
выставочном зале, а то и забросать его бутылками с зажигательной смесью.
Расстроенный Фроманжер вышел. Фани догнала его и за чашкой кофе
в бистро сказала, что такое насилие над художниками для неё
неприемлемо. Кроме того, она сказала, что её муж, философ, очень любит
живопись Фроманжера, и пригласила его на ужин.
Делёз стал приходить в мастерскую Фроманжера: он сидел с
блокнотом и записывал всё, что художник рассказывал ему о технике
живописи и о цветовых решениях. Он расспрашивал Фроманжера, как тот
начинает работу с белым полотном. В ответ он услышал: полотно не
белое; скорее, оно чёрное, потому что до отказа заполнено тем, что
сделали предшествующие поколения художников. Тогда полотно, наоборот,
надо выбелить, — заметил Делёз.
Когда Фроманжер в следующий раз пришёл в гости к Делёзу, тот взял
с каминной полки конверт и протянул его художнику. В конверте лежали
чек на 8 000 франков — месячная зарплата Фани — и письмо к Флинкеру,
в котором говорилось, что та не может работать с человеком, дурно
обращающимся с людьми искусства, и потому уходит. На глазах у Фроманжера
Делёз передал чек своему сыну Жюлю, и тот порвал его на мелкие кусоч-
Глава 5. 1970-е: ретерриторизация
169
ки. В те времена финансовое положение философа было не блестящим,
и это было большой жертвой. Зато дружба оказалась крепкой. В 1973 г.
Делёз даже написал предисловие к каталогу выставки Фроманжера1.
В 1972 г. в многотомной «Истории философии», редактором
которой выступал Ф. Шатле, была опубликована большая статья Делёза «По
каким критериям узнают структурализм?»2, написанная ещё в 1968 г.
В письме Альтюссеру Делёз писал:
В качестве приложения посылаю тебе текст о структурализме — я
говорил тебе о нём. Я говорил тебе, что я стремился к более строгой
популяризации, чем то делается обычно. Впрочем, мне не удалось сохранить
бесстрастие или хотя бы умеренность. У меня было такое впечатление,
будто я бреду впотьмах, а порой просто валяю дурака (особенно в
заключительном параграфе о «последнем критерии»). Однако я посылаю его
тебе, потому что, с одной стороны, он касается тебя, а с другой —
потому, что хочу тебя спросить, стоит ли это публиковать. Сделай одолжение,
прочитай его как можно более придирчиво. Написать плохую вещь
всегда полезно, но публиковать — нет. Возможно, надо убрать последнюю
часть3.
Но, несмотря на все сомнения, текст был напечатан, вместе с
заключительным параграфом. В то время его можно было счесть
ортодоксально структуралистским, хотя теперь, по прошествии времени,
совершенно очевидно, что это не так. Во-первых, Делёз предлагает свой
собственный образ того, чем должен быть структурализм, а во-вторых,
обращается к структурализму внешним образом, ставя вопросы: «Что
они делают, структуралисты, чтобы узнать язык в некоторой вещи —
язык, присущий одной области? Что они находят в этой области?»4.
В последней же, заключительной части, озаглавленной «От субъекта
к практике», Делёз развивает идею «пустой клетки» или «пассажира
без места», обозначенную в «Логике смысла», и говорит, что субъект
и есть такая пустая клетка. Здесь он опирается на работы Альтюссера,
Deleuze G. Le froid et le chaud // Fromanger, le peintre et le modèle. P.: Baudard Alvarez, 1973.
Deleuze G. À quoi reconnaît-on le structuralisme? // Histoire de la philosophie. Dir. F. Châtelet. T.
VIII: Le XXe Siècle. P.: Hachette, 1972. P. 299-335.
Цит. по: Dosse F. Gilles Deleuze et Félix Guattari. P. 273.
Делёз Ж. По каким критериям узнают структурализм? / Марсель Пруст и знаки. С. 134.
170
Часть ι. Древо
показавшего функционирование этой «пустой клетки» в экономике,
и утверждает, что «структурализм неотделим не только от
произведений, которые он создаёт, но и от практики в отношении продуктов,
которые он интерпретирует. Пусть эта практика является терапевтической
или политической — она означает пункт перманентной революции, или
перманентного перемещения»1.
Основной деятельностью Делёза в эти годы стало чтение лекций в
экспериментальном университете Париж-VIII, располагавшемся в Вен-
сенне, неподалёку от армейского стрельбища. Этот «микрокосм,
ничего общего не имеющий с университетской академической традицией»2,
отвергал общепринятую систему обучения, нацеленную на
прохождение квалификационных конкурсов, позволяющих выпускникам
преподавать в лицеях и университетах. Лекционных курсов в традиционном
смысле практически не было; всё обучение проводилось в маленьких
группах в режиме диалога. Голлистское правительство выделило
университету огромные средства, создав ультрасовременное заведение
американского типа, с телевизорами в каждой аудитории и прочими
техническими новшествами того времени. Здесь сосредоточились
мятежные силы «майской революции», и через несколько дней после
открытия университета телевизоры пошли на строительство баррикад,
а потолки были пробиты подозрительными студентами, желавшими
выяснить, не спрятала ли там полиция подслушивающие устройства.
Однако затея властей удалась: революционная молодёжь была
сосредоточена вдали от городских площадей, посреди леса. Вскоре финансирование
резко сократилось, и новый университет стал приходить в упадок. Но,
несмотря на трудности, университет стал невероятно популярен, и
приток студентов превышал его возможности3.
Отделение философии вновь созданного университета возглавил
Мишель Фуко, который решил собрать вокруг себя лучших
французских философов. Он немедленно пригласил Делёза, но тот, как мы уже
говорили, переживал обострение туберкулёза лёгких и смог
присоединиться к отделению позже, когда Фуко его уже покинул ради должности
1 Там же. С. 173.
2 Dosse F. Gilles Deleuze et Félix Guattari. P. 408.
■ В 1968/69 г. на отделении философии обучалось 416 студентов, в 1970/71 — 247, в 1971 /72 —
215. Всего в 1968-м г. в университете числилось 7 900 студентов, а в 1971 /72-м — 12 500.
Глава 5. 1970-е: ретерриторизация
171
профессора в Коллеж де Франс. В Венсенне собрались Мишель Сёрр,
Ален Бадью, Жак Рансьер, Франуа Рено, дочь Лакана Жюдит Миллер,
Анри Вебер, Этьен Балибар и др. С самого начала деятельность
отделения философии мыслилась как продолжение революционной борьбы:
образовательный процесс должен был создать «философский фронт»,
позволяющий внедрять в студенческие массы идеи
марксизма-ленинизма-маоизма. Эти настроения, естественно, вызвали беспокойство
властей, которые принялись обличать недостатки такого образования.
Справедливости ради надо признать, что, по крайней мере, в первые годы,
в Венсенне больше митинговали, чем изучали философию. «Борцы,
активисты, безумцы — как настоящие, так и притворяющиеся, — глупцы
и умники поддерживали меня, прерывали, оскорбляли, — вспоминал
Делёз. — В Венсенне было живо и весело»1.
После ухода Фуко отделение философии возглавил Франсуа Шатле.
Прибывший в Венсенн в 1970-м г. Делёз был с ним очень дружен. Их
совместная деятельность началась с участия в забастовке служащих.
Интересы двух философов были различны: Шатле тяготел к Гегелю и
политической философии, которые мало привлекали Делёза. Тем не менее,
они много общались как в университете, так и за его стенами, а жена
Шатле Ноэль писала диссертацию под руководством Делёза.
В 1970/71 учебном году Делёз читал курсы «Логика желания»
и «Логика Спинозы». Вскоре он обратился к темам, которые
составили концептуальное ядро «Анти-Эдипа». Он уже был весьма известным
философом, и на его занятия, проводимые по вторникам, собиралась
многочисленная публика, среди которой всегда было много
иностранцев — австралийцы, японцы, латиноамериканцы, африканцы. Делёз
начинал готовиться к лекции в воскресенье утром и в течение двух дней
делал заметки, в которые потом больше не заглядывал. Его занятия были
тщательно подготовлены, но оставляли ощущение спонтанности,
поскольку он не читал с листа, а обращался только к принесённым с собой
книгам. Поскольку книг было много, он не стеснялся вырывать нужные
ему страницы. Лекции представляли собой нечто среднее между
размышлением на публике и музыкальной импровизацией. Когда он
приходил на лекцию, зал уже был забит до отказа, а вокруг преподавательского
Делёз Ж. Письмо суровому критику / Переговоры. С. 22.
172
Часть ι. Древо
места громоздились магнитофоны. «Секунды, во время которых Делёз
ухватывает понятие на вершине рационального развития,
провоцируют напряжённое ожидание аудитории, и в момент этой субъективной
задержки дыхания осуществляется передача мысли», — писал К. Жа-
гле1. Всё это составляет «философский театр Делёза»2. Ученица и
биограф Лакана Э. Рудинеско передавала свои впечатления так: «Пылкий,
но неизменно терпимый, Делёз был самым сократическим философом,
какого только можно вообразить. Далёкий от того, чтобы
превратиться в идола религиозного культа, он зачаровывал своих слушателей,
становясь заботливым и жестоким акушером желания тех, кто пришёл его
послушать... »3 Одним из тех, кто приходил его послушать, стал Филипп
Менг, который в 1986 г. защитил под руководством Лиотара
диссертацию по садизму, а потом написал две книги о Делёзе4. Другим
слушателем был Ришар Пина, ученик Лиотара, после ссоры философов ставший
на сторону Делёза и впоследствии создавший интернет-сайт, на
котором можно познакомиться с текстами венсеннских лекций Делёза. Пина
посещал все курсы Делёза с 1970 по 1987 гг. и является одним из самых
ярых коллекционеров его устных выступлений.
Ф. Зурабишвили рассказывал, что, приходя за час до начала лекции
Делёза, неизменно обнаруживал, что первые десять рядов уже заняты;
однажды он пришёл за три часа и оказалось, что пять или шесть
студентов уже сидят в ожидании. Делёз, говорил он, постоянно возвращался
к одним и тем же темам, рассматривая их под разным углом и добиваясь
того, что в конце концов его мысль становилась понятна всем. В
Сорбонне Делёза считали не серьёзным философом, а блестящим
комментатором. Но его слушатели думали иначе. Тот же Зурабишвили приметил
пожилую даму, которая неукоснительно посещала все лекции Делёза.
Однажды Зурабишвили подошёл к ней и спросил, чем она
занимается и чем вызван её интерес. Та ответила: «Месье, вы знаете, он
помогает мне жить». На лекции часто приходили люди, просившие оказать
1 Jaeglé С. Portrait oratoire de Gilles Deleuze aux yeux jaunes. P.: PUR 2005. Ρ 18-19.
2 Dosse F. Gilles Deleuze et Félix Guattari. P. 421.
■ Roudinesco É. Généalogies. P.: Fayard, 1994. P. 53.
4 Mengue Ph. Gilles Deleuze ou le système du multiple. P.: Kimé, 1994; Mengue Ph. Deleuze et la
question de la démocratie. P.: Kimé, 2003.
Глава 5. 1970-е: ретерриторизация
173
финансовую помощь им или их друзьям, и тогда Делёз пускал по кругу
свою знаменитую шляпу в которую все бросали деньги.
Но приходили не только просители. Однажды, в 1975 г., изучавшая
музыковедение студентка Паскаль Критон, разыскивала свою подругу
и случайно открыла дверь в аудиторию, где Делёз читал свою лекцию.
В этот момент он как раз проводил сравнение между философским
смыслом означающего и хроматизмом в музыке. Он обратился к аудитории
и спросил, нет ли в зале человека, который разбирается в этом
вопросе. Критон, занимавшаяся изучением хроматизма в африканской музыке,
взяла слово. После лекции Делёз предложил ей сделать несколько
сообщений по этой теме, проиллюстрировав их музыкальными фрагментами.
На следующей неделе в аудитории уже звучали африканские вокализы1.
Делёз любил преподавательскую работу, он чувствовал
вдохновение во время чтения лекций, хотя со временем ему, как и любому
преподавателю, эта деятельность стала представляться бессмысленной. Он
считал, что можно произнести страстную интересную речь даже в том
случае, если тебе это неинтересно. Для него это был вопрос
профессионализма. Отдельные лекции Делёз никогда не любил: ему
представлялось, что за столь короткое время невозможно сказать ничего дельного.
Поэтому он тяготел к долгим курсам, продолжавшимся неделю за
неделей: здесь благодаря фактору времени могла сформироваться некая
пошаговая последовательность. Курс при этом претерпевает внутреннее
развитие, и вместе с тем меняется аудитория2.
Аудитория Делёза была поистине необычной: она состояла из
студентов разных возрастов, людей разных профессий, пришедших с
улицы любопытствующих и пациентов психиатрических клиник. Впервые
за всю его преподавательскую карьеру Делёзу пришлось читать лекции
людям, далёким от философии. Возможно, именно венсеннский опыт
обусловил его представление о том, что философию можно и нужно
понимать нефилософски. При этом речь не должна идти о каких-то
упрощениях: философия должна оставаться самой собой. Делёз говорил,
что существует две концепции лекционного курса. Первая заключается
в том, чтобы провоцировать аудиторию на немедленную реакцию по-
См.: Criton P. L'invitation // Deleuze épars. Dir. Α. Bernold, R. Pinhas. P: Hermann, 2005.
См.: Азбука Жиля Делёза. С. 65.
174
Часть ι. Древо
средством вопросов и реплик. Вторая — более традиционная
концепция, предполагающая, что лектор всегда остаётся хозяином положения.
Несмотря на то, что в Венсенне предпочитали первую, Делёз
неизменно придерживался второй. Этот подход он сравнивал с музыкой: никто
не прерывает исполнение музыкального произведения независимо от
того, понятно оно или нет. Так и с лекцией: студент может не понимать
сказанного лектором, но поймёт это через десять минут, дослушав
период до конца. Если же лектора прерывают вопросами, такое понимание
так и не наступит. Лучшие студенты, вспоминал Делёз, задавали
вопросы лишь неделю спустя. Никакой курс, считал он, не может
удовлетворить всех, не стоит на это и рассчитывать. Его лекции длились по два
с половиной часа, и он не мог рассчитывать на то, что студенты будут
сохранять внимание на протяжении всего этого времени. Он полагал, что
каждый из них выхватит из лекции своё, и нет ничего страшного в том,
что он упустит всё остальное. Некоторые студенты спят на лекции, но
они проснутся как раз в тот момент, который заденет их. Никакой
закономерности здесь вывести нельзя.
В 1974 г. философское отделение Венсеннского университета
вступило в конфронтацию с отделением психоанализа, созданным по
инициативе Фуко: первоначально предполагалось, что это отделение возглавит
Лакан, но тот в последний момент отказался, предложив взамен своего
зятя Жака-Алена Миллера, сразу поведшего тоталитарную политику.
Делёз и Ж.-Ф. Лиотар составили совместное заявление, в котором
расценивали происходящее на отделении психоанализа как «сталинистские
репрессии»: «Всякий терроризм сопровождается промывкой:
промывка бессознательного не менее ужасна и авторитарна, чем промывка
мозгов»1. В тот же год случился скандал, связанный с попыткой
сокращения преподавателей: в Венсенне числилось множество лекторов,
некоторые из которых даже не ходили на занятия. Шатле решил не
возобновлять контракт с ними. Делёз с Лиотаром выступили против этой «охоты
на ведьм», и Шатле пришлось отказаться от своего намерения. Но в
университете возник раскол. Франсуа Рено перешёл на отделение
психоанализа, а А. Бадью, Ж. Рансьер и А. Вебер образовали на отделении
философии недолго просуществовавший оппозиционный «Сектор».
1 Deleuze G., Lyotard J.-F. À propos du department de psychanalyse à Vincennes // Les Temps
modernes. 1975. №342. P. 57.
Глава 5. 1970-е: ретерриторизация
175
В начале 1970-х Бадью вёл против Делёза настоящую войну. Вместе
со своими друзьями-маоистами он заявлялся на лекции Делёза и
устраивал «сеансы критики», обвиняя философа в том, что тот вещает
перед толпой преданных поклонников и не даёт им рта раскрыть.
Впоследствии Бадью будет рассказывать:
Настают «красные» годы, шестьдесят восьмой. Университет в
Венсенне. Для маоиста, коим я являюсь, Делёз, философский вдохновитель
того, что мы называли «анархией желания», враг, тем более страшный,
что он находится внутри «движения», а его курс — одно из священных
мест Университета. Я никогда не сдерживал своих выпадов, консенсус —
не моё достоинство. Я атакую его средствами тогдашней тяжёлой
артиллерии. Однажды я даже возглавляю «отряд», вторгшийся на его лекцию.
Я пишу яростную статью под характерным заглавием «Течение и
партия», направленную против его концепций (или его предполагаемых
концепций), отношения между массовым движением и политикой. Делёз
сохраняет спокойствие, почти отеческий тон. Он говорит насчёт меня об
«интеллектуальном самоубийстве».
По-настоящему он рассердится, вместе с Жан-Франсуа Лиотаром,
лишь тогда, когда, после тёмной истории, касающейся статуса лекторов,
ему покажется, что я пытаюсь, при поддержке Франсуа Реньо и Жана
Боррея, заполучить руководство кафедрой в политических целях. Он
ставит свою подпись под документом, где меня обвиняют в стремлении
к «большевизации» упомянутой кафедры: вот уж, либо слишком много
чести моей персоне, либо, — что вероятнее, — слишком узкое
представление о большевиках! Вслед за чем легитимная тройка Делёз-Шатле-Ли-
отар возвращают себе «власть» без сопротивления1.
Бадью и Жюдит Миллер даже создали группу, призванную
контролировать политическое содержание читаемых в Венсенне лекций. Они
приносили на лекции Делёза тексты Ницше и старались поймать его на
противоречиях, задавая вопросы, которые считали ^ля Делёза
неразрешимыми. Тот реагировал добродушно-иронически, а в самые
напряжённые моменты просто надевал свою шляпу, давая понять, что дискуссия
окончена. Он вышел из себя лишь однажды, обнаружив на своём столе
листовку «боевой группы смерти», призывавшей к самоубийству. Ли-
Бадью А. Делёз. Шум бытия. С. 10.
176
Часть ι. Древо
отар и Шатле также страдали от набегов маоистов, но со временем те
поуспокились, а маоистский запал иссяк.
Венсеннский университет постоянно функционировал в режиме
кризиса. К внутренним неурядицам добавлялось давление со стороны
властей, недовольных тем, что дипломы выдавались без
квалификационных экзаменов. И наконец, начался отток студентов. Стремясь
скомпенсировать все эти негативные явления, Шатле и Делёз задумали создать
Политехнический институт философии, в котором преподавались бы
не только философия, но и литература, музыка и кинематографическая
теория. Несмотря на авантюрность этой затеи, Институт был создан
и привлёк множество студентов, в основном иностранцев.
Помимо Шатле, венсеннским другом Делёза стал Рене Шерер, с
которым они были знакомы ещё с конца 1940-х гг. Их сближала работа
в CERFI и публикации в журнале «Recherches». Когда в 1987 г. Делёз
уйдёт на пенсию, он передаст своих докторантов Шереру. Кроме того,
в 1970-е Делёз поддерживал тёплые отношения с Ж.-Ф. Лиотаром. Ещё
в середине 1960-х их сблизил интерес к творчеству Ницше, а апогея их
дружба достигла после выхода книги Лиотара «Либидинальная
экономия». В 1972 г. Делёз написал хвалебную рецензию на книгу Лиотара
«Дискурс, фигура», назвав её «шизо-книгой, посредством сложной
техники достигающей высокой степени ясности»1. У этих двух философов
было много общего. Прежде всего, Лиотар, как и Делёз, признавал, что
протест против существующего положения вещей может носить
реактивный и реакционный характер. Охлаждение наступит после
публикации «Состояния постмодерна» — книги Лиотара, которую Делёз
сочтёт релятивистской.
Если во Франции Делёз был звездой первой величины, и даже
пуристы от академической системы признавали его заслуги как историка
философии, то в англо-саксонском мире о нём почти не знали. К
середине 1970-х гг. «французская теория» не только проникла в Америку, но
и прижилась там. Фуко и Деррида регулярно ездили в США и читали
лекции, собиравшие большое количество слушателей. Лакан
приживался хуже, но и у него появились последователи. Делёз и Гваттари, «Анти-
Эдип» которых стал библией нового поколения французских
интеллектуалов, за океаном были неизвестны.
Deleuze G. Appréciation // La Quinzaine littéraire. 1972. № 140. P. 19.
Глава 5. 1970-е: ретерриторизация
177
Прорыв через Атлантику произошёл благодаря Сильверу Лотрин-
жеру, родившемуся во Франции еврею, который в 1957 г. поступил
в Сорбонну участвовал в леворадикальной сионистской организации
и выступал против войны в Алжире, а в начале 1970-х перебрался в
Колумбийский университет. У него сложились многочисленные контакты
с французскими интеллектуалами, и со временем он стал одним из
главных импортёров «французской теории» в Америку. После выхода
«Анти-Эдипа» он познакомился с Гваттари и часто бывал у него в клинике
«La Borde». В 1974 г. Лотринжер с группой единомышленников основал
журнал «Semiotext(e)», который вскоре вырастете издательство,
специализирующееся на издании французских философских текстов в США.
В 1975 г. эта группа решила провести в Колумбийском
университете большой симпозиум, посвященный «шизо-культуре». Этот проект
был осуществлён благодаря помощи Ива Мобена, отвечавшего за
французские культурные миссии за границей и дружившего с Делёзом. Он
предложил Делёзу отправиться в Америку. Тот был заинтригован и
смущён, ведь он всегда избегал путешествий. Гваттари уже дал своё
согласие, и в конце концов Делёза удалось уговорить. Лотринжер был уверен
в том, что за океаном их ждёт успех: то, что во Франции считается
утопической теорией, говорил он, в Нью-Йорке уже стало повседневной
реальностью.
Помимо Делёза и Гваттари, в симпозиуме приняли участие Мишель
Фуко, Ж.-Ф. Лиотар и Ж.-Ж. Лебель. Благодаря рекламе на студенческих
радиостанциях, явилось около двух тысяч слушателей. Делёз отказался
от услуг переводчика, говорил медленно, начертил множество ризома-
тических схем, и публика его с грехом пополам поняла. Гваттари
воспользовался услугами переводчика-синхрониста, и его освистали
феминистки, услышавшие в его речи сексистские намёки и приверженность
к фаллократии. Феликс молча собрал свои бумаги, спустился с эстрады
и сел рядом с Делезом и Фуко. Фуко, критиковавший идеи Франфуртской
школы социальной философии, также вызвал неодобрение радикально
настроенных слушателей, и, как и Гваттари, был сильно расстроен. На
следующий день состоялся круглый стол, в котором также участвовал
Р. Д. Лэйнг. Фуко подвергся обвинению в том, что ему платит ЦРУ. Он
хладнокровно ответил, что ему платит КГБ, чем рассмешил слушателей,
но обстановка всё равно оставалась напряжённой. Однако, несмотря на
все выпады как слева, так и справа, начало было положено, и в последую-
178
Часть ι. Древо
щие годы в Новом Свете появятся почитатели Делёза, которые займутся
переводами его книг. А пока Делёз и Гваттари продолжили путешествие
по Америке. Они встречались с интеллектуалами и посещали концерты.
В Массачусетсе они слушали выступления Боба Дилана и Джоан Баез,
в Калифорнии — Патти Смит. Встретились с поэтом Л. Ферлингетти;
осмотрели дом Генри Миллера, книги которого очень любил Делёз. В
целом же Америка не понравилась Делёзу. В книге «Что такое философия
он напишет: «Таково западное популярно-демократическое понимание
философии, согласно которому её цель — служить для приятных или же
агрессивных застольных бесед на обеде у г-на Рорти»1.
В 1975 г. вышла новая книга Делёза и Гваттари — «Кафка»2. Как
замечает Г. Ламберт, «эта книга появилась между двумя основными томами
"Капитализма и шизофрении" и в определённом смысле может
рассматриваться как последняя глава "Анти-Эдипа" или как первое плато вскоре
последовавшей "Тысячи плато"»3. В самом деле, здесь были опробованы
основные концепты, которые впоследствии составят ядро «Тысячи
плато». Прежде всего, у Кафки авторы обнаруживают ризоматическое
построение текста (книга начинается словами: «Как вникнуть в творчество
Кафки? Это ризома, нора»4). А обращение к литературе не как к
объекту, а как к месту самого исследования позволяет им говорить о
«планах». Объектом же становится «малая литература» — литература,
посредством которой меньшинство говорит на языке большинства5. Таков
немецкий язык пражского еврея Кафки, выражающего свою инаковость
и отстранённость от господствующего языка. Немецкий язык для него
родной, но пишет он на нём как иностранец. Другая важная
характеристика «малой литературы» — её причастность к политике: «Всякое
частное дело немедленно становится политическим»6. Поэтому «малая
литература» не подчиняется эдипальной схеме. И кроме того, она
выражает не интенции того или иного субъекта, а фиксирует дискурс целой
Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? С. 185.
Deleuze G., Guattari F. Kafka. Pour une littérature mineure. P.: Minuit, 1975.
Lambert G. Who's Afraid of Deleuze and Guattari? P. 4.
Deleuze G., Guattari F. Kafka. Ibid. P 7.
«Малая литература — это не литература малого языка, а, скорее, литература, которую
меньшинство создаёт на языке большинства». (Ibid. P. 29.)
Ibid. Ρ 30.
Глава 5. 1970-е: ретерриторизация
179
народности, в реальности не существующей. Тем самым она
представляет собой коллективный план (agencements) высказывания.
«Таким образом, литературная машина принимает эстафету от
машины революционной, вовсе не по идеологическим соображениям,
а потому, что должна отвечать требованиям коллективного
выражения... »х Итак, малая литература характеризуется детерриторизацией
языка, политическим характером и коллективным планом выражения.
В силу этого малая литература оказывается революционным фактором
внутри большой литературы. «Делёз и Гваттари рассматривают
"Кафку" как форму творчества, бросающую вызов психологическим,
биографическим и индивидуалистическим прочтениям своей моделью
"машины письма", превращающей всё в сборки (с их функциональными
отношениями и линиями бегства) и вызывающей в своих читателях
экспериментальные эффекты», — замечает Н. Тобурн2.
Уже в «Анти-Эдипе» Делёз и Гваттари отвергали соссюровскую
лингвистику с её господством означающего. В 1970-е гг. они всё
больше ориентируются на прагматику Остина и Сёрла, а также на работы
французского лингвиста Анри Гобара (к книге которого Делёз
написал предисловие3), предложившего оригинальную типологию языка:
1) местное, или материнское наречие; 2) общий язык (язык
городского общения); 3) референдарный (национальный и культурный) язык;
4) мифический язык. Делёз и Гваттари обнаруживают у Кафки
функционирование всех четырёх языков: первый — территориальный
(чешский язык), второй — язык детерриторизации (немецкий язык),
третий — язык культурной ретерриторизации (немецкий язык Гёте),
четвёртый — язык религиозной ретерриторизации (иврит). Ещё один
заимствованный лингвистический концепт — интенсивность — Делёз
и Гваттари заимствовали у В. Сефиа4. Под интенсивностью они
понимают «любые лингвистические элементы, сколь бы разнообразны они ни
были, выражающие внутренние напряжения (tensions) языка»5. Кроме
1 Ibid. Р. 32.
2 Thoburn N. Deleuze, Marx and Politics. L.; NY: Routledge, 2003. P. 17.
3 Deleuze G. Avenir de la linguistique (préface) // Gobard H. LAliénation linguistique (analyse té-
traglossique). P.: Flammarion, 1976.
4 См.: Sephiha H. Y Introduction à letude de l'intensif// Langages. № 18.1970.P. 104-120.
5 Deleuze G., Guattari F. Kafka. P. 41.
180
Часть ι. Древо
того, у Ж.-Ф. Лиотара заимствуется термин ^ая обозначения единиц
напряжения — тензор (tenseur): «язык малой литературы в особенности
развивает эти тензоры или интенсивности»1.
Литературная машина Кафки создаётся неформализованными
содержаниями и выражениями, материями, которые в неё свободно
входят и так же свободно выходят. «Входить, выходить из машины,
пребывать в машине, продолжать её, сближаться с ней — всё это причастность
к машине: всё это формы желания, независимо от той или иной
интерпретации. Линия бегства — тоже часть машины»2.
Делёз и Гваттари считают «малой литературой» не только тексты
этнических меньшинств, вынужденных писать на чужом им языке
большинства. Её элементы они обнаруживают в бедном языке, на котором
говорят герои фильмов Ж.-Л. Годара, прислуга у Пруста и т. п. Так
внутри «большого» языка рождаются «иностранные» диалекты (Делёз
повторяет мысль Пруста). Язык становится лоскутным одеялом, в нём
спонтанно формируются новые центры и отношения. Таким образом,
даже «большой», доминирующий язык допускает интенсивное
употребление, в нём возникают линии убегания и детерриторизации.
«Каждый должен придумать малый язык, диалект или, скорее, идиолект,
благодаря которому он сделает малым свой большой язык, — будут писать
Делёз и Гваттари в «Тысяче плато». — В этом сила авторов, называемых
"малыми" и которые на самом деле великие, единственно великие... »3
Неудивительно, что Делёз и Гваттари придают «малой литературе»
Кафки политическое звучание. Мелкобуржуазность Кафки и его отказ
от социальной критики издавна вызывали неприятие у коммунистов.
Посвященные творчеству писателя коллоквиумы, проведённые в 1963
и 1965 гг. в Чехословакии, партийная ортодоксия считала одной из
причин «Пражской весны». Делёза и Гваттари это обстоятельство
совершенно не удивляет, поскольку у Кафки они обнаруживают подрывную
стратегию, обладающую большим революционным потенциалом,
нежели шумные уличные выступления.
Прежде всего, Кафка показывает, что власть вовсе не обладает пира-
Ibid.P.42.
Ibid. RLS.
Deleuze G., Guattari F. Mille Plateaux. P. 133.
Глава 5. 1970-е: ретерриторизация
181
мидальной структурой, как старается уверить нас Закон; она линейна
и сегментарна (Делёз и Гваттари усматривают сходство кафкианского
понимания власти с исследованиями М. Фуко). Каждый сегмент
представляет собой деталь властной машины и в то же время
самостоятельно функционирующую машину. Образцовой властной машиной
является бюрократия, которая так очаровывает Кафку: бюрократия никого
не подавляет, она создаёт некий план желания, а все её репрессии
оказываются лишь эффектами её функционирования. Кафка сторонится
партийности и революционных групп, своей литературой он
стремится интенсифицировать функционирование сегментарных властных
машин. Коллективные и социальные машины производят детерриториза-
цию человека; нужно ускорить их работу, так, чтобы детерриторизация
дошла до молекулярного распада. Социальные революции не в силах
разрушить сцепления властных сегментов, этого можно добиться лишь
подыгрывая властной машине и ускоряя её функционирование.
Благодаря такому ускорению высвобождаются линии бегства от властного
дискурса, а кристаллизация сегментов во властные конгломераты
затрудняется. Такова доведённая до абсурдного совершенства
бюрократия в сочинениях Кафки.
Итак, детерриторизация, производимая властными машинами,
имеет двоякий характер: с одной стороны, она ведёт к кристаллизации
желания в различных формах (в форме фашизма, коммунизма или
бюрократии, а то и в их смеси), с другой — благодаря инерции властных
машин формируются линии ускользания и бегства, а направляющееся
по ним желание препятствует кристаллизации. Поиск линий бегства
гораздо важнее критики существующего социального строя. С одной
стороны — ведущий к кристаллизации закон, с другой —
шизофреническое бегство. Безумие также осмысляется как одна из возможных линий
ускользания и абсолютной детерриторизации. Разрушать машинный
план — значит создавать линии бегства, т. е. новой детерриторизации.
Программа детерриторизации и создания линий ускользания от
деспотических систем носила открыто политический характер. В 1977-
1978 гг. друг Гваттари, израильский писатель И. Галеви проводил в Вен-
сенне семинар по проблеме оккупированных палестинских земель,
и Гваттари был его активным участником. Здесь он познакомился с
палестинским интеллектуалом Элиасом Санбаром. Делёз и Гваттари в это
182
Часть ι. Древо
время работали над «Тысячей плато», и Гваттари убедил своего друга
в необходимости познакомиться с Санбаром. Они встретились и
подружились. Как и Гваттари, Делёз стал активно заниматься
палестинской проблемой. В апреле 1978 г. он опубликовал в «Le Monde»
статью1, в которой заступался за людей, лишённых земли и обречённых на
уничтожение.
Тогда же, в конце 1970-х гг., Делёз и Гваттари стали выступать в
поддержку итальянских автономистов Франко Берарди и Тони Негри.
В мае 1979 г. Делёз написал открытое письмо судьям Негри, в котором
говорил:
Перед нами самое настоящее «преследование» людей, заключённых
в тюрьму на основании улик, о которых можно сказать, что они по
меньшей мере неубедительны и предъявление которых всегда переносится на
завтра. Мы совершенно не верим в эти обещания представить улики. Мы
хотели мы как минимум получить информацию об условиях заключения
и содержания2.
Навыки, приобретённые во время работы в «Группе информации
по тюрьмам», пригодились Делёзу в этой правозащитной деятельности.
Он обвинил итальянские власти в фашизме и защищал репутацию
Негри как теоретика, чья книга о марксизме3 имеет важное значение для
современной науки:
Выход книги Негри приобрёл значимость не только сам по себе, но
и в связи с заключением Негри в специальную тюрьму.
Дело в том, что во многих итальянских газетах было мимоходом
высказано занятное пренебрежение: «Негри не является значительным
мыслителем, это посредственный и даже жалкий теоретик... » Заметим,
что фашизм, бросая в тюрьму мыслителя или теоретика, не нуждался
в том, чтобы унизить его; скорее, он говорил: таким мыслителям у нас
делать нечего, это гадкие и опасные люди». Однако сегодняшняя
демократия стремится унизить его, насаждая мысль о том, что это плохой
мыслитель. Итак, книга Негри ясно показывает то, что всем и так известно:
Deleuze G. Les gêneurs // Le Monde. 1978.7 avril.
Deleuze G. Lettre ouverte aux juges de Negri / Deux régimes de fous. Textes et entretiens 1975—
1995. P. 158-159.
Negri A. Marx au-delà de Marx. P.: Christian Bourgois, 1979.
Глава 5. 1970-е: ретерриторизация
183
а именно, что Негри — весьма значимый теоретик-марксист, глубокий
и обладающий новизной1.
Это выступление Делёза было не просто поддержкой левого
интеллектуала, подвергшегося преследованиям со стороны властей, но
свидетельством значительной близости во взглядах. В 1998 г. в
Негри говорил, что предложенное Делёзом и Гваттари понятие
меньшинства позволило ему выработать новое понятие автономного
большинства — социализированного рабочего класса. А ещё раньше, в 1992 г.,
он утверждал свою близость к идеям Делёза и Фуко следующим
образом: «Согласно Фуко и Делёзу, эта последняя парадигма [контроль/
коммуникация] определяет качественный скачок, позволяющий
мыслить нечто новое, радикально новое как возможность: коммунизм.
Если в обществе суверенитета демократия является республиканской,
если в дисциплинарном обществе демократия является
социалистической, то в обществе коммуникации демократия может быть лишь
коммунистической»2.
В 1977 г. друг Мишеля Фуко Жак Донзело решил опубликовать свою
диссертацию3, и Делёз предложил ему написать предисловие.
Поскольку отношения Делёза и Фуко к тому времени испортились, последний
пытался отговорить Донзело от такого шага. В конце концов сошлись
на компромиссном варианте: Делёз написал послесловие4. Причин для
охлаждения отношений между Делёзом и Фуко было много, и едва ли
можно выбрать среди них одну, ставшую решающей.
В 1977 г. Фуко и Делёз разошлись в оценке «новых философов»:
Фуко поддерживал их, а Делёз считал пустыми фиглярами. Один из
лидеров «новых», Б.-А. Леви, опубликовал книгу «Варварство с
человеческим лицом», в котором объявил Делёза и Гваттари фашистами. «Знаем
мы этих доблестных рыцарей, апостолов бродяжничества и певцов
множественности, ярых антимарксистов и истовых иконоборцев, — писал
1 Deleuze G. Ce Livre est littéralement une prévue d'innocence / Deux régimes de fous. Textes et
entretiens 1975-1995. P. 160.
2 Negri A. Interpretation of the class situation today: methodological aspects // Open Marxism.
Vol. II: Theory and Practice. Eds. W. Bonefeld, R. Gunn, K. Psychopedis. L.: Pluto Press, 1992.
P. 105.
3 Donzelot J. La Police des familles. P: Minuit, 1977.
4 Deleuze G. L'ascension du social. Postface // Donzelot J. La Police des familles. P.: Minuit, 1977.
P. 213-220.
184
Часть ι. Древо
он. — ... Это кормчие и матросы современного корабля дураков, святой
Жиль и святой Феликс, пастыри большого семейства и авторы "Анти-
Эдипа"»1. Делёз и Гваттари не собирались отвечать на эти выпады,
находя их не оскорбительными, но смешными. Масла в огонь подлил Фуко,
который в «Le Nouvel Observateur» назвал книгу А. Глюксмана
«Властители-мыслители» «одной из великих философских книг»2.
Поддержка Фуко была серьёзным ходом, и Делёз счёл необходимым ответить.
Повод №* этого появился, когда два молодых философа, Франсуа
Обраль и Ксавье Делькур, решили выпустить небольшую книжку,
разоблачавшую «новую философию»3. Делёз узнал о подготовке этой книги
от Ф. Шатле. Кроме того, он увидел по телевизору передачу, в которой
Ф. Обраль резко обличал непостоянство убеждений Ф. Соллерса, и
пригласил обоих авторов поужинать вместе. При встрече Обраль и Делькур
выразили своё удивление молчанием Делёза и Шатле. Они были
уверены, что достаточно лишь одной небольшой статьи такого значительного
философа, чтобы повергнуть в прах всё движение «новых». Делёз
отвечал, что не хочет уподобляться «новым», это не его приём. В конце
концов, он решил написать брошюру, напечатать её в «Minuit» и передать
в крупные книжные магазины для бесплатного распространения. Текст
был составлен в форме беседы4. Делёз говорил о ничтожности «новых
философов» и о путанице, царящей в их головах, что они несерьёзны
и попросту не утруждают себя работой с понятиями. Этот, по его
выражению, «философский маркетинг» обязан своим успехом стиранию
границ между журналистикой и интеллектуальным творчеством и
разочарованием в «майской революции» 1968 г.
У них действительно есть новизна, они ввели во Франции
литературный или философский маркетинг вместо того, чтобы создавать школу.
У маркетинга есть свои собственные принципы: 1. нужно, чтобы о книге
говорили, чтобы о книге говорили больше, чем говорит она сама. В
пределе множество газетных статей, интервью, коллоквиумов, радио- и
телепередач должны заменить книгу, без которой вообще прекрасно можно
1 Levi В.-Н. La Barbarie à visage humain. P.: Grasset, 1977. P. 20.
2 Foucault M. La grande colère des faits //Le Nouvel Observateur. 1977.9-15 mai. P. 84-86.
3 Aubral F., Delcourt X. Contre le nouvelle philosophie. P.: Galimard, 1977.
4 Deleuze G. À propos des nouveaux philosophes et d'un problème plus general. Supplément à la
revue Minuit. 1977. №24.
Глава 5. 1970-е: ретерриторизация
185
обойтись. Именно поэтому работа, которой занимаются новые
философы, сводится не столько к написанию книг, сколько к статьям, которые
должны выйти, газетам и передачам, которые нужно захватить, к
интервью, которые должны выходить, к публикации досье, к номеру
«Плейбоя». Вся эта деятельность, проводимая на этом уровне и с таким
размахом, оказывается исключённой из философии или исключает философию.
2. И потом, с точки зрения маркетинга, необходимо, чтобы у одной и той
же книги или у одного и того же продукта было несколько версий, так,
чтобы удовлетворить всех: богобоязненная, атеистическая, хайдеггери-
анская, гошистская, центристская, шираковская или неофашистская
версии, удовлетворяющая «союзу левых сил» со всеми нюансами и т. п.1
Дружба с Фуко разладилась. Если Делёз вместе с Гваттари
поддерживали палестинцев, то Фуко разоблачал резолюцию ООН,
уподоблявшую сионизм расизму, и одобрял политику Израиля во время
Ливанского кризиса. Если Делёз приветствовал приход к власти Ф. Миттерана
и считал, что нужно поддерживать социалистическое правительство,
то Фуко полагал, что, как и всякое правительство, оно должно
подвергнуться критике. Фуко поддерживал польское движение
«Солидарность» и выступал с осуждением путча генерала Ярузельского.
Вместе с П. Бурдьё он составил петицию, осуждавшую этот сталинистский
акт насилия. Делёз не подписал её, предпочтя воззвание Джека Ланга
и Ж.-П. Фая, в котором одобрялась осторожная позиция правительства
Миттерана. Но решающим стало расхождение во мнениях по делу
Клауса Круассана, адвоката террориста А. Баадера из фракции «Красная
армия», которого власти ФРГ фактически обвинили в пособничестве
своему подзащитному. Делёз и Гваттари поддерживали не только
Круассана, но и «Красную армию», считая допустимым революционный
террор и обвиняя ФРГ в возвращении к фашистским методам
управления. «... Западная Германия, — писали они в «Le Monde», —
готова экспортировать свою судебную, полицейскую и "информативную"
модель в другие страны и стать подлинным организатором репрессий
и оболванивания»2. Фуко готов был вступиться за Круассана, но не же-
Deleuze G. À propos des nouveaux philosophes et d'un problème plus general / Deux régimes de
fous. Textes et entretiens 1975-1995. P. 129.
Deleuze G., Guattari F. Le Pire moyen de faire l'Europe / Deux régimes de fous. Textes et
entretiens 1975-1995. P. 136.
186
Часть ι. Древо
лал иметь ничего общего с «бандой Баадера». Поэтому Фуко отказался
подписать петицию Делёза и Гваттари, слишком мягкую, на его взгляд,
в оценке террористов. Между Делёзом и Фуко не было никакого
выяснения отношений, они просто перестали общаться.
Ещё в 1978 г. Делёз вместе с Фуко и Бартом участвовал в семинаре,
посвященном теории музыки, но вскоре их встречи прекратились
навсегда. Между тем, эстетические интересы стали занимать всё большее
место в творчестве Делёза1. Ришар Пина говорил даже, что незадолго до
смерти Делёз сказал, что хотел бы написать книгу о Равеле2.
В 1975 г. итальянский переводчик Ж.-П. Манганаро сопровождал
режиссёра Кармело Бене, приехавшего в Париж. Тот выразил желание
познакомиться с Бартом, Клоссовски, Лаканом, Фуко и Делёзом.
Манганаро был знаком только с Бартом и Фуко, но взял на себя смелость
позвонить Делёзу. Тот уже видел несколько фильмов Бене и с радостью
согласился на встречу. После знакомства у них завязалась переписка,
вылившаяся в совместную книгу о театре, опубликованную в 1979 г.3
Здесь Делёз писал о клиническо-критическом пространстве,
позволяющем не заниматься внешней интерпретацией, но теоретизировать в
самом творческом акте.
ГЛАВА 6. ТЫСЯЧА СКЛАДОК
В 1980 г. Делёз и Гваттари опубликовали второй том «Капитализма
и шизофрении» — «Тысячу плато». Делёз в шутку поговаривал, что
название соответствует пейзажам Лимузена — плато Мильваш, вид на
которое открывается из окон его загородного дома. Впрочем,
география занимает в книге не столь значительное место, как физика4.
Книга состоит не из глав, но из «плато», каждое из которых
имеет датировку. При этом, как утверждают сами авторы, книга не имеет
См.: Buydens M. Sahara. L'esthétique de Gilles Deleuze. P.: Vrin, 1990; Villani A. De l'esthétique
à l'esthétique: Deleuze et la question de l'art // Gilles Deleuze, héritage philosophique. Dir. A. Beau-
lieu. P.: PUF, 2005.
Pinhas R. Les Larmes de Nietzsche. Deleuze et la musique. P.: Flammarion, 2001. P. 24.
Bene С., Deleuze G. Superpositions. P.: Minuit, 1979.
О спациально-географической составляющей книги см.: Villani A. Géographie physique de
«Mille Plateaux» // Critique. 1985. № 455.
Глава 6. Тысяча складок
187
ни конкретной цели, ни общей темы. Некоторые статьи ранее уже были
опубликованы1. Текст начинается с объяснения:
«Анти-Эдип» мы написали вдвоём. А поскольку каждого из нас —
несколько, то набирается целая толпа. Тут мы использовали всё, что нас
сближало, — самое близкое и самое далёкое. А чтобы нас не узнали, мы
умело распределили псевдонимы. Так почему же мы оставили свои
имена? По привычке, только по привычке. Дабы, в свою очередь, остаться
неузнанными, Дабы сделать невоспринимаемым — но не себя, а то, что
вынуждает нас действовать, чувствовать, думать. А ещё и потому, что нам,
как и всем, хочется, к примеру, сказать, будто восходит солнце, хотя
любому ясно, что это не более, чем оборот речи. Дабы достичь не той точки,
где уже не говорят «Я», а той, где неважно, говорить «Я» или вообще не
говорить. Мы — уже не мы. Каждый сам узнает своего. Нам уже
помогли, нас вдохновили, размножили2.
В 1984 г. в письме японскому коллеге К. Уно Делёз подробнее
рассказал о способе работы над этой книгой:
Имея на руках диаграммы Феликса и мои собственные концепты, мы
хотели работать вместе, но не знали, как это сделать. Мы много читали
по этнологии, экономике, лингвистике. Это был материал, и я
восхищался тем, как трактует его Феликс, пользуясь теми инъекциями философии,
что я пытался в него ввести. Когда мы писали «Анти-Эдипа», мы
заранее знали, что хотим сказать: новое представление о бессознательном как
о машине, как о заводе, новая концепция бреда, отсылающего к
историческому, политическому и социальному миру. Но как это сделать? Мы
начали с длинных писем, беспорядочных и бесконечных. Потом сходились
вдвоём на несколько дней или несколько недель. В то же время, как ты
понимаешь, это была весьма утомительная работа, и мы постоянно
смеялись. Каждый со своей стороны, мы развивали тот или иной пункт в
разных направлениях, перемешивали написанное, изобретали слова всякий
раз, как это было необходимо. Книга порой обретала такую цельность,
что уже не могла быть приписана ни одному, ни другому
Дело в том, что наши разногласия были нам только на пользу и
работали на нас. У нас никогда не было общего ритма. Феликс упрекал меня
Deleuze G., Guattari F. Rhizome. P.: Minuit, 1977.
Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. Пер. Я. И. Свирского.
Екатеринбург: У-Фактория; М. : Астрель, 2010. С. 6.
188
Часть ι. Древо
за то, что я не отвечаю на присланные им письма: я в тот момент был не
в состоянии ответить. Я мог воспользоваться ими лишь позже, месяц или
два спустя, когда Феликс уже занимался чем-то другим. На наших
сходках мы никогда не говорили вместе: один говорил, а другой слушал. Я не
останавливал Феликса, даже когда он меня утомлял, но Феликс
продолжал мучить меня даже когда силы меня оставляли. Концепты
мало-помалу приобретали самостоятельное существование, а мы порой понимали
их по-разному (например, мы никогда не сходились в понимании «тела
без органов». Работа вдвоём никогда не была достижением
единообразия, скорее, это была пролиферация, накопление бифуркаций, ризомой.
Я мог бы сказать, от кого исходила та или иная тема, то или иное понятие:
мне кажется, Феликс испускал настоящие молнии, тогда как я был чем-то
вроде громоотвода, я зарывал их в землю, чтобы они дали новые ростки,
а Феликс подхватывал их и т. п., так мы и продвигались вперёд.
С «Тысячей плато» всё было иначе. Композиция этой книги куда
сложнее, изучаемые области более многообразны, и мы избрали такую
практику, когда один мог угадать намерение другого. Наши беседы
включали всё новые и новые эллипсы, и между нами и между теми областями,
к которым мы обращались, устанавливались всё новые резонансы.
Лучшими моментами в работе над этой книгой стали: ритурнель и музыка;
машина войны и кочевники; животное становление. Под влиянием
Феликса у меня появилось ощущение неизведанных территорий,
населённых странными понятиями. Книга сделала меня счастливым, но не
вымотала ... После этого и Феликсу, и мне нужно было вновь заняться своими
делами, чтобы обрести новое дыхание. Но я уверен в том, что мы снова
будем работать вместе1.
Делёз и Гваттари попытались написать книгу, в которой нет различия
между содержанием и архитектоникой, а значит, нет предмета.
Невозможно сказать, о чём эта книга, и что она вообще о чём-то. Обращение
к многочисленным литературным машинам — обезумевшая военная
машина Клейста, бюрократическая машина Кафки и т. п. — позволяет
авторам не только подключаться к разнообразным машинным планам,
но и избежать гнёта идеологии, поскольку «литература — это некая
сборка, у неё нет ничего общего с идеологией»2.
Deleuze G. Lettre à Uno: comment nous avons travaillé à deux / Deux régimes de fous. Textes et
entretiens 1975-1995. P. 219-220.
Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. С. 8.
Глава 6. Тысяча складок
189
Главный концепт «Тысячи плато» — ризома, корневище. Делёз
и Гваттари противопоставляют ризому корню, ботанической стержневой
системе. Если корень даёт боковые побеги, а центральный ствол
сохраняет своё определяющее значение, то ризоматическое корневище растёт
разом во все стороны, а центральный корень отсутствует. Классическая
книга, имитирующая мир, вырастает из центрального корня и строится
по принципу дихотомического ветвления. По тому же принципу
строится бинарная логика и лингвистика от Соссюра до Хомского,
психоанализ и структурализм как в естественных, так и в гуманитарных науках.
«Тысяча плато» — книга-ризома, не имеющая ни сквозного сюжета,
ни исследовательского объекта. Ризома — это антигенеалогия.
Своими предшественниками Делёз и Гваттари считают Джойса,
использующего слова с множеством корней и тем самым разрушающего линейные
единства, и Ницше, в своей афористической манере
противопоставляющего линейному единству знания цикличность венного возвращения1.
Ризома стратифицируется линиями сегментарности, детерритори-
зации, ускользания. Всякий раз, как линии сегментарности
«взрываются» линиями ускользания, в ризоме происходит разрыв, но сами линии
ускользания остаются частью ризомы. Они непрестанно переходят друг
в друга, так что никакие дуализм или дихотомия для их характеристики
непригодны. Впрочем, всегда сохраняется риск рестратификации,
восстановления власти означающего и реконструирования субъекта,
вплоть до Эдипа и фашистской кристаллизации. Ризома соединяет
различные топики, пользуясь разными режимами и знаковыми системами,
а то и вовсе обходясь без этих последних. Ризома не является ни единым,
ни многим (которое неизбежно отсылает к единому), она
конституируется не единицами или точками, но измерениями или направлениями.
Если структура задаётся бинарными отношениями своих элементов, то
ризома конституируется только линиями сегментарности,
стратификации, детерриторизации и ускользания.
Авторы выделяют следующие характеристики ризомы: Принципы
1) соединения и 2) гетерогенности: всякая точка ризомы может при-
1 Впрочем, Делёз и Гваттари указывают и других теоретических предшественников своей ри-
зоматической концепции — M Сёрра, Ж. Пакота (Расотте J. Le réseau arborescent, scheme
primordial de la pensée. P. : Hermann, 1936) a также П. Розенсталя и Ж. Петито (Rosenstiehl
Ρ, PetitotJ. Automate asocial et systèmes acentrés // Communications. 1974. № 22).
190
Часть ι. Древо
соединяться к любой другой. 3) Принцип множественности: никакого
отношения к Одному как субъекту или объекту. 4) Принцип а-означаю-
щего разрыва: ризома может быть разрушена в каком-то месте, однако
она возобновляется следуя той или иной линии. Принцип 5)
картографии и 6) декалькомании: ризома не отвечает ни за структурную, ни за
порождающую модели, всякая идея генетической оси ей чужда.
«Снимайте карту, но не кальку», — призывают авторы «Тысячи плато».
Делёз и Гваттари вовсе не стремятся к дуализму дерева и ризомы.
В ризомах, говорят они, присутствуют структуры дерева, а ветка дерева
может распуститься в ризому. «Быть ризоморфным — значит
производить стебли и волокна, которые кажутся корнями, или, лучше,
связываются с последними, проникая в ствол, рискуя заставить их служить
новыми странными способами». И тем не менее, авторы стремятся уйти
от «древесной» схемы культуры: «Мы устали от дерева. Мы не должны
больше верить деревьям, их корням, корешкам, мы слишком пострадали
от этого»1. Дерево веками господствовало во всей западной культуре —
в ботанике, биологии, гносеологии, теологии, онтологии и т. п. Запад
ориентирован на лес; хотя леса и вырубаются ради полей, на этих
отвоёванных у леса посевных площадях воспроизводятся древесные структуры.
Восток, напротив, ориентируется на степь и сад (пустыню и оазис), фраг-
ментируя индивида в замкнутых пространствах. Америка сочетает
древесные и ризоматические схемы, что выражается как в её литературе, так
и в её экономике. Впрочем, авторы вовсе не стремятся покончить с
древесными схемами, противопоставив имризому. «Противопоставляя
луковицы и клубни корням, Делёз и Гваттари, как всегда, используют
дуалистическую логику для расшатывания бинаризма», — замечает Ф. Досс2.
Такой подход позволяет Делёзу и Гваттари предложить второй
термин — номадизм. Традиционная история писалась с точки зрения
оседлых групп населения и от имени того или иного государственного
аппарата: «история стала историей благодаря триумфу Государств»3. Авторы
«Тысячи плато» предлагают противоположность истории — номадо-
1 Там же. С. 26.
2 Dosse F. Gilles Deleuze et Félix Guattari. P. 429.
3 Делёз Ж., Гваттари Φ. Тысяча плато. С. 664. « В этой номадологии всё ещё можно найти
отголоски марксистского понимания государства как "аппарата завоевания" находящегося в руках
правящего класса и действующего в его интересах», — замечает К. Боундас (Boundas С. V
What Difference does Deleuze s Difference make? P. 22.)
Глава 6. Тысяча складок
191
логию. Они даже различают два типа пространства — номадическое
и оседлое (или гладкое и иссечённое), подчёркивая при этом, что в
чистом виде ни одно, ни другое не встречаются, а всегда существуют лишь
в смешении. Номадическое пространство, в отличие от оседлого, —
векторное, конституироемое локальными операциями и наполняемое не
вещами, а событиями, скорее «гаптическое», чем оптическое. Оба
пространства существуют лишь в смешении друг с другом: «гладкое»
оседлое пространство непрестанно переходит в «рифлёное» номадическое
пространство, и наоборот. История непрестанно изгоняет кочевников,
применяя к характерной для них машине войны милитаристскую
категорию «военной демократии», а к номадизму — оседлую категорию
«феодализма», причём обе категории предполагают территориальный
принцип. Между тем, у машины войны два полюса: 1 ) принятие войны
в качестве цели и формирование линии разрушения и 2) прочерчивание
линии творческого ускользания от аксиоматики государства.
Делёз и Гваттари выстраивают своеобразную этику номадизма —
этику сопротивления, убегания, субверсии оседлых культур и
репрессивного государственного аппарата. Р. Брайдотти замечает: «Номади-
ческий этико-политический проект фокусируется на становлении как
прагматическая философия, подчёркивающая необходимость
действовать, экспериментировать с различными способами конституирования
субъективности и различными путями заселения нашей телесности.
А потому номадическая этика — не общая теория, а, скорее, множество
микро-политических способов повседневной деятельности»1. Кроме
того, это одновременно и этика исторического исследования,
концентрирующегося не на исторических длительностях или универсалиях,
а на становлениях. «В "Тысяче плато" "становление" гораздо более
важно, чем история», — подчёркивал Делёз2.
И наконец, третий из основных терминов книги — «плато», так
что второй том «Капитализма и шизофрении» пишется как ризома, но
составляется из плато. Все термины этого текста функционируют как
плато («ризоматический», шизо-анализ», «страто-анализ»,
«прагматика», «микро-политика»). Эти термины выступают в качестве кон-
Braidotti R. The Ethics of Becoming-Imperceptible // Deleuze and Philosophy. Ed. С V. Boundas.
P. 134.
Беседа о «Тысяче плато» // Делёз Ж. Переговоры. С. 47.
192
Часть ι. Древо
цептов, а концепты — это линии, привязанные к тем или иным
множествам. Впрочем, ещё более важным термином оказывается «план»
(agencement), играющий в книге примерно ту же роль, что в «Анти-
Эдипе» играл концепт желающей машины.
Как замечает Ф. Досс, «Делёз и Гваттари радикально порвали с исто-
рицизмом XIX в. как продуктом теодицеи, телеологической хроносо-
фии, господствовавшей большую часть XX в. Гегельянизацию времени
они заменили пространственным представлением о множестве
проявляющихся сил»1. Делёз и Гваттари опираются на теорию множеств
Римана (различающего дискретные и континуальные множества), на
идеи Мейнонга и Рассела. Они говорят о «древесных» и «ризомати-
ческих» множествах — макро- и микро-множествах. Первые
представляют собой множества экстенсивные, делимые, молярные, вторые —
интенсивные, складывающиеся из неделимых атомов, молекулярные.
При этом Делёз и Гваттари не имеют намерения противопоставить два
типа множеств. Такой дуализм, замечают они, ничем не лучше дуализма
единого и многого. Речь идёт о множествах множеств, создающих
определённый план, в котором оба типа множеств могут сосуществовать:
так деревья имеют ризоматические фрагменты, а корневищу присуще
древесное ветвление.
Делёз и Гваттари имитируют патафизический дискурс Альфреда
Жарри, представляя свою авторскую пару в виде фигуры «профессора
Челленджера»:
Тот самый профессор Челленджер, что заставил Землю вскрикнуть
с помощью своей машины боли, как это описано Артуром Конан Дой-
лом, выступил на конференции, смешав несколько учебников по
геологии и биологии так, как это приличествовало его обезьяноподобному
облику. Он объяснил, что Земля — нечто Детерриторизованное,
Ледниковое, гигантская Молекула — это тело без органов. Такое тело без
органов пронизано бесформенными, нестабильными материями, потоками
во всех направлениях, свободными интенсивностями или номадически-
ми сингулярностями, безумными и мимолётными частицами2.
Dosse F. Gilles Deleuze et Félix Guattari. P. 297.
Делёз Ж., Гваттари Φ. Тысяча плато. С. 66-67. Здесь же даётся условный портрет двуглавого
автора «Тысячи плато», а заодно определение предлагаемой ими новой квази-дисциплины:
Глава 6. Тысяча складок
193
Профессор Челленджер, чьё англо-саксонское имя указывает не
столько на поиск, сколько на вызов, — двойная фигура, протагонист
Делёза и Гваттари, который, подобно доктору Фаустроллю, изобретает
новую научную дисциплину — не патафизику, а стратификацию.
Поверхность стратификации представляет собой компактный план
консистенции, лежащий между двумя слоями-стратами (одна пара служит
субстратой для другой). Это машинная сборка, не смешивающаяся со
стратами и представляющая собой интерстрату. Страты
конституируются двойной артикуляцией. Первая их них изымает из нестабильных
потоков частиц метастабильные молекулярные или квазимолекулярные
единства — субстанции, — налагая на них статистический порядок
связей и последовательностей, т. е. формы. Вторая конституирует
молярные композиты, в которых актуализируются формы. Субстанции —
это и есть оформленные материи, отсылающие к территориальностям.
Каждой артикуляции соответствует определённый тип сегментарности
или множественности — либо молекулярный, либо молярный.
Впрочем, профессор Челленджер, признающийся в своей
склонности к лингвистике Ельмслева1 и эпистемологии Фуко, всё-таки кое-что
говорит о своём методе: он противопоставляет экспансивному методу,
распределяющему знаки по стратам или находящему означаемые &ая
знаков, строго ограничительный метод. Другими словами, он
обращается к выразительным формам, обходящимся без знаков (таков, к
примеру, генетический код, не имеющий с языком ничего общего). Кроме
того, он утверждает, что знаки не являются знаками чего-либо, они де-
территоризуются и ретерриторизуются, означая лишь границы и
переходы. Знаки функционируют в разных режимах, и режим
означающего — лишь один из них. А поскольку знаки указывают лишь некоторую
« ...Сам профессор не был ни геологом, ни биологом, ни даже лингвистом, этнологом или
психоаналитиком; а какова его специальность, к тому времени давно забыли. Фактически
профессор Челленджер раздвоился, дважды артикулировался, что вовсе не облегчало ситуацию;
ибо никто никогда не знал, который из профессоров присутствовал. Он (?) претендовал на
изобретение дисциплины, к коей апеллировал, называя её разными именами: ризоматика,
стратоанализ, шизоанализ, номадология, микрополитика, прагматика, наука о множествен-
ностях, но никто толком не понял, каковы цели, методы или принципы этой дисциплины».
(Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. С. 72.)
1 Ельмслев, говорил Делёз, был единственным, кому удалось создать « молекулярную
лингвистику», заговорив о свободных фигурах высказывания (лекция 14 мая 1973 г.).
194
Часть ι. Древо
формализацию выражения в определённой группе стратов, само
значение оказывается одним из режимов формализации. Сам язык
существует только в различных и разнопорядковых режимах знаков.
Возвеличивание языка ведёт лишь к сокрытию функционирования разнородных
(гетерогенных) машин, как понятие идеологии скрывает работу
социальных машин, а рассуждения психоаналитиков о фаллосе и
кастрации — машин желающих.
Этот отход от Соссюра к Ельмслеву может быть прочитан в свете
делёзовской программы преодоления платонизма как устранение
двойной артикуляции и «плохого мимезиса». Нет никакой предсуществую-
щей связи между словами и образами. Копенгагенская лингвистическая
школа, к которой принадлежал Ельмслев, разрабатывала теорию «глос-
сематики» и заимствовала идеи не только у Соссюра, но и у логического
позитивизма, понимающего структуру как «чистые отношения чистых
форм», и у Гуссерля, говорившего об «априорной грамматике».
Копенгагенские глоссематики рассматривали структуру как совокупность
отношений, в которой составляющие её элементы выступают точками
пересечения отношений и всецело детерминируются ими. Л. Ельмслев
понимал лингвистическую реальность как исключительно формальную,
считая, что языковой элемент определяется посредством правил, от
которых зависит его наличие или отсутствие в речи. Таким образом, язык
есть система «чистых отношений», и только полное абстрагирование
от «субстанции» может сделать языкознание точной наукой. Значение
языковых единиц игнорируется, а признаётся лишь дифференциальная
«значимость».1 С этой позиции X. Уи>далль утверждал, что «научная
концепция мира представляет собой скорее диаграмму, чем картину».2
И даже человек, по мнению датского лингвиста, должен
рассматриваться не как «вещь», а как точка пересечения абстрактных функций. Делёз
и Гваттари принимают этот подход как альтернативу утвердившегося
в структурализме соссюровского учения.
Режимом знаков Делёз и Гваттари называют любую формализацию
выражения, которая и создаёт семиотику. Поскольку возможны различ-
См.: Ельмслев Л. Можно ли считать, что значения слов образуют структуру? // Новое в
лингвистике. Вып. II. М., 1962.
Ульдллль X. И. Основы глоссематики // Новое в лингвистике. Вып. I. M., 1962. С. 400.
Глава 6. Тысяча складок
195
ные режимы знаков, существуют и разные семиотики, и семиотика
означающего — лишь одна среди прочих. Универсальной формализации
языка не существует, поэтому нужно заняться его прагматикой вместо
постулирования той или иной семиотики. К тому же, в соссюровской
лингвистике имеет место непрестанная отсылка от одного знака к
другому, детерриторизация, в которой знак превращается в символ. Речь
здесь идёт не о том, чтобы выяснить, что именно означает тот или иной
знак, а о том, к каким знакам он отсылает. Эта бесконечная сеть отсылок
образует аморфный континуум, играющий роль означаемого. Такому
параноическому деспотизму означающего Делёз и Гваттари
противопоставляют субъективный, или пассионарный (passionnel) режим, в
котором знаки ускользают по линиям бегства или детерриторизации от
деспотического режима означающего. Однако «чистых» семиотик не
существует, каждая из них представляет собой смешение с другими.
Семиотики вообще не существует. Скорее, существует транс-семиотика.
Транс-семиотика представляет собой абстрактную, или диаграмма-
тическую, машину, в которой не различаются планы выражения и
содержания, поскольку она прочерчивает лишь план консистенции1. Она
игнорирует различие между естественным и искусственным, оперируя
не сущностями, но «материями». Это не физические и не
семиотические сущности, к абстрактной машине вообще неприменимы категории
формы и сущности. Поэтому абстрактная машина создаёт линии
бегства и детерриторизации. Концепт транс-семиотики позволяет Делёзу
и Гваттари утверждать, что не высказывания отсылают к пропозициям,
а наоборот. Не режимы знаков отсылают к языку, образующему
структурную и порождающую абстрактную машину. Напротив, сам язык
отсылает к режимам знаков. Нет ни универсальной пропозициональной
логики, ни грамматичности в-себе, ни самого по себе означаемого.
«Содержание» и «выражение» — лингвистические категории,
однако Делёз и Гваттари используют их таким образом, что они
становятся, скорее, физическими понятиями. Эти понятия авторы заимствуют
у Л. Ельмслева, заменившего соссюровское «означающее» термином
1 «Диаграмма или абстрактная машина, — поясняет Делёз, — это карта соотношений сил,
карта плотности и интенсивности, которая функционирует при помощи изначальных нело-
кализуемых связей и в каждое мгновение проходит через любую точку... » (Делёз Ж. Фуко.
С. 62-63.)
196
Часть ι. Древо
«выражение», а означаемое» — термином «содержание». В своей
системе лингвистики Ельмслев различает неоформленный материал, или
материю (что на французский порой переводится как «смысл»),
форму отдельных элементов, и их субстанцию. Материя у него мыслится как
недифференцированная поверхность, на которую набрасывается
сетка, размечающая формы-квадраты, содержащие материю и субстанцию.
Лингвистика Ельмслева привлекает Делёза и Гваттари тем, что
позволяет опрокинуть традиционную оппозицию форма/содержание.
«Материю» Ельмслева они понимают как тело без органов — содержательный
план, в котором формируются уровни выражения и содержания.
Делёз снова возвращается к семиотической системе стоиков, однако
терминология на сей раз иная. План тела без органов, или
консистенции, Делёз и Гваттари называют материей} «оформленные» материи —
содержанием; функциональные структуры — выражением. Содержание
и выражение — это две переменные одной и той же функции
стратификации, они меняются от одной страты к другой и умножаются до
бесконечности в пределах одной страты. В социальном поле
различаются совокупность телесных модификаций и совокупность
бестелесных трансформаций; этому соответствуют формализации содержания
и выражения. Выражение не сводится к представлению, описанию или
демонстрации какого-то содержания, между ними нет ни соответствия,
ни согласования. Точно так же стоики отличали действия и страдания
тел от бестелесных действий1. Представления — это тоже тела. Тело или
положение вещей — это не референт. «Выражая нетелесный атрибут и,
одновременно, приписывая его телу, мы вовсе не представляем, мы не
отсылаем к чему-либо, а, так сказать, вмешиваемся; это и есть акт
языковой деятельности»2. Сборка высказывания говорит не о вещах, но в
самих состояниях вещей.
«Человек — это сегментарное животное»3. Делёз и Гваттари
различают два режима сегментарности — жёсткий и гибкий (древесный
и ризоматический). В первом случае сегментация является бинарной
1 «Гений стоиков состоял в том, чтобы продвинуться в этом парадоксе так далеко, насколько
возможно... им надо воздать должное за то, что они были первыми, кто создал философию
языка». (Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. С 144.)
2 Там же.
3 Там же. С. 341.
Глава 6. Тысяча складок
197
и зависит от машин бинаризации, тогда как во втором бинарности
порождаются множествами. Для жёсткой линейной сегментации
характерны, во-первых, совпадение очагов сегментации в
единственном центре, а во-вторых, сверхкодирование, создающее однородное
пространство, подобное геометрическому. В случае гибкой
сегментации такие центр и сверхкодирование отсутствуют. Для первобытных
обществ характерна гибкая, ризоматическая сегментация, /^ля
современных — жёсткая. Впрочем, Делёз и Гваттари вовсе не
собираются превозносить гибкую сегментацию и ниспровергать сегментацию
жёсткую. Два режима неотделимы один от другого: в первобытных
обществах присутствуют фрагменты жёсткой сегментации, а в обществах
современных — гибкая сегментация, без которой невозможно
структурирование жёстких государственных сегментов. Таким образом,
любое общество стратифицируется двумя типами сегментации —
древесным и молекулярным.
Человек и общество, в котором он живёт, сегментированы 1)
бинарно, по крупным дуальным оппозициям (мужчины/женщины,
взрослые/дети, социальные классы и т. п.). Кроме того, мы сегментированы
2) циркулярно, нашими расширяющимися кругами являются квартал,
город, страна, мир и т. д. И наконец, мы сегментированы линеарно, по
прямым линиям процессов, в которых мы участвуем (семья, школа,
армия, профессия и т. п.). Современные государства не менее сегментар-
ны, чем первобытные общества, они обладают своей собственной сег-
ментарностью и навязывают её индивидам. Впрочем, первобытным
обществам в большей степени присущи коды и территориальность,
тогда как современные общества основываются на сверхкодировании.
Поэтому противопоставление сегментарного и централизованного,
гибкого и жёсткого всё же имеет смысл. Кроме того, всякое общество
и всякий индивид пересечены молярной и молекулярной
сегментациями. Всюду, где возникает территориальность, устанавливается «интра-
специфическая критическая дистанция» между членами одного и того
же вида. Таким образом, территориальность становится косвенным
средством дифференциации.
Государство — противоположность войны. Гобссовская идея
«войны всех против всех» как раз и означает, что война — это состояние,
мешающее становлению государства. Впрочем, как утверждают Делёз
198
Часть ι. Древо
и Гваттари, «государство было всегда — крайне совершенное, крайне
завершённое»1. При этом оно всегда поддерживало какие-то
отношения с внешним и было немыслимо без этих отношений. Суверенитет
царит над тем, что он интериоризует, а универсального государства не
существует. То, что находится вовне государства, принимает две
формы — форму гигантских «мировых машин» (коммерческие и
промышленные организации, религиозные образования и т. п.) и
маргинальных групп — сегментарных обществ, противостоящих государству.
Впрочем, эти последние, будучи машинами войны, сами предполагают
существование государства2.
Социальное поле оживляется движениями декодирования и детер-
риторизации, аффектирующими массы. Декодированные и детерри-
торизованные потоки могут соединяться и сопрягаться: соединение
указывает на взаимную поддержку потоков, а сопряжение — на их
относительную приостановку в точке аккумуляции. Задача историка
состоит в том, чтобы обозначить период сосуществования движений деко-
дирования-детерриторизации и сверхкодирования-ретерриторизации.
В каждом периоде различаются молекулярный (массы или потоки) и
молярный (классы или сегменты) аспекты.
Одним из самых живучих концептов «Тысячи плато» стал концепт
номадической «военной машины», в котором отразился интерес Делё-
за и Гваттари к сепаратистским движениям и левому террору того
времени. «Военная машина» противостоит оседлой государственности.
Недостаточно утверждать, что эта машина носит внешний характер по
отношению к аппарату, нужно помыслить военную машину саму по
себе как чистую форму внешнего, тогда как государственный аппарат
составляет форму внутреннего, которую мы обыкновенно принимаем
за модель и согласно которой мы привыкли мыслить. Номадизм
противостоит всякой оседлости, поскольку любые топосы аля него
представляются лишь пунктами на пути и этим путём определяются. Движение
1 Там же. С. 602.
2 «Внешнее и внутреннее, машины войны, подвергающиеся метаморфозам, и тождественные
аппараты Государства, банды и королевства, мегамашины и империи следует мыслить не в
терминах независимости, а в терминах сосуществования и конкуренции — в постоянном поле
взаимодействия. Одно и то же поле ограничивает собственное внутреннее в Государствах,
но описывает своё внешнее, обращаясь к тому, что избегает Государств или восстаёт против
них». (Там же. С. 603-604.)
Глава 6. Тысяча складок
199
всегда происходит от одной точки к другой, но интервал между ними
выступает как самостоятельное и независимое направление. Жизнь
номада — интермеццо. Кочевника можно назвать детерриторизованным
по преимуществу, поскольку именно детерриторизация создаёт его
связь с землёй. Ретерриторизация &ая него всегда оказывается детерри-
торизацией. Именно движения детерриторизации делают из тела
организм. Военная машина не предполагает с необходимостью войну, хотя
и может порождать её.
Весьма любопытным элементом «Тысячи плато» стал концепт
«становления животным». Всегда внимательный к животному миру Делёз
полагал, что к животным следует относиться как к животным, не
пытаясь их очеловечить. В беседе с К. Парне он говорил, что его
привлекают пауки, клещи и блохи. Животное существует в своём собственном
мире, реагируя на ограниченное число стимулов. Но самое главное —
это то, как животные конституируют территорию посредством цвета,
линии и песни. Территория &ля животных обозначается и
разграничивается бесконечной эмиссией знаков, которая определяется
непрестанной бдительностью животного. Животные, писатели и философы всегда
беспокойны и вечно оглядываются через плечо1.
Все «среды», в которых обитает живое существо (внутренняя,
внешняя и промежуточная) кодируется периодическими повторениями.
Таким образом, ритм выступает важнейшей характеристикой всякой
территории и защищает её от вторжения хаоса. Хаос — не
противоположность ритма, но, скорее, его среда. В хаосе гетерогенных
пространства-времени ритм осуществляет координацию. Делёз и Гваттари
выделяют несколько типов ритурнелей: круговые двухчастные ритурнели,
в которых одна часть отвечает другой (перекличка фортепиано и
скрипки); ритурнели родины (колыбельные, застольные, охотничьи, рабочие,
военные и т. п. песни); народные и фольклорные ритурнели;
молекулярные ритурнели (море, ветер); космические ритурнели. Впрочем, как
будут писать Делёз и Гваттари в своей последней совместной книге,
существуют ещё ритурнели пластические и красочные, а «ритурнель как
целое есть существо-ощущение»2.
См.: Азбука Жиля Делёза. С. 27-28.
Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? С. 236.
200
Часть ι. Древо
В серии телеинтервью Делёз будет пояснять эту идею следующим
образом:
...Риторнелло1 — это всеобщий пункт. «Риторнелло» — это
простенькая мелодия, «тра-ля-ля». Когда я пою «тра-ля-ля»? —
спрашивает Делёз. Напевая самому себе, он занимается философией. Это бывает
в трёх случаях: он напевает эту мелодию, когда проходит по своему
участку, протирает мебель, а на заднем плане играет радио. Итак, он поёт,
находясь дома. Он напевает, когда в тяжёлый полуночный час ищет дорогу
домой и придаёт себе храбрости, напевая «тра-ля-ля». Он идёт домой.
И наконец, он напевает «прощайте, я уезжаю, но унесу вас в своём
сердце» — это такая песенка, — когда покидает дом и куда-то едет.
Иными словами, говорит Делёз, риторнелло имеет непосредственное
отношение... к проблеме территории и территориальных переходов, то есть
к проблеме детерриторизации. Я возвращаюсь на свою территорию или
детерриторизуюсь, то есть покидаю свою территорию2.
Читатели, долго ждавшие продолжения «Анти-Эдипа», были
озадачены и разочарованы. Впрочем, дело было не только в этом:
интеллектуальный климат за прошедшие восемь лет радикально изменился;
революционные идеи теперь мало кого привлекали, прежние бунтари
превратились в сытых буржуа, а новое поколение было слишком
конформистским и попросту безразличным, чтобы повторился успех «Анти-
Эдипа». В интеллектуальной среде господствовали «новые философы»
со своим «философским маркетингом», и сложный текст Делёза и Гват-
тари казался излишне заумным. К. Клеман в «Le Matin» хвалила книгу,
особенно концепт номадизма3. А К. Делакампань в «Le Monde»
расценил оба тома «Капитализма и шизофрении» как «не имеющий равных
1 Делёз использует итальянскую форму термина « ritornello».
2 Азбука Жиля Делёза. С. 62. Делёз предложил целую теорию вокальной музыки: если детер-
риторизованной музыкой, предшествующей различению полов, является детское сопрано, то
формами ретерриторизации оказывается тенор, а формами новой детерриторизации — вокал
кастрата (в итальянской музыке) и контр-тенор (в музыке английской). Голос кастрата исходит
из брюшной полости, контр-тенор — «из головы». Неслучайно поп-музыку придумали
англичане: «Beatles» — не контр-тенора, но их голоса приближаются к контр-тенору Дэвид Боуи
использует фальцет, который также является «головным» вокалом, не задействующим лёгкие.
Голос Мика Джеггера из «Rolling Stones» также преодолевает бинарную машину полов. То же
касается гнусавого, «чисто носового» голоса Боба Дилана. (Лекция 8 марта 1977 г.)
3 Clement С. L'expression nomade de la modernité // Le Matin. 1980.30 septembre.
Глава 6. Тысяча складок
201
в современном производстве философский компендиум», предупредив
читателей, что второй том вызовет у них недоумение и растерянность1.
Как обычно, Делёзу пришлось объяснять замысел книги в
многочисленных интервью.
Вопрос: В чём различие между работой 1972 г., «Анти-Эдипом»,
и работой 1980 г., «Тысяча плато»?
Жиль Делёз: С «Анти-Эдипом» всё было относительно просто.
«Анти-Эдип» трактовал известную семейную сферу: бессознательное.
Он предлагал заменить театральную или семейную модель
бессознательного более политической моделью: завод вместо театра. Это было что-
то вроде русского «конструктивизма». Отсюда идея желающего
производства, желающих машин. Тогда как «Тысяча плато» — более сложна
книга, поскольку она пытается открыть свои собственные области. Эти
области уже не предсуществуют, а рисуются частями книги. Это
продолжение «Анти-Эдипа», но продолжение в свободном духе, «in vivo».
Например, животное становление человека, его связанность с музыкой...
Вопрос: Так что никакого особенного различия между двумя
книгами нет?
Жиль Делёз: Разумеется. «Анти-Эдип» появился после 68-го: это
была эпоха бурления, поиска. Сегодня наступила жёсткая реакция.
Сегодняшний конформизм диктует новую экономию книги, новую
политику. Наступил кризис труда, кризис организации, освобождения и на
уровне книг, и на других уровнях. Журналистика приобретает всё
большую и большую власть над литературой. И потом, масса романов заново
открывает пошлейшую семейную тему и до бесконечности расручивает
все эти папа-мама: так фабрикуется роман о современной семье. В этом
свете «Анти-Эдип» потерпел полный провал. Об этом можно долго
говорить, но для молодых писателей нынешняя ситуация очень трудная
и удушающая. Не знаю, почему у меня такие дурные предчувствия2.
В предисловии к итальянскому изданию «Тысячи плато»,
появившемуся в 1987 г., Делёз сравнивал судьбы двух томов «Капитализма
и шизофрении»:
Delacampagne Ch. Deleuze et Guattari dans leur machine délirante // Le Monde. 1980.10 octobre.
Deleuze G. Hut ans après: entretien 80 / Deux régimes de fous. Textes et entretiens 1975-1995.
P. 162-163.
202
Часть ι. Древо
«Тысяча плато» (1980) была продолжением «Анти-Эдипа» (1972).
Но объективно у них были очень разные судьбы. Дело, конечно, в
контексте: одна книга появилась в бурную эпоху став частью 68-го, другая —
во времена затишья и безразличия. Из всех наших книг «Тысяча плато»
была принята хуже всего. Но, если мы отдаём ей предпочтение, то не по
таким причинам, по которым мать больше всего любит своего
уродливого ребёнка. У «Анти-Эдипа» был большой успех, но этот успех
обернулся тем большим провалом. Он претендовал разоблачить козни Эдипа,
всех этих «папа-мама» психоанализа, психиатрии и даже
антипсихиатрии, литературной критики и образа мысли вообще. Мы мечтали
покончить с Эдипом. Но эта задача оказалась нам не по силам. Реакция против
68-го показала, что семейный Эдип чувствует себя прекрасно и
по-прежнему навязывает свой режим детского хныканья психоанализу,
литературе и всей вообще мысли. Так что Эдип остался нашей обузой. Тогда
как «Тысяча плато», несмотря на её очевидный провал, заставила нас
шагнуть вперёд и достичь неизведанных земель, которые « Анти-Эдип»
видел лишь издалека, не ступая на них. <... > У «Анти-Эдипа» была
кантианская амбиция, он пытался стать чем-то вроде «Критики чистого
разума» на уровне бессознательного... «Тысяча плато», напротив,
обладает пост-кантианской амбицией (хотя и решительно анти-гегельянской)1.
«Тысяча плато» акцентировала не только семиотические
проблемы, но и проблемы политического порядка. Предложенный в этой
книге анализ номадизма стал одновременно реакцией на палестинскую
проблему и подспорьем в попытках её решения. Ещё в 1978 г. Делёз
писал о палестинцах: «Им никогда не оставляли иного выбора, кроме
безоговорочного исхода. Им предлагают лишь смерть»2. В 1981 г.
Делёз помог Санбару с изданием журнала, посвященного палестинскому
вопросу, — «Revue d etudes palestiniennes». A в 1982 г. в «Libération»
была опубликована беседа Делёза и Санбара, озаглавленная
«Палестинские индейцы»3. В 1984 г. Делёз написал статью, в которой восхвалял
палестинского лидера Ясира Арафата4. Дело здесь было, конечно же, не
Deleuze G. Préface à l'édition italienne de «Mille plateaux» / Deux régimes de fous. Textes et
entretiens 1975-1995. P. 288-289.
Deleuze G. Les Gêneurs // Le Monde. 1978.7 avril.
Deleuze G. Les Indiens de Palestine. Entretien avec E. Sanbar // Libération. 1982.8-9 mai.
Deleuze G. Grandeur de Yasser Arafat // Revue d'études palestiniennes. 1984. № 10.
Глава 6. Тысяча складок
203
в личных симпатиях и не в текущей политической конъюнктуре, к
которой Делёз был равнодушен: в автономистской борьбе малых этносов он
усматривал возможности для молекулярной субъективации.
Проблема герильи сливается с проблемой пустыни, — напишет он
в «Критике и клинике» по поводу Лоуренса Аравийского, — речь идёт
о проблеме индивидуальности или субъективности, пусть даже и
субъективности группы, где разыгрывается судьба победы, тогда как
проблема войн и армии — в организации анонимной массы, подчинённой
объективным установлениям, цель которых состоит в том, чтобы человека
свести к «типу»1.
Впрочем, он успевал писать не только о политике. В 1981 г. вышло его
эссе о художнике Фрэнсисе Бэконе, с которым Делёз тогда ещё не был
знаком. Здесь он писал о том, что каждый аспект произведений Бэкона
существует обособленно и может восприниматься лишь с точки зрения
иррациональной «логики ощущения»2. При этом Делёз проводил
параллели между творчеством художника и философией Л. Витгентштей-
на3, что, учитывая нелюбовь Делёза к этому последнему, было
сомнительным комплиментом. Бэкону этот текст очень понравился, он даже
сказал: «Такое впечатление, будто этот тип стоял у меня за плечом, пока
я рисовал свои картины»4. Они встретились за ужином, но, по словам
очевидцев, не говорили друг другу ничего, кроме пошлых любезностей,
так что это не доставило удовольствия ни одному из них5.
10 ноября 1981 г. Делёз начал читать свой курс, посвященный
кинематографу. Так начался самый глобальный его проект: три учебных
года, 250 учебных часов, два тома. Началось всё с проблем на отделении
кинематографии в Венсеннском университете: своих профессоров на
отделении не было, а потому обратились к коллегам-философам. Делёз
решил воспользоваться этим случаем, чтобы реализовать свой интерес
к кино. «Движение от философии к кино столь же естественно, как и от
1 Делёз Ж. Критика и клиника. С. 165.
2 Deleuze G. Francis Bacon. Logique de la sensation. P.: La Différence, 1981. P. 5.
3 Ibid. P. 66.
4 Слова Бэкона приводит Ж. Виталы Vital J. Adieu à quelques personages. P.: La Différence, 2004.
P. 228.
5 См. также: Deleuze G. La peinture enflamme l'écriture (propos recueillis par Hervé Guibert) //
Le Monde. 1981.3 décembre.
204
Часть ι. Древо
кино к философии»1, — говорил он. Он регулярно ходил в
кинотеатры, причём смотрел не только европейские фильмы, но и американские.
С. Тьюбина после смерти Делёза напишет, что он был единственным из
великих мыслителей того времени, по-настоящему любившим кино2.
И добавит: «Кино — это движение мысли. Кино носит делёзианский
характер»3.
Ж.-Л. Летра в своей книге, посвященной Делёзу4, проследил все
случаи обращения философа к кинематографу. Уже в «Различии и
повторении» Делёз анализирует шедевр О. Уэллса «Гражданин Кейн»
и вплотную подходит к концепту «образа-времени». В «Анти-Эдипе»
упоминаются фильмы Н. Рея и Ч. Чаплина. В «Тысяче плато» Делёз
и Гваттари размышляют о творчестве Ж.-Л. Годара, С. М. Эйзенштейна,
В. Херцога, В. Вендерса и др.
Впервые Делёз стал сознательно писать о кино в 1974 г., защищая
вызвавший скандал на Каннском кинофестивале фильм Гуго Сантьяго
«Другие», в котором снималась дочь Ф. Шатле Ноэль5. В 1976 г. он
подписал петицию против запрета фильма Даниэля Шмида «Тень
ангела», который обвиняли в антисемитизме, и высказался на страницах
«Le Monde» о недопустимости подъёма неофашизма,
порождаемого мелочными страхами6. Тогда же Делёз написал прочувствованную
статью о творчестве Годара, по его мысли, развивающего «линию
активного ускользания»7. У него сложились дружеские отношения с
редакцией журнала «Cahiers du cinéma», и он часто бывал на
редакционных собраниях; иногда его сопровождала дочь Эмили, которая и сама
снимала фильмы, иногда — жена. Он написал предисловие к книге
Сержа Дени8, которого назвал теоретическим наследником Анри Ба-
1 Deleuze G. Le Cerveau, c'est l'écran / Deux régimes de fous. Textes et entretiens 1975-1995.
P. 264.
2 Toubiana S. Le cinéma deleuzien // Cahiers du cinéma. 1995. № 497. P. 20.
3 lbid.P.21.
4 LeutratJ.-L. Kaléidoscope. P.: PUL, 1988.
5 Deleuze G. Un art de planteur // Deleuze, Faye, Roubaud, Touraine parlent de «Les Autres» —
un film de Hugo Santiago, écrit en collaboration avec Adolfo Bioy Casares et Jorge Luis Borges.
P. : Christian Bourgois, 1974.
6 Deleuze G. Le juif riche // Le Monde. 1977.18 février.
7 Deleuze G. Trois questions sur « Six fois deux» // Cahiers du cinéma. 1976. № 271.
8 Deleuze G. Lettre à Serge Daney: optimisme, pessimisme et voyage // Daney S. Ciné journal. P.:
Глава 6. Тысяча складок
205
зена и продолжателем прустовских «поисков». Сам Делёз также был
последователем Базена; его любимыми режиссёрами были Росселини,
Ренаур и Уэллс, а в итальянском неореализме он видел современность
кинематографа. Помимо связей с «Cahiers du cinéma», Делёз дружил
со своим бывшим студентом Мишелем Симаном, издававшим журнал
«Positif». Они часто встречались в пивной, и именно благодаря Сима-
ну Делёз стал хорошо ориентироваться в американском
кинематографе. В частности, Делёз внимательно прочитал две книги Симана,
вышедшие в начале 1980-х гг.1
С кинематографическим миром у Делёза сложились столь тесные
связи, что он даже стал появляться в кадре. Мишель Розье
предложил ему сыграть роль второго плана в фильме о Жорж Санд,
вышедшем в 1974 г. Делёз появляется в фильме два раза — в сцене в салоне
и в тюрьме. В конце 1970-х гг. Филипп Вено и Раймон Беллуа, писавшие
сценарий на основе «Дневника» Ж. Мишле, предлагали Делёзу
сняться в главной роли. Он отказался.
Этот устойчивый интерес к проблемам кино вылился в двухтомник,
конечно, остающийся чисто философским проектом, но значимый для
теории кино. Сам Делёз объяснял свой проект следующим образом:
«Писать о кино меня побудило то обстоятельство, что я уже давно
возился с проблемой знаков. Лингвистика представлялась неспособной
разрешить её. Я ухватился за кино потому, что, состоя из
образов-движений, оно заставляет пролиферировать множество других знаков. Мне
показалось, что оно само требует классификации знаков, выходящей за
пределы лингвистических дисциплин... Я не претендовал на создание
философии кино, но хотел рассмотреть кино как таковое посредством
классификации знаков»2.
В целом книгу можно охарактеризовать как бергсонианскую, однако
в момент её появления она звучала как полемика, направленная против
теории Кристиана Метца. Этот исследователь, практиковавший
опирающуюся на структурализм семиотику кино, описывал кинематограф
Éd. Cahiers du cinéma, 1986.
Ciment M. Kubrick. P.: Calmann-Lévy, 1980; Ciment M. Les Conquérants d'un nouveau monde:
essays sur le cinéma américain. P.: Gallimard, 1981.
Portrait du philosophe en spectateur / Deleuze G. Deux régimes de fous. Textes et entretiens 1975—
1995. P. 202.
206
Часть ι. Древо
как язык без языка, основной характеристикой которого является нар-
ративность1. Делёз порывает с этим представлением, утверждая, что
кинематографический образ невозможно определить как язык; образ
определяется движением и временем.
Кристиан Метц, напоминает Делёз, задаётся вопросом не о том,
«в чём кино представляет собой язык», но «при каких условиях кино
следует рассматривать как язык?». «Решительная неосторожность»
Метца заключается в том, что он приравнивает образ к высказыванию
и применяет к нему детерминации, которые принадлежат не
исключительно языку, но обусловливают языковые высказывания.
Семиология кино может стать дисциплиной, применяющей к
образам модели языка (langage), в особенности — синтагматические, ибо они
формируют один из основных образных «кодов». Но здесь получается
заколдованный круг: синтагматика полагает, что образ должен быть де-
факто уподоблен высказыванию, но и она же считает, что образ
уподобляется высказыванию де-юре. Это типично кантианский порочный круг:
синтагматика работает, так как образ является высказыванием, однако
образ представляет собой высказывание именно потому, что
подчиняется правилам синтагматики. Образы и знаки заменили несколькими
высказываниями и «большой синтагматикой», и получилось, что само
понятие знака в такой семиологии проявляет тенденцию к исчезновению.
Очевидно, что оно исчезает за счёт раздувания означающего2.
Повествование, считает Делёз, вообще нельзя назвать данностью
кинематографических образов в целом. Метц утверждает, что
повествование отсылает к одному или нескольким кодам и уже через них
попадает в образы. Делёз отстаивает прямо противоположную точку зрения:
повествование — всего лишь следствие самих образов и их
комбинаций, но никак не данность. Классическое повествование проистекает
из органической композиции образов-движений или из их деления на
образы-перцепции, образы-эмоции и образы-действия. Современные
формы повествования происходят из композиций образа-времени.
Кинематографический образ нельзя непосредственно уподоблять
высказыванию. Когда образ заменяется высказыванием, он наделяется фаль-
См.: Metz Ch. Essais sur la signification au cinéma. P.: Klincksieck, 1968.
Делёз Ж. Кино. Пер. Б. Скуратова. М. : Ad Marginem, 2004. С. 319.
Глава 6. Тысяча складок
207
шивой внешностью, а движение (его наиболее подлинная черта) от него
отчуждается. «Образ-движение и есть объект, сама вещь, схваченная
в движении как в непрерывной функции»1. И уж тем более надо
избегать сведения всего и вся в кинематографе к кодам2.
Соссюровской семиотике Делёз противопоставляет семиотику
Ч. С. Пирса. И, несмотря на то, что свою книгу Делёз называет
попыткой таксономии образов и знаков, его основная предпосылка состоит
в том, что «великие кинорежиссёры... сравнимы не только с
живописцами, архитекторами и музыкантами, но ещё и с мыслителями»3,
только мыслят они не понятиями, а образами. Это достаточно ясная
декларация отказа от структурализма в пользу концептуального анализа или
информатики4.
Делёз отталкивается от Бергсона, который, по его словам, в своей
«Материи и памяти» открыл «образ-движение» и «образ-время».
Хотя сам Бергсон подверг кинематограф уничижительной критике,
ничто не мешает Делёзу объединить бергсоновский «образ-движение»
с образом кинематографическим5. Кино, говорит Делёз, не добавля-
1 Там же. С 321.
2 «Сами по себе сходства и кодификации — средства убогие; из кодов ничего путного не
получится, даже если их нагромождать, в чём изощряется семиология». (Там же.)
3 Там же. С. 39.
4 « Ибо если кадру и можно подыскать аналогию, то только в области информационных систем,
а не в лингвистике» (Там же. С. 53.)
5 Историко-философский демарш Делёза, доказывающего, что кинематограф не мог не стать
объектом философского рассмотрения, весьма любопытен: «Исторический кризис
психологии совпадает с моментом, когда стало уже невозможным помещать образы в сознание,
а движения — в пространство. До этого времени в сознании только и располагали что образы,
качественные и непротяжённые. Но вот как перейти от одного порядка к другому? Как
объяснить, что движения нет-нет да и производят образ (так бывает при перцепции) или что образ
производит движение (при намеренном действии)? Сослаться на мозг? Но тогда его следует
наделить чудесными способностями. К тому же, как воспрепятствовать движению быть хотя
бы виртуальным образом, а образу — хотя бы возможным движением? То, что казалось
тупиком, в конечном счёте сводилось к стычке между материализмом и идеализмом, когда первый
стремился представить порядок сознания при помощи чисто материальных движений, а
второй — порядок мироздания через беспримесные образы сознания. Такую расщеплённость
образа и движения, сознания и предмета следовало преодолеть любой ценой. И вот, в одну и ту
же эпоху за решение этой задачи взялись два абсолютно непохожих друг на друга философа:
Бергсон и Гуссерль. Каждый из них бросил свой боевой клич: всякое сознание есть сознание
чего-то (Гуссерль), или же всякое сознание есть нечто (Бергсон). Без сомнения, то, что пре-
208
Часть ι. Древо
ет движение к образу а непосредственно предлагает образ-движение.
С одной стороны, движение — это то, что происходит между
объектами, а с другой — то, что выражает длительность, т. е. связано
одновременно и с частями, и с целым. А это значит, что «движение соотносит
объекты некой закрытой системы с открытой длительностью, а саму
длительность — с объектами системы, которой пытается открыться
закрытая система»1. Движение одновременно и соотносит объекты,
между которыми оно устанавливается, с изменяющимся целым,
выражаемым движением, и делит целое между объектами. Делёз
по-прежнему использует принцип трансверсальности: части целого, т. е. объекты,
говорит он, можно считать неподвижными срезами, между которыми
происходит движение. Поэтому само движение оказывается
подвижным срезом длительности.
Как и прежде, Делёза интересует механика, а вернее, машинные
планы, работающие в кинематографе. Он говорит о двух типах машины.
Первый (французский) представляет собой автомат —
геометрическую конфигурацию сочетающихся между собой деталей, образующих
множество, которому приписывается механическое движение. Второй
(немецкий) представляет собой энергетическую машину,
производящую движение и утверждающую гетерогенность. Эти машины
проявляют себя соответственно как импрессионизм и экспрессионизм.
Обращение к кинематографу позволяет понять бергсоновскую мысль
0 том, что материальная вселенная как план имманентности
представляет собой машинную схему взаимодействия образов-движений.
Бергсон, подчёркивает Делёз, замечает, что эта вселенная подобна кинема-
тографу-в-себе, что это «метакино».
Образы-движения Делёз подразделяет на три вида:
образы-перцепции, образы-действия и образы-эмоции. Все они соотносятся с неким
возможным «центром неопределённости». Образ-движение выражает
изменяющееся целое и возникает между двумя объектами, а значит, сво-
жняя позиция стала невозможной, объясняется множеством внешних по отношению к
философии факторов. Социальные и научные факторы постепенно наполняли жизнь сознания
движением, а материальный мир — образами. А значит, как теперь не принимать во внимание
кино, возникшее в ту же эпоху и собиравшееся предоставить собственные доказательства
существования образов-движений?». (Там же. С. 106.)
1 Там же. С. 52.
Глава 6. Тысяча складок
209
дится к процессу дифференциации. Вместе с тем, он включает
интервалы, и это уже процесс спецификации. Единство этих двух процессов
формирует «сигнальную материю», обладающую способностями к
модуляции. «Это пластическая масса, неозначающая и асинтаксическая
материя, и лингвистически она не оформлена, хотя аморфной не
является, а формализована семиотически, эстетически и прагматически»1.
Это не высказывание и не высказанное, а выразимое (énonçable).
Пожалуй, самым любопытным моментом в книге оказалось
проводимое Делёзом противопоставление двух «режимов образа» —
органического (кинетического) и кристаллического (временного). Органическим
философ называет описание, предполагающее независимость
собственного объекта; кристаллическим — описание, которое само играет роль
собственного объекта. В этом втором случае само описание формирует
объект. Органические описания служат &ая определения сенсомоторных
реакций, тогда как кристаллические отсылают к оптическим и звуковым
ситуациям: «это уже кинематограф видящего, а не действующего»2.
Пользуясь лакановской терминологией, Делёз говорит, что в
органическом описании воображаемое предстаёт в форме прерывности, так что
всякий образ перестаёт согласовываться с тем образом, в который он
преобразуется. Поэтому здесь возникает два полюса: цепочки
актуального с точки зрения реального и актуализации в сознании с точки зрения
воображаемого. В кристаллическом режиме актуальное оторвано от
своих моторных продолжений, а реальное — от своих связей, так что
виртуальное обретает самостоятельную ценность. «Два способа
существования теперь объединяются в круге, где реальное и воображаемое,
актуальное и виртуальное преследуют друг друга, меняются ролями
и становятся неотличимыми»3. Эта позиция стала определяющей для
позднего творчества Делёза. Э. Алье подчёркивает: «Онтология
виртуального — или материализм виртуального — именно так, думаю я,
можно определить делёзианский образ мысли, преобладающий на всех
уровнях его философии»4.
1 Там же. С. 323.
2 Там же. С. 434.
3 Там же. С. 435.
4 Alliez Ε. The Signature of the World, or What is Deleuze and Guattaris Philosophy? Transi.
Ε. R. Albert & A. Toscano. NY.; L.: Continuum, 2004. P. 105.
210
Часть ι. Древо
Органическое повествование — это повествование «правдивое»,
поскольку оно претендует на истину даже в сфере вымысла. Эта
«повествовательная экономия» функционирует в конкретной фигуре
образа-действия и абстрактной фигуре образа-движения. Время, говорит
Делёз, всегда ставило под сомнение понятие истины. В античности это
выражалось в парадоксе « случайных будущих». Лейбниц заявил, что все
варианты будущего возможны, но не совозможны между собой1. При
этом повествование перестаёт быть правдивым и становится сугубо
фальсифицирующим. Потенция ложного заменяет и свергает истину:
в настоящем полагаются неразрешимые различия, а в прошлом —
неразрешимые альтернативы между истинным и ложным. Этот
переворот закрепил Ницше, разрешивший кризис истины в пользу ложного
с его художественной и творческой потенцией. Теперь все процессы
происходят одновременно, описание становится собственным
объектом, а повествование делается фальсифицирующим. Ценностных
суждений здесь больше нет, а формулу «Я = Я» заменила формула «Я —
это другой».
Делёз завершает свою книгу вполне предсказуемым заявлением:
Само кино представляет собой новую практику образов и знаков,
а философия должна создать теорию последней как концептуальную
практику. Ибо никакой детерминации, ни технической, ни прикладной
(психоанализ, лингвистика), ни рефлексивной, недостаточно для того,
чтобы сформировать концепты самого кино2.
Когда в 1983 г. вышел первый том книги Делёза о кино, в
университетской среде он вызвал сопротивление: Бергсон по-прежнему
считался скучным буржуа, неспособным сказать что-то новое. Прочитать
три сотни сложнейших страниц, чтобы узнать, что
кинематографический образ движется? Да ведь это и так всем известно! Критику тезисов
К. Метца Делёзу также не простили; Р. Беллуа нашёл её излишне стро-
« ... Чтобы разрешить этот парадокс и спасти истину, следует ввести красивое понятие песо-
возможности (весьма отличное от противоречия): сообразно этому понятию, из возможного
получается не невозможное, но лишь несовозможное, — а прошлое может быть истинным, не
будучи истинным с необходимостью. Но это лишь наступившая пауза в кризисе истины, а не
его разрешение». (Делёз Ж. Кино. С. 439.)
Там же. С. 615.
Глава 6. Тысяча складок
211
гой, а отклонение вопроса о нарративности — грубоватым. Однако
пресса приняла книгу хорошо. В «Le Monde» была опубликована
беседа Делёза с Э. Жибером, где Делёз ещё раз подчеркнул, что написал не
работу по истории кино, а опыт классификации образов и знаков, и
признался, что к исследованию кино его подтолкнула неспособность
лингвистики сказать о знаках что-то внятное1. В «Cahiers du cinéma» также
была опубликована беседа с Делёзом2. С. Дени посвятил ему страницу
в «Libération»3. A Ж. Бенде написал, что Делёз произвёл в
киноискусстве настоящую философскую революцию4.
Кристиан Метц, на которого направил свою критику Делёз, уже не
был лидером структуралистской семиотики кино; он утрачивал свой
авторитет, и учеников у него становилось всё меньше. Он решил никак
не реагировать на выпады Делёза. Тем не менее, его немногочисленные
последователи невзлюбили Делёза, и в академической среде его книги
о кино не принимали вплоть до 1990-х гг. Здесь долго бытовало мнение,
что Делёз отказался от лингвистических сложностей ради базеновской
простоты5.
В 1984 г. по Парижу стали расползаться слухи о том, что Фуко тяжело
болен. Делёз очень беспокоился: хотя они не общались уже много лет,
Фуко по-прежнему был ему дорог. Биограф Фуко Д. Эрибон
утверждает, что одним из самых сильных желаний умирающего Фуко было
примирение с Делёзом. Они так и не увиделись, но на похоронах Фуко
Делёз по просьбе Д. Дефера произнёс небольшую речь.
Делёз продолжал читать лекции в экспериментальном
университете, который переехал в Сен-Дени. Он читал в маленьких прямоугольных
зданиях, окнами выходивших на заросший пустырь; выступать в
большой аудитории с микрофоном он не желал. Его друга Франсуа Шатле
настиг рак курильщика, и он на два года оказался прикован к аппарату
искусственной вентиляции лёгких. Делёз часто навещал его в больни-
1 «Portrait du philosophe en spectateur», enretien avec Gilles Deleuze, Hervé Guibert //Le Monde.
1983.6 octobre.
2 «La photographie est déjà tirée dans les choses», entretien avec Gilles Deleuze par Pascal Bonitzer
et Jean Narboni // Cahiers du cinéma. 1983. № 352.
3 Gilles Deleuze: Cinéma 1, Première // Libération. 1983.3 octobre.
4 Bindé J. // Le Nouvel Observateur. 1983.21 octobre.
5 Château D. Cinéma et philosophie. P.: Nathan, 1996. P. 107.
212
Часть ι. Древо
це и убеждал в необходимости жить до тех пор, пока можно держать
в руке перо и заниматься философией. Каждое воскресенье Делёз с
женой приезжали к Шатле. Сперва философы беседовали о своём
предмете, а потом Делёз предлагал «перейти к серьёзному делу», и все
усаживались играть в бридж. После смерти Шатле Делёз почтил его память
в газетной статье1, а затем произнёс в его честь речь, опубликованную
отдельной брошюрой2.
2 июня 1987 г. Делёз прочитал свою последнюю лекцию перед
уходом на пенсию. К магнитофонам в этот день добавились кинокамеры,
а итальянский переводчик «Тысячи плато» Джорджио Пассероне
описал это событие в журнальной статье3. Делёз устал, его здоровье
ухудшилось, и к тому же, его ждали другие дела.
В 1979-1980 учебном году Делёз прочитал несколько лекций о
Лейбнице; ему же был посвящен весь 1986-1987 год. А в 1988 г. вышла
книга, получившая двойное название: «Складка. Лейбниц и барокко». Это
и историко-философский труд, посвященный Лейбницу, и, в то же
время, исследование барокко как «оперативной функции»:
Понятие «барокко» отсылает не к какой-либо сущности, а скорее
к некоей оперативной функции, к характерной черте. Барокко
непрестанно производит складки. Открытие это ему не принадлежит:
существуют разнообразные складки, пришедшие с Востока, а также
древнегреческие, римские, романские, готические, классические... Но барокко их
искривляет и загибает, устремляя к бесконечности, складку за складкой,
одну к другой. Основная черта барокко — направленная к
бесконечности складка. И, прежде всего, барокко их дифференцирует
соответственно двум направлениям, двум бесконечностям, — как если бы у
бесконечности было два этажа: складки материи и сгибы в душе. Внизу — материя,
поскольку её части образуют «органы по-разному сложенные и более или
менее развёрнутые» — накапливается согласно первому принципу
складок, а затем организуется согласно второму. Вверху — душа поёт славу
Господу, пробегая по собственным складкам, при том, что ей не удаётся
полностью развернуть их, «ибо они уходят в бесконечность»4.
Deleuze G. Il était une étoile de groupe // Libération. 1985.27 décembre. P. 21 -22.
Deleuze G. Périclès et Verdi. La philosophie de François Châtelet. P.: Minuit, 1988.
Passerone G. Le dernier cours? // Le Magazine littéraire. 1988. № 257. P. 35-37.
Делёз Ж. Складка. Лейбниц и барокко. Пер. Б. М. Скуратова. М. : Логос, 1997. С. 7.
Глава 6. Тысяча складок
213
Итак, основной концепт этой книги — «складка» (pli), барокко —
эпоха его преимущественного развёртывания, а Лейбниц — блестящий
знаток концепта. При этом трудно отделаться от впечатления, что Де-
лёз, подобно Ж. Сент-Илеру (на которого он ссылается и которого
считает во многом лейбницеанцем), утверждавшему, что все складки — это
модификации одного и того же Животного, так что можно переходить
от одних животных к другим путём складывания (если сложить
позвоночное так, чтобы две части его позвоночника сблизились, мы получим
головоногое), занимается тем, что «складывает» философов от
Лейбница до Хайдеггера и Мерло-Понти таким образом, что они сами
оказываются философами складки. Впрочем, мы уже привыкли к тому, что
в своих историко-философских работах Делёз плодит монстров, и этот
труд — не исключение.
Он находит складки повсюду — и на Востоке, и на Западе.
Платоновская складка предполагает общую меру j^aä противопоставленных
членов, формы здесь складываются, но до формального элемента
складки Платон не доходит. Складке необходима бесконечность и
несоизмеримость, а не замыкание в круг (нетрудно заметить сходство с мыслью
О. Шпенглера о появлении в западноевропейской культуре
бесконечного пространства): «Вот оно, барокко, застигнутое перед тем, как мир
начал терять свои принципы: великолепный момент, когда утверждалось
скорее Нечто, нежели ничто, и на бедствия мира ответом был избыток
принципов, буйство принципов, буйство, свойственное принципам»1.
Барочная складка соответствует специфической форме философии
и политической власти. Эту «маньеристскую» складку Делёз
обнаруживает и у одержимого арабскими драпировками психиатра Г. Г. Кле-
рамбо, и у С. Малларме.
Складка, говорит Делёз вслед за Лейбницем, — это не точка, не часть
и не оконечность линии; скорее, это единица материи. Из складок
состоит всё, прежде всего — организм. Организм бесконечно
машинизирован, все его части также представляют собой машины, преобразованные
посредством складок. Кроме того, организм представляет собой
монаду. Лейбницу удалось дать столь удачное определение монады, что этот
концепт стал ассоциироваться с его именем. С одной стороны, при по-
Тамже.С 119-120.
214
Часть ι. Древо
мощи математики инфлексии он постулировал серию множественного
как серию бесконечно конвергентную. С другой — «огибающее
единство» он постулировал как индивидуальное и нередуцируемое. Пока
серии были законченными и неопределёнными, индивиды могли
оказаться относительными, растворившись в мировом духе, объемлющем все
серии. Но, если представить сам мир как бесконечную серию,
охватывающую бесконечное количество душ, то можно говорить об
индивидуальном, о сингулярных точках зрения и о гармонии, отказавшись от
пантеизма и имманентизма. «Мир есть бесконечная кривая,
касающаяся бесконечного множества кривых в бесконечном множестве точек,
кривая с единственной переменной, конвергентная серия всех серий»1.
Единой универсальной точки зрения, «мирового духа», не существует.
Бесконечная серия неотделима от бесконечного множества вариаций,
её составляющих, а каждая монада, будучи индивидуальной единицей,
включает в себя всю серию2.
Итак, согласно Лейбницу, мир существует только во включающих
его субъектах (монадах). С одной стороны, мир, в котором согрешил
Адам, существует только в согрешившем Адаме (и в прочих субъектах),
с другой — Бог сотворил не грешника Адама, а именно мир, в котором
Адам согрешил. Если мир пребывает в субъекте, субъект существует
«для мира»3. Закон бесконечной серии не находится в душе, хотя сама
серия находится именно в душе. Мир находится в монаде, каждая
монада включает в себя всю серию состояний мира; однако монады
существуют для мира, и ни одна из них не содержит в себе основания серии
монад, т. е. принципа гармонии между ними. Актуально мир
существует только в субъектах, но все они соотносятся с этим миром как с акту-
ализуемой ими виртуальностью.
Всякая монада выражает мир целиком и полностью, хотя ясным
образом выражает она лишь часть бесконечной серии. Ясная область од-
Там же. С. 45.
« ...Тем самым она выражает весь мир, но не иначе, как выражая более ясным образом
небольшой регион мира, как бы его "департамент", нечто вроде городского квартала,
конечную последовательность». (Там же.)
«Бог создал мир "перед" тем, как сотворить души, потому что сотворил он их ради этого мира,
который он в них вложил». (Там же. С. 46.)
Глава 6. Тысяча складок
215
ной монады продолжается в ясной области другой: «существует
продление; или продолжение, одних конвергентных серий в других»1,
выступающее условием их совозможности. Монады включают в свои
сгибы один и тот же мир в разном порядке, поскольку содержат его
бесконечную серию. Все серии могут продлеваться друг в друге, а их закон
отодвигается в «трансфинитное множество». Хотя в монаде и
представлена вся серия, основания этой серии в монаде нет; предел
остаётся внешним по отношению к ней и предстаёт как предустановленная
гармония монад между собой. «... Вся философия Лейбница, —
говорил Делёз двумя десятилетиями раньше, — выказывает некое
колебание между ясной концепцией возможного и тёмной концепцией
виртуального. В действительности несовозможное и совозможное не имеют
ничего общего с противоречащим и не-противоречащим. Речь идёт
совсем о другом: о дивергенции и ковергенции»2.
Делёз снова вспоминает о стоиках, которые первыми возвели
событие в ранг понятия, рассматривая его как бестелесный предикат
субъекта предложения. Вторую логику события разработал Лейбниц,
заявивший, что сам мир и есть событие: в качестве бестелесного (т. е.
виртуального) предиката он должен включаться в каждый субъект как
основа, проявления которой извлекает каждый. «Пара
"основа-проявления" свергает с престола форму или сущность»3; стоики и Лейбниц со
своим «маньеризмом» противостоят аристотелевскому и
картезианскому эссенциализму. Третью логику события создал А. Уайтхед,
возобновивший радикальную критику атрибутивной схемы и примиривший
универсальное и случайное. Событие теперь рождается в некоем
хаотическом множестве, пропускаемом через сито, подобное хоре из
платоновского «Тимея». Если Лейбниц допускал бифуркации серий, но
говорил о несовозможности одновременно существования расходящихся
серий, то Уайтхед считает их как раз совозможными.
Мир — это чистое испускание сингулярностей, а
сингулярности-события соотносятся с «регулярностями». Всё сингулярно в той мере,
в какой через него можно провести линию сгиба с некой сингулярной
Там же. С. 87.
Deleuze G. La Méthode de dramatization / L'île Déserte. Textes et entretiens 1954-1974. P. 142.
Делёз Ж. Складка. Лейбниц и барокко. С. 93.
216
Часть ι. Древо
точкой. В то же время, всё ординарно, поскольку в этой сингулярной
точке совпадают две ординарности. «Брак концепта и
сингулярности — вот что такое лейбницианская революция... »х
Лейбниц упрекал номиналистов в том, что они признают только
совокупные целостности, а потому понимают содержание понятия лишь
дистрибутивно, а не собирательно. Между тем, все люди разумны,
каждый сам по себе. Будучи разумными сущностями, монады по
отношению к миру ведут себя так же, как и по отношению к содержанию
своего понятия. Поэтому монады соответствуют понятию «каждый», тогда
как тела — понятию «один» или «любой». Монады представляют
собой дистрибутивные единства, тогда как тела — агрегаты или
коллективы. Это распределение на два этажа, о которых уже шла речь:
вверху — разумные монады, внизу — материальный мир тел. Если каждая
монада выражает целое мира, то каждое тело получает впечатление от
всех остальных. Предустановленная гармония — это прежде всего
согласие между двумя режимами.
Мир — это виртуальное, реализующееся в монадах; актуальностью
он обладает только в монадах, каждая из которых выражает его на
собственной поверхности и с собственной точки зрения. Актуальное не
образует реальное, оно само должно быть реализовано. Тело не реализует,
но в нём есть нечто реализующееся, посредством чего тело
становится реальным или субстанциональным. Процесс актуализации действует
через дистрибуцию, а процесс реализации — через сходство. Мир при
этом оказывается чистым событием: «чистые виртуальность и
возможность, мир в духе стоической Бестелесности, чистый предикат»2.
Делёз заканчивает свою книгу мрачноватым диагнозом: в наше
время мир состоит из дивергентных серий, т. е. представляет собой хаос-
мос. Монада уже не может включать в себя целый мир, но открывается
в сторону некой спиральной траектории, непрерывно удаляющейся от
центра. Однако «мы открываем как новые способы сгибания, так и
новые оболочки, но остаёмся лебницианцами, ибо речь по-прежнему идёт
о складывании, развёртывании, изгибании»3.
Там же. С. 118.
Там же. С. 182.
Там же. С. 242.
Глава 7. Как философствуют клиникой
217
Специалисты приняли книгу хорошо. Даже такой знаток
творчества Лейбница, как Мишель Фишан, согласился с интерпретацией Делёза.
АБ. Паради написал на книгу хвалебный отзыв1. «Le Magazine littéraire»
посвятил Делёзу целый выпуск2.
ГЛАВА 7. КАК ФИЛОСОФСТВУЮТ КЛИНИКОЙ
...Философ — это тот; кто с полным правом или без
такового считает, что он вернулся из царства
мёртвых, но, какими бы ни были его основания, он в это
царство возвращается.
Ж. Делёз, Кино.
1990-е гг. были &ля Делёза достаточно продуктивным
временем. В 1990 г. он опубликовал статью «Постскриптум к обществам
контроля»3, в которой развивал идеи, впервые высказанные Мишелем
Фуко. Фуко различал общества суверенитета, обладающего правом
убивать, и дисциплинарные общества. В конце 1980-х гг. он заговорил о
новом типе общества, основным властным механизмом которого
выступает биополитика. Делёз называет это формацию обществами контроля.
Здесь властные манипуляции не ограничиваются человеком, но
распространяются на всё живое. Война в Ираке вызвала у Делёза возмущение.
В статье, написанной совместно с Р. Шерером4, он разоблачает
государственный терроризм США и обличает поддержку войны
французским правительством.
Но самым главным его произведением нового десятилетия стала
книга «Что такое философия?». Своей лекционный курс 1979-1980
учебного года Делёз закончил словами о том, что в будущем году хорошо
бы затеять курс о том, что такое философия. Студенты сочли это
шуткой и вежливо посмеялись. Однако Делёз не шутил. В следующем году
1 Paradis В. Leibniz: un monde unique et relatif// Le Magazine littéraire. 1988. № 257.
2 «Gilles Deleuze. Un philosophe nomade» // Le Magazine littéraire. 1988. № 257.
3 Deleuze G. Post-scriptum sur les sociétés de contrôle // LAutre Journal. 1990. № 1.
4 Deleuze G., Schérer R. La guerre immonde // Libération. 1991.4 mars.
218
Часть ι. Древо
он снова сформулировал этот вопрос перед студенческой аудиторией,
но признал, что ещё не готов на него ответить. 13 июня 1990 г. он писал
Ж.-К. Мартену:
Вы видите всю важность для меня определения философии через
изобретение или создание концептов, т. е. не как созерцательную,
рефлексивную или коммуникативную деятельность, но как деятельность
созидательную. Я полагаю, что она всегда была таковой, но по этому
вопросу мне ещё не удалось объясниться. Поэтому следующей моей книгой
будет небольшой текст «Что такое философия?»1.
В начале 1990-х, после десятилетнего перерыва в сотрудничестве,
Делёз и Гваттари взялись за новую книгу. Гваттари принимал в её
создании самое незначительное участие, так что некоторые авторы
утверждают даже, что Делёз поставил его имя на обложке лишь из дружеского
чувства. Однако несомненно, что основные идеи этой книги они
нащупывали вместе. В 1981 г. Делёз писал Гваттари:
Вот моя рабочая программа на год. С одной стороны, я буду
заниматься курсом о Кино и о Мысли. Я буду заниматься им в связи с
«Материей и памятью» Бергсона, которая представляется мне неисчерпаемой
книгой. Но, с другой стороны, я хотел бы продолжать заниматься той
таблицей категорий, которая совпадает с вашей работой. И здесь
центральным для меня оказывается поиск простого и ясного ответа на
вопрос: что такое философия? Откуда два исходных вопроса: 1 — тот, что,
как мне кажется, поставили вы: почему нужно говорить о «категориях» ?
Что в действительности представляют собой понятия «содержание»,
«выражение», «сингулярность», и т. д., и т. п. Пирс и Уайтхед
составляют таблицы современных категорий: каким образом эволюционировало
понятие категории? 2 — И, исходя из наиболее простых категорий,
«содержания» и «выражения», я повторяю свой вопрос: почему вам
приходится отдавать явное предпочтение выражению с точки зрения
взаимодействия? Нужно, чтобы вы терпеливо объяснили мне...2
А в «Тысяче плато» Делёз и Гваттари писали:
Идеи не умирают. Не потому лишь, что они выживают в виде
архаизмов. Они достигают научного статуса, а потом утрачивают его или пе-
Lettre-préface de Gilles Deleuze // Martin J.-C. Variations. P. 7.
Цит. по: Dosse F. Gilles Deleuze et Félix Guattari. P. 27.
Глава 7. Как философствуют клиникой
219
реходят в другие науки. Они могут изменить положение и статус, они
могут даже изменить форму и содержание, но сохраняют нечто
существенное в своём движении, в своём перемещении и распределении в
новой области1.
«Пожалуй, вопросом "что такое философия" можно задаваться лишь
в позднюю пору, когда наступает старость, а с нею и время говорить
конкретно», — так начинают авторы свою последнюю книгу2. Они уже
двадцать лет пытались ответить на этот вопрос, но полной ясности,
действительно, достигли только теперь: философия — это искусство
формировать, изобретать, изготавливать концепты. О концептах и
написана эта книга. В телеинтервью с К. Парне Делёз говорил, что
хочет сделать совершенную книгу, в которой, как на японской гравюре,
не будет ничего, кроме чистых линий. Представление о философии как
о сотворении концептов возникло у Делёза очень рано. Уже в своей
статье о Бергсоне, опубликованной в 1956 г., он писал: «Великий
философ — это тот, кто создаёт новые концепты: эти концепты
возвышаются над дуальностями обыденной мысли и дают вещам новую
истину, новое распределение, необычное расчленение»3. А в своей книге
о кино Делёз замечает:
Для большинства людей философия — это то, что не «создаётся»,
а предсуществует в готовом виде на заранее изготовленных небесах.
А ведь на деле-то философская теория сама по себе представляет собой
практику, в той же мере, что и её объект. Она не более абстрактна, чем её
объект. И это практика концептов, о которой следует выносить
суждение в зависимости от других практик, на которые она накладывается4.
Но, кроме того, она написана о дружбе — дружбе Делёза и Гваттари,
которую первый как-то уподобил дружбе флоберовских Бювара и Пе-
кюше. Концепт нуждается в концептуальных персонажах, и при
рождении философии первым таким персонажем оказывается друг. Восточ-
Deleuze G., Guattari F. Mille Plateaux. P. 287.
Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? С. 9.
Deleuze G. Bergson, 1859-1841 // Les philosophes célèbres. Éd. M. Merleau-Ponty. P.: Editions
dArt Lucien Mazenod, 1956. P. 292.
Делёз Ж. Кино. С. 614.
220
Часть ι. Древо
ные цивилизации знали фигуру мудреца, но греки зафиксировали его
смерть и заменили философом, другом мудрости, который этой
мудростью, впрочем, не обладает. Мудрец мыслил фигурами, философ мыслит
концептами. Философ-друг — это ещё и претендент, а притязает он на
мудрость, наряду с прочими своими соперниками.
Получается, что в дружестве столько же состязательного недоверия
к сопернику, сколько любовного стремления к предмету желаний. Стоит
дружеству обратиться к сущностям, как двое друзей оказываются
претендентом и соперником (впрочем, кто же их разберёт?)1.
Философ — друг концепта, который находится в потенциальной
зависимости от него. А это значит, что философия — не просто
изобретение концептов, а их творчество. Философия — это не созерцание
(поскольку созерцания — сами же вещи, рассматриваемые в ходе творения
концептов), не рефлексия (поскольку для того, чтобы размышлять,
философия вовсе не нужна) и не коммуникация (поскольку коммуникация
работает лишь с мнениями, чтобы в итоге произвести консенсус, а не
концепт — явно камень в огород Хабермаса, которого Делёз считал
человеком наивным2). Философия отказывается от каких бы то ни было
дискуссий и споров. Сократ, вопреки сложившемуся убеждению,
только тем и занимался, что делал невозможной дискуссию, сделав друга
исключительно другом концепта. «Философ осуществляет массовый
захват мудрости, ставит её на службу чистой имманентности. Генеалогию
он заменяет геологией»3.
Концепты не бывают простыми: в концепте всегда есть
определяющие его составляющие, т. е. некий шифр. Таким образом, концепт
представляет собой множественность (хотя и не всякая
множественность концептуальна). Составляющие концепта сами могут
выступать концептами, так что концепты множатся бесконечно. Но в самом
концепте эти составляющие становятся неразделимыми, составляя
1 Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? С. 12.
2 Ниже Делёз и Гваттари дают его доктрине ещё более жёсткую оценку: «Философия
коммуникации изощряется в поисках всеобщего либерального мнения-консенсуса, в глубине которого
обнаруживаются циничные восприятия и переживания самого настоящего капиталиста».
(Там же. С 188.)
3 Там же. С. 60.
Глава 7. Как философствуют клиникой
221
консистенцию концепта. Концепт — это точка совпадения всех его
составляющих: «концептуальная точка постоянно пробегает по
составляющим, движется в них вверх и вниз»1. Можно заметить, что Де-
лёз снова воспроизводит идею серии, которую он разрабатывал ещё
в «Логике смысла». Отсюда же приходит и стоическая идея
бестелесности события: концепт воплощается в телах, но сам он
бестелесен, не совпадая с тем состоянием вещей, в котором он
осуществляется. У концепта нет пространственно-временных координат, а лишь
интенсивные ординаты. Кроме того, он анергетичен, лишён энергии
и обладает лишь интенсивностью. Это чистое событие, а не сущность
или вещь. Обобщая, можно сказать, что «концепт определяется как
неразделимость конечного числа разнородных составляющих,
пробегаемых некоторой точкой в состоянии абсолютного парения с бесконечной
скоростью»2. А потому концепт — это поверхность, на которой
разворачиваются множественные вариации. В концепте познаётся чистое
событие. Задача философии при создании концептов в том и
заключается, чтобы выделять события из вещей и живых существ.
Концепт реален без актуальности, идеален без абстрактности, лишён
референтности и автореферентен. Будучи творим, он в то же время
сам полагает себя и свой объект. Таким образом, он недискурсивен, да
и сама философия не является дискурсивной формацией, поскольку не
выстраивает ряды пропозиций3. Концепты свободно вступают в
отношения недискурсивной переклички, потому что никакой иерархии
между ними нет. Всё в концептах перекликается, а не соответствует друг
другу. Вместе они образуют не мозаику, а, скорее, стену сухой кладки,
где камни держатся вместе, но каждый по-своему. Поэтому и
философия постоянно находится в состоянии дигрессии.
Между тем, концепты постоянно перекликаются друг с другом, и
творящая их философия представляет собой нефрагментированное, хотя
и открытое единство. Это план имманенции концептов, который сам не
1 Там же. С. 31.
2 Там же. С. 32.
3 «Только путая концепт с пропозицией, можно верить в существование научных концептов
и рассматривать пропозицию как настоящий "интенсионал" (то, что выражает собой фраза);
философский же концепт при этом чаще всего предстаёт просто как пропозиция, лишённая
смысла». (Там же. С. 34.)
222
Часть ι. Древо
является концептом всех концептов. Концепты — это конструкции
наподобие машин, а план — абстрактная машина, деталями которой они
являются. Концепты — это события, а план — горизонт событий и их
резервуар. Характер концепта — не парадигматический, а
синтагматический, не проективный, а коннективный, не иерархический, а
окольный, не референтный, а консистентный. И наконец, концепт — это не
объект, а территория, на которой ретерриторизуется философия.
Концепт — не комплекс ассоциированных идей и не мнение, не строй
аргументов и доводов. Это множество неразделимых вариаций, которое
создаётся в плане имманенции, пересекающем хаос. «... Концепт — это
хаоидное состояние по преимуществу; он связан с хаосом, который
сделан консистентным, стал Мыслью, ментальным хаосмосом»1.
Концептуальный персонаж не является представителем
философа; скорей уж наоборот: философ оказывается не более чем телесной
оболочкой для своего главного концептуального персонажа (впрочем,
и ^ая всех остальных тоже). Имя самого философа — просто
псевдоним его персонажей2. Концептуальный персонаж — не олицетворение,
символ или аллегория, это становление или субъект философии,
эквивалентный самому философу.
Философия в этом свете оказывается составлена из трёх
элементов — префилософского плана (имманенции), профилософских
персонажей (инсистенция) и философских концептов (консистенция).
Соответственно она требует трёх способностей — разума
(начертание плана), воображения (изобретение персонажей), рассудка
(творчество концептов). Кроме того, здесь необходим вкус как тройная
способность, служащая правилом соответствия между этими тремя
инстанциями. Философия разительно отличается от науки: она имеет
дело с планом имманенции, тогда как наука — с планом референции.
Наука фиксируется на образе, производя «замедление», полагающее
предел тому хаосу, который философия просеивает через сито
имманенции. Искусство же работает с планом композиции. Так
выстраивается триада планов:
Там же. С. 265.
«Я — больше не я, но способность мысли видеть себя самое и развиваться через план,
который в нескольких местах проходит сквозь меня». (Там же. С. 83-84).
Глава 7. Как философствуют клиникой
223
философия
план имманенции
форма концепта
концепты
и концептуальные персонажи
искусство
план композиции
сила ощущения
ощущения
и эстетические фигуры
наука
план референции
функция познания
функции
И наконец, говорят Делёз и Гваттари, всего этого недостаточно.
«Философии нужна понимающая её не-философия, ей нужно не-фило-
софское понимание, подобно тому как искусству нужно не-искусство,
а науке — не-наука»1. Итак, Делёз предлагает конструктивистскую
модель философского творчества, диалектика которого требует
обращения к своему иному2.
В прессе книгу приняли гораздо лучше, чем «Тысячу плато»:
изложенные здесь идеи представлялись читателям вполне прозрачными.
Действительно: философия — это создание концептов — что ж тут
непонятного? Р. Маджори в «Libération» напечатал хвалебный отзыв,
сопровождаемый беседой с обоими авторами3. Р.-П. Дрюа в «Le Monde»
также хвалил книгу4. Д. Эрибон, правда, усмотрел в книге выпад против
доктрины коммуникативного действия Ю. Хабермаса, но Делёз отвечал
на это, что Хабермас — не единственный, кто стремится укоренить
философию в коммуникации и превратить её в некую мораль
коммуникации, так что это выпад не только против него5.
Идеи книги «Что такое философия?» по сию пору остаются
чрезвычайно актуальными, а потому порождают многочисленные оценки и
интерпретации. Так Б. Кассен расценила делёзовскую мысль о том, что
философия не ищет истину, а только создаёт «бесспорные» концепты, как
повод считать Делёза софистом6. Сам Делёз себя софистом не считал.
1 Там же. С 279.
2 «Для Делёза философия по сути своей представляет конструктивизм, включающий в силу
своей двойной природы одновременно и деятельность по созданию концептов, и установление
плана имманенции, противостоящего хаосу и конституирующего "твёрдую почву"
философии». (Lapporte Y Gilles Deleuze, l'épreuve du temps. P.: L'Harmattan, 2005. P. 92.)
3 Mac, ci о ri R. Une bombe sous la philosophie // Libératon. 1991.12 septembre.
4 Droit R.-P La creation des concepts // Le Monde. 1991.13 septembre.
5 См.: Deleuze G., Guattari F. Nous avons inventé la ritournelle // Le Nouvel Observateur. 1991.
Septembre. P. 109-110.
6 Cassin B. L'effet sophistique. P.: Gallimard, 1995. P. 19-20.
224
Часть ι. Древо
Он говорил, что ядром всякой деятельности для него является «идея».
Это понятие в данном случае свободно от платонической коннотации
и означает нечто определяющее оригинальность творчества.
Идеи есть не у всех, многие люди проживают без них всю жизнь, но
если идея появляется, она задаёт нечто яркое и оригинальное. Идеи не
стоит путать с концептами и с впечатлениями от произведений
искусства. Концепт создаёт новую мыслительную привычку и заставляет видеть
мир иначе; впечатление — это ситуация, когда переживание одного
человека становится достоянием других; идея связана с
взаимопревращением концептов и впечатлений.
В книгу «Что такое философия?» не вошли размышления Делёза,
связанные с психологией и нейрофизиологией. Свои мысли,
касающиеся этой области, он сформулировал в серии бесед с К. Парне. Идеи,
говорил он, никогда не проходят по уже заранее сформированным путям
и готовым ассоциациям. Две зоны головного мозга могут коммуници-
ровать через посредство синапсовых электрических процессов, однако
существуют и более сложные связи, проходящие через пустоты и
перерывы. В этом случае переходы совершаются в вероятностном режиме.
Всё это и составляет вопрос о том, что заставляет нас мыслить. Делёз
обращается к образу, уже обыгранному в книге о Лейбнице: в сознании
происходит тот же тип преобразований, что и при замешивании теста
хлебопёком: тот замешивает тесто, растягивает его, складывает, снова
растягивает и т. п. В результате две изначально близкие точки
оказываются удалены одна от другой, а те, что изначально были удалены,
оказываются рядом. Таким образом, Делёз считает молекулярную
биологию мозга более перспективной, нежели теория коммуникации. По той
же причине, кстати, он всегда предпочитал психиатрию психоанализу
(спиритуалистической психиатрии): психиатрия обращена к
неврологии и исследованиям мозга, а потому у неё больше шансов понять
происходящее в голове человека.
«Критика и клиника» стала последней книгой Делёза. Этот
сборник статей о литературе, часть из которых ранее уже была
опубликована, суммировал идеи, высказанные в «Кафке», «Тысяче плато» и других
книгах: «Клиника без психоанализа и интерпретации, критика без
лингвистики и означающего»1. Писательство интересует Делёза как «дело
Deleuze G., Parnet Cl. Dialogues. P. 142.
Глава 7. Как философствуют клиникой
225
становления», никогда не завершённое и всегда совершаемое. Этому
процессу даётся вполне эмпиристское и откровенно
антифеноменологическое определение: письмо «выходит за рамки любой обживаемой
или прожитой материи. Это процесс, то есть переход Жизни, идущей
через обживаемое и прожитое. Литература неотъемлема от становления:
в процессе письма становятся-женщиной, становятся-животным,
растением, становятся-молекулой вплоть до становления-неразличимым»1.
Основной темой стало изобретение в языке нового языка:
«откопать в языке своего рода иностранный язык, и столкнуть весь язык с
тишиной, раскачать его в тишине»2, «заставить язык кричать,
запинаться, лепетать, шептать — в нём самом»3. Когда в языке создаётся другой
язык, «иностранный», весь язык устремляется к «асинтаксическому»
или «аграмматическому» пределу. При этом, говорит Делёз, проблема
языка неотделима от проблемы видения и слушания. Предел
располагается не вне языка, но является его внеположностью, образуется внеязы-
ковыми видениями и слушаниями, возможность которых определяется
лишь самим языком. Новый язык, изобретаемый писателем внутри
старого, — это язык заикающийся, бормочущий, составляющий тело-речь.
Язык не располагает знаками, а приобретает их в акте созидания: один
язык действует в другом, порождая третий. Но породить другой язык
он может, лишь будучи подведён к своему пределу — вещи в её немоте.
«Вещь — это предел языка, как знак — язык вещи»4.
Делёз уже не раз говорил, что великие писатели — это
клиницисты своей эпохи. Теперь он также говорит, что писатель — не больной,
а врач самому себе и всему миру. А мир оказывается совокупностью
симптомов болезни, которая неотличима от человека. Писатель обладает
ницшевским «великим здоровьем», которое позволяет ему выживать,
проходя через опыт, при обычном здоровье невозможный. Его
«творческое косноязычие» позволяет языку пробиваться отовсюду,
уподобляться ризоме, пребывать в постоянной рассогласованности. Это
значит, что согласованность языка упорядочивается уже не формальным
поверхностным синтаксисом, а синтаксическим творчеством (синтак-
1 Делёз Ж. Критика и клиника. СП.
2 Там же. С. 102.
3 Там же. С. 149.
4 Там же. С 136.
226
Часть ι. Древо
сисом в становлении), устремляющимся к пределу который не является
ни синтаксическим, ни грамматическим. Это ничто иное, как стиль —
иностранный язык внутри языка. «Стиль — это экономия языка»1.
По свидетельству Р. Беллуа, последним проектом Делёза была так и не
написанная книга по проблеме виртуального, где философ намеревался
высказаться относительно логики Фреге и Рассела. Впрочем, сам Делёз
говорил о другой ненаписанной книге — книге о Марксе. Последней его
прижизненной публикацией стала статья «Имманенция: жизнь... »2.
Делёз был болен, больше не выходил из дома (лишь изредка
спускался вниз и прогуливался перед входом). Знакомым он говорил, что с тех
пор, как перестал двигаться, чувствует себя всё более и более
свободным3. Потом ему пришлось пользоваться дыхательным аппаратом, к
которому тянулась длинная зелёная трубка. Но, несмотря на аппарат, его
всё чаще настигали приступы удушья. Он настолько ослабел, что едва
мог встать на ноги. «Делёзианская загадка, — писал Ж.-П. Фай. — Это
философ "без лёгких" — но как мощно дышит... »4
Делёз вспоминал своего друга Франсуа Шатле, также умершего от
удушья, и не хотел проходить через такие же мучения. Он написал
Ноэль Шатле, что не хочет переживать то, что пришлось пережить
Франсуа. Но самым тяжёлым для него были не физические страдания, а
невозможность работать. Последнее лето он провёл в Лимузене, глядя на
свои любимые плато. В октябре 1995 г. он приехал из Лимузена в свою
парижскую квартиру, но состояние его было настолько плохим, что
даже самые близкие друзья не могли навестить его. Говорить по
телефону ему тоже было трудно. В субботу 4 ноября 1995 г. он выбросился из
окна своей квартиры.
Париж, 5 ноября 1995 г.: ужасная, ошеломляющая новость о
смерти философа Жиля Делёза, — пишет Р. Шерер. — Думаю, можно
говорить о философской смерти Жиля Делёза, которая навсегда останется
загадкой. Разумеется, в ней не было никакого отчаяния или «влечения
к смерти» — это выражение, сама идея «инстинкта смерти»,
пропагандируемая психоанализом, всегда представлялась ему нелепой и проти-
1 Там же. С. 153.
2 Deleuze G. L'Immanence: une vie... // Philosophie. P.: Minuit, 1995. septembre.
■ Droit R.-P Images-Deleuze // Deleuze épars. Ρ 53.
4 Faye J. P. Deleuze dos à dos et de face // Deleuze épars. P. 69.
Глава 7. Как философствуют клиникой
227
воречивой. Вся философия Делёза представляет собой гимн жизни,
утверждение жизни1.
10 ноября 1995 г. Делёз был похоронен в своём любимом Лимузене,
на кладбище Сан-Леонар-де-Нобла.
6 ноября в «Libération» P. Маджори написал, что Делёз был
философом из философов, мысль которого стала свежей струёй в атмосфере
XX века2.7 ноября газета предоставила слово друзьям и ученикам
философа. Ален Бадью опубликовал письмо, которое послал Делёзу в июле
1994 г.; Жан-Люк Нанси говорил об «остановке образа»,
произошедшей с исчезновением Делёза3; Жак Деррида написал, что отныне
чувствует себя совершенно одиноким, поскольку в этом поколении ближе для
него никого не было4. Л. Адлер посвятила Делёзу радиопередачу, в
которой участвовали Р. Маджори и Р.-П. Дрюа. В газете «Le Monde» этот
последний подчеркнул, что покойный философ всегда ставил знак
равенства между бунтом и мышлением5, тогда как Ж.-Ф. Лиотар говорил
0 важности создания «линий бегства»6. В том же номере был помещён
портрет Делёза, выполненный Ж. Фроманжером. К. Декамп подготовил
большой блок материалов, которые были напечатаны в «La Quinzaine
littéraire» в начале 1996 г.7 Ив Мабен здесь же рассказывал:
Как-то вечером я ужинал с ними [с Жилем и Фанни]. Я сказал Жилю,
что, согласно Бретону, к которому присоединяюсь и я, тех, кто даёт
своим ближним что-то необходимое, испокон веков считают святыми.
Поэтому я совершенно серьёзно считаю, что он — святой. Жиль
улыбнулся, и в этой улыбке насмешка соперничала с волнением. Тогда одним из
самых прекрасных жестов любви, которые мне доводилось видеть, Фани
протянула руки, схватила своими длинными тонкими пальцами руки
Делёза и сказала: Ив прав. Я тоже думаю, что ты — святой8.
1 Shérer R. Regards sur Deleuze. P.: Kimé, 1998. P. 10. Сходным образом П. Верстратен и Ж.
Симон видят в самоубийстве Делёза последнее «да», сказанное им жизни (Verstraeten P.,
Simont J. De l'aigle et chute profonde // Gilles Deleuze. P.: Vrin, 1998. P. 16.).
2 Maggiori R. Un courant d air dans le pensée du siècle // Libération. 1995.6 novembre.
3 Nancy J.-L. Du sens dans tous les sens // Libération. 1995.7 novembre.
4 Derrida J. Il me faudra errer tout seul // Libération. 1995.7 novembre.
5 Droit R.-P. La rebellion et l'intelligence d'un philosophe //Le Monde. 1995.7 novembre.
6 Lyotard J.-F. Le temps qui ne pas //Le Monde. 1995.10 novembre.
7 Descampes Ch. Pour Deleuze le minoritaire // La Quinzaine littéraire. 1996.1-15 février.
8 Mabin Y. Gilles, l'ami // La Quinzaine littéraire. 1996.1-15 février.
ЧАСТЬ 2. РИЗОМА
Великий мыслитель велик тем, что он в труде других
«великих» умеет уловить своим слухом их
величайшее и самобытно его претворить.
М. Хайдеггер, Ницше
Делёз говаривал, что делать что бы то ни было — значит удаляться
от этого. Занимаясь философией и оставаясь при этом в её пределах,
сам он от неё удаляется, выходит за её пределы. Философия нуждается
в понимающей её не-философии. Поэтому философия для него —
вовсе не создание абстракций, а весьма конкретная деятельность. Выход же
за пределы философии осуществляется средствами самой философии.
Таким образом, философия для Делёза не сводится к теории или к
литературному творчеству. Выражаясь платоновскими терминами, это не
только logos, но и ergon. «Мысль Делёза — скорее опыт жизни, чем
разума», — заметил Р.-П. Дрюа1.
«Следовало бы говорить не о делёзианской философии, ситуиро-
ванной где-то в панораме или в эпистеме эпохи, — заметил Ж.-Л. Нан-
си, — но о делёзианской складке мысли: знак, момент, габитус (но ни
в коем случае не характер (habit)), которые нельзя в той или иной
степени не разделять с этой мыслью — по крайней мере, когда мы мыслим
в или о настоящем (а не так, как те, кто всё ещё мыслит себя как часть
Просвещения, если не Академии). Сегодня нельзя мыслить, не приняв
что-то от этой складки, что вовсе не означает, будто необходимо
погрузиться в неё или что не существует самых разных способов принять эту
складку, сворачивать, разворачивать и вновь складывать её»2. Понять
логику Делёза — значит понять его философию, тот «смысл», который
пробегает по складке, носящей его имя.
В сознании его многочисленных (по)читателей существует два
Делёза. Один — историк философии, пользующийся весьма оригинальными
приёмами, и тем не менее, вполне академичный. Второй — свободный
1 Droit R.-P Saint Deleuze // La Compagnie des philosophes. P.: Odile Jacob, 1998. P. 301.
2 Nancy J.-L. The Deleuzian Fold of Thought // // Deleuze: A Critical Reader. Ed. P. Patton. P. 107.
Часть 2. Ризомл
229
мыслитель, который позволяет воображению унести себя так далеко,
как только возможно. Обе фигуры прекрасно уживаются друг с другом,
ибо что такое философия, как не история философии? И вторая
ипостась Делёза обращается к историко-философским штудиям едва ли не
с такой же частотой, как и первая. Поэтому &ля нас оказывается
чрезвычайна важна портретная галерея философских «предков» и ближайших
«родственников» Делёза. Казалось бы, все они на виду. «Спиноза,
Бергсон, Ницше: Христос, Отец и Святой Дух, — пишет Т. Мэй. — Они
создают три концепта, образующих треножник, на котором покоится
собственная философия Делёза: имманенция, длительность и
утверждение различия»1. Однако, несмотря на архизначимость для Делёза этой
троицы, у него много других, скрытых или явных, вдохновителей.
В своей книге о Ницше Делёз писал:
Современная философия являет собой смесь разнородного,
свидетельствующую о её энергии и живости, но несущую в себе и ряд
опасностей для духа. В ней — причудливое смешение онтологии и антропологии,
атеизма и теологии. Щепотка христианского спиритуализма,
щепотка гегелевской диалектики, щепотка феноменологии как современной
схоластики, горсточка ницшевских молний, сочетаемые в изменчивых
пропорциях, создают странные комбинации. Мы словно бы наблюдаем,
как Маркс и досократики, Гегель и Ницше, взявшись за руки, кружатся
в хороводе, знаменующем преодоление метафизики и даже, если назвать
вещи своими именами, смерть философии2.
Однажды А. Виллани спросил Делёза: «Вы философ или
метафизик?». «Нет, — отвечал тот, — я чувствую себя чистым метафизиком»3.
Действительно, сам стиль делёзовских сочинений насквозь
метафизичен. Вчитаемся, к примеру, в эти строки, отдающие каким-то поистине
средневековым перипатетизмом:
Мир — яйцо, и действительно, яйцо дает нам модель порядка причин:
дифференциация — индивидуация — драматизация — дифференсиация
(специфическая и органическая). Мы полагаем, что разница
интенсивности, как она имплицирована в яйце, выражает прежде всего дифферен-
1 May T. Gilles Deleuze. An Introduction. P. 69.
2 Делёз Ж. Ницше и философия. С 377.
3 Deleuze G. Réponses à une série de questions // Villani A. La Guêpe et l'Orchidée. Essai sur Gilles
Deleuze. P.: Belin, 1999. P. 130.
230
Часть 2. Ризомл
циальные связи как виртуальный материал актуализации. Это
интенсивное поле индивидуации побуждает выражаемые им связи воплотиться
в пространственно-временные динамизмы (драматизация), в
соответствующие этим связям виды (специфическая дифференциация), в
органы, соответствующие выдающимся точкам этих связей (органическая
дифференсиация). Индивидуация всегда управляет актуализацией:
органы вводятся лишь исходя из градиентов их интенсивного окружения;
типы точно определяются лишь в зависимости от интенсивности
индивидуации. Интенсивность везде первична по отношению к
специфическим качествам и органическим пространствам1.
Интересы Делёза были весьма многообразны. Это был поистине
блестящий эрудит, чья мысль легко проникала в специальные области
знания с их эзотерическим языком. Он легко оперировал
терминологий и концептами психоанализа, лингвистики, политической
экономии, математики, этнологии и т. д. И вместе с тем, он всегда оставался
философом.
В 1990 г. он писал Ж.-К. Мартену: «Я верю в философию как
систему. Для меня неприемлемо понятие системы, когда оно
соотносится с Тождественностью, Подобием и Аналогией... Я ощущаю себя
совершенно классическим философом. Для меня система должна быть не
просто вечной разнородностью, она должна быть гетерогенезом, чего,
как мне кажется, никогда не пытались достичь»2. Вместе с тем, как
справедливо замечают Г. Джонс и Дж. Рофф, «утверждать, что Делёз —
систематический метафизик, значит озвучивать ту самую фигуру, с которой
Делёзова мысль хотела покончить»3. Действительно, Делёз вписывается
в традицию классической философии, более того, в историю
метафизики, но это, по выражению П. Монтебелло, «другая метафизика», или,
точнее, «самая человеческая из метафизик космоса и самая космическая
из метафизик человека после коперниканской революции»4.
Делёз считал, что во второй половине XX века философские
системы не утратили своей жизненности. Системы вроде гегелевской кажут-
1 Делёз Ж. Различие и повторение. С. 305.
2 Martin J.-C Variations. La philosophie de Gilles Deleuze. P. 7.
3 Jones G., Roffe J. Introduction: Into the Labyrinth // Deleuzes Philosophical Lineage. Eds.
G.Jones&J.Roffe.PS.
4 Montebello P. LAutre Métaphysique. Bruxelles: DDB, 2003. P. 12.
Часть 2. Ризомл
231
ся нам безжизненными потому, что это системы закрытые. Открытые
же системы, отвергающие линейную причинность, имеют право на
существование и теперь. В открытой системе концепты соотносятся не
с сущностями, а с обстоятельствами. «Философская теория показывает
нам, чем являются вещи, чем им следовало бы быть — при том
допущении что вопрос поставлен правильно и строго. Поставить что-то под
вопрос означает подвести и подчинить вещи данному вопросу так,
чтобы — благодаря такому напряжённому и форсированному подведению
под вопрос — они раскрыли нам сущность или природу. Критика же
вопроса подразумевает показ того, при каких условиях вопрос
возможен и корректно поставлен; то есть, как вещи могли бы не быть тем, что
они есть, если бы вопрос отличался от сформулированного... В
философии вопрос и критика вопроса суть одно; или, если хотите, нет критики
решений, есть только критика проблем»1.
Делёз был эмпириком, но эмпириком весьма своеобразным. Он
считал, что «рационализм перенёс духовную определённость на внешние
объекты, изымая тем самым из философии смысл и понимаемость
практики и субъекта»2, что «разум не определяет практику: он
практически и технически недостаточен»3. Однако его приверженность опыту
имеет мало общего с сенсуализмом Локка или индуктивной
философией Бэкона. «Эмпиризм знает одни лишь события и Других... Его
сила начинается с того момента, когда он даёт определение субъекту»
как простой привычке говорить «Я»4. Поэтому следует, на наш взгляд,
признать правоту за утверждением Л. Р. Брайанта о том, что
«трансцендентальный эмпиризм Делёза следует понимать скорее как
гиперрационализм, нежели как эмпиризм»5. Вместе с тем, было бы ошибкой
считать Делёза рационалистом в традиционном значении этого
термина. Он далёк как от вульгарного эмпиризма, так и от идеализма.
«Логика смысла вдохновляет дух эмпиризма, — писал он. — Только
эмпиризм знает, как выйти за пределы видимостей опыта, не попадая в плен
Идеи, и как выследить, поймать, заключить, а может быть, и самому
1 Делёз Ж. Эмпиризм и субъективность. С. 112.
2 Там же. С. 19.
3 Там же. С. 23.
4 Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? С. 65.
5 Bryant L. R. Difference and Giveness. P. 9.
232
Часть 2. Ризомл
вызвать фантом на границе продолженного и развёрнутого до предела
опыта»1.
Многие исследователи акцентируют эмпиризм Делёза как
центральный и определяющий момент в его философии. Как замечает К. Коул-
брук, «эмпиризм Делёза — это эмпиризм Идеи, в котором сущность
Идеи актуализируется как таковая»2. Это эмпиризм, опирающийся
на безличный опыт, не являющийся собственностью переживающего
этот опыт субъекта. К тому же, пишет Ф. Шуле, « делёзианская
инициатива состоит в том, чтобы избавить эмпиризм от комплексов и
использовать его как боевую машину, как троянского коня против идеализма
и рационализма»3. И Гуссерль, и эпистемологи вроде Кавайе и Башля-
ра адресовали эмпиризму один и тот же упрёк: эмпиризм представляет
собой психологию восприятия, сопровождаемую теорией ассоциаций,
неспособную к акту создания понятий. Делёз эту трудность
игнорирует, на попросту заявляя, что философия — это изобретение и создание
концептов4. «Сложная география делёзианского плана имманенции, —
пишет Я. Лапорт, — предполагает "экспериментирование на ощупь", то
есть радикальный эмпиризм, отвергающий всякую попытку поддаться
очарованию простых ограничений возможного опыта, стремясь к
адекватности опыта реального»5.
«Трансцендентальный эмпиризм» стал своеобразным методом делё-
зовской философии, если здесь вообще уместно говорить о методе. Это
был способ преодолеть кантианство, а вернее — проторить новый путь,
по которому могло бы пойти посткантианство. Более того,
«трансцендентальный эмпиризм» стал проектом новой формы философии. «Мы
чувствуем, что больше не можем писать книги по философии на прежний
лад; они уже не интересуют ни студентов, ни даже тех, кто их пишет»6.
Всё творчество Делёза представляет собой поиск новой философии. Но
эта новая философия строится во многом из старого материала, который
1 Делёз Ж. Логика смысла. С. 40.
2 Colebrook С. Actuality // The Deleuze Dictionary. P. 10.
■ Choulet Ph. L'empirisme comme aperitif! Une persistance de Deleuze // Deleuze épars. P. 102.
4 См.: Choulet Ph. L'empirisme comme aperitif (une persistence de Deleuze) // Deleuze épars.
P. 94.
5 Lapporte Y. Gilles Deleuze, l'épreuve du temps. P. 85.
6 Deleuze G. Sur Nietzsche et l'image de la pensée / L'île déserte et autres texts. Textes et entretiens
1953-1974. P. 195.
Часть 2. Ризомл
233
Делёз заставляет служить на новый лад. Как замечает Д. Смит,
«несмотря на свою репутацию, Делёз не "против диалектики". В его философии
обнаруживается не отказ от диалектики, а, скорее, новое понимание
диалектики, разрыв с прежними концепциями, включая гегелевскую»1.
«Трансцендентальный эмпиризм» в конкретном применении
представляет собой «метод драматизации»: всякий философ создаёт свою
собственную философию, не пользуясь при этом никаким
общефилософским методом, но вступая в соревнование со своими
собственными «драматическими персонами». «Образ мысли» всякого философа,
по выражению Ницше, несвоевременен, в том отношении, что
состязаться приходится не с современниками, а с персонажами, возникшими
в разные эпохи. Более того, отношение философа к собственному
времени не может выводиться из контекста его современности. Так, Юм
борется с «иллюзиями», порождаемыми институциями и
«отношениями». Кант противостоит «трансцендентальной иллюзии». Сам
Делёз в «Различии и повторении» озабочен иллюзией «репрезентации».
Впрочем, можно не впадая в преувеличение сказать, что Делёз
продолжает кантианский проект в направлении преодоления
трансцендентальной иллюзии, благодаря чему только и становится возможен
радикальный эмпиризм2.
Но, несмотря на всё вышесказанное, Делёз никогда не был
систематическим философом. В его книгах присутствуют некие общие темы,
хотя терминология меняется от раза к разу. Эти общие темы можно
попытаться проследить. Так, Р. Боуг в своей замечательной книге «Делёз
и Гваттари» говорит, что на протяжении всего делёзовского
творчества неизменной остаётся идея активной положительной силы: в
книге о Ницше эта сила выступает как воля к власти, понимаемая в
аспекте физики становления; в книге о Прусте, «Различии и повторении»
и «Логике смысла» она располагается на метафизической поверхности,
составляемой сингулярными точками, отделёнными от бесформенных
глубин; в совместных с Гваттари книгах различение поверхностей и
глубин сохраняется, но обе области теперь существуют в едином измере-
Smith D. W. Deleuze, Kant, and the Theory of Immanent Ideas // Deleuze and Philosophy. Ed.
CVBoundas.P.44.
См.: Rajchman J. The Deleuze Connections. P. 34-35.
234
Часть 2. Ризомл
нии производства желания . Конечно, Р. Боуг совершенно прав, и с тем
же успехом можно было бы проследить делёзианское представление об
активной силе в книгах о Спинозе и Бергсоне. Но с неменьшим успехом
можно было бы говорить, к примеру, о постоянном присутствии в
творчестве Делёза идеи права, противопоставляемого закону, прослеживая
её в работах о Юме и о Захер-Мазохе, в совместных с Гваттари книгах
и в многочисленных интервью. Или, например, о бергсонианской ин-
туиции, отголоски которой также заметны повсеместно. А это значит,
что в творчестве Делёза нет какой-либо магистральной идеи или
концепции, вокруг которой выстраиваются все его тексты. Мы бы не стали
говорить в этом отношении даже о каком-либо постоянном комплексе
идей. Скорее, речь стоит вести о некой форме проблематизации, может
быть, даже о стиле проблематизации, присущем Делёзу.
ГЛАВА 1. ИСКУССТВО ЗАЧИНАТЬ МОНСТРОВ,
ИЛИ ДЕЛЁЗ КАК ИСТОРИК ФИЛОСОФИИ
Самобытного философа, дающего толчок дальнейшему развитию
мысли, открывающему для неё новые пути, по словам Ницше,
подхватывающего стрелу и пускающего её дальше, в новом направлении,
принято рассматривать как самодостаточную фигуру. При этом упускается
из виду, каким интересным историком философии был этот мыслитель.
Так было с Кантом, с Гегелем, с Хайдеггером. Так было и с Делёзом.
«... Все знают, что Делёз много писал о других философах, — замечает
Г. Ламберт. — Кое-кто мог бы даже сказать, что это его лучшие работы,
работы настоящего философа, в отличие от тех странных манифестов,
что он писал вместе с другим парнем»2.
Даже противники делёзианской философии знают, что Делёз —
прекрасный историк философии. Конечно, порой к его
историко-философским работам следует относиться с некоторой долей осторожности, но
виртуозность его работы и тонкость анализа несомненны. Он занял-
Bogue R. Deleuze and Guattari. P. 79-80.
Lambert G. The Non-Philosophy of Gilles Deleuze. P. X.
Глава 1. Искусство зачинать монстров...
235
ся историей философии во многом не по своей воле: в послевоенной
Франции произошло крушение прежних философских ориентиров,
а новая парадигма долго не могла сформироваться, поэтому
единственным достойным занятием представлялась именно история философии.
Вместе с тем, она позволяла отвернуться от насущных проблем в
сторону «вечной» философии, а потому представлялась Делёзу достаточно
реакционной областью знания — во всяком случае, та история
философии, которая существовала до него. В диалогах с К. Парне он говорил:
История философии всегда была агентом власти для философии
и для самой мысли. Она играла репрессивную роль: как можно мыслить,
не прочитав Платона, Декарта, Канта и Хайдеггера или ту или иную
книгу о них? Прекрасная школа запугивания, производящая специалистов
по мысли... Образ мысли, называемый философским, исторически
складывался как то, что мешает людям думать. Отношения философии с
государством исходят не только из того, что, с недавних пор, большинство
философов становятся «публичными преподавателями» (во Франции
и в Германии это понимается в совершенно различном смысле).
Отношения идут дальше. Дело в том, что мысль заимствует свой сугубо
философский образ у государства как поистине субстанциальной или
субъективной интериорности. Она изобретает чисто духовное государство,
абсолютное государство, которое вовсе не является мечтой, поскольку
действительно функционирует в сознании. Отсюда значимость таких
понятий, как универсальность, метод, вопрос и ответ, суждение, познание
или распознавание, верные идеи, неизменно верные идеи. Отсюда
значимость тем республики умов, изучения способности суждения, трибунала
разума, «права» мыслить, министров внутренних дел и функционеров
от мысли. Через философию реализуется проект выработки
официального языка для государства. Таким образом, занятие мышлением служит
целям реального государства, господствующих смыслов как требований
существующего порядка1.
Впоследствии, продолжает Делёз, ситуация изменилась: история
философии потерпела банкротство, поскольку государство больше не
нуждается в санкции со стороны философии. У истории философии
появились многочисленные конкуренты — гносеология, философия
истории, психоанализ и даже лингвистика в разное время или одновременно
Deleuze G., Parnet Cl. Dialogues. P. 19-20.
236
Часть 2. Ризомл
претендовали на это вакантное место. Все они также несут в себе
репрессивную функцию, и даже синтаксический маркер Хомского — это
маркер власти.
Таким образом, я начал заниматься историей философии в те
времена, когда она ещё навязывалась. Я не видел средства из неё выпутаться.
Я не следовал ни Декарту с его дуализмом и cogito, ни Гегелю с его
триадами и негативностью. Тогда я любил авторов, которые являлись частью
истории философии, но которые от неё так или иначе ускользали:
Лукреций, Спиноза, Юм, Ницше, Бергсон1.
Обратившись к философам, ускользающим от истории философии,
Делёз и сам стремился от неё ускользнуть. Прочерченные великими
философами прошлого линии бегства годились и для него. Эта, в
сущности, деконструктивистская стратегия позволяла ему обрести
собственный ракурс рассмотрения философских тем. «Делёз был пионером
деконструктивной техники прочтения философских текстов вопреки им
самим, — пишет П. Пэттон. — ...Однако такое критическое чтение он
всегда сочетал с концептуальной конструкцией и систематизацией»2.
Делёз говорил, что традиционная история философии абстрактна во
второй степени, поскольку представляет собой область формирования
абстрактных идей об абстрактных идеях. В результате оказывается, что
с философией это не имеет ничего общего, ведь философия не сводится
к абстрактным идеям. История философии для Делёза сродни
живописи, потому что, как и живопись, представляет собой искусство
портрета и пейзажа. Это искусство философского, умственного или духовного
портрета, всецело лежащее в рамках философии3.
Мы не допустим ошибки, если скажем, что Делёз прежде всего и по
1 Ibid. Р. 21.
2 Patton P. Introduction // Deleuze: A Critical Reader. P. 3.
3 «История философии не является дисциплиной, основанной на какой-то особой
рефлексии, — говорил Делёз. — Это, скорее, как искусство портрета в живописи. Это — портреты
ментальные, концептуальные. Как и в живописи, их следует сделать похожими, но для этого
нужно использовать другие средства, которые не представляют собой подобие оригиналу:
сходство должно быть создано, и не посредством воспроизведения (довольствуясь
пересказом того, что сказал философ)... История философии не должна повторять то, что сказал
какой-либо философ; она должна говорить о том, о чём он не говорил, но что, однако,
присутствовало в том, что он говорил». (О философии // Делёз Ж. Переговоры. С. 177.)
Глава 1. Искусство зачинать монстров... 237
преимуществу был историком философии. Это касается не только его
ранних работ о Юме, Канте, Спинозе, Бергсоне и Ницше, с
прибавлением поздней работы о Лейбнице, но и великих книг конца 1960-х гг. —
«Логики смысла» и «Различия и повторения», а равно и книг,
написанных в соавторстве с Гваттари. Делёз говорил о своём неприятии
авторов, заявляющих: сейчас я займусь философией и создам
собственную философскую систему. Это полная нелепость: нельзя создать ни
одного концепта, не говоря уж о системе, не научившись работать с
философским материалом. В этом отношении, по словам Делёза, философия
опять-таки сходна с живописью: прежде, чем начать работать с цветом,
надо научить рисунку карандашом и углем. Концепт — это и есть
философский цвет. Поэтому история философии представляет собой
необходимый подготовительный этап, без которого никакая философская
деятельность невозможна. Это та основа, которая всегда будет
составлять базис всякого мыслителя. Кроме того, история философии имеет
самостоятельную ценность как искусство портрета.
Делёз постоянно обращается к платоновской идее претендента:
претендент — это тот, кто говорит, что является лучшим примером.
Хотя Платон создал великий концепт идеи, его проблема вовсе не в том,
что представляет собой идея, а в том, как распонать среди претендентов
подлинного. Это и есть платоновская идея, т. е. чистое состояние,
разрешающее выбор. Таким образом, философия — это никоим образом не
абстракция. Занимаясь абстрактной философией, невозможно
разглядеть проблему, даже столкнувшись с ней нос к носу. Если не найти
проблему, которой соответствует концепт, всё становится абстрактным и,
по большому счёту, бессмысленным. Создающая концепты философия
всегда конкретна. Проблема отбора претендентов, которой
соответствует концепт идеи, — проблема типично греческая, характерная ^ля
демократического полиса, несмотря на то, что Платон презирал
афинскую демократию. Все общественные должности здесь являются
объектом притязаний со стороны равных граждан. В империи или при
тирании такой концепт не мог бы родиться, ^ля него нужна конкурентная
конституция. Задача историка философии — реконструировать
проблемы и тем самым обнаруживать новизну концептов1.
См.: Азбука Жиля Делёза. С. 43.
238
Часть 2. Ризомл
Проблематическое как таковое представляет собой модус события.
Не существует того, что можно было бы назвать проблематическим
событием; сами события имеют дело с проблемами и определяют их
условия. Само по себе событие является одновременно проблематическим
и проблематизирующим. Когда проблема определяется
выражающими её условия сингулярными точками, она не решается, а утверждается
в качестве проблемы. У проблемы всегда есть решение,
соответствующее задающим её условиям. Проблематическое — не субъективная
категория нашего знания и не то, что снимается эмпирически при
накоплении знаний. Когда решение снимает проблему, она остаётся в Идее,
которая связывает проблему с её условиями и конституирует генезис
решения. Таким образом, проблематическое оказывается
одновременно и объективной категорией познания, и объективным видом бытия,
поскольку оно характеризует идеальные объективности. Делёз
подчёркивает, что в этом представлении он следует Канту, который первым
стал рассматривать проблематическое не как преходящую
неопределённость, а как неустранимый горизонт всего, что происходит и является.
Если проблематическое — это модус события, то и о событии можно
рассуждать лишь в контексте определяемой им проблемы. События
необходимо рассматривать как развёрнутые в проблематическом поле
сингулярности, вокруг которых происходит отбор решений. В то время
как проблема задаётся соответствующими сериям сингулярными
точками, вопрос определяется случайной точкой, соответствующей
подвижному элементу, перемещающемуся между сериями. Так же как решения
не устраняют проблемы, а открывают присущие им условия, ответы не
подавляют вопросы, сохраняющиеся в самих ответах. А значит, всегда
существует такой аспект проблематизации, в котором проблемы
остаются без решений, а вопросы — без ответов.
Можно ли сегодня оставаться платоником или кантианцем?
Конечно, можно, считает Делёз, если мы обнаруживаем у Платона или у
Канта проблемы, актуальные в наше время. Проблемы не меняются со
временем, меняется их понимание. Поэтому становление мысли заставляет
нас мыслить иначе, чем это было во времена Платона или Канта,
появляются новые фигуры мысли и мыслительные процедуры. Если же
появляются новые проблемы, возникает потребность в новых концептах.
Поэтому все разговоры о «конце философии» — просто глупость. Кроме
Глава 1. Искусство зачинать монстров... 239
того, нельзя сказать, что какая-то философская концепция оказалась
ложной или неправильной. Ведь философия — не поиск истины (такой
поиск ни к чему не ведёт), а создание смыслов. « ...Философия должна
ставить проблемы, имеющие смысл, и создавать концепты, ведущие нас
к пониманию и решению проблемы»1.
Делёз всегда практиковал именно такой подход: он находил у
философов прошлого те проблемы, которые оказывались его собственными,
хотя и приобретшими в XX веке новое звучание. Быть последователем
великого философа, считал он, значит не быть его непосредственным
учеником, но работать над поставленной им задачей и развивать его
концепты. И вместе с тем, как выражался сам Делёз, он пытался создать
своего рода «количественную» философию, где каждый философ имел
бы собственное магическое число, соответствующее числу созданных
им концептов. При этом, независимо от делёзианской концепции,
каждый концепт должен соответствовать своей проблеме. Делёз говорил,
что занимается историей философии в том случае, если сталкивается
с концептом или проблемой, уже выработанными тем или иным
философом (так, обращаясь к проблеме выражения, он написал книгу о
Спинозе, выйдя на концепт складки — написал книгу о Лейбнице и т. п.);
когда же ему приходится ставить проблемы и создавать концепты,
которых прежде не было, он занимается «чистой» философией. Таким
образом, он не видел существенного различия между философией и
историей философии2.
Этим и определяется своеобразие Делёза как историка философии:
в каждом случае он ставит предельно конкретный вопрос и
рассматривает творчество того или иного мыслителя с точки зрения этого
вопроса. При таком подходе как раз и рождаются «монстры», о которых
говорил Делёз. Порой может показаться, что тот или иной вопрос не
подходит ^ая данного мыслителя. Но Делёза это мало смущает: давайте,
предлагает он, поставим перед ним именно такую проблему и
посмотрим, как он с ней справится. Разумеется, проблемы не могут выбираться
произвольно. Здесь Делёз следует Марксову принципу: следует ставить
лишь такие проблемы, для которых могут быть найдены решения. Та-
Там же. С. 45.
См.: Там же. С. 74.
240
Часть 2. Ризомл
ким образом, Делёз не навязывает философам, к творчеству которых он
обращается, ничего лишнего: они говорят лишь то, что могут сказать,
хотя, быть может, и не всегда то, что сказали в реальности. Делёз —
реалист, а не номиналист или позитивист.
Историко-философское исследование зачастую соблазняет
исследователя считать, что, раз уж объект его исследования обращается к тому
или иному великому философу, можно считать доказанным влияние на
его мысль этого последнего. Отчасти это верно, но лишь отчасти. В
случае Делёза нужно быть более осторожным, поскольку он имел
обыкновение вести диалог с любыми «претендентами», и не все из них были
ему друзьями. «Руководящим принципом Делёзовых комментариев
к другим философам можно считать фразу "скрывайте своих друзей,
но знайте своих врагов", — пишет Г. Флаксман. — В то время как
своих философских друзей Делёз зачастую трактует в непривычной и
порой недоброжелательной манере, словно бы они были ему чужими
(философски гладко выбритый Маркс), к врагам он неожиданно приветлив,
выказывая к ним некую близость, непосредственность и даже
имманентность, превращающую их в его домочадцев и собратьев по мысли»1.
Такими собратьями-врагами j^aä Делёза были прежде всего Платон
и Кант. Безусловно, американский исследователь прав насчёт врагов
и друзей, хотя порой Делёз совершенно открыто говорит, что Ницше
ему друг, а Гегель — враг. Однако здесь может скрываться и некая
хитрость, ведь Делёз — лукавый философ. Быть может, у него вовсе нет ни
друзей, ни врагов, а есть только те, с кем он конкурирует, будучи одним
из философов-претендентов, а деление на врагов и друзей
объясняется тактическими приёмами. Ведь кого-то можно ниспровергнуть,
нанеся удар в лоб, а кому-то (прежде всего, колоссальной фигуре Платона)
любые удары нипочём, и тогда Делёзу приходится применять тактику
маневрирования, а то и партизанской войны. А действуя в тылу
противника, не становится ли сам Делёз «двойным агентом»? Он свой среди
чужих и чужой среди своих, но на кого же он работает?
Как замечает Ф. Гро, «понять автора для Делёза — это значит его
некоторым образом обосновать... это значит выявить метафизику, при-
Flaxman G. Plato // Deleuzes Philosophical Lineage. Eds. G.Jones & J. Roffe. P. 8.
Глава 1. Искусство зачинать монстров...
241
сущую его творчеству»1. В соответствии с герменевтическими
принципами Делёз рассматривает творчество того или иного философа в его
собственном контексте, избегая преувеличений или анахронизмов,
неизбежно возникающих в тот момент, когда историк философии
принимает того или иного автора минувших времён за своего современника.
И в то же время, Делёз не ограничивается структурным анализом
философских текстов. Понимание оказывается центральным моментом и
основной целью его герменевтики. Впрочем, в этом не было бы ничего
необычного, если бы Делёз ограничивался такими традиционными для
герменевтики XX века процедурами. Он делает гораздо больше.
В книге «Что такое философия?» Делёз и Гваттари заявили, что
философия — это искусство создавать концепты. Так что история
философии — это не что иное, как история создания концептов. Можно видеть,
как занимается такой историей философии Делёз, обращаясь к
созданному Ницше концепту священника. Ницше часто обвиняют в
антисемитизме. Однако это чересчур поспешное суждение. Нужно внимательно
посмотреть, в чём обвинял евреев немецкий философ. А обвинял он их
в изобретении прежде небывалого образа священника. В то время как
другие социальные формации знали магов и жрецов, евреи придумали
фигуру священника. Христианство изобрело другой тип священника,
но характер его сохранился. У Ницше этот концепт становится
инструментом для изложения фундаментальных проблем власти и воли к
жизни. Еврейский священник, чьи козни разоблачает Ницше, появился из
представления о связанности всех людей неким долгом. Евреи говорили
о долге перед Богом, а христиане связали его с первородным грехом.
Этот феномен возрождается вновь и вновь. Психоаналитик — ничто
иное как вариация всё той же фигуры священника. Таким образом,
выявляя концепт, мы можем не только обнаружить соответствующую ему
проблему, но и увидеть философию как предельно конкретную мысль.
С точки зрения, избранной Делёзом (здесь, опять-таки, работает его
метод трансцендентального эмпиризма), всякая философия
несвоевременна, поскольку никогда не сводится к набору идей, жёстко связанных
с конкретной эпохой или исторической ситуацией. Конечно, было бы
ошибкой рассматривать философов прошлого как наших современ-
Gros F. Le «Foucault» de Deleuze: une fiction métaphysique // Philosophie. 1995. № 47. P. 54.
242
Часть 2. Ризома
ников, но не меньшей ошибкой было бы считать их «старыми», а то
и «устаревшими». Философия, если это действительно философия,
никогда не устаревает, а значит, всякое новое время может и должно
обращаться к ней. « ...В действительности философия не разделяется на
эпохи, не вписывается в диалектические или герменевтические круги;
она не противостоит нам как Судьба Запада или Универсальная
История, — комментирует Дж. Рейчмен. — Нет сильного аргумента,
благодаря которому одна сторона одерживает победу над другой, или
"дебатов", преобразующих новые идеи в общепринятые, так что то, что сейчас
является новым или исключительным, впоследствии принимается
всеми. Скорее, следует признать, что новое в философии новым и
остаётся, — такова "paidea" изучения прежних философов, показывающая, что
в них всё ещё ново»1. Это то, что Фуко назвал «философским театром»
Делёза: концептуальные персонажи прошлого выступают всякий раз
в новых обличьях.
Для Делёза философия не привязана ни к какой эпохе или
географическому региону. Всем известно, что западная философия родилась в
демократических полисах Древней Греции. Однако не стоит считать это
«началом», ведь «начала» и «самого первого раза» вовсе не
существует, есть лишь «вечное возвращение». Философия никогда не
начинается и никогда не кончится, она возвращается в обличье, которое является
одновременно и прежним, и иным. У неё нет родины, скорее, у неё есть
атмосфера, в которой она рождается — атмосфера творчества и любви
к жизни. А кроме того, атмосфера соперничества: Делёз непрестанно
обращается к образу претендентов, друзей, соперничающих между
собой. В этом соперничестве он видит средство от господства Закона,
идеального государства, первоначального договора и т. п. Как выражается
тот же Дж. Рейчмен, Делёз стремится освободить «фило» философии
от необходимости тем или иным образом идентифицировать себя или
соотнести с каким-то законом более высокого порядка.
Делёз склонен находить у своих бесчисленных предшественников
свои собственные концепты. Так, например, философами повторения
оказываются Ницше и Хайдеггер2, Дарвин и Фрейд3, Бергсон оказыва-
1 Rajchman J. The Deleuze Connections. P. 39.
2 Делёз Ж. Различие и повторение. С. 247-248.
3 Там же. С 302.
Глава 1. Искусство зачинать монстров...
243
ется философом виртуального, да и чуть ли не вся философия последних
столетий предстаёт как философия складки. В этом нет никакой
натяжки: Делёз ищет не просто концепты, а проблематизации.
В 1972 г. он дал подробное объяснение своих
историко-философских штудий:
Я принадлежу к поколению, к одному из последних поколений,
которое в той или иной мере было истерзано историей философии. История
философии выполняет в самой философии очевидную репрессивную
функцию; это, собственно говоря, философский Эдип: «Ты не можешь
рисковать и не можешь говорить от своего имени, поскольку не прочитал
того и этого, и этого о том, и того об этом». Что касается моего
поколения, то многие от этого комплекса так и не избавились, а остальные
изобретали свои собственные методы и новые правила, новую тональность.
Что касается меня, то я долгое время «занимался» историей философии,
читал о тех или иных авторах. Но я достигал компенсации различными
способами... Я избавился от комплекса благодаря, как я полагаю,
представлениям об истории философии как о процессе духовного соития или,
что то же самое, непорочного зачатия. Я воображал, что подкрадываюсь
к какому-то автору сзади и что мы зачинаем с ним ребёнка, который был
бы похож на него и вместе с тем родился бы монстром. Очень важно,
чтобы это был именно его ребёнок, ибо автор реально должен был сказать
всё то, о чём я его заставлял говорить. Но было также необходимо, чтобы
ребёнок был монстром, потому что нужно было пройти все виды
смещений, скольжений, изломов, тайных выделений, которые доставляли мне
огромное удовольствие1.
Такая историко-философская содомия оказывается чрезвычайно
плодотворной. Делёз действительно зачинает монстров: Юм, Спиноза
или Бергсон его текстов одновременно и похожи на своих прототипов,
и отличаются от них каким-то порой неуловимым «уродством». Делё-
за нельзя упрекнуть в неаккуратном обращении с классическими
авторами или в превратном их толковании. И тем не менее, тех философов,
0 которых он пишет, в его изображении узнать порой нелегко.
Вместе с тем, Делёз оказывается блестящим портретистом.
Прислушаемся к тому, как он описывает, к примеру, Лейбница, в одном
предложении умещая едва ли не исчерпывающую характеристику философа:
1 Делёз Ж. Письмо суровому критику / Переговоры. С. 16-17.
244
Часть 2. Ризомл
Парик придворного — это фасад и лазейка, нечто вроде зарока не
задевать общепринятых чувств, и искусство представлять свою систему
с той или иной точки зрения, в том или ином зеркале, сообразно
предполагаемому уму какого-нибудь адресата переписки или стучащего в дверь
оппонента, — тогда как сама Система находится в вышине и вращается
вокруг себя, совершенно ничего не теряя от компромиссов с низом,
секрет которого она держит в себе; она, напротив, принимает «со всех
сторон наилучший из миров» ради самоуглубления или создания ещё одной
складки; она — в комнате с запертыми дверьми и замурованными
окнами, куда заточил себя Лейбниц со словами: «Вселенная всегда одна и та
же, с точностью до степени её совершенства»1.
Но самое интересное, на наш взгляд, в делёзовской истории
философии — это его способность представлять философский процесс как
драматическую жизнь концептов и их создателей. Барокко — это
эпоха крушения мира, которую адвокат Лейбниц предельно точно
реконструирует и соотносит с принципами, способными этот мир
оправдать. Лейбниц — адвокат Бога, к которому через серию и множество
восходит мир; он вызывает в суд свидетелей (монады) и, опираясь на
их показания, добивается оправдательного приговора.
Но дело в том, что изучаемый философ у Делёза принимается
говорить языком, прежде ему не свойственным. Или, как заметил Ж.-К.
Мартен, «у Делёза всякая философская эпоха начинает спотыкаться,
заикаться»2. А заикание, как считает Делёз, и есть признак стиля.
Делёз далёк от французской традиции эпистемологии, даже от фу-
кольдианской генеалогии с её «счастливым позитивизмом». Он
предлагает нечто иное — радикальный эмпиризм, позволяющий выявить
имманентное поле опыта, которое с предельной скоростью пробегают
пространственно и хронологически, казалось бы, удалённые друг от
друга идеи и концепты.
Умственный пейзаж не меняется на протяжении веков как придётся:
если ныне плоская и сухая почва являет тот или иной вид и текстуру —
значит, ещё недавно здесь возвышалась гора, а там протекала река.
Правда, на поверхность могут выходить и очень древние пласты, пробиваясь
сквозь покрывшие их образования и непосредственно воздействуя на
1 Делёз Ж. Складка. Лейбниц и барокко. С. 60.
2 Martin J.-С. Variations. La philosophie de Gilles Deleuze. P. 159.
Глава 1. Искусство зачинать монстров ... 245
нынешний пласт, которому они сообщают новую кривизну. Более того,
в разных областях плана напластования могут быть неодинаковыми и
чередоваться в различном порядке. Таким образом, философское время —
это время всеобщего сосуществования, где «до» и «после» не
исключаются, но откладываются друг на друга в стратиграфическом порядке.
Это и есть бесконечное становление философии, которое пересекается
с её историей, но не совпадает с нею. Жизнь философов и наиболее
внешние моменты их творчества подчиняются обычным законам временной
последовательности; однако их имена сосуществуют между собой и
блистают либо путеводными звёздами, помогающими нам вновь и вновь
проходить по составляющим концепта, либо направляющими ориентирами
того или иного пласта или страницы; их свет не перестаёт доходить до
нас, подобно свету угасших звёзд, ещё ярче чем прежде. Философия —
это становление, а не история, сосуществование планов, а не
последовательность систем1.
Всю историю философии Делёз предлагает рассматривать как
учреждение того или иного плана имманенции. Впрочем, к большей части
философии, признаёт он, это оказывается неприменимо, поскольку им-
маненцию вечно приписывали чему-то — то Материи, то Духу. Так,
например, у Платона имманентность имманентна Единому ( « то есть на то
Единое, в котором простирается и которому присваивается
имманентность, накладывается другое Единое, на сей раз трансцендентное»2).
При этом смешиваются план и концепт, так что сам концепт
оказывается трансцендентной универсалией, а план — его внутренним
атрибутом. В христианской философии полагание имманентности подавлялось
требованием эманативной и креативной трансценденции. Декарт, Кант
и Гуссерль стали толковать план имманентности как поле сознания;
имманентность у этих философов стала имманентной чистому сознанию,
т. е. мыслящему субъекту. «Можно считать, что имманентность — это
актуальнейший пробный камень любой философии, так как она берёт
на себя все опасности, с которыми той приходится сталкиваться, все
осуждения, гонения и отречения, которые та претерпевает»3. Таким
образом, проблема имманентности носит не абстрактный, а самый что
Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? С. 77-78.
Там же. С. 60.
Там же. С. 61.
246
Часть 2. Ризомл
ни на есть конкретный характер: она поглощает мудрецов и богов, дело
с ней может иметь только философ. Имманентность, подчёркивает
Делёз, имманентна только самой себе; она вбирает в себя всё, не оставляя
ничего, чему она могла бы быть имманентна.
Задним числом Делёз был склонен приписывать поиски множества
в плане имманенции даже своим ранним историко-философским
работам. В 1988 г. он говорил:
Составить план имманенции, исследовать поле имманенции — все
авторы, которыми я занимался, делают это (даже Кант, когда он разоблачает
трансцендентное использование синтезов, но он исходит из возможного
опыта, а не из реального эксперимента). Абстракция ничего не объясняет,
её саму следует объяснить: нет ни универсального, ни трансцендентного,
ни Единого, ни субъекта (ни объекта), ни Разума, есть только процессы,
которые могут быть процессами унификации, субъективации,
рационализации, но ничем более. Эти процессы происходят в конкретных
множествах, именно множество является тем началом, где что-то
происходит. Именно множества населяют поле имманенции, подобно тому как
племена населяют пустыню, но она не перестаёт быть пустыней. И план
имманенции должен быть построен, имманенция — это конструктивизм,
и всякое значимое множество является частью этого плана1.
Впрочем, говоря так, Делёз не подвергал ревизии свои ранние
работы: их действительно можно рассматривать с такой точки зрения.
Многие исследователи расценивают историко-философскую
деятельность Делёза как источник его собственной философии. Выводить
трансцендентальный эмпиризм Делёза из его внимательности к
творчеству Дэвида Юма уже стало общим местом. Поскольку же
трансцендентальный эмпиризм оказывается центральным методом делёзианской
философии, здесь же усматривают истоки концепта желания.
Шотландец Брент Эдкинс, напротив, находит истоки делёзо-гваттарианской
концепции желающих машин в спинозизме. Желание у Спинозы,
говорит он, выступает причиной и способом сохранения или
распространения человеческого существования. Это никоим образом не результат
недостаточности в каком бы то ни было отношении, но средство
выстраивать новые связи2. Это и есть, как утверждает Эдкинс, «производство
1 О философии / Делёз Ж. Переговоры. С. 190.
2 Adkins В. Death and Desire in Hegel, Heidegger and Deleuze. P. 11 -12.
Глава 1. Искусство зачинать монстров...
247
желания», о котором идёт речь в «Анти-Эдипе». «Делёз и Гваттари
утверждают здесь не то, что желания не возникают из недостатка, но что
отношение между желанием и недостатком вторично и предполагает
продуктивную работу желания»1.
Всё это совершенно верно, однако те концепты, которыми
пользуется или которые изобретает сам Делёз, хотя и имеют конкретную
генеалогию, всегда обладают своей собственной физиономией, так что
вывести их напрямую из творчества того или иного философа прошлого
ещё не значит полностью определить их. Найти концепт у другого
философа — значит заново изобрести его. Поэтому все концепты,
которыми пользуется Делёз, принадлежат именно ему.
Теперь нам предстоит окинуть взором бестиарий созданных Делё-
зом монстров. Незачем повторять то, о чём уже шла речь в первой
части книги. Мы взглянем на те генеалогические линии, что пронизывают
творчество Делёза, сосредоточившись лишь на некоторых персонажах,
особенно значимых для его мысли.
§ 1.1. Низвержение платонизма
«Какая философия не пыталась низвергнуть платонизм?», —
патетически восклицал Мишель Фуко2. И добавлял, что ниспровержение
платонизма затеял даже не Аристотель, а сам Платон. Таким образом,
Делёз продолжает длинный ряд таких ниспровергателей. Философская
природа всякого дискурса, по Фуко, заключается в его «платоническом
дифференциале» — элементе, который отсутствует в платонизме, но
присутствует в других философиях. Точнее, «это тот элемент, в
котором эффект отсутствия вызван в платонической серии новой и
расходящейся серией»3.
В «Различии и повторении» Делёз писал: «Задача современной
философии была определена: низвержение платонизма»4. Не стоит
понимать это в том смысле, что Делёз намерен ниспровергнуть Платона: во-
первых, он низвергает не Платона, а расхожий платонизм, во-вторых,
1 Ibid. Р. 133.
2 Фуко M. Theatrum philosophicum. С. 441.
3 Там же. С. 442.
4 Делёз Ж. Различие и повторение. С. 82.
248
Часть 2. Ризомл
он признаёт не только неизбежность, но и желательность сохранения
многих черт платонизма. Платонизм — это система мысли,
подчиняющая различия Единому, Аналогичному, Подобному или
Отрицательному. У Платона идея ещё не становится понятием объекта, подчиняющим
бытие требованиям репрезентации; скорее, это чистое присутствие,
непредставимое в вещах. Диалектика различия у Платона действует без
среднего термина. В этом сила платоновского разделения, диэрезы,
работающего на философию различия. Ошибочно понимать платоновское
разделение с точки зрения Аристотеля, для которого это всего лишь
разделение рода на противоположные виды, которому недостаёт основания.
Однако платоновское разделение, говорит Делёз, лишь внешне,
иронически направляется на определение видов некоторого рода, будучи не деле
не спецификацией, но отбором. Поэтому речь у Платона идёт о чистом
понятии различия, а не об опосредованном различии в понятии.
Единственная проблема, проходящая через всю философию Платона
и определяющая классификацию наук и искусств, это вечное
соизмерение соперников, отбор претендентов, различение вещи и её симулякров
в недрах псевдо-рода или крупного вида. Речь идёт о проведении
различия — то есть о действиях в глубинах непосредственного, о диалектике
непосредственного, опасном испытании без путеводной нити и без
сетки. Ведь согласно античному обычаю, обычаю мифа и эпопеи, ложные
претенденты должны умереть1.
Как только разделение сбрасывает маску спецификации, оно
предстаёт игрой мифа. Миф представляет онтологическую мерку, по
которой оцениваются претенденты. Неоплатоники верно разглядели, что
цель разделения заключается не в различении видов по объёму (как
представлялось Аристотелю), а в установлении диалектики рядов.
Стремление ниспровергнуть платонизм, восславив царство
симулякров, приводит Делёза к идеям П. Клоссовски, так же, как и он,
придававшему онтологический смысл ницшевскому «вечному возвращению».
Согласно Клоссовски, «вечное возвращение» означает, что каждая
вещь существует лишь возвращаясь как копия копий, не оставляющих
места ни оригиналу, ни истоку. Поэтому «вечное возвращение» ква-
Там же. С. 84.
Глава 1. Искусство зачинать монстров...
249
лифицирует всё бытийствующее (возвращающееся) как симулякр.
Симулякр, оказывается формой сущего, а «вечное возвращение» — его
силой. Симулякр включает в себя условия своего собственного
повторения. Он схватывает «несхожесть» вещи, лишая её ранга образа.
Платонизм вообще представляется Делёзу навязчивой идеей
западной философии: от Платона до Декарта, Фихте и Гегеля
просматривается переход от отмеченной «неуверенностью» (сомнением) начальной
точки к императиву морального порядка, причём «такое соединение ги-
потетизма и морализма, сциентистского гипотетизма и
рационалистского морализма, видоизменяет то, чего касается»1. Но самое скверное, на
делёзовский взгляд, у Платона то, что он учреждает особый тип
трансцендентности, которая осуществляется и обретается в поле
имманентности. Современная философия следует Платону в том отношении, что
ищет трансцендентность внутри самого имманентного. «Отравленный
подарок платонизма заключается в том, что он ввёл трансцендентность
в философию, придал трансцендентности правдоподобный
философский смысл... Всякое противодействие платонизму — это
восстановление имманентности во всей её протяжённости и чистоте,
препятствующей возврату трансцендентного»2. Избежать же платонизма удаётся
лишь философам чистой имманентности — стоикам, Спинозе и Ницше.
В платоновской диалектике, говорит Делёз, совокупность
инстанций задачи и вопроса играет столь же важную роль, какую в гегелевской
диалектике играет отрицательное. Тезис «Софиста» Делёз предлагает
понимать следующим образом: «"не" в понятии "не-бытие" выражает
нечто иное, чем отрицательное»3. Это то различие, которое соотно-
Там же. С. 242.
Делёз Ж. Критика и клиника. С. 184.
«В этом вопросе заблуждение современных теорий состоит в навязывании сомнительной
альтернативы: когда мы стремимся предотвратить отрицательное, то мы, показав, что "бытие"
есть полная положительная реальность, не допускающая никакого небытия, объявляем себя
удовлетворёнными; и наоборот — когда мы стремимся обосновать отрицание, мы
удовлетворены, если удаётся установить в бытии или в связи с бытием какое-либо не-бытие (нам
представляется, что это не-бытие — бытие с необходимостью отрицательного или обоснование
отрицания). Итак, альтернатива заключается в следующем: либо не-бытия нет, и отрицание
иллюзорно и необоснованно; либо не-бытие есть, оно вносит в бытие отрицание и
обосновывает отрицание. Тем не менее, у нас, быть может, есть основание сказать одновременно, что
"небытие" есть, но отрицательное иллюзорно». (Делёз Ж. Различие и повторение. С. 87.)
250
Часть 2. Ризомл
сит бытие и вопрос; Делёз называет его «щелью», «зиянием»,
онтологической «складкой». Бытие — это само различие. Бытие — также
и небытие, но небытие есть не бытие отрицательного, но бытие
проблематичного. Отрицание же — лишь тень различия. «По ту сторону
противоречия — различие, по ту сторону не-бытия — (не)-бытие, по ту
сторону отрицательного — задача и вопрос»1.
Делёз говорит о четырёх ликах платоновской диалектики: отбор
различия, учреждение мифического круга, установление обоснования и по-
лагание комплекса вопрос/задача. Платонизм подчинён идее различения
«самой вещи» и симулякров: «Вместо того, чтобы мыслить различие
в нём самом, он сразу относит его к обоснованию, подчиняет
одинаковому и вводит опосредование в мифической форме»2. Опровергнуть
платонизм — значит отвергнуть примат оригинала над копией,
образца — над образом, восславив царство симулякров и отражений. Высшая
цель платоновской диалектики заключается в том, чтобы проводить
различие между образцом и копией (но не между вещью и симулякром).
«Вещь — это сам симулякр, симулякр — это высшая форма; трудность
для каждой вещи состоит в достижении своего собственного симуля-
кра, его состояния знака, согласованного с вечным возвращением»3.
У Платона «вечное возвращение» противопоставляется хаосу, но в
реальности, говорит Делёз, сила утверждается посредством самого
хаоса, так что Платону следовало бы самому опровергнуть платонизм.
«... Быть может, величайший вклад Делёза в дело ниспровержения
платонизма состоит в понимании того, что платоновская Идея не просто
противостоит образу, а поистине имеет его своим основанием... », —
пишет Г. Флаксман4. Более того, порядок образов утверждает различие
не в противопоставлении оригинала и копии; сам образ представляет
собой различие без оригинала.
1 Там же. С 88.
2 Там же. С. 90.
3 Там же. С 91.
4 Flaxman G. Plato // Deleuzes Philosophical Lineage. Eds. G.Jones & J. Roffe. P. 14. «В конце
концов, Делёз обращается к Платону не только затем, чтобы опрокинуть приоритетность
и силу Идеи, но для того, чтобы демистифицировать власть Идеи выносить приговор
претендентам, так что великий платоновский дуализм Идеи и образа, модели и копии исчезают во
тьме». (Ibid. Р. 23.)
Глава 1. Искусство зачинать монстров... 251
Впрочем, всё это уже есть у Платона: платоновский дуализм,
говорит Делёз в «Логике смысла», — вовсе не дуализм
интеллектуального и чувственного, т. е. идей и тел. Скорее, это двойственность,
скрытая в самих чувственных телах — «подземный дуализм между тем, на
что Идея воздействует, и тем, что избегает её воздействия»1. Различие
здесь проходит не между моделью и копией, но между копиями и симу-
лякрами. Симулякр избегает воздействия идеи и ставит под удар как
модели, так и копии. На изнанке того порядка, который накладывает на
вещи идея, действует безумная стихия симулякров — область чистого
становления, связанного с языком: неуправляемый дискурс постоянно
скользит по своему референту.
Если даже сам Платон не ниспровергает платонизм, он оставляет
лазейку, которой пользуются для его ниспровержения стоики: у
Платона в глубине вещей всегда сохраняется нечто избегающее
воздействия идей — копии и симулякры. Это «нечто» у него «никогда не
спрятано как следует, не убрано, не задвинуто в глубь вещей, не
затоплено в океане»2. Поэтому стоикам легко удаётся вернуть его к
поверхности. Речь теперь идёт не о симулякрах, а об эффектах, понимаемых
в причинном смысле.
То, что, избегая воздействия Идеи, выбирается на поверхность, на
бестелесный предел, представляет теперь всякую возможную
идеальность, причём последняя лишается своей каузальной или духовной
действенности. Стоики открыли поверхностные эффекты.
Симулякры перестают быть подпольными мятежниками и производят большую
часть своих эффектов... Самое потаённое становится самым явным3.
Этой лазейкой пользуется и сам Делёз, который, по выражению
Г. Флаксмана, «проскальзывает в платонизм подобно тем греческим
лукавцам, что представляются неотличимыми от "настоящих"
философов, примазываясь к их логической, рациональной или моральной
машинерии»4.
1 Делёз Ж. Логика смысла. С. 16.
2 Там же. С. 23.
3 Там же. С. 24.
4 Flaxman G. Plato // Deleuzes Philosophical Lineage. Eds. G.Jones & J. Roffe. Ρ 9.
252
Часть 2. Ризомл
Ниспровержение платонизма заключается в замене сущностей
событиями как потоками сингулярностей, а вовсе не упразднением в едином
жесте как мира сущностей, так и мира явлений. Ведь и сама диалектика
Платона не сводится к диалектике противоречий или
противоположностей, но, скорее, является диалектикой соперничества. Её мотивация
лежит в платоновской диерезе, но сутью этого деления оказывается не
разбиение на виды, а отбор по происхождению. В «Софисте», говорит
Делёз, Платон обнаруживает, что симулякр — это не просто ложная
копия, но то, что ставит под вопрос само представление о модели и копии.
Таким образом, Платон сам указал путь низвержения платонизма,
которым не преминул воспользоваться Делёз.
Различие, говорит он, перемещается между двумя типами
образов — копиями и симулякрами. Если копии — это эйконы,
претендующие на близость к идеям, то симулякры — это фантазмы, на такую
близость не претендующие, т. е. являющиеся «ложными претендентами».
Копия представляет собой образ, наделённый сходством, тогда как
симулякр — это образ, сходства лишённый. Платонизм состоит в
подавлении симулякра и обеспечении победы копии. (Делёз ссылается на
сходную мысль Деррида, который говорит об империализме логоса,
претендующего властвовать над письмом.) Платонизм господствует
в христианской мысли: Бог создал человека по своему образу и
подобию; согрешив, человек утратил подобие, сохранив образ и тем самым
превратившись в симулякр1.
Низвержение платонизма, к которому стремится Делёз,
заключается в том, чтобы позволить симулякру «подняться к поверхности и
укрепить свои права среди икон и копий»2, показав, что симулякр — это
не деградировавшая копия, но отрицание и модели, и копии. Это
позволяет устранить представление о существовании привилегированной
точки зрения или общего со всех точек зрения объекта. «Неиерархизи-
рованное творение представляет собой сгусток сосуществований и
одновременность событий»3. Симуляция представляет собой фантазм
в чистом виде, эффект машинерии симулякра. Симулякр делает невоз-
Делёз Ж. Платон и симулякр / Логика смысла. С. 335.
Там же. С 341.
Там же. С. 342.
Глава 1. Искусство зачинать монстров...
253
можной чёткую дистрибуцию и всякую устойчивую иерархию. Вместо
этого он конституирует мир номадических дистрибуций и
«торжествующей анархии». Не будучи сам по себе основанием, он поглощает все
основания, вызывая «всеобщий крах... как радостное и позитивное
событие, как некую без-основность»1.
Все эти жесты, направленные на «ниспровержение платонизма»,
призваны обозначить новую модификацию философской мысли. Как
замечает Б. Box, платоновские сущности были фиксированными и
трансцендентными, реальными, но идеальными, абстрактными и
инвариантными. Опираясь на Спинозу, Делёз утверждает сущности подвижные
и имманентные материальным вещам, реальные и материальные,
конкретные и вариабельные. «Поскольку сущности у Делёза не идеальны,
инвариантны или универсальны, они представляют собой
противоположность тому, что говорят о сущностях платонизм или эссенциализм»2.
В своём учении о сущностях, говорит Box, Делёз — реалист, и его
реализм позволяет понимать виртуальное не как возможное или
воображаемое, но именно как реальное, как сущность. Само понятие
виртуального позволяет ему депсихологизировать длительность и заявить,
что длится само бытие, а не что-то субъективное. Сущности, о
которых говорит Делёз, не принадлежат к идеальной или трансцендентной
сфере, как это было у Платона, поскольку сущности обусловливаются
друг другом и производительной силой природы в целом. Все сущности
принадлежат этому, а не какому-то возможному миру. «Платон, Кант
и Гегель — вот три великие фигуры в истории Идей, ^ля которых Идеи
являются как онтологическими, так и эпистемологическими, — пишет
Д. Смит. — Имя Делёза, несомненно, можно добавить к этому списку,
поскольку он глубоко и основательно изменил теорию Идей»3. С ним
солидарен и Дж. Брюссо, утверждающий, что «Делёз ополчается
против специфической практики концептуализации, которую завещала
Западу платоническая традиция... Вместо мысленного различения
через понятие, принятие понятий и всех производных тождественности
Там же. С. 343.
Bauch В. Real Essences without Essentialism // Deleuze and Philosophy. Ed. С V Boundas. P. 31.
Smith D. W Deleuze, Kant, and the Theory of Immanent Ideas // Deleuze and Philosophy. Ed.
С V Boundas. P. 43.
254
Часть 2. Ризомл
как первичных, внутреннее различение. Другими словами, он начинает
с различия на его собственной территории»1.
В трактовке Делёза центральным моментом платоновской
философии оказывается соперничество. Знаменитый метод деления из
«Софиста», говорит Делёз, направлен на выявление подлинных и
неподлинных претендентов. «...Диалектика Платона вовсе не сводится
к диалектике противоречий или противоположностей. Её, скорее,
можно назвать диалектикой соперничества (amphisbetesis), диалектикой
соперников и претендентов»2. При этом Платон обнаруживает, что
симулякр — это не просто ложная копия; симулякр подрывает самое
представление о модели и копии. И здесь намечает ниспровержение
платонизма. Можно сказать, что и сам Делёз в своей весьма необычной
истории философии только тем и занимается, что разбирается с
истинными и ложными претендентами (о чём прямо говорится в книге «Что
такое философия?») и ниспровергает оппозицию модель/копия. Тем
самым антиплатонизм Делёза оказывается своеобразным платонизмом.
Платона нельзя превзойти, говорил Делёз, но именно поэтому не
имеет смысла делать то, что уже сделал Платон. «У нас одна
альтернатива: либо история философии, либо прививка Платона к проблемам,
которые уже не являются платоническими»3. Делая такую «прививку»,
Делёз обнаруживает у Платона различие между двумя
онтологическими измерениями. Во-первых, измерение ограниченных, обладающих
мерой вещей с фиксированными качествами. Что предполагает паузы
и остановки, фиксацию настоящего и указание на предмет. Во-вторых,
чистое становление, лишённое какой бы то ни было меры, избегающее
настоящее и заставляющее сливаться в поток одновременности
прошлое и будущее. Им соответствует два внутренних измерениях языка,
взаимосвязанных и пронизывающих друг друга. Парадокс чистого
становления — это парадокс бесконечного тождества
противоположностей. Таким образом, у Платона Делёз находит основание для
собственной онтологии.
Brusseau J. Isolated Experiences. P. 16.
Делёз Ж. Платон и симулякр. С. 331.
О философии / Делёз Ж. Переговоры. С. 194.
Глава 1. Искусство зачинать монстров...
255
§ 1.2. Альтернатива посткантианству
Ф. Р. Анкерсмит во введении к своей «Истории и тропологии»
очень удачно замечает, что кантианство «вбирает в себя так много,
столь хорошо гармонирует со всеми рационалистическими
тенденциями западной мысли и во многом воплощает все наши познавательные
усилия по овладению миром, что любая попытка выйти из сферы его
влияния не может не быть сопряжена с колоссальным радикалистским
импульсом»1. У Делёза этот импульс был, однако ему удалось выйти из
сферы влияния Канта, не покидая сферы кантианской мысли. Он
всегда говорил о Канте как о философе, которого необходимо преодолеть,
как о своём теоретическом противнике. И вместе с тем, он
непрестанно обращается к кантовской мысли, используя её как отправную точку
в своих собственных построениях. «Жиль Делёз прежде всего
посткантианец», — утверждает В. Декомб2.
Делёз охотно признавал, что Кант не из тех философов, с кем он
чувствует интеллектуальную близость. Однако Кант был столь мощной
фигурой, что пройти мимо него он никак не мог. Кант одновременно
и пугал его, и привлекал своей изобретательностью. Кроме того, Делёз
говорил, что Кант первым занялся уничтожением концептов. И
наконец, Кант под влиянием Великой французской революции создал своего
рода трибунал для способностей суждения.
«Хотя ранние работы Делёза носят явно анти-гегельянский
характер, — пишет Д. Смит, — по-нястоящему Делёз, даже в ранних
работах, вступает в конфронтацию с Кантом. Стратегия раннего
творчества Делёза состояла в том, чтобы вернуться к самому Канту, заново
поднять проблемы, породившие пост-кантианскую традицию (сфор-
Анкерсмит Ф. Р. История и тропология: взлёт и падение метафоры. Пер. М. Кукурцевой,
Е. Коломоец, В. Катаева. M : Канон+, 2009. С. 45-46.
«Он мыслит в соответствии с "Трансцендентальной диалектикой" Канта, критикующей идеи
души, мира и бога. Никакой опыт не может оправдать утверждение субстанционального
идентичного Я, тотальности вещей и первопричины этой тотальности. Подчас считается, что
философы, которых называют посткантианцами (от Фихте до Гегеля), пытаются восстановить
Метафизику, некогда поколебленную кантовской критикой. Такого же мнения придерживался
и Делёз, для которого эта реставрация носит имя 'диалектики"». (Декомб В. Тождественное
и иное. Сорок пять лет из истории развития французской философии (1933-1978). Пер.
М. М. Фёдоровой / Современная французская философия. М. : Весь мир, 2000. С. 147.)
256
Часть 2. Ризомл
мированную Маймоном), но предложить решение этих проблем,
совершенно отличное от решений, приведших к Гегелю. Ранние
философские сочинения Делёза — куда больше про-кантианские, нежели
анти-гегельянские»1. Впрочем, Д. Смит склонен рассматривать в этой
перспективе не только ранние, но и зрелые работы Делёза. «Анти-
Эдип», считает он, стал возможен лишь благодаря «Критике
практического разума». И «Анти-Эдип», и «Критика практического разума»
предлагают теории желания, «"Анти-Эдип" остаётся непостижимой
книгой, пока мы не станем рассматривать всю её архитектуру как
попытку Делёза переписать "Критику практического разума" с точки
зрения строго имманентной теории Идей»2.
Кант, замечает Делёз в «Различии и повторении», лучше прочих
увидел корреляцию между такими понятиями, которые обладают лишь
неопределённой спецификацией. Его пространство и время —
повторяющие среды3. Однако при этом трансцендентальное у него оказалось
наделено эмпирическими формами, обнаруживающимися обыденным
сознанием. Таким образом, трансцендентальный эмпиризм он
подменил копированием трансцендентального с эмпирического. Делёз
предлагает иную программу: признать подсудность трансцендентального
«высшему эмпиризму», подвергнув каждую способность тройному
насилию — насилию того, что заставляет её работать, того, что она должна
постигать, и того, что она может постичь. При этом каждая способность
раскрывает своё радикальное различие и «вечное повторение».
Трансцендентальный эмпиризм, говорит Делёз, представляет собой
единственную возможность не копировать трансцендентальное с образов
эмпирического. Тем самым Делёз, по словам Л. Р. Брайанта,
совершает «третью коперниканскую революцию», преодолевая представление
0 приоритете субъекта перед объектом, данным в опыте4.
Кант, утверждает Делёз, действует как платоник, переходя от
подчинённой гипотетической формы возможного опыта «Критики чисто-
1 Smith D. W. Deleuze, Kant, and the Theory of Immanent Ideas // Deleuze and Philosophy. Ed.
C.VBoundas.P.44.
2 Ibid. P. 55. Продолжая развивать аналогию, Д. Смит сопоставляет «Различие и повторение»
с «Критикой практического разума». Соответствия третьей кантовской «Критике» он не
указывает.
3 Делёз Ж. Различие и повторение. С. 27.
4 См.: Bryant L. R. Difference and Giveness. P. 175-176.
Глава 1. Искусство зачинать монстров...
257
го разума» к открывающей необходимость категорического принципа
«Критике практического разума». Как и платоники, посткантианцы
пытаются превратить гипотетическое суждение в тетическое. Но,
вместе с тем, Канту удалось схватить направленность поворота от
космического времени платоников к чистому порядку времени1.
К. Боундас утверждает, что «трансцендентальный эмпиризм —
метод Делёза — позволяет перейти к условиям обращения к вещам,
состояниям вещей и их смешений, данных в опыте. Его объект — не данное
непосредственно, но, скорее, непосредственно данное. А
непосредственно данное — это тенденция, другими словами, "нерепрезенти-
руемое" виртуальное»2. Делёзовский трансцендентальный эмпиризм,
подчёркивает тот же автор, не следует путать с кантовским
трансцендентализмом. И у Канта, и у Делёза существующее de facto актуальное
управляется условиями, существующими de jure. Однако кантовское de
jure — вовсе не то же самое, что делезовское in virtu, поскольку первое
не определяется динамикой собственной актуализации. К тому же,
делёзовский эмпиризм, в отличие от кантовской критики, даёт
возможность генетического (а не только статического) приближения к
состоянию актуального.
Трансцендентальный идеализм Канта, говорит Делёз,
предполагает наличие у субъекта здравого смысла и обыденного сознания. Вместе
они составляют «справедливость» как ценность суждения. Такая
философия категорий принимает за образец суждение — как у Канта, так
и у Гегеля. Однако аналогия в суждении сохраняет тождественность
понятия — либо имплицитно, либо виртуально. «Сама аналогия —
аналогия тождественности в суждении. Аналогия — сущность суждения, но
аналогия в суждении является аналогом тождественности понятия»3.
Поэтому родовое или категориальное различие не может дать
понятия различия как такового. Кант сформулировал возможность
реального противоречия, однако, по выражению Ницше, так и остался рабом
негативного. Вся кантовская критика сводится к возражению Декарту
в том отношении, что определение невозможно непосредственно пере-
Делёз Ж. Критика и клиника. С. 45.
Boundas С. V What Difference does Deleuzes Difference make? P. 9.
Делёз Ж. Различие и повторение. С 51.
258
Часть 2. Ризомл
нести на неопределённое. К «я мыслю» и «я существую» он
добавляет мыслящего субъекта как пассивную позицию. Определяя пассивный
мыслящий субъект через простую восприимчивость, Кант
унифицировал его, лишив его способности к действию. Тождество мыслящего
субъекта в «я мыслю» как у Декарта, так и у Канта обосновывает
согласованность всех способностей, а также объясняет их согласие
относительно формы объекта. «Именно здравый смысл определяет в каждом
случае вклад способностей, тогда как обыденное сознание дает форму
одинакового»1.
Вместе с тем, Кант отходит от картезианства, для которого
психологическое единство самосознания служит отправным пунктом, и делает
его своей целью. Благодаря этому он открывает область
трансцендентального. Трансцендентальные структуры он копирует с эмпирических
актов психологического сознания, так что трансцендентальный
синтез восприятия выводится из эмпирического восприятия. Поэтому он
не только не опровергает, но только умножает форму обыденного
сознания (то же самое, говорит Делёз, относится и к феноменологии).
Трансцендентальная форма способности совпадает с её
трансцендентным применением. А трансцендентное действие не следует копировать
с эмпирического, потому что оно воспринимает то, что не может быть
схвачено обыденным сознанием. Поэтому трансцендентальное не
может наделяться обычными эмпирическими формами, его сферу и
области может исследовать лишь трансцендентальный эмпиризм. Делёз
в своём трансцендентальном эмпиризме предлагает дизъюнктивное
использование способностей; его объект — не просто возможный, но
реальный опыт2.
По Канту, идеи проблематичны, и наоборот, проблемы суть идеи.
Если разум ставит ложные проблемы, то именно потому, что сам он
является способностью ставить проблемы. Сама по себе эта способность
не располагает средством отличать истинное от ложного, так что снаб-
Тамже. С 167.
«Когда Делёз призывает к трансцендентальной философии, способной определить условия
реального опыта, — пишет Л. Р. Брайант, — он обращается не к тому или иному объекту, но,
скорее, к условиям, в которых творится мир. Мир должен пониматься как событие, а всякий
отдельный объект — как следствие структуры этого мира». (Bryant L. R. Difference and Give-
ness.P.67.)
Глава 1. Искусство зачинать монстров...
259
дить её этим средством, согласно Канту, должна критика. Ложные
проблемы связаны с неверным использованием идеи. Таким образом, у
Канта Делёз обнаруживает ту же форму проблематизации, что и у Платона:
отличение хороших симулякров от плохих. Выход он видит не в
продолжении или переворачивании такой проблематизации, а в новом
понимании идей1. Он предлагает говорить об интенсивностях вместо того,
чтобы рассуждать о сущностях, отталкиваясь от кантианской платформы.
Как выражается Р. Боуг, «Кант предоставляет Делёзу рамки
критического постижения симулякра, а трансцендентальный эмпиризм Делёза
подрывает всё кантианское здание»2: чувственность теперь
представляет собой не пассивный рецептор интуиции, она теперь имеет дело
с формами пространства и времени вечного возвращения. Идеи
получают преимущество в качестве проблем и сосуществуют как
сингулярные точки. Разум как понимание заменяется способностью мышления,
не связанной со здравым смыслом. «Короче говоря, Делёз выстраивает
анти-кантианскую модель мышления, аконцептуального,
нерепрезентативного, дизъюнктивного, инхоативного и бессознательного,
открывающего царство симулякра и самого по себе являющегося
переворачиванием кантовского симулякра»3.
Дж. Рейчмен в своей превосходной книге очень точно фиксирует
ход мысли Делёза:
Начиная с эссе 1950-х гг. о концепции различия у Бергсона, Делёз
искал «высший эмпиризм»^ который бы превзошёл Канта и принял новые
формы в пост-кантианской мысли, — пишет Дж. Рейчмен. —
Проблема здесь заключалась в том, чтобы преодолеть ту основную трудность,
что Кант ввёл в философию: то обстоятельство, что трансцендентальные
условия мысли или детерминация «Я мыслю» фактически всегда
моделировались эмпирическим уровнем, предположительно определявшим
1 Такая программа носит потенциально радикальный характер. Как замечает уже
цитированный нами здесь Ф. Р. Анкерсмит, «если мы сможем найти пример действительно
существующей дисциплинарной практики (а следовательно, не просто теоретической модели), которая
противоречит или не укладывается в рамки всеобъемлющей кантовской традиции, то такой
пример может стать пропуском в новый интеллектуальный мир, который нам так трудно
вообразить из-за нашей зашоренности кантовской парадигмой знания и значения».
(Анкерсмит Ф. Р. История и тропология. С. 47.)
2 Bogue R. Deleuze and Guattari. P. 66.
3 Ibid. P. 66-67.
260
Часть 2. Ризомл
их. Разрешение такого «трансцендентально-эмпирического удвоения»
заключалось в том, чтобы изобрести такой экспериментализм, который
вместо того чтобы задаваться вопросом об условиях возможного опыта,
занимался бы поиском условий; при которых возникает нечто новое, не
мыслившееся прежде1.
В «Капитализме и шизофрении» Делёз и Гваттари
противопоставляют оседлое и номадическое распределения. Оседлое мышление,
говорят они; сводится к философии репрезентации и подчиняется принципу
тождества. Это рациональная система, от которой неизменно
ускользает различие. Различие здесь носит внешний характер, смешивается
с концептуальным различием в рамках тождества. Здесь и проявляется
посткантианская программа, о которой говорит В. Декомб.
Последуем за его изложением; опирающимся на «Различие и повторение». По
Канту понятие есть представление о том; что есть тождественного в тех
представлениях; что могут стать либо общими понятиями; либо интуи-
циями. Но подлинное различие, настаивает Делёз, обнаруживается не
между двумя понятиями (т. е. идентичностями); но в мышлении;
вводящем различие в свои тождественности. Подлинное различие
пролегает между понятием и интуицией; умопостигаемым и чувственным,
логикой и эстетикой. Кант осмыслил разнообразие a priori и развил идею
не-концептуального тождества, но не не-концептуального различия.
Поэтому трансцендентальная эстетика ничего не говорит о различии
между тем, что мы знаем о феномене a priori, и тем, что мы должны
узнать о нём a posteriori. Таким образом, кантовская теория опыта
оказывается неполной. Всё это мы уже видели в тексте Делёза. Однако весьма
любопытен вывод Декомба, который звучит следующим образом: «По
Делёзу, философия будет диалектической или эмпиристской в
зависимости от того, понимается ли различие между понятием и интуицией
(в кантовском смысле отношения к единичному существующему) как
концептуальное или не-концептуальное. Правда, в этом случае делёзов-
ское выражение "понятие различия" представляется неудачным, ведь
если есть понятие различия между понятием и интуицией, то
существует и чисто логической переход от умопостигаемого к чувственному
Rajchman J. The Deleuze Connections. P. 17.
Глава 1. Искусство зачинать монстров...
261
или от всеобщего к единичному»1. Декомб, несомненно, прав:
«понятие различия» — крайне неудачное выражение. Ведь для того, чтобы
различие проходило между понятием и интуицией, само оно не должно
быть понятием.
Пожалуй, чуть ли не исключительной областью, в которой Делёза
безоговорочно можно признать посткантианцем, оказывается область
дискурса о революции. Это становится ясно, если обратиться к знаменитой
статье Канта «Спор факультетов», вызывавшей самое пристальное
внимание французских интеллектуалов после революции 1968 г. Этот текст
не подробно анализировал Фуко, усматривая в нём блестящее описание
«практик себя»2. Делёз, у которого «делание» занимает место фуколь-
дианской «заботы о себе», должно быть, видел в этом сочинении нечто
иное.
Кант пишет:
Это событие состоит не в важных совершённых людьми деяниях или
злодеяниях, посредством которых великое становится для людей
ничтожным, а ничтожное — великим, не в том, что как по мановению
волшебства великолепные древние государства исчезают и на их месте возникают
словно из-под земли другие. Нет, дело совсем не в этом. В этой игре
великих преобразований открыто проявляет себя лишь образ мышления
зрителей и заявляет во всеуслышание о таком всеобщем и вместе с тем
бескорыстном их сочувствии играющим на одной стороне против
играющих на другой, что такая партийность может оказаться опасной и очень
повредить им; это доказывает (своей всеобщностью), что человеческий
род в целом обладает характером, и — (своим бескорыстием), что этот
характер, по крайней мере в задатках, морален; и он не только позволяет
надеяться на продвижение к лучшему, но уже сам по себе есть таковое,
насколько это возможно для него в данный момент.
Революция духовно богатого народа, происходящая в эти дни на
наших глазах, победит ли она или потерпит поражение, будет ли она полна
горем и зверствами до такой степени, что благоразумный человек, даже
Декомб В. Тождественное и иное. С. 149-150.
Для Фуко этот текст представляет продолжение статьи «Что такое Просвещение?», где Кант
даёт блестящее определение « заботы о себе» : « Просвещение — это выход человека из
состояния несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине». (Кант И. Ответ на
вопрос: Что такое Просвещение? Пер. Ц. Г. Арзаканьяна / Собр. соч. в 8-ми т. Т. 8. М. : ЧОРО,
1994. С. 29.)
262
Часть 2. Ризомл
если бы он мог надеяться на её счастливый исход во второй раз, всё же
никогда бы не решился на повторение подобного эксперимента такой
ценой, — эта революция, говорю я, находит в сердцах всех зрителей (не
вовлечённых в эту игру) равный их сокровенному желанию отклик,
граничащий с энтузиазмом, уже одно выражение которого связано с
опасностью и который не может иметь никакой другой причины, кроме
морального начала в человечестве1.
Оставим в стороне столь важную для Канта мысль о том, что
революционный энтузиазм свидетельствует о существовании в человеке
морального начала. Делёз в этом отношении предпочитал Канту Спинозу,
говорившего о действующих в человеке аффектах и силах. В настоящий
момент нас интересует совсем другое.
Кант говорит, что революция — это событие, смысл которого не
в том, что оно ниспровергает старое и утверждает новое, и не в том,
сколько бедствий оно принесёт. Смысл его в том, что оно вызывает
бескорыстный энтузиазм в сердцах тех, кто становится его свидетелями.
Революцию 1968-го часто недооценивали, говоря, что серьёзных
выступлений не было, а студенческие демонстрации в счёт не идут. Кровь
не пролилась, а значит, ничего не было, — говорил А. Кожев, который
считал, что эталоном подобного рода событий может быть лишь
русская революция с её неисчислимыми бедствиями. Делёз считал иначе:
революция 1968-го активизировала желание масс, а важнее этого
ничего быть не может. В этом отношении он полностью согласен с Кантом.
Вместе с тем, Делёз разделяет с Кантом и опасения на тот счёт, что
излишнее воодушевление свидетелей революции может повести к
фашизации. Неслучайно Делёз и Гваттари говорят о «микрофашизме групп»:
желание развивается независимо от «исторических законов», и
невозможно задним числом пенять на то, что революция стала развиваться
«неправильно». Революция может быть и фашистской, а фашизм — это
не какая-то навязанная массам идея, а плод их собственного желания.
Революция — значительное событие независимо от того, к каким
результатам она приведёт впоследствии; её важнейшим результатом
является само революционизирование желания.
Кант И. Спор факультетов. Пер. М. Левиной / Собр. соч. в 8-ми т. Т. 8. М. : ЧОРО, 1994.
С. 102.
Глава 1. Искусство зачинать монстров... 263
Революционный энтузиазм, говорит Кант, не может быть основан
на своекорыстии. Делёз и Гваттари разделяют это убеждение и
подчёркивают, что революционная борьба не основывается исключительно на
интересах, как полагал Маркс. Эта кантианская позиция ведёт к отказу
от описания общества в терминах классов, а значит, и к отказу от
понятия классовой борьбы. И, так же как Кант, Делёз считает, что социальные
проблемы имеют правовой характер и должны решаться средствами
права. «... Истинный энтузиазм, — пишет Кант, — всегда тяготеет к
идеальному причём чисто моральному к такому, как понятие права, и не может
быть основан на своекорыстии»1. В телеинтервью с К. Парне Делёз
прямо заявил о «правах жизни», которые сами себя утверждают.
Кант видел в революции не просто насильственное свержение
существующей власти и установление нового правления. То событие, что
вызывает столь большой энтузиазм и его зрителей, представляет собой,
по Канту, не революцию, а эволюцию «естественно-правовой
конституции», каковая не может быть достигнута одним лишь
кровопролитием. Точно так же для Делёза революция не сводилась к вооружённому
захвату власти, а представляла собой освобождение желания и
утверждение «прав жизни». И так же, как и Кант, утверждавший, что это
«движение к лучшему» носит необратимый характер, авторы «Анти-
Эдипа» были уверены в необратимости процесса освобождения
желания. «Ибо подобное событие в истории человечества не будет забыто,
потому что оно вскрыло в человеческой природе задатки и способность
к совершенствованию, которые на основе происходившего до сих пор
не смог бы открыть ни один политик; лишь оно способно было
предсказать объединение природы и свободы в человеческом роде по
внутренним правовым принципам, но лишь как событие, не определённое
во времени и случайное»2, — говорит Кант, и это в точности
соответствует убеждениям Делёза.
Здесь можно ясно видеть, сколь близок Делёз к Канту, несмотря на
его критическое отношение к немецкому классику, и сколь далёк он от
Гегеля. Революция — не закономерное событие, не выражение
достигшего очередной стадии объективации Духа и не результат борьбы эко-
Тамже. С. 103.
Там же. С. 105.
264
Часть 2. Ризомл
номических интересов и классов как их субъектов. Революция —
единичное событие, которое носит случайный характер, но которое, коль
скоро оно произошло, не будет забыто и навсегда изменит человеческое
сознание и характер общественных отношений. Даже поражение
революции ничего не меняет в этой ситуации1.
§ 13. Преодоление Гегеля
Французская философия долгое время игнорировала Гегеля, полагая,
что не нуждается в германской философии, обладая своей собственной.
Лишь перед Второй мировой войной громко заявили о потребности
в Гегеле знатоки и пропагандисты гегельянства во Франции —
Александр Кожев, Жан Валь и Жан Ипполит. В послевоенные годы
гегельянство сделалось не только модой, но и академической нормой.
Философы-постструктуралисты сделали всё возможное &ля ниспровержения
этой нормы. Двигала ими, разумеется, не германофобия и не какая-то
иррациональная неприязнь к личности Гегеля. Дело было совсем в
другом: в гегелевской философии они видели универсалистскую
философию истории, вновь норовящую свести весь мир к абстрактному
тождеству, лишив его своеобразий и различий.
В 1972 г. Делёз писал: «В первую очередь я ненавидел гегельянство
и диалектику»2. «Намерение "отяготить" жизнь, обременив её тяжёлой
ношей, сочетав её с государством и религией, вписав в неё смерть — это
чудовищное намерение подвергнуть её негации, вся эта злость и
несчастное сознание философски воплотились у Гегеля»3, — говорил он чуть
«Но даже если цель, предполагаемая данным событием, и теперь не будет достигнута, если
революция и реформа конституции народа всё же в конце концов потерпят неудачу или же, по
истечении некоторого времени, всё опять вернётся на свою прежнюю колею (как
предсказывают уже теперь политики), указанное философское предсказание не утратит своей силы. —
Ибо данное событие слишком огромно, слишком переплетено с интересами человечества
и по своему влиянию слишком распространилось на весь мир, чтобы народы не вспомнили
о нём при благоприятной возможности и попытки подобного рода не были бы
возобновлены». (Там же. С 106.)
Делёз Ж. Письмо суровому критику / Переговоры. С. 17.
Gilles Deleuze parle de la philosophie / L'île déserte et autres texts. Textes et entretiens 1953-1974.
P. 200.)
Глава 1. Искусство зачинать монстров...
265
раньше. Действительно, в его философии находилось место и друзьям,
и врагам. К Канту, например, он не испытывал особенной симпатии,
однако написал про него книгу и, несомненно, воспользовался многими
его находками. Но вот Гегелю здесь места не нашлось — ни как другу,
ни как врагу1. « ...Он никогда не обращался к Гегелю, никогда не был
причастен к диалектической связи между логикой процесса... и
структурой субъекта», — подчёркивает Ж.-Л. Нанси2.
Основной упрёк, который Делёз адресует Гегелю, заключается в том,
что тот предал различие во имя негативности. Первые выпады против
Гегеля можно обнаружить уже в его юношеской рецензии на книгу
своего учителя Ж. Ипполита «Логика и существование», о которой
у нас уже шла речь. Расхваливая текст Ипполита, Делёз не преминул
заявить о своём несогласии с положением о том, что различие снимается
как противоречие. В книге о Ницше Делёз обозначил своё
антигегельянство, солидаризуясь со столь важным для него Ницше и вычитывая
у него свои собственные идеи. Ницше, говорил он, не верит в «шумные
великие события»3. Событию требуется безмолвие и продолжительное
время для обретения своей сущности. Гегель также признаёт, что для
обретения событиями их истинной сущности требуется время, но
время это нужно лишь для того, чтобы смысл «в себе» стал также смыслом
«для себя». По Ницше, время необходимо для формирования сил,
дающих событию смысл, которого он сам по себе не содержал.
Всеобщее и единичное, неизменное и частное, бесконечное и
конечное — всего лишь симптомы. Гегелевская диалектика никогда не
выходит за сферу симптомов и не затрагивает вопроса об интерпретации.
Интерпретацию она смешивает с развитием неинтерпретированно-
го симптома. Поэтому в развитии и изменении диалектика улавливает
только механическую перестановку, при которой субъект и предикат
меняются местами. При этом и субъект, и предикат не меняются и ос-
1 «Из всех великих философов, к которым обращался Делёз (включая Платона, Лукреция,
Лейбница, Спинозу, Канта, Ницше и Бергсона), Гегель однозначно вызывал у него наименьшую
симпатию; тогда как во всех прочих случаях Делёз мог извлечь что-то полезное для собственной
философии, его критика Гегеля оказывается негативной и граничит с нетерпимостью», — пишет
Б. Бох (Baugh В. G.W.R Hegel // Deleuzes Philosophical Lineage. Eds. G.Jones & J. Roffe. P. 130.)
2 Nancy J.-L. The Deleuzian Fold of Thought P. 107-108.
3 Делёз Ж. Ницше и философия. С 312.
266
Часть 2. Ризомл
таются столь же мало определёнными и слабо интерпретированными,
поскольку всё происходит в промежуточных сферах. Диалектика не
знает реального элемента, из которого исходят силы, их качества и
отношения, ей ведом лишь перевёрнутый образ этого элемента, отражающегося
в симптомах, воспринимаемых абстрактно. Противоположность —
закон отношения между абстрактными продуктами; различие — принцип
генезиса или производства, сам производящий противоположность как
простую видимость. Поскольку диалектика не знает различающих
механизмов — топологических перемещений и вариаций, — она «подпиты-
вается» противоположностями.
Если лишить противоположность её амбиций, она перестанет быть
движущей, формирующей и координирующей и окажется всего лишь
симптомом, подлежащим интерпретации. Это «вечная бессмыслица»
внутри различия, беспорядочное ниспровержение генеалогии. Работа
негативного — это лишь грубое приближение к «играм» воли к
власти. Движение видимости диалектика превращает в генетический закон
вещей и вообще действует в стихии фикции. Поскольку сами её
проблемы фиктивны, её решения также оказываются фиктивными. «Нет
такой фикции, которую она не превратила бы в момент духа, в один из
собственных моментов. Витание в облаках — не то, за что диалектики
могут упрекать друг друга, это — фундаментальная характеристика
самой диалектики»1.
Ницше — антидиалектик. Его претензии к диалектике, по Делёзу,
сводятся к трём положениям: 1) диалектика не знает природу сил,
овладевающих феноменами, а потому не понимает смысла; 2) диалектика
не знает элемента, из которого происходят силы, их качества и
отношения, а потому она не понимает сущности; 3) диалектика довольствуется
перестановками отвлечённых ирреальных терминов, а потому не пони-
мает изменения и преобразования. Фейербах утверждал, что сущность
человека стала сущностью Бога. Но человек при этом остаётся
реактивным, рабом, машиной для изготовления божественного. А Бог остаётся
машиной для изготовления раба. Изменилось только промежуточное
понятие, опосредующее термины. Замещение Бога человеком — это
водворение реактивной жизни, производящей собственные ценности,
Там же. С. 314.
Глава 1. Искусство зачинать монстров...
267
на место воли к небытию. Поэтому вся диалектика движется в пределах
реактивных сил и эволюционирует в нигилистической перспективе1.
«Я» — не человек, не родовое существо, не сущность человека.
Когда Фейербах переставляет местами человека и Бога, до человека
добраться не удаётся так же, как прежде — до Бога. Спекулятивным двигателем
диалектики, говорит Делёз, — является противоречие и его
разрешение, но её практический двигатель — отчуждение и реаппроприация.
В гегелевском абсолютном сознании по-прежнему присутствует некое
отчуждение. Уже М. Штирнер показал, что идея, сознание и вид так же
отчуждены, как и традиционная теология. Относительная
реаппроприация — это уже абсолютное отчуждение. Антропология превращает
«Я» в собственность человека, но диалектика стремится сделать «Я»
собственником. У Гегеля трансценденция оставалась трансцендентной
в рамках имманентного. Фейербах говорил о возмещении человеком
трансцендентных свойств. Это последнее отчуждение исчезло у Штир-
нера, у которого человеческая сущность отрицается в «Я »,
уничтожающем всё ради собственной власти. «Диалектика любит и контролирует
историю, но у неё самой есть история, которую она претерпевает, но не
контролирует. Смысл слитых воедино истории и диалектики — не
воплощение разума, свободы или человека как вида, но нигилизм, ничего,
кроме нигилизма. Штирнер — это диалектик, открывший нигилизм как
истину диалектики»2. В этом свете обретает один из своих важнейших
смыслов проблема, поставленная Марксом в «Немецкой идеологии»:
необходимо остановить это «фатальное скольжение». Маркс
принимает открытие Штирнера и разрабатывает учение об обусловленном
историческими социальными отношениями «Я». Однако диалектика не об-
« Работа негативного служит воле. Достаточно спросить, какова эта воля, чтобы предощутить
сущность диалектики. Несчастное сознание, углубление несчастного сознания, разрешение
несчастного сознания, прославление несчастного сознания и его ресурсов — этим
открытием дорожит диалектика. В противоположности выражены реактивные силы, в работе
негативного выражена воля к ничто. Диалектика есть естественная идеология злопамятности,
нечистой совести. Это мысль в нигилистической перспективе и с точки зрения реактивных
сил. Будучи не в силах создавать новые способы мышления и чувствования, вся диалектика
представляет собой сугубо христианскую мысль. Смерть Бога — диалектическое и шумное
великое событие; но это событие свершается под грохот реактивных сил, в дыму нигилизма».
(Там же. С. 316-317.)
Там же. С 320-321.
268
Часть 2. Ризомл
ретает точку равновесия: «Поистине трудно остановить диалектику
и историю, когда они катятся под откос, увлекая друг друга за собой:
разве деятельность Маркса не посвящена "разметке" последнего этапа
перед концом предшествующей истории, этапа пролетарского?»1.
Наиболее ярко антигегельянство Делёза выразилось в «Различии
и повторении», где философ говорил о гегелевской философии в тер-
минахразличия. Различие не включает отрицание, доходя до
противоречия лишь в той мере, в какой его подчиняют тождественному.
Главенство тождества предопределяет мир представления, но представление,
как и тождество, в современном мире потерпело крах, поскольку
открылись силы, воспроизводящие тождественное.
Современный мир — это мир симулякров. Человек в нём не
переживает Бога, тождество субъекта не переживает тождества субстанции. Все
тождества только симулированы, возникая как оптический «эффект»
более глубокой игры — игры различия и повторения. Мы хотим
осмыслить различие само по себе, и отношения различного с различным
независимо от форм представления, сводящих их к одинаковому,
пропускающих через отрицание2.
Отрицательное не играет такой роли, как проблематичное и
различающее, в сравнении с ними «битвы и разрушения», вызываемые
отрицательным, — лишь видимости и мистификации. Гегель «подменяет
подлинное соотношение особенного и общего в Идее абстрактным
отношением между частным и понятием вообще»3, ограничиваясь
простой общностью и воспроизводя ложную драму вместо драматизации
идей. Спекулятивные последовательности у него подменяют
сосуществование, а оппозиции скрывают повторения. Отрицательное
схватывает не феномен различия, а только его призрак или эпифеномен, так что
гегелевская феноменология — это эпифеноменология4.
Там же. С. 321.
Делёз Ж. Различие и повторение. С. 9.
Там же. С. 23.
«Отрицание — это различие, но различие, увиденное искоса, увиденное снизу. Напротив,
различие, выпрямленное во весь рост, — это утверждение... Несущие негативное не ведают, что
творят: они принимаюттень за реальность, создают призраки, отсекают следствие от посылки,
придают эпифеномену ценность феномена и сущности». (Там же. С. 78.)
Глава 1. Искусство зачинать монстров...
269
Делёз солидаризуется с Л. Альтюссером, который упрекает Гегеля
в представлении о едином центре, в котором отражаются и
сохраняются все образы, противопоставляя ему принцип множественного и сверх-
детерминированного противоречия. При этом, впрочем, у Альтюссера,
полагающего, что принцип сверхдетерминации он нашёл у Маркса,
сохраняется представление об обосновании противоречий неким
главным противоречием. Делёз от такого представления отказывается. Как
замечает Б. Эдкинс, «решающий разрыв с Гегелем касается двух
пунктов. Во-первых, гегелевский метод работает через противоречие. Во-
вторых, эти противоречия разрешаются в тождестве»1.
Впрочем, в философии Делёза всё непросто. Несмотря на его
открытые декларации своего анти-гегельянства, его можно
заподозрить в скрытом использовании некоторых гегелевских идей. Именно
так поступает Б. Бох, резонно считающий, что «вопрос об
отношении Делёза к Гегелю не может быть разрешён простым сбором цитат
и выведением баланса положительных и отрицательных оценок».
Более того, канадский исследователь смело заявляет, что «несмотря на
всю критику в адрес Гегеля, у Делёза сохраняется глубоко гегельянский
элемент: понятие "отчуждения", от которого происходит делёзовский
"витализм"»2. Делёз отстаивает ницшевскую идею вечного
возвращения, говорит Бох, но нечто подобное можно обнаружить и у Гегеля:
воссоединение Духа с самим собой после преодоления
самоотчуждения. А неизмеримый и недифференцированный Дух в первой стадии
своего развития — это именно то, что Делёз называет эмбрионом или
телом без органов3. Конечно, Гегель занят поисками тождества «тож-
1 Adkins В. Death and Desire in Hegel, Heidegger and Deleuze. P. 138.
2 Baugh B. G.W.F. Hegel // Deleuzes Philosophical Lineage. Eds. G.Jones & J. Roffe. P. 143.
3 Действительно, можно усмотреть набросок концепта «тела без органов» (за вычетом
самосознания, конечно) в следующем пассаже из «Феноменологии духа»: «Далее, для того, чтобы
духовная индивидуальность оказывала воздействие на тело, она сама как причина должна быть
телесной. Но это телесное, в котором эта индивидуальность выступает как причина, есть
орган, однако не орган действования по отношению к внешней действительности, а орган дейс-
твования сущности, обладающей самосознанием, внутри себя самой, вовне же — лишь по
отношению к своему телу: не сразу можно усмотреть, что за органы это могут быть. Если бы речь
шла только об органах вообще, то сразу пришёл бы на ум орган труда вообще, а также орган
полового влечения и т. д. Однако такие органы следует рассматривать как орудия или как
члены тела, которые дух как один крайний термин имеет в виде среднего термина по отношению
к другому крайнему термину, представляющему собой внешний предмет. Здесь же имеется
270
Часть 2. Ризомл
дества и различия», тогда как Делёз ищет чистое различие, однако
очевидно, что гегельянство в его мысли присутствует.
Того же мнения придерживается и М. Хардт, который утверждает,
что «Делёз зачастую излагает свой проект не только на традиционном
языке гегельянства, но и с точки зрения типично гегельянских
проблем — определения бытия, единства Одного и Многого и так далее.
Как ни парадоксально, в своём стремлении представить Гегеля как
негативное основание своей мысли, он может предстать самым что ни на
есть гегельянцем»1. Но при этом Делёз, говорит Хардт, сумел
выстроить философский ландшафт, совершенно отличный от гегелевского.
Действительно, порвать с Гегелем очень непросто. Как замечает
Дж. Батлер, «указания на "разрыв" с Гегелем, как правило,
бессмысленны, хотя бы потому, что Гегель сделал самое понятие "разрыва с"
центральным звеном своей диалектики»2. Точно так же нельзя уйти от
платонизма, определяющего всю проблематику западной философии. Что
ж, можно сказать, что Делёз уходит от гегельянства и платонизма,
оставаясь платоником и гегельянцем.
§ 1.4. Маркс без Гегеля
Говоря о постструктурализме (а Делёз, при всех оговорках,
принадлежит к этому течению), невозможно обойтись без разговора о
марксизме. Отношения между постструктуралистским движением и мар-
в виду орган, в котором индивид, обладающий самосознанием, сохраняется для себя как
крайний термин по отношению к своей собственной, ему противоположной действительности, не
обращаясь вместе с тем вовне, а рефлектируясь в своей деятельности, орган, у которого
сторона бытия не есть бытие для другого. В физиогномическом отношении, правда, орган также
рассматривается как наличное бытие, рефлектирующее в себя и истолковывающее действо-
вание; но это бытие есть предметное бытие, и в результате физиогномического наблюдения
получается, что самосознание противостоит именно этой своей действительности как чему-то
безразличному. Это безразличие исчезает оттого, что сама эта рефлектированность в себя
оказывает воздействие; благодаря этому указанное наличное бытие сохраняет необходимое
соотношение с ней; но для того, чтобы она могла оказывать воздействие на наличное бытие, она
сама должна обладать некоторым бытием, но не предметным в собственном смысле, и она-то
и должна быть указана в качестве этого органа». (Гегель Г. В. Ф. Система наук. Часть первая:
Феноменология духа. Пер. Г. Шпета. СПб. : Наука, 2006. С. 174.)
Hardt M. Gilles Deleuze. An Apprenticeship in Philosophy. P. XI.
Butler J. Subjects of Desire. NY: Columbia University Press, 1987. P. 184.
Глава 1. Искусство зачинать монстров...
271
ксистской доктриной всегда были непростыми . С одной стороны,
постструктуралисты отвергли партийную ортодоксию, задававшую
тон в послевоенной французской философии, с другой — они
выработали собственные отношения с Марксом. Если такие интеллектуалы,
как Сартр мучительно (и не слишком успешно) пытались примирить
свою философию с марксизмом, то постструктуралисты пошли другим
путём: они заставили марксизм работать на себя.
Тема «Делёз и Маркс» издавна волнует исследователей
творчества французского философа. Поколение Делёза испытало на себе
значительное влияние марксизма, который в послевоенные годы стал чуть ли
не определяющей идеологией для французских интеллектуалов. Вместе
с тем, процессы, происходящие в Восточной Европе, породили
разочарование в марксизме, во всяком случае, в той его версии, что
получила название марксизм-ленинизм. Отсюда многочисленные уклоны,
попытки ревизии марксизма и его «очищения» от ленинизма, увлечения
троцкизмом и маоизмом. Делёз, как и все интеллектуалы того времени,
не мог не соприкасаться с марксистской мыслью, а его «левизна»
требовала от него самого пристального внимания к учению Маркса.
Вместе с тем, Делёз никогда не был ни ортодоксальным марксистом, и ни
уклонистом какого бы то ни было толка, ни ревизионистом. Он вообще
сторонился партийной идеологии. Поэтому марксизм в его глазах был
прежде всего научной теорией, позволяющей разоблачить манипуляции
с прибавочной стоимостью и демаскировать природу капитализма.
В беседе с Д. Эрибоном в 1993 г. он говорил о работе над книгой
(так и не законченной), которую он намеревался назвать «Величие
Маркса»2. Эта ненаписанная книга вызывает сильнейшие эмоции у ис-
1 «Не будет ошибкой сказать, что отношения между постструктурализмом и марксизмом
поначалу характеризовались взаимной подозрительностью, — пишет С. Чоат. — Те, кто
симпатизировал постструктурализму, были склонны рассматривать его как блестящую альтернативу
марксизму, по-прежнему опирающемуся на устаревшие метафизические аргументы:
постструктурализм мог по крайней мере выступать коррективом к недостаткам и наивностям
классического марксизма и мог даже полностью заменить его. Со своей стороны, марксисты были
склонны рассматривать постструктурализм либо как шаг назад, либо как нежелательную угрозу Обе
стороны полагали, что постструктурализм начинается с отвержения Маркса или, по крайней
мере, с желания найти другие аргументы». (С но at S. Marx Through Post-Structuralism. P. 1.)
2 Deleuze G. Je me souviens. Entretien avec D. Eribon // Le Nouvel Observateur. 1995. № 1619
(50). P.I.
272
Часть 2. Ризомл
следователей, полагающих, что именно в ней Делёз наконец прояснил
бы своё отношение к Марксу, признавшись в марксистской
подоплёке своих идей. Впрочем, теперь можно лишь гадать о том, что мог бы
написать по этому поводу Делёз. И едва ли стоит представлять его
имплицитным марксистом и даже «коммунистом», как это делает в
своей, впрочем, весьма любопытной книге Н. Тобурн, утверждающий, что
«резонанс Делёза с Марксовым коммунизмом совершенно очевиден»1.
«Политика для Делёза не была ни специфическим полем человеческой
деятельности, ни, тем более, всеобщим процессом изобретательства;
грандиозный проект, который Делёз и Гваттари описывают как поиск
"новой земли", обладает императивом, придающим ему поразительное
сходство с Марксовым проектом коммунизма», — пишет британский
исследователь2. Однако близость Делёза к марксизму совершенно
очевидна, и скрывать он её вовсе не собирался. «Я полагаю, что мы, Феликс
Гваттари и я, всегда оставались марксистами, возможно, по-разному, но
оба»3, — сказал он в беседе с А. Негри.
Конечно, Тобурн не пытается скрыть расхождений Делёза с
марксистской доктриной. У него, говорит Тобурн, нет ничего общего с
вульгарным марксизмом, постулирующим фундаментальное различение
базиса и надстройки. Скорее, он следует за Марксом в том отношении, что
считает центральной категорией социального анализа производство. Ж.
Донзело даже назвал его позицию «гипермарксизмом», заявив, что
Делёз стремится стать большим марксистом, чем сам Маркс4. Впрочем,
более верным, быть может, следует признать определение Ж.-Ж. Лесёкля
«парамарксизм», указывающее на некоторое смещение или перенос5.
Да и сам Делёз не скрывает своих многочисленных разногласий с
ортодоксальным марксизмом, главное из которых заключается в том, что,
в то время как марксизм ставит задачи в терминах потребности, Делёз
ставит их в терминах желания. Маркс писал, что «в качестве нужды,
в качестве потребности, потребление само есть внутренний момент
1 Thoburn N. Deleuze, Marx and Politics. P. 9.
2 Ibid. P. 6.
3 Контроль и становление / Делёз Ж. Переговоры. С. 218.
4 См.: Donzelot J. An antisociology. Transi. M. Seem // Semiotext(e): Anti-Oedipus. NY., 1977.
P. 27-44.
5 См.: LecercleJ.-J. Deleuze, Guattari and Marxism //Historical Materialism. 2005.№ 13(3).P41.
Глава 1. Искусство зачинать монстров ... 273
производительной деятельности» . С этим Делёз соглашается, однако
он отказывается ставить на первое место потребность как недостаток
чего-либо. Поэтому в определённом смысле он выступает не за
возвращение к Марксу, но, скорее, за его скорейшее забвение —
забвение того «Маркса», что завёл в тупик социалистические идеологии.
Возвращаться к Марксу, говорил он в одной из своих лекций, —
значит пытаться реанимировать бюрократический партийный аппарат2.
Поэтому нужно не «возвращаться к Марксу», не искать «истинное»
марксистское учение, а сделать так, чтобы марксистская теория
работала в современных условиях. «...Идентифицируя себя как
марксиста, Делёз делает нечто большее, чем просто признаёт влияние Маркса:
он занимает определённую позицию по отношению к Марксу,
утвердительную позицию, влекущую за собой определённое использование
Маркса», — пишет С. Чоат3.
Марксизм поставил вопрос об эксплуатации и извлечении
прибавочной стоимости в терминах интересов, говоря о том, что
руководствующийся своими корыстными интересами правящий класс
удерживает власть. Однако с властью смыкается множество людей, чьи
интересы совершенно расходятся с интересами эксплуататоров. А это
значит, говорит Делёз, что вопрос должен ставиться в терминах
инвестиций — как бессознательных, так и экономических. При этом
понятие интереса отходит на второй план и становится возможным
объяснить, как это сделал В. Райх, почему массы жаждали фашизма4. В беседе
с А. Негри в 1990 г. Делёз заметил, что не верит в возможность такой
политической философии, которая не занималась бы анализом
капитализма и его развития. Однако этот анализ оказывается не
экономическим, а, скорее, стратегическим. Как пишет И. Гро, «частенько заимствуя
уже существующие экономические категории, он склонен придавать им
метафорическое значение, отрывающее их от узко технического смысла
и сообщающая им множество суггестивных или аллюзивных значений,
что позволяет им функционировать поэтически, не утрачивая
первоначальной определённости. Используя изобретательную и эффективную
1 Маркс К. Экономические рукописи 1857-1859 гг. / Т. 46. Ч. 1. С. 30.
2 Лекция 28 мая 1973 г.
3 Choat S. Marx Through Post-Structuralism. P. 127.
4 Фуко M. Интеллектуалы и власть. С. 77.
274
Часть 2. Ризомл
стратегию письма, Делёз сознательно избегает понятий идеологии,
эксплуатации и отчуждения, как и всякого упоминания о классовой борьбе
и классовых интересах, предпочитая им понятие желания»1. Тем самым
Делёз отрывает анализ стоимости от марксистской политической
экономии с её оппозицией базис/надстройка.
Делёза роднит с Марксом пристальное внимание к экономическим
процессам в обществе; все социальные проблемы, считает Делёз, есть
проблемы экономические. Впрочем, скорее всего, это марксизм в аль-
тюссеровской интерпретации, и понятие «экономической
инстанции» Делёз явно заимствует у Альтюссера. С этим французским
марксистом сближает его и антиисторицизм. В «Различии и повторении»
он пишет:
Альтюссер и его сотрудники были... глубоко правы, показав
присутствие в «Капитале» подлинной структуры и отвергнув историцистские
интерпретации марксизма, поскольку эта структура действует совсем
не переходным путем, не в порядке последовательности во времени, но
воплощает свое разнообразие в различных обществах, каждый раз в
каждом из них отдавая себе отчет в одновременности всех связей и пределов,
образующих их актуальность: вот почему «экономика» никогда не дана
в прямом смысле: она обозначает дифференциальную виртуальность
интерпретации, всегда скрытую формами актуализации, темой,
«проблематикой», всегда скрытой случаями своего решениями2.
Поскольку Делёз занимается экономией социального
инвестирования желания, ему не обойтись без экономической теории. Эту
последнюю он находит не только и, быть может, не столько у Маркса, сколько
у британских классиков политической экономии. В частности, он
обращается к Дж. М. Кейнсу, у которого находит понятие потока
ценностей от одного полюса к другому. Поток входит и выходит, прерывается,
дробится на секторы, суммируется в виде основного капитала,
претерпевает превращения и подчиняется определённому коду или экономи-
Gro I. Molecular Revolutions: The Paradox of Politics in the Work of Gilles Deleuze. Transi.
J. Marks // Deleuze and Politics. Eds. I. Buchanan & N. Thoburn. P. 56. «Обращаясь к
экономическим вопросам, Делёз остается философом, точнее даже, французским философом,
происходящим из той традиции, что ценит изящный стиль письма и тщательно избегает исторического
исследования», — добавляет И. Гро. (Ibid. P. 62.)
Делёз Ж. Различие и повторение. С. 230.
Глава 1. Искусство зачинать монстров...
275
ческому расчёту. Все эти характеристики Делёз суммирует в понятии
«прерывание потока» (coupure-flux). Поток можно охарактеризовать
только через тип его кодирования, т. е. через тот код, которому он
подчиняется, а некодированный поток — вещь немыслимая. Операция
кодирования одновременно является операцией изъятия из потока
полюсов, между которыми он течёт.
Делёз считает правомерным отождествление капитализма и
шизофрении, поскольку в обоих случаях приходится сталкиваться с
декодированными потоками. Он обращается к примеру из античности:
греческие боги строго территоризованы, каждый обладает своим собственным
пространством и функцией, которые определённым образом кодирует.
Но даймоны игнорируют коды и декодируют все потоки. Так же
поступает безумец, заявляющий: «со мной говорит бог, но это не бог». Так
же поступает декодирующий потоки капитализм, который в этом
отношении является самым странным явлением в мировой истории. Это
единственная общественная формация, появляющаяся благодаря
крушению предыдущих систем кодирования.
Капитализм предполагает декодирование потоков
(соответствующее тому, что Маркс называет первоначальным накоплением
капитала), встречу декодированных потоков, и в то же время,
государственный аппарат, совмещающий декодированные потоки. Всё это рождает
иллюзию либерализма, хотя капитализм, подчёркивает Делёз, никогда
не был либеральным, но всегда — государственным1. Таким образом,
в споре либерализма и кейнсианства Делёз признаёт победу за вторым.
Принцип laissez-faire оказывается всего лишь иллюзией; на свободном
рынке декодированные потоки сойтись не могут, для этого
необходимо государственное регулирование. Поэтому капитализм оказывается
куда более жестокой машиной, чем все предшествующие. И поэтому он
Здесь можно усмотреть косвенную полемику с Ф. Броделем, который пишет: «Если
интересы государства и интересы национальной экономики в её целостности часто совпадали, ибо
процветание подданных государства обусловливало в принципе доходы
предприятия-государства, то капитализм всегда находился в том секторе экономики, который обнаруживал
тенденцию включиться в самые оживлённые и самые доходные потоки международных дел.
Таким образом, он играл... на куда более обширном поле, чем обычная рыночная
экономика, и в более широкой области, чем область государства и его специфических забот». (Бро-
дель Ф. Материальная цивилизация и капитализм. Т. 2. Игры обмена. Пер. Л. Е. Куббеля. М. :
Весь Мир, 2006. С. 567.)
276
Часть 2. Ризомл
так жесток с безумцами, к которым предыдущие формации относились
более терпимо.
Опираясь на исследования Ф. Броделя, упоминаемые по всему
тексту «Тысячи плато»; Делёз и Гваттари утверждают, что капитализм
никак не мог зародиться в Риме или в Китае, потому что для реализации
капитализма необходима вся полнота декодированных потоков,
низвергающая предшествующие экономические аппараты1. Капитализм
формируется в тот момент, когда поток качественно неопределённого
богатства сталкивается с потоком качественно неопределённого труда,
сопрягаясь с ним. Проще говоря, «капитализм формируется благодаря
общей аксиоматике декодированных потоков»2. Капитализм не терри-
ториален, в качестве своего объекта он принимает не землю, а товар как
овеществлённый труд, а его частная собственность распространяется
не на землю или на средства производства, а на конвертируемые
абстрактные права. «Не бывает универсального капитализма и капитализма
в себе, капитализм находится на перекрёстке всех типов формаций, он
по природе всегда нео-капитализм, он изобретает — всё время к
худшему — свои восточное и западное лица и искажает их оба»3.
Декодирование потоков и детерриторизация трудящихся в
капитализме никогда не прекращаются. Первоначальное накопление
капитала — не то, что происходит вначале, раз и навсегда; первоначальное
накопление продолжается постоянно. Капитализм выдвигает непомерные
требования: все декодированные потоки для него всегда чересчур
кодированы. При этом, говорит Делёз4, понятия «декодирование» и
«детерриторизация» — вовсе не метафоры; это физические или, в крайнем
случае, экономико-физические процессы.
Помимо Кейнса, Делёз опирается на книгу Б. Шмита5,
различающего две денежные формы — созидательный поток, направленный на
увеличение количества денег, и доходы, т. е. деньги как покупательную
1 «И действительно, когда перед Марксом встаёт задача определить капитализм, он начинает
со ссылки на приход к власти одной-единственной качественно неопределённой и
глобальной Субъективности, которая капитализирует все процессы субъективации... » (Делёз Ж.,
Гваттари Ф. Тысяча плато. С. 768.)
2 Там же. С. 769.
3 Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. С. 35-36.
4 Лекция 22 февраля 1972 г.
5 Schmitt В. Monnaie, salaires et profits. P.: PUF, 1966.
Глава 1. Искусство зачинать монстров... 277
способность. Покупательная способность не предшествует доходам.
В этом отношении Шмит существенно расходится с Марксом:
заработная плата, говорит он, не является прибылью. Для формирования
потребительной способности необходим перевод денег в другую форму.
Шизофрения, говорит Делёз, представляет собой внешнюю границу
декодирования и детерриторизации, т. е. внешнюю границу капитализма.
Однако эта граница постоянно отодвигается, так что внешней границы
в буквальном смысле у капиталистической машины нет. Зато у него есть
граница внутренняя, определяемая отношениями между
промышленным, финансовым и рыночным капиталом. Эти три формы
декодированных потоков, а вернее, отношения между ними, составляют
внутреннюю границу капитализма, тогда как внешняя граница ^ля этих потоков
не является препятствием и постоянно отодвигается1. На уровне
экономики капитализм изобретает бесконечность: аксиоматизированные
процессы могут быть лишь бесконечными.
Уже христианские теологи придумали машину, работающую на
потоке бесконечного долга. Теология — это также и политическая экономия,
размечающая социальный режим, основанный на неоплатном и вечно
выплачиваемом долге. Это никоим образом не экономия обмена.
Пожалуй, самым важным моментом в осмыслении Делёзом буржуазной
политэкономии XIX в. является его мысль о том, что здесь мы имеем дело не
с установлением неких эмпирически выведенных законов, а с
аксиоматикой. Аксиоматика, говорит он, — это система отношений,
представляющих субъектную деятельность как таковую, т. е. как деятельность де-
территоризованную. Когда потоки декодируются, место кода занимает
аксиоматика, т. е. система дифференциальных отношений между
декодированными потоками. Аксиоматика всегда колеблется между двумя
полюсами — полюсом ускользания и полюсом воскрешения старых
инстанций, возвращающихся в качестве воображаемых объектов2.
Общество, говорят Делёз и Гваттари, конструирует свой бред,
регистрируя процесс производства. Однако этот бред не является бредом
сознания. Авторы «Анти-Эдипа» оригинально используют понятие
К. Мангейма «ложное сознание» и говорят, что ложное сознание есть
Лекция 22 февраля 1972 г.
Лекция 18 апреля 1972 г.
278
Часть 2. Ризомл
истинное сознание ложного движения или истинное восприятие
объективно мнимого движения. Капитал — это тело без органов капитализма,
а вернее, капиталистического бытия. Стерильности денег он придаёт
такую форму при которой они производят деньги. Как тело без
органов производит само себя, так капитал производит прибавочную
стоимость. В относительной прибавочной стоимости он воплощается как
постоянный капитал, выступая квази-причиной всякого продукта. Так
происходит описанное Марксом заколдовывание мира, а капитал
начинает играть роль поверхности регистрации, ограничивающей собой всё
производство. «Машинную прибавочную стоимость, о которой
говорят Делёз и Гваттари... не следует понимать как стоимость,
произведённую исключительно машинами, но как стоимость, произведённую
сборкой», которая включает в себя знания и труд, произведённые многими
поколениями трудящихся1.
Как замечает Р. Боуг, сцепка желания и производства в «Анти-
Эдипе» проблематизирует марксистское различение между
потребительной стоимостью и меновой стоимостью. Если меновая стоимость
вещи — это её стоимость, соотнесённая со стоимостью других
предметов потребления, а её потребительная стоимость соотнесена с
человеческими потребностями, это значит, что стабильная цена зависит от уже
существующих потребностей. Однако потребность — это не что иное,
как нехватка, а Делёз и Гваттари подчёркивают, что нехватка создаётся
самим общественным производством. Производство желания не
связано ни с индивидуальной нехваткой, ни с социальной потребностью, так
что в данном случае потребительная и меновая стоимости колеблются
в зависимости от сил контр-производства нехватки и потребности в
желающем производстве2.
Роль денег и использование капитала как тела для образования
поверхности регистрации являются специфически капиталистическим
феноменом, однако всем типам общества присуща такая константа
социального воспроизводства, как тело без органов. Тем самым Делёз и Гваттари
пытаются обойти пресловутую слабость марксизма в отношении
антропологии. Маркс и Энгельс, с одной стороны, стремились показать функ-
Holland Ε. Karl Marx // Deleuzes Philosophical Lineage. Eds. G.Jones & J. Roffe. P. 160.
См.: Bogue R. Deleuze and Guattari. P. 90.
Глава 1. Искусство зачинать монстров...
279
ционирование не-капиталистических обществ, а с другой —
усматривали в них пре-капиталистические процессы. Делёз и Гваттари указывают,
что в не-капиталистических обществах функционирует не тело капитала
и не его субституты, но такие же тела без органов, каким является сам
капитал.
Предлагая собственную схему общественно-исторического
развития, авторы «Анти-Эдипа» восполняют упущение, на их взгляд,
допущенное классиками марксизма в классификации пяти общественно-
исторических формаций. Государственная институция не вписывается
в эту схему, потому что не является ни формацией, ни переходом от
одной формации к другой. Феодализм предполагает абстрактное
деспотическое государство, а форма рыночного производства, характерная для
феодализма, порождает собственно феодальное государство. Считать,
будто развитие рыночного производства ведёт к слому феодализма, или
противопоставлять феодализм государству неверно. И эта ошибка
возникает из-за того, что вульгарный марксизм разводит желание индивида
и общественное производство.
Кроме того, Делёз и Гваттари заявляют, что общей меры
стоимости предприятий и рабочей силы наёмных работников не существует.
Поэтому, в частности, тенденция к понижению прибыли оказывается
бесконечной. Но, как писал сам Маркс, капитализм не имеет
внешнего предела; у него есть только внутренний предел — капитал, который
сам же капитализм и воспроизводит. «Вот почему закон тенденции
к понижению процента прибавочной стоимости, то есть пределов,
никогда не достигаемых именно по той причине, что они всегда обходятся
и всегда воспроизводятся, как мы решили, имеет в качестве своего ко-
роллария и даже непосредственной демонстрации синхронность двух
движений — детерриторизации и ретерриторизации»1.
Капиталистическое производство постоянно «ломается», поскольку имманентным
средством капиталистического производства выступает кризис. Вслед
за М. Клавелем Делёз и Гваттари ставят вопрос о машинной
прибавочной стоимости, производимой постоянным капиталом и
развивающейся вследствие автоматизации и повышения производительности
труда. И эта машинная прибавочная стоимость не может объясняться
Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. С. 409.
280
Часть 2. Ризомл
факторами, противодействующими тенденции к понижению
прибыли, поскольку сами эти факторы от неё и зависят. Решение этих
проблем Делёз и Гваттари видят в превращении прибавочной стоимости
кода в прибавочную стоимость потока1. Путь революции видится им
не в том, чтобы отказаться от мирового рынка, замкнувшись в новом
фашистском государстве, а в том, чтобы продолжить раскодирование
и детерриторизацию рыночных потоков, ускоряя процесс до его
полной шизофренизации.
Все общества, считает Делёз, одновременно и рациональны, и
иррациональны. Они рациональны в своих механизмах, системных
связях и даже в том, какое место они отводят иррациональному. Однако
вся эта механика предполагает коды, не обладающие внутренней
рациональностью. «В капитализме всё рационально, за исключением
капитала и капитализма»2. Поэтому рациональное — это всегда
рациональное иррационального. «Это то, чего не заметили в "Капитале" Маркса:
он столь очарован капиталистическими механизмами, потому что они
хорошо работают несмотря на своё безумие»3. Задействованные в
капиталистическом производстве интересы рациональны, но под ними
залегает инвестиция желания, бессознательного и иррационального.
Капитализм всегда представлял собой образцовую желающую
машину: желание протекает в русле тех потоков, что составляют деньги,
средства производства, рабочая сила и всё новые рынки сбыта. Сама
капиталистическая экономика неотделима от желания. Однако было бы
ошибкой полагать, будто капитализм при своём зарождении был
революционной формацией. Промышленная революция не совпадает с
революцией социальной; капитализм изначально был связан с репрессией,
с организацией государственной власти и государственного аппарата.
Капитализм запустил процессы декодирования и детерриторизации,
однако он же внедрил властные элементы в эти процессы. Марксисты
утверждают, что зарождающаяся и набирающая силы буржуазия подго-
« Короче говоря, общая теория общества — это обобщённая теория потоков; именно в
зависимости от последней следует оценивать отношение общественного производства и
желающего производства, изменения этого отношения в каждом отдельном случае, пределы этого
отношения в капиталистической системе». (Там же. С. 413.)
Deleuze G. Sur le capitalism et le désir / L'île Déserte. Textes et entretiens 1954-1974. P. 365.
Ibid. R 366.
Глава 1. Искусство зачинать монстров...
281
товила революцию. Такую точку зрения Делёз считает «сталинистской»
и не принимает всерьёз. Одновременно с процессами декодирования
буржуазия навязывала новые коды, она боролась с предшествующей
системой, но её цель заключалась в том, чтобы взять под контроль то,
над чем был не властен «старый режим». Своей властью буржуазия
обязана падению «старого режима», но осуществлять эту власть она
смогла лишь уничтожив всех революционеров. «Буржуазия никогда не
была революционна. Революция заставила её действовать»1.
В «Тысяче плато» предлагается ещё один план ревизии марксова
учения. Л. Альтюссер утверждал, что Маркс в «Капитале»
предпринял антигуманистический демарш, отказавшись говорить об индивиде
ради крупных социальных образований — классов. Делёз и Гваттари,
напротив, понимают Маркса в том смысле, что капитализм
представляет собой определённую модель складывания субъективности, при
которой все процессы субъективации сводятся к капиталу.
Капиталистическая социальная субъективность складывается по мере того, как
социальные потоки декодируются и детерриторизуются. А
единственной связью между декодированными и детерриторизованными
потоками оказывается Я-субъект. «Капитал — это точка субъективации по
преимуществу»2.
Ещё один объект критики Делёза в марксизме — деньги. Марксова
формула «товар — деньги — товар», говорит он, представляет собой
формулу эквивалентности, тогда как «деньги — товар — деньги» —
формулу невозможной эквивалентности, асимметричного обмена и
мошенничества. Но более адекватной Делёз считает расхожую формулу
«время — деньги». Её справедливость он показывает на примере
функционирования кинематографических образов. Деньги — это изнанка
образов; отношения между деньгами и фильмом носят
конститутивный характер. Если движение в качестве своего инварианта
предполагает совокупность эквивалентных и симметричных обменов, то время,
напротив, направлено на неравенство обменов и невозможность
эквивалентности. «... В одном и том же акте кино сталкивается со своей
глубочайшей внутренней предпосылкой, деньгами, а образ-движение
Ibid. Р. 374.
Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. С. 218.
282
Часть 2. Ризомл
уступает место образу-времени». Поэтому «с фильмами будет
покончено, когда денег больше не останется»1. Всё это ничуть не похоже на
серьёзную критику Маркса, и в 1988 г. Делёз прямо заявляет, что «если
в наши дни нам чего-то недостаёт, так это не критики марксизма, а
именно современной теории денег, которая была бы столь же хороша, как
и теория Маркса, и даже была бы её продолжением»2.
Конечно, Делёза невозможно считать строгим критиком
марксизма, а его «теоретические аргументы против марксизма в лучшем случае
небрежны»3. Дж. Рофф даже говорит о «позитивном отношении
Делёза к философии Карла Маркса, которое его никогда не покидало,
несмотря на отказ от многих его фундаментальных элементов»4. Однако
его критика марксизма нередко вызывает резкое неприятие. Так, В. Де-
комб пишет: «Границы делёзовского марксизма очевидны... Он
вежливо сдаёт классовую борьбу в музей: существует только один класс, класс
рабов, одни из которых господствуют над другими; избежать этого
рабского удела удаётся лишь нескольким желающим, стоящим вне класса»5.
Однако, на наш взгляд, куда вернее суждение Дж. Рейчмена: «Он
никогда не был ни марксистом, ни анти- или пост-марксистом, скорее, он
пытался поднять Марксовы проблемы в ином контексте, спрашивая, что
значит, если отвлечься от партийных прокламаций, "представлять
массы" анализировать капитализм в плане "имманенции", иных способов
жить, и нашу способность экспериментировать с ним»6.
Таким образом, говорить о том, в каких моментах Делёз разошёлся
с Марксом, быть может, не столь интересно, как посмотреть, где и в чём
оказал влияние на его мысль Маркс. Большинство исследователей
сходится на том, что наиболее значимым текстом &ля делёзианства являются
экономические рукописи Маркса 1857-1859 гг. К нескольким
фрагментам этого произведения мы и обратимся, помня о том, что существует
в очередной раз актуализированная Альтюссером проблема раннего
1 Делёз Ж. Кино. С 378.
2 О философии / Делёз Ж. Переговоры. С. 198.
3 Lash S. Genealogy and the Body: Foucault/Deleuze/Nietzsche // Theory Culture Society. 1982.
Vol. 2. №2. P. 10.
4 Roffe J. Capitalism // The Deleuze Dictionary. P. 35.
s Декомб В. Тождественное и иное. С. 171.
6 Rajchman J. The Deleuze Connections. P. 28.
Глава 1. Искусство зачинать монстров...
283
и позднего творчества Маркса, да и вообще творчество основателя
марксизма (который, как известно, сам себя марксистом не считал) столь
обширно и многообразно, что делает возможными весьма значительные
расхождения в интерпретации и вдохновляет самые разные и несхожие
между собой интеллектуальные поиски.
«Индивиды, производящие в обществе, — а следовательно,
общественно-определённое производство индивидов, — таков естественно,
исходный пункт», — так начинаются Марксовы рукописи1. Таков же,
естественно, исходный пункт «Анти-Эдипа», где Делёз и Гваттари
исследуют ничто иное, как производство, которым занимаются
индивиды в обществе. Маркс подчёркивает социальный характер
человеческого существования, говоря, что человек — это в буквальном смысле
zoon politikon, поскольку только в обществе он и может обособляться.
Поэтому, когда речь идёт о производстве, говорить всегда
приходится о производстве на определённой ступени общественного развития.
Делёз и Гваттари точно следуют этому указанию, как и указанию
Маркса на то обстоятельство, что, говоря о производстве вообще,
необходимо проследить процесс его исторического развития. Производство
вообще, говорит Маркс, это абстракция, позволяющая выделить общее,
«однако это всеобщее или выделенное путём сравнения общее само
есть нечто многообразно расчленённое, выражающееся в различных
определениях... Определения, имеющие силу для производства
вообще, должны быть выделены именно &ля того, чтобы из-за единства,
которое проистекает уже из того, что субъект, человечество, и объект,
природа, — одни и те же, не были забыты существенные различия»2.
Маркс, этот великий философ различия (хотя для того, чтобы увидеть
его как философа различия, Делёз вслед за Альтюссером требует
очистить его от гегельянства), неизменно настаивает на многообразии.
Если отказаться от этого многообразия, говорит он, мы впадём в
ошибку подобно тем экономистам, что доказывают вечность существующих
экономических отношений.
Маркс К. Экономические рукописи 1857-1859 гг. / Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. 1. М. :
Изд-во политической литературы, 1968. С. 17.
Там же. С. 21.
284
Часть 2. Ризомл
Именно у Маркса Делёз и Гваттари могли обнаружить
представление о номадизме как о первичной форме социальной жизни
человека. «...Мы можем допустить, что пастушество, как и вообще коневой
образ жизни, есть первая форма существования людей, что племя
первоначально не живёт оседло на определённом месте, а, передвигаясь,
использует встречающиеся ему пастбища... »г Делёз и Гваттари также
настаивают на том, что судить человеческую историю и возникшие на
её протяжении формы социальности лишь с точки зрения оседлого
населения — значит впадать в ошибку. Они не пытаются перевернуть
оппозицию «оседлое/кочевое» в пользу последнего, однако и его
дискриминацию не приемлют.
Но самым важным моментом «Grundrisse» для Делёза и Гваттари,
несомненно, стал дискурс Маркса о машинах. По Марксу,
автоматическая система машин есть наиболее завершённая и наиболее адекватная
форма машинной системы; автомат есть движущая сила, сама себя
приводящая в движение. «Эта автоматическая фабрика состоит из
множества механических и интеллектуальных органов, так что сами рабочие
определяются только как сознательные её члены»2. Эту фабрику
Делёз с Гваттари и анализируют в «Анти-Эдипе», подчёркивая, что имеет
смысл говорить о машинах независимо от какой бы то ни было
метафорики. Машина, по Марксу, никоим образом не является средством
труда отдельного рабочего. Она не опосредствует деятельность рабочего,
направленную на объект; напротив, деятельность рабочего всего лишь
опосредствует работу машины.
Здесь дело обстоит не так, как в отношении орудия, которое рабочий
превращает в орган своего тела, одушевляя его своим собственным
мастерством и своей собственной деятельностью, и умение владеть которым
зависит поэтому от виртуозности рабочего. Теперь, наоборот, машина,
обладающая вместо рабочего умением и силой, сама является тем
виртуозом, который имеет собственную душу в виде действующих в машине
механических законов и для своего постоянного самодвижения потреб-
Там же. С. 462.
Маркс К. Экономические рукописи 1857-1859 гг. / Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. 2. М. :
Изд-во политической литературы, 1969. С. 203.
Глава 1. Искусство зачинать монстров... 285
ляет уголь, смазочное масло и т. д. (вспомогательные материалы),
подобно тому как рабочий потребляет предметы питания1.
Суждение Маркса — не аналогия и не метафора. Фабричное
производство — это производство не орудийное, а машинное, так что
рабочие становятся машинами и придатками машин. Развивая эту мысль,
Делёз и Гваттари рассматривают все сферы социальной жизни как
машинное производство.
В системе машин, говорит Маркс, овеществлённый труд
противостоит живому труду в самом процессе труда, будучи господствующей
над ним силой — как капитал в качестве присвоения живого труда. Сам
же овеществлённый труд в системе машин оказывается не только
продуктом, но и производительной силой. Более того, представителем
общественного труда становится не рабочий, а капитал. Полное развитие
капитала, заключает Маркс, только тогда и возможно, когда
устраняется непосредственная форма труда, а «основной капитал противостоит
труду внутри процесса производства в качестве машины»2. Нетрудно
увидеть здесь истоки той машинерии, что рисуют в «Анти-Эдипе»
Делёз и Гваттари.
Мы выбрали лишь три фрагмента из «Рукописей 1857-1859 гг.»,
явно ставшие источниками вдохновения ^ля Делёза и Гваттари. На
последний из них — дискурс о машинах — указывают, к тому же, многие
исследователи. Безусловно, имело бы смысл предпринять не
фрагментарное, а систематическое сравнение философии Делёза с марксизмом,
что потребовало бы написания отдельной книги. Здесь же мы можем
предложить лишь несколько суждений общего характера.
Во-первых, Делёз не был ортодоксальным марксистом. Впрочем,
ортодоксальным марксистом не был и сам Маркс. Ортодоксальность
достигается только благодаря партийности и неизбежно носит
односторонний характер. Делёз счастливо избежал приверженности
сменявшим друг друга модам на сталинизм, троцкизм и маоизм, не приняв
ни одного «единственно верного» понимания марксизма. Он
всегда оставался в стороне от этих течений, и его отношение к
марксистской доктрине было отстранённым. Он во многом разделял позицию
Там же. С. 204.
Там же. С. 206.
286
Часть 2. Ризомл
M. Фуко, говорившего, что Маркс — буржуазный писатель XIX века,
так что воспринимать его нужно именно в этом качестве. И вместе
с тем, марксизм неизменно оставался для него горизонтом
эффективной критики капиталистического общества.
Во-вторых, не будучи ортодоксальным марксистом, Делёз не был
и большим знатоком Марксова учения. В исследовательской
литературе нередко можно встретить более или менее справедливые замечания
о том, что Делёз был плохо знаком с текстами Маркса, а его критика
марксизма носит дилетантский характер. Отчасти это, конечно, так и есть.
Делёз никогда не предпринимал специальных штудий Марксовых
текстов, как он это делал с текстами других философов. Обычно он
работал педантично, обращаясь к огромному объёму информации и
оперируя массой сведений об изучаемом предмете. В отношении Маркса он
не предпринял подобных усилий, ограничиваясь знакомством, по его
собственным меркам поверхностным, и, по выражению С. Чоата,
«читая его выборочно»1. Смерть помешала ему написать книгу о Марксе,
хотя полагать, будто именно в этом последнем тексте он наконец
выразил бы свою позицию ясно и однозначно или пересмотрел бы свои
прежние взгляды, было бы несколько наивно. Так или иначе, дискурс Делё-
за не был ни марксистским, ни антимарксистским, пролегая в стороне
от этих магистральных линий.
Наконец, в-третьих, Делёз активно пользовался марксистскими
установками и концептами. Как мы уже имели случай заметить, Маркс для
него был едва ли не образцовым философом различия, отказавшимся как
от гегелевской негативности, так и от сведения всего и вся к
тождествам. Кроме того, Маркс предложил до сей поры не превзойдённую
форму критики, на которую опираются Делёз и Гваттари. Концепты
Маркса предстают под непривычным углом, так что такие выражения, как,
например, «машинная прибавочная стоимость», не могут не вызывать
сомнений у тех, кто следует букве марксистского учения. Делёз и
Гваттари придают виталистский или организмический оттенок дискурсу
Маркса о машинах, что также может вызывать неприятие у ревнителей
чистоты марксистской теории. Однако всё это марксизм, хотя, как это обычно
и бывает у Делёза, несколько непривычный и порой монструозный.
Choat S. Marx Through Post-Structuralism. P. 128.
Глава 1. Искусство зачинать монстров...
287
§ 1.5. Альтюссер: прочь от ортодоксии
Луи Альтюссер, несмотря на узкую локализацию своих историко-
философских интересов, оказал на мысль Делёза неявное, но довольно
мощное влияние. Достаточно полистать его книгу «За Маркса», чтобы
обнаружить те способы постановки проблем и их решения, которые
характерны и для Делёза. Альтюссер был весьма влиятельным для своей
эпохи автором, и нам уже случалось упоминать о том что Делёз
представлял на его суд свои сочинения, целиком полагаясь на его вкус.
Альтюссер не был типичным партийным марксистом,
«партаппаратчиком» вроде Роже Гароди. Неизменно храня верность
французской компартии, он всегда считался в партийных рядах ненадёжным
интеллектуалом, слишком вольно трактующим марксистскую
доктрину. Впрочем, в этой ситуации не было ничего необычного: такие же
сложные отношения с партией были у Сартра. В те времена, когда
партийному интеллектуалу полагалось во всём следовать раз и навсегда
принятой схеме «исторического материализма», Альтюссер
стремился обновить марксизм, сделать его актуальной теорией, отзывающейся
на злобу дня. Это делало его непопулярным у партийных бюрократов
и привлекало к нему тех, кто не считал себя обязанным во всём
следовать партийной линии.
Страдавший невротическим расстройством после пятилетнего
пребывания в немецком концентрационном лагере Альтюссер вёл
замкнутый образ жизни, не принимая сколько-нибудь активного участия в
революционной деятельности, захватившей французские университеты
во второй половине 1960-х гг. В этом отношении у него было много
общего с Делёзом, также лишённым из-за болезни возможности бросать
камни в полицейских и бегать от них по улицам. Возможно, дружбе двух
философов способствовало это сходство в стремлении искать события
в интеллектуальной жизни, а не на площадях. Впрочем, размахивание
флагами и хождение на демонстрации в большей степени привлекало
студенческую молодёжь, нежели повидавших грандиозные
исторические события и углубленных в размышления над общим смыслом
революции философов. Хотя Сартр и Фуко выходили на улицы вместе со
студентами, едва ли они верили в то, что капиталистическую систему
можно разрушить мирными демонстрациями. Если Александр Кожев
считал, что в 1968-м г. вообще ничего не произошло, на то были свои
288
Часть 2. Ризомл
основания: пресловутая «революция» действительно носила характер
мелкобуржуазного эпатажа. Для изменения общественного
устройства нужно было что-то более действенное. Поэтому Делёз предпочитал
уличным акциям теоретическую работу.
Альтюссер предложил оригинальную версию марксизма,
подчёркивая разрыв в творчестве Маркса: между ранним и поздним творчеством
основоположника марксизма, утверждал он, пролегает пропасть. Если
ранний Маркс был гегельянцем, гуманистом, а в каких-то отношениях
и идеалистом, то Маркс поздний отказался от гегельянства, перешёл на
антигуманистические позиции и стал разрабатывать строго
материалистическую теорию. Делёз, стремившийся к марксизму, очищенному от
гегельянства, видел в Альтюссере подлинного реформатора учения
Маркса. Как и сам Альтюссер, как Маркс в описании Альтюссера, Делёз «не
приближался к Гегелю, но наоборот, не переставал от него удаляться»1.
Это удаление, блестяще описанное Альтюссером, может служить
иллюстрацией (если не объяснением) как историко-философскому подходу
Делёза, так и его концепции субъективности. Поэтому для нашего
исследования будет полезно последовать за альтюссерианской мыслью.
Прежде всего, говорит Альтюссер, необходимо порвать со
спонтанными искушениями аналитико-телеологического метода, в котором
обязательно присутствуют гегелевские принципы. Но это ставит под
сомнение самую возможность традиционной истории философии. Ведь
сущность всякой исторически существовавшей формы философии кон-
ституиуется не столько содержанием мыслимых объектов, сколько
способом постановки проблем, который никогда не дан историку философии
непосредственно. Философ обыкновенно мыслит при помощи
определённой проблематики, но не мыслит её саму: как выражается
Альтюссер, «порядок оснований» философа не совпадает с «порядком
оснований» его философии. Другими словами, проблематика философии не
осознаёт себя саму. «... Проблематику обычно нельзя прочитать в
идеологии как в открытой книге, её нужно извлечь из глубин идеологии, в
которых она скрывается и действует, причём чаще всего наперекор самой
этой идеологии, её утверждениям и декларациям»2. Этим и занимается
Делёз, высказывавший сходные идеи уже в своей книге о Бергсоне.
Альтюссер Л. За Маркса. С. 54.
Там же. С 102.
Глава 1. Искусство зачинать монстров... 289
При обращении к творчеству того или иного философа,
неоднородному и разделяющемуся на периоды, в которые мыслитель высказывает
порой несхожие между собой идеи, это становится особенно заметно.
«...Мы знаем, что молодой Маркс станет Марксом, но мы не хотим
жить быстрее, чем он сам, мы не хотим жить за него, порывать или
открывать за него. Мы не станем ждать его в конце беговой дорожки,
чтобы поздравить с окончанием состязания, когда он достигнет цели»1.
Напротив, нужно суметь, по выражению Руссо, потерять время, и это
потерянное время станет временем жизни мыслителя. Таким образом,
история философии не может писаться в futur antérieur, поскольку,
строго говоря, её попросту не существует: никаких «окончательных
итогов» не бывает ни в первый, ни в последний момент, и часы истории
никогда не пробьют в последний раз.
Делёз, как и Альтюссер, никогда не верил в «конец философии».
А традиционной истории философии он противопоставил весьма
оригинальное решение: история философии — это не достижение
абсолютного самосознания и не бег на заданную дистанцию, в конце которой
поджидает историк философии, но изобретение концептов.
Альтюссер повторяет утверждение Маркса из «Немецкой идеологии» о том,
что философия, подобно религии и искусству, не имеет истории. Делёз
добавляет: конечно, не имеет, все философы живут в едином
пространстве — пространстве философского творчества.
Вторым моментом, сближающим Альтюссера и Делёза, является
«теоретический антигуманизм», за который первого ругали
товарищи по партии. Сущность человека, говорит Альтюссер, не может быть
всеобщим атрибутом, ведь для этого необходимо, чтобы конкретные
субъекты существовали как абсолютные данности. Такой эмпиризм
субъекта с необходимостью предполагает идеализм сущности (и
наоборот). Как и Маркс, как и Альтюссер, Делёз отвергает и эмпиризм
субъекта (и его оборотную сторону — трансцендентального
субъекта), и идеализм понятия). Вместо этого он говорит о множественных
субъективациях.
Альтюссерианство было версий марксизма, приспособленной
к реалиям послевоенной Европы. Более того, Альтюссер предложил
Там же. С. 103.
290
Часть 2. Ризомл
рассматривать учение Маркса не как догму а как творчески
развивающуюся теорию. Именно эту версию марксизма и мог принять
постструктурализм.
§ 1.6. Фрейд, который не любил шизофреников
...Я понял, насколько ограниченна система старого
доктора, хотя в небольших пределах она срабатывала
изумительно. Из неё не могла и не может получиться
философская доктрина, определяющая человеческую жизнь. Зато
как рычаг, как средство воздействия она великолепна и не
уступает такому замечательному изобретению нашего
времени, как двигатель внутреннего сгорания.
Л. Даррелл, Месье.
У французской философии XX века сложились амбивалентные
отношения с фрейдовским психоанализом. С одной стороны, психоанализ
встретил восторженный приём у философов и деятелей культуры, тогда
как в психиатрии он приживался с трудом, а до конца так и не
прижился. Философы видели в учении Фрейда инструмент ^ая разоблачения
глубин человеческой природы и то, что могло стать основанием для мощной
социологической теории. Кроме того, фрейдизм предлагал
энергетическую модель, которая могла с успехом заменить обветшавший витализм
и механицизм академической философии. Вместе с тем, грубоватая
наивность и крайности фрейдовского психоанализа не позволяли принять
его в первоначальном виде. Поэтому во Франции начался процесс
переосмысления фрейдизма и его адаптации к интеллектуальным
потребностям послевоенного мира. Фрейда готовы были принять, но только в том
случае, если он расширит свой кругозор и смягчит свои формулировки.
Учение Фрейда вызвало большой переполох в гуманитарных науках,
поскольку венский врач осмелился открыто заговорить о том, о чём
прежде говорили лишь намёками. Ничего нового он, в сущности не
предложил; по отдельности все положения его доктрины уже были
высказаны в XIX веке психиатрами и философами. Однако ему удалось свести
всё это воедино и предложить наукообразную модель, описывающую
ту сферу, которую вообще-то описать позитивно едва ли возможно. Бо-
Глава 1. Искусство зачинать монстров... 291
лее того; хотя «Оно» было давно известно; Фрейд; как верно замечает
П. СлотердайК; «отважился вторгнуться в ту сферу которая долгое
время находилась в исключительной компетенции философии»1. И
философам это понравилось. К тому же; они получили право на вторжение
в ту область; которая доселе считалась сугубо медицинской.
Что же, спрашивается, произошло с философией субъекта, —
продолжает П. Слотердайк, — если психолог типа Фрейда может говорить
о человеческой личности? Фрейдовское Я не есть Я философии
субъективности. Если свести всё к краткой формуле, фрейдовский анализ имеет
своей предпосылкой то, что метафизическая догма о единстве личности
в его Я взорвана... то, что Фрейд обнаруживает эту взорванность уже
в готовом виде, а не вызывает сам взрыв. Такова духовно-историческая
ситуация, в которой он оказался2.
Делёз всегда с готовностью признавал важность этого открытия.
«Анти-Эдип» стал осмыслением этой ситуации. Раз нет целостного Я,
необходимо пересмотреть не только философию субъекта, но и
социальную теорию, создав новую политическую экономию субъекта. Хотя
Фрейд и вторгся на территорию философии; его психоанализ не был
философией и не мог бы ею стать при всём желании. Поэтому открытием
Фрейда должны были воспользоваться именно философы, а
фрейдистская доктрина в её первоначальном виде должна была уйти с
философской сцены. Таким образом, признавая заслуги Фрейда, Делёз и Гватта-
ри подвергли его жесточайшей критике.
Основная претензия Делёза к Фрейду сводится к тому что «все
злоключения психоза он сводит к старой песне, вечное папа-мама;
которая то исполняется психологическими персонажами; то возводится
до символических функций»3. Ведь шизофреник вовсе не пребывает
в семейных рамках, он бредит мировыми и космическими категориями
и не просто страдает из-за детских травм, а изучает мир. А «Фрейд; по
своему обыкновению, всё сводит к папе-маме»4. Психоанализ неспосо-
Слотердайк П. Критика цинического разума. С. 551.
Там же. С. 551 -552.
Делёз Ж. Критика и клиника. С. 31.
Там же. С. 87. «... Нас спрашивали, видели ли мы когда-нибудь шизофреника, а нам следует
спросить психоаналитиков, слышали ли они когда-нибудь его бред. Этот бред является все-
292
Часть 2. Ризомл
бен понять, что всякий бред инвестируется социальным, а не семейным
полем, что бессознательное — это не театральные подмостки, а завод.
Психоанализ ещё более репрессивен, нежели традиционная
психиатрическая клиника, поскольку он проникает во все поры
капиталистического общества, а не локализуется в местах заточения «безумцев». Но
самое главное — фрейдизм выполнил чрезвычайно важную
диагностическую функцию в отношении субъекта.
Фрейд, говорит Делёз в «Различии и повторении», не
удовлетворялся негативной схемой, в которой повторение объясняется амнезией.
Вытеснение изначально носит позитивный характер, однако эта
позитивность заимствуется у принципа удовольствия и принципа
реальности, так что оказывается оппозиционной и производной. Открытие
инстинкта смерти в «По ту сторону принципа удовольствия» не связано
с деструктивными тенденциями, но выступает результатом
непосредственного обращения к феноменам повторения. Инстинкт смерти здесь
оказывается позитивным порождающим принципом повторения. Если
принцип удовольствия психологичен, то принцип смерти
трансцендентален. Этот путь, говорит Делёз, мог бы направить фрейдовский анализ
бессознательного к самому настоящему театру, однако этого не
происходит, поскольку Фрейд не может отказаться от модели «сырого
повторения», заставляющей его наделять Id установкой. Повторение при
этом превращается в плод второстепенного компромисса Ego и Id.
Инстинкт смерти интерпретируется у Фрейда как тенденция к возврату
в состояние неодушевлённой материи, т. е. описывается по модели
материального повторения.
Между тем, говорит Делёз, смерть не сводится к материальной
модели. Повторяющееся нельзя абстрагировать от создающего и
одновременно скрывающего его повторения. Делёз вновь обращаетсяклаканист-
ской версии психоанализа: «... Повторение символично по своей сути:
символ, симулякр — буква самого повторения. Посредством
маскировки и символического порядка различие включается в повторение»1, вы-
мирно-историческим, а не семейным. Бредят о китайцах, о немцах, о Жанне дАрк, о Великих
Моголах, об арийцах и евреях, о деньгах, о власти и производстве, а совсем не о папе-маме».
(Беседа об «Анти-Эдипе» // Делёз Ж. Переговоры. С 35.)
Делёз Ж. Различие и повторение. С. 32.
Глава 1. Искусство зачинать монстров...
293
ражая дифференциальные механизмы, являющиеся сутью и генезисом
повторяющегося.
Я не повторяю, потому что вытесняю. Я вытесняю, потому что
повторяю, я забываю, потому что повторяю. Я вытесняю, потому что, прежде
всего, я могу проживать некоторые вещи или опыт лишь в плане
повторения... Эрос и Танатос различаются тем, что Эрос должен быть
повторён, может быть прожит лишь в повторении, а Танатос (как
трансцендентальный принцип) — то, что даёт Эросу повторение, подчиняет Эрос
повторению1.
Трансфер также относится к повторению: если болезнь происходит
от повторения, то оно же и лечит. Психоаналитическое лечение — это
путешествие в глубь повторения. Трансфер — это не опыт, но, скорее,
принцип всего аналитического опыта. Вместе с тем, Делёз «находит»
у Фрейда анализ повторения, так что труды венского мудреца
оказываются созвучны его собственным поискам.
Плохой психоанализ, писал Делёз в «Логике смысла»,
обманывается либо тем, что верит, будто бы открыл некое всеобщее сходство, либо
открытием аналогий, создающих ложное впечатление различий.
Поэтому он отвергает как клинико-психиатрический, так и
литературно-критический подходы в психоанализе. Психоанализ, по его мысли, должен
обрести «геометрическое» измерение и лишь затем обращаться к
истории. Психоанализ — это психоанализ смысла»2. Для Делёза
неприемлем и психоанализ литературных произведений, поскольку великие
писатели — «сами доктора, а не пациенты»3, не анализанты, а диагносты
и симптоматологи. Искусство группирует симптомы в нозологические
таблицы. Психоаналитическим патографиям, не видящим ничего,
кроме собственных схем, Делез противопоставляет клинические картины
литературной критики.
Больше всего досталось Фрейду и предложенной им
психоаналитической монотеории в «Анти-Эдипе». Здесь Делёз и Гваттари обвинили
его в «аналитическом империализме эдипова комплекса» и нелюбви ко
всему, что не вписывается в эдипальный треугольник:
Там же. С. 33.
Делёз Ж. Логика смысла. С. 131.
Там же. С. 311.
294
Часть 2. Ризомл
...Фрейд не любит шизофреников, он не любит их сопротивление
эдипизации, он скорее стремится рассматривать их в качестве
животных; они, как он утверждает, принимают слова за вещи, они апатичны,
нарциссичны, отрезаны от реальности, не способны на перенос, они
похожи на философов, а это «нежелательное сходство»1.
Психоаналитик-полицейский насаждает «империализм Эдипа»,
преследуя не принимающих его уклонистов и леваков. Сведение
переживаний индивида к эдиповой схеме представляет собой подавление
отношения производства. Психоанализ совершил великое открытие
производства бессознательного, но это открытие вскоре было сокрыто
психоаналитическим идеализмом: «бессознательное как завод было
заменено античным театром»2; производящее бессознательное при этом
1 Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. С 45. В беседе об «Анти-Эдипе» Делёз суммировал все
свои претензии к фрейдовскому психоанализу следующим образом: «Идеализмом в
психоанализе мы называем всю систему умиротворений, сглаживаний, редукций в аналитической
теории и на практике: сведение производства желания к системе представлений, называемых
бессознательными, к соответствующим каузальным формам, выражениям и понятиям;
сведение фабрик бессознательного к театральной сцене, к Эдипу, к Гамлету; сведение социальных
инвестиций либидо к семейным инвестициям, умиротворение желания в координатах семьи,
а также самого Эдипа. Мы не хотим утвержлать, что Эдип — изобретение психоанализа. Он
только отвечает на запросы реальности, люди уже приходят со своим Эдипом. Психоанализ
только и делает, что возводит Эдипа в квадрат, создаёт проекцию Эдипа, переносит Эдипа
на Эдипа, и всё это происходит на диване, словно на маленьком островке грязной земли. Но
семейный Эдип, Эдип аналитиков, является, в сущности, аппаратом репрессии над машиной
желания и ни в коей мере — формой самого бессознательного. Мы не хотим утверждать, что
Эдип, или его эквивалент, изменяется вместе с рассматриваемыми нами социальными
формами. Мы, скорее, полагали бы, вместе со структуралистами, что он остаётся неизменным
инвариантом. Но это инвариант отклонения сил бессознательного. Поэтому мы и нападаем на
комплекс Эдипа, — не от имени тех обществ, которые не допускают его существования, а от
имени тех, что признают его в высшей степени, от имени нашего капиталистического
общества. Мы нападаем на него не от имени идей, претендующих на управление сексуальностью,
а от имени самой сексуальности, которая не сводится к "маленькой грязной семейной тайне".
И мы не делаем различия между воображаемыми вариациями Эдипа и структуралистским
инвариантом, потому что это всегда один и тот же тупик в обоих концах улицы, одно и то же
подавление машин желания. То, что в психоанализе называют разрешением комплекса Эдипа или
его разложением, не вызывает ничего, кроме смеха; это бесконечная операция, нескончаемый
анализ, заражение Эдипом, его передача от отца к сыну Можно сойти с ума от тех глупостей,
которые произносятся от имени Эдипа, и в первую очередь о ребёнке». (Беседа об «Анти-
Эдипе» // Делёз Ж. Переговоры. С. 30-31.)
2 Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. С. 46.
Глава 1. Искусство зачинать монстров...
295
превратилось в бессознательное, способное лишь выражаться в мифе,
трагедии или сновидении. Теперь (Делёз и Гваттари повторяют
обвинения Д. Г. Лоуренса)
психоанализ намеревается заключить сексуальность в диковинную
шкатулку с буржуазными узорами, в некий совершенно отвратительный
искусственный треугольник, который задушит любую сексуальность как
производство желания, чтобы уже по-новому сделать из неё «маленький
грязный секрет», семейный секретик, интимный театр вместо
фантастического завода, Природы и Производства1.
При этом основные понятия производства в психоанализе
сохраняются: здесь постоянно говорится об экономии желания и
инвестировании либидо. Однако эти понятия оказываются подчинены формам не
производящего бессознательного, а бессознательного
выражающегося, и проецируются в эдипальные координаты. Желающие машины по-
прежнему функционируют в психоанализе, но оказываются скрыты за
фантазматическими кулисами. Если поначалу психоаналитики не
могли не сознавать необходимого ^ля тотальной эдипизации
принуждения, то теперь они стали прислужниками Эдипа как агента
антипроизводства. То же самое произошло с капиталистами, которые, по словам
Маркса, поначалу не могли не сознавать производной природы
капитала. «Фрейдовский шантаж» заключается в том, что он позволяет либо
признавать эдипов характер сексуальности, либо отказаться от какой
бы то ни было позиции сексуальности вообще. Дело здесь не в том, что
«под тенью трансцендентного фаллоса» бессознательные эффекты
этого означаемого накладываются на всю систему социального, а в том,
что само её либидинальное инвестирование определяет её
использование в желающем производстве, режим этого производства и степень
эдипизации.
Но, сохранив основные понятия производства, Фрейд совершенно
упустил из вида производство желания и желающие машины, т. е. всё то,
что составляет область бессознательного. А упустив его из вида,
фрейдовский психоанализ стал усматривать сущность желания в импульсе
самоуничтожения, став своего рода культом смерти. Фрейдовский
психоанализ рассматривает бессознательное как источник символического
ι
Там же. С. 81.
296
Часть 2. Ризомл
материала, подлежащего интерпретации. Это принципиальная ошибка,
считают Делёз и Гваттари: бессознательное не производит символы или
означающие, которые нуждались бы в интерпретации. Речь должна идти
о гетерогенных связях, которые производит бессознательное, о
высвобождении или подавлении желания. Психоаналитики говорят о
желании как священники и при этом прикрываются разговорами о
кастрации, которая поистине является проклятием ^ля желания. Психоанализ
сводит желание к единственному фактору, игнорируя все остальные
и не обращая внимания на то, что желание всегда принадлежит к некой
целостности. Лошадь, испугавшая маленького Ганса, никак не может
быть образом отца, поскольку лошади всегда существуют в каком-то
контексте. Всякое желание конституируется вместе с другими в неком
«пакете».
Делёза не устраивает стремление Фрейда установить обратную
зависимость между сексуальной и социальной инвестициями. Напротив,
говорит он, социальное поле инвестируется сексуальным желанием. Он
обращается к мысли Маркса о том, что сексуальные отношения
между мужчиной и женщиной — это прежде всего отношения между
двумя людьми. Либидинальная инвестиция возможна лишь через желание
группы и индивида, поэтому она затрагивает всё социальное поле в
целом. Параноик детерминируется не эдиповой схемой, а определённым
типом инвестиций в социальное поле. Инвестиции социального поля
имеют два полюса — параноический (подчиняющий желающие
машины определённой архитектуре) и шизофренический (на котором
архитектура социального поля прочерчивается линиями бегства).
Эдипальный треугольник представляет собой капиталистическую
аксиоматику. Психоаналитический Эдип — это вовсе не Эдип
семейный, «папа-мама-я», но Эдип абстрактный. Бессознательное никогда не
функционирует в терминах Эдипа, кастрации и импульса смерти; всё это
выдумал и навязал нам психоанализ. На уровне практики (не на уровне
идеологии) психоанализ всецело принадлежит капитализму. Маркс
считал, что основателями политической экономии были Адам Смит и
Дэвид Рикардо, ибо до них сущность богатства искали в вещности, и это
была не политэкономия, но анализ богатств. «Если для классического
мышления торговля и обмен служат той основой анализа богатств,
дальше которой анализ не идет (это свойственно и Адаму Смиту, у которого
Глава 1. Искусство зачинать монстров...
297
разделение труда подчиняется критериям обмена), то начиная с
Рикардо возможность обмена основывается на труде, а теория производства
отныне должна будет всегда предшествовать теории обращения»1, —
писал Фуко, на «Слова и вещи» которого опирается Делёз.
Фрейд так же, как и Рикардо, обнаруживает некую сущность,
отличную от объектности и всецело абстрактную — либидо. Либидо — это
не желание, оно превосходит всякое направленное на конкретный
объект желание. Маркс говорит, что отчуждение после открытия Рикардо
не локализуется в объективном состоянии предмета, но ухватывается
в самом производстве. Точно так же и Фрейд понимает желание не со
стороны его целей, но в отчуждении субъективной деятельности
желания в семейных условиях. Если Рикардо считает мерой производства
частную собственность, то у Фрейда это место занимает семья. В
капитализме соприсутствуют два одновременных движения: с одной
стороны, декодирование и детерриторизация потоков, с другой — ретеррито-
ризация и нео-территоризация. Это второе движение в политэкономии
опирается на частную собственность, а в психоанализе — на семью.
Поэтому психоанализ всецело принадлежит капитализму. В
психоанализ мало кто верит, говорит Делёз2, над ним смеются, и тем не
менее, многие ходят к психоаналитику. В капитализм тоже никто не верит,
его все поносят, и тем не менее, всё западное человечество включено
в капиталистические потоки. Коды нуждаются в вере, аксиоматика —
нет. Капиталистическая машина работает на двух имеющих различную
природу денежных потоках — потоке финансирования и потоке
доходов; условием функционирования капиталистической машины как раз
и выступает несоизмеримость этих потоков. В психоанализе
двойственность этих потоков оказывается скрыта. Например, женщина
отправляется к аналитику, который без труда обнаруживает её конфликт
с мужем; при этом сам же муж и оплачивает психоанализ.
Детерриторизация и ретерриторизация денег в данном случае смешиваются.
Психоаналитик же равнодушен к тому, откуда приходят деньги.
Если фрейдовский психоанализ соотносит сексуальность и либиди-
нальное инвестирование с неким семейным эдиповым событием (кото-
фуко М. Слова и вещи. С. 279.
Лекция 15 февраля 1972 г.
298
Часть 2. Ризомл
рое психоанализ лакановский интерпретирует структурно, но это
ничего не меняет, поскольку, как сказал Делёз в лекции 16 ноября 1971 г.,
имена истории — это не имя отца1), шизоанализ открывает их
определениям общественно-исторического поля. Экономическое,
политическое и религиозное непосредственно инвестируются либидо и не
являются производными от семейных отношений. Если психоанализ
обращается к молярным системам, прилагая их к абстрактной семейной
системе и оставаясь в рамках репрезентации, шизоанализ нацелен на
молекулярные элементы, образующие детали желающих машин, и
анализирует функционирование и инвестирование этих машин, что
позволяет достигнуть нерепрезентативных областей производства.
Сексуальность в шизоанализе рассматривается как молекулярная энергия,
связывающая частичные объекты, а не как некая энергия,
объединяющая отдельные лица. Сексуальность — не молярное определение,
взятое из семейной системы, но молекулярная субдетерминация,
функционирующая в общественных системах (которые лишь вторично могут
быть семейными). Если психоанализ невротизирует индивидов
согласно эдиповой схеме, то шизоанализ их шизофренизирует.
Делёз стремится пересмотреть даже самое понятие
сексуальности2. Антропоморфическое представление заставляет говорить
исключительно о человеческой сексуальности, а не о сексуальности вообще,
и выставляет фундаментальной фигурой фаллос. Шизоанализ
стремится постичь вне-человеческий пол. На молекулярном уровне, который
как раз и исследует шизоанализ, мужчина и женщина оказываются
неразличимы, и не в силу бисексуальности, а просто из-за отказа от
антропоморфизма.
В «Тысяче плато» критика фрейдовского психоанализа
проводится в других терминах, причём вновь подчёркивается его репрессивный
и тоталитарный характер. Психоанализ, по словам Делёза и Гваттари,
сводит бессознательное к древесным структурам, иерархическим
графам, повторяющимся воспоминаниям, центральным органам, фаллосу,
1 Эта критика направлена не только и, быть может, не столько против Лакана, сколько против
Гегеля с его фигурами Господина и Раба. Как замечает Р. Боуг, «его критика лакановской
теории желания была лишь продолжением давнишнего противостояния Делёза послевоенному
гегельянству». (Bogue R. Deleuze and Guattari. Ρ 3.)
2 Лекция 25 января 1972 г.
Глава 1. Искусство зачинать монстров...
299
древу-фаллосу. В практическом отношении это значит, что Фрейд
произвольно выхватывает из рассказа о сновидении какое-либо
означающее и придаёт ему господствующее значение. Например, К. Г. Юнг
рассказывает свой сон о склепе с костями, а Фрейд немедленно реагирует:
«Кость — это фаллос», игнорируя то обстоятельство, что в
сновидении фигурирует множество костей. Так же и в случае Человека с
волками, который разбирают в «Тысяче плато» Делёз и Гваттари, Фрейд
не обращает внимания на то, что волков было много. «Кто же, в самом
деле, проигнорирует, что волки бродят стаей? Никто, кроме Фрейда.
Фрейду не известно то, что знает каждый ребёнок»1. Делёз и Гваттари
настаивают на необходимости изучать именно природу множеств, а не
выхватывать из них отдельные элементы, которым потом можно будет
приписать эдипальный характер.
Психоанализ, говорит Делёз2, поставил своей целью декодирование
потоков желания; «Толкование сновидений» — максимальное
приближение к экономике желания и концепции желающего производства.
Но при этом психоанализ (Делёз ссылается на «Письмо и различие»
Деррида) вырабатывает новый, эдипальный код, единообразно
кодирующий все потоки желания. При этом психоанализ оказывается
неспособен понять безумие, которое представляет собой декодирование
потоков в чистом виде. Психоаналитическая операция заключается в том,
что аффекты заменяются фантазмами. Сам психоаналитический
договор между аналитиком и пациентом носит двойной характер: аналитик
слушает пациента, который за это платит; аналитик забирает у пациента
аффекты и взамен даёт ему фантазмы3.
Конечно, Лакан более приемлем для Делёза, нежели Фрейд, и в
разные периоды своего творчества он обращался к тем или иным лаканов-
ским концептам. И тем не менее, лаканизм также подвергся у него
довольно жёсткой критике. Тексты Лакана о зеркале, писали Делёз
и Гваттари в «Тысяче плато», отсылают к какой-то форме
субъективности, отражающейся в феноменологическом поле и раскалывающейся
в поле структурном. Однако зеркало вторично по отношению к «белой
Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. С. 49.
Лекция 14 декабря 1971 г.
Лекция 21 января 1974 г.
300
Часть 2. Ризомл
стене лицевое™»1. Бред действует в Реальном («Реальное не
невозможно, напротив, в реальном возможно всё, всё становится возможным»2),
а Воображаемое и Символическое Делёз и Гваттари считали ложными
категориями.
Свои претензии к психоанализу Делёз суммировал в статье,
озаглавленной «Пять положений о психоанализе»3. Во-первых,
психоанализ в современном обществе составляет политическую опасность: если
старая психиатрическая клиника создавала локализованное место
заточения, то психоанализ функционирует в открытом пространстве, а
потому составляет большую угрозу для индивида. Во-вторых,
психоанализ — это машина, предназначенная для того, чтобы помешать людям
говорить: что бы пациент ни сказал, это истолковывается диспозитив-
ной машиной так, что сказанное приобретает иной смысл.
В-третьих, психоанализ действует таким образом потому, что располагает
некой машиной интерпретации: что бы мы ни сказали, оказывается, что
мы говорим не то, что сказали. В-четвёртых, психоанализ с
необходимостью предполагает либерально-буржуазную форму контракта.
В-пятых, предлагаемая Делёзом и Гваттари шизоаналитическая программа
не вписывается во фрейдо-марксистскую перспективу. Фрейдо-марк-
сизм — это возвращение к «священным текстам» Фрейда и Маркса,
тогда как Делёза и Гваттари интересуют вовсе не тексты, но подрыв
бюрократических аппаратов фрейдизма и марксизма. И фрейдизм, и
марксизм предполагают некоторую культуру памяти, тогда как в наше время
важнее революционное забвение, «каждому необходима собственная
недоразвитость, то, что Дэвид Купер называет внутренним третьим
миром каждого»4.
1 Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. С. 283.
2 Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. С. 51.
3 Relazione di Gilles Deleuze // Psicanalisi e Politica: Arti del Convegno di studi tenuto a Milano
Г 8-9 maggio 1973. Ed. A. Verdiglione. Milano: Feltrinelli, 1973. P. 7-11.
4 Cinq propositions sur la psychanalyse / L'île Déserte. Textes et entretiens 1954-1974. P. 385. Эти
«положения» Делёз повторяет в другой статье: Deleuze G. Quatre propositions sur la
psychanalyse / Deux régimes de fous. Textes et entretiens 1975-1995. P. 72-79.
Глава 2. От феноменологии к патафизике
301
ГЛАВА 2. ОТ ФЕНОМЕНОЛОГИИ К ПАТАФИЗИКЕ
§ 2.1. Грехи феноменологии
Для поколения философов, к которому принадлежал Делёз,
феноменология была противником, которого необходимо преодолеть и
повергнуть. Проникнув в интеллектуальные круги Франции перед Второй
мировой войной, на тот момент феноменология представлялась чуть ли
панацеей от строгостей академической мысли, и таким философам, как
Сартр или Мерло-Понти, казалась глотком свежего воздуха в затхлой
атмосфере тогдашних университетов. Однако к тому моменту, когда на
сцену вступило поколение Делёза и Фуко, она не только утратила статус
новации, но и обнаружила свою неспособность к анализу социальной
сферы. Поэтому феноменология стала представляться частью старой
метафизики, выказавшей свою анахроничность и непригодность для
решения послевоенных проблем.
Вместе с тем, феноменологию нельзя было преодолеть, не усвоив её
хотя бы отчасти. Поэтому, несмотря на негативное отношение к
феноменологии, философы делёзовского поколения искали для себя некие
альтернативные варианты феноменологии, находя их у Хайдеггера,
у раннего Сартра или у Мерло-Понти. Немецкая феноменология,
особенно в гуссерлевском варианте, не подходила французскому
интеллектуальному темпераменту и стилю философствования. А потому Делёз,
усвоив некоторые идеи трёх указанных мыслителей, нашёл аля себя
французский вариант феноменологии, на который он мог опереться —
философию Бергсона.
По словам Делёза, если у Канта трансцендентальный субъект был
субъектом поля имманенции любого возможного опыта, то у Гуссерля
имманеность стала имманентна трансцендентальной субъективности.
Поэтому в её поле появилась метка трансцендентности как акта,
отсылающего к другому «я». Таким образом, Гуссерль мыслит имманеность
как имманеность текущего опыта субъективности, однако нечто
трансцендентное в горизонте этого опыта сохраняется. Делёз отказывается
от феноменологии Гуссерля на том основании, что Гуссерль оказался
неспособен мыслить генезис на основе той парадоксальной инстанции,
которая задаёт смыслы, циркулируя между сериями означающего и оз-
302
Часть 2. Ризомл
начаемого. Напротив, Гуссерль основывает его на врождённой
способности к схватыванию «общезначимого смысла», позволяющей
усматривать самотождественность объекта как такового, и даже на основе
«здравого смысла». Делёз часто обращается к попытке выхода из
тупика статичного генезиса и имманентной квази-причины,
предпринятой молодым Сартром1, который предложил концепт
трансцендентального поля, не имеющего ни формы синтетического сознания личности,
ни субъективной самотождественности. «Когда Сартр предположил
существование безличностного трансцендентального поля, это
вернуло имманентности её права»2. Такое возвращение необходимо, ведь
«у Делёза речь идёт о том, чтобы утвердить то внешнее отношение, что
соединяет мысль с тем, что она мыслит»3.
Трансцендентальное поле смысла исключает формы личного
(манифестирующего себя субъекта), общего (объективных классов и свойств)
и индивидуального (систем, отсылающих к субъективным точкам
зрения). Гуссерль вписывает в это трансцендентальное поле центры инди-
видуации, или монады, а не кантовскую форму Я, и тем не менее терпит
неудачу, поскольку трансцендентальное поле не является ни
индивидуальным или личным, ни общим и универсальным. Выход Делёз видит
лишь в теории сингулярных точек, безличных, до-индивидуальных и но-
мадических сингулярностей. Только приняв её, «мы наконец вступаем
на поле трансцендентального»4.
Впрочем, как мы уже сказали, своим союзником в борьбе с
феноменологией Делёз видит не Хайдеггера, а, скорее, Бергсона. И
Бергсон, и феноменологи, по его словам, стремились вывести психологию
из тупика, но делали они это совершенно различно. Если
феноменология утверждает, что «всякое сознание — это сознание чего-то», то
у Бергсона «всякое сознание — это что-то». В феноменологии
сохраняется дуализм вещей и сознания, у Бергсона нет ни того, ни другого,
только образы и движения, а вернее, как говорит Делёз в книге о кино,
образы-движения. Различия между вещью и её восприятием больше
1 Sartre J.-P. La transcendence de l'Ego // Recherches philosophiques. 1936-1937. № 6.
2 Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? С. 64.
■ ZouRABiCHViLi F. Deleuze. Une philosophie de l'événement P. 17.
4 Делёз Ж. Логика смысла. С. 144.
Глава 2. От феноменологии к патафизике
303
нет. Многие философы (например, Беркли) говорили, что вещи — это
и есть восприятия, но только Бергсон сказал, что вещи сливаются с их
восприятиями1.
Основной упрёк, адресуемый Делёзом феноменологии, заключается
в том, что эта последняя «перетягивает» мир на сторону субъекта и тем
самым делает его зеркальным подобием субъекта. Феноменология
всегда описывает человеческий мир, будучи неспособна обратиться к миру
реальному. Альтернативу Делёз находит у Бергсона, который
«объясняет нам, что субъект есть следствие мира — мира бесконечно более
разнообразного и обширного, чем он сам, поэтому мир не может быть
конституирован субъектом. Человеческий субъект не является в
природе чем-то исключительным, это не её центр, не её основание, не способ
её организации, это лишь один из случаев природы»2.
Несмотря на противостояние феноменологии, в философии Делёза
можно усмотреть влияния этого движения. Весьма любопытной
представляется в этом свете работа А. Болье, который прослеживает
феноменологические линии в делёзианстве. Прежде всего, говорит этот
автор, в глазах Делёза Гуссерль не был ни другом, ни врагом, но выполнял
некую третью функцию. «Делёз не борется против феноменологии,
скорее, он сражается с ней»3. Разделавшись с гегельянством и
психоанализом, Делёз вовсе не ставит свою мысль «выше» феноменологии.
Он рассматривает феноменологию так же, как Ницше рассматривал
христианство. «Феноменология для Делёза и христианство для Ницше
обладают неким болезненным обаянием... »4 Поэтому вопрос «можно
ли считать Делёза феноменологом?» следует заменить вопросом «для
чего Делёзу нужна феноменология?». Болье утверждает, что все
решающие движения Делёзовой мысли возникли в борьбе с феноменологией.
Так, именно у Гуссерля, по словам Болье, Делёз и Гваттари нашли образ
номадической науки, которого не могло быть у Хайдеггера,
заключающего науку в сферу онтического. Однако знаменитое суждение
Хайдеггера «мы ещё не мыслим» стало основанием для этой номадической на-
Лекция 5 января 1981 г.
Монтебелло П. Бергсон и Делёз, контр-феноменология. С. 99.
Beaulieu A. Edmund Husserl // Deleuzes Philosophical Lineage. Eds. G.Jones & J. Roffe. P. 261.
Ibid. P. 262.
304
Часть 2. Ризомл
уки. А кроме того, делёзовский трансцендентальный эмпиризм родился
благодаря чтению Гуссерля, который, как и Делёз, полагал, что условия
опыта конституируются самим опытом мышления.
Делёз находит союзника в лице Хайдеггера, согласно которому «то,
что никогда и нигде не является сущим, открывается как нечто
отличающее себя от всего сущего»1. Он предлагает понимать тезисы
Хайдеггера в том смысле, что «не» выражает не отрицательность, а
различие между бытием и сущим, «между» как складка (Zwiefalt). Когда
Сартр в начале «Бытия и Ничто» анализировал вопрошание2, он
предварял открытие негативного и негативности, двигаясь против хайдег-
герианской мысли, а Мерло-Понти вдохновлялся идеями Хайдеггера,
говоря о «складке или «складчатости». Бытие — это различающее
различия, говорит Делёз, а онтологическое различие соответствует
вопросу. Понимаемое таким образом различие — это не объект
представления. В различии нет ни синтеза, ни опосредования, ни снятия,
но лишь упорство дифференциации. Однако, солидаризуясь с Хайдег-
гером, Делёз отмечает, что свой концепцией «ничто» Хайдеггер
породил недоразумение, не сумев помыслить первичное различие без
опосредования. У Хайдеггера происходит превращение: однозначное
бытие приписывается лишь различию и, таким образом, вращается
вокруг бытийствующего. Таким образом, сущее не освобождается от
подчинения тождеству представления.
Хайдеггер, замечает Делёз, обращается к лейбницевской
монадологии в попытке преодолеть интенциональность как эмпирическую
детерминацию отношений субъекта и мира. «У Хайдеггера, а затем
и у Мерло-Понти трансцендирование интенционального свершилось
в направлении Бытия, складки Бытия. От интенциональности к складке,
1 Хайдеггер М. Послесловие к «Что такое метафизика? » / Время и бытие. Статьи и
выступления. Пер. В. В. Бибихина. СПб. : Наука, 2007. С. 53.
2 «Сознание есть бытие, существование которого полагает сущность, и наоборот, оно есть
сознание бытия, сущность которого подразумевает существование, то есть видимость которого
требует бытия. Бытие повсюду. Конечно, мы могли бы применить к сознанию то определение,
которое Хайдеггер сохраняет для Dasein, и сказать, что оно есть бытие, которое в своём бытии
возбуждает вопрос о своём бытии, но потребовалось бы его дополнить и сформулировать
примерно так: сознание есть бытие, для которого в его бытии стоит вопрос о его бытии,
поскольку это бытие предполагает иное, чем оно, бытие». (Сартр Ж.-П. Бытие и ничто:
Опыт феноменологической онтологии. Пер. В. И. Колядко. М. : Республика, 2004. С. 35.)
Глава 2. От феноменологии к патафизике
305
от сущего к бытию, от феноменологии к онтологии».1 Dasein всегда
открыто и не нуждается в окнах и «отверстиях». Действительно, Хайдег-
гер в «Основных проблемах феноменологии» пишет:
Из развитого нами [описания] фундаментального устройства
Dasein — бытия-в-мире или трансценденции — можно впервые сделать
по-настоящему ясным, что подразумевает, в сущности, лейбницево
положение об отсутствии окон у монад. Dasein как монаде не требуется
никаких окон, чтобы высматривать нечто вне самого себя, не потому, как
полагает Лейбниц, что все сущее уже доступно внутри раковины и, стало
быть, вполне может быть замкнуто и инкапсулировано в себе, но потому,
что монада, Dasein, в соответствии со своим собственным способом быть
(в соответствии с трансценденцией) уже — снаружи, т. е. — при другом
сущем, а это значит — всегда при самом себе. Dasein есть вовсе не в
раковине. За счет исходной трансценденции окно становится для Dasein
излишним. Лейбниц в своей монадологической интерпретации
субстанции, без сомнения, имел в виду, говоря об отсутствии у монад окон, некий
подлинный феномен. Вот только ориентация на традиционное понятие
субстанции помешала ему понять исходное основание этого отсутствия
окон и правильно истолковать увиденный им феномен. Он не смог
увидеть, что монада, поскольку она по сути представляющая, т. е.
отражающая некий мир, есть трансценденция, а не нечто подручное наподобие
субстанции, раковина без окон. Неверно, что трансценденция
учреждается только тогда, когда некий субъект сходится с неким объектом или
некое Ты с неким Я, но само Dasein как «бытие-субъектом» трансцен-
дирует. Dasein как таковое есть бытие-к-себе, совместное-бытие с
другими при подручном и наличном. В этих структурных моментах «к-себе»,
«с-другими» и «приналичном» заключен сквозной характер преступа-
ния, трансценденции. Мы обозначаем единство этих отношений как бы-
тие-в... (In-sein), принадлежащее Dasein. Оно имеет смысл исконно
присущей Dasein доверительной близости самого себя, других, подручного
и наличного. Как таковая эта близость есть близость мира2.
У Делёза такая трактовка вызывает сопротивление. Хайдеггер,
говорит он, не понял Лейбницева условия закрытости, или замкнутости:
Делёз Ж. Складки, или Внутренняя сторона мысли / Фуко. Пер. Е. В. Семиной. Под ред.
И. П. Ильина. М., 1998. С. 143.
Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. Пер. А. Г. Чернякова. СПб. : Высшая
религиозно-философская школа, 2001. С. 399-400.
306
Часть 2. Ризомл
детерминацию бытия-для-мира, а не бытия-в-мире. «Замкнутость даёт
миру возможность заново начинаться в каждой монаде»1. Для того,
чтобы субъект существовал для мира, нужно вложить мир в субъект. Это
создаёт складку между миром и душой и позволяет душе быть
выражением мира, т. е. актуальностью, поскольку мир есть выражаемое душой
актуально, т. е. виртуальность.
Впрочем, если Делёз и впрямь отталкивался от Гуссерлевой
феноменологии как от какой-то негативной точки отсчёта, от крёстного отца
феноменологии он ушёл довольно далеко. В «Логике смысла» он
обращается к гуссурлевским «Идеям», где смысл раскрывается как ноэма
акта восприятия или как то, что выражается предложением. Здесь,
говорит Делёз, Гуссерль следует за стоиками и раскрывает «бесстрастность»
смысла, пользуясь методом феноменологической редукции. Ноэма
обладает ядром, независимым от модальностей сознания и от тетических
характеристик предложения. Поэтому она совершенно отличается от
полагаемых в качестве реальных физических качеств объекта. В ядре
ноэматического смысла возникает некий трансцендентальный центр,
представляющий собой отношение между смыслом и объектом в его
реальности. «Отношение и реальность должны теперь полагаться
трансцендентальным образом»2.
Однако гуссерлианский генезис представляется Делёзу всего лишь
ловким обманом: ядро определяется как атрибут, а атрибут понимается
как предикат — как понятие, а не как событие. Связь смысла и
объекта — это естественный результат связи между ноэматическими
предикатами, так что объект не предполагает того, что сам же он порождает.
Таким образом, это скорее кантовский «объект вообще», отношение
которого к смыслу есть внешнее рациональное отношение трансцен-
денции. А с этим Делёз никак не может согласиться:
По-видимому, Гуссерль не мыслил генезис на основе необходимо
«парадоксальной» и, собственно говоря, «не-идентифицируемой»
инстанции (утрачивающей свою идентичность и своё происхождение).
Напротив, он мыслил его на основе прирождённой способности
общезначимого смысла, ответственной за усмотрение самотождественности объекта
Делёз Ж. Складка. Лейбниц и барокко. С. 47-48.
Делёз Ж. Логика смысла. С. 136.
Глава 2. От феноменологии к патафизике
307
вообще, и даже на основе здравого смысла, ответственного за
бесконечный процесс идентификации любого объекта... Какая судьба уготована
такой философии, которая полностью отдаёт себе отчёт, что не отвечала
бы своему названию, если, хотя бы условно, не порывала с конкретными
содержаниями и модальностями doxa, но, тем не менее, продолжает
говорить о сущностях (то есть, формах) и с лёгкостью возводит в ранг
трансцендентального простой эмпирический опыт в образе мысли,
объявленной «врождённой»?1
Гуссерлю, на взгляд Делёза, не только недостаёт последовательности,
он остаётся во власти «здравого смысла» и прочих недостатков
антропоморфизма. Отходя от Гуссерля к Лейбницу, Бергсону и стоикам, Де-
лёз, по словам А. Болье, совершает «де-антропоморфизацию гуссерлев-
ской феноменологии, вводя нишеанское понятие силы, отсутствующее
в феноменологических размышлениях»2.
Таким образом, Делёз отказывается от всех и всяческих иллюзий
сознания, и в ряду феноменологов самым близким ему философом
оказывается Хайдеггер, в котором он видит последователя создателя патафи-
зики Альфреда Жарри.
§ 2.2. От Хайдеггера к Жарри и обратно
Предмет патафизики, говорит Делёз, — это то, что преодолевает
метафизику. Поскольку Хайдеггер, как и Жарри, проделал подобный
демарш, его философию можно рассматривать как развитие патафизики.
Ключевыми моментами здесь стали бытие феномена, планетарная
техника и обработка языка. Патафизика, будучи преодолением
метафизики, неотделима от феноменологии с её пониманием смысла и феномена.
У Хайдеггера, как и у Жарри, феномен больше не определяется ни как
кажимость, ни (в духе Гуссерля) как явленность. Если явленность
отсылает к сознанию, которому она является, то феномен сам себя
показывает в самом себе. Мир феноменов — это мир единичностей, которые
себя показывают и не сводятся к общим обыденностям. Феномен — это
сущее, или жизнь, тогда как бытие феномена Жарри назвал
эпифеноменом. Эпифеномен — это само-показывание феномена. А патафизика
Там же. С 137-138.
Beaulieu A. Edmund Husserl // Deleuzes Philosophical Lineage. Eds. G.Jones & J. Roffe. P. 280.
308
Часть 2. Ризомл
куда ближе к науке, нежели феноменология, ведь «любая возможная
наука продвигается лишь вдоль занавеса»1.
«Метафизика, — пишет Делёз, — это заблуждение,
заключающееся в том, что с эпифеноменом обходятся как с другим феноменом,
другим сущим, другой жизнью»2. Вместо того, чтобы рассматривать бытие
как высшее существо, якобы обосновывающее постоянство прочих
воспринимаемых сущих, следует мыслить его как Пустоту или Не-сущее,
в котором действуют единичные вариации. Сущее перечёркивает
бытие, обрекая его на смерть; жизнь убивает мысль, поэтому, как сказал
Хайдеггер, мы ещё не мыслим. Бытие — это само-показывание сущего,
однако само себя оно не показывает, постоянно скрываясь.
Единственный способ показать себя как бытие для него в том и заключается, чтобы
отступать и уклоняться. Так отступает парадоксальный «пассажир без
места», о котором часто упоминает Делёз.
Метафизика зиждется на сокрытии бытия и забвении, поскольку она
смешивает бытие и сущее. Техника, будучи господством над сущим,
завершает и реализует метафизику. Папаша Убю в кукольных пьесах
Жарри — это раздутое сущее, «исход метафизики как планетарной
техники и полностью механизированной науки»3. Недаром, говорит Делёз,
всё творчество Жарри населено машинами. У Жарри, как впоследствии
и у Хайдеггера, техника и технизированная наука не просто влекут за
собой сокрытие и забвение бытия. Бытие может показывать себя и в
технике, но понять это можно не метафизически, а лишь патафизически,
т. е. онтологически. И у Жарри, и у Хайдеггера техника оказывается
местом борьбы, схватки: бытие здесь то теряется в забвении, то
показывает себя. То, что определяет утрату бытия, является скорее
забвением забвения и сокрытием сокрытия, поскольку и забвение, и
сокрытие — это способы, какими бытие может показывать себя. Существо
техники, говорил Хайдеггер, есть, конечно, крайняя опасность, но оно
не заслоняет собой явленность бытия напрочь, а содержит в себе в то же
время ростки спасения. Именно там, где существует крайняя опасность,
«спасение коренится глубже всего, только ещё зарождаясь там»4. А по-
1 Делёз Ж. Логика смысла. С. 26.
2 Делёз Ж. Критика и клиника. С. 126.
■ Там же. С. 127.
4 Хайдеггер М. Вопрос о технике / Время и бытие. Статьи и выступления. Пер. В. В. Бибихина.
Глава 2. От феноменологии к патафизике
309
тому «именно завершение метафизики в технике и делает возможным
преодоление метафизики, то есть патафизику. Отсюда важность теории
науки и технических испытаний как составляющей части патафизики:
планетарная техника — это не только утрата бытия, но и вероятность
его спасения»1.
Жарри, продолжает Делёз, определял науку и технику как подъём
некого «эфира», как разоблачение траекторий, соответствующих
молекулярным потенциальностям или виртуальностям всех частей
объекта. Хайдеггер писал о подъёме некой «почвы», стирающей объект
ради бытийной возможности. Здесь он, по мысли Делёза, также следует
Жарри: «патафизика уже и заключает в себе великую теорию машин
и уже превосходит виртуальности сущего в направлении бытийных
возможностей»2. Планетарная техника — это место вероятных
переворотов и преобразований. Время в науке предстаёт независимой
переменной, а потому наука обосновывает возможность патафизическо-
го переворота во времени: последовательность прошлого, настоящего
и будущего уступает место со-присутствию или одновременности
бытия прошлого, бытия настоящего и бытия будущего. Присутствие —
это бытие настоящего, но также прошлого и будущего. «Эфирность»
Жарри — это темпорализация времени в трёх измерениях разом.
Машина преобразует последовательность в одновременность, достигая
затем высшего преобразования, когда бытие времени целиком
трансформируется в бытийную возможность — будущее. Машина здесь
примиряется с Длительностью, а отношение человека к машине уступает
место отношению машины с бытием человека.
Бытие, по Делёзу, показывается, постоянно отступая назад и
превращаясь в возможность. Таким образом, бытие показывается не только
в сущем, но и в том, что указывает на его неизбежное отступление, т. е.
в вещи, которая есть знак. Так совершается переход от науки к
искусству. Если машина способствует возникновению виртуальных линий,
объединяющих анатомические составляющие сущего, то поэтический знак
разворачивает все бытийные возможности, в своём единстве образую-
СП6.: Наука, 2007. С. 324.
Делёз Ж. Критика и клиника. С. 128.
Там же. С. 129.
310
Часть 2. Ризомл
щие вещь. У Жарри знак не обозначает, а показывает вещь. Чтобы знак
стал языком, нужна не научная, а поэтическая концепция языка, где
мёртвый язык трудится внутри живого. Именно так Хайдеггер заставлял
работать внутри немецкого греческий язык, создавая «новый немецкий».
«Мы топчемся внутри вопроса, что ходит по кругу, но это кружение
является наступлением нового языка»1. Предел зыка — это вещь в её
немоте. Когда язык «роет ходы», знак наконец показывает вещь.
Таким образом, если рассматривать патафизику как версию
феноменологии, которой Делёз оказывает предпочтение, можно согласиться
с замечанием К. Коулбрук о том, что «творчество Делёза можно
рассматривать как радикализацию феноменологии»2. Действительно, как
справедливо замечает эта исследовательница, Гуссерль и Хайдеггер
были предшественниками Делёза в том отношении, что отказались от
априорных положений о человеке и о мире и стали рассматривать
человеческое существование как динамический поток опыта,
становящийся во времени, а не определяемый какими-то предсуществующими
данностями. Если феноменология обратила всё своё внимание на феномены,
то Делёз радикализировал её, введя понятие симулякра. Если за
феноменами стоит некий «внешний мир», то симулякр не имеет никакого
основания. «Феноменология настаивала на том, что мы должны смотреть
на мир как на поток явлений, а не с точки зрения фиксированных
понятий или логики. Гений Делёза заключается в том, что он берёт понятие
явления (образа или "симулякра") вне обычной философской
конвенциональное™. Делёз утверждает, что если мы действительно хотим
обратиться к явлению мира независимо от суждений или пресуппозиций,
мы не должны описывать явления как явления некого мира; нет ничего,
кроме "роения" явлений, не обосновываемых ни мыслительным
опытом, ни субъектом. Симулякры — это явления или образы без почвы
или основания»3.
Симулякры, о которых говорит Делёз, не сходны с симулякрами Бод-
рийяра. Бодрийяр говорит о гиперреальности, подменяющей собой
реальность. У Делёза никакой подмены не происходит: симулякр — это
Там же. С 135.
Colebrook С. Gilles Deleuze. L.r NY.: Routledge, 2002. P. 6.
Ibid.
Глава 2. От феноменологии к патафизике
311
претендент; а претендент, будь он «хорошим» или «плохим», всегда
остаётся таковым. И действительно, радикализация феноменологии,
предпринятая Делёзом, оказывается весьма действенным средством
против метафизики сущности/явления и платоновского дуализма.
А философия симулякра и есть патафизика — по определению Жарри,
наука об эпифеноменах.
§ 2.3. Ещё раз о Бергсоне
Не существует мысли и действия. Существует действие,
которое является мыслью, и мысль, которая является действием.
П. Дриё Ла. Рошель, Дневник. 1939-1945.
Делёз неизменно подчёркивал то беспримерное значение, которое
оказал на его мысль Бергсон. В юности ему приходилось преодолевать
предубеждение интеллектуалов своего поколения в том отношении, что
Бергсон-де безнадёжно устарел и представляет собой образчик
многословной и цветистой, но плоской и бесплодной буржуазной
метафизики. Впрочем, это предубеждение в значительной мере сохранилось
и после его работ. «Когда Жиль Делёз запустил процесс возрождения
интереса к философии Анри Бергсона, начавшегося в конце
пятидесятых, детская "злость на Бергсона" отступила в бессознательные глубины
европейской мысли», — замечает В. Мюлар-Леонард1.
«Сказать, что исследование темы Делёз-Бергсон вращается вокруг
вопросов о множественности, движении, становлении и различии —
значит заявить не четыре различных проблемы, но одну и ту же
проблему, рассматриваемую под четырьмя различными углами», — пишет
К. Боундас2. Обращение к Бергсону позволило Делёзу уйти от апорий
Гуссерлевой феноменологии, утверждающей привилегию
«естественного» восприятия. Благодаря бергсонизму, продолжает К. Боундас,
отправной точкой ^ля него стал образ-движение, а мир явился ему как по-
Moulard-Leonard V Bergson-Deleuze Encounters. P. 1-2.
Boundas С. V Deleuze-Bergson: an Ontology of the Virtual // Deleuze: A Critical Reader. Ed.
P. Patton. P. 82.
312
Часть 2. Ризомл
ток. «Трансцендентальный эмпиризм Делёза, очевидно, опирается на
Бергсонову интуицию»1.
Если обратиться к текстам Бергсона, можно обнаружить в них
абрис всей Делёзовой философии. Это, конечно же, не значит, что Делёз
и впрямь был ортодоксальным бергсонианцем и слепо следовал букве
бергсоновского учения. Чтобы вычитать именно эти идеи в бергсонов-
ских текстах, нужен был именно Делёз с его необыкновенным чутьём
историка философии, способностью замечать в классических текстах
то, чего не заметил бы никто другой, и умением наделять тексты
своим собственным смыслом. Поэтому следует говорить, быть может, не
столько о бергсонианстве Делёза и о непосредственном влиянии на
него философии Бергсона, сколько о тех опорных пунктах, которые он
нашёл в работах своего великого предшественника.
В самом начале «Опыта о непосредственных данных сознания»
Бергсон заявляет, что при изучении состояний сознания необходимо
выстроить ряд интенсивностей, не накладывающихся друг на друга,
уподобляя интенсивность величине. Это вызывает необходимость
пересмотреть понятие числа. Обычно, говорит Бергсон, число
определяют как совокупность единиц, т. е. как синтез единого и
множественного. Число, представляемое посредством простой интуиции разума,
представляет собой единство, однако «это единство есть единство
суммы», поскольку охватывает множественность частей, которые можно
рассматривать в отдельности2. С другой стороны, само число есть
единица, поскольку представляет собой синтез составляющих его единиц.
«Таким образом, по-видимому, существует два рода единиц:
законченные единицы, образующие число путём сложения с самими собой,
и временные единицы, обозначающие единство числа, которое, будучи
множественностью в себе, заимствует свой характер единства у
простого акта, посредством которого наш разум его воспринимает»3. По
этому пути двинется и Делёз, утверждающий изначальность
множественности вместо её производного от единства характера.
Ibid. Р. 87.
Бергсон А. Опыт о непосредственных данных сознания / Собр. соч. в 4-х т. Т. 1. М. :
Московский клуб, 1992. С 82.
Там же. С. 84.
Глава 2. От феноменологии к патафизике
313
Идея числа, по Бергсону неизбежно предполагает созерцание в
пространстве, так что, приписывая длительности какую-либо однородность,
мы сразу вводим в неё понятие пространства. Жизнь сознания
предстаёт нам в двух аспектах, в зависимости от того, воспринимаем мы её
непосредственно или преломлённой в пространстве. Сами по себе
глубинные состояния сознания не имеют ничего общего с количеством, но
являются чистым качеством, сливаясь между собой. Длительность
внутри нас представляет собой качественную множественность, ни в чём не
сходную с числом. Интуиция однородного пространства есть первый
шаг к социальной жизни. Мы живём в обществе и пользуемся языком
благодаря тому, что постигаем внеположность вещей нашему сознанию
и однородность их среды. Однако чем полнее осуществляются
условия социальной жизни, тем сильнее «поток, выносящий изнутри
наружу наши переживания, которые тем самым мало-помалу превращаются
в вещи»1. Именно в этом смысле Делёз говорит о «материальных
потоках». А Бергсон в «Материи и памяти» добавляет: « ...Между двумя
последовательными словесными образами всегда есть интервал,
который не может быть заполнен никакими конкретными представлениями.
Эти образы всегда будут по сути дела вещами... »2
«Реальность материи, — пишет Бергсон в «Материи и памяти», —
состоит в совокупности её элементов и всякого рода их действий»3.
Делёз отстативает ту же мысль: реальность — не какая-то «сущность»,
кажущая нам себя в феноменах. Она состоит во взаимодействии сил
и событийности. В этом отношении реальность виртуальна. Более того,
у Бергсона же Делёз мог найти проблематику тождественного и
различного. Отношение причинности, говорит Бергсон, есть отношение
необходимое в том смысле, что бесконечно приближается к отношению
тождества. Принцип тождества — абсолютный закон сознания,
поскольку связывает настоящее с настоящим и выражает уверенность
сознания в себе самом. При этом принцип причинности никоим образом
не может связывать будущее с настоящим4.
1 Там же. С 109.
2 Бергсон А. Материя и память / Собр. соч. в 4-х т. Т. 1. С. 238.
3 Там же. С. 180.
4 «Нет ничего удивительного в том, что под влиянием одинаковых внешних условий я сегодня
поступаю иначе, чем вчера, ибо я меняюсь, ибо я длюсь. Но вещи, рассматриваемые вне от-
314
Часть 2. Ризомл
И наконец, у Бергсона Делёз находит для себя концепт
виртуального. Бергсон утверждает, что прошлое виртуально и воспринимается
нами как таковое лишь в том случае, если нам удаётся проследить то
движение, в котором оно развивается в образ настоящего. «Виртуальный
объект — сущностно прошлый, — пишет Делёз в «Различии и
повторении». — Бергсон в "Материи и памяти" предлагал схему мира с
двумя центрами, реальным и виртуальным, из которых исходил, с одной
стороны, ряд "образов-восприятий", а с другой —
"образов-воспоминаний" которые выстраивались в бесконечную цепь. Виртуальный
объект — не прошедшее настоящее, поскольку качество настоящего и его
модальность ухода затрагивают теперь исключительно ряд реального,
как образованного активным синтезом»1.
Но самым важным для делёзианства оказался бергсоновский проект
утверждения интуиции в качестве метода:
...Если метафизика есть не что иное, как конструкция, то
существует много метафизик — одинаково вероятных и, следовательно, друг друга
опровергающих, и последнее слово остаётся за критической философией,
которая считает всякое познание относительным и сущность вещей —
непознаваемой. Таков и был в самом деле обычный ход философской
мысли: мы исходим из того, что считаем опытом, мы пробуем различные
возможные комбинации между фрагментами, из которых он, по-видимому,
состоит, и, сознавая шаткость всех наших построений, в конце концов
отказываемся строить. — Но следовало бы сделать последнюю попытку.
Нужно было бы взять опыт в его истоках или, скорее, выше того
решающего поворота, где, отклоняясь в направлении нашей пользы, он
становится чисто человеческим опытом. Бессилие спекулятивного разума, дока-
ношения к сознанию, по-видимому, не длятся. И чем больше мы углубляемся в эту идею, тем
абсурднее становится предположение, что одна и та же причина может вызвать сегодня иное
действие, чем вчера. Правда, мы чувствуем, что хотя внешние вещи не длятся, как мы, но в силу
заключённой в них какой-то непостижимой причины явления предстают нам в форме
последовательности, а не одновременного развёртывания. Вот почему понятие причинности,
бесконечно приближающееся к понятию тождества, никогда с ним не сливается, если только мы
не осознаём со всей ясностью идею математического механизма и если ловкая метафизика не
устраняет достаточно законных сомнений по этому поводу». (Бергсон А. Опыт о
непосредственных данных сознания. С. 141.)
1 Делёз Ж. Различие и повторение. С. 130-131. «Бергсон — автор, заходящий дальше всех
в критике возможного, а также наиболее часто обращающийся к понятию виртуального», —
добавляет Делёз (Там же. С. 260.)
Глава 2. От феноменологии к патафизике
315
занное Кантом, состоит, быть может, по сути дела в бессилии интеллекта,
подчинённого определённым потребностям телесной жизни и
применённого к материи, которую надо было дезорганизовать для удовлетворения
наших нужд. В этом случае наше познание вещей соответствует уже не
основному строю нашего духа, но лишь его поверхностным и
приобретённым привычкам, внешней ему форме, заимствованной у наших телесных
функций и низших потребностей. Относительность познания поэтому
нельзя считать окончательно доказанной. Разрушая то, что создали эти
потребности, мы восстановили бы интуицию в её первозданной чистоте
и вновь соприкоснулись бы с реальностью1.
Делёз двинулся вслед за Бергсоном, проложив альтернативный путь
для разворачивания посткантианства и выработав метод
трансцендентального эмпиризма. На этом пути, по выражению Бергсона, должны
исчезнуть различия между восприятием и воспринимаемым, между
качеством и движением, а реальность должна предстать как она есть. Как
замечает В. Мюлар-Леонард, «главным следствием бергсонианской
революции стало то, что условия опыта больше не могут определяться
в рамках кантовской или традиционной феноменологии... В делёзиан-
ских терминах можно сказать, что основной эффект бергсонианской
революции состоит в разработке плана имманенции»2.
Конечно, между Бергсоном и Делёзом нет полного совпадения. Так,
Ж.-М. Салански подчёркивает различие между двумя философами в
восприятии метафизики, измеряемом отношением к эпистемологическому
идеализму. Под эпистемологическим идеализмом Салански понимает
позицию, согласно которой, во-первых, субъективность познающего
субъекта неустранима, а во-вторых, идея или идеальность трансценден-
тна по отношению ко всякой эмпиричности. «Итак, у Делёза мы видим
онтологизацию или "консервативную" натурализацию
эпистемологического идеализма, тогда как у Бергсона он полностью "отключён"»3.
Действительно, Делёз в большей степени метафизик, нежели Бергсон,
но, если он и натурализует «эпистемологический идеализм», это
отнюдь не ведёт его к идеализму субъекта. Его критика кантианства поз-
Бергсон А. Материя и память. С 276.
Moulard-Leonard V Bergson-Deleuze Encounters. P. 3.
Салански Ж.-М. Бергсон и пути современной французской философии. Пер. И. Блау-
берг // Логос. 2009. № 3. С. 34.
316
Часть 2. Ризома
воляет ему отойти от утверждения трансцендентности идеи и заявить
о её имманентности.
У Бергсона уже намечена эта критика кантианства. Если наивный
реализм видит в однородном пространстве реальную среду с
размещёнными в ней вещами, то кантовский реализм усматривает в нём
среду идеальную, где координируется множественность ощущений.
Однако и первый, и второй воспринимает эту среду как данную изначально
в качестве условия существования того, что в ней содержится. Бергсон
обнаруживает, что эта гипотеза заключается в наделении
однородного пространства какой-то бескорыстной ролью: она либо служит
поддержкой материальной реальности, либо имеет спекулятивную
функцию доставлять ощущениям средство взаимной координации. «Таким
образом, неясность реализма, так же, как и неясность идеализма,
происходит от того, что они ориентируют наше сознательное восприятие
и условия нашего сознательного восприятия на чистое познание, а не на
действие»1. Программа Бергсона выглядит следующим образом:
...Если предположить протяжённую непрерывность и, в самой этой
непрерывности, центр реального действия, ограниченный нашим телом,
эта деятельность будет как бы освещать все те части материи, которые
она в данный момент осваивает. Те же потребности, та же способность
действовать, которые выделили наше тело из материи, проведут
границы между различными телами в окружающей нас среде. Всё будет
происходить так, как если бы мы позволяли пройти через фильтр реальному
действию внешних вещей, чтобы остановить и задержать их виртуальное
действие: это виртуальное действие вещей на наше тело и нашего тела
на вещи и есть наше восприятие как таковое. Но так как возбуждения,
получаемые нашим телом от окружающих тел, беспрерывно вызывают
в его субстанции зарождающиеся реакции, и так как, таким образом, эти
внутренние движения мозговой субстанции, в какой бы момент мы её ни
взяли, намечают наше возможное действие на вещи, состояние нашего
мозга в точности соответствует восприятию. Это состояние — не
причина, не следствие и никоим образом не дубликат восприятия: оно просто
продолжает его, так как восприятие — это наше виртуальное действие,
а состояние мозга — начавшееся действие2.
Бергсон А. Материя и память. С 305.
Там же. С. 305-306.
Глава 3. Сартр: трансцендентальное эго
317
Делёз, конечно, произвёл очевидную дебиологизацию бергсонизма
и не стал пытаться построить теорию познания на психологии, однако
в метафизическом содержании программа Бергсона стала и его
проектом.
М. Хардт обнаруживает в бергсонианских штудиях Делёза двойную
программу. Во-первых, Делёз использует Бергсонову критику
онтологической традиции, чтобы показать слабость негативной
диалектики Гегеля. Во-вторых, он разрабатывает позитивную бергсонианскую
программу различия, стремясь выработать достойную альтернативу
традиционной онтологии1. Соответственно Хардт предлагает
тематически различать два периода в обращении Делёза к творчеству
Бергсона — середину 1950-х и середину 1960-х гг. Впрочем, Делёз неизменно
возвращался к мысли Бергсона в своих лекциях и в позднейших книгах.
Поэтому едва ли стоит говорить, что к творчеству своего великого
предшественника он обращался лишь дважды.
ГЛАВА 3. САРТР: ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЕ ЭГО
Другой, другой... Что же это такое другой?
И. А. Гончаров, Обломов.
Жан-Поль Сартр был сакральной фигурой послевоенной
французской философии. С его именем связывался не только прорыв в
философии и отказ от замшелого академизма, но и образец политически
ангажированного интеллектуала, стремящегося к предельной честности
с собой и со всем миром. И вместе с тем, он представлял собой
отцовскую фигуру, которая подавляла своей мощью и занималась
«интеллектуальным терроризмом». Молодой Делёз был страстно увлечён
философией Сартра. Впоследствии пришло разочарование и критическое
отношение. Тем не менее, влияние Сартра на делёзовскую философию
сохранялось, и сам Делёз этого не скрывал.
Hardt M. Gilles Deleuze. An Apprenticeship in Philosophy. P. 2.
318
Часть 2. Ризомл
В 1964 г., через месяц после отказа Сартра от Нобелевской премии,
Делёз опубликовал статью под названием « Он был моим учителем... » \
где высказал своё отношение к тому, кто когда-то вызывал у него
восхищение.
Даже Сорбонна нуждается в анти-Сорбонне: студенты внимательно
слушают своих преподавателей только когда у них есть и другие учителя.
Ницше в своё время отказался от преподавательской деятельности,
чтобы сделаться частным мыслителем. Сартр сделал то же самое в другом
контексте и с другим результатом. У частных мыслителей есть две черты:
своеобразное одиночество, сохраняющееся при любых обстоятельствах,
а также некая взбаламученность, некая беспорядочность того мира,
в котором они появляются и говорят. Кроме того, они говорят лишь от
собственного имени, никого не «представляя»... Первоначально Сартр
мыслил писателя как человека среди прочих, обращающегося к ним
исключительно с точки зрения их свободы. Вся его философия вписывалась
в спекулятивное движение, ниспровергавшее понятие репрезентации,
самый порядок репрезентации: философия меняла своё место, покидала
сферу суждения, переходя в мир «до суждений», «до репрезентаций».
Сартр только что отказался от Нобелевской премии. Практическое
следствие этого отношения, ужаса при мысли практически представлять
что-либо, будь то духовные ценности или, как он говорит, бытие инсти-
туализованным2.
Эти проблемы волновали и самого Делёза. Роль интеллектуала после
Второй мировой войны изменилась. Если прежде интеллектуал
выступал от лица масс, то теперь он стал частным лицом, говорящим лишь от
себя. И тем не менее, эта «частность» была связана с политической
ангажированностью. « ..."Частный мыслитель", — писали Делёз и Гватта-
ри в «Тысяче плато», — не самое удовлетворительное выражение, ибо
оно преувеличивает внутреннее, тогда как речь идёт о мысли вовне»3.
Deleuze G. «Il a été mon maître...»// Arts. 1964.28 novembre. P. 8-9.
Deleuze G. «Il a été mon maître... » / L'île Déserte.Textes et entretiens 1954-1974. P. 110-111.
Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. С. 632. «У Сартра, каковы бы ни были его сила и талант,
была классическая концепция интеллектуала, — говорил Делёз в 1986 г. — Он выступал от
имени высших ценностей, Добра, Справедливости, Истины. Я вижу прямую преемственность
между Вольтером, Золя и Сартром. Это интеллектуал, выступающий от имени ценностей
истины и справедливости». (Deleuze G. Foucault et les prisons / Deux régimes de fous. Textes et
entretiens 1975-1995. P. 259.)
Глава 3. Сартр: трансцендентальное эго 319
Интеллектуал теперь ставит свою мысль в прямую связь с внешним,
превращая её в «машину войны».
Мы говорим о Сартре так, словно бы он принадлежал ушедшей
эпохе. Увы! скорее, это мы сами устарели для современного
нравственного и конформистского порядка. Во всяком случае, Сартр позволяет нам
смутно различить некое будущее, когда мысль сформируется заново и
достигнет своей тотальности, став одновременно коллективной и частной
силой. Поэтому Сартр остаётся нашим учителем1.
Мы помним, сколь усердно молодой Делёз штудировал «Бытие
и ничто» Сартра, как и то, что он в Сартре разочаровался. И тем не
менее, если полистать «Бытие и ничто», можно обнаружить, что эти
юношеские штудии не прошли для него даром, хотя он и понял Сартра по-
своему, зачастую вопреки самому Сартру
Сартр начинает свой трактат с обзора достижений Гуссерлевой
феноменологии и сразу же говорит об освобождении дуализма
внутреннего и внешнего. «Нет больше внешнего, если под ним понимать
поверхностную оболочку, которая скрывала бы от взглядов истинную природу
объекта. В свою очередь, нет и той истинной природы как сокровенной
реальности вещи, существование которой можно предчувствовать или
предполагать, но до которой никогда не добраться, поскольку она всегда
остаётся "внутри" рассматриваемого объекта. Явления, которые
обнаруживают сущее, не внутренние и не внешние: все они стоят друг друга,
все они отсылают к другим явлениям и ни одно из них нельзя
предпочесть другому... Ни одно из них не указывает на что-либо позади себя:
оно обозначает само себя и весь ряд в целом»2. Делёз склонен
интерпретировать это положение не в гуссерлианском, а, скорее, в лейбници-
анском духе: всякая монада содержит собственную полноту и полноту
всех прочих монад. Монадой же у него оказывается не гуссерлианский
феномен, а событие. Впрочем, и сам Сартр склоняется, скорее, к
гегелевской феноменологии: «Феномен, — говорит он, — можно
исследовать и описывать как таковой, потому что он абсолютно изъявляет
самого себя»3. На наш взгляд, Сартра вообще слишком часто считают
DeleuzeG. «Il a été mon maître... » P. 112.
Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 20.
Там же. С. 21.
320
Часть 2. Ризомл
«экзистенциалистом» и слишком редко вспоминают о том, что он был
блестящим диалектиком и глубоким метафизиком. Если феномен
должен раскрыть свою трансцендентность, говорит он, то необходимо,
чтобы сам субъект вышел за пределы явления к целому ряду, одним из
членов которого является феномен. Границей так понимаемой
феноменологии, по Сартру, оказывается превращение вещей в целостность их
проявлений, требующих бытия, которое не было бы видимостью. При
этом percipi отсылает к percipiens, бытие которого открывается нам как
сознание. «Это вовсе не субъект в кантианском понимании, но сама
субъективность, имманентность себя себе»1. Делёзу остаётся сделать
лишь один шаг — отбросить гегельянское гипостазирование, — чтобы
прийти к «трансцендентальному эмпиризму»2.
Сартр этого шага не делает и натыкается на дуализм бытия-в-себе
и бытия-для-себя. Он отказывается и от кантовского вопрошания
опыта об условиях его возможности, и от феноменологической редукции,
превращающей мир в ноэматический коррелят сознания, а заодно и от
сложения модусов спинозистской субстанции в попытке получить
целое. Всё это он считает безнадёжным. Но, если Сартр пытается то
произвести конкретное из абстрактного целого, то собрать единое из
многого, тогда как Делёз заранее отказывается от такой попытки и признаёт
множественность онтологически достаточной. Тем самым он избегает
дуализма с его апориями.
Сартр в своей квази-онтологии (мы используем это выражение не
в уничижительном смысле, но с тем, чтобы подчеркнуть, что онтология
у него предполагается, намечается, а главное — обещается, но
обещание так и остаётся невыполненным) приходит к формуле «Бытие есть
Там же. С. 30.
«Вопреки всем усилиям Сартра, — пишет Делёз, — мы не можем рассматривать сознание
как среду, но в то же время мы выступаем против формы личности и точки зрения
индивидуальности. Сознание — нечто без синтеза объединения, но не существует синтеза
объединения сознания без формы Я, без точки зрения Эго. Напротив, то, что не выступает ни как
индивидуальное, ни как личное, является источником сингулярностей, поскольку они
занимают бессознательную поверхность и обладают подвижностью, имманентной способностью
само-воссоединения через номадическое распределение, которое радикально отличается от
фиксированных и оседлых распределений как условий синтезов сознания». (Делёз Ж.
Логика смысла. С. 144.
Глава 3. Сартр: трансцендентальное эго
321
это, и вне этого — ничто»1, которая, пожалуй, вызвала бы сомнение
у Парменида. Делёз, напротив, усматривает некое изъятие в самом
плане бытия — пустую клетку, вечно перемещающуюся во
множественности сущего. Сартр оказывается захвачен идеей ничто, со всех сторон
окружающего это, тогда как «пустая клетка» Делёза позволяет ему
избавиться от этой бездны. Гностической мысли Сартра Делёз
противопоставляет мысль стоическую.
И тем не менее, именно у Сартра (и именно в «Бытии и ничто»)
молодой Делёз мог найти образ плоского мира, целиком
исчерпывающегося своими поверхностями. И метафизика Сартра, и его
антиметафизический запал в равной мере важны для Делёза. С одним, но
фундаментальным отличием: если Сартр идёт по стопам Декарта и Гегеля,
то Делёз следует Спинозе и Канту, которого он считал своим врагом.
Но их эпистемологические идеи обнаруживают несомненное сходство.
«Познание является одновременно проникновением внутрь и лаской по-
верхности, — пишет Сартр, — пищеварением и созерцанием на
расстоянии объекта, не изменяющего своей формы, результатом мышления
посредством непрерывного творения и результатом установления
полной объективной независимости от этого мышления»2. Разве не могла
бы эта фраза находиться не в «Бытии и ничто», а в «Логике смысла»?
Сартр утверждает, что понимание свободы как «возможности для
человеческой реальности выделять ничто, которое её изолирует»3 он
нашёл у Декарта, который, в свою очередь, почерпнул его у стоиков. Но
заодно Сартр принимает и картезианского субъекта (а главное —
отождествление субъекта с телесным индивидом), которого Делёз считает
лишь эффектом машинного плана. А основывать «бытие-свободным»
на машинном эффекте было бы нелепо. Таким образом, Делёз отвергает
то, что молчаливо и как само собой разумеющееся принимает Сартр, —
и картезианство, и гегельянство, — зато сохраняет стоическое
понимание телесности.
Делёз расходится с Сартром и в понимании возможного. Лейбниц,
говорит Сартр, хотел придать возможностям автономию, утверждая,
что возможности организуются в со-возможные системы, самые пол-
1 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 44.
2 Там же. С. 583.
3 Там же. С. 61.
322
Часть 2. Ризомл
ные из которых могут реализоваться. «Но здесь только набросок
доктрины; и Лейбниц его не развил, без сомнения, потому, что такой
доктрины не может быть... »* Делёз попытался развить такую доктрину.
Различие в установках двух философов, пожалуй, исчерпывающе
объясняется сартровским историцизмом, который чужд Делёзу. И сам
Сартр очень ясно говорит, что порядок интерпретации для него строго
хронологичен и не сводится к логической или логико-хронологический
цепочке детерминизма2.
Пожалуй, ближе всего Делёзу сартровское рассуждение о
трансцендентности эго. Эго, говорит Сартр, не принадлежит к сфере для-себя.
Основанием его трансцендентности выступает то обстоятельство, что
оно пребывает в-себе. Сознание или Я не исчерпывает эго и не
вызывает его к существованию. «... Эго появляется для сознания как
трансцендентное в-себе, как существующее в человеческом мире, а не как из
сознания»3. Эго не выступает персонализирующим полюсом сознания;
наоборот, сознание допускает появление эго при определённых
условиях в качестве его трансцендентного феномена. Несправедливо
представлять Я каким-то обитателем сознания; эго — это себя сознания, и
больше оно ни к чему не отсылает. Эго — это знак личности. «... Я ничтоже
сумняшеся выставляю "Я" за двери сознания, как какого-нибудь
нескромного посетителя»4. Делёз тоже выставил его за дверь5.
1 Там же. С 129.
2 Там же. С. 479.
3 Там же. С. 135. («Для-себя-бытие уничтожает себя через отношение к целостности в-себе-
бытия. Эта первичная связь для-себя-бытия с целостностью в-себе-бытия как связь с тем, что
мы есть, и есть то, что мы называем бытием-в-мире. Быть-в-мире значит стать отсутствием
мира. Единство сознания и мира предшествует сознанию и миру. Быть сознанием значит стать
не-миром в присутствии мира, то есть стать в точности и конкретно тем, что не есть этот-
здешний-мир». (Сартр Ж.-П. Дневники странной войны. Пер. О. Волчек и С Фокина. СПб. :
Владимир Даль, 2002. С. 45.))
4 Сартр Ж.-П. Дневники странной войны. С. 659.
5 «Феноменологическому трансцендентализму Делёз противопоставляет новую концепцию
трансцендентального, которую он возводит к другому ряду мыслителей: Бергсону, Сартру, Си-
мондону, — пишет П. Монтебелло. — Предлагая прочтение "Трансцендентности Эго"
Сартра и "Индивида и его физико-биологического генезиса" Симон дона в "Логике смысла", а также
интерпретацию первой главы "Материи и памяти" в "Бергсонизме" и в "Кино-Г, Делёз
преследует одну и ту же цель. Он опирается на Сартра в его проекте "обновления" и "очищения"
понятия трансцендентального. Известно, что Сартр обнаруживает позади "Я" нететическое,
не самополагающее сознание, безличную спонтанность, и утверждает, что "Я" — не более чем
Глава 3. Сартр: трансцендентальное эго
323
Но самым проблемным моментом &ля Сартра остаётся бытие
другого. Даже если эмпирическое Эго существует в трансцендентальном
поле без субъекта, говорит он, это предполагает существование за его
пределами другого трансцендентального поля1. Если феноменология
Гуссерля, столкнувшись с этой проблемой, увязла в солипсизме, то
Делёз находит выход в монадологии, которая Сартру представляется
неприемлемой, — он признаётся, что скорее готов принять гегелевскую
идею о сознании как самосознании, да и то не применительно к
конкретному сознанию. Но, если Гуссерль измерял бытие познанием, а
Гегель отождествлял познание и бытие, то Хайдеггер, считает Делёз,
добился большего успеха со своим Mitsein.
Отличие Делёза от Сартра — это отличие поколенческое. Если
поколение Сартра, увлечённое феноменологией и, как и вся
феноменология, мыслящее картезиански, пытается прийти к «мы», отталкиваясь от
«я», добраться до многого исходя из единичного, то поколение Делёза,
отвернувшееся от феноменологии с её картезианскими апориями,
отказывается видеть эти разрывы, обращаясь непосредственно к «мы»
и допуская возможность онтологии множественности. Хотя Сартр
и признаёт вписанность индивида в социальные серии, для него тот
неизменно остаётся «я» и из всех серий выпадает, а между «я» и всякой
серией разверзается пропасть. Делёз предпочитает говорить о рядах как
таковых, причём сам индивид для него также оказывается серией —
машиной, планом и т. п. Это и позволяет ему избежать дуализма, от
которого так и не смог отделаться Сартр.
«Мы мыслим повторами, — писал Сартр, — нельзя потерять
забытую идею: её не найдёшь, когда ищешь, но к вам придёт другая, совер-
его рефлексивная сторона. Делёз радикализует это выхождение "Я" за свои пределы, упраздняя
посредническую роль сознания: более нет никакой необходимости прибегать к безличной
спонтанности, сохраняющей свойства сознания. Ибо трансцендентальное обозначает теперь
не условие возможности априорного познания, замыкающего нас в области субъективного,
но конкретный генезис конкретных экзистенций, иными словами, оно указывает на до-
индивидуальную, до-личностную реальность, которая порождает физические, биологические
и психологические индивидуальности. Мир возвращает себе силу порождения вне и помимо
субъекта. Субъект более не источник генезиса, но самя является порождённым». (Монте-
белло П. Бергсон и Делёз, контр-феноменология. С. 99.)
Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 659.
324
Часть 2. Ризомл
шенно новая — и она будет той же самой»1. Выше мы уже говорили
0 том, что, по Делёзу, о повторении нельзя вести речь, не учитывая
различия, вносимого им в созерцающее сознание. Эта мысль
непосредственно пересекается с сартровским положением о том, что «недиф-
ференцированность-в-себе находится по ту сторону бесконечности
утверждений себя в той мере, в какой есть бесконечное число
способов утвердиться». Однако Сартр делает из этого заключение о том, что
бытие не отсылает к себе как сознание себя, но есть в себе,
поскольку «непрерывная рефлексия, которая образует себе, основывается на
тождестве»2. Делёз, опровергая эту самотождественность, говорит об
активном и пассивном синтезах, где первый представляется
посредством второго. «Различие существует между двумя повторениями»3,
а не в основанной на тождестве рефлексии.
Делёз выступает против философских концепций, сводящих
другого к частному объекту или к другому субъекту. Ближе прочих на этом
пути к нему оказывается Сартр, который в «Бытии и ничто» попытался
преодолеть альтернативу: является ли другой объектом или субъектом.
Поэтому, по мнению Делёза, «Сартр выступает как предшественник
структурализма, ибо он первым стал рассматривать другого как
реальную структуру, или некую специфичность, не сводимую ни к объекту, ни
к субъекту»4. Но даже Сартр, замечает Делёз, удовольствовался тем, что
сделал другого объектом моего взгляда. Тем самым Сартр возвращается
к категориям объекта и субъекта.
Другой — ни объект моего восприятия, ни воспринимающий меня
субъект. Он изначально является структурой перцептивного поля, без
которой само перцептивное поле не может функционировать как
таковое. « ...Априорный другой — как абсолютная структура —
устанавливает относительность другого в качестве посредника,
актуализирующего такую структуру внутри каждого поля. Но что это за структура?
Это — структура возможного»5. Другой представляет собой
экзистенцию заключённого в нём возможного, а язык выступает реальностью
1 Сартр Ж.-П. Дневники странной войны. С. 653.
2 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. С. 38.
3 Делёз Ж. Различие и повторение. С. 102.
4 Делёз Ж. Мишель Турнье и мир без другого / Логика смысла. С. 407 (перевод исправлен).
5 Там же. С. 403.
Глава 3. Сартр: трансцендентальное эго
325
возможного как такового. Другой в качестве структуры есть
выражение возможного мира, а не одна из структур перцептивного поля, как
представлялось Сартру. «Как раз не Эго, а другой как структура
делает восприятие возможным»1. Структура другого предшествует
взгляду, маркируя тот момент, когда некто случайным образом заполняет эту
структуру. От неё зависит даже желание, поскольку Я желаю некий
объект только как выраженный другим в модусе возможного, т. е.
выражаемые другим возможные миры. Вслед за Лаканом Делёз различает двух
«других» — априорного и конкретного. Если априорный другой
обозначает структуру перцептивного поля, то другой конкретный
присутствует в том или ином поле восприятия и есть кто-то для кого-то.
В этом моменте к Сартру, конечно, оказывается ближе Лакан,
нежели Делёз. «Чтобы имело место желание, необходимо, чтобы желанный
объект конкретно присутствовал — именно он, а не какой-то другой —
в сокровенной глубине для-себя-бытия, но чтобы он присутствовал
в виде ничто, каковое его затрагивает, или, точнее, в виде нехватки, —
писал Сартр. — А это возможно лишь в том случае, если для-себя-бы-
тие в самом своём существовании может быть определено через эти
нехватки. То есть, ни одна нехватка не может прийти в для-себя-бытие
извне»2. Делёз отказывается от понимания желания как
проистекающего от недостатка или нехватки чего-либо, сохраняя остаточную сартров-
скую конструкцию.
Стремясь избавиться от психологизма и натурализма,
феноменология, по словам Делёза, сама выходит за пределы интенциональности
как взаимосвязи сознания со своим объектом. У Хайдеггера и у
Мерло-Понти трансцендирование интенционального вело к складке
Бытия. «Сартр, напротив, не пошёл дальше интенциональности, так как он
удовлетворялся просверливанием "дыр" в сущем, не доходя до складки
существования » 3.
В «Анти-Эдипе» Делёз и Гваттари солидаризуются с
«Критикой диалектического разума», отрицающей классовую спонтанность
и утверждающей спонтанность «группы»4. Эта сартровская книга, без
1 Там же. С. 405.
2 Сартр Ж.П., Дневники странной войны. С. 525.
3 Делёз Ж. Фуко. С. 144.
4 Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. С. 404.
326
Часть 2. Ризомл
энтузиазма принятая в партийных кругах, стала едва ли не главным тере-
тическим текстом для реформистских групп 1960-х гг. Во всяком случае,
она оставалась таковой до появления «Анти-Эдипа», в котором была
предложена новая стратегия коллективного действия.
Впрочем, во многих других отношениях Делёз расходится с Сартром.
В частности, в чрезвычайно важном для обоих философов вопросе о
литературе. Настаивавший на необходимости ангажированноти
литературы Сартр утверждал, что определяющий ценность прозы стиль должен
оставаться незаметным («если же читатель попробует отдельно
оценивать слова и фразы, то потеряет общий смысл, и тогда останутся одни
только скучные и выверенные периоды»1). Делёз, напротив,
отказывается от мысли об ангажированности литературы. Именно стиль,
бросающийся в глаза из-за составляющих его «неправильностей» (диалекты,
сленг, неправильное словоупотребление), оказывается подрывным
орудием в борьбе с тоталитаризмами. Сартр полагает, что книга — не орудие
достижения свободы; напротив, книга предлагается читателю в качестве
«цели для его свободы». Для Делёза это именно орудие, причём в сарт-
ровском смысле — как «овеществлённый набросок процедуры»2.
ГЛАВА 4. КАК РАСПОЗНАТЬ СТРУКТУРАЛИЗМ
Значение структурализма мя философии в целом состоит
в том, что он смещает привычные границы.
Ж. Делёз, Логика смысла.
Имя Делёза неизменно упоминается в ряду философов,
составляющих мощное течение во французской мысли, которое принято называть
то структурализмом, то постструктурализмом. Однако его
«структурализм» носил весьма своеобразный характер. Несомненно, с
прочими «структуралистами/постструктуралистами» Делёза роднит
противостояние общему врагу — картезианской теории субъекта. Однако
Сартр Ж.-П. Что такое литература? Пер. Н. И. Полторацкой. СПб. : Алетейя, 2000. С. 25.
Там же. С. 47.
Глава 4. Как распознать структурализм
327
при этом Делёз не разделял со структуралистами ни постулирования
универсальной структуры, ни пантекстуализма. «Делёз
приветствовал эту атаку на cogito, — пишет Р. Боуг, — однако он подверг
сомнению эпистемологический статус безличных структур, определяющих
субъективность » *.
Структурализм в 1960-х гг. был повальной модой в гуманитарных
науках, использовавших в качестве модели образцовой науки лингвистику.
Действительно, лигвистика стала научной дисциплиной, находящей свои
основания в себе же самой и претендующей на охват всего пространства
науки. Для философии XX века с её пристальным вниманием к
проблемам языка структурализм виделся едва ли не универсальным решением.
Исследование структур вело к отказу от метафизики и телеологизма в
гуманитарных и социальных науках. Поэтому к структуралистскому
движению примкнули все, кто считал необходимой борьбу с пороками
метафизики. Более того, структурализм стал символом социальной борьбы за
освобождение от гнёта традиционных структур и институтов.
И в то же самое время, в 1960-х гг., начался процесс по преодолению
догматических установок, которые неизбежно влёк за собой
структурализм. А преодолевать было что. Двумя главными недостатками
структуралистского течения в гуманитарных науках были онтологизация
Структуры, начавшаяся ещё в работах Леви-Строса, и пантекстуализм,
сводивший всю реальность к знаковым комплексам. А кроме того, уже
сам термин «структурализм» в 1960-е стал термином во многом
негативным, поскольку объединял людей, сплачивавшихся в
противостоянии общему противнику, но двигавшихся разными путями и в равных
направлениях. Громоздкий термин «постструктурализм» укрепляет
эту разнородность2.
Уже в «Различии и повторении» Делёз подверг пантекстуалистскую
установку структурализма резкой критике. Вопрос о том,
структурирован ли психический опыт как язык или похож ли психический мир на
Bogue R. Deleuze and Guattari. P. 3.
Конечно, обозначение это весьма расплывчато и носит условный характер. Нельзя не
согласиться с Дж. Халфа, который говорит, что «было бы ошибкой наклеивать на него [Делёза —
А Д.] ярлык "пост-х" мыслителя: пост-структуралист, пост-модернист, пост-спинозист или
пост-ницшеанец, или даже пост-утопист или нео-мистик... » (Khalfa J. Introduction //
Introduction to the Philosophy of Gilles Deleuze. P. 5.)
328
Часть 2. Ризомл
текст, говорит он, зависит от сущности «тёмного предшественника».
Поскольку сам этот агент не обладает тождественностью, это «слово
о словах», претендующее не на высказывание вообще, а на
высказывание смысла сказанного. Однако в репрезентации он выступает
языковым законом, а значит, смысл слова может быть высказан лишь другим
словом. Поэтому лингвистический «предшественник» относится к
метаязыку и может быть воплощён только в слове, лишённом смысла с
точки зрения вербальной репрезентации. Другими словами, в силу
скольжения между рядами он высказывает свой смысл лишь как бессмыслицу.
Таким образом, бинарная схема структурализма не работает.
Но вместе с тем, Делёз считает структурализм единственным
способом реализации генетического метода в строгих науках. Генезис, говорит
он, продвигается не от одного актуального к другому, но от
виртуального к актуализации, т. е. от структуры к её воплощению1. Поэтому он
признаёт правоту Л. Альтюссера, обнаружившего в «Капитале»
Маркса «структуру» и отвергнувшего его историцистские интерпретации2.
Примером структуралистского подхода Делёз считает утверждение
К. Маркса о том, что «человечество ставит себе всегда только такие
задачи, которые оно может разрешить»3: экономические условия задачи
определяют способ её решения в рамках реальных общественных
отношений, а само решение всегда зависит от того, как общество смогло
поставить задачи в воплощаемых им дифференциальных отношениях.
Кроме того, Делёз признаёт правоту структурализма в положении о том, что
0 форме и содержании можно говорить только в связи с изначальными
и нередуцируемыми структурами, в которых те организуются4.
Делёз принимает структурализм с той поправкой, что структура
невозможна без серии, без отношений между терминами каждой серии
(т. е. серии означающих и серии означаемых) и без соответствующих
1 Делёз Ж. Различие и повторение. С. 227.
2 «... Эта структура действует совсем не переходным путем, не в порядке последовательности
во времени, но воплощает своё разнообразие в различных обществах, каждый раз в каждом
из них отдавая себе отчёт в одновременности всех связей и пределов, образующих их
актуальность: вот почему "экономика" никогда не дана в прямом смысле: она обозначает
дифференциальную виртуальность интерпретации, всегда скрытую формами актуализации, темой,
"проблематикой"... ». (Тамже. С 230.)
3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 13. С. 6.
4 Делёз Ж. Логика смысла. С. 131.
Глава 4. Как распознать структурализм
329
этим отношениям сингулярных точек1. Сериальная форма требует по
меньшей мере двух серий, в которых она реализуется. Всякая
уникальная серия разворачивается в две разнородные серии. Таким образом,
это форма мульти-сериальная. Сходным образом в математике
построенная вокруг одной точки серия значима только в связи с другой серией,
выстроенной вокруг другой точки.
Более того, «не существует структуры без пустого места,
приводящего всё в движение»2. Поэтому парадокс Леви-Строса,
заключающийся в том, что в любой знаковой системе всегда существует избыток
означающих при дефиците означаемых, Делёз понимает как то, что он
назвал «парадоксом Лакана» : в каждой серии всегда присутствует
инстанция, которой недостаёт своего места и которая в одной из серий
выступает как избыток, а в другой — как недостаток. Это позволяет ему
избежать онтологизации структуры, которая имела место у
Леви-Строса, — правда, за счёт её мистификации.
Леви-Строс, говорит Делёз, сформулировал сериальный парадокс,
имеющий форму антиномии: даны две серии — означающая (избыточ-
В приводимой ниже таблице мы попытались резюмировать кочующее из одного
произведения в другое делёзовское представление о единой структуре смысла:
Лингвистическая
теория
( « Логика смысла ».
1969.)
Теория
желающего
производства
(«Капитализм
и шизофрения». 1972.)
Метафизика складки
(« Складка. Лейбниц
и барокко». 1988.)
Дуальность серий
Наличие двух
разнородных серий,
одна из которых
определяется как
«означающая»,
а другая — как
«означаемая»
Антагонизм
« машин-органов»
и «тела без
органов»
Два «этажа»
складки
Взаимоопределённость серий
Задавание каждой
серии терминами,
существующими
исключительно
посредством
отношений между ними
«
Машины-органы» и «тело без
органов» работают
только сталкиваясь
с сопротивлением
друг другу
Взаимная
определённость «этажей»
Наличие общего
элемента
Схождение
разнородных серий к некоему
« различителю »,
принадлежащему
к обеим сериям разом
«Желающее
производство» возможно
только при наличии
бессознательного
«субъекта»
производства
Смысловая
определённость сторон
посредством складки
Делёз Ж. Логика смысла. С. 79.
330
Часть 2. Ризомл
ная) и означаемая (недостаточная). Серии отсылают одна к другой
благодаря этим избытку и недостатку и всегда остаются неравновесными.
Совпадение между ними или совмещение; таким образом, невозможны.
Означающая серия образует первичную тотальность, тогда как серия
означаемая составляет производную целостность. Проанализировать
этот парадокс Делёз предлагает обратившись к развитию общества.
Всякое общество всегда представлено всеми своими законами разом.
Но, завоёвывая природу оно развивается постепенно. Поэтому закон
обладает силой ещё до того; как становится известен объект его
приложения (этот объект вообще может не быть познан никогда). Это
неравновесное положение делает возможными революции. Таким образом,
революции становятся возможными не из-за технического прогресса,
а из-за зазора между сериями, провоцирующего перестройку
экономической и политической структур в соответствии с техническим
прогрессом. Реформизм и технократия, направленные на частичную
реорганизацию социальных отношений; представляет собой такую же ошибку как
и тоталитаризм, стремящийся к охвату всего; что поддаётся означиванию
и познанию. Революционность живёт лишь в зазоре между сериями.
В парадоксе Леви-Строса непременно присутствует «плавающее»
означающее, сулящее революцию. С другой стороны, здесь же
присутствует «утопленное» означающее, которое никак не определяется и не
реализуется; это значимость; лишённая всякого смысла и потому
способная принять любой смысл, заполняя зазор между означающим и
означаемым. «То; что в избытке в означающей серии, — это буквально
пустая клетка, постоянно перемещающееся место без пассажира. То;
чего недостаёт в означаемой серии; — это нечто сверхштатное, не
имеющее собственного местоположения: неизвестное, вечный пассажир
без места, или нечто всегда смещённое»1.
Такие характеристики сериальное™ позволяют Делёзу определить
минимальные условия структуры вообще. Во-первых, здесь должны быть
по меньшей мере две разнородные серии, одна из которых определяется
как означающая, а другая — как означаемая. Во-вторых, каждая серия
задаётся терминами, существующими благодаря отношениям с
другими терминами. Таким отношениям соответствуют сингулярности, или
Там же. С. 77.
Глава 4. Как распознать структурализм 331
события внутри структуры, составляющие её внутреннюю историю.
Структура включает в себя два распределения сингулярных точек,
соответствующих двум базовым сериям. В-третьих, две разнородные
серии должны сходиться к парадоксальному элементу, выступающему их
«различителем». Этот элемент лишён самотождественности и в одной
серии проявляется как избыток, а в другой в то же самое время — как
недостаток. Каждой серии структуры соответствует совокупность син-
гулярностей, а каждая сингулярность служит источником расширения
серий в направлении к другим сингулярностям. Поэтому можно сказать,
что в структуре содержится несколько расходящихся серий, а всякая
серия сама задаётся несколькими сходящимися под-сериями.
Структура, говорит Делёз, — это машина по производству
бестелесного смысла. Структурализм смещает центр внимания с сущностей на
понятие смысла, а «смысл — это не то, что можно открыть,
восстановить и переработать; он — то, что производится новой машинерией»1.
Леви-Стросу Делёз предпочитает Э. Лича — британского этнолога,
который занимается не семейными отношениями, но локальнами
группами родства. Эти группы родства, говорит Делёз в лекции 16 ноября
1971 г., представляют собой реакцию на политическую данность и
развивают определённую стратегию.
В « Анти-Эдипе» Делёз и Гваттари используютлеви-стросовское
понятие бриколажа, который воспринимают как «способность включать
фрагменты во все новые фрагментарные образования»2, отказавшись
от различения производства и произведённого, инструмента и
продукта. Но в целом это была анти-структуралистская книга. Как замечает
Ф. Досс, «"Анти-Эдип" был задуман как настоящая машина войны со
структурализмом и значительно поспособствует деконструкции
парадигмы 1967-1968 гг. Он будет функционировать как адская машина,
взрывающая структуралистскую парадигму изнутри»3. Действительно,
работая над «Анти-Эдипом», Делёз говорил, что структурализм — это
последняя попытка спасти Эдипа, когда тот трещит по всем швам4.
1 Там же. С 104.
2 Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. С. 21.
3 Dosse F. Gilles Deleuze et Félix Guattari. P. 277.
4 Лекция 16 ноября 1971 г.
332
Часть 2. Ризомл
Вместе с тем, Делёз принимает озвученную Лаканом и общую для
всего постструктурализма мысль о том, что означающие отсылают
к другим означающим. Заслуга Лакана, говорит он, заключается в том,
что этот реформатор фрейдизма запустил эдипальный психоанализ в
параноическую машину. Высказывание — не продукт системы значения,
это продукт машинной планировки. Утверждать, что именно субъект
производит высказывание, — значит делать высказывание
невозможным1. Есть люди, говорил Делёз, считающие, что существуют системы
аналогии или гомологии и что все высказывания отсылают к некой
общей структуре, — это структуралисты. Другие полагают, что
производство высказываний зависит от некоторой сверхдетерминирующей
области, определяющей всё прочее, — это марксисты. Делёз ищет
некий третий путь2.
В 1968 г. Делёз написал статью «По каким критериям узнают
структурализм?», где предложил, быть может, не столько оценку
движения, с которым его многие отождествляли, сколько собственное
видение того, чем должен быть структурализм, подобно тому, как Климент
Александрийский писал не об исторически существовавших гностиках,
а о том, каким ему видится совершенный гностик. Здесь Делёз признаёт,
что структурализм — не какая-то строго очерченная школа с
членством и единством устремлений, а группа мыслителей, каждый из
которых движется в собственном направлении и занимается собственной
проблематикой3. Он признаёт и то, что источником структурализма
является лингвистика, причём не только соссюровская, но и та, которую
развивали Московская школа и Пражский лингвистический кружок.
Однако на другие области структурализм распространяется не по
аналогии; просто в эти другие области внедряются методы, эквивалентные
тем, что хорошо показали себя в анализе языка.
1 Лекция 4 июня 1973 г.
2 Лекция 26 марта 1973 г.
3 «В первую очередь, кто структуралист? Есть привычки и в наиболее актуальном. Привычка
указывает, отбирает, справедливо или нет, образцы: лингвиста, как Р. Якобсона; социолога, как
К. Леви-Строса; психоаналитика, как Ж. Лакана; философа, обновляющего эпистемологию,
как М. Фуко; марксистского философа, занимающегося проблемой интерпретации
марксизма, как Л. Альтюссера; литературного критика, как Р. Барта; писателей, как тех, кто
объединился в группу "Тель Кель"... ». (Делёз Ж. По каким критериям узнают структурализм? С. 133.)
Глава 4. Как распознать структурализм
333
В этом тексте, написанном в момент наибольшей популярности
структурализма во Франции, Делёз поддерживает пантекстуалистскую
установку этого движения: «В действительности. — говорит он, —
существуют только языковые структуры, будь то эзотерический язык или
даже невербальный»1. Эта последняя оговорка очень важна, поскольку
сводит на нет весь наивный пантекстуализм, к которому были склонны
структуралисты 1960-х гг. То же касается и самой структуры:
структура бессознательного существует постольку, поскольку бессознательное
говорит и является языком; структура тела — поскольку тела говорят
симптомами; неодушевленные вещи — поскольку содержат в себе
«тихий дискурс», являющийся языком знаков. Делёз, как всегда, остаётся
верен эмпиризму, а потому и вопрос «что такое структурализм?» он
заменяет вопросом о том, по каким критериям узнают тех, кто именуется
структуралистами, и о том, что узнают сами структуралисты.
Делёз предлагает семь строгих критериев отличения
структурализма. Во-первых, придание значимости Символическому при
сравнительном небрежении Воображаемым и Реальным. И дело здесь даже не в
небрежении, а в том, что структуралисты, в отличие от предшествующей
философии, больше не смешивают Символическое с Воображаемым
и Реальным и признают его более «глубоким». Во-вторых, утверждение
0 том, что элементы структуры, не имея ни внешнего обозначения, ни
внутреннего значения, обладают лишь позиционным, или локальным,
смыслом. В-третьих, утверждение во всякой структуре системы
дифференциальных отношений, взаимно определяющих элементы, и
соответствующей этим элементам системы единичностей, очерчивающей
пространство структуры2. В-четвёртых, принципиальная значимость
различения: структура неотделима от дифференциации и различения.
В-пятых, серийность: символические элементы, взятые в
дифференциальных отношениях, с необходимостью организуются в серию. При
этом они относятся и к другой серии, создаваемой другими
элементами и отношениями (таковы, например, экономическая и социальные
1 Там же. С. 134.
2 «Любая структура есть множественность. Вопрос о том, существует ли структура любой
области, должен быть уточнён следующим образом: возможно ли, в той или иной области,
извлечь символические элементы, дифференциальные отношения и единичные точки, которые
ей присущи?». (Там же. С. 145.)
334
Часть 2. Ризомл
серии). В-шестых, наличие «пустой клетки», перемещающейся между
сериями. В-седьмых, движение от субъекта к практике: за «пустой
клеткой» следует инстанция субъекта, требующая в отношении себя
определённой практики.
Всё это мы уже видели у самого Делёза, так что его философия
прекрасно подходит под эти критерии. Правда, прочие структуралисты
далеко не всегда им следуют. Тем не менее, Делёз заканчивает свою статью
настоящей апологией структурализма:
Книги против структурализма... не имеют ровно никакого значения;
они не могут помешать продуктивности структурализма, которая есть
продуктивность нашего времени. Никакая книга против чего бы то ни
было ничего не значит; имеют значение только книги «за» что-то новое,
книги, которые могут его создать1.
В структурализме Делёз видел своего союзника. Действительно,
структурализм стал мощным инструментом в борьбе с метафизикой
и с картезианской фигурой суверенного субъекта. Однако вместе с тем,
структурализм постулировал существование некой постоянной
Структуры, господствующей над структурируемой ею системой и изымаемой
из её пространства, и утверждал пантекстуалистскую установку,
делавшую невозможной какое бы то ни было обращение к материальным
вещам. Структурализм нанёс сильнейший удар по феноменологии, однако
он содержал в себе потенциал превращения в новую метафизику —
метафизику Структуры.
Если Делёза и можно в каком-то отношении считать
структуралистом, то структурализм его носит весьма особенный характер. Он не
принимает ни онтологизированную леви-стросовскую Структуру, ни
пантекстуализм. Речь у него идёт о хаотических структурах, о номади-
ческих распределениях сингулярностей и о материальных потоках.
Несмотря на непрестанное обращение к лингвистическим концепциям,
Делёз усматривает структурирование хаоса не в господстве
грамматических структур, а в распределении интенсивностей, и лингвистические
«сущности» понимает материалистически. Он не признаёт язык
источником форм мысли; для него это продукт взаимодействия
гетерогенных интенсивностей.
Там же. С 174.
Глава 4. Как распознать структурализм
335
Если считать структурализм движением, отвергающим
традиционную метафизику ради анализа элементарных структур, то Делёза с его
модернизированной метафизикой, заменяющей метафизику
традиционную, не стоит относить к этой рубрике. Однако структурализм —
понятие одновременно и более широкое, и более узкое. Более узкое
потому, что не исчерпывает собой структурный анализ, продуктивно
применявшийся в гуманитарных науках задолго де Леви-Строса. А
более широкое потому, что объединяет многих мыслителей, деятельность
которых не сводится к анализу элементарных или каких бы то ни было
ещё структур. Поэтому, если понимать структурализм максимально
широко, в какой-то из моментов своего творчества Делёз вполне может
быть назван структуралистом.
Философский смысл структурализма заключался в релятивистском
утверждении о том, что ничто не является значимым само по себе, что
всякий элемент значим лишь в своих отношениях с другими
элементами. Конечно, в этом не было ничего нового по сравнению с философией
Ницше, однако структурализм принял облик строгой научной
доктрины, построенной по образцу самой передовой из гуманитарных наук —
лингвистики. Гуманитарная наука наконец-то смогла стать наукой
в строгом смысле и послужить образцом ^ля наук «естественных».
Однако релятивистская установка структурализма заключалась в том, что
означающее не имеет никакого смысла за пределами языка. Сама же по
себе систематическая структура не может стать основанием для знания
о мире. «Постструктуралисты вообще отвергали идею о том, что
можно исследовать статическую структуру различий, которые могли бы дать
некую точку опоры для нашего знания о мире, — пишет К. Коулбрук. —
Постструктурализм стремился объяснить появление, становление или
генезис структур: как системы вроде языка возникают и как они
видоизменяются во времени. Поэтому Делёз и люди его поколения стремились
концептуализировать различие и становление, но такие различие и
становление, которые не были бы становлением некоего бытия»1.
Делёз исповедовал своеобразный «структурализм», в котором
альтернативу леви-стросовской структуре своставляет машина. Приняв
структуры родства, говорят Делёз и Гваттари в «Анти-Эдипе», трудно
1
Colebrook С. Gilles Deleuze. P. 3.
336
Часть 2. Ризомл
избежать утверждения о том, что союзы вытекают из линий
происхождения в системе, тогда как в действительности всё обстоит наоборот.
Структуралисты представляют эту систему как логическую
комбинаторику тогда как она представляет собой физическую систему в
которой распределяются интенсивности, погашающие или пропускающие
поток. В структурализме системы, как правило, представляются
закрытыми, тогда как в реальности нам приходится иметь дело по большей
части с системами открытыми. Открытый характер развёрнутых систем
становится ясен, когда уделяют должное внимание экономическим и
политическим трансакциям в социальных системах. К тому же, отношение
статистических формаций к собственным молекулярным элементам не
может быть адекватно описано традиционной структурной моделью.
Концепт машины позволяет преодолеть все эти несовершенства
структурализма.
Машина — понятие нерепрезентативное и неметафизическое.
У машины нет и не может быть никакой «сущности», стоящей за её
работой. Вся «сущность» машины исчерпывается сочетанием её
технических элементов и режимом её работы. Поэтому невозможно онто-
логизировать машину таким образом, как это было с леви-стросовской
Структурой, из аналитической конструкции превратившейся в
бытийную сущность. Таким образом, мы можем сказать, что Делёз
переосмыслил структурализм на свой лад, придав ему новое звучание, и называть
структуралистом его можно лишь с такой оговоркой.
ГЛАВА 5. МЕЖДУ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИЕЙ
И МАТЕМАТИКОЙ
Аналитическая философия, распространённая
преимущественного в англо-саксонских и скандинавских странах, во Франции никогда
не имела сколько-нибудь значительной популярности. Франция всегда
славилась своей культурной независимостью и стремилась
вырабатывать собственные философские программы, а не заимствовать чужие.
И тем не менее, в XX веке можно было наблюдать процесс импорта
гегельянства, феноменологии и психоанализа, которые прибрели зна-
Глава 5. Между аналитической философией и математикой 337
чительное количество приверженцев и стали академической нормой.
Однако аналитическая философия приживалась лишь в умах отдельных
энтузиастов.
Философы-постструктуралисты нарушили традицию
игнорирования британского неопозитивизма, хотя говорить о хорошем знакомстве
с островной философией едва ли приходится. Фуко и Делёз обнаружили
в аналитической философии инструментарий, позволяющий отойти от
традиционной метафизики в сторону позитивистского знания. Вместе
с тем, французские философы стали приспосабливать лишь отдельные
идеи аналитической философии к собственным построениям, изменяя
их порой до неузнаваемости.
Ближе всего к аналитической философии стоит книга Делёза
«Логика смысла», где он не только обращается к проблематике,
разрабатывавшейся австрийской и англосаксонской школами, но и рассматривает её
в сходном ключе. По всему тексту рассыпаны ссылки на Рассела, Фреге
и других представителей традиции. Витгенштейну отводится скромное
место (собственно, Делёз всего лишь признаёт правоту его определения
языковых значений через способ их употребления1), хотя в начале
третьей «серии» Делёз высказывает положение, перекликающееся с
началом «Логико-философского трактата»:
Между событиями-эффектами и языком — самой возможностью
языка — имеется существенная связь. Именно события выражаются или
могут быть выражены, высказываются или могут быть высказаны — по
крайней мере, в возможных предложениях2.
А в конце той же книги он добавляет, что «смысл происходит с
состояниями дел и удерживается в предложениях»3.
Ф. Досс недаром усматривает «большое сходство между тем
искателем множественных становлений, каким был Уайтхед, утверждавший,
что "установить пределы спекуляции — значит отменить будущее",
и таким великим "неподвижным" странником, как Делёз, чьи
странствия принадлежали к спекулятивному порядку»4, а А. Виллани находит
1 Делёз Ж. Логика смысла. С. 195.
2 Там же. С. 29.
3 Там же. С. 316.
4 Dosse F. Gilles Deleuze et Félix Guattari. P. 206.
338
Часть 2. Ризомл
у обоих философов «настойчивое утверждение всецелой
реальности виртуального»1. Впрочем, и сам Делёз в «Различии и повторении»
признаёт свою симпатию кУайтхеду, противопоставляющему
категориям эмпирико-идейные понятия, a «Process and Reality» называет одной
из величайших книг современной философии2. «Я никогда не ощущал
себя эмпириком, то есть плюралистом, — писал он. — Но что
означает это отождествление эмпиризм-плюрализм? Оно происходит из двух
черт, посредством которых Уайтхед определял эмпиризм: абстрактное
не объясняется, но само подлежит объяснению; нужно не искать вечное
или универсальное, но открывать условия, при которых что-то
создаётся вновь (креативность)»3.
Сам Делёз говорил, что благодаря Уайтхеду аналитическая
философия на время стала «последней великой англо-американской
философией — как раз перед тем, как ученики Витгенштейна распростёрли
свои туманы, самонадеянность и ужас»4. У Уайтхеда Делёз находит
восхищающее его представление о бифуркации серий как принадлежащих
к одному и тому же миру. У него же можно найти нечто похожее на де-
лёзо-гваттарианский концепт желания. Так, Уайтхед говорит: «Мы
начинаем осознавать, что мы вовлечены в некоторый процесс, ощущаем
удовлетворение или неудовлетворённость и активно изменяемся, или
интенсифицируя нашу деятельность, или ослабляя её напряжённость,
или вводя новые цели5.
В «Приключениях идей» Уайтхед предлагает оригинальную
классификацию «предметов физической науки»: 1) истина и реальные вещи,
обладающие устойчивостью; 2) истина и реальные вещи, которые
имеют место; 3) абстрактные вещи, которые повторяются; 4) законы
природы6. Для того чтобы уйти от платонизма, говорит он, необходимо
признать различие между этими предметами по степени интенсивности
и выяснить соотношение между устойчивостью и случаем. Как и Делёз,
1 Villani A. Deleuze et Whitehead // Revue de métaphysique et de morale. 1996. Avril-juin. P. 247.
2 Делёз Ж. Различие и повторение. С. 342.
3 Deleuze G. Préface à l'édition américaine de « Dialogues» / Deux régimes de fous. Textes et
entretiens 1975-1995. P. 284.
4 Делёз Ж. Складка. Лейбниц и барокко. С. 133.
5 Уайтхед А. Н. Приключения идей. Пер. Л. Б. Тумановой. М. : ИФРАН, 2009. С. 84-85.
6 Там же. С. 76.
Глава 5. Между аналитической философией и математикой 339
Уайтхед находит у Платона ниспровержение платонизма: «Когда
какой-нибудь выдающийся учёный превращает Платона в
респектабельного профессора, приписывая ему связную систему мы быстро
обнаруживаем, что Платон в ряде диалогов писал самую настоящую ересь
относительно своих собственных учений. Это то же самое, как если бы
Птолемей включил в своё учение теории Аристарха, а Афанасий
провозгласил богохульства Ария»1. Он обнаруживает у Платона учение об
имманентном характере закономерностей бытия. Платон, говорит он,
колеблется между идеей имманентности и крайностью
трансцендентализма. Платон, по Уайтхеду, утверждает существование множества ак-
туальностей физического мира в качестве компонентов друг друга. Тем
самым Уайтхед проводит линию преемственности от Платона к
Лейбницу. Делёз доведёт эту линию до самого Уайтхеда.
Уайтхед высказывает мысль, непосредственно предвосхищающую
делёзовскую критику платоновских поисков претендента. Платон,
рассмотрев Бога в качестве того, кто дал жизнь и движение идеям,
включив их в божественную природу, только и может что обнаружить
второразрядные подобия, а никак не оригиналы. «Для Платона существует
только производный второразрядный бог в мире, бог, который является
только изображением, только, так сказать, подобием. Мир для Платона
включает в себя только подобие бога и подражание его идеям и никогда
не включает самого бога и его идеи»2.
Отталкиваясь от платоновского концепта вместилища, Уайтхед
предлагает своё понимание события, во многом перекликающеся с де-
лёзианским. Общая функция, осуществляемая всякой группой
актуальных событий, говорит он, представляет собрй функцию взаимной
имманентности. Все реальные актуальности, обладающие временной
протяжённостью, — это не актуальные события, а общества. Так,
человек — это общество клеток и органов, объединённых под эгидой
общества личностного человеческого опыта. Общества нельзя смешивать
с актуальными событиями, которые есть «реальные вещи». Взаимная
имманентность одновременных событий связана, по Уайтхеду, с
имманентностью будущего в настоящем.
Там же. С. 148.
Там же. С. 214.
340
Часть 2. Ризомл
Но, если Уайтхед во многом близок Делёзу, то Рассел и особенно
Витгенштейн вызывают у него отторжение. Логика, которой
занимались Фреге и Рассел, говорит он, представляет собой редукционизм,
превращающий концепт в функцию1. «...Становясь
пропозициональным, концепт утрачивает все те характеристики, которыми он
обладал как философский концепт, — автореференцию, эндоконсистенцию
и экзоконсистенцию»2. Поэтому логика совершенно безоружна
против солипсизма. Витгенштейнианство же Делёз считал «философской
катастрофой», регрессом философии, террористической системой,
в которой под видом поисков новизны превозносится скудность. Это не
новая опасность, она постоянно существует и раз за разом
возвращается, однако витгенштейнианство, принявшее особенно злобный и
разрушительный характер, может стать убийством философии3.
Прагматизм более привлекателен &ая Делёза, чем аналитическая
философия, и он сетует на то, что эта американская традиция так плохо
известна во Франции4. Впрочем, говорит он, в американской философии
всегда большое место занимала логика и совсем маленькое —
феноменология5. Кроме того, Делёз не вполне чужд традиционного &ая
французских интеллектуалов высокомерного отношения к американской
философии вообще. Хотя, пожалуй, это несколько карикатурный образ
американской философии, которой не понимают и сами американцы:
Прагматизма не понять, если видеть в нём поверхностную
философскую теорию, придуманную американцами. Напротив, чтобы понять
новизну американской мысли, необходимо увидеть в прагматизме попытку
по преобразованию мира и осмыслению нового мира, нового человека
в том виде, в каком они себя делают6.
И недаром первым прагматистом Делёз считает не Уильяма
Джеймса и не Пирса, а Германа Мелвилла, утверждающего мир как процесс
и как архипелаг, а не как набор инструментов, воссоздающих целост-
1 Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? С. 172.
2 Там же. С 175-176.
3 См.: Азбука Жиля Делёза. С. 80-81.
4 Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? С. 134.
5 Там же. С. 183.
6 Делёз Ж. Критика и клиника. С. 119.
Глава 5. Между аналитической философией и математикой 341
ность. Прагматизм сражается и против сингулярностей,
противопоставляющих человека человеку, и против Всеобщности. Это даёт душам
оригинальность, а концепт заменяет перцептом. Но именно здесь
американская революция потерпела поражение.
В Пирсе Делёз видел альтернативу Соссюру. В предисловии к своему
двухтомнику о кино он писал, что Пирс «создал общую классификацию
образов и знаков, несомненно наиболее полную. Она подобна естествен-
ноисторической классификации Линнея или же таблице Менделеева»1.
Сила Пирса, говорит Делёз, в том, что он мыслил знаки исходя из
образов и их сочетаний, а не в зависимости от языковых детерминаций.
Поэтому, опираясь на Пирса, Делёз может критиковать семиологию, для
которой всё сводится к языку. Сам он вместе с Гваттари опирается на
пирсовскую классификацию знаков: признаки (территориальные
знаки), символы (детерриторизованные знаки), иконические знаки (знаки
ретерриторизации)2. К тому же, авторы «Тысячи плато» вводят
понятие диаграммы, отличной и от индексов (или признаков), и от символов,
и от иконических знаков.
У Пирса, пишут Делёз и Гваттари, различие между индексами, ико-
ническими знаками и символами основаны на отношениях между
означающим и означаемым, поэтому диаграмма у него оказывается частным
случаем иконического знака. Делёз и Гваттари заимствуют пирсовские
термины, изменяя их значение. Различие между тремя типами знаков
основывается у них на отношении территориальность-детерриторизация,
так что диаграмма не сводится ни к иконе, ни к символу.
И наконец, у Пирса Делёз находит представление о реальности,
представляющее своеобразную альтернативу европейской феноменологии:
Реальность вещей состоит в их настойчивом навязывании себя для
нашего дознания. Если вещь не характеризуется подобной навязчивостью,
она есть простая иллюзия. Реальность, стало быть, есть навязчивость,
регулярность. В изначальном хаосе, в котором не было никакой
регулярности, не было и существования3.
Делёз Ж. Кино. С 39.
Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. С. 108.
Пирс Ч. С. Принципы философии. Пер. В. В. Кирющенко и М. В. Колопотина. Т. 1. СПб. :
Санкт-Петербургское философское общество, 2001. С. 135-136.
342
Часть 2. Ризомл
Возможно, спорадическое обращение Делёза к аналитической
философии объясняется тем, что это наиболее близкая к математике
форма рефлексии. А математика была для него не образцом науки, но
источником философских идей.
Философия на протяжении по меньшей последних четырёх
столетий стремится если и не стать «царицей наук», то, по крайней мере,
коррелировать с данными «точной» науки. Образцом точной науки
со времён Декарта философы считают математику, которая, как и
рациональная философия, не опирается на эмпирические данные, а
обходится средствами разума. В XX веке философия считала своим долгом
поспевать за новейшими сведениями, поставляемыми наукой, и
постструктурализм, разумеется, не стал исключением.
Делёз всегда отдавал себе отчёт в тех опасностях, которые таит
в себе обращение к «точным» наукам в сфере спекулятивной
философии.
Разумеется, мы понимаем опасности, возникающие при ссылке на
научные определения за пределами их сферы. Это опасность произвольной
метафоры или натянутого определения. Но, возможно, этих опасностей
удастся избежать, если мы удовлетворимся нахождением научных
операторов того или иного концептуализируемого характера, который сам по
себе отсылает к ненаучным областям и совпадает с наукой не в
прикладной сфере и не метафорически1.
Геометрия, говорит Делёз2, изначально была связана с
территориальными знаками, отсылающими к определённой совокупности кодов.
Картезианская геометрия ниспровергла все старые коды. В то же
время, она сама оказалась системой координат, т. е. территоризаций.
Декартовы координаты, по Делёзу, представляют собой попытку ретерри-
торизации декодированных математических знаков, опирающуюся на
аксиоматику. В середине XIX в. Вейерштрасс отказался от
статистической интерпретации дифференциального исчисления и предложил саму
дифференциацию интерпретировать не как процесс, но как
аксиоматику дифференциальных отношений (аналогичную ситуацию Делёз видит
в капитализме XIX в.). При кодировании потоки приобретают качества,
1 Делёз Ж. Кино. С 437.
2 Лекция 22 февраля 1972 г.
Глава 5. Между аналитической философией и математикой 343
зависящие от кодов, а отношения между ними могут быть лишь
косвенными. Аксиоматика — конечная операция с бесконечным объектом.
Понятие целого, конечно же, не лишено смысла, однако целое,
говорит Делёз, нельзя понимать как множество. Напротив, это то, что
препятствует любому множеству замкнуться на себе; «целое вынуждает его
продлеваться в более крупном множестве»1. Таким образом, целое —
это своего рода нить, пересекающая множества и предоставляющая
каждому из них обязательно реализующуюся возможность бесконечно
сообщаться с другими множествами. Множество отражается в каждой из
своих частей, а каждый виток спирали воспроизводит всё множество2.
В математике Римана Делёз находит концепцию пространства,
согласование частей которого не предопределено, но может
производиться самыми разными способами. Это пространство, утратившее
евклидовы координаты. Поэтому объяснить его чисто пространственным
способом невозможно. Дело в том, говорит философ, что это уже не
косвенный образ времени, проистекающий из движения, но
непосредственный образ времени, из которого вытекает движение. Причём,
движение это по необходимости «аномальное» и «фальшивое». «Если
время способно где-то представать непосредственно, то именно в дезак-
туализованных остриях настоящего, а также в виртуальных
полотнищах прошлого»3.
Термин «виртуальный» используется у Делёза весьма
своеобразно. «Мы должны, — говорил он в своём выступлении во Французском
философском обществе, — уточнить условия, при которых слово
"виртуальный" может использоваться в строгом смысле (в том, например,
в каком его использовал в своё время Бергсон, различая виртуальные
и актуальные множества, или в каком его сегодня использует М. Рюйе).
Виртуальное — не противоположность реального; противоположность
реального — это возможное. Виртуальное — противоположность
актуального, и в этом отношении оно обладает полнотой реальности. Мы
знаем, что эта реальность виртуального конституируется
дифференциальными отношениями и распределениями сингулярностей»4.
1 Делёз Ж. Кино. С 58.
2 Там же. С. 79.
3 Там же. С. 438.
4 Deleuze G. La Méthode de dramatization / L'île Déserte. Textes et entretiens 1954-1974. P. 141.
344
Часть 2. Ризомл
В «Тысяче плато» даётся рецепт создания множественности:
На самом деле мало сказать: Да здравствует множественное!..
Множественное нужно создать, но не добавляя всегда более высокое
измерение, а напротив, посредством просто-напросто умеренности, на уровне
измерений, коими мы уже располагаем, всегда η — 1 (только так одно
составляет часть многого, будучи всегда вычтенным. Вычитать
единственное из множества, которое надо конституировать; писать η — I1.
У множества, говорят Делёз и Гваттари, нет ни субъекта, ни
объекта, а только определения, величины и измерения, изменяющиеся,
когда множество меняет свою природу. Единство всегда
функционирует в пустом измерении, дополнительном по отношению к конкретной
системе и сверхкодирующем его. Множественность сверхкодированию
не поддаётся, и дополнительных измерений у него нет. Множества —
это плоскости, в том смысле, что они заполняют все свои измерения,
что позволяет авторам «Тысячи плато» говорить о плане консистенции
множеств. И вместе с тем, множества определяются внешней по
отношению к ним линией ускользания или детерриторизации, на которой
они меняют свою природу и соединяются с другими множествами. План
консистенции представляет собой, таким образом, внешнюю сторону
множеств, а линия ускользания маркирует, во-первых, реальность
числа конечных измерений, заполняемых множеством, во-вторых,
невозможность появления дополнительного измерения без трансформации
множества, и в-третьих, «расплющивание» множеств на одном и том
же плане консистенции.
Делёз не предлагает новую математику; скорее, он вписывается
в уже существующую традицию2. Решающим событием в математике
Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. С 11.
«Давайте вернёмся к истории множества, ибо создание этого существительного было весьма
важным моментом; его сотворили именно для того, чтобы избежать абстрактной
противоположности между многим и единым, чтобы ускользнуть от диалектики, чтобы суметь продумать
многое в чистом состоянии, перестать рассматривать его как числовой фрагмент
утраченного Единства или Тотальности, или, напротив, как органический элемент Единства или
грядущей Тотальности — и чтобы, скорее, различать типы множеств. Так, у математика и физика
Римана мы находим различие между дискретными и непрерывными множествами (причём,
эти последние обнаруживают принцип своей метрики только в силах, действующих внутри
них). Затем, у Мейнонга и Рассела — различие между множествами величины, или делимо-
Глава 6. Фуко
345
он считает произведённое Риманом выравание множественного из
состояния предиката и наделение его субстантивом «многообразие»1.
Тот же ход он обнаруживает у Бергсона и даже говорит, что в
«Опыте о непосредственных данных сознания» содержится имплицитная
ссылка на Римана. Бергсоновская длительность оказывается неким
типом многообразия, противоположным многообразию метрическому
(многообразию величины). Бергсон «высвободил» два типа
многообразий — с одной стороны, качественное и непрерывное, с другой —
числовое и дискретное. Между этими многообразиями и движется
бергсоновская материя.
ГЛАВА 6. ФУКО
«...Возможно, когда-нибудь нынешний век будет известен как век
Делёза», — написал Фуко в 1970 г.2 И это не было ни преувеличением,
ни чисто дружеским жестом. Фуко предложил изумительную
характеристику творчества Делёза, в которой органически сливаются и его
метафизика, и склонность к истории философии. Этот пассаж часто
цитируют. Процитируем и мы:
Эта мысль пребывает не в будущем, обещанном самыми далеко
идущими из новых начинаний. Она налицо в текстах Делёза, бьющая
наружу, танцующая перед нами, посреди нас; генитальная мысль,
интенсивная мысль — у всего этого неузнаваемое лицо, маска, никогда прежде
не виданная нами; различия, ожидать которых у нас не было основания,
но которые, тем не менее, ведут к возвращению — как масок своих
масок — масок Платона, Дунса Скота, Спинозы, Лейбница, Канта и всех
сти, экстенсивными множествами и множествами дистанции, которые ближе к интенсивным
множествам. Наконец, у Бергсона есть различие между числовыми, или протяжёнными,
множествами и качественными, длящимися множествами. Мы проделываем почти то же самое,
различая древовидные множества и ризоматические множества. Макро- и микромножества».
(Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. С. 56.)
1 «Бернхард Риман оказал на Делёза наиболее значительное математическое влияние,
особенно в таких поздних работах, как "Кино", и в книгах, написанных в сотрудничестве с
Феликсом Гваттари», — подчёркивает А. Плотницки. (Plotnitski Α. Bernhard Riemann // Deleuze's
Philosophical Lineage. Eds. G.Jones & J. Roffe. P. 190.)
2 Фуко M. Theatrum philosophicum // Делёз Ж. Логика смысла. С. 441.
346
Часть 2. Ризомл
других философов. Эта философия выступает не как мысль, а как театр:
театр мима с многочисленными, мимолётными и мгновенными сценами,
в которых слепые жесты сигнализируют друг другу Это тот театр, где
взрывной хохот софистов вырывается из-под маски Сократа; где
методы Спинозы направляют дикий танец в децентрированном круге, вокруг
которого вращается субстанция подобно обезумевшей планете; где
прихрамывающий Фихте объявляет, что «раздробленное Я =
растворённому Эго»; где Лейбниц, взойдя на вершину пирамиды, видит сквозь тьму,
что звёздная музыка — это, на самом деле, лунный Пьеро. Дуне Скот
просунул голову через круглое окошко в будку часового в Люксембургском
Саду; он щеголяет впечатляющими усами; они принадлежат Ницше,
задрапированному под Клоссовски1.
Несомненно, Фуко был Делёзу ближе, чем кто бы то ни было из
современников (исключая, разве что, Гваттари, но и здесь можно
поспорить). С. Лэш утверждает даже, что «Жиля Делёза... можно считать
генеалогом с тем же основанием, что и Фуко; работы одного
невообразимы без работ другого»2, и в этом есть свой резон.
Делёз и Фуко познакомились в 1952 г., однако их дружба началась
десятилетием позже. Их сближал общий интерес к философии Ницше,
которого в 1960-е было принято считать чуть ли не фашистом, энтузиазм,
вызванный «майским восстанием», и общность научных интересов.
Помимо Ницше, у них были и другие общие источники вдохновения,:
стоицизм, Спиноза, поэты-шизофреники... Впрочем, из этих
источников каждый черпал своё. Если Делёза привлекали ранние стоики с их
онтологическими размышлениями, то Фуко обращался к поздним
стоикам — Эпиктету и Марку Аврелию, разрабатывавшим этические
доктрины. Если Делёз обращался к метафизике Спинозы, то Фуко читал
Спинозу через кантианские очки. Их роднили не столько общие
источники, сколько общие враги — метафизика Платона и телеологизм
Гегеля, которым они противопоставляли свою философию события3.
Там же. С. 472-473.
Lash S. Genealogy and the Body: Foucault/Deleuze/Nietzsche // Theory Culture Society. 1982.
Vol. 2. №2. P. 1.
«Фуко и Делёз освободились от философии истории как гегельяно-марксистской телеологии,
утверждая философию события», — пишет Ф. Доссе. (Dosse F. Gilles Deleuze et Félix Guattari.
P. 384.)
Глава 6. Фуко
347
Для Фуко, — писал Делёз в своей рецензии на «Слова и вещи», —
речь идёт о том, чтобы обосновать науки о человеке. Однако это коварное
обоснование, археология разрушает его идолов. Лукавый дар.
Попытаемся резюмировать идею Фуко: науки о человеке вовсе не сформировались
ни в тот момент, когда человек стал объектом репрезентации, ни когда он
открыл историю. Напротив, это произошло, когда он « деисторизировал-
ся», когда вещи (слова, живые организмы, продукты творчества)
обрели историчность, освобождавшую их от человека с его репрезентацией.
Вот тогда и сформировались науки о человеке как подражание новым
наукам — биологии, политической экономии и филологии. Их специфика
заключалась в том, что они восстанавливали порядок репрезентации,
нагружая его ресурсами бессознательного.
Уже этот первый баланс показывает, что науки о человеке науками
не являются. Они претендовали заполнить пустое место репрезентации.
Но это царское место не может быть заполнено: антропология — это
мистификация1.
Фуко восторженно приветствовал выход «Логики смысла» и
«Различия и повторения». Но, если книги Делёза конца 1960-х
вызывали у Фуко большой энтузиазм, то «Анти-Эдип» породил у него
неоднозначные чувства. С одной стороны, на пару лет он стал ярым
пропагандистом этого труда и адептом учения Делёза/Гваттари. Но
с другой, он не мог не почувствовать, что они разошлись по некоторым
принципиальным вопросам. В 1977 г. Фуко написал предисловие к
американскому изданию «Анти-Эдипа»2, где его восторги несколько по-
умерились. Конечно, он по-прежнему говорил, что у него с Делёзом
общие враги — «политические аскеты», «жалкие инженеры желания»
и фашисты3. Но в то же время, он подчёркивает, что «Анти-Эдип» —
не теория и не философия, а, искусство или, самое большее, этическое
Deleuze G. L'Homme, une existence douteuse / L'île Déserte. Textes et entretiens 1954-1974.
P. 127-128.
Foucault M. Preface // Deleuze G., Guattari F. Anti-Œdipus: Capitalism and Schizophrenia. NY.:
Viking Press, 1977.
«Книга часто наводит на мысль, что в ней нет ничего, кроме юмора и игр, когда на деле
происходит что-то важное, нечто предельно серьёзное — отслеживание всех форм фашизма, начиная
с тех чудовищных форм, которые окружают и уничтожают нас, и заканчивая мельчайшими
формами, которые образуют скорбную тиранию наших повседневных жизней». (Фуко М.
Предисловие к американскому изданию «Анти-Эдипа» // Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. С. 10.)
348 Часть 2. Ризомл
сочинение. Ж. Донзело полагает, что Фуко вообще не любил эту книгу,
а потому не стал писать на неё никакого отзыва в момент её появления
и лишь пять лет спустя отреагировал довольно сдержанно.
Мы работали порознь, каждый сам по себе, — говорил Делёз в 1986 г. —
Я уверен, что он читал написанное мной, я страстно читал написанное им,
но говорили мы мало. И я без всякой грусти почувствовал, что в конце
концов я нуждался в нём, а он не нуждался во мне1.
Возможно, различного между Делёзом и Фуко не меньше, чем
общего. Ж. Ревель замечает, что, в то время как Фуко интересуют условия
возможности, Делёз обращается к условиям реальности. И уж во всяком
случае, «не имеет смысла говорить о "фукольдиано-делёзианстве"»2. Но
настоящий разрыв между ними происходит в конце 1970-х гг., на
почве этики3. Сам Делёз сформулировал свои расхождения с Фуко
следующим образом. Прежде всего, он сомневается в возможности описать
микро-диспозитивы желания в терминах власти. Вопрос «как
можно желать власть?» важен &ля Делёза, но для Фуко он не имеет
первостепенного значения. «...Очевидно, в том, что касается диспозитивов
власти, мне недостаёт твёрдости Мишеля, на меня нападают сомнения,
и статус их, на мой взгляд, двусмыслен; в ["Надзирать и наказывать"]
Мишель говорит, что они нормализуют и дисциплинируют; я бы
сказал, что они кодируют и ретерриторизуют (думаю, это не просто
различие в выражениях)»4. Стратегии, связанные с диспозитивами власти,
считает Делёз, могут быть лишь вторичными по отношению к линиям
бегства. Первичным же здесь является желание, смешивающееся с ними
и разделяющее их потоки. «Мне кажется, что здесь Мишель
сталкивается с проблемой, не обладающей для меня тем же статусом. Ведь, если
диспозитивы власти определённым образом конституируются, им
можно противопоставить какие-то феномены "сопротивления" и вопрос
ставится о статусе этих феноменов. Действительно, они больше не
могут быть ни идеологическими, ни анти-репрессивными»5. Делёз, на-
1 Deleuze G. Foucault et les prisons / Deux régimes de fous. Textes et entretiens 1975-1995. P. 262.
2 Dosse F. Gilles Deleuze et Félix Guattari. P. 391.
3 См.: Revel J. Foucault lecteur de Deleuze: De l'écart à la difference // Critique. 1996. № 591 /592.
4 Deleuze G. Désir et plaisir / Deux régimes de fous. Textes et entretiens 1975-1995. P. 115.
s Ibid. P 117.
Глава 6. Фуко
349
против, считает, что дело вовсе не в сопротивлении с его
проблематичным и трудноопределимым статусом (ведь и сам Фуко предлагал разные
способы их понимания), а в линиях бегства и детерриторизации. Для
Делёза не существует проблемы статуса, который следует придать
феноменам сопротивления; &ля него существует лишь проблема желания,
инвестирующего социальное поле. Линии бегства конституируются не
какими-то маргиналами, противостоящими расчерчивающим общество
магистральным линиям, но трансверсальными линиями,
пересекающими эти последние. «Когда мы виделись в последний раз, Мишель мягко
и доброжелательно сказал мне примерно следующее: для меня
неприемлемо слово желание; хотя вы и употребляете его иначе, я не могу не
думать либо о жизни, &ая которой желание = недостатку, либо о так
называемом подавленном желании. Мишель добавил: возможно, то, что
я называю "удовольствием", и есть то, что вы называете "желанием"; но,
как бы то ни было, я не использую слово желание»1. Конечно же, Делёз
не может согласиться с такой трактовкой желания: оно вовсе не
означает недостатка в чём-либо.
Впрочем, Делёз не был склонен подчёркивать свои расхождения
с Фуко. В 1988 г. он говорил, что расхождения эти носят
второстепенный характер: «то, что он называл машиной, и что Феликс и я
называли конструкциями, не имело общих координат, потому что он создавал
оригинальные исторические секвенции, тогда как мы уделяли больше
значения компонентам географическим и территориальным, а также
движению детерриторизации. У нас всегда была наклонность к
универсальной истории, которую он ненавидел»2. Второстепенным такое
расхождение назвать трудно.
В 1976 г. Фуко выпустил первый том «Истории сексуальности»3,
в котором обрушился на общепринятое представление о нарастающем
со времён классической эпохи подавлении желания. Делёз и Гваттари
оказались в центре этой критики4, на которую Делёз ответил в личном
Ibid Р. 118-119.
О философии / Делёз Ж. Переговоры. С. 196.
Foucault M. Histoire de la sexualité I: La Volonté de savoir. P.: Gallimard, 1976.
Фуко писал: «Нам объясняют, что коль скоро подавление, начиная с классической эпохи,
и в самом деле было фундаментальным способом связи между властью, знанием и
сексуальностью, то и избавиться от него можно лишь немалой ценой: здесь понадобилось бы не меньше,
350
Часть 2. Ризомл
письме1, переданном Фуко через Ф. Эвальда. Здесь Делёз сопоставляет
концепты «тела без органов-желаний» и фукольдианского
«тела-удовольствия», показывая, что понятие «удовольствие» упускает из вида
процессуальность. Фуко на это письмо не ответил, но, по-видимому, оно
стало одним из поводов для разрыва между философами. Как и Фуко,
Делёз видит неудачу фрейдизма, а заодно и лаканизма, в том, что
желание они мыслили в терминах запрета и подавления, однако, как заметил
Д. Рабуен, «если оба философа как никогда сближаются в
[определении] общей причины, дистанция между ними непреодолима»2. Кроме
того, самого Делёза смутила тема истины, поднятая Фуко в «Воле к
знанию»: воскрешение концепта истины, хотя бы и в новом обличье, ведёт
к воскрешению субъекта, на борьбу с которым ушло столько сил.
Быть может, Делёза смутило даже не воскрешение субъекта у Фуко,
а полное к нему невнимание. Конечно, принято считать, что Фуко
провозгласил смерть субъекта. Однако концептуальной проработки
проблемы субъекта у него никогда и не было. И предпринятый им в поздних
работах перевод проблемы субъекта в этическую плоскость только
подтверждает это. Именно здесь Делёз и Фуко расходятся принципиально.
Я говорю столь путано потому, что в отношениях с Мишелем у меня
возникает несколько проблем: 1) я не могу признать за удовольствием
никакой положительной ценности, ибо удовольствие, как мне кажется,
разрывает имманентный процесс желания; на мой взгляд, удовольствие
принадлежит к сфере страт и организации; в этом движении
удовольствие становится покорным закону и перестаёт быть удовольствием;
в обоих случаях имеет место отрицание имманентности желания. Я
говорю себе, что не случайно Мишель придаёт такое значение Саду, а я,
наоборот, Мазоху. Недостаточно сказать, что я мазохист, а Мишель —
садист. Это было бы здорово, но это не так. У Мазоха меня интересует не
боль, а идея о том, что удовольствие разрушает позитивность желания
и конституирует своё собственное поле имманентности (так же, а мо-
чем преступание законов, снятие запретов, вторжение слова, восстановление удовольствия во
всей его реальности и целая новая экономика механизмов власти, — ведь и самая малая
огласка истины обусловлена политикой». (Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти
и сексуальности. Работы разных лет. Пер. С. Табачниковой. М., Касталь, 1996. С. 102-102.)
Deleuze G. Désir et plaisir // Le Magazine littéraire. 1994. № 325.
Rabouin D. Entre Deleuze et Foucault: penser le désir // Critique. 2000. № 637/638. P. 485.
Глава 6. Фуко
351
жет, и иначе, нежели в куртуазной любви, конституируется план
имманентности или тела без органов, где желание не испытывает недостатка
ни в чём и по возможности избегает удовольствий, способных подавить
его процесс). Довольствие, на мой взгляд, — единственное средство для
личности или субъекта «обнаружиться» в выходящем за его пределы
процессе. Это ретерриторизация. На мой взгляд, желание имеет такое
же отношение к закону, как и к норме удовольствия.
2) Зато мысль Мишеля о том, что диспозитивы власти
непосредственно и напрямую связаны с телом, представляется мне важной. В той
мере, в какой они навязывают телам организацию. В то время как тело
без органов выступает агентом или местом детерриторизации (и планом
имманентности желания), все структуры, вся система того, что Мишель
называет «био-властью», производят ретерриторизации тел.
3) Можно ли считать, что то, что я называю «телом без органов»,
соответствует тому, что Мишель называет «телом-удовольствием»? Могу
ли я провести между телом без органов и организмом такое же различие,
какое Мишель проводит между телом и плотью? Страница 190 [«Воли
к знанию»], где говорится о жизни как задающей возможный статус
силам сопротивления, представляется мне чрезвычайно важной. Эта жизнь,
как и та, о которой говорит Лоуренс, на мой взгляд, является не
Природой, но вариативным планом имманентности желания, пересекающим
все определённые планировки. Концепция желания у Лоуренса связана
с позитивными линиями бегства. (Маленькая деталь: та манера, в какой
Мишель обращается к Лоуренсу в конце [«Воли к знанию»],
противоположна той, в какой это делаю я).
Мишель продвинулся вперёд в занимающей нас проблеме: утвердить
права микро-анализа (рассеяния, разнородности, парцеллярного
характера), и в то же время, пришёл ли он к какому-то принципу унификации,
отличному от «государства», «партии», тотализации, репрезентации?
Сперва то, что касается самой власти: я возвращаюсь к двум
линиям [«Надзирать и наказывать»], с одной стороны, к диффузному и
парцеллярному характеру микро-диспозитивов, а с другой — к диаграмме
или абстрактной машине, покрывающей всё социальное поле, и
проблема [«Надзирать и наказывать»], как мне кажется, заключается в
отношениях между этими двумя инстанциями микро-анализа. Мне кажется,
в [«Воле к знанию»] вопрос изменяется: обе линии микро-анализа
оказываются здесь скорее микро-дисциплинами, с одной стороны, и био-по-
литическими процессами — с другой (с. 183)... Итак, с точки зрения
[«Надзирать и наказывать»], диаграмма несводима к глобальной инс-
352
Часть 2. Ризомл
танции государства, она может оперировать микро-единствами мелких
диспозитивов. Можно ли из этого понять, каким образом
приобретают эту функцию био-политические процессы? Я признаю, что понятие
диаграммы оказалось очень богатым, но обнаруживает ли его Мишель
в этом новом пространстве?
Но, если обратиться к линиям сопротивления или к тому, что я
называю линиями бегства, как осмыслить отношения или сопряжения,
конъюнкции, процессы унификации? Я бы сказал, что коллективное поле
имманентности, где выстраиваются теперь планировки, также обладают
подлинной диаграммой. Поэтому необходимо найти совокупную
планировку, способную осуществить эту диаграмму, соединяя линии или
точки детерриторизации. В этом смысле я говорил о машине войны,
полностью отличающейся и от государственного аппарата, и от военных
институций, как и от властных диспозитивов. Таким образом, перед нами,
с одной стороны, государство — диаграмма власти (молярное
государство, эффектуирующее микро-элементы диаграммы как плана
организации); с другой стороны, машина войны — диаграмма линий бегства
(машина войны, выступающая планировкой, эффектуирующей
микроэлементы диаграммы как плана имманентности). Я останавливаюсь на
этом, поскольку здесь задействуются два совершенно различных типа
планов, трансцендентный план организации и имманентный план
разметки, а прежние проблемы отпадают. Теперь я не знаю, как мне
относиться к сегодняшним исследованиям Мишеля1.
То важнейшее место, которое Фуко отводит власти, у Делёза и
Гваттари занимает желание. Таким образом, по справедливому замечанию
Р. Боуга, Фуко приходится отстаивать политику тактического
ограничения в рамках неизбежных властных отношений, в то время как Делёз
и Гваттари говорят об освобождении желания и о его революционной
природе.
В «Тысяче плато» Делёз и Гваттари предлагают весьма необычное
«лингвистическое» прочтение книги Фуко «Надзирать и наказывать»:
тюрьма — это форма, «форма-тюрьма», связанная с другими
содержательными формами — школой, казармой, больницей или заводом.
Преступность не является означающим, имеющим своим означаемым
тюрьму. Выразительная форма отсылает не к отдельным словам, но к целому
Deleuze G. Désir et plaisir / Deux régimes de fous. Textes et entretiens 1975-1995. P. 119-122.
Глава 6. Фуко
353
ансамблю высказываний, так же как содержательная форма отсылает не
к вещи, а к комплексу, образующему власть (архитектура, планирование
и т. п.). В «форме-тюрьме» сходятся дискурсивные множества
выражения и не-дискурсивные множества содержания. При этом тюрьма как
содержательная форма имеет собственное соответствующее
выражение, не совпадающее с выражениями преступности. Обладая
собственными историей и сегментами, тюрьма и преступность не имеют общего
означаемого. Как максимум, они предполагают существование общей
абстрактной машины, которая выступает чем-то вроде их диаграммы:
для тюрьмы, больницы, казармы или завода существует одна и та же
абстрактная машина. Различные режимы и регистры власти действуют на
молекулярном уровне, который Фуко назвал дисциплинарным
обществом. Таким образом, у Фуко Делёз и Гваттари находят отказ от
сопоставления слов и вещей как означающих и означаемых.
В «Тысяче плато» Делёз и Гваттари обозначают и своё расхождение
с Фуко. Во-первых, сборки — это не сборки власти, как полагает Фуко,
а сборки желания. А во-вторых, диаграмма, или абстрактная машина,
обладает линиями ускользания, которые представляют собой не
феномены сопротивления, а точки творчества и детерриторизации1.
В книге Делёза о Фуко (составленной из написанных в разное время
статей) предлагается ещё более свободное прочтение фукольдианских
идей. «Не заделал ли Делёз ребёнка за спиной у Фуко, как он довольно
часто проделывал это с другими традиционными философами,
подвинув его собственные позиции?», — вопрошает Ф. Досс2. Пожалуй, так
оно и было. Ф. Гро выразился ещё жёстче, увидев в этой книге
«метафизическую фикцию»3.
Фуко, говорит в своей книге Делёз, нарушил заговор молчания
вокруг Государства, который никто не решался потревожить со времён
Маркса. Пересмотрев многие марксистские понятия, он предложил
новые координаты для исследовательской и политической практики. Но
Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. С. 235.
Dosse F. Gilles Deleuze et Félix Guattari. P. 389.
Gros F. Le «Foucault» de Deleuze: une fiction métaphysique // Philosophie. 1995. № 47. Тот
же Ф. Гро говорил, что Делёз проницательно уловил в творчестве Фуко те идеи, которые тот
высказал только в своих последних лекциях в Коллеж де Франс, предвосхитив таким образом
общий вектор развития его мысли.
354
Часть 2. Ризомл
самое главное — у Фуко Делёз находит свою собственную установку,
ставшую результатом альтернативного развития кантианской мысли:
идеи и виды поведения формируются априорными условиями,
которые есть условия не всякого возможного опыта, но только реального.
«...Истина даётся знанию только через "проблематизации" и... эти
проблематизации складываются только лишь из "практик", практик
видения и практик говорения»1.
У Фуко Делёз обнаруживает своеобразный дуализм между видимым
и высказываемым. Видимое и высказываемое «вступают в поединок»
в той мере, в какой соответствующие им формы превращают их в два
типа множеств, ни одно из которых не сводится к какому бы то ни было
единству. Оба множества раскрываются в сторону третьего
множества — множества взаимоотношений между силами, свободного от
бинарных форм. Обозначенный дуализм, говорит Делёз, является следствием
молярности, встречающейся во множествах. «Здесь заключается вся
философия Фуко, которая является прагматикой множественного»2.
«Звёздная дружба» Делёза и Фуко не могла привести их ни к
единомыслию, ни к полному совпадению политических позиций. У них было
много общего, но едва ли не больше было различного. Оба принадлежали
к числу тех философов, ^ля которых теоретическая позиция неразрывно
связана с жизненной практикой. Расхождение в одном неизбежно влекло
разногласия в другом. И тем не менее, они были «с одного берега».
ГЛАВА 7. ПРЕТЕНДЕНТЫ
§ 7.1. Деррида, двойник
Если среди современников Делёза и можно найти философа,
который двигался бы параллельно ему и вместе с тем представал его
зеркальным отражением, двойником-атиподом, то это, без сомнения,
Деррида. Они принадлежали более или менее к одному и тому же поколению,
Делёз Ж. Фуко. С 91.
Там же. С. 113.
Глава 7. Претенденты
355
оба опубликовали сделавшие их знаменитыми работы в 1960-х гг., оба
принадлежали к виртуальному лагерю постструктуралистов1 и
боролись с метафизикой и картезианским субъектом. К тому же, Жиль Де-
лёз и Жак Деррида — не только современники, но и во многом близкие
мыслители. Эта близость, конечно, носит, если можно так выразиться,
косвенный характер. Их интересы нечасто пересекались, но в самом
стиле мышления обоих можно находить множественные параллели.
И Делёз, и Деррида, несмотря на явное знакомство с работами друг
друга, избегали упоминать один другого. Действительно, Делёз очень
часто ссылается на Фуко и Лакана, реже — наЛиотара, но редко (и
только в сносках) вспоминает в своих текстах о Деррида. Сам Деррида лишь
однажды сослался на книгу Делёза о Ницше, и лишь после смерти
своего коллеги высказался о той интеллектуальной близости, которая
существовала между ними. Косвенные отсылки, безусловно, существуют.
Так, Дж. Нилон считает, что понятие силы у Деррида сформировалось
под влиянием книги Делёза о Ницше, что его небольшой текст «Glas»
(1974 г.) несёт следы стилистического влияния «Анти-Эдипа», а
«Различие и повторение» называет «подспудно дерридеанской книгой»2.
Возможно, это преувеличение: хотя Делёз в «Различии и повторении»
однажды цитирует «Письмо и различие», обнаружить здесь явные
влияния Деррида едва ли удастся.
Прежде всего, оба подвергли радикальной критике леви-стросовс-
кий структурализм и, отталкиваясь от него, выработали собственные
модели проблематизации. Р. Боуг недаром замечает, что
«структурализм» Делёза был во многом подобен «структурализму» Деррида:
«как и Деррида, он принял термины соссюровского анализа
лингвистической структуры, а затем использовал их, чтобы децентрировать само
понятие структуры»3. Но при этом (Р. Боуг специально подчёркивает
«Хотя 1960-е во Франции связывались прежде всего с господством структуралистской мысли
в философии и в общественных науках, — пишут П. Пэттон и Дж. Протеви, — Делёз и
Деррида оставались на периферии этого движения, и оба фактически способствовали
появлению того, что стало называться "пост-структурализмом"». (Patton P., Protevi J. Intriduc-
tion // Between Deleuze and Derrida. Eds. P. Patton, J. Protevi. L.; NY: Continuum, 2003. P. 2.)
Nealon J. T. Beyond Hermeneutics: Deleuze, Derrida and Contemporary Theory // Between
Deleuze and Derrida. P. 158.
Bogue R. Deleuze and Guattari. P. 3.
356
Часть 2. Ризомл
это обстоятельство), в отличие от большинства деконструктивистов,
Делёз сохраняет убеждение в существование некой реальности за
пределами текста и не ограничивается критикой языковых оппозиций,
функционирующих в текстуальном пространстве.
В «Анти-Эдипе» Делёз и Гваттари признают правоту Деррида,
утверждающего, что всякий язык предполагает изначальное письмо,
но с той оговоркой, что под этим последним следует понимать
существование произвольного графизма. Они поддерживают мысль Деррида
о том, что письмо подменяется голосом. Однако они не согласны с тем,
что графическая машина может использовать как иероглифы, так и
фонемы.
Ведь существует, несомненно, разрыв, который меняет в мире
представления всё, что есть, — разрыв между этим письмом в узком
смысле слова и письмом в широком смысле, то есть между двумя совершенно
разными режимами записи, графизмом, который сохраняет
господствующий голос именно потому, что такой графизм независим от голоса, хотя
и связан с ним, и графизмом, который господствует над голосом или
вытесняет его в силу того, что он от него благодаря различным механизмам
зависит и ему подчиняется1.
С. Жижек предложил весьма проницательное сравнение историко-
философских подходов Делёза и Деррида. Оба философа, говорит он,
разворачивают свои собственные теории посредством внимательного
прочтения других авторов, отказываясь от пре-кантианской
некритической спекуляции. Для обоих философия возможна лишь как
мета-философия. Однако в то время, как Деррида занимается критической
деконструкцией, подрывая интерпретируемый текст или автора, Делёз
находит у интерпретируемого философа свои собственные положения.
Если Деррида причастен к «герменевтике подозрения», то Делёз
всегда доброжелателен к автору, к которому он обращается. Деррида
приходится непрестанно расставлять кавычки, сигнализируя о том, что
используемое понятие ему не принадлежит, тогда как Делёз прекрасно
обходится без кавычек, свободно говоря через интерпретируемого
автора. «... Легко показать, что "доброжелательность" Делёза оказывается
Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. С. 320-321.
Глава 7. Претенденты
357
более насильственной и подрывной, нежели чтение Деррида: его
содомия порождает настоящих монстров»1.
Различия между Делёзом и Деррида касаются прежде всего сферы
онтологии. Т. Мэй пишет:
В то время как Фуко и Деррида пытаются разобраться с претензиями
онтологии как исследования того, что есть, Делёз упивается
онтологическим творчеством и анализом. В то время как Фуко и Деррида находят, что
онтология угрожает вопросу о том, как надо жить, Делёз находит, что
онтология и есть тот путь, которым нужно следовать, чтобы адекватно
поставить этот вопрос. В то время как Фуко и Деррида предлагают
альтернативы традиционному философскому проекту онтологии, Делёз доводит
этот проект до предела, в котором обнаруживает вопрос о том, как нужно
жить, с тем, чтобы обновить его, и готов дать неожиданные ответы2.
Действительно, Деррида отказывается от традиционной онтологии.
Но вместе с тем, он не предлагает и собственной онтологии, а только
обещает её, и это обещание откладывается навсегда. Но с чем никак
нельзя не согласиться в утверждении американского автора, так это
с тем, что у обоих мыслителей вопрос об онтологии становится
вопросом этическим.
Р. Боуг выделяет ряд параллелей между делёзианской
философией различия и дерридеанским «различением». Прежде всего, и Делёз,
и Деррида стремятся ниспровергнуть бинарные оппозиции
платоновского идеализма и гегелевское снятие различий. При этом оба
мыслителя опираются на Ницше и Хайдеггера. Дерридеанское различение,
говорит Р. Боуг, во многом сходно с делёзовским различием: оба являются
одновременно как спациальными, так и темпоральными; они никогда
не присутствуют в настоящем моменте времени, но всегда уже были
или будут; оба носят структурный и генетический характер, существуя
в зазоре между терминами; ни одно, ни другое не имеют никакой
самотождественности, но сами от себя отличаются; ни одно, ни другое не
являются словом или понятием, поскольку не подчиняются логике ре-
ференциальности или тождественности.
2\1ек S. Organs without Bodies. P. 47.
May T. Gilles Deleuze. An Introduction. P. 16.
358
Часть 2. Ризомл
«Было бы слишком просто сказать, что понятие различия у
Деррида носит преимущественно пост-феноменологический и этический
характер, тогда как понятие различия у Делёза материально и связано
с силой, однако такая характеристика отражает подлинные различия
в их источниках и философских ориентирах», — замечают П. Пэттон
и Дж. Протеви1. Справедливое замечание: Деррида отталкивался от
феноменологии и, как бы далеко он от неё ни ушёл, она всегда составляла
своеобразный горизонт его мысли. Тогда как Делёз категорически
отвергал феноменологию — как гегелевскую, так гуссерлевскую.
И для Делёза, и для Деррида весьма значимым был
онтологический проект Хайдеггера, однако развивали они его в совершенно
различных направлениях. Делёз стремился к выработке имманентной
онтологии, тогда как Деррида со своей программой деконструкции «по
необходимости действовал на основании формальной структуры
трансценденции»2. Если Деррида хочет деконструировать метафизику,
то Делёз пытается создать новую метафизику. Деррида борется с
метафизикой «наличия» или «присутствия», тогда как Делёзу такая
борьба чужда. «Для Деррида подрыв присутствия предполагает отсутствие;
для Делёза умножение присутствия порождает различие, а не
отсутствие, — пишет Дж. Ламперт. — Для Деррида то обстоятельство, что
одно и то же событие происходит в различных точках в разных
временных измерениях, более или менее означает, что точки настоящего нет.
Для Делёза то же самое обстоятельство в большей или меньшей степени
означает, что все эти точки современны»3. Отсюда вытекают все
расхождения между обоими мыслителями, которые Л. Лолор рубрициро-
вал следующим образом: 1) Деррида — философ единства, тогда как
Делёз — философ дуальности; 2) Деррида — философ негативности,
тогда как Делёз — философ позитивности; 3) Деррида — философ,
вопрошающий других, тогда как Делёз — философ самовопрошания4.
А. Плотницки добавляет к этому, что в то время как Делёз занимается
«геометрией» или «топологией», Деррида занимается «алгеброй»,
1 Patton P., Protevi J. Intriduction // Between Deleuze and Derrida. Ρ 5.
2 Smith D. W Deleuze and Derrida, Immanence and Transcendence. P. 48.
3 Lampert J. Deleuze and Guattaris Philosophy of History. L.; NY.: Continuum, 2006. P. 28.
4 Lawlor L. The Beginnings of Thought: The Fundamental Experience in Derrida and Deleuze //
Between Deleuze and Derrida. P. 67.
Глава 7. Претенденты
359
возводя это различие к разному прочтению работ Лейбница. От
Лейбница, говорит этот исследователь, идут две линии, проведённые Ри-
маном и Гёделем. Делёз следует первой, развивая геометрическое и
топологическое понимание складки, а Деррида — второй, рассматривая
складку алгебраически. «Понятийный аппарат и самая мысль Делё-
за являются более пространственными, топологическими (даже когда
имеют дело с темпоральным), в противоположность "алгебре" Деррида,
связанной в конце концов с тем, что не является ни пространственным,
ни временным, и вообще никак не определяется»1.
Как и Делёз, Деррида не приемлет пантекстуалистской установки,
характерной для многих деконструктивистов. Текст для него — область
«археписьма», сходная с пространством различия у Делёза; это
трансцендентальная сфера, онтологически и логически проблематичная.
Впрочем, можно заметить, что, в то время как Деррида неизменно
обещает онтологию, выстраивание которой откладывается навсегда, Делёз
вполне успешно разворачивает онтологическую программу.
Но, пожалуй, ещё более значимым является то обстоятельство, что
Делёз и Деррида разделяют «этико-политическую концепцию
философии как ориентированной на возможность перемен»2. Для обоих
мыслителей философия представляет собой политическую
деятельность, и это при том, что оба были далеки от политического активизма.
Будущее для них не определяется прошлым, а есть нечто становящееся
в процессе человеческой деятельности.
Однако, несмотря на столь очевидные сходства, тот же Р. Боут
выделяет три момента, отличающие мысль Делёза и Деррида. Во-первых,
понимание философии. Если для Делёза философская практика сводится
к созданию концептов, то для Деррида это преимущественно
лингвистическая деятельность, направленная на подрыв бинарных оппозиций.
Во-вторых, стратегия развёртывания проблематичных понятий.
Деррида опирается на герменевтическую традицию, &ая которой философия
оказывается в первую очередь формой текстуального истолкования
и комментария. Делёз проявляет мало интереса к герменевтике, а в со-
Plotnitsky A. Algebras, Geometries and Topologies of the Fold: Deleuze, Derrida and Quasi-
Mathematical Thinking (with Leibniz and Mallarmé) // Between Deleuze and Derrida. P. 100.
Patton Ρ Future Politics // Between Deleuze and Derrida. P. 17.
360
Часть 2. Ризомл
здании сложных понятий следует Спинозе. Хотя он и создаёт
парадоксальные понятия, своей необычностью не уступающие «различению»
или «фармакону» Деррида, он склонен вписывать их в контекст
философской традиции. Наконец, в-третьих, понимание роли языка в
мышлении1. Если для Деррида на первом плане оказывается «империализм
логоса» и «фаллологоцентризм», то Делёз уверен в том, что сам язык
обладает революционным потенциалом.
В своей речи памяти Делёза Деррида написал: «Теперь мне
приходится блуждать в полном одиночестве», добавив, что чувствовал «почти
полную близость» с Делёзом, во всяком случае, на уровне «тезисов»2.
Вместе с тем, Деррида признавал и существенные расхождения с
Делёзом — в отношениях стратегии и манеры чтения и письма. И
действительно, оба автора предложили каждый свой собственный подход
к прочтению классических текстов, их интерпретации и «вчитывания»
собственного содержания.
И тем не менее, обращение к метафизике различия роднит обоих
авторов, хотя и роднит негативно. Важность темы различия и тот вклад,
что внесли в её разработку Делёз и Деррида, очень чётко обозначил
В. Декомб в 5-й главе своей книги «Тождественное и иное», которая
так и озаглавлена — «Различие»:
Гегель говорил: различие несёт противоречие в самом себе. Но
теперь речь идёт о том, чтобы расчистить путь для осмысления
непротиворечивого, недиалектического различия, которое не было бы ни
простой противоположностью тождеству, ни вынужденным признанием себя
«диалектически» тождественным тождеству. Приступив к разрешению
этого затруднения, французская философия в лице Жиля Делёза и Жака
Деррида приближается, наконец, к сути вопроса3.
«Делёз и Деррида разделяют, — пишет Ж.-Л. Нанси. — Они (из)
начально и вполне разделяют: то есть, вместе участвуют и друг другу
причастны. Они участвуют и вновь расходятся и разделяются»4. Вес-
1 Bogue R. Deleuze and Guattari. P. 156-159.
2 Derrida J. I'm Going to Have to Wander All Alone. Transi. L. Lawlor // The Work of Mourning.
Eds. P.A. Brault, M. Naas. Chicago: University of Chicago Press, 2001. P. 192.
3 Декомб В. Тождественное и иное. С. 131.
4 Nancy J.-L. Les différences parallèles. Deleuze et Derrida // Deleuze épars. P. 8.
Глава 7. Претенденты
361
ной 1995 г. Нанси, по его словам, предложил Делёзу и Деррида ответить
на ряд вопросов, так, чтобы получилась не беседа, а что-то вроде
параллельных текстов. Оба согласились, но из-за ухудшения здоровья Делёза
этот проект не был завершён.
§ 7.2. Бадью: самозванный претендент
Ален Бадью имеет репутацию упрямого радикала-маоиста,
сохранившего свой радикализм даже во времена реакции и всеобщей
аполитичности. Со временем, конечно, маоистская риторика уступила
место более сдержанному дискурсу, однако критический запал сохранился.
Порой его непримиримость к делёзианству кажется несколько
странной, ибо его теоретические расхождения с Делёзом не столь
существенны, как стремится представить он сам. Критические выступления
Бадью против Делёза начались ещё в те времена, когда они
сосуществовали в стенах экспериментального Венсеннского университета, и
продолжаются даже после смерти Делёза.
В 1977 г., после выхода «Ризомы», А. Бадью обрушился на
Делёза и Гваттари с резкой и даже оскорбительной критикой. В своём
журнале «Cahier Yénan» он опубликовал два памфлета — «Поток и
партия», в котором выступал против «Анти-Эдипа», и «Картофельный
фашизм», в котором он нападал на «Ризому». В первой статье Делёз
и Гваттари разоблачались как создатели «по своему воздействию
почти опиумной»1 философии желания. Согласно Бадью, Делёз и
Гваттари — всего лишь жалкие моралисты, производящие «культурный
шум», но не идущие дальше Канта и совершенно забывающие о
марксизме-ленинизме — единственной серьёзной научной теории. Это
озлобленные противники всякой революционной политики. «Взгляните
на них, на этих старых кантианцев, делающих вид, будто они
разрушают безделушки культуры. Взгляните: время поджимает, и они
рассыпаются в прах»2.
Во второй статье, написанной под псевдонимом, Бадью объявил
Делёза и Гваттари «префашистами». Что скрывается за множественнос-
1 Badiou A. Le flux et le parti // Cahier Yénan. 1977. № 4. P. 26.
2 Ibid R 41.
362
Часть 2. Ризома
тью ризомы? — вопрошал он. И сам же отвечал: ревизионистский
деспотизм1. Делёз и Гваттари борются против диалектики, а их главная
цель — народная справедливость. Доказательством тому служит их
отказ от Единого — единства пролетариата и единства метафизики. Они
призывают своих читателей стать отстранёнными зрителями вроде Рай-
мона Арона, другими словами — предать рабочий класс.
К концу 1980-х гг. Бадью поумерил свой тон, хотя по-прежнему
ссылался на Сталина и Пол Пота. Он высоко оценил книгу Делёза о
Лейбнице, за что Делёз вежливо поблагодарил его. После смерти Делёза
Бадью несколько изменил своё отношение к нему и даже стал
рассматривать себя как его интеллектуального преемника. Об этом
свидетельствует книга «Делёз, Шум бытия», в названии которой обыгрывается
фраза Делёза из «Логики смысла»: «Поистине, без события всё было
бы только шумом — невнятным шумом»2. Это несколько карикатурное
и односторонне изображение Делёза, в котором его непросто узнать.
Как замечает Ф. Досс, «будучи убеждённым маоистом, Бадью остался
верен логике чисток»3.
Мы уже говорили о тех сложных отношениях, которые сложились
между Делёзом и Аленом Бадью в Венсеннском университете. Но
этими отношениями перекличка между двумя философами не кончилась.
Были редкие отклики Делёза на работы своего коллеги, были
критические выступления последнего в адрес первого. А в начале 1990-х гг.
между ними неожиданно завязалась переписка, составившая десятки
страниц. Делёз наложил запрет на публикацию писем, так что теперь
нам приходится судить об этом диалоге лишь со слов Бадью, который
в продолжение переписки написал книгу «Делёз. Шум бытия». Книга
вышла несколько односторонней, поскольку явно несёт на себе
отпечаток дискуссии, но из дискутирующих представлен лишь один. При
этом отчётливо заметно его стремление восстановить платонизм, в чём
он и сам прямо признаётся.
Вышедшую в 1988 г. книгу «Бытие и событие» Бадью теперь
склонен воспринимать в свете противостояния Делёзу, поскольку, развивая
Peyrol G. Le fascisme de la pomme de terre // Cahier Yénan. 1977. № 4. P. 43.
Делёз Ж. Логика смысла. С. 241.
Dosse F. Gilles Deleuze et Félix Guattari. P. 439.
Глава 7. Претенденты
363
свою онтологию множественного, он выступает против делезианских
множественностей и «математизированной парадигмы множеств».
Полемика, по словам Бадью, в том и заключалась, что в то время как
Делёз полагал, что Бадью смешивает «множественное» и «число», Бадью
утверждает, что сам Делёз безосновательно толкует о виртуальности
и «хаосмосе», поскольку у математических множеств нет ни
универсального, ни Единого. А себя и Делёза Бадью считает «чем-то вроде
парадоксального тандема»1.
Бадью камня на камне не оставляет от делёзианства. Упрёки и
хлесткие обвинения так и сыплются из-под его пера: во-первых, «делёзов-
ская концепция мысли глубоко аристократична»2, поскольку для него
мысль существует лишь в иерархизированном пространстве.
Во-вторых, пропагандируемая Делёзом философия жизни на деле
оказывается философией смерти3. В-третьих, независимо от того, идёт ли речь
о Спинозе, Захер-Мазохе или Уайтхеде, понятийные продукты Делёза
однообразны, он всё время повторяет узкий набор понятий и лишь
меняет имена4. В-четвёртых, Делёз попросту отождествляет философию
с онтологией5. И наконец, в-пятых, философия Делёза — ничто иное,
как платонизм со смещённым акцентом6. Аргументацию Бадью
трудно назвать убедительной, как трудно отделаться от впечатления, что он
попросту повторяет упрёки, издавна обращаемые к Ницше.
Едва ли не самым удачным моментом книги Бадью оказывается
предпринимаемое им сближение Делёза и Хайдеггера. «Делёз менее удалён
от Хайдеггера, чем принято считать и, вероятно, чем полагал он сам»,
хотя «для Делёза Хайдеггер всё-таки слишком феноменолог»7.
«Вульгарная» феноменология исходит из того, что сознание, во-первых,
нацелено на вещи, а во-вторых, уведомляет о собственном присутствии
в мире (Делёз писал об этом в книге «Фуко»). Делёз не может принять
категорию интенциональности, потому что, с одной стороны, сознание
Бадью А. Делёз. Шум бытия. С. 14.
Там же. С. 22.
Там же. С. 23.
Там же. С. 25-26.
Там же. С. 31.
Там же. С. 40.
Там же. С. 32.
364
Часть 2. Ризомл
не может быть непосредственным пределом исследования мысли, а с
другой — интенциональность представляет мысль как сознание и его
предмет, или, как выразился Сартр, для-себя и в-себе. Ниспровержение такой
«вульгарной» феноменологии Делёз находит у Хайдеггера, который
движется от феноменологии к онтологии. Но при этом Делёза не
устраивает то обстоятельство, что Хайдеггер выходит за пределы интенциональ-
ности лишь затем, чтобы сохранить в ином качестве её онтологическую
основу — взаимоотношения между актуализированными измерениями
бытия. Поэтому Хайдеггер, едва вырвавшись из феноменологии, снова
увязает в ней. «Выражаясь языком Ницше, Хайдеггер — святоша, с виду
ниспровергший интенциональность и сознание только ради того, чтобы
ещё изощрённее преятствовать дизъюнктивному синтезу»1.
Философия Делёза, говорит Бадью, является классической в том
смысле, что не подчиняется «критическим предписаниям Канта» и не
обращает внимания на кантианские претензии к метафизике. Другими
словами, Делёз занимается поисками однозначного основания бытия, хотя
и толкует при этом о виртуальном: «Делёз стремился к платонизму
виртуального»2 или, в лучшем случае, был «невольным платоником»3.
А соседство с Платоном, само собой, означает соседство с Гегелем.
Таким образом, Бадью сближает Делёза именно с теми философами,
которых он всегда стремился преодолеть. И наконец, он отказывает Делёзу
в праве считаться философом множественного и различного, заявляя,
что тот только и толкует о Едином. Что, само собой, должно
свидетельствовать о Делёзовой неспособности трезво оценить собственную
философию и о склонности к самообману.
Даже оригинальный историко-философский «метод» Делёза, на
текстовом уровне заключающийся в использовании
несобственно-прямой речи, ставится ему в упрёк. Ведь при этой несобственно-прямой
речи непонятно, кто говорит — то ли, скажем, сам Фуко, то ли
скрывающийся под его именем Делёз. Но всё это неспроста, говорит Бадью,
всё это делается с умыслом: заслуги Фуко Делёз при случае принимает
на свой счёт.
Там же. С. 36.
Там же. С. 64.
Там же. С. 84.
Глава 7. Претенденты
365
При этом Бадью последовательно проводит мысль о том, что сам он,
Ален Бадью, делает всё то же самое, что и Делёз, только получается это
у него не в пример лучше. За что бы ни брался Делёз, всё у него валится из
рук. А вот Бадью — тот, напротив, непревзойдённый мастер своего дела,
и сравнение с Делёзом только тем и интересно, что позволяет увидеть,
насколько состоятельнее, умнее и проницательнее его оппонент.
Выглядит всё это как посмертная месть тому, кто уже не может ответить.
И вместе с тем, Бадью даёт великолепную и очень яркую
характеристику философа Делёза:
В это неспокойное время (завершение колониальных войн, голлизм,
май 68-го и «красные» годы, миттерановская реставрация, падение
социалистических государств и т. д.) Делёз неизменно вбирал в себя
разнообразный опыт с помощью аппарата, позволяющего ему совершать путь
по подземельям виртуального, от публичной гошистской сцены к своего
рода ироническому одиночеству, не испытывая необходимости в
переделке своих категорий. То, что Единое способно складываться согласно
событийным склонениям, кочевым по характеру, радовало его, но не
захватывало сверх меры; то, что Единое способно раскладываться
согласно закрытым множествам, в значительной мере оседлым, не было для
него неожиданностью. Ему не был свойственен ни неуместный и быстро
сходящий на нет энтузиазм, ни нигилистическое отрицание. Если взять
все системы философии, игравшие заметную роль во Франции в
течение последних трёх десятилетий, то его философия, если расценивать по
сути, конечно, в наименьшей степени испытала на себе влияние столь
непохожих один на другой этапов нашей общественной жизни. Ни
воззваний, ни раскаяний. Это означает, что им владела одна лишь подлинная
интеллектуальная страсть: продолжать свою работу, следуя
интуитивному и строгому методу, который он выработал раз и навсегда»1.
А. Виллани дал Бадью суровую отповедь, заявив, что тот
берётся оценивать тезисы другого философа, не принимая во внимание его
мысль: «... Это не "двойной труд', Бадью о Делёзе, но удвоение, Бадью
о Бадью»2. А португалец Хосе Жиль назвал «Шум бытия» «злобной
книгой», имеющей своей целью показать читателю, в чём был неправ
Делёз и в чём преуспел Бадью, так что её основным содержанием оказы-
Там же. С 128-129.
ViLLANi A. La métaphysique de Deleuze // Futur antérieur. 1998. № 43. P. 56.
366
Часть 2. Ризомл
вается призыв читать Бадью, а не Делёза . Именно такую точку зрения
выразил Г. Лардро, взявшийся доказывать, что Бадью сделал то, чего не
удалось Делёзу2, и осуществивший тем самым запоздалую месть.
Лардро заявил, что Делёз, подобно клещу, забирается под кожу философских
дискурсов и кормится их кровью. «Политика Делёза — "засылка"»,
а сам он — «фальсификатор»3, занимающийся интеллектуальным
терроризмом и запугиванием. Лардро даже вытащил на свет полузабытое
обвинение: те, кто следует Бергсону (а Делез — бергсонианец), —
спиритуалисты и враги диалектического материализма.
Впрочем, дело не только в расхождении Делёза и Бадью по
политическим вопросам. Куда важнее их расхождение на уровне онтологии:
«различие между онтологией Делёза и Бадью заключается не в том,
что работы первого ограничены "эмпирическими интуициями" тогда
как второй свободен от такого ограничения. Нет, различие между ними
в том, что один избирает статичную, номинативную концепцию бытия,
а другой — динамическую и вербальную»4. В полемике Бадью с Делё-
зом не было бы ничего необычного, не пытайся он превратить её в
орудие мести и самоутверждения.
§ 7.3. Жижек: претендент-лаканист
Славой Жижек в своей книге «Органы без тела» говорит, что «все
великие "диалоги" в истории философии зачастую представляли
собой недоразумения: Аристотель не понял Платона, Фома Аквинский
не понял Аристотеля, Гегель не понял Канта и Шеллинга, Маркс не
понял Гегеля, Ницше не понял Христа, Хайдеггер не понял Гегеля...»5
Этот перечень поневоле хочется дополнить: Жижек не понял Делёза.
Ибо лаканистское прочтение словенского философа, согласно
которому Делёз, несмотря на всю его неприязнь к Гегелю, был гегельянцем,
а Сартр — одним из его тайных ориентиров6, вызывает некоторое не-
1 Gil J. Quatre méchantes sur un livre méchant // Futur antérieur. 1998. № 43. P. 71 -84.
2 Lardreau G. L'Exercice différé de la philosophie. À l'occasion de Deleuze. P.: Verdier, 1999.
3 Ibid. P. 44.
4 Egyed B. Counter-Actualisation and the Method of Intuition // Deleuze and Philosophy. Ed.
C.V.Boundas.P81.
5 2i2ek S. Organs without Bodies. NY; L.: Routledge, 2004. P. 9.
6 Ibid. P. 11.
Глава 7. Претенденты
367
доверие. Впрочем, эта «ошибка» может оказаться продуктивной, как то
и происходило на протяжении всей истории философии, так что стоит
разобраться с ней подробнее.
Жижек настаивает на том, что книги Делёза следует чётко отличать
от тех, что были написаны им в соавторстве с Гваттари. Это
необходимо для адекватного понимания Делёза не только в сфере философии, но
и в области политики. «Анти-Эдип», считает Жижек, — самая
неудачная книга Делёза, наполненная слишком плоскими решениями
ключевых проблем его философии. Поэтому необходимо обращаться только
к тем книгам, которые Делёз написал в одиночку.
Прежде всего, говорит Жижек, Делёза напрасно считают
философом виртуального; виртуальное — вообще неудачная идея. Вместо
этого Делёза следует считать мыслителем, исследовавшим реальность
виртуального, т. е., в лакановских терминах, Реального1. Гений Делёза
проявился в создании концепции «трансцендентального эмпиризма»:
трансцендентальное намного богаче реального, а трансцендентальный
эмпиризм представляет собой формальную концептуальную сеть,
которая структурирует поток эмпирических данных.
Концептуальные конструкции Делёза, говорит Жижек, опираются
на две логики, или концептуальные позиции: логику смысла, события
и явления, и логику производства бытия. В первом случае Делёз
опасно близко подходит к формулировкам эмпириокритицизма: речь здесь
идёт о чистом потоке опыта, свободного от субъектно-объектной
оппозиции. Во втором — склоняется к гуманистической критике «реифи-
кации». Колебание Делёза между двумя этими логиками соответствует
колебанию между двумя моделями реификации в марксизме —
объективистской и субъективистской. Более того, наличие в творчестве
Делёза двух логик ведёт к двум онтологиям и политическим методологиям.
Логика производства ведёт к тематике самоорганизации молекулярных
групп, подрывающих функционирование властных систем; Жижек
расценивает этот ход как «левый радикализм, связанный с философским
идеалистическим субъективизмом» и «единственной доступной мыс-
Ту же мысль проводит С. Лэш, утверждающий, что «Делёз и Гваттари отдают приоритет
Реальному, тогда как Лакан сосредоточивается на Символическом». (Lash S. Genealogy and the
Body: Foucault/Deleuze/Nietzsche. P. 9.)
368
Часть 2. Ризомл
ли Делёза моделью политизации»1. Логика события аполитична.
Однако эта аполитичность вызывает у Жижека сомнения:
...Что, если эта другая онтология также влечёт за собой
политическую логику и свою собственную практику, которых сам Делёз не
осознавал? Почему бы нам не поступить также, как Ленин в 1915 г., когда, чтобы
заново обосновать революционную практику, он вернулся к Гегелю — не
к его политическим сочинениям, а к «Логике»? Что, если, точно так же,
существует иная делёзианская политика, которая здесь обнаружится?
Первый намёк в этом направлении можно найти в уже упоминавшейся
параллели между парой телесные причины/имматериальный поток
становления и старой марксистской парой базис/надстройка: такая
политика принимала бы во внимание непреодолимую дуальность
«объективных» материальных/социоэкономических процессов, имеющих место
в действительности, и взрыва революционных Событий, описываемых
политической логикой. Что, если область политики, эта область
псевдопричин, театр теней, совершенно стерильна, и тем не менее, является
определяющей для преобразования действительности?2
То же самое, полагает Жижек, можно сказать и об отношении
Делёза к Гегелю: Делёз утверждает приоритет генетического процесса
дифференциации перед универсализмом Бытия, тогда как Гегель стремится
ввести (само)движение в концептуальную универсальность. При этом
Гегель оказывается таким же «концептуальным номиналистом», как
и Делёз. Делёз является анти-гегельянцем в том смысле, что
утверждает абсолютную позитивность, отказываясь от негативности.
Гегелевская негативность представляется ему средством подчинения различия
тождественности. Основное различие между Гегелем и Делёзом,
говорит Жижек, — это различие не между имманентностью и
трансцендентностью, а между потоком и разрывом. «Конечный факт» делёзовского
трансцендентального эмпиризма — абсолютная имманентность
континуального потока чистого становления, тогда как для Гегеля это
непреодолимость разрыва имманентности3. Однако, характеризуя
бесконечность чистого становления как виртуальность, охватывающую всякую
актуализацию, Делёз втайне становится гегельянцем4.
2i2ek S. Organs without Bodies. P. 32.
Ibid.
Ibid. P. 60.
Ibid. P. 69.
Глава 7. Претенденты
369
§ 7.4. Нанси: мыслить «с-»
К проблематике множественного Ж.-Л. Нанси, как он сам
признаётся, обратился благодаря текстам Делёза и Деррида1. В 1980-е гг. он стал
развивать теорию «сообщества», в некоторых моментах близкую к де-
лёзианству и в то же время противоположную ему. Перекличка идей
выразилась в ообращении двух авторов к тому, что Делёз называл молеку-
лярностью и «социальным телом».
...Сообщество, — писал Нанси, — означает, что нет единичного
сущего вне иного единичного сущего и существует изначальная или
онтологическая «социальность» (название это не совсем удачно), в своём
принципе выходящая далеко за пределы мотива социального бытия
человека (zoon politicon вторичен по отношению к этому сообществу). Ибо,
с одной стороны, мы не можем сказать определённо, что сообщество еди-
ничностей ограничивается «человеком» и исключает, например,
«животное» (a fortiori нельзя сказать определённо, что даже «у человека»
сообщество касается только «человека» и не включает «нечеловеческое»,
«сверхчеловеческое» или, например, сказать в шутку (или всерьёз)
«женщину»: в конечном итоге, половое различие само по себе
единично в различии единичностей... ). С другой стороны, если социальное
бытие всегда является предикатом человека, то «человека» можно было бы
мыслить только исходя из сообщества. В то же время эта мысль зависит
от принципиального определения сообщества: нет общности
единичностей в обобщённом, высшем по отношению к ним смысле,
имманентном их общему бытию2.
Такая монадология, зиждущаяся на трансцендентальном
эмпиризме, и впрямь характерна для Делёза. При этом, впрочем, Нанси
усматривает сущность сообщества в коммуникации, с чем Делёз едва ли мог
Нанси говорит об этом в довольно любопытной сноске: «... Прежде всего, тексты, которые
вызвали у нас самих интерес к этой теме, — это тексты Делёза с текстами Деррида (и это "с-"
потребует когда-нибудь комментария). В основе своей речь идёт о том же плавании, в которое
пустились, с одной стороны, Агамбен, а с другой — Бадью, даже если этот последний желает
предпринять его в форме противопоставления, обыгрывая множественность против Единого.
Всё это приводит к доказательству того, насколько мы мыслим только одних с другими
(посредством, против, несмотря, рядом, вдали от, чтобы коснуться, чтобы избежать, чтобы
пробуравить)». (Там же. С. 56.)
Нанси Ж.-Л. Непроизводимое сообщество. Пер. Ж. Горбылевой и Е. Троицкого. М. :
Водолей, 2009. С. 64.
370
Часть 2. Ризомл
бы согласиться. Сама коммуникация у Нанси — не сущность, но в ней,
внутри неё существует общность как конечная сущность. Такая
своеобразная феноменология, заставляющая Нанси утверждать, что мир
проявляется не в индивиде, а в сообществе, слишком далеко заводит его на
территорию Хайдеггера. Поэтому сходство (а значит, и различие) с де-
лёзовской мыслью можно усматривать лишь на уровне монадологии.
Протяжённая единичность, говорит Нанси, существует лишь
выказывая себя к внешнему, тогда как это внешнее есть ничто иное как
выказывание вовне другой ареальности-единичности. Сартр в этом месте
искал абсолютного третьего. Нанси полагает, что этим Третьим является
сообщество, всегда-уже предшествующее всякой адресованное™.
Делёз решает эту проблему совершенно иначе — диалектически.
Единичности он мыслит не как сущности, пребывающие в вечной
самотождественности. Его единичности, скорее, подчиняются принципу
вечного возвращения, будучи во всякий момент не тождественными, но
различными. Коммуникация для него возможна лишь как один из моментов
детерриторизации, а потому коммуникация не нуждается в Третьем.
Таким образом, он уходит от сартровской проблемы, для решения которой
такие усилия прилагает Нанси. Для Делёза это ложная, то есть
несуществующая проблема. И никакого «конечного сущего» ^ля него нет.
Конечно, Нанси не столь наивен, чтобы рассматривать единичности
как субстанции. Единичность, говорит он, как раз и определяется
«высказыванием вовне», конституируемым комуникацией. Коммуникация
в таком случае оказывается чем-то вроде предустановленной гармонии,
благодаря которой сообщество предшествует всякому высказыванию.
Сообщество сопротивляется всякой имманентности и оказывается
чистой трансцендентностью. Но в этой трансцендентности Нанси теряет
возможность сказать о сообществе что-либо иное, чем то, что «мы
разделяем бытие или существование»1, причём, подчёркивает он, речь идёт
не о бытии сообщества, а о сообществе бытия. Хоть это и стало
трюизмом со времён Сартра, в 1980-е такое заявление вновь звучало свежо.
Эпоха «молекулярной революции» осталась позади, а «горизонт
коммунизма», как замечал сам Нанси, просматривался разве что в
литературном регистре.
Там же. С 146.
Глава 7. Претенденты
371
И тем не менее, разворот онтологической проблемы у Нанси тот же,
что и у Делёза. Самоотношение «в-себе» создаёт его бытие (к-себе).
«История современной философии в лице Маркса, Ницше и Гуссерля,
вплоть до Хайдеггера, Витгенштейна и Деррида не выработала иной
необходимости кроме обращающей в себе самой гегелевскую
необходимость против её самой: ничто никогда не может проявиться как "бытие",
идея, идеал или вопрос "смысла бытия", если факт бытия не был
предшествовавшим или внешним по отношению к его "смыслу" или, иначе
говоря, если выход в присутствие бытия не мог быть сведён к любому
самосознанию и не возникал внезапно в центре этого самосознания
как некий зазор и его различие/различание (или как эти складки
бытия, к которым много раз возвращался Делёз, перегибая и преумножая
их)»1. После такого высказывания неудивительно, что Нанси понимает
событие, помещаясь где-то между Хайдеггером и Делёзом, — не как то,
что имеет место, но как появление места, пространства-времени как
такового (Делёз) и выказывание его предела (Хайдеггер).
Конечно, можно сказать, что таков общий горизонт всей философии
второй половины XX века, конституируемый онтологией складки. Но
у Нанси эта складка приобретает порой отчётливо делёзианский
характер замены метафизики сущности/явления метафизикой
поверхностного смысла: «Бытие не имеет смысла, но само бытие, феномен бытия,
это и есть смысл, который, в свою очередь, является своей собственной
циркуляцией — и мы сами являемся этой циркуляцией»2.
Теория социального, предлагаемая Нанси, зиждется на онтологии
множественного, главным постулатом которой оказывается следующее:
«Множественность сущего лежит в основании бытия»3. Кантианство
Нанси проявляется в том, что бытие он понимает не как состояние или
качество, но как простое полагание вещи. Однако это полагание у него
предполагает собственную дискретность, так что всякое явление
оказывается со-явлением, а смысл бытия — бытием-к-себе-вне-себя.
Конечно, при таком подходе горизонтом мысли оказывается вариация
гегелевского самосознания (а Гегель у Нанси зачастую носит имя «Батай»).
1 Там же. С. 154.
2 Нанси Ж.-Л. Бытие единичное множественное. Пер. В. В. Фуре под ред. Т. В. Щитцовой.
Мн.: Логвинов, 2004. С. 16-17.
3 Там же. С. 31.
372
Часть 2. Ризомл
§ 7.5. Делёз и Mамфорд
Американца Льюиса Мамфорда можно считать предшественником
Делёза и Гваттари как в их квази-антропологических выкладках, так
и в отношении концепта машины. Прежде всего, Мамфорд
усматривает начало специфически человеческой культуры в переориентровании
передних конечностей homo sapiens из специализированных органов
передвижения в многоцелевые инструменты, которое Делёз и
Гваттари описывают как детерриторизацию и орудийную ретерриторизацию.
Начало «века машин», говорит Мамфорд, связано не с промышленной
революцией, а с организацией машины, составленной из «человеческих
деталей» — «мегамашины». Мамфорд употребляет различные
наименования, называя её «незримой машиной», или «машиной
коммуникаций» (если её детали разделяются пространством), «рабочей
машиной» (поскольку она выполняет сложную работу с высокой степенью
коллективной организации) и «военной машиной» (когда речь идёт
о коллективном принуждении и уничтожении). Но в сочетании всё это
составляет «мегамашину». «Если машину можно определить... как
сочетание сопротивляющихся частей, каждой из которых отводится
особая функция, действующее при участии человека для использования
энергии и для совершения работы, — то тогда огромную рабочую
машину можно с полным основанием называть настоящей машиной... »1
Машина, о которой говорит Мамфорд, имеет два аспекта —
принудительный и созидательный. Они неизменно соприсутствуют, а
посредством армии стандартная модель мегамашины передаётся от
культуры к культуре. Более того, весь порядок трудовой организации
переходит от одной культуры к другой именно в виде военной машины.
Но самое важное — здесь происходит устранение человеческого
измерения и органических пределов, а главным эффектом «негативной
мегамашины» оказывается принудительная коллективная форма порядка».
И ещё один очень важный момент: непреходящим достижением
мегамашины становится миф о непреодолимости машины и её полезности
(если, конечно, ей не сопротивляться).
Мамфорд Л. Миф машины. Техника и развитие человечества. Пер. Т. Азаркович, Б.
Скуратова. М. : Логос, 2001. С252.
Глава 7. Претенденты
373
Мамфорд определяет капитализм как «перевод всевозможных
товаров; услуг и энергий в отвлечённые денежные понятия»1, который
Делёз называет «раскодированием» и делает очень важное замечание
о том, что частному капитализму мог предшествовать капитализм
государственный. Он говорит даже о намеренной приостановке работы
мегамашины, дающей возможность временно задействовать те силы,
которые ей противостоят и которые она подавляет.
Конечно, Мамфорд расходится с авторами «Анти-Эдипа» в самом
главном — в представлении о сугубо человеческом и сознательном
сотворении мегамашины. Поэтому ему не приходит в голову говорить
о «природных» машинах — таких, например, какие составляют
орхидея и оса. Однако идея «военной машины» оказывается близка Делёзу
и Гваттари. Было бы преувеличением считать, что «Анти-Эдип» и
«Тысяча плато» развивают исключительно идеи Мамфорда. Однако
несомненное влияние заметить нетрудно.
«Когда Льюис Мамфорд создаёт слово "мегамашина" &ля
обозначения общественной машины как коллективной сущности, он абсолютно
прав», — пишут Делёз и Гваттари. А в скобках добавляют: «хотя он и не
применяет это обозначение к варварской деспотической институции»2.
С точки зрения, которую развивают в «Капитализме и шизофрении»
Делёз и Гваттари, к понятию мегамашины приближаться отталкиваясь
от понятия территориальности. Конечно, если территориальность
понимать как постоянное географическое пребывание, то
территориальным является лишь государственный аппарат, заменяющий родовую
организацию географической. Однако локальные территориальные связи
присущи уже первобытной машине, записывающей отношения на
неделимой земле. Когда же деление распространяется на саму землю,
следует говорить уже о детерриторизации первичных сообществ. Таким
образом, именно первобытный социум только и можно навать
территориальной машиной в строгом смысле. Функционирование этой
машины состоит в склонении линий родства на тело земли. Здесь происходит
кодирование потоков, обеспечивающее взаимное распределение и
подгонку означающей цепочки и потока производства, а действующей си-
Там же. С. 358.
Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. С. 222.
374
Часть 2. Ризомл
лой экономики оказывается прибавочная стоимость кода. Это
«холодная экономика», где отрыв цепочки той или иной серии производит
феномены избытка или недостатка, что компенсируется необменивае-
мыми элементами (престиж, распределение потребностей и т. п.). Эта
прибавочная стоимость кода и осуществляет всевозможные действия
первобытной территориальной машины.
Варварская деспотическая машина возникает, когда деспот
навязывает новый союз и отклоняет латеральные союзы. Это одновременно
параноическая и безбрачная машина, устанавливающаяся на
развалинах первобытной территориальной машины. Деспот — это субъект
детерриторизованного знания, так что то, что позволяет судить жизнь
и надзирать над землёй, отбирается у земли. Социальное тело теперь
не тело земли, но тело деспота. Место территориальной машины
занимает мегамашина государства — «функциональная пирамида с
деспотом как неподвижным двигателем на вершине, с бюрократией как
боковой поверхностью и передаточным органом, с жителями деревень
у основания, исполняющими роль рабочих элементов»1. В общем, то,
что Маркс называл азиатским способом производства. Вся
прибавочная стоимость становится здесь объектом присвоения. Государство
не является принципом территоризации; напротив, привязка граждан
к месту жительства есть следствие детерриторизации, разделяющей
землю как объект и подчиняющей людей новому соуциуму. Детали
территориальной машины родства сохраняются, но теперь они становятся
лишь рабочими элементами государственной машины, а
закодированные потоки прежнего режима получают дополнительное кодирование
из-за присваивающего себе прибавочную стоимость
трансцендентного единства. Псевдотерриториальность государства есть продукт
подлинной детерриторизации, заменяющей знаки земли
абстрактными знаками и делающей землю объектом собственности государства2.
Азиатское производство — это не какая-то частная формация. Напро-
Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. С. 307.
«То деспотическое Государство; которое проявляется в наиболее чистых условиях так
называемого азиатского производства, обладает двумя взаимосвязанными аспектами — с одной
стороны, оно заменяет территориальную машину, оно образует новое полное детерриторизо-
ванное тело; с другой стороны, оно поддерживает старые территориальности, объединяет их
в качестве деталей или органов производства с новой машиной». (Там же. С. 312-313.)
Глава 7. Претенденты
375
тив, это формация базовая, определяющая горизонт всей истории; оно
неизменно обнаруживается в качестве фундамента всякой более
развитой формы социума.
Если первоначально государство было абстрактным единством,
объединяющим фунционирующие порознь подсистемы, то
впоследствии оно перестаёт довольствоваться перекодированием прежних
территориальностей и их сегментированием; оно изобретает новые
коды для детерриторизованных потоков денег, товара и частной
собственности. Оно перестаёт быть управляющим фрагментами
трансцендентным законом и даёт имманентный закон социальной целостности.
Оно больше не производит перекодирующее единство, но само
производится в поле раскодированных потоков, потому что оно есть не что
иное, как желание1.
Наконец, цивилизованная капиталистическая машина возникает
благодаря раскодированию потоков. Деспотическая машина была
синхронической; капиталистическая машина оказывается диахронической,
ей присуще «шизоидное время нового креативного среза»2.
Раскодированные потоки производят такое желание, которое не испытывает
нехватку, а производит. Это машина одновременно желающая,
общественная и техническая. Обобщённое раскодирование потоков, новая
массивная детерриторизация и конъюнкция детерриторизованных
потоков — вот что характеризует капиталистическую машину. Итак,
первобытная территориальная машина отправлялась от коннекций
производства, варварская деспотическая машина основывалась на
дизъюнкциях, бравших начало в трансцендентном единстве, а
капиталистическая машина зиждется на конъюнкции — не на ускользающих от
кодирования остатках и не на деспотической роскоши, а на
инвестировании раскодированных потоков в производство ради производства.
«Мы всё время скатываемся к чудовищному парадоксу: государство — это желание, которое
переходит из головы деспота в сердца подданных, из интеллектуального закона на всю
физическую систему, которая из него высвобождается или же из него выделяется. Желание
государства, самая фантастическая машина подавления, всё равно является желанием, желающим
субъектом и объектом желания. Желание — вот операция, которая состоит в постоянном
внедрении исходного Urstaat в новое положение вещей, в том, что это Urstaat нужно сделать
как можно более внутренним и имманентным для новой системы». (Там же. С. 349.)
Там же. С. 352.
376
Часть 2. Ризомл
Всякая техническая машина предполагает кодированные потоки,
одновременно внешние и внутренние по отношению к ней. В
докапиталистических обществах эти потоки кодировались и перекодировались,
никогда не получая независимости. Всеобщее раскодирование потоков
в капитализме высвободило эти потоки, так что машина интериоризи-
ровала их в своей структуре. «Не машины создали капитализм, а
наоборот, капитализм в этом смысле создаёт машины... »г
Капиталистическое государство становится регулятором раскодированных потоков,
погружённых в аксиоматику капитала. Это завершение государства, его
конец, поскольку государство на протяжении всей истории своего
существования определялось как то, что производит перекодирование
потоков.
Таким образом, согласно Делёзу и Гваттари, мегамашина
возникает на определённой стадии развития материальной циилизации (здесь
они совершенно согласны с Мамфордом), но не остаётся неизменной,
а эволюционирует, имеет не только начало, но и конец. И в то время, как
Мам φ орд говорит о принудительном и принуждающем характере мега-
машины, Делёз и Гваттари считают её движущей силой желание.
Концепт «машины войны» или «боевой машины» получил
развитие во второй части «Капитализма и шизофрении», где Делёз и
Гваттари утверждают её внешний характер по отношению к государству.
Государство либо располагает насилием, не связанным с войной (действуя
посредством «захвата» — полиции или пенитенциарной системы),
либо производит юридическую интеграцию армии и военной функции.
Сама же машина войны не сводится к аппарату государства и всегда
ускользает от его суверенитета. «... Машина войны — иного вида, иной
природы, иного происхождения, нежели аппарат государства»2. Таким
образом, «машина войны» оказывается парадоксальным понятием:
она лежит где-то в стороне от государственной мегамашины, ускользает
от её закона и, очевидно, даже предшествует государству.
Делёз и Гваттари подчёркивают, что недостаточно заявить о внешнем
по отношению к государственному аппарату характере машины войны,
нужно помыслить её как чистую форму внешнего, в противоположность
Там же. С. 367.
Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. С. 589.
Глава 7. Претенденты
377
конституируемой государством форме внутреннего. Форма
внутреннего вовсе не является аксиоматической моделью, в соответствии с которой
необходимо мыслить всегда и обо всём. Однако внешняя машина войны
зачастую стремится слиться с тем или иным аспектом государственного
аппарата; из-за чего порой можно их перепутать. Но, если над ней
возобладало государство, военной машине остаётся либо раствориться в
государственном институте, либо стать машиной самоубийства.
Здесь уже нет ничего общего с Мамфордом, полагавшим, что с
определённого момента всё есть мегамашина. Делёз и Гваттари
столкнулись с парадоксом: &ля становления государства необходимы
государственные элементы. А это значит, что государство существовало всегда,
причём в самой что ни на есть завершённой форме. Однако
становление и трансформации государства как системы предполагает
существование чего-то внешнего — не негативного иного, а именно внешнего,
а само это внешнее также должно быть машиной. Это и есть машина
войны, ускользающая от мегамашины.
§ 7.6. Райх: ближайший претендент
Прогулка шизофреника — это лучшая модель, нежели
невротик, уложенный на диван.
Ж. Делёз, Ф. Гваттари, Анти-Эдип.
Несмотря на нелюбовь Делёза и Гваттари к термину «фрейдо-марк-
сизм», «Анти-Эдип» подпадает именно под эту рубрику. Самым
близким по духу автором при этом оказывается Вильгельм Райх, чего не
скрывали и сами авторы «Капитализма и шизофрении». «Хотя Делёз
и Гваттари в некоторых отношениях сближаются с фрейдо-марксизмом
и идеями Вильгельма Райха, — замечает И. Гро, — они ощущают
недостаточность его проекта, поскольку он сохраняет понятие
параллелизма между импульсами жизни и социальной активностью и цепляется за
фрейдовскую топографическую модель стратифицированной
социальной и психологической сферы»1.
Gro I. Molecular Revolutions: The Paradox of Politics in the Work of Gilles Deleuze. Transi.
J. Marks // and Politics. Eds. I. Buchanan & N. Thoburn. P. 57-58.
378
Часть 2. Ризомл
Близость Делёза времён «Анти-Эдипа» к идеям В. Райха сразу
бросается в глаза:
Итак, вот цель шизоанализа — проанализировать специфическую
природу либидинальных инвестирований экономики и политики; и тем
самым показать, как желание может быть доведено до того, чтобы
желать своего собственного подавления в субъекте, который желает
(отсюда роль влечения к смерти в сцепке желания и общественного). Всё это
происходит не в идеологии, а на нижнем этаже. Бессознательное
инвестирование фашистского или реакционного типа может сосуществовать
с революционным сознательным инвестированием1.
Делёз и Гваттари считают главным достижением Райха то, что он
показал зависимость вытеснения от подавления. При этом
общественное подавление у него не понимается исходя из соразмерного
цивилизации семейного вытеснения. Напротив, само вытеснение
понимается по отношению к подавлению, характерному для конкретной формы
общественного производства. Таким образом, у Райха Делёз и
Гваттари находят постановку проблемы отношения желания к
общественному полю. В этом отношении, утверждают они, Райх пошёл дальше
Г. Маркузе, который рассматривал эту проблему несколько
поверхностно. Райх — подлинный основатель материалистической
психиатрии: поставив проблему в терминах желания; он первым отказался от
обобщённых схем марксизма, чересчур склонного говорить об
обмане масс. Вместе с тем, у Райха лишь намечается, но не
формулируется понятие желающего производства, поскольку ему так и не удалось
включить желание в экономическую инфраструктуру, а влечение —
в общественное производство. Поэтому ему казалось, что в
революционном инвестировании желание просто совпадает с экономической
рациональностью, а массовые реакционные инвестирования
отсылают к идеологии. Используя понятие идеологии, Райх оказался
пленником производных понятий, не разглядев, что именно желание первично
в устремлениях масс. Психоанализ в представлении Райха остался
объяснительной схемой, не включаясь непосредственно в революционную
креативность. Но, «так или иначе, Райх во имя желания внедрил в
психоанализ песнь жизни... Он первым попытался запустить аналитиче-
1 Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. С. 168.
Глава 7. Претенденты
379
скую машину совместно с революционной» . В конце концов, он чуть
ли не единственный утверждал, что в результате анализа человек
должен стать свободным и весёлым.
Райх был твёрдо убеждён в том, что «не существует ни одного
индивидуума, в структуре которого не содержались бы элементы
фашистского восприятия и мышления»2. Австрийский психолог объяснял фашизм
в терминах желания. Хотя он и не выработал категорию «желающего
производства», его мысль явно предвосхищает делёзогваттарианское
описание фашизма как «паранойи». Так же, как и авторы
«Анти-Эдипа», Райх не склонен возлагать ответственность за фашизм на каких-то
бесноватых фюреров, а находит его истоки в психологической
структуре индивидов с подавленной сексуальностью3. Как Райх, так и Делёз
с Гваттари не верят в существующие независимо от человека
исторические или экономические закономерности: сам человек всегда вовлечён
в поле исторических и экономических событий, «инвестирован» в него
через своё желание. Тем самым все три автора в неявной форме
отказываются от того, что Альтюссер назвал «разрывом/» в творчестве
Маркса, — от теоретического антигуманизма и теории классовой борьбы,
основанной на понятии «интересов».
Вместе с тем, Райх заложил основания аля параллелизма между орга-
низимическими и социальными процессами. Психологическая
структура масс, говорил он, формируется на основании
социально-экономических процессов, в свою очередь закрепляя их и придавая им устойчивый
характер. А «биопатическая» структура личности представляет собой
затвердевание авторитарного исторического процесса, осуществляя
угнетение масс на биофизическом уровне. Делёз и Гваттари отказались
от поисков приоритета (что является определяющим — экономиче-
1 Там же. С 189-190.
2 Райх В. Психология масс и фашизм. Пер. Ю. М. Донца. М. : ACT, 2004. С. 13.
3 « ... В основе фашизма всех стран, народов и рас лежит безответственность народных масс.
Фашизм возникает в результате тысячелетней деформации личности. Он мог бы возникнуть
в любой стране и у любого народа. Он не составляет характерную особенность немцев или
итальянцев. Фашизм проявляется в каждом индивидууме во всех странах мира... Факт не
меняется от того, что данное положение сложилось в результате тысячелетнего развития
общества. Ответственность лежит на самом человеке, а не на "исторических событиях". Перенос
ответственности с живого человека на "исторические события" приводил к краху
социалистические освободительные движения». (Там же. С. 443.)
380
Часть 2. Ризомл
ские процессы или индивид); как это сделал и Маркс; считавший вопрос
о приоритете базиса или надстройки бессмысленным. Однако они
сохранили самое важное — возможность говорить одновременно и о
социально-экономическом; и об организменном уровнях; обнаруживая
в них общие закономерности и взаимосвязи.
Райх связывал социальные вопросы с сексуально-энергетическими
факторами. Точно так же Делёз и Гваттари говорят о либидозном
инвестировании социального пространства. При этом Райх считал, что
«форма экономики определяет форму сексуальности, причём форма
сексуальности не может измениться до тех пор; пока не изменятся
социально-экономические формы»1. Освобождение труда он понимал как
освобождение сексуальности. «Когда человек получает удовольствие от
своего труда, мы называем его отношение к труду "либидозным". В
связи с тесным переплетением труда и сексуальности (в широком смысле
этого слова) отношение человека к труду также относится к сфере
сексуальной энергетики народных масс... Источником труда и
сексуальности служит одна и та же биологическая энергия»2.
Это единство трудовой и сексуальной энергии Райх объясняет
несколько фантастически; толкуя о «космическом оргоне»; который ему
удалось накопить в аккумуляторах и использовать в терапевтических
целях. Эту сторону его творчества, как правило, стараются не замечать.
Оставим её без внимания и мы, ведь ^^ля нас важна его опора на
биологизм; а не смелые опыты. Стоит ли говорить о том, что попытки уловить
биологическую энергию инструментальными средствами — традиция
старая (можно вспомнить и Месмера, и Хаббарда, и многих других), но
не вызывающая доверия в академических кругах? Но вот категория
биологической энергии, несмотря на неизменно слабую обоснованность,
каким-то образом прижилась в гуманитарной мысли. Фрейд дал ей
прописку в своей гипотезе, толком её не объяснив, но об этом не любят
вспоминать. Энергетическая модель неплохо работает, именно
благодаря метафизическому основанию.
^\овлетворённая половая энергия, согласно Райху, спонтанно
превращается в трудовую деятельность, не требующую никакого иного
Там же. С. 272.
Там же. С. 410.
Глава 7. Претенденты
381
принуждения или побудительного мотива. Влечение к деятельности,
объясняет Райх, возникает в биологических источниках возбуждения
организма, т. е. является совершенно «естественным», а не социально
и экономически обусловленным. При этом, однако, формы труда имеют
социальную, а не биологическую детерминированность. Делёз и Гват-
тари разошлись с австрийским психологом по этому вопросу: желание,
утверждают авторы «Анти-Эдипа», — это не какая-то «природная»
данность, оно всегда социально детерминировано. Как и вся прежняя
метафизика желания, райхианство отталкивается от индивида, от «Я»
и от единичности, а потому не может подобраться к социуму, к «мы»
и к множественности. Делёзианская философия множественности
позволяет устранить этот недостаток.
Райх исповедовал ту же форму виталистского историзма, которую
позже приняли Делёз и Гваттари. Прогрессивное освобождение
сексуальности представлялось ему однонаправленным и необратимым
(«ослабление реакционных оков на сексуальности не позволяет вновь
затянуть их»1). Делёз и Гваттари также полагают, что освобождение
«желающего производства» есть процесс необратимый и
закономерный. Впрочем, это совпадение взглядов не должно вызывать удивления,
ведь в обоих случаях мы имеем дело с марксистской моделью истории.
Спасение от фашизма Райх видел в развитии «рабочей демократии»,
имеющей биологические основания2. Поэтому «для эффективной
реализации социально значимой сексуальной энергетики в первую очередь
необходимо создать объединённое рабочее движение»3. Возможно,
Райх чрезмерно увлёкся своей «оргонной биофизикой», граничащей
с ничем не обоснованной фантазией, возможно, он был чересчур
прямолинеен в своих декларациях, однако он выразил общую тенденцию
фрейдо-марксизма, от которой не свободен и «Анти-Эдип». Книга Рай-
1 Там же. С. 282.
2 « Естественная рабочая демократия представляет собой суммарный итог всех жизненных
функций, определяемых разумными межличностными отношениями, возникновение и развитие
которых имеет естественный и органический характер. Новым в рабочей демократии является
то, что впервые за всю историю социологии она даёт обоснование возможности
осуществления в будущем управления обществом не на основе идеологий и условий, которые необходимо
создать, а на основе изначально существующих и развивающихся естественных процессов».
(Там же. С. 37.)
3 Там же. С. 293.
382
Часть 2. Ризомл
ха «Психология масс и фашизм» была написана в годы Второй мировой
войны, когда будущее человечества представлялось неопределённым,
так что австрийскому автору простительна некоторая утопичность. То
же самое можно сказать об «Анти-Эдипе», написанном после майской
революции 68-го, поражения которой Делёз и Гваттари не признали,
считая её исключительно важным событием, которое не могло пройти
бесследно /^ая сознания европейца. Поэтому «Анти-Эдип» также
грешит утопичностью, хотя и не столь наивной. Но самое скверное в том,
что это виталистский утопизм. Райх верил в освободительную силу «ор-
гона», Делёз и Гваттари — в освободительную силу «желания». И тот,
и другие опирались на фрейдовскую концепцию либидо, отсылающую
к биологическим основаниям человеческого существования и в этом
отношении, как мы уже сказали, не имеющую надёжного обоснования.
Неудивительно, что Бодрийяр подверг авторов «Анти-Эдипа»
уничижительной критике.
В своей статье «Забыть Фуко» Бодрийяр заявил о сущностной
близости между концепциями Фуко и Делёза, сходящимися на почве райхи-
анства, так что, критикуя фукольдианство, он заодно разнёс в пух и прах
делёзианство. Фукольдианская концепция власти, заявил Бодрийяр,
совпадает с концепциями желания Делёза и Лиотара, где на место
нехватки или запрета ставится рассеивание потоков или интенсивностей.
Совпадение это отнюдь не случайно, поскольку власть у Фуко
занимает место желания. «Очевидно, что по сути эти две теории чуть ли не
настоящие близнецы, они синхронны и изохронны в своём "диспозити-
ве" (термин, который дорог им обеим), они движутся одним и тем же
путём, поэтому так легко взаимозаменяются... уже сейчас порождая все
те субпродукты — "наслаждение властью" "желание капитала" и т. д., —
которые являются точными копиями субпродуктов
предшествующего поколения: "желание революции", "наслаждение безвластием" и т. д.
Дело в том, что в те времена для последователей Райха и фрейдо-марк-
систов желание и власть находились по разные стороны баррикад;
сегодня микрожелание (власти) и микрополитика (желания) буквально
совпадают в механистических границах либидо, стоит только низвести
их на микроуровень»1. Делёз и Гваттари, считает Бодрийяр, менее наив-
Бодрийар Ж. Забыть Фуко. С. 46-47.
Глава 7. Претенденты
383
ны, нежели Райх, который всё ещё чересчур много говорил об эдиповом
комплексе, о пролетариате, о подавлении и о классовой борьбе.
Поэтому им лучше удалось сопоставление желания и производства1.
Упрёк Бодрийяра справедлив и в чём-то достаточно традиционен.
Действительно, как Райх, так и Делёз с Гваттари усматривают корни
фашизма в подавлении желания, хотя у Райха это желание сугубо
сексуальное, а Делёз и Гваттари понимают его в самом широком смысле.
Однако высвобождение желания может вести к фашизации, и сами Делёз
и Гваттари говорили в этом смысле о «микрофашизмах» группы.
Лакан в своём скандально известном выступлении перед революционно
настроенными студентами Венсеннского университета заявил в глаза
своим слушателям, что все они рабы, а их политический активизм — не
что иное, как поиски Господина. Делёз и Гваттари были не столь наивны,
чтобы не понимать, что революция может быть и фашистской, и сами
они много говорили об этом. Упрёк Бодрийяра заключается в другом:
подобно дискурсу Фуко, дискурс Делёза и Гваттари является
отражением тех самых дискурсивных стратегий, против которых они выступают;
желание и власть на микроуровне совпадают.
Тот микроуровень, о котором говорит Бодрийяр, — это «молеку-
лярность» Делёза и Гваттари. «Сегодня все погрязли в молекулярном,
равно как в революционном», — говорит он2. Микрофизика власти
приходит на смену финалистским и диалектическим теориям.
Однако бифуркации и потоки Делёзовой молекулярной топологии желания
совпадают с симуляциями кода. Делёза не раз обвиняли в подобных
грехах. В упрощённом виде эти обвинения могут быть представлены
следующим образом. Пытаясь противопоставить какую-то альтернативу
молярным потокам, он обращается к молекулярному уровню, в то время
как молярная власть становится молекулярной. Тем самым Делёз про-
1 « Райх слишком рано поставил целью синтез двух дисциплин, исторической и психической,
которые ещё были слишком загромождены множеством обременительных элементов: его смесь
архаична и интерпретация не выдерживает критики — времена ещё не созрели. Но сегодня,
на основе производительности, очищенной от её противоречий, её исторических целей и её
определений, а также либидо, очищенного от эдипова комплекса, подавления и его слишком
генитальных, слишком семейных определений можно, наконец, достигнуть соглашения и
синтеза к выгоде одной и другой стороны: зеркало производства и зеркало желания смогут
бесконечно отражаться друг в друге». (Там же. С. 55-56.)
2 Там же. С. 62.
384
Часть 2. Ризома
сто следует тому историческому движению власти, которое застаёт в
наличном мире, принимая как раз то, против чего намеревался бороться.
Наиболее жёстко сформулировал эту претензию С. Жижек: «...
Маскарадное щеголяние радикализмом фактически превращает Делеза в
идеолога сегодняшнего "цифрового капитализма"»1.
Эту мысль продолжает П. Тейлор:
Делез... обращается к шизоидным возможностям, присущим детер-
риториализованному индивиду (определяемому как «дивид»),
руководящими принципами для которого в потоке быстроизменяющегося
капитализма становятся желание и различие. В противоположность ему,
Бодрийяр в своих работах имплицитно выказывает проницательное
понимание утраты, связанной с этой детерриториализацией. Человека
освобождают лишь затем, чтобы связать его с опосредующей всё и вся
пуповиной автореферентных экранов. Теоретиков потока объединяет их
вера в то, что традиционный картезианский индивид, столкнувшись с
тотальностью окружающего, фатально утратил своё единство и что мы, а 1а
Мид, должны воспользоваться этим для адаптации к новым социальным
паттернам2.
Профессор П. Тейлор в беседе с автором настоящей книги пояснил
основной момент своей критики Делёза следующим образом:
французский философ усматривает в «потоках» то, что потенциально несёт
новые возможности, тогда как вопрос должен ставиться о том, кто эти
потоки контролирует. Капитализм испытывает потребность в детер-
риторизации, и Делёз хочет воспользоваться этим для создания новых,
свободных линий субъективации. Однако желание, направляющееся по
этим линиям, не подрывает капиталистическую систему, а напротив,
укрепляет её. Даже если эти акты сопротивления дают какие-то
временные возможности для подрыва капитализма, система очень скоро
вбирает их в себя. «Я признаю интеллектуальный блеск концептов Делёза,
но не могу не заметить, что на деле преимущество всегда остаётся за
системой ретерриториализующейся, а не за той, над которой довлеют
процессы детерриториализации»3.
1 2i2ek S. Organs without Bodies: On Deleuze and Consequences. L: Routledge, 2004. P. XII.
2 Тейлор П. Распознавание образов и быстроизменяющийся капитализм: что говорит
литература теоретикам потока. Пер. А. В. Дьякова // Хора. 2008. № 1. С. 34.
3 «Я неисправимый, старомодный гуманист». Беседа с П. Тейлором // Хора. 2008. № 2. С. 136.
Глава 7. Претенденты
385
Обвинения тем более справедливые, что подтверждаются
практикой. Не оказываются ли Делёз и Гваттари прекраснодушными
мечтателями эпохи 1960-х, когда казалось, что мир и впрямь может измениться
к лучшему что победа над капитализмом возможна, а труд когда-нибудь
станет свободным? Возможно, отчасти это так и есть: у всякой эпохи
(тем более, такой яркой) свои надежды, которые почти никогда не
сбываются. Капитализм 1960-хзначительно отличался оттого капитализма,
который был перед глазами у Маркса. Капитализм наших дней не похож
на тот, о котором писали Делёз и Гваттари: скорость потоков
приобрела колоссальные обороты, и этот быстроизменяющийся капитализм
немедленно поглощает все линии бегства, поскольку все потоки стали
молекулярными. Делёз рассчитывал на то, что молекулярное всегда будет
обладать способностью развить большую скорость, нежели молярное,
однако теперь всё стало молекулярным, и всё работает на
капиталистическую систему.
Рискнём предположить, что в данном случае мы имеем дело с общим
пороком всех социальных теорий, уповающих на революцию как на
закономерное событие. В такого рода теориях, неизбежно несущих в себе
вирус телеологизма, в качестве опоры выступает некое «природное»
основание (что ^ля материалистических доктрин совершенно
естественно). Маркс и Энгельс находили такую опору в «трудовой
сущности» человека, Райх — в сексуальности, Делёз и Гваттари — в желании,
которое, конечно, не сводилась к фрейдовскому либидо, а представляло
собой модификацию ницшеанской воли к власти, т. е., в отличие от
фрейдизма, было метафизически обоснованно. Пока «воля к власти» или
желание остаются эвристическими понятиями, работающими в сфере
метафизики, они показывают себя с самой лучшей стороны и
открывают новые мыслительные горизонты. Когда же их применяют к
эмпирическому материалу, они превращаются в вульгарные индикаторы некой
«сущности» и обрекают теоретическую конструкцию на провал.
Однако достоинства райхианства и делёзогваттарианства лежат
совсем в иной области. «Анти-Эдип» никогда не претендовал на то, чтобы
стать альтернативной версией «Капитала» или «Экономических
рукописей» и не был попыткой создать революционную теорию на все
времена. Рассматривать его в этом качестве было бы заблуждением.
Вместо этого «Анти-Эдип» предложил блестящую (фрейдо-)марксистскую
386
Часть 2. Ризомл
версию производства, учитывающую достижения гуманитарных наук
последнего столетия, не поправляющую или дополняющую Маркса, но
развивающую марксистскую теорию. Работы Делёза и Гваттари
открывают новое пространство исследований, задают новую квази-дисцип-
линарную сетку вместе с оригинальным терминологическим
аппаратом и закладывают основания для новой формы мысли о социальном.
В этом их несомненная заслуга, а не в создании какой-то «теории».
§ 7.7. Зеркало Бодрийяра
Жан Бодрийяр стоит особняком в истории французской философии
XX века. С одной стороны, он несомненно принадлежит к тому
племени постструктуралистов, которое ниспровергало старую метафизику
и стремилось дать новое осмысление наличного мира. С другой, он
никогда не водил дружбы ни с кем из светил этого движения, а напротив,
обращал на них жало своей критики, да порой язвил столь метко и
беспощадно, что практически поставил себя в положение парии. К нему
неизменно прислушивались, ибо не прислушиваться было нельзя, но
знали, что он не вступает ни в какие союзы и коалиции, хотя бы и
ситуативные. Из всех критиков делёзианства Бодрийяр был самым значимым,
а потому мы никак не можем не сказать о нём несколько слов.
В своей лекции, прочитанной 28 мая 1973 г., Делёз разбирает
книгу Бодрийяра «К критике политической экономии знака». Он
говорит, что изложенные в этом тексте идеи представляют собой типичный
фрей до-марксизм, и к тому же, он полон противоречий. В частности,
Бодрийяр смешивает производство высказываний с его
противоположностью — с тем, что делает это производство невозможным. Делёз
признаёт правоту Бодрийяра, подвергающего сомнению понятие
потребительной стоимости. Но, отказавшись от понятия потребительной
стоимости, Бодрийяр сохраняет понятие стоимости меновой и, говоря
о превращении этой последней в знак, скатывается к вульгарному
параллелизму между деньгами и фаллосом. Если проблема ставится в
терминах обмена, то ответ на вопрос о его неэквивалентности может быть
лишь арифметическим, тогда как здесь требуется прибегнуть к
дифференциальному исчислению. Сам Бодрийяр чувствует потребность
обратиться к дифференциальной форме, но понятие обмена мешает ему.
Глава 7. Претенденты
387
В итоге он возвращается к старому доброму субъекту как источнику
высказываний.
На делёзианскую критику Бодрийяр ответил в том же 1973 г., и его
критика была беспощадной. Он усматривает непосредственное
сходство между концепцией власти Фуко и концепцией желания у Делёза,
обращая к обоим философам те самые упрёки, что они бросали старой
метафизике. «Спираль, которую предлагает Фуко, такова: власть /
знание / наслаждение / желание, ведь речь здесь идёт именно о желании,
о целой теории желания. Фуко — часть этого молекулярного
сплетения, намечающего уже очевидную истерию будущего: он
способствовал тому, чтобы власть функционировала тем же образом, что и
желание, точно так же, как у Делёза желание функционирует в качестве
будущих форм власти. Эта тайная связь слишком красива, чтобы не
вызывать подозрений, но в её интересах казаться совершенно невинной.
Когда власть становится желанием, когда желание становится властью,
тогда давайте забудем о них обоих»1. Обе стратегии — как фукольди-
анская, так и делёзианская, — по мысли Бодрийяра, лишь усиливают те
самые структуры, которым они по видимости противостоят. «Эдипаль-
ная критика психоанализа (Делёз и проч.) — критика перверсии
желания означающим, законом, кастрацией и эдипальной моделью опять
же, являясь частичной критикой, — только возвеличивает
аксиоматику желания и бессознательного в её наиболее чистой форме». В
лозунге «производительности желания» сходятся рафинированные аксиомы
марксизма и психоанализа, а «желающая машина» «исполняет в одном
движении позитивную судьбу марксизма и психоанализа»2.
Делёз, говорит Бодрийяр, ослепляется «благодеяниями» науки,
позволяющей ему развить концепцию актуальных физических и
математических пространств. Как и Фуко, он выдвигает на первый план
тотальную позитивность, телеономию и микрофизику власти, ставя их на
место прежних финалистских, диалектических или репрессивных
теорий, а ведёт это к двусмысленному сообщничеству с кибернетикой.
Потоки и разветвления молекулярной топологии желания, о которой
толкует Делёз, совпадают с генетическими симуляциями и микроклеточными
Бодрийар Ж. Забыть Фуко. Пер. Д. Калугина. СПб. : Владимир Даль, 2000. С. 47.
Там же. С. 55.
388
Часть 2. Ризомл
образованиями. В книге о Кафке Делёз и Гваттари противопоставили
трансцендентный Закон имманентности желания, не заметив, что
Закон имеет собственные ризомы и воспроизводится на молекулярном
уровне. «Желание — это только молекулярная версия Закона... Это
спираль власти, желания и молекулы, которая на этот раз открыто
приводит нас к конечной перипетии абсолютного контроля. Осторожно,
молекулярно ! »1У Делёза, продолжает Бодрийяр, всё сводится к какому-
то желанию, однако обращение желания в его же подавление он
объяснить не в силах. Он рассматривает переход молярного в молекулярное
как революцию, не замечая, что власть в молекулярном рассыпается.
И наконец, в «Символическом обмене и смерти» Бодрийяр
выносит свой суровый приговор: «Все нынешние теории, откуда бы они ни
исходили (включая психоаналитические) и сколь бы яростно ни
пытались добраться до некоей имманентности или же внереферентной
подвижности (Делёз, Лиотар и т. д.), — все они страдают зыбкостью
и осмыслены лишь постольку, поскольку перекликаются одна с
другой. Напрасно требовать от них соотнесения с какой бы то ни было
"реальностью"»2.
Бодрийяр был блестящим критиком, что, собственно, и поставило
его в положение отверженного: после статьи «Забыть Фуко» на него
обрушились чуть ли не все адепты фукольдианства и делёзианства, так
что у себя на родине он оказался в почти полной изоляции. Нельзя
сказать, что он в чём-то был неправ: Бодрийяр просто довёл до
логического конца идеи Фуко и Делёза, показав, к чему ведут микроанализ власти
и молекулярность. В каком-то смысле он понял Делёза и Фуко лучше,
чем они сами. Однако эту критику можно обернуть и против самого
Бодрийяра — не в отместку, разумеется, и не ради какой-то
абстрактной «справедливости», а чтобы выяснить, насколько в самом деле
убийственны его критические замечания.
Бодрийяр разоблачал доктрины Фуко и Делёза как претендующие на
ниспровержение метафизики, но сами при этом остающиеся глубоко
метафизичными. Он нападал на них за то, что, стремясь ниспровергнуть су-
Там же. С. 63.
Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. Пер. С. Н. Зенкина. М. : Добросвет, 2000.
С. 55.
Глава 7. Претенденты
389
ществующие властные отношения, они их только укрепляют, поскольку
их собственные стратегии являются отражениями современных
властных стратегий. Итак, почему же Делёз метафизик? Потому что
опирается на представление о стоящем за всеми процессами и явлениями в
обществе Законе, который он называет желанием. Сам Делёз, конечно же,
не рассматривал желание как Закон, полагая его полной
противоположностью Закону. Он опирался на онтологию, полностью освобождённую
от репрезентативизма. Как мы уже говорили, Делёз в каком-то смысле
свободнее от метафизики, нежели сам Бодрийяр. Бодрийяр говорил об
отрыве симулякров от реальности; Делёз не считает, что реальности
предшествует какая-то отличная от них реальность1. У Бодрийяра
метафизическая «реальность» хоть и исчезла, но некогда предполагалась
существующей, тогда как Делёз отметает её заранее.
Конечно, стратегия Бодрийяра куда хитрее: он говорит не столько
о реальности самой по себе, сколько о реальности онтологии, прежних
и нынешних. Тем самым он подыгрывает всевозможным философским
стратегиям, доводя их до абсурда, а своей собственной онтологии не
предлагает. Делёз более старомоден: вся его философия обращается
вокруг онтологии, и в этом отношении он, безусловно, метафизик. Но
является ли его метафизика отражением властных диспозитивов
современного капитализма? Едва ли существует однозначный ответ на этот
вопрос. Делёз предлагает почти ту же программу, что и Бодрийяр:
подыграть капиталистической системе, придать ей максимальное
ускорение и тем самым подорвать её власть. Но, если Бодрийяр рассчитывает
на самоуничтожение системы, то Делёз склонен к эскапизму, он
рассчитывает от системы убежать. В обоих случаях необходима определённая
имитация властных диспозитивов, только по Бодрийяру модель некогда
была утрачена, а по Делёзу — никогда не существовала.
«Нет никакой разницы между образами, вещами и движением». (Три вопроса о «Шесть раз
по две» (Годар) // Делёз Ж. Переговоры. С. 61.)
390
Часть 2. Ризомл
ГЛАВА 8. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЕЛЁЗА
...Я вам покажу вещь бесконечную и неделимую: это
точка, движущаяся повсюду с бесконечной скоростью.
Б. Паскаль, Мысли1.
Понятие философии ^ая Делёза было тождественно понятию
онтологии: всё в философии есть онтология, нет таких разделов, что
выходили бы за её пределы. Если же что-то ускользает от онтологии, — значит,
это и не философия вовсе. Однако Делёз не был создателем
спекулятивной онтологии в духе Платона или Гегеля. Скорее, уместно говорить
о том, что он наметил новую онтологическую программу, которая ещё
только должна быть разработана — программа философии, в которой
онтология становится неотличима от кажущего нам знаки
множественного бытия:
Философия сливается с онтологией, а онтология сливается с единого-
лосием Бытия... Единоголосие Бытия не означает, что существует одно
и то же Бытие. Напротив, сущности множатся и делятся; все они — плод
дизъюнктивного синтеза, они сами разобщены и несводимы, membra
disjuncta. Единоголосие Бытия означает, что Бытие — это Голос,
который говорит, и говорит обо всём в одном и том же «смысле». То, о чём
говорится, — вовсе не одно и то же, но Бытие — одно и то же для
всего, о чём оно говорит. Таким образом, оно — уникальное событие во
всём, что происходит даже с самыми разными вещами. Eventum tantum
для всех событий, предельная форма всех форм, остающихся в нём
разобщёнными, но вступающих в резонанс и размножение своих
дизъюнкций... Было бы ошибкой смешивать единоголосие говорящего Бытия
с псевдо-единоголосием всего того, о чём оно говорит. Но в то же самое
время, если бытие не может высказываться, не происходя при этом; если
Бытие — это уникальное событие, в котором все события коммуници-
руют друг с другом, — то единоголосие относится как к тому, что
имеет место быть, так и к тому, что высказывается. Единоголосие означает,
что происходящее и проговариваемое — одно и то же: атрибут всех тел
Паскаль Б. Мысли. С 167.
Глава 8. Концептуальный аппарат Делёза
391
или положений вещей, а также выражаемое всех предложений. Единого-
лосие означает тождество ноэматического атрибута и лингвистически
выражаемого — событие и смысл. Тем самым Бытие освобождается от
той неопределённости и смутности, в которую погрузила его привычка
к аналогиям. Единоголосие возвышает и выделяет Бытие с тем, чтобы
яснее отличить его от того, в чём оно имеется, и от того, о чём говорится.
Оно отделяет Бытие от сущностей, чтобы придать его всему сущему
сразу, заставить его снизойти на сущее на все времена. Будучи чистой речью
и чистым событием, единоголосие приводит в контакт внутреннюю
поверхность языка (упорство) и внешнюю поверхность Бытия (сверх-Бы-
тие). Единоголосое Бытие содержится в языке, но происходит с вещами.
Оно соизмеряет внутреннее отношение языка и внешнее отношение
Бытия. Ни активное, ни пассивное, единоголосое Бытие нейтрально. Это —
сверх-Бытие, то есть минимум бытия, общий для реального, возможного
и невозможного. Пустое пространство события всех событий,
выраженный в нонсенсе смысл всех смыслов, — единоголосое Бытие является
чистой формой Зона, формой овнешнения, связывающей вещи и
предложения. Короче, у единоголосия Бытия есть три аспекта: одно событие
для всех событий; один и тот же aliquid для того, что происходит, и для
того, что высказывается; одно и то же Бытие для невозможного,
возможного и реального1.
Можно было бы сказать, не впадая в большое преувеличение, что
Делёз предлагает программу, аналогичную хайдеггеровской. Однако
у Хайдеггера Бытие остаётся единым, сохраняя близость к
теологическому видению, тогда как Делёз предлагает оставить его таким, каким мы
его застаём, — множественным, взглянув на него наконец с точки
зрения философии. Это хайдеггерианство, очищенное от неокантианства,
вернее, такое, где марбургскому неокантианству противопоставлена
плюральная делёзианская альтернатива. Язык здесь поистине
оказывается «домом Бытия», но домом вывернутым наизнанку, обладающим
лишь внешними поверхностями и лишённым замкнутой внутренности.
Делёзианская онтология — онтология не глубин, но поверхностей, не
сущностей, но эпифеноменов. Она продолжает кантовскую программу,
стремясь избежать дуализма сущности/репрезентации, и сближается
с хайдеггерианством, давая слово «самому бытию».
Делёз Ж. Логика смысла. С. 238-239.
392
Часть 2. Ризомл
Вместе с тем, Делёзова онтология события остаётся глубоко
спинозистской. Ведь именно событие, говорит Делёз, делает возможным
язык, на котором говорит бытие. Сущность события — это
бесстрастный и бестелесный эффект; само событие выступает как результат
смесей тел, их действий и претерпеваемых ими страданий. Однако по
природе своей событие отличается от того, результатом чего оно является.
Событие есть атрибут тел и положений вещей, а не какое-то физическое
качество. Оно вписывается в положение вещей как диалектический или
ноэматический атрибут, не существующей вне выражающей его
пропозиции. При этом он имеет иную природу, нежели его выражение; это
не имя тела, не их качество, не субъект и не предикат. Происходящее
в положении вещей событие и присутствующий в пропозиции смысл —
одно и то же. А потому, полагаясь поверхностью или само полагая её,
бестелесное событие выносит на поверхность свою двойную
референцию: во-первых, тела, с которыми оно соотносится как ноэматический
атрибут, а во-вторых, пропозиции, к которым оно отсылает как
сущность, поддающаяся выражению. И то, и другое событие организует как
две раздельные серии, благодаря чему само событие отличается и от тел,
и от пропозиций. Это парадоксальный элемент, существующий между
сериями.
Важнейшими понятиями делёзианской онтологии являются
актуальное/виртуальное, которые, по определению А. Сованар,
представляют собой «онтологические категории, заменяющие пару
интеллигибельное и чувственное, сущность и существование, возможное
и реальное; обладают одной и той же реальностью, но исключают друг
друга». Если «актуальное» указывает на «настоящее», «положение
вещей», т. е. такую реальность, как она дана в настоящее время, то
виртуальное — это то, что здесь и сейчас не присутствует. «Таким
образом, Делёз воскрешает модальную логику темпорализации»1: быть —
значит быть обратимым. Другими словами, актуальное и виртуальное
постоянно обмениваются друг на друга, так что виртуальное
оказывается движущей силой актуализации. «Теория взаимодействия
виртуального и актуального — важнейший момент делёзианской онтологии,
поскольку она призвана освободить философию от оппозиции сущно-
SauVAGNARGUES A. Actuel/Virtuel // Le Vocabulaire de Gilles Deleuze. P. 22.
Глава 8. Концептуальный аппарат Делёза
393
сти и существования (существование как осуществление
ограничивает сущность) как возможного и реального (возможное логически
предшествует реальному) »1.
«Возможно; в делёзианской онтологии мы имеем дело с весьма
необычной формой гегельянства (философии, в которой "абсолют" есть
"дух", то есть, ничто и никогда не существует в закрытой и статичной
форме бытия); ведь если всё у Делёза в конце концов является
событием, то именно потому что ничто не является вещью», — пишет Р. Сас-
со2. Сам Делёз, напротив, находил истоки собственной онтологии не
у Гегеля, а у стоиков и эмпириков: «Подлинные сущности — это
события, а не концепты. Мыслить в терминах события непросто. Однако всё
упрощается тем, что сама мысль становится событием. Только стоики
и англичане могут так мыслить»3.
Весьма любопытную интерпретацию делёзианской онтологии
предложил американский исследователь Т. Мэй, который говорит, что
философия Делёза идёт вразрез со всей антионтологической традицией
XX века, будучи в то же время направлена на этический вопрос о смысле
жизни. Предшественники и современники Делёза считали, что ^ля
постановки этого вопроса необходимо отказаться от поиска сущностей,
ограничивающего возможности постановки этого вопроса. Мэй
перечисляет этих предшественников: для Ницше вопрос о жизни
открывается смертью Бога, т. е. утратой онтологической трансценденции; у
Сартра свобода в моделировании собственной жизни достигается благодаря
отказу от идеи «природы», неизбежно диктующей нам способ
существования; Фуко заявляет о том, что все идентичности субъекта носят
исторический, а не онтологический характер, а стало быть,
оказываются преходящими; наконец, Деррида деконструирует термины
традиционной онтологии, рассчитывая тем самым расчистить пространство для
постановки вопроса о жизни.
Делёз, говорит Т. Мэй, отказывается от такого антионтологизма,
разрушая расхожее представление о том, что открывает сущности, а не
создаёт их. Представление о том, что сущности лежат в основании при-
Ibid.P.25-26.
Sasso R. Événement // Le Vocabulaire de Gilles Deleuze. P. 152.
Deleuze G., Parnet Cl. Dialogues. P. 81.
394
Часть 2. Ризомл
роды, ожидая того или иного мыслителя, который однажды их
обнаружит, обедняет универсум, сводя его исключительно к физическим
объектам. Делёз предлагает такой проект онтологии, в котором различие
между созданием и открытием теряет всякое значение. «Ницше, Сартр,
Фуко и Деррида показали сжатия, которые возникают, когда вопрос
о том, как жить, должен отвечать онтологии. Делёз утверждает, что
можно двинуться в противоположном направлении, создать онтологию,
отвечающую на вопрос о том, как жить, вместо того, чтобы диктовать его
ограничения»1. Такая онтология переворачивает не только
традиционные отношения между творчеством и открытием, но и отношения
между тождеством и различием. Отказ онтологии от открытия сущностей
вовсе не означает конца онтологии или «смерти философии», но,
скорее, является началом новой онтологии. «В руках Делёза философия не
стремится предложить когерентную структуру, из которой мы можем
видеть самих себя и наш мир в целом. Она не расставляет всё по
местам. Она не говорит нам, кто мы или что мы должны делать.
Философия не расставляет вещи. Она разбрасывает их. Разбрасывает, двигаясь
от стабильного мира тождеств к миру различия, который одновременно
и производит эти тождества, и заставляет их становиться немного
иными, нежели они есть. Она делает это, создавая концепты»2.
Делёз настаивал на том, что философия — это изобретение и
создание концептов. Сам он был весьма продуктивным изобретателем
концептов, а потому анализ его философии должен иметь своим ядром
анализ делёзианских концептов. Его «экспрессионистская прагматика
концептов» (выражение Ж.-К. Мартена3) одновременно и требует
этого, и делает это невозможным. Действительно, генеалогический и
структурный анализ позволяют выявить время и внутренние обстоятельства
возникновения того или иного концепта, перетекание концептов друг
в друга, но оказываются недостаточными. Ведь концепт нельзя
зафиксировать в какой-то точке времени и пространства: подобно «тёмному
предшественнику», о котором говорит Делёз, он постоянно
ускользает, и там, где мы пытаемся его зафиксировать, его уже нет. Нам остаёт-
May T. Gilles Deleuze. An Introduction. P. 17.
Ibid. P. 19.
Martin J.-C. Variations. La philosophie de Gilles Deleuze. P. 125.
Глава 8. Концептуальный аппарат Делёза
395
ся лишь комментирование, которому, как заметил тот же Ж.-К. Мартен,
философия Делёза поддаётся с трудом.
«Многочисленные терминологические эквиваленты, под
которыми подразумевается одно и то же понятие, часто создают серии,
которые можно проследить по всему делезианскому корпусу текстов, иногда
на нескольких страницах одной работы или даже на одной», — пишет
Р. Сассо1. Впрочем, в «Тысяче плато» Делёз и Гваттари сами
демонстрируют такую серию, давая ей пояснение:
РИЗОМАТИКА = ШИЗОАНАЛИЗ = СТРАТОАНАЛИЗ =
ПРАГМАТИКА = МИКРОПОЛИТИКА. Эти слова суть концепты, но
концепты — это линии, то есть системы чисел, привязанные к тому или
иному измерению множеств (страты, молекулярные цепочки, линии
ускользания или разрыва, круги сходимости и т. д. Мы никоим образом
не претендуем на титул науки. Мы знакомы с научностью не более, чем
с идеологией, нам известны только сборки2.
Концепт всегда предельно конкретен и связан с определённой
проблемой, утверждал Делёз. «Для Делёза не существует такой вещи, как
концепт в себе», — подчёркивает Б. Прадо3. Концепт не выражает
«сущность» вещи; он говорит об обстоятельствах существования этой
вещи. «... Концепт должен говорить о событии, а не о сущности»4.
Поэтому, обращаясь к различным проблемам, Делёз всякий раз
стремится конкретизировать используемые концепты в зависимости от формы
и характера проблематизации. А значит, ему приходится изобретать всё
новые концепты, многие из которых имеют между собой генетическое
родство, так что зачастую можно проследить их генеалогические линии
и родословные. Если поступить таким образом, никакой путаницы не
возникнет. Не стоит говорить о том, что Делёз множит сущности без
необходимости. Во-первых, его концепты — ни в коем случае не
сущности (в чём мы уже имели случай убедиться, когда речь шла об
обращении Делёза к стоицизму), а во-вторых, необходимость в умножении
1 Sasso R. Avant-propos. I — Deleuze et les mots // Le Vocabulaire de Gilles Deleuze. Dir. R. Sasso
etA.Villani.P. 10.
2 Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. С. 40.
3 Prado В. Jr. The Plane oflmmanence and Life // Introduction to the Philosophy of Gilles Deleuze.
Ed.J.Khalfa.P10.
4 Беседа об «Анти-Эдипе» // Делёз Ж. Переговоры. С. 41.
396
Часть 2. Ризомл
концептов действительно существует. Ключевые термины ^ая
обозначения такой ситуации с концептами философ обозначил в названии
своей диссертации — различие и повторение: в серии концептов каждый
последующий повторяет предыдущий, будучи в то же время отличным
от него.
Далеко не все термины и понятия, встречающиеся в сочинениях Де-
лёза, служат концептами1, и уж конечно, не все концепты являются его
собственным изобретением. Он использует как традиционную
философскую терминологию, так и собственные новообразования, порой
делая общеупотребительный термин концептом, работающим в
конкретной области проблематизации. Он пишет, то пользуясь обыденным
языком, то прибегая к жаргону той или иной научной дисциплины, а
порой изобретает собственные гибридные языки или, по излюбленному
им прустовскому выражению, вырабатывает иностранный язык внутри
собственного, французского языка. Всё это порождает своеобразное
текстовое пространство, в котором могут действовать делёзианские
концепты.
Делёз различал два вида научных понятий. Во-первых, это точные
понятия, применимые в уравнениях; их смысл состоит в их точности,
а пользоваться ими можно лишь как метафорами. Во-вторых, понятия
фундаментально неточные и в то же время чрезвычайно строгие: их
строгость не является непосредственно научной, а сообщается им в тот
момент, когда обращающийся к ним учёный становится философом или
художником. Эти последние и предпочитает использовать в своих
работах Делёз. Кроме того, следует постоянно помнить о его
реалистическом отношении к понятиям. «Понятия, по Делёзу... являются скорее
отнологической, нежели эпистемологической категорией, — замечает
Л. Р. Брайант. — Согласно Делёзу, понятие — это не то, что люди де-
Порой читатель, пользующийся русским переводом делёзовских текстов, принимал за
концепты то, что было всего лишь неловким выражением переводчика. Это значит, что, читая Делёза,
особенно в переводе, нужно быть предельно осторожным, сверяться с оригиналом и к тому же
устраивать автору что-то вроде перекрёстного допроса. Самый простой и самый надёжный,
на наш взгляд, приём заключается в том, чтобы проверить, работает ли сходным образом то,
что мы принимаем за концепт, в других текстах или в других частях того же текста.
Собственно, на это намекает и сам Делёз, говоря, что концепт, как и концептуальный персонаж, имеет
собственную историю и переживает определённые приключения.
Глава 8. Концептуальный аппарат Делёза
397
ржат в уме, но способ бытия... а именно, бытие интенсивной
множественности. В этом отношении Делёз выказывает существенную близость
к Платону»1.
«Множество» — едва ли не ключевой термин делёзовской
философии — означает принципиальную позицию отказа от унификации
и Единого, от утверждения Первоначала и Закона. Это понятие ничего
общего не имеет ни с Многим, ни с «большинством», а, напротив,
указывает на сингулярности и «редкости». Когда Делёз говорит о
субъекте как о множественном и составленном гетерогенностями, он
подчёркивает не сосуществование многих тождественностей, но, напротив,
то обстоятельство, что субъект неделим на атомарные элементы.
Субъект — это всегда недифференцированная множественность, над
которой не господствует какое-либо единое и единственное Я. Однако
неверно было бы считать, что Делёз усматривает здесь множество единичных
«я». Никакой единичности здесь вообще не предполагается. Точно так
же термин «множество» оказывается пригоден для описания
политических формаций, не подпадающих под седиментарное описание с его
универсальным Законом, и позволяет произвести сегментарный анализ
социума.
В работах Делёза, написанных как в одиночку, так и совместно с Гват-
тари, используется огромное количество терминов, пришедших как из
обыденного языка, так и из области строгих наук или из сферы
искусства (при этом, как замечает Дж. Рейчмен, делёзовское отношение к
искусству скорее ницшеанское, нежели кантианское2). Эта терминология
начинает своеобразно работать, зачастую предельно отдаляясь от
области своего первоначального функционирования. При этом речь идёт
не об аналогическом или метафорическом использовании. «Мы
никогда не пользовались метафорикой, — подчёркивал Делёз, — мы не
говорили: это "вроде" чёрных дыр в астрономии, это "вроде" чистого холста
в живописи. Мы пользуемся терминами детерриторизованными, то есть
вырванными из их области, чтобы ретерриторизовать их в другом
понятии: "физиономия", "физиономичность" как социальная функция»3.
Bryant L. R. Difference and Giveness. P. 68.
Rajchman J. The Deleuze Connections. P. 114.
Deleuze G., Parnet Cl. Dialogues. P. 25.
398
Часть 2. Ризомл
Пожалуй, самым популярным концептом Делёза оказалось «тело без
органов». Само это понятие Делёз заимствовал у Α. Αρτο, писавшего:
«Ни рта ни языка ни зубов ни гортани ни пищевода ни желудка ни
живота ни ануса / Я восстанавливаю человека как он есть». Можно сказать,
что это до-личностное и до-субъектное трансцендентальное поле, о
котором говорил молодой Сартр. Однако куда большее влияние на делё-
зовскую мысль оказал Бергсон, писавший, что, «может быть, больше
ничего и нет, если тело — это и в самом деле только место встречи между
полученными возбуждениями и выполненными движениями... »г Делёз
далёк от биологизма, погубившего многих философов. Несмотря на
частое обращение к естественнонаучным достижениям, он всегда помнит
0 том, сколь радикально различаются наука и философия и как вредно
их путать2. «Хотя желающие машины Делёза смоделированы на
биологической основе, его взгляд на тело, в отличие от Ницше, биологическим
вовсе не является», — замечает С. Лэш3. Скорее, это альтернатива
субъективности, которая слишком часто смешивается с сознанием4.
В любом случае, у вас есть одно или несколько, — пишут Делёз и Гват-
тари, — и неважно, заранее оно существует или дано уже готовым, —
хотя в какой-то мере оно существует заранее, — но, в любом случае, вы
создаёте одно, — и оно ждёт вас, это — некий опыт, неизбежное
экспериментирование, уже завершённое в тот момент, когда вы его предприняли,
и незавершённое, ибо вы не предприняли его. Оно — не успокоение, ибо
вы можете упустить его. Или же оно может быть ужасающим, может
привести вас к смерти. Оно — как нежелание, так и желание. Оно — вовсе
не понятие, не концепт, а, скорее, практика, совокупность практик. Тело
без Органов, мы не достигнем его, мы не можем достичь его, мы всегда
приближаемся к нему, оно — предел. Мы говорим: так что же это такое,
ТбО — но мы уже на нём, ползая как паразит, двигаясь на ощупь как
слепец или бегая как безумец, путник пустыни или кочевник степи. Именно
на нём мы спим, бодрствуем, на нём мы сражаемся, бьёмся или терпим
1 Бергсон А. Материя и память / Собр. Соч. в 4-х т. Т. 1. С. 269.
2 « ... Всегда скверно, если учёные занимаются философией без действительно философских
средств, или же если философы занимаются наукой без настоящих научных средств (мы на
такое не притязали) ». (Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? С. 205.)
3 Lash S. Genealogy and the Body: Foucault/Deleuze/Nietzsche // Theory Culture Society. 1982.
Vol. 2. №2. P. 9.
4 См.: Message K. Body Without Organs // The Deleuze Dictionary. P. 33.
Глава 8. Концептуальный аппарат Делёза
399
поражение, на нём мы ищем своё место, узнаём собственное
неслыханное счастье и невероятные крушения, на нём мы проницаем и
проницаемы; на нём мы любим1.
Тело без органов заполнено интенсивностями. Это не сцена, на
которой что-либо происходит, и не фантазм. Это и не пространство, но
материя, каким-то образом занимающая пространство. Здесь производится
реальное как интенсивная величина. Это поле имманентности желания
и свойственный желанию план консистенции, где желание определяется
как процесс производства, а ссылка на нехватку или избыток
удовольствия излишни. «Желание у Делёза не подразумевает предшествующую
нехватку, — подчёркивает Дж. Брюссо. — Нехватка всё ещё
существует, но только после желания, как его следствие или симптом»2.
Определять желание как нехватку или недостаток чего-либо, считают Делёз
и Гваттари, значит впадать в идеалистическую тавтологию: если
желание — это нехватка реального объекта, то сама реальность этого
объекта должна состоять в «сущности нехватки», производящей объект
фантазматический.
В качестве примера тела без органов Делёз предлагает яйцо3: яйцо —
это зародыш будущего организма; никаких органов в нём не
содержится, но разные его фрагменты в будущем станут органами. Форма яйца
отрицает форму органа; яйцо замкнуто на себе самом и рассечено
сложными системами координат, распределяющих интенсивности и
создающих топологию яйца4. Это распределение интенсивностей создаётся
молекулярными машинными планами5. Тело без органов — это
«наполненное яйцо, вплоть до расширения организма и организации органов,
1 Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. С. 248-249.
2 Brusseau J. Isolated Experiences. P. 104. «Желание, по Делёзу означает, что у нас уже есть
больше, чем нужно». (Ibid. P. 118.)
3 Метафора яйца появилась у Делёза ещё в начале 1950-х гг. См: Deleuze G. Causes et raisons des
îles désertes / L'île Déserte. Textes et entretiens 1954-1974. P. 14 и 16.
4 Лекция 18 апреля 1972 г. В «Различии и повторении» Делёз также приводит этот пример:
«Таким образом, типы яйца отличаются ориентациями, осями развития, дифференсиальны-
ми скоростями и ритмами как начальными факторами актуализации структуры, создающими
протранство и время, присущие актуализируемому». (Делёз Ж. Различие и повторение.
С 262.)
5 Лекция 21 января 1974 г.
400
Часть 2. Ризомл
вплоть до формации страт» . Яйцо — это среда чистой интенсивности,
вещи и органы различаются здесь только благодаря градиентам,
миграциям и зонам близости.
Конечно, тело без органов нельзя понимать как область
бескачественности и индифферентности. На теле без органов происходят
процессы, определяемые тремя стратами. Первая — страта организации;
её функция заключается в том, чтобы придавать телу без органов
организацию, ориентировать происходящее на его поверхности в
определённом направлении. Вторая — страта означивания; она вытекает из
первой и в то же время служит её условием. Если первая страта ведёт
к миру репрезентации, отличному от реальности, то вторая действует
внутри репрезентации, проводя различение между означающим и
означаемым. Тем самым проводится разделение между господствующей
реальностью и реальностью скрытой (например, между работой на
заводе и революционной работой). Скрытая реальность продолжает
функционировать под сетью означающего и означаемого (здесь
работают «свободные фигуры высказывания», о которых говорил Ельмслев,
и молекулярные фигуры содержания), это то, что происходит на теле
без органов, когда оно дестратифицировано. Третья страта — страта
субъективации. Господствующая реальность никогда не существует без
точки субъективации, однако было бы наивным считать, что в этой
точке складывается субъект. В этой точке задействуется машина значения,
фиксирующая границы господствующей реальности. Каждый человек
имеет несколько точек субъективации, фиксирующих его в том или
ином месте господствующей реальности (я — рабочий, я — отец семьи
и т. п.). Переменное значение точки субъективации соответствует
текучести капитала. Когда подвижность точки субъективации превосходит
подвижность капитала, человек становится бродягой, номадом, врагом
капиталистического общества2.
Шотландский исследователь Б. Эдкинс предложил даже
рассматривать концепт «тела без органов» как альтернативу фрейдистскому
«влечению к смерти»: «Модель смерти — тело без органов»3. Смерть,
1 Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. С. 254.
2 Лекция 14 мая 1973 г.
3 Adkins В. Death and Desire in Hegel, Heidegger and Deleuze. P. 184.
Глава 8. Концептуальный аппарат Делёза
401
говорит Эдкинс, моделируется нулевой интенсивностью аффектов.
Тело без органов — предел производства, но этот предел не
полагается желающему производству извне, но является его неотъемлемой
частью и производится в нём. Поэтому бессмысленно говорить о влечении
к смерти как противоположности жизни с её желаниями. Опыт
смерти — это прохождение через нулевую степень интенсивности, за
которым следует новый аффект. А самое главное — смерть не грозит
субъекту, поэтому делёзианство, как и спинозизм, — жизнеутверждающая
философия желания.
Желание — один из важнейших делёзианских концептов 1970-х гг.
Это понятие не имеет ничего общего с фрейдизмом и
концептуализируется в экономических терминах. Желание — это процесс,
происходящий на теле без органов, являющемся для него содержательным планом.
Его функционирование можно ясно разглядеть в сексуальных
практиках даосизма: желание здесь отрывается от удовольствия как конечной
цели. Ближайшим примером из европейской культуры оказывается
мазохизм, обнаруживающий имманентный желанию процесс, также не
имеющий ничего общего с наслаждением. В европейских дискурсах
мазохизм может быть описан лишь как сексуальная перверсия, тогда как
китайцам такое и в голову не пришло бы: экономика желания в Европе
и в Китае различны.
«Мы с Гваттари исходили из идеи о том, что желание можно понять
лишь опираясь на категорию "производства"»*, — говорил Делёз.
Желание ни в коем случае не эдипально, оно функционирует как механизм
и продукт машин, устанавливающих связи между вещами. В силу этого
желание всегда революционно. Дело не в том, что желание — это
желание революции (желать можно и фашизма); оно революционно потому,
что конституирует машины, которые, встраиваясь в социальное поле,
способны взорвать социальную структуру.
Желание — старый термин, актуализированный психоанализом,
и, поскольку он стал одной из центральных категорий «Анти-Эдипа»,
Делёза и Гваттари многие стали причислять к «философам желания».
Действительно, авторы сознательно стремились к созданию новой
концепции желания. Потребность в ней определялась тем, что до сих пор
Deleuze G. Capitalisme et schizophrénie / L'île Déserte. Textes et entretiens 1954-1974. P. 324.
402
Часть 2. Ризомл
о желании говорили абстрактно, отделяя от самого желания его объект.
Однако человек никогда не желает что-то или кого-то, его желания
всегда составляют некую целостность. Поэтому изучать следует не
абстрактную категорию желания, а отношения между порождающими желание
элементами. Так, например, Пруст говорил, что, желая женщину, мы
желаем не столько её саму, сколько пейзаж, связанный с нею в нашем
сознании1. Таким образом, желание всегда включено в целостность, всегда
конструктивно, а не деструктивно, поскольку конституирует эту
целостность, будь то человек, группа или территория. Делёз говорил, что
вместе с Гваттари они составляли такую целостность, хотя целостность
можно создать и в одиночку.
«Складка» — концепт, который можно считать развитием
концепта различия2. Насчёт различия существуют самые разные мнения, но
самым любопытным (и, быть может, самым верным) нам
представляется его анализ у К. Боундаса, утверждающего, что «различие — это
не концепт; концепты — это не процессы, а "различ(ен)ием"
называется именно процесс — вернее, так называются близнечные процессы
реального: виртуальное и актуальное»3. В онтологии Делёза, говорит
Боундас, процессы складываются из переплетающихся потоков.
Виртуальное — это дифференцированный и дифференцирующий процесс,
дифференциальная динамика которого совпадает с дифференциацией
актуального. Эти характеристики взаимно исключают друг друга, но
являются необходимыми для характеристики реального.
Дж. Брюссо предлагает анти-диалектическое понимание делёзиан-
ского различия. «Когда Делёз использует термин "различие", он не
указывает на противоположности, готовые вступить в борьбу, он знает,
что некоторые вещи в борьбе не нуждаются»4. Делёзианское различие,
продолжает Брюссо, функционирует лишь в ограниченных,
«изолированных» событиях, которые само же оно и производит. «Различие
1 См.: Азбука Жиля Делёза. С. 31 -32.
2 Тщательный анализ «складки» предприняла К. Видаль, которая считает этот концепт
символом культуры 1980-х гг., объясняющим всеобщую дезорганизацию и впадение в хаос.
(Vidal M. С. The death of politics and sex in the eighties show // New literature history.
Charlottesville. 1993.Vol.24.No LP. 171-194.)
3 Boundas C. V What Difference does Deleuze's Difference make? P. 4.
4 В russe au J. Isolated Experiences. P. 9.
Глава 8. Концептуальный аппарат Делёза 403
всегда работает здесь и сейчас»1. Американский исследователь
предлагает вписать Делёза в следующую схему эволюционирования диалектики:
совершив «переворачивание» Гегеля, Маркс перенёс диалектику в
материальный и политический мир, однако представление о грядущем
синтезе, в котором будут сняты противоречия между противоположностями
(понимаемыми как социально-экономические классы), у него
сохранилось. Столетием позже Поль де Ман, перенеся марксистскую
диалектику в сферу литературного анализа, заявил, что два термина никогда не
достигают заключительного синтеза, потому что их противоположность
всегда неравновесна. Делёз сделал последний шаг, заявив, что
материалистическая диалектика не просто неравновесна, но носит
односторонний характер. Далось ему это благодаря обращению к ницшевскому
противопоставлению активных и реактивных сил: активная сила неуязвима
для силы реактивной, другими словами, желание, утверждающееся в
вечном возвращении, попросту пренебрегает реакцией.
«Хаос не существует, — говорил Делёз, — это абстракция, ведь он
неотделим от сита, благодаря которому из него нечто выходит (скорее
нечто, чем ничто)»2. Это сито бесконечно производит серии целого
и частей, которые представляются нам хаотическими лишь потому, что
мы неспособны проследить за ними. «Хаос Делёза бесформен, но не
недифференцирован», — замечает А. Тоскано3. Он
дифференцируется линиями, которые Делёз называет «хаоидными» (chaoïde),
оказываясь местом динамичного становления с бесконечными скоростями.
Определяющая черта хаоса, говорят Делёз и Гваттари в книге «Что такое
философия?», — это не отсутствие порядка, а бесконечная скорость,
с которой в нём рассеивается всякая едва наметившаяся форма. Если
это и можно назвать пустотой, то это никоим образом не небытие, но
виртуальность. Пересекая хаос, план имманенции (концепт, сменивший
в поздних работах Делёза «трансцендентальное поле») служит ситом,
удерживающим движения мысли и концепты4. «В общем, у хаоса есть
три дочери, от каждого из пересекающих его планов — это Хаоиды: ис-
1 Ibid. Р. 11.
2 Делёз Ж. Складка. Лейбниц и барокко. С. 133.
3 Toscano A. Chaos // The Deleuze Dictionary. P. 43.
4 Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? С. 150.
404
Часть 2. Ризомл
кусство, наука и философия как формы мысли или творчества. Хаоид-
ными называются реальности, образующиеся в планах, которые
пересекают хаос»1.
Но самым знаменитым концептом Делёза и Гваттари стали маши-
на, машинность, машинерия. Быть может, речь здесь стоило бы вести
не столько о концепте, сколько об определённом процедурном
подходе или даже исследовательском «методе». Ведь «машина» — концепт
всеобъемлющий: всё является машиной, и кроме машинерии на свете
нет ничего. Конечно, ситуативно машинность может выступать в роли
концепта, и тем не менее, повторимся, дело не в концепте, а в
«механике». Машины — это сингулярные «ключи», открывающие или
запирающие сборку или территорию. Машина не просто внедряется в ту
или иную территориальную сборку, она причастна к самому
возникновению материй выражения, то есть вмешивается в конституирование
сборки и в векторы детерриторизации.
Понятие машины позволяет Делёзу применить трансверсалъный
подход2, отойдя от понятия структуры, всё ещё слишком
метафизического и неизбежно ведущего к телеологической схеме реальности.
Машина всегда действует трансверсально, т. е. поперечно по
отношению ко всякому потоку. Тем самым концепт машины, несущий
онтологическую проблематику и конституирующийся благодаря ей,
становится центральным для философии Делёза — по крайней мере, на
определённое время.
Едва ли имеет смысл в настоящей книге перебирать все концепты
Делёза. В данный момент для нас важно лишь то, как эти концепты
функционируют. Концепты, как уже было сказано, рождаются благодаря
конкретным проблемам и несут в себе эти проблемы без их «снятия».
Концепты могут преобразовываться, в зависимости от того, какие
аспекты проблем рассматриваются в тот или иной момент, или от
характера проблематизации. Наконец, одни концепты могут заменяться
другими, опять-таки, если того требует стоящая перед философом проблема.
Там же. С. 266.
«То, что заставляет все компоненты держаться вместе, — это трансверсали, а сама трансвер-
саль — это только компонента, принимающая на себя специальный вектор
детерриторизации ». (Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. С. 561.)
Глава 9. Subjectum
405
ГЛАВА 9. SUBJECTUM
Эта наша Схватка вокруг понятия субъекта — условимся
так называть проходящую дискуссию — была не чем иным,
как отголоском и умножением проблем всей философской
мысли XX века; по меньшей мере европейской.
В. Декомб; Дополнение к субъекту.
В своей книге о проблеме субъекта в современной философии В.
Декомб замечает, что ставка в этой игре была намного выше, нежели
обычно признавалось. Ведь признавать за человеком статус субъекта —
значит признавать за философией миссию осмысления своего времени;
более того — легитимации своей эпохи. Объясняя, каким образом
всякий человек становится субъектом; делаясь тем самым актуальным,
философия поистине оказывается современницей своей эпохи,
современницей в кантовском смысле. Те же, кто брался разрушать понятие
человека-субъекта, должны были оспаривать и эту философскую
иллюзию. «Подвергать критике понятие субъекта непременно означает
критиковать философию и критиковать её изнутри, я имею в виду —
критиковать её как теорию чисто спекулятивного свойства,
противопоставляя ей позитивистский метод»1. А кроме того, вопрос о
субъекте «будет стоять на повестке дня и разрабатываться до тех пор, пока не
превратится в вопрос о себе»2. Такова единственная возможность
проникнуть в сущность философского субъекта.
Понятие субъекта, писал Делёз в своей статье 1988 г., долгое
время выполняло две функции: во-первых, функцию универсализации
в пространстве, где универсальное представлялось не объективными
сущностями, но лингвистическими или ноэтическими актами. После
Юма это пространство стало областью не сознания, но, скорее, веры.
Во-вторых, это понятие выполняло функцию индивидуации в той
сфере, где индивид рассматривался не как вещь или душа, но как живая
Декомб В. Дополнение к субъекту: Исследование феномена действия от собственного лица.
Пер. М. Голованивской. М. : Новое литературное обозрение, 2011. С. 7.
Там же. С. 122.
406
Часть 2. Ризомл
и говорящая личность. Противоречие между этими двумя функциями
вдохновляло философию субъекта у Юма и у Канта. Однако в
современной философии у понятия «субъект» появилась принципиально
новая функция — функция сингуляризации. «Под сингулярностью
следует понимать не что-то противоположное универсальному но
некий элемент; распространяющийся вплоть до соседнего; чем
достигается соединение: это сингулярность в математическом смысле»1. Знание
и вера при этом заменяются понятиями планировки или диспозити-
ва; указывающими на эмиссию и распределение сингулярностей. Эти
эмиссии конституируют «трансцендентальное поле без субъекта»;
а философия становится теорией множеств; не соотносимых с каким-
либо изначальным субъектом.
«Трансцендентальное поле», которое Делёз нашёл у Сартра2 и
приспособил к собственной философии; не надстраивается над
«эмпирическим полем»; но непосредственно связано с ним; никакой первичной
инстанции и последующей территоризации здесь не предполагается;
поскольку оно конституируется до-индивидуальными сингулярностя-
ми. Ещё в начале 1950-х гг. в статье о необитаемых островах он замечал:
«нужно, чтобы человек оставался движением; которое приводит его на
остров, тем движением, что продолжает и повторяет порыв,
порождающий остров»3. Отказываясь от традиционного субъекта, Делёз
предпочитает говорить о субъективности; описывая её динамику при помощи
понятия «желающая машина». «Трансцендентальное "поле" не следует
Deleuze G. Réponse à une question sur le sujet / Deux régimes de fous. Textes et entretiens 1975-
1995. P. 327.
«Традиция субъективности, — пишет Д. Смит, — вводит первую и самую очевидную модель
трансценденции. Для всякой философии, начинающейся с субъекта — то есть для большей
части пост-картезианской философии — понятие имманенции отсылает к сфере субъекта, тогда
как трансценденция отсылает к тому, что пребывает вне субъекта, будучи "окружающим миром"
или "другим". В этой традиции термин "трансценденция" отсылает к тому, что лежит за
пределами сознания, имманентного субъекту В связи с этим следует вспомнить о пятом из
"Картезианских размышлений" Гуссерля, о теме "бытия-с-другими" Сартра или о философии инаковости
Левинаса. Но кроме того, в субъективистской традиции обнаруживается, быть может, более
важная проблема трансценденции как того, что Сартр в одноимённой статье назвал
"трансцендентностью эго"». (Smith D. W. Deleuze and Derrick, Immanence and Transcendence. P. 47.)
Deleuze G. Causes et raisons des îles désertes / L'île Déserte. Rextes et entretiens 1954-1974. Éd.
D. Lapoujade. P.: Minuit, 2002. P. 13.
Глава 9. Subjectum
407
представлять как кальку с эмпирики, как это делает Кант, это название
следует понимать своеобразно, как "испытание" (как весьма особенный
опыт). Именно этот тип опыта позволяет открыть множественности...
»1. Когда Кант наделяет трасцендентальное поле формой Я или
единством апперцепции (придавая этому последнему универсальное
значение), это вызывает неприятие Делёза, поскольку ведёт к пониманию
трансцендентального как некоего изначального сознания2.
Требование определять трансцендентальное как изначальное
сознание, основанное на том, что условия реального объекта познания
якобы должны совпадать с условиями знания, Делёз считает незаконным.
У метафизики и у трансцендентальной философии, говорит он, общей
является лишь альтернатива, перед которой ставят они нас: либо
недифференцированное основание и бесформенное бытие без различий
и свойств, либо индивидуализированное бытие с персонализированной
формой. «Другими словами, метафизика и трансцендентальная
философия сходятся в том, что мыслят только те поддающиеся определению
сингулярности, которые уже заключены в высшем Эго и в верховном Я»3.
Трансцендентальное поле конституируется безличными и доинди-
видуальными номадическими сингулярностями. Сингулярность
можно рассматривать в её существовании и распределении, а можно и в её
сущности, согласно которой она распространяется по линии точек.
Мир основывается на том условии, что серии сходятся, и
охватывает бесконечную систему сходящихся сингулярностей. Однако в таком
мире утверждаются только такие индивидуальности, которые
отбирают и «сворачивают» конечное число сингулярностей, присоединяют
их к сингулярностям собственных тел и «разворачивают» их по своим
Deleuze G. Lettre-préface àJean-Clet Martin / Deux régimes de fous. Textes et entretiens 1975-
1995. P. 339.
«Ошибкой, которая крылась во всех попытках понять трансцендентальное как сознание,
было то, что в них трансцендентальное мыслилось по образу и подобию того, что оно
призвано было обосновать. В этом случае мы либо получаем уже готовым и в "первичном" смысле
принадлежащим конститутивному сознанию всё, что пытаемся породить с помощью
трансцендентального метода, либо, вслед за Кантом, мы оставляем в стороне генезис и полагание,
ограничившись только сферой трансцендентальных условий. Но всё это не позволяет нам
избежать порочного круга, замыкающего условие на обусловленное так, что последнее без конца
воспроизводит образ первого». (Делёз Ж. Логика смысла. С. 148.)
Там же. С. 149.
408
Часть 2. Ризомл
линиям. Именно в этом смысле Делёз предлагает понимать мысль
Лейбница о том, что индивидуальная монада выражает весь мир через связь
с нею других тел. Итак, индивидуальность существует в мире как цикл
схождения, а сам мир конституируется вокруг населяющих его
индивидуальностей. На время своего существования сингулярности обладают
преобразующей мир силой, благодаря чему прошлое и будущее
окружающего мира приобретают относительно них необратимое направление.
Индивидуальность выходит за пределы собственной формы и своей
синтаксической связи с миром, чтобы вступить в универсальную
коммуникацию событий. Она осознаёт саму себя как событие, а событие,
осуществляющееся в ней, — как другую индивидуальность, привитую
к первой. Таким образом индивидуальность уподобляется зеркалу,
собирающему на своей поверхности сингулярности. Мир же при этом
оказывается перспективой в зеркале. «Мы не возводим противоположные
качества в бесконечность, дабы утвердить их тождество, — говорит
Делёз. — Мы возвышаем каждое событие до мощи вечного возвращения,
чтобы индивидуальность, рождённая исчезнуть, утверждала свою
дистанцию по отношению к любому другому событию»1. Из этой
дистанции индивидуальность извлекает уникальное Событие, которое и есть
она сама2.
Делёз называл «радикальным эмпиризмом» ситуацию, когда
имманентность имманентна лишь самой себе и больше ничему. При этом
устраняется всякий опыт, имманентный какому-либо субъекту и
индивидуализирующийся в «Я». В опыте радикального эмпиризма представлены
только события, т. е. возможные миры как концепты и Другие как
выражения возможных миров (концептуальные персонажи): «Событие не
соотносит опыт с трансцендентным субъектом = Я, а, напротив, само
соотносится с имманентным парящим полётом над бессубъектным
полем; Другой не сообщает другому V трансцендентность, но
возвращает всякое другое V в имманентность облетаемого поля»3. Эмпиризм
Там же. С. 236.
«Самое главное, — подчёркивает П. Монтебелло, — правильно понять, о чём идёт речь:
индивидуальное сознание не первично, восприятие не создаёт образов, субъективное восприятие
возникает в результате того отношения, которое устанавливается между живым телом и
материальной вселенной». (Монтебелло П. Бергсон и Делёз, контр-феноменология. С. 100-101.)
Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? С. 64-65.
Глава 9. Subjectum
409
определяет субъект как габитус, привычку в поле имманентности,
привычку говорить «Я».
Уже в книге о Юме Делёз подчёркивал значимость понятия «аффект».
Особенно важным этот концепт представляется ему в связи с
творчеством Спинозы. Самому же Делёзу понятие аффекта даёт возможность
заявить о «силе жизни». «Аффект — это сила утверждения, — пишут
Ш. Делорм и Ж.-Ж. Лесёкль, — в противоположность положениям
психоанализа или некоторым философским подходам, например, Лиотара
или Агамбена, аффект не имеет отношения ни к травме, ни к опыту
утраты, но, напротив, выступает как сила жизни, сила и утверждение»1.
Кроме того, понятие аффекта ничего общего не имеет с понятием импульса,
зависящего от внутренней динамики удовольствия или желания, что
непосредственно влечёт за собой понятие суверенного субъекта.
Во второй половине 1960-х гг., в период повального увлечения
структурализмом, Делёз определял субъекта как структуру: «Истинный
субъект — это сама структура: дифференциальное и единичное,
дифференциальные отношения и единичные точки, взаимная детерминация
и детерминация полная»2. Да и впоследствии его взгляды не
претерпели радикального изменения, разве что концептуальный аппарат
сменился. «В самой глубине субъективности нет никакого "я", — писал он
в «Критике и клинике», — зато есть необычное сочетание, некая
идиосинкразия, тайный шифр как своего рода шанс того, что эти сущности
могли быть удержаны, желанны, а это сочетание — достигнуто: именно
оно, а не другое»3. Что же касается структурализма (с его пресловутой
«смертью субъекта»), как его понимает Делёз, «структурализм вовсе
не является мыслью, уничтожающей субъекта, но такой, которая
крошит и систематически его распределяет, которая оспаривает тождество
субъекта, рассеивает его и заставляет переходить с места на место: его
субъект всегда кочующий, он сделан из индивидуальностей, но внепер-
сональных, или из единичностей, но доиндивидуальных»4. В этом от-
1 Delourme Cr, Lecercle J.-J. Affect Le Vocabulaire de Gilles Deleuze. P. 32.
2 Делёз Ж. По каким критериям узнают структурализм? С. 148.
3 Делёз Ж. Критика и клиника. С. 162.
4 Делёз Ж. По каким критериям узнают структурализм? С. 170. «Перед нами долго маячила
альтернатива: или вы будете индивидами и личностями, или вы сольётесь с анонимной
недифференцированной массой, — говорил Делёз в 1969 г. — Однако перед нами открывается мир
410
Часть 2. Ризома
ношении Делёза можно считать структуралистом, ибо он именно так
и поступает с субъектом. Он мечтает о четвёртом лице единственного
числа, о котором говорил Л. Ферлингетти.
Делёз отбирает у субъекта первенство в выражении. На это
место он ставит коллективную сборку, связанную с социальным. Субъект
никогда не является ни условием языка, ни причиной высказывания:
«нет никакого субъекта, есть лишь коллективная сборка высказывания,
субъективация же просто является одной из таких сборок и обозначает
формализацию выражения или режим знаков, а не внутреннее условие
языка»1. Сборка при этом оказывается ничем иным как организацией
власти. «Именно крайне особые сборки власти навязывают
означивание и субъективацию как собственную детерминированную форму
выражения... нет означивания без деспотической сборки, нет субъ-
ективации без авторитарной сборки, нет смешивания двух последних
без сборок власти, которые действуют как раз благодаря означающим
и осуществляются на душах или субъектах»2. Означивание и
субъективация проходят друг через друга.
По Делёзу, не существует субъектов a priori; есть только
«молекулярные» становления. Есть становление-женщиной, становление-
ребёнком и т. п. Есть множество становлений человека, но нет станов-
ления-человеком, потому что становление всегда миноритарно, тогда
как человек мажоритарен. «... Любое становление — это становление-
миноритарным, или меньшинством»3. Мажоритарность — не просто
большинство, но определённость некоего состояния или эталона
(мужчина, взрослый, белый и т. п.), заключающая в себе господство. Субъект
ретерриторизуется на меньшинстве как состоянии, но детерриторизу-
ется в своём становлении. Субъект — элемент становления
миноритарным. «Нет иного субъекта становления, кроме детерриторизованной
переменной большинства; нет иного посредника становления, кроме
детерриторизованной переменной меньшинства.
до-индивидуальных, безличных сингулярностей. Они не сводятся ни к индивидам, ни к
личностям, ни к неразличимой массе». (Gilles Deleuze parle de la philosophie / L'île déserte et autres
texts. Textes et entretiens 1953-1974. P. 198.)
Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. С. 218.
Там же. С 298.
Там же. С. 482.
Глава 9. Subjectum
411
При этом Делёз и Гваттари не отказываются и от марксизма,
говоря, что «режим труда неотделим от организации и от развития Формы,
коим соответствует формирование субъекта»1.
В последней статье, опубликованной при его жизни, Делёз писал:
Что такое трансцендентальное поле? Оно отличается от опыта, не
отсылает к объекту и не принадлежит субъекту (эмпирическое
представление). Оно предстаёт как чистый поток а-субъективного сознания,
сознания до-рефлексивного и внеличностного, выступая сознанием без я.
Может показаться забавным, что трансцендентальное определяется
через такие непосредственные данные: речь идёт о трансцендентальном
эмпиризме как противоположности всему, что составляет мир
субъекта и объекта. В этом трансцендентальном эмпиризме есть что-то
дикое и грубое. Это не простой элемент восприятия (простой эмпиризм),
поскольку ощущение — это изъятие из потока абсолютного сознания.
Сколь бы ни были сходны между собой два ощущения, переход от
одного к другому представляет собой становление, возрастание или
убывание силы (виртуальное количество). А раз так, не следует ли определять
трансцендентальное поле через чистое и непосредственное сознание, где
нет ни объекта, ни я, как движение без начала и конца? (Даже
спинозистская концепция перехода или количества силы предполагает сознание.)
Однако соотношение трансцендентального поля с сознанием — это
лишь правило. Сознанию мы обязаны тем обстоятельством, что, когда
субъект производится одновременно с объектом, оба оказываются за его
пределами и представляются «трансцендентными». Когда же сознание
проходит через трансцендентальное поле, рассеиваясь с бесконечной
скоростью, нет ничего, что могло бы его обнаружить. В
действительности оно проявляется лишь в рефлексии о субъекте, отсылающем к
объектам. Поэтому трансцендентальное поле не может определяться
сознанием как соэкстенсивным ему, но не поддаётся никакому раскрытию.
Трансцендентное не есть трансцендентальное. За неимением
сознания трансцендентальное поле определяется как чистый план имманен-
ции, поскольку оно далеко от всякой трансцендентности как субъекта,
так и объекта. Имманенция всецело пребывает в самой себе: её нет ни
в какой вещи, она не существует как какая-то вещь, она не зависит от
объекта и не принадлежит субъекту. У Спинозы имманенция является не
субстанцией вообще, а субстанцией и модусами имманенции. Когда субъект
Там же. С. 675.
412
Часть 2. Ризомл
и объект изымаются из плана имманенции, берутся как универсальный
субъект и объект, которому атрибутируется имманенция, эта новая
денатурализация трансцендентального только и делает, что эмпирически
удваивает (как, например, у Канта) и деформирует имманенцию, которая
при этом оказывается содержанием трансцендентного. Имманенция не
вязана ни с какой-то Вещью как единством, возвышающимся над всеми
вещами, ни с Субъектом как тем, от кого зависит синтез всего: когда
имманенция является ничем иным, как имманенцией чего-то такого, о чём
можно говорить как о плане имманенции. Как трансцендентальное поле
не определяется сознанием, так и план имманенции не определяется ни
Субъектом, ни Объектом, которые якобы могут его содержать.
Скажем так: чистая имманенция — это ЖИЗНЬ, и ничто иное. Она
является не имманенцией жизни, но имманенцией, которая есть ничто
иное как сама жизнь. Жизнь — это имманенция имманенции,
абсолютная имманенция: это сила, полное блаженство. Она превосходит апории
субъекта и объекта, и Фихте в своей поздней философии представляет
трансцендентальное поле как жизнь, не зависящую от Бытия и
неподвластную Действию: непосредственное абсолютное сознание, самая
деятельность которого уже не отсылает к бытию, но непрестанно
становится жизнью. Таким образом, трансцендентальное поле оказывается
подлинным планом имманенции, заново утверждая спинозизм в самой
глубине философской операции. Разве не то же самое неожиданно
обнаружилось у Мэн де Бирана в его «последней философии» (которую
он уже не мог толком завершить из-за усталости), когда он обнаружил
за трансцендентностью биение абсолютно имманентной жизни?
Трансцендентальное поле определяется как план имманенции, а план
имманенции — как жизнь1.
Делёзианский субъект именно производится, в соответствии с Мар-
ксовым тезисом о том, что «производство создаёт... не только предмет
для субъекта, но также и субъект для предмета»2. Субъект — не что-то
изначально данное, но то, над чем надлежит потрудиться. Делёзова
философия субъекта представляет собой теорию производства и машине-
рию. В этом производстве нельзя найти исходной точки. Желание, о
котором говорит Делёз, также производится в этом цикле.
1 Deleuze G. L'Immanence: une vie... / Deux régimes de fous. Textes et entretiens 1975-1995.
P. 359-361.
2 Маркс К. Экономические рукописи 1857-1859 гг. / Т. 46. Ч. 1. С. 28.
Глава 9. Subjectum
413
Человек — не природная сущность и не то, что надлежит
противопоставить природе. Человеческая сущность природы и природная
сущность человека тождественны в природе, которая есть не что иное, как
производство, и в производстве, которое есть не что иное как родовая
сущность человека. Рассматривая производство в его фундаментальном
тождестве с природой, Делёз и Гваттари по праву говрят и о
производстве человека. Это не метафора, не вульгарный механицизм и уж тем
более не заявление об утрате человеком своей природной сущности вроде
тех, к которым были склонны философы Франкфуртской школы.
Человек производится, он всегда производился с тех пор, как стал человеком,
да и человеком он стал лишь в производственном процессе.
Всё это сплошная машинерия, и человеческий индивид также
представляет собой машинерию. То, что мы называем человеком, состоит
из машин-органов, каждая из которых по-своему интерпретирует мир:
глаз — в терминах видения, ухо — в терминах слышания и т. п.
Каждая из этих машин устанавливает трансверсальную связь с другой
машиной. Можно сказать, что, по логике Делёза и Гваттари,
трансцендентальное единство апперцепции — не что иное, как результат срезания
потоков машинами: одна машина срезает поток другой, а та, в свою
очередь, поток первой и т. п. Именно так «желающие машины делают нас
организмом»1.
В этой сериальной машинерии определяющую в структурном
отношении роль играет парадоксальный элемент, перемещающийся между
сериями, — субъект. У него нет никакой фиксированной идентичности,
он блуждает по телу без органов, не имея чёткой привязки. Этот субъект
определяется остатком, который он извлекает из произведённого,
«повсюду собирающий награды за некое становление или некоторое
перевоплощение, рождающийся из состояний, которые он потребляет, и
перерождающийся с каждым состоянием. "Итак, это я, итак, это я..."»2.
Субъект рождается из каждого наличного состояния серии,
перерождаясь в следующем. Тождество личности, таким образом, мимолётно,
поскольку она проходит через целую серию индивидуальностей. В центре
машинного производства не стоит никакое постоянное Эго. Здесь нет
Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. С. 22.
Там же. С. 34.
414
Часть 2. Ризомл
ничего, кроме серии сингулярностей и интенсивных состояний.
Транспозиционный субъект проходит через эти состояния, одни из них
преодолевая как своих врагов, других приветствуя как союзников и собирая
повсюду «мошенническую награду за своих аватар»1.
ГЛАВА 10. ОТ ХРОНОСА К ЗОНУ
Делёз принадлежал к тому виртуальному движению, что не имело
чётких границ и общих целей и что довольно условно называют
постструктурализмом или постмодернизмом. Если и было в этом
движении что-то общее, что это движение объединяло и придавало ему хоть
какую-то степень общности, так это, во-первых, общий противник —
суверенный субъект, а во-вторых, его же инкарнация — субъект
истории, — тянущая за собой историцизм. Таким образом, «отказ от
истории» был родовой чертой постструктурализма.
«История» была надеждой и опорой левых интеллектуалов в
послевоенной Франции. «История» выступала одновременно и базисом,
и практическим оправданием исторического материализма,
утверждавшего коммунизм в качестве исторического горизонта
общечеловеческого прогресса. Поэтому всякое покушение на такую «историю»
рассматривалось как происки буржуазной мысли против
марксистского учения.
По сути дела, нет такого историка, который не стоял бы перед этой
альтернативой: история научная или политическая, консервативная или
марксистская, — описывал эту ситуацию Ф. Арьес. — Никто не
способен сделать окончательный выбор. Самые суровые учёные стремились
лишь к тому, чтобы в собственной жизни сохранять непроницаемый
раздел между объективистской наукой и политическими интерпретациями
прошлого. Но сколь незаинтересованный характер ни имела их
эрудиция, они были подвержены влиянию тех представлений, которые были
свойственны их среде, связаны с их политической позицией. Ибо поли-
Там же. С. 144. «Но я, это Эго — это только остаточный субъект, который пробегает круг
и выводится в качестве заключения своих колебаний». (Там же.)
Глава 10. От xpohoca к зону
415
тическая философия истории, как линия фронта; делила мнения на два
враждебных лагеря. В каждом из них происходили свои столкновения
взглядов, но, по крайней мере, окружающие говорили на одном языке.
Это ощущение родства проистекало из общего — наперекор
многочисленным ортодоксиям и отлучениям — отношения к Истории.
Принадлежность к правому или к левому крылу определялась предпочтением
идеи исторических повторов или непрерывного становления.
Достаточно смутный способ видения прошлого помещал вас по ту или по эту
сторону линии фронта. Выбора не могли избежать даже одержимые
объективностью профессиональные историки, и самый робкий выбор был
равносилен вербовке1.
Однако постструктуралисты, как правило, придерживавшиеся левых
взглядов, нанесли историцизму самый мощный удар. У этого
постструктуралистского демарша была не только теоретическая, но и
политическая подоплёка: в 1940-е — 1950-е гг. процессы, происходящие в СССР,
заставили многих политически ангажированных интеллектуалов
переосмыслить свои представления об истории. Начались бесконечные
споры о том, что и в какой момент в Советском Союзе пошло «не так, как
надо». А заодно появились сомнения в верности казавшейся
неуязвимой доктрины. Говорить об историческом прогрессе было трудно уже
после ужасов фашизма и Второй мировой войны, а после того, как на
Западе узнали о ГУЛАГе и о сфабрикованных судебных процессах в
«стране победившего социализма», потребность в пересмотре исторической
концепции для многих стала очевидной.
Конечно, было много перегибов и преувеличений. Рассказать что-
то достоверное о концентрационном лагере может лишь тот, кто сам
в нём побывал, а такой человек едва ли способен на объективную
оценку того кошмара, через который ему довелось пройти. Перебежчики из
СССР, ставшие основными информаторами западного общества,
сгущали краски. Кроме того, в ситуации «холодной войны» противникам
Советского Союза было выгодно рисовать его в самых мрачных тонах,
и они не жалели для этого ни сил, ни средств. Альтернативной
восточному тоталитаризму была Америка с её антикоммунизмом, маккартиз-
мом и нетерпимостью к социалистической мысли. Оказавшись меж двух
Арьес Ф. Время истории. С. 247-248.
416
Часть 2. Ризомл
огней, большинство французских интеллектуалов выбирали советскую
сторону как меньшее из двух зол. Однако радикальная
постструктуралистская мысль двинулась в собственном направлении, стремясь
переосмыслить происходящее, не примыкая ни к какой из партий.
Разные философы отказывались от традиционной «истории» по-
разному. Наиболее громким, конечно, было «убийство истории»,
предпринятое Мишелем Фуко. Фуко отказался как от традиционного
телеологизма длительностей, так и от исторических универсалий,
предложив изучать отдельные эпистолы и их архивы. По знаменитому
выражению Сартра, он «заменил кино волшебным фонарём». Конечно,
Фуко не был одинок в своём стремлении избавиться от универсалий
и длительностей; в том же направлении уже давно двигалась Школа
Анналов, представители которой стали обращаться к локальным
историям и жизни «подлых» людей. Фуко же удалось предложить внутренне
стройную теорию. Жан-Франсуа Лиотар заявил о недоверии к метан-
наративам, прежде всего — к глобальному историческому метаповест-
вованию, объемлющему всё, что только происходит в мире. Но самой,
быть может, радикальной формой антиисторизма была предложенная
Жаком Деррида программа деконструкции. Во всяком случае, именно
с ней впоследствии стало ассоциироваться постмодернистское
ниспровержение истории.
Таким образом, Делёз не был одинок в своём стремлении придать
новые формы историческим исследованиям. Несмотря на нередко
критическое отношение к структуралистско-постструктуралистско-
му движению, он разделял с ним неприятие телеологической истории.
Но для того, чтобы предложить новый подход к историческим
проблемам, ему пришлось пересмотреть вопрос о времени. «Размышления
Делёза о времени и об истории чрезвычайно сложны и тонки, —
пишет Ф. Менг. — Одна из характернейших черт его мысли заключается
в попытке ускользнуть от историцизма и от предполагаемого им моно-
хроно-логизма, как от моно-хроно-логизма Маркса, так и от моно-хро-
но-логизма историков-генеалогистов, вдохновляющихся эмпиризмом,
даже от эмпиризма Мишеля Фуко. Как и Ницше, Делёз ищет форму
вневременного, которая не была бы ни вечностью (отсутствием времени),
ни непрестанным возобновлением (неопределённой перманентностью
времени природы или структуры). Чтобы утвердить вневременность,
Глава 10. От хроноса к зону
417
настоящее всякого создания, ему нужен третий термин между
историческим временем и вечностью»1.
Этим термином оказывается «зон», который Делёз находит у
стоиков. Эон, говорит он в «Логике смысла», представляет собой время не
бесконечное, а бесконечно делимое (как в Зеноновой апории об
Ахиллесе и черепахе). Прошлое, настоящее и будущее — не три части
одной временности; они формируют два равноценных и исключающих
друг друга прочтения времени: с одной стороны, всегда ограниченное
настоящее (Хронос), с другой — неограниченные прошлое и будущее
(Эон). Если Хронос измеряет действие тел как причин и «состояние
их глубинных смесей», то Эон «собирает на поверхности»
бестелесные события-эффекты. Событие — это даже не то, что происходит,
а то, что изнутри происходящего подаёт знаки. Иногда можно сказать,
что существует только настоящее, впитывающее в себя прошлое и
будущее и достигающее пределов Универсума (это время ограниченное,
но бесконечное, т. е. цикличное, возвращение того же самого), а
иногда — что существуют только прошлое и будущее, делящие всякое
настоящее до бесконечности (такое время неограниченно и вытянуто по
прямой). «Короче, есть два вида времени: одно составлено только из
сплетающихся настоящих, а другое постоянно разлагается на
растянутые прошлые и будущие»2. Первое время циклично, измеряет движение
тел и зависит от ограничивающей и запаолняющей его материи. Второе
бестелесно, безгранично, пустотно и не зависит от материи.
Хронос — это настоящее, которое только одно и существует. Он
превращает прошлое и будущее в два своих ориентированных
измерения так, что мы всегда движемся от прошлого к будущему — но лишь
в той мере, в какой моменты настоящего следуют друг за другом внутри
частных миров или частных систем. Эон — это прошлое-будущее,
которое в бесконечном делении абстрактного момента безостановочно
разлагается в обоих смыслах-направлениях сразу и всегда уклоняется от
настоящего. Ибо настоящее не может быть зафиксировано в Универсуме,
понятом как система всех систем или ненормальное множество. Линия
Зона противостоит ориентированной линии настоящего,
«регулирующей» в индивидуальной системе каждую сингулярную точку, которую
1 Mengue Ph. Aiôn/Chronos // Le Vocabulaire de Gilles Deleuze. P. 4L
2 Делёз Ж. Логика смысла. С. 92.
418
Часть 2. Ризомл
она вбирает. Линия Эона перескакивает от одной до-индивидуальной
сингулярности к другой и всех их восстанавливает — каждую в каждой.
Она возобновляет все системы, следуя фигурам номадического
распределения — где каждое событие одновременно и уже в прошлом, и ещё
в будущем, и больше, и меньше сразу, всегда день до и день после —
внутри разделения, заставляющего их коммуницировать между собой1.
В Эоне нельзя сказать, что кто-то был ранен и умрёт; можно сказать
лишь, что он есть раненый и что он умирает. Настоящее как бытие
разума бесконечно подразделяется на то, что только что случилось, и то, что
вот-вот случится. Живое настоящее (эон) случается и вызывает
событие. Каждое событие представляет собой мельчайший отрезок времени,
подразделяющийся на прошедшее прошлое и наступающее будущее.
Однако это и самый долгий период времени, потому что его
постоянно дробит эон. Каждое событие пробегает весь эон и оказывается
соразмерным его длине. «Эон — прямая линия, прочерченная случайной
точкой. Сингулярные точки каждого события распределяются на этой
линии, всегда соотносясь со случайной точкой, которая бесконечно
дробит их и вынуждает коммуницировать друг с другом и которая
распространяет, вытягивает их по всей линии. Каждое событие адекватно
всему Эону. Каждое событие коммуницирует со всеми другими, и все
вместе они формируют одно Событие — событие Эона, где они
обладают вечной истиной»2.
«Живое настоящее» — это временная протяжённость,
измеряющая конкретное действие того, что действует. Настоящее охватывает
весь универсум, поскольку активные и пассивные начала едины: в
пространстве существуют только тела, а во времени существует только
настоящее. Среди тел нет причинно-следственных связей; сами тела
выступают причинами друг для друга. Таким образом, время должно
схватываться дважды: во-первых, как живое настоящее действующих
тел, а во-вторых, как бесконечно делимый на прошлое и будущее
момент. Во времени существует лишь настоящее, поглощающее прошлое
и будущее. Однако прошлое и будущее присущи времени и непрестанно
делят всякое настоящее. «Нет трёх последовательных измерений, есть
Там же. С 111.
Там же. С. 94.
Глава 10. От хроноса к зону
419
лишь два одновременных прочтения времени» . Неограниченное
становление — это само по себе идеальное и бестелесное событие. Это
двойственное и бесконечно делимое событие. («Непреложно лишь то,
что уже случилось или вот-вот случится, но не то, что происходит... >>2).
Событие позволяет меняться местами активному и пассивному,
поскольку само оно не есть ни то, ни другое, а их общий результат.
Идеальное событие, о котором говорит Делёз, — это сингулярность,
а точнее, совокупность сингулярных точек, характеризующих
физическое положение вещей. В книге о Лейбнице Делёз будет описывать их
как точки бифуркации, а в «Логике смысла» он говорит, что это «узлы,
преддверия и центры». Сингулярности нельзя смешивать ни с
индивидуальностью положения вещей, ни, тем более, с личностью,
выражающей себя в дискурсе. Сингулярность до-индивидуальна, нелична и акон-
цептуальна, безразлична к индивидуальному и коллективному, частному
и общему. История формируется метаморфозами и
перераспределениями сингулярностей. Каждое распределение создаёт отдельное событие,
а перемещающийся между сериями парадоксальный элемент
представляет собой Событие вообще, в котором коммуницируют и
распределяются отдельные события.
Чистое событие представляет собой одновременно и сообщение,
и вымысел, но никогда не бывает актуальной реальностью. В этом
смысле оно является знаком — в стоическом понимании. Событие есть
мельчайший отрезок времени, разделяющийся на только что минувшее
прошлое и наступающее будущее. Бесконечно разделяясь, событие
пробегает весь Эон и становится соразмерным ему. И здесь стоицизм Делё-
за сливается с его ницшеанством: «Чувствуем ли мы теперь
приближение вечного возвращения, никак не связанного больше с циклом... ?»3
1 Там же. С. 20.
2 Там же. С. 24.
3 «... Чувствуем ли, что стоим перед входом в лабиринт гораздо более ужасный, поскольку это
лабиринт уникальной линии — прямой и без толщины? Эон — прямая линия, прочерченная
случайной точкой. Сингулярные точки каждого события распределяются на этой линии, всегда
соотносясь со случайной точкой, которая бесконечно дробит их и вынуждает коммунициро-
вать друг с другом, и которая распространяет, вытягивает их по всей линии. Каждое событие
адекватно всему Зону. Каждое событие коммуницирует со всеми другими, и все вместе они
формируют одно Событие — событие Зона, где они обладают вечной истиной. В этом тайна
события: оно существует на линии Зона, но не заполняет её». (Там же. С. 94.)
420
Часть 2. Ризомл
Делёз не верит в универсальные закономерности исторического
развития: «мировая история может быть только историей случайности»1.
Становление не принадлежит истории, хотя оно рождается в ней
и в неё возвращается. Становление не столько исторично, сколько гео-
графично: «События — подобно кристаллам — становятся и растут
только от границ или на границах»2. История улавливает в событии
только то, как оно совершается в положении вещей или в жизненном
опыте, а событие в своём становлении &ля истории неуловимо.
События, как выражался Ницше, несвоевременны. В этом отношении Делёз
также следует Марксу:
...Всю историю следует рассматривать в свете капитализма,
выполняя при этом одно условий, а именно — правила, сформулированные
Марксом: первоначально всемирная история является историей
случайностей, а не историей необходимости; сначала даны срезы и пределы,
а не длительность. Ведь понадобились необыкновенные происшествия,
удивительные встречи, которые могли бы случиться и в другом месте,
в другое время или не случиться вовсе, чтобы потоки ускользнули от
кодирования и, ускользая от него, тем не менее создали новую машину,
определимую в качестве капиталистического социума...3
Но, хотя капитализм и определяет условия и возможность
всемирной истории, это верно и возможно лишь в силу того, что сам он
имеет дело с собственным пределом и способен сам себя критиковать.
Таким образом, всемирная история ретроспективна, случайна, уникальна,
иронична и критична. История производится, а всемирная история —
один из режимов производства, возникший случайно.
Не последовательность определяет время, говорит Делёз в
«Критике и клинике», а само время определяет как последовательности
составляющие движения, определяющиеся во времени. Вещи следуют
друг за другом в разных временах, и вместе с тем, оказываются
одновременными и пребывают в неком едином времени. Постоянство,
последовательность и одновременность — всего лишь виды или
отношения времени, его осколки. «Время — это форма всего, что изменяется
1 Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? С. 121.
2 Делёз Ж. Логика смысла. С. 26.
3 Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. С. 220.
Глава 10. От xpohoca к зону
421
и движется, форма, однако, неподвижная и неизменная. Форма не
вечная, но как раз форма того, что не вечно, неподвижная форма изменения
и движения»1.
Делёза, как и Гваттари, не устраивает традиционная история,
написанная с точки зрения оседлости и от имени унитарного аппарата
государства, даже когда речь идёт о кочевниках. Такой истории недостаёт
номадологии как её противоположности. История потому и не
включает в себя номадизм, что кочевники изобрели машину войны против
аппарата государства. «Претензия Государства — быть интериори-
зованным образом мирового порядка и укоренять человека»2. Делёз
и Гваттари выступают не против «истории» как таковой, а, скорее,
против историзма с его стремлением объяснять всё без исключения, сводя
все явления в одну плоскость.
Вместе с тем, многие авторы упрекают Делёза и Гваттари в
историческом универсализме, и небезосновательно. Действительно, в
«Капитализме и шизофрении» описывается необратимый исторический
процесс, заключающийся в переходе от одних типов машин к другим.
Конечно, здесь нет места субъекту истории в гегелевском понимании,
поскольку история рассматривается со стороны объекта, а не со
стороны субъекта, но некая своеобразная модификация субъекта всё же
норовит проскользнуть в их теорию через лазейку витализма. «В
определённой мере, — замечает К. Коулбрук, — приверженность Делёза
и Гваттари желающим машинам представляет собой не что иное как
отказ и от субъекта истории, и от того, что они называют "активным"
витализмом — витализмом, в котором присутствует некая скрытая
деятельность, проявляющаяся во времени как агент истории. Вместе с тем
(также благодаря концепту машины и машины как желания), они в
равной степени выступают против простого механицизма. Они
привержены не органицистским моделям, где "жизнь" рассматривается как некая
форма духа или тождественности, а имманентно материалистическому
витализму»3. Несмотря на отказ от всякого тождества в пользу разли-
1 Делёз Ж. Критика и клиника. С. 45.
2 Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. С. 43.
3 Colebrook С. Introduction // Deleuze and History. Eds. J. A. Bell & C. Colebrook. Edinburgh:
Edinburgh University Press, 2009. P. 17. Сам Делёз признавал: «Всё написанное мною было ви-
талистским». (Deleuze G. Negotiations 1972-1990. Transi. M.Joughin. N. Y: Columbia
University Press, 1995. P. 143.)
422
Часть 2. Ризомл
чия, «пассивный» витализм Делёза и Гваттари приводит к
возрождению некой формы агента истории, а тем самым — к историческому
универсализму.
В так понимаемой истории предполагается если не закономерность,
то, по крайней мере, общая тенденция. Хотя Делёз и Гваттари удачно
избегают марксистского проецирования капиталистических отношений
на некапиталистические общества, формирование капитализма
представляется им неизбежным, а стало быть, закономерным. Несмотря на
антиисторицистский потенциал, «Капитализм и шизофрения» несёт
в себе некий абстрактный историцизм. «История капитализма у Делёза
и Гваттари, — продолжает К. Коулбрук, — представляет собой
эмпирическую историю социальных формаций и трансцендентальную
универсальную историю, которую составляет производство социальных
машин как таковое»1. Другими словами, вся история ретроспективно
понимается в свете капитализма, точно так же, как это было у Маркса.
Оправданием авторам «Капитализма и шизофрении», если они
вообще нуждаются в оправданиях, может служить невозможность
отождествления становлений с изолированными феноменами. А кроме того,
это не та универсальная история, что основывается на представлении
о Мировом Духе и телеологизме, т. е. её гегельянская версия, а, скорее,
история марксистская2 или даже структурно-марксистская, поскольку
Делёз следует Альтюссеру. «Вот чего в конце концов достигает Делёз —
Маркс без телеологии: универсальная история, представляющая собой
историю событийности», — замечает С. Чоат3.
Альтюссер утверждал, что существуют различные формы
историчности, соответствующие определённым способам производства.
Делёз и Гваттари в «Капитализме и шизофрении» также говорят о
разных режимах машинного производства, одним из которых оказывается
Colebrook С. Introduction // Deleuze and History. P. 23.
«Понятие универсальной истории у Делёза и Гваттари довольно специфическое и
основывается не на общеизвестной гегелевской философии истории, а на ряде замечаний, сделанных
Марксом в "Grundrisse"», — подчёркивает Э. Холленд. (Holland Ε. Karl Marx // Deleuzes
Philosophical Lineage. Eds. G.Jones &J. Roffe. P. 154.) Маркс же в этом произведении, в
частности, замечает, что «всемирная история существовала не всегда; история как всемирная
история — результат». (Маркс К. Экономические рукописи 1857-1859 гг. / Т. 46. Ч. 1. С. 47.)
Choat S. Marx Through Post-Structuralism. P 135.
Глава 10. От xpohoca к зону
423
капитализм. В таком представлении капитализм оказывается
исторической случайностью. Однако уйти от вопроса о механике перехода от
одной формации к другой не удаётся, и Делёзу с Гваттари приходится
прибегать к ретроспекции, от которой рукой подать до телеологизма.
Основной проблемой исторического исследования становится
проблема интерпретации, которая, по словам П. Пэттона, состоит в том,
чтобы «обрести смысл» события и выяснить, что произошло1. Однако
Делёза интересует не историческое объяснение события (которое
неизбежно приведёт к телеологизму), а «чистое» событие, событие как
таковое. На этом пути он рассчитывает произвести проблематизацию
истории.
Ф. Арьес замечал, что «марксизм, будучи производной от
подлинного исторического сознания, обернулся механистической физикой,
весьма далёкой от Истории: он разрушает инаковость истории,
ощущение различий — различий одновременно религиозных,
технических, политических и экономических, которые существуют даже
внутри человека как такового — различий нравов»2. Арьес говорит о той
самой Истории, которую стремились ниспровергнуть
постструктуралисты — Истории длительностей и закономерностей, Истории,
порождающей романтические переживания, когда её читают сидя в кресле.
Однако он совершенно верно уловил в марксизме тот момент, который
стал определяющим ^ля философских размышлений Делёза и Гваттари:
история у Маркса стала машинным производством, не признающим тех
производных от тождества различий, о которых говорит французский
историк. Это история производства, одновременно представляющей
собой производство истории. К тому же, Арьес точно подметил порок
вульгарного марксизма, подчеркивающего неизменность классового
сознания, всегда тождественного самому себе. От такого марксизма Делёз
также отказывается, предпочитая говорить не об исторических
универсалиях, а о потоках, непрестанно детерриторизующихся и ретеррито-
ризующихся. Марксизм же при этом не только не стирает различия, а,
напротив, непрестанно порождает их.
1 Patton P. Events, Becoming and History // Deleuze and History. Eds. J. A. Bell & С Colebrook.
Ρ 46.
2 Арьес Ф. Время истории. Пер. М. Неклюдовой. М. : ОГИ, 2011. С. 35.
424
Часть 2. Ризомл
Пожалуй, есть свой резон в утверждении В. Декомба: « Делёзовская
концепция приводит к самому законченному идеализму. Человек конца
истории должен быть человеком активным, но на самом деле он
реактивен. В этом противопоставлении факта и права так мало эмпиризма»1.
Чем больше стремятся Делёз и Гваттари противопоставить шизоидное
и параноидальное, тем меньше они могут сказать, что к какому полюсу
принадлежит. «В противоречии со своими самыми явными
намерениями, со своим эмпиристским проектом, Делёз приходит к тому, что
соизмеряет то, что есть, с эталоном того, него нет, но что должно было бы
быть»1. Тем самым, во-первых, постулируется идеал, который
противопоставляется наличной реальности, а во-вторых, от имени этого идеала
выносится обвинительный приговор не соответствующему ему
настоящему. Но самое скверное в том, что «французское ницшеанство
утверждает, что преодолевает субъект, тогда как оно уничтожает объект...»3
Да, Делёз хотел устранить субъекта истории — во всяком случае,
его гегельянскую версию, покоящуюся на негативности и тождестве.
Вместе с тем, он хотел избавить историю от гегельянского же телеоло-
гизма и положить конец вечному противоборству Господина и Раба,
в котором Раб не может победить, потому что есть только Господин.
При этом Делёз повёл под Гегеля ницшеанский подкоп. Едва ли
можно признать, что его затея обернулась провалом. Кое-чего он всё-таки
достиг: ему удалось говорить об истории как о пространстве, в
котором борются действующие в ней силы. А это уже немало. Едва ли стоит
связывать это с идеализмом. Но концепция истории Делёза (если здесь
можно говорить о «концепции») обладает достоинствами, лежащими
в иной области.
Делёз сделал объектом своего внимания не историчность опыта, как
это было в эпистемологической традиции (в том числе у Фуко), а опыт
историчности. Если воспользоваться его собственными выражениями,
его занимает не столько мир, в котором согрешил Адам, сколько Адам,
согрешивший в мире. Другими словами, он обращается не к истории
события, а к событию истории. Столь радикальный поворот становит-
Декомб В. Тождественное и иное. С. 171.
Там же. С. 172.
Там же. С. 181.
Глава 10. От хроноса к зону
425
ся возможен благодаря переносу внимания с хроноса на топос. Проще
говоря, Делёз предлагает не хронологическую, а спациальную схему
истории.
Делёз дробит историческое время на зоны, отказываясь от
тождества в пользу различия и множественности. Понятие зона позволяет
ему произвести топографическую разметку времени, не
сливающегося в однонаправленную длительность. Любимый всеми
постструктуралистами X. Л. Борхес назвал такую схему «садом расходящихся
тропок». Сингулярные события не сливаются в единое Событие; единое
Событие не предшествует сингулярным Событиям и не стоит за ними
в качестве их общей Сущности и Закона. Тем самым устраняется не
только всеобщий «смысл истории», но и перспектива «конца
истории» : идея вечного возвращения предполагает, что, как не было самого
первого раза, так не будет и самого последнего. Вся история теперь
становится пространством производства смысла («то, что прежде было
глубиной, развернувшись, стало шириной»1), который не фиксируется
в какой-либо из её складок и не изымается из неё в качестве
трансцендентального закона истории. Как выражается К. Коулбрук, «история
принимает форму сосуществующих линий, "плато" или расходящихся
серий становлений»2.
Что же касается исторической событийности, то она представляет
собой создание топосов и их население. История размечается не
трансцендентальным Законом и не случайностями, но собирается в
виртуальные складки, по поверхностям которых пробегает неуловимая и
неостановимая инстанция смысла истории. События не наступают, они
происходят. («История учит нас: у торных путей нет фундамента; и
география показывает: только тонкий слой земли плодороден»3.) Делёзова
философия события носит вполне эмпирический характер, хотя не
стоит забывать, что трансцендентальный эмпиризм имеет немного общего
с традиционным позитивистским исследованием. Схема эонов получает
скорее пространственную, нежели темпоральную разметку, а историзм
освобождается от историцизма в попперовском смысле. Таким обра-
Делёз Ж. Логика смысла. С. 26.
Colebrook С. Gilles Deleuze. P. 8.
Делёз Ж. Логика смысла. С. 27.
426
Часть 2. Ризомл
зом, имея в виду спациальную схему истории, которую предлагает нам
Делёз, мы едва ли сможем обвинить его в идеализме.
Само историческое пространство также производится, так что
вопрос о первоначале Делёз отметает так же, как отметал его Маркс. Ничто
не предшествует производству, а само производство носит машинный
характер. Все исторические события вырабатываются машинами,
которые сами складываются из деталей-машин. Эта всеобщая машинерия
постигается в темпоральном отношении трансверсально, а в
событийном плане является виртуальной. Машины производят машины,
машины микроуровня формируют мегамашины — устойчивые исторические
образования, которые мы знаем под именами города или государства.
Человеческая история — это абстрактная машина, представляющая
собой рабочее пространство, в котором действуют силы и отношения.
Другой делёзианский термин — диаграмма — указывает на
картографирование областей плотности и интенсивности, которое не застывает
в какой-то точке, а ежеминутно присутствует в каждом топосе и
функционирует посредством нелокализуемых изначальных связей.
Делёз постоянно использует пространственную терминологию —
«складка», «тело», «ризома», «номадизм», «территориальность»
и т. д. Исторический процесс в его книгах, особенно тех, что написаны
в соавторстве с Гваттари, описывается через категории
территориальности. Начало антропогенеза представляется какретерриторизация
передних конечностей примата и их ретерриторизация в орудиях труда;
рождение капитализма — как детерриторизация потоков труда и
капитала и т. п. Вся история народов рассматривается как процесс разметки
пространства по двум моделям — номадической и седиментарной.
Территориальность, о которой говорят Делёз и Гваттари, — это не какая-то
предшествующая событийной истории сущность или её субстрат, она
порождается жизненными процессами: человеческие группы теорри-
торизуются, населяя территорию или кочуя по ней, а в этом процессе
конституируется и сама территориальность. «Территоризация — это
процесс, а потому никогда не теряет своего процессуального
качества», — подчёркивает Р. Уэст-Павлов1. Поэтому, кстати, Делёз и Гватта-
West-Pavlov R. Space in Theory: Kristeva, Foucault, Deleuze. Amsterdam; NY: Rodopi, 2009.
R 180.
Глава 10. От хроноса к зону
427
ри предпочитают говорить не о территории, а о территориальности:
всё это производство, всё это процесс, становящееся, а не ставшее раз
и навсегда.
Капитализм в описании Делёза и Гваттари предстаёт как
экономическое пространство, в котором движутся детерриторизованные
потоки. Эти потоки сталкиваются, сливаются и снова расходятся. Не
существует единого магистрального потока, который охватывал бы все
остальные и определял направление их течения. Для этого было бы
необходимо признать существование некой преимущественной
территории капитализма, будь то государство вообще или некая
географическая область в Старом или в Новом Свете. Капитализм стал возможен
именно благодаря детерриторизации потоков, а потому его
возникновение в Европе имеет характер исторической случайности. Делёз и
Гваттари поддерживают мысль Ф. Броделя о том, что капитализм мог бы
возникнуть и в Китае.
Таким образом, отказ от вульгарного исторического
детерминизма рождается из эмпирической установки, требующей говорить лишь
о том, что и как произошло, а не о том, что и как должно было
произойти в соответствии с теориями исторического развития. Это тот
«счастливый позитивизм», который Делёз разделял с Фуко: рассуждать о том,
как должны были бы развиваться исторические события, если бы всё
шло «правильно», бессмысленно. Обвинение Декомба в том, что Делёз
судит реальное с точки зрения идеального, работает лишь в том случае,
если мы рассматриваем делёзанство как форму кантианского
историзма, а это совершенно неправомерно. Такая оценка неслучайна, ведь Де-
комб считает Делёза посткантианцем. Но, если Делёз и посткантианец,
то весьма своеобразный. Он предлагает собственную версию
кантианства, пересматривая понятие опыта и изменяя представление о
репрезентации. Он обращается не к тому опыту, в котором нам даны вещи,
а к состояниям вещей в опыте. Он не судит реальные события с точки
зрения идеального, в чём обвиняет его Декомб; скорей уж, он судит
реальное с точки зрения виртуального, не поддающегося репрезентации.
В его философии нет того трансцендентализма, что заставляет говорить
об идеальном ходе истории.
История, которую актуализировали философы-постструктуралисты,
представляет собой по большей части историю ментальностей. История
428
Часть 2. Ризома
ментальностей не пытается искать некую сущность истории, якобы
укоренённую в прошлом; которое нужно лишь хорошенько поворошить.
История ментальностей обращается к хаосу истории, высказывающему
себя на окраинах дискурсов, в зазорах между ними, в заикании дискурса,
как сказал бы Делёз. Здесь можно расслышать невнятное бормотание
самой истории, а не ясную речь исторической репрезентации. Делёза
трудно назвать историком или систематическим философом истории. И тем
не менее, его исторические штудии открывают новые перспективы как
для истории мысли, так и ^ля истории материальной культуры.
«Пришло время скорее подумать о прошлом, чем исследовать
его», — заметил Ф. Р. Анкерсмит1. Пожалуй, именно так и следует
охарактеризовать делёзианскую философию истории: не исследование
истории, а размышление о ней. Историография во второй половине
XX века стала поистине необъятной, так что даже узкий специалист за
свою жизнь не успевает ознакомиться со всеми источниками по своей
теме. Интерпретация истории переживает кризис перепроизводства;
история событий совершенно скрылась за всевозможными
интерпретациями этих событий. Поэтому настала пора озаботиться не бесконечным
приращением информации, не новыми интерпретациями и не
поисками единой сущности исторического процесса (в которую, кажется, уже
никто не верит), а смыслом (вернее, смыслами) истории: прислушаться
к тому, что говорит нам история. По этому пути и двинулся Делёз.
Мишель Фуко в своей знаменитой «Истории безумия в
классическую эпоху» предложил дать слово «самому безумию». Но может ли
говорить от первого лица то, что не является даже исторической
универсалией, а выступает как множество сингулярных точек, разбросанных
по необозримому историческому пространству? Сам Фуко отказался
от этой чересчур феноменологической идеи, признав, что нам
приходится иметь дело с дискурсами, а не с реальностями, а потому нужно
уделить самое пристальное внимание дискурсивным формациям,
внутри которых погребены исторические события. Такая стратегия рискует
обрушиться в структуралистский пантекстуализм — эту современную
форму исторического номинализма, которую Р. Рорти назвал
сегодняшним эквивалентом идеализма XIX века. Фуко и Делёз были скорей уж
Анкерсмит Ф. Р. История и тропология. С. 303.
Глава 11. Делёз и литература: концепты и персонажи 429
реалистами: они искали событие, а не текст. Поэтому, принимая
стратегию структурных исследований в духе Ж. Дюмезиля, они отказались от
крайностей леви-стросовского структурализма.
Возвращаясь к тому, с чего мы начали эту главу, следует ещё раз
сказать о том, что Делёз продолжает начатую Ницше критику линейной
концепции истории, где всякий момент исторического времени
появляется из прошлого, предшествующего настоящему. Доктрина
вечного возвращения подчёркивает всякий момент времени сам по себе, не
сводя его к одному из моментов, вписывающихся в некий исторический
ряд. Каждый момент, бесконечно повторяясь, не связан ни с прошлым,
ни с будущим, а становится вечным моментом. Из линии историческое
время превращается в плоскость, составляемую множеством
исторических линий. Именно это, по-видимому, и хотели сказать Делёз и Гват-
тари своим выражением «тысяча плато».
ГЛАВА 11. ДЕЛЁЗ И ЛИТЕРАТУРА: КОНЦЕПТЫ
И ПЕРСОНАЖИ
Делёз всегда был очень внимателен к изящным искусством.
Свидетельством тому его тексты о таких художниках, как Ж. Фроманжер
и Ф. Бэкон, два тома о кинематографе и т. п. Однако самым важным из
искусств j^aä него всегда была литература. Как замечает Ф. Досс,
«литература неизменно была первостепенным пространством опыта ^ля его
философских гипотез»1. Он постоянно читал и перечитывал великих
писателей и рассматривал их как мыслителей и философов. Кроме того,
он рассматривал как мыслителей крупных философских персонажей —
например, мелвилловских капитана Ахава и даже Бартлби. Делёз писал
о Прусте, Кафке, Золя, Мазохе, Мелвилле, Беккете, признавал, что
многим обязан Фицджералду и Фолкнеру, восхищался Гоголем, Толстым,
Достоевским и Лесковым. У всех этих авторов он искал концепты или
концептуальных персонажей, хотя говорить о систематической работе
в этом направлении не приходится.
Dosse F. Gilles Deleuze et Félix Guattari. P. 511.
430
Часть 2. Ризомл
Делёз не считал литературу чем-то отдельным от философии и
дополнительным по отношению к ней, каким-то (воспользуемся
выражением М. Брайден) эпистемологическим ресурсом, из которого можно
черпать примеры для своих рассуждений1. Конечно, философия
является одним из литературных жанров, однако так называемая
художественная литература сама по себе может быть философией. В предисловии
к английскому изданию «Различия и повторения» Делёз писал:
Всякая философия должна обрести свою собственную манеру
говорить об искусствах и о науках, словно бы заключая с ними союзы. Это
очень трудно, поскольку философия, очевидно, не может претендовать
на какое бы то ни было превосходство, но может создать свои
собственные концепты в отношении того, что она ухватывает из научных
функций и художественных конструкций... Философией нельзя заниматься
отдельно от науки и искусства2.
Делёз утверждал, что все великие писатели являются в то же время
великими философами. В то же время, великие философы являются
великими писателями. Но, хотя философы, и могут писать романы,
хороших романистов среди философов не встречается. Сартр, к примеру, не
был значительным романистом. Оптимальным для Делёза является
вариант, когда философ создаёт одновременно и концепт, и персонажа,
сходящихся в одной фигуре. Блестящим примером тому служит ниц-
шевский Заратустра.
Литература всегда привлекала Делёза как область, ускользающая
от идеологии и противопоставляющая ей свою «тихую революцию».
«Литература — это некая сборка, у неё нет ничего общего с
идеологией, идеологии нет, и никогда не было»3, — писали авторы «Тысячи
«Литература — союзник Делёзовой мысли, — пишет М. Брайден, — причём союзник
привилегированный, поскольку это область, благоприятствующая разоблачению иллюзии транс-
ценденции... Таким образом, литература — не канон текстов, не объект для исследования,
а Делёз — не литературный критик. Он читатель, более того, читатель, позволяющий
текстам выходить за свои пределы, ускоряться или пролиферировать». (Bryden M. Deleuze and
Anglo-American Literature: Water, Whales and Melville / Introduction to the Philosophy of Gilles
Deleuze. P. 105.)
Deleuze G. Difference and Repetition. Transi. P. Patton. N.Y.: Columbia University Press, 1994.
P. XVI.
Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. С. 8.
Глава 11. Делёз и литература: концепты и персонажи 431
плато». Делёз часто обращался к анализу литературных произведений
и к творчеству многих писателей, как в своих собственных работах, так
и в написанных совместно с Феликсом Гваттари. Конечно, его книга
о Прусте занимает почётное место в ряду прочих критических работ,
посвященных творчеству французского гения. Его анализ творчества
Захер-Мазоха привносит новые измерения в критические исследования
австрийского писателя — психоаналитическое и политическое. Но
гораздо важнее, на наш взгляд, то, что Делёз не ограничивается жанром
«что говорит литература философии», а рассматривает писательское
творчество как непосредственно философскую и диагностическую
деятельность, обладающую революционным потенциалом. В «Логике
смысла» Делёз заявил, что «клиницисты, способные обновить таблицу
симптомов, создают произведение искусства». А в «Критике и
клинике» настала пора для аргументации второй части его утверждения:
«художники — это клиницисты», клиницисты цивилизации1. Само собой,
назвать Пруста, Захер-Мазоха или Кафку революционерами —
значило бы впасть в ничем не обоснованное фантазирование. И тем не
менее, Делёз в самом языке этих авторов, в их манере пользоваться
означающими, вырабатывая собственный стиль, обнаруживает подрывную
силу, которая и не снилась гошистам 1970-х.
Лингвистика, на взгляд Делёза, ничего не может сказать о природе
стиля и даже наносит вред литературе, рассматривая язык как
сбалансированную систему, способную стать объектом науки. Однако речь
ускользает от такого определения, а язык писателя — система
неравновесная, состоящая из гетерогенных потоков. Великие стилисты — это те
самые писатели, о которых говорят, что у них нет никакого стиля.
Стилист — не хранитель синтаксиса, но его творец. Чтобы быть стилистом,
необходимо жить проблемами стиля. Если же письмо лишено стиля, ни
концепты, ни персонажи не будут развиваться; это касается как
литературы, так и философии. Композиция книги целиком и полностью
зависит от стиля, возникая в момент написания, а никак не раньше.
Как и большинство французских философов XX века, Делёз был
озабочен поисками новой литературной формы. В этом отношении
он вписывается в движение, идущее от Сартра и теоретиков «нового
ι
Делёз Ж. Логика смысла. С. 311.
432
Часть 2. Ризомл
романа». Но, если Сартр стремился к некой имплицитной
партийности в литературе, то Делёза больше привлекает свободная от какой бы
то ни было ангажированности подрывная мощь литературного текста.
К тому же, реализм «нового романа» не представлялся ему панацеей.
«Очевидно, что нового реализма недостаточно аая того, чтобы создать
хорошую литературу»1.
Вместе с тем, Делёз был озабочен исчезновением великой
литературной традиции. Причины кризиса в литературе, наступившего во
второй половине XX века, он видел в том, что, во-первых, книги стали
писать журналисты, а потому стали появляться крупные произведения,
содержания которых едва хватает на газетную статью, во-вторых, в
расхожем представлении, будто писать могут все, а в-третьих, в том, что
читающую публику сменила телевизионная аудитория и дистрибьюторы
литературной продукции. В результате творческая литература
исчезла, а литературная критика стала жалкой. Впрочем, Делёз вовсе не был
пессимистом и считал, что параллельно литературному мейнстриму
существуют альтернативные выразительные формы, а значит, литература
всегда будет возрождаться.
В «Тысяче плато» Делёз и Гваттари заявили, что «писание не
имеет ничего общего с обозначиванием, скорее, писание имеет дело с
межеванием, картографированием — даже грядущих местностей»2.
Книга — не образ мира, как принято думать. Она образует с миром ризому,
и эволюция мира и книги носит а-параллельный характер: книга
обеспечивает детерриторизацию мира, а мир, в свою очередь, осуществляет
ретерриторизацию книги, детерриторизующейся в мире.
Делёз и Гваттари выделяют два типа книги. Первый представляет
собой книгу-корень: такова классическая книга, имитирующая мир, так
же как всё искусство имитирует природу. Такая книга несёт в себе
закон Одного и структурируется бинарной логикой. Такая мысль не в
состоянии постигнуть множественность. Второй тип — система-корешок
(мочковатый корень), где к редуцированному главному корню
прививается множество вторичных корней. Эта система, несмотря на
видимость, не порывает с дуализмом и взаимодополнительностью субъекта
Deleuze G. Philosophie de la série noir / L'île Déserte. Textes et entretiens 1954-1974. P. 119.
Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. С. 8.
Глава 11. Делёз и литература: концепты и персонажи 433
и объекта. Субъект здесь достигает нового единства амбивалентности
и сверхдетерминации в измерении, дополнительном к измерению
объекта. Делёз и Гваттари противопоставляют книгу-машину войны
книге-аппарату государства. Как мы помним, машина войны всегда
пребывает вне государственного аппарата. Если книга-аппарат государства
утверждает тотальность, то книга-машина войны всегда восстаёт
против тотальности и совершает подрыв в литературе. В этом отношении
образцовым примером служат книги Кафки.
Стилистику, говорят Делёз и Гваттари, следует отделить от
лингвистики. Стиль не является индивидуальным психологическим творением,
это сборка высказывания, создающая язык внутри языка. Стиль — это
заикание в языке; стилист — иностранец в своём собственном языке.
Язык — это способ действовать, а условие его возможности
составляют формирующие тот или иной мир материальные элементы.
Литература — привилегированная область производства образов и симулякров.
Симулякры в философии Делёза не являются копиями какой-либо
реальности. Напротив, симулякры и составляют саму реальность. Таким
образом, Делёз не разделяет аристотелевского представления об
искусстве как о подражании: искусство — не подражание реальности, но её
создание. Если философия создаёт концепты, то литература создаёт
события. Литература — не репрезентация, но презентация.
Делёз был очень чувствителен к этой функции литературы. Если
литература создаёт реальности (реальности множественные,
претендующие на истинность, но никогда не монополизирующие её), это значит,
что литература должна стать одним из первостепенных объектов
философского внимания. Впрочем, французская философия всегда
проявляла внимание к литературе, а в XX веке, благодаря экзистенциалистам,
едва не произошло слияния философии и литературы. Делёз не был
сторонником подобных слияний: у философии и литературы, считал он,
различные функции. Если философия производит концепты, то
литература занимается персонажами. Между ними, конечно, значительное
сходство, поскольку и в том, и в другом случае речь идёт о
приключениях, переживаемых концептами/персонажами, однако пространства
философии и литературы функционируют в различных режимах.
Литература не обязана объяснять; напротив, литература, занимающаяся
объяснениями, — плохая литература. В философии же от объяснитель-
434
Часть 2. Ризомл
ной функции никуда не денешься. «В философии всё как в романе: здесь
следует спрашивать: "что же будет?" "что произошло?". Только
персонажами являются концепты, а обстановка, пейзажи — это пространство
и время»1.
ГЛАВА 12. РЕГИСТР ПОЛИТИЧЕСКОГО
Французская философия XX века была крайне политизированной.
Встретить здесь аполитичного, равнодушного к политике
интеллектуала практически невозможно. При этом французские философы,
разумеется, не составляли какой-либо виртуальной «партии», а диапазон
их убеждений был чрезвычайно широк. Философы во все времена были
одиночками, и принадлежность к какой-либо политической группе
всегда давалась им с трудом. Однако было бы неверно изображать
французских философов XX столетия убеждёнными маргиналами вроде Сократа,
политическая активность которых в том и заключается, чтобы избегать
всяких политических баталий. Нет, они были весьма внимательны к
текущей политике и всегда находили время и место а^я высказывания
своей позиции.
Говоря о французской политической культуре, мы неизбежно
пытаемся спроецировать на неё свой собственный опыт. А этого как раз и не
стоило бы делать, ибо французская ситуация того периода, о котором
у нас идёт речь (50-е - 80-е гг.), разительно отличается от нашей.
Прежде всего, от интеллектуала требовали высказаться. Высказывание
могло принимать самые разные формы — от выступления на митинге до
газетной заметки. Оно могло быть и скрытым, замаскированным между
строк в отвлечённом теоретическом труде. В качестве примера можно
вспомнить книгу Ролана Барта о Расине, своими новаторскими
приёмами вызвавшую «войну критиков» и породившую шквал
политических откликов. А теперь попытаемся себе представить подобную
реакцию в СССР или в России на сколь угодно оригинальную и блестящую
книгу, скажем, о Фонвизине. Нет, представить такое никак не
получается. Впрочем, подобной реакции не стоит ждать и от сегодняшней
Франса философии // Делёз Ж. Переговоры. С. 183.
Глава 12. Регистр политического
435
ции. Пожалуй, ближайшим аналогом того положения дел, о котором мы
говорим, может служить расцвет русской публицистики в XIX в., когда
образованное общество чутко прислушивалось к каждому слову
«властителей дум».
Мы привыкли гордиться оригинальностью русской политической
мысли, способной находить политическое звучание в самой
отвлечённой теоретической мысли. Самым ярким примером здесь может
служить работа В. И. Ленина об эмпириокритицизме. Партийная оценка,
которая была и самым сильным, и самым слабым местом советского
социально-философского дискурса, после Второй мировой войны была
перенята французскими интеллектуалами, и не только теми, что
принадлежали к коммунистической партии. Вся культура стала делиться по
ждановскому принципу на «пролетарскую» и «буржуазную», а
философские тексты стали оцениваться в соответствии с этим делением.
Французская ситуация отличается от всякой другой ещё и тем, что
интеллектуалы составляют тесный кружок, в котором каждый знаком со
всеми. Здесь нет относительной изолированности исследователей друг
от друга, характерной не только для России, но и j^aä
англо-саксонского мира. Всякая публикация признанного автора порождает
множество рецензий, критических отзывов, опровержений и т. п. Поэтому
оставаться в стороне от общественных дебатов мог лишь тот, кто ничего не
писал и не читал. А кроме того, в послевоенной Франции возник
феномен, А^я нас совсем уж немыслимый — феномен «модного философа».
Конечно, было бы наивным воображать, будто «Критику
диалектического разума» обсуждали на заводах во время обеденного перерыва,
однако Сартр выступал на открытых стадионах, и его выступления по
накалу страстей и по количеству собиравшейся на них публики походили
на футбольные матчи или рок-концерты. Некоторые книги, как,
например, «Слова и вещи» Мишеля Фуко, продавались такими же тиражами,
что и самые востребованные детективные романы. А Жиль Делёз
рассказывает об откликах на книгу о Лейбнице, которые он получал то от
производителей канцелярских товаров, то от клубов серфингистов.
«Революция» 1968 г. породила то, что Делёз и Гваттари назвали «мо-
лекулярностью» — множество политических групп и группок, порой
состоявших всего из нескольких человек. Крупные политические
организации вроде Французской коммунистической партии утратили свою
436
Часть 2. Ризомл
актуальность и перестали считаться революционными. Творческий
тандем Делёза и Гваттари при желании можно считать такой «группой»,
хотя, несмотря на настойчивые предложения Гваттари, численность её
не увеличивалась. Такие «группы» постоянно возникали и
распадались, сливались и разделялись, и это броуновское движение, по мысли
Делёза, было куда важнее строгой партийности предшествующих
десятилетий.
Вместе с такими структурными изменениями политического
пространства менялась роль интеллектуала. В послевоенной Франции
конституировалась фигура политически ангажированного
интеллектуала, самым популярным зримым воплощением которой стал Жан-
Поль Сартр. Он был членом коммунистической партии (хотя с партией
у него постоянно возникали трения, он называл это «семейными
размолвками»), непрестанно путешествовал, высказывался и писал по
любому поводу, числился редактором радикальных политических изданий,
участвовал в бесчисленных митингах, пикетах и демонстрациях,
выступал в «народных судах» и т. п. Это был народный трибун, говоривший
от имени «молчаливого большинства». Но следующее поколение
интеллектуалов, к которому принадлежал Делёз, признало такую модель
неприемлемой ^ля себя: интеллектуал не должен говорить от лица
других людей и вместо них, пусть они сами говорят. Новый интеллектуал
видел свою задачу в том, чтобы заниматься интеллектуальным трудом,
полагая, что эта деятельность обладает большей подрывной силой,
нежели партсобрания. К таким интеллектуалам принадлежал и Делёз.
Делёз не был ярым политическим активистом. В отличие от Фуко,
постоянно находившегося на гребне всякой волны, накрывавшей
Францию в 1960-х — 1970-х гг., он всегда предпочитал оставаться в тени.
«Приглядевшись к политической ориентации философа, мы заметим,
что она не слишком вдохновляет, — пишет Ж. Валентен, — её общие
черты были вполне заурядны: Делёз мало путешествовал, никогда не
был членом коммунистической партии, феноменологом или хайдегге-
рианцем, не ниспровергал Маркса и не отвергал май 1968-го»1. Кроме
того, Делёз не разделял ультралевых идей и считал, что «гошизм...
продолжает сохранять и вбирать в себя определённые весьма обобщённые
Valentin J. Gilles Deleuze's Political Posture / Deleuze and Philosophy. Ed. C. V Boundas. Ρ 185.
Глава 12. Регистр политического
437
элементы марксизма, чтобы снова погрязнуть в последнем, например,
восстанавливая групповую централизацию и в результате возвращаясь
к прежней практике, в том числе и к сталинизму»1.
В то время как многие друзья юности Делёза вступили в
коммунистическую партию, сам он этого не сделал — как он потом объяснял,
помешало трудолюбие. Членство в партии предполагало сидение на
бесконечных собраниях, участие в петициях, сбор подписей и т. п., а у него на
это не было времени. Друзья-коммунисты, на его взгляд, попусту
тратили свои силы, и для партии было бы куда полезнее, если бы они
дописали свои диссертации. Он всегда избегал шумных дискуссий о Сталине
и о революции, которая пошла не так, как надо. Революция вовсе не
обязана подчиняться каким-то законам, считал он. В Англии не могло быть
революции, однако она произошла. Об американской революции
вообще редко упоминают, хотя она была не менее значимой, чем
большевистская. Все революции терпят неудачу, и заниматься ревизионизмом,
выясняя, что и в какой момент пошло «неправильно», бессмысленно.
«Верных» идей в революции вообще не бывает; «верные идеи — это
всегда идеи, соответствующие господствующим значениям или
установленным лозунгам»2, а революция — это бунт против
господствующих значений и идеологий. Неудача революций никогда не мешала
людям становиться революционерами. А все разочарования происходят
оттого, что путают ситуацию, в которой человек неизбежно становится
революционером, с ситуацией, когда кто-то делается революционером
из-за путаницы у историков. По счастью, историки не могут помешать
человеку стать революционером. Революция может привести к гораздо
худшему положению, нежели то, что привело к ней, но это уже другая
проблема, и её нужно решать отдельно, не посыпая главу пеплом и не
стеная о допущенных промахах. «...Мы постоянно смешиваем две
вещи, будущее революций в истории и революционное становление
людей. В этих случаях речь идёт даже не о тех же самых людях.
Единственный шанс для людей — в революционном становлении, которое только
и может погасить их стыд, ответить на невыносимое»3.
Делёз Ж. Фуко. С 48.
Три вопроса о «Шесть раз по две» (Годар) / Делёз Ж. Переговоры. С. 56.
Контроль и становление / Делёз Ж. Переговоры. С. 217.
438
Часть 2. Ризомл
Есть два вида людей, которые заблуждаются относительно
революции, — сказал однажды Делёз. Во-первых, это те, кто говорит, будто
настоящая борьба происходит вне человеческого сознания. Это
марксисты, считающие, что &ля того, чтобы изменить человека, нужно прежде
изменить мир. Во-вторых, это моралисты, полагающие, что подлинная
борьба происходит внутри человека: нужно изменить человека, чтобы
изменить мир. Делёз считал, что борьба снаружи и внутри направлена
на одни и те же институции, а потому развести их невозможно.
Революция, происходящая на улицах, должна проникать в сознание
человека, а перемены в его сознании должны выплёскиваться на улицы:
фашизм и вне нас, и внутри нас1. Фашизм тем более опасен, что способен
вбирать в себя социальное желание, о чём мы знаем из трудов В. Райха.
И все эти опасности сопряжены с государством, обладающим
мощнейшим репрессивным аппаратом, подавляющим революционное желание.
«...Революционная организация должна быть организацией машины
войны, а не государственного аппарата»2.
Делёз разделял убеждение Маркса в том, что «в буржуазном
обществе, основанном на меновой стоимости, возникают такие
производственные отношения и отношения общения, которые представляют
собой одновременно мины для взрыва этого строя»3. То, как именно
произойдёт этот взрыв, и какие последствия он повлечёт за собой,
может нам и не понравиться. Однако революция и крушение
капиталистической системы неизбежны.
С. Жижек верно подметил существующую на Западе тенденцию
воспринимать Делёза через призму работ, написанных в соавторстве
с Ф. Гваттари, что ведёт к неадекватной оценке его политических
взглядов4. В исследовательской литературе сплошь и рядом встречаются
утверждения о том что, в то время как Гваттари всегда был крайне
политизированным интеллектуалом, Делёз относился к политической
деятельности без всякого энтузиазма и лишь после встречи с Феликсом
стал проявлять интерес к политике. С. Жижек заявил даже, что «марк-
1 Лекция 14 мая 1973 г.
2 Deleuze G. Sur le capitalisme et le désir / L'île Déserte. Textes et entretiens 1954-1974. P. 375.
3 Маркс К. Экономические рукописи 1857-1859 гг. / Т. 46. Ч. 1. С. 102.
4 2i£ek S. Organs without Bodies. P. 20.
Глава 12. Регистр политического
439
сизм» Делёза родился из-за «дурного влияния» Гваттари .
Действительно, некоторые основания &ля этого есть. «...Идеология не имеет
никакого значения, — говорил Делёз, — в расчёт следует принимать не
идеологию и даже не различие или оппозицию "экономика/идеология",
но организацию власти». Более того, «идеологии не существует: это
иллюзорное понятие»2. Официальный марксизм придавал такое большое
значение идеологии лишь затем, чтобы скрыть происходящий в СССР
процесс формирования новой репрессивной власти. «Нет никакой
идеологии, есть только организация власти, а организация власти —
это единство желания и экономического базиса»3. Однако такая
позиция Делёза говорит не о его аполитичности, а, скорее, об оригинальной
манере заниматься политикой. Вполне справедливым представляется
нам следующее замечание И. Бьюканана и Н. Тобурна: «Делёз уже был
политически активным до встречи с Гваттари; нетрудно предположить,
что это и было одной из причин, по которым Гваттари сразу же
сблизился с ним, и, как это ни парадоксально, может показаться, что после
встречи с Гваттари он стал менее активным, сконцентрировавшись на
письме, а публичную сторону политики предоставив Гваттари».4
«... До мая 68-го (ставшего Событием par excellence) и
"Анти-Эдипа", представляющего собой попытку его теоретической
концептуализации, — пишет Ф. Менг, — политика и её понятие не служат
предметом какого бы то ни было анализа... »5. Да и микрополитика, понятие
которой станут разрабатывать Делёз и Гваттари, — это не политика
в собственном смысле слова, а, скорее, этика и эстетика, тесно
связанные с современностью. Несмотря на то, что Делёз говорил о
бессмысленности реформизма и необходимости революции, это понятие для
него не предполагало насильственное свержение существующего
режима. Он всегда был убеждён в том, что подлинно революционной
деятельностью, доступной &ля него, является труд интеллектуала6. «Коль
1 См.: 2i£ek S. Organs Without Bodies: Deleuze and Consequences. P. 20.
2 Deleuze G. Sur le capitalisme et le désir / L'île Déserte. Textes et entretiens 1954-1974. P. 367.
3 Ibid. P. 368.
4 Buchanan I., Thoburn N. Introduction. Deleuze and Politics / Deleuze and Politics. P. 1.
5 Mengue Ph. Micropolitique / Le Vocabulaire de Gilles Deleuze. P. 251.
6 «Таким образом, у Делёза и Гваттари понятие революции обновляется и развивается, но
только посредством радикального изменения его значения и области применения: насто-
440
Часть 2. Ризомл
скоро именно сама власть по своей природе действует посредством то-
тализации... теория направлена против власти», — говорил он в 1972 г.
Интеллектуал должен заниматься своим делом, а не выступать от лица
трудящихся: «говорить за других — это подлость»1. Говорить от
собственного лица непросто; аая этого нужно изобрести новый язык.
Недаром Делёз постоянно повторяет мысль Пруста об изобретении
иностранного языка внутри своего собственного. «... Как начать говорить, не
отдавая приказы, не претендуя на то, чтобы представлять кого-либо или
какую-то вещь; как суметь заставить говорить тех, кто не имеет на это
права, и как озвучить их борьбу против власти? Несомненно, говорить
так — значит быть в рамках своего языка иностранцем, прочертить
для языка что-то вроде линии бегства»2. Это не ситуативная
программа левых интеллектуалов и не жест доброй воли; «это нормально, что
современная философия, так далеко продвинувшаяся в критике
репрезентации, отказывается от любой попытки говорить вместо других»3.
Главным достижением революции 1968 г. Делёз считал именно то, что
люди стали говорить от своего лица.
Если в момент вступления Делёза на интеллектуальную арену
существовал очень узкий политический выбор: либо ты за
капиталистическую Америку, либо ты за сталинизм Советского Союза, — то
впоследствии, особенно после мая 1968-го, появились новые
альтернативы. Делёза не устраивало ни первое, ни второе. В своей последней
книге он писал:
ящие революции отныне могут быть лишь "микро", на той же шкале, что и параллельная им
микроэкономика, микрофилософия, "которую Фуко называет микрофизикой власти, а Гватта-
ри — микрополитикой желания" Миниатюризация политики идёт рука об руку с её
распространением на всю социальную сферу, как и с отказом от какой бы то ни было причастности
к существованию политических институций, особенно государства и политических партий:
политика больше не привилегированная сфера власти и даже не коллективная перспектива её
захвата и трансформации, но, скорее, реакция на либеральное сведение политики к
бесконечным локальным перестановкам, девиантным практикам, молекулярным разборкам, занявшим
место, освободившееся после исчезновения классических форм политизации». (Gro I.
Molecular Revolutions: The Paradox of Politics in the Work of Gilles Deleuze. Transi. J. Marks / Deleuze
and Politics. P. 63.)
Фуко M. Интеллектуалы и власть. С. 70.
Три вопроса о «Шесть раз по две» (Годар) / Делёз Ж. Переговоры. С. 60.
Вскрыть вещи, вскрыть слова / Делёз Ж. Переговоры. С. 118.
Глава 12. Регистр политического
441
Общество товарищей — вот революционная американская мечта...
Мечта несбывшаяся и преданная задолго до того, как то же самое
случилось с мечтой советского общества1.
Крах обеих революций, американской и русской, — это единый крах
прагматики и диалектики. И всемирная эмиграция, и всемирная
пролетаризация кончаются неудачей.
Колокол звонит уже с начала Гражданской войны в Америке, как
зазвонит он с ликвидацией Советов. Рождение нации, реставрация
национального государства — и отцы-чудовища возвращаются галопом, а
осиротевшие сыновья снова начинают умирать2.
Делёз считал бессмыслицей философствование, сводящееся к
выработке тех или иных политических идеологем. Имеет смысл только такая
политическая философия, которая сосредоточивается на анализе
капитализма. А образцом такой философии является учение Маркса. Такое
направление мысли было весьма актуально в эпоху 1960-70-х гг.,
когда революционные идеи были чрезвычайно популярны. Но годы
политической активности сменились разочарованием. Революция 68-го
потерпела поражение, сменившись реакцией, и Делёз с горечью говорил
о том, что
французы слишком гуманны, слишком историчны, слишком
озабочены будущим и прошлым. Они проводят жизнь в созерцании. Им
недоступно становление, они мыслят в терминах прошлого и будущего. Даже
в том, что касается революции, они размышляют о «будущем
революции», а не о становлении-революционными3.
И тем не менее, Делёз остаётся политическим мыслителем. «... Всё
является политикой, но любая политика — это сразу и макрополитика,
и микрополитика»*. Революция 68-го потерпела поражение, но это
вовсе не значит, что она была бессмысленной. Делёз принадлежал к числу тех
интеллектуалов, что так никогда и не отреклись от идей 68-го. Конечно,
1 Делёз Ж. Критика и клиника. С. 85-86.
2 Там же. С. 122.
3 Deleuze G., Parnet Cl. Dialogues. P. 48.
4 Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. С. 349.
442
Часть 2. Ризомл
это было «революционное событие без революционного будущего»1,
и задним числом над ним можно посмеяться, но на тот момент это было
невероятно важно: людей захватили события. Вопрос о том, был ли в те
времена революционером сам Делёз, он отвергал как несерьёзный
Магистральные течения в политике, оформляющиеся в
профсоюзные и партийные группы, не привлекали Делёза. Своё место он
видел на непрестанно изменяющейся линии ускользания, проходящей
«ниже» жёсткой системы сверхдетерминации. Централизация, считал
он, не в силах уничтожить различие: централизация всегда является ие-
рархичной, но иерархия — всегда сегментарна»2. Большинство
«левых» политических теорий, считал Делёз, ошибочно связывает власть
с интересами правящего класса. В действительности проблема
власти куда сложнее и не сводится к игре интересов. Всякий центр власти
молекулярен и диффузен. Нельзя не заметить близость этой позиции
к той, что сформулировал М. Фуко. Впрочем, Делёз и сам постоянно
указывает на это: «Сегодня мы спрашиваем не о том, какова природа
власти, — говорил он на коллоквиуме в Милане, — но, скорее, так же,
как и Фуко, в каком месте она формируется и почему она повсюду»3.
Поэтому Делёз считает единственным адекватным подходом при
анализе власти опору на понятие желания. Власть — это мегамашина,
осуществляющая свою работу через три типа машин: машины желания,
социальные машины и технические машины. Но именно желание
способно освободить всю эту машинерию. «Желание не "желает"
революции, оно революционно само по себе, как будто ненароком — то есть
просто желая того, чего оно желает»4.
Делёз не верил в возможность «левого» правительства в какой бы то
ни было стране, поскольку быть «левым» — значит ничего общего не
иметь ни с какими правительствами. Рассчитывать можно лишь на такое
правительство, которое станет прислушиваться к «левым». Быть
«левым» — значит воспринимать себя как находящегося на периферии,
а не в центре. Это вопрос самовосприятия, перспективы, а не партий-
1 Азбука Жиля Делёза. С. 40.
2 Там же. С. 369.
■ Deleuze G. Deux régimes de fous / Deux régimes de fous. Textes et entretiens 1975-1995. Éd.
D. Lapoujade. P.: Minuit, 2003. P. 11.
4 Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. С. 186.
Глава 12. Регистр политического
443
ной принадлежности. Быть «левым» &ая Делёза значит ощущать своё
единство с миром и рассматривать проблемы Третьего мира как более
насущные, чем свои собственные. «Левизна» — это совокупность
миноритарных процессов становления. Большинство — это те, кто
стремится соответствовать стандартам, а меньшинство — это каждый
отдельный человек, несводимый к стандарту. Отказ от стандартизации
и есть становление-«левым».
Делёзу пришлось изобрести свою собственную модель «левизны»,
противостоящую «левизне» партийных и радикальных групп, но не
сближающую его с «правыми». Во многом это было обусловлено
политической ситуацией в послевоенной Франции. Р. Арон писал:
...Во Франции имеется разделение на правых и левых. Когда
решительно придерживаешься антикоммунистических взглядов, то тебя
относят к правым. Вот так. Те, кто не хотел числиться в правых, кто хотел
остаться левым, безнадёжно старались, так сказать, не быть
коммунистами и одновременно не быть антикоммунистами.
Исходя из этого, они прежде всего сохраняли мифическое или же
реальное понятие «быть левыми». Далее, они сохраняли идею, взятую
у марксизма, что капитализм плох сам по себе и должен быть
радикальным образом осуждён, что буржуазия сама по себе заслуживает
презрения и ненависти и что нельзя быть вместе с буржуазией1.
Мы уже не раз говорили об этой ситуации и о том, сколь нелёгок
выбор аая оказавшегося в ней интеллектуала. Однако Делёз вовсе не стал
делать такой выбор, предпочтя ускользнуть и от выбора лучшего из двух
зол, и от самой ситуации.
Пребывая на линии ускользания, Делёз видит себя не более чем
диагностом наличного состояния общества. «Нацизм — недавняя болезнь
земли. То, что делают американцы во Вьетнаме — это тоже болезнь
земли, — говорил он в 1968 г. — Можно трактовать мир как симптом,
искать в нём признаки болезни, признаки жизни, выздоровления или
здоровья»2. Эта диагностика всегда должна иметь дело с конкретными
реалиями, а не ссылаться на абстрактные «права человека» и их попра-
Арон Р. Пристрастный зритель. С 214.
Deleuze G. Sur Nietzsche et l'image de la pensée / L'île déserte et autres texts. Textes et entretiens
1953-1974. P. 194.
444
Часть 2. Ризомл.
ние. «Права человека», считает Делёз, не могут стать объектом
желания; мы не желаем какой-либо объект, а просто оказываемся в той или
иной ситуации. Поэтому разговоры о «правах человека» — это всего
лишь интеллектуальная болтовня, скрывающая отсутствие идей. К
примеру, когда турки режут армян, проблема состоит не в том, какую
резолюцию вынесет ООН. Это проблема территории и территориальности.
Всё, что происходит в мире, — это события, а не элементы
абстрактного закона. Существуют лишь права жизни, а не «права человека».
Многие исследователи упрекают работы Делёза и Гваттари в
иррациональном анархизме, в свете которого молярные группы — это всегда
плохо, а молекулярные — всегда хорошо. Это, конечно же,
преувеличение, ибо Делёз и Гваттари подчёркивают, что радикальные молекулярные
группы увековечивают те самые деспотические структуры, против
которых они выступают. Их работы нельзя воспринимать в качестве рецепта,
действенного на все времена. Они предложили определённую
политическую линию (линию ускользания), а не программу построения нового
общества. Это политическая позиция, оказывающаяся этической в
эпоху, когда регистр этического объявляется несуществующим.
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ:
О НЕСВОЕВРЕМЕННОСТИ ДЕЛЁЗА
Философская книга должна быть, с одной стороны, особым
видом детективного романа, а с другой — родом научной
фантастики.
Ж. Делёз, Различие и повторение.
Я никогда не стремился искать глубокие мотивы того или
иного его утверждения или стремился искать настолько
видимые мотивы, настолько близкие к поверхности, что нельзя
сказать, что учёт их — своего рода психоанализ.
Р. Арон, Пристрастный зритель.
«Интерпретировать текст, — говорил Делёз, — как мне кажется,
всегда значит оценивать его юмор. Великий писатель — это тот, кто
много смеётся»1. Он всегда был непрочь посмеяться и не возражал,
когда смеялись над ним.
В забавном комиксе под названием «Salut, Deleuze!», сперва
опубликованном во «Frankfurter Allgemeine Zeitung», а затем вышедшем
отдельным изданием, Мартин том Диек и Йене Бальцер рассказывают
о том, как Делез после своей кончины переплывает через Лету в лодке
Харона. На другом берегу его уже ждут друзья — Фуко, Барт и Лакан.
Возвращаясь к берегу живых, Харон снова принимает пассажира Де-
леза, и так повторяется пять раз. По дороге они беседуют о том, что
представляет собой повторение — жизнь или смерть. В одну из
поездок Делёз передаёт Харону экземпляр «Различия и повторения».
Харон, коллекционирующий последние фразы великих людей, требует от
Делёза что-нибудь сказать. Тот затрудняется. Его друзья вышли из
ситуации проще: Лакан написал письмо, но его украли; Фуко переложил
в стихах заключительный абзац «Слов и вещей»; Барт
продемонстрировал фотографии своей матери. Делёз в затруднении. Харон говорит
ему, что вечность, в которую он отправляется, не имеет ничего общего
с повторением: смерть и различие несовместимы.
Table Ronde sur Proust / Deleuze G. Deux régimes de fous. Textes et entretiens 1975-1995. P. 40.
446 Вместо заключения: о несвоевременности Делёза
«Историю философии можно сравнить с искусством портрета, —
писал Делёз. — Задача здесь — не "написать схоже", то есть
повторить сказанное философом, а создать сходство, одновременно показав
учреждённый им план имманенции и сотворенные новые концепты.
Получается портрет умственный, ноэтический, машинный»1. Мы по
мере сил старались следовать этой программе, не повторяя Делёза и не
пытаясь выявить структуру его мысли, но стремясь дать его портрет.
Делёз сам дал общий абрис того философского типа, к которому он
принадлежал, — типа философа-стоика:
Поверхность, занавес, ковёр, мантия — вот где обосновались и чем
окружили себя киники и стоики. Двойной смысл поверхности,
неразрывность изнанки и лицевой стороны сменяют высоту и глубину. За
занавесом ничего нет, кроме безымянных смесей. Нет ничего и над ковром,
кроме пустого неба. Смысл появляется и разыгрывается на
поверхности — по крайней мере, если мы умеем правильно смешивать его — где
из пыли образуются буквы. Поверхность подобна запотевшему стеклу
на котором можно писать пальцем. Философия бьющего посоха
киников и стоиков вытесняет философию ударов молота. Философ теперь не
пещерное существо и не платоновская душа-птица, а плоское животное
поверхности — клещ или блоха. Философским символом становится,
сменяя платоновские крылья и эмпедокловскую сандалию,
выворачивающийся плащ Антисфена и Диогена: посох и плащ, напоминающие
Геркулеса с его дубиной и львиной шкурой. Как назвать это новое
философское свершение, противостоящее сразу и платоновскому преображению,
и низвержению досократиков? Может быть, извращением, которое, по
крайней мере, согласуется с системой провокаций этого нового типа
философа — если верно, что извращение предполагает особое искусство
поверхностей2.
Этот новый тип философа — философ-клещ, философ-блоха,
философ поверхностей — довольно неудобен для описания. Мы привыкли
к философам глубин, скрывающимся в пещерах или в тиши своих
кабинетов, готовых выйти на свет и воспарить. Ползучий философ
плохо вписывается в традицию. На поверхности такой философ, согласно
Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? С. 74.
Делёз Ж. Логика смысла. С. 181.
Вместо заключения: о несвоевременности Делёза 447
Делёзу, находит чистые события, взятые с точки зрения их субстанции,
независимой от пространственно временных положений вещей.
Первым это устранение глубины и высоты пережил философ-стоик, позже
в такое приключение пустились дзен-буддисты. Теперь за это взялись
постструктуралисты, во всяком случае, Делёз.
Во Франции отношение к Делёзу долгое время было двойственным,
и, быть может, таким оно остаётся ещё и сегодня. В академической
среде он был известен как виртуозный, хотя и довольно необычный
историк философии, тогда как его работы, написанные совместно с Гват-
тари, не принимались всерьёз. Среди гошистской молодёжи, напротив,
был чрезвычайно популярен «Анти-Эдип», но историко-философские
работы не вызывали интереса. А. Виллани описывает эту ситуацию
следующим образом:
Рецепция Делёза у французских интеллектуалов весьма
симптоматична. Долгое время различали историка философии, очень точного,
изобретательного, дерзкого, но в конце концов уважаемого, и философа,
который сохранил спонтанность анархического желания 68-го, «Мао-
спонтанность», и который якобы пустился в разглагольствования вместе
с Гваттари. Я так и не уверен, что французам удалось отойти от этой
поспешной оценки, которую не может поколебать даже знакомство с
иностранными исследованиями1.
Можно, конечно, употребить трюизм «нет пророка в своём
отечестве», однако ситуация, по-видимому, несколько сложнее. Во-первых,
для такого восприятия действительно есть веские основания:
историко-философские работы Делёза, стремящегося не к ниспровержению
всего и вся, а к тончайшему анализу и синтезу, открыто признающего
себя частью многовековой философской традиции, разительно
отличаются от тех трудов, которые были написаны им совместно с крайне
политизированным Гваттари, активно проводившим революционные
идеи. Они отличаются и стилем, и направленностью, и методом
работы, а в значительной мере — и концептуальным аппаратом. Во-вторых,
нет ничего удивительного в том, что академическая система признаёт
ViLLANi A. Comment peut-on être deleuzien? // Deleuze épars. P. 73.
448 Вместо заключения: о несвоевременности Делёза
своим то, что ей привычно, а к новому долго приглядывается и
принюхивается, принимая его лишь post factum, т. е. тогда, когда новым его
уже не назовёшь. Да и кто бы назвал академическую систему
академической, если бы она принимала всякую текущую моду и увлекалась
разрушительными идеями? Академическая система везде более или менее
одинакова, и, по счастью, не она служит критерием философской
состоятельности того или иного автора.
В Италии работы Делёза и Гваттари стали читать с небольшим
опозданием, однако уже в конце 1970-х гг. они приобрели здесь
неслыханную популярность. «Анти-Эдип» был переведён на итальянский уже
в 1975 г., вышел в крупном издательстве «Einaudi» и стал одним из
основных теоретических текстов автономистского движения. Делёз
предложил Джорджио Пассероне, посещавшего его лекции с 1977 г.,
перевести «Тысячу плато». Перевод был готов в 1981 г., всего через
год после выхода французского издания, однако в стране началось
политическое «оледенение», и Эйнауди, обладавший правами на
издание, не решился выпустить книгу. «Тысяча плато» была опубликована
в Италии только в 1987 г. (Делёз и Гваттари написали новое
предисловие) при всеобщем равнодушии. Читать этот текст итальянцы
станут только в 1990-х гг., а по-настоящему актуальным, по свидетельству
М. Антониоли1, он станет после 11 сентября 2001 г. Делёза и Гваттари
здесь всегда воспринимали порознь: первого — как аполитичного
академического философа, второго — как политического активиста.
Поэтому и сегодня в итальянских университетах читают не столько
«Анти-Эдипа», сколько историко-философские работы Делёза, ставшие
частью учебной литературы.
В Новом Свете работы Делёза стали выходить с большим
опозданием и, как правило, их появление на английском языке было
результатом усилий отдельных энтузиастов. Прежде всего, в этом ряду
следует назвать профессора университета Онтарио Константина Боундаса,
который взялся было писать диссертацию о философии П. Рикёра,
но в 1981 г., будучи в отпуске в Париже, случайно наткнулся на кни-
М. Антониоли посвятила творчеству Делёза и Гваттари две книги: Antonioli M. Deleuze et
l'histoire de la philosophie. P.: Kime, 1999; Antonioli M. Géophilosophie de Deleuze et Guattari. P.:
L'Harmattan, 2003.
Вместо заключения: о несвоевременности Делёза 449
ги Делёза. Прочитав «Различие и повторение», он сообщил своему
научному руководителю, что меняет тему диссертации и будет писать
о Делёзе. Он перевёл «Эмпиризм и субъективность»1 и редактировал
перевод «Логики смысла», выполненный Марком Лестером и
Чарлзом Стайвелом2. В 1989 г. в Париже он встретился с Делёзом и
договорился о публикации сборника его работ. В мае 1992 г. Боундас вместе
с Доротеей Олковски из университета Колорадо организовал
первый международный коллоквиум по философии Делёза,
состоявшийся в университете Трента3. В 1996 г. там же состоялся второй
коллоквиум, в мае 1999-го — третий, в мае 2004-го — четвёртый. В 2001 г.
другой канадский преподаватель из Онтарио, Гэри Геноско, выпустил
под своей редакцией трёхтомник исследований, посвященных Делёзу
и Гваттари4. Если первоначальное знакомство американцев с
философией Делёза состоялось благодаря изданиям Колумбийского
университета5, то впоследствии эстафету переняло издательство
университета Миннесоты6.
В англоязычном академическом мире идеи Делёза были приняты
прежде всего представителями «гуманитарных наук» —
литературной теории, истории искусств, теории кино или архитектуры, и лишь
после этого они стали проникать на отделения философии. Таким
образом, в Северной Америке делёзианскую философию в конце концов
настиг запоздалый успех. Однако в Великобритании это опоздание
было ещё большим. Британская философская традиция глубоко
пропитана эмпиризмом и прагматизмом, поэтому, если британцы и
обращают внимание на «французскую теорию», то ближе им
оказываются авторы, развивающие структурную логику, — прежде всего, Лакан.
Deleuze G. Empirism and Subjectivity. Transi. С Boundas. NY: Columbia University Press,
1991.
Deleuze G. Logic of Sense. Transi. M. Lester, Ch. Stivale. N.Y.: Columbia University Press, 1990.
Материалы коллоквиума: Gilles Deleuze and the Theatre of Philosophy. Eds. C. Boundas,
DOlkowski.N.Y;L, 1994.
Deleuze and Guattari. Ed. G. Genosko. L.; NY: Routledge, 2001.3 vols.
Deleuze G., Guattari F. What is Philosophy? NY: Columbia University Press, 1994.
См.: Deleuze G. The Fold: Leibniz and the Baroque. Minnesota: Minnesota University Press,
1993; Deleuze G. Essays Critical and Clinical. Minnesota: Minnesota University Press, 1997;
Deleuze G. Francis Bacon. Minnesota: Minnesota University Press, 2004.
450 Вместо заключения: о несвоевременности Делёза
Интерес к делёзианству возник здесь только в 1990-е и 2000-е гг., когда
стали выходить работы К. Энселл-Пирсон1, Ф. Гудчайлда2 и С. Торми3.
В Южной Америке идеи Делёза, по крайней мере поначалу, оказались
не столь популярны, как гваттарианство. Латиноамериканцы знают его
в основном как одного из авторов «шизоаналитических» трудов.
«Анти-Эдип» был издан в Бразилии на португальском языке уже в 1976 г.
Уже после смерти Делёза, 10-14 июня 1996 г., в Сан-Пулу Эрик Алье
организовал большой конгресс, посвященный делёзианской философии,
главную роль на котором играли Бенто Прадо, переводчик книги «Что
такое философия?», защитивший диссертацию по Бергсону, и Роберто
Мачадо, написавший работу о генезисе делёзианской философии4.
Гораздо активнее делёзианские идеи принимались на другом конце
света — в Японии, где отказ от всякой трансцендентности оказался
созвучен учению дзен-буддизма. Постоянным переводчиком Делёза в
Японии стал Куниичи Уно, который в середине 1970-х гг. посещал его лекции
в Венсенне. В 1980 г. он под руководством Делёза защитил диссертацию
по творчеству Α. Αρτο. В 1983 г. во Франции собралась группа студентов,
в которую входили Уно и Хиденобу Судзуки, которые взялись за перевод
«Тысячи плато» под руководством известного переводчика Куичи Тойо-
саки. У них была редкая &ая переводчика возможность общаться с
авторами и обсуждать их терминологию. Вернувшись на родину, Уно стал
сотрудничать с журналом современной философии «Gendaï-Shiso»,
пропагандировавшим структурализм и французскую философию в
целом. В середине 80-х на японском языке вышел и «Анти-Эдип».
Делёз стал популярен и в современной России, о чём
свидетельствуют многочисленные работы, посвященные его творчеству5. Мож-
1 Deleuze and Philosophy. The Difference Engineer. Ed. K. Ansell-Pearson. L.; N.Y.: Roudedge, 1997;
Ansell-Pearson K. Germinal Life: The Difference and Repetition of Deleuze. L.: Routledge; 1999.
2 Goodchild Ph. Deleuze and Guattari. An Introduction of the Politics of Desire. L.; Thousend
Oaks, New Delhi: Sage Publications, 1996; Goodchild Ph. Gilles Deleuze and the Question of
Philosophy. Associated University Press, 1996.
3 Tormey S. Anti-Capitalism: A Beginner s Guide. Oxford; NY.: Oneworld, 2004.
4 Mach ado R. Deleuze e a filosofia. Rio: СгаД 1990.
5 См.: Карцев И. Жиль Делёз. Введение в постмодернизм. Философия как эстетическая имаги-
нация. М. : ОГНИ ТД, 2005; Маковецкий Е. А. Социальная аналитика ритма: Жиль Делёз,
или О спасении. СПб. : Издо-во СП6ГУ 2004; Маркова Л. А. Философия из хаоса. Ж. Делёз
и постмодернизм в философии, науке, религии. М. : Канон+, 2004.
Вместо заключения: о несвоевременности Делёза 451
но встретить целые сообщества интеллектуалов, более или менее
удачно оперирующих такими терминами, как «тело без органов»,
«желающая машина» или «складка». Опираясь на эти концепты, предлагают
анализы самых разных социокультурных феноменов. Всё это говорит
о том, что Делёз на нашей почве прижился. Конечно, Делёз этот весьма
многообразный (в зависимости от того, какие тексты (пред)почитают
российские делёзианцы) и, как правило, сильно отличающийся от того,
который известен во Франции. Во Франции Делёз с трудом
приживается на академической почве, где его считают то талантливым
комментатором, то экстравагантным историком философии. В России же он
слывёт самым академичным из могучей кучки
философов-постструктуралистов, которые в последнее десятилетие стали превращаться у нас
в ту самую академическую норму, бунтом против которой они когда-то
прославились.
Делёз — великий философ, а это значит, что к нему нужно
прислушиваться, на него можно ссылаться как на признанный авторитет,
можно пользоваться его концептами и применять его идеи к новым сферам.
За всяким большим философом тянется шлейф литературы
комментаторской, подражательной и эпигонской. В общем, вторичной. К этому
же разряду принадлежат и философские биографии. Здесь очень важно
не переборщить и не увлечься концептуальностью, создавая то ли
«русского Делёза», то ли «авторскую интерпретацию». Настоящий
философ не нуждается ни в русификации, ни в переложениях. История
философии не ставит таких задач и должна всемерно избегать подобных
соблазнов. Но историк философии тоже пишет книгу, он такой же
создатель текстов, как и тот, о ком он пишет. И тем не менее, ему
приходится отступить в тень. Если он этого не сделает, его книга выйдет плохой.
Итак, автору необходимо устраниться и дать возможность
высказаться subjectumy. Subjectumo* же может оказаться так много, что они
принимаются толкаться локтями и мешают друг другу. Нельзя верить
тем, кто кричит: «Смотрите, Делёз здесь!» или «Смотрите, Делёз
там!». Делёз везде побывал, оставил свои следы и ушёл. Поэтому мы
написали своего рода детективную историю, пройдя по следам философа
и подбирая то, что он обронил. Он же хитрит, путает следы и оставляет
ложные улики. Ведь Делёз — лукавый философ, не всегда говорящий
напрямик и подкидывающий нам загадки и головоломки.
452 Вместо заключения: о несвоевременности Делёза
Делёз — достаточно «сложный» философ, поэтому совершенно
незачем пытаться подражать ему а то и стремиться его перещеголять,
накладывая на перенасыщенный дискурс Делёза столь же насыщенный
дискурс исследователя. Напротив, нам представлялось необходимым
окружить делёзианский дискурс более разреженным, сделав
возможным дискурсивный осмос. Продолжая пользоваться химической
терминологией, можно уподобить нашу книгу полупроницаемой мембране,
разделяющей среды, но оставляющей возможность &ля транзитивных
процессов.
Политические взгляды Делёза едва ли могут служить ориентиром
для последователей его философии. Ален когда-то сказал молодому
Р. Арону: «Не принимайте всерьёз мои политические идеи; я лишь
довольствовался тем, что высказал то, что думаю об отдельных людях,
которых презираю»1. Возможно, что-то подобное мог бы сказать сегодня
и Делёз. И тем не менее, Делёз — мыслитель социальный и
политический. Иначе и быть не могло: к этому ведёт всякая метафизика. Как
заметил Ж.-Л. Нанси, «сообщество, исключённое из логики
субъекта-абсолюта метафизики (будь то Я, Желание, Жизнь, Дух и т. п.),
неизбежно начинает задевать субъект в силу самой этой логики»2.
Возможно, Делёза слишком часто обвиняют в создании метафизики желания,
но, если таковая у него и была, то уж точно задела субъект. Более того,
она задела само социальное, которое для Делёза отнюдь не сводилось
к «обществу».
Разумеется, философия Делёза возникла не на пустом месте. И уж
конечно, Делёз не первым обратился к тем проблемам, которые издавна
стояли перед философской мыслью. Однако ему удалось сделать в своей
области больше, чем другим. «В каждую эпоху, — заметил М. Хальб-
вакс, — бывают такие дела, которые общество может совершить лучше,
чем в любую другую эпоху»3.
Делёз никогда не верил в «конец философии» или в то, что
философия стала неактуальной.
1 Арон Р. Пристрастный зритель. С. 42.
2 Нанси Ж.-Л. Непроизводимое сообщество. Пер. Ж. Горбылевой и Е. Троицкого. М. :
Водолей, 2009. С 28.
3 Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. Пер. С. Н. Зенкина. М. : Новое издательство, 2007.
С. 265.
Вместо заключения: о несвоевременности Делёза 453
Сегодня толкуют о крахе философских систем, — писал он в книге
«Что такое философия?», — тогда как просто изменился концепт
системы. Пока есть время и место для творчества концептов,
соответствующая операция всегда будет именоваться философией или же не будет от
неё отличаться, хотя бы ей и дали другое имя1.
С таким отношением к философии коррелирует этика Делёза,
которая, по замечанию Р. Боуга, сводится не к вопросу «что я должен
делать?», но к вопросу «что я могу сделать?»2. Это этика
творчества, этика создания новых пространств мысли, виртуальных миров.
Эту особенность делёзианской философии очень точно зафиксировал
Ж.-Л. Нанси: «для него чтобы создать концепт, нужно не подводить
эмпирическое под категорию, а выстроить для него собственный
универсум, автономный универсум, ordo et connexio, не имитирующий какой-то
другой, не представляющий или обозначающий его, но
переделывающий его по-своему»3.
Делёз не был типичным французским интеллектуалом, успевающим
читать всё, что только публикуется, и посещать все без исключения
культурные и политические мероприятия. Сам он говорил, что не является
человеком культуры, «cultive», что он просто читает в своё
удовольствие, ходит в кино и на выставки. Однако никакой систематической
культурной практикой он не занимался. Более того, перед
«культурными» людьми он испытывал не восхищение, а испуг, поскольку считал их
какими-то органами знания, а не людьми: они способны говорить обо
всём, они знают всё и походят не на людей, а на ходячие энциклопедии.
Кроме того, Делёз отказывался называть себя интеллектуалом, говоря,
что не обладает ни пресловутым «запасом знаний», ни способностью
к предвидению в науке или в политике. Он просто ставил перед собой
конкретную задачу, обращался к необходимым источникам
информации, а сделав своё дело, всё забывал и в следующий раз был вынужден
всё начинать сначала4. Конечно, всё это звучит как некое кокетство,
Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? С. 18.
Bogue R. Deleuzes Way. P. 12.
Nancy J.-L. The Deleuzian Fold of Thought / Deleuze: A Critical Reader. Ed. P. Patton. P. 110.
«Я — не интеллектуал, потому что в моём распоряжении нет незадействованной культуры,
никаких резервов. То, что я знаю, известно мне только из нужд текущей работы, и если бы
454 Вместо заключения: о несвоевременности Делёза
ведь всякий, кто погружался в книги Делёза бывал поражён тем, сколь
огромным количеством знаний из самых разных областей оперирует
этот философ.
Такое бывает нередко: философ скромничает, приводит в пример
людей куда более эрудированных, нежели он сам. Делёз кивает на Ум-
берто Эко, способного без всякой подготовки блестяще говорить на
любую тему. Точно так же Жан Бодрийяр указывал на Поля Вирилио,
который-де, в отличие от него самого, успевает читать всё и всё знает.
Действительно, это можно было бы счесть кокетством, которое не
всегда к лицу философу. Однако Делёз и из этого кокетства ухитряется
сделать концептуальный ход. Он говорит, что чем больше о чём-либо
размышляет, тем больше от этого удаляется, так что его мысль в самой себе
обнаруживает внутренний предел, заставляющий его завершить книгу
и не позволяющий считать себя интеллектуалом.
Делёз был домоседом и не любил никуда ездить. Во многом это
объясняется болезнью, из-за которой ему было трудно переносить
физические нагрузки. Однако сам он признавал, что болезнь ^ая него
выступает как алиби, оправдывающее его нелюбовь к поездкам и публичным
выступлениям. Выступления он не любил и по другой причине: он
считал, что письмо куда яснее, чем устная речь, а «империализм логоса»,
о котором так много и так красиво говорил Деррида, его не
беспокоил. Путешествия интеллектуалов, предпринимаемые исключительно
ради болтовни, казались ему бессмысленными, а поскольку западная
культура держится на устном слове, он к этой культуре испытывал
неприязнь. Философ, создавший концепт номадизма, терпеть не мог
перемещаться. Сам он говорил, что ему не нравятся поездки не сами по
себе, а те условия, в которых приходится перемещаться интеллектуалу.
Ехать за тридевять земель ради того, чтобы всласть наговориться с
коллегами, — это не просто пустая трата времени, но и прямая
противоположность идеи путешествия. Ведь дома тоже можно болтать. Кроме
того, путешествие в его глазах выглядело непривлекательным из-за
даваемого им ложного впечатления разрыва. Реального разрыва оно не
даёт. Напротив, на реальный разрыв можно рассчитывать лишь остава-
я вернулся на несколько лет раньше, то мне пришлось бы полностью переучиваться». (О
философии // Делёз Ж. Переговоры. С. 179.)
Вместо заключения: о несвоевременности Делёза 455
ясь на месте. Кочевники, как сказал Тойнби, держатся своей земли, а не
перемещаются. Они кочуют именно затем, чтобы удержаться на своей
пустынной территории.
Подобно Ницше, Делёз использовал свою болезнь для обретения
силы. Во-первых, считал он, вызываемая болезнью усталость очень
полезна, поскольку позволяет избежать многих неприятностей. Во-вторых,
через слабость обретается сила, необходимая а^я того, чтобы что-то
сделать. Так что болезнь не только обостряет чувство жизни, но и
служит полезным инструментом. Он никогда не любил путешествовать,
а болезнь позволила ему отказаться от путешествий; он любил рано
ложиться спать, и болезнь давала ему на это право. Усталость служила
биологическим ограничением дневных трудов и позволяла сохранять силы.
В общем, всё это освобождало его от многих социальных обязанностей
и позволяло сосредоточиться на главном. Гастрономические
пристрастия Делёза также были связаны с его стремлением поддерживать силы,
необходимые для работы. Он любил мозговые кости и омаров, считая,
что они поддерживают его живучесть. Впрочем, приём пищи он считал
самой скучной вещью в мире и не выносил трапез в одиночестве. Обед
в компании, с переменами блюд, не менял его общего отношения к еде,
но делал этот процесс менее скучным.
По его словам, он верил не в культуру, а в «столкновения», которые
происходят не с людьми, а с вещами. Даже походы в кино или на
выставки Делёз рассматривал не как источник эстетического удовольствия, а,
скорее, как выражение той бдительности, что присуща животным и
писателям: выходя куда-нибудь, он ожидал «столкновения», материалом
для которого должен был стать фильм или живопись1. Театр, за такими
редкими исключениями, как Боб Уилсон или Кармело Бене, не трогал
его: здесь не происходит «столкновения», говорил Делёз, и виной тому
излишняя затянутость. Таким образом, он всегда искал стимулов к
занятиям философией за пределами философии.
«Столкновений» с людьми у него не происходило. «Я не имею
никакого отношения к людям», — говорил Делёз2. Он мог бы повторить
вслед за П. Дриё Ла Рошелем: «Я не создан и не созидал себя для обще-
См. : Азбука Жиля Делёза. С. 29.
Там же. С. 30.
456 Вместо заключения: о несвоевременности Делёза
ния с индивидами и группами. Я силён лишь в одиночестве» . Конечно,
он восхищался работами своих коллег или предшественников, но это
были «столкновения» с текстами и идеями, но не с людьми. Впрочем,
такая позиция не составляла какого-то исключения. Сходным образом
и Фуко, человек куда более общительный, чем Делёз, порой отказывался
встречаться с тем или иным философом, полагая, что всё, что тот может
предложить, он уже почерпнул из его книг.
Несмотря на это, дружба была очень важна аля Делёза, он даже
превратил её в философский концепт. Но это не мешало ему говорить, что
дружба представляется ему комичной. К примеру, свою дружбу с Гват-
тари он сравнивал с дружбой флоберовских Бювара и Пекюше,
пытавшихся создать энциклопедию всего. Дружба была важна для него не на
уровне личных отношений, но как условие мышления. Искусство
дружбы, говорил он, заключается в том, чтобы не доверять другу, и делать это
весело. В этом отношении образцовой является его дружба с Фуко:
несмотря на всю свою глубину, она была отстранённой. Фуко
представлялся Делёзу не человеком, но каким-то атмосферным вихрем. А кроме
того, Делёз говаривал, что подружиться с кем-то можно лишь
почувствовав в нём некую толику безумия.
Делёз повсюду находил то, что он называл «идеями». Конечно,
преимущественно его внимание привлекали философские тексты и
живопись. Однако он находил «идеи» и в развлекательных книгах. Самое
тонкое чувство юмора он обнаруживал у Беккета и у Кафки, которые
заставляли его хохотать до слёз. При этом он терпеть не мог
телевизионные комедии (исключение составляли скетчи Бенни Хилла, у
которого, по мнению Делёза, была «идея»). Философии, считал он,
достаточно подобных вещей; она не нуждается в каких-либо иных стимулах со
стороны политики или науки. «Я никогда не касался преодоления
метафизики, или смерти философии, или отречения от Всеобщего,
Единого, субъекта, никогда не создавал драматических ситуаций, — говорил
Делёз. — Я никогда не порывал со своего рода эмпиризмом, который
берёт своё начало в прямой экспозиции понятий. Я обхожусь без
структуры, без лингвистики, без психоанализа, без науки и даже без
исторической науки, так как полагаю, что философия имеет свою собствен-
Д риё Ла Рошель П. Дневник. 1939-1945. С. 213.
Вместо заключения: о несвоевременности Делёза 457
ную грубую материю, позволяющую ей вступать во внешние и потому
в большей степени необходимые отношения с этими дисциплинами»1.
Делёз всегда был одиночкой, он никогда не входил в какие-либо
союзы и группы (единственным исключением можно считать Группу
информации по тюрьмам, но это было во многом виртуальное
образование), не примыкал к другим научным школам и не пытался создать свою
собственную. «Школы» всегда вызывали у него отвращение, а их
лидеры вроде Лакана или Бретона казались ему людьми беспринципными.
Его идеалом было участие в движении — противоположности школы —
где нет лидерства, обязанностей, законов и членства. Такая позиция
выразилась в проводимом Делёзом и Гваттари противопоставлении
молярных и молекулярных групп. « Делёзианство» не может быть школой,
но, учитывая его популярность и востребованность в наши дни, можно
счесть его движением, в котором действуют принципы Делёза: не
вводить конституирующие школу понятия, но создать концепты, которые
станут всеобщим достоянием, так что всякий может работать с ними
самостоятельно.
Делёз всегда был одиночкой, он никогда не входил в какие-либо
союзы и группы (единственным исключением можно считать Группу
информации по тюрьмам, но это было во многом виртуальное
образование), не примыкал к другим научным школам и не пытался создать
свою собственную. «Школы» всегда вызывали у него отвращение, а их
лидеры вроде Лакана или Бретона казались ему людьми
беспринципными. Его идеалом было участие в движении — противоположности
школы — где нет лидерства, обязанностей, законов и членства. Такая
позиция выразилась в проводимом Делёзом и Гваттари
противопоставлении молярных и молекулярных групп. «Делёзианство» не
может быть школой, но, учитывая его популярность и востребованность
в наши дни, можно счесть его движением, в котором действуют
принципы Делёза: не вводить конституирующие школу понятия, но
создать концепты, которые станут всеобщим достоянием, так что всякий
может работать с ними самостоятельно.
Философия, считал Делёз, не занимается универсалиями, вопреки
расхожему обывательскому мнению. Философия не занимается изуче-
Вскрыть вещи, вскрыть слова // Делёз Ж. Переговоры. С. 119-120.
458 Вместо заключения: о несвоевременности Делёза
нием бытия, она обращена к частному. Это не созерцание, не
рефлексия и (что бы там ни говорил Хабермас) не коммуникация. Философия,
которая занимается тем, что восстанавливает основанные на
универсальных связях коммуникации, — это просто абсурд. Размышлять
можно без философии, да и коммуникации не нуждаются в том, чтобы она
их порождала.
Делёз считал, что существуют разные режимы чтения, благодаря
которым возможны различные прочтения одного и того же текста. Для
того чтобы читать философские тексты, не обязательно быть
философом. Философия даже нуждается в не-философском чтении, без
которого она утратила бы свою красоту. Такое не-философское чтение
в большинстве случаев вполне адекватно; хотя Канта, конечно, читать
таким образом невозможно, тексты Спинозы или Ницше, к примеру,
это вполне позволяют. Таким образом, Делёз принципиально
отказывается от герменевтических установок: не обязательно понимать,
говорит он, ведь понимание — это всего лишь определённый уровень
чтения. Конечно, компетентным быть лучше, но и некомпетентное чтение
не должно отвергаться. Человек всегда отталкивается от проблем,
которые он нашёл в другой области. Так, Делёз считал, что музыка столь
сильно воздействует на него именно потому, что он воспринимает её
немузыкально. То же касается и философии: даже философу следует
уметь читать философские тексты нефилософски. В конце концов,
говорил Делёз, и в науке, и в философии работают невежды и дилетанты.
Если человек станет ждать, пока он не сделается специалистом в той
области, о которой он собрался писать, ждать ему придётся вечно,
и тогда то, что он намеревался сказать, утратит всякий интерес.
Поэтому философу и учёному всегда приходится говорить с границы между
знанием и незнанием. Он говорит о том, чего не знает, как о
производном от того, что он знает.
Порой мы удивляемся, глядя на поколение, к которому
принадлежали великие философы-постструктуралисты: что это было? почему
произошёл такой мощный интеллектуальный всплеск? Почему в
одном поколении родилось так много блестящих мыслителей,
совершивших переворот в философии? И почему теперь таких нет? Почему
перед нами сегодня раскинулась бесплодная интеллектуальная пустыня?
Ведь и в Европе теперь происходит то же самое, что и в отечественном
Вместо заключения: о несвоевременности Делёза 459
философском пространстве, т. е. не происходит ровным счётом ничего.
Тот Запад, на который мы привыкли смотреть с ожиданием свежих идей
и решений, сегодня отличается от России разве что объёмом денежных
потоков, хоть и детерриторизующихся, но быстро находящих, где им
ретерриторизоваться1.
На этот вопрос можно дать много самых разных ответов. Великие
люди, как известно, рождаются тогда, когда в них есть потребность.
Послевоенный мир остро нуждался в новой философии, которая пришла
бы на смену той, что не смогла предотвратить мировую бойню, и
принесла бы с собой новые оценки и ценности.
Структурализм/постструктурализм и стал этой новой философией. Накопление эмпирических
и теоретических знаний в естественных и гуманитарных науках
потребовало от философии совершить рывок, чтобы соответствовать
новым научным реалиям. Однако философия — не просто теория, это ещё
и практика, практика существования в наличном мире. А 1960-е
требовали практики революционной. И этому требованию то, что тогда
называли «структурализмом», соответствовало лучше всего.
Постструктурализм был одновременно и плодом, и осмыслением
революционной эпохи. Пускай революция не привела к
ниспровержению капиталистической системы, пускай система после этого события
лишь окрепла, революционное событие породило перемены в
человеческом сознании. Стала возможной философия, свободная мысль, а не
борьба за звания и титулы, которая во все времена старается подменить
собой философию. В какой-то момент обнаружилось, что деньги — не
единственная ценность, существующая в человеческом обществе. Даже
государственные гранты могли получать люди вроде Феликса Гваттари.
Но волна схлынула, и гранты вернулись по своему первоначальному
назначению — на службу капиталистической системе, бесконечно
воспроизводящей саму себя.
Таким образом, о постструктурализме можно сказать то, что Кант
сказал о Французской революции: это единичное событие, имевшее
случайный характер, но тот энтузиазм, который оно вызвало в
философии, не забудется даже в том случае, если всё вернётся в прежнее русло.
Лучшим описанием сложившейся ситуации, на наш взгляд, по сию пору остаётся роман
М. Брэдбери «Профессор Криминале».
460 Вместо заключения: о несвоевременности Делёза
Сегодня мы наблюдаем завершение этого процесса. Мы видим, как
возвращается всё то, против чего поднимали бунт философы
межвоенного поколения, те, кто пережил Вторую мировую войну, и послевоенные
философы. Мы живём в мире, где философия перестала быть
популярной, потому что свободная и непредсказуемая мысль больше никому не
нужна. Философия снова стала академичной, дидактичной и скучной.
Не стоит думать, что это и есть пресловутый «конец философии».
Перед нами лежит культурная пустыня, о которой говорил Делёз. Но всё
может начаться заново.
Кроме того, нужно искать положительные стороны в любой
ситуации. А они есть и в той ситуации, в которой находимся мы.
Применительно к настоящему исследованию положительный момент
заключается в том, что мы теперь можем окинуть единым взглядом ту эпоху,
в которую родилась философия постструктурализма. Фуко очень
точно заметил, что описать ту или иную эпистему, находясь внутри этой
эпистемы, невозможно1. Эпистема, о которой у нас идёт речь, осталась
в прошлом, во всяком случае, хронологически. Конечно, мы
по-прежнему испытываем на себе её влияние и, по-видимому, будем
испытывать ещё долго. Но мыслим мы уже по-другому и по-другому смотрим
на мир. Наш взгляд, оценивающий и куда более циничный, нежели в те
времена, о которых у нас идёт речь, позволяет увидеть то, что
невозможно было разглядеть прежде из-за близости. Разумеется, это вовсе
не значит, что мы можем увидеть больше или лучше. Мы можем увидеть
другое.
Такое отстранённое разглядывание неизбежно связано с
рубрикацией и наклеиванием ярлыков. Занятие это, конечно, не лишено смысла,
однако во многом затемняет исследуемый объект. И тем не менее, это
всё, что нам остаётся. Не заниматься же, в самом деле, фантазированием,
к которому так склонны все герменевтические практики! Мы
попытались детализировать общую картину, сознательно идя на её
фрагментацию. Настоящее слишком быстро становится прошлым, а потому те-
1 Эту мысль не так давно повторил Ф. Р. Анкерсмит: «Как рыба не знает, что она плавает в воде;
так и то, что является наиболее характерным для эпохи, наиболее типичным для эпохи, самой
этой эпохе остаётся неизвестным. Оно не видно до тех пор, пока эпоха не закончится. Аромат
данной эпохи можно вдыхать только в последующей». (Анкерсмит Ф. Р. История и тропо-
логия. С. 292.)
Вместо заключения: о несвоевременности Делёза 461
перь возможны лишь микроистории, а макроистория сама давно стала
достоянием истории. Микроистория же предполагает существование
наряду с ней множества других микроисторий. А значит, должны
появляться всё новые книги о Делёзе.
Делёз, как и Ницше, — философ несвоевременный. Он не
принадлежит нашему времени, как не принадлежал и 1960-м или 1970-м гг. Он
принадлежит философии в целом, а не откликается на злобу дня.
Возможно, главная причина, по которой стоит сегодня читать
Делёза, заключается не в его релевантности или резонансе, но в его отказе от
того, кто мы есть, — пишет К. Коулбрук. — В эпоху «мультикультура-
лизма», когда утверждают, что все мы в глубине души одинаковы, Делёз
утверждал, что человечность — это всего лишь навязываемый нам
образ, самый что ни на есть расистский образ, заключающий нас в
темницу. Ведь расизм может принять различие лишь в том случае, если прежде
утвердит тождественность. В те времена, когда мы признаём, что
всякая эпоха обладает собственным «способом видеть» или мыслить,
Делёз настаивал на необходимости осмыслить самые возможности видеть
и мыслить, независимо от конкретной культуры или фактической формы.
В эпоху, когда мы полагаем, что язык структурирует нашу реальность,
Делёз утверждал, что «реальность» включает в себя, но не исчерпывает
язык; что знаки существуют в природе и в животном мире. В эпоху, когда
мы полагаем, что искусство становится таковым лишь благодаря
учреждениям или галереям, Делёз подчёркивал, что сила искусства в его вечной
новизне. В эпоху коммуникации, информации и обмена Делёз утверждал
философское создание концептов, противящихся обмену и
отождествлению. В эпоху капитализма, когда всякий обмен оказывается
квалифицируемым и реинвестируется во всё новые обмены, Делёз утверждал трату
и избыточность: такое производство, что не имеет зримого или
исчислимого конца, но производит новое как таковое1.
И тем не менее, Делёз оказывается одним из самых востребованных
философов современности. Характер его гения таков, что у него не было
и не могло быть учеников. Существует, конечно, много эпигонов и
подражателей, но они, как правило, не идут дальше спекуляций на делёзиан-
ских концептах. Быть делёзианцем — значит не слепо копировать
Делёза, а мыслить в унисон с ним, но не так, как он, и, возможно, вопреки ему.
ι
Colebrook С. Gilles Deleuze. P. 66.
462 Вместо заключения: о несвоевременности Делёза
В этом случае делёзианство оказывается весьма продуктивным
направлением в современной философии.
Если окинуть взглядом поразительно обширную литературу
посвященную творчеству Делёза, можно выделить в ней несколько основных
векторов. Во-первых, это работы, в которых предпринимается попытка
«понять Делёза» — разобраться в многоцветье его концептов и
выяснить, как ими можно пользоваться. Во-вторых, это работы
прикладного характера, стремящиеся заставить работать делёзианские концепты
и идеи. Особенно многочисленными здесь оказываются труды,
посвященные делёзианским штудиям по теории кино, литературы и
живописи. Отдельным жанром оказываются сочинения на тему «что Делёз
говорит архитекторам», также достаточно многочисленные. Наконец,
в-третьих, это почти бесчисленные «ридеры» и «словари» —
компендиумы и «суммы», пытающиеся дать некий делёзианский бестиарий.
Вся эта литература свидетельствует о том, что, несмотря на свою
«несвоевременность», Делёз оказывается как нельзя более кстати
в том мире, с которым у него было не так уж много общего. Ничего
удивительного в этом нет: именно несвоевременные мыслители имеют
значение а^л всякой эпохи, тогда как своевременные застревают в
своей собственной. А уж для такой эпохи, как наша, это тем более верно.
« ...Философское мышление никогда не играло такой роли, как в наши
дни, — сказал Делёз в 1980 г., — потому что сейчас устанавливается
определённый режим не только в политике, но и в сфере культуры,
в журналистике, — режим, являющийся оскорбительным для любого
мышления»1. Всякая мысль должна быть монетаризована, а симулякр
мысли — и подавно! Таков девиз нашей эпохи. Оскорбительно не то,
что за мысль не дают денег, а то, что всякий мыслящий
предположительно должен к ним стремиться.
И дело здесь, разумеется, не в жадности и не в коррупции. Причины
во многом лежат в области самой мысли. «Если в современном
мышлении дела обстоят настолько плохо, то это потому, что под именем
модернизма происходит возврат к определённым абстракциям и встаёт
проблема истоков, первоначал... Любой анализ, использующий
понятия движения, векторов, блокируется. Это период слабости, период
Беседа о «Тысяче плато» // Делёз Ж. Переговоры. С. 50.
Вместо заключения: о несвоевременности Делёза 463
реакции»1. Это именно та слабость, которая, как мы знаем ещё из
сочинений Ницше, убивает силу Слабые терроризируют сильных — это
и есть реакция, т. е., как сказал бы Делёз, торжество реактивных сил над
активными. Мы видим не только реванш религии в культуре, но и
возрождение метафизики сущности в философии. Более того, эта метафизика,
кажется, уже вовсе не нуждается в онтологии, становясь
самодостаточной и утверждая сущности самым своим существованием. «... В
философии возвращаются к вечным ценностям, к идее интеллектуальной
защиты вечных ценностей»2. Ницше и «постмодернистов» снова ругают
за критику ценностей и релятивизм. Но помилуйте, где же вы видели
релятивизм? Разве кто-то в современном мире пытается произвести
переоценку (нео)либеральных ценностей или «прав человека»? А если кто-
то, начитавшись постструктуралистов, и заявляет, что это всего лишь
абстракции, родившиеся в конкретной эпистеме, никаких практических,
а главное, теоретических выводов из этого не следует.
В связи с этим меняется и роль философа в обществе. Если
поколение Сартра представительствовало от лица трудящегося класса, если
послевоенное поколение требовало, чтобы всякий говорил от
собственного лица и само так говорило, то теперь философу вообще не стоит
говорить. «... Важно то, что философу отказывают в праве рефлексии "о".
Философ — творец, он не рефлексирует»3. Сам Делёз постоянно
настаивал на том, что философия — это создание концептов. Однако
философы (и сам Делёз не исключение), помимо этого творчества, всегда
занимались тем, что размышляли о происходящем в мире. Теперь больше нет
великих мыслителей, «властителей дум», говорящих правду о том, что
видят, — практикующих то, что греки, а вслед за ними Фуко называют
parrêsia. И не в том дело, что кто-то им это запрещает. Просто
нынешним философам нечего сказать. Можно много спорить о том, что служит
причиной, а что следствием: то ли им нечего сказать, потому что их никто
не станет слушать, то ли слушать их не станут потому, что сказать им всё
равно нечего. Но факт остаётся фактом: философы больше не
размышляют «о». Они больше не осмысляют ни прошлое, ни настоящее. «В мире,
Защитники // Делёз Ж. Переговоры. С. 157.
Там же. С. 158.
Там же.
464 Вместо заключения: о несвоевременности Делёза
о движении которого она даже не подозревала; буржуазии не нужна была
философия Истории: от последней, в её академическом виде,
требовалось одно — техника управления»1. Филипп Арьес писал это о ситуации
XIX века, однако для нашего времени это не менее справедливо.
Голоса Сартра, Фуко или Делёза раздавались в своё время весьма
громко. Попробуйте найти сегодня такого мыслителя, который мог бы
выразить то, что наболело у молчаливого большинства, или высказаться
от себя лично, сказав при этом то, что всем стоило бы послушать. И вот
мы начинаем перебирать по пальцам признанных «великих». Хабер-
мас? Да, но всё, что он мог сказать, он уже сказал лет тридцать назад.
Жижек? Писатель он, конечно, яркий, уж припечатает так припечатает,
только всё это, кажется, уже сказали «франкфуртцы» и
психоаналитики. Слотердайк? Ярок, умён, спору нет. Только голос его почему-то не
слышен за пределами университетских аудиторий. Читатель может
составить свой список, сообразуясь с собственным вкусом. Но найдутся
ли грандиозные фигуры, сопоставимые со знаменитыми мыслителями
прошлого? А ведь философия — это не наука, развивающаяся благодаря
коллективам безымянных тружеников, собранных в
научно-исследовательские институты; философия живёт лишь благодаря великим
философам, подбирающим стрелу, пущенную их предшественниками, и
пускающим её в своём направлении.
В чём же дело? Измельчало человечество? Настал тот самый
период упадка, о котором говорили все периодизаторы человеческой
истории начиная с античности? Или что-то произошло с самой
философией? Может быть, настала давно предсказанная «смерть философии»?
У философии не может быть привилегий перед наукой или искусством,
говорит Делёз. Наука создаёт функции, искусство — чувственные
агрегаты, философия — концепты. И в этом отношении с философией
ничего не случилось и не может случиться, пока она создаёт концепты.
Однако концепты должны быть способны к интеллектуальному
движению. Сегодняшняя же философия перестала вырабатывать подвижные
концепты, погнавшись за стабильными первоначалами и ценностями.
И это уже скверно.
Казалась бы, никто не препятствует современным философам мыс-
Арьес Ф. Время истории. С. 215.
Вместо заключения: о несвоевременности Делёза 465
лить и самовыражаться. Тоталитарные режимы (во всяком случае,
такие, какие существовали в XX веке) сегодня стали редкостью. Однако
чем больше свободы, тем меньше могут сказать философы.
«Репрессивные силы не препятствуют самовыражению людей, они, напротив,
побуждают их к этому»1. Только самовыражение стало шаблонным и,
кажется, неинтересным даже ^ля самих самовыражающихся. Конечно,
выходит огромное количество интеллигентских размышлений о том
и о сём. Но читают их разве что сами авторы. Публика вроде бы и есть
(хотя в России она весьма малочисленна), но её тоже больше заботит
самовыражение: вместо «вычитали его книгу?» утвердилось «вычитали,
что я написал в блоге?».
«Я полагаю, что философия не испытывает недостатка ни в публике,
ни в средствах распространения, но мысль находится словно в
подполье, в состоянии кочевья»2. У нас это, может быть, и не так — читающей
публики недостаёт, да и с самой мыслью неважно, — но ведь и на Западе
ситуация не самая лучшая. Философии действительно приходится
кочевать, уходя на территории эстетики, философии истории и т. п.
Философия «в чистом виде» больше не имеет права на существование. «Веры
в существование мира — вот чего нам не хватает больше всего; мы
полностью потеряли мир, нас лишили его. Верить в мир — значит также
вызывать к жизни даже незначительные события, которые ускользают от
контроля, или же порождать новое пространство-время... »3
Философия, по Делёзу, представляет собой сопротивление.
Создавая концепты, философ сопротивляется, так же как сопротивляется
художник или музыкант. Это сопротивление требованиям
коммерциализации, популяризации, попыткам диктовать направление исследований.
Сопротивление необходимо для того, чтобы освободиться от тех
позорных уз, в которые заключает философа современное общество.
Философия — это всегда освобождение жизненных сил; поэтому и не бывает
никакой философии смерти. Ницше говорил, что философия — это то,
что сопротивляется глупости; сегодня философам приходится
сопротивляться не только глупости, но и сознательной косности капиталисти-
Защитники / Делёз Ж. Переговоры. С. 169.
Там же. С. 200.
Контроль и становление / Делёз Ж. Переговоры. С. 225.
466 Вместо заключения: о несвоевременности Делёза
ческой системы. Таким образом, философия — это не идеологическая
работа, не решение прикладных задач, которые ставит перед
философами наш век, и не умствование на досуге. Философия выполняет
чрезвычайно важную а^я самого человеческого существования функцию —
функцию сопротивления. Поэтому философия не может умереть: в ней
просто нечему умирать. Хотя, конечно, её можно блокировать, подавить
или даже убить.
Творчество Делёза — это образ вечно живой философии,
философии, которая не собирается умирать и не реагирует на скоротечные
моды современности. А потому Делёз — философ в самом что ни на
есть традиционном смысле этого слова. К какому бы направлению его
ни причисляли, какие бы классификационные сетки на него ни
накладывали, всё это ему нипочём. А значит, стоит читать Делёза, чтобы
прикоснуться к живой философской мысли. Стоит писать о нём, чтобы его
понять. Наша книга, разумеется, не исчерпывает всё многообразие его
мысли. А значит, будут и другие.
БИБЛИОГРАФИЯ: РАБОТЫ Ж. ДЕЛЁЗА
Тексты Делёза, не вошедшие в прижизненные книги, собраны в двух томах:
Deleuze G. L'île déserte. Textes et entretiens 1953-1974.Éd.prép.parD.Lapoujade.
P.: Minuit, 2002 и Deleuze G. Deux régimes de fous. Textes et entretiens 1975-1995.
Éd. prép. par D. Lapoujade. P.: Minuit, 2003.
Монографии
Cresson Α., Deleuze G. David Hume, sa vie, son œuvre. Paris: PUF, 1952.
Deleuze G. Empirisme et subjectivité. P.: PUF, 1953.
Рус. перевод: Делёз Ж. Эмпиризм и субъективность: Опыт о человеческой
природе по Юму. Критическая философия Канта: учение о способностях. Берг-
сонизм. Спиноза. Пер. Я. И. Свирского. М. : ПЕР СЭ, 2001. С. 5-142.
Deleuze G. Nietzsche et la philosophie. P.: PUF, 1962.
Рус. перевод: Делёз Ж. Ницше и философия. Пер. О. Хомы. М. : Ad Mat-
ginem, 2003.
Deleuze G. La Philosophie critique de Kant. P.: PUF, 1963.
Рус. перевод: Делёз Ж. Эмпиризм и субъективность: Опыт о человеческой
природе по Юму. Критическая философия Канта: учение о способностях. Берг-
сонизм. Спиноза. Пер. Я. И. Свирского. М. : ПЕР СЭ, 2001. С.143-225.
Deleuze G. Proust et les signes. P.: PUF, 1964.
Рус. перевод: Делёз Ж. Марсель Пруст и знаки. Пер. Е. Г. Соколова. СПб. :
Лаборатория метафизических исследований при философском факультете
СПбГУ;Алетейя, 1999.
Deleuze G. Nietzsche. P.: PUF, 1965.
Рус. перевод: Делёз Ж. Ницше Пер. С. Л. Фокина. СПб. : Аксиома, 1997.
Deleuze G. Le Bergsonisme. P.: PUF, 1966.
Рус. перевод: Делёз Ж. Эмпиризм и субъективность: Опыт о человеческой
природе по Юму. Критическая философия Канта: учение о способностях. Берг-
сонизм. Спиноза. Пер. Я. И. Свирского. М. : ПЕР СЭ, 2001. С. 227-322.
Deleuze G. Présentation de Sacher-Masoch. Paris: Minuit, 1967.
Рус. перевод: Делёз Ж. Представление Захер-Мазоха. Пер. А. В. Гараджи //
Захер-МазохЛ., фон. Венера в мехах. М. : РИК «Культура», 1992. С. 189-313.
468
Библиография: работы Ж. Делёза
Deleuze G. Différence et repetition. P.: PUF, 1968.
Рус. перевод: Делёз Ж. Различие и повторение. Пер. Н. Б. Маньковской
и Э. П. Юровской. СПб., 1998.
Deleuze G. Spinoza et le problème de l'expression. P.: Minuit, 1968.
Deleuze G. Logique du sens. P.: Minuit, 1969.
Рус. перевод: Делёз Ж. Логика смысла. Пер. Я. Я. Свирского. Под ред.
А. Б. Толстова. М., Екатеринбург, 1998.
Deleuze G. Spinoza. P.: PUF, 1970.
Рус. перевод: Делёз Ж. Эмпиризм и субъективность: Опыт о человеческой
природе по Юму. Критическая философия Канта: учение о способностях. Берг-
сонизм. Спиноза. Пер. Я. И. Свирского. М. : ПЕР СЭ, 2001. С. 323-444.
Deleuze G., Guattari F. LAnti-Œdipe. P.: Minuit, 1972.
Рус. перевод: Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и
шизофрения. Пер. Д. Кралечкина. Екатеринбург: У-Фактория, 2007.
Deleuze G., Guattari F. Kafka. Pour une littérature mineure. P.: Minuit,
1975.
Deleuze G., Guattari F. Rhizome. P.: Minuit, 1976.
Bene С, Deleuze G. Superpositions. P.: Minuit, 1979.
Deleuze G., Guattari F. Mille Plateaux. P.: Minuit, 1972.
Рус. перевод: Делёз Ж., Гваттари Φ. Тысяча плато: Капитализм и
шизофрения. Пер. Я. И. Свирского. Екатеринбург: У-Фактория; М. : Астрель, 2010.
Deleuze G. Francis Bacon. Logique de la sensation. P.: Éditions de la
Différence, 1981.
Deleuze G. Spinoza - Philosophie pratique. P.: Minuit, 1981.
Deleuze G. Cinéma 1: L'image-mouvement. P.: Minuit, 1983.
Deleuze G. Cinéma 2: L'image-temps. P.: Minuit, 1985.
Рус. перевод (оба тома): Делёз Ж. Кино. Пер. Б. Скуратова. М. : Ad Маг-
ginem, 2004.
Deleuze G. Foucault. P.: Minuit, 1986.
Рус. перевод: Делёз Ж. Фуко. Пер. Е. В. Семиной. Под ред. И. П. Ильина.
М., 1998.
Deleuze G. Le Pli: Leibniz et le baroque. P.: Minuit, 1988.
Рус. перевод: Делёз Ж. Складка. Лейбниц и барокко. Пер. Б. М. Скуратова.
М. : Логос, 1997.
Библиография: работы Ж. Делёза
469
Deleuze G. Péricles et Vrdi. P.: Minuit, 1988. P.: L'Harmattan, 2005.
Deleuze G. Pourparlers: 1972-1990. P.: Minuit, 1990.
Рус. перевод: Делёз Ж. Переговоры. 1972-1990. Пер. В. Ю. Быстрова.
СПб. : Наука, 2004.
Deleuze G. Péridès et Verdi. La philosophie de François Châtelet. P.: Minuit,
1988.
Deleuze G., Guattari F. Qu'est-ce que la philosophie? P.: Minuit, 1991.
Рус. перевод: Делёз Ж., Гваттари Φ. Что такое философия? Пер. С. Н. Зен-
кина. М. : Ин-т экспериментальной социологии; СПб. : Алетейя, 1998.
Deleuze G. Critique et Clinique. P.: Minuit, 1993.
Рус. перевод: Делёз Ж. Критика и клиника. Пер. О. Е. Волчек и С. Л. Фокина.
СПб. : Machina, 2002.
Deleuze G., Parnet Cl. Dialogues. P.: Flammarion, 1996.
Статьи
Deleuze G. Description de la femme. Pour une philosophie d autrui
sexuée // Poésie 45.1945. № 28. P. 28-39.
Deleuze G. Du Christ à la bourgeoisie // Espace. 1946. № 1.
Deleuze G. Dires et profiles // Poésie 47.1947.
Deleuze G. Bergson, 1859-1941 // Les philosophes célèbres. Éd. M.
Merleau-Ponty. P.: Editions d'Art Lucien Mazenod, 1956. P. 292-299.
Deleuze G. La Conception de la difference chez Bergson // Les Etudes
bergsoniennes. Vol. IV. 1956. P. 77-112.
Deleuze G. Sens et valeurs // Arguments. 1959. № 15. P. 20-28.
Deleuze G. De Sacher-Masoch au masochisme // Arguments. 1961. № 21.
P. 40-46.
Deleuze G. Lucrèce et le naturalism // Etides philosophiques. 1961. № 1.
P. 19-29.
В переработанном виде статья вышла как приложение к «Логике
смысла». Рус. перевод: Делёз Ж. Лукреций и симулякр / Логика смысла.
С. 347-365.
Deleuze G. Jean-Jacques Rousseau précurseur de Kafka, de Céline et de
Ponge // Arts. 1962. № 872. P. 6-12.
470
Библиография: работы Ж. Деаёза
Deleuze G. L'Idée de Genèse dans l'estétique de Kant // Revue d'esthétique.
Vol. XVI. № 2. P.: PUF, 1963. P. 113-136.
Deleuze G. Mystère d'Ariane // Bulletin de la Société française d'études
nietzschéennes. 1963. Mars. P. 12-15.
В переработанном виде статья вошла в «Критику и клинику». Рус.
переводы: Делёз Ж. Мистерия Ариадны по Ницше. Пер. Е. Г. Соколова /
Марсель Пруст и знаки. С. 175-186; Делёз Ж. В чём, по Ницше, тайна
Ариадны / Критика и клиника. С. 137-145.
Deleuze G. Unité de «A la recherché du Temps perdu» // Revue de
Métaphysique et de Morale. 1963. Octobre-décembre. P. 427-442.
В переработанном виде статья в вошла в книгу «Марсель Пруст и знаки».
Deleuze G. En Créant la pataphysique Jarry a ouvert la voie a la
phenomenology // Arts. 1964.27 mai-2 juin. P. 5.
Deleuze G. «U a été mon maître» // Arts. 1964.28 novembre. P. 8-9.
Deleuze G. Pierre Klossowski ou les corps-langage // Critique. 1965.
№214. P. 199-219.
В переработанном виде статья вышла как приложение к «Логике
смысла». Рус. перевод: Делёз Ж. Клоссовски, или тело-язык / Логика смысла.
С. 366-394.
Deleuze G. Philosophie de la série noire // Arts et Loisirs. 1966. № 18.
P. 12-13.
Deleuze G. L'Homme, une existence douteuse // Le Nouvel Observateur.
1966.1er juin. P. 32-34.
Deleuze G. Renverser le Platonisme // Revue de Métaphysique et de
Morale. 1966. Vol. LXXI. № 4. P. 426-438.
В переработанном виде статья вышла как приложение к «Логике
смысла». Рус. перевод: Делёз Ж. Платон и симулякр / Логика смысла.
С. 329-346.
Deleuze G. Une théorie d'Autrui (Autrui, Robinson et le pervers //
Critique. 1967. № 241. P. 503-525.
В переработанном виде статья вышла как приложение к «Логике
смысла». Рус. перевод: Делёз Ж. Мишель Турнье и мир без другого / Логика
смысла. С. 395-421.
Deleuze G., Foucault M. Introduction générale // Nietzsche F. Œuvres
philosophiques completes. P.: Gallimard, 1967. T. V: Le Gai Savoir. Fragments
posthumes (1881-1882). P. I-IV.
Библиография: работы Ж. Делёза
471
Deleuze G. La schizophrène et le mot // Critique. 1968. № 255-256.
P. 731-746.
Глава из «Логики смысла».
Deleuze G. Proust et les singes //La Quinzaine littéraire. 1970. № 103.
P. 18-21.
Фрагмент из книги «Пруст и знаки».
Deleuze G. Un nouvel archiviste // Critique. 1970. № 274. P. 195-209.
В переработанном виде статья вошла в книгу «Фуко». Рус. перевод:
Делёз Ж. Новый архивариус («Археология знания») / Фуко. С. 22-46.
Deleuze G., Guattari F. La synthèse disjunctive // LArc. 1970. № 43: Pierre
Klossowski. P. 54-62.
В переработанном виде статья вошла в книгу «Анти-Эдип».
Deleuze G. Le troisième chef-d'œuvre: «Sylvie et Bruno» //Le Monde.
1971.11 juin. P. 21.
В переработанном виде статья вошла в книгу «Критика и клиника». Рус.
перевод: Делёз Ж. Льюис Кэрролл / Критика и клиника. С. 36-38.
Deleuze G. Hume // Histoire de la philosophie. T. IV: Les Lumières. Éd.
F. Châtelet. P.: Hachette, 1972. P. 65-78.
Deleuze G. A Quoi reconnait-on le structuralisme? // Histoire de la
philosophie. T. VIII: le XXe siècle. Éd. F. Châtelet. P.: Hachette, 1972. P. 299-335.
Рус. перевод: Делёз Ж. По каким критериям узнают структурализм?
Пер. Е. Г. Соколова / Марсель Пруст и знаки. С. 133-174.
Deleuze G. Pensée nomade // Nietzsche aujourd'hui? T. I.: Intensités. P.:
UGE, 1973. P. 159-174 (дискуссия - P. 175-190).
Deleuze G., Guattari F. Bilan-programme pour machines-désirantes //
Minuit-2.1973. Janvier. P. 1-25.
Статья перепечатана в качестве приложения ко 2-му изданию «Анти-
Эдипа». Рус. перевод: Делёз Ж., Гваттари Ф. Баланс-программа для
желающих машин / Анти-Эдип. С. 603-636.
Deleuze G. Réponses à questionnaire sur «La belle vie des gauchistes»
adressé par Guy Hocquenghem et Jean-François Bizot // Actuel. 1973. № 29.
Deleuze G. Lettre à Michel Cressole // La Quinzaine littéraire. 1973.
№161. P. 17-19.
В книге «Переговоры» перепечатано под заголовком «Lettre à un critique
sévère». Рус. перевод: Делёз Ж. Письмо суровому критику / Переговоры.
С. 13-24.
472
Библиография: работы Ж. Делёза
Deleuze G. Présence et Fonction de la Folie dans la recherché du Temps
perdu // Saggi e Richerche di Litteratura Francese. Vol. XII. Roma: Editore,
1973. P. 381-390.
Статья перепечатана в издании книги «Пруст и знаки» 1976 г.
Deleuze G., Guattari F. 14 Mai 1914. Un seul ou plusieurs loups? //
Minuit 5.1973. Septembre. P. 2-16.
Фрагмент текста из «Тысячи плато».
Deleuze G., Guattari F., Foucault M. Le Discours du plan //
Recherches. 1973. № 13: Les équipements de pouvoir. Éds. F. Fourquet et L. Murard.
P. 183-186.
Deleuze G., Guattari F. Le Nouvel arpenteur: Intensités et blocs
d enfance dans «Le Château» // Critique. 1973. № 319. P. 1046-1054.
В переработанном виде статья вошла в книгу «Кафка».
Deleuze G., Guattari F. 28 novembre 1947. Comment se faire un corps
sans organes? // Minuit 10.1974. Septembre. P. 56-84.
Фрагмент книги «Тысяча плато».
Deleuze G. Un Art de planteur // Deleuze, Faye, Roubaud, Touraine
parlent de «Les Autres», — un film de Hugo Santiago, écrit en collaboration avec
Adolfo Bioy Casares et Jorge Luis Borges. P.: Christian Bourgois, 1974.
Брошюра, распространявшаяся в кинотеатрах Латинского Квартала
в поддержку фильма X. Сантьяго, вызвавшего скандал на Каннском
кинофестивале 1974 г.
Deleuze G. Shizophrénie et société // Encyclopaedia Universalis. Vol. 14.
P.: Encyclopaedia Universalis, 1975. P. 692-694.
Deleuze G. Écrivain non: un nouveau cartographe // Crotique. 1975.
№343. P. 1207-1227.
Статья, вошедшая в книгу «Фуко».
Deleuze G. Nota dell autore per 1 edizione italiana / Logica del senso. Mila-
no: Feltrinelli, 1976. P. 293-295.
Примечание к итальянскому изданию «Логики смысла».
Deleuze G. Trois questions sur «Six fois deux» // Cahiers du Cinéma.
1976. №271. P. 5-12.
Статья о проекте Ж.-Л. Годара. Перепечатана в сборнике «Pourparlers».
Рус. перевод: Делёз Ж. Три вопроса о «Шесть раз по две» / Переговоры.
С. 54-65.
Библиография: работы Ж. Делёза
473
Deleuze G. Désir et plaisir // Magazine littéraire. 1994. № 325. P. 59-65.
Письмо Мишелю Фуко, написанное в 1977 г., после выхода «Воли к
знанию».
Deleuze G. À Propos des nouveaux philosophes et d'un problème plus
general. Supplement de Minuit. 1977. № 24.
Deleuze G. Deux questions sur la drogue // ... où il est question de la
toxicomanie. Alemçon: Bibliothèque des mots perdus, 1978.
Deleuze G., Deleuze F. Nietzsche et saint Paul, Lawrence et Jean de Pat-
mos // Lawrence D. H. Apocalypse. P.: Balland-France Adel, 1978. P. 7-37.
В переработанном виде статья вошла в книгу «Критика и клиника». Рус.
перевод: Делёз Ж. Ницше и святой Павел, Лоуренс и Иоанн Патмосский /
Критика и клиника. С. 54-75.
Deleuze G. Spinoza et nous // Revue de Synthèse. III. 1978. № 89-91.
P. 271-278.
В переработанном виде статья вошла в книгу Spinoza, philosophie
pratique. P.: Minuit, 1981.
Deleuze G. Philosophie et minorité // Critique. 1978. № 369. P. 154-
155.
В переработанном виде статья вошла в книгу «Тысяча плато».
Deleuze G. Manfred: un extraordinaire renouvellement // Bene С. Otello
о la deficienza délia donna. Milano: Feltrinelli, 1981. P. 7-9.
Deleuze G. Peindre le cri // Critique. 1981. № 408. P. 506-511.
В переработанном виде статья вошла в книгу «Francis Bacon. Logique de
la sensation».
Deleuze G. Lettre à Uno sur le langage. Trad. Kuniichi Uno // Gendai
shisö. Tokyo. 1982. Décembre. P. 50-58.
Письмо Куниини Уно. Французский текст опубликован в сборнике:
Deleuze G. Deux régimes de fous. Textes et entretiens 1975-1995. P. 185-
186.
Deleuze G. Préface pour la traduction anglaise / Nietzsche and philosophy.
Transi. H. Tomlinson. N.Y.: Columbia University Press, 1983. P. IX-XIV.
Предисловие к американскому изданию книги «Ницше и философия».
Французский текст: Deleuze G. Préface pour 1 edition américaine de
«Nietzsche et la philosophie» / Deleuze G. Deux régimes de fous. Textes et entretiens
1975-1995. P. 187-193.
474
Библиография: работы Ж. Делёза
Deleuze G. Godard et Rivette // La Quinzaine littéraire. 1983. № 404.
P. 6-7.
В переработанном виде статья вошла во второй том книги «Кино».
Deleuze G. LAbstracrion lyrique // Change International. 1983. № 1. P. 82.
Фрагмент из первого тома книги «Кино».
Deleuze G., Guattari F. Mai 68 na pas eu lieu // Les Nouvelles
littéraires. 1984.3-9 mai. P. 75-76.
Deleuze G. Lettre à Uno: Comment nous avons travaillé à deux // // Gen-
dai shisö. Tokyo. 1984. № 9. P. 50-58.
Письмо Куниини Уно. Французский текст опубликован в сборнике:
Deleuze G. Deux régimes de fous. Textes et entretiens 1975-1995. P. 218-
220.
Deleuze G. Les Plages d'immanence // LArt des confins. Mélanges offerts
à Maurice de Gandillac. P.: PUF, 1985. P. 79-81.
Deleuze G. Il était une étoile de groupe // Libération. 1985.27 décembre.
P. 21-22.
Статья памяти Ф. Шатле.
Deleuze G. La Philosophie per dune voix // Libération. 1985. 8-9. Juin.
P. 34.
Deleuze G. Preface to the English Edition. Transi. H. Tomlinson and
В. Habberjam / Cinema 1: The Movememt-Image. Minneapolis: University of
Minnesota Press, 1986. P. IX-X.
Предисловие к американскому изданию книги «Кино 1:
Образ-движение». Французский текст: Deleuze G. Préface pour l'édition américaine de
Г«Image-Mouvement» / Deleuze G. Deux régimes de fous. Textes et
entretiens 1975-1995. P. 251-253.
Deleuze G. Occuper sans compter: Boulez, Proust et le temps // Eclats/
Boulez. Éd. Cl. Samuel. P.: Centre Georges Pompidou, 1986. P. 98-100.
Deleuze G. Optimispe, pessimism et voyage: letter à Serge Daney // Daney
S. Ciné-Journal. P.: Cahiers du cinema, 1986. P. 5-13.
Письмо С. Деяи. Перепечатано в сборнике «Pourparlers». Рус. перевод:
Письмо Сержу Дени: оптимизм, пессимизм и путешествие // Делёз Ж.
Переговоры. С. 95-111.
Библиография: работы Ж. Делёза
475
Deleuze G. Le Plus grand film irlandais // Revue d'esthétique. 1986.
P. 381-382.
Статья, вошедшая в книгу «Критика и клиника». Рус. перевод: Делёз Ж.
Самый великий ирландский фильм («Фильм» Беккета) / Критика и
клиника. С. 39-42.
Deleuze G. Sur le régime cristallin // Hors Cadre. 1986. № 4. P. 39-45.
Перепечатано в сборнике «Pourparlers» под названием «Doutes sur
l'imaginaire». Рус. перевод: Сомнения в воображаемом // Делёз Ж.
Переговоры. С. 87-94.
Deleuze G. Sur quatre formules poétiques qui pourraient résumer la
philosophie kantienne // Philosophie. 1986. № 9. P. 29-34.
Статья, вошедшая в книгу «Критика и клиника». Рус. перевод: Делёз Ж.
О четырёх поэтических формулах, которые могли бы резюмировать
философию Канта / Критика и клиника. С. 43-53.
Deleuze G. Preface to the English Edition. Transi. P. Patton / Difference
and Rpetition. N.Y.: Columbia University Press, 1994. P. XVI-XVII.
Предисловие к американскому изданию книги «Различие и повторение».
Французский текст: Deleuze G. Préface pour ledition américaine de
«Différence et répétition» / Deleuze G. Deux régimes de fous. Textes et entretiens
1975-1995. P. 280-283.
Deleuze G. Preface to the English-Language Edition // Deleuze G., Parnet
CI. Dialogues. N.Y.: Columbia University Press, 1987. P. VII-X.
Предисловие к американскому изданию «Диалогов» Ж. Делёза и К.
Парне. Французский текст: Deleuze G. Préface pour l'édition américaine de
Г«Image-Mouvement» / Deleuze G. Deux régimes de fous. Textes et
entretiens 1975-1995. P. 284-287.
Deleuze G., Guattari F. Préface pour ledition italienne de «Mille
Plateaux». Trad. G. Passerone / Capitalismo e szhizophrenia 2: Mille piani. Roma:
Bibliotheca bibliographia, 1987.
Предисловие к итальянскому изданию «Тысячи плато». Французский
текст: Deleuze G., Guattari F. Préface pour ledition italienne de «Mille
Plateaux» / Deleuze G. Deux régimes de fous. Textes et entretiens 1975-
1995. P. 288-290.
Deleuze G. Ce que la voix apporte au texte... // Théâtre National
populaire: Alain Cuny «Lire». Lyon: Théâtre National populaire, 1987.
476
Библиография: работы Ж. Делёза
Deleuze G. A philosophical concept. Transi. J. Deleuze // Topoï. 1988.
Septemer. P. 111-112.
Французский текст: Deleuze G. Réponse à une question sur le sujet //
Deleuze G. Deux régimes de fous. Textes et entretiens 1975-1995. P. 326-
328.
Deleuze G. Un critère pour le baroque // Chimères. 1988. № 5-6. P. 3-9.
Фрагмент книги «Складка. Лейбниц и барокко».
Deleuze G. Les Pierres // Al-Karmel. 1988. № 29. P. 27-28.
Deleuze G. Preface to the English Edition. Transi. H. Tomlinson /
Cinema 2: The Time-Image. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1989.
P.XI-XII.
Предисловие к американскому изданию книги «Кино 2: Образ-время».
Французский текст: Deleuze G. Préface pour l'édition américaine de l'«Image-
temps» / Deleuze G. Deux régimes de fous. Textes et entretiens 1975-1995.
P. 329-331.
Deleuze G. Qu'est-ce qu'un dispositif? // Michel Foucault philosophe.
Rencontre international. P.: Seuil, 1989. P. 185-195.
Deleuze G. Les Trois cercles de rivette // Cahiers du Cinéma. 1989.
№416. P. 18-19.
О фильме Ж. Риве «La Bande des quatre».
Deleuze G. Re-présentation de Masoch // Libération. 1989.18 mai. P. 30.
В переработанном виде статья вошла в книгу «Критика и клиника».
Рус. перевод: Делёз Ж. Пере-представление Мазоха / Критика и клиника.
С. 76-79.
Deleuze G. Lettre à Réda Bensmaïa // Lendemains, XIV. 1989. № 53. P. 9.
Перепечатано в сборнике «Pourparlers» под названием «Lettre à Réda
Bensmaïa sur SpinoïM». Рус. перевод: Письмо о Спинозе // Делёз Ж. Переговоры.
С. 211-214.
Deleuze G. Post-scriptum sur les societies de contrôle // LAutre journal.
1990. №1.
Статья перепечатана в сборнике «Pourparlers». Рус. перевод: Post
scriptum к обществам контроля // Делёз Ж. Переговоры. С. 226-233.
Deleuze G. La Conditions de la question: qu'est-ce que la philosophie? //
Chimères. 1990. № 8. P. 123-132.
Фрагмент книги «Что такое философия?».
Библиография: работы Ж. Делёза
477
Deleuze G. Lettre-préface // Buydens M. Sahara: l'esthétique de Gilles
Deleuze. P.: Vrin, 1990. P. 5.
Deleuze G. Avoir une idée en cinéma: Apropos du cinema des Straub-Hu-
illet // Straub J.-M., Huillet D. Hölderlin, Cézanne. Aigremont: Antigone, 1990.
P. 65-77.
Изменённая версия текста напечатана в 1998 г.: Deleuze G. Qu-est-ce
que 1 acte de creation? // Trafic. 1998. № 27.
Deleuze G. A Return to Bergson / Bergsonism. N.Y.: Zone Books, 1991.
P. 115-118.
Послесловие к американскому изданию книги «Бергсонизм». Французский
текст: Deleuze G. Postface pour l'édition américaine: Un Retour à
Bergson // Deleuze G. Deux régimes de fous. Textes et entretiens 1975-1995.
P. 313-316.
Deleuze G. Remarques // Nos Grecs et leurs modems: Les Stratégies
contemporaines d'appropriations de l'Antiquitité. Éd. B. Cassin. P.: Seuil, 1992.
P. 249-250.
Под заголовком «Platon, les Grecs» статья вошла в книгу «Критика и
клиника». Рус. перевод: Делёз Ж. Платон, греки / Критика и клиника. С. 183-
185.
Deleuze G. L'épuisé // Beckett. Qpad. P.: Minuit, 1992.
Deleuze G. 1994. La chose en soi chez Kant // Lettres philosophiques.
1994. № 7. P. 36-38.
Deleuze G. Preface to the English-language Edition. Transi. С. Boundas /
Empiricism and Subjectivity. An Essay on Hume's Theory of Human Nature.
N.Y.: Columbia University Press, 1991. P. IX-X.
Предисловие к американскому изданию книги «Эмпиризм и
субъективность». Французский текст: Deleuze G. Préface pour l'édition américaine
de «Empirisme et subjectivité» / Deleuze G. Deux régimes de fous. Textes et
entretiens 1975-1995. P. 341-342.
Deleuze G. Pour Félix // Chimères. Hiver 1992-1993. P. 209-210.
Текст памяти Ф. Гваттари.
Deleuze G. L'Immanence: une vie... // Philosophie. 1995. № 47. P. 3-7.
Extrait du dernier texte écrit par Gilles Deleuze // Cahiers du cinema. 1995.
№497. P. 28.
Correspondance D. Mascolo-G. Deleuze // Lignes. 1998. № 33. P. 222-
226.
478
Библиография: работы Ж. Делёза
Deleuze G. Vincennes Seminar Session, may 3 1977. On Music. Transi.
S. Murphy // Discourse. 1998. Vol. 20. № 3. P. 205-218.
Extraits de correspondence // Villani A. La Guêpe et l'orchidée. Essai sur
Gilles Deleuze. P.: Belin, 1999. P. 125-127.
Фрагменты переписки Ж. Делёза и А. Виллани.
Рецензии и предисловия
Deleuze G. Introduction // Malfatti de Montereggio J. Études sur la
Mathèse. Paris: Griffon, 1946.
Deleuze G. Introduction // Diderot D. La Religieuse. Paris: Marsel Daubin,
1947.
Deleuze G. Régis Jolivet, «Le Problème de la mort chez M. Heidegger et
J.-P. Sartre» // Revue philosophique de la France et l'étranger. 1953. Vol. CX-
LIII.№ 1-3. P. 107-108.
Deleuze G. К. Е. Lögstrup, «Kierkegaard und Heideggers Existenzanalyse
und ihr Verhältnis zur Verkündigung» // Revue philosophique de la France et
letranger. 1953. Vol. CXLIII. № 1-3. P. 108-109.
Deleuze G. Helmut Kuhn, «Encounter with Nothingness / Begegnung mit
dem Nichts» // Revue philosophique de la France et letranger. 1953. Vol.
CXLIII. № 1-3. P. 109.
Deleuze G. Bertrand Russell, «Macht und Persönlichkeit» // Revue
philosophique de la France et letranger. 1953. Vol. CXLIII. № 1-3. P. 135-136.
Deleuze G. Carl Jorgensen, «Two Commandments» // Revue
philosophique de la France et 1 étranger. 1953. Vol. CXLIII. № 1-3. P. 138-139.
Deleuze G. Darbon, «Philosophie de la volonté» // Revue philosophique
de la France et 1 étranger. 1953. Vol. CXLIV. № 4-6. P. 283.
Deleuze G. Introdiction // Instincts et institutions. Éd. G. Deleuze. P.:
Hachette, 1953. P. VIII-XI.
Deleuze G. Jean Hippolite, «Logique et existence» // Revue
philosophique de la France et 1 étranger. 1954. Vol. CXLIV № 7-9. P. 457-460.
Рецензия на книгу Ж. Ипполита «Логика и существование».
Deleuze G. Emile Leonard, «L'Illuminisme dans un protestantisme de
constitution récente (Brésil)» // Revue philosophique de la France et l'étranger.
1955. Vol. CXLV. № 4-6. P. 208.
Библиография: работы Ж. Делёза
479
Deleuze G. J.-R Sartre, «Materialismus und Revolution» // Revue
philosophique de la France et 1 étranger. 1955. Vol. CXLV. № 4-6. P. 237.
Deleuze G. «Descartes, l'homme et l'œuvre» par Ferdinand Alquié //
Cahiers du Sud. 1956. Vol. XLIII. № 337. P. 473-475.
Deleuze G. Michel Bernard, «La philosophie religieuse de Gabriel
Marcel» (etude critique) // Revue philosophique de la France et l'étranger. 1957.
Vol.CXLVII.№l-3.R105.
Deleuze G. Raymond Roussel ou l'Horreur du vide // Arts. 1963. 23-29
octobre. P. 4.
Рецензия на книгу M. Фуко «Раймон Руссель».
Deleuze G. Gilbert Simondon, «L'Individu et sa genèse physici-biolo-
gique» // Revue philosophique de la France et de l'étranger. 1966. Vol. CLVI.
№1-3. P. 115-118.
О докторской диссертации Ж. Симондона «L'lndividuation à la lumière des
notions deforme ed d'information» (19S8).
Deleuze G. Introduction à Emile Zola, «La Bête humaine» // Zola
E. Œuvres completes. T. VI. P.: Cercle du livre précieux, 1967. P. 13-21.
В переработанном виде перепечатано как приложение к «Логике смысла».
Рус. перевод: Делёз Ж. Золя и трещина / Логика смысла. С. 422-440.
Deleuze G. L'Homme, une existence douteuse //Le Nouvel Observateur.
1969.1 juin. P. 32-34.
Рецензия на книгу M. Фуко «Слова и вещи».
Deleuze G. Spinoza et la method générale de M. Guerolt // Revue de mé-
tapysique et de morale. 1969. Vol. LXXIV № 4. P. 426-437.
Рецензия на книгу M. Геро «Spinoza I, - Dieu (Ethique I)».
Deleuze G. Faille et feux locaux // Critique. 1970. № 275. P. 344-351.
О трех книгах К. Акселоса - «Vers la pensée planétaire», «Arguments dune
recherche» и «Le Jeu du monde».
Deleuze G. Schizologie // Wolfson L. Le Schizo et les langues. P.:
Gallimard, 1970.
Предисловие к книге Л. Вольфсона. В переработанном виде вошло в книгу
«Критика и клиника». Рус. перевод: Делёз Ж. Луи Вольфсон, или Приём /
Критика и клиника. С. 18-36.
Deleuze G. Trois problèmes de groupe // Guattari F. Psychanalyse et trans-
versalité. P.: François Maspero, 1972. P. I-XI.
Предисловие к книге Ф. Гваттари «Психоанализ и трансверсальность».
480
Библиография: работы Ж. Делёза
Deleuze G. Appréciation // La Quinzaine littéraire. 1972. № 140 (1-15
mai). P. 19.
Рецензия на книгу Ж.-Ф. Лиотара «Discours, figure».
Deleuze G. Hélène Cixous ou L'Écriture stroboscopique // Le Monde.
1972. №8576 (août). P. 10.
Рецензия на книгу Э. Сиксу «Neutre».
Deleuze G. «Quest-ce que с est tes "Machines désirantes" à toi?» // Les
Temps Modernes. 1972. № 316. P. 854-856.
Введение к тексту П. Бенишо «Comédienne et Bourreau».
Deleuze G. Le Froid et le Chaud // Fromanger, le peintre et le modèle. P.:
Baudard Alvarez, 1973.
Предисловие к каталогу выставки Ж. Фроманжера.
Deleuze G. Préface à TAprès-Mai des faunes // Hocquenghem G. LAprès-
Mai des faunes. P.: Grasset, 1974. P. 7-17.
Deleuze G. Avenir de linguistique // Gobard H. LAliénation linguistique
(analyse tétraglossique). P.: Flammarion, 1976. P. 9-14.
Предисловие к книге А. Товара.
G. Deleuze fasciné par «Le Mysogyne» // La Qpinzaine littéraire. 1976.
№229. P. 8-9.
Рецензия на книгу А. Роже.
Deleuze G. LAscension du social // Donzelot J. La Police des familles. P.:
Minuit, 1977. P. 213-220.
Послесловие к книге Ж. Донзело.
Deleuze G. La Plainte et le corps // Le Monde. 1978.13 octobre.
Рецензия на книгу П. Федида «VAbsence».
Deleuze G. Préface // Negri A. LAnomalie sauvage: puissance et pouvoir
chez Spinoza. P.: PUF, 1982. P. 9-12.
Deleuze G. Bartleby ou la formule // Melville H. Bartleby, Les Iles
enchantées, Le Campanile. P.: Flammarion, 1989. P. 171-208.
Послесловие к новеллам Г. Мелвилла, в переработанном виде вошло в книгу
«Критика и клиника». Рус. перевод: Делёз Ж. Бартлби, или Формула /
Критика и клиника. С. 96-124.
Deleuze G. Lettre-Préface de Gilles Deleuze // Martin J.-C. Variations - La
philosophie de Gilles Deleuze. P.: Payot & Rivages, 1993. P. 7-9.
Библиография: работы Ж. Делёза 481
Deleuze G. Préface: Une nouvelle stilistique. Trad. it. G. Passerone //
Passerone G. La Linea astratta - Pragmatica dello stile. Milano: Edizioni Angelo
Guerini, 1991. P. 9-13.
Предисловие к книге &ж. Пассероне. Французский текст: Deleuze G.
Deux régimes de fous. Textes et entretiens 1975-1995. P. 343-347.
Deleuze G. Préface // Alliez E. Les Temps capitaux. Récits de la coquette
du temps. T. I. P.: Editions du Cerf, 1991. P. 7-9.
Выступления и интервью
Deleuze G. La Méthode de dramatization // Bulletin de la Société
française de Philosophie. 1967. № 3. P. 89-118.
Выступление на заседании Французского общества философии 28 января
1967 г.
Deleuze G. Conclusions sur la volonté de puissance et l'éternel retour //
Cahiers de Royaumont. № 4: Nietzsche. P.: Minuit, 1967. P. 275-287.
Заключительное слово на коллоквиуме в Руайомоне (4 и 8 июля 1964 г.).
L'Éclat de rire de Nietzsche // Le Nouvel Observateur. 1967.5 avril. P. 40-41.
Беседа с Г. &юмуром.
Mystique et masochisme // La Quinzaine littéraire. 1967.1-15 avril. P. 13.
Беседа с M. Шапсаль о «Представлении Захер-Мазоха».
Entretien avec Gilbert Deleuze // Les Lettres françaises. 1968. № 1223. P. 5.
Беседа с Ж.-Н. Берне. Имя Делёза в заголовке написано неправильно.
Впоследствии текст беседы переиздавался под названием «Sur Nietzsche et l'image
delà pensée».
Gilles Deleuze parle de la philosophie // La Quinzaine littéraire. 1969. № 68
(1-15 mars). P. 18-19.
Беседа с Ж. Коломбель.
Les intellectuels et le pouvoir // LArc. 1972. № 49: Gilles Deleuze. P. 3-10.
Беседа с M. Фуко.
Deleuze et Guattari s'expliquent... //La Quinzaine littéraire. 1972. № 143
(16-30 juin). P. 15-19.
Круглый стол с участием Ф. Шатле, П. Кластра, Р. Дадуна, С. Аеклера,
М. Надо, Р. Пивидаля, П. Роза, А. Торубья.
482
Библиография: работы Ж. Делёза
Capitalisme* е schizophrenia // Tempi moderni. 1972. № 12. P. 47-64.
Беседа сВ.Марчетти, первоначально опубликованная на итальянском
языке. Французский перевод: Capitalisme et schizophrénie // Deleuze G. Vile
déserte. Textes et entretiens 1953-1974. Éd. prép. par D. Lapoujade. P.: Minuit, 2002.
P. 323-336.
Sur Capitalisme et schizophrénie // LArc. 1972. № 49. P. 47-55.
Беседа Делёза и Гваттари с К. Баке-Клеман. В сборнике «Переговоры»
(«Pourparlers») перепечатана под названием «Entretien sur V«Anti-Œdipe».
Рус. перевод: Беседа об «Анти-Эдипе» // Переговоры. С. 25-39.
Sur le capitalisme et le désir // C'est demain la veille. Éd. M.-A. Burnier. P.:
Seuil, 1973. P. 139-161.
Беседа с M.-A. Бурнье.
Relazione di Gilles Deleuze // Psicanalisi e Politica: Atti del Convegno di
studi tenuto a Milano Г8-9 maggio 1973. Ed. A. Verdiglione. Milan: Feltrinelli,
1973. P. 7-11.
Выступление и дискуссия, первоначально опубликованные на итальянском
языке. Французский перевод: Deleuze G. Cinq propositions sur la psychanalyse /
Vile déserte. Textes et entretiens 1953-1974. P. 381 -390.
Faces et surfaces // Faces et surfaces. P.: Editions Galerie Karl Flinker, 1973.
Беседа со Ст. Черкински и Ж.-Ж. Пассера о выставке молодых польских
художников.
Deux régimes de fous // Psychanalyse et sémiotique. Éd. A. Verdiglione. P.:
10-18,1975. P. 165-170.
Выступление на коллоквиуме в Милане в мае 1974 г.
Table ronde sur Proust // Cahiers Marcel Proust. 1975. № 7. P.: Gallimard,
1975. P. 87-116.
Круглый стол под руководством С. Дубровски, сучастием Р. Барта, Ж. Же-
нетта, Ж. Рикарду, Ж.-П. Ришара.
Gilles Deleuze fascine par «Le Misogyne» // La (^îinzaine Littéraire. 1976.
№ 229. P. 8-9.
Deleuze G. Quatre propositions sur la psychanalyse // Psychanalyse et
politique. Alençon: Bibliothèque des mots perdus, 1977. P. 12-17.
Выступление в Милане в 1973 г. в Милане. Итальянская публикация:
Psicanalisi e politica: Atti del convegno di studi tenuto a Milano /'8-9 maggio 1973. Ed.
A. Verdiglione. Milano: Feltrinelli, 1973. P. 7-11.
Библиография: работы Ж. Делёза
483
Deleuze G., Guattari F., Parnet С, Scala A. L'Interprétation des
énoncés // Psychanalyse et politique. Alençon: Bibliothèque des mots perdus,
1977. P. 18-33.
En quoi la philosophie peut servir à des mathématiciens ou même à des
musiciens — même et surtout quand elle ne parle pas de musique ou de
mathématiques // Vincennes u le désir d appredre. P.: Editions Alain Moreau, 1979.
P. 120-121.
Ответ на вопросы Ж. Брюнет.
Huit ans après: entretien 80 // LArc. 1980. № 49: Deleuze. P. 99-102.
Беседа с К. Клеман.
Deleuze G., Châtelet F. Pourquoi en être arrivé là? Libération. 1980.17 mars.
P. 4.
Беседа Делёза и Ф. Шатле с. Ж.-П. Жене.
Deleuze G., Châtelet F, Lyotard J.-F. Pour une commission d enquête //
Libération. 1980.17 mars. P. 4.
«"Mille plateaux" ne font pas une montagne, ils ouvrent mille chemins
philosophiques» // Libération. 1980.23 octobre. P. 16-17.
Беседа с К. Декампом, Д. Эрибоном и Р. Маджори. Перепечатана в
книге «Pourparlers» под заголовком «Sur "Mille Plateaux"». Рус. перевод: Беседа
о «Тысяче плато» // Делёз Ж. Переговоры. С. 40-53.
La Peinture enflame l'écriture // Le Monde. 1981.3 décembre. P. 15.
Беседа с Э. Жибером.
Portrait du philosophe en spectateur // Le Monde. 1983. 6 octobre. P. 1,
17.
Беседа с Э. Жибером о первом томе книги «Кино».
La Photographie est déjà tirée dans les choses // Cahiers du cinema. 1983.
№ 352. P. 35-40.
Беседа с П. БонитцеромиЖ. Нарбони. Перепечатана в сборнике
«Pourparlers» под названием «Sur Vlmage-Mouvement"». Рус. перевод: Об
образе-движении // Делёз Ж. Переговоры. С. 81-86.
Cinéma-1, première // Libération. 1983.3 octobre. P. 31.
Беседа с С. Дани.
Le Philosophe menuisier // Libération. 1983.3 octobre. P. 30.
Беседа с Д. Эрибоном.
484
Библиография: работы Ж. Делёза
Deleuze G., Bamberger J.-P. Le Pacifisme aujourd'hui // Les Nouvelles
littéraires. 1983.15-21 décembre.
Совместная сЖ.-П. Бамберже беседа с К. Парне.
Les Intercesseurs // LAutre Journal. 1985. № 8. P. 10-22.
Беседа с A. Делором и К. Парне, перепечатана в сборнике «Pourparlers».
Рус. перевод: Защитники // Делёз Ж. Переговоры. С. 157-175.
Le Philosophe et le cinéma // Cinéma. 1985. № 334. P. 2-3.
Беседа с Ж. Калассо и Φ. Рево д'Аллоне, перепечатана в сборнике
«Pourparlers» под названием «Sur Vlmage-temps" ». Рус. перевод: Об
образе-времени // Делёз Ж. Переговоры. С. 87-94.
Deleuze G. The Intellectual and Politics: Foucault and the Prison. Transi.
P. Rabinow // History of the Present 2.1986. P. 1-2,20-21.
Ответы на вопросы П. Рабиноу и К. Гендел. Французский текст: Deleuze
G. Foucault et les prisons / Deleuze G. Deux régimes de fous. Textes et entretiens
1975-1995. P. 254-262.
Fendre les choses, fender les mots // Libération. 1986. 2 septembre. P. 27-
28; Michel Foucault dans la troisième dimension // Libération. 3 septembre.
P. 38.
Беседа с Р. Маджори, перепечатана в сборнике «Pourparlers». Рус. перевод:
Вскрыть вещи, вскрыть слова // Делёз Ж. Переговоры. С. 112-124.
Le Cerveau, c'est l'écran // Cahiers du cinema. 1986. № 380. P. 25-32.
Круглый стол с участием А. Бергала, П. Бонитцера, М. Шеври, Ж. Нарбо-
ни, Ш. Тессо, С. Тубьяна, посвященный выходу книги «Кино 2: Образ-время».
La Vie comme une œuvre d'art // Le Nouvel Observateur. 1986. № 1138.
P. 66-88
Беседа с А- Эрибоном, перепечатана в сборнике «Pourparlers». Рус. перевод:
Жизнь как произведение искусства // Делёз Ж. Переговоры. С. 125-133.
Deleuze G. Qu'est-ce que l'acte de creation? / Deux régimes de fous. Textes
et entretiens 1975-1995. P. 291-302.
Текст выступления 17 марта 1987 г.
Signes et événements // Magazine littéraire. 1988. № 257. P. 16-25.
Беседа с Р. Белллуа и Ф. Эвальдом, перепечатана в сборнике «Pourparlers»
под названием «Sur la philosophie». Рус. перевод: О философии // Делёз Ж.
Переговоры. С. 176-201.
Библиография: работы Ж. Делёза
485
La pensée mise en plis // Libération. 1988.22 septembre.
Беседа с Р. Маджори, перепечатана в сборнике «Pourparlers» под
названием «Sur Leibniz». Рус. перевод: О Лейбнице // Делёз Ж. Переговоры.
С. 202-210.
L'Engrenage // Libération. 1989.26 octobre.
Беседа с Φ. Зампони.
Le Devenir révolutionnaire et les créations politiques // Futur antérieur.
1990. №1. P. 100-108.
Беседа с Т. Негри, перепечатана в сборнике «Pourparlers» под названием
«Contrôle et devenir». Рус. перевод: Контроль и становление // Делёз Ж.
Переговоры. С. 215-225.
Deleuze G., Guattari F. Nous avons enventé la ritournelle // Le Nouvel
Observateur. 1991. Septembre. P. 109-110.
Беседа с А- Эрибоном.
Deleuze G., Guattari F. Secret de fabrication // Libération. 1991.12
septembre. P. 17-19.
Беседа с Р. Маджори.
Политические статьи и выступления
Deleuze G. «Ce que les prisonniers attendant de nous... » // Le Nouvel
Observateur. 1972.31 janvier. P. 24.
Deleuze G. Sur les letters de H. M. // Suicides dans les prisons en 1972. P.:
Gallimard, 1973. P. 38-40.
Questions à Marcellin // Le Nouvel Observateur. 1971.5 juillet. P. 15.
Совместное заявление с M. Фуко, Д. Ланглуа, К. Мориаком и Д. Перье-Да-
вилем.
Deleuze G. Apropos des psychiatres dans les prisons // APL informations.
1972. №12. P. 2.
Deleuze G. «Ce que prisonniers attendent de nous...» // Le Nouvel
Observateur. 1972.31 janvier. P. 24.
On en parlera demain: les Dossiers (incomplets) de l'écran //Le Nouvel
Observateur. 1972.7 février. P. 25.
Совместное заявление с Ж.-П. Сартром, С. Де Бовуар, К. Мориаком,
Ж.-М. Доменаком, Э. Сиксу, Ж.-П. Фаем, М. Фуко и М. Клавелем.
486
Библиография: работы Ж. Делёза
Deleuze G., Lyotard J.-F. À propos du département de psychanalyse
à Vincennes // Les Temps modems. 1975. № 342. P. 862-863.
Deleuze G. Le Juif riche // Le Monde. 1977.18 février. P. 26.
Заметка в защиту фильма Д. Шмида, запрещённого к показу
министерством культуры.
Deleuze G., Guattari F. Le Pire moyen de faire l'Europe // Le Monde.
1977.2 novembre. P. 6.
Реакция на высылку из Франции К. Круассана.
Deleuze G. Les Gêneurs // Le Monde. 1978.7 avril.
Заявление по палестинскому вопросу.
Deleuze G. Lettera aperta ai giudici di Negri // La Repubblica. 1979. 10
mai. P. 1,4.
Открытое письмо к судьям А. Негри. Французский текст: Deleuze G.
Lettre ouverte aux juges de Negri / Deux régimes de fous. Textes et entretiens
1975-1995. Éd. prép. par D. Lapoujade. P.: Minuit, 2003. P. 155-159.
Deleuze G. Ce livre est littéralement une prévue d'innocence // Le Matin
de Paris. 1979.13 décembre. P. 32.
В защиту книги А. Негри.
Deleuze G., Sanbar E. Les Indiens de Palestine // Libération. 1982.
8-9 mai. P. 20-21.
Deleuze G. Grandeur de Yasser Arafat // Revue d'Etudes Palestiniennes.
1984. №10. P. 41-43.
Deleuze G., Guattari F.; Châtelet F. Pour un droit d'asile politique un
et indivisible // Le Nouvel Observateur. 1984. № 1041. P. 18.
Deleuze G., Bourdieu P., Lindon], Vidal-Naquet P. Adresse au
gouvernement français // Libération. 1990. 5 septembre. P. 6.
Deleuze G., Scherer R. La Guerre immonde // Libération. 1991.4 mars.
P. 11.
По поводу первой Войны в Заливе.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Adkins В. Death and Desire in Hegel, Heidegger and Deleuze. Edinburgh:
Einburgh University Press, 2007.
Adler Α., Cartry M. La Transgression et sa derision // L'Homme. 1971.
Juillet.
Alliez E. The Signature of the World, or What is Deleuze and Guattaris
Philosophy? Transi. E. R. Albert & A. Toscano. N.Y.; L.: Continuum, 2004.
Annales bergsoniennes IL Bergson, Deleuze, la phénoménologie. Dir. F. Worms.
P.: PUF, 2004.
Ansell-Pearson K. Germinal Life: The Difference and Repetition of Deleuze.
L.: Routledge, 1999.
Antonioli M. Deleuze et l'histoire de la philosophie. P.: Kime, 1999.
Antonioli M. Géophilosophie de Deleuze et Guattari. P.: L'Harmattan, 2003.
Aubral F., Delcourt X. Contre le nouvelle philosophie. P.: Galimard, 1977.
Axelos K. Sept questions à un philosophe // Le Monde. 1972. 28 avril.
Badiou A. Le flux et le parti // Cahier Yénan. 1977. № 4.
Badiou A. Deleuze, sur la ligne de front // Magazine littéraire. 2002. № 406.
(Février).
Baugh B. Deleuze and Empiricism //Journal of British Society for
Phenomenology. 1993. Vol. 24. № 1. P. 15-31.
Between Deleuze and Derrida. Eds. P. Patton, J. Protevi. L.; N.Y.: Continuum,
2003.
Bergen V. L'Ontologie de Gilles Deleuze. P.: Harmattan, 2001.
Bernold A. Suidas // Philosophic 1995. № 47.
Bertens H. The Idea of the Postmodern: A History. L.: Routledge, 1995.
Between Deleuze and Derrida. Eds. P. Patton, J. Protevi. L.; N.Y.: Continuum,
2003.
Bogue R. Deleuze and Guattari. L.; N.Y.: Routledge, 2001.
Bogue R. Deleuze on Cinea. N.Y.; L.: Routledge, 2003.
Bogue R. Deleuze on Literature. N.Y.; L.: Routledge, 2003.
Bogue R. Deleuze on Music, Painting, and the Arts. N.Y.; L.: Routledge, 2003.
Bogue R. Deleuzes Way. Essays in Transverse Ethics an Aesthetics. Aldershot:
Ashgate, 2007.
Braidotti R. Nomadic Sujects: Embodiment and Sexual Difference in Contem-
poraru Feminist Theory. N.Y.: Colubia University Prtess, 1994.
The Brain is the Screen: Deleuze and the Philosophy of Cinema. Ed. G. Flaxman.
Minneapolis; L.: University of Minnesota Press, 2000.
488
Дополнительная библиография
Brusseau J. Isolated Experiences. Gilles Deleuze and the Solitudes of Reversed
Platonism. N.Y.: State University of New York Press, 1998.
Bryant L. R. Difference and Giveness: (Deleuze s Transcendental Epiricism and
the Ontology of Immanence). Evanston (111.)· Northwestern Uniersity Press, 2008.
Buchanan I. Deleuzism: a eta-Commentary. Edinburgh: Edinburgh University
Press, 2000.
Burchell G. Introduction to Deleuze // Economy & Society. 1984. № 13.
P. 43-51.
Burger Ch. The Reality of «Machines». Notes on the Rhizome Thinking of
Deleuze and Guattari. Transi. S. Srebny. // Telos. 1985. № 64. P. 33-44.
Butler S. Erewhon. L.: Peter Mudford, 1970.
Butler J. Subjects of Desire. N.Y.: Columbia University Press, 1987.
Buydens M. Sahara. L'esthétique de Gilles Deleuze. P.: Vrin, 1990
Les Cahiers de Noesis. 2003. № 3. Le Vocabulaire de Gilles Deleuze. Dir. R. Sasso
etA.Villani.
Canguilhem G. Le Normal et le pathologique. P.: PUF, 1984.
Cassin B. L'effet sophistique. P.: Gallimard, 1995.
Castel R. Le Psychanalysme. P.: Champs-Flammarion, 1989.
Chapsal M. Œdipe connais plus // L'Express. 27 mars - 2 avril.
Château D. Cinéma et philosophie. P.: Nathan, 1996.
Châtelet F. Le combat d'un nouveau Lucrèce //Le Monde. 1972.28 avril.
Ciment M. Kubrick. P.: Calmann-Lévy, 1980.
Ciment M. Les Conquérants d'un nouveau monde: essays sur le cinéma
américain. P.: Gallimard, 1981.
Clement С. L'expression nomade de la modernité // Le Matin. 1980.30
septembre.
Colebrook C. Gilles Deleuze. L.: N.Y.: Routledge, 2002.
Concepts. «Gilles Deleuze I». Mons, Sus Maria, 2002.
Cressole M. Deleuze. P.: Éditions universitaires, 1973.
Delacampagne Ch. Deleuze et Guattari dans leur machine délirante // Le
Monde. 1980.10 octobre.
DeLanda M. A Thousand Years of Non-Linear History. N.Y.: Zone Books, 1997.
DeLanda M. Intensive Science and Virtual Philosophy. L.: Continuum, 2002.
Deleuze: A Critical Reader. Ed. P. Patton. Oxford: Blackwell, 1997.
Deleuze and Feminist Theory. Eds. I. Buchanan & CI. Colebrook. Edinburgh:
Edinburgh University Press, 2000.
Deleuze and Guattari: New Mappings in Politics, Philosophy, and Culture. Eds.
E. Kaufman & K. Heller. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1998.
Deleuze and Guattari. Ed. G. Genosko. L.; N.Y.: Routledge, 2001.3 vols.
Дополнительная библиография
489
Deleuze and Music. Eds. I. Buchanan & M. Swibida. Edinburgh: Edinburgh
University Press, 2004.
Deleze and Philosophy. The Difference Engineer. Ed. K. A. Pearson. L.; N.Y.:
Routledge, 1997.
Deleuze and Philosophy. Ed. C. V. Boundas. Edinburgh: Edinburgh University
Press, 2006.
Deleuze and Politics. Eds. I. Buchanan & N. Thoburn. Edinburgh: Edinburgh
University Press, 2008.
Deleuze épars. Dir. A. Bernold, R. Pinhas. P.: Hermann, 2005.
The Deleuze Dictionary. Ed. A. Parr. Edinburgh: Edinburgh University Press,
2005.
Deleuze, Foucault, Lyotard. Dir. Th. Lenain. P.: Vrin, 1997.
Deleuze s Philosophical Lineage. Eds. G.Jones & J. Roffe. Edinburgh: Edinburgh
University Press, 2009.
A Deleuzian Century. Ed. I. Buchanan. Durham; L.: Duke University Press, 1999.
Derrida J. Il me faudra errer tout seul // Libération. 1995.7 novembre.
Descampes Ch. Pour Deleuze le minoritaire // La Qpinzaine littéraire. 1996.
1-15 février.
Domenach J.-M. Œdipe à l'usine // Esprit. 1972. Décembre. P. 856.
Donzelot J. Une anti-sociologie // Esprit. 1972. Décembre. P. 835-855.
Donzelot J. La Police des familles. P.: Minuit, 1977.
Donzelot J. An antisociology. TransL M. Seem // Semiotext(e): Anti-Oedipus.
N.Y., 1977.
Dosse F. Gilles Deleuze et Félix Guattari. Biographie croisée. Paris : Découverte,
2007.
Douglass P. Deleuze s Bergson: Bergson Redux // The Crisis of Modernism:
Bergson and the Vitalist Controversy. Ed. F. Burwick & P. Douglass. Cambridge:
Cambridge University Press, 1992. P. 368-387.
Droit R.-P. La rebellion et l'intelligence d'un philosophe //Le Monde. 1995.
7 novembre.
Droit R.-P. Saint Deleuze // La Compagnie des philosophes. P.: Odile Jacob,
1998.
Dumoncel J.-C. Le Symbole d'Hécate. Philosophie deleuzienne et roman
proustien. Orléans: HYX, 1996.
Foucault M. La grande colère des faits // Le Nouvel Observateur. 1977. 9-15
mai. P. 84-86.
Frank M. The World as Will and Representation: Deleuze and Guattari's
Critique of Capitalism as Schizo-analysis and Schizo-discourse. Transi. D. Berger //
Telos. 1983. № 57. P. 166-176.
490
Дополнительная библиография
Gil J. Quatre méchantes sur un livre méchant // Futur antérieur. 1998. № 43.
Gilles Deleuze and the Theatre of Philosophy. Eds. С. Boundas, D. Olkowski. N.Y.;
L., 1994.
Gilles Deleuze, héritage philosophique. Dir. A. Beaulieu. P.: PUF, 2005.
Gilles Deleuze, une vie philosophique. Dir. Ε. Alliez. Le Plessis-Robinson:
Synthelabo, 1998.
Girard R. Système de délire // Critique. 1972. Novembre.
Goddard J.-Сн. Mystique et folie. Essai sur la simplicité. Bruxelles: Desclée de
Brouwer, 2002.
Goldschmidt V. Le Système stoïcien et l'idée de temps. P.: Vrin, 1953.
Goodchild Ph. Deleuze and Guattari: An Introduction to the Politics of Desire.
L.: Sage, 1996.
Goodchild Ph. Deleuze and Guattari. An Introduction of the Politics of Desire.
L.; Thousend Oaks, New Delhi: Sage Publications, 1996.
Goodchild Ph. Gilles Deleuze and the Question of Philosophy. Associated
University Press, 1996.
Green A. Réflexions critiques // Revue française de psychanalyse. 1972. Vol. 36.
№3.
Gros F. Le «Foucault» de Deleuze: une fiction métaphysique // Philosophie.
1995. № 47.
Gualandi A. Deleuze. P.: Les Belles Lettres, 1998.
Guattari F. Machine et structure // Change. 1972. № 12.
Jameson F. Marxism and Dualism in Deleuze // South Atlantic Quarterly. 1997.
Vol. 96. №3. P. 393-416.
Hallward P. Deleuze and the Redemption from Interest // Radical Philosophy.
1997. №81. P. 6-21.
Hardt M. Gilles Deleuze. An Apprenticeship in Philosophy. L.: UCL Press,
1993.
Hardt M. Gilles Deleuze. L.: UCL Press, 1993.
Heme de Lacotte S. Deleuze: philosophie et cinema. P.: Harmattan, 2001.
Introduction to the Philosophy of Gilles Deleuze. Ed. J. Khalfa. L.; N.Y.:
Continuum, 2004.
Hyden P. From Relations to Practice in the Empiricism of Gilles Deleuze // The
Continental Philosophy Review. 1995. Vol. 28. № 3.
Jaeglé C. Portrait oratoire de Gilles Deleuze aux yeux jaunes. P.: PUF, 2005.
Jannoud C. Michel Foucault et Gilles Deleuze veulent render à Nietzsche son
vrai visage //Le Figaro littéraire. 1966.15 septembre.
Khalfa J. Deleuze et Sartre : idée d'une conscience impersonnelle // Les Temps
modernes. 2000. Mars-mai.
Дополнительная библиография
491
Klein M. La Psychanalyse des enfants. P., 1932.
Koupernik C. Un délire intelligent mais gratuity // Le Monde. 1972.28 avril.
Lacan J. À cette place, je souhaite qu'achève de se consumer ma vie... //
Psychanalyse. 1986. № 4.
Lambert G. The Non-Philosophy of Gilles Deleuze. N.Y.; L.: Continuum, 2002.
Lambert G. Who's Afraid of Deleuze and Guattari? N.Y.: Continuum, 2006.
Lampert J. Deleuze and Guattari's Philosophy of History. L.; N.Y.: Continuum,
2006.
Laporte Y. Gilles Deleuse. L'épreuve du temps.
Lardreau G. L'Exercice différé de la philosophie. À l'occasion de Deleuze. P.:
Verdier, 1999.
Lash S. Genealogy and the Body: Foucault/Deleuze/Nietzsche // Theory
Culture Society. 1982. Vol. 2. № 2.
Lawlor L. The End of Phenomenology: Expressionism in Deleuze and Merleau-
Ponty // The Continental Philosophy Review. 1998. Vol. 31. № 1. P. 15-34.
Lawlor L. A Nearly Total Affinity. The Deleuzian Virtual Image versus the
Derridean Trace // Angelaki. 2000. Vol. 5. № 2. P. 59-71.
Lecercle J.-J. Deleuze, Guattari and Marxism // Historical Materialism. 2005.
№ 13 (3).
Le Rider J. Nietzsche en France. De la fin du XIX siècle au temps présent. P.:
PUF, 1999.
Leutrat J.-L. Kaléidoscope. P.: PUL, 1988.
Lévi B.-H. La Barbarie à visage humain. P.: Grasset, 1977.
Lorraine T. Irigaray and Deleuze: Experiment in Visceral Philosophy. Ithaca:
Cornell University Press, 1999.
Lyotard J.-F. Capitalisme énergumène // Critique. 1972. Novembre.
Lyotard J.-F. Le temps qui ne pas // Le Monde. 1995.10 novembre.
Mabin Y. Gilles, lami // La Quinzaine littéraire. 1996/ 1-15 février.
Machado R. Deleuze e a filosofia. Rio: Graal, 1990.
Maggiori R. Une bombe sous la philosophie // Libératon. 1991.12 septembre.
Maggiori R. Un courant dair dans le pensée du siècle // Libération. 1995.
6 novembre.
Marks J. Gilles Deleuze: Vitalism and Multiplicity. L.: Pluto Press, 1998.
Martelaere P. Gilles Deleuze, interprète de Hume // Revue philosophique de
Louvain. 1984. T. 82.
Martin J.-C. Variations. La philosophie de Gilles Deleuze. P.: Payot; Rivages,
1993.
Massumi B. A User s Guide to Capitalism and Schizophrenia: Deviations from
Deleuze and Guattari. Cambridge (Mass.): MIT Press, 1992.
492
Дополнительная библиография
Mauriac С. L'Œdipe mis en accusation // Le Figaro. 1972.1 avril.
May T. The Politics of Life in the Thought of Gilles Deleuze // Substance. 1991.
№66. P. 24-35.
May T. Gilles Deleuze. An Introduction. N.Y.: Cambridge University Press,
2005.
Mengue Ph. Gilles Deleuze ou le système du multiple. P.: Kimé, 1994.
Mengue Ph. Deleuze et la question de la démocratie. P.: Юте, 2003.
Metz Ch. Essais sur la signification au cinéma. P.: Klincksieck, 1968.
Metzidakis St. Contra Deleuze: Towards a Singular Theory of Reading //
Romanic Review. 1985. Vol. 76. № 3. P. 316-322.
Metzidakis St. Repetition and Semiotics. Birmingham (Alab.): Summa
Publication, 1986.
Micropolitics of Media Culture: Reading the Rhizomes of Deleuze and Guattari.
Ed. P. Pisters. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2001.
Montebello P. LAutre Métaphysique. Bruxelles: DDB, 2003.
Moulard V. The Time-Image and Deleuzes Transcendental Experience //
Continental Philosophy Review. 2002. Vol. 35. № 3. P. 325-345.
Moulard-Leonard V. Bergson-Deleuze Encounters. Transcendental
Experience and the Thought of The
Nadaud S. Écrits pour LAnti-Œdipe. Paris: Lignes, 2006.
Nancy J.-L. Du sens dans tous les sens // Libération. 1995.7 novembre.
Negri A. Marx au-delà de Marx. P.: Christian Bourgois, 1979.
Negri Α. Interpretation of the class situation today: methodological
aspects // Open Marxism. Vol. II: Theory and Practice. Eds. W. Bonefeld, R. Gunn,
K. Psychopedis. L.: Pluto Press, 1992. Virtual. Albany: State University of New York
Press, 2008.
Norton Th. M. Line Of Flight: Gilles Deleuze, or Political Science Fiction //
New Political Science. 1986. № 15. P. 77-93.
Olkowski D. Gilles Deleuze and the Ruin of Representation. Berkeley:
University of California Press, 1999.
Pacotte J. Le réseau arborescent, scheme primordial de la pensée. P.: Hermann,
1936
Paradis В. Leibniz: un monde unique et relatif// Le Magazine littéraire. 1988.
№ 257.
Passerone G. Le dernier cours? // Le Magazine littéraire. 1988. № 257.
Patton P. Deleuze and Guattari: Ethics of Post-Modernity // Letwright. 1986.
№ 20. P. 24-32.
Patton P. Deleuze and the Political. L.: Routledge, 2000.
Дополнительная библиография
493
Pecora V. P. Deleuze s Nietzsche and Post-Structuralist Thought // SubSyance.
1986. №48. P. 34-50.
Peyrol G. Le fascisme de la pomme de terre // Cahier Yénan. 1977. № 4.
Pinhas R. Les Larmes de Nietzsche. Deleuze et la musique. P.: Flammarion,
2001.
Pividal R. Psychanalyse, schizophrénie, capitalisme // Le Monde. 1972.28 avril.
Pli: Deleuze and the Transcendental Unconscious. Ed. J. Broadhurst. Coventry:
University of Warwick, 1992.
Politzer G. La Fin d'une parade philosophique, le bergsonisme. P.: Pauvert, 1968.
Potentialities: Collected Essays in Philosophy. Transi. D. Heller-Roazen. Stanford,
1999.
Psicanalisi e Politica: Arti del Convegno di studi tenuto a Milano Г8-9 maggio
1973. Ed. A. Verdiglione. Milano: Feltrinelli, 1973.
Rabouin D. Entre Deleuze et Foucault: penser le désir // Critique. 2000.
№ 637/638.
Rajchman J. The Deleuze Connections. Cabridge (Mass.); L.: The MIT Press,
2000.
Reader K. A. Intellectuals and the Left in France since 1968. N.Y.: St. Martins,
1987.
Rodowik D. N. Gilles Deleuzes Time Machine. Durham: Duke University
Press, 1997.
Rosenstiehl P., Petitot J. Automate asocial et systèmes acentrés //
Communications. 1974. № 22.
Rosset С. Sécheresse de Deleuze // LArc. 1972. № 49.
Roudinesco E. Le bateau ivre du schizo débarque chez Al Capone // Les Lettres
françaises. 1972.19 avril.
Roudinesco E. Généalogies. P.: Fayard, 1994. P. 54.
Sartre J.-P. La transcendence de l'Ego // Recherches philosophiques. 1936-
1937. №6.
Schmitt В. Monnaie, salaires et profits. P.: PUF, 1966.
Shérer R. Regards sur Deleuze. P.: Юте, 1998.
Stivale Ch. J. Gilles Deleuze and Félix Guattari: Schizoanalysis and Literary
Discourse // Substance. 1981. № 29. P. 46-57.
Stivale Ch. J. The Two-Fold Thought of Deleuze and Guattari: Intersections
and Animations. N.Y.: Guilford Press, 1998.
Stolze T. Deleuze and Althusser: Flirting with Structuralism // Rethinking
Marxism. 1998. Vol. 10. № 3. P. 51-63.
Surin K. The «Epochality» of Deleuzian Thought // Theory, Culture and
Society. 1997. Vol. 14. № 2. P. 9-21.
494
Дополнительная библиография
Thoburn N. Deleuze, Marx and Politics. L.; N.Y.: Routledge, 2003.
Tombeau de Gilles Deleuze. Dir. Y. Beaubatie. Tulle: Mille Sources, 2000.
Tormey S. Anti-Capitalism: A Beginner s Guide. Oxford; N.Y.: Oneworld, 2004.
Toubiana S. Le cinéma deleuzien // Cahiers du cinéma. 1995. № 497.
Tournier M. Célébrations. Paris: Gallimard, 2000.
Vauday P. Ecrit à vue: Deleuze-Bacon // Critique. 1982. № 426. P. 956-964.
Verstraeten P., Simont J. De l'aigle et chute profonde // Gilles Deleuze. P.:
Vrin, 1998.
Vidal M. C. The death of politics and sex in the eighties show // New literature
history. Charlottesville. 1993. Vol. 24. No 1. P. 171-194.
Villani A. Géographie physique de «Mille Plateaux» // Critique. 1985. № 455.
Villani A. Deleuze et Whitehead // Revue de métaphysique et de morale. 1996.
Avril-juin.
Villani A. La métaphysique de Deleuze // Futur antérieur. 1998. № 43.
Virilio P. Voyage d'hiver. Entretien avec M. Brausch. P., 1997.
Vital J. Adieu à quelques personages. P.: La Difference, 2004.
Vuillemin J. Philosophie de l'algèbre. P.: PUF, 1962
Wahl J. La Pensée philosophique de Nietzsche des années 1885-1888. P.: La
Sorbonne, CDU, 1959.
Wahl J. LAvant-dernière pensée de Nietzsche. P.: La Sorbonne, CDU, 1961.
West-Pavlov R. Space in Theory: Kristeva, Foucault, Deleuze. Amsterdam —
N.Y.:Rodopi,2009.
Williams J. Gilles Deleuzes «Defference and Repetition». Edinburgh:
Edinburgh University Press, 2003.
Wolfson L. Le Schizo et les langues. P.: Gallimard, 1970.
The Work of Mourning. Eds. P.-A. Brault, M. Naas. Chicago: University of Chicago
Press, 2001.
Ziîek S. Organs without Bodies: On Deleuze and Consequences. L: Routledge,
2004.
Zourabichvili F. Deleuze. Une philosophie de l'événement. P.: PUF, 1996.
Азбука Жиля Делёза: (Учебник для начинающих, подготовленный Клэр
Парне). Пер. А. В. Дьякова. М. : Иза-во РГСУ «Союз», 2004.
Альтюссер Л. За Маркса. Пер. А. В. Денежкина. М. : Праксис, 2006.
Анкерсмит Ф. Р. История и тропология: взлёт и падение метафоры. Пер.
М. Кукурцевой, Е. Коломоец, В. Катаева. М. : Канон+, 2009.
Арон Р. Пристрастный зритель. Пер. Под ред. Б. М. Скуратова. М. :
Праксис, 2006.
Арьес Ф. Время истории. Пер. М. Неклюдовой. М. : ОГИ, 2011.
Дополнительная библиография
495
Бадью А. Делёз. Шум бытия. Пер. Д. Скопина. М. : ФНИ «Прагматика
культуры»; Логос-Альтера/Ессе homo, 2004.
Бергсон А. Творческая эволюция. Пер. В. Флеровой. М. : ТЕРРА-Книжный
клуб; КАНОН-пресс-Ц, 2001.
Бергсон А. Собр. соч. в 4-х т. Т. 1. М. : Московский клуб, 1992.
Бодрийар Ж. Забыть Фуко. Пер. Д. Калугина. СПб. : Владимир Даль, 2000.
Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. Пер. С. Н. Зенкина. М. : Доб-
росвет, 2000.
Бродель Ф. Материальная цивилизация и капитализм. Т. 2. Игры обмена.
Пер. Л. Е. Куббеля. М. : Весь Мир, 2006.
Гегель Г.В.Ф. Система наук. Часть первая: Феноменология духа. Пер. Г. Шпе-
та. СПб. : Наука, 2006.
Д екомб В. Современная французская философия. Пер. М. М. Фёдоровой. М. :
Весь мир, 2000.
Декомб В. Дополнение к субъекту: Исследование феномена действия от
собственного лица. Пер. М. Голованивской. М. : Новое литературное
обозрение, 2011.
Дьяков А. В. Мишель Фуко и его время. СПб. : Алетейя, 2010.
Ельмсаев Л. Можно ли считать, что значения слов образуют структуру? //
Новое в лингвистике. Вып. И. М., 1962.
Ипполит Ж. Логика и существование. Очерк логики Гегеля. Пер. В. Ю. Бы-
строва. СПб. : «Владимир Даль», 2006.
Кант И. Критика чистого разума. Пер. Н. Лосского. М. : Мысль, 1994.
Кант И. Собр. соч. в 8-ми т. Т. 8. М. : ЧОРО, 1994.
Кант И. С. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей
появиться как наука / Трактаты. СПб. : Наука, 2006.
Кассирер Э. Жизнь и учение Канта. Пер. М. И. Левиной. СПб. :
Университетская книга, 1997.
Aaicah Ж. Инстанция буквы в бессознательном или Судьба разума после
Фрейда. Пер. А. К. Черноглазова // Московский психотерапевтический журнал.
1996. №.1.
Мамфорд Л. Миф машины. Техника и развитие человечества. Пер. Т. Азар-
кович, Б. Скуратова. М. : Логос, 2001.
Μερλο-Понти М. Видимое и невидимое. Пер. О. Н. Шпарага. Минск:
«Логвинов», 2006.
Монтебелло П. Бергсон и Делёз, контр-феноменология. Пер. Ю. Подоро-
ги // Логос. 2009. № 3. С. 98-106.
Нанси Ж.-Л. Бытие единичное множественное. Пер. В. В. Фуре под ред.
Т. В. Щитцовой. Мн.: Логвинов, 2004.
496
Дополнительная библиография
Нанси Ж.-Л. Непроизводимое сообщество. Пер. Ж. Горбылевой и Е.
Троицкого. М. : Водолей, 2009.
Перцев А. В. О русских и русскоязычных переводчиках // Хора. 2008. № 3.
С. 176-190
Пирс Ч. С. Принципы философии. Пер. В. В. Кирющенко и М. В. Колопоти-
на. В 2-х т. СПб. : Санкт-Петербургское философское общество, 2001.
Платон. Соч. в 4-х т. Т. 4. М. : Мысль, 1994.
Попова Н. Г. Французский постфрейдизм: (Критический анализ). М.,
1986.
Райх В. Психология масс и фашизм. Пер. Ю. М. Донца. М. : ACT, 2004.
Сартр Ж.-П. Что такое литература? Пер. Н. И. Полторацкой. СПб. : Але-
тейя, 2000.
Сартр Ж.-П. Дневники странной войны. Пер. О. Волчек и С. Фокина. СПб. :
Владимир Даль, 2002.
Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. Пер.
В. И. Колядко. М. : Республика, 2004.
Саотердайк П. Критика цинического разума. Пер. А. В. Перцева.
Екатеринбург: У-Фактория; М. : ACT, 2009.
Тейлор П. Распознавание образов и быстроизменяющийся капитализм: что
говорит литература теоретикам потока. Пер. А. В. Дьякова // Хора. 2008. № 1.
Уайтхед А. Н. Приключения идей. Пер. Л. Б. Тумановой. М. : ИФРАН,
2009.
Ульдалль X. И. Основы глоссематики // Новое в лингвистике. Вып. I. M.,
1962.
Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. Пер. В. П. Визгина
и Н. С. Автономовой. СПб., 1994.
Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности.
Работы разных лет. Пер. С. Табачниковой. М., Касталь, 1996.
Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи,
выступления и интервью. Ч. 1. Пер. С. Ч. Офертаса. М. : Праксис, 2002.
Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. Пер. А. Г. Чернякова.
СПб. : Высшая религиозно-философская школа, 2001.
Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления. Пер. В. В. Бибихина.
СПб. : Наука, 2007.
Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. Пер. С. Н. Зенкина. М. : Новое
издательство, 2007.
Юм Д. Соч. В 2-х т. М. : Мысль, 1996.
«Я неисправимый, старомодный гуманист». Беседа с П. Тейлором // Хора.
2008. № 2.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕННОЙ
Агамбен Дж. — 16,369,409
Акселос К. — 63,162
Алки Ф. — 44,63,81,103,110
Альтюссер Л. — 21,22,63,92,149,
169, 269, 274, 281-283, 287-289,
328,332,379,422
Анкерсмит Р. — 255,259,428,460
Аристотель — 12,62,109,129,247,
248,366
Арон Р. — 19,362,443,452
Αρτο А. — 22, 136, 145, 162, 398,
450
АрьесФ. —414,423,464
Бадью А. — 21-23, 171, 174, 175,
227,361-366,369
Балибар Э. — 171
Барт Р. — 186,332343,445
Батай Ж. —41,66,371
Башляр Г. — 40,45
Беккет С. — 429,456
Бергсон Α., бергсонизм — 17, 22,
35,46,61,62,92-103,116,205,207,
208, 210, 218, 219, 234, 236, 237,
242, 243, 259, 288, 301-303, 307,
311-317, 322, 343, 345, 366, 398,
450
Беркли Дж. — 110,303
Бодлер Ш. — 39
Бодрийяр Ж. — 164,310,382-384,
386-389,454
Бофре Ж. — 44
Бурдьё П. — 185
Бютор М. — 45
Валь Ж. — 40,45,66,264
Вико Дж. — 121
ВюйеменЖ. — 80,92
Гандийяк М., де — 40,41,66
Гароди Р. — 80,287
Гегель Г.В.Ф. — 28,36,44,48,62,69,
71,93,109,110, 119, 135,156, 171,
229, 234, 236, 240, 249, 253, 255-
257, 263, 264-270, 288, 298, 317,
321, 360, 364, 366, 368, 371, 390,
393,403,424
ГоббсТ. —59
Годар Ж.-Л. — 22,180,204
Губер В. —168
Гуссерль Э. — 16, 42, 44, 130, 194,
207, 232, 245, 301-307, 310, 311,
319,323,371,406
Дадун Р. — 163
Декарт Р. — 63, 88, 108, ИЗ, 235,
236,245,249,257,258,321,342
Деррида Ж. — 16, 17, 159, 176,
227, 252, 299, 354-361, 369, 371,
393,394,416,454
Дидро Д. — 43
Диоген Синопский - 446
Диоген Лаэртский— 11,13
Дриё Ла Рошель, П. — 18
Дюркгейм Э. — 46
ЕльмслевЛ. — 193-195,196,400
Жарри А. — 17, 22, 44, 192, 307-
311
Жене Ж. —167
Жид Α. —39
Жижек С. — 31,356,366-368,384,
438,464
Захер-Мазох Л. — 22, 35, 63-65,
147,234,350,363,429,431
Зенон Элейский — 101,417
Зурабишвили Ф. — 16,172
498
Указатель именной
Ипполит Ж. — 40, 41, 44, 47, 48,
62,63,66,93,264,265
КайуаР. —41
Кангийем Ж. — 47,92
Кант И., кантианство — 10, 16,17,
28, 29, 35, 48, 53, 54, 57,63, 71,76,
78, 81-89, 96, ПО, 129, 135, 138,
131, 156, 206, 232-235, 237, 238,
240, 245, 246, 253, 255-265, 301,
315, 316, 320, 320, 321, 345, 354,
361, 364, 366, 371, 397, 405-407,
412,427,458,459
КарружМ. — 154
КастельР. — 164,166
Кафка Ф. — 35, 42, 62, 178-181,
188,388,429,431433,456
Кейнс Дж.М. — 274,276
Клавель М. — 279
Кластр П. — 163
Клодель П. — 49
Клоссовски П. — 41,186,248,346
КляйнМ. — 135
Кожев А. — 41,103,262,264,287
КэрролЛ. — 22,37,128
Лагаш Д. — 49
Лакан Ж., лаканизм — 22, 56, 64,
65,71,73,90,91,123-125,131,132,
135, 136, 140, 141, 143, 145, 146,
147, 163, 164, 171, 172, 174, 176,
186, 292, 298, 299, 325, 329, 332,
350,355,366,367,445,449,457
Лактанций —11
Лардро Г. — 366
Левинас Э. — 16,17,406
Лейбниц Г. — 29, 35,49, 53, 70, 92,
109-111, 119, 133, 134, 210, 212-
217, 224, 237, 239, 243, 244, 305,
307,321,322345,346,359,419,435
Лейрис М. — 40
Леклер С. — 163
Ленин В.И. — 160,368,435
Лефевр А. — 92
Лиотар Ж.-Ф. — 17, 27, 172, 174-
177, 180, 227, 355, 382, 388, 409,
416
Лукреций — 12,13,26,27,50,265
ЛэйнгР.Д.— 177
Мальдини А. — 92,112
МамфордЛ. — 372-377
Мангейм К. — 277
Маркс К. — 21,28,36,69,138,142,
148, 149, 155, 156, 158, 226, 229,
240, 263, 267-290, 295-297, 300,
328, 353, 366, 371, 374, 380, 385,
386, 403, 416, 420, 422, 423, 426,
436,438,441
Мейнонг Α., фон — 129,192,344
Мелвилл Г. — 340,429
Мерло-Понти М. — 20,40,42,46,
93,115,124,130,213,301,304
Метц К. — 205,206,210,211
МишлеЖ. — 205
Мориак К. — 163,166,167
Мюльдворф Б. — 147
Нанси Ж.-Л. — 227,265,360,361,
369-371,452,453
Негри А. — 155,182,183,272,273
Ницше Ф., ницшеанство — 16, 22,
28-30, 34, 35,41, 50, 61, 64-80, 91,
92,103,104,107,120,125,141,150,
175, 176, 189, 210, 229, 233, 234,
236, 237, 240, 241, 242, 248, 249,
257, 265, 266, 303, 318, 335, 346,
355, 357, 363, 364, 366, 371, 393,
394, 398, 403, 416, 419, 420, 424,
424,455,458,461,463,465
ОккамУ —129
Указатель именной
499
ПирсЧ. С. — 26,106,207,218,340,
341
Платон — 8-10, 27, 28, 48, 77, 99,
101, 114, 213, 235, 238, 240, 245,
247-254, 259, 265, 339, 345, 346,
364,366,390,397
ПоланЖ. —40,41
Политцер Ж. — 93
Поппер К. — 425
Пруст М. — 22, 35, 37, 49, 89-91,
180,205,233,402,429,431,440
Райх В. — 152, 161, 273, 377-386,
438
РансьерЖ. — 166,171,174
Рассел Б. — 57, 192, 226, 337, 340,
344
Рикардо Д. — 296,297,
Рикёр П. — 28,123,448
Рорти Р. — 178,428
Рудинеско Э. — 163,172
Руссо Ж.-Ж — 49,62,289
Сартр Ж.-П. — 20, 27, 30, 31,40-
45,92,271,287,301,302,304,317-
326, 364, 366, 370, 394, 398, 406,
416,430-432,435,436,463,464
СёррМ.—171,189
Слотердайк П. — 23,291,464
Смит Α. —296
Сократ — 8,109,220,346,434
Соссюр Ф., де — 189,194,341
Спиноза Б. — 16,28-30,35,46,49,
50, S3, 59, 61, 63, 71, 72, 76, 90, 92,
102-108, 165, 171, 229, 234, 236,
237, 243, 246, 249, 253, 262, 265,
321, 345, 346, 360, 363, 409, 411,
458
Сталин И. В. — 19,362,437
Турнье М. — 40-42,45-47,49
УайтхедА. — 22,215,218,337-340,
363
УльдалльХ. — 194
Фейербах Л. — 266,267,
Франс А. — 39
Фреге Г. —226,337,340
Фрейд 3. — 64, 73, 79, 122, 123,
136, 148, 149, 152, 153, 156, 163,
164,242,290-300,380
Фуко М. — 13, 16, 17, 22, 31, 33,
47,59,63,80,81,130,139,166-171,
174, 176, 177, 181, 183-186, 193,
211, 217, 242, 247, 261, 286, 287,
297, 301, 332, 337, 345-355, 357,
364, 382, 383, 387, 388, 393, 394,
416, 424, 427, 428, 435-437, 440,
442,445,456,460,463,464
Хабермас Ю. — 28,220,223,458
Хайдеггер М. — 16, 17, 21, 27, 41,
42, 44, 45, 49, 79, 89, 119, 185, 213,
234, 235, 242, 301-305, 307-311,
323, 325, 357, 358, 363, 364, 366,
370,371,391
Шатле Ф. — 45, 60, 161, 163, 169,
171, 174-176, 184, 204, 211, 212,
226
Шпенглер О. — 213
Штирнер М. — 267
Юм Д. — 28, 35, 47, 50-62, 64, 81,
82, 83, 129, 233, 234, 236, 237, 243,
246,405,406,409
УКАЗАТЕЛЬ ПРЕДМЕТНЫЙ
Cogito — 83,88,107,123,236,327
Аналитическая философия — 21,
336-338,340,342
Антигуманизм — 42,289,379
Антиисторизм — 416
Антиисторицизм — 274
Ассоцианизм — 54
Бытие — 26, 45, 48, 56, 58, 63, 68,
69,74-77, 89,95-97,100,101,105,
108, ПО, 119-121, 128, 129, 131,
145, 152, 166, 238, 248-250, 253,
270, 278, 304, 305, 307-309, 318,
320, 323, 324, 335, 339, 364, 366-
371, 390, 392, 397, 407, 412, 418,
458
Вечное возвращение — 69-76, 80,
114, 120, 123, 125, 126, 155, 189,
242, 248-250, 259, 269, 408, 419,
425,429
Витализм — 150, 151, 269, 290,
421,422
Воля к власти — 75-78,233,385
Гетерогенность, гетерогенный —
26, 29, 136,151, 189, 194, 199, 208,
230,296,334,397,431
Гуманизм — 20,41,42
Душа — 8,43,51-58,105,106,150,
151, 155, 212, 214, 255, 284, 306,
341,405,410,446,461
Единое — 26, 69, 75, 97, 99, 125,
189, 192, 245, 246, 248, 312, 320,
362-365,369,397,456
Имманентность — 24, 105, 136,
156, 159, 208, 220, 245, 246, 249,
302, 316, 320, 339, 350, 351, 352,
368,370,388,399,408,409
Имманенция — 16, 29, 59, 91, 221,
222, 226, 229, 232, 245, 246, 282,
301,315,403,406,411,412,446
Интуиция — 94, 96, 97, 116, 259-
261,312-315,366
История — 20, 21, 27, 51, 55, 133,
159, 190, 191, 267, 268, 275, 284,
298, 312, 347, 375, 381, 414-429,
437,464,465
- желающего производства — 158
- идей — 253
- концептов — 23
- мысли — 59
- случайностей — 13
- телеологическая — 11,13
- универсальная — 159,349
- философии — 8-10,13-15,17,
21-23, 25, 27, 29, 32-36, 44, 45,
50, 53, 60, 63, 92, 102, 103, 109,
115, 119, 129, 137, 138, 143, 176,
207, 212, 213, 228, 229, 234-247,
254, 287-289, 345, 356, 364, 366,
367,371,446-448,451
Историзм — 421,425
- виталистский — 381
Историцизм — 322, 414-416, 422,
425
Либидо — 123, 136, 154, 294, 295,
297,298382,383,385
Указатель предметный
SOI
Маоизм — 157, 171, 175, 176, 271,
285,361,362
Марксизм — 19,20,42,63,92,147-
150, 156, 182, 271-274, 279, 281,
282, 285-290, 300, 367, 378, 387,
411,423,437,439,443
Марксизм-ленинизм — 171,271
Машина
- абстрактная — 29, 195, 222,
351,353,426
- аналитическая — 157,378
- безбрачная — 154,155, 374
- бинаризации — 197
- боевая — 232,376
- бюрократическая — 188
-властная— 181
- военная, войны — 188, 191,
198, 199, 319, 331, 352, 372, 373,
376,377,421,433,438
- гетерогенная — 194
- государственная — 374
- графическая — 356
- деспотическая — 158,374,375
- диаграмматическая — 195
- диспозитивная — 300
- желающая — 141, 151-154,
158, 162, 192, 194, 201, 246, 295,
298,387,398,406,413,442,451
- значения — 400
- имманентная — 159
- капиталистическая — 142,154,
159,277,297,375
- литературная — 179,180,188
-мировая— 198
- параноическая — 154,332
- первобытная — 373
- социальная, общественная —
141,159,181,194,373,422,442
- территориальная — 373,374
- техническая — 141,376,442
- шизофреническая — 148
- энергетическая — 208
Машина-орган — 149, 153, 154,
413
Мегамашина — 198, 372-374, 376,
377,426,442
Метанарратив — 10,13,27
Неокатианство — 21,27,391
Номадизм, номадический — 30,
120, 127, 155, 157, 190-192, 198,
200, 202, 253, 260, 284, 303, 320,
334,407,418,421,426,454
Номадология — 190,193,421
Отчуждение — 59,62,69,267,269,
274,297
Паранойя, параноик — 30, 165,
296,379
Патафизика — 193,307, 309-311
Платонизм — 9,101,102,109,114,
128, 129, 194, 247-254, 270, 338,
362,363,364
Повторение — 29, 75, 80, 89, 101,
114-119, 121, 122, 124-127, 199,
242, 256, 268, 292, 293, 324, 396,
445
Поп-философия — 31
Постмодерн, постмодернизм —17,
22,27,28,30,414,416,463
Постструктурализм — 17, 28, 29,
159, 264, 270, 271, 326, 327, 332,
335, 337, 355, 386, 414-417, 427,
447,458-460,463
502
Указатель предметный
Психоанализ — 25,49,90,112,122,
123, 137, 140, 141, 143, 146-149,
156-158, 163, 164, 174, 202, 210,
224, 226, 230, 235, 290-300, 332,
336,378,387,401,456,
Различие — 17, 22, 24, 29, 48, 60,
63,68, 69, 71, 74-76, 88, 89, 93,94,
96-99,101,102,114-129,131,133,
134, 151, 229, 248-252, 254, 256,
257, 259-261, 265, 266, 268, 270,
283, 286, 292, 293, 304, 311, 317,
324, 335, 357-360, 368, 370, 371,
384, 394, 396, 402, 407, 423, 425,
442,445,461
Рационализм — 18,42, 53, 82, 231,
232
Ризома — 22,36,62,178,188-193,
225,362,388,426,432
Ритурнель — 188,199
Сексуальность — 124, 136, 147,
294,295,297,298,379-381,385,
Складка — 42, 212, 213, 228, 239,
243, 244, 250, 304, 306, 325, 359,
371,402,425,426,451
Сознание — 62, 71, 72, 73, 79, 83,
87, 99, 100, 104, 121, 207, 208, 209,
224, 235, 245, 302, 304, 306, 307,
312-314, 320, 322, 323, 325, 363,
364, 398, 405, 406, 408, 411, 438,
459
- абсолютное — 267,411,412
- изначальное — 407
- историческое — 423
- классовое — 160,423
- ложное — 277
- несчастное — 264,267
- обыденное — 256,257,258
- психологическое — 258
- созерцающее — 324
Сталинизм — 19, 281, 285, 437,
440
Стоицизм, стоики — 11,17,26,92,
128, 129, 196, 215, 249, 251, 306,
307,321,346,393,446,447
Структурализм — 21, 28, 63, 106,
112, 115, 125, 132, 158, 169, 170,
189, 194, 205, 207, 294, 324, 326-
336,355,409,410,428,450,459
Субъект — 52-59,62,63,82,83,88,
91,110,124,125,154,155,169,178,
189, 190, 214, 215, 222, 231, 232,
245, 256, 257, 265, 268, 283, 289,
291, 292, 302-306, 310, 315, 320,
323, 324, 326, 332, 344, 350, 374,
375, 378, 387, 392, 393, 397, 400,
405-414,452,456
- видящий —120
- истории — 421,424
- картезианский — 321,355
- мыслящий — 87,123,127, 245,
258
- остаточный —151
- сингулярный —118
- суверенный — 150,334
- трансцендентальный — 86, 87,
301
- эмпирический — 87
Субъективация — 246, 276, 281,
289,384,400,410
- молекулярная — 203
Субъективность — 23, 25, 51, 53,
56, 83, 87, 98, 114, 159, 191, 203,
246,281,288,299,315,320,327
- глобальная — 276
Указатель предметный
503
- трансцендентальная — 301
- эмпирическая — 54
Телеологизм — 19, 327, 346, 385,
416,422,423
Тело без органов — 72, 135, 140,
145, 152-155, 158, 188, 192, 196,
269, 278, 279, 351, 398-401, 413,
4SI
Трансценденция —16,56,105,245,
267,305,358,393,406
Троцкизм — 285,271,
Фаллос — 124, 132, 136, 146, 194,
295,298,299,386
Фашизм — 19, 152, 181, 182, 262,
273, 347, 361, 379, 381, 401, 415,
438
Феноменология,
феноменологический — 21, 27, 41, 45, 67, 87, 92,
120, 123, 130, 152, 229, 258, 268,
299, 301-308, 311, 315, 319, 320,
322, 323, 334, 336, 341, 358, 363,
364,370,428,436
Фрейдизм — 79,148-150,290,292,
300,332,350,401
Фрейдо-марксизм — 149,300,377,
381,386
Хаос —120,121,126,127,199, 222,
223,250,334,341,402-404,428
Хаосмос — 126,127,216,222,363,
Шизоанализ — 156, 157, 160, 165,
193,298,378,395
Шизофрения, шизофреник — 136,
140, 142-144, 146, 147, 153, 155,
156, 160-162, 165, 277, 291, 294,
296,346
Экзистенциализм — 18-20,42,45
Эмпиризм — 30, 50, 51, 53, 54, 56,
57,60,69,82,93,117,120,129,135,
231, 232, 289, 333, 338, 416, 424,
449,456
- радикальный — 244,408
- трансцендентальный — 26, 32,
93, 116, 231, 233, 241, 246, 256-
259, 304, 312, 315, 320, 367, 368,
411,425
Эон — 29, 133, 391, 414, 417-419,
425
Дьяков А. В.
Жиль Делёз. Философия различия
Главный редактор издательства И. А. Савкин
Дизайн обложки //.//. Граве
Оригинал-макет О.Ю. Марусова
Корректор И.Е. Иванцова
ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»,
192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.
Тел./факс: (812) 560-89-47
Редакция издательства «Алетейя»:
СПб, 9-ая Советская, д. 4, офис 304, тел. (812) 577-48-72
E-mail: office@aletheia.spb.ru (отдел продаж),
aletheia92@mail.ru (редакция)
wwiv.aletheia.spb.ru
Заказ книг: fempro@yandex.ru, тел. (812) 951-98-99
Книги издательства «Алетейя» в Москве
о приобрести в следующих магазинах:
«Историческая книга», Старосадский пер., 9. Тел. (495) 921-48-95
«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. www.biblio-globus.ru
Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83
Магазин «Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2.
Тел. (495) 915-27-97
Магазин «Фаланстер», Малый Гнездниковский пер., 12/27.
Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21
Магазин «Гилея», Тверской б-р., д. 9. Тел. (495) 925-81-66
Магазин «Циолковский», Новая площадь, 3/4, подъезд 7д.
Тел. (495) 628-64-42
«Галерея книги „Нина"», ул. Бахрушина, д. 28. Тел. (495) 959-20-94
Интернет-магазин: iviviv.ozon.ru
Формат 60x88 Vie. Усл. печ. л. 31.5. Печать офсетная.
Заказ №