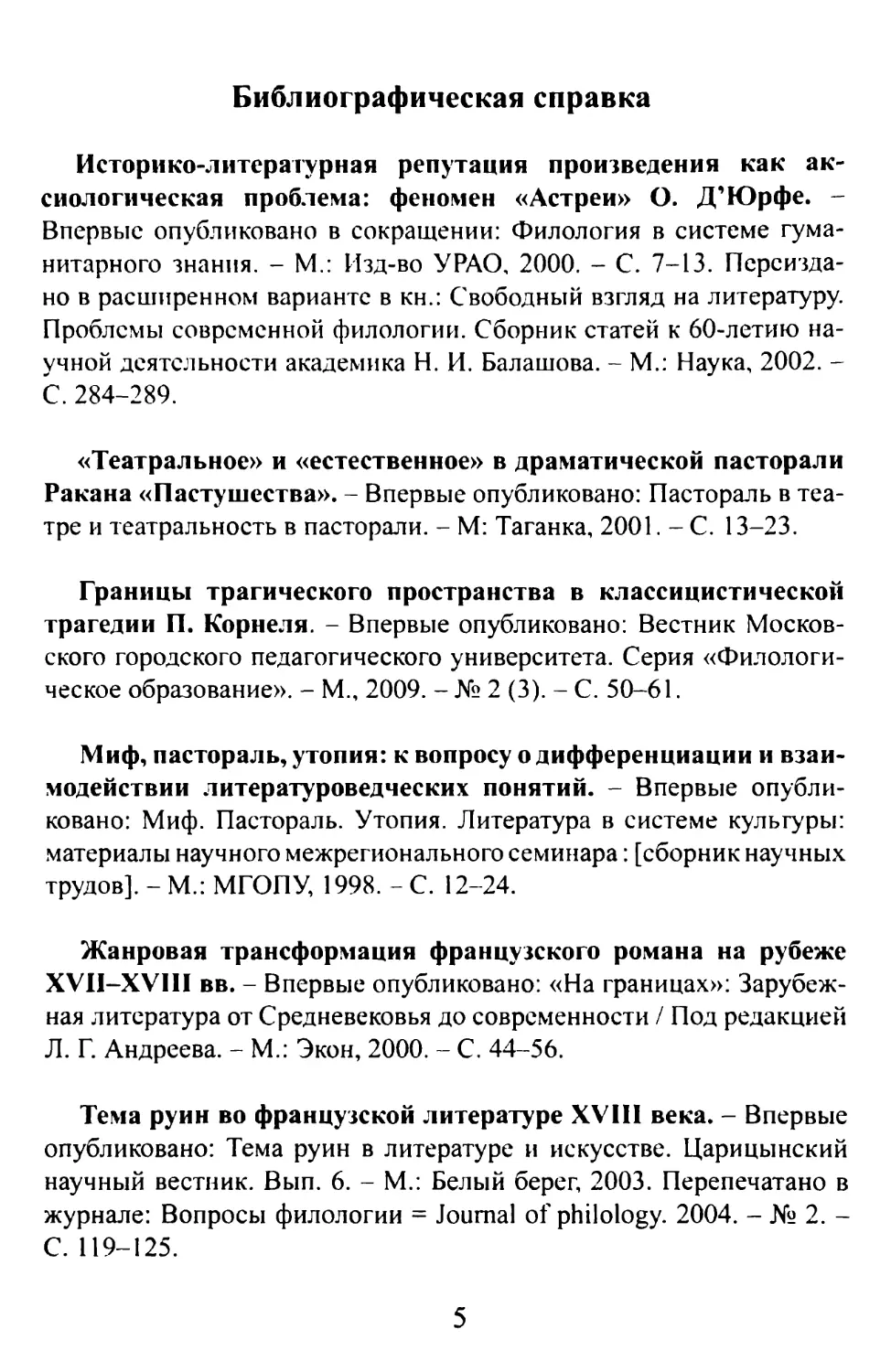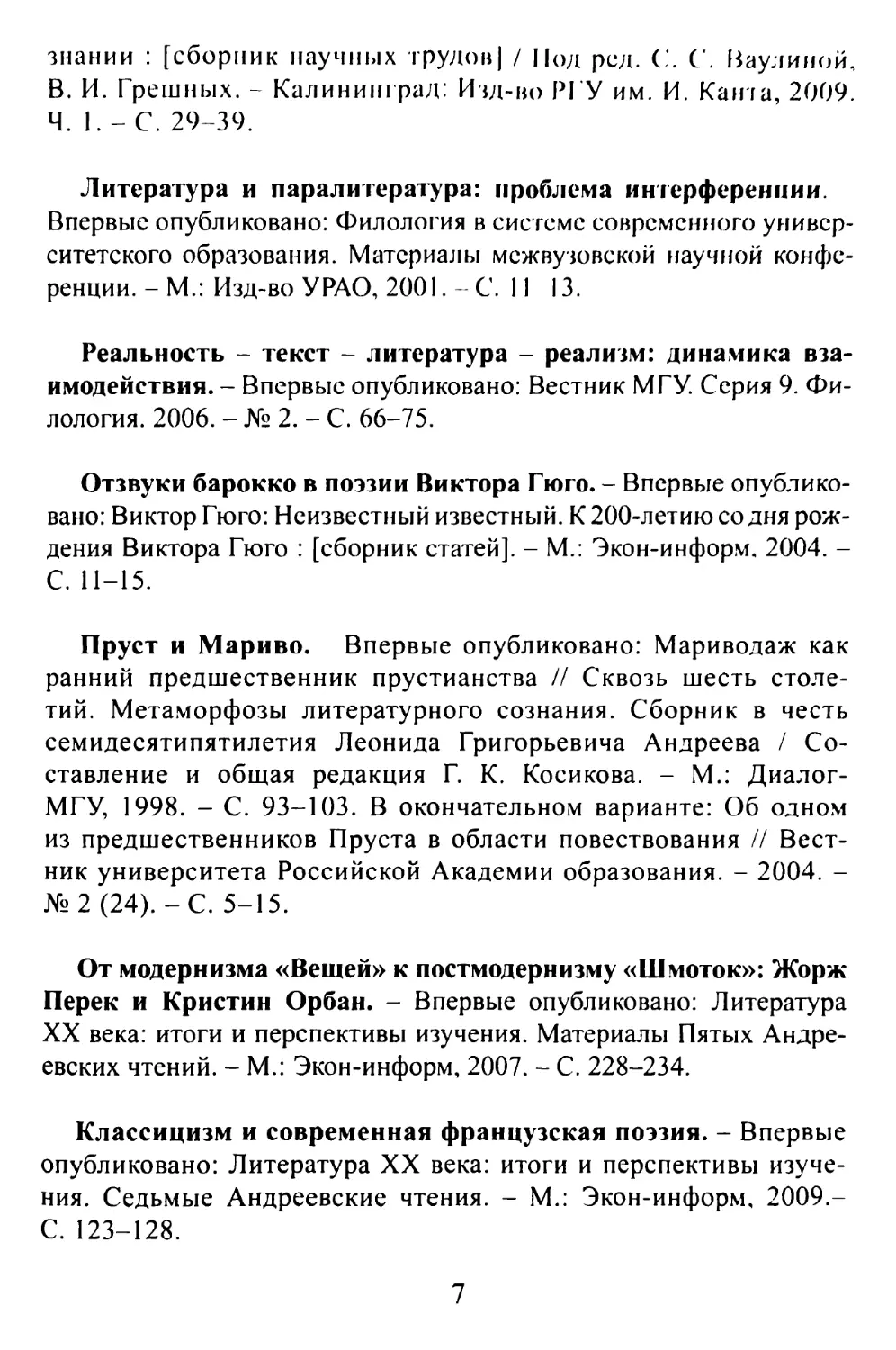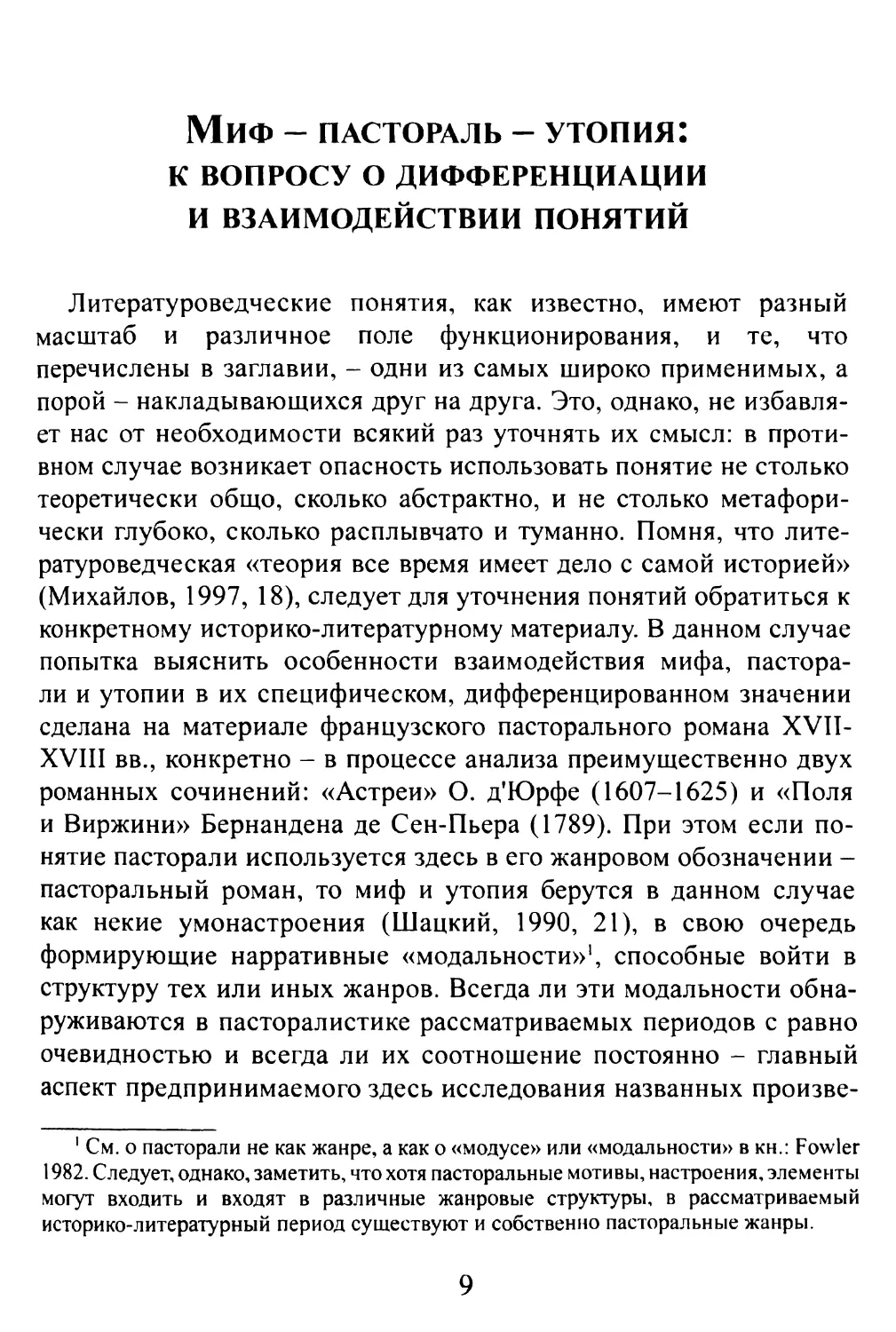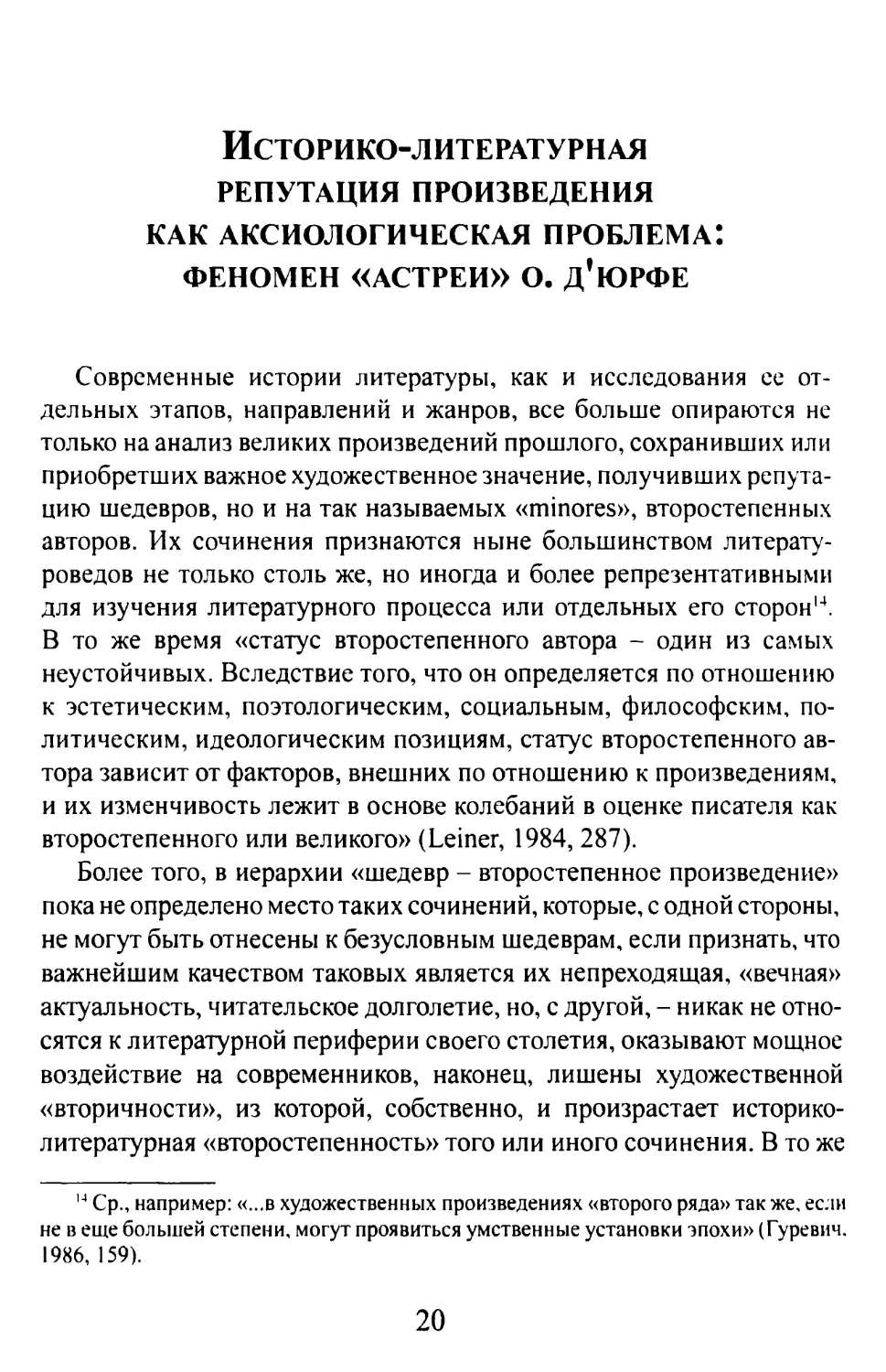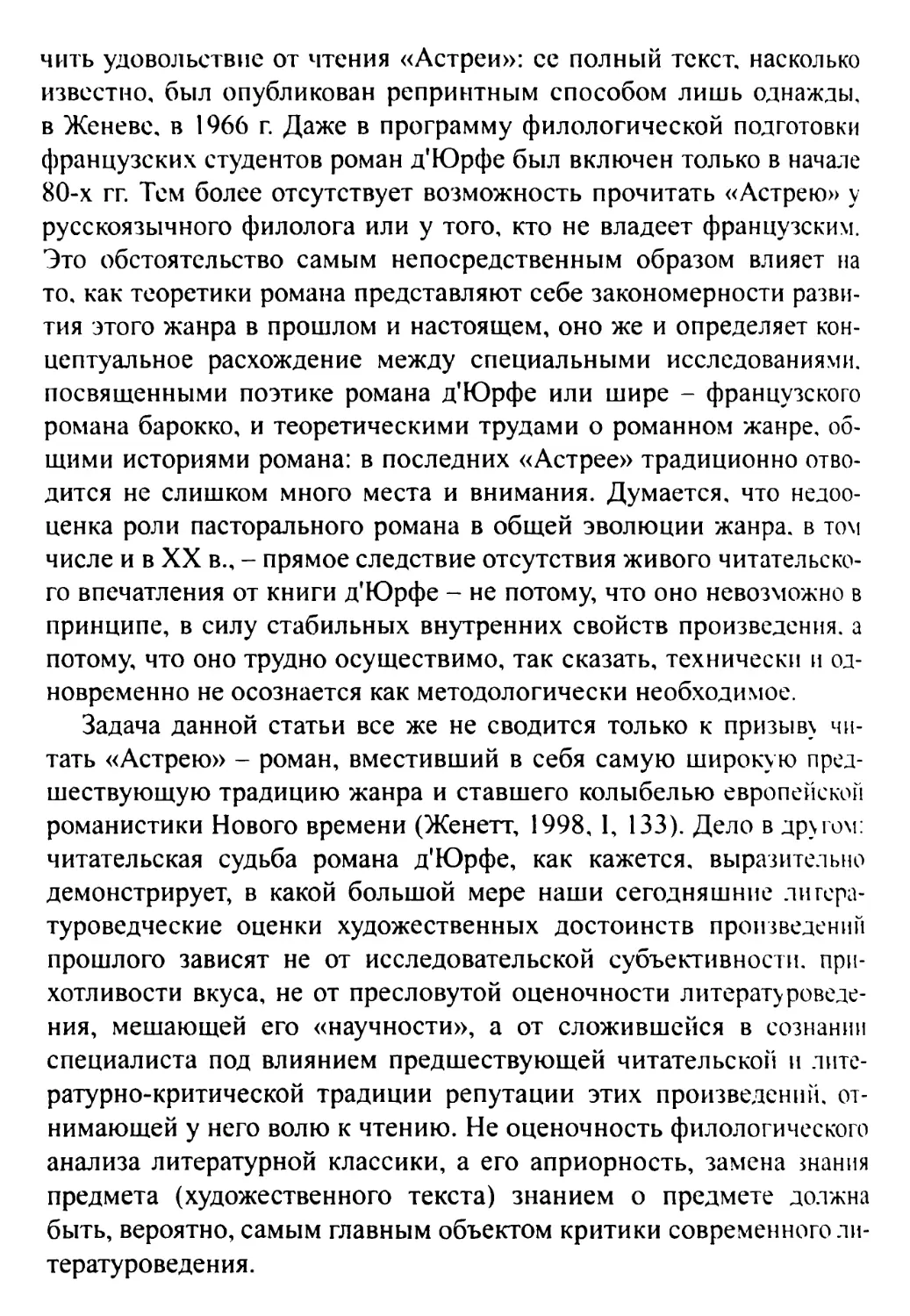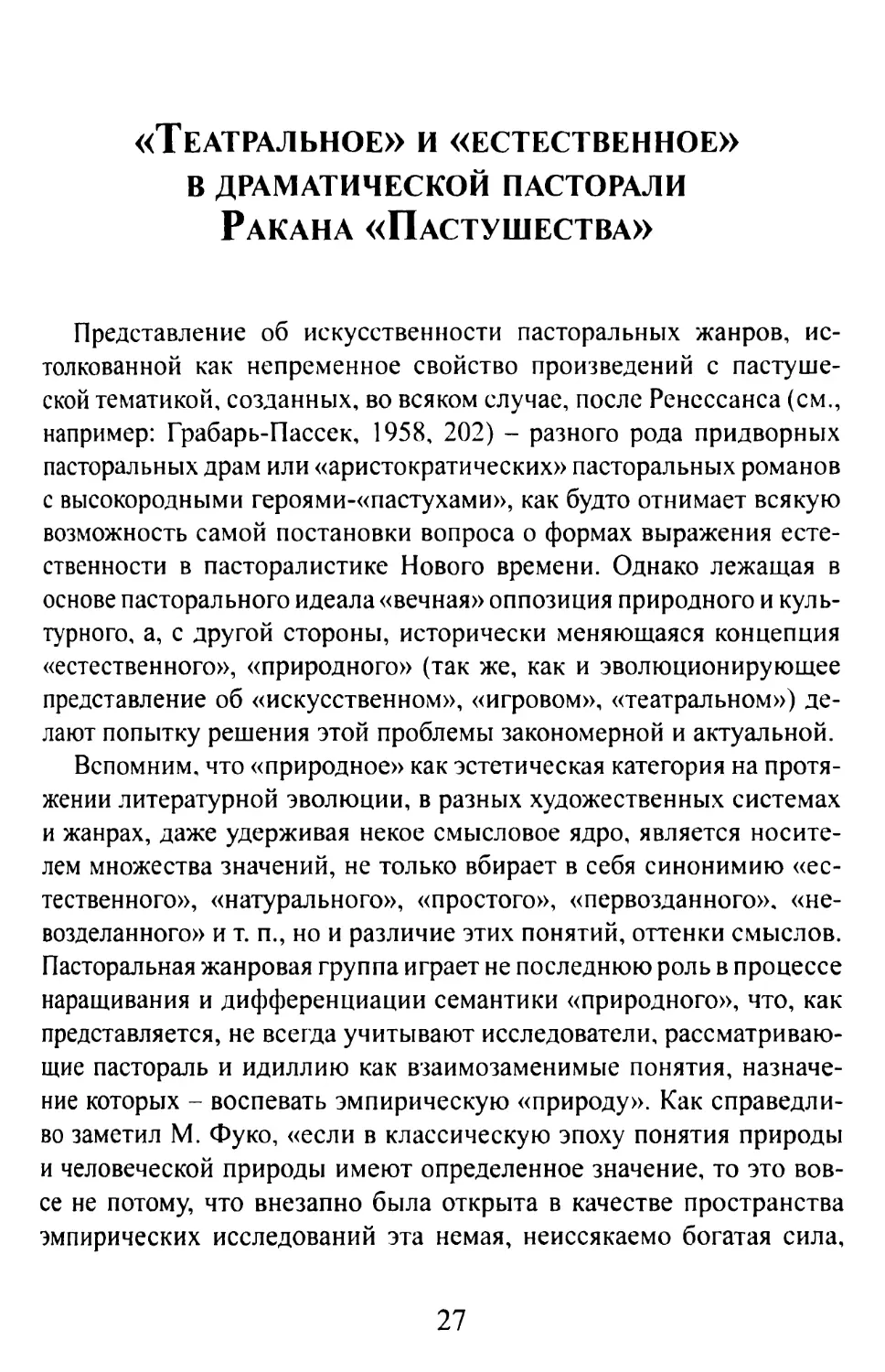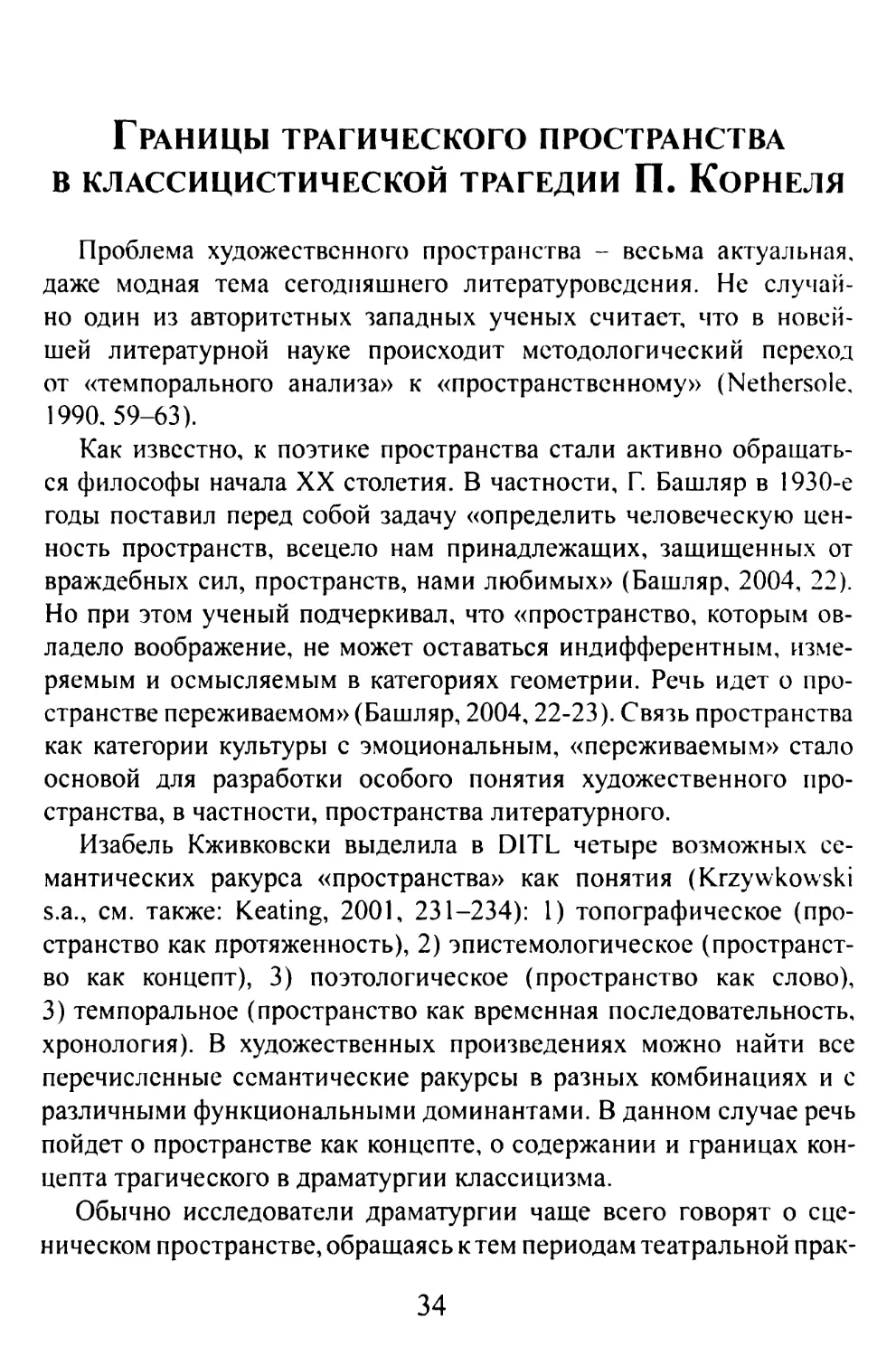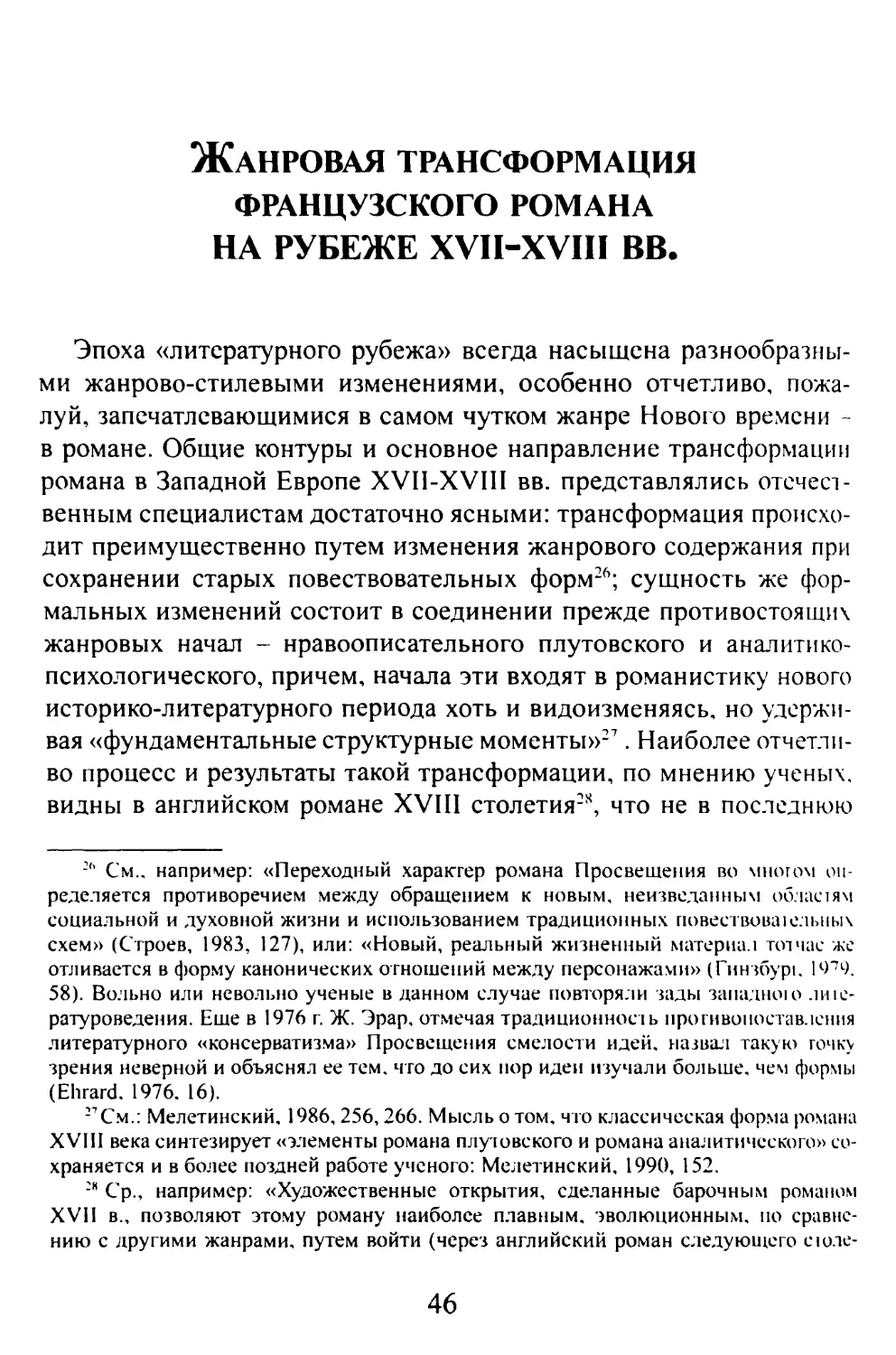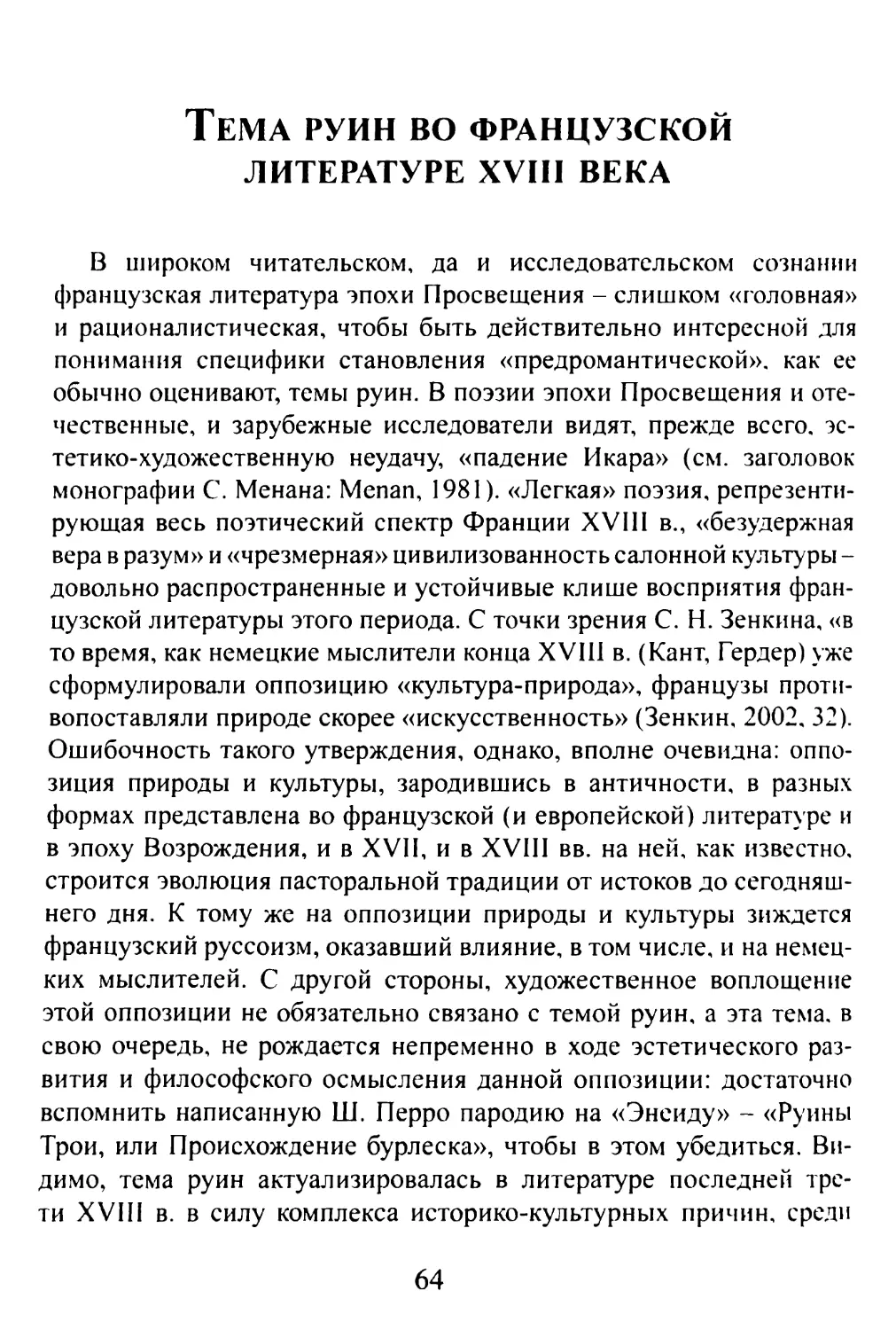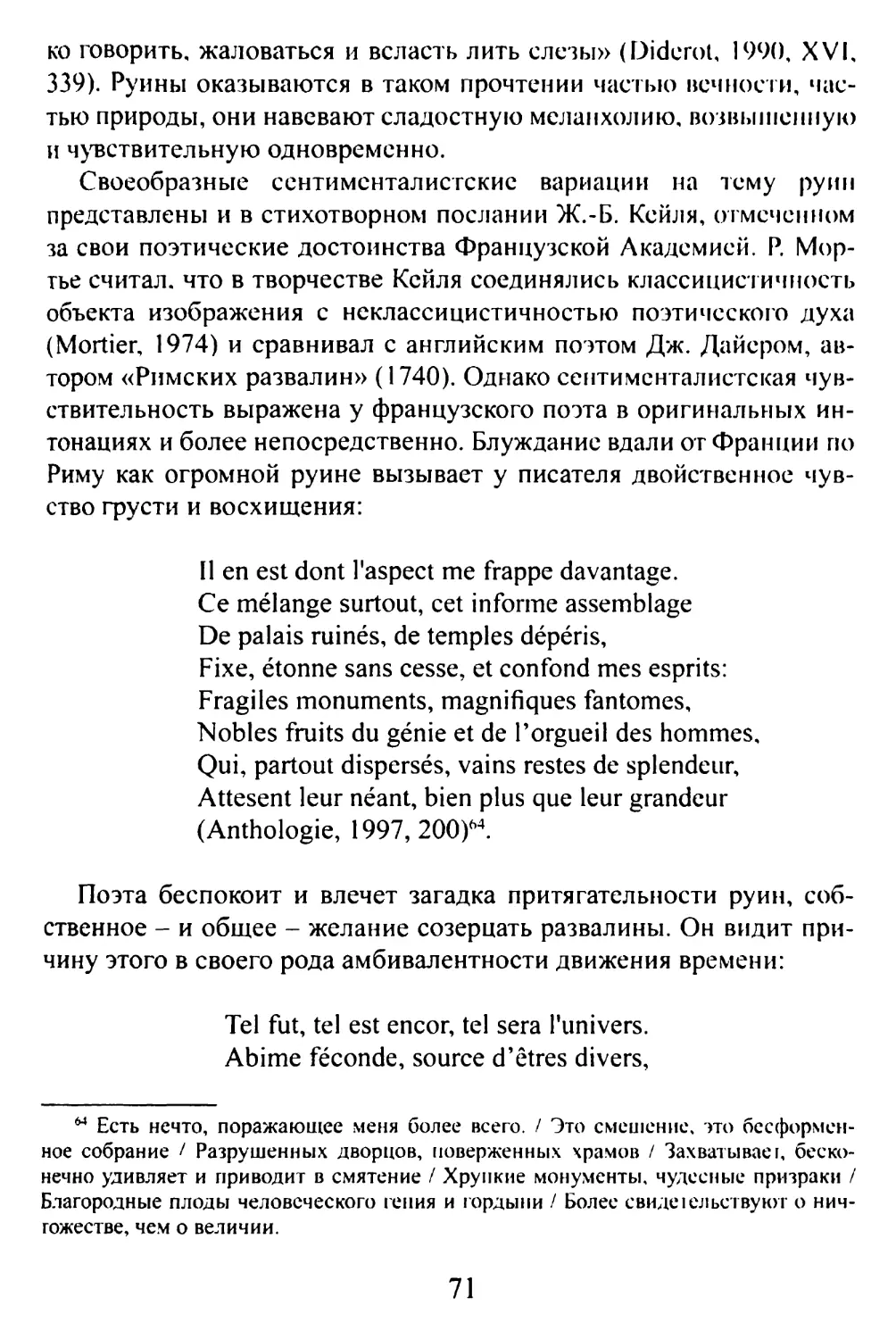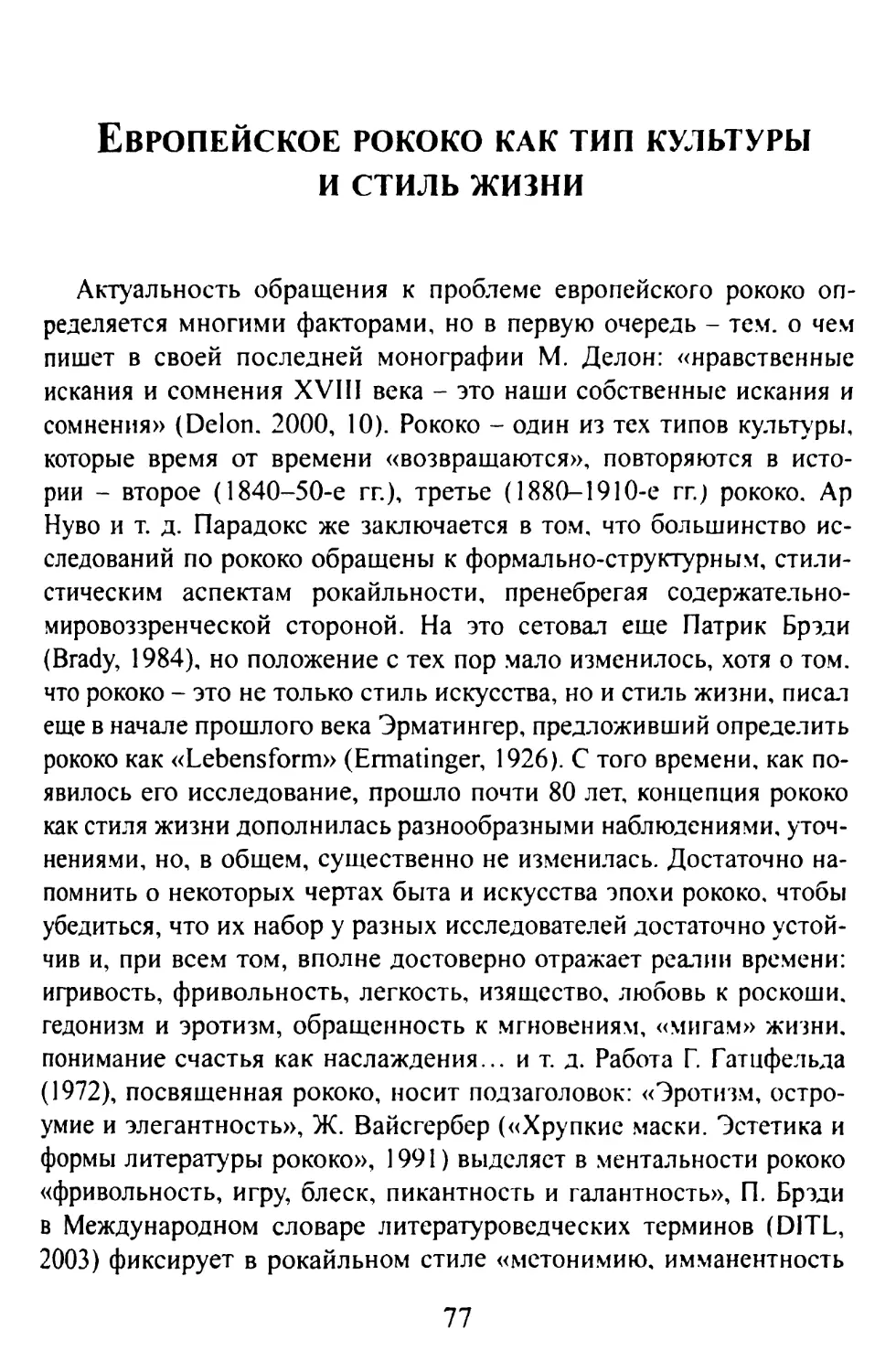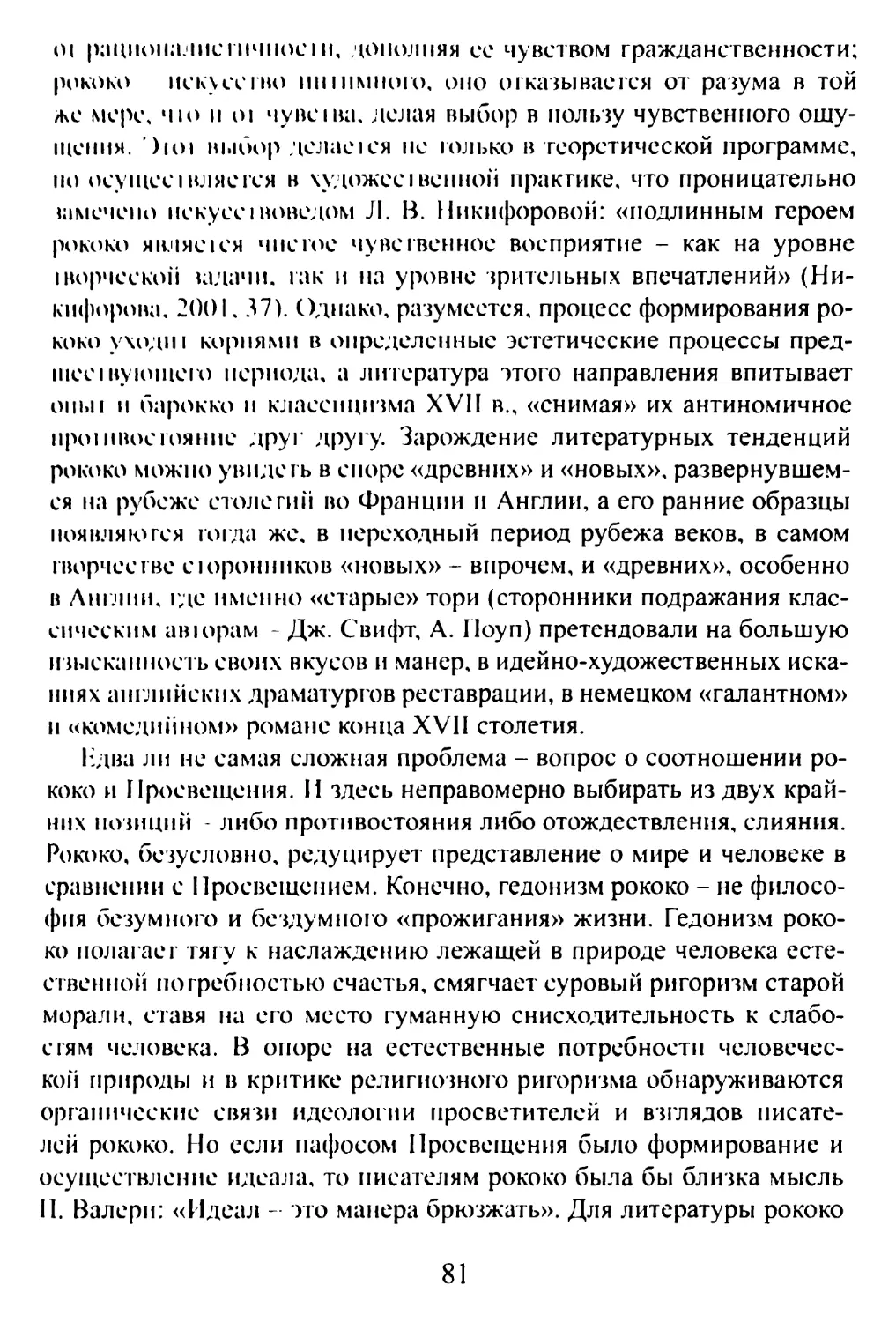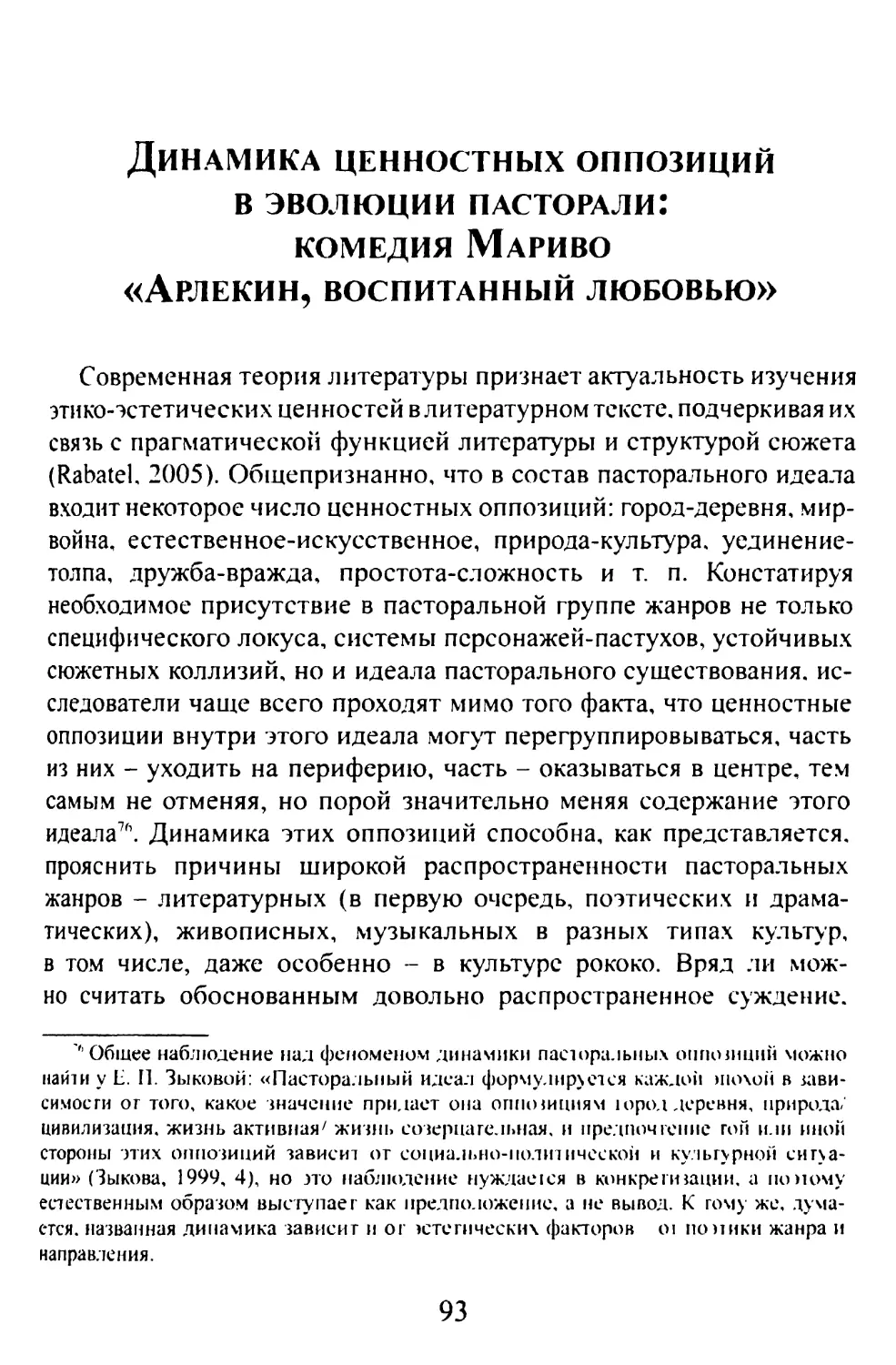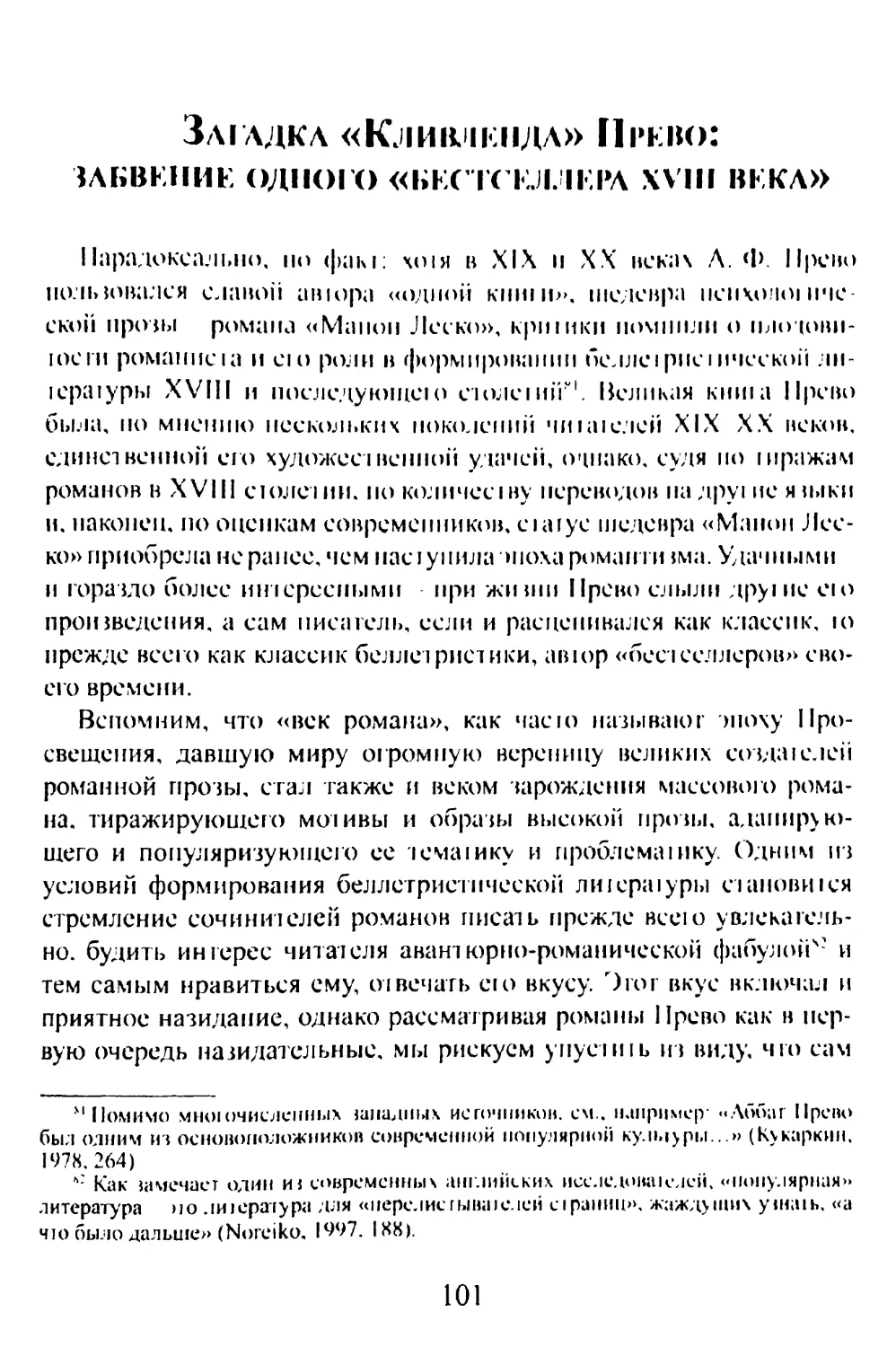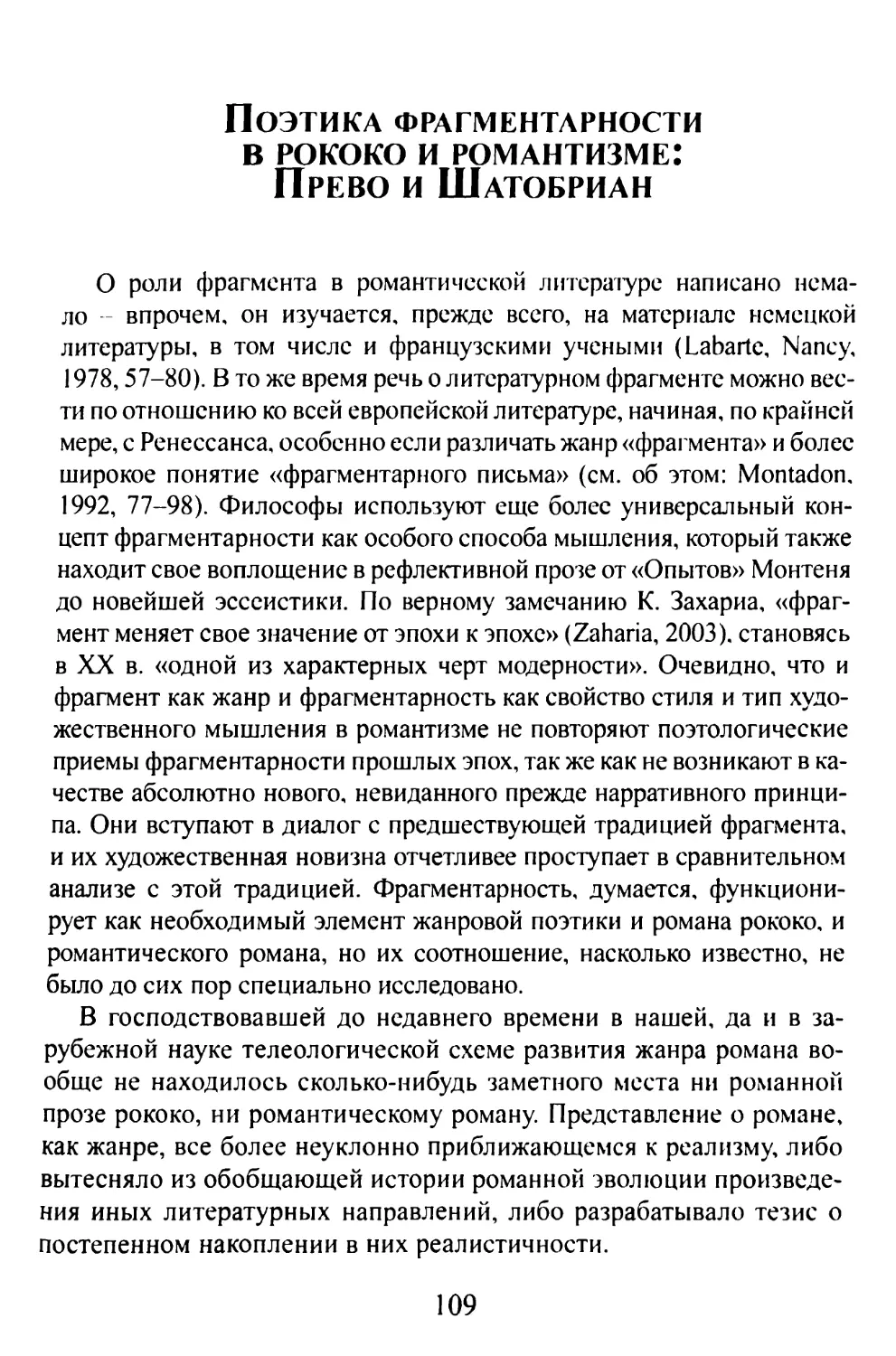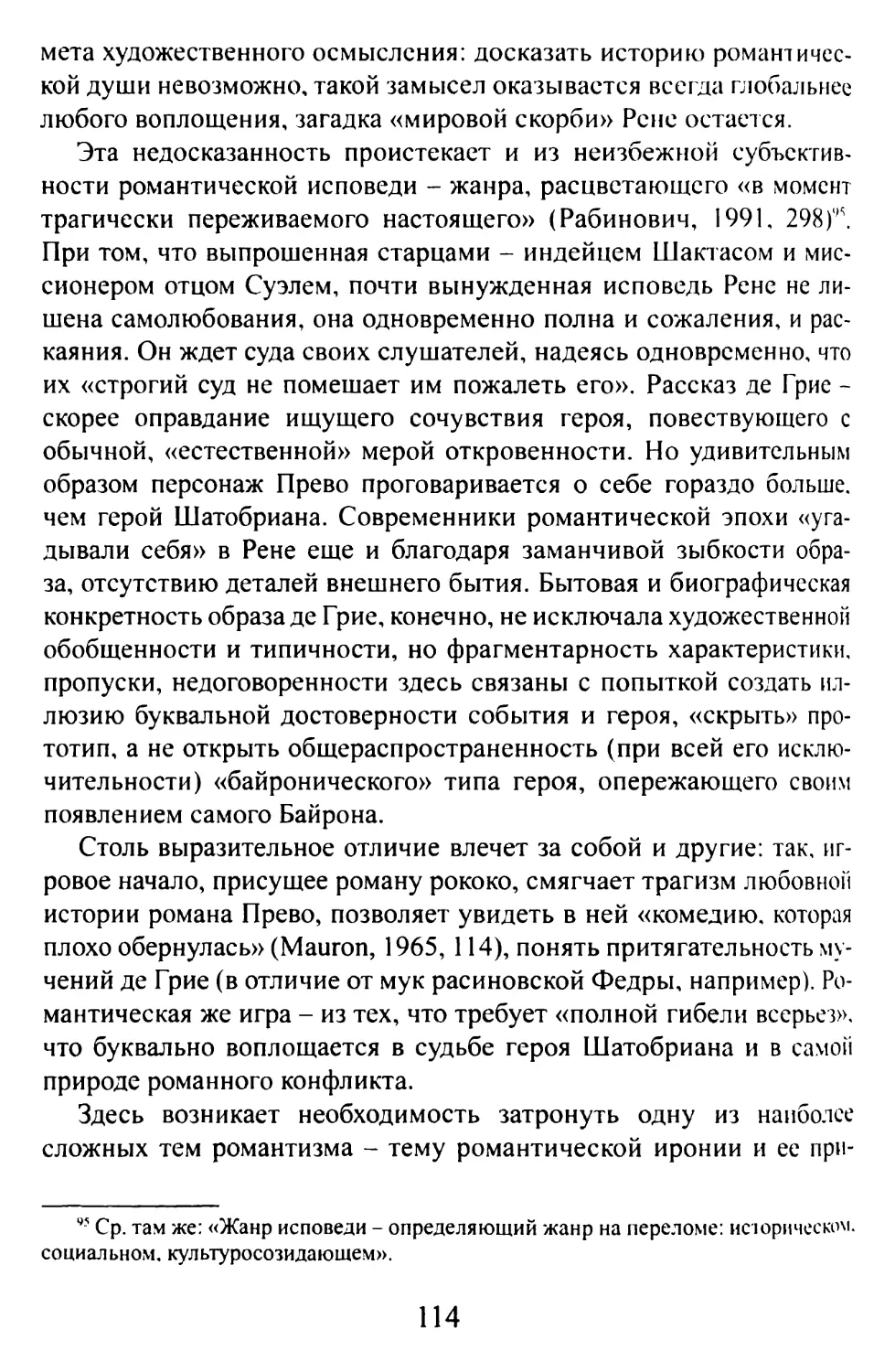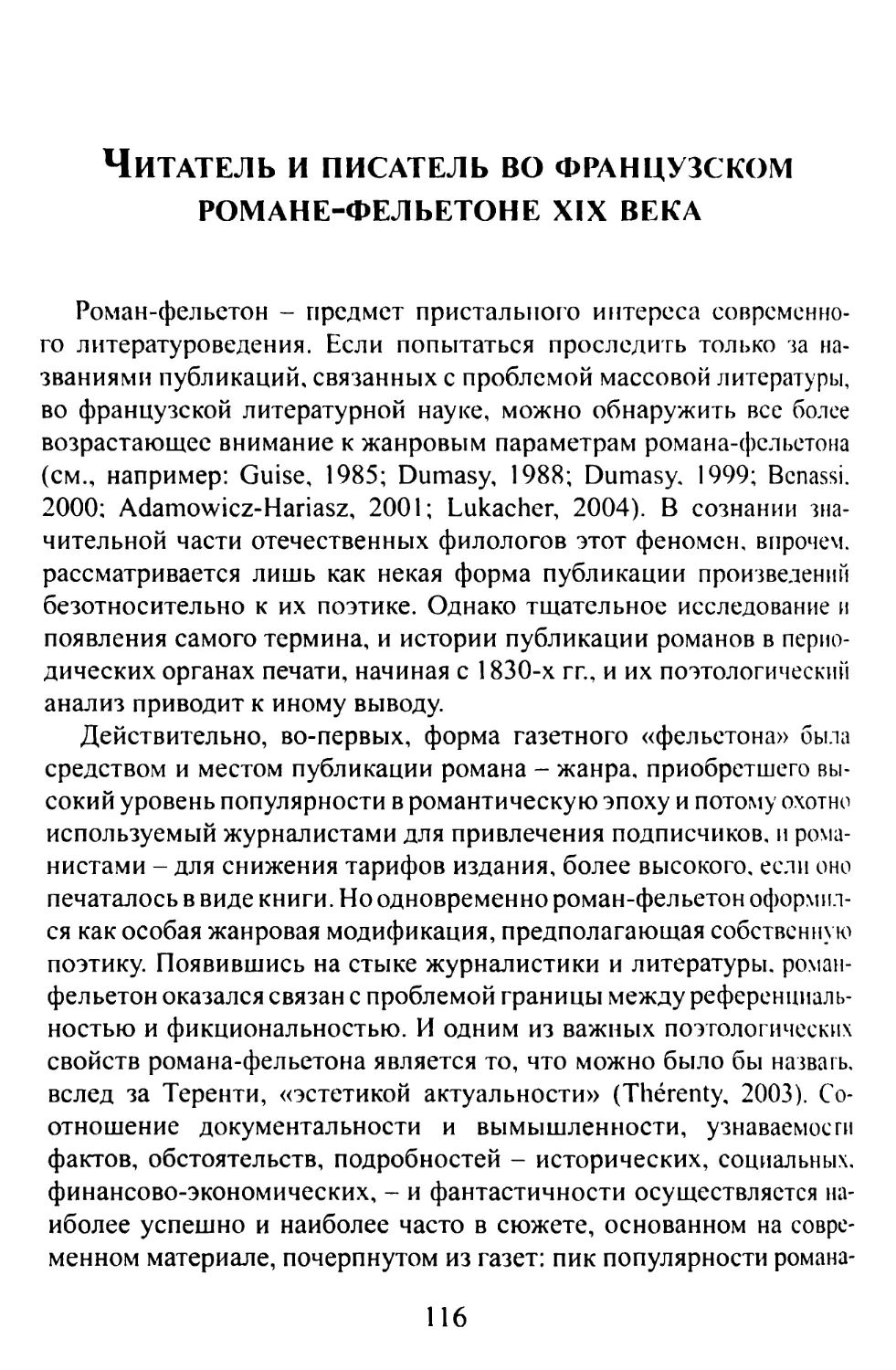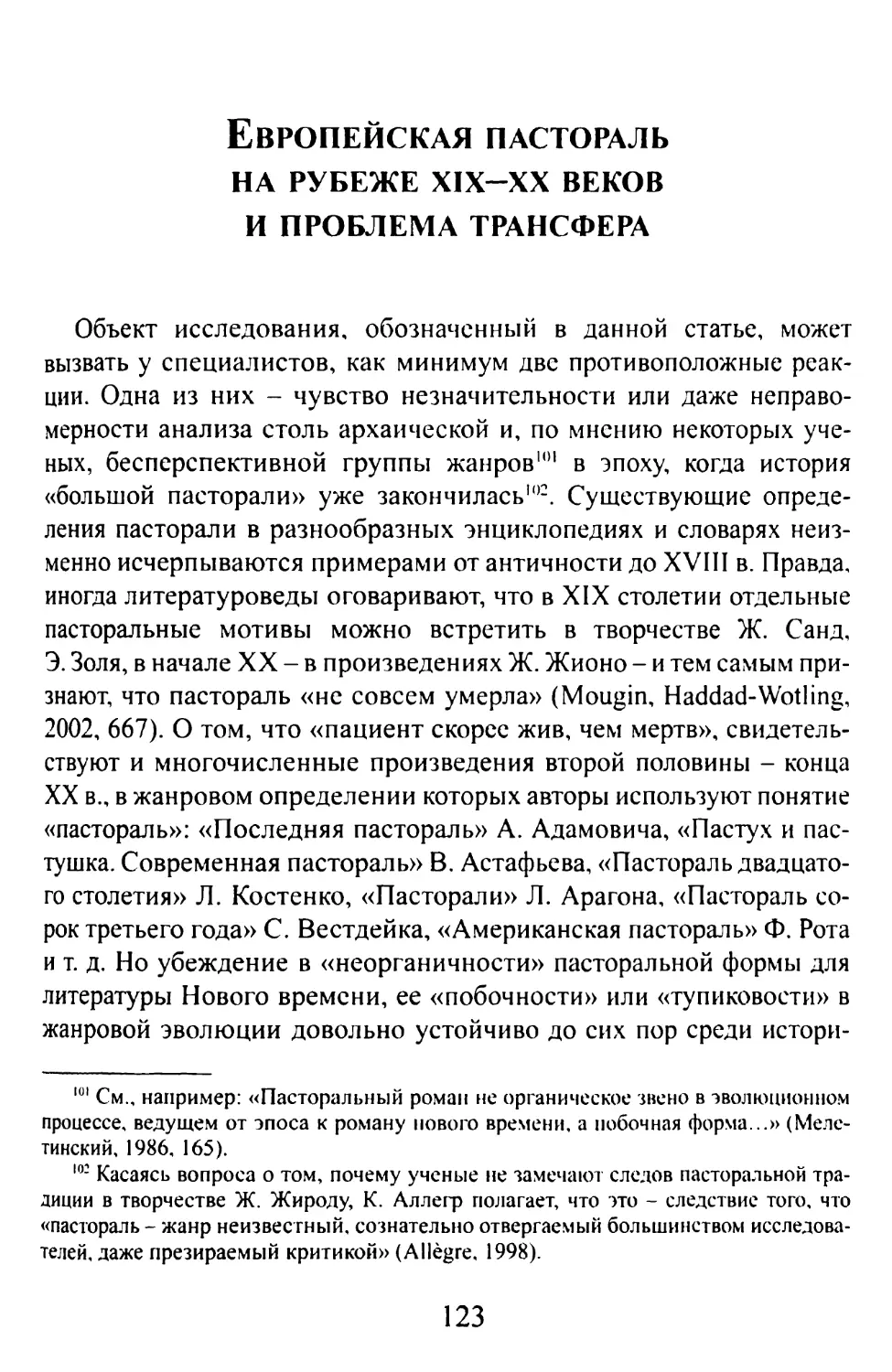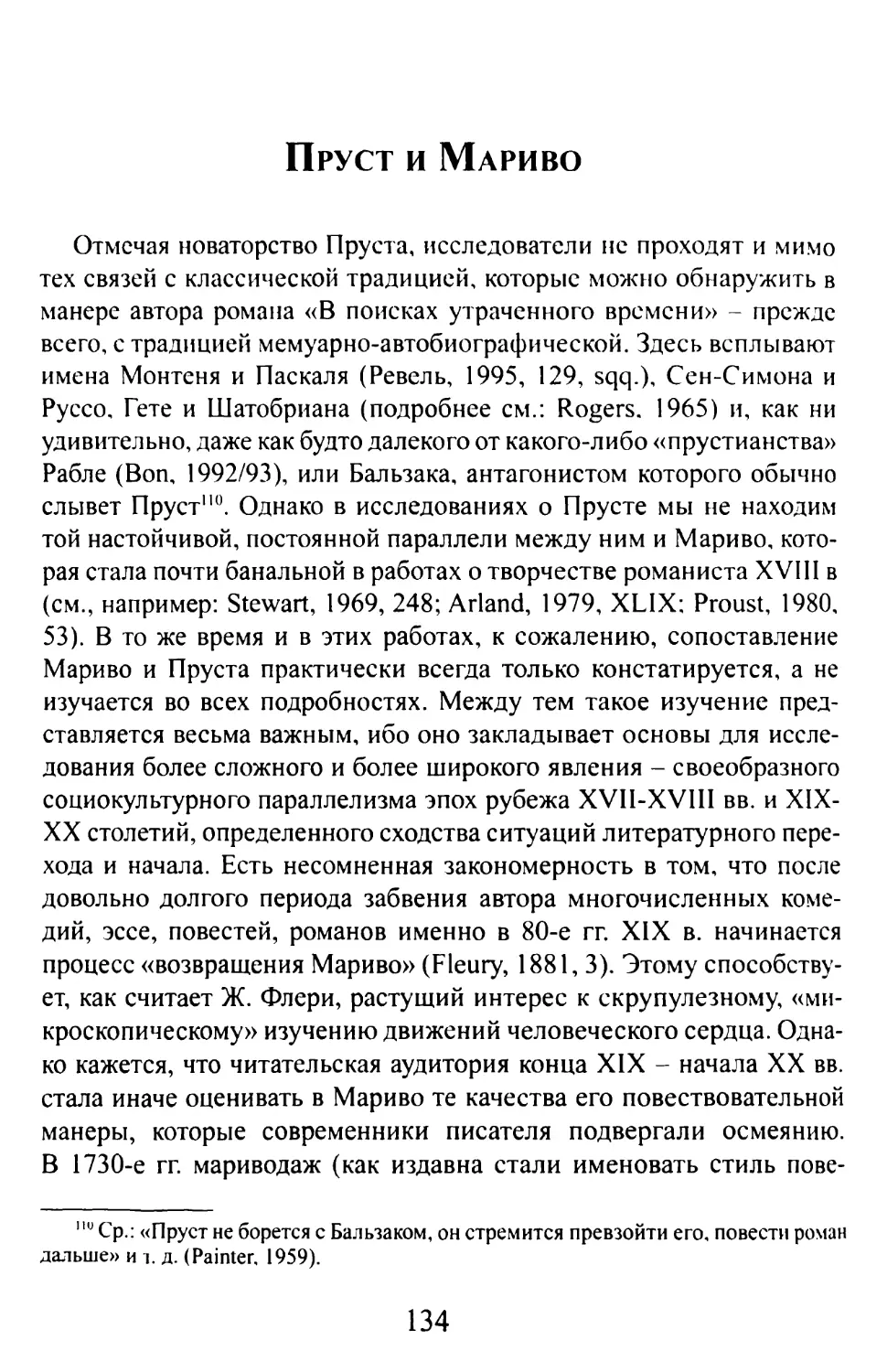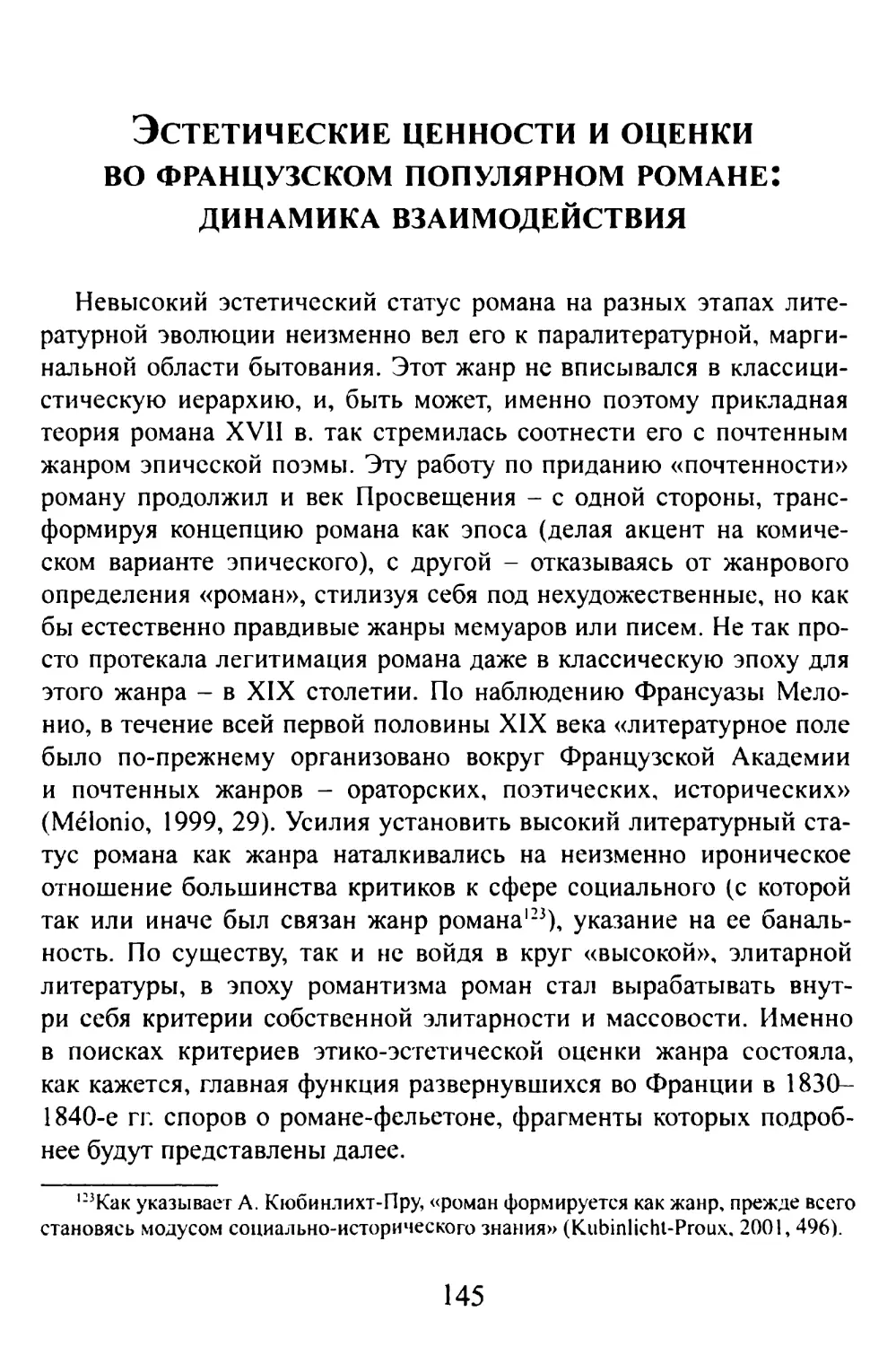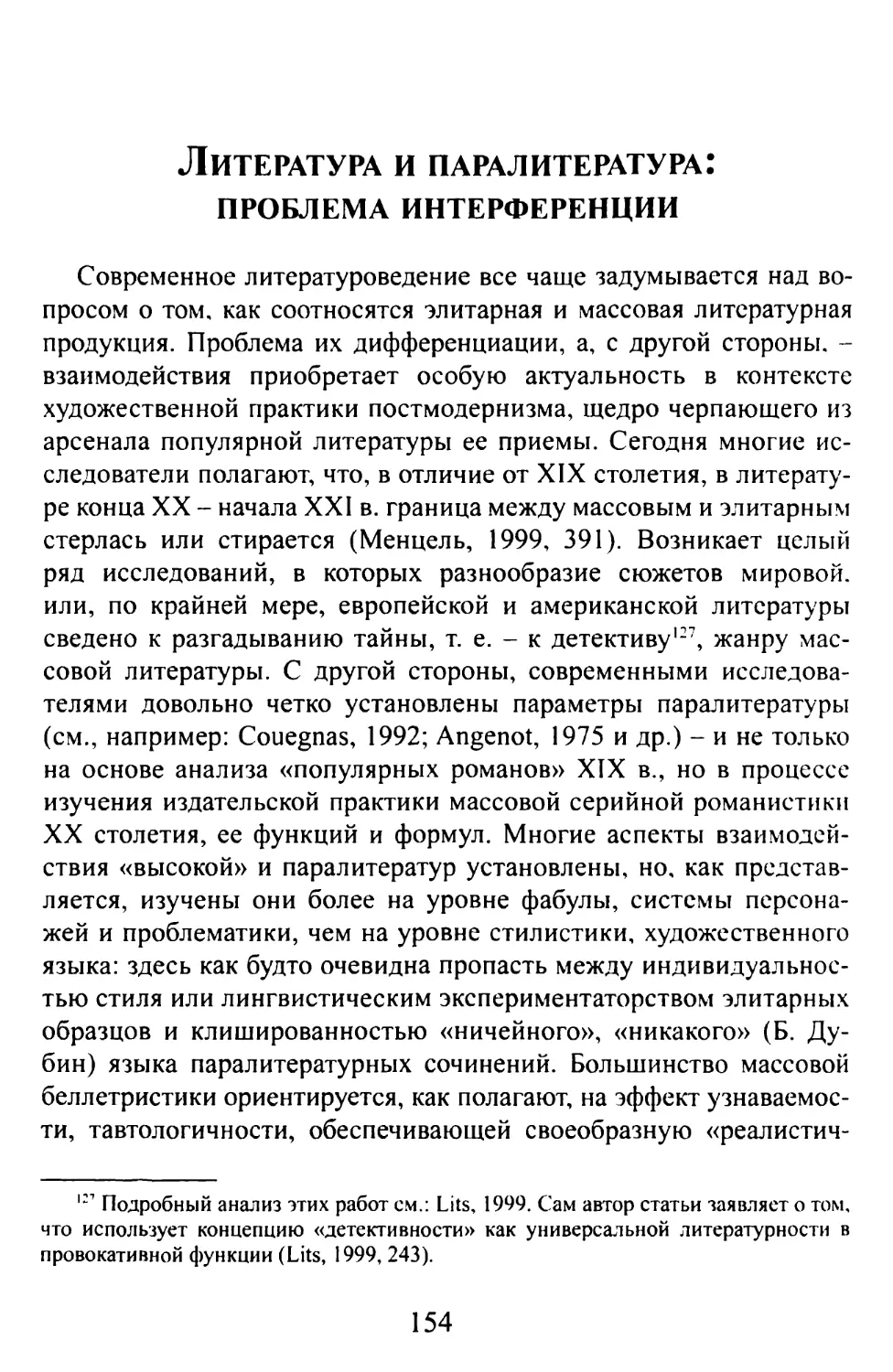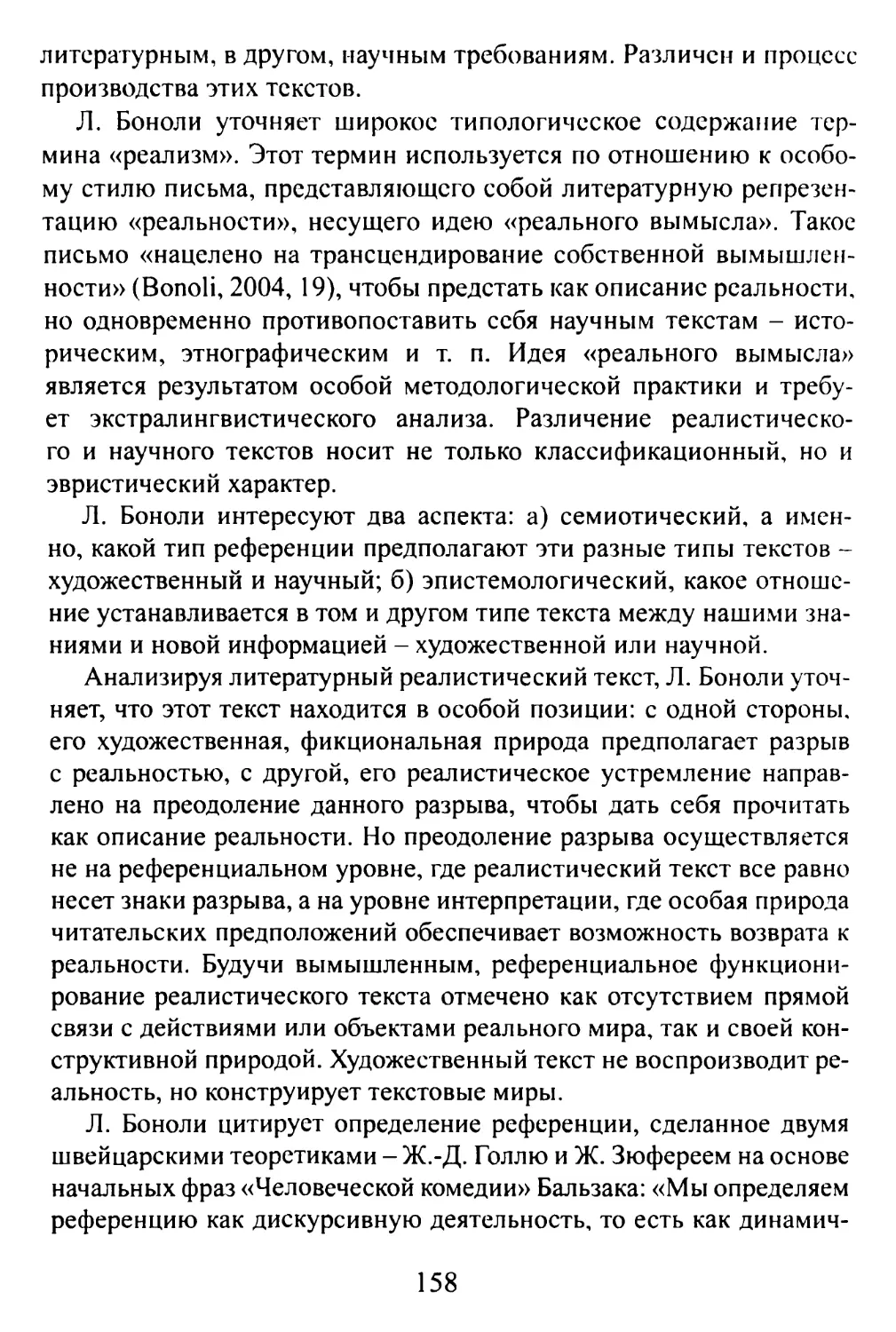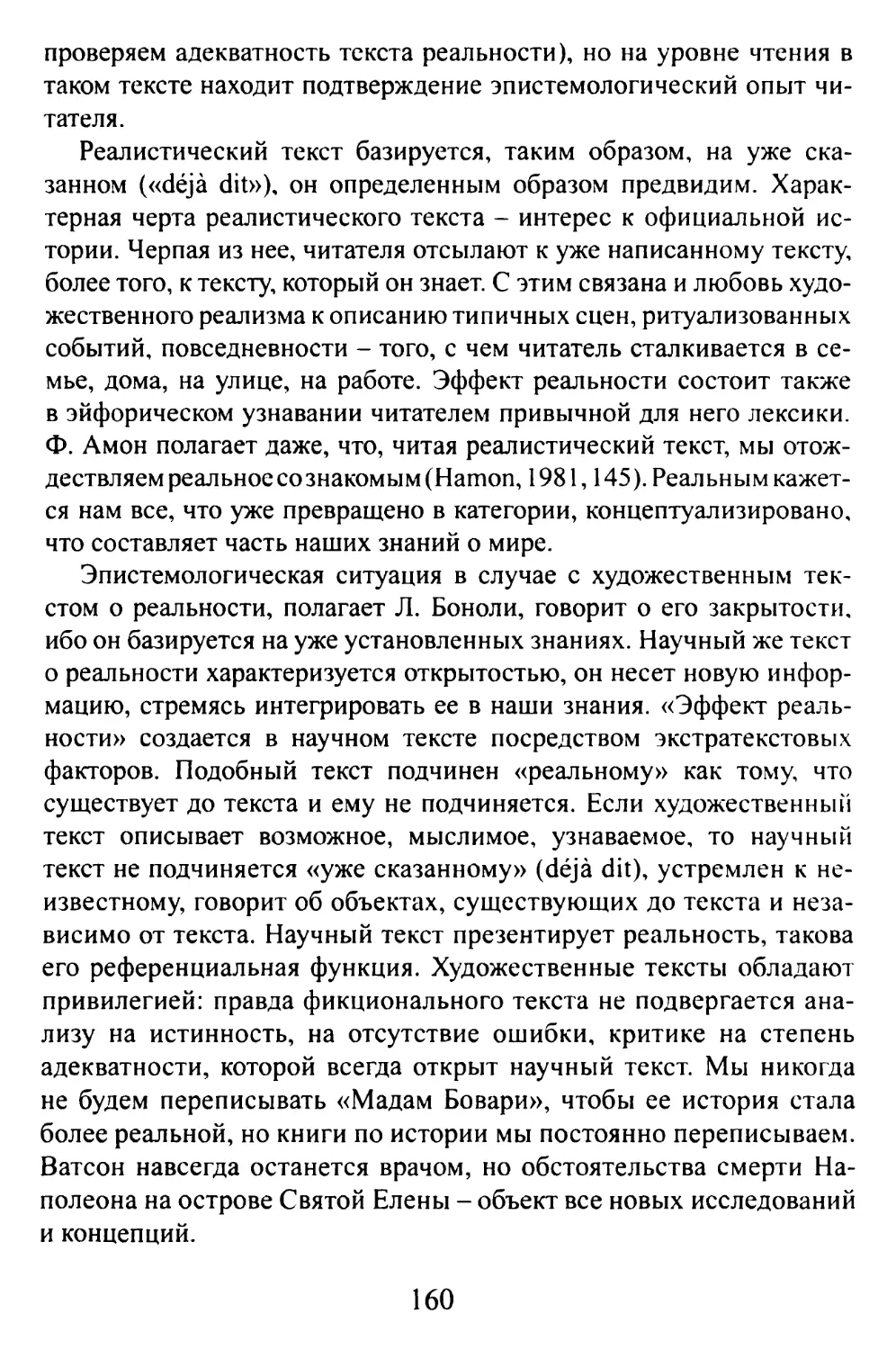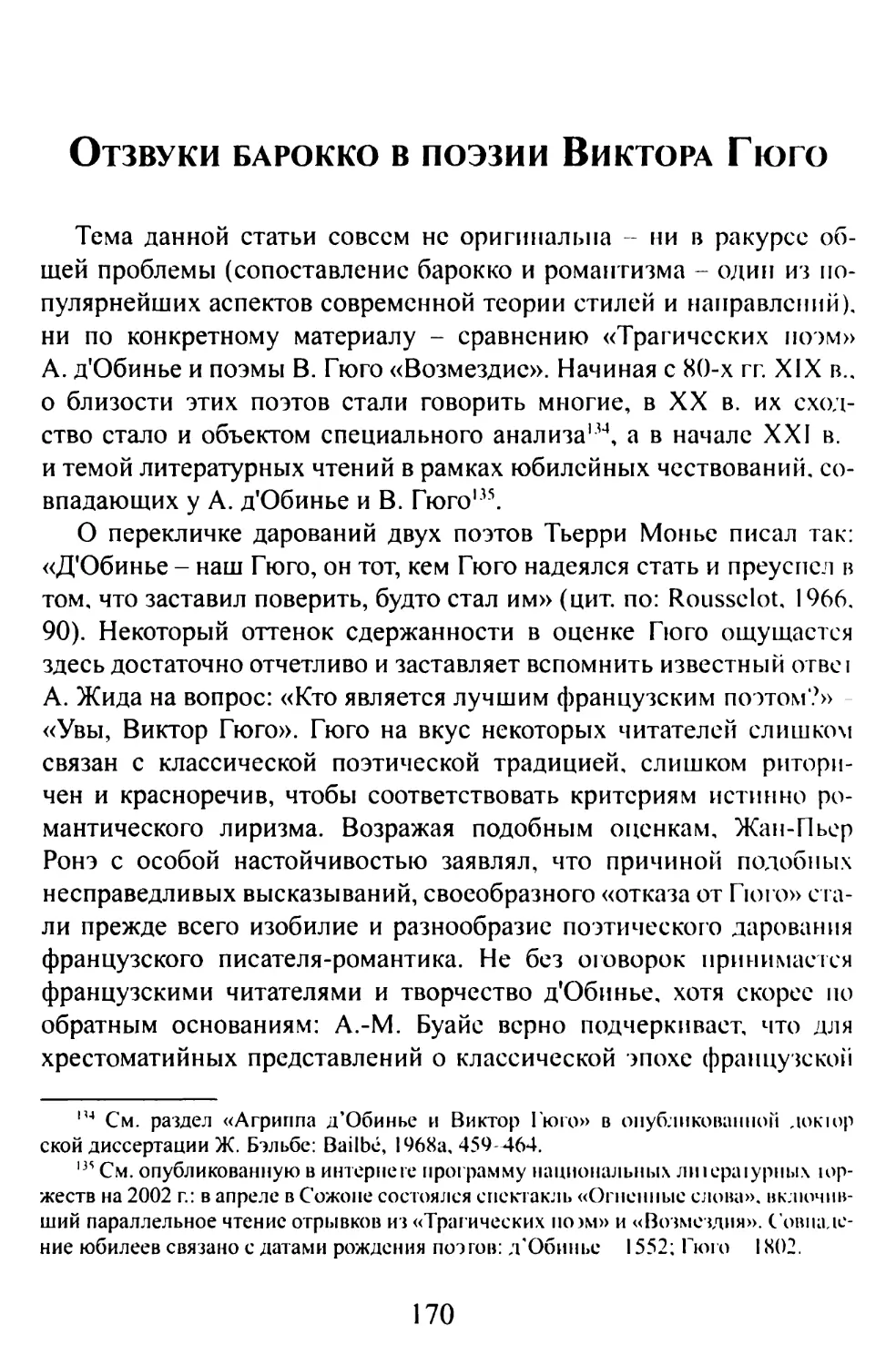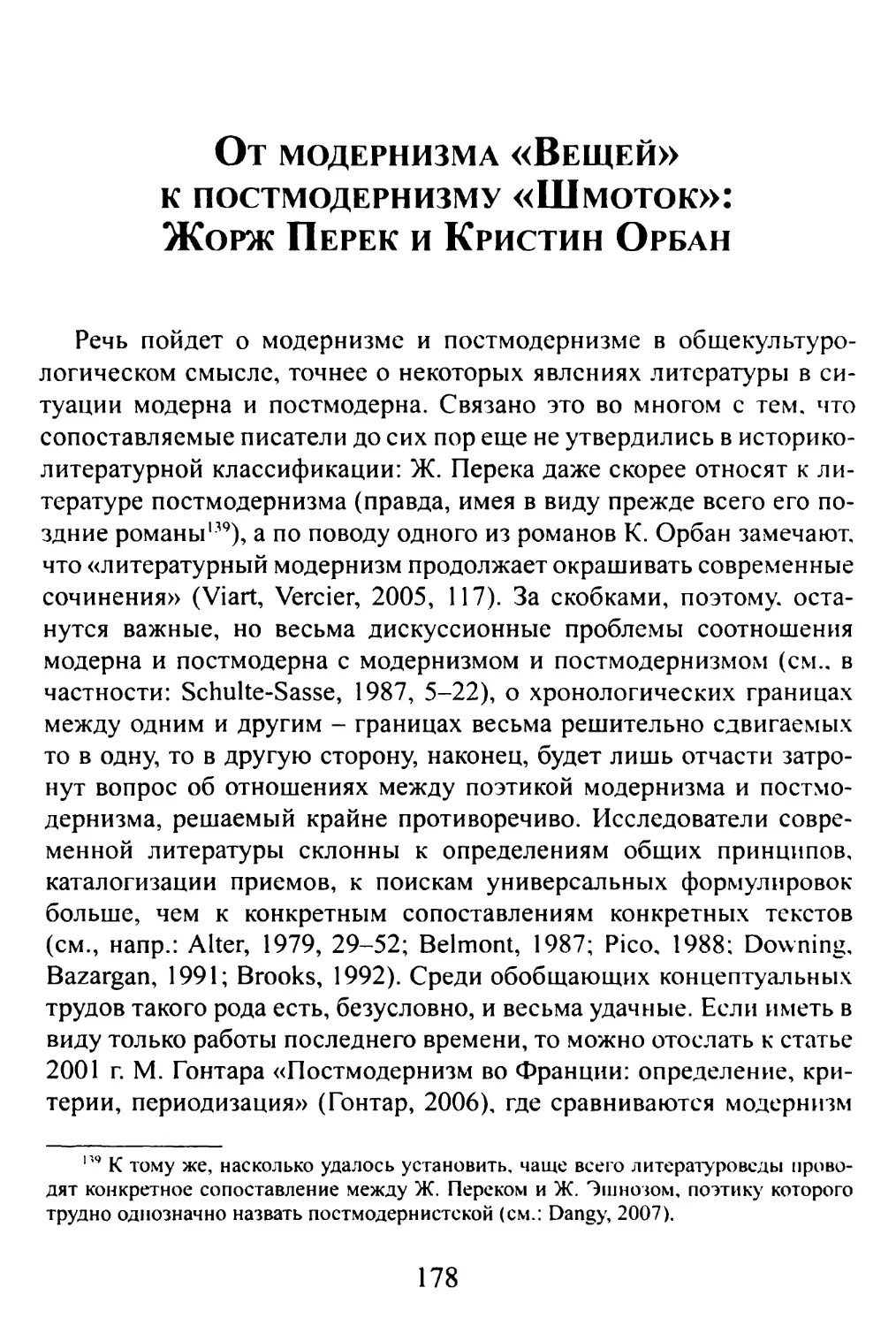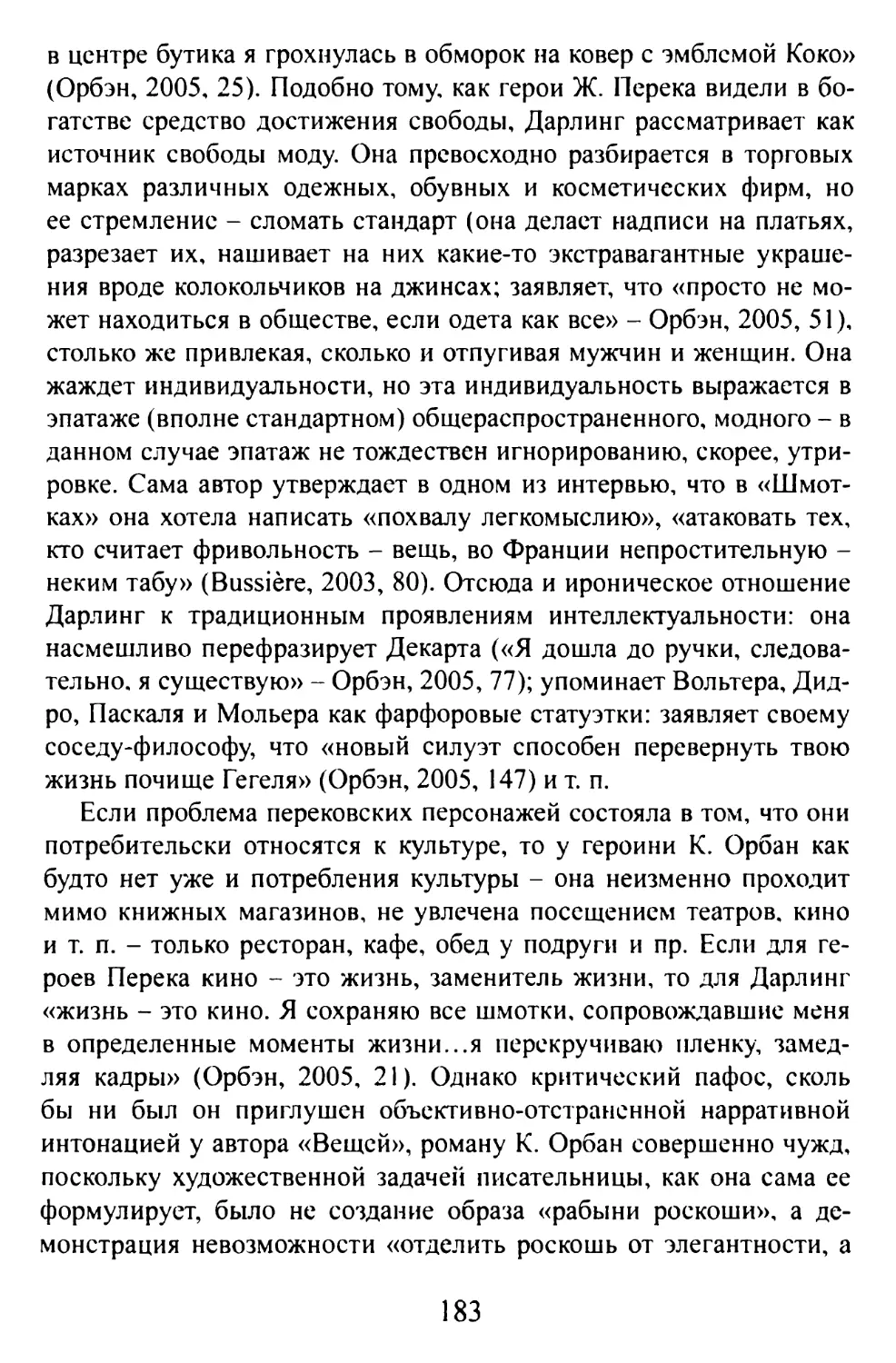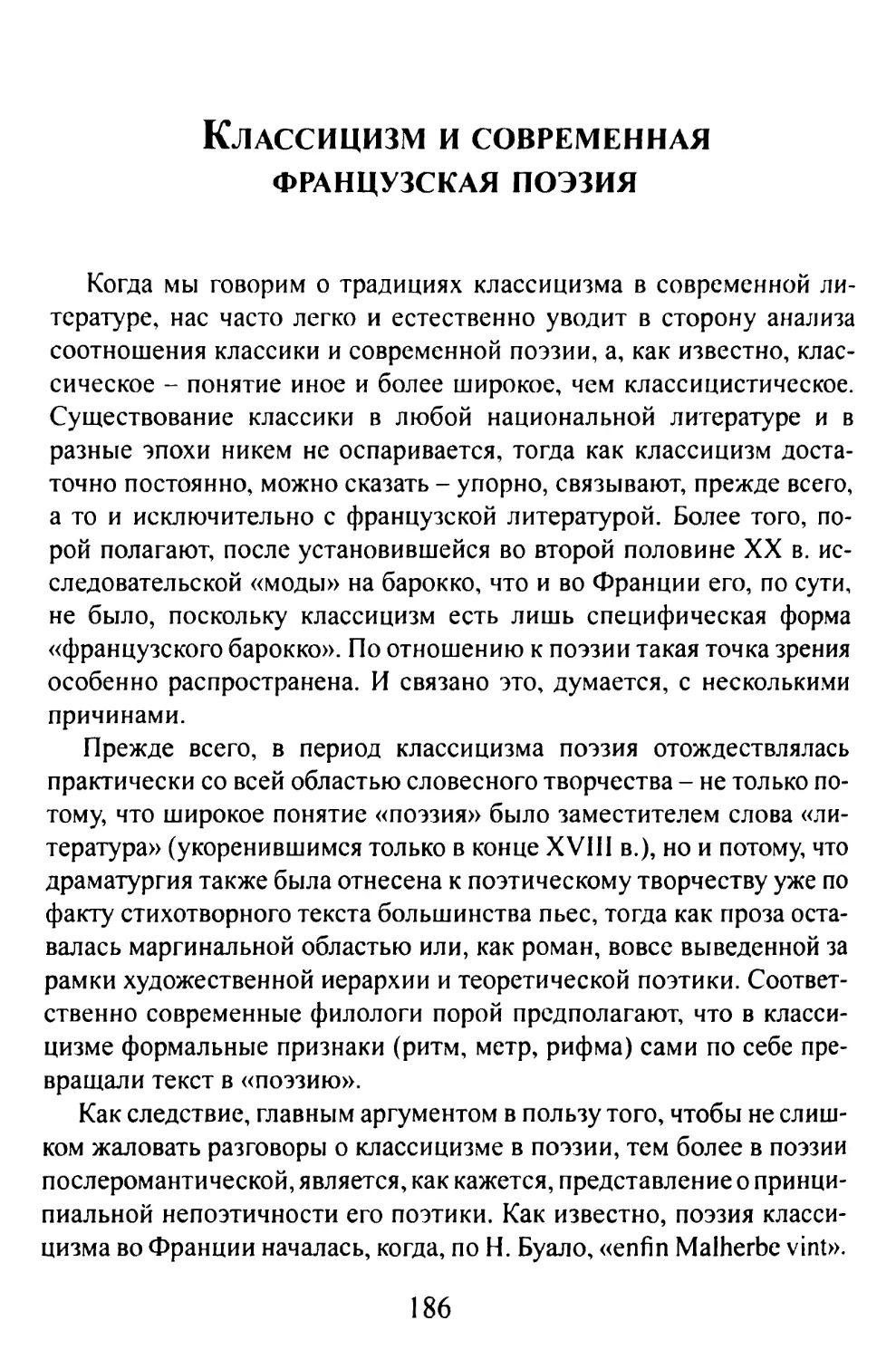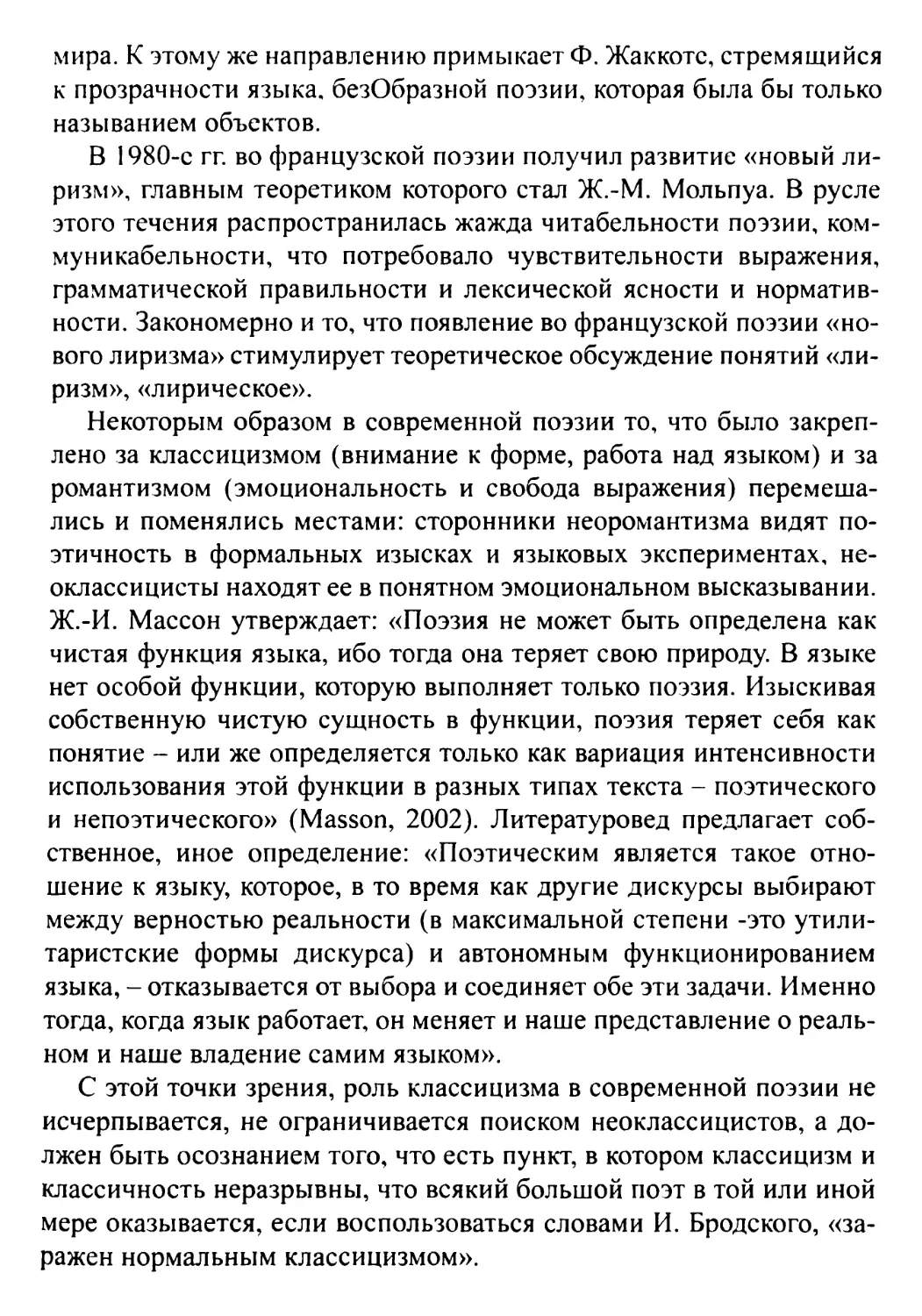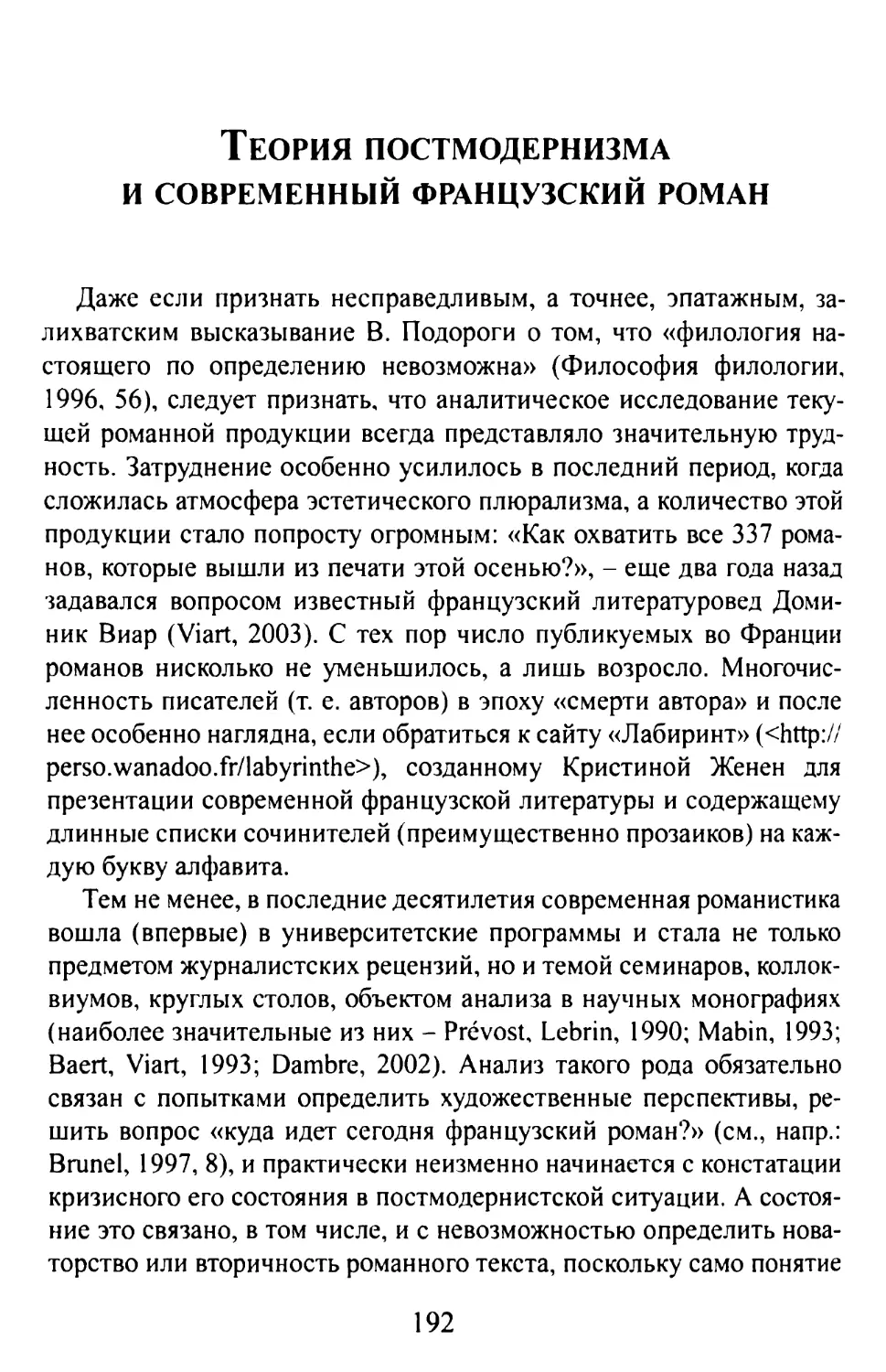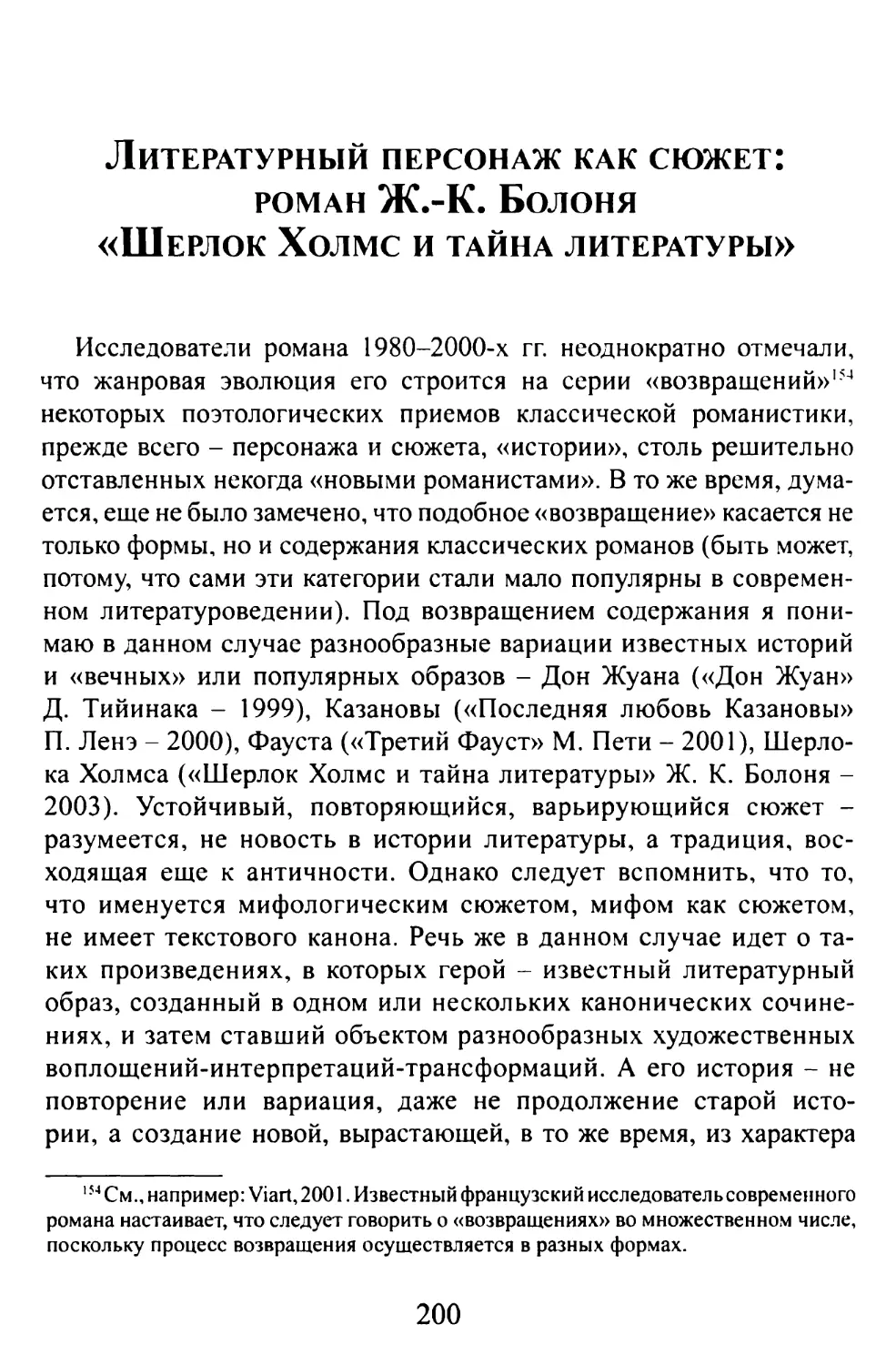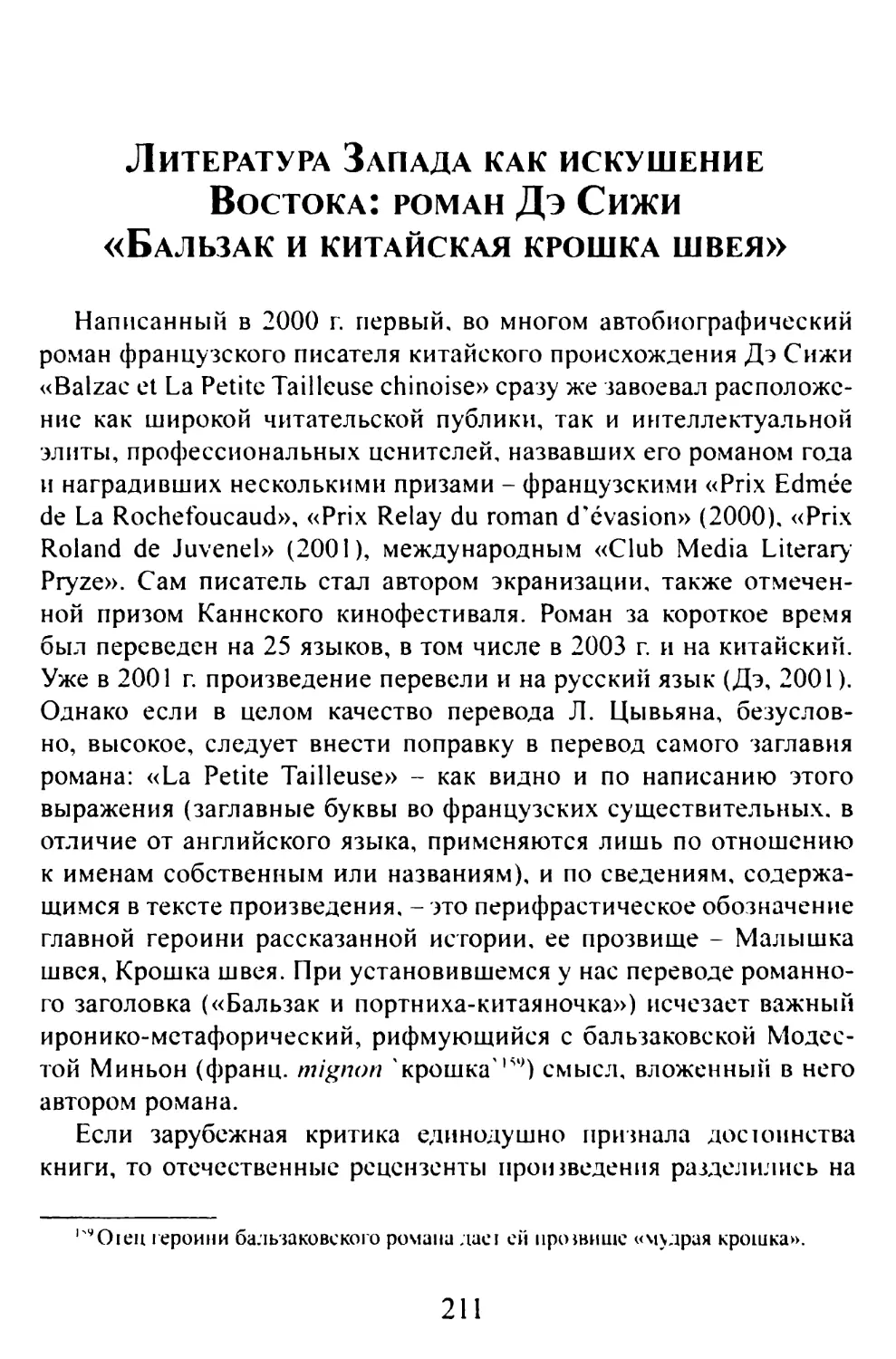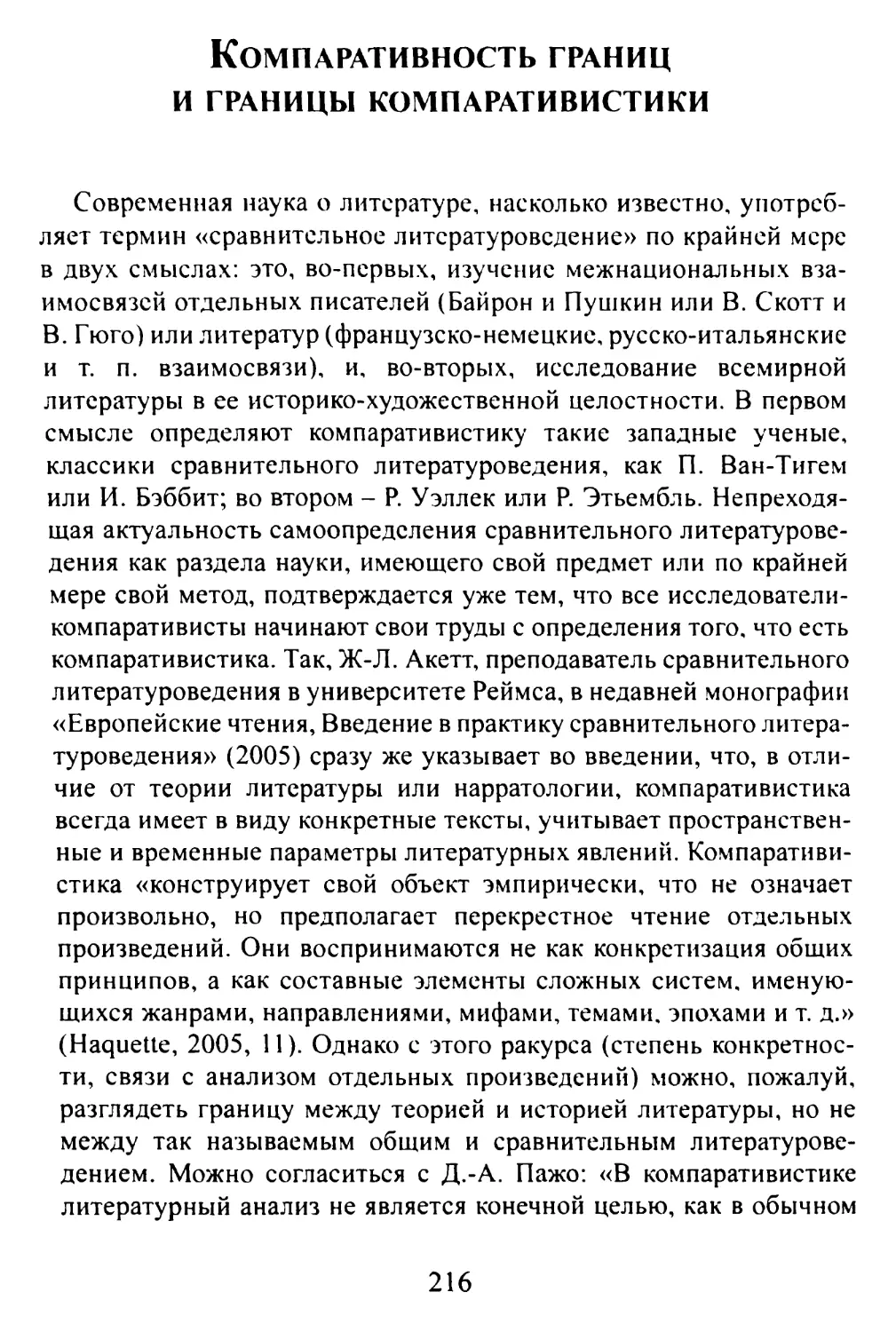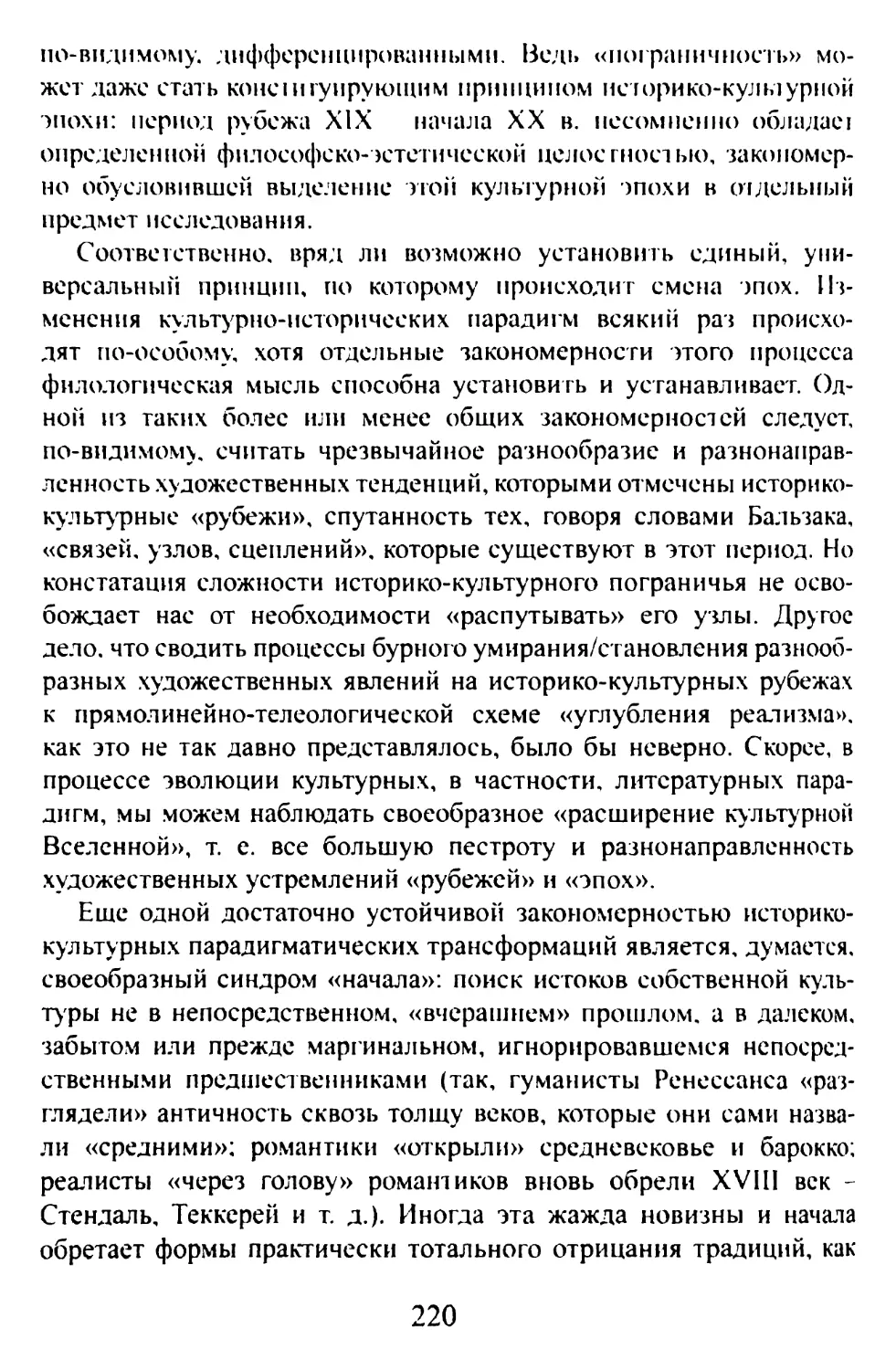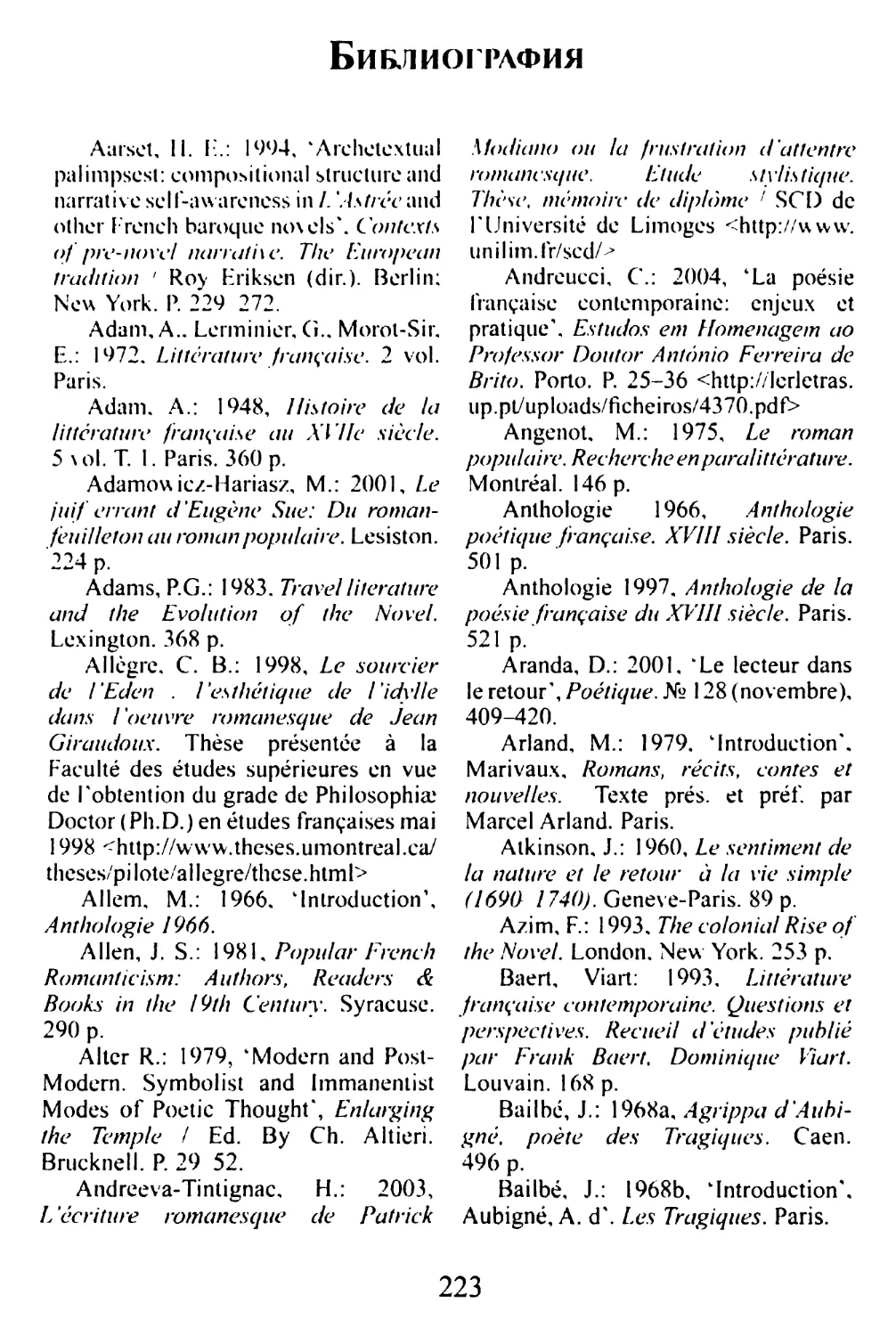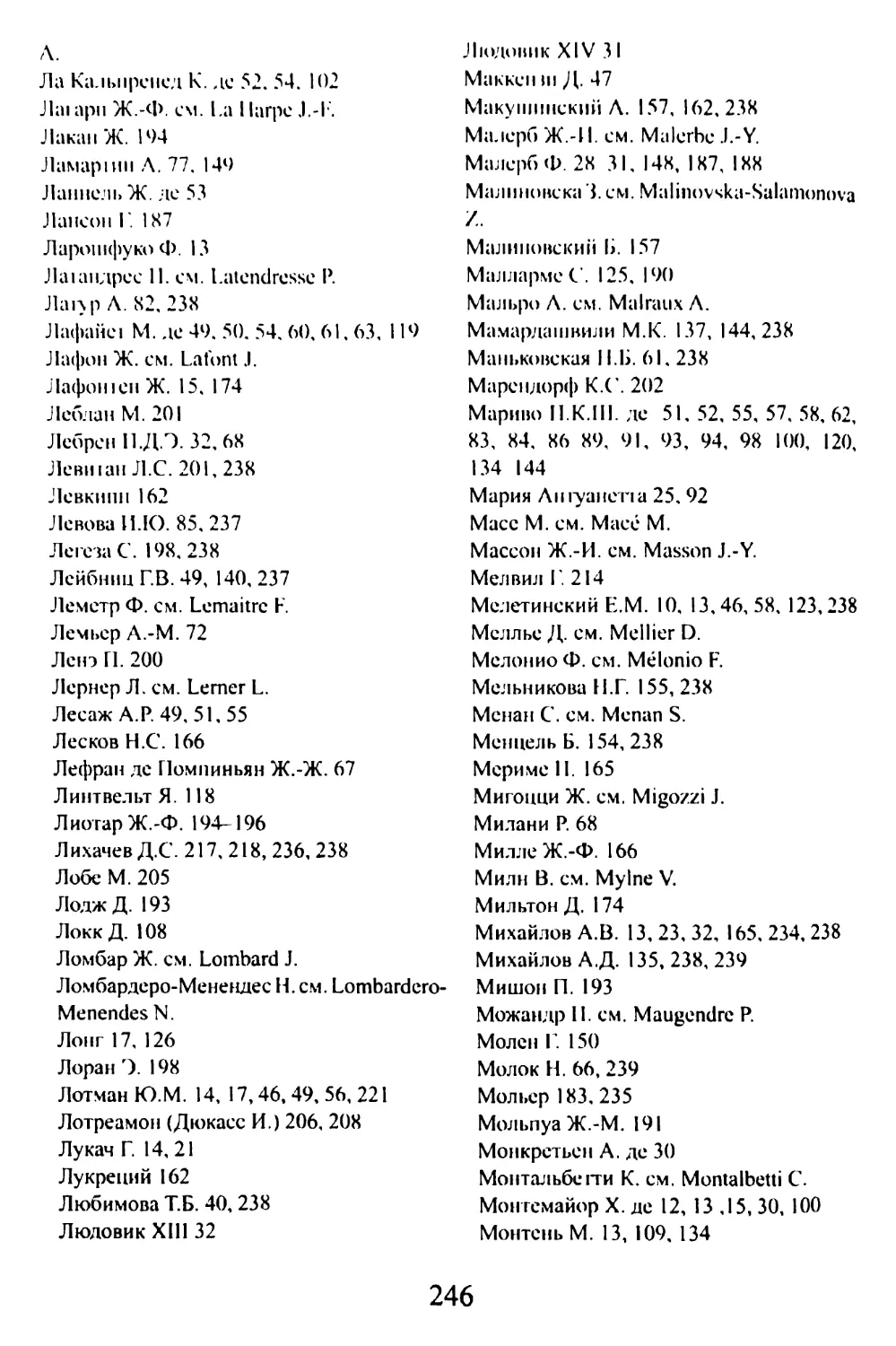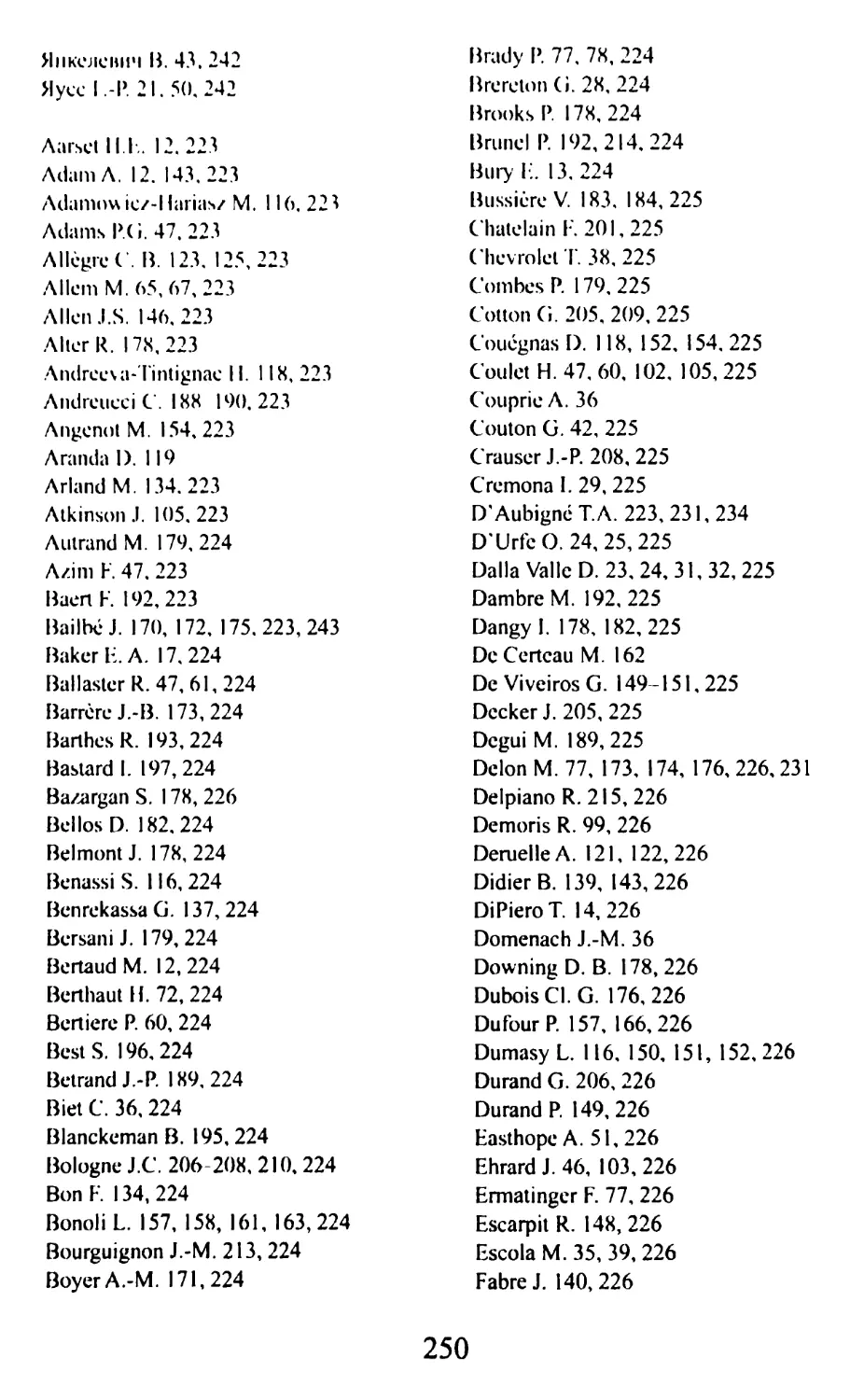Автор: Пахсарьян Н.Т.
Теги: французская литература литература франции монография литературоведение
ISBN: 978-966-348-233-0
Год: 2010
Текст
IJJLLi
Наталья Тиграновна ПАХСАРЬЯН - доктор филолошчс- скнх наук профессор кафедры истории зарубежной литературы филологического факультета МГУ, ведущий научный сотрудник Отдела литературоведения ИНИОН РАН, автор монографии «Генезис, поэтика и жанровая система французского ромаїia 1690-1760-х годов» ( 1996), учебника «История зарубежной литературы XVII века» (2005) и статей по зарубежной литературе XVII-XX вв.
у У.
мш
Посвящается моим дорогим Учителям - Леониду Григорьевичу Андрееву, Лидии Яковлевне Потемкиной, Нине Самойловне Шрейдер
H. T. Пахсарьян (г. Москва)
ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ О ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Днепропетровск АРТ-ПРЕСС 2010
УДК 821.133.1.09 ЬБК 83.3(4Фра) 11 21
Научный редактор канлидаї филологических наук
N1. К). Осокин
Р с ц с из е нiы:
доктор филологических паук, профессор //. J. Литвиненко'.
доктор филологических паук, профессор Б. /I. Гиіенсон
Книга представляет собой сборник статей разных лет по истории французской литературы от XVII века до новейшей современности, объединенных сквозными темами, которые составляют круг научных интересов автора: историческая поэтика пасторали, popular literature, проблемы сравнительного изучения французской литературы. В ряде работ продолжаются разыскания в области исторической поэтики литературы рококо: теория рококо, разрабатывавшаяся автором в монографии «Генезис, поэтика и жанровая система французского романа 1690-1760-х годов» (1996), применяется для анализа драматургии и поэзии.
Сборник фиксирует предварительный итог десятилетней работы (1998— 2008) и адресован филологам-специалистам по истории и теории литературы, аспирантам и студентам гуманитарных специальностей.
Пахсарьян H. Т.
П 21 Избранные статьи о французской литературе: [Монография] / H. Т. Пахсарьян (г. Москва). - Днепропетровск: АРТ-ПРЕСС, 2010. - 256 с.
ISBN 978-966-348-233-0
Книга є збірником статей різних років з історії французької літератури від XVII століття до новітньої сучасності, об’єднаних наскрізними темами, що складають коло наукових інтересів автора: історична поетика пасторалі, popular literature, проблеми порівняльного вивчення французької літератури. У ряді робіт продовжуються розшуки в області історичної поетики літератури рококо: теорія рококо, що розроблялася автором у монографії «Генезис, поетика і жанрова система французького роману 1690-1760-х років» (1996), застосовується для аналізу драматургії і поезії.
Збірник фіксує попередній підсумок десятирічної роботи (1998-2008) і адресований філологам-фахівцям з історії і теорії літератури, аспірантам і студентам гуманітарних спеціальностей.
УДК 821.133.1.09
ББК 83.3(4Фра)
ISBN 978-966-348-233-0
© H. Т. Пахсарьян, 2010
€> АРТ-ПРЕСС, техническое оформление, 2010
Содержание
Библиографическая справка 5
Миф - пастораль - утопия: к вопросу о дифференциации и взаимодействии понятий 9
Историко-литературная репутация произведения как аксиологическая проблема: феномен «Астреи» О. д’Юрфе 20
«Театральное» и «естественное» в драматической пасторали Ракана «Пастушества» 27
Границы трагического пространства в классицистической трагедии П. Корнеля 34
Жанровая трансформация французского романа на рубеже XVII-XVI11 вв 46
Тема руин во французской литературе XVIII века 64
Европейское рококо как тип культуры и стиль жизни 77
Динамика ценностных оппозиций в эволюции пасторали: комедия Мариво «Арлекин, воспитанный любовью» 93
Загадка «Кливленда» Прево: забвение одного «бестселлера XVIII века» 101
Поэтика фрагментарности в рококо и романтизме: Прево и Шатобриан 109
Читатель и писатель во французском романе-фельетоне XIX века 116
Европейская пастораль на рубеже XIX-XX веков и проблема трансфера 123
Пруст и Мариво 134
Эстетические ценности и оценки во французском популярном романе: динамика взаимодействия 145
Литература и паралитература: проблема интерференции 154
3
Реальность - текст - литература - реализм: динамика взаимодействия 157
Отзвуки барокко в поэзии Виктора Гюго 170
От модернизма «Вещей» к постмодернизму «Шмоток»: Жорж Перек и Кристин Орбан 178
Классицизм и современная французская поэзия 186
Теория постмодернизма и современный французский роман 192
Литературный персонаж как сюжет: роман Ж.-К. Болоня «Шерлок Холмс и тайна литературы» 200
Литература Запада как искушение Востока: роман Дэ Сижи «Бальзак и китайская крошка швея» 211
Компаративность границ и границы компаративистики 216
Библиография 223
Указатель имен* 243
Библиографическая справка
Историко-литературная репутация произведения как аксиологическая проблема: феномен «Астреи» О. Д’Юрфе. - Впервые опубликовано в сокращении: Филология в системе гуманитарного знания. - М.: Изд-во УРАО, 2000. - С. 7-13. Переиздано в расширенном варианте в кн.: Свободный взгляд на литературу. Проблемы современной филологии. Сборник статей к 60-летию научной деятельности академика Н. И. Балашова. - М.: Наука, 2002. - С.284-289.
«Театральное» и «естественное» в драматической пасторали Ракана «Пастушества». - Впервые опубликовано: Пастораль в театре и театральность в пасторали. - М: Таганка, 2001. - С. 13-23.
Границы трагического пространства в классицистической трагедии П. Корнеля. - Впервые опубликовано: Вестник Московского городского педагогического университета. Серия «Филологическое образование». - М., 2009. - № 2 (3). - С. 50-61.
Миф, пастораль, утопия: к вопросу о дифференциации и взаимодействии литературоведческих понятий. - Впервые опубликовано: Миф. Пастораль. Утопия. Литература в системе кульгуры: материалы научного межрегионального семинара : [сборник научных трудов]. - М.: МГОПУ, 1998. - С. 12-24.
Жанровая трансформация французского романа на рубеже XVII-XVni вв. - Впервые опубликовано: «На границах»: Зарубежная литература от Средневековья до современности / Под редакцией Л. Г. Андреева. - М.: Экон, 2000. - С. 44-56.
Тема руин во французской литературе XVIII века. - Впервые опубликовано: Тема руин в литературе и искусстве. Царицынский научный вестник. Вып. 6. - М.: Белый берег, 2003. Перепечатано в журнале: Вопросы филологии = Journal of philology. 2004. - № 2. - С. 119-125.
5
Европейское рококо как тип культуры и стиль жизни.
В первоначальном сокращенном варианте опубликовано: XVIII век: Искусство жить и жизнь искусства. - М.» 2004. - С. 272-279. В окончательном варианте в кн.: Rosa mundi. К 90-летию преподавания истории зарубежных литератур в Дальневосточном государственном университете: [сборник статей]. - Владивосток: Изд-во Дальневост, ун-та, 2007.-С. 160-173.
Динамика ценностных оппозиций в эволюции пасторали: комедия Мариво «Арлекин, воспитанный любовью». - Впервые опубликовано: Пастораль как текст культуры. - М.: Таганка, 2005. С. 76-85.
Загадка «Кливленда» Прево: забвение одного «бестселлера XVIII века». - Впервые опубликовано: Вестник Университета Российской академии образования. - М., 2002. - № 1. - С. 34^11.
Европейская пастораль на рубеже XIX-XX веков и проблема трансфера. - Впервые опубликовано под заглавием «Испанская и французская пастораль в эпоху символизма: Хименес и А. Жид»: Историческая поэтика пасторали. - М.: Изд-во МГТУ. 2007.-С. 94-106.
Поэтика фрагментарности в рококо и романтизме: Прево и Шатобриан. - Впервые опубликовано: Романтизм: искусство, философия, литература (материалы международной конференции). - Ереван: ЕГЛУ им. В. Я. Брюсова, 2006. - С. 102-110.
Читатель и писатель во французском романе-фельетоне XIX века. - Впервые опубликовано: Филология в системе современного университетского образования. Материалы межвузовской научной конференции в УРАО, 22-23 июня 2004 года. Выпуск 7. - М.: Изд-во УРАО, 2004. - С. 12-17.
Эстетические ценности и оценки во французском популярном романе: динамика взаимодействия. - Впервые опубликовано: Оценки и ценности в современном научном по6
знании : [сборник научных грудок) / Под ред. С. С. Ваулиной, В. И. Грешных. - Калинин! рад: Изд-во РГУ им. И. Канга, 2009. Ч. 1. - С. 29-39.
Литература и паралитература: проблема интерференции.
Впервые опубликовано: Филология в системе современного университетского образования. Материалы межвузовской научной конференции. - М.: Изд-во УРАО, 2001.-С. 1113.
Реальность - текст - литература - реализм: динамика взаимодействия. - Впервые опубликовано: Вестник МГУ. Серия 9. Филология. 2006. - № 2. - С. 66-75.
Отзвуки барокко в поэзии Виктора Гюго. - Впервые опубликовано: Виктор Гюго: Неизвестный известный. К 200-летию со дня рождения Виктора Гюго : [сборник статей]. - М.: Экон-информ, 2004. - С. 11-15.
Пруст и Мариво. Впервые опубликовано: Мариводаж как ранний предшественник прустианства // Сквозь шесть столетий. Метаморфозы литературного сознания. Сборник в честь семидесятипятилетия Леонида Григорьевича Андреева / Составление и общая редакция Г. К. Косикова. - М.: Диалог- МГУ, 1998. - С. 93-103. В окончательном варианте: Об одном из предшественников Пруста в области повествования // Вестник университета Российской Академии образования. - 2004. - №2(24).-С. 5-15.
От модернизма «Вещей» к постмодернизму «Шмоток»: Жорж Перек и Кристин Орбан. - Впервые опубликовано: Литература XX века: итоги и перспективы изучения. Материалы Пятых Андреевских чтений. - М.: Экон-информ, 2007. - С. 228-234.
Классицизм и современная французская поэзия. - Впервые опубликовано: Литература XX века: итоги и перспективы изучения. Седьмые Андреевские чтения. - М.: Экон-информ, 2009.- С. 123-128.
7
Теория постмодернизма и современный французский роман. - Впервые опубликовано: Литература XX века: Итоги и перспективы изучения. Четвертые Андреевские чтения. - М.: Эконин форм, 2006. - С. 38-43.
Литературный персонаж как сюжет: роман Ж.-К. Болоня «Шерлок Холмс и тайна литературы». - Впервые опубликовано: Вестник Университета Российской академии образования. - 2005. - № 1 (27).-С. 265-274.
Литература Запада как искушение Востока: роман Дэ Сижи «Бальзак и китайская крошка швея». - Полный текст доклада на международной научной конференции «Запад и Восток: экзистенциальные проблемы в зарубежной литературе. - Владивосток, 2008. - Публикуется впервые.
Миф - пастораль - утопия: К ВОПРОСУ О ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПОНЯТИЙ
Литературоведческие понятия, как известно, имеют разный масштаб и различное поле функционирования, и те, что перечислены в заглавии, - одни из самых широко применимых, а порой - накладывающихся друг на друга. Это, однако, не избавляет нас от необходимости всякий раз уточнять их смысл: в противном случае возникает опасность использовать понятие не столько теоретически общо, сколько абстрактно, и не столько метафорически глубоко, сколько расплывчато и туманно. Помня, что литературоведческая «теория все время имеет дело с самой историей» (Михайлов, 1997, 18), следует для уточнения понятий обратиться к конкретному историко-литературному материалу. В данном случае попытка выяснить особенности взаимодействия мифа, пасторали и утопии в их специфическом, дифференцированном значении сделана на материале французского пасторального романа XVII- XVIII вв., конкретно - в процессе анализа преимущественно двух романных сочинений: «Астреи» О. д’Юрфе (1607-1625) и «Поля и Виржини» Бернандена де Сен-Пьера (1789). При этом если понятие пасторали используется здесь в его жанровом обозначении - пасторальный роман, то миф и утопия берутся в данном случае как некие умонастроения (Шацкий, 1990, 21), в свою очередь формирующие нарративные «модальности»1, способные войти в структуру тех или иных жанров. Всегда ли эти модальности обнаруживаются в пасторалистике рассматриваемых периодов с равно очевидностью и всегда ли их соотношение постоянно - главный аспект предпринимаемого здесь исследования названных произве-
1 См. о пасторали не как жанре, а как о «модусе» или «модальности» в кн.: Fowler 1982. Следует, однако, заметить, что хотя пасторальные мотивы, настроения, элементы могут входить и входят в различные жанровые структуры, в рассматриваемый историко-литературный период существуют и собственно пасторальные жанры.
9
дений. Как кажется, это особенно важно для анализа проблемы взаимодействия пасторального романа XVII-XVIII вв. с утопической модальностью - проблемы, не только не решенной, но по существу и не поставленной в отечественном литературоведении: так. при совершенно различной оценке роли пасторального романа в эволюции жанра и E. М. Мелетинский (1986, 165: «Пасторальный роман не органическое звено в эволюционном процессе, ведущем от эпоса к роману нового времени, а побочная форма») и H. Т. Рымарь (1989, 169: «...большую роль в формировании романного мышления сыграл пасторальный роман») сходятся в убеждении, что этот жанр прямо связан с так называемым «ренессансным утопизмом», самое существование которого один из крупнейших отечественных исследователей Возрождения справедливо подвергает сомнению: установленная Л. М. Баткиным (1995, гл. «Ренессанс и утопия») дифференциация между «ренессансной мифологизацией реальности» и собственно утопией, мысль об утопии как «порождении послеренессансной ситуации» чрезвычайно важны и для исследования романной пасторали последующих веков. Вопрос о соотношении пасторальных романов д'Юрфе и Бернардена де Сен-Пьера с утопией затрагивался, но понимался как частный аспект, отдельный от общей динамики эволюции романного жанра в контексте разных историко-литературных периодов.
Обращение к анализу понятия «мифа» в романной прозе Нового времени также сразу же требует пояснения: имеется в виду не миф в его первозданном архаическом виде, а, с одной стороны, сохраняющий свое значение в «коллективном бессознательном» различных культурных периодов ментальный «модус мифа»2, с другой - мифосемиотические знаки, т. е. сознательно воспроизводимые, реконструируемые и т. д. мифологические образы и мотивы (Михайлов, 1996, 178: «мифосемиотическое... шире мифологического») в их литературном претворении. «Вторичная пастушеская мифология», хотя и «уходит корнями в фольклор», но «формируется в собственно литературных текстах» (Топоров, 1988, 292), изначально представая литературным мифом.
2 «...миф можно рассматривать как некую константу коллективного сознанию любой эпохи, а не только архаической» (Парахонский, 1994, 184). По мысли исследователя, своеобразным «модусом мифа» на границе научного и литературного сознания предстает утопия.
10
Наиболее значительным мифологическим мотивом в пасторальной литературе различных эпох является, несомненно, миф о Золотом веке: как никакой другой, он тесно связан с ностальгией - «основной эмоцией пасторали», по мнению Л. Лернера (Lerner, 1972, 41). Суждение исследователя, безусловно, справедливо по отношению к позднеантичной пасторалистике. Оно, однако, не объясняет очевидного интереса к пасторальным жанрам в эпоху Ренессанса: если темой пасторального романа всегда и неизменно является тоска по Золотому веку как безвозвратно утраченному идиллическому прошлому, миро- и самоощущение гуманистов явным образом противоречит такому настроению. В этом смысле особую важность приобретают наблюдения Л. М. Баткина, сделанные им в процессе анализа пасторали Я. Саннадзаро: «Аркадия была идеальным прошлым и вместе с тем идеальным будущим, воспоминанием и желанием гармонии, но ее истинно ренессансная суть заключалась все-таки не в устремлении к иным временам, а в способности мифотворчески возвышать настоящее...» (Баткин, 1983, 247). Исследование Л. М. Баткиным специфики художественного воссоздания темы ар- кадийского Золотого века в ренессансной литературе Италии подчеркивает не статическую, а динамическую природу пасторальной мифопоэтики, однако ее трансформация за пределами Ренессанса трактуется ученым, как кажется, традиционно неверно: «В прециоз- ном искусстве барокко «пастушеские» мотивы замкнутся на условнокнижном, искусственном, аристократически противопоставленном грубой реальности» (Баткин, 1983, 247). Прежде всего, неточно отождествление всего искусства барокко с прециозностыо - особым барочно-классицистическим течением во французской культуре 50-х гг. XVII в. (Pelous, 1980)3, как раз менее всего обращавшегося к пасторальной тематике и к жанру пасторального романа4, хотя и отдающего дань восхищения «великому учителю» (М. де Скюдери)
3 Впрочем, некоторые французские исследователи также рассматривают «Ас- трею» как прецнозное произведение, но прежде всего пол ому что оно кажет ся им недостаточно барочным, ср., например: Maillard, 1973, 40.
4 Возможно, это было связано с тем, что пасторальный мир традиционно вое принимался как преимущественно мужской, тогда как «прециозность была прежде всею женским занятием» (Pelous, 1980, 325). Ср. также: «Распространение понятия «прециозница» свидетельствует об эффективности женского движения в 50-е гг. и далее» (McLean, 1977, 154).
О. д'Юрфе. Что же касается романа последнего «Астрея» (это чрезвычайно историко-культурно важное и репрезентативное произведение Л. М. Баткин не может не иметь в виду, вынося свое суждение о послеренессансной пасторали), то хотя его репутация непомерно искусственного, «аристократически-придворного» сочинения все еще довольно устойчива5, стоит прислушаться к мысли современной французской исследовательницы о том, что пастушеское сообщество «Астреи» культивирует такое «искусство жизни, которое совершенно не походит на образ жизни в свете, ибо все здесь организовано для общего удовольствия» людей, отказавшихся от притязаний тщеславия (Bertaud, 1986, 29)6. «Книжные» пастухи д'Юрфе не более условны, чем герои ренессансной «Аркадии»: ведь ее автор не описывал сельскую повседневность, а создавал опоэтизированный образ гуманистического быта с его плодотворным интеллектуальных! досугом, эстетизированным общением с природой, загородным (на вилле) существованием. Являя собою не только отзвук Ренессанса, но и его гигантский «свод», роман д’Юрфе учитывает, конечно, не только опыт Саннадзаро, а, например, даже в большей степени - X. де Монтемайора: но в сравнении с последним пастухи «Астреи» как раз менее аристократичны: это не знатные сеньоры и дамы, а «благородные сельские жители» (Adam, 1948). В самом деле, сочинение д'Юрфе не являлось идеализированным обозрением современных ему придворных нравов7, каковым в определенной степени стремились быть романы М. де Скюдери, но скорее «предлагало «миру дворян, храбрых обладателей шпаг, но зачастую несколько неотесанных, модель приличного поведения» (Bury, 1996, 86). И модель эта конструируется не из наличествующих придворно-
' Суммируя за три столетия предвзятые критические суждения об «Астрее». как и французском романе высокого барокко в целом, X. Э. Аарсет формулирует эти претензии следующим образом: романы чрезмерно длинны, содержат хаотически изложенные неправдоподобные выдумки о фальшиво, искусственно обрисованных «пастухах» или «рыцарях» и предлагают читателю всяческую галиматью, составляющую содержание придворного этикета XVII века во Франции (Aarset, 1994,230).
6 Ср. также суждение Л. Я. Потемкиной о стремлении д’Юрфе предостеречь современников «от обманчивых ценностей придворной цивилизации, сохранив духовную независимость внепридворного, но цивилизованно-«пасторального» существования» (Потемкина, 1987, 26).
7 Другое дело, что французское дворянство ретроспективно «видело себя» в пастухах «Астреи» и «называло этот образ правдоподобным» (Hart, 1983, 34).
12
аристократических норм, этическим вектором которых, как проницательно сделает позднее вывод Ларошфуко, все более становится тщеславие: д'Юрфе ностальгически обращает взор к легендарной древности, антиномичным фоном мифопоэтического пасторального мира у него служит не «грубая реальность», а суетно-амбициозная повседневность современной дворянской элиты. Автор противопоставляет амбиции любовь (Bury, 1996, 87), превращая это чувство в «подлинно гармонический принцип космического масштаба» (Bury, 1996, 88), а собственное произведение - в «словарь любовной страсти» (Pageaux, 1995). В духе поэтики барокко «словарь» этот имеет поистине энциклопедический характер: и его моральнофилософский слой (включающий идеи стоицизма, неоплатонизма, скептицизма и эпикурейства, опирающийся на широкую традицию морально-философских сочинений от Плутарха до Монтеня), и историко-политические рассуждения, и слой собственно «романический», вбирающий в себя многовековой опыт жанра от Гелиодора до Монтемайора и Сервантеса, способствуют превращению «Астреи» в «roman-clé» (Ж. Женетт) и «roman-fleuve» (Р. Зюбер) своей эпохи. Этико-философская проблематика «Астреи» бесконечно глубже и значительнее социокультурной судьбы этого романа: роль сочинения д’Юрфе как учебника благовоспитанности, «хрестоматии галат- ной цивилизации» надолго заслонил в глазах специалистов его значение как колыбели французского - и шире - европейского романа Нового времени, но главное - мешал увидеть в нем то стремление «преодолеть свою литературность и предстать как действительность и история», которое А. В. Михайлов справедливо считает тенденцией, подспудно обозначившейся в поэтике барочного романа XVII столетия (Михайлов, 1982, 195). Якобы «условный идиллический, внутренне пустой фон пасторального романа» (Мелетинский, 1986, 165) д'Юрфе при ближайшем рассмотрении оказывается и не идилличен (ни по своему естественному окружению - благодатное место провинции Форе, несущее черты эстетизированного весеннелетнего «locus amoenus» пасторальной традиции, знает и природные катаклизмы - например, бурное таяние льдов на реке Линьон, с которого начинается повествование и которое играет драматическую роль в судьбе Селадона, унесенного течением; ни по жизненным историям героев, исполненным сложных перипетий, иллюзий, разоча-
13
рований и т. и.), и нс пуст: действие романа происходит в далеком (V век), но историческом пространстве*, не в книжной, «чужой» Аркадии, а в родной для француза Галлии, в знакомой д’Юрфе по его собственным детским впечатлениям провинции Форе. Наконец, писатель обсуждает в «Астрее», как верно писал еще А. Хаузер, «проблемы реальной жизни и описывает, посредством причудливого переодевания, реальных современных ему людей» (Hauser, 1952, 523). Это отнюдь не обозначает сведения романа к произведению «с ключом»1’: прежде всего реальна сама ситуация выбора благородными героями образа поведения (как верно заметил Ю. М. Лотман (1992, 1, 253), «наличие выбора, возможность сменить поведение на другое является основой дворянского бытового уклада»), к тому же автору романа нельзя отказать ни в желании внести детали своеобразного «пастушеского» быта (его благородные герои, выбравшие пасторальное существование, не только поют, слагают стихи, беседуют о любви, но и живут в хижинах, пасут овец, выхаживают их в случае болезни, готовят сыр и даже стирают, см.: Yon, 1977, 111-117). ни в стремлении показать общество равно прекрасных и равно образованных и благовоспитанных пастухов в некоей социальной иерархии, в соотношении пастухов и рыцарей, пастухов и друидов, пастухов и правителей. Однако вряд ли стоит соглашаться с современным последователем идей Г. Лукача, считающим, что иерархия романа д’Юрфе воплощает лелеемую аристократами «консервативную социальную стратификацию» (DiPiero, 1992, 48). Иерархические отношения героев «Астреи», вбирая опыт ренессансной
* Возможно, Зигмунд фон Биркен прав, относя «Астрею» по ведомству «исторической поэмы», сколь ни парадоксальным кажется его суждение сегодня (о теории романа у Биркена см.: Михайлов, 1997, 164-165). Д’Юрфе создавал свой роман, опираясь на исторические сочинения его эпохи, пытался «правдоподобно» обрисовать политическую ситуацию в Римской империи и Галлии V в., а главное - связывал «романическое» и «историческое», показывая либо зависимость личной судьбы от Истории, либо, напротив, Истории от личных чувств и характеров героев (Guicheinerre, 1977,45-52).
9 Собственно говоря, в поэтике романов «с ключом» нет ничего эстетически ущербного. Однако у «Астреи» не было авторского «ключа», первая неполная расшифровка персонажей появилась впервые в 1681 г., т. е. гораздо позднее смерти д’Юрфе. Конец 50-х - 80-е гг. XVII в. были периодом, когда многие произведения публиковались с ключами, которых их создатели не предполагали - среди них, например, «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле (изд. 1659, 1663 гг.)
14
мифопоэтики, сращивают ее с эмблемно-аллегорическим (женщина- правитель государства как эмблема женской любовной власти) и одновременно - сказочным (высокое «социальное» положение нимф) смыслами. Если д'Юрфе и «консервативен», то лишь в своем этикопсихологическом любовном идеале, на первый взгляд сохраняющем приметы старинной «куртуазности». В то же время писатель явно пересоздает этот идеал, в «куртуазном» на первый план выходит не военная доблесть, а возвышенность галантного чувства, и прежде разделенные - в том числе и у Монтемайора - сферы «куртуазнорыцарского» и «пасторального» оказываются в «Астрее» взаимо- проницаемыми (Pageaux, 1995, 150), сливаются в единстве пафоса защиты верного служения своей возлюбленной. И, однако, это лишь один из вариантов любовных взаимоотношений, обрисованных д'Юрфе: «более необходимый роману, чем дюжина Селадонов» (Лафонтен), защитник непостоянства и чувственной любви Илае не только привносит в высокое повествование комическую ноту, но и чрезвычайно важен для общей романной концепции, выступает неким «драматизатором» любовных дискуссий. По мнению Ж. Лафона, выявляющийся и в развитии историй и в спорах героев драматизм любовных отношений, их порой катастрофическое развитие, демонстрация тирании любви в конце концов подрывает концепцию пасторального Золотого века и благодатного места в романе, ввергая пастухов в то же столкновение амбиций, которого они стремились избежать (Lafont, 1984, 17). Специалисты обычно подчеркивают в качестве противовеса барочному пессимистическому настроению благополучную развязку романа, однако известно, что эта развязка все же - не авторская. «Лирический» мир «Астреи», при всей его связанности с традицией гуманистической ренессансной пасторали, - мир по-барочному антиномичный, трагикомический и иллюзионный. Понятно, что он далеко отстоит от утопии. Отсутствие в романе д’Юрфе утопической модальности связано, думается, не с тем, что пастораль традиционно обходится без изображения государственно-политических аспектов жизни - они в «Астрее» есть, хотя и в непасторальном слое сюжета, и не с тем, что его благородное пастушество оказывается хотя бы внешне, но осуществимым - и в практике двора (пасторальные маскарады), и в любовнопсихологическом обиходе буржуазно-дворянских салонов - далеко
15
не всегда утопия принципиально не воплотима в действительное!и. Главное, думается, в том, что в романе д'Юрфе нет того «тотальної о несогласия с существующим миром» (Rohou, 1989; Шацкий, 1990). которое признается доминирующим признаком утопического сознания.
Напротив, именно такое тотальное несогласие, неприятие существующего общества в целом, цивилизации как таковой составляет основу мироощущения руссоистских пасторальных романов конца XVIII столетия. Пасторальный роман Бернардена де Сен-Пьера появился более чем полтора века после «Астреи» - в 1788 г., но это был период, при всей его драматичности и ощущении близости решительных перемен, также отмеченный модой на пасторальность. Эта мода захватила и поэзию, и театр, и прозу, оставила след и в литературной теории 1780-1790-х гг. (Racault, 1986, 179). Внешне в историко-культурном контексте «Астреи» и «Поля и Виржини» многое сходно. В то же время пасторальный роман конца XVIII века, как кажется, перестает органично ощущать, или точнее некритически принимать свою литературность, отворачивается от мифопоэтики пасторали XV-XVII вв.. пытаясь насытить тему книжного пастушества реалиями современной сельской жизни (или отшельнической жизни на лоне природы) и одновременно наполнить произведение утопическими смыслами. О специфике утопичности «Галатеи» Флориана уже ранее шла речь (Пахса- рьян, 1997). Иным, чем Флориан, путем идет Бернарден де Сен-Пьер. Он прежде всего отказывается от ностальгической ассоциации с темой Золотого века, столь свойственной пасторали, отнеся действие своего романа в совсем недалекое прошлое - в 1720-1740-е гг. Удаленность во времени писатель, правда, заменяет пространственной удаленностью, но совершенно не свойственной до сей поры пасторали: он помещает действие «Поля и Виржини» на остров Маврикий, который, как замечает Ж.-Ж. Симон, в то же время является своеобразным «островом Робинзона»10. Эта «литературно-географическая» параллель с романом Дефо о Робинзоне на самом деле весьма значима: если герой английского романиста отважно строил на необитаемом острове улучшенный вариант цивилизации, то руссоист Бернарден де Сен-Пьер обращается к
'° Ученый обращает также внимание на то, что Бернарден де Сен-Пьер описывает леса Америки, не побывав в них (Simon, 1967, 80, 116).
16
островной теме в силу стремления найти «реальное» пространство для воплощения утопии «естественного состояния». При этом, как и Руссо (замечавший в своем знаменитом трактате, что естественное состояние нигде не существует и, возможно, никогда не существовало), Бернарден де Сен-Пьер подразумевает под «естественным состоянием» отнюдь не какое-либо историческое прошлое, не «старое доброе время». Напротив, как будто вступая в спор с д’Юрфе, автор пишет в пространной преамбуле к роману: «Эти старые времена, так восхваляемые за их героические добродетели, - есть только времена преступлений и ошибок, большая часть которых, к нашему счастью, перестала существовать <.. .> На тех же землях, где некогда друиды сжигали людей, философы зажигают для них огонь разума». При том, что писатель готов утверждать реальность действий и персонажей своего романа («их история правдива в своих основных событиях» - Bernardin de Saint-Pierre, 1993, 204), как во всякой утопической литературе, в «Поле и Виржини» «речь идет не об описании жизни, а о создании жизненного подобия, дабы была доказана заявленная доктрина» (Baker, 1910, 264). Эта доктрина сформулирована самим писателем в предисловии к первому отдельному от «Этюдов о природе» изданию книги: «наше счастье состоит в том, чтобы жить, следуя природе и добродетели» (Bernardin de Saint-Pierre, 1993, 203). Просветительская жажда жизнестроительства сливается у Бернардена де Сен-Пьера с сентименталистским прославлением естественности и чистоты. Идеальное сочетание этих качеств в героях романа порождает идиллию их детской дружбы-любви, демонстрирующую ориентацию автора не на ренессансный или барочный, а на античный пасторальный роман - «Дафниса и Хлою» Лонга”. Потому довольно часто автора «Поля и Виржини» причисляют к «неоклассицистам»: он сознательно обращается к античной модели и античной мифологии - прежде всего как к средству возвысить действительность. Одновременно мифологические элементы, которые специалисты обнаруживают в книге, вполне «рационально, т. е. немифологически организованы» (Лотман, 1992,1,68): здесь нет ни нимф и друидов, ни волшебных источников Любовной Правды, как у д’Юрфе, и мифоло-
11 Через Лонга как общий источник, полагает Ж.-М. Рако, «Поль и Виржини» связан еще с одним пасторальным сочинением его эпохи - «Аннетой и Любеком» Мар- монтеля (Racault, 1986, 180).
17
гическое выступает не как «естественная» часть мифоно л ичсской действительности, а как арсенал сравнений и ассоциаций, возникающих у автора и читателей, как «знак литературности произведения, эстетический код» (Racault, 1986b, 43). Не античный миф о Диоскурах (следы которого может аналитически обнаружить образованный читатель), а близкие «простому», естественно-чувствительному читателю библейские ассоциации с Адамом и Евой вносят в произведение ту проникновенную эмоциональность, которую смоіли вскоре оценить романтики, но которая, по сути, вовсе не романтична, ибо лишена той безмерности, максимализма чувств и мыслей, коюрые характеризуют романтическую личность.
Поэтичность романа Бернардена де Сен-Пьера, очевидная многим поколениям читателей, проистекает, как кажется, из друюю источника, нежели в романе д’Юрфе. Сложившееся расхожее представление о противоположности поэтического и утопического, чувствительного и утопического, каковое непременно отождествляют с рассудочным, вероятно, мешает принять концепцию наличия в «Поле и Виржини» утопической модальности. К тому же считается, что в отличие от утопии, жанра по природе институционалистского, пастораль рисует образ мира без государства, без социальных институтов, порой даже без сколько-нибудь организованного общества (Trousson, 1975,26-27). Однако в таком случае ни «Астрея» д’Юрфе. ни. например, «Аркадия» Сидни, романы с «институционалистской» проблематикой не будут иметь отношения к пасторальной традиции, с чем трудно согласиться. С другой стороны, прав исследователь, обнаруживающий в романе Бернардена де Сен-Пьера специфическим образом организованное на принципах общей собственности, равенства и братства «маленькое общество», «пара-утопическую» социальную ячейку (Racault, 1986а, 185). И даже то, что это общество приемлет рабство (тема слуг-негров в семьях Поля и Виржини) вполне включается в идущую от Т. Мора утопическую традицию.
Утопические интенции истории Поля и Виржини не устраняются, а скорее усиливаются и тем, что их идиллическое существование хрупко и в конце концов разрушается: при этом губительное вмешательство извне («выталкивание» Виржини в цивилизацию и печальные последствия этого) обрисовано гораздо более отчетливо, чем потенциально неидиллические свойства самого любовного
18
чувства (любовная «болезнь» героини). Недаром при том, что роман практически распадается на две части - идиллическую, светлую и мрачную, элегическую - читатели чаще всего принимали его как просветленную любовную идиллию, роняли на его страницы «сладкие капли сострадания» (Корабли, 1986, 94)’2 - да и сам автор обещал своим читателям историю счастливых семейств. С другой стороны, смерть героев становится сентименталистским способом критики общества, подчеркивает неизбывный, с точки зрения руссоиста Бернардсна де Сен-Пьера, контраст Природы и Цивилизации- и вписывается в поэтику утопии с ее выразительным противостоянием общественного идеала и действительности.
Рассмотренная на примере двух французских романов динамика мифологического и утопического в романной пасторалистике. конечно, не выявляет и не может выявить некоей универсальной закономерности взаимодействия этих модальностей в пасторальном жанре всегда и везде. Однако она, думается, позволяет существенно уточнить направление эволюции европейского пасторального романа от позднего Ренессанса к XVII столетию и от него - к веку Просвещения и, быть может, в большей мере, чем прежде, оценить отнюдь не маргинальное значение пасторального романа в общей истории жанра в Новое время. Неожиданный на первый взгляд возврат к романной пасторали на исходе XX столетия12 13 - наглядное тому свидетельство.
12 У. Хэзлит, из рассуждений которого цитируются эти слова, приводит «Поля и Виржини», как и «Новую Элоизу» и «Вертера» в качестве примера «радости чтения».
13 «Пастораль» как авторское жанровое определение, включенное в заголовок или подзаголовок романа, - явление часто встречающееся во второй половине нашего века в разных национальных литературах, см., например, «Американскую пастораль» Ф. Рота (1997).
Историко-литературная
РЕПУТАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА:
ФЕНОМЕН «АСТРЕИ» О. Д’ЮРФЕ
Современные истории литературы, как и исследования ее отдельных этапов, направлений и жанров, все больше опираются не только на анализ великих произведений прошлого, сохранивших или приобретших важное художественное значение, получивших репутацию шедевров, но и на так называемых «minores», второстепенных авторов. Их сочинения признаются ныне большинством литературоведов не только столь же, но иногда и более репрезентативными для изучения литературного процесса или отдельных его сторон14. В то же время «статус второстепенного автора - один из самых неустойчивых. Вследствие того, что он определяется по отношению к эстетическим, поэтологическим, социальным, философским, политическим, идеологическим позициям, статус второстепенного автора зависит от факторов, внешних по отношению к произведениям, и их изменчивость лежит в основе колебаний в оценке писателя как второстепенного или великого» (Leiner, 1984, 287).
Более того, в иерархии «шедевр - второстепенное произведение» пока не определено место таких сочинений, которые, с одной стороны, не могут быть отнесены к безусловным шедеврам, если признать, что важнейшим качеством таковых является их непреходящая, «вечная» актуальность, читательское долголетие, но, с другой, - никак не относятся к литературной периферии своего столетия, оказывают мощное воздействие на современников, наконец, лишены художественной «вторичности», из которой, собственно, и произрастает историко- литературная «второстепенность» того или иного сочинения. В то же
14 Ср., например: «...в художественных произведениях «второго ряда» так же, если не в еще большей степени, могут проявиться умственные установки эпохи» (Гуревич. 1986, 159).
20
время стремительное падение читательской популярности таких произведений - например, «Амадиса Галльского» или романов Ричардсона, - делает их эстетические достоинства небезукоризненными для специалистов, вынуждает прибегать ко внешне вполне естественным оговоркам о несоответствии книг такого рода современному вкусу и перспективе развития жанра в последующие эпохи, а значит об их изначальном эстетическом несовершенстве (ведь совершенное - в одно и то же время «вечно» и «актуально»). Однако в таком случае этому, сегодняшнему вкусу вольно или невольно придается статус «правильного» суждения, тогда как оценки современников переходят в разряд «исторических заблуждений». Нашей, выражаясь словами Д. Юма, «норме вкуса» (зависящей, как показал в свое время этот философ, от индивидуальных особенностей, страны, эпохи, поколения, возраста) мы бессознательно придаем черты подлинной эстетической нормы, ориентирующейся, согласно Канту, не на прихотливый изменчивый вкус, а на непреходяще Прекрасное (см. об этом: Genette, 1997, II, 78-79). Дилемму современной литературной теории в решении этой проблемы обозначил Г.-Р. Яусс: «...если понимать художественное произведение в смысле Поппера, как открывающее себя созерцателю, реципиенту, то эстетике указывается путь в направлении диалогичности эстетической коммуникации; если понимать художественное произведение в смысле Лукача, как открывающее себя в «трансцендентном», то эстетика вновь обретает платоническую гарантию вневременного совершенства, оставляя отныне воспринимающему роль чисто контемплятивного понимания монологической истины произведения» (Яусс, 1997, 189). Но если обратиться к практическому осмыслению конкретных литературных памятников, то проблема оказывается лежащей в другой плоскости: она, думается, в тяготении современных историков литературы к тому, чтобы придать сегодняшнему прочтению произведения, полученному в акте эстетической коммуникации, статус «трансцендентной» истины15, в смешении одного с другим.
Как избежать подобного казуса в литературоведческом анализе - казуса, превращающего по существу анахроническое субъективное
15 Это один из примеров того, как «...задается идеологическая легитимация собственной авторитетности в культуре и литературе...» (Гудков, Дубин, 1994, 62).
21
суждение в по видимости объективную оценку, некий третейский суд литературной истории? Решение, думается, лежит не на пути отказа от аксиологического компонента историко-литературного исследования. Признавая, вслед за М. Л. Гаспаровым, что «оценоч- ность в филологии - лишь следствие ограниченности нашего сознания, которое неспособно вместить все и поэтому выделяет самое себе близкое» (Гаспаров, 1998, 448), следует одновременно заметить, что эта ограниченность вряд ли может быть полностью устранена. Невидимому, историки литературы навсегда обречены искать филологическую истину между Харибдой вкусовщины и Сциллой холодного равнодушия. Филологическое исследование не может (и, наверное, нс должно) быть объективным, оставляющим за скобками личность самого исследователя, но оно может - и должно - быть по-особому, нс математически точным, причем первым условием этой гуманитарной точности является позиция не выносящего приговор, но рассуждающего исследователя, применяющего исторический подход как к изучению самого произведения, его поэтики, так и к анализу его судьбы, его художественной ценности, разводящего понятия читательской репутации произведения (в разное время всегда разной) и его историко- литературной значимости, его значения в генезисе и развитии жанра, стиля, типа героя или сюжетного мотива, и т. п., а главное - опирающегося в своей оценке и анализе на собственное знание и собственное впечатление от исследуемого текста больше, чем на сколь угодно авторитетное или хрестоматийное чужое суждение.
В этом аспекте чрезвычайно важно, как кажется, проследить, перипетии судьбы одного из самых читаемых некогда французских романов XVII столетия - «Астреи» Оноре д’Юрфе.
Высочайшая репутация романа д’Юрфе у его современников - факт общеизвестный. В предисловии к роману М. де Скюдери «Ибрагим, или знаменитый Паша» (1641) общее восхищение читателей выражено, быть может, наиболее ясно:
Если может из смертных хоть кто-то По заслугам приравнен быть к Богу, Лишь д’Юрфе приобрел это право.
Классицисты и приверженцы барокко, вечно спорящие друг с другом и часто несогласные со своими собственными единомыш22
ленниками, примиряются, читая этот роман, и в унисон поют ему дифирамбы: «это один из самых ученых и самых приятных романов» (Тристан л'Эрмит); «это первый правильный роман, заслуживающий того, чтобы его прочли даже ученые» (Шаплен). Энциклопедичность романа - источник и удовольствия (его стиль - правильный и приятный), и пользы (он выражает авторскую ученость и интересен ученым): это произведение - «картина всех состояний человеческой жизни; мы видим в нем королей и принцев, придворных и простых пастухов, невинные нравы и занятия которых автор рисует в столь искренней манере, что идея, кою он выражает этим описанием, очаровывала не единственно Францию, но всю Европу на протяжении более,.чем пятидесяти лет» (Ш. Перро). «Астрея» оказывается не менее «грандиозной», но притом более ранней «симфонией всех знаний своей эпохи», каковой, по точному определению А. В. Михайлова (Михайлов, 1997, 418), является позднебарочный немецкий роман, да и в целом романы высокого барокко. И одновременно она выступает учебником стиля, письма («совершенный способ письма» - отзыв об «Астрее» еще одного современника д’Юрфе, Пьера де Демьс) - и учебником жизни. Тому есть масса свидетельств - от учрежденной в Германии «Академии истинных любовников», члены которой играют в любимый роман и одновременно его «проживают», до насмешливо зафиксированной Фюретьером расхожей моды на «Астрею», докатившейся и до среды мелких парижских буржуа, неловко, но старательно подражающих его героям.
Достаточно известны и дальнейшие перипетии издательской и читательской судьбы «Астреи». В начале XVIII столетия, в 1713 г., роман публикуется в сокращении, почти в кратком изложении, претерпевает существенные переделки. Издатель, аббат Шуази, так объясняет необходимость переработки романа в предисловии к «Новой Астрее»: «Некая дама подсказала мне, сама того не зная, первоначальную идею этого сочинения. Ей говорили, что всякий, кто молод и наделен умом, должен читать и перечитывать «Астрею». И, однако, несмотря на свое намерение и решимость, она никак не могла добраться даже до конца первого тома. Длиннейшие эпизоды, ненужные научные описания, в которых она, как полагала, не слишком нуждалась, изложение глубокомысленной доктрины древних друидов, часто встречающиеся и притом холодные стихотворения, все это настолько оттолкнуло ее, что она не смогла продолжить на-
23
водящее скуку чтение. Я предложил ей исправить вес замеченные ею недостатки, исходя из хорошего естественного вкуса, сделать из «Астреи» небольшое сочинение о сельской галантности, смягчить в ней некоторые слишком вольные места, очистить ее от теологии, политики, медицины, поэзии, убрать всех ненужных персонажей, не упуская из виду Астрею и Селадона, и тем самым избежать подводных камней всех больших романов, где герой и героиня лишь изредка появляются на сцене, что мешает читателю интересоваться лишь их приключениями, а не их друзей и подруг, любить лишь их, а не тех, кто занимает три четверти книги» (цит. по: D’Urfe, 1935, 76). Очевидно, что автор адаптации приспосабливает произведение д’Юрфе не просто к новому вкусу другой эпохи (предпочитающего естественное - подчеркнуто искусственному, изящное и миниатюрное - мощному и громоздкому и т. п.), но прежде всего исходит из нового представления о романном жанре. Роман в этот период стремится быть не энциклопедией, словарем, картой человеческих страстей и характеров, а историей частной жизни, ее «скандальной хроникой», извлеченной не из древних анналов, а из сплетен и воспоминаний, газетных историй и интимных писем. Роман оказывается не универсальным сводом этических теорий, а скорее «трактатом о нравственности, сведенным к упражнению» (Прево), примеру, случаю из жизни. Этим жанровым критериям сочинение д’Юрфе мало соответствует, и прежний восторг сменяется критическим отношением к «Астрее».
Какое поколение читателей оказалось ближе к «трансцендентной» истине? Должны ли мы согласиться с современниками д’Юрфе и восхититься эстетическим совершенством и энциклопедической полнотой мифопоэтического мира барочной «Астреи», или признать, что более точен вкус другой эпохи, XVIII столетия, с ее тяготением к рокайльно-сентиментальной стилистике «естественного» и «частного»? А может быть истинные эстетические совершенства (точнее, несовершенства) романа д’Юрфе открылись лишь в /XIX столетии, когда он и вовсе перестал быть широко известным и насущно необходимым текстом? Впрочем, нет правил без исключений. Так, следует оговориться, что в эпоху Просвещения читали и полный текст «Астреи»: он был переиздан в 1731 г., о нем с похвалой отзывался Руссо, испытавший несомненное влияние д’Юрфе. Следы знакомства с романом специалисты обнаруживают и в сле-
24
дующую эпоху - в частности, у Шатобриана и В. Скотта. Однако общая тенденция была мало благоприятна для «Астреи»: Лагарп, несомненно, выражал общее мнение, признаваясь, что не смог прочесть роман, несмотря на необычайную популярность, какая некогда была у «Астреи»: «Несколько черточек искренности, несколько пасторальных картинок, в которых находили модели поведения, помогают ныне вынести общее пустословие и галиматью разве только профессиональным филологам и эрудитам» (La Harpe, 1821, 503). И концепция романа как повествования о повседневной жизни, все более укрепляющаяся в эпоху реализма, и само изменение структуры повседневности (термин Ф. Броделя) XIX в. по сравнению с XVII столетием удаляли от читателей того периода мир пасторали д'Юрфе и, вопреки прогнозам современников, она не устояла в потоке времени, канула в реку читательского забвения.
Когда в середине XIX в. «Астрея» становится объектом внимания литературоведов-эрудитов, они не случайно обращаются в первую очередь к поискам «ключей» к произведению, пытаются читать роман как некую зашифрованную, точнее, маскарадную хронику светской жизни Франции начала XVII в. В романе д’Юрфе как будто пытаются обнаружить реальное, историческое, жизненное содержание сквозь мифопоэтическую форму, т. е. опять-таки сопрягают суждение о ценности произведения с господствующим представлением о поэтике и задачах романа.
К началу XX в. накал читательских страстей вокруг «Астреи» окончательно иссяк. Историки литературы неизменно отдают дань уважения роману, занимающему почетное место в жанровой эволюции, но, кажется, не слишком озабочены тем, что роман д'Юрфе перестали читать, что его все меньше знают непосредственно, по собственному впечатлению, а не по устоявшимся оценкам.
Современный литературовед выражается по этому поводу вполне определенно: «Не все ли равно, по правде говоря, что поколения читателей, вплоть до Жан-Жака и Марии Антуанетты были страстно влюблены в роман Оноре д'Юрфе, если мы стали неспособны получать от него удовольствие?» (D’Urfe, 1984, 7). По-видимому, хотя бы историкам литературы это должно быть не все равно. Во всяком случае у современного читателя - не только отечественного, но и французского - не так много возможностей получить или не полу-
25
чить удовольствие от чтения «Астреи»: се полный текст, насколько известно, был опубликован репринтным способом лишь однажды, в Женеве, в 1966 г. Даже в программу филологической подготовки французских студентов роман д'Юрфе был включен только в начале 80-х гг. Тем более отсутствует возможность прочитать «Астрею» у русскоязычного филолога или у того, кто не владеет французским. Это обстоятельство самым непосредственным образом влияет на то, как теоретики романа представляют себе закономерности развития этого жанра в прошлом и настоящем, оно же и определяет концептуальное расхождение между специальными исследованиями, посвященными поэтике романа д’Юрфе или шире - французского романа барокко, и теоретическими трудами о романном жанре, общими историями романа: в последних «Астрее» традиционно отводится не слишком много места и внимания. Думается, что недооценка роли пасторального романа в общей эволюции жанра, в том числе и в XX в., - прямое следствие отсутствия живого читательского впечатления от книги д'Юрфе - не потому, что оно невозможно в принципе, в силу стабильных внутренних свойств произведения, а потому, что оно трудно осуществимо, так сказать, технически и одновременно не осознается как методологически необходимое.
Задача данной статьи все же не сводится только к призыву читать «Астрею» - роман, вместивший в себя самую широкую предшествующую традицию жанра и ставшего колыбелью европейской романистики Нового времени (Женетт, 1998, 1, 133). Дело в другом: читательская судьба романа д'Юрфе, как кажется, выразительно демонстрирует, в какой большой мере наши сегодняшние литературоведческие оценки художественных достоинств произведений прошлого зависят не от исследовательской субъективности, прихотливости вкуса, не от пресловутой оценочности литературоведения, мешающей его «научности», а от сложившейся в сознании специалиста под влиянием предшествующей читательской и литературно-критической традиции репутации этих произведений, отнимающей у него волю к чтению. Не оценочность филологического анализа литературной классики, а его априорность, замена шания предмета (художественного текста) знанием о предмете должна быть, вероятно, самым главным объектом критики современного литературоведения.
«Театральное» и «естественное»
В ДРАМАТИЧЕСКОЙ ПАСТОРАЛИ
Ракана «Пастушества»
Представление об искусственности пасторальных жанров, истолкованной как непременное свойство произведений с пастушеской тематикой, созданных, во всяком случае, после Ренессанса (см., например: Грабарь-Пассек, 1958, 202) - разного рода придворных пасторальных драм или «аристократических» пасторальных романов с высокородными героями-«пастухами», как будто отнимает всякую возможность самой постановки вопроса о формах выражения естественности в пасторалистике Нового времени. Однако лежащая в основе пасторального идеала «вечная» оппозиция природного и культурного, а, с другой стороны, исторически меняющаяся концепция «естественного», «природного» (так же, как и эволюционирующее представление об «искусственном», «игровом», «театральном») делают попытку решения этой проблемы закономерной и актуальной.
Вспомним, что «природное» как эстетическая категория на протяжении литературной эволюции, в разных художественных системах и жанрах, даже удерживая некое смысловое ядро, является носителем множества значений, не только вбирает в себя синонимию «естественного», «натурального», «простого», «первозданного», «невозделанного» и т. п., но и различие этих понятий, оттенки смыслов. Пасторальная жанровая группа играет не последнюю роль в процессе наращивания и дифференциации семантики «природного», что, как представляется, не всегда учитывают исследователи, рассматривающие пастораль и идиллию как взаимозаменимые понятия, назначение которых - воспевать эмпирическую «природу». Как справедливо заметил М. Фуко, «если в классическую эпоху понятия природы и человеческой природы имеют определенное значение, то это вовсе не потому, что внезапно была открыта в качестве пространства эмпирических исследований эта немая, неиссякаемо богатая сила,
27
называемая природой...» (Фуко, 1994, 105). В XVII веке «естественное» являлось компонентом цивилизованности, воспитанности» (Starobinski, 1993, 36) и выступало синонимом не «натурального», но «искреннего», адекватно выражаемого через «рациональную организацию формы» (Панофский, 1998, 27).
Концепция жесткой привязанности пасторали к идиллии, понимаемой, в свою очередь не столько как обозначение жанра, сколько как определение натуральной простоты, идеализированнобесконфликтного неподвижно-идеального хронотопа, возникшего на почве античной буколики, не только ввело в словари названные понятия как синонимы, но и затруднило осознание литературоведческой наукой различия между идилличностью и гармоничностью (очевидно не совпадающих, например, в ренессансных пасторалях16), существования историко-культурной обусловленности формирования классических форм идилличности в сентиментализме, с его культом чувствительного покоя, уютной приватности и апологией семейного быта (Бахтин, 1979, 345), возможности развития не только пасторальной комедии или трагикомедии, но и трагедии с пасторальной проблематикой, столь характерной для периода развития барокко и классицизма. Драматическая пастораль участвует тем самым в процессе создания «культурной драмы» XVII века (Brereton, 1973, 107).
«Шедевр, родившийся на заре золотого века пасторали» (Morel. 1973, 82), «Пастушества» («Les Bergeries») были написаны Раканом в 1618 г., в следующем - поставлены на сцене Бургундского отеля, в разгар успеха пасторальных драм, в 1625 г. - опубликованы и выдержали двенадцать переизданий за 10 лет. Роль этой пьесы в освоении пасторальной тематики XVII столетием весьма значительна - тем более, что, будучи учеником Малерба, Ракан создаст довольно редко замечаемую сегодня исследователями классицистическую, а не барочную пастораль. Размышляя над парадоксальным фактом, что расцвет пасторальных драм, «нестрогого», близкого трагикомедии жанра пришелся во Франции на период установления правил
16 Как верно указывает Т. Г Чеснокова, «возрожденческая гармония - принцип более богатый и сложный, чем традиционно понимаемая идилличность» (Чеснокова. 2000, 17).
28
драматического искусства - 1620-1640-е гг., французские ученые отмечают неизбежное расхождение некоторых пасторальных топосов с принципами классицизма: образ сатира, например, кажется им слишком грубым для того, чтобы входить в состав классицистической пьесы, брак короля и пастушки - явно нарушающим правдоподобие и т. п. (Scherer, 1987, 30). Однако несовместимости между поэтикой направления и жанром тем не менее не возникает. Более того, школа классицизма оказывается для драматической пасторали способом трансформировать жанровую поэтику трагикомедии, популярной в барокко, и продемонстрировать единство мироощущения барочно-классицистической эпохи.
Первые классические драматические пасторали, как известно, появляются в Италии в эпоху Ренессанса, хотя их корни можно неожиданным образом найти уже в средневековой «Игре о Робене и Марион» Адана де ла Аля. Средневековая пасторалистика остается обычно вне поля зрения историков жанра, или в стороне от ее основного пути развития, однако и средневековые «пастуреллы» находят свое место в генезисе пастушеских драм - недаром Ракан в письме к Малербу, служащем предисловием к «Пастушествам», именует свое произведение «пастуреллой». Возможность воплощения пасторальной тематики в драматическом жанре потенциально была с самого начала развития литературы, с ее античного этапа, высока, ибо уже буколические стихотворения Феокрита были построены большей частью как диалоги. К тому же диалогичность художественной разработки темы пастушества обеспечена изначально тем, что, как верно замечено, «миф о Пастухе родился в воображении городских поэтов античной Греции» (Cremona, 1977, 5), и оппозиция природы и культуры, то прячась в глубине, то выходя на поверхность проблемного пласта пасторального произведения, оставалась и остается всегда конфликтопорождающей силой пасторали любого жанра.
Во Франции драматической пасторали суждено было особенно активно и быстро развиваться в период важных трансформаций в театре, происходивших в первой половине XVII столетия (Scherer, 1975, XI). Причем, Ракан стал инициатором драматургического обновления театра именно через пьесу-пастораль. По мнению Ж. Шерера, уже самый факт, что известный при дворе, пользующийся
29
популярностью поэт, каким был Ракан, обратился к театральному жанру, обозначает некоторые сдвиги по шкале эстетических ценностей, хотя Ракан-драматург рассчитывал на успех постановки «Пас- тушсств» именно потому, что был уже известен как поэт (Scherer, 1975, XV). К тому же обращение к пасторальной тематике стимулировалось престижем «Астреи» д’Юрфе - романа, сыгравшею чрезвычайно важную роль в литературной и культурной жизни Европы первой половины столетия.
Заимствования в «Пастушествах» широки, разнообразны и не раз перечислялись исследователями, пытающимися даже уточнить, какой образ или мотив пришел в сочинение Ракана из какого источника: «Диана» Монтемайора и «Аминта» Тассо, «Верный пастух» Тварини и «Астрея» д’Юрфе, «Введение в благочестивую жизнь» Ф. де ла Саля и пасторальные трагикомедии Арди внесли - каждый - определенный вклад в ракановскую пьесу. Даже название у Ракана - видоизмененный заголовок более ранней пьесы Мон- кретьена «Пастушество» («La Bergerie», 1601). Сатиры и волшебники, хор пастухов и предсказания божеств - знакомые атрибуты мифопоэтических пасторальных сочинений рубежа веков. В то же время эта книжность, вторичность сюжета парадоксальным образом сочетается со свежестью общего впечатления, что позволяет назвать именно пастораль Ракана одним из лучших произведений жанра.
Эта свежесть впечатления связана, в частности, с тем, что действие «Пастушеств» разворачивается не на Сицилии (как обычно в большинстве драматических пасторалей), не в далекой французской провинции, отделенной от Парижа не только пространством, но и временем (как в «Астрее» д’Юрфе, действие которой происходит в V веке в окрестностях реки Линьон), а в загородной местности под Парижем, у берегов Сены. Ракан, таким образом, идет не по пути ис- торизации пасторали, как д’Юрфе, а по пути ее осовременивания, как это он делает и в своей пасторальной лирике. Притом произведению Ракана, как и «Астрее», не чужда своеобразная автобиографичность: в перипетиях «Пастушеств» современники угадывали историю любви их автора к жене маркиза де Терм.
По мнению Ж. Мореля, «Пастушества» - первое стихотворнодраматическое произведение, в котором учитываются требования поэтической доктрины Малерба (Morel, 1973, 82), хотя Ракан вовсе
30
не слепо подчиняется им. В предисловии-письме к Малербу автор объясняет некоторые вольности своей пасторали, с одной стороны, законами жанра («то, что кажется великолепным в театре, окажется смешным в кабинете. К тому же невозможно, чтобы великие пиесы были столь же приглажены, как ода или песня»), с другой - особенностями собственной манеры письма - «Я поступил как те, что принимаются за возведение здания, не имея плана, ведут строительство, меняя намерения, так что последние из них противоречат первым». Длинноты «Пастушеств», принцип орнаментальной амплификации сюжетных перипетий, как именует его французский ученый, свидетельствуют, пожалуй, не столько о неумелости писателя, сколько о его связанности с современной традицией пасторальной барочной трагикомедии, а в более широком плане - о единстве барочно-классицистической парадигмы в рамках культурной эпохи.
Схождение с барочной пасторалью проявляется не только в стиле и композиции, но и в сюжетной коллизии «Пастушеств»: неверное истолкование желания богини влечет за собою цепь недоразумений, впрочем, разрешимых гораздо легче и «естественнее», чем у д'Юрфе. Идея о том, что человек не может понять свою судьбу, даже если боги соизволили предварительно познакомить его с ней, по мнению Далла-Валле - устойчивый мотив французской драматической пасторали в 1620-1640-е гг. (Dalia Valle, 1994, 2736). Романическая цепь несовпадающих влюбленностей (Артениса любит Тисимандра, Тисимандр - Идалию, Идалия - Альсидора, Альсидор - Артенису) замкнута и в буквальном (последний из персонажей - влюблен в первую из названных) и в переносном смысле: она не уходит в неразрешимую бесконечность несовпадений, как у д'Юрфе или, с другой стороны, у Расина («Андромаха»).
Очевидная перекличка с «Астреей» д'Юрфе - в эпизоде, когда влюбленный пастух, отвергнутый своей возлюбленной, в отчаянии бросается в реку, но этот эпизод у Ракана - не начало действия, не побудительный мотив конфликта, интрига, связанная с конфликтом, дана в драме не ретроспективно, как в романе, а воплощена в действии, и главное - разрешается конфликт весьма благополучно.
Как писал 9. Ауэрбах, «в эпоху Людовика XIV естественность - явление чисто психологическое, а в рамках психологического -
31
нечто неизменное, раз и навсегда данное; это символ неизменчивой человечности, человеческой сущности» (Ауэрбах, 2000, 239). Такое понимание естественности во многом было подготовлено эпохой Людовика XIII, временем Ракана.
XVII век, «век театра», не боясь противоречия, искал способы выражения «естественного» в «театральном», различал в драматургии своей эпохи точное, ясное - и иллюзорно-обманчивое, каждое из которых обладало своей формой естественности. Для классицизма «естественное» стало компонентом «правильного», нормального, воплощающего меру и хороший вкус, для барокко - способом выражения «невозделанного и дикого»17. XVIII столетие, с его процессом (отчетливо выраженным, по крайней мере, в сентиментализме) натурализации пасторали - т. е. отходом от мифопоэтического способа запечатления действительности, «опрощением» героев ( нс переодетые, добровольно избравшие пасторальный образ жизни дворяне, а сельские жители-пастухи), их чувств («простая нежность» - Я. Косткевич), а не возвышенно-идеальная и разрушительная одновременно любовь-страсть)18, «открытием природы» (И. О. Шайтанов), как будто идет по пути разрушения барочно-риторической «культуры готового слова» (А. В. Михайлов) и приближается к реализму, предпочитающему жизнеподобие открытой и даже скрытой книжной условности. Недаром в сентименталистской литературе XVIII столетия удельный вес пасторальных жанров велик, но драматических пасторалей среди них практически нет: «драматическую форму, которая должна удовлетворять требованиям сценичности, труднее всего освободить от условности» (Бахтин, 2000, 177). Однако в конце концов дискурс, «речь» авторов сентиментальных пасторалей заводит их далеко от прямой достоверности изображения, «реализма»: идиллическая натурализованная и опрощенная пастораль именно в силу своей идилличности оказывается не менее, но по- своему даже более условна и «неестественна», чем барочные и клас-
17 «Душа «ученого» Гонгоры так и осталась невозделанной, деревенской, дикой» (Ортега-и-Гассет, 1994, 246).
В одном из отзывов читателей XVIII века «Верный пасгух» Гварини за «неистовость» изображаемой страсти был назван «совратителем молодежи, склонившим к проституции бесчисленное количество девушек» (отзыв приведен в кн.: Dalia Valle, 1973,45).
32
сицистические пасторали предшествующей эпохи. Умилительный тон в описании «пастушьего» удела, идеализация наивной простоты и безмятежности сельской жизни возможны были лишь на отлете от непосредственных жизненных впечатлений, в руссоистской утопической устремленности в сторону от фактов. В конце концов читатели начинают чувствовать в таких пасторалях и «неестественность», и отсутствие драматизма, нехватку напряжения, интриги. Это ясно видно, например, в эпиграмме Экушара-Лебрена на пасторальноидиллические повести Флориана:
В твоей прелестной пасторали, Пришед с овечками на луг. Мешая ласки и морали, Все блеют - автор, пес, пастух.
Но скоро пес, пастух, читатель Уснут, не видя в книге толка. Хоть одного пошли к ним волка, Чтоб все проснулись, мой приятель! (Перевод мой. - Н. П.).
Ракан, создавая драматическую любовную коллизию, как будто так же, как позднее Флориан, обходится без «волка» - без которого, впрочем, часто не обходились античные «идиллии». Но он обходится и без обращения к непосредственно деревенским героям-пастухам, не утрируя, как писатели барокко, аристократизм своих персонажей (ср. подчеркивание автором «Астреи» благородства своих «пастухов»), но и не «опрощая» их, подобно сентименталистам. Он не отказывается от традиционных деталей пасторального локуса, лишь деликатно подправляя их в соответствии с тем, что «благодатное место», в котором разворачивается действие, знакомо читателю и зрителю-современнику. Естественность его театральной пасторали - не в движении от утонченности к простоте, а в натуральности психологических коллизий и свежести природного фона, оживленных автобиографическими впечатлениями детства в родном краю и собственным светским любовным опытом.
Границы трагического пространства
В КЛАССИЦИСТИЧЕСКОЙ ТРАГЕДИИ П. КОРНЕЛЯ
Проблема художественного пространства - весьма актуальная, даже модная тема сегодняшнего литературоведения. Не случайно один из авторитетных западных ученых считает, что в новейшей литературной науке происходит методологический переход от «темпорального анализа» к «пространственному» (Nethersole, 1990. 59-63).
Как известно, к поэтике пространства стали активно обращаться философы начала XX столетия. В частности, Г. Башляр в 1930-е годы поставил перед собой задачу «определить человеческую ценность пространств, всецело нам принадлежащих, защищенных от враждебных сил, пространств, нами любимых» (Башляр, 2004, 22). Но при этом ученый подчеркивал, что «пространство, которым овладело воображение, не может оставаться индифферентным, измеряемым и осмысляемым в категориях геометрии. Речь идет о пространстве переживаемом» (Башляр, 2004,22-23). Связь пространства как категории культуры с эмоциональным, «переживаемым» стало основой для разработки особого понятия художественного пространства, в частности, пространства литературного.
Изабель Кживковски выделила в DITL четыре возможных семантических ракурса «пространства» как понятия (Krzyvvkowski s.a., см. также: Keating, 2001, 231-234): 1) топографическое (пространство как протяженность), 2) эпистемологическое (пространство как концепт), 3) поэтологическое (пространство как слово), 3) темпоральное (пространство как временная последовательность, хронология). В художественных произведениях можно найти все перечисленные семантические ракурсы в разных комбинациях и с различными функциональными доминантами. В данном случае речь пойдет о пространстве как концепте, о содержании и границах концепта трагического в драматургии классицизма.
Обычно исследователи драматургии чаще всего говорят о сценическом пространстве, обращаясь к тем периодам театральной прак-
34
тики, когда развивалось искусство декорации и мизансцены. Классицизм с его установкой на речь персонажей, на дискурсивность (одна из недавних работ американского исследователя Ж.-К. Вийемена (Villemin, 2006) не случайно носит подзаголовок «Зрелища барокко и речи классицизма»), со скупостью и лаконичностью декораций кажется достаточно мало интересным для изучения пространственных образов. Однако соотношение между собственно дискурсивным и собственно сценическим пространствами классицистической трагедии представляется довольно напряженным, граница между зрелищной скупостью, «пустотой» абстрактного palais à la volonté и наполненностью речей героев рефлексией о событиях и поступках создает противоречивое драматическое единство действия. И здесь, коль скоро сама трагедия классицизма определяется как жанр-граница19, возникает достаточно широкое поле для анализа.
С проблемой художественного пространства, таким образом, связана другая проблема, поставленная в данной статье - трагическое. Трагическое - одно из важнейших понятий современного культурного сознания. Не случайно в последние годы вышло большое количество работ, посвященных этому термину (см., например: Escola, 2002; Lazzarini-Dossin, 2002; Viala, 2003). Причем, как замечал в свое время П. Шонди, «история философии трагического сама пронизана трагичностью. Она напоминает полет Икара. По мере того, как мысль приближается к обобщению этого понятия, оно лишается субстанции, из которой и состоит. Лишь только мы доходим до высот, с которых можем различить структуру трагического, как оно теряет свою силу и распадается» (Szondi, 1961, 124). Ученый имел в виду прежде всего XIX в., когда значительным, интересным философским концепциям трагического (прежде всего - Гегеля, Ницше) отнюдь не соответствовало состояние жанра: в эту эпоху не только не появилось великих трагедий, но она практически исчезла как жанр. Означает ли это, что трагический опыт конца XX в., обостренное внимание его мыслителей к трагическому останутся также невоплощенными в трагедии как таковой, судить на близком куль-
19 О классицистической трагедии как genre-limite см. на педагогическом сайте Inf(x)Venenum: Genre et texte. Tragédie. Drame. Genre et représentation. Comédie <http ://www.infz.info>
35
турном расстоянии трудно20. Однако важно отметить, что литература позапрошлого века являет собой пример нетождествснности пафоса и жанра: история трагического и история жанра трагедии обладают известной автономией, так что возможно трагическое без трагедии. Есть ли обратная закономерность, возможна ли трагедия без трагического - один из вопросов, на которые я попытаюсь ответить в данной статье.
Следует заметить, что в последнее время немало исследований появляется и о жанре трагедии. Причем, здесь французская классицистическая трагедия как объект изучения соревнуется только с трагедией античной (Biet, 1997, Couprie, 1994). «Яркие, глубокие эпохи - это эпохи трагедий», - писал еще в своей студенческой статье «Культура и трагедия» Р. Барт, называя среди таких эпох пятый век до н. э. в Афинах и век семнадцатый во Франции (Барт, 2005, 328). Равновеликость античной и французской классицистической трагедий X. Ортега-и-Гассет объяснял тем, что публика и в том и в другом случае «наслаждается образцовым, нормативным характером трагического события» (Ортега-и-Гассет, 1991, 270). Однако подобная нормативность, понимаемая как ограничение творческого масштаба, часто заставляет ученых ценить французскую трагедию классицизма с некоторыми оговорками. Так, например, характеризуя в недавней статье трагическое в искусстве XX столетия, П. Топер замечает повышенное внимание современных исследователей этого понятия к Корнелю и Расину, но одновременно подтверждает «справедливость замечания Пушкина об «узкой форме» трагедий французского классицизма» и подчеркивает: «наиболее близок современности оказывается Шекспир» (Топер, 2002, 334-335).
Впрочем, стоит прислушаться к мнению современного критика К. Разлогова, предпочитающего Шекспиру, хотя и не безусловно, Расина и Корнеля и видящего в шекспировских пьесах массовизацию
20 Во всяком случае, это - остро дискуссионная проблема, поставленная еще в середине XX в. и до сих пор не решенная. Весьма характерно, что в один и тот же. 1965 г., во Франции появились две книги, утверждавшие прямо противоположное: Ж. Штайнер писал в «Смерти трагедии», что трагическое в современности невозможно (Steiner, 1965), Ж.-М. Доменак в «Возвращении трагического» - что, пусть в трансформированном виде, трагическое, напротив, возвращается в современную литературу (Domenach, 1965).
36
античной трагедии: «Шекспир, на мой взгляд, колыбель массовой культуры... В центре внимания оказываются не абсолюты, а истории, частный человек, индивид, а не воплощенный рок... Хотя термин «трагедия» мы еще по отношению к Шекспиру применяем, его классические пьесы правильнее было бы характеризовать как притчи» (Разлогов, 2007, 28-29)21. В данном случае вопрос не в том, прав или неправ критик в своих вкусовых предпочтениях, в определении жанра шекспировских пьес, а в том, что его суждение наглядно демонстрирует возможность иной, нехрестоматийной точки зрения на роль французских классицистов, с одной стороны, и Шекспира, с другой, в истории жанра трагедии, вскрывает внутреннюю дискус- сионность проблемы, кажущейся давно решенной, показывает относительность иерархии, как будто прочно установленной. Думается, что за убеждениями в меньшей эстетической актуальности французской трагедии XVII столетия стоит недооценка художественных возможностей классицизма, в том числе - в воссоздании трагизма человеческого бытия.
Трагедия как образцовый жанр драматургии французского классицизма воплощена, как известно, в творческом наследии П. Корнеля и Ж. Расина. В данном случае хотелось бы ограничиться размышлениями о творчестве П. Корнеля - далеко не только по постюбилейным соображениям22.
В историю драматургии французский классик вошел как автор героических трагедий, причем общим местом стало положение о том, что трагическое в творчестве П. Корнеля приглушено, что драматург развивает в первую очередь поэтику героического, тогда как трагическое представлено во французском классицизме трагедиями Расина (см., например, размышления о категории героическо-
21 Иронически оценивает современную «моду» на Шекспира (в противовес непопулярности Корнеля) писатель и литературный критик Сара Вайда: «Сегодня каждый, от Лос-Анжелеса до Парижа предпочитает Сиду Ромео и Джульетту! Никаких мавров, только трагический конец... Хэппи-энд пугает, люди любят быть несвободными, несчастными, доказывать особенность своей судьбы, а не противостоять ей, подчиняются диктату и мрачному бреду, обожают стенагь о своих страданиях в бесконечных песнях. Как могут они оценить этого мастера счастья, который не знал иного опьянения, кроме возможности перестраивать мир сообразно своим мечтам и собственной воле?» (Vaida, 2007).
22 Напомню, что в июне 2006 отмечалось 400-летие со дня рождения П. Корнеля.
37
го в корнелевской драматургии и трагического - в пьесах Расина: Обломиевский, 1968, во французском литературоведении - Maurens. 1966). Не случайно именно Расин стал излюбленным объектом анализа у ученых-филологов второй половины XX в. - от Л. Гольдманна («Сокровенный Бог») до Р. Барта («О Расине»). Счастливые, или, скорее, благополучные развязки трагедий Корнеля («Сид», «Гораций», «Цинна») рассматриваются как свидетельства разрешенное™, по крайней мере, принципиальной разрешимости противоречия в художественном конфликте корнелевской пьесы, а сами произведения - как пример «трагедий без трагического»23. Тем самым пространство трагического воспринимается у Корнеля как весьма узкое и ограниченное. С точки зрения В. Шестакова, столь же узка и корнелевская концепция трагического катарсиса: «Корнель истолковывает аристотелевский катарсис как обуздание и даже искоренение <.. .> Корнель, как и многие другие теоретики классицизма, приписывал катарсису назидательное, дидактическое значение, видел в нем средство улучшения нравственности» (Шестаков, 2007, 17). Схожую оценку сущности катарсиса у Корнеля и его современников можно встретить и у зарубежных ученых: «Следуя итальянским теоретикам, Корнель постулирует полное совпадение избавляющей и корректирующей целей трагедии: очищение (т. е. катарсис. -И. П.) означает для него одновременно исправление, усмирение и искоренение; главная задача трагического очищения, понятого в данном случае как самонака- зание, состоит в очищении души от всякого неожиданного порыва, от всякого неразумного инстинкта» (Chevrolet, 2008, 37). В такой трактовке французский классик неправомерно предстает плоским «учителем нравственности», она далеко уводит нас от суждения тех его почитателей, кто полагал, что «в Корнеле восхищаются чувствами, на которые более не считают себя способными», т. е. заведомо понимал, что не может «исправиться» с помощью этого текста, но притом получал от него эстетическое наслаждение.
Разумеется, ни классицизму, ни классицистическому театру этический пафос вовсе не чужд. Но Корнель, как верно пишет М. Эскола, оспаривает морализаторскую интерпретацию катарси-
23 Хрестоматийность такой точки зрения подтверждается ее присутствием в энциклопедических справочниках. См., например: Mougin, Haddad-Wotling, 2002. 204; Margolin, 1968,66-71.
38
са. размышляя над природой «вины» трагического героя, пытаясь сформулировать специфическую природу эмоции в трагедии (Escola, 2002, 31 -32). Трагическая эмоция - не прямо моральна, она имеет эстетическую природу и является самодостаточной. Причем, эта эстетика у Корнеля не приемлет никакого компромисса. В «Рассуждении о трагедии и о способах ее трактовки согласно законам правдоподобия или необходимости. Три речи о драматической поэзии» (1660) Корнель писал: «Дабы легче было добиться возбуждения сострадания и страха, к чему нас как будто обязывает Аристотель, он помогает нам в выборе лиц и событий, которые по преимуществу способны вызывать и то и другое» (Корнель, 1980, 379). Полемизируя с Аристотелем, Корнель полагал, что героями трагедии могут быть и «люди совершенной добродетели, поверженные в беду», хотя они не вызывают страха, а лишь сострадание; а «несчастье человека очень дурного не возбуждает ни сострадания, ни страха» (Корнель, 1980, 382). Это отнюдь не означает, что для Корнеля бедствие добродетельного персонажа не несет в себе трагического катарсиса, или что трагедию он превращает в моральное назидание.
Попытаемся сопоставить классические параметры поэтики трагедии с анализом трагического конфликта в «благополучных» пьесах Корнеля, чтобы проверить справедливость такого рода суждений. Поэтика классицистической трагедии, как известно, одновременно восходит к Аристотелю и к рационалистическим правилам, превращающим описательную поэтику античного мыслителя в поэтику нормативную. Трагедия предполагает определенное время (но не Историю, а одновременно Настоящее и Вечность) и особый тип героя и конфликта. Трагедия изображает встречу человека с судьбой, трагическое действие всегда связано с присутствием трансцендентного, то есть силы, которую трагический герой не контролирует, с которой не справляется. Однако трансцендентное может быть представлено как божественным (у Эсхила, Софокла), так и страстью (Шекспир, Расин) или ценностями, властно предписываемыми общественным порядком, государством (Корнель) - и в этом смысле автор «Сида» и «Горация» отнюдь не выходит из рамок поэтики «трагической трагедии». Более того, трагедия Корнеля как нельзя лучше отвечает и другому требованию трагического: «в ходе трагического
39
действия должен быть такой момент, когда герой должен соверши и, выбор, как правило, из равно пагубных возможностей» (Любимова, 1985, 13). Проницательнее современных критиков в свое время оказался Вольтер, назвав выбор, равно необходимый и невозможный, т. е. сугубо трагический - «корнелевскнм выбором». В самом деле, «выбор - высшее мгновение для трагического героя Корнеля» (Бах- мутский, 1994, 174) и стоит пристальнее вдуматься в суп» дилемм, стоящих перед корнелевскими персонажами.
Типы, конфликты, трагическая ситуация в пьесах Корнеля находятся на границе актуального и вечного. Так, в «Сиде» (1637) подняты проблемы укрепления абсолютизма, превращения аристократа в придворного, вольностей - в привилегии, подчинения свободы воле короля - так же, как проблема поколений, проблема родового, государственного долга - и долга любви. Все они решаются на материале средневековой истории Испании, в то же время тесно увязаны с тогдашней политической жизнью Франции, с 1635 г. ведущей, между прочим, войну с Испанией24 - и одновременно выходят за пределы злободневного, сиюминутного. Граница пролегает и между прошлым героев - и их настоящим (благополучие, основанное на совпадении чувств Родриго и Химены и отцовских намерений, взрывается трагическим конфликтом, вызванным ссорой отцов и необходимостью для Родриго сразиться на дуэли с графом Горма- сом), настоящим - и будущим. Не случайно один из литературоведов настаивает на том, что счастливое бракосочетание Сида и Химены весьма туманно, поскольку отнесено в засценическое будущее.
Корнелевские трагедии трактуют обычно как трагедии героического действия, трагедии ситуаций, которые разрешаются усилиями, волей персонажей. Как указывает М. Прижан, корнелевская трагедия «рождается из столкновения величия героя и величия государства» (Prigent, 2008, 29). Великого героя как будто трудно подчинить внешнему закону, судьбе. Поэтому Н. Ломбардеро-Менендес, в частности, рассматривает роль судьбы в «Горации» Корнеля как редуцированную: действия главного героя, как и его сестры Камиллы, - не влияние судьбы, а проявление их собственной воли, «герой корне-
24 В «Сиде» часто проявляется рефлексия об актуальной политике, если точнее о войне; и не обретает ли эта рефлексия особенную силу, выражаясь посредством знаменитой иберийской легенды?» (Niderst, 1984, 625).
40
левской трагедии, выражающий свою свободу через полное осознание сделанного выбора, стремится...к героическому идеалу, достичь который можно, только пройдя через испытание, это самостоятельное усилие человеческой воли, находящей соответствие и гарантию в божественных замыслах...» (Loinbardcro-Menendes, 2007). Однако, как верно указывает В. Вьянэ ( Vianey, s.а.), Корнель сосредоточивает весь трагический интерес своих пьес во внутренней борьбе персонажей. Это особенно видно в характере инфанты Уракки в «Сиде». Споры о том, лишняя ли это героиня или нет, нужно ли трагедии это побочное действие или нет, велись еще в XVII в. Но если попытаться понять, в чем заключается действие инфанты, то оно обнаружится в недействии, в молчании (признание конфидентке, монологи с самой собой - это как раз, с точки зрения драматического пространства, символ молчания). Уракка не побеждает обстоятельства, а достойно ведет себя в трагических обстоятельствах. В конце концов, можно сказать, что любой герой трагедии Корнеля переживает моральный кризис и выходит из него победителем - только не обстоятельств, а себя самого. Даже спаситель Испании Родриго в силах справиться с маврами, но не с ситуацией, в которую он попал помимо собственной воли (он не может изменить выбор королем дона Диего в качестве наставника инфанта, предотвратить ссору своего отца с отцом Химены; он выбирает линию поведения в заданных, жестких обстоятел ьствах).
Литературоведы выделяют три аспекта трагического пространства: трагическое как трагедийное - т. е. структура, подбор героев, стиль; трагическое сюжета - трагическая история; и трагическое видение. Думается, что у Корнеля может не быть трагической истории как таковой (например, в «Цинне», где заговор против Октавиана Августа предотвращен, а его участники прощены), но обязательно есть трагическое видение, поскольку его стержнем выступает выбор между двумя взаимоисключающими возможностями. Это отнюдь не удивительно ни для практики классицизма, ни для классицистической теории. Так, Д’Обиньяк считал ошибочным мнение, что у трагедии должна быть непременно несчастливая развязка: трагедия - это «произведение величественное, серьезное, значительное и соответствующее бурной и превратной судьбе государей... театральная пьеса называется трагедией единственно в зависимости
41
от того, какие события и каких людей она изображает, а не от тою, какова ее развязка» (Д’Обиньяк, 1980, 325).
Форма классицистической трагедии, как известно, создастся соблюдением правдоподобия и единств. Специалисты много писали о том, что Корнель не слишком строг в соблюдении правила трех единств. Ж. Кутон полагает даже, что драматурга вообще не интересовали правила (Couton, 1969, 152), общеизвестно, что многие критики полагали их соблюдение драматургом сугубо формальным.
Однако Корнель нс опровергает правила в принципе25 и стремится соблюдать единства, что отчетливо видно в том, как он перерабатывает испанский источник «Сида» - пьесу Гильена де Кастро «Las Mocedades del Cid» (1619). Последний не только делит, в духе национальной традиции, свое сочинение на три хорнады (т. е. дня, букв, дневных перехода), но помещает во вторую и третью хорнады события трех лет, часто переносит место действия. Кроме того, пьеса испанского драматурга полна разнообразных элементов барочной сюжетики: таковы, в частности, пышное посвящение Родриго в рыцари, происходящее в королевском дворце, признание инфанты в любви после его победы над маврами, паломничество героя, встреча с прокаженным, оказавшимся святым Лазарем, и т. п. В сравнении с перегруженной перипетиями композицией «Юности Сида» очевидна большая лаконичность и простота структуры корнелевской пьесы. Излишне говорить о существенно трансформированном П. Корнелем причудливо-метафорическом стиле испанского драматурга.
В то же время французский драматург не буквалист и может вступать в полемику по поводу трактовки принятых правил. Возможность такой полемики заложена уже в самих понятиях. Японский ученый Т. Томотани справедливо указывает на двойственный статус правдоподобия: изначально основываясь на общем мнении, т. е. на двусмысленной, размытой категории, правдоподобие в трагедии должно быть одновременно выполнено и нарушено, трагедия должна быть правдоподобна и скандальна (Tomotani, 2000, 181). В «Сиде» это очень ясно видно: убить отца того, кого ты любишь, как и любить того, кто убил твоего отца, - скандально, но одновремен-
25 Ср. его предисловие к «Компаньонке» 1638 г.: «Мне по душе подчиняться правилам. однако я не являюсь их рабом...» (Корнель, 1984,1, 6).
42
но герои приходят к этому в результате строгого следования норме, доксе.
Обычно конфликт классицистической трагедии обозначают как конфликт чувства и долга, но если мы обратимся к анализу «Сида», то увидим, что коллизия пьесы - сложнее этого хрестоматийного определения. Сложность формируется, в первую очередь, особой концепцией любви, которую воплощает драматург в своем творчестве. Любовь корнелевских героев - это всегда разумная страсть, точнее - страсть по разумному выбору, любовь к достойному. Оттого любовь и честь (чувство и долг) должны совпадать и совпадают в персонажах «Сида» («Нет, нераздельна честь: предать любовь свою / Не лучше, чем сробеть пред недругом в бою», - утверждает заглавный герой). Волей драматурга персонаж поставлен перед выбором между честью (защитить достоинство старика-отца) и бесчестьем (отказаться от дуэли с отцом возлюбленной), но в обоих случаях - и это Родриго осознает до конца - он потеряет любовь своей возлюбленной, с той только (но очень важной для него) разницей, что во втором случае он окажется изначально недостойным любви Химены, даже унизит ее тем, что будучи бесчестным, питал к ней любовное чувство. Точно так же и для Химены любовь и честь неразделимы: «Достоин стал меня ты, кровь мою пролив, / Достойна стану я тебя, тебе отмстив». По существу, такая коллизия отвечает данному известным французским философом определению «сложного трагического», «удвоенной, возведенной в степень трагедии»: «взаимное притяжение и взаимное отталкивание отрицают одно другое, обе противоположности одновременно хотят обе взаимоисключающие вещи» (Янкелевич, 2000, 106). Конечно, внешне личный, родовой долг у Корнеля безусловно уступает государственному благу и долгу его поддерживать: став из Родриго «Сидом», т. е. спасителем отечества, герой приходит к той самой благополучной развязке, которая, по мнению некоторых, устраняет окончательно трагическое из конфликта пьесы. Однако ни спасение отечества от мавров, ни благодарность короля, ни согласие Химены на будущий брак с Родриго не отменяют того трагически необратимого факта, что герой - убийца отца своей возлюбленной. Корнелевские персонажи в ходе развития конфликта неотвратимо переступают через ту границу, которая отделяет благостное до-трагическое состояние от
43
пространства трагического. Именно это обстоятельство вскрывает напряженность и сложность нравственно-психологического конфликта, переживаемого героями, и порождает, в частности, многочисленные, порой взаимоисключающие интерпретации поступка Химены, ее образа. Ведь Родриго, которого она продолжает любить, не перестает, не может перестать быть убийцей ее отца, оттого в суровых нравственных суждениях Ж. Шаплена, составившего «Мнение Французской академии о трагикомедии Корнеля «Сид»» (1638), есть своя логика. Но, как верно заметил М. Прижан, «Корнель всегда выбирает не нравственное назидание, а логику трагедии» (Prigent, 1988, 10).
Трагическое пространство у Корнеля, таким образом, имеет начало, но фактически не имеет конца, продолжается за границами сюжетной коллизии, представленной в сценическом пространстве трагедии, уходит в бесконечность. Внутри трагедийного пространства все четко очерчено, тогда как вокруг него - полюса первоначальной гармонии, чреватой взрывом («Безмерность счастья мне внушает опасенье», - признается Химена в начале «Сида»), и конечного обещания гармонии в будущем, не устраняющего трагического потенциала настоящего (убийства, совершенного Родриго или Горацием), не имеющего ясного контура, четких границ.
Четкость, стройность, логичность - важные категории драматической поэтики Корнеля. Корнелевскому языку присуще тяготение к сентенциям, а по утверждению Элены Гарофало (Garofalo, 2003), сентенциозное письмо-одна из привилегированных форм трагического языка XVII в. Подобная четкость создает своеобразную геометричность и языкового пространства и пространства сценического действия, в пределах которого мы неизменно сталкиваемся у Корнеля с четко продуманной последовательностью сцен, симметрией антиномичных эпизодов и персонажей. Однако классицистическая строгость формы отнюдь не упрощает и не смягчает трагический конфликт корнелевских пьес. Напротив, контраст между четкостью формы трагедии и размытостью границ конфликта усиливает корне- левское трагическое.
«На греческой сцене, - писал в уже упомянутой статье Р. Барт, - актеры носили котурны, которые возвышали их над обычным человеческим ростом. Чтобы у нас было право обнаружить в мире тра-
44
гелию, нужно, чтобы мир этот также встал на котурны и хотя бы немного приподнялся над серой обыденностью» (Барт, 2005, 330). Известно, что эта приподнятость проявляется во французской трагедии классицизма весьма разнообразно: трагедии присуща виртуозно-естественная «неслыханная простота» композиции, она написана высоким стилем, содержит благородные действия благородных персонажей, обладающих, особенно у Корнеля, чрезвычайно благородными качествами: мужеством, щедростью, глубиной чувств, горделивым достоинством. Однако высокий строй чувств корнелев- ских героев, максимализм их нравственных требований, готовность к героизму не избавляет их от того, что они одновременно - жертвы сил, превосходящих их возможности, что совершенные ими действия антиномично соединяют в себе и поражение и победу, и эта антиномия - трагически неразрешима, она - навсегда. И если Корнель дополняет аристотелевский катарсис (очищение страстей состраданием и ужасом) очищением через «восхищение» персонажем, это восхищение оказывается всегда сложной эмоцией (восхищением- состраданием, как в «Сиде» или «Полиевкте», восхищением- ужасом, как в «Горации» или «Родогуне»). В любом случае зритель оказывается проникнут не только чувством прекрасного зрелища («это прекрасно, как «Сид»), но и той «величайшей печалью, составляющей все удовольствие трагедии», о которой писал Расин в предисловии к «Беренике».
В этом смысле можно согласиться с суждением Альфреда Но (Noe, 2005, 65): «Корнель - единственный драматург классицизма, способный претендовать на титул «французского Шекспира».
Жанровая трансформация
ФРАНЦУЗСКОГО РОМАНА
НА РУБЕЖЕ XVII-XVIH ВВ.
Эпоха «литературного рубежа» всегда насыщена разнообразными жанрово-стилевыми изменениями, особенно отчетливо, пожалуй, запечатлевающимися в самом чутком жанре Нового времени - в романе. Общие контуры и основное направление трансформации романа в Западной Европе XVII-XVIII вв. представлялись отечественным специалистам достаточно ясными: трансформация происходит преимущественно путем изменения жанрового содержания при сохранении старых повествовательных форм26; сущность же формальных изменений состоит в соединении прежде противостоящих жанровых начал - нравоописательного плутовского и аналитикопсихологического, причем, начала эти входят в романистику нового историко-литературного периода хоть и видоизменяясь, но удерживая «фундаментальные структурные моменты»27. Наиболее отчетливо процесс и результаты такой трансформации, по мнению ученых, видны в английском романе XVIII столетия28, что не в последнюю
26 См., например: «Переходный характер романа Просвещения во многом определяется противоречием между обращением к новым, неизведанным областям социальной и духовной жизни и использованием традиционных повествовательных схем» (Строев, 1983, 127), или: «Новый, реальный жизненный материал тотчас же отливается в форму канонических отношений между персонажами» (Гинзбург. 1<Г9. 58). Вольно или невольно ученые в данном случае повторяли зады западною литературоведения. Еще в 1976 г. Ж. Эрар, отмечая традиционность противопоставления литературного «консерватизма» Просвещения смелости идей, назвал такую точку зрения неверной и объяснял ее тем. что до сих пор идеи изучали больше, чем формы (Ehrard, 1976. 16).
27См.: Мелетинский, 1986, 256,266. Мысль о том, что классическая форма романа XVIII века синтезирует «элементы романа плутовского и романа аналитического» сохраняется и в более поздней работе ученого: Мелетинский, 1990, 152.
2Н Ср., например: «Художественные открытия, сделанные барочным романом XVII в., позволяют этому роману наиболее плавным, эволюционным, по сравнению с другими жанрами, путем войти (через английский роман следующего столе-
46
очередь обусловлено социально-исторической ситуацией - успехами культурного развития в стране, пережившей буржуазную революцию еще в середине прошлого столетия, преимущественно буржуазным характером ее общества, благоприятно воздействующим на развитие такого, в свою очередь «буржуазного», жанра, как европейский роман Нового времени29. Согласно такой концепции, западноевропейский роман XVIII в. движется, вслед за его английскими образцами, к реалистической поэтике, ибо только реализм позволяет роману наиболее полно осуществить свои художественные возможности30.
Устойчивость этой концепции свидетельствует о досадном недостатке внимания наших историков литературы XVIII столетия не только к зарубежным исследованиям романа этой эпохи31, но и к методологическим принципам, утвердившимся в собственном литературоведении - таким, как отказ от концепции телеологического
тия) в новую литературную эпоху» (Аверинцев ete., 1994, 31). Указание на важность художественных открытий барочного романа для английской романистики XVIII в. симптоматично, но может быть истолковано лишь как реверанс в сторону еще совсем не изученного феномена. Во всяком случае, английский роман барокко - Р. Бойля, Дж. Маккензи и др. - у нас совершенно не исследован (единственная монография о позднебарочной романической прозе Афры Бен - Ватченко, 1984).
29 Ср. представление о романе как «форме выражения идеологии буржуазии» (Coulet. 1967, I. 286); ср. также объяснения распространенности романа в Англии и его «реалистичности»: «Предприимчивого англичанина не интересовал вымысел... читатель хотел только правды» (Подгорский, 1983, 3). Можно, следуя той же логике, объяснить появление фантастической литературы тем, что англичанин, устав от собственной предприимчивости, почувствовал внезапный вкус к вымыслу.
30 Ср., например: «роман и реализм совпадают или соприкасаются во множестве признаков» (Эсалнек, 1985, 51). Эта концепция близости романа и реализма была распространена и в зарубежном литературоведении, но ее «сильно поколебали постструктурализм и постмодернизм» (Azim, 1993. 20).
31 Зарубежные историки литературы не просто иначе решали вопросы генезиса и эволюции жанра, но и вели открытую полемику с перечисленными выше положениями. Так, Д. Спирмен полагал, что, вопреки устоявшемуся мнению, атмосфера первой половины XVIII в. в Англии весьма мало была приспособлена для обновления, а общество вовсе не было таким уж третьесословным по своему характеру и вкусам (Spearmen, 1966, 21, 49). М. Ростон же указывал на то, что жанровые изменения в литературе этого периода возникали не только по экономическим, социальным и религиозным причинам и обновление романа шло не только в Англии (Roston, 1990, 152). См. также возражения против упрощенного деления английского и европейскою рома на на «идеалистический» «romance» и «реалистический» «novel» в кп.: Adams, 1983; полемику с концепцией Я. Уотта, придерживающегося такого деления, в кн.: Ballaster, 1992.
47
развития жанра романа32 и литературы в целом (подробно см.: Бернштейн, 1987,381), критика упрошенно-схематитического представления о развитии культуры «от мифа к логосу»33, уточнение термина «реализм», а также места и роли реализма в литературном процессе Нового времени (см., например: Гинзбург, 1986).
Закономерно, что у некоторых ученых возникает ощущение неадекватности научных представлений об эпохе и реального художественного материала34. Подобное положение сложилось не только от недостатка внимания к веку, чьи идейные, а заодно и художественные искания принято было оценивать пренебрежительно35, но и потому, что литературный процесс эпохи Просвещения особенно сложен, а роман этого времени концентрирует в себе как бы три уровня переходности: 1) переходность большого культурного этапа - от традиционалистского художественного сознания к индивидуальноавторской поэтике (Аверинцев etc., 1994, 32); 2) переходность этого типа культуры, самого века Просвещения (см., например: Прокофьев. 1980, 4-5); 3) наконец, переходность жанра романа от его «первой» ко «второй» эпохе (Гринцер, 1980). К тому же рубеж XVI 1-ХVIII вв. - период господства в романе такого типа культурной трансформации, пафосом которой являлся не все более резкий разрыв с про-
32 О том, что представление о телеологическом развитии жанров в античной риторической теории было одним из препятствий вхождения в эту теорию рефлексии о романе - жанре, фактически уже существовавшем, но кардинально отличавшемся от других см.: Аверинцев, 1989, 16-20.
35 Об очевидной «наивности и спекулятивном характере» этой «квазиисторичес- кой точки зрения» на развитие культуры и науки как движения «от мифа к логосу» см: Шичалин, 1995, 85.
34 «...по отношению к XV111 столетию, к его художественному мышлению у нас особый долг - непонятое™, неоцененное™: пожалуй, мы найдем не мною эпох, которые в собственной художественной оценке так резко бы расходились с тем, как мы их видим» (Шайтанов, 1989, 3).
35 Художественное новаторство писателей X VU 1 века часто оценивалось так: «Новое проявляется не столько своими конкретными предвестиями, сколько полной исчерпанностью старого» (Аверинцев etc.. 1994, 32). Что касается идейной оценки Просвещения, то, опуская примеры негативных из газетной и журнальной публицистики, можно привести одно, наглядное в своей вызы вающей прямолинейности суждение из статьи в солидном философском журнале: «...руссоизм был идейной основой кровавой драмы Французской революции, а последняя дала мощный толчок русскому «освободительному движению», приведшему в конце концов к победе «Великого Октября»» (Гаврюшин, 1994, 67).
48
шлым, а желание «смягчить противоречия между старым и новым подходом»36. Иными словами, жанровая трансформация романа отмечена в этот период переходностью и постепенностью, весьма затрудняющей изучение ее механизма37.
Разумеется, утвердившаяся концепция эволюции романа от XVII к XVIII веку обладает достоинствами наглядной и простой схемы, к тому же, при определенном отборе фактического материала и его истолковании под известным углом зрения, схемы, не лишенной основания. В самом деле, конец XVII столетия в Англии и во Франции безусловно ознаменован интересом к мемуарной литературе, к мемуарной форме повествования: означает ли это, однако, что развитие жанра шло лишь по пути «истинные мемуары - вымышленные мемуары - роман» (Соколянский, 1983, 23), и можно ли понимать этот путь как бескомпромиссный разрыв с «литературностью», прямолинейное количественное накопление «достоверности» и сближение романа с действительностью?38 Столь же бесспорен и отказ большинства прозаиков рубежа веков от именования своих сочинений «романами»: свидетельствует ли это, однако, о - пусть кратковременной - смерти старого жанра или о неоднозначной репутации слова, данный жанр до сих пор определяющего? И самое главное - тенденциозный отбор произведений, соответствующих или поддающихся соответствующему данной концепции истолкованию, от основной массы литературной продукции конца XVII - начала XVIII веков (когда между «Принцессой Клевской» М. де Лафайет (1678) и «Манон Леско» А. Прево (1731) удостаивается упоминания один «Жиль Блас» Лесажа, первые книги которого вышли в 1715 г.) представляет этот период в эволюции романа во Франции не как «силовое поле» новой культуры, на почве которого закономерно последующее
36 В этом стремлении современный исследователь видит основную цель философско-научных усилий Лейбница, но это стремление разделяла, думается, вся культура переходной эпохи (Катасонов, 1995, 190).
37 О важности и сложности изучения постепенных процессов в культуре см.: Лотман, 1992, 18,218.
38 Помимо того, что действительность не статична, «действительное - это процесс» (Блох, 1991, 50), «человек не имеет непосредственного контакта с действительностью - он видит ее как мир знаков и символов, которые он читает в соответствии с определенной традицией понимания мира, заданной ему системой культуры» (Рымарь, Скобелев, 1994).
49
появление ярких литературных феноменов59, а как «мертвое» поле ныне прочно канувших в забвение книг (Laufer, 1963, 15; Аверинцев etc., 1994, 32), единственной функцией которых была демонстрация полной исчерпанности старой романной поэтики.
Неприятие такой концепции эволюции романа от XVII к XVIII веку питается многими аргументами. Нельзя, например, не согласиться с мыслью П. Валери: «Никому не дано сказать, что окажется завтра живым или мертвым в литературе, в философии, в эстетике» (Валери, 1993,85), тем более, что наши оценки опираются не столько на исследование того, как и кем читались те давние романные сочинения, как они оценивались современниками, не на их тщательное аналитическое прочтение в перспективе развития жанровой традиции, а на устоявшуюся «учебную» репутацию этих романов, переходящую из исследования в исследование. Прав ученый, заметивший, что «современное эстетическое суждение предпочитает канон произведений, соответствующих нынешнему вкусу, а все прочие оценивает несправедливо лишь потому, что их прошлая функция перестала быть очевидной» (Яусс, 1995, 68). Только анализ этой функции позволит точнее исследовать механизм романной трансформации в эпоху Просвещения, реальное взаимодействие романа XVIII века с романной традицией предшествующей эпохи, усвоение и преображение им не только опыта плутовского и комического жанров, с одной стороны, и психологической традиции Лафайет, с другой, но всего разнообразного опыта предшествующей романной прозы, в том числе и романа «высокой линии» барокко, с его пресловутым «псевдоисторизмом» и «лжегероизмом». Такое понимание опиралось бы не на суждение - авторитетное, но далеко не единственное - классициста Буало о романе39 40, а на конкретный анализ текстов, до сих пор мало привлекавших внимание отечественной науки.
За романами, о которых пойдет здесь речь, закрепилась репутация архаических сочинений или таких, чье новаторство ограничивается
39 «Прежде чем появится тот или иной яркий культурный феномен, должно возникнуть «силовое поле» новой культуры, но процесс его формирования обычно ускользает от нашего взора» (Бахмутский, 1994, 50).
40 Следует заметить, что оценка классицистом Буало романа - и в «Поэтическом искусстве», и в более поздних произведениях - все же скорее снисходительная, чем «убийственная» (Разумовская, 1981, 11).
50
лишь некоторым «снижением» тематики и персонажей и введением элементов нравоописательности. Это романические псевдомемуары Куртиля де Сандра 1680-1700-х гг., «Мемуары графа де Грамона» (1704, опубл. 1713) А. Гамильтона, ранние романы Лесажа, Мариво (особенно те, в которых обнаруживают не пародийные, а скорее подражательные тенденции - например, «Приключения*, или Удивительные действия симпатии», 1709-1710, опубл. 1713) и предшествующие им романизированные повествования - от галантноисторических новелл 1680-1690-х гг. до «секретных историй» и скандальных хроник рубежа веков. Жанрово-тематические границы этих произведений размыты, жанровые обозначения колеблются и практически взаимозаменяемы. Из этого пестрого хаоса, по верному суждению Ж. Ломбара, трудно выделить отдельные литературные школы, четко обозначенные жанровые модификации (Lombard, 1982, 559), но ни одной из них невозможно пренебречь: в переходный период литературное развитие происходит не только постепенно, но и как бы в разных направлениях. Попытки систематизации этих направлений в большей степени следовало бы основывать на изучении не только вершинных достижений романа, но на обращении к тому кругу произведений, который можно, вслед за Э. Истопом назвать не «продуктом литературного творчества», а скорее популярной «литературной продукцией», тем более что «на заре жанровой эволюции различие между хорошими и плохими романами было невелико»41.
Парадоксальным образом при этом обнаруживается, что, несмотря на различие исходных позиций (когда произведение опирается на жанровый опыт и хроник, мемуаров, и писем, дневников, и на новеллистическую и романную традицию - от «Амадиса» до «Принцессы Клевской» и от «Ласарильо» до сочинений Скаррона и Фюретьера), направление романной трансформации в 1680-1720-е гг. обладает некоей целостностью, правда, не целостностью поиска буквальной жизненной достоверности или документальности. Скорее, читатель этой разнообразной романической литературы попадает в атмосферу экспериментов с понятием художественной достоверности: так, в противовес последовательному отрицанию вымысла, свойственному,
41 Ортега-и-Гассет, 1991, 291. О массовой литературной продукции и ее роли в культурном процессе см.: Easthope 1991.
51
например, литературно-критическим размышлениям писателя низового барокко Ш. Сореля, мы находим у романистов конца XVII - начала XVIII в. утверждения о cio благотворном психологическом воздействии42. Но главное даже не в этих прямых теоретических положениях. Поэтика романной прозы названного переходного периода выявляет то свойство подлинности как эстетической категории, которое вполне стало осознаваться лишь в последнее время: «Сама «подлинность» в романе приобретает характер художественного приема, который приобщает ее к замкнутому миру вымысла» (Эпштейн, 1988, 342). Писатели этого периода в той или иной форме играют в невымышленность, всегда позволяя догадываться об этой игре читателям, но и всегда оставляя «подозрение» в подлинности43. Так, самый переход в выборе персонажей от известных исторических лиц (у М. де Скюдери, полагавшей, что читатель не может сопереживать выдуманным героям, действующим в выдуманной стране44), или в галантно-исторических новеллах, скандальных хрониках, интерес к которым подогревает именно возможность узнать интимные тайны знаменитых лиц, через героев, имеющих более или менее известных современникам прототипов-рядовых участников истории, чьи биографии и портреты зачастую контаминируются (у Куртиля де Сандра, Гамильтона) к персонажам, на реальности которых настаивает только сам автор, не предоставляя читателю при этом никаких убедительных недвусмысленных доказательств (или даже соединяя признание в реальном существовании героев с отрицанием такового, как это делает автор «Знаменитых француженок» [1713] Р. Шаль, например) - это свидетельство не пути романа от вымысла к
42 См., например, рассуждения Мариво в предисловии к «Удивительным действи¬
ям симпатии».
44 Отсюда мнимая непоследовательность объяснений «автора» или «издателя», когда уверения в абсолютной подлинности сочетаются с просьбой не искать прототипов, опасения, что читатель узнает героев, и утверждения, что известные имена здесь - только для пробуждения интереса и т. д. Отсюда - и имитация историкодокументальных или эпистолярного жанров с одновременным обращением к такому материалу частной истории мало известных или вовсе не известных лиц. который нс может быть по-настоящему проверен. Между прочим, уже Ла Кальпренед понимал, что описание персонажей второго или даже третьего плана большой Истории, полулегендарных полумифических личностей, а не «великого Кира», дает больший простор его творческому вымыслу (см. его предисловие к «Фарамону»).
44 Таковы рассуждения и самой Скюдери в предисловии, и одного из героев «Кле- лии», явно близкого по своим взглядам автору.
52
правде, а скорее его движения к двойственному эффекту «подозрения в реальности рассказываемого» как необходимого этапа на пути от «правдоподобия» к «естественности». На смысле и значении этих понятий в поэтике романа XVII-XVI11 вв. следует остановиться особо.
Категория правдоподобия была одной из самых разработанных в прикладной теории романа XVII столетия45 и уже в рамках этого века претерпела, по крайней мере, во Франции, существенную эволюцию, соотносящуюся и с динамикой развития литературных направлений, и с меняющимися отношениями направлений и жанров. Истолкование правдоподобия в значительной мере было связано не только с основной дифференциацией романа XVII в. (роман «высокого» и «низового» барокко), но и с внутренним членением этих одновременно взаимодействующих друг с другом и противостоящих друг другу течений. Так, «высокое» крыло романистики включало в себя и маньеристически-барочный пасторальный роман д’Юрфе, и галантно-героический роман Гомбервиля, и прециозный (т. е., собственно говоря, классицистически-барочный46) историко-галантный роман Скюдери и т. д., а «низовой» роман барокко существовал, по крайней мере, в двух разновидностях - «комической» и «сатирической»47. Стремление каждого из романистов отстоять художествен-
45 Обычно говорят, что теории романа в XVII-XVIII вв. почти не было, но при этом не учитывают постоянных размышлений о жанре в предисловиях, комментариях, авторских отступлениях, обращениях к читателю и т. д. - всего того, что можно назвать практической, прикладной теорией романа.
46 В нашем литературоведении термин «прециозный роман» традиционно употребляется чрезмерно широко и приблизительно, как синоним «высокого» барочного романа во Франции вообще. Так, в число прециозных романистов попадают не только д’Юрфе или Гомбервиль, в разной степени действительно оказавшие влияние на светский прециозный роман середины XVII в., но даже религиозный романист Ж.-П. Камю (см., например: Разумовская, 1981, 9). Между гем, тщательное исследование культурного феномена прециозности привело французских ученых к убеждению, что это - явление, четко локализованное во времени и распространенное в определенном, преимущественно женском, социальном кругу, что оно по своим художественным характеристикам отличается от «чистого» барокко, стремясь к последовательному, сбалансированному соединению в своей поэтике барочных и классицистических черт (см. подробно: Pelous, 1980).
47 Такие разновидности этой жанровой модификации выделял Ш. Сорель во «Французской библиотеке» - критическом обзоре и систематизации современного романа. К сатирическим романам писатель относил при этом ту его «комическую» разновидность, в которой критика носила персональный характер, герои имели прототипов - т. е. «комические романы с ключом» - например, «Аргениду» Барклая, «Сатирический роман» Ланнеля.
53
ную и этическую значимость своей модификации романа стимулировало споры об основных категориях его поэтики, и магистральный путь эволюции «правдоподобия» в романной теории XVII в. лежит от «правдоподобия эпопеи в прозе», в которое у Гомбервиля, а до него и у д’Юрфе, входило и «merveilleux» - «чудесное», через «историческое и психологическое правдоподобие», в высокой оценке которого сходились столь разные на первый взгляд романистки, как М. де Скюдери и мадам де Лафайет, к «правде факта, действительно бывшего», сколь бы неправдоподобной она ни была (см. об этом: Magne, 1976).
Интерес к скандальной правде факта, вскрывающего непарад- ность, обыденность поведения, мотивов действий исторических личностей вызвал к жизни на исходе правления «короля-Солнца» многочисленные «скандальные хроники», «секретные истории», эволюция жанрового содержания в которых постепенно вела от подлинно исторического материала к его имитации. Выразительное свидетельство тому - творчество Куртиля де Сандра, начавшего свой путь в литературе с создания «секретных историй» (например, «Любовные победы великого Алькандра в Нидерландах», 1684), но скоро перешедшего к романам-псевдомемуарам («Мемуары Рошфора», 1687; «Мемуары д'Артаньяна», 1700), имитирующим не только форму мемуарного повествования, но и подлинность биографии «реального лица», составленной на самом деле из смеси фактов жизни нескольких людей и вымышленных историй. Такое смешение стало возможным оттого, что в конечном счете с «правдой» стали отождествлять не обязательно «действительно случившееся», а «наиболее вероятное», т. е. в нравственно-психологической атмосфере эпохи то, что несло на себе налет скандальности. Скандальность, оказавшаяся залогом правдивости даже самой «романической» истории48, была признана естественным элементом общественного и индивидуального бытия. Вот почему полемика романистов начала XVIII в. с такими авторами, как Ла Кальпренед и Скюдери, велась по совсем другому поводу, нежели у Буало. Если последнего раз-
4Х Как заявит позднее повествователь в первом романе Прево «Мемуары знатного человека, удалившегося от света», своеобразной энциклопедии занимательно- романического: «Я не должен умерять правду, чтобы пощадить деликатность недоверчивого читателя» (Prevost, 1810,1, 199).
54
дражало, что основным мотивом поступков политических деятелей большой Истории в романах оказывалась любовь, то для Мариво или Куртиля де Сандра, Гамильтона или Р. Шаля любовь как основное проявление естественного тяготения человека к счастью и наслаждению - психологически убедительная мотивировка, не будь эта страсть трактована чересчур идеально-возвышенно.
Внести коррективы в подобную трактовку писатели пытались несколькими способами: либо приводя эмпирические «мемуарные» свидетельства неполного соответствия «романа» и «жизни» - но также и свидетельства их сходства (Куртиль де Сандра, Гамильтон), либо создавая психологизированные травестии, в которых герои, влюбленные на манер Дон Кихота, пытаются переживать это чувство «как в романе», что удается им далеко не вполне, но и не отрицается совершенно («Новые приключения Дон Кихота» Лесажа, «Продолжение Дон Кихота» Р. Шаля, «Фарсамон» Мариво), либо, наконец, предлагая читателю некий конспект идеальной любовной истории на старый «романический» лад с ироническими авторскими комментариями-отступлениями (как в «Удивительных действиях симпатии» того же Мариво). Противопоставление патетическому роману о возвышенной любви «естественного» романа49 о часто подлинных, но не идеальных чувствах, об их всегда скандальной подоплеке - одна из важных функций раннего романа рококо во Франции. И у его авторов нет при этом сатирико-дидактических намерений, если только назидательность, достаточно двусмысленная, не используется как игровой прием (как в сохраняющем некоторые интонации «низового барокко» «Хромом бесе» Лесажа). Писатели рубежа веков вслед за Ж. Дюбо склонны были считать, что «люди гораздо более легкомысленны, чем это им кажется, и часто внутренним двигателем их поступков является вовсе не злой умысел, а всего лишь душевное непостоянство» (Дюбо, 1976, 37). «Глубинный дидактический план» (Пинский, 1989, 174), равно возвышенный как в высоком, так и в низовом романе барокко, оказывается чужд формирующемуся новому роману, полемически утрирующему свою «пустяшность» (Мариво), «развлекательность»
49 Ср., например, заголовки скандальной хроники Куртиля де Сандра - «Дамы в их естественном свете», переиздания «Кареты, увязшей в грязи» Мариво - «Естественный роман».
55
(Гамильтон), представляемому читателю как «безделка» (Куртильдс Сандра). Но главное скандальность оказывается оправдана своей естественностью, соответствию природе человека. Иными словами. если, согласно Р. Барту, вечная задача литературы - «открытие скандальной сути банальных ситуаций» (Барт, 1994, 329), то у романистов исследуемого периода задача как раз обратная: открыть банальность скандальных ситуаций, т. с. их обыкновенность, естественность. Причем, вопреки убежденности многих литературоведов в том. что если роман этой поры и меняет содержание, то в пределах старой жанровой формы, романисты рубежа веков как раз озадачены стремлением найти «естественному» содержанию соответствующую «естественную» форму: отсюда стремление вначале нередко к мистифицирующей имитации, а затем к более откровенно условной стилизации повествования либо под неканонические «по- лулитературные» (М. М. Бахтин) жанры мемуаров, дневников, писем, либо под свободное, ассоциативно-хаотическое устное рассказывание, принципы которого не только воплощаются, но и прямо отстаиваются в авторских обращениях к читателю50. Тем самым форма повествования от лица героя, столь популярная в рассматриваемых произведениях, отнюдь не кажется прямо заимствованной из плутовского романа XVII в., и совсем не противостоит рассказу от лица автора, непринужденная манера которого направлена к той же цели - интимизации отношений с читателями. В «Удивительных действиях симпатии», например, такая интимизация включает не только прямое обращение к более или менее условному читателю вообще, но и персонифицирование его в образе некоей близкой писателю дамы: и таким образом «читатель-адресат» повествования существенно расходится с реальной читательской аудиторией, что, по Ю. М. Лотману, является одним из характерных признаков художественного текста (Лотман, 1992, I, 166), и значит позволяет читателю скорее догадаться о «подлинности рукописи», на которой настаивает «издатель», как об игровом приеме. С другой стороны, непосредственные обращения к читателям призваны порой создать иллюзию того, что такого рода приемы почти импровизационны, что
5,1 См. предисловие А. Гамильтона к «Мемуарам графа де Грамона», где автор утверждает, что записывал свободные хаотические воспоминания героя повествования, или предисловие Р. Шаля к «Знаменитым француженкам» и т. д.
56
они возникают едва ли не синхронно процессу написания романа, в ходе их обсуждения с воображаемым критиком, как - задолго до Филдинга - это происходит в «Фарсамоне» Мариво.
Включение читателя в романную игру - пожалуй, наиболее постоянный признак переходных форм жанра в этот период, свидетельствующий о том, что становление новых романных модификаций протекает в этот период преимущественно в лоне раннего рококо4. Однако важна не только констатация, но и конкретный анализ игрового начала, специфического именно для этого направления, и здесь очевиден отход повествования от старой барочной игры-театрализации: эпизоды-мизансцены, равно характерные как для галантно-героического, так и для комического романов XVII в., попытки приспособить к романной прозе драматургические «единства» остаются чужды писателям нового периода, отвергающим «стерильные», по определению Мариво, правила романа ради свободного следования природе51 52. В то же время не привлекает новых авторов и свойственная тяготеющему к классицизму «маленькому роману» (Дю Плезир) подчеркнуто серьезная, «неигровая» лаконичность повествования: эту «романную экономию» Р. Шаль отвергает ради того, чтобы подчиниться «первой пришедшей в голову идее». Игровое начало ценится Куртилем, Гамильтоном, Р. Шалем и другими романистами их поколения за способность создать иллюзию непринужденности, естественности. На этой почве, так же как и в силу принципиального тяготения рококо к идейно-художественному компромиссу, довольно долго произрастает своеобразный синкретизм поэтики раннего рококо с вызревающими тенденциями сентиментализма: чувствительность и ирония, поиски непосредственности и изощренность предстают в рассматриваемых произведениях в некоем нерасчлененном виде. Но поэтологические особенности переходных форм французского романа не ограничиваются только таким сочетанием. Экспериментальность этих произведений, замеченная отдельными западными исследователями (Rossbottom, 1974,
51 Особую насыщенность культуры рококо игровым началом отмечают многие исследователи, но особенно важно суждение такого знатока игры, как И. Хейзинга: «...сама дефиниция рококо едва ли будет полной без прилагательного «игривый» (Хейзинга, 1992. 209).
52 См. предисловие к «Удивительным действиям симпатии».
57
54: Williams, 1979, 140), парадоксальным образом строится на игре реминисценциями, на использовании мотивов, тем, ситуаций старого барочного романа, позднебарочной новеллистики, классицистической прозы. Реминисценции не всегда открыты современному читателю, а чаще «более или менее скрыты», как верно замечает П. Фоше- ри. «требуют пристального внимания» (Fauchery, 1972, 60). Однако вводились они в расчете на осведомленного читателя, воспитанного в «романической» традиции: это позволяет не буквально повторять некоторые ситуации, сцены, а воспроизводить их конспективно, как бы в миниатюре, рассчитывая на читательские ассоциации и одновременно - на понимание читателями меры присутствия «романического» в жизни. При этом романисты начала XVII в. обращаются не только к непосредственно предшествующей романной традиции, но к самому разнообразному арсеналу «Романсии»53: «плутовские» и «комические» элементы, так же, как «пасторальные», «галантные», «рыцарские» и другие вначале несколько эклектично соединяются, накладываясь друг на друга, и постепенно теряют то выразительное противостояние, которое было характерно для них в предшествующую эпоху, когда «высокие» психологические и «низкие» нраво- и бытописательные компоненты были разведены если не по разным жанровым романным модификациям, то безусловно по разным композиционно-структурным единицам жанра54 . Однако происходит это отнюдь не путем «слияния» (E. М. Мелетинский) названных компонентов - во всяком случае в переходных формах романа, как. например, в «Карете, увязшей в грязи» Мариво, они еще явственно не слиты - а в результате «снятия» их структурно-стилевого различия в ходе осознанной трансформации по принципу психологизированной травестии: персонажи романных произведений переходной эпохи обрисованы писателями в их естественности, но составной частью нравственно-психологического облика таких естественных героев является то, что они смотрят на самих себя и на окружающую жизнь привычно «романическим» взглядом. Разнообразные мемуары последней трети XVII в. могли служить доказательством психоло-
53 В романе Бужана «Чудесное путешествие принца Фан-Федерена в стран) Романсию» (1735) эту страну недаром населяют персонажи как «высоких», таки «низовых» комических романов.
54 Как в «амальгамном» романе барокко (см.: Потемкина, 1986, 49-69).
58
гической вероятности такого восприятия: «Моя жизнь - настоящий (vrai) роман», начинает свое повествование один из многих романизирующих на барочный лад авторов55. И такое заявление не означало, что мемуарист предпочел вымысел - реальности. Вспомним, например. суждение известного ученого о других, правда, гораздо более поздних. но весьма показательных воспоминаниях: «В записках знаменитого авантюриста XVIII века Казановы <...> все может показаться романической выдумкой и <...> почти все проверено кропотливыми исследованиями по документам...» (Белецкий, 1989, 36). Романизированные мемуары, становясь все более популярными во Франции - стране, история которой, по мнению М. Фюмароли, обладает благоприятным для расцвета данного жанра драматизмом (Fumaroli, 1971, 13). - способствуют открытию романистами романности самой жизни. как бы предвосхищая самые современные суждения о романе как «форме реального <...> отстранения моей завершенной жизни от моего непосредственно продолжаемого бытия» (Библер, 1991,332). И эта романность, понимаемая как форма восприятия и переживания действительности. структурно выражается в переходных модификациях жанра через психологизацию «романического» и его постепенное композиционно-содержательное изменение. Воссозданные «изнутри переживания» (Бахтин, 1979, 63), внешне знакомые мотивы и ситуации из арсенала «высокого» и «комического» романов постепенно превращаются из композиционных единиц фабулы в элементы психологического сюжета, обретают единую иронико-драматическую интонацию, становятся равноправными компонентами «естественной» скандально-авантюрной частной жизни обыкновенного человека.
Понятия скандальности и авантюрности также требуют разъяснения того смысла, который вкладывала в него предпочитающая компромисс эпоха (см. об этом, например: Длугач. 1995, 7). Избегая как возвышенной экстравагантности, так и комического бурлеска, привычных для антиномичного эстетического мышления барокко, романисты рассматриваемого периода понимали под скандальностью чаще просто непарадные, тайные подробности приватного существования человека (которые становились вдруг публично известными), нежели нечто шокирующе неприличное: так,
См. многочисленные примеры такого рода в кн.: Hipp, 1976.
59
суждения д’Артаньяна о монархах и министрах скандальны более всего потому, что о характере этих деятелей истории герой судит прежде всего исходя из того, как они относятся к нему самому, что эти суждения располагаются как бы в тени биографии персонажа, интересующегося прежде всего своей собственной судьбой. Судьба его при этом складывается отнюдь не из «невероятных событий и великих дел», которые, как уже заметил несколько раньше Дю Плезир, «теперь никого не трогают» (цит. по: Coulet, 1992, 130), а авантюризм д'Артаньяна не замешан на стоическом героизме, как, например, у Полександра, персонажа нескольких романов-версий Гомбервиля и очень показательного героя высокого барокко. Однако это не мешает перекличке некоторых мотивов и ситуаций романа Куртиля, - не только имитирующего мемуарное повествование, но и впитывающего материал реальных воспоминаний, - с «романической» традицией: по верному суждению одного из самых тонких знатоков мемуаров той эпохи, большая часть «romanesque» была пережита тем поколением, к которому принадлежат автор и его герой, да и другие романисты тех лет (Bertiere, 1981, 173). Но это переживание принесло им одновременно двойственное ощущение, что жизнь - хоть и не «анти-», но «другой роман», что она - «the same-but-different»56, чем подсказывает книжный опыт. Актуализация романического в переходных романных формах постепенно меняет его содержание: героические приключения-испытания героя в экстремальных ситуациях войн, политических интриг, государственных переворотов, землетрясений и кораблекрушений сменяются приключениями более обыденными и достоверными в контексте разочарованной в героике эпохи - дуэлями, уличными стычками, трагедии любовных страстей - более или менее драматическими любовными чувствами, сердечные катастрофы - душевными волнениями, а сохраняющийся мотив путешествия персонажа выдвигает на первый план идею самопознания и самореализации с их двойственным нравственно-психологическим результатом в большей степени, чем идею испытания на героическую или галантную безупречность, столь дорогую как Скюдери, так, между прочим, и Лафайет.
56 Этот принцип Дж. По считает наиболее значимым в поэтике рококо (см.: Рое. 1987, 129).
60
Все это совершенно не означает, что содержащаяся в произведениях начала XVIII в. и на протяжении всего столетия авантюрность воспроизводит действительность «в формах самой жизни» (Со- колянский, 1983, 49, 50) уже по той причине, что перед читателем этих романов не вся жизнь, а лишь ее подчеркнуто частные аспекты, к тому же воспринятые под определенным углом зрения. Еще М. М. Бахтин, возражая подобным, до сих пор встречающимся суждениям, замечал: «...действительность, противопоставляемая искусству, - в таких случаях, впрочем, любят употреблять слово «жизнь» - уже существенно эстетизирована...» (Бахтин, 1975, 26). Бахтин не только обратил внимание на существенную роль высокого барочного романа в формировании романного жанра XVIII-XIX столетий, в том числе и во Франции, но и наметил направление его трансформации. В рассматриваемых переходных формах романистики эта роль особенно очевидна: именно реминисценции из высокой линии романа барокко, воспринятые непосредственно, а не только «переплавленные» аналитико-психологической прозой Лафайет, позволяют новому миниатюризированному роману сохранить энциклопедическое разнообразие романического - «рыцарского», «пасторального», «фривольно-эротического», «галантного» и т. д., а с другой стороны, создают возможность для неожиданно ранней манифестации «чувствительного», или даже «мрачно-готического» (см., например, линию Тюркамена в «Удивительных действиях симпатии», или историю соблазнения и гибели Сильвии в «Знаменитых француженках»), а непременная меланхоличность идеального персонажа старого романа бросает отсвет даже на самых жизнелюбивых героев этих произведений, вроде того же д'Артаньяна или Дюпюи у Р. Шаля. Но контрапункт трагического и бурлескно-комического, который определяет не только взаимоотношения «высокой» и «низовой» модификаций барочного романа, но и трагикомическую тональность отдельных внутрироманных мотивов, особенности системы персонажей, внедряющей «комического» героя в «высокий» роман и наоборот, остается чужд новой романистике, пытающейся смягчить интонацию рассказа, смешав краски «романной действительности», добившись в повествовании тех пастельных тонов, которые так характерны для живописи рококо, сосредоточившись на скандально-естественных, а порой одновременно и трогательных моментах сюжета.
61
Достичь этой «пастельности» романного слова, изящной иронико-меланхолической тональности, научиться рассказывать равно о «высоких» и «низких» моментах жизни, о ее «трагических» и «комических сторонах» стилем, «принятым в хорошей компании»"' удается авторам романов переходного периода не до конца, с разной степенью художественной удачи и мастерства. Но в этих произведениях явственно ощутима не только постепенность, удерживающая в их жанровой структуре некоторые, слегка модифицированные и эклектически соединенные друг с другом «цитаты» из барочной и классицистической романной прозы XVII в., но и неуклонность перехода одновременно и к зрелому этапу развития классической формы французского романа 20- 40-х гг. - социально-психологическому роману рококо, и, позднее, к его раннесентименталистским формам, возникающим в 1740-е гг. Предвосхищение будущей эволюции романа в русле двух основных художественных направлений романной прозы XVIII столетия - еще одна функционально значимая черта поэтики французского романа рубежа XVII-XVIII вв. Отсюда - неожиданное обилие мотивов, фабульных линий, просто имен персонажей, которые затем всплывают в творчестве Прево, Мариво, Кребийона-сына и других романистов эпохи Просвещения, чье творчество развивалось в известной степени автономно от собственно просветительского романа58, хотя и не без учета его эволюции.
Проблематика уже этого раннего романа, с его - при доминирующей роли рококо - смешанной поэтикой, пересекается с теми идеями и проблемами, которые наполняют собственно просветительскую литературу, особенно то ее крыло, которое тяготеет к компромиссу. Задачей переходных форм романной прозы в процессе жанровой трансформации становится уже не воплощение идеальных этических норм, должного (т. е., в представлении XVII столетия,
г Так оценивали слог «Манон Леско» авторы предисловия к одному из издании романа Прево (Delofïre, Picard, 1965, XCLV1).
Думается, что употребление терминологических выражений «роман Просвещения» и «просветительский роман» как синонимов ведет либо к неадекватно широкому распространению просветительской поэтики на всю совокупность художественных явлений XVIII в., либо к сужению поэтологических исканий романа этого века, на самом деле сумевшего дать образцы и антипросветительских, и непросветительских вариантов романа (см. подробнее: Пахсарьян. 1999, 104-112).
62
правдоподобного"0) и не воссоздание трагических отступлений и драматизма процесса достижения этого должного под наплывом страстей - как это запечатлено у Лафайет и, по-другому, у Скюдери, а постижение меры естественности этического долженствования (соизмеримы ли прежние нравственные нормы, прежде всего - любовных отношений, с возможностями человеческой натуры) и мера его социально-исторической и психологической воплотимости: задача эта вполне сопоставима с исканиями Монтескье, «который указал на возможность соединения приверженности рационалистическим идеалам с изучением условий, при которых осуществление этих идеалов становится возможным или невозможным, легким или трудным» (Шацкий, 1990, 233). Но предпочитая для своих экспериментальных интеллектуально-художественных исканий облегченно романическую форму, ранние романы новой эпохи размышляют, так сказать, о своем и одновременно прокладывают путь развлекательной беллетристике XVIII в. Недаром современный ученый находит сходство между жанровыми особенностями романического женского романа этого периода и так называемым «дамским романом» XX столетия (Ballaster, 1992, 7). Процесс жанровой романной трансформации конца XVII - начала XVIII вв. не имеет, таким образом, ни синхронности с этапами развития просветительского движения, ни, самое главное, намерений всего лишь иллюстрировать его идеи, развиваясь вполне самостоятельно. Более того, в переплетении традиционного и новаторского, экспериментального и клишированного, ностальгии и иронии, наконец, жанровой рефлексии и открытой развлекательности отдаленно угадываются черты постмодернистской прозы60, сколь бы активно она не открещивалась от любых «лучей Просвещения» (см.: Якимович, 1994). Но все же главный непосредственный итог жанровой трансформации французского романа на рубеже X VII-XVI11 вв. - в том, что она проложила путь будущей эволюции романистики XVIII столетия в русле двух основных художественных направлений периода - рококо и сентиментализма, в сложном взаимодействии просветительского, непросветительского и антипросветительского начал романной проблематики и поэтики.
«Классическая культура веками жила мыслью о том, что реальность нико им образом не может смешиваться с правдоподобием», - замечал Р. Барт (Барт. 1994, 398-399). См. также: Женетт, 1998, 1, 299.
Ср., например, характеристику постмодернистской поэтики в кн.: Маньковская, 1995. 7.
Тема руин во французской
ЛИТЕРАТУРЕ XVIII ВЕКА
В широком читательском, да и исследовательском сознании французская литература эпохи Просвещения - слишком «головная» и рационалистическая, чтобы быть действительно интересной для понимания специфики становления «предромантической». как ее обычно оценивают, темы руин. В поэзии эпохи Просвещения и отечественные, и зарубежные исследователи видят, прежде всего, эстетико-художественную неудачу, «падение Икара» (см. заголовок монографии С. Менана: Menan, 1981). «Легкая» поэзия, репрезентирующая весь поэтический спектр Франции XVIII в., «безудержная вера в разум» и «чрезмерная» цивилизованность салонной культуры - довольно распространенные и устойчивые клише восприятия французской литературы этого периода. С точки зрения С. Н. Зенкина, «в то время, как немецкие мыслители конца XVIII в. (Кант, Гердер) уже сформулировали оппозицию «культура-природа», французы противопоставляли природе скорее «искусственность» (Зенкин, 2002, 32). Ошибочность такого утверждения, однако, вполне очевидна: оппозиция природы и культуры, зародившись в античности, в разных формах представлена во французской (и европейской) литературе и в эпоху Возрождения, и в XVII, и в XVIII вв. на ней, как известно, строится эволюция пасторальной традиции от истоков до сегодняшнего дня. К тому же на оппозиции природы и культуры зиждется французский руссоизм, оказавший влияние, в том числе, и на немецких мыслителей. С другой стороны, художественное воплощение этой оппозиции не обязательно связано с темой руин, а эта тема, в свою очередь, не рождается непременно в ходе эстетического развития и философского осмысления данной оппозиции: достаточно вспомнить написанную Ш. Перро пародию на «Энеиду» - «Руины Трои, или Происхождение бурлеска», чтобы в этом убедиться. Видимо, тема руин актуализировалась в литературе последней трети XVIII в. в силу комплекса историко-культурных причин, среди
64
которых формирование чувствительности, обостренное восприятие разрушительного движения времени, а, с другой стороны, возникновение эстетико-игрового отношения к древностям, развитие идиллических и одновременно меланхолических настроений, «ностальгии по изначальному» (Saint-Martin, 2002) играли не последнюю роль.
Привычно считать, что ни французский сентиментализм, ни пред- романтизм не были яркими и самостоятельными художественными явлениями и, как следствие, не внесли того вклада в становление культа чувства, рост меланхолических настроений, какой внесла, например, английская литература XVIH столетия. Потому-то, говоря о теме руин в связи с французской литературой этого периода, отдав дань первопроходцам - поэтам XVI-XVII вв. - Ж. дю Белле («Древности Рима»), Сент-Аману («Одиночество»), специалисты чаще всего называют лишь два сочинения позднего Просвещения: размышления Дидро, навеянные картиной известного в ту пору художника Ю. Робера (1733-1808) в «Салоне» 1767 г. и «Руины, или Размышления о крушении империй» (1791) графа Вольнея (см.: Mortier, 1974, Зенкин, 2000), практически не упоминая более ранних и других, особенно стихотворных вариантов разработки этой темы в XVIII в. «Стихотворцев тогда было столь же много, как всегда. Но творения их, большей частью, были искусственны и условны»-такова хрестоматийная оценка специалиста, чьи суждения и самый выбор текстов довольно долго тиражировался составителями учебных пособий и антологий - М. Аллена (Allem, 1966, 5). При этом не то, чтобы теме руин в ее французском варианте совсем отказывают в поэтичности, но в ней видят, скорее, повторение уже пройденного английской литературой, вторичное, подражательное воплощение сентиментализма. Однако степень одаренности поэтов, да и самый вкус XVIII столетия были во Франции, как и во всей Европе, достаточно разнообразными, и тема руин находила и тривиальное и оригинальное воплощение и в неоклассицистичсской, и в рокайльной и в сентиментальной поэзии и прозе того времени.
В данной статье сделана попытка прежде всего познакомить читателей с теми текстами французских писателей, которые, имея непосредственное отношение к воплощению тематики руин, тем не менее, не стали у нас до сих предметом специального анали-
65
за (Молок, 1996; книгу Мортье включает в библиографию лишь Б. М. Соколов, см.: ('околов, 2000, 102). Во всех этих произведениях мотив руин получает, думается, полноценное и разнообразное ли- ри ко- п оэ ги ч ее кое раз в ити с.
Естественность возникновения темы руин у французских поэтов связана со многими факторами, которые не следует игнорировать. Прежде всего, увлеченность археологическими раскопками развивалась в XVIII столетии повсеместно, открытие руин Помпеи (1748) было общеевропейски значимым событием, а коллизия природы и культуры - общспросвститсльской проблемой. Человек Просвещения сталкивался и с историческими руинами Рима, Пальмиры - свидетельствами величия и бренности, и с разрушенным землетрясениями Лиссабоном, с его «ужасающими руинами» (Вольтер), опровергающими тезис о предустановленной гармонии. И в Англии, и во Франции, как и в других европейских странах этого периода, ширился интерес к познавательным путешествиям (Hafid-Martin, 1995), открытию природного разнообразия, шел процесс эволюции вкуса к приятию «живописного» (Milani, 2001), обсуждались вопросы поэтики садов, пейзажей, частью которых являлись натуральные или искусственно созданные руины. Такое сочетание природного и «человеческого» в пейзаже середины XVIII в. - закономерное явление, мифология «естественного» как дикого, невозделанного, не тронутого присутствием человека возникнет уже в позднем сентиментализме и вполне разовьется лишь в следующую, романтическую эпоху (Milani, 2001 ). Как пейзажные сады Европы можно разделить, вслед за Б. Сен-Жирон, на «эмблематические», «идиллические» и «живописные» (Saint Girons, 1998), так руины, оказывающиеся деталями поэтических пейзажей, можно классифицировать как античные и «готические» (средневековые), естественные и искусственные, величественные и трогательные и г. д.
Французские архитекторы, начиная с конца XVII в., изучали развалины Рима, строили здания и мемориалы в виде руин, вводили «руинные» элементы в парковые ансамбли (подробнее см.: Соболева, 1996, 68-89). В литературе же образ руин то сплетался то с темой приятного времяпрепровождения среди изящно стилизованной «древности», то с образами смерти, могилы, то с мотивами несуетного существования, наслаждения одиночеством и покоем, стили-
66
стически варьируясь и эволюционируя от эмблемно-аллегорических до эмоционально-поэтических форм воплощения (Hunt, 1981).
Уже в 1740-е гг. искусно сооруженные руины как элемент ро- кайльного сада упоминаются в романе А.-Ф. Прево «Мемуары благовоспитанного человека» (1745): их приятная орнаментальность радует глаз повествователя (Prévost, 1745, 46). А «имеющий некоторый шанс на бессмертие» (Allein, 1966, 173) Лефран де Помпиньян в про- зиметрическом «Путешествии по Лангедоку и Провансу» (Voyage de Langedoc et de Provence, написанном в 1740-м и трижды изданном в 1745 гг.) включает в свое произведение поэтическое описание и средневекового. «очень готического», по словам автора, монастыря - символа покоя, и античных руин в окрестностях Ним -свидетелей бурных кровавых событий: «Là. nos yeux étonnés promènent leurs regards / Sur les restes pompeux du faste des Césars» - «Там наши удивленные взоры / Созерцают помпезные остатки хроники Цезарей».
Населяя развалины античной арены воображаемыми гладиаторами и беспощадными, посылающими их на смерть зрителями, поэт не без легкой иронии просит прощения у своей читательницы за чрезмерную серьезность («Путешествия» обращены к мадам де Помпиньян) и, как бы оправдываясь, заключает: «Вид римского амфитеатра пробудил во мне трагические размышления».
В 1750-е гг. тема руин возникает в действительно трагическом эмоциональном ключе и в непросветительской (Фетри «Могилы», 1755), и в просветительской (Вольтер «Поэма о Лиссабоне», 1756) поэзии, где руины - отнюдь не предмет эстетического созерцания, а мрачное свидетельство беспощадности времени и природной стихии. Определенный шаг к созданию эстетики руин сделан в конце десятилетия художником Пьер-Антуаном Демаши в его картине «Храм в руинах» (1759). Но только в 1760-е гг. обращение к образу руин становится постоянным, само слово «руины» становится названием по крайней мере двух поэтических сочинений тех лет - поэмы Э. А. Ж. Фетри ( 1767) и послания Ж.-Б. Кейля ( 1768). Однако отсылок к этой теме гораздо больше. Так, в «Оде о Времени» ( 1762) Антуана Леонара Тома ( 1732-1785), сочинении, которое пользовалось у современников популярностью, возникает неоклассицистическая вариация на тему Ювенала - образ разрушенных зданий как свидетельства бренности творений человека и суетности мирской славы:
67
De la destruction tout m’offre des images.
Mon oeil épouvanté ne voit que des ravages;
Ici, de vieux tombeaux que la mousse a couverts;
Là, des murs abattus, des colonnes brisées,
Des villes ambrasées;
Partout les pas du Temps empreints sur l’univers (цит. no: Anthologie, 1966, 282-283)61.
Руины здесь - это развалины вообще, они не предмет подробного, конкретного описания и любования, в них нет сентиментального «удовольствия от катастрофизма» (Р. Милани), они - часть общей символикоаллегорической картины в духе неоклассицизма. Тома, не сторонник просветителей, ортодоксально религиозный человек черпает лирическое вдохновение в размышлении о бренности материальных творений и бессмертии человеческой души: «Mais mon âme immortelle, aux siècles échappée, / Ne sera point frappée» (Anthologie, 1966,284) - «Но моя бессмертная душа, ускользнувшая от хода веков, / Не повреждена (временем)».
Такой же неоклассицистический пейзаж с руинами обнаруживается и в одной из од Экушара Лебрен-Пиндара (1729-1807). Читатели XVIII века наслаждались одами Лебрена, расценивали его как «французского Пиндара», но античная традиция, усвоенная им, была шире пиндаров- ской, включала, в частности, и горацианские мотивы. В сочиненной в начале 1760-х гг. оде с эпиграфом из Горация варьируется классическая тема «нерукотворного памятника». Здесь внешне конкретным бренным руинам (но, по сути, олицетворению военной, политической государственной славы) противопоставляется вечная слава поэтов:
Sur les ruines de Palmyre
Saturne a promené sa faux;
Mais l’univers encore admire Les Pindares et les Saphos.
Vous tomberez, marbres, portiques, Vous dont les sculptures antiques
01 Всюду передо мной картины разрушенья. / Мой неспокойный взгляд видит лишь обломки; / Тут - старые могилы, покрытые мхом; / Там - выщербленные стены, разбитые колонны, / Сожженные города; ! Повсюду следы шагов Времени.
68
Décorent nos vastes remparts;
Et de ces tours au front superbe
La Seine encore verra sous l'herbe Ramper tous les débris épars (цит. no: Anthologie, 1997, 187)62.
Тема словесного искусства как вечной культуры, торжествующей во времени над природой и «материальной культурой», архитектурой, делает руины частью природного пейзажа, снимает вопрос об их искусном и искусственном, рукотворном создании. Слияние руин и растений, травы, деревьев в единый образ «природы» происходит, таким образом, в рамках поэтики неоклассицизма, не является приметой сентименталистского видения. Это видение, пронизанное чувством ностальгии по прекрасному прошлому, идеальному «естественному состоянию», разовьется во Франции, как кажется, уже во второй половине 1760-х гг. и внесет особые акценты в тему руин.
1767 - исключительно «урожайный» год для художественного развития темы руин во Франции. Она воплощается сразу в нескольких заметных произведениях живописи и литературы. В поэме «Руины» Эме Амбруаза Жозефа Фетри (1720-1789) - поэта, подражавшего английским стихотворцам - Д. Томсону, А. Поупу, Э. Юнгу - продолжает свое развитие неоклассицистическая традиция, обогащенная сентименталистскими нюансами. Поэме предпослан эпиграф из Вергилия; одинокий герой, влекомый меланхолией («сплином», как уточняет он на английский лад), гуляет у развалин античного храма и клеймит живущий в людях дух разрушения:
...Je pleure vainement sur l'humaine folie;
J’erre autour des morceaux de ces marbres épars;
Et tristement sur eux je porte mes regards
(Feutry, 1771, 72-73)('\
62 На руинах Пальмиры / Бродит призрак Сатурна / Но мир до сих пор восхищается і Пиндарами и Сафо... / Вы падете, мраморные портики, / Вы. чьи древние скульптуры / Украшают наши прочные крепости / И Сена еще узреет, как густая трава / Покроет эти обломки.
м Тщетно оплакиваю я людское безумие; / Скитаюсь вокруг обломков этого плотного мрамора / И печально на них взираю.
69
А. Фетри внятна и красота руин, но об этом он пишет нс в основном тексте поэмы, а в примечании, называя развалины Пальмиры «самыми чудесными во всем мире». Основной пафос произведения - ламентации по поводу людского тщеславия и жадности, пробуждающих жажду вражды и разрушений.
Написанные в этом же году размышления Дидро по поводу одной из картин Ю. Робера (1733-1808), часто обращающегося к изображению руин, уже явственно содержат оригинальные сенти- менталистские интонации и образы. Выставленная в Салоне 1767 г. картина Ю. Робера «Большая галерея, освещенная изнутри» была описана известным критиком-энциклопедистом с характерным для него сочетанием «информативной и аналитической точности со свежестью эмоционального восприятия и непринужденностью оценок» (Загороднева, 2001, 75).
Выразив восхищение общим замыслом, Дидро упрекает художника за чрезмерную перенасыщенность его картины лишними, с его точки зрения, деталями, за то, что Ю. Робер не выбрал из множества подробностей лишь те, которые «подходят к атмосфере одиночества и безмолвия». Ему кажется, что собственно поэтического воссоздания руин в картине нет: так сентименталист Дидро воспринимает неоклассицистическую живопись. Сам он запечатлевает в своих размышлениях прежде всего настроение, вызываемое созерцанием величественных разрушений, точнее даже, воссоздает варианты настроений: это может быть грустное переживание того, что все на свете проходит - и страстное желание отдалить момент смерти, иметь хотя бы тот запас прочности, каким обладают древние постройки; это может быть ощущение свободы и одиночества, способствующего самоосознанию; это может быть наслаждение уединенным местом встречи с другом или подругой. При этом Дидро, по существу, дифференцирует ощущения, вызванные созерцанием картины, изображающей руины, ощущения, рожденные идеей руин, и те чувства, которые рождаются у человека, попадающего на руины. Последние - одновременно наиболее острые и наиболее сладостномеланхолические. Дидро ставит перед собой цель показать, отчего руины доставляют удовольствие: «В этом пустынном, одиноком и просторном убежище я ничего не слышу; я порвал со всей жизненной суетой. Никто не торопит меня, никто меня не слышит. Я могу гром-
70
ко говорить, жаловаться и всласть лить слезы» (Diderot, 1990, XVI, 339). Руины оказываются в таком прочтении частью вечности, частью природы, они навевают сладостную меланхолию, возвышенную и чувствительную одновременно.
Своеобразные сентимснталистские вариации на тему руин представлены и в стихотворном послании Ж.-Б. Ксйля, отмеченном за свои поэтические достоинства Французской Академией. Р. Мор- тье считал, что в творчестве Кейля соединялись классицистичность объекта изображения с неклассицистичностью поэтического духа (Mortier, 1974) и сравнивал с английским поэтом Дж. Дайером, автором «Римских развалин» ( 1740). Однако сентимснталистская чувствительность выражена у французского поэта в оригинальных интонациях и более непосредственно. Блуждание вдали от Франции по Риму как огромной руине вызывает у писателя двойственное чувство грусти и восхищения:
Il en est dont l'aspect me frappe davantage.
Ce mélange surtout, cet informe assemblage De palais ruinés, de temples dépéris, Fixe, étonne sans cesse, et confond mes esprits: Fragiles monuments, magnifiques fantômes, Nobles fruits du génie et de l’orgueil des hommes. Qui, partout dispersés, vains restes de splendeur, Attesent leur néant, bien plus que leur grandeur (Anthologie, 1997, 200)64.
Поэта беспокоит и влечет загадка притягательности руин, собственное - и общее - желание созерцать развалины. Он видит причину этого в своего рода амбивалентности движения времени:
Tel fut, tel est encor, tel sera l’univers. Abime féconde, source d’êtres divers,
64 Есть нечто, поражающее меня более всего. / Это смешение, это бесформенное собрание / Разрушенных дворцов, поверженных храмов і Захватывает, бесконечно удивляет и приводит в смятение / Хрупкие монументы, чудесные призраки / Благородные плоды человеческого гения и гордыни / Более свидетельствуют о ничтожестве, чем о величии.
71
lout mobile et constant, qu’une main immortelle Meut, façonne, entretient, détruit et renouvelle, Qui, sans se démentir, roule, poursuit son cours, Renair en viellissant, et se survit toujours (Anthologie, 1997, 201 )6S.
B 1770-c fi. наиболее популярным предметом поэтического осмысления стали искусственные руины «пейзажного парка». Если в аіплийской эстетике критике подвергались классические садовые руины, но при этом допускалось сооружение руин, стилизованных в i отческом стиле (см. об этом: Зенкин, 2000, 61), то большинство французских по лов-сентименталистов 1770-80-х гг. не приняли ро- кайльной эстетки сада в целом. Наибольшим нападкам подвергся создатель парка Монсо (1773-1778), архитектор Л. де Кармонтель сознательно стремившийся «объединить в одном месте все времена и страны» (Швидковский, 1994, 19), считая это привлекательным. Именно экл парк подразумевают в своих стихах и Лемьер, и Шабанов, и Дел иль.
Антуан-Мари Лемьер (1733-1793) - драматург и поэт («больше по л, чем пророк», но выражению А. Берто (Berthaut, 1968), был автором разных небольших по объему поэтических сочинений - од, посланий, песен и двух описательных поэм - «Живопись» (1769) и «Фасты» (1779). В девятой песни «Фастов» он обращается к описанию садов, затрагивая тему искусственных руин и живописности на английский манер, елнюдь нс одобряя ее:
Peut-être dans nos jours le goût de l'industrie Pour la variété prend la bizzarerie.
Dans de vastes jardins l’Anglais offre aux regards Ce que la terre ailleurs ne présente qu’épars, Et, sur un seul étroit, en dépit de l’obstacle, Le Français est jaloux de montrer ce spectacle. Qui ne rirais de voir ce grotesque tableau
6*’ Такова была, есть и будет вселенная. / Bee подвижное и постоянное, что бессмертной рукою / Ломается, меняется, создается, разрушается и возобновляется, / Что непротиворечиво движется, следуег своим курсом, / Возрождается, старея и всегда переживає» себя.
72
De cabarets sans vin, de rivières sans eau, Un pont sur une ornière, un mont fait à la pelle, Des moulins qui, dans l’air, ne battent que d’une aile, Dans d’inutiles prés des vaches de carton, Un clocher sans chapelle et des forts sans canons, Des rochers de sapin et de neuves ruines, Un gazon cultivé près d’un buisson d’épines, Et des échantillons de champs d’orge et de blé, Et, dans un coin de terre, un pays rassamblée? (Anthologie, 1966, 293)66.
Новые руины вызывают y поэта насмешку, не доставляют удовольствие, поскольку - искусственны. Но естественную красоту древних лесов он ценит очень высоко, выражая предромантические настроения:
On respire en ces bois sombres, magestueux, Je ne sais quoi d’auguste et religieux: C’est sans doute l’aspect de ces lieux de mistère, C’est leur profond silence et leur paix solitaire Qui fit croire longtemps chez les peuple gaulois Que les dieux ne parlaient que dans le fond des bois (Anthologie, 1966, 293)67.
66 Быть может, в наши дни вкус к производству разнообразия / Принимает странные формы. / В огромных садах англичанин предоставляет взору / То, что на земле существует разрозненно. / И, вопреки препятствиям, в одном месте / Завистливый француз демонстрирует это зрелище. / Кто не рассмеется, увидев эту гротескную картину: ! Кабаре без вина, реки без воды, / Мост через ухабы, нарытую гору, / Мельницы, вращающие воздух одним крылом, / Картонных коров в бесполезных полях, / Колокол без часовни и форты без пушек, / Скалы из дерева и новые руины, / Образчики полей ячменя и пшеницы, / Целую страну, собранную в одном уголке?
67 Я люблю чащу древних лесов, / Крепкую старость и пышные вершины ! Дубов, листву которых природа и годы / Вознесли над нами без нашего участия./ Мы ощущаем в этих земных, величественных лесах / Что-то неопределенное, царственное и религиозное: / Именно по причине этой таинственности, / Глубокой тишины и мирного одиночества / Заставляли галлов долго верить, / Что боги говорят только в чаще леса.
73
Эту же критику искусственности подхватит и Жак Делиль ( 1738- 1813) в своей поэме «Сады» ( 1780). О неоклассицистической природе поэзии Делиля написано довольно много, меньше обращено внимание на то, что Делиль был вдохновителем некоторых романтических поэтов, что в его описательной поэме осуществляется переход от пейзажного нарратива к выражению эмоции, вызываемой созерцанием природы. В четвертой песни знаменитой поэмы Делиля именно в сентименталистском и предромантическом духе искусственным руинам противопоставляются естественные развалины средневекового монастыря:
А вот монастыря забытый, древний дом.
Все лесом заросло: найдешь его с трудом.
Молчание вокруг <....>
Весь контур здания, весь это строгий вид Чувствительным сердцам о многом говорит: Массивных толстых стен замшелый камень, И купол, и алтарь, источенный веками <....> Но только никогда не делайте попыток Подделкой заменить событий древний свиток И заново создать приметы давних лет Там, где их не было, не может быть и нет (Делиль, 1987, 82; пер. И. Я. Шафаренко)
В этом месте поэмы Ж. Делиль ссылается, как на своего предшественника, на стихотворное послание Шабанона. Мишель Поль Ги де Шабанон (1730-1792) был довольно популярным поэтом и переводчиком, автором трагедий, музыкантом, эссеистом. Шабанон известен прежде всего своим эстетическим трактатом «О музыке, рассмотренной в ее отношениях с речью, языками, поэзией и театром» (1785), где, как и в стихотворном послании «О судьбе поэзии в сей философский век» он выступал против «ученого века» в пользу «века поэтического», против «метода и искусства» за интуицию и чувствительное воображение: «...tandis que l’esprit s’appliquait à connaître, l’âme se refroidit et perdit de son être...» (Anthologie, 1997, 199) - «.. .по мере того, как ум обращается к знанию, / Душа холодеет и теряет свое существо». Его критика искусственных руин и про-
74
славление «неправильных» садов несла тот же пафос защиты чувства, естественных движений сердца, которым был наполнен весь французский руссоизм и который одновременно был представлен в сочинениях более известного сегодняшнему читателю руссоиста Бернардена де Сен-Пьера (1738-1813).
В «Этюдах о природе» (1784) Бернардена де Сен-Пьера рассуждение о руинах, практически не выходя за рамки сентименталист- ской топики, пронизано особенно сильными предромантичсскими интонациями. При этом вкус к руинам писатель считает универсально присущим людям, дифференцируя, однако, рокайльный и сентиментальный варианты этого вкуса: «Наши любители наслаждений требуют строить в их садах искусственные руины; мудрецы же приходят предаваться меланхолии на берег моря, особенно в бурю. или же к расположенному в скалах источнику. <...> Но есть в нас чувство еще более возвышенное, заставляющее любить руины независимо от их живописности и от всяких мыслей о собственной безопасности: это мысль о Божественном, которая всегда примешивается к нашим меланхолическим чувствам, и которая чарует более всего» (Bernardin de Saint-Pierre, 1997, 346). В произведении Бернардена де Сен-Пьера очень важен этот процесс деэстетизации руин и одновременно психологизации этой темы: недаром в «Поле и Виржини», романе, который служил своеобразной иллюстрацией к «Этюдам о нравах», руины представлены уже не величественными античными или готическими постройками, а пастушьими хижинами: «Sur le coté oriental de la montagne qui s’élève derrière le Port-Louis de ГИе-de-France, on voit, dans un terrain jadis cultivé, les ruines de deux petites cabanes <...> J’aimais à me rendre dans ce lieu ou l’on jouit à la fois d’une vue immence et d’une solitude profonde» (Bernardin de Saint-Pierre, 1993, 83,84) - «На восточном склоне горы, что высится за Пор-Луи на Иль-де Франсе можно видеть на некогда ухоженном пространстве руины двух маленьких хижин <...> Я любил приходить в это место, где можно насладиться одновременно и величественным видом и полным одиночеством». Коллизия «историческая древность/ современное строение» теряет в романе свою напряженность. Покинутые хижины не репрезентируют большую Историю, но притягивают загадкой чувствительной человеческой истории, которую и узнает повествователь из уст старца. Нравст-
75
венный закон, познаваемый нс разумом, а сердцем - краеугольный камень предромантического руссоистского видения, которое будет оценено и воспринято французскими романтиками - запечатлен в сюжете «Поля и Виржини» в том числе и посредством введения мотива руин, но живописность как атрибут этой темы вытеснена трогательностью и поэтичностью созерцания разрушенной идиллии.
Тему руин в историко-культурных рамках XVIII в. завершает поэма в прозе Вольнея «Руины, или Размышления о крушении империй» (Les Ruines, 1791). Написанная в революционные годы, в период нового всплеска неоклассицизма, эта поэма частично возвращает читателя к неоклассицистическим образам и мотивам, но сопрягает их с предромантическими. С одной стороны, призрак, явившийся путешественнику и обсуждающий с ним важные философско-политические проблемы, - это характерный для неоклассицизма аллегорический образ, а беседы с ним повествователя насыщенны просветительской проблемностью (ср. разделы: «Состояние человечества», «Принципы общества», «История общественных бедствий» и т. д.). С другой - само путешествие на Восток окрашено предромантической экзотикой, где необычные детали - название мест, имена - явно концентрируются в тексте и даже выделяются графически. Но самое главное - зачин повествования, «Мольба», представляющая собою патетическую речь автора, обращенную к «одиноким руинам, священным могилам, молчаливым стенам», поэзию которых может постичь не заурядный, «вульгарный взор», а трепетно чувствительная душа. Сочетая живописно-экзотические образы с эмоционально-личностной интонацией, Вольней, иначе, чем Бернарден де Сен-Пьер, но столь же решительно выводит тему руин на тот путь, по которому, развивая и варьируя ее, будут идти в следующую литературную эпоху французские романтики - от Ша- тобриана и Ламартина до В. Гюго.
Европейское рококо как тип культуры и стиль жизни
Актуальность обращения к проблеме европейского рококо определяется многими факторами, но в первую очередь - тем. о чем пишет в своей последней монографии М. Делон: «нравственные искания и сомнения XVIII века - это наши собственные искания и сомнения» (Delon, 2000, 10). Рококо - один из тех типов культуры, которые время от времени «возвращаются», повторяются в истории - второе (1840-50-е гг.), третье (1880-1910-е гг.) рококо. Ар Нуво и т. д. Парадокс же заключается в том, что большинство исследований по рококо обращены к формально-структурным, стилистическим аспектам рокайльности, пренебрегая содержательномировоззренческой стороной. На это сетовал еще Патрик Брэди (Brady, 1984), но положение с тех пор мало изменилось, хотя о том. что рококо - это не только стиль искусства, но и стиль жизни, писал еще в начале прошлого века Эрматингер, предложивший определить рококо как «Lebensform» (Ermatinger, 1926). С того времени, как появилось его исследование, прошло почти 80 лет, концепция рококо как стиля жизни дополнилась разнообразными наблюдениями, уточнениями, но, в общем, существенно не изменилась. Достаточно напомнить о некоторых чертах быта и искусства эпохи рококо, чтобы убедиться, что их набор у разных исследователей достаточно устойчив и, при всем том, вполне достоверно отражает реалии времени: игривость, фривольность, легкость, изящество, любовь к роскоши, гедонизм и эротизм, обращенность к мгновениям, «мигам» жизни, понимание счастья как наслаждения... и т. д. Работа Г. Гатцфельда (1972), посвященная рококо, носит подзаголовок: «Эротизм, остроумие и элегантность», Ж. Вайсгербер («Хрупкие маски. Эстетика и формы литературы рококо», 1991) выделяет в ментальности рококо «фривольность, игру, блеск, пикантность и галантность», П. Брэди в Международном словаре литературоведческих терминов (DITL, 2003) фиксирует в рокайльном стиле «метонимию, имманентность
77
и эвфсмизацию» как среде ma выражения указанных пред,шее i век никами свойств. Изящество и леї коси» форм, виртуошая тривоги, ст плевою выражения не мої уз не вызыва л» симпатии тех, кто сопри касается с рококо. Однако этически эстетические черты рокайлыюи кулыуры большей частью оцениваются как нечто, но меньшей мерс сомнительное: «іедонизм рококо растет иод знаком ущерба» (Иури- шев, 1971,339), «...поэты и художники рококо не скрывакн (и даже подчеркивают), что изображаемые ими чувства и страсти носят ia кой же искусственный, вторичный характер, как и воспроизводимая действительность» (Михайлов, 1988, 93)'*, «происходит манипуляция определенными социальными и психологическими стepeoiинами для гедонистических целей» (II. Брэди).
И характерное для отечественных работ о рококо суждение, что оно «уводит от действительности в мир фантазии», и внешне противоположное утверждение авторитетного западною исследователя о том, что «всякая трансцендентность в рококо запрещена», сходятся в представлении, что лика рококо сводится к концентрации «на красоте и счастье, сведенным к нескольким моментам удовольствия, полученным между темнотой рождения и темнотой смерти» (Brady, 2003). Иными словами, рокайльный образ жизни это праздник беззаботности, легкомыслия, который с тобой сейчас, сегодня, а прочес неважно. Избавление рокайльной культуры от «проклятых вопросов», пишет А. К). Соломеин, «порождало столь характерные для рококо признание неоднозначности фактов и примирение с этим, компромиссную лику... и даже безответ ст венност ь» (Соломсин, 2003). Следовало бы задуматься, действительно ли фальшь, моральная сомнительность и безответственность являются основой этики рококо.
Задачей данной статьи, поэтому, является не столько описателыю- информат ивное представление искусства рококо, сколько анализ тех концепгуалыю-мировоззренческих, этических аспектов, которые
'ЧТіраве/іливосіи рал и следует сказал», чю зсгегичсская рсабилніания рококо в оіечесі венном лиіераіуровелении началась именно со стаи>н Михаилом, 1074, но и в ней исследователь писал: «В лиіераіурс рококо мы находим лишь внешнее использование и «ci иля эпохи» и приемов раскрыши человеческой души. • ... • Дні ера юры и художники рококо изображали ..не своих современников и нс жизнь своего времени, а некое ирсдсіавленис о жизни и человеке...» (Михайлов, 1974, 306-307).
78
эстетически воплощаются в рокайльных формах - и, прежде всего, формах литературы, поскольку именно литературное рококо у нас исследовано наименее подробно.
Однако прежде чем обратиться к конкретным произведениям, необходимо напомнить, как формируется и что собой представляет так называемая эпоха рококо. Исследователи чаще всего определяют ее хронологические границы 1690-1760-и годами и связывают появление этого типа культуры с теми социально-историческими и философско-идеологическими изменениями, которые происходят на рубеже XVH-XVIII вв. Основные дискуссионные проблемы здесь следующие:
Вопрос о так называемых социальных корнях рококо. Надо сказать. что связывать порождение любого культурного феномена, особенно в Новое время, с деятельностью определенного класса или сословия - значит упрощать вопрос о генезисе этого феномена. Нельзя, например, не согласиться с П. Бенишу, который писал по поводу Просвещения: «такая новая ориентация мысли обязана своим возникновением в гораздо большей степени общему прогрессу науки, росту богатства и изменению отношений между людьми... - чем потребностям какого-либо определенного класса...» (Бенишу, 1995, 235). Однако в данном случае речь идет об идейно-интеллектуальном движении, а не об эстетическом направлении, где тем более «потребности класса» не могут быть причиной порождения стиля, если только не придерживаться вульгарно-социологической позиции. Между тем учебники, энциклопедии, справочники настойчиво называют рококо сугубо аристократическим искусством, связывают его с переживающим упадок и разложение кругом высшего дворянства. Исключения здесь малочисленны: у нас, например, только в исправленных и дополненных переизданиях учебника Санкт-Петербургского университета (ныне - под ред. Апснко) и в соответствующем томе академической «Истории всемирной литературы» говорится, что с рококо связаны скорее те слои дворянства, которые склонны к компромиссу с буржуазией, и собственно буржуазная демократическая среда общества, хотя суть и роль этого идейною, а не только социального компромисса не проясняется. Аристократизм действительно есть в рококо, но не как исключительная социальная среда этой культуры, а как этико-эстетическая планка. И речь идет скорее о широко
79
понимаемом аристократизме: еще в буржуазно-дворянском юродском. а не придворном салоне XVII в., который держала буржуа<ка Мадлен де Скюдери. бытовала убийственная характерне! ика «вести себя как последний буржуа», что подразумевало нс сословную принадлежность, а тип поведения, равно непривлекательный и для буржуазии, и для дворянства. Представляется, что именно из духа компромисса проистекают как эстетические, так и этические характеристики рококо. Компромисс в форме приятия, прощения «естественной скандальности» человеческой натуры важен как стиль поведения в частной жизни. Компромисс в рококо, конечно, - не гражданственная идейная позиция69, однако его роль в становлении эмоционально-психологической атмосферы, способствующей становлению демократического сознания70, не может быть проигнорирована. Искусство жить в рококо, думается, состоит помимо прочего в умении грациозно разрешать конфликты, точнее, приглушать их, находить компромиссы в тех мелочах и мгновениях частной жизни, которые эту жизнь в представлении рокайльного человека едва ли не до конца заполняют - и которые заполняют значительную часть жизни любого человека в любую эпоху. На компромиссе же строится и эстетическая программа рокайльной культуры.
Здесь мы подходим к проблеме эстетического генезиса рококо. Устаревшей следует считать концепцию искусства и литературы рококо как результата упадка и разложения барокко. Неверно было бы видеть в нем и так называемое позднее барокко, ибо рококо - новое искусство, порожденное иной действительностью, на качественно ином историко-литературном этапе, чем барокко. Точно также неточно, думается, видеть в нем лишь некую подсистему классицизма, обслуживающую лишь второстепенные малые жанры - и потому, что прежняя строгая жанровая иерархия в XVIII в. если не упраздняется вовсе, то значительно смягчается, расшатывается, как сказали бы сегодня - релятивизируется, да и различие художественных устремлений между классицизмом и рококо достаточно выразительно: классицизм в эпоху Просвещения никоим образом не отказывается
69 Ср.: «компромисс по сути дела есть выражение обоюдного (всестороннего) уважения и признания прав других автономных личностей» (Длугач, 1995, 7).
«В собственном смысле слова демократия и есть система компромиссов» (Длугач, 1995, 7).
80
or раціюналпсгіїчііосгії, дополняя се чувством гражданственности; рококо искусство интимного, оно отказывается от разума в той же мерс, чю h от чувства, делая выбор в пользу чувственного ощущения. ')toi выбор делается нс только в теоретической программе, по осуществляется в художествен нон практике, что проницательно замечено искусегвоведом Л. В. Никифоровой: «подлинным героем рококо является чистое чувственное восприятие - как на уровне творческой задачи, так и на уровне зрительных впечатлений» (Никифорова. 2001.37). Однако, разумеется, процесс формирования рококо уходи і корнями в определенные эстетические процессы предшествующего периода, а литература этого направления впитывает оиьн и барокко и классицизма XVII в., «снимая» их антиномичное противостояние друг другу. Зарождение литературных тенденций рококо можно увидеть в споре «древних» и «новых», развернувшемся на рубеже столетий во Франции и Англии, а его ранние образцы появляются тогда же, в переходный период рубежа веков, в самом творчестве сторонников «новых» - впрочем, и «древних», особенно в Англии, где именно «старые» тори (сторонники подражания классическим авторам - Дж. Свифт, А. Поуп) претендовали на большую изысканное гь своих вкусов и манер, в идейно-художественных исканиях английских драматургов реставрации, в немецком «галантном» и «комедийном» романе конца XVII столетия.
Едва ли не самая сложная проблема - вопрос о соотношении рококо и Просвещения. И здесь неправомерно выбирать из двух крайних позиций либо противостояния либо отождествления, слияния. Рококо, безусловно, редуцирует представление о мире и человеке в сравнении с Просвещением. Конечно, гедонизм рококо - не философия безумного и бездумного «прожигания» жизни. Гедонизм рококо полагает тягу к наслаждению лежащей в природе человека естественной потребностью счастья, смягчает суровый ригоризм старой морали, ставя на его место гуманную снисходительность к слабостям человека. В опоре на естественные потребности человеческой природы и в критике религиозного ригоризма обнаруживаются органические связи идеологии просветителей и взглядов писателей рококо. Но если пафосом Просвещения было формирование и осуществление идеала, то писателям рококо была бы близка мысль П. Валери: «Идеал - это манера брюзжать». Для литературы рококо
81
нс характерно убеждение ни в природной добродетельности, ни в первородной греховности человека: писатель рококо склонен всегда занимать позицию между филдинговскими Сквейром (который «считал человеческую природу верхом всяческой добродетели») и Твако- мом (утверждающим, что «разум человеческий, после грехопадения, есть лишь вертеп беззакония» - цит. по: Филдинг, 1960, I, 119). Ему чуждо стремление исправлять или совершенствовать человеческую природу - двойственную и естественным образом несовершенную, а скорее присуще желание наблюдать ее естественно-скандальные проявления, демонстрируя, что каждый человек вольно или невольно следует им. Нравственные, психологические свойства человека рококо не могут быть коренным образом изменены: так, «неизбывное беспутство» (Аверинцев, 1996, 160) Тома Джонса не исчезает, но как бы на время приостанавливается в счастливой, но и открытой для новых перипетий развязке романа Филдинга (см. продолжение романа под заглавием «Приключения Тома Джонса найденыша, а ныне супруга»); так, даже смерть Манон не мешает де Грие, несмотря на благие намерения, быть готовым начать все сначала - психологическая вероятность такого хода зафиксирована, в частности, в анонимном «Продолжении Манон Леско», вышедшем в 1760-е гг.
Осознавая издержки «естественной» тяги человека к наслаждению, писатель рококо тем не менее не скорбит по этому поводу и не обличает ни общество, ни человека, а занимает позицию мелан- холически-осмотрительного компромисса по отношению к общественным требованиям и одновременно - скептико-иронического снисхождения к человеческим слабостям. Можно согласиться с В. Кантором: рококо - новаторский стиль, «вернувший человека в его дом, где он ощущал заботу о себе», о своем повседневном существовании, что рококо «придумало тысячу полезных вещей, облегчающих жизнь хозяина дома», и, помимо изысканности, изящества, эротичности, в нем есть «интимность образов, умение видеть оттенки чувства, робость, колебание, интерес, тайное желание и момент пробуждения эмоций и действий» (Кантор, 2000Г1. Характерная для рокайльно-сентиментальной культуры редукция «правдивого» к
■' Ср. также у А. Латур: «Поверхностное, легкомысленное, фривольное рококо! <...> Однако существует и другое рококо, все более раскрывающее сегодня свою сущность» (Латур, 2002, 79-80).
82
частному, приватному, закономерно ведет писателей к определенной модели/Художественного пространства- пространства уменьшенных, в сравнении с барочно-классицистической монументальностью, размеров, к изображению места действия, скроенного как бы по мерке человека. Однако если для сенти мечтал истской литературы важным оказывается не только топос дома, но и его природного окружения - сада, берега реки или озера и т. п„ то роман рококо с его обращенностью в первую очередь к естественно-скандальному, интимному существованию человека рисует события, происходящие в стенах дома, гостиных, спален, кабинетов и т. п. Такая пространственная модель возникает не только в тех произведениях, где отсутствует тема путешествия героя и действие заведомо «интерьерно» (например, в романе Крсбийона-сына «Заблуждение сердца и ума»), но и в тех, где путешествие персонажа, его перемещение по различным городам, даже странам (например, мемуары Казановы) - важный сюжетообразующий элемент. В этом аспекте показателен не только признанный образец романа рококо - Жизнь Марианны» Мариво, где описание путешествия героини из провинции в столицу уместилось в одной фразе: «Итак, мы с сестрой священника отправились в путь - вот мы и в Париже» (Мариво, 1999, 35), и действие которого проходит в доме деревенского священника, в парижской гостинице, в бельевой лавке, в церкви и т. д., но и романы Г. Филдинга, обычно именуемые романами «большой дороги»: «Приключения Джозефа Эндрюса и его друга Абрагама Адамса» и «История Тома Джонса найденыша». Подобно тому, как знаменитая «уличная» сцена «Жизни Марианны» (героиня упала и подвернула ногу, отшатнувшись от дорожной кареты) получает свой смысл и функцию завязки любовного романа в «интерьерном» развертывании (Марианну приносят в дом молодого Вальвиля и лечат в спальне героя), приключения- происшествия, которые случаются с Джозефом и его спутником в первом романе, Томом Джонсом и Патриджем во втором, неизменно происходят не на «большой дороге», а на остановках в пути, в помещениях - в комнатах частных домов, дорожных гостиниц, в столовых, кухнях, спальнях. Ср., напр.: «В дороге не произошло ничего примечательного, пока они не доехали до гостиницы...», «Вернувшись домой, она тотчас призвала к себе в спальню Слипслоп и сказала...» (Филдинг, 1989, 504, 557) и т. п. Но при этом сюжетное
83
повествование в произведениях рококо всегда открыто: фраза как будто эскизна, в ней есть всегда нс только сказанное, но и подразумеваемое, фабульное действие не завершено - ни у Прево, ни у Мариво, ни у Стерна, ни даже у просветителя и писателя рококо одновременно Виланда: по точному наблюдению Вайсгсрбера, автор оставляет читателю полную возможность закончить «Историю Агатона» так, как он этого захочет сам. Повествовательная игра в рококо строится на приеме «позволить догадываться» даже и в тех случаях, когда по видимости фабульное действие завершено: в «Манон Леско» Прево или в «Томе Джонсе» Филдинга. О такой же свободе выбора, предоставленной читателю «Тома Джонса», пишет и известный французский писатель Жорж Перек.
Эстетика рококо отличается игрой изящным беспорядком, асимметрией, отчетливым тяготением к метонимии (а не к метафоре), выведением на первый план «аксессуаров», пустяков, безделок (а не «сущностей»). Так, герой Стерна Йорик, отправляясь путешествовать во Францию, посещает Париж, Лувр, Версаль, но главы его «Сентиментального путешествия » носят названия «Парик», «Перчатки». «Горничная», Поуп пишет поэму о «похищенном локоне» у светской барышни, а Мариво, погружаясь в описание повседневных мелочей, по словам Вольтера, и вовсе «взвешивает муравьиные яйца на весах из паутинки». Модным словом в культуре рококо становится слово «безделица», модным эпитетом - малый, маленький: рокайльные замки в разных странах носят имена «Монрепо» (Людвигсбург), Монби- жу (Берлин), Сан-Суси (Потсдам), «Багатель» (Париж). С этой любовью к пустякам соседствует тяга к миниатюризации - от уменьшения архитектурных объемов (Малый Трианон) до стремления избегать громоздкости в масштабах литературных жанровых конструкций и их внутренней композиции, предпочтения «купированного стиля», от внимания к детству (маленькому человеку в буквальном смысле) до моды на маленьких животных - миниатюрных собачек, птичек, бабочек. Рококо видит во всякой пафосности, патетике, гиперболизации фальшь и неискренность, оно понимает и воплощает себя и действительность, которую оно отражает, как виртуозную и грациозную игру. Это не столько театральная игра, сколько игра детская, не знающая разделяющей жизнь и игровое пространство рампы, не придерживающаяся фиксированных правил, а предающаяся импровизации. Как
84
удачно заметил Вайсгсрбер, самая рокайльпая область - это кулисы «ничейная земля между иллюзией и реальностью, правдой и ложью, естественностью и искусностью, где - не вполне жизнь, но и не вполне театр» (Weisgerber, 1991, 131). Не высказываясь прямо и однозначно, тем более пафосно - о судьбе человека, о смысле его существования, писатели и художники рококо вполне ясно ощущают и выражают загадочную двойственность, нюансы человеческого бытия и характера.
Главное содержание жизни в представлении человека рококо - это, как известно, ее интимная сторона, прежде всего любовь. Однако концепция любви в рококо воспринимается как чересчур поверхностная и искусственная: «любовь века рококо - это уже не любовь, а подражание ей» (Левова, Пашнина, 2002) - обычное суждение. И довольно мягкое, если сравнить с другими. Например: «это... любовь не подлинная, а наигранная, мимолетная, капризная, а потому - фальшивая» (Михайлов, 1974, 301 ). С распространенной ныне точки зрения, XVIII век - «век нравственного разложения», он отстаивает свободу, которая им же компрометируется - и прежде всего в литературе рококо. Если суммировать претензии к этикопсихологической концепции любви в рококо, то они будут следующими: 1) искусственность чувства - «показной оптимизм и показная меланхоличность»; 2) сведение любви к эротическому наслаждению, любовь «в самом ограничительном, узком ее понимании»; 3) внутренняя душевная холодность, расчетливость"2. Тем более, что исследователи чаще всего стремятся найти некую формулу рококо, свести все точки зрения к одной, без различения вариантов и этапов. Ученые склонны распространить единый стиль жизни на всю эпоху и анализируют либо то, как вообще живут в XVIII в.'3,
72 См. более всего энциклопедии, истории литературы - отечественные и частично - зарубежные, где данные суждения непрестанно повторяются.
Ср., например: «В каждую эпоху создаются свои правила поведения, которым следуют как литературные персонажи, так и реальные люди...выбор их заранее обусловлен социальным положением, состоянием, полом, возрастом, национальностью человека» (Строев, 1998, 17). Никак не упомянуты среди факторов, формирующих «правила поведения» хотя бы литературного персонажа, ни жанр (очевидно, поведение персонажа трагедии и комедии даже дворянина в обоих случаях - бывает различным), ни тип художественною мировидения, эстетическая концепция человека, попика литературного направления (по-разному ведут себя не только человек рококо и человек сентиментализма, но и рокайльный персонаж в сентименталистоком художественном пространстве - скажем, Лавлейс в «Клариссе» Ричардсона, и наоборот ).
85
либо как реальный образ жизни реконструируется в литературных произведениях, либо то, как литература рококо воздействует на жизнь. Уже приходилось говорить о том, что, не складываясь в отчетливо выраженное, противопоставляющее себя другим, направление, рококо обладает одновременно целостностью - и разнообразием, оттенками, нюансами. Следует повторить также, что литература рококо не склонна рассуждать об идеале, о том, как надо поступать, она больше пишет о том, как «поступается», не о том, как нужно жить, а о том. как живется. В то же время и рокайльная литература не обходится без размышлений о нормах счастливой жизни. Эти размышления варьируются от начала века к его концу, от одного писателя к другому. Поэтому в данной статье, прежде чем делать большие обобщения, я сосредоточусь на анализе нескольких произведений Мариво - единодушно признаваемого своего рода каноном рокайльного писателя. Одновременно попробую выяснить: что для романистов рококо искусственное - и естественное, натуральное; как трактуют они наслаждение и счастье; какова природа и формы рокайльной эмоциональности. В качестве объекта анализа были взяты два произведения разных жанров - одноактная комедия, восходящая к традиции итальянских комедий масок, и социальнопсихологический роман, усвоивший опыт мемуарной и эпистолярной прозы начала XVIII в. В ходе анализа обнаружилось, что подчеркнуто искусная и искусственная игровая жанровая форма (комедия) и форма подчеркнуто естественная, безыскусная, «правдивая» (роман) демонстрируют единство и разнообразие, вариативность рокайльного искусства жизни и любви. В пьесе Мариво «Арлекин, воспитанный любовью» (1723) в первой же сцене обыгрывается понятие «естественного» и достаточно ясно подвергается ироническому осмеянию сведение этого понятия к неким чувственным инстинктам. Некая фея, увидевшая в лесу спящего Арлекина, пленилась его красотой и решила похитить и соблазнить. Своему слуге Триве- лину она в связи с этим задает с ее точки зрения совершенно риторический вопрос: «Что может быть более естественного, чем полюбить то, что приятно?», на что Тривелин отвечает довольно едко: «похитить молодого человека за несколько дней до вашей свадьбы с Мерлином, которому Вы дали слово, - значит, понимать естество уж чересчур буквально». Дальнейшее развитие действия показы-
86
ваеі. что предмет вожделения феи. Арлекин - примитивное, глупое существо не в силу неустранимой ущербности человеческой природы или изначальной и вечной примитивности чувств, но в силу того, что в герое не родилась любовь - а без нее в нем отсутствует и физическое влечение. Только любовь, вспыхнувшая в Арлекине к пастушке Сильвии, превращает его одновременно и в цивилизованного, умного человека - и в юношу, открывшего в себе эротические желания. Капризы любовного чувства делают персонажа нечувствительным к соблазнению со стороны той, кого он не любит. Эротическое желание рокайльного персонажа нс совпадает, таким образом, с примитивным чувственным возбуждением, с физиологическим инстинктом. В связи с этим любопытно проследить изменение значение слова séduire («соблазнять») от XVII к XVIII веку. В словаре Фюретьера ( 1690) оно объясняется так: «обманывать кого-то в вещах, касающихся религии или нравственности», в Академическом словаре 1694 - «побуждать совершить ошибку», в словаре Треву 1771 - «привлекать, чрезвычайно сильно нравиться». Развитие понятия соблазнения в рамках рокайльной этики, как видно, способствует появлению этого значения слова и свидетельствует о том, что рококо приводит не к реабилитации негативного смысла «соблазнения», а к добавлению нового, вполне положительного смысла, к попытке их компромиссного соединения, к игре смыслов. Но в подобной компромиссности обнаруживается не безответственность, а, скорее, снисходительность как редуцированная форма просветительской толерантности. Особенно важно попытаться проследить, как представление об искусстве жить (и тем самым - любить) воплощается в романе Мариво «Жизнь Марианны» (1731-1741). На одной из первых страниц героиня говорит: «...о жизни такой женщины, как я, поистине надо говорить - судьба» (Мариво, 1999, 35). В самом деле, обстоятельства жизни ставят Марианну как будто в положение персонажа, который не может (по положению в обществе74, образованию, полу, наконец) самосто-
4 Суждение А. Ф. Строева «Героиня Мариво преуспевает, добродетельно кокетничая, ибо она, как выясняется, - дворянка (знатность предохраняет oi порока)» (Сіроев. 1998, 119) - не только прямолинейно, но построено на явном недоразумении: происхождение Марианны никоим образом не выясняется, чем Мариво и играет до самою конца романа.
87
ятельно строить жизнь, которого эта жизнь ведет и у которою как будто нет никакого искусства жить. Но вот сцена общения с Клима- лсм демонстрирует сплетение природного, изначального - и, пусть небольшого, но важного опыта чувств: «тотчас я сказала себе: «Вполне возможно, что этот человек любит меня, как любовник любит свою возлюбленную» Ведь я, в конце концов, видела влюбленных в своей деревне, слышала разговоры о любви, даже прочла украдкой несколько романов; все это в соединении с уроками, которые мы получаем от самой природы, по крайней мере дало мне почувствовать, что возлюбленный весьма отличается от друга...» (Мариво, 1999, 52). Однако здесь есть чутье - но нет принципов. Главный из них формулируется позже: «Всю жизнь мое сердце исполнено было желания щадить чувства ближнего» (Мариво, 1999, 66). Принцип этот сформулирован сердцем - не умом, что важно. Соблюдает ли его Марианна на протяжении жизни? Думается, вполне. Более того, еще до того, как высказать прямо свою жизненную позицию, Марианна всякий раз проявляет щадящую чувства ближнего деликатность, которая ей, что называется, дорого обходится. Амбигитивность рассказа героини о себе, возможность истолковать ее поведение различным способом, сомнительность ее нравственной безупречности возникают как раз оттого, что Марианна ищет нравственные оправдания для поступков других людей (причем, поступков, по отношению к ней - неблаговидных), что она постоянно оговаривается, давая негативные оценки другим людям: пусть мадам Дютур груба, невежественна, но - добродушна и «приятнейшая особа» (Мариво, 1999, 48); пусть Вальвиль изменил Марианне, но он «вовсе не чудовище, каким он вам представляется» (Мариво 1999, 341); пусть министр решительно противится браку Вальвиля и Марианны, но «добрая душа и мягкость нрава ясно отражались в его наружности», а «в его манере управлять была совсем особая похвальная черта, до него не встречавшаяся ни у одного министра» (Мариво, 1999, 289). Даже господин де Кли- маль, которого героиня характеризует большей частью резко негативно, не только вызывает у нее глубокое сочувствие в момент, когда он умирает, но и оказывается недостаточно однозначным персонажем, чтобы быть названным ею Тартюфом без оговорок. С другой стороны, ни одно собственное достоинство Марианна нс
88
констатирует как абсолютное, как то, в чем она до конца уверена, как нечто постоянное: «иной раз я достойна похвал, а иной раз вполне заслуживаю порицания» (Мариво, 1999, 293). Такую же закономерность в нравственных оценках можно установить и в эссе Аддисона и Стила, стремящихся «бичевать пороки, не задевая людей» и иронически-доброжелательно беседующих с читателями, в «Джозефе Эндрюсе» Г. Филдинга, где утверждается, что «пороки ...являются, скорее, случайным следствием той или иной человеческой опрометчивости или некоторой слабости, а не началом, постоянно существующим в душе», в «Томе Джонсе», автор которого убежден, что «едва ли есть натуры, столь сатанинские, чтобы делать зло, нисколько не мучаясь судьбой ближних», в «Тристраме Шенди» Стерна, где строгие, правильные люди названы холодными, эгоистическими и жестокими и где недостатки и слабости «естественно неправильных», но симпатичных героев приобретают форму чудачеств и забавных «хобби», становясь формой их естественной человечности.
Рококо - искусство, в котором «серьезное и игровое» находятся в необычайном «равновесии» (Хейзинга, 1992, 211), и в это равновесие входит важной составляющей кокетство - как черта рокайль- ной психологии и форма социабельности. Об этом пишут практически все исследователи, в том числе в этом признается и героиня Мариво. Но вот реакция Марианны на Вальвиля, встреченного в церкви: «Мне приятно было смотреть на него, хотя я этого не сознавала; с другими я кокетничала, с ним забывала о кокетстве; я не старалась нравиться ему, мне только хотелось смотреть на него». И далее: «По-видимому, первая любовь начинается с такой вот простодушной искренности, и, может быть, сладость любовного чувства отводит нас от стремления пленять» (Мариво, 1999, 74). Более того, неожиданно оказывается, что, описывая то наслаждение, которое она испытывала в пору своей влюбленности в Вальвиля, Марианна находит наиболее пленительными те мгновения, когда сердце «наслаждается... сосредоточенно, проникновенно, без примеси чувственного влечения» (Мариво, 1999, 81). Подлинная любовь в ро- кайльном воплощении может содержать и компонент чувственности, но при этом отличаться от светской игры в любовь: такова, думается, в определенной степени, влюбленность кребийоновского глав-
89
ного героя в Гортензию («Заблуждения сердца и ума», 1736) \ Она может, не переставая, быть подлинной, нести в себе одновременно элементы драматизма и двусмысленности как в «Истории кавалера де Грие и Манон Леско» (1731) Прево - «комедии, которая плохо обернулась» (Mauron, 1965, 114). Литература рококо, таким образом, демонстрирует вариативность любовной концепции в рамках единого этико-эстетического мира.
Литература рококо понимает себя как игру, приносящую радость и наслаждение, что не снимает ни остроты поднимаемых ею проблем интимного существования человека, ни их актуальности, но рождает особую, неповторимую манеру их воплощения. Характерные черты этой манеры - игривость, мягкость, легкость, остроумие, скептицизм, изящество, интимность, искусство намека, тонкая гривуазность. Может показаться, тем не менее, что все-таки главное в рокайльном искусстве жизни - гедонистическая погоня за счастьем-наслаждением, коль скоро именно она формирует хрестоматийные определения рокайльного мира. В шуточной песенке современного барда И. Кунина как будто воспроизводится расхожее представление о рококо:
Возле замка на опушке, Где ручей песок ласкает Гобеленная пастушка На траве сидит скучает Бусы, ленты, банты, букли... Тут тесно, там широко.
Нелегко пасти скотину в стиле рококо
Кажется очень важным, что Кребийон-сын пишет роман от лица де Me льку- ра. а не Версака: первый воспроизводит свои наивные (по молодости лег), но и достаточно сложные поиски если не идеальной, го подлинной любви, второй, судя по его собственным словам и поступкам, всегда добивался лишь светских любовных побед-наслаждений. Нарративная стратегия автора «Заблуждений», гем самым, позволяет более сложную игру представлений. прозрений и заблуждений персонажа- повествователя, игру, усиливающую общую амбигитивноегь. Но амбигитивная атмосфера романа позволяет догадываться не только об игре, притворстве, фальши и г. п.. но и о возможных серьезных чувствах - порой рождающихся в той же игре (см. о мадам де Люрсе как о «заигравшейся в любовь» и полюбившей всерьез: Kibcdi- Varga. 1963, 994).
90
Рядом нас i упюк влюбленный Томно в унисон вздыхас'1
І Іоневолс слишком скромный Как обняіь се не шасі.
Бусы, лен i ы, бан i ы, букли Туї lectio гам широко
І Іслсгко любиіь пастушку
В стиле рококо
Время шло, менялась мода, В париках нужда отпала, J (ол i ожда иная с вобода Для движения настала.
Бусы, ленты, банты, букли Все умчалось далеко.
Но, увы, пасти скотину, И, увы, любить пастушку Также нелегко.
При всей игривой легкости нарисованной картины, очевидной шутливости ее, автор, думается, уловил важную составляющую концепции счастья в рококо, рокайлыюго искусства жить - его трудность. Любить - и жить (пасти скотину) -ив рокайльном мире оказывается в самом деле нелегко, поскольку человек в нем переживает непрестанную борьбу «тщеславия и достоинства», понимает необходимость сохранить себя, свои нравственные представления, «наивность» (как называл это качество Мариво), но одновременно испытывает желание, если не преуспеть, то все же благополучно прожить в обществе, исполненном соблазнов. Счастье человека рококо, таким образом, лежит на узком пути между невыносимой легкостью бытия и его неустранимой трудностью. В этом смысле, как бы ни был далек предмет размышлений В. Н. Войновича в его книге «Портрет на фоне мифа» от проблемы, поставленной в данной статье. горько-иронические слова, заключающие эту книгу: «Жить не по лжи трудно. Но необходимо. Но невозможно», вполне могли бы быть косвенным ответом на вопрос, поставленный творчеством Мариво: в чем состоит искусство жить, а значит счастье. Добродетель
91
не отвергается в рококо как цель достойного существования. однако цель эта - труднодостижимая, как бы сверхьестест венная. Ведь люди сходны в естественной неидеальности и своих поступков и своих суждений. Счастлив тот, кто, стремясь к добродетели, осознаем свое несовершенство, границы своих возможностей, признает право на такое же несовершенство за другими, начинает ценить счастливые мгновения повседневной жизни, естественных чувств, выраженных при этом сдержанно, деликатно, щадяще по отношению к чувствам других. Этика рококо - воистину страна деликатных советов, а нс каталог жестких предписаний или безответственных инстинктивных порывов и гедонической разнузданности. Рококо не отворачивается от изображения людских пороков, но и не абсолютизирует их. во всяком случае, не их делает идеалом или средством к достижению счастья. Быть может, призыв к воспитанности, сдержанности, тонкости. деликатности, достоинству в повседневных взаимоотношениях между людьми и не грандиозная бытийственная задача, однако она существенным образом дополняет ту «задачу воспроизведения переживаний поверхностных, мимолетных, зыбких - любви на час. наслаждения не столько острого, сколько утонченного» (Михайлов. 1988, 93), которую порой считают единственной в этом искусстве.
Напоследок - две цитаты. Одна - из «Дон Кихота» Сервантеса, фраза заглавного героя: «Ничто не стоит нам так дешево и не ценится нами так дорого, как вежливость». Другая - из исторического анекдота, рассказанного современниками Французской революции: королева Мария Антуанетта, отправляясь на гильотину, нечаянно наступила на ногу своему палачу. Она тут же сочла необходимым извиниться: «Простите, месье, надеюсь, я не сделала Вам больно». Утверждать, что такая вежливость далась королеве дешево, было бы неверно и судить об этом сложно, однако органичность, с какою эта дама оставалась безупречно вежливой до самого конца, еще раз подтверждает ту самую трудность искусства жить рокайльно, о которой говорилось выше.
Динамика ценностных оппозиций в эволюции пасторали: комедия Мариво
«Арлекин, воспитанный любовью»
Современная теория литературы признает актуальность изучения этико-эстетических ценностей в литературном тексте, подчеркивая их связь с прагматической функцией литературы и структурой сюжета (Rabatel, 2005). Общепризнанно, что в состав пасторального идеала входит некоторое число ценностных оппозиций: город-деревня, мир- война, естественное-искусственное, природа-культура, уединение- толпа, дружба-вражда, простота-сложность и т. п. Констатируя необходимое присутствие в пасторальной группе жанров не только специфического локуса, системы персонажей-пастухов, устойчивых сюжетных коллизий, но и идеала пасторального существования, исследователи чаще всего проходят мимо того факта, что ценностные оппозиции внутри этого идеала могут перегруппировываться, часть из них - уходить на периферию, часть - оказываться в центре, тем самым не отменяя, но порой значительно меняя содержание этого идеала76. Динамика этих оппозиций способна, как представляется, прояснить причины широкой распространенности пасторальных жанров - литературных (в первую очередь, поэтических и драматических), живописных, музыкальных в разных типах культур, в том числе, даже особенно - в культуре рококо. Вряд ли можно считать обоснованным довольно распространенное суждение.
' Общее наблюдение над феноменом динамики пасторальных оппозиций можно найти у E. II. Зыковой: «Пасторальный идеал формулируется каждой эпохой в зависимости от того, какое значение придает она оппозициям юрод деревня, природа/ цивилизация, жизнь активная7 жизнь созерцательная, и предпочтение гой или иной стороны этих оппозиций зависит от социально-политической и культурной ситуации» (Зыкова, 1999, 4), но это наблюдение нуждается в конкретизации, а поэтому естественным образом выступает как предположение, а не вывод. К тому же, думается. названная динамика зависит и от эстетических факторов от поэтики жанра и направления.
93
что в рокайлыюм искусеіве «пастораль превратилась чуть ли нс в основную форму у ІОНЧСИНОІІ салонной игры в простоту, невинность и близость к природе» (Варанов, 1990, 55): такое представление имманентно исходит из идеи, что нас тральное начало всегда содержит в себе идеал «близости к природе» в некоем неизменном виде, когда «природа» понимается одинаково во все эпохи и во всех культурах, что общество эпохи рококо играло в «натуральность», также понимаемую как статическая категория. О некоторых смысловых трансформациях категории «естественного» мне уже приходилось писать (ем.: Пахсарьян, 2001). В данной статье эта проблема затрагивается в связи с более общим вопросом динамики пасторальных оппозиций и рассматривается на материале пьесы Мариво «Арлекин, воспитанный любовью» (постановка - 1720, публикация - 1723). І Іредставляется, что, в отличие от более поздней сентименталистской пасторали, идущей по пути натурализации и, стало быть, действительно культивирующей близость к природе, рокайльная пастораль ставит в центр своего художественного мира другую ценностную оппозицию, нс то чтобы вынося за скобки, но компромиссно смягчая, снимая противостояние природы и культуры. При этом обе составляющие названной оппозиции имеют в каждой художественной системе свое значение.
Если попытаться сделать краткий экскурс в историю пасторальной группы жанров, то можно увидеть, что в античной пасторали, начиная с Феокрита, значительное место занимает оппозиция «город- деревня». Как писал еще в 1915 г. Й. Хейзинга, «по-настоящему наивной и естественной буколика не была никогда. У самого Феокрита она предстает плодом усталости от городской жизни, бегством о i культуры» (Хейзинга, 1992, 100). Развивая эту мысль, М. Л. Гаспаров замечал: «...просвещенные писатели и читатели, утомясь светским изяществом, вкладывали свои изысканные чувства в уста грубых пастухов и любовались, какой эффект, иногда умилительный, а иногда комический, это производит» (Гаспаров, 1979, 7). Однако, если обратиться к римской пасторальной традиции, то здесь на первый план выдвигается нс оппозиция «город-деревня», а «мир-война»: у Вергилия «панорама мира» противостоит «панораме войны», а «череда трудов и досугов земледельца и пастуха - тревогам политики» (Аверинцев, 1989, 39), у Горация и Тибулла «быть в деревне -<...>
94
значит быть вдали от алчности, от войны и смут, от честолюбия и раздоров» (Аверинцев, 1989, 40). Античная «природа», «phusis», противопоставляется при этом не столько «культуре», сколько (как гармоническая закономерность и норма) «случаю» (Faucheux, s.а.).
В эпоху Средневековья понятия «природа» и «естественное», в свою очередь, также несут особый смысл, отличающийся от античных трактовок: природные явления воспринимаются как символы высшего мира, книга природы «написана божественными письменами», и сверхъестественное (чудо) мыслится частью естественного, то есть природы. Но и оппозиции природы/культуры в ее нововременном обличии тут еще не находится места. Средневековые пастуреллы, рисуя большей частью встречу рыцаря и пастушки, запечатлевают ее как диспут «своего» и «чужого», рыцарского и пасторального миров, за каждым из которых закреплена своя система ценностей. При этом не «мир-война» или даже не «город - деревня» противополагаются в пастурелах, а, скорее, как у Тибо Шампанского, притворная любовь и любовь искренняя: куртуазное обращение рыцаря к пастушке в знаменитой «Пастурели» XIII в. девушка отвергает как лицемерный обман, предпочитая своего бедного, но искренне влюбленного пастуха. Но это вовсе не значит, что утонченная «fin’amor» отвергается как ценность: куртуазные формы должны быть лишь обращены на достойный объект, должны быть уместны, чтобы удержать высокую естественность чувства, облеченного в нормативную форму.
Эпоха Возрождения выдвинула пастораль едва ли не в центр литературных жанров гуманизма, и на первый план в ренессансной пасторалистике вышла оппозиция «otium-negotium». В мифопоэтическом мире пасторали Возрождения содружество пастухов воплощало в себе идеал гуманистического сосуществования в гармоническом приятии природы и культуры, в их взаимопревращении. Подобное взаимопревращение, исследованное Л. М. Баткиным в романе Я. Сан- надзаро «Аркадия»77, представлено в разнообразных вариантах во всех пасторальных текстах Ренессанса - от Боккаччо до Сервантеса.
77 «...оба понятия - искусное и естественное - брались ренессансной культурой предельно расширительно и поэтому, в своей универсальности, обнаруживали тенденцию как бы к отождествлению. Все было «природой» ...и все было «искусством»...» (Баткин, 1995, 294).
95
В XVII в. пасторальные жанры входят как в систему барочных, так и классицистических жанров, в обоих случаях активизируя, прежде всего, в философско-психологическом плане оппозицию реаль- ность/иллюзия (в специфической для эпохи форме антиномии между «быть» и «казаться»), а в политико-социальном - оппозицию мир/ война, столь болезненную для «военного, железного века», каким ощущали свое время современники. Оппозиция город/деревня воплощается в противостоянии придворной жизни и жизни в имении, причем, и тот и другой образ жизни вольно вести одно сословие - дворянское. Тема «природы» входит в пасторали этого времени (во всяком случае, французские) как утверждение ценности жизни вдали от двора, вдали от амбициозной вражды и суетных треволнений, запечатлевается большей частью в образе леса (см. об этом: Масе, 2002, 169-177). Но не ученый досуг заполняет жизнь высокородных пастухов пасторалей XVII столетия, а любовные страсти и переживания. «Высокая» пастораль барочно-классицистической эпохи рассматривает «естественное» в свете принципа правдоподобия, то есть соответствия строго определенной этико-психологической и эстетической норме. В классицизме особая трактовка «природы» как воплощения «прекрасного» не противопоставляет ее «культуре», а, скорее, поглощается ею. В барокко нарочитая, выстроенная беспорядочность, причудливая хаотичность выступала и знаком «природности», и одновременно - демонстрацией мастерства художественной передачи этой «природности». Антиномии трагического комического, высокого/низкого, существуя внутри пасторального мира «Астреи» (1607-1627) д'Юрфе или «Сумасбродного пастуха» (1623) Ш. Сореля, не будучи чужды эмблематического барочного «натурализма», отнюдь не предполагали натуральности.
Осмысленное как проблема противостояние правдоподобия и правды стимулирует на рубеже XV11-XVIII вв. дискуссии о пасторали. Очевидная «неправда» сельской темы в ее литературнопасторальном воплощении приводит писателей не к отказу от нее, а к актуализации темы «золотого века», к защите «полу-правды» (demi-vrai) пасторального жанра (Fontenelle, 1968, III, 53). В литературе рококо, с ее особым вниманием к психологизму, происходит валоризация «естественности» как выражения амбигитивности человеческой природы, что в полной мере, думается, проявилось в
96
пьесе Мариво «Арлекин, воспитанный любовью». В небольшой одноактной комедии Мариво, используя как романически-сказочных героев (фея, Мерлин, духи), так и персонажи-маски итальянской комедии дель арте (Арлекин, Тривелин), запечатлевает прихотливую любовную интригу. Все до сих пор активно используемые пасторальные оппозиции оказываются снятыми или, по крайней мере, смягченными: действие происходит в лесу, где располагаются в едином пространстве и дворец Феи, и деревушка пастухов; существование всех персонажей пьесы - спокойное и естественным образом мирное, политизированные аллюзии барочных и классицистических пасторалей «военного века» отсутствуют; ни окружение Феи, ни пастушеское сообщество не обрисованы как воплощение дружественности, противопоставленное вражде, или уединенности, ценностно превосходящей суетную публичность. Собственно, главная оппозиция пьесы угадывается в ее заглавии: это противостояние воспитанности, цивилизованности и невоспитанности, причем, и то и другое рассматривается в рамках своего рода «естественной культуры». Некая Фея, которая, как становится известно из слов ее слуги Тривелина, дала слово волшебнику Мерлину стать его женой, увидела в лесу спящего красивого юношу, влюбилась в него и, похитив, поселила в своем дворце. Свой порыв она рассматривает как «естественный», однако столь буквальное понимание естественности вызывает у ее слуги ироническую усмешку. Мариво мастерски обыгрывает здесь полисемию слова, создавая атмосферу рокайльной амбигитивности. Утонченное кокетство Феи, ее попытки соблазнить Арлекина приводят лишь к череде комических ситуаций, в который объект любви выказывает свою глупость и невоспитанность. Ни уроки манер, которые пытается дать Арлекину Фея, ни проникновенные любовные песни, которые его заставляют слушать, не изменяют ни его настроения, ни характера. Ум и воспитание дает главному герою влюбленность в пастушку Сильвию, преображение происходит столь внезапно, что поражает даже Фею. Эта влюбленность, запечатленная в характерной для рококо форме «сюрприза»™, удваивается: также внезапно и как бы немотивированно, с одного взгляда,
74 О том, как писатели рококо рисуют внезапное возникновение любовного чувства, см.: Rousset, 1981.
97
влюбляется в Арлекина прежде не знавшая любви и прогоняющая докучливого поклонника Сильвия.
Причина влюбленности не то, чтобы отсутствует, но несет в себе элемент причудливой загадки. Герои не знают, почему они выбирают того или иного партнера (ср. реплику Сильвии: «Вот я и влюбилась, так и не разгадав секрета»). Но пока этого выбора не происходит, они способны знать (Сильвия) или не знать (Арлекин) о любви, однако не способны ее изведать, ни исходя из собственного рационального анализа (Сильвия), ни даже из скуки (Арлекин). Очевидно, что чувство опирается на неясное, но достаточно сильное и искреннее ощущение-влечение79. В то же время проявление этого искреннего влечения требует некоторых искусственных форм: кузина Сильвии объясняет пастушке, что не принято признаваться в своих чувствах возлюбленному и позволять ему поцелуи (сцена 10); защита любви от ревнивой зависти феи осуществляется посредством притворства Арлекина (сцена 21). Двойственно-двусмысленная игра искренностью и притворством у Мариво - необходимая дань социализации психологических ощущений, идеалом в ней может быть разумная мера, равновесие и интерференция того и другого при исходной внутренней искренности. Не случайно в созданном драматургом в тот же год, что и «Арлекин», «Диалоге Любви и Правды» ( 1720) оба аллегорических персонажа обнаруживают свое глубокое родство. Причем Любовь подчеркивает, что, не будучи ни либертинкой, ни модницей, но, приняв, вместо оживленного и вместе с тем нежного, подходящий для общества дерзкий вид, она все-таки является любовью, а Правда настаивает на том, что она - правда, хотя и ее внешность изменена под влиянием окружения. Автор «Арлекина» использует притворство (маску) в как будто парадоксальной функции открытия истинного лица: чтобы понять, что чувствует Арлекин, фея прикидывается неревнивой; чтобы разоблачить саму фею, Тривелин притворяется верным слугой и т. п. И. Моро очень точно замечает, что Мариво-комедиограф «инстинктивно знает, что все знаки имеют обратное действие: видимость и глубина, естественность и кокетливость, маска и лицо, незаинтересованность и пристрастность, не-
79 Как замечает Р. Томлинсон, для Мариво «желание - это биологический факт» (Tomlinson, 1981, 135).
98
нависть и любовь, искренность и лицемерие, правда и ложь, сила и слабость» (Moraud, 1984, 33). Напряжение ценностных оппозиций в рокайльном тексте Мариво спадает, уступая место полутонам и нюансам. По мнению Р. Томлинсона, писатель ощущает невозможность и нежелательность «окончательно снять маски, вернуться к состоянию искренности и невинности» (Tomlinson, 1981, 160), но можно уточнить, что для писателя такие «чистые», недвусмысленные состояния, по-видимому, изначально и не существуют. И. Моро прав, говоря, что в пьесах Мариво «тот, кто претендует на искренность - не всегда тот, кто меньше других лжет» (Moraud, 1984, 35), что отнюдь не говорит о безосновательности претензий, а скорее выявляет компромиссную этику рококо.
Р. Демори, анализируя «Арлекина» в русле психоаналитической методологии, видит в комедии Мариво воплощение сюжета об инициации (Demons, 2001). Думается, однако, что это мало что проясняет, по крайней мере, в рассматриваемой в данном случае проблеме. Если исходить из терминологического понимания «инициации» как перехода личности из одного статуса в другой (юноши - в мужчину, например), то становится ясно, что «инициация» героев Мариво не предполагает радикальной статусной трансформации под воздействием эротического и/или социально-психологического опыта, скорее, это слово может быть метафорическим (и чересчур сильным) обозначением психологической вариации внутри одного статуса - красивого юноши, вначале не знавшего любви, а затем полюбившего и воспитавшегося этой любовью. Но формы проявления как искреннего любовного чувства, так и воспитанности до странности близки прежней «невоспитанности»: Арлекин смешон и глуп в своей неловкости и грубости, когда, не ведая любви, хочет есть, спать и развлекаться в ответ на все сердечные призывы феи - но эта грубость и глупость не представлена в духе барочного «натурализма»; он забавен и наивен™ в своих проявлениях радости влюбленного, когда встречает Сильвию - но эти проявления лишены высокой, ложной, с точки зрения рококо, патетики. Более того, его воспитанность - хрупка: когда герой завладевает, по совету Тривелина, волшебной палочкой, он неожиданно проявляет мстительность и своеволие - издевается над
80 О наивности как особом нравственном качестве героев Мариво см.: Берковский, 1969, 455.
99
феей, сражается на шпагах с духами, танцорами, даже Тривелином, забыв о своем обещании вознаградить последнего за помощь. Волшебство (сверхъестественное) выполняет в пьесе негативную роль - как тогда, когда волшебная палочка находится у феи, так и тогда, когда она переходит к Арлекину. В отличие от ренессансной функции разрешения конфликтов (ср. роль дворца волшебницы Фелисии в «Диане» X. де Монтемайора) и от барочной функции установления истины (ср. Источник Любовной правды в «Астрее» О. д’Юрфе), основная функция волшебной палочки в «Арлекине» состоит в реализации прихотей, своеволия, насилия. Впрочем, и здесь не обходится без рокайльной амбигитивности: в определенный момент, ситуативно этот волшебный предмет выступает в роли палочки- выручалочки влюбленных. Однако для того, чтобы достичь радостного примирения всех героев, к чувству любви, которое обретает Арлекин, нужно добавить сочувствие (ср. Сильвия: «...друг мой, будем снисходительны. Сочувствие - хорошая вещь»). Сочувствие как сходные чувства между разными людьми (Арлекином и Сильвией) и как снисхождение к непохожим, иным чувствам других людей необходимо, чтобы персонаж Мариво действительно воспитался, то есть, с одной стороны - открыл самого себя, заложенную в нем (в его «природе») способность ощущать привязанность и нежность, с другой - стал «poli», т. е. «отшлифованным» до естественного (привычного, автоматического, если угодно, «машинального») соблюдения им культурных норм общества.
Загадка «Кіикіендл» Прево:
ЗАЕВШИЕ ОДНОГО «ВЕСК EJI.IEPA XVIII ВЕКА»
Парадоксально, но (рам: хоія в XIX и /XX веках А.-Ф. Прево пользовался славой ангора «одной кіннії», шедевра исихолої нче ской прозы романа «Манон Леско», кришки помнили о плоюви- юсгп романне i а и его роли в формировании ne ідеї рисі пческой литературы XVIII и последующего столе i ийн|. Великая киша Прево была, но мнению нескольких поколений чиї ai слей XIX XX веков, единственной его художественной удачей, однако, судя по шражам романов в XVIII столетии, по количесіву переводов на друз не я паки и. наконец, по оценкам современников, ciaiyc шедевра «Манон Леско» приобрела не ранее, чем наступила нюха романтизма. Удачными и гораздо более интересными при жініііі Прево слыли другие ею произведения, а сам писатель, если и расценивался как классик, го прежде всего как классик беллетристики, автор «бестселлеров» своего времени.
Вспомним, что «век романа», как часто называют эпоху Просвещения, давшую миру огромную вереницу великих создаїслей романной прозы, стал также и веком зарождения массового романа, тиражирующего мотивы и образы высокой прозы, адапирую- щего и популяризующего ее т емат ику и проблема i ику. Одним из условий формирования беллетристической литературы стаповиїся стремление сочинителей романов писать прежде всею увлекательно. будить интерес читателя авантюрно-романической фабулой42 и тем самым нравиться ему, отвечать его вкусу. Этот вкус включал и приятное назидание, однако рассматривая романы Прево как в первую очередь назидательные, мы рискуем упустить из виду, что сам
4 Помимо многочисленных западных источников. см., например: «.Аббат Прево был одним из основоположников современной популярной ку.II.гуры...» (Кухаркин. 1978. 264).
Как замечает один и і современных английских исс.іедоваїелсй, «популярная» литература по литература для «передне гьіваїс.тсй страниц», жаждущих у mai ь. «а что было дальше» (Noreiko, 1997. 188).
101
писатель настаивал в собственном журнале, чтобы их воспринимали как произведения «de pur amusement» («За и против», 1736) и заполнял фабулу романов опробованными клише забавно и/или чувствительно-приключенческого наряду с расхожими нравоучительными сентенциями-клише, полюбившимися читателям начала XVIII века.
Действительно, именно за узнаваемость, воспринятую как знак достоверности («все, как в жизни» - и сегодня почти непременная реакция на массовую беллетристику или мелодраматические сериалы), современники сразу же полюбили сочинителя «Мемуаров знатного человека, удалившегося от света» (1728-1731). Причем полюбили настолько, что свою «Историю кавалера де Грие и Манон Леско» писатель по совету издателя и из коммерческих соображений публикует как очередной том овеянных славой «Мемуаров», а затем превращает повествователя этого романа, Ренонкура, в «издателя» «Кливленда» и «Киллеринского настоятеля». Задачу «нравиться читателю» Прево перед собой всегда ставил абсолютно осознанно, уточняя в одном из предисловий (к роману «Киллеринский настоятель», 1735): «Нравиться хорошо, если способы понравиться достойны» (Coulet, 1992, 150). В статье о «Кливленде» писатель признается: «...я охотно выполнил просьбы читателей и примешал в своих книгах действительно историческое к тем украшениям, которые содержат вымышленные сочинения» («За и против», 1739). Можно заметить попутно, что в отличие от романистов предшествующего века, «украшающих» главный предмет своего сюжета - Историю - правдоподобным вымыслом (М. де Скюдери, Ла Каль- пренед), Прево использует в качестве «украшения» саму Историю, эксплуатируя своеобразное «историческое любопытство» (М.-Т. Ипп) своих современников, но не упуская из виду главное для него и для них - увлекательный «жизнеподобный» вымысел. Притом исторические события, описываемые романистом, - это не прошлое в точном смысле слова, а современная история, предмет еще не легенд и мифов, а слухов и сплетен, каковые стали важными источниками европейской романной «новой» прозы на рубеже XVII-XVIII веков (см.: Singer, 1963, 10).
Избирая для всех своих двенадцати романов жанровоповествовательную форму вымышленных мемуаров, приписанных
102
полу-фиктивным, полу-реальным персонажам, Прево следует установившейся моде на «секретные» и «скандальные» хроники, тиражирует, притом весьма удачно, приемы Куртиля де Сандра. Так, он делает героем «Кливленда» (1731-1739) - самого лучшего своего романа в глазах современников (см.: Ehrard, 1973, 213) - якобы существовавшего побочного сына О. Кромвеля, наделяет его романической биографией: преследование злодеем-отцом, воспитание матерью в пещере, вдали от общества, женитьба вопреки желанию деда на любимой девушке, скитания, кораблекрушение, жизнь среди индейского племени абаков в качестве их «короля», мнимая смерть дочери, супружеская измена его - жене и жены - ему (возможно, также мнимая), возвращение во Францию, любовный треугольник, одной из участниц которого стала неузнанная родителями спасшаяся дочь и т. д. Внешне перед французским читателем XVIII века развертывается повествование о недавнем прошлом соседней страны (1642-1685), все более пристально приковывающей к себе внимание современников, в том числе и просветителей. Это время для Англии было временем большой Истории, насыщенной весомыми политическими событиями, однако для Прево важно несколько иное. И дело не в количестве допущенных автором неточностей и анахронизмов, так же как не в пестром мелькании стран и континентов (Англия, Франция, Америка). Дело в погруженности «исторического» персонажа в сферу частного существования, окрашенного в ставшие надолго излюбленными в массовой беллетристике тона одновременно сентиментально-идиллического, эротико-мелодраматического и мрачно-готического.
«Трудно вообразить себе фабулу, более романическую и более скабрезную», - замечает П. Траар (Trahard, 1931,1, 151). Действительно, обилие и разнообразие авантюрных перипетий и скандальных ситуаций (вплоть до едва не случившегося инцеста) превращает роман Прево в подобие «романического поппури». В этом поппури можно найти зародыши многих будущих серий массовой литературы - любовного романа, детективного романа, историко-приключенческого романа и т. п. - вплоть до «пляжного романа»43 , если считать, что на морском берегу увлекательнее всего читать именно о морских и
83О категориях «пляжного», «вокзального» и т. п. романов см. в работе С. Норейко (Noreiko, 1997, 188).
103
прибрежных приключениях, примеряя их «па себя». Анзор проводит своего героя через ряд житейских и нраве ївсіпю-эмоциональных ка- гасiро(|), внушая ему (и читателю) необходимость значь правила и обычаи общества, приспосабливаться к ним, меланхолически коп- сіагируя их несовершенство. Притом «Английский философ», как звучит первая часть заїдання романа Прево, связывается уже самим названием с юй линией скандально-эротической литературы XVIII века, которая претендует на некую философичность**4: любопытно, что ни один из главных героев подлинно философских романов и повестей эпохи Просвещения не является философом ни по профессии, ни по складу характера (и ни в одном из них, насколько известно, слово «философ» не фигурирует в заглавии). И одновременно глубинное философское содержание «Робинзона Крузо» или «Кандида», «Приключений Гулливера» или «Новой Элоизы» выражается в непрестанной авторской рефлексии, в экспериментальное™ сюжета, следующего не столько за логикой житейской достоверности, сколько за развертыванием доказываемого или опровергаемого философского тезиса. Как определяет анонимный трактат 1743 г. «Философ это такая же человеческая машина, как любой человек, однако машина, механическое устройство которой размышляет над собственными движениями... это, так сказать, маятник, раскачивающий сам себя» (нит. но: Mesnard, 1990, 23). Житейские размышления повествователя «Кливленда» отмечены явно меньшей амплитудой колебания, его «философия» несложна для восприятия**5, «интеллектуальный изыск уравновешен завлекательной... интригой», что окажется устойчивым свойством массовой литературы и в XX веке (Берг, 2000, 300).
Прево заставляет своего персонажа философствовать едва ли не потому, что философия в век Просвещения хорошо продается**0. Ге-
м Ср. заїлавие известного фривольного романа маркиза д’Аржана - «Тереза- философ». О ЮМ, как в обиходе «века философии» модное словечко «философский» прикладывалось к скандальной бел лез рисі икс см.: Damton, 1995, 12.
s$Cp.: «...философия вполне может быть «идеалистической» или «реалистичной», диалектической или философией озарения, но она не может позволить себе не быть трудной» (Декомб, 2000, 188).
И на исходе XX столетия «для поля массовой культуры метафизическое соотносимо с гем символическим капиталом, в котором более всего нуждается потребитель» (Декомб, 2000, 301 ).
104
рой, обретая житейский опыт, приходит к общеизвестным истинам, а его эмоциональные реакции «естественны» и достоверны в меру своей банальности: «Я полагал, что с помощью философии смогу предостеречь себя от чрезмерных увлечений в любви и дружбе. Но как только мое сердце открылось этим двум страстям, я очень хорошо понял, что все их последствия совершенно неизбежны и что несчастья, порождаемые этими двумя причинами, не могут побеждены силою философии» (Prevost, 1810, 11, 425). Потому-то герой романа не способен приобрести нравственный опыт и измениться под его воздействием (Atkinson, 1960, 60), чему-либо научиться - и научить читателя, однако способен его растрогать зрелищем житейских катастроф - сенсационно-скандальных и узнаваемых одновременно. Если писатель-сентименталист, принадлежащий просветительской литературе, по верному замечанию П. Бенишу, «остается философом и в самом чувстве» (Бенишу, 1995, 223), то Прево, как и его герои, скорее, остается чувствительным человеком и в самом «философствовании» («Я понял, что философ - это все равно всегда человек сердца» - Prevost, 1810,1, 155), к тому же по-рокайльному двусмысленном. «Кто поручится, всегда ли Кливленд любил Фанни, и не предпочитает ли он все еще свою дочь Сесиль?» - комментирует Ж. Сгар развязку романа (Sgard, 1986, 13), в которой зародившаяся симпатия Кливленда к Сесиликак будто прервана тем фактом, что девушка оказывается его дочерью, а Фанни - верной, несмотря на бегство из дому, женой.
Но двусмысленность проявляется не только на уровне фабулы, она - внутри затрагиваемых романистом проблем: неслучайно если А. Куле считает, что писатель призывает к строгому соблюдению принципов порядка и разума, религии и морали (Coulet, 1967, I, 352), то по мнению П. Траара, Прево постоянно колеблется между религиозным чувством и сочувствием человеческим слабостям (Trahard, 1931, 153) - несогласованность интерпретаций порождается в большой степени амбигитивностью поэтики и проблематики. Прево как будто наставляет читателя, но содержание его наставлений - утверждение непреодолимости человеческих страстей - делает эти моралите как бы заведомо бесполезными, орнаментальными. «Идеологические претензии» (Гудков, Дубин, Страда, 1992, 17) беллетристического романа Прево заключались, по-видимому, в не-
105
косм желании снять огвсгсгвснность со своего героя (тем самым с «обыкновенного человека», с читателя) за его собственные жизненные ошибки, за слабости и несовершенства его натуры. Эту «мораль безответственнос'ги», провозглашаемую в романном мире Прево II. Гра и друт объясняет трагичностью конфликта и героя (Granderoute, 1983, II, 424)к7 и видит здесь следы расиновской традиции. Однако меланхолия Кливленда явно нс дотягивает до роковой обреченности героев Расина, скорее предвещая мелодраматический пессимизм некоторых сюжетов массовой литературы XIX столетия - Ф. С улье, Э. Сю или А. Дюмахк.
«Английский философ, или История Кливленда, незаконного сына Кромвеля, написанная им самим» иногда включается в ряд предпросвстительских или раннепросветительских произведений, иногда рассматривается как начало антифилософской тенденции во французской романистике, как оппозиция свободомыслию (см., наир.: Разумовская, 1994; Sgard, 1986). И связано это, по-видимому. с насыщенностью произведения внешними признаками «проблемности». Весь репертуар споров просветительской эпохи можно обнаружить в сюжете романа Прево: природа и цивилизация, дикарь и культурный человек, современное общество и утопия и т. д. предстают в перипетиях истории побочного сына Кромвеля. По мнению Р. Грандрута, «в романном наследии Прево «Кливленд» занимает особое место и размахом, формой, стилем, избытком сложности, образцовым характером героя, и богатством и разнообразием проблем, которых он касается и которые обсуждает» (Granderoute, 1983, II, 428). Однако проблемность романа отмечена не только рокайль- ной амбигитивностью вкупе с сентиментальной патетикой, но и беллетристической поверхностностью: тот же Р. Грандрут отмечает, что Прево-повествователь не занимает позиции ученого-историка (Granderoute, 1983, II, 404) - скорее, это позиция пожившего и пови-
v В структуре произведения порой также обнаруживают трагедийность: так, П. Траар замечает, что роман Прево можно разделить на пять актов, подобно классицистической трагедии (Trahard, 1931, 151).
" Потому нельзя безоговорочно принять утверждение, что «массовая словесность - словесность нс только жизнеподобная, но и жизнеутверждающая» (Гудков, Дубин, Страда, 1992, 50). Литература такого рода в той же мере фиксирует расхожий оптимизм, в какой и расхожий пессимизм.
106
давшего человека, знающего кое-какие скандальные подробности из жизни исторических лиц. Массовому роману свойственно быть не столько источником глубоких научных знаний, сколько закрепителем расхожих житейских представлений, обывательских мнений, около- историчсских слухов и сплетен. Отзвуки общественных и научных теорий, нашедшие свое место в романе Прево, скорее популяризуют «обывательские» знания, чем включаются, подобно тому, как это происходит в «Нескромных сокровищах» Дидро или в философских повестях Вольтера, в гущу интеллектуальных дискуссий того периода. Отсюда, например, - тема «крови», «наследственности» в «Кливленде» - и она остается излюбленным психофизиологическим обоснованием поведения героев и в современной массовой продукции, манифестируя то ли «осведомленность» в проблемах генетики, то ли расхожий фатализм, пословичную «мудрость» («яблоко от яблони...» и т. п. суждения - ср. уже цитированное социологами пику- левское «История - это голос крови»). Описание процесса бальзамирования трупа выполняет ту же роль, что описание различных «производственных процессов» в современной массовой литературе (например, в «Аэропорте» А. Хэйли): оно создает для непрофессионалов ощущение причастности к профессиональным «тайнам»89, да к тому же несет в «Кливленде» налет своеобразного инфернального экзотизма. Интересные, хотя и не вполне точные географические, исторические, этнографические сведения, составляющие фон романных приключений - тот - не просветительский, а точнее просвещенческий - пафос (Берг, 2000, 44), который становится непременным компонентом массовой литературы в XIX-XX веках: отсвет злободневных проблем обязательно лежит на фабуле любого популярного романа, при том, что предлагаемые объяснения их генезиса и развития явно упрощены.
«Кливленд» изобилует и жанрово-стилистическими элементами, «любимыми массовой культурой, - сентиментальностью, орна- ментальностью, слезливым психологическим реализмом, эклектикой» (Бойм, 1995, 56). С другой стороны, простота и наивность,
49 Как верно указывает И. А. Гурвич, «беллетристическая книга рассчитана не на специалиста, а на широкий круг потребителей художественной культуры ...Но массовое чтение... нередко направляется именно просветительским импульсом - желанием «узнать», «познакомиться»... (Гурвич, 1991, 59).
107
сентиментальность и «банальность» - в известной степени «вечные ценности» человеческого сообщества в любую эпоху, отстаивание которых входит равно и в «элитарную», и в «массовую» литературу40: если как философ, «английский философ», Кливленд явно недотягивает до Шефтсбери или Локка, то как размышляющий и переживающий герой он изображен порой довольно тонко. Разумеется, «мелодраматическое» членение большинства персонажей на добродетельных и преступных, «ангелов» и злодеев вносит в психологические характеристики героев Прево некоторую рудимен- тарность, однако неуверенность, которая сопровождает важнейшие события жизни главного действующего лица (читатель, как и Кливленд, не знает наверняка, изменила ли Фанни мужу, поборол ли он влюбленность к Сесили, оказавшейся его дочерью), оборачивается в отдельных фрагментах романа предвосхищающей романтизм сложной зыбкостью чувств. Сквозь сеть романических перипетий, являющих собою усредненный вариант гомбервилевского «romanesque»90 91, пробивается подлинное чувство, позволяющее угадать в популярном романисте автора настоящего шедевра психологической прозы - «Манон Леско».
Как известно, массовый писатель все время пишет (переписывает), а массовый читатель читает (перечитывает) одну и ту же книгу (ср.: Noreiko, 1997, 182). «Кливленд» перестал быть популярным, читаемым романом быть может именно в силу того, что его беллет- ристичность отличается своеобразной классичностью. В расхожем массовом романе XX века можно встретить поэтологические приемы, отработанные задолго до его появления уже в беллетристике Прево, в нем можно найти то же, что и в «Кливленде», сочетание «скандального» и «жестокого», «мелодраматического» и «готического», «социально-критического» и «утопического», однако расхожие элементы и приемы наполнены иным, «злободневным» содержанием. «Сплетни» о Кромвеле давно перешли в разряд исторических анекдотов, и фабулы сегодняшних массовых романов требуют «свежих» сплетен и новых скандальных историй.
90 Ср.: «в средних произведениях есть своя, иногда немалая доля общечеловеческого» (Кормилов, 1985, 6-7).
91 О связи романа Прево с традицией Гомбервиля см.: Sgard. 1986, 124. 100
Поэтика фрагментарности в рококо и романтизме: Прево и Шатобриан
О роли фрагмента в романтической л итсра ту ре написано немало - впрочем, он изучается, прежде всего, на материале немецкой литературы, в том числе и французскими учеными (Labartc, Nancy, 1978,57-80). В то же время речь о литературном фрагменте можно вести по отношению ко всей европейской литературе, начиная, по крайней мере, с Ренессанса, особенно если различать жанр «фрагмента» и более широкое понятие «фрагментарного письма» (см. об этом: Montadon, 1992, 77-98). Философы используют еще более универсальный концепт фрагментарности как особого способа мышления, который также находит свое воплощение в рефлективной прозе от «Опытов» Монтеня до новейшей эссеистики. По верному замечанию К. Захариа, «фрагмент меняет свое значение от эпохи к эпохе» (Zaharia, 2003), становясь в XX в. «одной из характерных черт модерности». Очевидно, что и фрагмент как жанр и фрагментарность как свойство стиля и тип художественного мышления в романтизме не повторяют поэтологические приемы фрагментарности прошлых эпох, так же как не возникают в качестве абсолютно нового, невиданного прежде нарративного принципа. Они вступают в диалог с предшествующей традицией фрагмента, и их художественная новизна отчетливее проступает в сравнительном анализе с этой традицией. Фрагментарность, думается, функционирует как необходимый элемент жанровой поэтики и романа рококо, и романтического романа, но их соотношение, насколько известно, не было до сих пор специально исследовано.
В господствовавшей до недавнего времени в нашей, да и в зарубежной науке телеологической схеме развития жанра романа вообще не находилось сколько-нибудь заметного места ни романной прозе рококо, ни романтическому роману. Представление о романе, как жанре, все более неуклонно приближающемся к реализму, либо вытесняло из обобщающей истории романной эволюции произведения иных литературных направлений, либо разрабатывало тезис о постепенном накоплении в них реалистичности.
109
Фундаментальные работы о романе, появившиеся в последние десятилетия, корректируя кумулятивистскую концепцию жанровой романной эволюции (см. об этом: Косиков, 1993, 28-29), либо прямо отказываясь от нее, немало обязаны историкам романного жанра, отстаивающим важную роль и значение романтического романа в жанровой эволюции и особенно в становлении новейших форм романистики XX века, с ее подчеркнутой эссеистичностью видения мира и мифоло- гичностью, питающейся если не собственно романтическими мифами, то, несомненно, романтическими трактовками древних мифов.
Актуализация романтического мировосприятия происходит большей частью в форме интереса к нсобарокко, оживляет разнообразные параллели с романтизмом (см., например: Тертерян, 1986, Софронова, 1995), привлекает внимание исследователей, прежде всего, к таким сторонам поэтики романтического романа, которые соотносятся с традицией романа барочного (метафорический характер романного сюжета, контрасты мира и человека, переклички со средневековым видением действительности и т. п.). Естественно, поэтому, что на первый план в таких сопоставлениях из всей совокупности романтической романистики выдвигается немецкий роман - к тому же более других национальных вариантов жанра исследованный (см. только в отечественном литературоведении: Чавчанидзе, 1997; Ханмурзае. 1998; Грешных, 2000; Ботникова, 2004).
Однако ученые не проходят и мимо других важных черт поэтики романтизма, свойственных, конечно, не только роману этого направления, но и роману в том числе: структурно-повествовательная и словесная игра, фрагментарность развертывания сюжета и его особого рода незавершенность, стремление от риторичности к естественно-органическому стилю и устному свободному эссеистиче- скому высказыванию. В то же время эти свойства романтического повествования рассматриваются как своеобразное художественное изобретение романтизма, которому не на что опереться в предшествующей литературной традиции - разве что на Стерна02.
ч- На эту роль прозы Стерна, помимо М. М. Бахтина, указывала еще А. А. Елистратова (см. Елистратова, 1968). Ср. следующее утверждение: «В целом серии ксе Хэзлита разработана совершенно уникальная поэтика беседы» (Вайнштейн. 1994.40?) Туг, очевидно, не учитывается влияние на романтизм, по крайней мере, двухвековой культура беседы, особенно развитой во Франции и оставившей явственный след в.іиге- рагуре. Беседа как жанр отличается как раз свободной фрагментарностью композиции
по
Вот почему в данной статье будет сделан акцсіп на сопоставительном анализе важнейших жанровых параметров романтического романа и романа рококо во Франции: французский романтический роман до сих пор менее всего исследован среди других национальных вариантов жанра‘и, а французский роман рококо, как известно, представляет собой классическую модификацию жанра этого направления. К тому же здесь возможно конкретизировать такое сопоставление в частной параллели «Манон Леско» (1731) аббата Прево и «Рене» (1801) Ф.-Р. Шатобриана. Есть частные, но любопытные переклички между этими произведениями: и «Манон» и «Ренс» - обрамленные устные рассказы о себе, обращенные к сочувствующим и заинтересованным слушателям, они включают в себя в качестве важного компонента тему пребывания в Америке: у кавалера де Грис и его возлюбленной - вынужденного, у Рене - добровольного. Америка в романе Прево - одно из рассказываемых пространств, у Шатобриана это - пространство рассказывания. В том и другом произведении есть определенный отсвет собственной биографии. Правда, произведение Прево приобретает черты автобиографизма «задним числом»: знаменитая история его связи с девицей сомнительных нравственных достоинств по имени Ленки происходит уже после создания романа. Автобиографизм же шатобриановского произведения носит обобщенный духовно-психологический характер: названный одним из имен автора герой совпадает с автором нс подробностями жизни, а типом чувствования.
В то же время анализ этих и им подобных схождений и различий между обоими произведениями может подвести к существенным обобщающим выводам о типологии жанра романа: оба произведения репрезентативны для своего направления и типа романа, оба стали чрезвычайно популярными, оба оказали глубокое воздействие на развитие жанра в последующую эпоху, наконец, оба - шедевры, что позволяет судить о свойствах их поэтики как о равноценном их проявлении (хотя и не одинаковом).
93 Помимо небольшого и давнего, но весьма ценного исследования французского «личного» романа Шрейдер, 1968, см.: Мироненко, 1999. Об историческом романтическом романе во Франции см.: Литвиненко, 1999.
111
Романтическая эпоха во Франции прочно «присвоила» себе сочинение аббата Прево, настолько утвердив в сознании и широкого читателя, и специалистов его «романтизированную» интерпретацию (любовь к недостойному человеку, притягательность зла, загадочность женской натуры), что это сказалось и на распространении ошибочной, но столь привлекательной для романтиков версии об изначальном автобиографизме его сюжетной коллизии, отодвигающем датировку первого издания «Истории кавалера де Грие и Манон Леско» к 1733 г. Между тем близость романтикам «духа» шедевра Прево не означала и не означает жанрового тождества между психологическим романом рококо и романтизма: конкретное сопоставление двух столь репрезентативных для поэтики каждого из направлений романов, как «История кавалера де Грие и Манон Леско» Прево и «Рене» Шатобриана поможет выявить разное качество внешне объединяющих эти произведения поэтологических черт.
Прежде всего, знатокам бросается в глаза уже сходство предысторий появления этих романов в печати: и «Манон Леско» и «Рене», как заявлено уже их авторами - части большого романа, некие повествовательные фрагменты. «История кавалера де Грие и Манон Леско» - последний, седьмой том «Мемуаров знатного человека, удалившегося от света» ( 1728-1731 ), содержащий отдельную, «приставную» историю в составе большой истории Ренонкура, выступающего безымянным автором обрамления рассказа де Грие. «Рене» - фрагмен г большого романа Шатобриана «Начезы», начатого автором в период его поездки в Америку в 1790-е гг., появившийся вначале как одна из художественных иллюстраций к трактату «Гений христианства», а затем и как отдельное издание. В обоих романах, таким образом, фрагментарность не только проявлена в развитии сюжета, но и с самого начала заявлена, впрочем, по-разному: «Манон Леско» возникает на фоне славы первого романа Прево, «Мемуары знатного человека, удалившегося от света», повествователь обращается в нем к читателям, уже знающим этого персонажа, которому де Грие рассказывает свою историю; Шатобриан же предлагает читателям нечто из своей творческой лаборатории - фрагмент задуманного большого романа «Начезы», так и не дописанного и в пору первых публикаций «Рене» не напечатанного, так что впоследствии уже оставшиеся наброски «Начезов» навсегда останутся в тени славы «Рене». Повествователь
112
у Прево обращается к читателям его собственных записок и декларирует себя как верного передатчика поведанной ему истории де Грие, не исправляющего и не комментирующего эту историю. Обрамление рассказа у Шатобриана дано как ангорское повествование от третьего лица, кроме того, как верно отмечает А. Б. Ботникова, «монолог героя включается в некую повествовательную раму, предполагающую иную оценку рассказанного или пережитого. Сталкиваются разные точки зрения» (Ботникова, 2004, 49).
За этими внешними расхождениями - более глубокое отличие типов фрагментарности в романе рококо и в романтическом романе. Фрагмент рококо - метонимичен, это фрагмент-эпизод, часть некоего целого, которое разложимо на части и угадывается в каждой из частей. Романтический же фрагмент метафоричен, это фрагмент-зародыш, «семя» (Новалис), обладающее потенциальной универсальной полнотой, но отнюдь не механического типа.
Отсюда проистекают и значительные различия в форме и функции незавершенности обоих романов. И в том и в другом случае незавершенность может относиться к сюжету, но не к фабуле: Так, «Манон Леско» - одно из немногих в романистике рококо внешне, фабульно законченных произведений (Манон умерла, а, значит, история де Грие завершилась94), «Рене» - роман, в котором сообщается о смерти главного героя. Но основная коллизия и в том, и в другом случае не завершена, ибо она принципиально незавершима: читатель может догадываться, что благочестивые планы персонажа Прево - еще одна, в ряду уже случавшихся, тщетная попытка «устоять»; Рене же уносит в могилу как свой внутренний абсолютно неразрешимый конфликт, так и жажду его абсолютного разрешения. Отличия здесь так же выразительны, как и сходство: незавершенность в романе рококо - это недоговоренность, побуждающая к догадкам (действительно ли де Грие «исправился» после смерти Манон, или это иллюзия, в которую, возможно, и сам герой не верит) и оставляющая возможность амбигитивного (двойственно-двусмысленного) толкования ситуаций и персонажей. Незавершенность в романтизме - это недосказанность, диктуемая как бы самой неисчерпаемостью пред-
94 Свидетельство того, что впечатление завершенности, даже фабульной, лишь внешнее - публикация в 1760-е гг. «Продолжения Манон Леско», довольно легко оживляющее героиню (см. его анализ в кн.: Пахсарьян, 1996, 180-188).
113
мета художественного осмысления: досказать историю романтической души невозможно, такой замысел оказывается всегда глобальнее любого воплощения, загадка «мировой скорби» Рене остается.
Эта недосказанность проистекает и из неизбежной субъективности романтической исповеди - жанра, расцветающего «в момент трагически переживаемого настоящего» (Рабинович, 1991, 298 )95. При том, что выпрошенная старцами - индейцем Шактасом и миссионером отцом Суэлем, почти вынужденная исповедь Рене не лишена самолюбования, она одновременно полна и сожаления, и раскаяния. Он ждет суда своих слушателей, надеясь одновременно, что их «строгий суд не помешает им пожалеть его». Рассказ де Грие - скорее оправдание ищущего сочувствия героя, повествующего с обычной, «естественной» мерой откровенности. Но удивительным образом персонаж Прево проговаривается о себе гораздо больше, чем герой Шатобриана. Современники романтической эпохи «угадывали себя» в Рене еще и благодаря заманчивой зыбкости образа, отсутствию деталей внешнего бытия. Бытовая и биографическая конкретность образа де Грие, конечно, не исключала художественной обобщенности и типичности, но фрагментарность характеристики, пропуски, недоговоренности здесь связаны с попыткой создать иллюзию буквальной достоверности события и героя, «скрыть» прототип, а не открыть общераспространенность (при всей его исключительности) «байронического» типа героя, опережающего своим появлением самого Байрона.
Столь выразительное отличие влечет за собой и другие: так, игровое начало, присущее роману рококо, смягчает трагизм любовной истории романа Прево, позволяет увидеть в ней «комедию, которая плохо обернулась» (Mauron, 1965, 114), понять притягательность мучений де Грие (в отличие от мук расиновской Федры, например). Романтическая же игра - из тех, что требует «полной гибели всерьез», что буквально воплощается в судьбе героя Шатобриана и в самой природе романного конфликта.
Здесь возникает необходимость затронуть одну из наиболее сложных тем романтизма - тему романтической иронии и ее при-
95 Ср. там же: «Жанр исповеди - определяющий жанр на переломе: историческом, социальном, культуросозидающем».
114
сутствия или отсутствия во французском романтизме. Роман Шатобриана не ироничен, если иметь в виду ироничность в расхожем смысле слова, и ироничен, если ирония - это, как у Ф. Шлегеля, «концентрация Я на самом себе»46 . Иными словами, ирония в романтическом повествовании имеет отношение не к интонации рассказа (что характерно как раз для рокайльных нарративов), а к видению действительности - и видению не с точки зрения здравого смысла, а из глубины поэтического и остроумного одновременно романтического духа.
Так оказывается, что все рассматриваемые компоненты романной поэтики романтизма - фрагментарность, ироничность, игра, предпочтение устного рассказа письменной речи и т. п. - легко обнаруживаются и в романе рококо, но они совсем другие. Другие, но не по степени зрелости, не количественно, как это порой истолковывают96 97, но, прежде всего, и даже исключительно функционально (они решают иные художественные задачи), системно (они вступают в новые взаимоотношения внутри романа), наконец, качественно.
Сделанные наблюдения заставляют задуматься и над более общими проблемами эволюции романа как жанра, позволяют высказать предположение, что «открытость» романной поэтики, «негото- вость» романа выражается не в постепенном прирастании неких жанровых свойств и отмирании, отбрасывании старых, а в бесконечном превращении одного и того же, всегда разного. И новаторство романистов проступает не в изобретении невероятного, а в бесконечном превращении этого невероятного в очевидное, а затем наоборот: «ведь литература как раз и есть то самое слово, с помощью которого выявляется фундаментальность банальных отношений, а затем разоблачается их скандальная суть» (Барт, 1994, 329).
96 Так определяет шлегелевскую иронию Гегель. Ср. также: «Ирония определяет отношение творящего субъекта к сдвинутым формам мира, пришедшего в движение» (Ботникова, 2004, 39).
97 Так, О. Вайнштейн полагает, что до романтической эпохи нериторические жанровые формы, свободные смешанные жанры, как раз и предполагающие фрагментарность, устность и т. д. - мемуары, беседы, эссе и т. п. - существовали «на периферии литературного движения», не были связаны с последовательной эстетической программой - т. е. как бы еще «не созрели» (Вайнштейн, 1994,419-421).
Читатель и писатель во французском
РОМАНЕ-ФЕЛЬЕТОНЕ XIX ВЕКА
Роман-фельетон - предмет пристального интереса современного литературоведения. Если попытаться проследить только за названиями публикаций, связанных с проблемой массовой литературы, во французской литературной науке, можно обнаружить все более возрастающее внимание к жанровым параметрам романа-фельетона (см., например: Guise, 1985; Dumasy, 1988; Dumasy, 1999; Benassi. 2000; Adamowicz-Hariasz, 2001; Lukacher, 2004). В сознании значительной части отечественных филологов этот феномен, впрочем, рассматривается лишь как некая форма публикации произведений безотносительно к их поэтике. Однако тщательное исследование и появления самого термина, и истории публикации романов в периодических органах печати, начиная с 1830-х гг., и их поэтологический анализ приводит к иному выводу.
Действительно, во-первых, форма газетного «фельетона» была средством и местом публикации романа - жанра, приобретшего высокий уровень популярности в романтическую эпоху и потому охотно используемый журналистами для привлечения подписчиков, и романистами - для снижения тарифов издания, более высокого, если оно печаталось в виде книги. Но одновременно роман-фельетон оформился как особая жанровая модификация, предполагающая собственную поэтику. Появившись на стыке журналистики и литературы, роман- фельетон оказался связан с проблемой границы между референциаль- ностью и фикциональностью. И одним из важных поэтологических свойств романа-фельетона является то, что можно было бы назвать, вслед за Теренти, «эстетикой актуальности» (Thérenty, 2003). Соотношение документальности и вымышленности, узнаваемости фактов, обстоятельств, подробностей - исторических, социальных, финансово-экономических, - и фантастичности осуществляется наиболее успешно и наиболее часто в сюжете, основанном на современном материале, почерпнутом из газет: пик популярности романа-
116
фельетона в разное время неизменно приходится на произведение с «актуальной фабулой» («Мемуары Дьявола» Ф. Сулье ( 1837), «Граф Монте-Кристо» (1844) Дюма, «Парижские тайны» Э. Сю (1842— 1843). Другой бросающейся в глаза чертой романа-фельетона является его сегментированность, разделенность на некие фрагменты. В общем, может показаться, что это - черта любой большой литературной формы. Действительно, мы можем заметить еще в структуре эпической поэмы членение на эпизоды, тем более, что при исполнении эпоса древние певцы могли ограничиваться теми или иными его частями. Да и самый современный акт чтения большого романа осуществляется порциями. Значительная часть прозы существует в разделении на главы. Известно, однако, что в романе-фельетоне подобное членение имеет особую функцию: оно поддерживает интерес читателя, одновременно удовлетворяя (частично) его ожидания и обманывая их. Названия глав в романе-фельетоне не резюмируют действие и не столько объясняют его смысл, сколько подогревают интерес, названная и выделенная глава может не иметь единства, а не названный эпизод может быть автономным рассказом внутри основного повествования. Сочетая прерывистость фельетонной формы с романом как «длящейся историей», писатели эксплуатируют читательскую потребность в продолжении действия. Т. е. чтобы роман стал «фельетоном», недостаточно просто разделить повествование на фрагменты и отдать в печать, требуется определенная нарративная стратегия, создающая определенный ритм повествования и ритм романной интриги. По мнению Ж.-К. Азумея, одного из авторов статьи «Feuilleton» в DITL, для романа-фельетона прежде всего важен тип рассказывания, а не предмет рассказа, соглашение читателя с повествованием - часть внутренней организации произведения, а не тип референции. В то же время следует согласиться с М. Е. Те- ренти, что создатель романа-фельетона подвергается искушениям не то, чтобы противоположным, но все же разным: как журналист он «переписывает» реальность, сохраняет референциальность письма, как писатель - ставит эту реальность в контекст художественного вымысла, творит, а не непосредственно «отражает», обращается к области не идеально прекрасного, а повседневного (Thérenty, 2000). Желая быть «сценой из жизни», роман не мог не учитывать хотя бы читательской потребности в референции. И одна из сторон
117
увлекательности романа-фельетона узнаваемость романного мира, его соотнесенность с жизненным опытом читающей публики. Определяя «горизонт читательского ожидания» только как «предшествующий литературный опыт»94, мы неправомерно редуцируем эту категорию. Последствия этой редукции особенно явно сказываются в анализе жанров, в которых, как в романе-фельетоне, референци- альность входит в число поэтологических приемов письма. Однако эстетика актуальности и поэтика увлекательности - только надводная часть айсберга - жанровых свойств романа-фельетона.
Не менее важно для определения специфики этого жанра взаимоотношение повествователя с читателем, которое устанавливается внутри романного текста. Современная теория литературы предлагает достаточно большой выбор терминов «для обозначения читателя как конструкта эстетического объекта» (Нестеров, 2002), в данном случае - литературного произведения: «абстрактный читатель» (Я. Линтвельт), «образцовый читатель» (У. Эко), «имплицитный читатель» (В. Изер), «концептуальный, феноменологический читатель» (А. Компаньон), всякий раз отмечая его несовпадение, но и определенное созвучие с читателем «эмпирическим», «реальным», «историческим».
При этом одно из, по существу, бесспорных представлений о взаимоотношении читателя и писателя в романе-фельетоне связано с убеждением в их необычайно тесной связи. Одна из глав недавнего исследования Д. Куэнья (Couégnas, 2001) называется: «Обращаться к читателю: коммуникация в режиме настоящего времени». Облик читателя популярной литературы, и романа- фельетона в том числе, довольно подробно изучен с социологической точки зрения. В современных исследованиях мы найдем немало и зарубежных и отечественных работ, посвященных этой проблеме. Действительно, в XIX в. изменился социальный состав читательской аудитории, распространение не только грамотности, но и привычки к чтению захватывает многие слои населения Франции. Замечают исследователи и трансформацию формы общения с книгой, в частности - с популярными романами: распро-
‘>8 См.: «Романные ожидания каждого читателя базируются на совокупности прочитанных последним книг» (Andreeva-Tintignac, 2003).
118
страняются коллективные чтения вслух, роман становится предметом более непосредственного и эмоционального восприятия в этом коллективном чтении и г. д. Однако все это изменение способов, форм, ритма чтения - вещи, относящиеся к сфере «реального, эмпирического читателя». В данном случае меня интересует иная проблема - способы, формы и ритм обращения к читателю в тексте романов-фельетонов, то, что связано с гем, что обычно называют «образом читателя», «имманентным читателем» или «читателем виртуальным». Очевидно, что прием обращения к читателю существует в литературе со времен античности (см.: Puccini-Delbey, 2003) и сохраняется до сегодняшнего дня. Как ни парадоксально, но исторические и жанровые трансформации этого приема исследованы явно недостаточно. Обращаясь к данной проблеме в статье «Возвращающийся персонаж: читатель как соавтор» Д. Аранда сетует на то, что до сих пор соучастие читателя в сотворении произведения изучалось только на конкретных отдельных произведениях и видит решение вопроса в теоретическом абстрагировании от конкретного материала (Aranda, 2001). Однако на такой высоте теоретизирования историческая изменяемость соотношений «писатель-читатель», «нарратор-читатель» стирается. Между тем она, думается, чрезвычайно важна.
Если попытаться идти от наиболее знакомого мне материала - от романа Нового времени, XVII-XVIII вв., то можно обнаружить, что в XVII в. прямые обращения к читателю были фикциональным приемом «дероманизации», активно используемым в пародийном, комическом романе, и отсутствующем в «высокой романистике». Так, автор «Астреи» обращается в своем произведении к героям - Астрее, Селадону, даже к месту действия - к реке Линьон, но никогда - к читателю; мадам де Лафайет вовсе не прибегает к такому типу взаимодействия с читателем, тогда как Скаррон или Фюретьер охотно используют формулу «друг читатель», «дорогой читатель», и т. д. Эти формулы умножает и разнообразит роман XVIII вв.: процесс инти- мизации отношений с читателями, который происходит и в рокайль- ной, и в сентименталистской романистике, побуждает авторов создавать образ «знакомого читателя», «понимающего и сочувствующего читателя», «насмешливого читателя» или «чувствительного» и т. д. При этом «писателя» в романе XVIII в. большей частью нет
119
(заметное исключение - Г. Филдинг - требует, очевидно, отдельного разговора), нарратор - не писатель, а персонаж, текст преподносится как неумелое, «естественное» создание «неписатсля». как «не-роман», а воспоминания, письма, дневник и т. д. Возникает расхождение между «адресатом» произведения («повествуемым», «narrataire»), «имманентным читателем» и «эмпирическим читателем». В «Памеле» Ричардсона адресат писем - родители героини, а более широкий кругчитателей-«сочувствующих, чувствительных»- предполагает для книги «издатель», обращаясь к ним в немногих, но важных вкраплениях в текст эпистолярного романа. В «Жизни Марианны» Мариво нарратор-Марианна не раз подчеркивает не- романность своей истории и неумение писать «верным стилем», «адресатом» является подруга героини: она не названа по имени, но именно к ней обращается в своих письмах-воспоминаниях Марианна, комментируя реакцию корреспондентки (которая «отвечает» на письма, но ее письма-ответы не даны в тексте прямо), а «имманентным читателем» выступает «скептический читатель» рококо, на которого ориентируется автор романа, а отчасти - и сама героиня, все-таки учитывающая возможность превращения своего рассказа в изданную книгу. Яркий и всем известный пример такого рода игры «нарратора» - «адресата» - «читателя» - Стерн, об определяющей роли которого для романа XIX в. много говорили и говорят". Однако так ли прямо связан роман этой эпохи, во всяком случае роман-фельетон со стернианской традицией, действительно ли отношения между читателем и писателем как повествовательными инстанциями укрепляются, становятся теснее и непосредственнее? Кажется, что происходит, скорее, обратное: автономизация повествовательных инстанций, принципиальное изменение форм взаимодействия с читателем.
Характерно, что Ж. Женетт приводит в качестве примеров нарративною ме- талепсиса (т. е. нарушения последовательности повествования, перехода с одною уровня на другой, игры двойной темпоральностью) равно Стерна (который доводит этот прием «до обращения к читателю с просьбой вмешаться в действие, закрыть дверь или помочь господину Шенди добраться до постели») - и Бальзака (пишущего в «Утраченных иллюзиях» «Покамест почтенный пастырь поднимается по ангу- лемским склонам, небесполезно объяснить...»). А ведь в первом случае персонаж- нарратор (не автор) обращается к читателю, а во втором автор-нарратор определяет последовательность собственных нарративных действий (Женетт, 1998. II, 244-245).
120
Вот что показал анализ четырех наиболее важных для истории становления и бытования романа-фельетона произведений: «Старая дева» (1836) Бальзака - первый роман-фельетон; «Мемуары Дьявола» (1837) Ф. Сулье - первый грандиозный успех романа-фельетона; «Парижские тайны» ( 1842-1843) Э. Сю - кульминация читательской популярности жанра «Граф Монте-Кристо» (1844-1845) А. Дюма - классический роман-фельетон.
1. Во всех этих романах традиционное обращение к читателю («Друг читатель», «любезный читатель», «проницательный читатель» и т. д.) отсутствует вообще. Заметим, что Бальзак - не в «Старой деве», но в предисловии к «Сценам частной жизни» говорит о подобных выражениях, как о старой формуле, без которой он будет обходиться. Если же обращение есть, то оно - безлично и косвенно, осуществляется посредством слов «on, chacun, celui, qui, tous, vous, nous» - «Париж - грандиозная мечта всякого, кто...», «Все знают, что опасно....», «Если вы вспомнили обстоятельства встречи», или - редким - упоминанием о читателе в третьем лице - «Мы приглашаем читателя последовать за нами», например, или «Наши читатели, возможно, удивятся ...»
2. Писатели-повествователи отказываются от фамильярных отношений с читателем. Интимизация не углубляется, а устраняется. Читатель оказывается не собеседником, не «образом», т. е., строго говоря, не «имманентным или виртуальным читателем», а «предполагаемым» читателем, если воспользоваться термином К. Варейя: и предполагают авторы романов-фельетонов самую широкую и неопределенную аудиторию - и социально, и эмоциональнопсихологически, и географически (в равной мере описывается жители Парижа и провинции; - те и другие в качестве реальных читателей получают необходимые сведения, но и не утомлены излишними подробностями)100.
3. Как следствие, проблематичен обычный вывод об участии читателя романа-фельетона в сотворении произведения, в придании
100 Т. Шуервеген некогда обратил внимание на то, что Бальзак, точнее его повествователь, не стремится дать портрет реального читателя (Schuerewegen, 1987). Более подробно анализирует «безличность» обращений к читателю у Бальзака 0. Дерюэль (Deruelle, 2003).
121
нового смысла и т. п. Незавершенность текста без участия в нем читателя - если и черта романа как жанра, то явно не читателя романа-фельетона. Смысловое разнообразие, нарративный плюрализм основан на нестабильности, размытости, неопределенности, автономии предполагаемого читателя, его дефикционализации. Именно это становится способом избежать авторитарности в отношении к реальной читающей аудитории.
4. Напротив, писатель фикционализируется как некая наднарративная и межнарративная инстанция. Нарраторами могут выступать различные персонажи: не только автор, но и, например, один из героев, Дьявол (у Сулье) - часто используется комбинация повествователей, однако фикциональность текста, придуманного писателем, не подвергается маскировке.
5. Теоретические обобщения, безусловно необходимые для анализа поставленной в данной статье проблемы, будут точны лишь тогда, когда исследователи станут отдавать себе отчет в исторической эволюции жанровой поэтики, в непрямолинейном ее развитии.
Европейская пастораль НА РУБЕЖЕ XIX—XX ВЕКОВ И ПРОБЛЕМА ТРАНСФЕРА
Объект исследования, обозначенный в данной статье, может вызвать у специалистов, как минимум две противоположные реакции. Одна из них - чувство незначительности или даже неправомерности анализа столь архаической и, по мнению некоторых ученых, бесперспективной группы жанров101 в эпоху, когда история «большой пасторали» уже закончилась102. Существующие определения пасторали в разнообразных энциклопедиях и словарях неизменно исчерпываются примерами от античности до XVIII в. Правда, иногда литературоведы оговаривают, что в XIX столетии отдельные пасторальные мотивы можно встретить в творчестве Ж. Санд, Э. Золя, в начале XX - в произведениях Ж. Жионо - и тем самым признают, что пастораль «не совсем умерла» (Mougin, Haddad-Wotling, 2002, 667). О том, что «пациент скорее жив, чем мертв», свидетельствуют и многочисленные произведения второй половины - конца XX в., в жанровом определении которых авторы используют понятие «пастораль»: «Последняя пастораль» А. Адамовича, «Пастух и пастушка. Современная пастораль» В. Астафьева, «Пастораль двадцатого столетия» Л. Костенко, «Пасторали» Л. Арагона, «Пастораль сорок третьего года» С. Вестдейка, «Американская пастораль» Ф. Рота и т. д. Но убеждение в «неорганичности» пасторальной формы для литературы Нового времени, ее «побочности» или «тупиковости» в жанровой эволюции довольно устойчиво до сих пор среди истори-
101 См., например: «Пасторальный роман не органическое звено в эволюционном процессе, ведущем от эпоса к роману нового времени, а побочная форма...» (Мелетинский, 1986, 165).
102 Касаясь вопроса о том, почему ученые не замечают следов пасторальной традиции в творчестве Ж. Жироду, К. Аллегр полагает, что это - следствие того, что «пастораль - жанр неизвестный, сознательно отвергаемый большинством исследователей, даже презираемый критикой» (Allègre, 1998).
123
ков литературы. Этому убеждению способствует и терминологическая неопределенность: в словарной традиции, в практике литературоведческих исследований далеко не всегда понятие «пастораль» используется как наиболее общее, вбирающее в себя термины «буколика», «эклога», «идиллия». Чаще под собственно «пасторалью» как литературным жанром понимают, прежде всего, драматические, поэтические и прозаические произведения XVI-XVII вв., в которых очевидна условность, искусственность пастушества, разведены понятия пастушеского и пасторального. Кроме того, существующие определения каждого из этих понятий построены как отсылки к другому: пастораль - идиллический, буколический жанр, идиллия - пасторальная буколика, буколика - пасторальная идиллия и т. п.1”’ Еще не нашло широкого распространения представление о пасторали как «метажанре», т. е. как о «структурно выраженном, нейтральном по отношению к литературному роду, устойчивом инварианте многих исторически конкретных способов художественного моделирования мира, объединенных общим предметом художественного изображения» (Спивак, 1985, 53).
Другая возможная реакция - противоположна первой, она связана с ощущением наглядности именно пасторали для изучения проблемы культурного и литературного трансфера. В самом деле, пасторальная группа жанров, как никакая другая, органично входит в жанровую систему различных видов искусства, разных эпох и национальных культур. Более того, пастораль как «метажанр» (а этот феномен, по верном) суждению Ю. С. Подлубновой (2006), «отличает стремление выйти за рамки литературного пространства в иную, более широкую систему координат»103 104) возникает на поле их динамического взаимодействия, то есть являет собою пример трансфера, особенно наглядного как раз в период рубежа XIX-XX вв. По справедливому утверждению Е. П. Зыковой, «пастораль относится к немногим жанровым образованиям с заранее заданным ценностным отношением к изображаемой
103 Ср., например, в «Краткой литературной энциклопедии»: «буколическая поэзия <.< ...> как жанр определяется < ... > восхвалением пастушеского труда и прелестей сельской жизни»; «идиллия <...> стихотворение, изображающее в идеализированных тонах быт простых людей обычно на лоне сельской природы»; «пастораль <...> идиллическое, без коллизий и конфликтов, изображение сельской природы».
104 Насколько известно, пастораль определена как метажанр лишь в статье «Пастораль» (Близнюк, Иванюк, 2001,401).
124
действительности. Ее идеалы и ценности просты, но не примитивны и заслуживают того, чтобы постараться воспринять их всерьез. Ведь за ее идеализацией сельского образа жизни в гармонии с природой стоит, по-видимому, одна из «вечных», постоянно воспроизводящихся потребностей человека, и этим, в первую очередь, определяется, ее долгая жизнь в литературе» (Зыкова, 1999, 7-8)105. И не только в литературе - как известно, и музыкальные - инструментальные, балетные, вокальные, и живописные или скульптурные пасторали не менее широко распространены в истории культуры.
Рубеж XIX-XX столетий был как раз временем необычайного всплеска пасторальной тематики во всех видах искусства. По словам К. Аллегра, «вся эпоха мечтала об Аркадии и об идиллии. Пю- ви де Шаванн и Морис Дени воплощали их в живописи. Вслед за Малларме поэты, подобно Анри де Ренье и Альберу Самену писали эклоги» (Allègre, 1998). Следует добавить: литературная пастораль не исчерпывалась поэзией, кроме того, появлялись во множестве музыкальные и театральные пасторали. Как верно пишет Н. О. Осипова, «эпоха, отмеченная мощным синтезом художественного и философского мышления, обнаруживает сложные переплетения в области жанровых структур различных искусств, причудливые трансформации устоявшихся художественных схем. Казалось бы, они участвуют в грандиозном эксперименте, в котором сталкиваются и сосуществуют художественные парадигмы прошлых эпох и современные культурные искания, мифологические символы древности и знаки новейших психологических и эзотерических учений и школ» (Осипова, 1999, 100). Особая роль пасторали в этом художественном эксперименте обусловлена, по-видимому, наличием в поэтике этой жанровой группы (или метажанра) устойчивых эстетических кодов, непременно передающихся от произведения к произведению, предполагающих «текстуальную компетенцию» (Moffet, 2000) как составную часть литературного трансфера.
105 Ср. также у А. Нидерста: «жанр этот, конечно, умер в современной поэзии (после А. Самена, Анри де Ренье и Поля Валери) - но и другие жанры тоже умерли. Пишут ли сегодня элегии или эпопеи? Но как эпическое и элегическое существуют в романе, преображенное буколическое питает книги Жионо, Паньоля, Колет. а наше общество, урбанизировавшее и самое деревню, обращается к пасторали с той же ностальгией и особенно с тем же беспокойством, которое порождают загадочные явления» (Niderst, 1991, 198).
125
Если обратиться к существующим сегодня определениям понятия «литературный трансфер» (в той или иной степени отличающимся друг от друга), то наиболее полным и удачным представляется определение его как «динамического процесса, посредством которого индивид использует уже полученное знание, чтобы интегрировать его в новое знание или новое умение, или для того, чтобы в новом контексте разрешить некую проблему» (Mofïet, 2000). Последний случай - «возможность в новом контексте разрешить некую проблему», кажется как нельзя более подходящим для определения функции пасторали, о чем далее будет сказано более подробно. Удо Шённинг (Schoning, 2003) выделяет четыре основных типа трансфера: 1 ) трансфер между культурами, удаленными друг от друга в пространстве (напр., рецепция южноамериканского романа во Франции в первой трети XX в.; 2) трансфер между культурами, разделенными временем (например, рецепция романа Кретьена де Труа во Франции в XIX-XX веках; 3) трансфер между культурами, отделенными друг от друга и во времени и в пространстве (рецепция эпоса о Гильгамеше во Франции XIX-XX вв.); 4) непрямой трансфер между культурами через трансфер в другом культурном пространстве (напр., переводы английских романов XVIII в. в Германии, сделанные с французских переводов этих романов). Все эти виды трансфера опять-таки представлены в пасторалях рубежа XIX-XX вв. Ведь именно в этот период мы наблюдаем участие в создании «поля» пасторальной образности как разнообразных литературных течений и писателей различных стран, так и разных форм искусств - живописи, музыки, театра. При этом среди античных образцов жанра наиболее популярным оказывается роман Лонга «Дафнис и Хлоя», а среди нововременных пасторалей живописные и литературные пасторали XVIII столетия - рокайльные и сентименталистские. Литература символизма выступает в своего рода авангарде неопасторального бума в названную эпоху.
Известно, что символизм был общеевропейским или даже общемировым явлением, поэтому охватить все явления символизма, связанные с трансфером пасторальной традиции, невозможно в рамках одной статьи. Конкретно речь пойдет о двух произведениях европейских писателей символистов: об «андалузской элегии» испанца Хуана Рамона Хименеса «Платеро и я» (1914) и о «Пасторальной симфонии» Андре Жида (1919).
126
Сравнение испанского и французского автора, живших в одну эпоху и вбиравших в себя и выражавших близкие художественные тенденции, кажется вполне естественным. Оба писателя лауреаты Нобелевской премии (А. Жид, 1947, X. Р. Хименес, 1956), оба - чрезвычайно высоко оцениваются читателями. Причем, любопытно, что при всем разнообразии творчества того и другого, названные произведения занимают в их наследии особое место. Неслучайно Ортега-и-Гассет в эссе «Наброски праздного лета» (1925) называет X. Р. Хименеса «великим» именно в связи с «Платеро», называя его «чудесной книгой, одновременно простой и утонченной, непритязательной и нездешней» (Ортега-и-Гассет, 2000, 104): именно она принесла испанскому писателю мировую славу. Что же касается «Пасторальной симфонии» А. Жида, то необычайный успех этого произведения, возникший еще при первой публикации и сохранившийся до сегодняшнего дня, ставит его в особое положение популярного шедевра106 в наследии французского писателя. Между рассматриваемыми произведениями есть много и формальных схождений: малая повествовательная форма, фрагментарность, повествование от первого лица, «сельский» идиллический хронотоп. Сопоставление этих произведений поможет, как представляется, увидеть динамическое взаимодействие жанровых форм внутри пасторального метажанра.
«Платеро и я» - книга прозы известного поэта и уже потому, вероятно, она столь органично сплавляет в себе поэтическое и прозаическое начала. Но можно увидеть здесь и «превращенный» прозиметрум, столь характерный для классических пасторальных романов: только прозаические и стихотворные фрагменты здесь не сменяют друг друга, а проникают друг в друга, образуя своего рода стихотворения в прозе. Чаще всего «андалузскую элегию» (как гласит авторский подзаголовок) X. Р. Хименеса литературоведы определяют как лирическую повесть, цикл лирических зарисовок, говорят о специфике элегического настроения повести, рассматривают поэтическую, почти сказочную историю ослика Платеро (серебристый) и его хозяина с точки зрения словесной живописности, лиричности и т. п. Однако в ракурсе поставленной проблемы хотелось бы обратить внимание на иное.
106 Как известно, далеко не все сочинения, признаваемые литературными шедеврами, не только доступны широкому читателю, но и востребованы им.
127
Прежде всего, если исходить из жанровых определений классической поры пасторали, перед нами - прозаическая эклога, то есть рассказ о красоте деревенской природы, самого уклада жизни в деревне, ее мира и т. п. изнутри этого мира"’7. Слитность рассказчика с окружающей его средой - природной, животной, с миром детей, цыган, крестьян - многократно выражена в лирических фрагментах произведения, иногда - прямо: «И вдруг <я> ощутил под собой Пла- теро - позабытого, словно он был моим телом» (Хименес, 1981, 16), иногда - более сложно метафорически: ср. о сосне - «Вспомню ее - и вновь наполнюсь силой, передохнув в тени воспоминания. Она единственное, что не перестало быть большим, пока я рос, и стало только больше. Когда ей обрубили ветку, надломленную ураганом, я словно лишился руки, и часто, настигнутый нежданной болью, я думаю - это больно сосне» (Хименес, 1981, 30). Но и жанровые вкрапления идиллии тоже можно обнаружить в произведении, состоящем из озаглавленных фрагментов (среди них - «Апрельская идиллия», «Ноябрьская идиллия»), однако идиллическое здесь, прежде всего, выступает как обозначение особого - умиротворенного, безмятежного или мягко печального - настроения.
«Описывая пейзаж - поля, луга, апельсиновые и миндальные рощи, гранатовые деревья, прибрежный песок, море и небо - Хуан Рамон Хименес ничего не придумывает: это его родная природа... »,- полагает Г. В. Степанов (1981, 120). Примерно о том же пишет В. А. Сагалова: «Будничная, захолустная Андалузия открывается ему (автору. - Н. /7.) в своей деятельной естественной сути» (Сагалова, 1997, 795). Но если пейзажи «Платеро» и не выдуманы, то совершенно очевидно поэтически преображены, расцвечены воображением («Был апрельский вечер. Его прозрачность, золотая на закате, стала серебряной и светилась ровно и стеклянно» - Хименес, 1981, 16; «Припав к земле, он подставил руку под живую струю и вода возводит на ладони зыбкий прохладный дворец, отраженный в *
107 Ср.: «В эклоге рисуют разговор пастухов между собой, они рассказывают о своих приключениях, невзгодах и удовольствиях и сравнивают невинность и нежность своего существования со страстями и заботами нашего. В идиллии, напротив, .мы сравниваем беспокойство и заботы нашей жизни со спокойствием пастушества и тиранию наших страстей с простотой их нравов» (Mallet, 1745,1, ПО). Разумеется, речь идет не о строгом соответствии классическому образцу, но о повествовательно- стилевой модальности как результате работы жанрового трансфера.
128
черных, восторженных глазах» - Хименес, 1981, 36). И вес же следует обратить внимание на действительное точное замечание о «за- холустности Андалузии»: объект поэтизации, как и ее механизм в точности совпадает с тем, что совершают создатели мифа об Аркадии: одна из самых захолустных и бедных греческих провинций становится - впервые в «Буколиках» Вергилия - поэтическим краем обитания влюбленных пастухов. Однако произведение вбирает в себя и более позднюю традицию воссоздания аркадийского мифа, путем культурного трансфера превращающего в locus amoenus не удаленную во времени и пространстве древнегреческую Аркадию, а родной край, с которым писатель к тому же связан автобиографически108.
Говоря о рассказчике этого произведения (повествование ведется от первого лица), литературоведы говорят обычно «автор», «хозяин ослика», никак не дифференцируя «автора» как реального создателя этого текста, и «автора-рассказчика», который, думается, не совпадает целиком с самим Хименесом (и при том, что однажды назван его собственным именем - Хуан, и при всей необычайной поэтичности и лиричности его взгляда на окружающий мир), но скорее связан с образом той девушки, к которой обращен эпиграф: «Памяти Агедильи, бедной дурочки с улицы Солнца, той, что дарила мне груши и гвоздики» (Хименес, 1981, 5). Сам «автор- рассказчик», как прямо сказано в одной из подглавок, «Помешанный» («кудлатые цыганята, смугло блестя из желтых, зеленых, красных лохмотьев тугими животами, долго вопят, догоняя нас: «Помешанный, помешанный!» и далее: «Спятил, спятил, спятил!» - Хименес, 1981, 9). Рассказчик ведет разговоры с осликом, играет с ним как дитя, его самого окружают то дети, то деревенские дурачки, то животные, и он ощущает с ними неизменную органическую связанность. В этой поэтизации - не мудрого безумия на сервантесовский манер, а своего рода «идиотизма», некоего юродства, библейской «нищеты духа» - проявляется, как кажется, не только ориентация Хименеса на романтическую109, но еще далее - на
108 См. об этом переносе «пасторального места» в родные края, произошедшем в эпоху позднего Ренессанса и утвердившемся в Новое время (Lavocat, 2003).
109 Можно вспомнить, например, стихотворение У. Вордсворта «Слабоумный мальчик».
129
руссоистскую сентименталистскую пасторальную традицию с ее стремлением придать ценность простоте, наивности, сердечности в противовес уму и интеллектуализму.
В этом смысле сходную, но и другую ситуацию мы обнаруживаем в «Пасторальной симфонии» (1919) А. Жида, которую определяют почти так же - поэтическая повесть, лирическая повесть. Создание «Пасторальной симфонии» - своего рода интермедия в творчестве писателя, не только возвращение к старому замыслу (наброску 1897 года под названием «Слепая»), но и проявление одной из сторон его двойственности, которую отмечают специалисты: «стремление к простоте и ясности стиля, жизнеподобию образов и ситуаций соседствует в его творчестве с абстрактностью, схематизмом и условностью..., а проповедь самого циничного аморализма уживается с поисками незыблемых нравственных ценностей» (Ржевская, 1994, 230).
Сам А. Жид (правда, позднее написания повести) подчеркивал в ней ироническую составляющую: «Все мои книги ироничны. «Пасторальная симфония» - это критика определенной формы лжи человека самому себе». Часто подчеркивают роль именно рассказчика - пастора в системе образов произведения, видят в «Пасторальной симфонии» «оправдательную эмфатическую исповедь» (Goulet. 1988, 42). Но тот же А. Гуле прав, говоря, что не следует отождествлять автора с его персонажем-пастором, в котором есть изрядная доля фарисейства. Однако в данном случае важно подчеркнуть не столько расхождение между автором и его героем, сколько между персонажем-рассказчиком и пасторальным миром, в котором он как будто и обитает (не только географически, но и культурногенетически, поскольку пастораль имеет не только языческие, античные, но и библейские корни (см.: Синило, 2002) и которому, как обнаруживается, чужд.
Традиционный пасторальный топос - locus amoenus - довольно часто не совпадает с реальным пейзажем конкретных произведений, хотя этот вопрос еще требует более подробного изучения. Хотя принято связывать с пасторалью весенне-летние картины природы, как кажется, доминанта снежного пейзажа в «Пасторальной симфонии» не отторгает это произведение от пасторальной традиции: мы обнаруживаем снежный зимний пейзаж уже в «Дафнисе и Хлое». Символическая белизна снега, круговорот времен года со-
130
относятся с этапами раскрытия душевного мира Гертруды. Появление героини предваряется описанием заката на торфяниках, убогой хижины, сурового пейзажа. Гертруда, точнее, безымянная слепая девушка описывается впервые как «идиотка», которая не умеет говорить и ничего не понимает, когда к ней обращаются. «Черты лица ее были правильны и довольно красивы, но... совершенно лишены воображения» (Хименес, 1981, 112), - описывает рассказчик свое первое впечатление от еще безымянной Гертруды, отмечая далее «безличное, тупое выражение се лица или, вернее, его абсолютную невыразительность...» (Хименес, 1981, 117). Разумеется, и в этом «идиотизме» есть своего рода святость, а слепота Гертруды - это библейская слепота безгрешного существа: еще один из первых рецензентов «Пасторальной симфонии» П. Судэ, в газете «Ле Тан» цитировал по этому поводу соответствующее место из Четвертого Евангелия (Souday, 1979, 91-96). Однако, чтобы обрести статус «естественной натуры», наивной, чистой и поэтической, Гертруде необходимо установить связи с внешним миром, другими людьми, получить воспитание.
Это руссоистское воспитание дает героине рассказчик-пастор, исходящий из идеи о доброте человеческой природы («душа человека гораздо легче и охотнее рисует себе красоту, приволье и гармонию, чем беспорядок и грех» - Хименес, 1981, 119): он открывает слепой девушке красоту природы и гармонию звуков, свидетельствующих о величии Бога. Читатель погружен в целую серию «свернутых» и натурализованных экфрасисов, столь характерных для пасторалисти- ки (см. об этом: Хадынская, 2004): «я ей объяснил, что слышимые ею голоса исходят из живых существ...», «...я впервые сообразил, что чем более животное связано с землей, тем оно грузнее и печальнее.. .я говорил ей о белке и ее играх», «я стал описывать пеструю расцветку мотыльков» (Хименес, 1981, 123), «я начал с перечисления цветов спектра в том порядке, в каком их нам показывает радуга» (Хименес, 1981, 124) и т. п. Гертруда живет в мире звуков, как хозяин Платеро - прежде всего в мире красок, так что и цвета, формы предметов она постигает через звуковые, музыкальные аналогии. Преображение Гертруды («Вдруг все черты ее одухотворились; это было внезапное озарение, напоминавшее пурпуровое свечение высоких Альп, от которого еще до зари начинает трепетать снеговая вершина, тем самым
131
уже замеченная и выхваченная из мрака» Хименес, 19X1, 121), как догадывается и сам пастор, происходит также руссоистским путем пробуждения не разума, а чувства.
В то же время в отличие от слиянности рассказчика и его ослика в элегии Хименеса, здесь (что, как говорилось, характерно для жанра эклоги) взгляд рассказчика на Гертруду - это сочувственный и одновременно покровительственный взгляд со стороны, между ними сохраняется то различие, какое существует между учителем и ученицей, знанием - и незнанием, пониманием - непониманием, которые, впрочем, в конце концов, меняются местами. При этом герои «Пасторальной симфонии» пребывают в одном пасторальном (альпийском) пространстве и на образе пастора даже лежит отсвет традиционного персонажа пасторалей - старого, мудрого пастуха. Однако герою не удается вжиться в эту роль, предполагающую пребывание вне страсти, а чувствительность девушки, которую он поначалу оценивал столь высоко, награждается эпитетом «излишняя», когда пастор пытается воспрепятствовать любви своего сына и Гертруды.
В обоих произведениях царит меланхолическое настроение, которое в повести Жида не устраняет даже внутренняя ирония, и немаловажное место занимает тема смерти, вполне привычная для пасторали, как это не покажется странным. В «элегии» Хименеса в конце концов умирает ослик Платеро, в «Пасторальной симфонии»- Гертруда; однако то, что у испанского писателя воссоздано как грустное, но и естественное событие, природный закон, у французского описано иначе: болезнь и смерть Гертруды - следствие ее попытки самоубийства, а сама эта попытка - результат символического и буквального прозрения, осознания и греховности любви к женатому пастору, и любовного заблуждения (когда слепая Гертруда воображала пастора с лицом Жака). И в том, и в другом случае очевидно, что стержневая оппозиция пасторали - оппозиция природы и культуры- решается в пользу природы, а олицетворением природного, его чистоты и гармонии оказывается пасторальная модальность.
Пасторальная традиция, особенно важная для этих символистских произведений, - несомненно, сентименталистская. Не менее чем X. Р. Хименес, А. Жид - т. е. оба отвечают той потребности в идеале безыскусности, в неподдельно искренней интонации, в «не
132
лжи», в том числе и самим себе, которую выражал несколько ранее, в 1906 г., X. Ортега-и-Гассет в эссе «Новая старая поэзия»: «В то время, как Испания скрипит зубами от боли, едва ли не все они безмятежно увиваются за нынешними французскими декадентами и силятся плитами испанской речи выложить версальские фонтанчики, подделать тенистые пасторали в духе Ватто» (Ортега-и-Гассет, 2000, 25). В отличие от французской и испанской поэзии символизма, отнюдь не чуждой искусной рокайльной игре, символистская проза посредством вбирания и трансформации пасторальной традиции обращается к «простой нежности» (Т. Косткевич) сентиментализма.
Другие формы возрождения пасторали, как кажется, развиваются в русской литературе символизма, особенно в той ее части, что связана с «Миром искусства»: там очевидно преобладает установка на рокайльную пасторальную традицию, когда пастораль выступает синонимом и воплощением драгоценного мира культуры, гибель которого остро и драматически предощущают русские художники рубежа веков.
Пруст и Мариво
Отмечая новаторство Пруста, исследователи не проходят и мимо тех связей с классической традицией, которые можно обнаружить в манере автора романа «В поисках утраченного времени» - прежде всего, с традицией мемуарно-автобиографической. Здесь всплывают имена Монтеня и Паскаля (Ревель, 1995, 129, sqq.), Сен-Симона и Руссо, Гете и Шатобриана (подробнее см.: Rogers, 1965) и, как ни удивительно, даже как будто далекого от какого-либо «прустианства» Рабле (Bon, 1992/93), или Бальзака, антагонистом которого обычно слывет Пруст110. Однако в исследованиях о Прусте мы не находим той настойчивой, постоянной параллели между ним и Мариво, которая стала почти банальной в работах о творчестве романиста XVIII в (см., например: Stewart, 1969, 248; Arland, 1979, XLIX; Proust, 1980, 53). В то же время и в этих работах, к сожалению, сопоставление Мариво и Пруста практически всегда только констатируется, а не изучается во всех подробностях. Между тем такое изучение представляется весьма важным, ибо оно закладывает основы для исследования более сложного и более широкого явления - своеобразного социокультурного параллелизма эпох рубежа XVI1-XV1II вв. и XIX- XX столетий, определенного сходства ситуаций литературного перехода и начала. Есть несомненная закономерность в том, что после довольно долгого периода забвения автора многочисленных комедий, эссе, повестей, романов именно в 80-е гг. XIX в. начинается процесс «возвращения Мариво» (Fleury, 1881,3). Этому способствует, как считает Ж. Флери, растущий интерес к скрупулезному, «микроскопическому» изучению движений человеческого сердца. Однако кажется, что читательская аудитория конца XIX - начала XX вв. стала иначе оценивать в Мариво те качества его повествовательной манеры, которые современники писателя подвергали осмеянию. В 1730-е гг. мариводаж (как издавна стали именовать стиль пове-
1,0 Ср.: «Пруст не борется с Бальзаком, он стремится превзойти его, повести роман дальше» и т. д. (Painter, 1959).
134
ствования Мариво - романиста и драматурга) означал прежде всего манерное многословие, переизбыток в речи мелких, не относящихся к делу подробностей, просто болтовню. Полемика Кребийона-сына и Мариво достаточно хорошо известна, как известно и карикатурнопародийное воссоздание манеры автора «Жизни Марианны» в нескончаемых рассуждениях-отступлениях феи Мусташ в «японской истории Кребийона «Танзаи и Неадарне» (см. об этом: Разумовская, 1981, глава шестая «Мариво и Кребийон в 1730-х годах. Спор о романе»). Не менее знаменито также саркастическое замечание Вольтера о привычке Мариво-повествователя «взвешивать муравьиные яйца на весах из паутинки»: все это свидетельствует о том, что мариводаж - скорее раздражающий111, чем высоко ценимый XVIII столетием компонент стиля Мариво, и доброжелательное внимание к этому феномену Ж. Флери и его современников - не столько «возвращение», сколько открытие эстетических достоинств мариводажа.
Разумеется, противники манеры Мариво есть и среди современной читательской аудитории, однако общая литературная ситуация скорее благоприятна для нее. А. Д. Михайлов, констатируя в предисловии к русскому изданию «Жизни Марианны», что современные писателю критики понимали под мариводажем «язык салонной болтовни, утонченных перифраз, затейливых иносказаний» (Михайлов, 1999, 22), закрепляет за этим понятием как за современным литературоведческим термином иной, вполне позитивный смысл утонченной и усложненной манеры словесного выражения чувств: это - «изящество и интимность, известная манерность, легкость и лиризм сюжета, образность языка, многозначность слов и выражений» (КЛЭ, 4, 612). В современный французский язык вошел глагол «marivauder», который сегодня не несет никакого негативного значения, а лишь окрашен легкой иронией: «мариводировать» значит «вести беседы о нежной и изысканной галантности» (Robert, 1994, 700) в духе Мариво. Полузабытый некогда писатель XVIII в. привлек к себе внимание «новых романистов», «новых критиков»: так, Р. Барт высоко оценил язык комедий Мариво, видя в нем единственного предшественника А. Адамова, поскольку «он также построил
111 Ср., например, один из самых хрестоматийных отзывов - отзыв Лагарпа: «Он (Мариво. - Н. П.) обладает прискорбной слабостью топить в длинной болтовне то, что можно было бы сказать в двух строчках!..» (La Harpe, 1799, 7).
135
весь свой театр на свободном самовоспроизводстве языковых ситуаций» (Барт, 1996, 133).
Очевидно, что мариводаж с течением времени не только переоценивается. но и меняет содержание: если в «допрустианский» период, у Ж. Флери, он представляет собой еще некий набор конкретных стилистических приемов (Fleury; 1881, 281), то Ф. Дслоффр определяет мариводаж уже как целостно-системный, общий повествовательный принцип: это словесная игра, но игра всерьез, искусство тончайшей психологической нюансировки, включающее определенную систему стилистических приемов, но не сводимую к ним (Deloffre, 1971, 8). Впрочем, на эту эволюцию понятия уже обращали внимание литературоведы112, как указывали и на то. что Мариво, особенно Мариво-прозаик, сдержанно благосклонно либо критически ценимый современниками (см.: Разумовская, 1981, 32-35), все чаще стал восприниматься в XX веке как «один из самых глубоких, самых сложных и порой даже революционных авторов» (Spacagna, 1978, 1 ).
Думается, в меньшей степени осмыслены причины такой переоценки, а она, вероятно, не в последнюю очередь связана с тем, что наш век читает романы Мариво, когда уже написана «В поисках утраченного времени» (1913-1927) - не просто «субъективная эпопея» или «эпос субъективности», как эту книгу обычно определяют, но еще и «автография», замещающая «историю жизни временем письма» (Подорога, 1995, 332). Расширение читательского опыта существенно меняет оценку ранних романных сочинений Мариво, важных в перспективе становления «мариводажа»: «Удивительных действий симпатии» (1711-1712), «Фарсамона» (1712-1713), «Кареты, увязшей в грязи» (1713). Исследователи открывают в этих сочинениях за, как будто вторичными, сюжетными ситуациями экспериментальное жанровое начало (см., например: Williams, 1979, 140), поиск новой повествовательной манеры, формирование особого, прихотливоиронического стиля рассказывания внешне традиционных романических историй. Но главное - в литературной ситуации «после Пруста» возможно, даже в высшей степени естественно прочесть лучшее произведение писателя, «Жизнь Марианны» (1731-1741), не просто как психологический роман или сочинение, «только нащупывающее
112 Историю становления и изучения мариводажа см.: Terrase. 1986, 10-13.
136
форму нового романа», в котором «частые отклонения от темы помогают < ... > полнее объяснить свои взгляды» (Разумовская, 1981, 100), а как роман-дискурс113, темой какового и являются как раз сами рефлективные «отклонения».
Такое прочтение не должно отождествляться с «вчитыванием» в произведение отдаленной эпохи некоторых современных поэтологических черт - наподобие того, как «новая романистка» Н. Сар- рот в свое время нашла в произведении Мариво «роман, полный тро- ггизмов» (см.: Rousset, 1981, 115)114. Литературоведческий анализ, в отличие от так называемой писательской критики, ищет в произведении не созвучий со своими собственными творческими принципами, а скорее резонанса с меняющимся историко-культурным климатом, с литературной традицией в ее эволюции и перспективе.
Расширение этой перспективы, изучение романного творчества Мариво нс только и не столько с точки зрения последующего становления классической формы реалистического романа XIX столетия, а в более широком и разнообразном контексте жанровых новаций XX века, с учетом опыта романной прозы модернизма позволило заметить в тексте «Жизни Марианны» то, что ранее либо рассматривалось как художественный просчет, либо не замечалось - его «гиперлитературность», нацеленность не на связанность и законченность внешней истории персонажа (история - причем дважды, в рассказе Марианны и в рассказе монахини Тервир - как раз нарочито фрагментарна и обрывается «на самом интересном месте»), а на раскрытие рефлективных возможностей повествования от первого лица115 . Опыт читательского знакомства с Прустом помог понять, что наиболее значительное прозаическое сочинение Мариво - это, подобно «Поискам», «роман как нечто, имеющее какое-то содержание, и в то же время роман о средствах понимания этого содержания...» (Мамардашвили, 1992, 157). Можно добавить:
«Роман-дискурс» - определение, которое дает «Жизни Марианны» Г. Бенре- касса (Benrekassa, 1985, 23). В данном случае «дискурс» понимается как особый тип текста-высказывания, как «текст, содержащий рассуждение, то есть текст, в котором фиксируется некоторый «ход мысли» (Ишмуратов, 1994, 171).
114 Причем 1-І. Саррот и другие «новые романисты», как известно, ощущали свое совпадение и с манерой Пруста (см. об этом: Андреев, 1968, 4-5).
115 Именно в этом отношении В. Милн считает Мариво наиболее явным предшественником Пруста (Mylne, 1965, 108).
137
добно персонажам Пруста, «изменяется, не меняясь» (Ревель, 1995, 44), она как бы возвращается к самой себе, пережив свои приключения. «Самоидентификация», ставшая подлинным, глубинным сюжетом «Жизни Марианны» (Rossbottom, 1974, 52), включает в себя, в отличие от плутовского сюжета, не столько процесс выживания в обществе или выяснения собственного происхождения (оно, кстати, так и остается тайной для читателя), сколько прежде всего сам процесс мысли. Ведь и для автора романа его персонаж - в первую очередь «женщина, которая мыслит», о чем он пишет в предисловии ко второй книге. Изумляясь смелому новаторству Мариво, Л. Шпит- цер восклицал по этому поводу: «Женщина, которая мыслит» - тогда как, от Микеланджело до Родена, Мыслитель - всегда мужчина!» (Spitzer, 1953, 110). Именно свободные, легко возникающие по разным поводам размышления героини, демонстрирующие «союз чувствительности и остроумия» (Deloffire, 1971, 449), сообщают повествовательному пространству его, условно говоря, «прус- тианские» качества - прихотливо-хаотическую повествовательную структуру и замедленный темп сюжетного развития. Но не менее важно и то, что письма Марианны - это воспоминания о начале жизни, о молодости, создаваемые в покое и в уединении дамой, по популярной формуле той эпохи, «удалившейся от света». Отождествление рассказа Марианны с исповедью, определение книги Мариво как исповедально-биографического романа (Забабурова, 1992, 52), думается, не вполне точно характеризует ни кокетливо-ироническую интонацию повествования (ведь «жанр исповеди - определяющий жанр на переломе... в момент трагически переживаемого настоящего» - Рабинович, 1991,298), ни позицию сочувственного наблюдения за собой в молодости, которую занимает Марианна-рассказчица119.
Жанровая интерференция эпистолярного и мемуарного принципов, также далеко не всегда принимаемая во внимание исследователями, создает почву для сложных хронологических напластований. При этом временные пласты (время «письма» самого Мариво; время «письма Марианны»; время чтения подругой ее писем; время событий, рассказываемых Марианной - см. Didier, 1987, 35) так же 114 * *
114 См. у Ю. Хабермаса о том, что даже оправдательные исповеди являются «не
наблюдениями над собой, но заинтересованными репрезентациями» (Хабермас.
1991,200).
139
интерферируют друг с другом, как и различные повествовательные уровни или регистры12” , создавая в конце концов эффект «trompe- Гоеіі», когда фактическое, иногда весьма точно указанное время существенно расходится с временем психологическим, заставляя рассказчицу восклицать: «Сколько я перестрадала за полчаса!» (Marivaux, 1877,1, 21). Подобная интерференция, не повторяясь буквально, выразительно отзовется позднее в повествовании Пруста, где «прошлые впечатления, накладываясь и сочленяясь с нынешними, затухают одновременно в нескольких временах» (Делёз, 1999, 45).
И фактическое и особенно психологическое время у Мариво детализированы хотя и не так дробно, как это будет у Стерна, но достаточно тщательно, чтобы повествование в романе так и не добралось до обещанных в заглавии «приключений графини де***». Иногда исследователи склонны видеть здесь лишь свидетельство художественного просчета писателя XVIII века: переключение временных пластов, полагает один из них (Proust, 1980, 50), прикрывает отсутствие в персонаже эволюции, повторы усиливают впечатление топтания действия на месте. Однако можно вспомнить, что по Лейбницу процесс рефлектирования и есть «топтание на месте» по отношению к внешней динамике. Размышления-воспоминания героини Мариво демонстрируют схожий с прустовским авторский «особый дар многократно пересказывать одно и то же, никогда не повторяясь» (Ревель, 1995, 22). При этом Марианна не только следует за свободным течением своих мыслей. Она отбирает для описания наиболее важные в ее глазах эпизоды своей жизни, то пропуская целые годы, то сосредотачиваясь на детальном воссоздании какого-то мгновения, момента, впечатления. Так, подробное воссоздание сцены прощания с кюре сменяется краткой историей переезда в Париж, точнее - констатацией этого переезда: «Итак, мы - сестра кюре и я - отправились в путь; вот мы и в Париже» (Marivaux, 1877, I, 6). И хотя этот отбор так схож с «микроскопическим» описанием Пруста - единство повествовательного климата у которого «обладает некоторыми точками концентрации» (Женетт, 1998, II, 45), - за 120
120 Ж. Фабр выделял внешне-событийный, внутренне-эмоциональный и «мимический» уровни (Fabre, 1979, 190); Ж. Руссе говорил о «двойном» повествовательном регистре - истории Марианны в молодости и истории зрелой Марианны- рассказчицы (Rousset, 1962).
140
пределами текста Мариво остается детство героини - быть может, самый значительный объект воспоминаний в «Поисках утраченного времени». Искусство Мариво - в умении рисовать человека в критические моменты его жизни (Rossbottom, 1974,225). Потому действие «Жизни Марианны» - его событийный слой - так фрагментарно: эпизод младенчества имеет целью передать романтическую легенду происхождения героини, а «мелочи раннего возраста скучны» (Marivaux, 1877, I, 6). К тому же в воспоминаниях «сердца и ума» героини романа рококо нет той «памяти боков, колен, плеч», воспоминаний о запахе кекса «мадлен» и пр., что тянет за собой ворох других ассоциаций в романе Пруста. Память героини Мариво «цепляется» не за предметы, а скорее за ситуации, положения, суждения («Иногда мелькает мысль о Вальвиле, но я тут же говорю себе, что теперь нечего и думать о нем: положение совсем не благоприятное для сердечной склонности» - (Marivaux, 1877,1, 71 ). И в то же время «Жизнь Марианны», как и «Поиски», оставляет ощущение сплошного потока повествования, разграниченного лишь частями-письмами, но внутри каждого письма, как в пространстве непосредственного рефлектирования, «нет «зазоров» между предметами, нет никакого «пространства», где могла бы существовать рефлексия как что-то отдельное от предметов» (Яковлев, 1990, 94).
Сплошное и фрагментарное одновременно, органическое пространство повествования в романе рококо естественно вызывает у современных читателей ассоциацию с близком А. Бергсону «модернизированным импрессионизмом» (Л. Г. Андреев) Пруста и шире - с художественным приемом «потока сознания», столь характерным для модернистской прозы XX столетия.
Но закономерность такой ассоциации не означает ни того, что Мариво «породил» Пруста, ни того, что, как полагает Ж. Руссе, с Мариво XVIII век вступил на тот же путь, по которому следует затем и XX столетие (Rousset, 1986, 103). Литература каждого этапа, думается, всякий раз оказывается на перепутье и в известной степени начинает сначала. Тем более это касается века XX. Пристальнее вглядевшись в сопоставляемые романы, мы легко обнаружим важные, обусловленные не только различием художественных индивидуальностей Мариво и Пруста, но и общим социокультурным контекстом, расхождения. И главное из них выражено в популярном
141
определении мариводажа как «новой прециозности» (ср. название уже упоминавшейся работы Ф. Делоффра - «Новая прециозносіь. Мариво и мариводаж»). Конечно, прихотливость, «капризное іь» хода размышлений героини Мариво лишь метафорически можеі быть названа прециозностью, ибо, как уже приходилось писать, «в романе происходит четкая переакцентуация стилистических феноменов классической прециозности: не вычурная перифрастичность, тяжеловесность периодов, торжественная неторопливость литературного «изложения», а поиски интонационно-стилевой легкости, психологизация стиля, придание книжному повествованию облика свободной беседы с бесконечными ассоциативными «отвлечениями» от последовательного изложения событий характеризуют мариводаж» (Пахсарьян, 1996, 142). К тому же прециозность выступает у М. де Скюдери и ее круга как идеал поведения и речи, основывается на рационально-логическом предписывании утонченной цивилизованности, тогда как для Мариво изящно-прихотливая манера мыслить и говорить - естественное свойство женской речи, ее «природное» поведение. Автор «Жизни Марианны» недаром меняет степень и форму мариводажа в романе, где повествователь - мужчина Жакоб («Удачливый крестьянин», 1734-1735). Романист стремится непременно соотносить манеру рассказывания с характером персонажа, придуманного им самим. Как писателя рококо и в определенном аспекте действительно наследника прециозности (своего рода «феминистического движения» XVII столетия121) Мариво интересует возможность художественного воссоздания особенностей именно женской писхологии - проблема, так мало привлекающая Пруста, что, как известно, одному из самых знаменитых женских образов его романа - Альбертине - ничуть не мешает то обстоятельство, что в качестве ее прототипа всеми специалистами признается мужчина. Более того, Пруст, по общему мнению исследователей, в гораздо меньшей степени хочет воссоздать тот или иной характер, чем нарисовать «все в сознании», прежде всего в сознании чрезвычайно близкого автору и психологически и просто биографически героя-повествователя. Как точно заметила Л. Я. Гинзбург, «бесконечно длящийся лирический
121 Из многочисленной литературы по этому вопросу назову в качестве примера лишь одну: Morlet-Chantalat, 1994.
142
и исследовательский монолог «Поисков» принадлежит рассказчику, но воспринимается нами как авторский» (Гинзбург, 1979,192)122. Мариво же с наслаждением играет в созданный им женский персонаж, черпая историю жизни Марианны не только и нс столько из своего субъективного опыта (хотя можно вспомнить, как это делают иногда, что мать Мариво носила имя Мари-Анна), сколько из разнообразных и житейских, и книжных «романических» источников (вспомним, что у имени героини есть и литературные предшественники - например, «Португальские письма» Гийерага). В результате произведение писателя становится если и не «оперой для женских голосов», как называет его Б. Дидье (Didier, 1987, 58), то во всяком случае «женской арией», где сознание автора стилизует себя под другое (точнее, в духе поэтики рококо под «то же, но - другое», см.: Рое, 1987, 129) сознание. И образ героини Мариво - совсем не «портрет художника в молодости», каковым можно счесть произведение Пруста.
Роман «В поисках утраченного времени» «не мог не быть размышлением о литературе» (Adam, Lerminier, Morot-Sir, 1972,1, 198) уже постольку, поскольку само «припоминание, по Прусту, сродни художественному творчеству» (Андреев, 1996, 118). Мариво же заставляет свою героиню подчеркивать противоположное: она - «не философ» и не писатель, она «не пишет роман», более того - вообще не пишет, а как бы фиксирует на бумаге свою устную беседу с подругой (Marivaux, 1877, I, 18). Конечно, замысел и результат у героини здесь в определенной степени расходятся: она не просто рассказывает, но «невольно» имеет в виду будущее возможное превращение своей истории в книгу (Marivaux, 1877, I, 29). Однако пафос писательского творчества Марианне, в отличие от прустовского повествователя, остается чужд: если героиня Мариво рассказывает в свободной манере воспоминаний свою жизнь, обнаруживая время от времени, что она жила в романе, ибо «романическое» - неустранимый, естественный элемент психологического переживания, форма инте- риоризации внешних событий, то персонаж Пруста, подобно самому автору, большей частью живет романом-воспоминанием, чтением и записыванием своего «внутреннего романа». Не лишено основания,
122 Ср. также у Ж.-Ф. Ревеля: «Да простят мне прустологи, я не делаю различия между «Прустом» и «Повествователем»» (1995, 29).
143
хотя явно утрировано для вящего эффекта, утверждение В. Подо- роги, что с того момента, как писатель начинает свой роман, «І Ipyci мертв, живо только письмо» (Подорога, 1995, 225). И дело здесь не только в том, что автор оставляет ради своего сочинения все свеч скис занятия. Его произведение «растет как то, что могло бы содержать жизнь существа по имени Пруст, но не родившегося от родителей и не того, которого мы можем встретить в светском салоне, а существа, рождающегося в пространстве самого произведения» (Мамардашвили, 1995, 336). Как ни парадоксально, существо это говорит почти «на языке Марианны» Мариво, и иногда кажется, что даже более виртуозно, чем она сама: в «Поисках» «как бы ничего заранее не продумано, язык рождается вместе с мыслью и чувством, фраза разливается как поток, обрастая сравнениями, перечислениями, сопоставлениями, метафорами...» (Андреев, 1968, 83).
Вполне очевидно, что Мариво - не Пруст. Понятно и то, что он не влиял напрямую на Пруста, не был учителем автора «Поисков». Оригинальность и новаторство Пруста-повествователя неоспоримы. Однако при том, что ни эпохи, ни художественные индивидуальности никогда не повторяют друг друга, они порой удивительным образом резонируют друг с другом, образуя неожиданные и гармонические созвучия.
Эстетические ценности и оценки во французском популярном романе: ДИНАМИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Невысокий эстетический статус романа на разных этапах литературной эволюции неизменно вел его к паралитературной, маргинальной области бытования. Этот жанр не вписывался в классицистическую иерархию, и, быть может, именно поэтому прикладная теория романа XVII в. так стремилась соотнести его с почтенным жанром эпической поэмы. Эту работу по приданию «почтенности» роману продолжил и век Просвещения - с одной стороны, трансформируя концепцию романа как эпоса (делая акцент на комическом варианте эпического), с другой - отказываясь от жанрового определения «роман», стилизуя себя под нехудожественные, но как бы естественно правдивые жанры мемуаров или писем. Не так просто протекала легитимация романа даже в классическую эпоху для этого жанра - в XIX столетии. По наблюдению Франсуазы Мело- нио, в течение всей первой половины XIX века «литературное поле было по-прежнему организовано вокруг Французской Академии и почтенных жанров - ораторских, поэтических, исторических» (Mélonio, 1999, 29). Усилия установить высокий литературный статус романа как жанра наталкивались на неизменно ироническое отношение большинства критиков к сфере социального (с которой так или иначе был связан жанр романа123), указание на ее банальность. По существу, так и нс войдя в круг «высокой», элитарной литературы, в эпоху романтизма роман стал вырабатывать внутри себя критерии собственной элитарности и массовости. Именно в поисках критериев этико-эстетической оценки жанра состояла, как кажется, главная функция развернувшихся во Франции в 1830— 1840-е гг. споров о романе-фельетоне, фрагменты которых подробнее будут представлены далее.
|:зКак указывает А. Кюбинлихт-Пру, «роман формируется как жанр, прежде всего становясь модусом социально-исторического знания» (Kubinlichl-Proux. 2001,496).
145
Впрочем, нельзя не прислушаться к мнению американскою исследователя Р. Шефи, полагающего, что эти критерии - дело рук не писателей, а литературных критиков, и называющего неисторичной дихотомию «тривиального» (популярного) и «художественною» (элитарного) романов (терминология связана с тем, что эта дихотомия изучена им на материале Германии), поскольку, как подчеркивает ученый, «гениальную литературу» современные филологи судят по эстетическим критериям, а «популярную» - по социально-экономическим. Практически нет ни одного исследования тривиального романа, где не было бы с га- тистики, но ее нет в исследованиях высокой литературы. «Возникает вопрос: разве не существует социологии «гениальной литературы»? Или априори считается, что ее нельзя создать?» (Shefey, 1992).
Надо сказать, что позиция Шефи - бескомпромиссна и последовательна: он полагает, что социологи литературы пользуются искусственным конструктом «требования публики», «вкус публики», не показав и не определив, что это за требования и вкус, как они устанавливаются, Добавлю от себя: в самом деле, зачастую создается замкнутый круг, когда говорится, что популярные романы удовлетворяют вкус читателей, а этот вкус определяется свойствами тех романов, которые читает большое число людей. Сами же свойства в большой мере изучаются не по жанрово-стилевым (т. е. эстетическим) критериям, а базируются на априорном эстетском антидемократизме. Конечно, обращаясь к эпохе после «восстания масс», т. е. к XX веку, нельзя не увидеть, что понятие «массового» и эстетически, и социально-политически не тождественно понятию «демократического» или даже «народного», но в приложении к XIX веку эти понятия органично связаны, накладываются друг на друга, к тому же массовая литература XIX в. чаще обозначается как «populaire, popular», т. е. - популярная и народная одновременно (см. об этом подробнее: Allen, 1981). Роман, как полагает Н. Вольф, обладает своего рода внутренней демократией (Wolf, 2003). именно поэтому расцвет и широкое распространение романной прозы шло параллельно развитию фундаментальных принципов демократии.
Демократизация культуры происходила постепенно на протяжении всего XIX столетия. «Читающая публика все больше ширилась, периодика множилась, а типографии вступили в эру промышленного производства» (Raulet, 2001,98). Перед лицом нового читателя писателям необходимо было творить в значительной степени иначе, «со-
146
здавать новые жанры, способные понравиться большинству, например, исторический или «черный» романы» (Raulet, 2001,98).
Современные исследователи не сомневаются, что массовая культура родилась в 1830-е гг. на базе романтического «популярного романа», при этом романтизм обозначил одновременно две позиции литературы и писателя в обществе, развивающиеся параллельно: писатель-романтик - это носитель важной миссии, народный пророк, маг (и не только романтик, вообще - писатель, не случайно Вольтера и Руссо переносят в Пантеон в эпоху романтизма) - и писака, живущий литературным трудом (несколько фигур из легиона таких писак изобразил в «Утраченных иллюзиях» Бальзак). На это различие указывал еще Фр. Шлегель «Нынче существуют два совершенно разных типа литературы... у каждой своя публика, каждая настроена против другой» (цит. по: Leguen, 1995, 215). Однако предложенная немецким романтиком контрастная картина последовательного противостояния, как кажется, не соответствует действительности, поскольку по крайней мере в 1830-1840-е гг. во Франции романтическая писательская «элита» и сочинители «второго ряда» часто ощущали себя и оценивались публикой - а порой и критиками - как единое сообщество.
Впрочем, те, кого мы сегодня называем великими писателями, по- разному реагировали на успехи популярных сочинений: Бальзак завидовал славе Фр. Сулье, хотя собственные ранние сочинения отнес к «littérature marchande» (в предисловии к «Арденнскому викарию»), а Гете, например, огорчался, что его «Вертер» так популярен, радуясь, что «Вильгельм Мейстер» интересен только узкому кругу любителей искусства. Ш. Сент-Бев одновременно приветствовал «революцию в искусстве», произведенную романтиками: «это дети, которые превзошли своих отцов и почувствовали пустоту их убеждений. В них родилась новая вера... Они почувствовали важность своей миссии и умственный настрой своей эпохи...» (Sainte-Beuve, 1956, I, 916) - и обрушивался на «промышленную литературу» (Sainte-Beuve, 1839), создаваемую, прежде всего, романтиками.
Критики довольно рано стали различать «правильный» и «неправильный» романтизмы, романтизм «здоровый» и «больной» - неистовый, готический, мелодраматический. Если анонимный автор в заметке 1826 г. в «Глоб» писал: «Слово романтизм существовало, но оно не имело никакого смысла; мы дали ему этот смысл, определив романтизм как свободу размышлять посредством литературы» (цит.
147
no: Scanu. 2004. 8). го Феликс Леме гр обрхшпва чем на скоро ах. проявленную в романтической драматургии, с критикой: и( '\масиіс i nine, бесноватые, галерники, норы, на тіпне женщины. бссчссі ные сия щенники. отравители, палачи, висельники, при «раки, мертвые юловы. кошмар Бисегра на сцене: вот как ссючпя раїїеіекасгся лшерапра. претендующая на изображение современною общества" (I cinaitie I La revue theatrale: prospectus. 1833, a\ril: цит. но Seann. 200-1. 14).
Социологи отмечают небывалое прежде расширение чинить- ской аудитории, «манию чтения"1'4, оборотной стороной которой оказывается, как им кажется, читательская пев маска тельное гь н писательская небрежность. Французские писатели 1830 1840-х i г. XIX в. были излюбленным объектом нападок литературной критики, редко щадящей популярных романистов, печатавших свои сочинения в виде газетных фельетонов. Р. Эскарпи. пожалуй, прав, заявляя: «Принадлежность к литературе или еублитераіуре определяется нс абстрактными качествами писателя, произведения или публики, а типом обмена» (Escarpit. 1978.25). Во всяком случае, кри тиков гою периода раздражает то. что популярные романы сделаны, как они налагают, по законам рынка, с учетом спроса. Рынок действительно в большой степени стимулировал развитие, например, романа-фельетона художественного произведения, появляющеюся фрагментами в периодической печати - печати дешевой, но имеющей большие тиражи и легко и широко распространяющейся. Однако создатели такою романа ставили перед собой отнюдь не только коммерческие задачи.
О распространенности и важности романа-фельетона, активно развивавшегося с 1836 по 1914 гг.. пишет Жан-11в Малерб: «Роман- фельетон позволял установить повседневное нарративное общение автора и читателя <...> Из такого общения <...> рождался манихейский и мелодраматический сюжете персонажами-типажами, носителями добра или зла, невинности или преступления» (Malerbe, 2005). Литературовед выделяет следующие функции романа-фельетона: 1) коммерческая - увеличение числа подписчиков; 2) педагогичес-
124 Впрочем, некоторые полагают, что «мания чтения» лини» идеологический конструкт - в частности, в отношении к немецкой литературной ситуации XIX в. (Slicfey. 1992, 213). Нужно, по-видимому, учитывать, что число тиражей романов и периодических изданий, где печатались романы, не поражающие воображение современных издателей, было значительно возросшим по сравнению с предшествующим периодом, а также распространенную в тот период манеру коллективною чтения вслух.
148
кая - расширить культурные и научные познания читателей, дать им сведения по истории, географии, биологии, физике и т. п. 3) имаги- нативная - разбудить воображение читателя и увести его от повседневности в запретное, маргинальное, абсурдное.
В литературно-критической практике в значительной степени критерием высокой литературности остается сравнение с классической культурой: так, в работе Жозефа Дюамеля «Литературное и научное развитие в XIX столетии» автор, желая похвалить некоторых современных писателей, сравнивает Шатобриана - с Гомером, Ламартина - с Вергилием, мадам де Сталь - с Овидием, а Гюго с Горацием. Ни Ф. Сулье, ни А. Дюма, ни 9. Сю, ни даже О. де Бальзак такого рода сравнений не удостаивались, при том что были лучшими в жанре популярного романа, большей частью публиковавшегося в периодической печати. С другой стороны, никто иной, как Гийом Аполлинер приобрел вышедшее в 1912-1914 гг. полное собрание романов о «Фантомасе» и писал о «Фан- томасе» в «Меркюр де Франс»: «этот необыкновенный роман, полный жизни и воображения, написан небрежно, но очень живописно» (цит. по: Malerbe, 2005), т. е., будучи отнюдь не рядовым читателем и принадлежа к «элитарному» кругу литераторов, по крайней мере прощал небрежность за другие достоинства популярного романа.
Представление о том, что популярный роман - чтение «для консьержек», как справедливо замечено, было скорее мифом, чем реальностью. Но этот миф имел идейно-эстетические основания, поскольку авторы популярного романа действительно стремились говорить о «народе» и обращаться к «народу» (peuple), и в данное понятие входили мужчины и женщины из низов125. Однако в результате читатели разного уровня образования и разных социальных кругов сходились в восхищении романами- фельетонами. Во всяком случае, известный издатель и редактор нескольких журналов Ипполит де Вильмесан, признавался в своих мемуарах: «Я имел привычку читать порцию романа-фельетона, отходя ко сну; и если мне хоть раз не доставался очередной кусок, я подымался среди ночи, чтобы раздобыть его во что бы то ни стало» (цит. по: De Viveiros, 2006).
Романтическая же и академическая критика этого периода сходилась в осуждении популярных романистов, поскольку они не прощали
1:5 См. об этом очень основательную статью: Durand, 2005,38-46. Впрочем, абсолютизировать «популистские» намерения писателей не следует: У. Эко, например, уверен, что «Парижские тайны» Э. Сю были написаны «с дендистскими намерениями рассказать образованной публике смачные перипетии живописной нищеты» (Eco, 1981, 71).
149
романистам того снятия сакральности с литературного творчества, которое происходило в ходе популяризации романтизма. Главные эстетические упреки «популярному роману» были связаны с тем, что они стилистически небрежны, поскольку пишутся чрезвычайно быстро. «Эта сделанная в спешке продукция мешает писателям проявить вкус, естественным образом обработать жанр, придать ему те черты, какие следует придать. Вместо полноценных картин получаются наброски», - заявлял, в частности, А. Неттеман (Netteman, 1845/46, 12). Способом эстетического «снижения» служило в прессе XIX века сравнение популярного романа с продуктом питания, а писателя - с поваром. Любопытно, однако, что в предшествующую эпоху у Г. Филдинга образ писателя как держателя придорожной харчевни, подающего блюда по вкусу постояльцев, отнюдь не был для самого автора «Тома Джонса» столь унизительным. Более того, Г. Филдинг, наряду с В. Скоттом, служит в статье Г. де Молена 1841 г. упреком современным создателям популярных романов: «Если бы Филдинг писал «Тома Джонса» с лихорадочным нетерпением некоторых современных романистов, имели бы мы сегодня столь осознанно обрисованный образ, как образ мистера Олверти? Был бы у нас очаровательный тип Софьи Вестерн?» (Цит. по: Dumasy, 1999, 158). Творчество популярных романистов часто сравнивают с кухней, где блюда готовятся наспех и поглощаются жадно и быстро. Современная исследовательница из Торонто, Женевьева де Ви- вейрос приводит многочисленные факты гастрономических метафор, применяемых в критике для оценки произведений Дюма, называя его «королем литературного фастфуда» (De Viveiros, 2006).
Так, в газете «Фигаро» в 1858 г. критик Жовен опубликовал сатирическое меню, призванное высмеять произведения А. Дюма-отца:
«Суп: соавторы в виде жюльена с макаронами.
Закуски и добавки к супу: Аббатиса Шиллера под соусом Генриха Ш, Кристина на шекспировский лад, Карл VII с пюре из Расина.
Холодные закуски: Дорожные впечатления в раковинах Бюлоз.
Горячие закуски: отбивная из Марион Делорм, поджаренная в Антонии; Ричард Дарлингтон под красным соусом; Нельская башня в бургундском вине; Тереза и Анжель в говяжьем рагу с луком; Мемуары Ал. Дюма в конфетных обертках.
Жаркое: золотистый Монте-Кристо на мушкетерских шампурах.
Перемена блюд: Могикане в напитке из раков - Слоеные романы - Шарлотка из Комедий в конфитюре.
150
Сыры: Орестия - Ожерелье королевы - Соратники Иегу.
Десерт: Сухофрукты - Безостановочная болтовня» (De Viveiros, 2006).
Гастрономическая метафора развивается и далее: у Дюма «есть горшки, чтобы крошить в них травы, поручители, чтобы приносить ему горшки, поставщики, которые относят их каждое утро на рынок. Господин Фиорнетино добывает в Италии экзотическую дичь, господин Поль Мерис ощипывает полдюжины домашних замухрышек, а его постоянный браконьер господин Маке рыщет в королевских парках истории. Когда приходит вечер, охотники опустошают капканы, а господин Александр Дюма, походя, нанизывает на рапиру д’Артаньяна косуль, фазанов и пулярок, зажаривая одновременно пять или шесть штук. Это жаркое сервируется на столах газет Деба, Пресс, Сьекль, Конститюсьоннель и Демокраси пасифик» (De Viveiros, 2006). Увлеченность книгами Дюма рассматривается как предосудительная для делового человека, о чем свидетельствует статья в «Ла пресс» (1848): «Сегодня читают одни только романы-фельетона Александра Дюма; бесконечные перипетии, их продолжения, продолжения и продолжения в конце концов запечатлеваются в народной памяти как события сегодняшнего дня: мы так давно находим их всякий раз при пробуждении, что они стали близкими спутниками повседневной жизни каждого из нас. Даже те, кто всегда спешит, прежде чем приступить к делам, полчаса беседуют с д'Артаньяном, Монте-Кристо или Бальзамо, смотря по тому, какую газету они выписывают» (De Viveiros, 2006).
Упрек в развлекательности, пустяшности постоянно сплетается с упреками в безнравственности, идейной несостоятельности. Член Палаты депутатов Шапюи-Монлавиль в июне 1843 г. заявлял: «Новая литература захватила умы, больше не сочиняют серьезных, благородных и полезных книг, не используют талант, когда пишут романы-фельетоны, в которых преобладают самые живые картины, самые страстные выражения, самые аморальные ситуации, самые извращенные принципы» (Цит. по: Dumasy, 1999, 81). Один из немногих защитников романа-фельетона, Луи Дюнуайе, писал в «Сьекль» в 1847 г.: «Вспомним, что при Реставрации все, что происходило плохого - неважно, в каком уголке земли, ставилось в упрек благомыслящими людьми господину Вольтеру и Ж.-Ж. Руссо <...> Сейчас настало время сменить рефрен, сегодняшние благомыслящие люди заменили эти два недостающих имени именами А. Дюма,
151
Э. Сю, Скриба, Сулье, Ж. Санд - всех «промышленных» писателей, виновных сегодня. Если у нас плохие семьи, плохие хозяева, плохие правители, плохие подданные, плохие ораторы, плохие историки - и плохие урожаи, - будьте уверены, это следствие воздействия романа, театра, в общем - всей плохой литературы нашей плохой эпохи» (Dumasy, 1999, 134). Таким образом, к неприятию «демократического» вкуса критически настроенные ценители литературы прибавляли неприятие «низких истин» повседневности, или во всяком случае видели причину социальных неурядиц в недостаточной дидактичное™ и чрезмерном демократизме их идей. Как пишет Л. Дюмази, в это время «критика не отделяет эстетику от политики» (Dumasy, 1999, 10). Любопытно при этом замеченное Л. Дюнуайе «замещение» в критическом сознании XIX в. «высоких» философов Просвещения «промышленными» писателями.
Очевидно, что писатели того периода ощущали противоречие между эстетической и «рыночной» ценностью создаваемых литературных текстов (Raulet, 2001, 99), однако в своей художественной практике они отнюдь не жертвовали «литературностью» ради «популярности», скорее, пытались выработать новые эстетические критерии жанра «roman populaire». «Популярный» текст, - замечает Ж. Мигоцци, - как любой другой текст представляет собой словесную ткань, организованную в соответствии с желанием быть широко читаемым, но, кроме того, имеющую эстетические принципы, включающие этот текст в динамику развития литературности (Migozzi 2005, 118; см. также об этом: Couégnas, 1992).
Эти принципы предполагают, что заглавие должно быть таким, чтобы книгу хотелось купить, т. е. не скучным в своей плоской информативности, а завлекательным, порой загадочным, но не заумным126; что читать небольшими порциями удобнее и легче - и соединяют законченность отдельных глав, частей, томов - и серийность, способность героев к возвращению, конфликта - к возобновлению, позволяющую продолжать историю; они направлены на то, чтобы просто говорить о сложных вещах - и допускают повторы и клише.
126 «Служа «этикеткой» для произведений, читаемых не слишком образованной, не слишком привыкшей к рефлексии публикой <...> заглавия таких романов должны были подчиняться очень точным риторическим правилам» (Couégnas, 2001,35).
152
облегчающие усвоение самой сложной и запутанной фабулы, узнавание персонажей, какие бы превращения с ними не происходили, и т. п. Тем самым классические цели литературного произведения - поучение и развлечение - воплощаются в популярной литературе по-своему. При этом оказывается, что среди этой литературы могут возникнуть великие сочинения, пусть и неканонические с точки зрения школьных канонов, тем более, что, как уже приходилось писать, «эстетические пространства, «поля» элитарной и массовой словесности не только существуют рядом, не только открыты друг другу, но еще и накладываются друг на друга, заходят одно в другое, порождая в зоне «интерференции» произведения, как бы одновременно принадлежащие обоим полям - как по функции, так и по своим поэтологическим характеристикам» (Пахсарьян, 2001).
Своеобразный разрыв между величинами «академического» литературного ряда и известными, любимыми читателями книгами осознается современными исследователями, и это заставляет их скорее подвергнуть сомнению справедливость канонических критериев литературности, чем отвергнуть художественное значение «littérature populaire». Процитирую размышления Эвелины Пьейе из ее статьи «Бессмертие популярного романа» (2002). Она называет самые бесспорно популярные произведения французских писателей во всем мире - «Отверженные» Гюго, «Три мушкетера» Дюма и «Сирано де Бержерак» Ростана. Однако в официальной литературной истории эти произведения не считают эстетически поворотными, а их появление - большими литературными событиями. Еще Флобер смеялся над стилем «Отверженных», роман Дюма быстро записали в разряд литературы для юношества, а что касается Ростана, то все знают, что это не Клодель. «Однако именно эти сочинения стали легендарным воплощением самой Франции» (Pieiller, 2002, 27), - справедливо заключает Э. Пьейе. Притягательность этих знаковых произведений состоит, очевидно, не в изощренности стиля или новаторской экспериментальности письма, но связана с приращением «антропологического «знания» иной природы, нежели знание научное или теоретическое» (Luca-Leclin, 2005, 4), с особой мерой близости к социокультурному опыту читателей и одновременно с глубиной и силой художественного воображения.
Литература и паралитература:
ПРОБЛЕМА ИНТЕРФЕРЕНЦИИ
Современное литературоведение все чаще задумывается над вопросом о том, как соотносятся элитарная и массовая литературная продукция. Проблема их дифференциации, а, с другой стороны, - взаимодействия приобретает особую актуальность в контексте художественной практики постмодернизма, щедро черпающего из арсенала популярной литературы ее приемы. Сегодня многие исследователи полагают, что, в отличие от XIX столетия, в литературе конца XX - начала XXI в. граница между массовым и элитарным стерлась или стирается (Менцель, 1999, 391). Возникает целый ряд исследований, в которых разнообразие сюжетов мировой, или, по крайней мере, европейской и американской литературы сведено к разгадыванию тайны, т. е. - к детективу127, жанру массовой литературы. С другой стороны, современными исследователями довольно четко установлены параметры паралитературы (см., например: Couégnas, 1992; Angenot, 1975 и др.) - и не только на основе анализа «популярных романов» XIX в., но в процессе изучения издательской практики массовой серийной романистики XX столетия, ее функций и формул. Многие аспекты взаимодействия «высокой» и паралитератур установлены, но, как представляется, изучены они более на уровне фабулы, системы персонажей и проблематики, чем на уровне стилистики, художественного языка: здесь как будто очевидна пропасть между индивидуальностью стиля или лингвистическим экспериментаторством элитарных образцов и клишированностью «ничейного», «никакого» (Б. Дубин) языка паралитературных сочинений. Большинство массовой беллетристики ориентируется, как полагают, на эффект узнаваемости, тавтологичности, обеспечивающей своеобразную «реалистич-
127 Подробный анализ этих работ см.: Lits, 1999. Сам автор статьи заявляет о том, что использует концепцию «детективности» как универсальной литературности в провокативной функции (Lits, 1999, 243).
154
литературным, в другом, научным требованиям. Различен и процесс производства этих текстов.
Л. Боноли уточняет широкое типологическое содержание термина «реализм». Этот термин используется по отношению к особому стилю письма, представляющего собой литературную репрезентацию «реальности», несущего идею «реального вымысла». Такое письмо «нацелено на трансцендирование собственной вымышленное™» (Bonoli, 2004, 19), чтобы предстать как описание реальности, но одновременно противопоставить себя научным текстам - историческим, этнографическим и т. п. Идея «реального вымысла» является результатом особой методологической практики и требует экстралингвистического анализа. Различение реалистического и научного текстов носит не только классификационный, но и эвристический характер.
Л. Боноли интересуют два аспекта: а) семиотический, а именно, какой тип референции предполагают эти разные типы текстов - художественный и научный; б) эпистемологический, какое отношение устанавливается в том и другом типе текста между нашими знаниями и новой информацией - художественной или научной.
Анализируя литературный реалистический текст, Л. Боноли уточняет, что этот текст находится в особой позиции: с одной стороны, его художественная, фикциональная природа предполагает разрыв с реальностью, с другой, его реалистическое устремление направлено на преодоление данного разрыва, чтобы дать себя прочитать как описание реальности. Но преодоление разрыва осуществляется не на референциальном уровне, где реалистический текст все равно несет знаки разрыва, а на уровне интерпретации, где особая природа читательских предположений обеспечивает возможность возврата к реальности. Будучи вымышленным, референциальное функционирование реалистического текста отмечено как отсутствием прямой связи с действиями или объектами реального мира, так и своей конструктивной природой. Художественный текст не воспроизводит реальность, но конструирует текстовые миры.
Л. Боноли цитирует определение референции, сделанное двумя швейцарскими теоретиками - Ж.-Д. Голлю и Ж. Зюфереем на основе начальных фраз «Человеческой комедии» Бальзака: «Мы определяем референцию как дискурсивную деятельность, то есть как динамич-
158
ную выработку репрезентации, посредством которой объект становится узнаваемым. Будучи деятельностью, референция включает в игру процесс сотрудничества агентов, таким образом, референция - обязательный посредник ситуации общения» (Gollut, ZufTerey, 2000, 16). Это определение, по мнению Л. Боноли, соединяет концепцию конструктивности референции с концепцией ее прагматической активности, зависящей от особой ситуации высказывания. Абсолютной референции не существует, она неотрывна от дискурса и коммуникативной ситуации. Именно в интерпретативном выборе читателя определяется референциальное содержание текста.
Чтение текста, о котором известно, что он - художественный, происходит с осознанием разрыва между миром текста и реальным миром: мы не ищем прямого соответствия фактам, данным в опыте, не проверяем, действительно ли существовал Шарль Бовари, был ли Ватсон на самом деле врачом. Но если речь идет о реалистическом вымысле, то он некоторым образом соответствует реальному опыту читателя. Реалистический текст устанавливает связь с реальностью сквозь конструируемый вымышленный мир посредством узнавания читателем своего опыта реального мира. На этом возвращении к реальности или соответствии ей построена главная игра реалистического текста. Понятие соответствия ведет к осознанию важной функции того знания о мире, которое есть у читателя и которое содержится в тексте. Художественная реалистичность предполагает у читателя такие знания и вызывает прагматический эффект. Систематизированные знания о реальном мире являют собой материал для выстраиваемого фикционального мира. Особенно важны энциклопедические знания, характеризующиеся высокой степенью культурной стабильности и универсальностью. Примеры подобного знания: «Париж - столица Франции», «Черчилль - премьер-министр Великобритании во время Второй мировой войны» - но и «Ватсон - врач», «Пегас - крылатый конь». В реалистическом тексте первая группа примеров важнее, ибо она непосредственнее соотносится с реальным опытом, создает эффект реальности, референциальную иллюзию. Мы читаем реалистический художественный текст так, как если бы он говорил о фактах и предметах реального мира. Л. Боноли полагает очевидным, что возвращение читателя к реальности не имеет модифицирующей функции на уровне референции (мы не
159
проверяем адекватность текста реальности), но на уровне чтения в таком тексте находит подтверждение эпистемологический опыт читателя.
Реалистический текст базируется, таким образом, на уже сказанном («déjà dit»), он определенным образом предвидим. Характерная черта реалистического текста - интерес к официальной истории. Черпая из нее, читателя отсылают к уже написанному тексту, более того, к тексту, который он знает. С этим связана и любовь художественного реализма к описанию типичных сцен, ритуализованных событий, повседневности - того, с чем читатель сталкивается в семье, дома, на улице, на работе. Эффект реальности состоит также в эйфорическом узнавании читателем привычной для него лексики. Ф. Амон полагает даже, что, читая реалистический текст, мы отождествляем реальное со знакомым (Hamon, 1981,145). Реальным кажется нам все, что уже превращено в категории, концептуализировано, что составляет часть наших знаний о мире.
Эпистемологическая ситуация в случае с художественным текстом о реальности, полагает Л. Боноли, говорит о его закрытости, ибо он базируется на уже установленных знаниях. Научный же текст о реальности характеризуется открытостью, он несет новую информацию, стремясь интегрировать ее в наши знания. «Эффект реальности» создается в научном тексте посредством экстратекстовых факторов. Подобный текст подчинен «реальному» как тому, что существует до текста и ему не подчиняется. Если художественный текст описывает возможное, мыслимое, узнаваемое, то научный текст не подчиняется «уже сказанному» (déjà dit), устремлен к неизвестному, говорит об объектах, существующих до текста и независимо от текста. Научный текст презентирует реальность, такова его референциальная функция. Художественные тексты обладают привилегией: правда фикционального текста не подвергается анализу на истинность, на отсутствие ошибки, критике на степень адекватности, которой всегда открыт научный текст. Мы никогда не будем переписывать «Мадам Бовари», чтобы ее история стала более реальной, но книги по истории мы постоянно переписываем. Ватсон навсегда останется врачом, но обстоятельства смерти Наполеона на острове Святой Елены - объект все новых исследований и концепций.
160
Таким образом, делает вывод Л. Боноли, у художественного и научного текстов - два разных «договора чтения»: закрытость реа- листического литературного текста требует конструктивной референции, открытость научного текста о реальности - аутентичной презентации этой реальности (Bonoli, 2004, 32). (Аутентичность здесь - не хорошее или плохое, а то, что в научном тексте традиционно признается научным - воспроизводимость, повторяемость опыта. Конкретно: аутентичная карта местности - та, пользуясь которой идешь туда, где действительно есть дорога, а не болото, например).
Однако если поставить вопрос о том, какого рода информацию несет художественный текст, является ли он действительно «закрытым» с точки зрения не чисто научного, а «человеческого» знания, становится необходимым уточнить, какая именно реальность и какой именно реалистический текст имеются в виду и что собою представляет то литературное направление, которое мы именуем реалистическим. Иными словами, стоит попытаться вернуться к историко-литературному понятию реализма, прежде всего, реализма как художественного направления XIX в., уточнить его, используя новые исследования проблемы реализма и в общефилософском, общеэстетическом, и в конкретно-историческом ракурсе.
Между тем, коль скоро в сегодняшнем восприятии не существует некоей «абсолютной вещной реальности, одинаковой для всех живых существ» (Кассирер, 1994,469), это часто приводит литературоведов к отрицанию возможности художественного реализма, порой - к отказу от применения этого термина даже к тем явлениям, которые в XIX веке сами определяли свое творчество как реалистическое. Долгое бытование оценочного подхода к понятию «реализм» и трудности преодоления этого подхода, пережитые во второй половине XX столетия отечественной литературной наукой1311, сообщили, по
130 Эти трудности можно обнаружить, например, в том, что даже после дискуссии о реализме 1957 г., сделавшей шаг в сторону признания полноценности романтизма, последний еще долю рассматривали как состоящий из «прогрессивного», «революционного» (открытого движению к реализму) и «консервативного», «реакционного»; в том, что чрезвычайно долго удерживалось (и отчасти удерживается до сих пор - см.: Свидерская, 1999, 85-88) концепция различных этапов реализма, возникшего в Возрождении - ренессансною, XVII, XVIII вв. и т. д.; в том, что жанр романа, столь важный для современного художественного мышления (в силу своей чрезвычайной способности к трансформации, жанровой свободы), тесно увязывался с реализмом, даже понимался как синоним реализма в литературе... и г. п.
161
видимому, огромную инерцию отталкивания от рефлексии на тему художественного реализма в нашем литературоведении. Во всяком случае, можно заметить достаточно существенный разрыв между активностью западных ученых, исследующих проблему реализма, и почти поголовной увлеченностью отечественных специалистов отрицанием проблемы как таковой131.
Если исходить из исторического подхода, то реализм рассматривается современным литературоведением как художественное направление XIX-XX вв., по распространенному определению, ставящее целью наиболее верное воспроизведение реальности. Подобная «верность» не может предполагать устойчивой и единообразной эстетической манеры, поскольку зависит от концепции реальности в ту или иную эпоху и от динамических форм художественной «правдивости». Известно, что слово (и термин) «реализм» возникает задолго до художественного реализма. В античной философии реализм утверждал существование материальной (Левкипп, Лукреций) или идеальной (Аристотель) действительности, лежащей вне сознания. В средневековой схоластике реализм, в противоположность номинализму, утверждал реальность всеобщих понятий. Однако искусство и литература Средневековья ставило своей задачей отражать божественное творение, понятие реальности как социальноисторической «действительности», объективной «повседневности» сформировалось лишь в конце XVIII - начале XIX века (De Certeau, 1980; Макушинский, 2002). Достаточно сравнить представление средневекового мыслителя о произведении как зеркале, отражающем «все, что достойно быть отраженным»132, или представление В. Гюго о том, что в волшебном зеркале искусства «преломляются
131 Разумеется, у нас довольно регулярно появляются работы о конкретных писателях-реалистах, но их авторы скорее предпочитают обойти теорию вопроса, чем развивать ее. В работах же специалистов по современной литературе и литературной теории реализм рассматривается как некий историко-литературный фантом, пагубное следствие социологического подхода к литературе и т. п. В этом смысле еще большую ценность приобретают исследования А. В. Карельского, 1980-1990-х гг.: статья «От героя к человеку» (Карельский, 1983, 81-122), вошедшая в одноименную книгу 1990 г., и доклад на симпозиуме в Вене «Соотношение реализм-модернизм в советской литературной теории и критике» (Карельский, 1994, 156-176).
132 Эти размышления Винсента де Бове цитирует и комментирует К. М. Муратова (1988, 122-123).
162
лучи, идущие от действительности» («Предисловие к Кромвелю») с размышлениями Стендаля («Красное и черное»), называющего роман «зеркалом, с которым идешь по большой дороге» и в котором отражается то «лазурь неба», то «рытвины и ухабы», чтобы осознать принципиальную новизну художественного видения реализма: конфигурации «зеркал» («волшебное», идеализирующее; подобное вогнутой линзе, конденсирующее; «обычное» - плоское, не деформирующее, но выхватывающее предметы в процессе движения) и оптические образы здесь явно различны.
Таким образом, реализм вписывается в контекст исторических и социальных преобразований XIX века, с его чувством хронологического и культурного разрыва, с ощущением обновления, возникшим в эпоху после Великой французской революции. Реализм порывает с классицистическим представлением об искусстве как демонстрации нормативного, должного и ставит своей целью описывать «жизнь как она есть». Отсюда - особый тип репрезентации в реализме, предполагающий, во-первых, мимесис как воспроизведение реальности (а не как подражание принятым способам ее художественного представления), а, во-вторых, «реальный вымысел, нацеленный на трансцендирование собственной вымышленное™» (Bonoli, 2004, 19). Как верно пишет А. Жефен, литературная репрезентация - принципиально транзитивный акт, это всегда репрезентация чего-то (какого-либо предмета, явления, события), и это «что- то» неизбежно воздействует на форму мимесиса, который с самого начала, уже у Аристотеля никогда не являлся простой «регистрацией реального» (Gefen, 2002, 27; поэтому исследователю образ мимесиса как зеркала вообще кажется неудачным, неверным). Но если в классицизме репрезентация понималась как описание «должного», то в реализме репрезентация скорее понимается как выражение идей и опыта своего времени - антропологического, идеологического, историко-социального.
С другой стороны, реализм является и реакцией на романтизм, на его жажду субъективного самовыражения и преображения реальности, преломления «лучей, идущих от действительности» (В. Гюго). На возникновение реализма влияет развитие философии (не только позитивистской, но и философии рационализма), исторического, социального, естественнонаучного знания. В то же
163
время художественное знание реальности в реализме сближается, а то и отождествляется с наиболее распространенным, общим, подтверждающим повседневный опыт читателей.
Культурной функцией реализма является, прежде всего, воспроизведение «срединного мира», как удачно определяет Т. Д. Венедиктова (Венедиктова, 2001). В реалистической литературе «репрезентация повседневной жизни перестала быть случайной и маргинальной, превратилась в отдельную тему, <...> писатели отправились в каморки консьержей и в провинциальные «дыры» с идеей встретить там тех, кого называли «настоящими людьми», то есть обычных людей, людей без истории, тип, а на самом деле - антитип, каким является «господин Кто-угодно», Jedermann или Everyman» (Macherey, 2005). Отсюда вечный «искус» реалистов, каким является массовая литература, родившаяся в ту же эпоху. Но если массовая литература опирается на уже сложившиеся конвенции изображения обыденного, не столько приращивает знание о действительности, сколько вызывает у читателей «эйфорию узнавания» (Ф. Амон), то «высокий» реализм подвергает обыденность социально-историческому и психологическому анализу, критикует наличное знание, жаждет быть исследователем, открывающим неизвестный, но достоверный в своей эмпирической «правдивости» художественный мир, «существенную реальность», по выражению Шанфлери (письмо к Ж. Санд от 2 сентября 1855 г.). В процессе раскрытия глубинного содержания, второго плана, изнанки жизни у реалистов парадоксальным образом возникает необходимость запечатлеть своего рода экзотику повседневности, ее «тайны», и эта внутренняя потребность реалистической эстетики, думается, в гораздо большей мере определяет особенности поэтики Диккенса, например, чем пресловутые «элементы романтизма» или прямолинейно понятое романтическое влияние. Кроме того, существо реальности открывается писателями-реалистами, как кажется, в процессе диалектического сопряжения объективного и личностного начал: подчеркивая только типическое в характерах реалистических персонажей, исследователи часто оказываются, с одной стороны, перед необходимостью признать стремление к той или иной форме типизации общим свойством литературы, с другой - перед ощущением, что реалистический тип одновременно индивидуален, неповторим.
164
Это в свое время навело А. В. Карельского на мысль, что в творчестве Бальзака реализм достигается «за счет картины мира, а не концепции человека» (Карельский, 1990, 202). Однако представляется. что реалистический «человек» может быть не всегда зауряден, скорее его личностные качества всегда социально-психологически обусловлены. Говоря несколько упрощенно, но наглядно: если Рене Шатобриана одинок потому, что таким родился (а почему он родился таким - вопрос, который у романтика Шатобриана «снят»), то истоки, причины одиночества Жюльена Сореля в семье, в доме господина де Реналя и т. д. объяснены, художественно воссозданы реалистом Стендалем.
Создавая не только особую этико-эстетическую концепцию мира, но и человека, реализм ставит под сомнение привычные формы художественной репрезентации, перестраивает их. При этом окончательно рушится культура риторического «готового слова» (А. В. Михайлов), «слово напрягает все свои силы, чтобы в итоге уступить место картине действительности» (Михайлов, 1997, 73). Литературная репрезентация в реализме предполагает прочное и «объективное» соответствие слова (художественного высказывания) и объекта изображения. В силу разнообразия этих объектов, их динамической «текучести», неоформленности, на реалистической репрезентации лежит тот отпечаток неустоявшегося вкуса, беспорядочного смешения явлений, эстетического «безъязычия» (т. е. отсутствия принятых кодов изображения), которые отличают «улицу», то есть саму жизнь.
Отсутствие единого, тем более «большого» стиля, который бы характеризовал реализм, отказ от жанровой и стилевой иерархии затрудняют установление четких хронологических и жанрово-родовых границ этого явления. Ареалом реализма традиционно считают литературу и живопись, причем, в литературе эпохой реализма называют 1830-1860-е годы, в живописи же - 1850-1880-е. Но реализм как художественное явление зарождается раньше и живет дольше обозначенной эпохи, на раннем этапе соединяясь с романтизмом (В. Скотт, П. Мериме), позднее - с натурализмом (Г. Гауптман, И. Ньево). К реализму в литературе относят Стендаля, Бальзака, Флобера, Мопассана (Франция), Диккенса, Теккерея, Д. Элиот, Т. Гарди (Англия), Т. Фонтане (Германия), Г. Джеймса, М. Твена, Ф. Норриса,
165
Т. Драйзера (США), М. Н. Голдшмидта, Г. Г. Шака, С. Шаидрофа (Дания). С. фон Кнорринг, Е. Флигар-Карлен (Швеция), Б. Переса Гальдоса (Испания), Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Лескова, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского (Россия) и т. д. В живописи реализм представлен именами Г. Курбе, Т. Руссо, О. Домье, Ж.-Ф. Милле (Франция), Репин, Суриков (Россия) и г. д.
Центральным жанром литературы реализма называют роман, однако для этого направления не менее важны периферийные, «внелитературные» жанры словесности, в которых осуществляется взаимодействие художественного и впсхудожсствепного, документального, фактографического. Самый роман реализма открыг вторжению в него «неготовой», г. е. не оформленной, не освященной литературной традицией действительности: отсюда обращение романистов к материалам газет, журналов, фиксирующих факты повседневности, к историческим документам. Жажда невымышленное™ заставляет писателей (например. О. де Бальзака) отказываться от титула «романистов», претендуя на звание «историков общества». Реалистический роман, по верному суждению Ф. Дюфура, является продуктом определенного этапа истории и идеи демократии, что ощущали и сами писатели («Мой роман был бы невозможен до 1789 года» - Т. Фонтане), но несет в себе не антикварный или экзотикоэтнографический интерес к истории (Dufour, 1998, 21). Исторический роман реализма, с которого, собственно, и начинается его развитие (В. Скотт), демонстрирует историю в движении, через нее он повествует о генезисе настоящего, устремляясь от картин прошлого к рефлексии над социальными и психологическими проблемами современности. Как известно, между «Айвенго» и «Антикварием», которого относят к социальным романам о современности, дистанция ничтожна, но и Скотт - исторический романист очень много размышлял о современности, едва ли не только о ней - через историю. Вопреки возобладавшему в последнее время мнению, В. Скотт, как и Диккенс, не романтик: в его героях доминирующую роль играет не субъективное и символическое одновременно, а взаимопревращение социально-обусловленного, типического - и индивидуального; в сюжете - не романтическое томление персонажа, побуждающее как к активности (в одних случаях), так и к отстранению от нее (в других), а социально-исторические обстоятельства (если привести
166
конкретный пример, то Генрих фон Офтердинген у Новалиса пускается в путь за голубым цветком, а Квентин Дорвард у Скотта - за карьерой и фортуной). Отсюда - постоянное и настойчивое стремление к точности датировки событий, что позволяет установить своего рода зону контакта с современностью. Отсюда и акцент на нравоописании как сфере проявления социальной обусловленности, детерминированности характеров персонажей. В реализме меняется и само понятие «характера»: он теряет свою статичность, вневременную обобщенность, приобретая особое взаимосвязанное сочетание индивидуального и типического. В нем возникают новые доминирующие возрастные характеристики персонажей: не только молодые люди, «сыновья века» становятся преимущественным объектом внимания (как в романтической литературе), но и люди средних лет, старики и старухи. Внешность героев при этом не изображается как исключительная - необычайно красивая или гротескно уродливая, а, скорее, как своеобразная, порой - привлекательная, порой - несимпатичная, но всегда индивидуальная (вспомним родинку на лице героини романа Мопассана «Жизнь», точнее - «Одна жизнь (Une vie)»). Рождается новая эстетика - не как учение о прекрасном, а как осмысление «некрасивого»13', попытка понять художественную ценность, красоту некрасоты. Особую роль в реалистических портретах играют не только выразительные детали, но и «мелкие» подробности, с точки зрения предшествующих поэтологических систем как бы нефункциональные: ср. рассуждения Т. Д. Венедиктовой (2001, 190) по поводу бартовского «эффекта реальности» и роли барометра в описании гостиной мадам Обен («Простая душа» Г. Флобера). В реалистическом повествовании «ружье, висящее на стене» может и не стрелять, скорее всего, не стреляет, являясь тем «избыточным» знаком реальности, который и создает иллюзию правды жизни. Реализму присуще стремление к десимволизации имен персонажей, когда имя героя кажется случайным, как в жизни, непрочно связанным с личностью, не являющимся его определением. Реализм выдвигает новый тип «негероического героя», описывая даже историческую личность как «обыкновенного» человека (например, Наполеон у
133 Ср. название вышедшего в середине XIX в. труда немецкого ученого К. Розенкранца «Эстетика некрасивого» (Àsthetik des Hàsslichen, 1853).
167
Стендаля в «Пармской обители» и в «Войне и мире» Л. Толстою), а историческое событие как заурядное происшествие (Ватерлоо в названном романе Стендаля, революция 1848-го в «Воспитании чувств» Г. Флобера). Повседневные происшествия стали и сюжетами реалистической живописи, что оскорбляло академический вкус и вызвало эстетический скандал, начатый спорами вокруг картины Г Курбе «Похороны в Орнане».
Обычно считают, что именно в связи с этим произведением впервые было употреблено определение «реализм», получившее затем развитие в теориях французских писателей Шанфлери и Дю- ранти, организовавших в 1850 г. журнал «Реализм». Однако терминологизация реализма произошла гораздо раньше. Одно из первых определений этого явления в литературной критике появилось во Франции, когда во «Французском Меркурии XIX века» (1826) была напечатана анонимная заметка, фиксирующая новые эстетические веяния: «Эта литературная доктрина, завоевывающая ежедневно все новые территории и устремленная к верному воспроизведению не шедевров искусства, а оригиналов, предлагаемых нам природой, могла бы называться реализмом: по некоторым очевидным признакам, эта литература правды станет доминирующей литературой XIX века. Конечно, классики воскликнут: надо ли копировать то, что существует в природе? Не нужно ли прятать некоторые вещи, дабы не впасть в низкое и отталкивающее? А если вы согласны в необходимости определенного выбора, не приближаетесь ли вы к классикам? Романтики же вскричат в свою очередь: Не повторяем ли мы постоянно, что рисовать необходимо природу, а не картины, копировать вещи, а не искусство? Разве вы не замечаете, что близки романтикам?» (Mercure du XIX siècle. 1826. T. ІЗ. P. 6-7).
Уже в этом рассуждении обозначена серьезная проблема реализма, указывающая на то, что его художественная система, для того, чтобы быть иной, чем прежние, «отличимой», должна предполагать не только определенный тип референции и особое понимание мимесиса, но и целый комплекс художественных средств, приемов поэтики. В этот комплекс входит, прежде всего, динамическое взаимодействие с читательским опытом: когда повествователь заключает с читателем «контракт на реализм», он, по словам К. Монтальбетти, взывает не только к узнаванию, но и к знанию, поскольку, исполь-
168
зуя «неполноту» художественного воссоздания характера и среды, подчеркивает допущенные им лакуны и призывает читателя представить, что происходит с персонажем в более широком мире за пределами текста (Montalbetti, 2003, 14). Обращение к знанию читателя сочетается и со стремлением использовать его жажду познания мира (воспринимаемого как познаваемый), включая в произведения научную, техническую, экономическую и т. п. информацию, использование документов и стилизаций под документ. С другой стороны, важен и опыт воображения: сказочное и фантастическое также становятся элементами реалистического изображения, когда они репрезентируют психологическую реальность восприятия или некий проект социального развития (научная фантастика). Таким образом, приемы, формы, стиль не предписываются в реализме как раз и навсегда данные, а, при общей художественной задаче «воссоздания реальности», коррелируют как с творческой индивидуальностью писателя, так и с объектом изображения. В конечном счете, реалистическая литература стремится утолить общую для писателей и читателей «жажду правдивости», которая, по верному замечанию Ж.-Л. Жаннеля (Jeannelle, 2004, 291), не менее сильна в нашей культуре, чем жажда воображения и вымысла. «АИ is true» - «Все здесь - правда» - лозунг Бальзака остается актуальным для всей эпохи художественного реализма XIX-XX столетий.
Отзвуки барокко в поэзии Виктора Гюго
Тема данной статьи совсем не оригинальна - ни в ракурсе общей проблемы (сопоставление барокко и романтизма - один из популярнейших аспектов современной теории стилей и направлений), ни по конкретному материалу - сравнению «Трагических поэм» А. д'Обинье и поэмы В. Гюго «Возмездие». Начиная с 80-х гг. XIX в., о близости этих поэтов стали говорить многие, в XX в. их сходство стало и объектом специального анализа134, а в начале XXI в. и темой литературных чтений в рамках юбилейных чествований, совпадающих у А. д’Обинье и В. Гюго135.
О перекличке дарований двух поэтов Тьерри Монье писал так: «Д’Обинье - наш Гюго, он тот, кем Гюго надеялся стать и преуспел в том, что заставил поверить, будто стал им» (цит. по: Rousselot, 1966, 90). Некоторый оттенок сдержанности в оценке Гюго ощущается здесь достаточно отчетливо и заставляет вспомнить известный ответ А. Жида на вопрос: «Кто является лучшим французским поэтом?» «Увы, Виктор Гюго». Гюго на вкус некоторых читателей слишком связан с классической поэтической традицией, слишком риторичен и красноречив, чтобы соответствовать критериям истинно романтического лиризма. Возражая подобным оценкам, Жан-Пьер Ронэ с особой настойчивостью заявлял, что причиной подобных несправедливых высказываний, своеобразного «отказа от Гюго» стали прежде всего изобилие и разнообразие поэтического дарования французского писателя-романтика. Не без оговорок принимается французскими читателями и творчество д’Обинье, хотя скорее по обратным основаниям: А.-М. Буайе верно подчеркивает, что для хрестоматийных представлений о классической эпохе французской
134 См. раздел «Агриппа д’Обинье и Виктор Гюго» в опубликованной доктор ской диссертации Ж. Бэльбе: Bailbé, 1968а, 459 464.
135 См. опубликованную в интернете программу национальных литературных торжеств на 2002 г.: в апреле в Сожоне состоялся спектакль «Огненные слова», включивший параллельное чтение отрывков из «Трагических поэм» и «Возмездия». Совпадение юбилеев связано с датами рождения поэтов: д'Обинье 1552; Гюі о 1802.
170
литературы д’Обинье как раз недостаточно классичен, он - вечный «другой», как и Дю Бартас, не чуждый «варварского» начала136. Однако неувядаемость художественного наследия обоих поэтов в глазах читателей кажется наилучшим доказательством полноценности и глубины их поэтического вдохновения.
Естественно, что далеко не все аспекты проблемы «поэзия Гюго и барокко» могут быть рассмотрены в небольшой статье. Предметом сопоставления стали два поэтических произведения, написанные на злободневные общественно-политические события: «Трагические поэмы» Т. А. д’Обинье - отклик на религиозные распри католиков и гугенотов, на гражданские войны во Франции на исходе Ренессанса и в начале Нового времени, сборник В. Гюго «Возмездие» - выражение разочарования и негодования поэта по поводу политического переворота 1851 г. и прихода к власти во Франции Наполеона III. Первое из названных произведений задумывалось сразу как эпическая поэма, второе, сложившееся из отдельных стихотворений, обрело статус эпической поэмы ввиду несомненной идейнотематической целостности сборника. Оба произведения вбирают в себя широкий и практически совпадающий спектр жанровых традиций, что позволяет считать их компаративный анализ исследованием функционирования одной жанровой разновидности в рамках разных литературных направлений.
Прежде всего показалось важным выявить в сатирико-политической поэме Гюго те элементы поэтики, которые продемонстрируют не только и не столько формальное сходство барокко и романтизма (о чем много писал, например, Ж. Руссе (Rousset, 1951), много писали и после Ж. Руссе), сколько одновременно более общую перекличку эпох, отдаленное, но все же сходство историко-культурных ситуаций и - своеобразную конгениальность двух великих поэтов, не исключающую, а, напротив, подчеркивающую одновременно оригинальность каждого из них и, прежде всего, что важно в данном случае, - оригинальность и новаторство поэзии Гюго. Ведь, по крайней мере, в сознании наших исследователей автор «Châtiments» оказывается прямым последователем создателя «Трагических поэм». Так, по сло-
1,6 Воуег, 1995, 28. Ср. также: «Отсутствие чувства меры и ясности помешала д’Обинье стать первоклассным поэтом» (Lenient, 1877,44).
171
вам М. В. Толмачева (Толмачев, 1988, 32), «Ювеналов бич» французской поэзии после великого мастера политической сатиры XVI в. Агриппы д’Обинье оказался в надежных руках» Гюго, а прекрасный переводчик «Трагических поэм», А. Ревич утверждает: «В. Гюго... старался изо всех сил повторить яркую поэму Агриппы, оживи іь приемы барокко, отчасти соответствующие задачам романтизма» (Ревич, 1996, 9-10). Действительно ли автор «Возмездия» только повторяет и оживляет поэтику «Трагических поэм», или же он вступает с ней в творческий диалог, оригинально трансформируя, преображая барочную поэтическую традиции, позволит выяснить более подробных анализ названных произведений.
Поэма д’Обинье была начата в конце 1570-х гг., в основном написана к 1590-му, а завершена уже в 1600 гг. Первое издание «Трагических поэм» появилось в 1616 г. Вдохновленная трагическими событиями религиозных войн, эпическая поэма д’Обинье содержит семь песен - как семь (из девяти) кругов ада (Bailbé, 1968, 20) и взывает к Музе Трагедии - Мельпомене, заставляя ее кричать о бедствиях Франции. При этом традиционный эпопейный зачин, отмечает М. П. Хагивара, совершенно преображается (Hagiwara, 1972, 191), эпическая интонация заменяется взволнованно-лирической. Именно это лирическое и трагическое видение скрепляет в общем ассоциативно-мозаичную композицию поэмы и придает ей особую цельность при отсутствии одного эпического героя, одного центрального события. В первой песни - «Беды» - автор рисует картину бедствий родины, раздираемой религиозными распрями; во второй - «Властители» - обличает королевский двор, сильных мира сего; в третьей - «Золотая палата» - обрушивается на судебную власть страны, в четвертой - «Огни» - рисует страдания мучеников за протестантскую веру, в пятой - «Мечи» - изображает страшные картины Варфоломеевской ночи, в шестой - «Возмездия» (Vengeances) - воссоздает некоторые наиболее драматические эпизоды библейской и политической истории прошлого, в седьмой - «Суд» - завершает поэму картиной небесного суда над грешниками. Таким образом, единого сюжета, почерпнутого из библейской истории, что было традиционно для христианской эпопеи, в поэме д’Обинье нет, но есть единство поэтической интонации. «Самый библейский из всех французских поэтов» (Bailbé, 1968, 430) тесно сближает трагичес-
172
кое и библейское, выступая в каждом эпизоде поэмы одновременно обличителем и пророком. С одной стороны, его собственная разгневанность кажется поэту грехом перед лицом Создателя. С другой - Бог для д’Обинье выступает в первую очередь носителем Истины и Справедливости, он воспевает его не через величие Божественного творения, как Дю Бартас, а посредством изображения битвы между теми, кто сражается за и против Него (Raymond, 1930, 37). Для поэта важен не просто метафизический, космический масштаб происходящих событий (хотя барочный космизм представлен в эмблемно- аллегорических образах поэмы ярко и разнообразно), а их политически «ангажированная» сущность. Непосредственное участие автора «Трагических поэм» в политико-религиозных коллизиях его времени заставляла некоторых читателей «Трагических поэм» больше ценить их не за поэтическое мастерство автора, а за искреннее негодование воинствующего гугенота.
Активным участником политической жизни своего времени был и «рыцарь мира» (Ф. Бонт) В. Гюго: не перечисляя всех политических деяний поэта, напомню только, что он был на баррикадах 1848 г., избирался депутатом Конституционного собрания, стал одним из самых последовательных оппозиционеров режима Наполеона III и, как и д’Обинье, изгнанником. Еще в 1948 г. Гюго задумал прозаическое сочинение, название которого совпадало с заглавием первой песни «Трагических поэм» - «Беды» (Misères). Из этого замысла в конце концов родился роман-эпопея «Отверженные» (Misérables, 1862). Судьба отверженных волновала и Гюго-поэта: в свой сборник «Возмездие» (1853) он ввел тему народа, важную для всех романтиков, именно как тему отверженных - обреченных на умирание голодных работников, нищих, осужденных и заключенных в тюрьмы (Robier, Delon, 1976, 80). Но тональность «Возмездия» в целом иная, нежели в романе, в ней больше не трогательного и патетического сочувствия к «misérables», а яростного негодования по поводу установившегося «кровавого» режима Наполеона III. «Взрыв гнева», как называет «Châtiments» Ж.-Л. Баррер (Barrère, 1972, II, 46), выплеснулся у Гюго вслед за его знаменитым памфлетом «Наполеон маленький» (1852). Поэт, как и его предшественник в конце XVI - начале XVII в., стремился создать не связную эпическую историю, а широкое полотно, состоящее из ярких контрастных фрагментов, скрепленное лирико-
173
сатирической интонацией. При этом фрагментарность поэтического целого в романтическом произведении не просто количественно увеличена, но и качественно преображена: там, где у поэта барокко ощущается автономность, но и внутренняя завершенность образа- эмблемы (напр., эмблема Франции как матери с двумя дерущимися младенцами на руках), у романтика очевидна открытость образов- символов, тянущих за собой цепь бесконечных ассоциаций (Оксан как символ динамики жизни, мятущейся души поэта, народа и т. д.). Девяносто восемь стихотворений распределяются в «Возмездии» на семь книг (также семь!), шесть из которых носят иронические названия, определяющие главные «достижения» правительства Наполеона III: «Общество спасено», «Порядок установлен», «Семья укрепилась», «Религия прославлена», «Авторитет священен», «Стабильность прочна». Седьмая же книга названа скорее патетически: «Спасители спасутся». Названия не конденсируют содержание книг (как у д’Обинье), а контрастируют с ним, саркастически обнажая пустоту политических претензий новой власти.
Гюго прекрасно знал поэзию д’Обинье, открытую романтиками начала XIX в. Известно, что он называл своего предшественника «гордым д’Обинье», как и Данте, «настоящим олимпийцем», а в своем «Шекспире» ставил рядом Ювенала, д’Обинье и Мильтона. Кроме того, в одном из своих стихотворений (L’Ane) он писал: «Я чистосердечен, речь моя горька, но тверда / Ибо я предпочитаю, как брат Лафонтена/ И как почти кузен Агриппы д’Обинье / Правду, даже грубую, самой приглаженной фальши, / Непричесанные волосы мужским парикам». Однако, когда непосредственно в тексте своей поэмы Гюго указывает на своих предшественников, он называет Ювенала, Данте, Мильтона, Эсхила и св. Иоанна, но не д’Обинье. М. Робье и М. Делон указывали в свое время на это обстоятельство, отмечая, что сравнение текстов поэм позволяет выявить специфику поэтического воображения каждого из поэтов при всей очевидной их близости (Robier, Delon, 1976, 79).
Действительно, оплакивая несчастья Франции в разгар религиозных войн (д’Обинье) или политических битв (В. Гюго), поэты сходятся в обращении к классической поэтической традиции, но используют ее каждый по-своему. Так, д’Обинье в духе риторики барокко обращается за вдохновением к одной из девяти существующих Муз,
174
Гюго - романтик-мифотворец - изобретает собственную, новую Музу - Музу Гнева. Библия - источник вдохновения для обоих поэтов, но если д’Обинье - воинствующий протестант, перенасыщает поэму библейскими реминисценциями137, выступает неким библейским пророком, Гюго сознает и изображает себя поэтом-публицистом, политическим историком, в духе романтической историографии не просто фиксирующим факты, а силой воображения проникающим в их суть. Мартирология у каждого из писателей своя: там, где поэт барокко демонстрирует триумф, даже в смерти, религиозных мучеников, выделяя их из массы других смертей, смертей простых крестьян, например, Гюго, рисуя героическую смерть противников переворота 4 декабря, превращает ее в символ медленного, но неизбежного в условиях социальной несправедливости умирания всех отверженных. Д’Обинье осуждает тиранов и их споспешников - королевский двор, прелатов, судейских. Гюго не только расширяет сферу критикуемого Зла (осуждаемы им все, кто наживается - собственники, буржуа), но усложняет ее: эти люди были избраны, избраны самим народом, избраны и самим В. Гюго, что существенно меняет всю перспективу политической сатиры и ставит вопрос о смысле и точном переводе заглавия поэмы. Ведь если д’Обинье ставит свое сочинение в ряд «трагедий», используя барочную иллюзионность для воссоздания грандиозного театра Божьего мира, то Гюго описывает власть Наполеона III как плохой театр, бульварную мелодраму, самого императора как Робера Макера (персонаж популярной мелодрамы Ф. Леметра), чьи преступления требуют не Божественного возмездия, а народной кары, наказания. Гюго не случайно отказывается от варианта заглавия - «Vengeances» в пользу «Châtiments» (букв, «наказания», ср. перевод романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» на французский язык - «Le crime et le châtiment»). Борьба с тиранией у Гюго требует не трансцендентной, как у д’Обинье, а исторической гарантии и политической кары (Bailbé, 1968, 83).
Более непосредственная историчность поэмы Гюго отнюдь не препятствует развитию в ней мифологической образности, но задает ей особые формы и функции. Сам поэт - это пророк, сидящий на берегу Океана, но образ океана - это, в свою очередь, образ народа. Гюго -
1Г «Самым библейским из французских поэтов» называет д'Обинье Ж. Бельбе (Bailbé. 1968b, 430).
175
поэт и пророк - по-байронически мыслит себя вне массы, ее вождем, «святым мечтателем», без которого не было бы света в ночи Истории. В отличие от д’Обинье, мифологизирующего религиозно-политическую позицию своих сторонников, частью которых он является, говорящего от имени надындивидуальной Божественной Истины, романтический поэт мифологизирует подчеркнуто субъективную позицию художника, видящего дальше, яснее, лучше, чем остальные.
Оба поэта предстают в поэтической ткани своих произведений как - уже - не участники схватки, изгнанники (правы те исследователи, которые не доверяют слишком ранней датировке «Трагических поэм», по крайней мере, ее завершения). Причем образ изгнания у обоих рисуется сходным образом - как место своего рода смерти, но и углубленного размышления, рефлексии. Однако, как уже было сказано, образ поэта в барочной и романтической художественной системах - не совпадают, разняться наиболее отчетливым образом. У д’Обинье это голос самого Бога. Ни повествователя, как пишет Кл. Дюбуа, ни героя «Трагических поэм» невозможно индивидуализировать, хотя как будто легко идентифицировать. Это не индивид - и не индивидуальность (Dubois, 1976, 30). Герой барочной эпопеи - это Божьи дети, совокупность верующих-мучеников (Weber, 1969, XXVIII). При этом язычники, даже великие, и мученики за христианскую веру в «Трагических поэмах» разведены. В поэме Гюго все защитники великого идеала составляют единый ряд, в котором встречаются Ян Гус и Гутенберг, Сократ и Христос, Колумб и Лютер, Вольтер и Мирабо. Специалисты связывают это с изменением представления о ходе Истории и об исторической перспективе, произошедшими в романтическую эпоху. Гюго задумывается над исторической виной - и Наполеона I, своим 18 брюмера проложившим в конце концов дорогу Наполеону III, и своей собственной - ведь он какое-то время был политическим сторонником будущего узурпатора13*. В то же время «черный Апокалипсис» барочного поэта у Гюго, размышляющего над историческим прогрессом и верящего в этот прогресс, сменяется гораздо менее мрачной перспективой. Ночь Истории в его поэтическом и политическом воображении неуклонно
138 М. Робье и М. Делон видят даже в поэме Гюго поэму Каина, поэтическое признание «нечистой совести» (Robier, Delon, 1976, 86), однако скорее поэт-романтик не просто рисует внешние битвы, но и себя как средоточие внутренней борьбы.
176
будет побеждена Светом, кровавый тиран падет, утвердится Республика. Барочной метафизической трагедии, созданной д’Обинье, разрешение которой произойдет в горнем мире, соответствует в романтическом «Возмездии» беспощадная, обретающая космические масштабы сатира, «снимаемая» в земном будущем социально- политическими и нравственными усилиями самого человека.
Итак, в поэме Гюго мы можем обнаружить ряд схождений как с поэтикой барокко («манихейское» столкновение Добра и Зла подобно антиномиям барокко; визионерская образность напоминает зрелищность, картинность барочных образов; драматическая контаминация трагического и сатирического сродни мрачно-сатирическому колориту барочных инвектив; грубость, резкость, подчеркивание неотделанности стихов и одновременно пристрастие к риторическому красноречию равно характерны и для барокко, и для романтизма), так и конкретно с эпопеей д’Обинье (политическая ангажированность, страстность; профетизм, сочетание универсального и злободневного пластов эпико-лирического сюжета; масштабность образов; тяготение к одному кругу литературных источников). Но тем более очевидно несомненное своеобразие каждого из поэтов. Автор «Возмездия» демонстрирует пристрастие к более свободному верифицированию и к более разнообразной лексике: последовательное движение «Трагических поэм» от «низкого, сатирического» стиля к возвышенно-торжественному, патетическому сменяется в «Возмездии» контрастно фрагментарным сочетанием «высокого» и «низкого», утратившими свою иерархическую безусловность, причудливопарадоксальными переходами от одного регистра к другому. Гюго мыслит революцию не как восстановление изначальной чистоты и справедливости, подобно автору «Трагических поэм», а как обновление мира. Он завершает поэму не Божественным апофеозом, а исторической перспективой, включающей элементы утопии (Sylvos, 2001), пронизанной мощной верой в то, что мы обозначаем сегодня клишированным выражением «светлое будущее человечества» и над чем склонны обычно иронизировать. Но глубина поэтического дарования Гюго и сила его воображения оказываются так притягательны, что даже сегодняшний читатель «Возмездия», погружаясь в чтение поэмы, оставляет свой скепсис «за ее порогом», ощущая потребность разделить с великим романтиком его гуманные утопические мечты.
От модернизма «Вещей» к постмодернизму «Шмоток»: Жорж Перек и Кристин Орбан
Речь пойдет о модернизме и постмодернизме в общекультурологическом смысле, точнее о некоторых явлениях литературы в ситуации модерна и постмодерна. Связано это во многом с тем. что сопоставляемые писатели до сих пор еще не утвердились в историко- литературной классификации: Ж. Перека даже скорее относят к литературе постмодернизма (правда, имея в виду прежде всего его поздние романы139), а по поводу одного из романов К. Орбан замечают, что «литературный модернизм продолжает окрашивать современные сочинения» (Viart, Vercier, 2005, 117). За скобками, поэтому, останутся важные, но весьма дискуссионные проблемы соотношения модерна и постмодерна с модернизмом и постмодернизмом (см., в частности: Schulte-Sasse, 1987, 5-22), о хронологических границах между одним и другим - границах весьма решительно сдвигаемых то в одну, то в другую сторону, наконец, будет лишь отчасти затронут вопрос об отношениях между поэтикой модернизма и постмодернизма, решаемый крайне противоречиво. Исследователи современной литературы склонны к определениям общих принципов, каталогизации приемов, к поискам универсальных формулировок больше, чем к конкретным сопоставлениям конкретных текстов (см., напр.: Alter, 1979, 29-52; Belmont, 1987; Pico, 1988; Downing, Bazargan, 1991; Brooks, 1992). Среди обобщающих концептуальных трудов такого рода есть, безусловно, и весьма удачные. Если иметь в виду только работы последнего времени, то можно отослать к статье 2001 г. М. Гонтара «Постмодернизм во Франции: определение, критерии, периодизация» (Гонтар, 2006), где сравниваются модернизм
159 К тому же, насколько удалось установить, чаще всего литературоведы проводят конкретное сопоставление между Ж. Переком и Ж. Эшнозом, поэтику которого трудно однозначно назвать постмодернистской (см.: Dangy, 2007).
178
и постмодернизм, или к опубликованной лекции профессора университета Колорадо Мэри Клэйг «Модерн/Постмодерн: линия перелома» (Klage, 2003): эти исследования гораздо более масштабны по уровню обобщений, чем данное сообщение. Но, возможно, в таком масштабе и ускользают нюансы, подробности, которые могли бы внести коррективы в перечисленные дискуссионные проблемы. Во всяком случае, разнообразные сопоставительные перечни поэтики модернизма и постмодернизма140 могли бы быть уточнены в процессе таких конкретных сопоставлений.
Напомню, что «Вещи» (1965) - первый роман Ж. Перека (1936— 1982), за который писатель получил премию Ренодо и сразу стал популярен. В нем обозначились те свойства, которые сохранила перековская манера при всех извивах литературной эволюции писателя: прежде всего, желание синтезировать игровую концепцию письма с гиперреалистичностью описаний и нейтральностью стиля. Специалисты видят в этом экспериментальную ассимиляцию традиций Г. Флобера, Р. Кено (соратника Ж. Перека по УЛИПО), и нового романа. Сам романист в 1967 г. на конференции в Варвике утверждал, что в «Вещах» он обращался к опыту четырех писателей - Г. Флобера, Р. Антельма, П. Низана и Р. Барта (цит. по: Siguret, 1995), и этот перечень также указывает на ассимиляцию различных традиций. Известно, что Ж. Перек создает образ «общества потребления»141 и одновременно - образ поколения: подзаголовок «История шестидесятых годов» - это еще и указание на «историю шестидесятников»142 в западном смысле: героям произведения Ж. Перека, семейной паре - чуть больше 20-ти: Жерому - 24, Сильвии - 22, они представляют то поколение «молодых интеллигентов», у которых, по словам самого автора, «только два выхода, одинаково безнадежных: стать или не стать буржуа». Критика персонажей, их по-
140 Чтобы не делать произвольного выбора из весьма многочисленных источников, отошлю к библиографии: Przychodzen, 2000.
141 «Романистом протеста против общества потребления» назвали Ж. Перека французские историки литературы. См.: Bersani. Autrand, Lecarme, Bercier, 1970, 620. Ж. Бодрийяр также указывает на то, что в «Вещах» «перед нами - мир потребления», однако подчеркивает не критицизм писателя, а абстрактную комбинацию знаков в описании этого мира (Бодрийяр, 2001, 166).
142 Патрик Комб называет «Вещи» наряду с «Маленькими детьми века» Кр. Рошфор (1967) «протоисторией» майских событий 1968 г. (Combes, 1984, 18).
179
коления, их типа общества, разумеется, важна, но едва ли не важнее - поэтологические приемы, посредством которых эта критика осуществляется «великим фокусником от литературы» (так определяет Ж. Перека У. Эко, см.: Эко, 2002, 111 ). Ж. Перек ставит перед собой особую художественную задачу «исчерпания реального в его описании» (Signet, 1995, 20). Повествование ведется от имени автора, остраненно-дистанцированно, по-флоберовски «холодно» описывающего своих героев, их среду. Впрочем, М. Злобина права, находя в «нарочито беспристрастной и серьезной» манере изложения «привкус иронии» (Злобина, 1969, 12): «Объективность Перека лукава: стиль рекламных проспектов, используемый для описания стремлений героев, находится на грани пародии» (Злобина, 1969, 12). Однако Ж. Перек, как кажется, никогда не переступает эту грань. Речь в романе постоянно идет об обоих персонажах - это «они», живущие «в пустоте отношений», «не существуя как супружеская чета» (Бодри- йяр, 2001, 167). Это люди, стремящиеся, с одной стороны, к некоему идеалу потребления, хотя этот идеал - собственно говоря, стандарт, норма, с другой - осознающие себя в определенном смысле слова индивидуалистами, быть может, - нонконформистами, они воспринимают свое время как «не их» - ср. рассуждения персонажей о том, если бы они жили во времена гражданской войны в Испании - и при этом, алжирская война их как бы не касается; они вроде бы не хотят встраиваться в систему - пойти на службу, рутинно трудится в конторах и т. п. - но это, по существу, свидетельство их лени и девальвированной романтической мечтательности (получить бы наследство, ограбить бы банк... и пр.). В конце концов, оказавшись перед необходимостью поступить на службу, герои трудно входят в ритм рутинно-трудового существования: «Им тяжело было просыпаться в определенное время, их раздражала необходимость возвращаться вечером в переполненном метро; усталые и грязные, в изнеможении падали они на свой диван и мечтали о длинных уикендах, свободных днях, позднем вставании» (Перек, 1972, 217). Они вполне в духе модернизма строят планы (верят в прогресс - большая часть повествования строится в будущем времени), но планам этим не суждено сбыться по крайней мере, в том виде, в котором они замышлялись. В планы Жерома и Сильвии входит желание разбогатеть, при этом они если не бедны, то очень среднего достатка люди. Богатство
180
выступает для героев Ж. Перека средством достижения счастья как свободы идеализированного потребления: «Сначала глаз скользнет по серому бобриковому ковру вдоль длинного, высокого и узкого коридора. Стены будут сплошь в шкафах из светлого дерева с блестящей медной окантовкой. Три гравюры <...> подведут к кожаной портьере на огромного черного дерева с прожилками кольцах, которые можно будет сдвинуть одним прикосновением...» (Перек, 1972,201 ). Ж. Бодрийяр прав, говоря об образе потребления в романе «Вещи» как о «тотальной идеалистической практике, которая далеко выходит за рамки отношений с вещами и межиндивидуальных отношений, распространяясь на все регистры истории, коммуникации и культуры. То есть остается живым стремление к культуре - но в роскошных изданиях и литографиях на стенах столовой потребляется одна лишь ее идея» (Бодрийяр, 2001, 166). Отсюда и особое пристрастие героев к кино как некоей форме «массовой культуры». Это - «антигерои поневоле», если воспользоваться выражением, которое один из критиков (цит. по: Злобина, 1969, 15) употребил по отношению к персонажам другого раннего сочинения Ж. Перека. Характеристика жизни Жерома и Сильвии легко укладывается в анализ Марксом социально-экономических отношений буржуазного общества (цитатой из Маркса Перек и заканчивает свой роман), ход сюжетных событий и их итог описывают конкретный период французской истории XX в. и одновременно напоминают пессимистическую общую атмосферу и развязку флоберовского «Воспитания чувств».
Кристин Орбан - писательница другого поколения, 1954 г.р., начавшая издавать романы уже после смерти Ж. Перека. Она сочиняет «Шмотки» (2002), уже будучи автором довольно большого числа произведений: ее первый роман «Девочки не умирают» появился в 1986 г. еще под ее девичьей фамилией - Ренс. Кстати сказать, можно увидеть постмодернистскую игру авторской идентичностью уже в этой смене имен: в 1990 г. писательница выпускает роман под псевдонимом Кристин Дюон, и лишь начиная с 1991 г. уже постоянно печатается под фамилией Орбан - фамилией своего мужа-издателя. Так что курьезное появление как раз романа «Шмотки» (поскольку не он один переведен на русский язык из ее романов, см. также: Орбан, 2005b) под именем «Кристин Орбэн» - нечто вроде постмодернистской иронии судьбы.
181
В романс Орбан многое внешне очень похоже на псрсковский текст: соотношение заголовка - и подзаголовка («Роман из мира моды»), гиперреалистичность описаний предметов (в случае с Орбан - только одежды, платьев, юбок и т. п.), стилистика рекламного проспекта145, но при более пристальном прочтении легко обнаружить множество несходств. Прежде всего, вместо повествования от лица автора в «Шмотках» рассказ ведется самой героиней - молодой женщиной, родившейся «через пять лет после шестьдесят восьмого года» (Орбэн, 2005, 9), - т. е. примерно 28-29 лет, - и уже никоим образом не выражающей даже внешнего, слабого стремления обрести некую политическую позицию. Для Дарлинг упоминание 1968 года - это повод поиронизировать над некоторыми завоеваниями феминизма: «...война между мужчинами и женщинами почти закончена. Мои соратницы взялись за работу. Я могу позволить себе роскошь отступления» (Орбэн, 2005, 9). Вместо практически сплошного текста «Вещей», разделенного на три большие части (первая, вторая, эпилог) скорее графически, чем стилистически (тем самым глубинная фрагментарность наделяется у Ж. Перека «акробатическим правдоподобием» - Dangy, 2007) - «Шмотки» предстают в виде отчетливо выраженных, демонстративных каталогизированных фрагментов, это некий роман-анкета с рубриками: Гражданское состояние героини; Платье, в котором можно отправиться на поиски Единственного мужчины; Подвенечное платье, Платье для шоппинга, Мужской костюм, Спортивный костюм как убежище и т. п. При сходном с Жеромом и Сильвией презрении к буржуазности (среди врагов Дарлинг - практичность, польза, банкир и бухгалтер) у героини К. Орбан нет нужды в зарабатывании денег; вместо стремления к стандарту (пусть даже одновременно материальному и «духовному») - видимое отвращение к нему («У меня аллергическая гиперчувствительность IV типа к униформе» - Орбэн, 2005, 10) и нарушение его. Так, Дарлинг устраивается работать в магазин фирмы Шанель, но ношение униформы вызывает в ней приступ удушья: «Меня стерло с лица земли непредвиденной катастрофой, мой сердечный ритм совершенно разладился. Униформа скучна до смерти. Я умирала <...> прямо 143 *
143 У Ж. Перека обнаруживают также и паззловый стиль (см.: Bellos, 1988), что
опять-таки вполне применимо к стилю «Шмоток» К. Орбан.
182
в центре бутика я грохнулась в обморок на ковер с эмблемой Коко» (Орбэн, 2005, 25). Подобно тому, как герои Ж. Перека видели в богатстве средство достижения свободы, Дарлинг рассматривает как источник свободы моду. Она превосходно разбирается в торговых марках различных одежных, обувных и косметических фирм, но ее стремление - сломать стандарт (она делает надписи на платьях, разрезает их, нашивает на них какие-то экстравагантные украшения вроде колокольчиков на джинсах; заявляет, что «просто не может находиться в обществе, если одета как все» - Орбэн, 2005, 51), столько же привлекая, сколько и отпугивая мужчин и женщин. Она жаждет индивидуальности, но эта индивидуальность выражается в эпатаже (вполне стандартном) общераспространенного, модного - в данном случае эпатаж не тождествен игнорированию, скорее, утрировке. Сама автор утверждает в одном из интервью, что в «Шмотках» она хотела написать «похвалу легкомыслию», «атаковать тех, кто считает фривольность - вещь, во Франции непростительную - неким табу» (Bussière, 2003, 80). Отсюда и ироническое отношение Дарлинг к традиционным проявлениям интеллектуальности: она насмешливо перефразирует Декарта («Я дошла до ручки, следовательно, я существую» - Орбэн, 2005, 77); упоминает Вольтера, Дидро, Паскаля и Мольера как фарфоровые статуэтки: заявляет своему соседу-философу, что «новый силуэт способен перевернуть твою жизнь почище Гегеля» (Орбэн, 2005, 147) и т. п.
Если проблема перековских персонажей состояла в том, что они потребительски относятся к культуре, то у героини К. Орбан как будто нет уже и потребления культуры - она неизменно проходит мимо книжных магазинов, не увлечена посещением театров, кино и т. п. - только ресторан, кафе, обед у подруги и пр. Если для героев Перека кино - это жизнь, заменитель жизни, то для Дарлинг «жизнь - это кино. Я сохраняю все шмотки, сопровождавшие меня в определенные моменты жизни...я перекручиваю пленку, замедляя кадры» (Орбэн, 2005, 21). Однако критический пафос, сколь бы ни был он приглушен объективно-отстраненной нарративной интонацией у автора «Вещей», роману К. Орбан совершенно чужд, поскольку художественной задачей писательницы, как она сама ее формулирует, было не создание образа «рабыни роскоши», а демонстрация невозможности «отделить роскошь от элегантности, а
183
элегантность от души» (Bussicre, 2003) и близости ирис граетий ее персонажа и ее собственных жизненных прсдиочгений. Впрочем, заявление писательницы нс лишено стремления к рекламной скандальности.
Во всяком случае история Дарлинг не походит ни на сатиру, ни на апологию героини. Можно даже рассматривать сюжет романа К. Орбан как описание психологического нездоровья женщины, подверженной мании покупок одежды в силу одиночества (она некогда вышла замуж не по любви, рассталась, ей все интереснее общаться с вещами, чем с людьми). И намеченный выход - утрированно банален: своеобразный сверхфеминизм (мужчины в рассказе Дарлинг пронумерованы, они воспринимаются как совершенно понятные, наивные существа, которыми можно управлять) завершается влюбленностью в мужчину-Бога («Ничего необычного - извечная программа любви, заложенная в генах» - Орбэн, 2005, 274), который при этом похож на стандарт героя-любовника - на голливудского актера Кевина Кестнера. Этому герою Дарлинг готова подчиниться до такой степени, что даже расстается со своим обширнейшим гардеробом, хотя и не без сомнений. Решение оставить прежнюю жизнь-гардероб позади вполне может быть неокончательным, во всяком случае, автор, отмечая свою привилегию - «читать мысли персонажей моей книги», воссоздает внутренний монолог героини, сохраняющий ее прежние критерии оценки людей, событий, эмоций: «Поди знай. Любовь надо примерять, как узкие кожаные брюки с узором из дырочек, как красные лаковые сандалии на платформе, как длинные белые перчатки из овечьей кожи, как...» и обращается к собственному персонажу с просьбой: «Дарлинг, дай ему шанс» (Орбэн, 2005, 278). Потенциально возможное прочтение романа как «дамской любовной истории» редуцирует «эпистемологическую неуверенность» как постулат постмодернистской философии до сомнения в окончательности благополучной развязки романа.
Исследователи сходств и различий модернизма и постмодернизма часто отмечают использование тем и другим одинаковых тем и приемов поэтики, отличающихся лишь частотой и итенсивностью употребления. Однако в анализе «Вещей» и «Шмоток» мы можем увидеть не только количественные, но и качественные поэтологические различия в воплощении как будто одинаковой, практически
184
одной и той же тематики. Опираясь на марксову теорию, Ж. Перек создал одновременно роман - и социологический очерк об обществе потребления, послуживший Ж. Бодрийяру иллюстрацией для постмодернистских умозаключений о «системе вещей». Для героини К. Орбан уже сама теория Ж. Бодрийяра (как и 3. Фрейда) служит иллюстрацией ее поведения и обоснованием любви к одежде. Не случайно Дарлинг заявляет: «В качестве соседа по лестничной площадке мне бы, пожалуй, подошел Зигмунд Фрейд или Бодрийяр. В шмотках и правда нет ничего серьезного, кроме способа заполнить пустоту в ожидании смерти, и в этом отношении искусство кройки следует поставить выше, чем науку и литературу» (Орбэн, 2005, 223). Можно сказать, что К. Орбан не столько сама как автор ориентируется на поэтику «Вещей», создавая ироническое подражание- вариацию романа Ж. Перека, сколько изображает героиню, прочитавшую даже не «Вещи», а бодрийяровский комментарий к ним, и отнесшуюся к содержащейся в этом комментарии идее «отмены реально переживаемого отношения» и «культурного терроризма» вещей с провокативной насмешливой снисходительностью, столь характерной для постмодернизма.
Классицизм и современная
ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЭЗИЯ
Когда мы говорим о традициях классицизма в современной литературе, нас часто легко и естественно уводит в сторону анализа соотношения классики и современной поэзии, а, как известно, классическое - понятие иное и более широкое, чем классицистическое. Существование классики в любой национальной литературе и в разные эпохи никем не оспаривается, тогда как классицизм достаточно постоянно, можно сказать - упорно, связывают, прежде всего, а то и исключительно с французской литературой. Более того, порой полагают, после установившейся во второй половине XX в. исследовательской «моды» на барокко, что и во Франции его, по сути, не было, поскольку классицизм есть лишь специфическая форма «французского барокко». По отношению к поэзии такая точка зрения особенно распространена. И связано это, думается, с несколькими причинами.
Прежде всего, в период классицизма поэзия отождествлялась практически со всей областью словесного творчества - не только потому, что широкое понятие «поэзия» было заместителем слова «литература» (укоренившимся только в конце XVIII в.), но и потому, что драматургия также была отнесена к поэтическому творчеству уже по факту стихотворного текста большинства пьес, тогда как проза оставалась маргинальной областью или, как роман, вовсе выведенной за рамки художественной иерархии и теоретической поэтики. Соответственно современные филологи порой предполагают, что в классицизме формальные признаки (ритм, метр, рифма) сами по себе превращали текст в «поэзию».
Как следствие, главным аргументом в пользу того, чтобы не слишком жаловать разговоры о классицизме в поэзии, тем более в поэзии послеромантической, является, как кажется, представление о принципиальной непоэтичности его поэтики. Как известно, поэзия классицизма во Франции началась, когда, по Н. Буало, «enfin Malherbe vint».
186
И как бы высоко не ценил автор «Поэтического искусства» своего собрата, с ним мог после романтической «революции» в эстетических вкусах согласиться только, пожалуй, Г. Лансон. видевший в XVII в. эпоху классицизма и называвший всех неклассицистов «отставшими и сбившимися с пути». Современные же литературоведы обычно подчеркивают, что Малерб более велик как теоретик, реформатор стихосложения, как основоположник современник литературного языка, но отнюдь не как поэт. «Сухой», «головной» стихотворец, Малерб расценивается историками литературы как «Жомини в поэзии» (имеется в виду Антуан-Анри Жомини, военный теоретик XIX в., автор учебника по военной стратегии). Требование ясности и точности выражения, строгой правильности «формы» - жанра, метра, рифмы, представление о том, что поэзия должна быть насыщена важной мыслью, возвышенным смыслом - все это, как представляется, мало популярные идеи в современной литературе, ломающей границы правильного-неправильного, демонстрирующей относительность или полную несостоятельность нормы и предпочитающей смысл выражению бессмысленности, абсурда бытия. Еще более укрепляет в сознании современного специалиста мнение о непоэтичности поэзии классицизма и то, что «поэтическое» со времен романтизма прочно связывается с понятием «лирического» как субъективноличностного, индивидуального самовыражения. Г. де Гриссак, обратившись к проблеме изучения современной поэзии во французской школе, не случайно пишет: «Близки ей только темы определенного типа, главным образом, связанные с культурой XIX в., «природа», «женщина», «любовь», «печаль», «смерть». Таким образом, поэзия воспринимается под углом определенного предназначения: это лиризм и романтизм» (Grissac, 2007, 59-60).
Андре Мальро в свое время писал о том, что, начиная с романтизма, происходит изменение: вертикальный обмен культурными ценностями, существовавший в классицистическую эпоху, у авторов древних эпох, сменяется горизонтальным обменом у современных европейцев (Malraux, 1977, 236). Вместо субординации, иерархии, гомогенности культурной традиции воцаряется плюрализм. Происходит кризис единой Традиции, возникает множество одновременно существующих и сосуществующих традиций. Соответственно все основные требования поэтики классицизма - иерархия.
187
ясность, простота, единство поучения и развлечения, соблюдения общих, универсальных норм и правил - все они, с точки зрения новой литературы оказываются непоэтичными. Впрочем, Ж.-И. Массон (Masson, 2002), полемизируя с А. Мальро, полагает, что следует «говорить о расширении пространства, а вовсе не о конце линеарной концепции традиции, которая никогда и не существовала в классицизме». Для него очевидно, что поэзия либо тяготеет к «нечитабельности» (что является признаком модернизма), либо к «читабельности», коммуникативности, что, с одной стороны, характерно для традиции классицизма, с другой - присутствует в постмодернистской поэзии.
В последние годы французское литературоведение, анализируя состояние современной поэзии, констатирует, с одной стороны достаточно оживленную деятельность поэтов, активное издание поэтических текстов, разнообразие художественных тенденций (формалистическая авангардистская поэзия, сонорная поэзия, неолиризм, минимализм и т. д., см.: Simon, 2008, 2), с другой - ощущение кризиса или перелома, перерыва постепенности поэтической эволюции (Andreucci, 2004, 25). Как ни парадоксально, но ощущение разрыва с традицией составляло важнейшую черту и классицистической поэзии: еще Шацкий заметил, что классицизм был «бунтом против традиции», но кажется, что особенно это касается именно поэзии. В самом деле, если драматургия XVII столетия опирается на ренессансный классицизм, на ученую трагедию Ренессанса, роман напряженно ищет свою традицию, понимая, что ее наличие может реабилитировать ее в глазах теоретиков и читательской публики, то поэзия - как раз в лице Малерба - бунтует против этой традиции, не принимает не только наследие Плеяды в качестве образца, но и не считает нужным без оговорок принимать поэзию античности. Поэзия французского классицизма охвачена стремлением начать снова, с очищения, опираясь на жажду быть понятой и выполнять функцию общения с читателями, поднимая его на более высокий уровень; она стремится вырабатывать и соблюдать общие, универсальные правила языка, быть ясной, но одновременной глубокой, содержать мысль, соблюдать законы жанра.
В то же время разрыв с поэтической традицией прошлого сегодня более радикален, чем предшествующий, поскольку нынешние критики не просто говорят о новой поэтической форме, но ставят
188
вопросы, «что же такое поэзия»144 и «зачем нужны поэты?»145. В 1995 г. Ф. Соллерс назвал свою статью в газете «Монд» «Невидимая поэзия», ведя речь о маргинализации поэтического творчества в современном обществе, о ее предназначенности только «for the happy few». Однако уже в 2000-е гг. все больше голосов критиков раздается в защиту «читабельной» поэзии. Рецензенты специального выпуска журнала «Магазин литерер», вышедшего в марте 2001 г., не случайно отмечают, что в материалах номера много говорится о поэтах, их приемах и т. п., но ничего не цитируется из их сочинений - эта поэзия оказывается гораздо менее интересной, чем «комментарии к ней».
Ж.-П. Бертран выражает удивление, что после «эры новой критики» все еще «говорят о священном поэтическом слове, ускользающем от определения» (Betrand, 2005, 32). Исследователь выделяет следующие этапы поэтической эволюции Нового времени: 1789 и 1830 породили романтизм, 1848 - Бодлера и парнасцев, 1870 - символистов, 1914-1918 - модернизм и сюрреалистов; с 1968 г. распространяется формализм, а в 1989 постмодернизм возвращает в поэзию неоклассицизм, пусть даже иронически (Betrand, 2005, 37). Интерес к судьбе и формам классицизма в XX в. проявляется у ученых146, как кажется, именно потому, что все большее распространение неоклассицистической практики требует теоретического анализа. Известный поэт и критик М. Деги, например, ратует за аналитический подход к поэзии, утверждая, что «у поэта всегда есть некое «поэтическое искусство», явное или неявное». Подтверждением этой тяги к созданию «правил поэзии» может служить сочинение современного поэта Оливье Кадью «L’art poetic» (1988) - впрочем, уже неканоничность написания слова «поэтическое» (poétique) говорит об игре с традицией классицистических поэтик.
144 «Что мы понимаем сегодня под поэзией? Есть ли какой-то общий смысл в вопросах, касающихся поэзии: что она такое? Для чего она?» (Degui, 2003, 7).
145 К. Андрекси напоминает, что этот вопрос, ставший заглавием двух недавних монографий - К. Прижана и Ж.-К. Пенсона - пародируют знаменитый вопрос Гёльдерлина, подхваченный в свое время М. Хайдеггером «К чему поэты в печальные времена?» (Andreucci, 2004, 25).
146 См., в частности, материалы коллоквиума во французско-американском университете «Коламбиа юниверсити в Париже»: Le Classicisme des modernes: représentations de l’âge classique au XX siècle (2005).
189
Вопрос, что такое сегодня поэзия, - это вопрос о том, что такое «поэтическое», поскольку история поэзии как будто демонстрирует все более решительный разрыв между стихотворством (созданием ритмизированных, рифмованных строк) и поэзией как таковой - разрыв, закрепленный в конце XIX в. Однако оборотную сторону такого расширительного понимания поэзии наглядно демонстрирует саркастическая реплика Д. Сакре: «поэт - тот человек, который говорит, что то, что он пишет, называется стихами» (Sacré, 1993,14). Не случайно, поэтому, что постмодернистская поэзия неожиданно возвращается к стихосложению как таковому, использует александрийский стих, как будто прочно забытый.
В обзоре современной поэзии, проделанной К. Андрекси, исследовательница выделяет несколько важнейших тенденций, подготовивших сегодняшнее поэтическое разнообразие во Франции. Так, она указывает, что поэтическая революция, произведенная в свое время Рембо и Малларме, закрепила за «поэтическим» значение внутреннего поиска «Я» - в самых темных углах этого «Я» (Andreucci, 2004, 29). Соответственно, чем очевиднее поэт создавал свою собственную вселенную, чем больше он говорил на своем собственном языке, тем он больше понимал себя и воспринимался читателями как поэт. Так, Рембо понимал поэзию как «пространство du dedans», а Малларме выделял два направления в поэтическом творчестве: а) работа над языком, трудная теория языка, поскольку его поэтический язык принципиально герметичен; б) оценка языка как звукового и графического материала. Такая поэзия была озабочена стремлением вскрыть тайный смысл мира, была связана с романтической, прежде всего, немецкой традицией.
В 1960-х годах в группе Тель Кель выделился Ф. Понж, также активно пропагандирующий поэзию внутреннего «Я», проявляя при этом интерес к мелким, обыденным предметам. Сохраняя лиризм, его поэзия выражает себя в поисках новых форм, в отказе от «правильности». Разнообразные языковые «математические» эксперименты в эти же годы процветают в группе УЛИ ПО у Р. Кено и др. С другой стороны, получила развитие так называемая «онтологическая поэзия», ищущая метафизический смысл - творчество Рене Шара, Сен-Жон Перса, Ива Бонфуа. Они открещивались от автоматического письма, от экзальтации воображения, от всего «романтического». В стихе эти поэты жаждут явить текстуру внешнего
190
мира. К этому же направлению примыкает Ф. Жаккоте, стремящийся к прозрачности языка, безобразной поэзии, которая была бы только называнием объектов.
В 1980-е гг. во французской поэзии получил развитие «новый лиризм», главным теоретиком которого стал Ж.-М. Мольпуа. В русле этого течения распространилась жажда читабельности поэзии, коммуникабельности, что потребовало чувствительности выражения, грамматической правильности и лексической ясности и нормативности. Закономерно и то, что появление во французской поэзии «нового лиризма» стимулирует теоретическое обсуждение понятий «лиризм», «лирическое».
Некоторым образом в современной поэзии то, что было закреплено за классицизмом (внимание к форме, работа над языком) и за романтизмом (эмоциональность и свобода выражения) перемешались и поменялись местами: сторонники неоромантизма видят поэтичность в формальных изысках и языковых экспериментах, неоклассицисты находят ее в понятном эмоциональном высказывании. Ж.-И. Массон утверждает: «Поэзия не может быть определена как чистая функция языка, ибо тогда она теряет свою природу. В языке нет особой функции, которую выполняет только поэзия. Изыскивая собственную чистую сущность в функции, поэзия теряет себя как понятие - или же определяется только как вариация интенсивности использования этой функции в разных типах текста - поэтического и непоэтического» (Masson, 2002). Литературовед предлагает собственное, иное определение: «Поэтическим является такое отношение к языку, которое, в то время как другие дискурсы выбирают между верностью реальности (в максимальной степени -это утилитаристские формы дискурса) и автономным функционированием языка, - отказывается от выбора и соединяет обе эти задачи. Именно тогда, когда язык работает, он меняет и наше представление о реальном и наше владение самим языком».
С этой точки зрения, роль классицизма в современной поэзии не исчерпывается, не ограничивается поиском неоклассицистов, а должен быть осознанием того, что есть пункт, в котором классицизм и классичность неразрывны, что всякий большой поэт в той или иной мере оказывается, если воспользоваться словами И. Бродского, «заражен нормальным классицизмом».
Теория постмодернизма
И СОВРЕМЕННЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ РОМАН
Даже если признать несправедливым, а точнее, эпатажным, залихватским высказывание В. Подороги о том, что «филология настоящего по определению невозможна» (Философия филологии, 1996, 56), следует признать, что аналитическое исследование текущей романной продукции всегда представляло значительную трудность. Затруднение особенно усилилось в последний период, когда сложилась атмосфера эстетического плюрализма, а количество этой продукции стало попросту огромным: «Как охватить все 337 романов, которые вышли из печати этой осенью?», - еще два года назад задавался вопросом известный французский литературовед Доминик Виар (Viart, 2003). С тех пор число публикуемых во Франции романов нисколько не уменьшилось, а лишь возросло. Многочисленность писателей (т. е. авторов) в эпоху «смерти автора» и после нее особенно наглядна, если обратиться к сайту «Лабиринт» (<http:// perso.wanadoo.fr/labyrinthe>), созданному Кристиной Женен для презентации современной французской литературы и содержащему длинные списки сочинителей (преимущественно прозаиков) на каждую букву алфавита.
Тем не менее, в последние десятилетия современная романистика вошла (впервые) в университетские программы и стала не только предметом журналистских рецензий, но и темой семинаров, коллоквиумов, круглых столов, объектом анализа в научных монографиях (наиболее значительные из них - Prévost, Lebrin, 1990; Mabin, 1993; Baert, Viart, 1993; Dambre, 2002). Анализ такого рода обязательно связан с попытками определить художественные перспективы, решить вопрос «куда идет сегодня французский роман?» (см., напр.: Brunel, 1997, 8), и практически неизменно начинается с констатации кризисного его состояния в постмодернистской ситуации. А состояние это связано, в том числе, и с невозможностью определить новаторство или вторичность романного текста, поскольку само понятие
192
«нового», «новизны» переживает кризис. Как полагает В. М. Дианова, для постмодернизма «характерно именно то, что его содержание ни в коем случае нс ново и не может быть таковым. Постмодернизм обозначает не новизну, а плюрализм» (Дианова, 2000)147.
Еще Р. Барт в беседе с Морисом Надо в 1973 г. по поводу кризиса в современном романе говорил: «Кризис бывает тогда, когда писатель вынужден либо повторять то, что уже было сделано, либо перестать писать» (Barthes, Maurice, 1980, 25-26). Однако коль скоро постмодернизм предпочитает инновациям повторение, оригинальности - эклектизм, его кризисы не могут быть связаны с наличием или отсутствием новизны. Отвергается новизна линейная, формальная, но к новому как «хорошо забытому старому» обращаются П. Киньяр и П. Мишон, Р. Камю и Ж. Вуо. Даже больше того: по мнению У. Эко, И. Хасана, Д. Лоджа, кризис - питательная среда постмодернизма, условие его существования. Как писал М. Хименес, «постмодернизм - ни эстетическое направление, ни течение. Это, прежде всего, выражение кризиса модернизма, охватившего западное общество, в частности, самые индустриально развитые страны мира... Он является симптомом новой болезни цивилизации» (Jimenez, 1997,418). Но в условиях постмодернистского разбалансирования модернистских ценностей, деиерархизации и релятивизма, болезнь легко превращается или, по крайней мере, воспринимается как вариант нормы. Ситуация постмодерна может быть рассмотрена как своего рода игра в кризис, в конец культуры, и в таком случае очередная «смерть романа» не может стать «полной гибелью всерьез», хотя именно так ее ощущают некоторые современные французские писатели. Объявив «хорошую новость» о том, что «постмодернизм умер, умертвил самого себя (se meurt)», Патрик Латандрес иронически завершает свое заявление парадоксально-успокоительным утверждением: «Это воз-возрождение!» (Latendresse, 2003). По мнению отечественного философа В. А. Кутырева, поскольку генеральной линией постмодернизма (по крайней мере, в философии) является деконструкция, «ее нередко отождествляют с постмодернизмом вообще, из-за чего и делается вывод о его смерти» (Кутырев, 2005, 3). Однако, продолжает рассуждение
147 Ср. также: «Новизна, столь дорогая сердцу модернизма, в современном искусстве не является больше ни привилегированным средством, ни главным критерием эстетического суждения» (Guibet, 1999, 5).
193
ученый, «генеральная линия - это тенденция, пунктир, реальное движение представляет собой множество ветвящихся течений, поворотов и отклонений» (Кутырев, 2005, 3). Характерно, что распространившаяся в последние годы концепция «аїїегпостмодернизма»І4Х трактуется то как новое явление, родившееся в результате кризиса и смерти постмодернистского типа культуры, то как ее же поздний вариант, в котором первоначально «деконструированные» понятия означаемого и означающего восстанавливаются, но при этом сохраняют постмодернистскую основу.
Среди множества парадоксов «ситуации постмодерна» в литературе нельзя не отметить тот, что связан с развитием новейших эстетических тенденций во Франции. Общепризнано - и у нас и в западном литературоведении, - что теория постмодернизма нигде не оформилась столь четко, и не выразилась столь ярко, как в трудах французских философов Ж.-Ф. Лиотара, Ж. Делёза, Ф. Гваттари, М. Фуко, Ж. Лакана, Ж. Деррида. В отечественном литературном обиходе следствием такого признания становится убеждение, что и культура постмодерна в целом, и постмодернистская литература нигде не воплотилась так классически, как во Франции: «рецептом французской кухни» именует постмодернизм, например, обозреватель «Петербургского книжного вестника». Однако французские литературоведы неизменно отмечают, что как раз во Франции литературная практика оказалась мало затронута постмодернистскими тенденциями. Более того, Элени Варикас утверждает, что «Французская теория (French theory) - это продукт селективного отбора и присвоения американскими университетскими кругами мыслей некоторых французских интеллектуалов, которые редко соединяются друг с другом и большей частью не принимают такого определения» (Varicas, 2004). А Д. Виар видит во «все возрастающей гегемонии США в области культурных штудий» (Viart, 2001) лишь ограничение исследовательского интереса к современному французскому роману. Голландские исследователи французской литературы также отме- *
148 Из последних отечественных публикаций об этом см.: Кутырев, 2005, 3-19. См. также материалы состоявшейся в ноябре 1997 г. конференции Чикагского университета об АЯегпостмодернизме (Conference on After Postmodernism - <http://www.focusing.org/apm.htm>).
194
чают: «Во Франции вместо постмодернизма предпочитают термин постструктурализм» (Van Buuren, Jongeneel, 1996), но это больше касается теории литературы, а не самих художественных произведений. В литературоведении и критике Франции фигурируют особые, специфические определения романной продукции 1960-1980-х гг. (новый новый роман), а тем более - последних десятилетий (неореализм, минимализм, автофикционализм и т. п.). Термин же «постмодернизм» оказывается настолько не востребованным, что порой без него обходятся целые монографии (см., напр.: Blanckeman, 2002).
История вхождения понятия «постмодернизм» в гуманитарную мысль Франции подробно рассмотрена в диссертации М. Гонтара. Первым употреблением этого понятия во Франции критика обязана переводам двух американских авторов: Гарри Блейка (его статья «Американский постмодернизм» была опубликована в журнале «Тель Кель» в 1977 г.) и Джона Барта (его эссе «Постмодернистская литература» было напечатано в журнале «Поэтик» в 1981 г.). Но ни эти работы, ни даже известный труд Ж.-Ф. Лиотара не смогли кардинально изменить настроение большинства исследователей: едва ли не только Марианна Масе в середине 1990-х воспользовалась определением «постмодернизм» в работе «Французский роман 70-х годов» для анализа творчества М. Бютора и Ж. Эшноза (Macé, 1995), тогда как другие французские ученые, обращаясь к анализу поэтики современного романа, полагают его мало пригодным или недостаточным для объяснения художественного своеобразия.
О своего рода поэтологической недостаточности идеи литературного постмодернизма говорят и некоторые французские писатели. Так, Ж. Эшноз в интервью «Юманите» от 11 октября 1996 г. заявлял: «Я всегда с трудом воспринимал идею постмодернизма в литературе, хотя в архитектуре считаю ее приемлемой. Мне кажется, что вести поиски в различных областях, на различных уровнях - это наименьшая из свобод» (Lebrun, 1996). Другой французский романист, Клод Оллье, используя некоторые очевидные постмодернистские приемы, решительно отказывается называться постмодернистом, считая этот термин всего лишь синонимом художественной эклектики144. 149
149 Высказывание К. Оллье и других писателей см. в диссертации М. Гонтара (Gontard. 2003).
195
Не случайно литературоведы стремятся выделить те или иные варианты, модификации постмодернизма в литературе150, чтобы согласовать общие теоретические положения с пестротой и разнообразием литературной практики. Причем, как отмечают историки искусства постмодерна, выявить собственно постмодернистскую практику возможно не столько через совокупность художественных приемов (ибо они заведомо, сознательно заимствованы, эклектичны и плюралистичны), сколько через определенную «работу над понятиями автора, происхождения, оригинальности и повторения, над ценностями модернизма» (Guibet, 1999, 36). Однако конкретные формы новой интерпретации модернистских категорий субъекта/ объекта, внутреннего/внешнего, оригинала/копии, в свою очередь, дают очень широкий спектр вариаций.
Прежде всего, вариативна сама хронология постмодернизма: если первое употребление термина можно отследить совершенно точно151, то первые сочинения постмодернистов одни обнаруживают уже в 1950-е гг., другие - после 1968 г., третьи - только в 1980-е. Следует также учитывать, что большинство исследователей согласны с Ж.-Ф. Лиотаром: «Постмодерн определяет свое положение не после модерна, а в оппозиции к нему» (Lyotard, 1986). Составляющие этой оппозиции перечислил Н. Риу: модернистскими ценностями он назвал разум, прогресс, науку, универсализм, работу, реальность, накопление, усилие, свободу, нацию, долг, мораль и бескорыстие; постмодернистскими - плюрализм, гетерогенность, фрагментарность, глобализм, мультикультурализм, отражение, смежность, смешение, толерантность, деиерархизацию, игривость и массовость (Riou, 1999, 9). В определенной мере они пересекаются с известной классификацией И. Хасана (модерн - закрытая, замкнутая форма, цель, замысел, иерархия, предмет/законченное, тотальность/син-
150 Например, Кр. Рюби различает реактивный постмодернизм (предпола гающий референциальность, коллаж, аллюзии на предшествующие тексты и программное повторение того, что уже было в искусстве) и постмодернизм разногласия (выступающий против практики модернизма) (Ruby, 1990). Впрочем, разные типы постмодернизма находят не только в литературе. Ч. Дженкс, например, дифференцирует метафизический, повествовательный, аллегорический, реалистический и сенти- менталистский постмодернизм в архитектуре (Дженкс, 1985).
151 О первом употреблении слова «постмодернизм» и дальнейшем становлении понятия см., помимо статьи в DITL, - в кн.: Margaret, 1991,2; Best, Kellner. 1991, 6.
196
тез, центрирование, парадигма, селекция, глубина, определенность, повествование/болыпая история, метафизика, определенность; постмодерн - открытая, развернутая антиформа, игра, случай, анархия, процесс/перформанс, деконструкция/антисинтез, рассеивание, синтагма, комбинация, поверхность, неопределенность, антипове- ствование/малая история, ирония, неопределенность - см.: Hassan, 1987), но нс совпадают с ней абсолютно. Неоднократно проделанный и в отечественной, и в зарубежной науке анализ основных теоретических концепций демонстрирует не только их разнообразие, но и нестыковки, разрывы. Так, классификация, предложенная известным французским специалистом М. Гонтаром, посвятившим роману постмодерна свою диссертацию 2002 г. (Gontard, 2003), предполагает в «постмодернизмах» наличие двух, по существу, разнонаправленных течений: «неоконсервативного» и «неогошистского», лишь последнее из которых связано с концепцией «конца истории» и «смерти человека», тогда как «неоконсервативный постмодернизм», пытаясь развести техногенный и культурный модернизмы, больше обращен к своеобразному игровому возрождению поэтологических форм прошлого (Gontard, 2001, 283-294). Канадская исследовательница Ингрид Бастар (Bastard, 1999) указывает, что постмодернизм может трактоваться как течение мысли, эстетика, тип мировоззрения, состояние общества, а в эстетической области выступать то синонимом антимодернизма, то обозначением трансавангардизма. Сама она, вслед за Г. Скарпетта (Scarpetta, 1985), полагает, что в поэтику постмодернизма укладывается и «возвращение к реализму»: тем самым постмодернизму в истолковании разных литературоведов то свойственно дистанцирование от всякой референциальности, то использование ее, и т. п.
Внутренние противоречия самой теории постмодернизма еще более усиливают ощущение неорганичности, или, по крайней мере, неполноты определения художественных тенденций конца XX - начала XXI в. как постмодернистских. Характеризуя сложную ситуацию, в которую попали писатели «поколения 68 года», Мари Редонне в статье для «Арт пресс» писала: «С одной стороны, <им пришлось> столкнуться с проблемой начала, изобретения новой истории, противоречиво и туманно символизируемой Маем 68-го. С другой стороны, в силу загадочного отставания <литературы>, надо
197
было завершить траур по прошлой тяжкой истории, где встретились Холокост, Хиросима, сталинизм и конец колониализма. Это взывало к трудной работе памяти (которая для писателей была не их собственной, а памятью предшествующих поколений) и создавало риск потери себя. Требовались поиски пионерских путей и в то же время сохранение модернистского наследия в измененном виде» (Redonnet 1999). Необходимость использовать память о модернизме, «наложение» поэтики постмодернизма на модернизм критики называют «принципом черепицы».
Если попытаться определить круг тех произведений, которые критики причисляют к постмодернизму, то он окажется довольно узким и внутренне противоречивым, хотя и вполне определенным. В диссертации М. Гонтара, например, сюда относятся, помимо сочинений франкоязычных африканских писателей, «Мобиль» М. Бю- тора, «Бумажные коллажи» Ж. Перроса, «Дневник наружи» А. Эрно, «Элементарные частицы» и другие романы М. Уэлльбека, которого (вместе с К. Остером и К. Гайи) связывают с «неореализмом» нового типа, романы Ж. Эшноза, Ж. П. Туссена, именуемые обычно минималистскими, произведения Ф. Делерма, Э. Лорана, Р. Пенжэ, Ж. Рубо, А. Володина, а также феминистическая проза М. Даррье- сек, В. Депант и Мари Редонне, которая, в частности, провозглашая необходимость возвращения к модернизму, оценивает романную поэтику М. Уэлльбека (с которым она попадает у М. Гонтара в число авторов постмодернизма) как «постмодернистское варварство».
Кроме того, исследователи отмечают, что с 1990-х годов у многих возникло ощущение исчерпанности главных идей постмодернизма - «смерти автора», «конца истории» и др. (Wallace, 1996, 14)152. Во всяком случае, во французском романе стали происходить сильные эстетические перемены, наступило время «художественной мутации». Эти мутации отчасти затронули и поле самой постмодернистской литературы, породили своеобразную историко- культурную эволюцию внутри постмодернизма, который недаром
152 Ср. также: «Странным образом в последние годы ощущение триумфального разрастания «ситуации постмодерна», проявления «нового мира», ощущение глобальных и неминуемых изменений (что совпало, заметим, и со своеобразным милленаризмом встречи «нового века») заменяются все более и более пессимистическими прогнозами и оценками» (Легеза, 2005, 188).
198
попытались назвать иначе улыpa-посгмодернпзмом либо іюсі- ПОСТМОДерИІІЗМОМ (аЙСПІОСТМОДСріІІІЗМОМ), ИЛИ ЖС ОІЯСЛИ II. 0'1 постмодернизма особый феномен «ностмодсринге» (от франц, postmodemité) и г. и. Изменения отчасти стали происходить помимо, вокруг, вовне модного феномена постмодернизма, в осознанной, явной или скрытой, имманентной полемике с ним, в отталкивании от круга его идей и поэтологических принципов, гем более ч'іо постмодернизму чужды размышления о творческом вдохновении, да и самый роман как жанр «большого рассказа» оказываемся у нею «под подозрением»153. Как полагает 3. Малиновска, ныне вновь встал вопрос об эстетической ценности, о качестве литературного произведения (Malmovska-Salamonova, 2003, 83) вопрос, сама постановка которого была невозможна в период господства поем модернистского положения об отсутствии и даже о принципиальной невозможности канона, а, значит, аксиологического критерия. Таким образом, едва войдя в обиход французской критики и крайне неохотно используемый, термин «постмодернизм» оказался все менее востребованным по мере эволюции романного жанра на пороге и в начале третьего тысячелетия к тому художественному синтезу, о непреходящем значении которого писал в своей последней статье Л. Г. Андреев (Андреев, 2001 ).
153 Как верно замечает М. Гонтар, постмодернисты предпочитают писать не романы в точном смысле слова, а фрагменты, исследования, комментарии, записки... - в общем, «что-то другое» (М. Бютор) (Gontard, 2001,289).
Литературный персонаж как сюжет: роман Ж.-К. Болоня «Шерлок Холмс и тайна литературы»
Исследователи романа 1980-2000-х гг. неоднократно отмечали, что жанровая эволюция его строится на серии «возвращений»154 некоторых поэтологических приемов классической романистики, прежде всего - персонажа и сюжета, «истории», столь решительно отставленных некогда «новыми романистами». В то же время, думается, еще не было замечено, что подобное «возвращение» касается не только формы, но и содержания классических романов (быть может, потому, что сами эти категории стали мало популярны в современном литературоведении). Под возвращением содержания я понимаю в данном случае разнообразные вариации известных историй и «вечных» или популярных образов - Дон Жуана («Дон Жуан» Д. Тийинака - 1999), Казановы («Последняя любовь Казановы» П. Ленэ - 2000), Фауста («Третий Фауст» М. Пети - 2001), Шерлока Холмса («Шерлок Холмс и тайна литературы» Ж. К. Болоня - 2003). Устойчивый, повторяющийся, варьирующийся сюжет - разумеется, не новость в истории литературы, а традиция, восходящая еще к античности. Однако следует вспомнить, что то, что именуется мифологическим сюжетом, мифом как сюжетом, не имеет текстового канона. Речь же в данном случае идет о таких произведениях, в которых герой - известный литературный образ, созданный в одном или нескольких канонических сочинениях, и затем ставший объектом разнообразных художественных воплощений-интерпретаций-трансформаций. А его история - не повторение или вариация, даже не продолжение старой истории, а создание новой, вырастающей, в то же время, из характера
154 См., например: Viart, 2001. Известный французский исследователь современного романа настаивает, что следует говорить о «возвращениях» во множественном числе, поскольку процесс возвращения осуществляется в разных формах.
200
известного персонажа155 . Такие произведения точно соответствуют размышлениям П. Рикера, писавшего в работе «Время и рассказ»: «рассказываемый мир - это мир персонажа, и рассказывается он повествователем. Но понятие персонажа прочно укоренено в нарративной теории, поскольку рассказ не мог бы быть мимесисом действия, нс будучи также мимесисом действующих существ... Поэтому можно переместить понятие мимесиса от действия к персонажу и от персонажа к его дискурсу» (Рикёр, 2000, I, 95). В монографии «Эффект-персонаж в романе» В. Жув (Jouve, 1992) различает три типа чтения созданного наррацией персонажа: «персональный эффект», «эффект-персону» и «эффект-предтекст». По его мнению, они совпадают с понятиями «читаемое», «прочитываемое» и «прочитанное» и используются соответственно философскими романами «с тезисом», реалистическими романами и массовыми романами.
В ряду этих персонажей Шерлок Холмс занимает особое место. Как верно замечает Франсуаза Шатлен (Chatelain, 2003), Ш. Холмс очень быстро приобрел статус мифологического персонажа (имеется в виду не первичный, а вторичный, литературный миф). Этот статус поддерживается легендарным характером представлений о герое; верой некоторой части читателей в реальное существование этого героя (письма на Бейкер Стрит и т. д.) и набором повторяющихся, ритуальных характеристик персонажа, используемых в как в каноническом тексте, так и в продолжениях (игра на скрипке, курение трубки, ношение плаща и кепки определенного фасона, употребление кокаина и т. п.). При этом в легенду о Шерлоке Холмсе вошли не только те сведения, которые содержались в текстах Конан Дойля (а это - 56 новелл и 4 романа), но и те, что появились в продолжениях и подражаниях автору. Например, знаменитая фраза, часто используемая в экранизациях произведений о Шерлоке Холмсе, - «Элементарно, дорогой Ватсон» - принадлежит тексту продолжения, написанному сыном Конан Дойля и Д. Диксоном Карром в 1957 г. Вообще традиция продолжений-трансформаций историй о Шерлоке Холмсе восходит, по-видимому, к Морису Леблану, написавшему в 1906 г. «Шерлок Холмс приходит слишком поздно». Но Леблан не останав-
155 Ср. о том, что в сюжетно-тематическом плане «сюжет предстает как развитие темы, воплощенное во взаимодействии характеров» (Левитан, Цилсвич, 1990, 71 ).
201
ливас'їся на подражании, в двух других своих детективных историях, іде дсйсівусі Арсен Ліопсп, он заставляет своего героя встретиться с Херлоком IПодмесом, как звучит пародийно перелицованное имя детектива. Не беря на себя задачи описать или хотя бы перечислить все многочисленные произведения вековой холмсианыГ6, остановлю внимание только на том обстоятельстве, что произведения этого типа вновь стали чрезвычайно популярны с 1990-х гг. прошлого века видимо, в преддверии 150-летия Шерлока Холмса, о котором сообщают посвященные персонажу сайты.
В конце 1990-х гг. во Франции один за другим появились оригинальные произведения и переводы романов, сюжеты которых связаны с использованием фигуры Шерлока Холмса. В 1997 г., например перевод романа Соареса «Элементарно, дорогая Сара!» (1995). Имеется в виду великая Сара Бернар, путешествующая по Бразилии. Здесь она знакомится с Шерлоком Холмсом, расследующим таинственное похищение скрипки Страдивари у одной из се подруг. Холмс влюбляется в некую прелестную мулатку, что пагубно сказывается на его интуиции и способностях к детективному расследованию. Но в смешном свете здесь пародийно выведен не только Ш. Холмс, но и все другие персонажи: Ватсон - наивный глупец. Сара Бернар напыщенна, едва проснувшись, разговаривает александрийскими стихами и т. п. Роман американского писателя Лори Кинга (перевод 1998) «Шерлок Холмс и пчеловодство», напротив, рисует Холмса человечным, обладающим прекрасным чувством юмора, эмоциональным и в то же время также способным влюбляться, гораздо менее женоненавистником, чем можно было бы ожидать. Кроме того, в романе Кинга есть и Ватсон, и миссис Хадсон и Майкрофт Холмс и тень Мориарти. Более того, это в оригинале - первый роман из серии о Холмсе, написанной Кингом. В 1999 г. французы перевели роман австрийского писателя Марендорфа «И они потревожили сон мира», в котором некий повествователь, любитель музыки и психиатр, укрывшийся от критики его психиатрических сочинений на Эльбе, встречает там пару англичан, в которых он подозревает любовников, а затем, вернувшись в Вену, он встречается с Фрейдом и
156 Множество информации об этом содержится на сайтах SSHF (le sile français le plus complet sur Sherlock Holmes) и Portail efr@nçais Sherlock Holmes.
202
узнает в одном из пациентов знаменитого врача англичанина, назвавшегося Ливингстоном. Но его пристрастие к игре на скрипке и любовь к кокаину позволяет читателю угадать Холмса. Автор пытается соединить детектив с психологическим романом и литературных персонажей уравнять с реальными - Фрейдом, Малером и др. На этот аспект стоит обратить внимание, поскольку такое уравнивание происходит и у Болоня, причем большинство реальных персонажей в его романе - из мира литературы эпохи декаданса.
Доминик Сипьер в статье «Холмс и участие в играх. Об экранизированных пастишах между 1970 и 1990-м гг.» (Sipière, 1999, 119- 133) показывает, насколько именно Шерлок Холмс как персонаж, более других литературных персонажей такого рода (Дон Кихот, Дракула или Франкенштейн) дает повод для структурных манипуляций и тем самым поощряет формалистические игры. Для доказательства этого она рассматривает нарративные структуры экранизаций-пастишей: они осуществляются как вариации нарративной структуры канонических повествований и как использование несказанного в текстах. Игровой характер канонических текстов может порождать иронические и субверсивные интерпретации посредством выявления влияния этих интерпретаций на структуру экранизаций.
Брюно Монфор в статье «Шерлок Холмс и наслаждение «не- историей». Серия и прерывистость» (Monfort, 1995) обращает внимание на парадоксальность новеллистической серии Конан Дойля. Известно, что знаки-характеристики персонажей в разных текстах серийных сочинений идентичны, но серия приключений Шерлока Холмса сопротивляется этому правилу: в отдельных текстах серии встречаются трудноразрешимые, но очевидные противоречия. Чему служит отсутствие согласованности в датах и последовательности историй? Как объяснить, что ранение Ватсона с плеча переходит на ногу? Как зовут Ватсона - Джеймс или Джон? Часто серийные сочинения упрекают в том, что истории в них не следуют одна за другой и в них нет общей интриги, развивающейся от начала к концу. В то же время серия опознаваема в качестве таковой, несмотря на непоследовательность вымысла, которая, в общем, мало интересует любителей серий, ибо они, так или иначе, восстанавливают некоторую повествовательную последовательность таких сочинений. Эта «континуистическая» рецепция приключений Шерлока Холмса
203
наталкивает Б. Монфора на мысль, что внутри всякой серии произведений существует пара последовательности/прерывистосги и что серийность - не эмпирический фаю; лежащий вне текста или нал текстом, а внутреннее свойство каждого текста, составляющего серию.
Еще в статье 1976 г. Чарльз Мурман (Moorman, 1976) задумывался над тем завораживающим эффектом, который оказывают на поклонников Конан Дойля расследования Шерлока Холмса. Литературовед подчеркивал, в частности, решающую роль несказанного и незначительных подробностей, которые входят в вымышленную фабулу серийного произведения о знаменитом детективе. Жизнь Шерлока Холмса и Ватсона довольно загадочна, полна противоречий, которые читатели не в силах разрешить. Значительная доля интереса, который вызывает чтение приключений опытных сыщиков, состоит в том, что необходимо запоминать и учитывать бесконечное множество деталей, рассыпанных по сочинениям, что превращает самих читателей в своего рода детективов, целью которых является заполнение «дыр» в широком полотне повествований о Холмсе. Такие лакуны в характеристике персонажа, по мнению К. Монтальбетти. неизбежны в любом произведении, они продиктованы необходимостью в конце концов закончить писать книгу, даже если эта книга - роман-эпопея или роман-«река» (Montalbetti, 2003, 13-14). Но если повествователь заключает с читателем «контракт на реализм» (а это. безусловно, случай историй о Шерлоке Холмсе), то он даже подчеркивает допущенные им лакуны и призывает читателя представить, что происходит с персонажем в более широком мире за пределами текста (Montalbetti, 2003, 14). Дени Меллье в статье «Приключение недостающего апокрифа, или Райхенбак и литература о Холмсе» (Mellier, 1999) подчеркивает, что Ш. Холмс - это не литература, ставшая мифом, но миф о литературе. Это миф о литературе, которая не желает завершаться и в качестве модуса выживания стремится перейти в мир, в котором она была рождена. Сегодня Холмс - настоящее коллективное сочинение. Вопрошая об универсальности персонажа и его вымышленного мира, Меллье пытается описать аспекты мифа в облике опытного сыщика. Он также размышляет о коллективном восприятии вымысла как мифологическом пространстве.
В ряду новейших произведений о Ш. Холмсе особое место занимает роман бельгийского писателя, живущего в Париже -
204
Ж. К. Болоня «Шерлок Холмс и тайна литературы» (2003). Как кажется, писателя привлекла именно способность холмсианского детективного (паралитсратурного) сюжета превращаться в «миф о литературе» - правда, содержание этого мифа и сама его структура, как показывает анализ, несколько иная, чем в большинстве произведений о знаменитом сыщике. Как говорит о писателе Г. Коттон, Ж. К. Болонь «любит тонкие конструкции, которые изображают человека в поисках самого себя в мире, его окружающем, и в языке, порой сложном, выражающем его чувства и надежды» (Cotton, 2004). Подобные свойства выводят автора романа за рамки поэтики массовых сочинений, или, во всяком случае, создают особое сочетание «метафизичности» и «массовости»157.
Жан Клод Болонь родился 4 сентября 1956 г. в Льеже (Бельгия) в семье преподавателей. Он изучал романскую филологию в Льежском университете (1974-1978), активно участвуя в постановках университетского театра. По выходе из университета, он отправляется служить в армию и одновременно основывает журнал «Увертюр» и пишет в нем статьи с 1979 по 1984 г. По окончании службы в армии в 1982 г. он перебирается в Париж, оставаясь сотрудником бельгийских газет и журналов - «Валлони» (с 1982) и «Апостроф», пишет критические статьи в «Магазин Литтерер», некоторое время работает в издательстве, занимающемся выпуском путеводителей (и сам выпускает путеводитель по замкам и городам долины Луары). В настоящее время писатель живет в Париже и преподает средневековую иконографию в одном из институтов. Его первое произведение - книга эссе «История стыда» вышла в 1986 г., за ней последовала «История напитков» (1991), «История брака на Западе» (1995), «История любовного чувства» (1998) и др. Параллельно он пишет романы - «Ошибка женщин» ( 1989, премия Россель), «Третье Евангелие» (1990, премия Марселя Лобе), «Секрет сивиллы» (1996) и др. Как говорит сам писатель в одном из интервью, «роман и эссе - это два дополняющих друг друга способа письма, занятых одним и тем
157 Жак де Декер, рецензент газеты «Ле Суар», определяя новый роман Болоня «Человек-папоротник» (2004) как «метафизический триллер», пишет: «автор включает в детективную рамку проблематику философии, писхоанализа и теорий относительности течения времени, именуемого фрактальным временем» (Decker, 2004). Подобный прием использует Болонь и в «Шерлоке Холмсе».
205
же человеческой материей, рассмотренной в историческом и синхроническом измерениях. Мне интересны глубинные структуры человека, стыд, любовь, язык, и их внешние проявления, подчиняющиеся культурным условностям, а, значит, истории» (Bologne, 2001 ).
Роман «Шерлок Холмс и тайна ли тературы» состои т из грех новелл. Две из них были опубликованы за несколько лег до появления книги в целом. «Певец души» вышел в 1997, «Завещание на песке» - в 2001 г. По словам самого Ьолоня, «я написал эти три рассказа, наполовину - пастиши, наполовину истории об инициации, в честь персонажей Конан Дойля, но еще больше - обращаясь к темам, которые были близки мне, начиная с первых сочинений. Меня всегда завораживали парные персонажи (Холмс Ватсон, Дон Кихот - Санчо Панса), поскольку они выражают дуалистинность современного мира: высочайший интеллектуализм или идеализм, презирающий материальные ценности, и бонвиванизм. К этой паре тела/души средневековье, которое интеллектуально сформировало меня, прибавляло третье измерение - дух (esprit). Как воплотить этот «дух», когда ты (то есть я сам) притязаешь быть атеистом? (Это осуществляется) через образ поэта, который не сводит свое вдохновение ни к интеллекту, ни к телесным ощущениям. Вот почему мне захотелось свести знаменитых детективов с французскими поэтами того времени: Кро, Лотреамоном, Рембо, Жарри...» (эти рассуждения автора помещены на его сайте: Bologne Web). Эпоха, в которую поместил Конан Дойль своих персонажей - конец XIX - начало XX в. - предстает в сочинении Болоня прежде всего, как время культуры декаданса158, и это парадоксальным образом меняет привычные характеристики основного персонажа - скорее, позитивиста, чем декадента, явно не любителя художественной литературы, тем более - поэзии. Любопытно, что такое переосмысление отношений знаменитого сыщика к литературе показалось перспективным еще одному автору новейшего романа о Холмсе - Ж. Пандольфи- Крозье «Вендетта Шерлока Холмса» (2004): здесь Холмс также далеко не чужд интереса к художественным сочинениям, а привычные характеристики его как сухого знатока только той литературы, которая нужна для его профессии, отнесены к тем «искажениям», которые
158 О своеобразии декадентских мифологем см.: Durand, 1986, 15.
206
внес в образ «реального человека» доктор Вал сон. Однако для Болоня любовь ею персонажа к литературе не юлько неожиданная, неканоническая черта, а сущностная характеристика основного сюжетного узла: разгадывая дсгекі ивные истории, его сыщик открывает тайны ли іературньїх текс лов реальных и вымышленных, а читатель при- їлаїнсн к размышлению над тайнами воображения и творчества.
В «Певце души», как определяет сам автор, взят совершенный мозг, і. с. 11 Ісрлок Холмс, и соединен с медиком - Ватсоном. Такой ду ri позволял разрешить загадки классических преступлений. «Тело и душа, материя и дух. Чего же им недостает? Немного безумия, поэзии, которая преобразит их поиск в искание» (Bologne Web). Вот почему Бол он ь присоединяет к ним поэта и гениального изобретателя Шарля Кро, умершего в 1888, то есть тогда, когда Холмс начинает говорить о нем и знакомит с ним Ватсона. Втроем они разгадывают тайну, ревност но охраняемую дипломатией Ватикана: почему целая команда священнослужителей заняты тем, что ищут осколки древних сосудов, сделанных в эпоху Христа. При этом в доме самого Холмса находится один из этих осколков, но когда сыщик предъявляет его посланному из Ватикана кардиналу, тот внезапно разбивает его в пыль и тут же умирает от сердечного приступа. Мастерски строя интригу, увлекая читателя, автор, гем не менее, занят, прежде всего, нс детективной фабулой, а удивительной трансформацией главного персонажа: сыщик легко цитирует поэтические сочинения своего французского приятеля, он готов отправиться на поиски, ведомый не столько криминальной, сколько лингвистической загадкой - надписью на уничтоженном осколке сосуда, предварительно сфотографированной сообразительным Холмсом. Болонь описывает, как его герои обнаруживают не только существование некоей легенды о «vase qui chante» - «поющем сосуде», запечатлевшем голос Христа, но и существование самого сосуда, сохранившегося в арабской части Иерусалима. Изобретатель фонографа (соперничающий с Эдисоном) Ill. Кро с помощью некоего прибора заставляет звучать сосуд и, используя незнание арабами арамейского, передаст им услышанный текст как загадочное предсказание не то их победы над евреями, не то поражения, не то примирения. На самом же деле голос сосуда в аллегорической форме указывает путь дальнейших поисков. Разыскания приводя! героев в руины монастыря на берегу Мертвого моря, где
207
находится множество больших глиняных сосудов, по мнению поэта, сохранивших в своем звучании последние, неизвестные, новые слова Христа, а по суждению сыщика - прячущих внутри рукописные книги разрушенного Иерусалимского храма. Голос Христа, услышанный посредством прибора Ш. Кро, всего лишь воспроизвел текст Ветхого, а потом Нового Завета с небольшими вариациями. Лишь в последнем сосуде герои услышали: «Сегодня я принесу вам новое послание, третье...» (Bologne, 2003, 68) - и голос умолк. Исчезло ли последнее слово Христа навсегда, или Ш. Кро, оставшемуся в руинах храма в одиночестве, удастся когда-нибудь его услышать, предоставлено гадать читателю. Шерлок Холмс и Ватсон возвращаются в Европу.
Исчезнувшее, недосказанное Евангелие оказывается темой и следующей части романа. «Завещание на песке» построено, как рассказ Холмса Ватсону по возвращении из Святой земли о той поре, когда он встретил Шарля Кро, входящего вместе с Дюкасом-Лотреамоном в орден Терминаторов. Этот духовный орден обладает некими книгами под общим названием «Завещание на песке» (или Евангелие на песке), передаваемых из поколения в поколение, возможно, это запись слов Христа, сделанных им на песке, в эпизоде с неверной женщиной. Но экземпляр, принадлежащий Лотреамону, содержал информацию, опасную для русской царской фамилии и царская охранка стремилась запись уничтожить. Завещание Дюкаса было отдано на хранение в монастырь в окрестностях Парижа. Холмс, привлеченный французской полицией, принимается за расследование. При этом любопытно, что Болонь «отправляет» своего героя во Францию в те годы, когда он, согласно каноническим текстам о сыщике, бывал там (см.: Crauser, 2002). Вновь, как и в первой части, детективная загадка и загадка вселенская, тайна Слова, тесно переплетаются друг с другом. С детективной загадкой все обстоит довольно просто: монахиня по имени Эпин - дочь Дюкаса и некоей царственной особы русского происхождения, - чтобы докопаться до тайны своего рождения, вскрывает завещание отца. Но Дюкас написал это завещание для своего друга Ш. Кро с просьбой вскрыть его через двадцать лет после создания, тогда, когда особые, постепенно выцветающие чернила выцветут окончательно и текст исчезнет. Поняв, что текст обречен на исчезновение, молодая девушка переписывает его, в монастыре появляются копии, в них оказывается
208
множество ошибок. А подлинный текст к моменту, когда с ним дозволено познакомиться, в 1888 г. - исчезает навсегда. Философски настроенный Холмс Болоня догадывается, что там было, собственно, не завещание Дюкаса, а записанное им, вослед другим хранителям. третье Евангелие, Евангелие на песке, и Ш. Кро забрал пустой листок с собою во время путешествия в Святую землю.
В третьей части романа «Очистительница» повествование вновь ведется от лица Ватсона и действие происходит через два года после путешествия. Критик газеты «Экспресс» Гислен Коттон в рецензии 28 марта 2003 г. «Завершение болоньевской и холмсовской трилогии» написал: «После «Певца души» и «Завещания на песке» Жан Клод Болонь направил свои стопы в обличье доктора Ватсона, чтобы завершить свою трилогию, собранную в одном томе под названием «Шерлок Холмс и тайна литературы», «Очистительницей». В этот раз мы встречаем «Черную Кошку» и самых знаменитых завсегдатаев парижского артистического кабаре - в частности, Рембо, Кро, Мак-Наба и других зютистов и гидропатов, которые вызывают живейшее любопытство Шерлока Холмса. Оно ведет Холмса по следам Отца Эбера (тонкое соединение Отца Юбю и основателя эбертизма, учения, предназначенного для физического и морального воспитания гражданина), изобретателя Очистительницы, метода, предназначенного для удаления поэтической фибры из мозгов поэтов для благополучия общества. Как и в двух предыдущих рассказах, Болонь соединяет собственный юмор, фантазию и эрудицию с проницательностью Шерлока Холмса, чтобы с легкостью, но всерьез говорить об опасностях, грозящих свободомыслию и духу поэзии, «рисующих человеку контуры его третьего измерения». А, значит - письму и литературе, в которых свободомыслие и поэзия по преимуществу воплощаются. Разумеется, Холмс, как всегда, великолепен, но враг его посильнее Мориарти. И, скорее всего, он еще жив» (Cotton, 2003).
В самом деле, критик довольно точно обозначил основных персонажей и важнейшие коллизии «Очистительницы», не прошел и мимо поэтологических особенностей романа, построенного на парадоксальном сочетании иронического, практически анекдотического объяснения ранней смерти или отхода от творчества поэтов декадентской эпохи (из их мозгов высосана поэтическая субстанция) и глубинной философско-художественной проблемы художественного
209
воображения. Этого воображения, в конце концов, лишается и Шерлок Холмс, к радости Ватсона вернувший свои обычные, канонические привычки: «Он оставил в Париже сундук книг французских поэтов и объявил мне, что отныне посвятит себя благородной битве со злом вообще и преступлениями в частности...» (Bologne, 2003, 191 ).
П. Можандр, рецензент болоньевского романа, полагает, что писатель создает «сочинение, более расположенное к мистической рефлексии, чем к дедуктивным действиям, которые принесли славу Конан Дойлю», но объясняет это тем, что Болонь отражает в романе увлечение самого Конан Дойля спиритизмом (Maugendre, 2004). Думается, однако, что трансформация детективной интриги в метафизическую и мистическую происходит у Ж. К. Болоня, называющего себя «мистическим атеистом», по более глубоким причинам.
В своем эссе «Атеистический мистицизм» (1995) Болонь писал о том, что современная эпоха, переживающая конец идеологий и иссушение религиозных догм более, чем раньше, ощущает расхождение между телом и душой, материализмом и спиритуализмом, поиском наслаждения и спасения. Результатом, полагает писатель, является распространение сект разного рода и метание между двумя формами служения. Одна из них - мистицизм. Будучи внутренним опытом, но пережитым с огромной чувственной силой, мистицизм смущает верующих, предпочитающих бесплотного Бога. Но он смущает и атеистов, которые предпочитают держаться чистой материальности. Но за словом «Бог», подчеркивает Болонь, стоит абсолют, бесконечность, которую атеист может ощущать столь же остро, как и верующий человек. Вступая в контакт с этой сущностной реальностью, он может пережить тот же тип экстаза. Но не через религию, а посредством искусства, творчества, внутреннего переворота.
«Шерлок Холмс и тайна литературы», как кажется, тесно соотносится с этими размышлениями писателя, являет собой романный вариант той же проблематики, которая была поставлена в эссе. Недаром «Третье Евангелие», с одной стороны, оказывается и неуслышанным (сосуд замолчал), и не прочитанным (книги, его хранящие, - это белые страницы, чернила с которых давно испарились), с другой стороны - сохраненным, хранимым - хранимым посредством непрекращающегося, неиссякающего литературного, поэтического творчества.
Литература Запада как искушение Востока: роман Дэ Сижи «Бальзак и китайская крошка швея»
Написанный в 2000 г. первый, во многом автобиографический роман французского писателя китайского происхождения Дэ Сижи «Balzac et La Petite Tailleuse chinoise» сразу же завоевал расположение как широкой читательской публики, так и интеллектуальной элиты, профессиональных ценителей, назвавших его романом года и наградивших несколькими призами - французскими «Prix Edmée de La Rochefoucaud», «Prix Relay du roman d’évasion» (2000), «Prix Roland de Juvenel» (2001), международным «Club Media Literary Pryze». Сам писатель стал автором экранизации, также отмеченной призом Каннского кинофестиваля. Роман за короткое время был переведен на 25 языков, в том числе в 2003 г. и на китайский. Уже в 2001 г. произведение перевели и на русский язык (Дэ, 2001). Однако если в целом качество перевода Л. Цывьяна, безусловно, высокое, следует внести поправку в перевод самого заглавия романа: «La Petite Tailleuse» - как видно и по написанию этого выражения (заглавные буквы во французских существительных, в отличие от английского языка, применяются лишь по отношению к именам собственным или названиям), и по сведениям, содержащимся в тексте произведения, - это перифрастическое обозначение главной героини рассказанной истории, ее прозвище - Малышка швея, Крошка швея. При установившемся у нас переводе романного заголовка («Бальзак и портниха-китаяночка») исчезает важный иронико-метафорический, рифмующийся с бальзаковской Модес- той Миньон (франц, mignon крошка450) смысл, вложенный в него автором романа.
Если зарубежная критика единодушно признала достоинства книги, то отечественные рецензенты произведения разделились на
19 О ген героини бальзаковского романа дает ей прозвище «мудрая крошка».
211
тех, кто восторженно его принял (см., например: Долин, 2003), и тех. кто отнесся к нему довольно пренебрежительно: «простой, как лапти, роман» (Данилкин, 2001), «просчитанность успеха и реверансы перед Европой тут очевидны» (Шпаков, 2001); «довольно забавный роман немного французского китайца», «помесь «Архипелага Гулага» и какого-нибудь романчика Франсуазы Саган» (Снеговская-Арш. 2003). Наиболее развернуто представляет роман Дэ Сижи эссе Ли- нор Горалик, при всей манерности изложения точно отметившей то, что автор «Бальзака и Крошки швеи» написал «книгу о книгах, книгу о текстах» и увидевшей в произведении некоторые черты бальзаковской «человеческой комедии», перенесенной на китайскую почву (Горалик, 2001). Анализ романа убеждает в справедливости последнего замечания.
История двух городских юношей, сосланных во время культурной революции в глухую деревушку для перевоспитания, их выживания в трудных условиях, перипетий общения с местными жителями, влюбленности в деревенскую швею, и увлекательна по сюжету; и мастерски построена в жанрово-стилевом аспекте. Трансформируя в жанре романа опыт пикарески, Дэ Сижи создает историю о «приключениях чтения», о своеобразной духовной инициации китайских подростков, приобщившихся к западной - французской, русской, английской литературе, чудом сохранившейся в чемодане их товарища по несчастью. В то же время текст Дэ Сижи включает в себя и мотивы бальзаковских романов - «Модесты Миньон», «Урсулы Мируэ», «Отца Горио» и др. По словам самого писателя, в этом романе «он пытался в каждой главе использовать свою, каждый раз другую нарративную форму», стремился создать особую архитектуру текста. При этом он, опираясь на собственный жизненный опыт, точно описывает драматические ситуации китайской глубинки в 1970-е гг., однако избирает не трагическую или патетическую, а ироническую интонацию.
Ирония проступает уже в том, что главные персонажи, направленные на перевоспитание как городские «интеллектуалы», по существу, весьма мало образованы, что понимают и сами юноши: «Нас трудно рассматривать, без доли лукавства, в качестве двух интеллектуалов, ведь те знания, которые мы почерпнули в школе, были нулевыми» (Sijie, 2000, 15). Рассказчик истории - сын терапевта.
его друг Люо - выходец из семьи зубного врача, у обоих нет даже того преимущества, которым обладает еще один их товарищ по несчастью, по прозвищу Очкарик, выросший в среде гуманитариев - писателей, поэтов, обладатель бесценного сокровища - чемодана с книгами, который герои, в конце концов, у него похищают. Время рассказа и время событий в романе - существенно разнятся, хронологическая дистанция естественно обусловливает ироническое отношение даже к самым горьким фактам беспросветного, изнурительного, унизительного существования «перевоспитываемых» и одновременно - придает особую поэтичность тем светлым мгновениям, когда юноши погружаются в другой мир - воображения, чувств, литературы.
Таким образом, «Бальзак и китайская Крошка швея» входит в ряд «книг о книгах». Сам писатель объяснял свой замысел такими словами: «Я пытался написать маленький роман, чтобы отдать дань литературе, сформировавшей мою жизнь. Я оживляю свои воспоминания только через книги. Каждый период моей жизни отмечен романами, которые я прочел»160.
Западная культура, частично представленная музыкой (повествователь. юный скрипач, чтобы сохранить свой инструмент, исполняет перед жителями деревни сонату Моцарта, назвав ее песней «Моцарт думает о председателе Мао»; он увлечен образом Жан- Кристофа из одноименного произведения Р. Роллана), но более всего - романами Бальзака, Гюго, Стендаля, Дюма, Флобера, Диккенса, Толстого и др. - становится для юных душ единственным источником просвещения и противостоит атмосфере воинственного невежества и жестокости.
Молодые герои, приговоренные к перевоспитанию в глухой деревне, как они драматически чувствуют, навечно («для детей из семей, попавших в список «врагов народа», шанс на возвращение был ничтожен - три на тысячу» <Sijie, 2000, 27>), с восторгом используют данную им возможность вначале ездить в маленький город, чтобы смотреть фильмы и затем пересказывать их крестьянам, а после, обнаружив у Очкарика «секретный чемодан» с
IN’ Из интервью писателя журналу «Delirium» (2000). Цит. по: Bourguignon, 2006. 3.
213
запрещенными книгами, открывают для себя мир литературы. Первая прочитанная ими книга роман Бальзака «Урсула Мирут», «французская история любви и чудес» (Sijie, 2000, 72), по определению рассказчика, открывает возможность для его друга Люо покорить сердце Крошки швеи пересказом чудесной истории. После похищения чемодана любовные отношения пары развиваются на фоне приобщения к другим сюжетам бальзаковских романов - «Отец Горио», «Эжени Гранде», «Кузен Понс» и др.
Впрочем, сам рассказчик, в отличие от Люо, увлекся «Флобером, Гоголем, Мелвилом и даже Роменом Ролланом» (Sijie, 2000, 136). Бальзак оказался важен, прежде всего, для развития любовных отношений между Люо и дочерью портного, но и нс только. Как верно заметила Алина Мюра-Брюнель, «Романы Бальзака представляют собой архетип западной культуры в той мере, в какой она ценит индивидуализм... Завоеванные посредством множества ухищрений, книги Бальзака воспламеняют воображение и постепенно входят в повседневный мир участников драмы», описанной в романе Дэ Сижи (Mura-Brunel, 2004, 275). Повзрослевший рассказчик даже ассоциирует некоторые события своей молодости с эпизодами бальзаковских романов, как ни различны, на первый взгляд, приметы французской жизни XIX в. и китайской действительности 1970-х годов.
Однако для молоденькой деревенской швеи, вкусившей в книгах плод другой цивилизации, бальзаковские истории оказываются в полном смысле слова искушением, более сильным, чем любовное чувство, пробужденное ею в юном Люо и как будто бы ею разделяемое. В последней сцене романа «ученица» покидает своего «учителя» и возлюбленного, отвергнув также участь скромной помощницы своего отца (превратив его в своего рода китайского отца Горио) и заявляет, что Бальзак позволил ей понять главное: «женская красота - бесценное сокровище», которым она отныне намерена разумно пользоваться. В этом смысле очень точен автор, выбранный в качестве средства «интеллектуальной инициации»: как известно, Бальзак был одновременно критиком и «певцом» современного ему общества, чувствовал и передавал в своих сочинениях не только драматизм, но и «зловещую поэзию» социальных, в том числе и денежных, отношений. Героиня рома-
214
на Дэ Сижи делает очень «бальзаковский» вывод из прочитанного и услышанного161.
Демонстрация сложного, неоднозначного этико-психологического воздействия чтения западной литературы на героев Дэ Сижи, не отменяет безусловного разоблачения и осуждения автором удушливой атмосферы «культурной революции», но делает произведение не плоско-дидактическим, а художественно полнокровным. С сюжетной глубиной произведения сочетается стилистическое мастерство, высокая выразительность, зрелищность романных образов, достигаемая не без помощи кинематографического опыта автора, известного не только романной прозой, но и своими сценариями.
161 «Любить для Бальзака означает создать себе идеальные условия для реализации любви, а их может предоставить общественное преуспеяние. Важность любви означает, с другой стороны, важность денег в современном обществе» (Delpiano, s.a.).
КОМПАРАТИВНОСТЬ ГРАНИЦ И ГРАНИЦЫ КОМПАРАТИВИСТИКИ
Современная наука о литературе, насколько известно, употребляет термин «сравнительное литературоведение» по крайней мере в двух смыслах: это, во-первых, изучение межнациональных взаимосвязей отдельных писателей (Байрон и Пушкин или В. Скотт и В. Гюго) или литератур (французско-немецкие, русско-итальянские и т. п. взаимосвязи), и, во-вторых, исследование всемирной литературы в ее историко-художественной целостности. В первом смысле определяют компаративистику такие западные ученые, классики сравнительного литературоведения, как П. Ван-Тигем или И. Бэббит; во втором - Р. Уэллек или Р. Этьембль. Непреходящая актуальность самоопределения сравнительного литературоведения как раздела науки, имеющего свой предмет или по крайней мере свой метод, подтверждается уже тем, что все исследователи- компаративисты начинают свои труды с определения того, что есть компаративистика. Так, Ж-Л. Акетт, преподаватель сравнительного литературоведения в университете Реймса, в недавней монографии «Европейские чтения, Введение в практику сравнительного литературоведения» (2005) сразу же указывает во введении, что, в отличие от теории литературы или нарратологии, компаративистика всегда имеет в виду конкретные тексты, учитывает пространственные и временные параметры литературных явлений. Компаративистика «конструирует свой объект эмпирически, что не означает произвольно, но предполагает перекрестное чтение отдельных произведений. Они воспринимаются не как конкретизация общих принципов, а как составные элементы сложных систем, именующихся жанрами, направлениями, мифами, темами, эпохами и т. д.» (Haquette, 2005, 11 ). Однако с этого ракурса (степень конкретности, связи с анализом отдельных произведений) можно, пожалуй, разглядеть границу между теорией и историей литературы, но не между так называемым общим и сравнительным литературоведением. Можно согласиться с Д.-А. Пажо: «В компаративистике литературный анализ не является конечной целью, как в обычном
216
исследовании текста. Он является средством сравнения» (Pageaux, 2005).
Размышляя о том, что следует считать предметом компаративистики: только ли межнациональные сопоставления конкретных произведений, писателей, литератур, или также и сопоставления различных литературных периодов (напр., античность и Возрождение, Просвещение и постмодернизм), направлений (напр., барокко и романтизм), жанров (напр., эпическая поэма и роман, новелла- сказка и фантастическая повесть), уровней литературы (например, элитарная и массовая романистика), - приходишь к выводу, что вопрос о границах - один из самых актуальных для этой отрасли науки. И, возможно, специфика компаративистики - в том, что она пребывает именно на границах, что ее собственным предметом и является анализ того, как художественно воплощается концепт межкультурной, межлитературной «границы» по ту и другую ее «стороны». Однако «пребывание на границах» - не является ли оно общей позицией исследователя любой научной проблемы? Ведь, по известному наблюдению М. М. Бахтина, «каждый культурный акт живет на границах: в этом его серьезность и значительность» (Бахтин, 1975, 25). И что собою представляет самый концепт границы в литературе, всегда ли речь идет об одном и том же, когда мы используем это понятие? Попробуем выяснить это, обратившись к выражению «граница литературных эпох»162 - ведь, наряду с «границей между национальными литературами», это понятие играет особенно важную роль в компаративистике.
На вопрос о том, что значит понятие «граница (рубеж) эпох», по существу, ответил некогда академик Д. С. Лихачев в своей статье «Два типа границ между культурами». Позволю себе пространную цитату: «Понятие границы в культуре несет в себе нечто таинственное. Что это - полоса общения или, напротив, стена разобщенности? Очевидно - и то, и другое. Как область наиболее интенсивного общения культур, она знаменует собой наиболее творческую сферу, где культуры не только обмениваются опытом, но и ведут диалог, по большей части обогащающий друг друга, но иногда и
162 См. о границах «читатель/произведение, автор/произведение. автор/язык» в статье: Рымарь, 2003.
217
с і ремящийся к сохранению собственной обособленности» (Лиха- чсв. 1999, 103). В io же время - это самый общий ответ на вопрос, который в историко-литературном плане требует существенных уючнений. Ведь ни понятие «эпохи», ни понятие «рубежа, границы» не обладают устойчивым и однозначным смыслом, тем более •по этими нолягиями пользуются и историки, и культурологи, и философы, и литературоведы. В литературоведческом обиходе мы говорим, например, об эпохе средневековья и эпохе «Серебряного века», об эпохе Возрождения и эпохе романтизма, об античной эпохе и пушкинской эпохе, не всегда отдавая себе отчет в разных объемах, коюрые приобретает это понятие в данных и им подобных словосочетаниях. Следовало бы обратить внимание и на то, что, даже если признать очевидное метафорическое содержание терминов «пушкинская эпоха» или «Серебряный век» (длительность которо- 1о, как известно, гораздо короче века как историко-хронологической единицы), ю все же остается значительное различие между такими, например, вполне литературоведчески и исторически строгими понятиями, как «эпоха средневековья» и «эпоха Возрождения», или «XVII век» и «Новое время». Здесь мы называем, по существу, два типа эпох цивилизационную, стоящую в ряду «Античность, Средневековье, Новое время» и т. д., и историко-культурную, входящую в ряд понят ий «Возрождение, XVII век, Просвещение» и т. п. Ряды пересекаются: так, историко-культурная эпоха Ренессанса являет собой поздний этап большой цивилизационной эпохи Средневековья (см. об ном: Косиков, 2001), а «XVII век» - самостоятельная историко- культурная эпоха, входящая, вместе с «эпохой Просвещения» и «XIX веком» в исторически более протяженную эпоху нововременной цивилизации. Соответственно, различными предстают и рубежи эпох. В самом общем виде их можно дифференцировать по резкости. интенсивности и темпам историко-культурных изменений на «переломные» и «переходные». В данном случае эти понятия предлагается понимать нс как синонимичные: перелом - резкое, быстрое, внезапное изменение (сколь бы долго оно подспудно не вызревало в той или иной культуре), переход - постепенная, медленная, порой незаметная эволюция. И рубежи историко-литературных эпох дают нам примеры того и другого: так, граница между Возрождением и XVII веком являет собой образец «перелома», ибо это не только и
218
не ііросіо ікмененпе жанрово-стилевых принципов в литературе под воздействием «внешней эрозии» (М. Фуко), с одной стороны, и внутренней эволюции, е другой, а трансформация картины мира, принципов мышления (научного, но и художественного), изменение концепции человека и мира, уклада жизни отдельного индивидуума и общества и т. д. А, скажем, рубеж между XVII и XVIII веками представляет собой образец «перехода»: сдвиги, происходящие в мироощущении человека в этот период, нс меняют кардинально картины мира. Новое время продолжает свое становление, философская и художественная эволюция строятся на компромиссном стирании противоречий между старым и новым. Заметим, что свойством «переходности», поэтому, могут быть наделены не только рубежи эпох, но и сами эпохи (например. Возрождение, или - по-другому - XIX век). «Перелом» в определенных случаях включает в себя «переход», можно сказать, осуществляется внешне как «переход», точнее, «исход»: так, кардинальный историко-культурный сдвиг на рубеже античности и средних веков очевиден, бесспорен, но где хронологически он фиксируется, в какой точке времени осуществляется перелом, установить вряд ли возможно. Кроме того, в типологии «эпох» и «рубежей» следует учитывать и предложенное ведущими учеными ИМЯ И (Аверинцев etc., 1994) деление историко-культурного процесса на три большие «эпохи» (по аналогии с концепцией исторических «эпох большой длительности» («longue durée») Ф. Броделя): а) до- рефлективного традиционализма (мифопоэтическую эпоху), б) рефлективного традиционализма (нормативную эпоху), в) индивидуального творчества (эпоху историзма). Рубежи между ними - иные, нежели те. о которых уже говорилось: античность и средневековье. Возрождение и Просвещение попадают здесь в единую эпоху традиционалистского творчества и на первый план выходит рубеж между XVIII и XIX веком, точнее, тот перелом, переворот в художественном сознании, который происходит при разрушении старой риторической системы словесности. Необходимо вспомнить и типологию М. Фуко, выделяющего в европейской культуре, начиная с XVI века, три «эпистемы»: ренессансную, классическую (XVII- XVIII вв.) и современную, акцентируя, соответственно значение границ между XVI-XVII и XVIII—XIX вв. Так возникает целая система различных «рубежей», подходы к изучению которых должны быть.
219
по-видпмому. дифференцированными. Ведь «пограничность» может даже стать конституирующим принципом историко-культурной эпохи: период рубежа XIX начала XX в. несомненно обладает определенной философско-эстетической целостностью, закономерно обусловившей выделение угон культурной эпохи в отдельный предмет исследования.
Соответственно, вряд ли возможно установить единый, универсальный принцип, по которому происходит смена эпох. Изменения культурно-исторических парадигм всякий раз происходят по-особому, хотя отдельные закономерности этого процесса филологическая мысль способна установить и устанавливает. Одной из таких более или менее общих закономерностей следует, по-видимому, считать чрезвычайное разнообразие и разнонаправ- лснность художественных тенденций, которыми отмечены историко- культурные «рубежи», спутанность тех, говоря словами Бальзака, «связей, узлов, сцеплений», которые существуют в этот период. Но констатация сложности историко-культурного пограничья не освобождает нас от необходимости «распутывать» его узлы. Другое дело, что сводить процессы бурного умирания/становления разнообразных художественных явлений на историко-культурных рубежах к прямолинейно-телеологической схеме «углубления реализма», как это не так давно представлялось, было бы неверно. Скорее, в процессе эволюции культурных, в частности, литературных парадигм, мы можем наблюдать своеобразное «расширение культурной Вселенной», т. е. все большую пестроту и разнонаправленность художественных устремлений «рубежей» и «эпох».
Еще одной достаточно устойчивой закономерностью историко- культурных парадигматических трансформаций является, думается, своеобразный синдром «начала»: поиск истоков собственной культуры не в непосредственном, «вчерашнем» прошлом, а в далеком, забытом или прежде маргинальном, игнорировавшемся непосредственными предшественниками (так, гуманисты Ренессанса «разглядели» античность сквозь толщу веков, которые они сами назвали «средними»; романтики «открыли» средневековье и барокко; реалисты «через голову» романтиков вновь обрели XVIII век - Стендаль, Теккерей и т. д.). Иногда эта жажда новизны и начала обретает формы практически тотального отрицания традиций, как
220
в авангарднььч течениях XX века, но и этой акции «сбрасывания с корабля современности» наследия прошлого можно отыскать исторические аналоги - в раннем средневековье (по отношению к античности) или в Просвещении. Перестройка историко-культурной парадигмы, даже оформленная внешне как последовательное отрицание старого, оказывается на деле поглощением и «перевариванием», т. е. перераспределением, переакцентуацией, синтезированием предшествующего культурного материала. Наибольшую трудность для исследования представляют именно эти процессы постепенного «вбирания» в себя предшествующей традиции и ее перерождения (возрождения) в ходе становления новой художественной системы, но как раз они, по верному замечанию Ю. М. Лотмана, и обладают «мощной силой прогресса» (Лотман, 1992, 18). «Рубеж эпох» - это всегда «царство хаоса», понимаемого как «мир бесконечных возможностей» (Столович, 1999, 83). Процесс постепенной смены культурных парадигм включает в себя определенный сгусток возможных, потенциальных, содержащихся в зародыше, в свернутом виде тенденций, которые могут получить свое полноценное развитие далеко не сразу, обладают некоей, если можно так выразиться, отстроченной актуальностью. И в этом смысле рубежи эпох всегда играют роль «мостов» между различными мирами культуры, а не только роль границ, выявляющих их отделенность, даже отдаленность друг от друга.
Наконец, еще одной общей закономерностью смены историко- культурных парадигм является, как кажется, их системность, глубокая взаимосвязь всех социально-исторических, нравственнопсихологических, философско-эстетических трансформаций и жанрово-стилевых перемен. Несводимость процессов художественной перестройки к историко-социальным трансформациям не означает их полной автономности: так, например, мы справедливо отвергаем сегодня примитивное, вульгарно-социологическое деление романтизма на революционный и консервативный, но не можем не замечать тех глубоких созвучий, которые возникают между «революцией социальной» и «революцией романтической» (А. В. Карельский).
Разумеется, наш диалог с другой культурой, другой эпохой конструируется нами самими, и часто мы ищем в других временах
221
культуры ответы на те вопросы, которые задаем ей сами, а нс на тс, которые зга эпоха задавала себе самой. И, однако, вряд ли мы можем сказать, что. когда одна культура вопрошает другую, неизбежно возникает диалог «радикально недиалогичных собеседников» (С. С. Аверинцев) и нам не дано пробиться сквозь собственный культурный опыт к пониманию других культур - хотя бы потому, что то, что входит в понятие «собственной культуры» или «современной культуры», включает в себя освоение прошлого этико- эстетического наследия, слагается во многом из кирпичиков прошлого, из «цитат», что так явно демонстрирует постмодернистское художественное мышление. В число компаративистских подходов литературоведения как раз и входит, наряду с исследованием транс- текстуальности, изучение особых «пограничных» аспектов интертекстуальности. Д.-А. Пажо очень точно обнаруживает главную особенность компаративистского взгляда на литературный процесс «во всяком акте, посредством которого определяется линия раздела (граница) между двумя культурами, в любом моменте, во время которого человек, желая понять Другого, затевает диалог с ним и с самим собой» (Pageaux, 2005). По-прежнему остается в своей методологической силе принцип историзма: он позволяет нам узнать прошлую историко-культурную эпоху наиболее адекватно, если нас интересует именно она сама, в ее культурном своеобразии и непо- вгоримости. Одновременно эти своеобразие и неповторимость могут быть выявлены лишь в устанавливающем границы «своего» и «чужого», «знакомого» и «неизвестного» сравнении, то есть путем компаративного анализа.
Библиография
Aarset, II. E.: 1994, ‘Arehctextual palimpsest: compositional structure and narrative sel I-awareness in L 'Astrée and other French baroque novels'. Contexts of pre-novel narrative. The European tradition ' Roy Eriksen (dir.). Berlin; New York. P. 229 272.
Adam, A.. Lerminier, Ci.. Morot-Sir. E.: 1972. Littérature française. 2 vol. Paris.
Adam. A.: 1948, Histoire de la littérature française au XVIle siècle. 5 vol. T. 1. Paris. 360 p.
Adamowicz-Hariasz, M.: 2001, Le juif errant d'Eugène Sue: Du roman- feuilleton au roman populaire. Lesiston. 224 p.
Adams, P.G.: 1983. Travel literature and the Evolution of the Novel. Lexington. 368 p.
Allègre. С. B.: 1998, Le sourcier de Г Eden . l'esthétique de l'idylle dans l'oeuvre romanesque de Jean Giraudoux. Thèse présentée à la Faculté des études supérieures en vue de l’obtention du grade de Philosophiæ Doctor (Ph.D.) en études françaises mai 1998 <http://www.theses.umontreal.ca/ theses/pilote/allegre/thcse.html>
Allem, M.: 1966. ‘Introduction’, Anthologie 1966.
Allen, J. S.: 1981, Popular French Romanticism: Authors, Readers & Books in the 19th Centurv. Syracuse. 290 p.
Alter R.: 1979, ‘Modern and Post- Modern. Symbolist and Immanentist Modes of Poetic Thought', Enlarging the Temple / Ed. By Ch. Altieri. Brucknell. P. 29 52.
Andrceva-Tinlignac. H.: 2003, L'écriture romanesque de Patrick
Modiano ou la frustration d'attentre romanesque: Etude stylistique.
Thèse, mémoire de diplôme / SCD de Г Université de Limoges <http://www. unilim.fr/scd/>
Andreucci, C.: 2004, ‘La poésie française contemporaine: enjeux et pratique’. Estudos em Homenagem ao Professor Dou tor Antonio Ferreira de Brito. Porto. P. 25-36 <http://lerletras. up.pl/uploads/ficheiros/4370.pdf>
Angenot. M.: 1975. Le roman populaire. Recherche enparalittérature. Montréal. 146 p.
Anthologie 1966, Anthologie poétique française. XVIII siècle. Paris. 501 p.
Anthologie 1997, Anthologie de la poésie française du XVIII siècle. Paris. 521 p.
Aranda, D.: 2001. ‘Le lecteur dans le retour’, Poétique. № 128 (novembre), 409-420.
Arland, M.: 1979. ‘Introduction'. Marivaux, Romans, récits, contes et nouvelles. Texte prés, et préf. par Marcel Arland. Paris.
Atkinson, J.: 1960, Le sentiment de la nature et le retour à la vie simple (1690 1740). Geneve-Paris. 89 p.
Azim, F.: 1993. The colonial Rise of the Novel. London. New York. 253 p.
Baert, Viart: 1993. Littérature française contemporaine. Questions et perspectives. Recueil d'études publié par Frank Baert. Dominique lïart. Louvain. 168 p.
Bailbé, J.: 1968a. Agrippa d'Aubi- gné. poète des Tragiques. Caen. 496 p.
Bailbé, J.: 1968b, ‘Introduction', Aubigné, A. d'. Les Tragiques. Paris.
223
Baker. E. A.: 1910, The history of English Novel. Vol. 1-2. London.
Ballaster. R.: 1992. Seductive
forms: Women's amatory fiction from 1684 to 1740. Oxford. 232 p.
Barrère. J.-В.: 1972, ‘Victor Hugo', Littérature française. 2 Vol. Paris.
Barthes. R., Nadeau, M.: 1980, Sur la littérature. Grenoble, 1980. 51 p.
Bastard, 1.: 1999, Le soupçon et le doute : de la postmodernité du fantastique. Québec. 93 f.
Bellos, D.: ‘Perec’s puzzling style', Scripsi. Vol. 5. № 1. Melbourne. P. 63-77.
Belmont, J.: 1987, Modernes et postmodernes. Paris. 93 p.
Benassi. S.: 2000, Séries et feuilletons: Pour une typologie des fictions télévisuelles. Liège. 192 p.
Benrekassa, G.: 1985, Fables de la personne, pour une histoire de la subjectivité. Paris. 219 p.
Bernardin de Saint-Pierre, J.-H.: 1993, Paul et Virginie. Paris. 221 p.
Bernardin de Saint-Pierre, J.-H.: 1997. ‘Etudes de la nature’, XVIII siècle. Les grands auteurs français. Anthologie et histoire littéraire. Paris.
Bersani, J., Autrand, M., Lecarme, J., Vercier, B.: 1970, La littérature en France depuis 1945. Paris. 863 p.
Bertaud, M.: 1986, L’Astrée et Polexandre. Du roman pastoral au roman héroïque. Genève. 248 p.
Berthaut, H.: 1968, De Candide à Atala. Paris. 458 p.
Bertiere, P.: 1981, Le cardinal de Retz mémorialiste. Lille. 678 p.
Best, S., Kellner, D.: 1991, Postmodern Theory’: Critical Interrogations. New York. 324 p.
Betrand, J.-P.: 2005, ‘«La poésie ne s'enseignepas»:pistesméthodologiques contre une idée reçue'. Etudes françaises. Vol. 41, № 3. P. 31 -39.
Biel, C.: 1997, La tragédie. Paris. 192 p.
Blanckeman, B.: 2002, Les fictions singulières. Etude sur le roman français contemporain. Paris. 174 p.
Bologne Web, Jean Claude Bologne, site littéraire <http://jean-claude. bologne.pagesperso-orange.fr/>
Bologne, J.C.: 2001, ‘Interview’,Le Matricule des Anges. № 36 (Septembre- octobre) <http://www.lmda.net>
Bologne, J. C.: 2003, Sherlock Holmes et les secret des lettres. Paris. 192 p.
Bon, F. : 1992/1993,‘Grand tra verseur des voies périlleuses. Quatre préfaces aux livres de François Rabelais’. ATHENA - Pierre Perroud <http://un2sg4.unige. ch/athena/bon/bon_pref. htm 1 >
Bonoli, L.: 2004. ‘Ecritures de la réalité', Poétique. № 137. P. 19-33.
Bourguignon, J.-M.: 2006, Dai Sijie, Balzac et la petite tailleuse chinoise: [dossier]. Paris. 48 p. (Parcours littéraires francophones).
Boyer, A.-M.: 1995, Frontières du littéraire: Littératures orale et populaire: Brésil/France. Paris. 175 p.
Brady P.: 2003, ‘Rococo', DITL.
Brady, P.: 1984, Rococo style versus Enlightenment novel: with essays on Lettres persanes, La 17e de Marianne, Candide. La Nouvelle Héloïse. Le Neveu de Rameau. Genève. 304 p.
Brereton, G.: 1973, French Tragic Drama in the 16th and 17 th Centuries. London. 320 p.
Brooks, P. (ed.): 1992, Modernisme/ Postmodernism. London; New York.
Brunel, P.: 1997, La littérature française aujourd'hui. Essai sur la littérature française dans la seconde moitié du XX-e siècle. Paris. 222 p.
Bury, E.: 1996, Littérature et politesse. L’invention de l'honnête homme. 158(1-1750. Paris. 268 p.
224
Bussière, V.: 2003, ‘Christine Orban : «Il n'y a rien de pire que le luxe réduit à l'argent»’. Stratégies, 20 novembre [см. также раздел Dossier Christine Orban на сайте <www.strategies.fr>]
Chatelain, F.: 2003, ‘Sherlock Holmes Naissance d’un mythe'. Portail efr(cçnçais - Litter@rt <http:// www.restode.cfwb.be/francais/_arts/ AppPeda/Sherlock-Holmes/01 -D- Mythe.htm>
Chevrolet, T.: 2008. ‘«Che cosa è questo purgare?»: la catharsis tragique d'Aristote chez les poéticiens italiens de la Renaissance’. Études Épistémè. № 13. P. 37-69.
Combes, P.: 1984, La littérature et le mouvement de Mai 68 : écriture, mythes, critique, écrivains. Paris. 320 p.
Cotton, G.: 2003, ‘Cloture de la trilogie bolognaise et holmésienne’, Le Vif/L 'Express. 28 mars.
Cotton, G.: 2004, ‘La mesure du possible’, Le Vif / Г Express. 9 janvier.
Couégnas, D.: 1992, Introduction à la paraiittérature. Paris. 206 p.
Couégnas, D.: 2001, Fictions, énigmes, images. Limoges. 226 p.
Coulet, H.: 1967, Le roman jusqu ’à la Révolution. 2 vol. Paris. 559 p.
Coulet, H.: 1992, Idées sur le roman. Textes critiques sur le roman français Xllème - XXème siècle. Paris. 426 p.
Couprie, A.: 1994, Lire la tragédie.
Paris. 262 p.
Couton, G.: 1969, Corneille
[Revised, ed.]. Paris. 224 p.
Crauser, J.-P.: 2002, ‘Chronologie des venues de Sherlock Holmes en France’, Société Sherlock Holmes de France. Janvier 1 <http://www.sshf. com/articles.php?id= 10>
Cremona, 1.: 1977, L'influence de l ’«Aminta» sur la pastorale dramatique française. Paris. 192 p.
D'Urfe, H.: 1935, L'Astree. Extraits. Paris.
D'Urfe, H.: 1984, L’Astree. Paris.
Dalla Valle, D.: 1994, ‘Pastorale dramatique, France / XVlIc siècle'. Dictionnaire universal des littératures. T. III. Paris. P. 2736-2737.
Dalla Valle, D.: 1973, Forme e contenuti dal « PastorFido » al dramma pastoralefrancese. Ravenna. 296 p.
Dambre M. (dir. ): 2002, Vers une cartographie du roman français contemporain / Directeur éditorial Marc Dambre (= Cahiers du Centre de recherche « Etudes sur le roman du second demi-siècle ». Mai, № 1. Paris.
Dangy 1.: 2007, ‘Perec/Echenoz : l’impensable d’une fratemté littéraire'. Le cabinet d'amateur, Revue d’études perecquiennes dirigée par Bernard Magné et Dominique Bertelli. 25 Mar <http://www.cabinetperec.org/articies'' dangy-echenoz/dangy_perechenoz. html>
Dam ton, R.: 1995, Edition et sedition. L'univers littéraire clandestine au XVIIle siècle. Paris. 278 p.
De Certeau, M.: 1990, L 'Invention du Quotidien. T. 1: Arts de faire. Paris. 347 p.
De Viveiros, G.; 2006, ‘Du roman-feuilleton au roman-feuilleté. Alexandre Dumas ou le triomphe du fast*food littéraire’. Equinoxes. Issue 7 (Printemps/Ete) <http://www.brown. edu/Reseach/Equinoxes/journal/ Issue%207/eqx7_deviveiros.html>
Decker, J. de.: 2004, ‘Bologne, maitre de la «nouvelle fiction»’, Le Soir. 9 janvier.
Degui, M.: 2003, ‘De la poésie aujourd’hui. Introduction. Les conversation de poétique de Paris 2002-2003’, Poésie. № 101. Paris.
Deloffre, F., Picard, R.: 1965, ‘Introduction’, Abbé Prévost. Histoire
225
du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut. Paris.
Delotïre, F.: 1059. ‘Introduction’. Marivaux. Paysan parvenu. Texte établi avec introduction, bibliographie, chronologie, notes et glossaire, par F. Delotïre .Paris. P. 1 - LXXVl.
Delotïre. F.: 1971. Une préciosité nouvelle. Marivaux et marivaudage [1955. nouvelle édition chez A. Colin]. Paris. 615 p.
Delon. M.: 2000. Le savoir-vivre libertin. Paris. 250 p.
Delpiano. R.:s.a..‘Honoréde Balzac. Le lys dans la vallée'. ОХРА, atelier de lecture <http:/ rosannadelpiano.perso. sfr.fr Balzac.htm>
Demons. R.: 2001. ‘Aux frontières de l'impensé: Marivaux et la sexualité'. Revue Marivaux^ № 1 <http://wvvw. revuemarivaux.org/numeroselectroni- ques/electro 1 /demoris.php>
Deruelle A.: 2003, ‘Les adresses au lectuer chez Balzac', Cahiers de Narratologie, № 11 <http://revel.unice. ff?cnarra/document.html?id= 11 >
Diderot. D.: 1990, Œuvres complètes. Paris.
Didier. B.: 1987, La Voix de Marianne. Essai sur Marivaux. Paris. 163 p.
DiPiero. Th.: 1992: Dangerous Truths and Criminal Passions. The Evolution of the French Novel. 1569- 1791. Stanford. 401 p.
DITL - Dictionnaire International des Termes Littéraires. Coopérative de recherche fondée par l’Association Internationale de Littérature Comparée ( AI LC ) <http://w ww. fish. un і li m. Гг/
ditl/>
Doménàch, J.-M.: 1965, Le Retour du tragique. Paris. 301 p.
Downing. D. B., Bazargan, S. (eds.): 1991. Image and Ideology in Modem / Postmodern Discourse. Albany. 349 p.
Dubois, Cl.(i.: 1976. ‘Les images de parenté dans «Les Tragiques»'. Europe. Vol. 54, № 563. P. 27-42.
Dufour, Ph.: 1998, Le réalisme.
Paris. 341 p.
Dumasy, L.: 1988. ‘La Vielle fille ou la science des mythes en roman- feuilleton'. L'Année Balzasienne. № 9. P. 163-177.
Dumasy. L.: 1999, La Querelle du roman-feuilleton. Littérature, presse et politique, un débat précurseur (1856 - 1848). Textes réunis et présentés par Lise Dumasy. Grenoble. 276 p.
Durand. G.: 1986, ‘Les mythèmes du décadentisme'. Cahiers Figures. № LP. 3-16.
Durand. P.: 2005, ‘Peuple absent, peuple introuvable : le fantôme du XIX siècle’, Hermès. № 42. P. 38-46.
Easthope. A.: 1991. Literary' into cultural studies. London. 216 p.
Eco, L.: 1981, Lector in fabula. La coopération interpretativa en el texto narrativo. Barcelona. 330 p.
Ehrard. J.: 1973, Le XVIIle siècle. 1. 1720-1750. Paris. 337 p.
Ehrard, J.: 1976, ‘Sur quelques caractères de la recherche dix-huitié- miste d'aujourd'hui', La littérature des Lumières en France et en Pologne: esthétique, terminologie, échanges. Warszawa - Wroclaw.
Ermatinger, F.: 1926. Barock und Rokoko in der Deutscen Dichtung. Leipzig. 186 s.
Escarpit, R.: 1978. Sociologie de la littérature. Paris. 127 p.
Escola. M.: 2002. Le tragique.
Paris. 256 p.
Fabre, J.: 1979. Idées sur le roman de Madame de Lafayette au Marquis de Sade. Paris. 319 p.
Fauchery, P.: 1972, La Destinée féminine dans le roman européen au XVIIle siècle. Lille. 895 p.
226
Faucheux. M.: s.a., ‘Nature'. DITL.
Fcutry, A. A. J.: 1771, Les Ruines. Opuscules poétiques et philosophiques. Paris.
Fleury. J. F. B.: 1881. Marivaux et le marivaudage. Paris. 416 p.
Fontenelle. B. de.: 1968, Oeuvres complètes. Genève.
Fowler.A.: 1982, Kinds of Literature: An Introduction to the Theory of Genres and Modes. Cambridge. 368 p.
Fumaroli, M.: 1971, ‘Les Mémoires au carrefour des genres en prose’. XVII siècle. № 94-95.
Furst. L.R.: 1992, ‘Introduction’, Realism. Furst. Lillian (ed.). London, 1992. P. 1-23.
Garofalo, E.: 2003, La sentence dans le théâtre du XVII siècle : les tragédies de Pierre Corneille (1635-1660). Lille. 612 p.
Gefen, A.: 2002. La mimèsis. Paris. 246 p.
Genette. G.: 1997, L’Oeuvre de l'art. 2 vol. T. IL La relation esthétique. Paris.
Gollut. J.-D., Zufferey, J.: 2000, Construire un monde: Les phrases initiales de «La Comédie humaine». Lausanne; Paris. 149 p.
Gontard. M.: 2001, ‘Le postmodernisme en France : définition, critères, périodisation’, Le Temps des Lettres. Quelles périodisations pour l'histoire de la littéralurefrançaise du 20-ème siècle? Rennes, 283-294.
Gontard, M.: 2003, Le roman français postmoderne. Une écriture turbulente <http://hal.ccsd.cnrs. fr/docs/00/02/96/66/PDF/Le%20 postmodeme.pdf>
Goulet, A.: 1988, ‘L'ironie pastorale enjeu’, B A AG. № 78-79 (Avril-juillet), 41-57.
Granderoute, R.: 1983, Le roman pédagogique de Fénelon à Rousseau. 2 vols. Berne; Paris.
Grissac, G. de.: 2007, ‘Des idées pour lire la poésie. Lire en fête 2007’, Expressions, № 30 (Décembre) = Journée « Lire en fête », lundi 19 novembre. Donner le goût de lire. Saint-Denis. P. 55—72.
Guibet, L. C.: 1999, ‘Esthétiques de la post modernité’, NoSoPhi: Centre NOrmes, SOciétés, PHllosophies. Paris. <http://nosophi.univ-parisl.fr>
Guichemerre. R.: 1977, ‘Rois barbares et galants (histoire et romanesque dans quelques épisodes de l'Astrée’, XVII siècle. № 114-115. P. 43-70.
Guise, R.: 1985. Le roman- feuilleton. 1830-1848: La naissance d'un genre. Lille.
Hafid-Martin, N.: 1995, ‘Les
relations de voyage dans la culture des Lumières, La Chapelle, France. Communication présentée au 9ème Congrès International des Lumières', Filosofia Moderna <http:// www.swif.uniba.it/lei/filmod/testi/ voyages, htm 1>
Hagiwara. M.P.: 1972, French epic poetry in the sixteenth century: Theory and practice. The Hague: Paris.
Haquette, J.-L.: 2005. Lectures européennes. Introduction à la pratique de la littérature comparée. Paris. 254 p.
Hamon, Ph.: 1981, Introduction à I 'analyse du descriptif. Paris. 268 p.
Hart, E.: 1983, Ideology and Culture in Seventeenth-Centurv France. Ithaca. 333 p.
Hassan, I.: 1987, The Postmodern Turn, essays in postmodern theory and culture. Ohio. 288 p.
Hauser, A.: 1952, The social history of art. Vol. 2. New York.
Hipp. M.-T.: 1976, Mythes et realites. Enquête sur le roman et les mémoires (1660-1700). Paris. 585 p.
227
Hunt. J.D.: 1 v>81. ‘Picturesque mirrors and the ruins of the Past'. .4/7 Historv. Vol. 4. № 3. P. 254 270.
Jeannellc. J.-L.: 2004. ‘L'obtention de la réalité'. Poétique. № 130.
Jimenez. M.: 199"7. Qu'est-ce que l'esthétique* Paris. 452 p.
Jouve. V.: 1092. L’effct-personnage dans le roman. Paris. 271 p.
Keating. E.: 2001. ‘Space'. Key Terms in Language and culture. Ed. By A. Duranti. Oxford. P. 231-234.
Kibédi-Varga. A.: 1963. ‘La désagrégation de l'idéal classique dans le roman français de la première moitié du XVIII siècle*. Studies on Voltaire and die 18-th centurv. Vol. XXVI. Genève. P. 965-998.
Klage. M.: 2003. ‘Modernes / Postmodemes : lignes de fracture’, Psythère. Revue de psychiatrie. 10 mars <http: psythere.free.fr//postmoderne. htm>
Krzywkovski L: s.a.. ‘Espace/ Space'. DITL.
Kubinlicht-Proux, A.: 2001. ‘Penser le droit : la fabrique romanesque', Droit et société. № 48. P. 495-530.
La Harpe, J.-F., de: 1821. La Lycée: Ou Cours De Littérature Ancienne Et Moderne. Paris.
Labarte. Ph.. Nancy, J.-L.: 1978, ‘L'exigence fragmentaire', L’absolu littéraire. Théorie de la littérature du romantisme allemand. Paris. P. 57-80.
Lafont. J.: 1984, ‘Préface’, Urfé H. d’. L'Astrée. Paris.
Latendresse, P.: 2003, ‘Le
postmodemisme est mort’, Les Editions Hermafrodite. 28 août <http://www. hemiaphrodite.fr/article292>
Laufer, R.: 1963, Style rococo: style des «Lumières». Paris. 154 p.
Lavocat, F.: 2003, ‘Espaces arcadi- ques : Esquisse pour une hydrographie pastorale’, Etudes littéraires. Vol. 34, № 1-2. P. 153-167.
Lazzarini-Dossin, M.: 2002, L’impasse du tragique: Pirandello, Valle- Inclân et le «nouveau théâtre». Bruxelles. 318p.
Lebrun, J.-C.: 1996. Jean
Echenoz : l’image du roman comme un moteur de fiction me séduit en ce moment' (Interview), Journal l'Humanité. 11 octobre <http:// www. humanité.presse. fr/>
Leguen. B.: 1995. ‘L’usage de l’Histoire dans la fiction au XIX siècleà partir de quelques exemples'. Revistade Filologia F rance sa (Madrid). № 8. 49- 60<http://revistas.ucm.es/fll/11399368/ articulos/THEL9595330049A.PDF>
Leiner, W.: 1984, ‘Les poètes “mineurs” dans l'historiographie littéraire française', I/ «minore» nella storiogra- phia letteraria: convegno internationale. Roma, 10-12 marzo 1983. A cura di Enzo Esposito. Roma. P. 287-302.
Lenient, С.: 1877, La satire en France ou la littérature militante au XVI siècle. 2 vol. Paris.
Lerner, L.: 1972, The Uses of Nostalgia: Studies in Pastoral Poetry. London. 248 p.
Lits, M.: 1999, ‘Herméneutique du déchiffrement dans le genre policier. De l'énigme cryptologique comme source du littéraire’. Le secret : motif et moteur de la littérature. Ch. Zabus (ed.). Louvain-la-Neuve. P. 224-244.
Lombard. J.: 1982, Court il: de Sandras ou l’aventure littéraire sous le règne de Louis XIV. Lille. 668 p.
Lombardero-Menendes. N.: 2007, ‘Fortune et héroisme dans les drames d'Horace. La destinée héroique comme victoire sur l'éphémère’. Sciences Humaine combinées. № 1. L’éphémère. 23 octobre <http://revuesshs.u- bourgogne.fr/>
Luca-Leclin, E.: 2005, ‘Comparatisme et pluralisme épistémologique : 228
pour une approche anthropologique de l’écriture à la première personne', Trans-Revue de littérature générale et comparée, № ! (“Comparatismes Contemporains"), 27 décembre <http:// trans.univ-paris3.fr/>
Lukacher, M.: 2004, ‘Grandeur et servitudes du roman-feuilleton: Consuelo', L'écriture sandienne: pratiques et imaginaires. Colloque. 1-8 juillet 2004 / Centre international de Cérisy-la-Salle <http.7/www. amidegeorgesand.info/>
Lyotard, J.-F.: 1986, Le Postmoderne expliqué aux enfants: correspondance, 1982-1985. Paris. 165 p.
Mabin. Y. (éd.): 1993, Le Roman français contemporain. Paris. 175 p. <http://www.culturesfrance.com/adpf- publi/folio/textes/roman.pdO
Macé, M.: 1995, Le roman français des années 70. Rennes. 163 p.
Macé. S.: 2002, ‘Les mutations de l’espace pastoral dans la poésie baroque’, Etudes Littéraires. Vol. 34. № 1-2. P. 169-177.
Magne, B.: 1976, Crise de la littérature française sous Louis XIV: humanisme et nationalisme. 2 vol. Paris.
Maillard, J.-F.: 1973, Essai sur l'esprit du héros baroque (1580-1640). Le même et l'autre. Paris. 183 p.
Malerbe, J.-Y.: 2005, La lecture du roman-feuilleton français du XIX siècle et son importance politique et culturelle <http://magenta.ruc.dk/cuid/ publikationer/publikationer/XVI-SRK- Pub/FLlT/FLlT02-Malherbe/>
Malinovska-Salamonova, Z.: 2003, ‘Le « mouvement de reflux » du roman français contemporain', Sbornickpraci filizofické faculty brnenské univerzity, L. 24 <http://www.phil.muni.cz/rom/ erb/malinovska03.pdf>
Mallet. E.: 1745, Principes pour la lectures des poètes. 2 vol. Paris.
Malraux, A.: 1977, L’Homme précaire et la littérature. Paris. 329 p.
Margaret, Rose, M. Л.: 1991, The post-modern and the post-industrial. A critical analysis. Cambridge. 317 p.
Margolin. J.-Cl.: 1968, ‘La tragédie sans tragique’, Etudes françaises. Vol. 4. № 1. P. 66-71.
Marivaux, 1877, Œuvres choisies. 2 vol. Paris.
Masson, J.-Y.: 2002, ‘L’espace de la tradition. Pour une pensée de la tradition en littérature’, Conférence, № 14 (printemps). P. 153-204.
Maugendre, P: 2004, ‘Bologne J.P. Sherlock Holmes et le secret des lettres’. Mauvais genres. 13 janvier <http://www.mauvaisgenres.com/ jeanclaude_bologne.htm>
Maurens. J.: 1966, La Tragédie sans tragique. Le néostoicisme dans l'oeuvre de Pierre Corneille. Paris. 314p.
Mauron, Ch.: 1965, ‘Manon Lescaut et le mélange des genres’. L'Abbé Prévost: actes du colloque d'Aix-en- Provence, 20 et 21 décembre 1963. Gap. P. 113-118.
Mauzi. R. (dir.): 1990, Précis de littérature française du XVIIle siècle, publié sous la direction de Robert Mauzi. Paris. 280 p.
McLean, L: 1977, Woman triumphant: feminism in French literature, 1610-1652. Oxford. 314 p.
Mellier, D.: 1999, ‘L’aventure de la faille apocryphe ou Reichenback et la Scerlock-fiction’. Sherlock Holmes et le signe de la fiction. Fontenaye-aux- Roses. P. 136 -187.
Mélonio, F.: 1999. «Retour sur le XIX0 siècle : la littérature entre les purs et les rhéteurs» И Le Français aujourd’hui, hors série (mars). P. 26-39
229
-http: ' w w w. h a 11. nоm. fг / r he t о r i q u e/ pdf/article20.pdf>
Menan. S.: 1981. La chute d'Icare. La crise de la poésie française. 1700- I750. Genève; Paris. 396 p.
Mesnard P. éd.: 1990. Precis de littérature française. Paris.
Migozzi. J.: 2005. Boulevards du populaire. Limoges. 243 p.
Milani. R.: 2001. ‘La théorie du pittoresque et la naissance d’une esthétique du paysage’. Canadian Aesthetics Journal ' Revue canadienne d’esthétique. Vol. 6 (Fall/Automne) <http: ' w w\\ .uqtr.ca/AE Vol_6 Manon/ Milani.html>
Motîet. J.-D.: 2000. ‘La compétence langagière et le transfert’. Correspondance. Volume 6. Novembre. № 2 <http: www.ccdm.qc.ca/correspo/ Corr6-2 Comet.html>
Monfort. B.: 1995, ‘Sherlock Holmes et le «plaisir de la non-histoire». Série et discontinuité’. Poétique. № 101. P. 47-67.
Montadon. A.: 1992. ‘Le fragment’, Les formes brèves. Paris. P. 77-98.
Montalbetti. C.: 2003. Le personnage. Paris. 255 p.
Moorman. Ch.: 1976. ‘The Appeal of Sherlock Holmes’, The Southern Quaterlv. Vol. XIV. № 2. P. 71-82.
Moraud. Y.: 1984,‘Le discours de la séduction dans le theatre de Marivaux’, Etudes romanes de Brno. XV. L. 6. P. 33 44 <http:/4vw\v.phil.muni.cz/ rom moraud84.pdf>
Morel. J.: 1973, Littérature française. La Renaissance. HI. 1570 1624. Paris. 307 p.
Morlet-Chantalal. C.: 1994, La Clelie de mademoiselle de Scudery. De l’épopée à la Gazete: un discours féminin de la gloire. Paris. 192 p.
Mortier. R.: 1974, ‘Deux poètes des ruines au XVIII siècle’. Etudes sur le XV111 siècle. T. 4. Bruxelles. P. 39-48.
Mortier. R.: 1974, La poétique des ruines de la Renaissance à Victor Hugo. Genève. 237 p.
Mougin, Haddad-Wotling (dir.) 2002. Dictionnaire mondial des littératures. Réalisé sous la direction de Pascal Mougin et Karen Haddad- Wotling. Paris. 1018 p.
Mura-Brunei, A.: 2004. Silences du roman: Balzac et le romanesque contemporain. Amsterdam; New York. 327 p.
Mylne, V.: 1965, The Eighteenth century French Novel. Manchester. 280 p.
Nethersole. R.: 1990, ‘From
Temporality to Spatiality: Changing concepts in Literary Criticism*. Proceedings of the Xllth Congress ot the ICLA. Ed. by Roger Bauer, Douwe Fokkema and Michael de Gram. Munich. P. 59-65.
Nettement, A.: 1845'46, Etudes critiques sur le roman-feuilleton. Paris.
Niderst, A.: 1984, ‘Notice*, Corneille, P. Théâtre complet. T. 1. Rouen.
Niderst, A. (ed.): 1991, La Pastorale française de Rémi Belleau à Victor Hugo. Ed. par Alain Niderst. Paris. 156 p.
Noe, A.: 2005, ‘Pierre Corneille. La société baroque sur scène’, Cniversitât IVien < http://w ww.un i v ie .ас. at
Noreiko. S.F.: 1977, ‘From serious to popular fiction’. The Cambridge companion to the French novel: From 1800 to the Present. Cambridge. P. 179-193.
Pageaux, D.-H.: 1995, Naissances du roman. Paris. 164 p.
Pageaux, D.-H.: 2005, ‘Littérature comparée et comparaisons’, Vox Poetica, 15 septembre <hltp: . www.vox-poetica.org/sflgc/biblio. comparaisons.htm>
230
Painter, G.D.: 1959, Marcel Proust. J Biography. Vol. I. London.
Pelous, J.M.: 1980, Amour précieux, amour galant (1654- 1675): essai sur la représentation de l ' amour dans la littérature et la société mondaines. Paris. 524 p.
Picô. J. (ed.): 1988, Modemidad y postmodernidad. Madrid. 385 p.
Pieiller, E.: 2002, u Pérennité du roman populaire'. Le monde diplomatique. Juin.
Poe, G.: 1987, The rococo and eighteenth-century French literature: a study through Marivaux's theater. New York. 335 p.
Prévost, A. F.: 1745, Mémoires d'un honnête homme. Paris.
Prévost. A. F.: 1810, fbuvres choisies de Prévost avec figures. Paris.
Prévost. C., Lebrin, J.-J.: 1990, Nouveaux territoires romanesques. Paris. 257 p.
Prigent, M.: 1988, Le héros et l'état dans la tragédie de Pierre Corneille. Paris. 584 p.
Proust, J.: 1980, L'objet et le texte.
Genève. 314 p.
Przychodzen, J.: 2000, Discourses of Postmodernism. Multilingual Bibliography. Part (1951-1993). With Critical Introduction & Syllabus. Amherst. 236 p. <http://www.umass. edu/complit/aclanet/janusz.html>
Puccini-Delbey,G.: 2003,‘Présence- Absence de la figure du Lector dans les romans latins de l’époque impériale', Cahiers de Narratologie. № 11 <http:// budagpc8 1 .unice.fr/cnarra/indcx. html?id=l 5>
Rabatel, A.: 2005, ‘La construction inférentielle des valeurs. Propositions pour une pragmatique énonciative des textes littéraires’ Cahiers de Narratologie. № 12 Récit et éthique <http://revel.unice.fr/cnarra/document. html?id=29>
Racault J.-M.: 1986b. ‘De la mythologie ornementale au mythe structurant : Paul et Virginie et le mythe des Dioscures in Etudes’, Etudes sur "Paul et Virginie” et l'ibuvre de Bernardin de Saint-Pierre. Ed. J.- M. Racault. Saint-Denis, Réunion. P. 40-63.
Racault, J.-M.: 1986. ‘Pastoral et roman dans Paul et Virginie'. Etudes sur "Paul et Virginie” et Гтих-ге de Bernardin de Saint-Pierre. Ed. J.-M. Racault. Saint-Denis, Réunion. P. 177 -200.
Raulet, C.: 2001. ‘Le commerce du livre et la relation auteur-lecteur dans la première moitié du XIXe siècle en France'. Labyrinthe. Atelier interdisciplinaire. № 10,97-100 <h tt p : b labyrinthe.revues.org/index 1187.html>
Raymond, M.: 1930, ‘Agrippa d'Aubigné. poète du XVI siècle'. D’Aubigné, Agrippa. Etudes. Paris.
Redonnet, M.: 1999, ‘La barbarie postmodeme’ Art press. № 244. P. 59-64.
Riou, N.: 1999, Pub Fiction. Société postmoderne et nouvelles tendences publicitaires. Paris. 183 p.
Robert 1994, Le Robert pour tous: Dictionnaire de la Langue Française. Paris. 450 p.
Robier, M., Delon, M.: 1976, ‘La Saint-Barthélemy et la Saint- Bonaparte’, Europe. Vol. 54, № 563. P. 79-87.
Rogers, B. G.: 1965, Proust's Narrative Technique. Genès e. 214 p.
Rohou, J.: 1989, Histoire de la littérature française au XVIle siècle. Paris. 383 p.
Rossbottom, R.S.: 1974, Marivaux's novels: Theme and Function in Early Eighteenth-Century' Narrative. Rutherford, N.J. 240 p.
231
Roslon, M.: 1990, Changing
per spectives in literature und the visual arts, 1630 1820 Prince(on 454 p.
Rousselot, J.: 1966. Agrippa
d'Aubigné. Paris. 190p.
Roussel, .1.: 1951. La Littérature de Frige baroque en France. Circé et Ie paon. Paris. 316 p.
Roussel, J.: 1962. Forme et signification: Essais sur les structures littéraires, de Corneille à Claudel. Pans. 200 p.
Roussel, J.: 1981. Leurs yeux se rencontrèrent: La scène de première vue dans le roman. Paris. 216 p.
Roussel, J.: 1986. Narcisse
romancier: essai sur la première personne dans le roman. Paris. 160 p.
Ruby. Chr.: 1990. Le Champ De Bataille Post-Moderne. Néo-Moderne. Paris. 232 p.
Sacre. J.: 1993, La poésie, comment dire? Marseille. 1993. 193 p.
Saint Girons, B.: 1998, ‘Le sublime de Burke et son influence dans l'architecture et Part des jardins'. C anadian Aesthetics Journal / Revue canadienne d'esthétique. Vol. 2 (Winter/ Hiver). Special Issue / Numéro spècial: "Symbol, Fiction, Communication ". Edited by Peter McCormick (Ottawa) <http://www.uqtr.ca/AE/vol__2/saint- girons.html>
Saint-Martin, A.: 2002, ‘Fossilisation de la mémoire collective et conservation pulsive des ruines d'an- tan. Esprit Critique. Vol. 4. № 2 <http:// www.esprilcrilique.org '
Sainte-Beuve, Ch.: 1839, ‘De la littérature industielle’, Revue des Deux Mondes. 1 septembre.
Sainte-Beuve, Ch.: 1956, ‘Portails littéraires : Jouflroy’, Sainte-Beuve. Oeuvres. T. 1. Paris.
Scanu, A.M.: 2004, Romantisme et fantastique dans la presse littéraire française (du ConservQtcur Littéraire à Г Artiste). Bologna. 3O p. hllp. www.rilune.org/dese/lesinvpdl7Scainr Scanu I listoiredcsldces.pdf
Scarpelta, Ci.. 1985. L'impureté.
Paris. 389 p.
Scherer, C„ Scherer. J.: 1987, /.<• théâtre classique. Paris.
Scherer, J.: 1975, ‘Introduc¬
tion’, Théâtre du XVUe siècle. Paris.
Schoning, U.: 2003, ‘Culture et interculturalité’. D1TL, 24 juin 2003.
Schuerewcgen,T.: 1987,‘Réflexions sur le narrata ire. Quidam cl Quilibet'. Poétique. № 70. P. 247 -254.
Schulle-Sasse, J.: 1987, ‘Modernity and Modernisme, Postniodernity and Post-Modernisme : Framing the Issue'. Cultural Critique. № 5. P. 5 22.
Sgard, J.: 1986, L'abbe Prévost Labyrinthes de la mémoire. Paris.
Shefey. R.: 1992, ‘The Eighteenth century German “Trivialroman" as constructed by literary history and criticism’. Texte (Toronto). № 12. P. 197 217.
Sigurel, P.. 1995, Savoir et
connaissances dans l oeuvre de Georges Perec. Thèse. Ottawa. •- hllp: www/collectionscanada.ca'obj s4 12 dsk3/flpO4/nq2IO17.pdf>
Sijie, Dai: 2002, Balsac et la Petite 7ailleu.se chinoise. Paris. 432 p.
Simon, J. J.: 1967. Bernardin de Saint-Pierre ou le Triomphe de Flore. Paris. 155 p.
Simon, M.: 2008, Poésie française d'aujourd'hui. L’n inventaire non exhaustif. Bibliographie. Mars 2008 (Médiathèque. Espace Michel Simon). Noisy-le-Grand <hltp://www. noisylegrand.fr >
Singer, IL: 1963, Der Deutsche Roman zwischen Barock und Rokoko. Kôln. 210 S.
232
Sipière. D.: 1999, ‘Holmes et la part jeux', Sherlock Holmes et le signe (je la fiction. Fontenaye-aux-Roses. p. 119 І33.
Souda)' P.: 1920, ‘Le Temps. 29 juillet 1920'. BAAG. 1979, avril, № 42- R 91-96.
Spacagna, A.: 1978, Entre le oui et le non: essai sur la structure profonde du théâtre de Marivaux. Berne; Frankfurt am Main. 472 p.
Spearmen. D.: 1966, The novel and society'. London. 256 p.
Spitzer. L.: 1953, ‘A propos de la lie de Marianne (Lettre à Georges Pouletf, Romanic Review. Vol. XLIV (April). P. 102-126.
Starobinski, J.: 1993, Blessings in Disguise: Or, the Morality of Evil. Cambrige. 235 p.
Steiner, G.: 1965, Mort de la tragédie. Trad, de 1’anglais par Rose Celli. Paris. 265 p.
Stewart, Ph.: 1969, Imitation and illusion in the French memoir-novel, 1700-1750. The Art of Make Believe. New Haven; London. 350 p.
Sylvos. F.: 2001, ‘Anti-utopies et principe espérance dans les «Châtiments» de Victor Hugo', Groupe Hugo, 20 Janvier 2001 <http://www. groupehugo.com>
Szondi, P.: 1961, Versuch über das Tragische. Frankfurt am Main. 119 S.
Terrase, J.: 1986, Le Sens et les signes. Etude sur le théâtre de Mari vaux. Sherbrooke. 144 p.
Thérenty M.-E.: 2000, ‘Contagions: fiction et fictionalisation dans le journal autour de 1830’, Fabula.Org, 20 janvier <http://www.fabula.org/forum/ colloque99/PDF/Therenty.pdf>
Thérenty, M.-E.: 2003, Mosaïques. Etre écrivain entre presse et roman. Paris. 735 p.
Tomlinson, R.: 1981. La fete galante: Watteau et Marivaux. Genève; Paris. 212 p.
Tomotani, T.: 2000. ‘La morale et la culture dans la tragédie classique'. Cahiers de littérature et langue françaises (Université de Waseda, Japon). Vol. 19. Tokyo. P. 181-194 <ww w. waseda.jp/bun-france/pdfs/ vol 19/12tomotani 181-184pdf>
Trahard, P.: 1931, Les maîtres de la sensibilité française au XVIII siècle (1715-1789). En 4 vol. T. 1. Paris.
Trousson, R.: 1975, Voyages aux Pays de nulle part: histoire littérature de la pensée utopique. Bruxelles. 318p.
Vaida, S.: 2007, ‘Le devoir d'insoumission au réel’, La Presse Littéraire Hors-Série. № 3 (Spécial Ecrivains infréquentables) <http:// www.surlering.com>
Van Buuren, M., Jongeneel, E.: 1996, Moderne Franse literatuur van 1850 tôt heden. Gronigen. 315p.
Varicas. E.: 2004, Féminisme, modernité, postmodernisme: pour un dialogue des deux cotés de l'océan. Mise en ligne le mercredi 18 février 2004 <http://multitudes.samizdat.net>
Viala, A.: 2003. Le tragique. Paris. 334 p.
Vianey, V: s.a.. ‘Le renoncement au bonheur dans l’oeuvre de Corneille’, La page perso de Vero [Le Site de Veronique Vianey] <http://vero.chez- al ice. fr/cornei 11. htm 1>
Viart, D., Vercier, B.: 2005, La littérature française au présent. Héritage, modernité, mutations. Paris. 507 p.
Viart, D.: 2001, ‘Portraits du sujet, fin de 20ème siècle', Remue.net, espace de théorie, 18 juin <http://www.remue. net/cont/ViartO 1 sujet. html>
Viart, D.: 2008, ‘De la littérature contemporaine à l’université : une
233
question critique’, Fabuki.org, 20 Mars <http:/7\v\v\v.fabula.org> к
Villemin. J.-C.: 2006. ‘Tonner н contre la tyrannye du verbe : Spectacles v baroques et discours classiques?', fi Etudes Epistémè. № 9. P. 307-329. c
Wagner, F.: 1999. 'Du sable dans < les rouages paralittéraires'. Poétique, № 120. P. 459-476. «
Wallace. M.: 1996, 'The Ends of' (
Theon'', The Ends of Theory. Detroit. 1
Weber. H.: 1969, 'Introduction', D'Aubigné. Œuvres. Paris.
Weisgerber, J.: 1991, Les masques fragiles: esthétique et formes de la littérature rococo. Lausanne. 268 p.
Williams. L: 1979, The idea of the novel in Europe, 1600-1800. London. 253 p.
Wolf. N.: 2003, Le roman de la démocratie. Vincennes. 260 p.
Yon, B.. 1977, 'Les réalités de la vie quotidienne dans L’Astrée', Marseille. №109. P. 111-117.
Zaharia, C.: 2003. 'La parole mélancolique. Une archéologie du discours fragmentaire. Thèse de Doctorat des Sciences du langage’. Université de Bucarest. Villeneuve d'Ascq. Presses Universitaires du Septentrion, coll. Thèse à la carte, 1999. Bucharest <http://www.unibuc. ro/eBooks/filologie/melancolie/1 .htm>
Аверинцев etc: 1994, Аверинцев. C. C., Андреев, M. JL, Гаспаров, M. JL, Гринцер, П. A., Михайлов. A. В., 'Категории поэтики всмене литературных эпох', Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. Москва. С. 3-38.
Аверинцев. С. С.: 1989, 'Внешнее и внутреннее в поэзии Вергилия'. Поэтика древнеримской литературы. Москва. С. 22-52.
Аверинцев. U. С.: 1989. '/Каир как абстракция и жанр как реал, ность: диалект ика замкну юс i и и разомкну i ости’. В ніимосвя т и взаимовлияние .ж анров в ра митнії античной литературы. Москва. С. 3-25.
Аверинцев. €’. С.: 1996. 'Риторика как подход к обобщению действительности', Аверинцев. С. С.. Риторика и истоки европеік кой литературной традиции. Москва С. 158 190.
Андреев, Л. Г.: 1968. Марсель Пруст. Москва. 96 с.
Андреев, Л. Г.: 1996. Жанр «романа-реки» во французской литературе', Зарубежная литература XX века. Москва. С. 100-132.
Андреев, Л. Г.: 2001, ‘Художественный синтез и постмодернизм', Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000-2000. Москва. С. 292-334.
Ауэрбах, Э.: 2000. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. Перевод А. В. Михайлова. Москва; Санкт-Петербург. 511с.
Баранов, С. Ю.: 1990, ‘Идиллия в творчестве К. Н. Батюшкова'. Развитие жанров в русской литературе конца XVII1 XIX веков Межвузовский сборник научных трудов. Куйбышев. С. 52-64.
Барт, P.: 1994, Избранные работы: Семиотика. Поэтика. Составление.
• общая редакция и вступительная J статья Г. К. Косикова. Москва. 616 с.
і Барт, Р.: 1996, Мифологии.
Перевод, вступительная статья и комментарии С.Н. Зенкина. Москва, е 312с.
Барт, Р.: 2005, 'Культура и тра- - гедия’ (1942). Перевод И. Т. Пах- сарьян. Новые переводы. Хресто-
234
иатия в помощь студентам-фило- іогам. (оставление и общая редакция 11.'Г. Пахсарьян. Москва. С. 328 330.
Банані. Л. М.: 1983, ‘Зарождение новоевропейского понимания культуры в жанре ренессансной пасі орали’. Проб кмы итальянской истории. Вып. 4. Москва. С. 226 255.
Нал кин, Л. М.: 1995. И тальянское Во {рождение. Проб лемы и люди. Москва. 446 с.
Бахму i ский, В. Я.: 1994, В поисках утраченного (от классшщ зма до Умберто Эко): с татьи разных лет. Москва. 277 с.
Бамии. M. М.: 1975, Вопросы литературы и зстстики: Исследования ра зных лет. Москва. 502 с.
Бахтин, M. М.: 1979, Эстетика словесного творчества. Москва. 424 с.
Бамии, M. М.: 2000, ‘Толстой драмаіурі ’, Бахтин. M. М., Собрание сочинении. Т. 2. Москва. С. 176-184.
Башляр, I.: 2004. Избранное: Поэтика пространства. Перевод с французского Н. В. Кисловой, Г. В. Волковой, М. ИЗ. Михеева под ред. Л. Б. Комиссаровой. Москва. 376 с.
Белецкий, А. И.: 1989, В мастерской художника слова. Составитель, автор статьи и комментариев А. Б. Есин. Москва. 158 с.
Бенишу. П.: 1995, ‘На пути к с ветс ко м у с вя ще н н о с л у же н и ю :
«Лизераюр» и новая вера: (Отрывок из книги «I Писатель во священстве»)’ ! Перевод с французского и предисловие Я. Богданова. НЛО, Nl» 13. С. 215 237.
Берг. М.: 2000, Литературо- кратия. Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе. Москва. 352 с.
Берковский. Н. Я.: 1969, ‘Мариво. Мольер. Салакру и пантомима’. Берковский. Н. Я. Литература и театр. Москва. (’. 454 485.
Бериш гейн, Б. М.: 1987, ‘К вопросу о терминологии’, Советское искусствознание, № 22.
Библер, В. С.: 1991, От наукоучен ия к логике культуры (Два философских введения в двадцать первый век). Москва. 413 с.
Близнюк. А., Іванюк. Б.: 2001, ‘Пастораль’. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. Чернівці. С. 398-400.
Блох, Э.: 1991, ‘Принцип
надежды’. Перевод Л. Лисюткиной. Утопия и утопическое мышление. Москва. С. 49-78.
Бодрийяр, Ж.: 2001, Система вещей. Перевод с французского и сопроводительная статья С. Зенкина. Москва. 224 с.
Бойм, С.: 1995, ‘Китч и социалистический реализм’. НЛО, № 15. С.54-65.
Ботникова, А. Б.: 2004. Ненецкий романтизм: диалог художественных форм. Воронеж. 341 с.
Вайнштейн, О. Б.: 1994.
‘Индивидуальный стиль в романтической по п ике’, Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. Москва. С. 392 -430.
Валери, П.: 1993, Об) искусстве: [Сборник!. Издание подготовил В. М. Кодовой. 2-е изд. Москва. 506 с.
Ванд, Л. Э.. Муратова, /\. С.: 2003, ‘Насколько реальна мифологическая реальность?’. Мир психологии. Ni» 3. С.47-56.
Ватченко, С. А.: 1984. У истоков ангіийского антиколониалистского романа (Творческие поиски Афры Бен в романной прозе). Киев. 285 с.
235
Венедиктова. Т. Д.: 2001, ‘Секрет срединного мира. Культурная функция реализма XIX века', Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000-2000. Москва. С. 186-220.
Гаврюшин, Н. К.: 1994, ‘Русская философия и религиозное сознание', Вопросы философии, № 1. С. 65-68.
Г аспаров. М. Л.: 1979, ‘Вергилий - поэт будущего*, Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. М.. 1979. С. 5-34.
Гаспаров, М.Л.: 1998, ‘Записи и выписки (Продолжение)', НЛО. № 34. С. 437-448.
Гинзбург, Л. Я.: 1979, О литературном герое. Ленинград. 221 с.
Гинзбург, Л. Я.: 1986,‘Литература в поисках реальности', Вопросы литературы, № 2. С. 98-138.
Гонтар. М.: 2006. ‘Постмодернизм во Франции: определения, критерии, периодизация ’, Постмодернизм: парадоксы бытия. Ежегодник «Человек. Образ и сущность». Москва.
Горалик, Л. : 2001, ‘Страшная с ила’, Русский журнал, 30 июля <http://old. russ.ru/krug/kniga/20010730-pr.html>
Грабарь-Пассек, М.: 1958, ‘Буколическая поэзия эллинистической эпохи', Феокрит. Мосх. Бион. Идиллии и эпиграммы. Москва. С.189-229.
Грешных. В. И.: 2000, Мистерия духа: Художественная проза немецких романтиков. Калининград. 352 с.
Гриниер, П. А.: 1980, ‘Две эпохи романа', Генезис романа в литературах Азии и Африки. Москва. С. 132-143.
Гудков. Л., Дубин, Б., Страда. В.: 1992, Литература и общество. Москва. 80 с.
Гудков, Л., Дубин, Б.: 1994, Литература как социальный институт: Статьи по социологии литературы. Москва. 352 с.
Гурвич, И. А.: 1991. Бе нет- ристика в русской литературе XIX века. Москва. 90 с.
Гуревич, А. Я.: 1986, ‘Вопросы культуры в изучении исторической поэтики’, Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения. Москва. С. 154-167.
Д’Обиньяк, Ф.: 1980, ‘Пракгика театра' Перевод M. С. Гринберга. Литературные манифесты западноевропейских классицистов. Москва. С. 320-360.
Данилкин, Л.: 2001, ‘Рецензия [Дэ Сижи. Бальзак и портниха китаяночка]’, Афиша, 25 июля.
Декомб, В.: 2000, Современная французская философия. Перевод с французского M. М. Фёдоровой. Москва. 336 с.
Делез, Ж.: 1999, Марсель Пруст и знаки. Перевод с французского, редакция и предисловие Е. Г. Соколова. Санкт-Петербург. 190 с.
Делиль, Ж.: 1987. Сады. Издание подготовили Н. А. Жирмунская. Д. С. Лихачев, IO. М. Лотман, И. Я. Шафаревич. Ленинград. 232 с.
Дженкс, Ч.: 1985, Язык архитектуры постмодернизма. Перевод с английского А. В. Рябу шина. М. В. Уваровой. Москва. 136 с.
Дианова, В. М.: 2000, Постмодернистская философия искусства: истоки и современность. Санкт- Петербург. 240 с.
Длугач, Т. Б.: 1995, Подвиг здравого смысла, или Рождение идеи суверенной личности. Москва. 221 с.
Долин, А.: 2003, ‘Китайцы вошли в бальзаковский возраст’, GZT.Ru. 20 октября <http://www.g7t.ru/ topnews/culture/29153.html>
236
Дубин, Б.: 2001. Слово - письмо - литература: Очерки по социологии современной культуры. Москва. 412с.
Дюбо, Ж. Б.: 1976, Критические размышления о поэзии и живописи. Пер. с фр. Ю. Н. Стефанова. Москва. 766 с.
Елистратова. А. А.: 1968, ‘Лоренс Стерн'. Стерн, Л. Жизнь и мнения Тристрама Шенди. джентльмена. Сентиментальное путешествие по Франции и Италии. Москва. С. 5-22.
Женетт, Ж.: 1998, Фигуры:
Работы по поэтике. В 2 т. Москва.
Забабурова, Н. В.: 1992, Французский психологический роман (эпоха Просвещения и романтизм). Ростов-на-Дону. 224 с.
Загороднева, К. В.: 2001, ‘Принципы и приемы анализа живописных произведений в «Салоне» Дидро 1759 года’. Барокко и классицизм в истории мировой культуры: Материалы Международной научной конференции. Санкт-Петербург. С. 75-78.
Зандкюлер, X. Й.: 2002, ‘Репрезентация, или Как реальность может быть понята философски’, Вопросы философии. № 9. С. 81-90.
Зенкин, С. Н.: 2000, ‘Из новейшей истории руин’. Arbor Mundi/Мировое древо. Вып. 7. С. 61-66.
Зенкин, С. Н.: 2002, Французский романтизм и идея культуры: Неприродность, множественность и относительность в литературе. Москва. 288 с.
Злобина, М.: 1969, ‘Плата за вещи’, Perec, G., Les Choses. Москва.
Зыкова, Е. П.: 1999, Пастораль в английской литературе XVIII века. Москва.
Ишмуратов. А. Т.: 1994, ‘Логикокогнитивный анализ онтологии дискурса'. Рациональность и семиотика дискурса. Киев. С. 171-182.
Кантор А.: 2000. ‘[Рецензия на учебник «Мировая художественная культура»]’, 1 сентября. № 41 <http://1 september.ru/>
Катасонов, В. Н.: 1995, ‘Наука и топология у Лейбница', Философские исследования. № 1.
Корабли 1986: Корабли мысли. Английские и французские писатели о книге, чтении, библиофилах. Москва.
Кормилов, С. И.: 1985. ‘Предмет современного литературоведения и контекст культуры’, Литературные произведения XVIII-XX веков в историческом и культурном контексте. Москва.
Корнель, П.: 1980. ‘Рассуждения о трагедии и о способах трактовать ее согласно законам правдоподобия или необходимости' ! Перевод В. Покровского, в новой редакции Н. П. Козловой, Литературные манифесты западноевропейских классицистов. Москва. С. 378-384.
Корнель, П.: 1984, Театр'. В 2-х т. Москва.
Косиков Г. К.: 2001, ‘Средние века и Ренессанс. Теоретические проблемы', Зарубежная литература второго тысячелетия. Н ИЮ-
2000: [Учебное пособие]. Под ред. Л. Г. Андреева. Москва. С. 8-39.
Косиков, Г. К.: 1993, ‘К теории романа (роман средневековый и роман нового времени)’, Диалог. Карнавал. Хронотоп. № 1(2). С. 21- 51.
Кухаркин, А. В.: 1978, Буржуазная массовая культура: Теории. Идеи. Разновидности. Образцы. Москва. 350 с.
Кутырев, В. А.: 2005, ‘Философия иного, или Небытийный смысл трансмодернизма’, Вопросы философии. № 12. С. 3-19.
237
Латур А.: 2002, Дама в истории культуры. Пер. с нем. С. С. Белокриницкой, Г. В. Сахацкого. Москва. 240 с.
Левитан, Л.С.. Цилсвич. Л. М.: 1990, Сюжет в художественной системе іитературного произведения. Рига. 298 с.
Левова, И. Ю., Пашкина. Л. А.: 2002, ‘Анализ проблемы любви: этимологический, историко- культурный. аксиологический аспекты Воронежский государственный университет (ВГУ). факультет философии и психологии, 5 курс, отделение философии'. Библиотека философской и религиозной литературы <http://www.filosofia.ru>
Легеза. С.: 2005, ‘Смерть, власть, герой: по ту сторону модерна',Логос. №2(47). С. 188-201.
Литвиненко. Н. А.: 1999, Французский исторический роман первой половины XIXвека. Эволюция жанра. Москва. 163 с.
Лихачев, Д. С.: 1999, Очерки по философии художественного творчества. Санкт-Петербург. 191 с.
Лотман. Ю. М.: 1992, Избранные статьи. В 3-х томах. Таллин.
Лотман. Ю.М.: 1992, Культура и взрыв. Москва. 272 с.
Любимова,?. Б.: 1985, Трагическое как эстетическая категория. Москва. 128 с.
Макушинский, А.: 2002,
‘Современный образ мира: действительность'. Вопросы философии. №6. С.119- 136.
Мамардашвили, М.: 1992. Как я понимаю философию: IИзбранные работы]. 2-е изд., изменённое и дополненное. Москва. 416 с.
Мамардашвили, М.: 1995, Лекции о Прусте (Психологическая топология пути). Москва. 547 с.
Маньковская. Н. Б.: 1995, "Париж со змеями” (Введение в эстетику постмодернизма). Москва. 222 с.
Мариво, II. К. де Ш.: 1999, Жизнь Марианны, или Приключения графини de***. Москва.
Мелстинский, Е. М.: 1986, Введение в историческую поэтику эпоса и романа. Москва. 320 с.
Мелстинский, Е. M.: 1990, Историческая поэтика новеллы. Москва. 279 с.
Мельников. Н. Г.: 1998, ‘Понятие «массовая литература» в современном литературоведении'. Литературоведение ни пороге XXI века. Материалымеждуниродной научной конференции. Москва. С.229-234.
Мен цель. Б.: 1999, ‘Что такое популярная литература? Западные концепции «высокого» и «низкого» в советском и постсоветском контексте’, НЛО. № 40 (6). С. 391 - 407.
Мироненко, Л. А.: 1999, Художественный мир «личного романа»: от Шатобриана до Фромантена. Донецк. 236 с.
Михайлов А. Д.: 1974, ‘Роман Кребийона-сына и лтературные проблемы рококо', Кребийон-сын, Заблуждения сердца и ума. Москва. С.287 331.
Михайлов, А. В.: 1982, ‘Роман и стиль'. Теория литературных стилей. Современные аспекты изучения. Москва. С'. 137 203.
Михайлов. А. В.: 1997, Яшки кульгу ры. Риторика и история искусств. Ключевые слова культуры. С'амоосмыс.тение гуманитарной науки. Москва. 909 с.
Михайлов, А. Д.: 1988.
‘Французская литература в первой половине XVIII в.', История 238
всемирной литературы: В 8 томах. Т. 5. Москва. С. 90-96.
Михайлов. А. Д.: 1999, ‘Замечательный мастер любовнопсихологического романа’, Мариво. Жить Марианны, или Приключения графини de***. Москва. С. 5-22.
Молок. Н.: 1996, ‘Capriccio,
simulacre, проект: метаморфозы руины в XVIII веке1, Вопросы искусствознания. Выпуск IX (2/96). С.27-51.
Нестеров, А. Ю.: 2002, ‘Проблема пространственного моделирования символической целостности эстетического объекта’, Нестеров А. Ю. Литературный текст, читатель и символ: проблема символического моделирования эстетического объекта. Самара. <http://www.philoso- phy.ru/library/nesterov/space.html>
Никифорова, Л. В.: 2001, ‘Поиски смысла в легкомысленном рококо (пастораль как способ интерпретации интерьера)'. Пастораль в театре и театральность в пасторали. Москва. С. 30-39.
Обломиевский, Д. Д.: 1968,
Французский классицизм: Очерки. Москва. 375 с.
Орбан, К.: 2005b, Молчание мужчин. Перевод с французского Т. А.Источниковой. Москва. 224 с.
Орбэн, К.: 2005, Шмотки:
Роман из мира моды. Пер. с франц. Г Соловьевой. Санкт-Петербург. 311 с.
Ортега-и-Гассет, X.: 1991. Эстетика. Философия культуры. Москва. 586 с.
Ортега-и-Гассет, X.: 2000, Камень и небо. Перевод и предисловие А. Гелескул. Москва. 288 с.
Осипова, Н. О.: 1999, ‘Пасторальные мотивы в русской поэзии первой трети XX века’, Пастораль в системе культуры: метаморфозы жанра в диалоге со временем. Москва. С. 100-112.
Пави, П., 1991, Словарь театра. Перевод с французского под редакцией К. Разлогова. Москва. 504 с.
Панофский, 9.: 1998, Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. Перевод А. Г. Габричевского. Москва. 640 с.
Парахонский, Б. А.: 1994, ‘Структуры поисковых интенций: миф о капитане Гранте’, Рациональность и семиотика дискурса = Rationality and semiotics of discourse: Сборник научных трудов. Киев. С. 182-197.
Пахсарьян, H. Т.: 1996, Генезис, поэтика и жанровая система французского романа 1690-х - 1760-х годов. Днепропетровск. 270 с.
Пахсарьян, H. Т.: 1997, ‘Сенти- менталистский роман как литературно-культурная утопия’. Литература в системе культуры. Выпуск 1. Москва. С. 45-54.
Пахсарьян, H. Т.: 1999, ‘Просветительский роман и роман эпохи Просвещения’, XVIII век: литература в контексте культуры. Москва. С.104-112.
Пахсарьян, H. Т.: 2001, ‘«Театральное» и «естественное» в драматической пасторали Ракана «Пастушества»’, Пастораль в театре и театральность пасторали (Материалы Четвертого Всероссийского научного спецсеминара «Литература в системе культуры»). Москва. С. 13-23.
Пахсарьян, H. T.: 2001b, ‘Литература и паралитература: проблема интерференции', Филология в системе современного университетского образования. Материалы межвузов- 239
ской научной конференции. Москва. С. 11-13.
Перек, Ж.: 1972. ‘Вещи’, Французские повести. Москва.
Пинский. Л. Е.: 1989. Маги- стразьный сюжет. Москва. 416 с.
Подгорский, А. В.: 1983. Становление английского просветительского романа и документально- публицистические жанры рубежа XVII-XV1I1 вв. Автореферат диссертации... кандидата филологических наук. Москва.
Подлубнова, Ю. С.: 2007, ‘Метажанры, мегажанры и другие жанровые образования в русской культуре’, Герменевтика литературных жанров. Ставрополь. С. 293-297.
Подорога, В.: 1995, Феноменология теза. Введение в философскую антропологию. Москва. 339 с.
Подорога, В.: 1995, Выражение и смысл. Ландшафтные миры философии: Киркегор, Ницше, Хайдеггер, Пруст, Кафка. Москва. 427 с.
Потемкина, Л. Я.: 1986,‘Особенности и эволюция жанровой системы французского романа барокко (1600-1650-е гг.)’, Проблемы становления и развития зарубежного романа от Возрождения к Просвещению. Д неп ро петро вс к. С. 49-69.
Потемкина, Л. Я.: 1987, ‘Жанровое своеобразие «Астреи» д’Юрфе’, Потемкина, Л. Я., Орлик, Н. П., Пахсарьян H. Т., Никитина И. М., Актуальные аспекты изучения классического французского романа: [Учебное пособие]. Днепропетровск.
Прокофьев В. Н. (ред.), 1980, Западноевропейская художественная культура XVIII века. Москва. 254 с/
Пуришев 1971, Пуришев, Б. И., ‘Рококо’, Краткая Литературная
Энциклопедия. Т. 6. Москва. С. 339— 340.
Рабинович, В. Л.: 1991, ‘Человек в исповедальном жанре’, О чезовече- ском в человеке. Москва. С. 298-326.
Разлогов, К.: 2007, ‘От катарсиса к хеппи-энду: метаморфозы античности в массовой культуре’. Катарсис. Метаморфозы трагического сознания. Санкт-Петербург. С. 28-32.
Разумовская, М. В.: 1981, Становление нового романа во Франции и запрет на роман 1730-х годов. Ленинград. 140 с.
Разумовская, М. В.: 1994, От «Персидских писем» до «Энциклопедии» (Роман и наука во Франции в XVIII веке). Санкт-Петербург. 192 с.
Ревель, Ж.-Ф.: 1995, О Прусте: Размышляя о цикле «В поисках утраченного времени». Перевод с французского Г. Р. Зингера. Москва. 190 с.
Ревич, А.: 1996, ‘О Теодоре Агриппе д’Обинье и его времени', Д’Обинье Т. А. Трагические поэмы. Москва. С. 9-20.
Ржевская, Н.Ф.: 1994, ‘А. Жид', История всемирной литературы: В 9 т. Т. 8. Москва. С. 229-231. '
Рикёр П.: 2000, Время и рассказ. Пер. Т. В. Славко. Москва; Санкт- Петербург. 314 с.
Рымарь, H. Т., Скобелев, В. П.: 1994, Теория автора и проблема художественной деятельности. Воронеж. 263 с.
Рымарь, H. Т .: 1989, Введение в теорию романа. Воронеж. 268 с.
Рымарь, H. Т.: 2003, ‘Функциональные формы изолирующей границы в художественном языке', Научные чтения в Самарском фш лиазе Университета РАО. Часть 3. М„ 2003.
240
Cai алова, В. A.: 1997. ‘Хуан Рамон Хименес'. Все шедевры мировой штсритуры в кратком изложении. С 'южеты и характеры. Зарубежная lumepamypa Л'Л' века. В 2-х книгах. Энциклопедическое издание. Книга II (И Я). Москва.
Сижи. Дэ: 2001. Бальзак и порт- ни.ха-китаяночка. Перевод Леонида Цывьяна. Санкт-Петербург. 157 с.
Синило, Г. В.: 2002, ‘Библейские корни европейской пасторали’. Пастораты Идиллия. Утопия. Москва. С. 3-15.
Спеговская-Арш, Т.: 2003, ‘[Рец.:] «Бальзак и портниха китаяночка». Дэ Сижи', Творческая Мастерская «Витим». Каталог Рецензий «Резонанс», <http://www.tm-vitim. org/rezonans>
Соболева, А.: 1996, ‘Семантика руин. Русский пейзажный парк и его западноевропейские прототипы’, Вопросы искусствознания. Вып. IX (2/96). С. 68-89.
Соколов, Б. М.: 2000, ‘Язык садовых руин'. Arbor mundi/Мировое древо. Вып. 7. С. 73-106.
Соколянский, М. Г.: 1983, Западноевропейский роман эпохи Просвещения. Киев-Одесса. 140 с.
Соломеин, А. Ю.: 2003, ‘Французская национальная гуманитарная традиция: специфика и генезис’, Credo new. Теоретический журнал, № 3 <http://credonew.ru/content/ view/361/28/>
Софронова, Л. А.: 1995, ‘Человек и картина мира в поэтике барокко и романтизма’, Человек в контексте культуры. Славянский мир. Москва. С. 83 - 92.
Спивак, P. С.: 1985, Русская философская лирика: Проблемы типологии жанров. Красноярск. 140 с.
Степанов, Г. В.: 1981, ‘Рассказы о том, что увидели хозяин и его ослик во время прогулок', Хименес 1981.
Столовим, Л.: 1999, ‘Ценности культуры между хаосом и гармонией’. Столовим, Л., Философия. Эстетика. Смех. Санкт-Петербург: Тарту. С. 83-85.
Строев, А. Ф.: 1983. Типология романических жанров и французский роман эпохи Просвещения. Диссертация ... кандидата филологических наук. Москва. 288 с.
Строев, А. Ф.: 1998, «Те, кто поправляет фортуну. ..».А вантюристы Просвещения. Москва. 399 с.
Тертерян, И. А.: 1986, ‘Барокко и романтизм: к изучению мотив- ной структуры’, Iberica. Кальдерон и мировая культура. Ленинград. С. 163-178.
Толмачев, М. В.: 1988, ‘Свидетель века Виктор Гюго’, Гюго, Виктор. Собрание сочинений'. В 6-ти томах. Т. 1. Москва. С. 3-52.
Топер, П. М.: 2002, ‘Трагическое в и с ку сстве X X ве ка ’, Лл дожественн ы е ориентиры зарубежной литературы XXвека. Москва. С. 331-377.
Топоров, В. Н.: 1988, ‘Пастух’. Мифы народов мира. В 2-х т. Т. 2. Москва. С. 291-192.
Филдинг, Г: 1960, История Тома Джонса, найденыша: В 2-х т. Москва.
Филдинг, Г: 1989, Избранные сочинения. Москва. 688 с.
Философия филологии 1996, ‘Философия филологии. Круглый стол’. Материалы к публикации подготовил С. Зенкин’, НЛО. № 17. С. 45-93.
Фуко, М.: 1994, Слова и
вещи. Археология гуманитарных наук. Пер. с фр. В. П. Визгина и
241
Н. С. Автономовой. Санкт-Петербург. 408 c.
Хабермае. К).: 1991, ‘Понятие н н д и в и д уал ы юсти ', О человечес 'ком в человеке. Под ред. П. Т. Фролова. Москва. С. 195 206.
Хадынская, А. А.: 2004, Экфрасис как форма выражения пастораль- ности в ранней лирике Георгия Иванова. Автореферат диссертации ... кандидата филологических наук. Тюмень, 2004.
Ханмурзаев, К. Г.: 1998, Немецкий романтический роман. Генезис. Поэтика. Эволюция жанра. Махачкала. 330 с.
Хейзинга, Й., 1992, ‘Об исторических жизненных идеалах', Хейзинга, И. Об исторических жизненных идеалах и другие лекции. Перевод с голландского И.Михайловой. London. С. 91-117.
Хейзинга, Й.: 1992. Ното ludens. В тени завтрашнего дня. Перевод с голландского и примечания В. В. Ошиса. Москва. 464 с.
Хименес, X. Р.: 1981, Платеро и я: андалузская элегия. Перевод А. Гелескула. Москва. 127 с.
Чавчанидзе, Д. Л.: 1997, Феномен искусства в немецкой романтической прозе: средневековая модеэь и ее разрушение. Москва. 296 с.
Чеснокова, Т. Г.: 2000, Шекспир и пасторальная традиция английского Возрождения. Москва. 216 с.
Шайтанов, И. О.: 1989, Мыслящая муза: «Открытие природы» в поэзии XVIII века. Москва. 259 с.
Шацкий, Е.: 1990, Утопия и традиция. Перевод с польского К. В. Душенко, М. И. Леньшина. Москва. 455 с.
Швидковский, Д. О.: 1994,
‘Британские сады и их отражение в Европе’, История садов. Вып. 1.
Шестаков. В.: 2007, ‘Катарсис: от Арис i о геля до хард-рока’, Катарсис. Метаморфозы трагического сознания. Санкт-Петербург. С. 95-106.
Шичалин, Ю. А.: 1995, ‘«Осевые ве ка » е в ро и е й с ко й и ci о р и и ’, В опросы философии. № 6. С. 75-86.
Шпаков, В.: 2001, ‘Моцарт и председатель Мао’, ПитерЬоок, №11. <http://piterbook.spb.ru/2001 /11/ recenzii/book_05.shtml>
Шрейдер, H. С.: 1968, Французская литература периода Консульства и Империи. Днепропетровск.
Эко, У.: 2002, Шесть прогулок в литературных лесах. Перевод с итальянского А. Глебовской. Санкт- Петербург. 288 с.
Эпштейн, M. H.: 1988, Парадоксы новизны: О литературном развитии XIX-XX веков. Москва. 416 с.
Эсалнек, А. Я.: 1985, Внутри- жанровая типология романа и путь ее изучения. Москва. 184 с.
Якимович, А. Я.: 1994, ‘О лучах Просвещения и других световых явлениях (культурная парадигма авангарда и постмодернизма)', Иностранная литература. № 1. С.241-248.
Яковлев, А. А.: 1990, ‘Модель мистического познания и рефлексия', Заблуждающийся разум? Москва. С. 82-96.
Янкелевич, В.: 2000, Смерть [Перевод с французского Е. А. Адри- яновой, В. П. Большакова. Г. В. Волковой, Н. В. Кисловой. Вступительная статья П. В. Кали- тина]. Москва. 238 с.
Яусс, Г.-Р.: 1997, ‘К проблеме диалогического понимания' / Перевод В.Л. Махлина, Бахтинский сборник-III. Москва. С. 182-197.
Яусс, X. R: 1995, ‘История литературы как провокация’, НЛО. № 12. С. 34-84.
242
Указатель имен
Aapcei X. '). см. Aarsel H. E.
Аверинцев C. C. 48, 50. 82. 94. 95. 213, 222
Адамов A. 135
Адамович A. M. 123
Адан Аль де ла 29
АддисонД. 89
Азумей Ж.-К. 117
Акетт Ж-Л. см. Haquette J.-L.
Алеман М.138
Аллегр К. см. Allègre С. В.
Аллен М. см. Alieni М.
Амон Ф. см. Hamon Pli.
Андреев Л. Г. 5. 7. 8. 137, 141, 143, 144, 199, 237. 234, 243
Андрекси К. см. Andreucci С.
Антельм Р. 179
Апенко E. М. 79
Аполлинер Г. 149
Арагон Л. 123
Аранда Д. см. Aranda 2001
Арди А. 30
Аристозель 39,162,163
Астафьев В. П. 123
Ауэрбах Э. 31
Байрон Д. Г. 114, 216
Бальзак О. де 8, 120, 121, 122, 134, 147, 149, 157, 158, 165, 166, 169,211-215,220, 236, 241
Баранов С. Ю. 94, 234
Барклай Ж. 53
Баррер Ж.-Л. см. Barrère J.-B.
БартД. 195
Барт Р. см. Barthes R.
Бастар И. см.: Bastard 1.
Баткин Л. М. 10, II, 12,95,235
Бахмутский В. Я. 40, 50, 235
Бахтин M. М. 28, 32, 56, 59,61, ПО, 217
Башляр Г. 34, 235
Белецкий А. И. 59, 235
Бельбе Ж. см. Bailbé J.
Бен А.47,235
Бенишу П. 79, 105, 235
Бенрскасса Г. см. Benrekassa G.
Берг M. 104, 107,235
Бергсон А. 141
Бернанден де Сен-Пьер Ж.-А. 9, 10, 16-
19, 75. 76
Бернштейн Б. М. 48, 235
Берто А. см. Berthaut Н.
Бертран Ж.-П. см. Betrand J.-P.
Библер В. С. 59, 235
Биркен 3. фон 14
Блейк Г. 195
Близнюк А. 124, 235
Блох Э. 49, 235
Бодрийяр Ж. 179-181, 185, 235
Бойль Р. 47
Бойм С. 107, 235
Боккаччо Д. 95
Болонь Ж. К. см. Bologne J. С.
Боноли Л. см. Bonoli L.
БонтФ. 173
Бонфуа И. 190
Ботникова А. Б. 110, 113, 115, 235
Бродель Ф. 25,219
Бродский И. А. 191
Брэди П. ем. Brady Р.
Буайе А.-М. см. Boyer А.-М.
Буало Н. 50, 54, 186
Бужан Г. Г. 58
Булгаков М. А. 156
Бэббит И. 216
БюторМ. 195, 198, 199
Вагнер Ф. см. Wagner F.
Вайда С. см. Vaida S.
Вайнштейн О. 110, 115, 235
Вайсгербер Ж. см. Weisgerber J.
Валери П. 50,81, 125,234
Ван-Тигем П. 216
Ванд Л.Э. 157,235
Варей К. 121
243
Варикас Э. см. Varicas Е.
Вагченко С. Л. 47. 235
Венедиктова Т. Д. 164, 236
Вергилий 69. 94, 129, 149. 234, 236
Верн А. 155
ВестдейкС. 123
Виар Д. см. Viart D.
Вийемен Ж.-К. см. Villemin J.-C.
Виланд К. М. 84
Вильмесан И. 149
Винсент из Бове 162
Войнович В. Н. 91
Володин А. 198
Вольней К. Ф. Ш. 65, 76
Вольтер 40, 66, 67, 84, 107, 165, 147, 151, 176, 183
Вольф Н. см. Wolf N.
Вордсворт У. 129
Вьянэ В. см. Vianey V.
Гаврюшин Н. К. 48, 236
Гайи К. 198
Гамильтон А. 51, 52, 55-57
Гарди Т. 165
Гарофало Э. см. Garofalo Е.
Гаспаров М. Л. 22, 94, 236
Гатцфельд Г. 77
Гауптман Г. 165
Гварини Г. 30, 32
Гваттари Ф. 194
Гегель Г. В. Ф. 35, 115, 183
Гелиодор 13
Гёльдерлин И. К. Ф. 189
Гердер И. Г. 64
Гёте И. В. 126, 134, 147
ГийерагГ.-Ж. 143
Гинзбург Л. Я. 46,48, 142, 143, 236
Гоголь H. B.2I4
Голдшмидт M. Н. 166
Голлю Ж.-Д. см. Gollut J.-D.
Гольдманн Л. 38
Гомбервиль М. Л. де 53, 54, 60, 108
Гомер 149
Гонгора Л. де 32
Гонтар М. 178, 195, 197, 198, 199, 236
Горалик Л. 212, 236
Гораций 44, 68, 94, 149
Грабарь-Пассек M. Е. 27, 236 Грандрут Н. см. Grandcroute R.
Грешных В. И. 7, 110, 236
Гринцер П. А. 48, 234, 236
Гриссак Г. де см. Grissac G. de.
Гудков Л. Д. 21. 106, 155,236
Гуле А. см. Goulet А.
Гурвич И. А. 107,236
Гюго В. 7, 76, 149, 153, 162, 163, 170-177, 213,216
д’Обинье А. см. D’AubignéT.A. д’Юрфе О. см. D’Urfe О.
Дайер Д. 69
Далла-Валле см. Dalia Valle D.
Данилкин Л. А. 212, 236
Данте А. 174
Даррьесек М. 198
Де Вивейрос Ж. см. De Viveiros G.
Дети M. 189
Декарт P. 183
Декер Ж. см. Decker J.
Декомб В. 104,236
Делёз Ж. 140, 197, 236
Делерм Ф. 198
Делиль Ж. 72, 74, 236
Делон М. см. Delon М.
Делоффр Ф. см. Deloffre F.
Демаши П.-А. 67
Демори Р. см. Demons R.
Демье П. де 23
Депант В. 198
Деррида Ж. 194
Дерюэль О. см. Dentelle А.
ДефоД. 16
Джеймс Г. 165
Дженкс Ч. 196, 236
Дианова В. М. 193, 236
Дидро Д. 57, 65, 70, 107, 183, 237
Дидье Б. см. Didier В.
Диккенс Ч. 164, 165, 166,213
Длугач Т. Б. 59, 80, 236
Долин А. В. 212, 236
244
Доменак Ж.-М. см. Domenach J.-M.
Домье О. 166
Достоевский Ф.М. 166, 175
Драй *ер T. 166
Дубин Б. В. 21. 105, 106. 154-156, 236, 237
Дю БартасГ. 171. 173
Дю Белле Ж. 65
Дю Плешр 57. 60
Дюамель Ж. 149
Дюбо Ж. 55, 237
Дюбуа К. см. Dubois C1.G.
Дюма А. 106, 117, 121. 149. 150-153, 156, 216
Дюмази Л. см. Dumasy L.
Дюнуайе Л. 151, 152
ДюрантиЛ.Э. 168 Дюфур Ф. см. Dufour Р.
Жаккоте Ф. 191
Жаннель Ж.-Л. см. Jeannelle J.-L.
Жарри А. 206
Женен К. 192 Женетт Ж. см. Genette G. Жефен А. см. Gefen А.
Жид А. 6, 126, 127, 130, 132 170
ЖионоЖ. 123, 125
Жироду Ж. 123
Жовен Б. 150
ЖоминиА.-А. 187 Жув В. см. Jouve V. Забабурова Н.В. 139, 237 Загороднева К.В. 70, 237 Зандмюллер Х.Й. 157 Захариа К. см. Zaharia С. Зенкин С.Н. 64, 65, 72,234, 235, 241 Злобина М.180, 181 ЗоляЭ. 123
Зыкова Е.П. 93, 125, 237
Зюбер P. 13
Зюферей Ж. см. Zufferey J.
Иванюк Б. 124
Изер В. 118
Иоанн св. 174
Ипп М.-Т. 102
Истон Э. ем.: Easthopc А.
Кадью О. 189
Казанова Д. 59, 83,200
Камю Ж.-П. 53
Камю Р. 193
КантИ. 7,21,64
Кантор В. 82, 237
Карельский А.В. 162, 165, 221
Кармонтель Л. де 72
КаррД.Д. 201
Кассирер Э. 161
Кастро Г. де 42
Катасонов В.Н. 49, 237
КейльЖ.-Б. 67,71
Кено Р. 179, 190
Кживковски И. см. Krzywkowski I.
Кинг Л. Р. 202
Киньяр П. 193
Клэйг М. см. Klage М.
Кнорринг С. фон 166
Колет С.-Г. 125
Комб П. см. Combes Р.
Компаньон А. 110
Конан Дойль А. 201, 203, 204, 206,210
КормиловС.И. 108, 237
Корнель П. 38. 39,41, 42,44,45, 237
КосиковГ.К. 7, 110,218
Костенко Л.В. 123
Косткевич Т. 32, 133
Коттон Г. см. Cotton G.
Кребийон К.-П. Ж. 62, 83, 90. 135, 238
Кретьен де Труа 126
Кро Ш. 206, 208
Кромвель О. 103, 106, 108
КукаркинА.В. 101,237
Куле А. см. Coulet Н.
Кунин И. 90
Курбе Г 166, 168
Куртиль де Сандра Г 51, 52, 54-57, 60, 103
Кутон Ж. см. Couton G.
Кутырев В.А. 193, 194, 237
Куэнья Д. см. Couégnas D.
Кюбинлихт-Пру А. см. Kubinlicht-Proux
245
A.
Ла Кальпреііед К. де 52. 54. 102
Лагарп Ж.-Ф. см. La Harpe .1.-1.
Лакан Ж. 194
Ламартин А. 77. 149
Лаппсль Ж. де 53
Лансон Г. 187
Ларошфуко Ф. 13
Латандрес II. см. Latendresse Р.
Jlaiyp А. 82, 238
Лафайеі М. де 49. 50. 54. 60, 61,63, 119
Лафон Ж. см. Lafont .1.
Лафонтен Ж. 15, 174
Леблан М. 201
Лебрен П.Д.Э. 32,68
Левитан Л.С. 201,238
Левкипп 162
Левова И.Ю. 85,237
Легеза С. 198, 238
Лейбниц Г.В. 49, 140, 237
Леметр Ф. см. Lemaitrc F.
Лемьер А.-М. 72
Лею П. 200
Лернер Л. см. Lerner L.
Лесаж А.Р. 49, 51,55
Лесков Н.С. 166
Лефран де Помпиньян Ж.-Ж. 67
Линтвельт Я. 118
Лиотар Ж.-Ф. 194—196
Лихачев Д.С. 217, 218, 236, 238
Лобе М.205
ЛоджД. 193
Локк Д. 108
Ломбар Ж. см. Lombard J.
Ломбардеро-Менендес Н. см. Lombardero-
Menendes N.
Лонг 17, 126
Лоран Э. 198
Лотман Ю.М. 14, 17,46,49,56,221
Лотреамон (Дюкасс И.) 206, 208
Лукач Г. 14, 21
Лукреций 162
Любимова Т.Б. 40, 238
Людовик XIII 32
Людовик XIV 31
Маккеи їй Д. 47
Макуііппіский А. 157, 162,238
Малерб Ж.-И. см. Malerbc .I.-Y.
Малерб Ф. 28 31, 148, 187, 188
Малиновска 3. см. Malinovska-Salanionova Z.
Малиновский Б. 157
Малларме С. 125, 190 Мальро А. см. Malraux А. Мамардашвили М.К. 137, 144,238 Маньковская II.Б. 61,238
Марендорф К.С. 202
Мариво I1.K.III. де 51, 52, 55, 57, 58, 62, 83, 84, 86 89, 91, 93, 94, 98 100, 120, 134 144
Мария Антуанетта 25, 92 Масс М. см. Масе М. Массон Ж.-И. см. Masson J.-Y. Мел вил Г. 214
Мелетинский Е.М. 10, 13,46,58, 123,238 Меллье Д. см. Mellier D.
Мелонио Ф. см. Mélonio F.
Мельникова Н.Г. 155, 238 Менан С. см. Menan S.
Менцель Б. 154, 238
Мсриме II. 165
Мигоцци Ж. см. Migozzi J.
Милани Р. 68
Милле Ж.-Ф. 166
Милн В. см. Mylne V.
Мильтон Д. 174
Михайлов А.В. 13, 23, 32, 165, 234, 238
Михайлов А.Д. 135, 238, 239
Мишон П. 193
Можандр II. см. Maugendrc Р.
Молен Г. 150
Молок Н. 66, 239
Мольер 183, 235
МольпуаЖ.-М. 191
Монкрстьсн А. де 30 Монтальбегги К. см. Montalbetti С. Монтемайор X. де 12, 13,15, 30, 100 Монтень М. 13, 109, 134
246
Монтескьё Ш.Л. де 63 Монфор Б. см. Monfort В. МоньеТ. 170
Мопассан Г. де 165, 167
Мор Г. 1X
Морель Ж. см. Morel J.
Моро II. см. Moraud Y.
Моргье Р. см. Mortier R.
Моцарт В.А. 213,242
Муратова А.С. 157, 235
Муратова К.М. 162
Мурман Ч. см. Moorman Ch.
Мюра-Брюнель А. см. Mura-Brunel А.
Надо М. см. Nadeau М.
Наполеон 1 160, 167, 176
Наполеон III 171, 173-176
Нестеров А.Ю. 118, 238 Нетгеман А. см. Netteman А.
Нидерст А. см. Niderst А.
Низан П. 179
Никифорова Л.В. 81,239
Ницше Ф. 35, 240 Но А. см. Noe А. Новалис 113, 167 НоррисФ. 165 НьевоИ. 165
Обломиевский Д.Д. 38, 239
Овидий 149
Оллье К. 19, 195
Орбан К. 7, 178, 181-185,239
Ортега-и-Гассет X. 32, 36, 51, 127, 133, 239
Осипова Н.О. 125, 239
Остер К. 198
ПавиП. 138, 239
Пажо Д.-А. см. Pageaux D.-H.
Пандольфи-Крозье Ж. 206
Панофский Э. 28, 239
Паньоль М. 125
Парахонский Б.А. 10, 239
Паскаль Б. 134, 183
Пахсарьян Н.Т. 16, 62, 94, 113, 142, 153, 235,239, 240
Пашкина Л.А. 85, 235
Пенжэ P. 198
Пенсон Ж.-К. 189
Перек Ж. 76, 7, 84, 178-183, 185, 240
Перес Гальдос Б. 166
Перро Ш. 21,64
ПерросЖ. 198
ПерсС.-Ж. 190
Пети М. 200
Пикуль В.С. 107
Пинский Л.Е. 55. 240
Плутарх 13
ПоЭ. 156
Подгорский А.В. 47, 240
Подлубнова Ю.С. 124, 240
Подорога В. 136, 144, 192, 240
Понж Ф. 190
Поппер К.Р. 21
Потемкина Л.Я. 12, 58, 240
Поуп А. 61,69, 81, 84
Прево А.Ф. 6, 24, 49, 54, 62. 67, 84, 90, 101-109, 111-114
Прижан К. 189
Прижан М. см. Prigent М.
Прокофьев В.Н. 48, 240
Пруст М. 7, 134, 137, 139-144, 234. 236.
238,240
Пуришев Б.И. 78
Пушкин А.С. 36, 216
Пьейе Э. см. Pieiller Е.
Рабинович В.Л. 114, 139, 240
РаблеФ. 14, 134
Разлогов К.Э. 36, 37, 239, 240
Разумовская М.В. 50, 53, 106, 135, 136
137,240,
Ракан О.Б. де 5, 27-33, 239
Рако Ж.-М. см. Racault J.-M.
Расин Ж. 36-39,45, 106, 150
Ревель Ж.-Ф. 134, 139, 140, 143,240
Ревич А.М.172,240
Редонне М. см. Redonnet М.
Рембо А. 190, 206, 209
Ренье А. де 125
Репин И.Е. 166
Ржевская Н.Ф. 130,240
247
РикёрП. 201.240
Риу Н. см. Riou N.
Ричардсон С. 21,85. 120
Робер К). 65. 70
Робье М. см. Robier М.
Розенкранц К. 167
Роллан Р. 213, 216
РонэЖ.-П. 170
Ростон М. см. Roston М.
РотФ. 19, 123
Рошфор К. 179
РубоЖ. 198
Руо Ж. 193
Руссе Ж. см. Roussel J.
Руссо Ж.-Ж. 17,24, 134, 147, 151
Руссо T. 166
Рымарь Н.Т. 10,49, 138,217, 240
Рюби К. см. Ruby Chr.
Сагалова В.А. 128, 241
Саган Ф. 156.212
Сакре Д. см. Sacre J.
Салтыков-Щедрин М.Е. 166
Саль Ф. де ла 30
Самен А. 125
Сан-Антонио, псевд.: Дар Ф. 155
Санд Ж. 123, 152, 164
Саннадзаро Я. 11, 12, 95
Саррот Н. 137
Свифт Д. 81
Сгар Ж. см. Sgard J.
Сен-Жирон Б. см. Saint Girons В.
Сен-Симон А. 134
Сент-Аман А. 65
Сент-Бев Ш. см. Sainte-Beuve Ch.
Сервантес М.13,92, 95
Сервантес М. де 13, 92,95
Сидни Ф. 18
Сижи Дэ см. Sijie Dai Симон Ж.-Ж. см. Simon J. J.
Синило Г.В. 130, 241
Сипьер Д. см. Sipière D.
Скарлетта Г см.: Scarpetta G.
Скаррон П. 51, 119
Скобелев В.П. 49,240
С ко i t В. 25. 150. 165 167,216
Скриб'). 152
Скюдери М. де 11, 12, 22, 52-54. 60, 63, 80,102. 142
Снсювская-Лрш Т. 212, 241
Соарес Б. 202
Соболева А. 66, 241
Соколов Б.М. 66, 241
Соколянский М.Г. 49, 61,241
Соллерс Ф. 189
Соломеин А.Ю. 78, 241
Сорель Ш. 52,53,96. 165
Софокл 39
Софронова Л.А. 110,241
Спивак Р.С. 124, 241
Спирмен Д. см. Spearmen D.
Сталь Ж.149
Старобински Ж. см. Starobinski J.
Стендаль 163, 165, 168,213,220
Степанов Г.В. 128, 241
Стерн Л. 84,89,110,120,140, 237
Стиль Р. 89
Столовим Л.Н. 221,241
Страда В. 105, 106,236
Строев А.Ф. 46, 85,87,241 Судэ П. см. Souday Р.
Сулье Ф. 106, 117, 121, 122, 147, 149,152
Суриков В.И. 166
СюЭ. 106, 117, 121, 149, 152
Тассо Т. 30
Твен М.165
Теккерей У. 165, 220
Теренти М. см. Thérenty М.
Терм де (маркиз) 30
Тертерян И.А. 110, 241
Тибо IV Шампанский 95
Тибулл 94
Тийинак Д. 200
Толмачев М.В. 172, 241
Толстой Л.Н. 166, 168, 213, 235
Тома А.Л. 67, 68
Томлинсон Р. см. Tomlinson R.
Томотани Т. см. Tomotani Т.
Томсон Д. 69
248
Тонер 11. 36, 241
Топоров В.II. К). 241 Траар II. см. Trahard Р.
Тристан л'Эрмит 23
Тургенев И.С. 165
Туссен Ж.II. 198
Уоп Я. 47
У эллск Р. 216
Уэлльбск М. 191
Феокрит 29. 94, 236
Фетри ’). А. Ж. см. Fcutry A. A. J.
Филдинг Г. 57, 82-84. 89. 120. 138, 150. 241
Флери Ж. см. Fleury J. F. В. Флигар-Карлен Е. 166
Флобер Г. 152, 165. 167. 168. 179, 213, 214
Флориан 16 ,33
ФонтанеТ. 165, 166
Фонтенель см. Fontenelle В. de.
Фошери П. см. Fauchery Р.
Фрейд 3. 185.202, 203
ФукоМ. 27,28, 194, 241 Фюмароли М. см. Fumaroli М. Фюретьер А. 23, 51,87, 119 Хабермас Ю. 139, 242 Хагивара М.П. см. Hagiwara М.Р. Хадынская А.А. 131,242 Хайдеггер М. 189, 240 Ханмурзаев К.Г. 110, 242 Хасан И. см.: Hassan I.
Хаузер А. см. Hauser Хейзинга Й. 57, 89, 94, 242 Хименес М. см. Jimenez М. Хименес X. Р. 126-129, 131, 132, 193 Хэзлит У. 11, 19, 110 Хэйли А. 107
Цилевич Л.М. 201,238
ЦывьянЛ.М. 211,241
Чавчанидзе Д.Л. 110, 242
Чеснокова Т.Г. 28, 242
Шабанон М. П. Г. де 72, 74 Шайтанов И.О. 32,48, 242 ШакГ.Е. 166
Шаль Р. 52, 55-57, 61
ШандрофС. 166
Шанфлсри (Юссон Ж.) 164, 168
Шаплен Ж. 23,44
Шапюи-Монлавиль, барон 151
Шар Р. 190
Шатлсн Ф. см. Chatelain F.
Шатобриан Ф.-Р. 6, 25, 109, 111-115, 134, 149. 165. 238
Шацкий Е. 9, 16, 63, 188
Швидковский Д.О. 72, 242
Шекспир У. 36, 37, 39. 45, 174
Шённинг У. см. Schôning U.
Шерер Ж. см. Scherer J.
Шестаков В. 38, 242
Шефи Р. см. Shefey R.
Шефтсбери А.Э.К. 108
Шичалин Ю.А. 48, 242
Шкловский В.Б. 155
Шлегель Ф. 115, 147
Шонди П. см. Szondi Р.
Шпаков В.М. 212, 242
Шпитцер Л. см. Spitzer L.
Штайнер Ж. см. Steiner G.
Шуази Ф.-Т. 23
Шуервеген Т. см. Schuerewegen Т.
Эдисон Т.А. 207
Эко У. 118. 149, 180, 193,235,242
Элиот Д. 165
Эпштейн М.Н. 52
Эрар Ж. см. Ehrard J.
Эрматингер см. Emiatinger F.
Эрно А. 198
Эсалнек А.Я. 39, 47, 242
Эскарпи Р. см. Escarpit R.
Эскола М. см. Escola М.
Эсхил 39, 174
Этьембль Р. 216
ЭшнозЖ. 178,195,198
Ювенал 67. 172. 174
ЮмД. 21
Юнг Э. 69
Якимович А.Я. 61.242
Яковлев А.А. 141,242
249
Янкелевич В. 43.242 Яусс I .-Р. 21. 50, 242
Aarset 11.1:. 12. 223
Adam Л. 12. 143,223
Adamovs ic/-l larias/ M. 116, 223
Adams PG. 47.223
Allègre С. В. 123, 125,223
Allem М. 65, 67, 223
Allen J.S. 146,223
Aller R. І7X,223
Andreeva-Tintignac II. 1IX, 223
AndreueciC. IXX 190.223
Angenol M. 154.223
Aranda 1). 119
ArlandM. 134. 223
Atkinson .1. 105,223
Autrand M. 179,224
Azim E 47, 223
Ваеп F. 192, 223
Bailbé J. 170, 172, 175,223,243
Baker E. A. 17,224 Ballasler R. 47, 61,224 BarrèreJ.-B. 173,224
Barthes R. 193,224
Bastard I. 197, 224
Bazargan S. 178, 226
Bellos D. 182.224
Belmont J. 178, 224
Benassi S. 116,224
Benrekassa G. 137,224
Bersani J. 179, 224
Bertaud M. 12, 224
Berthaut H. 72, 224
Bertiere P. 60, 224
Best S. 196,224
BetrandJ.-P. 189, 224
Biel C. 36, 224
Blanckeman B. 195, 224
Bologne J.C. 206 208, 210, 224
Bon F. 134,224
BonoliL. 157, 158, 161, 163,224
Bourguignon J.-M. 213, 224
Boyer A.-M. 171,224
Brady P. 77, 78, 224
Brereton G. 28, 224
Brooks P. 178,224
Brunel P. 192,214,224
Bury E. 13, 224
Bussiere V. 183, 184,225
Chatelain E 201,225
Chevrolet T. 38, 225
Combes P. 179,225
Cotton Ci. 205, 209, 225
Couégnas D. 118, 152, 154,225
Coulet H. 47, 60, 102, 105,225
Couprie A. 36
Couton G. 42, 225
Crauser J.-P. 208, 225
Cremona I. 29, 225
D'Aubigné T.A. 223,231,234
D'Urfe O. 24, 25,225
Dalla Valle D. 23,24,31,32, 225
Dambre M. 192, 225
Dangy I. 178, 182,225
De Certcau M. 162
DeViveirosG. 149-151,225
Decker J. 205, 225
Degui M. 189,225
Delon M. 77, 173, 174, 176, 226,231
Delpiano R. 215, 226
Demons R. 99, 226
DeruelleA. 121, 122,226
Didier B. 139, 143,226
Di Piero T. 14, 226
Domenach J.-M. 36
Downing D. B. 178, 226
Dubois Cl. G. 176, 226
Dufour P. 157, 166,226
Dumasy L. 116, 150, 151, 152,226
Durand G. 206, 226
Durand P. 149, 226
Easthope A. 51, 226
Ehrard J. 46, 103,226
Ermatinger E 77, 226
Escarpit R. 148, 226
Escola M. 35, 39, 226
Fabre J. 140, 226
250
I atichcry P 58. 226
Faucheux M. 95. 227
FeulryA. A. J. 69. 227
Fleury J F. B. 134, 136. 227
Fontenelle B. 96. 227
Fumaroli M. 59, 227
Furst L. 157,227
Garofalo E. 44, 227
GefenA. 163.227
Genette G. 21.227
GollulJ.-D. 159. 227
Goulet A. 130.227
Granderoute R. 106, 138, 227
GrissacG.dc. 187,227
Guibcl L.C. 193, 196,227
Guichcmerrc R. 14, 227
Guise R. 116. 227
Haddad-Wotling K. 38, 123.230
Hafid-Martin N. 66, 227
Hagiwara M.P. 172. 227
Hamon Ph. 160, 227
Haquettc J.-L. 216, 227
Hassan I. 197, 227
Hauser A. 14, 227
HippM.-T. 59, 227
Hunt J.D. 67, 228
Jeannelle J.-L. 169,228
Jimenez M. 193,228
Jongeneel E. 195, 233
Jouve V. 201,228
Keating E. 34, 228
Kellner D. 196, 224
Kibédi-Varga A. 90, 228
Klage M. 179,228
Krzywkowski I. 34
Kubinlicht-Proux A. 145,228
La Harpe J.-F. 25, 135, 228
Labarte Ph. 109,228
Lafont J. 15, 228
Latendresse P. 193,228
Laufer R. 50, 228
LavocatF. 129,228
Lazzarini-Dossin M. 35, 228
Lebrin J.-J. 192,231
Lebrun J.-C. 192
Lecarme J. 179, 224
Leguen B. 147, 228
Leiner W. 20. 228
Lemaitre F. 148
Lenient C. 171,228
LerminierG. 143,223
Lerner L. 11,228
LitsM. 154,228
Lombard J. 51,228
Lombardero-Menendes N. 41, 228
Luca-Leclin E. 151, 228
Lukacher M. 116, 229
Lyotard J.-F. 196, 229
MabinY. 192,229
Macé M. 195, 229
Macé S. 96
Magne B. 54, 229
Maillard J.-F. 11,229
MalerbeJ.-Y. 148, 149, 229
Malinovska-SalamonovaZ. 199,229
Mallet E. 128,229
Malraux A. 187,229
Margolin J.-Cl. 38, 229
Masson J.-Y. 188. 191,229
Maugendre P. 210,229
Maurens J. 38, 229
MauronC. 90, 114,229
McLean 1. 11,229
Mellier D. 204, 229
Mélonio F. 145, 229
Menan S. 64, 230
Mesnard J. 104
Migozzi J. 152,230
Milani R. 66, 230
Moflet J.-D. 125, 126,230
Monfort B. 203, 230
Montadon A. 109, 230
Montalbetli C. 169, 204, 230
Moorman Ch. 204, 230
Moraud Y. 99, 230
Morel J. 28, 30, 230
Morlet-Chantalat C. 142,230
Moroi-Sir E. 143,223
251
Mortier R. 65, 71,230
Mougin P. 38, 123.230
Mura-Brunel A. 214, 230
MylneV. 137, 230
Nancy J.-L. 109, 238
Nethersolc R. 34, 230
NetiemanA. 150
Niderst A. 40. 125.230
Noe A. 44, 45. 230
Noreiko S.F. 101, 103. 108.230
Pageaux D.-H. 13, 15. 217, 222. 230
Painter G.D. 134. 231
Pelous J.M. 11.53.231
Picô J. 178. 231
PieillerE. 153.231
Poe G. 60. 143.231
Prévost A.F. см. Прево А.Ф.
Prévost C. 192.225.231
Proust J. 134, 140, 231
Przychodzen J. 179. 231
Puccini-Delbey G. 119, 231
Rabatel A. 93. 231
Racault J.-M. 16, 17, 18.231
RauletC. 146. 147. 152,231
Raymond M. 173.231
Redon net M. 198.231
Riffaterre M. 157
RiouN. 196. 231
RobierM. 173. 174, 176,231
Rogers B.G. 134, 231
RohouJ. 16,231
Rossbottom R.S. 57, 139, 141. 231
Roston M. 47, 232
Rousselot J. 170, 232
Roussel J. 97, 137, 140, 141, 171,232
Ruby Chr. 196, 232
Sacre J. 190,232
Saint Girons B. 66, 232
Saint-Martin A. 65, 232
Sainte-Beuve Ch. 147,232
ScanuA.M. 148, 232
Scarpetta G. 197, 232
Scherer J. 29, 30, 232
Scherer C. 29. 232
Schôning U. 126, 232
Schuerewegen T. 121, 122, 232
Schulte-Sasse J. 178,232
Sgard J. 105, 106, 108, 232
Shefey R. 146. 148.232
Sigurct P. 179, 232
Sijie Dai 212-214, 232
Simon J. J. 16, 232
Simon M. 188
Singer H. 102.232
Sipière D. 203, 233
Souday P. 131, 233
SpacagnaA. 136, 233
Spearmen D. 47, 233
Spitzer L. 139,233
Starobinski J. 28, 233
Steiner G. 36, 233
Stewart Ph. 136,233
SylvosF. 177.233
Szondi P. 35, 233
TerraseJ. 136, 233
Thérenty M. 116, 117,233
Tomlinson R. 98, 99, 233
Tomotani T. 42, 233
Trahard P. 103, 105, 106,233
Trousson R. 18, 233
Vaida S. 37, 233
Van Buuren M. 195, 233
Varicas E. 194, 233
VercierB. 178,224,233
VialaA. 35,233
VianeyV.41,233
Viart D. 178, 192, 194, 200, 223, 233
VilleminJ.-C. 35,234, 233
Wagner F. 155,234
Wallace M. 198, 234
Weber H. 176, 234
Weisgerber J. 85, 234
Williams 1. 58, 136, 234
WolfN. 146,234
Yon B. 14,234
ZahariaC. 109, 234
ZuftereyJ. 159, 227
Наукове видання
Пахсарьян Наталя Тигранівна
ВИБРАНІ СТАТТІ ПРО ФРАНЦУЗЬКУ ЛІТЕРАТУРУ
Монографія
Відповідальний за випуск О. В. Ананьев Технічний редактор В. А. Усенко Комп’ютерна верстка М Ю. Осокіна (м. Москва)
Підписано до друку 06.10.2010 р. Формат 60x84716.
Папір офсетний. Друк офсетний.
Ум. друк. арк. 14,88. Ум. фарбовідб. 15,36. Обл.-вид. арк. 13,04.
Наклад 500 прим. Замовл. № 5206.
Видавництво ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «АРТ-ПРЕС» 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Козакова, З Свідоцтво ДК № 3287 від 26.09.2008 р.
Друкарня ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «АРТ-ПРЕС» 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Козакова, З
Тел./факс (056) 370-20-27 www.art-press.com.ua ISBN 978-966-348-233-0