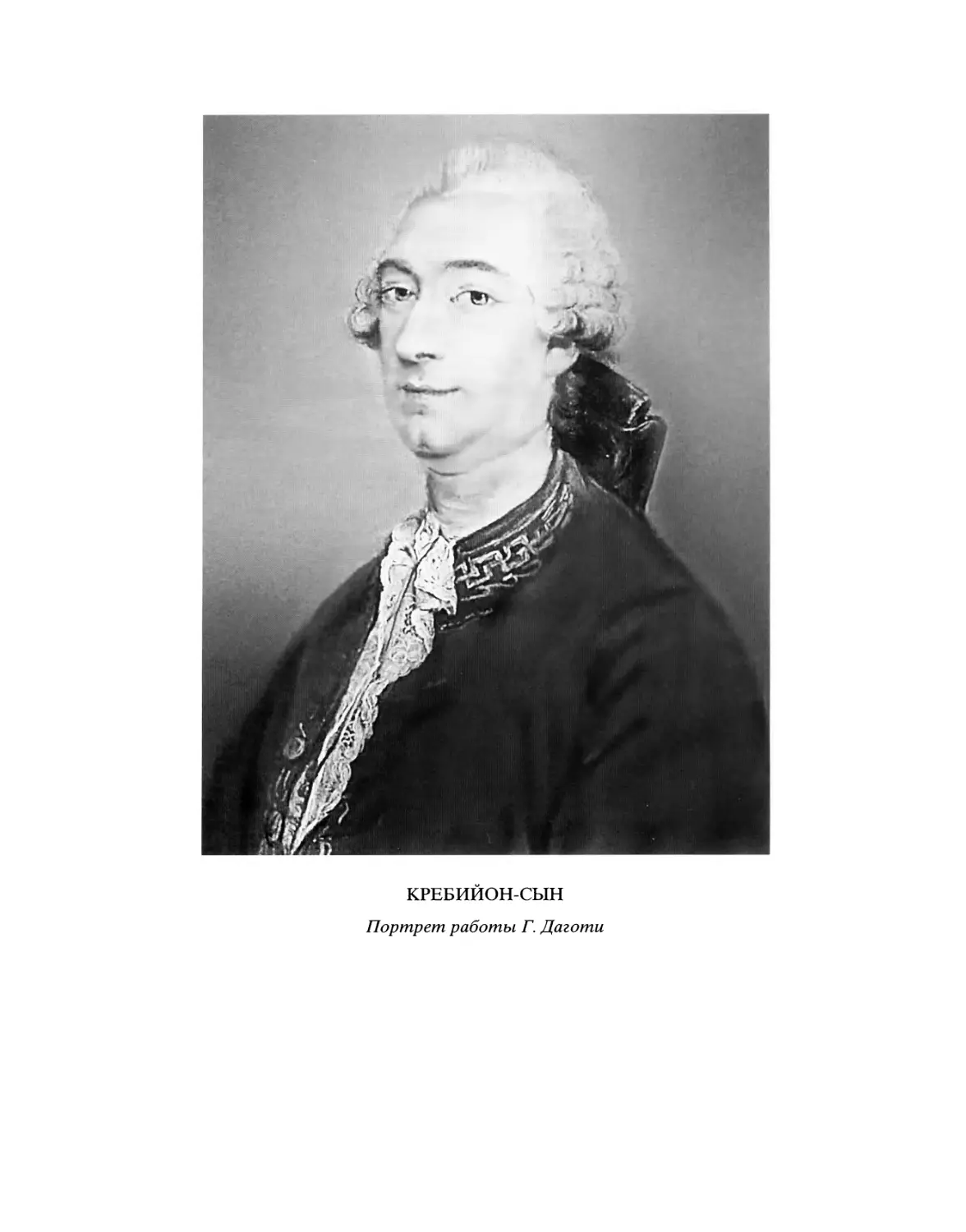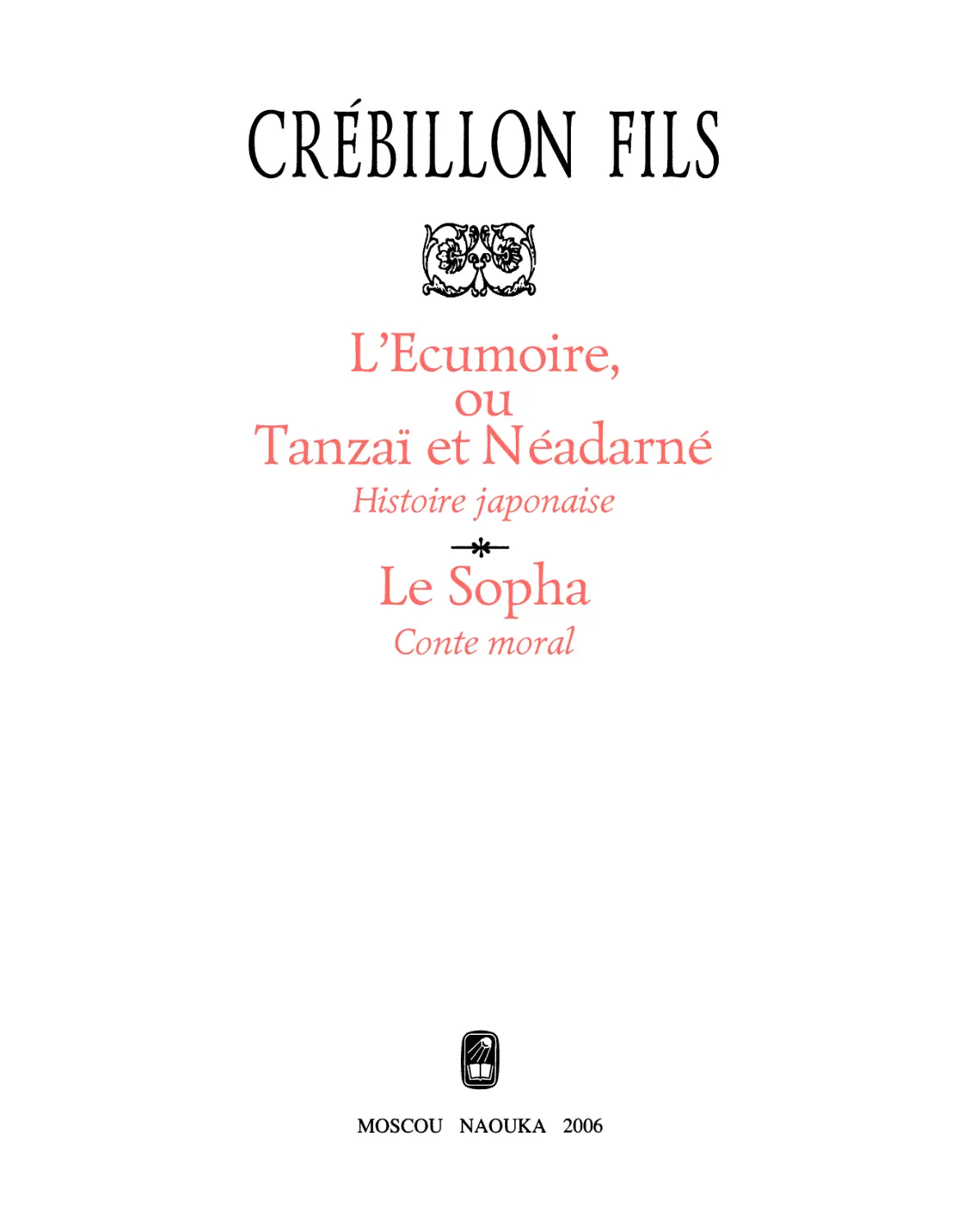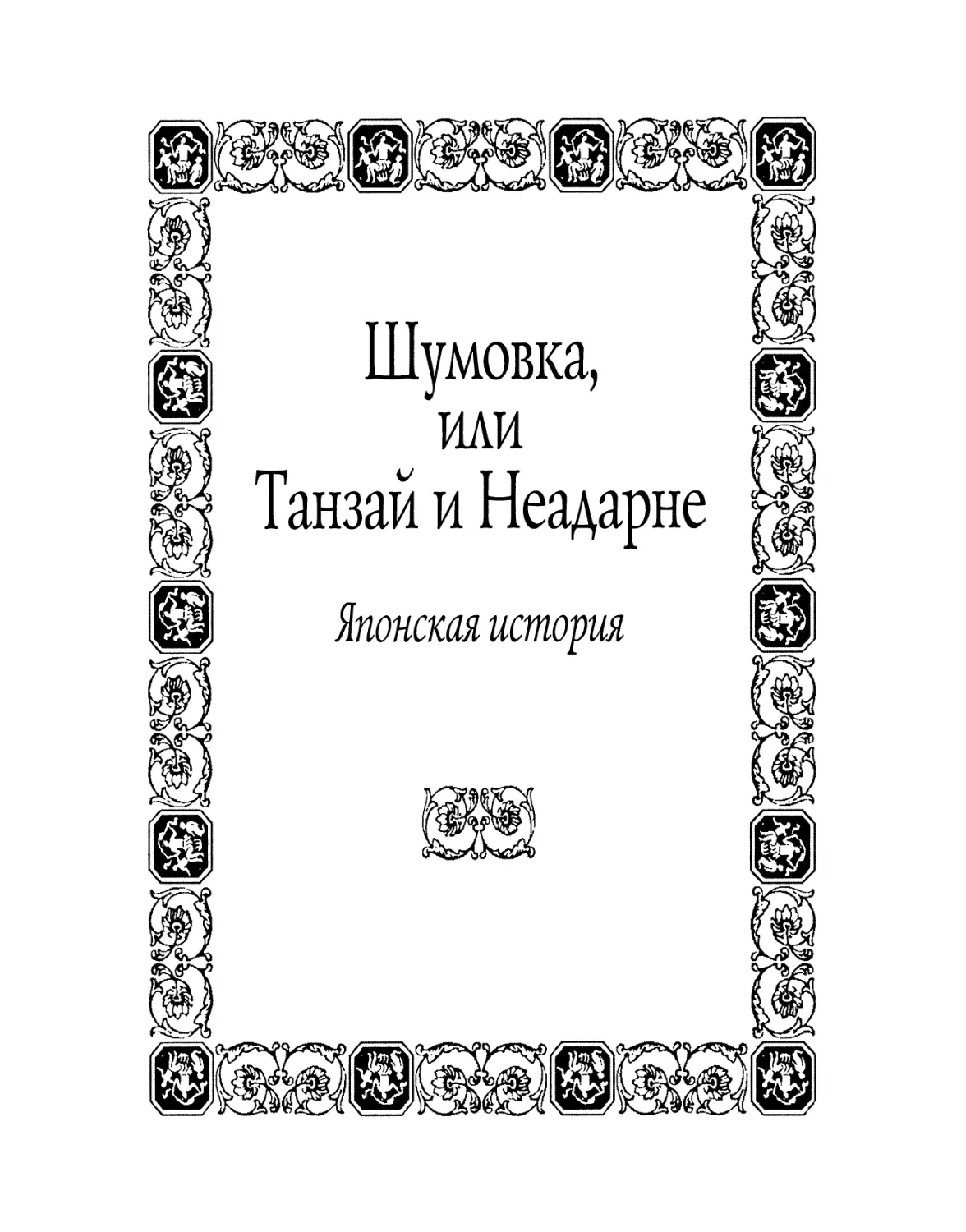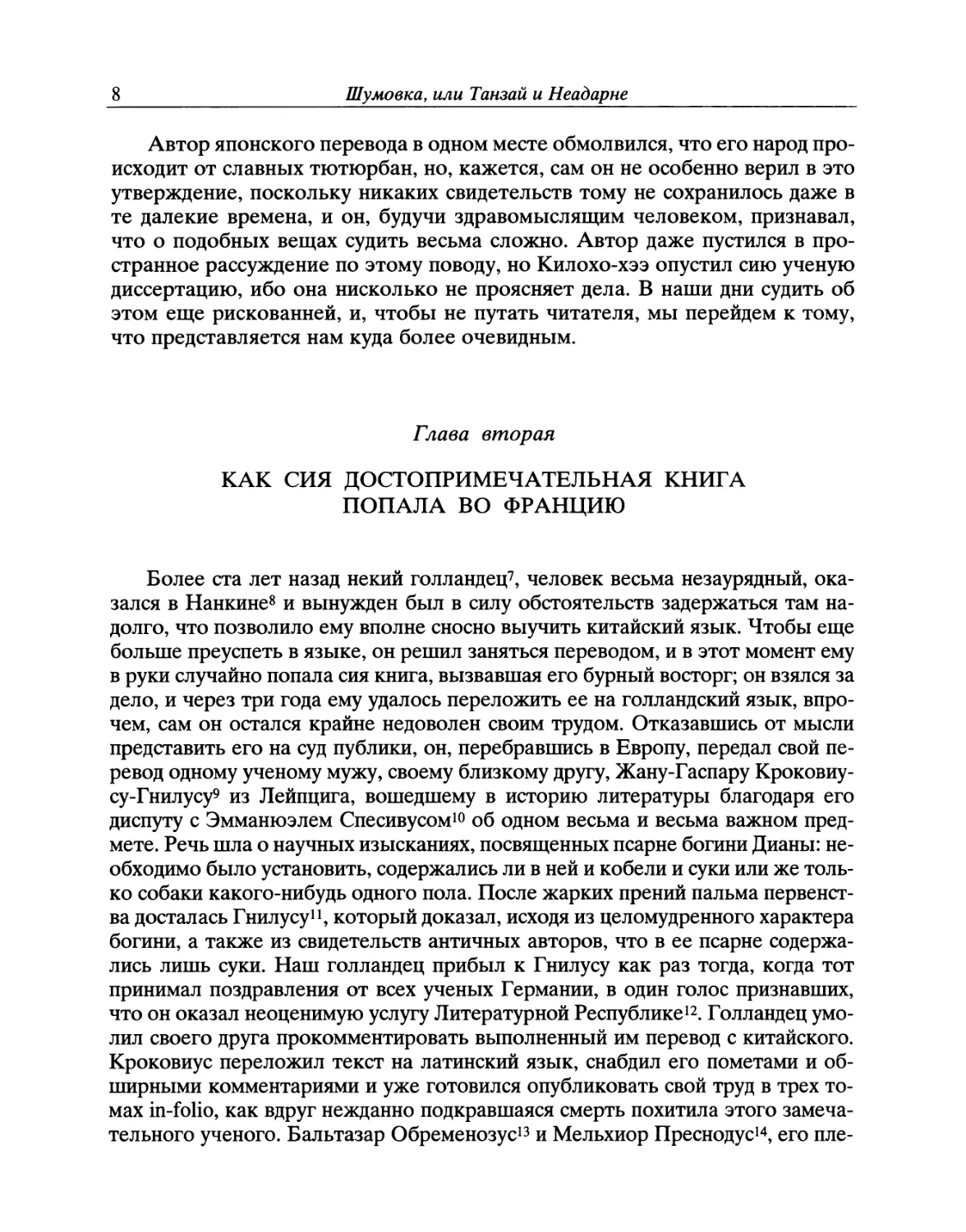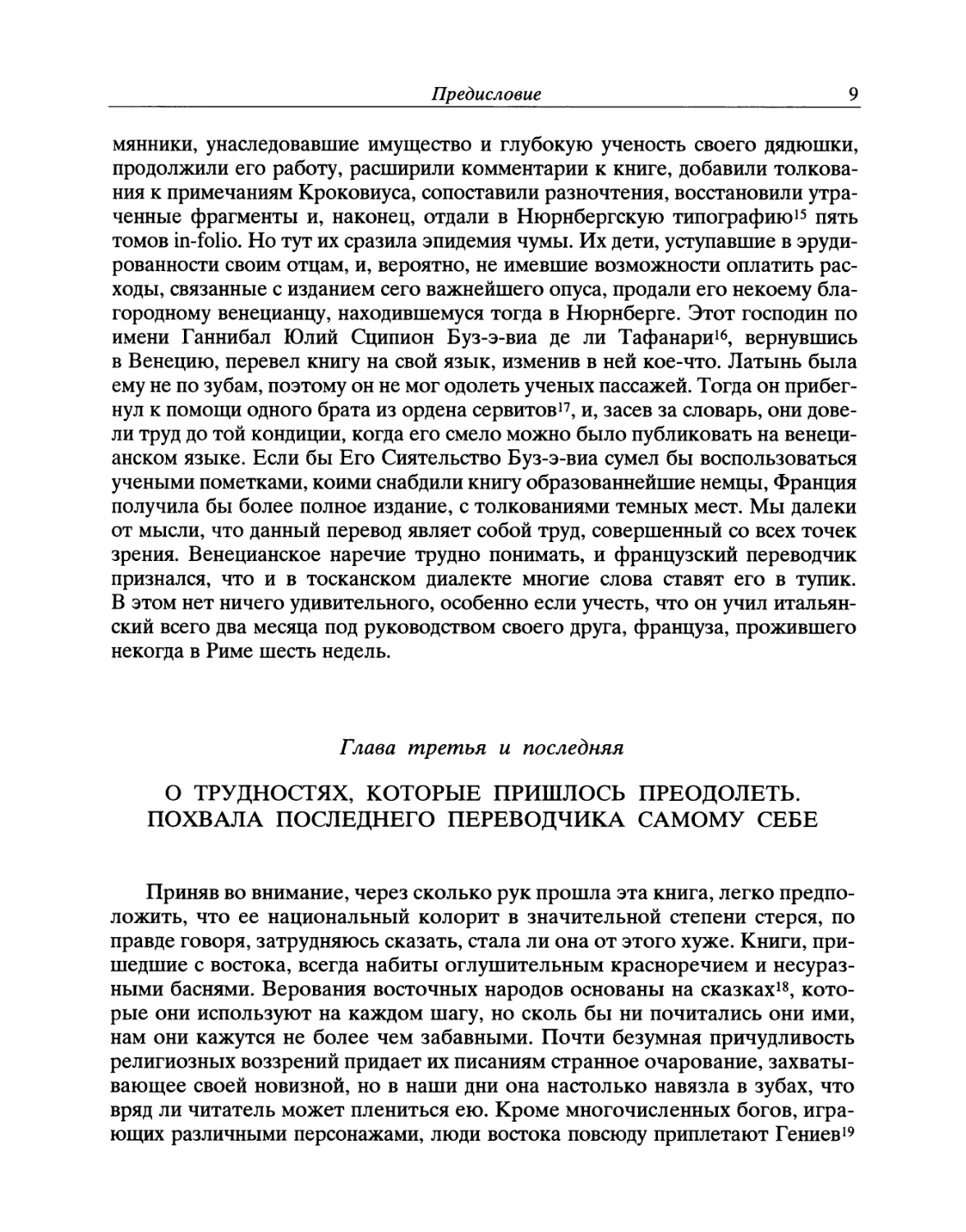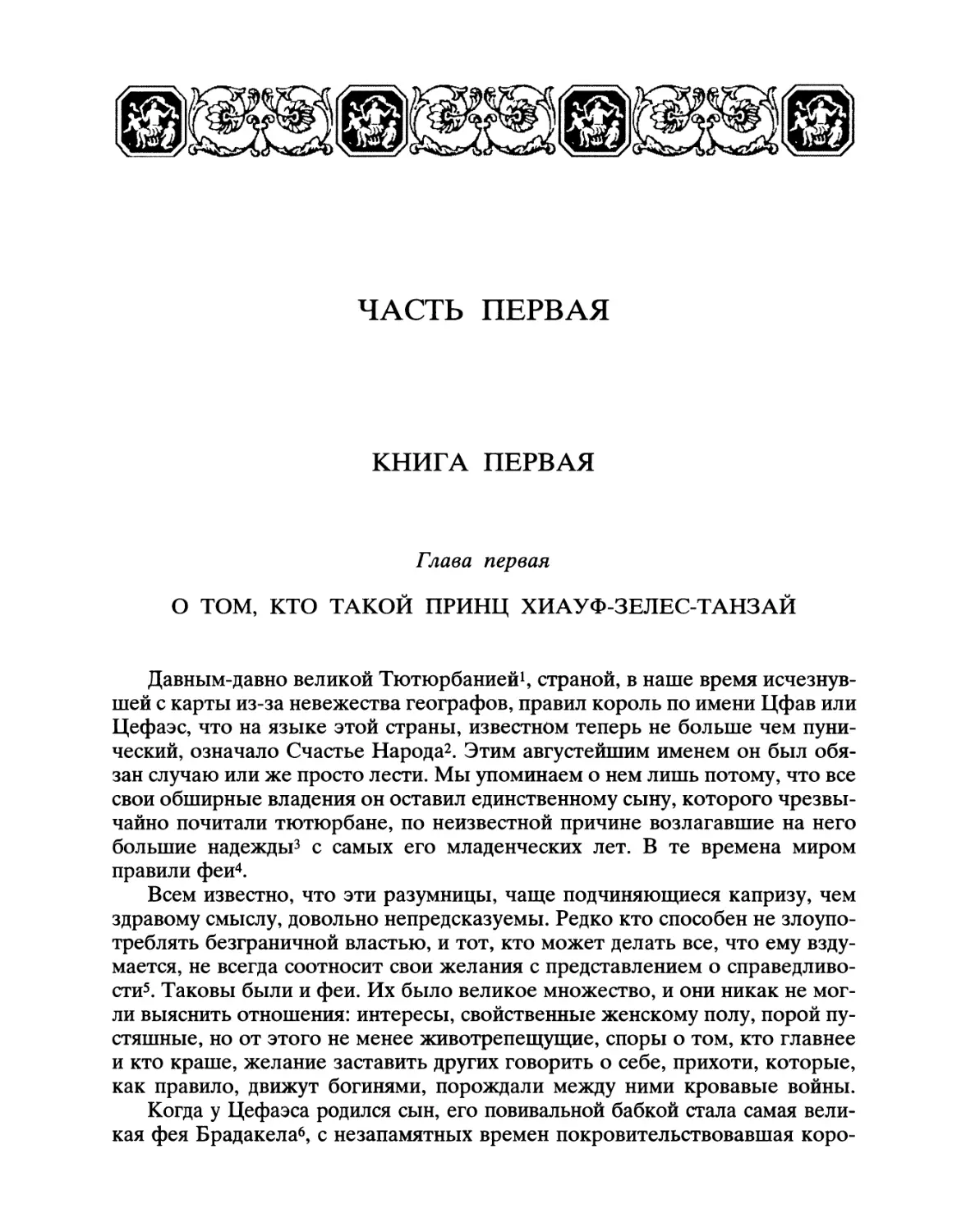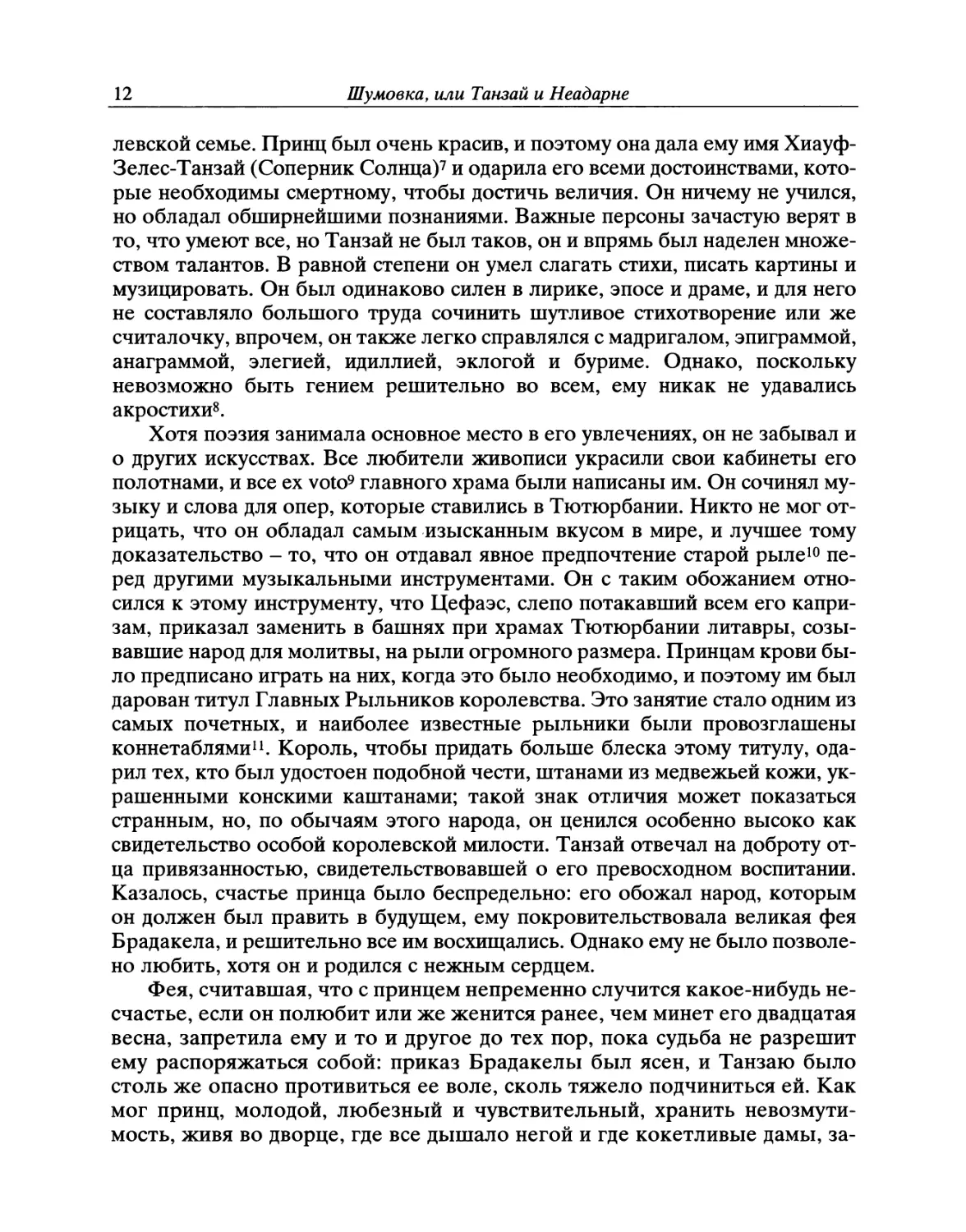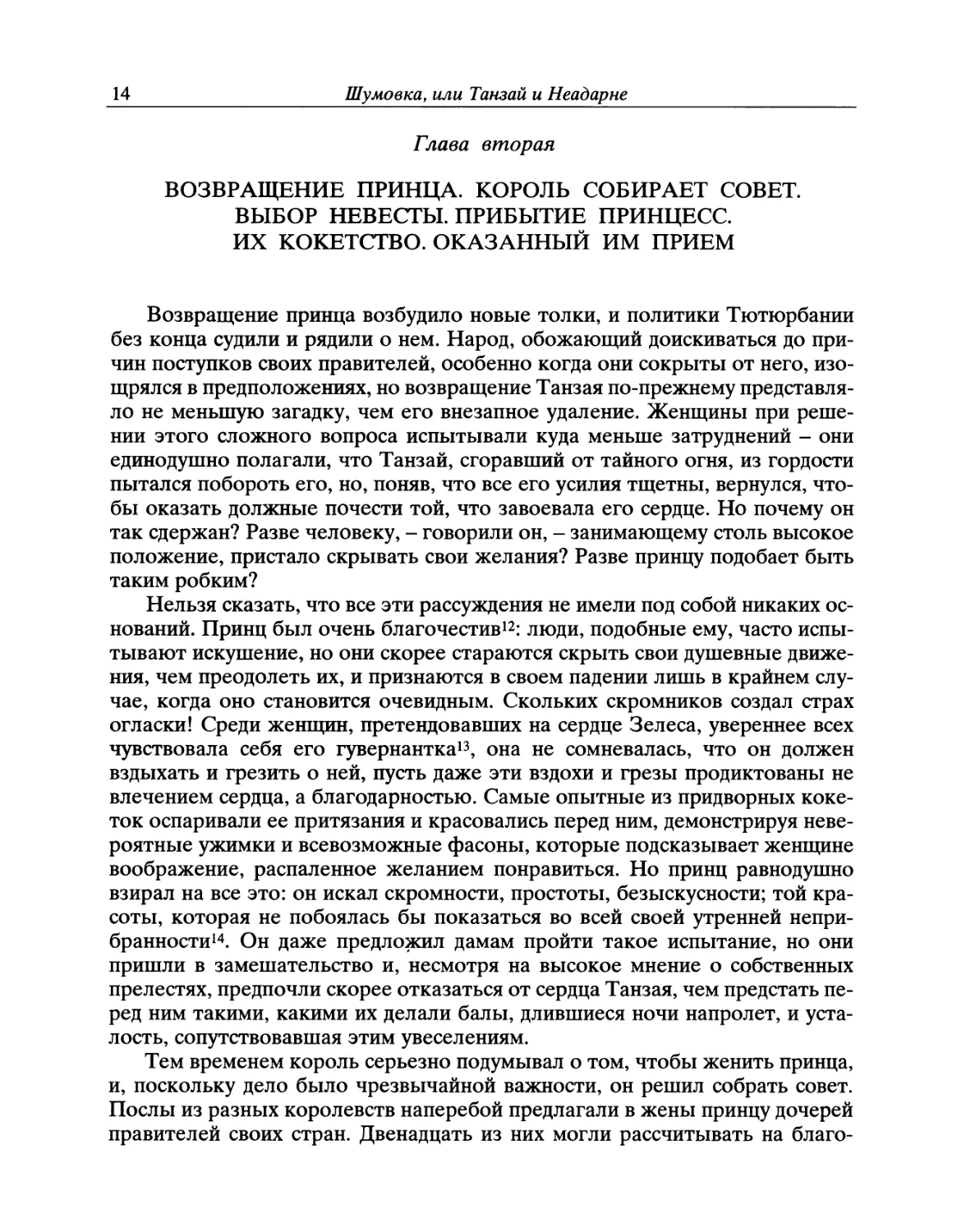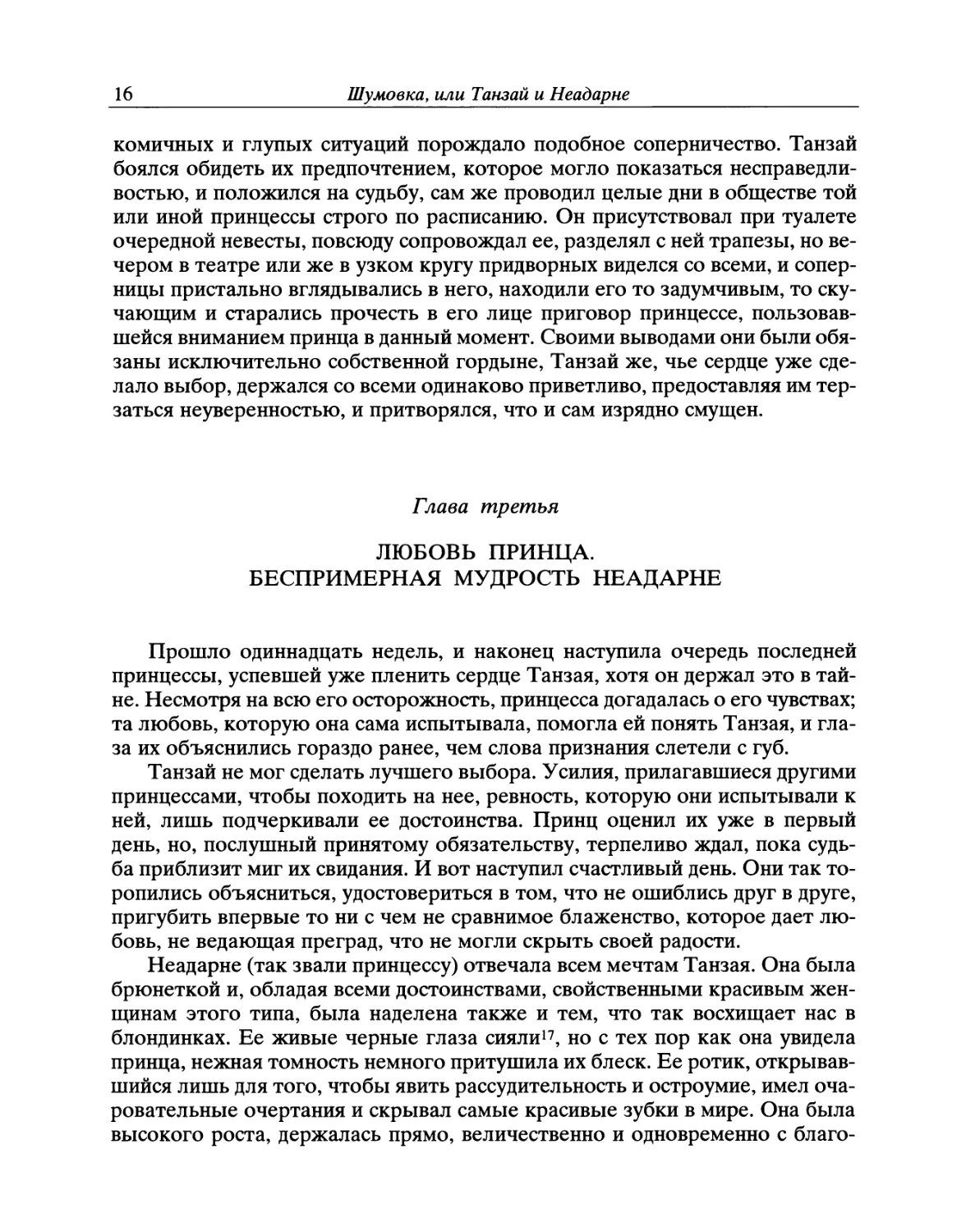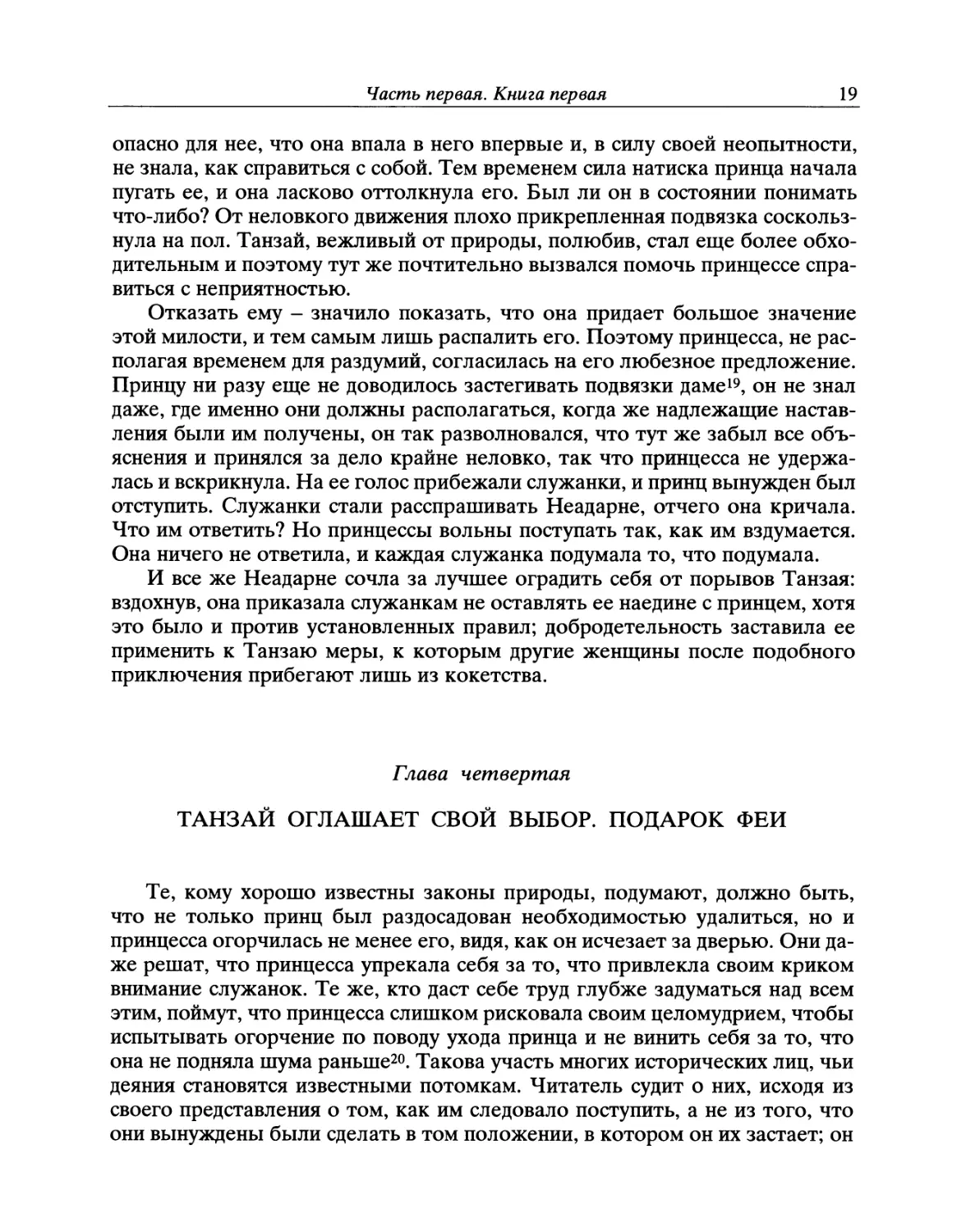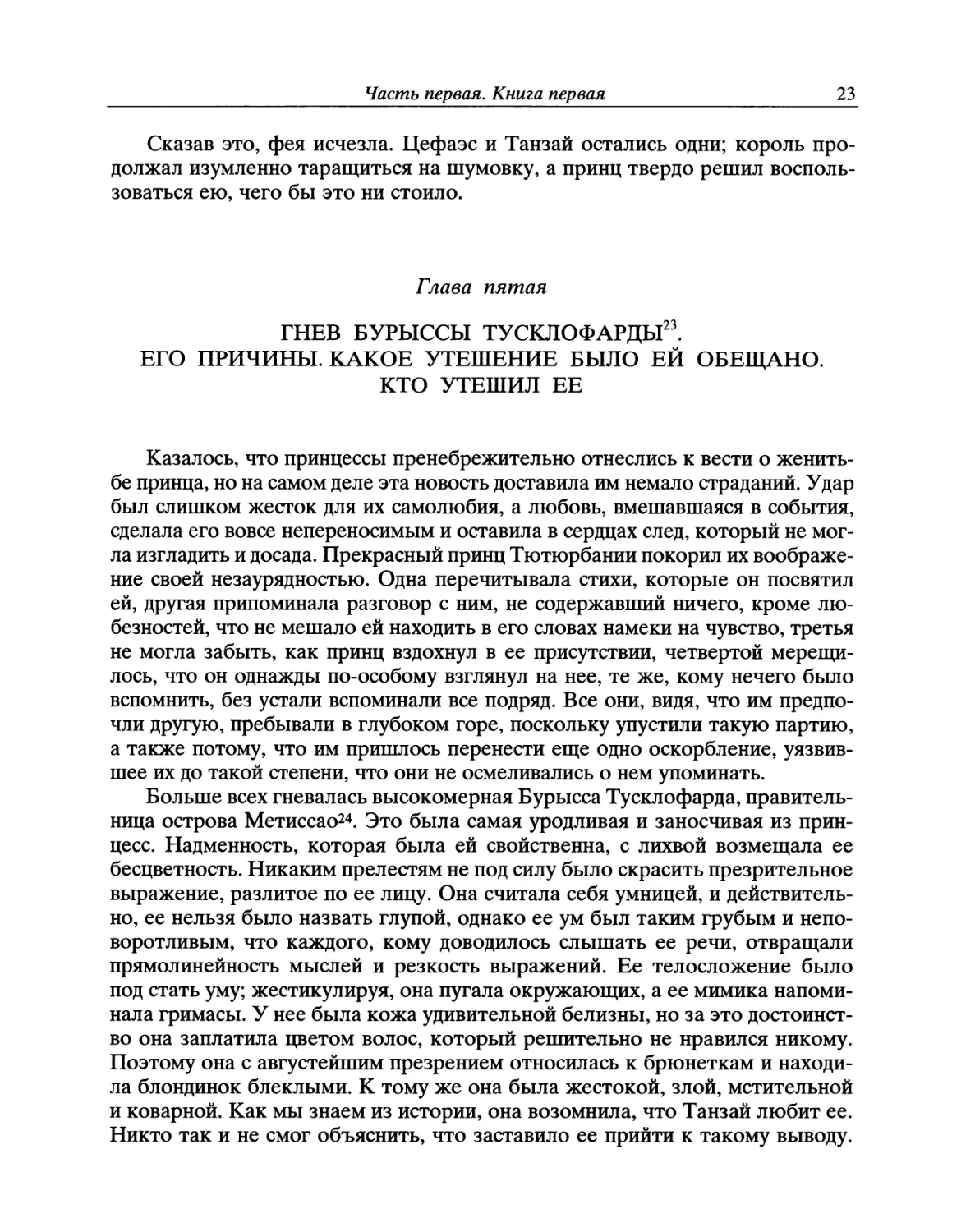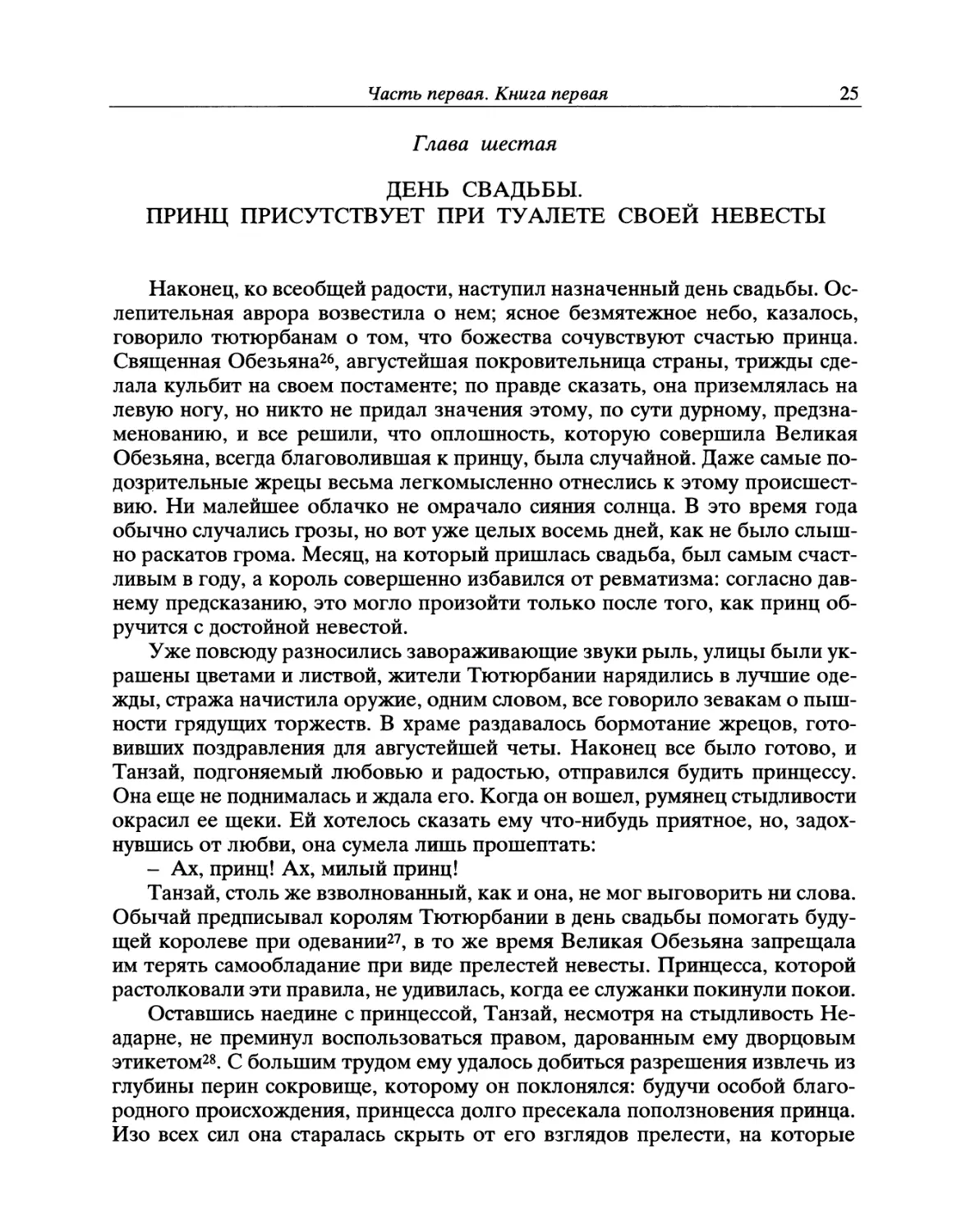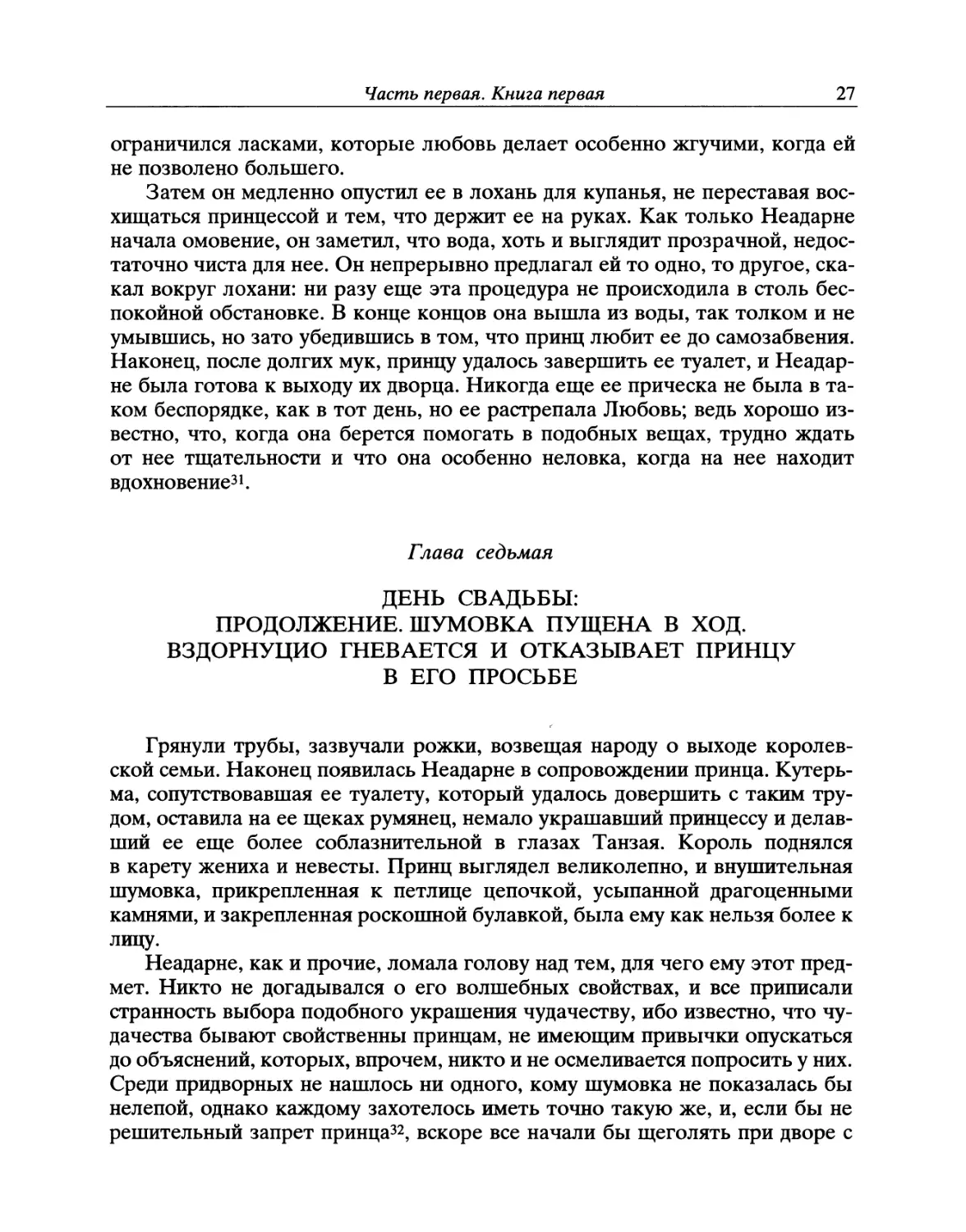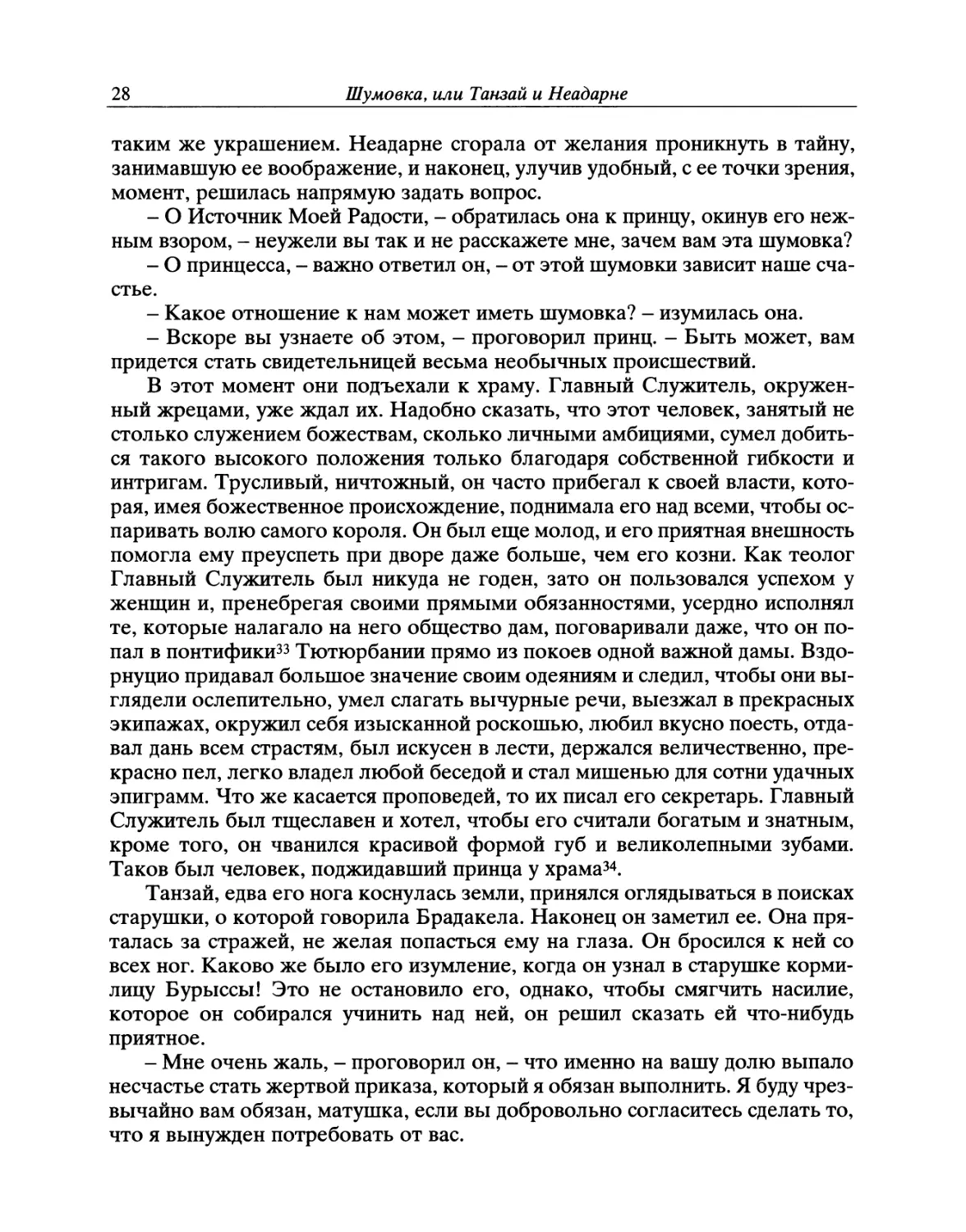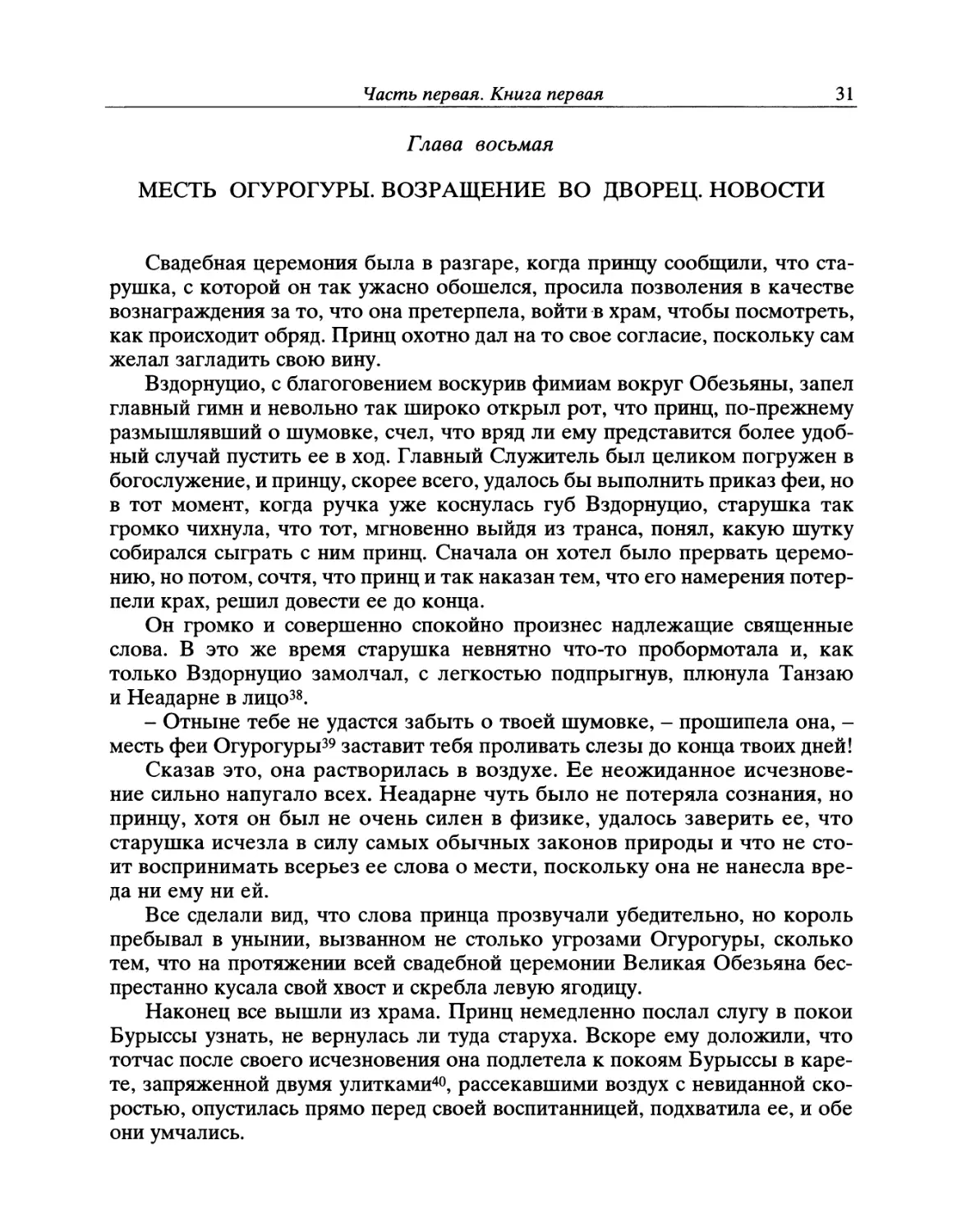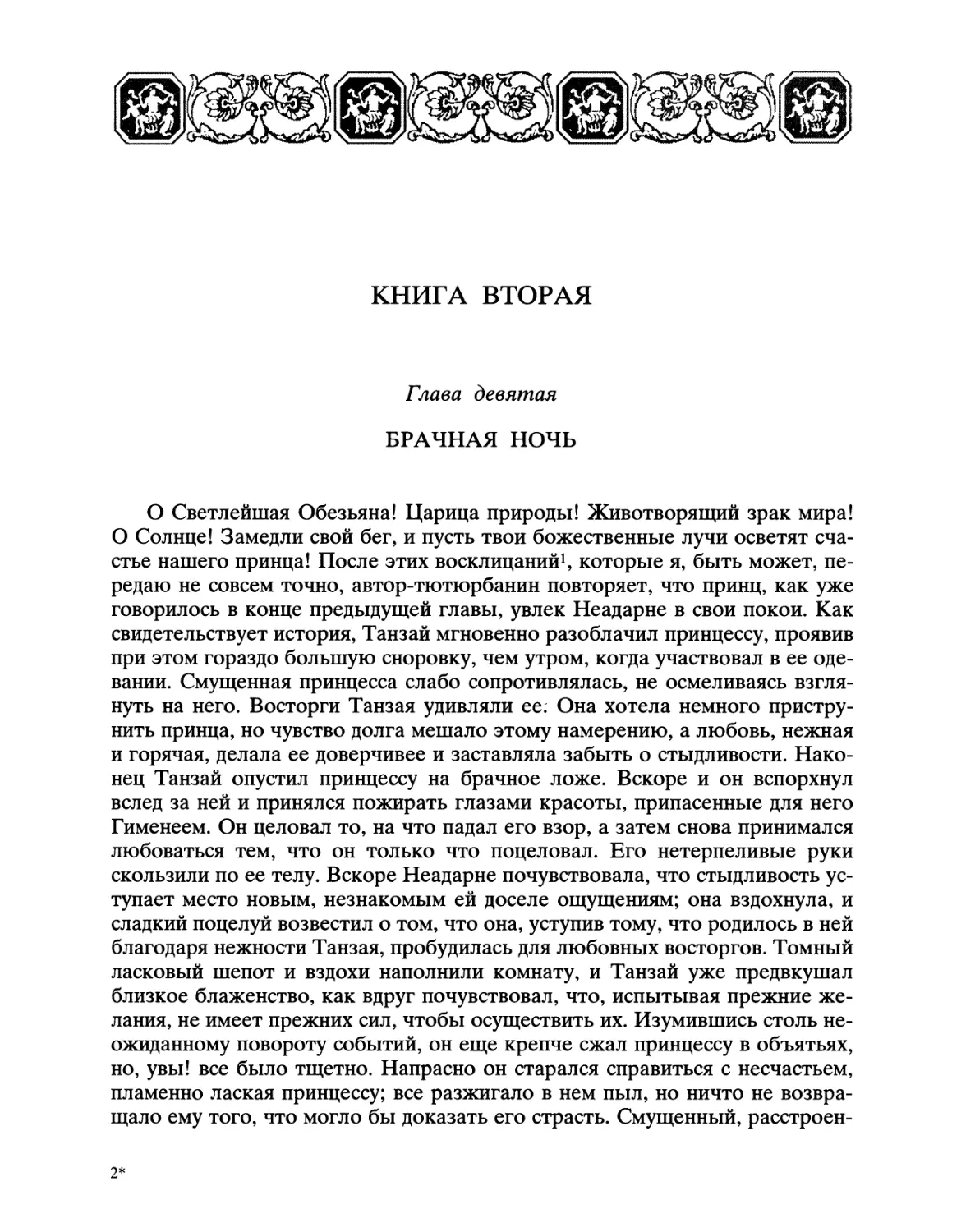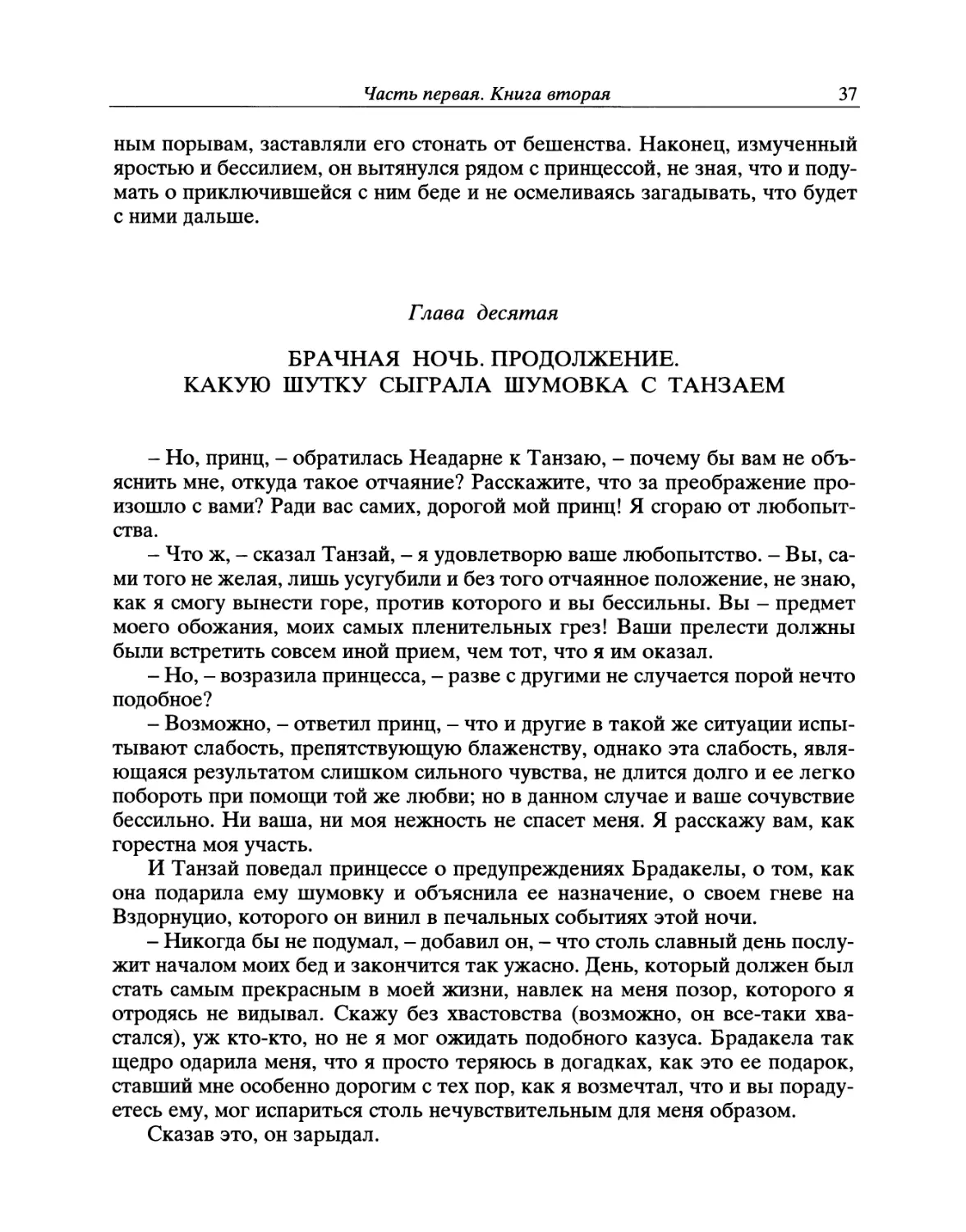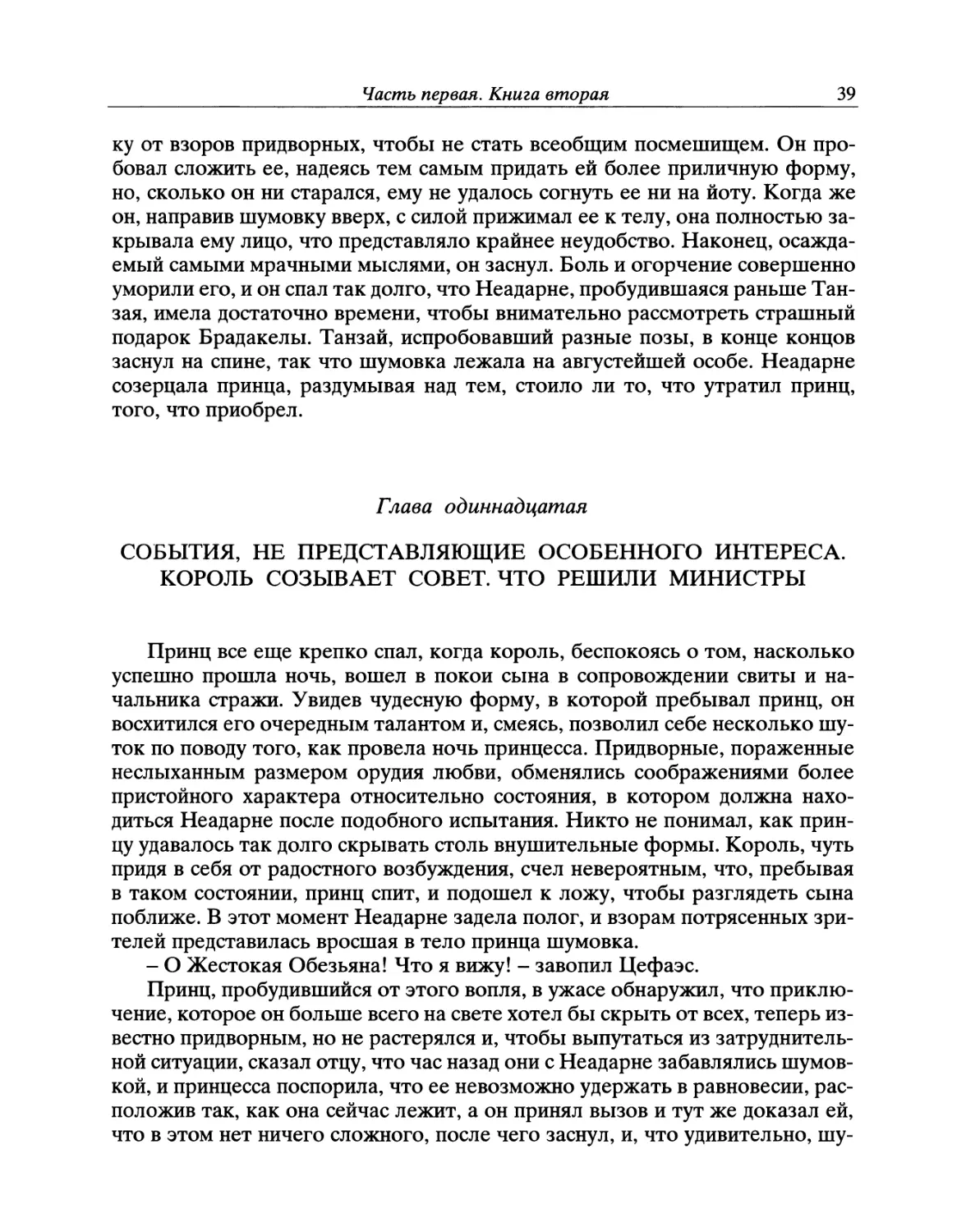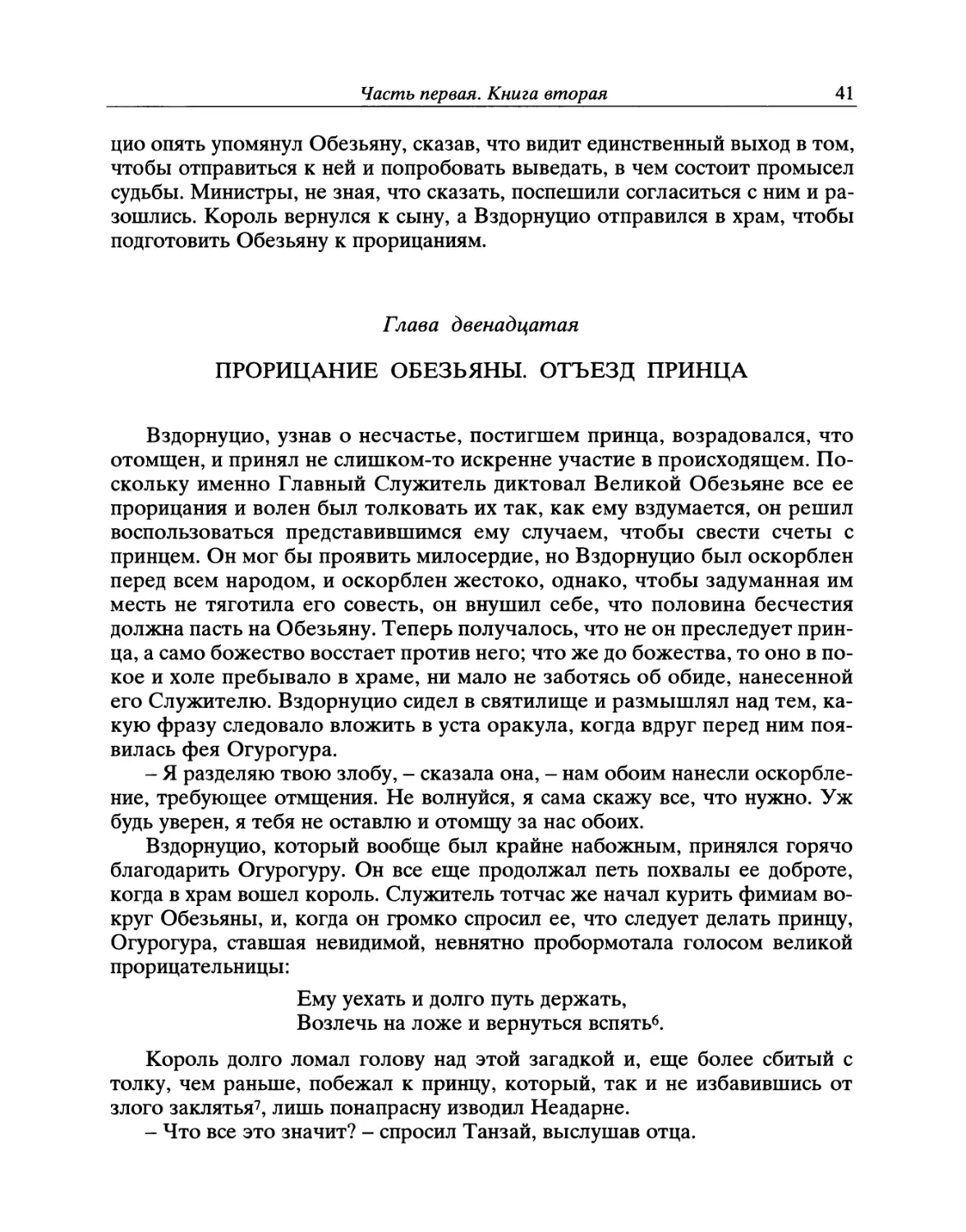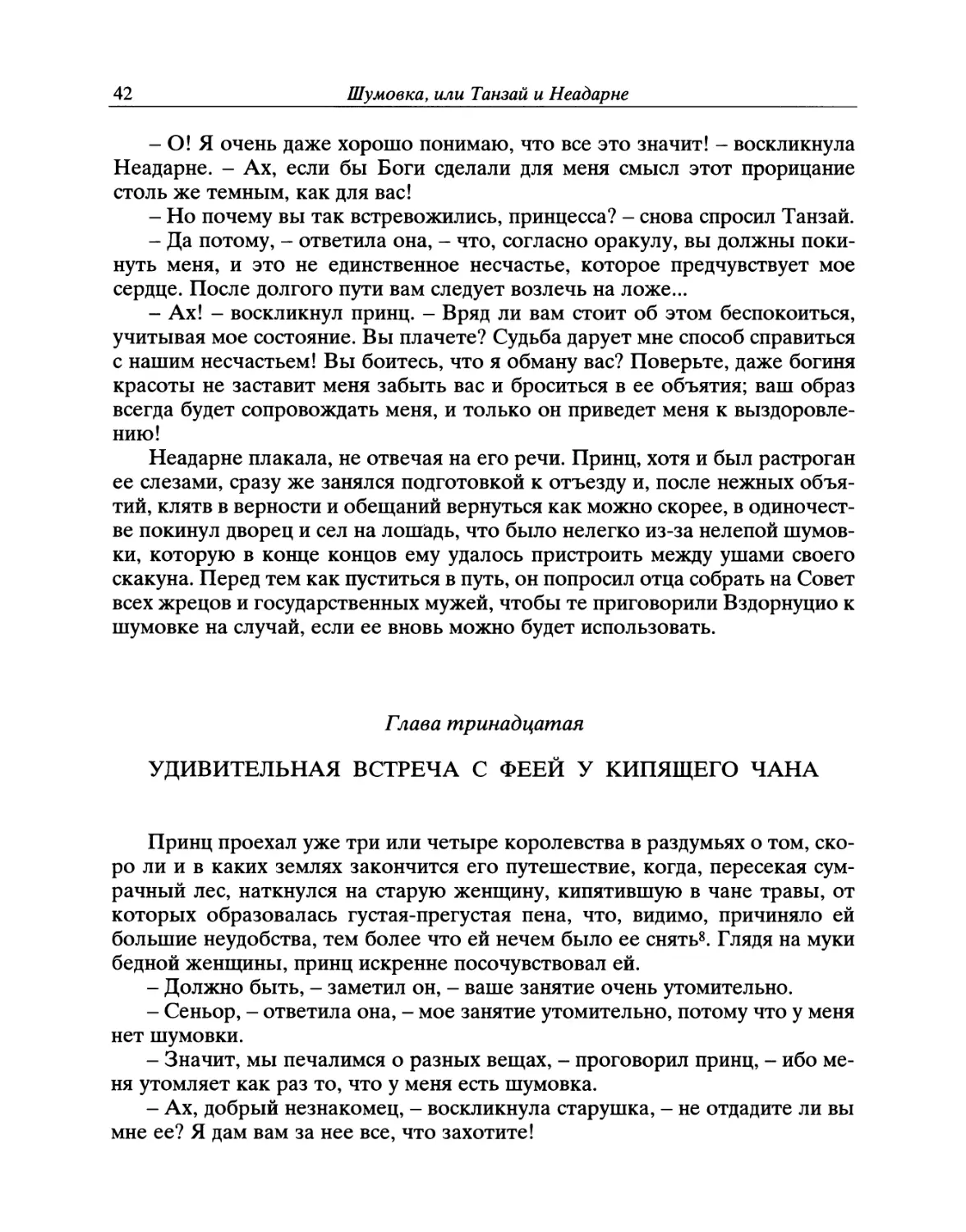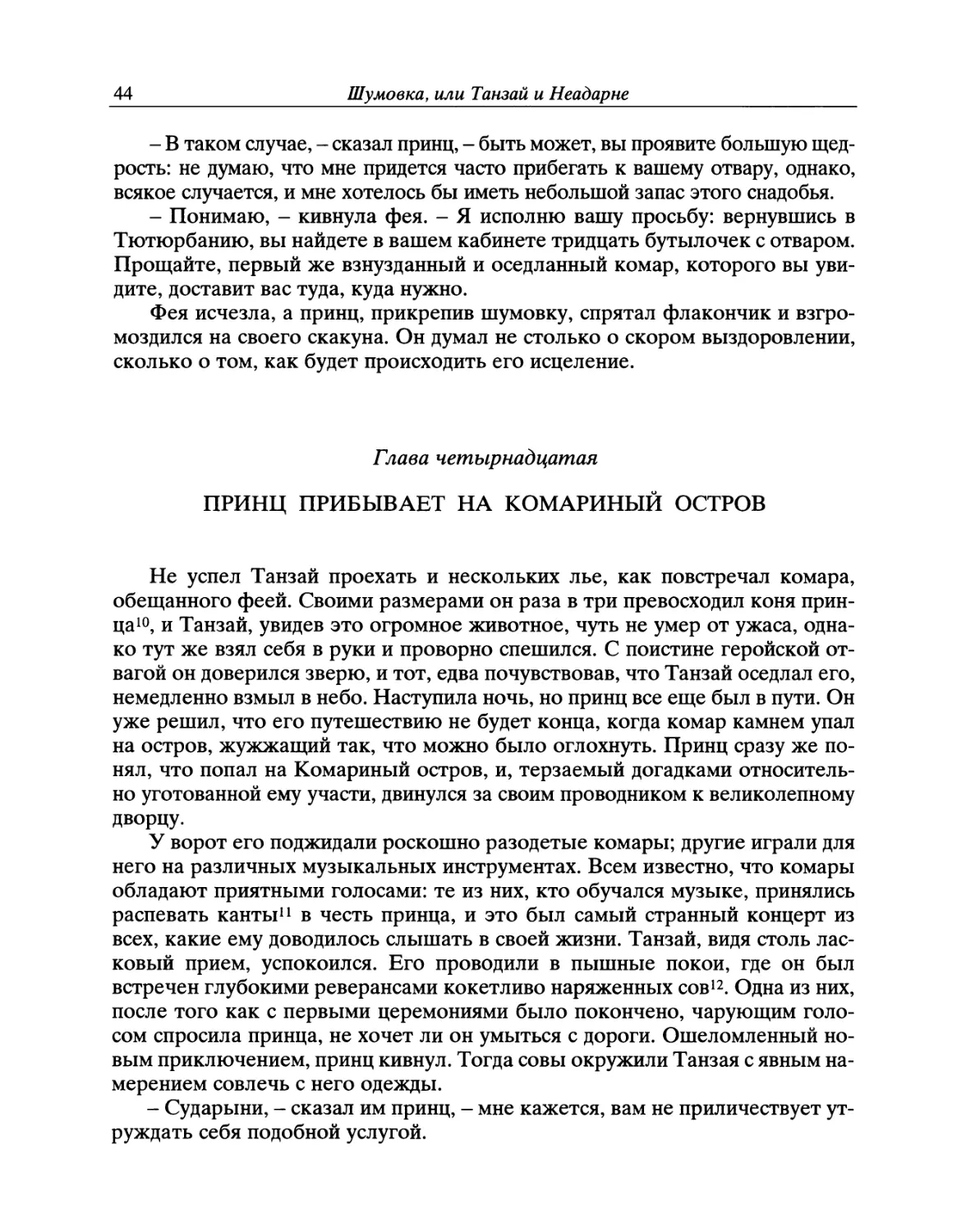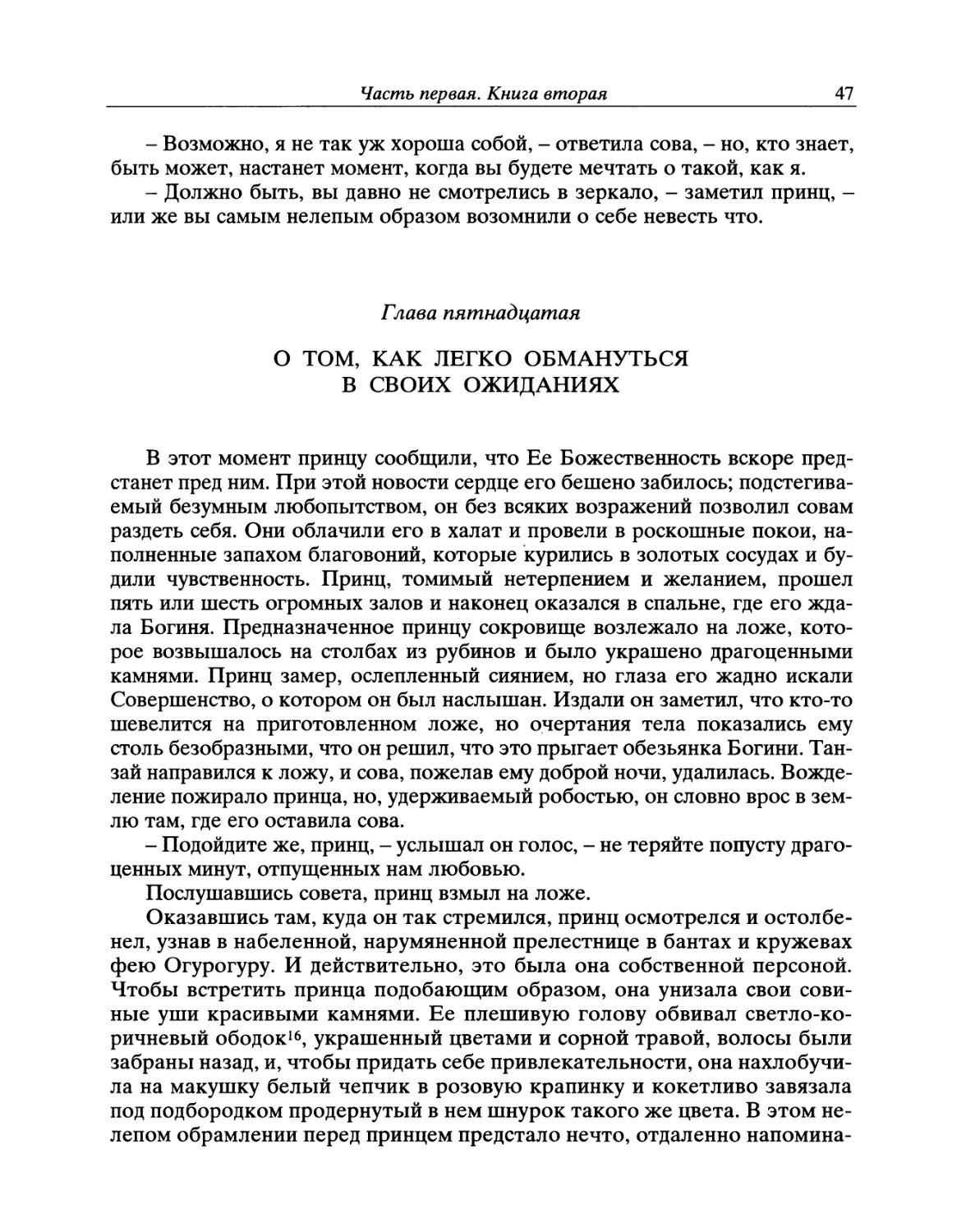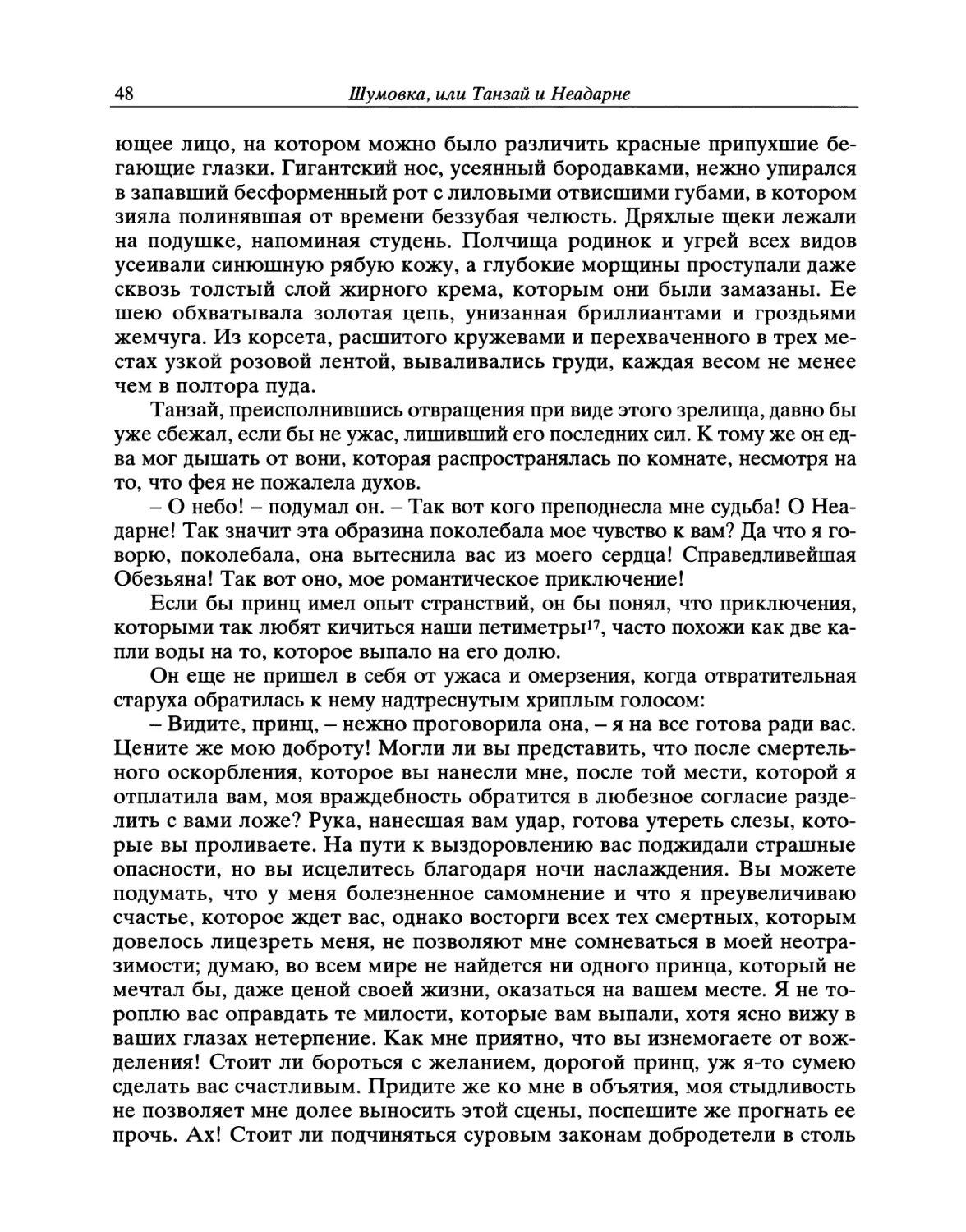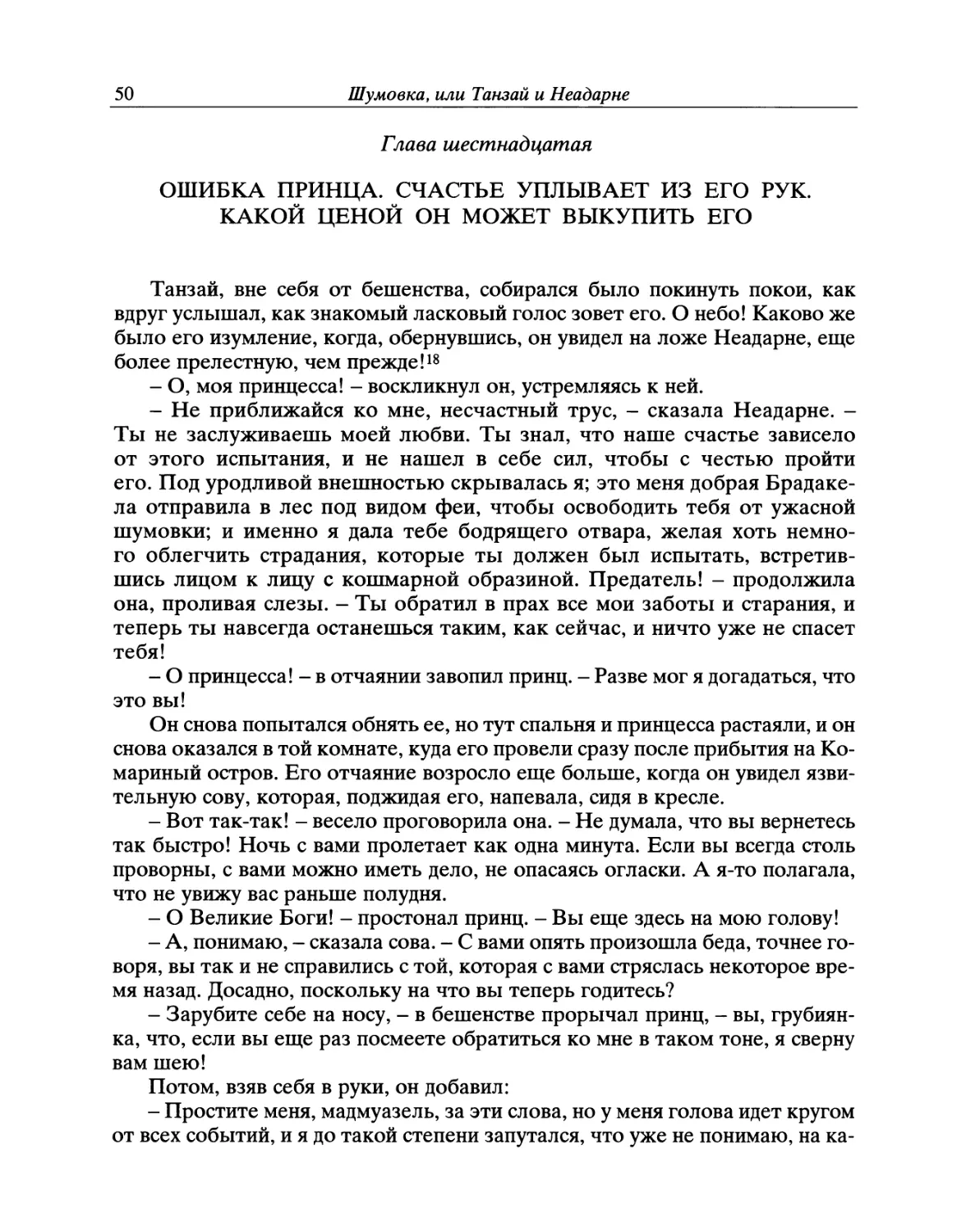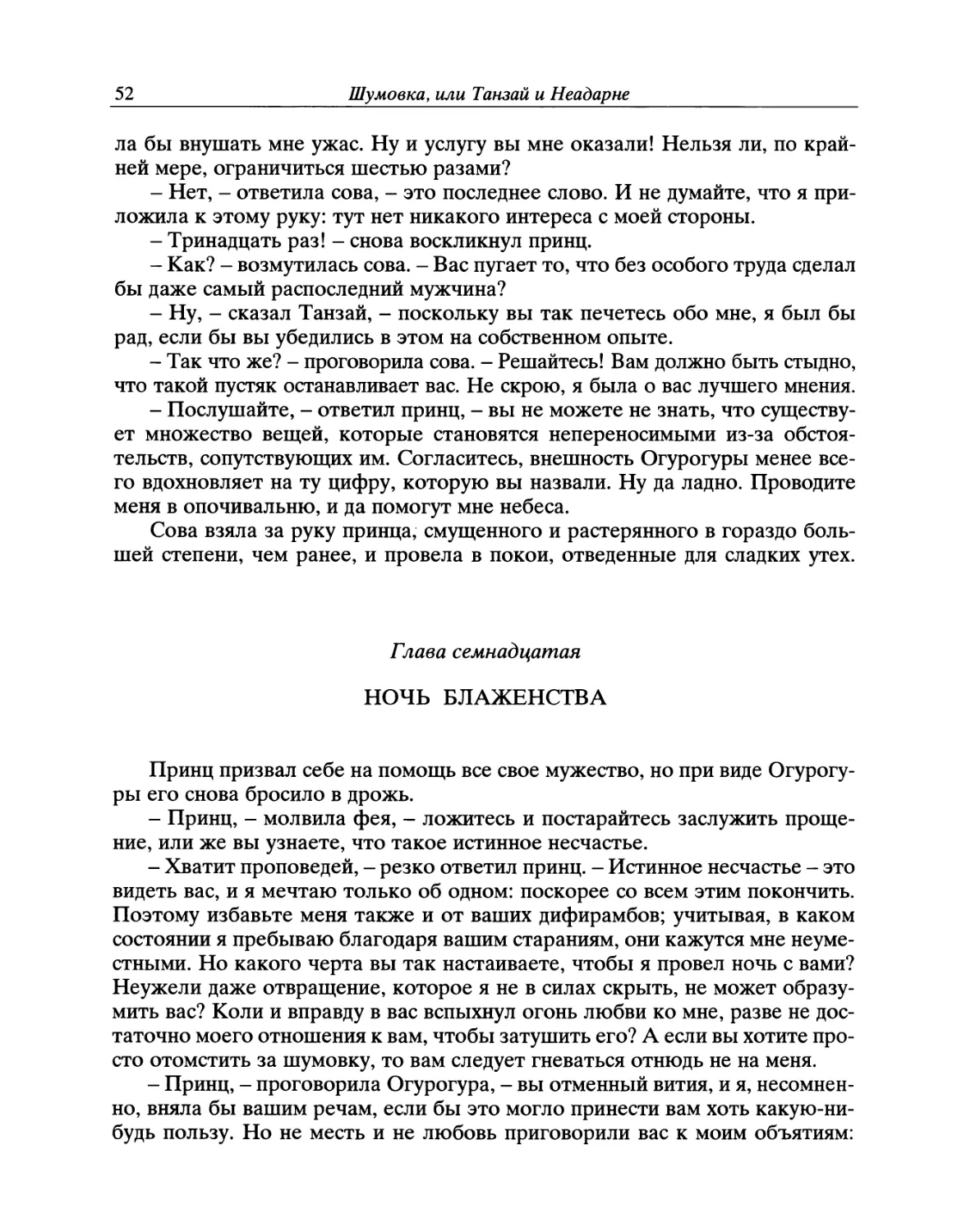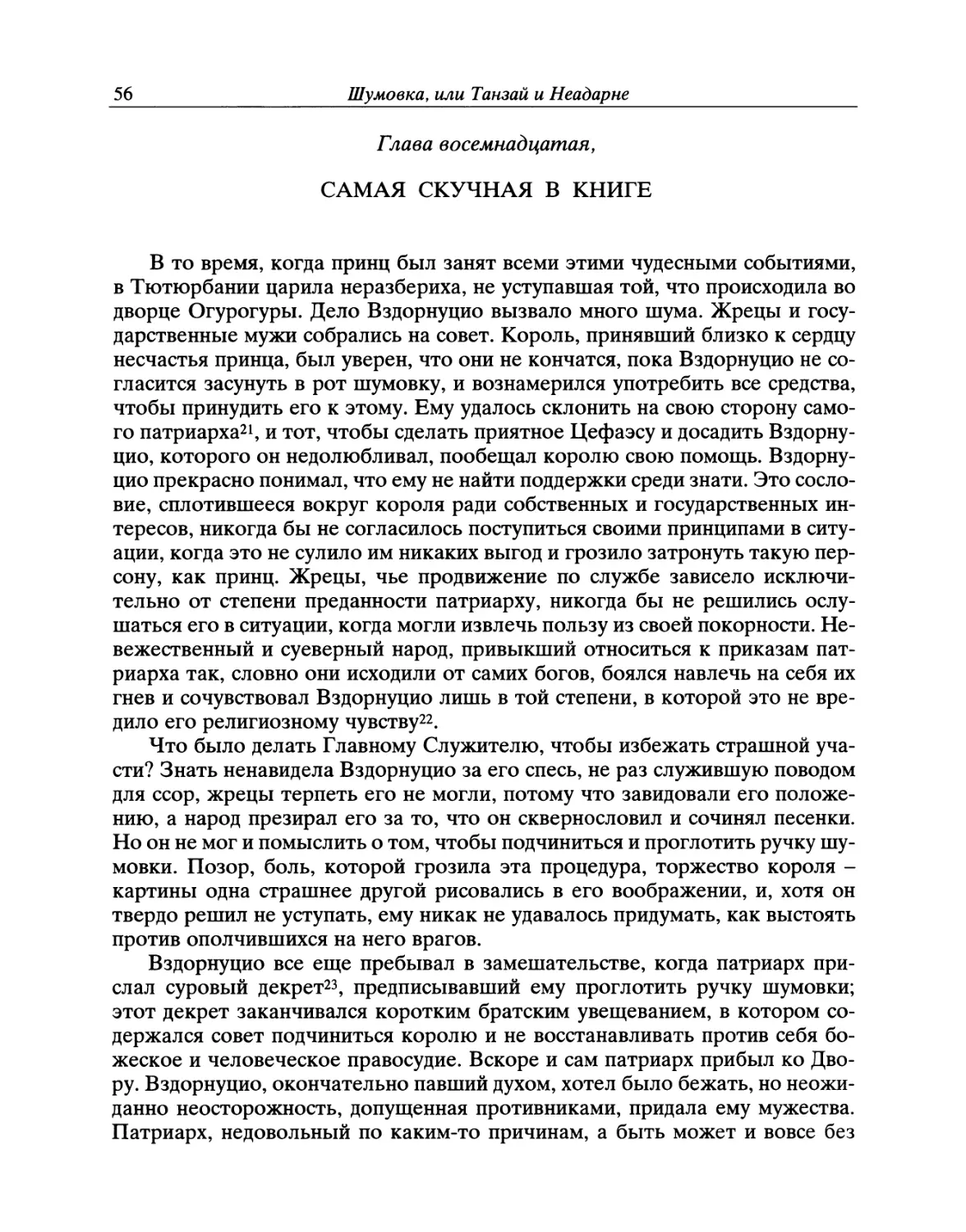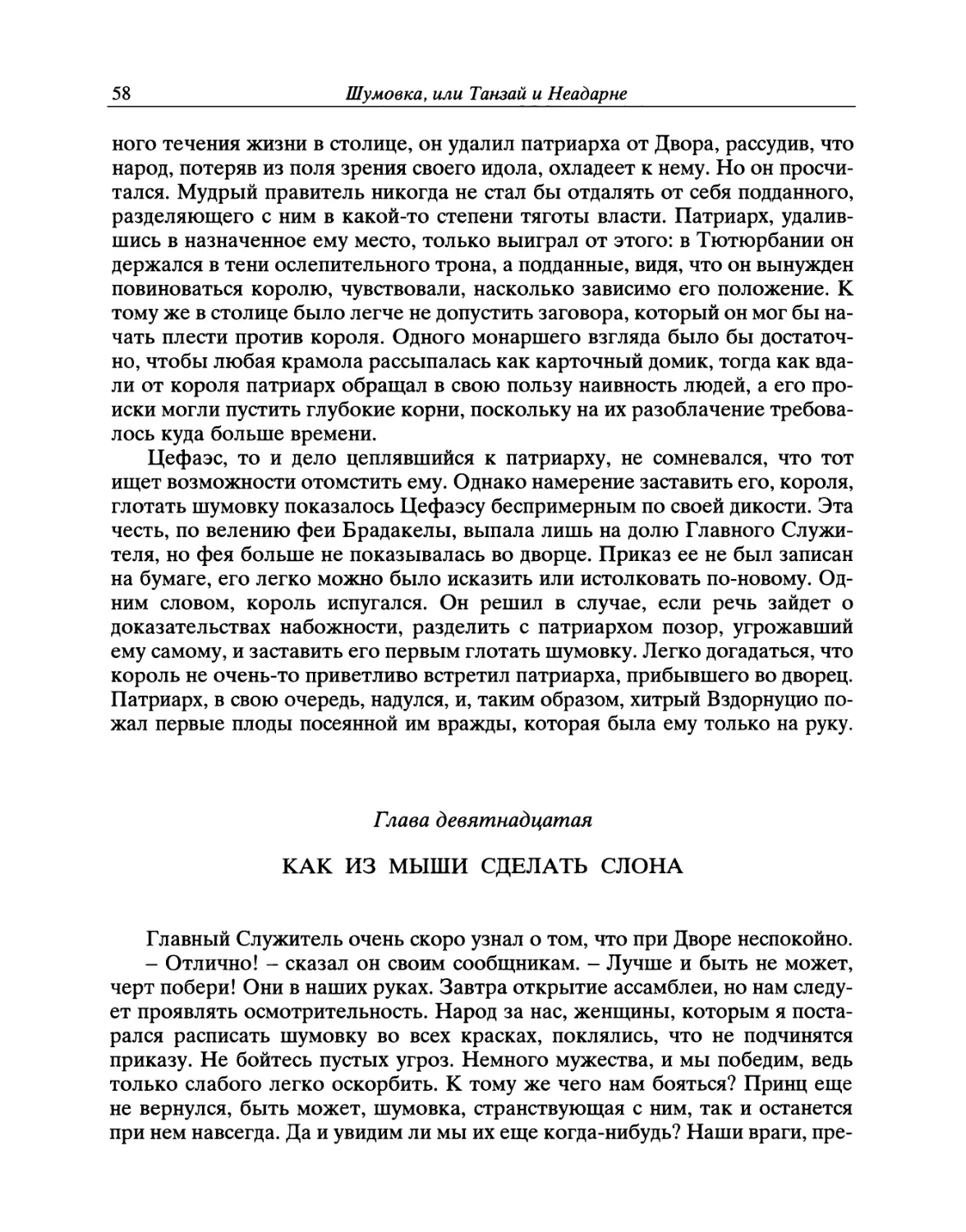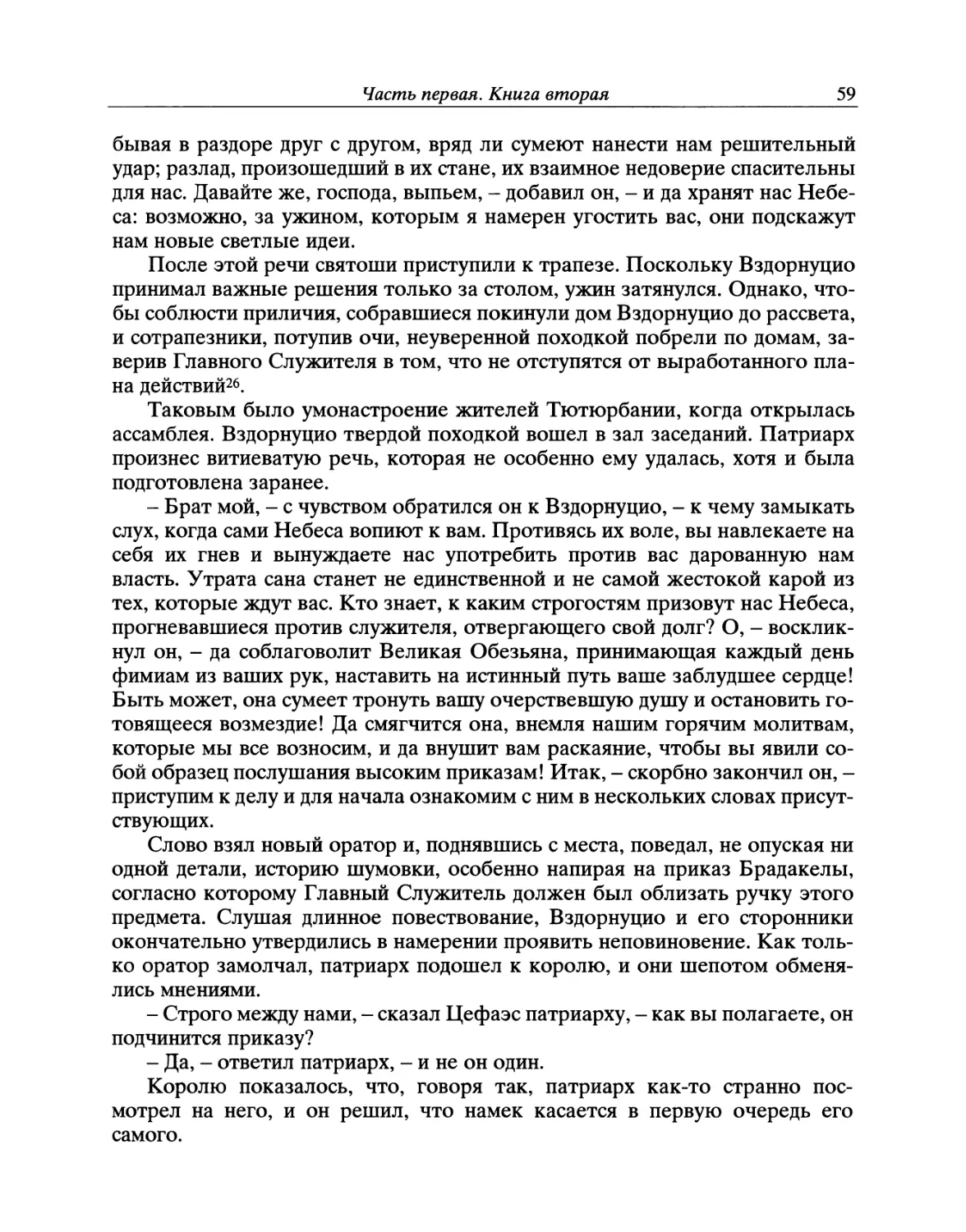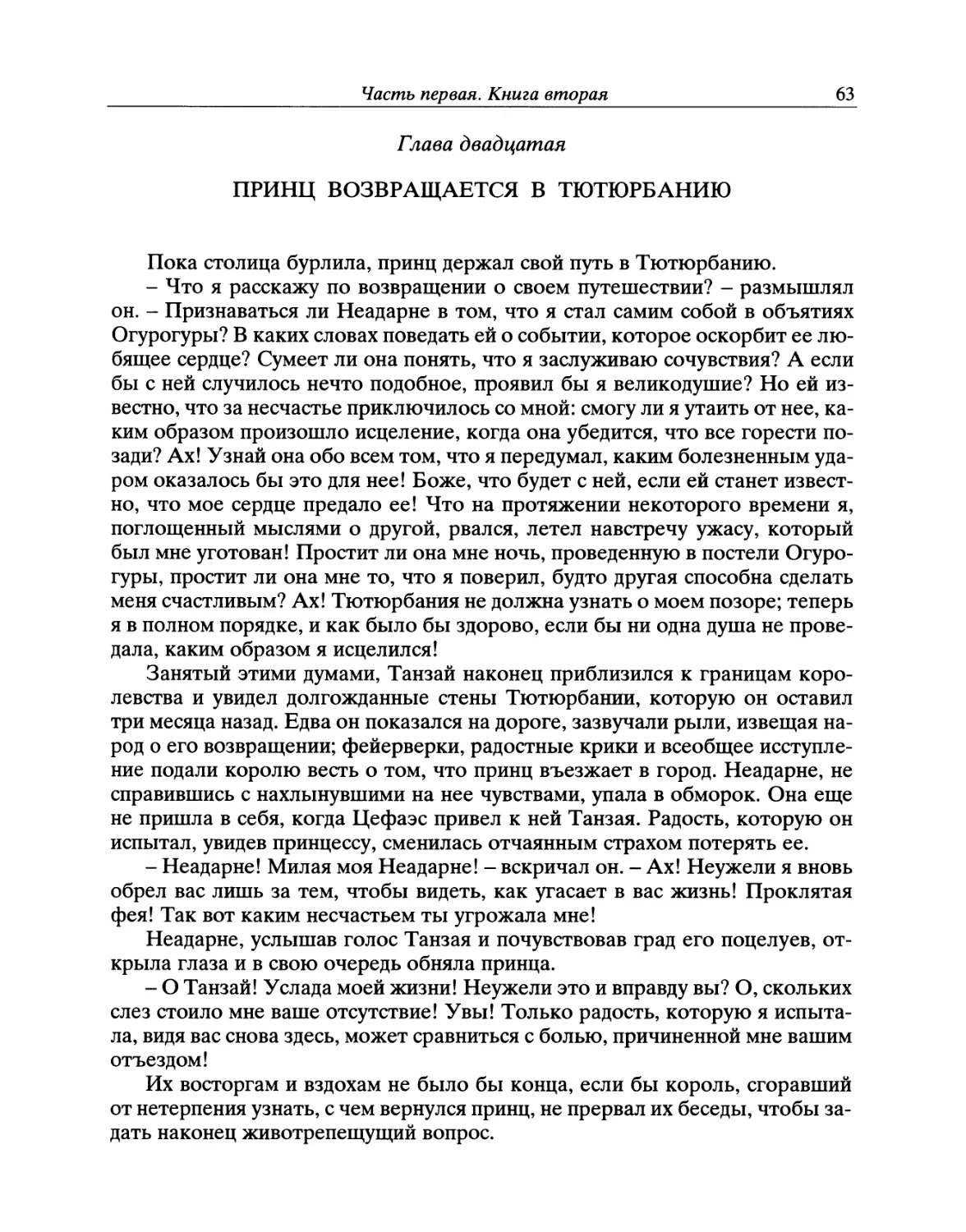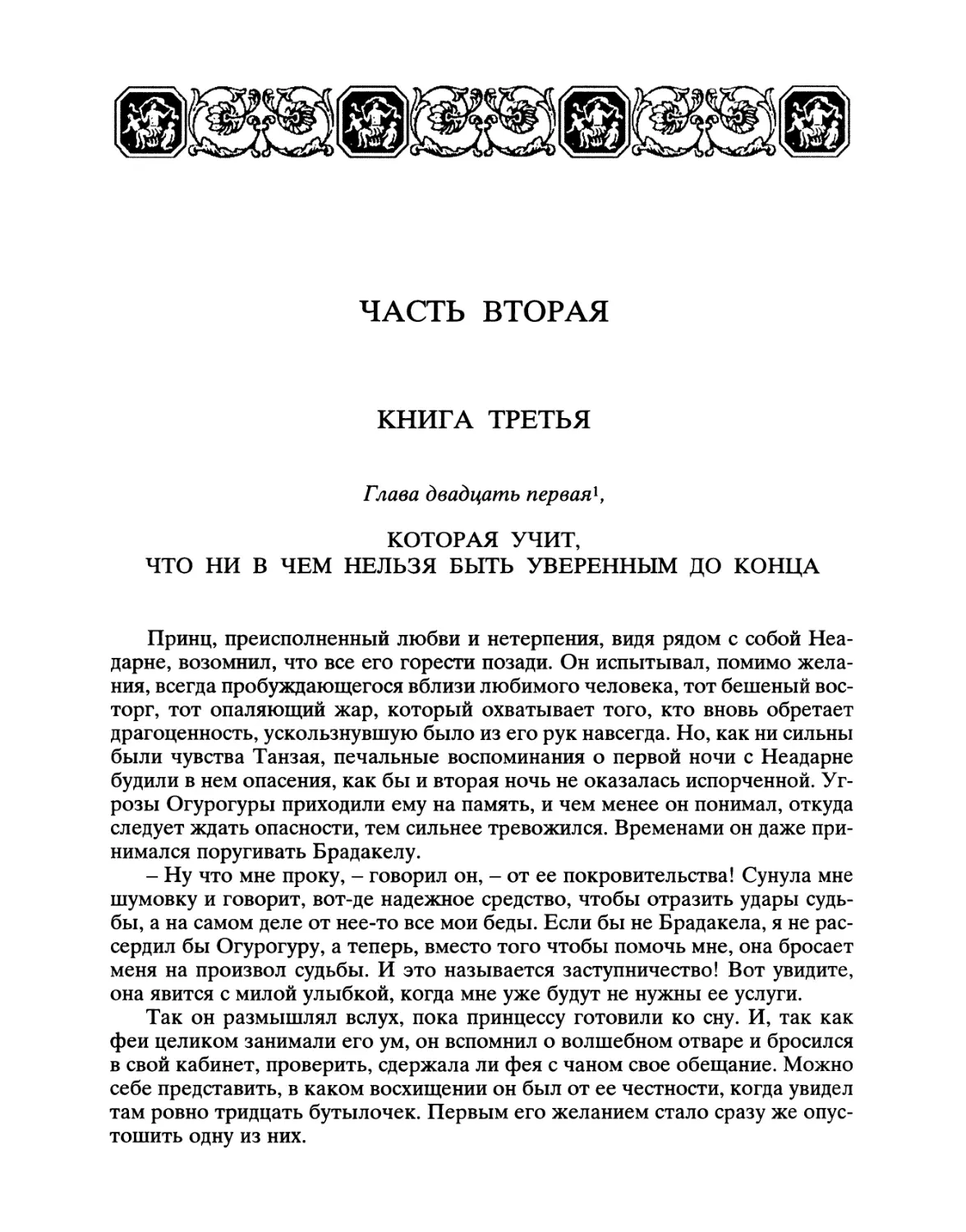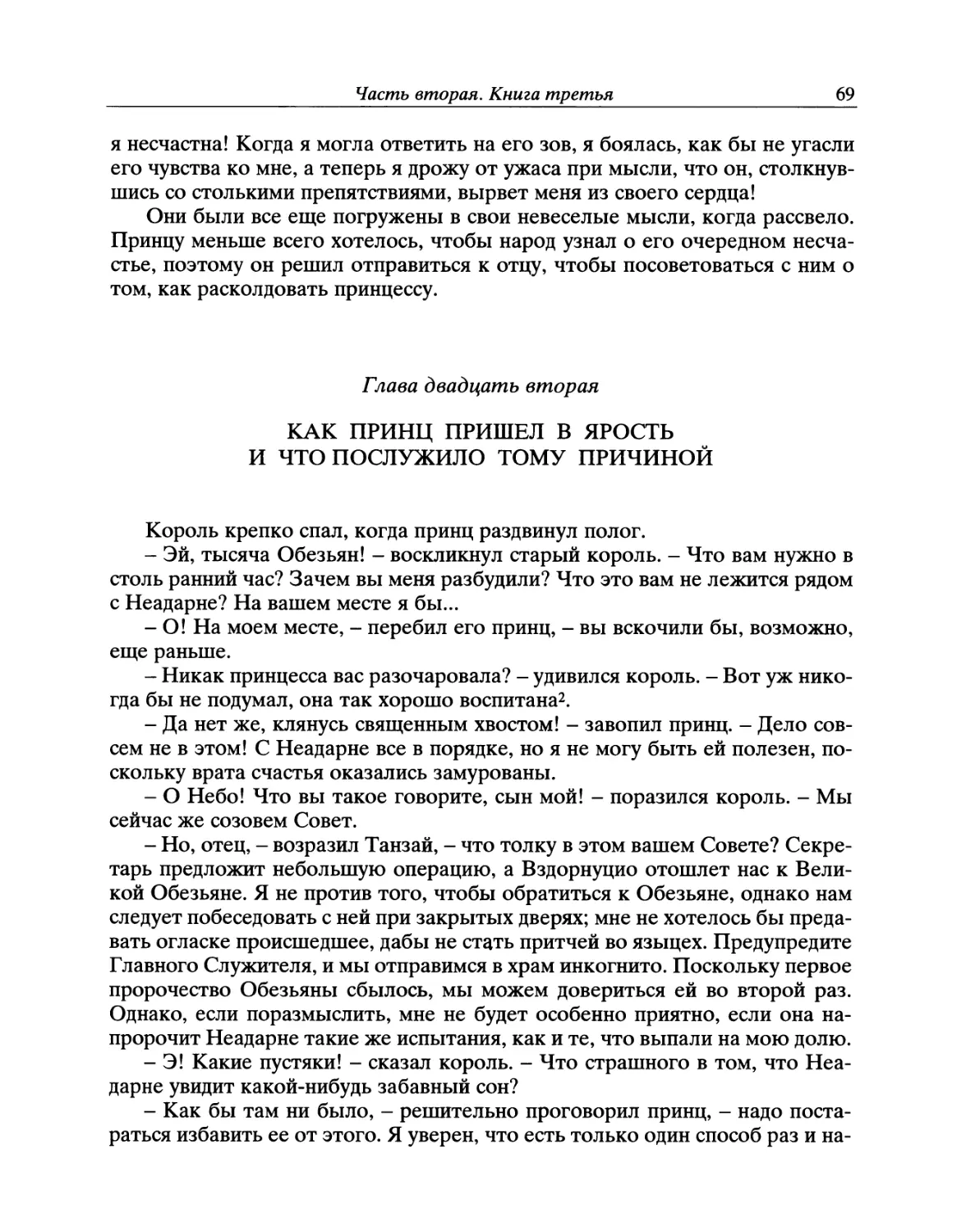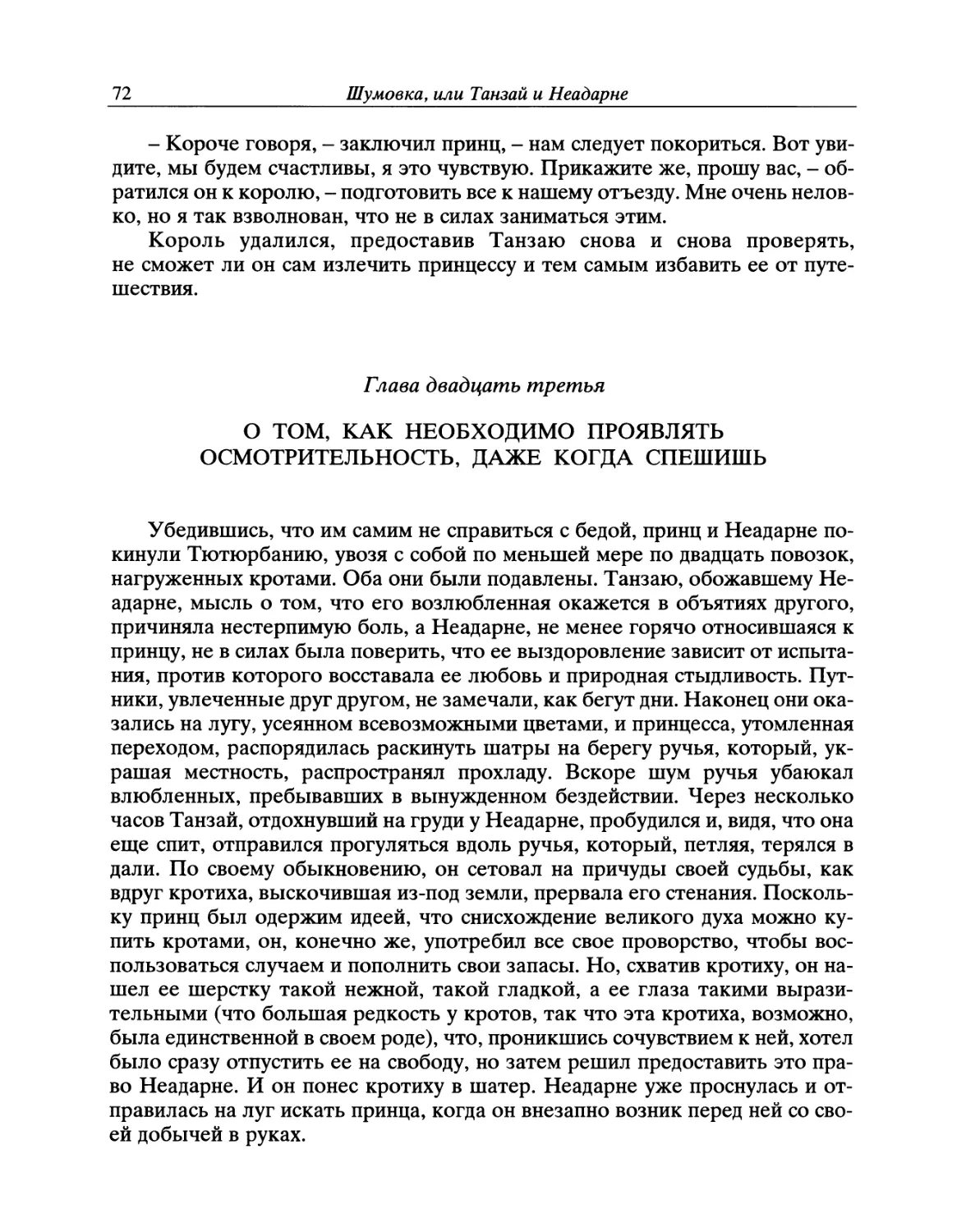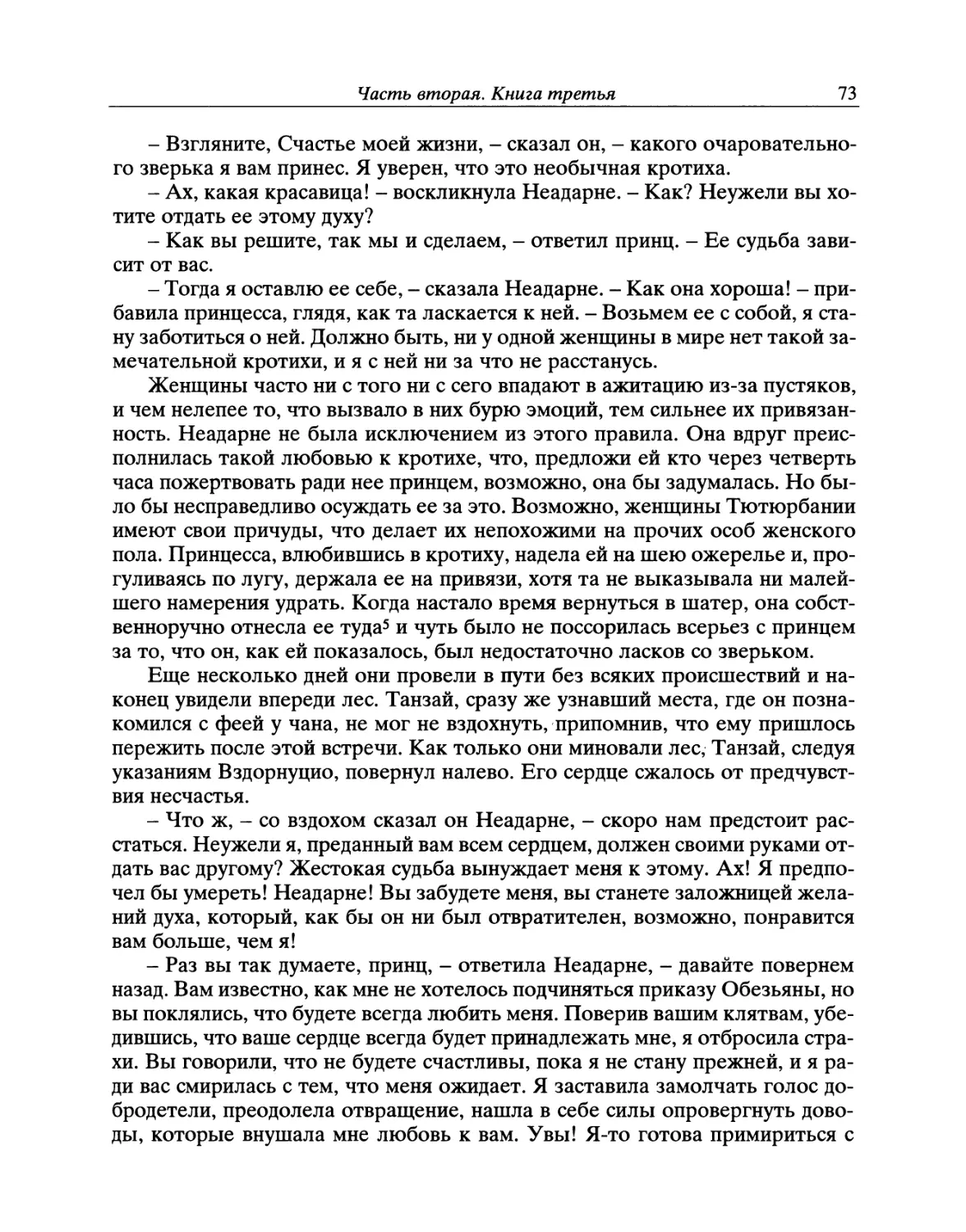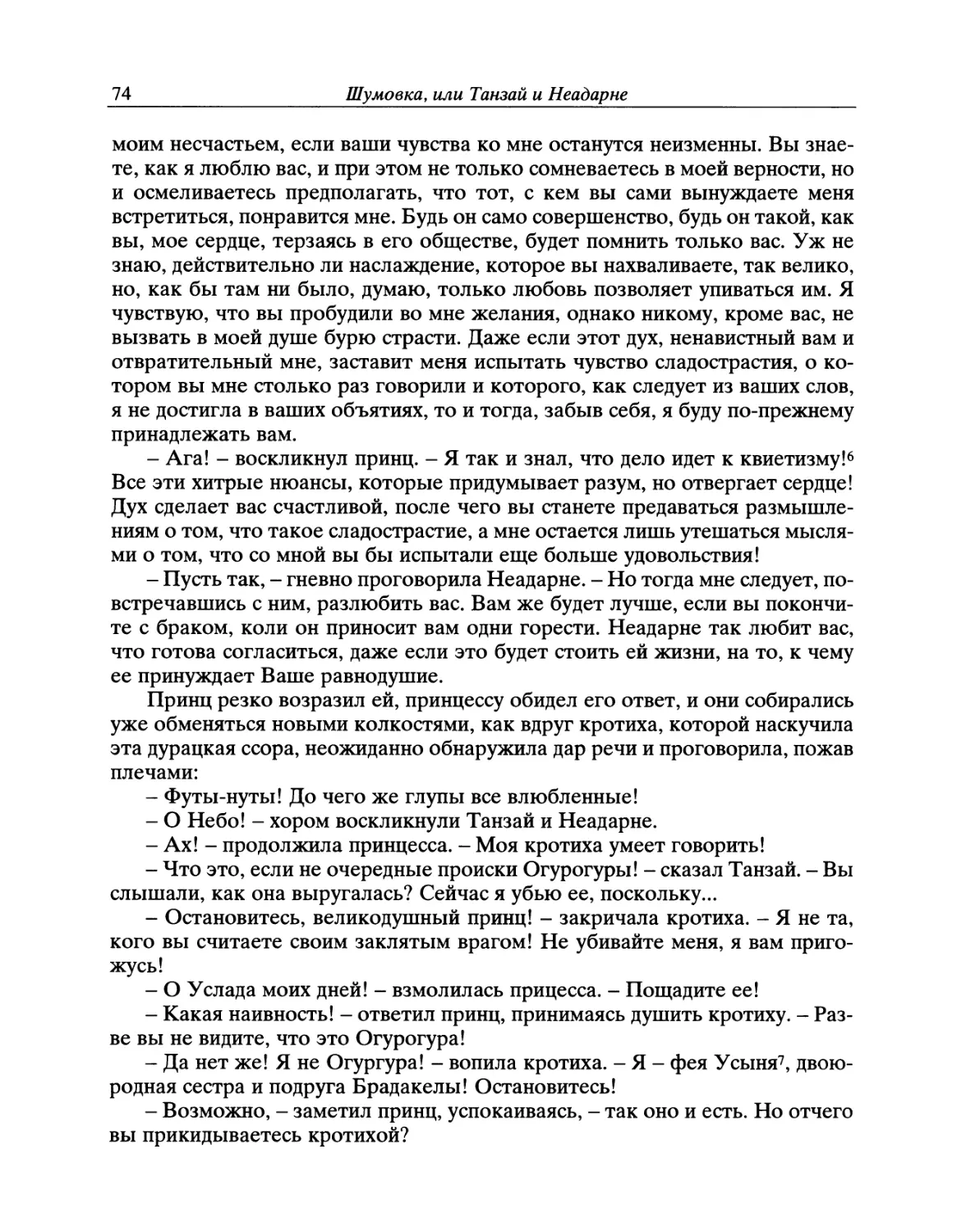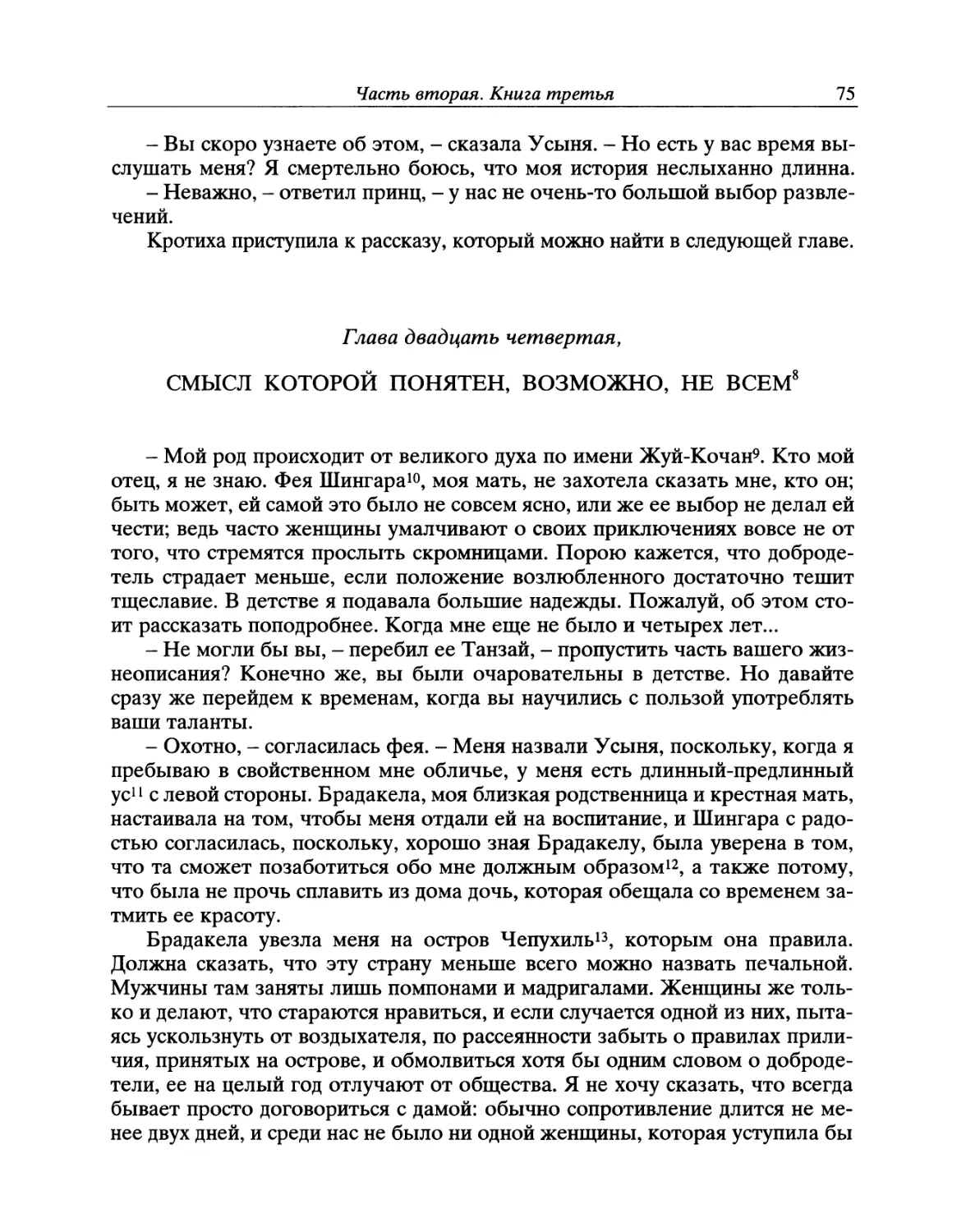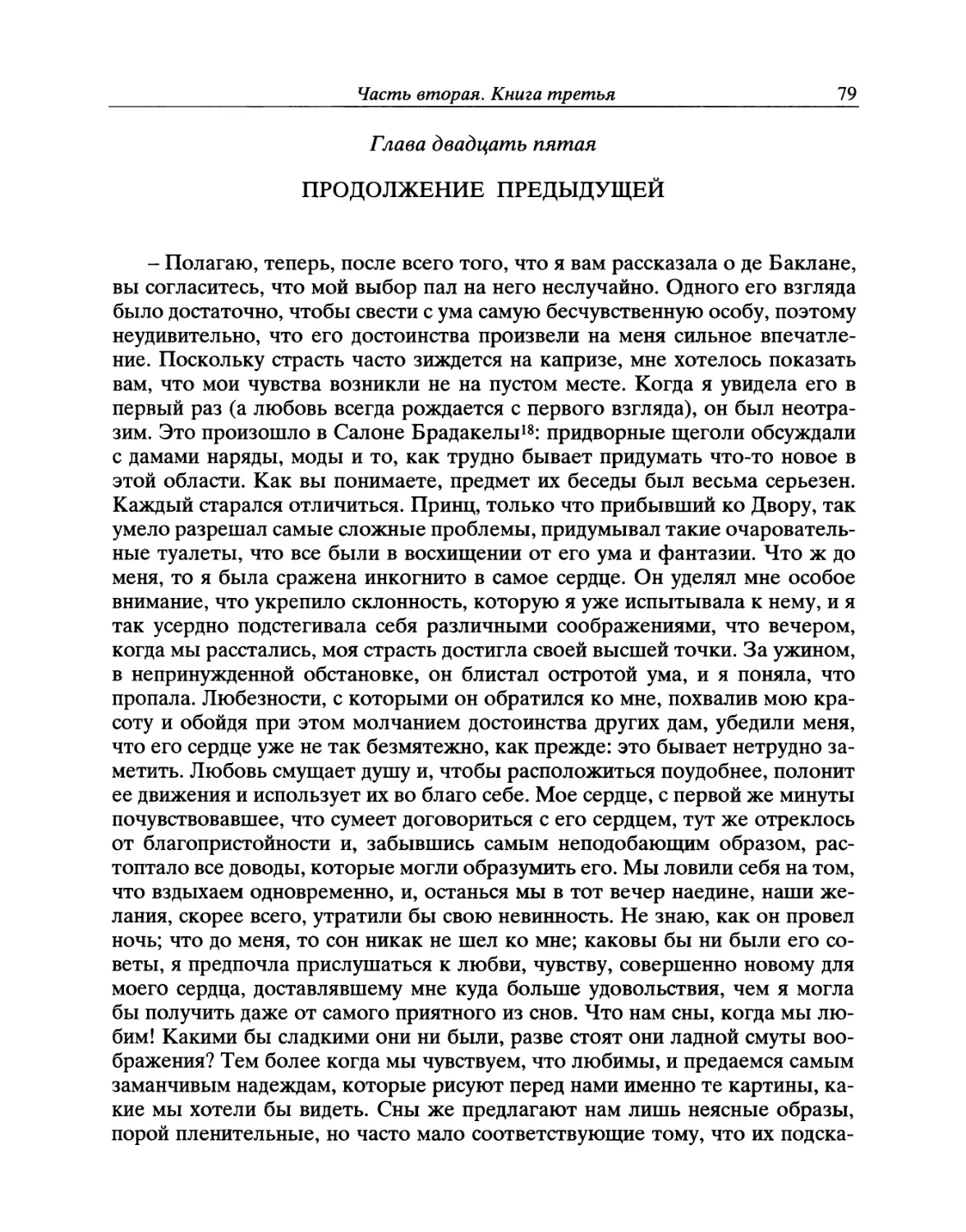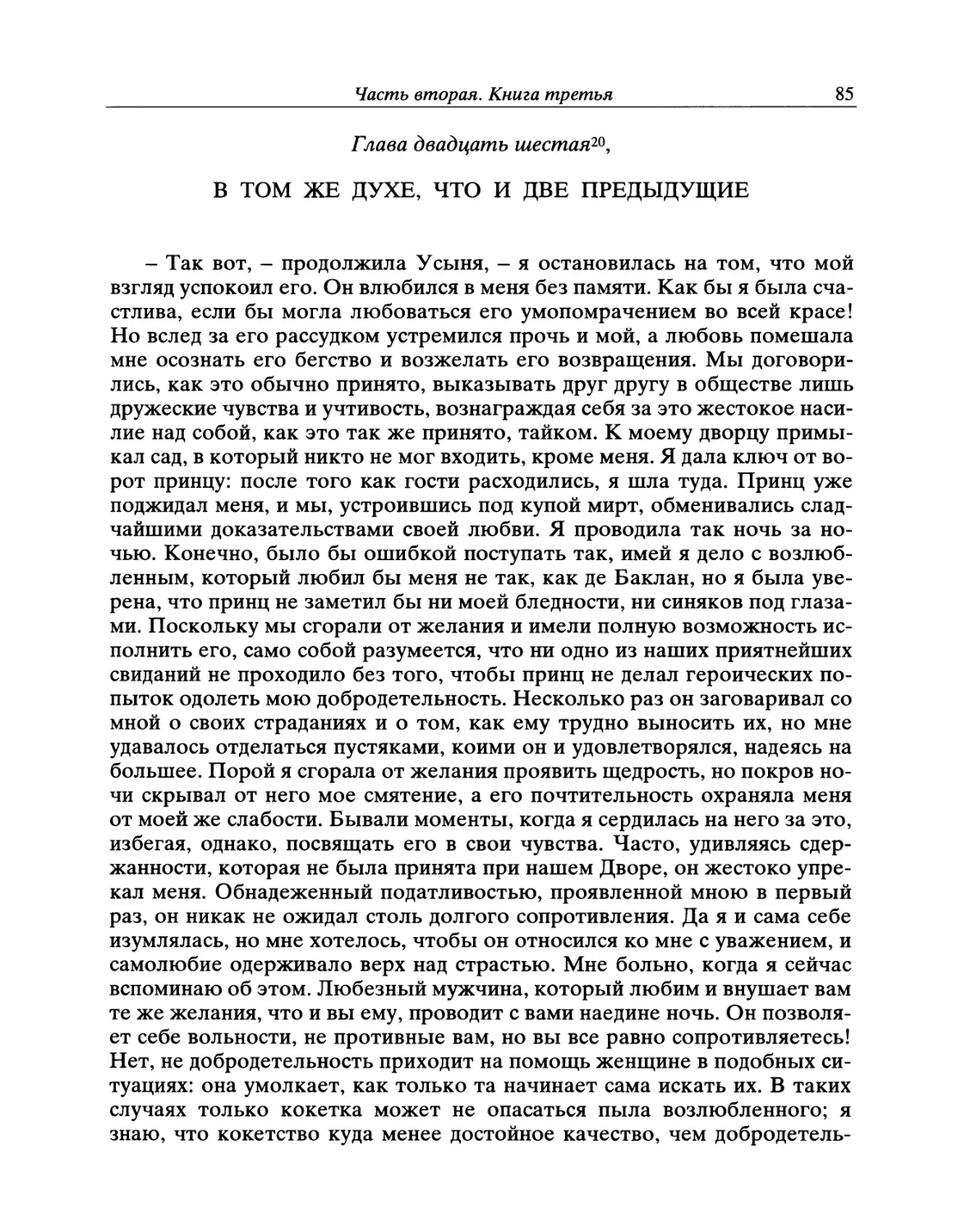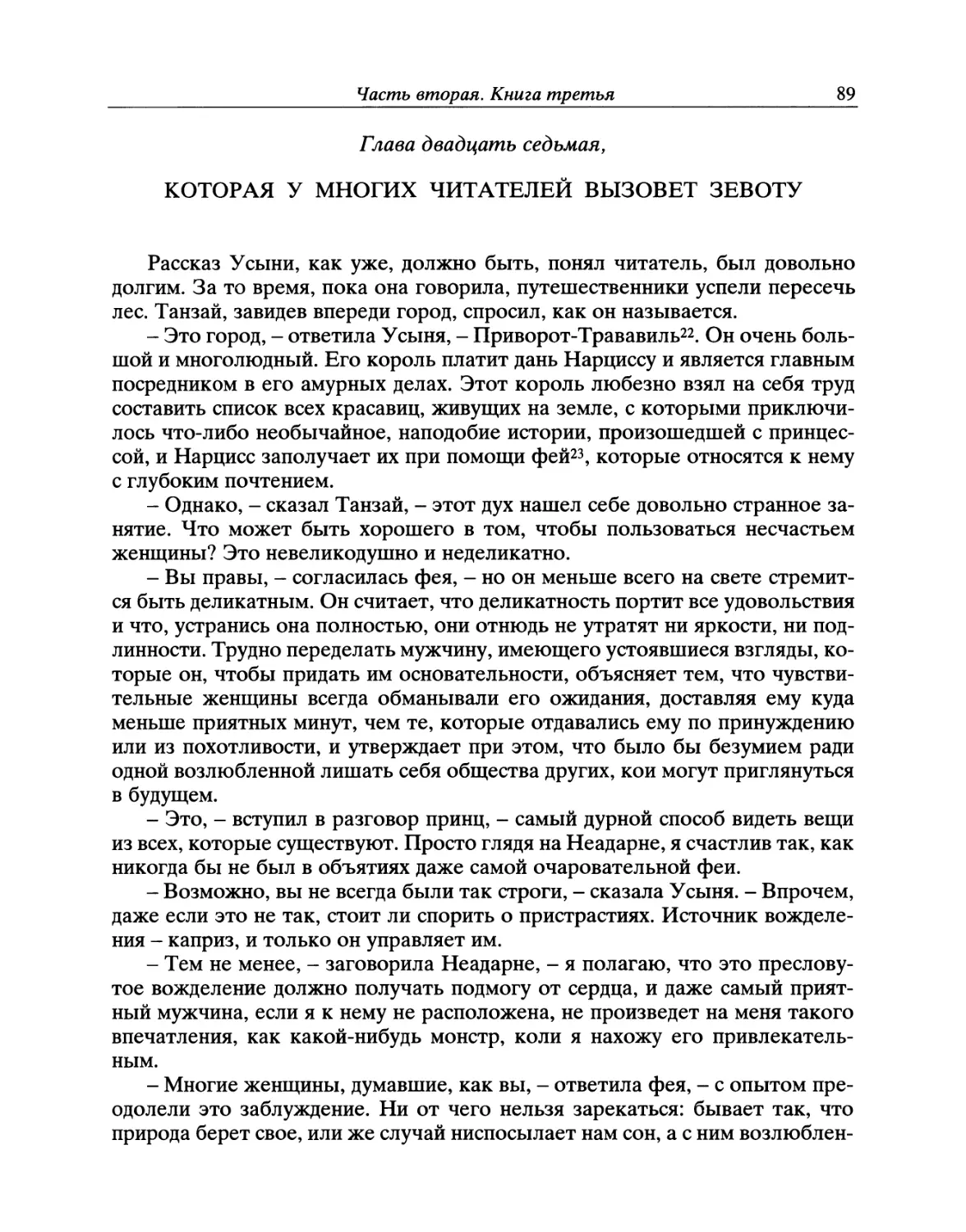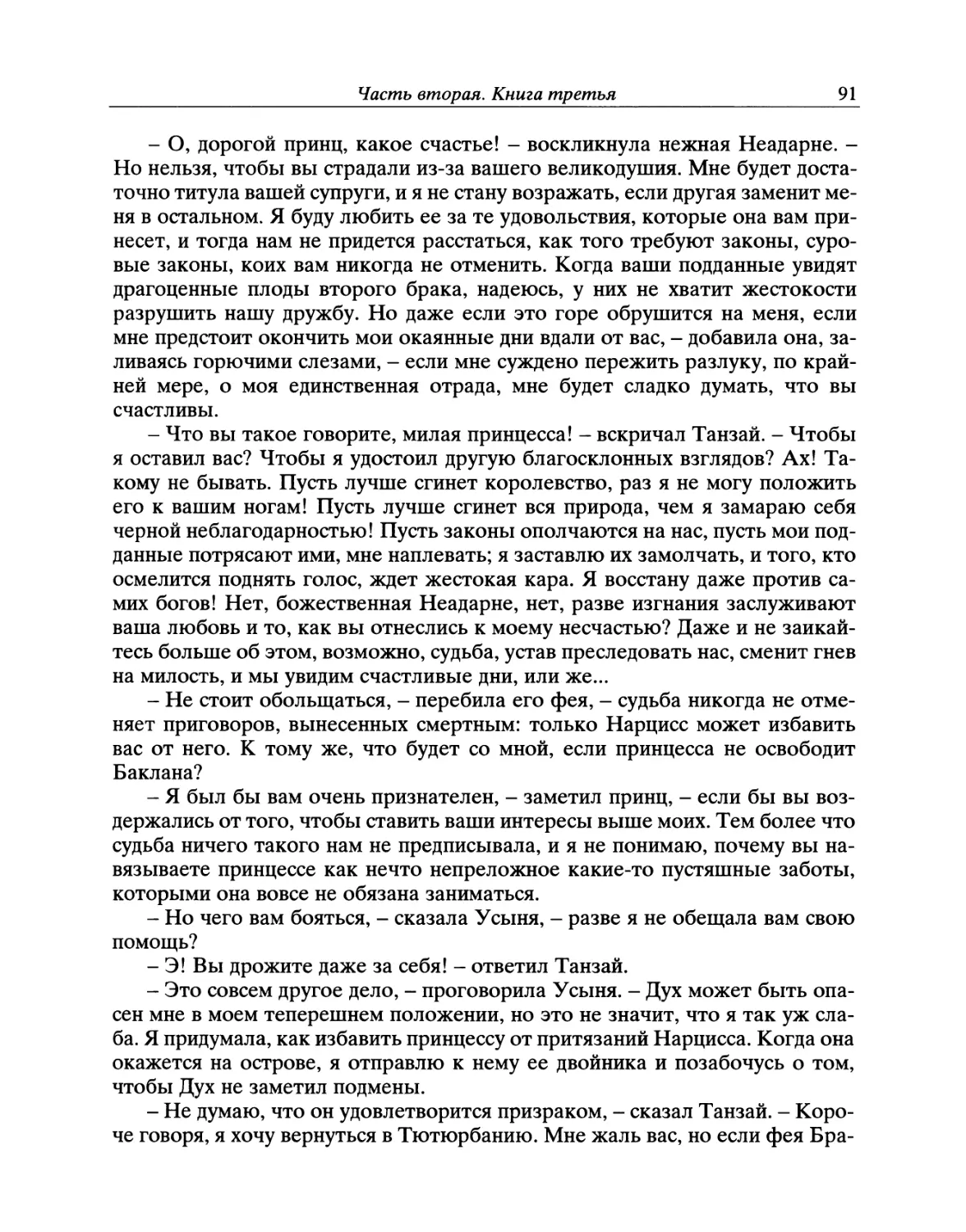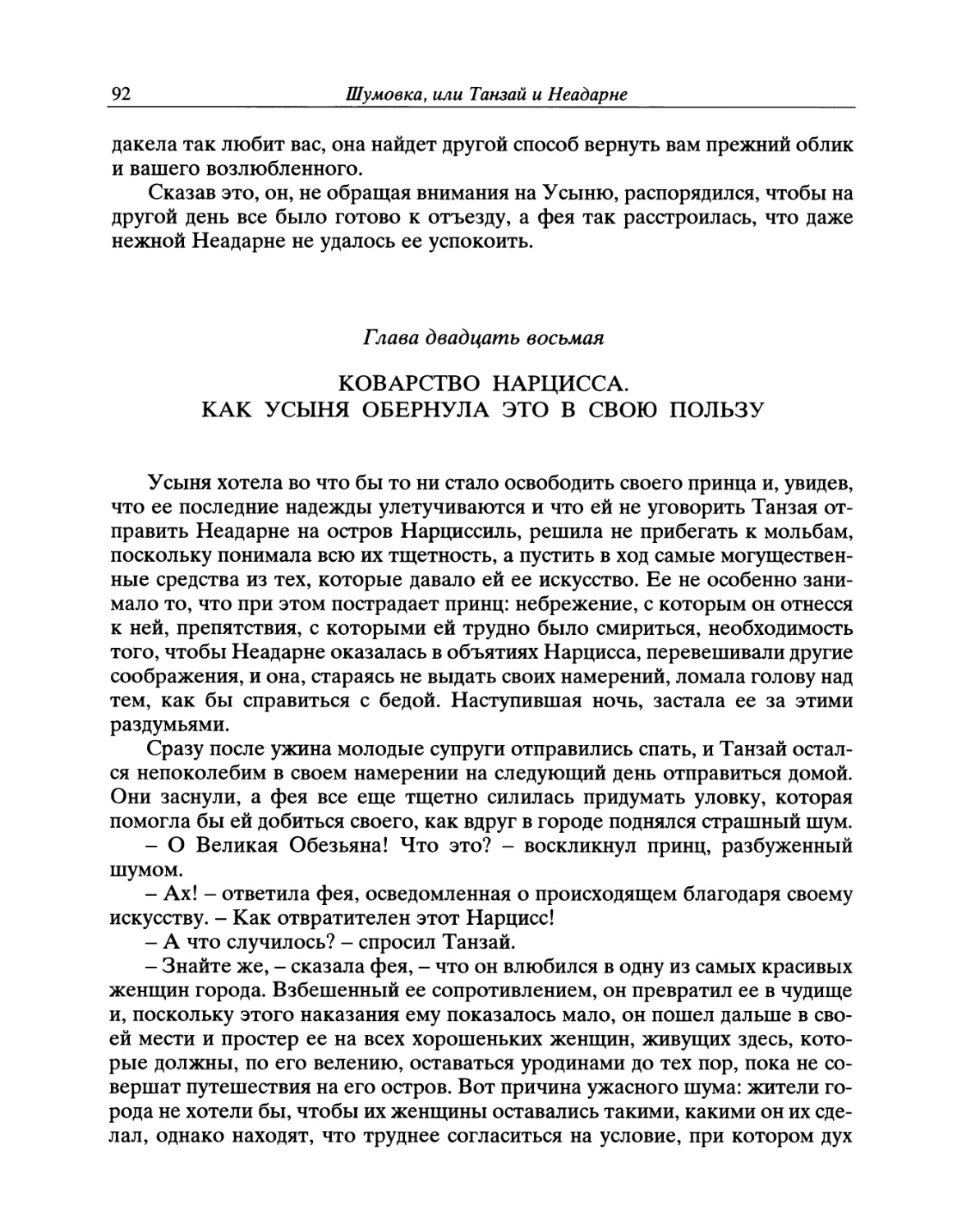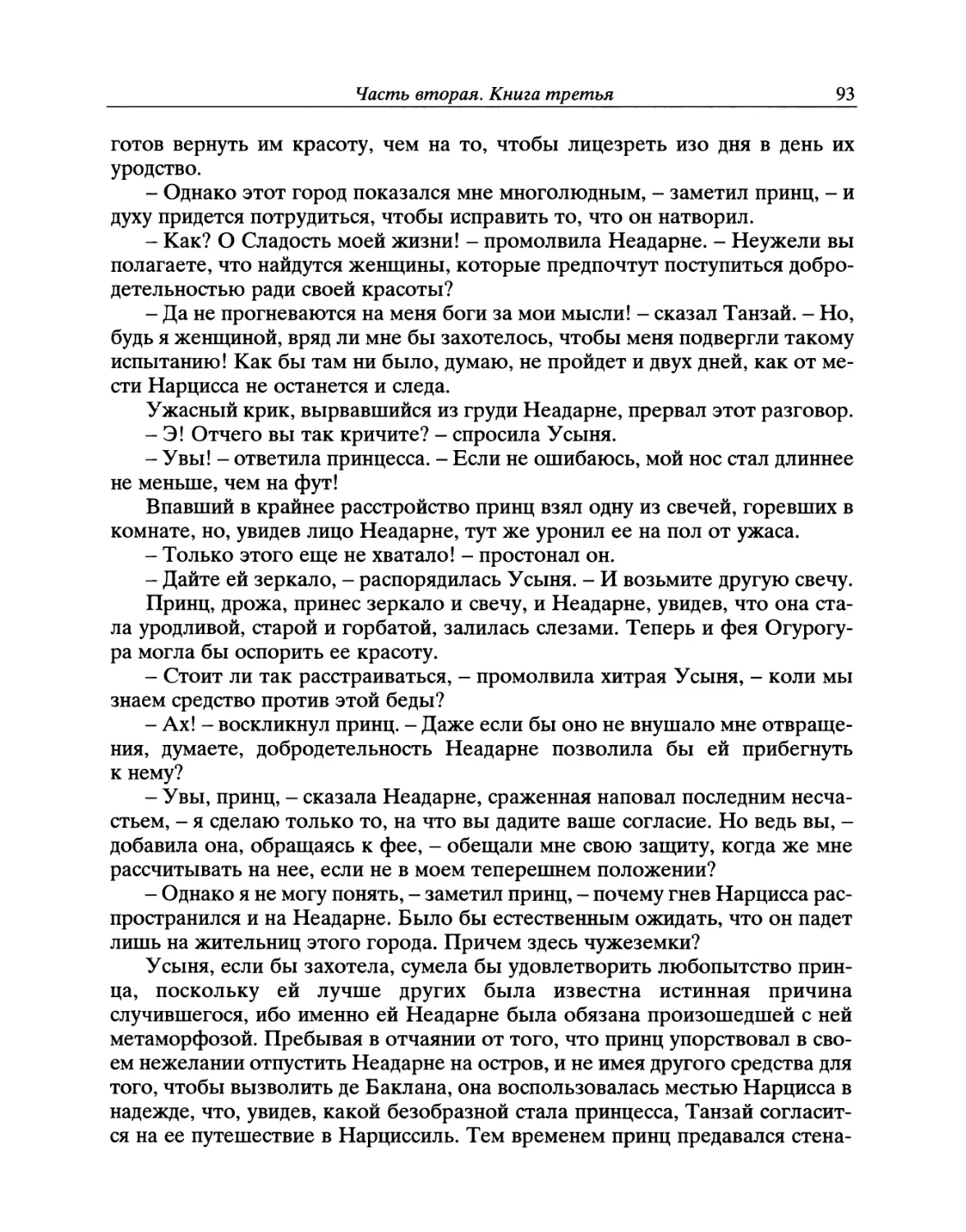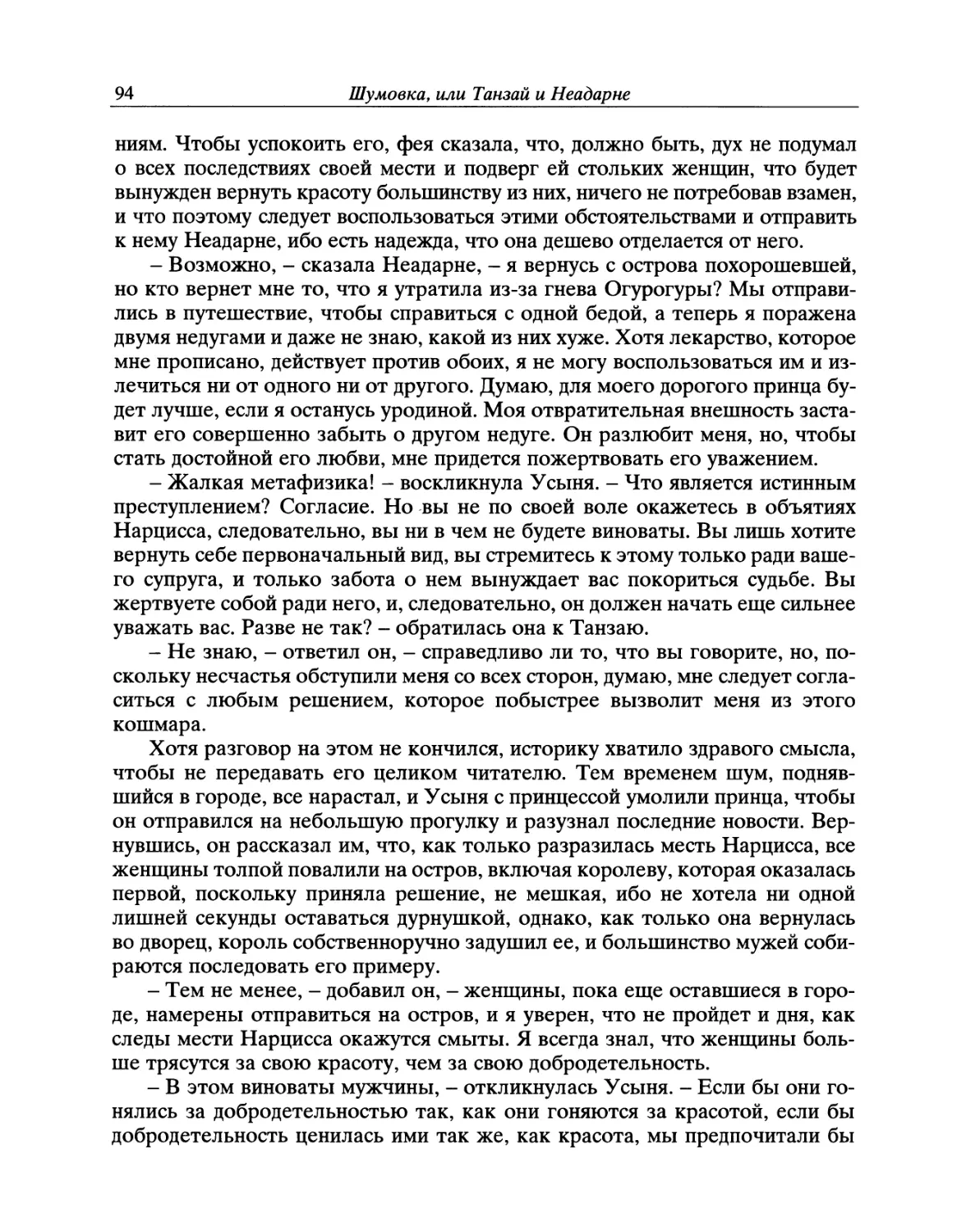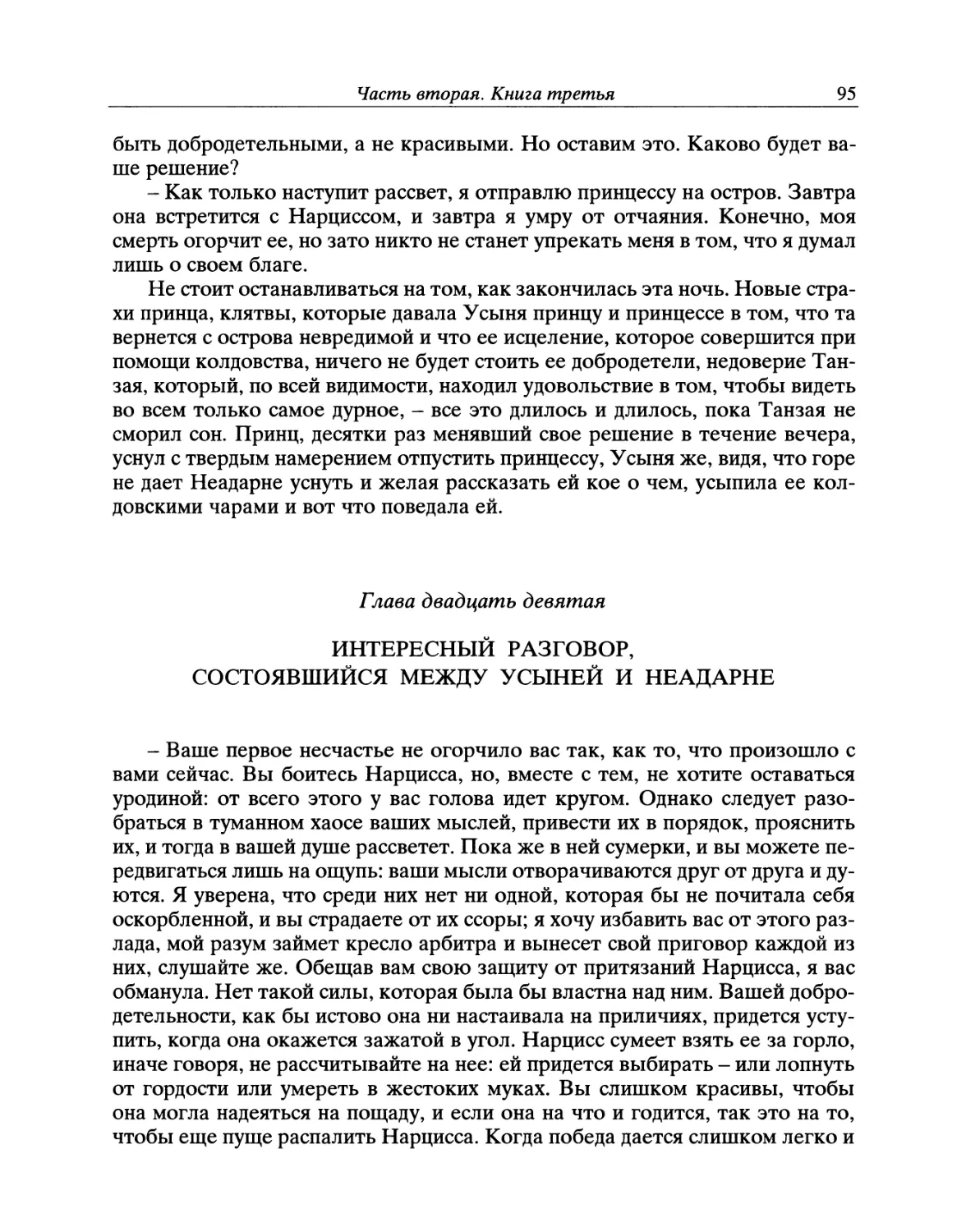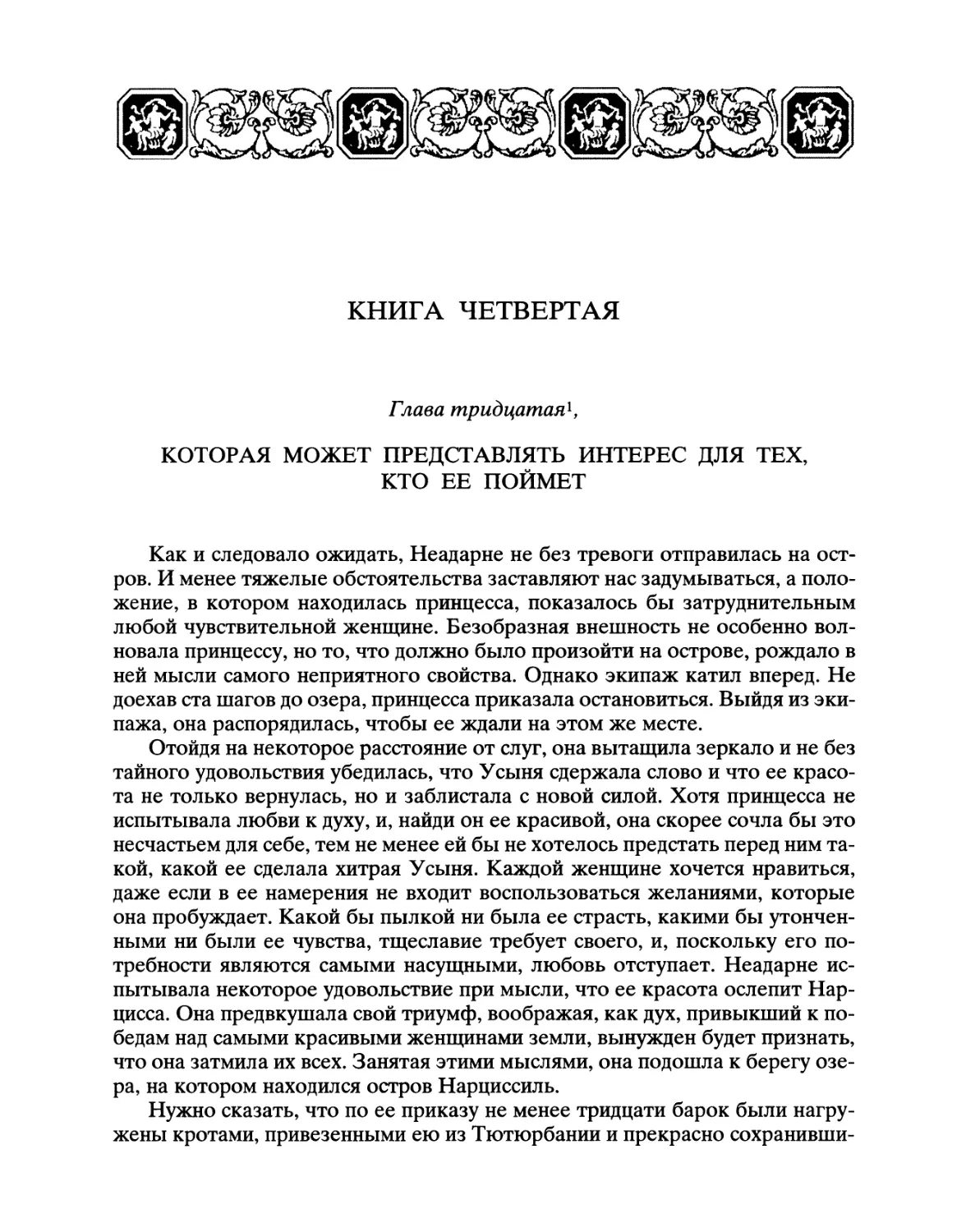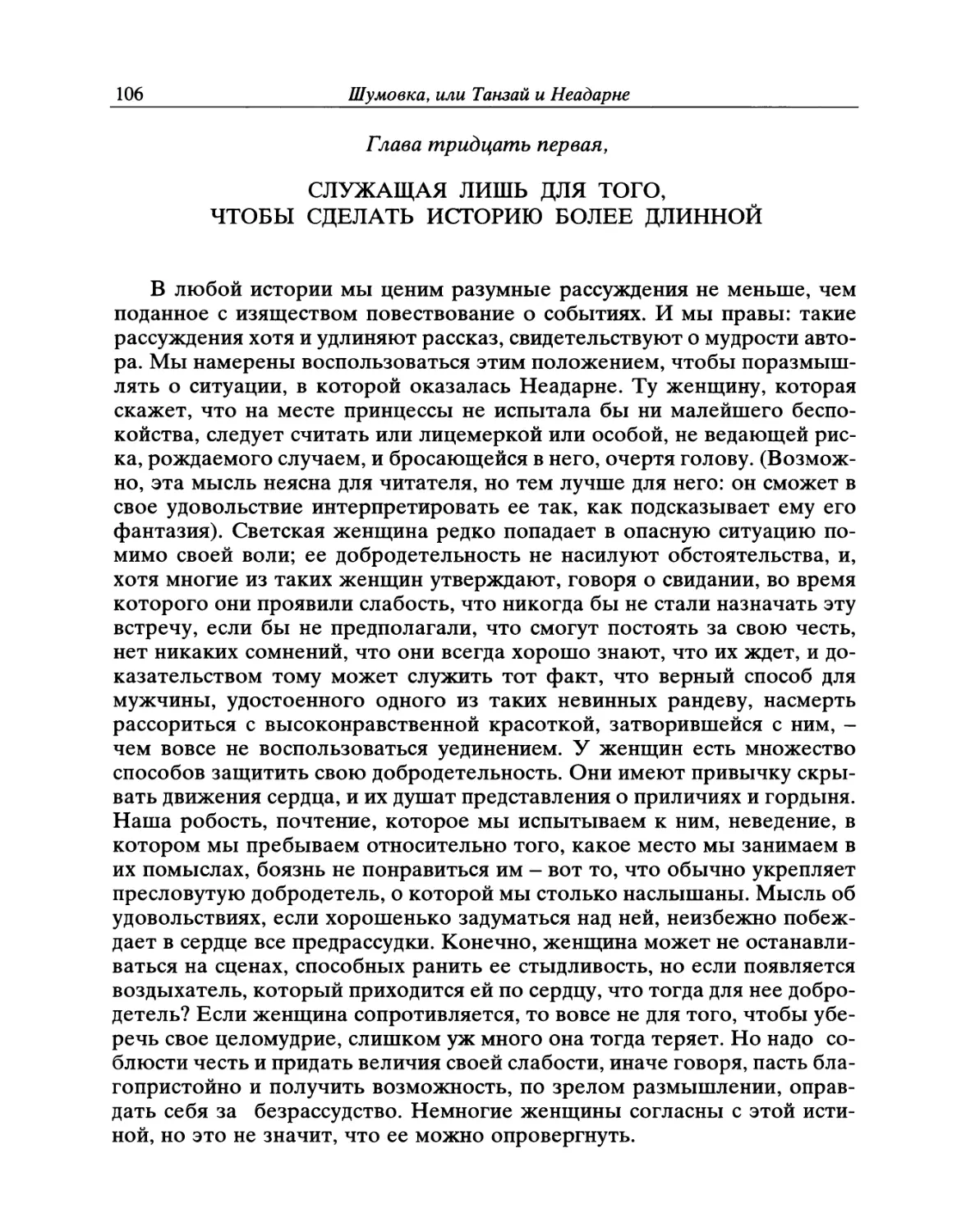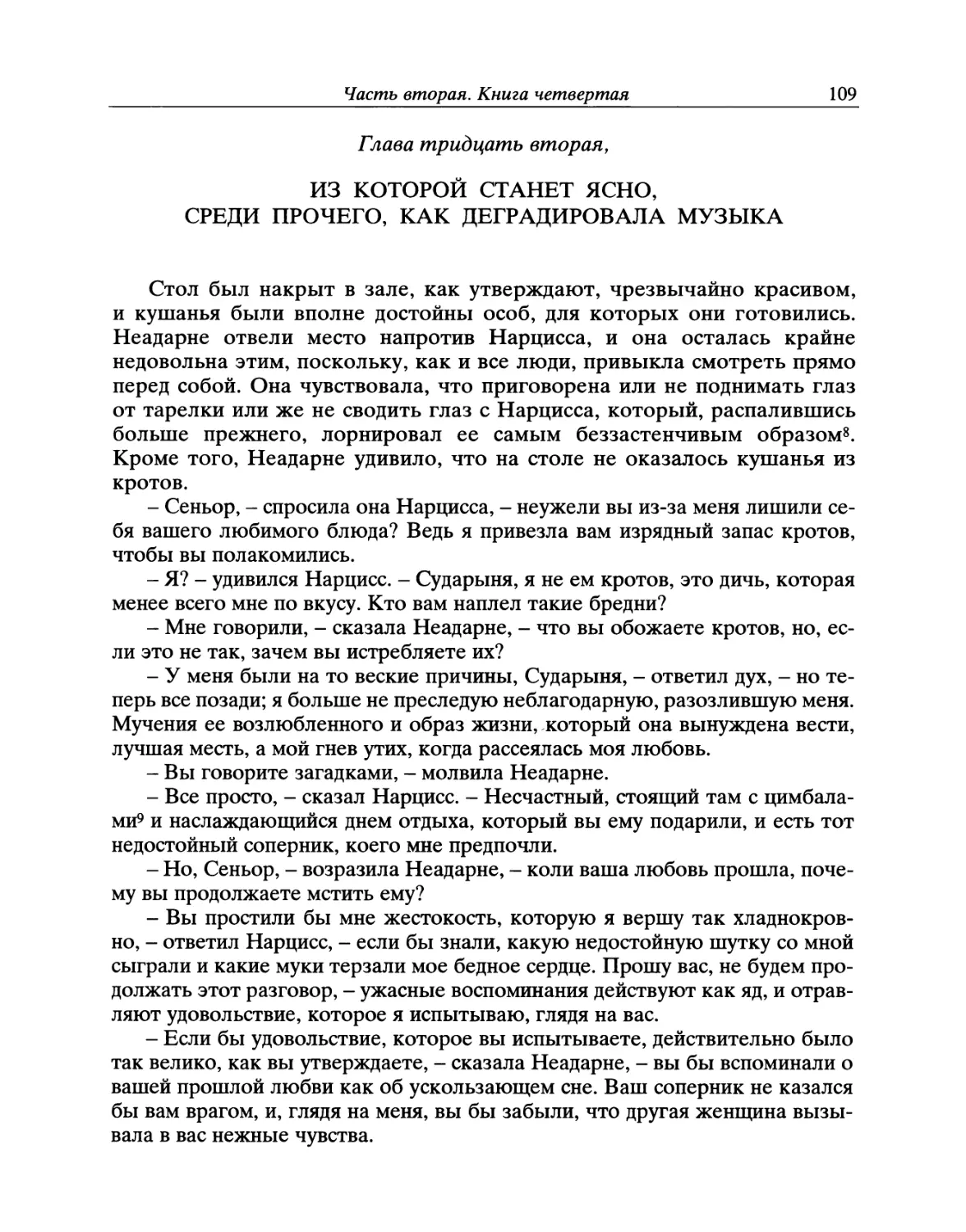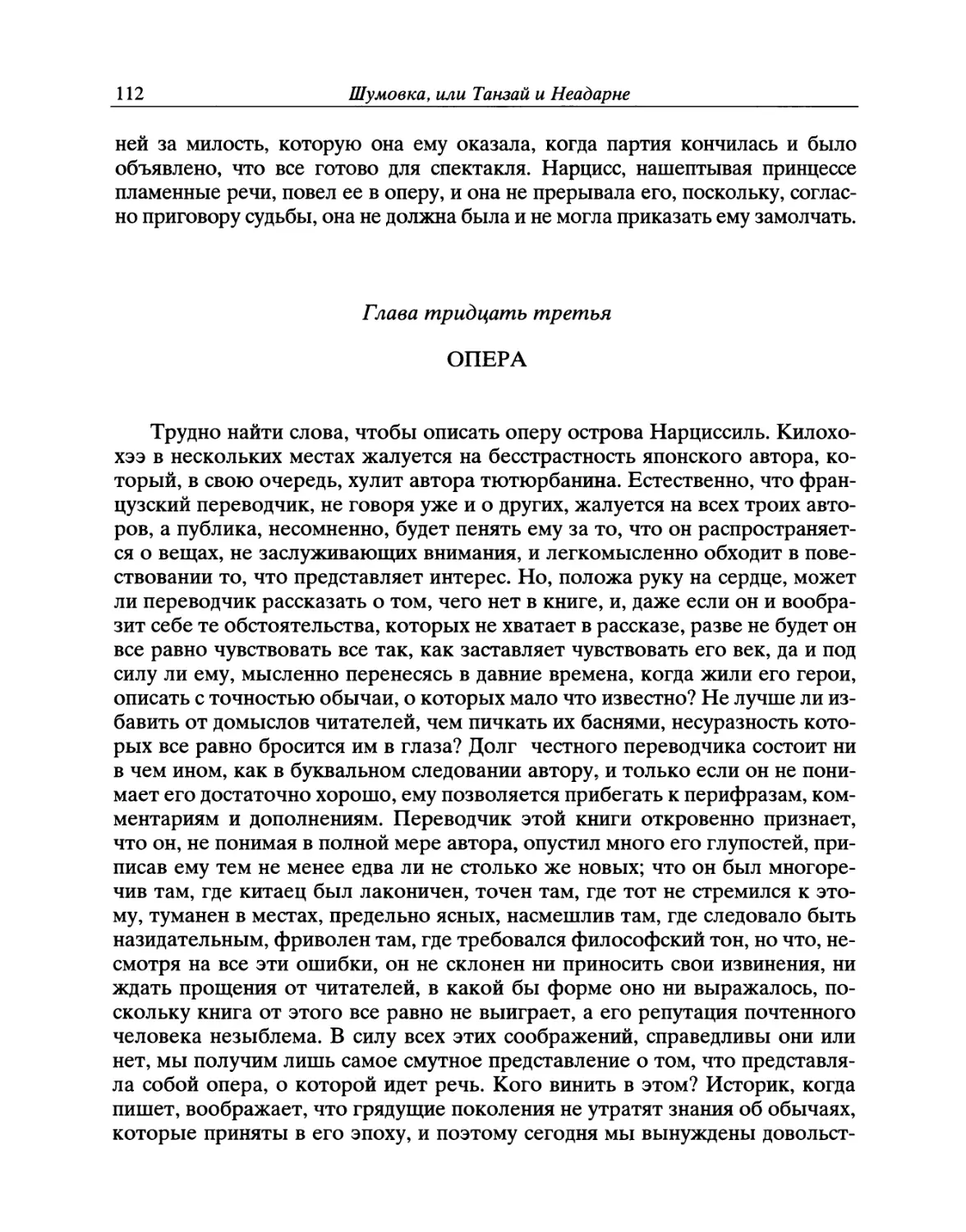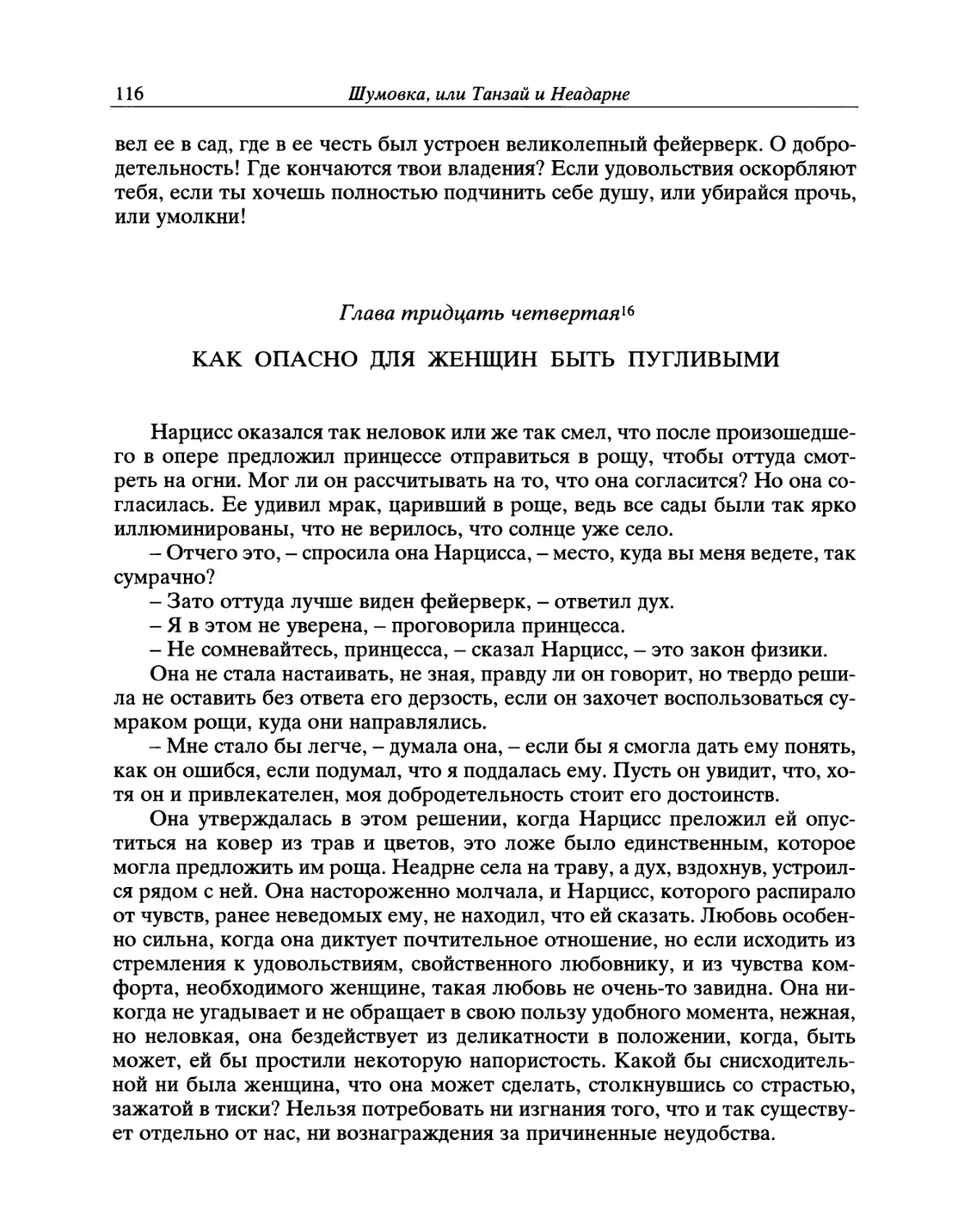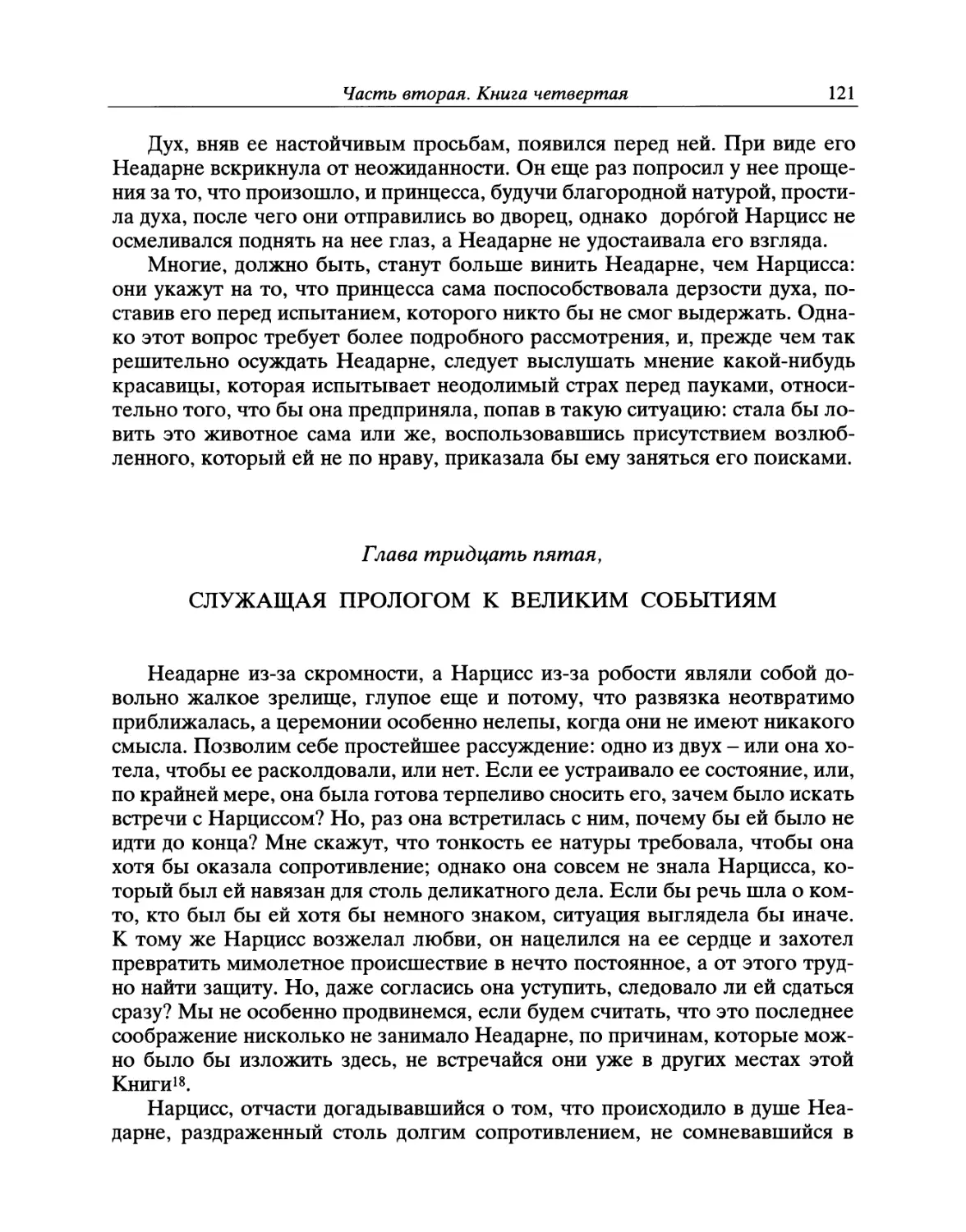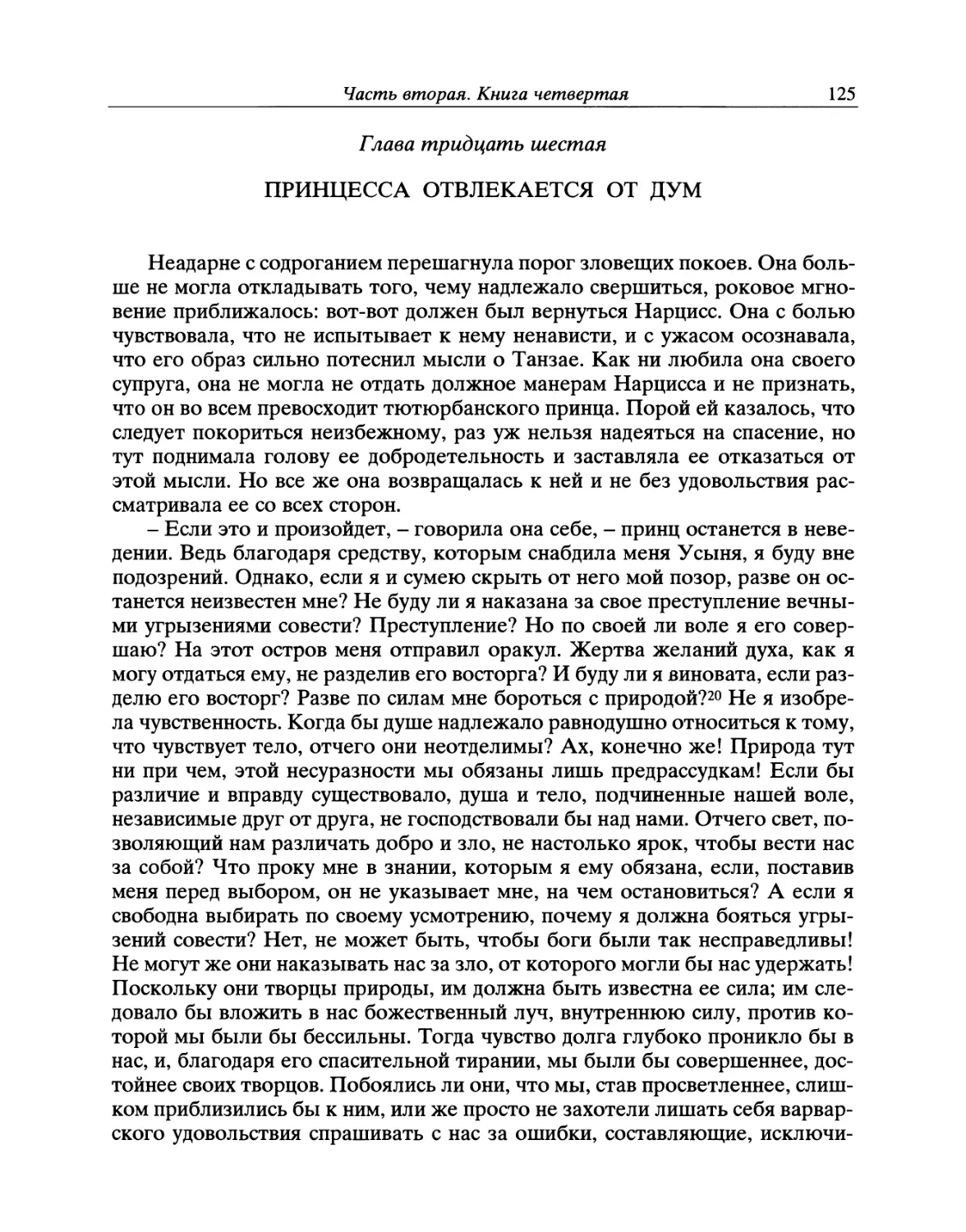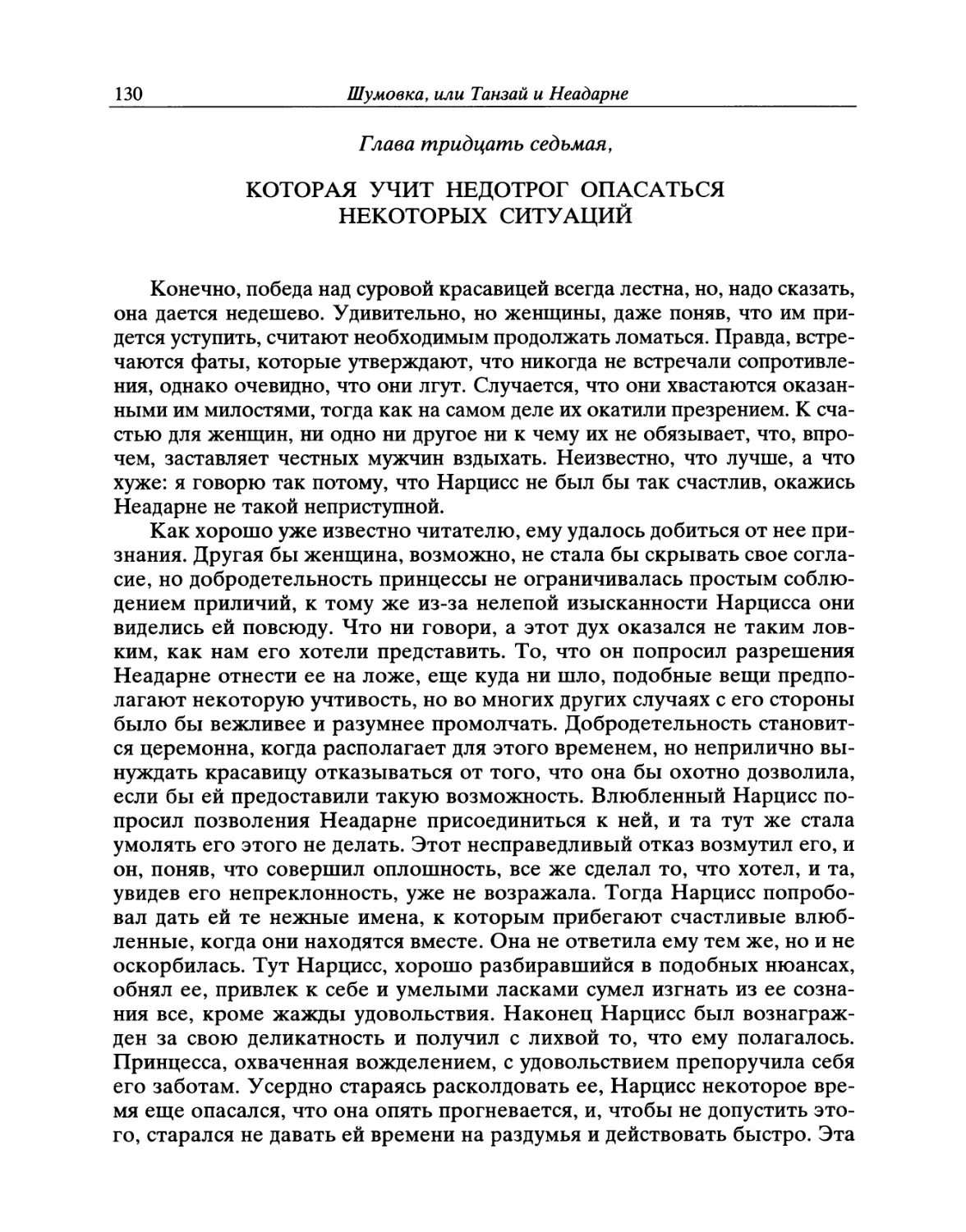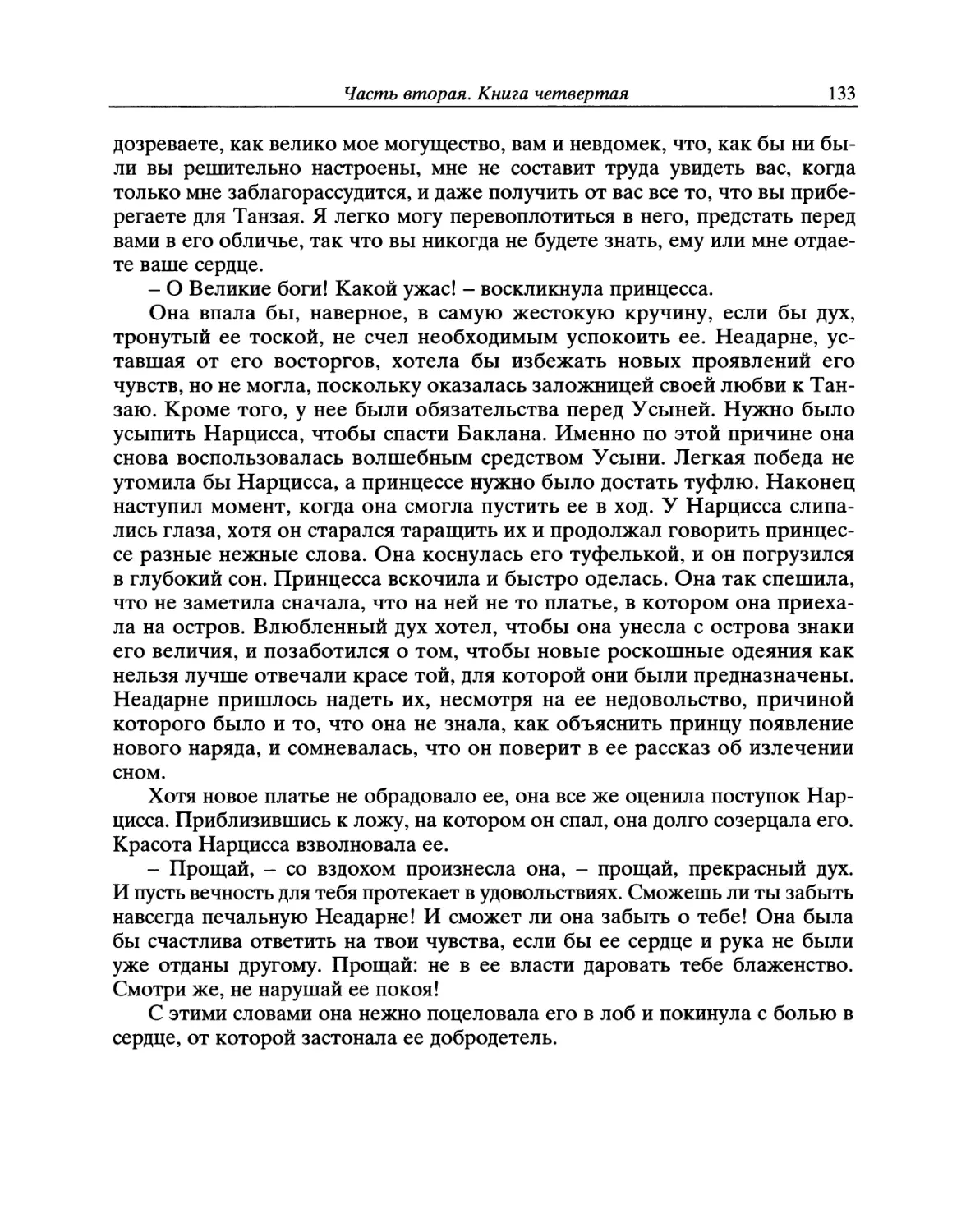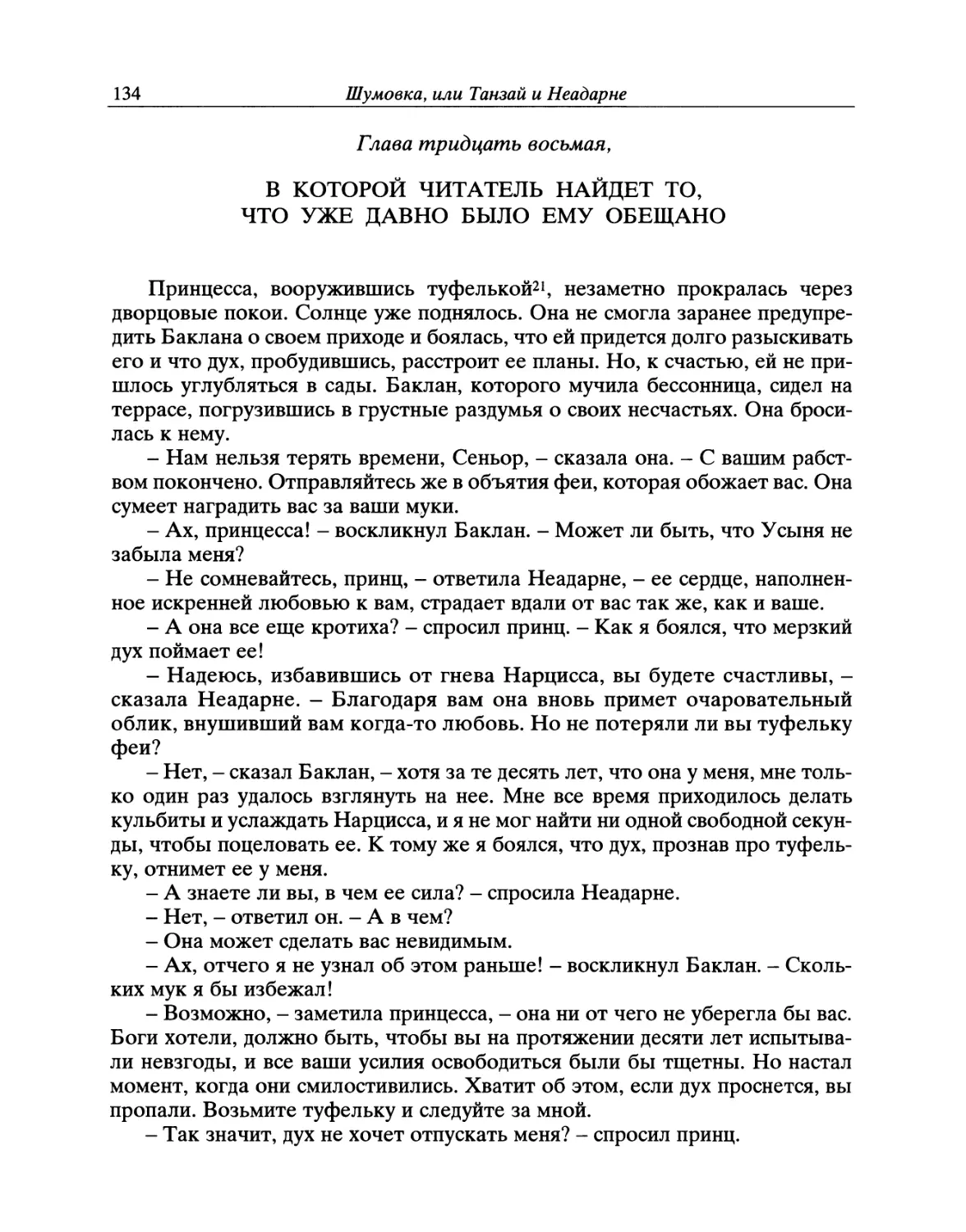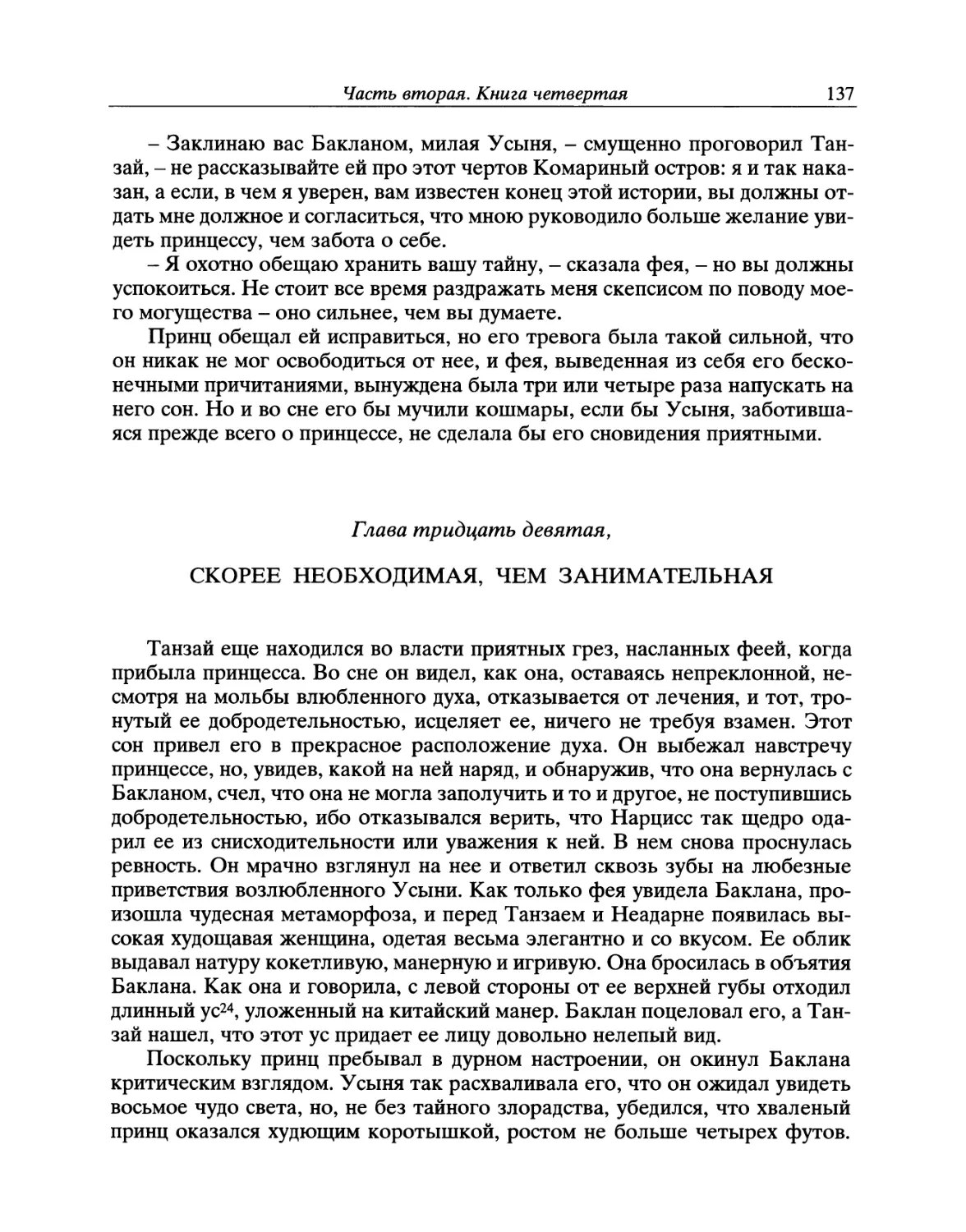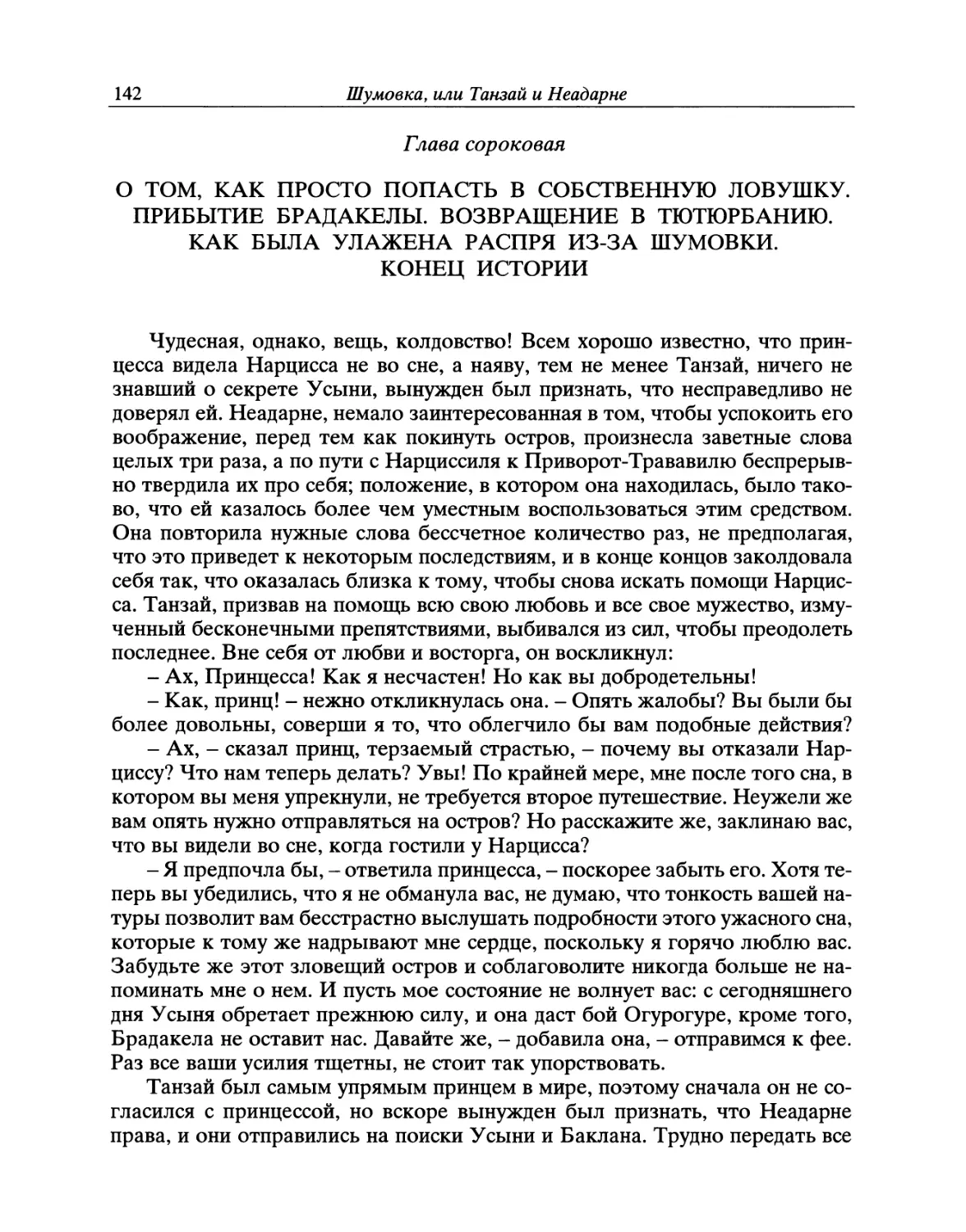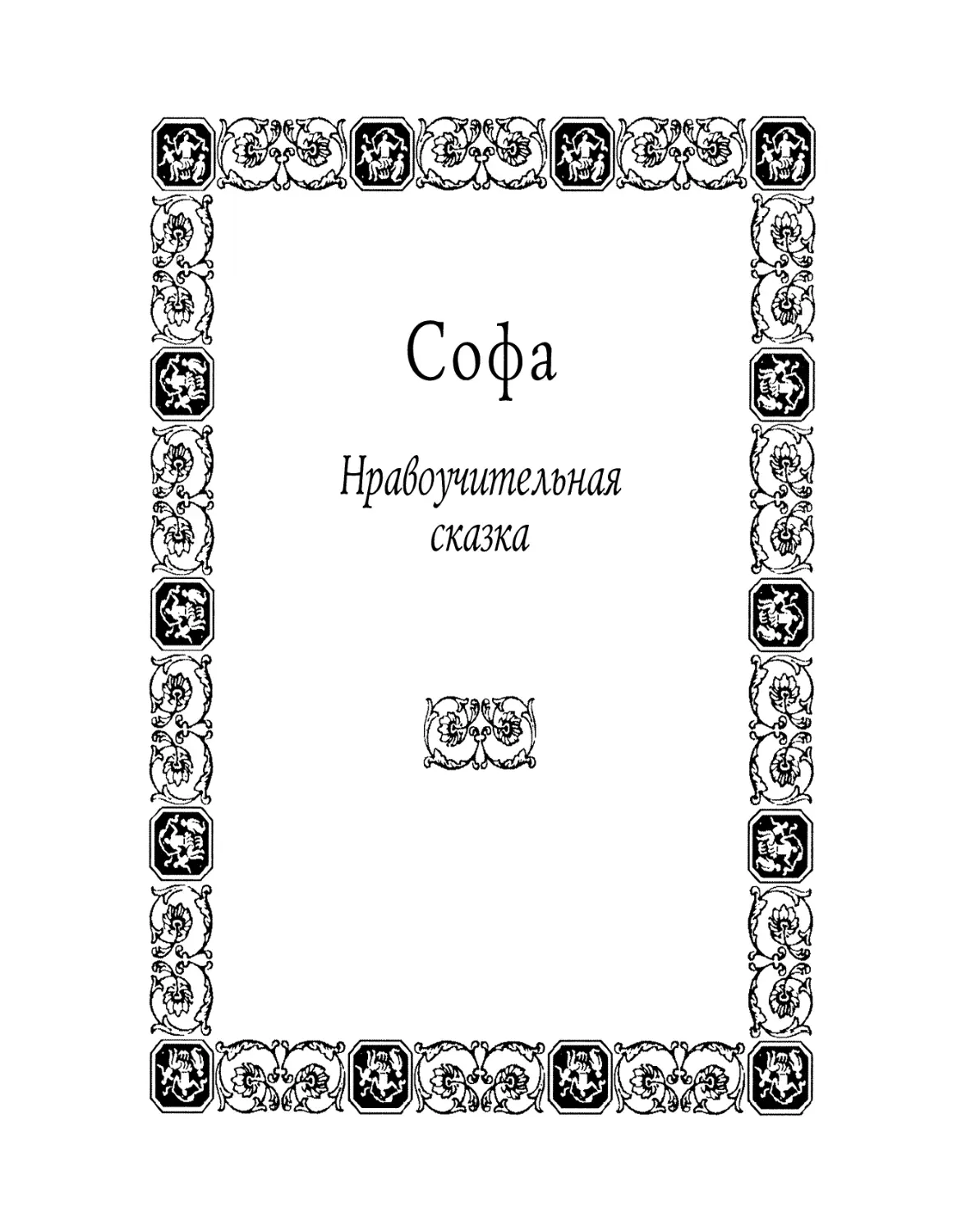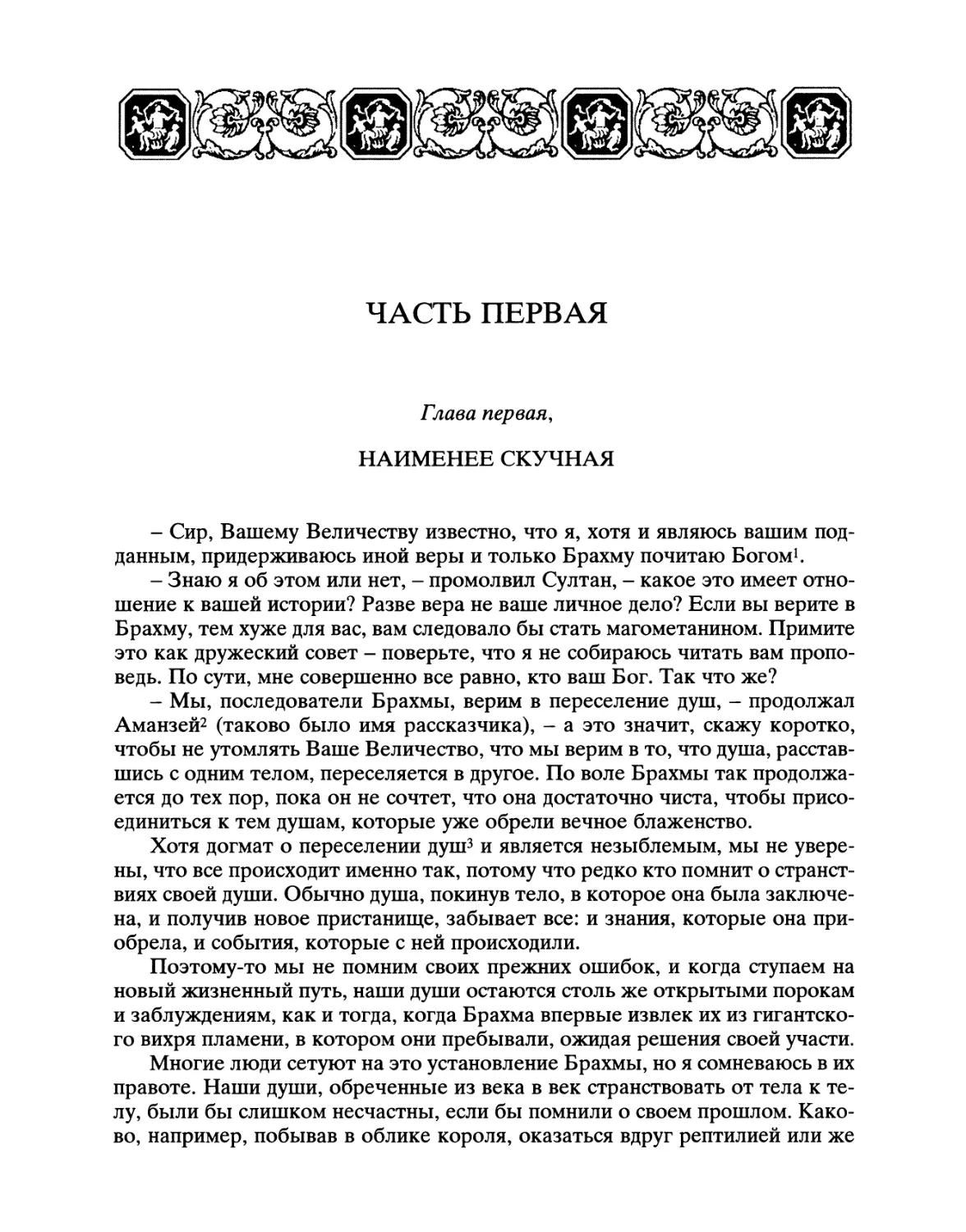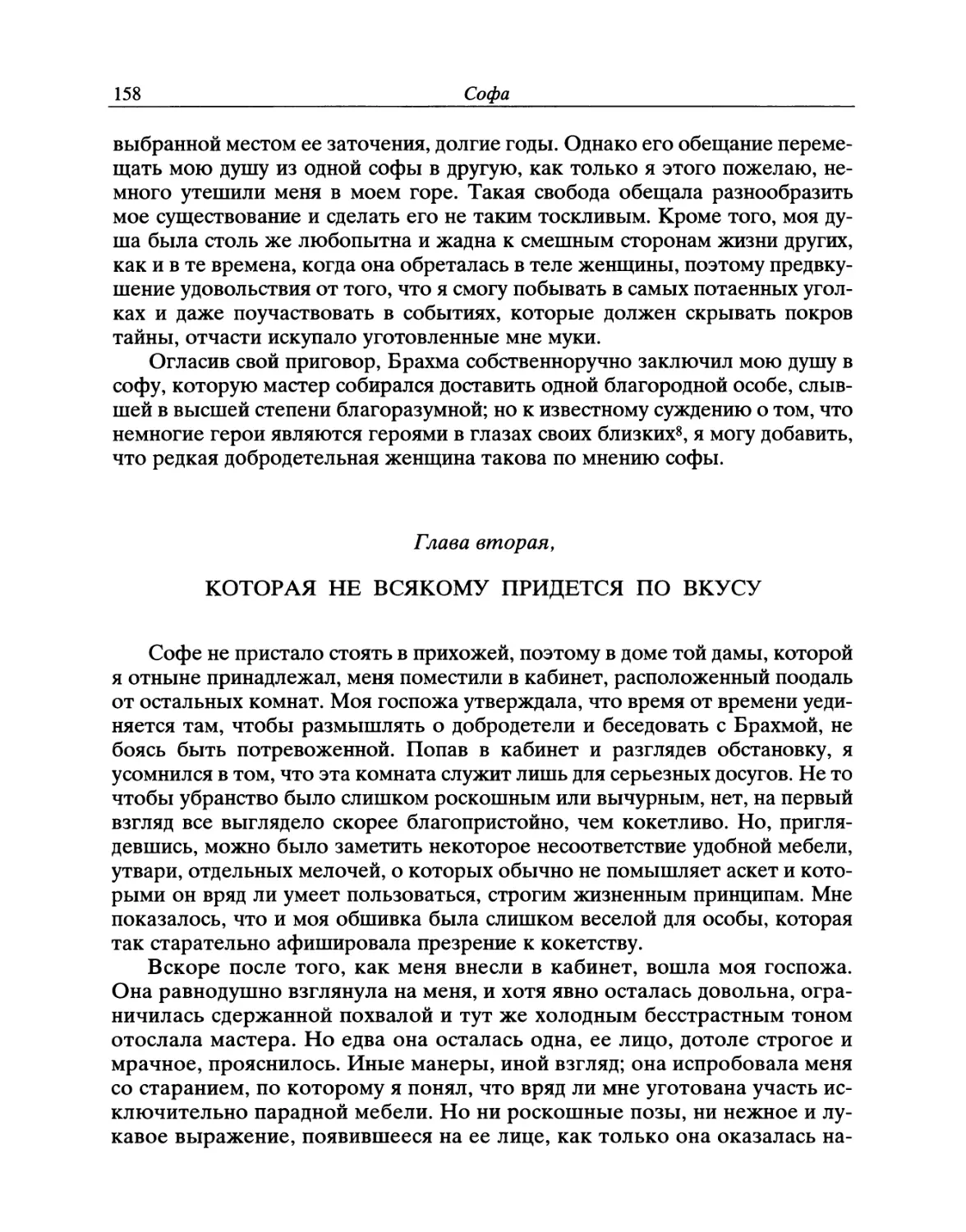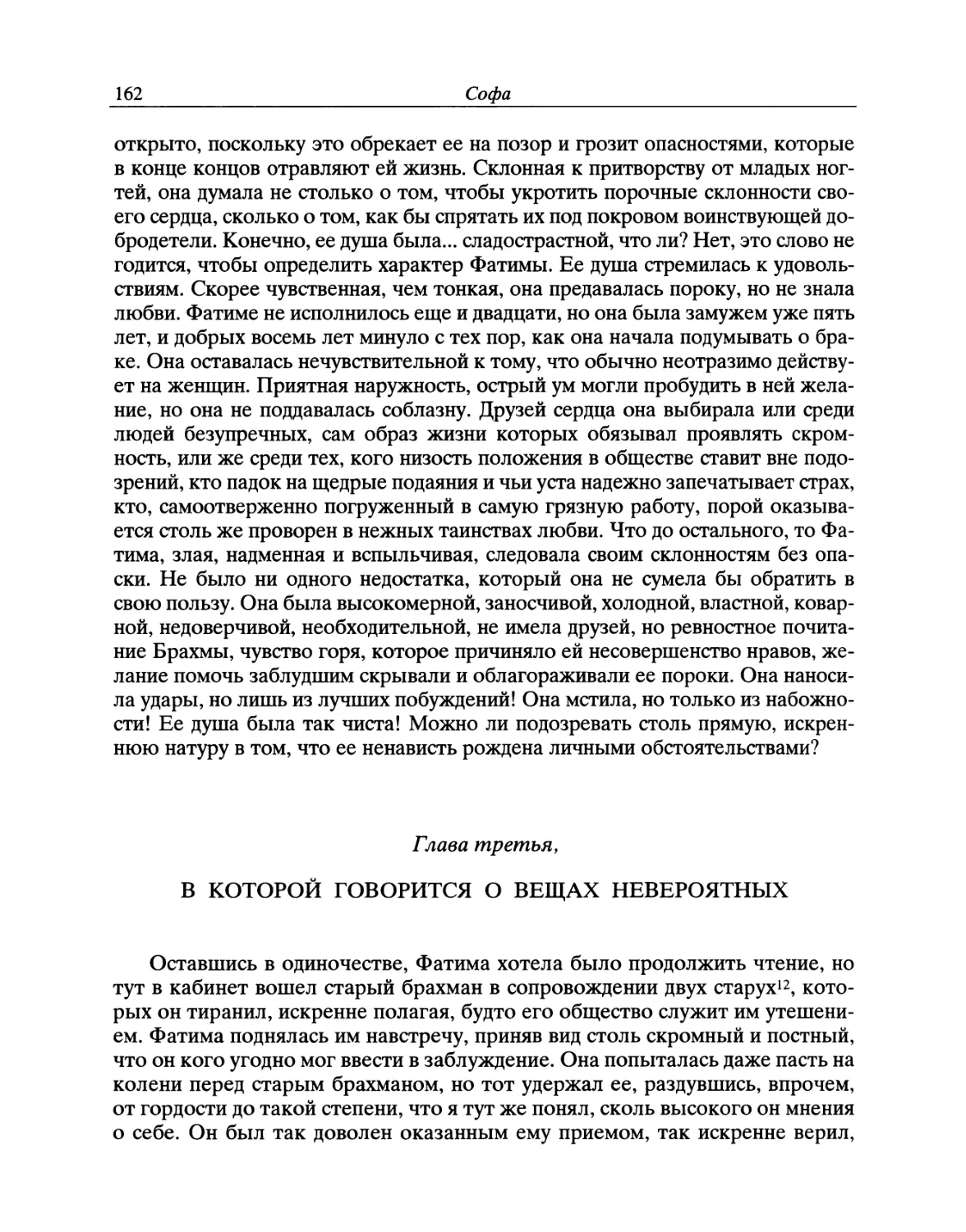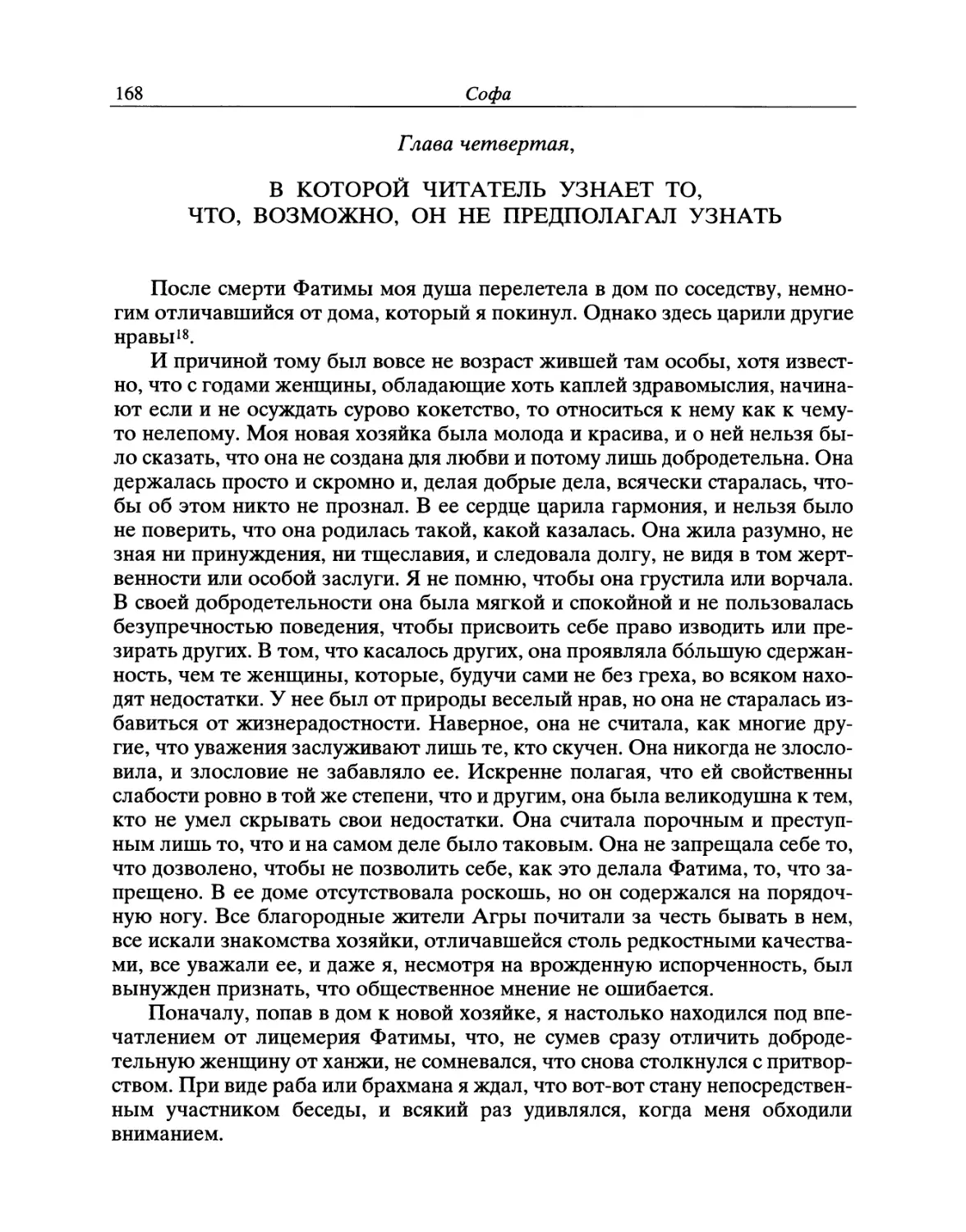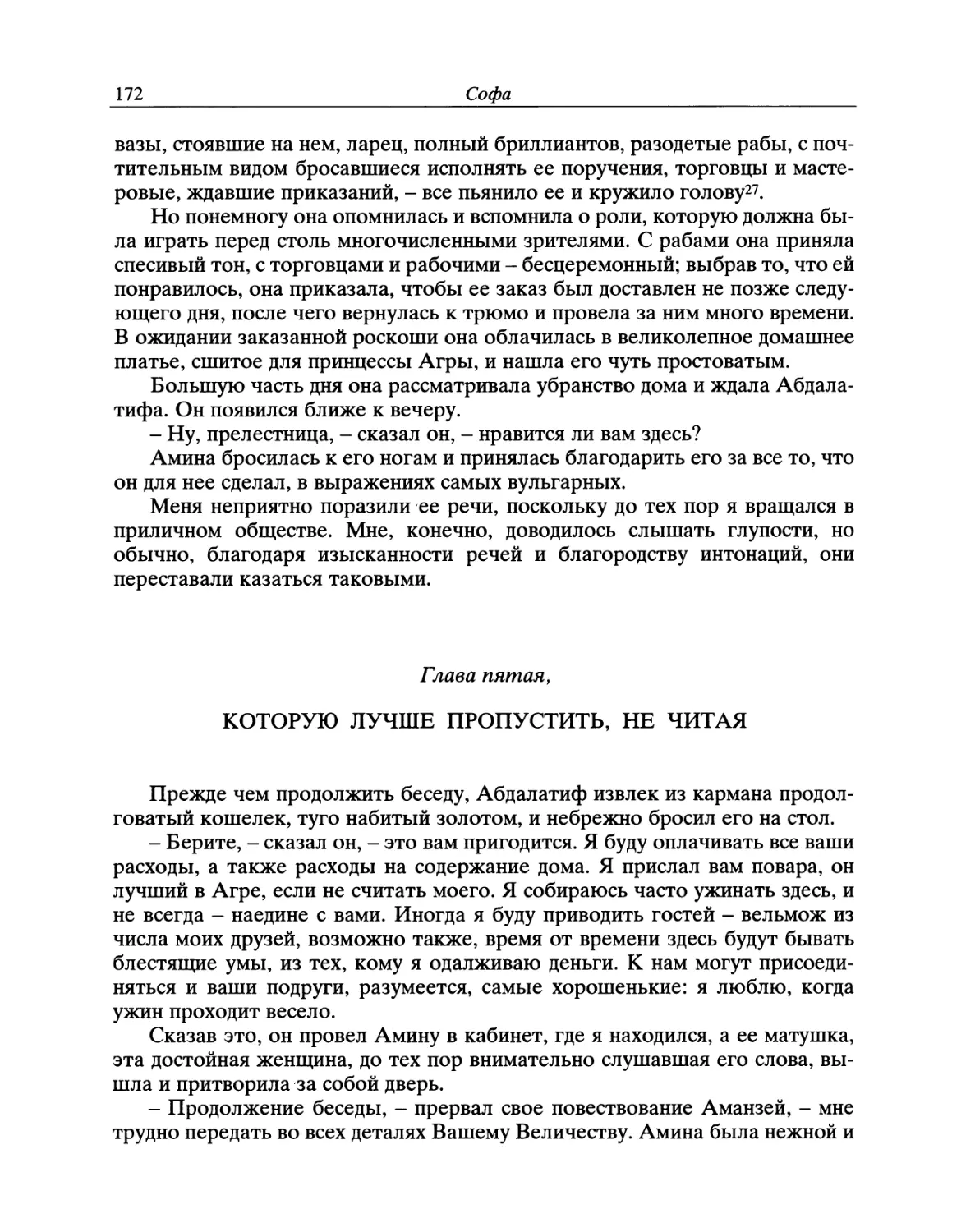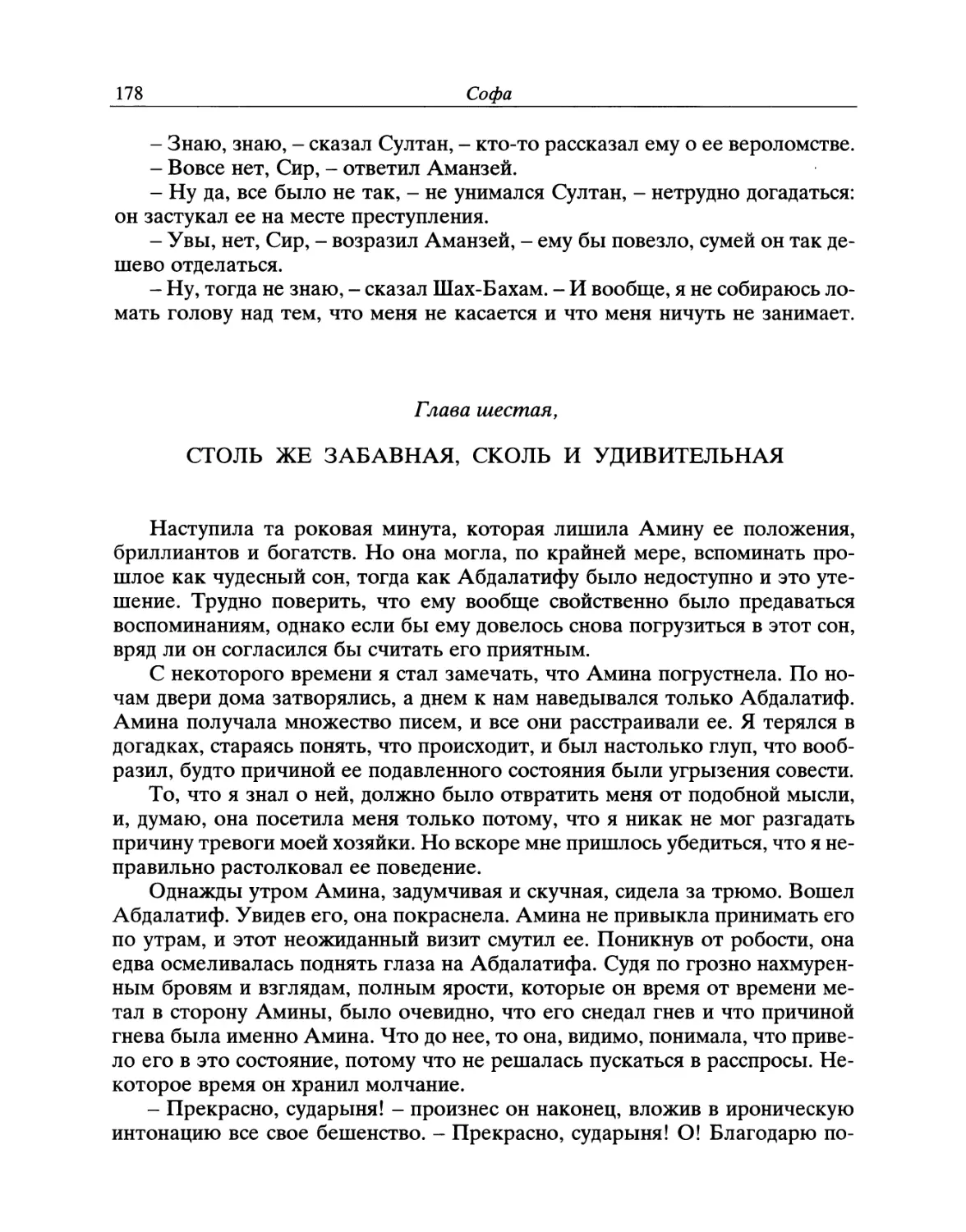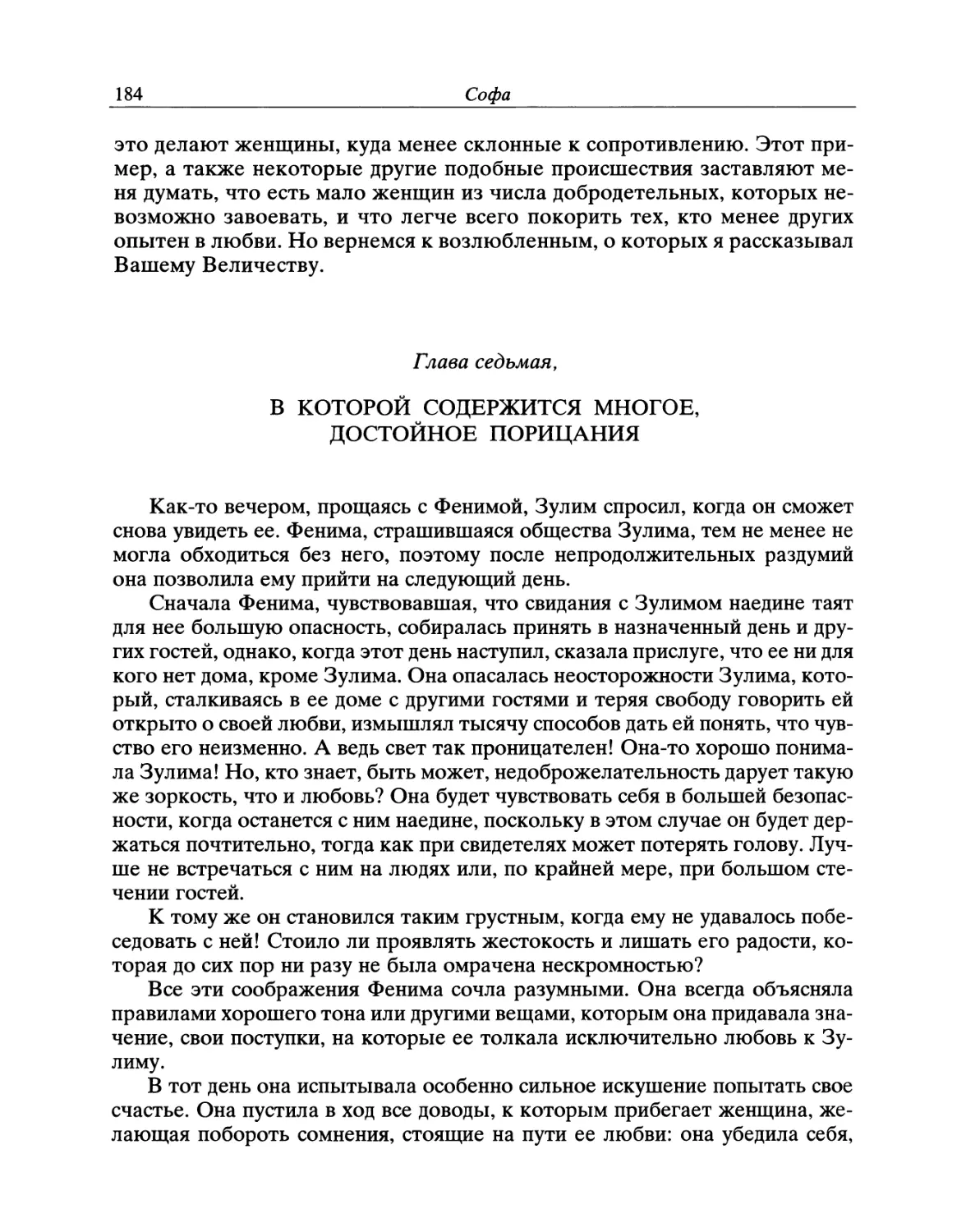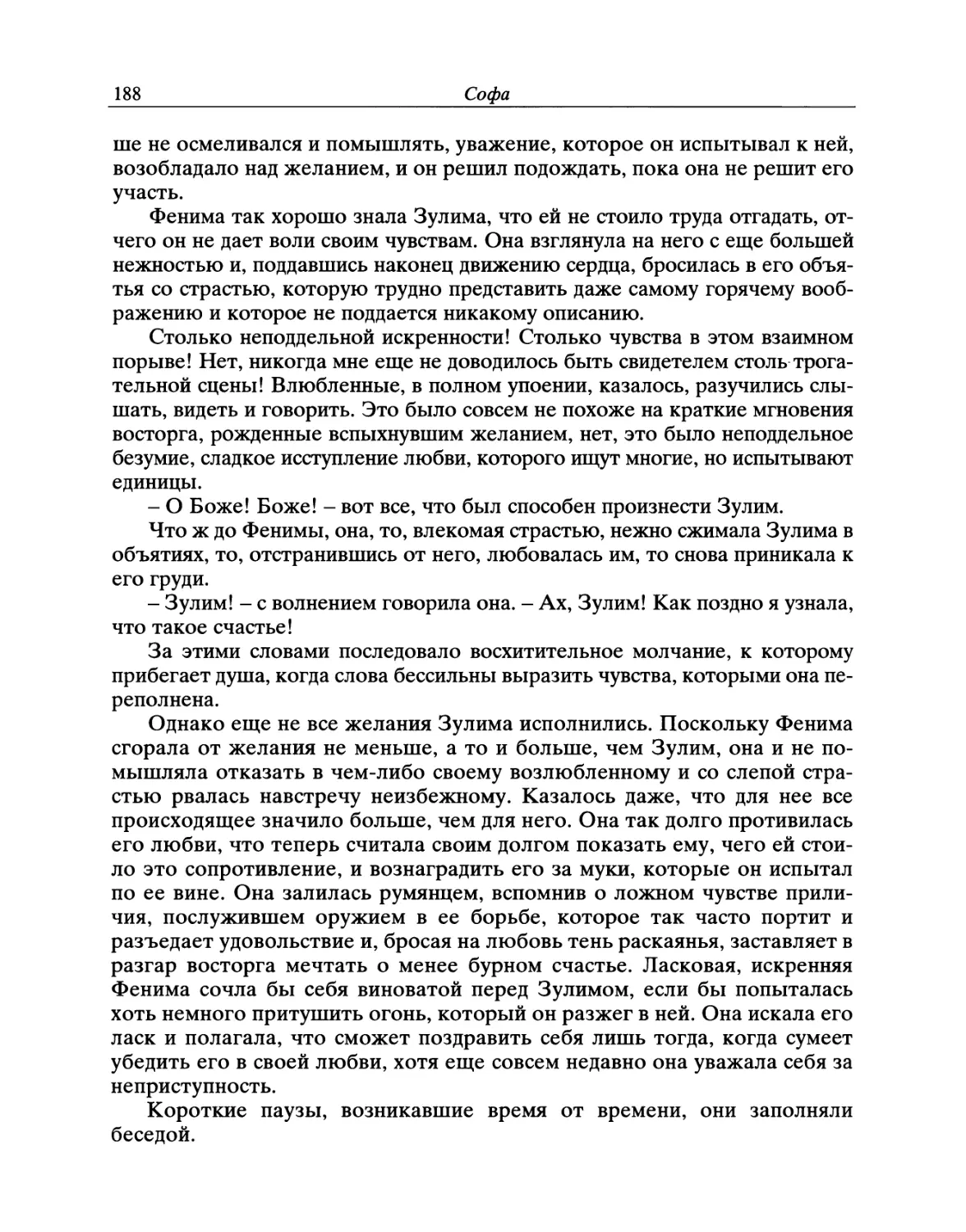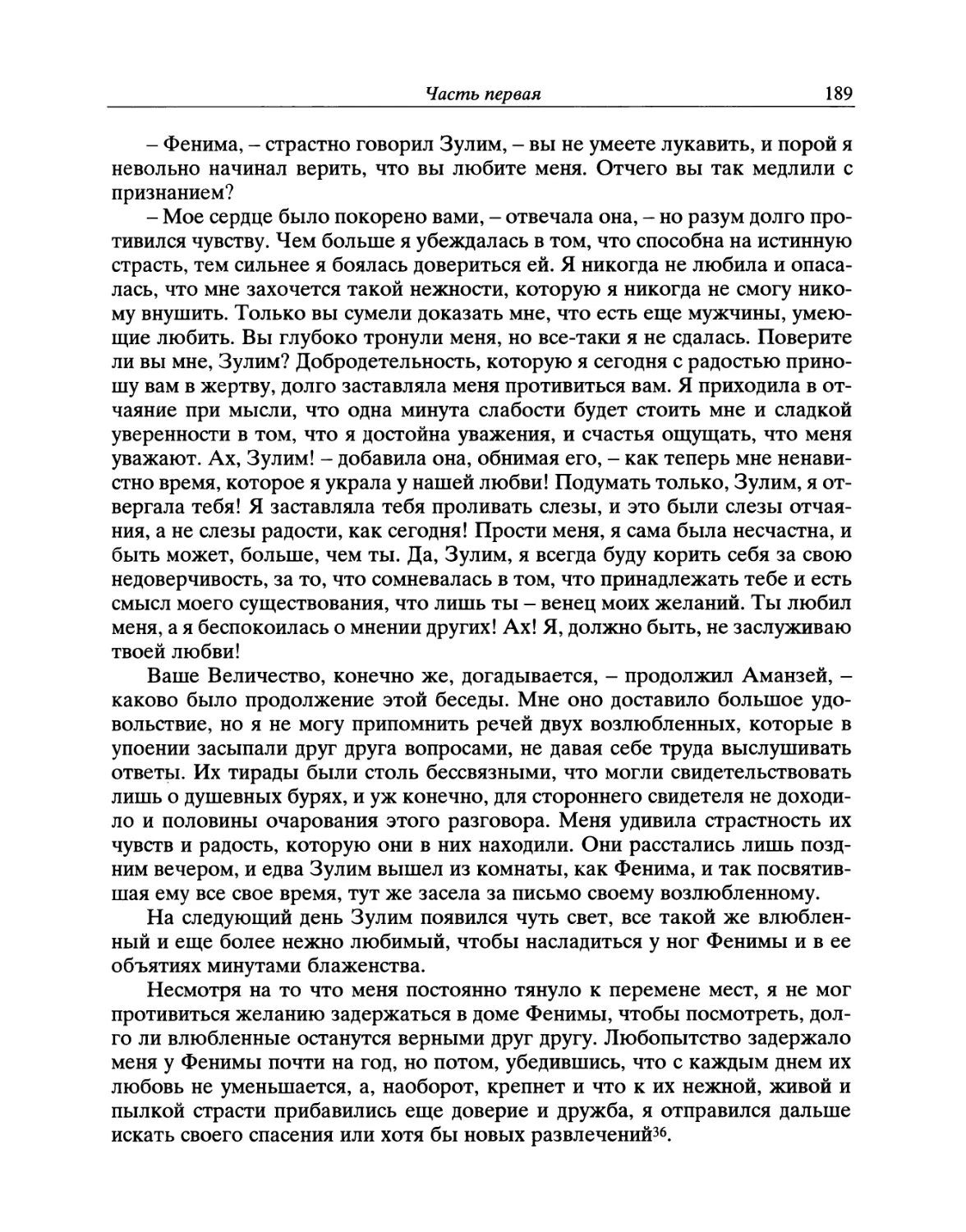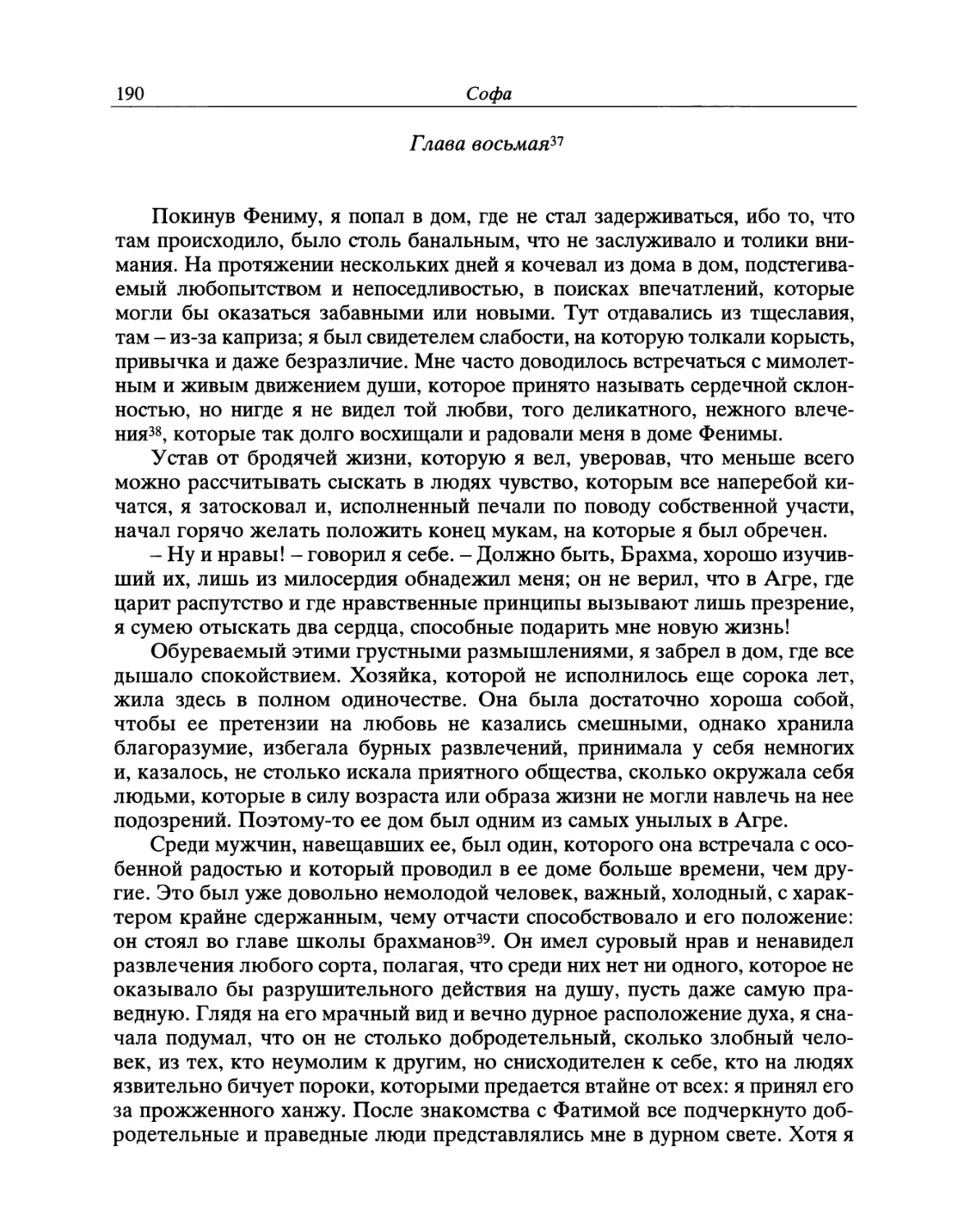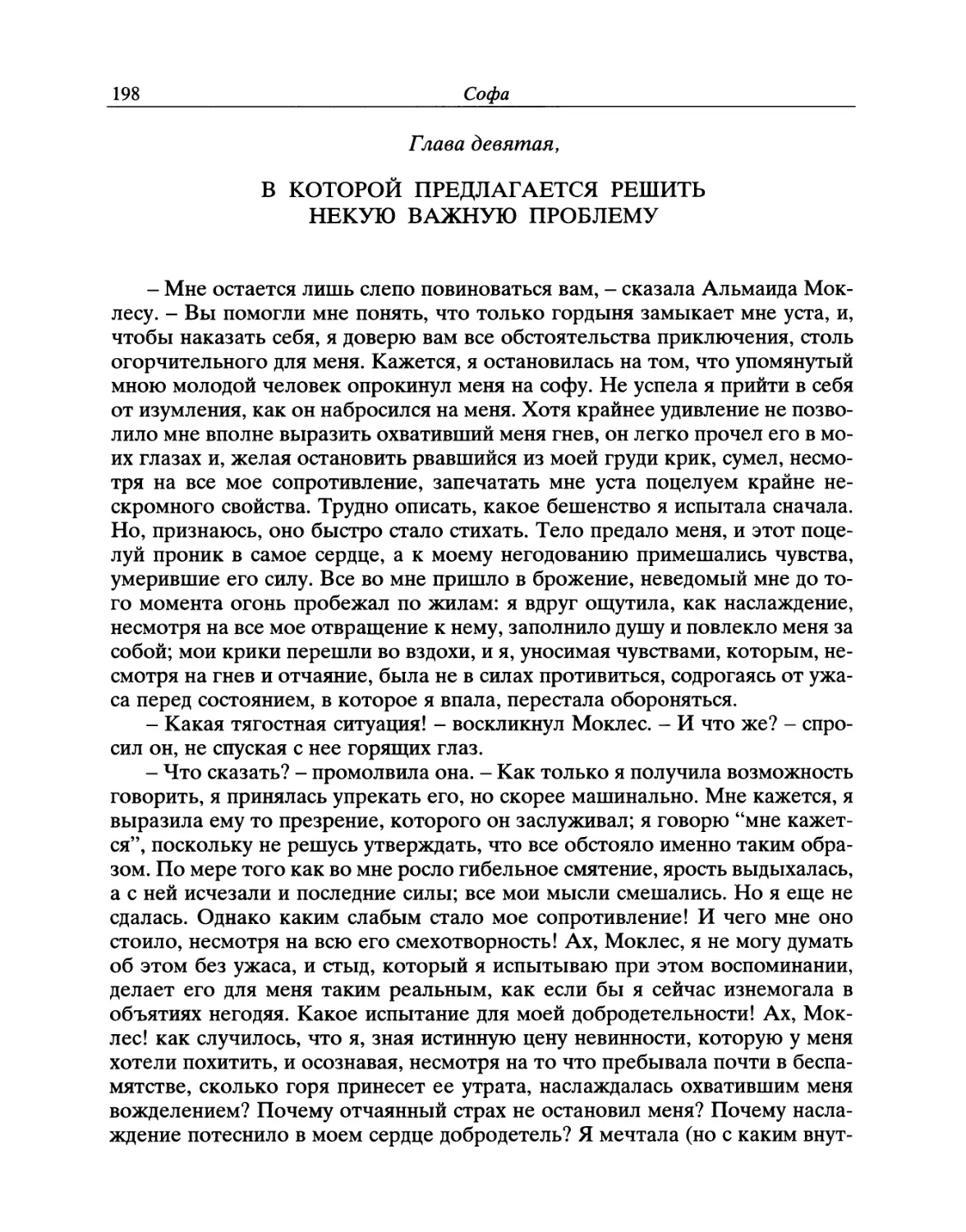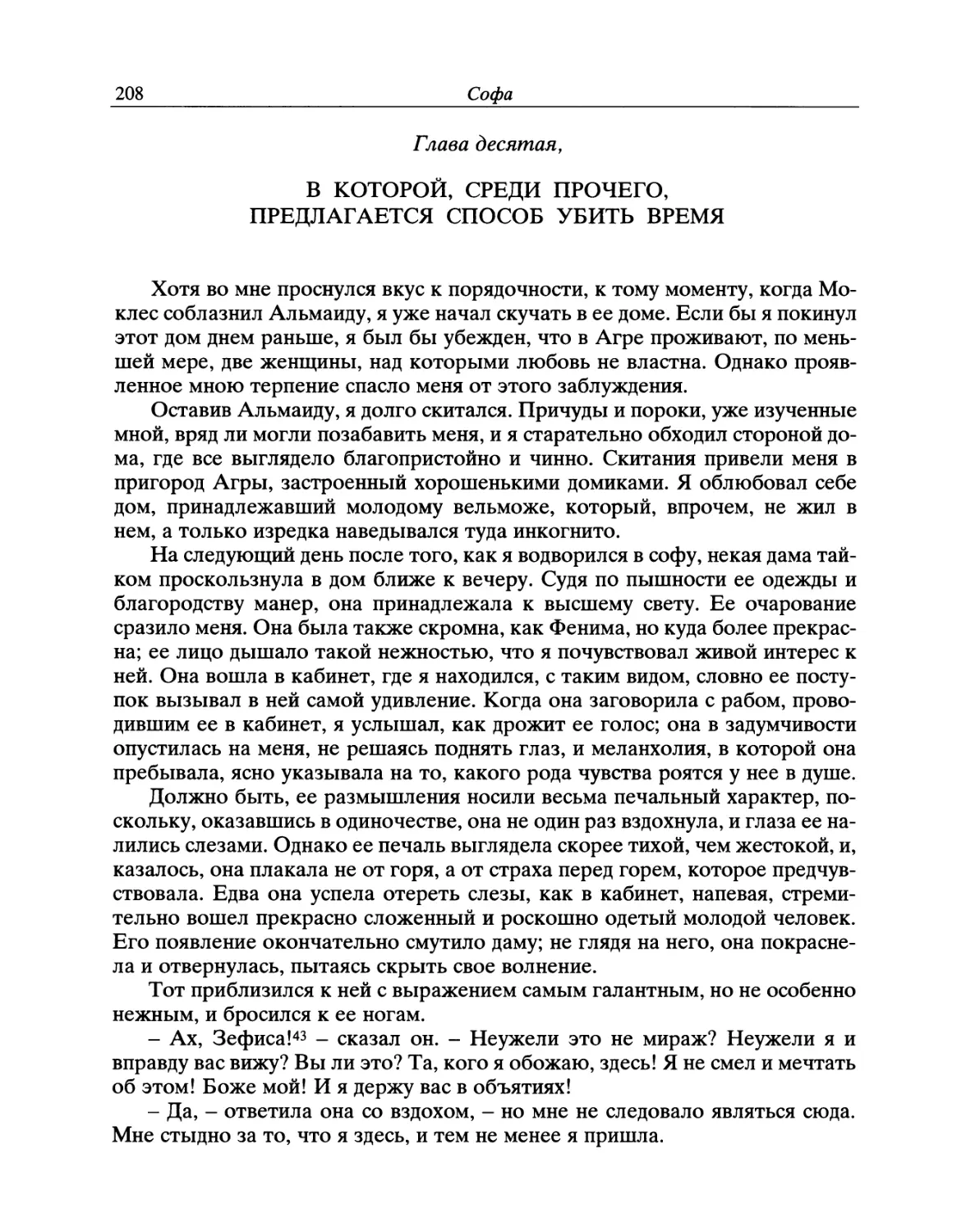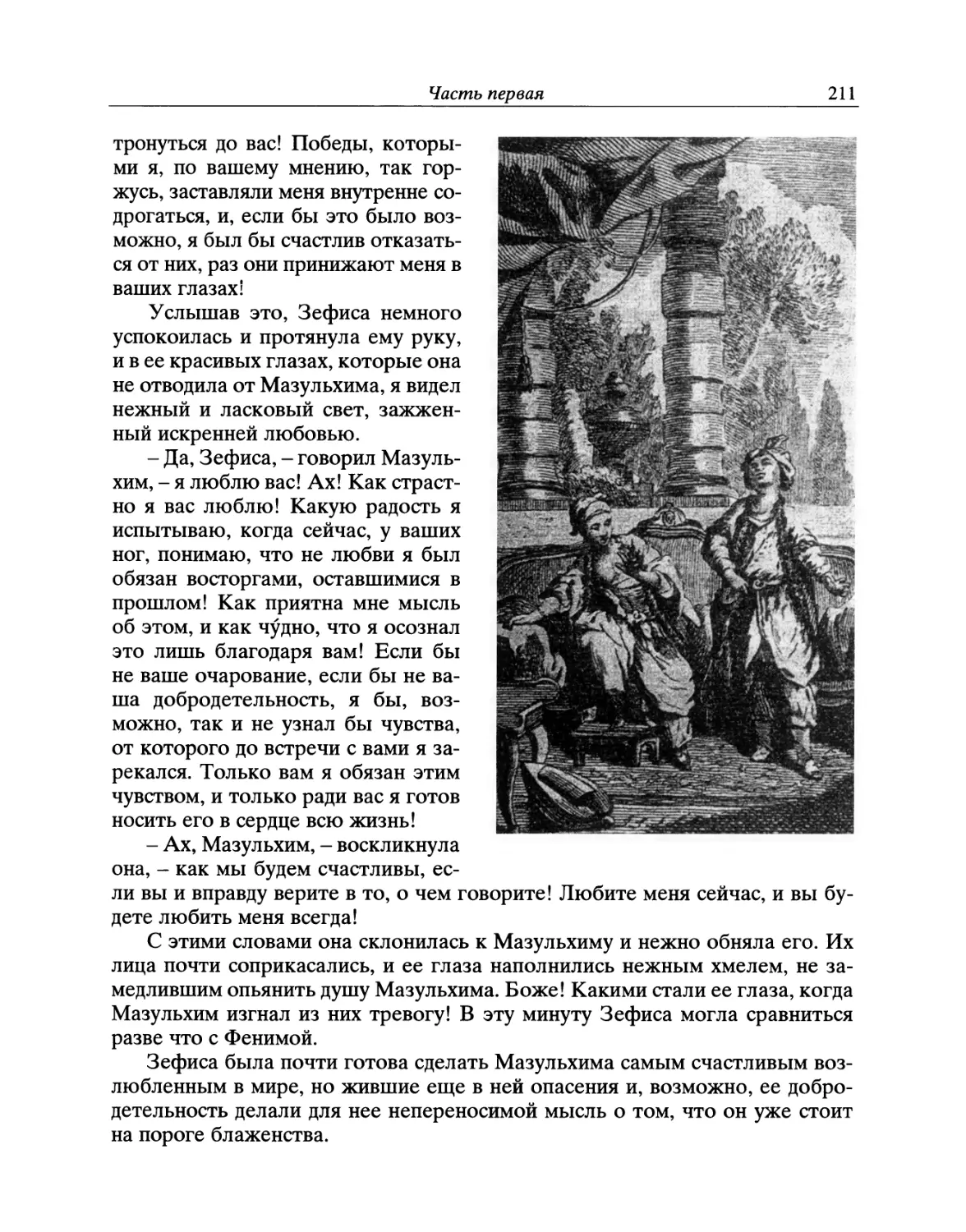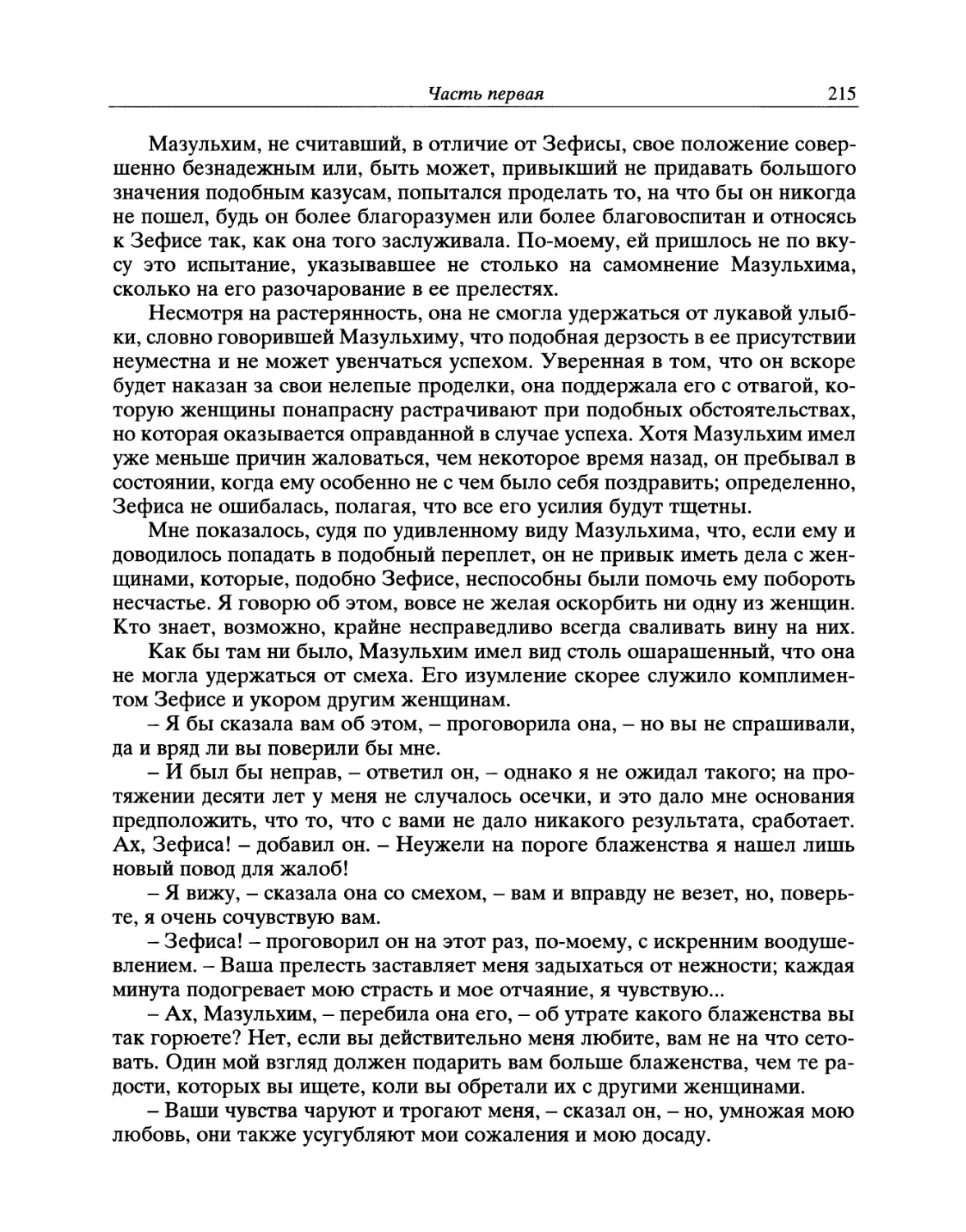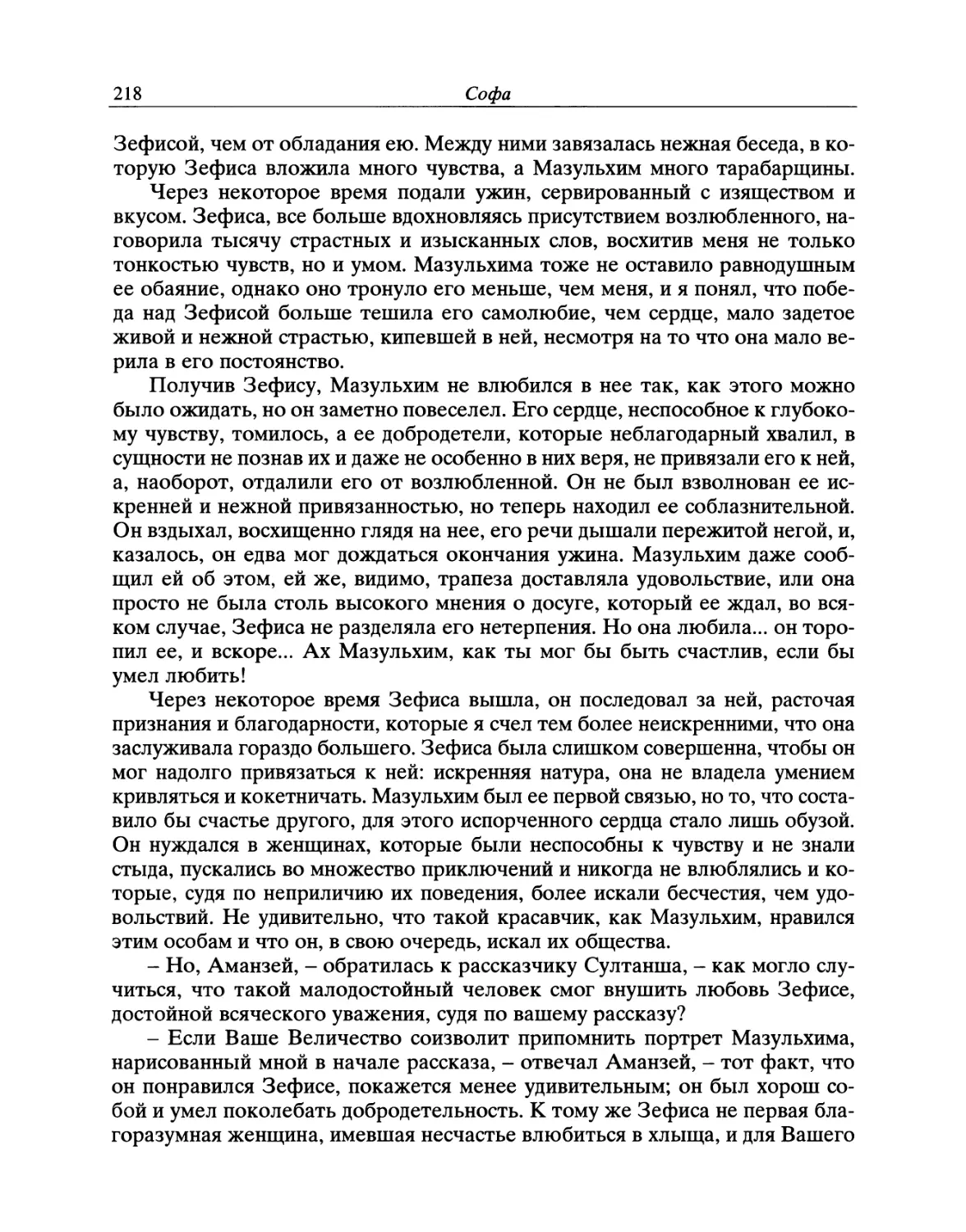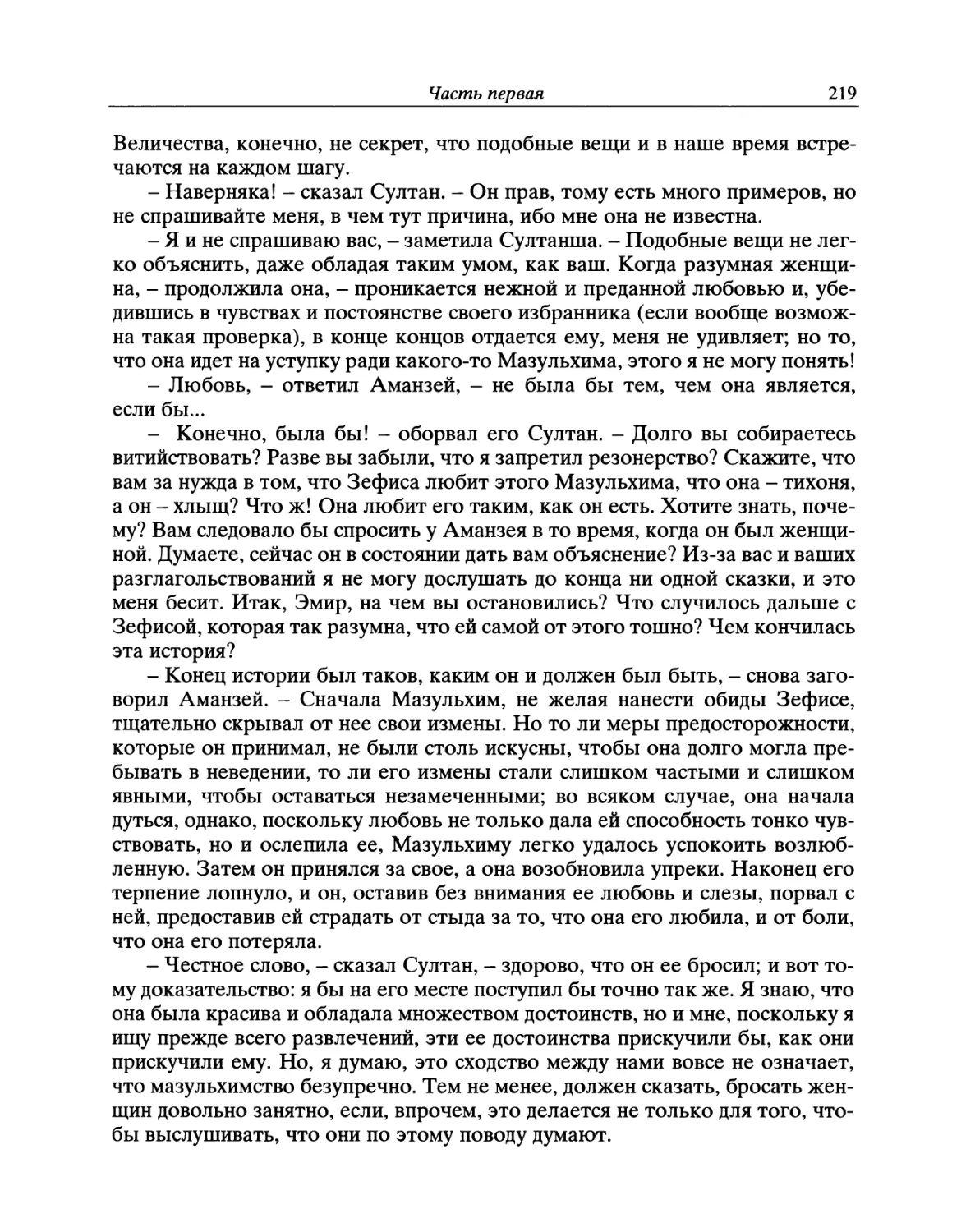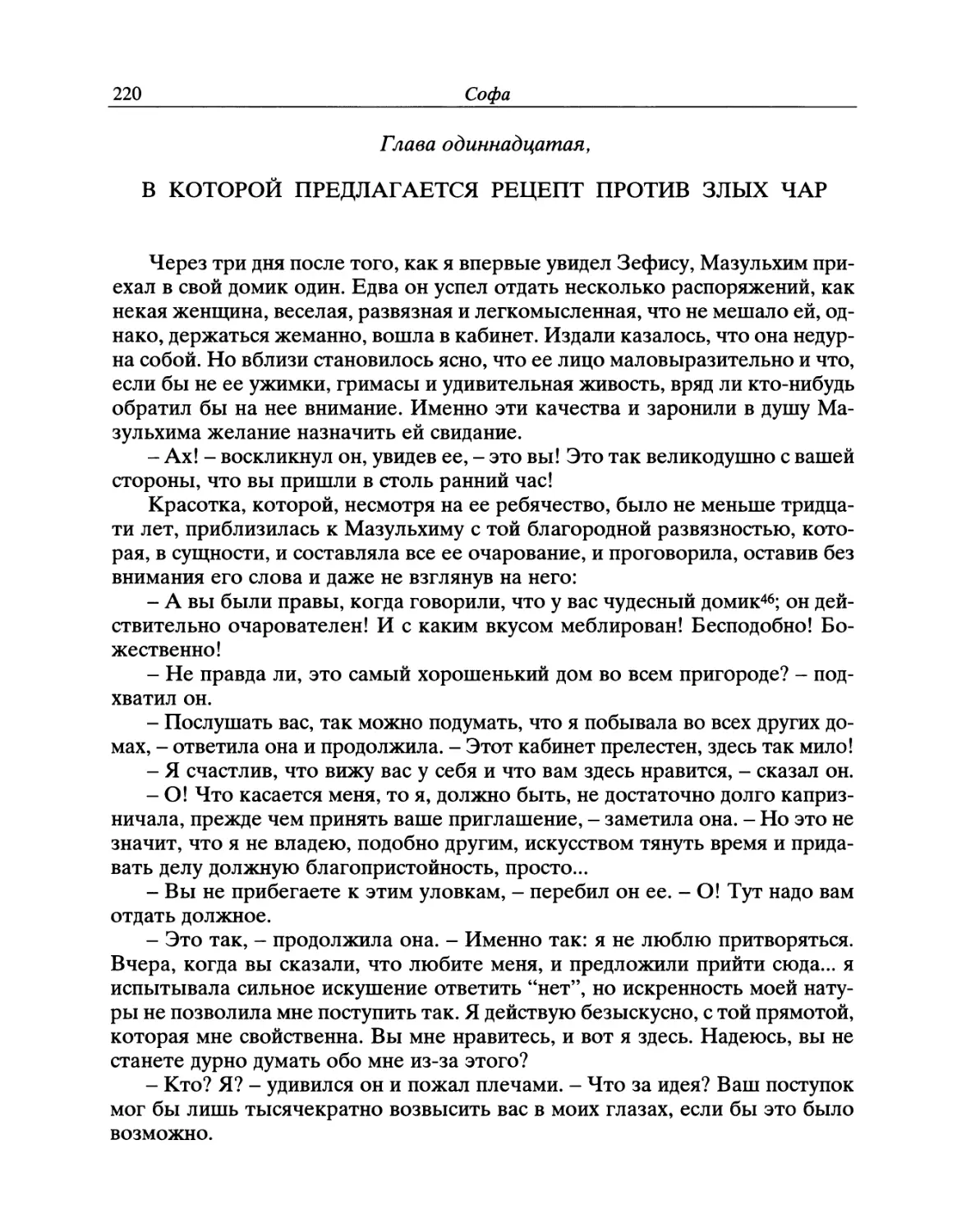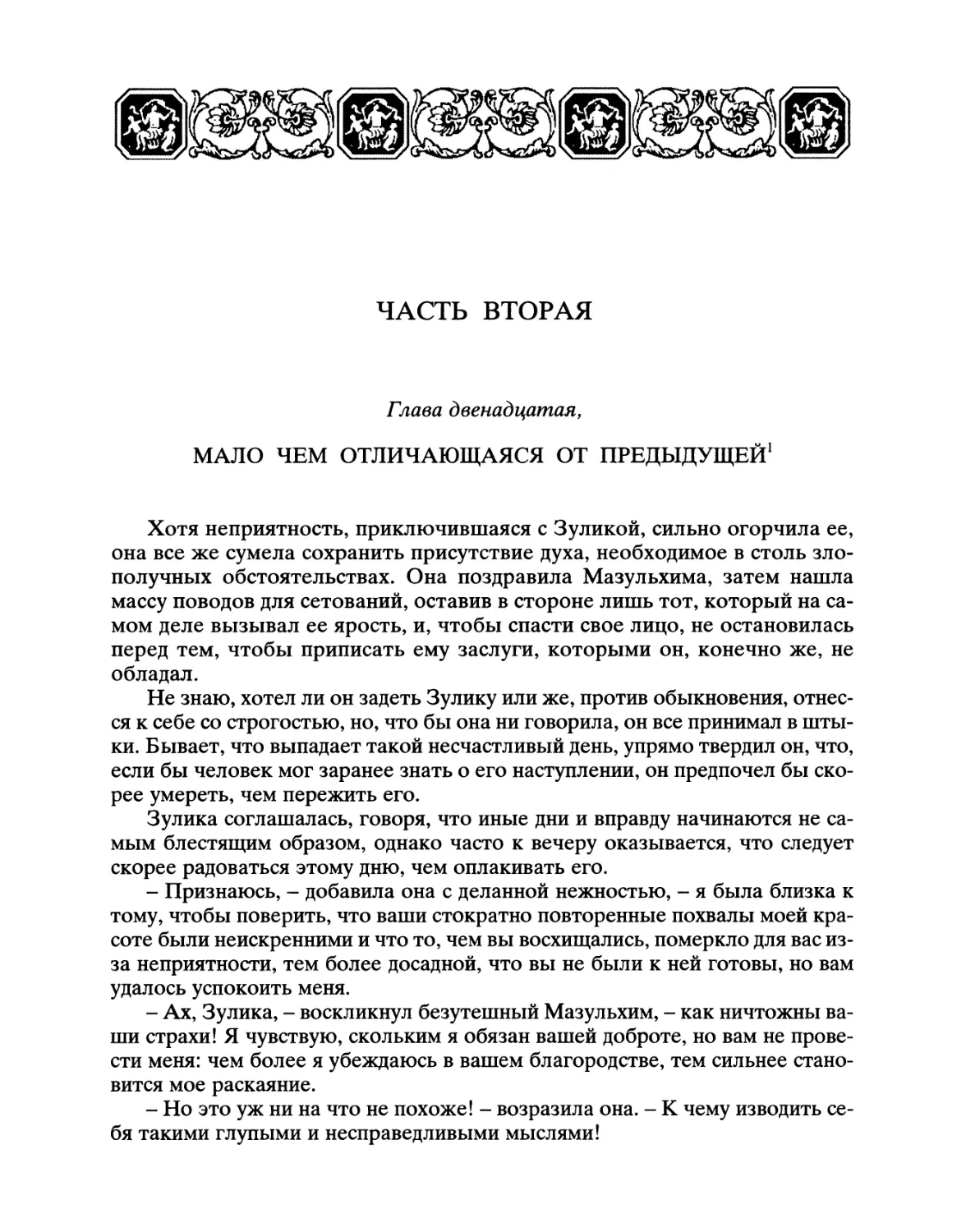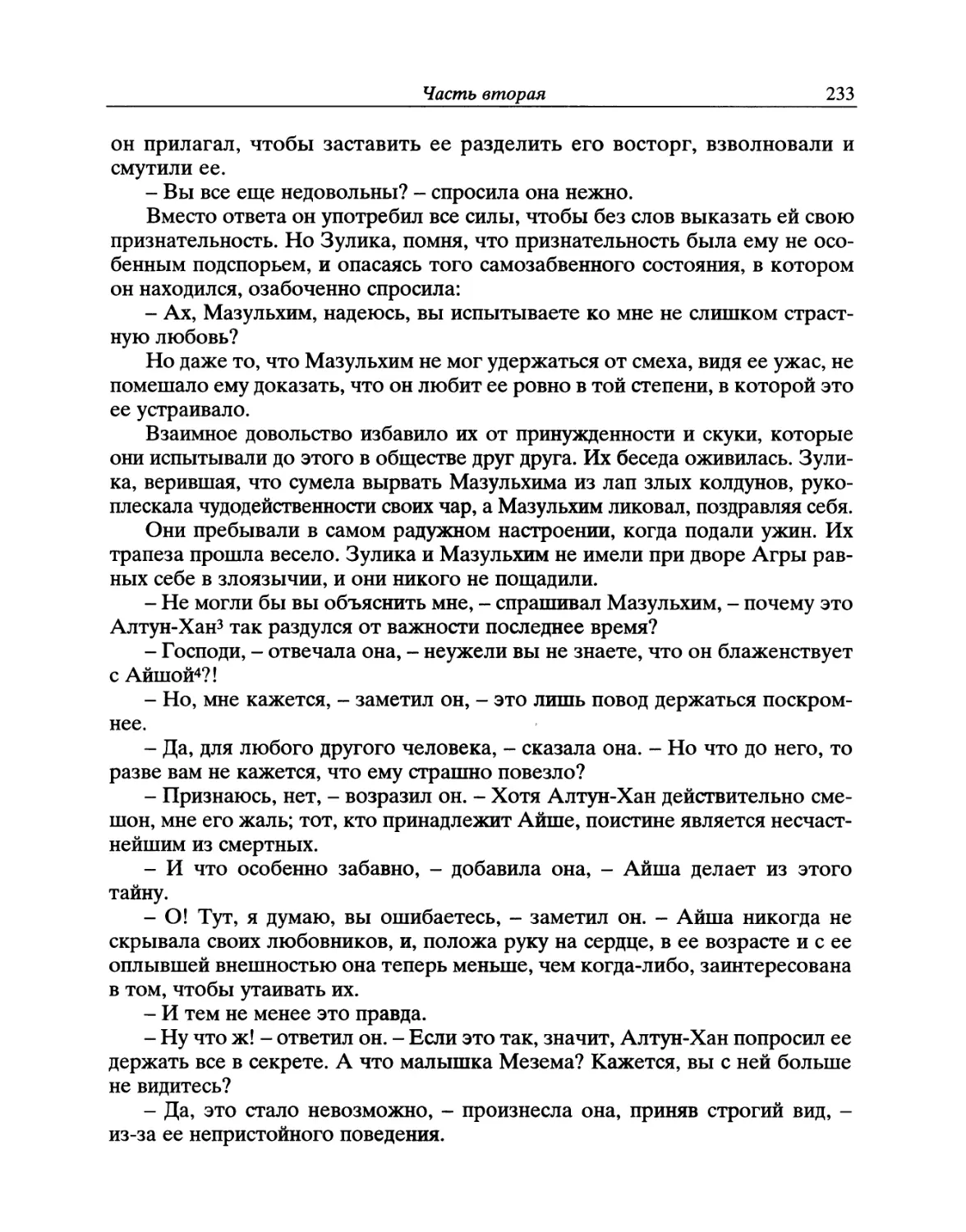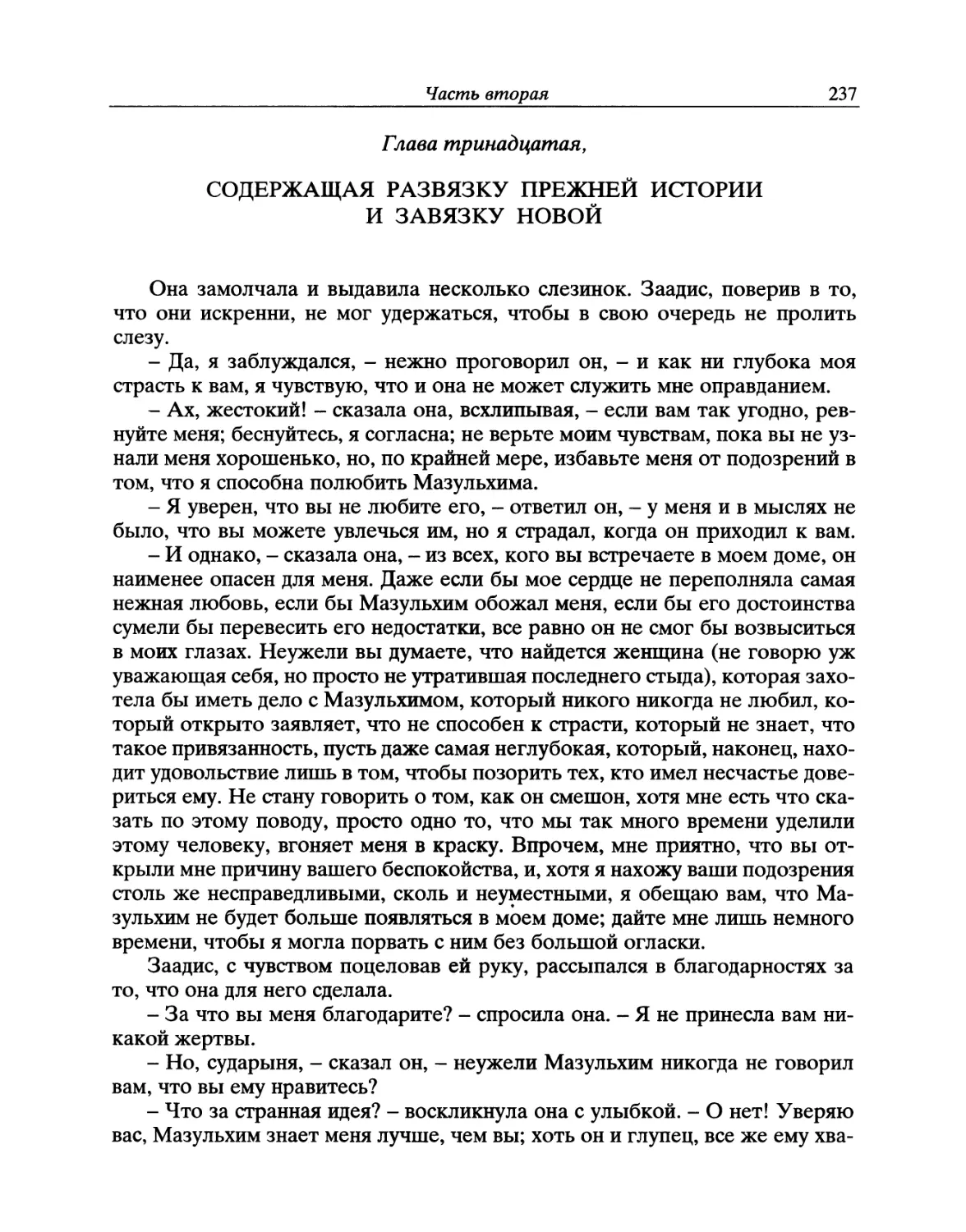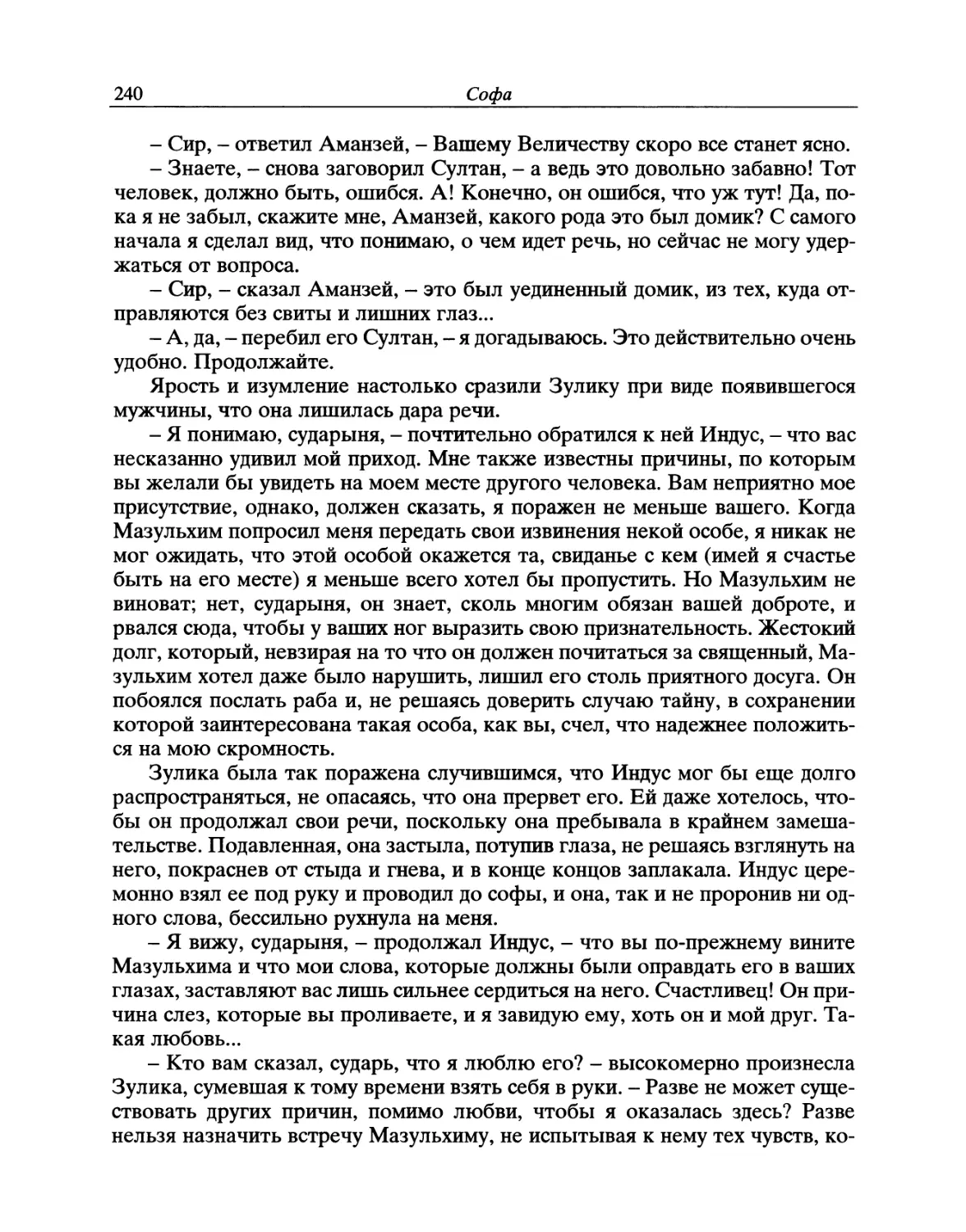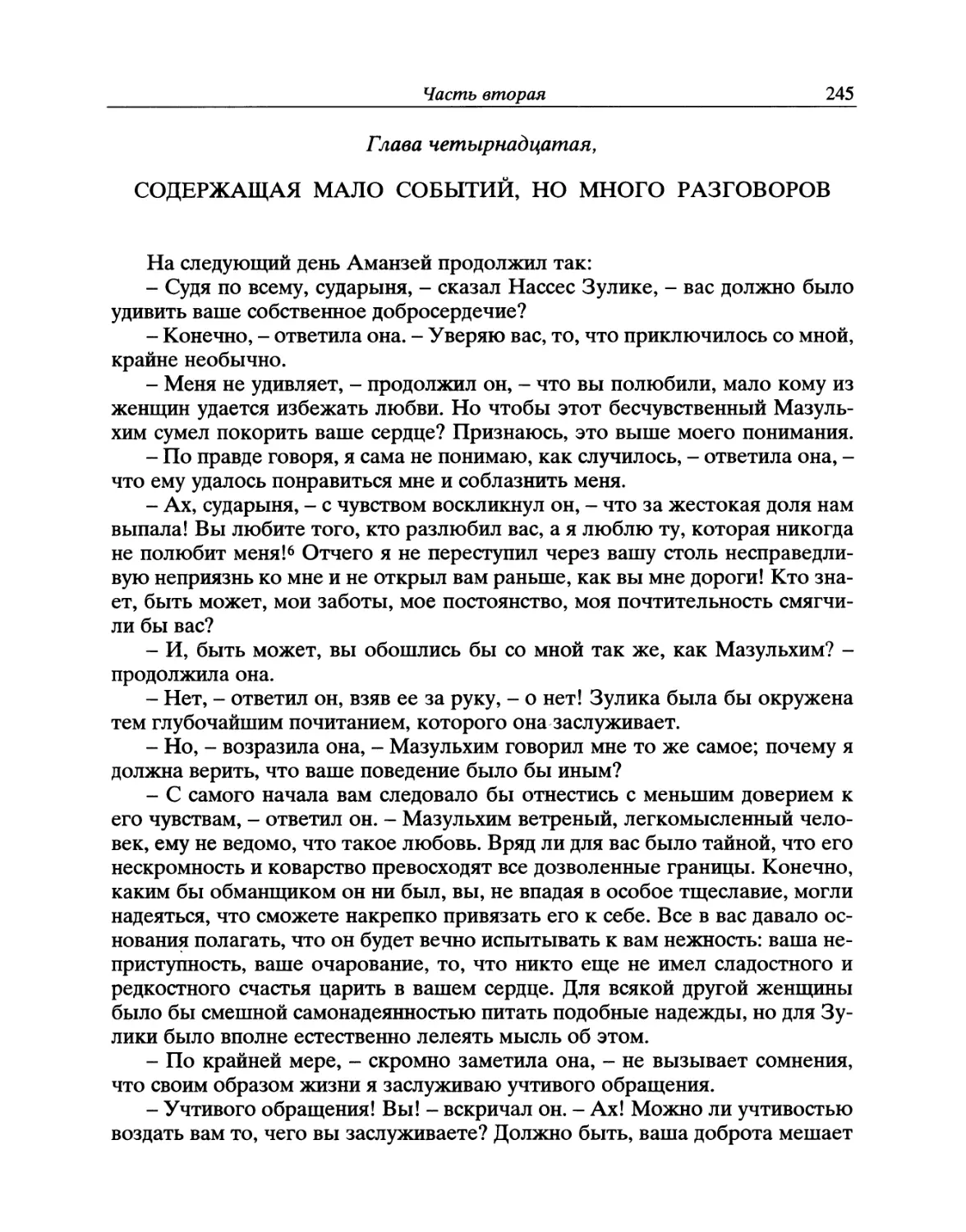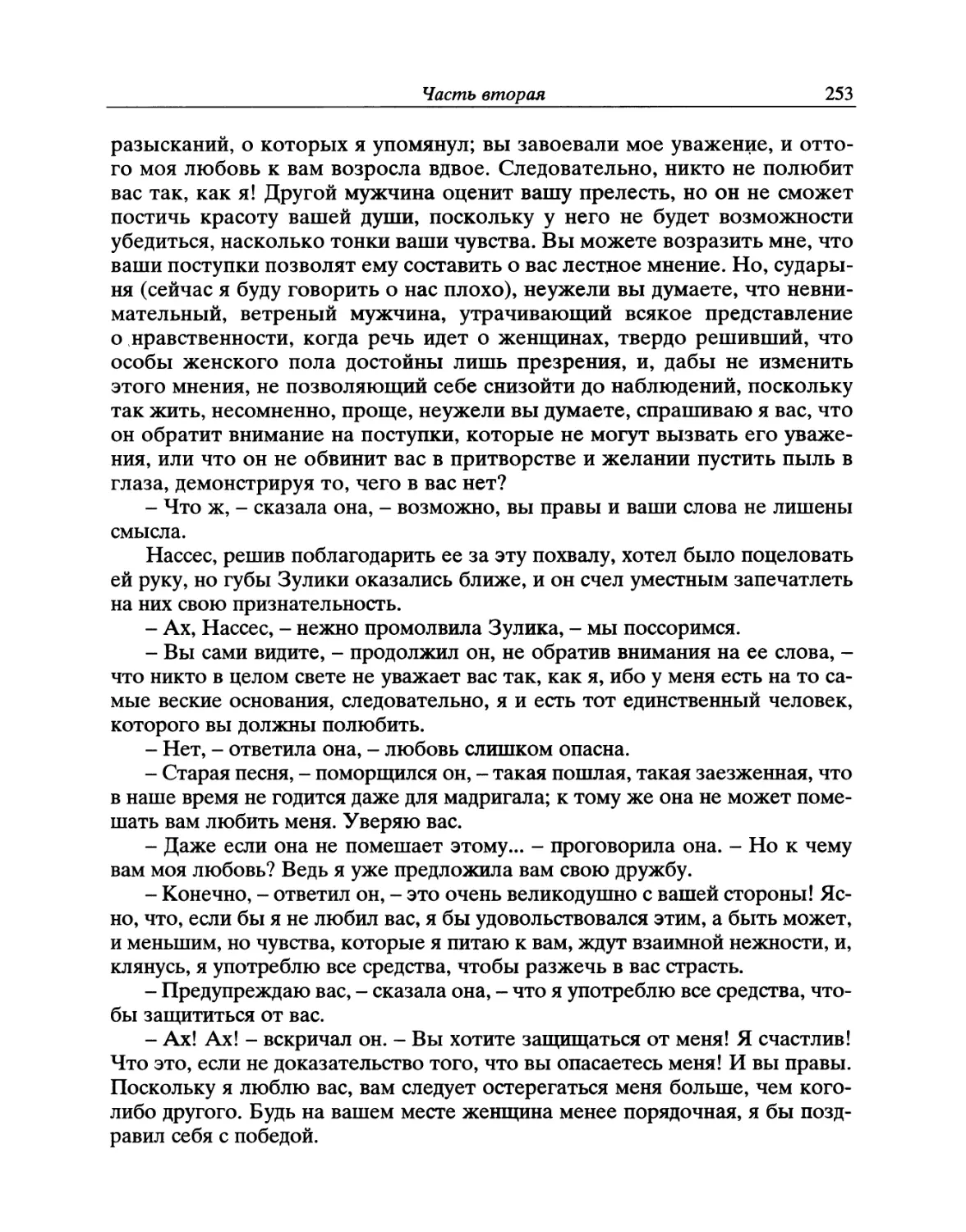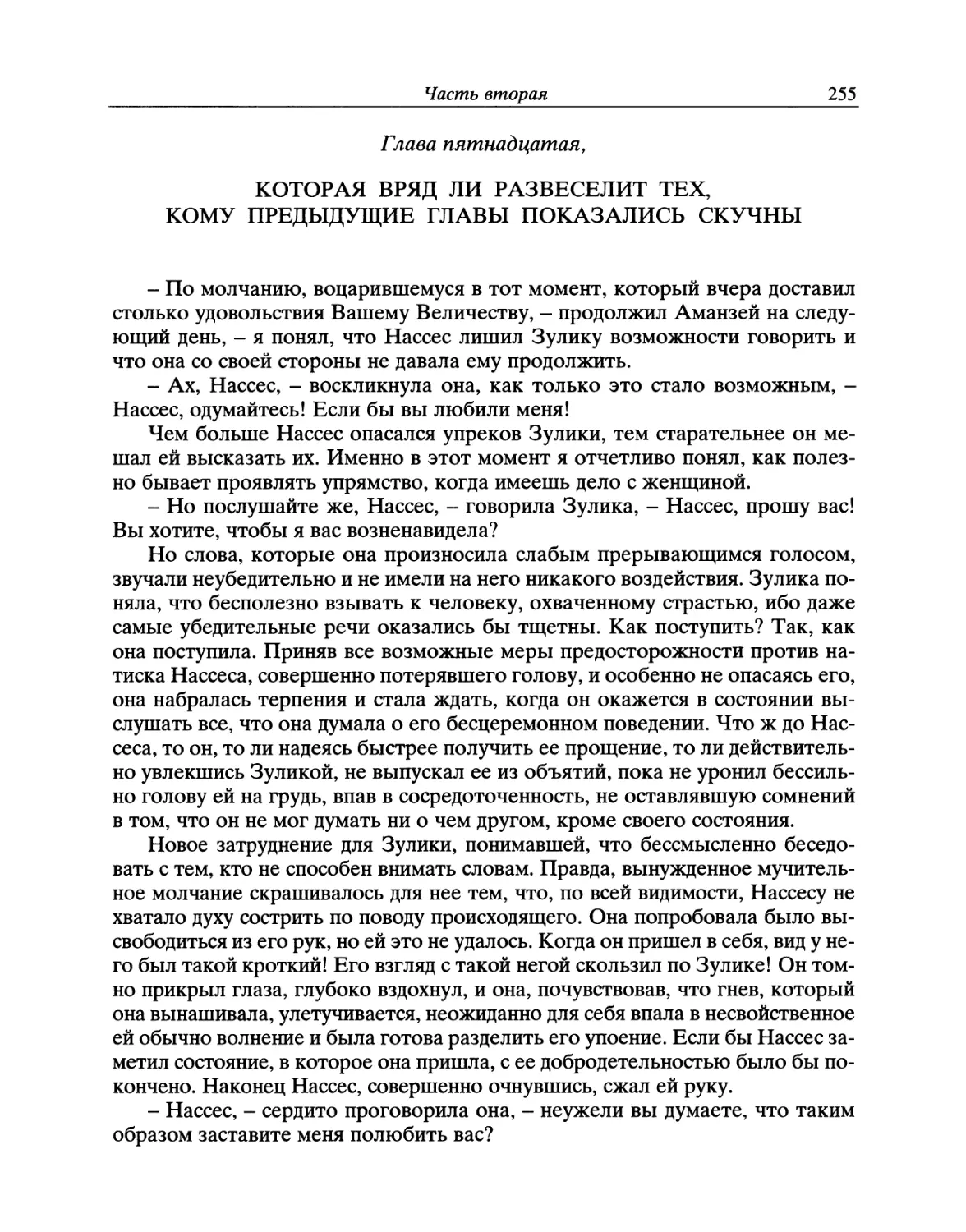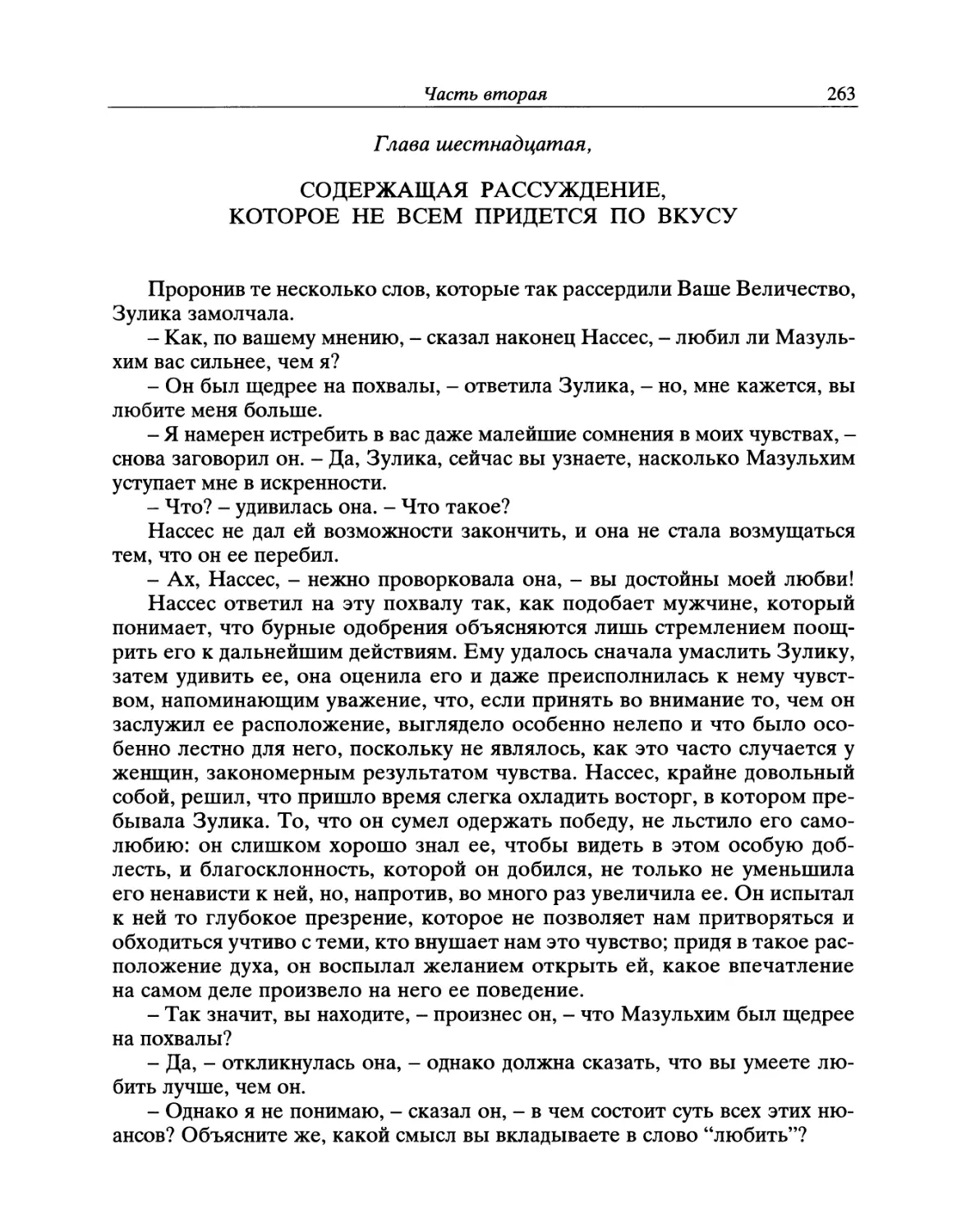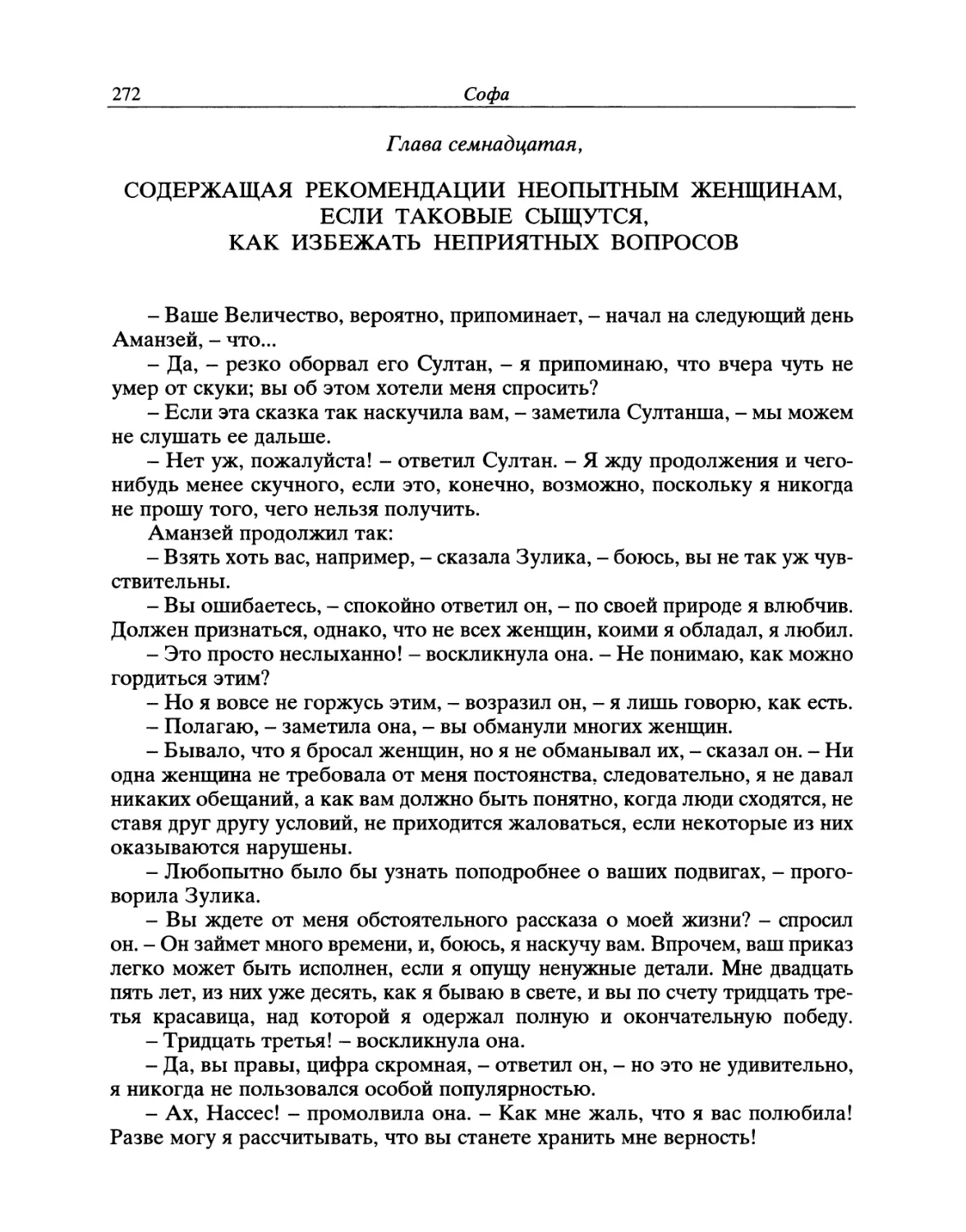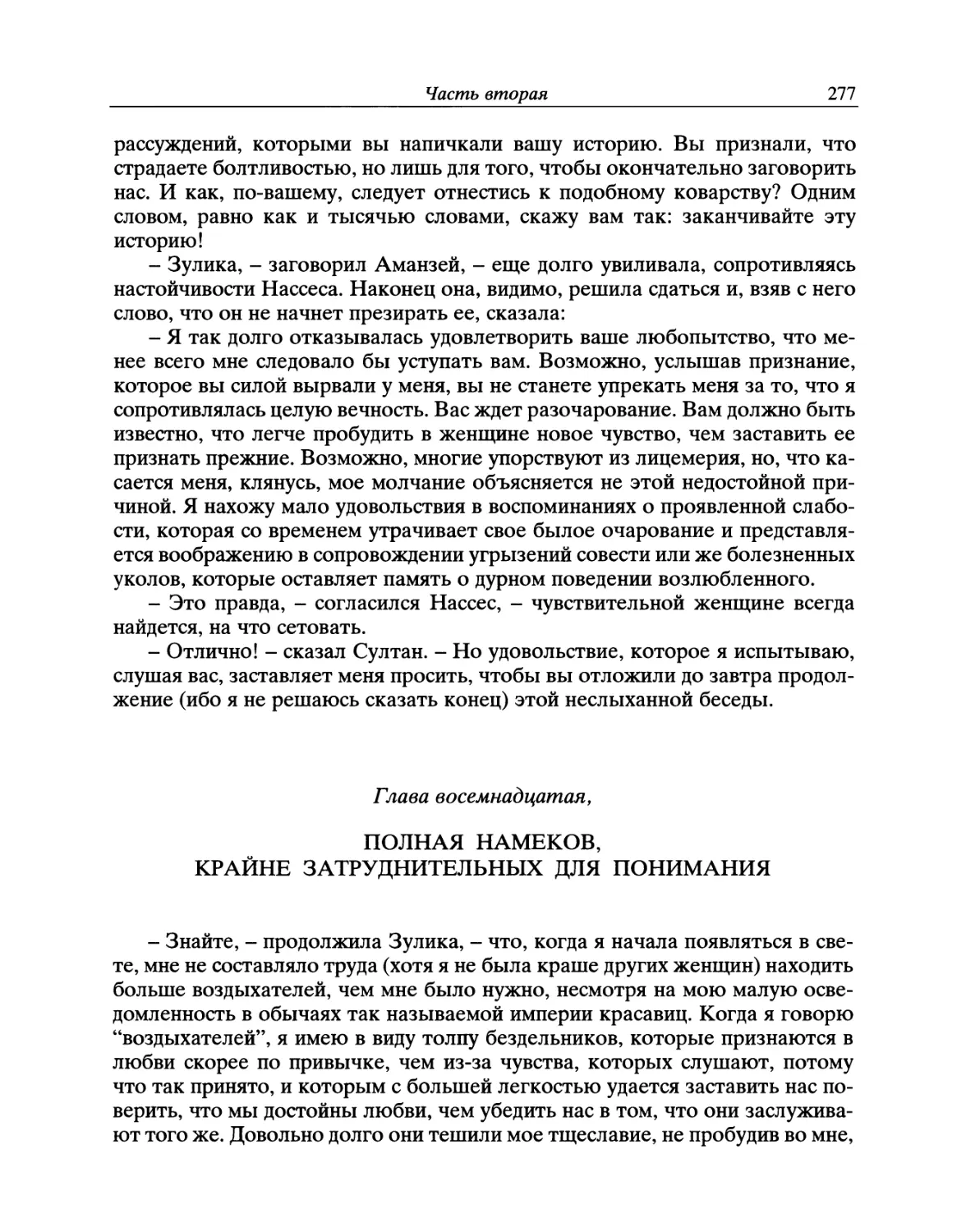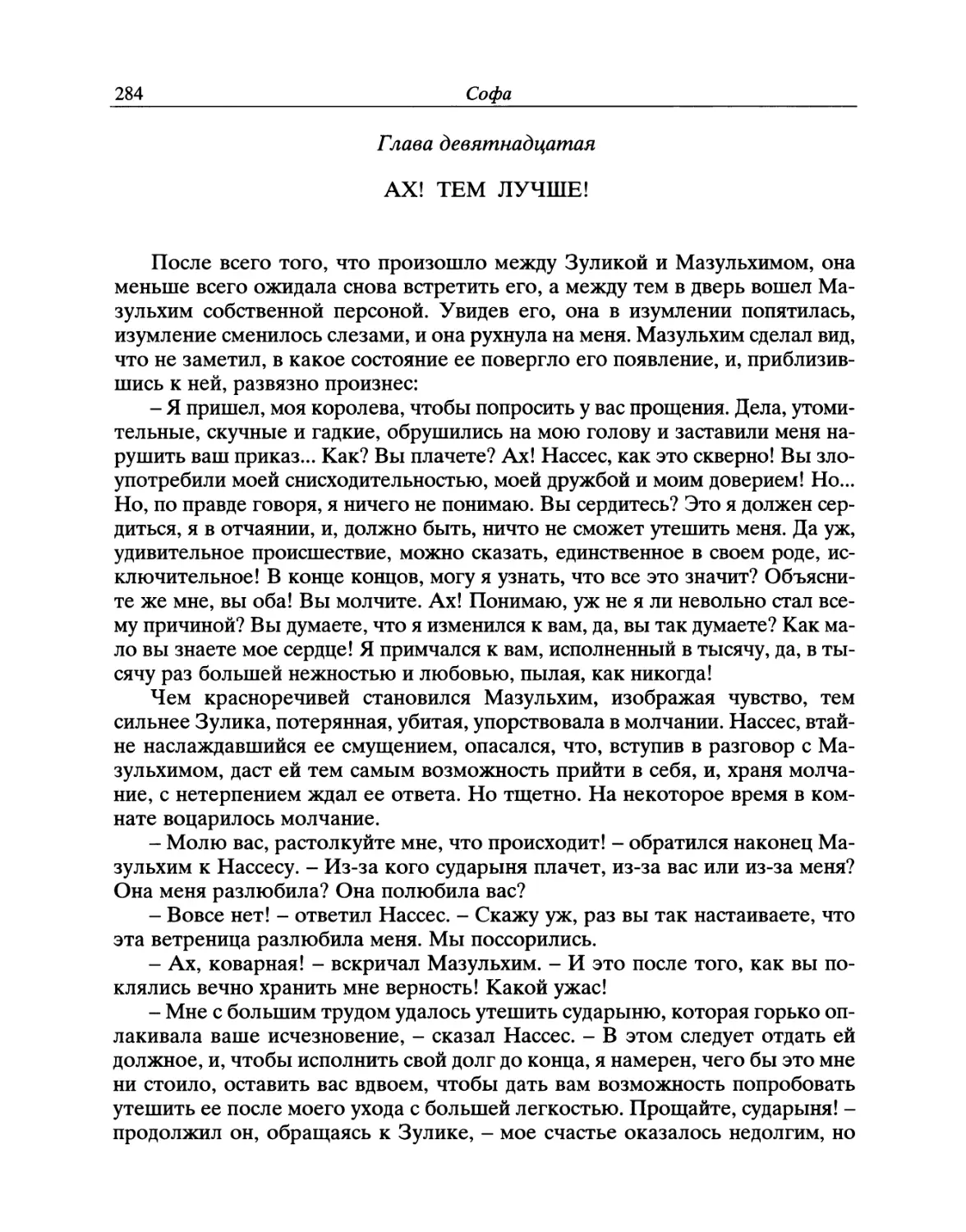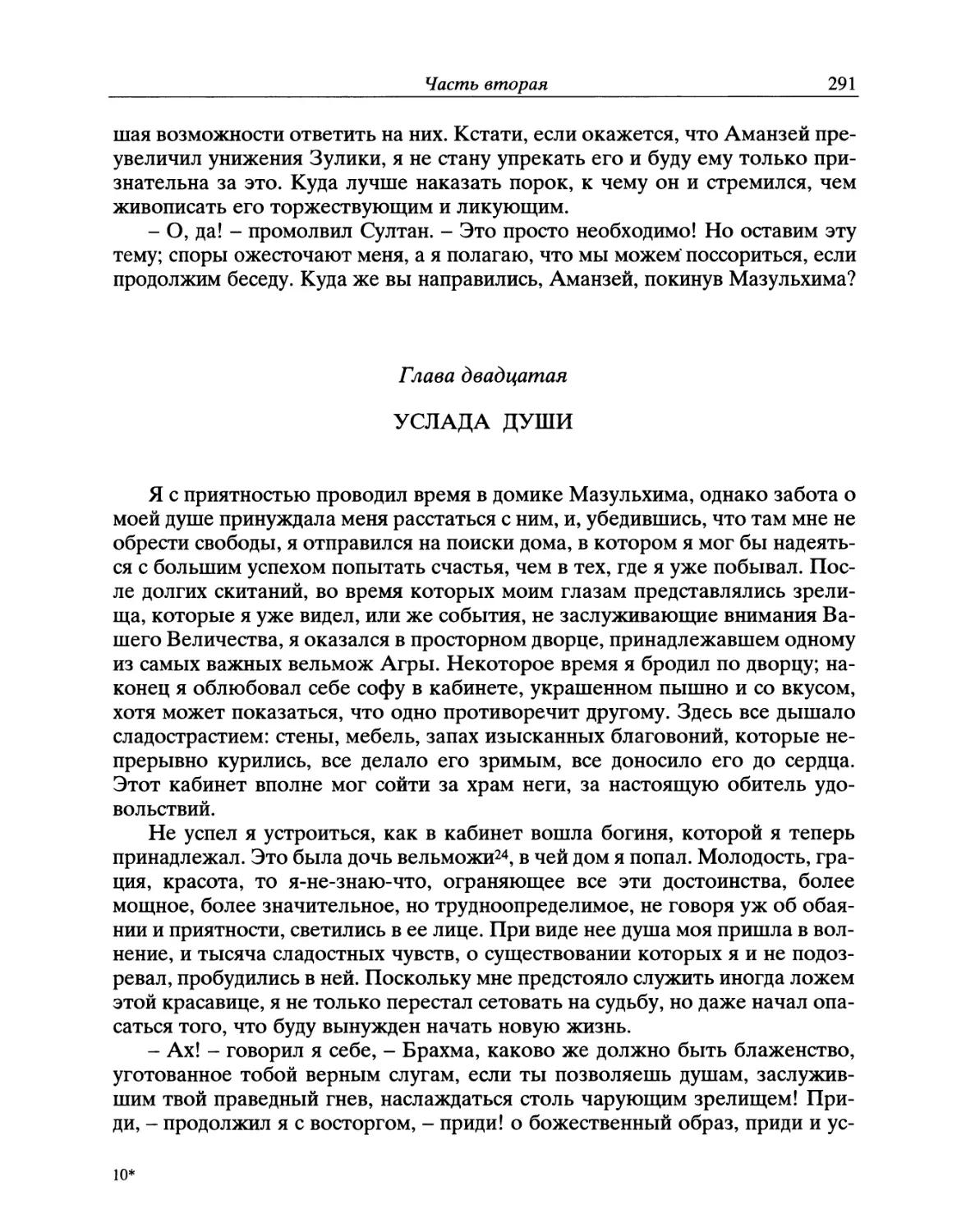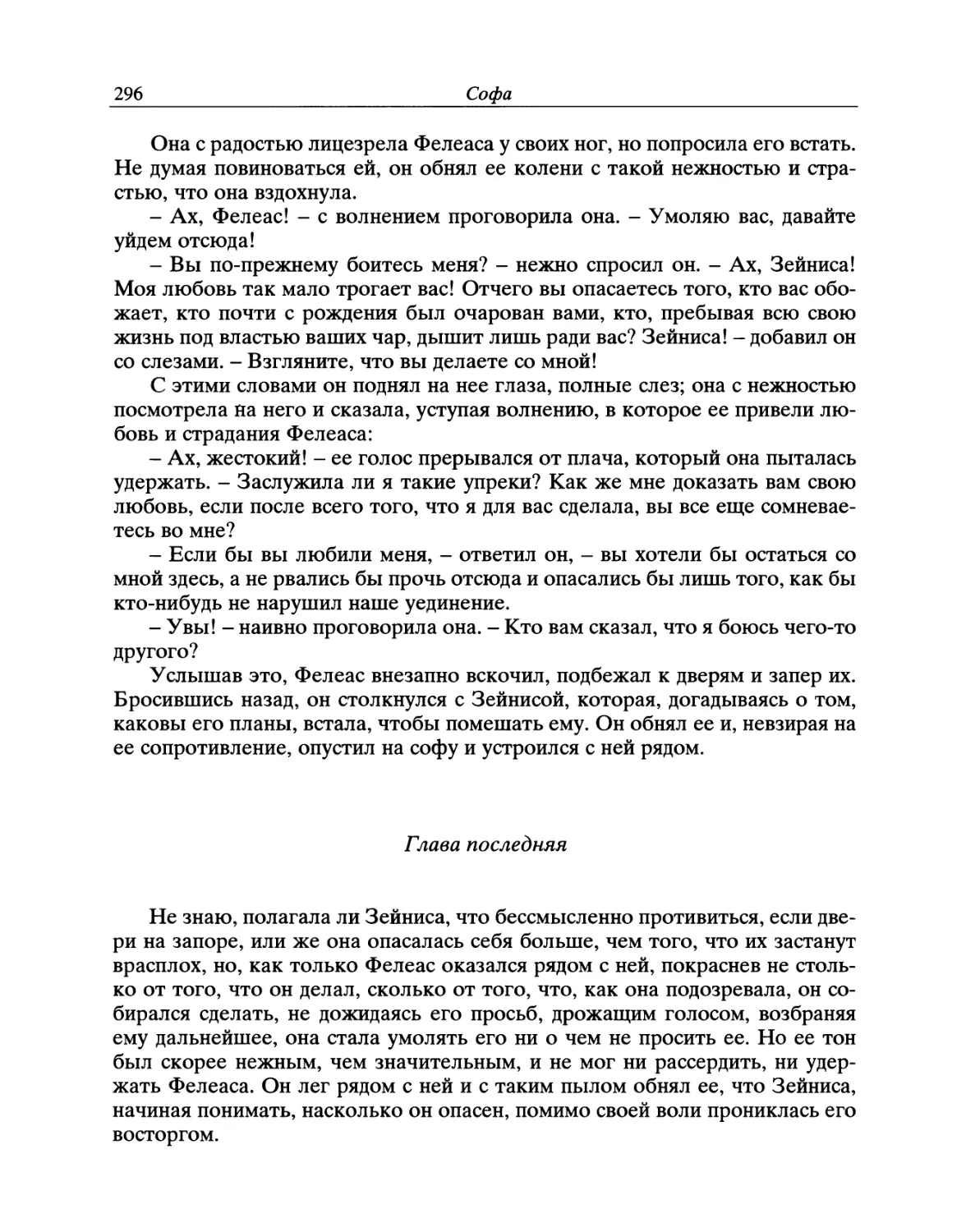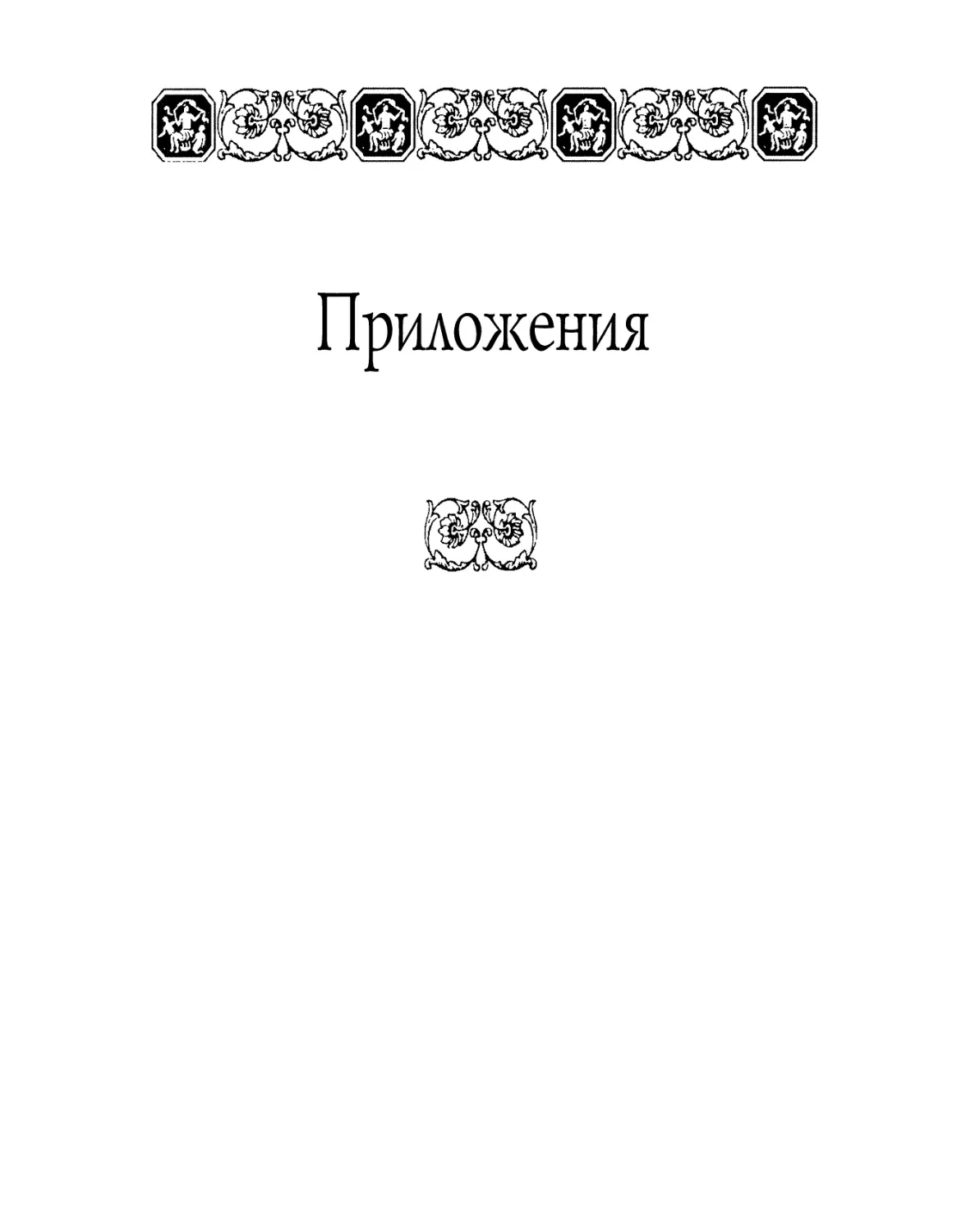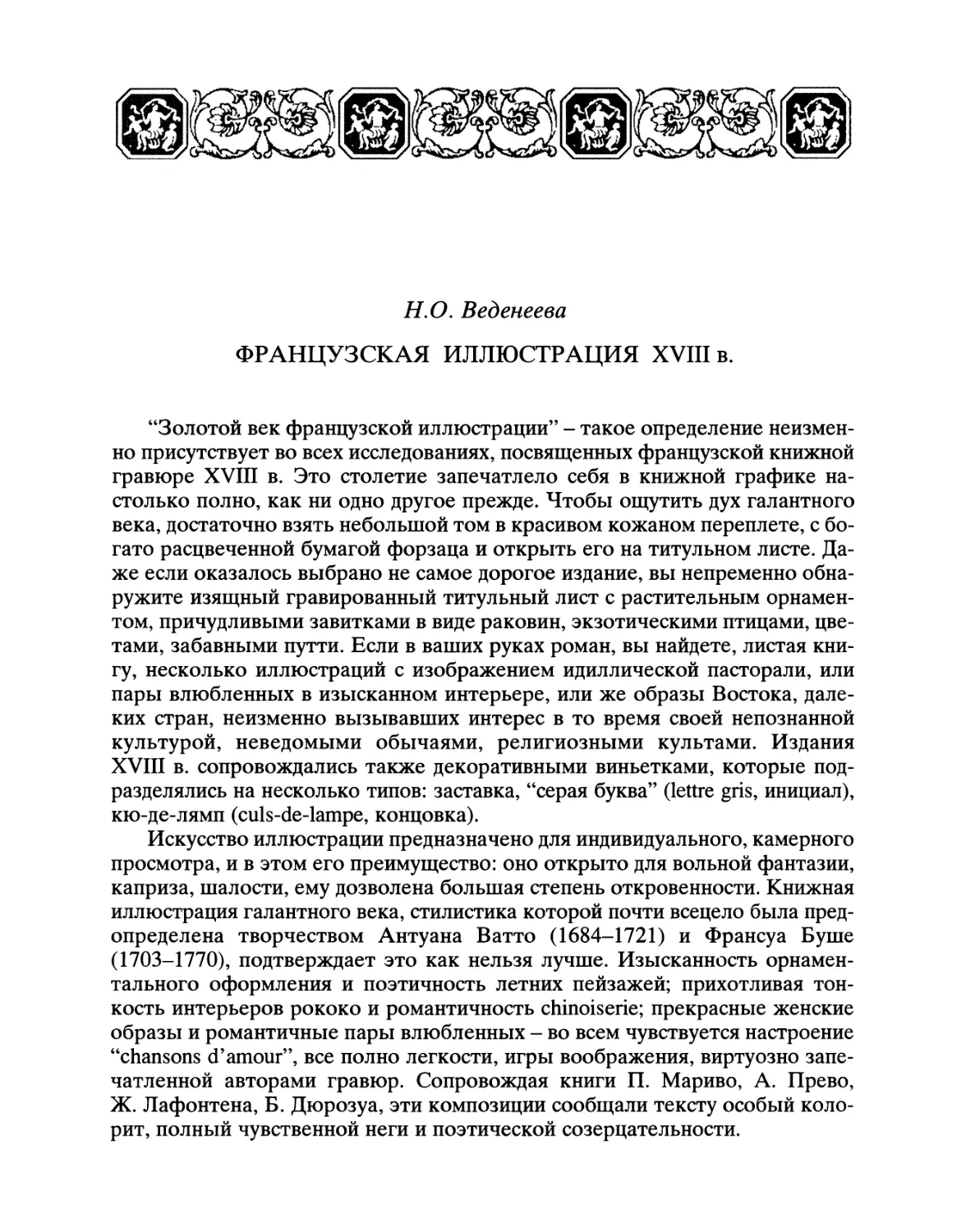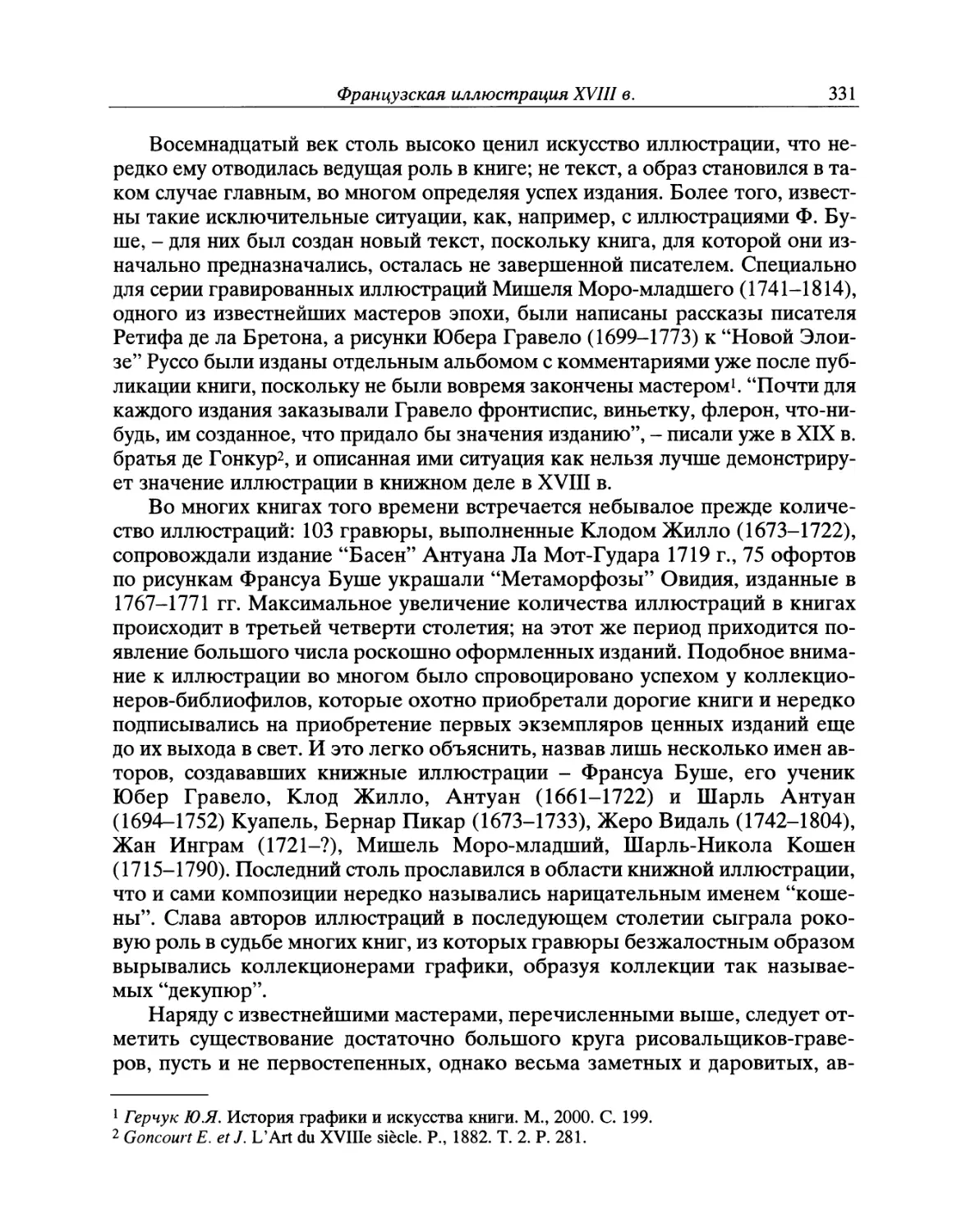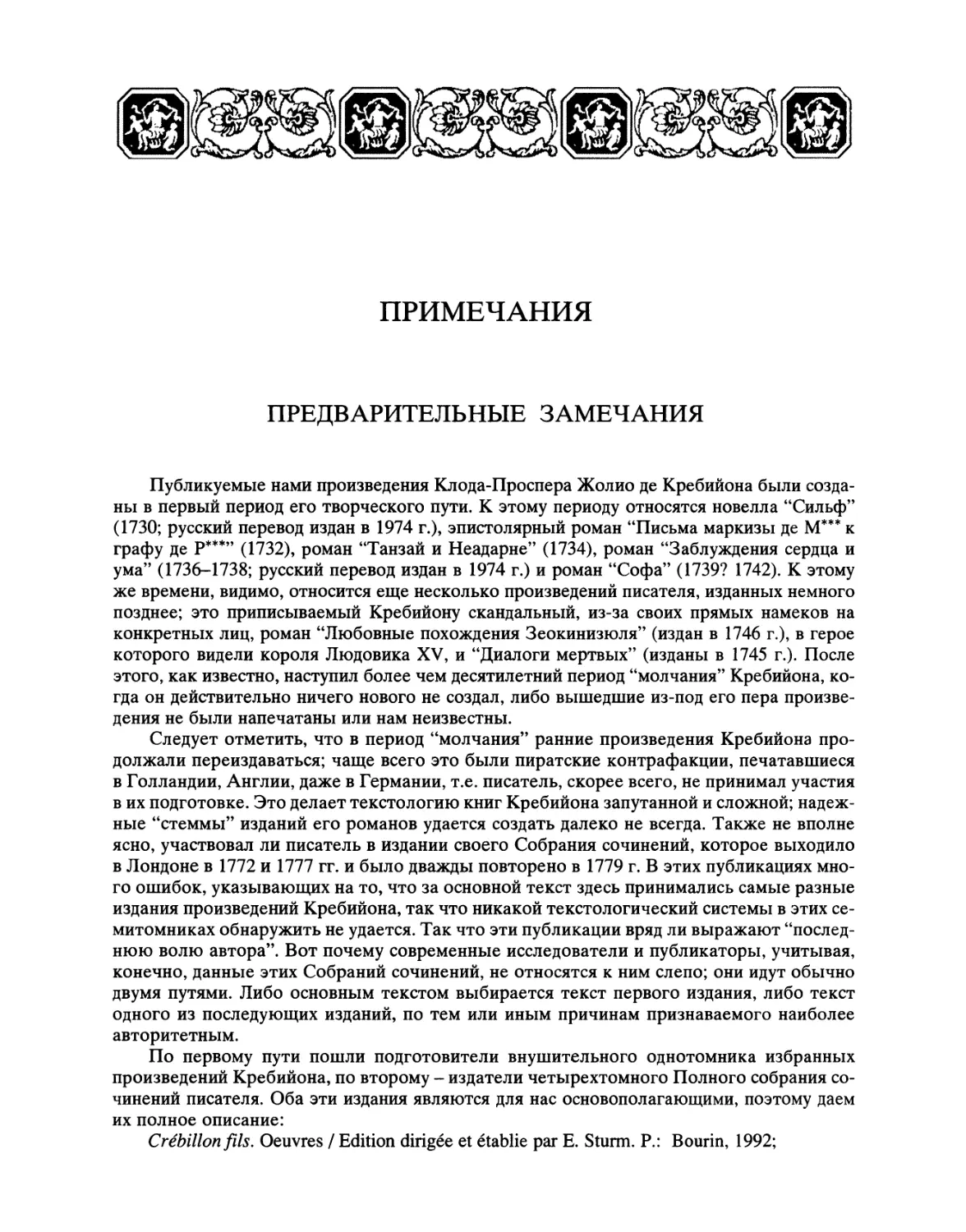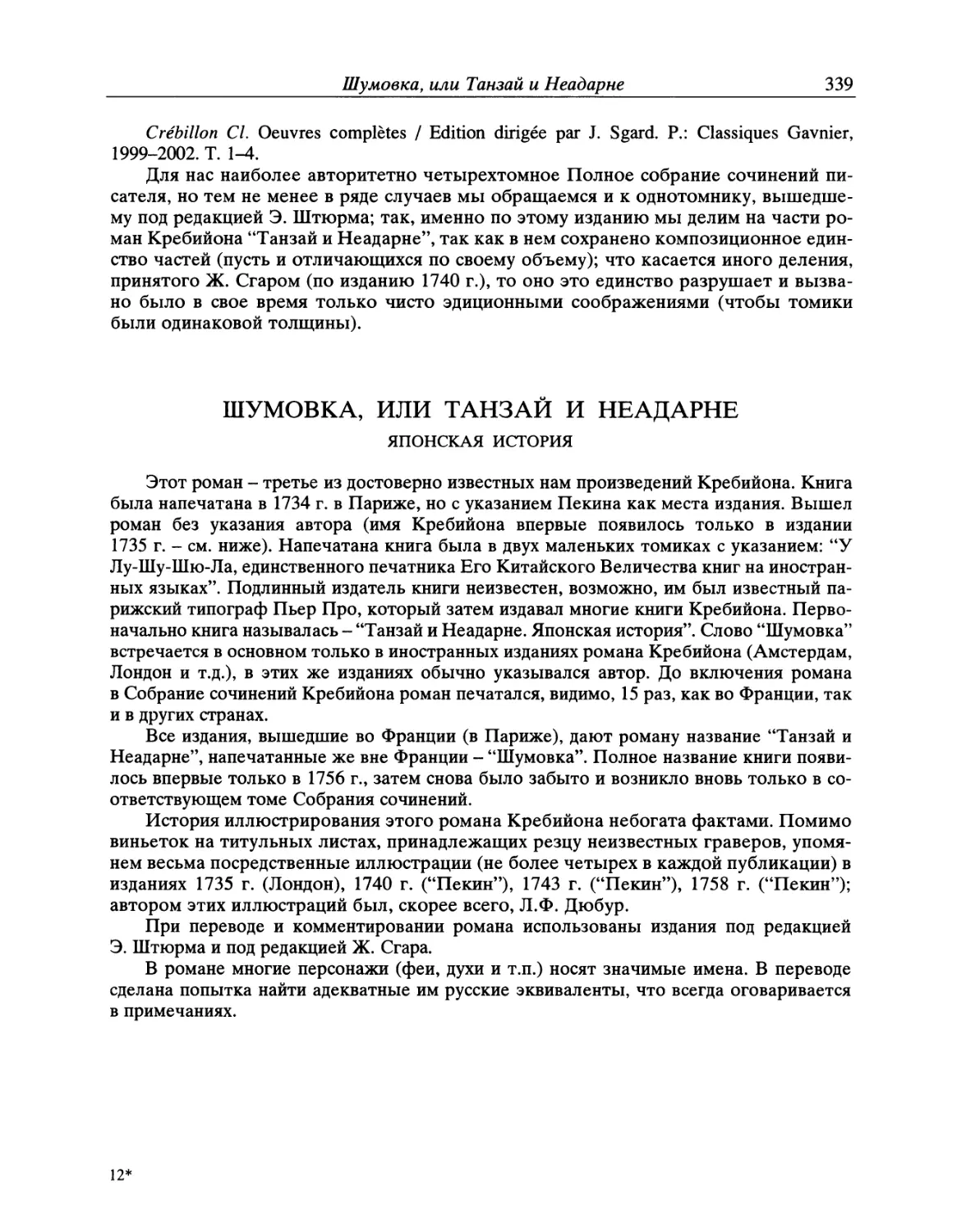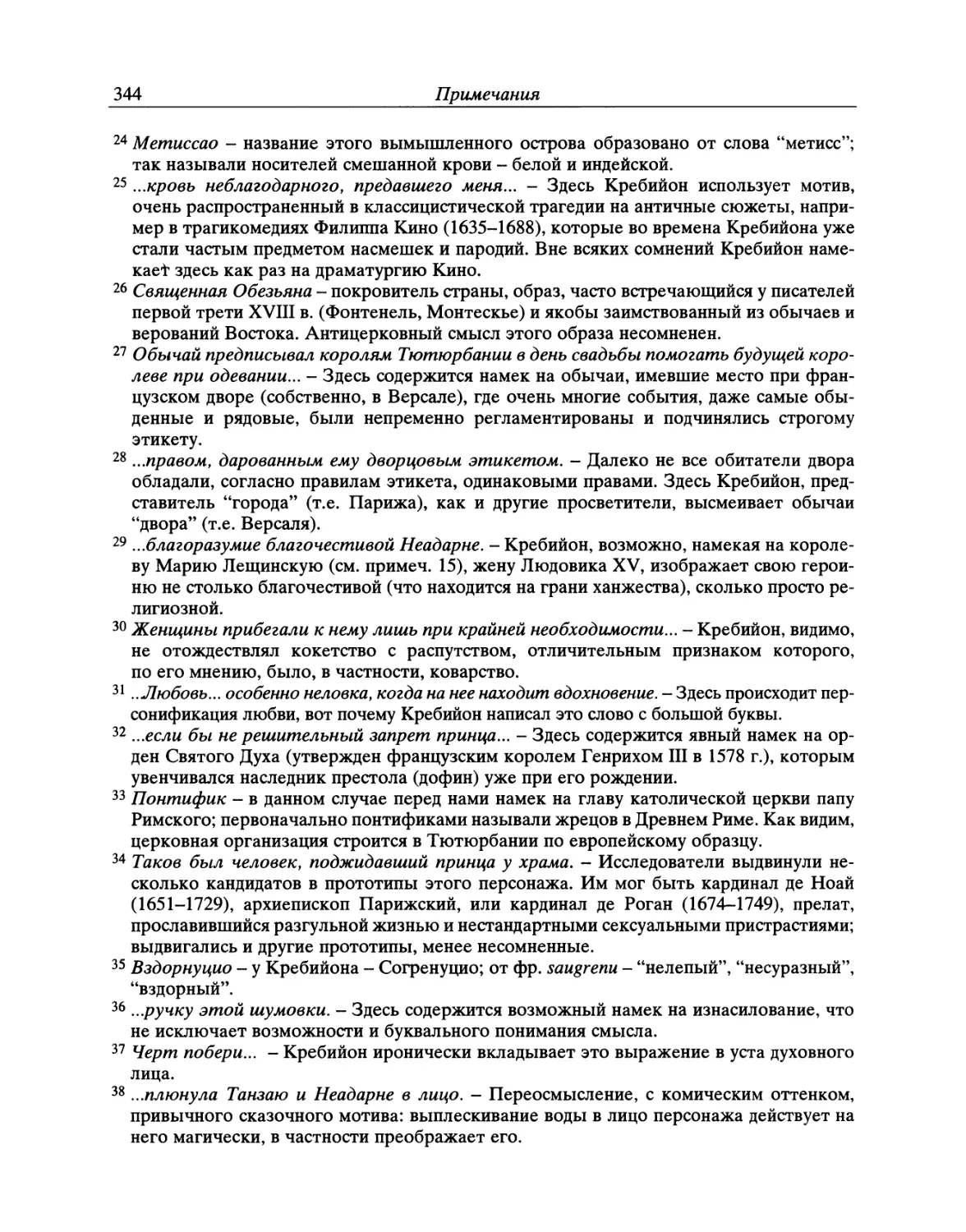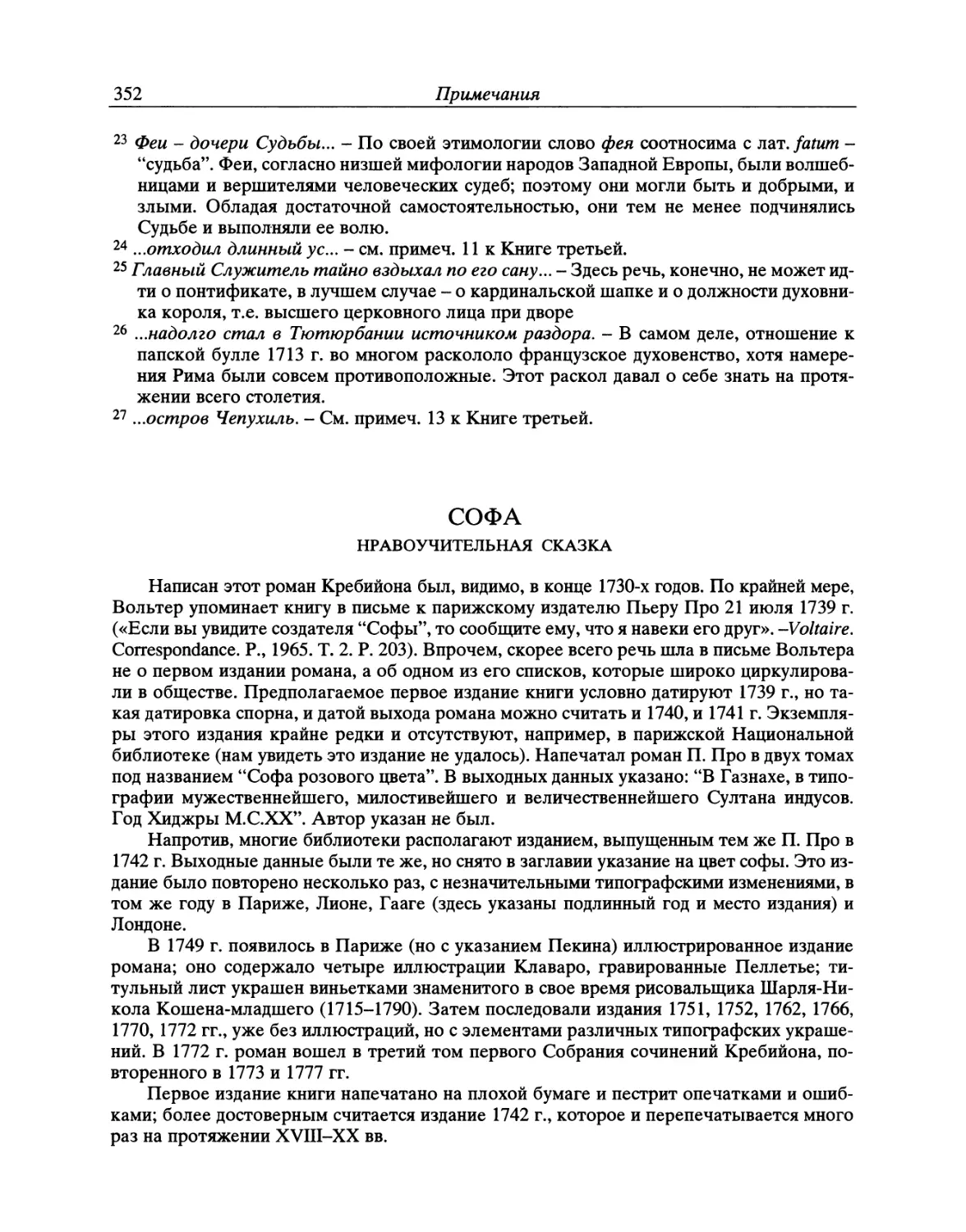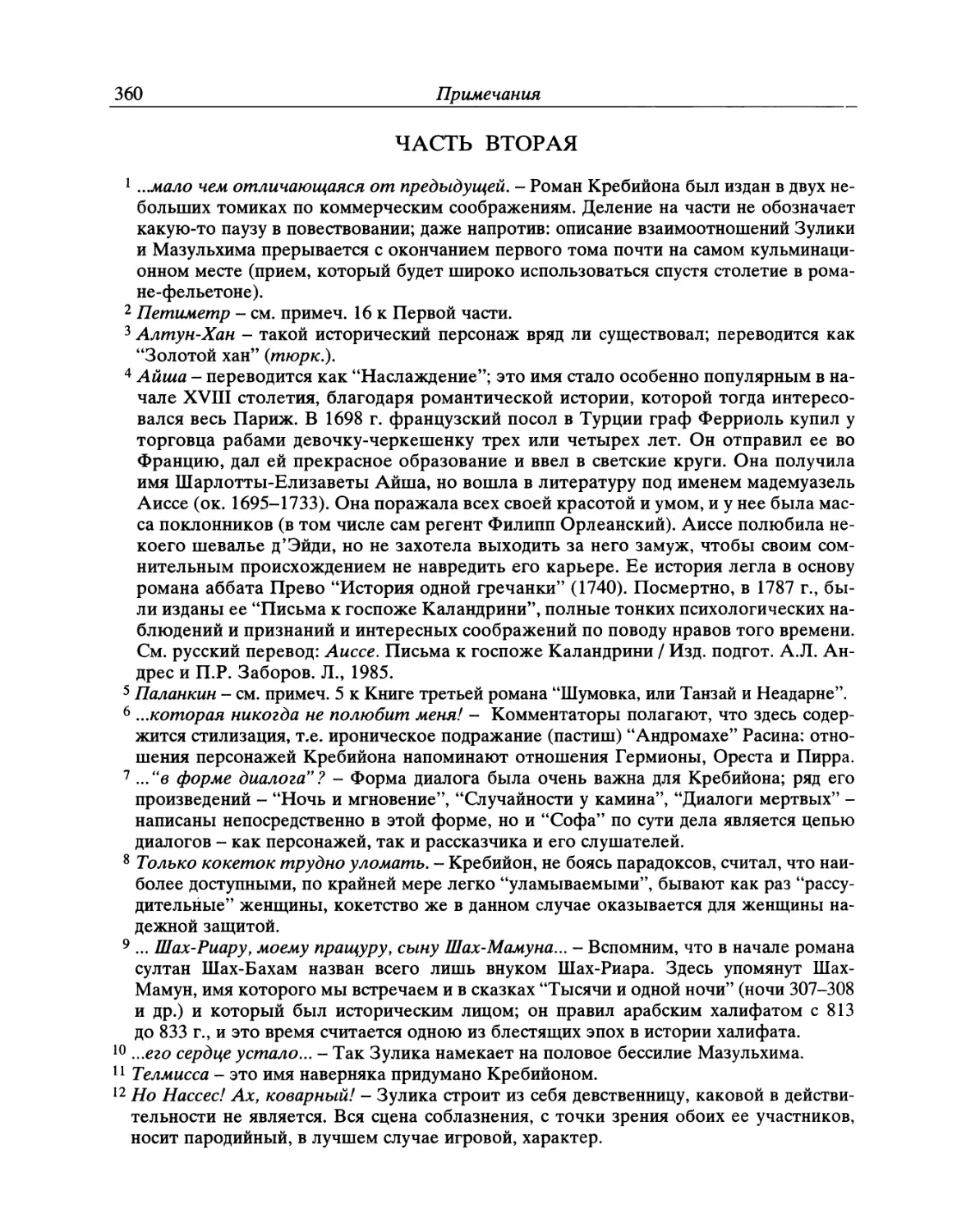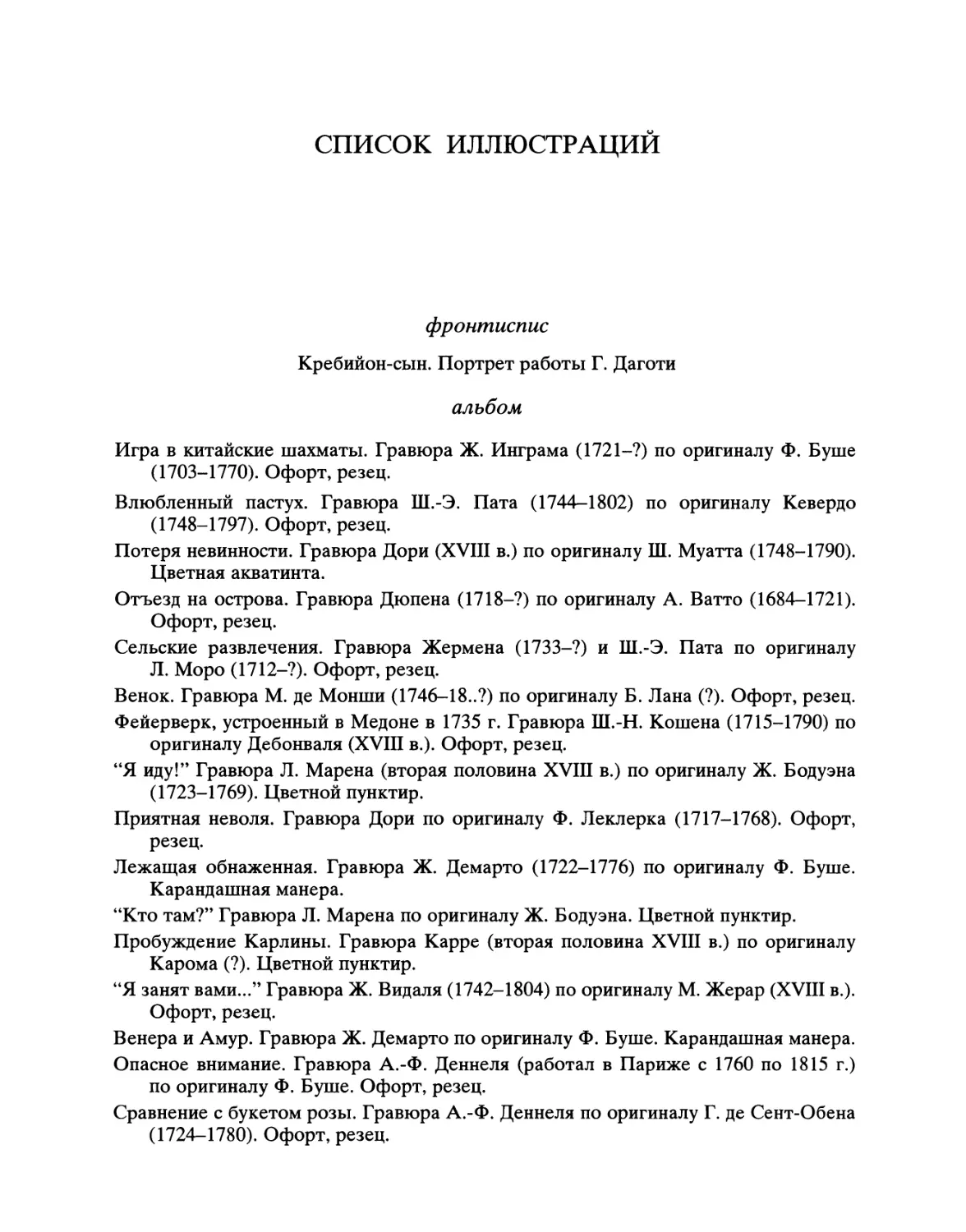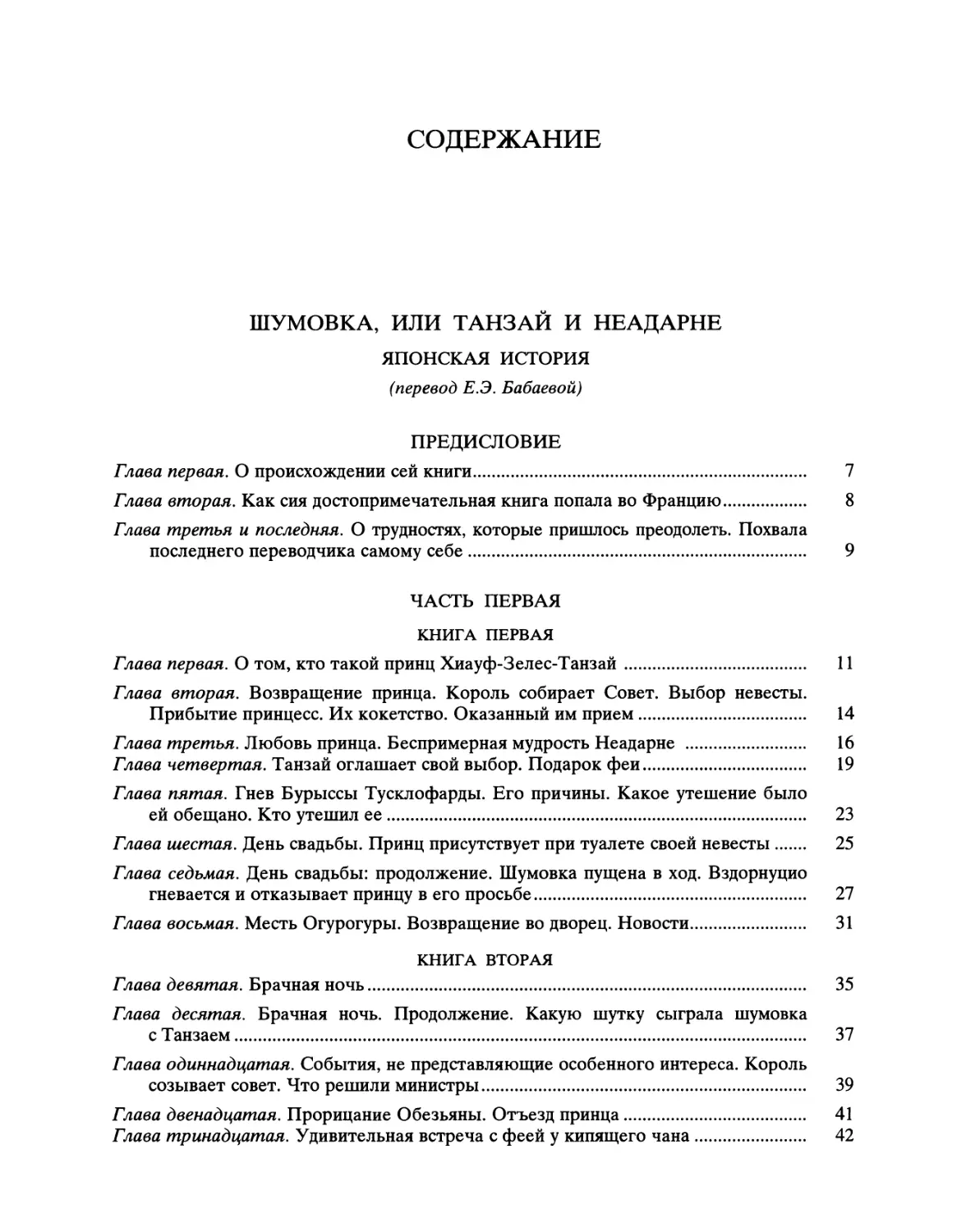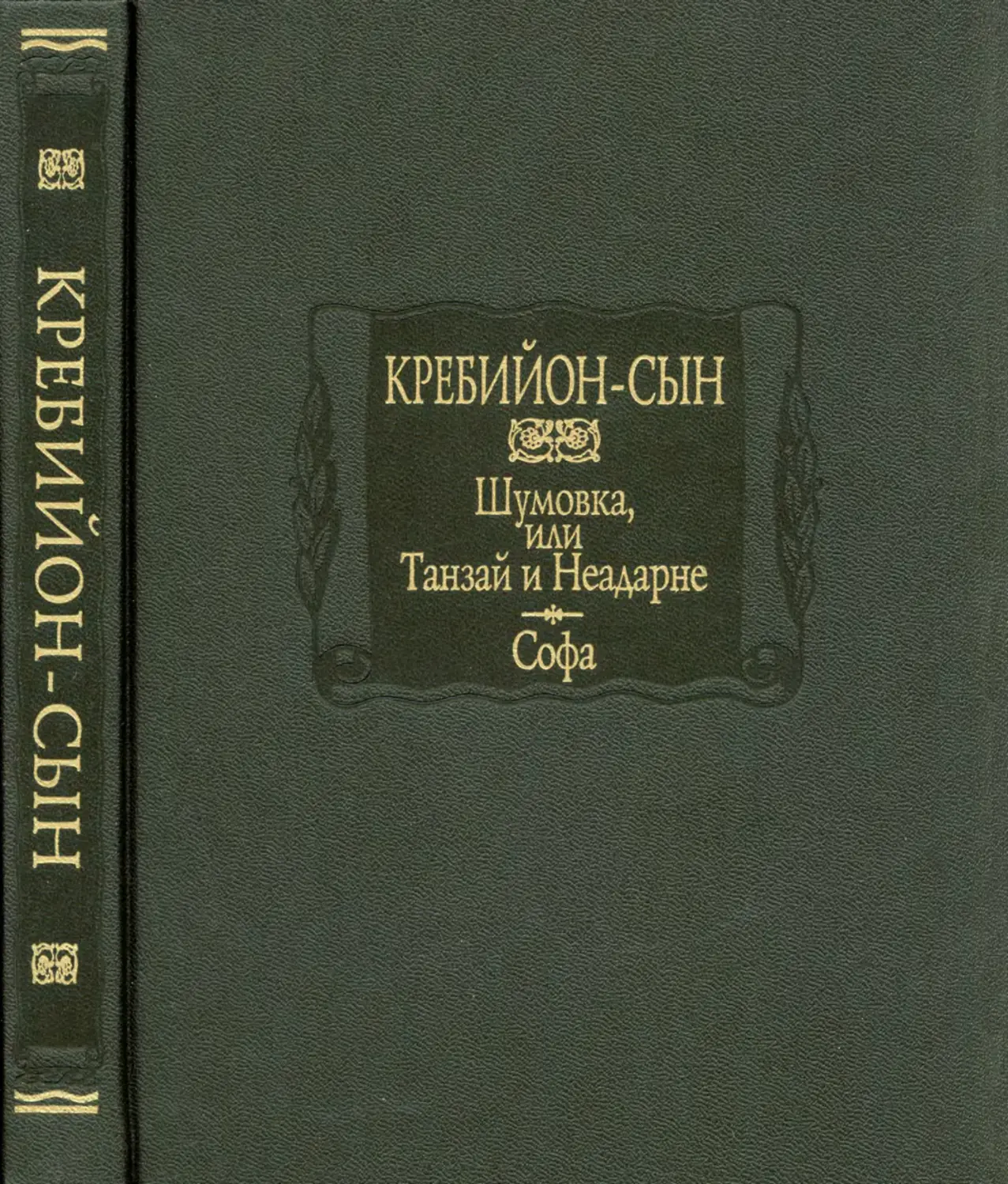Автор: Кребийон-сын
Теги: художественная литература сказка литературные памятники литературоведение российская академия наук японская история
ISBN: 5-02-033208-9
Год: 2006
Текст
КРЕБИЙОН-СЫН
Портрет работы Г. Даготи
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ
M
CREBILLON FILS
L'Ecumoire,
ou
Tanzaï et Néadarné
Histoire japonaise
Le Sopha
Conte moral
MOSCOU NAOUKA 2006
КРЕБИЙОН-СЫН
Шумовка,
или
Танзай и Неадарне
Японская история
-*-
Софа
Нравоучительная сказка
Издание подготовили
Е.Э. БАБАЕВА, Н.О. ВЕДЕНЕЕВА,
А.Д. МИХАЙЛОВ
МОСКВА НАУКА 2006
УДК821.133.Г654"
ББК 84(4 Фр)
К79
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ
"ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ"
В.Е. Багно, Н.И. Балашов (председатель), МЛ. Гаспаров,
А.Н. Горбунов, АЛ. Гришунин, Р.Ю. Данилевский, Н.Я. Дьяконова,
Б.Ф. Егоров (заместитель председателя),
Н.В. Корниенко, Г.К. Косиков, А.Б. Куделин, А.В. Лавров,
АД. Михайлов (заместитель председателя), Ю.С. Осипов,
М.А. Островский, И.Г. Птушкина (ученый секретарь),
Ю.А. Рыжов, И.М. Стеблин-Каменский, СО. Шмидт
Ответственный редактор
А.Д. МИХАЙЛОВ
Темплан 2005-1-252
ISBN 5-02-033208-9
© Бабаева Е.Э., перевод, 2006
© Веденеева Н.О., статья, 2006
© Михайлов А.Д., составление, статья,
примечания, 2006
© Российская академия наук и издательство
"Наука", серия "Литературные памятники"
(разработка, оформление), 1948 (год
основания), 2006
© Редакционно-издательское оформление.
Издательство "Наука", 2006
Шумовка,
или
Танзай и Неадар
Японская история
ПРЕДИСЛОВИЕ
Глава первая
О ПРОИСХОЖДЕНИИ СЕЙ КНИГИ
Мы вряд ли погрешим против истины, если назовем это произведение
одной из жемчужин древности; китайцы настолько высоко ценят сию книгу,
что даже приписывают ее знаменитейшему Конфуцию1. Действительно, она
содержит столь мудрые наставления и столь добродушные нравоучения, ее
страницы пропитаны столь ослепительной фантазией, события,
излагающиеся в ней, и смена их столь причудливы, что нельзя не заподозрить его в
авторстве или, по меньшей мере, не желать, чтобы это повествование вышло
именно из-под его пера. Однако своим появлением эта книга обязана Кило-
хо-хээ2, известному мужу, жившему за десять веков до Конфуция, первому
законному мандарину Китая, оставившему после себя заметный след и
снискавшему славу благодаря множеству исторических, политических, а также
нравоучительных трудов. Один китайский ученый*, составивший более
четырехсот лет назад подробнейшую историю литературы своей страны4,
представил неоспоримые доказательства того, что авторство принадлежит
именно Килохо-хээ. Перед нами лишь небольшой фрагмент пространной
истории, так сказать, очерка жизни целого народа. Нам не известно, почему
автор не завершил свой труд. Он, несомненно, рассчитывал на признание,
которое должно было принести ему начало истории, содержащее описание
странных приключений принца, но, несмотря на это, не стал скрывать, что
эта книга является всего лишь переводом с древне-японского языка одной
ветхой древнеяпонской рукописи5, японский же автор, в свою очередь,
прочел его на языке тютюрбан6, народа, в то время уже исчезнувшего с
лица земли.
* Шам-хи-хон шу-ка-хуль-ши3, "История китайской литературы", Пекин, 1306, т. I, с. 155.
8 Шумовка, или Танзай и Неадарне
Автор японского перевода в одном месте обмолвился, что его народ
происходит от славных тютюрбан, но, кажется, сам он не особенно верил в это
утверждение, поскольку никаких свидетельств тому не сохранилось даже в
те далекие времена, и он, будучи здравомыслящим человеком, признавал,
что о подобных вещах судить весьма сложно. Автор даже пустился в
пространное рассуждение по этому поводу, но Килохо-хээ опустил сию ученую
диссертацию, ибо она нисколько не проясняет дела. В наши дни судить об
этом еще рискованней, и, чтобы не путать читателя, мы перейдем к тому,
что представляется нам куда более очевидным.
Глава вторая
КАК СИЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНАЯ КНИГА
ПОПАЛА ВО ФРАНЦИЮ
Более ста лет назад некий голландец7, человек весьма незаурядный,
оказался в Нанкине8 и вынужден был в силу обстоятельств задержаться там
надолго, что позволило ему вполне сносно выучить китайский язык. Чтобы еще
больше преуспеть в языке, он решил заняться переводом, и в этот момент ему
в руки случайно попала сия книга, вызвавшая его бурный восторг; он взялся за
дело, и через три года ему удалось переложить ее на голландский язык,
впрочем, сам он остался крайне недоволен своим трудом. Отказавшись от мысли
представить его на суд публики, он, перебравшись в Европу, передал свой
перевод одному ученому мужу, своему близкому другу, Жану-Гаспару Кроковиу-
су-Гнилусу9 из Лейпцига, вошедшему в историю литературы благодаря его
диспуту с Эмманюэлем Спесивусом10 об одном весьма и весьма важном
предмете. Речь шла о научных изысканиях, посвященных псарне богини Дианы:
необходимо было установить, содержались ли в ней и кобели и суки или же
только собаки какого-нибудь одного пола. После жарких прений пальма
первенства досталась Гнилусу11, который доказал, исходя из целомудренного характера
богини, а также из свидетельств античных авторов, что в ее псарне
содержались лишь суки. Наш голландец прибыл к Гнилусу как раз тогда, когда тот
принимал поздравления от всех ученых Германии, в один голос признавших,
что он оказал неоценимую услугу Литературной Республике12. Голландец
умолил своего друга прокомментировать выполненный им перевод с китайского.
Кроковиус переложил текст на латинский язык, снабдил его пометами и
обширными комментариями и уже готовился опубликовать свой труд в трех
томах in-folio, как вдруг нежданно подкравшаяся смерть похитила этого
замечательного ученого. Бальтазар Обременозус13 и Мельхиор Преснодус14, его пле-
Предисловие
9
мянники, унаследовавшие имущество и глубокую ученость своего дядюшки,
продолжили его работу, расширили комментарии к книге, добавили
толкования к примечаниям Кроковиуса, сопоставили разночтения, восстановили
утраченные фрагменты и, наконец, отдали в Нюрнбергскую типографию15 пять
томов in-folio. Но тут их сразила эпидемия чумы. Их дети, уступавшие в
эрудированности своим отцам, и, вероятно, не имевшие возможности оплатить
расходы, связанные с изданием сего важнейшего опуса, продали его некоему
благородному венецианцу, находившемуся тогда в Нюрнберге. Этот господин по
имени Ганнибал Юлий Сципион Буз-э-виа де ли Тафанари16, вернувшись
в Венецию, перевел книгу на свой язык, изменив в ней кое-что. Латынь была
ему не по зубам, поэтому он не мог одолеть ученых пассажей. Тогда он
прибегнул к помощи одного брата из ордена сервитов17, и, засев за словарь, они
довели труд до той кондиции, когда его смело можно было публиковать на
венецианском языке. Если бы Его Сиятельство Буз-э-виа сумел бы воспользоваться
учеными пометками, коими снабдили книгу образованнейшие немцы, Франция
получила бы более полное издание, с толкованиями темных мест. Мы далеки
от мысли, что данный перевод являет собой труд, совершенный со всех точек
зрения. Венецианское наречие трудно понимать, и французский переводчик
признался, что и в тосканском диалекте многие слова ставят его в тупик.
В этом нет ничего удивительного, особенно если учесть, что он учил
итальянский всего два месяца под руководством своего друга, француза, прожившего
некогда в Риме шесть недель.
Глава третья и последняя
О ТРУДНОСТЯХ, КОТОРЫЕ ПРИШЛОСЬ ПРЕОДОЛЕТЬ.
ПОХВАЛА ПОСЛЕДНЕГО ПЕРЕВОДЧИКА САМОМУ СЕБЕ
Приняв во внимание, через сколько рук прошла эта книга, легко
предположить, что ее национальный колорит в значительной степени стерся, по
правде говоря, затрудняюсь сказать, стала ли она от этого хуже. Книги,
пришедшие с востока, всегда набиты оглушительным красноречием и
несуразными баснями. Верования восточных народов основаны на сказках18,
которые они используют на каждом шагу, но сколь бы ни почитались они ими,
нам они кажутся не более чем забавными. Почти безумная причудливость
религиозных воззрений придает их писаниям странное очарование,
захватывающее своей новизной, но в наши дни она настолько навязла в зубах, что
вряд ли читатель может плениться ею. Кроме многочисленных богов,
играющих различными персонажами, люди востока повсюду приплетают Гениев19
10
Шумовка, или Танзай и Неадарне
и Дивов20. Даже самые серьезные исторические хроники повествуют о них, и
если какой-нибудь из их героев попадает в опасность, то непременно в этом
оказывается виноват Див, а если ему удается выпутаться из неприятной ситуации,
то это происходит только благодаря Джинну21. Эти воображаемые существа
населяют добрые три четверти всех их книг, запутывая и распутывая события,
и, хотя иногда речь ведется о вещах самых необыкновенных, одни и те же
персонажи, не сходящие со сцены, сильно приедаются, что указывает на бедность
фантазии, утомительную для читателя. К тому же, восточные авторы обожают
метафоры, и некоторые обороты оказываются не по зубам нашему языку,
простота которого не позволяет передать их со всею точностью, не повредив их
орнамент. Поэтому-то перевод восточных книг на французский язык - дело
гораздо более сложное, чем это может показаться на первый взгляд. И, хотя
данная книга была переведена с венецианского, не следует думать, что это сильно
облегчило труд переводчика.
Сеньор Ганнибал многое перепутал, так что стоило немалых усилий
расставить все факты по местам в соответствии с замыслом Килохо-хээ. Джиннов,
мало известных нашему читателю, я заменил на Фей, к которым мы все
привыкли. Там, где это было возможно, я истребил варварские имена. Имя Джинна
Хик-нек-сик-ла-ки-ха-типофетаф22 совершенно не произносимо, поэтому я
изменил его; короче говоря, я позаботился о том, чтобы улучшить это
произведение, в совершенстве которого я не сомневаюсь. Я украсил его во многих
местах отдельными рассуждениями, столь же новыми, сколь справедливыми.
Перевод книги отличается поразительной тщательностью, точностью и ясностью,
так что, по моему убеждению, он превосходит труд Килохо-хээ, хотя я и имел
дело с языком, знакомым мне весьма мало.
Возможно, кое-что покажется вам несколько странным, но здесь все дело
в самом оригинале. Было бы ошибкой требовать от воображения китайца той
стройности и вкуса, коими блистают французские авторы, всегда
педантичные, обычно рассудительные и часто холодные, точно следующие одному,
хотя я точно не знаю какому, предписанию Горация23, которое я с
удовольствием привел бы здесь, если бы помнил его. Во всяком случае, этот Гораций
призывал увеселять ум и ни в коем случае не иссушать читателя премудростями.
Я убежден, что многие наши авторы были бы рады, если бы их
творения, которые мы находим столь гладкими, в меньшей степени обладали бы
названным достоинством, и охотно бы шли против установленных правил:
их сочинения потеряли бы в пристойности, но выиграли бы в
занимательности и тем самым расширили бы круг читателей.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
КНИГА ПЕРВАЯ
Глава первая
О ТОМ, КТО ТАКОЙ ПРИНЦ ХИАУФ-ЗЕЛЕС-ТАНЗАЙ
Давным-давно великой Тютюрбанией1, страной, в наше время
исчезнувшей с карты из-за невежества географов, правил король по имени Цфав или
Цефаэс, что на языке этой страны, известном теперь не больше чем
пунический, означало Счастье Народа2. Этим августейшим именем он был
обязан случаю или же просто лести. Мы упоминаем о нем лишь потому, что все
свои обширные владения он оставил единственному сыну, которого
чрезвычайно почитали тютюрбане, по неизвестной причине возлагавшие на него
большие надежды3 с самых его младенческих лет. В те времена миром
правили феи4.
Всем известно, что эти разумницы, чаще подчиняющиеся капризу, чем
здравому смыслу, довольно непредсказуемы. Редко кто способен не
злоупотреблять безграничной властью, и тот, кто может делать все, что ему
вздумается, не всегда соотносит свои желания с представлением о
справедливости5. Таковы были и феи. Их было великое множество, и они никак не
могли выяснить отношения: интересы, свойственные женскому полу, порой пу-
стяшные, но от этого не менее животрепещущие, споры о том, кто главнее
и кто краше, желание заставить других говорить о себе, прихоти, которые,
как правило, движут богинями, порождали между ними кровавые войны.
Когда у Цефаэса родился сын, его повивальной бабкой стала самая
великая фея Брадакела6, с незапамятных времен покровительствовавшая коро-
12
Шумовка, или Танзай и Неадарне
левской семье. Принц был очень красив, и поэтому она дала ему имя Хиауф-
Зелес-Танзай (Соперник Солнца)7 и одарила его всеми достоинствами,
которые необходимы смертному, чтобы достичь величия. Он ничему не учился,
но обладал обширнейшими познаниями. Важные персоны зачастую верят в
то, что умеют все, но Танзай не был таков, он и впрямь был наделен
множеством талантов. В равной степени он умел слагать стихи, писать картины и
музицировать. Он был одинаково силен в лирике, эпосе и драме, и для него
не составляло большого труда сочинить шутливое стихотворение или же
считалочку, впрочем, он также легко справлялся с мадригалом, эпиграммой,
анаграммой, элегией, идиллией, эклогой и буриме. Однако, поскольку
невозможно быть гением решительно во всем, ему никак не удавались
акростихи8.
Хотя поэзия занимала основное место в его увлечениях, он не забывал и
о других искусствах. Все любители живописи украсили свои кабинеты его
полотнами, и все ex voto9 главного храма были написаны им. Он сочинял
музыку и слова для опер, которые ставились в Тютюрбании. Никто не мог
отрицать, что он обладал самым изысканным вкусом в мире, и лучшее тому
доказательство - то, что он отдавал явное предпочтение старой рыле10
перед другими музыкальными инструментами. Он с таким обожанием
относился к этому инструменту, что Цефаэс, слепо потакавший всем его
капризам, приказал заменить в башнях при храмах Тютюрбании литавры,
созывавшие народ для молитвы, на рыли огромного размера. Принцам крови
было предписано играть на них, когда это было необходимо, и поэтому им был
дарован титул Главных Рыльников королевства. Это занятие стало одним из
самых почетных, и наиболее известные рыльники были провозглашены
коннетаблями11. Король, чтобы придать больше блеска этому титулу,
одарил тех, кто был удостоен подобной чести, штанами из медвежьей кожи,
украшенными конскими каштанами; такой знак отличия может показаться
странным, но, по обычаям этого народа, он ценился особенно высоко как
свидетельство особой королевской милости. Танзай отвечал на доброту
отца привязанностью, свидетельствовавшей о его превосходном воспитании.
Казалось, счастье принца было беспредельно: его обожал народ, которым
он должен был править в будущем, ему покровительствовала великая фея
Брадакела, и решительно все им восхищались. Однако ему не было
позволено любить, хотя он и родился с нежным сердцем.
Фея, считавшая, что с принцем непременно случится какое-нибудь
несчастье, если он полюбит или же женится ранее, чем минет его двадцатая
весна, запретила ему и то и другое до тех пор, пока судьба не разрешит
ему распоряжаться собой: приказ Брадакелы был ясен, и Танзаю было
столь же опасно противиться ее воле, сколь тяжело подчиниться ей. Как
мог принц, молодой, любезный и чувствительный, хранить
невозмутимость, живя во дворце, где все дышало негой и где кокетливые дамы, за-
Часть первая. Книга первая
13
нятые исключительно тем, чтобы
возбуждать желания и потакать
им, делали все возможное,
стремясь придать своим прелестям как
можно больше
соблазнительности? Напрасно он напускал на себя
равнодушный вид. Танзай,
чувствуя, насколько губительна жизнь
при дворе, полная нежных
взглядов и настойчивых признаний, для
того, кому показана добродетель,
решил покинуть его и поселиться в
своем дворце на берегу моря,
запретив всем женщинам
королевства появляться поблизости. Все
были изумлены, узнав о решении
принца. Никто не знал, что именно
вынудило его искать
отшельничества, и оскорбленные дамы стали
распускать слухи, весьма
нелестные для Танзая, но тот либо
пропустил их мимо ушей, либо не придал
им никакого значения. Он стал
затворником в восемнадцать лет, и
ему исполнилось восемнадцать лет
и три месяца, когда он заскучал.
По правде говоря, ничто не
занимало его так, как женский пол, и
вдали от него он не находил себе
развлечений. Даже ум не спасал его: чем недоступнее были радости
любви, тем более заманчивыми они ему представлялись. Нежный союз двух
сердец, многократно воспетый им, восторг любви, кипящее
сладострастие - все это в конце концов стало единственным благом, к которому он
стремился. Его тоска возрастала день ото дня, и он заявил фее, что
намерен вернуться в Тютюрбанию и жениться, чего бы это ему ни стоило.
Брадакела сделала все, чтобы отговорить его от этой затеи, но,
несмотря на все ее предостережения, он назначил день отъезда. Фее стало жаль
принца, и она, не желая бросить его на произвол судьбы, твердо решила
употребить все свое могущество, чтобы предотвратить несчастья,
которые должны были на него обрушиться, или, по крайней мере, смягчить
удар. Из следующих глав терпеливый читатель узнает, как помогла
принцу предусмотрительность феи.
14
Шумовка, или Танзай и Неадарне
Глава вторая
ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРИНЦА. КОРОЛЬ СОБИРАЕТ СОВЕТ.
ВЫБОР НЕВЕСТЫ. ПРИБЫТИЕ ПРИНЦЕСС.
ИХ КОКЕТСТВО. ОКАЗАННЫЙ ИМ ПРИЕМ
Возвращение принца возбудило новые толки, и политики Тютюрбании
без конца судили и рядили о нем. Народ, обожающий доискиваться до
причин поступков своих правителей, особенно когда они сокрыты от него,
изощрялся в предположениях, но возвращение Танзая по-прежнему
представляло не меньшую загадку, чем его внезапное удаление. Женщины при
решении этого сложного вопроса испытывали куда меньше затруднений - они
единодушно полагали, что Танзай, сгоравший от тайного огня, из гордости
пытался побороть его, но, поняв, что все его усилия тщетны, вернулся,
чтобы оказать должные почести той, что завоевала его сердце. Но почему он
так сдержан? Разве человеку, - говорили он, - занимающему столь высокое
положение, пристало скрывать свои желания? Разве принцу подобает быть
таким робким?
Нельзя сказать, что все эти рассуждения не имели под собой никаких
оснований. Принц был очень благочестив12: люди, подобные ему, часто
испытывают искушение, но они скорее стараются скрыть свои душевные
движения, чем преодолеть их, и признаются в своем падении лишь в крайнем
случае, когда оно становится очевидным. Скольких скромников создал страх
огласки! Среди женщин, претендовавших на сердце Зелеса, увереннее всех
чувствовала себя его гувернантка13, она не сомневалась, что он должен
вздыхать и грезить о ней, пусть даже эти вздохи и грезы продиктованы не
влечением сердца, а благодарностью. Самые опытные из придворных
кокеток оспаривали ее притязания и красовались перед ним, демонстрируя
невероятные ужимки и всевозможные фасоны, которые подсказывает женщине
воображение, распаленное желанием понравиться. Но принц равнодушно
взирал на все это: он искал скромности, простоты, безыскусности; той
красоты, которая не побоялась бы показаться во всей своей утренней непри-
бранности14. Он даже предложил дамам пройти такое испытание, но они
пришли в замешательство и, несмотря на высокое мнение о собственных
прелестях, предпочли скорее отказаться от сердца Танзая, чем предстать
перед ним такими, какими их делали балы, длившиеся ночи напролет, и
усталость, сопутствовавшая этим увеселениям.
Тем временем король серьезно подумывал о том, чтобы женить принца,
и, поскольку дело было чрезвычайной важности, он решил собрать совет.
Послы из разных королевств наперебой предлагали в жены принцу дочерей
правителей своих стран. Двенадцать из них могли рассчитывать на благо-
Часть первая. Книга первая
15
приятный ответ, но Цефаэс здраво рассудил, что его сын не может
жениться сразу на двенадцати принцессах, и пребывал в затруднении, не зная, на
ком остановить выбор. Короли, предложившие выдать своих дочерей за
Танзая, были очень могущественны, и ссориться с ними было небезопасно;
но только одна принцесса могла стать женой принца: никогда еще мудрые
министры не сталкивались со столь сложной проблемой15.
Принц и здесь превзошел всех своей рассудительностью. Он придумал,
как выйти из положения и не обидеть правителей соседних королевств. Он
предложил им прислать в Тютюрбанию принцесс, предназначавшихся ему в
жены, ровно на тринадцать недель. Первые двенадцать недель принц
предполагал употребить на то, чтобы поближе познакомиться с каждой невестой
и оценить ее достоинства, а также на то, чтобы дать принцессам
возможность лучше узнать его, тринадцатая же неделя была ему необходима,
чтобы поразмыслить, сравнить красоту и нежность претенденток, спокойно
взвесить все и наконец объявить, кто из них станет его женой. Таким
образом, все зависело от самих принцесс, и ни один король из тех, о которых шла
речь, не сумел бы усмотреть в отказе оскорбительного пренебрежения
своим родом. Министры аплодировали мудрости принца. Послы сообщили о
его предложении своим королям, и те сочли его разумным. Во дворце
закипела работа. Нужно было подготовить покои для двенадцати принцесс,
которые не замедлили прибыть.
Их встретили пышными празднествами: в честь принцесс были даны
оперы, сочиненные принцем, и все восхищались ими, кто искренне, а кто из
вежливости. Танзаю на первый взгляд показалось, что все принцессы
одинаково прекрасны, и он хотел было жениться сразу на всех, но уважение к
закону удержало его, и он ограничился лишь тем, что сочинил для каждой по
изысканному комплименту в прозе или стихах. В свою очередь от внимания
принцесс не ускользнуло ни одно из его достоинств. Они все были без ума от
него, и это единодушие раздуло их и без того существовавшую неприязнь
друг к другу. Хорошо известно, на что способна женщина, которой пришло
в голову похитить чужого возлюбленного, и поскольку в данном случае
один юноша был предметом воздыханий и обожания сразу двенадцати
очаровательных особ, взаимная ненависть и пересуды возросли ровно в
двенадцать раз по сравнению с тем, как это бывает обычно; во столько же раз,
следовательно, возросло и жеманство, чем вовсю пользовался принц, искренне
забавлявшийся уловками невест16.
Стоило одной из принцесс изобрести новую походку или же особый
способ складывать губки и улыбаться, как остальные, желая перещеголять
соперницу, начинали отчаянно косить, растягивать рот до ушей или же
передвигаться самым странным и нелепым образом. Так было во всем: зная, что
Танзай увлекается искусствами, они не преминули объявить себя
поэтессами, художницами, музыкантшами; легко можно себе представить, сколько
16
Шумовка, или Танзай и Неадарне
комичных и глупых ситуаций порождало подобное соперничество. Танзай
боялся обидеть их предпочтением, которое могло показаться
несправедливостью, и положился на судьбу, сам же проводил целые дни в обществе той
или иной принцессы строго по расписанию. Он присутствовал при туалете
очередной невесты, повсюду сопровождал ее, разделял с ней трапезы, но
вечером в театре или же в узком кругу придворных виделся со всеми, и
соперницы пристально вглядывались в него, находили его то задумчивым, то
скучающим и старались прочесть в его лице приговор принцессе,
пользовавшейся вниманием принца в данный момент. Своими выводами они были
обязаны исключительно собственной гордыне, Танзай же, чье сердце уже
сделало выбор, держался со всеми одинаково приветливо, предоставляя им
терзаться неуверенностью, и притворялся, что и сам изрядно смущен.
Глава третья
ЛЮБОВЬ ПРИНЦА.
БЕСПРИМЕРНАЯ МУДРОСТЬ НЕАДАРНЕ
Прошло одиннадцать недель, и наконец наступила очередь последней
принцессы, успевшей уже пленить сердце Танзая, хотя он держал это в
тайне. Несмотря на всю его осторожность, принцесса догадалась о его чувствах;
та любовь, которую она сама испытывала, помогла ей понять Танзая, и
глаза их объяснились гораздо ранее, чем слова признания слетели с губ.
Танзай не мог сделать лучшего выбора. Усилия, прилагавшиеся другими
принцессами, чтобы походить на нее, ревность, которую они испытывали к
ней, лишь подчеркивали ее достоинства. Принц оценил их уже в первый
день, но, послушный принятому обязательству, терпеливо ждал, пока
судьба приблизит миг их свидания. И вот наступил счастливый день. Они так
торопились объясниться, удостовериться в том, что не ошиблись друг в друге,
пригубить впервые то ни с чем не сравнимое блаженство, которое дает
любовь, не ведающая преград, что не могли скрыть своей радости.
Неадарне (так звали принцессу) отвечала всем мечтам Танзая. Она была
брюнеткой и, обладая всеми достоинствами, свойственными красивым
женщинам этого типа, была наделена также и тем, что так восхищает нас в
блондинках. Ее живые черные глаза сияли17, но с тех пор как она увидела
принца, нежная томность немного притушила их блеск. Ее ротик,
открывавшийся лишь для того, чтобы явить рассудительность и остроумие, имел
очаровательные очертания и скрывал самые красивые зубки в мире. Она была
высокого роста, держалась прямо, величественно и одновременно с благо-
Часть первая. Книга первая
17
родством и свободой. Ее руки и ноги, выточенные Грациями, выгодно
подчеркивали пропорции всего тела. Во всех ее поступках и речах сквозила
непередаваемая грациозность. Она не старалась, желая понравиться,
подчеркивать свою внешность или ум, прибегать к напускной бойкости, которая
всегда выглядит глупой и неблагопристойной, к коверканью слов, к
пошлому жаргону, заслуживающему всеобщего презрения в той же степени, в
какой он сам является нелепым18. Даже самый бесчувственный человек не
смог бы устоять перед таким чудом!
Едва забрезжил рассвет того дня, который позволял Танзаю остаться
наедине с принцессой, он, подгоняемый движениями сердца, поспешил под
ее окна, где и ожидал прекрасного мига свидания.
Неадарне, взволнованная не меньше его, тоже пробудилась раньше
обычного. Первые звуки, донесшиеся до ее слуха, оказались пением
влюбленного принца, импровизировавшего на тему своей страсти. Она вскочила,
но из боязни нарушить приличия, показавшись в окне, приказала, не желая
упускать ни одной минуты из тех, что она могла бы употребить для беседы
с принцем, устроить в своих покоях как можно больше шума. Танзай
справедливо счел, что она уже проснулась, и отправился к ее дверям. Неадарне,
знавшая, что его утренние визиты к ее соперницам происходили обычно
гораздо позже, поздравила себя со счастливым началом. Принц обратился к
ней с приветствием. Он выглядел смущенно и потерянно, как это бывает в
присутствии горячо любимого человека. Служанки принцессы вышли. Что
она могла сделать? Ведь таковы были правила.
Оставшись наедине с принцессой, Танзай поначалу сильно оробел: лишь
его глаза твердили о любви, и Неадарне понимала эти молчаливые речи
лучше, чем если бы он прибегнул к развязным и слащавым признаниям,
издавна введенным в обиход глупостью мужчин и кокетством женщин. Но
молчанию скоро пришел конец: можно долго любоваться сокровищем, но
рано или поздно следует высказаться о нем; в глазах Танзая же прелесть
принцессы была неиссякаемым источником восхищения и похвал. Наконец,
он решился.
- Могу ли я надеяться, - произнес он неуверенно, то и дело запинаясь, -
что вам не будут неприятны мои ухаживания и что вы соблаговолите
ответить на них?
- Ах, Сир! - отозвалась она. - Почему бы и нет, если вы говорите об
этом искренне.
- Говорю ли я искренне? Ах, как оскорбительно нам ваше сомнение!
С этими словами он бросился к ногам Неадарне, которая, крайне
довольная им, слушала его со снисходительностью, происходящей обычно от
желания поверить в то, о чем говорится.
- Что ж, хорошо! Я верю вам, дорогой принц, - нежно произнесла она. -
Да и как я могу не верить вам, если любовь сжигает мое сердце! Вот вам моя
18
Шумовка, или Танзай и Неадарне
рука, - продолжила она, - залог моей страсти. Говорите же, говорите мне о
вашей, о! какое счастье принадлежать вам навеки!
Танзай, вне себя от радости, поцеловал руку принцессы. С каким
воодушевлением он рассказывал ей о первом впечатлении, которое она
произвела на него, о том, как неприятны были ему ее соперницы, как он терзался,
смиряя свое нетерпение! Сколько клятв в верности было произнесено!
Какая любовь светилась в его глазах! Принцесса, жадно ловившая его взоры,
черпала в них нежность и возвращала ее с лихвой. Ошеломленные,
опьяненные счастьем, они забыли обо всем, кроме своей страсти.
Танзай, взволнованный прелестью принцессы, уверенный в том, что
любим, решил воспользоваться смятением, охватившим Неадарне. Он хотел
было вздохнуть, но его вздох, несомый любовью, утонул в губах принцессы;
она, конечно же, собиралась воспротивиться, но в подобной ситуации не
всегда можно рассчитывать на свои силы. Возлюбленный, которому вы
боитесь разонравиться, но которому подобные страхи неведомы, не столько
силой своего напора делает вас слабее, сколько становится сильнее за счет
вашей слабости. Как бы там ни было, принц настаивал, чтобы она вернула ему
поцелуй, украденный им, ее целомудрие препятствовало этому, но любовь
взяла верх; кажется, первое только для того и существует, чтобы его то
и дело приносили в жертву второй.
Чем больше мы имеем, тем сильнее мы хотим получить еще больше.
Едва сбывается одно желание, как в сердце любящего немедленно
рождается следующее. По тому, что ему было дозволено, влюбленный судит о том,
на что он может еще рассчитывать.
Принцесса была одета по-домашнему, с той небрежностью, которая, по
вине случайно расстегнувшейся булавки, приоткрывает то, что тщательно
скрывалось. Распахнувшаяся туника позволила принцу узреть шейку
ослепительной белизны и столь совершенную, что у него закружилась голова, и
он вознамерился отказаться от излишней почтительности. Неадарне так
долго отказывала ему в обыкновенном поцелуе, что он понял, что
непременно получит суровый отказ, если попросит у нее разрешения поближе
познакомиться с тем, что только что открылось ему. Поэтому он решил
действовать на свой страх и риск и коснулся сначала рукой, а затем губами
пленительной белизны. Принцесса и принц молчали, избегая смотреть друг на
друга, и чуть только справлялись со своей дрожью, как она снова нападала
на них. Что было делать принцессе? Да, она была добродетельна, но в таком
затруднительном положении единственное, на что способна добродетельная
женщина, так это вспомнить о том, что ей полагается охладить восторги
возлюбленного, осуществить же это намерение куда трудней.
Разум в этом случае слабое подспорье, да и способен ли он заявить о
себе в разгар блаженства? А коли он пробуждается слишком поздно, чем он
может помочь? Забытье, в которое погрузилась принцесса, было тем более
Часть первая. Книга первая
19
опасно для нее, что она впала в него впервые и, в силу своей неопытности,
не знала, как справиться с собой. Тем временем сила натиска принца начала
пугать ее, и она ласково оттолкнула его. Был ли он в состоянии понимать
что-либо? От неловкого движения плохо прикрепленная подвязка
соскользнула на пол. Танзай, вежливый от природы, полюбив, стал еще более
обходительным и поэтому тут же почтительно вызвался помочь принцессе
справиться с неприятностью.
Отказать ему - значило показать, что она придает большое значение
этой милости, и тем самым лишь распалить его. Поэтому принцесса, не
располагая временем для раздумий, согласилась на его любезное предложение.
Принцу ни разу еще не доводилось застегивать подвязки даме19, он не знал
даже, где именно они должны располагаться, когда же надлежащие
наставления были им получены, он так разволновался, что тут же забыл все
объяснения и принялся за дело крайне неловко, так что принцесса не
удержалась и вскрикнула. На ее голос прибежали служанки, и принц вынужден был
отступить. Служанки стали расспрашивать Неадарне, отчего она кричала.
Что им ответить? Но принцессы вольны поступать так, как им вздумается.
Она ничего не ответила, и каждая служанка подумала то, что подумала.
И все же Неадарне сочла за лучшее оградить себя от порывов Танзая:
вздохнув, она приказала служанкам не оставлять ее наедине с принцем, хотя
это было и против установленных правил; добродетельность заставила ее
применить к Танзаю меры, к которым другие женщины после подобного
приключения прибегают лишь из кокетства.
Глава четвертая
ТАНЗАЙ ОГЛАШАЕТ СВОЙ ВЫБОР. ПОДАРОК ФЕИ
Те, кому хорошо известны законы природы, подумают, должно быть,
что не только принц был раздосадован необходимостью удалиться, но и
принцесса огорчилась не менее его, видя, как он исчезает за дверью. Они
даже решат, что принцесса упрекала себя за то, что привлекла своим криком
внимание служанок. Те же, кто даст себе труд глубже задуматься над всем
этим, поймут, что принцесса слишком рисковала своим целомудрием, чтобы
испытывать огорчение по поводу ухода принца и не винить себя за то, что
она не подняла шума раньше20. Такова участь многих исторических лиц, чьи
деяния становятся известными потомкам. Читатель судит о них, исходя из
своего представления о том, как им следовало поступить, а не из того, что
они вынуждены были сделать в том положении, в котором он их застает; он
20
Шумовка, или Танзай и Неадарне
ставит себя на их место и, запасшись хладнокровием, не принимая во
внимание те страсти, что кипели в них, выносит обвинительный или
оправдательный приговор, в зависимости от того, успешны ли оказались предпринятые
ими действия, но совсем не учитывая, оставляли ли им обстоятельства
время на размышление и позволяло ли их душевное состояние продумать хотя
бы одну мысль до конца. Среди читателей мало кто способен здраво судить
о фактах, к тому же большинство из них не знают, что такое
справедливость. Конечно же, многие сочтут уместным одобрить или осудить
поведение Неадарне. Но к какому бы мнению ни пришли читатели, согласись они,
что она закричала слишком поздно или слишком рано, важно лишь то, что
она закричала и что найдутся женщины, которые в подобной угрожающей
ситуации поступили бы так же или же прибегли бы к этому средству
гораздо позже и выразили бы свои чувства не так громко.
Она еще не пришла в себя после испуга, вызванного наскоком принца,
как Танзай появился снова и сообщил, что побывал на Совете, где объявил
о том, что выбрал себе невесту.
- Итак, божественная принцесса, - сказал он, - вы станете моей: моя
любовь слишком сильна, чтобы и далее покоряться правилам, которые раньше
казались мне неукоснительными. Долой робость! Она теперь неуместна!
Сегодня же все принцессы, претендующие на мою руку, отправятся по
домам. Я не хочу терзаться еще целую неделю, которая мне отведена на
принятие решения. Я не в силах более выносить общество тех, кто из-за любви
к вам стал мне неприятен; приготовления к радостному событию уже идут
полным ходом, и ничто не сможет отвратить его, раз вы согласны составить
мое счастье.
- Ах, Танзай! - воскликнула принцесса. - Почему вы говорите лишь о
своем счастье? Разве вы забыли, что речь идет и о моем счастье тоже?
Король, явившийся в эту минуту к Неадарне, прервал своим приходом
этот разговор. Он прибыл заверить принцессу, что выбор, сделанный его
сыном, как нельзя больше пришелся ему по душе. Они принялись
обсуждать, на какой день назначить свадьбу, и решили, что церемония состоится в
начале следующей недели.
Принц не хотел ждать ни дня, но на подготовку пышного торжества
требовалось время, поэтому ему пришлось смириться с отсрочкой. После того
как все было улажено^ народу объявили, что Танзай выбрал себе в жены
Неадарне, дочь великого правителя Капюшонкахульма21. Этот союз вызвал
тем большее ликование, что владения могущественнейшего короля
Капюшонкахульма, чьей единственной наследницей была Неадарне, граничили с
Тютюрбанией, и, таким образом, после его смерти Танзай становился
правителем огромнейшей страны, обнимающей два королевства. Все
восхваляли принца и относили на счет его глубокой государственной мудрости то,
что произошло благодаря любви и счастливому случаю. Выбор, одобрен-
Часть первая. Книга первая
21
ный тютюрбанами, раздосадовал принцесс: они были так расстроены, что
целую неделю все до одной страдали мигренями и ходили с заплаканными
глазами. Некоторые авторы, жившие в то время, утверждают даже (чему
можно и не верить), что любовь к Танзаю и отчаянье побудили принцесс
искать встреч с ним, чтобы предложить ему тайную сделку. Естественно, по
уши влюбленный в Неадарне принц не захотел их слушать; возможно,
однако, что всего этого на самом деле не было. Во всяком случае, сочувствие,
которое он испытывал к безутешным принцессам, не изменило его решения.
Но радость принца омрачили внезапно шевельнувшиеся в нем грустные
мысли, навеянные предсказаниями Брадакелы. Он вдруг осознал, что не
только выбрал невесту, не посоветовавшись с феей, но и объявил о своей
помолвке всем, кроме нее. Что если Брадакела, видя столь неуважительное
отношение к себе, накажет его и откажется дальше покровительствовать
ему? Он был занят этими размышлениями, когда ему доложили, что фея
прибыла во дворец. Смущенный, он отправился на половину короля, куда
провели фею.
- Я не стану упрекать вас за тот выбор, который вы сделали, - сказала
она, - он вполне отвечает моим намереньям, но мне хотелось бы, чтобы вы
не спешили со свадьбой и дожидались бы подле своей невесты времени,
когда обладание ею ничем вам не будет грозить. Судьба обойдется с вами
милостиво, если вы прибегнете к Гименею лишь после того, как минет ваша
двадцатая весна, тогда вы сможете...
- Я знаю, Ваше Небесное Высочество, - перебил ее Танзай, - что
обязан этим советом вашей осмотрительности и доброте, но я не могу ждать.
Если Неадарне не станет в ближайшее время моей, я умру. Какие бы
жестокие удары ни готовила мне судьба, они не идут ни в какое сравнение даже с
небольшой отсрочкой. К тому же, мне совершенно непонятно, почему
судьбе так неугодно, чтобы я женился ранее, чем минет моя двадцатая весна, и
мне трудно поверить, что из-за события, столь мало затрагивающего ее, она
станет преследовать меня.
- Сын мой, - отвечала фея, - мое искусство позволяет мне предвидеть
то, что предначертано судьбой, однако мне неведомо, каковы причины,
которые движут ею. Но вам следует верить, что они существуют, и
покоряться судьбе, не пытаясь проникнуть в них. Именно этого я жду от вас, не
особенно надеясь, впрочем, на ваше благоразумие. Вас ждут немалые беды.
Правда, есть одно средство против них, действенное даже и в случае вашей
женитьбы: вот оно.
С этими словами фея извлекла из складок своего платья золотую
шумовку, длиной в три добрых фута, с круглой ручкой, имевшей не менее
трех пядей в диаметре22. В ручке было проделано отверстие, достаточное
для того, чтобы сквозь него проходила цепочка, унизанная
драгоценными камнями.
22
Шумовка, или Танзай и Неадарне
- Что это за штука? - спросил принц.
- Я приберегла эту вещь для вас, - сказала фея, - как знак моего
дружеского расположения, и вот как вам следует поступить. В день свадьбы
неподалеку от храма вы встретите старушку. Схватите ее и, как бы она ни
сопротивлялась, как бы ни молила о пощаде, затолкайте ей в рот ручку этой
шумовки.
- Но, Ваше Эфемерное Высочество, - удивился принц, - разве может
рот вместить ручку подобной длинны?
- Об этом не беспокойтесь, - ответила фея. - Поверьте, эта процедура
не доставит страданий старушке. Но это еще не все. Как только вы
извлечете ручку из ее рта, тотчас же отправляйтесь к Главному Служителю храма
и проделайте с ним то же самое.
- С Главным Служителем храма! - возопил король. - Но он ни за что не
согласится глотать ручку шумовки!
- Не знаю, как он отнесется к этой идее, - заметил принц, - но, окажись
я на его месте, никакая сила не заставила бы меня согласиться.
- Тем не менее необходимо* чтобы он проделал именно это, -
настаивала фея. - Однако на него следует воздействовать не силой, а убеждением или
иными, но самыми щадящими средствами.
- О, надеюсь, они будут убедительнее, - заметил принц, - чем то, что вы
говорите. Но предположим даже, что он согласится. Чем мне это поможет?
- Тогда мы предотвратим несчастья, стерегущие вас.
- А если он не согласится? - не унимался принц.
- В таком случае, - промолвила фея, - я советовала бы вам отложить
свадьбу или с покорностью ожидать роковых событий.
- О! Когда так, - сказал принц, - я затолкаю в рот Главному
Служителю храма всю шумовку.
- Не забывайте, - напомнила фея, - он должен согласиться проглотить
ручку добровольно.
- Но, ради всего святого, - возразил Танзай, - неужели вы полагаете, что
кто-либо добровольно согласится на подобное предложение? Эта ручка
имеет размеры столь чудовищные, что она может разорвать какой угодно
огромный рот. Впрочем, раз уж мне не позволено применить силу, -
добавил он, - я воспользуюсь всей своей сноровкой.
- Хорошо, - кивнула фея. - Но помните: вы должны все держать в
тайне. Привяжите шумовку к петлице и верьте, что только она поможет вам
выпутаться из этой истории.
- Однако, должен признаться, - сказал принц, - что, если судьба и
готовит мне редкостные несчастья, она предписывает мне также и весьма
оригинальный способ избавиться от них.
- И еще одно, - промолвила фея, - коли с вами случится беда, помните,
вам не следует взывать ко мне, боюсь, я буду бессильна помочь вам.
Часть первая. Книга первая
23
Сказав это, фея исчезла. Цефаэс и Танзай остались одни; король
продолжал изумленно таращиться на шумовку, а принц твердо решил
воспользоваться ею, чего бы это ни стоило.
Глава пятая
ГНЕВ БУРЫССЫ ТУСКЛОФАРДЫ23.
ЕГО ПРИЧИНЫ. КАКОЕ УТЕШЕНИЕ БЫЛО ЕЙ ОБЕЩАНО.
КТО УТЕШИЛ ЕЕ
Казалось, что принцессы пренебрежительно отнеслись к вести о
женитьбе принца, но на самом деле эта новость доставила им немало страданий. Удар
был слишком жесток для их самолюбия, а любовь, вмешавшаяся в события,
сделала его вовсе непереносимым и оставила в сердцах след, который не
могла изгладить и досада. Прекрасный принц Тютюрбании покорил их
воображение своей незаурядностью. Одна перечитывала стихи, которые он посвятил
ей, другая припоминала разговор с ним, не содержавший ничего, кроме
любезностей, что не мешало ей находить в его словах намеки на чувство, третья
не могла забыть, как принц вздохнул в ее присутствии, четвертой
мерещилось, что он однажды по-особому взглянул на нее, те же, кому нечего было
вспомнить, без устали вспоминали все подряд. Все они, видя, что им
предпочли другую, пребывали в глубоком горе, поскольку упустили такую партию,
а также потому, что им пришлось перенести еще одно оскорбление,
уязвившее их до такой степени, что они не осмеливались о нем упоминать.
Больше всех гневалась высокомерная Бурысса Тусклофарда,
правительница острова Метиссао24. Это была самая уродливая и заносчивая из
принцесс. Надменность, которая была ей свойственна, с лихвой возмещала ее
бесцветность. Никаким прелестям не под силу было скрасить презрительное
выражение, разлитое по ее лицу. Она считала себя умницей, и
действительно, ее нельзя было назвать глупой, однако ее ум был таким грубым и
неповоротливым, что каждого, кому доводилось слышать ее речи, отвращали
прямолинейность мыслей и резкость выражений. Ее телосложение было
под стать уму; жестикулируя, она пугала окружающих, а ее мимика
напоминала гримасы. У нее была кожа удивительной белизны, но за это
достоинство она заплатила цветом волос, который решительно не нравился никому.
Поэтому она с августейшим презрением относилась к брюнеткам и
находила блондинок блеклыми. К тому же она была жестокой, злой, мстительной
и коварной. Как мы знаем из истории, она возомнила, что Танзай любит ее.
Никто так и не смог объяснить, что заставило ее прийти к такому выводу.
24
Шумовка, или Танзай и Неадарне
Скорее всего, этой идеей она обязана не ухаживаниям принца, а
собственному тщеславию, однако она так твердо вбила ее себе в голову, что
восприняла любовь Танзая к Неадарне как измену с его стороны. Больше всего ее
расстраивало то, что она, понадеявшись на свои прелести, отказалась от
помощи старой феи, ее кормилицы и наперсницы, которая прибыла в Тютюр-
банию вместе с ней и обещала приворожить Танзая. Заносчивая принцесса,
увидев, что надежды обманули ее, вынуждена была искать помощи у феи.
- Вы слышите, - в ярости кричала она, - вы слышите, как ликует этот
народ! А я не отомщена! Вероломный Танзай и моя омерзительная
соперница торжествуют! Конечно же, мое горе только увеличит их радость! Ах! И
вы будите спокойно взирать на эти празднества, посрамляющие нас обеих?
Разве оскорбление, нанесенное мне, вас не касается? С каких это пор,
интересно, наши пути разошлись? Меня унизили! Да что я говорю: мне нанесли
смертельный удар, а кровь неблагодарного, предавшего меня25, все еще не
пролилась! Моя соперница не корчится в муках! И природа не восстала,
чтобы отомстить за меня! А вы? Одно ваше слово может вызвать
светопреставление; я знаю, что даже из-за малейшего неудовольствия вы готовы
повергнуть мир в хаос! Говорите же! Отчего вы бездействуете? Ваше
пресловутое могущество, которое способно заставить землю содрогнуться, что ж,
оно не для меня? Неблагодарный отказался от меня, и он еще дышит! Ах,
матушка, должно быть, вы меня больше не любите! Иначе мое горе
тронуло бы вас и зажгло бы в вас то же пламя ярости, что бушует во мне!
Коварный принц, моя соперница, этот ненавистный мне народ - все они исчезли
бы с лица земли. Ах, матушка! Неужели вы оставили меня?
- Вы несправедливы ко мне, дочь моя, - отвечала фея. - Поверьте, если
бы это было в моих силах, я отомстила бы за вас, даже если мне пришлось
бы действовать против вашей воли. Но не в моей власти извести коварного
Танзая. Этой гадкой чете, навлекшей на себя вашу ненависть,
покровительствует сама могущественная Брадакела, перед которой все дрожат и
которой я вынуждена подчиняться. Она незримо сопровождает их повсюду и ей
ничего не стоит отвести от них мои удары, а затем жестоко отомстить мне.
Я не властна над их жизнью, но я могу отравить то счастье, которое они
предвкушают, и избавить вас от пытки, которой стала бы для вас эта
идиллия. Если бы вы захотели, я заставила бы его предпочесть вас прочим
соперницам, но теперь уже ничего не исправить, однако знайте, что я покараю их
за ваши страдания и, не имея возможности сделать вас счастливой, сумею,
по крайней мере, заставить их мучиться не меньше вашего. Приближается
роковой день их свадьбы, и скоро вы узнаете, какого рода муки ждут их.
Бурысса, довольная тем, что фея поклялась вступиться за нее,
почувствовала облегчение и, твердо вознамерившись ничем не выдать своей злобы,
с нетерпением стала ждать дня свадьбы, который уже не казался ей столь
ужасным, как только она поверила, что он станет днем ее отмщения.
Часть первая. Книга первая
25
Глава шестая
ДЕНЬ СВАДЬБЫ.
ПРИНЦ ПРИСУТСТВУЕТ ПРИ ТУАЛЕТЕ СВОЕЙ НЕВЕСТЫ
Наконец, ко всеобщей радости, наступил назначенный день свадьбы.
Ослепительная аврора возвестила о нем; ясное безмятежное небо, казалось,
говорило тютюрбанам о том, что божества сочувствуют счастью принца.
Священная Обезьяна26, августейшая покровительница страны, трижды
сделала кульбит на своем постаменте; по правде сказать, она приземлялась на
левую ногу, но никто не придал значения этому, по сути дурному,
предзнаменованию, и все решили, что оплошность, которую совершила Великая
Обезьяна, всегда благоволившая к принцу, была случайной. Даже самые
подозрительные жрецы весьма легкомысленно отнеслись к этому
происшествию. Ни малейшее облачко не омрачало сияния солнца. В это время года
обычно случались грозы, но вот уже целых восемь дней, как не было
слышно раскатов грома. Месяц, на который пришлась свадьба, был самым
счастливым в году, а король совершенно избавился от ревматизма: согласно
давнему предсказанию, это могло произойти только после того, как принц
обручится с достойной невестой.
Уже повсюду разносились завораживающие звуки рыль, улицы были
украшены цветами и листвой, жители Тютюрбании нарядились в лучшие
одежды, стража начистила оружие, одним словом, все говорило зевакам о
пышности грядущих торжеств. В храме раздавалось бормотание жрецов,
готовивших поздравления для августейшей четы. Наконец все было готово, и
Танзай, подгоняемый любовью и радостью, отправился будить принцессу.
Она еще не поднималась и ждала его. Когда он вошел, румянец стыдливости
окрасил ее щеки. Ей хотелось сказать ему что-нибудь приятное, но,
задохнувшись от любви, она сумела лишь прошептать:
- Ах, принц! Ах, милый принц!
Танзай, столь же взволнованный, как и она, не мог выговорить ни слова.
Обычай предписывал королям Тютюрбании в день свадьбы помогать
будущей королеве при одевании27, в то же время Великая Обезьяна запрещала
им терять самообладание при виде прелестей невесты. Принцесса, которой
растолковали эти правила, не удивилась, когда ее служанки покинули покои.
Оставшись наедине с принцессой, Танзай, несмотря на стыдливость Не-
адарне, не преминул воспользоваться правом, дарованным ему дворцовым
этикетом28. С большим трудом ему удалось добиться разрешения извлечь из
глубины перин сокровище, которому он поклонялся: будучи особой
благородного происхождения, принцесса долго пресекала поползновения принца.
Изо всех сил она старалась скрыть от его взглядов прелести, на которые
26
Шумовка, или Танзай и Неадарне
этим же вечером ему предстояло заявить свои права, однако от него не
ускользнуло ничто из того, что оголилось благодаря небрежности убранства,
свойственной всем тем, кто имеет привычку ворочаться во сне.
Сколько соблазнов для Танзая! Вряд ли предписания Великой Обезьяны
остались бы не нарушенными, если бы не благоразумие благочестивой
Неадарне29. Те, кто испытал любовь, утверждают, что для влюбленного
мужчины куда мучительнее созерцать прелести, которыми ему не позволено
насладиться, чем вовсе не видеть их. Если это и в самом деле так, то
положение принца было весьма плачевным. Неадарне, помня историю с подвязкой,
изо всех вил старалась избежать того, что предписывал этикет. Как только
она замечала, что взгляд Танзая ускользал от нее, она тут же старалась
укрыть то, что открывалось из-за спешки, с которой она пыталась спрятать
свое тело от его нескромных взглядов. Было бы несправедливо считать, что
она из хитрости поступала так, - в те времена искусство будить желания, не
имея при этом в виду пойти им навстречу, не было еще столь
распространено, как в наши дни. Женщины прибегали к нему лишь при крайней
необходимости30, а мужчины былых времен не нуждались в том, чтобы к ним
применялись уловки, которых подчас ждут современные ухажеры. К тому же,
принц так горячо любил Неадарне, что ей ни к чему было прибегать к
кокетству. Когда столь прискорбная для него скромность принцессы похитила
у него столько прелестей, он не смог сдержать крика отчаяния.
- Ах, жестокая! - простонал он.
- Увы, мой принц, - ответила она, - а Великая Обезьяна?
- Если бы вы меня любили, - упрекнул он ее, - вы бы выбросили ее из
головы.
- Именно потому, что я вас люблю, - сказала она, - я не могу выбросить
из головы ее угрозы.
Танзай, вздохнув, стал поторапливать ее совершить церемонию
омовения. Тут они заспорили о том, как именно она должна проходить. В конце
концов добродетельность Неадарне взяла верх над упрямством принца. Речь
шла о том, следует ли принцессе облачиться для этой церемонии в
специальную тунику. Танзай сначала придерживался мнения, что это совершенно
лишнее, а затем, согласившись на тунику, захотел собственноручно надеть
ее на Неадарне. Принцесса дала ему свое позволение, решив, что одевание
может пройти с соблюдением всех приличий и что такая услуга бывает
опасна только тогда, когда ее оказывает любовник. Неадарне сочла, что своим
милостивым согласием отделалась от настойчивости принца, но, когда он
принес тунику, между ними снова вспыхнул спор. Он хотел... Чего только он
ни хотел! Он добивался того, что ранило стыдливость принцессы и на что
она никогда бы не пошла, будь у нее больше времени, чтобы образумить
его. Итак, принцесса предстала перед ним во всей своей прелести, и он,
будучи не в силах сдерживать себя, но, вместе с тем, не осмеливаясь забыться,
Часть первая. Книга первая
27
ограничился ласками, которые любовь делает особенно жгучими, когда ей
не позволено большего.
Затем он медленно опустил ее в лохань для купанья, не переставая
восхищаться принцессой и тем, что держит ее на руках. Как только Неадарне
начала омовение, он заметил, что вода, хоть и выглядит прозрачной,
недостаточно чиста для нее. Он непрерывно предлагал ей то одно, то другое,
скакал вокруг лохани: ни разу еще эта процедура не происходила в столь
беспокойной обстановке. В конце концов она вышла из воды, так толком и не
умывшись, но зато убедившись в том, что принц любит ее до самозабвения.
Наконец, после долгих мук, принцу удалось завершить ее туалет, и
Неадарне была готова к выходу их дворца. Никогда еще ее прическа не была в
таком беспорядке, как в тот день, но ее растрепала Любовь; ведь хорошо
известно, что, когда она берется помогать в подобных вещах, трудно ждать
от нее тщательности и что она особенно неловка, когда на нее находит
вдохновение31.
Глава седьмая
ДЕНЬ СВАДЬБЫ:
ПРОДОЛЖЕНИЕ. ШУМОВКА ПУЩЕНА В ХОД.
ВЗДОРНУЦИО ГНЕВАЕТСЯ И ОТКАЗЫВАЕТ ПРИНЦУ
В ЕГО ПРОСЬБЕ
Грянули трубы, зазвучали рожки, возвещая народу о выходе
королевской семьи. Наконец появилась Неадарне в сопровождении принца.
Кутерьма, сопутствовавшая ее туалету, который удалось довершить с таким
трудом, оставила на ее щеках румянец, немало украшавший принцессу и
делавший ее еще более соблазнительной в глазах Танзая. Король поднялся
в карету жениха и невесты. Принц выглядел великолепно, и внушительная
шумовка, прикрепленная к петлице цепочкой, усыпанной драгоценными
камнями, и закрепленная роскошной булавкой, была ему как нельзя более к
лицу.
Неадарне, как и прочие, ломала голову над тем, для чего ему этот
предмет. Никто не догадывался о его волшебных свойствах, и все приписали
странность выбора подобного украшения чудачеству, ибо известно, что
чудачества бывают свойственны принцам, не имеющим привычки опускаться
до объяснений, которых, впрочем, никто и не осмеливается попросить у них.
Среди придворных не нашлось ни одного, кому шумовка не показалась бы
нелепой, однако каждому захотелось иметь точно такую же, и, если бы не
решительный запрет принца32, вскоре все начали бы щеголять при дворе с
28
Шумовка, или Танзай и Неадарне
таким же украшением. Неадарне сгорала от желания проникнуть в тайну,
занимавшую ее воображение, и наконец, улучив удобный, с ее точки зрения,
момент, решилась напрямую задать вопрос.
- О Источник Моей Радости, - обратилась она к принцу, окинув его
нежным взором, - неужели вы так и не расскажете мне, зачем вам эта шумовка?
- О принцесса, - важно ответил он, - от этой шумовки зависит наше
счастье.
- Какое отношение к нам может иметь шумовка? - изумилась она.
- Вскоре вы узнаете об этом, - проговорил принц. - Быть может, вам
придется стать свидетельницей весьма необычных происшествий.
В этот момент они подъехали к храму. Главный Служитель,
окруженный жрецами, уже ждал их. Надобно сказать, что этот человек, занятый не
столько служением божествам, сколько личными амбициями, сумел
добиться такого высокого положения только благодаря собственной гибкости и
интригам. Трусливый, ничтожный, он часто прибегал к своей власти,
которая, имея божественное происхождение, поднимала его над всеми, чтобы
оспаривать волю самого короля. Он был еще молод, и его приятная внешность
помогла ему преуспеть при дворе даже больше, чем его козни. Как теолог
Главный Служитель был никуда не годен, зато он пользовался успехом у
женщин и, пренебрегая своими прямыми обязанностями, усердно исполнял
те, которые налагало на него общество дам, поговаривали даже, что он
попал в понтифики33 Тютюрбании прямо из покоев одной важной дамы. Вздо-
рнуцио придавал большое значение своим одеяниям и следил, чтобы они
выглядели ослепительно, умел слагать вычурные речи, выезжал в прекрасных
экипажах, окружил себя изысканной роскошью, любил вкусно поесть,
отдавал дань всем страстям, был искусен в лести, держался величественно,
прекрасно пел, легко владел любой беседой и стал мишенью для сотни удачных
эпиграмм. Что же касается проповедей, то их писал его секретарь. Главный
Служитель был тщеславен и хотел, чтобы его считали богатым и знатным,
кроме того, он чванился красивой формой губ и великолепными зубами.
Таков был человек, поджидавший принца у храма34.
Танзай, едва его нога коснулась земли, принялся оглядываться в поисках
старушки, о которой говорила Брадакела. Наконец он заметил ее. Она
пряталась за стражей, не желая попасться ему на глаза. Он бросился к ней со
всех ног. Каково же было его изумление, когда он узнал в старушке
кормилицу Бурыссы! Это не остановило его, однако, чтобы смягчить насилие,
которое он собирался учинить над ней, он решил сказать ей что-нибудь
приятное.
- Мне очень жаль, - проговорил он, - что именно на вашу долю выпало
несчастье стать жертвой приказа, который я обязан выполнить. Я буду
чрезвычайно вам обязан, матушка, если вы добровольно согласитесь сделать то,
что я вынужден потребовать от вас.
Часть первая. Книга первая
29
- Что же я должна сделать? - спросила старушка.
- В сущности, совершеннейший пустяк. - пояснил принц. - Видите ручку
этой шумовки? Так вот, вы должны позволить, чтобы я засунул ее вам в рот.
- Мне в рот? Ах ты супостат! - завопила старушка.
- Попрошу без оскорблений, - не теряя достоинства, молвил принц. -
Это совершенно необходимо, и, раз вы так отвечаете на мою доброту,
пеняйте на себя! Эй, стража, схватить ее! - прибавил он.
Старушка, попавшая в руки стражников, вынуждена была
подчиниться принцу. Ей меньше, чем кому бы то ни было, стоило опасаться
предстоящей процедуры, но ручка шумовки была таких чудовищных размеров,
что она не могла смотреть на нее без ужаса. Танзай приблизился к ней и,
не взирая на ее бешенство, попытался проделать то, в чем она
усматривала новое унижение. Он старался изо всех сил, но, несмотря на необъятный
рот кормилицы, ему удалось довести дело до конца, лишь сломав два ее
последних зуба. Многие из собравшихся людей смеялись, другие жалели
несчастную жертву, но никто не понимал, что заставило принца
действовать таким образом. Особенно был изумлен Главный Служитель, крайне
недовольный тем, что эта недостойная сцена происходила у дверей храма.
Он даже высказал свое недоумение вслух, но каково же было его
изумление, когда Зелес-Танзай, вытащив ручку шумовки изо рта старушки,
бросился к нему со словами:
- А теперь, Ваше Преподобие, поторопитесь, все зависит от вашего
усердия!
- Что вы имеете в виду? - спросил Вздорнуцио35.
- А то, - отозвался принц, - что Вашему Преподобию придется
проглотить ручку этой шумовки36.
- Чтобы я! Понтифик! - вскричал Главный Служитель. - Проглотил
ручку этой шумовки?! Надеюсь, вы не рассчитываете, что я отвечу
согласием на подобное предложение?
- Уверяю вас, именно на это я и рассчитываю, - кивнул Танзай. -
Полагаю, вы не сможете ослушаться меня, если узнаете, что от этой процедуры
зависит мое счастье. Вам следует отнестись к моей просьбе снисходительно.
- Черт побери37, Монсеньор, - возразил Вздорнуцио, - пусть Ваше
Высочество и не помышляет об этом! Я уже и не говорю о чести моего
сана, не допускающей того, чтобы я подчинился вам, достаточно было
видеть размер рта, откуда вы извлекли этот предмет. Только безумец
согласился бы выполнить Ваше требование! Если уж вы не сумели засунуть
ручку в эту прорву, не сломав последних зубов, что будет со мной, ведь
у меня-то все зубы целы! Короче говоря, я не стану делать этого.
- Нет, вы сделаете это, - в гневе вскричал принц. - Мое спасение
зависит от вас, - прибавил он, потрясая огромной шумовкой, - и в мои планы не
входит поплатиться счастьем за ваше глупое упрямство!
30
Шумовка, или Танзай и Неадарне
- Клянусь Богом! - возопил Вздорнуцио, - если Ваше Высочество
приблизится ко мне, боюсь, я не смогу отнестись к нему с должным
уважением.
Танзай, желая наказать его за дерзкие слова, хотел было огреть его
шумовкой, но Вздорнуцио проскользнул в толпу жрецов, не собираясь,
видимо, идти на попятный. Народ в силу свойственного ему суеверия
принял сторону Главного Служителя. Льстивые придворные сбились вокруг
принца. Казалось, неминуемо должна начаться война, но тут Танзай
обратился к народу с подробным рассказом о том, откуда у него эта
шумовка, как фея Брадакела приказала ему запихать ручку шумовки в рот
старушке, а затем Главному Служителю и почему он вынужден был
послушаться фею.
Когда он замолчал, Вздорнуцио попросил присутствующих выслушать и
его. Он сказал, что никогда еще Главного Служителя, человека,
состоящего в столь почтенном сане, не принуждали совершить более непристойного
поступка, но что он, оставаясь приверженным своему высокому положению,
все же подчинился бы беспрекословно, если бы ручка имела хоть
какое-нибудь отношение к его функциям или если бы ему довелось хоть однажды
встретить в книгах упоминание о том, что какой-либо Главный
Служитель, в Тютюрбании или вне ее, лизал ручку шумовки при похожих
обстоятельствах.
- Да что я говорю! - добавил он. - Лизал! О небеса! Тютюрбане! Если
бы речь шла только об этом! Нет, насилие, которому меня хотят
подвергнуть, куда более жестоко! Я видел, чего оно стоило старухе, и могу себе
представить, что меня ждет: я лишусь чести и зубов. Черт возьми!
Тютюрбане! Во мне все кипит, когда я думаю об этом! Принц утверждает, что это
необходимо ради его спасения, но должен ли он основывать его на моем
несчастье? Нет, господа, я никогда не соглашусь исполнить волю принца, и,
если он скажет об этом еще хоть слово, я прокляну его именем Великой
Обезьяны и откажусь проводить свадебную церемонию!
Эти страшные угрозы заставили принца побледнеть, Неадарне
заплакать, короля застонать, народ изумиться, а самого Вздорнуцио совершенно
успокоиться.
Танзай, подстегиваемый любовью, совершенно позабыв
предостережения феи, в ужасе думал лишь о том, что его разлучат с принцессой, и
поклялся Главному Служителю, что не станет ничего предпринимать против него.
Тогда Вздорнуцио распахнул двери храма, и тотчас же неприятности и
тревоги уступили место радости и миру, которые были поколеблены столь
неожиданным образом. Неадарне, замиравшая от ужаса при мысли, что
свадьба будет отложена, вышла из кареты. Вздорнуцио, еще пунцовый от гнева,
подвел жениха и невесту к Великой Обезьяне, в присутствии которой они
должны были связать себя навеки сладкими узами.
Часть первая. Книга первая
31
Глава восьмая
МЕСТЬ ОГУРОГУРЫ. ВОЗРАЩЕНИЕ ВО ДВОРЕЦ. НОВОСТИ
Свадебная церемония была в разгаре, когда принцу сообщили, что
старушка, с которой он так ужасно обошелся, просила позволения в качестве
вознаграждения за то, что она претерпела, войти в храм, чтобы посмотреть,
как происходит обряд. Принц охотно дал на то свое согласие, поскольку сам
желал загладить свою вину.
Вздорнуцио, с благоговением воскурив фимиам вокруг Обезьяны, запел
главный гимн и невольно так широко открыл рот, что принц, по-прежнему
размышлявший о шумовке, счел, что вряд ли ему представится более
удобный случай пустить ее в ход. Главный Служитель был целиком погружен в
богослужение, и принцу, скорее всего, удалось бы выполнить приказ феи, но
в тот момент, когда ручка уже коснулась губ Вздорнуцио, старушка так
громко чихнула, что тот, мгновенно выйдя из транса, понял, какую шутку
собирался сыграть с ним принц. Сначала он хотел было прервать
церемонию, но потом, сочтя, что принц и так наказан тем, что его намерения
потерпели крах, решил довести ее до конца.
Он громко и совершенно спокойно произнес надлежащие священные
слова. В это же время старушка невнятно что-то пробормотала и, как
только Вздорнуцио замолчал, с легкостью подпрыгнув, плюнула Танзаю
и Неадарне в лицо38.
- Отныне тебе не удастся забыть о твоей шумовке, - прошипела она, -
месть феи Огурогуры39 заставит тебя проливать слезы до конца твоих дней!
Сказав это, она растворилась в воздухе. Ее неожиданное
исчезновение сильно напугало всех. Неадарне чуть было не потеряла сознания, но
принцу, хотя он был не очень силен в физике, удалось заверить ее, что
старушка исчезла в силу самых обычных законов природы и что не
стоит воспринимать всерьез ее слова о мести, поскольку она не нанесла
вреда ни ему ни ей.
Все сделали вид, что слова принца прозвучали убедительно, но король
пребывал в унынии, вызванном не столько угрозами Огурогуры, сколько
тем, что на протяжении всей свадебной церемонии Великая Обезьяна
беспрестанно кусала свой хвост и скребла левую ягодицу.
Наконец все вышли из храма. Принц немедленно послал слугу в покои
Бурыссы узнать, не вернулась ли туда старуха. Вскоре ему доложили, что
тотчас после своего исчезновения она подлетела к покоям Бурыссы в
карете, запряженной двумя улитками40, рассекавшими воздух с невиданной
скоростью, опустилась прямо перед своей воспитанницей, подхватила ее, и обе
они умчались.
32
Шумовка, или Танзай и Неадарне
Это бегство сильно опечалило короля, который надеялся продержать
колдунью во дворце до тех пор, пока она не согласится снять с новобрачных
проклятие, которое, по его глубокому убеждению, она наложила на них. Но
он скрыл свои мысли, опасаясь, как бы его печальные предположения не
испортили окончательно радость столь торжественного дня.
Танзай, занятый любовью, вовсе не разделял беспокойства отца. Он не
сводил восторженного взгляда с Неадарне, нетерпеливо ожидая минуты
своего блаженства. Принцесса рассеянно слушала его, скромно потупившись, и,
казалось, была погружена в серьезные размышления.
- Скажите же, наконец, принцесса, - не выдержал Танзай, - о чем вы так
глубоко задумались?
- Не знаю, стоит ли мне говорить вам об этом, - ответила принцесса.
- Неужели, - воскликнул принц, - мои опасения верны, и вы через силу
согласились стать моей? Ах! - продолжил он, нежно целуя ей руку, -
успокойте же меня! Скажите, что вы любите меня! Увы! Я перестаю верить в
это, когда долго не слышу от вас слов признания. Поведайте же мне, по
крайней мере, о чем вы думаете.
- Это будет непросто, - промолвила принцесса. - Как бы мне хотелось
выбросить все эти мысли из головы, - добавила она, покраснев. - Мою
стыдливость смущают и тревожат ваши поступки, и мне хотелось бы, чтобы
боги поскорее наслали ночь и тем положили конец моим терзаниям. Вы
говорите, и я восхищаюсь вами. Я смотрю на вас и вздыхаю. Вы касаетесь
меня, и мое сердце трепещет. Вы поцеловали мне руку, и ваш поцелуй проник
прямо в душу. Когда нетерпение заставляет вас тянуться к моим устам, мое
сердце летит вам навстречу, и нежная истома охватывает меня и смущает
мои чувства. Ах, принц! Услада моей жизни! Если существует нечто, еще
более сильное, как пережить это и не умереть?
- Существует ли нечто более сильное? - воскликнул принц. - О,
королева моего сердца! Не говорят ли вам об этом ваши чувства? Не читаете ли вы
ответ в моих?
Трудно сказать, чем бы закончился этот разговор, если бы не было
объявлено, что все готово к пиру. Танзай предпочел бы услышать бой часов,
возвещающих о полночи, однако он отправился к свадебному столу, лелея
надежду, что ему еще удастся уломать Главного Служителя
посодействовать его счастью. Вздорнуцио должен был присутствовать на обеде и, хотя
ему не хотелось являться при дворе при сложившихся обстоятельствах, он
счел за лучшее, из соображений высокой политики, не показывать своих
истинных чувств. Принц решил лаской склонить его на свою сторону и,
встретив его в гостиной, кротко спросил, неужели он из упрямства хочет обречь
его на несчастье.
- Принц, - ответил Вздорнуцио, - мне нечего добавить к тому, что я вам
сказал утром: я уж не говорю о бесчестии, которое падет на меня после ис-
Часть первая. Книга первая
33
пытания, которому вы хотите меня
подвергнуть, - сами размеры ручки
таковы, что я никогда не соглашусь
подчиниться вам.
- Так вот как вы заботитесь обо
мне! - вспылил принц. - А еще
трубите повсюду о вашем усердном
служении принцу! Предатель!
- Оставьте ваши оскорбления, -
сказал Служитель, - они ничего не
изменят. Я глубоко уважаю вас,
искренне люблю, и желаю вам только
добра, но я не обязан становиться
жертвой ни своего уважения, ни
своей любви к вам; когда я приносил
вам клятву верности, ни о какой
шумовке и речи не было.
- И все же вам придется
покориться, наглец! - в гневе завопил
принц. - Вы покоритесь, - прибавил
он, схватив Вздорнуцио за руки.
- Черт побери! Монсеньор, вы
напрасно стараетесь! - закричал
Вздорнуцио. - Ни сила, ни просьбы
вам не помогут!
Несмотря на все
сопротивление Вздорнуцио, Танзай, куда
более крепкий, поднес уже было
ручку злополучной шумовки к его
рту, когда король, прибежавший на шум, поспешил напомнить принцу,
что фея запретила ему применять к Служителю силу, и растолковать,
что, действуя таким образом, он лишь окончательно разозлит
достойного человека, а сам останется ни с чем. Вмешательство короля спасло
Вздорнуцио. Принц отпустил его, снова пообещав больше не вспоминать
о шумовке. Успокоившись, Вздорнуцио занял свое место за столом,
благословил блюда, и сердца опять наполнились радостью. Но Танзай не
собирался отказываться от своего плана. Он надеялся, что сможет
выполнить приказ феи, когда Вздорнуцио выпьет изрядное количество
вина и уснет прямо за столом, как это частенько с ним случалось.
Поэтому он то и дело наполнял его бокал, так что Вздорнуцио в
одиночестве опустошил столько бочек вина, сколько не осилили бы все прочие
гости вместе взятые. Но и эта мера ни к чему не привела. Вздорнуцио ел,
2. Кребийон-сын
34
Шумовка, или Танзай и Неадарне
пил, разглагольствовал, пел и не пьянел. Наконец пир окончился.
Остаток дня прошел в развлечениях, которые обычно устраивались в день
свадьбы принцев. Как скучны показались они Танзаю! Как мечтал он о
том, чтобы всему этому поскорее пришел конец! Какой нескончаемо
длинной показалась ему комедия, хотя она была сочиненна им самим! Он
вынужден был еще и присутствовать на ужине, что он и сделал, скрепя
сердце. Неадарне, с которой он не сводил глаз, разделяла его
нетерпение. Король имел глупость предложить сыну отправиться на бал, но
Танзай, которого любые увеселения приводили в тот вечер в уныние,
схватил Неадарне за руку, пожелал Цефаэсу приятно провести время и увлек
невесту в свои покои.
КНИГА ВТОРАЯ
Глава девятая
БРАЧНАЯ НОЧЬ
О Светлейшая Обезьяна! Царица природы! Животворящий зрак мира!
О Солнце! Замедли свой бег, и пусть твои божественные лучи осветят
счастье нашего принца! После этих восклицаний1, которые я, быть может,
передаю не совсем точно, автор-тютюрбанин повторяет, что принц, как уже
говорилось в конце предыдущей главы, увлек Неадарне в свои покои. Как
свидетельствует история, Танзай мгновенно разоблачил принцессу, проявив
при этом гораздо большую сноровку, чем утром, когда участвовал в ее
одевании. Смущенная принцесса слабо сопротивлялась, не осмеливаясь
взглянуть на него. Восторги Танзая удивляли ее: Она хотела немного
приструнить принца, но чувство долга мешало этому намерению, а любовь, нежная
и горячая, делала ее доверчивее и заставляла забыть о стыдливости.
Наконец Танзай опустил принцессу на брачное ложе. Вскоре и он вспорхнул
вслед за ней и принялся пожирать глазами красоты, припасенные для него
Гименеем. Он целовал то, на что падал его взор, а затем снова принимался
любоваться тем, что он только что поцеловал. Его нетерпеливые руки
скользили по ее телу. Вскоре Неадарне почувствовала, что стыдливость
уступает место новым, незнакомым ей доселе ощущениям; она вздохнула, и
сладкий поцелуй возвестил о том, что она, уступив тому, что родилось в ней
благодаря нежности Танзая, пробудилась для любовных восторгов. Томный
ласковый шепот и вздохи наполнили комнату, и Танзай уже предвкушал
близкое блаженство, как вдруг почувствовал, что, испытывая прежние
желания, не имеет прежних сил, чтобы осуществить их. Изумившись столь
неожиданному повороту событий, он еще крепче сжал принцессу в объятьях,
но, увы! все было тщетно. Напрасно он старался справиться с несчастьем,
пламенно лаская принцессу; все разжигало в нем пыл, но ничто не
возвращало ему того, что могло бы доказать его страсть. Смущенный, расстроен-
2*
36
Шумовка, или Танзай и Неадарне
ный происходящим, он отстранился
от Неадарне, надеясь, что минутная
слабость пройдет и что принцесса
придет ему на помощь.
Но каково было его изумление,
когда он, мечтая о спасительной
ласке пальчиков, столь любимых им,
вдруг заметил, что для них нет поля
деятельности! Предмет, который он
намеревался поручить доброте
принцессы, исчез. С ужасом он осознал
все последствия этой потери, и, чем
невероятнее она ему казалась, тем
более он проникался мыслью, что
она невосполнима2.
- О Обезьяна! О
Справедливейшая Обезьяна! - воскликнул он. - О,
принцесса! О проклятый день! О
чертов Главный Служитель!
- Что с вами? - удивилась
принцесса. - В чем причина вашего
отчаяния? Не могу ли я помочь вам?
- Ах! - ответил Танзай. - Мое
несчастье станет и вашим! Как бы я
хотел, чтобы оно касалось только
меня!
- Не томите меня, - вымолвила
принцесса. - Откройте же мне, в чем
причина вашего горя?
- Тогда смотрите сами, - сказал принц. - Вам судить, прав ли я, сетуя на
то, что со мной произошло нечто неслыханное и ужасное.
Принцесса присмотрелась к Танзаю, и, хотя, по ее собственному
признанию, она не знала, как именно он должен выглядеть в эту минуту, ее
несказанно поразило то, что она увидела.
- О бедный принц! - промолвила она, нежно целуя его.
- Прошу вас, - сказал он, - избавьте меня от ласк, которые лишь
усугубляют мое отчаяние. Впрочем, нет, - добавил он, обнимая ее, - идите ко мне.
Только вы можете вернуть мне то, что я утратил. Ах! Если вы не сделаете
меня прежним, я пропал!
Сказав это, он опрокинул ее на брачное ложе. Вожделение пробудилось
в нем с прежней силой, и он не понимал, почему оно не помогает ему снова
обрести то, что он потерял. Прелести, открывавшиеся благодаря его бур-
Часть первая. Книга вторая
37
ным порывам, заставляли его стонать от бешенства. Наконец, измученный
яростью и бессилием, он вытянулся рядом с принцессой, не зная, что и
подумать о приключившейся с ним беде и не осмеливаясь загадывать, что будет
с ними дальше.
Глава десятая
БРАЧНАЯ НОЧЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ.
КАКУЮ ШУТКУ СЫГРАЛА ШУМОВКА С ТАНЗАЕМ
- Но, принц, - обратилась Неадарне к Танзаю, - почему бы вам не
объяснить мне, откуда такое отчаяние? Расскажите, что за преображение
произошло с вами? Ради вас самих, дорогой мой принц! Я сгораю от
любопытства.
- Что ж, - сказал Танзай, - я удовлетворю ваше любопытство. - Вы,
сами того не желая, лишь усугубили и без того отчаянное положение, не знаю,
как я смогу вынести горе, против которого и вы бессильны. Вы - предмет
моего обожания, моих самых пленительных грез! Ваши прелести должны
были встретить совсем иной прием, чем тот, что я им оказал.
- Но, - возразила принцесса, - разве с другими не случается порой нечто
подобное?
- Возможно, - ответил принц, - что и другие в такой же ситуации
испытывают слабость, препятствующую блаженству, однако эта слабость,
являющаяся результатом слишком сильного чувства, не длится долго и ее легко
побороть при помощи той же любви; но в данном случае и ваше сочувствие
бессильно. Ни ваша, ни моя нежность не спасет меня. Я расскажу вам, как
горестна моя участь.
И Танзай поведал принцессе о предупреждениях Брадакелы, о том, как
она подарила ему шумовку и объяснила ее назначение, о своем гневе на
Вздорнуцио, которого он винил в печальных событиях этой ночи.
- Никогда бы не подумал, - добавил он, - что столь славный день
послужит началом моих бед и закончится так ужасно. День, который должен был
стать самым прекрасным в моей жизни, навлек на меня позор, которого я
отродясь не видывал. Скажу без хвастовства (возможно, он все-таки
хвастался), уж кто-кто, но не я мог ожидать подобного казуса. Брадакела так
щедро одарила меня, что я просто теряюсь в догадках, как это ее подарок,
ставший мне особенно дорогим с тех пор, как я возмечтал, что и вы
порадуетесь ему, мог испариться столь нечувствительным для меня образом.
Сказав это, он зарыдал.
38
Шумовка у или Танзай и Неадарне
- Ну, полно! - сказала Неадарне, целуя его. - Неужели вы думаете, что
это происшествие заставит меня меньше любить вас? Нет, принц, только
ваше отчаяние мешает мне вознести за него хвалу Небесам. Возможно,
достигнув желаемого, вы разлюбили бы меня, а теперь мне дарован шанс
навсегда сохранить вашу любовь. Мне было бы приятнее видеть вас счастливым,
но разве я не рисковала бы при этом вашим чувством, которое, возможно,
стало бы быстро угасать. Что может быть лучше для меня, чем всю жизнь
чувствовать себя любимой! Есть ли большее блаженство для нежных
сердец? Чего стоят удовольствия, которые вы так оплакиваете, без истинной
любви? Нет, дорогой принц, ничто не сравнится с наслаждением, которое я
испытываю, снова и снова повторяя, что люблю вас. К тому же, чего мы,
собственно говоря, лишились? Сладкий восторг, который вы вызвали во
мне и который я и сейчас испытываю рядом с вами, никак не связан с тем,
чего у вас больше нет. Разве я не могу поцеловать вас? Разве вы не можете
ответить мне ласками? Так стоит ли преувеличивать наше несчастье?
- Ах, Неадарне, - с тоской воскликнул принц, - вы заговорили бы по-
другому, знай вы только, что способно творить то, что я утратил.
- Пусть так, - проговорила она, - пусть вы жестоко горюете, пусть мы
лишились всего, но наш союз ничто не разрушит!
- Надеюсь, - ответил принц. - Но не кажется ли вам, что нашему союзу
не повредило бы, останься я таким, каким был?
- Принц, - сказала она, - Боги пришли нам на помощь в этой
затруднительной ситуации. Вот какую мысль они мне сообщили. Должно быть, фея
неспроста дала вам эту шумовку. Подобный подарок слишком нелеп, если
он не обладает особыми свойствами. Тем, что с вами произошло, вы
обязаны гневу Огурогуры. Я уверена, что, приложив должным образом шумовку,
мы рассеем злые чары.
- Ах! - вскричал Танзай. - Сумеют ли Небеса отблагодарить вас за этот
совет! Какое счастье, что и в горе вы способны так здраво мыслить!
Принц метнулся к шумовке и стал торопливо отвязывать ее от петлицы.
Затем он с силой принялся тереть себя ею, то и дело спрашивая у
принцессы, не замечает ли она изменений. Когда Неадарне в очередной раз
ответила, что ничего не произошло, принц хотел было продолжить, но шумовка не
поддалась: она вросла в его тело, и никакими силами невозможно было ее
оторвать. После долгих мучительных попыток избавиться от шумовки
принц вынужден был оставить все, как есть. Он ломал себе голову над тем,
как поступить, если шумовка так и останется висеть на нем. Наступило
утро. Принцесса, сморенная усталостью, легла спать, призывая принца
последовать ее примеру.
Но Танзай был слишком занят приключениями этой ночи, чтобы
воспользоваться ее советом. Остаток ночи он провел в напрасных попытках
справиться с новой бедой. Больше всего его волновало, как скрыть шумов-
Часть первая. Книга вторая
39
ку от взоров придворных, чтобы не стать всеобщим посмешищем. Он
пробовал сложить ее, надеясь тем самым придать ей более приличную форму,
но, сколько он ни старался, ему не удалось согнуть ее ни на йоту. Когда же
он, направив шумовку вверх, с силой прижимал ее к телу, она полностью
закрывала ему лицо, что представляло крайнее неудобство. Наконец,
осаждаемый самыми мрачными мыслями, он заснул. Боль и огорчение совершенно
уморили его, и он спал так долго, что Неадарне, пробудившаяся раньше Тан-
зая, имела достаточно времени, чтобы внимательно рассмотреть страшный
подарок Брадакелы. Танзай, испробовавший разные позы, в конце концов
заснул на спине, так что шумовка лежала на августейшей особе. Неадарне
созерцала принца, раздумывая над тем, стоило ли то, что утратил принц,
того, что приобрел.
Глава одиннадцатая
СОБЫТИЯ, НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ОСОБЕННОГО ИНТЕРЕСА.
КОРОЛЬ СОЗЫВАЕТ СОВЕТ. ЧТО РЕШИЛИ МИНИСТРЫ
Принц все еще крепко спал, когда король, беспокоясь о том, насколько
успешно прошла ночь, вошел в покои сына в сопровождении свиты и
начальника стражи. Увидев чудесную форму, в которой пребывал принц, он
восхитился его очередным талантом и, смеясь, позволил себе несколько
шуток по поводу того, как провела ночь принцесса. Придворные, пораженные
неслыханным размером орудия любви, обменялись соображениями более
пристойного характера относительно состояния, в котором должна
находиться Неадарне после подобного испытания. Никто не понимал, как
принцу удавалось так долго скрывать столь внушительные формы. Король, чуть
придя в себя от радостного возбуждения, счел невероятным, что, пребывая
в таком состоянии, принц спит, и подошел к ложу, чтобы разглядеть сына
поближе. В этот момент Неадарне задела полог, и взорам потрясенных
зрителей представилась вросшая в тело принца шумовка.
- О Жестокая Обезьяна! Что я вижу! - завопил Цефаэс.
Принц, пробудившийся от этого вопля, в ужасе обнаружил, что
приключение, которое он больше всего на свете хотел бы скрыть от всех, теперь
известно придворным, но не растерялся и, чтобы выпутаться из
затруднительной ситуации, сказал отцу, что час назад они с Неадарне забавлялись
шумовкой, и принцесса поспорила, что ее невозможно удержать в равновесии,
расположив так, как она сейчас лежит, а он принял вызов и тут же доказал ей,
что в этом нет ничего сложного, после чего заснул, и, что удивительно, шу-
40
Шумовка, или Танзай и Неадарне
мовка осталась в прежнем положении. Хотя это объяснение выглядело
довольно нелепо, придворные сделали вид, что поверили ему, и удалились,
дабы дать возможность принцессе подняться. Оставшись наедине с отцом,
принц поведал ему о прискорбных событиях ночи и поделился с ним
опасениями, что ему не удастся носить шумовку так, чтобы она оставалась
незаметной окружающим. Цефаэс после глубокого раздумья предложил не
менее двадцати способов, как избежать огласки, один нелепее другого, и в
конце концов признал, что его сын попал в крайне затруднительную ситуацию.
Танзай решил попробовать распилить шумовку, но она не поддалась ни
одному лезвию. Король совершенно растерялся и, оставив молодых супругов,
отправился созвать Совет. Когда министры явились, он рассказал им о том,
что приключилось с принцем. Эта новость нисколько никого не удивила.
История с игрой в равновесие, вопреки надеждам принца, всеми была
воспринята с недоверием, и в народе уже началось брожение: никто не знал с
точностью, о чем идет речь, но слухи уже поползли по городу. Говорили, что
у принца шумовка на том месте, где Неадарне рассчитывала обнаружить
нечто менее объемное, но более существенное. Некоторые даже утверждали,
впрочем, только на ушко, что Танзай превратился в шумовку и в виде
шумовки прогуливался по открытой галерее своих покоев и даже беседовал с
одним из дворцовых стражников.
Несмотря на всю свою несуразность, этот слух набирал силу3, поскольку
народ, глупый и наивный в одинаковой степени, склонен верить именно в то,
что менее всего походит на правду. Министры, сообщив королю об этих
слухах, стали наперебой давать советы, как помочь Танзаю. По мнению одного
из них, следовало сшить платье особого покроя, другой настаивал на том,
чтобы согнуть шумовку, третий не сомневался, что ее удастся распилить, а
Вздорнуцио посоветовал обратиться к Великой Обезьяне.
- Черт побери! - вскричал король. - Все это уже навязло у меня на
зубах. Я жду от вас свежего совета, чего-нибудь такого, о чем я не думал.
- Ум Вашего Величества столь остр, что мы не в силах...
- Что за чертов Совет! - в бешенстве взревел король. - Никогда еще я
не видел столько тупиц разом! Но что же делать?
- Все, что будет угодно Вашему Величеству! - отвечали министры
хором.
Ярость короля достигла уже высшей точки, когда один из его
советников, в прошлом ловкий хирург, вызвался избавить принца от шумовки при
помощи ножниц. Он сказал, что сначала сделает небольшой надрез4, а затем
увеличит его вокруг scrotum5, что, несомненно, приведет к успеху.
Возможно, добавил он, принц не вынесет этой процедуры, но в любом случае это
будет запоминающаяся операция. Сначала король хотел подвергнуть дерзкого
врача страшным пыткам, но члены Совета принялись уговаривать его
проявить милосердие и заменить эту кару повешением. В этот момент Вздорну-
Часть первая. Книга вторая
41
цио опять упомянул Обезьяну, сказав, что видит единственный выход в том,
чтобы отправиться к ней и попробовать выведать, в чем состоит промысел
судьбы. Министры, не зная, что сказать, поспешили согласиться с ним и
разошлись. Король вернулся к сыну, а Вздорнуцио отправился в храм, чтобы
подготовить Обезьяну к прорицаниям.
Глава двенадцатая
ПРОРИЦАНИЕ ОБЕЗЬЯНЫ. ОТЪЕЗД ПРИНЦА
Вздорнуцио, узнав о несчастье, постигшем принца, возрадовался, что
отомщен, и принял не слишком-то искренне участие в происходящем.
Поскольку именно Главный Служитель диктовал Великой Обезьяне все ее
прорицания и волен был толковать их так, как ему вздумается, он решил
воспользоваться представившимся ему случаем, чтобы свести счеты с
принцем. Он мог бы проявить милосердие, но Вздорнуцио был оскорблен
перед всем народом, и оскорблен жестоко, однако, чтобы задуманная им
месть не тяготила его совесть, он внушил себе, что половина бесчестия
должна пасть на Обезьяну. Теперь получалось, что не он преследует
принца, а само божество восстает против него; что же до божества, то оно в
покое и холе пребывало в храме, ни мало не заботясь об обиде, нанесенной
его Служителю. Вздорнуцио сидел в святилище и размышлял над тем,
какую фразу следовало вложить в уста оракула, когда вдруг перед ним
появилась фея Огурогура.
- Я разделяю твою злобу, - сказала она, - нам обоим нанесли
оскорбление, требующее отмщения. Не волнуйся, я сама скажу все, что нужно. Уж
будь уверен, я тебя не оставлю и отомщу за нас обоих.
Вздорнуцио, который вообще был крайне набожным, принялся горячо
благодарить Огурогуру. Он все еще продолжал петь похвалы ее доброте,
когда в храм вошел король. Служитель тотчас же начал курить фимиам
вокруг Обезьяны, и, когда он громко спросил ее, что следует делать принцу,
Огурогура, ставшая невидимой, невнятно пробормотала голосом великой
прорицательницы :
Ему уехать и долго путь держать,
Возлечь на ложе и вернуться вспять6.
Король долго ломал голову над этой загадкой и, еще более сбитый с
толку, чем раньше, побежал к принцу, который, так и не избавившись от
злого заклятья7, лишь понапрасну изводил Неадарне.
- Что все это значит? - спросил Танзай, выслушав отца.
42
Шумовка, или Танзай и Неадарне
- О! Я очень даже хорошо понимаю, что все это значит! - воскликнула
Неадарне. - Ах, если бы Боги сделали для меня смысл этот прорицание
столь же темным, как для вас!
- Но почему вы так встревожились, принцесса? - снова спросил Танзай.
- Да потому, - ответила она, - что, согласно оракулу, вы должны
покинуть меня, и это не единственное несчастье, которое предчувствует мое
сердце. После долгого пути вам следует возлечь на ложе...
- Ах! - воскликнул принц. - Вряд ли вам стоит об этом беспокоиться,
учитывая мое состояние. Вы плачете? Судьба дарует мне способ справиться
с нашим несчастьем! Вы боитесь, что я обману вас? Поверьте, даже богиня
красоты не заставит меня забыть вас и броситься в ее объятия; ваш образ
всегда будет сопровождать меня, и только он приведет меня к
выздоровлению!
Неадарне плакала, не отвечая на его речи. Принц, хотя и был растроган
ее слезами, сразу же занялся подготовкой к отъезду и, после нежных
объятий, клятв в верности и обещаний вернуться как можно скорее, в
одиночестве покинул дворец и сел на лошадь, что было нелегко из-за нелепой
шумовки, которую в конце концов ему удалось пристроить между ушами своего
скакуна. Перед тем как пуститься в путь, он попросил отца собрать на Совет
всех жрецов и государственных мужей, чтобы те приговорили Вздорнуцио к
шумовке на случай, если ее вновь можно будет использовать.
Глава тринадцатая
УДИВИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА С ФЕЕЙ У КИПЯЩЕГО ЧАНА
Принц проехал уже три или четыре королевства в раздумьях о том,
скоро ли и в каких землях закончится его путешествие, когда, пересекая
сумрачный лес, наткнулся на старую женщину, кипятившую в чане травы, от
которых образовалась густая-прегустая пена, что, видимо, причиняло ей
большие неудобства, тем более что ей нечем было ее снять8. Глядя на муки
бедной женщины, принц искренне посочувствовал ей.
- Должно быть, - заметил он, - ваше занятие очень утомительно.
- Сеньор, - ответила она, - мое занятие утомительно, потому что у меня
нет шумовки.
- Значит, мы печалимся о разных вещах, - проговорил принц, - ибо
меня утомляет как раз то, что у меня есть шумовка.
- Ах, добрый незнакомец, - воскликнула старушка, - не отдадите ли вы
мне ее? Я дам вам за нее все, что захотите!
Часть первая. Книга вторая
43
- Я бы с радостью оказал вам эту услугу, - ответил принц, - но шумовка
так крепко вцепилась в меня, что, думаю, я не сумею отделаться от нее.
Впрочем, я могу снять пену с вашего варева, если это так вам необходимо.
Он спрыгнул с лошади и попросил старушку отойти в сторону, не желая
показывать ей, во что именно вцепилась шумовка, или же просто из
свойственной ему от природы стыдливости.
Как только старушка удалилась на должное расстояние, он усердно
принялся за дело, крепко зажав руками шумовку. Не прошло и минуты, как
шумовка отделилась от его тела. Увидев это, Танзай испустил радостный вопль
и, когда старушка приблизилась к нему, открыл было рот, чтобы поведать
ей свою историю, как вдруг она остановила его.
- Принц, - сказала она, - я вас знаю; мне было известно, что вам не
миновать этих мест и что мы сумеем оказать друг другу взаимную услугу. Я -
фея. Чтобы придать моему отвару волшебную силу, мне нужно было снять
с него пену заколдованной шумовкой, которую вам подарила Брадакела. Но
и я помогла вам, надеюсь, не в последний раз. Вы держите путь на
Комариный остров...9
- О! Вы помогли мне справиться с большим затруднением! Признаюсь,
я не знал, куда я держу путь. А как попасть на этот остров?
- Этого я не имею права вам сказать, - ответила фея.
- Ну вот, новое затруднение! - огорчился принц. - Возможно, мне
следует вернуться домой. Честно говоря, все это мне изрядно надоело. Могу ли я,
по крайней мере, спросить, что я должен сделать на этом острове?
- А разве прорицания Великой Обезьяны не достаточно ясны? Вас ждет
романтическое приключение.
- Романтическое приключение! На Комарином острове! - простонал
он. - Но скажите, прошу вас, что за красавица живет там?
- Не думайте об этом, - со смехом ответила фея, - просто постарайтесь,
чтобы в ответственный момент вам не отказало мужество!
- Ваши слова, - заметил принц, - заставляют меня предположить самое
дурное, поскольку женщины, в общении с которыми необходимо проявлять
мужество, обычно не из тех, ради кого оно просыпается. Но, кажется, вы
обещали помочь мне? Правда, вы избавили меня от шумовки, но это не
слишком продвинуло меня: на что я способен в таком виде? Пусть дама,
ради которой я пустился в долгий путь, не слишком интересует вас, все же вы
должны сделать так, чтобы я смог, не краснея, появиться перед ней.
- Это не в моей власти, - покачала головой фея. - Только любящая
женщина способна вернуть вам то, что вы утратили. Но, поскольку робость
может свести на нет ваше лечение, а вам нельзя ударить в грязь лицом, я дарю
вам флакон моего отвара: вы сами убедитесь, что его не зря прозвали
бодрящим. В ту ночь, когда, избавившись от злых чар, вы соберетесь
отправиться в постель, не забудьте выпить все, что есть в этом флаконе.
44
Шумовка, или Танзай и Неадарне
- В таком случае, - сказал принц, - быть может, вы проявите большую
щедрость: не думаю, что мне придется часто прибегать к вашему отвару, однако,
всякое случается, и мне хотелось бы иметь небольшой запас этого снадобья.
- Понимаю, - кивнула фея. - Я исполню вашу просьбу: вернувшись в
Тютюрбанию, вы найдете в вашем кабинете тридцать бутылочек с отваром.
Прощайте, первый же взнузданный и оседланный комар, которого вы
увидите, доставит вас туда, куда нужно.
Фея исчезла, а принц, прикрепив шумовку, спрятал флакончик и
взгромоздился на своего скакуна. Он думал не столько о скором выздоровлении,
сколько о том, как будет происходить его исцеление.
Глава четырнадцатая
ПРИНЦ ПРИБЫВАЕТ НА КОМАРИНЫЙ ОСТРОВ
Не успел Танзай проехать и нескольких лье, как повстречал комара,
обещанного феей. Своими размерами он раза в три превосходил коня
принца10, и Танзай, увидев это огромное животное, чуть не умер от ужаса,
однако тут же взял себя в руки и проворно спешился. С поистине геройской
отвагой он доверился зверю, и тот, едва почувствовав, что Танзай оседлал его,
немедленно взмыл в небо. Наступила ночь, но принц все еще был в пути. Он
уже решил, что его путешествию не будет конца, когда комар камнем упал
на остров, жужжащий так, что можно было оглохнуть. Принц сразу же
понял, что попал на Комариный остров, и, терзаемый догадками
относительно уготованной ему участи, двинулся за своим проводником к великолепному
дворцу.
У ворот его поджидали роскошно разодетые комары; другие играли для
него на различных музыкальных инструментах. Всем известно, что комары
обладают приятными голосами: те из них, кто обучался музыке, принялись
распевать канты11 в честь принца, и это был самый странный концерт из
всех, какие ему доводилось слышать в своей жизни. Танзай, видя столь
ласковый прием, успокоился. Его проводили в пышные покои, где он был
встречен глубокими реверансами кокетливо наряженных сов12. Одна из них,
после того как с первыми церемониями было покончено, чарующим
голосом спросила принца, не хочет ли он умыться с дороги. Ошеломленный
новым приключением, принц кивнул. Тогда совы окружили Танзая с явным
намерением совлечь с него одежды.
- Сударыни, - сказал им принц, - мне кажется, вам не приличествует
утруждать себя подобной услугой.
Часть первая. Книга вторая
45
- Конечно, нам и в голову бы не пришло предлагать услуги такого
свойства другому, - ответила сова-распорядительница, - но нам известно, что
вам нечем оскорбить нашего целомудрия.
Услышав это, Танзай покраснел и, не найдя, что ответить, погрузился в
лохань для купания, стараясь укрыться от взглядов с тщательностью,
которую он вряд ли стал бы проявлять, будь он во всеоружии.
- Вот уж, действительно, сеньор, - насмешливо заметила одна из сов, -
какая похвальная скромность! но она меня не удивляет, вы редкостная
птица; ведь вы совсем не похожи на других мужчин.
- Я полагаю, - ответил взбешенный Танзай, - что кому-кому, а вам
уникальность, вызывающая ваше восхищение, не в такую уж диковинку.
- Принц, - проговорила сова, - кажется, вы грубите.
- Черт подери! - воскликнул принц. - Вот уже битых два часа я
выслушиваю от вас дерзости. Послушайте, моя чаша терпения и так переполнена,
а я не привык почтительно обращаться с совами.
Сова, боясь вывести принца из себя, замолчала, а Танзай вышел из
лохани13, благоухая, как герой, которого ждут подвиги самого нежного свойства.
- А теперь, - обратился он к сове, - будьте так любезны, объясните мне
все толком. Кому я обязан этими заботами? Чей это дворец? Что все это
значит? Что от меня нужно говорящим совам и вооруженным комарам? Кто
вы? Почему вы так разодеты?
- Неужели, - отвечала птица, - вам еще ни разу не доводилось видеть
прилично одетую сову? Но вам не стоит так волноваться. Успокойтесь,
судите сами, разве оказанный вам прием уже не говорит о том, что ждет
вас? Поверьте, прелести той, кто любит вас, ничуть не уступают ее
могуществу. Вообразите красавицу, которой еще не рождали небеса, и вы
получите лишь отдаленный образ той, которая ждет вас. Больше я вам
ничего не скажу, вскоре вы сами убедитесь в моей правоте. Раскрасавица,
предназначенная вам, предстанет перед вашими очами сегодня ночью.
Только она сможет снова придать вам форму, которой вы, видимо,
дорожите, раз уж с вами нельзя пошутить на эту тему, не рискуя навлечь на
себя ваш гнев.
Танзай, которого беседа с феей у кипящего чана не слишком-то
обнадежила, слушая, как сова расписывает ждущие его удовольствия,
почувствовал, что у него немного отлегло от сердца. Он поверил, что удостоится
чести разделить ложе с ослепительной богиней и что в этом нет ничего
странного, поскольку, удостоив своим вниманием простого принца, она куда
меньше поступится честью, чем многие другие титулованные особы,
которых любовь и капризы чуть ли не ежедневно толкают на самые
ошеломительные поступки. Предвкушение предстоящей ночи настолько
взволновало его, что он почти забыл о той, другой ночи, когда он не сумел
воспользоваться добротой Неадарне. Танзай даже решил, что Неадарне, несомненно
46
Шумовка, или Танзай и Неадарне
являвшаяся самым совершенным творением богов, все же должна уступать
той, которой предстоит оказаться в сетях его желаний; любовь к принцессе
потеряла свою остроту, и все его восторги отныне принадлежали
таинственной богине. Влюбленные так часто бывают слепы! Случается, что они
легко жертвуют возлюбленными, вверившими им свое сердце и тело, во имя
одной только мысли о новой победе.
Сова, видя, что Танзай витает в облаках, снова обратилась к нему с
такими словами:
- Принц, я понимаю, какие мысли рождает столь лестное для вас
приключение, но постарайтесь немного развеселиться. Ваша возлюбленная
смертельно ненавидит молчунов, и, насколько мне известно, не менее
тысячи поклонников лишились ее милости по этой причине.
- Не менее тысячи! - воскликнул Танзай. - Должен ли я понимать ваши
слова буквально?
- Конечно, - ответила сова. - Я нисколько не преувеличиваю: вас
опередило две тысячи счастливцев, и более двух тысяч ждут своей очереди; вы
можете судить по столь значительному числу воздыхателей, насколько сильны
чары богини.
- И насколько велика ее доброта, - добавил принц.
- Как я понимаю, - продолжала сова, - вы охочи до новых побед.
Поэтому я советую вам поменьше деликатничать в миру, иначе вы рискуете
оказаться не у дел. Воспользуйтесь же дарованной вам ночью и тем вниманием,
которое уделяется тому, кто, если уж говорить откровенно, может его и не
оправдать...
- Я уже говорил вам, мадмуазель, что мне не по вкусу ваши колкости и
шутки, к тому же крайне дурного толка. Прекратите, или я вынужден буду
покинуть вас.
Скорее всего, сова, корчившая из себя жеманницу14 и претендовавшая на
остроумие, не смогла бы долго держать язык за зубами, но в это время
появился комар-дворецкий и объявил, что ужин подан. Принц сел за стол в
одиночестве. Легко представить себе изысканный вкус и великолепие блюд:
ведь их выбирала сама любовь. Танзай, отнюдь не считавший, что
гурманство является пороком15, ел за обе щеки, изредка перебрасываясь
несколькими словами с совой, которая ему не слишком-то нравилась. Покончив с
трапезой, принц запил кушанья бодрящим отваром. Сова расхохоталась самым
обидным для него образом.
- Принц, - сказала она, - уж вам-то, конечно, меры предосторожности
не повредят! Должно быть, этот напиток предохранит вас от неприятностей,
к которым вы привыкли.
- В любом случае, - парировал принц, - этот отвар, каким бы
целительным он ни был, утратил бы свои волшебные свойства, если бы мне
пришлось иметь дело с таким чучелом, как вы.
Часть первая. Книга вторая
47
- Возможно, я не так уж хороша собой, - ответила сова, - но, кто знает,
быть может, настанет момент, когда вы будете мечтать о такой, как я.
- Должно быть, вы давно не смотрелись в зеркало, - заметил принц, -
или же вы самым нелепым образом возомнили о себе невесть что.
Глава пятнадцатая
О ТОМ, КАК ЛЕГКО ОБМАНУТЬСЯ
В СВОИХ ОЖИДАНИЯХ
В этот момент принцу сообщили, что Ее Божественность вскоре
предстанет пред ним. При этой новости сердце его бешено забилось;
подстегиваемый безумным любопытством, он без всяких возражений позволил совам
раздеть себя. Они облачили его в халат и провели в роскошные покои,
наполненные запахом благовоний, которые курились в золотых сосудах и
будили чувственность. Принц, томимый нетерпением и желанием, прошел
пять или шесть огромных залов и наконец оказался в спальне, где его
ждала Богиня. Предназначенное принцу сокровище возлежало на ложе,
которое возвышалось на столбах из рубинов и было украшено драгоценными
камнями. Принц замер, ослепленный сиянием, но глаза его жадно искали
Совершенство, о котором он был наслышан. Издали он заметил, что кто-то
шевелится на приготовленном ложе, но очертания тела показались ему
столь безобразными, что он решил, что это прыгает обезьянка Богини. Тан-
зай направился к ложу, и сова, пожелав ему доброй ночи, удалилась.
Вожделение пожирало принца, но, удерживаемый робостью, он словно врос в
землю там, где его оставила сова.
- Подойдите же, принц, - услышал он голос, - не теряйте попусту
драгоценных минут, отпущенных нам любовью.
Послушавшись совета, принц взмыл на ложе.
Оказавшись там, куда он так стремился, принц осмотрелся и
остолбенел, узнав в набеленной, нарумяненной прелестнице в бантах и кружевах
фею Огурогуру. И действительно, это была она собственной персоной.
Чтобы встретить принца подобающим образом, она унизала свои
совиные уши красивыми камнями. Ее плешивую голову обвивал
светло-коричневый ободок16, украшенный цветами и сорной травой, волосы были
забраны назад, и, чтобы придать себе привлекательности, она
нахлобучила на макушку белый чепчик в розовую крапинку и кокетливо завязала
под подбородком продернутый в нем шнурок такого же цвета. В этом
нелепом обрамлении перед принцем предстало нечто, отдаленно напомина-
48
Шумовка, или Танзай и Неадарне
ющее лицо, на котором можно было различить красные припухшие
бегающие глазки. Гигантский нос, усеянный бородавками, нежно упирался
в запавший бесформенный рот с лиловыми отвисшими губами, в котором
зияла полинявшая от времени беззубая челюсть. Дряхлые щеки лежали
на подушке, напоминая студень. Полчища родинок и угрей всех видов
усеивали синюшную рябую кожу, а глубокие морщины проступали даже
сквозь толстый слой жирного крема, которым они были замазаны. Ее
шею обхватывала золотая цепь, унизанная бриллиантами и гроздьями
жемчуга. Из корсета, расшитого кружевами и перехваченного в трех
местах узкой розовой лентой, вываливались груди, каждая весом не менее
чем в полтора пуда.
Танзай, преисполнившись отвращения при виде этого зрелища, давно бы
уже сбежал, если бы не ужас, лишивший его последних сил. К тому же он
едва мог дышать от вони, которая распространялась по комнате, несмотря на
то, что фея не пожалела духов.
- О небо! - подумал он. - Так вот кого преподнесла мне судьба! О
Неадарне! Так значит эта образина поколебала мое чувство к вам? Да что я
говорю, поколебала, она вытеснила вас из моего сердца! Справедливейшая
Обезьяна! Так вот оно, мое романтическое приключение!
Если бы принц имел опыт странствий, он бы понял, что приключения,
которыми так любят кичиться наши петиметры17, часто похожи как две
капли воды на то, которое выпало на его долю.
Он еще не пришел в себя от ужаса и омерзения, когда отвратительная
старуха обратилась к нему надтреснутым хриплым голосом:
- Видите, принц, - нежно проговорила она, - я на все готова ради вас.
Цените же мою доброту! Могли ли вы представить, что после
смертельного оскорбления, которое вы нанесли мне, после той мести, которой я
отплатила вам, моя враждебность обратится в любезное согласие
разделить с вами ложе? Рука, нанесшая вам удар, готова утереть слезы,
которые вы проливаете. На пути к выздоровлению вас поджидали страшные
опасности, но вы исцелитесь благодаря ночи наслаждения. Вы можете
подумать, что у меня болезненное самомнение и что я преувеличиваю
счастье, которое ждет вас, однако восторги всех тех смертных, которым
довелось лицезреть меня, не позволяют мне сомневаться в моей
неотразимости; думаю, во всем мире не найдется ни одного принца, который не
мечтал бы, даже ценой своей жизни, оказаться на вашем месте. Я не
тороплю вас оправдать те милости, которые вам выпали, хотя ясно вижу в
ваших глазах нетерпение. Как мне приятно, что вы изнемогаете от
вожделения! Стоит ли бороться с желанием, дорогой принц, уж я-то сумею
сделать вас счастливым. Придите же ко мне в объятия, моя стыдливость
не позволяет мне долее выносить этой сцены, поспешите же прогнать ее
прочь. Ах! Стоит ли подчиняться суровым законам добродетели в столь
Часть первая. Книга вторая
49
сладкие минуты! Так пусть ей
будет, за что укорять меня, и пусть
ваши объятия заставят ее
умолкнуть навсегда!
Танзай, по-прежнему
пребывавший в оцепенении, пропустил мимо
ушей добрую половину из того, о
чем говорила фея Огурогура, и,
возможно, он так и не очнулся бы от
своей летаргии, если бы не
почувствовал, как его руки коснулись
изогнутые когти феи. В первый момент
он хотел было задушить ее, но затем
отказался от этой в высшей степени
соблазнительной мысли, поскольку
сообразил, что фея надежно
защищена от его злобы своим
могуществом, и испугался ее кары.
Необдуманный поступок грозил ему, по
меньшей мере, тем, что он навсегда
остался бы таким, каким стал после
истории с шумовкой. Принц не знал,
на что решиться, а тем временем
Огурогура нежно вонзила когти в
его руку.
- Вы медлите, принц? -
проскрипела она. - Я прощаю вам
замешательство, виной которому любовь,
однако пора бы уже ему уступить
место страсти, учитывая мою нежность и то, как вы распалены. Ах,
несносный мальчишка, что ж, прикажешь мне самой приниматься за дело? -
добавила она. - Раз уж прелести, которые я дозволила тебе лицезреть, не
привели тебя в чувство, посмотрим, сумеют ли те, что еще сокрыты, расшевелить
тебя!
С этими словами она отбросила покрывало и, вращая выпученными
глазами, задыхаясь, прохрипела:
- Смотри же, жестокий, чем одаривает тебя моя любовь!
- Боже милостивый! - возопил принц. - Ах! Что же это такое?
В мгновение ока он высвободился от когтей Огурогуры, соскочил на пол
и, натыкаясь на стены, стал искать выход из спальни, когда внезапно его
остановило то, о чем читатель узнает из следующей главы.
50
Шумовка, или Танзай и Неадарне
Глава шестнадцатая
ОШИБКА ПРИНЦА. СЧАСТЬЕ УПЛЫВАЕТ ИЗ ЕГО РУК.
КАКОЙ ЦЕНОЙ ОН МОЖЕТ ВЫКУПИТЬ ЕГО
Танзай, вне себя от бешенства, собирался было покинуть покои, как
вдруг услышал, как знакомый ласковый голос зовет его. О небо! Каково же
было его изумление, когда, обернувшись, он увидел на ложе Неадарне, еще
более прелестную, чем прежде!18
- О, моя принцесса! - воскликнул он, устремляясь к ней.
- Не приближайся ко мне, несчастный трус, - сказала Неадарне. -
Ты не заслуживаешь моей любви. Ты знал, что наше счастье зависело
от этого испытания, и не нашел в себе сил, чтобы с честью пройти
его. Под уродливой внешностью скрывалась я; это меня добрая Брадаке-
ла отправила в лес под видом феи, чтобы освободить тебя от ужасной
шумовки; и именно я дала тебе бодрящего отвара, желая хоть
немного облегчить страдания, которые ты должен был испытать,
встретившись лицом к лицу с кошмарной образиной. Предатель! - продолжила
она, проливая слезы. - Ты обратил в прах все мои заботы и старания, и
теперь ты навсегда останешься таким, как сейчас, и ничто уже не спасет
тебя!
- О принцесса! - в отчаянии завопил принц. - Разве мог я догадаться, что
это вы!
Он снова попытался обнять ее, но тут спальня и принцесса растаяли, и он
снова оказался в той комнате, куда его провели сразу после прибытия на
Комариный остров. Его отчаяние возросло еще больше, когда он увидел
язвительную сову, которая, поджидая его, напевала, сидя в кресле.
- Вот так-так! - весело проговорила она. - Не думала, что вы вернетесь
так быстро! Ночь с вами пролетает как одна минута. Если вы всегда столь
проворны, с вами можно иметь дело, не опасаясь огласки. А я-то полагала,
что не увижу вас раньше полудня.
- О Великие Боги! - простонал принц. - Вы еще здесь на мою голову!
- А, понимаю, - сказала сова. - С вами опять произошла беда, точнее
говоря, вы так и не справились с той, которая с вами стряслась некоторое
время назад. Досадно, поскольку на что вы теперь годитесь?
- Зарубите себе на носу, - в бешенстве прорычал принц, - вы,
грубиянка, что, если вы еще раз посмеете обратиться ко мне в таком тоне, я сверну
вам шею!
Потом, взяв себя в руки, он добавил:
- Простите меня, мадмуазель, за эти слова, но у меня голова идет кругом
от всех событий, и я до такой степени запутался, что уже не понимаю, на ка-
Часть первая. Книга вторая
51
ком я свете, и вообще сомневаюсь, существую ли я или мне это только
кажется. Если позволите, я поведаю вам о том, что со мной произошло.
Закончив повествование, он сказал:
- В этом дворце вы имеете влияние. Да, признаюсь, я жестоко ошибся.
Не могли бы вы помочь мне снова получить шанс, который я упустил из-за
своей неосторожности? Но надо спешить, ибо речь идет о моей жизни!
- Вашу просьбу выполнить нелегко, - ответила сова, - но я попробую
употребить свое влияние на то, чтобы помочь вам. Наберитесь терпения и
ждите, мне нужно кое с кем переговорить.
Она удалилась, а принц погрузился в размышления.
- Кто мог бы помыслить, - думал он, - что моя принцесса могла
превратиться в это чудовище? Увы! Я уже ощущал действие бодрящего отвара,
силы возвращались ко мне, и я мог с честью справиться с несчастьем. Но эта
Огурогурга! Она хоть кого бы испугала! Я и сейчас леденею при одном
воспоминании о ней. Но, как только моя принцесса исчезла, я утратил то, что
приобрел, и теперь еще менее похожу на себя прежнего. Как ужасно, что
короли, несмотря на всю свою власть, вынуждены терпеть преследования
фей! Что может быть нелепей того, что приключилось со мной? Моя
судьба зависит от какой-то дурацкой шумовки! Ах! Если когда-нибудь моя
история попадет в книги, кто поверит в нее? А если кто и поверит, представляю,
сколько столетий подряд о ней будут судить да рядить злые языки!
Если бы не появление совы, прервавшее ход его мыслей, неизвестно, до
чего бы он дошел в своих умствованиях.
- Итак, Небесное Создание, - обратился он к ней, - есть ли надежда
помочь моему горю? Меня бросает в жар от одной мысли, что ваши хлопоты
не увенчались успехом.
- Вы даже сами не подозреваете, какой вы счастливчик, - ответила
сова, улыбаясь. - Вы прощены. Конечно, добиться этого было непросто, но
теперь у вас есть шанс исправить вашу оплошность: вас ждут.
- И я увижу Неадарне? - обрадовался принц.
- О господи! - нетерпеливо проговорила сова. - Конечно же, это будет
Неадарне, но, как и раньше, в облике феи Огурогуры. Вы дрожите?
Смотрите, ваш побег и так навредил вам, так что не вздумайте повторить его.
Если бы вы сумели вовремя справиться с отвращением, в ваших объятиях
оказалась бы не фея, а Неадарне. Но теперь условия изменились. Вам
придется тринадцать раз проделать предписанную процедуру19, чтобы
произошла метаморфоза.
- Что я слышу? - изумился принц. - Тринадцать раз?
- Да, вы не ослышались, - подтвердила сова, - именно тринадцать раз.
- Об этом не может быть и речи, - возразил принц. - Я бы мог еще
попробовать, если бы принцесса была видна хотя бы наполовину. Тогда я бы
был уверен, что имею дело с принцессой, и внешность Огурогуры переста-
52
Шумовка, или Танзай и Неадарне
л а бы внушать мне ужас. Ну и услугу вы мне оказали! Нельзя ли, по
крайней мере, ограничиться шестью разами?
- Нет, - ответила сова, - это последнее слово. И не думайте, что я
приложила к этому руку: тут нет никакого интереса с моей стороны.
- Тринадцать раз! - снова воскликнул принц.
- Как? - возмутилась сова. - Вас пугает то, что без особого труда сделал
бы даже самый распоследний мужчина?
- Ну, - сказал Танзай, - поскольку вы так печетесь обо мне, я был бы
рад, если бы вы убедились в этом на собственном опыте.
- Так что же? - проговорила сова. - Решайтесь! Вам должно быть стыдно,
что такой пустяк останавливает вас. Не скрою, я была о вас лучшего мнения.
- Послушайте, - ответил принц, - вы не можете не знать, что
существует множество вещей, которые становятся непереносимыми из-за
обстоятельств, сопутствующих им. Согласитесь, внешность Огурогуры менее
всего вдохновляет на ту цифру, которую вы назвали. Ну да ладно. Проводите
меня в опочивальню, и да помогут мне небеса.
Сова взяла за руку принца, смущенного и растерянного в гораздо
большей степени, чем ранее, и провела в покои, отведенные для сладких утех.
Глава семнадцатая
НОЧЬ БЛАЖЕНСТВА
Принц призвал себе на помощь все свое мужество, но при виде
Огурогуры его снова бросило в дрожь.
- Принц, - молвила фея, - ложитесь и постарайтесь заслужить
прощение, или же вы узнаете, что такое истинное несчастье.
- Хватит проповедей, - резко ответил принц. - Истинное несчастье - это
видеть вас, и я мечтаю только об одном: поскорее со всем этим покончить.
Поэтому избавьте меня также и от ваших дифирамбов; учитывая, в каком
состоянии я пребываю благодаря вашим стараниям, они кажутся мне
неуместными. Но какого черта вы так настаиваете, чтобы я провел ночь с вами?
Неужели даже отвращение, которое я не в силах скрыть, не может
образумить вас? Коли и вправду в вас вспыхнул огонь любви ко мне, разве не
достаточно моего отношения к вам, чтобы затушить его? А если вы хотите
просто отомстить за шумовку, то вам следует гневаться отнюдь не на меня.
- Принц, - проговорила Огурогура, - вы отменный вития, и я,
несомненно, вняла бы вашим речам, если бы это могло принести вам хоть
какую-нибудь пользу. Но не месть и не любовь приговорили вас к моим объятиям:
Часть первая. Книга вторая
53
только предопределение судьбы заставило меня согласиться на это
испытание, оно не только мучительно для вас, но и крайне унизительно для меня.
Неужели вы полагаете, что моя стыдливость не страдает от того, что я
вынуждена видеть рядом с собой мужчину, который мне не по сердцу?
Думаете, можно, не испытывая угрызений совести, предаваться утехам с тем, к
кому не испытываешь никаких чувств? Может ли быть что-либо ужаснее для
женщины, от рождения чувствительной и добродетельной, чем терпеть
ласки, которые отвергает сердце?
- Что до ласк, - заметил принц, - которые вам так неприятны, то я
легко могу избавить вас от них: я не так воспитан, чтобы навязывать вам
услуги, имеющие для вас такую же ценность, как и ваши милости для меня.
- О нет! - воскликнула фея. - Я покоряюсь судьбе, и да поможет мне
смирение перенести ниспосланное мне испытание.
- Но еще совсем недавно, - сказал принц, - вы были куда более пылкой
и куда менее благочестивой. Но, как бы там ни было, мне обещана Неадар-
не, и я не приступлю к делу, пока не увижу ее.
- Вы увидите ее, как вам и было обещано, - ответила фея, - но не
раньше, чем заплатите назначенную цену.
- Ну что ж, - проговорил принц, чувствуя, как в нем, помимо его воли,
пробуждаются силы, - тогда не стоит медлить. Поистине, надо любить до
самозабвения, чтобы согласиться подвергнуться подобной пытке.
Заткнув нос и закрыв глаза, он старательно приступил к исполнению
того, что ему было предписано. Фея, желая облегчить его участь, томно
вздыхала, страстно извивалась и, несмотря на все свое равнодушие к нему,
осыпала его ласковыми именами, которые обычно подсказывает любовь. Она то
впадала в исступление, то остывала, то оживлялась, то сникала. Говорят
даже, что она, стараясь показаться страстной, несколько раз выругалась. Тан-
зай, мечтавший как можно скорее отделаться от феи, быстро довел счет до
шести (что, несомненно, относится к самым поразительным событиям из тех,
о которых рассказывается в этой книге) и, благодаря волшебному действию
бодрящего отвара, был готов с такой же стремительностью продвигаться и
дальше, как вдруг фея стала просить его остановиться и дать ей перевести дух.
Принц уступил ее просьбам.
- Видите ли, принц, - сказала она, - я не так бездушна, как другие
женщины, которые ценят в мужчине лишь те качества, которые вы сейчас
продемонстрировали. Приятная беседа, сдобренная чувством, мне в сто раз
дороже, чем постыдное вожделение, которого все время ищут влюбленные.
Так сколько, вы говорите, вам осталось раз до завершения дела?
- Семь, - отрывисто произнес принц.
- Я спрашиваю у вас об этом не потому, что меня это так уж волнует.
В противном случае вы бы уже с этим покончили. Так вы говорите семь?
По-моему, вы ошибаетесь.
54
Шумовка, или Танзай и Неадарне
- Очень может быть, - откликнулся он. - Я готов признать, что, на
самом деле, на моем счету не менее девяти удачных попыток.
- Вы меня неправильно поняли, - возразила фея. - Я считаю более
внимательно, чем вы, и мне кажется, что за вами еще долг в десять раз.
- Черт побери, этого не может быть! - рассвирепел Танзай.
- Не сердитесь, сын мой, - ласково проворковала фея, - и давайте
покончим с этим спором. Признаюсь, вы удивили меня. До того, как вас
заколдовали, я никак не могла подумать, что в вас таится такой талант.
- Вам лучше, чем кому бы то ни было, известно, откуда взялся мой
талант, - ответил Танзай. - Вы сами позаботились о себе, подсунув мне
бодрящий отвар. Скажите по совести, не могли бы вы скостить мне оставшийся
долг?
- О нет, об этом не может быть и речи, - сказала она.
- В таком случае я отказываюсь продолжать. Я больше не боюсь вас.
- Посмотрим, - проговорила она, дотрагиваясь до него.
- Ах, проклятье! - закричал принц, чувствуя, что силы его пошли на
убыль. - Во всем этом куда меньше колдовства, чем вам кажется! Ваша
рука расхолаживает меня без всякой магии.
- Что за ласковые речи! - сказала Огурогура. - Вот верный способ
заслужить прощение!
- Если вы не хотите проявить великодушие ко мне, - продолжал
Танзай, - то пожалейте хотя бы себя!
- Я вовсе не такая злая, как вам кажется, - отозвалась она, - вы
увидите, на что способны руки, которые вы так презираете...
- О, помилосердствуйте! - взмолился Танзай. - Не дотрагивайтесь до
меня!
Не обращая внимания на панику Танзая, фея сделала то, что обещала,
и он, торопясь дойти до заветной цифры, принялся за свой нелегкий
труд.
Он уже осилил цифру двенадцать, но Неадарне все не давала о себе
знать, и он, обеспокоившись, поделился своим недоумением с Огуро-
гурой.
- Должно быть, - ответила та, - ее появление связано с магическим
числом тринадцать.
- Надо же, - заметил принц, - какую цену за нее заломили! Ладно,
покончим с этим.
Завершив свой труд, Танзай огляделся по сторонам, но принцессы по-
прежнему нигде не было.
- Что это значит? - спросил он. - Где Неадарне? Неужели меня
обманули?
- Увы, принц! - ответила фея. - Никто вас не обманывал, просто вы
плохо считали.
Часть первая. Книга вторая
55
- Черт побери! - воскликнул принц. - Не нужно быть Франсуа Барре-
мом20, чтобы уметь считать до тринадцати. Я проделал то, что должен был,
ровно тринадцать раз.
- Да, но как? - проговорила фея. - Вы сами видите, что способ никуда не
годится. Если бы все было в порядке, Неадарне была бы уже с вами. Не
упорствуйте, дорогой принц, признайте, что произошла ошибка.
- Но, тысяча чертей, - взревел принц, - как я могу признать то, чего не
было!
- Ну, - заявила фея, - раз вы упрямитесь, вам не видать Неадарне, как
своих ушей, и, конечно же, в силу того, что вы так плохо выполняете
условия, о которых было договорено, вы утратите обретенный вами в муках
плод.
- О Небеса! - возопил Танзай. - Неужели вы допустите такую
несправедливость! Следует ли мне... Но увы! Быть может, вы и правы: Неадарне
нет, и этого достаточно, чтобы я убедился в том, что ошибся. Посмотрим, не
изменится ли что-нибудь к лучшему в дальнейшем.
Изнуренный непосильной работой, Танзай из последних сил принялся за
то, что было ему назначено как наказание. Но, как и прежде, Неадарне не
появилась. Когда же Огурогура снова стала упрекать его в том, что он не
умеет считать, принц, поняв, как жестоко его обманули, в ярости
набросился на нее. Фея отбивалась изо всех сил, то и дело вонзая в него острые
когти, так что всё его тело покрылось царапинами, и наконец вырвалась из его
рук и взмыла под потолок.
- И не надейся, - проскрежетала она, - что я сменю гнев на милость. Я
буду до конца твоих дней преследовать тебя. Беды, которые ты испытал,
еще не самые тяжелые и уж, конечно, не последние. Я вернула тебе то, о
чем ты так страстно мечтал, но, смотри, как бы тебе это не вышло боком.
Не забывай же о своей дурацкой шумовке!
- Ах, коварная тварь! - воскликнул Танзай. - Что еще ты можешь мне
сделать после всего того, что ты учинила!
В эту минуту фея растаяла в воздухе, а вместе с ней исчез и дворец.
Принц, едва живой от усталости и стыда, вызванными этим любовным
приключением, оказался в том самом лесу, где он повстречал у кипящего чана
фею. Он отыскал свою одежду, шумовку и скакуна, проворно оделся,
мысленно перебирая всевозможные неисполнимые планы мести Огурогуре и
сове, и отправился в обратный путь, в Тютюрбанию, поклявшись в душе
хранить верность принцессе, раз уж удовольствия на стороне оказались не его
стихией.
56
Шумовка, или Танзай и Неадарне
Глава восемнадцатая,
САМАЯ СКУЧНАЯ В КНИГЕ
В то время, когда принц был занят всеми этими чудесными событиями,
в Тютюрбании царила неразбериха, не уступавшая той, что происходила во
дворце Огурогуры. Дело Вздорнуцио вызвало много шума. Жрецы и
государственные мужи собрались на совет. Король, принявший близко к сердцу
несчастья принца, был уверен, что они не кончатся, пока Вздорнуцио не
согласится засунуть в рот шумовку, и вознамерился употребить все средства,
чтобы принудить его к этому. Ему удалось склонить на свою сторону
самого патриарха21, и тот, чтобы сделать приятное Цефаэсу и досадить
Вздорнуцио, которого он недолюбливал, пообещал королю свою помощь.
Вздорнуцио прекрасно понимал, что ему не найти поддержки среди знати. Это
сословие, сплотившееся вокруг короля ради собственных и государственных
интересов, никогда бы не согласилось поступиться своими принципами в
ситуации, когда это не сулило им никаких выгод и грозило затронуть такую
персону, как принц. Жрецы, чье продвижение по службе зависело
исключительно от степени преданности патриарху, никогда бы не решились
ослушаться его в ситуации, когда могли извлечь пользу из своей покорности.
Невежественный и суеверный народ, привыкший относиться к приказам
патриарха так, словно они исходили от самих богов, боялся навлечь на себя их
гнев и сочувствовал Вздорнуцио лишь в той степени, в которой это не
вредило его религиозному чувству22.
Что было делать Главному Служителю, чтобы избежать страшной
участи? Знать ненавидела Вздорнуцио за его спесь, не раз служившую поводом
для ссор, жрецы терпеть его не могли, потому что завидовали его
положению, а народ презирал его за то, что он сквернословил и сочинял песенки.
Но он не мог и помыслить о том, чтобы подчиниться и проглотить ручку
шумовки. Позор, боль, которой грозила эта процедура, торжество короля -
картины одна страшнее другой рисовались в его воображении, и, хотя он
твердо решил не уступать, ему никак не удавалось придумать, как выстоять
против ополчившихся на него врагов.
Вздорнуцио все еще пребывал в замешательстве, когда патриарх
прислал суровый декрет23, предписывавший ему проглотить ручку шумовки;
этот декрет заканчивался коротким братским увещеванием, в котором
содержался совет подчиниться королю и не восстанавливать против себя
божеское и человеческое правосудие. Вскоре и сам патриарх прибыл ко
Двору. Вздорнуцио, окончательно павший духом, хотел было бежать, но
неожиданно неосторожность, допущенная противниками, придала ему мужества.
Патриарх, недовольный по каким-то причинам, а быть может и вовсе без
Часть первая. Книга вторая
57
причины, жрецами Тютюрбании, пригрозил им, что заставит их глотать
ручку шумовки вслед за Главным Служителем. Поскольку патриарх был
человеком решительным и волевым, испугавшиеся жрецы, почувствовав беду,
сплотились вокруг Вздорнуцио. В его доме состоялось тайное совещание, на
котором было решено постараться переманить на свою сторону новых
союзников. Заговорщики мудро рассудили, что, дабы склонить народ к бунту,
необходимо внушить ему, будто глотать шумовку придется всем жителям
королевства, включая Цефаэса. Распущенные ими слухи произвели ровно
тот эффект, на который они и рассчитывали: им поверили, и страх,
охвативший страну, наконец докатился до короля.
Цефаэс встревожился. Он знал непреклонный характер патриарха.
Сотни раз он имел возможность убедиться в его дерзости, и сотни раз он твердо
решал наказать его за это. Он счел немыслимым, чтобы сила, чье место в
тени престола, нанесла удар величию власти и тем самым привела к ее
ослаблению. Его искренне возмущало, что патриархи, обязанные своим
возвышением королям, то и дело изменяли им, пребывая в уверенности, что те
все равно будут почитать их из суеверия. Тем не менее он счел за лучшее
воздержаться от ниспровержения авторитета, который держал подданных в
узде, делая их более покорными воле короля и твердыми в следовании
принесенной клятве верности. Народ без веры становится непокорным. Если
народ не почитает и не боится богов, он и в грош не ставит человеческие
законы. Он насаждает свои установления, возводит на пьедестал собственный
произвол и восстает, чтобы крушить все на своем пути. То и дело
обрушиваясь на плоды своего труда, гений народа, пленяющийся всем новым,
заставляет его беспрерывно метаться от одного прожекта к другому: будущее не
страшит его, и он либо полностью вытравляет воспоминание о богах, либо
не принимает всерьез их гнев, поскольку не считает нужным бояться того,
что может произойти лишь в отдаленном будущем. Народы, исповедующие
другие принципы, почитают власть своих королей, смотрят на них как на
божеское воплощение и не помышляют о том, чтобы судить их, оспаривать
природу их могущества или же ограничивать их господство. Однако
поскольку люди бывают скорее суеверны, чем набожны, скорее робки, чем
добродетельны, скорее легковерны, чем просвещенны, неправильно понятая
религиозность может завести их далеко: очарованные в большей степени
обрядами, чем идеей существования бога, преклоняющиеся не столько
перед богом, сколько перед его служителями, они готовы считать их
ущемленными, когда речь идет о справедливой оценке, а король, жертва
предрассудков своих подданных24, не осмеливается вырваться из рабства, боясь посеять
смуту, в которой пострадают и он сам, и трон.
Цефаэс, убежденный в справедливости этих принципов, пытался шаг за
шагом ограничить власть патриарха, с тем чтобы она распространялась
исключительно на духовную сферу25. Желая, чтобы ничто не нарушало мир-
58
Шумовка, или Танзай и Неадарне
ного течения жизни в столице, он удалил патриарха от Двора, рассудив, что
народ, потеряв из поля зрения своего идола, охладеет к нему. Но он
просчитался. Мудрый правитель никогда не стал бы отдалять от себя подданного,
разделяющего с ним в какой-то степени тяготы власти. Патриарх,
удалившись в назначенное ему место, только выиграл от этого: в Тютюрбании он
держался в тени ослепительного трона, а подданные, видя, что он вынужден
повиноваться королю, чувствовали, насколько зависимо его положение. К
тому же в столице было легче не допустить заговора, который он мог бы
начать плести против короля. Одного монаршего взгляда было бы
достаточно, чтобы любая крамола рассыпалась как карточный домик, тогда как
вдали от короля патриарх обращал в свою пользу наивность людей, а его
происки могли пустить глубокие корни, поскольку на их разоблачение
требовалось куда больше времени.
Цефаэс, то и дело цеплявшийся к патриарху, не сомневался, что тот
ищет возможности отомстить ему. Однако намерение заставить его, короля,
глотать шумовку показалось Цефаэсу беспримерным по своей дикости. Эта
честь, по велению феи Брадакелы, выпала лишь на долю Главного
Служителя, но фея больше не показывалась во дворце. Приказ ее не был записан
на бумаге, его легко можно было исказить или истолковать по-новому.
Одним словом, король испугался. Он решил в случае, если речь зайдет о
доказательствах набожности, разделить с патриархом позор, угрожавший
ему самому, и заставить его первым глотать шумовку. Легко догадаться, что
король не очень-то приветливо встретил патриарха, прибывшего во дворец.
Патриарх, в свою очередь, надулся, и, таким образом, хитрый Вздорнуцио
пожал первые плоды посеянной им вражды, которая была ему только на руку.
Глава девятнадцатая
КАК ИЗ МЫШИ СДЕЛАТЬ СЛОНА
Главный Служитель очень скоро узнал о том, что при Дворе неспокойно.
- Отлично! - сказал он своим сообщникам. - Лучше и быть не может,
черт побери! Они в наших руках. Завтра открытие ассамблеи, но нам
следует проявлять осмотрительность. Народ за нас, женщины, которым я
постарался расписать шумовку во всех красках, поклялись, что не подчинятся
приказу. Не бойтесь пустых угроз. Немного мужества, и мы победим, ведь
только слабого легко оскорбить. К тому же чего нам бояться? Принц еще
не вернулся, быть может, шумовка, странствующая с ним, так и останется
при нем навсегда. Да и увидим ли мы их еще когда-нибудь? Наши враги, пре-
Часть первая. Книга вторая
59
бывая в раздоре друг с другом, вряд ли сумеют нанести нам решительный
удар; разлад, произошедший в их стане, их взаимное недоверие спасительны
для нас. Давайте же, господа, выпьем, - добавил он, - и да хранят нас
Небеса: возможно, за ужином, которым я намерен угостить вас, они подскажут
нам новые светлые идеи.
После этой речи святоши приступили к трапезе. Поскольку Вздорнуцио
принимал важные решения только за столом, ужин затянулся. Однако,
чтобы соблюсти приличия, собравшиеся покинули дом Вздорнуцио до рассвета,
и сотрапезники, потупив очи, неуверенной походкой побрели по домам,
заверив Главного Служителя в том, что не отступятся от выработанного
плана действий26.
Таковым было умонастроение жителей Тютюрбании, когда открылась
ассамблея. Вздорнуцио твердой походкой вошел в зал заседаний. Патриарх
произнес витиеватую речь, которая не особенно ему удалась, хотя и была
подготовлена заранее.
- Брат мой, - с чувством обратился он к Вздорнуцио, - к чему замыкать
слух, когда сами Небеса вопиют к вам. Противясь их воле, вы навлекаете на
себя их гнев и вынуждаете нас употребить против вас дарованную нам
власть. Утрата сана станет не единственной и не самой жестокой карой из
тех, которые ждут вас. Кто знает, к каким строгостям призовут нас Небеса,
прогневавшиеся против служителя, отвергающего свой долг? О, -
воскликнул он, - да соблаговолит Великая Обезьяна, принимающая каждый день
фимиам из ваших рук, наставить на истинный путь ваше заблудшее сердце!
Быть может, она сумеет тронуть вашу очерствевшую душу и остановить
готовящееся возмездие! Да смягчится она, внемля нашим горячим молитвам,
которые мы все возносим, и да внушит вам раскаяние, чтобы вы явили
собой образец послушания высоким приказам! Итак, - скорбно закончил он, -
приступим к делу и для начала ознакомим с ним в нескольких словах
присутствующих.
Слово взял новый оратор и, поднявшись с места, поведал, не опуская ни
одной детали, историю шумовки, особенно напирая на приказ Брадакелы,
согласно которому Главный Служитель должен был облизать ручку этого
предмета. Слушая длинное повествование, Вздорнуцио и его сторонники
окончательно утвердились в намерении проявить неповиновение. Как
только оратор замолчал, патриарх подошел к королю, и они шепотом
обменялись мнениями.
- Строго между нами, - сказал Цефаэс патриарху, - как вы полагаете, он
подчинится приказу?
- Да, - ответил патриарх, - и не он один.
Королю показалось, что, говоря так, патриарх как-то странно
посмотрел на него, и он решил, что намек касается в первую очередь его
самого.
60
Шумовка, или Танзай и Неадарне
- Что значит, - гневно воскликнул он, - не он один? Среди
присутствующих только ему полагается глотать ручку. Уж не думаете ли вы, что я стану
проделывать это?
- Конечно, нет, - пожал плечами патриарх. - Однако, - прибавил он, -
это было бы неплохо, ведь тогда вы окончательно развеяли бы сомнения
ваших подданных.
- Но, - возразил король, - причем здесь мои подданные? Повторяю, все
это касается одного лишь Вздорнуцио.
- Так угодно полагать Вашему Величеству, - ответил патриарх. -
Однако шумовка в силу своей природы исполнена тайны, это не обычный
предмет, и его следует почитать.
- О! Почитайте ее, сколько хотите, - сказал Цефаэс, - но не
впутывайте меня в это дело.
- Мы обдумаем все это на досуге, - поклонился патриарх. - В любом
случае, Сир, вы вольны поступать так, как вам будет угодно.
И, обернувшись к Вздорнуцио, он еще раз посоветовал ему подчиниться
приказу Брадакелы.
- Монсеньор, - сказал Вздорнуцио, - я не намерен подчиниться.
- Что ж, - с удрученным видом проговорил патриарх, - раз ослушник
продолжает упорствовать, мы снимаем с него сан и приказываем ему положить к
ногам короля штаны из медвежьей шкуры27 и вернуть нам плащ из утиного
пуха и султан из мраморированной бумаги, честью носить которые он обязан
нашей щедрости и прошлыми заслугами. Надеюсь, - обратился он к жрецам, -
вы сумеете вынести достойный урок из всего происшедшего и не станете
отвергать шумовку, чтобы не быть осужденными столь же сурово.
В зале поднялся ропот, но король и патриарх покинули ассамблею,
приказав составить документ, содержащий изложение принятых решений.
Знатные персоны ликовали, видя унижение жрецов, но тут Вздорнуцио
взял слово.
- Я потрясен, господа, - сказал он, - но не оскорблением, нанесенным
мне, а тем, что имел несчастье стать свидетелем грубого попрания законов28.
Ушли в небытие те блаженные времена, когда невиновный мог
рассчитывать на то, что его защитят от насилия. Память о тех временах лишь
умножает нашу боль. Сколько бы мы ни сожалели о прошлом, нам не вернуть
его! Нам придется вытравить из памяти былое величие, чтобы оправдать
себя в глазах всего мира за то, что мы обрекаем себя на рабство, покорно
снося его, и терпим унижения, которым нас подвергают. Эх! К чему нам то, что
лишь указывает, как глубоко мы пали? Так вот какими стали гордые тю-
тюрбане, слава о которых разнеслась по всем городам и весям! Так вот
каков этот великий народ! Дурацкая шумовка заставила дрогнуть этих
доблестных смертных! О вы, былые защитники Отечества, - обратился он к
знати, - я не прошу у вас помощи, ибо ваше униженное положение красноречи-
Часть первая. Книга вторая
61
во говорит мне о том, как вы слабы. Гните же спины перед тираном, вы не
достойны свободы; но поспешите предать огню скрижали29, сохранившие
рассказы о подвигах ваших предков! Я не призываю вас учиться у них
доблести, поскольку вы не способны воспринять их уроки. Тому, кто, не
краснея, принимает ярмо рабства, не следует знать, что бывают на свете
свободные люди. Значит, только вам, служители Неба, предстоит вступить в
борьбу с несправедливостью. Чего нам бояться? Пусть нам суждено погибнуть,
но разве смерть страшнее, чем позорное существование? Отомстим же за
попранные алтари и подадим пример мужества смиренному государству!
Быть может, этот урок не пройдет даром! Умрем, если понадобится, но
умрем, как подобает гражданам, стараясь до последнего вздоха быть
полезными Отечеству; покажем ему по крайней мере, что нас не поставить на
колени. Вечные жертвы всевластия патриарха, мы изо дня в день терпим от
него унижения. Если мы не проявим отваги, то чего нам ждать от будущего?
Можем ли мы надеяться, что он не станет наносить нам новых ударов?
Разве в первый раз Тютюрбания страдает от прожектов патриарха? Обратимся
к истории и, не углубляясь в поиски самых страшных страниц, припомним
хотя бы смуту, посеянную шестьсот лет назад патриархом Хинхоху-Ялу-
шой30, которому вздумалось принуждать нас целовать хвост сороки. А
война, опалившая Тютюрбанию век спустя, когда патриарх Онсушо31 приказал
носить исключительно квадратные усы? А чего стоило упрямство Рифма-
шу32, желавшего во что бы то ни стало съесть священную тыкву?33 Наконец
после стольких кровопролитий наше бедное королевство вздохнуло
спокойно: более просвещенные патриархи, уважавшие закон и заботившиеся о
благе религии, перестали навязывать мнения, несущие стране раздор, и солнце
с новой силой засияло над нами. Увы! Наслаждаясь покоем у наших алтарей,
мы льстили себя надеждой, что благодать будет длиться вечно. Но, о Боги!
Как вдруг все переменилось! И из-за чего? Какая-то фея притаскивает
шумовку! И принц заявляет, что я должен проглотить эту шумовку сразу
после того, как она побывает во рту самой омерзительной старухи в мире!
Таков, поясняет он, приказ феи. Без этой процедуры его брак окажется
несчастливым. Я отказываюсь, заботясь не столько о себе, сколько о
достоинстве моего сана. С принцем приключаются беды весьма необычного свойства,
а вину за них сваливают на меня. Патриарх сочиняет несправедливый
декрет, более того, настраивает против меня все королевство, и мне выносят
неслыханный по беззаконию приговор. Но и этого ему мало. Не
довольствуясь моим унижением, он в своей дерзости решает пойти против всех
жрецов и принудить их лизать ручку шумовки. Моя опала оборачивается бедой
для всего королевства! Ах! В чем виноваты эти люди? Предположим, мне
следовало проглотить шумовку, но почему они должны подвергаться этой
же процедуре? Принц говорил лишь обо мне. Пусть мне покажут приказ
Брадакелы: то, что может иметь столь важные последствия, должно быть
62
Шумовка, или Танзай и Неадарне
тщательно изучено. Если принц так легковерен, он, возможно, станет
каждый день проникаться новой идеей, и, кто знает, что он предложит нам
лизать в следующий раз? Но, согласись я даже выполнить то, что от меня
требуется, где эта шумовка? Принц неразлучен с ней, но где прикажете их
искать? Разве преступно ждать их возвращения? Тем не менее меня унижают,
низлагают, лишают знаков отличия. Я все же предпочитаю лишиться всего,
чем покориться, и благословляю Небеса за мужество, ниспосланное мне.
Отставка не бесчестит меня так, как обладание отнятым у меня, купленное
позором; по крайней мере, мне не придется быть свидетелем
пресмыкательства моих сограждан. Не рассчитывайте, - добавил он, обращаясь к
вельможам, - что ваше преступное попустительство избавит вас от шумовки. Мне
больно видеть, что вы равнодушны к попранию веры и, обуреваемые
жаждой свести с нами счеты, тайно злорадствуете, глядя на несчастья,
обрушившиеся на нас. Ах! Не лучше ли нам объединиться? Поймите же наконец, что
и вам угрожает опасность, подумайте о своем бесчестье, если другие доводы
на вас не действуют! Благородные Тютюрбане! Рабство влечет за собой два
несчастья. Первое состоит в том, что приходится сносить его гнет, что ж до
второго, то оно заключается в необходимости стыдиться его до конца своих
дней. Ах! Призовите все свое мужество. Разбейте оковы, готовящиеся для
вас, они падут, как только вы перестанете смиренно принимать их.
Помыкать можно лишь теми, кто сам готов опуститься на колени. Беды
обступают нас со всех сторон: только героическая решимость может спасти нас от
новых напастей. Сбросим же ужасное иго, перед которым мы склонялись
так долго! И пусть народ, видевший наше бессилие, станет свидетелем
нашей мести! Мы сами рождаем свои страхи. Так уничтожим же чудовищные
декреты, продиктованные беззаконием и несправедливостью, и, обещаю,
победа будет за нами. Нет того, на что не были бы способны мужчины,
сражающиеся за свою веру и свободу!34
Он говорил, и мнение тех, кто уже согласился с обвинительным
приговором, разделилось. Разгорелись споры. Самые набожные из собравшихся,
взволнованные речью Вздорнуцио, сочтя, что это дело затрагивает богов,
перешли на его сторону и начали требовать пересмотра приговора.
Приверженцы короля и патриарха выступали за осуждение Главного Служителя и
настаивали на том, чтобы он и прочие жрецы были подвергнуты процедуре
глотания ручки. Обстановка накалилась, и заседание ассамблеи пришлось
прервать. Народ, прознав о том, что произошло на заседании, и опасаясь за
себя, стал поддерживать Вздорнуцио. Патриарх, испугавшись всеобщего
бунта, приостановил исполнение приговора, и Главный Служитель получил
передышку; довольный тем, что ему удалось отсрочить свое падение, он
был уверен, что спасен, что заварившаяся буча оградит его от новых
нападок и что ему не о чем беспокоиться, поскольку расхлебывать эту историю
с шумовкой придется его преемнику.
Часть первая. Книга вторая
63
Глава двадцатая
ПРИНЦ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ТЮТЮРБАНИЮ
Пока столица бурлила, принц держал свой путь в Тютюрбанию.
- Что я расскажу по возвращении о своем путешествии? - размышлял
он. - Признаваться ли Неадарне в том, что я стал самим собой в объятиях
Огурогуры? В каких словах поведать ей о событии, которое оскорбит ее
любящее сердце? Сумеет ли она понять, что я заслуживаю сочувствия? А если
бы с ней случилось нечто подобное, проявил бы я великодушие? Но ей
известно, что за несчастье приключилось со мной: смогу ли я утаить от нее,
каким образом произошло исцеление, когда она убедится, что все горести
позади? Ах! Узнай она обо всем том, что я передумал, каким болезненным
ударом оказалось бы это для нее! Боже, что будет с ней, если ей станет
известно, что мое сердце предало ее! Что на протяжении некоторого времени я,
поглощенный мыслями о другой, рвался, летел навстречу ужасу, который
был мне уготован! Простит ли она мне ночь, проведенную в постели
Огурогуры, простит ли она мне то, что я поверил, будто другая способна сделать
меня счастливым? Ах! Тютюрбания не должна узнать о моем позоре; теперь
я в полном порядке, и как было бы здорово, если бы ни одна душа не
проведала, каким образом я исцелился!
Занятый этими думами, Танзай наконец приблизился к границам
королевства и увидел долгожданные стены Тютюрбании, которую он оставил
три месяца назад. Едва он показался на дороге, зазвучали рыли, извещая
народ о его возвращении; фейерверки, радостные крики и всеобщее
исступление подали королю весть о том, что принц въезжает в город. Неадарне, не
справившись с нахлынувшими на нее чувствами, упала в обморок. Она еще
не пришла в себя, когда Цефаэс привел к ней Танзая. Радость, которую он
испытал, увидев принцессу, сменилась отчаянным страхом потерять ее.
- Неадарне! Милая моя Неадарне! - вскричал он. - Ах! Неужели я вновь
обрел вас лишь за тем, чтобы видеть, как угасает в вас жизнь! Проклятая
фея! Так вот каким несчастьем ты угрожала мне!
Неадарне, услышав голос Танзая и почувствовав град его поцелуев,
открыла глаза и в свою очередь обняла принца.
- О Танзай! Услада моей жизни! Неужели это и вправду вы? О, скольких
слез стоило мне ваше отсутствие! Увы! Только радость, которую я
испытала, видя вас снова здесь, может сравниться с болью, причиненной мне вашим
отъездом!
Их восторгам и вздохам не было бы конца, если бы король, сгоравший
от нетерпения узнать, с чем вернулся принц, не прервал их беседы, чтобы
задать наконец животрепещущий вопрос.
64
Шумовка, или Танзай и Неадарне
- Сир, - ответил принц, - вы можете сами судить по тому, что шумовка
привязана к петлице, что она больше не причиняет мне неудобств, и,
полагаю, я буду самым одураченным человеком в королевстве, если завтра
принцесса не порадует вас столь же хорошими новостями.
Король хотел было расспросить принца поподробнее о том, как
произошло чудо, но в этот момент в покои толпой ворвались придворные: они
поспешили поприветствовать принца, поскольку им не терпелось взглянуть
на него. Вместе с ними явился и Вздорнуцио; нельзя сказать, чтобы он
разделял их нетерпение, просто ему хотелось узнать, не потерял ли Танзай
случаем свою шумовку. Увидев ужасный предмет, он побледнел, принцу же не
хватило выдержки, чтобы приветливо встретить его. Танзай по-прежнему
полагал, что виной его несчастьям стало упрямство Вздорнуцио, и,
поскольку последнее происшествие особенно расстроило его, он твердо решил рано
или поздно покарать строптивца. Поэтому он, не стесняясь присутствием
Главного Служителя, принялся расспрашивать о том, как шли дела в
королевстве в его отсутствие, и поинтересовался, был ли наказан непокорный
подданный. Король рассказал принцу об ассамблее и заверил его в том, что
Вздорнуцио проявляет послушание. Главный Служитель, крайне
недовольный этими речами, удалился, вознамерившись делом опровергнуть слова
короля. Вскоре король отпустил придворных. Цефаэс и молодые супруги сели
ужинать в семейном кругу35.
- Теперь, когда мы наконец-то остались одни, - сказал король, -
расскажите мне, сын мой, историю вашего избавления от злых чар.
- Она покажется вам странной, - в замешательстве проговорил принц. -
Я, наверное, сильно удивлю вас, если скажу, что своим избавлением
обязан сну36.
- Сну? - воскликнул король. - О чем же тогда говорила Обезьяна и
зачем она отправила вас в путешествие? Вы могли бы спать и здесь. Но
расскажите же, что это был за сон?
- О, Сир, - заговорил принц, - о, принцесса! Я проехал много стран и
оказался в дремучем лесу.
Тут он, ничего не утаив, поведал своим слушателям о встрече с феей у
чана с волшебным отваром.
- Расставшись с феей, - продолжал он, - я вскоре почувствовал, что
меня неодолимо клонит ко сну. Чувствуя, что мне не побороть сонливости, я
улегся под деревом и сразу же заснул. Я был так озабочен всем тем, что со
мной приключилось, что было бы удивительно, если бы мое распаленное
воображение устремилось бы за другим предметом. Поэтому-то мне
приснилось, что я вдруг очутился в великолепном дворце. Там меня радушно
встретили говорящие совы. В моем сне была также фея Огурогура, которая
уговаривала меня провести с ней ночь в качестве искупления за нанесенное ей
оскорбление. Правы те, кто говорят, что во сне мы не вольны над своими
Игра в китайские шахматы.
Гравюра Ж. Инграма (172J-?) по оригиналу Ф. Буше (1703-1770).
Офорт, резец
Влюбленный пастух.
Гравюра Ш.-Э. Пата (1744-1802) по оригиналу Кевердо (1748-1797).
Офорт, резец
Потеря невинности.
Гравюра Дори (XVIII в.) по оригиналу Ш. Муатта (1748-1790).
Цветная акватинта
Отъезд на острова.
Гравюра Дюпена (1718-?) по оригиналу Л. Ватто (1684-1721).
Офорт, резец
Сельские развлечения.
Гравюра Жермена (1733-?) и Ш.-Э. Пата по оригиналу Л. Моро (1712-?).
Офорт, резец
Венок.
Гравюра M. de Монти (1746-18..?) по оригиналу Б. Лана (?).
Офорт, резец
Фейерверк, устроенный в Медоне в 1735 г.
Гравюра Ш.-Н. Кошена (1715-1790) по оригиналу Дебонваля (XVH1 в.).
Офорт, резец
11Я иду!"
Гравюра Л. Марена (вторая половина XVIII в.)
по оригиналу Ж. Бодуэна (1723-1769).
Цветной пунктир
Часть первая. Книга вторая
65
поступками и часто не испытываем отвращения к тому, что наяву внушает
нам лишь ужас37. Огурогура утверждала, что только таким образом я могу
навсегда избавиться от ее злобы. Меня терзали сомнения, вызванные
любовью к вам, принцесса, и омерзением, которое внушала мне фея, но, в конце
концов, ради нас с вами я уступил ее притязаниям. Я очнулся в холодном
поту, но ужас уступил место радости, когда я убедился, что исцелен.
- Принц, - проговорила Неадарне, - ваш сон удивительно складен
и результат его поразителен38. Вы уверены, что все это вам только
привиделось?
- Могу ли я сомневаться в этом, - воскликнул принц, - если,
пробудившись, увидел, что лежу под тем же деревом, где меня сморил сон? Однако,
принцесса, - добавил он, - уже поздно, и мой батюшка вот-вот заснет прямо
за столом: нужно, чтобы он уделял время не только нам, но и сну; не знаю,
хватит ли мне ночи, чтобы обсудить все то, что касается только нас.
- Вряд ли, - заметил король. - Ну, идите, дети мои. И да хранит вас Бог
от злых фей!
Принц, пожелав отцу спокойной ночи, взял Неадарне на руки, унес в
свои покои и затворился там, чтобы предаться блаженству, а о том, что
произошло дальше, вы узнаете из второй части этой правдивейшей истории39.
3. Кребийон-сын
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
КНИГА ТРЕТЬЯ
Глава двадцать первая1,
КОТОРАЯ УЧИТ,
ЧТО НИ В ЧЕМ НЕЛЬЗЯ БЫТЬ УВЕРЕННЫМ ДО КОНЦА
Принц, преисполненный любви и нетерпения, видя рядом с собой Неа-
дарне, возомнил, что все его горести позади. Он испытывал, помимо
желания, всегда пробуждающегося вблизи любимого человека, тот бешеный
восторг, тот опаляющий жар, который охватывает того, кто вновь обретает
драгоценность, ускользнувшую было из его рук навсегда. Но, как ни сильны
были чувства Танзая, печальные воспоминания о первой ночи с Неадарне
будили в нем опасения, как бы и вторая ночь не оказалась испорченной.
Угрозы Огурогуры приходили ему на память, и чем менее он понимал, откуда
следует ждать опасности, тем сильнее тревожился. Временами он даже
принимался поругивать Брадакелу.
- Ну что мне проку, - говорил он, - от ее покровительства! Сунула мне
шумовку и говорит, вот-де надежное средство, чтобы отразить удары
судьбы, а на самом деле от нее-то все мои беды. Если бы не Брадакела, я не
рассердил бы Огурогуру, а теперь, вместо того чтобы помочь мне, она бросает
меня на произвол судьбы. И это называется заступничество! Вот увидите,
она явится с милой улыбкой, когда мне уже будут не нужны ее услуги.
Так он размышлял вслух, пока принцессу готовили ко сну. И, так как
феи целиком занимали его ум, он вспомнил о волшебном отваре и бросился
в свой кабинет, проверить, сдержала ли фея с чаном свое обещание. Можно
себе представить, в каком восхищении он был от ее честности, когда увидел
там ровно тридцать бутылочек. Первым его желанием стало сразу же
опустошить одну из них.
Часть вторая. Книга третья
67
- Ну нет, - проговорил он, опомнившись, - мне вполне достаточно чар
Неадарне. Однако сила моей любви, помноженная на чудесные способности
этого отвара, может привести к самым удивительным последствиям:
интересно, сколько женщин захотело бы испытать на себе этакую мощь?
Впрочем, Неадарне, познакомившись с моим секретом, станет больше ценить
себя. К тому же, даже безотносительно к представлению, которое у нее обо
мне сложится, всегда приятно произвести лестное впечатление на любимую
женщину: любовь всегда побеждает тем или иным способом, и, что бы там
ни говорила Неадарне, как бы презрительно она ни отзывалась об
удовольствиях, которые она считает непристойными, я уверен, что завтра ее мнение
изменится.
Сочтя свои доводы убедительными, он откупорил бутылочку и выпил ее
содержимое, после чего вернулся в опочивальню. Служанки принцессы
удалились.
Неадарне ждала его, погрузившись в сладкую негу, и Танзай,
подстегиваемый предвкушением счастья, не заставил себя ждать. Неадарне, уже
привыкшая к объятиям принца, на этот раз выказала больше нежности и
меньше стыдливости. Пылая страстью, она позволила принцу
распоряжаться ее прелестями, но тот, возбужденный сильнее, чем его
возлюбленная, был менее, чем в первый раз, склонен созерцать их. Любовь,
вдохновлявшая их на самые жаркие ласки, не давала им возможности говорить.
Лишь вздохи иногда слетали с их уст. Среди стольких наслаждений Танзай
искал других, еще более острых. Наконец они оба, одержимые сладким
неистовством, с растущим к их радости счастливым возбуждением в
душах, в упоении прильнули друг к другу. Сначала жалобные стоны
Неадарне и сопротивление, которое встретил принц, не удивили его, он даже счел
происходящее лестным для себя. Невзирая на ее упреки и слезы, он
добивался окончательной победы и остался бы непреклонен, если бы
Неадарне внезапно и самым недвусмысленным образом не лишилась чувств, чем
не на шутку встревожила его. Несмотря на все свое возбуждение, он тут
же бросился приводить ее в сознание, и ему пришлось повозиться, прежде
чем она очнулась. То, что она рассказала ему о боли, которую испытала,
и о странном ощущении, пережитом ею, заставило его приглядеться к ней
повнимательнее. Каково же было его отчаяние, когда он увидел, что от
того, что интересовало его больше всего в данный момент, не осталось и
следа! Не удивительно, что принц растерялся. Трудно было ожидать
такой метаморфозы в столь упоительный день. Принцесса, встревоженная
его молчанием, спросила, что с ним. Вместо ответа Танзай взял ее руку и
опустил ее туда, куда был направлен его взгляд.
- О Небо! - воскликнула она. - Проклятая фея мстит и мне! Дорогой
мой принц, в недобрый час свершился наш союз! Но как это несчастье
могло случиться?
3*
68
Шумовка, или Танзай и Неадарне
- Милая Неадарне, - ответил Танзай, - превращение это настолько
несложное, что в данном случае я не склонен восхищаться могуществом феи.
Ах, несчастный я, несчастный! - продолжил он. - Неужели препятствия
вечно будут вырастать на пути к нашему блаженству? Теперь я навсегда лишен
счастья обладать вами!
- Но ведь вы исцелились, - возразила Неадарне, - отчего же вы
думаете, что нет средства против моего недуга?
- Да, - сказал принц, - пожалуй, кое-какая надежда есть, но разве
призрачное счастье может окупить ту боль, которую я сейчас испытываю?
Столько раз быть на пороге счастья, но лишь для того, чтобы острее
почувствовать его невозможность!
- Ах, принц! - снова заговорила Неадарне, - неужели вы полагаете, что
это происшествие ничего для меня не значит? Разве моя любовь не делает
его для меня, быть может, еще непереносимее, чем для вас? Думаете, мне не
горько от того, что вы, ни в чем не встретив отказа, не можете быть
счастливы, поскольку лишились единственного, что составило бы ваше
блаженство, и от того, что жестокие препятствия губят наслаждение?
Оставшуюся часть ночи они провели в беседах и в напрасных попытках
справиться с жестокой судьбой. Неадарне никак не могла понять, каким
образом принц лишился того, что теперь представлялось ее взорам, а принц,
вспоминая о том, что еще недавно составляло одну из прелестей Неадарне,
в отчаянии от бесследной пропажи, изо всех сил старался победить злые
чары Огурогуры. Бодрящий отвар, который он выпил из лучших побуждений,
произвел удивительный эффект, и, если бы не помощь Неадарне, чье
сочувствие худо-бедно, но облегчало его состояние, он, должно быть, поплатился
бы за то, что столько его выпил. К тому же он не мог и помыслить о том,
чтобы в их столь плачевном положении сохранить всю свою энергию.
Поразительно, но Танзай мужественно отнесся к несчастью,
постигшему Неадарне, тогда как собственное горе в свое время привело его в
исступление. Он обожал принцессу, но в то же время находил смысл в утешениях,
которые в первый раз не произвели на него никакого впечатления. Он
решил, что будет хранить верность Неадарне, даже если ей никогда не
пригодятся его способности, однако он был рад тому, что теперь был во
всеоружии и что принцесса не станет больше объяснять его постоянство тем, что
у него нет выбора. Это было соображение очень деликатного свойства, и я
не уверен, что впоследствии ему не составило бы труда придерживаться его.
Что же касается Неадарне, то, сама того не желая, она впала в глубокое
отчаяние.
- Что толку теперь принцу в моей верности? - думала она. - Какая ему
радость в том, что я люблю только его одного? Кто знает, быть может, эти
чудовищные события вынудят его оставить меня? И не сочтет ли он, что
именно я виновата в том, что мерзкая Огурогура преследует нас? Увы! Как
Часть вторая. Книга третья
69
я несчастна! Когда я могла ответить на его зов, я боялась, как бы не угасли
его чувства ко мне, а теперь я дрожу от ужаса при мысли, что он,
столкнувшись со столькими препятствиями, вырвет меня из своего сердца!
Они были все еще погружены в свои невеселые мысли, когда рассвело.
Принцу меньше всего хотелось, чтобы народ узнал о его очередном
несчастье, поэтому он решил отправиться к отцу, чтобы посоветоваться с ним о
том, как расколдовать принцессу.
Глава двадцать вторая
КАК ПРИНЦ ПРИШЕЛ В ЯРОСТЬ
И ЧТО ПОСЛУЖИЛО ТОМУ ПРИЧИНОЙ
Король крепко спал, когда принц раздвинул полог.
- Эй, тысяча Обезьян! - воскликнул старый король. - Что вам нужно в
столь ранний час? Зачем вы меня разбудили? Что это вам не лежится рядом
с Неадарне? На вашем месте я бы...
- О! На моем месте, - перебил его принц, - вы вскочили бы, возможно,
еще раньше.
- Никак принцесса вас разочаровала? - удивился король. - Вот уж
никогда бы не подумал, она так хорошо воспитана2.
- Да нет же, клянусь священным хвостом! - завопил принц. - Дело
совсем не в этом! С Неадарне все в порядке, но я не могу быть ей полезен,
поскольку врата счастья оказались замурованы.
- О Небо! Что вы такое говорите, сын мой! - поразился король. - Мы
сейчас же созовем Совет.
- Но, отец, - возразил Танзай, - что толку в этом вашем Совете?
Секретарь предложит небольшую операцию, а Вздорнуцио отошлет нас к
Великой Обезьяне. Я не против того, чтобы обратиться к Обезьяне, однако нам
следует побеседовать с ней при закрытых дверях; мне не хотелось бы
предавать огласке происшедшее, дабы не стать притчей во языцех. Предупредите
Главного Служителя, и мы отправимся в храм инкогнито. Поскольку первое
пророчество Обезьяны сбылось, мы можем довериться ей во второй раз.
Однако, если поразмыслить, мне не будет особенно приятно, если она
напророчит Неадарне такие же испытания, как и те, что выпали на мою долю.
- Э! Какие пустяки! - сказал король. - Что страшного в том, что
Неадарне увидит какой-нибудь забавный сон?
- Как бы там ни было, - решительно проговорил принц, - надо
постараться избавить ее от этого. Я уверен, что есть только один способ раз и на-
70
Шумовка, или Танзай и Неадарне
всегда покончить со всем этим: нужно заставить Вздорнуцио облизать
ручку шумовки. Но как это сделать? Его ничем не проймешь, а действовать
силой нам запрещено.
Король приказал позвать Вздорнуцио, и тот сейчас же явился. Огурогу-
ра уже оповестила его о том, что произошло, и продиктовала ему второе
прорицание, поэтому принц только напрасно потерял время, излагая ему
суть дела. Тем не менее Вздорнуцио внимательно выслушал Танзая и
предложил немедленно отправиться в храм, поскольку Обезьяна способна
пророчествовать только там. Они немедленно отправились в храм, и Обезьяна,
после надлежащих церемоний, произнесла новое пророчество, на этот раз в
прозе, чтобы оно было понятней:
- Принцесса не обретет прежнего совершенства, пока великий дух Ешь-
Крот3 не распорядится ею по своему высочайшему усмотрению.
- По своему высочайшему усмотрению? - завопил принц, вне себя от
бешенства. - Этому не бывать!
- Ну вот! - сказал король. - Стоит ли так бесноваться! Вы так же
расстраивались, услышав первое прорицание. И что же? Что дурного с вами
произошло? Откуда вам знать, каково будет высочайшее усмотрение этого
духа? К тому же, даже если оно окажется именно таким, как вы
предполагаете, не лучше ли стерпеть это, чем видеть, как страдает принцесса?
- Нет, не лучше, - заявил принц. - Я скорее соглашусь с тем, что
никогда не смогу обладать Неадарне, чем допущу, чтобы она оказалась в
объятиях другого.
- Что за предрассудки! - заговорил Вздорнуцио. - По сути, так ли уж это
важно? Подумайте, из-за надуманных соображений вы лишаете себя
реального счастья!
- О, клянусь брюхом Обезьяны! - еще пуще разволновался принц. - Не
лезьте не в свое дело! Должно быть, вы разъярились бы пуще меня, окажись
ваша жрица на месте принцессы, хотя она вам не жена, а сожительница!
- Не обращайте на него внимания, пусть себе кричит, - обратился
король к Главному Служителю. - Объясните мне все толком. Кто такой Ешь-
Крот? Мне ни разу в жизни не приходилось слышать о нем.
- Это очень могущественный дух, - ответил Вздорнуцио, -
родственник Огурогуры: должно быть, он принял близко к сердцу ее обиду. Он
очень влюбчив, и на острове Нарциссиль4, где он обитает, у него целый
гарем, состоящий из писаных красавиц со всего света. Все те, кто имеет с
ним дело, должны провести хотя бы одну ночь в его дворце. По правде
говоря, никто толком не знает, что происходит в эту ночь, однако
женщины, вернувшиеся с острова, утверждают, что этот дух заслуживает
уважения. Ваше Величество не может не понимать, что им следует верить.
Однако есть мужья, предпочитающие сомневаться в нем. Думаю, он сумеет
помочь принцессе.
Часть вторая. Книга третья
71
- Охотно верю, - перебил его принц, - но, клянусь, я не нуждаюсь в его
услугах.
- Возможно, - согласился Вздорнуцио. - Есть один надежный способ
умаслить его: если принести ему много кротов, он станет сговорчивее.
Десять лет назад ему взбрело в голову съесть это животное, и с тех пор он
питается исключительно кротами.
- Нам не составит труда угодить ему, - обрадовался король. - К счастью,
в нашем королевстве кроты плодятся с удивительной скоростью, и мои
сады страдают от их нашествий, так что, порадовав его, мы принесем пользу
и себе. Сегодня же огласят приказ, предписывающий каждому моему
подданному принести во дворец не менее десяти кротов. Но как добраться до
острова Нарциссиль?
- Туда ведет дорога, известная Его Величеству, - пояснил Вздорнуцио, -
только, миновав лес, следует сразу же свернуть налево.
- Все это, - вмешался принц, - совершенно бесполезные сведения. Неа-
дарне останется дома, я женился на ней вовсе не для того, чтобы она стала
наложницей Ешь-Крота.
- В таком случае вам придется с ней развестись, - сказал король, - ибо,
по нашим законам, принцессе не место во дворце, если она через год после
свадьбы не подарит королевству наследника престола.
Этот последний довод заставил принца замолчать. Ему ничего не
оставалось, как сдаться. Было решено никому не сообщать о цели путешествия
принцессы и отложить ее отъезд до тех пор, пока не будут переловлены все
кроты в королевстве.
- Ничего не бойтесь, - сказал Вздорнуцио принцу. - Обезьяна
протянула вам руку, а этот жест обещает удачу. Теперь я уверен, что ваше
путешествие принесет вам счастье и что с принцессой не случится ничего плохого.
Обезьяна испытывает отвращение к тем, кого ждет бесчестье, которого вы
опасаетесь, ровно как и к тем, кто уже обесчещен.
- Однако, - заметил принц, - она и вам протянула руку. Думаю, эта
Обезьяна ни на что не годится, но давайте уйдем отсюда. Нас ждет Неадар-
не, следует рассказать ей о том, что нам предстоит путешествие.
Танзай и его отец отправились во дворец, где Неадарне, поджидая их, не
могла найти себе места от беспокойства. Оно лишь сильнее возросло, когда
принц поведал ей о прорицании Обезьяны и о том, что ей нужно собираться
в путь.
- Нам не стоит, - сказала она, - покидать дворец. Думаю, на острове
Нарциссиль ничего не изменится к лучшему. Чтобы я позволила обнять
себя кому-нибудь, кроме вас! И не помышляйте об этом; я предпочту всю
жизнь оставаться такой, как сейчас, чем один раз взглянуть на этого духа!
- Э! Ваша добродетельность нам хорошо известна, - сказал король. - Не
плачьте же, Вздорнуцио обещал, что с вами не случится ничего дурного.
72
Шумовка, или Танзай и Неадарне
- Короче говоря, - заключил принц, - нам следует покориться. Вот
увидите, мы будем счастливы, я это чувствую. Прикажите же, прошу вас, -
обратился он к королю, - подготовить все к нашему отъезду. Мне очень
неловко, но я так взволнован, что не в силах заниматься этим.
Король удалился, предоставив Танзаю снова и снова проверять,
не сможет ли он сам излечить принцессу и тем самым избавить ее от
путешествия.
Глава двадцать третья
О ТОМ, КАК НЕОБХОДИМО ПРОЯВЛЯТЬ
ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ, ДАЖЕ КОГДА СПЕШИШЬ
Убедившись, что им самим не справиться с бедой, принц и Неадарне
покинули Тютюрбанию, увозя с собой по меньшей мере по двадцать повозок,
нагруженных кротами. Оба они были подавлены. Танзаю, обожавшему
Неадарне, мысль о том, что его возлюбленная окажется в объятиях другого,
причиняла нестерпимую боль, а Неадарне, не менее горячо относившаяся к
принцу, не в силах была поверить, что ее выздоровление зависит от
испытания, против которого восставала ее любовь и природная стыдливость.
Путники, увлеченные друг другом, не замечали, как бегут дни. Наконец они
оказались на лугу, усеянном всевозможными цветами, и принцесса, утомленная
переходом, распорядилась раскинуть шатры на берегу ручья, который,
украшая местность, распространял прохладу. Вскоре шум ручья убаюкал
влюбленных, пребывавших в вынужденном бездействии. Через несколько
часов Танзай, отдохнувший на груди у Неадарне, пробудился и, видя, что она
еще спит, отправился прогуляться вдоль ручья, который, петляя, терялся в
дали. По своему обыкновению, он сетовал на причуды своей судьбы, как
вдруг кротиха, выскочившая из-под земли, прервала его стенания.
Поскольку принц был одержим идеей, что снисхождение великого духа можно
купить кротами, он, конечно же, употребил все свое проворство, чтобы
воспользоваться случаем и пополнить свои запасы. Но, схватив кротиху, он
нашел ее шерстку такой нежной, такой гладкой, а ее глаза такими
выразительными (что большая редкость у кротов, так что эта кротиха, возможно,
была единственной в своем роде), что, проникшись сочувствием к ней, хотел
было сразу отпустить ее на свободу, но затем решил предоставить это
право Неадарне. И он понес кротиху в шатер. Неадарне уже проснулась и
отправилась на луг искать принца, когда он внезапно возник перед ней со
своей добычей в руках.
Часть вторая. Книга третья
73
- Взгляните, Счастье моей жизни, - сказал он, - какого
очаровательного зверька я вам принес. Я уверен, что это необычная кротиха.
- Ах, какая красавица! - воскликнула Неадарне. - Как? Неужели вы
хотите отдать ее этому духу?
- Как вы решите, так мы и сделаем, - ответил принц. - Ее судьба
зависит от вас.
- Тогда я оставлю ее себе, - сказала Неадарне. - Как она хороша! -
прибавила принцесса, глядя, как та ласкается к ней. - Возьмем ее с собой, я
стану заботиться о ней. Должно быть, ни у одной женщины в мире нет такой
замечательной кротихи, и я с ней ни за что не расстанусь.
Женщины часто ни с того ни с сего впадают в ажитацию из-за пустяков,
и чем нелепее то, что вызвало в них бурю эмоций, тем сильнее их
привязанность. Неадарне не была исключением из этого правила. Она вдруг
преисполнилась такой любовью к кротихе, что, предложи ей кто через четверть
часа пожертвовать ради нее принцем, возможно, она бы задумалась. Но
было бы несправедливо осуждать ее за это. Возможно, женщины Тютюрбании
имеют свои причуды, что делает их непохожими на прочих особ женского
пола. Принцесса, влюбившись в кротиху, надела ей на шею ожерелье и,
прогуливаясь по лугу, держала ее на привязи, хотя та не выказывала ни
малейшего намерения удрать. Когда настало время вернуться в шатер, она
собственноручно отнесла ее туда5 и чуть было не поссорилась всерьез с принцем
за то, что он, как ей показалось, был недостаточно ласков со зверьком.
Еще несколько дней они провели в пути без всяких происшествий и
наконец увидели впереди лес. Танзай, сразу же узнавший места, где он
познакомился с феей у чана, не мог не вздохнуть, припомнив, что ему пришлось
пережить после этой встречи. Как только они миновали лес, Танзай, следуя
указаниям Вздорнуцио, повернул налево. Его сердце сжалось от
предчувствия несчастья.
- Что ж, - со вздохом сказал он Неадарне, - скоро нам предстоит
расстаться. Неужели я, преданный вам всем сердцем, должен своими руками
отдать вас другому? Жестокая судьба вынуждает меня к этому. Ах! Я
предпочел бы умереть! Неадарне! Вы забудете меня, вы станете заложницей
желаний духа, который, как бы он ни был отвратителен, возможно, понравится
вам больше, чем я!
- Раз вы так думаете, принц, - ответила Неадарне, - давайте повернем
назад. Вам известно, как мне не хотелось подчиняться приказу Обезьяны, но
вы поклялись, что будете всегда любить меня. Поверив вашим клятвам,
убедившись, что ваше сердце всегда будет принадлежать мне, я отбросила
страхи. Вы говорили, что не будете счастливы, пока я не стану прежней, и я
ради вас смирилась с тем, что меня ожидает. Я заставила замолчать голос
добродетели, преодолела отвращение, нашла в себе силы опровергнуть
доводы, которые внушала мне любовь к вам. Увы! Я-то готова примириться с
74
Шумовка, или Танзай и Неадарне
моим несчастьем, если ваши чувства ко мне останутся неизменны. Вы
знаете, как я люблю вас, и при этом не только сомневаетесь в моей верности, но
и осмеливаетесь предполагать, что тот, с кем вы сами вынуждаете меня
встретиться, понравится мне. Будь он само совершенство, будь он такой, как
вы, мое сердце, терзаясь в его обществе, будет помнить только вас. Уж не
знаю, действительно ли наслаждение, которое вы нахваливаете, так велико,
но, как бы там ни было, думаю, только любовь позволяет упиваться им. Я
чувствую, что вы пробудили во мне желания, однако никому, кроме вас, не
вызвать в моей душе бурю страсти. Даже если этот дух, ненавистный вам и
отвратительный мне, заставит меня испытать чувство сладострастия, о
котором вы мне столько раз говорили и которого, как следует из ваших слов,
я не достигла в ваших объятиях, то и тогда, забыв себя, я буду по-прежнему
принадлежать вам.
- Ага! - воскликнул принц. - Я так и знал, что дело идет к квиетизму!6
Все эти хитрые нюансы, которые придумывает разум, но отвергает сердце!
Дух сделает вас счастливой, после чего вы станете предаваться
размышлениям о том, что такое сладострастие, а мне остается лишь утешаться
мыслями о том, что со мной вы бы испытали еще больше удовольствия!
- Пусть так, - гневно проговорила Неадарне. - Но тогда мне следует,
повстречавшись с ним, разлюбить вас. Вам же будет лучше, если вы
покончите с браком, коли он приносит вам одни горести. Неадарне так любит вас,
что готова согласиться, даже если это будет стоить ей жизни, на то, к чему
ее принуждает Ваше равнодушие.
Принц резко возразил ей, принцессу обидел его ответ, и они собирались
уже обменяться новыми колкостями, как вдруг кротиха, которой наскучила
эта дурацкая ссора, неожиданно обнаружила дар речи и проговорила, пожав
плечами:
- Футы-нуты! До чего же глупы все влюбленные!
- О Небо! - хором воскликнули Танзай и Неадарне.
- Ах! - продолжила принцесса. - Моя кротиха умеет говорить!
- Что это, если не очередные происки Огурогуры! - сказал Танзай. - Вы
слышали, как она выругалась? Сейчас я убью ее, поскольку...
- Остановитесь, великодушный принц! - закричала кротиха. - Я не та,
кого вы считаете своим заклятым врагом! Не убивайте меня, я вам
пригожусь!
- О Услада моих дней! - взмолилась прицесса. - Пощадите ее!
- Какая наивность! - ответил принц, принимаясь душить кротиху. -
Разве вы не видите, что это Огурогура!
- Да нет же! Я не Огургура! - вопила кротиха. - Я - фея Усыня7,
двоюродная сестра и подруга Брадакелы! Остановитесь!
- Возможно, - заметил принц, успокаиваясь, - так оно и есть. Но отчего
вы прикидываетесь кротихой?
Часть вторая. Книга третья
75
- Вы скоро узнаете об этом, - сказала Усыня. - Но есть у вас время
выслушать меня? Я смертельно боюсь, что моя история неслыханно длинна.
- Неважно, - ответил принц, - у нас не очень-то большой выбор
развлечений.
Кротиха приступила к рассказу, который можно найти в следующей главе.
Глава двадцать четвертая,
СМЫСЛ КОТОРОЙ ПОНЯТЕН, ВОЗМОЖНО, НЕ ВСЕМ1
- Мой род происходит от великого духа по имени Жуй-Кочан9. Кто мой
отец, я не знаю. Фея Шингара10, моя мать, не захотела сказать мне, кто он;
быть может, ей самой это было не совсем ясно, или же ее выбор не делал ей
чести; ведь часто женщины умалчивают о своих приключениях вовсе не от
того, что стремятся прослыть скромницами. Порою кажется, что
добродетель страдает меньше, если положение возлюбленного достаточно тешит
тщеславие. В детстве я подавала большие надежды. Пожалуй, об этом
стоит рассказать поподробнее. Когда мне еще не было и четырех лет...
- Не могли бы вы, - перебил ее Танзай, - пропустить часть вашего
жизнеописания? Конечно же, вы были очаровательны в детстве. Но давайте
сразу же перейдем к временам, когда вы научились с пользой употреблять
ваши таланты.
- Охотно, - согласилась фея. - Меня назвали Усыня, поскольку, когда я
пребываю в свойственном мне обличье, у меня есть длинный-предлинный
ус11 с левой стороны. Брадакела, моя близкая родственница и крестная мать,
настаивала на том, чтобы меня отдали ей на воспитание, и Шингара с
радостью согласилась, поскольку, хорошо зная Брадакелу, была уверена в том,
что та сможет позаботиться обо мне должным образом12, а также потому,
что была не прочь сплавить из дома дочь, которая обещала со временем
затмить ее красоту.
Брадакела увезла меня на остров Чепухиль13, которым она правила.
Должна сказать, что эту страну меньше всего можно назвать печальной.
Мужчины там заняты лишь помпонами и мадригалами. Женщины же
только и делают, что стараются нравиться, и если случается одной из них,
пытаясь ускользнуть от воздыхателя, по рассеянности забыть о правилах
приличия, принятых на острове, и обмолвиться хотя бы одним словом о
добродетели, ее на целый год отлучают от общества. Я не хочу сказать, что всегда
бывает просто договориться с дамой: обычно сопротивление длится не
менее двух дней, и среди нас не было ни одной женщины, которая уступила бы
76
Шумовка, или Танзай и Неадарне
раньше, чем по истечении этого срока, впрочем, при Дворе происходит
всякое14. Возможно, вы найдете подобные нравы довольно странными, но это
не так. Предположим, женщина, одна из тех, кого вы называете
скромницами, заставит вас томиться целый месяц. Это немалый срок. И что же?
Когда ваши муки закончатся, разве вы не получите ровно то же самое, что
могла бы сразу же предложить вам другая, менее помешанная на приличиях?
И поскольку, как вы сами видите, все кончается одним и тем же, такая любовь,
по сути, имеет свои преимущества. Какими бы изощренными ни были отне-
кивания женщины, рано или поздно ее ждет капитуляция. Ускоряет ли она
события или же выжидает, в конце концов они происходят, но воображение
всегда летит впереди. Бесполезно тянуть желание за рукав, можно
выбиться из сил, пытаясь растолкать его, но, когда случается так, что оно
пробуждается, если оно подает знак удовольствию издалека, оно или опаздывает
или вообще не удосуживается явиться. Добродетельность - это вздор,
принуждающий нас попусту терять время, а когда ей взбредает в голову, что она
выставила любовь вон...
- Не могли бы вы повторить еще раз то, что вы сказали? - перебил ее
принц. - Пусть я умру на месте, если я разобрал хотя бы полслога. На каком
языке вы говорите?
- На языке острова Чепухиль, - ответила фея.
- Я был бы вам крайне признателен, если бы вы перешли на тот,
которым я владею, - сказал принц. - Но как вам удается понимать то, о чем вы
говорите?
- Я догадлива, - пояснила фея. - Позвольте же мне продолжить мой
рассказ. На чем я остановилась?
- На том, что добродетель - вздор, - напомнила Неадарне.
- О, нет, - сказала Усыня, - это было лишь замечание в сторону.
- Но я уже не помню, - ответила Неадарне, - о чем, собственно, была
ваша история. Ах, да! Вы говорили о женщинах, которые уступают, не мешкая.
- Моя крестная, - продолжала фея, - воспитывала меня в соответствии
с нравами острова, и, едва выйдя из ребяческого возраста, я уже отдавала
себе отчет в том, какова моя внешность. До определенных лет мы видим себя,
но не осознаем, что собой представляем, мы не изучаем своих достоинств и
не знаем, чего они стоят, они существуют сами по себе. Мы открываем их
для себя, когда возникает желание испробовать их в деле: тогда-то у нас
складывается собственный образ. Если бы не мужчины, женщины были бы
красивы и только. Им были бы неведомы сомнения, и они не догадывались
бы о своей привлекательности. В то время, когда на остров прибыл великий
дух Нарцисс, я находила себя весьма привлекательной. Я была живой,
лукавой, и моя краса была, если можно так выразиться, приправлена
кокетством. Нарцисс влюбился в меня, но принц де Баклан15, приехавший на
полчаса раньше его, уже заметил меня и сумел смутить: в делах любви порой ре-
Часть вторая. Книга третья
77
шают секунды. Нарциссу не было известно, что он опоздал. С сожалением я
обнаружила, что он пылает ко мне страстью, и это открытие заставило
меня скрывать мои чувства. Поскольку никто не знал о моей любви к принцу,
все были удивлены моим равнодушным отношением к Нарциссу, который
тщетно пытался обворожить меня своими манерами и вздохами. Я отдавала
ему должное и относилась к нему с уважением, однако это чувство мало
ценится теми, кто надеется внушить расположение более живого свойства.
Пышные празднества, великолепные подарки, услуги самого разного
свойства, робкое почитание стали средствами, которые он взял на
вооружение, чтобы растопить мою суровость. Я долго притворялась перед ним.
Я знала, что гнев Нарцисса опасен для моего возлюбленного, и, не желая,
чтобы он заподозрил в нем соперника, встречалась с принцем тайком,
принося ему в жертву посулы и подарки Духа. Теперь-то я знаю, что подобный
обычай давно уже в заводе и что все то, что мы получаем от богатых
воздыхателей, часто приносит пользу тем, кто ранил наше воображение. Тем не
менее я опасалась, что де Баклан навлечет на себя подозрения Нарцисса,
поскольку при Дворе никто, кроме принца, не был достоин моего внимания.
Ему не было равных в танцах, и никому не удавалось кланяться с такой
грацией; он с легкостью разгадывал все загадки, прекрасно играл во все игры,
требовали ли они силы или ловкости, от фортунки до мяча16. У него была
чарующая внешность, к тому же он был, если можно так выразиться,
укомплектован самыми редкостными достоинствами: он обладал приятным
голосом и умел подыграть себе на любом музыкальном инструменте.
- А хорошо ли он играл на рыле? - поинтересовался принц.
- Это был его любимый инструмент, - сказала фея.
- Прекрасно, - заметил принц, - ибо нет инструмента лучше рыли.
Но продолжайте же вашу историю, этот ваш принц начинает мне нравиться.
- Помимо того, о чем я вам уже поведала, - снова заговорила фея, -
принц умел слагать чудесные стихи. В его речах, игривых и серьезных,
было в меру живости и основательности. Сдержанный с недотрогами,
веселый с кокетками, задумчивый с теми, кто предпочитал меланхолию, он
снискал расположение всех придворных дам, и не осталось ни одного
мужчины, который не завидовал бы ему. Превосходство, которое он
имел над всеми благодаря своему уму, не делало его замкнутым.
Изысканно любезный, он умел угодить всем. Он лучше, чем кто бы то ни
было, владел пленительным языком нашего острова; никто не мог остаться
равнодушным, слушая его, и, хотя это ужасное создание, называемое
здравым смыслом, не всегда ладило с содержанием его речей, они ничего
не теряли благодаря своей непередаваемой элегантности, и, возможно,
сам здравый смысл, укрывавшийся за восхитительным ворохом слов,
подобранных удачнейшим образом, показался бы избитой банальностью
даже самым фанатичным его приверженцам, будь он облачен в более
78
Шумовка, или Танзай и Неадарне
легкие одеяния. Сам по себе рассудок ничем не примечателен. Он
предстает таким, каков он есть, боится потонуть в шутливости и шарахается
назад, когда сталкивается с необычно закрученной мыслью или когда
светлый вымысел покойно ложится на сердце. А если он побеждает, то
способом, самым оскорбительным для человечества, так что даже
тщательно выпестованное самолюбие настолько обесценивается, настолько
утрачивает свою прелесть, настолько разуверяется в себе, что было бы
верхом нелепости не порвать с ним самым грубым способом. Ум куда
более склонен к общению; достоинство его манер говорит о том, что, когда
он воспитывался, его не пичкали предрассудками; он думает то, что
думает, ни на чем не настаивает, умеет отстраниться даже от самого себя и
произрастает без резких потрясений. То, что рождает мысль,
оказывается отягощенным трудом, который был положен, то, что вынянчивает
воображение, дерзко; одно засасывает серьезностью, другое
расшевеливает резвостью. Первое долго бредет по дороге, второе вырастает как из-
под земли. Мысль подавляет, ее справедливость убога: желая
уничтожить слабый ум, она только льстит ему. Независимый ум не опускается
до расчетливости. Он соблазняет; стремительный, будто молния, он
сверкает, изумляет, ослепляет. Он принимает любую форму; его
благородство, величие, свойственное ему даже в минуты игривости, говорят в его
пользу, а рассудок, заштатный в сравнении с ним, засушенный и, в силу
этого, молчаливый, угасает, сам того не желая, и способствует своим
дурным настроением триумфу соперника17.
- О, правдивая Обезьяна! - возопил принц.
- Ах! - проговорила очарованная Неадарне. - Ах! Как это прекрасно!
Если бы не Усыня, мы бы умерли от скуки.
- Мне очень приятно, - сказала Усыня, - что мои соображения не
пропали даром. Я-то подозревала, что ваш вкус еще переживает пору
младенчества.
- Но, скажите, - спросила Неадарне, - трудно ли освоить этот язык?
Можно ли его выучить? Не пострадает ли от этого беспечность праздности?
- Мне кажется, - заметил Танзай, - что это очень просто. Я уверен, что,
благодаря умонастроению, в котором вы пребываете, и урокам Усыни, вы
скоро заговорите на этом языке столь же бойко, как она. Но что может
быть ужаснее, - добавил он, - чем пользоваться этим скучным жаргоном!
Вот уже битых два часа вы толкуете о рассудке и уме, а я не вижу ни того,
ни другого. Если вы собираетесь продолжать вашу историю в том же духе,
я не обещаю, что окажусь терпеливым слушателем.
- Пусть говорит, как хочет, - перебила его Неадарне. - По правде
говоря, нельзя и помыслить, что можно говорить лучше, ваши слова это само
волшебство.
Принц пожал плечами, и Усыня продолжила свой рассказ.
Часть вторая. Книга третья
79
Глава двадцать пятая
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ
- Полагаю, теперь, после всего того, что я вам рассказала о де Баклане,
вы согласитесь, что мой выбор пал на него неслучайно. Одного его взгляда
было достаточно, чтобы свести с ума самую бесчувственную особу, поэтому
неудивительно, что его достоинства произвели на меня сильное
впечатление. Поскольку страсть часто зиждется на капризе, мне хотелось показать
вам, что мои чувства возникли не на пустом месте. Когда я увидела его в
первый раз (а любовь всегда рождается с первого взгляда), он был
неотразим. Это произошло в Салоне Брадакелы18: придворные щеголи обсуждали
с дамами наряды, моды и то, как трудно бывает придумать что-то новое в
этой области. Как вы понимаете, предмет их беседы был весьма серьезен.
Каждый старался отличиться. Принц, только что прибывший ко Двору, так
умело разрешал самые сложные проблемы, придумывал такие
очаровательные туалеты, что все были в восхищении от его ума и фантазии. Что ж до
меня, то я была сражена инкогнито в самое сердце. Он уделял мне особое
внимание, что укрепило склонность, которую я уже испытывала к нему, и я
так усердно подстегивала себя различными соображениями, что вечером,
когда мы расстались, моя страсть достигла своей высшей точки. За ужином,
в непринужденной обстановке, он блистал остротой ума, и я поняла, что
пропала. Любезности, с которыми он обратился ко мне, похвалив мою
красоту и обойдя при этом молчанием достоинства других дам, убедили меня,
что его сердце уже не так безмятежно, как прежде: это бывает нетрудно
заметить. Любовь смущает душу и, чтобы расположиться поудобнее, полонит
ее движения и использует их во благо себе. Мое сердце, с первой же минуты
почувствовавшее, что сумеет договориться с его сердцем, тут же отреклось
от благопристойности и, забывшись самым неподобающим образом,
растоптало все доводы, которые могли образумить его. Мы ловили себя на том,
что вздыхаем одновременно, и, останься мы в тот вечер наедине, наши
желания, скорее всего, утратили бы свою невинность. Не знаю, как он провел
ночь; что до меня, то сон никак не шел ко мне; каковы бы ни были его
советы, я предпочла прислушаться к любви, чувству, совершенно новому для
моего сердца, доставлявшему мне куда больше удовольствия, чем я могла
бы получить даже от самого приятного из снов. Что нам сны, когда мы
любим! Какими бы сладкими они ни были, разве стоят они ладной смуты
воображения? Тем более когда мы чувствуем, что любимы, и предаемся самым
заманчивым надеждам, которые рисуют перед нами именно те картины,
какие мы хотели бы видеть. Сны же предлагают нам лишь неясные образы,
порой пленительные, но часто мало соответствующие тому, что их подска-
80
Шумовка, или Танзай и Неадарне
зало. Думая о наших возлюбленных, мы представляем их такими, какими
хотим видеть, и переносим их туда, куда нам заблагорассудится, а страсть,
распоряжающаяся всем, заботится о том, чтобы мы не заскучали.
На следующий день едва я поднялась, как де Баклан пожаловал ко мне.
Я была в своем дальнем кабинете, и он осмелился потревожить мое
уединение. Смущение, робость, желание, ясно читавшееся в его глазах,
доказывали мне, что я любима. Признаюсь, у меня не хватило духа мучить его, тем
более что мое положение обязывало меня делать авансы. Мой
благосклонный взгляд успокоил его, и я, не вмешивая в дело добродетель (как это
принято в свете), как будто сама того не желая, повела дело так, что он
признался мне в любви. Сейчас я уже не помню, в какие выражения он облек это
признание, но оно прозвучало вполне недвусмысленно, что давало мне
повод сделать вид, будто я рассержена. Он не принуждал меня дать ему ответ
немедленно, но мне не хотелось его сильно разочаровывать, и я пожала ему
руку: этот жест, по сути ничего не выражающий, легко извинителен, когда
не достигает цели. Хотя я уверилась в его любви, мне не хотелось слишком
поощрять его.
Первые авансы должны быть умеренными: если в мужчине есть хоть
немного сообразительности, он их поймет, а коли они проходят мимо него,
тогда не стоит и стараться. Но с Бакланом такого не произошло: он знал, что
рука, протянутая для пожатия, ждет поцелуя. Он взял мою руку и покраснел
от удовольствия, что завладел ею; я тоже зарделась, но от того, что он не
попытался еще раз воспользоваться моей снисходительностью. Я посмотрела
на него, и этот взгляд дался мне с трудом19. Он умирал от желания дать
волю своей нежности, и я была не прочь разрешить ему это, однако мне не
следовало выдавать себя, поэтому я постаралась вложить в свой взор
осуждение и гнев, которым я должна была бы исполниться, но у меня ничего не
получилось; любовь, заправлявшая всем, сделала по-своему, да так
стремительно, что я не успела даже подумать о том, чтобы исправить оплошность.
Имей я дело с менее проницательным поклонником, это могло бы сойти мне
с рук, но хитрющий де Баклан увидел в моем взгляде поощрение, которое я
хотела от него утаить. Чтобы отблагодарить меня, он снова поцеловал мне
руку, которую я, по забывчивости, не отняла. Он был взволнован, а во мне
способность мыслить уступила место способности чувствовать; он пал к
моим ногам, а это проявление страсти настолько выразительно, что действует
безотказно. Оно должно говорить о почтительности, однако порой
приводит к тому, что от этого чувства не остается и следа.
Исключительно с намерением убедить Баклана подняться я склонилась
к нему. Воспользовавшись удобным моментом, он огорошил меня поцелуем,
и все во мне задрожало: ведь меня еще никто не целовал. Смешавшись, я
замерла, по-прежнему склонив к нему голову. С тех пор мне доводилось
испытывать подобное сладостное ощущение, и оно всегда наполняло меня вое-
Часть вторая. Книга третья
81
торгом, но никогда больше я не переживала его так остро. Не знаю, что в ту
минуту происходило с Бакланом. Владей он собой хоть немного лучше, я бы
погибла. Когда я справилась со смущением, принц еще не разделался со
своим, его глаза были исполнены нежного томления, а бешено колотившееся
сердце не позволяло ему вздохнуть полной грудью. Какое счастье, что он
был не в силах предпринять что-либо! В тот момент, когда он признался мне
в любви, я должна была стать счастливой: так принято при Дворе, но мне не
хотелось следовать этому обычаю. Я достаточно хорошо знала мужчин,
чтобы понимать, что они приписывают молниеносную победу не любви, а
привычке отдаваться; что лучше ущемить их достоинство, чем
подвергнуться унижению с их стороны, и это соображение сделало то, с чем не
справлялось целомудрие.
- Ах, принц! - сказала я Баклану. - Оставьте меня! Кому, как не вам,
защитить меня от моей слабости! Не усугубляйте же бесполезности, на
которую сейчас обречен мой рассудок, опомнитесь, позвольте мне снова стать
самой собой: я люблю вас, увы! теперь вы знаете это, поскольку
доказательства тому опередили мое признание. Мне сладко думать, что я не всем
одарила вас и что у моей любви в запасе осталась еще тысяча подарков! Так
предадимся же удовольствию любить друг друга! Пусть страсть пылает в нас
изо дня в день, снова и снова пробуждаясь с каждым рассветом! Пусть
настоящее, напоминая нам о прошлом, поощряет нашу любовь, и пусть будущее
уготовит нам то же счастье, которое обрушилось на нас сегодня! Завиден
удел двоих, когда они бессмертны! Но еще прекраснее, когда любовь
длится столько же, сколько и их дни!
- Ах! Божественная фея, - воскликнул Баклан, - я едва в силах
вздохнуть от восторга; ваша доброта кружит мне голову. Не знаю, как выразить,
насколько я благодарен вам, и, быть может, именно это послужит лучшим
доказательством моих чувств. Должно быть, вы сами не осознаете,
насколько драгоценны для меня свидетельства вашей доброты. Я был бы счастлив
обожать вас, даже если бы встретил с вашей стороны суровый отпор,
вообразите же, коли можете, что я должен испытывать, узнав, что и в вас
вспыхнул такой же огонь, что и во мне. Какое блаженство жить, обожая вас,
посвящая вам каждую минуту своей жизни, и как ужасно не иметь
возможности умереть, если вы переменитесь ко мне! Но Нарцисс любит вас! Он мой
соперник! И, хотя у меня нет оснований сомневаться в вашем постоянстве,
разве могу я не опасаться его могущества? К тому же он так привлекателен!
- Признаюсь, - ответила я ему, - он уже объяснился мне в любви, но мне
будет трудно долго выносить его нежности и поступать вопреки своим
чувствам. Я употреблю все средства, чтобы отвадить его и сделать вас
счастливым, и в то время, когда вы будете блаженствовать, он станет стенать от
отчаяния. Безнадежная страсть сначала ярится, а затем успокаивается.
Бесплодные усилия скоро наскучат ему, поверьте, и из гордости он станет расто-
82
Шумовка, или Танзай и Неадарне
чать клятвы другой, раз уж я ими пренебрегаю. Но нам следует проявить
осмотрительность: вы, конечно, могущественны, однако очевидно, что вам
трудно тягаться с ним. Он не сможет укоротить вашу жизнь, но сделать ее
невыносимой вполне в его власти. Должно быть, нам не следует больше
видеться здесь. Ах! при мысли об этом я не могу сдержать стона! Нам
остается только, встречаясь при Дворе, взглядами говорить друг другу о любви.
Прибережем же ее доказательства для более укромного местечка! А теперь
уходите, я боюсь, как бы кто-нибудь не застал нас вместе и не догадался о
причинах нашего смущения: придворных трудно провести, ведь они только
и заняты, что любовью.
Принц, испугавшийся, что нешуточная страсть, в которой я ему
призналась, окажется всего лишь прихотью с моей стороны, хотел, перед тем как
уйти, получить более ощутимые свидетельства своего счастья, но я не
собиралась простирать дальше свою слабость. Думаю, я проявила сдержанность
вовсе не из добродетельности, вряд ли также ее можно приписать
деликатности; как бы там ни было, задержись Баклан еще хотя бы ненадолго, мне
трудно представить, что я сумела бы устоять. Он так нежно смотрел на
меня, а я была слаба! К тому же малейший пустяк приводил его в такой
неописуемый восторг, что мне смертельно хотелось увидеть, до какой степени
возрастет его благодарность, если я позволю ей вовсю развернуться. Он
нехотя ушел, и я постаралась скрыть от него, насколько трудно мне было
отпустить его.
Оставшись в одиночестве, я принялась упрекать себя, но не за то, что
произошло, а за то, что я отпустила его в таком радужном настроении. Я
пришла бы в отчаяние, если бы подумала, что он сомневается в моих
чувствах, но то, что он так уверен во мне, показалось мне непозволительным.
Хотя я еще не знала, сколь много мы теряем, когда идем навстречу желаниям
мужчины, я подозревала, что принц, все еще пылая ко мне страстью, уже
утратил сладкую тревогу неопределенности, а я уже убедилась на собственном
опыте, что этой тревоге, которую предмет любви может вызвать только
единожды, отведено свое место в душе. Я решилась, несмотря на всю свою
страсть к Баклану, заставить его томиться желаниями и даже заронить в его
душу сомнения: моя любовь страдала, соглашаясь с такой политикой, но
я была настолько убеждена в ее необходимости, что сумела преодолеть
отвращение к ней.
Когда я снова увидела его днем, мои глаза были молчаливее, чем утром.
Я даже подпустила во взор холода, что повергло его в отчаянье; правда,
уверившись в его горе, я обратила на него взгляд, полный нежности и любви,
вернувший ему прежние надежды. Я знаю, что мужчины называют
подобный трюк кокетством, но для кого, как не для них, все наши старания? Если
бы мы не прилагали усилий, чтобы расшевелить их сердца, вскоре не
нашлось бы чар, которые не казались бы им пресными.
Часть вторая. Книга третья
83
Наша нежность к ним неизменна? Убедившись в нашем ровном
постоянстве, они станут воротить от него нос. Каприз, которого они не ждут,
пробуждает их от летаргии: они в отчаянии видят, как счастье, коим они
распоряжались так небрежно, уплывает из рук, и начинают действовать, чтобы
вернуть утраченное, и тем самым оживляют собственные чувства. Они уже не
помнят, что мы принадлежали им, и хотят заполучить нас снова. Только
страх утраты заставляет их осознать, насколько они нуждаются в нас: они
сильнее начинают любить нас и, следовательно, становятся нам еще более
дороги. В результате обе стороны только выигрывают, и сердца
преисполняются новой любви. Все фантазии любовника воплотились, и у него нет
соперников? Он решает, что разлюбил, или же внушает себе, что любит по
привычке или из признательности. Отчего не оказать ему услугу и не
исправить ошибки, из-за которой его счастье померкло? Нежный любовник
рождается, как только исчезает чувствительная возлюбленная. Знаки любви,
которые он принимал без охоты, становятся для него притягательнее, чем
они были, когда их оказали ему впервые, как только он начинает
беспокоиться, что совсем лишится их: тогда он искренне изумляется, как это он мог
пренебрегать ими. Неожиданная ссора готовит нам триумф. А какая услада
для него вновь ощутить в сердце чувство, которое уже почти рассеялось!
Любовь такова, какой мы ее делаем. Оставь мы ее в первозданном виде,
свойственном ей от природы, и она будет однообразной, грубой и
бесцветной. Мы сами куем это благо; оно должно доставаться с трудом, чтобы
доставлять удовольствие. Наша власть над мужчинами зависит от нас, и, если
случается так, что мы ее утрачиваем, следует пенять лишь на собственную
неловкость: они не виноваты, что отказываются повиноваться. Увы!
Бедняги, они сами никогда бы до такого не додумались. Обреченные на рабство,
они рвут цепи только для того, чтобы позволить заковать себя в новые, и
чувствуют, что не созданы для господства. Мы хотим привязать их к себе?
Тогда не следует дарить им счастье во всей его полноте; во всем
потворствуя желаниям, легко совсем уничтожить их. Пусть даже в минуты
сладострастия им будет чего-нибудь не доставать, хотя бы вздоха. Исполненное
желание умирает, и этот смертельный недуг подкрадывается к нему, когда мы
не заботимся о том, чтобы уберечь его от этого.
- Ах, как чудесно! - воскликнула Неадарне.
- Клянусь честью, милая фея, - сказал Танзай, - в жизни не слыхивал
ничего подобного!
- Какие возвышенные суждения! - продолжила Неадарне.
- Лично мне они не по душе, пусть даже они столь же верны, -
заговорил Танзай, - сколь возвышенны. Я нахожу их длинными и
неуместными, а что может быть нелепее, чем умничанье, когда оно приходится
некстати. Вот уже три часа, как Усыня занимает наше внимание историей,
на которую у меня не ушло бы и четверти часа. Думаю, хороший рассказ-
84
Шумовка, или Танзай и Неадарне
чик должен быть простодушным. Если вдруг какое-то событие дает
повод для рассуждений, что ж, так тому и быть, но нельзя же, чтобы они
совершенно вытравляли саму историю; отступления должны быть
краткими и иметь прямое отношение к повествованию, очевидное для
слушателя, которого следует избавить от навязчивого желания рассказчика
блеснуть, подавляющего ум и угрожающего его безыскусственности, столь
необходимой во всем и без которой прекрасное невозможно. Я более не
ставлю Усыне в вину ее чудовищный жаргон, поскольку вижу, что она
родилась с ним. Но к чему эта груда мыслей, все время одних и тех же,
хотя и выраженных по-разному? Зачем эти перепевы, которые то и дело
меняют обличья, повинуясь странному вкусу, чтобы снова красоваться
отсутствием новизны? Для чего мне, желающему как можно быстрее
узнать суть истории, выслушивать соображения, которые вы приплетаете
к повествованию о ваших приключениях? Говорю вам в последний раз,
душа моя фея: выкладывайте факты и хватит болтовни.
- Возможно, вы и правы, - ответила Усыня, - однако не следует
относиться к существеннейшим вещам как к пустяку.
- Ну вот! - фыркнул Танзай. - Она думает, что ответила мне!
- Э! Но она так хорошо говорит! - заступилась за фею принцесса. - Что
может сравниться с умением вещать несколько часов о том, что было бы
изложено другим за одну минуту! Что за беда в повторах, если уже сказанное
предстает всякий раз в обновленном виде? К тому же этот восхитительный
способ выражаться, который вы обозвали жаргоном, потрясает. Он будит
воображение. Счастлив тот, кто может вести беседу с таким отменным
вкусом! Как! Всегда находить лишь старые слова, не осмеливаться разлучать
те, что мы привыкли заставлять работать в одной упряжке! Отчего должно
быть запрещено знакомить между собой слова, никогда прежде не
встречавшиеся или полагающие, что они друг другу не подходят? Разве оторопь,
которую испытываешь, увидев их рядом, не является пределом мечтаний?
И разве может не изумлять то, что, наряду с этой оторопью, увеселяющей
вас, они привносят красоту вместо уродства, которого вы ожидали? Может
ли предрассудок...
- Заклинаю вас Обезьяной! - взмолился принц. - Вы меня
поражаете! Просто диву даешься, как мало времени вам понадобилось, чтобы
подхватить эту заразу! Но не будем больше спорить. Пусть Усыня
закончит свою историю, если позволительно надеяться на это, не бросая то и
дело Баклана ради того, чтобы гоняться попусту за никому не нужными
соображениями.
- Продолжайте же, - обратилась Неадарне к Усыне, - и расскажите
поподробнее, что вы делали, о чем вы думали и, особенно, о чем вы могли бы
подумать, но не подумали. Постарайтесь не упустить ни малейшей детали.
Вы так чудесно рассказываете!
Часть вторая. Книга третья
85
Глава двадцать шестая2®,
В ТОМ ЖЕ ДУХЕ, ЧТО И ДВЕ ПРЕДЫДУЩИЕ
- Так вот, - продолжила Усыня, - я остановилась на том, что мой
взгляд успокоил его. Он влюбился в меня без памяти. Как бы я была
счастлива, если бы могла любоваться его умопомрачением во всей красе!
Но вслед за его рассудком устремился прочь и мой, а любовь помешала
мне осознать его бегство и возжелать его возвращения. Мы
договорились, как это обычно принято, выказывать друг другу в обществе лишь
дружеские чувства и учтивость, вознаграждая себя за это жестокое
насилие над собой, как это так же принято, тайком. К моему дворцу
примыкал сад, в который никто не мог входить, кроме меня. Я дала ключ от
ворот принцу: после того как гости расходились, я шла туда. Принц уже
поджидал меня, и мы, устроившись под купой мирт, обменивались
сладчайшими доказательствами своей любви. Я проводила так ночь за
ночью. Конечно, было бы ошибкой поступать так, имей я дело с
возлюбленным, который любил бы меня не так, как де Баклан, но я была
уверена, что принц не заметил бы ни моей бледности, ни синяков под
глазами. Поскольку мы сгорали от желания и имели полную возможность
исполнить его, само собой разумеется, что ни одно из наших приятнейших
свиданий не проходило без того, чтобы принц не делал героических
попыток одолеть мою добродетельность. Несколько раз он заговаривал со
мной о своих страданиях и о том, как ему трудно выносить их, но мне
удавалось отделаться пустяками, коими он и удовлетворялся, надеясь на
большее. Порой я сгорала от желания проявить щедрость, но покров
ночи скрывал от него мое смятение, а его почтительность охраняла меня
от моей же слабости. Бывали моменты, когда я сердилась на него за это,
избегая, однако, посвящать его в свои чувства. Часто, удивляясь
сдержанности, которая не была принята при нашем Дворе, он жестоко
упрекал меня. Обнадеженный податливостью, проявленной мною в первый
раз, он никак не ожидал столь долгого сопротивления. Да я и сама себе
изумлялась, но мне хотелось, чтобы он относился ко мне с уважением, и
самолюбие одерживало верх над страстью. Мне больно, когда я сейчас
вспоминаю об этом. Любезный мужчина, который любим и внушает вам
те же желания, что и вы ему, проводит с вами наедине ночь. Он
позволяет себе вольности, не противные вам, но вы все равно сопротивляетесь!
Нет, не добродетельность приходит на помощь женщине в подобных
ситуациях: она умолкает, как только та начинает сама искать их. В таких
случаях только кокетка может не опасаться пыла возлюбленного; я
знаю, что кокетство куда менее достойное качество, чем добродетель-
86
Шумовка, или Танзай и Неадарне
ность, однако оно порой приносит больше пользы. Мы принимали все
возможные меры предосторожности, однако не прошло и двух недель,
как при Дворе не осталось ни одного человека, который не обратил бы
внимания на нашу изобретательность. Впрочем, уважение, которое все
испытывали ко мне, не позволяло никому открыто шутить по этому
поводу. Только Нарцисс, заинтересованный больше других в том, чтобы
читать в моем сердце, не предполагал, что у него есть соперник. Он
понимал, что я не испытывала к нему любви, но, то ли из-за своего
самомнения, то ли из-за того, что счел меня бесчувственной, не верил, что я
могу увлечься другим. Наконец любовь и ревность сделали его
прозорливее, и он начал подозревать, что я скрываю от него тайную страсть,
наполнившую мое сердце. Он стал присматриваться к придворным, и
посреди этого сурового экзамена его взгляд упал на де Баклана. Он
обнаружил в нем заботливость, больше напоминавшую любовь, чем простую
учтивость. Ему удалось перехватить один из тех взглядов, которым
любовь, несмотря на вынужденную стесненность, придает горячности,
бросающейся в глаза. Внимание, с которым принц слушал меня, любезная
снисходительность, с которой я внимала ему, похвалы, которыми я
встречала каждое его слово, множество вещей, в которых трудно
отдавать себе отчет и которые, если свести их воедино, приобретают
значительность, укоренили его подозрения, а затем превратили их в твердую
уверенность. Ему хотелось узнать о нас побольше, но он не стал
прибегать к магии, составлявшей предмет его искусства, понимая, что любовь,
более могущественная, чем он, не снизойдет до того, чтобы
удовлетворить его любопытство. Он положил рассчитывать только на себя и,
желая выяснить правду, обернулся невидимым и проник в мой сад,
предположив, что именно ночь позволяет мне беспрепятственно встречаться с
де Бакланом. В ту ночь я решила окончательно довериться Баклану и
отдаться ему. Мы были уже под миртами, когда появился Нарцисс. Он
нетерпеливо поджидал меня у дверей моей спальни, когда неосторожные
вздохи, донесшиеся со стороны сада, указали ему путь. Увы! Это были
наши вздохи. Довольная своим возлюбленным, не сомневающаяся в его
верности, подстегиваемая как его, так и моими желаниями, я позволила
ему уложить себя на постель из трав. Баклан отчасти утратил обычные
робость и почтительность. Мы очнулись от нежного забытья и
намеревались с новым пылом погрузиться в него, как вдруг сверкающий вихрь
налетел на нас. Когда он распался на две части, мы увидели перед собой
жестокого Нарцисса и окаменели. Мы никак не ждали его. Принц
привел мой наряд в беспорядок, и, поскольку он не собирался на этом
останавливаться, я не думала о том, чтобы принять приличествующий вид.
Да и он сам, забывшись сильнее, чем я, пребывал в состоянии, которое
не могло не заставить ревнивого духа вообразить самое страшное. Мое
Часть вторая. Книга третья
87
платье почти целиком скрывало принца, занятого любованием, уж не
знаю, каким пустяком, и чем больше Нарцисс убеждался, что принц
погружен в созерцание, тем меньше он был склонен простить его.
- Жестокая! - громовым голосом воскликнул Нарцисс. - Так-то вы
платите мне за мою любовь? А ты, несчастный, - продолжил он, обращаясь к
принцу, - подумал ли ты, кого ты оскорбил? Думаешь, тебе удастся
избежать моей мести? Она свершится, и, поскольку ты не можешь умереть,
каждая секунда твоей жизни отныне будет пронизана страшным ядом моего
гнева. Схватить его, - приказал он, - и держать взаперти, пока я не решу,
какую кару ему назначить.
Как только он произнес последние слова, принц исчез. Я лишь увидела,
как он в отчаянии тянет ко мне руки. Изумление и боль поначалу
подкосили меня, но затем горе придало мне сил.
- Варвар! - закричала я. - На что ты жалуешься? Кто тебе сказал, что
твоя любовь обязательно должна быть взаимной? Разве я дала тебе право
распоряжаться моим сердцем? Да, Баклан мне понравился, а твое роковое
появление позволило мне еще яснее почувствовать, как я люблю его. Я не
боюсь твоей мести. Даже если ты решишь не мстить мне, я не стану твоей.
Помышляя лишь о несчастьях моего возлюбленного, разве смогу я
относиться к тебе не как к заклятому врагу? Накажи меня, если хочешь, но знай,
что ни время, ни горести не истребят моей любви, и она будет жить во мне
наравне с отвращением к тебе.
- Ну что ж, обманщица! - сказал он. - Ты будешь довольна.
Он начал подступать ко мне, но тут появилась Брадакела и, выхватив
меня из-под его носа, взмыла в воздух. Мы долго летели и наконец опустились
на луг, где вы меня нашли.
- Несчастная! - сказала мне она. - В какую страшную пучину повергла
тебя твоя любовь! Ты погубила навсегда предмет своей страсти, ты и сама
бы погибла, если бы не мое могущество, спасшее тебя от ярости Нарцисса.
Беги, спрячься от него и жди, пока не наступит более счастливое время,
которое позволит тебе снова увидеть дневной свет. Я превращу тебя в кроти-
ху, но опасайся выходить за пределы этого луга. Смею надеяться, что в
будущем, покрытом мраком, мне удастся смягчить твою участь. Настанет
день, когда один из тех, кому я покровительствую, поможет тебе, и
найдется принцесса, которая освободит бедного Баклана.
Она дотронулась до меня своей палочкой, и я сразу же стала такой,
какой вы меня видите. Прощаясь с Брадакелой, я спросила ее, что
Нарцисс сделал с моим возлюбленным, и она мне рассказала, что он
приговорил его вечно крутиться колесом и делать кульбиты в садах острова
Нарциссиль21.
- Видимо, - заметил Танзай, - дух почтил принца этим наказанием из-за
его страсти к танцам. Но я нисколько не сомневаюсь, что фея Брадакела
88
Шумовка, или Танзай и Неадарне
имела в виду меня, и мы сделаем так, чтобы... Но не плачьте же, -
обратился он к Неадарне, заливавшейся слезами. - Вы слишком жалостливы.
Подумаешь, она превратилась в кротиху, велика важность! А в том, что Баклан
резвится, вообще нет ничего печального!
- Ах, как вы жестоки! - проговорила Неадарне. - Подумайте о
несчастье влюбленных, которых разлучили! Разве этого наказания не
достаточно, чтобы нанести им смертельную рану? Я бы умерла, если бы вас
отняли у меня хотя бы на один день, хотя бы на один час! Кстати, -
обратилась она к Усыне, - сколько времени прошло с тех пор, как вас
лишили Баклана?
- С того злополучного момента минуло уже десять лет, - ответила
фея. - Брадакела несколько раз приходила навестить меня, и я узнала от
нее, что Нарцисс, гневаясь по-прежнему, проведал, что я приняла
обличье кротихи, и, не сумев отыскать мою норку, приказал, желая во что бы
то ни стало схватить меня, всем, кто предстает перед ним, приносить ему
в подарок кротов в надежде, что в конце концов кто-нибудь поймает
меня. Если бы не ваше великодушие, я бы попалась в эту ловушку, и я
сумею отблагодарить вас. Я, конечно, не так могущественна, как Нарцисс,
но все же и я кое на что способна. Мы приближаемся к его владениям,
спрячьте меня получше.
- Вы полагаете, - спросила Неадарне, - что сможете увидеть Баклана?
- Всё говорит о том, что я его увижу, - ответила Усыня. - Брадакела
обещала мне помощь, и встреча с вами, надеюсь, изменит мою участь. Я уже
чувствую, как покой начинает снисходить в мое сердце.
- Вы знаете Нарцисса, - заговорил Танзай, - скажите, как по-вашему, он
захочет довести дело с Неадарне до конца?
- Думаю, несомненно, - молвила фея. - Он влюбчив, Неадарне красива,
а необычность того, что с ней приключилось, сделает ее еще
привлекательнее в его глазах.
- Но нельзя ли мне сопровождать Неадарне? - спросил принц.
- Э! Разве вы сможете этим защитить ее? - сказала фея. - Нарцисс
любит музыку, а вы чудесно играете на рыле. Подумайте, ему ничего не стоит
сослать вас на тридцать лет в свои сады, чтобы вы аккомпанировали
Баклану. Предоставьте мне уладить это дело; уверяю вас, успех превзойдет все
ваши ожидания.
Принца, которого не на шутку беспокоил дух Нарцисс, не слишком-то
утешили обещания феи. Он вздохнул и ничего не ответил, решив, что
Усыня способна уберечь Неадарне от объятий Нарцисса не в больше степени,
чем она оказалась способна избавить Баклана от прыжков.
Часть вторая. Книга третья
89
Глава двадцать седьмая,
КОТОРАЯ У МНОГИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ВЫЗОВЕТ ЗЕВОТУ
Рассказ Усыни, как уже, должно быть, понял читатель, был довольно
долгим. За то время, пока она говорила, путешественники успели пересечь
лес. Танзай, завидев впереди город, спросил, как он называется.
- Это город, - ответила Усыня, - Приворот-Трававиль22. Он очень
большой и многолюдный. Его король платит дань Нарциссу и является главным
посредником в его амурных делах. Этот король любезно взял на себя труд
составить список всех красавиц, живущих на земле, с которыми
приключилось что-либо необычайное, наподобие истории, произошедшей с
принцессой, и Нарцисс заполучает их при помощи фей23, которые относятся к нему
с глубоким почтением.
- Однако, - сказал Танзай, - этот дух нашел себе довольно странное
занятие. Что может быть хорошего в том, чтобы пользоваться несчастьем
женщины? Это невеликодушно и неделикатно.
- Вы правы, - согласилась фея, - но он меньше всего на свете
стремится быть деликатным. Он считает, что деликатность портит все удовольствия
и что, устранись она полностью, они отнюдь не утратят ни яркости, ни
подлинности. Трудно переделать мужчину, имеющего устоявшиеся взгляды,
которые он, чтобы придать им основательности, объясняет тем, что
чувствительные женщины всегда обманывали его ожидания, доставляя ему куда
меньше приятных минут, чем те, которые отдавались ему по принуждению
или из похотливости, и утверждает при этом, что было бы безумием ради
одной возлюбленной лишать себя общества других, кои могут приглянуться
в будущем.
- Это, - вступил в разговор принц, - самый дурной способ видеть вещи
из всех, которые существуют. Просто глядя на Неадарне, я счастлив так, как
никогда бы не был в объятиях даже самой очаровательной феи.
- Возможно, вы не всегда были так строги, - сказала Усыня. - Впрочем,
даже если это не так, стоит ли спорить о пристрастиях. Источник
вожделения - каприз, и только он управляет им.
- Тем не менее, - заговорила Неадарне, - я полагаю, что это
пресловутое вожделение должно получать подмогу от сердца, и даже самый
приятный мужчина, если я к нему не расположена, не произведет на меня такого
впечатления, как какой-нибудь монстр, коли я нахожу его
привлекательным.
- Многие женщины, думавшие, как вы, - ответила фея, - с опытом
преодолели это заблуждение. Ни от чего нельзя зарекаться: бывает так, что
природа берет свое, или же случай ниспосылает нам сон, а с ним возлюблен-
90
Шумовка, или Танзай и Неадарне
ного, о котором мы меньше всего помышляли. Возьмем, к примеру, сон
принца: конечно же, Танзай предпочел бы повстречать в нем вас, а не фею
Огурогуру. Однако...
- О, конечно! - перебил ее принц, выведенный из себя нескромностью
Усыни. - Подобные вещи нам неподвластны. Но мы подъезжаем к городу,
поэтому будет уместнее закончить этот спор в другое время. Так, значит,
остров Нарциссиль уже недалеко отсюда?
- Да, - ответила Усыня. - В четырех льё от этого города есть озеро; там-
то и находится остров. Разукрашенные лодки, которыми никто не
управляет, доставляют красавиц, направляющихся к духу, на остров, а затем
привозят их обратно.
В таких разговорах, а также переговариваясь о прочих столь же
занимательных вещах, они въехали в город. Все его жители радовали глаз своим
чудесным васильковым цветом. Хотя принц и Неадарне путешествовали
инкогнито, их величественный вид, многочисленная свита и роскошные
экипажи заставили васильков предположить, что прибывшие иностранцы
высокие персоны. Усыня торопила принца отправиться в приготовленные для
него покои и выглядела столь обеспокоенной, что в конце концов он
поинтересовался причиной ее волнения.
- У меня есть основания тревожиться, - сказала Усыня. - Нарцисс в
городе, и мне не хотелось бы, чтобы он узнал меня.
- А зачем он явился сюда? - спросил принц.
- В этот город его всегда приводит любовь, - ответила фея. - Женщины,
живущие здесь, несмотря на свой цвет, необычайно красивы, и когда дух
пребывает в праздности, он развлекается тем, что удостаивает их своим
вниманием. Все боятся его, и жители, а особенно жительницы ни в чем ему не
отказывают.
- Какой ужасный этот дух! - воскликнул Танзай. - Ах, Неадарне! Какие
терзания предстоят мне из-за вашей красоты! Могу ли я надеяться, глядя на
вас, что Нарцисс не увидит того, что вижу я? Ну что может сделать Усыня?
Разве ей под силу спасти вас от вожделений этого духа? Что мне проку в ее
обещаниях! Чем ближе становится момент моей пытки, тем невыносимей
для меня мысль о том, что вам предстоит. Я в отчаянии. Я чувствую, что не
смогу выносить вашего общества, когда вы вернетесь с острова Нарциссиль,
а, утратив мое уважение, вы будете уже мне не так дороги, как теперь.
Оставайтесь же такой, как вы есть. Ваш прежний вид будет вызывать у меня
отвращение, если его вернет вам Нарцисс. Будем же жить в согласии,
вместе оплакивая нашу жестокую участь! Мне нужно лишь ваше сердце, а коли
правда, что вам для счастья необходимо только знать, что вы обладаете
моим, то нас ждет блаженство. Короче говоря, я полагаю, что вам не следует
отправляться на остров Нарциссиль. Завтра же мы пустимся в обратный
путь, в Тютюрбанию.
Часть вторая. Книга третья
91
- О, дорогой принц, какое счастье! - воскликнула нежная Неадарне. -
Но нельзя, чтобы вы страдали из-за вашего великодушия. Мне будет
достаточно титула вашей супруги, и я не стану возражать, если другая заменит
меня в остальном. Я буду любить ее за те удовольствия, которые она вам
принесет, и тогда нам не придется расстаться, как того требуют законы,
суровые законы, коих вам никогда не отменить. Когда ваши подданные увидят
драгоценные плоды второго брака, надеюсь, у них не хватит жестокости
разрушить нашу дружбу. Но даже если это горе обрушится на меня, если
мне предстоит окончить мои окаянные дни вдали от вас, - добавила она,
заливаясь горючими слезами, - если мне суждено пережить разлуку, по
крайней мере, о моя единственная отрада, мне будет сладко думать, что вы
счастливы.
- Что вы такое говорите, милая принцесса! - вскричал Танзай. - Чтобы
я оставил вас? Чтобы я удостоил другую благосклонных взглядов? Ах!
Такому не бывать. Пусть лучше сгинет королевство, раз я не могу положить
его к вашим ногам! Пусть лучше сгинет вся природа, чем я замараю себя
черной неблагодарностью! Пусть законы ополчаются на нас, пусть мои
подданные потрясают ими, мне наплевать; я заставлю их замолчать, и того, кто
осмелится поднять голос, ждет жестокая кара. Я восстану даже против
самих богов! Нет, божественная Неадарне, нет, разве изгнания заслуживают
ваша любовь и то, как вы отнеслись к моему несчастью? Даже и не
заикайтесь больше об этом, возможно, судьба, устав преследовать нас, сменит гнев
на милость, и мы увидим счастливые дни, или же...
- Не стоит обольщаться, - перебила его фея, - судьба никогда не
отменяет приговоров, вынесенных смертным: только Нарцисс может избавить
вас от него. К тому же, что будет со мной, если принцесса не освободит
Баклана?
- Я был бы вам очень признателен, - заметил принц, - если бы вы
воздержались от того, чтобы ставить ваши интересы выше моих. Тем более что
судьба ничего такого нам не предписывала, и я не понимаю, почему вы
навязываете принцессе как нечто непреложное какие-то пустяшные заботы,
которыми она вовсе не обязана заниматься.
- Но чего вам бояться, - сказала Усыня, - разве я не обещала вам свою
помощь?
- Э! Вы дрожите даже за себя! - ответил Танзай.
- Это совсем другое дело, - проговорила Усыня. - Дух может быть
опасен мне в моем теперешнем положении, но это не значит, что я так уж
слаба. Я придумала, как избавить принцессу от притязаний Нарцисса. Когда она
окажется на острове, я отправлю к нему ее двойника и позабочусь о том,
чтобы Дух не заметил подмены.
- Не думаю, что он удовлетворится призраком, - сказал Танзай. -
Короче говоря, я хочу вернуться в Тютюрбанию. Мне жаль вас, но если фея Бра-
92
Шумовка, или Танзай и Неадарне
дакела так любит вас, она найдет другой способ вернуть вам прежний облик
и вашего возлюбленного.
Сказав это, он, не обращая внимания на Усыню, распорядился, чтобы на
другой день все было готово к отъезду, а фея так расстроилась, что даже
нежной Неадарне не удалось ее успокоить.
Глава двадцать восьмая
КОВАРСТВО НАРЦИССА.
КАК УСЫНЯ ОБЕРНУЛА ЭТО В СВОЮ ПОЛЬЗУ
Усыня хотела во что бы то ни стало освободить своего принца и, увидев,
что ее последние надежды улетучиваются и что ей не уговорить Танзая
отправить Неадарне на остров Нарциссиль, решила не прибегать к мольбам,
поскольку понимала всю их тщетность, а пустить в ход самые
могущественные средства из тех, которые давало ей ее искусство. Ее не особенно
занимало то, что при этом пострадает принц: небрежение, с которым он отнесся
к ней, препятствия, с которыми ей трудно было смириться, необходимость
того, чтобы Неадарне оказалась в объятиях Нарцисса, перевешивали другие
соображения, и она, стараясь не выдать своих намерений, ломала голову над
тем, как бы справиться с бедой. Наступившая ночь, застала ее за этими
раздумьями.
Сразу после ужина молодые супруги отправились спать, и Танзай
остался непоколебим в своем намерении на следующий день отправиться домой.
Они заснули, а фея все еще тщетно силилась придумать уловку, которая
помогла бы ей добиться своего, как вдруг в городе поднялся страшный шум.
- О Великая Обезьяна! Что это? - воскликнул принц, разбуженный
шумом.
- Ах! - ответила фея, осведомленная о происходящем благодаря своему
искусству. - Как отвратителен этот Нарцисс!
- А что случилось? - спросил Танзай.
- Знайте же, - сказала фея, - что он влюбился в одну из самых красивых
женщин города. Взбешенный ее сопротивлением, он превратил ее в чудище
и, поскольку этого наказания ему показалось мало, он пошел дальше в
своей мести и простер ее на всех хорошеньких женщин, живущих здесь,
которые должны, по его велению, оставаться уродинами до тех пор, пока не
совершат путешествия на его остров. Вот причина ужасного шума: жители
города не хотели бы, чтобы их женщины оставались такими, какими он их
сделал, однако находят, что труднее согласиться на условие, при котором дух
Часть вторая. Книга третья
93
готов вернуть им красоту, чем на то, чтобы лицезреть изо дня в день их
уродство.
- Однако этот город показался мне многолюдным, - заметил принц, - и
духу придется потрудиться, чтобы исправить то, что он натворил.
- Как? О Сладость моей жизни! - промолвила Неадарне. - Неужели вы
полагаете, что найдутся женщины, которые предпочтут поступиться
добродетельностью ради своей красоты?
- Да не прогневаются на меня боги за мои мысли! - сказал Танзай. - Но,
будь я женщиной, вряд ли мне бы захотелось, чтобы меня подвергли такому
испытанию! Как бы там ни было, думаю, не пройдет и двух дней, как от
мести Нарцисса не останется и следа.
Ужасный крик, вырвавшийся из груди Неадарне, прервал этот разговор.
- Э! Отчего вы так кричите? - спросила Усыня.
- Увы! - ответила принцесса. - Если не ошибаюсь, мой нос стал длиннее
не меньше, чем на фут!
Впавший в крайнее расстройство принц взял одну из свечей, горевших в
комнате, но, увидев лицо Неадарне, тут же уронил ее на пол от ужаса.
- Только этого еще не хватало! - простонал он.
- Дайте ей зеркало, - распорядилась Усыня. - И возьмите другую свечу.
Принц, дрожа, принес зеркало и свечу, и Неадарне, увидев, что она
стала уродливой, старой и горбатой, залилась слезами. Теперь и фея Огурогу-
ра могла бы оспорить ее красоту.
- Стоит ли так расстраиваться, - промолвила хитрая Усыня, - коли мы
знаем средство против этой беды?
- Ах! - воскликнул принц. - Даже если бы оно не внушало мне
отвращения, думаете, добродетельность Неадарне позволила бы ей прибегнуть
к нему?
- Увы, принц, - сказала Неадарне, сраженная наповал последним
несчастьем, - я сделаю только то, на что вы дадите ваше согласие. Но ведь вы, -
добавила она, обращаясь к фее, - обещали мне свою защиту, когда же мне
рассчитывать на нее, если не в моем теперешнем положении?
- Однако я не могу понять, - заметил принц, - почему гнев Нарцисса
распространился и на Неадарне. Было бы естественным ожидать, что он падет
лишь на жительниц этого города. Причем здесь чужеземки?
Усыня, если бы захотела, сумела бы удовлетворить любопытство
принца, поскольку ей лучше других была известна истинная причина
случившегося, ибо именно ей Неадарне была обязана произошедшей с ней
метаморфозой. Пребывая в отчаянии от того, что принц упорствовал в
своем нежелании отпустить Неадарне на остров, и не имея другого средства для
того, чтобы вызволить де Баклана, она воспользовалась местью Нарцисса в
надежде, что, увидев, какой безобразной стала принцесса, Танзай
согласится на ее путешествие в Нарциссиль. Тем временем принц предавался стена-
94
Шумовка, или Танзай и Неадарне
ниям. Чтобы успокоить его, фея сказала, что, должно быть, дух не подумал
о всех последствиях своей мести и подверг ей стольких женщин, что будет
вынужден вернуть красоту большинству из них, ничего не потребовав взамен,
и что поэтому следует воспользоваться этими обстоятельствами и отправить
к нему Неадарне, ибо есть надежда, что она дешево отделается от него.
- Возможно, - сказала Неадарне, - я вернусь с острова похорошевшей,
но кто вернет мне то, что я утратила из-за гнева Огурогуры? Мы
отправились в путешествие, чтобы справиться с одной бедой, а теперь я поражена
двумя недугами и даже не знаю, какой из них хуже. Хотя лекарство, которое
мне прописано, действует против обоих, я не могу воспользоваться им и
излечиться ни от одного ни от другого. Думаю, для моего дорогого принца
будет лучше, если я останусь уродиной. Моя отвратительная внешность
заставит его совершенно забыть о другом недуге. Он разлюбит меня, но, чтобы
стать достойной его любви, мне придется пожертвовать его уважением.
- Жалкая метафизика! - воскликнула Усыня. - Что является истинным
преступлением? Согласие. Но вы не по своей воле окажетесь в объятиях
Нарцисса, следовательно, вы ни в чем не будете виноваты. Вы лишь хотите
вернуть себе первоначальный вид, вы стремитесь к этому только ради
вашего супруга, и только забота о нем вынуждает вас покориться судьбе. Вы
жертвуете собой ради него, и, следовательно, он должен начать еще сильнее
уважать вас. Разве не так? - обратилась она к Танзаю.
- Не знаю, - ответил он, - справедливо ли то, что вы говорите, но,
поскольку несчастья обступили меня со всех сторон, думаю, мне следует
согласиться с любым решением, которое побыстрее вызволит меня из этого
кошмара.
Хотя разговор на этом не кончился, историку хватило здравого смысла,
чтобы не передавать его целиком читателю. Тем временем шум,
поднявшийся в городе, все нарастал, и Усыня с принцессой умолили принца, чтобы
он отправился на небольшую прогулку и разузнал последние новости.
Вернувшись, он рассказал им, что, как только разразилась месть Нарцисса, все
женщины толпой повалили на остров, включая королеву, которая оказалась
первой, поскольку приняла решение, не мешкая, ибо не хотела ни одной
лишней секунды оставаться дурнушкой, однако, как только она вернулась
во дворец, король собственноручно задушил ее, и большинство мужей
собираются последовать его примеру.
- Тем не менее, - добавил он, - женщины, пока еще оставшиеся в
городе, намерены отправиться на остров, и я уверен, что не пройдет и дня, как
следы мести Нарцисса окажутся смыты. Я всегда знал, что женщины
больше трясутся за свою красоту, чем за свою добродетельность.
- В этом виноваты мужчины, - откликнулась Усыня. - Если бы они
гонялись за добродетельностью так, как они гоняются за красотой, если бы
добродетельность ценилась ими так же, как красота, мы предпочитали бы
Часть вторая. Книга третья
95
быть добродетельными, а не красивыми. Но оставим это. Каково будет
ваше решение?
- Как только наступит рассвет, я отправлю принцессу на остров. Завтра
она встретится с Нарциссом, и завтра я умру от отчаяния. Конечно, моя
смерть огорчит ее, но зато никто не станет упрекать меня в том, что я думал
лишь о своем благе.
Не стоит останавливаться на том, как закончилась эта ночь. Новые
страхи принца, клятвы, которые давала Усыня принцу и принцессе в том, что та
вернется с острова невредимой и что ее исцеление, которое совершится при
помощи колдовства, ничего не будет стоить ее добродетели, недоверие Тан-
зая, который, по всей видимости, находил удовольствие в том, чтобы видеть
во всем только самое дурное, - все это длилось и длилось, пока Танзая не
сморил сон. Принц, десятки раз менявший свое решение в течение вечера,
уснул с твердым намерением отпустить принцессу, Усыня же, видя, что горе
не дает Неадарне уснуть и желая рассказать ей кое о чем, усыпила ее
колдовскими чарами и вот что поведала ей.
Глава двадцать девятая
ИНТЕРЕСНЫЙ РАЗГОВОР,
СОСТОЯВШИЙСЯ МЕЖДУ УСЫНЕЙ И НЕАДАРНЕ
- Ваше первое несчастье не огорчило вас так, как то, что произошло с
вами сейчас. Вы боитесь Нарцисса, но, вместе с тем, не хотите оставаться
уродиной: от всего этого у вас голова идет кругом. Однако следует
разобраться в туманном хаосе ваших мыслей, привести их в порядок, прояснить
их, и тогда в вашей душе рассветет. Пока же в ней сумерки, и вы можете
передвигаться лишь на ощупь: ваши мысли отворачиваются друг от друга и
дуются. Я уверена, что среди них нет ни одной, которая бы не почитала себя
оскорбленной, и вы страдаете от их ссоры; я хочу избавить вас от этого
разлада, мой разум займет кресло арбитра и вынесет свой приговор каждой из
них, слушайте же. Обещав вам свою защиту от притязаний Нарцисса, я вас
обманула. Нет такой силы, которая была бы властна над ним. Вашей
добродетельности, как бы истово она ни настаивала на приличиях, придется
уступить, когда она окажется зажатой в угол. Нарцисс сумеет взять ее за горло,
иначе говоря, не рассчитывайте на нее: ей придется выбирать - или лопнуть
от гордости или умереть в жестоких муках. Вы слишком красивы, чтобы
она могла надеяться на пощаду, и если она на что и годится, так это на то,
чтобы еще пуще распалить Нарцисса. Когда победа дается слишком легко и
96
Шумовка, или Танзай и Неадарне
не тешит самолюбия мужчины, он пренебрегает ею. Теперь поговорим о
другом. Уродство не должно волновать вас, оно дело моих рук, и я легко
могу избавить вас от него сама, не вмешивая в это дело духа. Как только вы
покинете принца, вы станете красивее, чем прежде. Но это еще не все, и
теперь я перехожу к самому главному. Принц ревнив, и, коли вы скажете ему,
что видели духа и что он отнесся к вам снисходительно, недвусмысленные
свидетельства обратного разоблачат вас. Но я знаю прекрасное средство,
способное исправить вред, который нам наносят домогательства мужчин.
- Не понимаю, о чем вы говорите? - перебила ее Неадарне.
- Как? - воскликнула фея. - Вы не понимаете? Но до того как вы
познакомились с принцем... не может быть, чтобы вы совсем не понимали, что я
имею в виду. Согласитесь, что если бы те две роковые ночи не были бы
испорчены гневом Огурогуры, если бы с вами не случилось ничего дурного,
вы не смогли бы ответить на любовь Танзая с той нежностью, с которой
хотели бы, без того, чтобы с вами не произошла одна вещь...
- Кажется, я начинаю понимать, - ответила Неадарне.
- Тогда вам должно быть ясно, - продолжила Усыня, - что следствием
всего этого было бы некоторое изменение в вас. Нарцисс заставит вас
заплатить за исцеление тем, что не удалось принцу. И результат будет такой
же, каким бы он был, если бы на его месте оказался принц. Естественно,
ваш супруг заметит, что натворил дух.
- Ах, какая разница? - спросила Неадарне.
- В сущности, никакой, - сказала Усыня, - но с точки зрения формы,
очень большая. Короче говоря, тут все упирается в предрассудки, а когда
имеешь дело с мужчиной, не следует пренебрегать ими24. Поэтому-то
нужно, чтобы я придала вам должный вид, который позволит вам доказать
принцу, что дух вас пощадил, иначе вы утратите его любовь и, чтобы он вам
ни говорил, сколько бы он ни оправдывал вас тем, что вы лишь
послушались его, все равно, коли вы не вернетесь такой, какой уехали, он,
пренебрегая справедливостью, станет презирать вас. Такова уж наша участь!
Мужчины то и дело обвиняют нас в притворстве, тогда как именно они ставят нас
в такое положение, когда без него не обойтись. Как и Танзай, они
несправедливы, и часто презирают нас за то, к чему сами же нас и подстрекают.
Есть тысячи ситуаций, когда истина способна только обесчестить нас и
когда, щадя их самолюбие, мы должны прибегать ко лжи, чтобы не утратить
их уважения. В таком положении, например, сейчас находитесь вы. Даже
если бы было не в моей власти исправить вред, который нанесет вам дух, вам
надлежало бы твердо стоять на том, что вашему целомудрию ничто не
угрожало и скорее употребить всевозможные средства, чтобы списать все на
природу, чем признаться в несчастье, которое ваш супруг вам никогда бы не
простил. Им всегда хочется сохранить за собой первенство. Чтобы у вас
было, чем подкрепить ваши речи, вам следует прибегнуть к одному верному
Часть вторая. Книга третья
97
средству*. Я открою вам секрет: необходимо произнести три магических
слова, и я запишу их вам, поскольку память иногда подводит. В другое время вы
сумели бы провести его и без этого, однако ревность придает любящему
догадливости, и нам есть полный смысл оградить себя от нее. Благодаря моему
средству вы будете вне подозрений. Мне бы даже хотелось, чтобы его действие
оказалось сильнее, чем это необходимо. Принц будет только счастливее, коли
у него будут основания для жалоб. Главное же, не краснейте от того, что вам
приходится хитрить. Если бы ночь с Огурогурой могла оставить на нем явные
следы, он охотно бы воспользовался любой уловкой, чтобы обмануть вас. Он
отделался тем, что объяснил свое исцеление сном, и вы могли бы...
- Я с самого начала сомневалась, - перебила ее Неадарне, - что это был
всего лишь сон. Но, заикнись я о том, что тоже видела сон, он, помня свой
опыт, сразу же усомнится в правдивости моих слов.
- Несомненно, - согласилась Усыня, - однако тут-то средство, о котором
идет речь, и сослужит вам службу. Сможет ли он усомниться в вас,
столкнувшись с не меньшими трудностями, чем те, которые придется преодолевать
Нарциссу?
- А если ваше средство не подействует? - спросила принцесса. - Огуро-
гура вполне способна сыграть со мной шутку под стать предыдущим.
- Не бойтесь, - ответила фея, - она ничего не знает об этом средстве:
будь принц с вами откровеннее, он подтвердил бы вам, что оно ей неведомо.
И вот еще что: вы преисполнились отвращения к Нарциссу, но оно
рассеется, когда вы увидите его: у него очень приятная внешность. В рассказе о
моих злоключениях он предстал как гонитель, и, должно быть, вы стали с еще
большей ненавистью относиться к нему, но, повторяю, это очаровательный
дух, не только могущественнейший, но и редкостных достоинств. Возможно
даже, вы безумно полюбите его.
- Вот уж нет, - сказала Неадарне. - Мое сердце наполнено такой
любовью к Танзаю, что ни один дух не сможет произвести на меня впечатления.
- Еще одно заблуждение, - заметила фея. - Вам уготовано испытание, а
Танзай, который смог бы помочь вам уберечь ваше сердце, будет далеко.
- Мне достаточно знать, что он есть, - ответила Неадарне. - Я бы
умерла со стыда, если бы требовалось его присутствие для того, чтобы я
оставалась ему верной.
* В этом месте Килохо-хээ, а вслед за ним и переводчик, сетуют, что секрет Усыни не описан
в Книге. Но если китаец отметает обвинения в том, что он хотел бы сообщить его своим
согражданам, переводчик, полагающий, что этот секрет мог бы быть полезен Франции не
меньше, чем Китаю, заверяет читателей, что очень сожалеет по поводу его отсутствия: он
умоляет их поверить, что не его небрежность является виной тому, что они лишаются столь
важного знания, и считает своим долгом заметить, что проведенные им многочисленные
эксперименты принудили его прийти к выводу, что все, о чем здесь говорится, является
выдумкой.
4. Кребийон-сын
98
Шумовка, или Танзай и Неадарне
- Ваши чувства очень трогательны, - сказала фея, однако все
произойдет именно так, как я говорю. Мне знакомы пути сердца. Женщина только
тогда не изменяет своему возлюбленному, когда не оказывается в ситуации,
располагающей к этому. Если же, к несчастью, она попадает в такую
ситуацию, дуновения природы бывает достаточно, чтобы потушить ее чувство.
Правда, когда оно вновь занимается, происшедшее вызывает удивление, но
тем не менее именно так все и бывает.
- Со мной этого не случится, - заявила Неадарне. - Даже если бы я не
любила так горячо принца, не думаю, что мой выбор остановился бы на
Нарциссе: я чувствую, что ненавижу его.
- Опять заблуждение, - молвила фея. - Часто мужчине, о котором у
женщины сложилось самое нелестное мнение, удается, не тратя особых
усилий, понравиться ей. Ненависть - верная дорога к пламенной любви. Тут
вмешивается каприз, не говоря уже о самолюбии. Вот появляется мужчина,
равнодушно взирающий на прелести женщины; ни один комплимент не
срывается с его уст, его глаза, полные оскорбительного безразличия, лишь
подтверждают, что он молчит, поскольку ему действительно нечего сказать.
Он глазеет на женщину, не стараясь выглядеть учтивым, словно она для
него пустое место. Кажется, его душа просто не замечает ее, быть может,
потому, что она слишком увлечена другой женщиной из числа
присутствующих: этого достаточно, чтобы вспыхнула ненависть, а если, по воле случая,
наглец обладает некоторыми достоинствами, он еще больше падает в ее
глазах, и она лишь укрепляется в мысли, что он невыносим. Будь он глуп, имей
он сердце, не способное ничего удержать, его одобрение ценилось бы ровно
в той степени, в какой считается лестным производить впечатление
решительно на всех. Но если привлекательный мужчина отказывает вам в
привлекательности! Такое не прощается, и мгновенно все его достоинства
обращаются в недостатки. Стоит ему заговорить, и тут же оказывается, что он
не владеет этим искусством, поскольку в его словах не содержится того, что
бы вам хотелось услышать. Если он серьезен, вы находите его мрачным.
Если он весел, вы находите, что его шутки дурного вкуса. Ваше воображение
разгорячено, и вы чувствуете такую сильную неприязнь к нему, что вам
становится не по себе. Но стоит этому человеку, которого вы так ненавидите,
очнуться от летаргии, начать оказывать вам знаки внимания, - я говорю
лишь о тех знаках внимания, которые приняты в обществе и ни о чем не
говорят, - и он становится другим, ваше удовлетворенное самолюбие срывает
повязку с ваших глаз; интерес, проявленный им к вашим достоинствам,
раскрывает, так сказать, его собственные качества. Если при этом он говорит,
что любит, едва опасные слова вспархивают с его губ, как взгляд отвечает
ему еще более нежным признанием. Сердце легко бросается от одной
крайности в другую; то мы полагаем, что наша ненависть не достаточно сильна,
то мы боимся, что в нас слишком мало нежности: это и называется сюрпри-
Часть вторая. Книга третья
99
зами любви. Также будет и с Нарциссом: вы думаете, что он ужасен, а он
очень привлекателен. Он станет ухаживать за вами, и вы оцените его; тут
уже недалеко и до сюрприза.
- Повторю еще раз: такому не бывать, - сказала Неадарне. - Я люблю
принца, и, конечно же, Нарцисс оставит меня равнодушной.
- Пусть так, - кивнула фея, - тем более что ни в ваших, ни в моих
интересах, чтобы вы полюбили его. Речь идет лишь о том, что вы должны
провести с ним одну ночь.
- О, Великая Обезьяна! - воскликнула принцесса. - Какой длинной она
будет!
- Отнеситесь к ней без предубеждения, - сказала фея, - и она
покажется вам короткой. Теперь поговорим о несчастном Баклане. За десять лет
любовь и гнев духа, должно быть, поостыли. Я знаю, что иногда он смотрит,
как танцует принц, и просит его исполнить ту или иную песню. Нарцисс
устроит для вас праздник: воспользуйтесь этим, чтобы попросить его
освободить принца. Постарайтесь не отвечать на его любовь до тех пор, пока он
не отдаст мне моего возлюбленного. На тот случай, если он откажет, я даю
вам эту туфельку.
С этими словами Усыня взмахнула лапкой, и на постель упали туфелька
и лист бумаги.
- Вот, - продолжила она, - слова, которые я обещала вам открыть; их
можно повторять сколько угодно раз. Возьмите эту туфельку: когда вы
увидите, что Нарцисс задремал, поднесите ее к губам духа, и тогда он уснет
крепким сном.
- Как? - воскликнула принцесса. - Эта туфелька усыпит его? Что за
вздор!
- Подобные вещи выше человеческого понимания, - ответила фея. - Да,
эта туфелька усыпит его. Когда же он уснет, пойдите в сад, отыщите
Баклана и покажите ему ее: это одна туфелька из пары, что была на мне в тот
день, когда нас разлучили; вторая находится в его кармане, он отнял ее у
меня во время возни, затеянной нами незадолго до того, как дух прервал наши
игры. Прикажите Баклану надеть туфли, и он станет невидим: иначе ему не
уйти с острова.
- Но, - перебила ее Неадарне, - что, если дух заметит наше бегство?
- Не бойтесь, - ответила Усыня. - Его гнев опасен лишь для Баклана.
Пока ночь не сменится рассветом, он не сможет сделать вам ничего без
вашего согласия. Однако спрячьте хорошенько туфельку и бумагу, больше
мне нечего вам сказать; уже светает.
И фея разбудила Танзая.
- Ах, ненавистный мне день, - возопил принц, - зачем ты спешишь
ослепить меня своими лучами! Ну как, Частица Моей Души, - обратился он к
принцессе, - вы все так же уродливы?
4*
100
Шумовка, или Танзай и Неадарне
- По-моему, я стала даже уродливее, чем вчера, - ответила принцесса.
- Чертовы метаморфозы! - воскликнул принц. - Если бы еще одна
отменяла другую, я нашел бы утешение в том, что смог бы опередить Нарцисса!
- Хватит причитать! - вмешалась фея. - Экипажи ждут, принцесса
должна ехать.
- Постарайтесь же, - сказал Танзай, целуя Неадарне, - избежать ласк
духа, по крайней мере, если он дотронется до вас, пусть это будет все равно,
что ничего.
- Что толку в таких тонкостях, - сказала фея, - разве это не одно и то
же?
- Да, конечно, - ответил принц, - по сути, один раз или десять раз, в том
нет разницы, но десять раз огорчили бы меня больше, чем один.
- Что за странная щекотливость, - проговорила фея. - Но выкиньте все
из головы и ложитесь. Расскажите мне какую-нибудь сказку, ведь у вас
такой изобретательный ум.
- О, что до моего ума, - заметил принц, - вряд ли сегодня он сможет
служить мне в полной мере. Вы-то довольны, сегодня вы увидите вашего
Баклана. Благодаря норке, в которой вы укрывались, он найдет вас такой,
какой оставил, а Неадарне... но оставим эту тему, она меня убивает.
Неадарне, слушавшая эту беседу, не уходила, и Усыня, опасаясь, что
Танзай не отпустит ее, еще раз заверила принца, что с его супругой ничего
не случится, и заставила их расстаться. Наконец принцесса отбыла на остров
Нарциссиль, причем с такой охотой, что принц впал в совершенное
отчаяние. Их следующих глав мы узнаем, оправдано ли было его беспокойство.
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
Глава тридцатая1,
КОТОРАЯ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ИНТЕРЕС ДЛЯ ТЕХ,
КТО ЕЕ ПОЙМЕТ
Как и следовало ожидать, Неадарне не без тревоги отправилась на
остров. И менее тяжелые обстоятельства заставляют нас задумываться, а
положение, в котором находилась принцесса, показалось бы затруднительным
любой чувствительной женщине. Безобразная внешность не особенно
волновала принцессу, но то, что должно было произойти на острове, рождало в
ней мысли самого неприятного свойства. Однако экипаж катил вперед. Не
доехав ста шагов до озера, принцесса приказала остановиться. Выйдя из
экипажа, она распорядилась, чтобы ее ждали на этом же месте.
Отойдя на некоторое расстояние от слуг, она вытащила зеркало и не без
тайного удовольствия убедилась, что Усыня сдержала слово и что ее
красота не только вернулась, но и заблистала с новой силой. Хотя принцесса не
испытывала любви к духу, и, найди он ее красивой, она скорее сочла бы это
несчастьем для себе, тем не менее ей бы не хотелось предстать перед ним
такой, какой ее сделала хитрая Усыня. Каждой женщине хочется нравиться,
даже если в ее намерения не входит воспользоваться желаниями, которые
она пробуждает. Какой бы пылкой ни была ее страсть, какими бы
утонченными ни были ее чувства, тщеславие требует своего, и, поскольку его
потребности являются самыми насущными, любовь отступает. Неадарне
испытывала некоторое удовольствие при мысли, что ее красота ослепит
Нарцисса. Она предвкушала свой триумф, воображая, как дух, привыкший к
победам над самыми красивыми женщинами земли, вынужден будет признать,
что она затмила их всех. Занятая этими мыслями, она подошла к берегу
озера, на котором находился остров Нарциссиль.
Нужно сказать, что по ее приказу не менее тридцати барок были
нагружены кротами, привезенными ею из Тютюрбании и прекрасно сохранивши-
102
Шумовка, или Танзай и Неадарне
мися благодаря чудесной помощи Брадакелы. Лодка, предназначенная для
принцессы, поражала взор. Ее нарциссово-серебряные паруса украшали
прелестные эмблемы, снасти были сделаны из той же материи, что и
паруса, и амур, державший кормило, был таким оживленным и нежным, что,
казалось, самим своим обликом обещал красавицам, отправляющимся на
остров, сплошные удовольствия2. Неадарне не без испуга поднялась в лодку: с
самого рождения она боялась воды, и амур, который должен был править
судном, не внушал ей доверия. Однако путешествие оказалось приятным, и
лодка, хотя в ней не было рулевого, стремительно рассекала волны пока
наконец не причалила в роскошном порту, построенном прямо напротив
дворца Нарцисса. Неадарне, раскрасневшаяся, с гулко бьющимся сердцем
ступила на землю. Ее смущение возросло, когда она увидела, что отовсюду
хлынули толпы зевак, желавших посмотреть на нее. Поначалу такое внимание
к ее красоте польстило ей, однако насмешливые реплики, которыми
обменивались островитяне, заставили ее прийти к выводу, что они прекрасно
осведомлены о том, зачем она пожаловала к духу, и ей стало стыдно. Она шла,
окруженная жителями острова, без всякого стеснения воспевавшими
счастье своего господина и восхищавшимися подарком, который она ему
привезла. Неадарне, крайне раздраженная их похвалами, речами и ярким
цветом, наконец приблизилась к воротам дворца, придя к выводу, что дух не
опасен ей, если он также желт, как и его подданные. Церемониймейстеры
уже поджидали ее. Они были любимцами духа и выполняли многие его
поручения. Они уведомили принцессу, что Нарцисс не преминул бы встретить
ее, если бы его не задержали важные дела, связанные с исполнением его
обязанностей. Ее провели в роскошные покои, куда был подан легкий, но
великолепный завтрак. Она еще ела, когда приятная мелодия возвестила о
приближении ужасного Нарцисса. Принцесса почувствовала, как сжалось ее
сердце. Вспомнив о Танзае и подумав о том, что ее ждет, принцесса залилась
слезами. Когда перед ней предстал Нарцисс, она еще не справилась со
своею слабостью.
Дух, пораженный ослепительной красотой Неадарне, замер. Неадарне
встала, как того требовала учтивость. Сначала они оба хранили молчание,
но затем Нарцисс, выйдя из оцепенения, попросил принцессу сесть и
устроился у ее ног. Неадарне долго не осмеливалась взглянуть на него, но, когда
в конце концов посмотрела ему в лицо, была крайне удивлена его
величественным выражением и тем, что оно оказалось не желтым3. Принцесса
выбивалась из сил, чтобы заставить его подняться, но он отказывался
подчиниться ей и даже не захотел выпустить ее руку, которой завладел и на
которой, чтобы не терять времени, успел запечатлеть множество поцелуев.
Конечно, он действовал несколько поспешно, однако любовные приключения
стали для него настолько обычным делом, что он привык с самого начала не
утруждать себя церемониями. Не в его обычаях было также ограничивать-
Часть вторая. Книга четвертая 103
ся малостью даже на первых порах,
и, поскольку губки Неадарне
являлись хорошим поводом, чтобы
упрочить его намерения, он хотел было
коснуться их поцелуем, но Неадарне
с силой оттолкнула его.
- Ваша стремительность, -
сказала она ему, - яснее, чем прежде,
показывает мне весь ужас моего
положения, и...
- Я знаю, Сударыня, - перебил
ее Нарцисс, - что мне не следовало
бы заявлять свои права на то, что вы
не склонны доверить мне, судя по
постоянству, которое вы храните
вот уже две недели, однако судьба
выделила мне всего один день, и вы
так пленили мои чувства, что я не
намерен тратить время попусту.
- Как, Сеньор! - воскликнула
Неадарне, - неужели вы так
невеликодушны, что станете пользоваться
положением, в котором я нахожусь?
- Сударыня, - ответил дух, - я
не принуждал вас приезжать сюда.
Мое рвение лишь показывает, как
я хочу быть вам полезным. И, коли
вы ко мне питаете отвращение,
мне придется действовать против
вашей воли.
- Но разве, - снова заговорила Неадарне, - вам доставит
удовольствие то, на что я иду лишь по принуждению и в чем мое сердце вам
отказывает?
- Я знаю, - ответил Нарцисс, - как был бы счастлив, если бы смог
завладеть вашим сердцем, и сделал бы все возможное, чтобы заполучить
его, будь я уверен, что мои усилия увенчаются успехом, но чем бы вам
помогла моя деликатность? Я не стал бы от этого привлекательнее для вас,
и вы бы только смутились еще больше. Судьба, уготовив мне пиршество
наслаждений, лишила меня того, что составляет их наибольшее
очарование. Вы скрепя сердце снисходите до меня. В те мгновения, когда вы
могли бы испытать блаженство, вы будете чувствовать себя несчастной, и
ваша взыскательная добродетельность станет для вас источником стра-
104
Шумовка, или Танзай и Неадарне
даний. Я дам вам прекрасный совет: вам следует постараться превратить
неизбежность в удовольствие, тогда она будет не так тяжела, причем от
этого вы не станете менее добропорядочной. Долг нам мучителен, ибо не
является плодом нашей фантазии: бывает, самый любезный супруг
внушает неприязнь именно потому, что имеет законное право на то, что
было бы с восторгом ему предложено, не выгляди то, что он требует, как
повинность. Супругу платится дань, любовнику преподносится подарок.
Само собой разумеется, что второй доставляет больше удовольствия, чем
первый. В таком же положении нахожусь и я. Не вы выбрали меня, и
только в силу этой причины вы относитесь ко мне с ненавистью, однако
вы должны уступить, и я прошу вас лишь об одном: не преувеличивайте
тяжести выпавшей вам участи, это в ваших же интересах.
- Э! Как я могу, - воскликнула принцесса, - перестать ненавидеть вас?
Мое сердце...
- Сударыня, - перебил ее дух, - я в отчаянии, что вы отказываете мне в
нем, но, если быть откровенным, на поверку сердце часто оказывается
всего лишь химерой, и оно не всегда так активно, как нам кажется; к этому
вопросу я склонен подходить философски. Давайте выясним, о чем идет речь.
Что привело вас сюда?
- Как? Разве вы не знаете? - изумилась принцесса.
- Я знаю только то, - ответил Нарцисс, - каким образом мне надлежит
занять ваш досуг на острове, но мне неизвестно, что заставило вас искать
моей помощи. Я излечиваю от стольких недугов, что потерял счет своим
способностям.
- И у вас в арсенале только одно средство? - спросила Неадарне.
- Да, - сказал дух, - но никто, кроме вас, не выражал желания
испробовать что-нибудь другое. Так что с вами?
- Шумовка...
- Как, - перебил он ее, - шумовка? Какая странная болезнь.
- О! - сказала Неадарне. - То, что приключилось со мной, более чем
странно, но вряд ли я сумею толком рассказать обо всем.
- Неважно, - промолвил дух, - возможно, я и без этого справлюсь с
вашей бедой, тем не менее было бы лучше, если бы я точно знал, над чем мне
предстоит работать.
- Знайте же, - снова заговорила принцесса, - что из-за шумовки,
которую я упомянула, принц, мой супруг, утратил все, так что у него только и
осталось, что она. Затем то, что исчезло, появилось снова, но тут со мной
случилась одна неприятная вещь... Вам, должно быть, известно, что брак
диктует определенные действия...
- Пусть я ничем не смогу быть вам полезен, - вскричал Нарцисс, -
если я понял хотя бы слово из того, что вы сказали! Что это за шумовка,
из-за которой утрачивается то, что было, и какое она имеет отношение к
Часть вторая. Книга четвертая
105
действиям, продиктованным браком? Умоляю вас, постарайтесь
говорить яснее.
Неадарне, подбодренная просьбами духа, постепенно, то и дело краснея,
растолковала ему, о чем идет речь.
- Неприятная история, - сказал дух с улыбкой, - но вашему горю легко
помочь. Недуг, постигший вас, довольно необычен, и с тех пор как я себя
помню, мне не приходилось иметь дело ни с чем подобным. Полагаю, это
дурная болезнь. Однако, Сударыня, я опасаюсь, как бы строптивость, с которой
вы относитесь к лекарству, не свела бы на нет его эффект. Не могли бы вы
воспринимать его не так враждебно? Я не осуждаю вас за вашу
щепетильность, однако...
- Но, Сеньор, - воскликнула Неадарне, - раз уже вы не осуждаете меня
за щепетильность, не требуйте от меня того, что вызывает во мне
отвращение!
- Сударыня, - возразил дух, - я ничего от вас не требую. Вам решать,
примите ли вы или отвергнете мои услуги. Вы вольны сейчас же уехать.
- Значит ли это, Сеньор, - спросила Неадарне, - что мое путешествие
было напрасным?
- Только от вас зависит, - ответил дух, - окажется ли оно напрасным или
нет.
- Ах, жестокий! - вскричала Неадарне, по щекам которой струились
слезы.
- Ну что ж, божественная принцесса, - сказал Нарцисс, поднимаясь, -
станете ли вы сами бороться за себя или же я так и должен буду
подталкивать вас к делу, которое затеяно ради вашего счастья?
- Оставим этот разговор, - промолвила Неадарне, - он приводит меня в
замешательство.
- Вы пришли бы в еще большее замешательство, - заметил дух, -
если бы я перестал с вами говорить о чем бы то ни было, но я слишком
хорошо знаю, в чем состоит мой долг, чтобы проявить подобную
невежливость; мне ясно, что я все время должен делать вид, что силой вырываю
то, что, возможно, получил бы и так благодаря вашему великодушию.
Пока же постарайтесь преодолеть вашу ненависть. Надеюсь, вы
согласитесь украсить вашим присутствием празднества, которые я устраиваю в
вашу честь.
Нарцисс взял принцессу под руку, прижав ее к себе сильнее, чем ей бы
того хотелось, и принцесса, краснея от вольностей, которые он себе
позволял, не протестовала, надеясь, что он ими ограничится.
106
Шумовка, или Танзай и Неадарне
Глава тридцать первая,
СЛУЖАЩАЯ ЛИШЬ ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ИСТОРИЮ БОЛЕЕ ДЛИННОЙ
В любой истории мы ценим разумные рассуждения не меньше, чем
поданное с изяществом повествование о событиях. И мы правы: такие
рассуждения хотя и удлиняют рассказ, свидетельствуют о мудрости
автора. Мы намерены воспользоваться этим положением, чтобы
поразмышлять о ситуации, в которой оказалась Неадарне. Ту женщину, которая
скажет, что на месте принцессы не испытала бы ни малейшего
беспокойства, следует считать или лицемеркой или особой, не ведающей
риска, рождаемого случаем, и бросающейся в него, очертя голову.
(Возможно, эта мысль неясна для читателя, но тем лучше для него: он сможет в
свое удовольствие интерпретировать ее так, как подсказывает ему его
фантазия). Светская женщина редко попадает в опасную ситуацию
помимо своей воли; ее добродетельность не насилуют обстоятельства, и,
хотя многие из таких женщин утверждают, говоря о свидании, во время
которого они проявили слабость, что никогда бы не стали назначать эту
встречу, если бы не предполагали, что смогут постоять за свою честь,
нет никаких сомнений, что они всегда хорошо знают, что их ждет, и
доказательством тому может служить тот факт, что верный способ для
мужчины, удостоенного одного из таких невинных рандеву, насмерть
рассориться с высоконравственной красоткой, затворившейся с ним, -
чем вовсе не воспользоваться уединением. У женщин есть множество
способов защитить свою добродетельность. Они имеют привычку
скрывать движения сердца, и их душат представления о приличиях и гордыня.
Наша робость, почтение, которое мы испытываем к ним, неведение, в
котором мы пребываем относительно того, какое место мы занимаем в
их помыслах, боязнь не понравиться им - вот то, что обычно укрепляет
пресловутую добродетель, о которой мы столько наслышаны. Мысль об
удовольствиях, если хорошенько задуматься над ней, неизбежно
побеждает в сердце все предрассудки. Конечно, женщина может не
останавливаться на сценах, способных ранить ее стыдливость, но если появляется
воздыхатель, который приходится ей по сердцу, что тогда для нее
добродетель? Если женщина сопротивляется, то вовсе не для того, чтобы
уберечь свое целомудрие, слишком уж много она тогда теряет. Но надо
соблюсти честь и придать величия своей слабости, иначе говоря, пасть
благопристойно и получить возможность, по зрелом размышлении,
оправдать себя за безрассудство. Немногие женщины согласны с этой
истиной, но это не значит, что ее можно опровергнуть.
Часть вторая. Книга четвертая
107
Неадарне, чтобы придать блеска своей добродетельности, не располагала
временем, продолжительность которого обычно определяется
сановитостью, стыдливостью и скрытностью жертвы атак. Принцессе был отведен
всего один день, к тому же она отнюдь не была уверена, что стоит
сопротивляться до конца. Нарцисс был привлекателен, нетерпелив; он привык к
победам, изучил пути сердца и умел обращать все в свою пользу, а такие
мужчины очень опасны. Они улавливают подходящий момент и никогда не
ошибаются. Страсть, которую испытывала Неадарне к Танзаю, останавливала
ее, однако в интересах этой самой страсти было необходимо, чтобы она
нанесла ей удар, тем более простительный, что ее супруг не должен был
узнать о том, что произошло на острове. Столько оснований для того, чтобы
уступить! И только одно, к тому же надуманное, чтобы воспрепятствовать
ей в этом. Многие, кто не устоял бы и при менее благоприятном стечении
обстоятельств, должно быть, осудили бы принцессу.
Все эти доводы, которые можно было изложить вдвое короче,
проносились в голове Неадарне, когда она шла рука об руку с Нарциссом. Они
миновали несколько огромных залов, разукрашенных не только с
бьющей в глаза роскошью, но и со вкусом. Выйдя из дворца, они попали в
прелестные сады. Все самое достойное и изысканное из того, чем владеет
искусство, гармонировало там с безыскусными красотами природы. С одной
стороны были видны грубые гроты, и мирное журчание ручейков
приглашало к отдыху и неге. С другой стороны в даль уходила череда водопадов,
великолепных беседок, драгоценнейших статуй. Там можно было
заплутать среди извилистых неровных тропинок, убегающих в лес, которому
неухоженность только придавала очарования4. Здесь были проложены
широчайшие аллеи, обещающие более покойную, но зато менее
волнующую прогулку. Клумбы радовали глаз красотой и пестротой цветов,
которыми они были засажены. Растительность повсюду простерла свое
царство, и Зефир5 находил ее столь прекрасной, что, казалось, лаская ее, раз и
навсегда выбросил из головы мысль об измене. Всевозможные птицы
обитали в садах. Нежное воркование горлиц сливалось с бурным и чистым
пением канареек и соловьев. Очаровательные нимфы кружились в
танцах. Волынки пастушков, соперничавших в прелести с пастушками с
брегов Линьона6, пели о любви, которая несет как счастье, так и измены7. Все
воспевало любовь в рощах наслаждений, все являло ее взорам, все
внушало ее сердцам, казалось, ее можно было пить с каждым глотком
колдовского воздуха. Сладострастность, восседавшая в центре сада,
распоряжалась удовольствиями, обволакивая их нежным шармом, которого они без
нее не имеют. Амуры увенчали ее цветами и затеяли рядом с ней
шутливую возню. Неадарне не могла устоять перед всем этим, и ее сердце
дрогнуло. Она почувствовала, как нежность тронула ее чувства,
подготавливая их к еще большему смятению. Нарцисс, от которого не укрылись дви-
108
Шумовка, или Танзай и Неадарне
жения, происходившие в ее душе, устремил на нее настолько
красноречивый взор, что Неадарне, смущенная, потупившаяся, не чувствующая в
себе сил переносить сияние его глаз, вздохнула, но так нежно, что дух
выразил желание немедленно показать ей рощицу, мимо которой они
проходили. Неадарне, впавшая в рассеянность от путаницы, происходившей в ее
голове, не стала возражать; однако, когда они приблизились к роще, она
нашла ее слишком мрачной, а переведя взгляд на Нарцисса, сочла, что тот
слишком влюблен; разом очнувшись от своих мыслей, она сухо
отказалась продолжить путь. Нарцисс, твердо знавший, что день состоит из
множества мгновений, увидев, что настоящее обмануло его, не стал
настаивать и повел ее к нимфам и пастушкам, танцевавшим с большой грацией.
Неадарне любовалась ими, как вдруг с другой стороны сада показался
стремительно приближавшийся мужчина; крутясь колесом и выделывая
кульбиты, он врезался в танцующих и смешал их ряды.
Принцесса сразу же поняла по его поведению, что это был Баклан, но,
желая скрыть от Нарцисса свой интерес к принцу, сказала духу:
- Что за странный танец выплясывает этот человек!
- Он танцует не для своего удовольствия, - ответил Нарцисс.
- Никогда не поверю, - промолвила Неадарне, - что это зрелище
доставляет удовольствие вам.
- Вы его не знаете, - сказал Нарцисс, - он очень талантлив и, возможно,
был бы также очень счастлив, если бы не разбудил во мне гнева, похитив
сердце феи, которую я обожал. Я слишком человеколюбив, чтобы
придумывать жестокие кары, и поэтому приказал держать его в моих садах, где он
и отбывает наказание, делая то, что вы видите.
- Ах, Сеньор! - воскликнула Неадарне. - Соблаговолите приказать,
чтобы он перестал!
- Подойди, несчастный, - обратился Нарцисс к Баклану, - подними
глаза на твоего хозяина. Иди во дворец и постарайся развлечь божественную
гостью, согласившуюся стать госпожой этих мест.
Баклан сделал глубокий реверанс и направился ко дворцу, но по дороге
не удержался и сделал несколько кульбитов, настолько велика была сила
привычки. Неадарне, поблагодарив духа, не удержалась и взглянула на него.
Хотя Баклан был довольно привлекателен, она нашла Нарцисса настолько
интереснее, что осудила каприз, из-за которого Усыня не ответила
взаимностью духу. Она была даже готова признать, что Нарцисс почти также
прекрасен, как Танзай, не собираясь, впрочем, заходить дальше этого
сравнения. Принцесса не могла без вздоха вспомнить своего супруга и сильнее, чем
прежде, утвердилась в намерении остаться ему верной, когда объявили, что
стол накрыт. Да соблаговолит читатель для своего собственного удобства и
для удобства автора прыгнуть из сада прямо в зал, где был накрыт стол, тем
более что он ничего при этом не потеряет.
Часть вторая. Книга четвертая
109
Глава тридцать вторая,
ИЗ КОТОРОЙ СТАНЕТ ЯСНО,
СРЕДИ ПРОЧЕГО, КАК ДЕГРАДИРОВАЛА МУЗЫКА
Стол был накрыт в зале, как утверждают, чрезвычайно красивом,
и кушанья были вполне достойны особ, для которых они готовились.
Неадарне отвели место напротив Нарцисса, и она осталась крайне
недовольна этим, поскольку, как и все люди, привыкла смотреть прямо
перед собой. Она чувствовала, что приговорена или не поднимать глаз
от тарелки или же не сводить глаз с Нарцисса, который, распалившись
больше прежнего, лорнировал ее самым беззастенчивым образом8.
Кроме того, Неадарне удивило, что на столе не оказалось кушанья из
кротов.
- Сеньор, - спросила она Нарцисса, - неужели вы из-за меня лишили
себя вашего любимого блюда? Ведь я привезла вам изрядный запас кротов,
чтобы вы полакомились.
- Я? - удивился Нарцисс. - Сударыня, я не ем кротов, это дичь, которая
менее всего мне по вкусу. Кто вам наплел такие бредни?
- Мне говорили, - сказала Неадарне, - что вы обожаете кротов, но,
если это не так, зачем вы истребляете их?
- У меня были на то веские причины, Сударыня, - ответил дух, - но
теперь все позади; я больше не преследую неблагодарную, разозлившую меня.
Мучения ее возлюбленного и образ жизни, который она вынуждена вести,
лучшая месть, а мой гнев утих, когда рассеялась моя любовь.
- Вы говорите загадками, - молвила Неадарне.
- Все просто, - сказал Нарцисс. - Несчастный, стоящий там с
цимбалами9 и наслаждающийся днем отдыха, который вы ему подарили, и есть тот
недостойный соперник, коего мне предпочли.
- Но, Сеньор, - возразила Неадарне, - коли ваша любовь прошла,
почему вы продолжаете мстить ему?
- Вы простили бы мне жестокость, которую я вершу так
хладнокровно, - ответил Нарцисс, - если бы знали, какую недостойную шутку со мной
сыграли и какие муки терзали мое бедное сердце. Прошу вас, не будем
продолжать этот разговор, - ужасные воспоминания действуют как яд, и
отравляют удовольствие, которое я испытываю, глядя на вас.
- Если бы удовольствие, которое вы испытываете, действительно было
так велико, как вы утверждаете, - сказала Неадарне, - вы бы вспоминали о
вашей прошлой любви как об ускользающем сне. Ваш соперник не казался
бы вам врагом, и, глядя на меня, вы бы забыли, что другая женщина
вызывала в вас нежные чувства.
по
Шумовка, или Танзай и Неадарне
Возможно, читатель найдет в словах Неадарне отзвуки страсти,
продиктовавшие ей эти упреки. Килохо-хээ склонялся к этой мысли. Однако,
поскольку следует воздерживаться от поспешных суждений и не искать
дурного в поступках, которые, возможно, носят самый невинный характер, и
поскольку, прежде чем вынести приговор, касающийся столь тонкой сферы,
нужно с пристрастием рассмотреть все стороны дела, он после глубоких
раздумий счел, что Неадарне лишь сделала вид, что немного ревнует, чтобы ей
было легче уломать Нарцисса отпустить Баклана. Такая трактовка похожа
на истину. Неадарне не была увлечена Нарциссом до такой степени, чтобы
ревновать его к ушедшей любви, и нежность к Танзаю, хоронившаяся в ее
сердце, позволяла ей лишь с холодностью, которой заслуживают вещи, нам
безразличные, отнестись к этому. Нарцисс, который, несмотря на все свои
достоинства, был так же тщеславен, как и другие мужчины, не поняв ход
мыслей принцессы, счел за обязанность поблагодарить Неадарне,
поскольку ее слова польстили его непомерному самомнению.
- Ах, прекрасная принцесса! - в восторге проговорил он. - Если я и дал
повод подумать, что ваше общество не избавило меня от воспоминаний о
другой любви, уверяю вас, ни одной женщине не удастся утолить ту любовь,
которую я испытываю к вам.
Он еще долго занимал ее внимание самыми пылкими речами, однако
автор не сохранил их для нас, вероятно, сочтя, что они слишком трудны для
передачи, или же вовсе не придав им значения. Трудно сказать, каковы были
на самом деле его соображения.
Нарцисс намеревался и далее докучать Неадрне, но она, чтобы
помешать ему, выразила желание послушать пение Баклана. Несчастный принц
приблизился и, виртуозно аккомпанируя себе на цимбалах, стал на все лады
петь нежным голосом о своей любви и своих страданиях. Все, кто
находился в зале, растрогались, и отовсюду доносились сдавленные рыдания.
Неадарне, обладавшая отзывчивым сердцем, так горько плакала, что стала
задыхаться, и пришлось ослабить ей шнуровку. Даже у Нарцисса выступили
слезы на глазах, и он, чувствуя, что печали нет конца, закричал Баклану:
- Предатель! Разве я приказывал тебе расстраивать принцессу и весь
мой остров? Хватит скорби, пой о моих радостях, или я дам тебе новый
повод для жалоб, которые ты затем сможешь переложить на музыку.
- Ах! - заступилась за него Неадарне. - Не ругайте его! Признаюсь, мое
сердце сжалось от его пения, но плакать так сладко!
Едва она замолчала, как Баклан, боявшийся гнева Нарцисса, ударил в
цимбалы и запел такую веселую арию, что всеобщее огорчение стало
проходить. Ария звучала так задорно, что придворные, несмотря на все их
уважение к духу, не смогли сдержаться и принялись отплясывать кадриль.
Нарцисс хотел было рассердиться, но, влекомый музыкой, поднялся с места,
чтобы вступить в танец. Неадарне, очарованная тем, что он оказался столь
Часть вторая. Книга четвертая
111
чувствительным к талантам Баклана, снова попросила его освободить
принца, но он принял ее слова в штыки и, кажется, жестоко оскорбился тем, что
она думала о несчастном певце, тогда как, по его мнению, ей следовало
думать только о нем, поэтому принцесса, убедившись, что ей не переспорить
Нарцисса, решила воспользоваться туфелькой.
Все поднялись из-за стола, и после кофе Неадарне, искавшая, чем бы
занять Нарцисса, предложила ему сыграть партию в подкидного дурака10.
- Что ж, - сказал Нарцисс, - сыграем в карты, пока не началась опера.
А вы, Баклан, - обратился он к принцу, - подготовьте все для
представления, да смотрите, не позабудьте вашей роли, как это случилось с вами в
последний раз.
Баклан вышел.
- Так он участвует в операх? - спросила принцесса.
- Да, - ответил Нарцисс. - Если бы он не пел так фальшиво, не давал то
и дело петуха, меньше бы задавался и кривлялся, из него вышел бы хороший
актер.
Закончив этот разговор, они приступили к игре. Неадарне играла ва-
банк и постоянно оказывалась в выигрыше, поскольку джокеры шли ей в
руки, и она, без спешки делая ставки, получала явное удовольствие от игры.
Нарцисс незаметно вытянул ноги под столом, и Неадарне, рассеянная, как
все принцессы11, не разобравшись, воспользовалась ими как подушечкой.
Многие, вероятно, осудили бы ее за такое легкомыслие, тем более
непозволительное при сложившихся у нее отношениях с Нарциссом. Но всем
известно, что людям определенного ранга сходит с рук то, что может оказаться
опасным для простого человека. Разве знатная женщина не занимается,
ничем не рискуя, целый день вещами, о которых другая не осмелилась бы и
помыслить? Разве не отличает ее от других прежде всего благородное
презрение к обычаям? К тому же Неадарне не заметила, куда она поместила свои
ноги, и доказательством тому служит то, что она не попросила духа принять
приличную позу и не стала играть рассеяннее. По правде говоря, ее
поведение вселило в Нарцисса большие надежды, но что с того! Неадарне в том
совсем не виновата. Что было бы, если бы женщинам приходилось нести
ответственность за все то, что мужчины из самомнения напридумывают!
Разве мужчинам не свойственно обращать в свою пользу самые невинные
знаки внимания и даже небрежение? Стоит на них посмотреть, и они читают во
взгляде желание. Когда на них вовсе не смотрят, им видится стремление
скрыть страсть. Женщины были бы достойны всяческого сожаления, если
бы думали или чувствовали хотя бы на четверть таким бесстыдным
образом, как это представляется мужчинам. Обычно мужчины только тогда не
находят женщин нелепыми, когда считают таковыми себя.
Нарцисс, как читатель, должно быть, уже заметил, был доверчив и
самоуверен, он уже собирался спросить у принцессы, как он сможет рассчитаться с
112
Шумовка, или Танзай и Неадарне
ней за милость, которую она ему оказала, когда партия кончилась и было
объявлено, что все готово для спектакля. Нарцисс, нашептывая принцессе
пламенные речи, повел ее в оперу, и она не прерывала его, поскольку,
согласно приговору судьбы, она не должна была и не могла приказать ему замолчать.
Глава тридцать третья
ОПЕРА
Трудно найти слова, чтобы описать оперу острова Нарциссиль. Килохо-
хээ в нескольких местах жалуется на бесстрастность японского автора,
который, в свою очередь, хулит автора тютюрбанина. Естественно, что
французский переводчик, не говоря уже и о других, жалуется на всех троих
авторов, а публика, несомненно, будет пенять ему за то, что он
распространяется о вещах, не заслуживающих внимания, и легкомысленно обходит в
повествовании то, что представляет интерес. Но, положа руку на сердце, может
ли переводчик рассказать о том, чего нет в книге, и, даже если он и
вообразит себе те обстоятельства, которых не хватает в рассказе, разве не будет он
все равно чувствовать все так, как заставляет чувствовать его век, да и под
силу ли ему, мысленно перенесясь в давние времена, когда жили его герои,
описать с точностью обычаи, о которых мало что известно? Не лучше ли
избавить от домыслов читателей, чем пичкать их баснями, несуразность
которых все равно бросится им в глаза? Долг честного переводчика состоит ни
в чем ином, как в буквальном следовании автору, и только если он не
понимает его достаточно хорошо, ему позволяется прибегать к перифразам,
комментариям и дополнениям. Переводчик этой книги откровенно признает,
что он, не понимая в полной мере автора, опустил много его глупостей,
приписав ему тем не менее едва ли не столько же новых; что он был
многоречив там, где китаец был лаконичен, точен там, где тот не стремился к
этому, туманен в местах, предельно ясных, насмешлив там, где следовало быть
назидательным, фриволен там, где требовался философский тон, но что,
несмотря на все эти ошибки, он не склонен ни приносить свои извинения, ни
ждать прощения от читателей, в какой бы форме оно ни выражалось,
поскольку книга от этого все равно не выиграет, а его репутация почтенного
человека незыблема. В силу всех этих соображений, справедливы они или
нет, мы получим лишь самое смутное представление о том, что
представляла собой опера, о которой идет речь. Кого винить в этом? Историк, когда
пишет, воображает, что грядущие поколения не утратят знания об обычаях,
которые приняты в его эпоху, и поэтому сегодня мы вынуждены довольст-
Часть вторая. Книга четвертая
113
воваться лишь догадками, порой весьма смелыми, относительно того, как
жили римляне, а целая армия ученых тщетно проводит драгоценные дни в
бдениях12, пытаясь разрешить этот важный вопрос. Приведенный пример
снимает всякую вину с переводчика, а если кто-то продолжает осуждать его,
ему не стоит переживать из-за этого. Он бы изнемог, будь он вынужден
давать объяснение по поводу всех глупостей, встречающихся в этой книге.
Поэтому переводчик счел уместным, чтобы покончить с этим длинным
отступлением, скучным не только для читателя, но и для него самого,
сказать лишь, что на острове Нарциссиль опера представляла собой нечто
довольно нелепое, что в ней шли лишь старые пьесы, слегка обновленные,
что, по большей части, их стиль был пресным, а поэзия невыразительна, что
в них и не пахло ни действием, ни занятностью, что там танцевали люди,
которые менее всего были созданы для этого вида искусства13, что удрученная
особа пела там о своих горестях, а смертельно раненый герой
декламировал с подмостков свое завещание под аккомпанемент флейт, что порой на
сцене появлялись реки, а величайший из богов сходил с небес
исключительно ради того, чтобы совершить непонятно что или сказать какую-нибудь
глупость. Впрочем, спектакль оказался великолепен и покорял прежде
всего своей благопристойностью. Актрисами были нимфы, они играли главные
роли и составляли хоры, ибо умели изображать любых персонажей, они
воплощались то в весталок, то в жриц Венеры; переходя от священного огня,
который они охраняли, к нежным мистериям Аматонта14, прикидываясь то
целомудренными, то шаловливыми, они так легко меняли на публике эти
амплуа, что не всегда можно было понять, какое из них представляет для
них большую трудность15. По правде говоря, они далеко не всем
раскрывали секреты своего искусства. Даже самому пламенному и любезному
любовнику не удалось бы удовлетворить свое любопытство. Над ними не был
властен даже каприз, их не сбивало с толку тщеславие, и только
могущественному божеству было под силу заставить их явить свой истинный облик.
Немногие детали действа, которые сообщил нам Килохо-хээ, позволяют тем не
менее составить некоторое представление о спектакле, и читатель может
убедиться, насколько те актрисы были далеки от рассудительности и
безразличия, столь характерных для актрис нашего времени, и в какой степени
пьесы, принятые к постановке на острове, и их красоты теряют в сравнении
с теми, что восхищают нас сегодня.
На тот случай, если нить рассказа оказалась утерянной из-за этого
длинного отступления, напомним, что Нарцисс отвел Неадарне в оперу, что его
речи потревожили ее чувство стыдливости и что, несмотря на это, она
терпеливо слушала его, к чему ее вынуждали учтивость и невозможность
поступить по-другому.
Как только Нарцисс и Неадарне пришли в оперу, представление
началось. Хотя Баклан творил чудеса, они не позабавили ни духа, ни принцессу.
114
Шумовка, или Танзай и Неадарне
Влюбленный Нарцисс хотел, чтобы принцесса прониклась к нему
нежными чувствами, однако сомневался в том, что сумеет завоевать ее. Со
своей стороны, Неадарне, несмотря на любовь к Танзаю и свойственную ей
добродетельность, начала тревожиться. Должна ли она отказать духу или
нет? Следует ли ей вернуться к супругу такой, какой она была, когда
покидала его? Нужно ли прибегнуть к средству Усыни? Нет ли другого
способа излечиться, кроме того, который был ей предложен? Можно ли им
воспользоваться без риска для себя? Дух очень привлекателен и, в
довершение несчастий, влюблен. А его любви стоит опасаться, быть может,
сильнее, чем его колдовства. Какая вина ляжет на нее, если, уступив наконец
необходимости, она почувствует, что сердце одобряет и оправдывает ее!
Как мы хрупки! Положение принцессы так щекотливо! Несчастный
принц, предмет ее страсти, тоскует вдали от нее. При одной только мысли
о том, что обрушилось на него, он стонет; возможно, он догадывается, что
принцессу ждет приключение, похожее на его собственное. А если
средство Усыни не подействует? Нет, не может быть; фея, так нуждавшаяся в ее
помощи, не стала бы обманывать. Но если оно подействует, станет ли она
от этого менее виноватой? Однако принц, источник всех этих треволнений,
разве не доверился он слепо фее Огурогуре? Ведь сначала он решил, что
его любви ищет богиня, и, хотя он и был наказан за свою неверность, она
не стала от этого менее реальной. Он говорил, что видел сон? Но не ему
же одному снятся сны. Но, если она отплатит ему своим рассказом о сне,
поверит ли он? Какая разница! По какому праву он, обманщик, станет
упрекать ее в прегрешении, которое она совершит помимо своей воли, чего
нельзя сказать о нем! Зачем он возлег с Огурогурой? На этой мысли
принцесса остановилась, и воспоминание о нанесенном ей оскорблении
пробудило в ней жажду мести. Вот как опасно гневить женщин! Впрочем,
справедливым является и то, что гневи их или не гневи, порой это приводит к
одному и тому же.
Нарцисс, конечно же, пристально следил за размышлениями принцессы.
Он наблюдал движения ее души, и взгляд, который она бросила на него,
покончив с внутренними борениями, оповестил его о том, что она
расположена к нему. Хотя он и сделал вид, что ему неизвестна причина, по которой
принцесса пожаловала на остров, ему уже давно открыла все Огурогура,
которая, внушив ему интерес к красавице и заверив его, что та будет
принадлежать ему, не скрыла от него ни малейшего обстоятельства приключений
принцессы. Нарцисс заставил Неадарне рассказать всю историю сначала -
видимо, чтобы лучше понять ее чувства. Не имея привычки к сантиментам,
он сначала думал, что насладится вопреки отвращению принцессы, но потом
ее красота, добродетельность и скромность пробудили в нем другие
желания. Любовь, которую она испытывала к другому, подстегнула его чувства.
Он мечтал о том, чтобы изгнать Танзая из сердца, кое должно было принад-
Часть вторая. Книга четвертая
115
лежать ему, и, чем труднее Духу представлялась победа, тем большим
триумфом стала бы она для него.
- И вправду, - думал он, - что за радость для меня обладать красавицей,
которая, испытывая лишь отчаяние в моих объятиях, если и вздохнет, то от
тоски, которая станет упрекать меня за мой восторг, которая, погруженная
в мыли о другом, безутешная от насилия над собой, поднимет на меня глаза,
омытые слезами, только для того, чтобы я прочел в них ее негодование и
ужас? Ах! Иное дело, если моя забота откроет нам путь к сладостным
минутам, если я стану творцом ее счастья, творцом счастья дорогой моему
сердцу красавицы, если испытаю упоение ее восторгом, ее смятением, если
услышу, как она пролепечет, что обожает меня, если почувствую, как она
сжимает меня в своих объятиях, если наши души сольются, если я увижу, как
она, впав в неистовство от наслаждения, забудется и станет снова искать
моих ласк, если прочту в ее смятенном взоре чувственность и любовь! Ах,
Неадарне! Кто, как не вы, подарит мне эту радость? Какое было бы счастье,
если бы я сумел внушить вам любовь, равную той, что испытываю к вам!
Как! Вы будете со мной, но в облачении суровой добродетельности, которой
вы защищаетесь от огня, сжирающего меня? Нарцисс! Счастливый
Нарцисс! Ах! он умер бы от такого счастья! Но, обожаемая принцесса, не
отводите же от меня ваших прелестных глазок! Позвольте мне глядеть в них и
пьянеть от нежности. Увы! Я вижу в них меньше гнева, но сколько же в них
равнодушия!
Произнося про себя этот прекрасный монолог, Нарцисс не сводил взора
с принцессы, и она не опускала глаз. В этот момент звучала такая нежная
ария, что ее сердце, уже размякшее, не могло устоять. Нарцисс взял ее руку
и поднес к губам с такой страстностью, что она, тронутая его любовью,
ответила ему полупожатием. Они сидели в ложе, откинувшись в креслах. Тут
царил полумрак. К несчастью для принцессы, газовые занавеси скрывали их
от зрителей. Нарцисс, придя в исступление, склонился к ней; жгучий
поцелуй заставил Неадарне очнуться от забытья, но лишь для того, чтобы снова
погрузиться в него. Пока оно длилось, Нарцисс, нежно приникший к ее
губам, становился все предприимчивее, и наконец Неадарне, овладев собой,
оттолкнула его к бортику ложи и тем самым спасла свою добродетельность
от опасности, которой той еще никогда не приходилось подвергаться в
такой степени. Кто бы мог подумать, что поход в оперу сопряжен с таким
риском? Нарцисс, раздосадованный столь неожиданной переменой, снова
занял место рядом с принцессой; у них обоих был такой потерянный вид, что
придворные не могли сдержать улыбок.
Неадарне, заметившая ухмылки, покраснела и так смутилась, что ей
стало не до спектакля. Но тут представление окончилось. Принцессе было
стыдно за то, что произошло, и она не желала ни отвечать на вопросы
Нарцисса, ни смотреть на него, когда он, чтобы доставить ей удовольствие, по-
116
Шумовка, или Танзай и Неадарне
вел ее в сад, где в ее честь был устроен великолепный фейерверк. О
добродетельность! Где кончаются твои владения? Если удовольствия оскорбляют
тебя, если ты хочешь полностью подчинить себе душу, или убирайся прочь,
или умолкни!
Глава тридцать четвертая16
КАК ОПАСНО ДЛЯ ЖЕНЩИН БЫТЬ ПУГЛИВЫМИ
Нарцисс оказался так неловок или же так смел, что после
произошедшего в опере предложил принцессе отправиться в рощу, чтобы оттуда
смотреть на огни. Мог ли он рассчитывать на то, что она согласится? Но она
согласилась. Ее удивил мрак, царивший в роще, ведь все сады были так ярко
иллюминированы, что не верилось, что солнце уже село.
- Отчего это, - спросила она Нарцисса, - место, куда вы меня ведете, так
сумрачно?
- Зато оттуда лучше виден фейерверк, - ответил дух.
- Я в этом не уверена, - проговорила принцесса.
- Не сомневайтесь, принцесса, - сказал Нарцисс, - это закон физики.
Она не стала настаивать, не зная, правду ли он говорит, но твердо
решила не оставить без ответа его дерзость, если он захочет воспользоваться
сумраком рощи, куда они направлялись.
- Мне стало бы легче, - думала она, - если бы я смогла дать ему понять,
как он ошибся, если подумал, что я поддалась ему. Пусть он увидит, что,
хотя он и привлекателен, моя добродетельность стоит его достоинств.
Она утверждалась в этом решении, когда Нарцисс преложил ей
опуститься на ковер из трав и цветов, это ложе было единственным, которое
могла предложить им роща. Неадрне села на траву, а дух, вздохнув,
устроился рядом с ней. Она настороженно молчала, и Нарцисс, которого распирало
от чувств, ранее неведомых ему, не находил, что ей сказать. Любовь
особенно сильна, когда она диктует почтительное отношение, но если исходить из
стремления к удовольствиям, свойственного любовнику, и из чувства
комфорта, необходимого женщине, такая любовь не очень-то завидна. Она
никогда не угадывает и не обращает в свою пользу удобного момента, нежная,
но неловкая, она бездействует из деликатности в положении, когда, быть
может, ей бы простили некоторую напористость. Какой бы
снисходительной ни была женщина, что она может сделать, столкнувшись со страстью,
зажатой в тиски? Нельзя потребовать ни изгнания того, что и так
существует отдельно от нас, ни вознаграждения за причиненные неудобства.
Часть вторая. Книга четвертая
117
Нарцисс прекрасно понимал все это; он не был бы так робок, если бы
Неадарне, входя в рощу, пребывала в том настроении, в которое она пришла
к концу спектакля. Но она переменилась. На ее лице появилось властное и
суровое выражение, и он медлил, опасаясь, как бы она не призвала себе на
помощь строгость, от которой, раздразни он ее, принцессе было бы труднее
избавиться. Он осторожно взял ее руку и вздохнул, а принцесса, выведенная
из себя тем, что ей все время приходится пребывать со стиснутой рукой,
начала разговор такими словами:
- Сеньор, вам, должно быть, мешает моя рука, а меня смущает то, что
вы ее держите.
- Ах, принцесса! - воскликнул Нарцисс. - Неужто вы лишите меня такой
малости? Для меня она так много значит, а вам она ничего не стоит. Коли вы
не хотите одарить этой малостью мою любовь, сделайте это ради моего
уважения к вам. Оно так огромно, что и не выразить. Я сам не узнаю себя. Как?
Это я, тот, кого все красавицы мира считают бесчувственным, кто полагал,
что, удостаивая их взгляда, составляет тем самым их счастье? Покоренный
вами, исполненный отчаянной любви, я не осмеливаюсь и помыслить о самой
ничтожной милости. Но вам не достаточно того, что вы убиваете меня своим
равнодушием, вы еще и ненавидите меня. Чем больше я стремлюсь доказать
вам свою любовь, тем сильнее становится ваш гнев. Ах! Зачем вы искали
встречи с несчастным Нарциссом! Ничто не нарушало его покоя. Зачем он
познал ваши роковые чары? Но что я говорю? Стоит ли жаловаться на
страсть, которая, хоть и остается безответной, все же составит мое счастье?
Ах, молю вас, взгляните на меня! В моем лице вы видите не врага, а нежного
и страстного возлюбленного, который предан вам, несмотря на ваше
презрение. Как бы мне хотелось выбросить из моей жизни те дни, которые я провел
без вас! Разве достоин я, о жестокая, вашей ненависти?
- Ах, я вовсе не испытываю к вам ненависти! - сказала принцесса более
мягким тоном. - Но могу ли я полюбить вас? Разве сердце, которым вы
хотите завладеть, принадлежит мне? Разве забыть ему того, кому оно уже
отдано? Разве изгладится из него образ, столь дорогой ему? Если вы любите
меня, проявите великодушие, разрушьте злые чары, не настаивая на
покорности, к которой вы меня вынуждаете, тогда я поверю в вашу искренность.
Я понимаю, что вам непросто сделать то, о чем я прошу, но от кого, как не
от вас, мне ждать такого прекрасного поступка? Но вы отворачиваетесь и
вздыхаете? Ах, вы глухи к моим просьбам.
- Да, принцесса, я вздыхаю, - ответил Нарцисс, - и, думаю, мне это
простительно, учитывая то, что вы мне сказали. Но не мое несчастье рвет мне
сердце, я вздыхаю от того, что не могу исполнить вашей просьбы. Мое
могущество, беспредельное в том, что касается других вещей, в данном случае,
к моему отчаянию, ограничено. Не думайте, что мой отказ продиктован
любовью, клянусь вами, самым священным и дорогим для меня существом в
118
Шумовка, или Танзай и Неадарне
мире, что, если бы я был в силах вернуть вам то, что вы утратили, без
всяких условий, я готов был бы пожертвовать своим счастьем ради вас.
Нарцисс проговорил это таким проникновенным тоном, что Неадарне
поверила ему. Нарцисс поднес ее руку к губам, и Неадарне почувствовала,
как ее омочили слезы, и это свидетельство любви и искренности духа
настолько растрогало принцессу, что она вздохнула, а ее решительность
поубавилась.
- Ах, Нарцисс, Нарцисс! - сказала она. - Пусть я верю вам, пусть ваши
слезы не кажутся мне притворными, что это меняет? Зачем вы так
стремитесь тронуть сердце, которое уже занято? Вы вызываете у него сочувствие,
но страсть, переполняющая его, не позволит ему идти дальше. Думаю, я
могу признаться вам, что, если бы не уже вспыхнувший огонь, оно, возможно,
не осталось бы равнодушным к вашему пылу. Однако это признание вовсе
не значит, что за ним последуют другие, и, несмотря на всю опасность
моего положения, моей добродетельности не придется краснеть за меня.
По-видимому, говоря так, Неадарне совершенно позабыла о том, что
произошло в опере, или же не придала этому значения, поскольку ей
удалось избежать опасности.
- Ну что ж, Сударыня, - промолвил дух, - давайте оставим этот
разговор. Хотя моя любовь не может надеяться на вознаграждение, мне все же
хотелось бы доказать вам, что она искренна. Я был бы рад, если бы судьба
отменила приговор, который вы находите таким жестоким. Не могу ничего
обещать вам, но я попробую сделать все, что в моих силах. По крайней
мере, не я буду причиной ваших слез. Возможно, другой дух, такой же
могущественный, как я, и выполняющий похожие обязанности, будет выбран,
чтобы заменить меня. Кто знает, быть может, он внушит вам меньше
отвращения, чем я.
- Ах, Нарцисс! - вскричала принцесса. - Только вы можете излечить
меня!
Не будь даже Нарцисс так хорошо воспитан, мог ли он, услышав такие
приятные слова, не поблагодарить ту, которая их произнесла? Неадарне,
никак не предполагавшая, что сказанное ею приведет к каким-либо
последствиям, была немало удивлена, когда он, порывисто и не особенно
почтительно обняв ее, хотел было уже дать волю своей страсти. Неадарне была тем
более смущена произошедшим, что она пребывала в самом размягченном
состоянии, в которое ее повергли нежность Нарцисса и выказанное им
великодушие. Ничто не бывает так опасно для женщины, родившейся с
чувствительным сердцем, как состояние, в котором находилась Неадарне.
Отвергнутый воздыхатель, осмеливающийся в такой момент проявить
настойчивость, порой получает благодаря состраданию женщины больше, чем имеет
счастливый любовник от ее любви. Возможно, такая победа не так сладка,
но так ли уж это важно? Кто знает, быть может, жалость и есть любовь?
Часть вторая. Книга четвертая
119
В подобный момент может ли женщина хорошо понимать, какова природа
того, что движет ею? Кокетка никогда не попадет в столь щекотливую
ситуацию - ведь ее душа не так впечатлительна. Только порядочная женщина
подвержена такому риску.
Неадарне, относящаяся к порядочным женщинам, не знала, что
сказать Нарциссу. Некоторое время она пребывала в нерешительности, но
тут подняла голову ее добродетельность, и Нарцисс понял по
сопротивлению, оказанному принцессой, что ему не удастся добиться ее
расположения. Как трудно иметь дело с добродетельными женщинами! Но еще
труднее иметь дело с теми, кто лишь притворяется добродетельными.
Нарциссу действительно приходилось туго. Неадарне, придя в крайнее
раздражение, чтобы показать ему, как она сердита, стала внимательно
следить за вспышками огней в воздухе. Нарцисс не осмеливался
приблизиться к ней. Тогда Огурогура, наблюдавшая за всем происходившим,
став невидимой для Неадарне, подлетела к духу и, упрекнув его за ни на
что не похожую робость, сказала:
- Я помогу тебе. Ты должен отомстить за меня и получить удовольствие.
Следи за тем, что я буду делать.
С этими словами она обернулась огромным пауком17 и проскользнула
под платье принцессы. Почувствовав, как паук ползет по ней, Неадарне
закричала что есть мочи:
- Ах, сеньор! Паук! Я умираю! Ах! стряхните его, спасите меня!
От страха она едва не лишилась чувств.
Нарцисс, который счел бы себя глупцом, если бы не воспользовался
благородной помощью Огурогуры, зная, куда заполз паук, принялся искать его
там, где он должен был быть. Эти поиски не могли не открыть его взорам
некоторые прелести, еще более прекрасные, чем он себе представлял,
прелести, которые не поддаются описанию, даже если сама любовь возьмет в
руки перо. Представшее перед ним зрелище доставило ему такое
удовольствие, что он утратил представление о реальности, и это могло бы плохо
кончится, будь он менее влюблен. Принцесса, еще не пришедшая в себя, не
обратила внимания на его медлительность, позволяя тем самым Огурогуре
делать то, что она считала нужным, чтобы отомстить несчастному Танзаю.
Чары, довлевшие над Неадарне, уже почти было пали, как вдруг она
очнулась. Ужас, который она испытала при виде паука, не шел ни в какое
сравнение с тем, который охватил ее, когда она обнаружила себя в объятиях
Нарцисса.
Нарцисс не был готов к такому резкому отпору, и она, к несчастью для
себя, легко высвободилась из его рук: ведь мгновением позже она бы
избавилась от злых чар, не оскорбив ничем свою добродетельность, но, к
сожалению, она еще не поднаторела в светских манерах до такой степени, чтобы
уметь длить обморок столько, сколько это необходимо.
120
Шумовка, или Танзай и Неадарне
- Ах, коварный! - воскликнула она. - Такова, значит, деликатность,
которой вы хвастались?
Дух так смутился, что у него не хватило смелости ни на то, чтобы
попросить у нее прощения, ни на то, чтобы удержать ее, когда она направилась
прочь из рощи. Он даже не успел сообразить, надо ли ей дать время
успокоиться или же следует немедленно отправиться за ней. В конце концов он
склонился ко второму решению. Фейерверк продолжался, и в свете огней он
увидел Неадарне, которая стояла, опершись на статую, неподалеку от рощи
и являла собой воплощение печальных раздумий. В мгновение ока он
оказался у ее ног и, поцеловав их, обратился к ней с самым робким и
умоляющим видом:
- Казните меня, божественная принцесса! Вы негодуете, и вы правы.
Я жду приговора.
- Ах, оставьте меня, коварный! - воскликнула она. - Оставьте меня!
Я не должна да и не хочу больше видеть и слышать вас!
- Да, - вздохнул Нарцисс, <- я виноват. Я мог бы сказать, чтобы
облегчить свою участь, что на моем месте всякий бы дрогнул, но я чувствую, что
оправдания не имеют смысла и что наступило время избавить вас от того,
кто вам ненавистен. Я исчезаю, но, сделайте милость, вспоминайте иногда о
несчастном влюбленном: люби он вас меньше, он не нанес бы вам обиды.
С этими словами Нарцисс и вправду исчез.
Неадарне, еще не остывшая от гнева, не попыталась удержать его и
осталась стоять, опершись на статую. Ей казалось, что ее ненависть никогда
не рассеется, но, когда дух не появился через полчаса, она начала
беспокоиться. Она подумала о цели своего путешествия и, проклиная прописанное
ей лекарство, не могла не признать необходимости прибегнуть к нему.
- О принц! - воскликнула она. - Дорогой мой супруг! Для тебя одного
вся моя нежность! Наверное, ты сейчас несправедливо винишь меня в том,
что я, купаясь в удовольствиях, предала память о тебе и твою любовь, что
если я и думаю о тебе в объятиях другого, то лишь для того, чтобы
довершить его триумф. Должно быть, ты клянешься себе возненавидеть меня
на всю жизнь, тогда как только ради тебя я терплю этот кошмар. Ах,
дорогой принц! Пусть долетят до тебя мои вздохи. Увы! только по тебе я
вздыхаю. Однако, - добавила она, возвращаясь к своему положению, -
Нарцисс не возвращается. Что со мной будет? Ведь я чужая на этом
острове. Он, конечно, виноват, но так ли уж сильно? Мог ли он сдержать
себя, если принять во внимание то, как я вела себя с ним? Мне следует
скорее во всем винить свой страх: он был таким острым! Думаю, несмотря на
то, к чему он привел, доведись мне снова увидеть паука, я испугалась бы
ничуть не меньше. Ах, Нарцисс, вернитесь! Если вы еще меня любите,
разве не достаточно вам для того, чтобы оказаться здесь, моего желания?
Вернитесь! Я прощаю вас.
Часть вторая. Книга четвертая
121
Дух, вняв ее настойчивым просьбам, появился перед ней. При виде его
Неадарне вскрикнула от неожиданности. Он еще раз попросил у нее
прощения за то, что произошло, и принцесса, будучи благородной натурой,
простила духа, после чего они отправились во дворец, однако дорогой Нарцисс не
осмеливался поднять на нее глаз, а Неадарне не удостаивала его взгляда.
Многие, должно быть, станут больше винить Неадарне, чем Нарцисса:
они укажут на то, что принцесса сама поспособствовала дерзости духа,
поставив его перед испытанием, которого никто бы не смог выдержать.
Однако этот вопрос требует более подробного рассмотрения, и, прежде чем так
решительно осуждать Неадарне, следует выслушать мнение какой-нибудь
красавицы, которая испытывает неодолимый страх перед пауками,
относительно того, что бы она предприняла, попав в такую ситуацию: стала бы
ловить это животное сама или же, воспользовавшись присутствием
возлюбленного, который ей не по нраву, приказала бы ему заняться его поисками.
Глава тридцать пятая,
СЛУЖАЩАЯ ПРОЛОГОМ К ВЕЛИКИМ СОБЫТИЯМ
Неадарне из-за скромности, а Нарцисс из-за робости являли собой
довольно жалкое зрелище, глупое еще и потому, что развязка неотвратимо
приближалась, а церемонии особенно нелепы, когда они не имеют никакого
смысла. Позволим себе простейшее рассуждение: одно из двух - или она
хотела, чтобы ее расколдовали, или нет. Если ее устраивало ее состояние, или,
по крайней мере, она была готова терпеливо сносить его, зачем было искать
встречи с Нарциссом? Но, раз она встретилась с ним, почему бы ей было не
идти до конца? Мне скажут, что тонкость ее натуры требовала, чтобы она
хотя бы оказала сопротивление; однако она совсем не знала Нарцисса,
который был ей навязан для столь деликатного дела. Если бы речь шла о ком-
то, кто был бы ей хотя бы немного знаком, ситуация выглядела бы иначе.
К тому же Нарцисс возжелал любви, он нацелился на ее сердце и захотел
превратить мимолетное происшествие в нечто постоянное, а от этого
трудно найти защиту. Но, даже согласись она уступить, следовало ли ей сдаться
сразу? Мы не особенно продвинемся, если будем считать, что это последнее
соображение нисколько не занимало Неадарне, по причинам, которые
можно было бы изложить здесь, не встречайся они уже в других местах этой
Книги18.
Нарцисс, отчасти догадывавшийся о том, что происходило в душе
Неадарне, раздраженный столь долгим сопротивлением, не сомневавшийся в
122
Шумовка, или Танзай и Неадарне
том, что, чем больше он будет настаивать, тем суровее она отнесется к
нему, решил сделать вид, что его любовь поостыла, и выжидать, пока
принцесса не склонится к решению, которое устроило бы его наилучшим образом.
С большим трудом ему удалось принять равнодушный вид. Прелести,
обнаруженные им во время приключения в роще, растравили его желания, но
чем сильнее они жгли его, тем более он утверждался в мысли, что их
следует скрывать, если он хочет удовлетворить их. Он знал сердца и был уверен,
что, ранив тщеславие Неадарне, заставит ее зайти дальше, чем она могла бы
себе позволить. Остановившись на этом решении, он по пути во дворец
снова пустился в извинения, позаботившись при этом о том, чтобы принять
холодный вид, обычно не свойственный возлюбленному, вынужденному
оправдываться, и, заверив принцессу в своем глубоком почтении, подпустил в
свои слова немного иронии, что дало ей повод думать, что он внушил себе
необходимость образумиться. Это открытие огорчило ее, и она отвечала
ему довольно сухо. Недовольство принцессы возросло от того, что Нарцисс
не проронил больше ни одной жалобы, а тот, не подав виду, что заметил
перемену в ее настроении, проводил Неадарне в отведенные для нее покои и,
откланявшись, вышел, напустив на себя такое равнодушие, что принцесса
страшно разгневалась. Придворным, оставшимся с ней, ничем не удавалось
развлечь ее. Хотя дерзость Нарцисса и выводила принцессу из себя, ее
настроение не улучшилось, когда она стала думать, что он остыл к ней. Она
вспоминала возню с пауком и, сравнив его восторги с оскорбительной
холодностью, затем последовавшей с его стороны, пришла к самым
неутешительным мыслям.
- О Небо, - думала она, - терпеть такое презрительное отношение!
Видеть, как желания угасают, тогда как они должны были вспыхнуть с
невиданной силой после случайного происшествия в роще! В чем причина
такого внезапного охлаждения? Но, в конце концов, так ли уж важно, что я ему
разонравилась? Разве это не на руку мне? Разве это не единственный способ
не нанести оскорбления моему супругу? Ах, Усыня! Усыня! Как вы
ошибались, когда полагали, что дух представляет опасность для меня и что мне
понадобится волшебное средство!
Она все еще пребывала в задумчивости, когда вернулся Нарцисс. Он, со
своей стороны, тоже все это время обдумывал сложившееся положение и
пришел к выводу, что не следует слишком долго подвергать принцессу
унижению, поскольку, уверившись в его холодности, она станет относиться к нему с
неприязнью. Хотя он не был уверен в том, что любим, все же он полагал, что
в ней нет ненависти к нему. Следовательно, нужно было окучивать ростки ее
доброго отношения к нему и, поскольку они не пустили еще глубоких корней
в ее сердце, для него было бы рискованно продолжать придерживаться
первоначального плана. Только счастливым любовникам позволительно
презрение. Впрочем, Нарцисс уже чувствовал, что его победа не за горами. По край-
Часть вторая. Книга четвертая
123
ней мере, он вполне мог еще раз попытать счастья; после всего того, что
произошло между ними, он мог надеяться на то, что ее сопротивление уже не
будет таким яростным, так как дерзости, которые он себе позволил, открывали
ему дорогу к новым вольностям, а женщина, один раз попавшая в пикантную
ситуацию, теряет право гневаться, когда попадает в нее снова.
Нарцисс с самым оживленным видом заговорил с принцессой. Она не
ждала, что его страсть вернется, и, хотя добродетельность все еще довлела над
ней, она испытала облегчение, увидев, что обманулась в своих впечатлениях.
- Я не прошу у вас прощения за то, что оставил вас одну, - сказал
Нарцисс, - поскольку вы не упрекаете меня за это.
- Я подумала, что у вас были причины так поступить, - ответила
принцесса.
- Ах! Вы так снисходительны, сударыня! - заметил он.
- Как? Вам бы хотелось, чтобы я без вины винила вас? Это было бы
несправедливо.
- Да, мне бы этого хотелось, - ответил дух. - Подобная
несправедливость показала бы мне, что я вам небезразличен, и, чем больше вы бы
винили меня, тем счастливее бы я был.
- Вот уж не думала, - проговорила принцесса, - что должна выискивать
проступки, чтобы доставить вам удовольствие; впрочем, мне стоит только
обратиться к своей памяти, чтобы получить повод долго выговаривать вам.
- Кстати об этом, - сказал Нарцисс, - мне кажется, я переусердствовал,
когда просил у вас прощения; дело не в том, что я не виноват, просто
поступить по-другому было невозможно, и, по-моему, я допустил бы куда
большую оплошность, если бы повел себя иначе. Прояви я почтительность, я бы
потерял так много! -продолжил он. - Какие формы! Какие прелести! Нет,
никому не сравниться с вами!
- Оставьте ваши похвалы, - молвила она, заливаясь румянцем. - Я хочу
забыть об этом происшествии, забудьте его и вы, поскольку, пока мы оба
помним о нем, я не смогу простить вас.
- Но неужели, - спросил Нарцисс, - вы все еще гневаетесь? Что ж,
несмотря на свое несчастье, я благодарен судьбе. Пусть вы ненавидите меня,
зато я видел то, о чем вы запрещаете мне говорить. Никогда, сударыня, это
воспоминание не уйдет из моей памяти: я стану думать о том моменте,
который мог бы стать блаженным для меня, если бы вы этого захотели, и,
перебирая в памяти радости, которые он мне доставил, буду неустанно клясть
вашу жестокость.
- Ну, - ответила она с улыбкой, - не стоит преувеличивать ни того, что
привело вас в восторг, ни того, что вы упустили. Вы получили, что хотели.
- Я нисколько не преувеличиваю, принцесса, - живо откликнулся
Нарцисс, - моему воображению не под силу представить то блаженство, которое
вы можете подарить мне. Заклинаю вас всеми богами, соглашайтесь!
124
Шумовка, или Танзай и Неадарне
- Нет, нет и нет, - сказала она.
- Что ж, - проговорил Нарцисс, - тогда вы должны позволить мне
действовать против вашей воли.
- Час от часу не легче, - воскликнула она. - Тогда я не смогу надеяться
на вашу признательность, а мне бы хотелось... Впрочем, что это я? Уж
лучше, чтобы вы ничем не были мне обязаны, по крайней мере, это избавит
меня от вашей неблагодарности.
- Моей неблагодарности?! - вскричал Нарцисс. - Ах, сударыня! Если б
вы знали, до каких размеров возросла бы моя любовь, прояви вы
снисхождение, вы бы не стали колебаться ни минуты.
- Я уже говорила, что люблю другого, - нежно проговорила она, - что
же я могу вам дать?
- Все, что судьбой предначертано для меня, - ответил он, - тогда мне не
грозит позор благодарить ее за счастье, которым я предпочел бы быть
обязанным исключительно вам.
- Что ж... посмотрим, - сказала она, смущенная этим разговором, - но
давайте не будем больше говорить об этом. Я не хочу и не должна решать
все заранее.
Сказав это, Неадарне взяла лютню19, которую еще раньше
заприметила в зале, решив, что, занявшись ею, помешает Нарциссу продолжить
беседу. Нарцисс приготовился слушать, довольный тем, что принцесса не
сердится, и уверенный, что достиг немалого, сумев вернуться к
происшествию в роще, не прогневав ее. Неадарне принялась перебирать струны и
запела. Ее игра была такой нежной, а пение таким пленительным, что
Нарциссу стоило немалых трудов держать себя в руках, а Баклан,
восхищаясь принцессой, вынужден был признать, что волынка и цимбалы не
могут сравниться с лютней, когда этого инструмента касаются столь
ласково, изящно и умело.
Поданный ужин прервал эту усладу, чтобы предложить другую.
Неадарне, распоряжавшаяся всем на правах хозяйки, захотела, чтобы Баклан
занял место за столом: Нарцисс, желая угодить ей, согласился. Баклан
обладал умом, хотя и несколько вычурным, и был очень забавен.
Неадарне, которой пришелся по вкусу его стиль, желая отвлечься от
происходящего, отвечала ему в том же тоне, Нарцисс подыгрывал им, и они
настолько увлеклись изысканностью выражений и причудливостью
мыслей, что окончательно перестали понимать друг друга, еще не дойдя до
десерта. Принцессе хотелось, чтобы ужин длился вечно, но он
окончился, и, после партии в подкидного дурака, на которую Нарцисс согласился
из великодушия, дух, проводив Неадарне в опочивальню и заверив в том,
что он скоро вернется, оставил ее на попечении служанок, наказав им
поспешить и как можно быстрее сделать все, чтобы она была готова
ответить на его пыл.
Часть вторая. Книга четвертая
125
Глава тридцать шестая
ПРИНЦЕССА ОТВЛЕКАЕТСЯ ОТ ДУМ
Неадарне с содроганием перешагнула порог зловещих покоев. Она
больше не могла откладывать того, чему надлежало свершиться, роковое
мгновение приближалось: вот-вот должен был вернуться Нарцисс. Она с болью
чувствовала, что не испытывает к нему ненависти, и с ужасом осознавала,
что его образ сильно потеснил мысли о Танзае. Как ни любила она своего
супруга, она не могла не отдать должное манерам Нарцисса и не признать,
что он во всем превосходит тютюрбанского принца. Порой ей казалось, что
следует покориться неизбежному, раз уж нельзя надеяться на спасение, но
тут поднимала голову ее добродетельность и заставляла ее отказаться от
этой мысли. Но все же она возвращалась к ней и не без удовольствия
рассматривала ее со всех сторон.
- Если это и произойдет, - говорила она себе, - принц останется в
неведении. Ведь благодаря средству, которым снабдила меня Усыня, я буду вне
подозрений. Однако, если я и сумею скрыть от него мой позор, разве он
останется неизвестен мне? Не буду ли я наказана за свое преступление
вечными угрызениями совести? Преступление? Но по своей ли воле я его
совершаю? На этот остров меня отправил оракул. Жертва желаний духа, как я
могу отдаться ему, не разделив его восторга? И буду ли я виновата, если
разделю его восторг? Разве по силам мне бороться с природой?20 Не я
изобрела чувственность. Когда бы душе надлежало равнодушно относиться к тому,
что чувствует тело, отчего они неотделимы? Ах, конечно же! Природа тут
ни при чем, этой несуразности мы обязаны лишь предрассудкам! Если бы
различие и вправду существовало, душа и тело, подчиненные нашей воле,
независимые друг от друга, не господствовали бы над нами. Отчего свет,
позволяющий нам различать добро и зло, не настолько ярок, чтобы вести нас
за собой? Что проку мне в знании, которым я ему обязана, если, поставив
меня перед выбором, он не указывает мне, на чем остановиться? А если я
свободна выбирать по своему усмотрению, почему я должна бояться
угрызений совести? Нет, не может быть, чтобы боги были так несправедливы!
Не могут же они наказывать нас за зло, от которого могли бы нас удержать!
Поскольку они творцы природы, им должна быть известна ее сила; им
следовало бы вложить в нас божественный луч, внутреннюю силу, против
которой мы были бы бессильны. Тогда чувство долга глубоко проникло бы в
нас, и, благодаря его спасительной тирании, мы были бы совершеннее,
достойнее своих творцов. Побоялись ли они, что мы, став просветленнее,
слишком приблизились бы к ним, или же просто не захотели лишать себя
варварского удовольствия спрашивать с нас за ошибки, составляющие, исключи-
126
Шумовка, или Танзай и Неадарне
тельно по их воле, часть нашей жизни? Но что это я говорю? Несчастная!
А откуда взялось мое отвращение к Нарциссу? Если бы боги меня не
поддержали, ему бы уже нечего было желать. Пусть моя любовь к Танзаю
сильна, но она не произвела бы такого смятения чувств. Ах! боги просветляют
нас больше, чем нам кажется, и, если бы мы давали себе труд
прислушиваться к тайному голосу, если бы мы не отвращали от него слуха, решение
приходило бы само собой, а, будь этот голос тише, наши души не знали бы столь
тяжелых битв. Впрочем, что для меня этот дух? Уступая ему, я могу думать
о моем супруге и тем поддерживать себя. Ах! Разве душе не случается
заблуждаться? Пусть я добродетельна, но ведь в роще я была на грани падения.
Понимала ли я, что рядом со мной Нарцисс? Думала ли я о Танзае? Разве не
забыла я саму себя? Позволительно ли мне надеяться, что такого больше не
повторится? Я избежала зла, но каких усилий мне это стоило! Сердечная
смута, сладострастие, которым исходили все мои чувства, неясные
ощущения - не было ли все это именно тем, чего мне следует опасаться? И с кем я
пребываю в борении? С самым привлекательным из духов! Ах! нужно
постараться не думать о нем, забыть о его достоинствах. За это удовольствие
я плачу слезами, и разве можно его сравнить с тем чистым восторгом,
который не оставляет нас, когда наша совесть чиста!
В то время, пока Неадарне размышляла так или примерно так,
служанки готовили ее ко сну. На ней оставалась лишь легкая накидка, которую они
собирались также снять, когда она приказала им уйти. Служанки
почтительно стали уговаривать ее лечь, но она, бросившись на канапе, ответила, что
ей вовсе не хочется ложиться. Поняв, что им не уломать ее, служанки
оставили принцессу одну. Не успели они скрыться, как она бросилась запирать
двери.
Убедившись, что Нарцисс ей не страшен, она снова направилась к
канапе, как вдруг заметила того, от кого заперлась. Принцесса испугалась еще и
потому, что понимала, что в том состоянии, в котором она пребывала, ей
будет трудно защищаться от него, к тому же она понимала, что, прибегни он к
силе, никто не придет ей на помощь.
- Так-так, сударыня, - сказал Нарцисс, глядя, как она устраивается на
канапе, - опять за свое?
- А вы, - ответила принцесса, - опять собираетесь преследовать меня?
- Однако, - заметил он, - вы не очень-то лестно отзываетесь о моих
намерениях. Вам хорошо известно, что я хочу лишь быть вам полезным, и так
мало цените мое усердие.
- Ваше усердие, - сказала она, - выглядит довольно подозрительно, я не
доверяю ему, поскольку имела возможность убедиться в ваших чувствах.
- Тогда мне нечего больше вам сказать, сударыня, - проговорил дух. -
Я мог бы повторить, что в ваших же интересах быть менее строгой, но вы
так мало заботитесь о них, что вряд ли поверите мне. Что ж, наслаждай-
Часть вторая. Книга четвертая
127
тесь вашей суровостью и прелестью вашего положения. Как возликует
Танзай, когда, увидев вас, убедится в вашей верности! Путь же он
последует вашему примеру, когда счастливый случай снова приведет его в
объятия Огурогуры!
(При этих словах принцесса стала слушать его внимательнее и чуть-чуть
нахмурилась.)
- Я не стану больше говорить вам о своей любви, - продолжал
Нарцисс. - Не понимаю, в чем тут дело, но, чем больше я выказываю вам ее, тем
сильнее вы негодуете. Быть может, вы бы предпочли, чтобы я, употребив
все свое могущество, обошелся с вами как с обыкновенной женщиной?
- О нет, - тихо проговорила принцесса.
- Видимо, - снова заговорил дух, - вам не нравится моя
почтительность, и я победил бы вашу непомерную гордыню, если бы меньше
принимал ее во внимание. Я изо всех сил стараюсь сделать ситуацию менее
мучительной для вас, исходя из того, что, раз вы все равно должны
уступить, вам было бы легче, отнесись вы с меньшим отвращением к
процедуре, которая возмущает вас, хотя любая другая на вашем месте
чувствовала бы себя польщенной. Ах, принцесса, - прибавил он, усаживаясь
рядом с ней на канапе, я не заслуживаю такого несправедливого и
недоброжелательного отношения.
(При этих словах Неадарне задумалась.)
- Осмелюсь сказать, что моя любовь непременно тронула бы вас и вы не
стали бы платить мне за нее такой ужасной неблагодарностью, будь вы
способны чувствовать. Это вовсе не значит, - продолжил он, осторожно
положив руку на ее колено, - что я стану требовать от вас вознаграждения. Но
вы обрекаете себя на то, что так и останетесь такой, какой вас сделала Огу-
рогура. Мне больше не будет позволено увидеть вас, и приятная обязанность
оказать вам услугу, от которой вы отказываетесь сейчас, будет возложена
на другого духа; я уже упоминал о нем однажды.
(При этих словах Неадарне взглянула на Нарцисса, а затем, опустив
глаза, грустно вздохнула; дух придвинулся к ней поближе и взял ее руку.)
- Если бы ненависть не застилала вам глаза, - сказал он, - вы бы ясно
увидели весь ужас того, что вас ждет, когда вам придется иметь дело с другим,
который, не обладая столь чувствительным сердцем, как мое, заставит вас
пожалеть о том, что вы отказали мне. Но я не хотел бы себе такого утешения,
поскольку вы бы от этого пострадали; лучше уж остаться безутешным.
Услышав такие ласковые речи, Неадарне тихонько пожала пальцы
Нарцисса, и тот, быстро отняв руку от колена принцессы, воспользовался ею для
целей столь бесцеремонных, что принцесса непременно оскорбилась бы,
если бы не была в этот момент погружена в глубокую задумчивость.
- Ах, принцесса, - проговорил он, задыхаясь, - как я был бы счастлив,
если бы вы откликнулись на мои мольбы! Мои чувства заслуживают такой
128
Шумовка, или Танзай и Неадарне
награды. Но этот прелестный ротик, - прибавил он, пылко целуя ее, - и эти
глазки молчат. Мне нет смысла торопить вас с ответом, я знаю, в нем будет
не больше благосклонности, чем в вашем молчании.
Должен сказать читателю, что, говоря так, Нарцисс все ближе и
ближе подсаживался к принцессе, забыв об осторожности, так что в конце
концов оказался вплотную к ней и воспользовался ее задумчивостью,
чтобы позволить себе некоторые вольности. Одна из них привела
Неадарне в чувство, но дух принял все меры, чтобы она не могла вырваться
из его рук, как бы ни старалась. Поняв, что ей не справиться с ним,
принцесса стала в самых жалобных выражениях молить Нарцисса
остановиться. Но дух, впавший в этот момент в рассеянность, отвечал ей лишь
возросшим рвением. Она снова принялась обороняться, однако скоро
поняла, что добродетельность, какой бы строгой она ни была и с каким бы
ожесточением она ни сражалась, не всегда выигрывает. То, с какой
ловкостью Нарцисс не давал ей выскользнуть, и его восторги наконец
привели Неадарне в ярость.
- Варвар! - закричала она. - Преда...
Ее слова сменились жалобными криками, и страдания, которые ей
доставляла борьба со злыми чарами, показали ей, насколько они сильны. Стыд
от поражения и сопротивление наполнили ее болью и усталостью, и она
потеряла сознание, что не позволило ей выразить Нарциссу свой гнев, но
избавило ее от неприятной необходимости быть свидетельницей его упоения.
Нарцисс, победитель Нарцисс, отнюдь не поспешив ей на помощь, упивался
своим триумфом.
Гордая красавица, которой дух был безумно увлечен, наконец-то была у
него в руках. Он бросал на нее пламенные взоры, осыпал ее ласками,
просил у нее прощения в выражениях самых пылких и хотел было нанести ей
новое оскорбление, как вдруг глубокий вздох оповестил его о том, что она
приходит в себя. Он счел, что будет более прилично, если принцесса,
очнувшись, увидит его у своих ног, и бросился на колени, не сводя с нее
восторженного взгляда. Беспорядок, в который он привел ее одеяние, делал ее еще
более прелестной. Слезы текли из ее полузакрытых глаз. И вот она
открыла глаза. То, что она увидела, распалило ее негодование и заставило
зарыдать еще сильнее. Она вскочила и бросилась к дверям, но каково было ее
отчаяние, когда она убедилась, что ей не дозволено по своему желанию
убежать от ненавистного духа.
- Ах, чудовище! - воскликнула она. - Чудовище, не достойное дневного
света! И ты еще осмеливаешься оставаться здесь? Ты осмеливаешься не
отпускать меня?
Только тот, кто побывал в такой же ситуации, мог бы описать гнев
принцессы и передать все, что она говорила Нарциссу, поэтому мы
предоставляем нашим читательницам возможность дополнить эту сцену. Неадар-
Часть вторая. Книга четвертая
129
не, яростно клявшая духа, вскоре выдохлась. Он знал, что этим кончится, и,
лицемерно приняв покорный вид, ждал, пока иссякнет поток ее ругательств.
- Так значит, сударыня, - сказал он, когда она замолчала, - вы все еще
хотите наказать меня за мое усердие и по-прежнему противитесь лечению?
Следует ли понимать вас так, что вы никогда не согласитесь на процедуру,
которая вам предписана?
- Ах, злодей! - воскликнула она. - Слава богам, об этом больше не
может быть и речи!
- Если это и есть причина вашего гнева, - заметил он, - вам не стоит
напускать на себя такую суровость; не знаю, что вы ощутили и что вы себе
вообразили, но с вами ничего не произошло, ведь без вашего согласия
излечение невозможно. Я скрыл это от вас, потому что хотел быть обязанным
только вам удовольствием видеть вас в своих объятиях. Возможно, вы мне
не верите. Вы раздражены и, должно быть, упрекаете себя просто за то, что
слушаете меня. Но вы можете сами убедиться, что я не обманываю вас. Я не
стану вас ни к чему принуждать, вы вольны остаться или уехать, что до
меня, то я буду счастлив, если вы выберете первое, и не рассержусь, если вы
предпочтете второе.
В то время, когда дух говорил, Неадарне каким-то таинственным
образом убедилась, что злые чары остались неразрушенными. Средство
Усыни было здесь не при чем, поскольку она не произносила заветных
трех слов, и принцесса снова оказалась перед ужасным выбором:
позволить все Нарциссу или навсегда лишиться возможности предложить хоть
что-нибудь принцу.
- Так что, сударыня? - спросил Нарцисс. - Ночь проходит, решайтесь.
Она собиралась ответить, но тут появился один придворный дух.
- Сеньор, - сказал он, обращаясь к Нарциссу, - да не прогневается на
меня твоя светлость за то, что я осмелился потревожить твой отдых, но
прибыли две дамы, которые могут сравниться красотой лишь с принцессой. Они
взывают к твоей помощи, и дело не терпит отлагательства. Их недуг
требует срочного лечения, и я счел необходимым сообщить тебе об
удовольствиях, которые тебя ждут.
- Хватит, Топаз, - сказал Нарцисс, - уходите. Итак, принцесса, -
обратился он к Неадарне, - идти ли мне к несчастным или же остаться с вами?
Вам решать. От вас зависит, найдется ли применение склонности, которую
я имею к вашим прелестям.
- Но Топаз может вернуться, - сказала она.
- Это все, что вас пугает? - осведомился дух.
Она улыбнулась. Нарцисс, осчастливленный этим признанием, поднял
ее на руки и понес на ту самую постель, куда она не собиралась ложиться, и
в этот момент добродетельность и угрызения совести, преданные ею, со
вздохом, уступили место наслаждению.
5. Кребийон-сын
130
Шумовка, или Танзай и Неадарне
Глава тридцать седьмая,
КОТОРАЯ УЧИТ НЕДОТРОГ ОПАСАТЬСЯ
НЕКОТОРЫХ СИТУАЦИЙ
Конечно, победа над суровой красавицей всегда лестна, но, надо сказать,
она дается недешево. Удивительно, но женщины, даже поняв, что им
придется уступить, считают необходимым продолжать ломаться. Правда,
встречаются фаты, которые утверждают, что никогда не встречали
сопротивления, однако очевидно, что они лгут. Случается, что они хвастаются
оказанными им милостями, тогда как на самом деле их окатили презрением. К
счастью для женщин, ни одно ни другое ни к чему их не обязывает, что,
впрочем, заставляет честных мужчин вздыхать. Неизвестно, что лучше, а что
хуже: я говорю так потому, что Нарцисс не был бы так счастлив, окажись
Неадарне не такой неприступной.
Как хорошо уже известно читателю, ему удалось добиться от нее
признания. Другая бы женщина, возможно, не стала бы скрывать свое
согласие, но добродетельность принцессы не ограничивалась простым
соблюдением приличий, к тому же из-за нелепой изысканности Нарцисса они
виделись ей повсюду. Что ни говори, а этот дух оказался не таким
ловким, как нам его хотели представить. То, что он попросил разрешения
Неадарне отнести ее на ложе, еще куда ни шло, подобные вещи
предполагают некоторую учтивость, но во многих других случаях с его стороны
было бы вежливее и разумнее промолчать. Добродетельность
становится церемонна, когда располагает для этого временем, но неприлично
вынуждать красавицу отказываться от того, что она бы охотно дозволила,
если бы ей предоставили такую возможность. Влюбленный Нарцисс
попросил позволения Неадарне присоединиться к ней, и та тут же стала
умолять его этого не делать. Этот несправедливый отказ возмутил его, и
он, поняв, что совершил оплошность, все же сделал то, что хотел, и та,
увидев его непреклонность, уже не возражала. Тогда Нарцисс
попробовал дать ей те нежные имена, к которым прибегают счастливые
влюбленные, когда они находятся вместе. Она не ответила ему тем же, но и не
оскорбилась. Тут Нарцисс, хорошо разбиравшийся в подобных нюансах,
обнял ее, привлек к себе и умелыми ласками сумел изгнать из ее
сознания все, кроме жажды удовольствия. Наконец Нарцисс был
вознагражден за свою деликатность и получил с лихвой то, что ему полагалось.
Принцесса, охваченная вожделением, с удовольствием препоручила себя
его заботам. Усердно стараясь расколдовать ее, Нарцисс некоторое
время еще опасался, что она опять прогневается, и, чтобы не допустить
этого, старался не давать ей времени на раздумья и действовать быстро. Эта
Часть вторая. Книга четвертая
131
хитрость имела успех, чему немало способствовала и фантазия Неадарне:
она вообразила, что Нарцисс похож на Танзая и, удивляясь тому, что не
заметила этого сходства раньше, пылая любовью к принцу, с восторгом
предалась происходившему, так что духу не на что было жаловаться.
Нежные слова, ласки, страстные вздохи, восторги, исступление - он все
получил сполна.
Хотя он был могущественным духом, ему потребовалась передышка.
Неадарне, очнувшись, почувствовала, что именно она теряет. Ей стало
грустно, она уже не думала о злых чарах, поскольку свыклась с мыслью,
что оказалась во власти Нарцисса по воле богов, и смирилась, поскольку
тут ничего нельзя было поделать. Она больше не упрекала себя за
измену и, если раньше ей представлялось множество причин, по которым она
не могла себе этого позволить, то теперь ей приходило в голову едва ли
не столько же резонов, оправдывающих ее поступок. В конце концов,
разве она разлюбила принца и разве не страсти к нему она обязана тем,
что нашла Нарцисса похожим на него? Но она не была уверена в
действенности средства Усыни, и это было то единственное, что беспокоило
ее. Стоило ли пренебрегать такой чудесной возможностью испробовать
его? Решившись провести эксперимент, она хотела было произнести
заветные слова, но оказалось, что они улетучились из ее памяти. Нарцисс
настолько смешал все ее мысли, что ей потребовалось бы много
времени, чтобы вспомнить их. Можно было бы отыскать листок, который
дала ей Усыня, но что подумал бы Нарцисс? Он наверняка догадался бы,
для чего нужны слова. Как ей предстать перед Танзаем, если она не
сможет воспользоваться средством феи? Принцесса пребывала в
замешательстве, когда отдохнувший Нарцисс решил продолжить лечение и
прервал ход ее мыслей. Но тут она неожиданно вспомнила, что служанки
положили ее кошелек в изголовье. Одного ловкого движения было
достаточно, чтобы подглядеть слова, и она тут же воспользовалась секретом,
так что Нарцисс очень удивился, увидев, как сильны злые чары, и вознес
небесам жалобы, смешанные с благодарностью. Он подумал, что столь
необычное явление - дело рук Огурогуры, и, подозревая ее в том, что она
хотела навсегда лишить принцессу счастья, еще энергичнее принялся за
дело. Неадарне, которая, что бы там ни говорил Нарцисс о ее
чувствительности, никак не рассчитывала на такое усердие с его стороны, не
знала, как отнестись к этому. Плакаться? Но это было бы чистой
неблагодарностью с ее стороны. Наслаждаться? Но не слишком ли
оскорбительно это для принца? Последнее соображение может показаться странным,
но женщины очень деликатны, и Неадарне, полагавшая, что и так
сделала много для принца, упрекала себя за излишнее рвение. Она собралась
было уже спросить духа, действительно ли его великодушие так
безгранично, но тут другая мысль (а они сыплются как из ведра, стоит только
5*
132
Шумовка, или Танзай и Неадарне
начать думать) остановила ее. Теперь она убедилась, что заветные слова
действуют, но фея сказала, что к ним можно прибегать несчетное
количество раз. А если это не так, и она слишком поспешила, пустив их в ход?
Что она тогда скажет Танзаю? Следовательно, чтобы окончательно
поверить Усыне, нужно было узнать, что скажет Нарцисс, если она снова
воспользуется секретом. Она могла быть довольна полученным
результатом. Нарцисс наговорил столько восторженных слов о затруднении, с
которым он столкнулся, что Неадарне, испугавшись, как бы он не
догадался обо всем, заверила его, что только ему они обязаны этим чудом.
Ему были приятны ее слова, но он из скромности отказался от этой
чести и стал возражать, настаивая, что благодарить следует лишь ее. Столь
учтивый спор не мог окончиться быстро, и, хотя принцесса была сама
любезность, Нарцисс так яростно отстаивал свое мнение, что она
вынуждена была согласиться с ним.
Была уже глубокая ночь, и принцесса, убедившись в том, что Усыня не
обманула ее и не желая больше ничего для себя, сочла, что настало время
позаботиться о Баклане. Она не знала, как лучше поступить, чтобы
освободить его. Нарцисс явно не намеревался смежить очи так рано, а ей казалось
невозможным прибегнуть к туфельке, когда у него не было сна ни в одном
глазу.
- Сеньор, - сказала она, - через четыре часа я уеду, мне хотелось бы
посвятить остаток ночи сну. Надеюсь, вы отнесетесь к моему желанию
снисходительно...
- Чем раньше вы назначите час отъезда, тем меньше вам следует
рассчитывать на мою снисходительность, - ответил он. - Я не заслуживал бы
счастья обладать вами, если бы относился к нему так пренебрежительно. Мне
следует доказать вам, что я его достоин. Если бы вы мне обещали, что я
снова увижу вас...
- Я? - живо перебила его Неадарне. - Ах, Сеньор! Даже не думайте об
этом, не понимаю, как только у вас язык повернулся сделать мне подобное
предложение!
- Мне показалось, - сказал он, - что вы не сочтете меня дерзким, если я
выскажу его. Нам было так хорошо вместе, что, по-моему, вы вполне
можете относиться ко мне как к хорошему знакомому.
- Именно поэтому, Сеньор, - ответила она, - вы единственный человек
на земле, которого мне следует избегать; моя любовь к Танзаю и чувство
долга не позволят мне и помыслить о вас. До сих пор я ничем не запятнала
себя. Боги приказали мне отправиться к вам, и то, что произошло, остается
на их совести, но я прогневаю их и справедливо заслужу презрения супруга,
если стану мечтать о вас.
- Я попросил вас о встрече, - проговорил дух, - исключительно потому,
что хотел бы только вам быть обязанным своим блаженством. Вы и не по-
Часть вторая. Книга четвертая
133
дозреваете, как велико мое могущество, вам и невдомек, что, как бы ни
были вы решительно настроены, мне не составит труда увидеть вас, когда
только мне заблагорассудится, и даже получить от вас все то, что вы
приберегаете для Танзая. Я легко могу перевоплотиться в него, предстать перед
вами в его обличье, так что вы никогда не будете знать, ему или мне
отдаете ваше сердце.
- О Великие боги! Какой ужас! - воскликнула принцесса.
Она впала бы, наверное, в самую жестокую кручину, если бы дух,
тронутый ее тоской, не счел необходимым успокоить ее. Неадарне,
уставшая от его восторгов, хотела бы избежать новых проявлений его
чувств, но не могла, поскольку оказалась заложницей своей любви к Тан-
заю. Кроме того, у нее были обязательства перед Усыней. Нужно было
усыпить Нарцисса, чтобы спасти Баклана. Именно по этой причине она
снова воспользовалась волшебным средством Усыни. Легкая победа не
утомила бы Нарцисса, а принцессе нужно было достать туфлю. Наконец
наступил момент, когда она смогла пустить ее в ход. У Нарцисса
слипались глаза, хотя он старался таращить их и продолжал говорить
принцессе разные нежные слова. Она коснулась его туфелькой, и он погрузился
в глубокий сон. Принцесса вскочила и быстро оделась. Она так спешила,
что не заметила сначала, что на ней не то платье, в котором она
приехала на остров. Влюбленный дух хотел, чтобы она унесла с острова знаки
его величия, и позаботился о том, чтобы новые роскошные одеяния как
нельзя лучше отвечали красе той, для которой они были предназначены.
Неадарне пришлось надеть их, несмотря на ее недовольство, причиной
которого было и то, что она не знала, как объяснить принцу появление
нового наряда, и сомневалась, что он поверит в ее рассказ об излечении
сном.
Хотя новое платье не обрадовало ее, она все же оценила поступок
Нарцисса. Приблизившись к ложу, на котором он спал, она долго созерцала его.
Красота Нарцисса взволновала ее.
- Прощай, - со вздохом произнесла она, - прощай, прекрасный дух.
И пусть вечность для тебя протекает в удовольствиях. Сможешь ли ты забыть
навсегда печальную Неадарне! И сможет ли она забыть о тебе! Она была
бы счастлива ответить на твои чувства, если бы ее сердце и рука не были
уже отданы другому. Прощай: не в ее власти даровать тебе блаженство.
Смотри же, не нарушай ее покоя!
С этими словами она нежно поцеловала его в лоб и покинула с болью в
сердце, от которой застонала ее добродетель.
134
Шумовка, или Танзай и Неадарне
Глава тридцать восьмая,
В КОТОРОЙ ЧИТАТЕЛЬ НАЙДЕТ ТО,
ЧТО УЖЕ ДАВНО БЫЛО ЕМУ ОБЕЩАНО
Принцесса, вооружившись туфелькой21, незаметно прокралась через
дворцовые покои. Солнце уже поднялось. Она не смогла заранее
предупредить Баклана о своем приходе и боялась, что ей придется долго разыскивать
его и что дух, пробудившись, расстроит ее планы. Но, к счастью, ей не
пришлось углубляться в сады. Баклан, которого мучила бессонница, сидел на
террасе, погрузившись в грустные раздумья о своих несчастьях. Она
бросилась к нему.
- Нам нельзя терять времени, Сеньор, - сказала она. - С вашим
рабством покончено. Отправляйтесь же в объятия феи, которая обожает вас. Она
сумеет наградить вас за ваши муки.
- Ах, принцесса! - воскликнул Баклан. - Может ли быть, что Усыня не
забыла меня?
- Не сомневайтесь, принц, - ответила Неадарне, - ее сердце,
наполненное искренней любовью к вам, страдает вдали от вас так же, как и ваше.
- А она все еще кротиха? - спросил принц. - Как я боялся, что мерзкий
дух поймает ее!
- Надеюсь, избавившись от гнева Нарцисса, вы будете счастливы, -
сказала Неадарне. - Благодаря вам она вновь примет очаровательный
облик, внушивший вам когда-то любовь. Но не потеряли ли вы туфельку
феи?
- Нет, - сказал Баклан, - хотя за те десять лет, что она у меня, мне
только один раз удалось взглянуть на нее. Мне все время приходилось делать
кульбиты и услаждать Нарцисса, и я не мог найти ни одной свободной
секунды, чтобы поцеловать ее. К тому же я боялся, что дух, прознав про
туфельку, отнимет ее у меня.
- А знаете ли вы, в чем ее сила? - спросила Неадарне.
- Нет, - ответил он. - А в чем?
- Она может сделать вас невидимым.
- Ах, отчего я не узнал об этом раньше! - воскликнул Баклан. -
Скольких мук я бы избежал!
- Возможно, - заметила принцесса, - она ни от чего не уберегла бы вас.
Боги хотели, должно быть, чтобы вы на протяжении десяти лет
испытывали невзгоды, и все ваши усилия освободиться были бы тщетны. Но настал
момент, когда они смилостивились. Хватит об этом, если дух проснется, вы
пропали. Возьмите туфельку и следуйте за мной.
- Так значит, дух не хочет отпускать меня? - спросил принц.
Часть вторая. Книга четвертая
135
- Нет. Я умоляла его простить вас, но он остался непреклонен, -
ответила принцесса.
- Но он хотя бы помог вам? - поинтересовался Баклан.
- Тише, - шикнула на него Неадарне. - И запомните: там, куда я отведу
вас, следует держать язык за зубами. В случае чего вы скажете, что я
видела духа всего одну минуту и в вашем присутствии, иначе между нами будет
все кончено. Когда-нибудь вы узнаете, почему я так настаиваю на том,
чтобы вы молчали и для чего мне нужна ваша поддержка.
- Не бойтесь принцесса, - ответил Баклан, - клянусь, я буду служить вам
верой и правдой.
Баклан вытащил из кармана туфельку и последовал за принцессой. Они
незаметно миновали караулы, беспрепятственно добрались до порта,
отвязали одну из лодок и отчалили от острова. Неадарне не без грусти смотрела,
как удаляется дворец, где спал Нарцисс. Не стоит судить ее за это. Столь
добродетельной особе позволительна небольшая слабость, к тому же
сожаление, с которым она покидала Нарцисса, было единственным, чем она могла
отплатить ему. Не то чтобы принцесса любила его, но ей не в чем было
упрекнуть духа, скорее ей следовало видеть в нем своего благодетеля. Но, как
только она ступила на землю, все эти мысли улетучились. Неадарне нашла
свои экипажи там, где они и должны были ожидать ее, пригласила Баклана
подняться в ее паланкин22 и отправилась в Приворот-Трававиль, с
нетерпением ожидая встречи с Танзаем.
Принцесса больше не сомневалась в действенности секрета Усыни.
Успешность опытов, проведенных во дворце, давала ей основания верить, что
Танзай ничего не заподозрит. Покидая дворед, она трижды или даже
четырежды повторила спасительное заклинание, тем не менее, завидев стены
города, она забеспокоилась. Необходимость лгать Танзаю, страх, что ее слова
не возымеют силы и он догадается о ее приключениях или что Нарцисс
проболтается, стыд, который она испытывала, - все это заставляло сердце
болезненно сжиматься, хотя в нем и билась радость от близкого свидания с
супругом.
Опасения принцессы не были безосновательными. Танзай, несмотря на
все ухищрения изобретательной Усыни, оставался безутешен и чуть не умер
от горя.
- Конечно, она не забудет вас, - говорила Усыня. - Поверьте, даже если
случится невероятное и она уступит Нарциссу, ее добродетельности не будет
нанесено оскорбление.
- О, не сомневаюсь! - откликнулся принц. - О чем еще помнить
женщине в подобный момент, если не о своей добродетельности!
- А когда так, - заметила Усыня, - в чем вы упрекаете принцессу? Если
она вернется с острова такой же бесполезной уродиной, какой она туда
отправилась, как вы к этому отнесетесь?
136
Шумовка, или Танзай и Неадарне
- Не знаю, - ответил Танзай. - Напрасно вы стараетесь. Вы говорите о
любви с рассудительностью, которая невыносима! Вас хлебом не корми, дай
произнести длинную и красивую речь, а остальное вас не волнует!
- Мне ненавистно видеть вашу несправедливость, - сказала Усыня. -
Право, вы какой-то странный. Прошу вас, имейте больше доверия к моему
могуществу, к тому же Брадакела не оставит вас.
- Если моя судьба зависит от вашей помощи или от протекции Брадаке-
лы, - сказал принц, - у меня есть все основания волноваться. Если судить о
ее заботах по тому, в каком положении я нахожусь, трудно надеяться на то,
что она окажется полезной принцессе. А коли вы так могущественны,
отчего вы отпустили ее на остров?
- Вам хорошо известно, - молвила фея, - что мы бессильны против
высочайших приказов судьбы.
- Хорошо, - продолжил принц, - но если согласно высочайшим
приказам судьбы Неадарне не сможет излечиться без посредничества Нарцисса, а
вы против них бессильны, как вы сможете помешать исполнению этих
приказов? Вы так любите головоломки, вот вам задачка, что скажете?
- Мне не составит труда разрешить ее, - ответила Усыня. - Феи -
дочери Судьбы23, и легко справляются с тем, что не под силу смертным. Судьба,
не желая отменять приговора, иногда смягчает его, позволяя нам управлять
миром и помогать тем, кого мы избрали для того, чтобы явить нашу
милость. Думаю, вы не сомневаетесь в моем дружеском расположении -
вспомните, перед отъездом принцессы я вам обещала, что если Нарцисс окажется
невеликодушным, он будет иметь дело не с ней, а с ее тенью.
- Но коли вы способны сделать такое для меня, - возразил принц, -
почему вы не прибегаете к этой хитрости, чтобы спасти вашего Баклана? Что
вам мешает подсунуть Нарциссу тень принца и избавить его таким образом
от мучений?
- Нарцисс сразу же заметил бы подмену, - ответила Усыня. - Он так
давно закабалил Баклана и с тех пор чего только ни приказывал ему! Тут
было бы трудно провести его.
- Вы увидите, - сказал принц, - что его намерения относительно
принцессы не сделали его доверчивей. Право же, ваша матушка Судьба отдает
довольно глупые приказы, а вы находите нелепые способы смягчить их.
- О! - воскликнула Усыня. - Вы не заслуживаете ни утешений, ни того,
чтобы Неадарне любила вас так преданно. Вы готовы бесконечно корить ее
Нарциссом, однако, столкнувшись с необходимостью провести ночь с Огу-
рогурой, вы, в отличие от принцессы, не заставили себя долго упрашивать.
Вы были так глупы, что поверили, будто писаная красавица тянет к вам
руки. Вы бездумно поверили всему, что наговорила вам сова, и, если бы
принцесса узнала, как вы хранили ей верность, сомневаюсь, что, несмотря на всю
ее добродетельность, она бы не почувствовала желание поквитаться с вами.
Часть вторая. Книга четвертая
137
- Заклинаю вас Бакланом, милая Усыня, - смущенно проговорил Тан-
зай, - не рассказывайте ей про этот чертов Комариный остров: я и так
наказан, а если, в чем я уверен, вам известен конец этой истории, вы должны
отдать мне должное и согласиться, что мною руководило больше желание
увидеть принцессу, чем забота о себе.
- Я охотно обещаю хранить вашу тайну, - сказала фея, - но вы должны
успокоиться. Не стоит все время раздражать меня скепсисом по поводу
моего могущества - оно сильнее, чем вы думаете.
Принц обещал ей исправиться, но его тревога была такой сильной, что
он никак не мог освободиться от нее, и фея, выведенная из себя его
бесконечными причитаниями, вынуждена была три или четыре раза напускать на
него сон. Но и во сне его бы мучили кошмары, если бы Усыня,
заботившаяся прежде всего о принцессе, не сделала бы его сновидения приятными.
Глава тридцать девятая,
СКОРЕЕ НЕОБХОДИМАЯ, ЧЕМ ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
Танзай еще находился во власти приятных грез, насланных феей, когда
прибыла принцесса. Во сне он видел, как она, оставаясь непреклонной,
несмотря на мольбы влюбленного духа, отказывается от лечения, и тот,
тронутый ее добродетельностью, исцеляет ее, ничего не требуя взамен. Этот
сон привел его в прекрасное расположение духа. Он выбежал навстречу
принцессе, но, увидев, какой на ней наряд, и обнаружив, что она вернулась с
Бакланом, счел, что она не могла заполучить и то и другое, не поступившись
добродетельностью, ибо отказывался верить, что Нарцисс так щедро
одарил ее из снисходительности или уважения к ней. В нем снова проснулась
ревность. Он мрачно взглянул на нее и ответил сквозь зубы на любезные
приветствия возлюбленного Усыни. Как только фея увидела Баклана,
произошла чудесная метаморфоза, и перед Танзаем и Неадарне появилась
высокая худощавая женщина, одетая весьма элегантно и со вкусом. Ее облик
выдавал натуру кокетливую, манерную и игривую. Она бросилась в объятия
Баклана. Как она и говорила, с левой стороны от ее верхней губы отходил
длинный ус24, уложенный на китайский манер. Баклан поцеловал его, а
Танзай нашел, что этот ус придает ее лицу довольно нелепый вид.
Поскольку принц пребывал в дурном настроении, он окинул Баклана
критическим взглядом. Усыня так расхваливала его, что он ожидал увидеть
восьмое чудо света, но, не без тайного злорадства, убедился, что хваленый
принц оказался худющим коротышкой, ростом не больше четырех футов.
138
Шумовка, или Танзай и Неадарне
Он держался очень неестественно, и его единственным достоинством был
самодовольный и слащавый вид, красноречиво указывавший на характер
его ума и на то, что он привык нравиться таким женщинам, как фея. В
другое время это позабавило бы принца, но гнев, который он испытывал, не
позволил ему уделить Баклану больше времени.
Неадарне, дрожа, приблизилась к Танзаю. Баклан и Усыня осыпали друг
друга самыми нежными словами, которые только могло подсказать
влюбленным, проведшим долгое время в разлуке и наконец воссоединившимся,
их чувство. Что же касается Таназая, то он злобно смотрел на принцессу и
отвечал ледяным молчанием на ее робкие ласки.
- Как вы жестоки! - воскликнула Неадарне. - Дорогой мой принц, что с
вами? Я не заслуживаю такого презрительного обращения!
- Бросьте, сударыня, - высокомерно произнес он. - Езжайте к своему
Нарциссу и забудьте меня!
- Вы сами отправили меня в это ужасное путешествие, - ответила
принцесса. - Не по своей воле я поехала на остров и не понимаю, отчего вы...
- В самом деле, принц, - сказала фея, которая, заслышав спор,
приблизилась к ним, - вы несправедливы. Не стоит так поспешно набрасываться на
принцессу, быть может, вам еще придется краснеть за вашу ревность.
Послушайте, - прибавила она, увлекая его в сторону, - вспомните наш уговор:
если вы будете и дальше так вести себя, мне придется нарушить данное вам
слово и рассказать принцессе об Огурогуре. Но это не все: когда вы
убедитесь в невинности принцессы, я отниму ее у вас, пусть это послужит вам
примерным наказанием за несправедливые подозрения. Вас интересует то, что
произошло на острове? Спросите Баклана, он ни на минуту не покидал
принцессы, которая, будучи куда более деликатной, чем вы, преисполнилась
отвращения к духу, несмотря на его привлекательность и могущество.
Хотите ли других доказательств, которые камня на камне не оставят от вашей
недоверчивости? Вам известно, какой была Неадарне; вам будет, с чем
сравнить ее теперешнее состояние. Откажитесь от вашей мрачной ревности
ради нежнейших ласк, сделайте это, пока не поздно, иначе принцесса никогда
не простит вас, и помните, что, даже если ваши подозрения не рассеются,
вам меньше, чем кому бы то ни было, позволительно жаловаться и
гневаться. Идите и у ног принцессы замаливайте вашу преступную
несправедливость! Не теряйте времени на расспросы, лучше лаской расположите ее к
себе, и вы убедитесь и в ее верности, и в ее любви к вам.
Танзай, не найдя, что ответить фее, возвратился к Неадарне, но
насколько раньше он держался высокомерно, настолько теперь выглядел
поникшим. Усыня и Баклан ушли, так как им тоже предстояло внести ясность в
кое-какие вопросы.
- Слова Усыни и мое уважение к вам, - заговорил принц, - не
позволяют мне усомниться в вашей верности, и вы должны простить мои подо-
Часть вторая. Книга четвертая
139
зрения, в которых повинна тонкость моей натуры. Мои страхи понятны, я
бы не испытывал их, если бы не любил вас; обстоятельства, в которых мы
оказались, были слишком тяжелы для моей любви, слишком опасны для
вас, чтобы я мог не тревожиться. Этот ужасный оракул, отправивший вас
к Нарциссу, род занятий этого духа, ваша красота - сколько причин,
чтобы дрогнуть! Как я счастлив, что вы превозмогли все препятствия из
любви ко мне!
- Ах, Сеньор, - ответила принцесса плача, - я ни на минуту не
переставала любить вас! Ваш образ стоял передо мной, и Нарцисс, несмотря на все
его старания, не тронул сердца, отданного вам.
- Должно быть, этот дух был очень навязчив, - заметил Танзай. - Вы,
судя по всему, предназначались ему, и он наверняка нашел вас прекрасной.
Вы были у него в руках!
- Разве вы не помните, Сеньор, - сказала Неадарне, - какая ужасная
метаморфоза случилась со мной в ночь перед отъездом? Думаете, в таком
виде я могла понравиться ему?
- Но, - ответил принц, - ведь именно он наслал на вас уродство,
следовательно, в его власти было расколдовать вас; не думаю, что он отнесся к вам
с большим уважением, чем ко всем тем женщинам, которые оказались в
таком же положении, что и вы.
- И тем не менее он отличил меня, - сказала принцесса. - Не знаю, кому
я обязана тем, что моя красота возвратилась ко мне (если уж вам угодно
считать меня красивой), но вскоре я стала такой, какой вы меня видите.
- Должно быть, - проговорил принц, - тут вам не нужна была его
помощь. Но как обстоят дела в остальном? Несете ли вы еще на себе следы
мести Огурогуры и сумел ли дух быть вам полезен, или же вы и здесь
обошлись без него?
- Сеньор, - отвечала принцесса, потупив глаза, - поскольку первую
метаморфозу обнаружила не я, не мне судить, произошла ли другая.
- Однако, - возразил Танзай, - вам известно, как отнесся Нарцисс к
вашему несчастью, и вы очень обяжете меня, если поведаете, какова была его
священная воля, чтобы я соотнес ее с прорицанием.
- Нарцисс, - заговорила принцесса, - начал с того, что стал неумеренно
восхвалять мою скромную внешность. Он вынудил меня рассказать ему, что
заставило меня предпринять путешествие на остров, затем высказал по
поводу моего несчастья больше сожалений, чем оно заслуживало, и, наконец,
заявил, что, только отдавшись ему, я смогу освободиться от злых чар
Огурогуры.
- И что? - перебил ее Танзай, заливаясь краской.
- Как что? Сеньор, вы знаете, как я вас люблю, так к чему вы задаете
этот вопрос? - возмутилась принцесса.
- Но что вы ему ответили? - спросил принц.
140
Шумовка, или Танзай и Неадарне
- То, что мне продиктовала любовь к вам, - ответила принцесса.
- Но так ли он был обескуражен этой неудачей? - продолжал
расспросы принц. - Не пытался ли он сломить вашу неприступность? Вы
заслуживаете того, чтобы попытаться завоевать вас, и я чувствую, что на
его месте я вряд ли смог бы остаться равнодушным к такой красавице,
как вы.
- Сеньор, - сказала принцесса, - хотя я и не представляла для него
большого интереса, мой отказ поразил его. Поскольку его слова не
встретили лестного приема, он решил, что добьется этой чести, если окружит
меня заботой. Он говорил со мной так ласково и признался, что хотел бы
прежде всего завоевать мое сердце, поскольку может сколько угодно
предаваться удовольствиям с другими красавицами, не тратя времени на то,
чтобы уламывать их, он употребил все средства, чтобы уверить меня, что
я произвела на него сильнейшее впечатление. Он устроил грандиозные
празднества, которые служили признанием в любви. Я получила власть
над островом, превосходящую его собственную, и его подданные, следуя
примеру своего господина, пресмыкались передо мной. Возлюбленный
Усыни, тосковавший в плену, отринул цепи рабства. Его мучениям
пришел конец, я освободила его...
- Но неужели этот дух, - перебил ее Танзай, - ничего не просил в обмен
на свою любезность? Вы были в полной его власти, и он непременно должен
был захотеть воспользоваться этим. Как вы смогли излечиться?
- В конце концов, - сказала Неадарне, - Нарцисса утомило мое
упрямство, думаю, в такой же степени, в какой меня утомляют ваши расспросы.
Влюбленный больше, чем вы, и куда менее несправедливый, он внял моим
слезам. Я не знаю, ни на кого обрушились его восторги, ни в каком
состоянии я покинула остров. Теперь я с вами, и вы подвергаете меня жестокому
экзамену. В вас нет ни капли благодарности, и вы даже запамятовали, что
сами отправили меня на остров Нарциссиль и что это путешествие с самого
начала вызывало у меня лишь отвращение. Что ж, смакуйте вашу
несправедливость, рвите узы, которыми мы связаны, и, раз уж вы хотите, чтобы я
вас возненавидела...
- Ах, принцесса, - воскликнул Танзай, бросаясь к ее ногам, - я виноват,
признаю, только избавьте меня от несчастья чувствовать, что вы
ненавидите меня, я не переживу такого горя! Да, я верю, что вы, любящая и
преданная, не поддались на ухаживания Нарцисса: но как тогда понимать
прорицание? А если вы такая, какой мне хотелось бы вас видеть, как избежать
неприятности, уготованной мне в этом случае?
- Я уже сказала вам, принц, - ответила принцесса, - что не знаю,
преследует ли нас все еще Огурогура, но у меня есть предчувствие, что ее
гнев больше не потревожит нас. Нарцисс, которому наскучило мое
сопротивление, перепробовав все, чем может соблазнить любовь, оставил
Часть вторая. Книга четвертая
141
меня в покое. Меня отвели в опочивальню, и я, заперев все двери,
устроившись на канапе, стала оплакивать свою участь. Я погрузилась в думы о
постигшем меня несчастье и незаметно заснула. Мне приснился сон,
ужаснувший мою стыдливость и мою любовь, сон, наполнивший меня
стыдом и отчаянием, но, пробудившись, я почувствовала, что во мне
произошло важное изменение...
- О Проклятая Обезьяна! - возопил принц. - Только этого не
хватало! Этот страшный сон ясно показывает мне, что мои страхи были не
напрасны!
- Не понимаю, - гневно проговорила принцесса, - отчего вы так
взволновались? Чем я виновата перед вами? Наши злоключения так похожи, что,
по-моему, вас не должен удивлять тот факт, что я обязана сну моим
излечением. Нас постигла одна и та же кара, что же странного в том, что нам
прописали одинаковое лекарство?
- Ах! - не унимался Танзай. - Доколе жестокие боги будут преследовать
меня? Будь проклято это отвратительное лекарство, о котором вы
говорите не краснея!
- Ну что ж, Сеньор, - молвила принцесса, - можете бесноваться,
сколько хотите. Раз вы только и ищете повода, чтобы счесть меня виноватой, так
тому и быть. Можете думать, что мой сон был реальностью, забудьте, что я
ни разу не упрекнула вас в том, что грезы, которые навеяла вам Огурогура,
как нельзя лучше отвечали вашим желаниям, продолжайте не верить, что я
смогла остаться честной перед вами, но позвольте мне оставить вас
навсегда, и поскольку вы находите, что я не стою вашего уважения, не смейте
больше говорить мне о вашей любви!
Принцесса говорила это таким решительным тоном и так гневно, что
Танзай, горячо любивший ее, замолчал и, вспомнив о том, что советовала
ему Усыня, вознамерился утешить принцессу и принялся так пылко
целовать ее, что скоро она уже была не в состоянии отказать ему в чем-либо,
несмотря на то что была рассержена.
- Ах, жестокий! - нежно проговорила она. - Вы меня больше не
любите, так оставьте меня!
Танзай, сгоравший от нетерпения и любопытства, ответил ей ласками, и
Неадарне, побежденная его страстью, не стала противиться испытанию, от
которого зависели ее честь и ее покой.
142
Шумовка, или Танзай и Неадарне
Глава сороковая
О ТОМ, КАК ПРОСТО ПОПАСТЬ В СОБСТВЕННУЮ ЛОВУШКУ.
ПРИБЫТИЕ БРАДАКЕЛЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТЮТЮРБАНИЮ.
КАК БЫЛА УЛАЖЕНА РАСПРЯ ИЗ-ЗА ШУМОВКИ.
КОНЕЦ ИСТОРИИ
Чудесная, однако, вещь, колдовство! Всем хорошо известно, что
принцесса видела Нарцисса не во сне, а наяву, тем не менее Танзай, ничего не
знавший о секрете Усыни, вынужден был признать, что несправедливо не
доверял ей. Неадарне, немало заинтересованная в том, чтобы успокоить его
воображение, перед тем как покинуть остров, произнесла заветные слова
целых три раза, а по пути с Нарциссиля к Приворот-Трававилю
беспрерывно твердила их про себя; положение, в котором она находилась, было
таково, что ей казалось более чем уместным воспользоваться этим средством.
Она повторила нужные слова бессчетное количество раз, не предполагая,
что это приведет к некоторым последствиям, и в конце концов заколдовала
себя так, что оказалась близка к тому, чтобы снова искать помощи
Нарцисса. Танзай, призвав на помощь всю свою любовь и все свое мужество,
измученный бесконечными препятствиями, выбивался из сил, чтобы преодолеть
последнее. Вне себя от любви и восторга, он воскликнул:
- Ах, Принцесса! Как я несчастен! Но как вы добродетельны!
- Как, принц! - нежно откликнулась она. - Опять жалобы? Вы были бы
более довольны, соверши я то, что облегчило бы вам подобные действия?
- Ах, - сказал принц, терзаемый страстью, - почему вы отказали
Нарциссу? Что нам теперь делать? Увы! По крайней мере, мне после того сна, в
котором вы меня упрекнули, не требуется второе путешествие. Неужели же
вам опять нужно отправляться на остров? Но расскажите же, заклинаю вас,
что вы видели во сне, когда гостили у Нарцисса?
- Я предпочла бы, - ответила принцесса, - поскорее забыть его. Хотя
теперь вы убедились, что я не обманула вас, не думаю, что тонкость вашей
натуры позволит вам бесстрастно выслушать подробности этого ужасного сна,
которые к тому же надрывают мне сердце, поскольку я горячо люблю вас.
Забудьте же этот зловещий остров и соблаговолите никогда больше не
напоминать мне о нем. И пусть мое состояние не волнует вас: с сегодняшнего
дня Усыня обретает прежнюю силу, и она даст бой Огурогуре, кроме того,
Брадакела не оставит нас. Давайте же, - добавила она, - отправимся к фее.
Раз все ваши усилия тщетны, не стоит так упорствовать.
Танзай был самым упрямым принцем в мире, поэтому сначала он не
согласился с принцессой, но вскоре вынужден был признать, что Неадарне
права, и они отправились на поиски Усыни и Баклана. Трудно передать все
Часть вторая. Книга четвертая
143
те нежные слова, которые принц говорил принцессе. Представьте себе до
беспамятства влюбленного мужчину, ревнивца, имевшего основания
опасаться измены, узнавшего, что каким-то чудом он избежал страшной участи.
Им не пришлось долго искать Усыню. Она выходила из сада, беспечно
склонившись к плечу своего одухотворенного Баклана. По довольному виду
Танзая фея сразу же поняла, что Неадарне вне подозрений. Пока принцы
обменивались учтивыми приветствиями, Усыня отозвала принцессу в
сторону и спросила:
- Ну что? Как прошло испытание?
- Как нельзя лучше, - ответила принцесса. - Мой супруг нашел, что с его
стороны было преступным подозревать меня. Но, Усыня, как мне забыть
то, что произошло на острове? К тому же, я никогда не перестану упрекать
себя за обман, к которому мне пришлось прибегнуть.
- Полагаю, - сказала фея, - для такой добродетельной и честной особы,
как вы, те две вещи, о которых вы говорите, действительно, непереносимы.
Но обе они были необходимы, не думайте больше о них.
- Ах, Усыня, как я могу не думать о них? - сказала принцесса. - Нарцисс
угрожал мне, что примет облик моего супруга, когда захочет получить от
меня то, что ему не предназначено, и я так боюсь этого, что все время
сомневаюсь, Танзай ли ждет от меня признания или дух. Неужели мне вечно
жить в этом страхе?
- Но если Нарцисс прибегнет к этой хитрости, чтобы повидаться с вами,
чем это оскорбит вашу добродетельность? Ведь речь идет лишь о
подозрениях.
- Неужели этого не достаточно! - воскликнула Неадарне. - Заклинаю
вас всеми богами, избавьте меня от этого страха!
- Тут я бессильна, - ответила Усыня. - Дух пробудился от сна, в который
вы его погрузили, и, придя в отчаяние от того, что вы сбежали, в данный
момент вынашивает план любить вас всю жизнь, и только уверенность в том,
что он вас увидит, служит ему утешением. Однако, - продолжила она, - не
вздумайте поделиться с Танзаем вашими опасениями: он такой
подозрительный, что будет пристально наблюдать за вами, и из-за его чувствительности
вы станете глубоко несчастной. Вы, должно быть, сильно ненавидите
Нарцисса, если мысль о том, что вы снова встретитесь с ним, так огорчает вас.
Но прошлой ночью он не был вам так отвратителен.
- Я подчинилась суровой судьбе, - сказала принцесса, - но мое сердце ни
на минуту не забывало Танзая.
- Я могла бы многое сказать вам на это, - молвила Усыня, - но, боюсь,
более продолжительный разговор насторожит наших супругов, так что я
пойду к Баклану.
Завершив разговор, они подошли к принцам, которые уже успели стать
друзьями не разлей вода и пуститься в рассуждения о созвучиях рыли. Все
144
Шумовка, или Танзай и Неадарне
вместе они направились к дворцу, где они нашли временное пристанище, но
тут перед ними с неба опустилась сверкающая карета, запряженная
бабочками. По роскоши экипажа они сразу поняли, что это прибыла
благодетельница Брадакела. Танзай, увидев ее, решил, что все несчастья позади, и
радостно устремился навстречу фее. Брадакела нежно поцеловала Усыню и
Баклана и поздравила их с воссоединением, которого они так долго ждали.
- А вы, принц, - обратилась она к Танзаю, - натерпелись за время
моего отсутствия, да и принцессе пришлось помучиться. Судьба, которую
разгневала ваша непокорность, вняла моим мольбам и сменила гнев на
милость. Я вижу, что вы не потеряли шумовку, это хорошо. Если Вздорнуцио
согласится сделать то, о чем вы его просили, вы заживете счастливо, и Огу-
рогура больше не сможет причинить вам зла.
- Не думаю, - ответил принц, - что его можно уговорить. В том, что
касается шумовки, он проявляет поразительное упрямство; все королевство
восстало против него, но он остался непреклонен.
- У меня есть одно средство, - молвила Брадакела, - чтобы принудить
его покориться. Но садитесь же в карету, мы сейчас же перенесемся в Тю-
тюрбанию, и вы наконец-то отдохнете.
Все заняли места в карете, и та, подгоняемая их нетерпением, вскоре
опустилась в столице Тютюрбании.
Трудно передать, как обрадовался Цефаэс, увидев супругов. Едва утихли
первые восторги и вопросы, фея потребовала, чтобы позвали Вздорнуцио.
За время отсутствия принца обстоятельства переменились. Патриарх умер.
Главный Служитель тайно вздыхал по его сану25, но, поскольку назначение
зависело от короля, он не надеялся получить его, по крайне мере до тех пор,
пока он не изменит своего отношения к шумовке. С тех пор как шумовка
оказалась напрямую связана с возможностью получить высокий пост, она
стала внушать меньше ужаса амбициозному Вздорнуцио. Он бы уже давно
забыл о своем бунте и запихнул бы ее себе в рот, будь она обычных
размеров, но к мысли о позоре, с которым сопряжено подобное отречение,
примешивался страх перед болью, которую, несомненно, должна была
причинить эта процедура, и возможным уродством. Последние две причины
и останавливали Вздорнуцио.
Король, которого ничто так не заботило, как благополучие сына,
согласился назначить Вздорнуцио патриархом при условии, что тот выполнит
свой долг. Опытный посредник, отправленный королем к Главному
Служителю, намекнул ему на то, как обстоит дело, и переговоры были в разгаре,
когда прибыла фея. Вздорнуцио не заподозрил ничего дурного, когда ему
передали, что она призывает его. Ходили слухи, что Брадакела любила его,
но, как бы там ни было на самом деле, несомненно одно: она относилась к
нему с тем уважением, которое говорит о долгих дружеских узах. Поэтому
он был несказанно удивлен, когда узнал, что фея намерена заставить его
Часть вторая. Книга четвертая
145
глотать ручку шумовки, и приписал
злую шутку, которую она
собиралась сыграть с ним, тому, что она за
что-то обижена на него. Тем не
менее он был рад приезду феи и тотчас
же отправился к ней, как только его
уведомили о приказе.
- Подойдите, - сказала ему Бра-
дакела. - Я знаю, что мешает вам
подчиниться необходимости и
совершить то, что как нельзя лучше
отвечает вашим интересам. В моей
власти помочь вам и устранить
препятствие, смущающее вас. Вас пугают
размеры шумовки, но не бойтесь.
Даю вам слово феи, что она больше
не будет внушать вам отвращения, а
король обещал мне, что назначит
вас патриархом в качестве награды
за послушание. Соглашайтесь же!
- Хорошо, - ответил Вздорну-
цио, - завтра в присутствии жрецов и
придворных я возьму в рот ручку
шумовки, раз уж никак нельзя без
этого обойтись.
Принц вежливо поблагодарил
Вздорнуцио, а король сразу же
назначил его патриархом великой Тю-
тюрбании. Все были очень
довольны свершившимся примирением.
Только жрецы сочли Главного
Служителя предателем и преисполнились презрения к человеку, который, как
они говорили, обесчестил свой сан, хотя среди них не было ни одного,
который с охотой не согласился бы продать свою честь и за гораздо меньшую
цену. Танзай, сгоравший от нетерпения овладеть наконец Неадарне, спросил
Вздорнуцио, не может ли он проделать необходимую процедуру
немедленно, не откладывая ее на завтра. Тот согласился. Но фея заметила, что эта
церемония должна происходить на публике, и принц вынужден был
смириться. По совету Брадакелы принц и принцесса провели ночь в разных покоях.
Усыня составила компанию Неадарне, а Баклан помог скоротать время
принцу. Неадарне призналась Усыне, что злоупотребила секретом, и
великодушная фея при помощи какого-то чуда привела ее в порядок.
146
Шумовка, или Танзай и Неадарне
Наконец настал великий день. Фея, король и две влюбленные пары
ранним утром отправились в храм, где Вздорнуцио, облаченный в одежды,
подобающие его новому сану, с удивительной грацией засунул в рот ручку
шумовки в присутствии придворных и жрецов. В глубине души он был глубоко
уязвлен, что вынужден был так унизиться, и, чтобы утешиться, издал
декрет, которым делал эту церемонию обязательной для всех, кто претендовал
на должность жреца. Легко догадаться, что многие остались недовольны
этим декретом, и он надолго стал в Тютюрбании источником раздора26.
После торжественной церемонии все вернулись во дворец. Брадакела,
заверив Танзая и Неадарне в том, что они могут рассчитывать на ее
покровительство, и в том, что Огурогура им отныне не страшна, отбыла на остров
Чепухиль27. Танзай был на седьмом небе от счастья. Любящий всем сердцем
и горячо любимый, он больше не вспоминал о Нарциссе и связанных с ним
тревогах, а нежная Неадарне забыла в его объятиях об ужасной Огурогуре
и даже, быть может, о духе. Усыня и Баклан еще некоторое время гостили
в Тютюрбании, радуясь счастью Танзая, а потом отправились к Брадакеле,
пообещав супругам, что станут часто навещать их. Цефаэс, утомившись от
королевских забот, уступил трон сыну, который, по-прежнему любя
Неадарне, наплодил столько наследников, сколько смог. Возможно, Неадарне и
встретилась снова с Нарциссом, но об этом знает лишь она. Танзай и
Неадарне были так счастливы, что даже подружились с Огурогурой.
На этом, за неимением более полной хроники, мы вынуждены, к
сожалению, закончить историю, которая, несомненно, является самой
невероятной из тех, что были написаны сумасбродными авторами.
Софа
Нравоучительная
сказка
'Ф
ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ
Давным-давно, много веков назад, правил Индией принц по имени
Шах-Бахам1. Он приходился внуком знаменитому Шах-Риару2, чьи
подвиги описаны в книге "Тысяча и одной ночи"3, известному, между прочим,
и тем, что он был беспощаден к женщинам и любил слушать сказки;
тому самому правителю, который помиловал несравненную Шахерезаду за
то, что она знала немало прекрасных историй.
Был ли Шах-Бахам не слишком ревнивым, или же его жены не
делили ложа со своими неграми, или же (что очень похоже на правду) он
просто пребывал в счастливом неведении, - во всяком случае, он слыл
добрым, покладистым мужем и унаследовал от Шах-Риара лишь
добродетели и любовь к сказкам. Некоторые даже утверждают, что тот самый
сборник сказок Шахерезады, записанный золотыми буквами по приказу
его августейшего деда, был единственной книгой, которую он удостоил
вниманием за всю свою жизнь.
Конечно, сказки много способствуют к украшению ума, и из них
можно черпать мысли и сведения сколь любопытные, столь и возвышенные,
однако довольно опасно ограничиваться лишь ими4. Только
по-настоящему просвещенный человек, поднявшийся над предрассудками, познавший
тщету наук, понимает, как полезны подобные книги людям и каким
уважением, если не почтением, должны пользоваться те, кто наделен даром
сочинять их и мужеством не оставлять этого занятия, несмотря то что
многие, страдая высокомерием и невежеством, почитают их труд за
пустую трату времени. Неискушенный читатель остается равнодушным к
морали, заключенной в сказках, к головокружительным полетам
воображения, к искрометным мыслям, коими они изобилуют; подобный
читатель гордится, когда ему кажется, что он постиг нечто, заведомо
превышающее его разумение, и готов уважать лишь того, кто дает ему эту
возможность задрать нос.
Шах-Бахам являет собой примечательный образец такой людской
несправедливости. Несмотря на то что он был так прекрасно осведомлен о
происхождении мира сказок, словно сам присутствовал при его
возникновении; несмотря на то что никто лучше него не изучил Джиннистан5, эту
150
Софа
знаменитую страну; несмотря на то что трудно представить себе
человека, более сведущего в тайнах славных первых династий персидских
шахов; несмотря на то что он, ко всему прочему, как истинный сын своего
века был в курсе всех тех событий, которые никогда не имели места, - о
нем говорили как о самом невежественном правителе в мире.
Нельзя не признать, что речи его не отличались изысканностью (что
особенно прискорбно, если принять во внимание его словоохотливость) и
неизменно навевали скуку на аудиторию, состоявшую, впрочем, лишь из
жен и придворных, то есть из особ, обычно столь же чувствительных,
сколь и поверхностных, способных скорее оценить изящество оборотов,
чем величие и справедливость самих суждений. Видимо, мнение Двора
представлено в описании принца (мы приводим его ниже), которое мы
находим в обширной истории Индии, составленной Шейхом-Ибн-Тахиром-
Абу-Ферайки6, жившим во времена Шах-Бахама, - в той ее части,
которая посвящена сказкам.
Шах-Бахам Первый был невежественным и вялым правителем. Мало
нашлось бы людей, способных обнаружить меньшую скудость ума и (как
это часто случается с такими людьми) большее самомнение. Он не
уставал удивляться общеизвестным банальностям и способен был
воспринимать лишь самые нелепые и бессмысленные вещи. Случалось, что за
целый год ему не доводилось задуматься хотя бы на минуту; но точно так
же не выпадало ни одной минуты за сутки, когда бы он хранил молчание.
Тем не менее он со свойственной ему скромностью замечал, что если и не
претендует на особую живость ума, то не знает себе равных по глубине
суждений.
Он не признавал удовольствий, происходящих от умственной
деятельности, любое занятие вызывало в нем отвращение, однако он не
оставался без дела. Он забавлялся, занимаясь своими птицами, - попугаями,
которые, благодаря его неустанным стараниям обучить их разным штукам,
стали самыми глупыми попугаями в Индии, - и обезьянами, которым он
также уделял немало времени. К тому же у него были жены, так что ему
было чем заняться и кроме птиц и обезьян.
Несмотря на столь важные занятия7 и столь разнообразные досуги,
случалось, что Султан скучал. Тогда он прибегал к знаменитым сказкам,
неизменно вызывавшим его удивление и даже благоговение и не
терявшим для него своей прелести от того, что он знал их наизусть; к сказкам,
критиковать которые было запрещено под страхом смертной казни. Он
восторгался ими, но скулы его сводило от зевоты. Скука сопровождала
его и тогда, когда он отправлялся на женскую половину, где проводил
добрую часть времени, глядя как его жены шьют и вырезают фигурки из
бумаги: это искусство вызывало у него особенное уважение, а его
изобретение он почитал за высшее проявление человеческого разума.
Предуведомление
151
В конце концов он захотел, чтобы все придворные посвятили себя этому
занятию.
Шах-Бахам столь щедро одаривал тех, кто преуспевал в искусстве
вырезания, что никто в Индии не пренебрегал им. В то время в Индии
можно было добиться почестей, только вышивая или вырезая. Султан не
признавал никаких других заслуг; во всяком случае, он не сомневался, что в
человеке, наделенном подобными талантами, просто не может не быть и
других талантов, необходимых, чтобы стать, например, хорошим
генералом или блестящим министром. Он был до такой степени убежден в этом,
что назначил Первым Визирем8 одного бездельника из числа тех
придворных, которые, не зная, на что употребить свое время, докучают
правителям, навязывая им свое общество, и себе, принуждая себя постоянно
находиться при августейшей особе. Придворный, о котором идет речь,
ничем не выделялся из толпы до тех пор, пока не проявил счастливого
дара в искусстве вырезания. А поскольку Шах-Бахам благоговел перед
этим искусством, наш придворный, не утруждая себя интригами,
принятыми при Дворе, получил должность Первого Визиря и право вырезать,
сидя подле Султана.
Среди жен Султана выделялась старшая Султанша9; ее ум был
отрадой для тех, кто, вопреки духу беспечности, царившему при Дворе,
отваживались размышлять и искать знаний. Лишь она одна знала толк в этих
занятиях и придавала им значение, и даже сам Султан10 редко
осмеливался оспаривать ее мнение, хотя она не одобряла ни его вкусов, ни его
досугов. Он ограничивался только тем, что в ответ на ее насмешки по поводу
возни с обезьянами или других увеселений укорял ее в язвительности;
известно, что этот недостаток глупцы непременно обнаруживают в умных
людях11.
Однажды Шах-Бахам, окруженный придворными, сидел на женской
половине дворца и с неусыпным вниманием наблюдал за вырезанием,
что, впрочем, не мешало ему изнывать от скуки.
- Меня клонит в сон, - сказал он зевая, - и это совсем не
удивительно: все словно в рот воды набрали. О! Я жажду приятной беседы!
- И о чем вы хотели бы побеседовать? - спросила Султанша.
- Откуда я знаю? - ответил он. - Не прикажете ли мне ломать над
этим голову? Кажется, достаточно одного моего желания побеседовать;
не хватало еще, чтобы я был вынужден объяснять, что именно хотел бы
услышать! Знаете, в вас нет и малой толики того ума, которым вы так
бахвалитесь! Вы больше витаете в облаках, чем говорите; вот за
последние три четверти часа вы едва проронили несколько слов! Никакой от
вас пользы! Вот если бы Султанша Шахерезада была жива12 и оказалась
здесь, она и без всяких просьб тетушки Динарзады13 рассказала бы нам
самые прекрасные сказки в мире! Кстати, если уж мы заговорили о
152
Софа
Шахерезаде, вот что я думаю. Какой бы прекрасной ни была ее память,
вряд ли она запомнила все сказки, которые когда-то учила, и наверняка
найдется кто-то, кто знает именно те, что она позабыла, или другие,
поскольку не верится, что с тех времен никто не сочинил новых историй и
что никто не сочиняет их сейчас.
- Вы правы, Сир, - сказал Визирь. - Смею заверить Ваше
Величество, что я не только знаю такие сказки, но еще и обладаю даром сочинять
занятные истории, ничем не уступающие тем, что знавала госпожа ваша
покойная бабушка.
- Визирь, Визирь, - одернул его Султан, - не забывайтесь! Моя
бабушка была особой редкостных достоинств!
- Конечно, - воскликнула Султанша, - нужно иметь немало
достоинств, чтобы сочинять сказки!14 Вас послушать, так может показаться,
что сказки - это лучшее, что рождает разум! Но что может сравниться с
ними по несообразности и наивности? Что это за сочинение (а следует
признать, что сказка заслуживает быть названной этим словом), что это
за сочинение, - спрашиваю я, - в котором отсутствует всякое
правдоподобие и любая мысль переворачивается с ног на голову? Которое,
повествуя о чем-то вздорном, пустом и ни с чем не сообразном, не может
обойтись без всемогущества сверхъестественных существ и волшебства?
Которое покушается на обычный порядок мирозданья и составляющих
его элементов, - и все это лишь для того, чтобы появилось нечто
смехотворное, эксцентричное, как правило не обладающее ничем, что могло
бы оправдать экстравагантность всей затеи? Можно еще почесть за
счастье, когда эти малодостойные бредни вредят лишь разуму! Они
рождают в воображении картины, способные оскорбить целомудрие и оставить
опасный отпечаток в самом сердце!
- Трескотня! - важно произнес Султан. - Столько высоких слов, и все
без толка! Речь, которую вы сейчас произнесли, на первый взгляд
кажется интересной; признаю, она захватывает, но, если задуматься, нельзя...
Впрочем, мы не собираемся выяснять, правы ли вы; дело в том, что, по
моему мнению, как я собирался вам сказать и только что доказал,
сказки, конечно же, сочиняются не для того, чтобы умничать. Но поскольку
они меня всегда забавляли, ясно, что их не следует считать вздором. Вряд
ли вам удастся заставить меня поверить, что Султан может оказаться
глупцом. Заметим между прочим, то есть в скобках, очевидный факт:
такая чудесная вещь, я имею в виду одну вещь... я бы сказал о ней, если бы
это было сейчас уместно... короче говоря, скажу откровенно: мне все
равно! Повторяю, что я люблю сказки, и, более того, мне особенно по
вкусу те, в которых есть то, что здравомыслящие люди называют
"изюминкой". Это подхлестывает интерес, не дает ему увянуть. Вообще же вы
говорите так, словно хорошо знаете все сказки и даже умеете сочинять
Предуведомление
153
их. Что ж, это именно то, что мне нужно. Я думаю, что дни слишком
длинны и что мы могли бы укоротить их, рассказывая друг другу
занимательные истории; и под историями я понимаю нечто вполне
определенное15. Меня интересуют приключения, феи, талисманы...16 Стоит ли
обольщаться? только это и существует на свете. Итак, мы договорились
слушать сказки? И да поможет мне Магомет! Впрочем, я не сомневаюсь,
что и без его поддержки окажусь лучшим рассказчиком, ибо не будет
особой нескромностью заметить, что я происхожу из рода, в котором это
искусство процветало.
Итак, поскольку мне чужда пристрастность, я приказываю, чтобы
рассказчики сменяли друг друга в последовательности, определенной не
мной, а жребием. Я хочу, чтобы каждый получил возможность
рассказать свою историю. Мы будем проводить за этим занятием ежедневно
столько времени, сколько мне будет угодно, во всяком случае, не менее
получаса17.
Закончив свою речь, он заставил всех придворных тянуть жребий,
и к живейшей досаде Визиря право первого рассказчика выпало
молодому придворному, который, получив от Султана разрешение говорить,
начал так:
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава первая,
НАИМЕНЕЕ СКУЧНАЯ
- Сир, Вашему Величеству известно, что я, хотя и являюсь вашим
подданным, придерживаюсь иной веры и только Брахму почитаю Богом1.
- Знаю я об этом или нет, - промолвил Султан, - какое это имеет
отношение к вашей истории? Разве вера не ваше личное дело? Если вы верите в
Брахму, тем хуже для вас, вам следовало бы стать магометанином. Примите
это как дружеский совет - поверьте, что я не собираюсь читать вам
проповедь. По сути, мне совершенно все равно, кто ваш Бог. Так что же?
- Мы, последователи Брахмы, верим в переселение душ, - продолжал
Аманзей2 (таково было имя рассказчика), - а это значит, скажу коротко,
чтобы не утомлять Ваше Величество, что мы верим в то, что душа,
расставшись с одним телом, переселяется в другое. По воле Брахмы так
продолжается до тех пор, пока он не сочтет, что она достаточно чиста, чтобы
присоединиться к тем душам, которые уже обрели вечное блаженство.
Хотя догмат о переселении душ3 и является незыблемым, мы не
уверены, что все происходит именно так, потому что редко кто помнит о
странствиях своей души. Обычно душа, покинув тело, в которое она была
заключена, и получив новое пристанище, забывает все: и знания, которые она
приобрела, и события, которые с ней происходили.
Поэтому-то мы не помним своих прежних ошибок, и когда ступаем на
новый жизненный путь, наши души остаются столь же открытыми порокам
и заблуждениям, как и тогда, когда Брахма впервые извлек их из
гигантского вихря пламени, в котором они пребывали, ожидая решения своей участи.
Многие люди сетуют на это установление Брахмы, но я сомневаюсь в их
правоте. Наши души, обреченные из века в век странствовать от тела к
телу, были бы слишком несчастны, если бы помнили о своем прошлом.
Каково, например, побывав в облике короля, оказаться вдруг рептилией или же
Часть первая
155
тем несчастным смертным, чья
нищета делает его еще более
достойным сожаления, чем самое
отвратительное из животных? Можно ли
при этом не впасть в безнадежное
отчаяние?
Конечно, человек, живущий в
богатстве или же вознесенный по
сравнению с прошлым состоянием,
вспоминая о том, что когда-то он
был ничтожным насекомым, менее
злоупотреблял бы новым
счастливым положением, в котором он
оказался благодаря доброте Брахмы. Но
хорошо известно, какими
жестокими, гордыми и заносчивыми
становятся те, кто, родившись в нищете и
безвестности, был обласкан судьбой,
и с какой стремительностью они
забывают о своем прежнем плачевном
состоянии; поэтому легко
предположить, что при переселении души в
иное тело унизительные
воспоминания улетучатся еще быстрее и никак
не повлияют на поведение людей.
К тому же душу отяготит сонм
впечатлений, оставленных
прожитыми жизнями, и, в большей
степени озабоченная прошлым, чем
будущим, она останется глуха к
обязанностям, которые ей предписывает
новая жизнь, и тем самым внесет разлад в мировой порядок вместо того,
чтобы способствовать его совершенствованию.
- Друг мой, - сказал Султан, - да простит меня Магомет, но, кажется, вы
собираетесь читать мне мораль!4
- Сир, - ответил Аманзей, - это лишь некоторые предварительные и,
смею заметить, не столь уж бесполезные соображения.
- Совершенно бесполезные, уж поверьте мне! - возразил Шах-Бахам. -
Я терпеть не могу, когда мне читают мораль, и вы меня очень обяжете,
если оставите эту тему.
- Повинуюсь вашему приказу, Ваше Величество, - ответил Аманзей, -
мне остается лишь добавить, что иногда, желая наказать нас, Брахма позво-
156
Софа
ляет нам сохранить воспоминания о прошлом; доказательством этому
служит то, что я отлично помню, как когда-то был софой5.
- Софой! - вскричал Султан. - Этого не может быть! Я вам не страус
какой-нибудь, чтобы поверить подобным россказням! Вы заслуживаете
хорошей взбучки! Она навсегда отучила бы вас нести околесицу, да еще с таким
апломбом!
- Ваше Величество сегодня изволит быть не в духе - заметила
Султанша. - Вашей августейшей особе не свойственно сомневаться в чем-либо, и
вдруг вы отказываетесь верить, что человек мог когда-то быть софой. Это
противоречит вашему обычному образу мыслей.
- Вы полагаете? - спросил Султан, задетый этим замечанием. - И все же
мне кажется, что я прав. Не то чтобы я не мог... Нет, черт побери! я прав!
Я просто не в силах поверить в то, о чем говорит Аманзей. Я же мусульманин!
- Ну и прекрасно! - кивнула Султанша. - Тогда продолжайте не верить
и просто слушайте.
- По правде говоря, - снова заговорил Султан, - если я не верю в эту
историю, то не потому, что она так уж невероятна, а потому, что, окажись она
правдива, я не должен этому верить. В этом я усматриваю большую
разницу. Итак, вы были софой, мой мальчик? Какое ужасное приключение!
А скажите, была ли на вас обшивка?
- Да, Сир, - ответил Аманзей. - Первая софа, в которой побывала моя
душа, была обшита розовой тканью с серебряной вышивкой6.
- Тем лучше! - заметил Султан. - Должно быть, вы были очень
недурной мебелью. Но почему ваш Брахма сделал вас именно софой? Что за
странные шутки! Софа! Ну и ну!
- Таково было наказание, назначенное моей душе за ее распущенность.
В какое бы место ни помещал ее Брахма, он всегда бывал недоволен своим
выбором и, должно быть, полагал, что и в теле рептилии она не будет
достаточно унижена. Поэтому он и заточил ее в софу. Я помню, как моя душа
покинула тело женщины и переселилась в тело юноши. И поскольку он
интересовался лишь пустяками, был кокетливым, жеманным, вздорным, злым на
язык и проводил время, заботясь лишь о своих нарядах и о тысячах прочих
ничтожных вещей, такая перемена участи нисколько не озаботила мою душу.
- Мне хотелось бы узнать поподробнее, - прервал его Султан, - чем вы
занимались, когда были женщиной. Это очень любопытно. Я всегда полагал,
что у женщин довольно своеобразный ход мыслей. Не знаю, понятно ли я
изъясняюсь, но я имею в виду, что бывает непросто угадать, что у них на уме.
- Возможно, - ответил Аманзей, - сделать это трудно, поскольку мы
приписываем им излишнюю утонченность. Помню, когда я был женщиной,
меня сильно забавляли и те, кто верил, будто за моими идеями,
появившимися лишь по воле случая, стоит большая мыслительная работа; и те, кто
доискивался до причин моих поступков, тогда как я действовала из каприза; и
Часть первая
157
те, кто хотел считать меня глубокой натурой и тем самым безнадежно
обманывался. Когда я была искренней, все полагали, что я притворялась, когда я
старалась быть нежной, меня обвиняли в кокетстве; когда я проявляла
деликатность, ее принимали за равнодушие. Мне все время приписывали
качества, которыми я никогда не обладала или с которыми я уже рассталась. Те,
кто больше других интересовался мной, с кем я была менее скрытной, кому
я из-за природной болтливости или под влиянием внезапного порыва
открывала свои самые сокровенные тайны и истинные чувства, жившие в моем
сердце, еще менее других были склонны верить мне и понимали меня не
больше других; им хотелось видеть меня такой, какой я им представлялась;
глубоко заблуждаясь, они не сомневались в справедливости своих суждений,
потому что кроили мой характер по своему усмотрению.
- О! Я всегда знал, что женщин невозможно понять, - проговорил
Султан. - Что до меня, то я давно отказался от подобных попыток. Но оставим
эту тему, она слишком утомительна для ума; вы пустились в пространные
никчемные рассуждения, оставив без ответа мой вопрос. Насколько я
помню, мне хотелось знать, что вы делали, когда были женщиной.
- У меня остались самые смутные воспоминания о моих занятиях в ту
пору, - ответил Аманзей. - Кажется, я была обходительна в молодости, но не
умела ни любить, ни ненавидеть; родившись бесхарактерной, я постепенно
стала такой, какой меня вылепили окружающие, а также мои склонности и
досуги; прожив бурно, я стала притворщицей и умерла, предаваясь тому
занятию, которое, несмотря на мой добродетельный вид, более всего
занимало меня на протяжении всей жизни.
Вероятно, моя любовь к ложам и подсказала Брахме идею заключить
мою душу именно в софу7. Он пожелал, чтобы душа моя сохранила в
заточении все свои склонности, но не потому, что намеревался облегчить ее
страшную участь, а лишь желая заставить ее лучше почувствовать всю их
неблаговидность. Он объявил, что моя душа начнет новую жизнь лишь
после того, как на софе, куда он ее поместил, невинные юноша и девушка
разделят первый опыт любви.
- Столько галиматьи, - откликнулся Султан, - лишь для того, чтобы
сказать, что...
- Уж не собираетесь ли вы по доброте душевной прибегнуть к более
ясным выражениям? - промолвила Султанша.
- Почему бы и нет? - откликнулся Султан. - Я люблю ясность во всем.
Но, если вы не разделяете моего мнения, я не возражаю, чтобы слова Аман-
зея были сколь угодно туманными. Слава Пророку, они никогда не будут
таковыми для меня.
- Я помнил достаточно из того, что делал и чему был свидетелем, -
продолжил Аманзей, - чтобы понять, что то условие, при котором Брахма
обещал даровать мне новую жизнь, заставит мою душу провести в софе,
158
Софа
выбранной местом ее заточения, долгие годы. Однако его обещание
перемещать мою душу из одной софы в другую, как только я этого пожелаю,
немного утешили меня в моем горе. Такая свобода обещала разнообразить
мое существование и сделать его не таким тоскливым. Кроме того, моя
душа была столь же любопытна и жадна к смешным сторонам жизни других,
как и в те времена, когда она обреталась в теле женщины, поэтому
предвкушение удовольствия от того, что я смогу побывать в самых потаенных
уголках и даже поучаствовать в событиях, которые должен скрывать покров
тайны, отчасти искупало уготовленные мне муки.
Огласив свой приговор, Брахма собственноручно заключил мою душу в
софу, которую мастер собирался доставить одной благородной особе,
слывшей в высшей степени благоразумной; но к известному суждению о том, что
немногие герои являются героями в глазах своих близких8, я могу добавить,
что редкая добродетельная женщина такова по мнению софы.
Глава вторая у
КОТОРАЯ НЕ ВСЯКОМУ ПРИДЕТСЯ ПО ВКУСУ
Софе не пристало стоять в прихожей, поэтому в доме той дамы, которой
я отныне принадлежал, меня поместили в кабинет, расположенный поодаль
от остальных комнат. Моя госпожа утверждала, что время от времени
уединяется там, чтобы размышлять о добродетели и беседовать с Брахмой, не
боясь быть потревоженной. Попав в кабинет и разглядев обстановку, я
усомнился в том, что эта комната служит лишь для серьезных досугов. Не то
чтобы убранство было слишком роскошным или вычурным, нет, на первый
взгляд все выглядело скорее благопристойно, чем кокетливо. Но,
приглядевшись, можно было заметить некоторое несоответствие удобной мебели,
утвари, отдельных мелочей, о которых обычно не помышляет аскет и
которыми он вряд ли умеет пользоваться, строгим жизненным принципам. Мне
показалось, что и моя обшивка была слишком веселой для особы, которая
так старательно афишировала презрение к кокетству.
Вскоре после того, как меня внесли в кабинет, вошла моя госпожа.
Она равнодушно взглянула на меня, и хотя явно осталась довольна,
ограничилась сдержанной похвалой и тут же холодным бесстрастным тоном
отослала мастера. Но едва она осталась одна, ее лицо, дотоле строгое и
мрачное, прояснилось. Иные манеры, иной взгляд; она испробовала меня
со старанием, по которому я понял, что вряд ли мне уготована участь
исключительно парадной мебели. Но ни роскошные позы, ни нежное и
лукавое выражение, появившееся на ее лице, как только она оказалась на-
Часть первая
159
едине с собой, не заставили меня усомниться в том высоком мнении,
которое сложилось о ней в Агре9.
Я знал, что души, признаваемые за совершенные, всегда скрывают в
себе какой-нибудь излюбленный порок: иногда он оказывается загнан вглубь,
но чаще торжествует; что их бегство от удовольствий - только видимость,
поскольку оно помогает им предаваться утехам с большим сладострастием;
что порой их добродетель состоит не столько в лишениях, сколько в
чувстве раскаяния. Я пришел к заключению, что Фатима10 ленива, и попенял
себе за слишком смелые предположения.
Проделав то, о чем я уже рассказал, она открыла шкаф, искусно
врезанный в стену и умело сокрытый от посторонних глаз, и извлекла оттуда
книгу. Затем она перешла к другому шкафу, где множество томов были
расставлены в образцовом порядке, взяла один из них и жестом,
выдававшим презрение и скуку, швырнула его на меня, после чего, держа в руках
книгу, отобранную в потайном шкафу, подошла ко мне и томно
опустилась на подушки.
- А скажите, Аманзей, - прервал его Султан, - она была хорошенькая,
эта ваша ученая хозяйка?
- Да, сир, - ответил Аманзей, - она была красива, и даже более, чем
казалась. В ней чувствовалась ветреность, которая может вызывать
презрение, хотя чаще оказывается притягательной; и было ясно, что она никому не
уступила бы пальму первенства, если бы чуть поступилась своею
скромностью. Черты ее лица были правильны, но лишены живости, игры, их
сковывала надменная и презрительная гримаса, которую женщины такого рода
считают несомненным доказательством добродетели. Все в ней указывало
как будто на равнодушие и невнимание к собственной внешности. Она была
хорошо сложена, но держалась неловко. Она ступала с горделивостью, но
лишь потому, что полагала, будто размеренная и неспешная походка как
нельзя лучше подходит особе, погруженной в самые серьезные
размышления. Она причесывалась небрежно, однако эта небрежность была далека от
той, которая делает внешность святош отталкивающей. Она носила
простые одежды темных тонов, но, несмотря на скромность, ее платья
говорили об изысканности вкуса и разборчивости. Она тщательно следила, чтобы
ничто не скрывало достоинств ее фигуры, и даже сквозь пелену суровости
проглядывала ее склонность ко всему утонченному и изящному.
Мне показалось, что книга, взятая из второго шкафа, не очень
заинтересовала мою госпожу, хотя это был толстый сборник размышлений, составленный
неким брахманом11. Но то ли потому, что ей было достаточно собственных, то
ли потому, что размышления касались предметов, мало занимавших ее, она
удостоила своим вниманием лишь две главы, а затем отбросила эту книгу и
принялась за первую, взятую из потайного шкафа и оказавшуюся романом,
исполненным нежных сцен и живых образов. Подобное чтиво настолько не под-
160
Софа
ходило Фатиме, что я не мог прийти в себя от изумления. "Должно быть, -
подумал я, - она желает испытать себя, чтобы выяснить, насколько ее душа
невосприимчива к идеям, способным смутить души других людей".
Не догадываясь об истинных побуждениях, заставивших ее поступать,
как мне казалось, в полном противоречии с ее принципами, я счел эти
побуждения самыми добрыми. Тем не менее у меня создалось впечатление, что
книга нравится ей. В ее глазах появился блеск, она отложила роман, но не
для того, чтобы избавиться от мыслей, навеянных чтением, а напротив,
чтобы предаться им с большим самозабвением. Очнувшись наконец от грез, в
которые она была погружена, моя госпожа взялась было снова за книгу, но
послышавшийся шум заставил ее проворно спрятать роман. На всякий
случай она вооружилась сочинением брахмана, полагая, видимо, что оно более
подходит для чужих глаз, чем для чтения.
Вошедший человек имел вид столь почтительный, что, несмотря на
благородство лица и роскошное платье, я сначала принял его за одного из рабов
Фатимы. Но она выказала такое недовольство его визитом, приняла его так
холодно, говорила с ним так язвительно и так откровенно скучала, слушая его
речи, что мне оставалось только предположить, что нечастный является не
кем иным, как ее мужем. И я не ошибся. Долгое время она отвечала
колкостями на все его горячие мольбы разрешить ему остаться в ее обществе и
смилостивилась лишь затем, чтобы изводить его нотациями по поводу промахов,
которые он, по ее мнению, совершал на каждом шагу. Этот муж,
несчастнейший из всех мужей Агры, сносил ее жестокие попреки с такой покорностью,
что все во мне закипело. Но не только вера в добродетельность Фатимы
была причиной его кротости. Фатима была красива, и хотя она, казалось, совсем
не заботилась о том, чтобы выглядеть соблазнительно, она выглядела
именно так. Несмотря на всю свою нелюбезность, она пробуждала в муже лишь
самые нежные чувства. Робкий юноша, который впервые, содрогаясь от страха,
заговаривает о своей любви со светской дамой, испытывает, должно быть,
куда меньшую скованность по сравнению с этим мужем, пытавшимся открыть
жене, какие чувства она вызывает в нем. Он почтительно и нежно призывал
ее ответить на его страсть. Довольно долго она отвергала его с недовольной
гримасой, но в конце концов уступила - с той же гримасой.
Несмотря на завидное упорство, с которым она, отказывая мужу, всячески
давала понять ему, что его притязания вызывают в ней лишь отвращение, я
заметил, что она не столь бесчувственна, как ей хотелось казаться. Ее глаза
заблестели; она томно вздыхала, и хотя ее вялость не совсем прошла, все же она
отчасти утратила прежнюю безжизненность. Но она не любила мужа. Не
знаю, какими соображениями руководствовалась Фатима, - то ли чувство
признательности смягчило ее, то ли ей хотелось, чтобы муж продолжил проявлять
к ней интерес, - но тот ворчливый и суровый тон, которым она встретила его,
сменился куда более ласковым, хотя в нем не было ни страсти, ни безрассудст-
Часть первая
161
ва. Однако он либо не догадывался о побуждениях Фатимы, либо остался к
ним равнодушен; во всяком случае, его холодность и рассеянность разгневали
ее. Она начала искать ссоры. Тут же у мужа отыскались самые ужасные
пороки. Какими только мерзкими чертами характера он не был наделен!
Развратник! Мот! Что за жизнь он ведет! Она бранила его так яростно, что даже его
терпение лопнуло, и он оставил ее одну. Его уход привел Фатиму в еще
больший гнев. В глазах Фатимы, метавших молнии, я читал лучше, чем ее муж; еще
до того как она, оказавшись в одиночестве, произнесла несколько слов,
окончательно прояснивших ход ее мыслей, мне стало ясно, что если она и ждала
чего-то от него, то отнюдь не того, чтобы он оставил ее одну.
Какой покой обрели бы женщины Агры, для которых Фатима была
образцом и пугалом, предметом ненависти и примером для подражания во
всем, какой покой обрели бы те, кто, сомневаясь в собственном душевном
спокойствии, испытывали потребность притворяться перед ней, если бы
увидели ее, подобно мне, одну, без свидетелей, в ее кабинете!
- Н-да, - произнес Султан, - неужели эта женщина в глубине души... как
и многие другие.... Ну, по крайней мере, и так бывает! Не стоит думать, что
это столь же необычно, как то, о чем я хочу сказать. Надеюсь, вы
понимаете, что я имею в виду?
- Ваше Величество изволит изъясняться так понятно, - сказал Аман-
зей, - что не составляет труда догадаться, о чем идет речь; осмелюсь
сказать, ни в коей мере не желая хвастаться своей проницательностью, что мне
ясна ваша мысль.
- О, - улыбнулся Султан, - прекрасно! Тогда послушаем, что же я имел
в виду.
- Фатима была совсем не такой, какой хотела казаться, - заявил Аманзей.
- Именно так, клянусь жизнью, - оборвал его Султан. - Продолжайте,
вы и вправду неглупы.
- Фатима действительно бежала удовольствий, - вновь заговорил
Аманзей, - но лишь для того, чтобы предаваться им с меньшим риском. Она не
принадлежала к числу тех неосторожных женщин, обязанных своим успехом лишь
капризу, которые, расточив в восторгах юность среди молодых людей,
постарев, забывают о пудре и прическах и, перестав быть позором общества, хотят
стать его украшением и примером для подражания; женщин, если и
заслуживающих презрения, то не столько за то, что они когда-то имели смелость
открыто предаваться пороку, сколько за то, что выставляют на показ свою
несуществующую добродетель. Нет, Фатима проявила куда большую
осмотрительность. С рождения она была наделена счастливым даром лживости,
который толкает женщин менять обличье и желать, чтобы к ним относились с
почтением (впрочем, это желание не сразу пускает свои корни), и уже в ранней
юности поняла, что невозможно противиться соблазну, если не хочешь
проводить дни в тоскливой скуке, но что женщина не может уступать соблазну
6. Кребийон-сын
162
Софа
открыто, поскольку это обрекает ее на позор и грозит опасностями, которые
в конце концов отравляют ей жизнь. Склонная к притворству от младых
ногтей, она думала не столько о том, чтобы укротить порочные склонности
своего сердца, сколько о том, как бы спрятать их под покровом воинствующей
добродетели. Конечно, ее душа была... сладострастной, что ли? Нет, это слово не
годится, чтобы определить характер Фатимы. Ее душа стремилась к
удовольствиям. Скорее чувственная, чем тонкая, она предавалась пороку, но не знала
любви. Фатиме не исполнилось еще и двадцати, но она была замужем уже пять
лет, и добрых восемь лет минуло с тех пор, как она начала подумывать о
браке. Она оставалась нечувствительной к тому, что обычно неотразимо
действует на женщин. Приятная наружность, острый ум могли пробудить в ней
желание, но она не поддавалась соблазну. Друзей сердца она выбирала или среди
людей безупречных, сам образ жизни которых обязывал проявлять
скромность, или же среди тех, кого низость положения в обществе ставит вне
подозрений, кто падок на щедрые подаяния и чьи уста надежно запечатывает страх,
кто, самоотверженно погруженный в самую грязную работу, порой
оказывается столь же проворен в нежных таинствах любви. Что до остального, то Фа-
тима, злая, надменная и вспыльчивая, следовала своим склонностям без
опаски. Не было ни одного недостатка, который она не сумела бы обратить в
свою пользу. Она была высокомерной, заносчивой, холодной, властной,
коварной, недоверчивой, необходительной, не имела друзей, но ревностное
почитание Брахмы, чувство горя, которое причиняло ей несовершенство нравов,
желание помочь заблудшим скрывали и облагораживали ее пороки. Она
наносила удары, но лишь из лучших побуждений! Она мстила, но только из
набожности! Ее душа была так чиста! Можно ли подозревать столь прямую,
искреннюю натуру в том, что ее ненависть рождена личными обстоятельствами?
Глава третья у
В КОТОРОЙ ГОВОРИТСЯ О ВЕЩАХ НЕВЕРОЯТНЫХ
Оставшись в одиночестве, Фатима хотела было продолжить чтение, но
тут в кабинет вошел старый брахман в сопровождении двух старух12,
которых он тиранил, искренне полагая, будто его общество служит им
утешением. Фатима поднялась им навстречу, приняв вид столь скромный и постный,
что он кого угодно мог ввести в заблуждение. Она попыталась даже пасть на
колени перед старым брахманом, но тот удержал ее, раздувшись, впрочем,
от гордости до такой степени, что я тут же понял, сколь высокого он мнения
о себе. Он был так доволен оказанным ему приемом, так искренне верил,
Часть первая
163
что достоин и больших почестей, что я про себя расхохотался над этим
нелепым и глупым тщеславием.
Само собой, что разговор между особами столь достойными мог идти
только о недостатках ближних. Я не хочу сказать, что люди, живущие в
беспутстве, никогда не злословят, однако их занимает скорее смешное, чем
порочное, да и злословие для них не более, чем развлечение, - им не хватает
безупречности, чтобы превратить приятный досуг в обязанность. Иногда
они способны причинить вред, но никогда не делают это намеренно; во
всяком случае, их легкомыслие и жадность к удовольствиям не позволяют им
ни долго помнить о злых замыслах, ни вовремя осуществить их с пользой
для себя. Манера язвительно и многозначительно говорить дурное о людях,
должная, по мнению многих, служить к исправлению нравов, но взятая сама
по себе, вне этой цели, достойная осуждения, неведома им; они...
- Долго еще? - гневно прервал его Султан. - Опять вы взялись за ваши
поганые нравоучения!
- Но, Сир, - ответил Аманзей, - бывают обстоятельства, когда без них
трудно обойтись.
- А я утверждаю, что это лишнее, - возразил Султан, - а когда это
будет... Короче говоря, поскольку сказку слушаю я, она должна мне
нравиться. Я хочу позабавиться, так что, пожалуйста, избавьте меня от бесконечных
нотаций, от которых у меня разыгрывается мигрень. Вы хотите корчить из
себя витию, но - черт побери! - я укорочу вас. Даю слово Султана, что убью
первого же, кто осмелится пичкать меня нравоучениями! Посмотрим
теперь, как вы будете выкручиваться.
- Я опущу нравоучения, - ответил Аманзей, - раз уж они имели
несчастье не понравиться Вашему Величеству.
- Ну вот, другое дело, - кивнул Султан. - Продолжайте.
- С удовольствием, которое можно получить от злословия, может
сравниться лишь удовольствие от похвал самому себе. Фатима и ее гости имели
достаточно причин уважать самих себя, чтобы судить без предубеждения
тех, кто не походил на них. Ожидая, пока им подадут все необходимое для
игры13, они вступили в беседу, которая полностью соответствовала их
характерам. Старый брахман, правда, отозвался с похвалой об одной женщине, с
которой Фатима была знакома; но его слова не понравились моей госпоже.
Среди вещей, на которые ополчилась Фатима, больше всего досталось
любви. Влюбленная женщина, какими бы достоинствами она ни обладала,
вызывала у Фатимы только ненависть; если же в женщине скрывались самые
отвратительные пороки, но она умела сделать так, чтобы никто не знал
имени ее любовника, то Фатима считала ее добродетельной и достойной самого
почтительного отношения.
К несчастью, особа, которую похвалил брахман, относилась к категории
женщин, вызывавших у Фатимы негодование.
6*
164
Софа
- Разве падшая женщина, - язвительно сказала она, - заслуживает ваших
похвал?
Брахман оправдывался тем, что ничего не знал о прискорбном
поведении женщины, и Фатима из чувства сострадания просветила его
относительно причин, по которым она не могла не осуждать несчастную.
- Не сомневаюсь, Фатима, - сказала тогда одна гостья, - что вас, особу
добрую и великодушную, порадует то, что я собираюсь сказать. Нахами, та
самая Нахами, которую мы оплакивали как потерянную душу, так вот, эта
Нахами, утомившись от греховной жизни, внезапно оставила свет: она
перестала румяниться14.
- О! - воскликнула Фатима. - Как это похвально, если она искренне
решила исправиться! Но, сударыня, вы мягкосердечны, а таких, как вы,
легко обмануть. Я знаю это по себе. Тому, кто с рождения, подобно вам,
наделен прямотой и простодушием, трудно представить, что есть
несчастные, напрочь лишенные этих качеств. Что и говорить, видеть в людях
лишь хорошее - это прекрасный недостаток. Но вернемся к Нахами: я
сильно опасаюсь, что в глубине души, плененной светской жизнью, она не
раскаялась в совершенных ею ошибках. Легче оставить привычку
румяниться, чем освободиться от пороков, и часто скромность и сдержанность
бывают лишь напускными и говорят не о желании ступить на путь
добродетели, а лишь о намерении скрыть от людей укоренившуюся
приверженность дурному.
- Друг мой, - сказал Султан зевая, - этот разговор скоро доконает меня!
Ради всего святого, хватит о нем. Не могу передать, как эти гости надоели
мне. Признайтесь, неужели вам самому не скучно? Явите такую милость,
отправьте их восвояси!
- Охотно, Сир, - откликнулся Аманзей. - Выжав все возможное из
разговора о Нахами, собеседники перешли к более общим темам, и я узнал,
пусть лишь в основных чертах, о всех происшествиях, имевших место в
Агре. Напоследок они похвалили друг друга и уныло принялись за игру,
перемежая ее колкостями и корчась от жадности; затем гости ушли.
- Уф! - сказал Султан, - премного вам благодарен! А то я уже был как
на иголках. Можете ли вы пообещать мне, что они больше не вернутся?
- Да, Сир, - ответил Аманзей.
- Чудесно! - возликовал Султан. - В доказательство, что я умею ценить
оказанные мне услуги, назначаю вас Эмиром15. Кстати, вы неплохо
вышиваете, да и старательно; надеюсь, вы и со сказкой не подведете, так что... Я
доволен, и кроме того, честная служба требует поощрения.
Новый Эмир, воздав должное доброте Султана, продолжил так:
- Фатима держалась очень приветливо, но мне показалось, что визит
этой троицы произвел на нее более-менее такое же впечатление, как и на
Ваше Величество, и что, будь на то ее воля, она провела бы день иначе.
Часть первая
165
Оставшись в одиночестве, Фатима погрузилась в размышления,
но в ней не чувствовалось печали. Смягчившийся взгляд ее рассеянно
скользил по кабинету; казалось, ей не хватало чего-то, и она сомневалась,
получит ли однажды то, о чем мечтала. Наконец она кликнула прислугу.
На ее зов явился молодой раб, прелесть которого состояла не в
красоте, а в юношеской свежести. Фатима пристально смотрела на него, и в
ее взгляде читались любовь и желание. Однако она, казалось,
пребывала в нерешительности, если не в замешательстве.
- Затвори дверь, Дахис! - сказала она наконец. - Подойди сюда, мы
одни, и ты можешь, ничего не опасаясь, вспомнить, что я люблю тебя, и
доказать, что и ты испытываешь ко мне нежные чувства.
Услышав эти слова, Дахис утратил почтительный вид,
приличествующий рабу, и принял вид человека, которого осчастливили. На мой
взгляд, в нем не было ни деликатности, ни нежности; порывистый и
страстный, он сгорал от желания, но не владел искусством утолять его
глотками; не обученный обхождению, он не понимал многого и, не
размениваясь на детали, был занят всем сразу. Он не был изощренным
любовником, но Фатима, не искавшая развлечений, получала от него нечто более
важное. Дахис превозносил ее в грубоватой манере, но неотесанность
его похвал скорее нравилась Фатиме, которая бывала довольна
дифирамбами, только когда получала веские доказательства своей
неотразимости.
В обществе Дахиса Фатима вознаграждала себя за жеманство, к
которому она принуждала себя в присутствии мужа. Позволив себе
отклониться от суровых законов приличия, она ожила, и глаза ее горели.
Она щедро одаривала Дахиса самыми нежными именами и самыми
пылкими ласками. Не пытаясь скрывать свои ощущения, Фатима вся была
во власти восторга. Когда пыл понемногу утих, она привлекла внимание
Дахиса к прелестям, столь доступным для него, и даже заставила его
потребовать от нее новых доказательств благорасположения, о чем он сам
даже и не помышлял.
Но мне показалось, однако, что Дахис не оценил этих милостей.
Он глупо таращил глаза на прелести покладистой Фатимы, и если они и
производили на него впечатление, то вряд ли он был способен осознать
это. Его грубая душа ничего не испытывала, даже удовольствия. Тем не
менее Фатима была довольна. Молчание Дахиса и его глупость ничуть
не задевали ее самолюбия, и она имела достаточно доказательств того,
что он не оставался равнодушным к ее чарам, чтобы предпочесть
его бесстрастность самым замысловатым и пылким комплиментам
петиметров16.
То, как Фатима отвечала на страсть Дахиса, ясно показало, что ее
натура была не только нецеломудренна, но и неделикатна и не требовала
166
Софа
ни живого восторга, ни тех милых пустяков, которые тонкость души и
изысканность манер ставят выше наслаждения, или, выражаясь точнее,
которые и составляют истинное наслаждение.
Наконец Дахис, давно уже одолеваемый зевотой, удалился. Он
принадлежал к числу несчастных, которые никогда не думают и поэтому никогда
не имеют, что сказать, и которых лучше видеть за работой, чем в качестве
собеседника.
То, как проводила время Фатима, позволило мне составить о ней
некоторое представление, и, должен признаться, я предположил, что после
ухода Дахиса ей уже не о чем будет размышлять в уединении и она не
задержится в кабинете. Но я ошибся: в том, что касалось мыслительной работы, она
была неутомима. Но едва лишь она погрузилась в мысли, пищу для которых
ей подбросил Дахис, как у нее появилась новая возможность пополнить свои
впечатления.
В кабинет вошел серьезный молодой брахман, с лицом чопорным, но
не лишенным свежести и живости. Хотя одеяние брахмана, которое
было на нем, вряд ли способствовало куртуазному поведению, легко было
заметить, что молодой человек был скроен по типу и подобию
прописного ханжи, если не хуже; не случайно это был самый модный брахман
в Агре, самый посещаемый и слывший непревзойденным утешителем.
Он так красноречив! - говорили о нем. С какой деликатностью он
открывает душам путь к добродетели! Удерживает от заблуждений! Так
говорили о нем в свете. Скоро мы увидим, чем на самом деле он заслужил все
эти похвалы и было ли то, за что его вслух превозносили, его настоящим
отличием.
Удачливый брахман приблизился к Фатиме, храня на лице постную
крахмально-слащавую гримасу, лишь очень отдаленно напоминавшую
светскую улыбку. Он вовсе не имел намерения принять серьезный
вид, просто он дурно подражал манерам тех, кого считал образцом, и
сквозь маску, которую он натянул, отчетливо проступала физиономия
брахмана.
- Королева сердца, - проблеял он, - сегодня вы превосходите красотой
тех присноблаженных, кто призван служить Брахме! Вы поселяете в моей
душе наслаждение поистине небесное! о! как бы мне хотелось, чтобы и вы
разделили его со мной!
Фатима томно отвечала ему в том же тоне. Брахман продолжил в
прежнем духе, и между ними завязалась нежнейшая беседа, во время которой,
впрочем, любовь изъяснялась на чужом для нее языке, явно плохо
приспособленном для этой материи. Если бы не их поведение, вряд ли я смог бы
понять смысл звучавших речей.
Вскоре Фатима, от природы не особенно склонная к красноречию и к
тому же, что бы она ни говорила, мало ценившая ораторский талант брахма-
Часть первая
167
на, заскучала. Брахман сразу же оставил предмет разговора, занимавший
его так же мало, как и Фатиму, и пресная сладкая беседа окончилась тем же,
чем и беседа с Дахисом.
Надо отметить, однако, что Фатима, проделывая то же самое, вела себя
куда более осторожно. Ей хотелось казаться деликатной и дать понять
брахману, что только любовь заставила ее уступить.
Брахман, характером и внешностью сильно смахивавший на Дахиса, ни
в чем ему не уступал и вполне заслужил комплименты, которые расточала
ему любезная Фатима. Исполнив то, чего требовало от них нежное
влечение, они принялись дружно насмехаться над добродетельностью, рассуждать
о том, как приятно обманывать других, и делиться опытом ханжества17.
Наконец достойная парочка рассталась, и Фатима отправилась изводить мужа
и щеголять умерщвлением плоти.
За все то время, что я провел в ее доме, мне ни разу не довелось
наблюдать ее за занятиями, которые отличались бы от тех, что я уже описал
вашему августейшему Величеству.
Какой осторожной ни была Фатима, иногда и ей случалось забываться.
Однажды, когда она предавалась восторгам любви в обществе своего
брахмана, случай привел ее мужа к дверям кабинета, откуда, к его удивлению, до
него донеслись вздохи и странные слова. Поведение, которое было
свойственно Фатиме на людях, не позволяло заподозрить ее в склонности к
предосудительному провождению времени, поэтому я не сомневаюсь, что в
первую минуту муж не догадался, кто источник вздохов и восклицаний,
оскорбивших его слух.
Узнал ли муж голос жены, или им двигало любопытство и желание
выяснить, что происходит, но он вошел в кабинет.
К несчастью для Фатимы, дверь легко поддалась, и он внезапно предстал
перед любовниками.
Зрелище, открывшееся перед ним, настолько поразило его, что он
замер, словно не веря своим глазам, и в течение нескольких минут не знал, на
что решиться, и не давал выхода своей ярости.
- Какое вероломство! - вскричал он наконец. - Получите же то, что вы
заслужили за вашу порочность и ханжество!
С этими словами он, не желая слушать ни Фатиму, ни брахмана,
бросившихся к его ногам, начал бить их и бил до тех пор, пока они не испустили
ДУХ.
Как ни жестока была эта сцена, она оставила меня равнодушным.
Эти двое заслужили смерть и не заслужили того, чтобы их оплакивали;
я был рад, что эта ужасная история, получившая большую огласку в Агре,
открыла глаза жителям города на людей, которых долго считали ходячей
добродетелью.
168
Софа
Глава четвертая,
В КОТОРОЙ ЧИТАТЕЛЬ УЗНАЕТ ТО,
ЧТО, ВОЗМОЖНО, ОН НЕ ПРЕДПОЛАГАЛ УЗНАТЬ
После смерти Фатимы моя душа перелетела в дом по соседству,
немногим отличавшийся от дома, который я покинул. Однако здесь царили другие
нравы18.
И причиной тому был вовсе не возраст жившей там особы, хотя
известно, что с годами женщины, обладающие хоть каплей здравомыслия,
начинают если и не осуждать сурово кокетство, то относиться к нему как к чему-
то нелепому. Моя новая хозяйка была молода и красива, и о ней нельзя
было сказать, что она не создана для любви и потому лишь добродетельна. Она
держалась просто и скромно и, делая добрые дела, всячески старалась,
чтобы об этом никто не прознал. В ее сердце царила гармония, и нельзя было
не поверить, что она родилась такой, какой казалась. Она жила разумно, не
зная ни принуждения, ни тщеславия, и следовала долгу, не видя в том
жертвенности или особой заслуги. Я не помню, чтобы она грустила или ворчала.
В своей добродетельности она была мягкой и спокойной и не пользовалась
безупречностью поведения, чтобы присвоить себе право изводить или
презирать других. В том, что касалось других, она проявляла большую
сдержанность, чем те женщины, которые, будучи сами не без греха, во всяком
находят недостатки. У нее был от природы веселый нрав, но она не старалась
избавиться от жизнерадостности. Наверное, она не считала, как многие
другие, что уважения заслуживают лишь те, кто скучен. Она никогда не
злословила, и злословие не забавляло ее. Искренне полагая, что ей свойственны
слабости ровно в той же степени, что и другим, она была великодушна к тем,
кто не умел скрывать свои недостатки. Она считала порочным и
преступным лишь то, что и на самом деле было таковым. Она не запрещала себе то,
что дозволено, чтобы не позволить себе, как это делала Фатима, то, что
запрещено. В ее доме отсутствовала роскошь, но он содержался на
порядочную ногу. Все благородные жители Агры почитали за честь бывать в нем,
все искали знакомства хозяйки, отличавшейся столь редкостными
качествами, все уважали ее, и даже я, несмотря на врожденную испорченность, был
вынужден признать, что общественное мнение не ошибается.
Поначалу, попав в дом к новой хозяйке, я настолько находился под
впечатлением от лицемерия Фатимы, что, не сумев сразу отличить
добродетельную женщину от ханжи, не сомневался, что снова столкнулся с
притворством. При виде раба или брахмана я ждал, что вот-вот стану
непосредственным участником беседы, и всякий раз удивлялся, когда меня обходили
вниманием.
Часть первая
169
Наконец праздность, на которую я был обречен в этом доме,
прискучила мне, и я, поняв, что только напрасно трачу время, ожидая новых
впечатлений, покинул софу, довольный тем, что убедился в существовании
порядочных женщин, но не испытывая желания снова повстречать одну из них.
Моя душа, желая разнообразить впечатления, которые ей могло
предоставить ее несчастное положение, покинув свое временное пристанище, не
захотела переселиться в очередной богатый дом и попала в такую
крохотную темную лачугу, что поначалу я не поверил, что в ней будет, где
приютиться. Я оказался в унылой комнатушке, обставленной более чем
скромно, однако, к моему ликованию, в ней обнаружилась софа, хотя замурзанная
и расшатанная; по всему было очевидно, что ее принесли в жертву, чтобы
приобрести прочие предметы мебели. Это было первое, о чем я подумал,
еще не зная, к кому попал, но и впоследствии, познакомившись с хозяйкой,
не изменил своего мнения.
Как выяснилось, в этой комнатке ютилась девица довольно приятной
наружности, принадлежавшая, в силу своего происхождения и характера, к так
называемому "плохому" обществу; тем не менее этим стенам доводилось
видеть людей, составляющих то, что принято называть "хорошим обществом".
Это была молоденькая танцовщица, с недавних пор танцевавшая при дворе19
и не успевшая еще составить себе ни состояния, ни имени, хотя и сумевшая
подружиться почти со всеми знатными персонами в Агре, которые осыпали
ее милостями и наперебой обещали свою протекцию. Но, несмотря на все их
заверения, я сомневаюсь, что фортуна повернулась бы к ней лицом, если бы
не расположение Казначея.
Ни род, ни нрав Абдалатифа20 - так звали этого Казначея - не делали
его завидным трофеем. Это была неотесанная и грубая натура, к тому же, с
тех пор как он достиг высокого положения, ко всем его недостаткам
добавился еще один - заносчивость. Возможно, он даже хотел быть учтивым, но,
уверовав, что предупредительность со стороны такого человека, как он,
является особой честью, усвоил холодный и сухой тон, присущий людям
определенного круга и, быть может, свидетельствующий об их благородстве,
однако звучавший глупо и бесцеремонно, когда к нему прибегал Абдалатиф.
Он родился в семье совершенно безвестной, которую поспешил забыть;
более того, прилагал все старания, чтобы присвоить себе знатное
происхождение. Войдя в роль знатной особы, он позволял себе всевозможные капризы.
Он держался заносчиво и надменно, и его расположение к кому-либо
выглядело не менее оскорбительно, чем высокомерие. Оно выказывалось им с
пышностью бестактной и плебейской, которая делала его еще более
смешным в глазах людей. Он был неумен и малообразован, но не нашлось бы ни
одной области, в которой не считал бы себя знатоком и о которой не имел
бы своего суждения. Несмотря на все это, его обхаживали, но не потому, что
он был опасен, а потому, что однажды он мог оказаться полезен. Вельможи
170
Софа
Агры охотно оказывали услуги Абдалатифу и усердно льстили ему, а их
жены легко прощали его бесцеремонность, переходившую всякие границы, и
не осмеливались ни в чем отказать ему. Все в Агре наперебой искали его
общества, но порой он находил особое удовольствие в том, чтобы,
почувствовав утомление от предупредительности благородных дам, искать
развлечений, быть может, не столь изысканных, но не менее живительных и (как он
имел бестактность утверждать) куда более рискованных21.
Однажды вечером после выступления Амины перед Августейшей
особой этот новый покровитель проводил ее домой. С рассеянным
презрением оглядев грустное и мрачное жилище, он сказал, едва удостоив Амину
взглядом:
- Вам не следует оставаться в этом скверном доме. Не только в ваших,
но и в моих интересах, чтобы вы были устроены с большими удобствами.
Что будут говорить обо мне, если окажется, что особа, в которой я
принимаю участие, не вызывает уважения!
Сказав это, он опустился на меня и, грубо притянув Амину к себе,
позволил себе разного рода вольности, но, поскольку им двигала скорее
распущенность, чем страсть, он не был слишком настойчив22.
Амина, обычно надменная и капризная с поклонниками, посещавшими
ее, оставив свойственные ей манеры, держалась с Абдалатифом крайне
почтительно и осмеливалась поднять на него глаза лишь тогда, когда он давал
ей понять, что хотел бы этого.
- Вы мне нравитесь, - заявил он наконец. - Но будем осмотрительны.
Никаких молодых людей: благопристойность, безупречное поведение - без
этого мы не сможем оставаться добрыми друзьями. Прощайте,
прелестница, - добавил он, поднимаясь, - завтра я дам о себе знать. Я не привык к
такой обстановке, поэтому сегодня не смогу остаться с вами ужинать. В
ближайшем будущем я позабочусь обо всем. До встречи.
Сказав это, он вышел. Амина почтительно проводила его до дверей и,
вернувшись, бросилась на меня в приступе бурной радости от того, что
судьба ее переменилась. Вместе с матушкой они принялись гадать, сколько
бриллиантов и прочих драгоценностей она получит завтра от щедрого Аб-
далатифа.
Матушка Амины, несмотря на то что была честной женщиной,
подначивала дочь и умоляла ее проявить благоразумие и не упустить счастья,
которое милостивый Брахма посылал ей. Она сравнивала их теперешнее
положение с тем, что ждало их в будущем, и сыпала сентенциями о счастливом
божьем промысле, который отличает тех, кто заслуживает этого.
Она перечислила всех знатных господ, водивших дружбу с ее дочерью.
- Как мало помогла вам их дружба, дитя мое, - сетовала она. - Но,
конечно, в том есть и ваша вина. Я много раз говорила вам, вы слишком
добры. Вы отдаетесь из беспечности, а это большой порок, или же, что немно-
Часть первая
171
гим лучше и уж точно нелепо, из прихоти. Я не говорю, что следует вообще
отказаться от того, что приносит удовольствие. Не дай Бог! но нельзя в
угоду удовольствиям пренебрегать собственной судьбой. Такой девушке, как
вы, нужно особенно остерегаться, чтобы не прослыть натурой
увлекающейся, а вы и так дали довольно поводов для подобных толков. Ну да ладно, вы
еще молоды, и надеюсь, они вам не причинят большого вреда. Ничто так не
гибельно для особы вашего положения, как глупость, которую некоторые
называют бескорыстным увлечением. Когда становится известно, что
молодая женщина имеет дурную привычку отдаваться безвозмездно, находится
много охотников, которые надеются заполучить ее за ту же цену или, по
крайней мере, задешево. Взять, например, Роксану23, Аталис24 или Эльзи-
ру25: им не в чем себя упрекнуть, и Брахма вознаградил их поведение. Они не
так хороши собой, как вы, но они богаты! Вам следует брать с них пример и
стать разумнее.
- Ладно, ладно, маменька, - ответила Амина, которой наскучило
слушать наставления. - Я постараюсь. Но неужели же вы советуете мне ни с
кем не встречаться, кроме этого чудовища? Уверяю вас, это невозможно.
- Конечно же, нет, - воскликнула матушка, - ведь сердцу не прикажешь.
Я просто призываю вас отказаться от господ придворных или же, по
меньшей мере, встречаться с ними инкогнито и лишь при условии, что они
изменят свое отношение к вам. Если хотите, я сама с ними переговорю. У вас
есть Массуд26, которого вы любите, и этот выбор делает вам честь. Никто
его не знает, ради вас он готов на все, его легко выдать за вашего
родственника, - многие и так считают, что вы в родстве. Тот господин, желающий
вам добра, попадется на эту удочку, как и другие, и если вы будете
осторожны, он ни о чем не догадается и...
- Как вы полагаете, маменька, - прервала ее Амина, - он подарит мне
брильянты? Ах! Конечно же, подарит. Я не тщеславна, - добавила она, -
просто когда занимаешь определенное положение в обществе, неприлично
отставать от других.
И она принялась перечислять женщин, которые лопнут от зависти,
узнав, сколько у нее бриллиантов и роскошных платьев: предвкушение их
отчаяния радовало ее едва ли не больше, чем сама перемена в судьбе.
Ранним утром на следующий день за ней была прислана карета, и моя
душа, сгоравшая от любопытства, сумеет ли Амина воспользоваться советами
матери, последовала за ней.
Карета привезла Амину в хорошенький, полностью обставленный
домик, принадлежавший Абдалатифу и расположенный немного на отшибе.
Влетев в дом, моя душа отыскала роскошную софу, стоявшую в пышно
убранном кабинете. Ни разу еще мне не доводилось наблюдать столь глупого
восторга, как тот, который выказывала Амина при виде каждого нового
предмета. Покончив с осмотром дома, она села перед трюмо. Драгоценные
172
Софа
вазы, стоявшие на нем, ларец, полный бриллиантов, разодетые рабы, с
почтительным видом бросавшиеся исполнять ее поручения, торговцы и
мастеровые, ждавшие приказаний, - все пьянило ее и кружило голову27.
Но понемногу она опомнилась и вспомнила о роли, которую должна
была играть перед столь многочисленными зрителями. С рабами она приняла
спесивый тон, с торговцами и рабочими - бесцеремонный; выбрав то, что ей
понравилось, она приказала, чтобы ее заказ был доставлен не позже
следующего дня, после чего вернулась к трюмо и провела за ним много времени.
В ожидании заказанной роскоши она облачилась в великолепное домашнее
платье, сшитое для принцессы Агры, и нашла его чуть простоватым.
Большую часть дня она рассматривала убранство дома и ждала Абдала-
тифа. Он появился ближе к вечеру.
- Ну, прелестница, - сказал он, - нравится ли вам здесь?
Амина бросилась к его ногам и принялась благодарить его за все то, что
он для нее сделал, в выражениях самых вульгарных.
Меня неприятно поразили ее речи, поскольку до тех пор я вращался в
приличном обществе. Мне, конечно, доводилось слышать глупости, но
обычно, благодаря изысканности речей и благородству интонаций, они
переставали казаться таковыми.
Глава пятая у
КОТОРУЮ ЛУЧШЕ ПРОПУСТИТЬ, НЕ ЧИТАЯ
Прежде чем продолжить беседу, Абдалатиф извлек из кармана
продолговатый кошелек, туго набитый золотом, и небрежно бросил его на стол.
- Берите, - сказал он, - это вам пригодится. Я буду оплачивать все ваши
расходы, а также расходы на содержание дома. Я прислал вам повара, он
лучший в Агре, если не считать моего. Я собираюсь часто ужинать здесь, и
не всегда - наедине с вами. Иногда я буду приводить гостей - вельмож из
числа моих друзей, возможно также, время от времени здесь будут бывать
блестящие умы, из тех, кому я одалживаю деньги. К нам могут
присоединяться и ваши подруги, разумеется, самые хорошенькие: я люблю, когда
ужин проходит весело.
Сказав это, он провел Амину в кабинет, где я находился, а ее матушка,
эта достойная женщина, до тех пор внимательно слушавшая его слова,
вышла и притворила за собой дверь.
- Продолжение беседы, - прервал свое повествование Аманзей, - мне
трудно передать во всех деталях Вашему Величеству. Амина была нежной и
Часть первая
173
восторженно-оживленной. Абдалатиф не поленился заранее растолковать
ей, что ему не нравятся молчаливые женщины, и если Ваше Величество
примет во внимание ее страстное желание понравиться ему, а также уровень
ее развития и присущие ей привычки, то ему не трудно будет согласиться,
что состоявшийся между ними разговор вряд ли стоит пересказывать, тем
более что он не содержал ничего лестного для Амины.
- Отчего же? - удивился Султан. - Быть может, он мне понравится.
По-моему, стоит попробовать.
- Что до меня, - произнесла Султанша, поднимаясь, - то я уверена, что
он мне не понравится, и поэтому полагаю, что мне лучше уйти.
- Взгляните-ка на нее! - воскликнул Султан. - Вот скромница! Вы и
вправду думаете, что вам удастся меня провести? Не обольщайтесь! Я знаю
женщин и к тому же припоминаю, как один человек, знавший их так же
хорошо, как я, или почти так же, говорил мне, что ничто не доставляет им
такого удовольствия, как то, что запрещено, и что они обожают слушать
речи, не предназначенные для их ушей; следовательно, даже если вы уйдете,
вы сделаете это вопреки вашему желанию. Впрочем, неважно. Аманзей
перескажет мне этот разговор перед сном, раз уж вы не хотите, чтобы он
пересказал его сейчас. Так будет даже лучше, потому что я узнаю больше
подробностей.
Аманзей был далек от того, чтобы перечить Султану, и поспешил
согласиться с ним, а затем продолжил, стараясь быть осмотрительнее:
- Беседа между Аминой и Абдалатифом была скорее долгой, чем
увлекательной. Как только она закончилась, подали ужин. Я не был в гостиной
и поэтому не могу поведать Вашему Величеству, о чем шла речь за столом.
Амина и Абдалатиф отсутствовали довольно долго. Хотя они ужинали
наедине, мне не показалось, что их трапеза отличалась умеренностью. После
нескольких довольно неудачных речей Абдалатиф заснул на груди своей
возлюбленной.
Как ни была Амина расположена к Абдалатифу, ей не понравилась
полная непринужденность его поведения. Ее самолюбие страдало от того, что
он, казалось, не был особенно увлечен ею. Похвалы, с которыми он
отозвался о ее манере поддерживать беседу, исполнили ее гордостью и дали ей
повод думать, что она заслуживает того, чтобы постараться продолжить
начатый до ужина разговор. Хотя Абдалатиф не оставил ее без знаков
внимания, она была смущена их деланностью и забылась до того, что собиралась
высказать свою обиду, как вдруг он, с видимым трудом открыв глаза,
спросил, который час. Затем поднялся, не дожидаясь ответа.
- Прощайте, - сказал он, грубо приласкав ее. - Завтра я дам знать,
смогу ли я отужинать с вами.
С этими словами он направился к дверям. Амине очень хотелось, чтобы
он избавил ее от своего общества, однако она сочла нужным попытаться
174
Софа
удержать его. В своем притворстве она зашла так далеко, что начала
проливать горючие слезы, умоляя его остаться, но Абдалатиф был непреклонен
и, высвободившись из ее объятий, сказал, что, конечно же, ждет от нее
любви, но не потерпит, чтобы она стесняла его в действиях.
Как только он вышел, Амина вполголоса наградила его всеми
эпитетами, которые он заслуживал, а затем кликнула прислугу. Служанки стали
помогать ей раздеваться, и в этот момент в комнату вошла матушка и
шепнула ей что-то на ухо. Услышанная новость заставила Амину поторопить
рабынь; наконец она приказала им удалиться. Но она недолго оставалась
одна: через короткое время матушка снова появилась в комнате. Она привела
с собой негра, плохо сложенного и уродливого, что не помешало Амине,
едва завидев его, броситься ему на шею.
- Аманзей, - сказал Султан, - мне кажется, сказка не очень пострадает,
если вы выбросите из нее вашего негра.
- А чем так плох этот негр, Сир? - осведомился Аманзей.
- Придется вам объяснить, - ответил Султан, - раз уж вы не в состоянии
понять такую простую вещь. Первая жена моего дедушки Шах-Риара
переспала со всеми неграми, которые только были во дворце28. Слава Богу, об
этом стало известно. Последствием этой истории стало то, что мой
вышеупомянутый дедушка казнил не только ее, но и всех последующих жен, и
только Шахерезада отучила его от этой скверной привычки. Поэтому-то
я нахожу бестактным, когда после всего того, что произошло в моей семье,
мне навязывают негров, как если бы эта тема меня совсем не затрагивала.
Я прощаю вам появление этого негра, раз уж так вышло, но мне не хотелось
бы, чтобы он и дальше маячил перед носом.
Аманзей, попросив прощения у Султана за дерзость, продолжил рассказ:
- Ах, Массуд, - сказала Амина своему возлюбленному, - как я страдала!
Мы не виделись целых два дня! Как я ненавижу это надоедливое чудовище!
Как мы несчастны! Приносить себя в жертву этому толстосуму!
Массуд оказался немногословным. В ответ на ее причитания он сказал
лишь, что, несмотря на самые глубокие чувства, которые он испытывает к
Амине, его не сердит, что Абдалатиф проявляет к ней внимание. Затем он
дал Амине несколько наставлений, касавшихся того, как скорее разорить
Абдалатифа, после чего позволил ей обрушить на него бурю ласк, и между
ними завязалась оживленная беседа определенного сорта, причем тот факт,
что они обманывают нового покровителя, особенно раззадоривал их.
Амина щедро расплатилась с Массудом за проявленные им чувства.
Она провела с ним большую часть ночи и отослала его лишь на
рассвете; затем матушка вывела Массуда из дома тем же путем, каким привела
вечером: через дверь, соединявшую ее комнаты с половиной дочери.
Все следующее утро Амина провела за примеркой платьев, заказанных
ею накануне. Она также распорядилась доставить ей новые наряды. За эти-
Часть первая
175
ми занятиями время пролетело незаметно, и наступил час, когда она должна
была отправиться танцевать во Дворец. Назад она вернулась в
сопровождении Абдалатифа, стайки хорошеньких подруг, нескольких вельмож и троих
наиболее известных в Агре остроумцев. Они наперебой расхваливали
Абдалатифа, его богатство, тонкость вкуса, благородство, ум и глубину
познаний. Меня поразило, что люди, занимавшие, в силу происхождения или
благодаря своим талантам, не последнее место в обществе,
низкопоклонствовали и льстили, явно не испытывая при этом ни малейшего стыда.
Амина также удостоилась их похвал, но, по правде говоря, в их тоне
явно чувствовалось, что лишь ее близость к Абдалатифу принуждает их к
комплиментам и что, не будь они стольким обязаны ему, они обращались бы с
ней с той же мерой бесцеремонности, с какой теперь чинились перед ней.
Когда с комплиментами было покончено, из гостей составились парочки, и
все разбрелись по гостиной. У кого-то разговор протекал оживленно, у
кого-то вяло - это зависело от собеседников; но вообще мне показалось, что
никто не проявлял особой щепетильности в обращении с дамами,
приглашенными на ужин, и что те ничуть этим не были задеты.
Наконец подали ужин. Поскольку в комнате, где был накрыт стол, моей
душе негде было поместиться, я не мог слышать, о чем шла речь за ужином.
Но, судя по тому, что предшествовало трапезе и что последовало за ней, не
стоило жалеть о том, что их разговоры не доносились до меня.
Абдалатиф, захмелевший от вина и похвал, которые сыпались одна за
другой и становились все более изощренными, - чему, надо сказать,
немало способствовал талант повара, - вскоре задремал. Некий молодой
человек, явно желавший заполучить Амину и поэтому заинтересованный в
том, чтобы Абдалатиф оставил ее, осмелился разбудить хозяина. Он
принялся убеждать Абдалатифа, что человек, столь обремененный
государственными делами, как он, и столь незаменимый, хотя и может позволить
себе иногда развлечься, не должен полностью забываться. Он был так
красноречив, доказывая, что ежеминутная опека Абдалатифа необходима
как народу, так и самому принцу, что вскоре убедил гостеприимного
хозяина в том, что, предаваясь даже непродолжительному сну, он ставит
государство под удар.
Абдалатиф ушел в сопровождении гостей. По нескольким взглядам,
которыми обменялись Амина и молодой человек, сумевший отчитать
Абдалатифа, я понял, что вскоре мне представится возможность снова увидеть его.
Амина с самым беззаботным видом уселась перед трюмо и, освободившись
от своих пышных доспехов, в большей степени служивших помехой, чем
тешивших самолюбие, приказала оставить ее одну.
Добрая матушка Амины, тронутая, по всей видимости, излияниями
юноши (а мне трудно поверить, что столь чистой душой может двигать
корысть), тайком провела его на половину дочери, но оставила его там только
176
Софа
после того, как он поклялся не смущать целомудрия ее честной и
благоразумной дочери нескромными предложениями.
- Что ж! - сказала Амина, когда они остались наедине. - Должно быть,
я очень люблю вас, раз поступаю так неразумно. Ведь тем самым я
обманываю честного человека, которого, по правде говоря, ни капельки не люблю,
но которому все же обязана хранить верность. Конечно, я понимаю, что
поступаю дурно, но любовь - это страшная вещь, и она толкает меня
совершить поступок, который совсем не в моем характере.
- Моя благодарность не знает границ, - воскликнул юноша и хотел
было поцеловать ее.
- О! - произнесла она, отталкивая его, - вот уже этого я никак не могу
вам разрешить: доверие, привязанность, удовольствие от того, что вижу
вас, - на это вы можете рассчитывать, но согласиться на большее мне не
позволит чувство долга.
- Но, дитя мое, - возразил он, - в своем ли ты уме? Что за странный
слог? Ты, конечно, можешь предаваться сантиментам, но какой в них прок?
Разве я пришел сюда, чтобы выслушивать подобные речи?
- Что ж, если у вас были другие ожидания, - ответила она, - то вы
ошиблись. Хотя я и не люблю господина Абдалатифа, я поклялась хранить ему
верность, и ничто не может заставить меня нарушить клятву.
- Фу ты, какая недотрога! - засмеялся юноша. - Ладно, раз ты дала
такую клятву, то ничего не поделаешь, надо отнестись к ней с уважением.
Такое не часто встречается, поэтому я позволю тебе сохранить ее в целости и
сохранности. Гм! Скажи, однако, тебе, должно быть, частенько приходилось
клясться в верности?
- Что за насмешки! - проговорила она. - Лично мне не в чем себя
упрекнуть.
- Да? Это меня не удивляет, - откликнулся он. - Особы, ведущие жизнь
довольно скрытную, подобно вам, обожают колоть друг другу глаза своей
безупречностью, и всегда у них отыскивается масса тому подтверждений, не
то что у женщин, которые и вправду добродетельны. Но вернемся к твоей
клятве. Тебе следовало бы сразу посвятить меня в эту историю, тогда я не
стал бы утруждать себя этим ночным визитом.
- Тут вы правы, - согласилась она, смутившись. - Но, признаюсь, ваше
блестящее предложение ослепило меня.
- Гм! - он покачал головой. - И что, по зрелом размышлении ты нашла
его уже не столь ослепительным? Вот то, - продолжил он, вытаскивая
кошелек, - что я тебе обещал, я человек слова; признайся, это верное
средство, чтобы излечить прихворнувшую совесть и забыть на время о клятве.
Разве не так?
- Экий вы повеса! - сказала она, схватив кошелек. - Как мало вы меня
знаете! Уверяю вас, если бы не чувства, которые я испытываю к вам...
Часть первая
111
- Покончим с этим! - прервал он ее. - И, чтобы ты поняла, с каким
благородным человеком имеешь дело, я освобождаю тебя от
необходимости благодарить меня, равно как и от обязанности испытывать ко мне
те волшебные чувства, о которых ты говорила, тем более что с точки
зрения сделки, заключенной между нами, они не принесли мне ни
малейшей выгоды. К тому же я плачу тебе вперед, что, как должно быть тебе
известно, не принято.
- А по-моему, очень даже принято, - ответила Амина. - Ради вас я
поступаю вероломно...
- Если бы я платил тебе ту цену, которую стоит твое вероломство, -
прервал он ее, - я заполучил бы тебя за медный грош. Но, повторяю, хватит об
этом. Будь у тебя даже ума палата, я бы не стал продолжать этот разговор.
Болтовня утомляет меня.
Не обращая внимания на нетерпение, которое молодой человек даже не
пытался скрыть, Амина - сама осмотрительность - старательно
пересчитала деньги. Она делает это не потому, - пояснила Амина, - что не доверяет
ему, а потому, что он мог случайно ошибиться. Убедившись, что
располагает нужной суммой, она наконец уступила его желаниям.
Незадолго до рассвета явилась матушка Амины и сказала юноше, что
ему пора удалиться. Он не разделял этого мнения. Тогда Амина стала
молить его не губить ее репутацию, но и эти мольбы не произвели на него
особого впечатления. Он, несомненно, остался бы, если бы Амина не
пообещала ему все ночи, которые она будет проводить без Абдалатифа.
Амина время от времени держала слово, данное ею молодому человеку;
кроме того, помимо Абдалатифа и Массуда* она, признав небесполезность
советов матушки, с одинаковым безразличием принимала всех, кто находил
ее привлекательной и желанной и был достаточно богат, чтобы оплатить ее
усердие. Она никого не отталкивала: бонзы29, брамины30, имамы31, военные,
кади32 - мужчины разных наций, разного возраста и темперамента
одинаково пользовались ее расположением. Правда, у нее были свои принципы и
своя щепетильность; чужеземцам, и особенно неверным, ее услуги
обходились дороже, чем соотечественникам и единоверцам. Только деньги могли
пересилить ее отвращение и усыпить угрызения совести, просыпавшиеся
после того, как дело было сделано. Она даже установила свои правила,
касавшиеся тех, чьи верования вызывали у нее особый ужас. Помню, что
приверженцу зороастризма33 ее ласки стоили цену, превышающую ее доходы от
визитов десяти мусульман.
Был ли Абдалатиф слишком высокого мнения о себе, чтобы
подозревать Амину в неверности, или же настолько глуп, что полагался на данную
ею клятву принадлежать только ему, но долгое время он верил, что его
чести ничто не угрожает, и если бы не одно неожиданное событие, впрочем
довольно поучительное, он продолжал бы пребывать в своем заблуждении.
178
Софа
- Знаю, знаю, - сказал Султан, - кто-то рассказал ему о ее вероломстве.
- Вовсе нет, Сир, - ответил Аманзей.
- Ну да, все было не так, - не унимался Султан, - нетрудно догадаться:
он застукал ее на месте преступления.
- Увы, нет, Сир, - возразил Аманзей, - ему бы повезло, сумей он так
дешево отделаться.
- Ну, тогда не знаю, - сказал Шах-Бахам. - И вообще, я не собираюсь
ломать голову над тем, что меня не касается и что меня ничуть не занимает.
Глава шестая,
СТОЛЬ ЖЕ ЗАБАВНАЯ, СКОЛЬ И УДИВИТЕЛЬНАЯ
Наступила та роковая минута, которая лишила Амину ее положения,
бриллиантов и богатств. Но она могла, по крайней мере, вспоминать
прошлое как чудесный сон, тогда как Абдалатифу было недоступно и это
утешение. Трудно поверить, что ему вообще свойственно было предаваться
воспоминаниям, однако если бы ему довелось снова погрузиться в этот сон,
вряд ли он согласился бы считать его приятным.
С некоторого времени я стал замечать, что Амина погрустнела. По
ночам двери дома затворялись, а днем к нам наведывался только Абдалатиф.
Амина получала множество писем, и все они расстраивали ее. Я терялся в
догадках, стараясь понять, что происходит, и был настолько глуп, что
вообразил, будто причиной ее подавленного состояния были угрызения совести.
То, что я знал о ней, должно было отвратить меня от подобной мысли,
и, думаю, она посетила меня только потому, что я никак не мог разгадать
причину тревоги моей хозяйки. Но вскоре мне пришлось убедиться, что я
неправильно растолковал ее поведение.
Однажды утром Амина, задумчивая и скучная, сидела за трюмо. Вошел
Абдалатиф. Увидев его, она покраснела. Амина не привыкла принимать его
по утрам, и этот неожиданный визит смутил ее. Поникнув от робости, она
едва осмеливалась поднять глаза на Абдалатифа. Судя по грозно
нахмуренным бровям и взглядам, полным ярости, которые он время от времени
метал в сторону Амины, было очевидно, что его снедал гнев и что причиной
гнева была именно Амина. Что до нее, то она, видимо, понимала, что
привело его в это состояние, потому что не решалась пускаться в расспросы.
Некоторое время он хранил молчание.
- Прекрасно, сударыня! - произнес он наконец, вложив в ироническую
интонацию все свое бешенство. - Прекрасно, сударыня! О! Благодарю по-
Часть первая
179
корно! Какая преданность! Черт побери! Я научу вас скромности! Я сумею
упечь вас в надежное место34, где вам хочешь не хочешь придется
вспомнить, что это такое!
- Что я слышу, сударь? - высокомерно произнесла Амина. - Вы
полагаете, что можете обращаться ко мне с подобными речами? Советую вам
сменить тон.
Дерзость, которую проявила Амина в сложившейся ситуации, настолько
поразила Абдалатифа, что он сбился, но тут же гнев снова вспыхнул в нем,
и он принялся осыпать ее оскорблениями, вложив в них все презрение,
коего она, по его мнению, заслуживала. Амина принялась было оправдываться,
но Абдалатиф, у которого, по всей видимости, были верные свидетельства
того, в чем он ее обвинял, грубо приказал ей замолчать.
Тогда Амина, согласившись, что у Абдалатифа есть основания для
сетований, не преминула изумиться, что он сетует на нее. Более того, она сочла
возможным в свою очередь обвинить его в неверности и даже попенять ему
за дурной вкус, который он проявлял в выборе женщин, заметив, что она
говорит об этом лишь потому, что осмеливается принимать близко к сердцу
все, что его касается.
Такое неслыханное бесстыдство настолько вывело из себя Абдалатифа,
что он собрался было уйти. Амина, видя, что ей не удалось одурачить его и
что ни холодное высокомерие, ни упреки не производят на него должного
впечатления, испугавшись, что его гнев обернется для нее крупными
неприятностями, решила прибегнуть к слезам и покаянию. Но все было напрасно.
Абдалатиф оставался непреклонен. Не знаю, что им двигало, но мне
никогда еще не доводилось видеть человека в такой ярости. В приступе
бешенства он, несомненно, переколотил бы все, что попадалось ему под руку, не
будь это роскошество его собственностью. Только это мудрое соображение
удерживало его от того, чтобы устроить погром, который мог бы, вероятно,
успокоить его, между тем как усилия, которые он прилагал, чтобы не
поддаться соблазну, лишь подстегивали его гнев. Мысль о том, что коварное
вероломство исходило от особы, облагодетельствованной им, была для него
особенно оскорбительна. Этого одного было достаточно, чтобы возбудить в
нем неистовство35.
Истощив запас оскорблений, продиктованных бешенством и задетым
самолюбием, он заявил, что Амина должна вернуть все подарки, которые он ей
дарил. Амина понимала, что Абдалатиф собирается выгнать ее, и утешалась,
бросая украдкой взгляды на бриллианты и прочие драгоценности, которые,
как она полагала, принадлежат ей. Увидев, что неумолимый Абдалатиф
решительно настроен отобрать их, она закричала пронзительно и жалобно. На
крики прибежала ее матушка и, бросившись к ногам Абдалатифа, начала
проклинать некоего недостойного бонзу, ставшего причиной случившегося
несчастья, в надежде, что ее слова успокоят гнев грозного покровителя дочери.
180
Софа
Нисколько не смягчившись от того, что он услышал о бонзе, Абдала-
тиф, напротив, лишь утвердился в намерении наказать Амину самым
строгим образом.
- Увы, - грустно сказала матушка, - мы расплачиваемся за то, что
доверились неверному. Моей дочери прекрасно известно, что я думаю по этому
поводу, - я всегда ей твердила, что нельзя иметь дела с неверными,
поскольку они не приносят ничего, кроме горя.
Пока она причитала, Абдалатиф, вооружившись реестром, начал
проверять, все ли подарки на месте. Покончив с этим делом, он обратился
к Амине:
- Что до денег, которые я вам давал, - важно заявил он, - то можете
оставить их себе. В вашем несчастье, прелестница, вам следует винить только
себя. Быть может, наказание послужит вам уроком: я искренне надеюсь
на это. А теперь, - добавил он, - убирайтесь, я больше не нуждаюсь в вас.
И благодарите Небеса, что я не обошелся с вами более сурово.
С этими словами он кликнул рабов и приказал им выпроводить женщин,
причем страшные проклятия, которые те изрыгали, произвели на него столь
же мало впечатления, что и слезы, которые они проливали минутой ранее.
Мне очень хотелось узнать, как Амина переживет унижение, которому
ее подвергли, и я решился, несмотря на отвращение, которое внушал мне ее
характер, последовать за ней в то убогое мрачное жилище, откуда ее
вытащил Абдалатиф и куда она вернулась, терзаемая стыдом и горем от того,
что не сумела его разорить.
В этой грустной обители я стал свидетелем сожалений и упреков,
сыпавшихся из уст добродетельной матушки. Однако осколки прежнего
богатства составили все-таки немалую сумму, и постепенно женщины утешились.
- Ах, доченька, - сказала однажды матушка, - не преувеличиваем ли мы
случившееся с нами несчастье? Конечно, я признаю, что чудовище, с
которым вы жили, было воплощенной щедростью, но разве нет других мужчин,
которым вы нравитесь? Пусть даже вы не найдете поклонника, столь же
богатого, стоит ли отчаиваться? Нет, доченька, то, чего не возьмешь от
одного, можно получить от многих. Если четверых поклонников будет
недостаточно, чтобы составить достойную замену одному, заведите десятерых, а то
и больше, если это необходимо. Вы можете возразить мне, что это чревато
неприятностями, - да, тут я с вами согласна. Но если не рисковать, если
бояться всего, то можно всю жизнь провести в нищете и убожестве.
Как ни велико было желание Амины последовать советам матушки,
одиночество, в котором она оказалась, не позволило ей немедленно
воспользоваться ими. Из-за ссоры с Абдалатифом в Агре не находилось
охотников иметь с ней дело, так как она прослыла особой ненадежной, поэтому
на протяжении долгого времени я не видел в ее доме никого, кроме Массу-
да, чувства которого оставались неизменными, и нескольких подруг, прихо-
Часть первая
181
дивших, по-моему, не для того, чтобы утешить ее, а для того, чтобы
насладиться чужим несчастьем.
Но время, стирающее все, стерло и дурную славу Амины. Все
согласились с тем, что, предоставленная себе, она располагала достаточным
временем, чтобы обдумать свое поведение и излечиться от страсти к вероломству,
и что поэтому она не могла не измениться к лучшему. Ее вновь окружили
поклонники. В то время в Агру прибыл знатный перс, которому мало что
было известно об историях, случавшихся в этом городе. Амина
приглянулась ему, и он настойчиво стал искать знакомства с ней, подстегиваемый
тем, что некий услужливый человек, из тех, кто любит устраивать чужие
дела и все свое время посвящает этому благородному поприщу, уверил его,
что, снискав расположения Амины, он будет счастлив хотя бы потому, что
станет первым, к кому она проявит слабость.
Всякий другой счел бы все сказанное маловероятным. Но перс нашел
историю необычайной. Раззадоренный беспримерностью поведения Амины,
он при помощи доблестного помощника, открывшего ему глаза на ее
добродетельность, купил за большие деньги ласки, которые ценились в Агре
более чем дешево, хотя нельзя сказать, чтобы ими вовсе гнушались.
Амина во второй раз покинула свою жалкую хижину и поселилась в
одном из самых пышных дворцов Индии. Не знаю, сумела ли она разумно
распорядиться новым богатством: моей душе опостылело изучать ее душу, и
она отправилась на поиски более достойного предмета для наблюдений,
пусть даже столь же негодного, однако не столь примитивного и тем самым
менее отталкивающего и более забавного.
Я перелетел в дом, в котором все дышало богатством и вкусом. Мне
сразу приглянулся этот дом, поскольку я почувствовал, что в нем царит дух
обходительности и веселья, заставляющий даже порок принимать облик
любви и являться на люди в самом соблазнительном виде, приукрашенном
любезностью и утонченностью.
Хозяйка дворца была очаровательна, и моя душа, отметившая, помимо
красоты, нежный свет в ее глазах, сочла, что ей не будет с ней скучно.
Первое время она мало удостаивала софу, в которой я находился, своего
внимания, лишь изредка присаживаясь на нее на несколько минут. Но она любила
и была любима. Настойчивость ее возлюбленного и терзания, в которых
она пребывала, внушали мне надежду, что она не сможет долго хранить
зарок безразличия ко мне.
Когда я попал к ней в дом, ее возлюбленный уже добился разрешения
говорить ей о своей любви, но, хотя ему хватило настойчивости и
обходительности, чтобы уверить ее в своей искренности, он был еще далек от
победы.
Фенима (так звали мою новую госпожу) не желала расстаться со своей
целомудренностью, а Зулим, испытывавший к ней слишком большое уваже-
182
Софа
ние, чтобы проявлять предприимчивость, ждал, пока время и заботливость
сделают свое дело и она ответит на его чувства. Я лучше, чем он, понимал
истинное настроение Фенимы и удивлялся его слепоте. Конечно, Фенима не
говорила ему о том, что любит его, но ее глаза в полной мере выражали
любовь. Разве равнодушие было в ее голосе, когда она говорила с ним? Нет,
голос ее становился мягче, а речи живее, хотя, возможно, это происходило
невольно, и она сама не отдавала себе в том отчета. Чем больше она
принуждала себя к холодности, тем очевиднее становилось, что она небезразлична
к нему. Она была пристрастной, опасаясь всего, и гораздо лучше
обращалась с теми, кого любила меньше. Случалось, что она приказывала ему
замолчать, но тут же позабыв об этом, продолжала разговор, который только
что хотела прекратить. Всякий раз, когда он заставал ее в одиночестве
(а она, не замечая того, то и дело давала ему такую возможность), ее
нежность и привязанность проявлялись независимо от ее воли. Если в разгар
долгой и оживленной беседы Зулим целовал ей руку или бросался к ее
ногам, Фенима пугалась, но не сердилась. Она так ласково пеняла ему за его
нескромность!
- И что же, - прервал рассказ Султан, - он покорно отступал?
- Конечно, нет, Сир, - ответил Аманзей. - Чем больше он влюблялся в
нее...
- Тем глупее, как я вижу, он становился, - закончил за него Султан.
- Любовь особенно робка, - заметил Аманзей, - когда...
- Ну вот еще, робка, - снова прервал его Султан, - что за выдумки?
Разве он не понимал, что испытывает терпение дамы? Клянусь, на месте этой
женщины я бы вытолкал его в шею, слово Султана!
- Не приходится сомневаться, - продолжил Аманзей, - что, окажись на
ее месте какая-нибудь кокетка, Зулиму бы не поздоровилось, но Фенима,
искренне сдерживавшая его порывы, была благодарна ему за эту робость.
Впрочем, чем больше он считался с ее принципами, тем вернее становилась
его победа. Случай, представившийся из-за каприза, не стоит упускать, ибо
он может никогда не повториться, но если им распоряжается любовь, то,
чем меньше его ловишь, тем неизбежней его повторение.
- Но мне доводилось слышать, - заметил Султан, - что женщинам
нравятся догадливые кавалеры.
- Возможно, - ответил Аманзей, - но Фенима думала по-другому и
сильнее всего любила Зулима в те моменты, когда он держался почтительнее,
чем ей того хотелось.
- И часто он впадал в это заблуждение? - поинтересовался Султан.
- Да, Сир, - отвечал Аманзей. - Порой его заблуждение было
настолько нелепым, что трудно было удержаться от смеха. Однажды,
например, он пришел к Фениме. Уже больше часа она, охваченная
нежностью, думала только о нем. Желание все больше овладевало ею, и она,
Часть первая
183
охваченная сладострастием, предавалась беспорядочным фантазиям,
следуя своему распаленному воображению. В разгар ее мечтаний Зулим
предстал перед ней. Совершенно смущенная, она покраснела. Ах! Если
бы он догадался, откуда взялся румянец на ее щеках! Если бы он
осмелился проявить настойчивость! Но Зулим сник, решив, что она сердится
на него за несколько вполне невинных вольностей, которые он позволил
себе накануне, и напрасно потратил время, вымаливая у нее прощение за
то, на что она нисколько не гневалась.
- Он и вправду был так глуп? - вскричал Султан. - Ну и осел!
- Не следует удивляться этому, Сир, - сказал Аманзей. - За то время,
пока я был софой, я чаще становился свидетелем упущенных, чем правильно
истолкованных возможностей. Женщины, привыкшие все время скрывать
от нас свои истинные мысли, лезут их кожи вон, чтобы утаить порывы
нежности, и, должно быть, та из них имеет больше оснований похваляться
своей неприступностью, которая снискала это достоинство не
целомудренностью, а способностью заставить поверить в свое притворство.
Помню, я жил у дамы, известной своей редкостной
добродетельностью. Долгое время я не наблюдал ничего, что противоречило бы
общему мнению. Правда, она не была хороша собой, а следует согласиться с
тем, что легче всего хранить добродетельность непривлекательным
женщинам. Особа, о которой идет речь, вдобавок к уродству была наделена
еще тяжелым и строгим характером, отпугивавшим поклонников не
меньше, чем ее лицо. Никто не отваживался попробовать пробудить в
ней чувство, хотя вряд ли кто-либо сомневался в ее способности
чувствовать. Однако случилось так, что некий мужчина, более смелый или
своенравный, чем другие, или же попросту не веривший в добродетельность
женщин, оставшись с ней наедине, имел дерзость сказать ей, что находит
ее привлекательной. Несмотря на то что тон его оставался таким
холодным, что трудно было поверить в его искренность, его речи произвели на
нее впечатление своей необычностью. Она ответила ему сдержанно, но
не без смущения, что не создана для того, чтобы нравиться. Он
поцеловал ей руку: она вздрогнула. Ее замешательство, проступивший румянец,
огонь, внезапно вспыхнувший в глазах, служили верным признаком
душевной смуты. Пылко обняв ее, он еще раз повторил, что она произвела
на него самое сильное впечатление. Не знаю, как ему удалось доказать,
что он не кривит душой (все это время она пребывала в изумлении), но
скромность, которая была у нее на вооружении, отступила перед тем, что
она приняла за очевидность. Желая уверить ее в неподдельности своих
чувств, он пустил в ход все возможные доводы, и в конце концов она
сдалась. Была ли она покорена новизной ситуации или же просто устала
нести груз целомудрия, во всяком случае, она и не вспомнила о том, что по
законам приличия должна поломаться, и отдалась стремительнее, чем
184
Софа
это делают женщины, куда менее склонные к сопротивлению. Этот
пример, а также некоторые другие подобные происшествия заставляют
меня думать, что есть мало женщин из числа добродетельных, которых
невозможно завоевать, и что легче всего покорить тех, кто менее других
опытен в любви. Но вернемся к возлюбленным, о которых я рассказывал
Вашему Величеству.
Глава седьмая у
В КОТОРОЙ СОДЕРЖИТСЯ МНОГОЕ,
ДОСТОЙНОЕ ПОРИЦАНИЯ
Как-то вечером, прощаясь с Фенимой, Зулим спросил, когда он сможет
снова увидеть ее. Фенима, страшившаяся общества Зулима, тем не менее не
могла обходиться без него, поэтому после непродолжительных раздумий
она позволила ему прийти на следующий день.
Сначала Фенима, чувствовавшая, что свидания с Зулимом наедине таят
для нее большую опасность, собиралась принять в назначенный день и
других гостей, однако, когда этот день наступил, сказала прислуге, что ее ни для
кого нет дома, кроме Зулима. Она опасалась неосторожности Зулима,
который, сталкиваясь в ее доме с другими гостями и теряя свободу говорить ей
открыто о своей любви, измышлял тысячу способов дать ей понять, что
чувство его неизменно. А ведь свет так проницателен! Она-то хорошо
понимала Зулима! Но, кто знает, быть может, недоброжелательность дарует такую
же зоркость, что и любовь? Она будет чувствовать себя в большей
безопасности, когда останется с ним наедине, поскольку в этом случае он будет
держаться почтительно, тогда как при свидетелях может потерять голову.
Лучше не встречаться с ним на людях или, по крайней мере, при большом
стечении гостей.
К тому же он становился таким грустным, когда ему не удавалось
побеседовать с ней! Стоило ли проявлять жестокость и лишать его радости,
которая до сих пор ни разу не была омрачена нескромностью?
Все эти соображения Фенима сочла разумными. Она всегда объясняла
правилами хорошего тона или другими вещами, которым она придавала
значение, свои поступки, на которые ее толкала исключительно любовь к Зу-
лиму.
В тот день она испытывала особенно сильное искушение попытать свое
счастье. Она пустила в ход все доводы, к которым прибегает женщина,
желающая побороть сомнения, стоящие на пути ее любви: она убедила себя,
Часть первая
185
что Зулим заботлив и верен без меры, что он только и ищет, как бы
понравиться ей. Она даже вспомнила не без удовольствия, что он всегда
предпочитал оказаться обманутым, чем обманывать самому. К тому же Зулим был
молод, остроумен, хорошо сложен. И хотя она полагала, что ее чувство
покоится вовсе не на этих качествах, из этого вовсе не следовало, что она
была совершенно равнодушна к ним.
- Так какого дьявола она устроила эту волокиту? - спросил Султан. -
Нет, положительно, эта женщина невыносима!
- Восемь лет благоразумия! - ответил Аманзей. - Одна минута слабости
могла перечеркнуть восемь лет осмотрительности!
- Вот уж невелика потеря! - вскричал Султан.
- Для женщины, привыкшей размышлять, подобный урон гораздо более
значителен, чем это может показаться Вашему Величеству, - заметил
Аманзей. - Добродетели всегда сопутствует чувство глубокого покоя; она не
веселит, но умиротворяет. Счастливице, наделенной этим достоинством, не
за что бранить себя, и ничто не мешает ей быть довольной собой; чувство
уважения, которое она испытывает к себе, разделяют и другие, а
удовольствия, принесенные ею в жертву, не стоят тех, что дарует ей самоотречение.
- А как вы полагаете, - прервал его Султан, - будь я женщиной, сумел
бы я сохранять благоразумие?
- По правде говоря, - сказал Аманзей, которого вопрос Султана привел
в совершенное изумление, - мне трудно ответить вам с полной
определенностью.
- Почему же? - спросил Султан.
- Ну это уж из рук вон: задавать такие вопросы! - воскликнула Султанша.
- Но я же не к вам обращаюсь, - заметил Султан. - Я лишь спросил
Аманзея, сумел бы я, будь я женщиной, сохранять благоразумие.
- Я полагаю, что да, Сир - ответил Аманзей.
- А вот и нет, - вскричал Шах-Бахам. - Ошибаетесь, дружок! Но я
говорю это вовсе не для того, - добавил он, обратившись к Султанше, - чтобы
отвратить вас от добродетели. То, что я сказал, справедливо лишь по
отношению ко мне; кроме того, возможно, стань я женщиной, я думал бы
по-другому: все это такая материя, о которой каждый может иметь свое суждение,
и мне не хотелось бы навязывать свою точку зрения.
- Ваш господин изволил запутаться, - с улыбкой сказала Султанша
Аманзею, - и думаю, вы окажите ему большую услугу, если продолжите
вашу историю.
- Что я слышу? - изумился Султан. - Уж не хотите ли вы сказать, что я
мешаю рассказывать сказку?
- Зулим вошел, - снова заговорил Аманзей, - и Фенима не замедлила
упрекнуть его в том, что он опоздал, хотя на самом деле он появился раньше
назначенного срока.
186
Софа
- Как я счастлив, Фенима, - сказал он с нежностью, - что вы вините
меня в опоздании!
Только в этот момент Фенима поняла, какой смыл таился в ее упреке.
Она хотела было извиниться, но не могла подобрать слов. Зулим
улыбнулся, видя ее замешательство, и она, заметив его улыбку, покраснела. Он
бросился к ее ногам и пылко поцеловал ей руку. Фенима хотела было отнять
руку, но, поскольку он не старался удержать ее, она передумала.
Тем временем Зулим говорил ей нежности. Она не отвечала, но
слушала его с жадным вниманием, за которое ей, вероятно, было бы стыдно, если
бы она поймала себя на этом. Ворот ее платья был чуть приоткрыт, и она
хотела запахнуть его, поймав взгляд Зулима.
- Ах, жестокая! - воскликнул Зулим.
Этих слов оказалось достаточно, чтобы остановить Фениму. Чтобы
позволить Зулиму насладиться этой маленькой вольностью и вместе с тем не
дать ему повода сделать далеко идущие выводы, она притворилась, что ей
нужно поправить прическу. Глаза Зулима не могли не загореться при виде
картины, которой Фенима позволила ему любоваться. Фенима
наслаждалась восторгом того, кто был так мил ее сердцу; ее глаза подернулись
поволокой, она томно смотрела на Зулима и, казалось, грезила.
- И что, Зулим и этого не заметил? - не удержался Султан. - Тупой осел!
Фенима, несмотря на смятение, овладевшее ею, - продолжал Аманзей, -
заметила состояние Зулима и, боясь охватившего их чувства, решительно
поднялась. Зулим попытался удержать ее и, не находя в себе сил для того,
чтобы заговорить, оросил ее руки слезами, дав ей понять тем самым, как
огорчил его ее жестокий поступок. Фенима была тронута, но, поскольку
любовь еще не одержала верх в ее сердце над благоразумием, она сумела не
поддаться своему желанию и порывам возлюбленного, которые были куда
опаснее, чем ее собственное томление.
Высвободившись из объятий Зулима, она приказала ему подняться с
колен; он тотчас же повиновался ей. Некоторое время они молча
смотрели друг на друга. Наконец Фенима заявила, что она не прочь сыграть в
какую-нибудь игру. Зулим счел это предложение неуместным, однако не
мог противиться воле Фенимы и бросился устраивать все для игры с таким
пылом, словно сам страстно желал провести вечер за этим занятием.
Новое доказательство покорности Зулима так тронуло Фениму, что она
была готова просить у него прощения за затею, которая теперь уже казалась
ей нелепой.
Но ее раскаяние не длилось достаточно долго, чтобы осчастливить
Зулима; чем большее волнение она ощущала, тем сильнее чувство долга
принуждало ее скрыть от него свое состояние. Она принялась за игру, но это
занятие нагнало на нее такую скуку, что вскоре она почувствовала, что
все доводы, которыми она руководствовалась в своем поведении, теряют
Часть первая
187
убедительность. Вначале она не хотела верить, что тоска, которую она
испытывала, была связана с ее отношением к Зулиму, и, приписав ее
неудачному выбору игры, предложила своему возлюбленному принести другую.
Вздохнув, Зулим повиновался, но Фениме не стало веселее. Смута, которую
она надеялась успокоить, разнеженность, с которой она хотеля справиться,
казалось, лишь нарастали от ее насилия над собой и в конце концов
полностью завладели ею. Забывшись в грезах, она думала лишь о Зулиме,
полагая, впрочем, что следит за игрой.
Его проникновенный взор, глубокие вздохи, рвавшиеся из груди,
подступившие к глазам слезы, которые сдерживало лишь чувство почтения к
ней, окончательно растрогали Фениму. Охваченная нежностью, Фенима
не сводила взгляда с Зулима. Наконец, то ли устав бороться со своей
растерянностью, то ли утратив силы сносить взгляды Зулима, она опустила
голову на руки. Зулим, увидев ее позу, тотчас же упал к ее ногам. Фенима
или не увидела этого, занятая своими думами, или же не захотела
помешать ему. Он тут же воспользовался ее минутной слабостью и поцеловал
ее безвольно опущенную руку, причем с такой страстью, которую не
испытывает порой и любовник, упивающийся тем, что должно составить
его счастье.
В восторге от милости, на которую он не смел надеяться, принимая во
внимание установившиеся между ними отношения, Зулим хотел заглянуть в
глаза Фениме, чтобы отыскать в них решение своей судьбы. Она
по-прежнему сидела, уронив голову на руки. Он ласково отвел ее руку и увидел, что ее
лицо в слезах. Зулим был так взволнован, что чуть было не расплакался сам.
- Ах, Фенима! - воскликнул он, судорожно вздохнув.
- Ах, Зулим! - нежно откликнулась она.
Обменявшись этими словами, они посмотрели друг на друга с такой
нежностью, с такой страстью, с таким вожделением, с таким безумием, какие
под силу зажечь в людях только любви, и любви неподдельной.
Наконец Зулим заговорил прерывающимся голосом:
- Ах, Фенима! - сказал он с восторгом. - Ах! Если моя любовь тронула
ваше сердце, но вы боитесь открыться, дозвольте мне хотя бы прочесть свое
счастье в ваших чудесных глазах, в глазах, которые я обожаю!
- Нет, Зулим, - ответила она, - я люблю вас и никогда не простила бы
себе, если бы отняла у вас хоть частицу заслуженной вами радости. Я
люблю вас, Зулим. Мои губы, мое сердце, мои глаза должны говорить об этом,
и они не молчат. Зулим! Мой дорогой Зулим! Теперь, когда я могу открыть
вам свои чувства, я так счастлива!
Зулим, услышав ласковые речи, которых он не ждал, чуть не умер от
радости. Но, несмотря на восторг, в который его повергли ее слова, он не
забыл, что Фенима могла сделать его еще счастливее. Хотя Зулим
понимал, что ее признание дает ему право на множество из того, о чем он рань-
188
Софа
ше не осмеливался и помышлять, уважение, которое он испытывал к ней,
возобладало над желанием, и он решил подождать, пока она не решит его
участь.
Фенима так хорошо знала Зулима, что ей не стоило труда отгадать,
отчего он не дает воли своим чувствам. Она взглянула на него с еще большей
нежностью и, поддавшись наконец движению сердца, бросилась в его
объятья со страстью, которую трудно представить даже самому горячему
воображению и которое не поддается никакому описанию.
Столько неподдельной искренности! Столько чувства в этом взаимном
порыве! Нет, никогда мне еще не доводилось быть свидетелем столь
трогательной сцены! Влюбленные, в полном упоении, казалось, разучились
слышать, видеть и говорить. Это было совсем не похоже на краткие мгновения
восторга, рожденные вспыхнувшим желанием, нет, это было неподдельное
безумие, сладкое исступление любви, которого ищут многие, но испытывают
единицы.
- О Боже! Боже! - вот все, что был способен произнести Зулим.
Что ж до Фенимы, она, то, влекомая страстью, нежно сжимала Зулима в
объятиях, то, отстранившись от него, любовалась им, то снова приникала к
его груди.
- Зулим! - с волнением говорила она. - Ах, Зулим! Как поздно я узнала,
что такое счастье!
За этими словами последовало восхитительное молчание, к которому
прибегает душа, когда слова бессильны выразить чувства, которыми она
переполнена.
Однако еще не все желания Зулима исполнились. Поскольку Фенима
сгорала от желания не меньше, а то и больше, чем Зулим, она и не
помышляла отказать в чем-либо своему возлюбленному и со слепой
страстью рвалась навстречу неизбежному. Казалось даже, что для нее все
происходящее значило больше, чем для него. Она так долго противилась
его любви, что теперь считала своим долгом показать ему, чего ей
стоило это сопротивление, и вознаградить его за муки, которые он испытал
по ее вине. Она залилась румянцем, вспомнив о ложном чувстве
приличия, послужившем оружием в ее борьбе, которое так часто портит и
разъедает удовольствие и, бросая на любовь тень раскаянья, заставляет в
разгар восторга мечтать о менее бурном счастье. Ласковая, искренняя
Фенима сочла бы себя виноватой перед Зулимом, если бы попыталась
хоть немного притушить огонь, который он разжег в ней. Она искала его
ласк и полагала, что сможет поздравить себя лишь тогда, когда сумеет
убедить его в своей любви, хотя еще совсем недавно она уважала себя за
неприступность.
Короткие паузы, возникавшие время от времени, они заполняли
беседой.
Часть первая
189
- Фенима, - страстно говорил Зулим, - вы не умеете лукавить, и порой я
невольно начинал верить, что вы любите меня. Отчего вы так медлили с
признанием?
- Мое сердце было покорено вами, - отвечала она, - но разум долго
противился чувству. Чем больше я убеждалась в том, что способна на истинную
страсть, тем сильнее я боялась довериться ей. Я никогда не любила и
опасалась, что мне захочется такой нежности, которую я никогда не смогу
никому внушить. Только вы сумели доказать мне, что есть еще мужчины,
умеющие любить. Вы глубоко тронули меня, но все-таки я не сдалась. Поверите
ли вы мне, Зулим? Добродетельность, которую я сегодня с радостью
приношу вам в жертву, долго заставляла меня противиться вам. Я приходила в
отчаяние при мысли, что одна минута слабости будет стоить мне и сладкой
уверенности в том, что я достойна уважения, и счастья ощущать, что меня
уважают. Ах, Зулим! - добавила она, обнимая его, - как теперь мне
ненавистно время, которое я украла у нашей любви! Подумать только, Зулим, я
отвергала тебя! Я заставляла тебя проливать слезы, и это были слезы
отчаяния, а не слезы радости, как сегодня! Прости меня, я сама была несчастна, и
быть может, больше, чем ты. Да, Зулим, я всегда буду корить себя за свою
недоверчивость, за то, что сомневалась в том, что принадлежать тебе и есть
смысл моего существования, что лишь ты - венец моих желаний. Ты любил
меня, а я беспокоилась о мнении других! Ах! Я, должно быть, не заслуживаю
твоей любви!
Ваше Величество, конечно же, догадывается, - продолжил Аманзей, -
каково было продолжение этой беседы. Мне оно доставило большое
удовольствие, но я не могу припомнить речей двух возлюбленных, которые в
упоении засыпали друг друга вопросами, не давая себе труда выслушивать
ответы. Их тирады были столь бессвязными, что могли свидетельствовать
лишь о душевных бурях, и уж конечно, для стороннего свидетеля не
доходило и половины очарования этого разговора. Меня удивила страстность их
чувств и радость, которую они в них находили. Они расстались лишь
поздним вечером, и едва Зулим вышел из комнаты, как Фенима, и так
посвятившая ему все свое время, тут же засела за письмо своему возлюбленному.
На следующий день Зулим появился чуть свет, все такой же
влюбленный и еще более нежно любимый, чтобы насладиться у ног Фенимы и в ее
объятиях минутами блаженства.
Несмотря на то что меня постоянно тянуло к перемене мест, я не мог
противиться желанию задержаться в доме Фенимы, чтобы посмотреть,
долго ли влюбленные останутся верными друг другу. Любопытство задержало
меня у Фенимы почти на год, но потом, убедившись, что с каждым днем их
любовь не уменьшается, а, наоборот, крепнет и что к их нежной, живой и
пылкой страсти прибавились еще доверие и дружба, я отправился дальше
искать своего спасения или хотя бы новых развлечений36.
190
Софа
Глава восьмая31
Покинув Фениму, я попал в дом, где не стал задерживаться, ибо то, что
там происходило, было столь банальным, что не заслуживало и толики
внимания. На протяжении нескольких дней я кочевал из дома в дом,
подстегиваемый любопытством и непоседливостью, в поисках впечатлений, которые
могли бы оказаться забавными или новыми. Тут отдавались из тщеславия,
там - из-за каприза; я был свидетелем слабости, на которую толкали корысть,
привычка и даже безразличие. Мне часто доводилось встречаться с
мимолетным и живым движением души, которое принято называть сердечной
склонностью, но нигде я не видел той любви, того деликатного, нежного
влечения38, которые так долго восхищали и радовали меня в доме Фенимы.
Устав от бродячей жизни, которую я вел, уверовав, что меньше всего
можно рассчитывать сыскать в людях чувство, которым все наперебой
кичатся, я затосковал и, исполненный печали по поводу собственной участи,
начал горячо желать положить конец мукам, на которые я был обречен.
- Ну и нравы! - говорил я себе. - Должно быть, Брахма, хорошо
изучивший их, лишь из милосердия обнадежил меня; он не верил, что в Агре, где
царит распутство и где нравственные принципы вызывают лишь презрение,
я сумею отыскать два сердца, способные подарить мне новую жизнь!
Обуреваемый этими грустными размышлениями, я забрел в дом, где все
дышало спокойствием. Хозяйка, которой не исполнилось еще сорока лет,
жила здесь в полном одиночестве. Она была достаточно хороша собой,
чтобы ее претензии на любовь не казались смешными, однако хранила
благоразумие, избегала бурных развлечений, принимала у себя немногих
и, казалось, не столько искала приятного общества, сколько окружала себя
людьми, которые в силу возраста или образа жизни не могли навлечь на нее
подозрений. Поэтому-то ее дом был одним из самых унылых в Агре.
Среди мужчин, навещавших ее, был один, которого она встречала с
особенной радостью и который проводил в ее доме больше времени, чем
другие. Это был уже довольно немолодой человек, важный, холодный, с
характером крайне сдержанным, чему отчасти способствовало и его положение:
он стоял во главе школы брахманов39. Он имел суровый нрав и ненавидел
развлечения любого сорта, полагая, что среди них нет ни одного, которое не
оказывало бы разрушительного действия на душу, пусть даже самую
праведную. Глядя на его мрачный вид и вечно дурное расположение духа, я
сначала подумал, что он не столько добродетельный, сколько злобный
человек, из тех, кто неумолим к другим, но снисходителен к себе, кто на людях
язвительно бичует пороки, которыми предается втайне от всех: я принял его
за прожженного ханжу. После знакомства с Фатимой все подчеркнуто
добродетельные и праведные люди представлялись мне в дурном свете. Хотя я
Часть первая
191
редко ошибался, подозревая их во
всех грехах, в отношении Моклеса40
я сильно заблуждался. Узнав его
ближе, я убедился, что он
заслуживал уважения. Он обладал честной
душой, и его добродетельность не
была напускной. Без особых
стараний с его стороны в Агре о нем
сложилось самое лестное мнение.
Никто не сомневался в том, что он
искренне питает отвращение к
развлечениям и, исповедуя самые строгие
жизненные принципы, честно
придерживается их. Столь же
благоприятно отзывались в городе и об Аль-
маиде (таково было имя моей
госпожи). Тесная дружба Моклеса и Аль-
маиды не вызывала пересуд,
которые могли бы опорочить их, и, хотя
в обществе любят злословить, когда
дело касается личных отношений,
никто не позволял себе злословия в
их адрес, так как все были уверены,
что их близость основана на любви к
добродетели.
Моклес навещал Альмаиду
каждый вечер, и независимо от того,
проводили ли они время в
окружении других гостей или же наедине, их
поведение оставалось безупречным,
а речи здравыми и сдержанными.
Обычно они обсуждали некоторые аспекты нравственности. Во время этих
бесед Моклес блистал эрудицией и прямотой суждений. Лишь одно мне не
нравилось: эти двое, во всем превосходившие других и научившиеся
сдерживать свои чувства, не умели обуздывать гордыню и то и дело пели друг
другу дифирамбы. Порой они, не желая, видимо, ограничиваться взаимным
чувством уважения, обменивались панегириками, причем с жаром,
самодовольством и тщеславием, оскорбительными для добродетельной души.
Несмотря на скуку, которую я испытывал в этом невеселом доме, я
решил задержаться в нем на некоторое время. Я не надеялся, что однажды
смогу здесь позабавиться, не мечтал я и о спасении. Чем больше я
убеждался, что Альмаида и Моклес вполне могли вызволить мою душу, тем меньше
192
Софа
у меня хватало духу представить, что они способны проявить слабость. Но,
устав от скитаний и исполнившись отвращением к свету, осознав с ужасом,
насколько он развратил меня, я был не прочь послушать назидательные
беседы и даже находил их приятными. Быть может, тому причиной была их
новизна для меня, возможно также, что, пребывая в угнетенном состоянии,
я надеялся на их целительное действие.
- А! Вот как! - воскликнул Султан. - Теперь меня не удивляет, что вы
изводите нас назиданиями! Теперь мне ясно, где вы понабрались всего
этого! Но чтобы избавить вас от искушения в очередной раз блеснуть
красноречием и памятью, я снова обращаю ваше внимание на предупреждение,
которое я столь предусмотрительно высказал еще в начале вашей истории.
Представляю, в какие дебри вас увлекла бы ваша любовь к
разглагольствованиям, если бы я проявил мягкосердечие и дал вам свободу изъясняться. Но
я терпеть не могу мошенничества и поэтому еще раз повторяю, что
нравоучения меньше всего способны оказать спасительное действие на кого бы то
ни было.
- Несмотря на редкостные достоинства, которыми были наделены Аль-
маида и Моклес, - продолжал Аманзей, - им случалось иногда, разбирая
пороки, вдаваться в излишние подробности. Конечно же, они не имели в виду
ничего дурного, однако было бы разумнее не задерживаться слишком на
темах, от которых разыгрывается воображение и чувства приходят в брожение.
Альмаида и Моклес или не видели подстерегавшей их опасности, или же
относились к ней с пренебрежением. Во всяком случае, им часто доводилось
беседовать о вожделении. Правда, обсудив все приятные стороны этого
порока, они не забывали и о том, что ему сопутствуют опасности и чувство
стыда, силу которых они явно преувеличивали. Они приходили к выводу,
что истинное счастье происходит лишь от жизни глубоко добродетельной,
однако не слишком развивали эту мысль, полагая, должно быть, что она,
являясь прописной истиной, не заслуживает долгого обсуждения. Но
собеседники не были столь лаконичны, когда речь заходила о наслаждении: для
этой захватывающей темы они не жалели слов и вдавались в самые опасные
детали с доверчивостью, которая позволяла мне надеяться, что однажды
они попадут в ловушку, которую сами себе готовили.
В течение целого месяца они каждый вечер развлекались, живописуя
сцены, которые, как мне казалось, не должны были их занимать. О чем бы
они не заговаривали, всякий раз их беседа скатывалась к вещам, о которых
следовало бы умалчивать. Моклес, заметно смягчившийся под действием
этих разговоров, являлся к Альмаиде раньше обычного и, проведя с
приятностью время, уходил поздним вечером. Что касается Альмаиды, то она, в
свою очередь, ждала его с возраставшим день ото дня нетерпением. Его
визиты радовали ее, и она с куда меньшей рассеянностью, чем прежде,
слушала его речи. Если Моклес заставал у Альмаиды других гостей, он сникал,
Часть первая
193
явно испытывая досаду, да и она сама, казалось, разделяла его недовольство.
Когда наконец они оставались одни, я читал на их лицах радость, обычно
присущую влюбленным, которые, избавившись от докучливого визитера,
могут упиваться обретенной ими свободой ласкать друг друга. Альмаида и
Моклес тут же усаживались рядом, жалуясь, что их не оставляют в покое ни
на минуту, и глядя друг на друга с самой искренней симпатией. Содержание
их бесед не изменилось, но тон стал иным. Установившаяся между ними
близость могла завести их довольно далеко, тем более что они не помнили,
благодаря чему она возникла, или (что, по-моему, куда более забавно) просто не
догадывались об ее истинных причинах.
Однажды Моклес особенно горячо хвалил Альмаиду за ее
добродетельность.
- Я не вижу своей особой заслуги в том, что вела себя должным
образом, - сказала она. - Предрассудки помогают женщине сохранять
добродетельность, но они губительны для мужчин. Для женщины быть кокеткой -
дурно, для мужчины не быть волокитой - глупо. Вот вы, например, хвалите
меня, но за одно то, что вы разделяете мои взгляды, вы заслуживаете куда
большего уважения, чем я.
- Если смотреть на вещи с той степенью разумности, которая позволяет
видеть их в истинном свете, - важно ответил он, - то может показаться, что
я действительно более достоин уважения, чем вы; но это не так. Мужчине
легко устоять перед любовью, тогда как женщина создана для нее. Ее
влечет к ней нежность или чувствительность. Помимо этих душевных
движений, смущающих их каждый день, существует еще непростительное
тщеславие, которое часто становится причиной слабости. Кроме того, - тут он
вздохнул и поднял глаза к небу, - женщине нечем себя занять, и поэтому она
испытывает особое томление. Из-за этой роковой бездеятельности ее ум
попадает во власть самых опасных идей; воображение, порочное от природы,
впитывает их и развивает; семя страсти прорастает и завладевает сердцем.
И даже если сердцу удается избежать смуты, ее призраки, то и дело
будоражащие фантазию, склоняют женщину к дурному. Наедине с собой,
предоставленная своим игривым мечтам, женщина стремится за химерой, этим
порождением праздности, и, чтобы наслаждаться вымышленным миром без
помех, она отбрасывает мысли о нравственности, потому что они способны
заставить ее покраснеть от стыда за иллюзии, которые она пестует41. Чем
менее реален предмет ее вожделения, тем более бессмысленным
представляется ей сопротивление. Она особенно слаба в уединении, когда беседует
сама с собой. Чего ей опасаться? Но сердце ее уже вкусило нежности, и
захотят ли чувства, приученные к вожделению, всегда довольствоваться
иллюзиями? Даже если предположить, что она не станет искать случая
нанести удар своей добродетельности, может ли она быть уверена, что однажды
(хотя не исключено, что этот момент страшит ее), увидев у своих ног неж-
7. Кребийон-сын
194
Софа
ного, пылкого и нетерпеливого влюбленного, в слезах и восторге, найдет в
своем сердце, не раз уже испытавшем томление, те принципы, которые
позволили бы ей возобладать над опасной ситуацией?
- Ах, Моклес! - воскликнула Альмаида, покраснев. - Как трудно
исповедовать добродетель!
- Ну уж вам-то не стоит печалиться, - ответил он. - У вас есть все,
чтобы жить в свое удовольствие, но вы принесли себя в жертву той самой
добродетели, которой сегодня многие пренебрегают ради вещей, меньше всего
достойных того, чтобы торжествовать над ней.
- Ну, я вовсе не само совершенство, - скромно заметила она. -
Но я и в правду проявляла осторожность и особенно опасалась
праздности, о которой вы упоминали, а также вредных книг и зрелищ,
размягчающих душу.
- Да, мне это известно, - кивнул он. - Именно вашим неустанным
заботам о том, чтобы не остаться без дела, вы обязаны своим
благоразумием, поскольку (и наш пример тому свидетельство) ничто так не питает
страстей, как безделье. А коли уж оно представляет угрозу для мужчин,
куда более крепких от рождения, судите сами, какое действие оно может
оказывать на женщин.
- Да, - кивнула она, - нам приходится сражаться со столькими
искушениями!
- У вас их гораздо больше, чем у нас, - ответил он, - об этом-то я и
говорю. К тому же нельзя забывать, что женщин постоянно осаждают
поклонники и что, несмотря на испорченность нравов, нам самим не
приходится (если исключить некоторых особ, без стыда и совести, готовых без
всякой любви первыми бросаться на шею мужчине) отражать
ухаживанья, слезы, упорство, которые мы с успехом используем против женщин.
Кроме того, если прибавить к клятвам, которые приносятся женщинам,
еще и пример...
- Ну, в этом отношении преимущество не на нашей стороне, - прервала
она Моклеса. - Сила примера больше значима для вас, поскольку само
положение обязывает вас волочиться за женщинами.
- Ну, вряд ли это касается всех мужчин, - возразил он. - Среди нас
встречаются и такие, кому именно в силу положения противопоказано душевное
безумие, которое принято называть любовным восторгом: я, например,
вхожу в их число.
- Но и без вашего положения, - возразила она, - вы, от рождения
счастливо защищенный от страстей, были бы также...
При этих словах Моклес воздел очи и вздохнул.
- Как? - вскричала Альмаида. - Неужели вам нашлось бы, в чем себя
упрекнуть? Ах, Моклес! Если уж вы недовольны собой, то тогда кто же
осмелится считать себя благоразумным? Как? Вы хотели полюбить?
Часть первая
195
- Да, - грустно ответил он, - должен признаться, что все обстоит
именно так, хотя это признание унижает меня. Правда, я ни разу не поддался
этому губительному искушению. Сознаваясь в том, что и мне приходилось
вести душевную борьбу, я открываюсь вам в слабости, на которую, если судить
по вашему удивленному виду, вы не считали меня способным; но, избавляя
вас от столь лестного для меня заблуждения, боюсь, я лишь выигрываю в
ваших глазах. Искушение, конечно, унижает душу, однако способность
преодолеть соблазн возвышает ее в куда большей степени. Признаваясь в
своей слабости, я поневоле хвастаюсь своей победой над ней. Может
показаться, что я стараюсь искупить вред, который нанес себе этим признанием, и,
кто знает, не сочтете ли вы меня зазнайкой, тогда как я всего лишь хотел
быть честным с вами.
Произнеся эту речь, Моклес потупил очи.
- О! - живо откликнулась Альмаида. - Вам нечего опасаться, ведь я
хорошо знаю вас. Ну что ж! Значит, и вам приходилось бороться с
искушением. Это меня не удивляет, ведь каким бы уверенным шагом мы ни
продвигались к совершенству, мы никогда его не достигнем.
- К несчастью, вы абсолютно правы, - согласился он.
- Увы! Но неужели вы полагаете, - с болью воскликнула она, - что мне
не в чем себя упрекнуть и что я избежала того, о чем вы говорили с таким
сожалением?
- Как? - изумился он. - И вы, Альмаида?
- Мое доверие к вам столь велико, что я могут позволить себе быть с
вами откровенной, - заговорила она. - Признаюсь, мне пришлось пройти
через нелегкие сражения с собой. Меня всегда удивляло и не перестает
удивлять и сейчас, что смятение, которое рождается чувственностью и смущает
наши чувства, достигает такой независимости от нашей воли. Сотни раз оно
охватывало меня в то время, когда я предавалась самым серьезным
занятиям, которые, казалось бы, должны были надежно защищать мою душу от
соблазна. Иногда мне удавалось подавить это смятение, но порой я слабела
духом, и оно помимо моей воли торжествовало надо мной, поселялось в
моем воображении и полностью подчиняло меня. То, что эти постыдные
порывы порабощают душу, которая сама будит их и чувствует себя счастливой
лишь только тогда, когда становится их жертвой, не удивляет меня, но
почему им подвластны те, кто изо всех сил старается укротить их?
- Так называемая мудрость состоит не столько в умении избежать
искушения, - произнес Моклес, - сколько в искусстве побеждать его; и если бы
на пути добродетельной души не вырастали бы препятствия, в чем тогда
была бы ее заслуга? Но, раз уж у нас зашел разговор об этом, скажите, молю
вас, приходилось ли вам испытывать эти ужасные терзания уже в том
возрасте, когда кровь перестает бурлить в жилах и желания теряют свою
остроту?
7*
196
Софа
- В гораздо меньшей степени, - ответила она, - однако я и сейчас им
подвержена.
- Могу сказать о себе то же самое, - проговорил он с улыбкой.
- Мы, должно быть, сошли с ума, если ведем такие беседы, - сказала
Альмаида, краснея. - Нам это не к лицу.
- Если хорошенько подумать, нам нечего бояться, - с самодовольной
улыбкой произнес Моклес. - В недоверии к себе нет ничего плохого, но
было бы слишком несправедливо полагать, что подобные разговоры опасны
для нас. Согласен, что предмет, затронутый нами, непременно наводит на
определенные мысли, но вникать в него для того, чтобы прояснить суть
дела, это не то же самое, что обсуждать его с целью обольщения, и мы можем,
надеюсь, не впадая в самообман, указать на истинную причину нашего
интереса к нему, которая и служит нам залогом безопасности. К тому же не
стоит думать, что подобные предметы бесед, вредные для тех, кто привык жить
безалаберно, оказывают столь же дурное влияние на таких людей, как мы.
Сами по себе эти предметы не содержат ничего плохого. Те, чья
порядочность самой высокой пробы, иногда бывают вынуждены задерживаться на
таких материях, и при этом обсуждение всех тонкостей дела ничуть не
вредит их чистоте. Но для развращенных сердец любой предмет разговора
разрушителен и губителен, ибо то, что противоречит благоразумию, не
воспринимается как дурное теми, кто его не ищет.
- Так, должно быть, и есть, раз вы так полагаете, - ответила Альмаида, -
и я не стану терзаться, если вам кажется, что для этого нет повода.
- Вы ни за что не угадаете, - сказал он, - что больше всего занимает
меня сейчас. Я не осмеливаюсь открыть вам этот секрет, поскольку опасаюсь
показаться нескромным, но и устоять очень трудно. Мне хотелось бы
узнать, доводилось ли вам когда-нибудь выслушивать предложения
определенного сорта и (если уж быть до конца откровенным) уступили ли вы хоть
раз, вольно или невольно, напору мужчины?
Альмаида, услышав этот неожиданный вопрос, изумилась и покраснела.
Некоторое время она пребывала в замешательстве и, казалось, погрузилась
в воспоминания, а затем смущенно ответила:
- Да, и раз уж вы хотите все знать, признаюсь, что однажды некий
молодой волокита, приглянувшийся мне (чего греха таить), несмотря на все мое
отвращение к мужчинам, застав меня в одиночестве, приступил ко мне с
любезностями, которые кавалеры считают необходимым говорить дамам, не
достигшим еще того счастливого возраста, когда способны внушить лишь
почтение, и наделенным внешностью, пробуждающей, на горе им, желания.
Мы были одни. Я ответила ему так, как того требовали мои принципы. Но
мой ответ не произвел на него никакого впечатления; он был уверен, что в
мои намерения совсем не входит отвадить его и что я лишь пытаюсь
вынудить его заплатить большую цену за победу: он даже имел наглость утвер-
Часть первая
197
ждать, будто я отвечаю ему взаимностью. Конечно же, я твердо стояла на
своем. Не знаю, с какими женщинами приходилось иметь дело этому
ветренику, но было очевидно, что его не научили почтительности. Он подошел ко
мне и, внезапно схватив меня в объятия, опрокинул на софу. Прошу вас,
избавьте меня от необходимости описывать все дальнейшее, ибо если я
продолжу рассказ, моя целомудренная душа будет оскорблена, к тому же эти
воспоминания могут смутить мои чувства. Скажу лишь одно...
- Нет, - перебил ее Моклес, - расскажите мне все; я вижу (и, должен
признать, с огорчением), что ваши уста замкнуты вовсе не опасениями
ранить целомудренность вашей души или привести в смятение чувства, а
стыдом за то, что вы оказались слишком податливой, - эту причину
нельзя назвать похвальной, впрочем, она не заслуживает и особого
порицания. Я могу и даже полагаю себя обязанным добавить к уже сказанному,
что если вы и вправду боитесь, что рассказ, которого я требую от вас,
повергнет ваши чувства в опасное смущение, то вряд ли вам удастся
навсегда рассеять или хотя бы ослабить его, не осознав своей вины. Неужели
вам безразлично, имеют ли над вами власть некоторые идеи? Осмелитесь
ли вы полагаться на ваше благоразумие, если оно боится испытаний?
Коли вы станете от всего оберегать вашу душу, вы никогда не узнаете, на
что она способна! Альмаида, поверьте мне, нельзя правильно оценить
опасность, которая остается неизведанной, и, как правило, те, кто
переоценивает себя, оказываются несостоятельными. Вы не должны,
следовательно, придавать особое значение самим обстоятельствам дела;
только по воздействию, которое оказывает сегодня эта история на вашу душу,
можно понять, как далеко вы продвинулись на пути к добродетели и (что
еще более важно) что вам предстоит еще побороть в себе, чтобы
почувствовать полное отвращение к удовольствиям, которое отличает
подлинно праведную натуру.
Меня удивило, что подобный совет исходит из уст Моклеса; я ценил его
прямоту и эрудицию и не понимал, что заставило его в ту минуту рассуждать
таким странным образом, явно идущим в разрез с его принципами.
- Как! - думал я с изумлением. - Моклес - само благоразумие! И
советует Альмаиде хорошенько припомнить обстоятельства, которые способны
нарушить чистоту помыслов и смутить душу!
Желание понять, какие причины заставляли Моклеса вести себя столь
странным образом, вынудило меня более внимательно приглядеться к нему,
и тут я заметил в нем брожение чувств, которое подало мне надежду, что
освобождение придет ко мне там, где я меньше всего надеялся обрести его.
В то время, когда я соотносил представления о добродетельности
Моклеса и Альмаиды со смущением, которое постепенно брало верх над ними,
прикидывая, есть ли почва для радостных чаяний, Альмаида продолжила
свой рассказ.
198
Софа
Глава девятая,
В КОТОРОЙ ПРЕДЛАГАЕТСЯ РЕШИТЬ
НЕКУЮ ВАЖНУЮ ПРОБЛЕМУ
- Мне остается лишь слепо повиноваться вам, - сказала Альмаида Мок-
лесу. - Вы помогли мне понять, что только гордыня замыкает мне уста, и,
чтобы наказать себя, я доверю вам все обстоятельства приключения, столь
огорчительного для меня. Кажется, я остановилась на том, что упомянутый
мною молодой человек опрокинул меня на софу. Не успела я прийти в себя
от изумления, как он набросился на меня. Хотя крайнее удивление не
позволило мне вполне выразить охвативший меня гнев, он легко прочел его в
моих глазах и, желая остановить рвавшийся из моей груди крик, сумел,
несмотря на все мое сопротивление, запечатать мне уста поцелуем крайне
нескромного свойства. Трудно описать, какое бешенство я испытала сначала.
Но, признаюсь, оно быстро стало стихать. Тело предало меня, и этот
поцелуй проник в самое сердце, а к моему негодованию примешались чувства,
умерившие его силу. Все во мне пришло в брожение, неведомый мне до
того момента огонь пробежал по жилам: я вдруг ощутила, как наслаждение,
несмотря на все мое отвращение к нему, заполнило душу и повлекло меня за
собой; мои крики перешли во вздохи, и я, уносимая чувствами, которым,
несмотря на гнев и отчаяние, была не в силах противиться, содрогаясь от
ужаса перед состоянием, в которое я впала, перестала обороняться.
- Какая тягостная ситуация! - воскликнул Моклес. - И что же? -
спросил он, не спуская с нее горящих глаз.
- Что сказать? - промолвила она. - Как только я получила возможность
говорить, я принялась упрекать его, но скорее машинально. Мне кажется, я
выразила ему то презрение, которого он заслуживал; я говорю "мне
кажется", поскольку не решусь утверждать, что все обстояло именно таким
образом. По мере того как во мне росло гибельное смятение, ярость выдыхалась,
а с ней исчезали и последние силы; все мои мысли смешались. Но я еще не
сдалась. Однако каким слабым стало мое сопротивление! И чего мне оно
стоило, несмотря на всю его смехотворность! Ах, Моклес, я не могу думать
об этом без ужаса, и стыд, который я испытываю при этом воспоминании,
делает его для меня таким реальным, как если бы я сейчас изнемогала в
объятиях негодяя. Какое испытание для моей добродетельности! Ах,
Моклес! как случилось, что я, зная истинную цену невинности, которую у меня
хотели похитить, и осознавая, несмотря на то что пребывала почти в
беспамятстве, сколько горя принесет ее утрата, наслаждалась охватившим меня
вожделением? Почему отчаянный страх не остановил меня? Почему
наслаждение потеснило в моем сердце добродетель? Я мечтала (но с каким внут-
Часть первая
199
ренним принуждением! с какими страданиями!), чтобы меня каким-нибудь
образом избавили от нависшей надо мной угрозы. Но надежду на спасение
пересиливали мечты совсем иного свойства, и, хотя они совсем не нравились
мне, под их воздействием я не могла не уповать, чтобы ничто не помешало
моему падению. Я краснела за себя, стыдясь своих истинных чаяний, но
сгорала от желания снова и снова погружаться в них; удовольствия не
рисовались моему воображению, однако я жаждала их; огонь, пожиравший меня,
стал пыткой, изнурявшей мои чувства. И все же опьянение, в котором я
пребывала, не могло заглушить голос благоразумия, вопивший из глубины
моего сердца; голос, который, будучи не в силах вырвать меня из истомы, без
устали корил мою слабость, в то время как молодой человек, наверняка
заметивший произведенное им впечатление, умножил свои старания. Он... Но
как рассказать вам о том, что и сейчас вгоняет меня в краску? Занятая тем,
чтобы, насколько мне позволяло душевное смятение, обороняться от
поцелуев, коими он осыпал меня, я ни на что другое не обращала внимания.
Несмотря на мое жалкое положение, новая дерзость снова разожгла во мне
гнев. Увы! ненадолго. Я почти сразу же почувствовала, как возрастает мое
смятение; все способствовало этому, все склоняло меня к уступке, даже
усилия, которые я прилагала, чтобы вырваться из рук наглеца и в то же время
не спугнуть его. Наконец, запутавшись в необъяснимых порывах моей души,
в восторге, который мне трудно передать, я бессильно замерла в объятиях
бесстыдника, заставившего меня претерпеть столь кровавый афронт.
- Ну и ну! - возопил Моклес. - Страшно подумать, что последовало за
этой ужасной сценой!
- Все дальнейшее отличается от того, что вы вообразили, - сказала Аль-
маида. - В разгар сцены, которой мне подобало бы страшиться, так как
ничто уже не пугало меня, не знаю отчего, но мой враг внезапно умерил свой
пыл и напор. Произошло чудо, которое я не берусь истолковать и в которое
вам, должно быть, трудно поверить, настолько оно невероятно. В ту
минуту, когда я прекратила сопротивляться и когда он, казалось, совершенно
вошел в раж, его взгляд, восторгу и безумству которого я поддалась,
изменился; появившаяся в нем истома притушила жар; он покачнулся, сжимая меня
в объятиях нежнее, чем прежде, но уже не с такой силой, и (вот
справедливое наказание за зло, причиненное мне) его охватила слабость, подобная
той, которую испытала я. В этот момент смута, царившая во мне, начала
успокаиваться, и я ликовала от того, что могла насладиться унижением моего
врага. Вдоволь налюбовавшись его позором и от всей души поблагодарив
Брахму за столь очевидную защиту, я резко поднялась. По мере того как
мои чувства обретали обычное состояние, а мысли прояснялись, мной стал
овладевать стыд. Не менее двадцати раз я собиралась дать волю упрекам,
которых заслуживал дерзкий молодой человек, но смущение, таившееся во
мне, всякий раз останавливало меня, и я, удостоив его негодующим взгля-
200
Софа
дом, выразившим мое отношение к непристойности его поведения,
стремительно вышла из комнаты. По правде говоря, я сочла, что лучше
промолчать, чем пуститься в обсуждение деталей, которые заставили бы меня
краснеть и которых я опасалась, помня о том, что мне довелось пережить. Вот
так, - продолжила она, - я единственный раз подверглась опасности,
которой страшилась еще задолго до этого прискорбного случая; после всего
происшедшего я стала больше, чем когда либо, стараться избежать ее. Я сочла
тем более необходимым бежать соблазна, поскольку, узнав себя лучше, уже
не верила, что так равнодушна к любви, как мне казалось раньше.
- Теперь вы сами видите, - сказал Моклес, - как важно испытать свою
душу. Кстати, как поживает ваша душа? Этот рассказ произвел на вас то
впечатление, которого вы боялись?
- Ну, - ответила она, краснея, - нельзя сказать, что я безмятежна, как
прежде.
- Значит, - заметил он, - попадись вам снова какой-нибудь смельчак, вы
бы опять почувствовали некоторое смущение?
- Ах! Не говорите мне об этом! - вскричала она. - Это худшее, что
могло бы со мной произойти!
- Да, - рассеянно откликнулся он, - само собой разумеется.
Проговорив это, он погрузился в глубокие раздумья: время от времени
он бросал на Альмаиду непозволительные взгляды, а в его глазах
отражались то желание, то сомнение. Рассказ Альмаиды смутил его и придал ему
решимости, однако неопытность, не позволявшая ему воспользоваться этим
признанием, портила произведенный эффект. Но Моклес думал не только о
способе, к которому следовало бы прибегнуть, чтобы соблазнить Альмаиду.
Его удерживали мысли о том, каким он был и каким перестанет быть, когда
уступит, поддавшись игривому воображению; и я видел, что он не знал, на
что решиться: то ли бежать, то ли пуститься во все тяжкие.
Пока он сражался с собой, Альмаида пребывала в тревоге. История,
рассказанная по требованию Моклеса, произвела на нее именно то
впечатление, которого она опасалась. Ее глаза сияли; румянец, отличающийся от
того, что рисует на щеках стыдливость, прерывистые вздохи, смущение,
истома - все говорило мне, и яснее, чем ей самой, о потерянности, во власти
которой она находилась. Я с нетерпением ждал развития событий,
захвативших двух столь разумных людей из-за их неосторожности. Во мне роились
опасения, что они вот-вот почувствуют, в какую ловушку их завлекла
самоуверенность, и что добродетель, к которой привыкли их сердца, не допустит
положения, о котором я мечтал, помня о своем состоянии и об обещании
Брахмы.
Наконец я понял по взглядам Альмаиды и Моклеса, становившимся
все менее робкими и все более вожделеющими, что их удерживал не
страх перед падением, а затруднение, которое проистекало из-за неуме-
Часть первая
201
ния взяться за дело. Их обоих терзало искушение, они разделяли желание
и соблазн познать неизведанное. Людям, прошедшим выучку в свете,
данная ситуация не показалась бы затруднительной, но Альмаида и Моклес,
не знавшие искусства взаимовыручки, не решались довериться друг
другу и выражали свои чувства взглядами, в которых мерцала лишь слабая
тень огня, снедавшего их. Если даже они и угадывали в друг друге
сходные мысли, осознавали ли они, в какой степени им обоим хотелось
одного и того же? Какой стыд пал бы на голову того, кто заговорил бы
первым, когда бы ему довелось натолкнуться на обломки добродетели,
уцелевшие в сердце другого! Но как объясниться, если каждый имел веские
основания для того, чтобы хранить молчание? Хотя Альмаида была
менее стойкой, чем Моклес, все равно ей хватало выдержки, чтобы
пребывать в бездействии и выжидать. К благоразумию, которое она издавна ис-
поведывала, присоединились свойственные ее полу представления о
стыдливости и благопристойности, не позволявшие ей открыться, и, хотя
многие женщины легко нарушают эти установления, Альмаида или в
силу неискушенности, или из-за несклонности к кокетству страшилась
презрения, которого, по ее мнению, заслуживал подобный поступок. К тому
же она не знала, как Моклес отнесется к тому, что она сделает первый
шаг. Возможно, будь она уверена, что он, пусть даже презирая ее, все же
захочет ответить ей взаимностью, она проявила бы легкомыслие; но что,
если он ограничится лишь презрением?
Некоторое время они терзались над тем, как объясниться, не опасаясь
позора неудачи, затем Моклес, сочтя, что откровенное признание ранит его
гордость и унизит его достоинство, решил прибегнуть к софизму42; впрочем,
не исключено, что софизм потребовался ему не столько для того, чтобы
провести Альмаиду, сколько для того, чтобы, положившись на разум,
выбрать, как именно действовать дальше, возможно также, он хотел обмануть
самого себя или принять меры предосторожности на случай, если его
попытка окончится плачевно для его чести. Если бы он употребил хоть толику
искусства, пущенного им в ход для самообольщения, на то, чтобы защититься
от соблазна или же чтобы оправдать свое вожделение!
- Черт побери! - не выдержал Султан. - Если у него ничего не
получится, то уж никак не потому, что он мало думал об этом!
- Вот уже не знаю, - вступила в разговор Султанша, - почему вам не
нравится, что он размышляет. По-моему, положение, в котором он оказался,
должно было навести его хотя бы на некоторые соображения.
- Вот именно, - ответил Шах-Бахам, - что на некоторые! И потому, что
оно наводило лишь на некоторые соображения, совсем не следовало
множить их. Видимо, эта парочка сильно вожделела, если за все то время, пока
длилась эта тягомотина, они не сумели обрести присутствия духа.
- О, вы отважились на мудрую сентенцию! - не унималась Султанша.
202
Софа
- Отважился?! - воскликнул Султан. - Позволено ли мне
поинтересоваться, что означают ваши слова? Не знаю, отыщется ли в целом свете
Султан, способный снести вашу манеру говорить столь неуважительно!
- Я только хотела сказать, - ответила Султанша, - что ваша сентенция
неверна. Все эти смутные мысли, которыми были заняты Альмаида и Мок-
лес, пронеслись вихрем в их душах; и если вы дадите себе труд задуматься,
то поймете, что то, о чем уже четверть часа толкует Аманзей, длилось не
более двух минут.
- Что ж, - заметил Султан, - наш рассказчик просто глуп, если ему
потребовалось столько времени, чтобы поведать нам о том, что промелькнуло
в мыслях людей, о которых идет речь, за считанные минуты.
- Интересно, - сказала Султанша, - как бы вы справились с такой задачей.
- У меня есть некоторые основания полагать, что у меня это получилось
бы неплохо, - парировал он. - Но я поступил бы куда мудрее: я не стал бы
затруднять себя рассказом о том, что плохо поддается изложению.
- Мысли, в которые погрузился Моклес, его желания, усилия,
направленные на то, чтобы их подавить, удовольствие, которое ему
доставляли его мечты, придавали ему столь серьезный и озабоченный вид, что
Альмаида сочла наконец возможным поинтересоваться, отчего он так
долго молчит.
- Боюсь, - добавила она, - вас занимают невеселые думы.
- Вы правы! - ответил он. - И тому способствовала ваша история.
Казалось, его слова удивили Альмаиду.
- В этом нет ничего странного, - продолжил он. - Мне бы не хотелось,
чтобы то, что я собираюсь вам сказать, шокировало вас, хотя вряд ли вы
ожидаете услышать нечто подобное из моих уст. Мне жаль, что молодой
бесстыдник, так скверно обошедшийся с вами, не успел довести до конца
свое преступление.
- Ах, Моклес, - вскричала она, - отчего вы так говорите?
- Оттого, - ответил он, - что тогда вы смогли бы рассеять сомнения, о
силе которых вы только что поведали и которые давно одолевают меня, но
раз вы не можете ответить на мои вопросы, мы оба останемся в неведении -
ведь для меня было бы слишком опасным расспрашивать о том, что меня
занимает, кого-либо, кроме вас. Мое любопытство вызывают вещи, которые,
в силу своей природы, не должны интересовать человека моего склада и
моей профессии, и тот, кто не знает меня так хорошо, как вы, сразу бы
приписал мою любознательность причинам, не делающим мне чести.
- Конечно, - промолвила она, - вы смело можете довериться мне.
- Именно поэтому, - снова заговорил он, - мне хотелось бы, чтобы вы
оказались более осведомленной в интересующем меня вопросе; вы вряд ли
стали бы что-либо скрывать от меня, ведь, я думаю, вы уверены во мне так
же, как я в вас. Если бы я сомневался в вашей дружбе или в том, что вы пол-
Часть первая
203
ностью полагаетесь на мою скромность, искренность, с которой вы
поверили мне ваши самые сокровенные чувства, убедила бы меня в противном.
- Скажите же, - ответила она, - что вас занимает. Быть может,
хорошенько подумав, мы сможем найти ответ...
- О, нет! - прервал он ее. - Это будут лишь предположения, а то, что
вызывает мое любопытство, требует точных знаний. И, чтобы не вводить вас
в беспокойство, я скажу вам, что я имею в виду, и вы сами оцените, могу ли
я, с моим образом мыслей, оставаться равнодушным к глубокому
невежеству, которое затрагивает столь важный предмет. К тому же вас это, видимо,
тоже занимает, поскольку не может быть, чтобы такую добродетельную
особу, как вы, не терзали похожие думы.
- Вы пугаете меня! - воскликнула Альмаида. - Говорите же, прошу вас!
- Так вот, - начал он, - я думаю, что, возможно, нет большой заслуги в
том, чтобы всегда следовать чувству долга.
- Возможно, - сказала она, рассердившись, что разговор приобрел
серьезный оттенок.
- Несомненно, - продолжил он, - и я постараюсь убедить вас в этом. Вам
не довелось почувствовать всю сладость любви (поскольку, что бы вы там ни
думали, трудно сомневаться в том, что ваше приключение с тем молодым
человеком дало вам лишь очень приблизительное представление о ней); что до
меня, то я всегда бежал соблазна. Разве это дает нам основания считать себя
праведниками? Но, возразите вы мне, нас одолевали желания, и мы смогли
совладать с ними. И что, действительно ли это такая большая победа?
Понимаем ли мы, в чем состояли наши желания? Уверены ли мы, что и вправду
испытывали их? Нет! Нас провело наше собственное высокомерие; то, что
мы принимали за жгучее желание, было, наверное, лишь легким соблазном.
Возможно, нас вводит в заблуждение наше неведение. Слава Богу! Но если
правда (а боюсь, что так оно и есть), что мы только поддались стремлению
преувеличить наши заслуги или даже уверить себя в том, что они
действительно существуют, сколь преступно заблуждение, в котором мы
пребываем! Мы льстим себе, называя себя добродетельными людьми, в то время как,
быть может, мы куда более грешны, чем те, кого мы осмеливаемся осуждать,
поскольку наделены ко всем прочим порокам еще и гордыней.
- Вы правы, - согласилась Альмаида. - Как все это прискорбно!
- Эта мысль терзает меня не первый день, - заметил он печально, - и она
тем более огорчительна, что есть только один способ излечиться от
сомнений, довольно простой, но опасный.
- Какой же? - спросила она. - Поскольку я нахожусь в таком же
положении, что и вы, мне необходимо знать, что вы имеете в виду.
- Только то, что я хорошо изучил вас, - ответил он, - позволяет мне
открыться вам. Мы находим друг друга добродетельными, вы и я, но, как я уже
говорил вам, мы, по сути, не знаем, о чем говорим; надеюсь, вы не станете с
204
Софа
этим спорить. В чем состоит добродетельность? В полном отказе от того, что
больше всего дразнит наши чувства. Но кто может знать, что больше всего
дразнит чувства? Только тот, кто все испытал. Если знание достается лишь
опытным путем, значит те, для кого он закрыт, ничего не знают: что же
тогда приносится ими в жертву? Ничего, химера; ибо как еще назвать влечение
к тому, что не познано? И если, как принято считать, лишь тяжесть
приносимой жертвы придает ей цену, много ли стоит дар, положенный на алтарь,
коли он не что иное, как химера? Вот когда человек, познавший наслаждение и
открывший в себе тягу к нему, отказывается от него, умерщвляет свою
плоть, тогда и только тогда он достигает высшей, единственно истинной
добродетельности; но ни вы, ни я не можем ею похвастаться.
- Совершенно с вами согласна, - сказала Альмаида. - Нам и вправду
особенно нечем гордиться.
- И тем не менее мы гордимся, - живо продолжил он, опасаясь, что
Альмаида, задумавшись над его словами, разгадает его истинные намерения. -
Мы осмеливаемся верить в свою добродетельность, а это прямо ведет нас к
гордыне. Мне приятно видеть, - продолжил он, - что вы разделяете мое
мнение, и это похвально; действительно, пока мы не в состоянии сопоставить
порок и добродетельность, мы заблуждаемся относительно друг друга. К
тому же (ибо этот грех, каким бы большим он ни был, не отменяет другие) мы
все время одержимы желанием познать то, от чего отказываемся из-за
упрямства. Душа, изнывающая, пусть даже помимо своей воли, от
любопытства, с большим небрежением относится к долгу. Прохлаждаясь, она теряет
способность мыслить, предвидеть, следовать тому, что рождается в ней,
углубляться в себя и изучать свои движения, в то время как, освободившись от
навязчивой идеи, мучающей ее, она смогла бы полностью предаться
добродетели. Если бы ей открылось то, к чему она так стремится, она бы
успокоилась. А чем спокойнее душа, тем она праведнее. Следовательно,
необходимо познакомиться с пороком, чтобы меньше отвлекаться от
добродетельных занятий и утвердиться в собственной праведности.
Хотя расположение духа, в каком пребывала Альмаида, позволило ей
усвоить лишь то, что вера в необходимость приобретения новых познаний
освобождает от угрызений совести, софизм Моклеса смутил ее. Некоторое
время она пребывала в замешательстве, но желание узнать, способна ли она
к вожделению, или внутренняя готовность пасть возобладали над страхом, и
мне показалось, что она была более удивлена, чем напугана услышанным.
- Так вы полагаете, - спросила она дрожащим голосом, - что нам стоит
попробовать?
- Я в этом не сомневаюсь, - ответил он. - Прошу вас, взгляните на
положение, в котором мы оказались, и судите сами, так ли уж оно
привлекательно.
- Да, я вижу, что оно на самом деле ужасно, - проговорила она.
Часть первая
205
- Во-первых, - продолжил Моклес, - мы не знаем, добродетельны ли
мы: это само по себе довольно прискорбно для людей, подобных нам. Но это
сомнение, каким бы чудовищным оно ни было, не единственное несчастье,
которое навлекает на нас наше положение: очевидно, что мы, гордясь
лишениями, которым себя подвергаем, не думаем о тысяче важных вещей,
полагая, что они к нам не имеют ни малейшего отношения; вследствие этого,
прикрываясь добродетельностью, существующей, возможно, лишь в нашем
воображении, мы совершаем преступления или (что хотя и не столь важно,
но все же дурно) уделяем меньше внимания добрым поступкам. Наконец,
если мы и правда такие, как нам казалось до настоящего момента, думаю,
следует отнестись с недоверием к добродетели, которую мы себе выбрали, и
уж, во всяком случае, не придавать ей большого значения. Предоставьте
человеку самому выбрать себе ношу, и он, конечно же, взвалит на себя ту,
которая окажется легче.
- Я понимаю вас, - вздохнула она, - вы хотите сказать, что мы именно
так и сделали. Но, - продолжила она, потупив взор, - как же не мучиться
угрызениями совести, как же не терзаться, если единственный способ
освободиться от наваждения только усугубляет муки!
- Этот способ, - с живостью откликнулся он, - по сути, куда менее
опасен, чем это может показаться. Я думаю (и дай то Бог, чтобы мне не надо
было об этом думать), что, устав от неопределенности, чувствуя
необходимость раз и навсегда разделаться с ней, мы мечтаем о возможности вкусить
наслаждение и составить собственное мнение о его притягательности; так в
чем же опасность такого опыта? В том, что мы, познав его, увлечемся
удовольствиями? Готов признать, что для неокрепших душ существует такая
опасность, но, по-моему, скажу без ложной скромности, мы-то можем быть
в себе уверены. Если окажется, что это удовольствие куда менее
привлекательно, чем говорят, а, признаюсь, я именно так и думаю, то нам незачем
будет тратить время на вещи, отказ от которых признается всеми за доблесть;
в случае же если, напротив, оно способно смутить душу в той степени, как
принято полагать, мы будем претерпевать лишение с радостью, только
возрастающей от уверенности, что эта жертва приближает нас к
добродетельности.
Эти доводы, несомненно вызвавшие бы негодование Альмаиды, будь
она в обычном настроении, произвели на ее душу, искавшую хотя бы
видимости оправданий, чтобы сдаться, именно тот эффект, на который
рассчитывал коварный Моклес. Взглянув на него с неуверенностью и смущением,
она сказала:
- Я разделяю ваши чувства. Нам необходимо пройти через это
испытание, но к кому мы можем обратиться за помощью, ничего не опасаясь?
Сказав это, она томно склонилась к Моклесу, который постепенно
подбирался к ней, и внезапно оказалась в его объятиях.
206
Софа
- Полагаю, - ответил он, - что, решившись пройти через это испытание,
мы должны рассчитывать только друг на друга: вы доверяете мне, я вам; и,
поскольку мы оба понимаем, что к действиям, казалось бы, ранящим
добродетельность, нас на самом деле вынуждает поиск ее высшей ступени, нам не
придется опасаться, что любопытство, вызванное исключительно добрыми
побуждениями, превратится в привычку. В любом случае мы окажемся в
выигрыше, ибо воспоминание от нашего падения будет удерживать нас от
высокомерия.
Альмаида не отвечала, и казалось, она все еще колебалась. Моклес,
хотевший любой ценой склонить ее к согласию, предложил, надеясь
сломить ее сопротивление, действовать осмотрительно, шаг за шагом, чтобы,
как он заявил, вовремя остановиться, если уже первые опыты дадут им
основание положить конец сомнениям. Она согласилась. Вскоре они
утратили чувство реальности и, несмотря на их неумелость и неловкость, сумели
разжечь друг в друге желание, заставившее их забыть о заключенной
сделке. То ли они полагали, что следует продолжать, поскольку им не
хватало ощущений, то ли, испытывая их в полной мере, просто не могли
остановиться...
- И тут вы превратились во что-нибудь другое? - прервал его Султан.
- Нет, Сир, - ответил Аманзей.
- Тогда я ничего не понимаю, - удивился Шах-Бахам, - и даже знаю,
почему: это выше всяческого понимания. Ведь ясно же, что они сделали то,
что хотел ваш Брахма.
- Поначалу я был того же мнения, что и Ваше Мудрейшее Величество, -
ответил Аманзей. - Но потом я понял, что один из двоих слукавил.
- Представляю, как это вас взбесило, - заметил Султан. - Но скажите,
кого из них вы больше подозревали?
- Рассказ Альмаиды, - ответил Аманзей, - зародил во мне некоторые
сомнения, и крайнее неумение, которое она продемонстрировала, отдаваясь
Моклесу, хотя и казалось естественным, не помешало мне предположить,
что, рассказывая о своем приключении, она кое о чем умолчала и что
именно опущенная часть истории помешала мне выйти из моей тюрьмы.
- Таковы женщины! - воскликнул Султан. - О, да! Думаю, вы правы.
Конечно! Я не стал говорить, но был готов держать пари, что она
сжульничала. Однако, если бы я вовремя поделился своей догадкой, кое-кто сразу же
обвинил бы меня в вольнодумстве. Уж будьте уверены, это она лишила вас
свободы!
- Это более чем вероятно, - ответил Аманзей, - но есть еще одна вещь...
Мне показалось, что Моклес не был столь неопытен, как можно было
предположить, учитывая его безупречность.
- Тогда получается другая картина, - согласился Султан, - ибо... Ну да!
Теперь ясно, что все дело в нем!
Часть первая
207
- Но, в конце концов, остановитесь же на чем-то одном! - возмутилась
Султанша. - Кто виноват: он или она? Почему бы вам, чтобы не слишком
мучиться, не признать, что они оба хитрили?
- Действительно, - ответил Султан, - могло ведь быть и так; впрочем,
мне кажется, что было бы куда более забавно, если бы виновным
оказался кто-нибудь один. Не знаю, почему, но меня бы это больше устроило.
Но о чем у них дальше была беседа? Нельзя сказать, что это меня не
интересует.
- Моклес первым обрел прежнее расположение духа: мне показалось,
что он несказанно удивился, обнаружив, что его обнимает Альмаида. По
мере того как разум возвращался к нему, удивление уступало место ужасу. Он
словно не мог поверить во все происшедшее и хотел убедить себя, что он
ошибается, и что все это не более, чем страшный сон. Вынужденный
признать, что несчастье действительно произошло, он с болью вспомнил все
уловки, на которые он пошел, чтобы соблазнить Альмаиду, преступную
страсть, ослепившую его, искусство, с которым он шаг за шагом добился
своего, и впал в самое горькое отчаяние.
Наконец Альмаида открыла глаза, но, пребывая все еще словно в
тумане, не проявила такой же зоркости, как Моклес, и поэтому испытала скорее
смущение, чем горе. Но то ли вид безутешного Моклеса пробудил в ней
уныние, то ли она сама поняла, что пропала, как бы то ни было, она
заплакала и сквозь слезы воскликнула:
- Ах, Моклес, вы погубили меня!
Моклес не стал отпираться: он каялся в том, что соблазнил
Альмаиду, и, жалея несчастную женщину, пытался утешить ее. Сознавая свое
унижение, он говорил о том, как опасно слишком полагаться на свое
благоразумие. Наконец, излив в словах свое горькое отчаяние и
искреннее раскаяние, он навсегда покинул Альмаиду, так и не осмелившись
поднять на нее глаз.
Оказавшись в одиночестве, Альмаида никак не могла успокоиться и
продолжала терзаться угрызениями совести. Она проплакала всю ночь, коря
себя за свое поведение, в том числе и за упрек Моклесу, в котором она видела
проявление собственной гордыни. На следующий день Моклес решил
подвергнуть себя самому суровому затворничеству...
- Этот поступок окончательно убеждает меня в том, что виновным был
не он, - прервал рассказ Султан.
- А Альмаида, - продолжил Аманзей, - по-прежнему безутешная,
спустя несколько дней последовала его примеру.
- Странно, - заметил Султан. - Это снимает с нее подозрения. Никогда
еще мне не доводилось сталкиваться со столь трудной проблемой, и я
предоставляю решать ее тем, кому она придется по зубам.
208
Софа
Глава десятая,
В КОТОРОЙ, СРЕДИ ПРОЧЕГО,
ПРЕДЛАГАЕТСЯ СПОСОБ УБИТЬ ВРЕМЯ
Хотя во мне проснулся вкус к порядочности, к тому моменту, когда Мо-
клес соблазнил Альмаиду, я уже начал скучать в ее доме. Если бы я покинул
этот дом днем раньше, я был бы убежден, что в Агре проживают, по
меньшей мере, две женщины, над которыми любовь не властна. Однако
проявленное мною терпение спасло меня от этого заблуждения.
Оставив Альмаиду, я долго скитался. Причуды и пороки, уже изученные
мной, вряд ли могли позабавить меня, и я старательно обходил стороной
дома, где все выглядело благопристойно и чинно. Скитания привели меня в
пригород Агры, застроенный хорошенькими домиками. Я облюбовал себе
дом, принадлежавший молодому вельможе, который, впрочем, не жил в
нем, а только изредка наведывался туда инкогнито.
На следующий день после того, как я водворился в софу, некая дама
тайком проскользнула в дом ближе к вечеру. Судя по пышности ее одежды и
благородству манер, она принадлежала к высшему свету. Ее очарование
сразило меня. Она была также скромна, как Фенима, но куда более
прекрасна; ее лицо дышало такой нежностью, что я почувствовал живой интерес к
ней. Она вошла в кабинет, где я находился, с таким видом, словно ее
поступок вызывал в ней самой удивление. Когда она заговорила с рабом,
проводившим ее в кабинет, я услышал, как дрожит ее голос; она в задумчивости
опустилась на меня, не решаясь поднять глаз, и меланхолия, в которой она
пребывала, ясно указывала на то, какого рода чувства роятся у нее в душе.
Должно быть, ее размышления носили весьма печальный характер,
поскольку, оказавшись в одиночестве, она не один раз вздохнула, и глаза ее
налились слезами. Однако ее печаль выглядела скорее тихой, чем жестокой, и,
казалось, она плакала не от горя, а от страха перед горем, которое
предчувствовала. Едва она успела отереть слезы, как в кабинет, напевая,
стремительно вошел прекрасно сложенный и роскошно одетый молодой человек.
Его появление окончательно смутило даму; не глядя на него, она
покраснела и отвернулась, пытаясь скрыть свое волнение.
Тот приблизился к ней с выражением самым галантным, но не особенно
нежным, и бросился к ее ногам.
- Ах, Зефиса!43 - сказал он. - Неужели это не мираж? Неужели я и
вправду вас вижу? Вы ли это? Та, кого я обожаю, здесь! Я не смел и мечтать
об этом! Боже мой! И я держу вас в объятиях!
- Да, - ответила она со вздохом, - но мне не следовало являться сюда.
Мне стыдно за то, что я здесь, и тем не менее я пришла.
Часть первая
209
- Ах, вы осчастливили мое уединенное жилище! - воскликнул он, целуя
ей руку.
- Кто знает, - отвечала она, - быть может, вскоре мне придется
пожалеть об этом. Доказательства моей слабости будут все больше терзать меня
по мере того, как станут стираться из вашей памяти, а они непременно
сотрутся из вашей памяти, Мазульхим44, и если вам случится однажды
вспомнить о них, то лишь для того, чтобы посмеяться надо мной за то, что я
сделала для вас.
- Какие глупости! - обиженно отозвался он. - Как можно, чтобы такая
красавица, как вы, предавалась столь дурацким фантазиям! Ведь я
действительно никого никогда не любил так нежно, как вас. Неужели вы
сомневаетесь в моих чувствах?
- К несчастью, они мне слишком хорошо известны, - промолвила она
грустно. - Я знаю, что от вас нельзя ждать ни преданности, ни верности; я
сомневаюсь, что вы вообще способны любить, но, несмотря на это, я
люблю вас. Я уже говорила вам об этом и пришла сюда сегодня, чтобы
повторить свое признание. Я прекрасно отдаю себе отчет в своей слабости, и мне
жаль себя; я понимаю, что ждет меня впереди, но покоряюсь этой участи.
Разум нашептывает мне, что следует быть осмотрительной, а любовь
заставляет меня действовать безоглядно.
- Ну, знаете, - сказал он, - не доверяя моим чувствам, вы наносите мне
обиду, смертельную обиду!
- Ах, Мазульхим, - воскликнула она, - так-то вы успокаиваете меня?
Понимаете ли вы, что я приношу вам в жертву? Я люблю вас, Мазульхим.
Знай вы меня лучше, вы не стали бы сомневаться в этом. Сердце, которое
обожает вас (и вам это прекрасно известно), принадлежит лишь вам.
Скажите же, что вы хотите владеть им всегда. Если бы вы знали, как мне хочется
верить, что вы меня любите, вы бы не отказали мне в этой просьбе хотя бы
из милосердия. Отныне мое счастье в ваших руках. Видеть вас, любить вас -
вот мое единственное желание, вот то, что составляет смысл моей жизни.
Неужели вы неспособны думать обо мне так же, как я думаю о вас?
- Но, - вскричал он, - я решительно...
- Мазульхим, - прервала она его, - предоставьте мне оправдываться за
вас, право, я справлюсь с этим лучше, так как мое желание поверить в вашу
любовь куда сильнее, чем ваше желание убедить меня в искренности ваших
чувств.
- Уверяю вас, сударыня, - произнес он скорее серьезным, чем
растроганным, тоном, - я и не предполагал, что доказательства моих нежных
чувств, которые я предъявлял вам на протяжении целых шести месяцев,
ценятся вами так низко. Видимо, безоглядная любовь, которую я имел счастье
внушить вам, всегда содержит в себе каплю подозрительности. Но если бы
капля подозрительности, содержащаяся в ваших словах, отравляла только
210
Софа
меня, - добавил он, привлекая ее к себе, - я не стал бы жаловаться;
удовольствие от того, что вы так чувствительны, заставило бы меня забыть о вашей
несправедливости. Но речь идет о вашем спокойствии, и если бы вы лучше
понимали мои чувства, вы бы легко поверили, что оно мне гораздо дороже,
чем мое собственное.
Сказав это, он собрался было позволить себе более смелые ласки, но Зе-
фиса воспротивилась так решительно, что он, не веря, что в наше время
возможны подобные церемонии, воззрился на нее с изумлением.
- Как, Зефиса! - произнес он. - Так-то вы любите меня? Мог ли я
ожидать, что найду в вас подобное равнодушие?
- Мазульхим, - отвечала она, плача, - соизвольте выслушать меня!
Конечно, когда я шла сюда, я понимала, что ждет меня, и я бы не стала
проливать столько слез, будь во мне меньше решимости принадлежать
вам. Я люблю вас, и, если бы я следовала лишь голосу сердца, я бы
бросилась в ваши объятия. Но, Мазульхим, еще не поздно, и мы пока не
связаны узами, которые могли бы вынудить вас скрывать ваши истинные
чувства. Признание в том, что вы не любите меня, когда бы оно ни
прозвучало, было бы ужасно для меня, но, судите сами, в каком положении я
окажусь и как жестоко будет с вашей стороны, если я узнаю об этом лишь
после того, как из-за моей снисходительности вы получите все то, о чем
мечтаете! Вы одержимы желанием нравиться, вечные успехи приучили вас к
непостоянству, вы ищете побед, а не любви. Быть может, я для вас
ничего не значу, хоть вы и добиваетесь меня? Прислушайтесь к тому, что
говорит ваше сердце, вы - хозяин моей судьбы, и я не заслуживаю того,
чтобы вы разбили ее. Если вас влечет ко мне не искреннее чувство, если вы
не любите меня так, как я люблю вас, не бойтесь признаться мне. Пасть
жертвой любви не стыдно, но я умру от горя и раскаяния, если пойму, что
стала жертвой каприза.
Эти слова и слезы, которыми она заливалась, когда говорила, не
смягчили Мазульхима, однако он сменил холодный тон на более теплый.
- Я тронут вашими страхами, - сказал он, - но вряд ли я заслуживаю
такой несправедливости. Неужели вы думаете, что я путаю вас с теми
презренными особами, которые занимали меня еще до недавнего времени? Согласен,
мой прежний образ жизни дает основания для вашей подозрительности; но,
Зефиса, стоит ли усугублять тот нелепый факт, что я проводил свои досуги с
подобными женщинами, еще и позором того, что я якобы влюблялся в них?
Да, вы правы, я опасался любви, и что ж! лучший способ избегать этого
чувства - это проводить время с безнравственными женщинами, лишенными
каких бы то ни было принципов, что служило мне верной защитой от страсти,
хотя я и увлекался их прелестями. Вы говорите, что успехи у женщин
приучили меня к ветрености. Должно быть, вы мало уважаете меня, если полагаете,
что эти успехи для меня что-то значат, тогда как я не смел еще и пальцем до-
Часть первая
211
тронуться до вас! Победы,
которыми я, по вашему мнению, так
горжусь, заставляли меня внутренне
содрогаться, и, если бы это было
возможно, я был бы счастлив
отказаться от них, раз они принижают меня в
ваших глазах!
Услышав это, Зефиса немного
успокоилась и протянула ему руку,
и в ее красивых глазах, которые она
не отводила от Мазульхима, я видел
нежный и ласковый свет,
зажженный искренней любовью.
- Да, Зефиса, - говорил Мазуль-
хим, - я люблю вас! Ах! Как
страстно я вас люблю! Какую радость я
испытываю, когда сейчас, у ваших
ног, понимаю, что не любви я был
обязан восторгами, оставшимися в
прошлом! Как приятна мне мысль
об этом, и как чудно, что я осознал
это лишь благодаря вам! Если бы
не ваше очарование, если бы не
ваша добродетельность, я бы,
возможно, так и не узнал бы чувства,
от которого до встречи с вами я
зарекался. Только вам я обязан этим
чувством, и только ради вас я готов
носить его в сердце всю жизнь!
- Ах, Мазульхим, - воскликнула
она, - как мы будем счастливы,
если вы и вправду верите в то, о чем говорите! Любите меня сейчас, и вы
будете любить меня всегда!
С этими словами она склонилась к Мазульхиму и нежно обняла его. Их
лица почти соприкасались, и ее глаза наполнились нежным хмелем, не
замедлившим опьянить душу Мазульхима. Боже! Какими стали ее глаза, когда
Мазульхим изгнал из них тревогу! В эту минуту Зефиса могла сравниться
разве что с Фенимой.
Зефиса была почти готова сделать Мазульхима самым счастливым
возлюбленным в мире, но жившие еще в ней опасения и, возможно, ее
добродетельность делали для нее непереносимой мысль о том, что он уже стоит
на пороге блаженства.
212
Софа
- Вы не сомневаетесь в моей любви, - проговорила она, слабо
сопротивляясь ему, - так не могли бы вы...
- Ах, Зефиса! - перебил он ее. - Неужели вы все еще не решаетесь явить
мне доказательства вашего чувства?
Зефиса вздохнула и ничего не ответила. Побежденная больше своей
любовью, чем заверениями возлюбленного, она наконец покорилась ему.
Счастливец Мазульхим! Какие прелести представились его взорам, а
стыдливость Зефисы лишь придавала им цены! Мазульхим выглядел искренне
пораженным. Все в ней удивляло его, все в ней заслужило комплимента и
поцелуя. Я был далек от того, чтобы осудить его за это, напротив, я разделял
его восторг, но мне показалось, что мизансцена, в которой он участвовал,
слишком затянулась, как если бы она заставила его забыть о своем прежнем
желании.
Известно, что утонченность позволяет получать наслаждение от
пустяков. Только истинное чувство подсказывает нежные паузы и без
устали разнообразит их, однако если оно и прибегает к этим удовольствиям,
то не для того, чтобы ограничиться ими, а для того, чтобы разжечь
пламя с новой силой. Я был настолько высокого мнения о Мазульхиме, что
сначала приписал его нерешительность слишком сильному чувству, тем
более что прелести Зефисы давали для этого основания. По всей
видимости, Зефиса так же расценивала поведение Мазульхима и довольно долго
считала его вполне естественным. Но я не мог понять, почему пыл столь
нежного любовника, спешившего навстречу наслаждению, угасает по
мере того, как тот открывает новые источники для любовного
вдохновения. Мазульхим был оживлен, но недостаточно страстен; он сыпал
похвалами, восхищался, но разве любовник доказывает свое вожделение
комплиментами?
Несмотря на то что Мазульхим умело скрывал свое несчастье, Зефиса
заметила, как мало успеха имели у него ее чары; тем не менее она не
казалась ни удивленной, ни шокированной. Подняв на него свои дивные глаза,
она сказала ему с нежной улыбкой:
- Встаньте! Я счастливее, чем предполагала.
Услышав эти слова, Мазульхим счел их оскорбительными и предпринял
тщетную попытку доказать Зефисе, что мнение, к которому она, видимо,
пришла, было ложным. Наконец он вынужден был сдаться.
- Увы, сударыня! - проговорил он тоном, весьма позабавившим меня. -
Должно быть, вы слишком огорчили меня.
- Ваше смущение радует меня, - ответила Зефиса, - но ваша скорбь
обидела бы меня. Было бы жестоко с вашей стороны думать, что мое сердце
разбито...
- Ах, Зефиса, - прервал он ее, - как ужасно, что это произошло с вами.
Мне нет оправданий!
Часть первая
213
- Не стоит так огорчаться! - ласково сказала Зефиса. - Я верю, что вы
любите меня, я поверила в это минуту назад, и то, в чем вы упрекаете себя,
является лучшим доказательством вашей нежности.
- Ну, ну, - заметил Султан, - все это годится, как принято говорить, для
красного словца! Должно быть, в глубине души эта дамочка была
разочарована. Во-первых, это происшествие прискорбно само по себе, а очевидно, что
то, что является прискорбным для всех женщин, не может доставить
удовольствия одной из них, если только не признать, что она сумасбродка. К тому же,
когда происходят подобные вещи, чувство оказывается не столь
целительным, как можно предположить. Кстати, я помню одну женщину (я тогда был
совсем юным, черт побери), с которой однажды... Не могу сказать, как это
произошло, но мы остались наедине... Впрочем, меня подобные ситуации
никогда не смущали; так вот, внезапно... как бы это сказать... Короче, напрасно
я держал перед ней любезные речи, - чем больше я говорил, тем сильнее она
плакала. Только один раз я видел подобное зрелище, но, должен сказать, оно
очень трогает. А ведь я сказал ей среди прочего, что не стоит отчаиваться и
что я не нарочно...
- Ээ! Может быть, хватит об этой ужасной истории? - перебила его
Султанша.
- Вот это мило! - воскликнул Шах-Бахам. - В собственном дворце мне
не дают уже и рта раскрыть! Да, как я говорил, - продолжил он, - по ее
поведению я понял, что нет таких женщин, которым подобная ситуация
доставила бы удовольствие; следовательно, та особа, которая была с Мазульхи-
мом и говорила такие красивые слова...
- Предпочла бы вовсе ничего не говорить, - закончила за него
Султанша. - Что ж, это возможно. Но тем не менее вам следует знать: то, что вы
находите столь оскорбительным для женщины, не столько огорчает ее,
сколько приводит в замешательство.
- А! да, - снова заговорил Султан, - вероятно, мне следовало бы... ну
ладно, не пугайтесь! Продолжайте же, Эмир.
- Как ни смущен был Мазульхим постигшей его неудачей, мне
показалось, что то, как Зефиса отнеслась к случившемуся, поразило его куда
больше.
- Если что-то может утешить меня в этой ужасной напасти, - промолвил
он, - так это сознание того, что ваше сердце не переменилось ко мне. Любая
другая женщина, окажись она в таком положении, возненавидела бы меня!
- Уверяю вас, - ответила Зефиса, - что и я бы почувствовала ненависть,
если бы приписала этот казус вашей холодности; но коли вы любите меня,
как вы утверждали и чему я склонна верить, и коли только это чувство
помешало вам, я нахожу наше приключение в тысячу раз более лестным для
себя, чем весь ваш пыл. Я слишком люблю вас, чтобы не верить в вашу
любовь. Возможно, я слишком тщеславна, - добавила она с улыбкой, - чтобы
214
Софа
винить себя в том, что произошло, но каковы бы ни были мотивы моей
снисходительности, важно только одно: я прощаю вам это так называемое
преступление. Однако должна предупредить вас, что не стану хранить такое же
спокойствие, если у меня возникнут подозрения в вашей неверности. Да, Ма-
зульхим, храните мне верность, и пусть тогда все будет так, как сейчас! Я
готова пожертвовать тем, что вы называете наслаждением, поскольку эта
жертва окупится уверенностью в вашем постоянстве.
В то время как Зефиса говорила, Мазульхим, не желавший смириться с
тем, что он остается в долгу у своей возлюбленной, употреблял все усилия,
чтобы справиться со своей незадачей. Зефиса позволяла ему действовать с
кротостью, которой он, должно быть, в глубине души был не очень рад,
поскольку ее покладистость с каждой минутой лишала его последних надежд
найти себе оправдания. Ее отзывчивость постепенно возрастала и
выражалась все более нежно. Зефиса уже не сопротивлялась, она все более
благосклонно принимала его знаки внимания, в ее глазах вспыхнуло
несвойственное им пламя; возможно, только в этот момент она действительно была
готова отдаться ему, - ранее она лишь терпела домогательства Мазульхима,
теперь же разделяла его желание. О первоначальном отвращении, которое
обычно многие женщины считают необходимым выказать, не испытывая его
на самом деле, было забыто. Зефиса уже без смущения выслушивала
комплименты Мазульхима и, видимо, даже была не прочь, чтобы он перешел к
новым. Она раскраснелась, но это не была краска стыдливости. Зефиса уже не
отводила взоров от того, что раньше, казалось, ранило ее целомудренность.
Ее сочувствие к Мазульхиму было, видимо, безграничным. Однако...
- Ага! - прервал его Султан, - однако... Понимаю! Да он само
нетерпение, этот молодой человек! Едва ли есть что-либо более непереносимое,
чем этот бесконечный процесс, в который он вовлек Зефису. Я уверен, что
она вот-вот разозлится.
- Ну а я другого мнения, - сказала Султанша. - Досадовать на подобное
несчастье значит его заслуживать.
- Положим, - откликнулся Султан. - Но неужели вы думаете, что
женщине может прийти в голову такая мысль? Что до меня, не сомневаюсь, что,
попади я в такую ситуацию, я был бы зол, впрочем, я не стал бы злиться,
если бы оказался более рассудительным. Но послушаем, что сказала Зефиса;
ибо, насколько я понимаю, по этому поводу, как и по любому другому,
каждый может иметь свое мнение.
- Хотя Зефиса была более чем снисходительна, - продолжил Аманзей, -
мне показалось, что напасть, никак не отпускавшая ее любовника, начала ей
приедаться; возможно, она сочла, что заслуживает большего, учитывая ту
помощь, которую оказала ему в отличие от первого раза, или же,
расположенная к нему сильнее в этот момент по сравнению с предыдущим, она
просто более не находила рассудочных доводов, чтобы его поддержать.
Часть первая
215
Мазульхим, не считавший, в отличие от Зефисы, свое положение
совершенно безнадежным или, быть может, привыкший не придавать большого
значения подобным казусам, попытался проделать то, на что бы он никогда
не пошел, будь он более благоразумен или более благовоспитан и относясь
к Зефисе так, как она того заслуживала. По-моему, ей пришлось не по
вкусу это испытание, указывавшее не столько на самомнение Мазульхима,
сколько на его разочарование в ее прелестях.
Несмотря на растерянность, она не смогла удержаться от лукавой
улыбки, словно говорившей Мазульхиму, что подобная дерзость в ее присутствии
неуместна и не может увенчаться успехом. Уверенная в том, что он вскоре
будет наказан за свои нелепые проделки, она поддержала его с отвагой,
которую женщины понапрасну растрачивают при подобных обстоятельствах,
но которая оказывается оправданной в случае успеха. Хотя Мазульхим имел
уже меньше причин жаловаться, чем некоторое время назад, он пребывал в
состоянии, когда ему особенно не с чем было себя поздравить; определенно,
Зефиса не ошибалась, полагая, что все его усилия будут тщетны.
Мне показалось, судя по удивленному виду Мазульхима, что, если ему и
доводилось попадать в подобный переплет, он не привык иметь дела с
женщинами, которые, подобно Зефисе, неспособны были помочь ему побороть
несчастье. Я говорю об этом, вовсе не желая оскорбить ни одну из женщин.
Кто знает, возможно, крайне несправедливо всегда сваливать вину на них.
Как бы там ни было, Мазульхим имел вид столь ошарашенный, что она
не могла удержаться от смеха. Его изумление скорее служило
комплиментом Зефисе и укором другим женщинам.
- Я бы сказала вам об этом, - проговорила она, - но вы не спрашивали,
да и вряд ли вы поверили бы мне.
- И был бы неправ, - ответил он, - однако я не ожидал такого; на
протяжении десяти лет у меня не случалось осечки, и это дало мне основания
предположить, что то, что с вами не дало никакого результата, сработает.
Ах, Зефиса! - добавил он. - Неужели на пороге блаженства я нашел лишь
новый повод для жалоб!
- Я вижу, - сказала она со смехом, - вам и вправду не везет, но,
поверьте, я очень сочувствую вам.
- Зефиса! - проговорил он на этот раз, по-моему, с искренним
воодушевлением. - Ваша прелесть заставляет меня задыхаться от нежности; каждая
минута подогревает мою страсть и мое отчаяние, я чувствую...
- Ах, Мазульхим, - перебила она его, - об утрате какого блаженства вы
так горюете? Нет, если вы действительно меня любите, вам не на что
сетовать. Один мой взгляд должен подарить вам больше блаженства, чем те
радости, которых вы ищете, коли вы обретали их с другими женщинами.
- Ваши чувства чаруют и трогают меня, - сказал он, - но, умножая мою
любовь, они также усугубляют мои сожаления и мою досаду.
216
Софа
- Хватит об этом, - сказала Зефиса, поднимаясь.
- Как! - вскричал он. - Вы хотите покинуть меня? Ах, Зефиса! Не
оставляйте меня на растерзание плачевным обстоятельствам!
- Нет, Мазульхим, - ответила она, - я ведь обещала, что проведу этот
день с вами. Что ж! Надеюсь, он не покажется вам длиннее, чем мне. Но
давайте уйдем отсюда и насладимся прохладой, разлитой в саду; там мы
освежим наши мысли и отвлечемся от грустных предметов. Знаете, Мазульхим,
чем сильнее мы стремимся наслаждаться, тем реже достигаем мечты;
возможно, если мы изменим ход мыслей, нам больше повезет.
Сказав это, великодушная Зефиса направилась к дверям, и Мазульхим с
самым почтительным видом предложил ей руку.
Самым странным в этой истории было то, что Мазульхим, так скверно
распорядившийся этим свиданием, имел в Агре огромный успех у женщин;
среди них не было ни одной, которая бы не была или не стремилась стать
его любовницей; ему, оживленному, любезному, ветреному, коварному, не
нужно было даже трудиться, чтобы сыскать очередную жертву для
вероломства; всем был известен его характер, но каждая хотела ему
понравиться. Он обладал удивительной репутацией. Его считали... Кем только его ни
считали? Но каков он был на самом деле? Было ли что-то, чему он не был
обязан скромности женщин, он, так дурно обращавшийся с ними и вдобавок
относившийся к ним с небрежением?
Погуляв час по саду, Мазульхим и Зефиса вернулись в дом. Я сразу же
попытался прочесть по их лицам, улучшилось ли их настроение за время
прогулки. По унылому виду Мазульхима я понял, что дело обстоит плохо, и
не ошибся. Зефиса лениво опустилась на меня, а Мазульхим устроился на
полу у ее ног45. Он не мог отыскать достойной темы для беседы и, не
находя развлечения, которое он был бы в состоянии предложить ей, погрузился
в задумчивость, с нежностью глядя на нее. Через некоторое время,
устыдившись роли, которую он играл, находясь рядом с самой прекрасной
женщиной Агры, он содрогнулся. Ему хотелось исправить свой промах, но
недавняя неудача еще не изгладилась из его памяти, и он, опасаясь нового
афронта, не знал, на что решиться. В конце концов он испугался, что Зефиса
припишет его молчаливость и холодность равнодушию, а не страху и
раскаянию. Внезапно, словно пробудившись от глубокой летаргии, в которую
Мазульхим был погружен, он обнял ее и осыпал нежными поцелуями. Сначала
Зефиса, казалось, задалась вопросом, стоит ли ей снова подвергаться
домогательствам Мазульхима. Чувства советовали ей проявить благосклонность,
однако они же подсказывали ей, что, не отказывая ему ни в чем, она
проявляет жестокость по отношению к нему. Действительно ли он желал того,
что почитал за счастье, или же, недостаточно зная ее, полагал, что она
будет обижена, если он не проявит достаточно рвения? Что - любовь или
самолюбие - вызывало его нежность?
Часть первая
111
Пока она задавалась этими вопросами, Мазульхим (которым двигало
или только желание выпутаться из неприятной ситуации, или намерение
развеселить Зефису своим непревзойденным искусством любовной игры)
счел необходимым прибегнуть к своим излюбленным пустякам,
очаровательным, когда ими начинается или заканчивается серьезный разговор, но
недостойным, в силу их легкомыслия, подменять его.
Поначалу Зефиса отказывалась включиться в игру, но, поверив в
искренность напора Мазульхима, с которым он добивался от нее гораздо
больше благосклонности, чем ему требовалось, пожав плечами, великодушно
согласилась на то, чему он придавал такое значение и от чего (нужно отдать
ей должное) она ждала куда меньше, чем он.
Ее рассеянный и даже скучающий вид нисколько не смутил Мазульхима,
который лишь умножил усилия, и, поскольку он был истинным сыном века,
знавшим толк в милых пустяках, ему удалось заставить ее отнестись к нему
с большим вниманием; а отсюда был лишь один шаг до интереса. Мелочи,
которые он ей предлагал, утратили для нее свою незначительность, она
сама искала самообмана, в который он ее повергал, и наконец поняла,
источником скольких удовольствий является воображение и как бедна была бы
природа, если бы его не существовало.
В довершение счастья, то, в чем Мазульхим, возможно, не искал
поддержки для себя и что он расценивал лишь как заслуженное вознаграждение
Зефисе, произвело на него самое чудотворное действие. Зефиса была еще
соблазнительнее, чем прежде, и он внезапно почувствовал восторг,
которого напрасно ждал до этого момента, и, охваченный желанием, забыв о
своем несчастье, или скорее раздраженный, чем поверженный им, он, наконец,
одержал славную победу над жестокими обстоятельствами, которые так
долго и мучительно сдерживали его.
- Думаю, - сказал Султан, - правильно сказано: лучше поздно, чем
никогда; это значит, что...
- Не станете же вы разъяснять нам смысл этой фразы, - перебила его
Султанша, - в то время как Аманзей из стыдливости и деликатности
предоставил нам самим проявить догадливость?
- Ну, не знаю, - промолвил Султан, - это меня не касается; однако, и вам
это известно так же хорошо, как и мне, с этим Мазульхимом иногда
происходят неприятные вещи, и мне показалось естественным поделиться с
вами... ведь мало ли что, возможно... Ладно, расскажите хотя бы в нескольких
словах: что Мазульхим?
- Сир, он был счастлив. Но он гораздо лучше умел наносить обиды, чем
искупать свою вину, и я сомневаюсь, что, имей он дело не с такой
великодушной особой, как Зефиса, ему удалось бы так задешево получить
прощение. Им двигала не любовь, а самолюбие, и мне показалось, что он
испытывал счастье скорее от того, что ему больше не приходилось краснеть перед
218
Софа
Зефисой, чем от обладания ею. Между ними завязалась нежная беседа, в
которую Зефиса вложила много чувства, а Мазульхим много тарабарщины.
Через некоторое время подали ужин, сервированный с изяществом и
вкусом. Зефиса, все больше вдохновляясь присутствием возлюбленного,
наговорила тысячу страстных и изысканных слов, восхитив меня не только
тонкостью чувств, но и умом. Мазульхима тоже не оставило равнодушным
ее обаяние, однако оно тронуло его меньше, чем меня, и я понял, что
победа над Зефисой больше тешила его самолюбие, чем сердце, мало задетое
живой и нежной страстью, кипевшей в ней, несмотря на то что она мало
верила в его постоянство.
Получив Зефису, Мазульхим не влюбился в нее так, как этого можно
было ожидать, но он заметно повеселел. Его сердце, неспособное к
глубокому чувству, томилось, а ее добродетели, которые неблагодарный хвалил, в
сущности не познав их и даже не особенно в них веря, не привязали его к ней,
а, наоборот, отдалили его от возлюбленной. Он не был взволнован ее
искренней и нежной привязанностью, но теперь находил ее соблазнительной.
Он вздыхал, восхищенно глядя на нее, его речи дышали пережитой негой, и,
казалось, он едва мог дождаться окончания ужина. Мазульхим даже
сообщил ей об этом, ей же, видимо, трапеза доставляла удовольствие, или она
просто не была столь высокого мнения о досуге, который ее ждал, во
всяком случае, Зефиса не разделяла его нетерпения. Но она любила... он
торопил ее, и вскоре... Ах Мазульхим, как ты мог бы быть счастлив, если бы
умел любить!
Через некоторое время Зефиса вышла, он последовал за ней, расточая
признания и благодарности, которые я счел тем более неискренними, что она
заслуживала гораздо большего. Зефиса была слишком совершенна, чтобы он
мог надолго привязаться к ней: искренняя натура, она не владела умением
кривляться и кокетничать. Мазульхим был ее первой связью, но то, что
составило бы счастье другого, для этого испорченного сердца стало лишь обузой.
Он нуждался в женщинах, которые были неспособны к чувству и не знали
стыда, пускались во множество приключений и никогда не влюблялись и
которые, судя по неприличию их поведения, более искали бесчестия, чем
удовольствий. Не удивительно, что такой красавчик, как Мазульхим, нравился
этим особам и что он, в свою очередь, искал их общества.
- Но, Аманзей, - обратилась к рассказчику Султанша, - как могло
случиться, что такой малодостойный человек смог внушить любовь Зефисе,
достойной всяческого уважения, судя по вашему рассказу?
- Если Ваше Величество соизволит припомнить портрет Мазульхима,
нарисованный мной в начале рассказа, - отвечал Аманзей, - тот факт, что
он понравился Зефисе, покажется менее удивительным; он был хорош
собой и умел поколебать добродетельность. К тому же Зефиса не первая
благоразумная женщина, имевшая несчастье влюбиться в хлыща, и для Вашего
Часть первая
219
Величества, конечно, не секрет, что подобные вещи и в наше время
встречаются на каждом шагу.
- Наверняка! - сказал Султан. - Он прав, тому есть много примеров, но
не спрашивайте меня, в чем тут причина, ибо мне она не известна.
- Я и не спрашиваю вас, - заметила Султанша. - Подобные вещи не
легко объяснить, даже обладая таким умом, как ваш. Когда разумная
женщина, - продолжила она, - проникается нежной и преданной любовью и,
убедившись в чувствах и постоянстве своего избранника (если вообще
возможна такая проверка), в конце концов отдается ему, меня не удивляет; но то,
что она идет на уступку ради какого-то Мазульхима, этого я не могу понять!
- Любовь, - ответил Аманзей, - не была бы тем, чем она является,
если бы...
- Конечно, была бы! - оборвал его Султан. - Долго вы собираетесь
витийствовать? Разве вы забыли, что я запретил резонерство? Скажите, что
вам за нужда в том, что Зефиса любит этого Мазульхима, что она - тихоня,
а он - хлыщ? Что ж! Она любит его таким, как он есть. Хотите знать,
почему? Вам следовало бы спросить у Аманзея в то время, когда он был
женщиной. Думаете, сейчас он в состоянии дать вам объяснение? Из-за вас и ваших
разглагольствований я не могу дослушать до конца ни одной сказки, и это
меня бесит. Итак, Эмир, на чем вы остановились? Что случилось дальше с
Зефисой, которая так разумна, что ей самой от этого тошно? Чем кончилась
эта история?
- Конец истории был таков, каким он и должен был быть, - снова
заговорил Аманзей. - Сначала Мазульхим, не желая нанести обиды Зефисе,
тщательно скрывал от нее свои измены. Но то ли меры предосторожности,
которые он принимал, не были столь искусны, чтобы она долго могла
пребывать в неведении, то ли его измены стали слишком частыми и слишком
явными, чтобы оставаться незамеченными; во всяком случае, она начала
дуться, однако, поскольку любовь не только дала ей способность тонко
чувствовать, но и ослепила ее, Мазульхиму легко удалось успокоить
возлюбленную. Затем он принялся за свое, а она возобновила упреки. Наконец его
терпение лопнуло, и он, оставив без внимания ее любовь и слезы, порвал с
ней, предоставив ей страдать от стыда за то, что она его любила, и от боли,
что она его потеряла.
- Честное слово, - сказал Султан, - здорово, что он ее бросил; и вот
тому доказательство: я бы на его месте поступил бы точно так же. Я знаю, что
она была красива и обладала множеством достоинств, но и мне, поскольку я
ищу прежде всего развлечений, эти ее достоинства прискучили бы, как они
прискучили ему. Но, я думаю, это сходство между нами вовсе не означает,
что мазульхимство безупречно. Тем не менее, должен сказать, бросать
женщин довольно занятно, если, впрочем, это делается не только для того,
чтобы выслушивать, что они по этому поводу думают.
220
Софа
Глава одиннадцатая,
В КОТОРОЙ ПРЕДЛАГАЕТСЯ РЕЦЕПТ ПРОТИВ ЗЛЫХ ЧАР
Через три дня после того, как я впервые увидел Зефису, Мазульхим
приехал в свой домик один. Едва он успел отдать несколько распоряжений, как
некая женщина, веселая, развязная и легкомысленная, что не мешало ей,
однако, держаться жеманно, вошла в кабинет. Издали казалось, что она
недурна собой. Но вблизи становилось ясно, что ее лицо маловыразительно и что,
если бы не ее ужимки, гримасы и удивительная живость, вряд ли кто-нибудь
обратил бы на нее внимание. Именно эти качества и заронили в душу Ма-
зульхима желание назначить ей свидание.
- Ах! - воскликнул он, увидев ее, - это вы! Это так великодушно с вашей
стороны, что вы пришли в столь ранний час!
Красотка, которой, несмотря на ее ребячество, было не меньше
тридцати лет, приблизилась к Мазульхиму с той благородной развязностью,
которая, в сущности, и составляла все ее очарование, и проговорила, оставив без
внимания его слова и даже не взглянув на него:
- А вы были правы, когда говорили, что у вас чудесный домик46; он
действительно очарователен! И с каким вкусом меблирован! Бесподобно!
Божественно!
- Не правда ли, это самый хорошенький дом во всем пригороде? -
подхватил он.
- Послушать вас, так можно подумать, что я побывала во всех других
домах, - ответила она и продолжила. - Этот кабинет прелестен, здесь так мило!
- Я счастлив, что вижу вас у себя и что вам здесь нравится, - сказал он.
- О! Что касается меня, то я, должно быть, не достаточно долго
капризничала, прежде чем принять ваше приглашение, - заметила она. - Но это не
значит, что я не владею, подобно другим, искусством тянуть время и
придавать делу должную благопристойность, просто...
- Вы не прибегаете к этим уловкам, - перебил он ее. - О! Тут надо вам
отдать должное.
- Это так, - продолжила она. - Именно так: я не люблю притворяться.
Вчера, когда вы сказали, что любите меня, и предложили прийти сюда... я
испытывала сильное искушение ответить "нет", но искренность моей
натуры не позволила мне поступить так. Я действую безыскусно, с той прямотой,
которая мне свойственна. Вы мне нравитесь, и вот я здесь. Надеюсь, вы не
станете дурно думать обо мне из-за этого?
- Кто? Я? - удивился он и пожал плечами. - Что за идея? Ваш поступок
мог бы лишь тысячекратно возвысить вас в моих глазах, если бы это было
возможно.
Часть первая
221
- Что ж, вы и вправду очень милы, - заметила она. - Но, скажите, как
давно вы здесь?
- Я только что пришел, - ответил он. - Прошу прощения, мне, право,
очень неловко. Вы, должно быть, собирались опередить меня?
- Это было бы забавно, - сказала она, - и я была бы вам признательна,
задержись вы немного.
- Но, надеюсь, вы понимаете, - проговорил он, - что я не нарочно
совершил эту оплошность, просто меня подгоняло нетерпение.
- Конечно, конечно, - откликнулась она, - я понимаю; но это не меняет
сути дела. Но знаете ли вы новости? Зобеида47 буквально минуту назад
бросила Ареб-Хана48.
- И только то? - спросил он.
- А Софи, - продолжила она, - только что подцепила Дара.
- И только то? - снова спросил он.
Пока она говорила, Мазульхим, знавший ее достаточно хорошо,
чтобы не разводить особые церемонии, позволил себе некоторые вольности.
Мне не показалось, что его инициативы произвели на нее больше
впечатления, чем на него; ее взгляд рассеянно скользил по кабинету, а затем
упал на часы.
- Однако, Мазульхим, это чистое безумие! - сказал она. - Мы что,
проведем весь день одни?
- Ну и вопрос! - ответил он. - Конечно одни!
- Но, по правде говоря, - снова заговорила она, - я на это не
рассчитывала. Оставьте же, - прибавила она, хотя ей было совершенно все равно,
будет ли он продолжать или прекратит (и, пожалуй, он в этом был солидарен
с ней), - в самом деле, ваше безрассудство ни на что не похоже. И кстати,
почему мы должны торчать здесь в одиночестве?
- Мне кажется, - холодно ответил Мазульхим, - что уединенная беседа
может быть увлекательной и что именно таков был наш уговор.
- Уговор? - переспросила она. - Какой вздор! С чего вы взяли? Клянусь,
я и не заикалась об этом; впрочем, мне совершенно все равно, я сумею
удержать вас в рамках приличия. Ах, оставьте же! У вас странные манеры...
- По-моему, не слишком. Кажется, мои манеры странны не больше, чем
у других. К тому же мы с вами наедине, и, насколько я понимаю, вам не в чем
меня упрекнуть. Ах, Зулика! - добавил он. - Ведь у вас такой отменный
вкус, скажите же, как вам потолок?
- Именно о нем я и думала, - ответила она. - По-моему, слишком много
позолоты. Но даже и так он очень красив! - заметила она, усаживаясь к
нему на колени; судя по всему, она не имела намерения его потревожить.
- Если подумать, - промурлыкала она, - было бы безумием с моей
стороны поверить, что вы станете хранить мне верность, - ведь известно, что
вы такой ветреник!
222
Софа
- Ах, не будем об этом, - ответил он, расположившись (благодаря
доброте Зулики) со всеми удобствами продолжать свое занятие, - если бы я
проявил несвойственное мне, как вы утверждаете, постоянство, вы бы сами
оказались в затруднительном положении.
- Так вы не собираетесь оставить меня в покое? - спросила она, не
прилагая ни малейших усилий для того, чтобы вырваться из его рук или
обуздать его. - Кстати о постоянстве, - продолжила она тоном столь
бесстрастным, как будто бы ничего не происходило, - осмелюсь заметить, что это
качество мне присуще.
- Постоянство в наши дни уже не добродетель, настолько оно стало
распространено, - заметил он. - Можно, не хвастаясь, сказать, что все мы
способны проявить постоянство. Однако же, вопреки тому, что вы ставите
себе в заслугу, вы позволяете себе менять...
- Ну не так уж часто... что вы себе вообразили?
- И тем не менее мне не хуже, чем вам, - ответил он, - известны все
ваши любовники.
- И что! - сказала она. - В таком случае вы не можете не признать, что
в моей власти заводить новых. Прекратите же! Вы докучаете мне!
- Гораздо меньше, чем был бы должен.
- Но, - возразила она, - гораздо больше, чем мне хотелось бы.
- Как! - вскричал он. - Так вы меня не любите? Что за каприз? Разве мы
не договорились обо всем?
- Э! но... да, - ответила она, - но... Ах, Мазульхим, вы мне
разонравились!
- Чепуха, - холодно проговорил он, - этого не может быть.
И он осторожно положил ее на меня.
- Уверяю вас, Мазульхим, - сказала она, устраиваясь поудобней, - вы
оскорбляете меня. Говорю же, я вам этого никогда не прощу!
Несмотря на все ужасные угрозы Зулики, Мазульхим был твердо
намерен понравиться ей. Поскольку, ко всем прочим дурным привычкам, он
имел обыкновение рассчитывать не только на себя, а Зулика, видимо,
терпеть не могла, когда ее заставляли ждать, он преуспел только в том, чтобы
в высшей степени не понравиться ей. Но, несмотря на гнев, она набралась
терпенда, а самолюбие заставило ее повременить с приговором. Она еще
никогда не попадала в ситуацию (хотя ей, конечно же, довелось повидать их
немало), когда бы ей сопутствовала неудача, и в этом она усматривала
несомненное свидетельство своих достоинств. С чего бы тогда этому Мазульхи-
му, которого она, впрочем, не особенно уважала, столь талантливому, судя
по многочисленным отзывам, утратить свои способности? Если ей не в чем
себя упрекнуть (а этот факт казался ей непреложным), отчего Мазульхим,
ни с кем никогда не дававший промашки, как о нем говорили, в ее обществе
ведет себя так странно? Ей приходилось много раз слышать, что она очаро-
Часть первая
223
вательна; репутация Мазульхима была столь блестящей, что он не мог ее не
заслуживать, по меньшей мере хотя бы отчасти; следовательно, его
задумчивость была совершенно неестественна и не могла длиться долго.
Утешая себя таким образом, перебирая в уме разные слухи, Зулика
вооружилась терпением и запрятала поглубже свое разочарование. Тем
временем Мазульхим заливался соловьем, воспевая прелести, которые
так мало трогали его. Должно быть, говорил он, против него ополчились
все могущественные колдуны Индии, раз он пребывает в таком
плачевном положении.
- Но, - продолжил он, - что могут их чары против ваших? Любезнейшая
Зулика, они способны отложить действие ваших чар, но им не победить вас!
В ответ на это Зулика, бешенство которой много превосходило
замешательство Мазульхима, лукаво улыбнулась ему, не решаясь, однако, вложить
в свою улыбку все чувства, кипевшие в ней, из опасения окончательно
спугнуть его.
- А что, - спросила она с усмешкой, - вы поссорились с колдунами?
Советую вам помириться с ними; люди, способные сыграть с вами такую
шутку, опасные враги.
- Они стали бы менее опасными, если бы вы решились принять их
вызов, - сказал он. - Кроме того, я подозреваю, что, несмотря на их дурные
намерения, люби я вас меньше, я бы почувствовал...
- О! Я не склонна верить речам, подобным тем, которыми вы меня
сейчас потчуете, - перебила его Зулика, которая, прикинув, сколько времени
они могли оставаться под действием злых чар, сочла, что отсрочка длилась
уже достаточно долго.
- Я понимаю, - снова заговорил он, - что, если судить меня со всей
строгостью, я заслуживаю вашего недовольства. Но чем сильнее ваше
недовольство, тем больше вы должны иметь оснований перестать винить
исключительно меня.
- Сомневаюсь, - ответила она, - что это приемлемо для меня.
- Вот уж не думал, что вы так привержены приличиям, - насмешливо
сказал он, - я-то надеялся...
- Можете смеяться, сколько вам угодно, - прервала она его. - Вы правы,
ничто так не украшает вас, как это приключение.
- Но, Зулика, - заговорил он, - неужели вы не чувствуете, что ваш тон
совершенно обескураживает меня и только продлевает унижение.
- Клянусь вам, - ответила она, - это меня меньше всего занимает.
- Но, - спросил он, - если вас это совершенно не занимает, отчего вы
сердитесь?
- Позвольте заметить, сударь, что ваш вопрос довольно глуп.
С этими словами она поднялась, несмотря на все усилия, которые он
прилагал, чтобы ее удержать.
224
Софа
- Оставьте меня, - сказала она раздраженно, - я не хочу ни видеть, ни
слышать вас.
- Прекрасно! - воскликнул он. - Приходилось мне видеть многих в
расстроенных чувствах, но таких злючек я еще не встречал!
Это замечание Мазульхима не понравилось Зулике. Раздосадованная
случившимся, выведенная из себя холодностью Мазульхима, она сорвала
свое настроение на большой фарфоровой вазе, которая оказалась под
рукой, разбив ее на тысячу кусочков.
- Увы, сударыня, - с улыбкой сказал Мазульхим, - вряд ли вы сумели бы
найти здесь что-либо, что можно было бы расколотить, если бы все те, кто
оставался недоволен мной, мстили бы таким же образом. Впрочем, -
прибавил он, усевшись на меня, - продолжайте, прошу вас, не стесняйтесь!
- Вот эта женщина мне нравится! - сказал Шах-Бахам. - В ней есть
чувство, она не то, что ваша вялая Зефиса, самая глупая из всех недотрог,
которых я когда-либо встречал. Эта Зулика начинает занимать меня, я беру ее
под свое покровительство, слышите, Аманзей? Постарайтесь, чтобы ее
огорчениям пришел конец.
- Сир, отвечал Аманзей, - я выполню вашу просьбу в той степени, в
которой мне позволяет мое уважение к истине.
Замолчав, Мазульхим задумался, приняв самый рассеянный вид. Зулика,
устроившись в дальнем углу, некоторое время доблестно сносила его
презрительное равнодушие и, чтобы ответить ему тем же, принялась напевать.
- Если я не ошибаюсь, - промолвил он, когда она закончила, - фрагмент,
который сударыня соизволила исполнить, из какой-то оперы?
Она ничего не ответила.
- У вас, - продолжил он, - приятный голос, не очень сильный, но
нежный, проникающий в самое сердце.
- Ему повезло, что он вам нравится, - ответила Зулика, не глядя на
Мазульхима.
- Вы, должно быть, не верите мне, - снова заговорил он - но тем не менее
вам следовало бы гордиться моим отзывом; ведь мало кто так разбирается
в пении, как я. Если бы вы в настоящий момент сочли возможным снизойти
до того, чтобы выслушать мои похвалы, я сказал бы вам также, что нахожу
в вашем пении еще одно достоинство: в нем есть чувство, как нельзя более
живое и искреннее, которое к тому же так чудно отражается и в ваших
глазах, что, слушая вас, невольно испытываешь глубокое волнение. Вы,
конечно, скажете мне, что вашему пению повезло, раз оно мне понравилось.
- Нет, - ответила она более ласковым тоном, - разве я могу сердиться на
то, что вы сыскали во мне хоть что-то любезное вам. И поскольку я знаю,
что вы знаток в этом деле, ваши похвалы особенно лестны для меня.
- Исходя из такого же соображения, - сказал он, - я хотел бы заслужить
похвал и от вас.
Приятная неволя.
Гравюра Дори по оригиналу Ф. Леклерка (1717-1768).
Офорт, резец
Лежащая обнаженная.
Гравюра Ж. Демарто (1722-1776) по оригиналу Ф. Буше.
Карандашная манера
"Кто там?"
Гравюра Л. Марена по оригиналу Ж. Бодуэна.
Цветной пунктир
Пробуждение Каролины.
Гравюра Карре (вторая половина XVIII в.) по оригиналу Карома (?).
Цветной пунктир
"Я занят вами..."
Гравюра Ж. Видаля (1742-1804) по оригиналу М. Жерар {Will е.).
Офорт, резец
Венера и Амур.
Гравюра Ж. Демарто по оригиналу Ф. Буше.
Карандашная манера
Опасное внимание.
Гравюра Л.-Ф. Деннеля (работал в Париже с 1760 по 1815 г.)
по оригиналу Ф. Буше.
Офорт, резец
Сравнение с букетом розы.
Гравюра А.-Ф. Денеля по оригиналу Г. de Сент-Обена (1724-1780).
Офорт, резец
Часть первая
225
- А! Сомневаюсь, - откликнулась она.
- Не станете же вы утверждать, что ни в чем не разбираетесь, -
продолжил он, - и, надеюсь, ваша несправедливость не простирается так далеко,
чтобы вообразить, будто мне абсолютно все равно, плохого ли вы обо мне
мнения или хорошего? Неужели ко всем оскорблениям, которые я от вас
претерпел, вы прибавите еще и это? Ах, Зулика! может ли быть, что то, что
должно было только умножить вашу нежность, настроило вас против меня?
- Но может ли быть, - с жаром проговорила она, - что вы полагаете,
будто я настолько глупа, чтобы принять за доказательство любви самую
жестокую обиду из всех, которые вы могли мне нанести?
- Обиду! - вскричал он. - О любезнейшая Зулика! Как мало вы
понимаете в любви, если думаете, что нам с вами следует краснеть за то, что
произошло! Не побоюсь вам сказать больше: те, кого вы почтили своей нежностью,
мало любили вас, если ни разу не столкнулись с тем же несчастьем, что и я.
- О! Это уж слишком, - сказала она, вставая. - Сударь, ни слова больше,
или я уйду. Я просто не в силах выносить долее эту непристойную нелепицу.
- Я вижу, что мои слова ранят вас, - ответил он, - и, признаюсь, меня
удивляет, что вы так принимаете их, но что меня больше всего поражает,
так это упрямство, с которым вы продолжаете во всем винить меня. Вполне
естественно, что обычная женщина, не знающая света49 и обхождения,
могла бы смертельно обидеться, случись с ней нечто подобное, но вы! чтобы вы
уподобились той, которая в своей жизни ничего не видела! По правде
говоря, это непростительно!
- Да уж! - сказала она. - Действительно, я, должно быть, полная дура,
если не поздравляю себя с тем, что произошло! Даже странно, как это я не
поблагодарила вас за тот своеобразный прием, который вы мне оказали!
- Оставьте ваши насмешки, - проговорил он, привставая, - сейчас я вам
докажу, что я прав.
- Нет, сударь, - воскликнула она, - я запрещаю вам приближаться ко мне!
- Повинуюсь вашему приказу, хоть он и несправедлив, и, если вы
полагаете это более уместным, докажу вам свою правоту на расстоянии.
- Да, - кивнула она, - так будет удобнее. Но вы можете сделать еще
лучше: помолчать; я не настолько безмозгла, чтобы вы сумели меня убедить,
что чем больше нежности испытывает любовник, тем менее он способен
доказать свои чувства на деле.
- Тем самым вы хотите сказать, - невозмутимо промолвил он, - что
придерживаетесь противоположной точки зрения?
- Да, именно, - ответила она. - Ни в чем я так не убеждена, как в этом.
- Ну хорошо! В этом случае, сударыня, вы можете гордиться тем, что
являетесь самой толстокожей женщиной на свете, и, если бы я не любил вас с
такой силой, что ничто в мире не способно оторвать меня от вас, признаюсь,
ваша точка зрения заставила бы меня навсегда расстаться с вами.
8. Кребийон-сын
226
Софа
- Действительно, было бы странно, - заметила она, - если бы она
пришлась вам по вкусу!
- О нет, - заговорил он бесстрастным тоном, - я не так уж
заинтересован в том, чтобы ополчиться на это мнение, как вы изволите полагать;
просто хорошо известно, что сильная любовь препятствует излиянию чувств и
что только грубые сердца, неспособные преисполниться чарами желания,
полностью владеют собой в тот момент, который так обескуражил меня.
Если даже слабая надежда на счастье заставляет влюбленного трепетать,
судите сами, какое действие оказывает на него приближение блаженной
минуты, о которой он так страстно мечтал. Его душа измучена восторгами,
которые предшествовали заветному моменту, и подумайте, неужели
замешательство, в котором вы меня упрекаете, оскорбительнее для разумной
женщины, чем хладнокровие, которое вы, не подумав, должно быть,
хорошенько, хотели бы во мне найти50. Скажите откровенно, - добавил он, бросаясь к
ее ногам, - неужели вы в первый раз...
- Ах! Хватит глупых шуток! - оборвала она его. - Оставьте меня, я
хочу уйти и никогда больше не видеть вас.
- Но, Зулика, - сказал он, подталкивая ее ко мне, - разве вы сами не
чувствуете, что, судя по тому как вы приняли мое несчастье, вы не очень-то
верите в то, что ваши чары могут положить ему конец?
То ли изысканные речи Мазульхима пробудили в Зулике великодушие,
то ли блестящая репутация, которую он заслужил в Агре, придала
правдоподобности его словам, но она позволила ему подвести себя ко мне, оказав
лишь самое слабое сопротивление, способное скорее разжечь пламя, чем
потушить его. Понемногу Мазульхим добился большего, и в конце концов
оказался ровно в том же положении, которое уже один раз вызвало ярость
Зулики.
Озадаченная поведением Мазульхима, она начала искренне желать,
чтобы чувства не довлели над ним с прежней силой. Она уже преисполнилась
было этой надеждой, когда Мазульхим, нежный как нельзя более, жестоко
обманул ее сладкие ожидания. Зулика пришла в особое неистовство еще и
потому, что (отбросив в сторону самолюбие), веди он себя по-другому, ей бы
это доставило удовольствие.
- О! Ну ладно, - сказал Султан, - пусть уже он прекратит! Все это
прискучило мне не меньше, чем Зулике. И дело не в том, что я принимаю в ней
участие. Кто, скажите, кто в состоянии выносить все это? Даже у Дервиша51
лопнуло бы терпение! Черт побери, стоило ли заставлять ее столько ждать?
Аманзей, ведь вы мне обещали! В конце концов мне не остается ничего
другого, как предположить, что у вас зуб на эту женщину, и, скажу вам
откровенно, это дурно с вашей стороны, очень дурно.
- Сир, - ответил Аманзей, - если бы я сочинял сказку для Вашего
Величества, я с легкостью утроил бы все так, как Вашему Величеству было бы
Часть первая
227
угодно, но я рассказываю подлинную историю, и поэтому не могу, не
оскорбив истины, заставить Мазульхима действовать по своему произволу.
- Ох! Ну и дурак этот Мазульхим! - вскричал Шах-Бахам. - Как же я зол
на него!
- Но, - промолвила Султанша, - мне не совсем понятно, отчего вы так
недовольны им; ведь в его поступках, как и в ваших, нет злого умысла.
- Да? - переспросил Султан. - Честное слово, не знаю: он зловредный
человек!
- К тому же, - продолжила Султанша, - эта Зулика, которая вам так
пришлась по душе, была распоследней...
- Прошу вас, сударыня, - перебил ее Султан, - хранить ваше мнение при
себе и не говорить о ней дурно. Я знаю, стоит мне проникнуться к кому-либо
симпатией, как сразу оказывается, что вам этот человек не нравится.
Должен сказать, я от этого не в восторге.
- Ваш гнев нисколько меня не пугает, - ответила Султанша. - К тому же
меня не удивит, если эта Зулика, столь дорогая вашему сердцу сегодня,
завтра смертельно наскучит вам.
- Не думаю, - откликнулся Султан. - Я не могу загадывать на будущее,
как вы. И, пока этого не произошло, послушаем, чем кончилась история.
При новом оскорблении, нанесенном Мазульхимом ее прелестям,
Зулика покраснела от гнева.
- По правде говоря, сударь, - произнесла она, с силой отталкивая его, -
если в этом проявляется ваше предпочтение, то, должна вам сказать, что вы
ошиблись в выборе.
- Я первым сказал бы тоже самое, - ответил он, - когда бы мог подумать,
что вы хотя бы на минуту поверите, что заслуживаете несчастья, постигшего
меня; это, конечно, не так, и, должен признать, мне нет оправданий.
- Однако, - проговорила она, - не следует беспокоить окружающих,
зная за собой кое-какие слабости.
- Что ж, если ничего не изменится, я буду себя вести именно так, -
ответил он. - Однако, с вашего разрешения, я позволю себе надеяться на лучшее.
- По правде говоря, - сказала она, - я бы вам не советовала.
Она поднялась, взяла свой веер, натянула перчатки и, вынув коробочку с
румянами, подошла к зеркалу. В то время как она со всем возможным
старанием пыталась вернуть себе прежний вид, Мазульхим встал за ее спиной и, мешая
ей, начал уговаривать ее не трудиться над тем, что все равно будет испорчено.
Сначала Зулика ответила ему лишь гримасой, давая понять, как мало она верит
в его предсказания; но, видя, что он продолжает докучать ей, сказала:
- Однако, сударь! Придет ли этому когда-нибудь конец? Вы не хотите,
чтобы я уходила? Так и скажите.
- Но, если мне не изменяет память, - ответил он, - мы уже обо всем
договорились. Разве вы не отужинаете со мной?
8*
228
Софа
- Не помню, чтобы об этом шла речь, - проговорила она.
- Разве вы не рассчитывали на ужин? - спросил он с улыбкой.
- Но уже поздно, - заметила она, - к тому же я занята.
- Какие глупости! - воскликнул он, снова опрокидывая ее на меня,
желая еще раз проверить, не найдет ли он возможности сделать так, чтобы
время шло быстрее.
- Послушайте, Мазульхим, - ласково сказала она, - можете думать обо
мне, что хотите, поверьте, я говорю вам это без малейшего гнева, но та
роль, которую вы заставляете меня играть, невыносима.
- Будь вы добрее ко мне, - ответил он, - я почувствовал бы себя лучше;
но вы так немилосердны!
- Честно говоря, - заметила она, - было бы слишком бесчеловечно
лишать вас единственной еще оставшейся возможности оправдаться.
Он с твердостью заверил ее, что охотно бы попытал вновь счастья.
Тогда она снизошла к его словам, чтобы иметь удовольствие вволю
упрекать его во всех мыслимых грехах. Чем больше он вызывал жалости, тем
больше (ибо она от рождения была лишена великодушия) она негодовала.
И без того задетая тем, что ее прелести не произвели на него должного
впечатления, она, казалось, была еще сильнее оскорблена тем, что он так
мало оценил ее доброту; только самолюбие заставляло ее сносить то, что
так чувствительно ранило ее. Как только она собиралась праздновать
победу, как та ускользала от нее. Раз двадцать она хотела отказаться от
надежды, которая рождалась в ней лишь для того, чтобы в очередной раз
обмануть ее. Увы! После всего того, что она сделала для Мазульхима, могла ли
она бросить его на произвол судьбы? быть может, в следующую минуту она
восторжествует над его неблагодарностью? Конечно, было бы приятнее,
если бы она была всем обязана нежности Мазульхима, однако куда
почетнее приписать победу целиком себе.
Возможно, соображения Зулики носили не самый верный характер,
но уже то, что она была способна размышлять в подобной ситуации,
делает ей честь.
Мазульхим, понимая по тем взглядам, которые она на него бросала, что
ей нужна поддержка, чтобы противостоять холодности, овладевшей им
помимо его воли, без устали в самых лестных выражениях расхваливал ее
самоотверженность.
- Да уж, - воскликнула она, когда, должно быть, ее терпение было на
пределе, и ей самой стало казаться, что доброта, которую она проявила к
Мазульхиму, поистине безгранична, - тут вы правы, что-что, а душа у меня
выдающаяся.
Услышав столь уместное замечание, Мазульхим расхохотался, и Зулика,
знавшая, как иногда опасно бывает смеяться, всерьез разгневалась на него
за это.
Часть первая
229
Веселость Мазульхима оказалась, однако, не настолько пагубной для
него, как она опасалась. Колдуны, преследовавшие его с такой жесткостью до
этого момента, ослабили свою зловредную хватку. Хотя ей нужно было еще
изрядно постараться, чтобы окончательно восторжествовать над их
кознями, она вслух поздравила себя с удачным натиском. Конечно, особу столь
просвещенную трудно было ввести в заблуждение, но ей казалось, что она
подбодрит Мазульхима, если выкажет доверие к его словам; мало же она
его знала, раз думала, что он в нем нуждается.
Как только Мазульхим, который являлся самым самонадеянным
мужчиной в мире, почувствовал, что злые чары ослабели, он тотчас же дерзнул
замахнуться на большее. Хотя Зулика, более здраво оценивавшая ситуацию,
пыталась образумить Мазульхима, ей не удалось остановить его. То ли он
полагал, что отсрочка окончательно погубит его, то ли (что похоже на
правду) счел, что ему уже нечего ей сказать, но он решился совершить то, что
(при благоприятном стечении обстоятельств) удавалось ему лишь со второй
попытки. Зулика, которая редко обольщалась и которая к тому же не
принадлежала к тем женщинам Агры, которые мало заботились о себе, была
удивлена самонадеянностью Мазульхима и попыталась урезонить его. Но,
несмотря на ее разумные доводы, он упорствовал, и она, уповая на свои
чары, а также желая унизить его, пошла, подобно Зефисе, на то, что не могло
не казаться ей совершенно нелепым.
- А, ну-ну, - проговорила она презрительно.
Внезапно что-то в ней изменилось, она покраснела, и я понял по
проступившему на ее лице выражению досады, а также по насмешливо-дерзкому
виду Мазульхима, что то, во что она не верила, осуществилось в той
степени, в какой это было мыслимо.
- Видали! - воскликнул Султан. - И эти женщины еще жалуются на что-
то и корчат из себя не пойми кого! Все это весьма поучительно.
- Какое же, - поинтересовалась Султанша, - невероятное открытие вы
для себя сделали?
- О! теперь я знаю, - сказал Султан, - что ответить, если когда-нибудь
кому-нибудь вздумается в чем-либо упрекать меня. Тем не менее я огорчен,
что это унижение выпало на долю Зулики, она, конечно, заслуживала его
меньше других. Но продолжайте, Эмир: в том, что вы рассказываете, есть
немало занимательного, и это позволяет мне надеяться, что я не
разочаруюсь в дальнейшем.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава двенадцатая,
МАЛО ЧЕМ ОТЛИЧАЮЩАЯСЯ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ1
Хотя неприятность, приключившаяся с Зуликой, сильно огорчила ее,
она все же сумела сохранить присутствие духа, необходимое в столь
злополучных обстоятельствах. Она поздравила Мазульхима, затем нашла
массу поводов для сетований, оставив в стороне лишь тот, который на
самом деле вызывал ее ярость, и, чтобы спасти свое лицо, не остановилась
перед тем, чтобы приписать ему заслуги, которыми он, конечно же, не
обладал.
Не знаю, хотел ли он задеть Зулику или же, против обыкновения,
отнесся к себе со строгостью, но, что бы она ни говорила, он все принимал в
штыки. Бывает, что выпадает такой несчастливый день, упрямо твердил он, что,
если бы человек мог заранее знать о его наступлении, он предпочел бы
скорее умереть, чем пережить его.
Зулика соглашалась, говоря, что иные дни и вправду начинаются не
самым блестящим образом, однако часто к вечеру оказывается, что следует
скорее радоваться этому дню, чем оплакивать его.
- Признаюсь, - добавила она с деланной нежностью, - я была близка к
тому, чтобы поверить, что ваши стократно повторенные похвалы моей
красоте были неискренними и что то, чем вы восхищались, померкло для вас из-
за неприятности, тем более досадной, что вы не были к ней готовы, но вам
удалось успокоить меня.
- Ах, Зулика, - воскликнул безутешный Мазульхим, - как ничтожны
ваши страхи! Я чувствую, скольким я обязан вашей доброте, но вам не
провести меня: чем более я убеждаюсь в вашем благородстве, тем сильнее
становится мое раскаяние.
- Но это уж ни на что не похоже! - возразила она. - К чему изводить
себя такими глупыми и несправедливыми мыслями!
Часть вторая
231
Покончив с этой беседой, они начали прохаживаться по комнате,
пребывая в крайне затруднительном положении: не испытывая ни
любви, ни вожделения, они вынуждены были провести в этом маленьком
домике, куда их забросило неосторожное желание встретиться наедине,
остаток дня, не надеясь, что смогут распорядиться досугом к обоюдному
удовольствию. Зулика высказала свои соображения по поводу
незаслуженности некоторых репутаций. Больше всего ее приводило в
отчаяние (как я легко прочел в ее душе) то, что она не могла отомстить
Мазульхиму.
- Если я расскажу о случившемся, - думала она, - кто мне поверит? А
даже если мне и поверят, что толку? Мнение о нем настолько укоренилось!
Все сочтут, что если он и потерпел неудачу со мной, то это только потому,
что я оказалась не на высоте. Что бы я ни делала, мне не удастся никого
переубедить.
Эта мысль повергала ее в глубокую грусть. Однако Мазульхима
совершенно не занимало ее настроение. Некоторое время они прогуливались
молча, иногда обмениваясь ледяными вымученными улыбками.
- Я вижу, вы задумались? - спросил он наконец.
- А вас это удивляет? - ответила она, приняв самый невинный вид. -
Неужели вы полагаете, что благоразумная женщина, оказавшись, как я
сейчас, наедине с мужчиной, может не осознавать всю необычность своего
положения?
- Именно, - кивнул он, - я думаю, что благоразумные женщины не
находят в подобном положении ничего необычного.
- По всей видимости, - сказала она, - вы просто не знаете, какие
чувства они испытывают и какие битвы им приходится вести с собой, прежде чем
они соглашаются отдаться.
- Вероятно, вы правы, - ответил он, - судя по тому, как они торопятся
покончить с этими битвами, им действительно приходится несладко.
- Как дурно, - воскликнула она, - с вашей стороны так говорить! Уж не
находите ли вы, что ваши слова остроумны? Знаете ли вы, что это речи
настоящего петиметра2?
- Но, не вижу, чем это их портит, - возразил он.
- Вы нашли бы их, по меньшей мере, далекими от истины, - сказала
она, - если бы знали, чего мне стоило принять ваше предложение.
- Как! - вскричал он. - Вы размышляли о моем предложении!
Как обидно; а я-то льстил себе, полагая, что все обстояло иначе; право же,
нехорошо с вашей стороны лишать меня заблуждения, столь выгодного для
меня и при этом не наносившего никакого урона моему мнению о вас. Э!
Скажите же, прошу вас, Заадис тоже стоил вам немалых битв?
- Что вы хотите этим сказать? - холодно осведомилась она. - Какой еще
Заадис?
232
Софа
- Простите, - рассмеялся он, - я готов был руку дать на отсечение, что
вы с ним знакомы.
- Да, - ответила она, - но я знакома с многими людьми.
- Думаю, - продолжил Мазульхим, - что, хотя вы едва знакомы с ним,
ему было бы досадно, знай он, что вы находитесь здесь со мной, и вряд ли я
сильно ошибусь, если предположу, что доброта, с которой вы отнеслись ко
мне, глубоко расстроила бы его. Признайтесь честно, - прибавил он,
заметив, как она пожала плечами, - что Заадис понравился вам еще задолго до
того, как я имел счастье обратить на себя ваше внимание? Держу пари, что
вы и сейчас вместе.
- Ваши шутки, - ответила она, - довольно пошлы.
- Впрочем, - снова заговорил он, - Заадису не на что жаловаться, даже
если вы и изменяете ему. Он не из тех, кто создан для любви, и меня всегда
удивляло, что столь очаровательная, веселая и жизнерадостная женщина,
как вы, выбрала себе такого мрачного и молчаливого любовника!
- Вы ошибаетесь, Мазульхим, - ответила она. - Он очень ласковый.
Я принесла его вам в жертву, было бы глупо отрицать очевидное, но, боюсь,
вы заставите меня скоро в этом раскаяться.
- Вы всегда были ветреницей, - возразил он, - и, признаю, я тоже не
само постоянство: но чем менее в прошлом мы были способны на серьезную
привязанность, тем больше наша заслуга в том, что мы наконец составили
прочную пару.
С этими словами он повел ее ко мне, хотя по его виду было понятно, что
им двигают лишь правила приличия.
- Вы само очарование, - сказал он, - и, если бы не благопристойный вид,
который вы на себя напускаете даже в моем присутствии, вы лучше, чем
кто-либо другой, могли бы составить счастье любого мужчины.
- Должна сказать, - заметила она, - что я от рождения сдержана, тем не
менее если уж кому и упрекать меня в этом, то не вам.
- Конечно, вы осчастливили меня, - ответил он, - но ваша природная
сдержанность не позволяет вам в должной мере ответить на желания,
которые вы пробуждаете. Я чувствую ее во всем вашем поведении: вы все время
боитесь слишком увлечься, и, между нами говоря, я подозреваю, что вы
довольно холодны.
Говоря так, Мазульхим страстно сжимал ее руки.
- Хотя ваши прелести однажды уже заставили меня оробеть, -
продолжил он, - мне не терпится снова полюбоваться ими. Пусть мне будет хуже,
но я не могу больше выносить, что подобная красота сокрыта от меня!
О Боже, - воскликнул он восторженно, - ах! сделай так, чтобы я оказался
достоин своего счастья!
Что бы там ни говорила Зулика о своей бесстрастности, восхищение,
в которое впал Мазульхим, искренность его порыва, старания, которые
Часть вторая
233
он прилагал, чтобы заставить ее разделить его восторг, взволновали и
смутили ее.
- Вы все еще недовольны? - спросила она нежно.
Вместо ответа он употребил все силы, чтобы без слов выказать ей свою
признательность. Но Зулика, помня, что признательность была ему не
особенным подспорьем, и опасаясь того самозабвенного состояния, в котором
он находился, озабоченно спросила:
- Ах, Мазульхим, надеюсь, вы испытываете ко мне не слишком
страстную любовь?
Но даже то, что Мазульхим не мог удержаться от смеха, видя ее ужас, не
помешало ему доказать, что он любит ее ровно в той степени, в которой это
ее устраивало.
Взаимное довольство избавило их от принужденности и скуки, которые
они испытывали до этого в обществе друг друга. Их беседа оживилась.
Зулика, верившая, что сумела вырвать Мазульхима из лап злых колдунов,
рукоплескала чудодейственности своих чар, а Мазульхим ликовал, поздравляя себя.
Они пребывали в самом радужном настроении, когда подали ужин. Их
трапеза прошла весело. Зулика и Мазульхим не имели при дворе Агры
равных себе в злоязычии, и они никого не пощадили.
- Не могли бы вы объяснить мне, - спрашивал Мазульхим, - почему это
Алтун-Хан3 так раздулся от важности последнее время?
- Господи, - отвечала она, - неужели вы не знаете, что он блаженствует
сАйшой*?!
- Но, мне кажется, - заметил он, - это лишь повод держаться
поскромнее.
- Да, для любого другого человека, - сказала она. - Но что до него, то
разве вам не кажется, что ему страшно повезло?
- Признаюсь, нет, - возразил он. - Хотя Алтун-Хан действительно
смешон, мне его жаль; тот, кто принадлежит Айше, поистине является
несчастнейшим из смертных.
- И что особенно забавно, - добавила она, - Айша делает из этого
тайну.
- О! Тут, я думаю, вы ошибаетесь, - заметил он. - Айша никогда не
скрывала своих любовников, и, положа руку на сердце, в ее возрасте и с ее
оплывшей внешностью она теперь меньше, чем когда-либо, заинтересована
в том, чтобы утаивать их.
- И тем не менее это правда.
- Ну что ж! - ответил он. - Если это так, значит, Алтун-Хан попросил ее
держать все в секрете. А что малышка Мезема? Кажется, вы с ней больше
не видитесь?
- Да, это стало невозможно, - произнесла она, приняв строгий вид, -
из-за ее непристойного поведения.
234
Софа
- Вы правы, - серьезным тоном проговорил он. - Для женщины,
уважающей себя, важно держаться порядочного общества. Но я нахожу, -
продолжил он, - что она похорошела.
- Напротив, - возразила Зулика, - она превратилась в уродину.
- Позволю себе не согласиться с вами, - сказал он, - она пожелтела, и на
этом фоне изнеможение ей очень к лицу. Думаю, если болезненный вид
будет сопутствовать ей и дальше, она станет просто неотразима.
- Моему рассказу не было бы конца, - сказал Аманзей, прерывая свое
повествование, - если бы я стал пересказывать Вашему Величеству их
беседу во всех подробностях.
- А! - откликнулся Султан. - Я понимаю. Дозволяю вам сократить ее.
Однако, если подумать, было бы любопытно узнать поподробней, о чем они
говорили.
- Осмелюсь доложить Вашему Величеству, - снова заговорил
Аманзей, - что многие детали не содержали ничего интересного для...
- Но эти детали меня и не интересуют, - прервал его Султан. - Однако
почему (а этот вопрос приходил мне в голову не менее двадцати раз),
почему, спрашиваю я, в любой истории или, если вам угодно, сказке всегда
содержится что-то неинтересное?
- На то есть множество причин, - вступила в разговор Султанша. -
Например, то, что ведет к некоему событию, может оказаться не столь
интересным, как само событие. К тому же слушатели со временем сильно бы
утомлялись, если бы все вызывало одинаковый интерес; разум не в силах
пребывать в неусыпном внимании, а сердце не выдержит постоянных
переживаний, следовательно, и разум и сердце нуждаются в отдыхе.
- Понимаю, - кивнул Султан, - чтобы хорошенько развлечься, бывает
полезно перед тем немного поскучать. Да, ничего не поделаешь, для того,
кто умеет думать и рассуждать, не остается никаких тайн. И что же дальше,
Аманзей?
- После ужина Мазульхим, еще менее чем днем, расположенный отдать
должное прелестям Зулики, предложил ей на выбор множество увеселений,
но ей все они не пришлись по вкусу, и она собралась уходить; по ее виду я
понял, что вряд ли снова увижу ее в этих стенах.
Однако Мазульхим, несмотря на недовольство Зулики и то, как он с ней
обошелся, осмелился, прежде чем расстаться с ней, просить ее о новом
свидании и даже страстно настаивать на том, чтобы оно состоялось в
ближайшие два дня. Хотя мне показалось, что в тот момент Зулика совсем не была
настроена идти навстречу его бурным просьбам, она все же ответила, что
разделяет его желание, но по холодности ее тона я понял, что она не
собиралась сдержать данное ему слово.
И тут я подумал, что после ухода Мазульхима в его доме мне грозит
скука и что я вполне могу лишь изредка прилетать туда вслед за ним. Я счел,
Часть вторая
235
что сумею развлечься и узнать что-нибудь полезное для себя, если последую
за Зуликой. Эта мысль очень понравилась мне, и я занял место в ее
паланкине5. Прибыв во дворец, где она жила, я при помощи силы притяжения,
которой я был обязан Брахме, оказался внутри первой же софы, попавшейся
мне на глаза.
На следующий день, едва Зулика села за свой туалетный столик, как
доложили о приходе Заадиса. Она распорядилась попросить его подождать, то
ли потому, что хотела предстать перед ним в том виде, в каком она имела
обыкновение выходить в свет, то ли потому, что сочла неприличным
показаться ему в том беспорядке, в котором он ее застал. Поскольку мне было
известно ханжество Зулики, этот второй довод не казался мне столь уж
умозрительным.
Наконец Заадис вошел. Если бы даже о его приходе не доложили, я
сразу бы узнал его по портрету, который накануне нарисовал Мазульхим. Он
держался с достоинством, был холоден и сдержан и, видимо, вкладывал в
любовь ту серьезность и деликатность чувств, которые в наше время
кажутся комичными и которые во все времена больше навевали скуку, чем
вызывали уважение.
Заадис приблизился к Зулике с такой робостью, словно ему только
предстояло объясниться ей в любви. Со своей стороны она приняла его с
изысканной и церемонной вежливостью и с видом столь целомудренным,
что его хватило бы, чтобы он пребывал в заблуждении всю оставшуюся
жизнь.
Пока служанки Зулики находились в комнате, они обменялись
светскими новостями и беседовали о других вещах, не более занимательных. Заадис,
уверенный, что Зулика никого не любила, кроме него, полагал, что даже
самых больших предосторожностей недостаточно, чтобы уберечь ее честь, и
боялся даже взглянуть на нее; а Зулика, находя, видимо, необходимым
отнестись с уважением к его глупости, изображала сдержанность, и в ее глазах,
когда она обращала взоры на него, читались лишь лицемерие и тупость,
которые присущи ханжам в любой ситуации.
Хотя Заадис держал себя в руках, Зулике показалось, что в его
глазах затаилась необычная грусть. Но все ее усилия выяснить, в чем
тут причина, оказались тщетны. На все ее вопросы, которые она
задавала самым ласковым тоном, он отвечал лишь учтивостями и глубокими
вздохами.
Когда с прической было покончено, служанки вышли.
- Не соизволите ли вы, - обратилась она к нему властным тоном, -
объяснить мне, в чем дело? Ведь вам известно, как интересует меня все, что вас
касается, так неужели вы не понимаете, что ваше молчание оскорбительно
для меня? Короче говоря, я требую, чтобы вы ответили на мой вопрос; я
никогда не прощу вас, если вы будете и дальше упрямиться.
236
Софа
- Вероятно, вы еще менее будете расположены простить меня, если я
заговорю, - ответил он. - Я не хочу, чтобы то, что беспокоит меня, стало вам
известно.
Зулика продолжала настаивать и была столь непреклонна, что он
поверил, что его дальнейшее молчание всерьез разобидит ее.
- Поверите ли вы, сударыня, - проговорил он, краснея за нелепость,
которую, по его мнению, он собирался ей сообщить, - я ревную!
- Вы? Заадис, - изумленно воскликнула она, - я люблю вас, а вы
ревнуете? Что вы такое говорите?
- Ах, сударыня, - удрученно произнес он, - не гневайтесь на меня!
Я вижу всю нелепость этого чувства и краснею за себя! Мой ум
отказывается понимать движения сердца и восстает против них, но они
увлекают меня за собой, и, несмотря на все уважение, и даже почтение, к вам,
я жестоко страдаю. Мне стыдно за свои подозрения, но и стыд бессилен
против них.
- Послушайте меня, Заадис, - величественно произнесла она, - и
запомните раз и навсегда то, что я вам сейчас скажу. Я люблю вас, повторяю вам,
и готова представить неоспоримое доказательство своих чувств: я прощаю
вам ваши подозрения. Наверное, мне следовало бы напомнить, чего вам
стоило завоевать меня; что мой образ жизни лучше всего говорит в мою
пользу и что я принадлежу к тем женщинам, один лишь характер которых
ставит их вне подозрений. Я должна была бы презирать ваши страхи или же
оскорбиться, но мое сердце призывает меня утешить вас, а моя любовь
позволяет мне снизойти до объяснений.
- Ах, сударыня! - воскликнул он, бросаясь к ее ногам. - Я верю, что вы
любите меня, и я бы умер от отчаяния, если бы мог предположить, что мои
подозрения, не столь уж и гнетущие, заставят вас усомниться в моей
почтительности.
- Нет, Заадис, - с улыбкой промолвила она, - я не сомневаюсь в вас, но,
скажите, что повергло вас в такое беспокойство?
- Какое это имеет значение, сударыня, - ответил он, - если все уже в
прошлом?
- И все же мне хотелось бы знать, - настаивала она.
- Ну хорошо, - сказал он, - ухаживания, которые позволил себе Мазуль-
хим...
- Как! - воскликнула она. - Так вы ревнуете к нему? Ах, Заадис,
неужели вы настолько не цените себя, чтобы опасаться Мазульхима, и
настолько презираете меня, чтобы предположить, что он может мне
понравиться? Ах, Заадис, должна ли я простить вас? Смогу ли я простить вас
когда-нибудь?
Часть вторая
237
Глава тринадцатая,
СОДЕРЖАЩАЯ РАЗВЯЗКУ ПРЕЖНЕЙ ИСТОРИИ
И ЗАВЯЗКУ НОВОЙ
Она замолчала и выдавила несколько слезинок. Заадис, поверив в то,
что они искренни, не мог удержаться, чтобы в свою очередь не пролить
слезу.
- Да, я заблуждался, - нежно проговорил он, - и как ни глубока моя
страсть к вам, я чувствую, что и она не может служить мне оправданием.
- Ах, жестокий! - сказала она, всхлипывая, - если вам так угодно,
ревнуйте меня; беснуйтесь, я согласна; не верьте моим чувствам, пока вы не
узнали меня хорошенько, но, по крайней мере, избавьте меня от подозрений в
том, что я способна полюбить Мазульхима.
- Я уверен, что вы не любите его, - ответил он, - у меня и в мыслях не
было, что вы можете увлечься им, но я страдал, когда он приходил к вам.
- И однако, - сказала она, - из всех, кого вы встречаете в моем доме, он
наименее опасен для меня. Даже если бы мое сердце не переполняла самая
нежная любовь, если бы Мазульхим обожал меня, если бы его достоинства
сумели бы перевесить его недостатки, все равно он не смог бы возвыситься
в моих глазах. Неужели вы думаете, что найдется женщина (не говорю уж
уважающая себя, но просто не утратившая последнего стыда), которая
захотела бы иметь дело с Мазульхимом, который никого никогда не любил,
который открыто заявляет, что не способен к страсти, который не знает, что
такое привязанность, пусть даже самая неглубокая, который, наконец,
находит удовольствие лишь в том, чтобы позорить тех, кто имел несчастье
довериться ему. Не стану говорить о том, как он смешон, хотя мне есть что
сказать по этому поводу, просто одно то, что мы так много времени уделили
этому человеку, вгоняет меня в краску. Впрочем, мне приятно, что вы
открыли мне причину вашего беспокойства, и, хотя я нахожу ваши подозрения
столь же несправедливыми, сколь и неуместными, я обещаю вам, что
Мазульхим не будет больше появляться в моем доме; дайте мне лишь немного
времени, чтобы я могла порвать с ним без большой огласки.
Заадис, с чувством поцеловав ей руку, рассыпался в благодарностях за
то, что она для него сделала.
- За что вы меня благодарите? - спросила она. - Я не принесла вам
никакой жертвы.
- Но, сударыня, - сказал он, - неужели Мазульхим никогда не говорил
вам, что вы ему нравитесь?
- Что за странная идея? - воскликнула она с улыбкой. - О нет! Уверяю
вас, Мазульхим знает меня лучше, чем вы; хоть он и глупец, все же ему хва-
238
Софа
тает ума, чтобы обходить стороной некоторых женщин. Впрочем, я не
удивлюсь, если окажется, что он, несмотря на то что никогда не выказывал
желания поухаживать за мной и ни о чем таком со мной не говорил, принялся
повсюду рассказывать, что мы чудесно поладили и прекрасно ладим до сих
пор. Говоря откровенно, - добавила она со смехом, - только такой ревнивец,
как вы, способен поверить этому. Не правда ли?
- Нет, - возразил он, - клянусь вам, кто угодно, но не я, хотя страхи
порой терзают меня, и я сознаю, что бываю смешон.
- Ну а я воздержалась бы от клятв, - ответила она. - Судя по вашему
расположению духа, вы были бы счастливы, если бы услышали, как чернят
вашу возлюбленную, потому что тогда у вас был бы повод устроить
грандиозную сцену из-за болтовни первого попавшегося прощелыги, который, зная
ваш характер, захотел бы подразнить вас.
- Помилосердствуйте, прошу вас! - возопил он. - Судите сами, ревность,
которую вы соизволили простить мне...
- Не в последний раз дала о себе знать сегодня, - закончила она за
него. - Не хватало еще, чтобы заявился Мазульхим, и вы снова впали в тоску.
- Не будем больше говорить о нем, - сказал он, - и, поскольку вы
простили меня, не станем тратить попусту драгоценное время, тем более что
все, даже моя несправедливость, доказывает вам, что я вас обожаю.
Позвольте же мне убедиться, что я окончательно прощен.
Услышав эти слова, Зулика, прекрасно распознавшая их смысл,
притворилась, что они привели ее в замешательство.
- Как, однако, утомительны ваши бесконечные претензии! - сказала
она. - Должно быть, вы никогда от них не откажетесь! Если бы вы только
знали, как бы я любила вас, будь вы более благоразумны... Это правда, -
добавила она, заметив его улыбку, - я любила бы вас в тысячу раз сильнее. По
крайней мере, тогда бы я больше верила вам и, не опасаясь, что вы станете
навязывать мне что-то из того, что мне ненавистно, с большим жаром стала
бы предаваться тому, что доставляет мне удовольствие.
В то время как она витийствовала с томным видом, Заадис подвел ее ко
мне.
- Клянусь, - сказала она, падая на меня, - я не стану больше никогда
ссориться с вами.
- Мне бы этого очень хотелось, - ответил он, - но что-то мне не верится.
- А я начинаю в это верить, - проговорила она, - поскольку вижу, во что
мне обходится примирение!
Несмотря на отвращение, Зулика уступила натиску Заадиса, но
держалась при этом так благопристойно! так чинно! так целомудренно! никто в
мире не смог бы превзойти ее в этом в подобной ситуации. Любой другой,
окажись он на месте Заадиса, должно быть, был бы в претензии. Но Заадис,
преданный приличиям до мельчайших нюансов, был в восторге от неумест-
Часть вторая
239
ной стыдливости Зулики и изо всех сил старался соответствовать
величественности и благообразию, которые она собой являла; казалось, чем меньше
любви он чувствовал с ее стороны, тем счастливей он становился.
Не знаю, какие планы в конце концов завладели воображением Зулики,
но она предложила Заадису провести день с ней. Однако, чтобы никто не
узнал о том, что она была с Заадисом, а также о том, сколько времени они
провели вместе, короче говоря, исключительно, чтобы не дать повода к
различным пересудам, моя госпожа распорядилась говорить всем, будто ее нет
дома. Заадис, влюбленный еще сильнее, чем прежде, чему в первую очередь
способствовала ревность, как это часто бывает, в полной мере оценил
доброту Зулики и, несмотря на молчаливость, сумел сделать так, чтобы она не
скучала. Ушел он только поздно ночью, как нельзя более убежденный, что
Зулика - самая благоразумная и нежная женщина Агры.
Я уже говорил, что настроение, в котором Зулика покинула Мазуль-
хима, а тем паче ее образ мыслей давали мне основания предположить,
что она захочет расторгнуть сделку, столь мало привлекательную для
женщины ее характера и ничего не говорящую ни душе, ни телу. Тем не
менее любопытство одержало верх над разумными соображениями.
Расставаясь с Заадисом, она сообщила ему, что не сможет увидеться с ним на
другой день из-за одного важного дела, и едва наступил вечер,
назначенный для свидания, села в паланкин и отправилась в сторону домика Ма-
зульхима. Я последовал за ней. Прибыв на место, мы застали лишь раба,
который ждал ее и Мазульхима.
- Как это? - раздраженно обратилась она к рабу. - Его еще нет? Очень
мило с его стороны заставлять меня ждать! Я пришла первой,
восхитительно, нечего сказать!
Раб заверил ее, что Мазульхим должен вот-вот появиться.
- Однако, - заметила она, - что он себе позволяет!
Раб удалился, а Зулика с возмущенным видом села на меня. Поскольку
она обладала несдержанным характером, ей никак не удавалось
успокоиться, и, в полный голос ругая себя за легкомыслие, она не менее тысячи раз
поклялась, что не станет больше встречаться с Мазульхимом. Наконец она
услышала шум подъезжающей кареты. Приготовившись высказать Мазуль-
химу все, что подсказывал ей ее гнев, она вскочила и распахнула дверь.
- Хорошенькие у вас манеры, сударь, нечего сказать, - проговорила
она, - такие изысканные... Ах! О небо! - вскричала она, увидев входящего
мужчину.
Разглядев вошедшего, я был удивлен едва ли меньше ее.
- Как? - воскликнул Султан. - Это был не Мазульхим?
- Нет, Сир, - ответил Аманзей.
- Так это был не он! - воскликнул Султан. - Вот странно! А почему он
не пришел?
240
Софа
- Сир, - ответил Аманзей, - Вашему Величеству скоро все станет ясно.
- Знаете, - снова заговорил Султан, - а ведь это довольно забавно! Тот
человек, должно быть, ошибся. А! Конечно, он ошибся, что уж тут! Да,
пока я не забыл, скажите мне, Аманзей, какого рода это был домик? С самого
начала я сделал вид, что понимаю, о чем идет речь, но сейчас не могу
удержаться от вопроса.
- Сир, - сказал Аманзей, - это был уединенный домик, из тех, куда
отправляются без свиты и лишних глаз...
- А, да, - перебил его Султан, - я догадываюсь. Это действительно очень
удобно. Продолжайте.
Ярость и изумление настолько сразили Зулику при виде появившегося
мужчины, что она лишилась дара речи.
- Я понимаю, сударыня, - почтительно обратился к ней Индус, - что вас
несказанно удивил мой приход. Мне также известны причины, по которым
вы желали бы увидеть на моем месте другого человека. Вам неприятно мое
присутствие, однако, должен сказать, я поражен не меньше вашего. Когда
Мазульхим попросил меня передать свои извинения некой особе, я никак не
мог ожидать, что этой особой окажется та, свиданье с кем (имей я счастье
быть на его месте) я меньше всего хотел бы пропустить. Но Мазульхим не
виноват; нет, сударыня, он знает, сколь многим обязан вашей доброте, и
рвался сюда, чтобы у ваших ног выразить свою признательность. Жестокий
долг, который, невзирая на то что он должен почитаться за священный,
Мазульхим хотел даже было нарушить, лишил его столь приятного досуга. Он
побоялся послать раба и, не решаясь доверить случаю тайну, в сохранении
которой заинтересована такая особа, как вы, счел, что надежнее
положиться на мою скромность.
Зулика была так поражена случившимся, что Индус мог бы еще долго
распространяться, не опасаясь, что она прервет его. Ей даже хотелось,
чтобы он продолжал свои речи, поскольку она пребывала в крайнем
замешательстве. Подавленная, она застыла, потупив глаза, не решаясь взглянуть на
него, покраснев от стыда и гнева, и в конце концов заплакала. Индус
церемонно взял ее под руку и проводил до софы, и она, так и не проронив ни
одного слова, бессильно рухнула на меня.
- Я вижу, сударыня, - продолжал Индус, - что вы по-прежнему вините
Мазульхима и что мои слова, которые должны были оправдать его в ваших
глазах, заставляют вас лишь сильнее сердиться на него. Счастливец! Он
причина слез, которые вы проливаете, и я завидую ему, хоть он и мой друг.
Такая любовь...
- Кто вам сказал, сударь, что я люблю его? - высокомерно произнесла
Зулика, сумевшая к тому времени взять себя в руки. - Разве не может
существовать других причин, помимо любви, чтобы я оказалась здесь? Разве
нельзя назначить встречу Мазульхиму, не испытывая к нему тех чувств, ко-
Часть вторая
241
торые вы, кажется, мне приписываете? С чего это вы взяли, что мое сердце
задето?
- Осмелюсь предположить, - ответил с улыбкой Индус, - что мои
догадки, если и несправедливы, то недалеки от истины. Слезы, которые вы
проливаете, ваш гнев, час, когда вы пришли сюда, и само место, служащее лишь
для любовных свиданий, все это заставляет меня думать, что именно это
чувство привело вас в этот дом. Не отрицайте, сударыня, - прибавил он, - вы
любите; вините себя, если хотите, в выборе предмета любви, но не в том,
что испытываете страсть.
- Как! - воскликнула Зулика, которую ничто не могло заставить
отказаться от лицемерия. - Мазульхим осмелился сказать вам, что я его люблю!
- Да, сударыня.
- И вы ему поверили? - с изумлением спросила она.
- Позвольте вам заметить, - ответил он, - что было бы нелепо
сомневаться в том, что более чем возможно.
- Хорошо! да, сударь, - созналась она, - я люблю его, я сказала ему об
этом, и я пришла сюда, чтобы доказать свою любовь: неблагодарный сумел-
таки заманить меня к себе. Я признаюсь вам в этом, не краснея, однако,
кроме моего признания, этому коварному человеку не добиться от меня других
свидетельств моей слабости. О небо, что бы стало со мной завтра?
- Э, сударыня, - холодно сказал Индус, - вы и вправду полагаете, что
доверия, которое испытывает ко мне Мазульхим, хватило только на то, чтобы
открыть мне лишь половину тайны?
- Что же он мог вам еще сказать? - сердито спросила она. - Неужели у
него хватило наглости оклеветать меня?
- Мазульхим, быть может, болтлив, - ответил Индус, - но он не враль.
- Ах он мошенник! - воскликнула она. - Я пришла сюда впервые.
- Хорошо, раз вам так угодно, - отозвался он. - Я скорее предпочту
думать, что Мазульхим меня обманул, чем сомневаться в ваших словах. Но,
сударыня, от кого вы защищаетесь? Если бы вы отнеслись ко мне без
предубеждения, льщу себя надеждой, вы бы поверили, что я умею хранить тайны.
Вы плачете? Ах! Много чести для этого бесчувственного невежи! Вы такая
красивая, подобает ли вам бояться, что вы не сможете отомстить ему? Да,
сударыня, да, Мазульхим все мне рассказал! Мне известно, что его желания
не остались неосуществленными; и даже отдельные подробности
выпавшего ему счастья не являются для меня секретом, хотя это, возможно, вас и
удивит. Но вам не следует обижаться на него, - продолжил он, - Мазульхим
был настолько полон блаженством, что не мог не выплеснуть его; испытай
он меньше восторга, меньше упоения, быть может, ему бы удалось
совладать с собой. В нем говорила не гордыня, а радость.
- Мазульхим! - прервала она его с жаром. - Ах предатель! Как!
Мазульхим выдал меня? Мазульхим все вам рассказал? Впрочем, он правильно еде-
242
Софа
лал, - продолжила она более спокойным тоном, - до сих пор я не знала, что
собой представляют мужчины, но теперь, благодаря его стараниям, я
уверилась, что никогда не следует проявлять слабость.
- О сударыня! - холодно сказал Индус, прикинувшись, будто он ей
верит. - Этак вы вместо того, чтобы отомстить ему, накажете себя.
- Нет, - ответила она, - нет! Все мужчины коварны! Жестокий опыт,
выпавший на мою долю, ясно говорит мне: все они Мазульхимы.
- Ах! Как вы можете так думать! - воскликнул он. - Осмелюсь заметить,
что, окажись я на его месте, вы сегодня не беседовали бы с Мазульхимом.
- Я вижу, - заговорила она, - что долг, задержавший его, всего лишь
надуманный предлог. Должно быть, он хочет бросить меня? Ах! Не бойтесь
же сказать мне всю правду.
- Хорошо! Да, сударыня, - ответил Индус, - было бы бессмысленно
скрывать от вас истину. Мазульхим больше не любит вас.
- Он меня больше не любит! - с болью вскричала она. - Ах! Я не
перенесу этого удара! Неблагодарный! Так-то он платит мне за мое
чувство!
Сказав это, она еще некоторое время причитала, а затем пустила в
ход по очереди слезы, гнев и отчаяние. Индус, хорошо знавший ее, не
препятствовал ей в этом и продолжал изображать, будто она вызывает в
нем восхищение.
- Мне кажется, я умираю, сударь, - обратилась она к нему, вдоволь
наплакавшись, - мое сердце слишком нежно и чувствительно, чтобы
стойко снести такой тяжелый удар. Что бы он сделал, если бы я его
обманула?
- Думаю, он стал бы обожать вас, - ответил Индус.
- Ничего не понимаю, - проговорила она, - у меня просто голова идет
кругом. Если неблагодарный разлюбил меня и побоялся сообщить мне об
этом лично, почему он не написал хотя бы записки? Даже с самым
презренным предметом любви не порывают столь недостойным образом! И почему
он послал именно вас?
- Я вижу, что, увы, - ответил Индус, - выбор вестника устраивает вас
еще меньше, чем сама весть, и, уверяю вас, если бы Мазульхим, поручая мне
передать его извинения даме, назвал бы мне ее имя, я, зная о вашем
несправедливо неприязненном отношении ко мне, не стал бы являться сюда.
Впрочем (поскольку мои чувства к вам сильно отличаются от тех, которые, к
несчастью, вы испытываете ко мне), вряд ли я бы поверил ему, открой он мне,
что речь идет о Зулике. Мне трудно было бы представить, что может
сыскаться человек, готовый отказаться от счастья быть вами любимым. Мне
жаль, что невольно я оказался замешан в тайну, которую вы, конечно же,
предпочли бы доверить кому-нибудь другому, и причинил вам такое
глубокое огорчение.
Часть вторая
243
- Не знаю, - смущенно проговорила она, - откуда у вас эти мысли.
Обычно тайны такого сорта, как та, что известна вам, не поверяются
никому, но у меня нет никаких особых причин...
- Простите меня, сударыня, - поспешно перебил ее Индус, - я знаю, что
вы меня ненавидите. Мне известно, что вы не пропускаете ни одного
удобного случая, чтобы не посмеяться над моей внешностью, моим характером
и моими умственными способностями, и что вы всегда жестоко отзываетесь
обо мне. Признаюсь, что если во мне и есть какие-нибудь достоинства, то
ими я обязан своему вечному желанию заслужить вашу похвалу или, по
крайней мере, заставить вас забыть о тех ужасных недостатках, которые вы
без устали выискиваете у меня с тех пор, как мы начали бывать в свете.
- Я?! Сударь, - проговорила она, заливаясь краской, - я ни разу не
сказала о вас ничего такого, что могло бы вызвать ваш гнев. К тому же мы
едва знакомы, и вы никогда не давали мне повода быть вами недовольной, а я
не настолько смешна, чтобы...
- Прошу вас, хватит об этом! - перебил он ее. - Дальнейшее объяснение
только смутит вас. Но, раз уж у нас зашла об этом речь, позвольте мне лишь
сказать вам, что я скорее заслуживаю вашей жалости, чем ненависти, если
принять во внимание чувства (столь глубокие, что даже ваша
несправедливость не заглушила их ни в малейшей степени), которые я питаю к вам. Да,
сударыня, - прибавил он, - ничто не способно затушить злополучную
любовь, которую вы мне внушили; ваше презрение, ваша ненависть, ваше
ожесточение заставляли стенать мое сердце, но они меня не излечили. Я
слишком хорошо знаю ваше сердце, чтобы позволить себе надеяться, что
однажды в нем проснутся чувства ко мне, но я верю, что скромность, которую я
намерен проявить по отношению к тому, что касается вас, окажется сильнее
ваших предубеждений и что вы подарите мне пусть не дружбу, но хотя бы
ваше уважение.
Зулика, смущенная его почтительными словами, призналась, что она
действительно, повинуясь странному капризу, причины которого ей самой
непонятны, враждебно отзывалась о нем, согласилась с тем, что это была
ошибка, и выразила готовность исправить ее раз и навсегда и заверила его в
своей признательности, дружбе и уважении.
Употребив некоторое время на то, чтобы получить от него твердое
обещание хранить ее секрет в глубокой тайне, она поднялась, намереваясь
покинуть дом.
- Куда же вы, сударыня, - сказал Индус, пытаясь удержать ее. - Ваши
люди ушли, а я отослал своих. Они вернутся нескоро.
- Это неважно, - ответила она. - Я не могу оставаться в доме, где все
напоминает мне о проявленной мною слабости.
- Забудьте Мазульхима, - проговорил он. - Сегодня этот дом ему не
принадлежит, он уступил его мне. Позвольте тому, кто искренне интересуется
244
Софа
вами, просить вас распоряжаться всем. Подумайте сами, как неразумно то,
что вы хотите сделать. В этот час вы рискуете, оказавшись на улице, быть
узнанной. У вас есть долг перед самой собой, и нельзя, чтобы гнев заставил
вас забыть об этом. Представьте, какая ужасная огласка вам грозит! Завтра
вы с вашими добродетелями и чувствами, делающими вам честь, станете
притчей во языцех во всей Агре, и все решат, что подобные приключения
для вас обычное дело.
Зулика упрямо отвергала доводы, которые приводил Нассес (так звали
Индуса), чтобы заставить ее остаться.
- Здесь все приготовлено для вас, - добавил он, - позвольте же мне
провести этот вечер с вами. То, какая вы есть, и то, каков я, послужит залогом
моей почтительности. Неважно, что я испытываю к вам; если я и
осмеливаюсь говорить о своих чувствах, то лишь затем, чтобы вы поняли, насколько
велик мой интерес к вам, и затем, чтобы избавить вас от чудовищного
впечатления, которое произвела, как мне кажется, на вас нескромность
Мазульхима.
Зулика продолжала сопротивляться, но в конце концов Нассесу удалось
убедить ее остаться.
- Судя по всему, - заметил он, - вас должно было удивить ваше
собственное добросердечие?
- Стоп! - прервал рассказчика Султан. - Ор сам не знает, что говорит.
Ведь, насколько я помню, именно эта дама была в ярости от того, как Ма-
зульхим обращался с ней?
- Конечно, - откликнулась Султанша, - это та самая женщина.
- Минуточку, прошу вас! - остановил ее Султан. - Давайте разберемся.
Если это та самая женщина, почему он сказал ей... то, что он ей сказал? Вы
сами видите, что он ошибся. Эта дамочка привыкла встречаться с
любовниками, следовательно, предположение, что она должна была удивиться
собственному добросердечию, выглядит довольно нелепо.
- Разве вы не видите, что он хотел высмеять ее? - осведомилась
Султанша.
- А! Тогда другое дело, - ответил Султан. - Но почему никто не
предупредил меня? Как я мог догадаться об этом? А! Он издевается над ней,
понятно. Но почему он решил поиздеваться над ней? Вот что мне хотелось бы
узнать.
- Вероятно, Аманзей сумеет объяснить вам, если вы соизволите
предоставить ему такую возможность.
- Пожалуйста, - сказал Султан. - Надеюсь, вы понимаете, что, задавая
вопрос, я не так уж нуждаюсь в ответе; приятно говорить просто для того,
чтобы говорить, а что до меня, то я никогда не испытывал отвращения
к беседам.
Часть вторая
245
Глава четырнадцатаяу
СОДЕРЖАЩАЯ МАЛО СОБЫТИЙ, НО МНОГО РАЗГОВОРОВ
На следующий день Аманзей продолжил так:
- Судя по всему, сударыня, - сказал Нассес Зулике, - вас должно было
удивить ваше собственное добросердечие?
- Конечно, - ответила она. - Уверяю вас, то, что приключилось со мной,
крайне необычно.
- Меня не удивляет, - продолжил он, - что вы полюбили, мало кому из
женщин удается избежать любви. Но чтобы этот бесчувственный Мазуль-
хим сумел покорить ваше сердце? Признаюсь, это выше моего понимания.
- По правде говоря, я сама не понимаю, как случилось, - ответила она, -
что ему удалось понравиться мне и соблазнить меня.
- Ах, сударыня, - с чувством воскликнул он, - что за жестокая доля нам
выпала! Вы любите того, кто разлюбил вас, а я люблю ту, которая никогда
не полюбит меня!6 Отчего я не переступил через вашу столь
несправедливую неприязнь ко мне и не открыл вам раньше, как вы мне дороги! Кто
знает, быть может, мои заботы, мое постоянство, моя почтительность
смягчили бы вас?
- И, быть может, вы обошлись бы со мной так же, как Мазульхим? -
продолжила она.
- Нет, - ответил он, взяв ее за руку, - о нет! Зулика была бы окружена
тем глубочайшим почитанием, которого она заслуживает.
- Но, - возразила она, - Мазульхим говорил мне то же самое; почему я
должна верить, что ваше поведение было бы иным?
- С самого начала вам следовало бы отнестись с меньшим доверием к
его чувствам, - ответил он. - Мазульхим ветреный, легкомысленный
человек, ему не ведомо, что такое любовь. Вряд ли для вас было тайной, что его
нескромность и коварство превосходят все дозволенные границы. Конечно,
каким бы обманщиком он ни был, вы, не впадая в особое тщеславие, могли
надеяться, что сможете накрепко привязать его к себе. Все в вас давало
основания полагать, что он будет вечно испытывать к вам нежность: ваша
неприступность, ваше очарование, то, что никто еще не имел сладостного и
редкостного счастья царить в вашем сердце. Для всякой другой женщины
было бы смешной самонадеянностью питать подобные надежды, но для Зу-
лики было вполне естественно лелеять мысль об этом.
- По крайней мере, - скромно заметила она, - не вызывает сомнения,
что своим образом жизни я заслуживаю учтивого обращения.
- Учтивого обращения! Вы! - вскричал он. - Ах! Можно ли учтивостью
воздать вам то, чего вы заслуживаете? Должно быть, ваша доброта мешает
246
Софа
вам требовать больше, чем подобает женщине куда менее добродетельной,
чем вы!
- Но вы сами видите, - сказала она, - что и так мои требования
оказались непомерно велики.
- Если бы мне было позволено говорить... - начал было Нассес.
- Говорите, - перебила она его, - нет никаких сомнений, что то, что
произошло между нами сегодня, свяжет нас узами самой нежной дружбы.
- Да, сударыня, - живо откликнулся он, - именно так; но неужели это
мне, тому самому ненавистному Нассесу, Зулика обещает свою нежную
дружбу?
- Да, Нассес, - сказала Зулика, - Зулика признает, что была
несправедлива к вам, ей очень жаль, и она хочет вознаградить вас ответным чувством
и несомненным доверием.
Она милостиво взглянула на него. Он был хорош собой и, пожалуй, ни в
чем не уступал Мазульхиму, хотя и был менее популярен.
- Как! - воскликнул он. - Вы обещаете мне вашу любовь?
- Да, - кивнула она, - мое сердце будет открыто для вас, и вы сможете
читать в нем так же легко, как и я; мои чувства, мои мысли станут известны
вам в мельчайших подробностях.
- Ах, Зулика! - вскричал он, бросаясь к ее ногам и с жаром целуя ей
руку. - Я отплачу вам любовью за то, что вы делаете для меня. С какой
радостью я подчиню вам все свои помыслы! Станьте владычицей моей жизни, и
я буду следовать вашим приказам!
- Оставим этот разговор, - улыбнулась она. - Встаньте! Мне не нравится
видеть вас простертым у моих ног. Вы, кажется, что-то хотели мне сказать?
Поднявшись, он сел рядом с ней и продолжил, не отпуская ее руки:
- Я хотел бы спросить вас кое о чем, раз вы соблаговолили позволить
мне говорить. Как удалось Мазульхиму понравиться вам? Должно было
произойти чудо, чтобы женщина самого достойного нрава и поведения, одним
словом, Зулика, нашла его привлекательным! Как мог столь пустой и
бесстыдный человек приглянуться такой разумной и скромной женщине? То,
что он нравится женщинам, которые похожи на него по характеру, этим
легкомысленным, ветреным и беспечным особам, ни к кому не испытывающим
сильных чувств, но уступающим всем, на кого падает их взгляд, повторяю,
то, что он им нравится, меня не удивляет. Но вы!
- Я обещала вознаградить вас за все доверием, - ответила Зулика, - и
поэтому скажу откровенно, что я не опасалась, что Мазульхим станет мне
дорог. Дело не в том, что я считала себя неспособной на слабость. За моими
плечами еще не было такого прискорбного опыта, как сейчас, однако я и
тогда понимала, что бывает достаточно минуты, чтобы низвергнуть даже
самую добродетельную женщину в глубокую пучину смятения; вместе с тем я,
усыпленная уверенностью в себе и тем, что я не первый год в свете и за все
Часть вторая
247
это время ни разу ни на йоту не отступила от предписанных нам правил,
осмелилась льстить себя надеждой, что ничто никогда не нарушит мой покой.
- Должно быть, - с самым серьезным видом заметил Нассес, - эта
самонадеянность опаснее всего для женщины.
- Возможно, - ответила она, - во всяком случае, когда женщина верит в
свою неуязвимость, она больше рискует попасться. Я пребывала в этой
обманчивой безмятежности, когда Мазульхим обратил на себя мое внимание.
Не могу вам сказать, как он добился моего расположения. Я только знаю,
что после долгого сопротивления мое сердце исполнилось трепета, а голова
пошла кругом. Я почувствовала, что чувства берут верх надо мной, и мне это
было внове. Мазульхим, лучше меня понимавший природу моего смущения,
воспользовался им, чтобы вовлечь меня в поступки, последствий которых я
себе не представляла; в конце концов он добился того, что я согласилась
прийти сюда. Я верила в то, что, как он объяснил, ему хотелось лишь
побеседовать со мной с большей свободой, чем это позволяла светская суета.
Я пришла. Его присутствие взволновало меня больше, чем я могла ожидать.
Оставшись с ним наедине, я не нашла в себе достаточно сил, чтобы
противостоять его желаниям. Не сознавая, что я делаю, я не могла ни в чем ему
отказать. Так любовь ввела меня в искушение.
Сказав это, она попыталась выдавить слезу из чуть повлажневших глаз.
Нассес, казалось, преисполнился искреннего сочувствия к ней и принялся
утешать ее, впрочем, то, что он ей говорил, должно было скорее увеличить
ее отчаяние. С особым лукавством он напирал на то, как быстро Мазульхим
изменился к ней.
- Конечно же, - рассуждал он, - Мазульхим оставил вас не потому, что
вы не обладаете качествами, которые могут составить счастье мужчины, по
меньшей мере, судя со стороны, о вас этого не скажешь. Однако
стремительная перемена, произошедшая в Мазульхиме, окажись на вашем месте
любая другая женщина, породила бы весьма неприятные толки.
При этих словах Зулика состроила гримасу, красноречиво говорившую
Нассесу, насколько неосновательны такого рода упреки в ее адрес.
- Хорошо известно, - продолжил он, - что, к несчастью, мужчины не в
состоянии долго вкушать блаженство, даже если речь идет о самом
обворожительном предмете любви, без того, чтобы их чувства не притуплялись;
однако обычно мы все-таки выдерживаем три месяца, или шесть недель, или
хотя бы четырнадцать дней. Непостижимо, как можно бросить женщину
так быстро, как это сделал Мазульхим. То, что он поступил с вами так!
Трудно вообразить себе что-либо более нелепое и ужасное. Ах, Зулика, -
добавил он, - осмелюсь еще раз повторить: во мне вы нашли бы большее
постоянство.
Зулика ответила ему, что охотно в это верит, но что, поскольку
теперь она не намерена больше влюбляться, постоянен мужчина или нет,
248
Софа
не имеет для нее никакого значения, и что она даже хотела бы,
испытывая к нему самую искреннюю дружбу, чтобы любовь, которую, как он
говорит, она ему внушила, оказалась бы обманом, ибо ей было бы
неприятно думать, что он хранит в сердце чувство, обреченное остаться
безответным.
- Да, - грустно проговорил Нассес, - я хорошо вас понимаю. Я
нахожу, что вы обладаете той твердостью духа, которую я всегда прозревал в
вас, и я не могу не восхищаться ею, хотя в ней причина моего несчастья.
Будь вы менее благоразумной, мои дела были бы не так плохи,
поскольку ничто не мешало бы мне думать, что раз вы любили Мазульхима, то
вполне может случиться так, что вы полюбите и меня. Подобные
соображения не оскорбительны ни для одной женщины, но, к несчастью, вы не
похожи на других, и то, что вы проявили слабость, не значит, что вы
проявите ее в будущем.
Зулика, которая, должно быть, про себя смеялась наивности Нассеса,
заверила его в том, что он правильно понял ее характер, а затем пустилась в
пространные рассуждения о своем здравомыслии, свойственном ей, к
счастью, от природы, о том, как мало она расположена к тому, чтобы увлечься
кем-либо, о безразличии, которое ей внушило то, что для других женщин
служит источником живейшего удовольствия, несмотря на всю ее горячую
любовь к Мазульхиму.
- Тем хуже для вас, сударыня! - сказал Нассес. - Чем более я осознаю,
насколько вы благоразумны, тем сильнее мне жаль вас. Подобная
бесчувственность может составить несчастье вашей жизни. Мазульхим будет вечно
стоять у вас перед глазами. То, как он унизил вас, прочно застрянет в вашей
памяти: эта пытка обречет вас на одиночество, и ни одно развлечение, ни
одно удовольствие в мире не будет приносить вам радости.
- Но как мне поступить, - спросила она, - чтобы избавиться от этих
ужасных мыслей? Я согласна с тем, что новая любовь могла бы помочь мне
стереть воспоминание о Мазульхиме, но я не уверена, что мое сердце
захочет отдаться этому чувству в той степени, в которой это необходимо для
полного выздоровления, не говоря уже о том, что, возможно, на этом пути
меня опять подстерегают горести. Нет, Нассес, поверьте мне, женщины
определенного склада любят только один раз в жизни.
- Какое заблуждение! - возмутился он. - Я знаю таких, которые
любили более шести раз и от этого не стали менее достойными уважения. К
тому же вы находитесь в таком ужасном положении, что вам следует забыть о
правилах; всякий, кто оказался бы в курсе ваших обстоятельств, счел бы,
что, полюби вы даже десятерых одновременно, этого было бы
недостаточно, чтобы поправить дело.
- Трудно рассчитывать на подобную доброжелательность, - улыбнулась
Зулика.
Часть вторая
249
- Вовсе нет, - ответил он, - сыскать ее гораздо проще, чем вы
полагаете. Впрочем, надеюсь, вы понимаете, что я далек от того, чтобы предложить
вам полюбить десятерых, ибо достаточно одного, чтобы я умер от тоски.
- Ах, - задумчиво произнесла Зулика, - когда мы любим, нас осуждают,
и даже одна-единственная страсть, постоянная и искренняя, не может
служить защитой от презрения; такая уж у нас горькая участь, что то, что
ставится вам в заслугу, служит нам укором.
- Да, когда-то именно так и было, - ответил он, - но нравы изменились,
а вместе с ними и общепринятые мнения. О! Нет, если вас удерживает лишь
страх, что вас осудят, вы можете отдаться чувствам, ничего не опасаясь.
- По сути вы правы, - согласилась она, - ибо что особенного в том, что
сердце не пустует? В принципе, я не вижу в этом ничего дурного.
- И все же, - возразил он, - несмотря на вашу способность легко
отделять ложные идеи от истинных, вы намереваетесь принести себя в жертву
предрассудкам, уподобляясь тем, кто вообще не умеет мыслить. Вы скорее
готовы провести остаток жизни, оплакивая вашу слабость к Мазульхиму,
чем поразмыслить над тем, как найти утешение: вы верите в то, что
женщины определенного сорта любят лишь один раз в жизни. В глубине души вы
понимаете, что принцип, на который вы опираетесь, ложен, но
продолжаете сопротивляться этому внутреннему знанию, чтобы упиваться
благородным чувством печали и, вероятно, чтобы не разочаровать тех, кто станет
говорить, что вы собираетесь оплакивать утрату до конца ваших дней. Но
разве такого рода разговоры следует поощрять?
- Поощрять? - спросила она. - Но, надеюсь, я не стану темой для
разговоров.
- Хотелось бы верить, - сказал он. - Уверен, что вы, сударыня, никому
не расскажете об этой истории. Само собой, что и я буду нем как рыба.
Думаю, что и Мазульхим сочтет за лучшее держать язык за зубами, поскольку
это приключение делает ему мало чести; и тем не менее, если вы не
перемените своих взглядов, огласка неизбежна.
- Но почему? - удивилась она.
- Черт побери! - воскликнул он. - Не думаете же вы, что, видя вас все
время в удрученном состоянии, никто не станет доискиваться до причины
вашего дурного расположения духа? И что, ища с усердием, невозможно
докопаться до истины? Неужели вы полагаете, что Мазульхим, которому лестно
ваше отчаяние, устоит перед искушением поведать всем, что вы безутешны
от того, что он вас бросил?
- Вы правы, - согласилась она, - но, Нассес, разве в моих силах заставить
себя не грустить?
- Конечно, - подтвердил он, - все в ваших руках. Если честно, о чем вы
сожалеете? Мазульхим? Но если бы он возвратился к вам, согласились бы
вы принять его?
250
Софа
- Я! - воскликнула она. - Ах! Лучше уж принадлежать самому
последнему из мужчин, чем ему!
- Но если ничто не сможет теперь помочь ему вернуть ваше
расположение, - продолжил он, - значит, просто смешно горевать о нем.
- Скажите, - вмешался Султан, - это еще надолго?
- Да, Сир, - ответил Аманзей.
- Тем хуже, клянусь Магометом, - заметил Шах-Бахам. - Такого рода
беседы наводят на меня смертельную скуку, предупреждаю вас. Вы
доставили бы мне удовольствие, если бы сочли возможным опустить эту часть или
хотя бы сократить ее. Уж я-то в долгу не останусь.
- Напрасно вы ропщете, - сказала Султанша. - Беседа, которая вам так
прискучила, сама по себе в некотором смысле и есть действие. Это не
трескучая бессмысленная болтовня, это действие... как там принято говорить,
"в форме диалога"7? - с улыбкой обратилась она к Аманзею.
- Да, сударыня, - ответил он.
- Такой способ повествования, - продолжила она, - весьма приятен. Он
лучше и полнее рисует характеры, которые выводятся на сцену, однако его
преимущества имеют и оборотные стороны. Если стараться достичь
глубины или же, например, останавливаться на мельчайших нюансах, можно
увлечься мелочами, пусть даже и изысканными, но не столь важными, чтобы
задерживать на них внимание слушателей, и замучить всех длиннотами и
ненужными подробностями. Возможно, умение вовремя остановиться дается
труднее, чем сочинительство. Его Величество Султан не прав, требуя,
чтобы вы прибавили шагу именно в этом месте повествования, но неправым
будете и вы по отношению ко мне или к другим слушателям, наделенным
вкусом, коли в угоду приступу говорливости не научитесь время от времени
жертвовать деталями, пусть даже вы и находите их занимательными, коли
уж они отдаляют появление того, что ждет от вас публика.
- Его Величество Султан не прав, - повторил Султан, - неплохо
сказано! А я заявляю вам, что этот Аманзей просто болтун, который упивается
своими словами и, если я не ошибаюсь, страдает порочной слабостью к
длиннющим разговорам и умничанью. Должно быть, вас шокируют мои
слова, - прибавил он, оборачиваясь к Аманзею, - но я человек прямой,
и, если вы взглянете на вещи честно, держу пари, вы согласитесь со мной.
- Да, Сир, - ответил Аманзей. - Скажу без лести, вы правы, ибо я уже
давно замечаю, что страдаю пороком, на который мне было указано Вашим
Величеством.
- Так исправьтесь, - сказал Шах-Бахам.
- Если бы справиться с пороком было бы столь же просто, как признать
его, - заметил Аманзей, - Вашему Величеству не пришлось бы упрекать меня.
Сила доводов, которые привел Нассес, поразила Зулику, -
продолжил он.
Часть вторая
251
- По сути вы совершенно правы, - сказала она ему, - и, конечно же, я
оплакиваю не потерю Мазульхима, а свою слабость, которая заставила меня
довериться столь недостойному человеку.
- Должен признать, - простодушно заметил он, - шутка, которую он с
вами сыграл, не могла не уронить его в ваших глазах. Однако, если судить
беспристрастно, думаю, вы не станете отрицать, что у него есть и
достоинства, ибо они у него точно есть.
- Если очень хотеть, - с презрением ответила она, - то их можно в нем
отыскать, но должна заметить, что он, например, дурно сложен.
- Возможно, - снова заговорил он. - Но никто не имеет таких приятных
манер, как Мазульхим, он пригож лицом, у него стройные ноги, он умеет
держаться свободно и с благородством, он легок в общении, остроумен и
обладает живым умом.
- О да, - подхватила она, - я и не отрицаю, что как игрушка он
довольно мил, впрочем, ему не приходится претендовать на большее, и вообще,
уверяю вас, он и вполовину не так забавен, как принято о нем думать.
Между нами говоря, он просто фат, заносчивый и самовлюбленный!
- Человеку, которому посчастливилось понравиться вам, простительно
некоторое высокомерие, - перебил ее Нассес. - Мы ежедневно
сталкиваемся с тем, что оно развивается и из-за гораздо менее значительных причин.
- Однако, Нассес, - заметила она, - ваши речи довольно странны, если
принять во внимание ваши заверения в любви и ваше желание добиться
взаимности.
- Хотя Мазульхим вызывает теперь у вас отвращение, - ответил
Нассес, - все же он вам дороже, чем я; и я счел более уместным говорить с
вами о воздыхателе, которого вы так нежно любили, чем о том, кого вы
никогда не полюбите. Мазульхим еще так живо интересует вас, что, стоит мне
произнести его имя, как ваши глаза наполняются слезами. И сейчас вы
напрасно пытаетесь скрыть от меня ваши слезы. Ах! Не плачьте, любезная
Зулика, - воскликнул он. - Не разрывайте моего сердца! Я не могу смотреть
на то, как вы проливаете слезы, не впадая в самое ужасное отчаяние!
Зулика, которой уже давно расхотелось плакать, при этих словах сочла
приличным выдавить несколько слезинок. Нассес, от души забавляясь тем,
что она во всем повинуется ему, позволил ей некоторое время изображать
безутешное горе. Но он не терял времени даром и развлекался, целуя ее в
шейку, неосторожно открытую чуть больше, чем следовало. Она довольно
долго не соизволяла обратить внимания на то, чем он был занят, и только
после того, как он уже достаточно злоупотребил предоставленной ему
свободой, она опомнилась и одернула его.
- Должно быть, вам не приходит в голову, Нассес, - проговорила она,
по-прежнему не отнимая носового платка от глаз, - что подобные
вольности по-настоящему ранят меня.
252
Софа
- Я вам верю, - ответил он, - но примите это как знак сочувствия.
Взгляните же на меня, - продолжил он, - я хотел бы видеть ваши глаза.
- Нет, - возразила она, - они пролили слишком много слез, чтобы
сохранить былую красоту.
- Эти слезы, - проворковал он, - лишь украшают вас. Послушайте же, -
продолжил он, - меня печалит то состояние, в котором вы пребываете, и я
твердо намерен помочь вам. Я уже привел доказательства в пользу того, что
вам необходимо снова полюбить, а теперь я употреблю все силы, чтобы
убедить вас в том, что полюбить вы должны меня.
- Сомневаюсь, - промолвила она, - что вам это удастся.
- Посмотрим, - сказал он. - Прежде всего, вы признались, что ваша
ненависть ко мне была беспочвенна; вы можете загладить эту
несправедливость лишь самым пылким чувством.
Она улыбнулась.
- К тому же, - продолжил он, - я люблю вас, и хотя вам не составит
труда отыскать сердце, в котором будет даже больше любви, чем вам хотелось
бы, никогда вам не встретить человека, столь ревностно стремящегося
окружить вас нежностью, которой вы заслуживаете, как я. Правы мы или нет,
но мы привыкли плохо думать о женщинах. Мы уверены, что им не
свойственны верность и постоянство, и поэтому считаем своим долгом отвечать им
ветреностью и изменами. Оттого в нас так трудно пробудить страсть; чтобы
решиться на такое чувство, мы должны убедиться, что речь идет о даме,
которая заслуживает более серьезного отношения, чем то, которое мы
привыкли проявлять к женщине; нам нужно узнать ее характер, ее образ жизни, ее
мысли, чтобы затем, основываясь на этом, определить, держаться ли с ней
уважительно, и если да, то в какой степени.
- И что же вам мешает, - перебила она его, - проделать все это?
- Вы шутите, сударыня! - ответил он. - Подобный труд требует
времени. Пока мы будем предаваться наблюдениям, избранница найдет себе кого-
нибудь другого, и поскольку такое событие трудно перенести, мы, чтобы
избежать его, оставляем женщину раньше, чем успеваем понять, заслуживает
ли она постоянства.
- Но, - сказала она, - я не понимаю, чем вам это может помочь.
- Сейчас объясню, - ответил он. - А этот ваш платок, вы что, так и
будете прижимать его к глазам?
- Разве я не смотрю на вас? - проговорила она.
- Не так, как мне хотелось бы, - заметил он. - Пусть наконец он
исчезнет, или я возненавижу вас так, как вы ненавидели меня.
Она с нежностью взглянула на него и улыбнулась.
- Продолжайте же, - промолвила она, склонившись к нему.
- Не беспокойтесь, - заговорил он, крепко сжимая ее в объятиях, - я
продолжу. То, какой вы открылись мне сегодня, - продолжил он, - стоит
Часть вторая
253
разысканий, о которых я упомянул; вы завоевали мое уважение, и
оттого моя любовь к вам возросла вдвое. Следовательно, никто не полюбит
вас так, как я! Другой мужчина оценит вашу прелесть, но он не сможет
постичь красоту вашей души, поскольку у него не будет возможности
убедиться, насколько тонки ваши чувства. Вы можете возразить мне, что
ваши поступки позволят ему составить о вас лестное мнение. Но,
сударыня (сейчас я буду говорить о нас плохо), неужели вы думаете, что
невнимательный, ветреный мужчина, утрачивающий всякое представление
о нравственности, когда речь идет о женщинах, твердо решивший, что
особы женского пола достойны лишь презрения, и, дабы не изменить
этого мнения, не позволяющий себе снизойти до наблюдений, поскольку
так жить, несомненно, проще, неужели вы думаете, спрашиваю я вас, что
он обратит внимание на поступки, которые не могут вызвать его
уважения, или что он не обвинит вас в притворстве и желании пустить пыль в
глаза, демонстрируя то, чего в вас нет?
- Что ж, - сказала она, - возможно, вы правы и ваши слова не лишены
смысла.
Нассес, решив поблагодарить ее за эту похвалу, хотел было поцеловать
ей руку, но губы Зулики оказались ближе, и он счел уместным запечатлеть
на них свою признательность.
- Ах, Нассес, - нежно промолвила Зулика, - мы поссоримся.
- Вы сами видите, - продолжил он, не обратив внимания на ее слова, -
что никто в целом свете не уважает вас так, как я, ибо у меня есть на то
самые веские основания, следовательно, я и есть тот единственный человек,
которого вы должны полюбить.
- Нет, - ответила она, - любовь слишком опасна.
- Старая песня, - поморщился он, - такая пошлая, такая заезженная, что
в наше время не годится даже для мадригала; к тому же она не может
помешать вам любить меня. Уверяю вас.
- Даже если она не помешает этому... - проговорила она. - Но к чему
вам моя любовь? Ведь я уже предложила вам свою дружбу.
- Конечно, - ответил он, - это очень великодушно с вашей стороны!
Ясно, что, если бы я не любил вас, я бы удовольствовался этим, а быть может,
и меньшим, но чувства, которые я питаю к вам, ждут взаимной нежности, и,
клянусь, я употреблю все средства, чтобы разжечь в вас страсть.
- Предупреждаю вас, - сказала она, - что я употреблю все средства,
чтобы защититься от вас.
- Ах! Ах! - вскричал он. - Вы хотите защищаться от меня! Я счастлив!
Что это, если не доказательство того, что вы опасаетесь меня! И вы правы.
Поскольку я люблю вас, вам следует остерегаться меня больше, чем кого-
либо другого. Будь на вашем месте женщина менее порядочная, я бы
поздравил себя с победой.
254
Софа
- Однако, - заметила она, - чем более порядочна женщина, тем сильнее
она сопротивляется.
- Напротив, - возразил он. - Только кокеток трудно уломать8. Их легко
уверить в том, что они обворожительны, однако трудно растрогать; легче
всего даются победы над разумными женщинами.
- Я никогда в это не поверю, - сказала она.
- И тем не менее это правда, - заверил он ее. - Взять вас, например, ведь
вы не сомневаетесь в том, что я вас люблю? Ответьте! Но только честно!
- Меня только что так легко провели, - заметила она, - что, думаю, я
еще долго никому не буду верить.
- Забудьте Мазульхима, - воскликнул он, - ответьте на мой вопрос!
Она сказала, что, как ей кажется, он не ненавидит его. Он продолжал
настаивать и наконец заставил ее признаться в том, что она верит в его
любовь.
- А вы, - не успокаивался - он, - ведь вы не находите меня
отталкивающим?
- Отталкивающим? - переспросила она. - Конечно, нет. Вероятно,
следовало бы сказать, что вы мне безразличны, но мне бы не хотелось снова
допустить несправедливость.
- Итак, вы верите в то, что я люблю вас, - воскликнул он, - и вы не
ненавидите меня! Неужели вы полагаете, что сможете долго противиться мне?
Вы, такая искренняя от природы, вы льстите себя надеждой, что сможете
сделать меня несчастным, тогда как ваши собственные желания
потворствуют моим; что вам удастся потянуть время и что приличия будут соблюдены,
если вы отдадитесь мне не ранее намеченного вами отдаленного срока? Нет,
Зулика, нет, я о вас куда лучшего мнения. В вас совсем нет притворства, и
вы не станете мучить того, кто любит вас; злое искусство томить
влюбленного, двигаясь черепашьим шагом к минуте, которая разжигает желание и
дарует блаженство, незнакомо вам. В тот миг, когда ваше сердце будет
тронуто, я умру от счастья в ваших объятиях, и эти очаровательные губки... - с
восторгом проговорил он.
- Прелестно! - перебил Аманзея Султан. - Вы избавляете меня от
адских мук. Клянусь честью! Я уже начал опасаться, что между ними ничего
не произойдет. Ах! Ну и глупое создание эта Зулика, со всеми ее
выкрутасами!
- Действительно, - сказала Султанша, - надо признать, что она
заставила себя ждать! Как? Сопротивляться целый час? Это неслыханно!
- Во всяком случае, - откликнулся Султан, - я истомился так, словно все
это длилось не менее двух недель, и, если бы Аманзей продолжил эту
тягомотину, я бы умер от одурения и тоски, но прежде ему пришлось бы
проститься с жизнью, ибо я сумел бы проучить того, кто осмеливается насылать
смертельную скуку на коронованную особу!
Часть вторая
255
Глава пятнадцатая,
КОТОРАЯ ВРЯД ЛИ РАЗВЕСЕЛИТ ТЕХ,
КОМУ ПРЕДЫДУЩИЕ ГЛАВЫ ПОКАЗАЛИСЬ СКУЧНЫ
- По молчанию, воцарившемуся в тот момент, который вчера доставил
столько удовольствия Вашему Величеству, - продолжил Аманзей на
следующий день, - я понял, что Нассес лишил Зулику возможности говорить и
что она со своей стороны не давала ему продолжить.
- Ах, Нассес, - воскликнула она, как только это стало возможным, -
Нассес, одумайтесь! Если бы вы любили меня!
Чем больше Нассес опасался упреков Зулики, тем старательнее он
мешал ей высказать их. Именно в этот момент я отчетливо понял, как
полезно бывает проявлять упрямство, когда имеешь дело с женщиной.
- Но послушайте же, Нассес, - говорила Зулика, - Нассес, прошу вас!
Вы хотите, чтобы я вас возненавидела?
Но слова, которые она произносила слабым прерывающимся голосом,
звучали неубедительно и не имели на него никакого воздействия. Зулика
поняла, что бесполезно взывать к человеку, охваченному страстью, ибо даже
самые убедительные речи оказались бы тщетны. Как поступить? Так, как
она поступила. Приняв все возможные меры предосторожности против
натиска Нассеса, совершенно потерявшего голову, и особенно не опасаясь его,
она набралась терпения и стала ждать, когда он окажется в состоянии
выслушать все, что она думала о его бесцеремонном поведении. Что ж до
Нассеса, то он, то ли надеясь быстрее получить ее прощение, то ли
действительно увлекшись Зуликой, не выпускал ее из объятий, пока не уронил
бессильно голову ей на грудь, впав в сосредоточенность, не оставлявшую сомнений
в том, что он не мог думать ни о чем другом, кроме своего состояния.
Новое затруднение для Зулики, понимавшей, что бессмысленно
беседовать с тем, кто не способен внимать словам. Правда, вынужденное
мучительное молчание скрашивалось для нее тем, что, по всей видимости, Нассесу не
хватало духу сострить по поводу происходящего. Она попробовала было
высвободиться из его рук, но ей это не удалось. Когда он пришел в себя, вид у
него был такой кроткий! Его взгляд с такой негой скользил по Зулике! Он
томно прикрыл глаза, глубоко вздохнул, и она, почувствовав, что гнев, который
она вынашивала, улетучивается, неожиданно для себя впала в несвойственное
ей обычно волнение и была готова разделить его упоение. Если бы Нассес
заметил состояние, в которое она пришла, с ее добродетельностью было бы
покончено. Наконец Нассес, совершенно очнувшись, сжал ей руку.
- Нассес, - сердито проговорила она, - неужели вы думаете, что таким
образом заставите меня полюбить вас?
256
Софа
Нассес попросил прощения за свой страстный порыв, из-за которого,
как он объяснил, ему не удалось проявить большей тонкости чувств. Зули-
ка заметила ему, что искренняя любовь всегда почтительна и что такая
необузданность возможна лишь по отношению к женщинам, к которым
нельзя испытывать что-либо, кроме презрения. Он, со своей стороны, сказал,
что почтительность неуместна, когда женщина действительно пробуждает
желания, и что исступление, которое он испытал, лучше всего
свидетельствует о том, какие сильные чувства он питает к Зулике.
- Если бы я меньше почитал вас, - говорил он, - я стал бы просить вас о
том, что только что похитил; но даже если бы я выклянчивал у вас самую
малость, думаю, вы бы отказали мне в ваших милостях. Даже будучи
уверенным, что добьюсь своего, я все-таки должен был бы рассчитывать лишь на
себя самого. Нет, что правда, то правда, - чем выше ставишь женщину, тем
больше чувствуешь неотвратимость своей дерзости.
- Я не верю ни единому вашему слову, - ответила Зулика, - но даже
если бы то, о чем вы говорите, было бы справедливо, все же это не отменяет
общего правила, не позволяющего приступать к изъяснениям в любви столь
диким образом.
- Пусть я несколько поспешил, - возразил он, - но вы должны быть мне
только благодарны за это выражение расположения к вам.
- Право, - нетерпеливо проговорила она, - у вас довольно странные
представления об учтивости.
- Самое забавное во всем этом, - сказал он, - что мои представления об
учтивости, которые вы изволили назвать странными, имеют под собой
основания. Они справедливы, хоть вы и находите их ни с чем не сообразными, и,
думаю, вы должны согласиться со мной, ибо вы не только умны, но и, что
особенно редко встречается у особ вашего пола, вы умны в той степени, в
которой это необходимо, чтобы поздравить себя с этим качеством.
- Не рассчитывайте, что растрогаете меня своими комплиментами, -
сухо предупредила она. - Уверяю вас, я знаю им цену.
- Как огорчительно, - откликнулся он, - что моя любезность оставляет
вас равнодушной.
- Позволю себе заметить, сударь, - перебила она его, - что прежде чем
решаться на некоторые действия, следует все же увериться в том, что они
позволены.
- Понимаю, сударыня, - снова заговорил он, - вы хотите, чтобы я
скомпрометировал вас в глазах света, ну что ж! Я так и сделаю. Я хотел
разбудить ваши чувства, но сохранить все в тайне, однако, поскольку
такое обращение вам не по вкусу, я сделаю все, что в моих силах,
сударыня, чтобы все узнали о моей любви, и вам не удастся избежать ни одной
из тех глупых нежностей, по которым свет распознает неравнодушное
отношение к женщине.
Часть вторая
257
- Что вы хотите этим сказать? - спросила она. - Какой вы странный! Вы
что же, из уважения ко мне нагородили уйму непростительных дерзостей?
Должно быть, из бесконечного интереса к тому, что меня касается, вы
набросились на меня так, будто я не заслуживаю учтивого обхождения? Вы
учиняете всяческие безобразия, а я оказываюсь виновата! Будьте так
любезны, объясните мне, что все это значит?
- Будь вы более опытны в любви, - заметил он, - вы избавили бы меня
от подобных объяснений. Тем не менее признаюсь, что необходимость
преподать вам урок, каким бы тягостным он вам ни показался, мне доставляет
в тысячу раз больше удовольствия, чем осознание, что вы достаточно
просвещены, чтобы не нуждаться в моей помощи. Известно ли вам, что
женщину губит не доброта, которую она проявляет к своему возлюбленному, а
время, которое он должен употребить, чтобы завоевать ее? Неужели вы
полагаете, что страдания, которые рождает неразделенная любовь, все эти
ухаживания, невероятные усилия, направленные на то, чтобы смягчить вас,
остались бы незамеченными? Я стал бы грустным, и (даже если я не проронил
бы ни слова о причинах моей меланхолии) ни для кого не осталось бы
секретом, что лишь ваша суровость повергает меня в такое состояние. Наконец
(ибо конец всегда рано или поздно наступает) вы осчастливили бы меня.
Думаете, прояви мы хоть недюжинную осторожность, наши глаза, то
взаимопонимание, которое рождается вне зависимости от воли в подобном случае,
не выдали бы нашей тайны?
Зулика, судя по ее изумленному виду и молчанию, оценила по
достоинству слова Нассеса.
- Вы сами видите, - продолжил он, - что, торопя вас проявить
благосклонность, я больше думаю о вас, чем о себе. Если вы прислушаетесь к
моим советам, если вы избавите меня от мук, вы избежите огласки, которая
всегда сопутствует зарождению чувства. К тому же обстоятельства, при
которых мы встретились, таковы, что мне было бы затруднительно начать
ухаживать за вами, не разгласив их. Придя к согласию, мы сможем
представить наши отношения в том виде, в каком нам будет угодно; окружающие,
уверенные в том, что вы меня ненавидите, никогда не догадаются, что ваше
неприятие так стремительно превратилось в нечто совсем
противоположное. Вам не составит труда найти повод для примирения со мной. Когда мы
столкнемся при Дворе или на приеме у старшей принцессы, я позабочусь о
том, чтобы подать вам случай проявить по отношению ко мне учтивость; не
волнуйтесь, все будет выглядеть вполне естественно, и вам лишь останется
воспользоваться этим случаем. Я же горячо откликнусь на вашу любезность
и стану громко сетовать на неприязнь, которую вы ко мне испытываете, и
просить вас сменить гнев на милость. Затем я обращусь к кому-нибудь из
наших общих друзей за помощью, моля получить от вас разрешение иногда
являться в ваш дом; вы ответите согласием, и я буду введен в круг ваших гос-
9. Кребийон-сын
258
Софа
тей; после этого я еще раз посещу вас и буду повсюду расхваливать ваш нрав
и удивляться тому, что так долго был лишен вашего общества. Не думаю,
что потребуется еще что-то, чтобы оправдать мои восторги; они будут
выглядеть вполне естественными и само собой разумеющимися, и мы будем
получать особое удовольствие от нашей любви, когда будем знать, что
провели всех.
- Нет, - задумчиво проговорила она, - уступи я вам столь стремительно,
мне уже не дождаться от вас постоянства. Признаюсь, я не против вступить
в сделку, основанную на глубоком уважении, доверии и дружбе, которых,
как правило, трудно сыскать в свете; скажу вам больше, я даже не против
любви, если только требования возлюбленного не простираются дальше
нежных признаний.
- То, о чем вы говорите, - нежно проворковал он, - невозможно,
особенно когда речь идет о вас. Должен сказать, что получить ту малость, которую
вы соизволяете даровать, более почетно, чем добиться всего от любой
другой женщины. Но, прошу вас, Зулика, поверьте, я обожаю вас и, так как вы
меня любите, молю вас, составьте счастье того, кто испытывает к вам
самую неподдельную страсть!
- Если бы вы умели ограничивать свои желания, - взволнованно
сказала она, - и не использовали бы малейший шаг навстречу для того, чтобы
сразу же начать просить большего, быть может, я смогла бы попробовать
унять ваши страдания, но...
- Уверяю вас, Зулика, - быстро перебил он ее, - вы останетесь
довольны моим послушанием!
Зулика хорошо поняла опасность, таившуюся в этих словах, но все-таки
легкомысленно придвинулась к Нассесу, который тут же бесцеремонно
воспользовался ее добротой и набросился на нее.
- Ах, Зулика! - проворковал он спустя некоторое время, - неужели я
обязан этими сладчайшими минутами лишь вашей снисходительности и
неужели вы не хотите, чтобы и для вас они оказались столь же упоительными,
какими они уже являются для меня?
Зулика не ответила, однако Нассес прекратил свои сетования.
Вскоре огонь, пожиравший его, вспыхнул и в душе Зулики. Нассес
совершенно позабыл о своем обещании, а она не спешила напомнить ему о
поставленном условии. Она пеняла ему, но так ласково, что ее упреки скорее
напоминали нежные жалобные вздохи. Нассес, отдавая себе отчет в том, в
какое расположение духа он ее привел, решил, что не стоит упускать столь
драгоценный момент.
- Ах, Нассес, - задыхаясь, проговорила она, - какую горестную участь
вы готовите мне, если вы меня не любите!
Какими бы неподдельными и жгучими ни были сомнения Зулики в
искренности Нассеса, его пыл, казалось, рассеял их. Понимая, что ее колеба-
Часть вторая
259
ниям подходит конец, Нассес счел неуместным тратить время на увещевания
и предпочел успокоить ее куда более красноречивым образом. Его
молчание нисколько не обидело Зулику. Вскоре (ибо часто бывает достаточно
пустяка, чтобы заставить человека забыть о серьезных вещах) прежние
страхи уступили в ней место опасениям, что, настаивая на своем, она нанесет
Нассесу смертельную обиду. Затем другие соображения, должно быть, куда
более приятные, завладели ею. Она хотела было заговорить, но с ее уст
сорвалось лишь несколько бессвязных слов, ничего не выражающих, кроме
душевного смятения.
Когда это смятение улеглось, Нассес бросился к ее ногам.
- Ах, оставьте меня, - сказала она, слабо отталкивая его.
- Как? - удивленно воскликнул он. - Неужели я имел несчастье
разочаровать вас? Неужели вы остались недовольны мной?
- Даже если я и осталась довольна вами, - ответила она, - это не значит,
что мне не на что жаловаться.
- А... И на что же вы собираетесь жаловаться? - поинтересовался он. -
Должно быть, долгое и жестокое сопротивление утомило вас?
- Я допускаю, - сказала она, - что многие другие женщины на моем
месте сдались бы раньше, но тем не менее я осознаю, что могла бы
продержаться дольше.
Она посмотрела на него, и в ее взгляде, смущенном и томном, читались
желание и призыв.
- Вы любите меня? - спросил Нассес так ласково, как если бы он и
вправду любил ее.
- Ах, Нассес! - воскликнула она. - К чему вам слова, когда вы и так
сумели вырвать у меня признание? Мне нечего прибавить к тому, что уже
произошло!
- Да, Зулика, - сказал он, - только это дивное признание сделает меня
совершенно счастливым; без него я буду вынужден думать, что поступил как
вор. Ах! Неужели вы допустите, чтобы я извел себя жестокими попреками?
- Да, Нассес, - вздохнула она, - я люблю вас!
Нассес хотел было поблагодарить Зулику, но тут появился раб Мазуль-
хима, чтобы сервировать ужин. Нассес разочарованно вздохнул...
- Еще бы! - вмешался Султан. - Проклятье! Эти слуги совершенно не
умеют себя вести! Они всегда появляются исключительно в тот момент,
когда их присутствие наименее уместно. Нет того, чтобы прийти раньше, когда
Нассес и Зулика распространяли вокруг себя смертоносную скуку! Так нет
же! Он вваливается именно тогда, когда эта парочка стала меня занимать!
- Странно, - заметила Султанша, - как это вы ничего не сказали об
этом.
- Еще чего! - возразил Султан. - Я не имел ни малейшего желания
помешать им, мне слишком хотелось узнать, чем кончится эта история. Но я
9*
260
Софа
очень доволен, - прибавил он, оборачиваясь к Аманзею. - Вот это и есть то,
что можно назвать трогательной сценой, у меня до сих пор слезы на глазах!
- Как? - изумилась Султанша. - Эта сцена заставила вас прослезиться?
- Что ж в том такого? - ответил Султан. - Думаю, я не ошибусь, если
скажу, что все это крайне занимательно и напоминает трагедию, а раз вы не
плачете, значит, у вас злое сердце.
Высказав то, что, по его мнению, должно было стать злейшей
эпиграммой на Султаншу, он с довольным видом приказал Аманзею продолжать.
- Нассес вздохнул, видя, что ему помешали, - снова заговорил Аман-
зей. - Он не был влюблен, но испытывал то нетерпение, тот пыл, которые,
не имея отношения к любви, пробуждают в нас похожие на нее чувства,
которые женщины обычно принимают за симптомы искренней страсти,
возможно, из-за того, что понимают, насколько важно заставить нас поверить
в то, что обман удался, а быть может, и потому, что им не приходится
рассчитывать на большее. Зулика, полагавшая, что Нассеса сводят с ума ее
прелести, была ему за это чрезвычайно признательна, но, чтобы не утратить
столь дорогой ее сердцу репутации сдержанной особы, сжала его руку,
подав ему тем самым знак, чтобы он в присутствии раба вел себя скромнее.
Они сели за стол. После ужина...
- Не так быстро, пожалуйста, - попросил Шах-Бахам. - Мне хотелось
бы, если вы ничего не имеете против, узнать, как проходил ужин. Я обожаю
разговоры, которые ведутся за столом.
- Ваша непоследовательность производит довольно странное
впечатление! - вмешалась Султанша. - Речи, без которых трудно было бы обойтись,
вызвали у вас тысячу нареканий, а теперь вы требуете, чтобы вам
пересказывали беседы, не имеющие никакого отношения к делу и лишь
растягивающие историю!
- Ну и что? - воскликнул Султан. - Если мне захотелось проявить
непоследовательность, кто может помешать мне сделать это? Зарубите себе на
носу: Султан на то и Султан, чтобы позволить себе любое суждение, и все
мои предки обладали той привилегией, которую теперь кое-кто пытается
оспорить; ни одна женщина, пусть даже с претензиями на остроумие,
никогда не имела права мешать им изъясняться так, как они считали нужным, и
даже моя бабушка, с которой, я надеюсь, вы не осмелитесь себя сравнивать,
не брала на себя смелость противоречить Шах-Риару, моему пращуру, сыну
Шах-Мамуна9, родившему Шах-Техни, который... Впрочем, я говорю об
этом только для того, - продолжил он уже более спокойным тоном, -
чтобы показать вам, как хорошо я знаю свою родословную, а не для того,
чтобы продолжить спор. Что же дальше, Аманзей?
- Как необычно, - промолвила Зулика, как только они заняли места
за столом, - оборачиваются порой знаменательнейшие события нашей
жизни! Если бы кто-нибудь сказал женщине: "Сегодня вы до безумия
Часть вторая
261
влюбитесь в человека, о котором вы никогда не думали, более того,
которого вы ненавидите", она бы не поверила. И тем не менее это порой
случается.
- Скажу вам на это, - откликнулся Нассес, - что я был бы огорчен, если
бы подобные вещи не происходили. Кроме того, всем известно, что
женщины особенно страстно влюбляются в тех, кого они видят первый раз в
жизни, или в тех, к кому они испытывают ненависть. Именно такие
обстоятельства рождают самую пламенную страсть.
- И тем не менее, - продолжила она, - найдутся люди, и, думаю, таких
немало, которые будут доказывать, что любви с первого взгляда не бывает.
- Но известно ли вам, кто эти люди? - спросил он. - Это или юнцы, еще
не знающие света, или холодные ханжи, унылые женщины, которые не
допускают в душу страсть, не приняв должных мер предосторожности, и
взращивают ее в себе постепенно, заставляя платить дорогую цену за сердце,
исполненное больше угрызениями совести, чем нежностью, не принося
никому истинной радости.
- Что ж, - заметила она, - эти женщины, какими бы нелепыми они ни
казались, имеют еще влияние на умы; даже я еще совсем недавно думала
так же.
- Вы?! - вскричал он. - Поистине, вы разделяете решительно все
предрассудки, которые только существуют!
- Возможно, - ответила она, - но я уже рассталась с одним из них, ибо
теперь я верю, что бывает любовь с первого взгляда.
- Что до меня, - сказал он, - то я не сомневаюсь, что такое случается на
каждом шагу. Я даже знаю одну женщину, которая настолько подвержена
любви с первого взгляда, что, бывает, влюбляется три или четыре раза на
дню.
- Ах, Нассес, - вскрикнула она, - это невозможно!
- Даже сочти вы, что это не совсем обычно, - продолжал он, - вы были
бы неправы. Женщина, имеющая несчастье от рождения иметь большое
сердце (если признать, что это несчастье), не может в определенные
моменты отвечать за себя. Предположим, вы испытывали бы внутреннюю
потребность полюбить меня. Что бы вы сделали?
- Я полюбила бы вас, - ответила она.
- Прекрасно! - кивнул он. - А теперь представьте, что бывают
женщины, которые испытывают внутреннюю потребность влюбляться в троих
или четверых мужчин в день.
- Мне их очень жаль, - заметила она.
- Пусть так, не стану спорить. Но что же им делать? Избегать встреч с
мужчинами, скажете вы. Однако в комнатах обычно не так уж много места,
и, сделав несколько кругов, женщина, как правило, утомляется и
испытывает желание присесть, чтобы отдохнуть. Тот, кто произвел на нее впечатле-
262
Софа
ние, неизбежно то и дело попадается на глаза. Вынужденное сопротивление
только обостряет желания, и потребность любить не только не
уменьшается, но становится просто труднопереносимой.
- Но, - задумчиво проговорила она, - как это можно, любить четверых?
- Ну, если вас так шокирует число, - сказал он, - я готов уменьшить его
вдвое.
- А! - воскликнула она. - Это уже более правдоподобно, и я готова
согласиться, что такое возможно.
- Однако было не так-то просто, - заметил он, - заставить вас полюбить
одного!
- Замолчите, - улыбнулась она. - Уж не знаю, откуда вы черпаете ваши
аргументы и как мне удается находить, чем на них ответить.
- Все дело в вашей натуре, - пояснил он. - Вы искренни, безыскусны,
ваша любовь заставляет вас быть со мной откровенной, и я тем более
уважаю вас за это, поскольку мало найдется женщин, столь честных по
своей природе.
Поддерживая эту беседу, а также другие, не содержавшие ничего
интересного, парочка сумела продержаться до десерта. Как только они остались
одни, Нассес порывисто вскочил и бросился к ее ногам.
- Так вы любите меня? - спросил он.
- Ах! Разве я уже не говорила вам об этом? - томно промолвила она.
- О небо! - вскричал он, поднимаясь и заключая ее в объятия. - Мне
хочется, чтобы вы повторяли эти слова бесконечно, и я жажду новых и новых
доказательств ваших чувств!
- Ах, Нассес, - сказала Зулика, позволив ему опрокинуть себя на меня, -
вы злоупотребляете моей слабостью!
- Опять? - взревел Султан. - А на что еще он должен был, по ее мнению,
употребить эту ее слабость? Хорошенькое дело! Думаю, она бы не
обрадовалась, оставь он ее в покое. Нет, женщины - странные существа... очень
странные! Они никогда не знают, какого рожна им нужно. Невозможно
угадать...
- Сколько гнева! - прервала его Султанша. - Вы просто фонтанируете
эпиграммами! Что мы вам такого сделали?
- Нет, - сказал Султан, - в моих словах нет гнева. Разве так уж
необходимо впадать в ярость, чтобы понять, что женщины смешны?
- Какая язвительность, - заметила Султанша, - боюсь, вы, сами того не
замечая, скоро превратитесь в одного из тех умников, которых вы так
ненавидите.
- Просто эта Зулика меня бесит! - пояснил Султан. - Терпеть не могу
неуместных кривляний!
- Вашему Величеству не следует так гневаться на нее, - успокоил его
Аманзей, - ее хватило ненадолго.
Часть вторая
263
Глава шестнадцатая,
СОДЕРЖАЩАЯ РАССУЖДЕНИЕ,
КОТОРОЕ НЕ ВСЕМ ПРИДЕТСЯ ПО ВКУСУ
Проронив те несколько слов, которые так рассердили Ваше Величество,
Зулика замолчала.
- Как, по вашему мнению, - сказал наконец Нассес, - любил ли Мазуль-
хим вас сильнее, чем я?
- Он был щедрее на похвалы, - ответила Зулика, - но, мне кажется, вы
любите меня больше.
- Я намерен истребить в вас даже малейшие сомнения в моих чувствах, -
снова заговорил он. - Да, Зулика, сейчас вы узнаете, насколько Мазульхим
уступает мне в искренности.
- Что? - удивилась она. - Что такое?
Нассес не дал ей возможности закончить, и она не стала возмущаться
тем, что он ее перебил.
- Ах, Нассес, - нежно проворковала она, - вы достойны моей любви!
Нассес ответил на эту похвалу так, как подобает мужчине, который
понимает, что бурные одобрения объясняются лишь стремлением
поощрить его к дальнейшим действиям. Ему удалось сначала умаслить Зулику,
затем удивить ее, она оценила его и даже преисполнилась к нему
чувством, напоминающим уважение, что, если принять во внимание то, чем он
заслужил ее расположение, выглядело особенно нелепо и что было
особенно лестно для него, поскольку не являлось, как это часто случается у
женщин, закономерным результатом чувства. Нассес, крайне довольный
собой, решил, что пришло время слегка охладить восторг, в котором
пребывала Зулика. То, что он сумел одержать победу, не льстило его
самолюбию: он слишком хорошо знал ее, чтобы видеть в этом особую
доблесть, и благосклонность, которой он добился, не только не уменьшила
его ненависти к ней, но, напротив, во много раз увеличила ее. Он испытал
к ней то глубокое презрение, которое не позволяет нам притворяться и
обходиться учтиво с теми, кто внушает нам это чувство; придя в такое
расположение духа, он воспылал желанием открыть ей, какое впечатление
на самом деле произвело на него ее поведение.
- Так значит, вы находите, - произнес он, - что Мазульхим был щедрее
на похвалы?
- Да, - откликнулась она, - однако должна сказать, что вы умеете
любить лучше, чем он.
- Однако я не понимаю, - сказал он, - в чем состоит суть всех этих
нюансов? Объясните же, какой смысл вы вкладываете в слово "любить"?
264
Софа
- Тот, который ему свойственен, - ответила она. - И, поскольку мне
не известен никакой другой смысл этого слова, именно его я и имею в виду;
но отчего вы, человек, столь изощренный в любви, задаете мне подобный
вопрос?
- Мой вопрос, - проговорил он, - объясняется, конечно, не тем, что мне
неведомо, что такое любовь, просто каждый понимает это чувство в
соответствии со своим характером, и мне захотелось узнать, что вы
подразумеваете, когда говорите, что я умею любить лучше, чем Мазульхим. Боюсь,
мне трудно будет понять, какую разницу вы усматриваете между мною и им,
если вы не поясните мне, как именно он любил вас.
- Но, - начала она, заливаясь краской, - я просто хотела сказать, что его
сердце устало...10
- Его сердце устало! - повторил он. - Эта формулировка, на мой взгляд,
мало что проясняет. Сердце устает, когда надолго попадает в плен страсти,
это точно; но к Мазульхиму данное правило неприменимо, поскольку с вами
ему все было внове, и ни его зрение, ни его воображение не могли так
быстро пресытиться вами. Следовательно, то, что вы говорите, не имеет
отношения к делу.
- Но больше мне нечего вам сказать, - ответила она, - все, что я знаю,
так это то, что мало найдется мужчин (во всяком случае, мне так кажется),
менее, чем он, созданных для любви, и вам не следует пускаться в
дальнейшие расспросы, ибо я чувствую, что не в состоянии обсуждать эту тему.
- Ах! - сказал он, - понимаю. Однако мне трудно узнать Мазульхима в
том портрете, который вы нарисовали.
- Но, - заметила она, - по-моему, я не сказала о нем ничего особенного.
- Нет уж, простите, - возразил он, - не составляет никакого труда понять,
в чем именно упрекают мужчину, когда говорят, что его сердце "устало";
подобный оборот речи в меру тактичен и пристоен, но подтекст его довольно
прозрачен. Однако не могу поверить, что Мазульхим разочаровал вас.
- Он меня не разочаровал, Нассес, - ответила она, - но, раз уж вам так
хочется знать мое мнение, скажу вам, что, по правде говоря, он меня
несколько удивил.
- Ах! ах! - воскликнул он. - Как же это? Вы нашли, что...
- И это довольно странно! - подхватила она. - По крайней мере, мне так
кажется.
- О! Не стану спорить.
- Еще бы! - с иронической улыбкой сказала она. - У меня достаточно
опыта, чтобы разбираться в подобных вещах.
- Есть опыт или нет, - ответил он, - это не важно, поскольку хорошо
известно, как должен поступать влюбленный, когда ему ни в чем не
отказывают; тут уж есть раз и навсегда установленная традиция. Но не могу не
признаться еще раз, что вы меня поразили, поскольку Мазульхим...
Часть вторая
265
- Представьте себе, Нассес! - перебила она его. - И в такой степени,
просто уму непостижимо!
- Не могу прийти в себя от изумления! - проговорил он. - Я слышал, он
способен на самые невероятные вещи, просто кудесник!
- Должно быть, вы знаете об этом с его слов? - поинтересовалась она.
- Если бы этими рассказами я был обязан его самомнению, я сумел бы
отнестись к ним с осторожностью, - ответил он. - Нет, он ни о чем таком
мне не говорил; скажу больше, в том, что касается этой материи, он всегда
проявляет похвальную скромность.
- Что касается скромности, - сказала она, - то она ему нисколько
несвойственна; впрочем, иногда он оценивает себя достаточно трезво.
- Ах, сударыня, сударыня, - покачал он головой, - Мазульхим имеет
столь блестящую репутацию, что трудно поверить, будто она родилась на
пустом месте, и вам не удастся убедить меня, что тот, о ком хорошо думают
все женщины Агры, на самом деле малодостойный человек.
- Гм! Неужели вы думаете, - спросила она, - что женщина, оставшаяся
недовольной Мазульхимом (если окажется возможным отыскать натуру
достаточно чувствительную к тому, о чем мы говорим), откроет кому бы то ни
было причину своей досады?
- Естественно, - ответил он, - она не станет рассказывать об этом
направо и налево, но непременно сыщется кто-то, кому она поведает обо всем; вот,
например, вы же откровенны со мной. Конечно, я понимаю, что ваше доверие
вызвано обстоятельствами, которые нас свели. Но Мазульхим нравился
многим женщинам. Впоследствии они влюблялись в других мужчин, которым
наверняка рассказывали о своих приключениях. В Агре, по-моему, не меньше
тысячи женщин, которые не смогли устоять перед Мазульхимом,
следовательно, должно сыскаться примерно сорок тысяч мужчин, осведомленных из
первых уст о том, что он собой представляет; и вы полагаете, что все эти
обиженные женщины и униженные мужчины бережно хранят подобный секрет?
Это совершенно невероятно! Нет, сударыня, и еще раз нет, человек, который
был бы похож на Мазульхима из вашего рассказа, не сумел бы так долго
пользоваться всеобщим уважением. И знаете, что я вам еще скажу? Вы
знакомы с Телмиссой?11 Ее трудно назвать молодой и уж тем более
хорошенькой. Но не больше десяти дней назад Мазульхим засвидетельствовал ей свое
глубокое уважение и заслуженно добился взаимного чувства. Это факт. Тел-
мисса повсюду говорила об этом, а она не из тех, кто легко расточает
похвалы. Ее одобрением можно гордиться, поскольку всем известно, что нет
другой такой женщины, которой было бы столь же трудно угодить. И после
этого вы будете настаивать на том, что Мазульхим так плох?
- Нет, - сухо проговорила она, - он, безусловно, бесподобен. Должно
быть, это моя вина, - добавила она с презрительной усмешкой, - что мне он
таковым не показался.
266
Софа
- Я далек от того, чтобы так думать, - ответил он, - однако, должен
признать, что во всем этом есть что-то несуразное. Но знаете, что мне пришло
в голову? Будь я женщиной, возможно, мужчины такого типа, как ваш
Мазульхим, нравились бы мне больше других.
- Полагаю, - сказала она, - такие мужчины могут нравиться, и я не
вижу причин, по которым их следовало бы отвергать, однако, признаюсь, мне
трудно понять, почему им следует отдавать предпочтение.
- Они знают толк в любви, - ответил он. - Только они и умеют
по-настоящему ухаживать и быть любезными: чем больше они чувствуют, что их
любят из сострадания, тем сильнее они стараются заслужить любовь;
покорные в силу обстоятельств, они становятся не столько любовниками, сколько
рабами. Чувственные и чувствительные, они изобретают тысячи способов
вознаградить себя за несчастье, и любовь обязана им своими самыми
утонченными удовольствиями. Им удалось превозмочь себя? Огонь,
вспыхивающий в их душах, разжигается не слепой страстью, в которой мало чести для
женщины, а исключительно ее прелестями, одолевшими несправедливость
природы. Может ли она надеяться одержать другую столь же несомненную
и прекрасную победу!
- Меня не удивляют ваши слова, - проронила Зулика, - вы любите
высказывать оригинальные мнения.
- Вы слишком умны, - сказал он, - чтобы полагать, будто мое мнение
так уж оригинально, я знаю, что женщины...
- Оставим этот разговор, - перебила она его, - я не склонна спорить о
том, что меня нисколько не занимает. К тому же, насколько я понимаю, в
распространении этого мнения вы заинтересованы меньше, чем Мазульхим.
- Зулика права, - заметил Султан. - А когда она уйдет?
- Вы очень нетерпеливы, - заявила Султанша.
- Дело не в том, - объяснил Султан, - что мне стало скучно, совсем нет,
однако, хотя я и от души забавляюсь, я бы не отказался послушать какую-
нибудь другую историю. Таков уж я!
- Что вы имеете в виду? - спросила Султанша.
- Разве не понятно? - удивился Султан. - Мне кажется, я выражаюсь
достаточно ясно. Когда я говорю, "таков уж я", я хочу сказать, что, испытывая
удовольствие, можно мечтать о другом. Сейчас я попытаюсь подробнее
растолковать свою мысль.
- Есть множество вещей, которые объяснения могут только
обессмыслить, - прервала его Султанша. - Мы вас поняли, чего ж вам еще?
- Ну, - сказал Султан, - я хочу, чтобы Аманзей закончил эту историю!
- Но тогда, - возразила Султанша, - надо дать ему возможность
продолжить.
- Вовсе нет! - воскликнул Шах-Бахам. - По-моему, если он бросит ее на
этом месте, он покончит с ней гораздо быстрее. Но, поскольку я знаменит
Часть вторая
267
своей любезностью, я дозволяю ему продолжить, с условием, однако, что
это не приведет к злоупотреблениям с его стороны.
- Впрочем, - сказала Зулика, - вы меня премного обяжете, если
избавите от разговоров о Мазульхиме.
- Охотно, - ответил он. - Вы заговорили об "усталом" сердце и тем
самым положили начало всем этим, в сущности, бессмысленным
рассуждениям, и я раскаялся бы в своих словах, раз они так вас рассердили, если бы не
помнил, что они были вызваны лишь самыми нежными чувствами и
желанием понять, почему вы решили, что я умею любить лучше, чем Мазульхим.
Ваше отношение ко мне так много значит для меня, что вам не следует
порицать меня за любопытство, которое я бы не испытывал, если бы не
любил вас.
- Нет, - грустно проговорила она, - мне все больше кажется, что вы уже
не любите меня так, как любили. Не знаю, что наводит меня на эту мысль,
но, думаю, так оно и есть, и это меня печалит.
- Как мне приятно слышать эти слова, - сказал Нассес, - подобные
тревоги причиняют живую боль, даже не имея под собой никакого основания,
но они говорят о нежном и чувствительном сердце. Вы несправедливы ко
мне, но ваша несправедливость доказывает, что вы меня любите, и я еще
сильнее чувствую, как вы дороги мне. Успокойтесь, - продолжил он, -
любезнейшая Зулика! О небо! С какой радостью я развею ваши страхи!
Зулика! Прекрасная Зулика! Ах! Пусть они снова и снова пробуждаются в вас
ради нашего с вами счастья!
С этими словами он обнял ее и осыпал самыми нежными ласками.
- О, какой восторг вы пробуждаете во мне, - воскликнула она. - Я
чувствую, как он проникает из вашего сердца в мое, как он растет во мне,
приобретает силу, повергает меня в смятение! Ах, Нассес! Какое счастье быть
обязанной вам этим сладостным восторгом, которого я доселе почти не
знала. Только вы! Да, вы один! Но Нассес! Ах, коварный!12
Хотя Зулика продолжала что-то говорить, мне не удавалось расслышать
ее слова.
- Должно быть, она говорила слишком тихо, - предположил Султан.
- Возможно, - согласился Аманзей.
- И потом, - продолжил Султан, - вряд ли стоит сожалеть о том, что ее
слова не долетали до вас, ибо, если я не ошибаюсь, в них не было ни капли
общепринятого смысла. По крайней мере, я ничего не понял.
- Совершенно согласен с вами, Сир, - кивнул Аманзей, - смысл ее слов
был довольно темен. Что же касается Нассеса, то он либо хорошо понимал
ее, либо в тот момент владел своим рассудком не в большей степени, чем
она, во всяком случае, он отвечал ей примерно в том же духе.
- Разве я вам не говорил? - торжествовал Султан. - Этих людей трудно
назвать здравомыслящими.
268
Софа
Когда Нассес и Зулика обрели способность к мыслительной
деятельности, - продолжил Аманзей, - Зулика сказала, с нежностью глядя на него:
- Вы великолепны, Нассес! Ах, отчего я не полюбила вас раньше!
- Уж скорее мне следует сетовать на это, - ответил тот, - с каждой
минутой я все яснее понимаю, что, только полюбив вас, начал жить. Когда я
думаю, к каким прелестям остался слеп Мазульхим, мне становится так
жаль его! Как! Зулика у него, в этом доме, который теперь, поскольку здесь
я смог оценить вашу доброту, стал мне в той же степени дорог, в какой
раньше я находил его чудовищным, представляя, как вы одариваете ею Мазуль-
хима, а этот неблагодарный смеет не краснеть при мысли, что он любил
других и что он остался верен своему непостоянству! Видимо, мой
гений-хранитель, если не сам Бог, сделал Мазульхима равнодушным к вашим чарам и
внушил ему мысль выбрать вестником его коварства именно меня. Ах,
Зулика! Как бы я был несчастен, если бы он остался вам верен или если бы на
моем месте оказался другой...
- Хватит! - величественно прервала его Зулика. - Останься он мне
верен, я бы не полюбила другого, но, кроме Нассеса, никому не удалось бы
изгнать его из моего сердца.
- Я полагаю, - сказал Нассес, - что, раз ваш выбор пал на меня, я и есть
тот единственный, кто должен был вам понравиться, но, когда я вспоминаю,
в каком состоянии вы были, и когда я думаю, что мог бы потребовать от вас
какой-нибудь вертопрах, если бы выбор Мазульхима пал на него, и какую
цену вам пришлось бы заплатить за его молчание, стон рвется из моей
груди.
- Ну, этого я не понимаю, - возразила Зулика. - Его домогательства
оставили бы меня равнодушной, будь я нерасположена к нему.
- Кто знает, - заметил он, - иногда женщина оказывается в довольно
неприятной ситуации, и нельзя не признать, что та, в которой я вас застал,
поистине ужасна...
- Пусть так, - прервала она его, - но, поверьте, женщина, умеющая
чувствовать, скорее предпочтет быть брошенной любимым, чем согласится
принадлежать нелюбимому.
- Нисколько не сомневаюсь, - ответил он, - однако это так ужасно -
оказаться застигнутой врасплох в маленьком домике. Не знаю, что бы я
сделал, будь я женщиной и случись со мной такое, но, думаю, мне стало бы
легче, если бы мужчина, заставший меня в такой ситуации, обещал бы мне
держать язык за зубами.
- Вам стало бы легче! - воскликнула она. - Надо же! Что ж до меня, то
я предпочла бы, чтобы этот некто вообще молчал. Что за фразерство! Вы,
должно быть, утратили разум, если говорите мне подобные вещи! Неужели
вы полагаете, что добропорядочный мужчина нуждается в том, чтобы его
молчание обменивалось на те вещи, которые рисуются вашему воображе-
Часть вторая
269
нию, и что он осмелится делать сомнительные предложения женщине
определенного круга?
- Именно так, - подтвердил он. - Тот факт, что женщина
оказывается в уединенном домике, доказывает, что ее сердце умеет чувствовать, и
это умозаключение может привести к самым ужасным последствиям; к
тому же, чем она любезнее, тем менее мужчина склонен проявлять
великодушие.
- О! Все это выдумки, - сказала Зулика. - Женщине только тогда
простительна слабость, когда ею движет сердечная склонность, причем
самая искренняя; и, что бы вы там ни говорили, я не думаю, что сыщется
хотя бы одна, готовая заплатить столь высокую цену за скромность и
честь...
- Ну хорошо, - перебил он ее, - значит, по-вашему, ничто не может
заставить женщину принести свою честь в жертву репутации?
- По крайне мере, - ответила она, - я бы не стала поступать таким
образом, не могу себе представить, чтобы я согласилась пойти на то, против
чего восстает мое сердце, какими бы ужасными ни оказались для меня
обстоятельства.
- Нужно обладать большой тонкостью чувств, - заметил он, - чтобы
суметь провести границу и вовремя остановиться. Борясь за сердце женщины,
мы, как правило, стараемся сделать так, чтобы ей ничего другого не
оставалось, кроме как предложить его, но отнюдь не всегда ей удается отделаться
этим.
- Кажется, я начинаю вас понимать, сударь, - сказала она, - вы, судя по
всему, хотите дать мне понять, что полагаете, будто заполучили меня
исключительно благодаря той ситуации, в которой я оказалась. Видимо, вам
приятнее плохо думать обо мне, чем поверить, что вы достойны того, чтобы
нравиться. Это ли счастье, - добавила она, плача, - которому я так
радовалась! Ах, Нассес! Могла ли я ждать от вас такой жестокости?
- Но, Зулика, - произнес он, - неужели вы думаете, что я забыл о
сопротивлении, которое вы мне оказали, и о том, чего мне стоило мое блаженство?
- Ах, - всхлипнула Зулика, - я прекрасно понимаю, что вы хотите
упрекнуть меня в том, что я не сопротивлялась достаточно долго. Увы!
Увлекшись вами, а еще больше вашим отношением ко мне, я уступила, и мне в
голову не могло прийти, что настанет момент, когда вы вмените мне в вину то,
что я поспешила.
- Но, право, откуда такие мысли! - удивился Нассес, подошедший к ней
поближе. - Чтобы я упрекал вас в том, что вы осчастливили меня?
Неужели вы говорите это серьезно? Я обожаю вас, - прибавил он, не позабыв при
этом подкрепить свои слова другими доказательствами искренности.
- Оставьте меня! - воскликнула она, стараясь оттолкнуть его. - Я
сделаю все, что в моих силах, чтобы забыть о моей любви к вам.
270
Софа
Однако сопротивление Зулики было столь слабым, что, даже если бы
Нассес проявил куда меньшую настойчивость, ему удалось бы сломить
его.
- Как? Вы хотите разлюбить меня? - нежно говорил он, пуская в ход все
то, что могло придать его речам убедительности. - Вы единственная, кто
может составить мое счастье! Нет, ваше сердце не создано для того, чтобы
питать ко мне ненависть! Ведь я до краев наполнен самой нежной любовью
к вам!
- Нет, - отвечала Зулика, но в голосе ее уже не чувствовалось гнева. -
Вы обманщик! Но вам больше не провести меня. О небо, - проговорила она
почти ласково, - вы самый жестокий и несправедливый человек в мире! Ах,
оставьте меня... Нет, я вам не верю... Я никогда не прощу вас... О! Как я вас
ненавижу!
Несмотря на все протесты Зулики, Нассес не хотел верить, что она
действительно ненавидит его; впрочем, ее, видимо, не очень заботил тот факт,
что он не принимал ее слова всерьез.
- Возможно, я слишком самоуверен, - сказал он в конце концов, - но,
готов держать пари, вы ненавидите меня куда меньше, чем это следует из
ваших слов.
- Велика важность! - пожала она плечами. - Думаете, от этого моя
ненависть утихнет? Я не виновата, если... Но это правда, я всей душой
ненавижу вас. Не смейтесь, - добавила она, - я совершенно серьезна.
- Я слишком высокого о вас мнения, чтобы поверить в это, - ответил
он. - Думаю, даже если вы измените мне, я откажусь признать очевидное.
Я уверен, что вы любите меня так сильно, как только способны любить,
и намереваюсь и дальше пребывать в этом убеждении.
- В таком случае, - сказала она, - я должна испытывать к вам
немыслимую любовь. Мое сердце не знает умеренных чувств.
- Полагаю, так оно и есть, - согласился он, - и именно это я и имел в
виду. Чем утонченнее душа, тем сильнее разгорается в ней страсть, но,
по-моему, женщина, которая думает, как вы, должна быть очень
несчастна. И правда! Осмелюсь утверждать, в наше время повреждение нравов
зашло так далеко, что чем более женщина заслуживает уважения, тем
больше над ней потешаются. И эту несправедливость допускают не
только женщины, что было бы еще объяснимо, но и, что гораздо хуже,
мужчины. Те самые мужчины, которые непрестанно требуют от женщины
любви!
- Увы, вы правы, - согласилась она.
- Я с этим сталкиваюсь в свете, - продолжил он. - Чего мы ищем?
Любви? Скорее всего, нет. Мы хотим удовлетворить собственное тщеславие,
заставить всех говорить о себе, мы бежим от женщины к женщине, боясь
пропустить хотя бы одну, мы увиваемся за кокетками, даже самыми презренны-
Часть вторая
271
ми, мы считаем победы и гордимся их числом вместо того, чтобы отвоевать
себе ту единственную, которая достойна чувства. Мы все время ищем
любви, но мы никого не любим.
- Ах! Как это верно! - воскликнула она. - Но тут есть и наша вина. Вы
не так презирали бы женщин, если бы все они хранили благоразумие и если
бы их чувства вызывали только уважение.
- К великому сожалению, должен согласиться с вами, - ответил он, -
нельзя не признать, что чувства немного обесценились.
- Немного? - удивилась она. - Ах, скажите уж, сильно. Конечно,
встречаются еще порядочные женщины, но их не так много. Я не говорю о тех,
которые любят, поскольку, как я поняла, вы скорее расположены их
жалеть, чем порицать, но не странно ли, что женщина, вдохновленная
любовью, не только не находит себе оправдания в этом чувстве, но и пытается
всеми силами сделать так, чтобы никто не заподозрил ее в том, что оно ей
знакомо?
- Мало найдется женщин, - заметил он, - которые были бы способны
рассуждать так же беспристрастно, как вы.
- Но к чему пытаться скрывать то, что всем давно известно? - спросила
она. - Скажу вам, что, по-моему, следует не только почитать порядочных
женщин, но и, что не менее важно, окружать презрением тех, чье поведение
переходит все границы приличия. Слабость простительна, однако порок
следует жестоко клеймить.
- Мы клеймим его на словах, - сказал он, - но относимся к нему
терпимо; мы усматриваем порок только в тех женщинах, которые не вызывают
желаний, и в наше время лучшим украшением может служить лишь
невинный вид, обещающий легкую победу.
- Мне известно, - кивнула она, - что именно за такими особами вы и
гоняетесь; сердце для вас ничего не значит. Поскольку вы не любите, вы не
заботитесь о том, любят ли вас, и, желая достичь триумфа, относитесь с
безразличием к другим победам.
- Минуточку, Аманзей, - воскликнул Султан. - Он все еще не
гнушается ею?
- Вот чудесный вопрос! - воскликнула Султанша.
- Я вовсе не хочу ей зла, - сказал Султан. - Я просто задал вопрос
и, по-моему, в этом нет ничего предосудительного. Я изнываю от скуки,
и вдобавок мне затыкают рот! Очень хорошо! Мне подсовывают
вместо сказки собрание бесед, в которых только тогда и встретишь что-
нибудь остроумное, когда все молчат, и я же оказываюсь неправ! Одним
словом, равно как и тысячью словами, скажу вам так, Аманзей, если
и завтра Нассес будет носиться с этой Зуликой, вам придется иметь дело
со мной!
272
Софа
Глава семнадцатая у
СОДЕРЖАЩАЯ РЕКОМЕНДАЦИИ НЕОПЫТНЫМ ЖЕНЩИНАМ,
ЕСЛИ ТАКОВЫЕ СЫЩУТСЯ,
КАК ИЗБЕЖАТЬ НЕПРИЯТНЫХ ВОПРОСОВ
- Ваше Величество, вероятно, припоминает, - начал на следующий день
Аманзей, - что...
- Да, - резко оборвал его Султан, - я припоминаю, что вчера чуть не
умер от скуки; вы об этом хотели меня спросить?
- Если эта сказка так наскучила вам, - заметила Султанша, - мы можем
не слушать ее дальше.
- Нет уж, пожалуйста! - ответил Султан. - Я жду продолжения и чего-
нибудь менее скучного, если это, конечно, возможно, поскольку я никогда
не прошу того, чего нельзя получить.
Аманзей продолжил так:
- Взять хоть вас, например, - сказала Зулика, - боюсь, вы не так уж
чувствительны.
- Вы ошибаетесь, - спокойно ответил он, - по своей природе я влюбчив.
Должен признаться, однако, что не всех женщин, коими я обладал, я любил.
- Это просто неслыханно! - воскликнула она. - Не понимаю, как можно
гордиться этим?
- Но я вовсе не горжусь этим, - возразил он, - я лишь говорю, как есть.
- Полагаю, - заметила она, - вы обманули многих женщин.
- Бывало, что я бросал женщин, но я не обманывал их, - сказал он. - Ни
одна женщина не требовала от меня постоянства, следовательно, я не давал
никаких обещаний, а как вам должно быть понятно, когда люди сходятся, не
ставя друг другу условий, не приходится жаловаться, если некоторые из них
оказываются нарушены.
- Любопытно было бы узнать поподробнее о ваших подвигах, -
проговорила Зулика.
- Вы ждете от меня обстоятельного рассказа о моей жизни? - спросил
он. - Он займет много времени, и, боюсь, я наскучу вам. Впрочем, ваш приказ
легко может быть исполнен, если я опущу ненужные детали. Мне двадцать
пять лет, из них уже десять, как я бываю в свете, и вы по счету тридцать
третья красавица, над которой я одержал полную и окончательную победу.
- Тридцать третья! - воскликнула она.
- Да, вы правы, цифра скромная, - ответил он, - но это не удивительно,
я никогда не пользовался особой популярностью.
- Ах, Нассес! - промолвила она. - Как мне жаль, что я вас полюбила!
Разве могу я рассчитывать, что вы станете хранить мне верность!
Часть вторая
273
- Почему бы и нет, - удивился
он. - Неужели вы полагаете, будто
из-за того, что у меня было
тридцать три женщины, я утратил
способность любить?
- Да, - сказала она, - если бы
ваш опыт любви был не столь
велик, я могла бы надеяться, что вы
сможете полюбить еще раз и что
чувства в вас еще не износились.
- Думаю, - ответил он, - я уже
доказал вам, что мое сердце
отнюдь не устало; к тому же, говоря
откровенно, в подобных делах
чувство не всегда принимает участие.
Их рождает случай, привычка,
праздность. Мы заверяем друг
друга во взаимной склонности, не
испытывая ее; мы даем друг другу
клятвы, не веря в них; мы не ждем
любви, понимая, что такие
надежды напрасны, и расстаемся из
страха прискучить друг другу.
Случается также, что мы заблуждаемся
насчет наших чувств и принимаем за
страсть влечение, которое не
может длиться долго и
растрачивается в утехах, тогда как любовь
только крепнет благодаря им. Все это,
как вы видите, объясняет то, что,
даже имея за плечами опыт таких соглашений, можно впервые
столкнуться со страстью.
- Разве вы никогда не любили? - спросила она.
- Простите, - ответил он, - но я дважды любил до безумия, и теперь,
видя, как складываются наши с вами отношения, я понимаю, что мое сердце
дремало не потому, что оно выдохлось, как я думал раньше, а потому, что
оно не находило ту, которая могла бы пробудить в нем больше чувств, чем
оно, увы, утратило. Но вы задали мне так много вопросов, что, быть может,
мне также будет позволено спросить в свою очередь, сколько раз вы
влюблялись?
- Конечно, - откликнулась она, - я охотно позволяю вам это, тем более
что вы уже знаете ответ: только Мазульхим и вы смогли понравиться мне.
274
Софа
- Если бы мы меньше знали друг друга, - сказал Нассес, - с вашей
стороны было бы вполне естественно держать подобные речи. Замечу, что вы,
несмотря на всю безнадежность этой затеи, хотели было утаить от меня Ма-
зульхима; но теперь, когда между нами должно установиться доверие,
признаюсь, я нахожу странным, что вы продолжаете таить ваши секреты, тем
более что я был откровенен с вами.
- Я, несомненно, посвятила бы вас в свои секреты, - ответила она, -
если бы они у меня остались, но, клянусь, мне больше не в чем упрекнуть
себя, и я даже затрудняюсь объяснить, как получилось, что я, лишь недавно
полюбив вас, преисполнилась к вам столь безраздельного доверия, что
считаю возможным верить вам, как себе.
- Я очень рад, сударыня, - проговорил он обиженным тоном, - но все же
осмелюсь заметить, что то, с какой готовностью я открыл вам свою душу,
позволяло мне надеяться услышать нечто большее.
С этими словами он хотел было встать, но она удержала его.
- Что за причуды, Нассес? - нежно спросила она. - То вы винили себя в
том, что сомневались во мне, а теперь, кажется, вы готовы упрекнуть себя в
доверчивости?
- Если уж на то пошло, сударыня, - сказал он, - я и раньше не верил вам,
но, занятый тем, что интересовало меня куда сильнее в тот момент, я счел
за лучшее постараться быть убедительным, а не вдаваться в детали, тем
более что это могло не понравиться вам, да я и не считал себя вправе наседать
на вас.
- Но, Нассес, - продолжала настаивать Зулика, - клянусь, мне нечего
прибавить к тому, о чем я уже рассказала.
- Это невозможно, сударыня! - резко прервал он ее. - Вы уже
пятнадцать лет в свете, и я ни за что не поверю, что вам не приходилось держать
осады и что вы ни разу не сдались. Или вы первая, кто сумел за столь
продолжительное время ограничиться двумя любовниками, или, и вы сами не
можете этого не признать, интерес к любовным приключениям проснулся в
вас довольно поздно.
- Это не столь уж редкая вещь, сударь, чтобы считать ее
невероятной, -ответила она, - если не ошибаюсь, есть и другие женщины, которые
долго оставались безразличными к мужчинам, ибо им не довелось в юности
встретить того, кому суждено было пробудить их чувства. Мне нечего
больше поведать вам о себе, но, если бы это было не так, меня остановил бы
страх потерять вас. Я знаю, что подобные откровения оборачиваются
презрением, и хотя в том, что раньше мы любили других, нет нашей вины,
тщеславие не дает предмету новой страсти простить нам того, что наши чувства
уже были кем-то потревожены.
- Что за идея? - воскликнул он. - Как? Чтобы я возненавидел вас за то,
что вы, открыв мне свое прошлое, подарили мне еще одно доказательство
Часть вторая
275
вашей склонности, да еще самое убедительное из всех, просто потому, что
оно причиняет мне боль? Что ж! Вот вы любили Мазульхима: разве я
удивился, когда узнал об этом? Разве я стал относиться к вам с меньшим
уважением? С чего вы взяли, что парочка других любовников настроила бы меня
против вас? Какое мне дело до тех, кто опередил меня? Разве вы виноваты,
что судьба не свела нас раньше? Нет, Зулика, нет, я даже не разделяю
мнения тех, кто полагает, что женщина, любившая многих, утрачивает
способность любить. Я далек от мысли, будто сердце устает от любви, напротив, я
уверен, что, чем больше мы любим, тем сильнее и утонченнее становятся
наши чувства.
- Если таковы ваши принципы, - заметила она, - значит, вы бы не
хотели оказаться первым в списке любовников?
- Осмелюсь утверждать, что это так, - сказал он, - и вот из чего я
исхожу, придерживаясь мнения, которое вам, быть может, кажется нелепым.
В том нежном возрасте, когда женщина еще ни разу не любила, она если и
ждет того, чтобы ее завоевали, то не потому, что ее толкает на это чувство,
а лишь из желания узнать, на что оно похоже; она хочет не столько любить,
сколько нравиться. Любовь ослепляет ее, но не затрагивает ее сердца.
Разве можно ей верить, когда она говорит, что любит? Как оценить природу и
силу чувства, если его не с чем сравнить? Безыскусному сердцу каждое
новое шевеление чувства, пусть даже совсем слабое, представляется важным
событием, малейшее волнение кажется бурей, а робкое желание восторгом;
поэтому неопытность в любви вовсе не обещает искренности и
убедительности.
- Возможно, первые душевные движения действительно оказываются
преувеличенными, - согласилась она, - однако мы верим в то, о чем
говорим, и разве счастье любовника становится меньше от того, что смута на
самом деле существует не в сердце, а в воображении? Нет, Нассес, пусть, как
вы полагаете, в первом чувстве есть оборотные стороны, все равно я
любила бы вас, если бы это было в моих силах, в тысячу раз больше, когда бы
оказалось, что до меня вы еще никого не почтили вашим вниманием.
- Вы потеряли бы больше, чем думаете, - заметил он. - Теперь я
способен оценить вас, а в те годы, когда вы могли бы, как вы хотите сейчас, стать
моей первой любовью, я был в тысячу раз глупее. Все ваши достоинства
ускользнули бы от моего внимания: ваш ум, ваша утонченность, ваша
чувствительность. Мое сердце переживало искушение, а не любовь и не знало
волнений даже в те моменты, когда я забывался в пылу восторга. И тем не
менее я выглядел влюбленным и сам верил в то, что влюблен. Женщины
рукоплескали себе за то, что сумели привести меня в исступление, а я
поздравлял себя с тем, что оказался способен на столь утонченное сладострастие;
мне казалось, что я единственный счастливец в мире, которому открыта вся
прелесть любви. То и дело, у ног очередной возлюбленной, иногда впадая в
276
Софа
томность, но никогда не испытывая апатии, я открывал в своей душе все
новые источники и удивлялся, как мало нахожу им применения. Одного
взгляда было достаточно, чтобы чувства мои пришли в смятение и во мне
вспыхнул огонь; мое воображение всегда опережало события...
- Ах, Нассес, Нассес! - с живостью воскликнула Зулика, - как, должно
быть, вы были милы! Нет, теперь вы уже не можете любить так, как раньше.
- Только теперь я могу любить, - ответил он, - в то время, о котором я
говорил, я вообще не любил. Меня сжирал юношеский огонь, и именно ему,
а не своему сердцу я был обязан тем, что принимал тогда за любовь, но с тех
пор я понял...
- Ах! - перебила она его. - Наверное, вы не избежали разочарований!
Ревность, недоверие, тысяча других чудовищ, о которых вам тогда совестно
было и помыслить, теперь отравляют вам удовольствия. Знания стоили вам
способности любить и вашего счастья. Ваш ум развился в ущерб вашему
сердцу; сейчас вы лучше умеете рассуждать о чувствах, однако вы никогда
больше не полюбите, как прежде.
- Эти соображения, - ответил он, - касаются не только меня, но и вас;
видимо, мне следует предположить, что, поскольку Мазульхим стал вашим
первым любовником, вы не любите меня так, как любили его.
- Меня бы совсем не удивило, - сказала она, - если бы вам и вправду
пришла в голову такая идея, - ведь вы с особым удовольствием хватаетесь за
те, которые вредят мне; но оставим это.
- Отчего бы нам не продолжить? - спросил он.
- Впрочем, - язвительно проговорила она, - если принять во внимание
ваш прежний образ жизни, не стоит удивляться тому, что вы плохо думаете
о женщинах.
- А если бы мой образ жизни не уступал тому, который ведут женщины, -
перебил он ее, - кто был бы виноват в том, что у меня о них сложилось
дурное мнение? Вы сейчас скажете, что это было бы просто невозможно.
- Нет, клянусь вам, - презрительно отозвалась она, - к чему затруднять
себя!
- А, понимаю, - сказал он, - вы боитесь, что усилия с вашей стороны
окажутся совершенно бессмысленными. Так, значит, вы решительно
отказываетесь сказать мне, кого вы любили до меня?
- Как! - воскликнула она. - Вы все еще думаете об этом? Если бы вы
меня любили, разве стали бы вы сомневаться в моих словах?
- Честно говоря, Зулика, - ответил он, - вы можете думать обо мне все,
что угодно, но это становится просто смешно!
- Зулика, как, должно быть, уже стало ясно Вашему Величеству, -
продолжил Аманзей, - давно искала повод, чтобы сменить тему разговора.
- И правильно делала, - заметил Султан. - Но вы, вы поступили бы еще
лучше, если бы поспособствовали ей в этом и избавили бы меня от всех этих
Часть вторая
277
рассуждений, которыми вы напичкали вашу историю. Вы признали, что
страдаете болтливостью, но лишь для того, чтобы окончательно заговорить
нас. И как, по-вашему, следует отнестись к подобному коварству? Одним
словом, равно как и тысячью словами, скажу вам так: заканчивайте эту
историю!
- Зулика, - заговорил Аманзей, - еще долго увиливала, сопротивляясь
настойчивости Нассеса. Наконец она, видимо, решила сдаться и, взяв с него
слово, что он не начнет презирать ее, сказала:
- Я так долго отказывалась удовлетворить ваше любопытство, что
менее всего мне следовало бы уступать вам. Возможно, услышав признание,
которое вы силой вырвали у меня, вы не станете упрекать меня за то, что я
сопротивлялась целую вечность. Вас ждет разочарование. Вам должно быть
известно, что легче пробудить в женщине новое чувство, чем заставить ее
признать прежние. Возможно, многие упорствуют из лицемерия, но, что
касается меня, клянусь, мое молчание объясняется не этой недостойной
причиной. Я нахожу мало удовольствия в воспоминаниях о проявленной
слабости, которая со временем утрачивает свое былое очарование и
представляется воображению в сопровождении угрызений совести или же болезненных
уколов, которые оставляет память о дурном поведении возлюбленного.
- Это правда, - согласился Нассес, - чувствительной женщине всегда
найдется, на что сетовать.
- Отлично! - сказал Султан. - Но удовольствие, которое я испытываю,
слушая вас, заставляет меня просить, чтобы вы отложили до завтра
продолжение (ибо я не решаюсь сказать конец) этой неслыханной беседы.
Глава восемнадцатая,
ПОЛНАЯ НАМЕКОВ,
КРАЙНЕ ЗАТРУДНИТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ
- Знайте, - продолжила Зулика, - что, когда я начала появляться в
свете, мне не составляло труда (хотя я не была краше других женщин) находить
больше воздыхателей, чем мне было нужно, несмотря на мою малую
осведомленность в обычаях так называемой империи красавиц. Когда я говорю
"воздыхателей", я имею в виду толпу бездельников, которые признаются в
любви скорее по привычке, чем из-за чувства, которых слушают, потому
что так принято, и которым с большей легкостью удается заставить нас
поверить, что мы достойны любви, чем убедить нас в том, что они
заслуживают того же. Довольно долго они тешили мое тщеславие, не пробудив во мне,
278
Софа
однако, чувств. Будучи от рождения ранимой, я боялась любви. Я ощущала,
что мне будет трудно отыскать столь же нежное, столь же искреннее сердце,
как мое, и что страсть, как бы ни было велико счастье, которое она может
дать, способна ввергнуть благоразумную женщину в пучину горя. Пока я
хранила безразличие, эти соображения довлели надо мной; но наконец мне
стало ясно, что они оберегали мое сердце лишь потому, что никто не сумел
тронуть его, и что спокойствием, которым мы гордимся, мы обязаны
больше случаю, чем разуму. Хватило одной минуты, чтобы смутить мое сердце!
Видеть, любить, даже обожать; чувствовать со всей силой самые нежные и
самые жестокие моменты любви; предаваться самым приятным надеждам;
переходить от них к самым мучительным сомнениям - все эти потребности
родились во мне в одну минуту под влиянием одного взгляда. Удивленная,
смущенная тем новым, что возникло в моей душе, снедаемая желаниями,
которые ранее не были мне ведомы, чувствуя необходимость прояснить для
себя причину происходящего и опасаясь этого, погруженная в сладкое
ощущение, в божественную истому, охватившую меня, я не осмеливалась
прибегнуть к разуму, чтобы разрушить то, что, несмотря на свою смутность и
необъяснимость, уже наполняло меня счастьем, которому трудно найти
определение и когда оно есть, и когда его нет. Наконец я поняла, что полюбила.
Хотя это чувство уже в большой степени завладело мной, я попыталась
вступить с ним в борьбу. Чувство долга, страх пасть в глазах света, вздохи,
слезы, угрызения совести - все было напрасно, точнее, все лишь
увеличивало то мучительное чувство, которое тиранило меня. Ах, Нассес! Какой
была моя радость, когда почтительные, хотя и настойчивые, ухаживания со
стороны предмета моего обожания сказали мне о том, что я любима! Какое
смущение! Какой восторг! С какой осторожностью, с какой тактичностью
он давал мне знать о своей страсти! Как мучительно принуждать себя к
сдержанности! Как вы счастливы, Нассес! вы можете, едва почувствовав
брожение в душе, открыться предмету, вызвавшему его, вы не знаете, как
мучительно для нежного сердца подавлять в себе чувства, исходя из
необходимости сохранить уважение мужчин! Сколько раз, слыша его вздохи, я
внутренне стонала от боли, причинявшейся тем, что я не осмеливалась вторить ему.
Когда я ловила в его нежном взгляде ласковое и томное выражение,
любовь, наконец, ах! как далеко в эти моменты я устремлялась от себя самой,
как трудно было мне высвободиться от сладострастного наваждения, в
которое затягивало меня! Наконец он заговорил о своем чувстве. Нассес! Вам
неведомо, какую радость приносит робкое, восхитительное признание! Вам
говорят о том, что вы любимы, когда вы уже давно готовы к этим словам,
заставив вас перед этим тысячу раз повторить ваше признание; но видеть
робкого возлюбленного, возлюбленного, которого вы обожаете, но
который еще не знает своего счастья, возлюбленного, преисполненного чувства,
страха, почтительности, у своих ног, пытающегося объясниться, мучитель-
Часть вторая
279
но ищущего подходящие речения, дрожащего от волнения, сообщаемого
любовью, и от страха, что его чувство будет отвергнуто; лететь впереди его
фраз, тихонько повторять их про себя, запечатлевать их в своем сердце; в
ответ прикидываться недоверчивой, жестоко укоряя себя в преступной лжи;
слышать больше, чем он говорит, присовокуплять к любви, которую он
выказывает, ту, что обращена к нему, ах, Нассес! поверьте, зрелище и упоение,
о которых я вам поведала, не знают равных по сладости!
- Если уж тщеславия достаточно, чтобы спектакль, который вы так
живо описали, показался вам приятным, - сказал Нассес, - то, полагаю, когда
любовь примешивает к происходящему интересы сердца, он не становится
от этого менее увлекательным. Ну, наконец этот ваш нежно любимый
возлюбленный открылся вам. Что вы ему ответили?
- Вообразите себе мое замешательство, - откликнулась она, - меня
одолевали любовь и добродетельность, и хотя вторая не смогла победить
первую, ей удалось завуалировать ее, но не в той степени, как мне бы хотелось.
Я слишком долго внимала его речам, и мое волнение позволило проникнуть
в тайну моего сердца, я отвечала ему с холодностью, однако мои губы и
глаза тысячу раз поведали ему, что его чувства взаимны.
- Подобное несчастье случалось и с другими людьми, - холодно заметил
Нассес. - Ну хорошо. Так кто же был тот опасный человек, который
заставил вас, несмотря на всю вашу природную гордость, думать, что видеть и
любить - одно и тоже?
- К чему вам знать его имя? - спросила она. - Разве я и так не
удовлетворила ваше любопытство?
- Да, но не совсем, - ответил он, - и вы сами не можете не понимать, что
ваша исповедь не закончена.
- Ну что ж, - сказала она, - это был раджа13 Амажи.
- Амажи! - вскричал он. - Когда же это было? Он мой друг, он ничего
не скрывает от меня, и я знаю, что с тех пор, как он бывает в свете, он
любил по-настоящему лишь Канзаду. Амажи! - повторил он. - Вы уверены,
что ничего не перепутали?
- Вот уж поистине, - в свою очередь вскричала она, - беспримерный по
нелепости вопрос!
- Вовсе нет, - заговорил Нассес, - вы сейчас увидите, что он вполне
естественен. Амажи мне сказал, что, несмотря на самые нежные чувства к
Канзаде и нежелание упустить ее, он позволял себе время от времени
развлекаться на стороне, ибо бывают женщины, столь небрежно маскирующие
свои авансы, что мы, будучи отчаянными фанфаронами, несмотря на
презрение к ним, не можем не почувствовать к ним ответного влечения, пусть
даже минутного. Рассказывая мне о своих изменах, он признался, что ему
тем более следовало упрекать себя в них, что ни одна женщина из тех, кому
удалось оторвать его от Канзады, не была достойной уважения или привя-
280
Софа
занности, ни одна, из чистой распущенности, не отказала ему в том, что он,
в силу своей наивности, связывал лишь с самым искренним чувством,
единственным, которое может заставить женщину забыть о приличиях. Но ведь
вы не принадлежите к этим дамам, не правда ли? Следовательно, я должен
думать, что это был не он.
- Должно быть, он кое-что скрывает от вас, - сказала она. - Более трех
лет он любил меня со всем пылом, который только возможен.
- Если он не сказал мне об этом, - заметил Нассес, - то вовсе не потому,
что хотел сделать из этой истории тайну; вероятно, он просто забыл
рассказать мне о ней. И что же, вы изменили ему?
- И долго еще вы будете задавать мне подобные вопросы? -
осведомилась она.
- Прошу прощения за этот вопрос, - сказал он. - В нем нет ничего
особенного, ведь трудно представить, что кто-нибудь захочет расстаться с вами.
Так значит, это он вас бросил? И кто же обратил на себя ваше внимание
после него?
- Никто, - скромно проговорила она. - Я долго оплакивала потерю и
льстила себя надеждой, что больше не смогу влюбиться, но тут появился
Мазульхим, и я нарушила данное себе слово.
- Черт побери! - воскликнул он. - Несчастные женщины! Их так легко
оклеветать!
- Увы, это так, - сказала она. - Но почему вы заговорили сейчас об
этом?
- Дело в том, - ответил он, - что, должен доложить, несправедливая
молва приписывает вам куда больше приключений, чем, как я вижу, вы
пережили.
- О! - сказала она. - Это меня не удивляет, и я не сержусь. Если только
внешность женщины не внушает страх, все воображают, что она должна
быть чувствительной, и часто молва связывает ее именно с теми
мужчинами, которых она меньше всего была расположена слушать; но, как бы там
ни было, мне все равно. Нельзя ли все же как-нибудь заставить вас сменить
тему?
- Так, значит, на самом деле у вас не было всех тех любовников,
которых вам приписывают? - снова спросил он.
В ответ на этот новый непристойный вопрос Зулика лишь пожала
плечами.
- Вам не следует сердиться на меня, - продолжил он, - будь вы
менее привлекательны, я легко бы поверил в то, что ваша история так
бедна.
- Простите, - язвительно ответила она, - я соблазнила весь земной шар.
- Скажу вам, - начал он, - что я слышал. О ваших первых шагах
известно немного; однако говорят, что в зрелой юности, увлекшись
Часть вторая
281
искусствами и пребывая в убеждении, что лучшим способом развить в
себе таланты является живой интерес к нам, людям, наделенным ими, вы
отнюдь не гнушались вашими учителями, и поэтому вы так хорошо поете
и так грациозно танцуете.
- Ах! Боже, какой ужас! - возопила Зулика.
- Вы правы, что ужасаетесь, сударыня, - холодно заметил он, -
поскольку это действительно ужасно14. Что до меня, то я вас не осуждаю, я
даже готов уважать вас за то, что в те лета, когда женщины, которым
предстоит в один прекрасный момент преодолеть свою сдержанность,
обычно лелеют горы всевозможных предрассудков, в вас оказалось
достаточно здравого смысла, чтобы пожертвовать теми, что были навязаны
вам вашим происхождением и воспитанием. Появившись в свете, вы,
сочтя, что в нем невозможно переборщить в притворстве, скрыли свою
склонность к удовольствиям под холодностью и благонравием. Будучи от
природы нечувствительной, но любопытной, вы хотели исследовать
каждого мужчину, который попадался на вашем пути, и делали это с той
степенью подробности, с какой это было возможно. Подобное исследование
не представляет особой сложности, если иметь такой ум и такую
проницательность, как ваши, и я слышал, что и те, за кем вы наблюдали
особенно тщательно, не занимали вас более одной недели. Ваши
философские досуги стали хорошо известны15. Намерения, которыми вы
вдохновлялись, были извращены; не отказавшись совсем от вашего
любопытства, вы умерили его, но ненадолго. Поскольку ваши частные занятия не
получили признания среди тех, кто стал их свидетелем, вы сочли
необходимым сменить обстановку; отказавшись от уединенной жизни, вы
понесли в свет ту естественную склонность, которая толкала вас к познаниям.
Принцесса Захеба16 была в то время любима Искендером17, вы захотели
проверить, стоит ли доверяться ее вкусу, и похитили его. Она так вам
этого и не простила и плачет до сих пор.
- О небо! - вне себя от бешенства возопила Зулика. - Бывает ли более
безбожная клевета!
- Меня уверяли, - продолжил Аманзей с прежним хладнокровием, -
что вскоре вы оставили Искендера, чтобы заняться Акебаром-Мирзой18,
к которому (поскольку вам было скучно с ним, хоть он и принц) вы
присовокупили визиря Атамулка19 и эмира Нуреддина20; что принц беседовал
с вами лишь о своем плохом здоровье (впрочем, вы находили, что его
состояние куда хуже, чем это следовало из его слов), визирь был слишком
погружен в государственные дела, чтобы должным образом оценить
ваши чары, и услаждал вас разговорами о нюансах высокой политики, а
эмир потчевал вас описаниями своих военных подвигов, поэтому эта
троица, состоявшая из людей важных, но мало любезных, стала вызывать у
вас отвращение. Некоторые осмеливаются даже добавлять ко всему это-
282
Софа
му, что вы, зная, как опасно наживать себе врагов при Дворе,
старательно скрывали ваше истинное отношение к ним и, будучи вынужденной
щадить их чувства, приняли самые тщательные меры предосторожности,
прежде чем броситься в объятия Велида21, человека куда менее
известного, глубокого и воинственного, чем его соперники, но куда более
приятного, и на протяжении некоторого времени только в его обществе вы
находили отдушину от скуки, которую нагоняли на вас другие.
Поговаривают также, будто вы, заметив, что Велид охладел к вам, и желая разогреть
его пыл и заставить ревновать, приблизили к себе Жемла22; будто Велид
разъярился, прослышав, что у него появился соперник, и, начав
шпионить за вами, обнаружил еще троих, и будто вся эта история, искусно
сплетенная вами, окончилась для вас самой обидной оглаской и жестокими
унижениями.
- Ах, это уж слишком! - перебила его Зулика и поднялась, чтобы уйти.
- Еще минутку, прошу вас, сударыня! - сказал Нассес, пытаясь удержать
ее. - Некоторые в своем бесстыдстве заходят так далеко, что говорят,
будто вы, поняв, что вам не удается наладить дело должным образом,
испытывая ненависть к любви, но тягу к удовольствиям, позволяли себе с тех пор
лишь мимолетные развлечения, нимало не затрагивавшие вашего сердца.
Этот род философии, замечу мимоходом, довольно-таки развился в наш век,
и, если бы я располагал временем, мне не составило бы труда показать ее
мудрость и полезность.
Услышав последние слова Нассеса, Зулика разрыдалась от злобы, но
тот, сделав вид, что не замечает ее слез, продолжил:
- Надеюсь, вы понимаете, что я намерен воздать вам должное и что
теперь, узнав вас ближе, просто отказываюсь верить во все это.
- Это слишком любезно с вашей стороны! - ответила она.
- Нет, - скромно сказал он, - то, что я делаю, вполне естественно;
чтобы прийти к определенному мнению о вас, вполне достаточно припомнить,
каким образом вы ответили на мою настойчивость; однако, хоть я и не
верю во все то, что о вас говорят, все же, как вам самим легко понять, во что-
то я просто должен поверить.
- Отчего же только во что-то? - спросила она. - Все, что вам
наговорили, не столь уж невероятно, и я подозреваю, что вы намеренно вели себя со
мной самым непозволительным образом.
- Я верю только тому, что... - начал было он.
- Ах, верьте уж всему, сударь, - перебила она его, - верьте всему, и
давайте расстанемся навсегда!
- Даже если бы вы заслуживали того, чтобы больше вас не видеть, -
ответил он, - я был бы неспособен сделать над собой подобное усилие.
Судите сами, могу ли я повести себя так самоуверенно и дико, как вы мне
советуете, считая вас оклеветанной!
Часть вторая
283
- Нет, нет, сударь, - протестовала она, - вы верите во все то, что обо мне
насочиняли, вы верите этому, и вы не стоите того, чтобы разубеждать вас.
- Этаким образом, - заметил он, - мы скоро поссоримся. Один и тот же
вечер станет свидетелем рождения и смерти вашего пыла, что ж до меня, -
добавил он со вздохом, - то я чувствую, что моя страсть к вам вечна!
- Да, сударь, - ответила Зулика, - да, мы поссоримся, и навсегда.
- Навсегда! - вскричал он. - Значит ли это, что вы бросаете меня столь
же стремительно, как и приблизили? Честное слово, я и не думал, что это
возможно. Но приемлем ли такой поступок для того сказочного
постоянства, которым вы кичились, для той души, которая чувствует так тонко?
Какое жестокое насилие вам придется проделать над собой, чтобы
сдержать слово! Как мне жаль вас! Вообще же, раз уж вы решили измениться
ко мне, мне еще повезло, что вы намерены сделать это так стремительно.
Более долгая связь с вами заставила бы меня невыносимо страдать от
вашей перемены. Однако я льщу себя надеждой, что вы еще поразмыслите
над этим и что, если и вправду ваше чувство ко мне угасло, вы задумаетесь,
по меньшей мере, над тем, что мне придется рассказать, что вы, проявив ко
мне доброту особого свойства и дав мне множество поводов для
восхищения, оказались неспособны хранить верность даже сутки. После тех
маленьких вольностей, которые вы мне позволили, ваше поведение осудят,
предупреждаю вас. Нет, - прибавил он, бросаясь к ней и нежно заключая
ее в объятия, - нет, вы не поступите так несправедливо с самым любящим
в мире средцем!
- Как? Я? - воскликнула она, изо всех сил пытаясь вырваться из его
объятий. - Чтобы я принадлежала вам?
К этим словам она прибавила еще другие, ясно передавшие ее
возмущение Нассесом. Напрасно он старался сломить Зулику; досада помогала ей
лучше, чем суровая добродетель, во имя которой она сражалась куда менее
успешно, и даже самой отчаянной борьбой ему удалось добиться лишь такой
малости, на которую ему и в голову бы не пришло просить разрешения. Она
все еще оборонялась от него, когда шум остановившейся у дома кареты
заставил их замереть и забыть об атаке и обороне.
- Должно быть, это мои люди, сударь, - проговорила она, - и я уезжаю.
Я не призываю вас поразмыслить над тем, что произошло между нами, - вам
это не поможет; чем более человек расположен к дурным поступкам, тем
менее он способен почувствовать это.
С этими словами она встала и хотела было выйти, как то, о чем я
поведаю Вашему Величеству завтра, заставило ее застыть на месте.
- Почему завтра? - спросил Султан. - Думаете, приди мне в голову
фантазия выслушать вас сегодня, вы смогли бы ослушаться? К счастью для вас,
все дальнейшее меня так мало занимает, что мне все равно, узнаю ли я об
этом завтра или в любой другой день.
284
Софа
Глава девятнадцатая
АХ! ТЕМ ЛУЧШЕ!
После всего того, что произошло между Зуликой и Мазульхимом, она
меньше всего ожидала снова встретить его, а между тем в дверь вошел Ма-
зульхим собственной персоной. Увидев его, она в изумлении попятилась,
изумление сменилось слезами, и она рухнула на меня. Мазульхим сделал вид,
что не заметил, в какое состояние ее повергло его появление, и,
приблизившись к ней, развязно произнес:
- Я пришел, моя королева, чтобы попросить у вас прощения. Дела,
утомительные, скучные и гадкие, обрушились на мою голову и заставили меня
нарушить ваш приказ... Как? Вы плачете? Ах! Нассес, как это скверно! Вы
злоупотребили моей снисходительностью, моей дружбой и моим доверием! Но...
Но, по правде говоря, я ничего не понимаю. Вы сердитесь? Это я должен
сердиться, я в отчаянии, и, должно быть, ничто не сможет утешить меня. Да уж,
удивительное происшествие, можно сказать, единственное в своем роде,
исключительное! В конце концов, могу я узнать, что все это значит?
Объясните же мне, вы оба! Вы молчите. Ах! Понимаю, уж не я ли невольно стал
всему причиной? Вы думаете, что я изменился к вам, да, вы так думаете? Как
мало вы знаете мое сердце! Я примчался к вам, исполненный в тысячу, да, в
тысячу раз большей нежностью и любовью, пылая, как никогда!
Чем красноречивей становился Мазульхим, изображая чувство, тем
сильнее Зулика, потерянная, убитая, упорствовала в молчании. Нассес,
втайне наслаждавшийся ее смущением, опасался, что, вступив в разговор с
Мазульхимом, даст ей тем самым возможность прийти в себя, и, храня
молчание, с нетерпением ждал ее ответа. Но тщетно. На некоторое время в
комнате воцарилось молчание.
- Молю вас, растолкуйте мне, что происходит! - обратился наконец
Мазульхим к Нассесу. - Из-за кого сударыня плачет, из-за вас или из-за меня?
Она меня разлюбила? Она полюбила вас?
- Вовсе нет! - ответил Нассес. - Скажу уж, раз вы так настаиваете, что
эта ветреница разлюбила меня. Мы поссорились.
- Ах, коварная! - вскричал Мазульхим. - И это после того, как вы
поклялись вечно хранить мне верность! Какой ужас!
- Мне с большим трудом удалось утешить сударыню, которая горько
оплакивала ваше исчезновение, - сказал Нассес. - В этом следует отдать ей
должное, и, чтобы исполнить свой долг до конца, я намерен, чего бы это мне
ни стоило, оставить вас вдвоем, чтобы дать вам возможность попробовать
утешить ее после моего ухода с большей легкостью. Прощайте, сударыня! -
продолжил он, обращаясь к Зулике, - мое счастье оказалось недолгим, но
Часть вторая
285
доброта вашего сердца, хорошо известная мне, дарует надежду, что
однажды вы вернете мне то, что сегодня отняло у меня ваше пристрастие.
Соблаговолите лишь вспомнить обо мне, и, не сомневайтесь, я буду в вашем
полном распоряжении!
Когда Нассес ушел, Зулика решительно встала и, не глядя на Мазульхи-
ма, направилась к дверям.
- Нет, сударыня, - сказал Мазульхим, - вы не можете уйти, не выслушав
моих оправданий. Возможно, что и вы захотите повиниться в кое-каких
мелочах; во всяком случае, по-моему, нам не пристало разойтись вот так, не
объяснившись. Вы намерены по-прежнему молчать? Так вы не помните, что
обещали вечно хранить мне верность?
- Ах, сударь, - плача, ответила она, - неужели вам мало тех
оскорблений, которые вы уже нанесли мне, и вы хотите прибавить к ним новое? К
чему говорить о любви, которую никогда ко мне не испытывали?
- Вот! - воскликнул он. - Таковы женщины! Стоит нам невольно
нарушить обещание и, в тоске и муке, исполнившись еще большей страстью,
броситься затем к ногам любимой женщины, чтобы излить накопившееся
страдание, как нас тут же обливают ненавистью. Но, будь вы менее
чувствительной, вы не судили бы так несправедливо. Утонченные души склонны
все преувеличивать. И тем не менее я благодарен вам за ваш гнев - если бы
не это, я так никогда бы не узнал, как вы меня любите и, должно быть, сам
любил бы вас меньше. Но, скажите же, - прибавил он, бесцеремонно
подступая к ней, вы и вправду сердитесь?
Зулика ничего не ответила и только смотрела на него с бесконечным
презрением.
- Вообще-то, - продолжил он, - я легко могу доказать вам, что я ни
в чем не виноват. Да, да, - добавил он, увидев, что она пожала плечами, -
легко, я нисколько не преувеличиваю. Давайте посмотрим, в чем моя вина
перед вами?
- Вот уж действительно! - вскричала она. - Меня восхищает ваша
наглость! Заманить меня сюда, а самому не явиться, ну, это еще куда ни шло,
поскольку каким бы ни был дурным, неприглядным и нахальным такой
поступок, он вполне в вашем духе и нисколько меня не удивляет, но такое
коварство! Прислать сюда незнакомого мне человека, открыв ему перед тем
то, что я проявила слабость, тогда как вы должны были беречь эту тайну
как зеницу ока!
- Да уж! Беречь тайну! - перебил он ее. - Очень осмысленное и
полезное занятие! Неужели вы думаете, что связь между такими людьми, как
мы, может остаться незамеченной? Несмотря на ваш опыт, вы, вероятно,
пребываете в ослеплении, если верите, что ваше имя не всплывет рано или
поздно в связи со мной. Но какой опасности (спрашиваю я вас) я вас
подвергнул? Думаете, менее надежно доверить тайну человеку, занимающему
286
Софа
определенное положение в свете, чем рабу? Разве вы застали здесь кого-
либо из тех, кто привык выполнять подобные поручения? У меня было
мало времени. Я выбрал посланником друга, хорошо известного мне своей
порядочностью, Нассеса, того, кто не только благоразумен, но и умен,
светского человека, видеть которого всегда доставляет удовольствие, и
заслуживающего, осмелюсь сказать, всяческого уважения и почтения. К
тому же позволю себе вольность заметить, что, учитывая те знаки
благодарности, которыми вы так щедро одарили его, я не понимаю, почему вы
недовольны тем, что я его прислал. Между нами говоря, мне хотелось бы
прояснить кое-что, касающееся этой стороны дела, но только если вы не
против, ибо я, скажу вам без всякого намерения вас обидеть, не столь
любопытен и не столь въедлив, как вы.
- Сколько нахальства и самомнения! - воскликнула Зулика.
- Поосторожнее, сударыня, с подобными суждениями! - живо
откликнулся Мазульхим. - Каков бы я ни был, есть тысяча поводов к тому, чтобы
я тоже повысил голос, и я попросил бы вас не вынуждать меня к реваншу.
Если вы соблаговолите довериться мне, мы сможем обсудить все
дружелюбно. Возможно, вы выиграете от этого больше, чем я. Итак, приступим.
Появление Нассеса сначала разгневало вас, я в этом не сомневаюсь; я также не
сомневаюсь в том, что, желая разрядить обстановку, вы оказали ему все те
милости, которые предназначались мне.
- Неужели? - высокомерно промолвила Зулика.
- Именно так, - ответил он.
- Ну что ж! да, - отважилась она, - я полюбила его.
- Не стоит прибегать к высоким словам, - заметил он, - вы его не
полюбили, однако это не меняет сути дела. Согласитесь, поскольку теперь вы
знаете его лучше, что это человек редких достоинств.
- Я знаю лишь то, - холодно проговорила она, - что он хлыщ, негодяй и
бесстыдник, но, по крайней мере, ему есть, чем искупить эти недостатки,
тогда как кое-кому, осмеливающемуся произносить речи в подобном же
тоне, стоило бы держаться поскромнее.
- Вам угодно изъясняться намеками, - сказал он, - однако я хорошо
понял, что это шпилька в мой адрес, и я хотел бы немного вознаградить вас, не
имея в виду, впрочем, что это приведет к далеко идущим последствиям, за
то, в чем вы вынуждаете меня признаться. Думаю, я достаточно ясно
выражу вам свое уважение тем, что не стану прибегать к разъяснениям, которые
могут оскорбить чувство приличия.
- Боже, что за жалкие речи! - воскликнула она, глядя на него с
жалостью. - Этот насмешливый и легкомысленный тон совсем не идет такому
типу, как вы!23
- Напрасно стараетесь, сударыня, - ответил он, - вам не удастся ни
лишить меня чувства уважения к вам, ни сбить меня с того плана, которого я
Часть вторая
287
намереваюсь придерживаться в разговоре с вами. Я не прочь преподнести
вам в своем лице образец умеренности; возможно, увидев, что я ни в чем
себе не противоречу, вы захотите последовать моему примеру.
- Что ж, вам предстоит в одиночестве проявлять вашу достохвальную
уверенность, - сказала она, поднимаясь, - поскольку я собираюсь...
- Нет, прошу вас, сударыня, - воскликнул он, удерживая ее, - не
покидайте меня! Нам не подобает расставаться таким образом! Ради нашего с
вами счастья мы должны вместе постараться расставить все точки над i и
избежать огласки, особенно опасной для вас. Короче говоря, Зулика, вам
придется меня выслушать!
То ли Зулика почувствовала, какой вред может нанести ей это
приключение, если о нем станет широко известно, и, поразмыслив, сочла, что
нельзя упускать ничего из того, что могло бы заставить Мазульхима хранить все
в тайне, то ли она была до такой степени низка, что не могла долго
сердиться за то, что ее унижали, и начала уже постепенно успокаиваться, но она
бросилась на меня, не глядя на Мазульхима, который, не обратив внимания
на ее досаду, продолжил так:
- Вы признались, что заполучили Нассеса. Другой бы на моем месте
сказал бы вам, что обычно женщина пускается в новую историю лишь после
того, как порвет прежние отношения, и отнесся бы к вам с презрением,
которого, по всей видимости, заслуживает подобное поведение; что до меня, то
я, имея достаточный опыт в светской жизни, чтобы составить себе
представление о том, как происходят подобные вещи, понимаю, что у вас не было
злого умысла, и люблю вас еще больше.
- Однако в мои планы вовсе не входило таким образом воздействовать
на ваше сердце, - ответила она.
- Вам трудно судить об этом, - сказал он, - вы были смущены;
возможно ли, чтобы вы ясно видели мотивы, которые двигали вами? Вы
полагали, что я изменил вам и сгорали от нетерпения отомстить; если бы вы
любили меня меньше, вы не поступили бы так, и Нассесу не удалось бы
зайти так далеко, как он сумел это сделать. Поверьте мне, только
искреннее чувство способно внушить действия, не дающие ни времени ни воли на
обдумывание. Я удивляюсь, что Нассес оказался настолько
неделикатным, чтобы позволить себе воспользоваться вашим состоянием, и
настолько слепым, чтобы не заметить, что даже в его объятиях вы думали о
другом человеке и что, если бы не ваша любовь ко мне, вы никогда бы не
согласились осчастливить его.
- О нет! - возразила она. - Он мне понравился, и я именно изменила вам
по всем правилам.
- В вас говорит чистое самолюбие, - ответил он. - Не станете же вы
внушать себе мысль, не имеющую ничего общего с реальным положением дел!
- Как это, - воскликнула она, - не имеющую ничего общего с реальным
288
Софа
положением дел?! Довольно странно, что вы полагаете, будто лучше меня
знаете положение дел.
- Я знаю его настолько хорошо, что могу шаг за шагом описать, как
Нассес соблазнил вас, - сказал он. - Он нашел вас красивой и, вместо того
чтобы оправдать меня в ваших глазах, предпочел открыть вам, какие
желания вы в нем пробуждаете; держу пари, что он не только не счел нужным
выгородить меня, но и...
- В этом можете не сомневаться, - обрезала она его.
- Вот видите! - продолжил он. - Как жалка его победа и как мало он
может гордиться ею! Впрочем, есть люди, которым следует прощать
маленькие хитрости, они нужны им, чтобы нравиться.
- Как! - с удивлением воскликнула она. - Вы осмеливаетесь утверждать,
что не изменились ко мне?
- Конечно же, нет, - ответил он, - я ни в чем не виноват, и поэтому
ваше приключение довольно забавно.
- Вы не виноваты? - переспросила она. - Но где же вы были?
- Я был у Императора, - ответил он, - и, выйдя от него, тотчас же
поспешил сюда. Заадис, выслушавший, замечу в скобках, тысячу шуточек по
поводу того, что он где-то пропадал вчера весь день, был все время со мною
и может это подтвердить.
Услышав имя Заадиса, Зулика вздрогнула и покраснела, а Мазульхим,
казалось, не заметивший этой перемены, продолжил:
- Хотя вы по-прежнему очень нравитесь мне, думаю, вы понимаете, что
мы не сможем сохранить ту близость, которую вы мне обещали. Не то,
чтобы я не простил вам все, нет, просто такой контракт вам не подходит;
впрочем, мы действовали из прихоти, а не по любви, и не чувство сблизило нас;
то, что произошло, не может оскорбить ни вас ни меня, ни тем более
помешать нам поддаться капризу, если, не желая связывать себя долгими узами,
мы вдруг испытаем тягу друг к другу.
- Надеюсь, - с презрением ответила она, - предлагая мне подобный
план, вы отдаете себе отчет в его нелепости и осознаете, что никогда не
получите моего согласия.
- Простите, - возразил он, - думаю, вы слишком разумны, чтобы не
понимать, что старые друзья требуют бережного и уважительного отношения.
К тому же вам известно, что в наше время подобные вещи в широком ходу
и что вполне принято завязывать новые знакомства, не отказываясь от
прежних. Вы должны согласиться с предложением, которое я имел честь
изложить вам; для меня это вопрос решенный.
Услышав эти слова, Зулика, вполне заслужившая того, чтобы к ней
обратились с таким непристойным предложением, обиделась, что Мазульхим
осмелился предположить, будто она способна на то, что составляло ее образ
жизни, и сочла нужным принять тон, полный достоинства; однако, нисколь-
Часть вторая
289
ко не выиграв от этого, добилась только того, что он стал еще более
бесцеремонен.
- Если бы не было уже так поздно, - сказал он, - я сумел бы доказать,
что вам следовало бы благодарить меня, а не пенять мне. Я знаю, что Заа-
дис был вчера у вас и провел наедине с вами целый день и большую часть
ночи. Скорее из любопытства, чем из ревности, будучи уверен, что вы
не сдержите данного мне слова не встречаться с ним, я приказал следить за
вами обоими...
- Не стоило трудиться, - перебила она его. - Я и не собиралась
прятаться, и причина, по которой я вчера приняла у себя Заадиса, только делает мне
честь.
- Ах, ах! - вскричал он. - Что же это за особенная причина?
- Вы можете насмехаться, сколько хотите, но я говорю правду, -
ответила она. - Я порвала с ним, и именно для того, чтобы объявить ему, что мы
расстаемся...
- Вы провели с ним, - закончил он за нее, - целый день и львиную часть
ночи. Не стану спорить с вами относительно причины, хотя ваше объяснение
довольно необычно, ибо, как хорошо известно, женщина редко затворяется
на целые сутки с мужчиной, если она намерена просто порвать с ним. Однако
необычность вещи вовсе не говорит о том, что она непременно абсурдна,
поэтому я, искренне желая найти вам оправдания, полагаю, что Заадис, узнав от
вас о постигшем его несчастье, чуть не умер от отчаяния у ваших ног и что вы,
тронутые горем, в которое его повергла ваша ветреность, утешили его со
всей щедростью, которая вам присуща, постаравшись, впрочем, чтобы забота
о нем не нанесла ущерба клятве в верности, которую вы мне дали. Мужчина,
пребывающий в отчаянии, теряет голову, и его трудно привести в чувство;
нужно уговаривать его, повторять одно и то же, тысячу раз возвращаться к
тому, что уже сказано, пускать в ход сожаления, упреки, слезы, гнев - все это
отнимает уйму времени. Впрочем, замечу, что вам не стоит жалеть времени,
которое вы потратили на то, чтобы успокоить Заадиса: сегодня он пребывал
в самом радужном настроении. Заадис был весел! Мыслимо ли это? Если то,
о чем вы мне рассказали, правда, а я нисколько не сомневаюсь в этом, то,
значит, ваши советы пошли ему впрок, или же он мало любил вас, раз не
сожалеет об утрате. Если один отдает должное вашему уму, то другой остается
равнодушным к вашим прелестям, но я не хотел бы огорчать вас, вы сами
выберете, что вам больше по душе. Во всяком случае, вам следовало бы
посоветовать ему казаться грустным, хотя бы на протяжении того времени, которое
вам потребовалось, чтобы изменить мне.
Услышав это, Зулика принялась было оправдываться, но Мазульхим
оборвал ее:
- Не стоит тратить времени на то, что не имеет смысла, сударыня.
Избавьте меня от оправданий, я не требую их от вас и не хочу их слушать,
10. Кребийон-сын
290
Софа
тем более что вам они даются с трудом, а меня вряд ли удовлетворят.
Прощайте, - добавил он, поднимаясь, - уже поздно, и мы должны расстаться.
А! кстати, как вы поступите с Нассесом?
Казалось, Зулику удивил этот вопрос.
- По-моему, - продолжил он, - мой вопрос очевиден. Вы плохо
расстались, и мне кажется, что это было с вашей стороны опрометчиво. Вы
поступите правильно, если еще раз встретитесь с ним; поверьте, лучше избежать
огласки. Вам не составит труда удерживать его при себе, даже испытывая к
нему ненависть - ведь сумели же вы поладить с ним без любви. Если вы
станете упрямиться в своем нежелании увидеть его снова, возможно, он
проболтается, и, хоть вы и не совершили ничего особенного, всегда найдутся
злые и несправедливые люди, готовые обвинить вас во всех смертных
грехах и превратить банальную историю в нечто неслыханное и нелепое.
Конечно, по сути дела, вас не должно занимать то, что о вас будут говорить;
когда обладаешь некоторым именем и определенным положением, историей
больше, историей меньше - уже не имеет значения; однако не следует
наживать себе врагов. Завтра я представлю его вам.
- Как? - воскликнула она. - Мы увидимся снова?
- Конечно, - ответил он, предлагая ей руку, чтобы помочь подняться, -
вы должны позаботиться об этом. Если паче чаяния случится так, что Заа-
дис отнесется к нашему появлению неодобрительно, вы можете
рассчитывать на меня: или ему придется расстаться с вами, или он в конце концов
привыкнет к настойчивым ухаживаниям с нашей стороны.
Проговорив это, он снова предложил ей руку, но, видя, что она упрямо
не принимает его услуги, сказал:
- Что за глупость! - и добавил, беря ее под руку против ее воли: - Ваше
ребячество просто невыносимо.
Они вышли.
- Они вышли! - воскликнул Султан. - Ах! Какое прекрасное слово! По-
моему, лучшее в вашей истории! И они не вернулись?
- Я больше не видел Зулику, - ответил Аманзей, - но еще долго
наблюдал за Мазульхимом.
- И каждый раз, - сказал Султан, - как вы знаете... Черт побери, это
редкостный экземпляр! И какие женщины побывали у него после Зулики?
- Многие, вполне стоившие ее, и некоторые, совсем ее не стоившие; их
участь вызывала во мне чувство жалости.
- Кстати, - проговорил Шах-Бахам, обращаясь к Султанше, - вы не
находите, что Мазульхим дурно обошелся с этой Зуликой?
- Ее можно лишь презирать, - ответила Султанша. - Такая женщина,
как Зулика, обречена на презрение; своим недостойным поведением она
подвергает себя жестоким оскорблениям, а низость ее характера и тайный
стыд, который гложет ее, хочет она того или нет, забирают все ее силы, ли-
Часть вторая
291
шая возможности ответить на них. Кстати, если окажется, что Аманзей
преувеличил унижения Зулики, я не стану упрекать его и буду ему только
признательна за это. Куда лучше наказать порок, к чему он и стремился, чем
живописать его торжествующим и ликующим.
- О, да! - промолвил Султан. - Это просто необходимо! Но оставим эту
тему; споры ожесточают меня, а я полагаю, что мы можем поссориться, если
продолжим беседу. Куда же вы направились, Аманзей, покинув Мазульхима?
Глава двадцатая
УСЛАДА ДУШИ
Я с приятностью проводил время в домике Мазульхима, однако забота о
моей душе принуждала меня расстаться с ним, и, убедившись, что там мне не
обрести свободы, я отправился на поиски дома, в котором я мог бы
надеяться с большим успехом попытать счастья, чем в тех, где я уже побывал.
После долгих скитаний, во время которых моим глазам представлялись
зрелища, которые я уже видел, или же события, не заслуживающие внимания
Вашего Величества, я оказался в просторном дворце, принадлежавшем одному
из самых важных вельмож Агры. Некоторое время я бродил по дворцу;
наконец я облюбовал себе софу в кабинете, украшенном пышно и со вкусом,
хотя может показаться, что одно противоречит другому. Здесь все дышало
сладострастием: стены, мебель, запах изысканных благовоний, которые
непрерывно курились, все делало его зримым, все доносило его до сердца.
Этот кабинет вполне мог сойти за храм неги, за настоящую обитель
удовольствий.
Не успел я устроиться, как в кабинет вошла богиня, которой я теперь
принадлежал. Это была дочь вельможи24, в чей дом я попал. Молодость,
грация, красота, то я-не-знаю-что, ограняющее все эти достоинства, более
мощное, более значительное, но трудноопределимое, не говоря уж об
обаянии и приятности, светились в ее лице. При виде нее душа моя пришла в
волнение, и тысяча сладостных чувств, о существовании которых я и не
подозревал, пробудились в ней. Поскольку мне предстояло служить иногда ложем
этой красавице, я не только перестал сетовать на судьбу, но даже начал
опасаться того, что буду вынужден начать новую жизнь.
- Ах! - говорил я себе, - Брахма, каково же должно быть блаженство,
уготованное тобой верным слугам, если ты позволяешь душам,
заслужившим твой праведный гнев, наслаждаться столь чарующим зрелищем!
Приди, - продолжил я с восторгом, - приди! о божественный образ, приди и ус-
10*
292
Софа
покой мятущуюся душу, которая полетела бы тебе навстречу, не будь она
заключена в тюрьму согласно суровому приказу.
В этот момент мне показалось, что Брахма соизволил внять моим
мольбам. Солнце стояло в зените, был зной; Зейниса, собираясь погрузиться в
сладкий сон, задернула занавеси, и в кабинете воцарилась полутьма,
блаженная для сна и для утех, ничего не скрывающая от взгляда, но придающая
всему неги, избавляющая стыдливость от робости и склоняющая ее к любви.
Вскоре из всех одеяний на Зейнисе осталась лишь легкая открытая
туника, и красавица лениво возлегла на меня. О Боги! С каким восторгом
я принял ее! Брахма, назначив моей душе пребывать в софе, позволил ей
перемещаться внутри тюрьмы; с каким наслаждением я воспользовался теперь
этой вольностью!
Я старательно выбрал себе место, откуда я мог лучше видеть прелести
Зейнисы, и стал созерцать ее с жадностью пылкого любовника и
восхищением, которое непременно разделил бы даже самый бесчувственный
зритель. О Небо! Какие красоты открылись моему взгляду! Наконец сон
смежил очи, внушившие мне безумную любовь.
Я погрузился в детальное изучение прелестей, еще не рассмотренных
мной, не забывая возвращаться к тем, с которыми уже ознакомился.
Зейниса спала спокойно, все же порой она ворочалась во сне, и каждое ее
движение, сбивая тунику, открывало моим жадным взорам новые красоты. Вся
эта роскошь окончательно смутила мою душу. Она ничего не ощущала,
кроме бремени многочисленных и нестерпимых желаний. Напрасно я пытался
заставить себя мыслить; я лишь чувствовал, что полюбил, и целиком
предался этому чувству, не думая о последствиях столь гибельной для меня
страсти и не опасаясь их.
- Божественное создание! - воскликнул я наконец. - Нет, ты не можешь
быть простой смертной! Разве смертным полагаются такие чары? И среди
тех, кто обитает в небесах25, никто не сравнится с тобой. Ах! Соблаговоли
принять поклонение души, которая обожает тебя! Остерегайся предпочесть
ей какого-нибудь ничтожного смертного! Зейниса! Несравненная Зейниса!
Нет, среди них ты не найдешь достойного тебя. Нет, Зейниса! ибо среди них
нет никого, кто бы походил на тебя.
Я был полностью поглощен Зейнисой, когда она пошевелилась и
повернулась во сне. Поза, которую она приняла, была удобной для меня, и мне,
несмотря на смятение, пришло в голову воспользоваться этим. Зейниса
возлежала на боку, ее голова покоилась на подушке, так что губы ее почти
касались софы. Я мог, не нарушив сурового приказа Брахмы, хоть немного
утишить свои жгучие желания; моя душа переместилась в подушку, поближе к
губам Зейнисы, и сумела прижаться к ним.
Душа, несомненно, способна испытать наслаждение, для которого слово
блаженство не вполне подходит; которое не передается в полной мере и ело-
Часть вторая
293
вом сладострастие. Нежное и жгучее опьянение, в которое погрузилась моя
душа, которое заняло ее целиком и полностью, не поддается описанию.
Должно быть, душа, обремененная телом, вынуждена соотносить свой
восторг со слабостью органов и, томясь в оболочке, не может предаваться
ему с той силой, с какой ей это позволяет свободное существование. Мы
чувствуем порой эту силу в высшую минуту наслаждения, когда она, тесня
барьеры, которые навязываются телом, разливается внутри узилища, неся смуту и
огонь, пожирающий все на своем пути, тщетно ища выхода, и, утомленная
натиском, превращается в истому, и на протяжении нескольких часов кажется,
будто эта истома уничтожила ее. В этом, так я, по крайней мере, думаю,
причина изнеможения, в которое нас приводит взрыв сладострастия.
Такова наша судьба: душа, волнующаяся в моменты наслаждения,
обречена все время мечтать о большем. Моя душа, прильнувшая к губам Зейни-
сы, погруженная в блаженство, искала того, что могло бы превзойти его.
Она попробовала проскользнуть в Зейнису, но неудачно; жестокий приказ
Брахмы удерживал ее внутри софы, и никакими усилиями она не могла
выбраться из своей тюрьмы. Ее порывы, ее пыл, яростные желания разогрели
душу Зейнисы. Едва моя душа увидела, какое впечатление она производит
на душу Зейнисы, она удвоила усилия. Она настойчиво ласкала губы
Зейнисы, порывисто прижималась и огненно льнула к ним. От смущения, которое
постепенно охватывало Зейнису, в моей душе росли трепет и восторг. Зей-
ниса вздыхала, и я вздыхал; с ее губ слетело несколько неясных слов,
прелестный румянец окрасил ее щеки. Приятный сон владел ее чувствами.
Томные движения сменили покой, в который она была погружена.
- О! Ты любишь меня! - нежно воскликцула она.
За этими словами последовали другие, перемежаемые тихими вздохами.
- Неужели ты сомневаешься в моей любви? - продолжила она.
Стесненный более, чем Зейниса, я слушал ее, затаив дыхание, и не имел
сил ответить ей. Вскоре ее душу, смущенную не менее моей, охватил
всепожирающий огонь, нежный стон... О Небо! Как она была красива!
Наше блаженство рассеялось с ее пробуждением. От сладкой фантазии,
раздразнившей ее чувства, ей осталась лишь истома, в которую она
погрузилась со сладострастием, указывавшим на то, что она заслуживала
наслаждения, только что пережитого ею. В ее глазах, исполненных любовью, еще
тлел огонь, недавно струившийся по ее жилам. Когда она широко
распахнула их, они утратили томное выражение, вызванное моей любовью и моим
смятением чувств, но в них таилось что-то столь трогательное! Какой
смертный, удостоившийся счастья видеть эти глаза, смог бы устоять и не
проникнуться нежностью и восторгом?
- Зейниса, - в упоении воскликнул я, - прекрасная Зейниса! Это я сделал
тебя счастливой, это наши души, слившись, даровали тебе наслаждение. Ах!
если бы ты могла всегда быть обязанной счастьем лишь моей душе и отве-
294
Софа
чать только на мою страсть! Нет, Зейниса, никогда тебе не найти никого
более нежного и более преданного. Ах! Если бы я мог освободиться от власти
Брахмы, если бы он забыл о моей душе, для нее, навечно привязавшейся к
твоей душе, бессмертие стало бы счастьем, и она продолжила бы свое
существование в тебе. Что, если я потеряю тебя, возлюбленная моя душа! ах!
Как я смогу отыскать тебя в этом обширном мире, будучи к тому же
стреноженным теми жестокими путами, которые, возможно, выберет для меня
Брахма? Ах! Брахма! Если твоя высшая воля отнимет у меня Зейнису,
сделай так, чтобы воспоминания о ней, как бы мучительны они ни были,
никогда не изгладились из моей памяти!
В то время как моя душа нежно разговаривала с Зейнисой,
очаровательная дева, казалось, была погружена в приятные мечтания, и спокойствие, с
которым она отнеслась ко сну, коим я гордился еще несколько минут назад,
начало тревожить меня.
Зейниса, подумал я, должно быть, привыкла к наслаждениям, которые
она испытала. Они, воздействовав на ее чувства, нисколько не поразили ее
воображения, она мечтает, но, по всей видимости, не задается вопросом о
причине, вызвавшей взволновавшие ее движения души. Зейниса давно
освоила нежные и сладкие восторги любви, и я лишь заставил ее проследовать
по известному уже ей пути. Некий более счастливый смертный взлелеял в
сердце Зейнисы семя нежности, зароненное природой. Это его образ, его
страсть воспламенили ее; она знает любовь и говорила о ней; посреди
смятения, в которое она впала, ей хотелось успокоить возлюбленного,
привыкшего, должно быть, и в ее объятиях испытывать страх и тоску. Ах,
Зейниса! если ты и вправду любишь, то мне уготована страшная участь, учитывая
состояние, в которое меня поверг гнев Брахмы!
Моя душа плутала среди этих мыслей, когда я услышал, как кто-то
постучал в дверь. Неожиданный стук заставил Зейнису покраснеть, что лишь
усилило мои опасения. Она лихорадочно принялась уничтожать следы
греховного сна и, придав своему виду должную пристойность, приказала
стучавшему войти.
- Ах! - с болью подумал я. - Сейчас я, должно быть, увижу соперника;
если он уже счастлив, какая мука! Но если ему лишь предстоит вкусить
счастья, а Зейниса не обманет моих ожиданий и окажется той, кому я буду
обязанным своим освобождением, какой страшный удар постигнет меня, когда
мне придется расстаться с ней наперекор чувствам, которые она во мне
пробудила!
Знакомство с нравами жителей Агры должно было излечить меня от
страхов потерять Зейнису, к тому же нельзя было исключить того, что,
достигнув пятнадцати лет, а именно таков, видимо, был ее возраст, она не
обладала уже тем, что составляло условие, при котором Брахма позволял мне
начать новую жизнь; но, как ни боялся я оказаться свидетелем ее щедрости
Часть вторая
295
по отношению к моему сопернику, я предпочел бы эту пытку той, к которой
меня приговорила бы разлука с ней.
Повинуясь приказу Зейнисы, в кабинет вошел молодой и красивый
Индус. Чем больше я находил его достойным любви, тем большую ненависть
он мне внушал; она усилилась вдвое, когда я увидел, как изменилась Зейни-
са. Смущение, любовь и страх читались в ее лице, сменяя друг друга;
некоторое время она молча смотрела на него. Мне показалось, что он был
взволнован не меньше, чем она, но по его робкому и почтительному виду я понял,
что, если его и любят, он еще не был ничем поощрен. Несмотря на его
смущение и юность (ибо он, видимо, был немногим старше Зейнисы), он не был
похож на человека, влюбившегося впервые, и я начал надеяться, что это
приключение грозит мне только страданиями, которые надо постараться
перенести с мужеством.
- Ах! Фелеас!26 - сказала Зейниса взволнованно. - Зачем вы пришли сюда?
- Я надеялся увидеть вас, - ответил он, бросаясь к ее ногам, - ту, без
которой я не могу жить, ту, которая соизволила обещать мне вчера свидание
наедине.
- Ах! И не надейтесь, - живо откликнулась она, - что я сдержу свое
слово. Пойдемте, я не хочу оставаться в этом кабинете.
- Зейниса! - взмолился он. - Неужели вы лишите меня счастья пробыть
хотя бы минуту с вами? Может ли быть, что вы так быстро раскаялись за то,
что обещали мне эту малость?
- Но, - в замешательстве проговорила она, - мы можем поговорить и в
другом месте. Коли вы меня так любите, вам не пристало так настойчиво
принуждать меня к тому, что вызывает во мне отвращение.
Фелеас молча взял ее руку и поцеловал с жаром, который мог бы быть
моим. Зейниса томно смотрела на него и вздыхала, припоминая волнующий
сон, в котором ее возлюбленный был так настойчив, а она так слаба;
впечатления от сна, которые еще жили в ней, расположили ее к любви, и
всякий раз, когда она поднимала взгляд на Фелеаса, ее глаза заволакивала
нежность, и в них невольно мелькала легкая тень сладострастия, в которое ее
совсем недавно повергла моя любовь.
Хотя Фелеас не имел большого опыта в любви, чувство сделало его
чутким к малейшим движениям Зейнисы, и он не мог не заметить, что она явно
была рада его видеть. К тому же Зейнису, искреннюю и безыскусную,
только стыдливость заставляла скрывать от Фелеаса состояние, в которое ее
привело его появление; стараясь утаить от него хотя бы отчасти свое
смущение, она целиком выдавала себя. Фелеас не был настолько искусен, чтобы
одержать победу над кокеткой, напускная добродетельность и
целомудренный вид которой только бы отпугнули его, но он представлял опасность для
Зейнисы, которая, подстегиваемая любовью, боясь оступиться, не знала,
как ей следует обороняться.
296
Софа
Она с радостью лицезрела Фелеаса у своих ног, но попросила его встать.
Не думая повиноваться ей, он обнял ее колени с такой нежностью и
страстью, что она вздохнула.
- Ах, Фелеас! - с волнением проговорила она. - Умоляю вас, давайте
уйдем отсюда!
- Вы по-прежнему боитесь меня? - нежно спросил он. - Ах, Зейниса!
Моя любовь так мало трогает вас! Отчего вы опасаетесь того, кто вас
обожает, кто почти с рождения был очарован вами, кто, пребывая всю свою
жизнь под властью ваших чар, дышит лишь ради вас? Зейниса! - добавил он
со слезами. - Взгляните, что вы делаете со мной!
С этими словами он поднял на нее глаза, полные слез; она с нежностью
посмотрела на него и сказала, уступая волнению, в которое ее привели
любовь и страдания Фелеаса:
- Ах, жестокий! - ее голос прерывался от плача, который она пыталась
удержать. - Заслужила ли я такие упреки? Как же мне доказать вам свою
любовь, если после всего того, что я для вас сделала, вы все еще
сомневаетесь во мне?
- Если бы вы любили меня, - ответил он, - вы хотели бы остаться со
мной здесь, а не рвались бы прочь отсюда и опасались бы лишь того, как бы
кто-нибудь не нарушил наше уединение.
- Увы! - наивно проговорила она. - Кто вам сказал, что я боюсь чего-то
другого?
Услышав это, Фелеас внезапно вскочил, подбежал к дверям и запер их.
Бросившись назад, он столкнулся с Зейнисой, которая, догадываясь о том,
каковы его планы, встала, чтобы помешать ему. Он обнял ее и, невзирая на
ее сопротивление, опустил на софу и устроился с ней рядом.
Глава последняя
Не знаю, полагала ли Зейниса, что бессмысленно противиться, если
двери на запоре, или же она опасалась себя больше, чем того, что их застанут
врасплох, но, как только Фелеас оказался рядом с ней, покраснев не
столько от того, что он делал, сколько от того, что, как она подозревала, он
собирался сделать, не дожидаясь его просьб, дрожащим голосом, возбраняя
ему дальнейшее, она стала умолять его ни о чем не просить ее. Но ее тон
был скорее нежным, чем значительным, и не мог ни рассердить, ни
удержать Фелеаса. Он лег рядом с ней и с таким пылом обнял ее, что Зейниса,
начиная понимать, насколько он опасен, помимо своей воли прониклась его
восторгом.
Часть вторая
297
Несмотря на волнение, во власти которого пребывала Зейниса, она
попыталась высвободиться из объятий Фелеаса, но в ее действиях сквозило
такое желание остаться в том положении, в котором она была, что ему не
потребовалось больших усилий, чтобы свести ее сопротивление на нет.
Некоторое время они молча смотрели друг на друга, затем Зейниса, чувствуя, как
в ней нарастает смятение и опасаясь того, что она не сможет с собой
совладать, принялась тихим голосом молить Фелеаса отпустить ее.
- Значит, вы никогда не захотите сделать меня счастливым? - спросил он.
- Ах! - ответила она с самозабвением, которое я до сих пор не могу ей
простить, - вам и так не на что жаловаться, и прежде чем вы появились, вам
уже посчастливилось.
Ее слова показались Фелеасу туманными, и он счел необходимым
обратиться к ней с просьбой растолковать их. Он долго упрашивал Зейнису,
чтобы она прояснила ему смысл сказанного, и делал это с такой нежностью,
глядя на нее с такой страстью, что в конце концов добился своего, хотя она
не была настроена продолжать эту беседу.
- Но вы можете злоупотребить тем, что я вам скажу, - произнесла она
дрожащим голосом.
Он поклялся ей, что не станет этого делать, с жаром, который не только
не должен был успокоить ее, но, напротив, не оставлял никакого сомнения в
том, что он нарушит данное им слово. Слишком взволнованная, чтобы
подумать об этом, или же слишком неопытная, чтобы понять, какая сила таится в
ее исповеди, Зейниса некоторое время продолжала слабо отнекиваться, а
затем призналась, что незадолго до его появления, задремав, она видела его во
сне и испытала восторг, о котором она прежде не имела представления.
- Обнимали ли вы меня? - спросил он Зейнису, прижимая ее к своей груди.
- Да, - ответила она, поднимая на него глаза, полные смущения.
- А! - взволнованно воскликнул он. - Значит, вы любили меня больше,
чем сейчас.
- Я не могла любить вас больше, - сказала она, - но, правда, я менее
опасалась признаться вам в этом.
- А что было потом? - снова спросил он.
- Ах, Фелеас, - воскликнула она, краснея. - Что за вопрос? Вы были
счастливы так, как, я надеюсь, не будете никогда, но это не сделало вас более
справедливым ко мне.
Услышав это, Фелеас не мог больше сдерживаться и, поскольку рассказ
Зейнисы придал ему отваги, он, чуть приподнявшись и склонившись над ней,
попытался коснуться губами ее губ. Несмотря на дерзость этого поступка,
возможно, Зейниса не приняла бы его как оскорбление, но Фелеас, стремясь
к своей цели, решился на то, что Зейниса сочла совершенно непростительным.
- Ах, Фелеас! - воскликнула она. - Так-то вы держите свои обещания?
Неужели вы так мало боитесь рассердить меня?
298
Софа
Хотя Фелеаса уже непросто было остановить, Зейниса оборонялась так
решительно и в ее глазах горел такой гнев, что он счел за лучшее не
добиваться победы, в конечном итоге сомнительной, если принять во внимание
сопротивление Зейнисы, и оскорбительной для той, кого он любил. Из-за
уважения к ней или из-за робости он наконец остановился и грустно
произнес, не осмеливаясь поднять глаз на Зейнису:
- Нет, раз вы так жестоки, я не стану дольше злоупотреблять вашим
обществом. Если бы я был вам дорог, вы, конечно же, более были бы
расположены составить мое счастье; но, хотя я уже не надеюсь пробудить в вас
взаимность, все же я не перестану бесконечно любить вас!
Сказав это, он встал и вышел. Зейниса, смертельно обиженная тем, что
Фелеас оставил ее, но не решавшаяся окликнуть его, заплакала, недвижно
сидя на софе и уронив голову на руки. Но вскоре беспокойство за
возлюбленного заставило ее подняться, и она уже собиралась отправиться на его
поиски, как вдруг он, подстегиваемый своим чувством, снова вошел в
кабинет. Увидев его, она покраснела и с глубоким вздохом рухнула на меня. Он
стремительно опустился к ногам Зейнисы, нежно взял ее за руку и, не
осмеливаясь поцеловать, обильно оросил ее слезами.
- Ах! встаньте, - сказала Зейниса, не глядя на него.
- Нет, Зейниса, - проговорил он, - я буду ждать решения своей участи у
ваших ног. Одно только слово... Но вы плачете? Ах, Зейниса! Неужели это
из-за меня вы проливаете слезы?
В этот момент жестокая Зейниса пожала ему руку и, посмотрев на него
ставшими еще более прекрасными от слез глазами, глубоко вздохнула.
Фелеас сумел понять не хуже меня, о чем говорило смущение,
проступившее в ее взгляде.
- О Небо! - воскликнул он, с жаром целуя ее, - неужели Зейниса
простила меня?
Зейниса по-прежнему молчала. Увы! Фелеас не упустил ничего из того,
о чем говорило ему это молчание, и, не вдаваясь в дальнейшие расспросы,
решил найти в ее губах признание, в котором она ему отказывала.
До меня долетали лишь приглушенные вздохи. Фелеас завладел
прелестными губками, которые совсем недавно принадлежали моей душе... Ах,
зачем я предаюсь этим горестным для меня воспоминаниям? Зейниса
бросилась в объятия своего возлюбленного; любовь, которой стыдливость лишь
придала очарования, осветила ее лицо и глаза. Их первый восторг длился
долго. Фелеас и Зейниса застыли, упиваясь слиянием душ.
- Все это не доставило вам большого удовольствия, не правда ли? -
спросил Султан. - Но как это вам вздумалось влюбиться, когда у вас не было
тела? Что это, если не чистое безумие с вашей стороны? Скажите, положив
руку на сердце, куда могли привести вас ваши фантазии? Теперь-то,
надеюсь, вы понимаете, как важно порой бывает уметь мыслить.
Часть вторая
299
- Сир, - ответил Аманзей, - только лишь после того, как страсть
пустила во мне глубокие корни, я осознал, насколько она мучительна для меня;
ведь известно, что обычно разумная мысль приходит слишком поздно.
- Мне очень неприятно, что все так для вас обернулось, - сказал
Султан, - вы так мило выглядели, когда льнули к губам этой девушки, и мне
жаль, что вам помешали.
- Когда Зейниса отталкивала Фелеаса, - продолжил Аманзей, - я льстил
себя надеждой, что ему не видать победы, заметив же, что в ней
пробуждается чувственность, я стал уповать, что предрассудки, свойственные особам
ее возраста, остановят ее и не дадут ей ослабеть в той степени, чтобы
составить мое несчастье. Признаюсь, однако, что, услышав из ее уст рассказ о сне
и поняв, что им она была обязана не мне, как я мнил, а образу Фелеаса,
явившемуся ей, что только его власть над ее чувствами, а не мои восторги
заставили ее забыться в наслаждении, я почти перестал надеяться, что смогу
избежать участи, которая меня так пугала. К моему удивлению, я оказался не
столь деликатным, как следовало бы, и утешал себя тем, что смогу
разделить с Фелеасом его счастье. То, как он говорил о своей страсти, о вечной
верности, наводило меня на мысль, что за свои пятнадцать или шестнадцать
лет он уже успел полюбопытствовать относительно некоторых вещей, что
могло помешать ему высвободить мою душу из плена, столь долго
казавшегося мне непереносимым, но который в этот момент я не променял бы ни на
одно, даже самое почетное из уготованных для души мест. Несмотря на
отчаяние, в которое меня приводила уступчивость Зейнисы, с той минуты, как
я убедил себя в том, что, как бы там ни было, мне не придется расстаться с
ней, ожидание дальнейшего развития событий причиняло мне меньше боли.
Нежная летаргия, в которую они впали, была мучительна для меня, и с
каждым их вздохом мои страдания увеличивались, однако эта летаргия
сковала дерзкого Фелеаса, и, хотя она красноречиво говорила мне о том, как
они счастливы, я ревностно молил Брахму, чтобы он длил ее. Тщетно!
Я был слишком грешен, чтобы принести мне в жертву две невинные души,
достойные блаженства.
Фелеас, нежившийся некоторое время на груди Зейнисы, томимый
желаниями, которые слабость его возлюбленной делала все более
нестерпимыми, поднял на нее глаза, в которых отражалось сладкое опьянение его
сердца. Зейниса, придя от этого в замешательство, со вздохом отвела свой
взгляд.
- Как? Ты отворачиваешься? - спросил он. - Ах! Взгляни на меня, и ты
прочтешь в моих глазах страсть, которую ты мне внушаешь!
И он снова обнял ее. Зейниса попыталась выскользнуть из его рук; но,
поскольку или в ее планы не входило долго противиться, или она, уступая,
пребывала в иллюзии, что обороняется, вскоре Фелеас добился нежных
взглядов, о которых мечтал.
300
Софа
Хотя доброта, с которой Зейниса отнеслась к Фелеасу, повергла ее в то
томное состояние, которое она испытала со мной, хотя она уже смотрела на
Фелеаса с тем желанием, которого он ждал от нее, казалось, она
раскаивалась в том, что увлеклась, и искала возможности высвободиться.
- Ах, Зейниса, - сказал он, - во сне, о котором вы мне рассказали, вы не
побоялись осчастливить меня!
- Увы! - ответила она. - Как ни велика моя любовь к вам, вы не
получили бы так много, если бы не сон и не смятение, в которое он поверг мои
чувства.
- Представьте, Сир, каково было мое горе, когда я узнал, что мой
соперник обязан мне своим счастьем.
- Вы должны быть довольны уже тем, чего добились, - продолжила
она, - и, если вы решите настаивать на большем, вы оскорбите меня. Ради
того, чтобы доказать мою любовь к вам, я и так позволила вам больше, чем
должна была, но...
- Ах, Зейниса, - перебил ее пылкий Фелеас, - если бы ты любила меня,
ты бы не так страшилась говорить об этом, ты была бы красноречивей. Ты
бы забыла свою робость и доверилась моей любви, ты бы упивалась моим
самозабвением и не полагала бы при этом, что уже и так много для меня
сделала. Приди ко мне, - продолжил он, устремившись к ней в таком
исступлении, что я бы умер, будь душа смертна, - приди и сделай меня счастливым!
- Ах, Фелеас! - воскликнула дрожащим голосом робкая Зейниса. -
Подумай, ведь ты можешь потерять меня! Увы! ты клялся мне в
почтительности! Фелеас! Разве в этом выражается почтительность к той, кого любишь?
Но ни слезы Зейнисы, ни ее мольбы, ни приказы, ни угрозы - ничто не
могло остановить Фелеаса. Хотя туника из газа, служившая легкой
преградой, благодаря порывам Фелеаса уже пришла в тот вид, как во время сна
Зейнисы, и открыла взорам многое, он, не столько не удовлетворенный
красотами, представшими перед ним, сколько обуреваемый желанием узреть
то, что она еще скрывала, наконец откинул эту вуаль, которую стыдливая
Зейниса пыталась удержать из последних сил, накинулся на прелести,
добытые его дерзостью, и осыпал их ласками, такими бурными и настойчивыми,
что они не оставляли ему сил ни на что, кроме вздохов.
Стыдливость и любовь еще боролись в сердце и в очах Зейнисы.
Стыдливость отказывала возлюбленному во всем, а любовь отдавала ему все.
Она боялась взглянуть на Фелеаса, но с бесконечной нежностью отвечала
на восторги, которым была причиной. Обороняясь от одного, она тем
самым позволяла ему другое, куда более существенное; она желала и
воспрещала; стараясь, чтобы он не увидел одних прелестей, она открывала его
взорам другие; она отталкивала его с ужасом и привлекала к себе со
страстью. Порой предрассудки брали верх над любовью, но через секунду
оказывались принесенными в жертву чувству, но с такой осторожностью и
Часть вторая
301
сдержанностью, что они, несмотря на их поверженность, еще давали о
себе знать. Зейниса стыдилась то легкомыслия, то отвращения, боровшихся
в ней. Страх разонравиться Фелеасу, волнение, которое рождал его пыл,
изнеможение от долгой схватки одолели ее и вынудили сдаться.
Испытывая те же желания, которые она внушала, она теперь уже с нетерпением
сносила то, что раздражало ее чувственность, но не удовлетворяло ее, и
ждала сладостного момента, который обещали, но не давали познанные
ею удовольствия.
В этот момент моя душа, будучи больше не в силах наблюдать за
происходящим спектаклем и испытывая страх, что Фелеас, некоторые действия
которого указали ей на его неопытность, изгонит ее оттуда, где ей
нравилось пребывать, несмотря на боль, которую она испытывала, решила
покинуть на некоторое время софу Зейнисы, чтобы нарушить одно из условий,
поставленных Брахмой. Но это оказалось невозможно; сила, заключившая
меня в софу, воспротивилась моим стараниям и принудила меня ждать, в
отчаянии, решения моей участи.
Фелеас... О мучительное воспоминание! Жестокая минута, навсегда
запечатлевшаяся в моей душе! Фелеас, опьяненный любовью, завладевший,
при нежном попустительстве Зейнисы, всеми ее прелестями, столь
любимыми мной, продвигался к своему счастью. Зейниса сладострастно вверилась
восторгам Фелеаса, и новые препятствия, возникшие на пути к ее полному
блаженству, лишь отдаляли, но не сокрушали его. Слезы стояли в
прекрасных глазах Зейнисы, ее губы шевелились, силясь излить жалобы, и в эту
минуту лишь нежность удерживала ее от стонов. Тем не менее Фелеас,
ставший причиной стольких несчастий, не был ей ненавистен. Зейниса, на
жестокость которой жаловался Фелеас, лишь сильнее полюбила его. Наконец
пронзительный крик, вырвавшийся у нее, и жгучая радость, вспыхнувшая в
глазах Фелеаса, возвестили о моем несчастье и о моем освобождении;
исполненная любви и боли, моя душа с шелестом устремилась к Брахме, чтобы
выслушать новые приказания и обрести новые узы.
- Как? И это все? - спросил Султан. - Недолго же вы побыли софой и
немногое вам удалось подсмотреть за это время!
- Если бы я принялся рассказывать обо всем том, чему я стал
свидетелем, кочуя из софы в софу, я бы наскучил Вашему Величеству, - ответил
Аманзей. - Я стремился поведать вам не столько обо всем, что я видел,
сколько о том, что могло бы позабавить вас.
- Коли то, о чем вы нам рассказали, - промолвила Султанша, - куда
занимательнее того, о чем вы умолчали, а я склонна в это верить (поскольку
провести сравнение представляется мне затруднительным), вас все же
можно упрекнуть в том, что вы вывели на сцену лишь несколько характеров,
тогда как все было в ваших руках, и умышленно сузили сюжет, который, сам
по себе, куда более обширен.
302
Софа
- Я был бы виноват, сударыня, - ответил Аманзей, - окажись все нравы
в равной степени приятны или испорчены; если бы существовала
возможность описать всех персонажей, избежав при этом неприятной
необходимости представлять вам общеизвестные и затасканные черты характера; если
бы было допустимо распространяться о предмете, который, несмотря на все
старания разнообразить характеры, неизбежно должен прискучить
постоянными повторами и непреложной сутью.
- Да, - сказал Султан, - думаю, что действительно, если тщательно
взвесить его слова, он окажется прав. Но я предпочитаю согласиться с тем, что
он не прав, чем трудиться над рассмотрением этого вопроса. Ах! Бабушка! -
продолжил он со вздохом, - такими ли были ваши сказки!27
<Ka*2$tr
>J^b£^t>
Приложения
<&ii*i
АД. Михайлов
ДВА РОМАНА КРЕБИЙОНА-СЫНА -
ОРИЕНТАЛЬНЫЕ ЗАБАВЫ РОКОКО,
ИЛИ РАЗДУМИЯ О ПРИРОДЕ ЛЮБВИ
...эти диалоги напоминают по
стилю живую и игривую манеру того, кто
заслуживает прозвища "Французского
Петрония". В них мы вновь находим
его остроумие и его знание
человеческой души. Репутация его не стала
меньше. Напротив, кажется, что она
растет. Большинство его
произведений совсем не устарели1.
Гийом Аполлинер
1
Аполлинер написал так в 1911 г. по поводу знаменитых диалогизирован-
ных "Картин, изображающих нравы нашего столетия"2, которые долгое
время, но, видимо, без достаточных оснований, приписывались Клоду-Прос-
перу Кребийону-сыну, однако действительным автором которых был,
скорее всего, Александр-Жан-Жозеф Ле Риш де Ла Попелиньер (1693-1762),
литератор-любитель, славившийся своим гостеприимством, галантными
похождениями и нескромными празднествами (его дом в Пасси, на окраине
Парижа, называли "Храмом муз и наслаждений"). Возвращаясь к Аполлинеру,
отметим, что его интерес к творчеству Кребийона наверняка был продикто-
1 Apollinaire. Oeuvres en prose complètes. P., 1993. T. 3. P. 679.
2 Tableaux des moeure du temps, dans les différents âges de la vie. Первое издание этой книги,
вышедшей где-то около 1750 г., не просто очень редкое, а редчайшее; видимо, было
напечатано всего несколько экземпляров. Затем книга переиздавалась, и, как правило, ее
автором бывал назван Кребийон. См.: La Popelinière AJ. de. Tableaux des moeurs du temps. P.,
1996.
11. Кребийон-сын
306
АД. Михайлов
ван не только увлеченностью литературой особого рода. Впрочем, Кребий-
он еще долго оставался писателем "второго ряда", чье место лишь на
"задней полке литературы"3.
Жизнь Кребийона и его творческое наследие еще не одно десятилетие
хранили массу загадок, подчас разгадываемых с большим трудом.
Достаточно сказать, что "корпус" его произведений еще не был раз и навсегда
установлен, писателю приписывалось множество книг, автором которых он не
был, но мало-мальски скандальную книгу сейчас же относили на его счет. И
так было, вероятно, на протяжении всего его творческого пути. Например,
если мы посмотрим каталог библиотеки Вольтера, то убедимся, что великий
философ хранил у себя не только лучший роман Кребийона - его
"Заблуждения сердца и ума"4, - но и приписываемые писателю "Письма г-жи
маркизы де Помпадур"5, а также "Письма Нинон де Ланкло маркизе де Севинье"6
(заметим, что обе книги не только не принадлежали Кребийону, но вообще
были мистификациями). Впрочем, приписывали какую-нибудь "опасную"
книгу и Вольтеру, например ту же "Софу" Кребийона, лишь только она
увидела свет. Иногда Кребийону приписывали произведения вполне
безобидные; так, якобы первой книгой писателя, переведенной на русский язык,
оказался галантный псевдоориентальный роман Анри Пажона (ум. в 1776 г.)
"История о принце Солии..." (1740)7.
Долгое время Кребийона числили по разряду писателей исключительно
фривольных и поэтому несерьезных, а его книги ставили на одну полку с
романами откровенно эротическими, если не порнографическими (между
прочим, почти так трактуется творчество Кребийона в нашей академической
"Истории французской литературы"8 и в обеих литературных
энциклопедиях9). Такая точка зрения настолько вошла в наш - не читательский, нет! -
литературоведческий обиход, что, например, идея издания на русском языке
лучшей книги Кребийона встретила известное сопротивление даже со
стороны ряда ведущих специалистов по истории французской литературы. Но
все же осуществить это издание удалось10. Тут, конечно, сам Кребийон был
немного виноват: в некоторых его книгах действительно встречались риско-
3 См.: Henriot Е. Les livres du second rayon, irréguliers et libertins. P., 1948. P. 177-201.
4 См.: Библиотека Вольтера: Каталог книг. M.; Л., 1961. С. 287.
5 См.: Там же. С. 155.
6 См.: Там же. С. 538.
7 История о принце Солии, названном Пренанием, и о принцессе Фелее, сочиненная сыном
господина Кребильона. М., 1761.
8 См.: История французской литературы. М.; Л., 1946. Т. 1. С. 725.
9 См.: Литературная энциклопедия. [М.], 1931. Т. 5. Стб. 548 [статья С.С. Мокульского];
Краткая литературная энциклопедия. М., 1966. Т. 3. Стб. 811-812 [статья В.Я. Бахмут-
ского].
0 См.: Кребийон-сын. Заблуждения сердца и ума, или Мемуары г-на де Мелькура / Изд. под-
гот. А.Д. Михайлов, А.А. Поляк, Н.А. Поляк. М., 1974.
Два романа Кребийона-сына - ориентальные забавы рококо 307
ванные сцены, но они были продиктованы свойственными писателю
озорством и саркастичностью и, как увидим, носили во многом условный, чисто
игровой и к тому же вспомогательный характер. Цензура Кребийона
преследовала, но не за гривуазность, а за прозрачные намеки на конкретных его
современников, причем достаточно влиятельных, изображавшихся хотя и в
восточных или сказочных нарядах, но безошибочно узнаваемых.
Думается, такая упрощенная опенка творческого наследия Кребийона
связана как с поверхностным, торопливым знакомством с его книгами и в еще
большей мере - с односторонне социологическим подходом к произведениям
писателя. В них, как и в книгах многих его современников, видели только
лишь отражение и результат стремительного упадка аристократической
культуры в предреволюционной Франции. Но прислушаемся к Генриху Гейне,
писавшему во "Французских делах" о том больном поколении, "которое Кре-
бильон, Лакло и Луве так хорошо нам изобразили в его самом веселом
греховном блеске и цветущем тлении"11. Вполне очевидно, что с точки зрения
немецкого поэта Кребийон, Шодерло де Лакло и Луве де Кувре были не
"продуктом" (как говорили еще недавно) разложения аристократической
культуры, а свидетелями, фиксаторами, "описывателями" этого упадка.
За последние четверть века изучение жизни и творчества Кребийона
заметно продвинулось вперед12. Были уточнены и пересмотрены многие даты,
определен несомненный состав творческого наследия писателя (прежде
всего из такого списка исключены книги, перу Кребийона безусловно не
принадлежащие), уточнены его дружеские связи и вообще круг общения,
который оказался значительно шире, чем предполагали ранее. Обнаруженные
каталоги распродаж позволили представить - тоже достаточно широкий -
круг чтения писателя.
Почему по отношению к Кребийону произошел такой поворот -
понятно. Не потому, что в его книгах неожиданно обнаружились не
замечавшиеся ранее литературные достоинства (это всегда была добротная
литература), и не потому, что к его произведениям вдруг проснулся дремавший чуть
ли не два столетия читательский интерес (их всегда было легко и приятно
читать). Тут дело в другом. Ну, во-первых, видимо, "пришло его время":
литература сейчас изучается все более детально и углубленно. А во-вторых, на
примере Кребийона оказалось возможным решать целый ряд кардинальных
литературоведческих и культурологических проблем, имеющих отношение
11 Гейне Г. Поли. собр. соч.: В 12 т. М.; Л., 1936. Т. 4. С. 215.
12 Укажем лишь несколько работ, появившихся в самые последние годы (статьи в журналах
и сборниках и машинописные диссертации оставляем в стороне): GiardA. Savoir et récit chez
Crébillon fils. P., 1986; Dormier C. Le discours de maîtrise du libertin: Etude sur l'oeuvre de
Crébillon fils. P., 1994; Sturm E. Crébillon fils ou la science du désir. P., 1995; Cazenobe С
Crébillon fils ou la politique dans le boudoir. P., 1997. О новом собрании сочинений Кребийона
см. в примечаниях.
11*
308
АД. Михайлов
не только к творчеству этого писателя, но и вообще к движению
литературы в его эпоху, к литературному процессу XVIII столетия. По крайней мере
во Франции. Здесь и характерологические параметры рококо как стиля, как
литературного направления, как идеологического феномена, и некоторые
вопросы организации повествования (диалогизм, эпистолярная форма, нра-
воописательство и т.д.), и решение целого ряда вопросов морали, мимо
которых литература не могла пройти равнодушно.
2
Жизнь Кребийона (благодаря разысканиям последних лет, публикации
более четырех десятков его писем и т.д.) мы знаем теперь неплохо, но все-
таки в ней немало если не просто темных, то не вполне ясных эпизодов. Но
все же основная канва жизни писателя достаточно ясна. Начнем, как
говорится ab ovo, т.е. с родителей. Не потому, что будущий писатель получил в
семье какое-то незаурядное воспитание (этого не было), а просто потому,
что они "обеспечили" ему принадлежность к вполне конкретным
общественным кругам. В этом отношении жизненный путь Кребийона был для
своего времени и для его социальной прослойки очень типичен. Будущий
писатель появился на свет в феврале 1707 г. в Париже и затем будет до конца
дней связан с этим городом, с его атмосферой, с его забавами и его
заботами, с такой разношерстной и пестрой средой. О матери Кребийона мы
ничего не знаем - кажется, даже имени, не говоря уж о том, к какому
социальному кругу она принадлежала. Да и прожила она недолго: в 1711 г. Клод-Прос-
пер потерял мать. Куда интереснее отец писателя. Он в конце концов стал
человеком весьма известным, причем не только в Париже и не только во
Франции.
Аристократическая частица "де" не должна нас смущать: Проспер Жо-
лио де Кребийон (1674-1762) не принадлежал к родовитому дворянству. Он
был выходцем из служилого сословия, сыном первого секретаря счетной
палаты Дижона, столицы Бургундии (должность для провинциального
городка весьма заметная). Видимо, он скопил небольшой капитал и отправил
сына, конечно же, в Париж, к иезуитам, где уж очень хорошо учили. Затем
Кребийон-отец получил юридическое образование и начал делать неплохую
карьеру в суде. По окончании факультета он устроился секретарем к
стряпчему, человеку, видимо, если и не незаурядному, то своеобразному.
Стряпчий был страстным любителем литературы и особенно театра. Он привил
своему молодому секретарю эту страсть и всячески одобрял его первые
литературные опыты. Кребийон-отец заинтересовался трагическим жанром.
Действительно, почему бы и нет? Корнеля и Расина уже не было в живых,
Вольтер еще был слишком молод, и жанр трагедии пребывал в явном
упадке. Не приходится удивляться, что трагедия Кребийона "Идоменей" (1705),
Два романа Кребийона-сына - ориентальные забавы рококо 309
написанная на сюжет из истории Троянской войны, снискала успех. За этой
трагедией последовали другие - все были написаны на мифологические или
исторические сюжеты. Самой знаменитой и достаточно часто исполняемой
стала пьеса "Радамист и Зенобия" (1711). Если гений Корнеля был величав,
гений Расина исполнен лиризма, то Кребийон-отец избрал свой собственный
путь и свой собственный стиль. Его трагедии потрясали, влекли и
отталкивали яростным столкновением страстей, герои его пьес были одержимы
гипертрофированными чувствами и инстинктами - любовью, ненавистью,
мстительностью, ревностью и т.д. Мир трагедий Кребийона был нарочито
мрачен, кровав, жесток, антигуманен. Персонажи его трагедий оказывались
беспомощными игрушками темных сил рока и непредвиденных
обстоятельств. Вместо героической страстности Корнеля и трогательной мягкости
Расина Кребийон выдвигал на первый план хитросплетения запутанной
интриги. В разработке непредсказуемого сюжета он был мастером. Фабула
его пьес держала зрителя в напряжении почти до закрытия занавеса. Не
приходится удивляться, что одно время он был популярен и в России, где
ставились его трагедии "Атрей и Фиест" и "Радамист и Зенобия"13. Но
успехом в театре пользовался Кребийон не очень долго - до появления первых
трагедий Вольтера. С ним Кребийон пытался соперничать, но неизменно
терпел поражение. И это несмотря на то, что "антивольтерьянцы"
старались любыми способами обеспечить успех поздних трагедий Кребийона.
Впрочем, писал он их неохотно, снисходя к просьбам своих влиятельных
друзей. Вообще же он вел уединенный образ жизни, имел крайне
ограниченный круг общения, даже после триумфального избрания его, в 1731 г., во
Французскую академию. Ему покровительствовала всесильная госпожа де
Помпадур, выхлопотавшая ему приличную пенсию. Человеком он слыл
странным: в своем доме в Париже он устроил приют для бродячих кошек и
собак, много читал, увлекаясь романами предшествующего столетия, и сам
якобы сочинял романы, ни один из которых не был напечатан. Более того,
согласно легенде, ни один из них и не был написан: их лихо закрученные
сюжеты Кребийон держал в голове, изредка подробно пересказывая их
содержание немногим близким друзьям. Сына, скорее всего, в их числе не было.
Кребийон-отец ориентировался прежде всего на вкусы и интересы
предшествующего столетия, а следовательно и на сюжетные положения и
интриги литературы XVII в. Его соперничество с Вольтером развертывалось
как раз с этих позиций. Век философов прошел мимо Кребийона, хотя
"философы" его знали, с ним враждовали и над ним подсмеивались. Впрочем,
доброжелательный и объективный Д'Аламбер напечатал, не без опоздания,
в 1777 г., "Похвальное слово Кребийону".
13 См.: История русского драматического театра. М., 1977. Т. 2. С. 454, 513; Там же. М., 1978.
Т. 3. С. 222, 304.
310
АД. Михайлов
Кребийон-сын пошел совсем иным путем. Учился он, конечно же, как
мы уже упоминули, у иезуитов, в парижском лицее Людовика Великого.
Нет, не потому, что хотел посвятить себя церкви, и не потому, что на этом
настаивал отец. Просто тогда все учились в иезуитских коллежах и лицеях.
Кребийон-сын, закончив лицей, не последовал советам своих недавних
наставников и от церковной карьеры решительно отказался. Он выбрал не
светскую карьеру, а попросту светскую жизнь. Но в модные парижские
салоны он проник далеко не сразу, поэтому достаточно вольные нравы
последних, в своих первых книгах, он описывал скорее понаслышке, а не как
результат непосредственных наблюдений. Впрочем, придворные или
"околопридворные" нравы ни для кого не были тайной. Ведь лишь недавно
закончился разгульный период Регентства (1715-1723), когда аморализм,
откровенный разврат, на худой конец веселое и бездумное прожигание
жизни были привычной нормой. Пушкин, живо интересовавшийся этой
эпохой, дал в "Арапе Петра Великого" ее емкую и точную характеристику:
"По свидетельству всех исторических записок, ничто не могло сравниться
с вольным легкомыслием, безумством и роскошью французов того
времени. Последние годы царствования Людовика XIV, ознаменованные
строгой набожностию двора, важностию и приличием, не оставили никаких
следов. Герцог Орлеанский, соединяя многие блестящие качества с
пороками всякого рода, к несчастию, не имел и тени лицемерия. Оргии Пале-
Рояля не были тайною для Парижа; пример был заразителен. На ту пору
явился Law; алчность к деньгам соединилась с жаждою наслаждений и
рассеянности; имения исчезали; нравственность гибла; французы смеялись и
рассчитывали, и государство распадалось под игривые припевы
сатирических водевилей"14.
Ближе всего к столь специфическому миру высшего света стоял театр.
Это и понятно: хорошенькие актрисы становились непременными
участницами балов, маскарадов, просто веселых застолий и галантных празднеств;
они делали подчас успешную карьеру не столько на театральных
подмостках, сколько за их пределами. Но театр был близок к высшему свету и
самой своей спецификой - атмосферой праздничности, игры, красочного
синтеза искусств и т.д. "Театральность" как определенным образом
организованная условность стала яркой приметой времени.
И Кребийон сложился как писатель как раз в этой обстановке
театральности, что особенно очевидно в его первом серьезном (в смысле большом)
романе "Танзай и Неадарне". Забегая несколько вперед, можно сказать, что
по мере движения от книги к книге Кребийон от этой внешней
театральности освобождался, и ей на смену приходил более глубокий анализ
человеческих переживаний и взаимоотношений.
14 Пушкин А.С. Поли. собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1950. Т. 4. С. 10.
Два романа Кребийона-сына - ориентальные забавы рококо 311
Кребийон вошел в прельстительный мир театра сразу и очень активно;
стал постоянным участником всевозможных театральных начинаний. Он
выбрал, конечно же, не путь отца, т.е. не жанр трагедии или то, что к ней
хоть как-то примыкало, он выбрал в театральной культуре эпохи то, что
веселило, развлекало, смешило. Он выбрал Оперу, но не как определенный
театральный жанр, а как специфический театральный организм, весьма
отличный от оперы последующих эпох. Тут ставились и собственно оперные
спектакли, и балеты, и водевили, и иные дивертисменты, в основном
комического и даже пародийного характера.
Итак, Кребийон выбрал Оперу. Или, быть, может, Опера выбрала
его? Он слыл острословом, хотя и простаком (о веселом розыгрыше,
жертвой которого стал однажды Кребийон, рассказал Л.-С. Мерсье15), он
легко сочинял куплеты, был приятным собеседником и веселым
сотрапезником. Уже в конце 1720-х годов мы находим его "под сению кулис".
Как он туда попал, мы точно не знаем. Скорее всего, почти случайно и уж
наверняка не по рекомендации отца. Совершенно неизвестно, для каких
спектаклей он сочинял либо сценарии, либо диалоги, либо тексты
песенок. Все это не сохранилось. Исследователи лишь упоминают анонимные
пародии, к которым Кребийон мог приложить руку: "Арлекин - всегда
Арлекин", "Султан, воспитанный любовью", "Модная любовь". На чьи
пьесы эти пародии - понятно: на первые комедии Мариво, хорошего
знакомца Кребийона и постоянный предмет его розыгрышей и шуток.
Вместе с Жаном-Антуаном Романьези (1690-1742) и Антуаном-Франсуа Рик-
кобони (1707-1772), с которыми он быстро подружился, Кребийон
участвует в создании самой остроумной пародии, на Мариво - комедии
"Остров Безумия" (1727), - высмеивающей комедию последнего "Остров
Разума"; если учесть, что пьеса Мариво была впервые сыграна в сентябре
1727 г., то можно отметить, что Романьези и его соавторы работали
оперативно.
Не приходится удивляться, что и круг общения Кребийона, по крайней
мере на первых порах, если и не ограничивался миром театра, но так или
иначе к театру тяготел. Одним из его самых близких и верных друзей был
поэт-песенник и драматург Шарль Колле (1709-1783), который, между
прочим, в 1754 г. написал пьесу на сюжет "Танзая и Неадарне". Посещал
Кребийон и модные тогда салоны славившихся в те годы и действительно
незаурядных актрис Жанны-Франсуазы Кино (1699-1783) и Клерон (1723-1803),
у которых бывали, и постоянно, почти все тогдашние знаменитости. С
последними - Вольтером, Мариво, Прево, Гельвецием, Рамо, Пироном -
Кребийон встречается и в популярных литературных и артистических кафе
("Прокоп", "Погребок" и др.).
15 См.: Мерсье Л.-С. Картины Парижа. М.; Л., 1935. Т. 1. С. 378-379.
312
А.Д. Михайлов
Постепенно круг знакомств писателя расширялся. У него появились
друзья и за пределами Парижа, и даже Франции. Он переписывался и дружил с
видными английскими политическими деятелями Филипом Дормер Стенхо-
пом графом Честерфилдом (1694-1773) и с Хорасом Уолполом (1717-1797),
а вообще у него были многочисленные английские знакомые16. И это не
случайно: английская литература получала тогда все большую известность во
Франции, а Честерфилд и Уолпол были незаурядными литераторами; но
были и другие причины расширения английских связей Кребийона: в случае
каких-либо неприятностей у себя дома (из-за какой-нибудь новой
публикации) писатель мог улизнуть из Парижа и найти надежный приют в Лондоне
(так, например, случалось с Вольтером; Кребийону, кажется, к таким
спешным путешествиям прибегать не пришлось).
Не очень ясно, каковы были связи писателя с королем Пруссии
Фридрихом II (который одно время покровительствовал Вольтеру), но ходили
слухи, что роман "Софа" был написан для него, причем достаточно рано -
между 1734 и 1735 гг., но точных сведений об этом нет.
Близость Кребийона к театру подчеркнем. Сам он, видимо, не написал
ни одной "правильной" пьесы - ни трагедии, ни комедии, ни мелодрамы, но
дух кулис с его веселыми квипрокво, наигранными страстями и подлинными
глубокими конфликтами чувствуется во многих его произведениях,
нарочитая "театральность" которых несомненна. Эта театральность, стихия
маскарада, одновременно веселого и мрачного, является, как известно, одной из
примет того культурного феномена, который получил название "рококо".
Именно в свете рококо следует рассматривать раннее творчество Кребийона,
а может быть и все его творческое наследие.
3
Применительно к литературе споры о рококо идут уже давно, и здесь
далеко не все так ясно, как в области изобразительного искусства, с
которым "литературное рококо" оказывается очень тесно переплетенным.
Нам уже приходилось касаться проблемы рококо применительно к
литературе вообще и творчеству Кребийона в частности17, поэтому скажем об
этом кратко. Но вообще обойти эту проблему нельзя, потому что, как нам
представляется, отличительные черты литературного рококо
обнаружили себя с наибольшей ясностью и яркостью как раз в этих двух романах
Кребийона.
16 См.: Day DA. Crébillon fils, ses exils et ses rapports avec l'Angleterre // Revue de littérature
comparée. 1959. N2. P. 180-191.
17 См.: Михайлов A.Д. Роман Кребийона-сына и литературные проблемы рококо // Кребий-
он-сын. Заблуждения сердца и ума. М., 1974. С. 287-331.
Два романа Кребийона-сына - ориентальные забавы рококо 313
Основополагающей работой, посвященной литературе рококо во
Франции, остается старая уже, но не утратившая своего значения монография
Роже Лофера18. Книга эта - противоречива. Основная методологическая
установка ее бесспорно верна: рококо - это прежде всего понятие из области
стилистики, если последнюю понимать достаточно широко. Но автор
монографии все время путает изображаемое и метод изображения. Так, в русле
литературы рококо у Лофера оказываются не только "Персидские письма"
Монтескье (что совершенно верно), но и "Манон Леско", и "Опасные связи".
В романе Шодерло де Лакло изображено, если угодно, "общество рококо",
точнее, общество, воспитанное на морали рококо с его всепроникающим
гедонизмом, но повествовательная манера романа далека от приемов
развертывания сюжета, свойственных литературе рококо.
Лофер видит в рококо проявление основных идейных и художественных
тенденций эпохи Просвещения. В плане чисто стилистическом он
определяет рококо как рационализацию, гармонизацию неустойчивого19. Другой
специалист по литературе XVIII в., Жан Сгар, дает рококо несколько иную,
более ограничительную трактовку; Сгар пишет: "Это новое искусство было
индивидуалистичным, авантюристичным, беспокойным, оно посвятило себя
изображению неоформленного и капризного; оно было соткано из
веселости и печали, из твердого разума и мечтательной взволнованности, из
изощренного мастерства и мягкой грусти; оно проявилось в декоративной
обработке стены и в галантном празднестве, в итальянской комедии и в опере с
танцами, в пародии, в сказке и в экзотическом романе"20. Тем самым Сгар
заметно сужает сферу распространения рококо, что, наверное, вполне
оправданно. Впрочем, он не говорит о его мировоззренческих основах (или
истоках). А они для самоопределения рококо как самостоятельного, особого
течения в литературе и искусстве были решающими.
Философской основой рококо стал гедонизм, т.е. проповедь
наслаждений и понимание общества как простой совокупности индивидуумов,
стремящихся, каждый в отдельности, к тому или иному наслаждению. Стихийным
стремлением к наслаждениям оправдывалось и отрицание общепринятой
морали и религиозных норм. Вполне очевидно, что призывы к бездумному
наслаждению исходили из тех социальных кругов, которые обладали
правом и возможностями наслаждениям предаваться. Французское светское
общество подобной привилегией все еще обладало. Остальные привилегии
постепенно утрачивались - они отчуждались либо королевской властью, либо
все в большей мере заявлявшей свои претензии буржуазией. И могло
показаться, что привилегия наслаждения остается последней. Поэтому наслаж-
18 См.: Laufer R. Style rococo, style des "Lumières". P., 1963.
19 Ibid. P. 28.
20 SgardJ. Style rococo et style régence // La Régence. P., 1970. P. 18.
314
АД. Михайлов
дение воспевалось с воодушевлением, изобретательностью, отменным
вкусом. Оно украшалось, расцвечивалось, обставлялось пышными
декорациями, рядилось в экзотические наряды.
В самом деле, примечательной чертой литературы рококо (как и в еще
большей степени этого искусства) является украшенность, декоративность,
даже бутафорность. Для литературы рококо типично пристрастие к
пасторальным травестиям в духе многочисленных картин Антуана Ватто. Вся
жизнь представляется авторам рококо как нескончаемое "галантное
празднество"21. Отсюда - непременное требование переодевания, маскарада. То
это еле скрывающие женские прелести одежды античных богинь, то яркие
костюмы персонажей итальянской комедии масок, то переливы густых,
насыщенных тонов восточных нарядов. Эти "вторичность" и ретроспектив-
ность отражаемой действительности, изображение изображения -
чрезвычайно показательны и типичны для искусства и литературы рококо.
Отсюда - основные стилеобразующие признаки последней: обилие галантного
маскарада не только в области сюжета, но и в сфере выбора языковых
средств - изысканных иносказаний и перифраз, смелых, порой мало
оправданных неологизмов.
Через стихи и прозу рококо настойчиво проходит противопоставление
чувств и разума, которые как бы постоянно "не в ладу". Чувства
мимолетны, неуловимы, изменчивы, ускользающи, капризны, поэтому они не
поддаются контролю разума. Но это - на первый взгляд. Так как чувства
неизбежно носят игровой характер, то и продиктованы они, если угодно, не
сердцем, а головой.
Основное чувство, владеющее героями литературы рококо, - это,
конечно, любовь, но любовь не подлинная, а наигранная, мимолетная, даже
бутафорская, а потому - фальшивая. Стендаль метко назвал ее
"любовью-влечением"; он дал удивительное по точности описание этой ненастоящей
любви-игры, царившей в светском обществе (и его литературе) около середины
XVIII столетия: "Это картина, где все, вплоть до теней, должно быть
розового цвета, куда ничто неприятное не должно вкрасться ни под каким
предлогом, потому что это было бы нарушением верности обычаю, хорошему
тону, такту и т.д. Человеку хорошего происхождения заранее известны все
приемы, которые он употребит и с которыми столкнется в различных
фазисах этой любви; в ней нет ничего страстного и непредвиденного, и она
часто бывает изящнее настоящей любви, ибо ума в ней много; это холодная и
красивая миниатюра по сравнению с картиной одного из Каррачи, и в то
время как любовь-страсть заставляет нас жертвовать всеми нашими
интересами, любовь-влечение, всегда умеет приноравливаться к ним. Правда, если
См.: Démons R. Les Fêtes galantes chez Watteau et dans le roman contemporain // Dix-huitième
siècle. P., 1971. N 3. P. 337-357.
Два романа Кребийона-сына - ориентальные забавы рококо 315
отнять у этой бедной любви тщеславие, от нее почти ничего не останется;
лишенная тщеславия, она становится выздоравливающим, который до того
ослабел, что едва может ходить"22.
Вместе со свободомыслием, которое порой было лишь поверхностным
эпатажем, непременной принадлежностью литературы рококо - и ее
лирики, и галантной поэмы, и гривуазной сказочки - оказываются эротические
мотивы. Как и в изобразительном искусстве эпохи, излюбленными
сюжетами литературы становятся всевозможные "поцелуи", "купания", "туалеты",
"вакханалии" и т.п. В этом отношении весьма характерна типично
гедонистическая утопия рококо - воспеваемый в стихах и прозе, изображаемый на
картинах и гравюрах некий "остров любви", где царят шаловливое безделие
и сладострастная лень, милая шутка и тонкий флирт, где вечны праздники и
забавы, где очаровательна вечно весенняя природа, сини небеса, ласково
солнце, свежи и благоуханны трава и цветы, где мужчины изобретательны
и неутомимы в любви, а женщины прекрасны, нежны и наивно распутны.
Таковы, бесспорно, герои и героини собранных в этой книге романов Кре-
бийона, такова во многом и окружающая их атмосфера.
Литература рококо - повторим - насыщена эротическими мотивами, но
ее эротика почти никогда не преступает грани дозволенного. Такая эротика
волнующа и провокационна, но непременно изящна, даже красива; она не
имеет ничего общего, скажем, с описаниями любовных отношений
персонажей в таком "классическом" произведении эпохи, как роман англичанина
Джона Клеланда (1709-1789) "Фанни Хилл, или Мемуары женщины для
утех" (1748-1749), который был хорошо известен во Франции (его перевел
в 1751 г. Фужере де Монброн). Для героев литературы рококо, в том числе
для героев Кребийона, характерен острый внутренний конфликт: они
стремятся следовать законам любви не пережитой, а сыгранной, ненастоящей,
но не без сопротивления отдаются истинному чувству, толкающему их и на
безрассудства, и на утонченные наслаждения, которых они не стыдятся.
Говоря о гедонизме литературы рококо, нельзя не отметить ее
"пессимизма наизнанку": призывы к наслаждению часто диктуются сознанием
быстротечности жизни, эфемерности ее радостей, неизбежности конца,
ощущением увядания дворянской салонной культуры. Очевидно, именно
поэтому в литературе рококо настойчиво проглядывает стремление стереть
контрасты и забыть о противоречиях века. Сотрясавшие его бури ни единым
звуком не проникали сквозь плотно зашторенные окна великосветских
будуаров, не смущали покой феерических островов любви или восточных
гаремов и сералей. Роскошь и нищета, прожигание жизни (исходя из
принципа "после нас хоть потоп!") и непосильный труд, разоряющие страну
длительные войны, пароксизмы религиозных суеверий и напряженная работа
22 Стендаль. Собр. соч.: В 15 т. М., 1959. Т. 4. С. 363.
316
АД. Михайлов
ума - все это осталось вне сферы литературы и искусства рококо. А ведь
XVIII столетие было не только эпохой "капризниц" и "вакханок" или "веком
разума", и населяли его не одни светские вертопрахи (так называемые
"петиметры") или философы. Да и последние не избежали ни острых сомнений,
ни прямых идейных срывов. Не все безоговорочно верили в прогресс и в
человека, да и понимали они и то, и другое в достаточной степени
ограниченно. Не все из них предчувствовали приближающуюся катастрофу. И как это
ни парадоксально, тяжелые предчувствия мучили часто как раз тех, кого эта
гроза должна была смести. Но делали они из этих прозрений выводы
вполне в своем духе: они стремились не предотвратить катастрофу, а ловить
ускользающие мгновения бытия, намеренно закрывая глаза на реальность и
досадливо отмахиваясь от больных вопросов современности.
Но вот что стоило бы отметить: нередко случалось, что с культа
наслаждения спадали прикрывавшие его элегантные покровы. Наслаждение шло
рука об руку с жестокостью. И не случайно на изощренно-изуверской казни
Дамьена, осужденного за покушение на Людовика XV (1757), в первых
рядах зрителей были не видавшие виды полицейские сыщики или солдаты
ночной стражи, а утонченные светские дамы, которые вскоре будут с
волнением следить за судьбой Элоизы и Сен-Пре из романа Руссо и оплакивать
страдания юного Вертера.
Жестокая повседневность своеобразно отразилась в литературе рококо
все более нарастающим мотивом подавления "героем" своей "жертвы".
В романах Кребийона это свойство дворянской морали века было зорко
подмечено. Действительно, основные мотивы поведения многих его
персонажей - это желание властвовать, подавить, даже унизить, что особенно
очевидно у протагонистов романа "Софа" (Мазульхим, Нассес и др.). Но все
же задач саморазоблачения порока (как это будет позже у Сада) авторы
рококо перед собою не ставили. Не ставили не из-за недостаточной смелости,
а потому что видели перед собой иные цели.
Задачи воспроизведения переживаний поверхностных, мимолетных,
зыбких - любви на час, наслаждения не столько острого, сколько
утонченного, пряного - требовали новой поэтики, новых жанров и форм. Это
обновление захватило всю литературу и, пожалуй, началось с поэзии. Именно
там обнаружили себя прежде всего отточенность, краткость, емкость, аллю-
зивность - формообразующие признаки стиля рококо. Все это особенно
ценилось в тех литературных кругах, которые были связаны с дворянской
салонной культурой.
Вообще, "салонность" литературы и искусства эпохи объясняется не
аристократическим сужением рамок художественной жизни, а
значительным изменением ее характера. Салоны играли исключительную роль в
культурной жизни своего времени. Прячем они уже сильно отличались от
прециозных "отелей" предыдущего столетия. Дело не только в том, что их
Два романа Кребийона-сына - ориентальные забавы рококо Ъ\1
стало значительно больше; они стали интимнее и внешне оппозиционнее по
отношению к официальным вкусам своего времени. В последнем они были
в известной мере наследниками анархиствующего дворянского либертина-
жа, подменявшего борьбу с абсолютизмом воинствующим эпатажем и
циничным распутством. Теперь хозяевами салонов были не только скучающие
аристократки; ими были известные в свое время писательницы (г-жа де
Ламбер, г-жа де Тансен), актрисы (мадемуазель Кино); своеобразные
литературные клубы основывали сами писатели ("Клуб Антресолей", "Обеды в
Погребке", общество "Задних скамеек" и т.п.). В подобных салонах царили
веселость и непринужденность, здесь выше всего ценились остроумие и
умение рассказывать, смелость мысли и осведомленность, философская
глубина и разоблачительный пафос. В жарких спорах, которые велись в салонах,
непременно затрагивались серьезные вопросы и по сути дела
формировалась идеология просветительства. Так, большие проблемы порой сводились
к игривой шутке, но и безобидный каламбур нес подчас значительный
сатирический заряд. В литературе рококо, как в ее малых формах - галантных
поэтических миниатюрах и столь популярных эпиграммах, так и в повестях
и романах, - постоянно звучали оппозиционные мотивы, вплоть до
откровенно атеистических и антифеодальных, а уж церковь и церковники
высмеивались на все лады. В этом литература рококо соприкасалась с
просветительством. Соприкасалась, но все-таки не становилась им. Равно как
легкость, ироничность, антиаскетичностъ произведений просветителей не
делали эти произведения памятниками литературы рококо. Между прочим, и
из идей гедонизма можно было делать совсем разные выводы - откровенно
потребительские и индивидуалистические (что типично для памятников
литературы и искусства рококо) и прогрессивные, передовые, даже
революционные (например, у Гельвеция, видевшего подлинное счастье в сочетании
личных интересов с общественным благом, в занятиях науками и
искусствами, в упорядоченности чувственных наслаждений, что невозможно без
справедливой организации общественной жизни).
Веселость и остроумие, элегантность и перифрастичность, лаконизм и
непринужденность действительно были "стилем эпохи"; проникновение в
тайники человеческого сердца, раскрытие переживаний глубоких, сложных,
противоречивых, изменчивых отличает многие произведения века
Просвещения. В литературе рококо мы находим лишь внешнее использование и
"стиля эпохи", и приемов раскрытия человеческой души. Но и наоборот:
"стиль эпохи", которым столь охотно пользовались просветители
(вспомним слова Пушкина о том времени, когда "философия говорила
общепонятным и шутливым языком"23), был выработан, отточен и развит как раз на
"территории" литературы рококо. Но последняя определяется не только
23 Пушкин А.С. Поли. собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1951. Т. 7. С. 312.
318
АД. Михайлов
чертами своего стиля, но и лежащей в ее основе философией гедонизма, ее
отношением к человеку и миру, ее исключительно любовной (в самом
ограничительном, узком, буквальном ее понимании) или так или иначе
связанной с ней тематикой.
Отражая (но нередко и осуждая и разоблачая) регрессивную эволюцию
дворянской культуры, развивалось и искусство рококо. В самом начале
эпохи у таких поэтов, как Шолье или Лафар, у таких художников, как Ватто или
Ланкре, еще присутствовала упоенность любовным чувством, подлинный
"дионисийский хмель", унаследованный от лириков Возрождения - Клемана
Маро, Иоанна Секунда, Пьера де Ронсара. Позже, скажем в живописи Ж.-
М. Наттье или Франсуа Буше, рассудочная искусственность
восторжествовала. Характерно, что на смену наивной игривости итальянской комедии
масок с ее искренней веселостью и просветленной печалью приходит иной тип
иносказания - "ориентальный". Обращение к Востоку (псевдо-Востоку,
конечно) не было случайным. С одной стороны, в это время происходит
первое научное открытие Востока европейцами24, с другой стороны, восточная
"нега", роскошь, ленивая чувственность находили живой отклик у
писателей25 и художников рококо (см., например, исполненный Ж.-М. Наттье
"Портрет принцессы Клермон в виде султанши" или картину Ж.-О.
Фрагонара "Маленькая Султанша"). Восток становился еще одной
разновидностью утопии, гигантской прельстительной метафорой - страной вечного
солнца и любви. Здесь сказалась любовь мастеров рококо к переодеваниям,
маскарадам, травестиям. Литераторы и художники рококо изображали - то
под видом соблазнительных полуобнаженных античных богинь, то в масках
итальянского карнавала, то в виде любвеобильных восточных принцев и их
томного гарема - не своих современников и не жизнь своего времени, а
некое представление о жизни и о человеке, оправдывая эту субституцию
притягательным очарованием грациозных вакханок или чувственных
восточных султанш. Литература и искусство рококо точно соответствовали вкусам
светского общества XVIII столетня (это, пожалуй, единственный случай
такого совпадения "типа" культуры и "типа" породившего его общества) и
эволюционизировали вместе с ним.
Для литературы и искусства рококо характерно чисто внешнее и к тому
же трафаретное, глубоко условное ("условленная условность")
изображение человеческой внешности; как писал М.В. Алпатов, герои Буше
"одинаково беспечны, кокетливы, бесстыдны и игривы. У них изнеженные
розовые тела, нежная кожа, шаловливая улыбка на устах. Они живут в дурмане
вечных чувственных утех"26.
24 См.: Etiemble R. L'Orient philosophique au XVIHe siècle. P., 1956-1959. T. 1-2.
25 См.: Dufrenoy M.-L. L'Orient romanesque en France, 1704-1789. Montréal, 1946-1947. Vol. 1-2.
26 Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. M.; Л., 1949. Т. 2. С. 264.
Два романа Кребийона-сына - ориентальные забавы рококо 319
Литература рококо выработала, сформулировала и изобразила
специфическое искусство жить, думать, чувствовать; как справедливо заметила
Н.Т. Пахсарьян, "искусство жить в рококо, думается, состоит помимо
прочего в умении находить компромиссы в тех мелочах и мгновениях частной
жизни, которые эту жизнь в представлении рокайльного человека едва ли
не до конца заполняют - и которые заполняют значительную часть жизни
любого человека в любую эпоху"27.
Литература рококо имела свои специфические жанры, прежде всего
повествовательные. Среди них первое место принадлежало роману. Этот роман
многим отличался от своих собратьев предшествующего столетия и от многих
романов XVIII в. Прежде всего, он был небольшим по объему - один-два
маленьких томика, легко помещающиеся в кармане камзола. Отметим, что
роман Великого Века был длинен и многотомен и своим повествованием
охватывал обычно большие временные промежутки. "Роман классический,
старинный, отменно длинный, длинный, длинный, нравоучительный и чинный,
без романтических затей" мы найдем, конечно, и во времена Кребийона:
замахом на длинный роман была "Жизнь Марианны" Мариво (чего автору
осуществить не удалось), очень длинные романы писал аббат Прево (его
знаменитая "Манон Леско" - это, как известно, лишь одна из частей большого
романа "Записки и приключения знатного человека, удалившегося от света", а
были также отменно длинные "Английский философ, или История
Кливленда" и "Киллеринский настоятель" и т.д.). Галантный роман, по крайней мере
на первых порах своего развития, был коротким. Таковы "Мемуары графа де
Грамона" (1713) Антуана Гамильтона, таковы "Исповедь графа***" и
"История госпожи де Л юз" (оба - 1741) Шарля Дюкло. Лишь много позже
галантный роман стал разрастаться и достиг солидных размеров "Любовных
приключений кавалера Фобласа" (1787-1789) Луве де Кувре. Почти все романы
Кребийона-сына невелики по объему. Черты литературы рококо
обнаруживают себя в них наиболее убедительно и ярко.
4
Роман "Шумовка, или Танзай и Неадарне. Японская история" вышел из
печати в 1734 г. Это, пожалуй, самый "рокайльный" роман не только в
творчестве Кребийона, но и в литературе того времени. Дело, конечно, не в
небольшом объеме произведения и не в его любовной тематике. Здесь есть
все, что должно быть в произведении рококо. В самом деле, книга якобы
напечатана бог знает где, источник ее - восточный, описана же совершенно
фантастическая, насквозь условная страна Шешиана (Тютюрбания), но
Пахсарьян Н.Т. Искусство жить рокайльно // XVIH век: Искусство жить и жизнь
искусства. М., 2004. С. 210.
320
АД. Михайлов
сквозь эти псевдоориентальные покровы просвечивает современная
писателю французская действительность - и нравы двора, и фигуры высших
чиновников (каждый из которых наверняка имел реального прототипа), и
религиозные споры того времени. Есть здесь молодые прекрасные герои, есть
любовь, вспыхивающая мгновенно, на пути которой внезапно появляются
всякие забавные (и с точки зрения приличий весьма рискованные)
препятствия, связанные с вмешательством волшебных сил.
Роман очень театрален сам по себе, но писатель вставляет в книгу и
описание оперного спектакля (это, конечно же, парижская Опера, где так
часто бывал Кребийон). В нем ощущается атмосфера кулис и многих картин
Ватто. Герои как бы на сцене и сами участвуют в нескончаемом галантном
представлении. В нем принимают участие непременные персонажи
феерии - феи, то злые, то добрые, то выглядящие отталкивающими старухами,
то соблазнительными женщинами. Есть здесь еще одни персонажи феерий -
это духи ("сильфы"), бесплотные, но прекрасные, перед которыми земным
женщинам так трудно устоять. Есть здесь любовь острая, изобретательная,
лукавая, но одновременно простодушная, доверчивая и даже наивная.
"Танзай и Неадарне" - это любовный роман, но благодаря
вмешательству волшебных сил, острота возникающих перед героями проблем
сводится на нет. Впрочем, не совсем. В ряде ситуаций Кребийон выходит за рамки
жанра и рокайльной морали и ставит вопросы универсальные.
Это относится прежде всего к "партии" героини - Неадарне. С Танзаем
все гораздо проще. Утратив свою мужскую силу как раз накануне первой
брачной ночи с очаровательной Неадарне (в ее облике видели черты
популярной в то время актрисы Жанны-Катрин Госсен, возлюбленной Кребийо-
на), злосчастный принц оказывается втянутым во всевозможные авантюры,
где он всякий раз терпит позорное фиаско и выплывает наружу его роковой
недостаток. Но главное испытание, которое ему предстоит и которое
должно снять с него колдовские чары, - испытание чисто физиологическое: вряд
ли так просто предаваться любви с отвратительной старухой (фея Ком-
комбр - Огурогура), особенно когда конца этим соитиям не видно.
С прелестной Неадарне - все сложнее. Недаром ее история занимает
большую часть книги. Если непостоянство, если измена Танзая
продиктованы чисто утилитарными задачами (побывав в объятиях феи, он вернет себе
мужское естество), то непостоянство и измена Неадарне, имеющие тоже
утилитарные цели, осложнена той двусмысленной ситуацией, в которой
оказывается девушка. "Возлюбленная" Танзая отталкивающа, возлюбленный
Неадарне дух Жонкиль (Нарцисс) очень красив, обходителен, умел. Вот почему
непостоянство героини глубже, серьезнее, оставляет в душе почти
неизгладимый след. Кребийон умело затягивает развязку - падение Неадарне; он дает
возможность обдумать ситуацию, психологический тупик, в который она
попала, и ей самой, и читателю. Писатель замечает: "надо соблюсти честь и при-
Два романа Кребийона-сына - ориентальные забавы рококо 321
Титульный лист романа "Шумовка, или Танзай и Неадарне"
издания 1734 г.
322
АД. Михайлов
дать величия своей слабости, иначе говоря, пасть благопристойно и получить
возможность, по зрелом размышлении, оправдать себя за безрассудство". Не-
адарне стоит перед возможностью любви к двум мужчинам. Эта вторая,
незаконная и греховная, любовь сначала возникает незаметно, и "тот, другой" на
первых порах просто заинтересовывает девушку (сцена его ухаживания за
Неадарне - вполне в духе галантного романа того времени). Затем она, все
более увлеченная, впадает в самообман: сознательно не отдает себе отчета в
том, что ей предстоит, на какое-то время забывает о Танзае, но забывает
ненадолго, и потому испытывает подлинные душевные страдания. Но после
своего падения, которое психологически неизбежно, а с точки зрения
сложившейся ситуации - необходимо, Неадарне испытывает затаенную грусть, что
вынуждена расстаться с Нарциссом. Тут Кребийон выходит за рамки эпохи
и - что еще важнее - разрабатываемого им жанра романа рококо - в своей
трактовке женской ревности и неверности, приходя к выводам во многом
универсальным. Как справедливо писала И.В. Лукьянец, "Кребийона интересуют
универсальные законы человеческой психологии, при этом индивидуальные
проявления этих универсальных законов исследуются скрупулезно и
объективно. Универсальность и обобщения возникают на основе анализа
частного"28. Но следует заметить, что широким введением фантастики как
двигателя сюжета Кребийон по сути дела снимает проблему неверности Неадарне, и
тут он неизбежно уходит от универсального.
Есть в книге и довольно смелые для своей эпохи призывы покончить с
преклонением перед сильными мира сего и порвать связывающие человека
цепи: "Разбейте оковы, которыми мы опутаны, - восклицает один из героев, -
они падут, лишь только вы перестанете покрывать их поцелуями... Свергнем
эти суровые законы, продиктованные злобой и несправедливостью, и мы
победим. На что только не способны люди, сражающиеся за своих богов и за
свою свободу!" Впрочем, эти смелые тирады произносит в романе персонаж
откровенно комический, поэтому они по меньшей мере звучат двусмысленно.
Книга содержала немало рискованных описаний и прямых
скабрезностей. Но не из-за этого на нее ополчились власти. Под прозрачными
"восточными" именами в романе были выведены влиятельные лица - кардинал
Дюбуа, кардинал де Роган, герцогиня дю Мэн. Но актуализации было
наверняка значительно больше - просто теперь не все содержащиеся там намеки
понятны; так, под Королем можно видеть и Людовика XIV, и Людовика XV,
и Регента Филиппа Орлеанского (современники, бесспорно, понимали, где о
ком идет речь).
Не приходится удивляться, что автор был посажен в Венсенн, и лишь
вмешательство принцессы Конти вызволило его оттуда.
Лукьянец И.В. Французский роман второй половины XVIII в. (автор, герой, сюжет). СПб.,
1999. С. 189.
Два романа Кребийона-сына - ориентальные забавы рококо 323
Но об одних содержащихся в романе намеках следует сказать особо. Речь
идет о пародировании стиля и идей Мариво, что заставило последнего
ответить Кребийону (не назвав его прямо) в очередной части романа "Удачливый
крестьянин". Однако было ли это пародией? Как и Мариво в своих комедиях и
в "Жизни Марианны", Кребийон писал о превратностях любви; как и Мариво,
он анализировал так называемые "сюрпризы любви", но Кребийон, как
представляется, не пародировал Мариво, а перекодировал его идеи. И фея Мусташ
(Усыня) - это не пародия на героиню Мариво, а парафраз, развитие идей
автора "Жизни Марианны". Показательно, что в рассказе феи виден полный отход
от сказочности и скабрезности; это очень серьезные и искренние рассуждения
о превратностях любви, совершенно в духе романов и комедий Мариво,
который, возможно, обиделся совершенно зря. Если у писателей и были
расхождения, то только в области стиля (Мариво была чужда всепронизывающая
ирония Кребийона). В области этики у них расхождений не было.
5
Иногда полагают, что Кребийон взялся за роман "Софа", еще не
закончив предыдущий - "Заблуждения сердца и ума" (1736-1738), самый глубокий
и поэтому наиболее популярный роман писателя, где горько и трезво29
было изображено светское общество на этот раз без феерических или
восточных травестий. Возможно, "Заблуждения" и не были завершены, так как
надо было срочно садиться за "Софу" - таково якобы было прямое указание
прусского короля Фридриха Великого, живо интересовавшегося
литературой, особенно французской, а из последней отдававшего предпочтение
романам фривольным, соединяющим постановку философских вопросов
бытия с не всегда пристойной игривостью. Впрочем, мы почти ничего не знаем
о взаимоотношениях писателя с королем Пруссии, так что легенда об
августейшем заказе может и не соответствовать действительности.
Так или иначе, Кребийон, видимо, был вынужден торопиться, тем более
что тут как раз подоспел королевский указ, согласно которому, как писала
исследовательница вопроса М.В. Разумовская, "печатать новые романы на
территории Франции отныне можно было лишь с особого разрешения (тогда как
прежде получить от властей королевскую привилегию на публикацию почти
любой книги, в том числе и романа, для книгоиздателей не составляло
большого труда)"30. Указ был обнародован канцлером Дагессо 20 февраля 1737 г.,
29 См.: Coulet H. Le roman jusqu'à la Révolution. P., 1967. P. 365. Интересные соображения об
этом романе Кребийона см. в работе: Пахсарьян Н.Т. Генезис, поэтика и жанровая
система французского романа 1690-1760-х годов. Днепропетровск, 1996. С. 145-155.
30 Разумовская М.В. Становление нового романа во Франции и запрет на роман 1730-х годов.
Л., 1981. С. 7.
324
АД. Михайлов
Титульный лист романа "Софа" издания 1749 г.
Два романа Кребийона-сына - ориентальные забавы рококо 325
и это толкнуло Кребийона пойти на целый ряд уловок и хитростей. Во-первых,
он, несомненно, стал торопиться, не откладывая работу в долгий ящик. Во-
вторых, книга была напечатана (когда действительно была напечатана) якобы
совсем не в Париже, а в мало кому ведомом "Газнахе" (т.е. Газне, городе в
Афганистане, одной из столиц династии Газневидов, правивших с 962 по 1186 г. в
Афганистане и Пенджабе). Но существовала и третья хитроеть, к которой
прибегнул Кребийон. Его "Софа" не была "романом", это была просто
"нравоучительная сказка", а если быть более точным, - сборником подобных
"сказок", и, следовательно, королевский запрет на эту книгу не распространялся.
Но это была, конечно, лишь остроумная уловка, и строгие цензоры не
обманулись. Очень скоро на автора обрушились репрессии: 7 апреля 1742 г. ему
предписали немедленно покинуть Париж (впрочем, высылка была недолгой -
26 июля писатель вернулся в столицу). Кстати говоря, изгнание Кребийона
произошло тогда, когда "Софа" была наконец напечатана, т.е. перестала
"работать" еще одна уловка: книга якобы и не предназначалась для печати,
написанная по повелению зарубежного монарха, она и должна была иметь
хождение в его окружении в рукописном виде и ограниченном числе экземпляров.
Кребийон особенно настаивал на этом в большом оправдательном письме
Клоду-Анри Фейдо де Марвилю, высшему полицейскому чиновнику Парижа31.
Для "Софы" Кребийон избрал уже хорошо опробованную и всем
знакомую повествовательную структуру - он повторил внешнюю форму сказок
"Тысячи и одной ночи": один рассказчик и минимальное число слушателей -
собственно Шах-Бахам и его любимая главная Султанша; остальные, очень
немногочисленные, придворные в счет не идут. Шах и Султанша
выслушивают рассказы, обсуждают их содержание и мораль и сам стиль повествования
(отметим, что Шах выказывает себя сторонником не очень длинных и
бесхитростных рассказов, в то время как Султанша любит рассказы о ситуациях
психологически более изысканных, о чувствах более глубоких и утонченных).
Но в отличие от знаменитых арабских сказок, рассказчик в "Софе"
оказывается если не прямым участником рассказываемых историй, то их самым
непосредственным свидетелем, - вот почему рассказы его столь достоверны
и выразительны. Но рассказы эти лишены событийной динамики арабских
сказок, действия в них мало, сюжетных квипрокво совсем нет. Это "парад"
характеров, обнаруживающих свои особенности лишь в одной сфере -
любви. Все разговоры, все споры вертятся в романе вокруг этого чувства,
оттенки которого многоразличны, подчас трудно уловимы, изменчивы.
Так как весь роман - это, по существу, разговоры о любви, нередко
увлекательные, иногда же - откровенно двусмысленные, то на основании
"Софы" можно было бы составить сборник ярких максим, броских
изречений, цитат, близких к парадоксу.
31 См.: Crébillon Cl Oeuvres complètes. P., 2002. T. 4. P. 824.
326
АД. Михайлов
Вот образчики таких "ума холодных наблюдений", взятые из текста
романа совсем наугад:
"...для женщины быть кокеткой - дурно, для мужчины не быть
волокитой - глупо";
"...мужчине легко устоять перед любовью, тогда как женщина создана
для нее. Ее влечет к ней нежность или чувствительность";
"...только кокеток трудно уломать. Их легко уверить в том, что они
обворожительны, однако трудно растрогать; легче всего даются победы над
разумными женщинами";
"...женщину губит не доброта, которую она проявляет к своему
возлюбленному, а время, которое он должен употребить, чтобы завоевать ее";
"...женщины особенно страстно влюбляются в тех, кого они видят
первый раз в жизни, или в тех, к кому они испытывают ненависть. Именно
такие обстоятельства рождают самую пламенную страсть";
"...женщине только тогда простительна слабость, когда ею движет
сердечная склонность, причем самая искренняя"; и т.д.
И вот еще одно трезвое и горькое наблюдение: "В наше время, - пишет
Кребийон, - повреждение нравов зашло так далеко, что чем более
женщина заслуживает уважения, тем больше над ней потешаются". И в романе
проявления любви постоянно анализируются в неразрывной связи с
изображением, жестким и хлестким, этого "повреждения нравов", что будет
продолжено в романах второй половины столетия - вплоть до "Опасных
связей" Шодерло де Лакло и книг маркиза де Сада.
Итак, Кребийон написал своеобразное продолжение "Тысячи и одной
ночи" - ведь слушатели в романе - это прямые потомки Шахерезады. Итак,
он сильно изменил повествовательную ситуацию арабского прототипа.
Итак, он весь "интерес" сконцентрировал вокруг любви. Мы не знаем,
какова была идеологическая установка прусского короля, но нельзя не отметить,
что Кребийон, не порывая с фривольными иносказаниями, постарался
выводимые им социальные и психологические типы четко детерминировать,
связывая их с окружающей действительностью - действительностью не
квазивымышленного Востока, а Франции его времени (видимо, тут были и
прямые намеки на известных лиц, что и заставило власти насторожиться).
Сюжетная завязка романа предельно проста: провинившийся перед
Брахмой Аманзей, молодой придворный Шах-Бахама, на которого падает выбор
развлекать монарха занимательными историями, вспоминает, как он как-то
был превращен в софу и пребывал в таком состоянии довольно
продолжительное время. Он берется рассказать, что с ним в этом причудливом
состоянии приключилось. И он развлекает слушателей, повествуя о всех разговорах,
спорах, хитростях, уловках, которые разворачивались между любовниками,
размещавшимися на этой салонной мебели. Брахма в свое время поставил
одно условие: Аманзей покинет место своего заточения лишь тогда, когда
столкнется с чувствами истинными, глубокими и чистыми.
Два романа Кребийона-сына - ориентальные забавы рококо 327
Таким образом, перед Аманзеем (а если быть более точным, то "на"
Аманзее), сменяя друг друга, проходит длинная череда женщин и их
поклонников, женщин ветреных, сладострастных, распутных, ищущих в любви не
столько истинного наслаждения, сколько то утонченного, а то и просто
грубого утоления любовных желаний. Встречаются здесь и женщины
неискушенные, простоватые, наивные, доверчивые, но и коварные, хитрые,
внутренне озлобные и помышляющие о мести обманувшим их мужчинам.
И вот оказывается, что возможных "вариантов" и самого любовного
чувства, и его внешних проявлений - великое множество. Многое зависит и от
темперамента женщины, от воспитания и социального положения дамы,
наконец, - от, казалось бы, пустяковых черт ее характера - любопытства,
рассеянности и т.д. Не приходится говорить, что изобразил Кребийон не неких
восточных красавиц, а своих современниц - и светских кокеток, и придворных
красоток, и дам полусвета, и оперных танцовщиц, как правило содержанок
придворных угодников и разбогатевших буржуа. Если выведенная писателем Амина -
попросту доступная девица, не привыкшая, да и не очень-то умеющая
ломаться и изображать недотрогу, но одновременно кичащаяся своими победами, то,
скажем, Зефиса еще не вкусила всех прелестей порока, поэтому-то она и
становится невольной соучастницей достаточно рискованных ситуаций. Если
Альмаида - это отчасти светская ханжа, изображающая добродетель, но с
радостью принимающая ухаживания своего духовного наставника (и тут она
вполне искренна и простодушна), то Фенима еще не потеряла представление о
женском достоинстве и уступает соблазнителю после долгого сопротивления.
Но главное место в этом причудливом и изысканном женском хороводе
принадлежит Зулике; она в романе персонаж если и не главный (а такого и
нет), то центрообразующий. Поэтому на этом образе стоит остановиться
особо. Здесь Кребийон воспользовался широко распространенным
мифологическим мотивом, отраженным как в Библии (Быт. 37-41), так и в Коране
(Сура 12), - мотивом соблазнения Прекрасного Иосифа (Юсуфа) женой
египетского вельможи Петифара. Как известно, этот мотив претерпел
существенные трансформации, а его героиня - Зулима (Зулейка, Залиха и т.д.), как
почти идеальная инкарнация любви со всеми ее треволнениями, порывами,
причудами, стала популярнейшим персонажем сначала персидских
любовных романов и поэм (например, у Джами), а затем и других литератур.
В "Софе" Зулика наделена совсем иными чертами. Да, она любвеобильна,
сладострастна, коварна и даже жестока, но любовь становится ее
единственной забавой и заботой, и этому она предается с холодным сердцем. Для нее
главное - игра в любовь, нередко опасная и откровенная. Зулика у Кребий-
она - открыто развратна, она этого не скрывает и даже отчасти гордится.
Вот почему, когда два ее любовника, Мазульхим и Нассес, отъявленные
распутники и вертопрахи, расставляют ей западню и вынуждают рассказать,
подробно, откровенно и бесстыдно, о всех ее любовных похождениях,
Зулика делает это не только не смущаясь, но даже почти охотно.
328
АД. Михайлов
Интересно отметить, что как раз этот образ вызвал у современников
писателя наибольшее число критических замечаний. Кребийон писал об этом
своему другу лорду Честерфилду (23 февраля 1742 г):
«Ну вот, милорд, "Софа" напечатана. Мне кажется, что книга удалась,
хотя тут можно и поспорить. Все наши дамы думают, как Фенима, но
многие чувствуют себя оскорбленными образом Зулики. Именно она вызывает
наибольшую критику. Не могут представить, что можно настолько плохо
знать женщин, чтобы создавать подобные портреты. Говорят, что лишь
идеальные характеры, коих в природе нет, очень далеки от правдоподобия.
Женщины чувствительны, пусть так; изображайте их со всеми их
слабостями - прекрасно; очень может быть, что они этими слабостями в самом деле
обладают, но наделять их повадками гнусными, предполагать, что они
обманщицы, что помимо чувств у них что-то еще есть за душой, что меньше
чем за час можно одержать над ними победу, - вот что совершенно
невероятно, и описывать их такими может только самый злобный человек. Что
касается критики более справедливой, чем все эти восклицания, - так это
упреки в длиннотах, когда я, желая быть ближе к действительности, в самом
деле становился слишком многословен»32.
Проходит перед читателем и длинная череда "либертенов", для которых
любовь является, с одной стороны, основным занятием в их бездельной
жизни, с другой - даже обузой, заставляющей их постоянно притворяться, лгать,
изображая подлинную любовную страсть, которую они в действительности
не испытывают. С особой безжалостностью, иронией, а порой и злым
сарказмом изображен в романе Мазульхим, великий мастер любовного обольщения,
постигнувший все его приемы, всю его механику, но оказывающийся, на
поверку, сладострастным импотентом. Таков же, т.е. не ведающий подлинной
любви, прожигатель жизни, "напарник" Мазульхима у ног Зулики Нассес;
впрочем, как и многие другие персонажи романа. Нет, и их порой, как легкий
ветерок, задевает истинное чувство, и они испытывают и подлинное
волнение, их мучают сомнения и надежды, но все это сметает тот дух "либертина-
жа", носителями и убежденными пропагандистами коего они являются.
Относительно современного Кребийону общества и его морали как бы нет двух
мнений. Лишь в самом конце повествования заточенный в софу Аманзей
находит наконец подлинных носителей любовного чувства в лице Фелеаса и
Зейнисы, и тем самым роман не просто приходит к счастливому концу, но и
мораль в нем торжествует (что оправдывает подзаголовок книги
"Нравоучительная сказка"). Но торжество это во многом условно, сам писатель вряд ли
в него верит, хотя и не теряет остатков оптимизма. А вообще же он как бы
хочет сказать читателю (и своим современникам): "Вы хотели счастливой
развязки, вы верили в нее? - что же, пожалуйста, вот она".
32 Ibid. Р. 820-821.
Два романа Кребийона-сына - ориентальные забавы рококо 329
6
Появление двух "восточных" романов Кребийона-сына, видимо, было
встречено современниками писателя с интересом, хотя откликов на их
появление найдено совсем немного. По большей части это оценки, содержащиеся
в личной переписке Вольтера, Честерфилда, известной писательницы тех лет
г-жи де Графиньи. Увлекся этими книгами молодой Дидро, о чем он прямо
сказал в своем первом романе "Нескромные сокровища" (без книг Кребийо-
на, возможно, не было бы и этого романа создателя '"Энциклопедии").
"Восточные" романы Кребийона вызывали, однако, положительные
суждения критики далеко не всегда. Впрочем, подлинной литературной критики
тогда еще не было, а журнальная полемика делала лишь первые шаги. В этом
отношении интересен отклик, появившийся в русских журналах значительно
позже и выражающий мнение Иоганна Готфрида Рейхеля (1727-1778). Этот
"Императорского Московского университета публичный и ординарный
профессор истории, онаго библиотекарь, секретарь Конференции и Лейпцигско-
го свободных наук общества член" писал: "Нынешние французские романы
разделяются на три класса, и всякий имеет особый вкус... К третьему классу
подал пример Кребильонов сын. Сии романы невероятны, чрезвычайны,
против благопристойности и нравоучения, хотя и увлекают они большую часть
читателей и находят своих любителей. Штиль в них принужденной и
шуточной. А лучшее и смешное состоит часто в чрезвычайнейшем и
необыкновенном. Романы сего третьего класса не служат ни к хорошему вкусу, ни к
исправлению нравов, а менее всего способны к наставлению разума"33. Оценка,
конечно, курьезная, но для своего времени типичная.
О позитивном восприятии "восточных" романов Кребийона говорит,
например, солидный список писателей, ему подражавших. Мы находим здесь
имена совершенно забытые (вроде Шеврие или Каюзака), но и хорошо
известные специалистам и в наши дни переиздающиеся (Фужере де Монброн,
Ла Морлиер и, наконец, Дидро34).
Вообще же воздействие творчества Кребийона на литературу эпохи еще
требует внимательного изучения. Такое изучение, бесспорно, принесет
интересные результаты, станет понятно, почему Кребийона так внимательно
читал Стендаль, и тогда место творческого наследия писателя лишь
упрочится в первом ряду литературы его времени.
33 Рейхель И.-Г. Известие и опыт о российском переводе Сифа // Собрание лучших
сочинений к распространению знания и к произведению удовольствия. М., 1762. Ч. 3. С. 99.
34 См.: Dufrenoy M.-L. Op. cit. Vol. 1. P. 99.
НЮ. Веденеева
ФРАНЦУЗСКАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ XVIII в.
"Золотой век французской иллюстрации" - такое определение
неизменно присутствует во всех исследованиях, посвященных французской книжной
гравюре XVIII в. Это столетие запечатлело себя в книжной графике
настолько полно, как ни одно другое прежде. Чтобы ощутить дух галантного
века, достаточно взять небольшой том в красивом кожаном переплете, с
богато расцвеченной бумагой форзаца и открыть его на титульном листе.
Даже если оказалось выбрано не самое дорогое издание, вы непременно
обнаружите изящный гравированный титульный лист с растительным
орнаментом, причудливыми завитками в виде раковин, экзотическими птицами,
цветами, забавными путти. Если в ваших руках роман, вы найдете, листая
книгу, несколько иллюстраций с изображением идиллической пасторали, или
пары влюбленных в изысканном интерьере, или же образы Востока,
далеких стран, неизменно вызывавших интерес в то время своей непознанной
культурой, неведомыми обычаями, религиозными культами. Издания
XVIII в. сопровождались также декоративными виньетками, которые
подразделялись на несколько типов: заставка, "серая буква" (lettre gris, инициал),
кю-де-лямп (culs-de-lampe, концовка).
Искусство иллюстрации предназначено для индивидуального, камерного
просмотра, и в этом его преимущество: оно открыто для вольной фантазии,
каприза, шалости, ему дозволена большая степень откровенности. Книжная
иллюстрация галантного века, стилистика которой почти всецело была
предопределена творчеством Антуана Ватто (1684-1721) и Франсуа Буше
(1703-1770), подтверждает это как нельзя лучше. Изысканность
орнаментального оформления и поэтичность летних пейзажей; прихотливая
тонкость интерьеров рококо и романтичность chinoiserie; прекрасные женские
образы и романтичные пары влюбленных - во всем чувствуется настроение
"chansons d'amour", все полно легкости, игры воображения, виртуозно
запечатленной авторами гравюр. Сопровождая книги П. Мариво, А. Прево,
Ж. Лафонтена, Б. Дюрозуа, эти композиции сообщали тексту особый
колорит, полный чувственной неги и поэтической созерцательности.
Французская иллюстрация XVIII в.
331
Восемнадцатый век столь высоко ценил искусство иллюстрации, что
нередко ему отводилась ведущая роль в книге; не текст, а образ становился в
таком случае главным, во многом определяя успех издания. Более того,
известны такие исключительные ситуации, как, например, с иллюстрациями Ф.
Буше, - для них был создан новый текст, поскольку книга, для которой они
изначально предназначались, осталась не завершенной писателем. Специально
для серии гравированных иллюстраций Мишеля Моро-младшего (1741-1814),
одного из известнейших мастеров эпохи, были написаны рассказы писателя
Ретифа де ла Бретона, а рисунки Юбера Гравело (1699-1773) к "Новой Элои-
зе" Руссо были изданы отдельным альбомом с комментариями уже после
публикации книги, поскольку не были вовремя закончены мастером1. "Почти для
каждого издания заказывали Гравело фронтиспис, виньетку, флерон,
что-нибудь, им созданное, что придало бы значения изданию", - писали уже в XIX в.
братья де Гонкур2, и описанная ими ситуация как нельзя лучше
демонстрирует значение иллюстрации в книжном деле в XVIII в.
Во многих книгах того времени встречается небывалое прежде
количество иллюстраций: 103 гравюры, выполненные Клодом Жилло (1673-1722),
сопровождали издание "Басен" Антуана Ла Мот-Гудара 1719 г., 75 офортов
по рисункам Франсуа Буше украшали "Метаморфозы" Овидия, изданные в
1767-1771 гг. Максимальное увеличение количества иллюстраций в книгах
происходит в третьей четверти столетия; на этот же период приходится
появление большого числа роскошно оформленных изданий. Подобное
внимание к иллюстрации во многом было спровоцировано успехом у
коллекционеров-библиофилов, которые охотно приобретали дорогие книги и нередко
подписывались на приобретение первых экземпляров ценных изданий еще
до их выхода в свет. И это легко объяснить, назвав лишь несколько имен
авторов, создававших книжные иллюстрации - Франсуа Буше, его ученик
Юбер Гравело, Клод Жилло, Антуан (1661-1722) и Шарль Антуан
(1694-1752) Куапель, Бернар Пикар (1673-1733), Жеро Видаль (1742-1804),
Жан Инграм (1721-?), Мишель Моро-младший, Шарль-Никола Кошен
(1715-1790). Последний столь прославился в области книжной иллюстрации,
что и сами композиции нередко назывались нарицательным именем
"кошены". Слава авторов иллюстраций в последующем столетии сыграла
роковую роль в судьбе многих книг, из которых гравюры безжалостным образом
вырывались коллекционерами графики, образуя коллекции так
называемых "декупюр".
Наряду с известнейшими мастерами, перечисленными выше, следует
отметить существование достаточно большого круга
рисовальщиков-граверов, пусть и не первостепенных, однако весьма заметных и даровитых, ав-
1 Гернук Ю.Я. История графики и искусства книги. М, 2000. С. 199.
2 GoncourtE. et J. L'Art du XVIIIe siècle. P., 1882. T. 2. P. 281.
332
H.О. Веденеева
торству которых принадлежит немалое число прекрасных, хорошо
исполненных циклов иллюстраций. Среди них необходимо назвать Шарля Монне
(1732-1816), Пьера Клемана Марилье (1740-1808), Франсуа Мари Кэвердо
(1740-1797), Луи Жозефа Маскелье (1741-1811), Луи Бонне (1744-1800). Их
работы по качеству технического мастерства и талантливому решению
композиций подчас ничем не уступают произведениям более известных
мастеров, создавая достойный по уровню контекст.
Безусловно, качество иллюстрирования во многом определялось
финансированием издания, которое зависело прежде всего от известности автора
книги и популярности текста. В большинстве случаев главным инициатором
создания иллюстраций был книгопродавец, который заботился об успехе
издания; именно он получал так называемую "королевскую привилегию" -
"Privilège du Roy"3 - на публикацию той или иной книги и занимался всеми
вопросами, связанными с ее изданием и реализацией тиража. Он давал заказ
художникам (рисовальщику и граверу) на создание определенного
количества иллюстраций; нередко ему же принадлежал отбор эпизодов текста,
которые следовало проиллюстрировать. Как правило, книгопродавец был
связан с заказчиками, меценатами-библиофилами, которые также могли
влиять на оформление издания, особенно если они его в той или иной мере
оплачивали. Если речь шла о публикации книги писателя-современника, то в
этом случае нередко отбор эпизодов для иллюстрирования и их трактовка
определялись самим автором текста; он мог подробнейшим образом
инструктировать художника, какой должна быть та или иная композиция.
В первой половине XVIII в. иллюстрированием занимались чаще всего
живописцы - именно они создавали рисунки, по которым затем делались
гравюры, печатавшиеся в книгах. Круг профессиональных рисовальщиков
сложился лишь в середине - второй половине столетия; появился ряд
мастеров, специализировавшихся на создании книжных иллюстраций. Они
непосредственно сотрудничали с граверами, от работы которых немало зависел
конечный результат - виртуозность гравированного штриха так же важна в
искусстве оформления книги, как и продуманность композиции в целом.
Совершенству книжной иллюстрации в XVIII в. во многом
способствовало и развитие технического мастерства - всевозможных офортных техник,
сочетавшихся с гравюрой резцом, что позволяло значительно обогатить
фактуру и тональное разнообразие композиций. Однако в случае с разными
гравировальными техниками ситуация не была однородной. В отличие от
3 Разрешение на публикацию и одновременно бумага, защищающая от незаконного
воспроизведения издания и, таким образом, от нарушения авторских прав. В случае появления
"подпольного" тиража книги именно королевская привилегия давала основания для
судебного разбирательства. Королевская привилегия покупалась; ее цена зависела от условий
публикации издания, от того, какие права она предоставляла издателю.
Французская иллюстрация XVIII в.
333
гравюры на металле, ксилография переживала упадок в XVIII столетии; она
пребывала на уровне ремесла. Как писал один из крупных исследователей
истории гравюры П. Кристеллер, "исполненные в это время книжные
орнаменты (на дереве) (...) история искусств может спокойно обойти
молчанием"; среди всех мастеров-ксилографов этого времени он выделяет лишь
Жана Мишеля Папильона (1698-1776), автора симпатичных виньеток-флеро-
нов, и Никола Ле Сюера (1691-1764); "остальных многочисленных граверов
на дереве этой эпохи не стоит и упоминать, так как никто из них не сумел
прибавить хотя бы даже какой-нибудь самостоятельный оттенок к стилю
этих двух характерных и лучших представителей книжной орнаментальной
гравюры на дереве", - такие слова можно найти в книге немецкого автора4.
Меж тем отношение самого XVIII в. к работам этих "второстепенных"
мастеров было несколько иным; в первой половине столетия их
орнаментальные заставки, виньетки, подчас с неровной резьбой и толстыми, нечеткими
линиями в тенях, соседствовали в дорогих изданиях с тщательно
исполненными гравюрами на металле. Возможно, это объяснялось, с одной стороны,
удобством использования ксилографических досок при печати и их
дешевизной; с другой - в этих незамысловатых виньетках, с их неровными
штрихами и лапидарностью форм, ценилось обаяние простоты и та печать руко-
творности, которая постепенно исчезала из гравюры в связи со
стремительным развитием гравировальных техник в XVIII-XIX вв. Для современного
зрителя незатейливые ксилографические иллюстрации XVIII столетия
ценны еще и своим очарованием подлинности; многие из них создавались для
первых изданий известнейших произведений и потому обладают, помимо
прочего, большой исторической ценностью.
Хотя в XVIII в. место книжной иллюстрации в общей иерархии изящных
искусств, во многом определявшейся академическим вкусом, было не столь
почетным - она находилась в тени самостоятельной гравюры, больших
увражей и т.п., - в то же время ей уделялось немало внимания со стороны
взыскательных ценителей искусства. Рисунки иллюстраторов выставлялись
в знаменитых Салонах, о них писал сам Дидро. Гравированные
иллюстрации непременно включались в состав каталогов известнейших граверов
XVIII столетия - таких, как Ш.-Н. Кошен или С. Леклерк (оба составлены
Ш.-А. Жомбером, 1770, 1774)5.
Непосредственный интерес к искусству книжной иллюстрации
возникает в первой половине XIX в., прежде всего со стороны специалистов; он
стремительно возрастает во второй половине столетия после публикации
4 Кристеллер П. История европейской гравюры XV-XVIH веков / Пер. А.С. Петровского.
М., 1939. С. 430-432.
5 Jombert Ch.-A. Catalogue de l'oeuvre de Charles-Nicolas Cochin fils. P., 1770; Catalogue raisonné
de l'oeuvre de Sebastian Leclerc. P., 1774.
334
H.О. Веденеева
книги братьев де Гонкур "Искусство XVIII века" (1859-1878),
спровоцировавшей огромное увлечение иллюстрацией галантной эпохи. Вообще интерес
этих писателей к культуре предшествующего столетия не был исключителен
для того времени; чуть раньше, к примеру, французский поэт и прозаик Же-
рар де Нерваль помещает в свою книгу "Дочери огня" (1854) главу под
названием "Путешествие на остров Цитеру", в которой реальное путешествие
героя в окрестностях городка Луази и прогулка по озеру наполняются
множеством поэтических аллюзий на одноименную картину А. Ватто6. Однако
именно в книге братьев де Гонкур дух галантной эпохи нашел полноценное
воплощение; она вдохнула новую жизнь в произведения мастеров ушедшего
столетия; картины Ватто, Буше, а также Оноре Фрагонара (1732-1806) -
гениального ученика Буше, "живописца куртизанок", невероятно изящного,
деликатного мастера - заиграли прежними красками, а изысканные гравюры и
книжные иллюстрации вновь обрели увлеченного зрителя. Пожалуй, нигде не
найти более тонкого описания колорита и поэтики произведений галантного
века; утонченная грация7, проникновенная одушевленность всех образов,
настроение праздника, эстетизированная эротика и ненавязчивая
театральность - всё это было невероятно поэтично и точно описано авторами. В их
текстах возникли портреты и характеристики творчества таких
замечательных мастеров гравюры XVIII в., как Ш.-Н. Кошена, Ю. Гравело, Ш.-Д. Эйзе-
на, Моро-младшего, и, конечно, увлеченность писателей не могла оставить
читателей их книги равнодушными. Возникает мода на XVIII век. С
развитием коллекционирования появляются каталоги иллюстрированных изданий,
специальные исследования, посвященные деятельности
художников-иллюстраторов, граверов, издателей. Среди них прежде всего следует отметить
монографию А. Коэна "Руководство любителя книг с гравюрами XVIII века"
1870 г.8, до сих пор остающуюся одним из основных исследований по
теме.
Безусловно, своего пика увлечение иллюстрацией XVIII в. достигает
на рубеже XIX-XX вв., когда не только специалисты и коллекционеры, но и
художники обращаются к изучению книжной иллюстрации галантного века,
находя в ней образность, настроение, созвучные их творческим
устремлениям, - достаточно вспомнить, к примеру, опыт мастеров "Мира искусства" -
6 Nerval G. de Un voyage à Cythère // Les filles du feu. Sylvie. P., 1854. Ch. 4.
7 Этому понятию уделяется особое внимание в текстах Гонкуров, прежде всего по
отношению к живописи Ватто; оно становится практически полноценным синонимом творчества
этого гениального художника: "Ватто вновь оживил грацию. Грация у Ватто - это уже
больше не античная грация - холодное очарование, совершенство мрамора Галатеи,
красота плоти и вещная слава венер. Грация у Ватто - это грация. Это нечто, что наполняет
женщину шармом, изящным кокетством, чем-то, что выше всякого плотского совершенства..."
{GoncourîJ. et. Е. Op. cit. Т. I. P. 159).
8 Cohen H. Guide de Г amateur de livres à gravures du XVille siècle. P., 1870.
Французская иллюстрация XVIII в.
335
К.А. Сомова, А.Н. Бенуа и других. Требование "искусства для искусства" во
многом находило себе оправдание и поддержку в образах галантной эпохи,
в их игривом, жизнерадостном - и одновременно полном некоторой
ностальгии - духе, в произведениях, в которых joie de vivre и ирония сочетались
с поэтичной меланхолией и созерцательностью.
В книге "Искусство XVIII века" братьев де Гонкур можно найти
следующие слова, посвященные знаменитому граверу-иллюстратору Гравело: "Он
передает в малом формате ту чарующую ноту шарма его времени, нечто от
того кокетливого идеала, который Ватто создавал в больших полотнах"9.
Вероятно, в той или иной мере эта характеристика верна для всей книжной
иллюстрации XVIII столетия; каждая из миниатюрных композиций несет в
себе дух той эпохи. "Галантные леса, поля, полные музыки, боскеты,
благосклонно внимающие звукам эха", - вот тот антураж, описанный Гонкурами,
в котором существуют герои Ватто; если к этому добавить изысканность
рокайльных интерьеров, роскошь будуаров с их зеркалами и тонким
золоченым орнаментом, изящество шинуазри, то легко представить себе среду,
обстановку, в которой оказываются герои большинства иллюстраций того
времени. Сами герои - влюбленные пары, пастухи и пастушки,
идеализированные в духе Буше ("элегантная вульгарность", писали о ряде его
пасторалей Гонкуры10), или дамы в изысканных платьях и кавалеры в париках и
дорогих камзолах, стилизованные под персонажей картин О. Фрагонара. Их
красоту нередко определяют словом "joli", которое во французском языке
означает в большей степени "милый", "очаровательный", чем просто
красивый; речь идет не столько о внешней красоте, сколько о красоте живой,
одушевленной. "Le joli - c'est l'âme du temps" - "Красота - это душа той
эпохи", - писали Гонкуры11.
Для французской иллюстрации того времени невероятно важным
оказывается язык жестов, поз; по ним легко понять смысл происходящего; как
правило, герои изображаются в момент общения - это может быть
деликатная беседа, или сцена ревности, или напускного кокетства; важной
оказывается эмоциональная динамика образов. Часто в состав композиций
включаются предметы, имеющие аллегорическое значение; к примеру,
"говорящими" символами любви могут быть горящий факел, стрелы, голуби, роза,
музыкальный инструмент (часто - свирель). Многие предметы приобретают
"галантный смысл" уже непосредственно в контексте композиций -
например, письмо, шляпа, книга и т.д. Подобное использование аллегорий и
символов в иллюстрациях, рассчитанное на сведущую аудиторию, позволяло
художникам раскрыть содержание сцены, избежав буквального изображения
9 Goncourt Е. etJ. Op. cit. T. 1. P. 22.
10 Ibid. T. 2. P. 239.
11 Ibid. P. 196.
336
H.О. Веденеева
тех или иных откровенных эпизодов. Безусловно, говорить о пуританском
духе французской книжной иллюстрации XVIII в. было бы чистейшим
абсурдом; однако вкус эпохи, воспитавшей Прево, Мариво, Кребийона-сына,
наконец, де Сада, диктовал все же определенные условия; при том что
существовали иллюстрации и серии гравюр порнографического характера, чаще
предпочтение отдавалось иносказательному намеку на откровенную сцену,
но не буквальному изображению; и даже интимные сцены показывались
достаточно деликатно, дабы банальная реальность не повредила атмосфере
флирта, легкой иронии, изящного кокетства, столь ценимой эпохой.
Иллюстрирование художественной литературы в XVIII в., галантных
романов в частности, существовало параллельно с развитием различных
научных изданий, возникновением разнообразных увражей с изображением
памятников античности, интерес к которым во многом определил сложение
неоклассицизма во второй половине века. В отличие от археологического
документализма подобных иллюстраций, живые, полные обаяния
иллюстрации романов Прево, Мариво, Лафонтена были обращены в настоящее; в
них нашел яркое воплощение дух эпохи, для которой античный идеал еще не
обрел той самодовлеющей ценности, которую он обретет в последней
четверти века; в них есть очарование кокетливой игры, поэтичность пасторали,
драматичность любовной интриги - всё то, что увлекает читателя с первых
минут знакомства с книгой.
Книги Кребийона-сына, русские переводы двух ранних романов
которого, - "Шумовка, или Танзай и Неадарне" (1734) и "Софа" (1742), - здесь
впервые представляются вниманию читателя, были весьма популярны в XVIII
столетии и пользовались большим успехом в аристократической среде.
Однако первые их издания, осуществленные во второй трети века, были
достаточно скупо иллюстрированы. Их сопровождают титульные листы с
орнаментальными картушами и три-четыре иллюстрации формата ин-октаво.
"Танзай и Неадарне" был проиллюстрирован Л.Ф. Дюбуром (1693-1775),
подписывавшимся монограммой L.F.D.B., а "Софа" была издана с
гравюрами Ж. Пеллетье (1736—?) по рисункам П. Клаваро (работал в середине века),
парижского рисовальщика и гравера. Эти композиции, хотя и не лишены
определенного очарования, свойственного любому подлиннику, весьма
скромны по художественному качеству, что проявляется как в простоте рисунка,
так и в несовершенстве технического и полиграфического исполнения.
Глядя на них после прочтения увлекательных, полных фантазии текстов Кре-
бийона, несложно испытать некоторое разочарование, невольно ожидая
чего-то более яркого, необычного.
Первые издания Кребийона-сына уже давно стали библиографической
редкостью; они довольно скупо иллюстрированы, в связи с чем мы решили
сопроводить русскоязычное издание его романов воспроизведениями
гравюр прославленных мастеров XVIII столетия, таких, как Ш.-Н. Кошен,
Французская иллюстрация XVIII в.
337
Ж. Видаль, Ж. Инграм, Шарль-Эммануэль Пата (1744-1802), Луи Марен
(вторая половина века) и других, создававших гравюры по оригиналам
А. Ватто, Ф. Буше, Ж. Бодуэна (1723-1769), Кевердо (1748-1797), Муатта
(1748-1790). Виртуозно исполненные, они, не являясь прямыми
иллюстрациями к тексту, в то же время прекрасно передают настроение романов Кре-
бийона; романтичность присутствует в них наряду с легкой иронией,
поэтичность образов сочетается с экзотичностью обстановки, в которой
происходит действие, а фантазия обретает полноту власти, перенося восхищенного
зрителя в удивительный мир литературы галантного века.
12. Кребийон-сын
ПРИМЕЧАНИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Публикуемые нами произведения Клода-Проспера Жолио де Кребийона были
созданы в первый период его творческого пути. К этому периоду относятся новелла "Сильф"
(1730; русский перевод издан в 1974 г.), эпистолярный роман "Письма маркизы де М*** к
графу де р***" (1732), роман "Танзай и Неадарне" (1734), роман "Заблуждения сердца и
ума" (1736-1738; русский перевод издан в 1974 г.) и роман "Софа" (1739? 1742). К этому
же времени, видимо, относится еще несколько произведений писателя, изданных немного
позднее; это приписываемый Кребийону скандальный, из-за своих прямых намеков на
конкретных лиц, роман "Любовные похождения Зеокинизюля" (издан в 1746 г.), в герое
которого видели короля Людовика XV, и "Диалоги мертвых" (изданы в 1745 г.). После
этого, как известно, наступил более чем десятилетний период "молчания" Кребийона,
когда он действительно ничего нового не создал, либо вышедшие из-под его пера
произведения не были напечатаны или нам неизвестны.
Следует отметить, что в период "молчания" ранние произведения Кребийона
продолжали переиздаваться; чаще всего это были пиратские контрафакции, печатавшиеся
в Голландии, Англии, даже в Германии, т.е. писатель, скорее всего, не принимал участия
в их подготовке. Это делает текстологию книг Кребийона запутанной и сложной;
надежные "стеммы" изданий его романов удается создать далеко не всегда. Также не вполне
ясно, участвовал ли писатель в издании своего Собрания сочинений, которое выходило
в Лондоне в 1772 и 1777 гг. и было дважды повторено в 1779 г. В этих публикациях
много ошибок, указывающих на то, что за основной текст здесь принимались самые разные
издания произведений Кребийона, так что никакой текстологический системы в этих се-
митомниках обнаружить не удается. Так что эти публикации вряд ли выражают
"последнюю волю автора". Вот почему современные исследователи и публикаторы, учитывая,
конечно, данные этих Собраний сочинений, не относятся к ним слепо; они идут обычно
двумя путями. Либо основным текстом выбирается текст первого издания, либо текст
одного из последующих изданий, по тем или иным причинам признаваемого наиболее
авторитетным.
По первому пути пошли подготовители внушительного однотомника избранных
произведений Кребийона, по второму - издатели четырехтомного Полного собрания
сочинений писателя. Оба эти издания являются для нас основополагающими, поэтому даем
их полное описание:
Crébillonflls. Oeuvres / Edition dirigée et établie par E. Sturm. P.: Bourin, 1992;
Шумовка, или Танзай и Неадарне
339
Crébillon Cl. Oeuvres complètes / Edition dirigée par J. Sgard. P.: Classiques Gavnier,
1999-2002. T. 1-4.
Для нас наиболее авторитетно четырехтомное Полное собрание сочинений
писателя, но тем не менее в ряде случаев мы обращаемся и к однотомнику,
вышедшему под редакцией Э. Штюрма; так, именно по этому изданию мы делим на части
роман Кребийона "Танзай и Неадарне", так как в нем сохранено композиционное
единство частей (пусть и отличающихся по своему объему); что касается иного деления,
принятого Ж. Сгаром (по изданию 1740 г.), то оно это единство разрушает и
вызвано было в свое время только чисто эдиционными соображениями (чтобы томики
были одинаковой толщины).
ШУМОВКА, ИЛИ ТАНЗАЙ И НЕАДАРНЕ
ЯПОНСКАЯ ИСТОРИЯ
Этот роман - третье из достоверно известных нам произведений Кребийона. Книга
была напечатана в 1734 г. в Париже, но с указанием Пекина как места издания. Вышел
роман без указания автора (имя Кребийона впервые появилось только в издании
1735 г. - см. ниже). Напечатана книга была в двух маленьких томиках с указанием: "У
Лу-Шу-Шю-Ла, единственного печатника Его Китайского Величества книг на
иностранных языках". Подлинный издатель книги неизвестен, возможно, им был известный
парижский типограф Пьер Про, который затем издавал многие книги Кребийона.
Первоначально книга называлась - "Танзай и Неадарне. Японская история". Слово "Шумовка"
встречается в основном только в иностранных изданиях романа Кребийона (Амстердам,
Лондон и т.д.), в этих же изданиях обычно указывался автор. До включения романа
в Собрание сочинений Кребийона роман печатался, видимо, 15 раз, как во Франции, так
и в других странах.
Все издания, вышедшие во Франции (в Париже), дают роману название "Танзай и
Неадарне", напечатанные же вне Франции - "Шумовка". Полное название книги
появилось впервые только в 1756 г., затем снова было забыто и возникло вновь только в
соответствующем томе Собрания сочинений.
История иллюстрирования этого романа Кребийона небогата фактами. Помимо
виньеток на титульных листах, принадлежащих резцу неизвестных граверов,
упомянем весьма посредственные иллюстрации (не более четырех в каждой публикации) в
изданиях 1735 г. (Лондон), 1740 г. ("Пекин"), 1743 г. ("Пекин"), 1758 г. ("Пекин");
автором этих иллюстраций был, скорее всего, Л.Ф. Дюбур.
При переводе и комментировании романа использованы издания под редакцией
Э. Штюрма и под редакцией Ж. Сгара.
В романе многие персонажи (феи, духи и т.п.) носят значимые имена. В переводе
сделана попытка найти адекватные им русские эквиваленты, что всегда оговаривается
в примечаниях.
12*
340
Примечания
ПРЕДИСЛОВИЕ
1 ...знаменитейшему Конфуцию. - Великий китайский философ древности Конфуций
(551—479 до н.э.) как историческая личность был уже хорошо известен во Франции
первой трети XVIII в., особенно после появления в 1735 г. капитального труда Жана
Батиста Дю Альда (1674-1743) "Географическое, историческое, хронологическое,
политическое и физическое описание Китайской империи и Китайской Татарии". До
полной публикации этой четырехтомной работы, в 1733 г. вышел ее сокращенный:
вариант, которым, скорее всего, и пользовался Кребийон. Книга Дю Альда была
очень популярна, переведена на многие языки, в том числе и на русский (1774-1777).
2 Килохо-хээ (или Килохо-ээ) - имя, наверняка придуманное Кребийоном по моделям,
найденным в труде Дю Альда (Ки-ли-со, Кинг-лу-шу-тзе и т.п.).
3 Шам-хи-хон шу-ка-хулъ-ши - абсолютная выдумка Кребийона, обыгрывание
непривычного для европейского уха звучания псевдокитайских собственных имен.
4 ...подробнейшую историю литературы своей страны... - Здесь содержится
издевательский намек на только что опубликованный первый том "Литературной истории
Франции". Ее автор Антуан Риве де Ла Гранж (1683-1749), монах-эрудит, долго
собирал материалы для своего труда, но особого одобрения современников не снискал;
уже первый том, вышедший в 1733 г., вызвал насмешки со стороны просветителей
"первого призыва"; об этой публикации не раз иронически писал журнал аббата Прево
"За и против".
5 ...одной ветхой древнеяпонской рукописи... - Ссылки на некие древние рукописи,
якобы попавшие в руки автора или издателя, типичны для произведений на
псевдовосточные темы тех лет. Следует отметить, что в Европе начала XVIII в. были еще
очень плохо знакомы с историей и культурой Древней Японии (которая не допускала
на свою территорию иностранцев). С Китаем были знакомы несравненно лучше.
6 ...на языке тютюрбан... - Жители этого фантастического государства называются у
Кребийона "шешианьенами", от фр. chéchia - "феска", "тюбетейка", "тюрбан", что
должно передать своеобразный квазивосточный колорит повествования. При переводе
использовано одно из значений французского слова - "тюрбан", обозначающий
мужской головной убор восточных народов, делавшийся из большого куска легкой материи,
обмотанной вокруг тюбетейки или фески. В начале XIX в. тюрбан проник в Европу и
стал дамским головным убором.
7 некий голландец... - Контакты европейских стран со странами Дальнего Востока, в
том числе с Китаем, складывались непросто. Тем не менее следует отметить
постоянные попытки европейцев, прежде всего купцов, проникать в Китай. Голландия, в то
время одно из ведущих морских государств Европы, активно осваивала китайские
рынки, основывая на побережье и внутри страны свои торговые фактории.
8 Нанкин - этот китайский город был крупным портом на реке Янцзы на юге страны.
В издании 1740 г. Кребийон заменил Нанкин Кантоном, который был еще более
значительным портовым городом на побережье Южно-Китайского моря.
9 Кроковиус-Гнилус - у Кребийона - Кроковиус-Путридус, т.е. "гниющий"; на кого
здесь содержится намек или в чем состоит игра слов, комментаторам установить не
удалось.
10 Спесивус - у Кребийона - Моргатус, т.е. "полный самодовольства".
11 ...пальма первенства досталась Гнилусу... - Насмешки над псевдоучеными, особенно
"учеными" комментаторами древних текстов, часто встречаются у просветителей,
например в "Храме вкуса" Вольтера, а также у писателей, не являющихся носителями
Шумовка, или Танзай и Неадарне
341
просветительской идеологии, но не чуждых передовых взглядов (Мариво, Прево,
Кребийон и др.).
12 Литературная Республика - собирательное название содружества литераторов и
ученых просветительского толка. Но выражение это, в сложной политической и
культурной атмосфере эпохи, могло употребляться и с ироническим оттенком.
13 Обременозус - у Кребийона - Онерозус, от фр. onéreux, т.е. "обременительный",
"тягостный", "кабальный".
14 Преснодус - у Кребийона - Инсипидус, от фр. insipide, т.е. "бесцветный",
"невыразительный", "пресный".
15 ...в Нюрнбергскую типографию... - Намек не очень понятен; в то время
существовало несколько крупных издательских центров (Париж, Лондон, Гаага,
Амстердам, Лейпциг, Базель и др.), но книги могли печататься и в небольших городах, где
могла быть основана типография. В Нюрнберге типография появилась уже в
конце XV в., но в первые десятилетия Просвещения в Германии как по количеству
выпускаемых книг, так и по качеству изданий первое место принадлежало
Лейпцигу.
16 Тафанари - придуманная Кребийоном фамилия издателя, от итал. tafano, т.е. "овод",
"слепень". Он назван в романе также Ганнибалом Юлием Сципионом Буз-э-виа
(возможно, от искаженного итал. "побои" и "дорога").
11 ...из ордена сервитов... - т.е. из очень влиятельного монашеского ордена,
основанного во Флоренции в 1233 г.
18 Верования восточных народов основаны на сказках... - Так тогда полагали многие;
вместе с тем передовые мыслители (например, Фонтенель) отказывались верить
мифам и легендам, стараясь прийти к достоверным знаниям, хотя сведений о восточных
верованиях было в их распоряжении еще немного.
19 Гении - в данном случае речь идет о духах, вера в которых была все еще очень
сильна.
20 Дивы - мифологические существа, ни люди, ни ангелы, ни злые духи, ни демоны.
Вера в них была широко распространена на Ближнем Востоке (Иран) и проникла также
на Балканы, а оттуда - в Древнюю Русь.
21 Джинн - тогда так называли злых духов, заимствовав это наименование из
мусульманской мифологии. Рассказов о них полны произведения фольклора исповедовавших ислам
народов.
22 Хик-нек-сик-ла-ки-ха-типофетаф - опять насмешка над слишком "длинными"
восточными именами (ср. примеч. 3). Составлено частично из латинских слов "этот",
"даже не", "так" и набора буквосочетаний; последнее слово "типофетаф" может быть
производным от греческого tipofetaf.
23 ...предписанию Горация... - Кребийон ссылается здесь на ряд советов, которые дает
поэтам Гораций в своей "Науке поэзии"; в частности:
...кто выбрал посильную тему,
Тот обретет и красивую речь, и ясный порядок (ст. 40-^41)
(Перевод МЛ. Гаспарова)
Но римский поэт, как известно, не возражал и против поэтического беспорядка.
342
Примечания
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
КНИГА ПЕРВАЯ
1 Тютюрбания (см. примеч. 6 к Предисловию). Здесь может содержаться намек и на
Кохинхин, государство в Индокитае. Следует отметить, что описание нравов,
обычаев, формы правления этой страны не имеет ничего общего с реальным Кохинхином
(как, впрочем, и с Китаем или Японией того времени).
2 Цефаэс... означало Счастье Народа. - Этимология совершенно фантастическая;
впрочем, "цефас", возможно, восходит к древнееврейскому слову "камень".
3 ...возлагавшие на него большие надежды... - Здесь явно содержатся намеки на
правление Людовика XIV и начало царствования Людовика XV, вступившего на престол
в возрасте пяти лет (он был правнуком Короля-Солнца). Новый король считался
любимцем народа, о чем непрерывно напоминала официальная пропаганда.
4 В те времена миром правили феи. - Феи в данном случае символизируют
божественное происхождение и справедливость королевской власти. Однако, думается, Кребий-
он говорит об этом не без иронии. Отметим, что уже с конца XVII в. в литературных
сказках феи играли как положительную, так и отрицательную роль, постоянно
вмешиваясь в судьбы персонажей.
5 ... с представлением о справедливости. - Комментаторы (в частности, Ж. Сгар) видят
здесь влияние идей Монтескье, чьи антитиранические взгляды были выражены уже в
его "Персидских письмах" (1721), а затем в "Духе законов", вышедшем значительно
позже романа Кребийона, который, однако, будучи хорошо лично знаком с
Монтескье, мог усвоить их, как говорится, "в устной передаче".
6 Брадакела - у Кребийона - Барбакела, от фр. barbe - "борода". Кребийон "оформляет"
это имя на итальянский лад.
7 ...Танзай (Соперник Солнца)... - Возможно, здесь содержится намек на регента
Филиппа Орлеанского (1674-1723), который пробовал свои силы в живописи и музыке и
при котором, как известно, стали распространяться довольно свободные нравы (был
слух, что регент жил с собственной дочерью). Танзай назван "Соперником Солнца",
что отсылает нас к прозвищу Людовика XIV Король-Солнце. Регент был
племянником великого короля.
8 Акростих - стихотворение, начальные буквы каждой строки которого составляют
имя, слово или даже целую фразу. Сочинение акростихов было в моде у придворных
поэтов XVII-XVni вв.
9 Ex voto - буквально "согласно обету". Так назывались различные небольшие
картины на священные темы и вообще дорогие предметы, которые развешивались в
католических храмах, напоминая о данном том или ином обете или просьбе об
исцелении.
10 Рыля - у Кребийона vielle, т.е. "виола" - старинный струнный музыкальный
инструмент.
11 Коннетабль - Высший военный чин в феодальной Франции. Это звание было
упразднено в 1627 г. при Людовике XIII, что говорит об условности соотнесения описанного
в романе Кребийона государства с Францией его времени.
12 Принц был очень благочестив... - Замечание, скорее всего, ироничное. В последние
десятилетия правления Людовика XIV благочестие стало получать большое
распространение при дворе (сказывалось влияние, оказываемое на короля его возлюблен-
Шумовка, или Танзай и Неадарне
343
ной, а затем тайной женой госпожой де Ментенон). Но в период Регентства
(1715-1723) показное благочестие быстро выходило из моды (ср. примеч. 7). Впрочем,
религиозное ханжество не было изжито, и над ним подсмеивались Монтескье,
Вольтер и даже более "умеренный" просветитель Мариво.
13 ...его гувернантка... - Намек на то, что под видом гувернантки у подростка Людовика
XV уже в 14 лет была любовница, герцогиня д'Эпернон (а может быть, еще и
госпожа де Ла Врильер). У Людовика, впрочем, была и подлинная гувернантка, некая
госпожа де Вантадур, но ей тогда было уже около 70 лет.
14 ...во всей своей утренней неприбранности. - Посещение дамы во время ее утреннего
туалета было частым мотивом в галантном романе эпохи и в современной ему
жанровой живописи. Обычай этот был распространен, конечно, только в
аристократических кругах.
15 ...министры не сталкивались со столь сложной проблемой. - Здесь может
содержаться намек на обычай решать на заседании Верховного совета важные
государственные дела, в том числе вопрос о бракосочетании наследника престола. Людовик XV
в 1721 г. был обручен с испанской инфантой, которой исполнилось всего три года.
В 1723 г. помолвка была расторгнута и бедная инфанта отправлена восвояси.
Людовик женился в 1726 г. на Марии Лещинской (1703-1768), дочери короля Польши.
16 ....забавлявшийся уловками невест. - Эти математические подсчеты должны
подчеркнуть комизм и нарочитые условности волшебных сказок.
17 Ее живые черные глаза сияли... - Возможно, здесь содержится намек на возможный
прототип героини романа - очень красивую (но не очень талантливую) актрису
Жанну-Катрин Госсен (1711-1767). Благодаря своей яркой красоте Госсен имела успех на
сцене. Кребийон активно ухаживал за нею, и есть сведения, что даже собирался на ней
жениться.
18 ...в какой он сам является нелепым. - Кребийон выказывает себя сторонником
естественности и простоты как в людском поведении, так и в речи.
19 ...застегивать подвязки даме... - В ту эпоху дамские подвязки, придерживавшие
чулки, застегивались либо выше колена, либо под коленом. Кавалер, застегивающий
даме подвязку, достаточно часто изображался в жанровой живописи и гравюре XVIII в.
20 ...что она не подняла шума раньше. - Здесь добродетельность героини проходит одно
из первых испытаний. Кребийон добавил эту фразу в переиздании 1740 г.
21 Капюшонкахульм - в название этого фантастического государства (у Кребийона -
Кокапюшульм) входит слово "капюшон".
22 ... золотую шумовку... трех пядей в даметре. - Описанная Кребийоном шумовка
(специальная ложка с дырочками для снятия пены) имеет внушительные размеры. Этот
предмет символизирует папскую буллу "Unigenitus" (1713) Климента XI, направленную
против янсенизма, влиятельного оппозиционного течения в католической церкви (янсе-
нисты ратовали за строгое религиозно-этическое самоусовершенствование и отрицали
свободу воли). Борьбой с янсенизмом отмечена политика официальной католической
церкви на протяжении второй половины XVII и первой половины XVIII вв. Вполне
понятно, почему Кребийон, не придерживавшийся, как и многие его современники из
рядов интеллигенции, ортодоксального католицизма, придумал "шумовку": она должна
снимать как накипь янсенистские идеи. Пядь - старинная мера длины, равная примерно
18 см. (расстояние между раздвинутыми большим и указательным пальцами).
23 Бурысса Тусклофарда - у Кребийона - Русса Блаффарда. - Имя этого персонажа
составлено из французского слова "бурый", "рыжеватый" и итальянского слова
"тусклый".
344
Примечания
24 Метиссао - название этого вымышленного острова образовано от слова "метисе";
так называли носителей смешанной крови - белой и индейской.
25 ...кровь неблагодарного, предавшего меня... - Здесь Кребийон использует мотив,
очень распространенный в классицистической трагедии на античные сюжеты,
например в трагикомедиях Филиппа Кино (1635-1688), которые во времена Кребийона уже
стали частым предметом насмешек и пародий. Вне всяких сомнений Кребийон
намекает здесь как раз на драматургию Кино.
26 Священная Обезьяна - покровитель страны, образ, часто встречающийся у писателей
первой трети XVIII в. (Фонтенель, Монтескье) и якобы заимствованный из обычаев и
верований Востока. Антицерковный смысл этого образа несомненен.
27 Обычай предписывал королям Тютюрбании в день свадьбы помогать будущей
королеве при одевании... - Здесь содержится намек на обычаи, имевшие место при
французском дворе (собственно, в Версале), где очень многие события, даже самые
обыденные и рядовые, были непременно регламентированы и подчинялись строгому
этикету.
28 ...правом, дарованным ему дворцовым этикетом. - Далеко не все обитатели двора
обладали, согласно правилам этикета, одинаковыми правами. Здесь Кребийон,
представитель "города" (т.е. Парижа), как и другие просветители, высмеивает обычаи
"двора" (т.е. Версаля).
29 ...благоразумие благочестивой Неадарне. - Кребийон, возможно, намекая на
королеву Марию Лещинскую (см. примеч. 15), жену Людовика XV, изображает свою
героиню не столько благочестивой (что находится на грани ханжества), сколько просто
религиозной.
30 Женщины прибегали к нему лишь при крайней необходимости... - Кребийон, видимо,
не отождествлял кокетство с распутством, отличительным признаком которого,
по его мнению, было, в частности, коварство.
31 ..Любовь... особенно неловка, когда на нее находит вдохновение. - Здесь происходит
персонификация любви, вот почему Кребийон написал это слово с большой буквы.
32 ...если бы не решительный запрет принца... - Здесь содержится явный намек на
орден Святого Духа (утвержден французским королем Генрихом III в 1578 г.), которым
увенчивался наследник престола (дофин) уже при его рождении.
33 Понтифик - в данном случае перед нами намек на главу католической церкви папу
Римского; первоначально понтификами называли жрецов в Древнем Риме. Как видим,
церковная организация строится в Тютюрбании по европейскому образцу.
34 Таков был человек, поджидавший принца у храма. - Исследователи выдвинули
несколько кандидатов в прототипы этого персонажа. Им мог быть кардинал де Ноай
(1651-1729), архиепископ Парижский, или кардинал де Роган (1674-1749), прелат,
прославившийся разгульной жизнью и нестандартными сексуальными пристрастиями;
выдвигались и другие прототипы, менее несомненные.
35 Вздорнуцио - у Кребийона - Согренуцио; от фр. saugrenu - "нелепый", "несуразный",
"вздорный".
36 ...ручку этой шумовки. - Здесь содержится возможный намек на изнасилование, что
не исключает возможности и буквального понимания смысла.
37 Черт побери... - Кребийон иронически вкладывает это выражение в уста духовного
лица.
38 ...плюнула Танзаю и Неадарне в лицо. - Переосмысление, с комическим оттенком,
привычного сказочного мотива: выплескивание воды в лицо персонажа действует на
него магически, в частности преображает его.
Шумовка, или Танзай и Неадарне
345
39 Огурогура - у Кребийона - Конкомбр; имя этого персонажа произведено от фр.
concombre - "огурец".
40 ...б карете, запряженной двумя улитками... - В литературных сказках того времени
читатель постоянно сталкивался с каретами, повозками, тележками и т.п., в которые
бывали запряжены лягушки, кроты, улитки, черепахи и т.д. Кребийон использует
этот мотив с двоякой иронией: он подсмеивается и над своими персонажами, и над
традициями литературной сказки.
КНИГА ВТОРАЯ
1 После этих восклицаний... - Как отмечает Ж. Сгар, это несомненно не имеет
никаких аналогий с каким-либо китайским или японским культом. Это вполне языческое
обращение к отцу природы с просьбой задержать начало нового дня и тем самым
продлить брачную ночь героя и героини.
2 ...что она невосполнима. - Отрубание той или иной части тела (носа, пальца и т.п.)
носит в сказочной литературе иносказательный, эротический смысл. Это находим и в
"Задиге" Вольтера (1747) - глава "Нос".
3 ...этот слух набирал силу... - Простосердечие и наивность простого народа нередко
подчеркивались просветителями первой трети века, (например, Фонтенелем в
"Истории оракулов", 1687).
4 ...небольшой надрез... - Мы находим сходную комическую сцену в "Нескромных
сокровищах" Дидро (гл. XVI "Видение Мангогула"), где рассказывается, как некий
столяр пытался проделать коловоротом второе отверстие в заду одной дамы (все это,
естественно, лишь привиделось Мангогулу, герою романа Дидро).
5 Scrotum (лат., анатомич.) - мошонка.
6 Возлечь на ложе и вернуться вспять. - Слова оракула, передаваемые невидимой
Огурогурой, расшифровываются вполне однозначно и носят явно фривольный
характер. Это вообще типично для сказочной литературы эпохи.
7 ...так и не избавившись от злого заклятья... - Снятие заклятия -
распространенный мотив в литературных сказках, начиная со сказок "Тысячи и одной ночи",
которые были очень популярны в начале века, после появления перевода Антуана
Галлана.
8 ...нечем было ее снять. - Мотив встречи с отталкивающего вида старухой, которая
оказывается в конце концов доброй феей, типичен для традиции литературной
сказки. Что касается магического (= чудесного) котла, то мы находим примеры этого
мотива еще в средневековых литературных памятниках, связанных прежде всего с
легендами о короле Артуре и его рыцарях.
9 Комариный остров... - В названии острова (и в его описании) использована
омонимия французского слова cousin - это и "кузен", и "комар". В ряде литературных
сказок, в том числе у г-жи д'Онуа (ок. 1650-1705), описывается мгновенно
вспыхивающая любовь между юношей и девушкой, которые первоначально не знают, что
являются двоюродными братом и сестрой.
10 ...раза в три превосходил коня принца... - Комментаторы полагают, что здесь
содержится резонантное воспоминание о гигантском крылатом коне (гиппогрифе),
описанном, в частности, Ариосто в его "Неистовом Роланде".
11 Канты - песнопения, в основе которых могут лежать народные мелодии или же
религиозные тексты.
346
Примечания
12 ...кокетливо наряженных сов. - Традиционно совы считались птицами, приносящими
несчастье. Кребийон обыгрывает это поверье, но, как говорится, ставит его с ног на
голову, тем самым придавая эпизоду ироническое звучание,
13 ...вышел из лохани... - Такое купание, предшествующее любовному свиданию, часто
описывается в восточных сказках; впрочем, мы встречаем этот мотив уже в
средневековой куртуазной литературе, а также в ее сатирических жанрах (фаблио).
14 Жеманница - женщина (обычно из дворянских кругов или состоятельной буржуазии),
старающаяся казаться изысканной, привередливой, обладающей особыми
пристрастиями и вкусами; излюбленный комический персонаж французской драматургии и
реально-бытового романа начиная с первой трети XVII в.
15 ...гурманство является пороком... - Здесь Кребийон почти точно цитирует слова
Арлекина из комедии Мариво "Двойное непостоянство" (1724).
16 ...светло-коричневый ободок... - Видимо, лысая Огурогура носит коричневый парик.
17 Петиметры - придворные щеголи, комические персонажи драматургии XVIII в. Но
они существовали не только в литературе, а и на самом деле; втираясь в доверие
знатных дам, они иногда делали успешную карьеру. Как литературный персонаж,
петиметр в конце концов избавлялся от своих смешных предрассудков и обычаев (как в
комедии Мариво "Исправленный петиметр", 1734).
18 ...еще более прелестную, чем прежде! - Комментаторы видят здесь мотив
"подмененной невесты"; но в сходной ситуации оказывались еще персонажи средневековых
литературных памятников, в том числе герои легенд о короле Артуре.
19 ...тринадцать раз проделать предписанную процедуру... - Так сказано в первом
издании романа. В издании 1740 г. Кребийон добавил здесь короткий обмен репликами
героя с совой, спорящих о количестве "предписанных процедур": вместо "тринадцати
раз" сова требует, чтобы Танзай проделал это "множество раз".
20 Баррем Бертран-Франсуа (1640-1703) - французский математик, автор популярной в
свое время "Книги о счете" (1670).
21 ...склонить на свою сторону самого патриарха... - Естественно, ни во Франции, ни в
вымышленной Кребийоном квазивосточной стране не могло быть никаких
"патриархов". Здесь может быть подразумеваем и папа Римский, и его нунций, и глава
галликанской церкви архиепископ Парижский.
22 ...не вредило его религиозному чувству. - Здесь, вероятно, содержится намек на
кардинала де Рогана (см. примеч. 34 к Книге первой), придерживавшегося умеренных
позиций в религиозных спорах того времени.
23 ...суровый декрет... - Речь идет о вызвавшей столько споров и скандалов папской
булле "Unigenitus" (см. примеч. 22 к Книге первой), принятой к исполнению Парижским
парламентом по указанию Людовика XIV в 1714 г. и направленной против янсенизма,
фактически расколовшей страну и ввергнувшей ее в бурю религиозных споров.
24 ...жертва предрассудков своих подданных... - Кребийон выступает здесь сторонником
религии как организующего и умиротворяющего начала в обществе.
25 ...распространялось исключительно на духовную сферу. - Здесь Кребийон
оказывается сторонником известной независимости галликанской церкви от папского Рима,
при которой Рим мог диктовать свои условия лишь в духовной сфере.
26 ...не отступятся от выработанного плана действий. - Этими словами
завершаются два абзаца, которыми начиная с 1740 г. заканчивалась 18-я глава; в первом издании
они открывали главу 19-ю, как сделано и в нашем переводе. Описанное Кребийоном
заседание не может быть соотнесено с каким-либо реальным историческим событием
эпохи Регентства.
Шумовка, или Танзай и Неадарне
347
27 ...штаны из медвежьей шкуры... - Это знак особого достоинства, точно так же, как
лента ордена Святого Духа или Золотого Руна. В зависимости от ранга придворного,
его мантия оторачивалась мехом того или иного животного; тут соблюдался строгий
порядок, нарушать который было невозможно.
28 ...грубого попрания законов. - Речь Вздорнуцио напоминает выступление
какого-нибудь члена Парижского парламента (орган местного самоуправления и принятия
законов, обязательных не только для столицы). В 1730-е годы требования янсенистов
принимали все более политический характер, выходя за рамки чисто религиозных
вопросов.
29 ... предать огню скрижали... - Под "скрижалями" здесь могут подразумеваться так
называемые "Фасты", т.е. погодные записи о важнейших событиях, произошедших в
стране в правление того или иного монарха.
30 Хинхоху-Ялуша - придуманное Кребийоном имя. Не может быть соотнесено с каким-
либо реальным историческим лицом.
31 Онсушо - Имя этого персонажа, возможно, произведено от фр. souche - "пень" (в
прямом и переносном значении).
32 Рифмашу - у Кребийона - Римашу; в этом имени легко обнаруживается фр. rimes -
"рифмы", "стихи".
33 желавшего... съесть священную тыкву? - Комментаторы видят здесь пародию на
религиозные споры в свифтовском духе - вражда "остроконечников" и "тупоконечни-
ков" в Лилипутии ("Путешествия Гулливера", ч. I, гл. 4).
34 ...сражающиеся за свою веру и свободу! - Отзвуки споров вокруг папской буллы
1713 г.; одно из важнейших заседаний, посвященных булле, состоялось, например, в
апреле 1730 г., на нем большинство ее противников должны были отступить,
отказаться от своих непримиримых позиций. См. также примеч. 22 к Книге первой.
35 ...сели ужинать в семейном кругу. - Имеется в виду так называемый "малый ужин";
существовал еще "большой ужин", на который приглашалось множество
придворных.
36 ...своим избавлением обязан сну. - В литературной сказке обычно большую роль
играют всякие загадочные, многозначительные и вещие сны. Впрочем, со снами, смысл
которых следует разгадывать героям, мы сталкиваемся в античной литературе (уже
у Гомера); наставления по толкованию снов есть, например, у Артемидора Эфесского
(втор. пол. II в. н.э.) в его "Соннике".
37 ...внушает нам лишь ужас. - Некоторые сны толковались исключительно как
сулящие несчастья, неудачи и т.д.
38 ...ваш сон удивительно складен и результат его поразителен. - В сказочной
литературе некоторые сны часто запутаны и непонятны, что позволяет толковать их
совершенно произвольно; этим и пользуется Неадарне.
39 ...вы узнаете из второй части этой правдивейшей истории. - В 1740 г. Кребийон
изменил деление романа на части и книги. Вторая книга этой главой не заканчивалась,
поэтому последняя фраза была убрана из текста.
348
Примечания
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
КНИГА ТРЕТЬЯ
1 Глава двадцать первая - начиная с издания 1740 г.; третья книга романа начиналась
не с этой главы.
2 ...она так хорошо воспитана. - Довольно неясное место текста, явно содержащее в
себе иронию; можно предположить, что Неадарне уже потеряла когда-то
девственность, по крайней мере о своем прошлом она особенно не распространяется (и в этом
ее "хорошее воспитание"?).
3 Ешь-Крот (или "Ешь-Крота") - буквальный перевод французского словосочетания
mange-taupes.
4 Нарциссиль - у Кребийона - "Остров (île) Жонкиль". Жонкиль - одна из
разновидностей нарциссов, "декоративных растений с золотисто-желтыми душистыми цветами".
В переводе дух Жонкиль назван Нарциссом.
5 ...отнесла ее туда... - Речь идет о паланкине (от санскритск. "пальянка" - "ложе");
это открытые носилки, первоначально средство передвижения знати в странах Азии
(в Индии, Китае), позже - непременный атрибут литературных сказок и иных
памятников словесности на восточные темы.
6 Квиетизм - религиозное учение, проповедующее созерцательный образ жизни,
душевный покой, непротивление злу, подчинение божественной воле. Это учение
возникло в XVII в. в недрах католицизма; его активным сторонником был писатель и
богослов Франсуа де Салиньяк Фенелон (1651-1715); за что подвергся резкой критике
со стороны папского Рима и вынужден был отказаться от этой доктрины. Споры о
квиетизме к 30-м годам XVIII в. сошли на нет, и у Кребийона это учение упомянуто
не как таковое, а как мировоззренческие позиции персонажа.
7 Усыня - у Кребийона - Мусташ (от фр. moustache - "усы").
8 ...понятен, возможно, не всем. - Здесь начинается растянувшаяся на несколько глав
остроумная пародия на Мариво, прежде всего на стиль его произведений,
многословный, изысканный, утонченный, полный неологизмов, перифраз и смысловой
запутанности. Показательно, что "метафизика любви", т.е. сложность, непредсказуемость
любовного чувства (Мариво писал и в романах, и в своих комедиях о "сюрпризах
любви"), о чем много говорит у Кребийона фея, увлекает прежде всего Неадарне, тогда
как Танзай оказывается сторонником несколько приземленного, чисто
"материального" понимания любви. Как известно, эта критика задела Мариво, и он ответил Кре-
бийону в четвертой части своего романа "Удачливый крестьянин" (1734), где изложил
свои литературные и нравственные позиции (см.: Мариво. Удачливый крестьянин,
или Мемуары г-на*** / Изд. подгот. А.Д. Михайлов, А.А. Поляк и НА. Поляк. М.,
1970. С. 140-141).
9 Жуй-Качан - у Кребийона "Шу-Маша", от фр. chou - "капуста" и mâcher - "жевать".
0 Шингара - псевдоэтимологию имени этого персонажа трудно истолковать; вряд ли ее
можно возвести к фр. chine - "китайская бумага", "китайский фарфор", но также -
"торговля" или попросту "сбор старья"; в этом случае вторая часть имени может быть
возведена к глаголу garer - "укрывать", "прятать".
1 ...длинный-предлинный ус... - В то время в высшем обществе существовала мода на
особый вид украшений (как у мужчин, так и у женщин): от левого уха наподобие уса
спускалась длинная прядь волос, доходящая до груди модника или модницы.
Шумовка, или Танзай и Неадарне
349
12 ...позаботиться обо мне должным образом... - В литературных сказках эпохи
довольно часто встречается мотив тайного воспитания принца или принцессы их крестными
матерями-феями, что должно было уберечь их от всевозможных опасностей и врагов.
13 Чепухиль - у Кребийона - Бабиоль (от фр. babiole - "детская игрушка", "пустяк",
"ерунда"). Известная сказочница графиня Мари-Катрин д'Онуа (см. примеч. 9 к
Книге второй) написала сказку под названием "Бабиоль" (так в этой сказке названо
описанное там королевство).
14 ...при Дворе происходит всякое. - Здесь вряд ли содержится намек на какие-то
конкретные события при французском дворе (хотя полностью этого исключить нельзя);
даже общую картину царящих там свободных нравов тут не следует видеть; для
литературы эпохи, в том числе для сказочной литературной традиции, характерен мотив
посещения героями страны, где жители сообразуют свое поведение только со своими
желаниями, которые не подчиняются никаким рамкам и правилам. В известной мере
это прельстительный остров любви Антуана Ватто (см. его знаменитую картину
"Паломничество на остров Цитеру", 1717).
15 Баклан - у Кребийона - Корморан (от фр. cormoran - название бакланов, семейства
крупных водоплавающих птиц).
16 ...от форту нки до мяча.- Здесь упоминается старинная игра в шары из слоновой
кости, которыми играющие стараются попасть в овальные лунки (отсюда несколько
игривое название этой игры: "лунка дамы").
17 ...триумфу соперника. - Здесь наверняка содержится несколько ироническая
перекличка с мыслями Мариво о стиле и о разуме и чувстве, высказанными в издаваемых
им в 1721-1734 гг. журналах "Кабинет философа", "Французский зритель", "Бедный
философ".
18 ...в Салоне Брадакелы... - В данном случае под "Салоном" можно понимать как
торжественный прием в парадных апартаментах (т.е. именно в салоне), так и
самое обычное посещение небольшим числом гостей знатной дамы и даже
представительницы состоятельной буржуазии. Фею вряд ли можно считать знатной
дамой.
19 ...этот взгляд дался мне с трудом. - Здесь можно видеть сознательную перекличку
с "Жизнью Марианны" Мариво, где много места занимает немой разговор
персонажей при помощи взглядов. Но у Мариво взгляды искренни и передают истинные
чувства, у Кребийона же это лишь кокетливая "игра глазами".
20 Глава двадцать шестая - здесь в издании 1740 г. начинается Третья книга.
21 ...в садах острова Нарциссиль. - Эта ситуация напоминает положение Иксиона,
мифического царя лапифов; наделенный бессмертием, Иксион стал соблазнять Геру,
поэтому Зевс создал облачный призрак Геры - Нефелу (греч. "облако"). Иксион не
заметил подмены, и Нефела родила от Иксиона Кентавра. В Тартаре Иксион, в
наказание за попытку соблазнить Геру, был прикован к постоянно вращающемуся
огненному колесу.
22 Приворот-Трававилъ - у Кребийона город называется Барбо (т.е. "Васильки"). При
переводе использовано символическое значение этого цветка ярко-синего цвета как
провокатора любовных отношений (в мифологии многих народов синему цвету
отведено одно из ведущих мест; вместе с белым цветом он противостоит красному и
зеленому). Таким образом, васильки как олицетворение ярко-синего цвета обозначали
возникновение любовного чувства, перекликаясь с поисками счастья и надеждой
(вспомним синий цветок в романе Новалиса "Генрих фон Офтердинген", "Синюю
птицу" Метерлинка, творческое объединение "Синий всадник" и т.д.).
350
Примечания
3 ...заполучает их при помощи фей... - Подобные адресные бюро существовали в
Париже с 1628 г.; их организатором был Теофраст Ренодо (1586-1653), создатель
"Газеты", первого во Франции периодического издания. Первоначально в этих бюро
можно было получить сведения о том, где продаются те или иные товары, затем
количество всевозможных сведений, коими располагали бюро, все возрастало, и эти
сведения стали печатать в "Газете", учрежденной в 1631 г., а сама "Газета" стала
продаваться в этих бюро. Со временем бюро превратились в полном смысле слова в
справочные бюро.
4 ...когда имеешь дело с мужчиной, не следует пренебрегать ими. -
Писателей-моралистов эпохи очень занимала природа ревности, в частности ее социальная и
характерологическая обусловленность. Следует обратить внимание, насколько ревность Тан-
зая, исполненная необузданных порывов и пессимизма, отличается от ревности Неа-
дарне, более мягкой, всепрощающей и продиктованной любовью и в то же время
более рассудительной и разумной.
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
1 Глава тридцатая... - В издании 1740 г. Книга четвертая начинается несколько
позже, с главы тридцать четвертой.
2 ...обещал красавицам... сплошные удовольствия. - Здесь, возможно, содержится
косвенный намек на знаменитую картину Антуана Ватто, о которой уже шла речь
(см. примеч. 14 к Книге третьей). Этот остров, южнее Пелопоннеса, был связан с
культом Афродиты. В эпоху рококо он стал олицетворением радости и красоты, а
также изнеженной любви, всяческих приятных развлечений, милых забав и
вседозволенности; здесь все женщины становились доступными, а кавалеры - настойчивыми
и находчивыми.
3 ...оказалось не желтым. - Желтый цвет связывался тогда с представлениями о
Дальнем Востоке (Китае и Японии), где якобы этот цвет особенно почитался, был моден
и непременен при дворе императоров и правителей.
4 ...неухоженность только придавала очарования. - Это было новым и только еще
входило в моду (пришедшую из Англии). До этого сады и парки имели "регулярную"
планировку, подчиненную строгим геометрическим законам.
5 Зефир - бог легкого и влажного западного ветра (греч. миф.); здесь - вообще ветер.
6 ...с брегов Линьона... - Речь идет о небольшой речке в современном департаменте Фо-
рез, притоке Луары. На ее берегах развертывается действие пасторального романа
Оноре д'Юрфе (1568-1625) "Астрея" (1610-1624).
7 ...несет как счастье, так и измены. - Здесь содержится намек на проблематику и
стиль "Астреи", где описан пастух Селадон как образец любви верной, трепетной и
робкой.
8 ...лорнировал ее самым беззастенчивым образом. - К 30-м годам XVIII в.
лорнирование красивых женщин, чтобы показать увлеченность ими (если не прямую в них
влюбленность), вошло в моду в светском обществе и продержалось очень долго;
особенно принято было лорнировать дам в театре, где дамы обычно занимали ложи, а
мужчины находились в партере.
9 Цимбалы - струнный ударный музыкальный инструмент, вероятно восточного
происхождения. Звук извлекается ударами специальных палочек по струнам,
натянутым на прямоугольный корпус. Цимбалы были популярны в XVIII в.; о них
Шумовка, или Танзай и Неадарне
351
писал в своих музыкальных трактатах замечательный композитор Жан-Филипп
Рамо (1683-1768).
10 ...сыграть партию в подкидного дурака. - Упоминаемая карточная игра,
напоминающая нашего подкидного дурака, не имела устойчивых правил и даже твердого
названия ("берлан", "брелан" и т.п.). Эта игра считалась очень азартной и потому
разорительной, так как расклад карт всегда был непредсказуем.
11 ...рассеянная, как все принцессы... - Возможно, это воспоминание о "Спящей
красавице" Шарля Перро (1628-1703). Впрочем, такими чертами характера нередко
обладали "принцессы" из литературных сказок второй половины XVII - начала
XVIII в.
12 ...целая армия ученых тщетно проводит драгоценные дни в бдениях... - Кребийон
очень интересовался историей, и его библиотека (состав которой теперь известен)
включала немало соответствующих книг. Учитывая содержащуюся в этой фразе
иронию, полагают, что речь может идти о многословной и скучной "Римской
истории", выходившей с 1722 по 1737 год в двадцати томах. Ее авторами были
монахи-иезуиты во главе с Франсуа Катру (1659-1737).
13 ...там танцевали люди, которые менее всего были созданы для этого вида
искусства... - Здесь слышны отзвуки споров об эстетических основах оперного искусства,
разделивших непреодолимой стеной поклонников Жана-Батиста Люлли (1633-1687)
с его нарочитой красивостью и любовью к мифологическим сюжетам и сторонников
Ж.-Ф. Рамо (см. выше примеч. 9), к которым следует отнести и Кребийона.
14 Лматонт - древний город на Кипре; он был связан с культом Адониса и Афродиты
(Венеры).
15 ...представляет для них большую трудность. - Разоблачение вольных нравов
фигуранток (танцовщиц кордебалета) из Парижской Оперы было общим местом в
сатирической литературе эпохи. Многие из этих девушек действительно охотно
становились содержанками богатых людей того времени. Впрочем, это не исчезло и в
следующем столетии.
16 Глава тридцать четвертая - с этой главы в издании 1740 г. начинается Четвертая
книга романа.
17 ...обернулась огромным пауком... - Подобные превращения довольно часты в
литературных сказках эпохи (например, у г-жи д'Онуа).
18 ...в других местах этой Книги. - Здесь Кребийон отсылает читателя к Тридцать
первой главе романа (см. с. 106 нашего издания).
19 ...взяла лютню... - Этот струнный щипковый музыкальный инструмент пользовался
огромной популярностью в Европе в XVI-XVII вв. В XVIII столетии он стал очень
быстро вытесняться цимбалами и виолами. Звучание лютни было более нежным и
тихим, чем у них, что казалось уже архаичным. Но в литературной сказке героиня
играла, конечно, на лютне.
20 Разве по силам мне бороться с природой? - В этой блестящей тираде, текст которой
Кребийон улучшал от издания к изданию, видели влияие произведений Паскаля
(прежде всего, конечно, "Мыслей") с их тонкостью, вниманием к оттенкам человеческих
переживаний и т.п.
21 ...вооружившись туфелькой... - Эта туфелька обладает теми же свойствами, что и
палочка феи в "Спящей красавице" Перро. Целование волшебной туфельки может
содержать и ироническое напоминание об обычае среди правоверных католиков
целовать туфлю папы Римского при аудиенции у него.
22 Паланкин - см. примеч. 5 к Книге третьей.
352
Примечания
23 Феи - дочери Судьбы... - По своей этимологии слово фея соотносима с пат. fatum -
"судьба". Феи, согласно низшей мифологии народов Западной Европы, были
волшебницами и вершителями человеческих судеб; поэтому они могли быть и добрыми, и
злыми. Обладая достаточной самостоятельностью, они тем не менее подчинялись
Судьбе и выполняли ее волю.
24 ...отходил длинный ус...- см. примеч. 11 к Книге третьей.
25 Главный Служитель тайно вздыхал по его сану... - Здесь речь, конечно, не может
идти о понтификате, в лучшем случае - о кардинальской шапке и о должности
духовника короля, т.е. высшего церковного лица при дворе
26 ...надолго стал в Тютюрбании источником раздора. - В самом деле, отношение к
папской булле 1713 г. во многом раскололо французское духовенство, хотя
намерения Рима были совсем противоположные. Этот раскол давал о себе знать на
протяжении всего столетия.
27 ...остров Чепухилъ. - См. примеч. 13 к Книге третьей.
СОФА
НРАВОУЧИТЕЛЬНАЯ СКАЗКА
Написан этот роман Кребийона был, видимо, в конце 1730-х годов. По крайней мере,
Вольтер упоминает книгу в письме к парижскому издателю Пьеру Про 21 июля 1739 г.
(«Если вы увидите создателя "Софы", то сообщите ему, что я навеки его друг». -Voltaire.
Correspondance. P., 1965. T. 2. P. 203). Впрочем, скорее всего речь шла в письме Вольтера
не о первом издании романа, а об одном из его списков, которые широко
циркулировали в обществе. Предполагаемое первое издание книги условно датируют 1739 г., но
такая датировка спорна, и датой выхода романа можно считать и 1740, и 1741 г.
Экземпляры этого издания крайне редки и отсутствуют, например, в парижской Национальной
библиотеке (нам увидеть это издание не удалось). Напечатал роман П. Про в двух томах
под названием "Софа розового цвета". В выходных данных указано: "В Газнахе, в
типографии мужественнейшего, милостивейшего и величественнейшего Султана индусов.
Год Хиджры М.С.ХХ". Автор указан не был.
Напротив, многие библиотеки располагают изданием, выпущенным тем же П. Про в
1742 г. Выходные данные были те же, но снято в заглавии указание на цвет софы. Это
издание было повторено несколько раз, с незначительными типографскими изменениями, в
том же году в Париже, Лионе, Гааге (здесь указаны подлинный год и место издания) и
Лондоне.
В 1749 г. появилось в Париже (но с указанием Пекина) иллюстрированное издание
романа; оно содержало четыре иллюстрации Клаваро, гравированные Пеллетье;
титульный лист украшен виньетками знаменитого в свое время рисовальщика Шарля-Ни-
кола Кошена-младшего (1715-1790). Затем последовали издания 1751, 1752, 1762, 1766,
1770, 1772 гг., уже без иллюстраций, но с элементами различных типографских
украшений. В 1772 г. роман вошел в третий том первого Собрания сочинений Кребийона,
повторенного в 1773 и 1777 гг.
Первое издание книги напечатано на плохой бумаге и пестрит опечатками и
ошибками; более достоверным считается издание 1742 г., которое и перепечатывается много
раз на протяжении XVIII-XX вв.
Софа
353
При переводе и комментировании романа использованы следующие издания
"Софы": однотомник под редакцией Э. Штюрма, четырехтомник под редакцией
Ж. Сгара (оба они указаны нами в "Предварительных замечаниях" к примечаниям),
а также:
Crébillonfils. Le Sopha / Présentation par A.-M. Schmidt P., 1966;
Romanciers libertins du XVIIIe siècle / Edition établie sous la direction de P. Wald Lasowski.
P., 2000. T. 1.
ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ
1 ...правил Индией принц по имени Шах-Бахам. - В действительности такого шаха
не существовало. В библиотеке Кребийона было не менее десятка разных изданий
сборников восточных (псевдовосточных, конечно) сказок, в том числе
популярный тогда пятитомник "Тысяча и один день" (1710-1712) Франсуа Пети де Ла Круа
(1653-1713). Возможно, имя нужного ему персонажа Кребийон нашел в одной из
этих книг.
2 ...внуком знаменитому Шах-Риару... - Шах-Риар (или Шахрияр) был основным
персонажем сказок "Тысячи и одной ночи". В знаменитой книге рассказывается,
что после того как Шах-Риару изменила жена с чернокожим невольником, он
проникся ненавистью к женщинам и каждую ночь овладевал невинной девушкой, а
утром казнил ее. Лишь Шахерезаде, благодаря ее рассказам, удалось избежать этой
участи.
3 ...в книге "Тысяча и одной ночи"... - Кребийон был, бесспорно, очень хорошо знаком
со знаменитым переводом этой книги, выполненным Антуаном Галланом (1646-1715)
и изданном в 1704-1717 гг. Впрочем, в каталоге библиотеки писателя значится
только переиздание 1774 г., но Кребийон мог либо не сохранить у себя одно из первых
изданий, либо он пользовался экземпляром, заимствованным у кого-либо из друзей или
знакомых (может быть, у отца?).
4 ...довольно опасно ограничиваться лишь ими. - Предшествующее этим словам
рассуждение о пользе сказок отсутствует в некоторых переизданиях романа. Не очень
ясно, почему Кребийон отказался от этого; возможно, это была инициатива
издателей.
5 Джиннистан - т.е. вымышленное писателями того времени государство джиннов
(см. примеч. 21 к Предисловию к роману "Шумовка").
6 ...в обширной истории Индии, составленной Шейхом-Ибн-Тахиром-Лбу-Ферайки... -
Совершенно очевидно, что такого историка не существовало; впрочем, современные
комментаторы предполагают, что здесь содержится намек на мусульманского
историографа Мухаммада Кассема Фериштаха (XVII в.), автора "Истории Индии с
древнейших времен до 1620 года".
7 Несмотря на столь важные занятия... - Этот и следующий абзацы отсутствуют в
издании, выпущенным Пьером Про в 1742 г.
8 Первый Визирь - в представлении европейцев ХУШ в. так назывался на Ближнем
Востоке и в Центральной Азии премьер-министр, наделенный очень большими
полномочиями; при этом не делалось различий применительно к Турции, Персии или
Индии, где носители этого звания все-таки обладали разными обязанностями и правами.
9 Старшая Султанша - т.е. жена Султана, а не его наложница, обитательница его
гарема.
354
Примечания
10 Лишь она одна знала толк в этих занятиях и придавала им значение, и даже сам
Султан... - Издание П. Про 1742 г. дает далее следующий текст: "Великий спорщик
и упрямец, каковым был Шах-Бахам, далеко не всегда решался вступать в
препирательства и отменять решения Султанши, хотя она всегда перечила ему во всем и
постоянно старалась сделать так, чтобы он больше соответствовал своему высокому
званию; так что Султан хоть и был неисправим, но не мог сердиться на нее, он лишь
говорил ей, что она язвительна сверх меры".
11 ...глупцы непременно обнаруживают в умных людях. - Далее в издании П. Про 1742 г.
следует: "В свою очередь Шах-Бахам, задетый ее упреками, - что он, мол, ничего не
делает и ничем не занимается, заметил ей, что он не настолько легкомысленный
человек, как она о нем думает, и, поразмыслив хорошенько, чем ему действительно
заняться, пришел к выводу, что вышивание и плетение ковров только и соответствует
его высокому положению. И он отдался этим благородным занятиям с такой
страстью, что оторвать его от них было никак невозможно; он дошел до того, что решил,
что и подданные его должны последовать его примеру.
Всякие фантазии, которым отдаются безраздельно, в скором времени
превращаются в пылкую и неодолимую страсть. И если это правило и не было
подтверждено на опыте, что и случилось с Султаном, правильность этого нашего
наблюдения станет очевидной и сама по себе. Ни неприязнь соседних народов, ни
насмешки тех его подданных, кого еще не вполне одолела страсть к вышиванию, -
ничто не могло отвратить Султана от подобных занятий. Он так щедро награждал
тех, кто проникался страстью к тому искусству, которому он покровительствовал,
что во всей Империи не оказалось ни одного человека, который бы не окунулся в
эти занятия с головой. Во всей Индии можно было занять почетное положение,
только сделавшись вышивальщиком. Султан не признавал никаких других заслуг;
он в конце концов пришел к выводу, что любой человек, наделенный
замечательным талантом орудовать иголкой, с такой же легкостью сможет стать отменным
военачальником или прекрасным министром.
Для того чтобы показать, насколько он в этом не сомневается, он возвел
в ранг первого визиря одного из своих придворных, совершенно погрязшего в
праздности, из тех, что не знают, чем себя занять, и досаждают монархам, обивая
их пороги, хотя и сами испытывают от этого страшную скуку. Так вот этот самый
придворный, долгое время ничем не выделявшийся в толпе себе подобных, на его
счастье оказался лучшим вышивальщиком в королевстве и очень понравился
Великому Шах-Бахаму как раз тем, что стал советовать всем подданным приняться
за плетение ковров. Не будучи, как многие другие, вынужденным принимать
участие в заговорах, он только благодаря своему несравненному таланту получил
высокое право вышивать в присутствии самого Его Величества и тем самым занял
первое место в государстве".
12 ...если бы Султанша Шахерезада была жива... - Напомним, что, согласно Кребийону,
Шахерезада была бабушкой Шах-Бахама.
13 Динарзада (в переводе М.А. Салье - Дуньязада) - сестра Шахерезады в сказках
"Тысячи и одной ночи"; она также слушает рассказываемые сестрой истории и считает
сестру лучшей в мире рассказчицей.
14 ...чтобы сочинять сказки! - Как отмечают комментаторы, Шах-Бахам выступает в
романе сторонником бесхитростных сказок на старинный манер, Султанша же
отдает предпочтение новым веяниям в литературе; отсюда их разное отношение к
услышанным историям и стилю их изложения.
Софа
355
15 ...под историями я понимаю нечто вполне определенное. - Далее в издании П. Про
1742 г. следует: «"Да, Сир, - ответил Визирь, - мы тоже понимаем это именно так.
Вам хотелось бы услышать о событиях невероятных, о феях, о талисманах". - "Да,
именно это, - прервал его Султан. - Признаюсь вам, что, когда я был молодым,
меня пытались заставить читать исторические сочинения, но они наводили на
меня скуку; нет, не скажу, что они были плохи, но я не находил в них ничего
необычайного, а мне нравятся только те книги, где необычайное налицо. Черные псы,
волшебные лампы, принцесса Бадур - вот что действительно необычайно. Но
увы! Как сейчас помню, моя бабушка мне об этом всем рассказывала и я просто
плакал от удовольствия. Отчего бы это? Да потому только, что все это было ни на
что не похоже. К тому же исторические сочинения так длинны и, кроме того,
совершенно никому не нужны!"
- Ваше Величество, вы совершенно правы, - вскричал Визирь. - Ведь, положа
руку на сердце, признаем: кому это надо знать, как это все это происходило? Разве
какому-нибудь Султану, чтобы успешно править, надо знать все-все о том, что делали
его предшественники? Нет, Сир, нет, спите спокойно, сочиняйте сказки и занимайтесь
вышиванием, все же остальное - чепуха.
- Что же, вы очень умны, - ответил ему Султан. - Очень умны, очень, очень
умны, мой Визирь, - добавил он, склонившись над своей работой. - Вот гвоздика,
но я никак не могу подобрать нужный цвет; посоветуйте-ка мне! Какой бы цвет вы
выбрали?
- Клянусь Магометом, - ответил Визирь, - даже сам великий Тамерлан
затруднился бы тут с выбором. Что касается меня, я не осмелюсь ничего сказать о
раскраске, которую Вашему Величеству следовало бы сделать, и мне кажется, что тут
неплохо было бы собрать Совет, дабы принять нужное решение.
- Еще чего! - вскричала Султанша, - вы полагаете, что для того, чтобы
помочь вашему Господину выйти из этого затруднительного положения, вполне
будет достаточно собрать Совет! Вот уж придумали! А потом газеты напишут:
"Великий и Непобедимый Султан, владыка Индии, в один из недавних дней собрал
свой Верховный Совет, дабы узнать его мнение о том, какие краски ему
следовало бы выбрать, чтобы вышить цветок". -"Сударыня, сударыня, - в гневе
обратился к ней Султан. Мы собирали Совет для решения и куда более пустяковых
вопросов, что же касается газет, то они частенько просвещали публику относительно
вещей, которые не стоят моих вышивок". Султанша не стала настаивать. Совет
был созван, поразмышлял и высказался, так что вопрос был решен к вящему
удовольствию Султана.
После заседания Совета он вновь принялся за свою работу. "Раз уж я, - заметил
он, - не нуждаюсь в чьей-либо помощи, то пусть только жребий решает, кому
начинать рассказывать"».
16 Меня интересуют приключения, феи, талисманы... - Как указывают современные
комментаторы, Султан выказывает себя сторонником уже устаревающих
литературных традиций, традиций Шарля Перро и сказок "Тысячи и одной ночи". Однако в
романе традиции эти едва ощутимы.
17 ...не менее получаса. - Это требование Султана в романе не соблюдается; здесь
повествование ведет практически один рассказчик (как в "Тысяче и одной ночи"), но что
касается времени, которое уходит на тот или иной рассказ, то никаких правил и
ограничений рассказчик не соблюдает.
356
Примечания
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1 ...только Брахму почитаю Богом. - Речь идет о Брахме, творце мира, высшем
божестве индуистской мифологии. Его имя очень часто встречается в европейской
литературе на восточные сюжеты (у Вольтера и др.). Европейские писатели под Брахмой
(или Брамой) нередко понимают христианского Бога; тогда брахманы (или брамины)
оказываются католическими церковнослужителями.
2 Лманзей - этимология имени этого персонажа неясна. Скорее всего, это имя просто
придумано Кребийоном "на восточный манер" (как часто поступал и Вольтер в
своих повестях и пьесах на восточные сюжеты). Видеть в составляющей "Аман" отзвук
фр. amant - "возлюбленный", "любовник" все-таки было бы большой натяжкой.
3 ...догмат о переселении душ... - Вопрос о метампсихозе занимал многих мыслителей
и писателей XVIII в.; ему были посвящены специальные статьи в "Философском
словаре" Вольтера, в "Энциклопедии" Дидро и Даламбера и т.д. Отмечалось, что вера в
метампсихоз широко распространена в Индии и Китае и что переселение душ
возможно, в частности, из живых существ в неодушевленные предметы.
4 ...собираетесь читать мне мораль! - Султану, придерживающемуся магометанских
верований и взглядов, не могут прийтись по душе моральные положения
брахманизма.
5 Софа - этот предмет меблировки будуаров и салонов в XVIII в. постепенно входил в
моду, но его форма и назначение еще не установились окончательно: это мог быть и
небольшой диван, на котором удобно было отдохнуть (и, естественно, заняться
любовью), и широкое кресло с подлокотниками и спинкой, на котором могли сидеть два и
даже три человека. Кребийон форму своей софы описывает слишком
приблизительно (ему это было не особенно нужно), но все-таки скорее всего речь должна идти о
первом варианте.
6 ...розовой тканью с серебряной вышивкой. - В первом издании романа, как мы
знаем, книга носила название "Софа розового цвета"; затем Кребийон это указание на
цвет софы из названия своего произведения убрал. Полагают, что он сделал это
после появления в 1741 г. скабрезного романа Луи-Шарля Фужере де Монброна (1706—
1760) "Канапе огненного цвета".
7 ...моя любовь к ложам и подсказала Брахме идею заключить мою душу именно в
софу. - Аманзей, при его любви к женщинам и связанным с ними утехам, вполне
закономерно превращается Брахмой в софу, предмет, неразрывно связанный с
женщинами и соответствующими любовными забавами. Отметим, что Брахма в данном случае
достаточно "либерален": он предоставляет Аманзею возможность самому выбрать
для перевоплощения подходящую софу.
8 ...немногие герои являются героями в глазах своих близких... - Эту максиму можно
возвести к "Опытам" Монтеня (кн. 3, гл. 2): "Лишь немногие вызывали восхищение
своих близких" (см.: Монтенъ М. Опыты. М., 1979. Кн. 3. С. 22 / Пер. А.С Бо-
бовича).
9 Агра - город в Индии, с 1527 по 1658 г. - столица Империи Моголов. Город известен
многочисленными памятниками мусульманской архитектуры, в том числе мавзолеем
султана Шах-Джехана и его жены Мумтаз-и-Махал, воздвигнутым в 1632-1650 гг. на
реке Джамна (приток Ганга). В прологе к сказкам "Тысячи и одной ночи" действие
происходит приблизительно в этих же местах или несколько восточнее Агры.
0 Фатима - очень распространенное женское имя на мусульманском Востоке; в
переводе значит "Светлая". Так, например, звали дочь Магомета.
Софа
357
11 Брахман (или Брамин) - см. примеч. 1.
12 ...вошел старый брахман в спровождении двух старух... - Здесь под именем "старого
брахмана" выведен очень распространенный в XVIII в. (в том числе в литературе
эпохи) образ светского аббата, духовника представителей аристократии и состоятельной
буржуазии, который изображался обычно сатирически. Показательно, что Кребийон
противопоставляет ему молодого брахмана как более толерантного и менее
ригористичного.
13 ...все необходимое для игры... - Карточные игры были в то время очень
распространены во всех слоях общества, хотя религиозная мораль их осуждала. В некоторых
наиболее благочестивых салонах они были под запретом, но и там самым заядлым
игрокам порой удавалось эти запреты обходить.
14 ...она перестала румяниться. - Мода на румяна была распространена в XVIII в. в
самых разных социальных слоях, но особенно, конечно, при дворе и, конечно же, в
наибольшей степени в период Регентства (1715-1723), отмеченный, как известно,
распущенностью нравов, культом удовольствий и т.д.
15 Эмир - в мусульманских странах так называли высших государственных чиновников,
ближайших родственников монархов и правителей, осуществлявших светскую и
духовную власть в провинциях.
16 Петиметр - так называли светских щеголей, ведущих рассеянный образ жизни. Их
нередко высмеивали в романах и комедиях. В 1741 г. поэт Франсуа-Шарль Годе
(годы жизни не установлены) выпустил первое издание своей сатирической
"Библиотеки петиметров", с которой, несомненно, был знаком Кребийон. Ср. примеч. 17 к
Книге второй романа "Шумовка".
17 ...опытом ханжества. - Ханжество было, с точки зрения Кребийона, одним из самых
постыдных и низких качеств человека из светского общества его времени.
18 ...здесь царили другие нравы. - Кребийон попытался изобразить идеальные, с его
точки зрения, человеческие характеры, далекие от обычной светской суеты и
распущенности.
19 ...молоденькая танцовщица, с недавних пор танцевавшая при дворе... - Танцовщицы
королевского театра считались самыми доступными молодыми женщинами; они
постоянно меняли любовников и охотно отдавались за деньги. Принадлежность ко
двору (пусть и такая сомнительная) надежно защищала их от полиции нравов. Имя
Амина (что значит "Верная") было одним из распространенных женских имен на
мусульманском Востоке; оно, например, встречается в сказках "Тысячи и одной ночи",
20 Абдалатиф - это распространенный в литературе эпохи образ богатого откупщика,
т.е. богатого буржуа, купившего у казны право собирать в свою пользу те или иные
налоги (таков Тюркаре в одноименной комедии Лесажа). Его имя в переводе значит
"Раб удовольствий".
21 ...куда более рискованных. - Здесь содержится намек на венерические болезни,
которыми Абдалатиф может заразиться от Амины.
22 ...он не был слишком настойчив. - Комментаторы отмечают, что здесь резко
противопоставлены холодное распутство и подлинная страсть, что было важно для
нравственных установок Кребийона.
23 Роксана - бактрийская царевна, славившаяся красотой и умом, с 327 г. до н.э. - жена
Александра Македонского. Убита в 310 г. до н.э. по приказу Кассандра, царя
Македонии с 306 г. до н.э. Он жестоко боролся за власть с семьей Александра, велел убить
его мать, затем жену и сына. Роксана стала олицетворением женской
привлекательности, но и жестокости (такова, например, Роксана в трагедии Расина "Баязет").
358
Примечания
24 Аталис - этимологию имени этого второстепенного персонажа установить
затруднительно; вряд ли это имя образовано от какого-нибудь незначительного топонима;
еще менее вероятно, что это искаженное название материи ("атлас").
25 Эльзира - это имя, скорее всего, Кребийоном придумано (ср. Альзира у Вольтера).
26 Массуд - это имя встречается в сказках "Тысячи и одной ночи", в прологе книги; так
зовут чернокожего невольника, который становится любовником Главной
Султанши, жены Шах-Риара (ср. примеч. 2 к Предуведомлению).
27 ...все пьянило ее и кружило голову. - То есть Амина оказывается сторонницей (или
представительницей, носительницей) любви-тщеславия.
28 ...переспала со всеми неграми, которые только были во дворце. - Ср. примеч. 2 к
Предуведомлению.
29 Бонза - так европейцы называли буддийских жрецов и монахов на Дальнем Востоке
(Китай, Япония и прилегающие страны).
30 Брамин - см. примеч. 1.
31 Имам - духовное лицо у мусульман, первоначально - их глава (у арабов, турок,
персов).
32 Кади - судья у мусульман, в ведении которого были как духовные, так и светские
вопросы.
33 Зороастризм - древняя религия персов; основателем ее был Заратуштра (Зороастр).
По воззрениям сторонников этой религии, в мире царит борьба добра и зла,
человечество ждет спасение, но оно не избежит "последнего суда". Зороастрийцы почитали
огонь, осуждали массовые жертвоприношения, верили в загробную жизнь.
Мусульманство активно боролось с последователями зороастризма, которые были
вынуждены вести скитальческую жизнь.
34 ...упечь вас в надежное место... - Здесь содержится намек на парижский госпиталь
Сальпетриер (основан в 1656 г.), который служил приютом для бездомных нищих;
сюда помещали также публичных женщин для "исправления" и лечения от
венерических болезней. Аббат Прево описывает в "Манон Леско", как героиня этого романа
была помещена в Сальпетриер.
35 ...возбудить в нем неистовство. - Полагают, что здесь в иносказательной форме
изображен скандал, который разразился в Париже в 1730-1731 гг.: актриса Парижской
Оперы мадемуазель Пеллисье после разрыва со своим любовником банкиром Дюли-
сом отказалась вернуть ему драгоценности и деньги, которыми он ее осыпал в
период их связи. Весь город говорил об этом.
36 ...я отправился дальше искать своего спасения или хотя бы новых развлечений. -
Комментаторы предполагают, что в первоначальной редакции романа повествование
здесь и заканчивалось, ибо Аманзей увидел наконец зарождение истинной любви у не
искушенных еще в этой области персонажей. Но первоначальной редакции "Софы"
мы не знаем.
37 Глава восьмая. - Ни в одном издании романа эта глава не имеет названия.
38 ...того деликатного, нежного влечения... - Здесь Кребийон обращается к новой
разновидности любви, которую позже Стендаль назовет "любовью-влечением",
ссылаясь как раз на автора "Софы". Впрочем, Стендаль имел в виду, скорее всего, не этот
роман, а "Заблуждения сердца и ума" Кребийона.
39 ...во главе школы брахманов. - Обычный для литературы того времени выпад в адрес
церковников, в руках которых оставалось не только школьное, но и в какой-то мере
университетское образование. Особенно распространены были иезуитские коллежи,
в которых, кстати, преподавание было поставлено на высоком уровне.
Софа
359
40 M о клее - имя этого персонажа заимствовано из книги Франсуа Пети де Л а Круа
(1653-1713) - его сборника персидских сказок "Тысяча и один день", вышедшего в
1710-1712 гг. в пяти томах (ср. примеч. 1 к Предуведомлению). В предисловии эти
сказки приписаны "знаменитому дервишу Моклесу".
41 ...которые она пестует. - В книге "О любви" Стендаль, со ссылкой на Кребийона,
отмечает: "Сама того не зная, душа, затосковав от жизни без любви, помимо своей
воли убежденная примером других женщин, поборовшая всякий страх перед жизнью,
недовольная печальным счастьем гордости, незаметно для себя создает образец
совершенства. В один прекрасный день она встречает существо, похожее на этот
образец, кристаллизация узнает свой предмет по смятению, которое он вызывает в ней, и
она навеки отдает владыке своей судьбы то, о чем она давно мечтала" (гл. XXIII,
перевод М. Левберг и П. Губера).
42 Софизм - т.е. заведомо ложное утверждение, кажущееся правильным благодаря
обыгрыванию многозначности понятий.
43 Зефиса - скорее всего, это имя придумано Кребийоном "на восточный манер". В то
же время играющая такую важную роль в романе Зулика - это искаженная "Зулейка",
очень распространенное женское имя на Ближнем Востоке.
44 Мазульхим (вероятно от тюркск. мас'ул - "ответственный") - этот персонаж
является типичным петиметром, т.е. одновременно снобом и распутником. Современники
считали возможным прототипом этого персонажа маршала Армана де Ришелье
(1696-1788), видного политического деятеля, славившегося, однако, нестандартной
сексуальной ориентацией; другим возможным прототипом считался Жан-Фредерик
де Морепа (1701-1781), министр Людовика XV и Людовика XVI, который слыл
дамским угодником, но был при этом, видимо, импотентом, что случается довольно
часто.
45 ...на полу у ее ног. - В ту эпоху пользовались большой популярностью как предмет
убранства салона небольшие коврики или подушечки, на которых было удобно
сидеть, в частности, у ног дамы.
46 ...у вас чудесный домик... - Небольшие домики, расположенные как в самом Париже,
так, и особенно, в его предместьях и предназначенные для интимных встреч,
свиданий, кутежей, появились в первые годы Регентства герцога Филиппа Орлеанского и
сохранялись на протяжении всего столетия. Они неоднократно описывались в
галантных и "легкомысленных" романах эпохи.
47 Зобеида - имя этого персонажа заимствовано из сказок "Тысячи и одной ночи", где,
например, фигурирует знатная дама Зубейда (ночи 41—42). Причем, это реальное
лицо - любимая жена знаменитого Харуна-ар-Рашида.
48 Ареб-хан - этимология имени этого персонажа неясна; возможно, это просто
выдумка Кребийона.
49 ...женщина, не знающая света... - т.е. не обладающая светским лоском, не умеющая
кокетничать, соблазнять поклонников, заводить романы и т.д. Все это определенным
образом характеризует данного персонажа, что Кребийон и подчеркивает.
50 ...нем хладнокровие, которое вы, не подумав, должно быть, хорошенько, хотели бы
во мне найти. - В неписаных правилах поведения светских вертопрахов
хладнокровие почиталось одним из основных достоинств, особенно в любовных делах.
51 Дервиш - у мусульман странствующий нищий монах. В Европе XVIII в. "дервишами"
называли, иносказательно, католических монахов.
360
Примечания
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1 ...мало нем отличающаяся от предыдущей. - Роман Кребийона был издан в двух
небольших томиках по коммерческим соображениям. Деление на части не обозначает
какую-то паузу в повествовании; даже напротив: описание взаимоотношений Зулики
и Мазульхима прерывается с окончанием первого тома почти на самом
кульминационном месте (прием, который будет широко использоваться спустя столетие в
романе-фельетоне).
2 Петиметр - см. примеч. 16 к Первой части.
3 Алтун-Хан - такой исторический персонаж вряд ли существовал; переводится как
"Золотой хан" {тюрк.).
4 Айша - переводится как "Наслаждение"; это имя стало особенно популярным в
начале XVIII столетия, благодаря романтической истории, которой тогда
интересовался весь Париж. В 1698 г. французский посол в Турции граф Ферриоль купил у
торговца рабами девочку-черкешенку трех или четырех лет. Он отправил ее во
Францию, дал ей прекрасное образование и ввел в светские круги. Она получила
имя Шарлотты-Елизаветы Айша, но вошла в литературу под именем мадемуазель
Аиссе (ок. 1695-1733). Она поражала всех своей красотой и умом, и у нее была
масса поклонников (в том числе сам регент Филипп Орлеанский). Аиссе полюбила
некоего шевалье д'Эйди, но не захотела выходить за него замуж, чтобы своим
сомнительным происхождением не навредить его карьере. Ее история легла в основу
романа аббата Прево "История одной гречанки" (1740). Посмертно, в 1787 г.,
были изданы ее "Письма к госпоже Каландрини", полные тонких психологических
наблюдений и признаний и интересных соображений по поводу нравов того времени.
См. русский перевод: Аиссе. Письма к госпоже Каландрини / Изд. подгот. А.Л.
Андрее и П.Р. Заборов. Л., 1985.
5 Паланкин - см. примеч. 5 к Книге третьей романа "Шумовка, или Танзай и Неадарне".
6 ...которая никогда не полюбит меня! - Комментаторы полагают, что здесь
содержится стилизация, т.е. ироническое подражание (пастиш) "Андромахе" Расина:
отношения персонажей Кребийона напоминают отношения Гермионы, Ореста и Пирра.
7 ..."в форме диалога"? - Форма диалога была очень важна для Кребийона; ряд его
произведений - "Ночь и мгновение", "Случайности у камина", "Диалоги мертвых" -
написаны непосредственно в этой форме, но и "Софа" по сути дела является цепью
диалогов - как персонажей, так и рассказчика и его слушателей.
8 Только кокеток трудно уломать. - Кребийон, не боясь парадоксов, считал, что
наиболее доступными, по крайней мере легко "уламываемыми", бывают как раз
"рассудительные" женщины, кокетство же в данном случае оказывается для женщины
надежной защитой.
9 ... Шах-Риару, моему пращуру, сыну Шах-Маму на... - Вспомним, что в начале романа
султан Шах-Бахам назван всего лишь внуком Шах-Риара. Здесь упомянут Шах-
Мамун, имя которого мы встречаем и в сказках "Тысячи и одной ночи" (ночи 307-308
и др.) и который был историческим лицом; он правил арабским халифатом с 813
до 833 г., и это время считается одною из блестящих эпох в истории халифата.
10 ...его сердце устало... - Так Зулика намекает на половое бессилие Мазульхима.
11 Телмисса - это имя наверняка придумано Кребийоном.
12 Но Нассес! Ах, коварный! - Зулика строит из себя девственницу, каковой в
действительности не является. Вся сцена соблазнения, с точки зрения обоих ее участников,
носит пародийный, в лучшем случае игровой, характер.
Софа
361
13 Раджа - так в Индии называли туземных властителей, затем это стало княжеским
титулом.
14 ...это действительно ужасно. -Зулика, будучи аристократического происхождения,
имеет тем не менее любовные связи с учителями музыки или танцев. Вместе с тем она
признает, что молва об этом может ей серьезно навредить в общественном мнении.
15 Ваши философские досуги стали хорошо известны. - Под "философскими досугами"
здесь, конечно, понимаются любовные связи, кокетство, ухаживания мужчин и
одобрительное к этому отношение Зулики.
16 Принцесса Захеба... - Скрывается ли здесь намек на какую-либо аристократическую
современницу Кребийона, сказать затруднительно.
17 Искендер - это имя (т.е. Искандер, Александр) широко вошло в литературы
Ближнего Востока, начиная с великой поэмы Низами "Искендер-наме", повествующей о
легендарных деяниях Александра Македонского (вторая половина XII в.), а оттуда и в
литературы Запада на восточные и псевдовосточные сюжеты.
18 Акебар-Мирза - в ряде стран Ближнего и Среднего Востока "мирза" был титулом
членов царствующего дома или представителя аристократии; ставится обычно после
имени. "Акебар" (правильнее Акбар) - Великий.
19 Атамулк - имя этого персонажа составлено из слов "ата" ("отец") и "мулк"
("состоятельный"). Но не очень понятно, откуда Кребийон это взял.
20 Нуреддин - это имя могло быть заимствовано из сказок "Тысячи и одной ночи", где,
например, есть рассказ о визире Нур-ад-дине (ночи 20-24); фигурируют персонажи с
таким именем и в других рассказах сборника.
21 Велид - возможно, Кребийон нашел это имя все в той же книге арабских сказок, где
упоминается Омеядский халиф аль Валид, правивший в 705-715 гг. (ночь 65).
22 Жемл - происхождение и значение этого имени неясно.
23 ...такому типу, как вы! - Комментаторы отмечают, что Кребийон употребил одним
из первых слово "тип" в уничижительном плане; в самом деле, Зулика принадлежит к
более почитаемым слоям общества, чем Мазульхим.
24 ...дочь вельможи... - Здесь под "вельможей" понимается имам (ср. примеч. 31 к
Первой части романа).
25 ...среди тех, кто обитает в небесах... - Речь идет о сильфидах, вера в которых была
довольно распространена тогда (по крайней мере, верить в них считалось модным и
"современным"). Это якобы были существа, рождавшиеся из воздуха и
становившиеся бессмертными в том случае, если их полюбит обыкновенный человек. Напомним,
что Кребийон начал свой творческий путь новеллой "Сильф" (1730).
26 Фелеас - совершенно очевидно, что имя этого персонажа образовано от искаженного
греческого корня "фил" ("любящий" и т.д.).
27 Бабушка!... такими ли были ваши сказки! - Напомним, что "бабушка" - это знаменитая
Шахерезада.
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
фронтиспис
Кребийон-сын. Портрет работы Г. Даготи
альбом
Игра в китайские шахматы. Гравюра Ж. Инграма (1721-?) по оригиналу Ф. Буше
(1703-1770). Офорт, резец.
Влюбленный пастух. Гравюра Ш.-Э. Пата (1744-1802) по оригиналу Кевердо
(1748-1797). Офорт, резец.
Потеря невинности. Гравюра Дори (XVIII в.) по оригиналу Ш. Муатта (1748-1790).
Цветная акватинта.
Отъезд на острова. Гравюра Дюпена (1718-?) по оригиналу А. Ватто (1684-1721).
Офорт, резец.
Сельские развлечения. Гравюра Жермена (1733-?) и Ш.-Э. Пата по оригиналу
Л. Моро (1712-?). Офорт, резец.
Венок. Гравюра М. де Монши (1746-18..?) по оригиналу Б. Лана (?). Офорт, резец.
Фейерверк, устроенный в Медоне в 1735 г. Гравюра Ш.-Н. Кошена (1715-1790) по
оригиналу Дебонваля (XVIII в.). Офорт, резец.
"Я иду!" Гравюра Л. Марена (вторая половина XVIII в.) по оригиналу Ж. Бодуэна
(1723-1769). Цветной пунктир.
Приятная неволя. Гравюра Дори по оригиналу Ф. Леклерка (1717-1768). Офорт,
резец.
Лежащая обнаженная. Гравюра Ж. Демарто (1722-1776) по оригиналу Ф. Буше.
Карандашная манера.
"Кто там?" Гравюра Л. Марена по оригиналу Ж. Бодуэна. Цветной пунктир.
Пробуждение Карлины. Гравюра Карре (вторая половина XVIII в.) по оригиналу
Карома (?). Цветной пунктир.
"Я занят вами..." Гравюра Ж. Видаля (1742-1804) по оригиналу М. Жерар (XVIII в.).
Офорт, резец.
Венера и Амур. Гравюра Ж. Демарто по оригиналу Ф. Буше. Карандашная манера.
Опасное внимание. Гравюра А.-Ф. Деннеля (работал в Париже с 1760 по 1815 г.)
по оригиналу Ф. Буше. Офорт, резец.
Сравнение с букетом розы. Гравюра А.-Ф. Деннеля по оригиналу Г. де Сент-Обена
(1724-1780). Офорт, резец.
Список иллюстраций
363
в тексте
Иллюстрации к роману "Шумовка, или Танзай и Неадарне". Гравюры Л.Ф. Дюбура
(1693-1775).
Иллюстрации к роману "Софа". Гравюры Ж. Пеллетье (1736-?).
Титульный лист романа "Шумовка, или Танзай и Неадарне" издания 1734 г. .. 321
Титульный лист романа "Софа" издания 1749 г 324
СОДЕРЖАНИЕ
ШУМОВКА, ИЛИ ТАНЗАЙ И НЕАДАРНЕ
ЯПОНСКАЯ ИСТОРИЯ
(перевод Е.Э. Бабаевой)
ПРЕДИСЛОВИЕ
Глава первая. О происхождении сей книги 7
Глава вторая. Как сия достопримечательная книга попала во Францию 8
Глава третья и последняя. О трудностях, которые пришлось преодолеть. Похвала
последнего переводчика самому себе 9
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
КНИГА ПЕРВАЯ
Глава первая. О том, кто такой принц Хиауф-Зелес-Танзай 11
Глава вторая. Возвращение принца. Король собирает Совет. Выбор невесты.
Прибытие принцесс. Их кокетство. Оказанный им прием 14
Глава третья. Любовь принца. Беспримерная мудрость Неадарне 16
Глава четвертая. Танзай оглашает свой выбор. Подарок феи 19
Глава пятая. Гнев Бурыссы Тусклофарды. Его причины. Какое утешение было
ей обещано. Кто утешил ее 23
Глава шестая. День свадьбы. Принц присутствует при туалете своей невесты 25
Глава седьмая. День свадьбы: продолжение. Шумовка пущена в ход. Вздорнуцио
гневается и отказывает принцу в его просьбе 27
Глава восьмая. Месть Огурогуры. Возвращение во дворец. Новости 31
КНИГА ВТОРАЯ
Глава девятая. Брачная ночь 35
Глава десятая. Брачная ночь. Продолжение. Какую шутку сыграла шумовка
сТанзаем 37
Глава одиннадцатая. События, не представляющие особенного интереса. Король
созывает совет. Что решили министры 39
Глава двенадцатая. Прорицание Обезьяны. Отъезд принца 41
Глава тринадцатая. Удивительная встреча с феей у кипящего чана 42
Содержание
365
Глава четырнадцатая. Принц прибывает на Комариный остров 44
Глава пятнадцатая. О том, как легко обмануться в своих ожиданиях 47
Глава шестнадцатая. Ошибка принца. Счастье уплывает из его рук. Какой ценой
он может выкупить его 50
Глава семнадцатая. Ночь блаженства 52
Глава восемнадцатая, самая скучная в книге 56
Глава девятнадцатая. Как из мыши сделать слона 58
Глава двадцатая. Принц возвращается в Тютюрбанию 63
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
КНИГА ТРЕТЬЯ
Глава двадцать первая, которая учит, что ни в чем нельзя быть уверенным до
конца 66
Глава двадцать вторая. Как принц пришел в ярость и что послужило тому
причиной 69
Глава двадцать третья. О том, как необходимо проявлять осмотрительность,
даже когда спешишь 72
Глава двадцать четвертая, смысл которой понятен, возможно, не всем 75
Глава двадцать пятая. Продолжение предыдущей 79
Глава двадцать шестая, в том же духе, что и две предыдущие 85
Глава двадцать седьмая, которая у многих читателей вызовет зевоту 89
Глава двадцать восьмая. Коварство Нарцисса. Как Усыня обернула это в свою
пользу 92
Глава двадцать девятая. Интересный разговор, состоявшийся между Усыней
и Неадарне 95
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
Глава тридцатая, которая может представлять интерес для тех, кто ее поймет.... 101
Глава тридцать первая, служащая лишь для того, чтобы сделать историю более
длинной 106
Глава тридцать вторая, из которой станет ясно, среди прочего, как
деградировала музыка 109
Глава тридцать третья. Опера 112
Глава тридцать четвертая. Как опасно для женщин быть пугливыми 116
Глава тридцать пятая, служащая прологом к великим событиям 121
Глава тридцать шестая. Принцесса отвлекается от дум 125
Глава тридцать седьмая, которая учит недотрог опасаться некоторых ситуаций 130
Глава тридцать восьмая, в которой читатель найдет то, что уже давно было
ему обещано 134
Глава тридцать девятая, скорее необходимая, чем занимательная 137
366
Содержание
Глава сороковая. О том, как просто попасть в собственную ловушку. Прибытие
Брадакелы. Возвращение в Тютюрбанию. Как была улажена распря из-за шумовки.
Конец истории 142
СОФА
НРАВОУЧИТЕЛЬНАЯ СКАЗКА
(перевод Е.Э. Бабаевой)
Предуведомление 149
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава первая, наименее скучная 154
Глава вторая, которая не всякому придется по вкусу 158
Глава третья, в которой говорится о вещах невероятных 162
Глава четвертая, в которой читатель узнает то, что, возможно, он не
предполагал узнать 168
Глава пятая, которую лучше пропустить, не читая 172
Глава шестая, столь же забавная, сколь и удивительная 178
Глава седьмая, в которой содержится многое, достойное порицания 184
Глава восьмая 190
Глава девятая, в которой предлагается решить некую важную проблему 198
Глава десятая, в которой, среди прочего, предлагается способ убить время 208
Глава одиннадцатая, в которой предлагается рецепт против злых чар 220
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава двенадцатая, мало чем отличающаяся от предыдущей 230
Глава тринадцатая, содержащая развязку прежней истории и завязку новой 237
Глава четырнадцатая, содержащая мало событий, но много разговоров 245
Глава пятнадцатая, которая вряд ли развеселит тех, кому предыдущие главы
показались скучны 255
Глава шестнадцатая, содержащая рассуждение, которое не всем придется по вкусу 263
Глава семнадцатая, содержащая рекомендации неопытным женщинам, если
таковые сыщутся, как избежать неприятных вопросов 272
Глава восемнадцатая, полная намеков, крайне затруднительных для понимания... 277
Глава девятнадцатая. Ах! Тем лучше! 284
Глава двадцатая. Услада души 291
Глава последняя 296
Содержание 367
ПРИЛОЖЕНИЯ
А.Д. Михайлов. Два романа Кребийона-сына - ориентальные забавы рококо, или
Раздумия о природе любви 305
Н.О. Веденеева. Французская иллюстрация XVIII в 330
Примечания (составил АД. Михайлов)
Предварительные замечания 338
Шумовка, или Танзай и Неадарне. Японская история 339
Софа. Нравоучительная сказка 352
Список иллюстраций (составила Н.О. Веденеева)
362
Научное издание
КРЕБИЙОН-СЫН
ШУМОВКА,
или
ТАНЗАЙ И НЕАДАРНЕ
Японская история
—*—
СОФА
Нравоучительная сказка
Утверждено к печати
Редколлегией серии
"Литературные памятники"
Зав. редакцией Е.Ю. Жолудъ
Редактор ЕЛ. Никифорова
Художник В.Ю. Яковлев
Технический редактор З.Б. Павлюк
Корректоры Т.А. Печко, М.Д. Шерстенникова
Подписано к печати 17.10.2006
Формат 70 х 90Vi6- Гарнитура Тайме
Печать офсетная
Усл.печ.л. 28,2. Усл.кр.-отт. 28,6. Уч.-изд.л. 27,2
Тираж 2000 экз. Тип. зак. 4463
Издательство "Наука"
117997, Москва, Профсоюзная ул., 90
E-mail: secret@naukaran.ru
www.naukaran.ru
ППП "Типография "Наука"
121099, Москва, Шубинский пер., 6