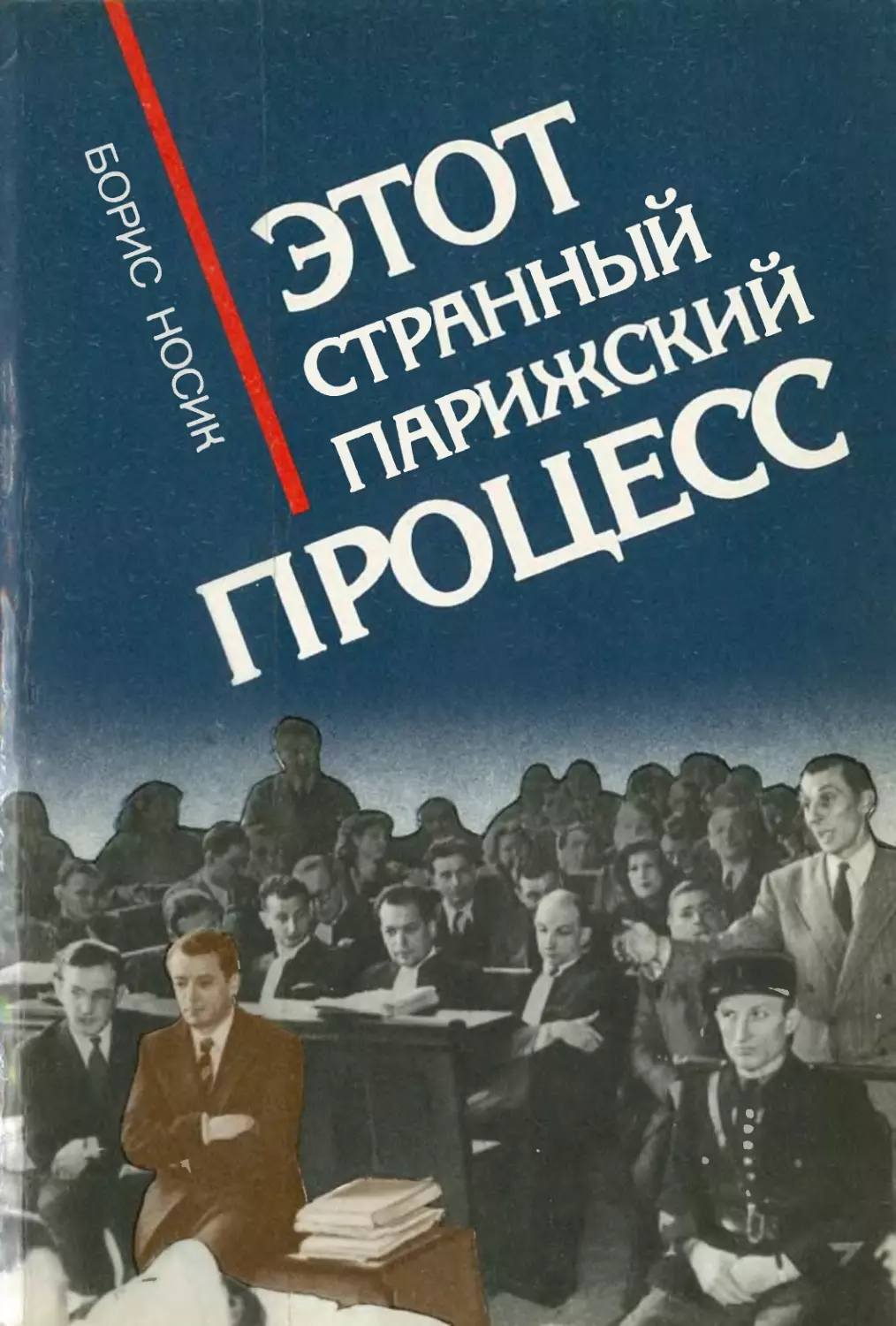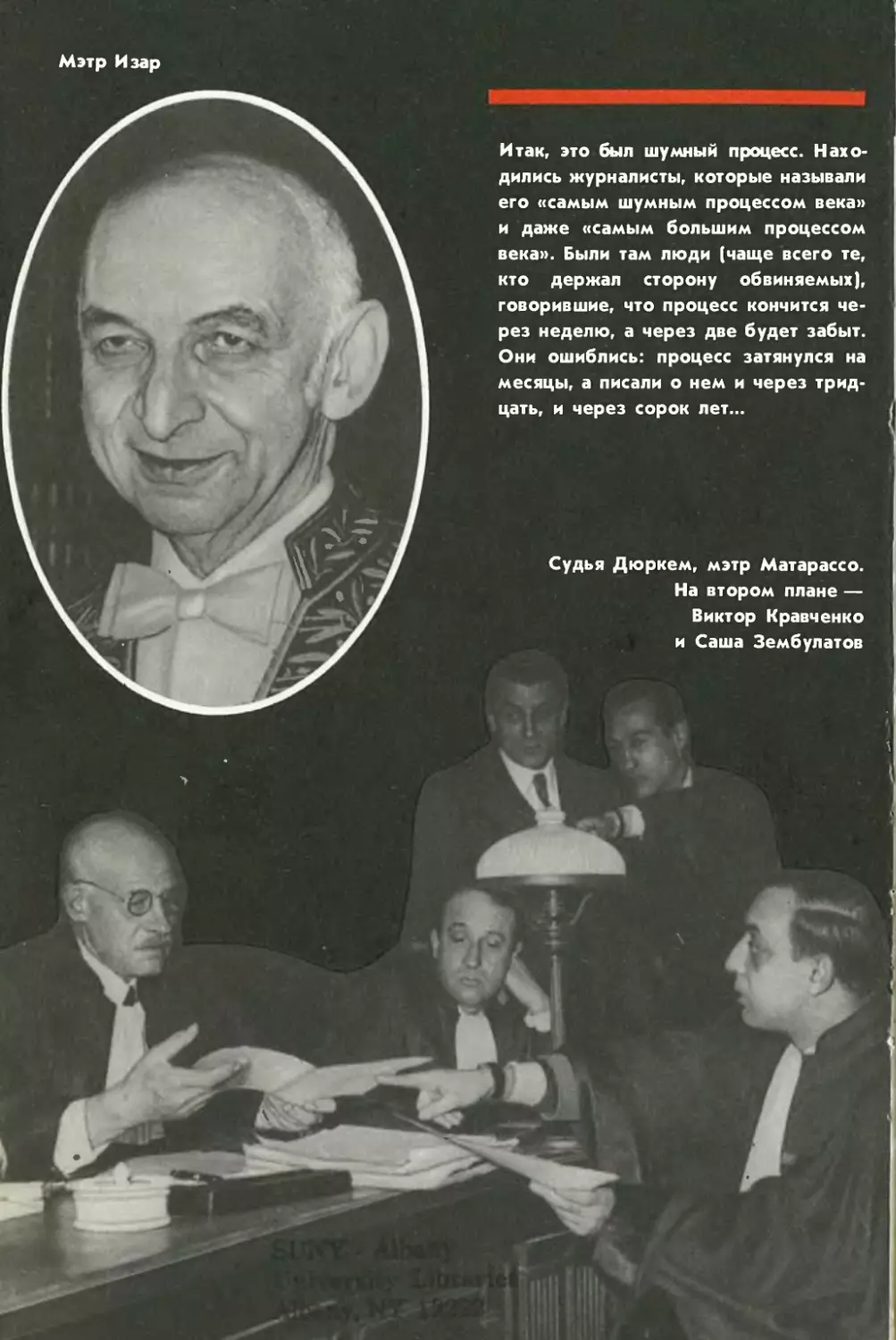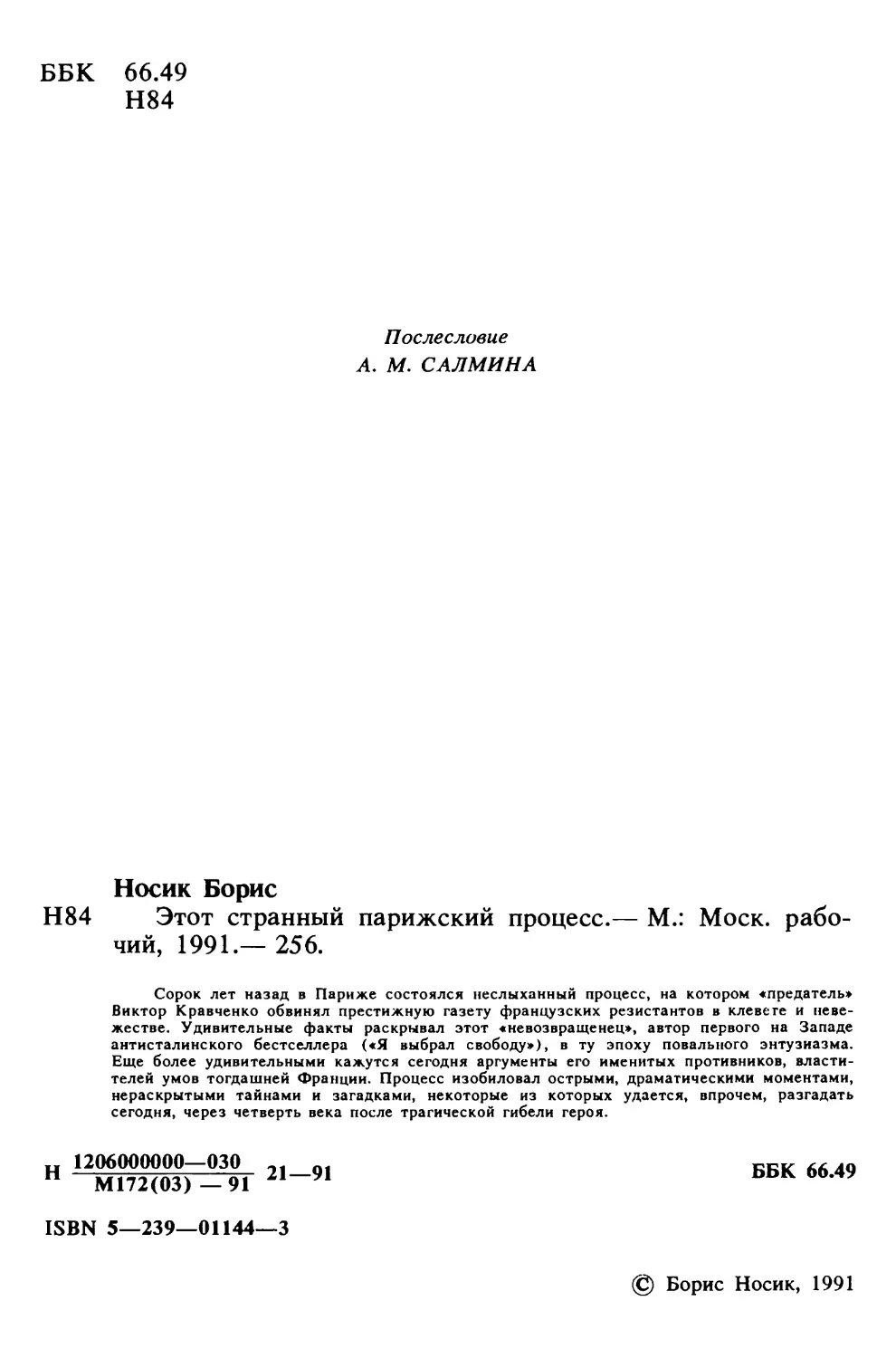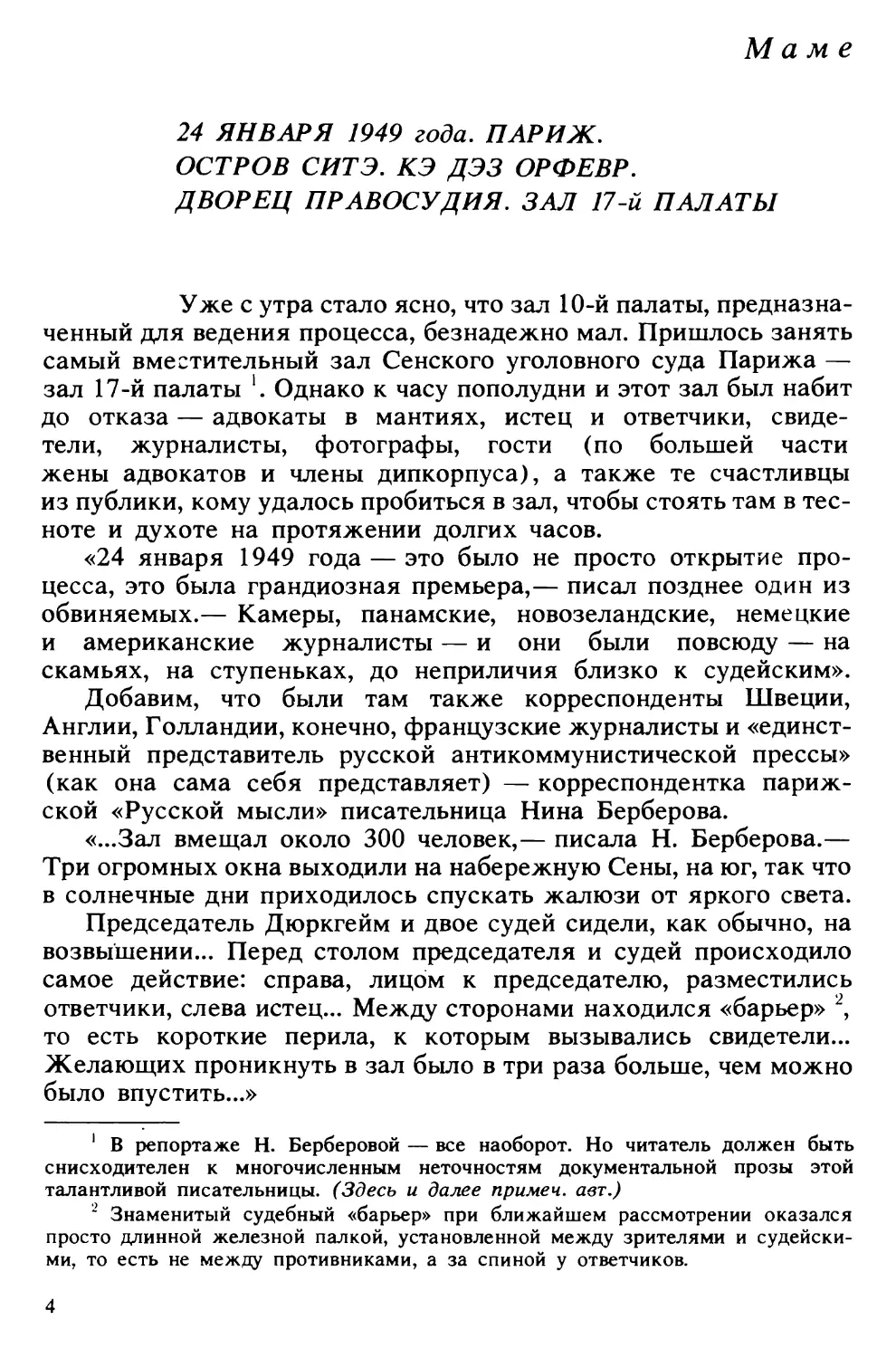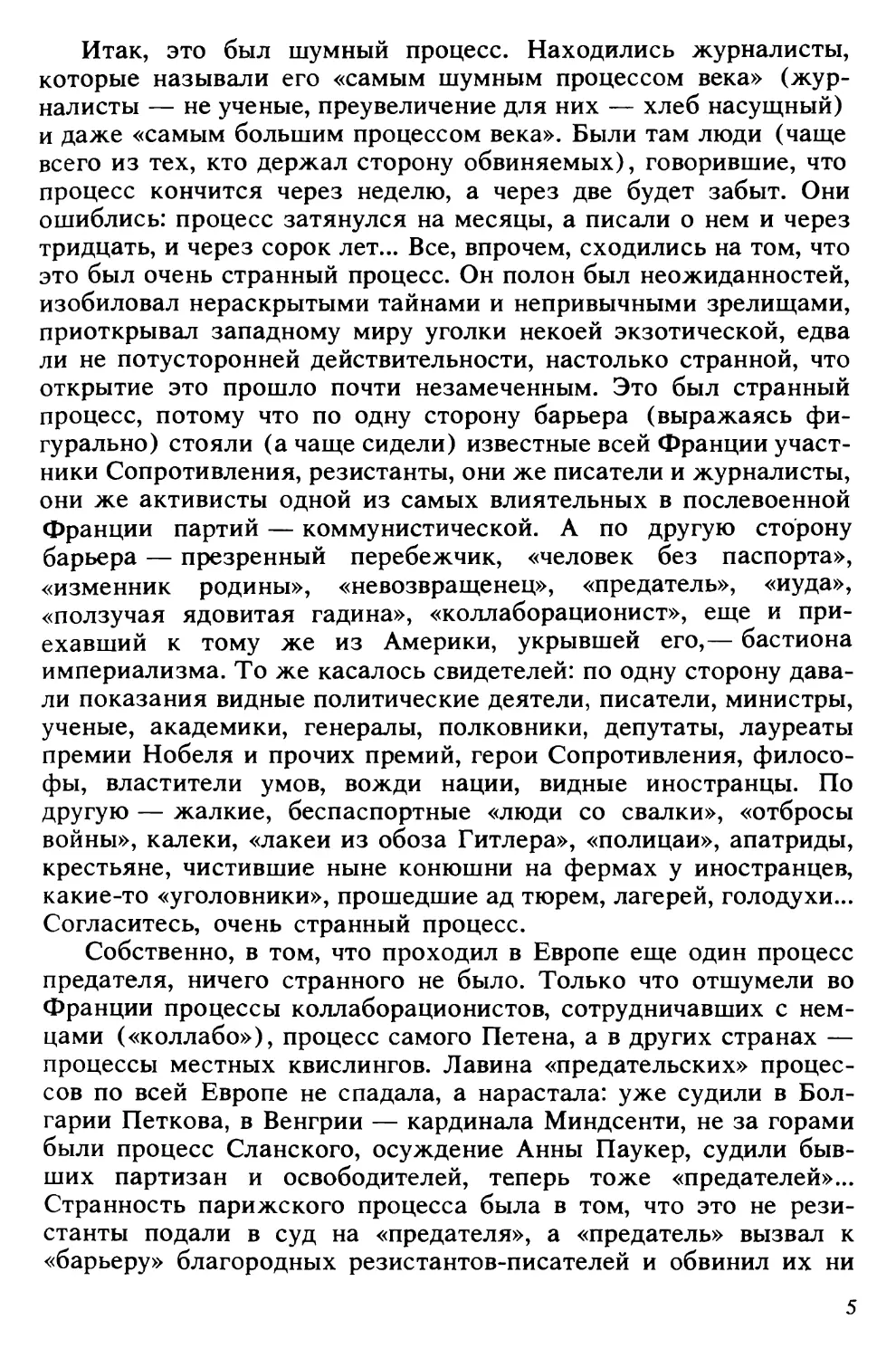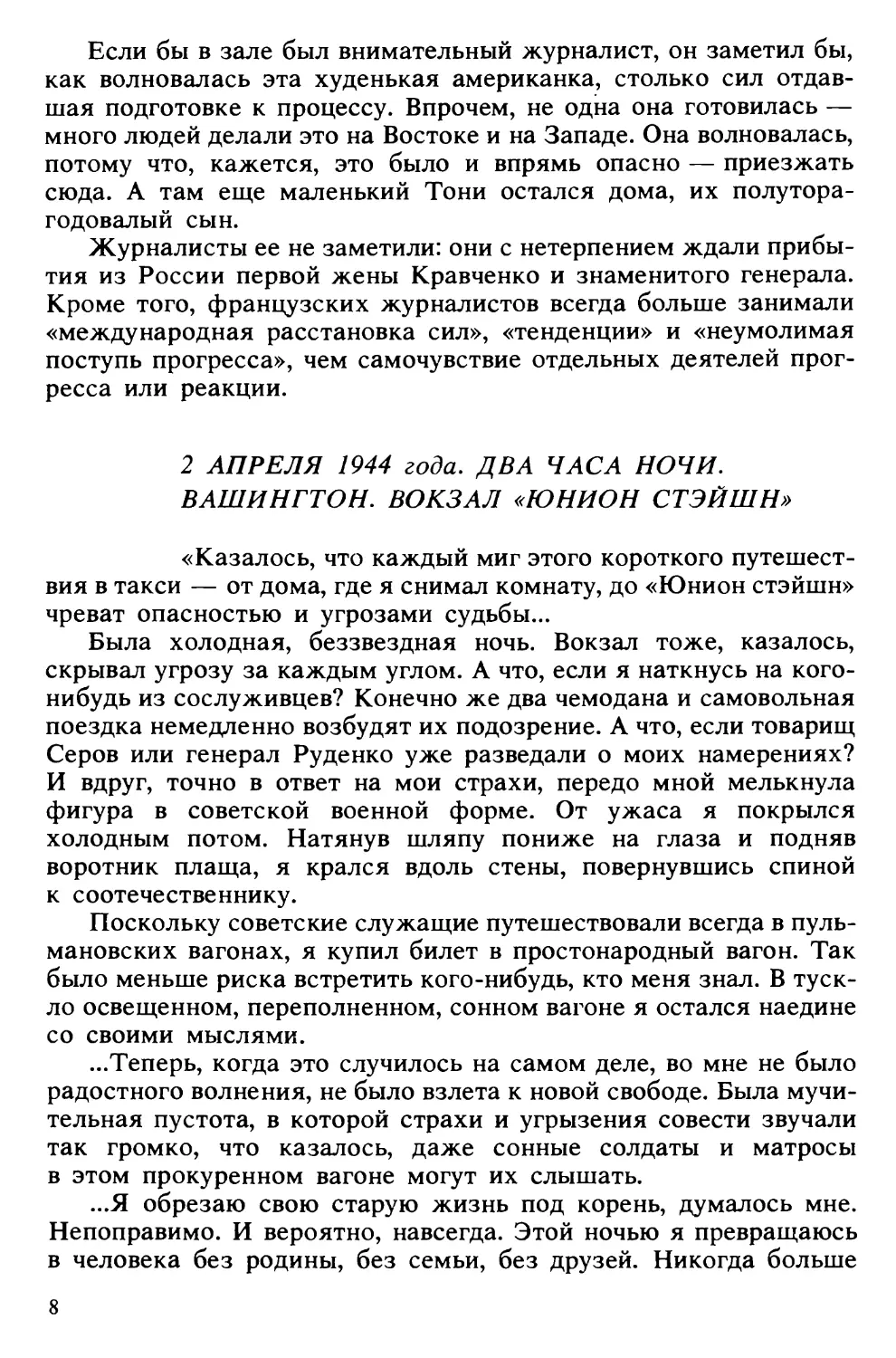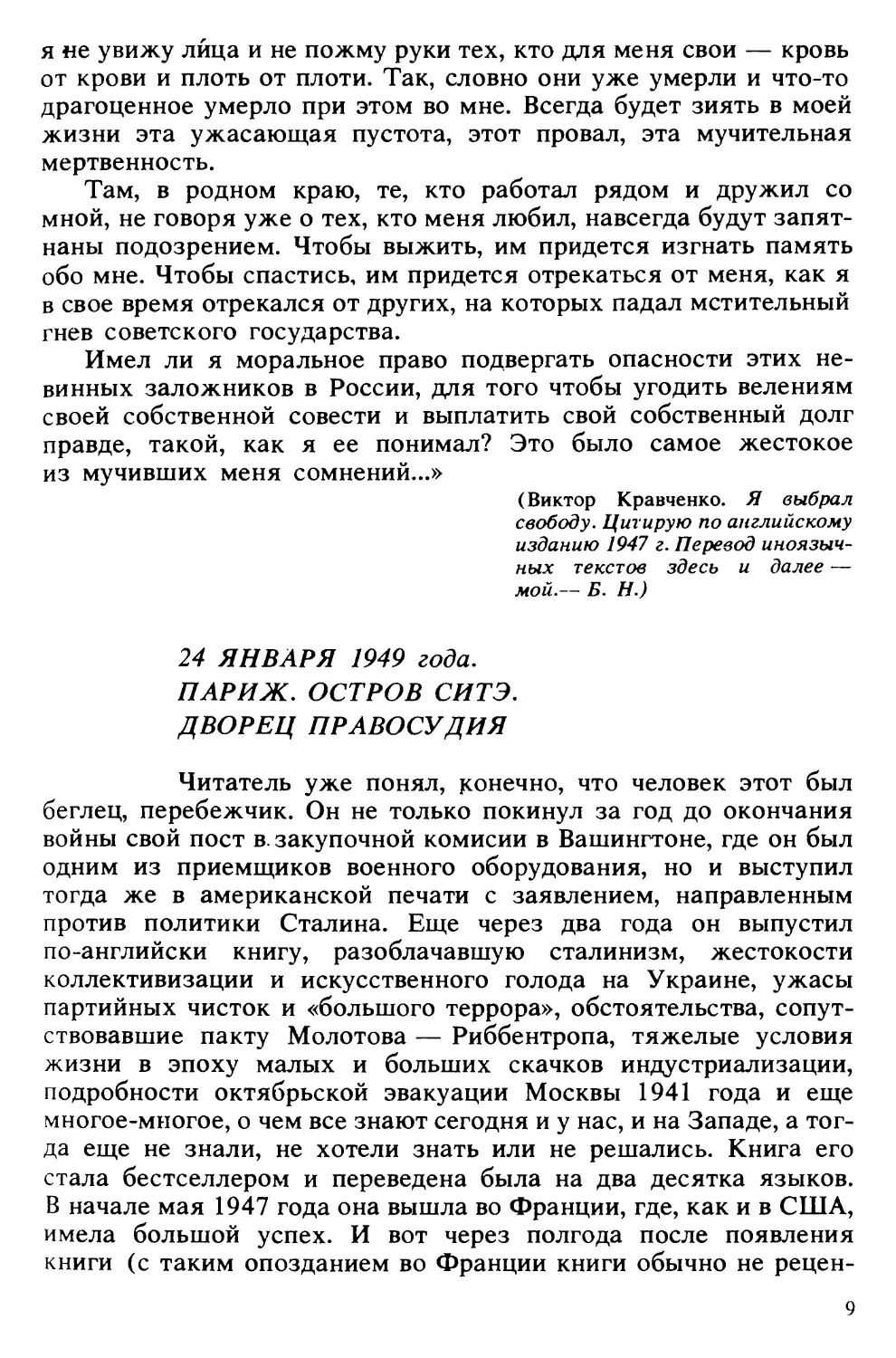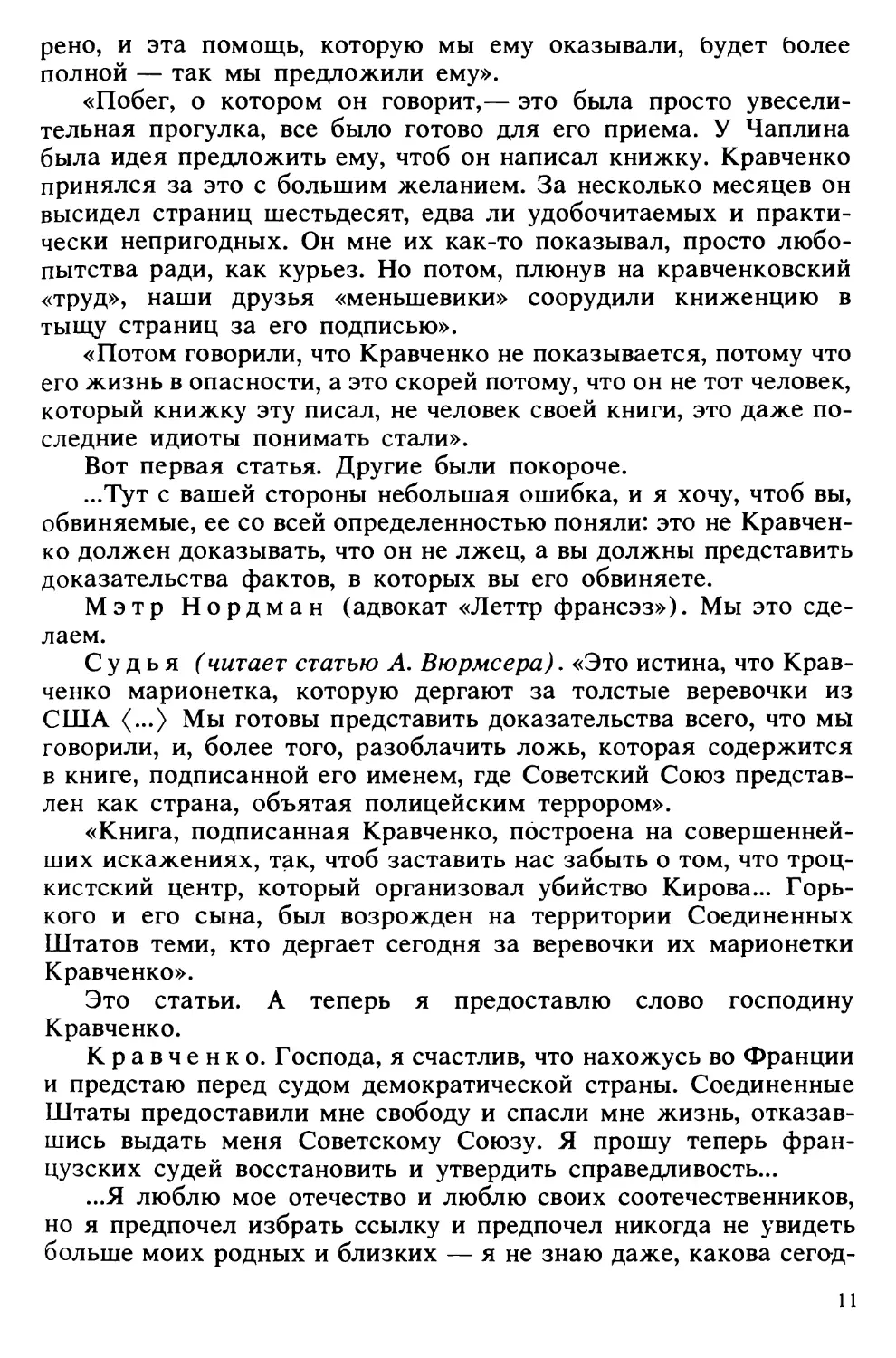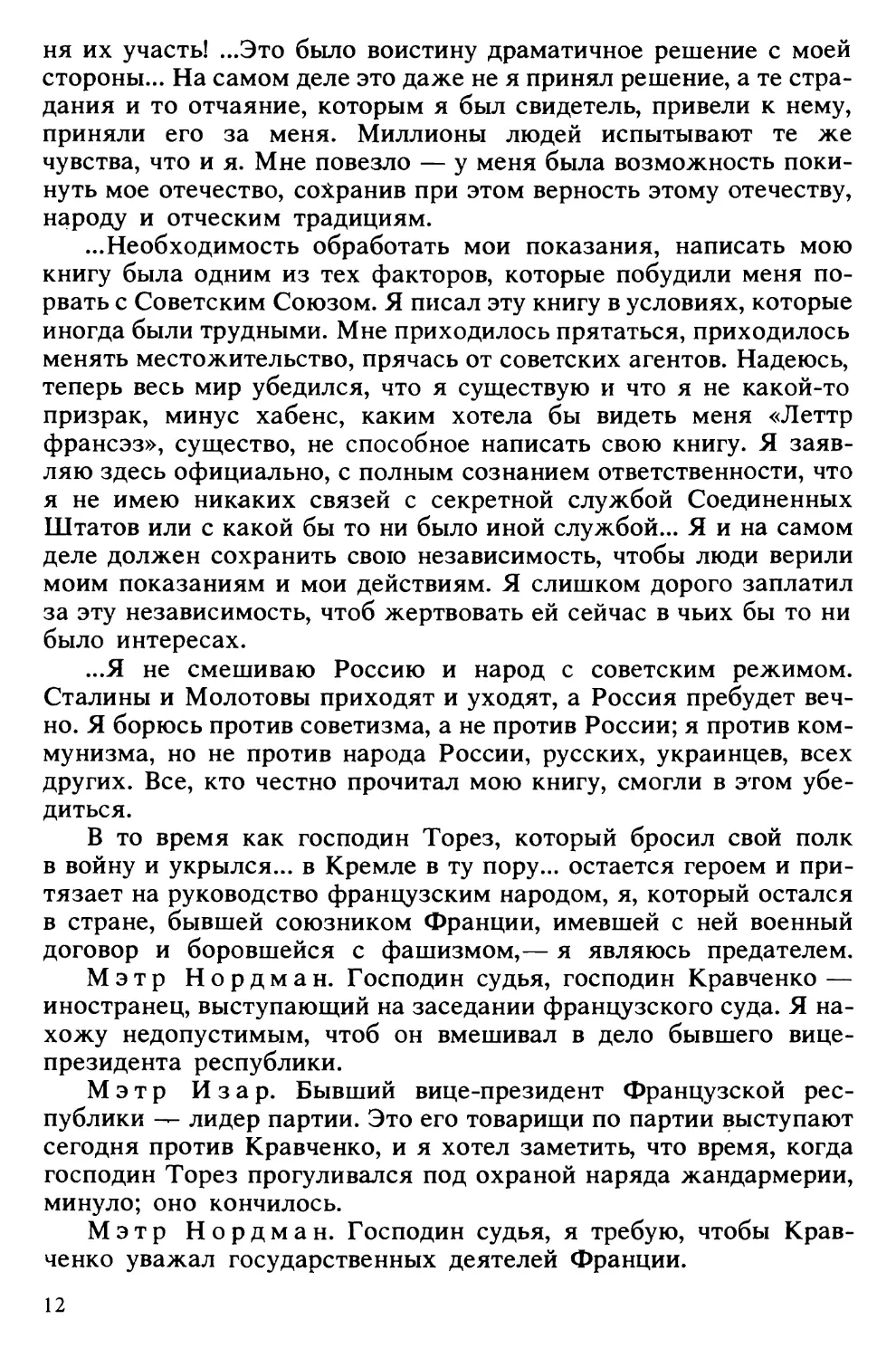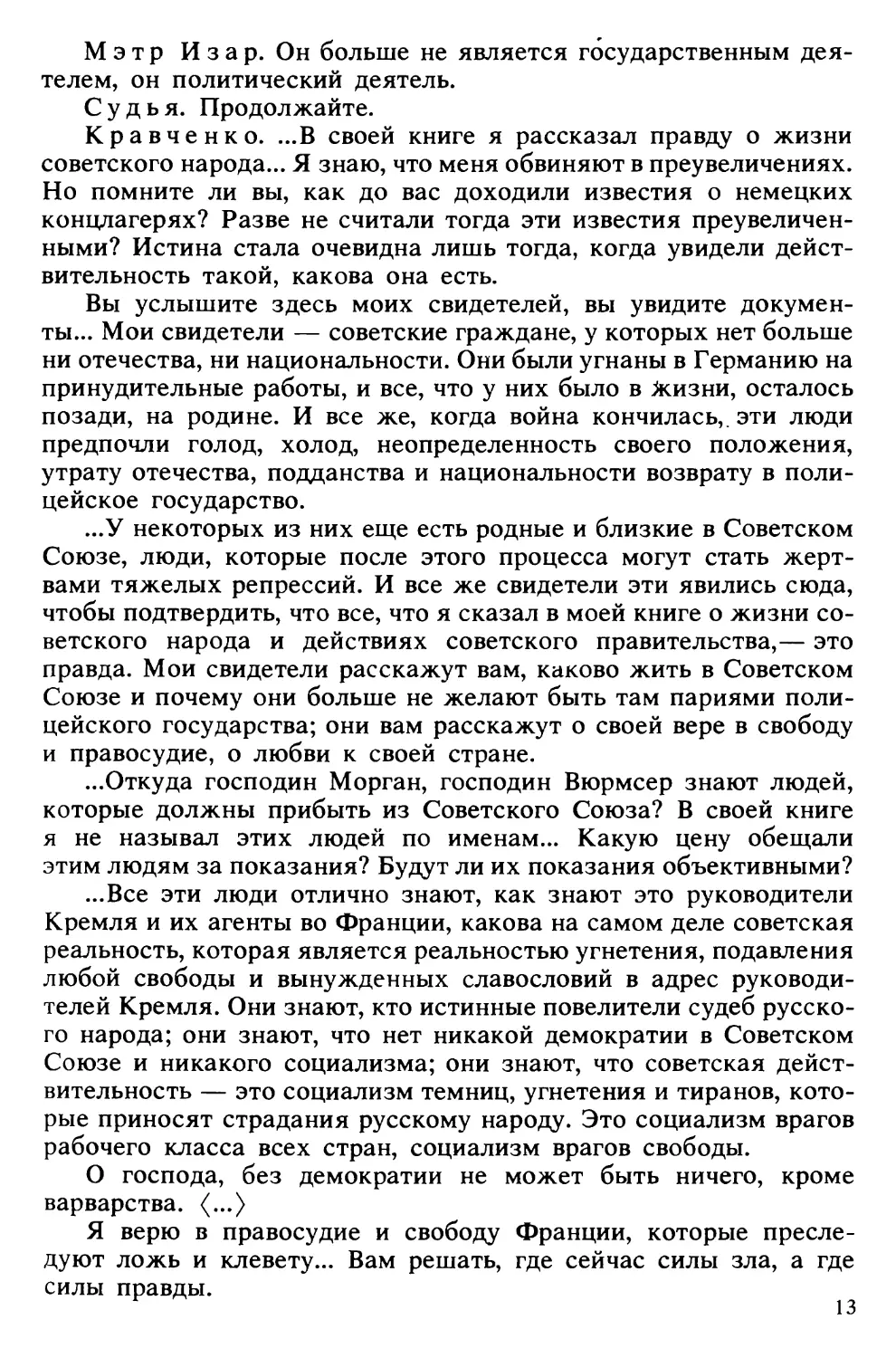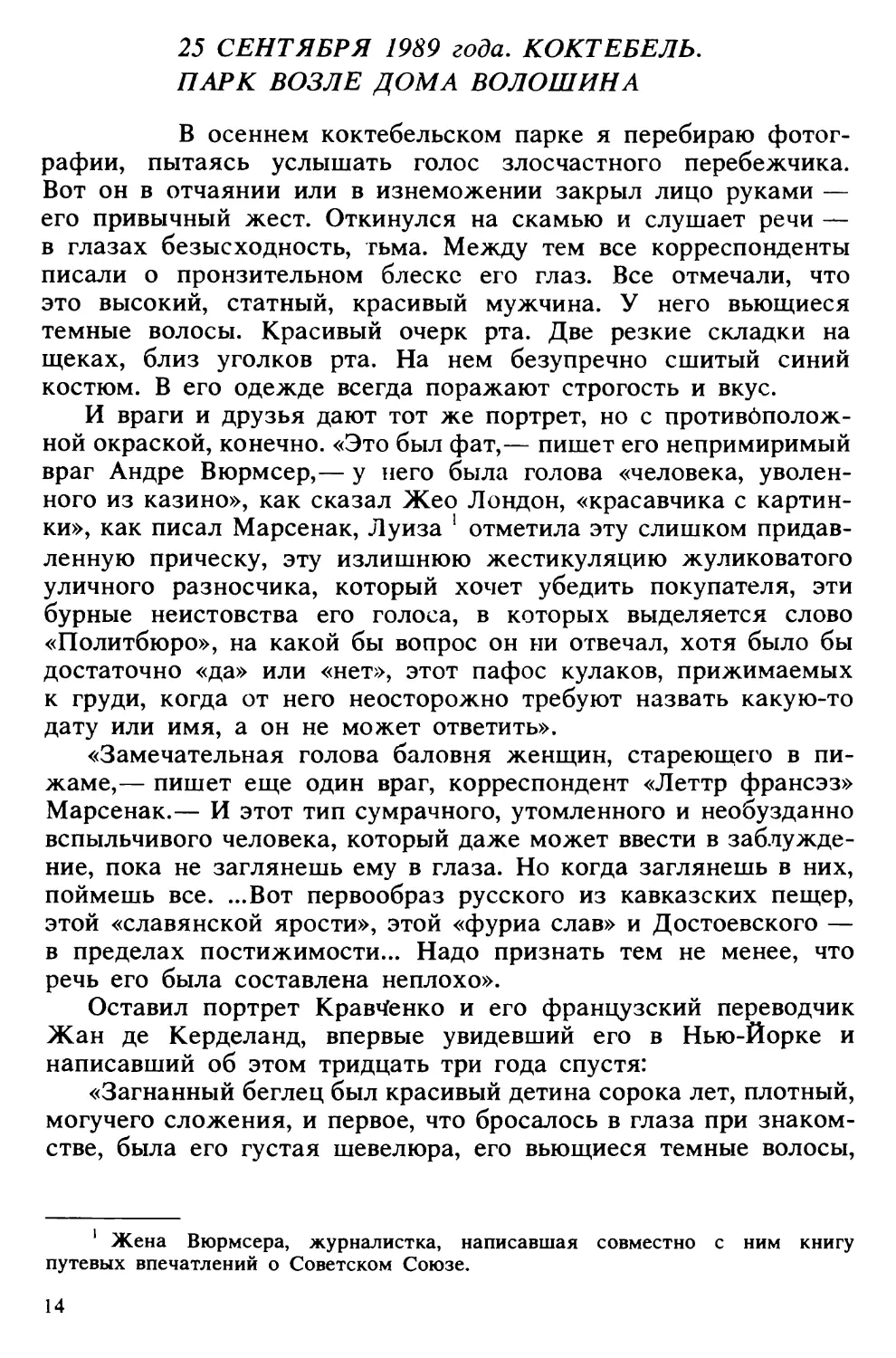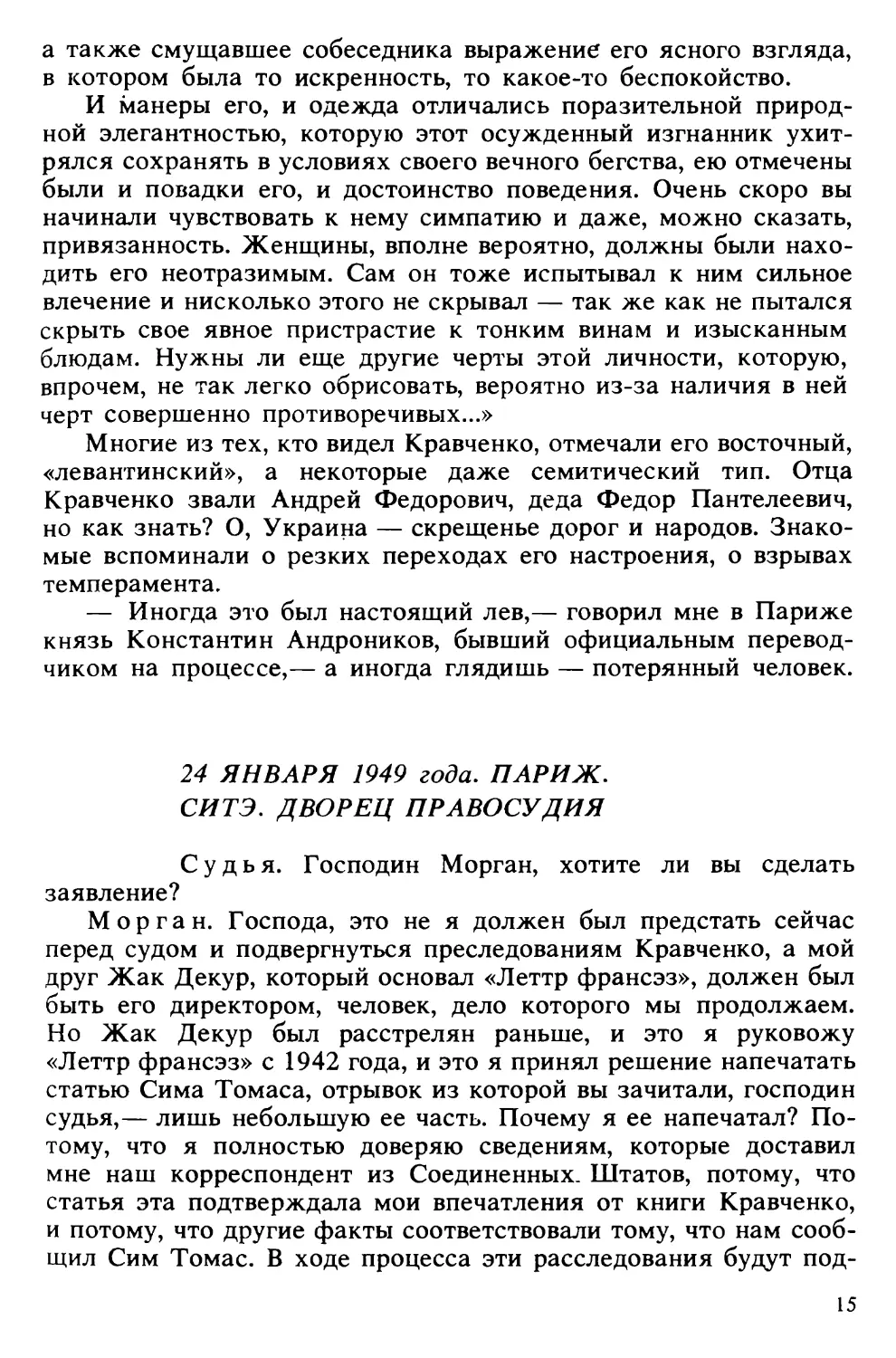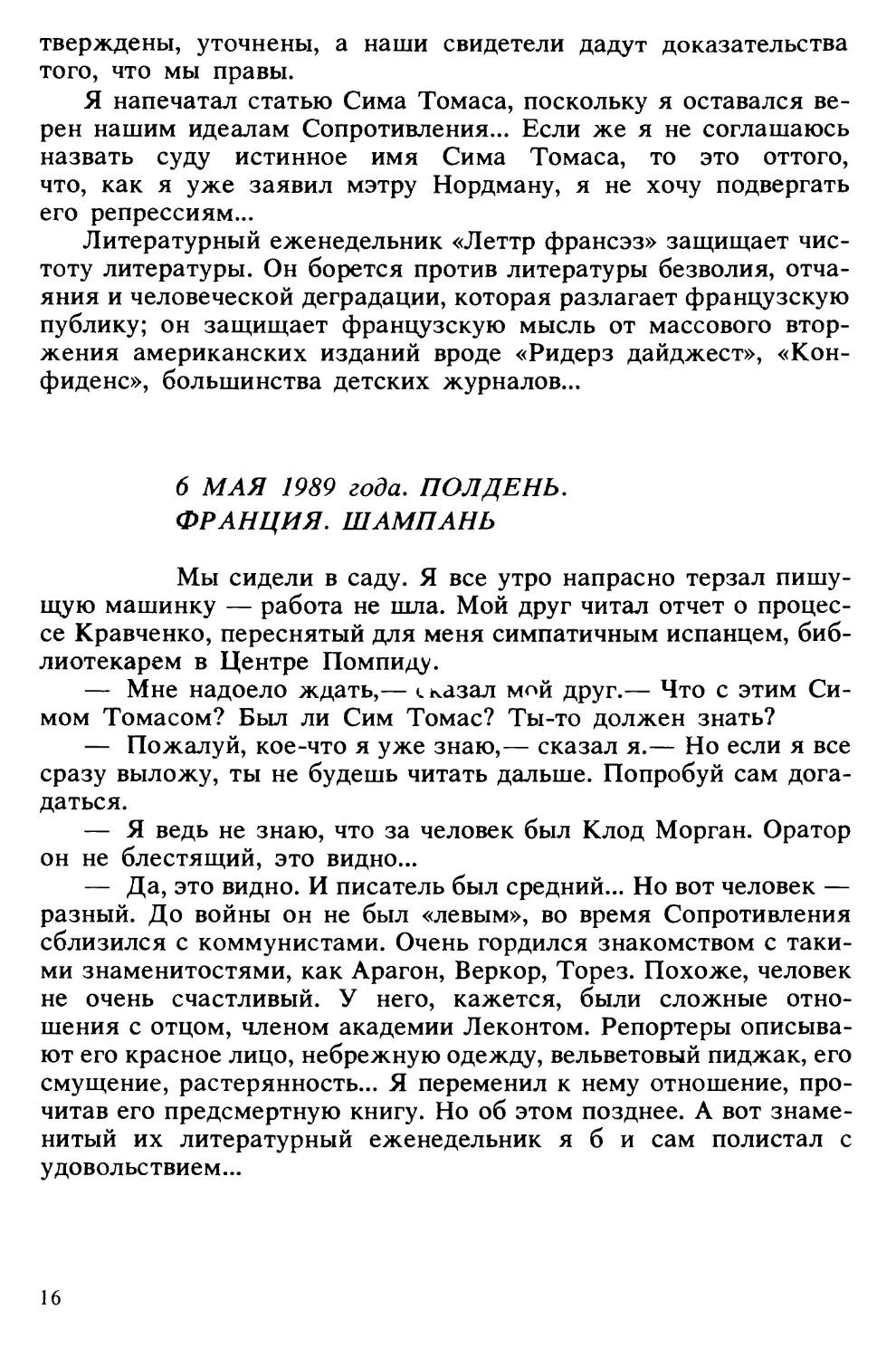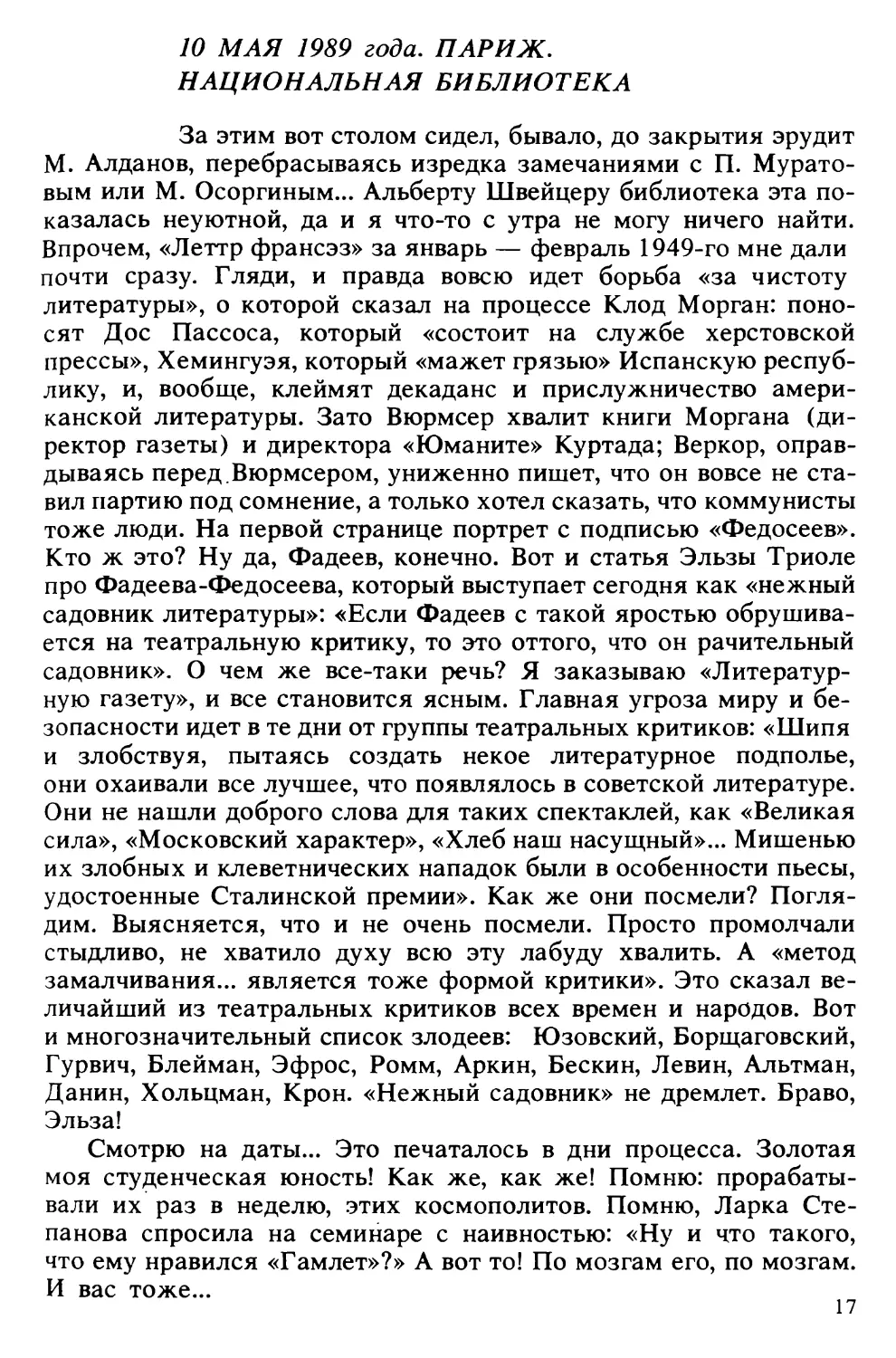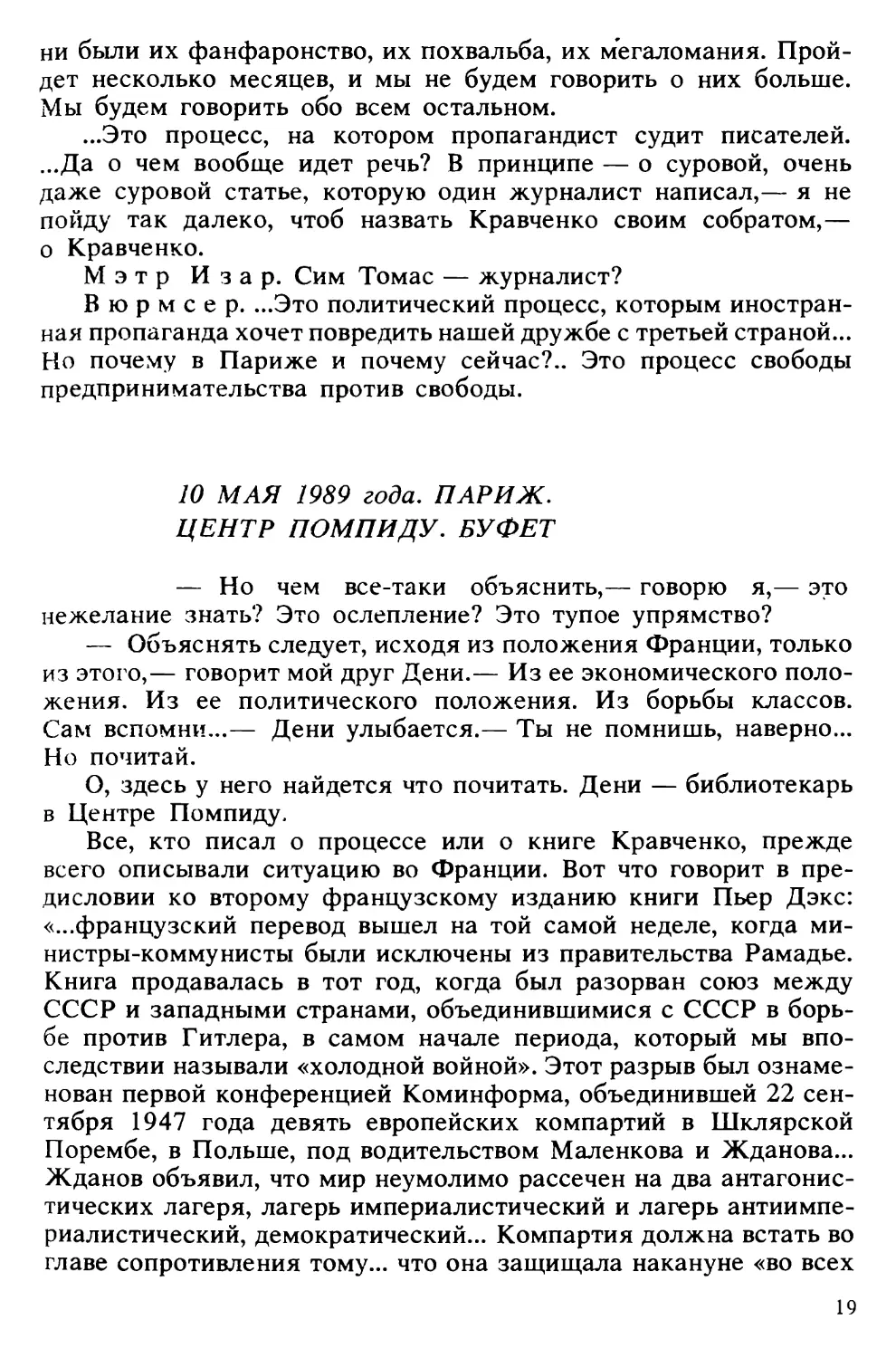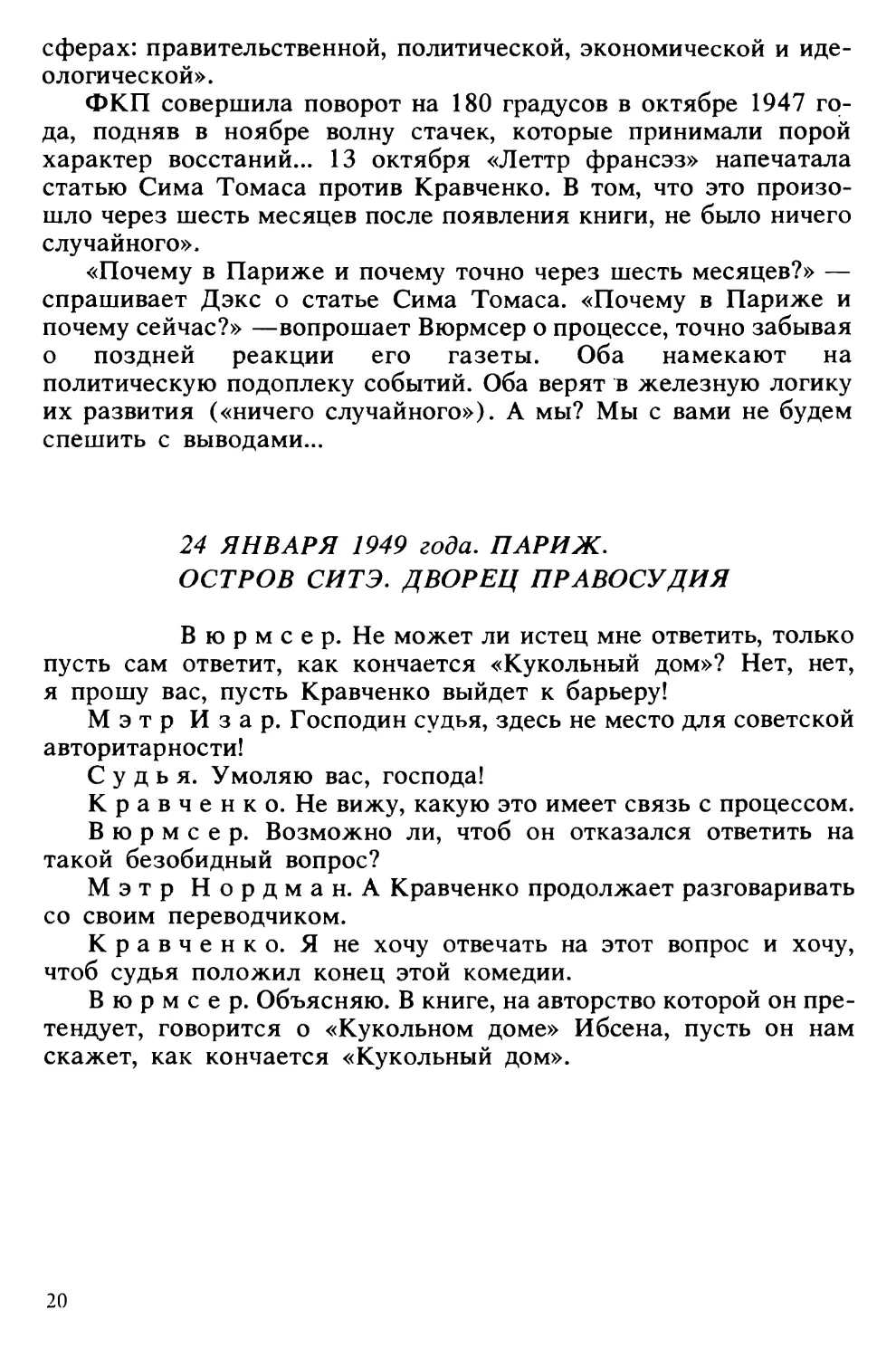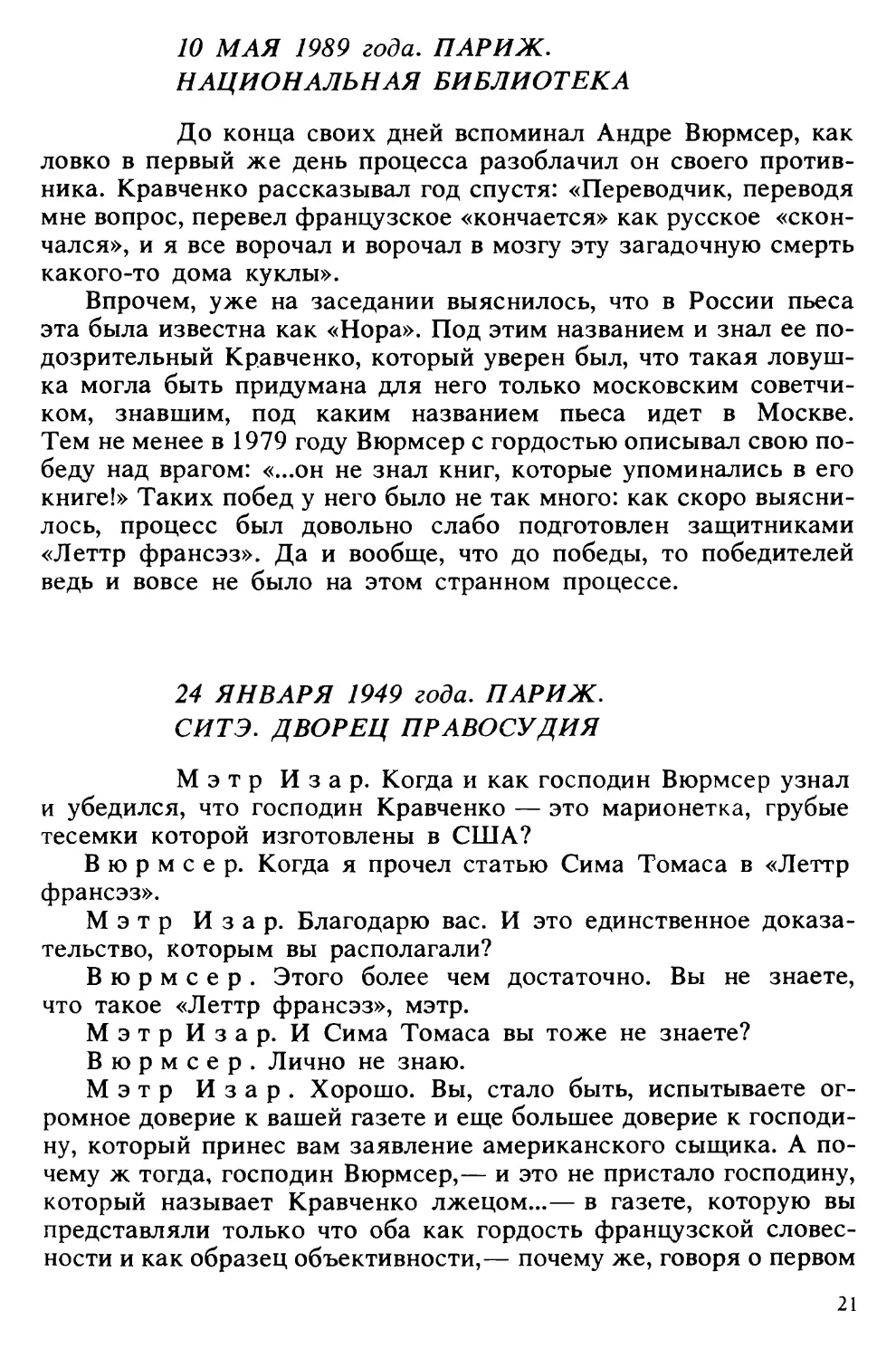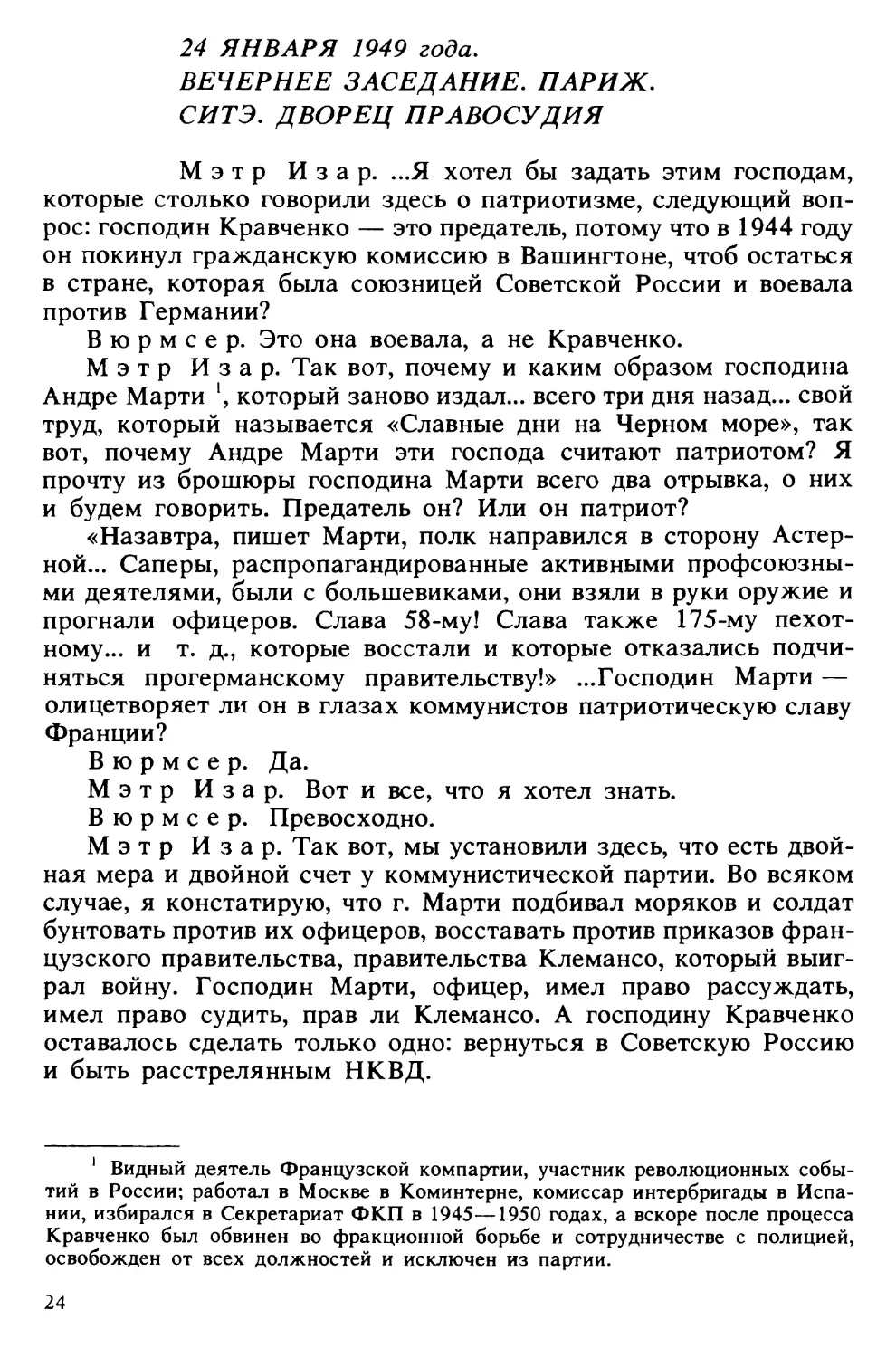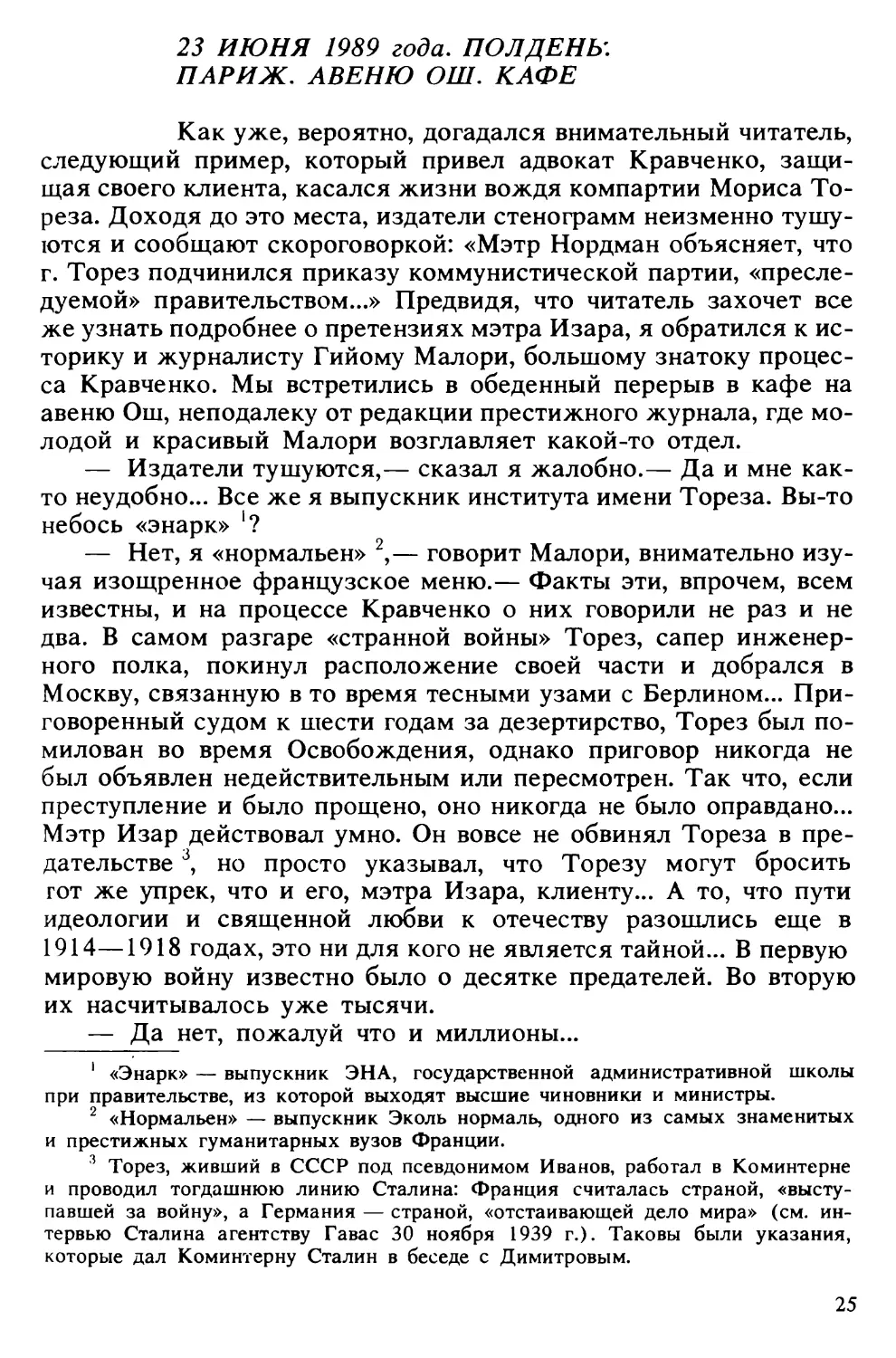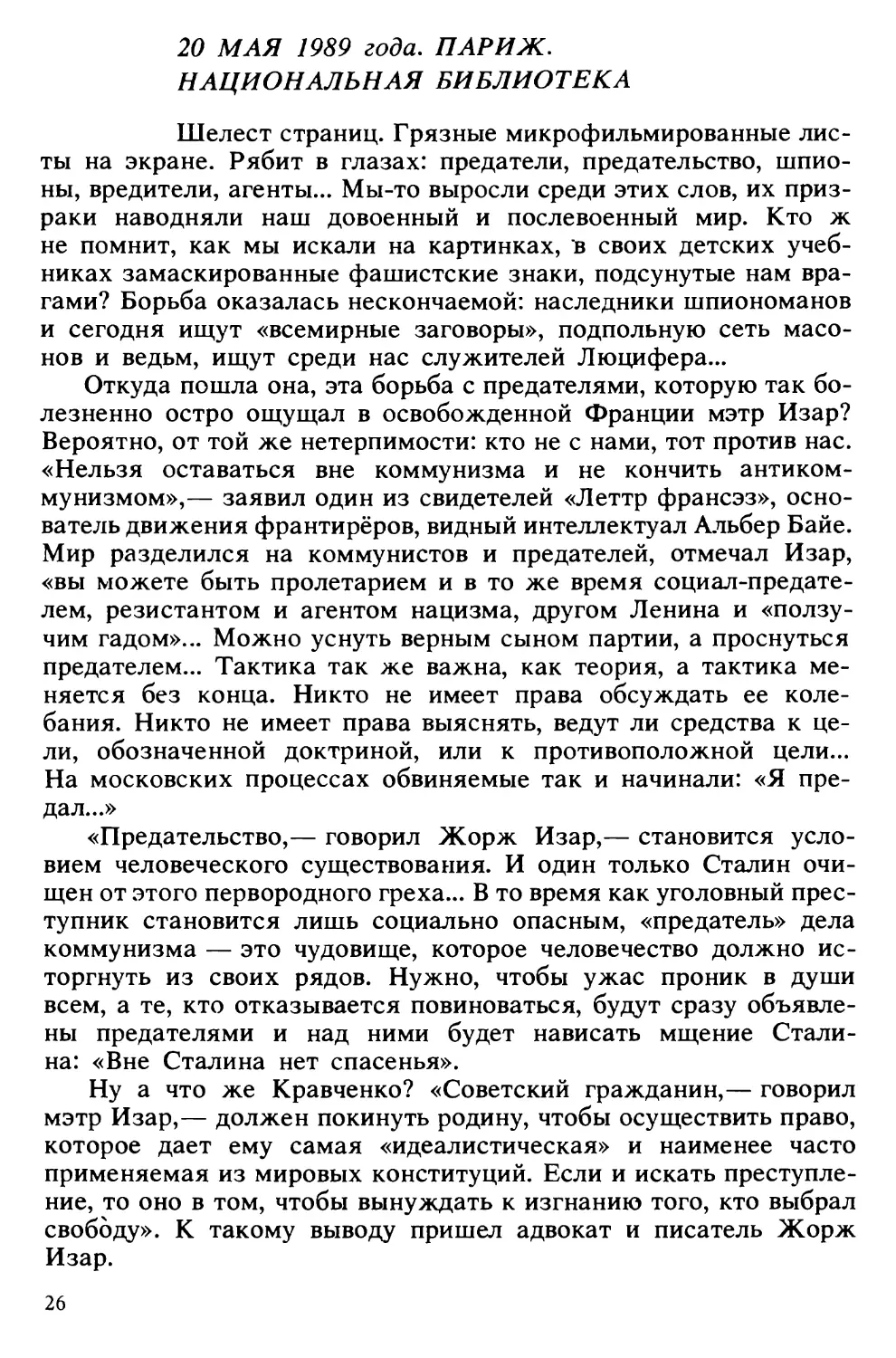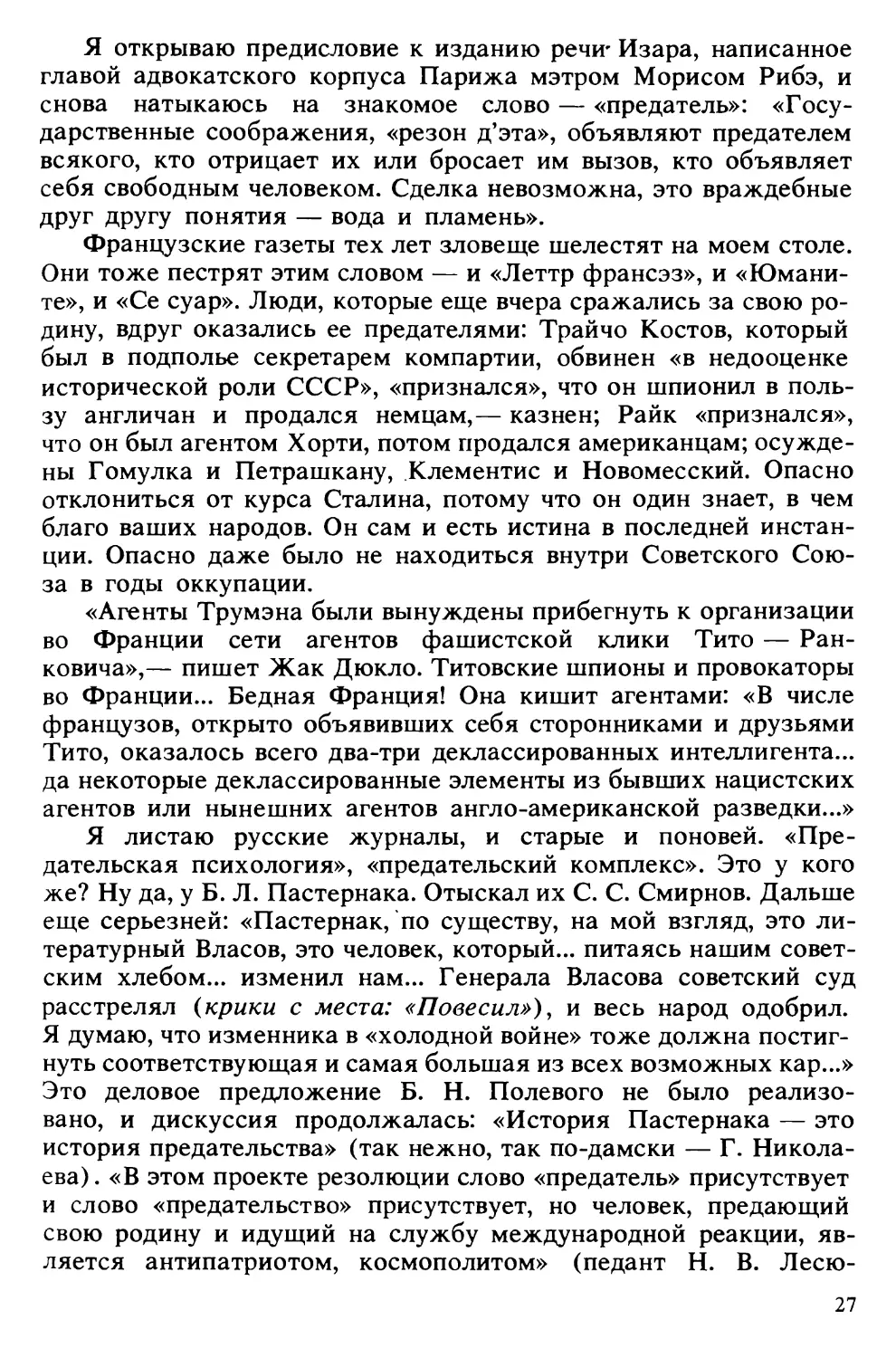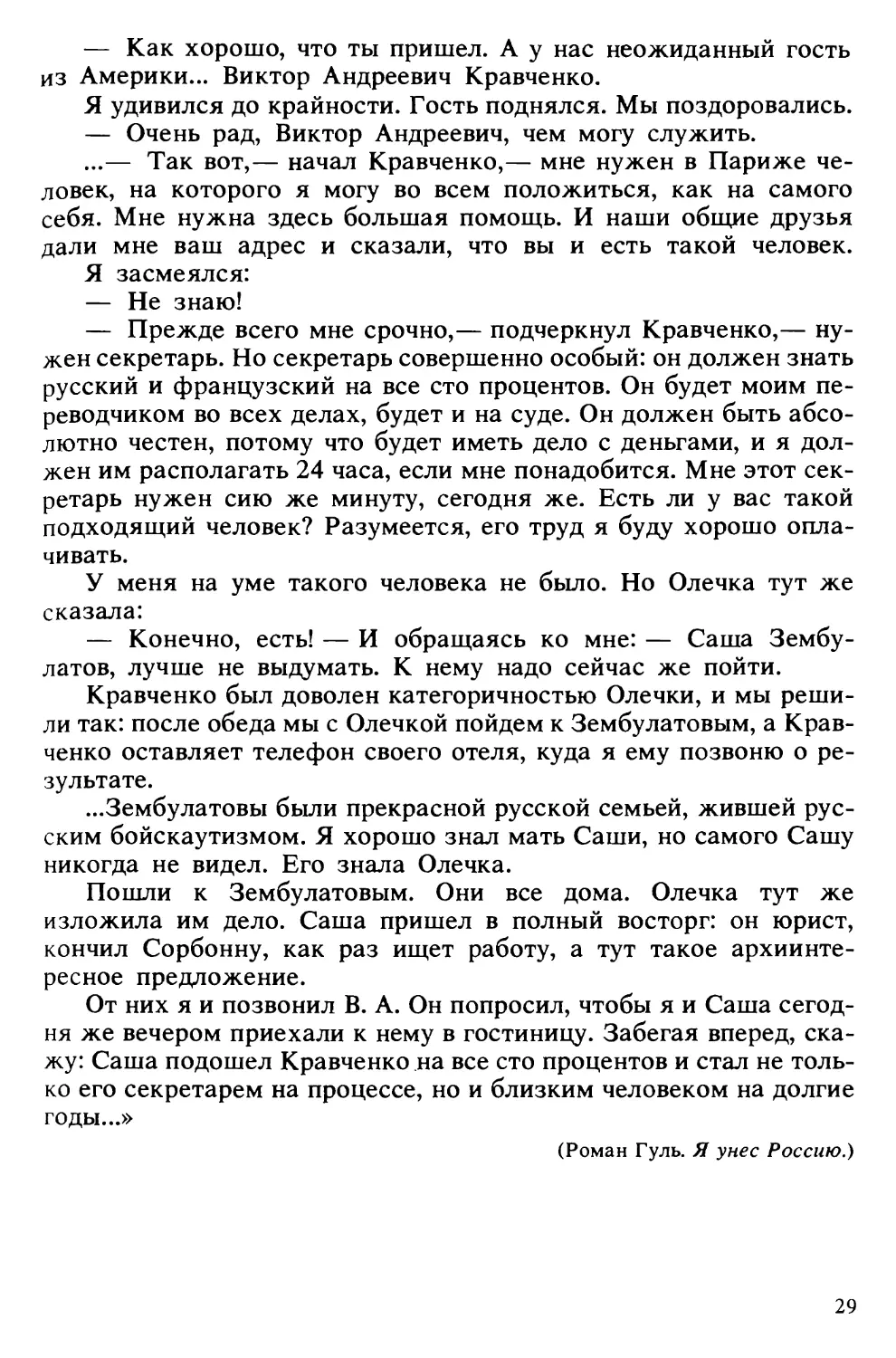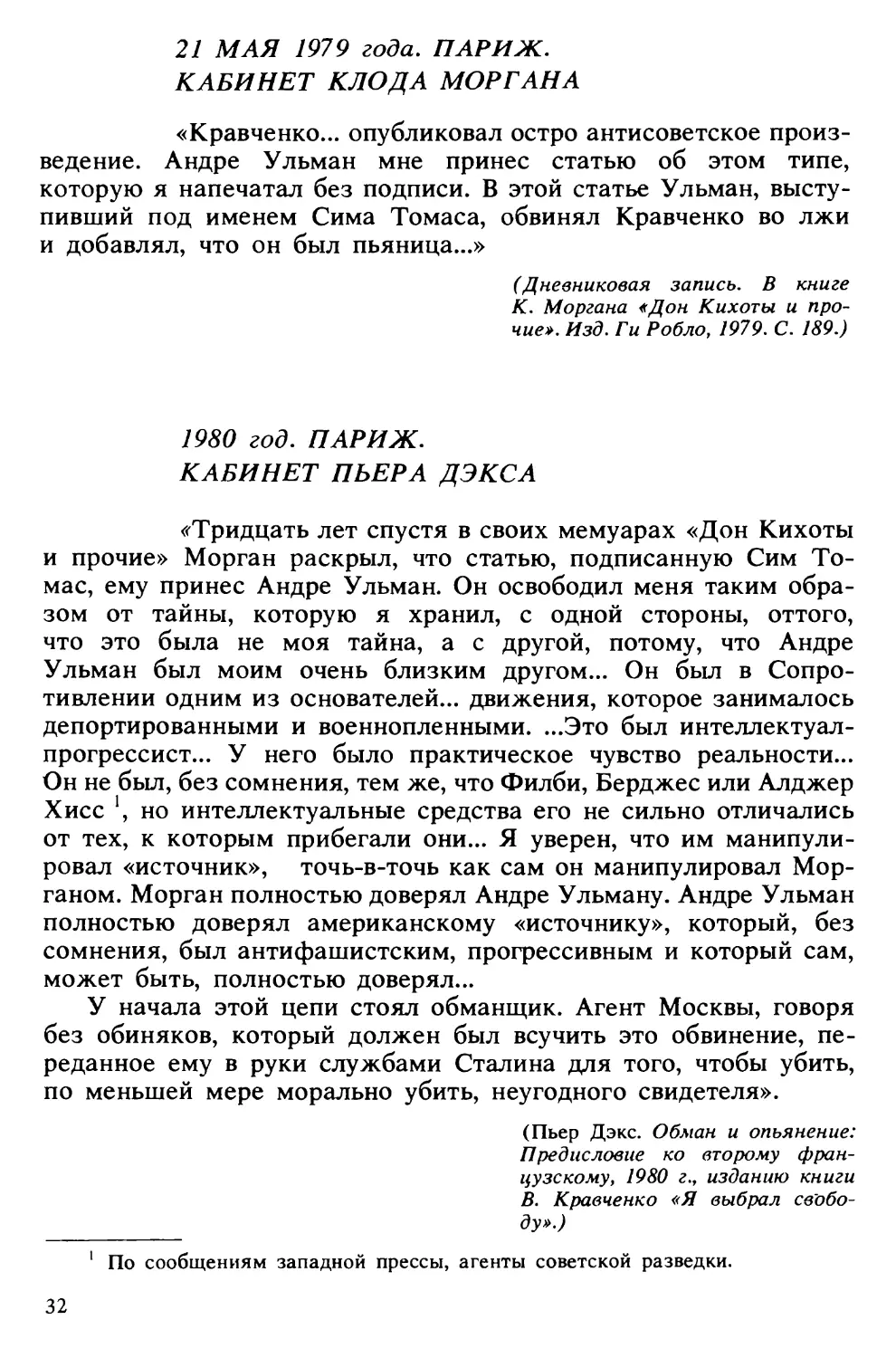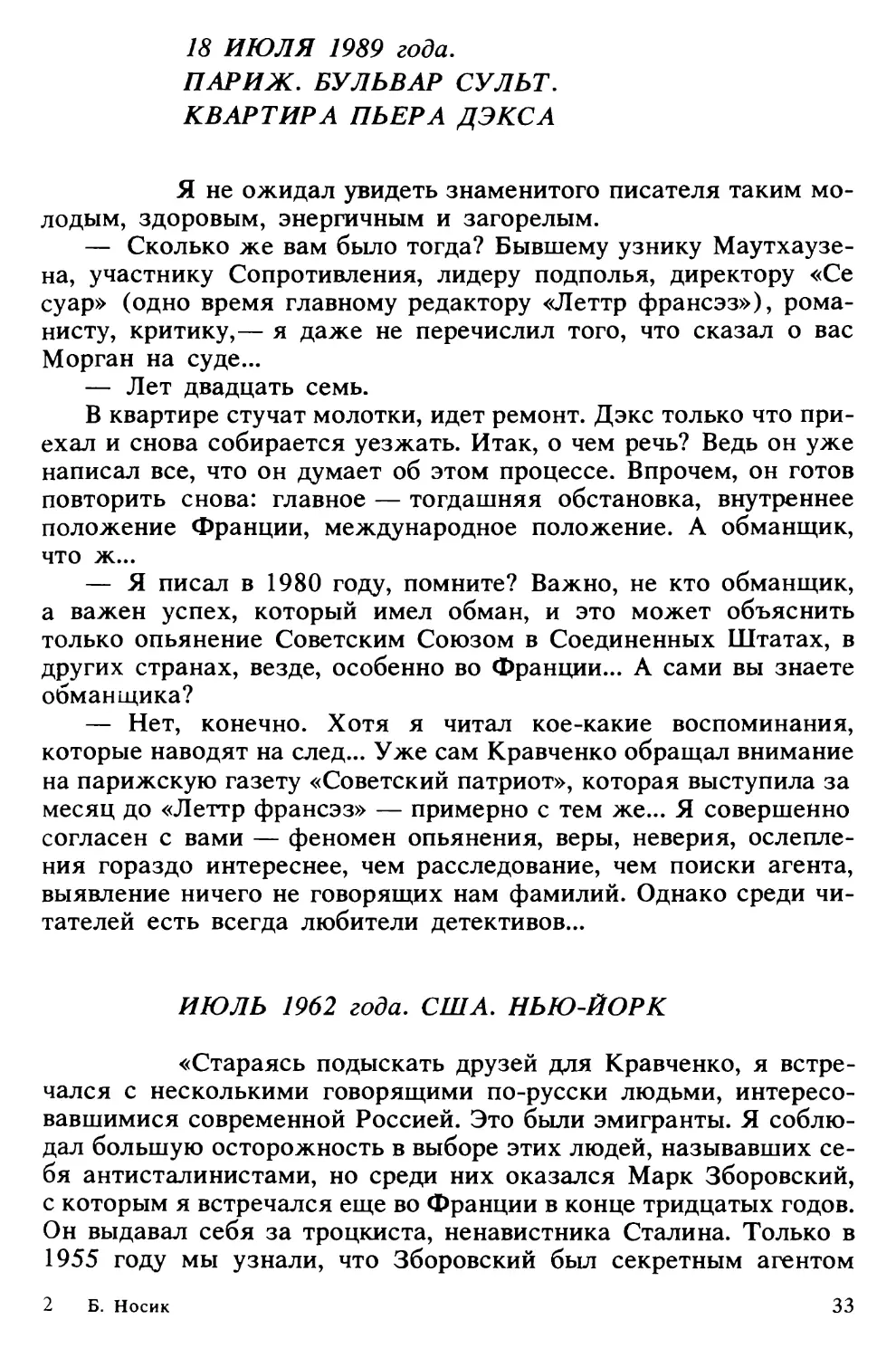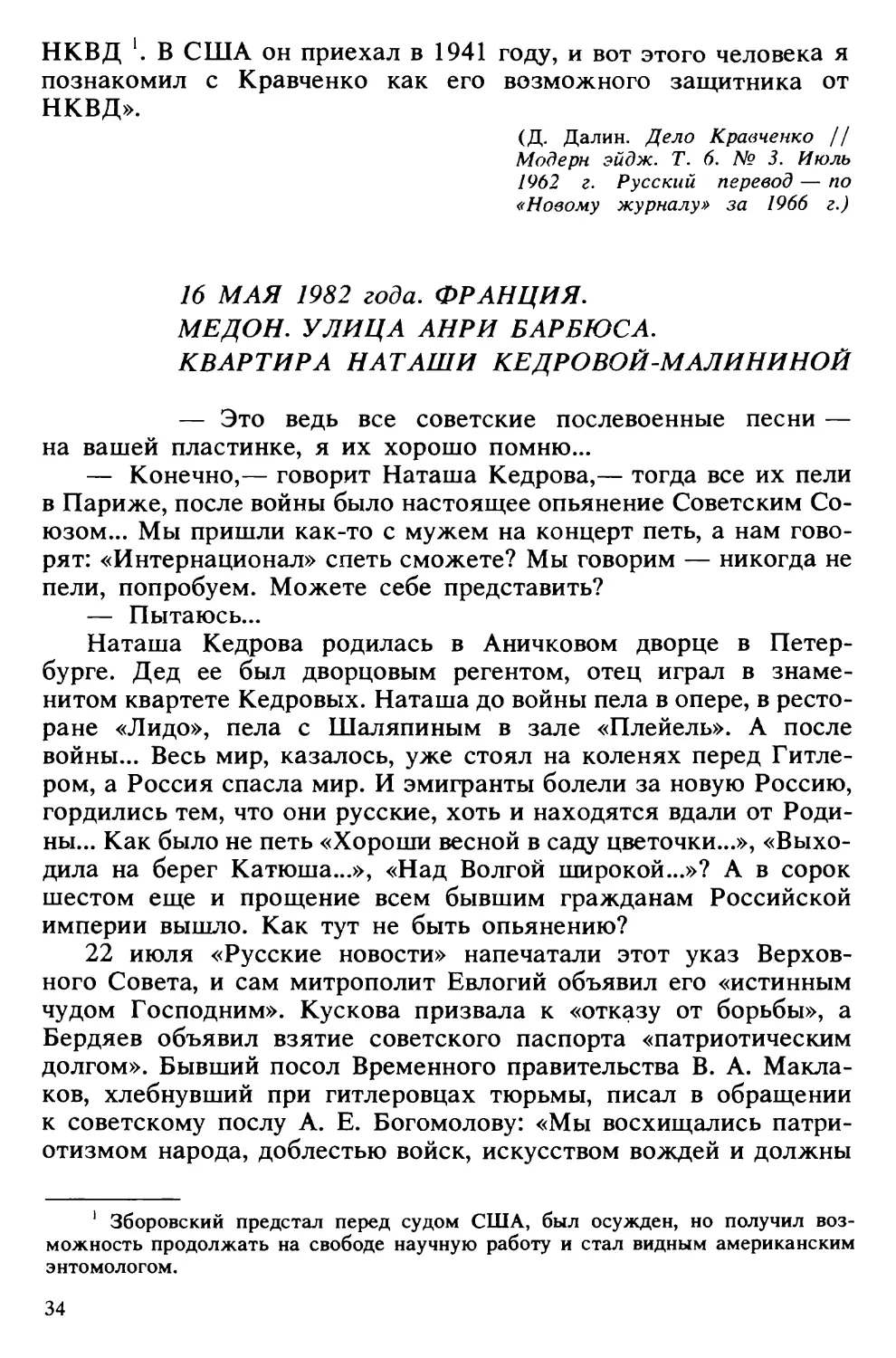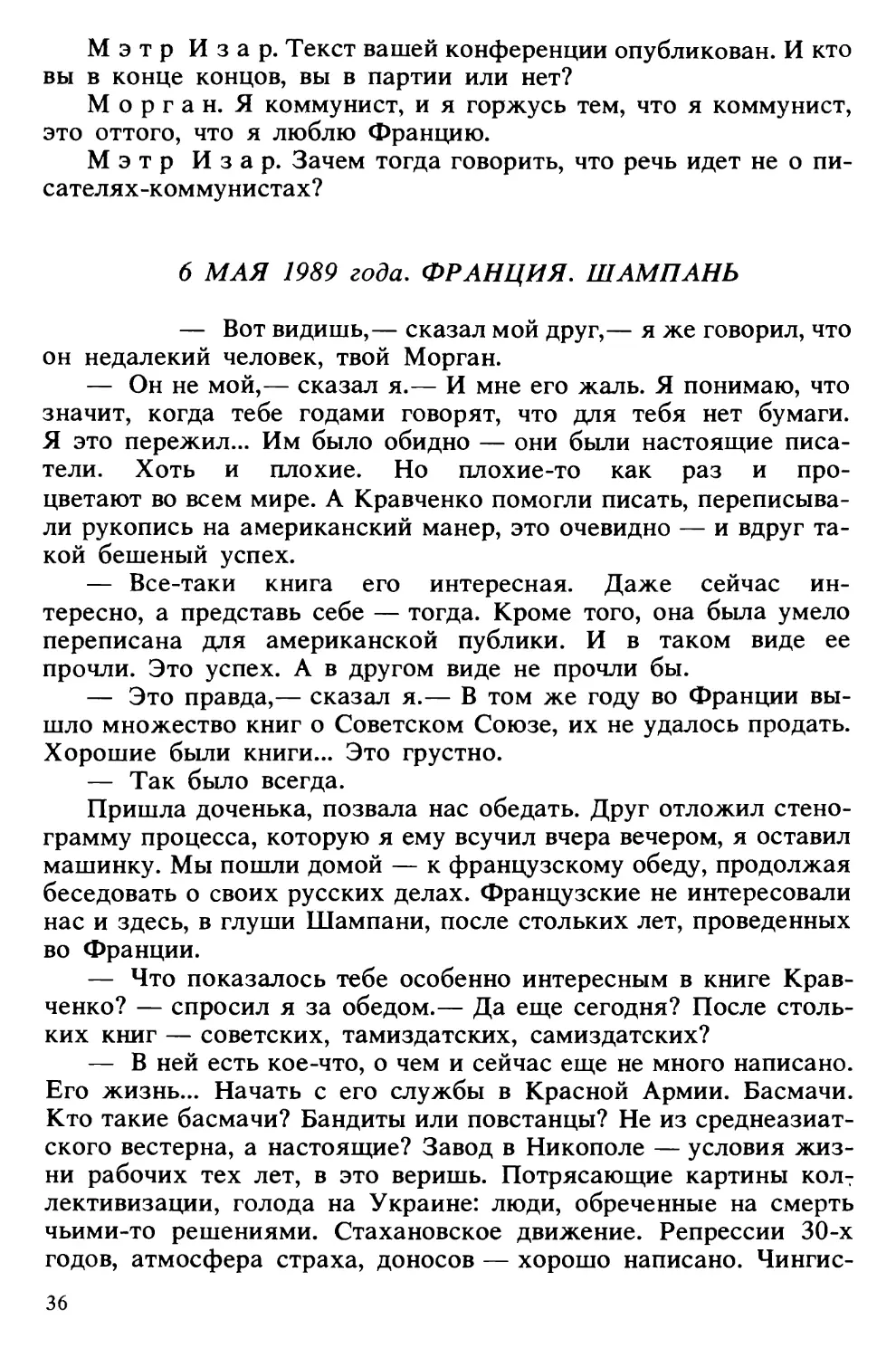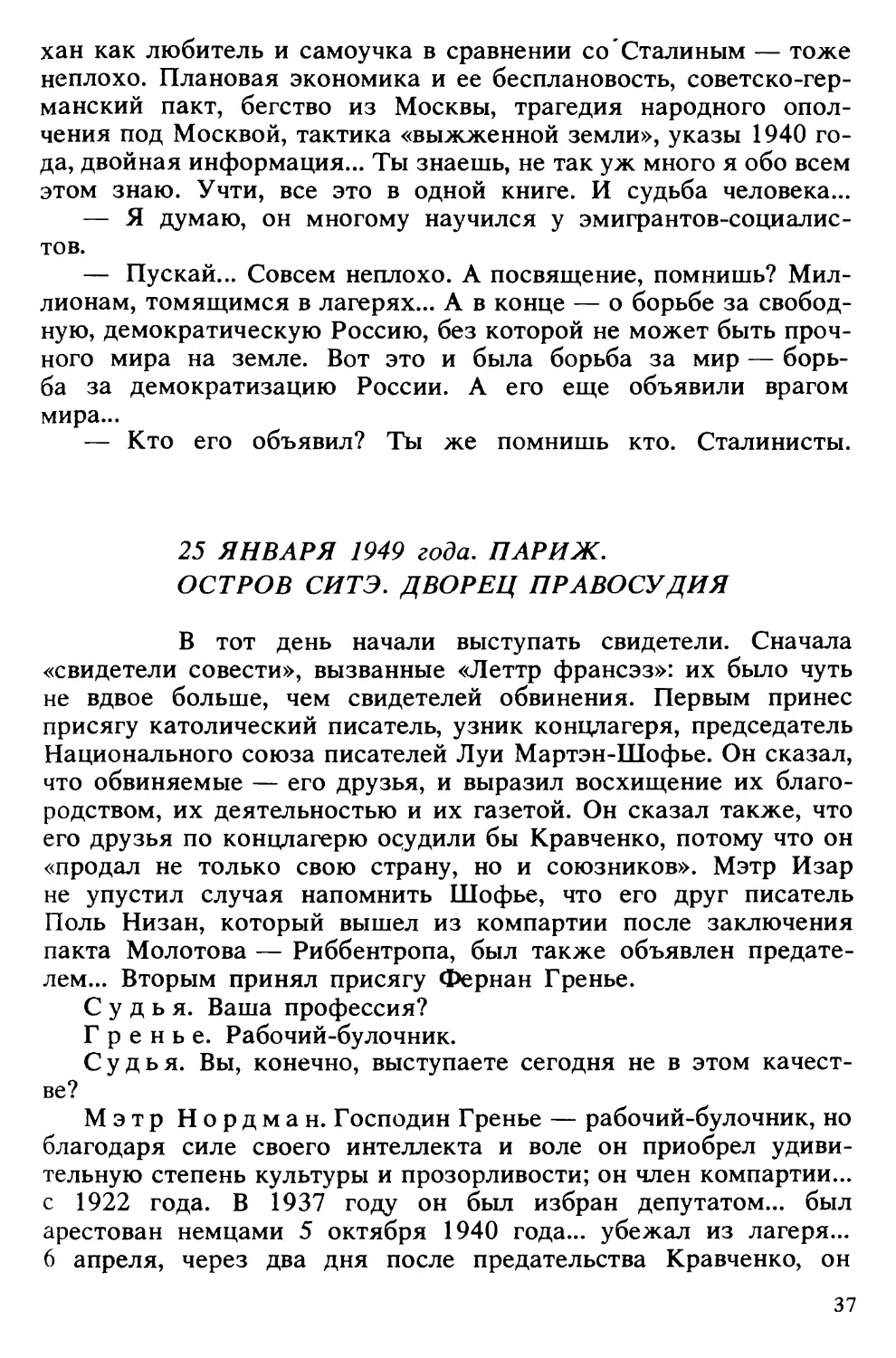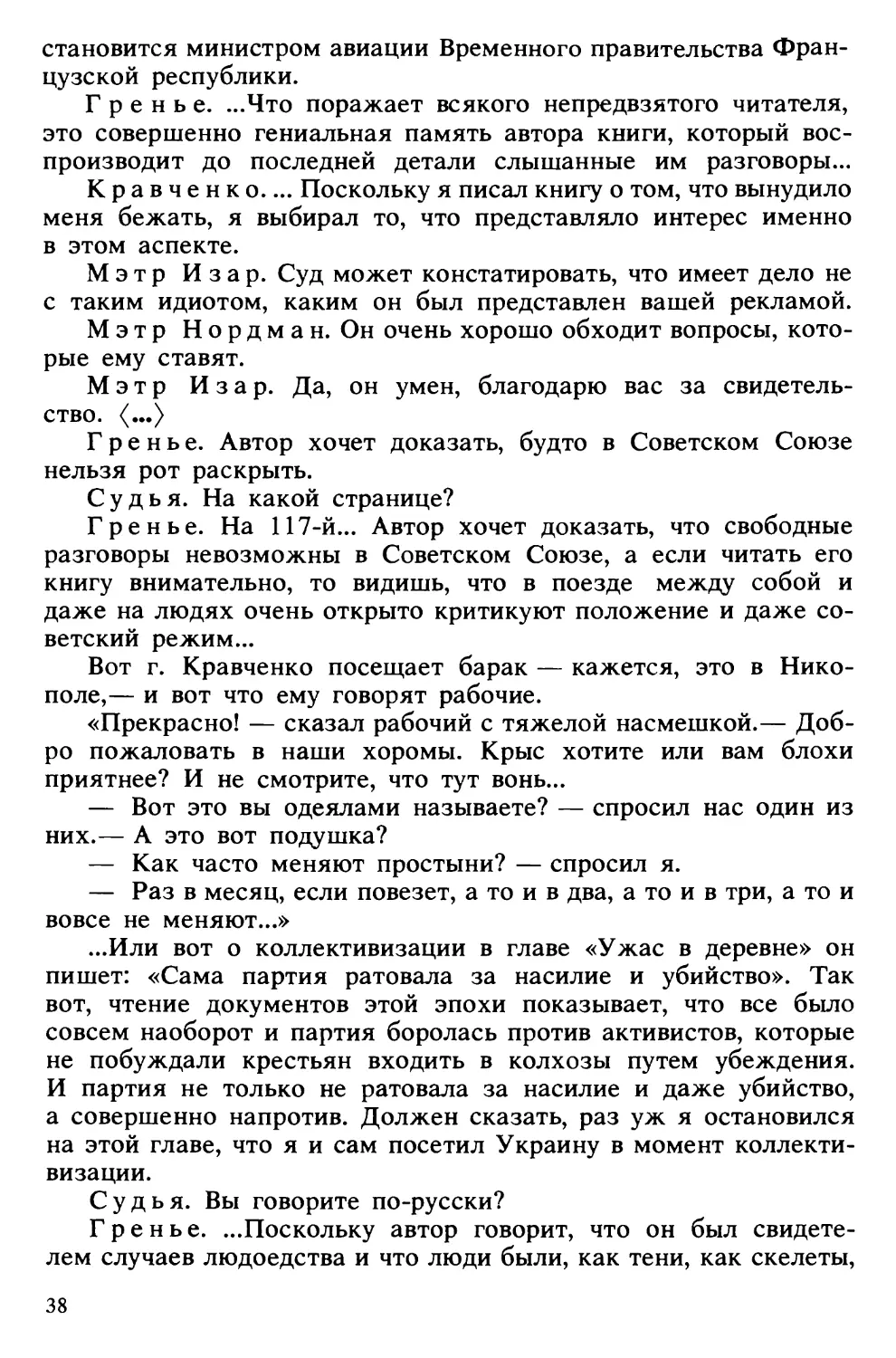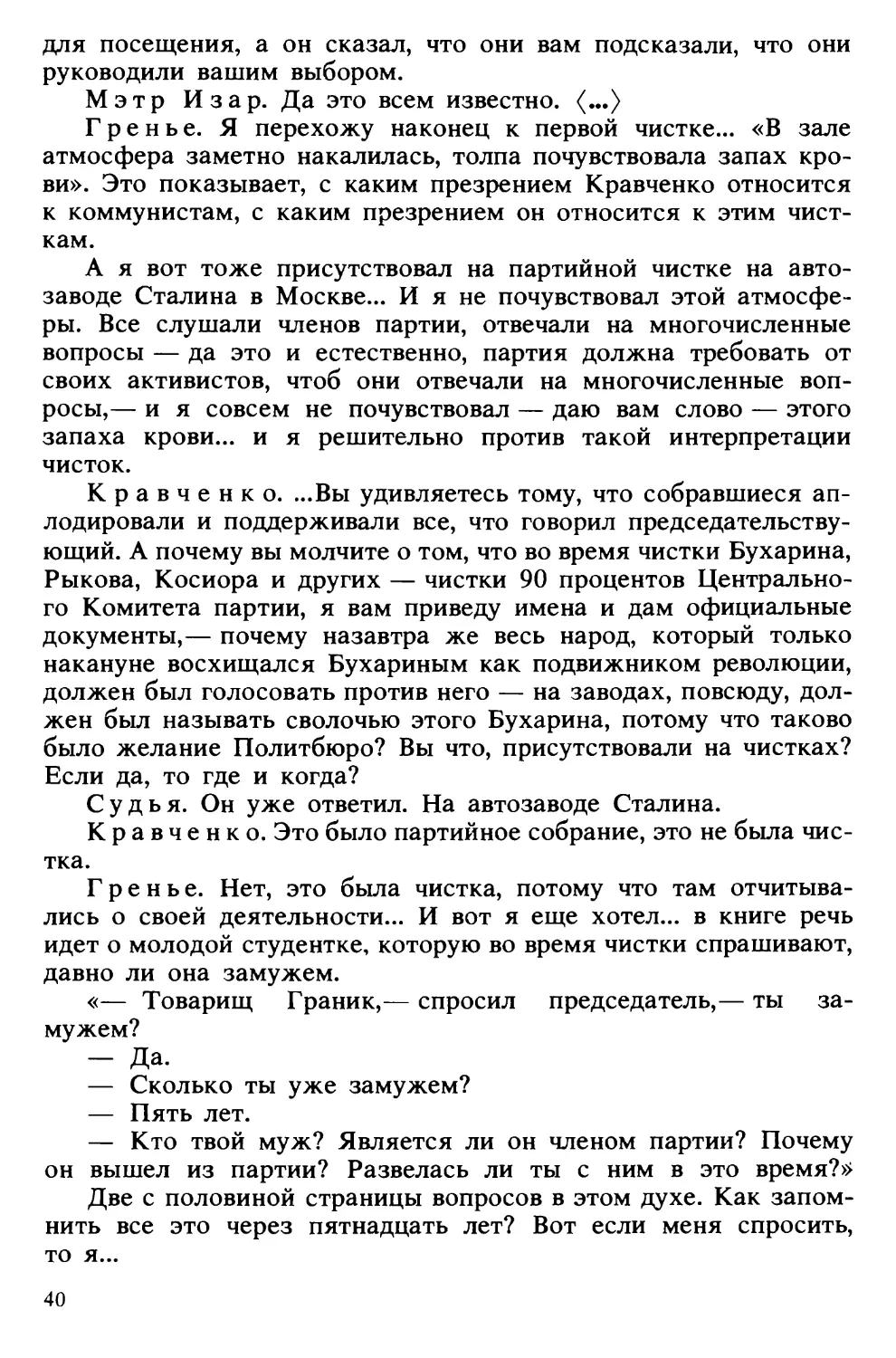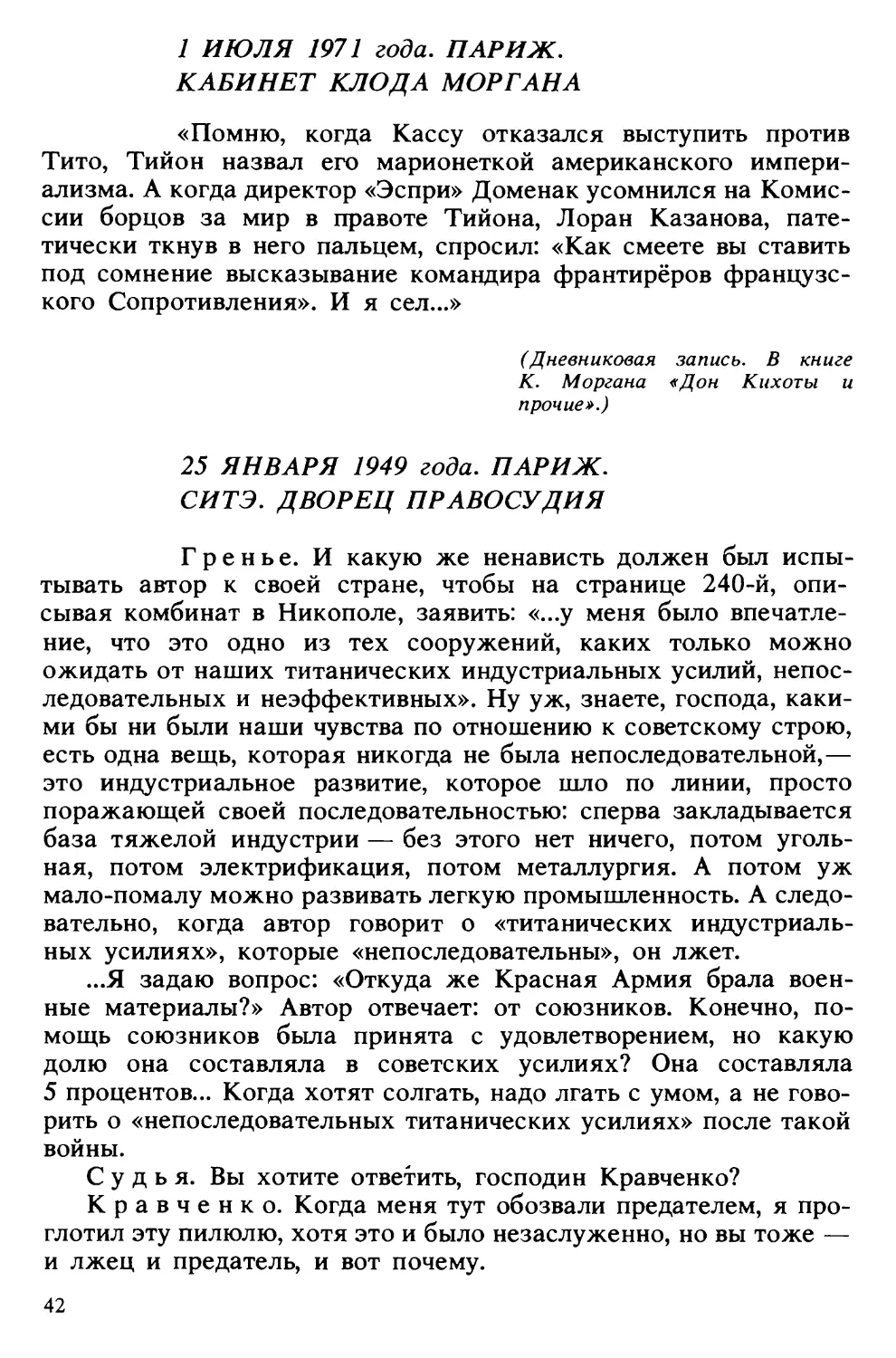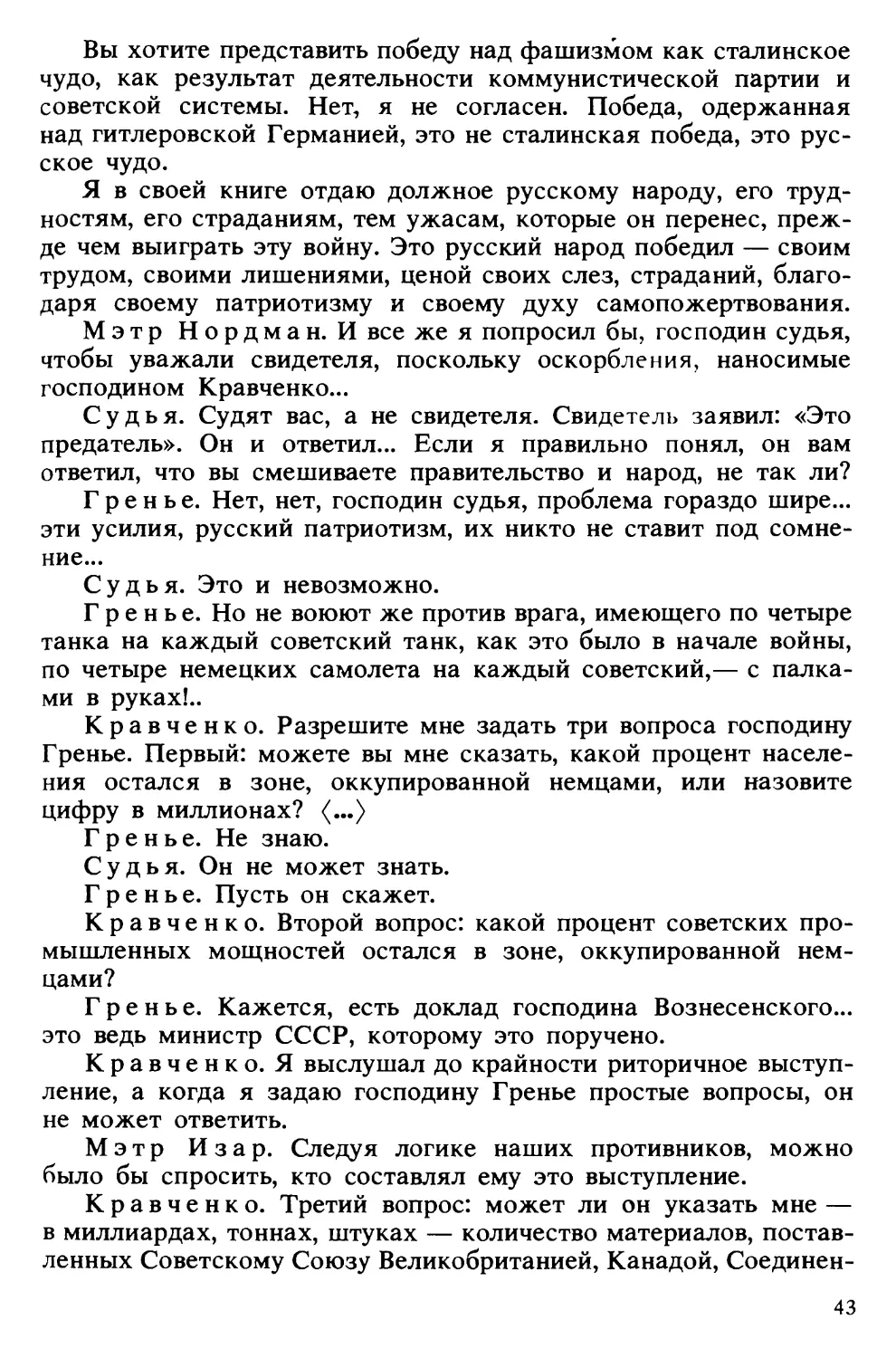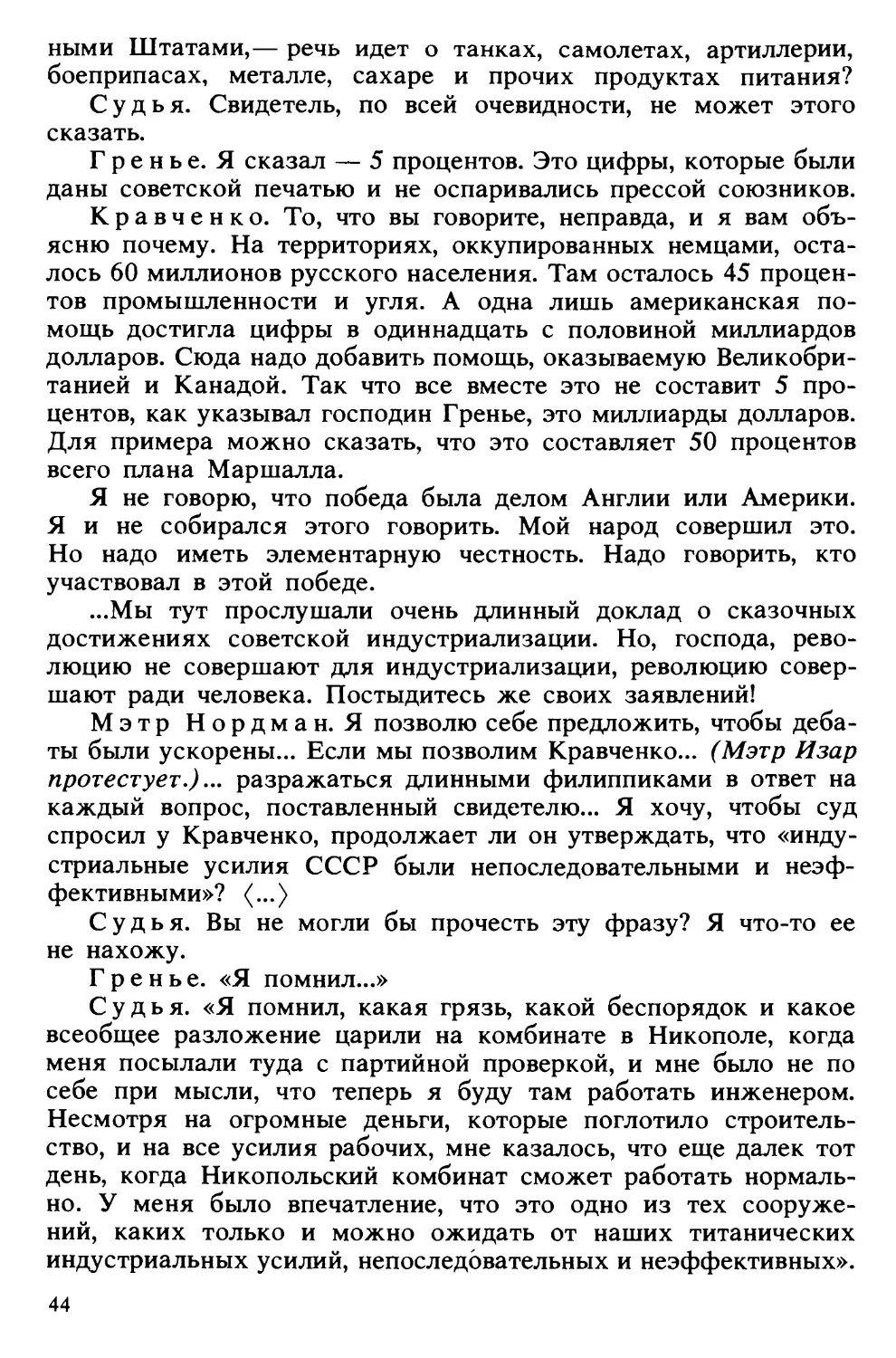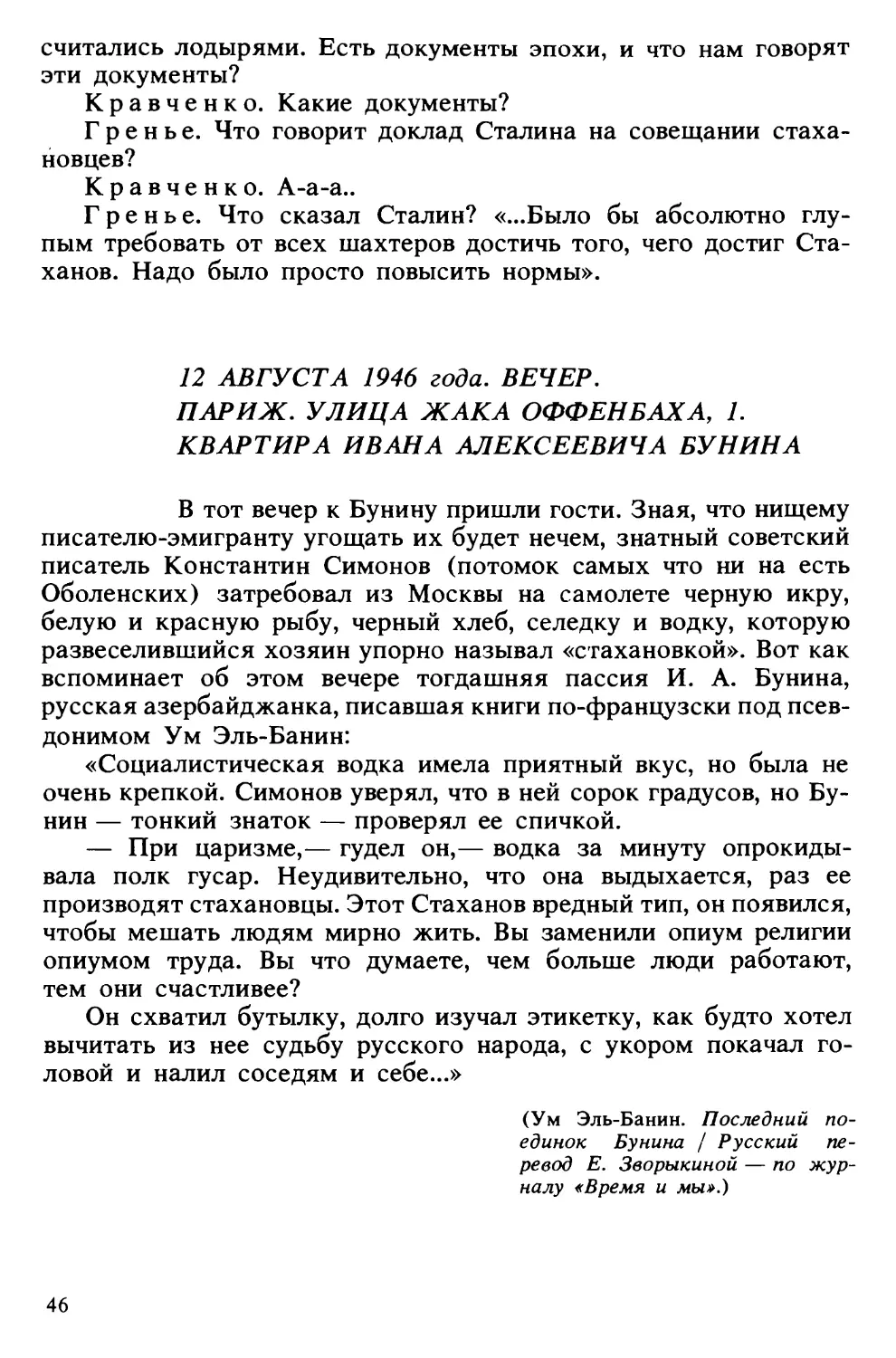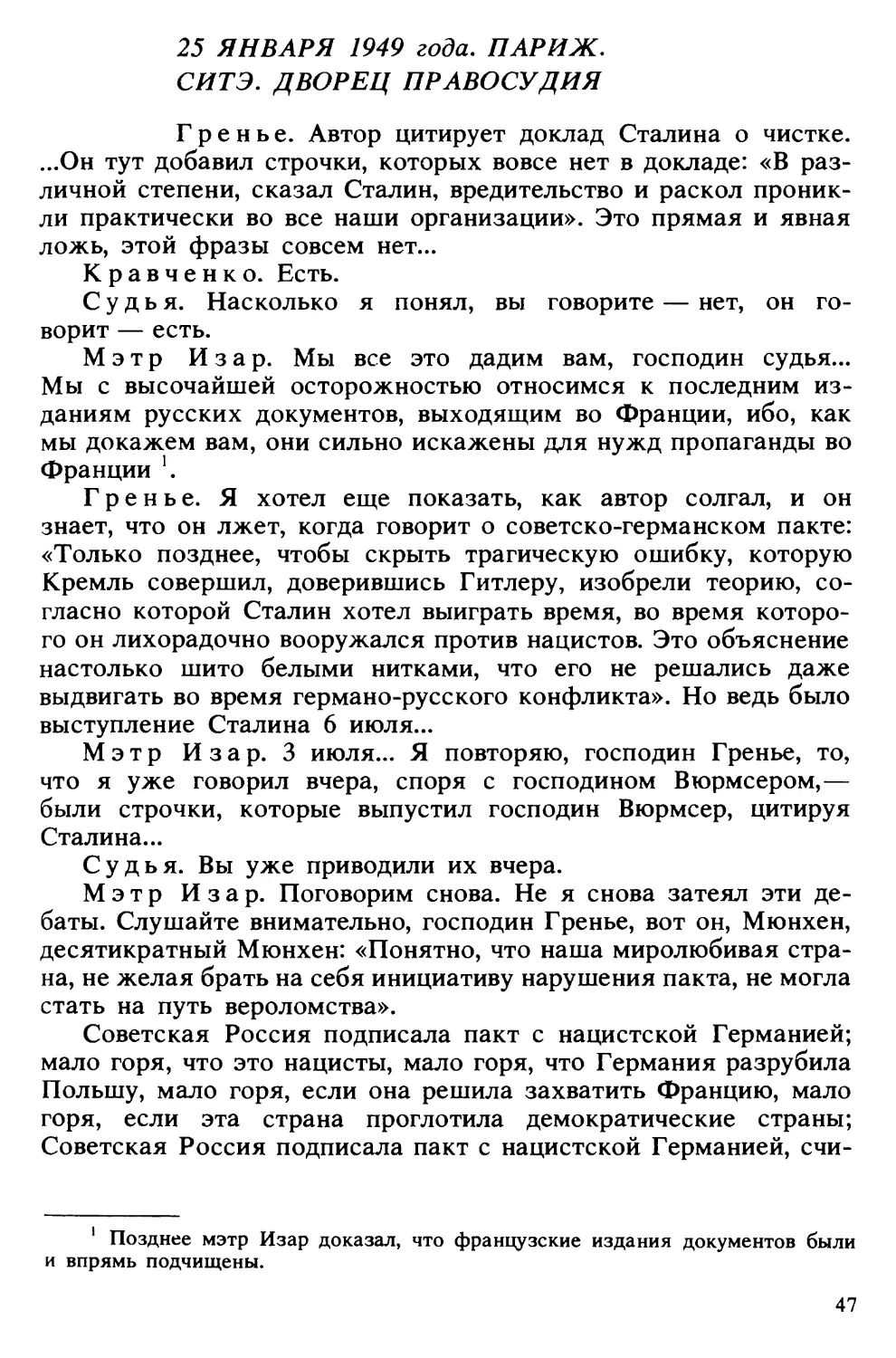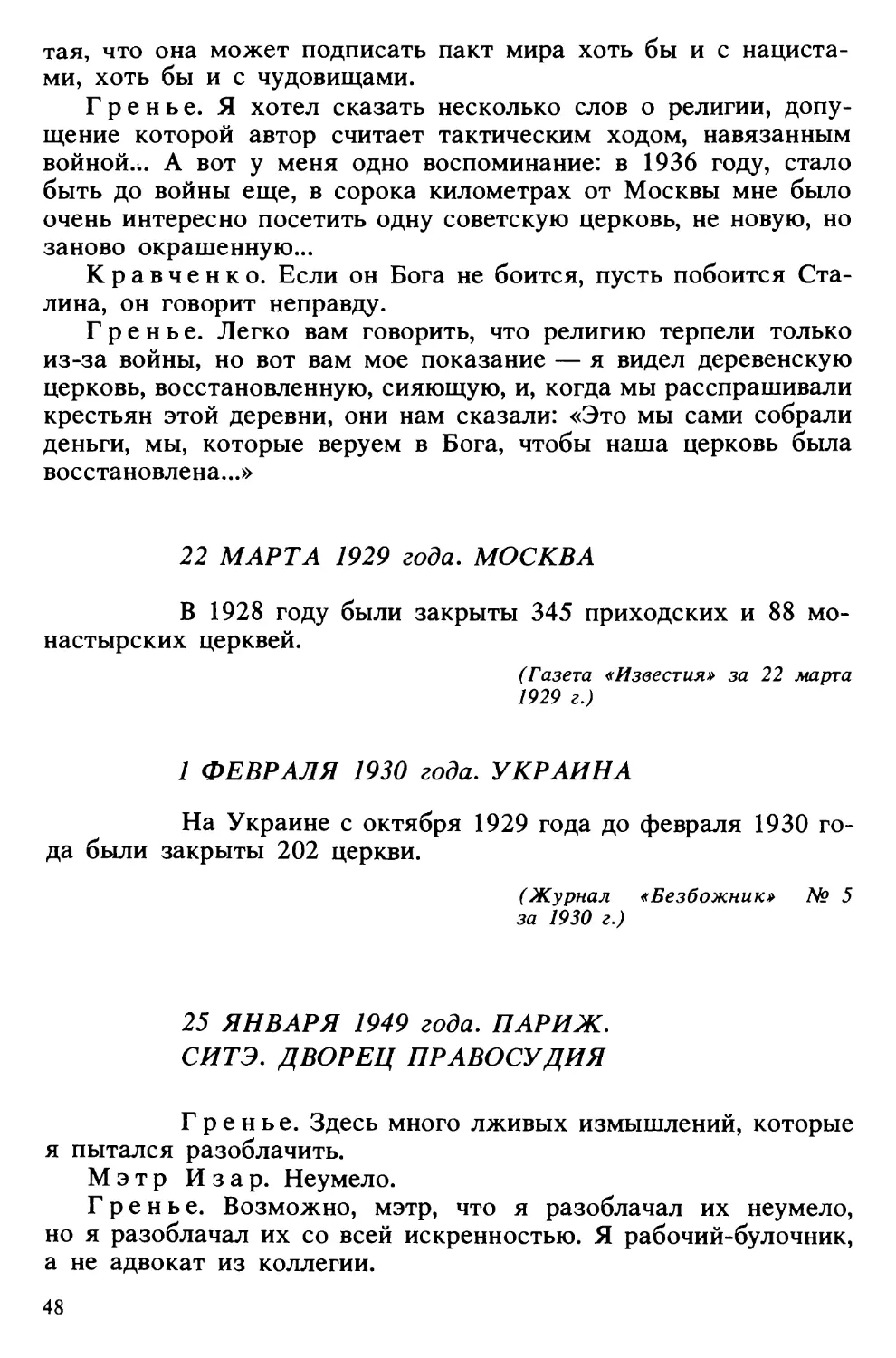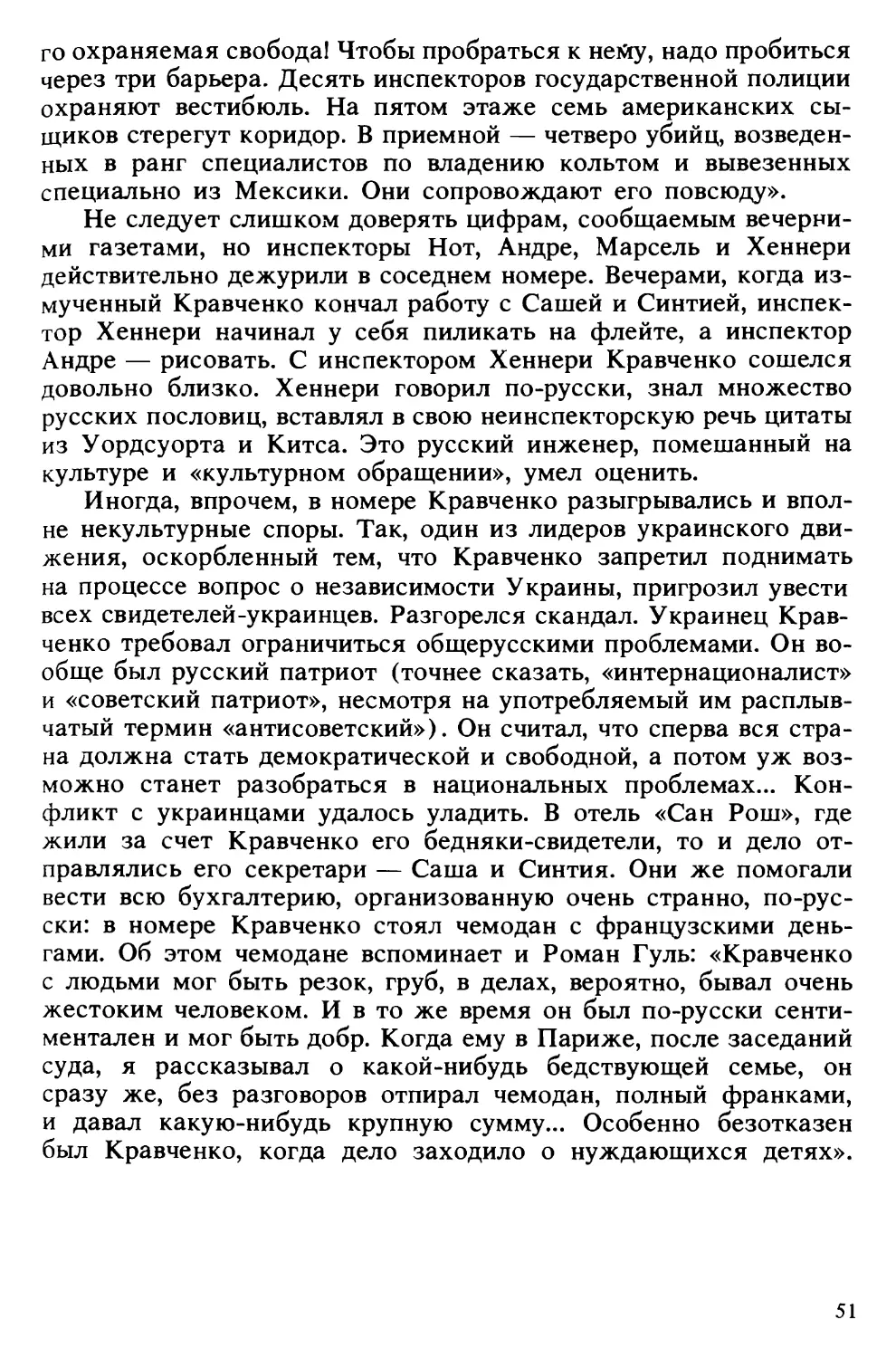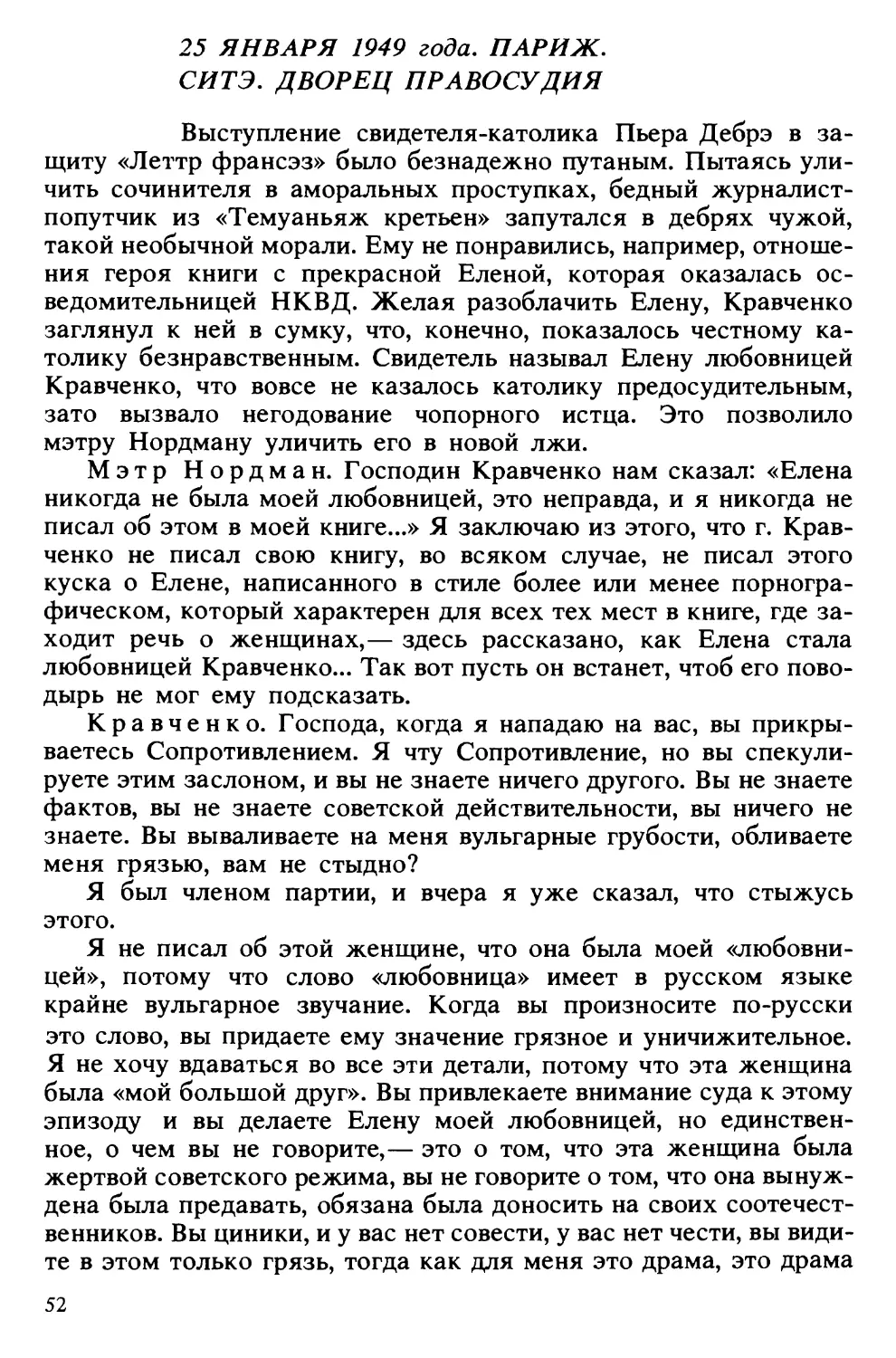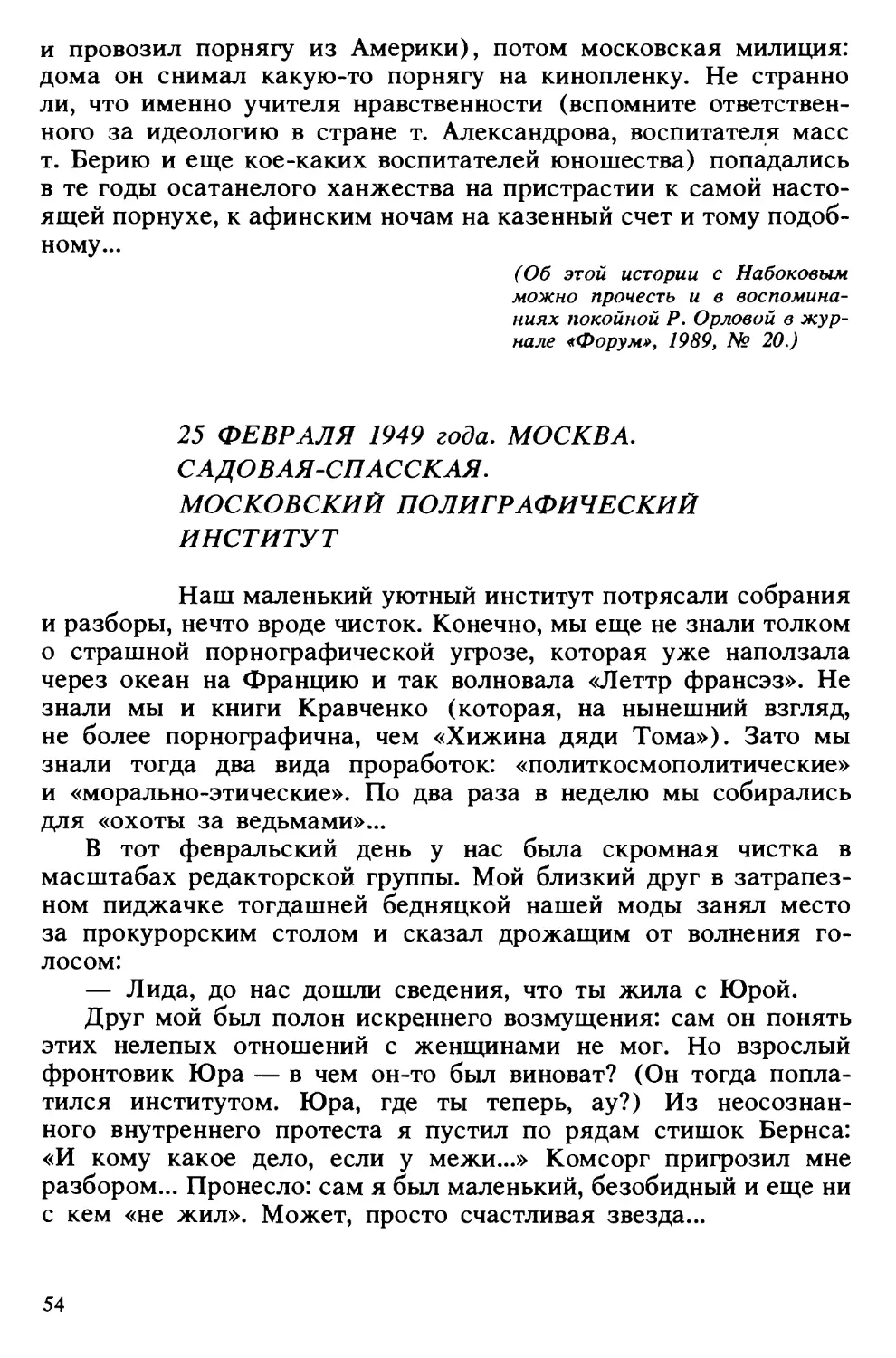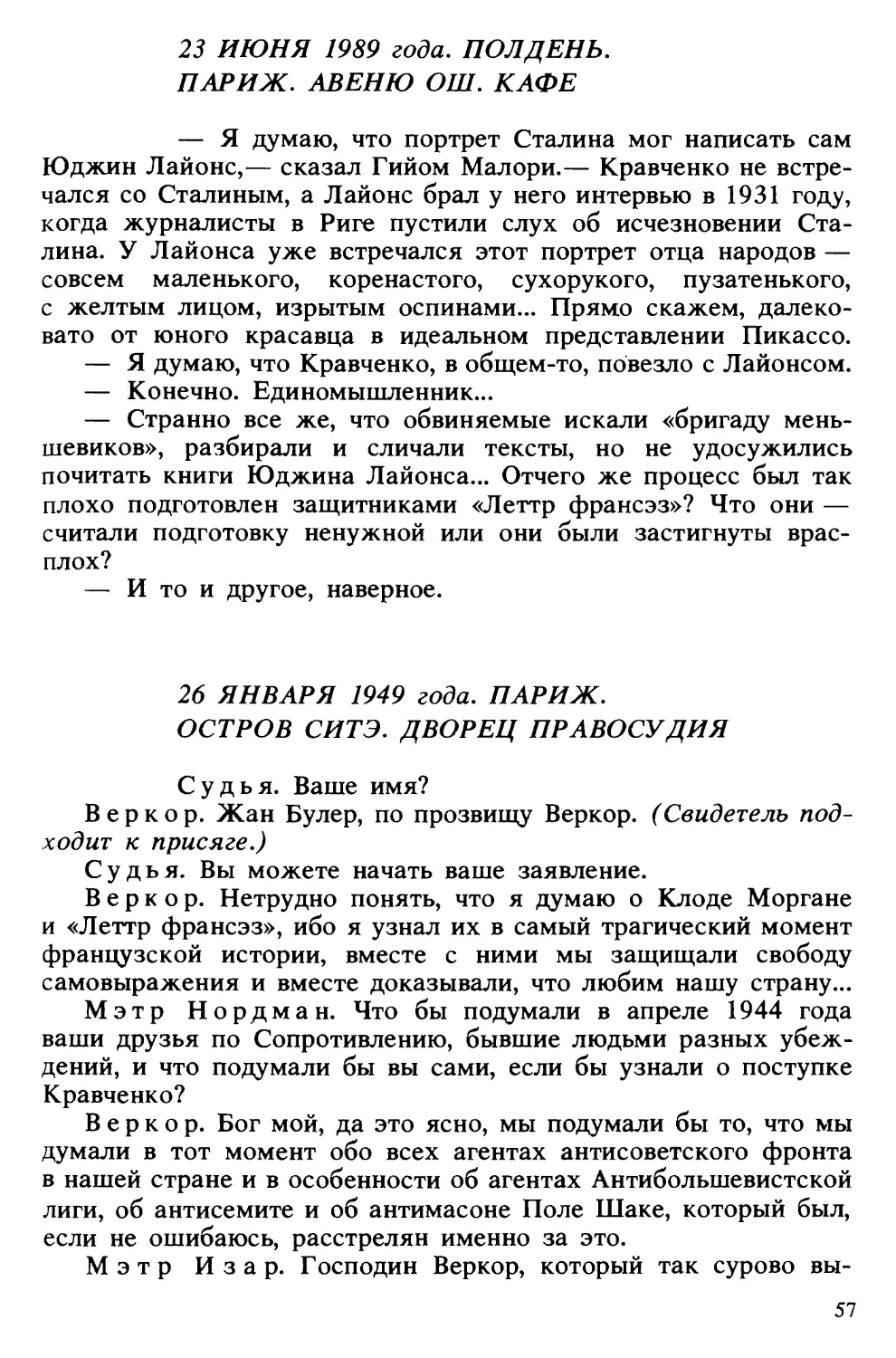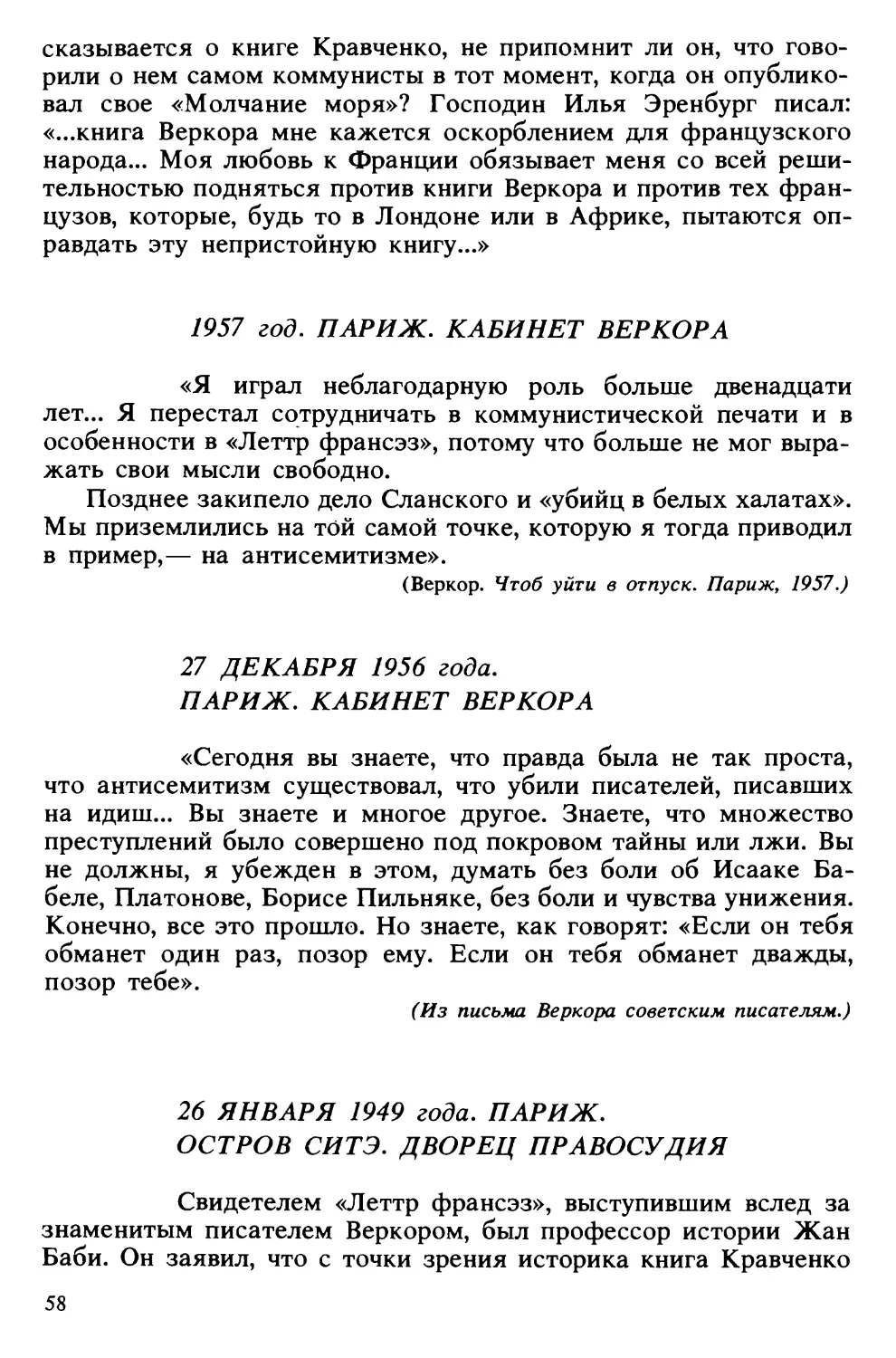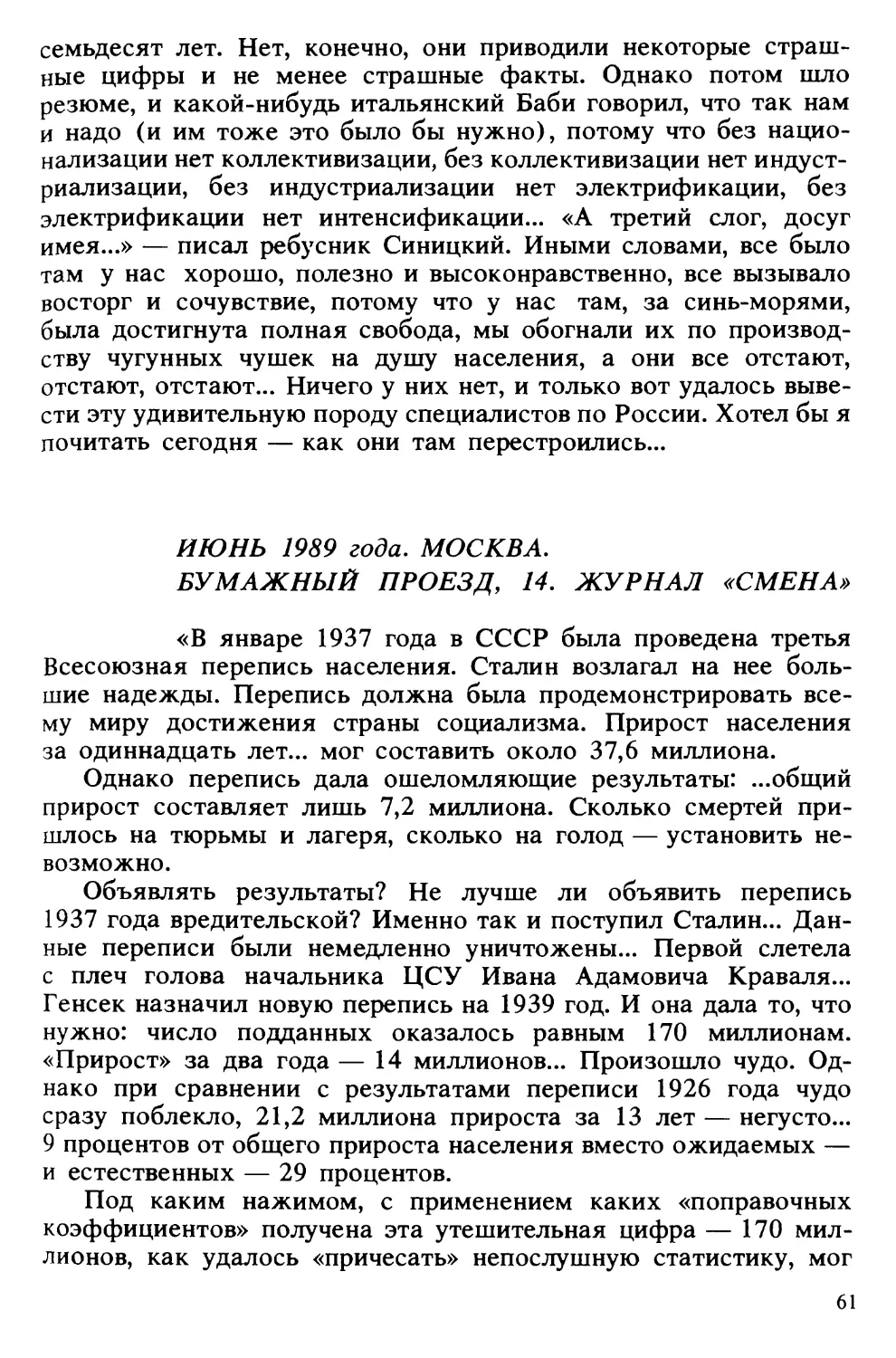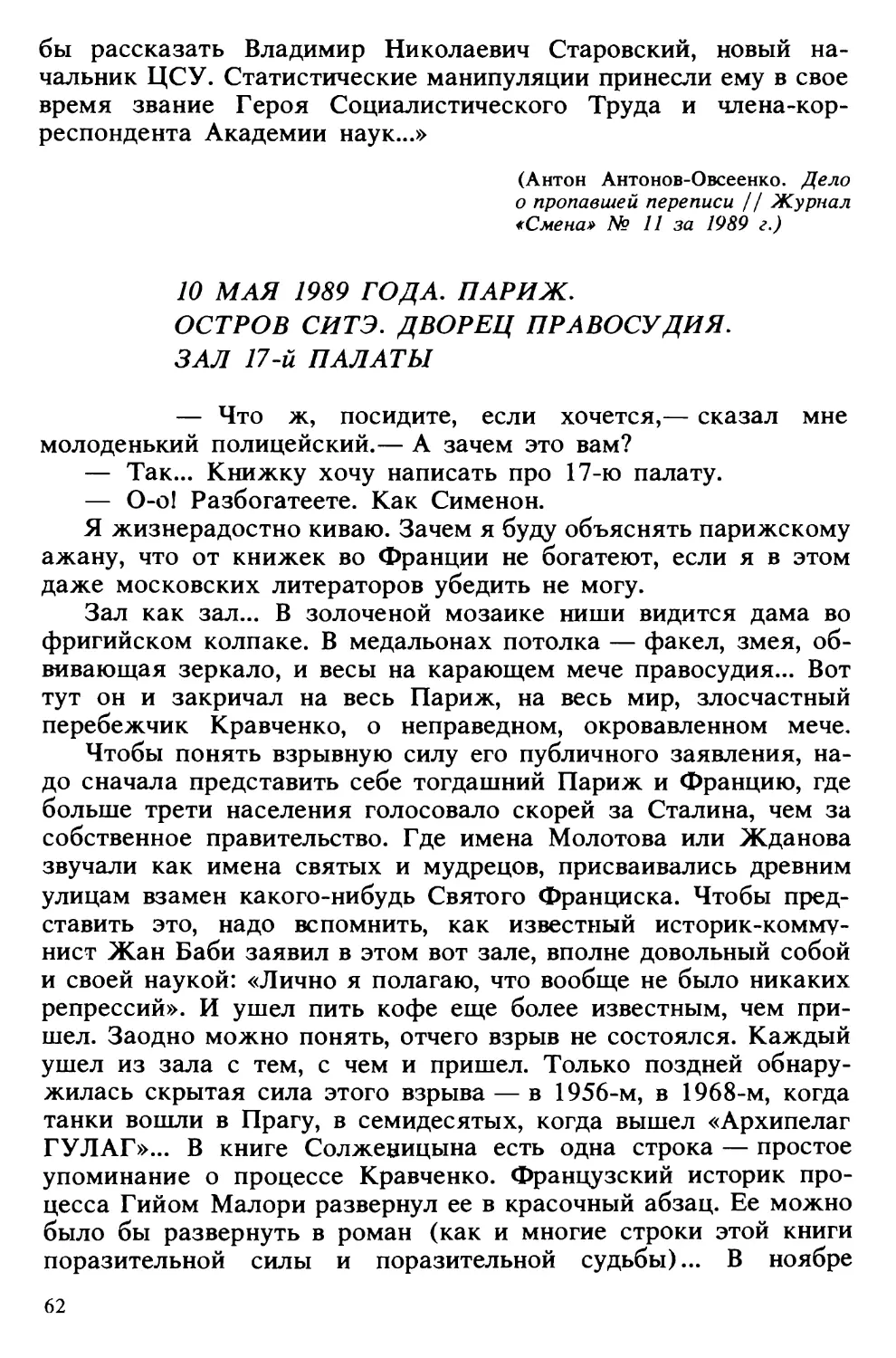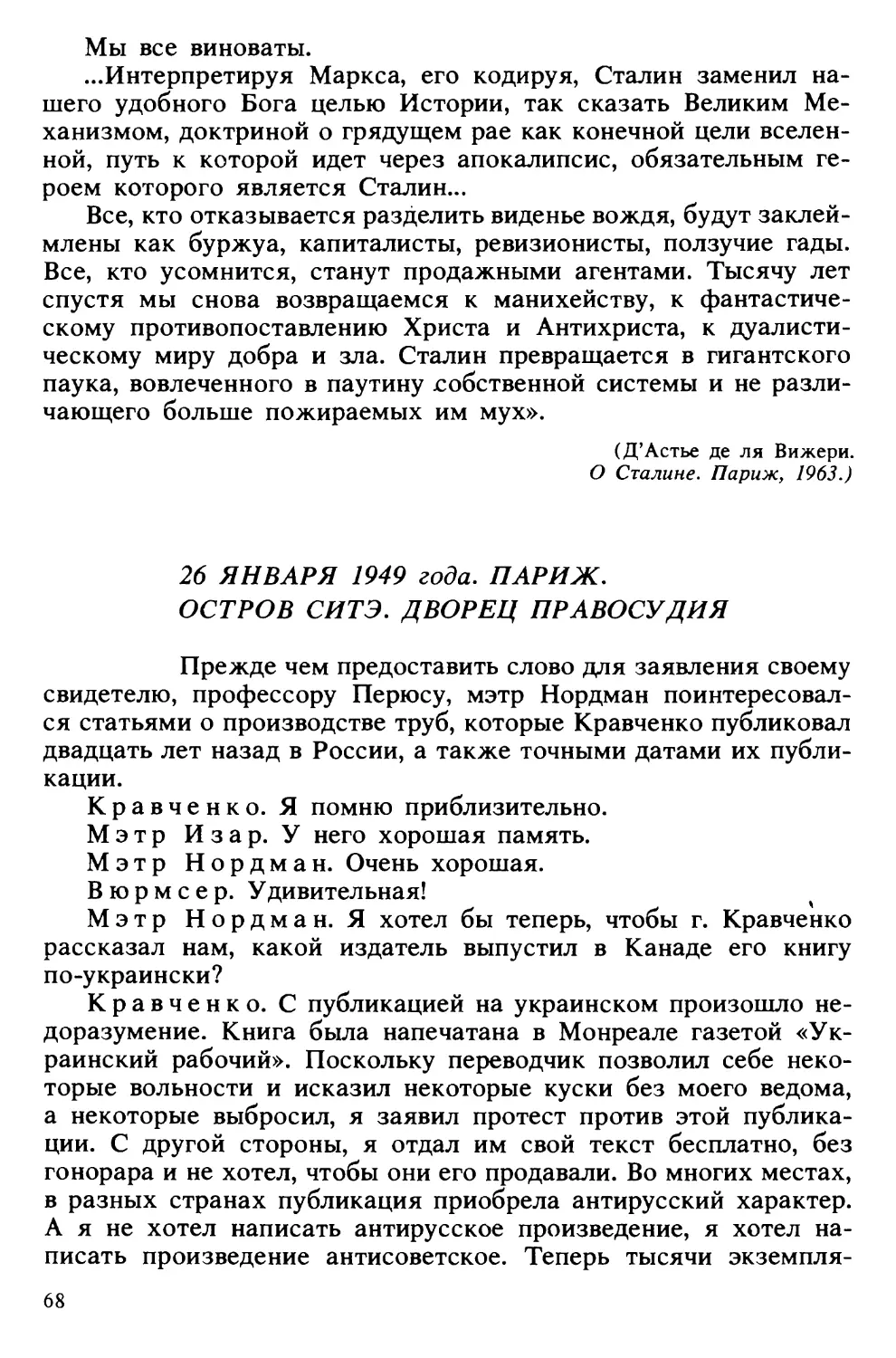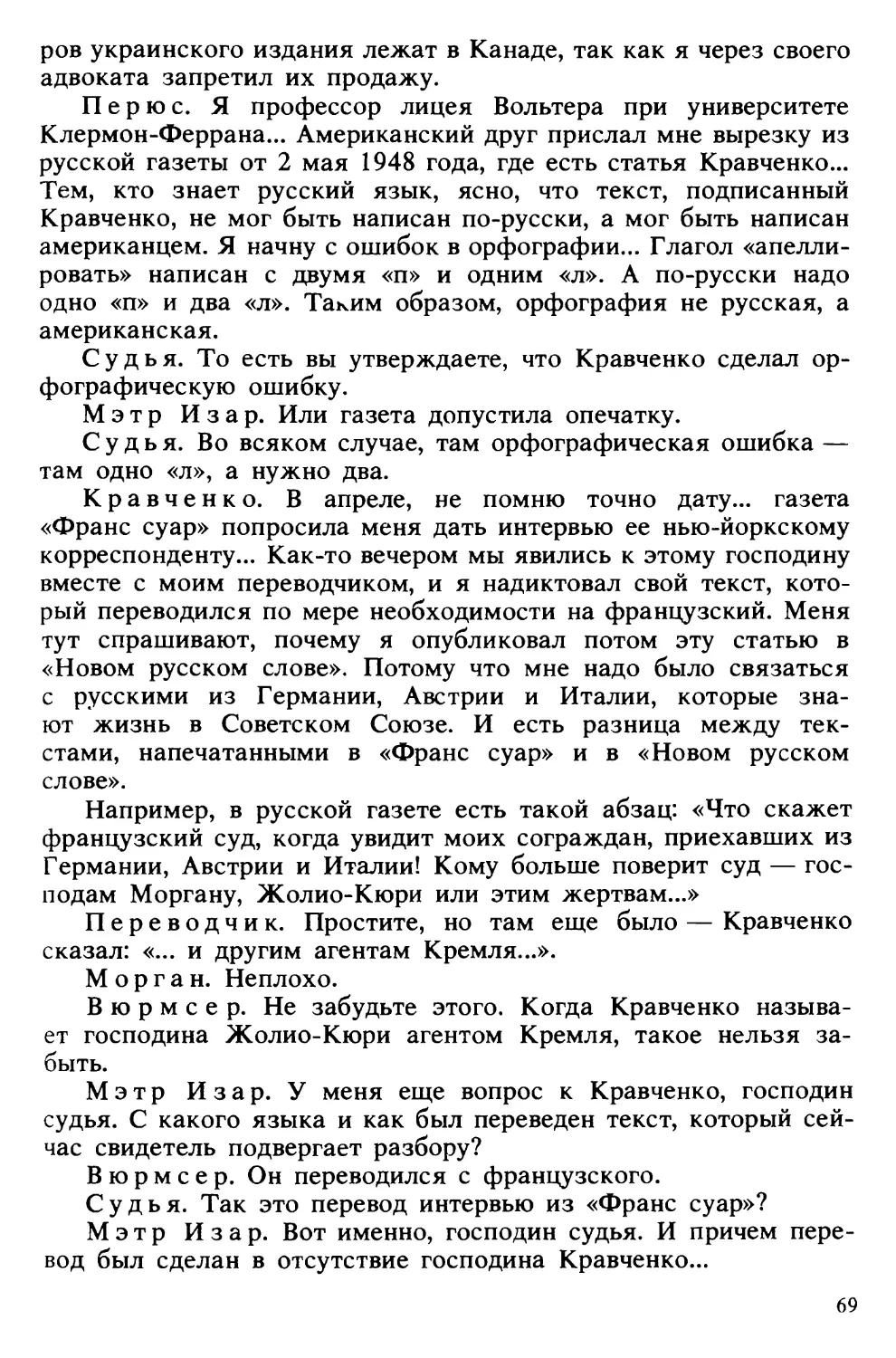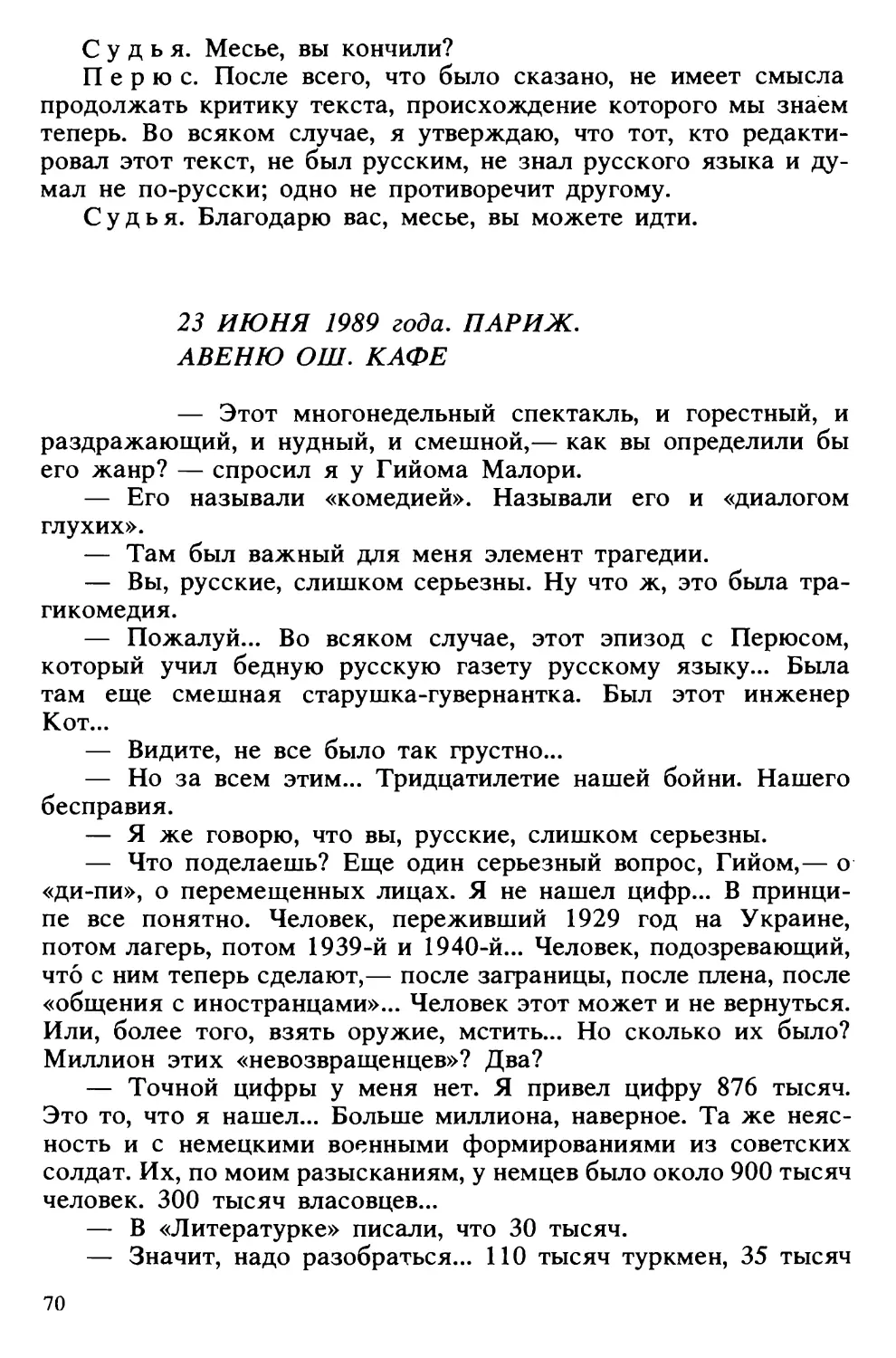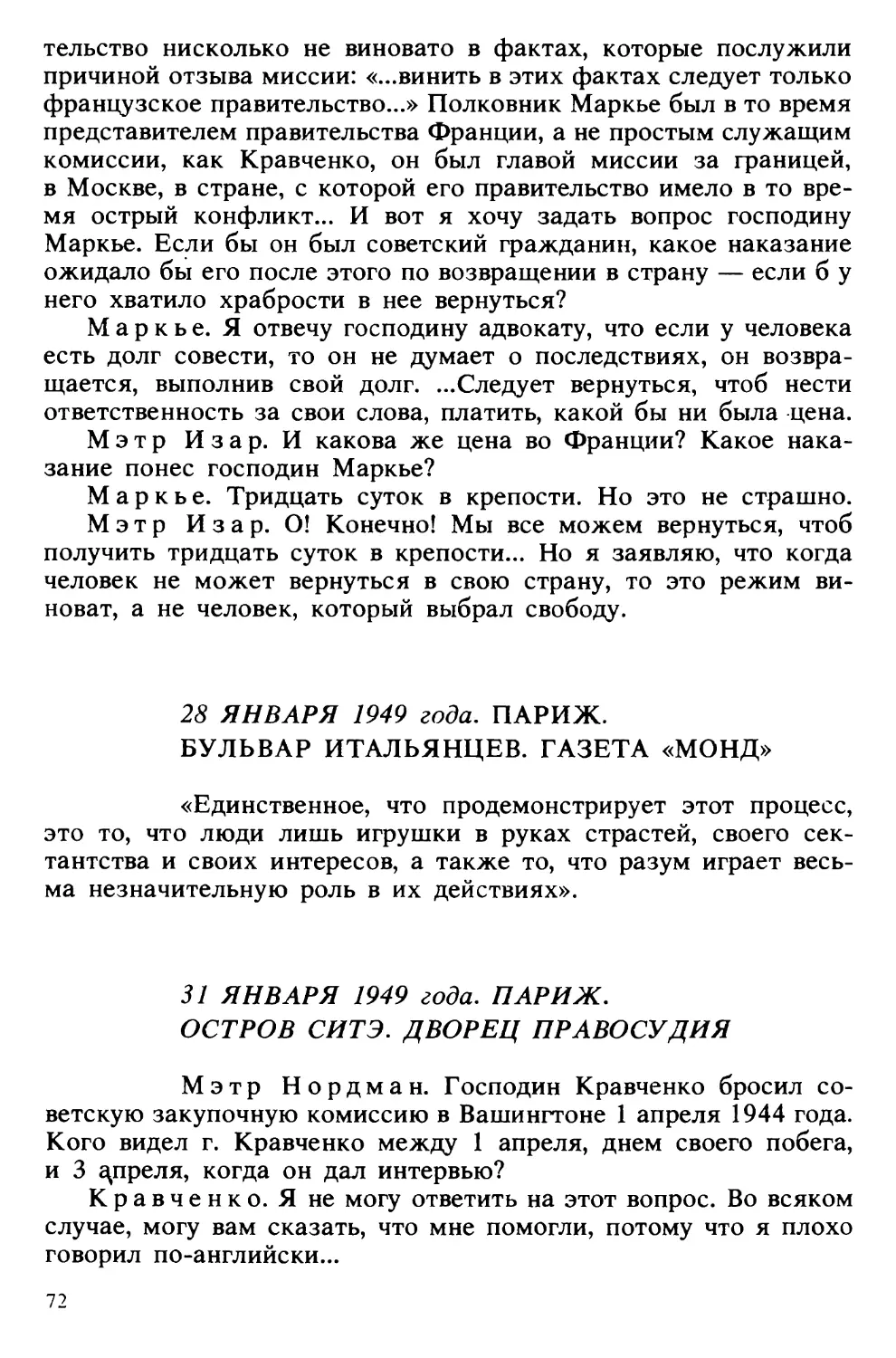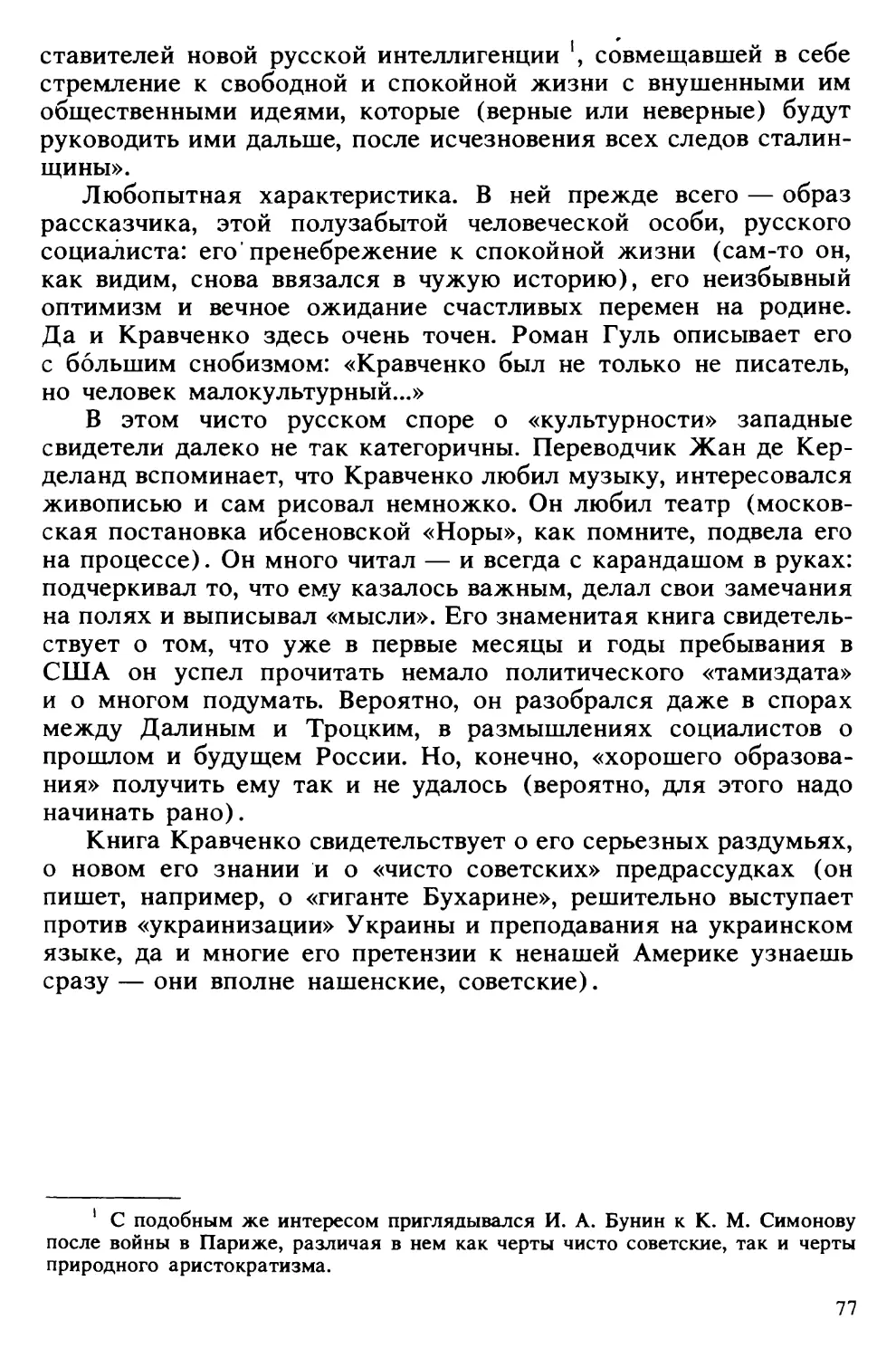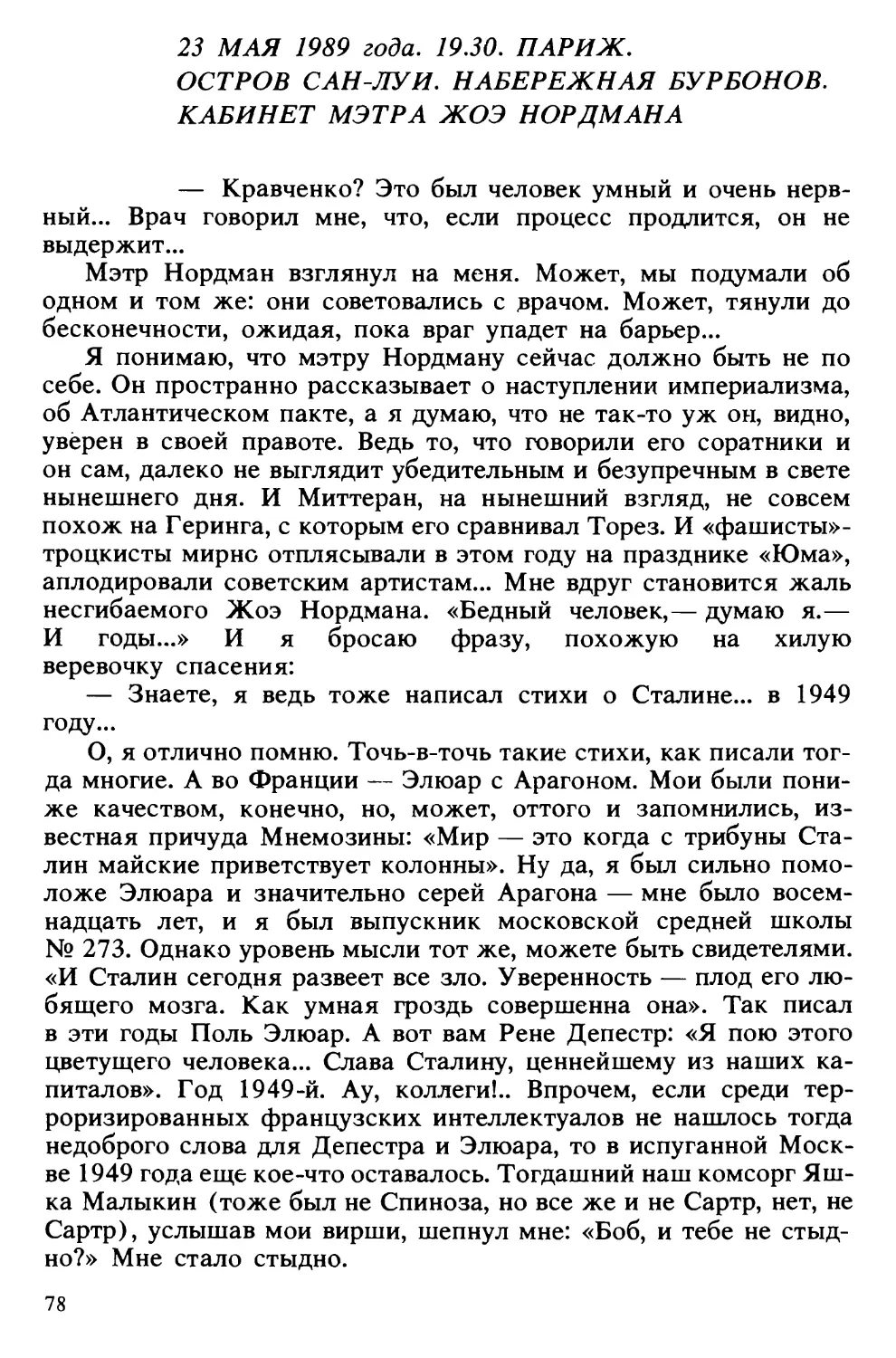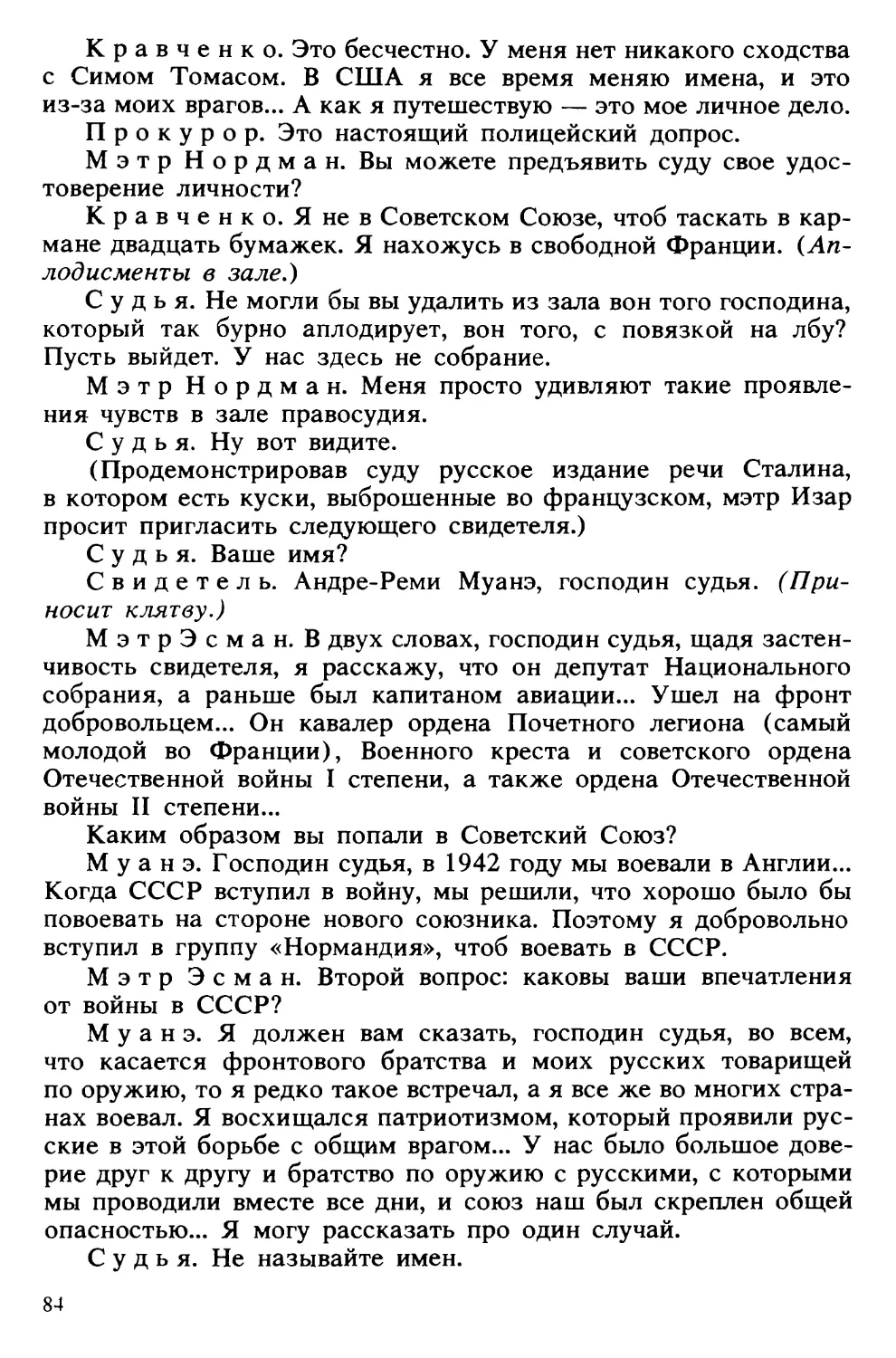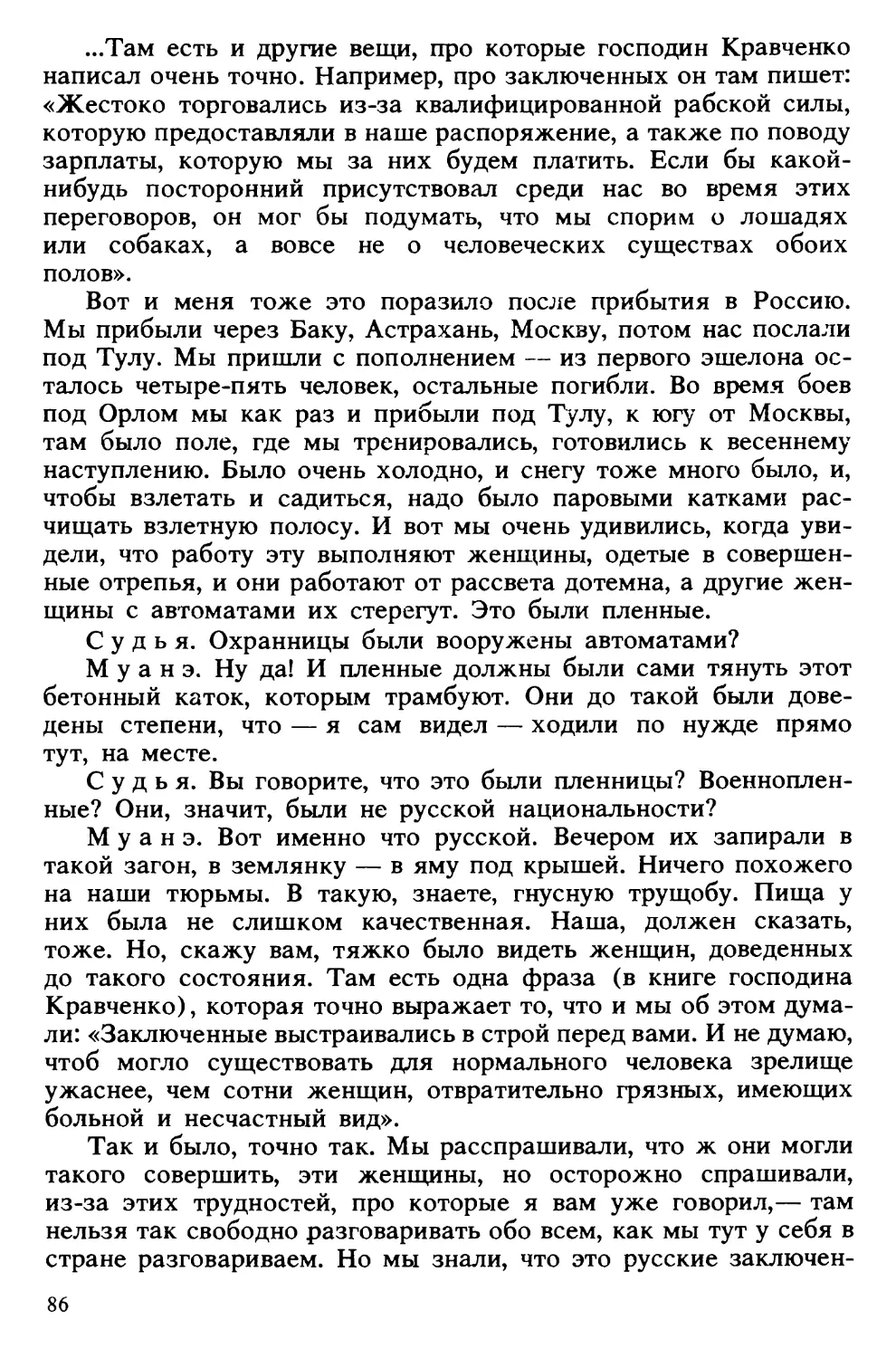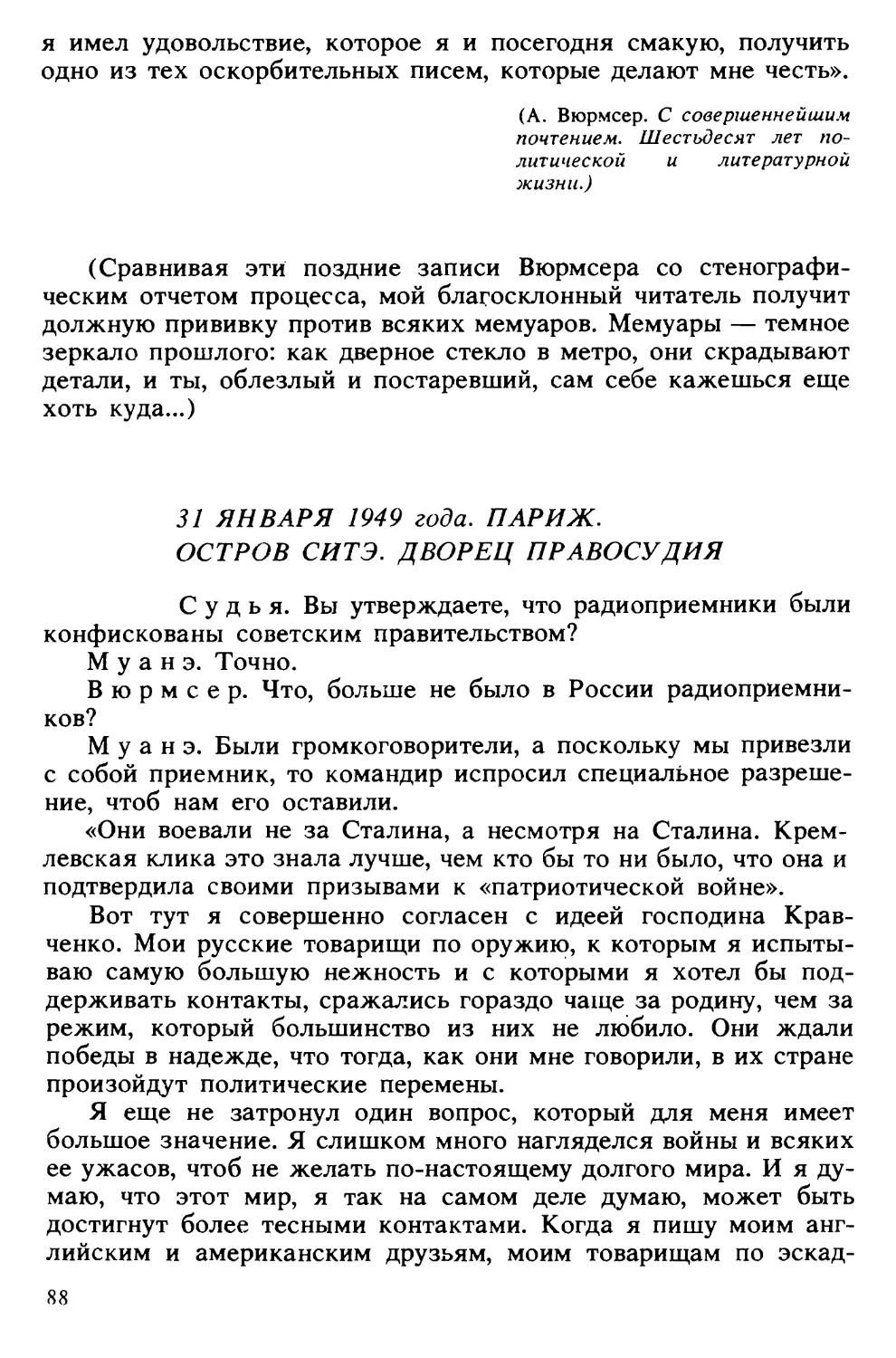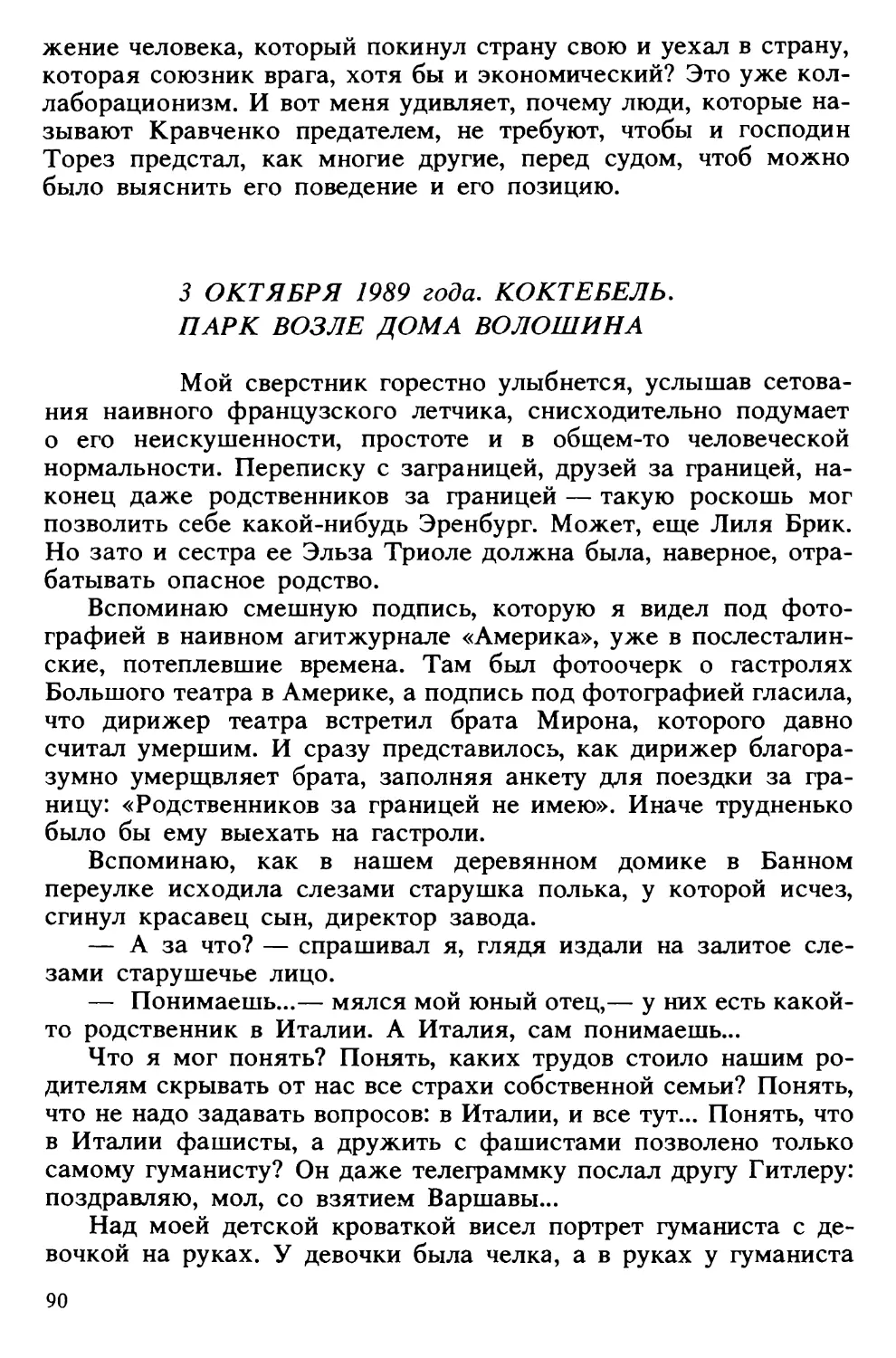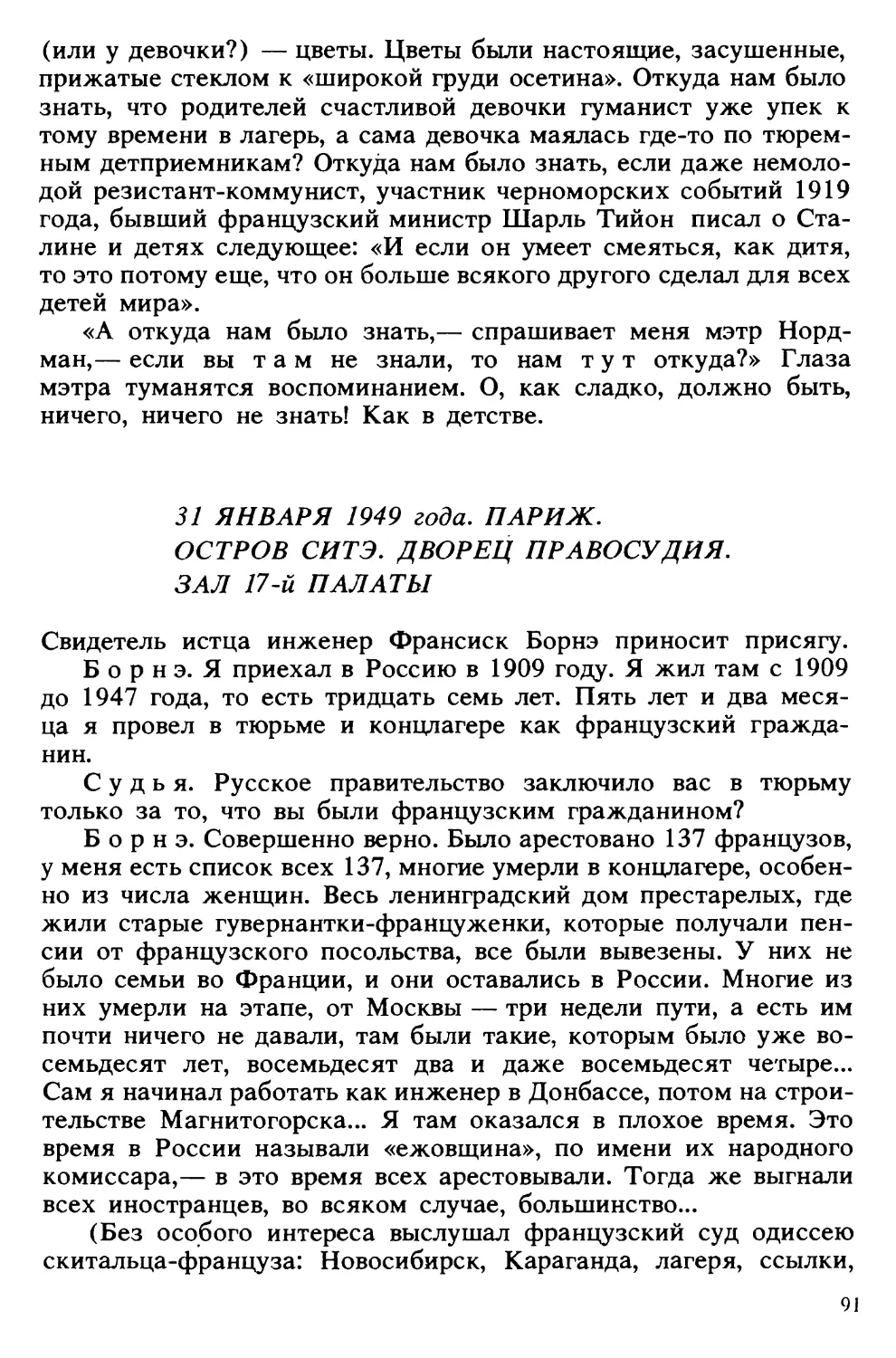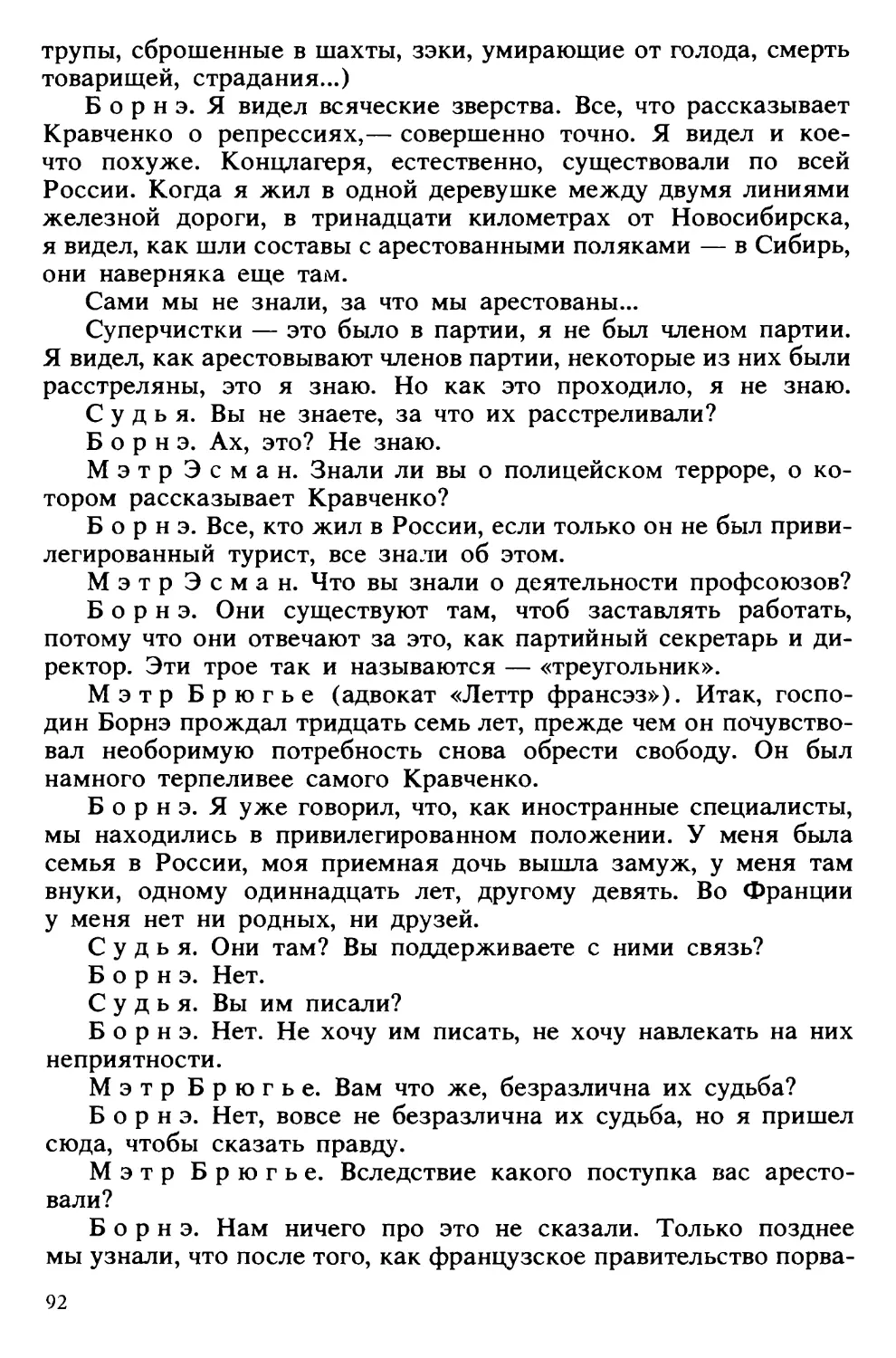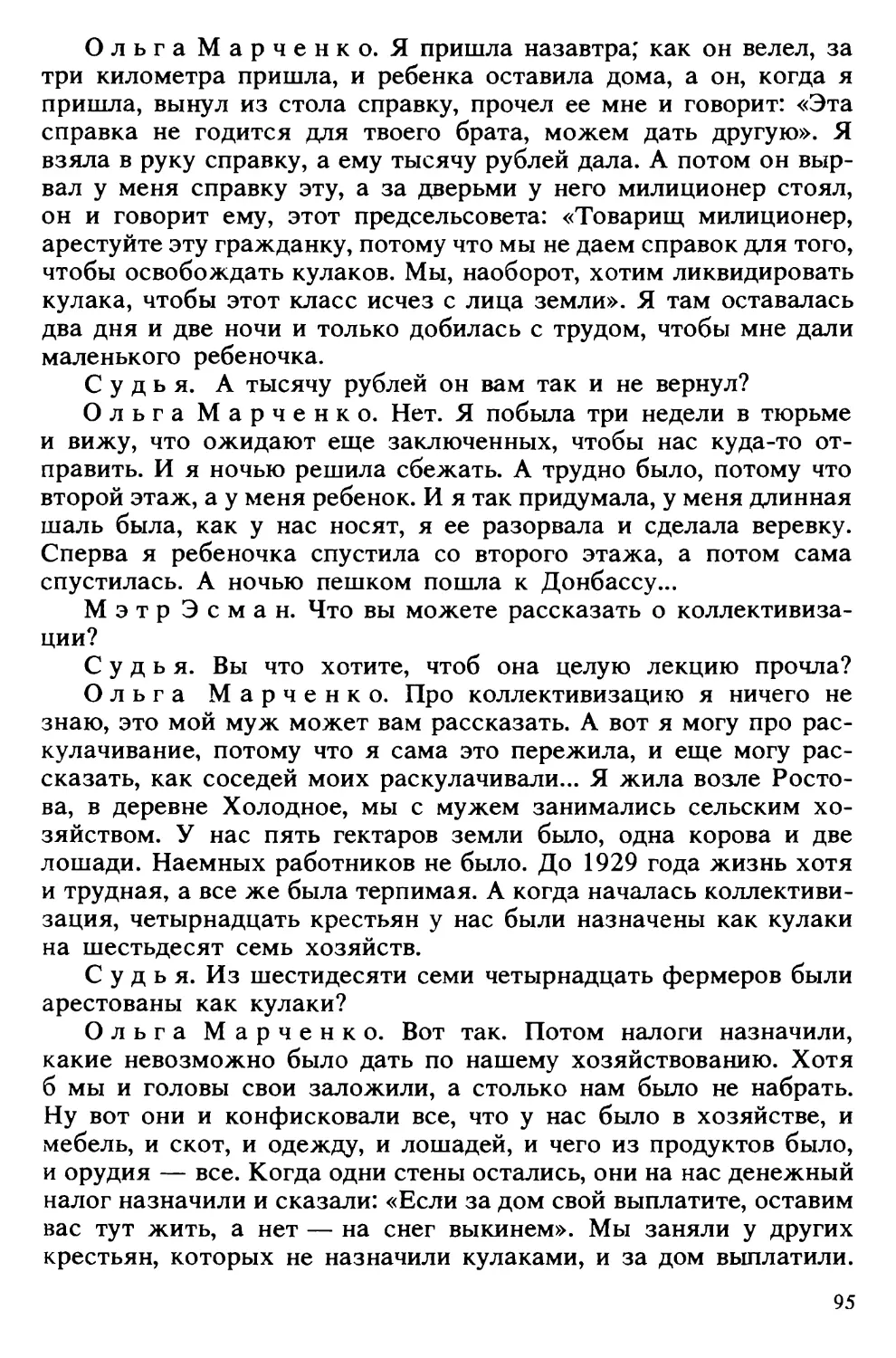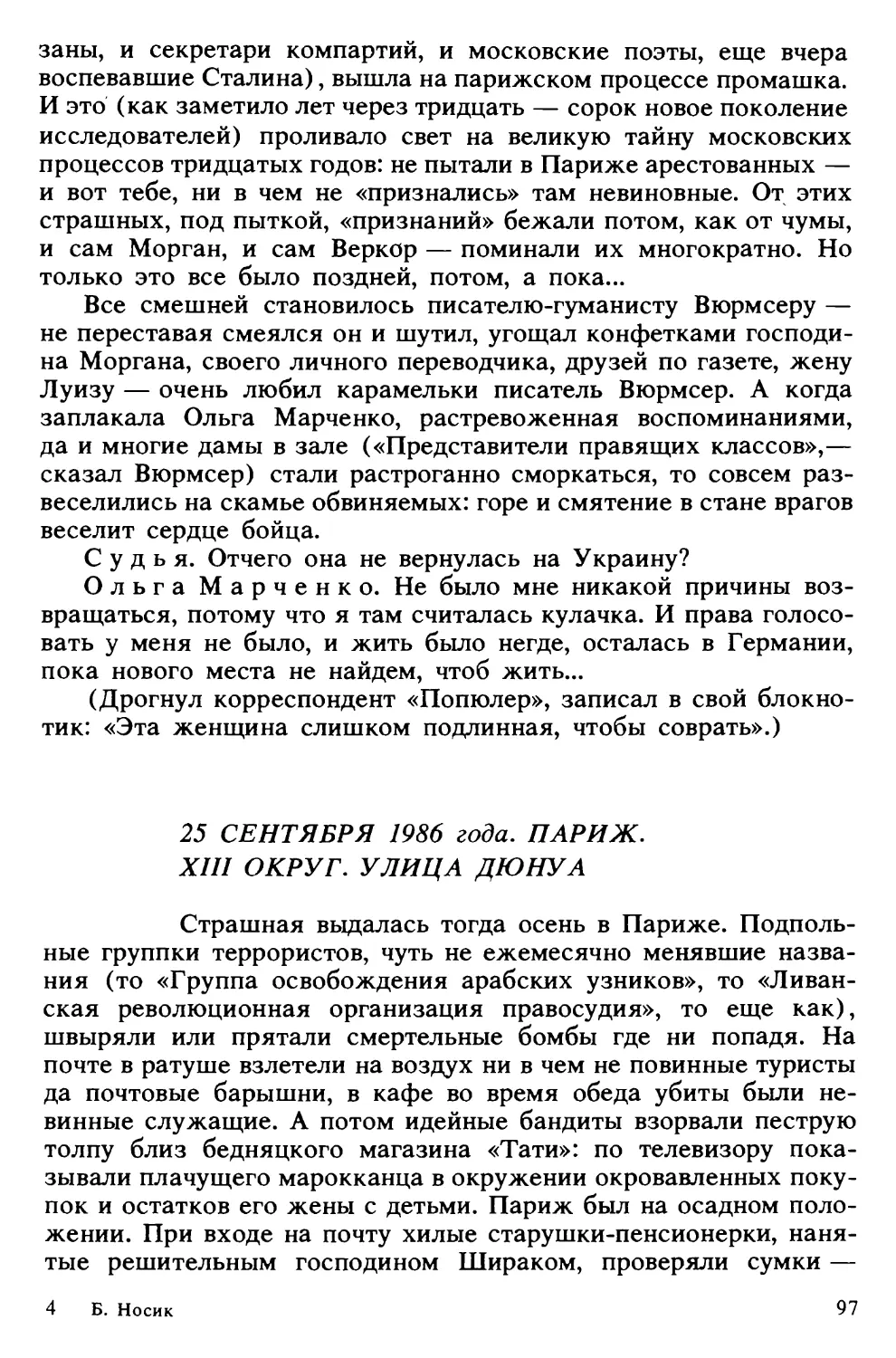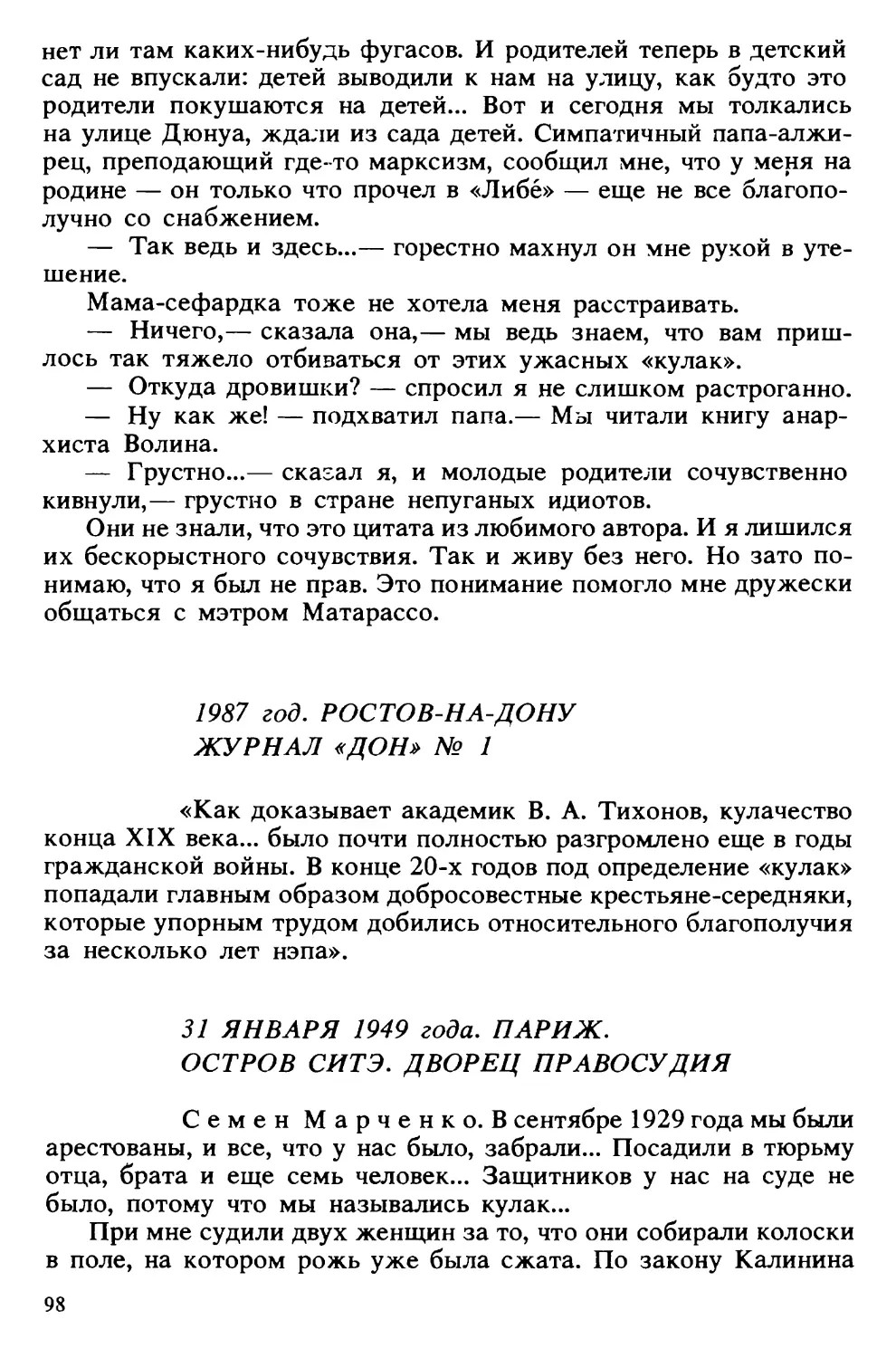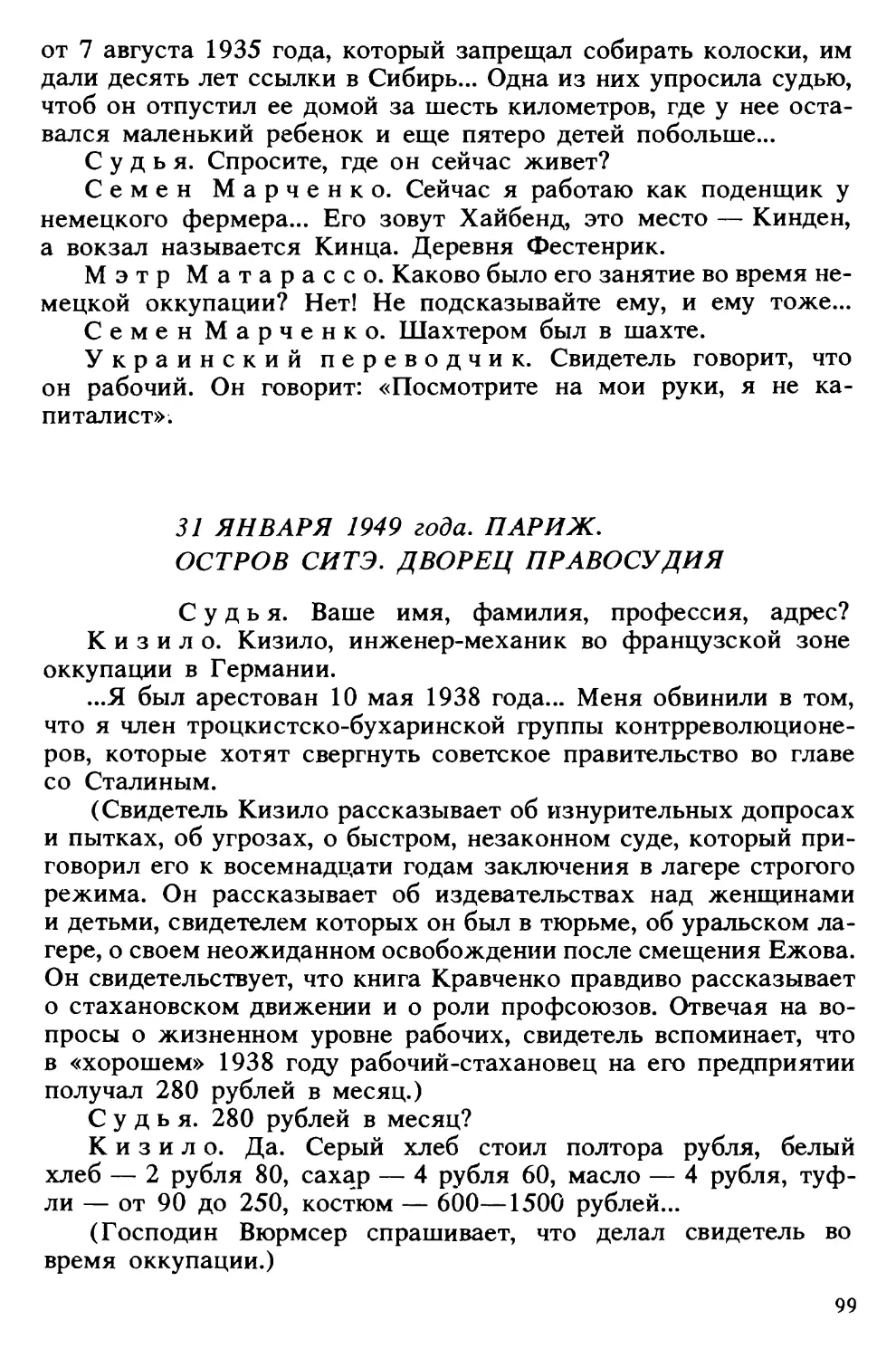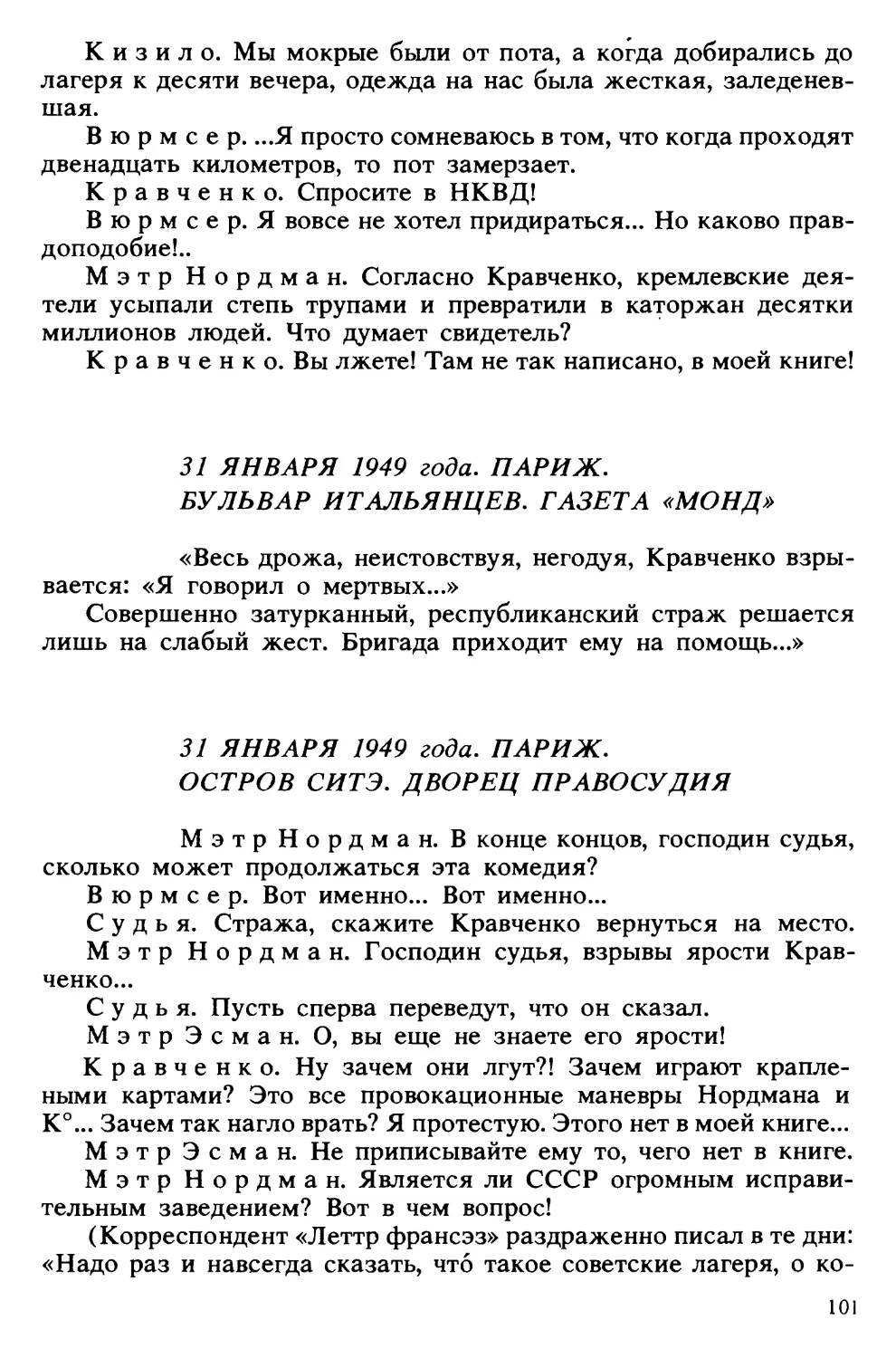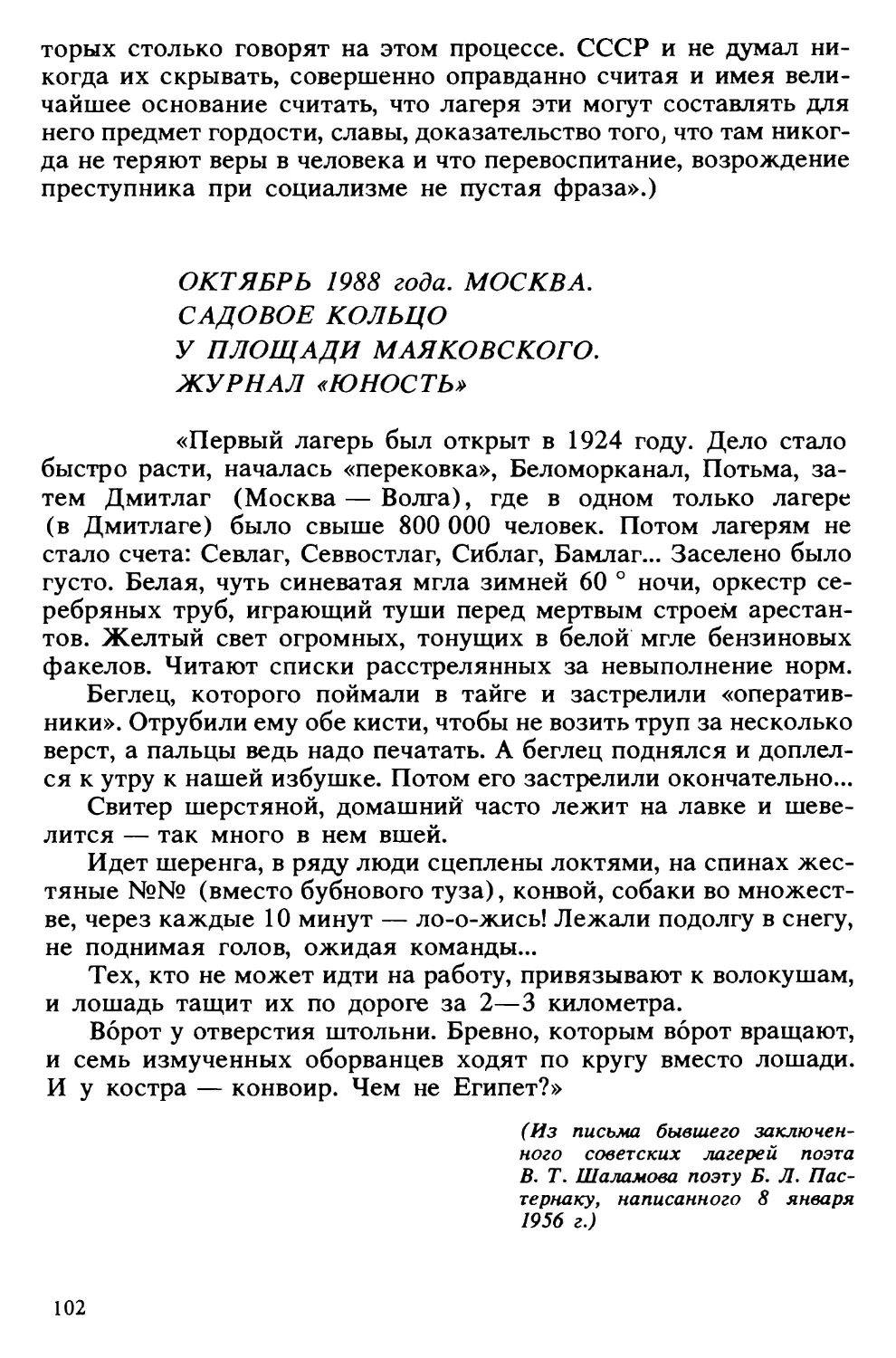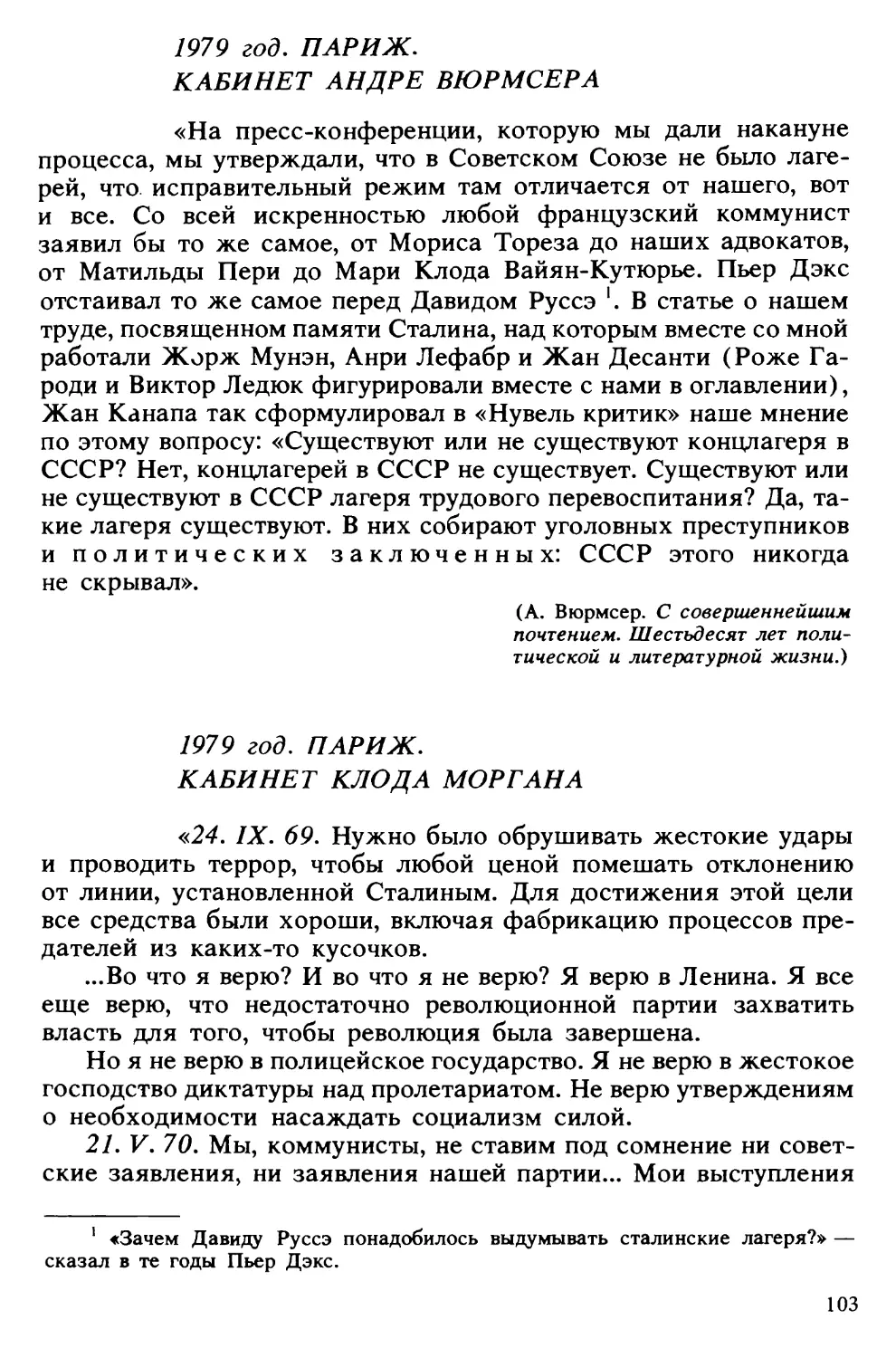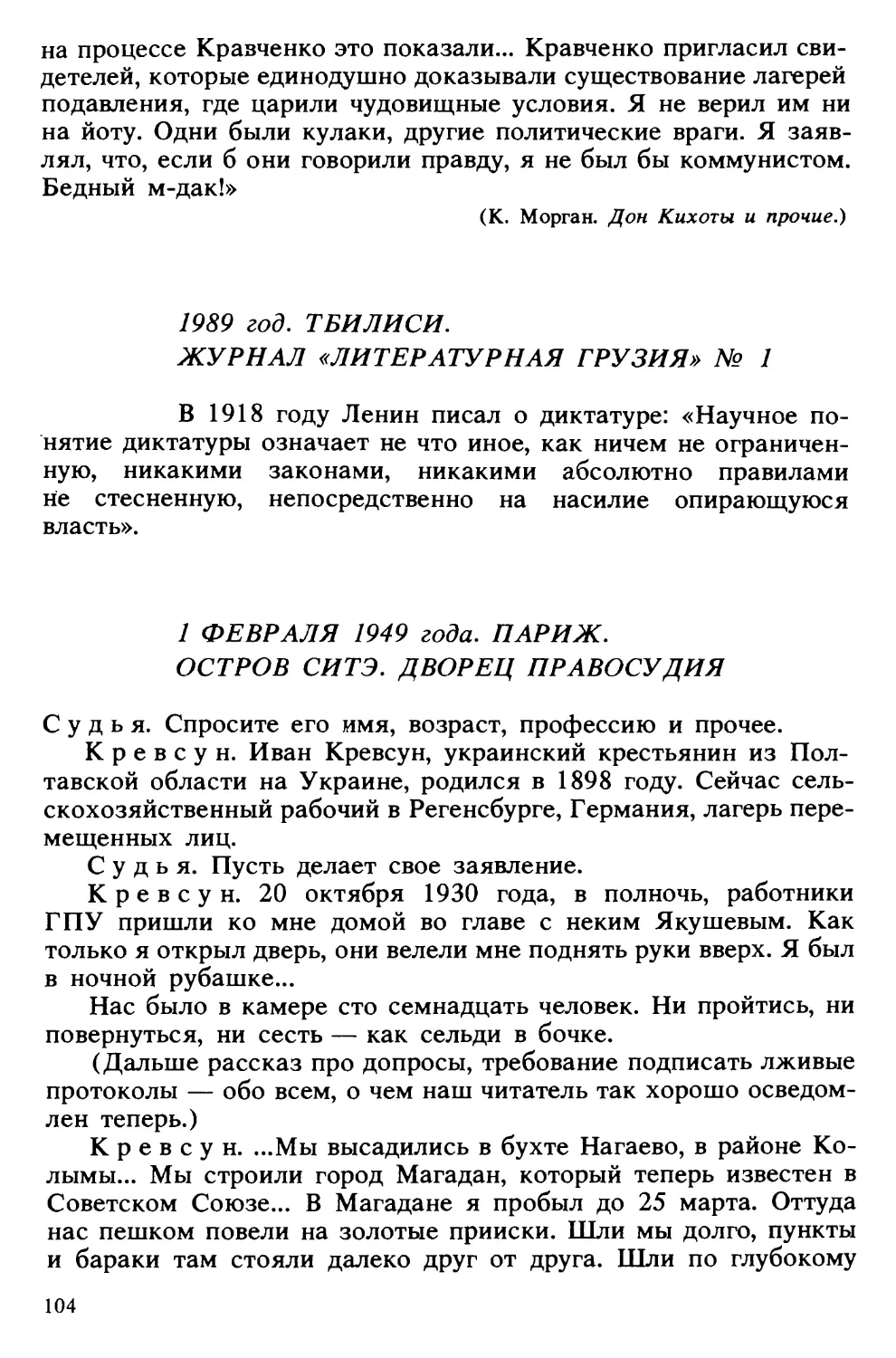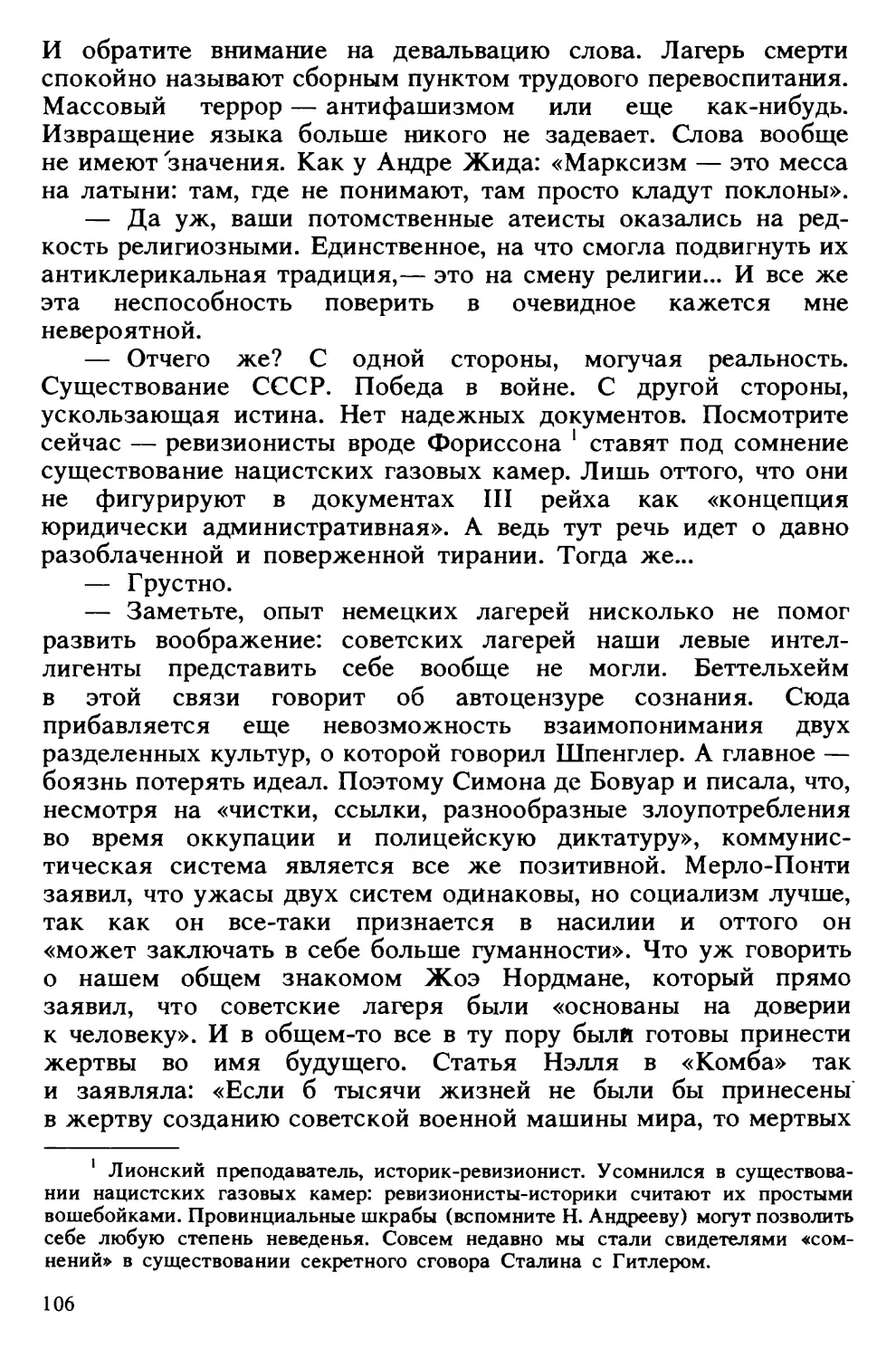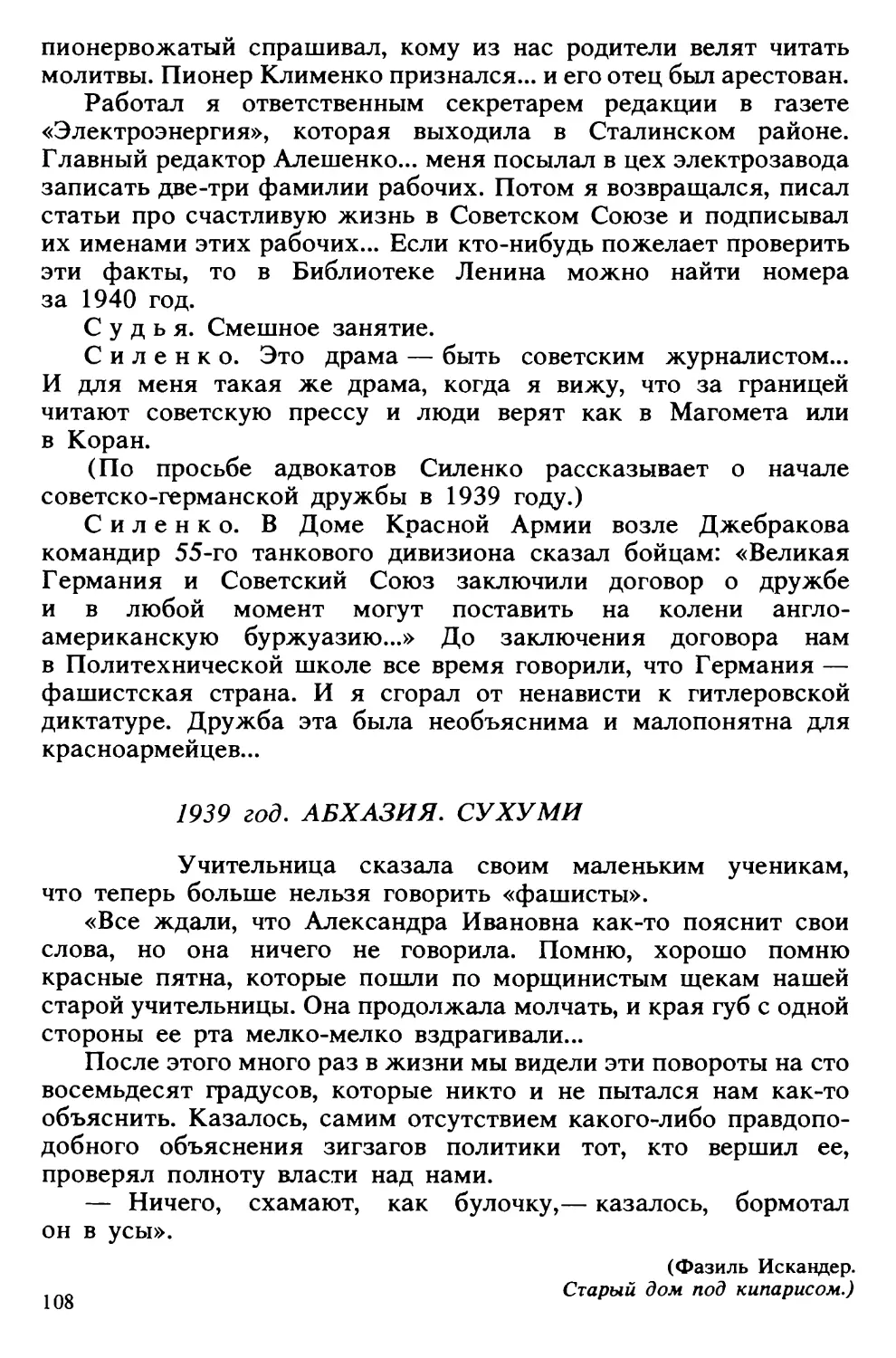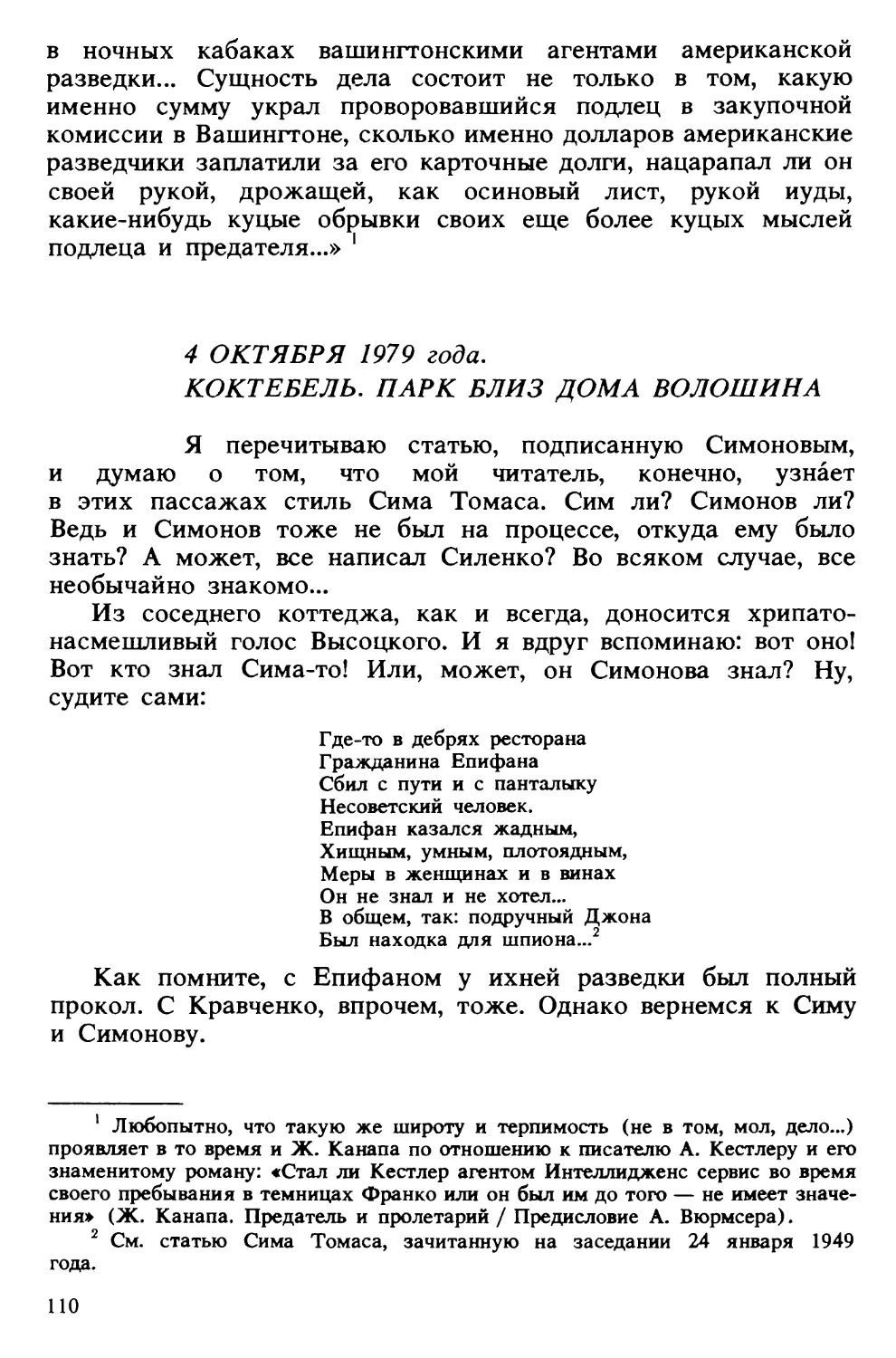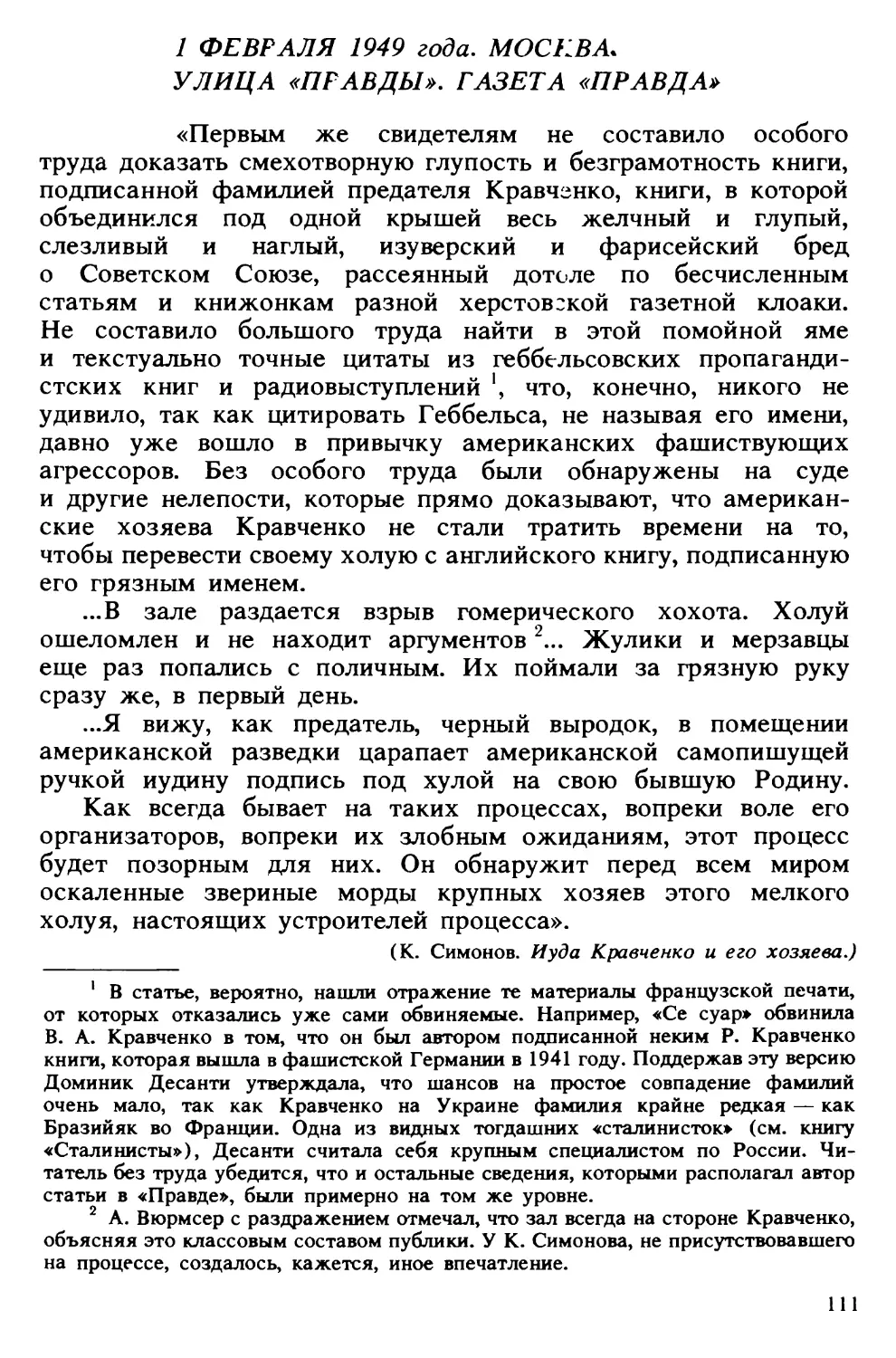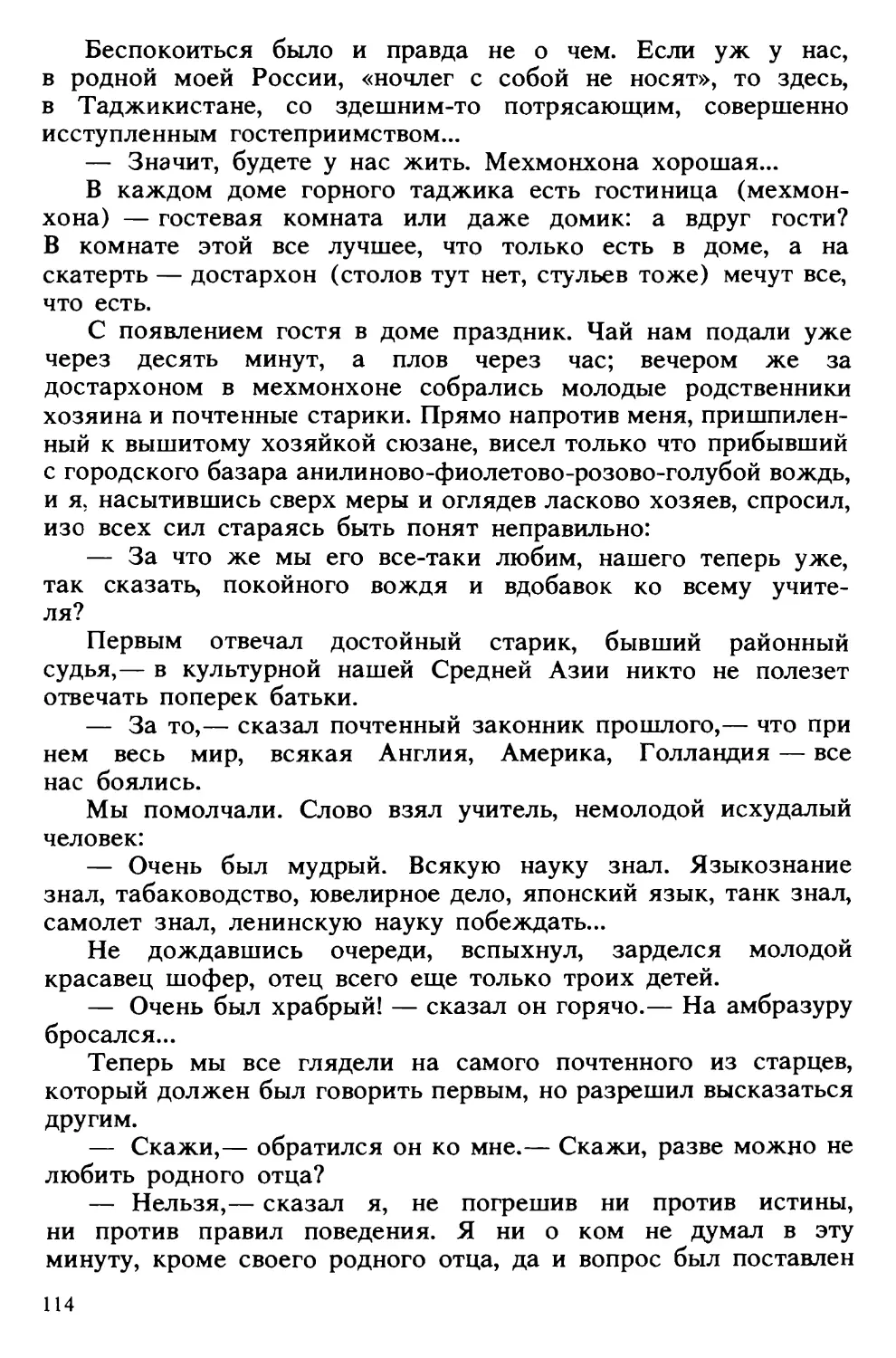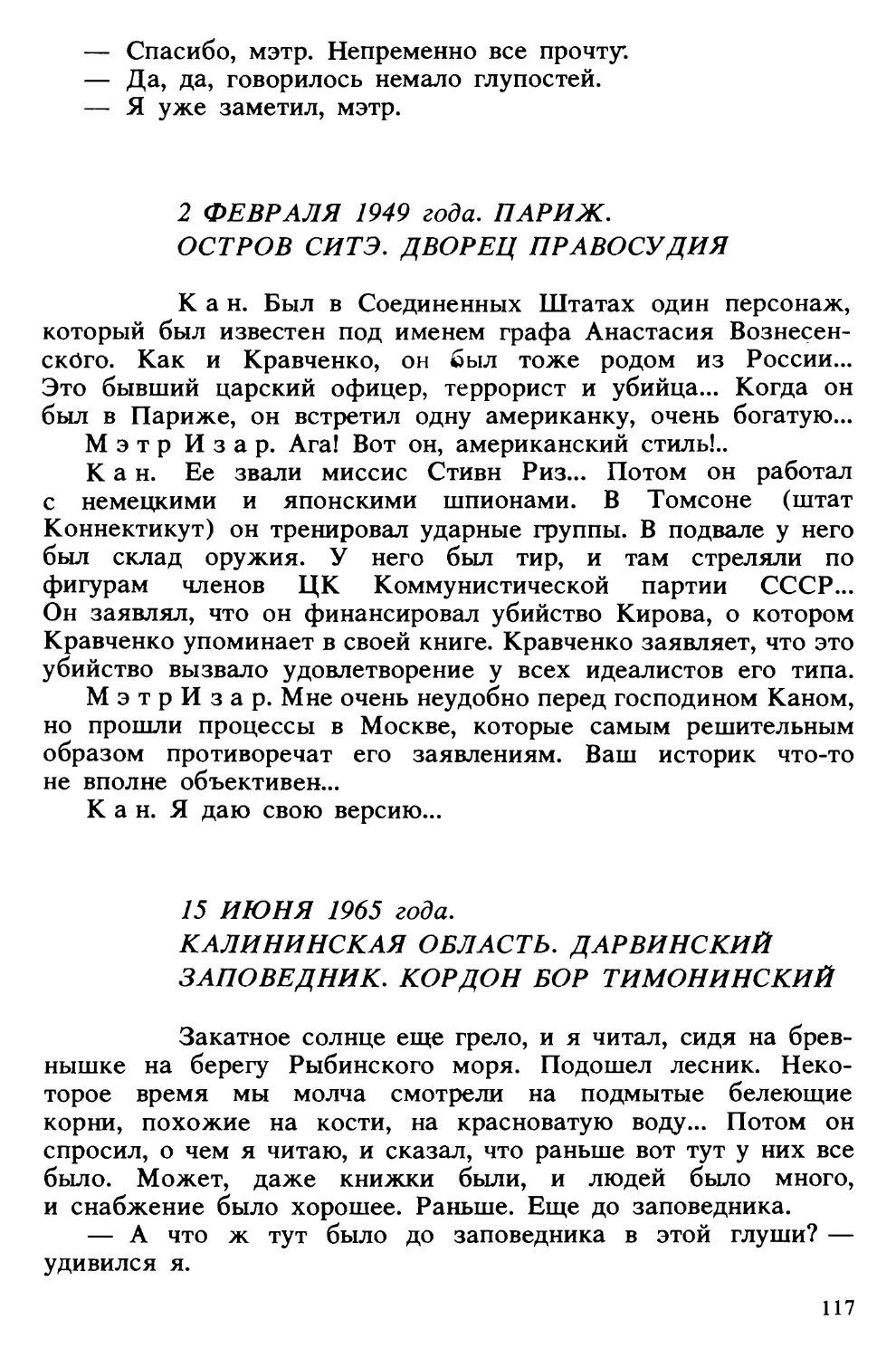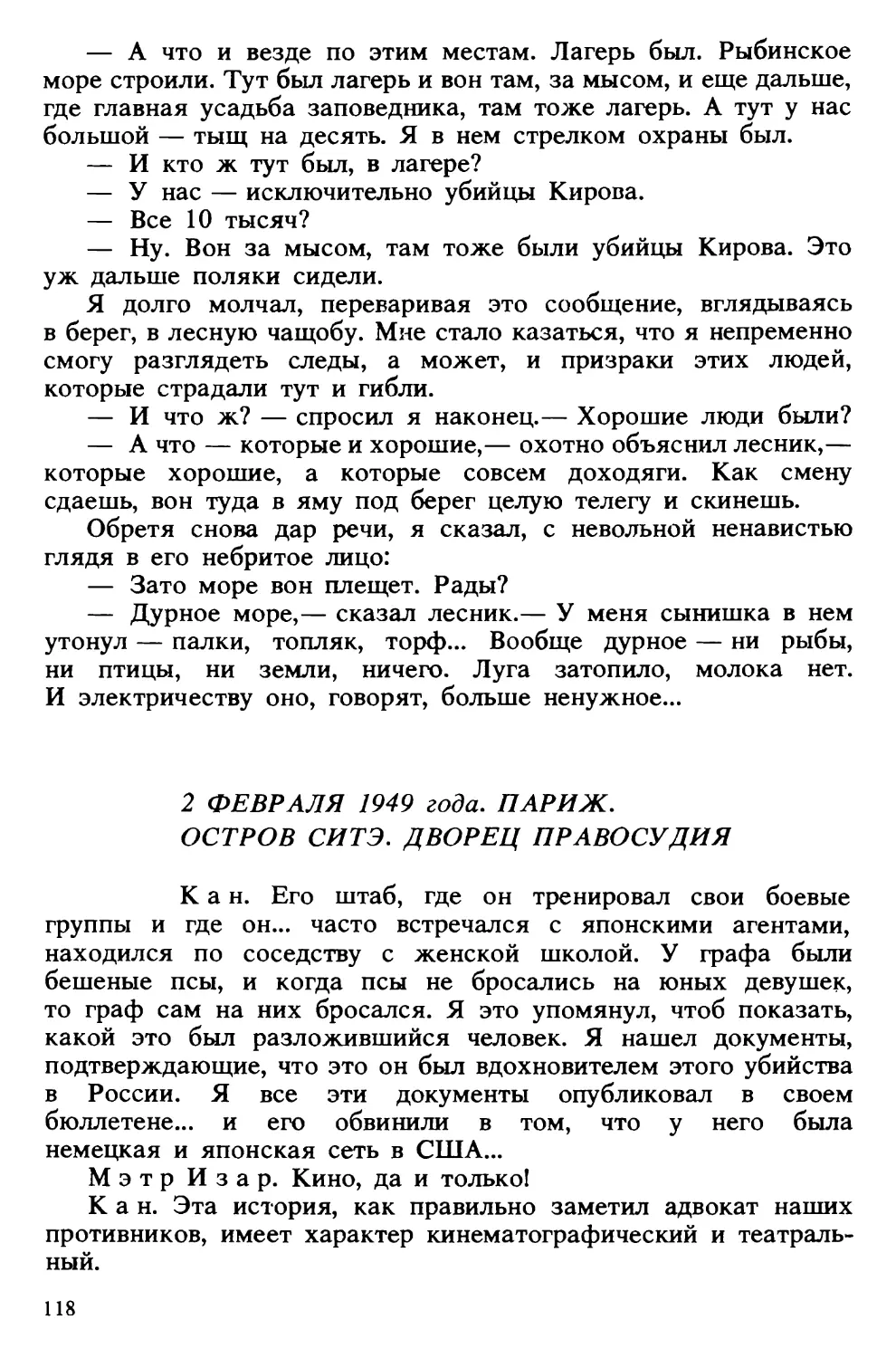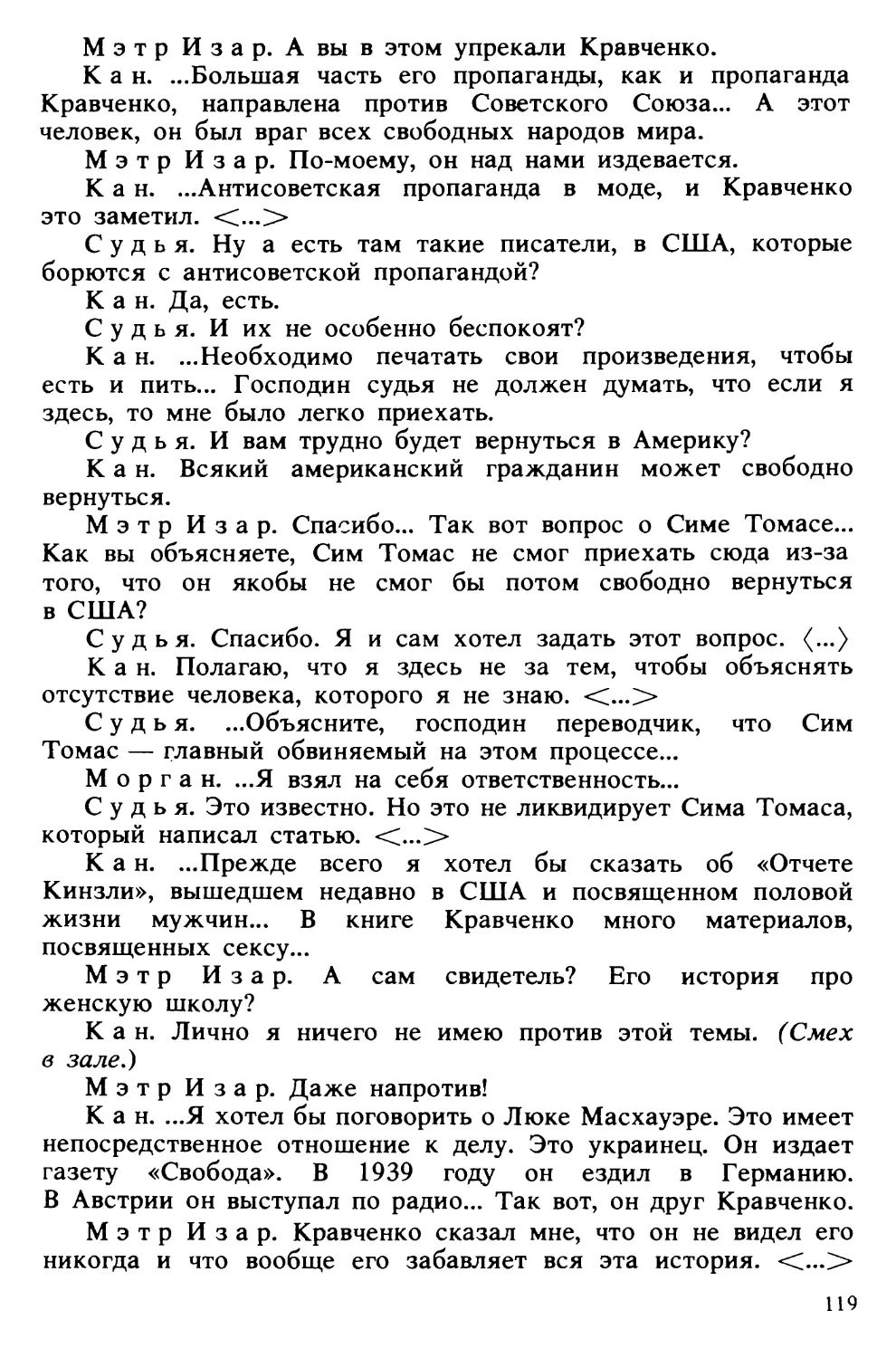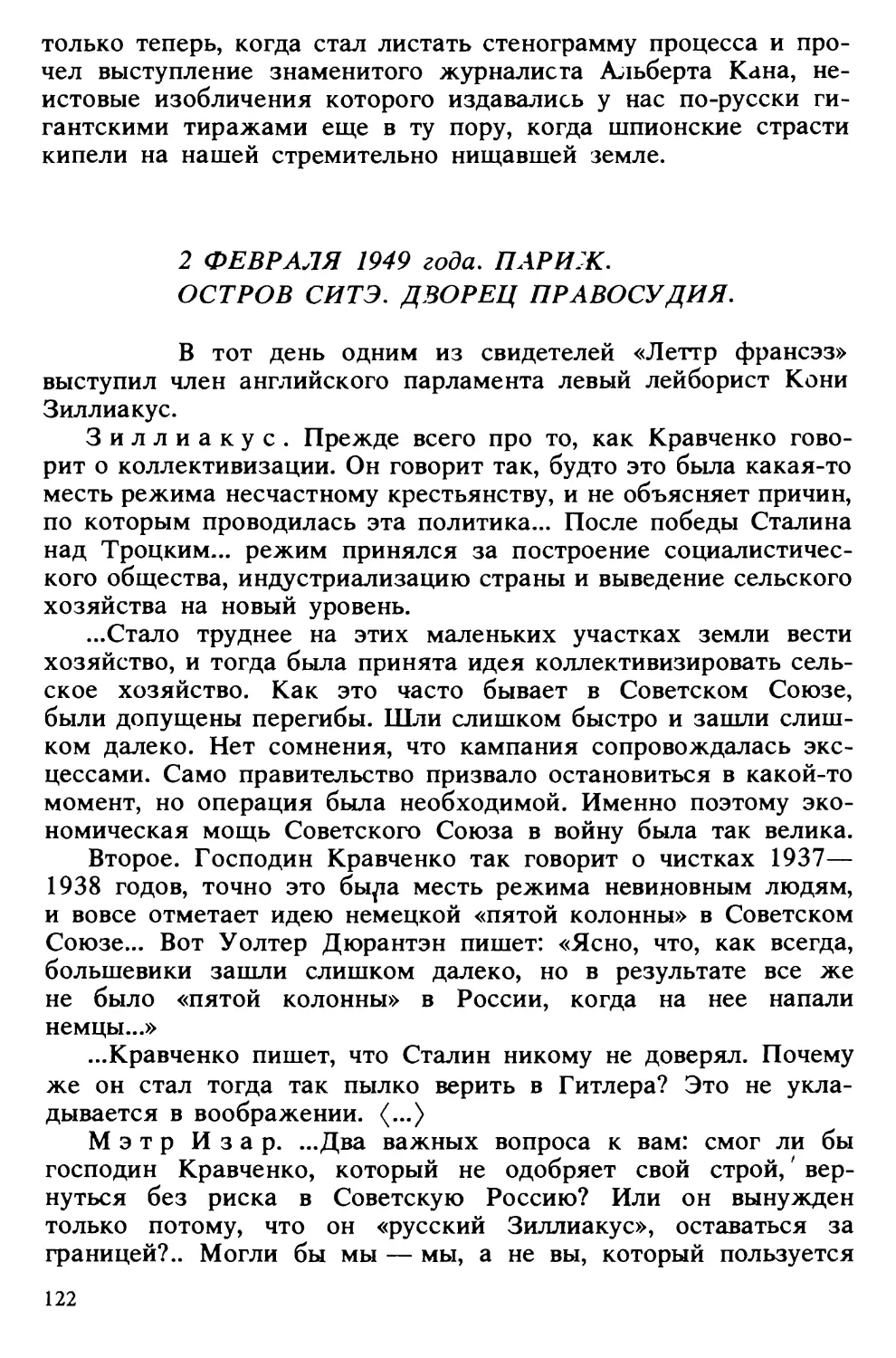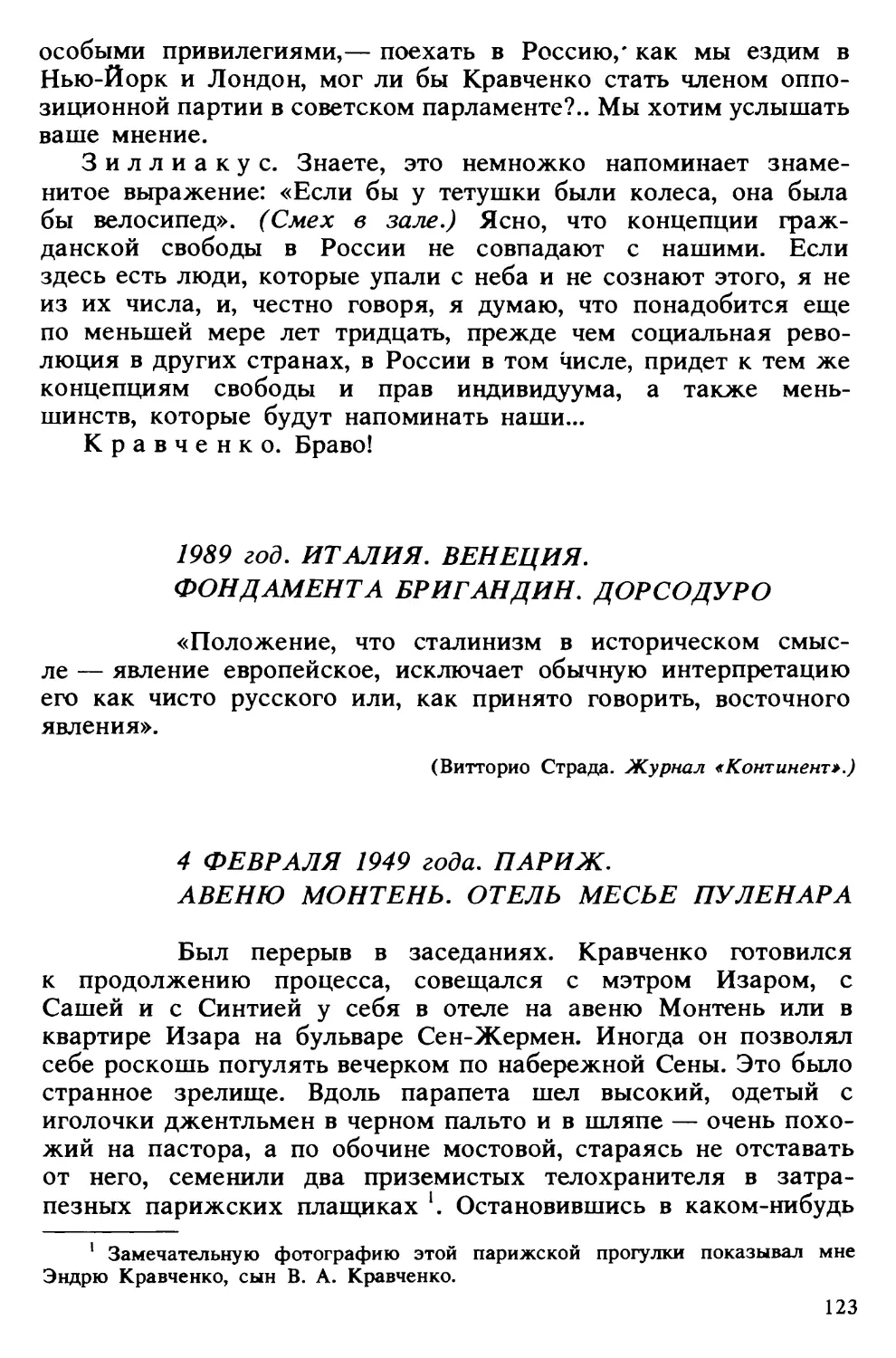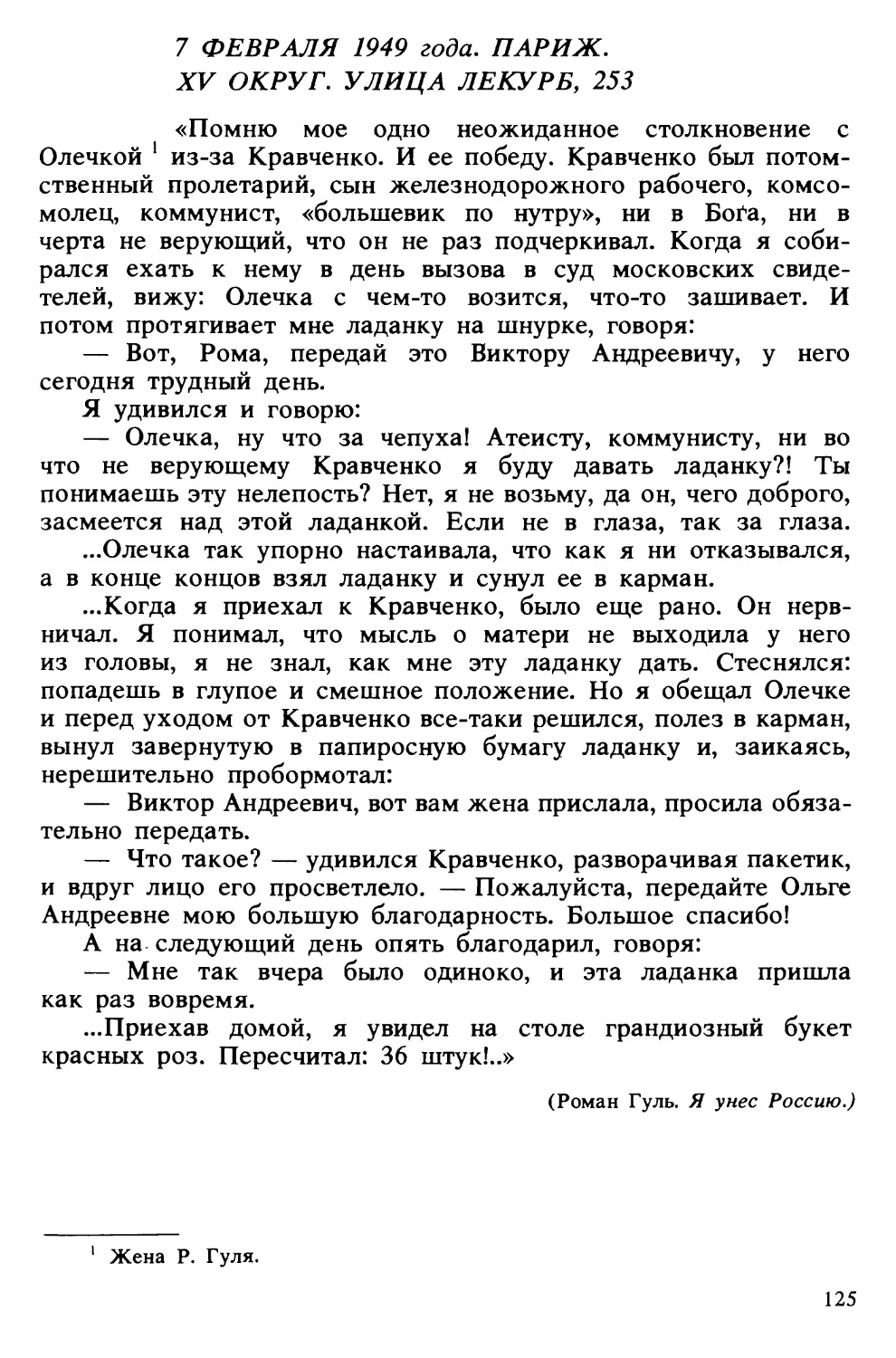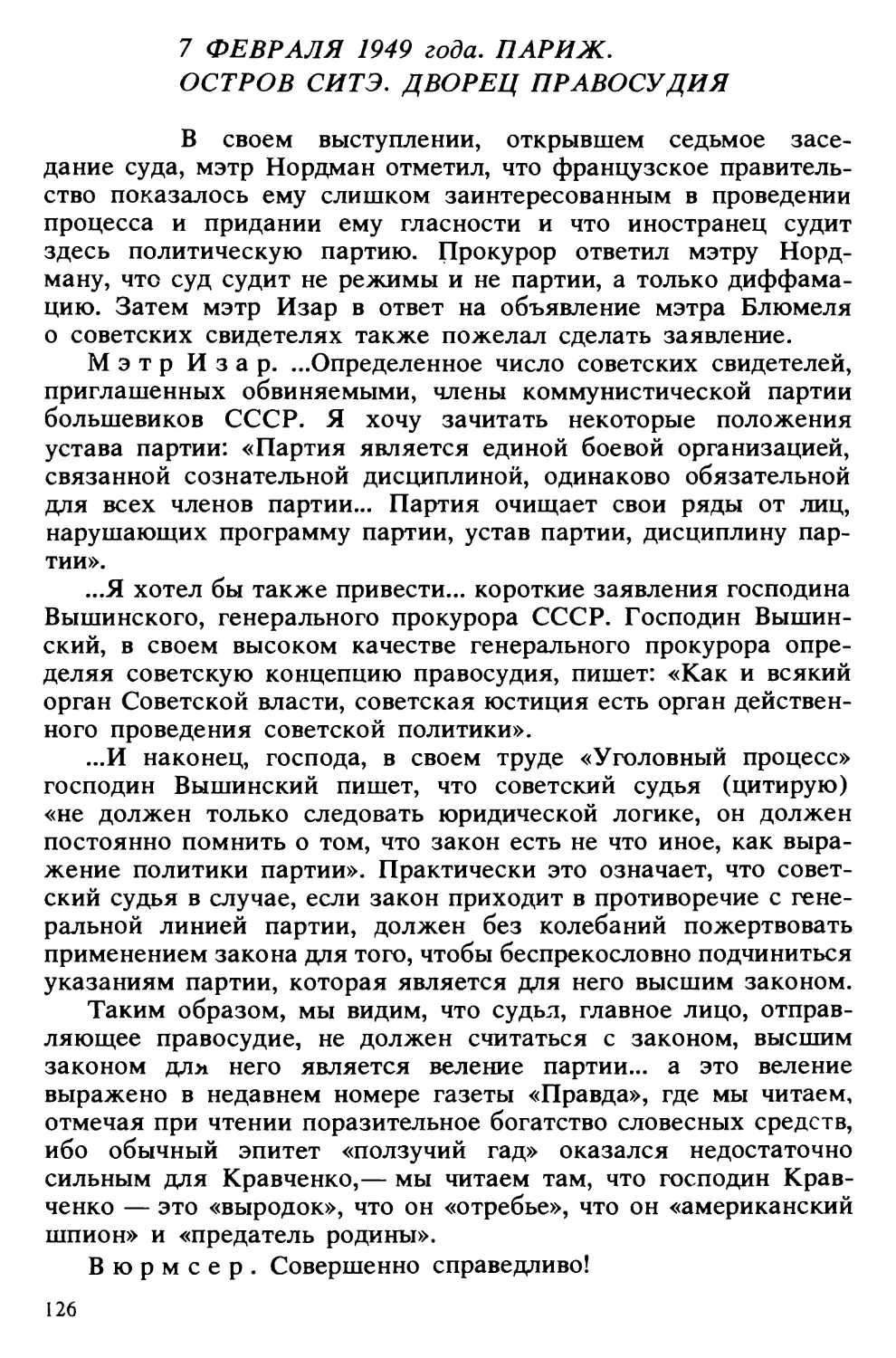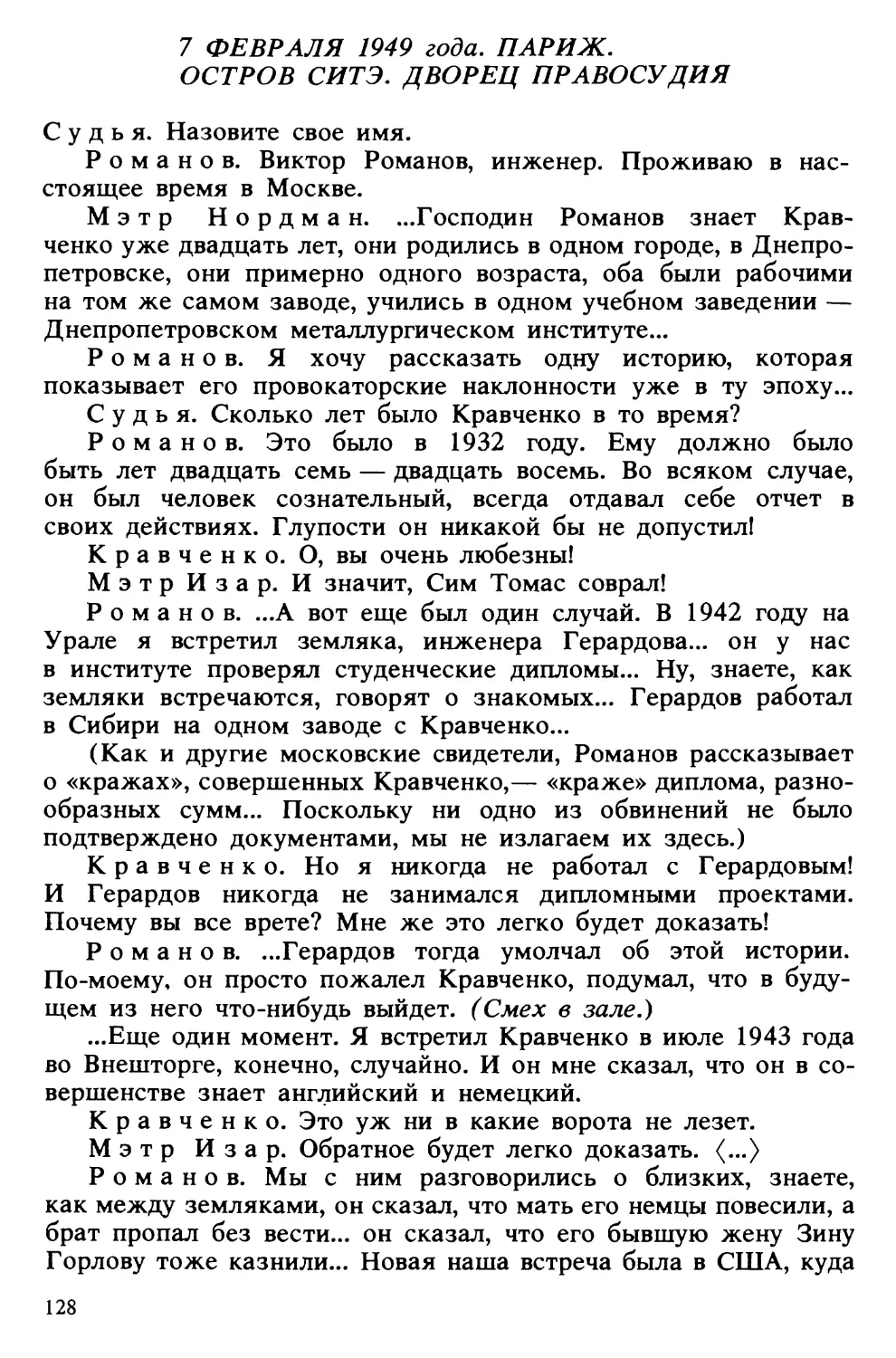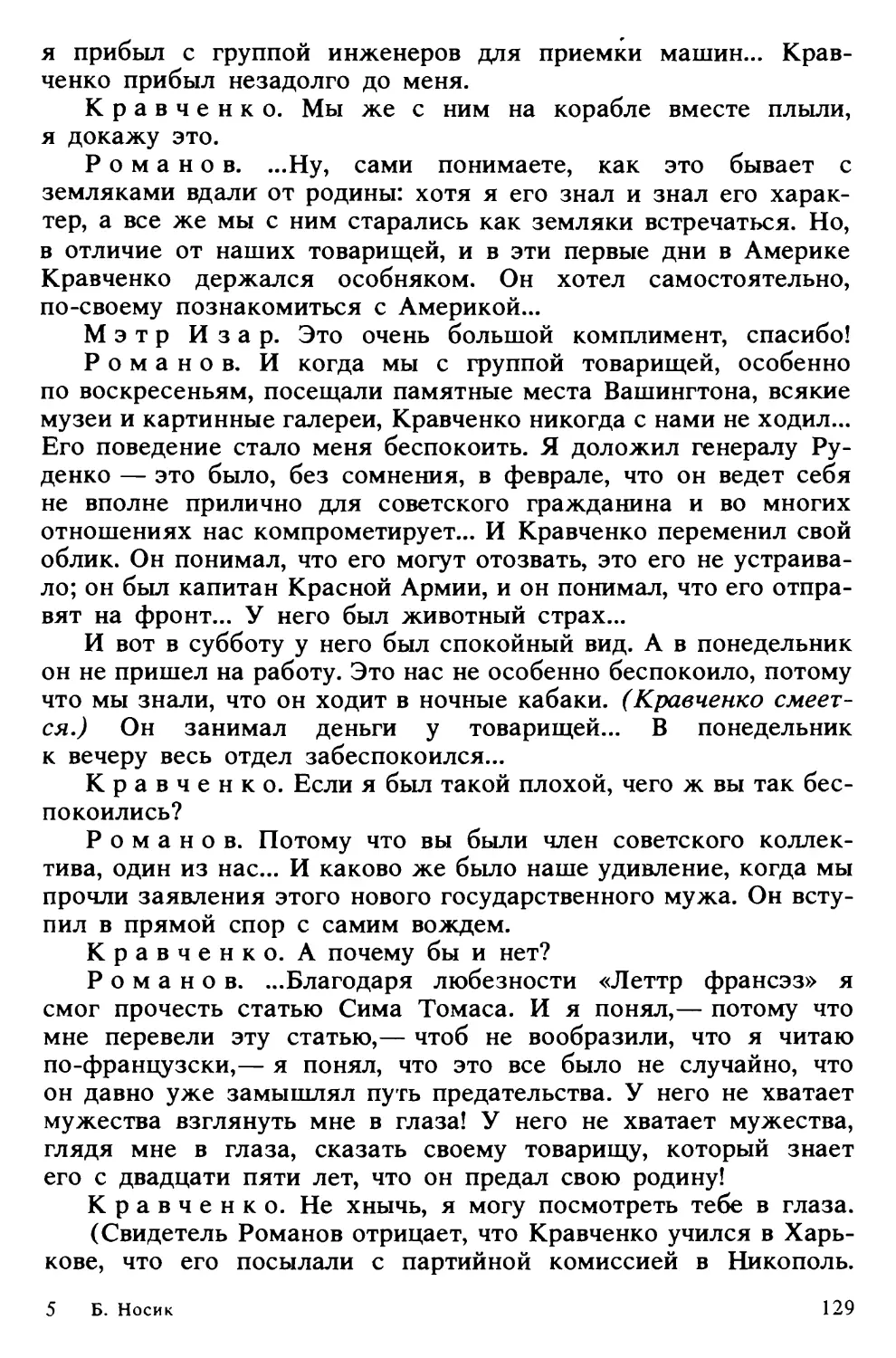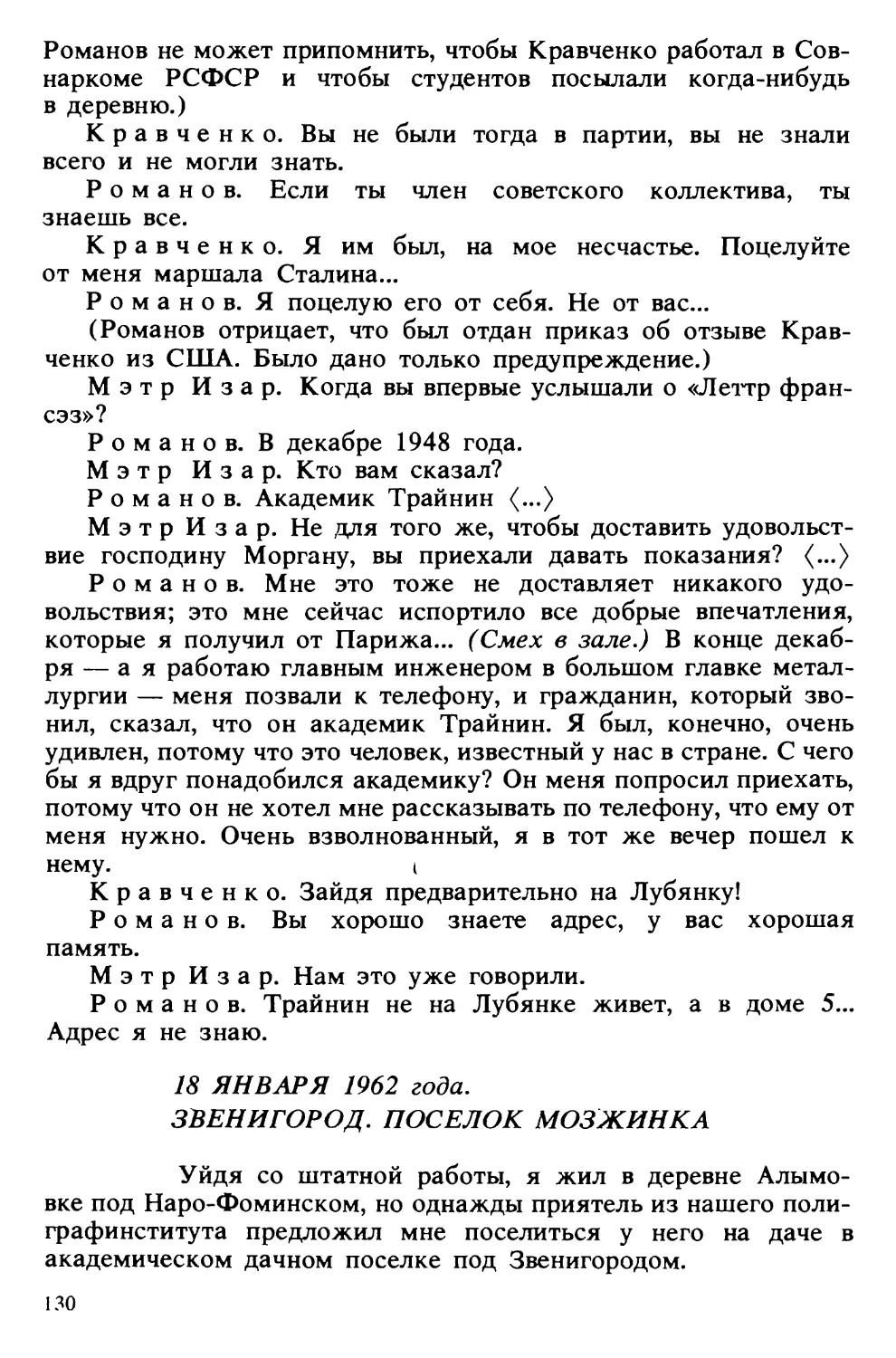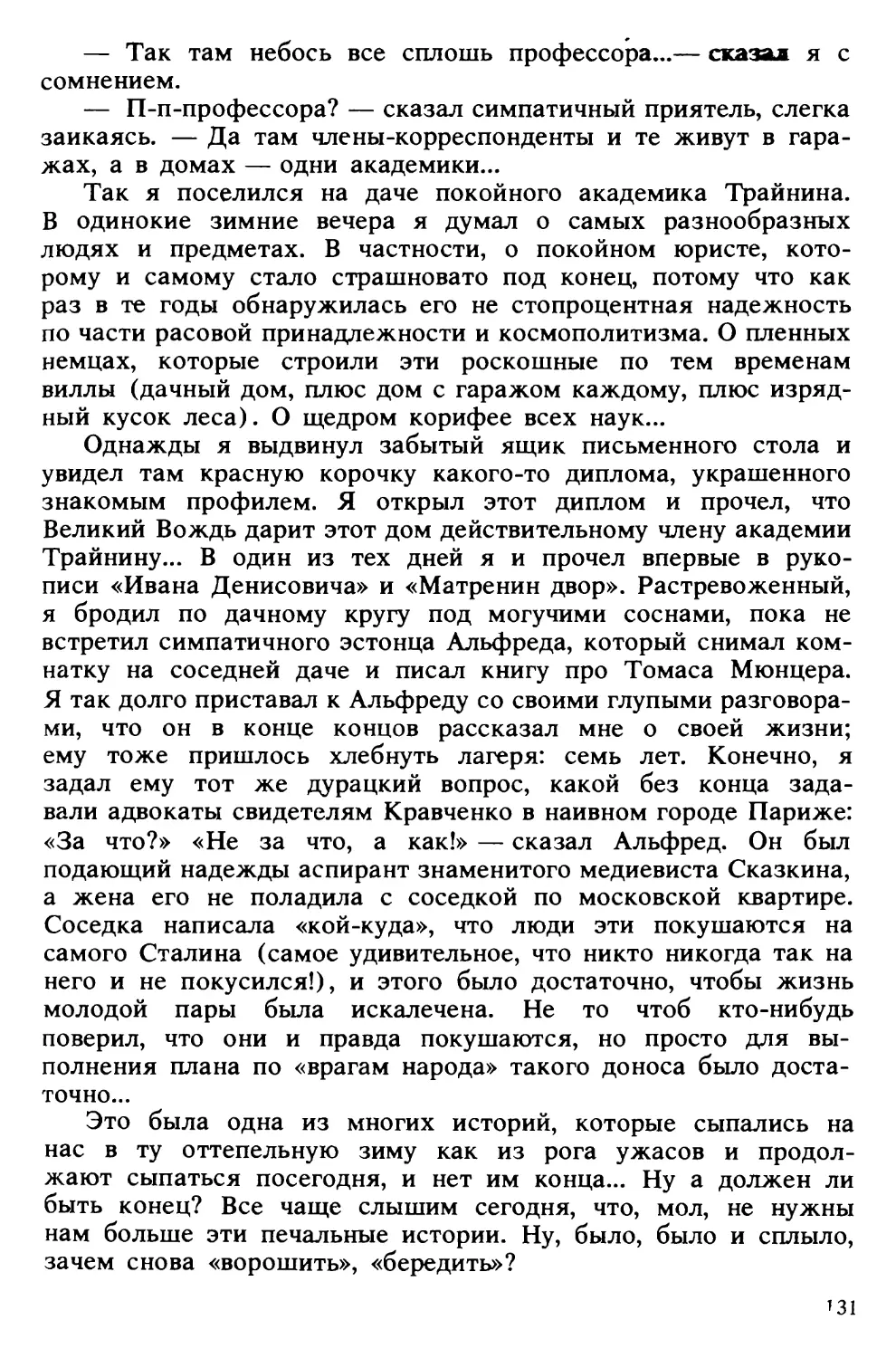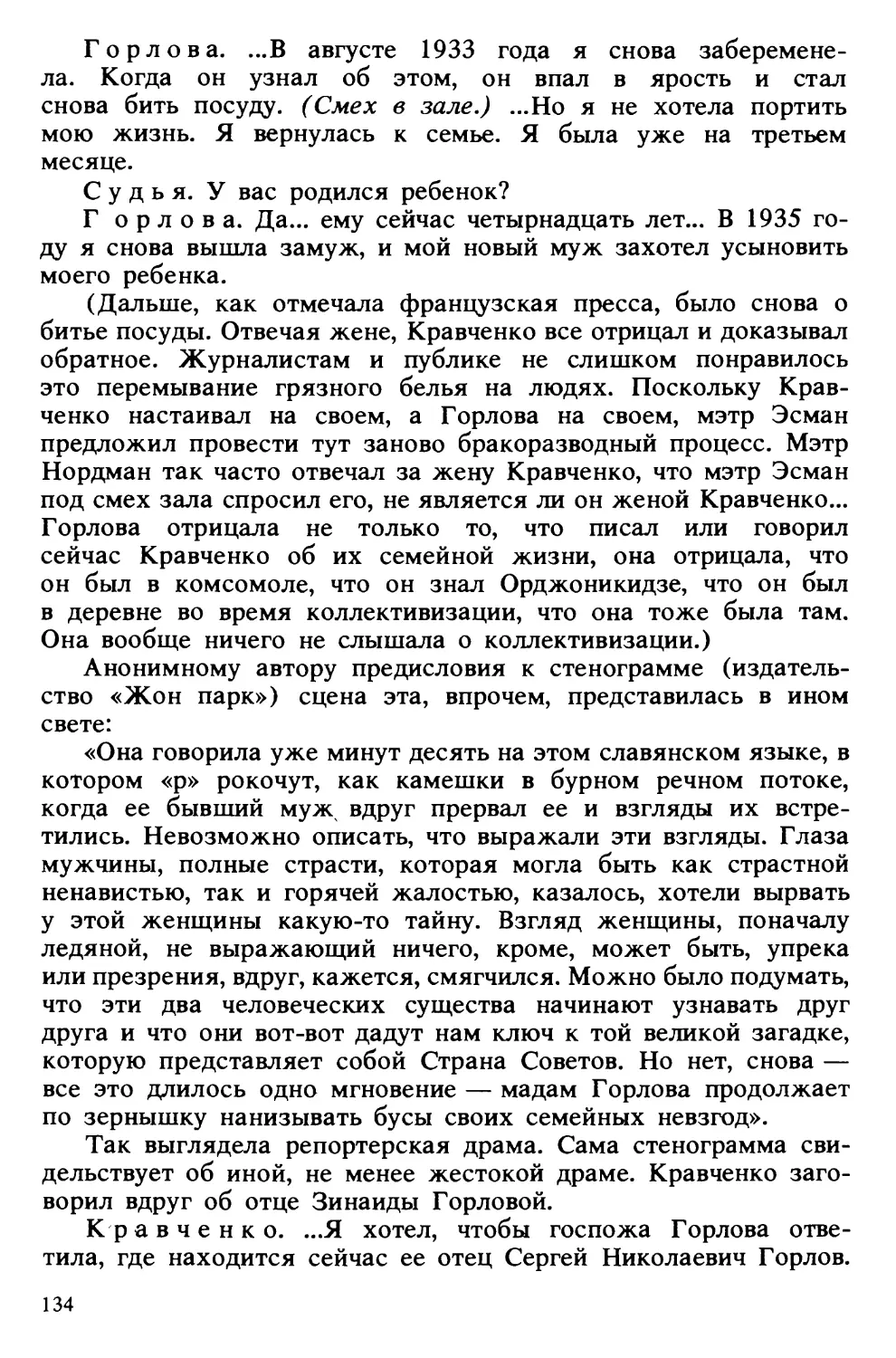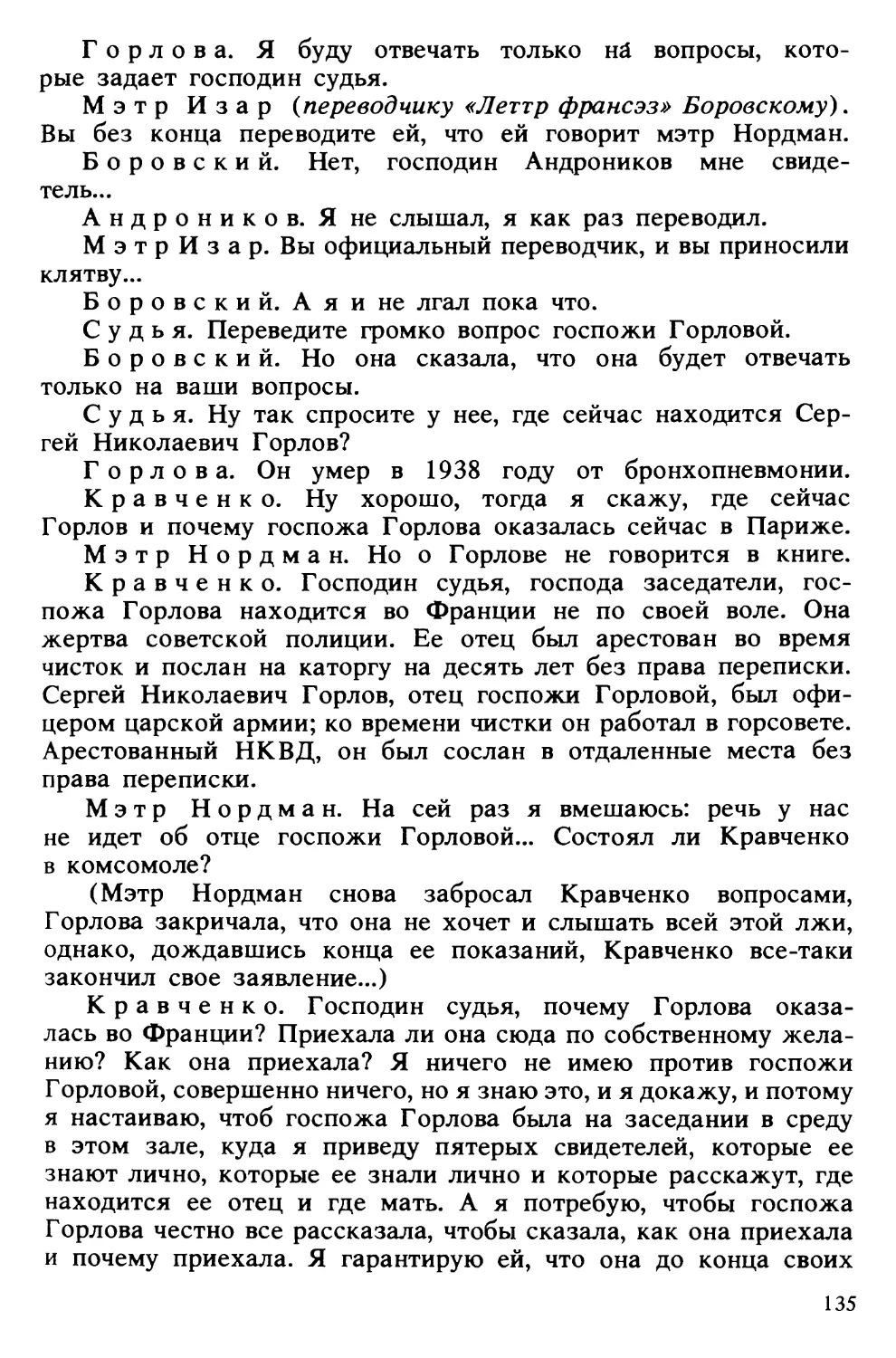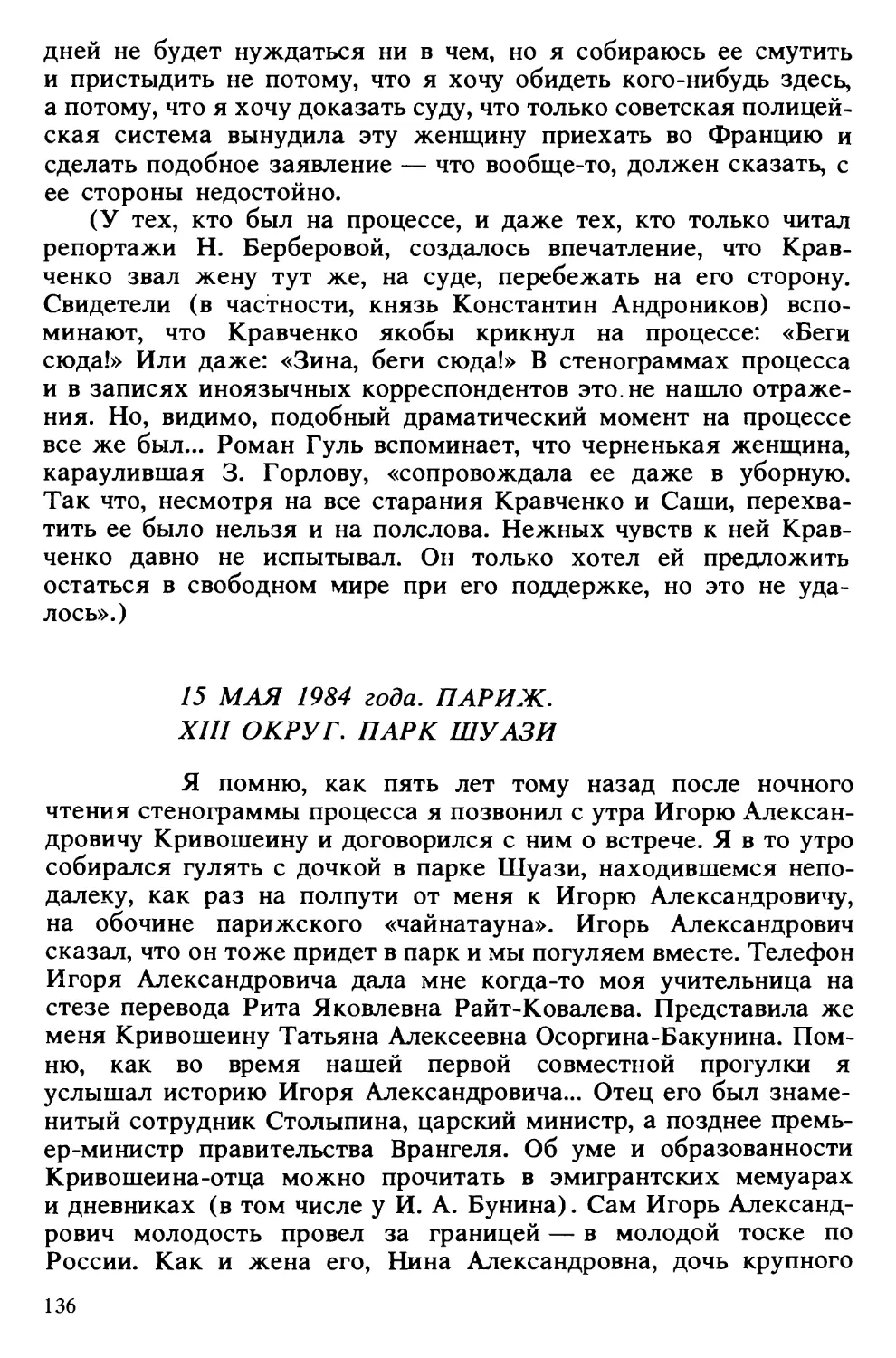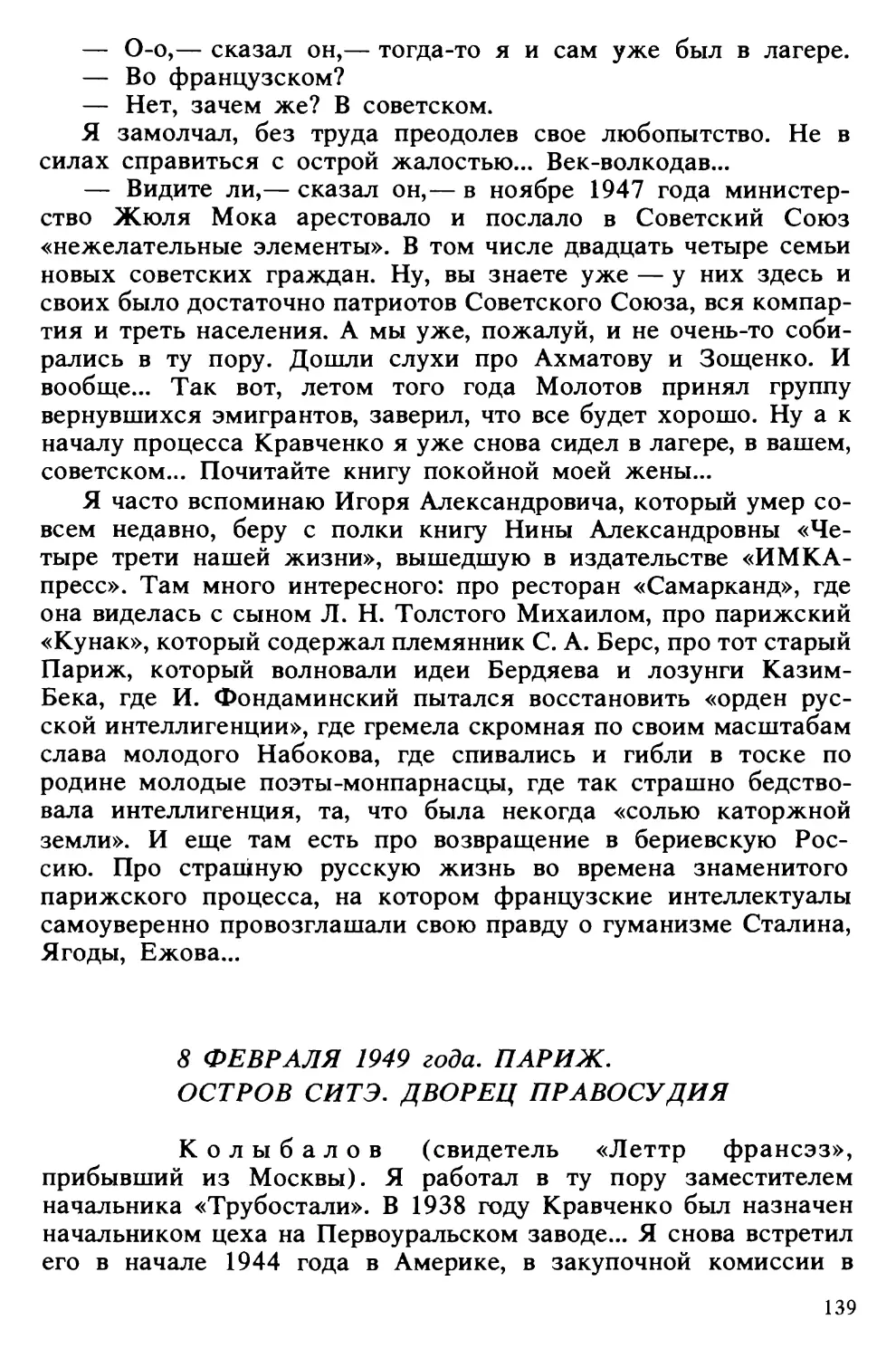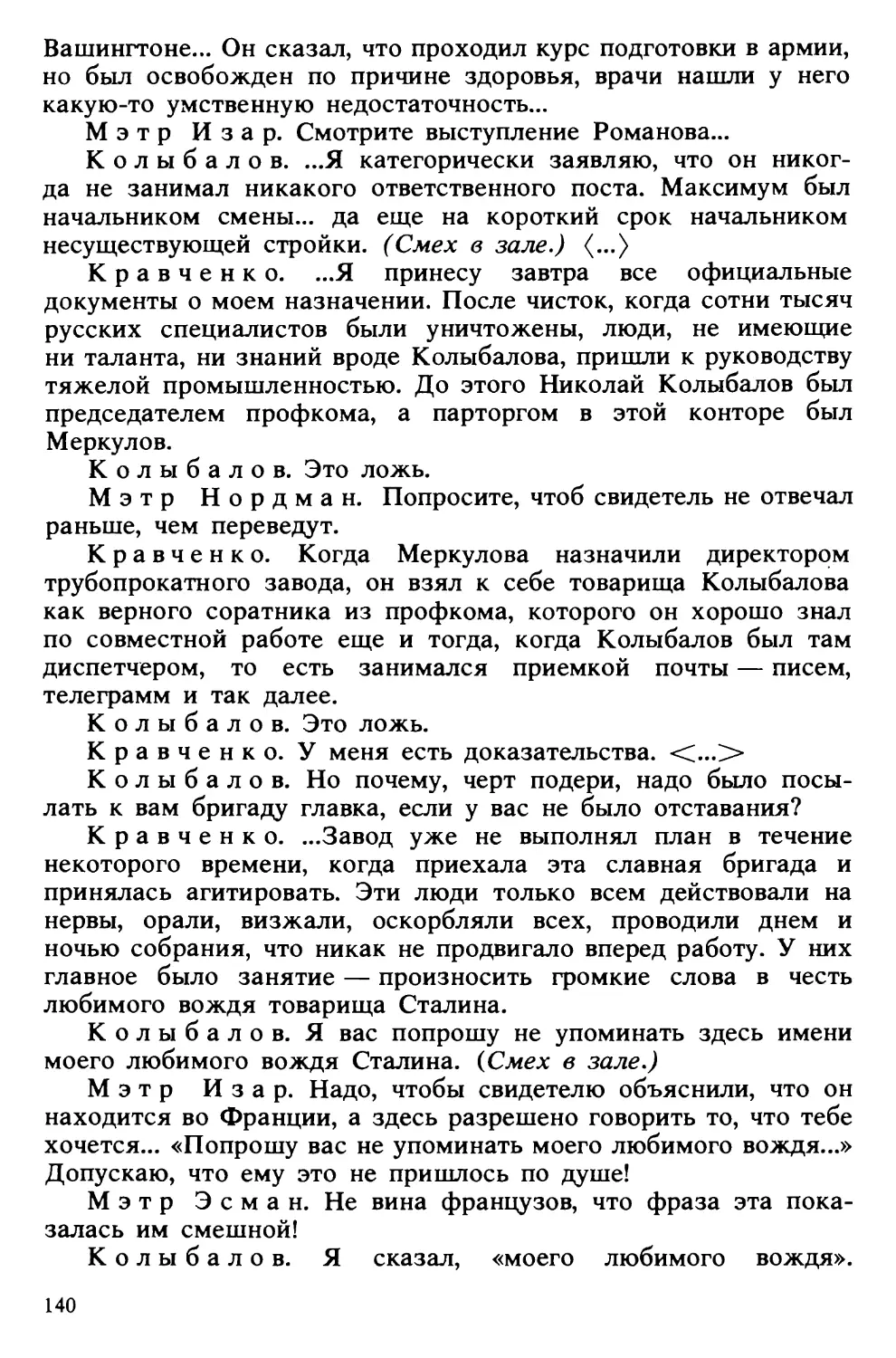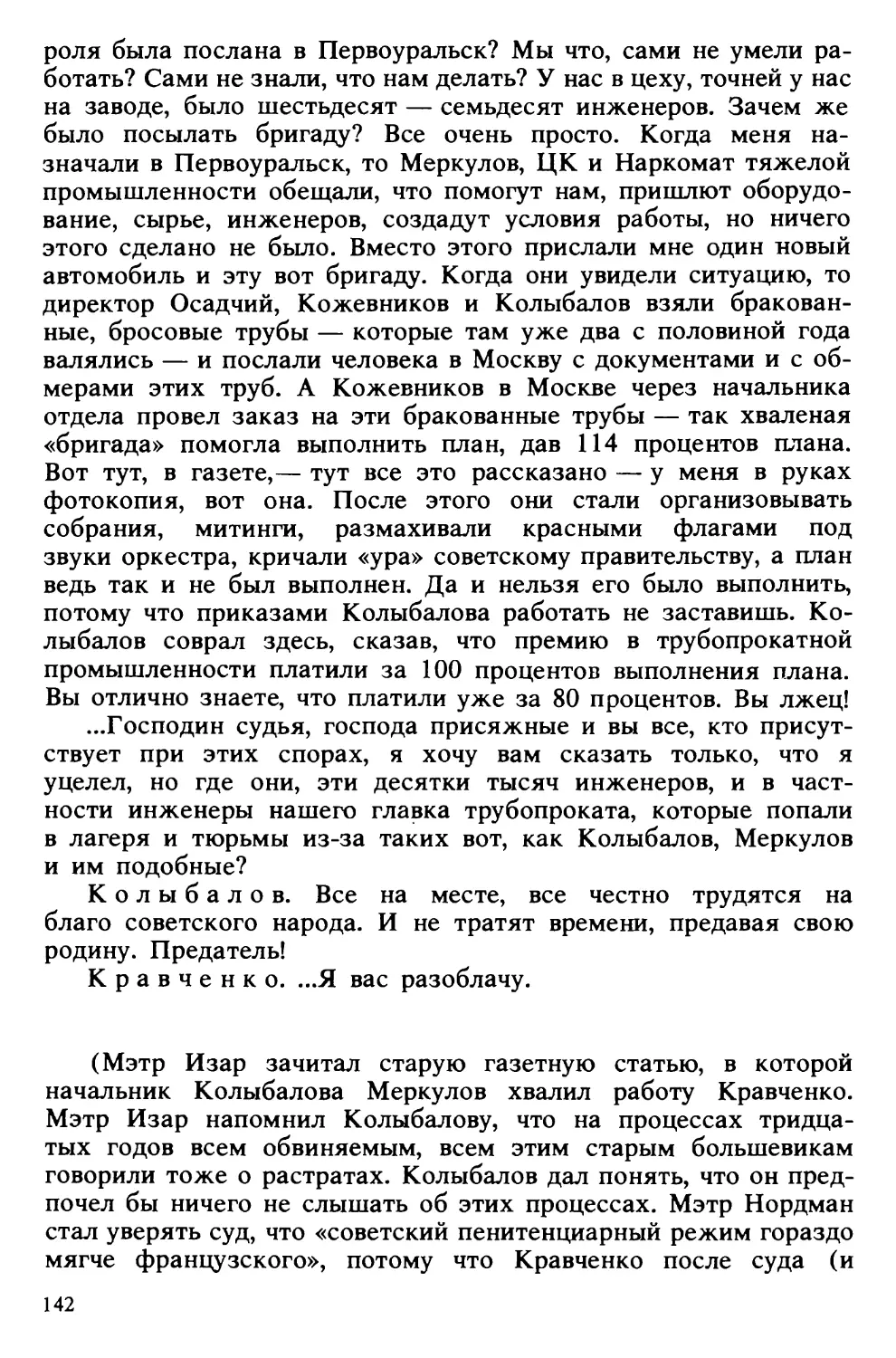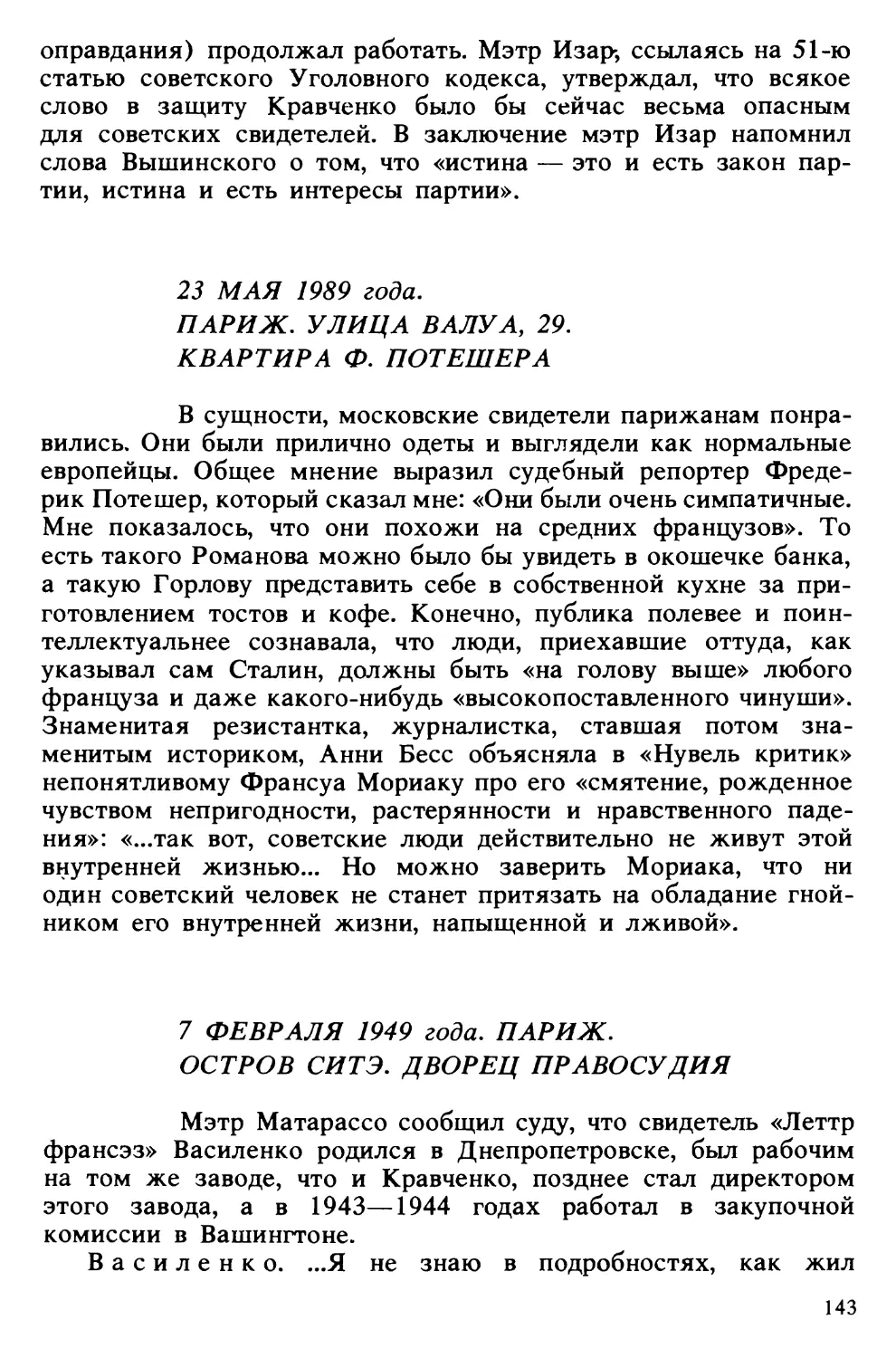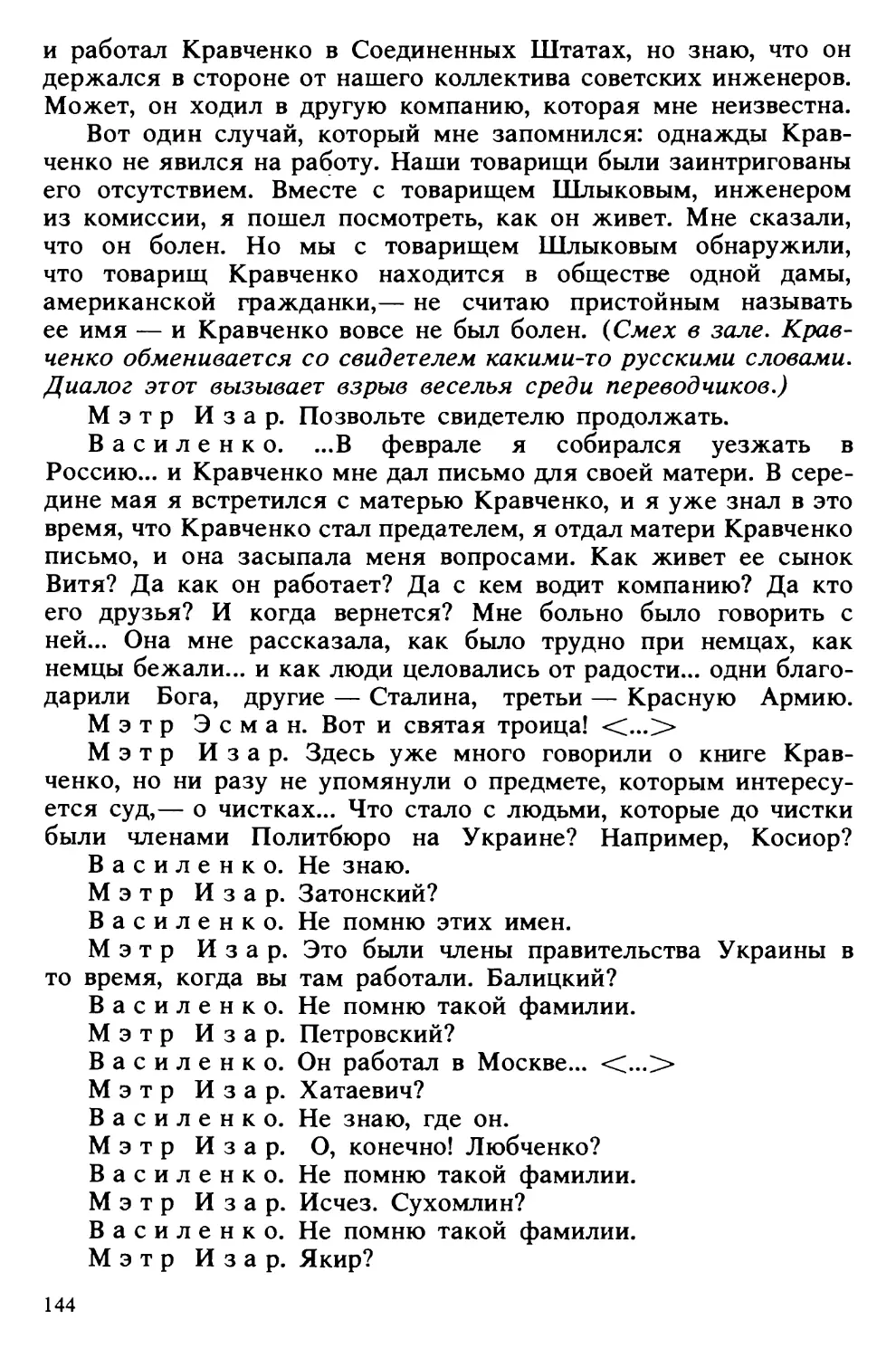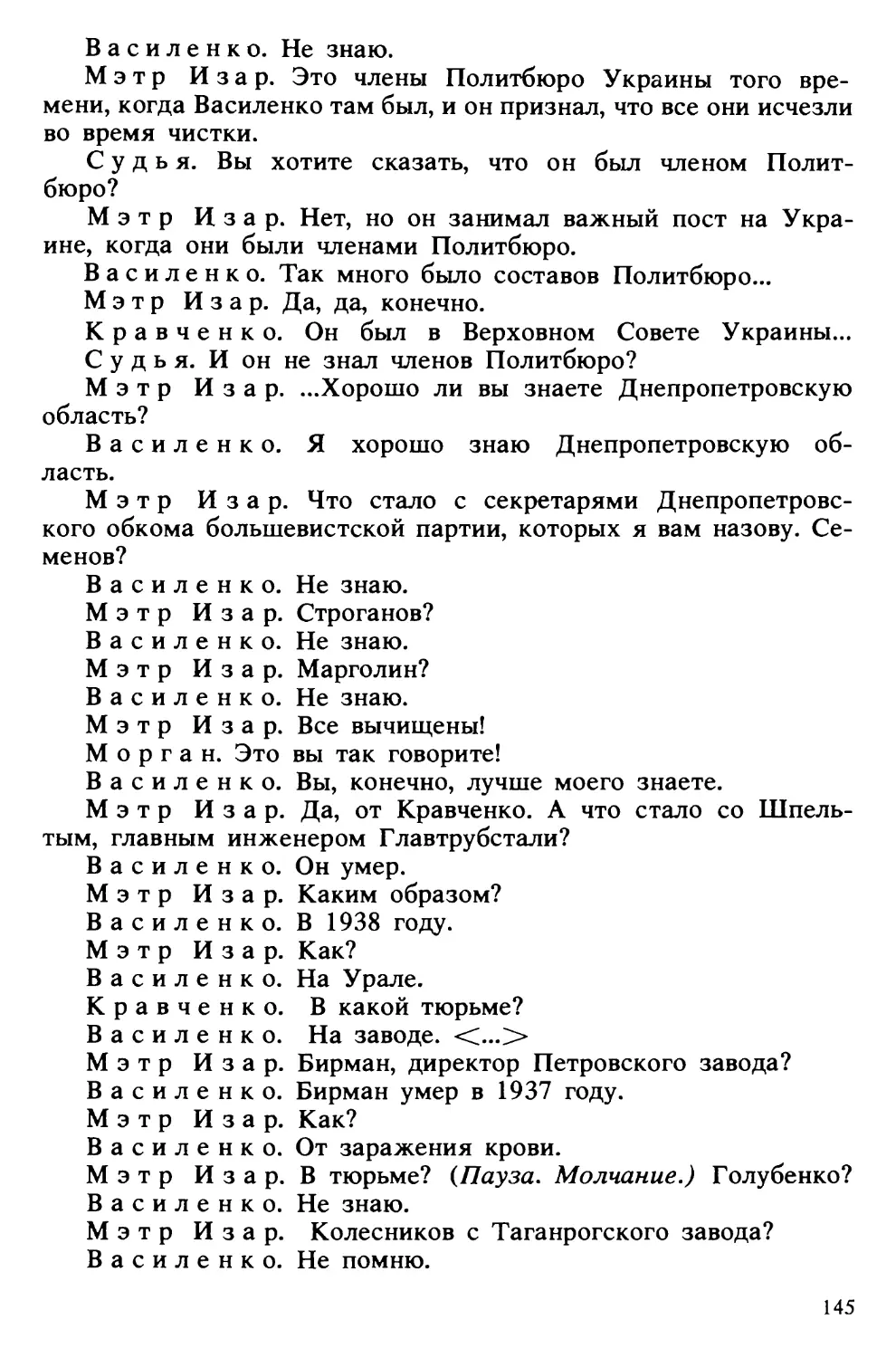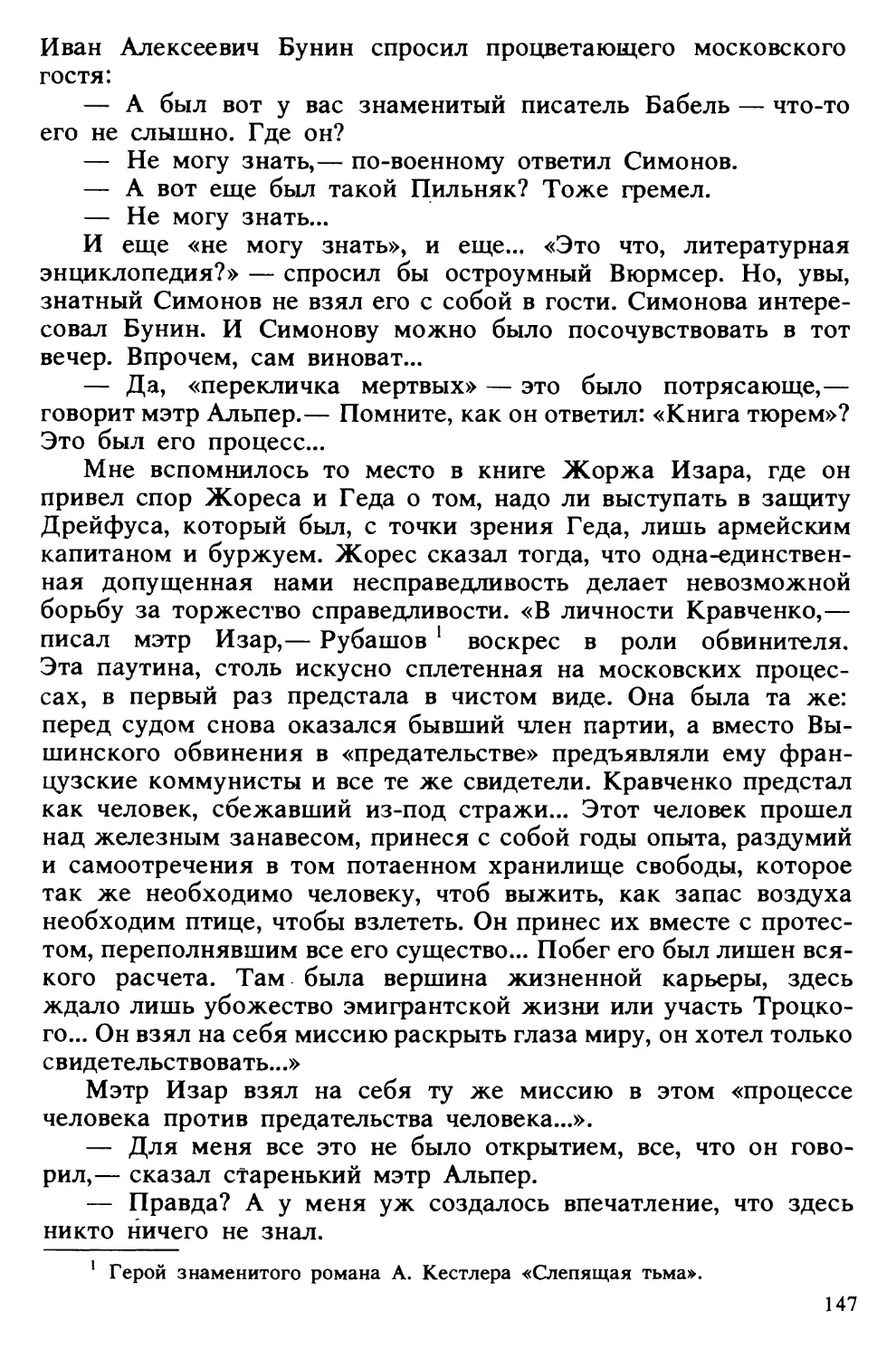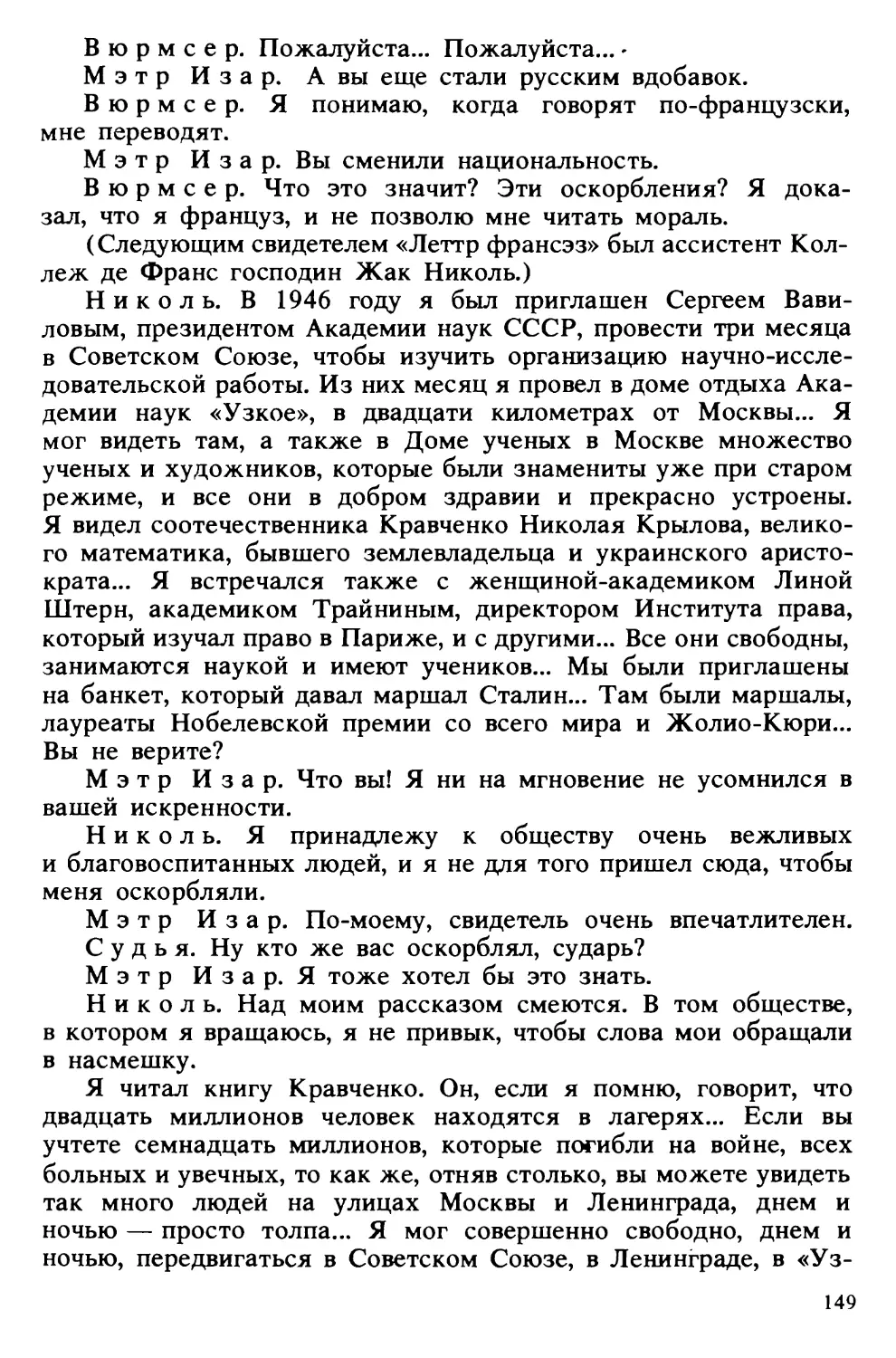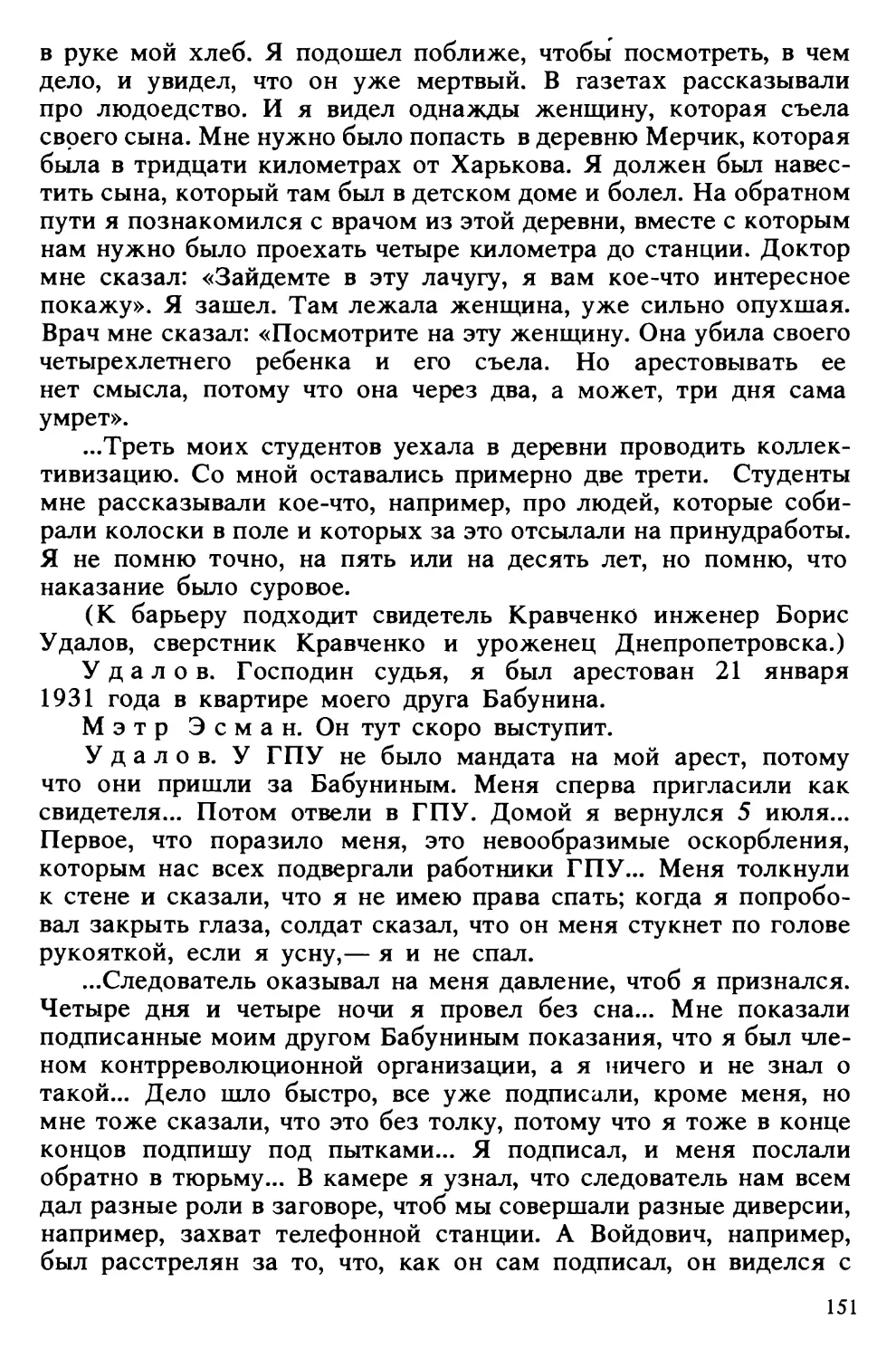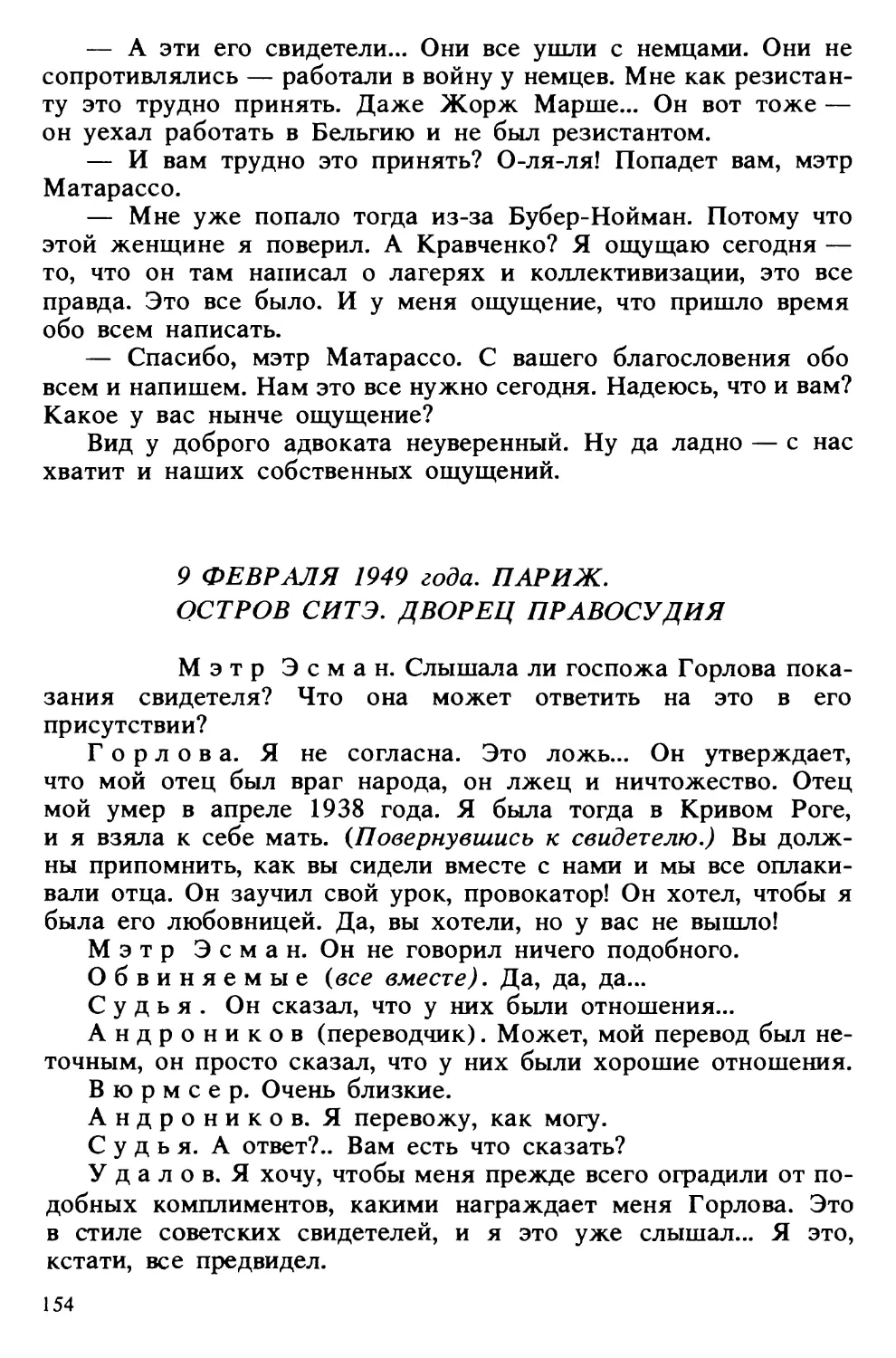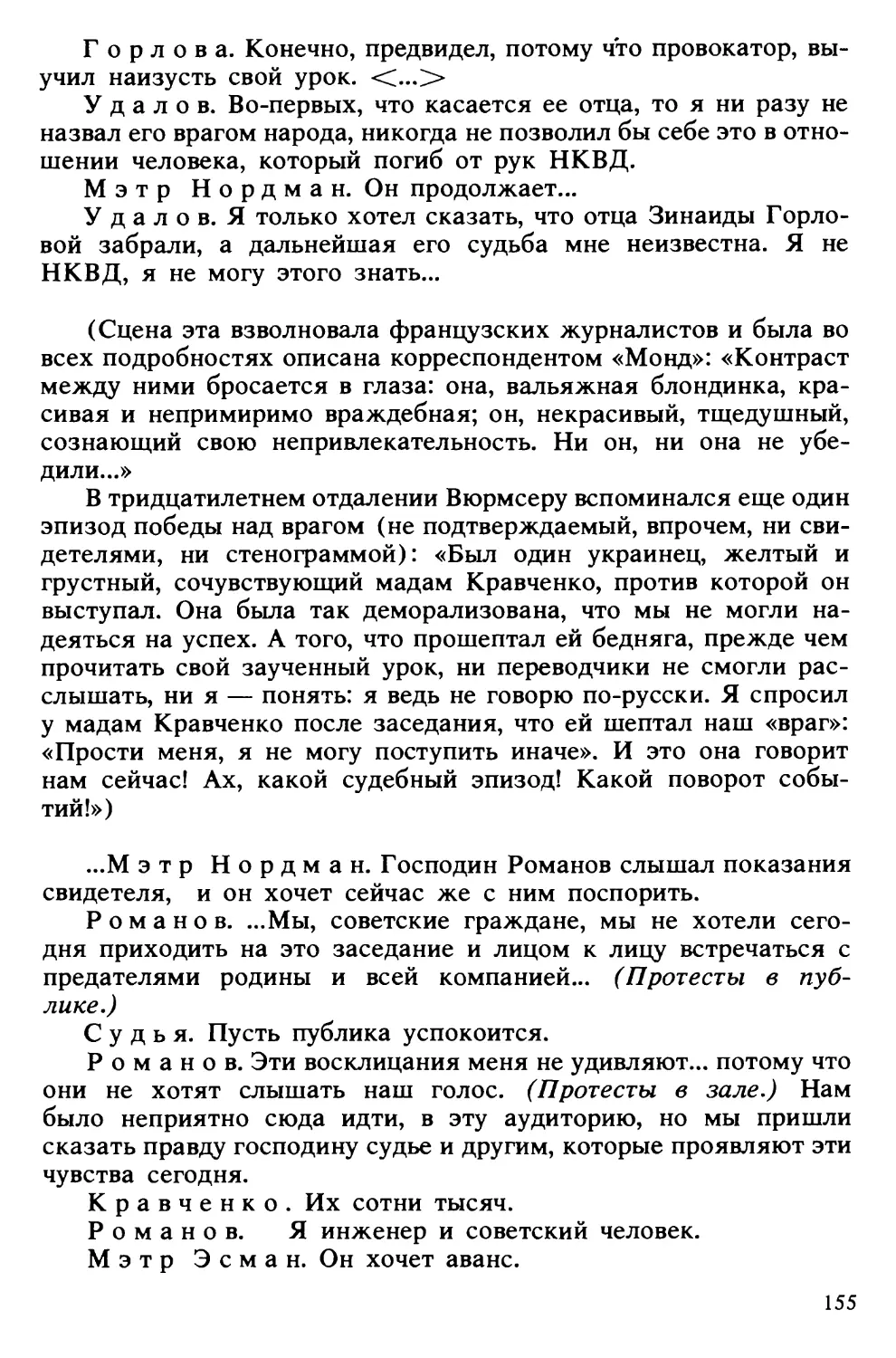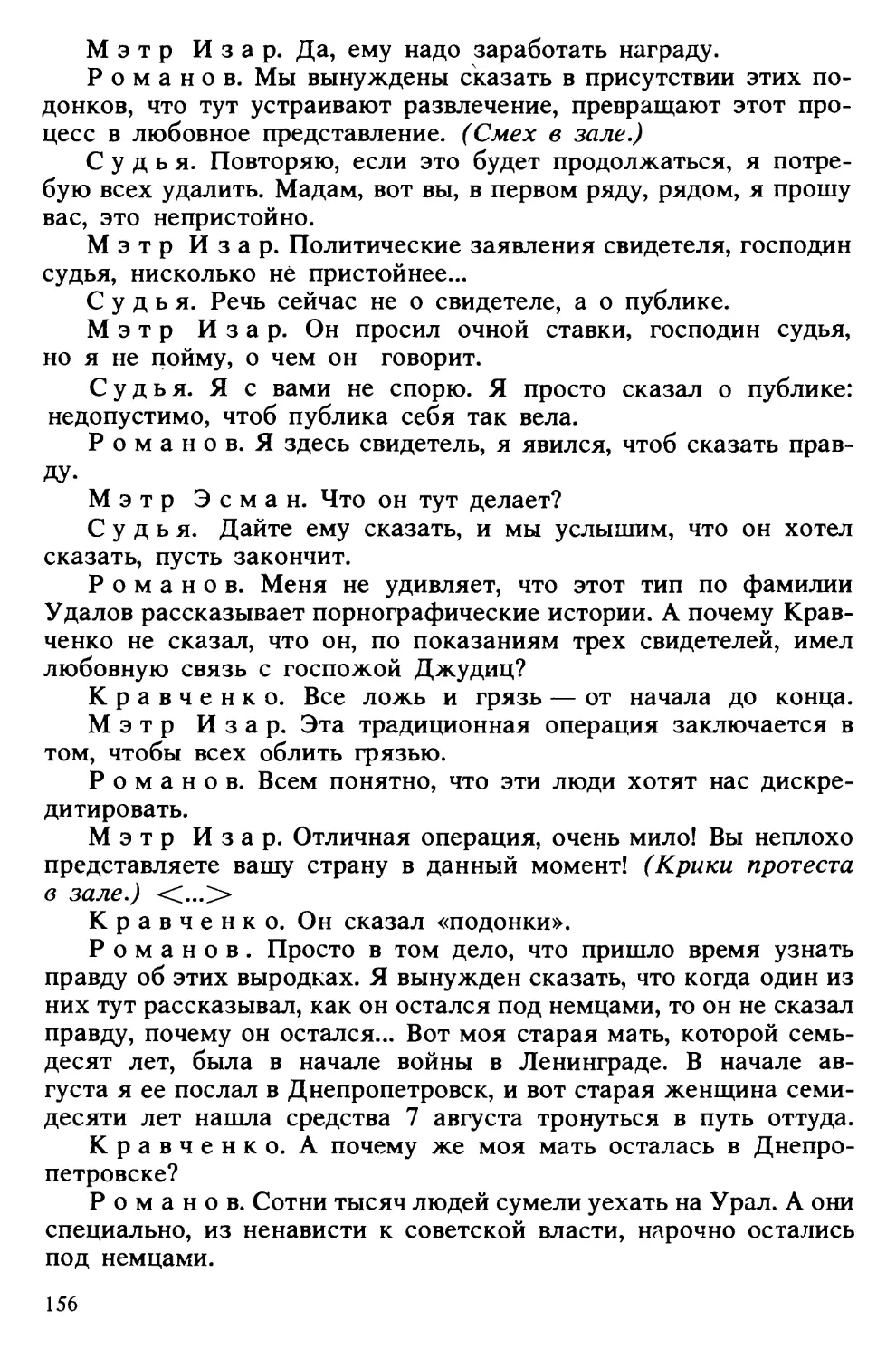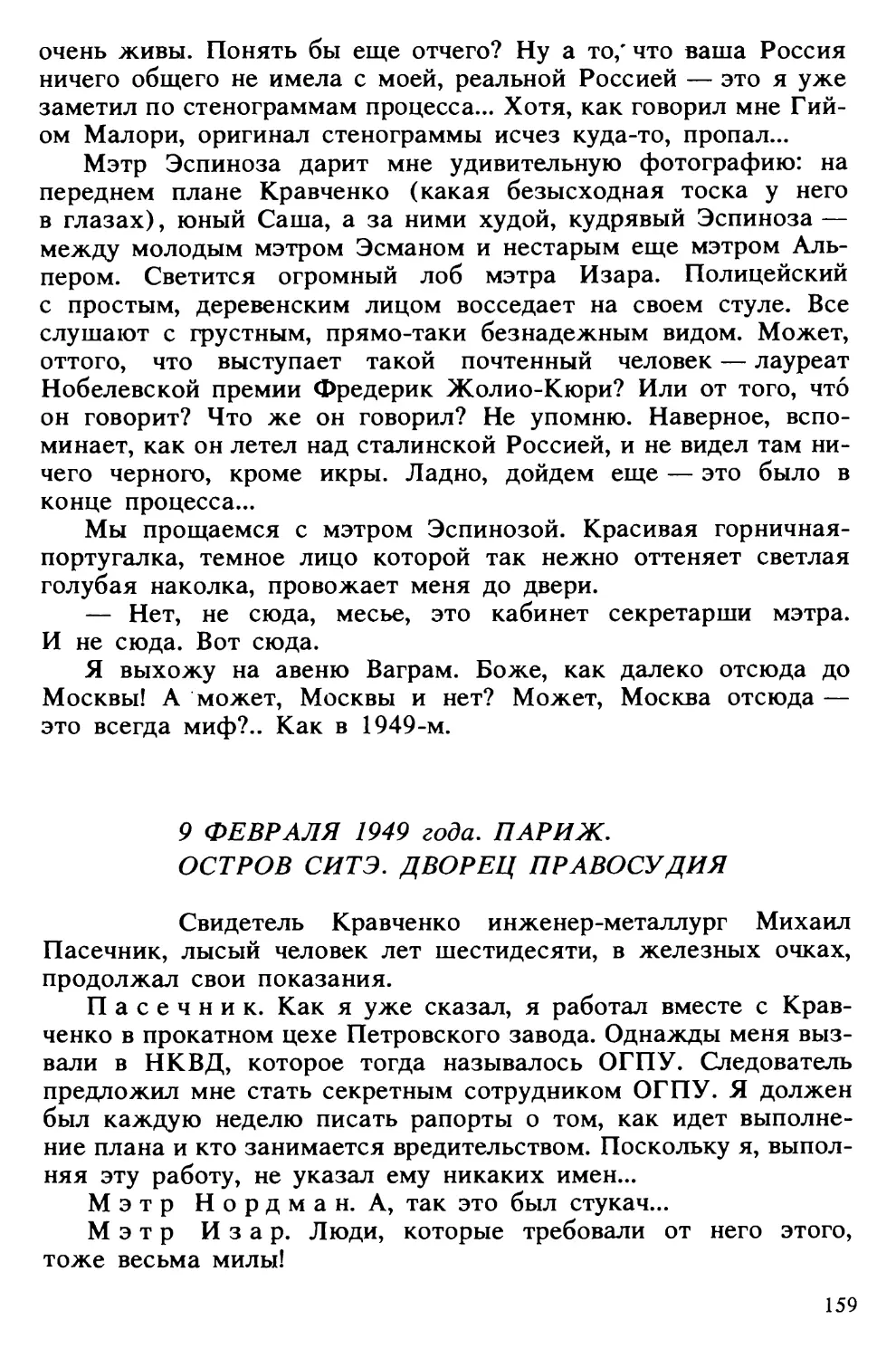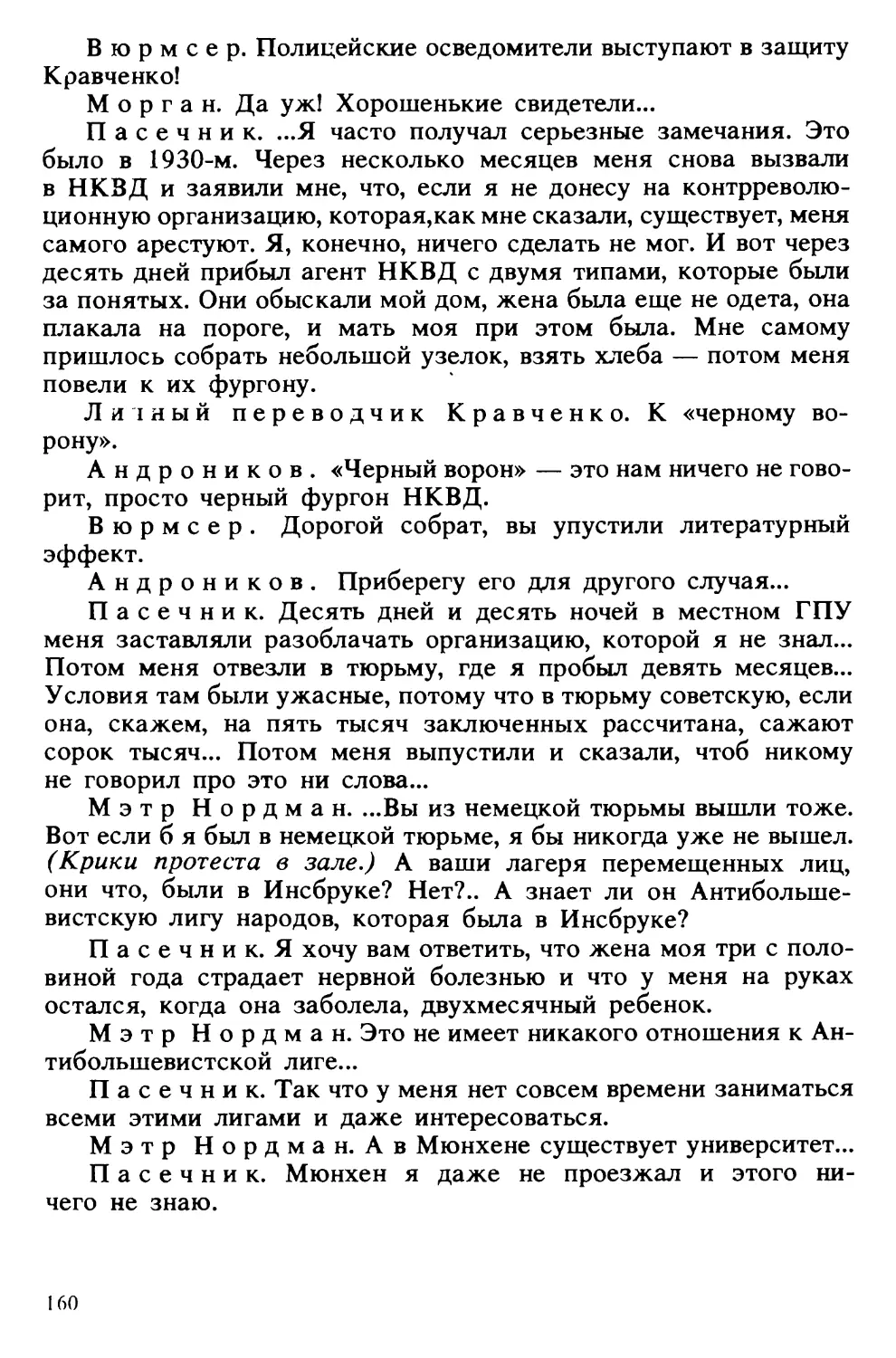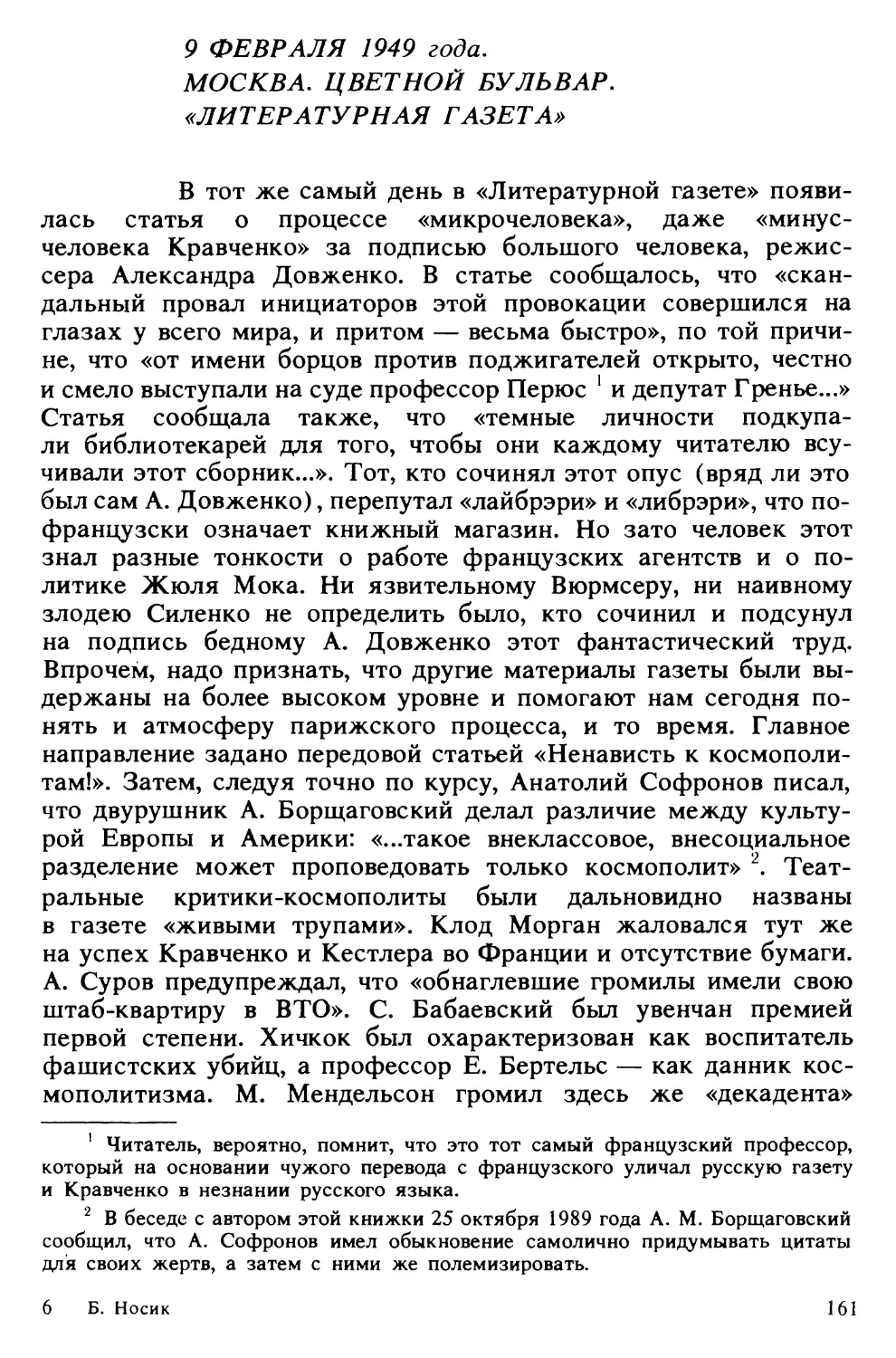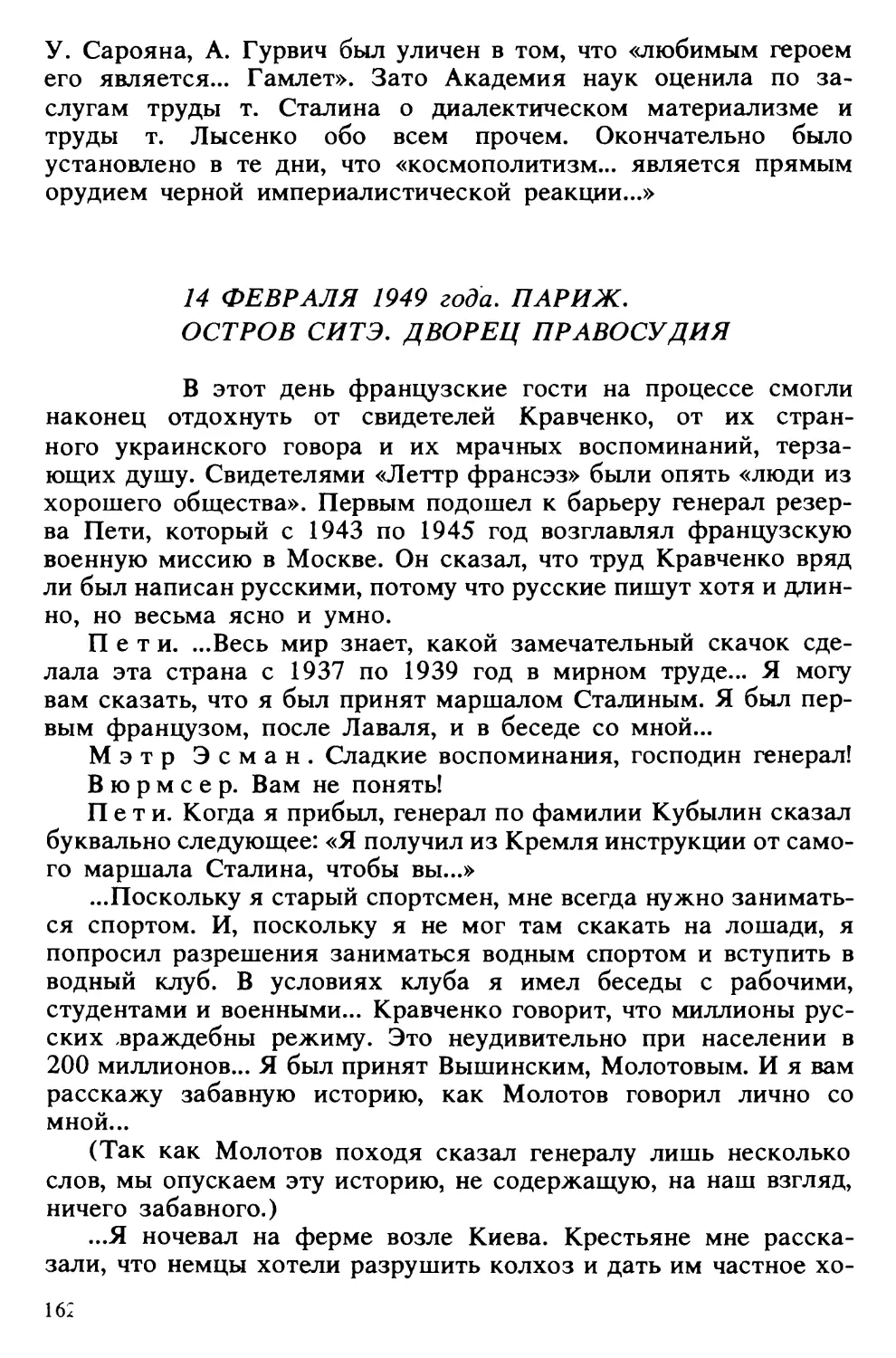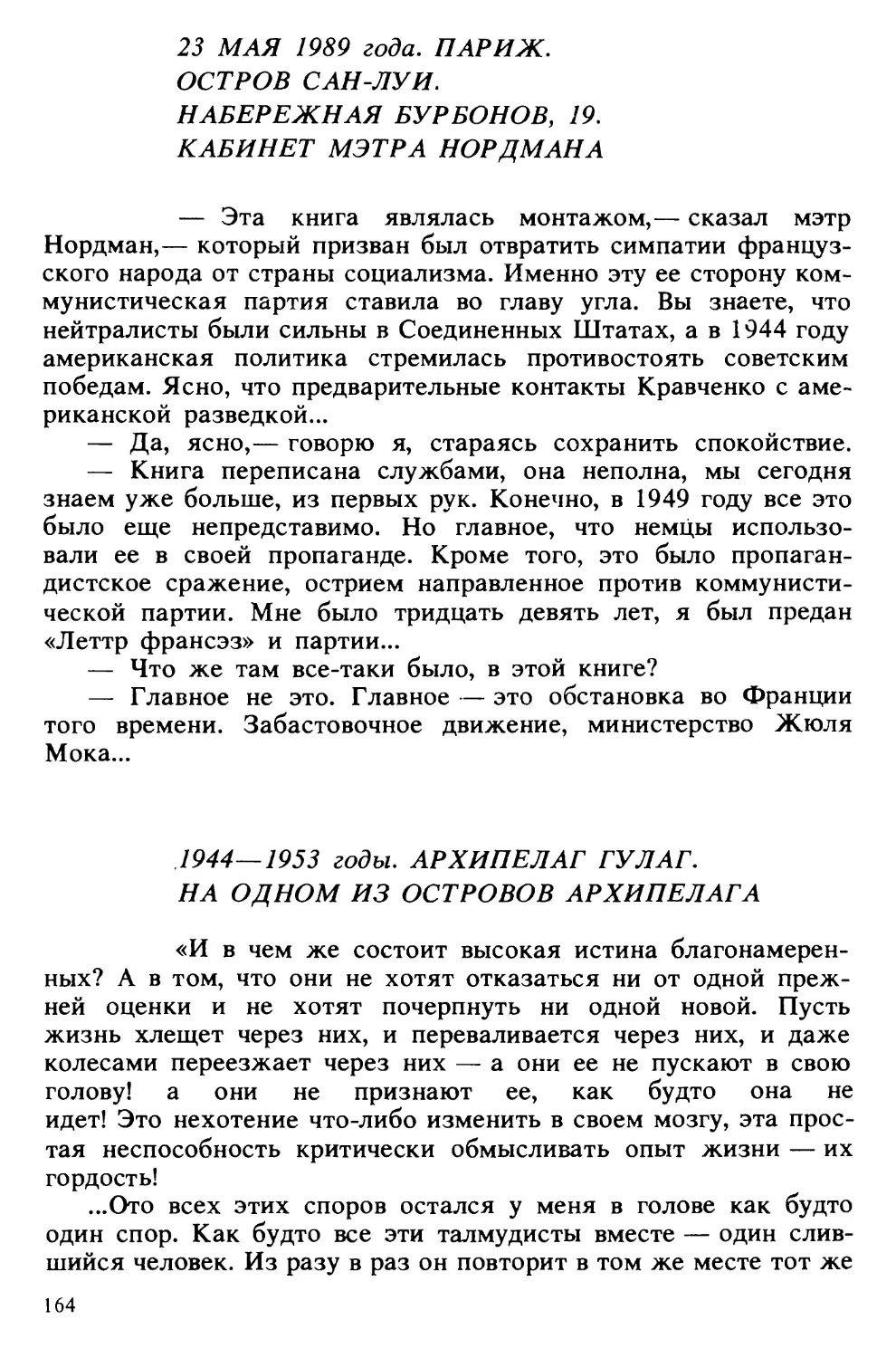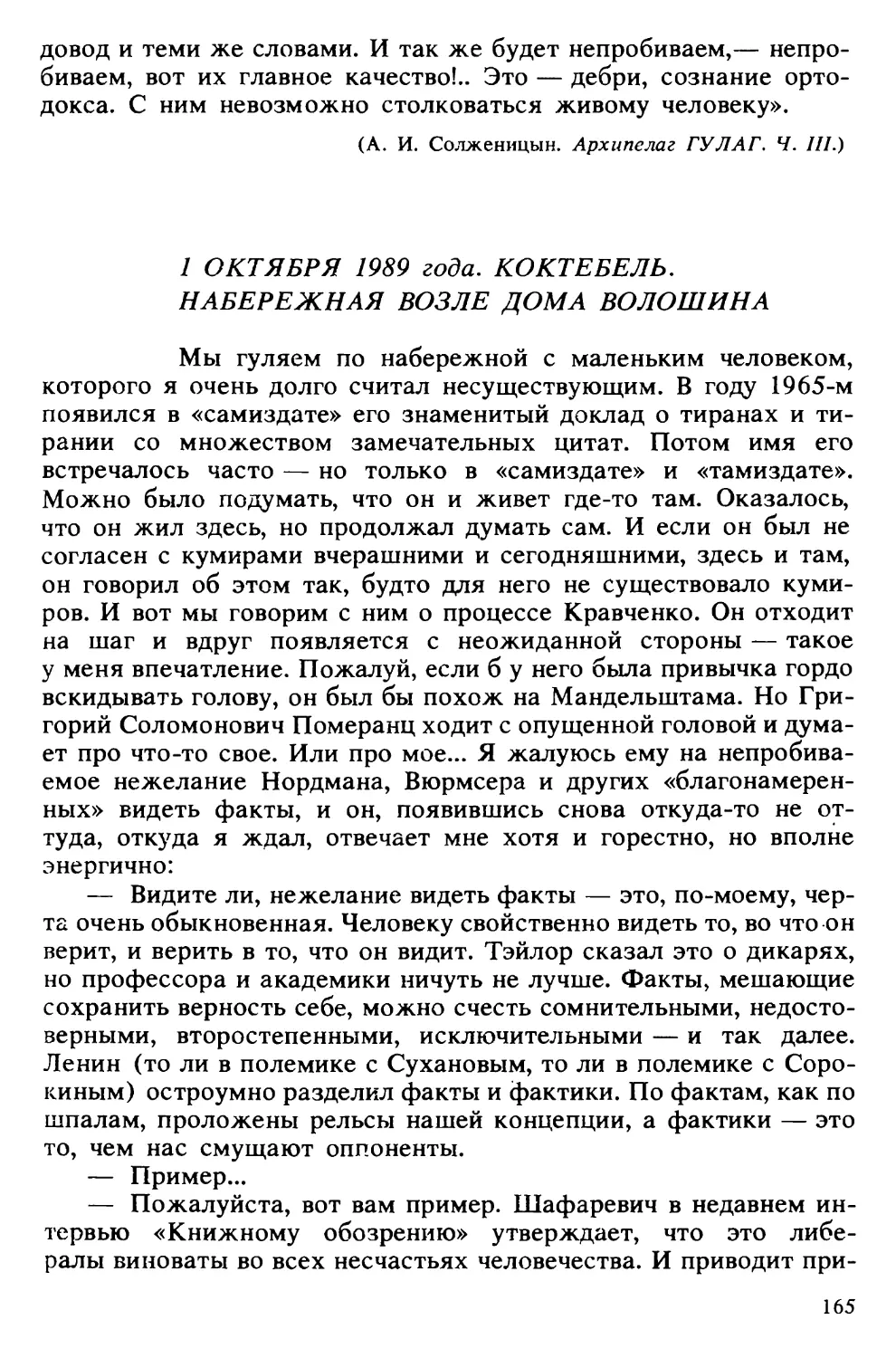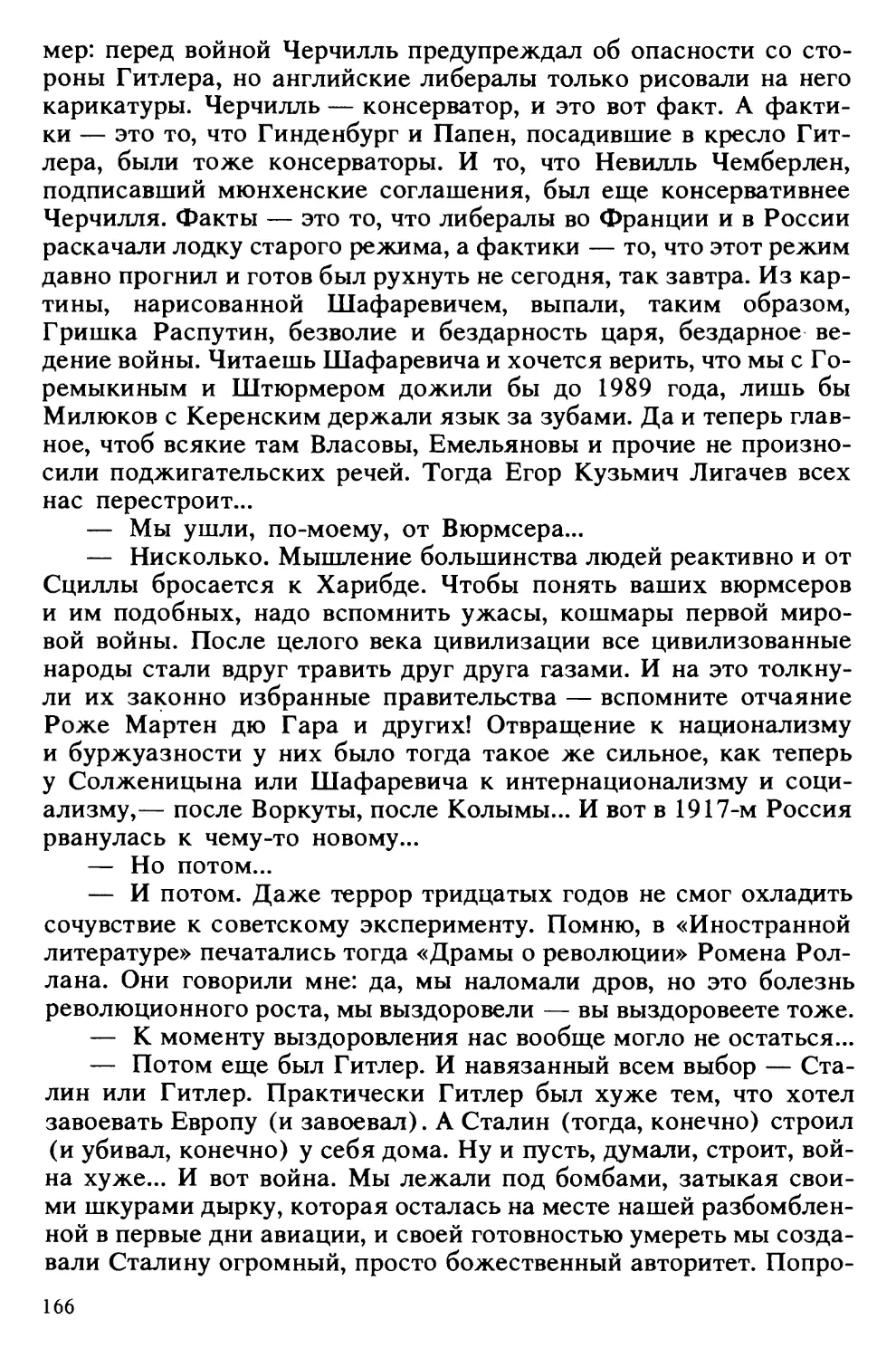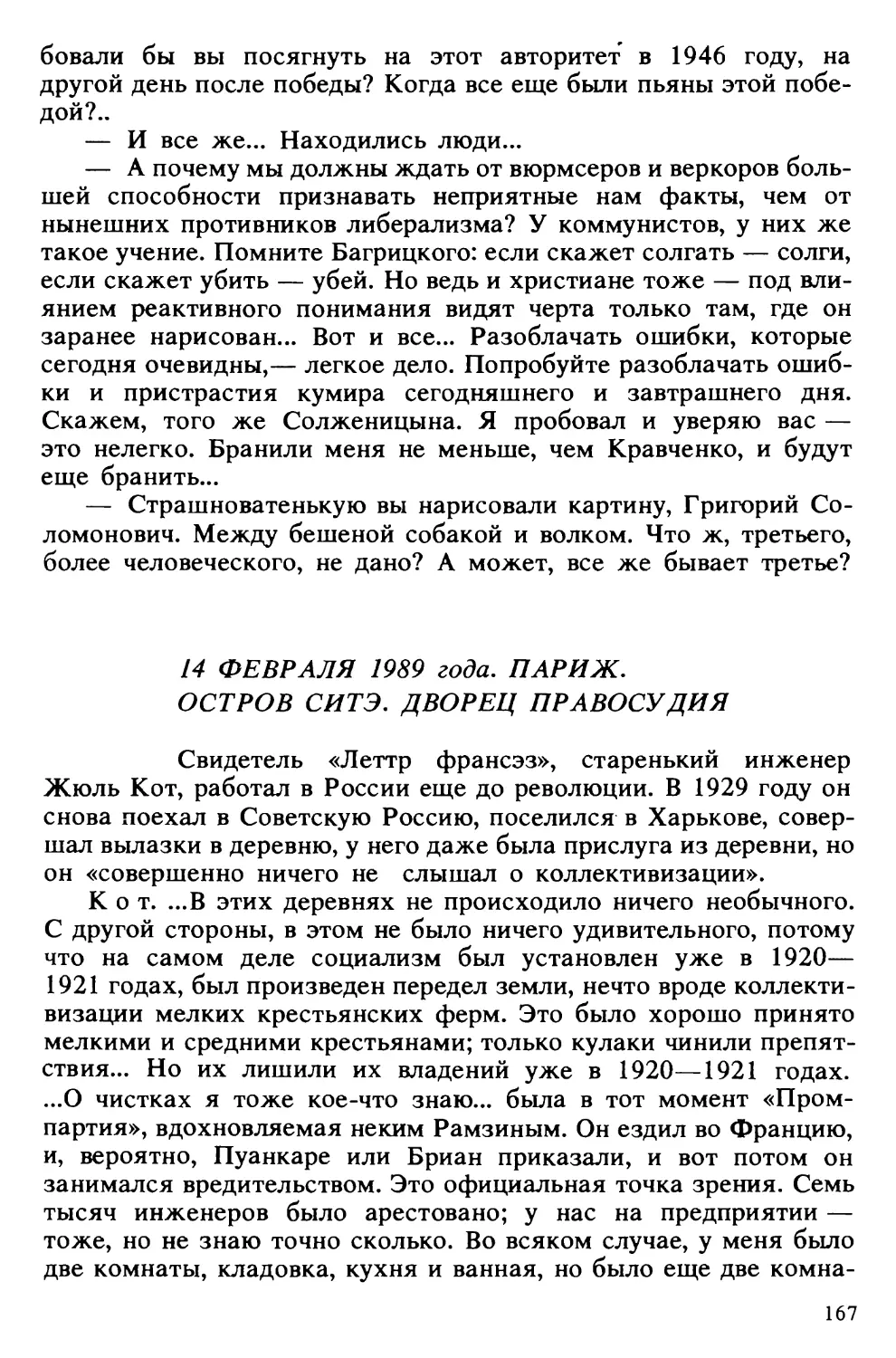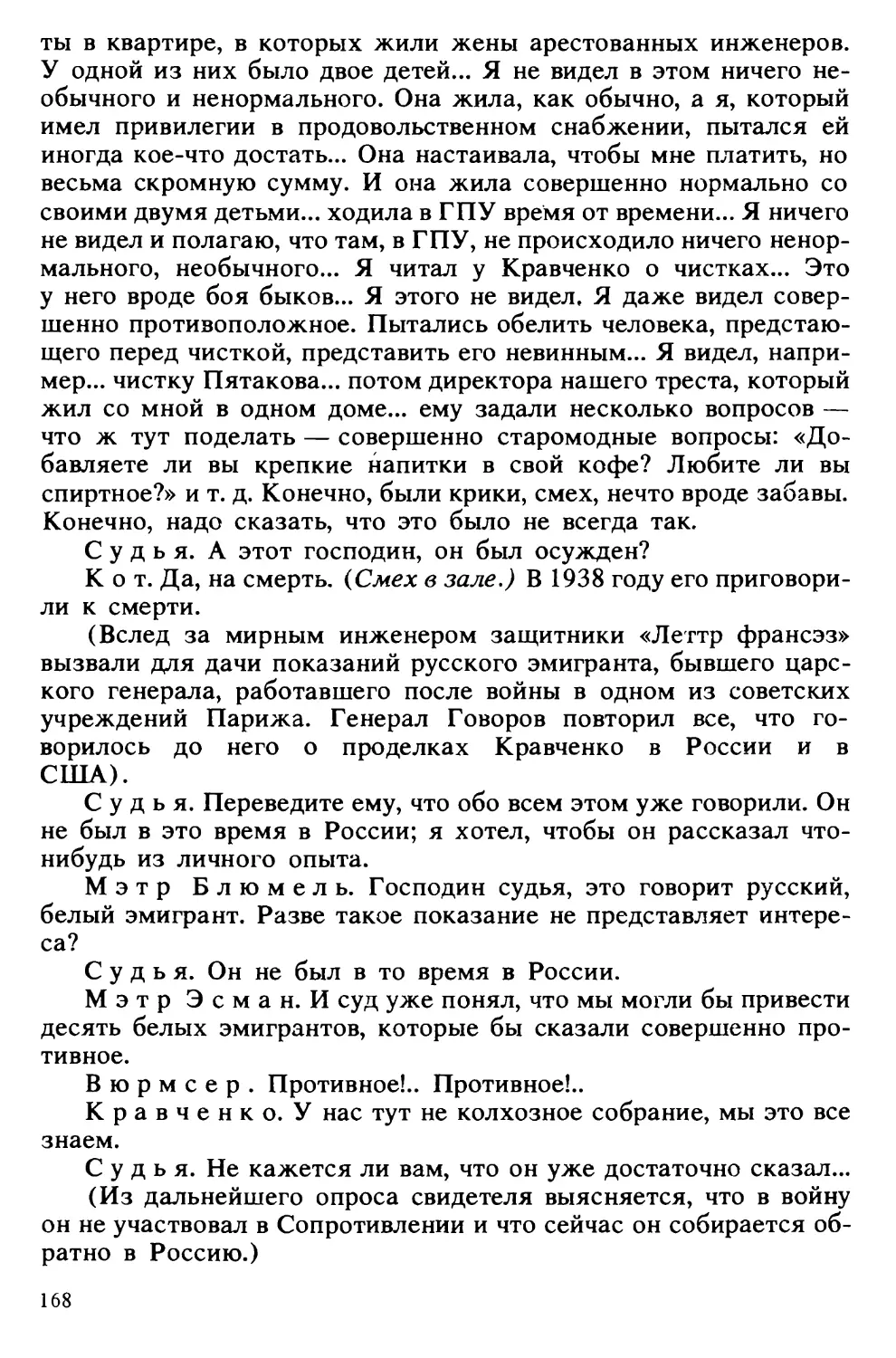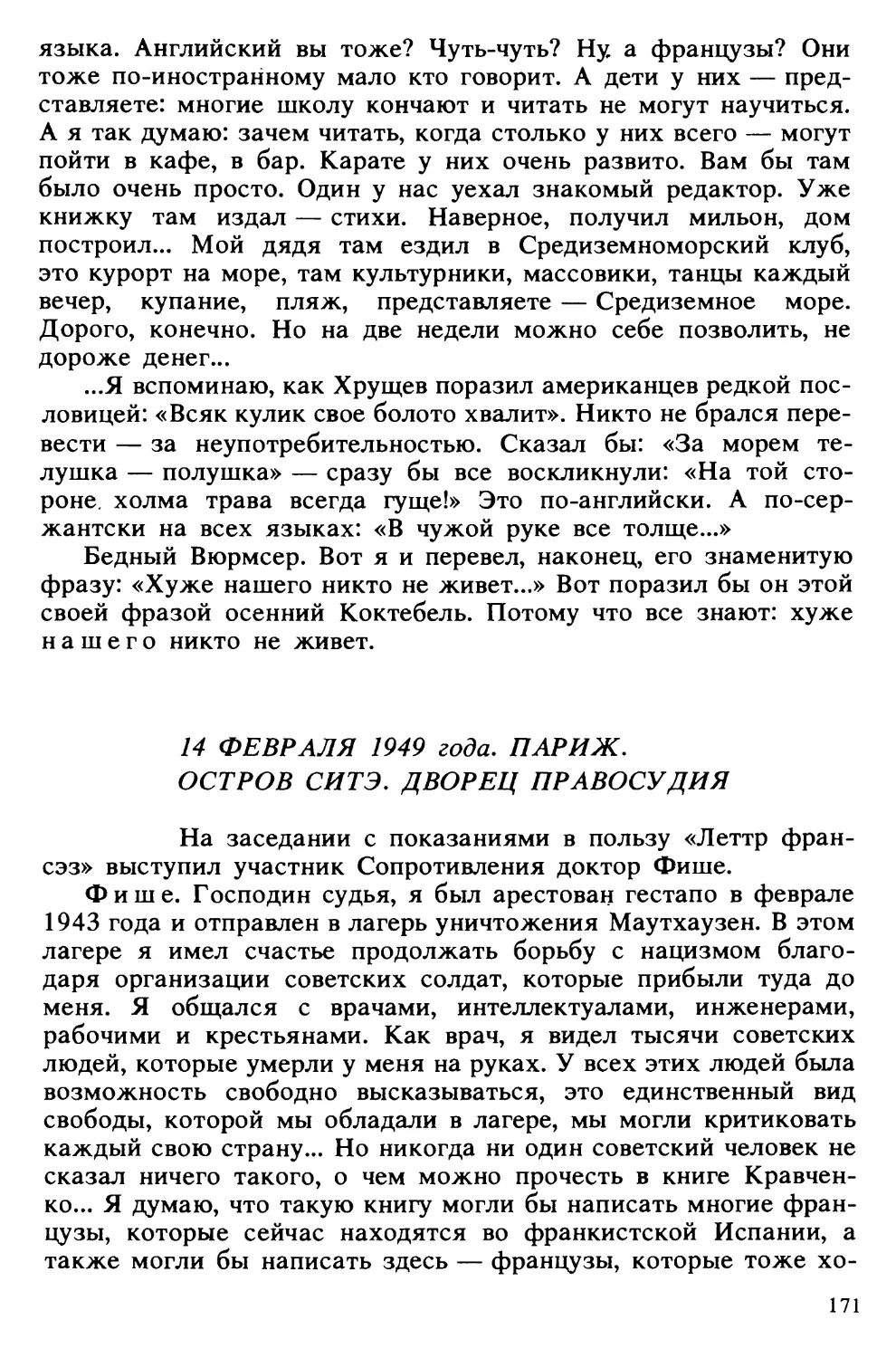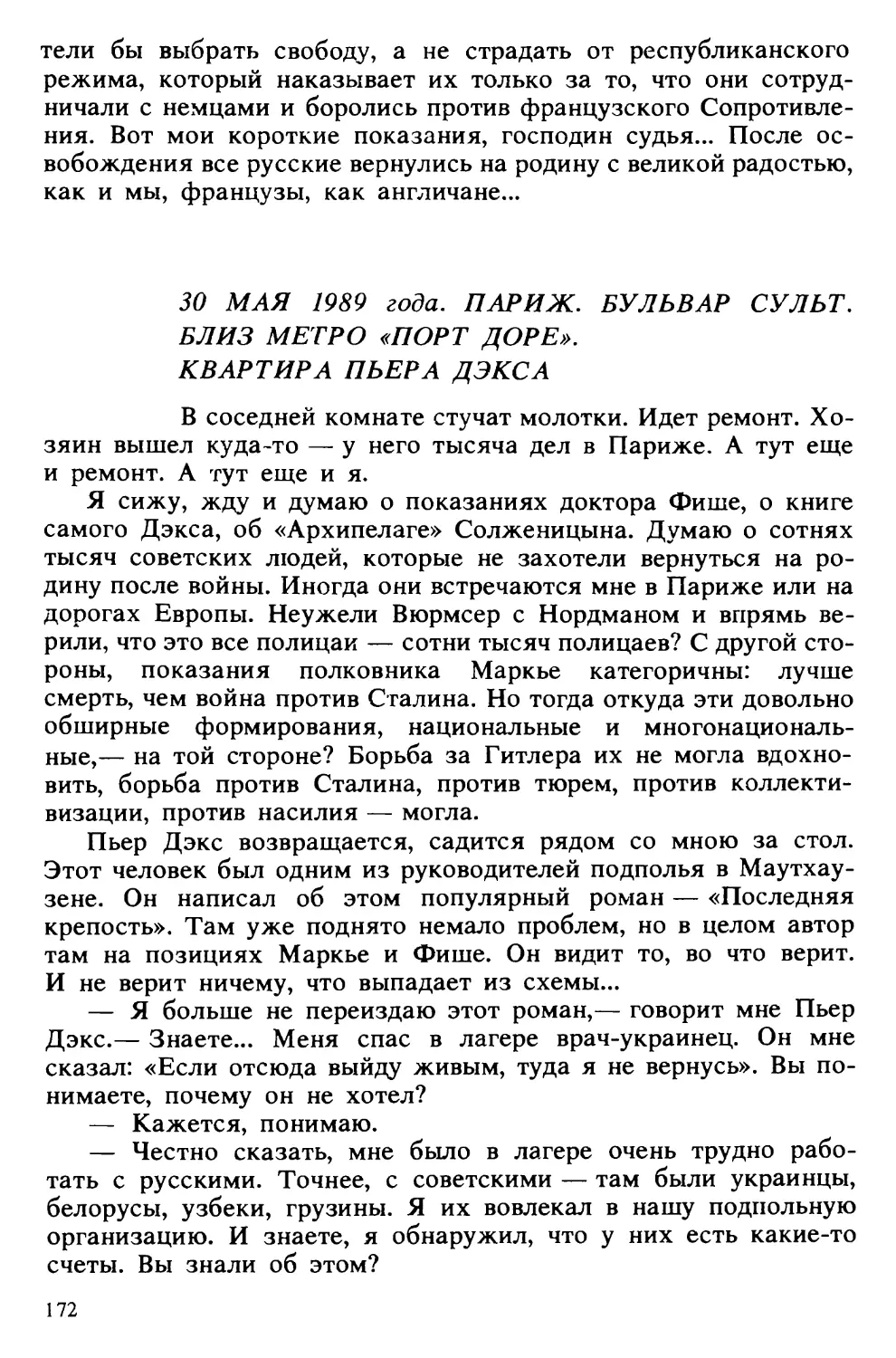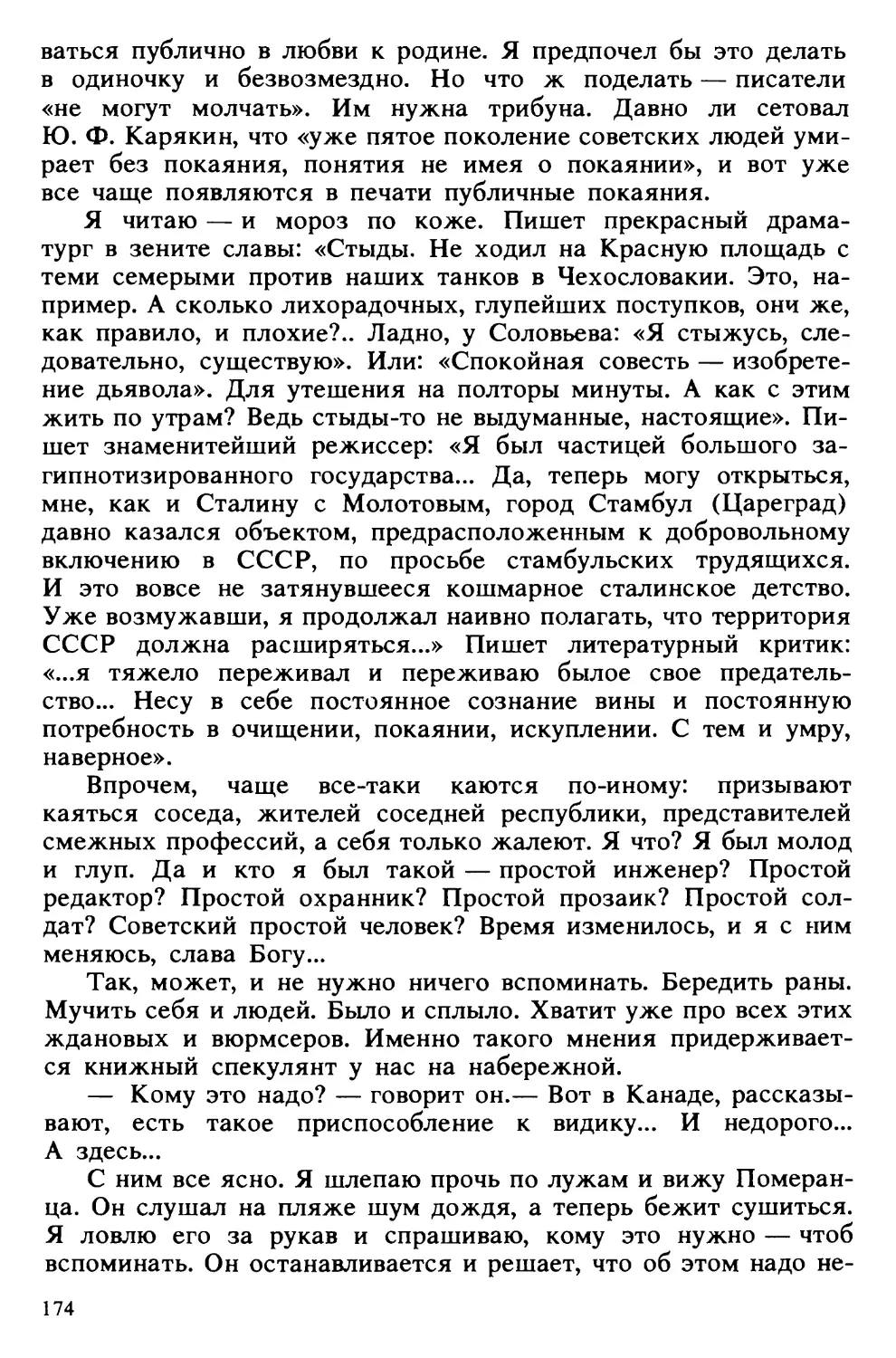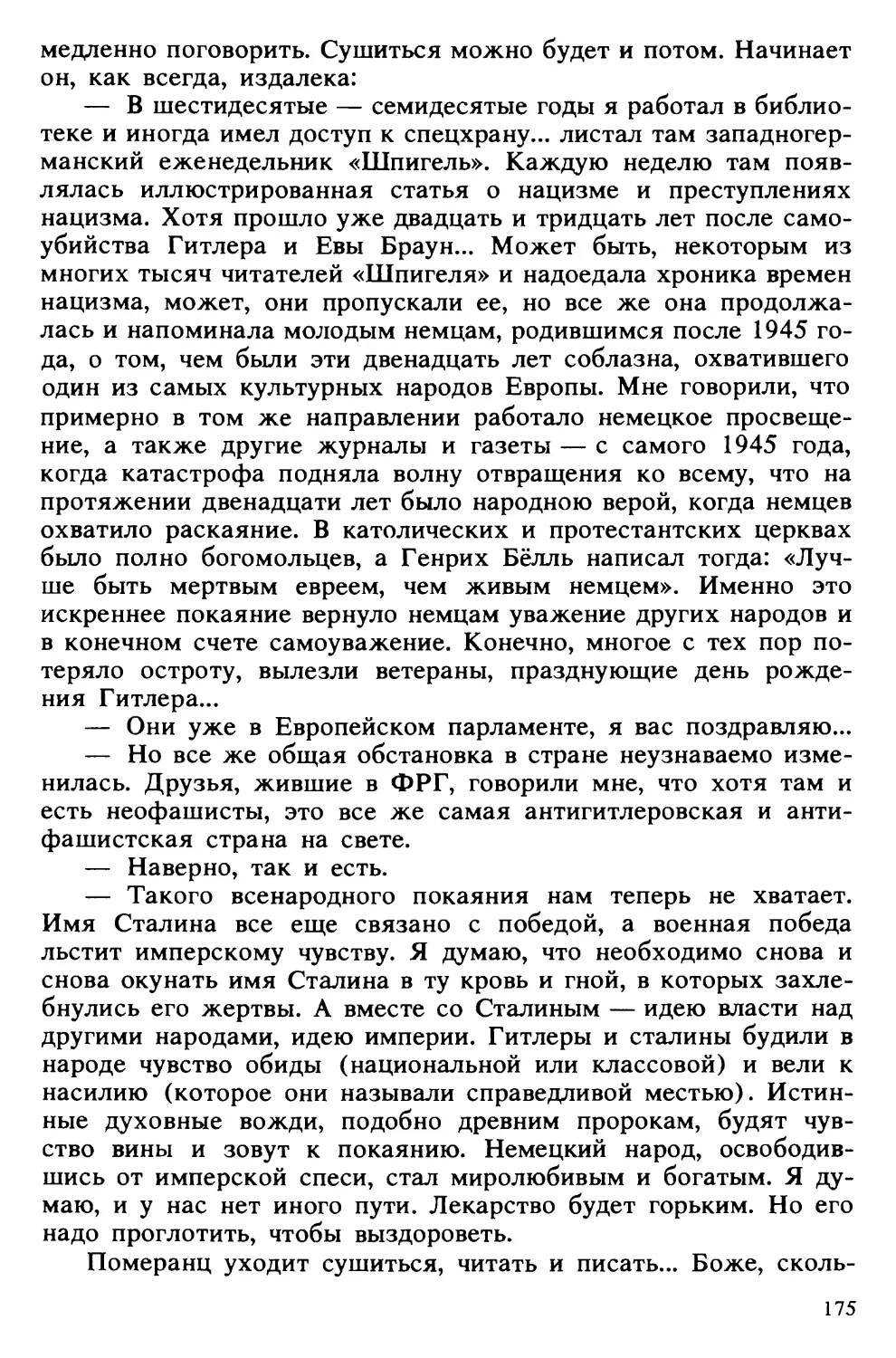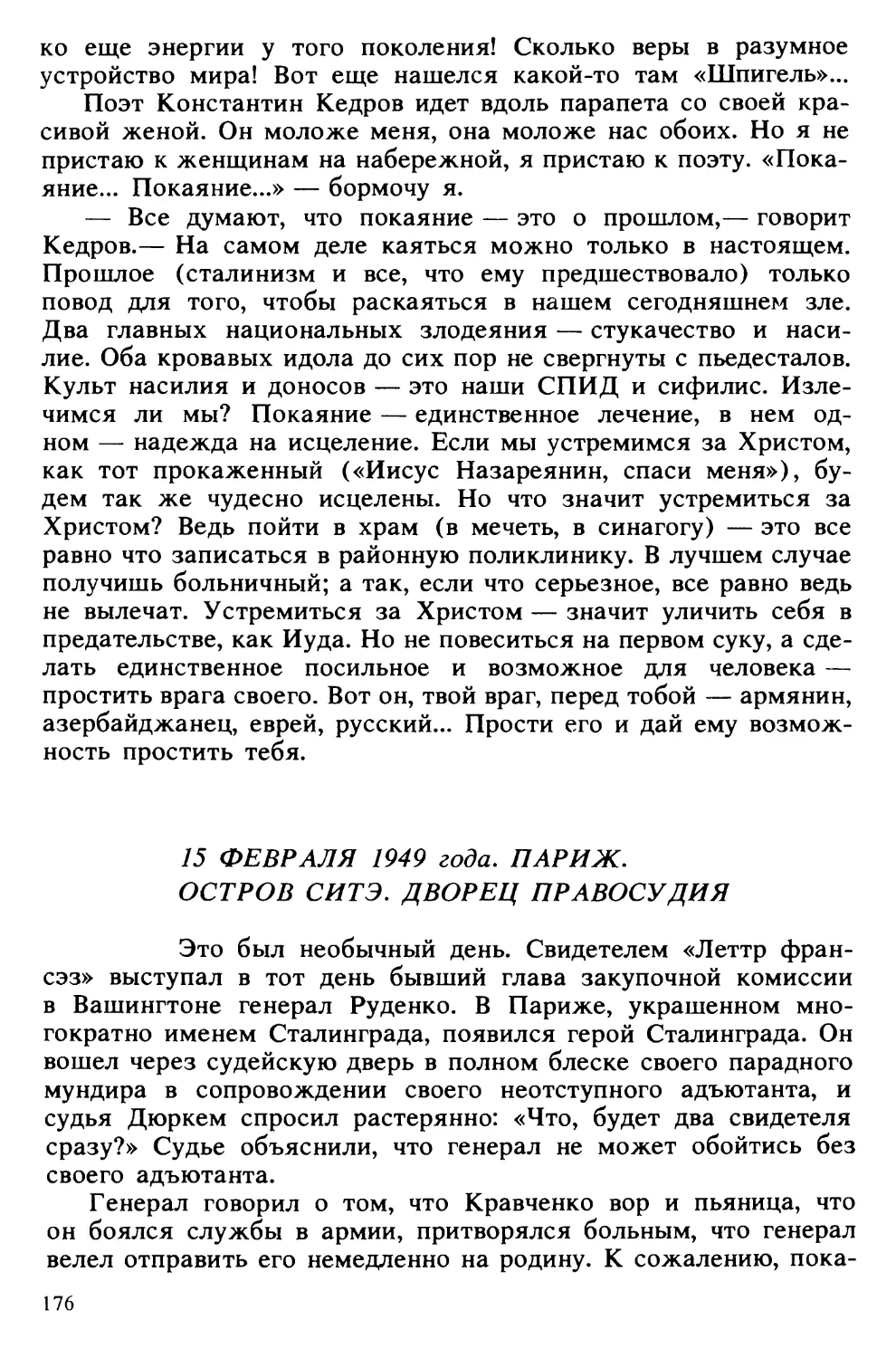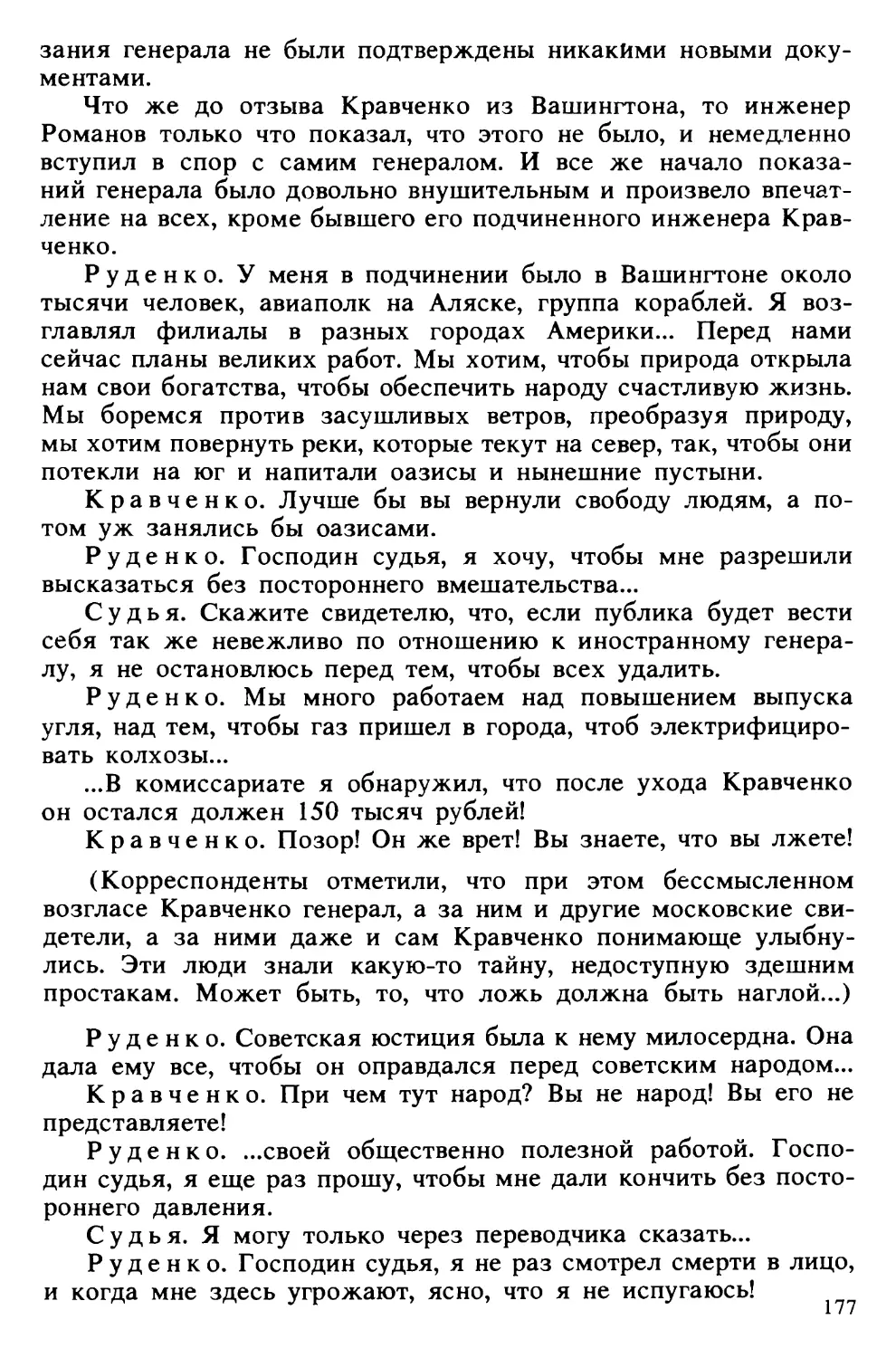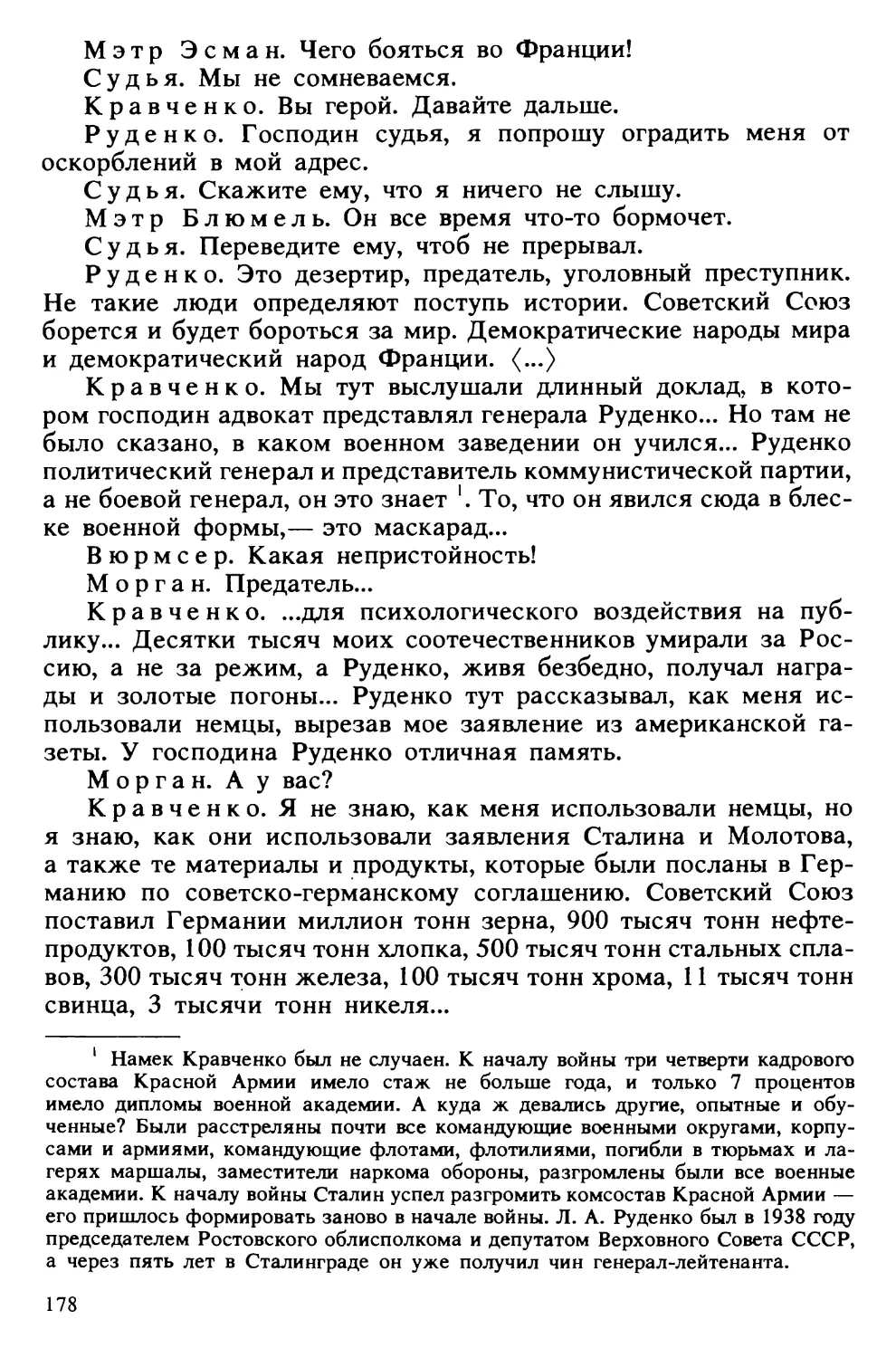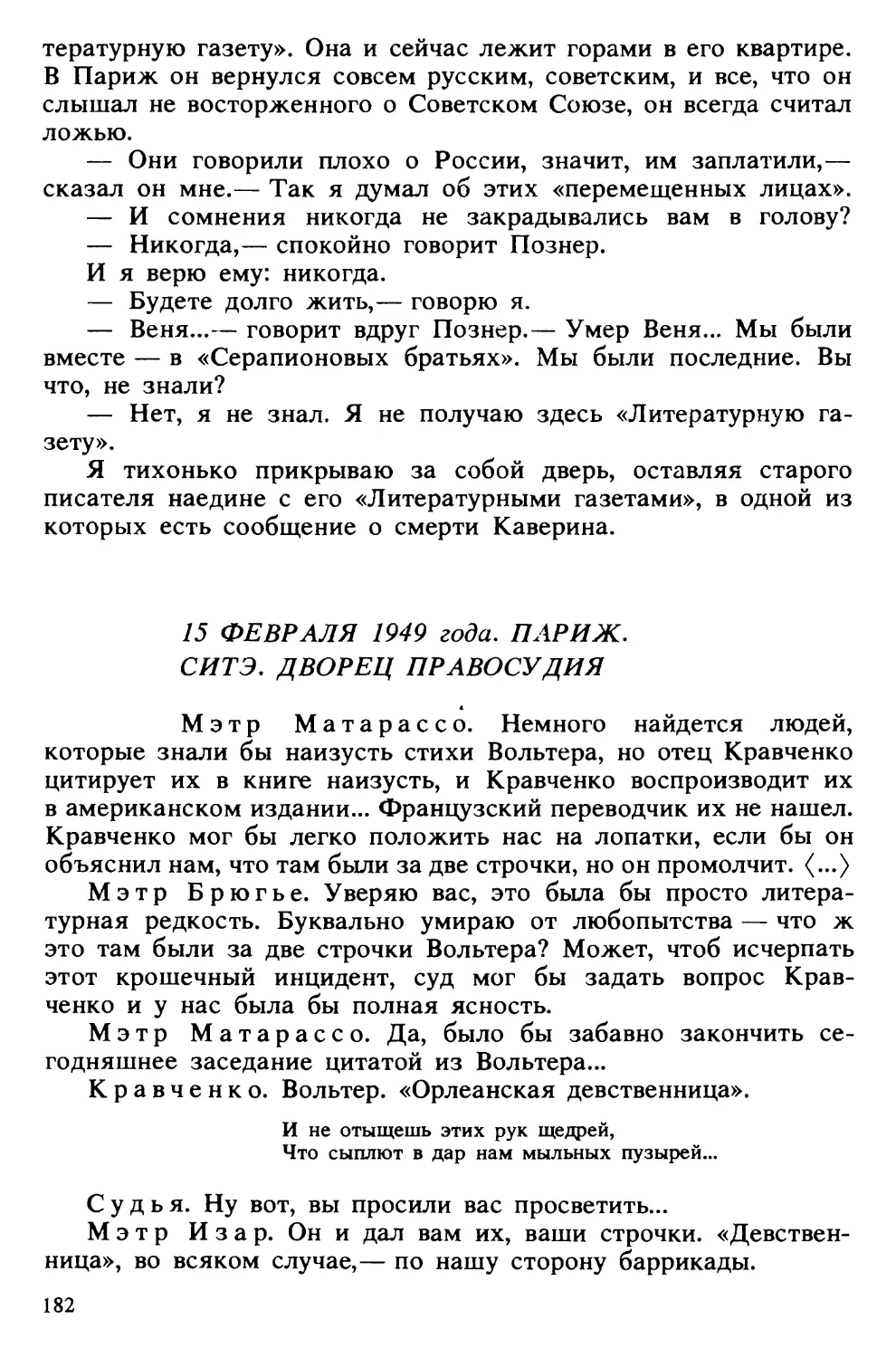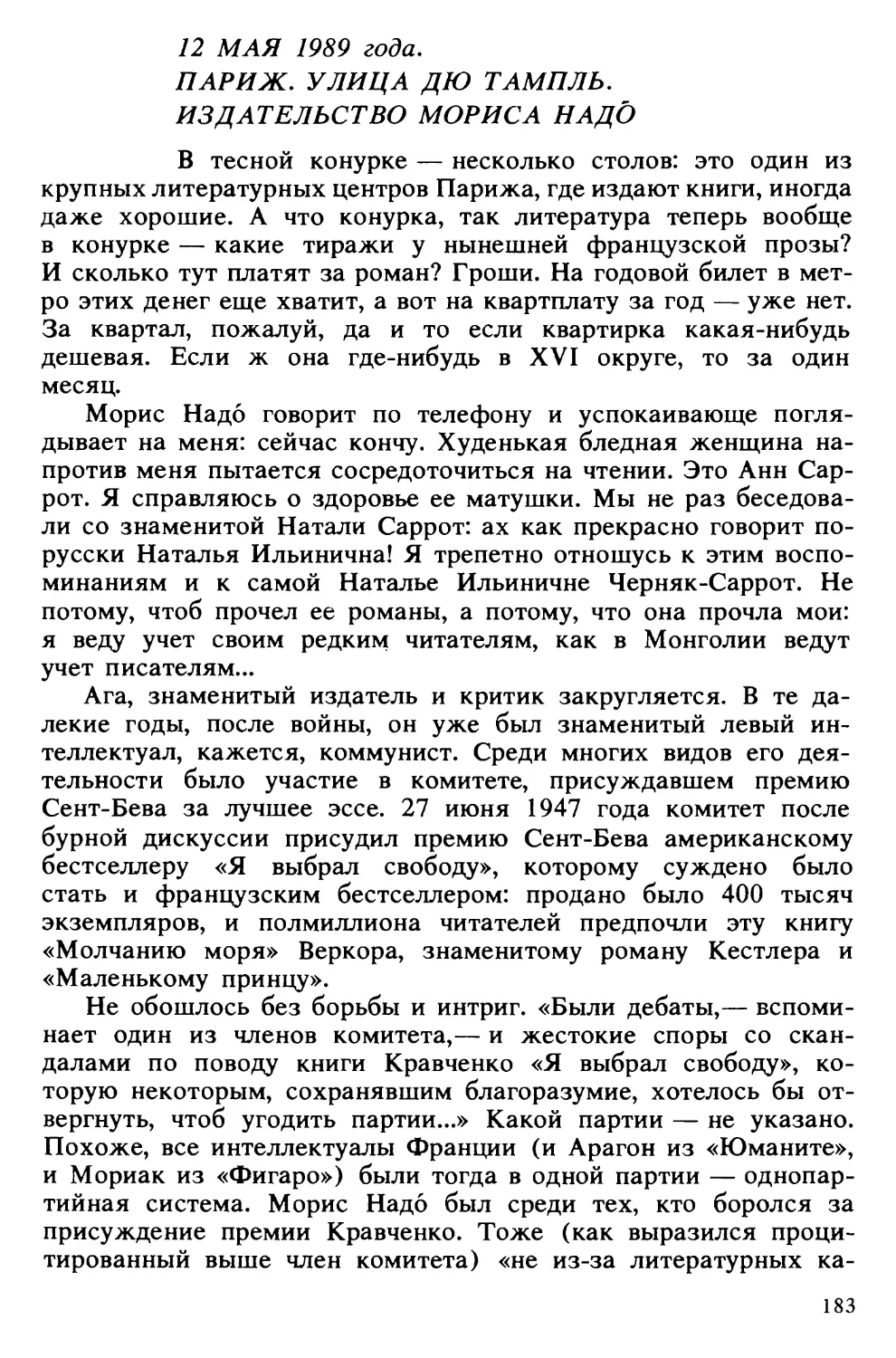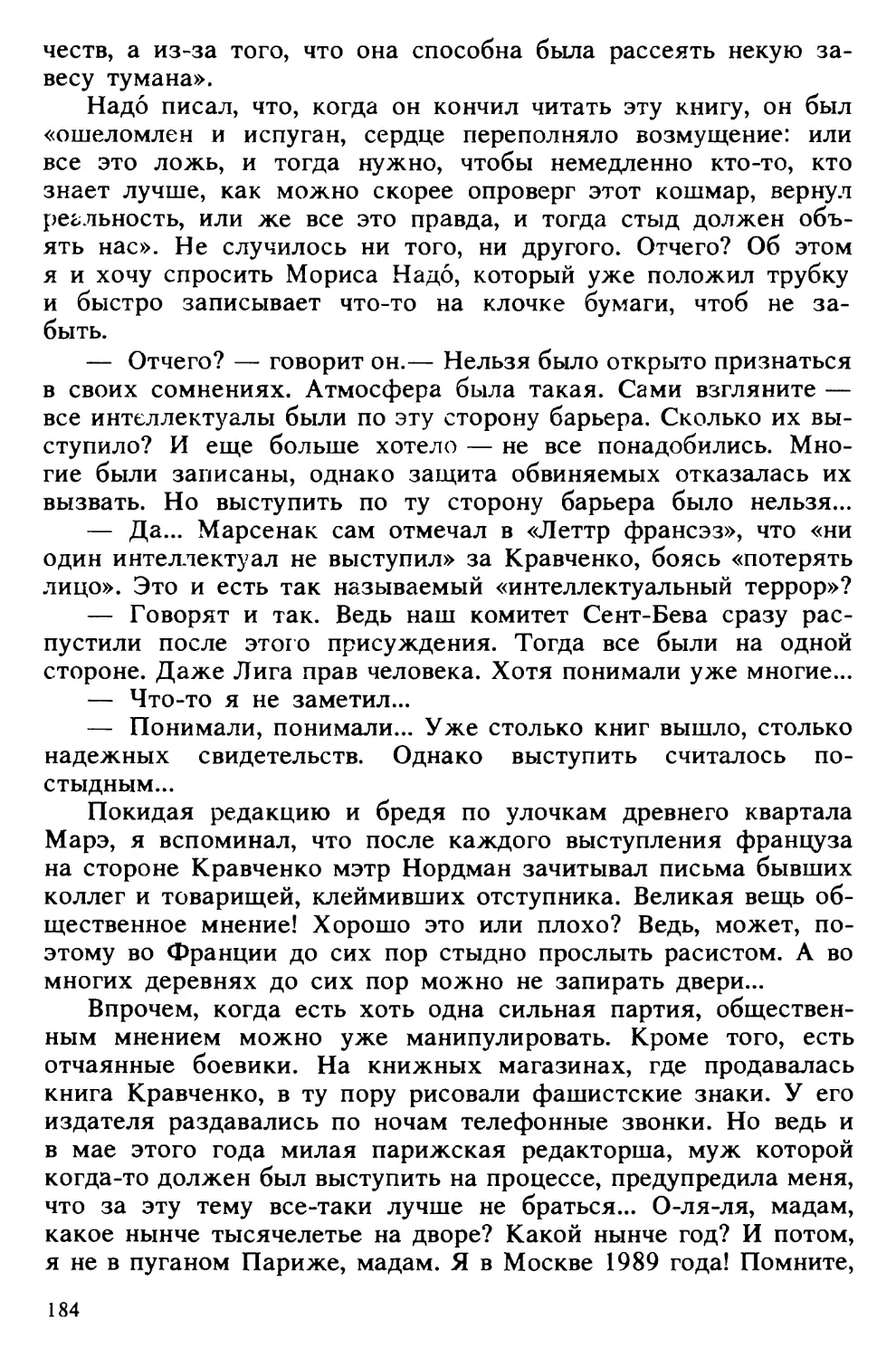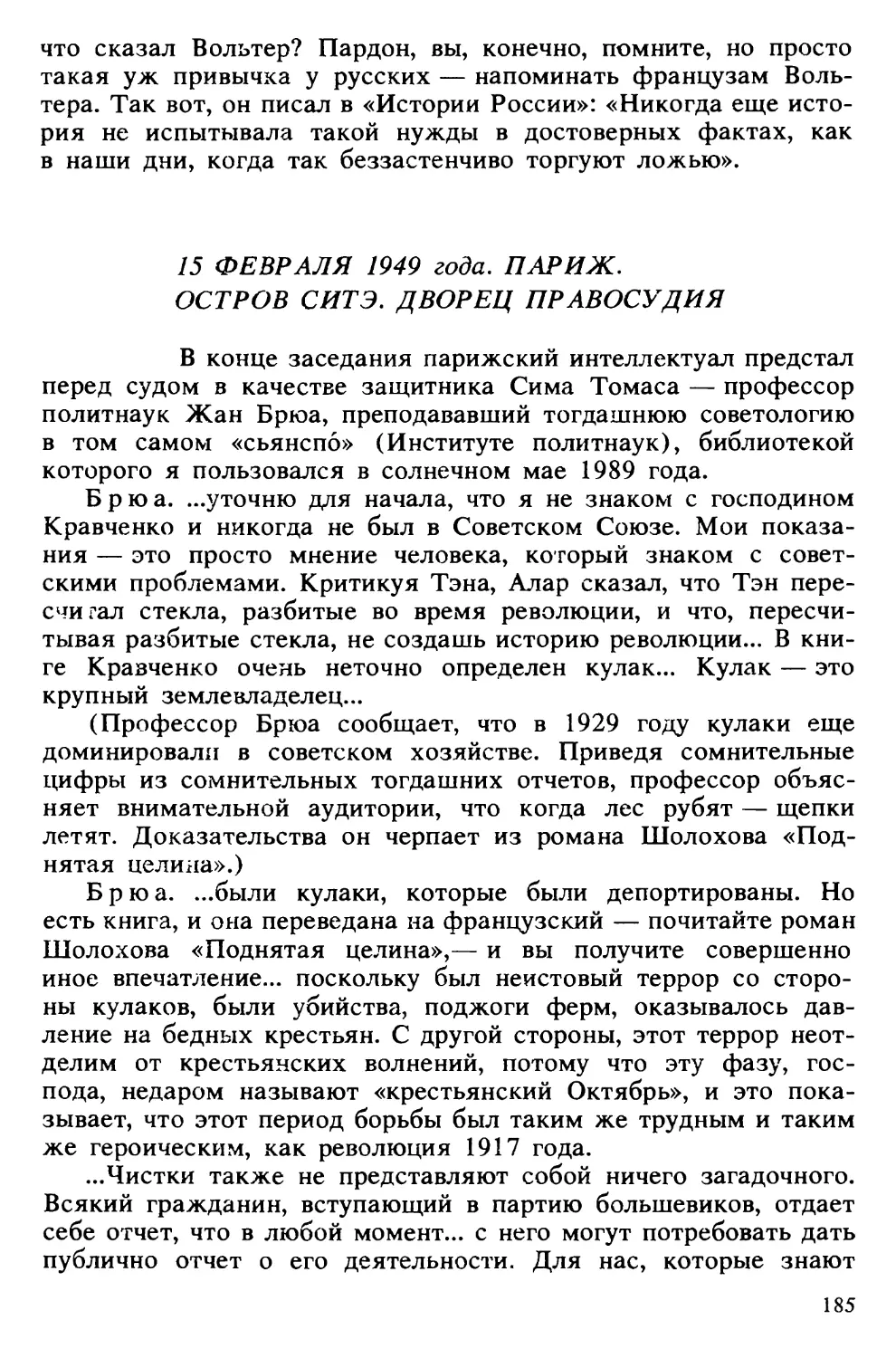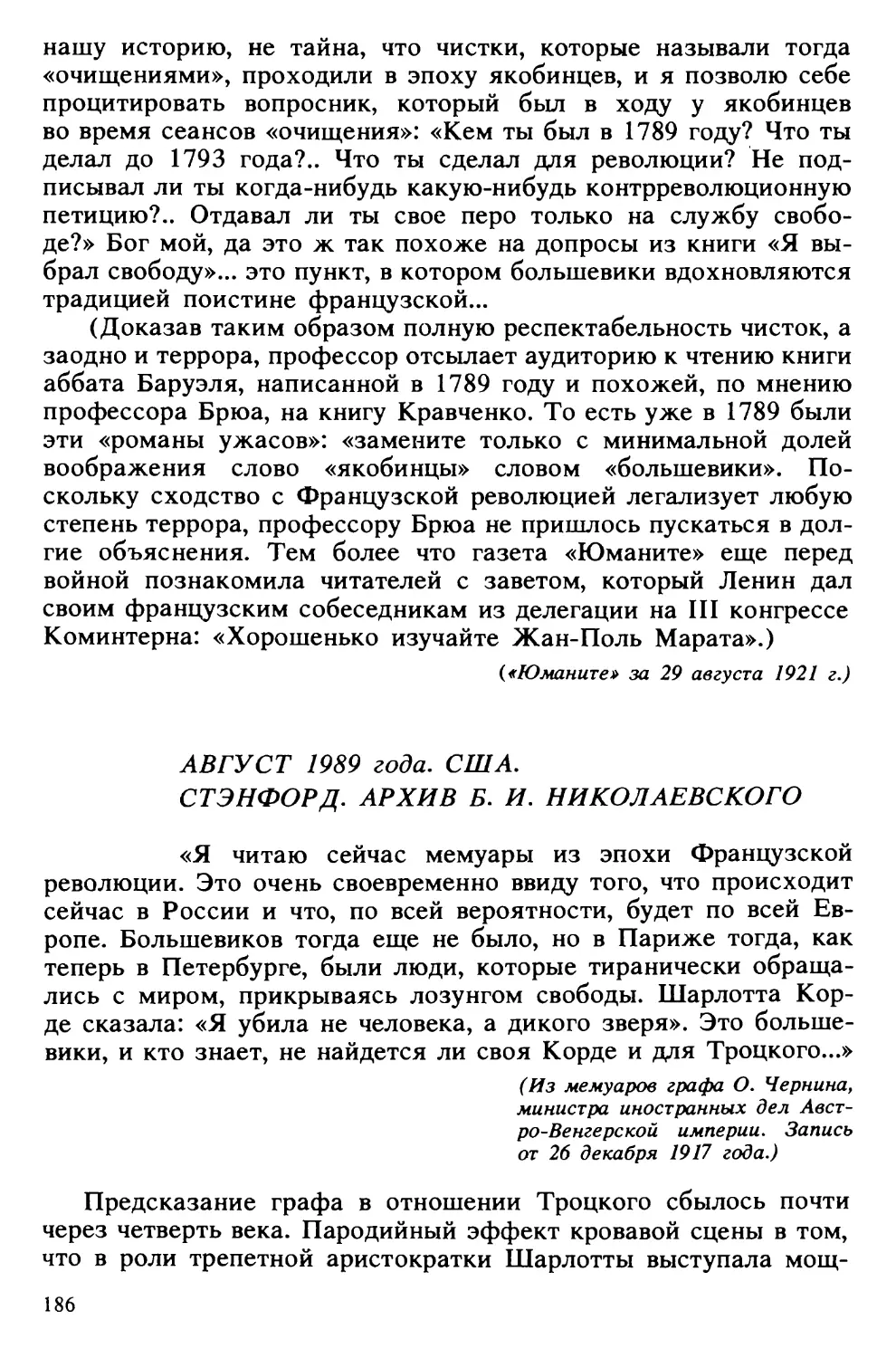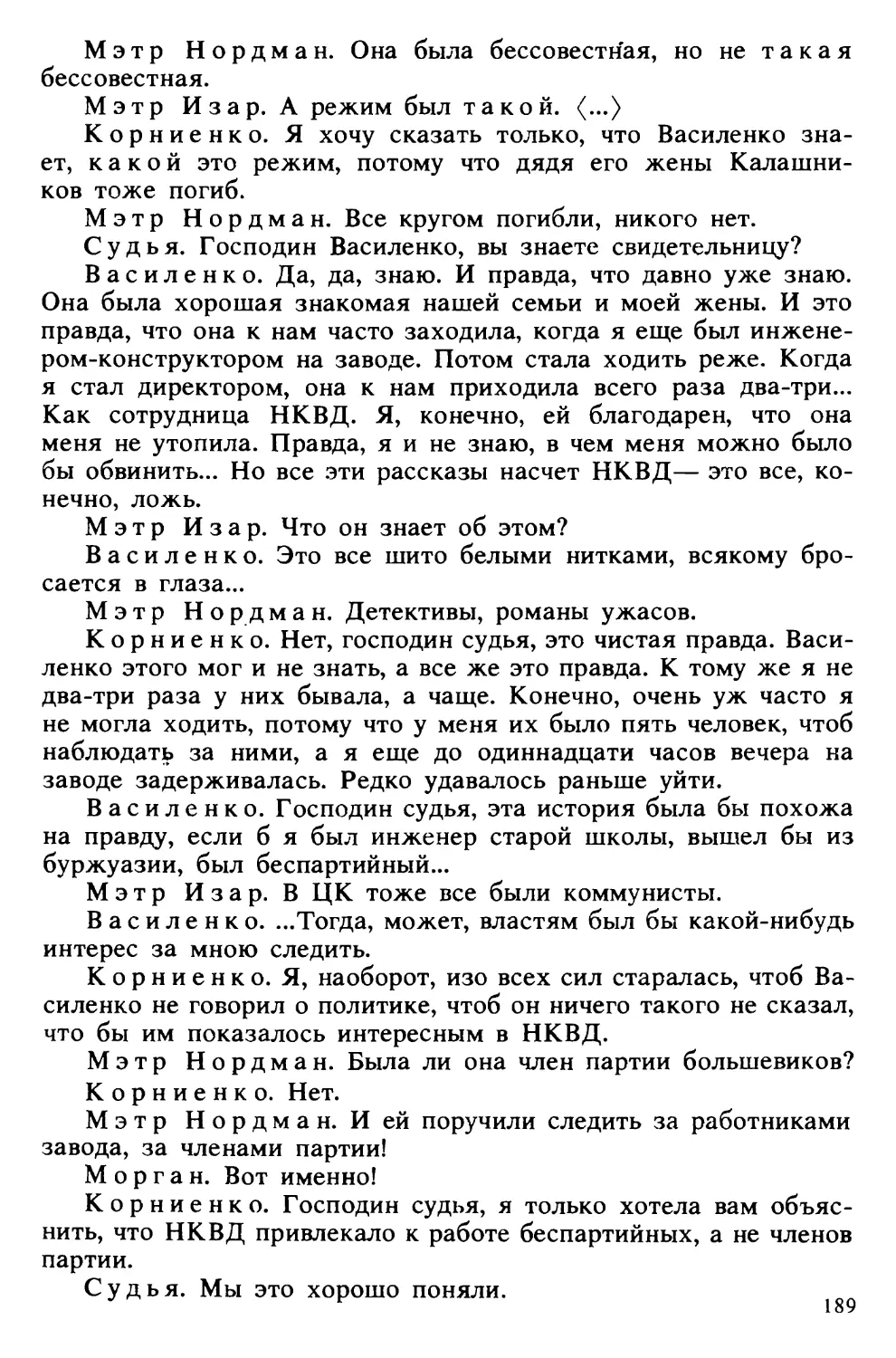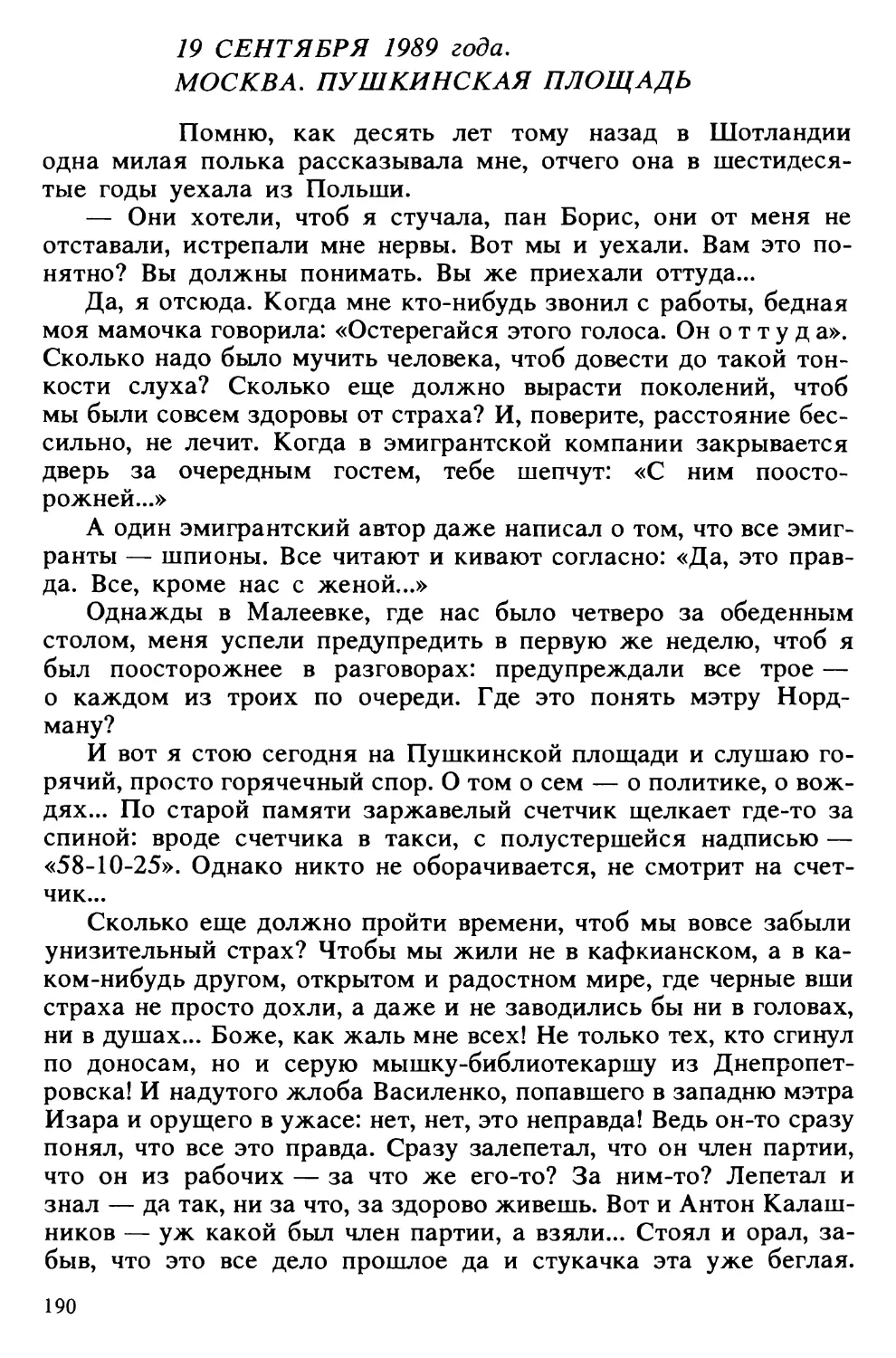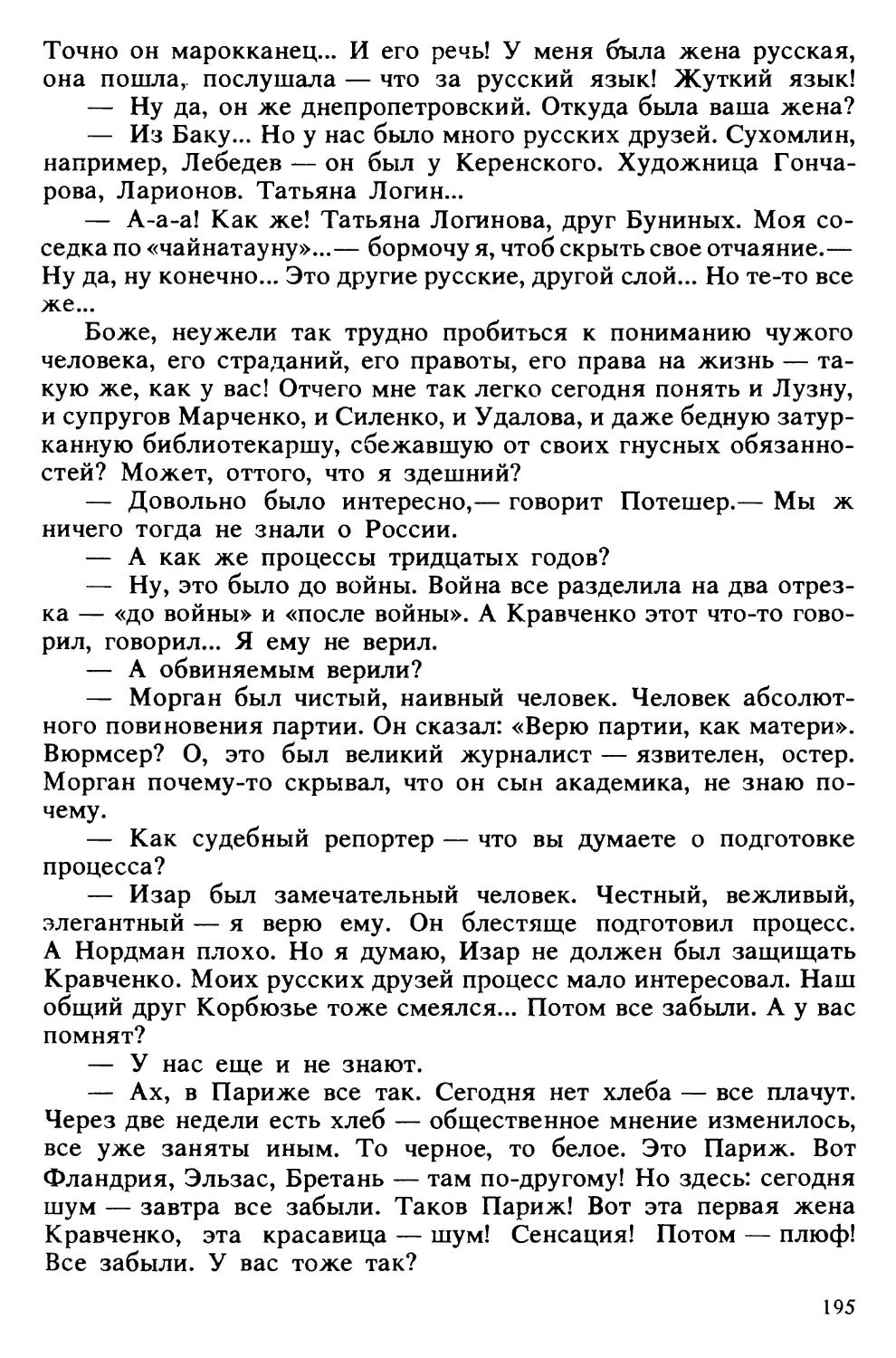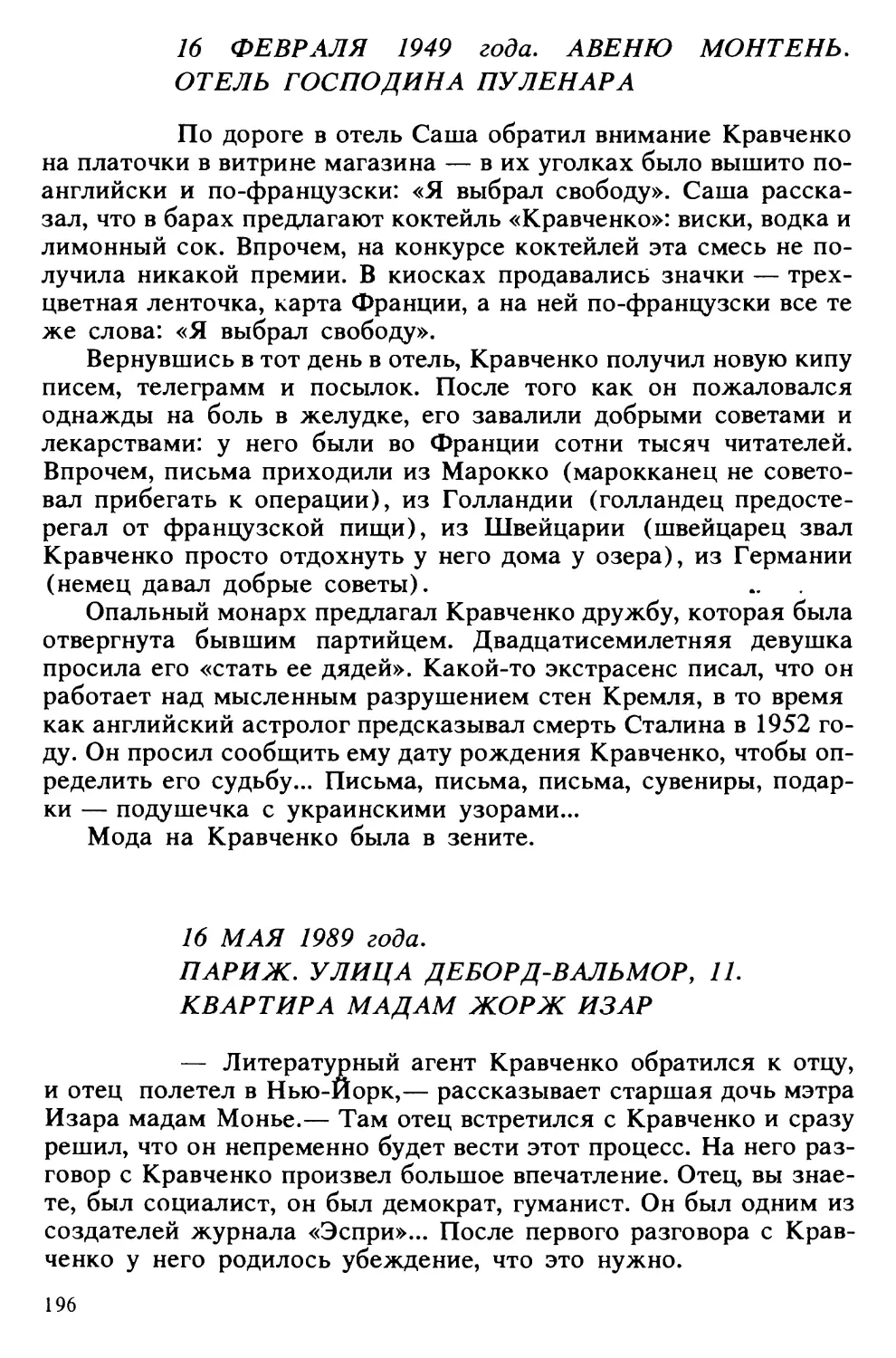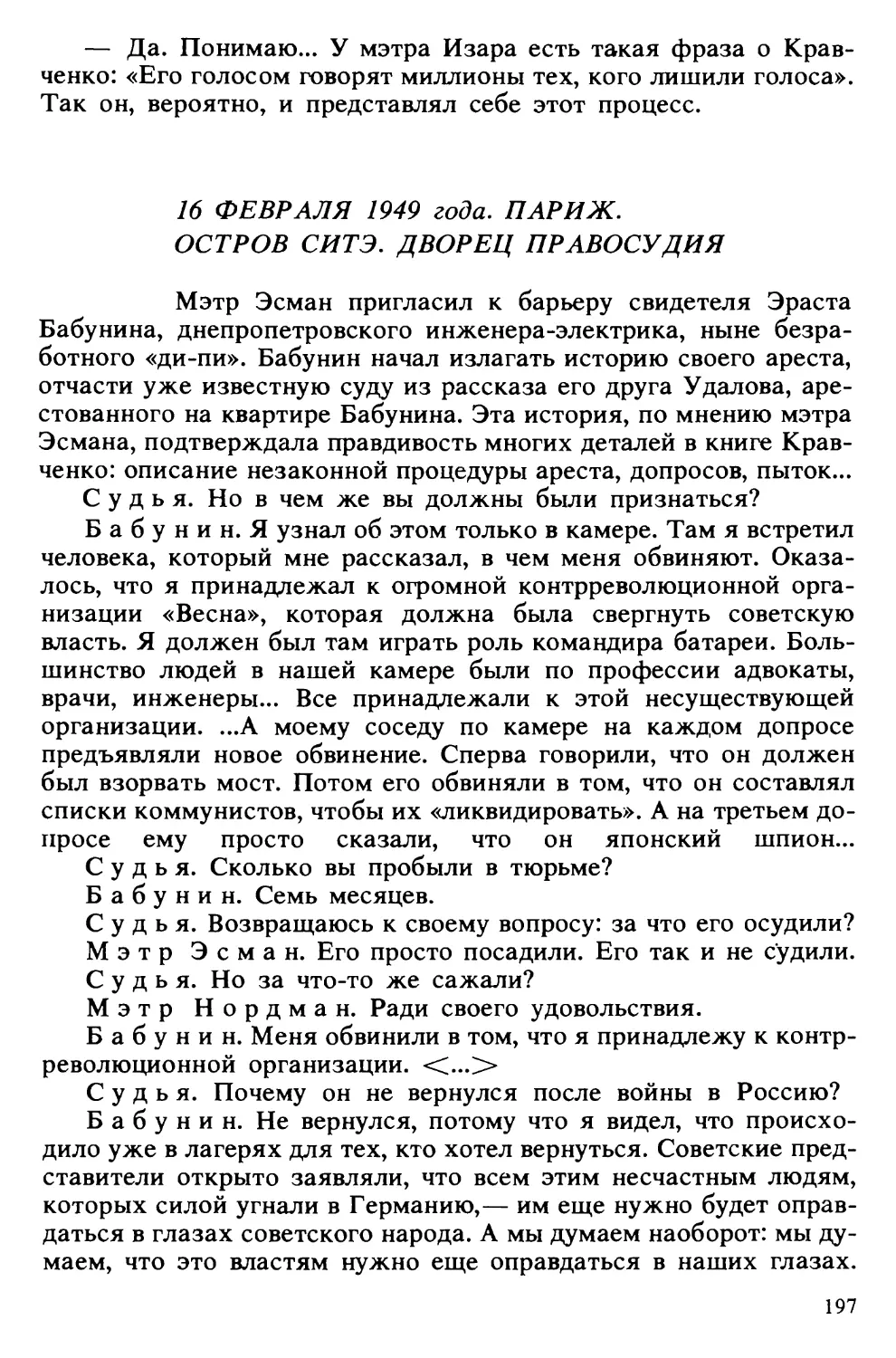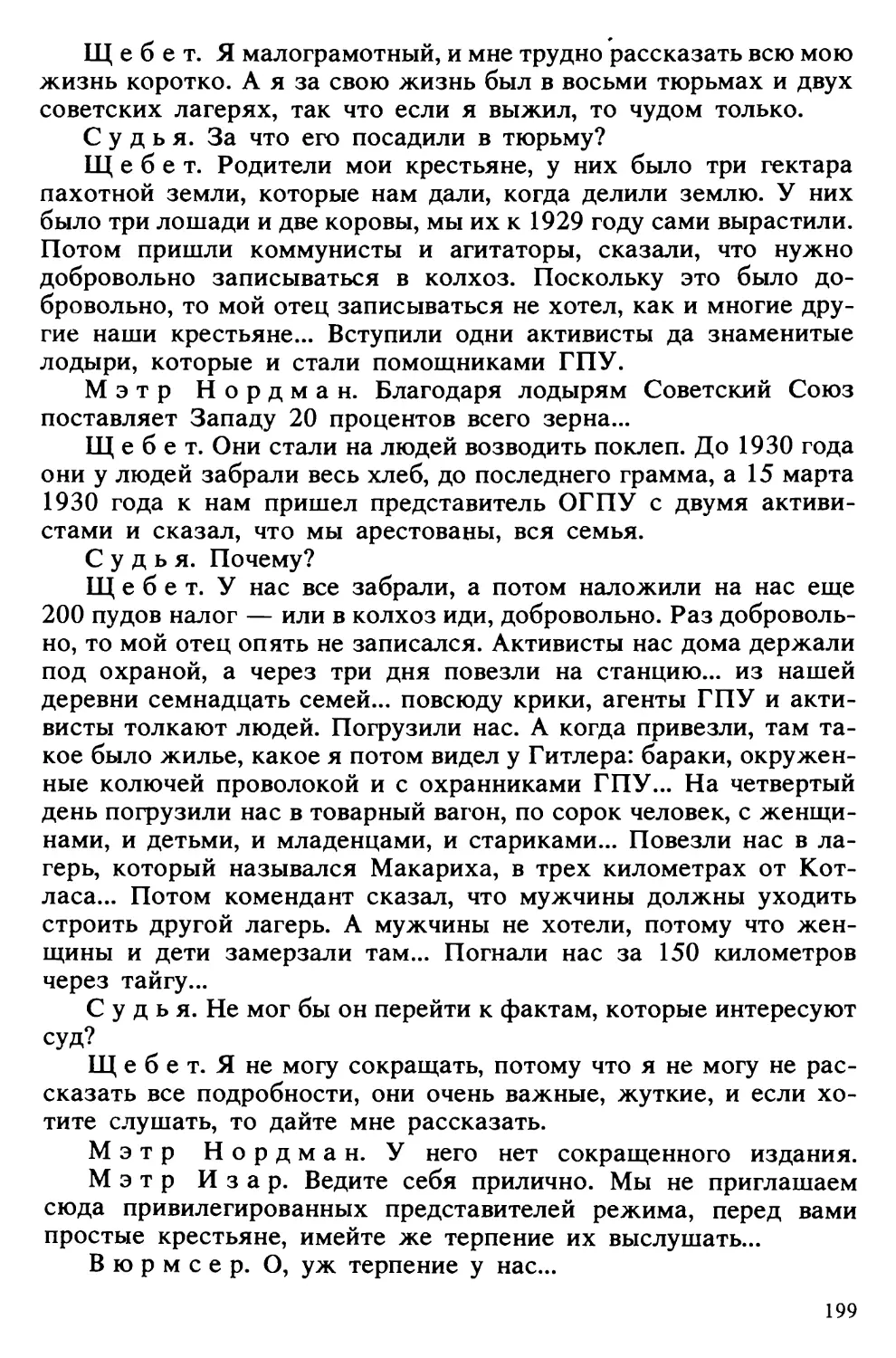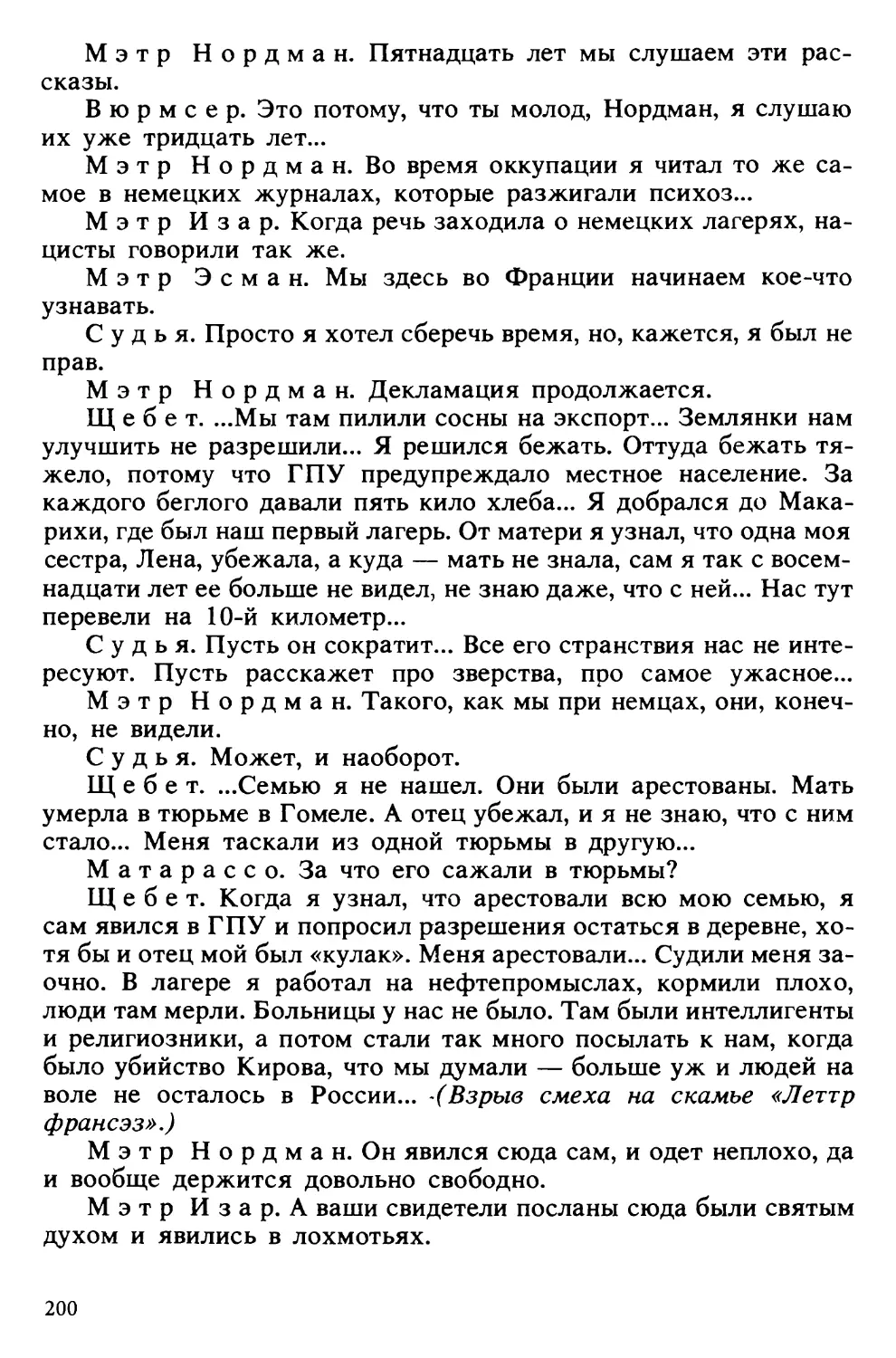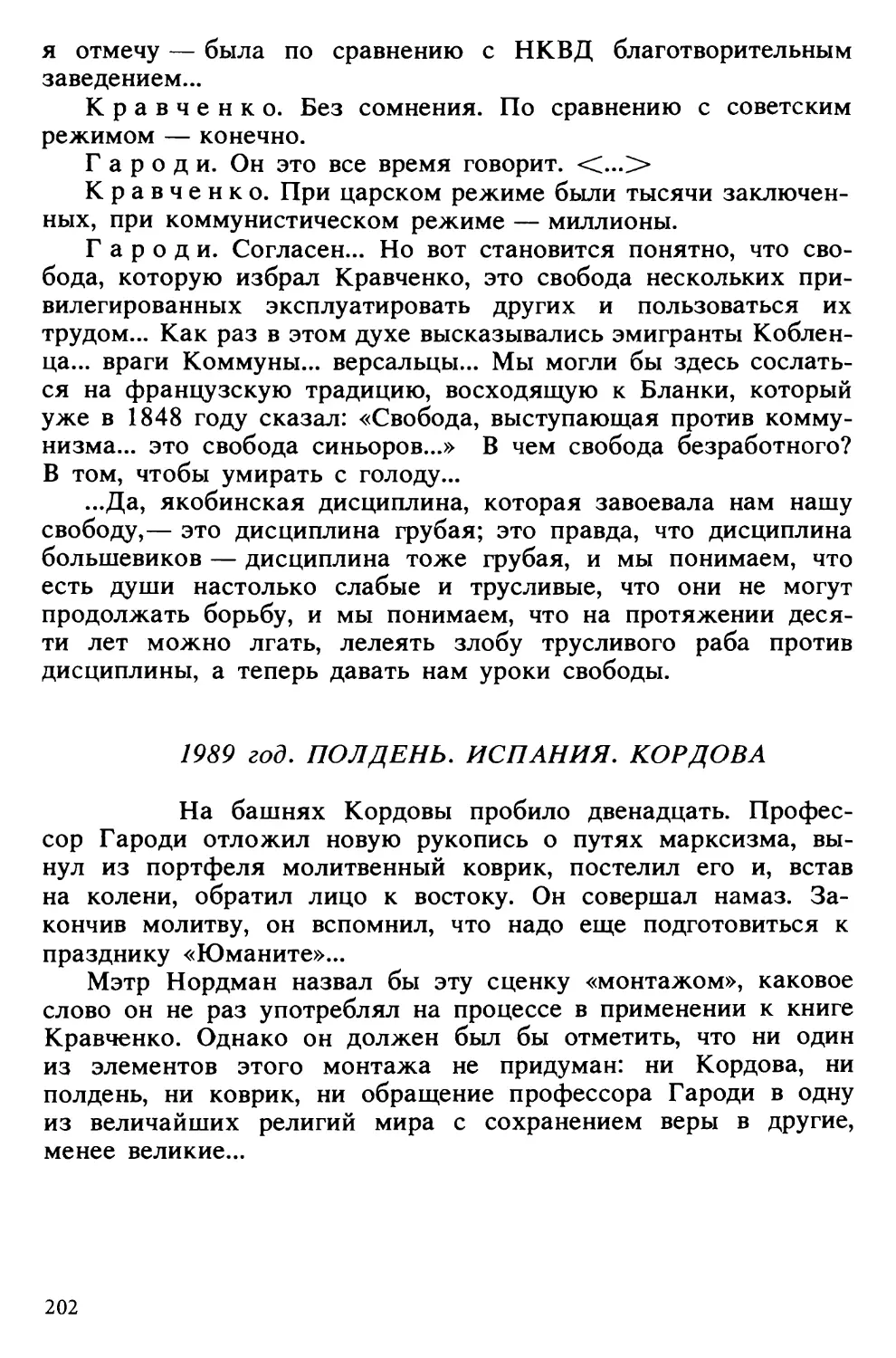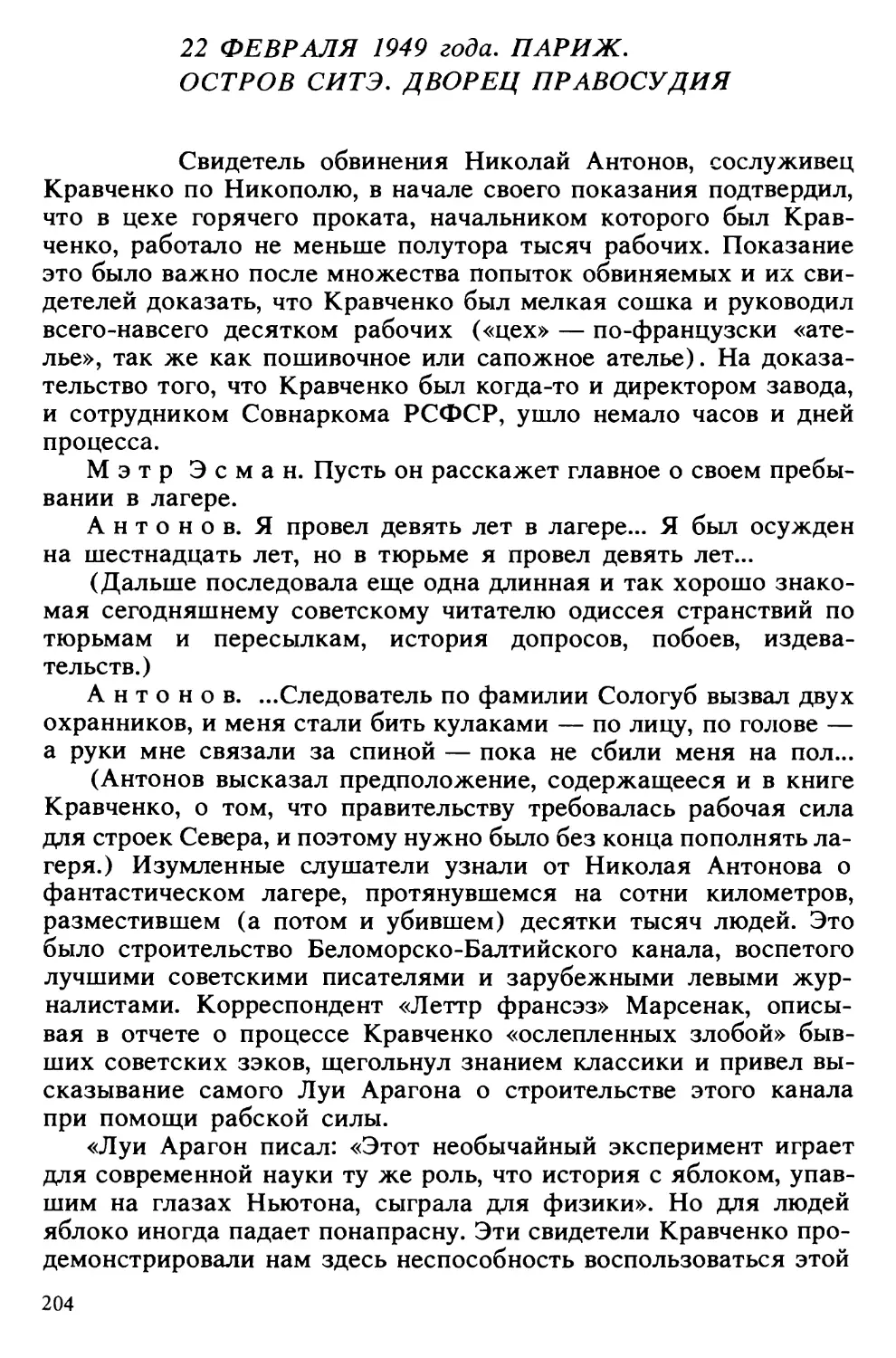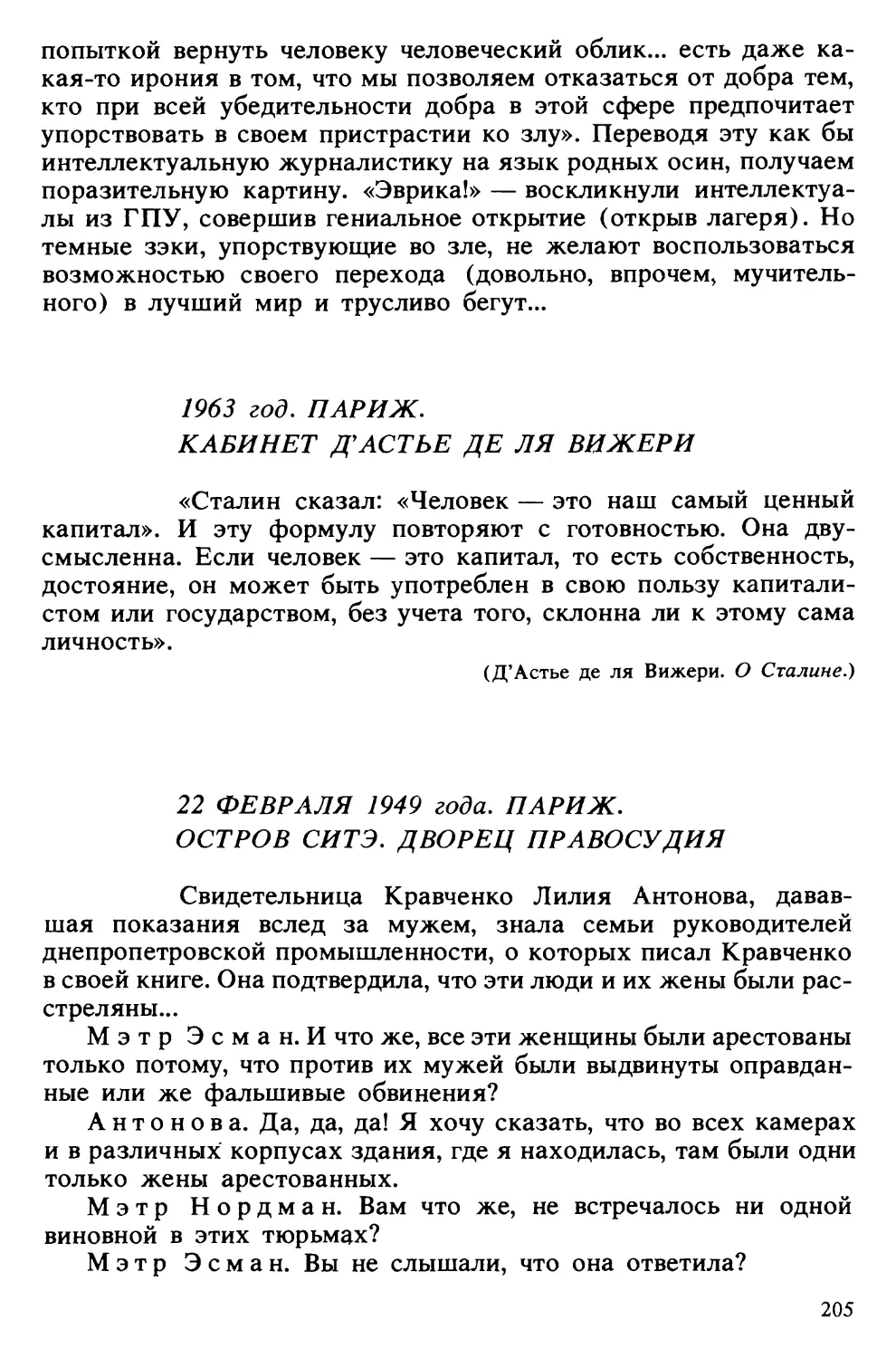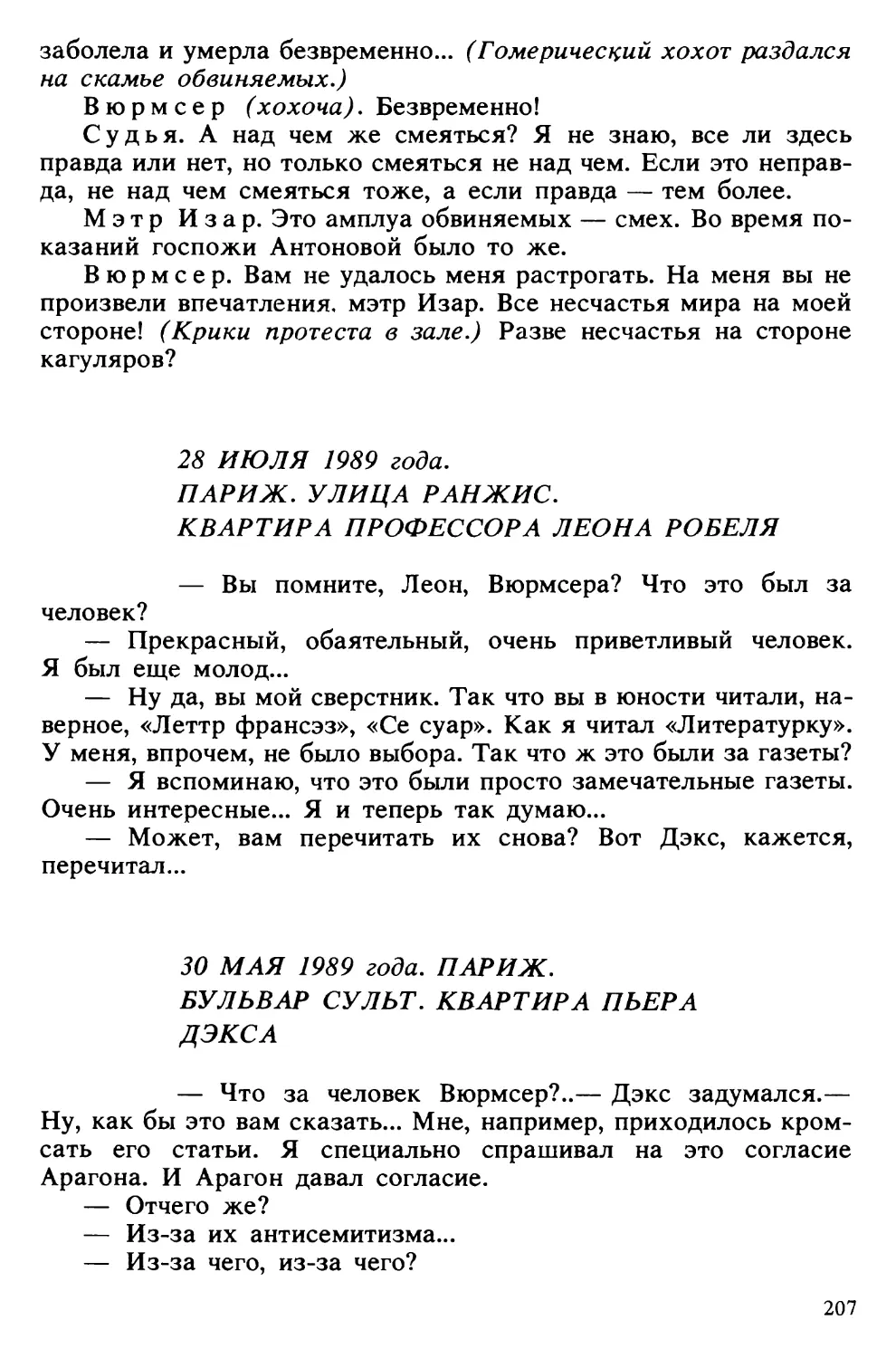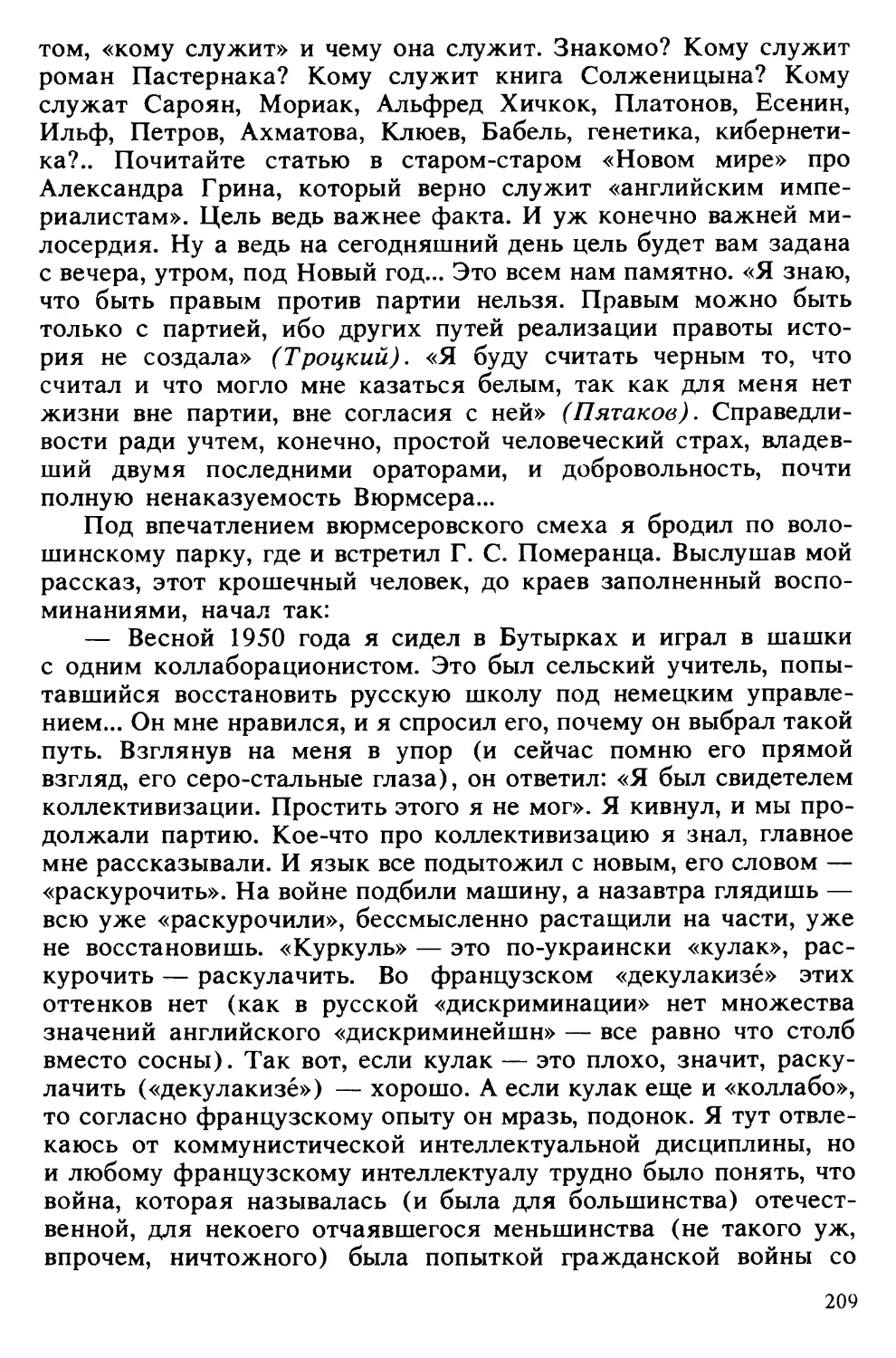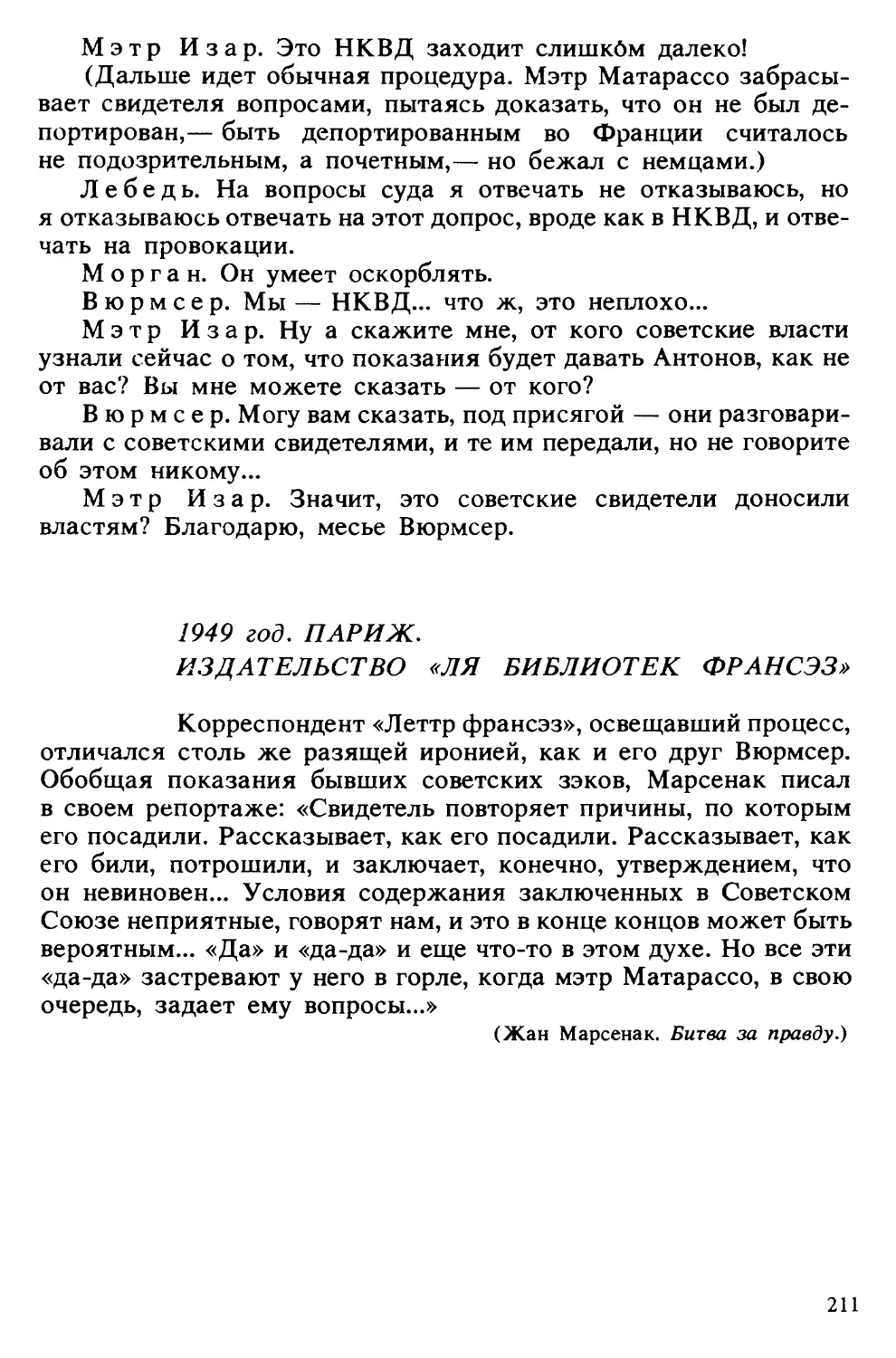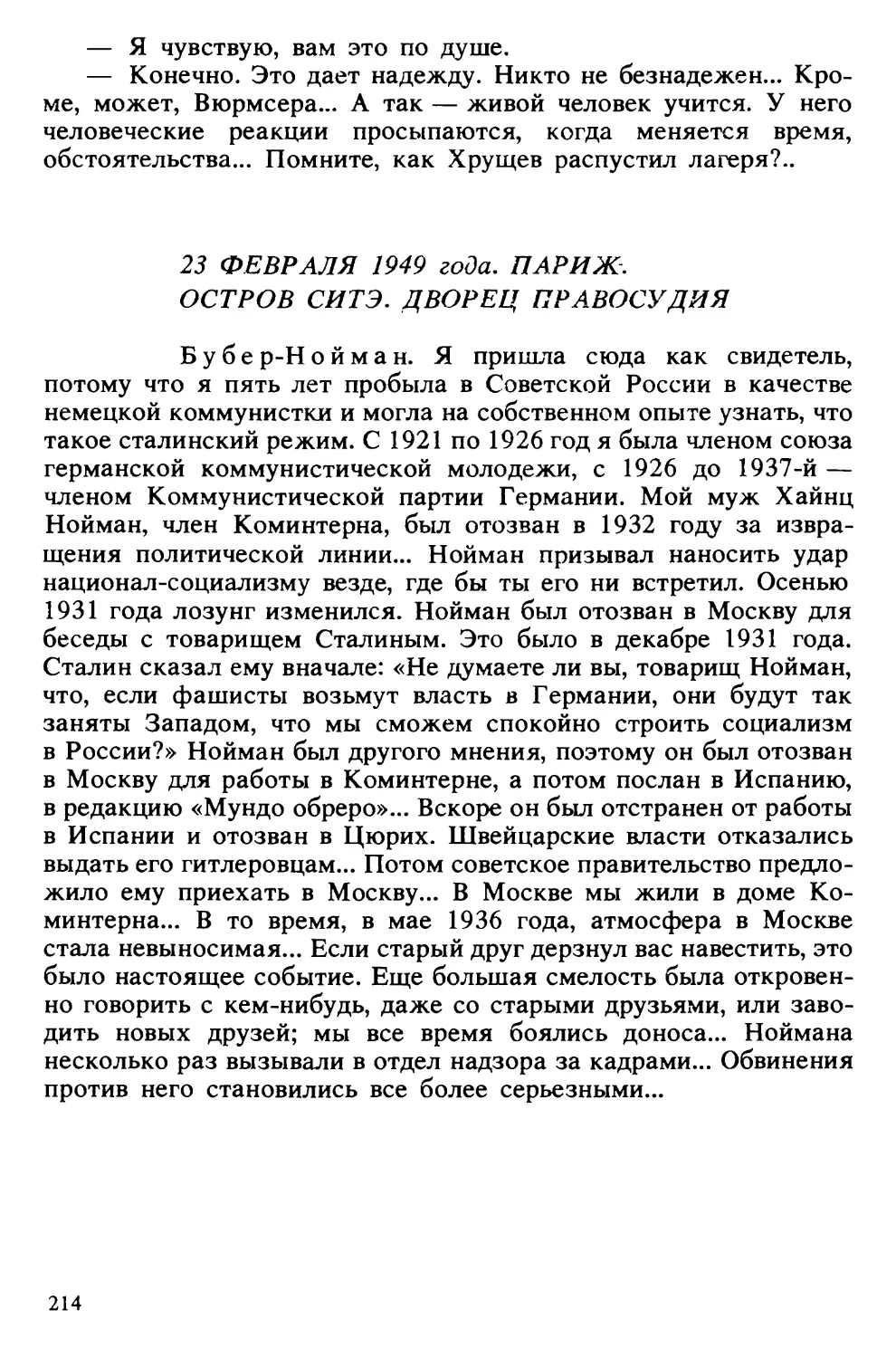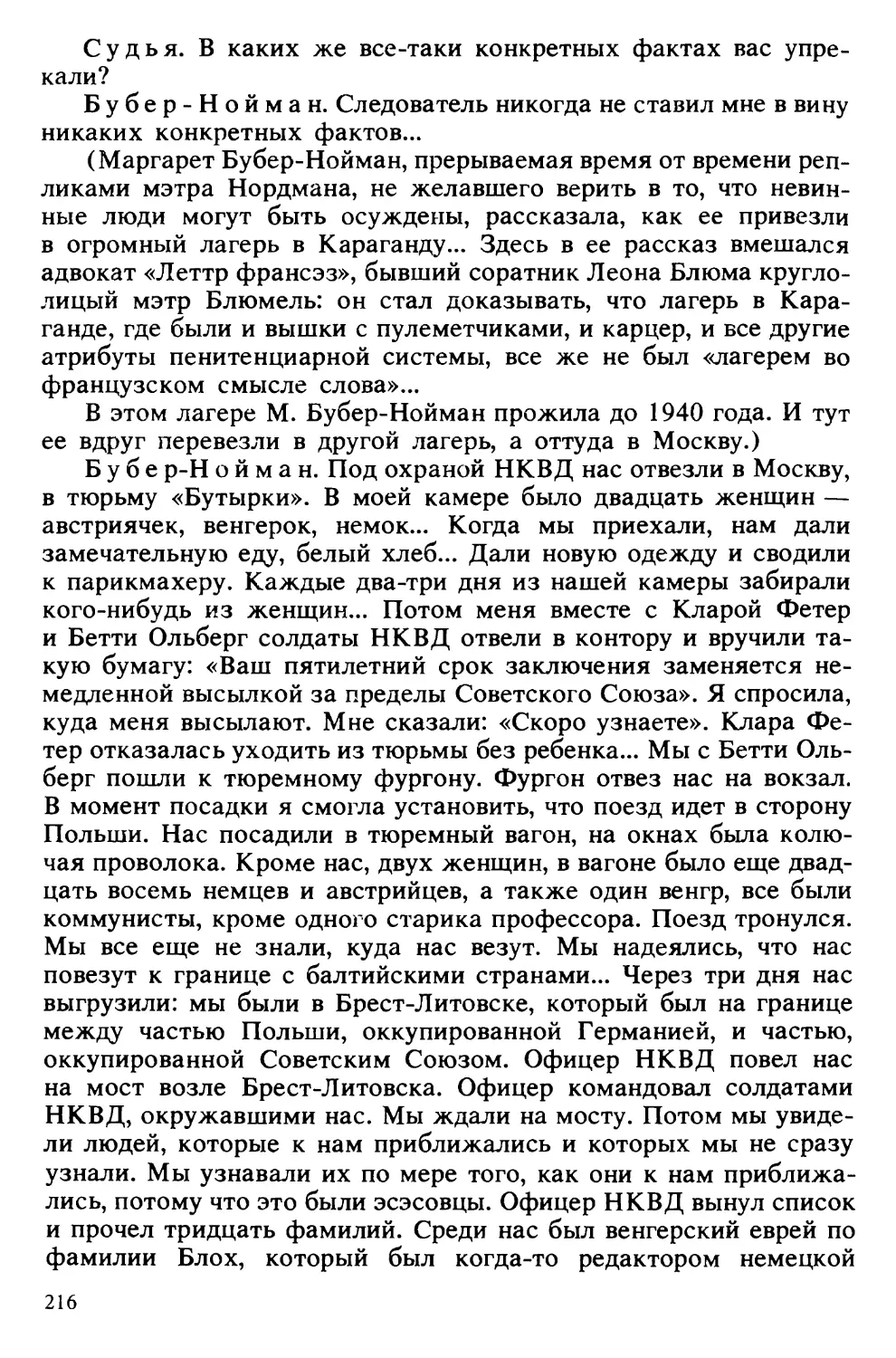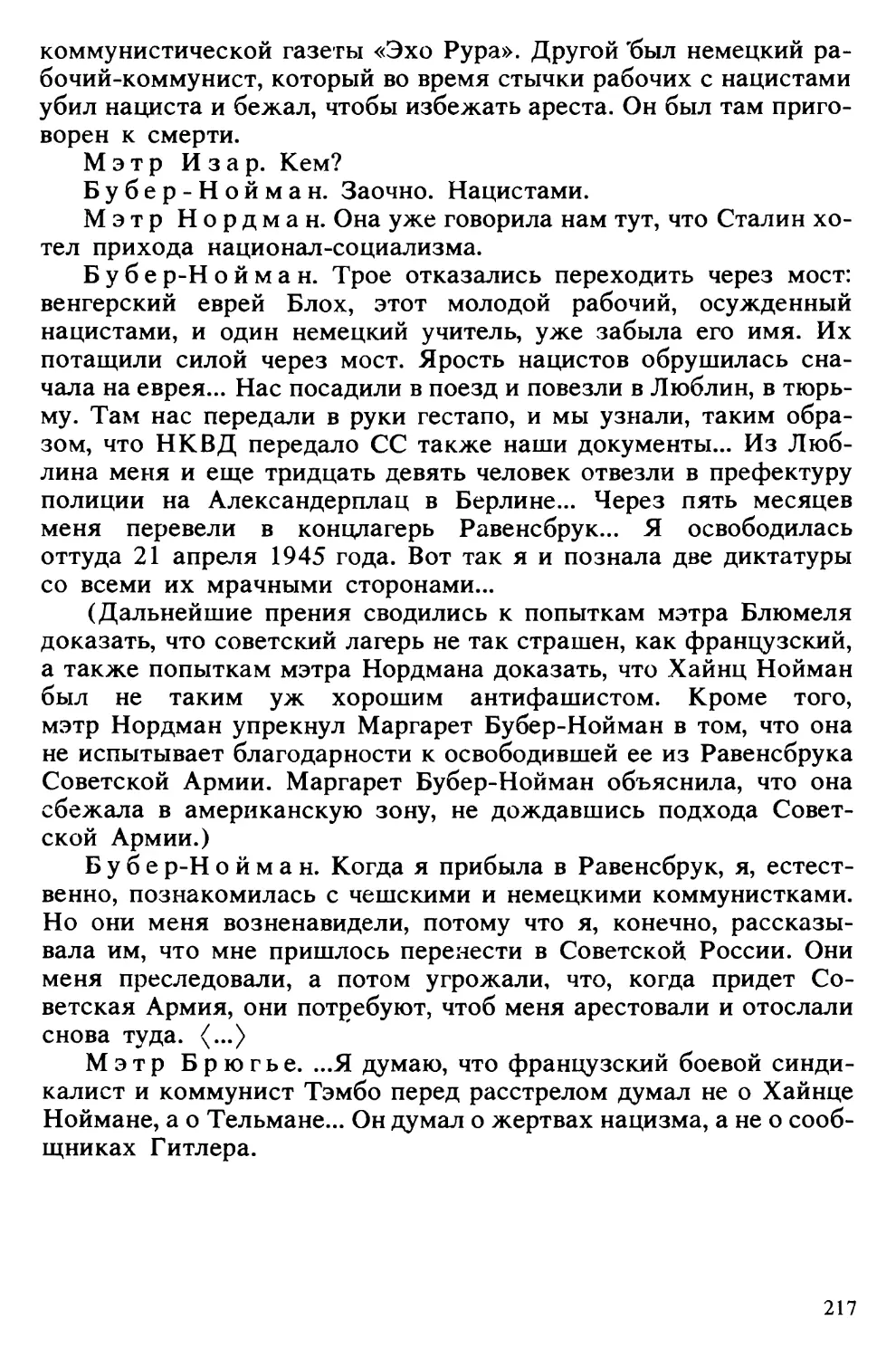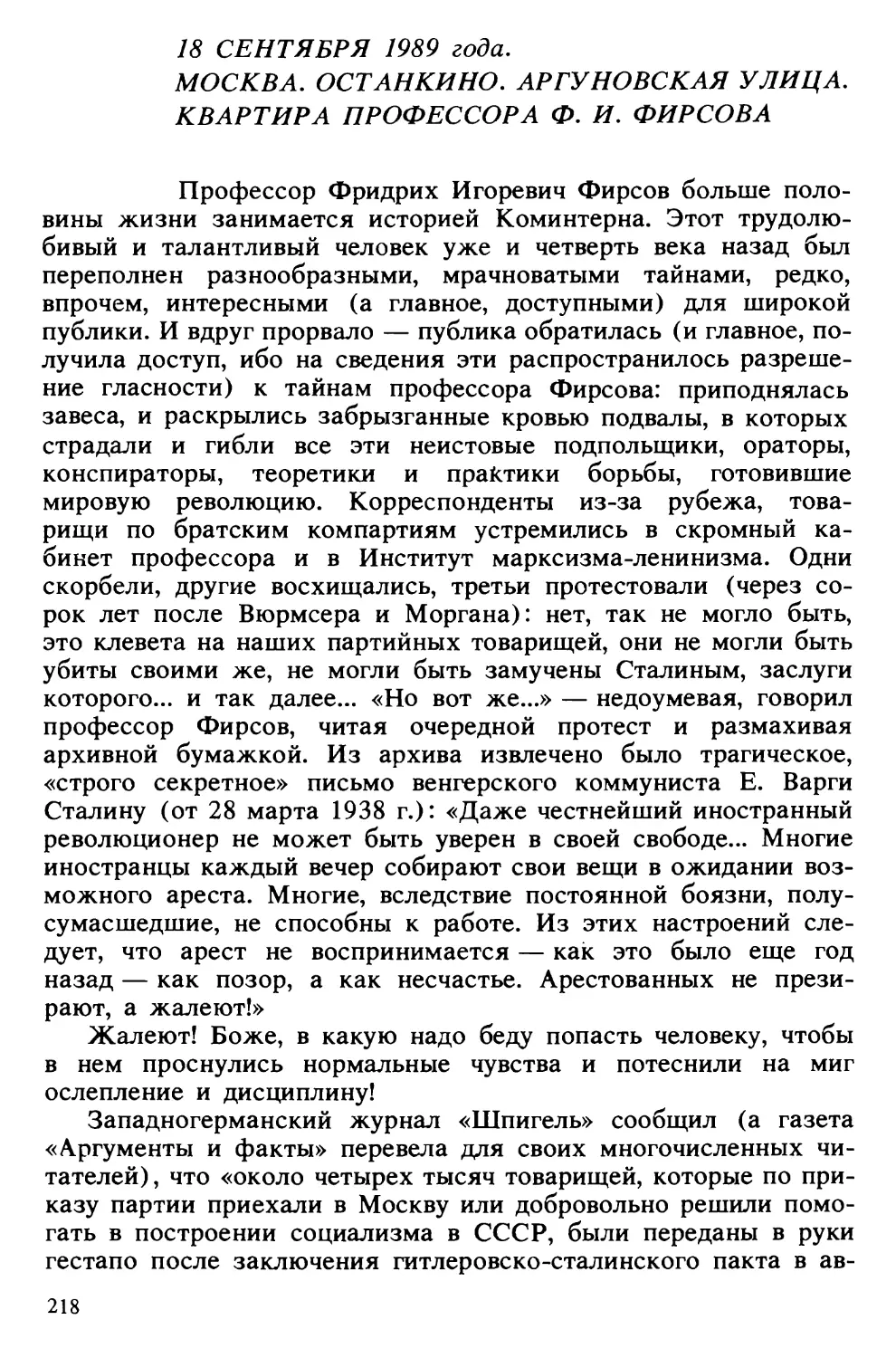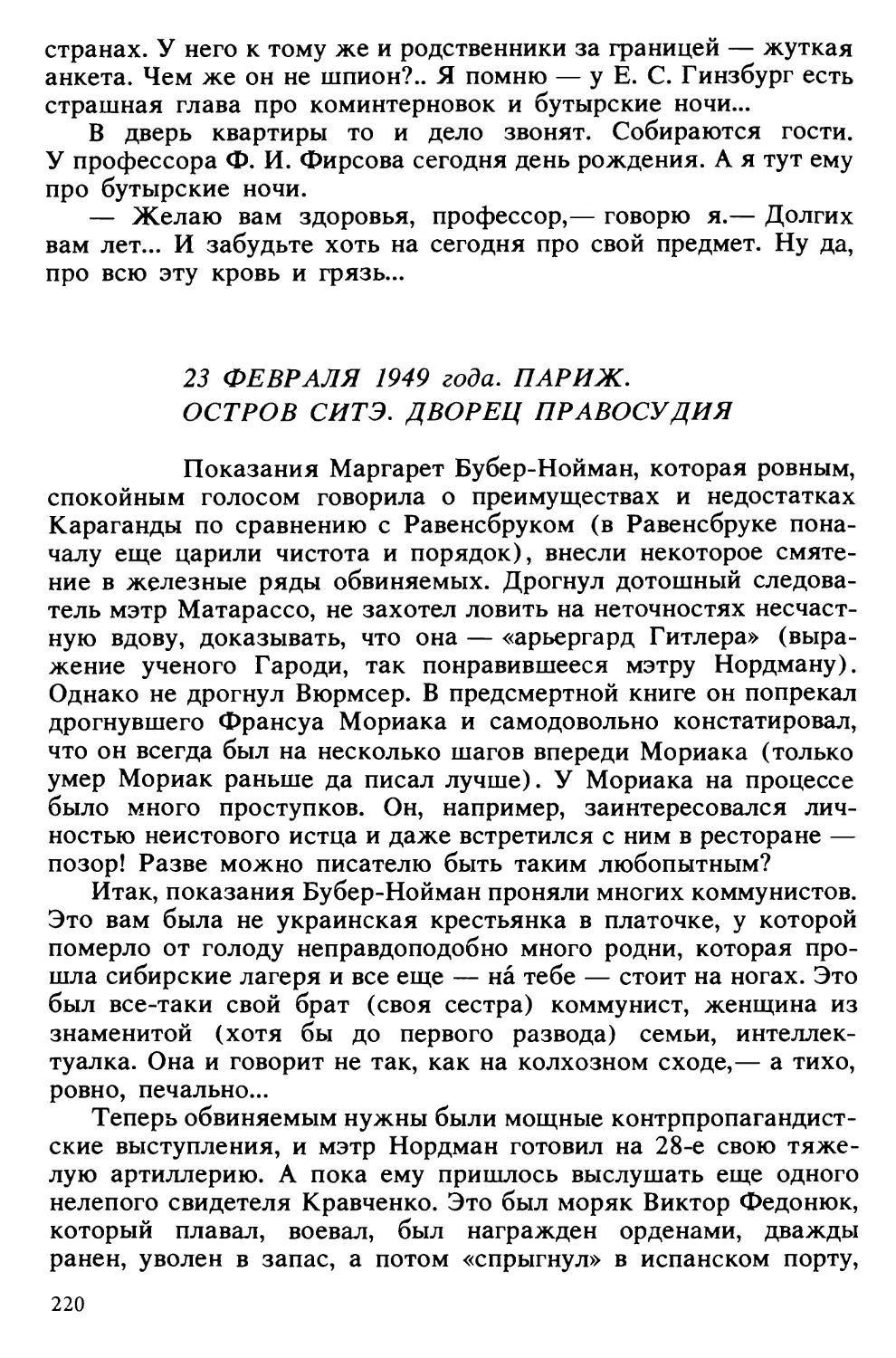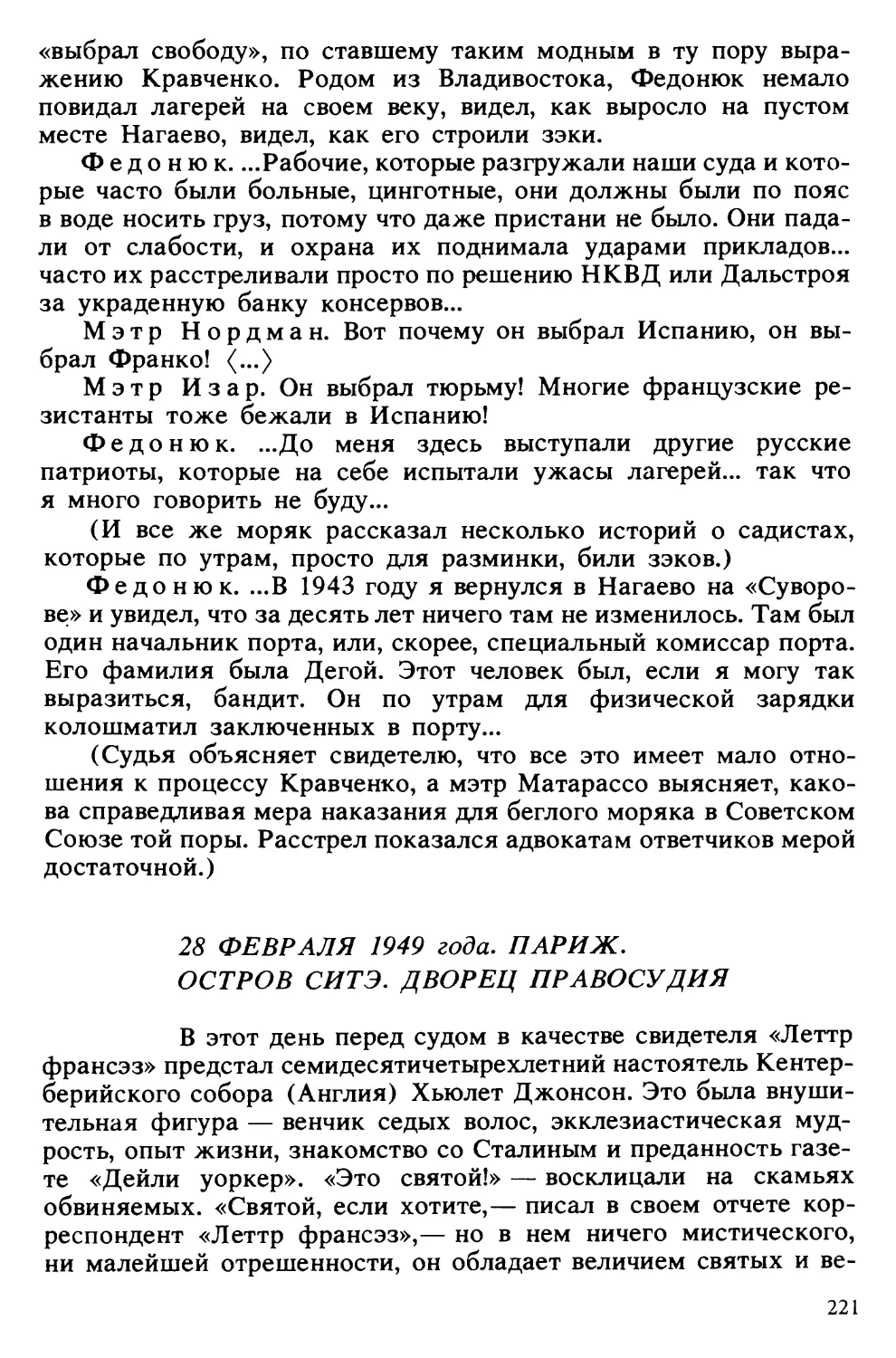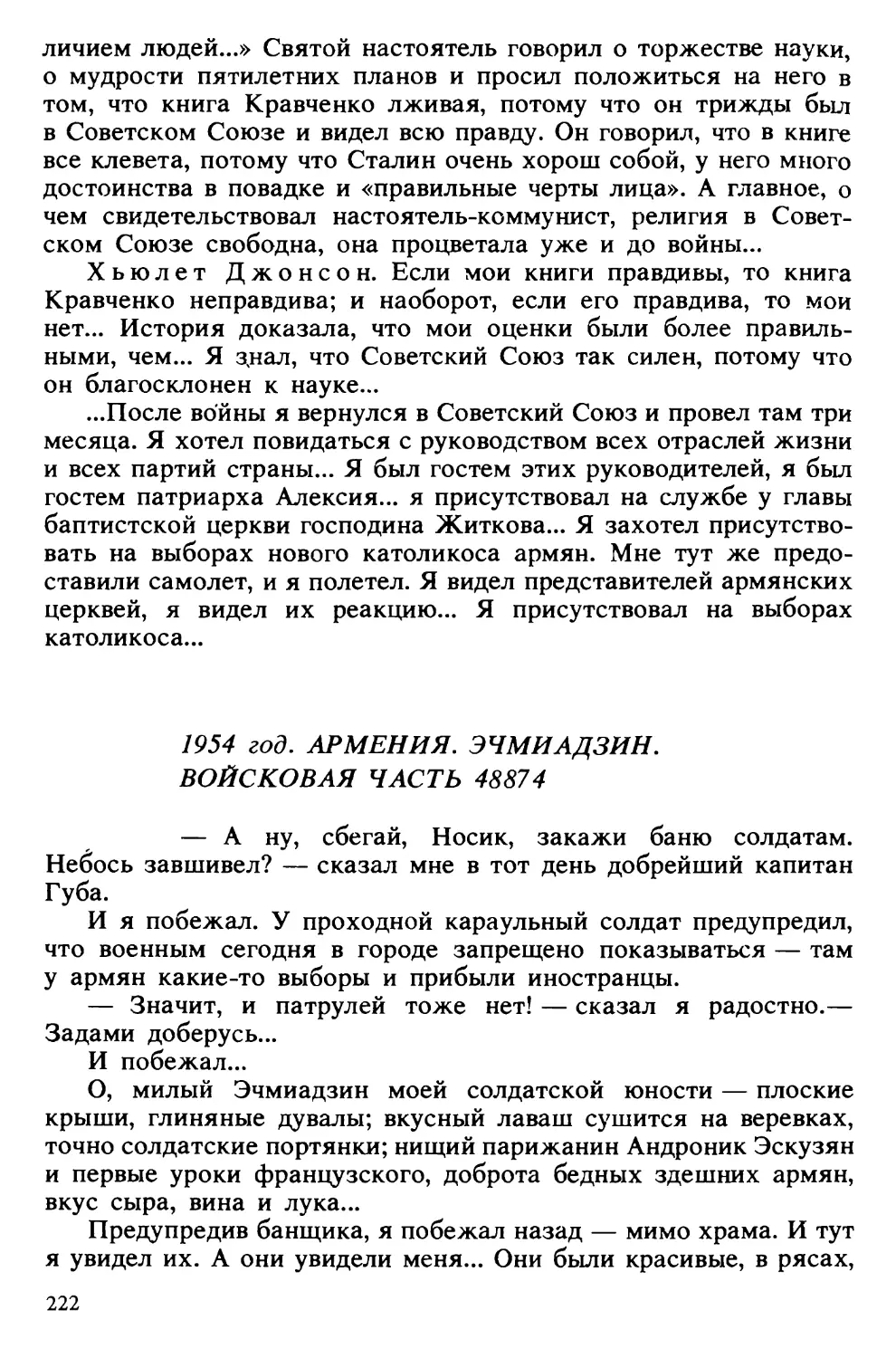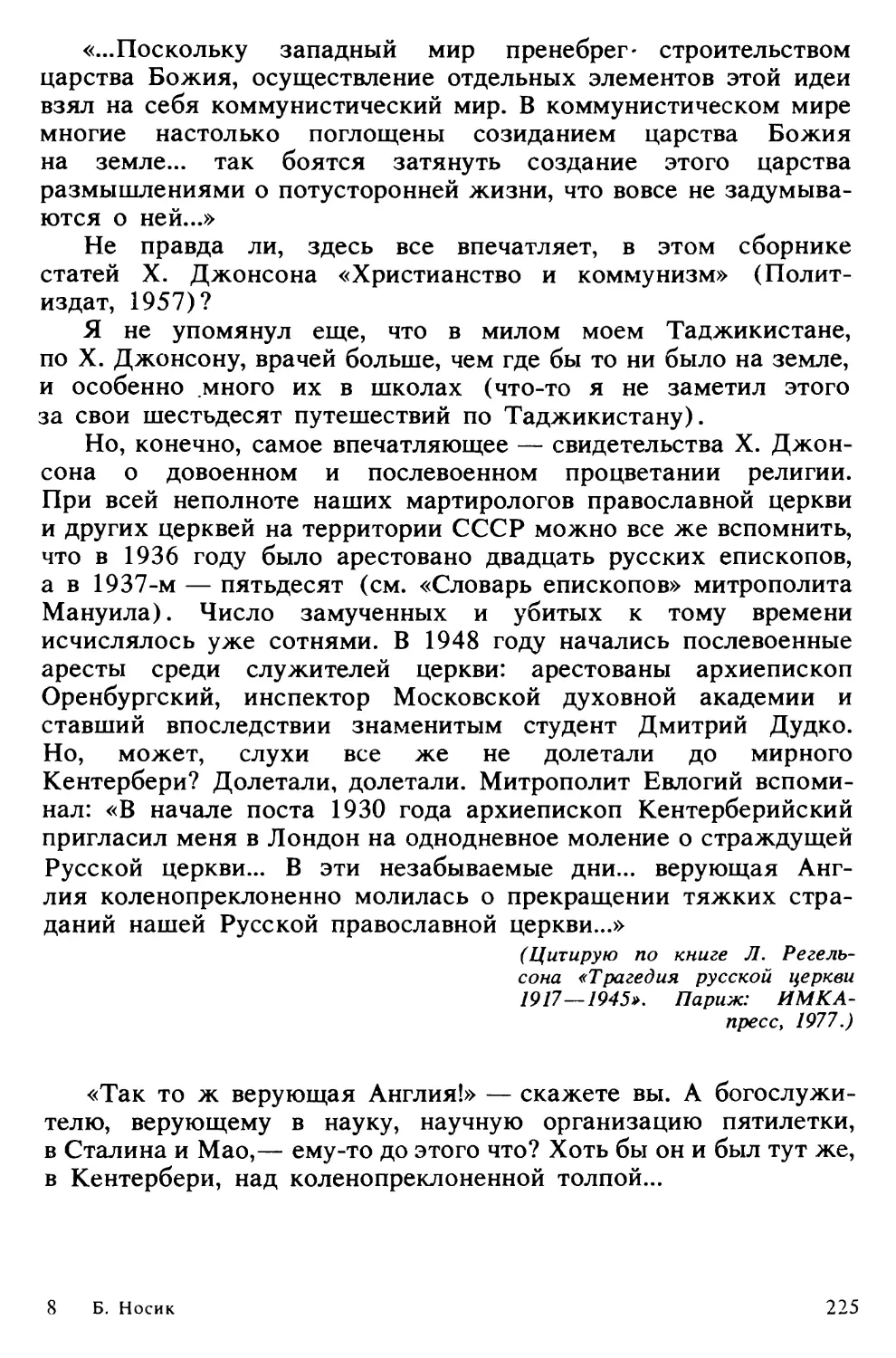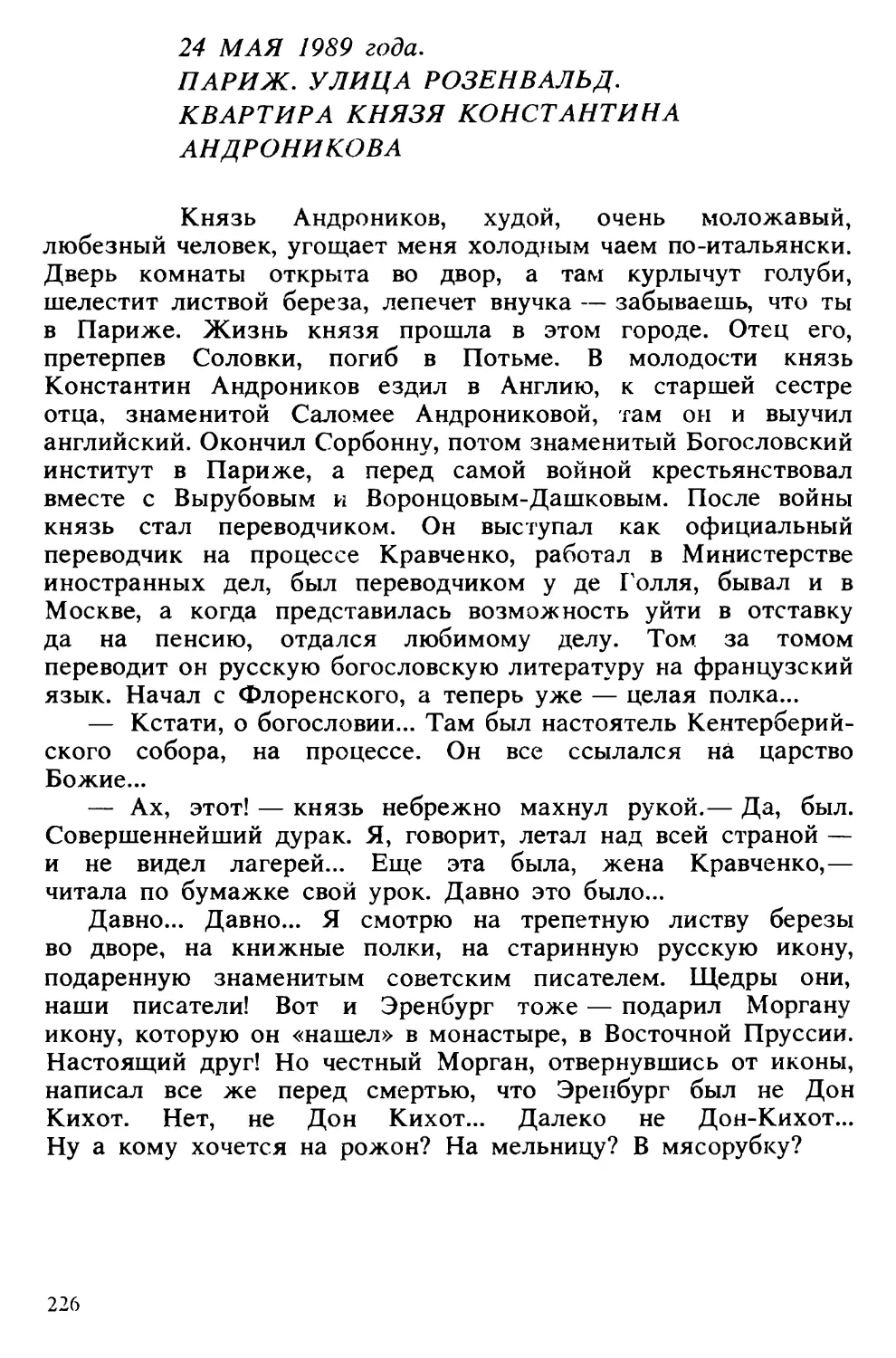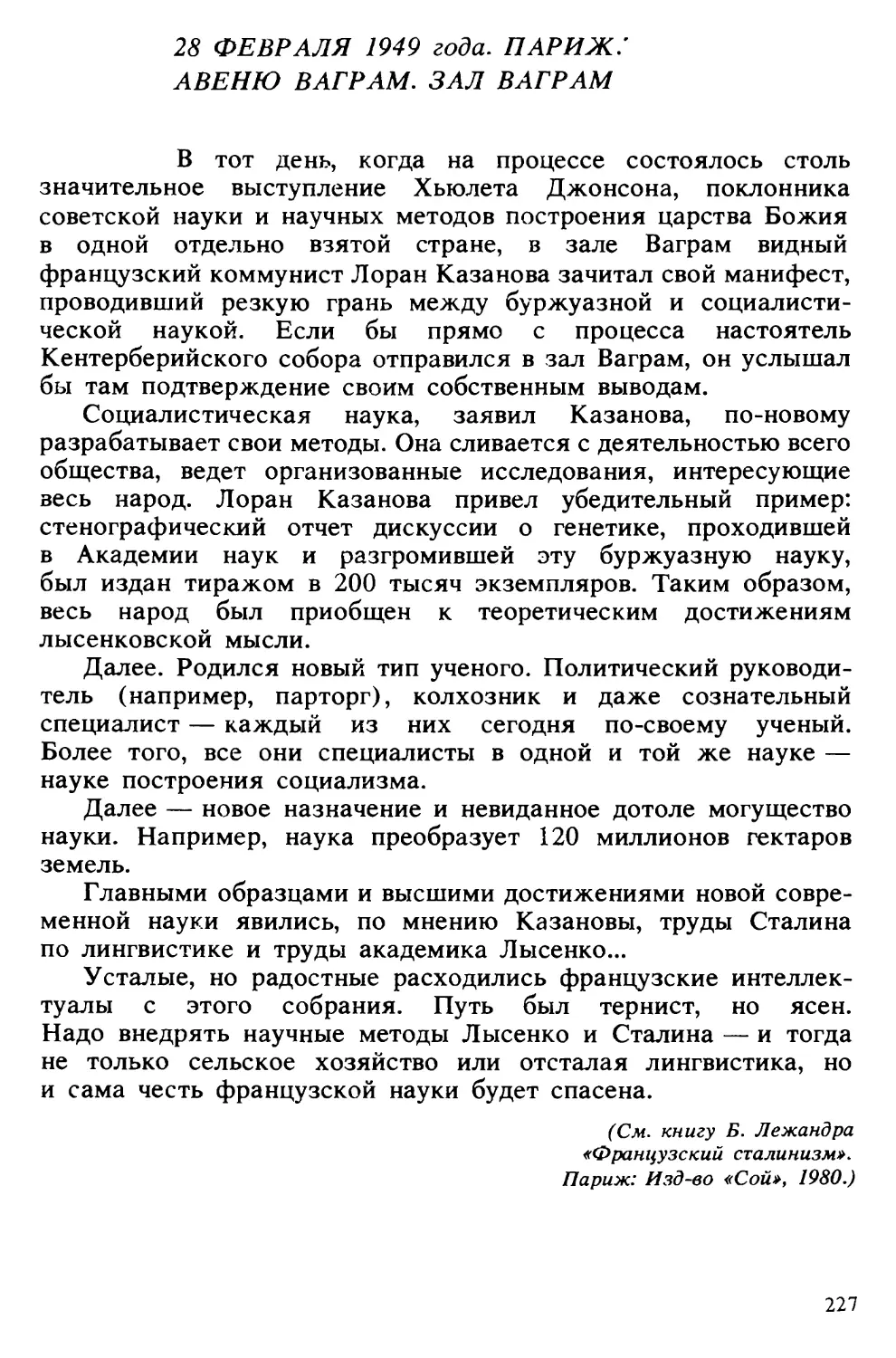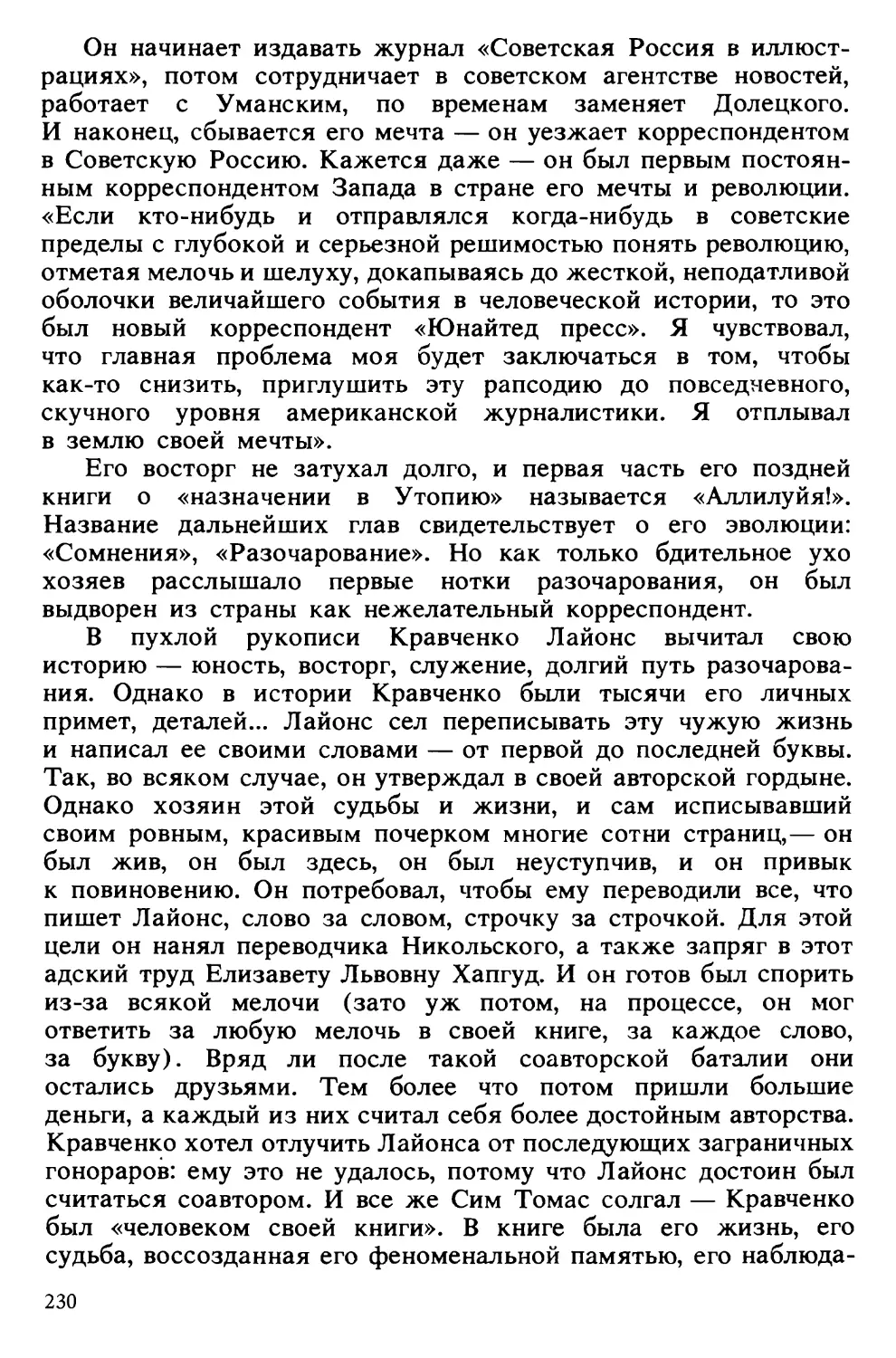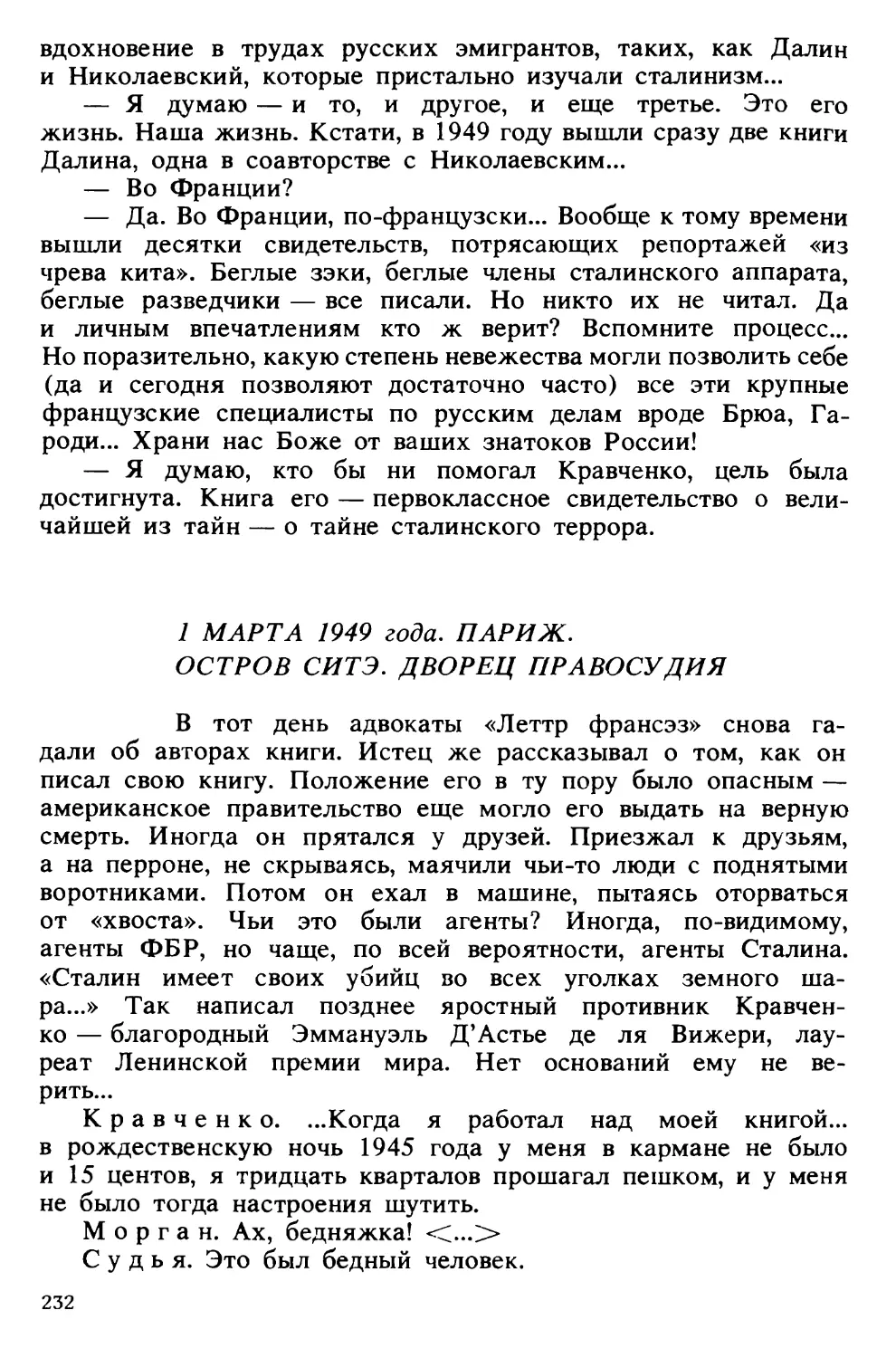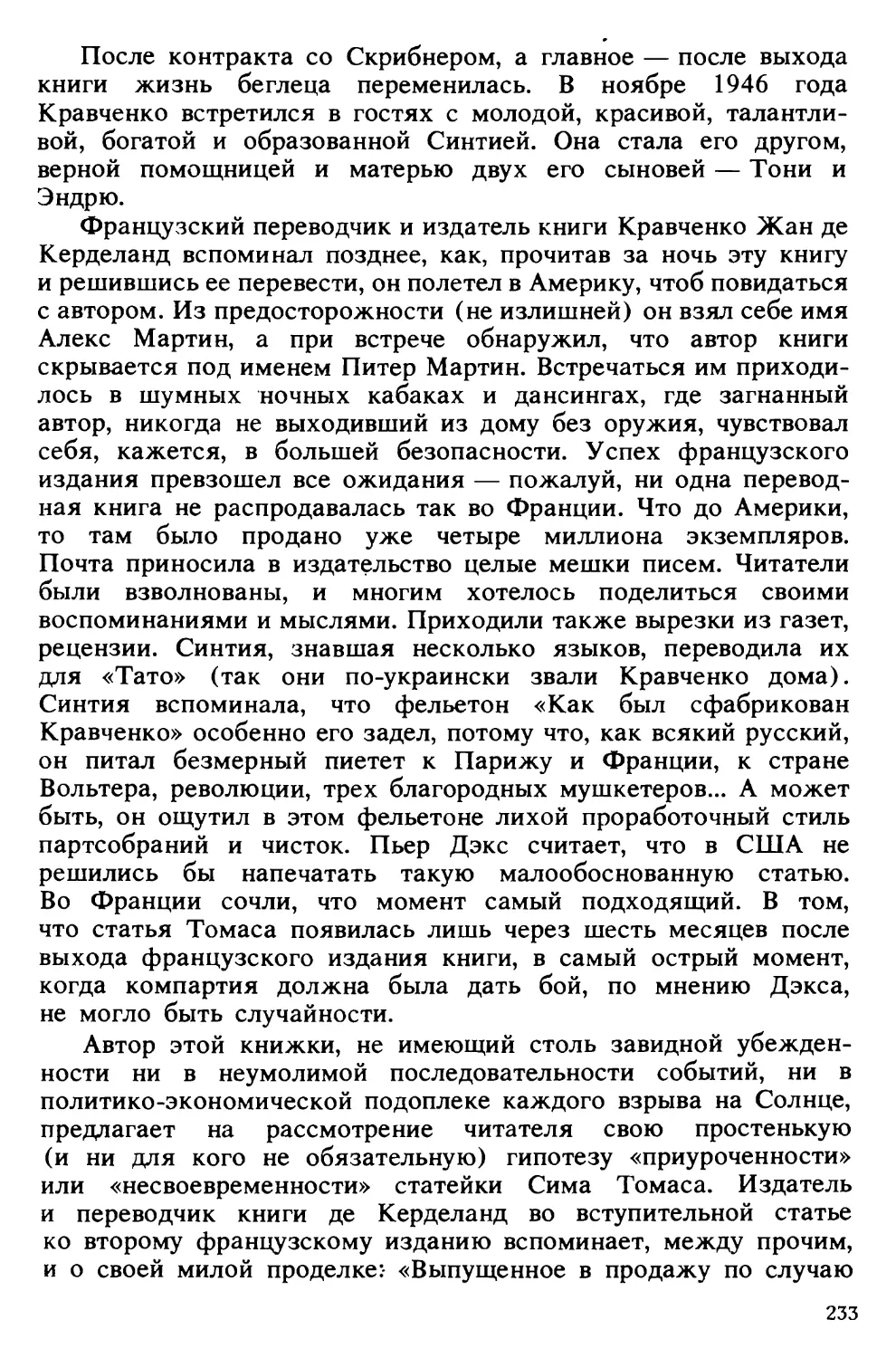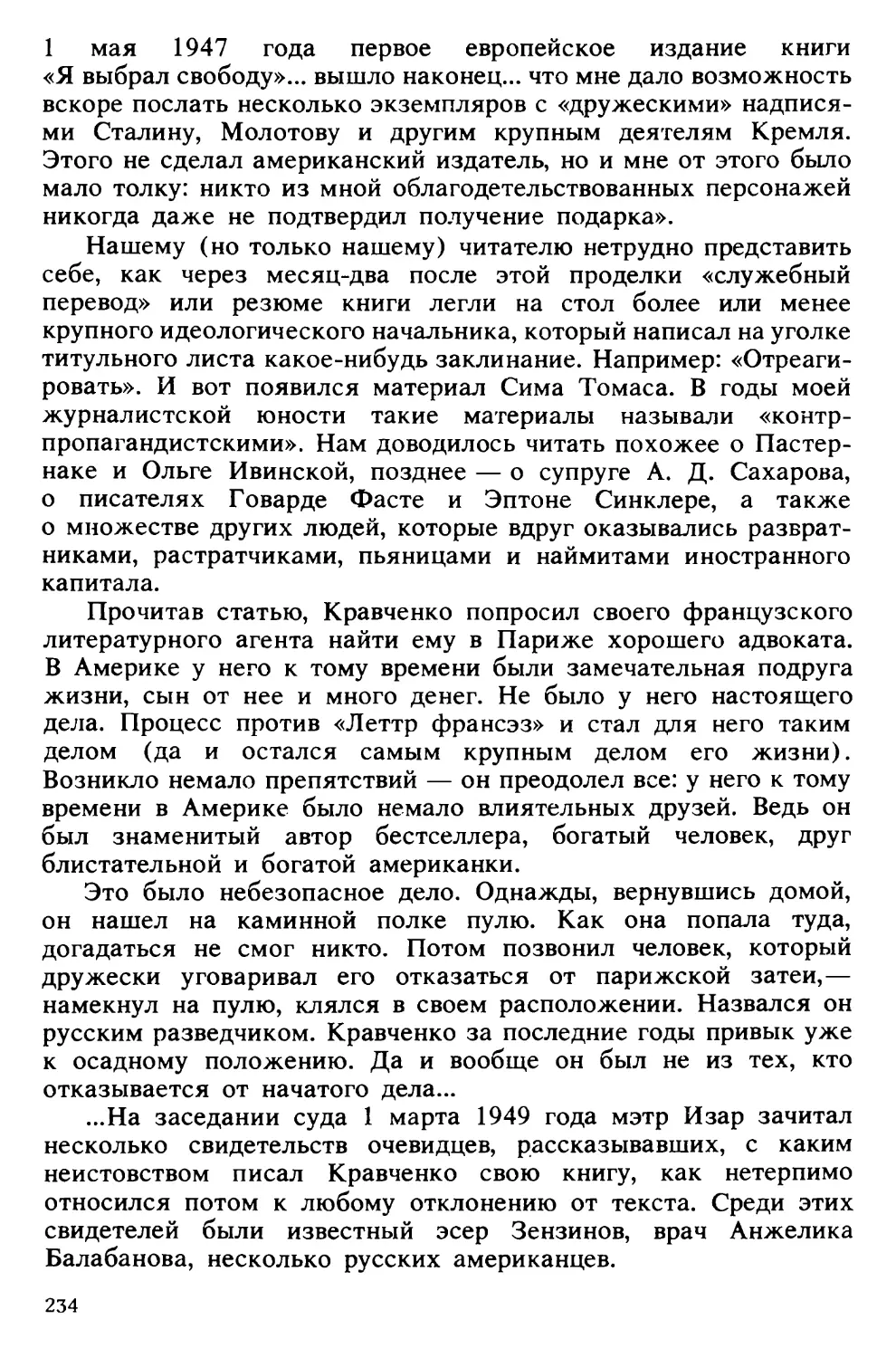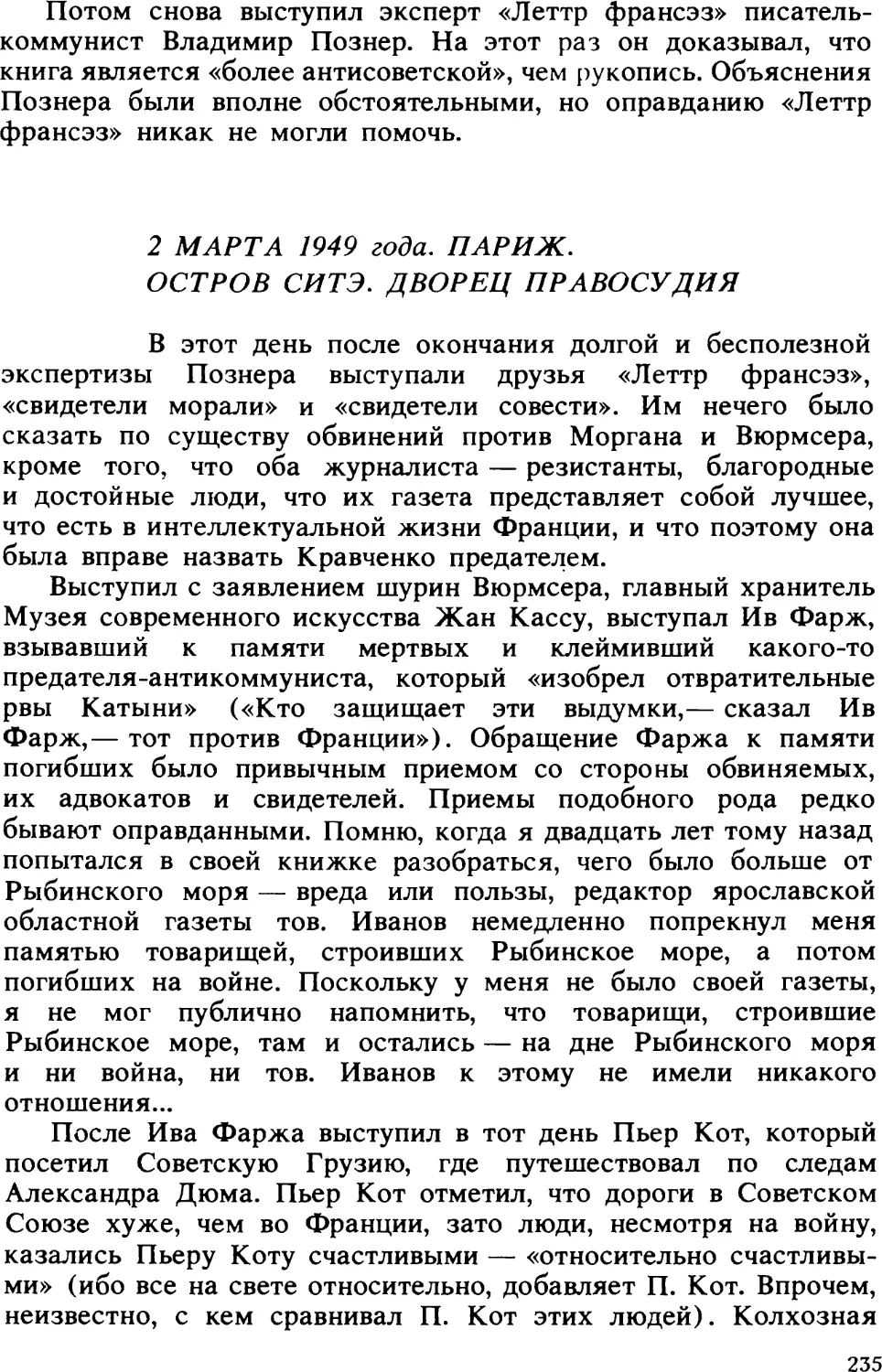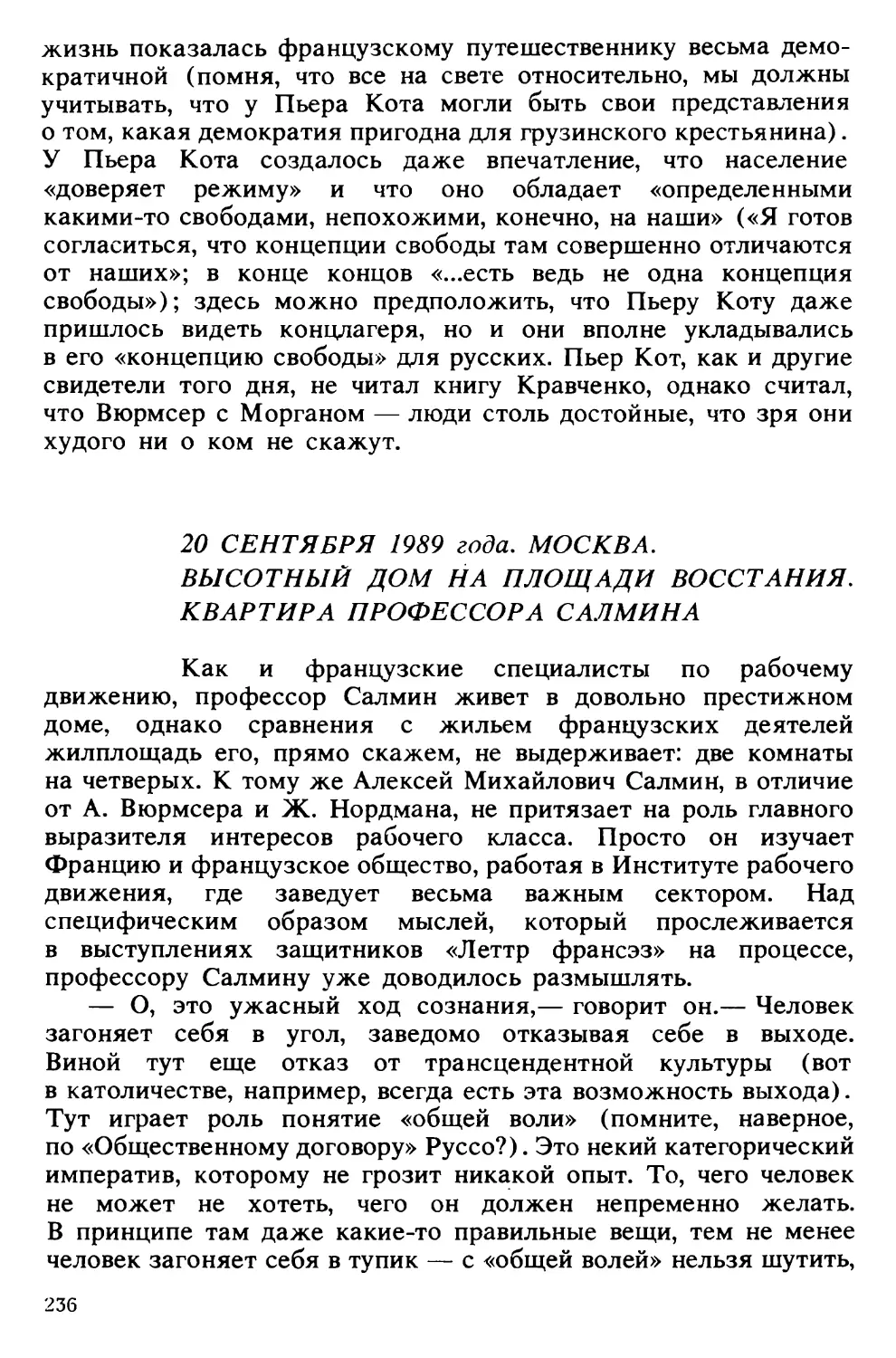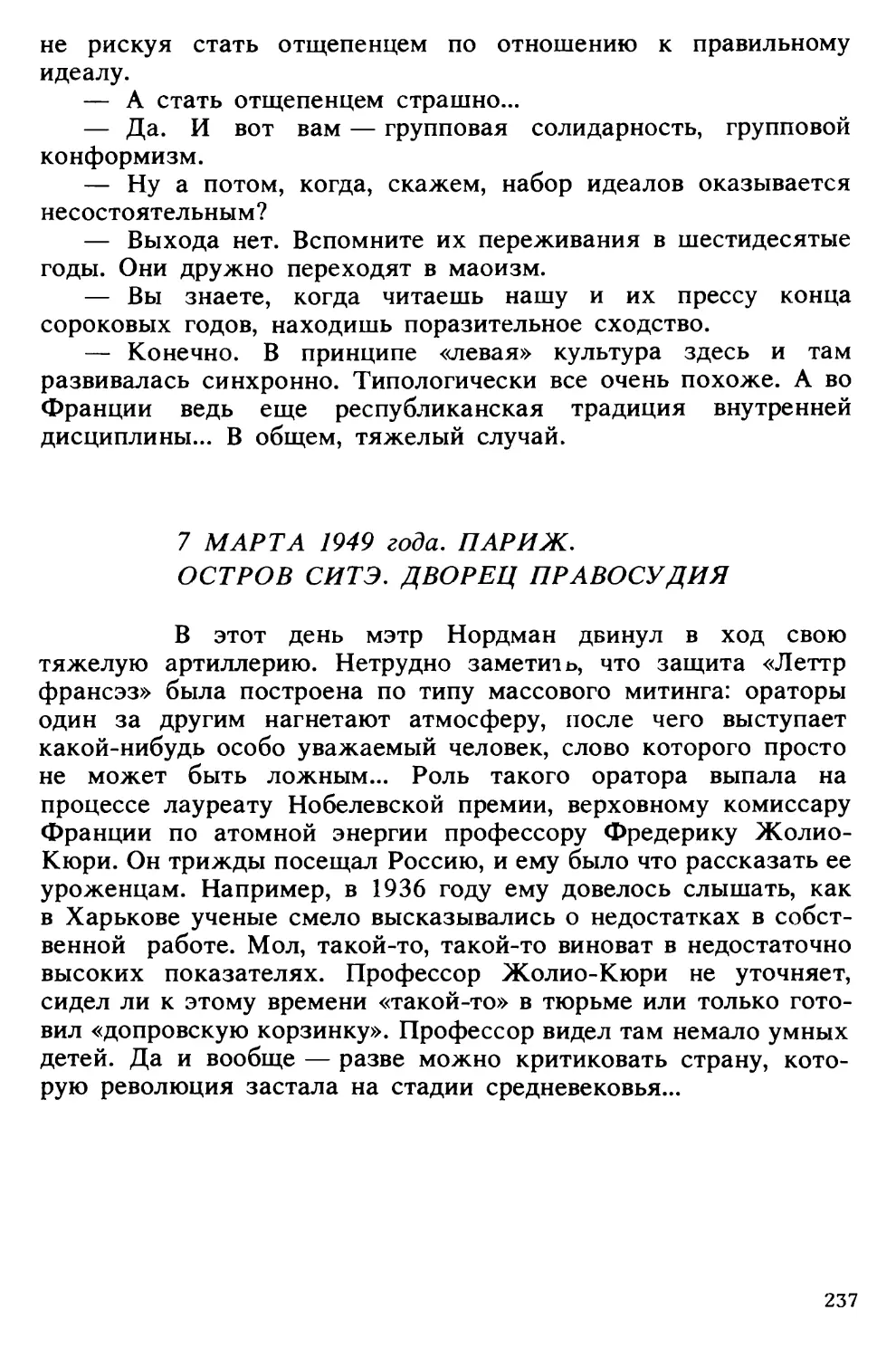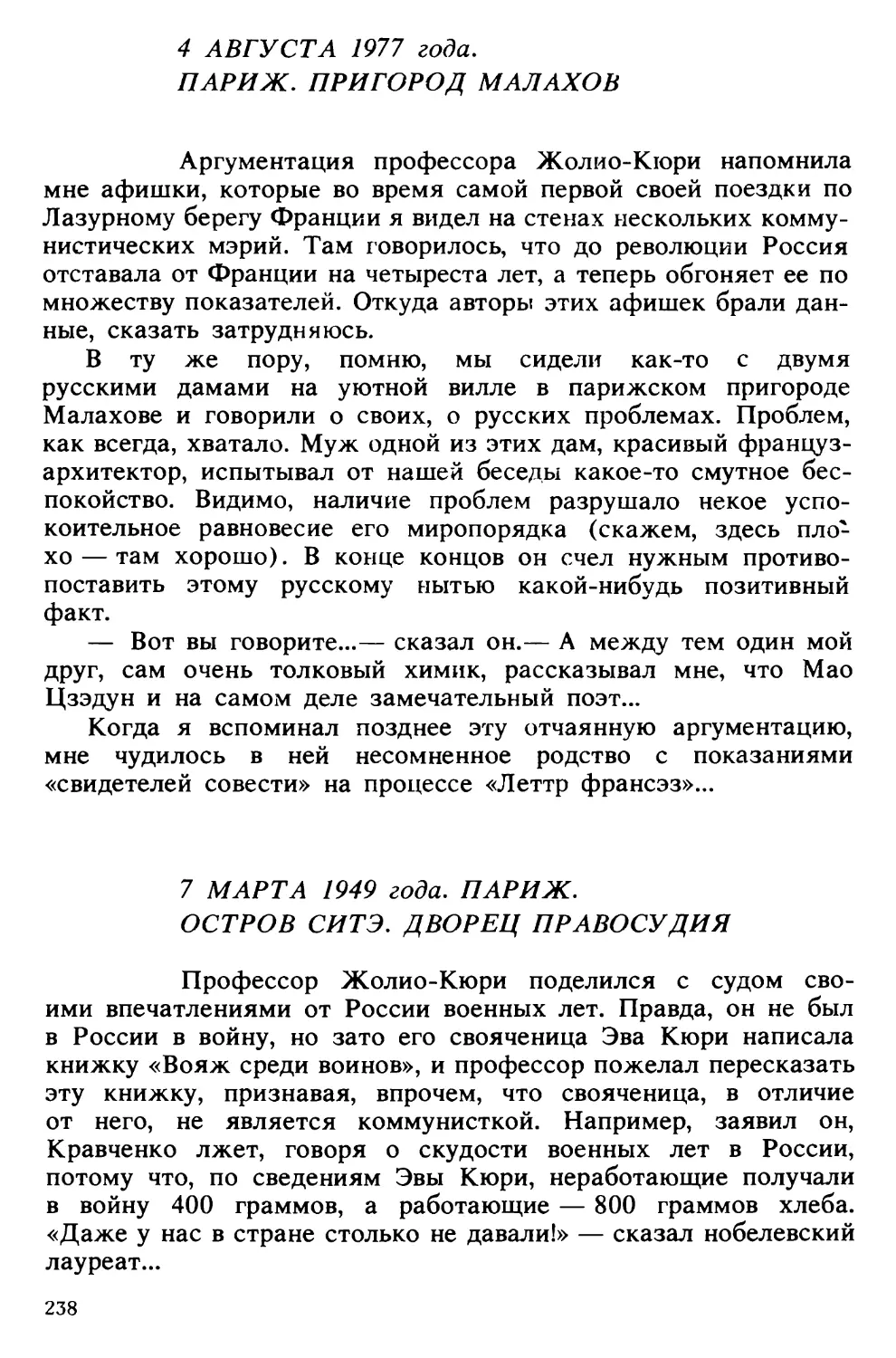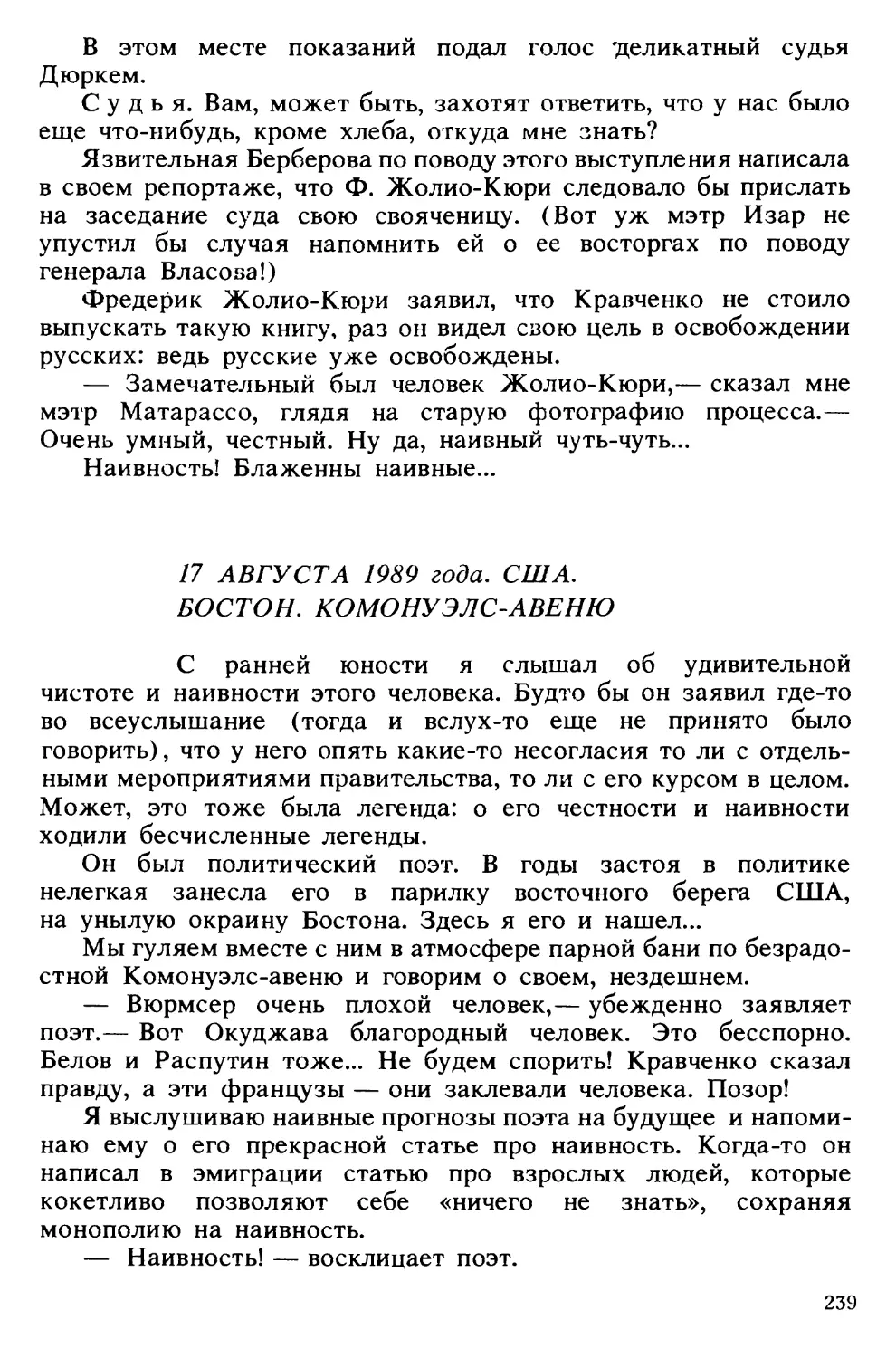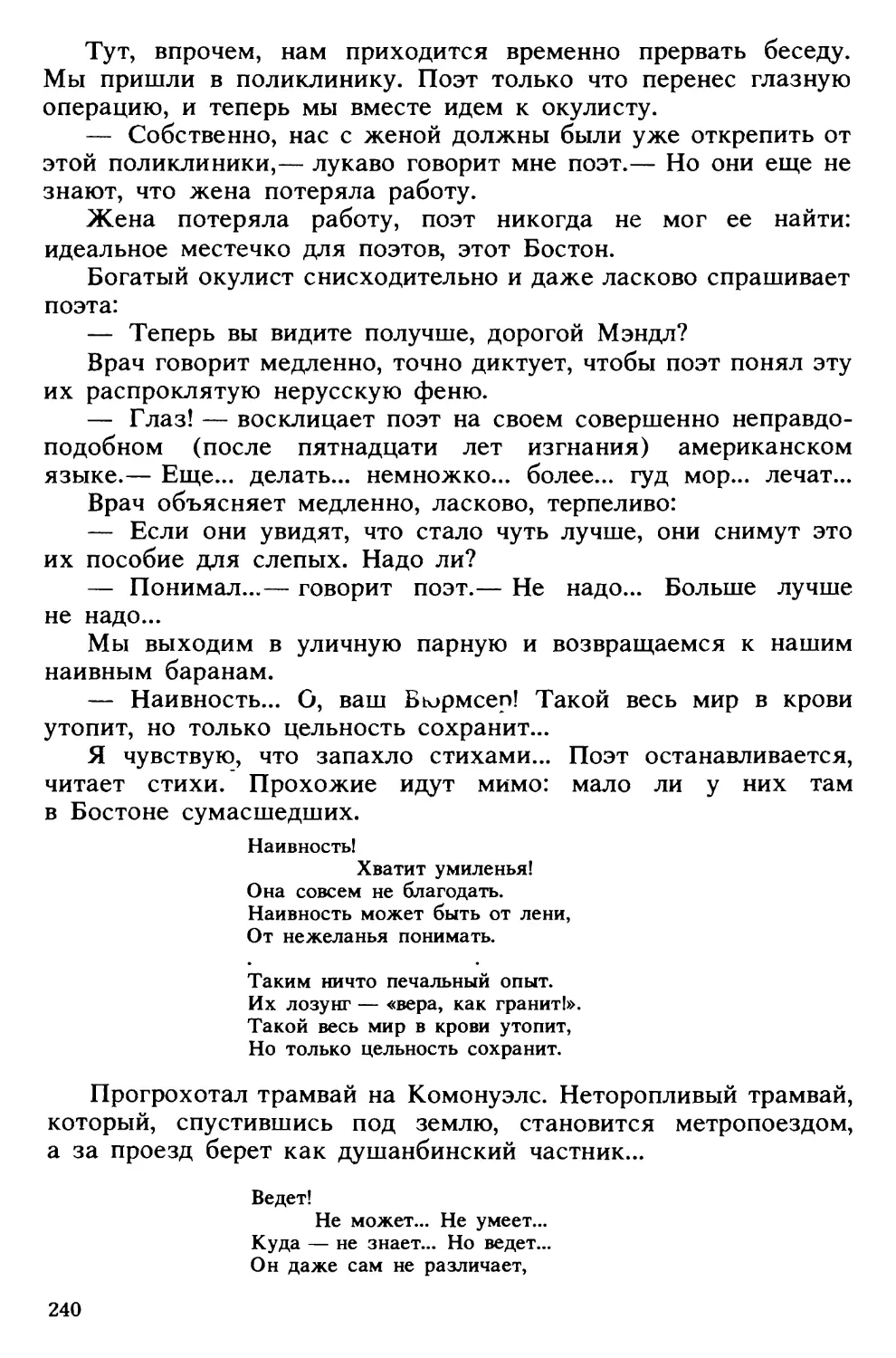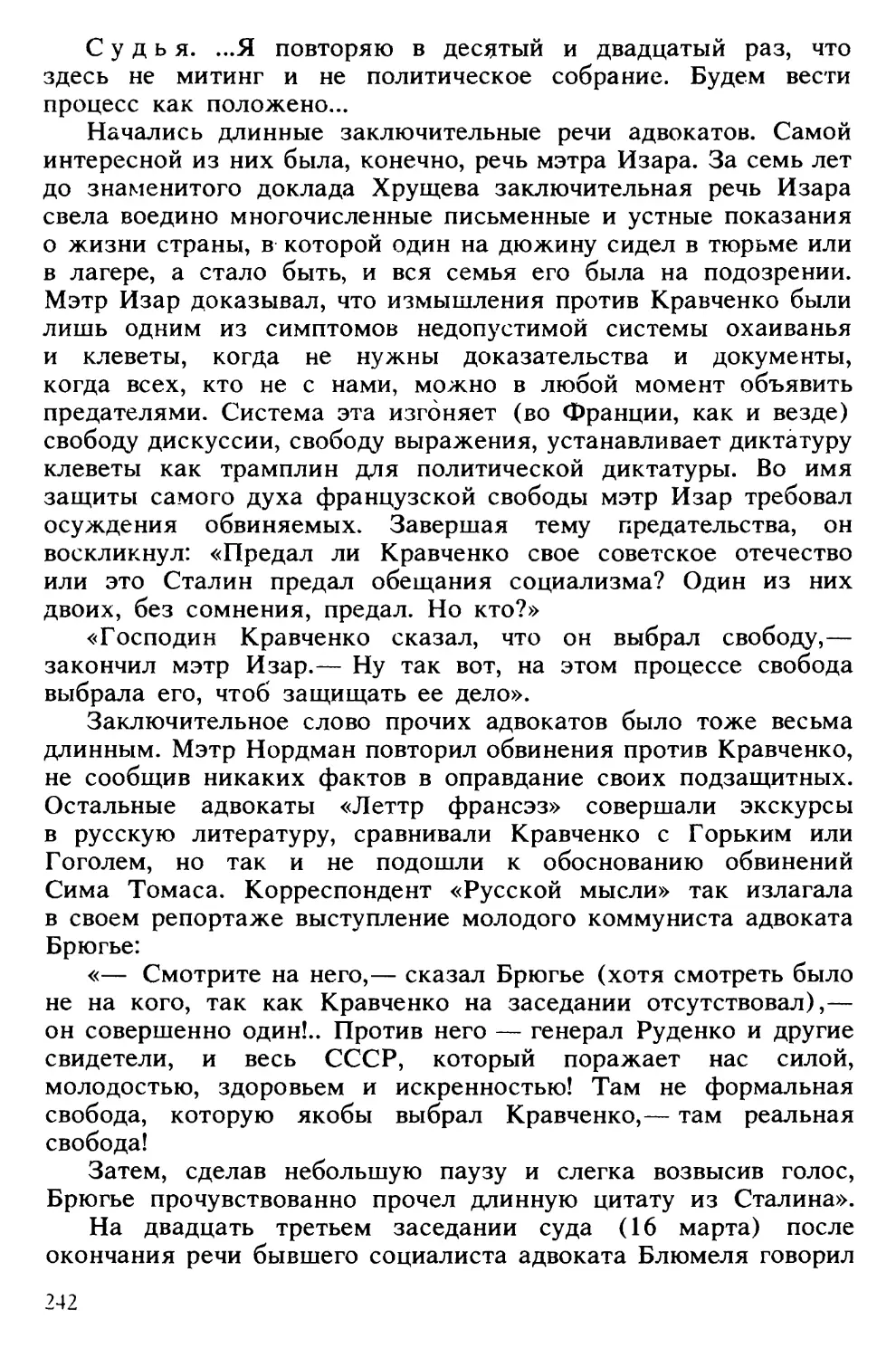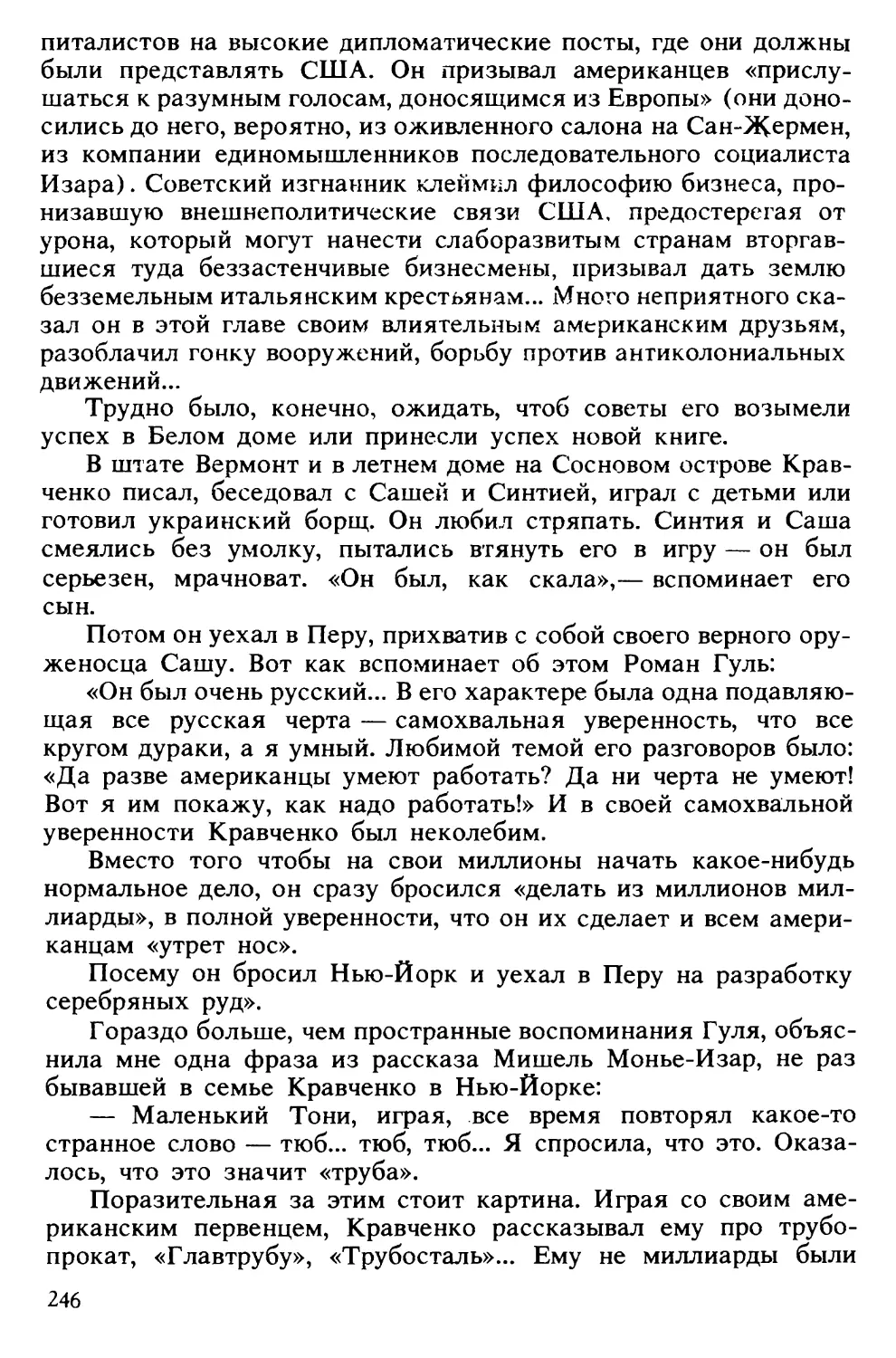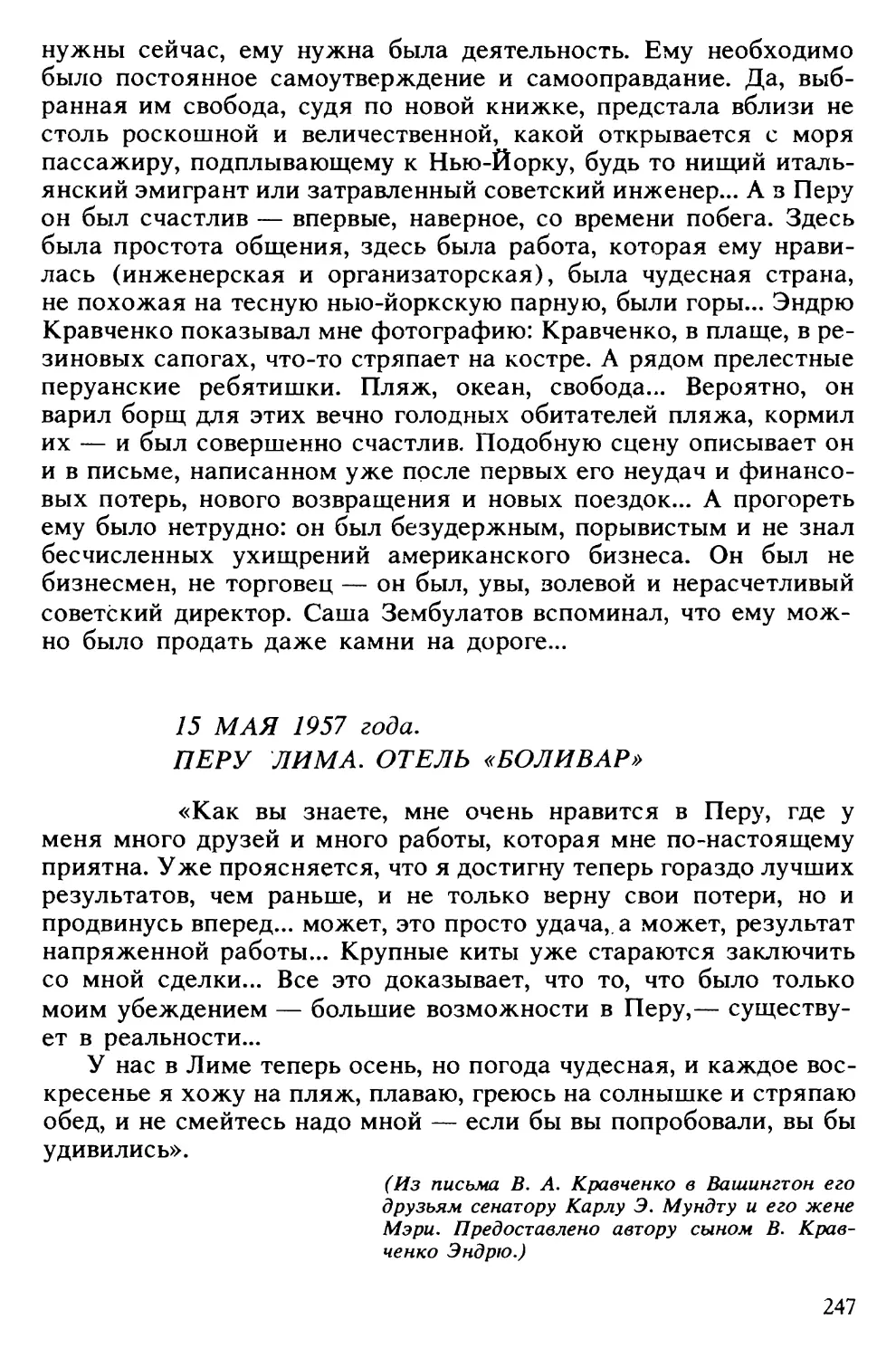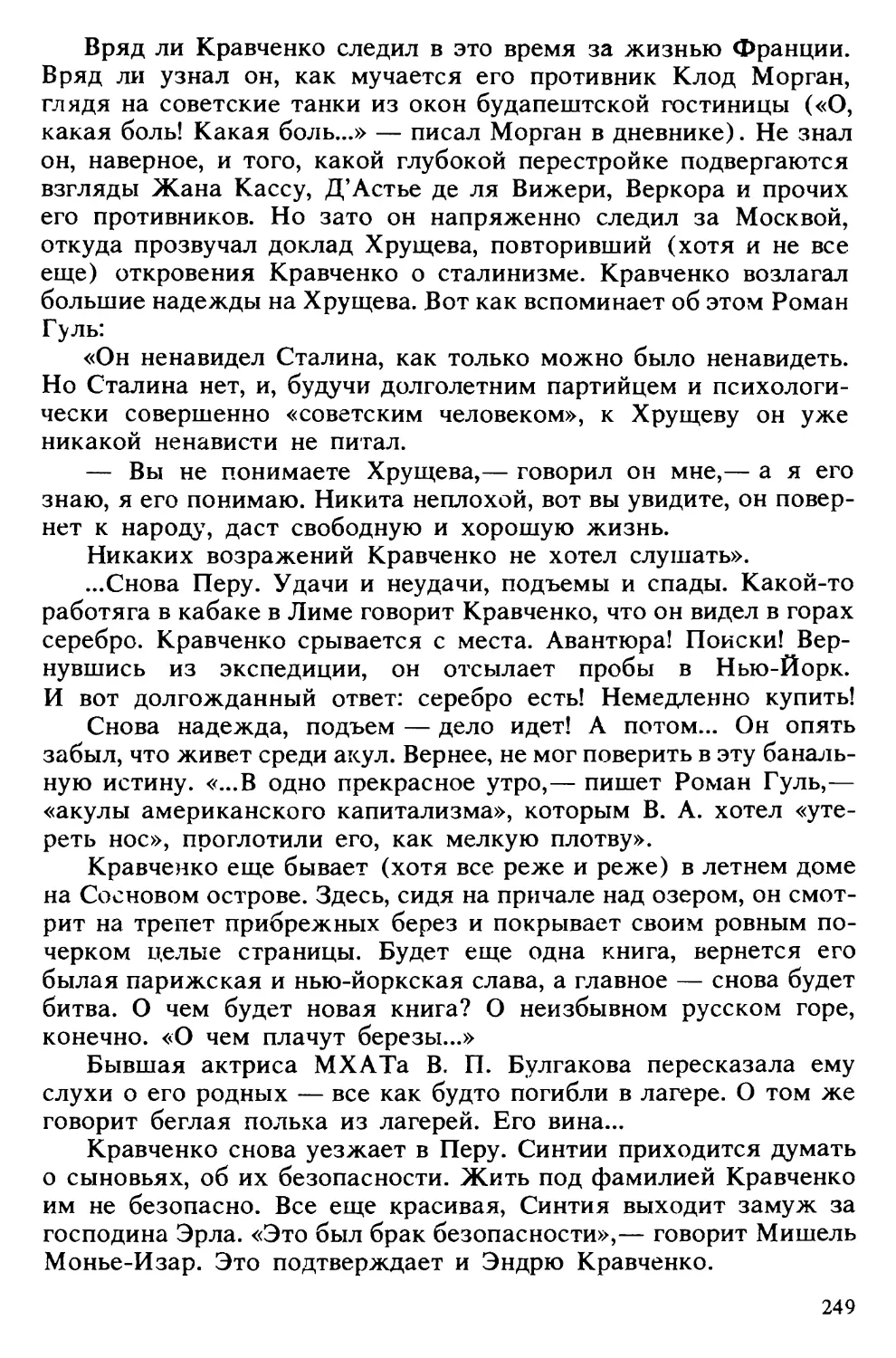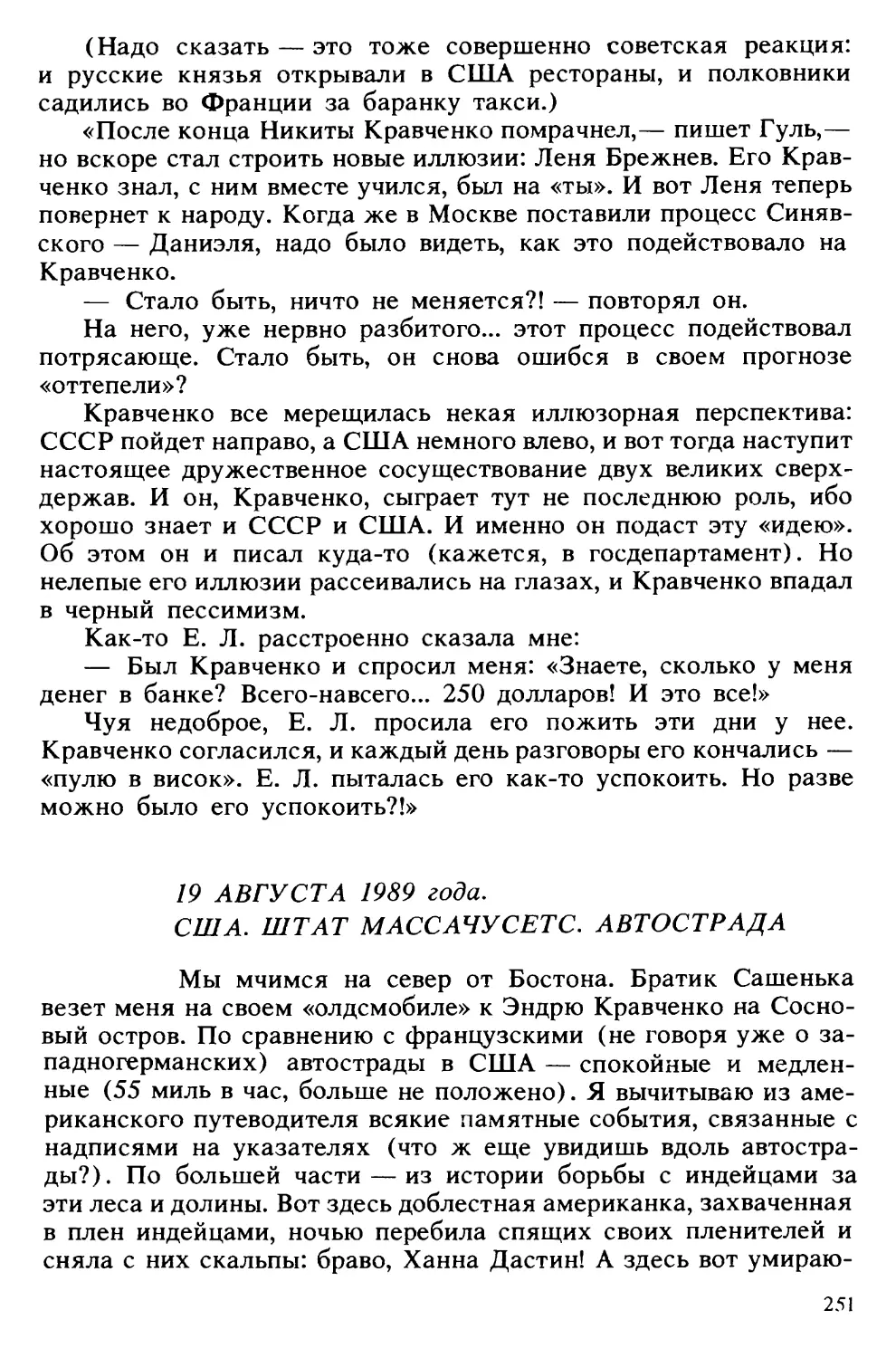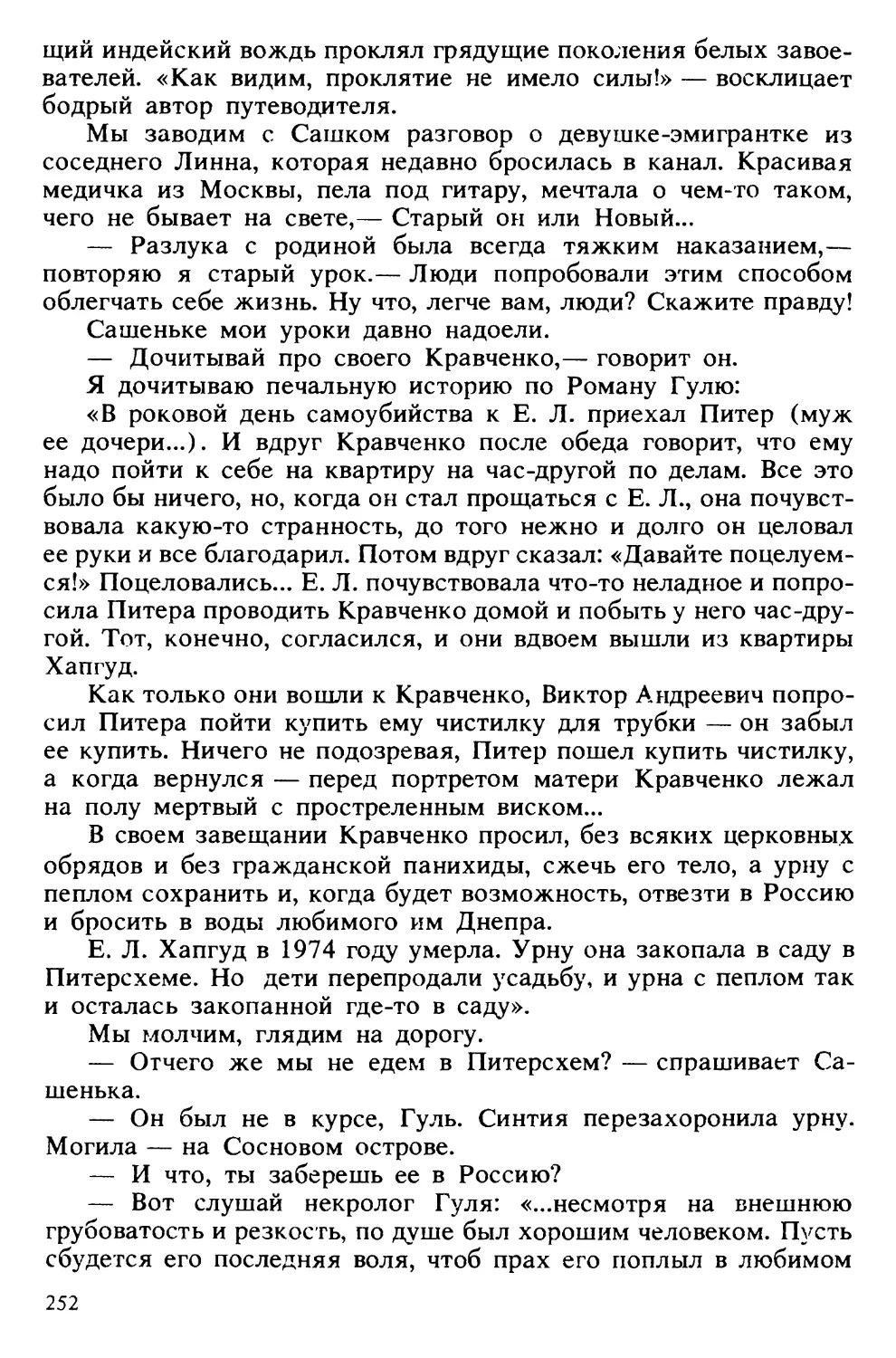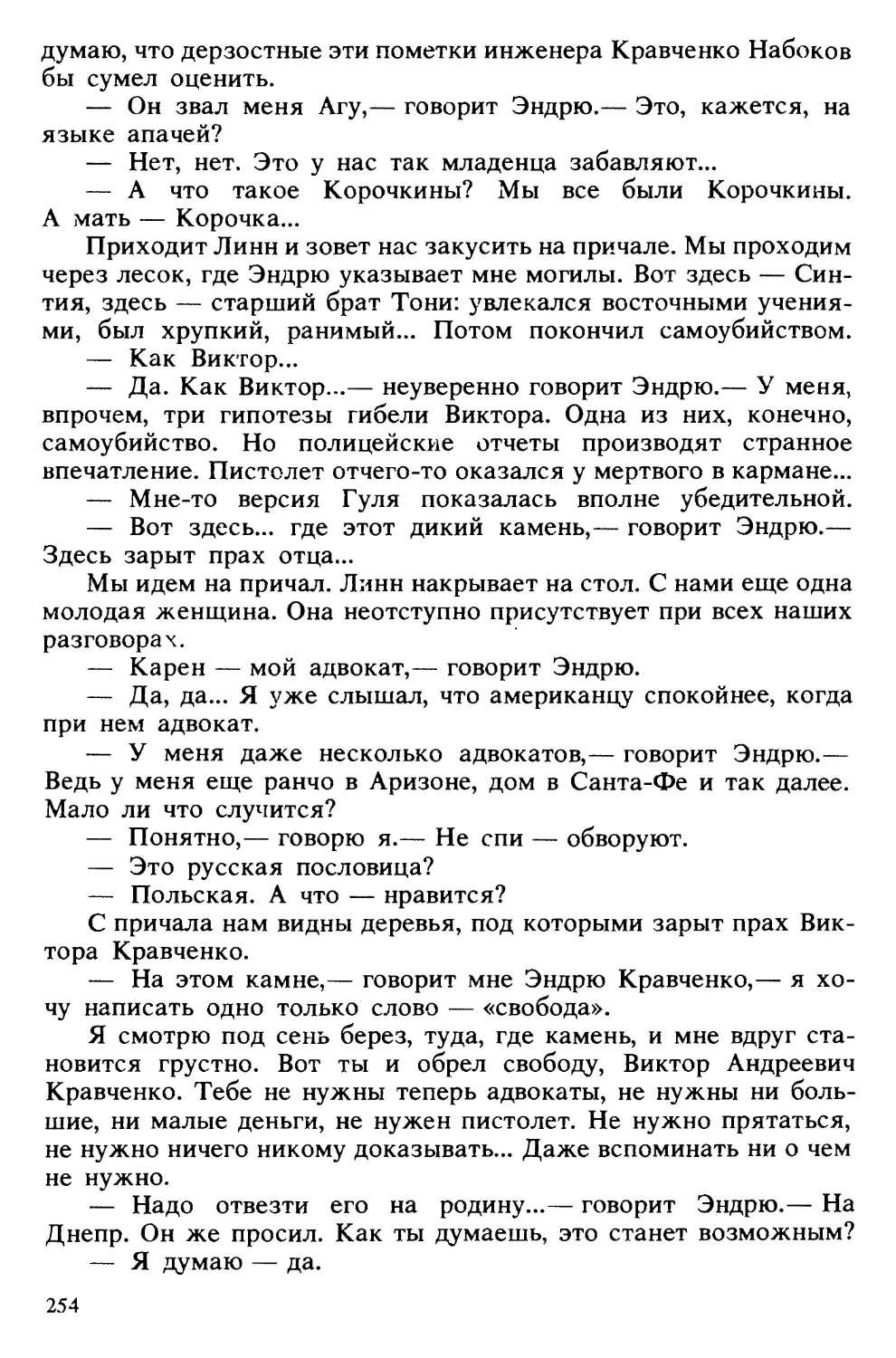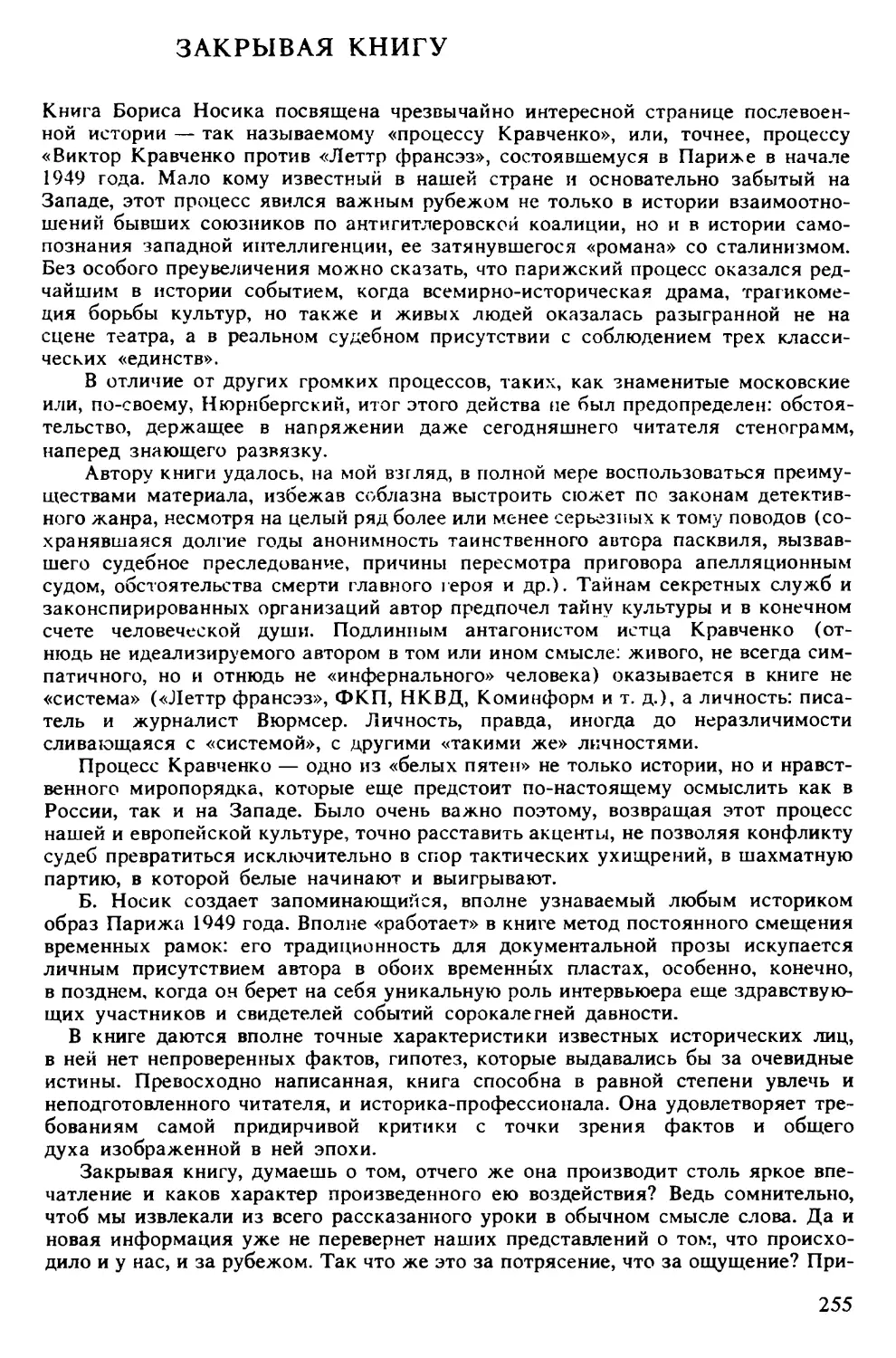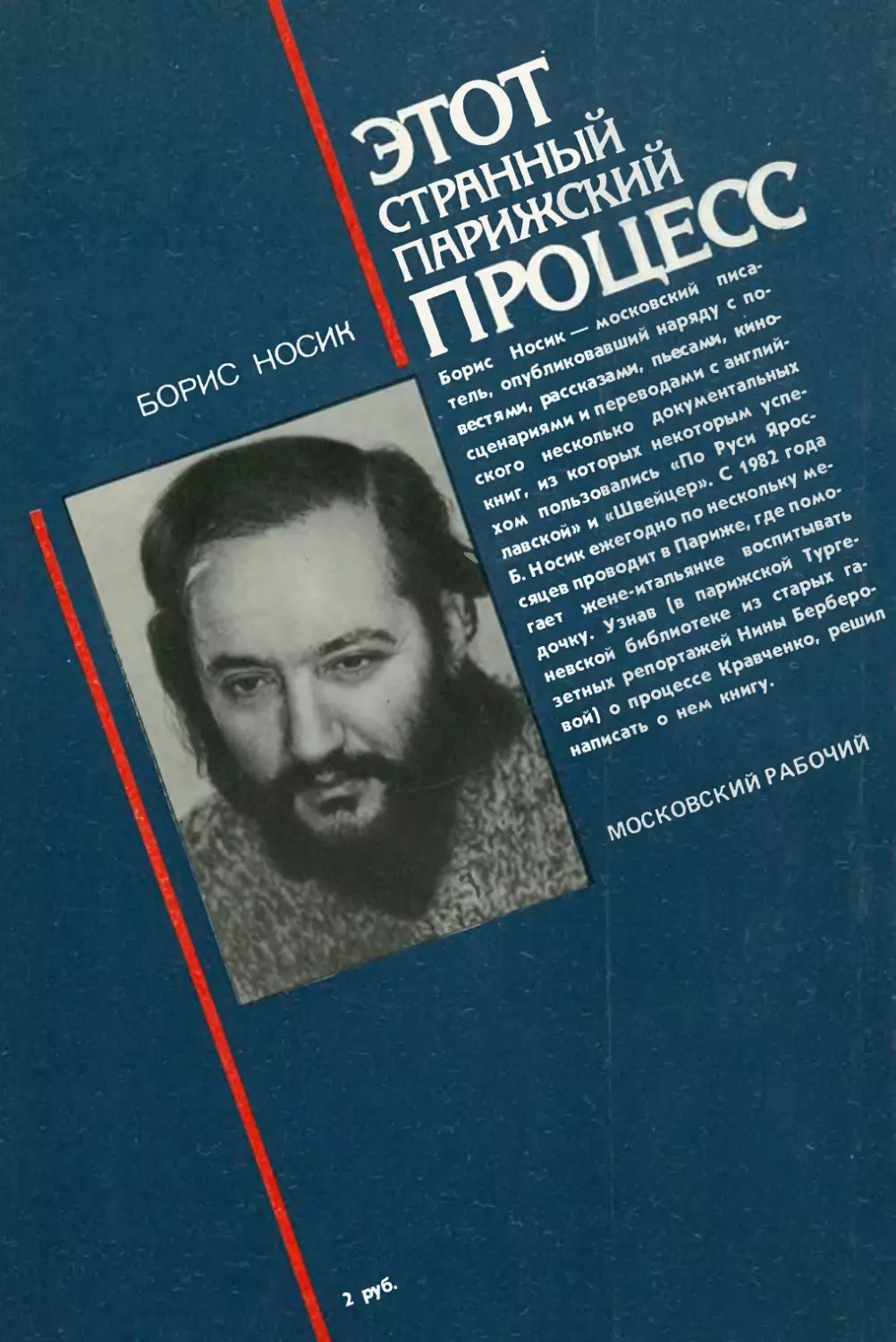Автор: Носик Б.
Теги: дипломатия юриспруденция юридические науки издательство московский рабочий парижский процесс
ISBN: 5—239—01144—3
Год: 1991
Текст
8 ЭТОТ
i СГРЯННЫЙ
ПАРИЖСКИЙ
ПРОЦЕСС
1
Мэтр Изар
Итак, это был шумный процесс. Нахо-
дились журналисты, которые называли
его «самым шумным процессом века»
и даже «самым большим процессом
века». Были там люди (чаще всего те,
кто держал сторону обвиняемых),
говорившие, что процесс кончится че-
рез неделю, а через две будет забыт.
Они ошиблись: процесс затянулся на
месяцы, а писали о нем и через трид-
цать, и через сорок лет...
Судья Дюркем, мэтр Матарассо.
На втором плане —
Виктор Кравченко
и Саша Зембулатов
БОРИС НОСИК
ЭТОТ,
странный.
ПАРИЖСКИМ
ПРОЦЕСС
МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
1991
ББК 66.49
Н84
Послесловие
А. М. САЛМИНА
Носик Борис
Н84 Этот странный парижский процесс.— М.: Моск, рабо-
чий, 1991.— 256.
Сорок лет назад в Париже состоялся неслыханный процесс, на котором «предатель»
Виктор Кравченко обвинял престижную газету французских резистантов в клевете и неве-
жестве. Удивительные факты раскрывал этот «невозвращенец», автор первого на Западе
антисталинского бестселлера («Я выбрал свободу»), в ту эпоху повального энтузиазма.
Еще более удивительными кажутся сегодня аргументы его именитых противников, власти-
телей умов тогдашней Франции. Процесс изобиловал острыми, драматическими моментами,
нераскрытыми тайнами и загадками, некоторые из которых удается, впрочем, разгадать
сегодня, через четверть века после трагической гибели героя.
„ 1206000000—030
Н М172(03) — 91 21
ISBN 5—239—01144—3
ББК 66.49
© Борис Носик, 1991
Искренне убежденный в том, что истина
нужна сегодня нам всем, автор благодарит за
помощь в работе Эндрю Кравченко (США),
семью покойного мэтра Жоржа Изара — мадам
Жорж Изар, Мишель Монье, Жана Батиста
Монье, Мари Монье, Кристофа Изара, Сержа
Вильмэна, а также мэтра Матарассо, мэтра
Нордмана, мэтра Альпера, мэтра Эспинозу,
Пьера Дэкса, Гийома Малори, Владимира
Познера, Фредерика Потешера, Дени Гаскеса,
Никиту Струве, Алика Хананъе, Татьяну
Осоргину-Бакунину, Татьяну Гладкову, князя
Константина Андроникова, Жака Стамбула,
Анни Тебуль, Леона Робеля, Леона Полякова
(Франция), Наума Коржавина, Александра
Граника (США), Григория Померанца,
Константина Кедрова, Алексея Салмина,
Фридриха Фирсова, Вильгельмину Словуцкую,
Надежду Железнову, Евгения Майорова
(СССР), а также редакторов издательства
«Московский рабочий», моих соотечественников
и единомышленников.
Маме
24 ЯНВАРЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. КЭ ДЭЗ ОРФЕВР.
ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ. ЗАЛ 17-й ПАЛАТЫ
Уже с утра стало ясно, что зал 10-й палаты, предназна-
ченный для ведения процесса, безнадежно мал. Пришлось занять
самый вместительный зал Сенского уголовного суда Парижа —
зал 17-й палаты '. Однако к часу пополудни и этот зал был набит
до отказа — адвокаты в мантиях, истец и ответчики, свиде-
тели, журналисты, фотографы, гости (по большей части
жены адвокатов и члены дипкорпуса), а также те счастливцы
из публики, кому удалось пробиться в зал, чтобы стоять там в тес-
ноте и духоте на протяжении долгих часов.
«24 января 1949 года — это было не просто открытие про-
цесса, это была грандиозная премьера,— писал позднее один из
обвиняемых.— Камеры, панамские, новозеландские, немецкие
и американские журналисты — и они были повсюду — на
скамьях, на ступеньках, до неприличия близко к судейским».
Добавим, что были там также корреспонденты Швеции,
Англии, Голландии, конечно, французские журналисты и «единст-
венный представитель русской антикоммунистической прессы»
(как она сама себя представляет) — корреспондентка париж-
ской «Русской мысли» писательница Нина Берберова.
«...Зал вмещал около 300 человек,— писала Н. Берберова.—
Три огромных окна выходили на набережную Сены, на юг, так что
в солнечные дни приходилось спускать жалюзи от яркого света.
Председатель Дюркгейм и двое судей сидели, как обычно, на
возвышении... Перед столом председателя и судей происходило
самое действие: справа, лицом к председателю, разместились
ответчики, слева истец... Между сторонами находился «барьер» 1 2,
то есть короткие перила, к которым вызывались свидетели...
Желающих проникнуть в зал было в три раза больше, чем можно
было впустить...»
1 В репортаже Н. Берберовой — все наоборот. Но читатель должен быть
снисходителен к многочисленным неточностям документальной прозы этой
талантливой писательницы. (Здесь и далее примеч. авт.)
2 Знаменитый судебный «барьер» при ближайшем рассмотрении оказался
просто длинной железной палкой, установленной между зрителями и судейски-
ми, то есть не между противниками, а за спиной у ответчиков.
4
Итак, это был шумный процесс. Находились журналисты,
которые называли его «самым шумным процессом века» (жур-
налисты — не ученые, преувеличение для них — хлеб насущный)
и даже «самым большим процессом века». Были там люди (чаще
всего из тех, кто держал сторону обвиняемых), говорившие, что
процесс кончится через неделю, а через две будет забыт. Они
ошиблись: процесс затянулся на месяцы, а писали о нем и через
тридцать, и через сорок лет... Все, впрочем, сходились на том, что
это был очень странный процесс. Он полон был неожиданностей,
изобиловал нераскрытыми тайнами и непривычными зрелищами,
приоткрывал западному миру уголки некоей экзотической, едва
ли не потусторонней действительности, настолько странной, что
открытие это прошло почти незамеченным. Это был странный
процесс, потому что по одну сторону барьера (выражаясь фи-
гурально) стояли (а чаще сидели) известные всей Франции участ-
ники Сопротивления, резистанты, они же писатели и журналисты,
они же активисты одной из самых влиятельных в послевоенной
Франции партий — коммунистической. А по другую сторону
барьера — презренный перебежчик, «человек без паспорта»,
«изменник родины», «невозвращенец», «предатель», «иуда»,
«ползучая ядовитая гадина», «коллаборационист», еще и при-
ехавший к тому же из Америки, укрывшей его,— бастиона
империализма. То же касалось свидетелей: по одну сторону дава-
ли показания видные политические деятели, писатели, министры,
ученые, академики, генералы, полковники, депутаты, лауреаты
премии Нобеля и прочих премий, герои Сопротивления, филосо-
фы, властители умов, вожди нации, видные иностранцы. По
другую — жалкие, беспаспортные «люди со свалки», «отбросы
войны», калеки, «лакеи из обоза Гитлера», «полицаи», апатриды,
крестьяне, чистившие ныне конюшни на фермах у иностранцев,
какие-то «уголовники», прошедшие ад тюрем, лагерей, голодухи...
Согласитесь, очень странный процесс.
Собственно, в том, что проходил в Европе еще один процесс
предателя, ничего странного не было. Только что отшумели во
Франции процессы коллаборационистов, сотрудничавших с нем-
цами («коллабо»), процесс самого Петена, а в других странах —
процессы местных квислингов. Лавина «предательских» процес-
сов по всей Европе не спадала, а нарастала: уже судили в Бол-
гарии Петкова, в Венгрии — кардинала Миндсенти, не за горами
были процесс Сланского, осуждение Анны Паукер, судили быв-
ших партизан и освободителей, теперь тоже «предателей»...
Странность парижского процесса была в том, что это не рези-
станты подали в суд на «предателя», а «предатель» вызвал к
«барьеру» благородных резистантов-писателей и обвинил их ни
5
больше ни меньше как в клевете, лжи, подтасовках, в незнании
и опасном нежелании знать факты. Возмутительно и смехотвор-
но, не правда ли? Именно так и воспринял это прогрессивный
мир, и особенно ярко (на то он и был знаменитый писатель)
выразил всеобщее недоумение и возмущение Константин Симо-
нов: «Итак, с одной стороны на суде выступает этот чудовищный
выродок, с другой стороны — французский еженедельник «Леттр
франсэз» в лице своего директора Клода Моргана и редактора
Андре Вюрмсера, которых иуда Кравченко обвиняет в... клевете».
Странность этого процесса заключалась еще в том, что обвинение
в клевете удалось доказать, да и все прочее, пожалуй, тоже, хотя
для большинства людей того времени принять и признать это
было еще пока невозможно.
Странность процесса состояла и в том, что цвет французской
интеллигенции, выступавший от имени рабочего класса и кресть-
янства, не расслышал ни одного слова, произнесенного на суде
настоящими рабочими и крестьянами, не ощутил к этим людям
ничего, кроме отвращения. Странным, парадоксальным был са-
мый ход процесса, этого «грандиозного спектакля», этой битвы
идей, битвы «миров», «битвы за мир». Странным был и его исход.
Здесь было много странностей и тайн, которые мы не хотели бы
раскрывать сразу, досрочно, чтоб не расхолаживать читателя...
Необычной была и судьба участников процесса: иных из них
автор этой книжки застал еще и спустя сорок лет живыми — на
тихих улочках острова Сан-Луи в Париже, на роскошных авеню
близ площади Этуаль — Шарль де Голль; а над иными он постоял
в молчании, размышляя о превратностях судьбы, об участи
тех, кто, подобно нам с вами, посетил «сей мир в его минуты роко-
вые».
Если хоть кого-нибудь из вас, милые мои соотечественники,
переступившие сегодня вместе со мной порог парижского Дворца
правосудия, история эта заставит задуматься о происшедшем,
буду считать задачу свою выполненной, а усилия — не пропав-
шими даром...
Процесс проходил в древнем центре небольшого по размерам
столичного города Парижа, на острове Ситэ, но события, с ним
связанные, выходили далеко за пределы островка на Сене, за
рамки трех месяцев 1949 года, переплетались с судьбами многих
людей того времени, в том числе автора этой книжки, да и лю-
бого из нас. Оттого не посетуйте на отступления от классических
единств места, времени и действия. Автор обещает по возможно-
сти точно обозначать в заголовках место и время событий или
записей. Ведь главное для нас — не отступить от фактов и от
духа нашего времени, духа стремления к истине, духа человеч-
6
ности, который жив сегодня, несмотря на прискорбные взрывы
бесчеловечной ненависти то там, то сям...
«История — это воскрешение»,— говорил знаменитый Миш-
ле. И чтоб приступить к воскрешению этого, по словам журна-
листов, «главного спектакля сезона», вернемся вместе на берег
Сены, на набережную Орфевр, уже известную нашим читателям
по служебным прогулкам вполне знаменитого комиссара Мегрэ.
24 ЯНВАРЯ 1949 года. ПОЛДЕНЬ. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. КЭ ДЭЗ ОРФЕВР. ДВОРЕЦ
ПРАВОСУДИЯ. ВЕСТИБЮЛЬ. ТУАЛЕТНЫЕ
КОМНАТЫ
Ни один из дотошных журналистов, заполнявших в тот
день зал заседаний 17-й палаты, не знал об этой женщине и не
писал...
Худенькая, элегантная иностранка пробилась через толпу,
небрежно махнув пропуском, вошла в вестибюль, тускло осве-
щенный через стеклянный потолок январским солнцем Парижа,
легко проскользнула по мозаичному полу с изображением гроз-
ных символов правосудия и укрылась в туалете. Убедившись, что
она одна, вытащила из сумочки яркий светлый парик и натянула
его на русые волосы...
Ее звали Синтия.
«Синтия была очень красивая и богатая. Под Нью-Йорком
у нее был настоящий замок... Образованная. Говорила на пяти
языках. В старости учила еще и язык индейцев-апачей... Она при-
ходила на каждое заседание суда. В уборной она надевала парик,
очень светлый, большие темные очки, гримировалась до неузна-
ваемости...»
(Из воспоминаний мадам Мишель
Монье, урожденной Изар, дочери
адвоката Кравченко Жоржа Иза-
ра, члена Французской академии.
Записано 11 мая 1989 г. в гостях
у мадам Жорж Изар.)
«...Я присутствовала на всех заседаниях процесса и, конечно,
виделась с ним каждый день...»
(Из письма Синтии Эрл, любезно
предоставленного автору худож-
ником Эндрю Кравченко в августе
1989 г.)
7
Если бы в зале был внимательный журналист, он заметил бы,
как волновалась эта худенькая американка, столько сил отдав-
шая подготовке к процессу. Впрочем, не одна она готовилась —
много людей делали это на Востоке и на Западе. Она волновалась,
потому что, кажется, это было и впрямь опасно — приезжать
сюда. А там еще маленький Тони остался дома, их полутора-
годовалый сын.
Журналисты ее не заметили: они с нетерпением ждали прибы-
тия из России первой жены Кравченко и знаменитого генерала.
Кроме того, французских журналистов всегда больше занимали
«международная расстановка сил», «тенденции» и «неумолимая
поступь прогресса», чем самочувствие отдельных деятелей прог-
ресса или реакции.
2 АПРЕЛЯ 1944 года. ДВА ЧАСА НОЧИ.
ВАШИНГТОН. ВОКЗАЛ «ЮНИОН СТЭЙШН»
«Казалось, что каждый миг этого короткого путешест-
вия в такси — от дома, где я снимал комнату, до «Юнион стэйшн»
чреват опасностью и угрозами судьбы...
Была холодная, беззвездная ночь. Вокзал тоже, казалось,
скрывал угрозу за каждым углом. А что, если я наткнусь на кого-
нибудь из сослуживцев? Конечно же два чемодана и самовольная
поездка немедленно возбудят их подозрение. А что, если товарищ
Серов или генерал Руденко уже разведали о моих намерениях?
И вдруг, точно в ответ на мои страхи, передо мной мелькнула
фигура в советской военной форме. От ужаса я покрылся
холодным потом. Натянув шляпу пониже на глаза и подняв
воротник плаща, я крался вдоль стены, повернувшись спиной
к соотечественнику.
Поскольку советские служащие путешествовали всегда в пуль-
мановских вагонах, я купил билет в простонародный вагон. Так
было меньше риска встретить кого-нибудь, кто меня знал. В туск-
ло освещенном, переполненном, сонном вагоне я остался наедине
со своими мыслями.
...Теперь, когда это случилось на самом деле, во мне не было
радостного волнения, не было взлета к новой свободе. Была мучи-
тельная пустота, в которой страхи и угрызения совести звучали
так громко, что казалось, даже сонные солдаты и матросы
в этом прокуренном вагоне могут их слышать.
...Я обрезаю свою старую жизнь под корень, думалось мне.
Непоправимо. И вероятно, навсегда. Этой ночью я превращаюсь
в человека без родины, без семьи, без друзей. Никогда больше
8
я не увижу лица и не пожму руки тех, кто для меня свои — кровь
от крови и плоть от плоти. Так, словно они уже умерли и что-то
драгоценное умерло при этом во мне. Всегда будет зиять в моей
жизни эта ужасающая пустота, этот провал, эта мучительная
мертвенность.
Там, в родном краю, те, кто работал рядом и дружил со
мной, не говоря уже о тех, кто меня любил, навсегда будут запят-
наны подозрением. Чтобы выжить, им придется изгнать память
обо мне. Чтобы спастись, им придется отрекаться от меня, как я
в свое время отрекался от других, на которых падал мстительный
гнев советского государства.
Имел ли я моральное право подвергать опасности этих не-
винных заложников в России, для того чтобы угодить велениям
своей собственной совести и выплатить свой собственный долг
правде, такой, как я ее понимал? Это было самое жестокое
из мучивших меня сомнений...»
(Виктор Кравченко. Я выбрал
свободу. Цитирую по английскому
изданию 1947 г. Перевод иноязыч-
ных текстов здесь и далее —
мой.— Б. Н.)
24 ЯНВАРЯ 1949 года.
ПАРИЖ. ОСТРОВ СИТЭ.
ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Читатель уже понял, конечно, что человек этот был
беглец, перебежчик. Он не только покинул за год до окончания
войны свой пост в. закупочной комисии в Вашингтоне, где он был
одним из приемщиков военного оборудования, но и выступил
тогда же в американской печати с заявлением, направленным
против политики Сталина. Еще через два года он выпустил
по-английски книгу, разоблачавшую сталинизм, жестокости
коллективизации и искусственного голода на Украине, ужасы
партийных чисток и «большого террора», обстоятельства, сопут-
ствовавшие пакту Молотова — Риббентропа, тяжелые условия
жизни в эпоху малых и больших скачков индустриализации,
подробности октябрьской эвакуации Москвы 1941 года и еще
многое-многое, о чем все знают сегодня и у нас, и на Западе, а тог-
да еще не знали, не хотели знать или не решались. Книга его
стала бестселлером и переведена была на два десятка языков.
В начале мая 1947 года она вышла во Франции, где, как и в США,
имела большой успех. И вот через полгода после появления
книги (с таким опозданием во Франции книги обычно не рецен-
9
зируют) в коммунистическом еженедельнике «Леттр франсэз»
появилось вдруг сенсационное разоблачение «Как был сфабрико-
ван Кравченко», подписанное никому не известным именем —
Сим Томас. Автор ссылался на какого-то агента ФБР, давшего
ему информацию. Кравченко подал на газету в суд за клевету
и оскорбление (диффамацию). Первое заседание суда состоялось
в уже описанной нами обстановке 24 января 1949 года под пред-
седательством судьи Дюркема.
Конечно, судиться следовало прежде всего с Симом Томасом,
но журналист этот так и не материализовался, так что иск был
направлен против директора еженедельника журналиста Клода
Моргана и его соредактора, автора новых оскорбительных
статей о Кравченко писателя Андре Вюрмсера.
Судья. Заседание открыто. Огласите дела.
Секретарь суда. Дело 11: Кравченко против Сима То-
маса, Моргана, «Леттр франсэз». Дело И-бис: Кравченко против
Моргана. Дело 12: Кравченко против Моргана — Вюрмсера.
Судья. Сим Томас, судя по всему, так и не появился... Итак,
месье Кравченко, вам предоставляется слово... Только прошу
прощенья, я обязан вас задержать еще на несколько мгновений,
чтобы огласить газетные материалы, которые вменяются в вину
ответчикам. 13 ноября 1947 года «Леттр франсэз» напечатала
статью, подписанную «Сим Томас» и озаглавленную «Как был
сфабрикован Кравченко». В этой статье можно прочесть сле-
дующее:
«Он (Кравченко) часто пьянствовал до того утреннего часа,
когда ему советовали, хоть бы и пьяным, отправиться прямо на
службу. Пил он много, не прочь был играть при случае, в общем,
находка для шпиона.
Хотя в 1937 году он был исключен в Никополе — впрочем,
не по политическим причинам, а по моральным,— он утверждал,
что ему эту свою хитрость всегда удавалось скрывать.
В Первоуральске, где он был начальником цеха, он подделы-
вал отчеты, чтоб получать премии.
В 1941 году в Кемерове, на Урале, он предстал перед судом
за нарушение финансовой дисциплины.
Он мне как-то сказал *, что начальство из закупочной комис-
сии решило отправить его в Москву. Я ему посоветовал тянуть
время, сказать, что ему еще надо долги уплатить, это было так, но
мы его долги уже все уплатили. Все шло, как было предусмот-
Напомним, что рассказ идет как бы от имени агента ФБР.
10
рено, и эта помощь, которую мы ему оказывали, будет более
полной — так мы предложили ему».
«Побег, о котором он говорит,— это была просто увесели-
тельная прогулка, все было готово для его приема. У Чаплина
была идея предложить ему, чтоб он написал книжку. Кравченко
принялся за это с большим желанием. За несколько месяцев он
высидел страниц шестьдесят, едва ли удобочитаемых и практи-
чески непригодных. Он мне их как-то показывал, просто любо-
пытства ради, как курьез. Но потом, плюнув на кравченковский
«труд», наши друзья «меньшевики» соорудили книженцию в
тыщу страниц за его подписью».
«Потом говорили, что Кравченко не показывается, потому что
его жизнь в опасности, а это скорей потому, что он не тот человек,
который книжку эту писал, не человек своей книги, это даже по-
следние идиоты понимать стали».
Вот первая статья. Другие были покороче.
...Тут с вашей стороны небольшая ошибка, и я хочу, чтоб вы,
обвиняемые, ее со всей определенностью поняли: это не Кравчен-
ко должен доказывать, что он не лжец, а вы должны представить
доказательства фактов, в которых вы его обвиняете.
Мэтр Нордман (адвокат «Леттр франсэз»). Мы это сде-
лаем.
Судья (читает статью А. Вюрмсера). «Это истина, что Крав-
ченко марионетка, которую дергают за толстые веревочки из
США (...) Мы готовы представить доказательства всего, что мы
говорили, и, более того, разоблачить ложь, которая содержится
в книге, подписанной его именем, где Советский Союз представ-
лен как страна, объятая полицейским террором».
«Книга, подписанная Кравченко, построена на совершенней-
ших искажениях, так, чтоб заставить нас забыть о том, что троц-
кистский центр, который организовал убийство Кирова... Горь-
кого и его сына, был возрожден на территории Соединенных
Штатов теми, кто дергает сегодня за веревочки их марионетки
Кравченко».
Это статьи. А теперь я предоставлю слово господину
Кравченко.
Кравченко. Господа, я счастлив, что нахожусь во Франции
и предстаю перед судом демократической страны. Соединенные
Штаты предоставили мне свободу и спасли мне жизнь, отказав-
шись выдать меня Советскому Союзу. Я прошу теперь фран-
цузских судей восстановить и утвердить справедливость...
...Я люблю мое отечество и люблю своих соотечественников,
но я предпочел избрать ссылку и предпочел никогда не увидеть
больше моих родных и близких — я не знаю даже, какова сегод-
11
ня их участь! ...Это было воистину драматичное решение с моей
стороны... На самом деле это даже не я принял решение, а те стра-
дания и то отчаяние, которым я был свидетель, привели к нему,
приняли его за меня. Миллионы людей испытывают те же
чувства, что и я. Мне повезло — у меня была возможность поки-
нуть мое отечество, сохранив при этом верность этому отечеству,
народу и отческим традициям.
...Необходимость обработать мои показания, написать мою
книгу была одним из тех факторов, которые побудили меня по-
рвать с Советским Союзом. Я писал эту книгу в условиях, которые
иногда были трудными. Мне приходилось прятаться, приходилось
менять местожительство, прячась от советских агентов. Надеюсь,
теперь весь мир убедился, что я существую и что я не какой-то
призрак, минус хабенс, каким хотела бы видеть меня «Леттр
франсэз», существо, не способное написать свою книгу. Я заяв-
ляю здесь официально, с полным сознанием ответственности, что
я не имею никаких связей с секретной службой Соединенных
Штатов или с какой бы то ни было иной службой... Я и на самом
деле должен сохранить свою независимость, чтобы люди верили
моим показаниям и мои действиям. Я слишком дорого заплатил
за эту независимость, чтоб жертвовать ей сейчас в чьих бы то ни
было интересах.
...Я не смешиваю Россию и народ с советским режимом.
Сталины и Молотовы приходят и уходят, а Россия пребудет веч-
но. Я борюсь против советизма, а не против России; я против ком-
мунизма, но не против народа России, русских, украинцев, всех
других. Все, кто честно прочитал мою книгу, смогли в этом убе-
диться.
В то время как господин Торез, который бросил свой полк
в войну и укрылся... в Кремле в ту пору... остается героем и при-
тязает на руководство французским народом, я, который остался
в стране, бывшей союзником Франции, имевшей с ней военный
договор и боровшейся с фашизмом,— я являюсь предателем.
Мэтр Нордман. Господин судья, господин Кравченко —
иностранец, выступающий на заседании французского суда. Я на-
хожу недопустимым, чтоб он вмешивал в дело бывшего вице-
президента республики.
Мэтр И з а р. Бывший вице-президент Французской рес-
публики — лидер партии. Это его товарищи по партии выступают
сегодня против Кравченко, и я хотел заметить, что время, когда
господин Торез прогуливался под охраной наряда жандармерии,
минуло; оно кончилось.
Мэтр Нордман. Господин судья, я требую, чтобы Крав-
ченко уважал государственных деятелей Франции.
12
Мэтр Изар. Он больше не является государственным дея-
телем, он политический деятель.
Судья. Продолжайте.
Кравченко. ...В своей книге я рассказал правду о жизни
советского народа... Я знаю, что меня обвиняют в преувеличениях.
Но помните ли вы, как до вас доходили известия о немецких
концлагерях? Разве не считали тогда эти известия преувеличен-
ными? Истина стала очевидна лишь тогда, когда увидели дейст-
вительность такой, какова она есть.
Вы услышите здесь моих свидетелей, вы увидите докумен-
ты... Мои свидетели — советские граждане, у которых нет больше
ни отечества, ни национальности. Они были угнаны в Германию на
принудительные работы, и все, что у них было в Жизни, осталось
позади, на родине. И все же, когда война кончилась,, эти люди
предпочли голод, холод, неопределенность своего положения,
утрату отечества, подданства и национальности возврату в поли-
цейское государство.
...У некоторых из них еще есть родные и близкие в Советском
Союзе, люди, которые после этого процесса могут стать жерт-
вами тяжелых репрессий. И все же свидетели эти явились сюда,
чтобы подтвердить, что все, что я сказал в моей книге о жизни со-
ветского народа и действиях советского правительства,— это
правда. Мои свидетели расскажут вам, каково жить в Советском
Союзе и почему они больше не желают быть там париями поли-
цейского государства; они вам расскажут о своей вере в свободу
и правосудие, о любви к своей стране.
...Откуда господин Морган, господин Вюрмсер знают людей,
которые должны прибыть из Советского Союза? В своей книге
я не называл этих людей по именам... Какую цену обещали
этим людям за показания? Будут ли их показания объективными?
...Все эти люди отлично знают, как знают это руководители
Кремля и их агенты во Франции, какова на самом деле советская
реальность, которая является реальностью угнетения, подавления
любой свободы и вынужденных славословий в адрес руководи-
телей Кремля. Они знают, кто истинные повелители судеб русско-
го народа; они знают, что нет никакой демократии в Советском
Союзе и никакого социализма; они знают, что советская дейст-
вительность — это социализм темниц, угнетения и тиранов, кото-
рые приносят страдания русскому народу. Это социализм врагов
рабочего класса всех стран, социализм врагов свободы.
О господа, без демократии не может быть ничего, кроме
варварства. (...)
Я верю в правосудие и свободу Франции, которые пресле-
дуют ложь и клевету... Вам решать, где сейчас силы зла, а где
силы правды.
25 СЕНТЯБРЯ 1989 года. КОКТЕБЕЛЬ.
ПАРК ВОЗЛЕ ДОМА ВОЛОШИНА
В осеннем коктебельском парке я перебираю фотог-
рафии, пытаясь услышать голос злосчастного перебежчика.
Вот он в отчаянии или в изнеможении закрыл лицо руками —
его привычный жест. Откинулся на скамью и слушает речи —
в глазах безысходность, тьма. Между тем все корреспонденты
писали о пронзительном блеске его глаз. Все отмечали, что
это высокий, статный, красивый мужчина. У него вьющиеся
темные волосы. Красивый очерк рта. Две резкие складки на
щеках, близ уголков рта. На нем безупречно сшитый синий
костюм. В его одежде всегда поражают строгость и вкус.
И враги и друзья дают тот же портрет, но с противополож-
ной окраской, конечно. «Это был фат,— пишет его непримиримый
враг Андре Вюрмсер,— у него была голова «человека, уволен-
ного из казино», как сказал Жео Лондон, «красавчика с картин-
ки», как писал Марсенак, Луиза 1 отметила эту слишком придав-
ленную прическу, эту излишнюю жестикуляцию жуликоватого
уличного разносчика, который хочет убедить покупателя, эти
бурные неистовства его голоса, в которых выделяется слово
«Политбюро», на какой бы вопрос он ни отвечал, хотя было бы
достаточно «да» или «нет», этот пафос кулаков, прижимаемых
к груди, когда от него неосторожно требуют назвать какую-то
дату или имя, а он не может ответить».
«Замечательная голова баловня женщин, стареющего в пи-
жаме,— пишет еще один враг, корреспондент «Леттр франсэз»
Марсенак.— И этот тип сумрачного, утомленного и необузданно
вспыльчивого человека, который даже может ввести в заблужде-
ние, пока не заглянешь ему в глаза. Но когда заглянешь в них,
поймешь все. ...Вот первообраз русского из кавказских пещер,
этой «славянской ярости», этой «фуриа слав» и Достоевского —
в пределах постижимости... Надо признать тем не менее, что
речь его была составлена неплохо».
Оставил портрет Кравченко и его французский переводчик
Жан де Керделанд, впервые увидевший его в Нью-Йорке и
написавший об этом тридцать три года спустя:
«Загнанный беглец был красивый детина сорока лет, плотный,
могучего сложения, и первое, что бросалось в глаза при знаком-
стве, была его густая шевелюра, его вьющиеся темные волосы,
1 Жена Вюрмсера, журналистка, написавшая совместно с ним книгу
путевых впечатлений о Советском Союзе.
14
а также смущавшее собеседника выражение его ясного взгляда,
в котором была то искренность, то какое-то беспокойство.
И манеры его, и одежда отличались поразительной природ-
ной элегантностью, которую этот осужденный изгнанник ухит-
рялся сохранять в условиях своего вечного бегства, ею отмечены
были и повадки его, и достоинство поведения. Очень скоро вы
начинали чувствовать к нему симпатию и даже, можно сказать,
привязанность. Женщины, вполне вероятно, должны были нахо-
дить его неотразимым. Сам он тоже испытывал к ним сильное
влечение и нисколько этого не скрывал — так же как не пытался
скрыть свое явное пристрастие к тонким винам и изысканным
блюдам. Нужны ли еще другие черты этой личности, которую,
впрочем, не так легко обрисовать, вероятно из-за наличия в ней
черт совершенно противоречивых...»
Многие из тех, кто видел Кравченко, отмечали его восточный,
«левантинский», а некоторые даже семитический тип. Отца
Кравченко звали Андрей Федорович, деда Федор Пантелеевич,
но как знать? О, Украина — скрещенье дорог и народов. Знако-
мые вспоминали о резких переходах его настроения, о взрывах
темперамента.
— Иногда это был настоящий лев,— говорил мне в Париже
князь Константин Андроников, бывший официальным перевод-
чиком на процессе,— а иногда глядишь — потерянный человек.
24 ЯНВАРЯ 1949 года. ПАРИЖ.
СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Судья. Господин Морган, хотите ли вы сделать
заявление?
Морган. Господа, это не я должен был предстать сейчас
перед судом и подвергнуться преследованиям Кравченко, а мой
друг Жак Декур, который основал «Леттр франсэз», должен был
быть его директором, человек, дело которого мы продолжаем.
Но Жак Декур был расстрелян раньше, и это я руковожу
«Леттр франсэз» с 1942 года, и это я принял решение напечатать
статью Сима Томаса, отрывок из которой вы зачитали, господин
судья,— лишь небольшую ее часть. Почему я ее напечатал? По-
тому, что я полностью доверяю сведениям, которые доставил
мне наш корреспондент из Соединенных. Штатов, потому, что
статья эта подтверждала мои впечатления от книги Кравченко,
и потому, что другие факты соответствовали тому, что нам сооб-
щил Сим Томас. В ходе процесса эти расследования будут под-
15
тверждены, уточнены, а наши свидетели дадут доказательства
того, что мы правы.
Я напечатал статью Сима Томаса, поскольку я оставался ве-
рен нашим идеалам Сопротивления... Если же я не соглашаюсь
назвать суду истинное имя Сима Томаса, то это оттого,
что, как я уже заявил мэтру Нордману, я не хочу подвергать
его репрессиям...
Литературный еженедельник «Леттр франсэз» защищает чис-
тоту литературы. Он борется против литературы безволия, отча-
яния и человеческой деградации, которая разлагает французскую
публику; он защищает французскую мысль от массового втор-
жения американских изданий вроде «Ридерз дайджест», «Кон-
фиденс», большинства детских журналов...
6 МАЯ 1989 года. ПОЛДЕНЬ.
ФРАНЦИЯ. ШАМПАНЬ
Мы сидели в саду. Я все утро напрасно терзал пишу-
щую машинку — работа не шла. Мой друг читал отчет о процес-
се Кравченко, переснятый для меня симпатичным испанцем, биб-
лиотекарем в Центре Помпиду.
— Мне надоело ждать,— сказал мой друг.— Что с этим Си-
мом Томасом? Был ли Сим Томас? Ты-то должен знать?
— Пожалуй, кое-что я уже знаю,— сказал я.— Но если я все
сразу выложу, ты не будешь читать дальше. Попробуй сам дога-
даться.
— Я ведь не знаю, что за человек был Клод Морган. Оратор
он не блестящий, это видно...
— Да, это видно. И писатель был средний... Но вот человек —
разный. До войны он не был «левым», во время Сопротивления
сблизился с коммунистами. Очень гордился знакомством с таки-
ми знаменитостями, как Арагон, Веркор, Торез. Похоже, человек
не очень счастливый. У него, кажется, были сложные отно-
шения с отцом, членом академии Леконтом. Репортеры описыва-
ют его красное лицо, небрежную одежду, вельветовый пиджак, его
смущение, растерянность... Я переменил к нему отношение, про-
читав его предсмертную книгу. Но об этом позднее. А вот знаме-
нитый их литературный еженедельник я б и сам полистал с
удовольствием...
16
10 МАЯ 1989 года. ПАРИЖ.
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
За этим вот столом сидел, бывало, до закрытия эрудит
М. Алданов, перебрасываясь изредка замечаниями с П. Мурато-
вым или М. Осоргиным... Альберту Швейцеру библиотека эта по-
казалась неуютной, да и я что-то с утра не могу ничего найти.
Впрочем, «Леттр франсэз» за январь — февраль 1949-го мне дали
почти сразу. Гляди, и правда вовсю идет борьба «за чистоту
литературы», о которой сказал на процессе Клод Морган: поно-
сят Дос Пассоса, который «состоит на службе херстовской
прессы», Хемингуэя, который «мажет грязью» Испанскую респуб-
лику, и, вообще, клеймят декаданс и прислужничество амери-
канской литературы. Зато Вюрмсер хвалит книги Моргана (ди-
ректор газеты) и директора «Юманите» Куртада; Веркор, оправ-
дываясь перед.Вюрмсером, униженно пишет, что он вовсе не ста-
вил партию под сомнение, а только хотел сказать, что коммунисты
тоже люди. На первой странице портрет с подписью «Федосеев».
Кто ж это? Ну да, Фадеев, конечно. Вот и статья Эльзы Триоле
про Фадеева-Федосеева, который выступает сегодня как «нежный
садовник литературы»: «Если Фадеев с такой яростью обрушива-
ется на театральную критику, то это оттого, что он рачительный
садовник». О чем же все-таки речь? Я заказываю «Литератур-
ную газету», и все становится ясным. Главная угроза миру и бе-
зопасности идет в те дни от группы театральных критиков: «Шипя
и злобствуя, пытаясь создать некое литературное подполье,
они охаивали все лучшее, что появлялось в советской литературе.
Они не нашли доброго слова для таких спектаклей, как «Великая
сила», «Московский характер», «Хлеб наш насущный»... Мишенью
их злобных и клеветнических нападок были в особенности пьесы,
удостоенные Сталинской премии». Как же они посмели? Погля-
дим. Выясняется, что и не очень посмели. Просто промолчали
стыдливо, не хватило духу всю эту лабуду хвалить. А «метод
замалчивания... является тоже формой критики». Это сказал ве-
личайший из театральных критиков всех времен и народов. Вот
и многозначительный список злодеев: Юзовский, Борщаговский,
Гурвич, Блейман, Эфрос, Ромм, Аркин, Бескин, Левин, Альтман,
Данин, Хольцман, Крон. «Нежный садовник» не дремлет. Браво,
Эльза!
Смотрю на даты... Это печаталось в дни процесса. Золотая
моя студенческая юность! Как же, как же! Помню: прорабаты-
вали их раз в неделю, этих космополитов. Помню, Ларка Сте-
панова спросила на семинаре с наивностью: «Ну и что такого,
что ему нравился «Гамлет»?» А вот то! По мозгам его, по мозгам.
И вас тоже...
17
Вот и еще мужественная статья из «Леттр франсэз», называет-
ся «Жданов и мы»: «Известно, какую огромную роль он играл
для советских интеллигентов, и, наберемся мужества, чтоб приз-
нать — эту роль он не может не играть за пределами СССР, в
жизни мыслящих и читающих людей... Заходит ли речь об ис-
кусстве и литературе, о музыке или живописи... он протягивает
спасительную руку, чтобы вывести художников из их противоре-
чий...»
Ну вот, теперь мне хоть известно, чем гордился Морган.
24 ЯНВАРЯ 1949 года. ПАРИЖ.
СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Судья Продолжаем заседание. Господин Вюрмсер
имеет слово.
Вюрмсер. ...С той минуты, как я прочел этот роман, мо-
им долгом было ответить на него. Это был мой долг журналиста,
это был мой долг француза, это был мой долг человека, это был
мой долг перед товарищами по Сопротивлению... Правдоподобно
ли, чтобы через тридцать один год после рождения нового строя,
после того как десятки тысяч французов побывали в Советском
Союзе, как история принесла нам столько сведений и столько
уроков о Советском Союзе, является вдруг некто и заявляет: «Вы
ничего не знаете! К счастью, есть я...» И можно ли поверить, что
Советский Союз сплошь населен полицейскими, хотят,
чтоб мы поверили этому вопреки всем фактам и самой истории
этих тридцати с лишним лет. Велика сила этого строя, вели-
кие испытания выпали ему, самая долговечность его значитель-
на, поскольку он выдержал время великих исторических испыта-
ний. История дала нам великий урок, он заключается в том,
что всякий, кто высказывается против Советского Союза, выска-
зывается тем самым и против Франции.
Мэтр Изар. Ого-го!
Вюрмсер. Я попросил бы, чтоб меня не перебивали, мэтр.
Мэтр Изар. Я просто хотел подчеркнуть это место, оно
того стоит, а комментировать его я буду потом.
Вюрмсер. ...Мы узнаем сейчас от Кравченко, что зверства
совершались не 6 Бухенвальде, а в Сибири! Нам скажут сейчас, что
наши депортированные товарищи погибли в крематориях на Ку-
бани, до этого уже недалеко!
...Что останется от Кравченко... несколько месяцев спустя?
То же, что осталось от его предшественников, как бы велики
18
ни были их фанфаронство, их похвальба, их мегаломания. Прой-
дет несколько месяцев, и мы не будем говорить о них больше.
Мы будем говорить обо всем остальном.
...Это процесс, на котором пропагандист судит писателей.
...Да о чем вообще идет речь? В принципе — о суровой, очень
даже суровой статье, которую один журналист написал,— я не
пойду так далеко, чтоб назвать Кравченко своим собратом,—
о Кравченко.
Мэтр Изар. Сим Томас — журналист?
В ю р м с е р. ...Это политический процесс, которым иностран-
ная пропаганда хочет повредить нашей дружбе с третьей страной...
Но почему в Париже и почему сейчас?.. Это процесс свободы
предпринимательства против свободы.
10 МАЯ 1989 года. ПАРИЖ.
ЦЕНТР ПОМПИДУ. БУФЕТ
— Но чем все-таки объяснить,— говорю я,— это
нежелание знать? Это ослепление? Это тупое упрямство?
— Объяснять следует, исходя из положения Франции, только
из этого,— говорит мой друг Дени.— Из ее экономического поло-
жения. Из ее политического положения. Из борьбы классов.
Сам вспомни...— Дени улыбается.— Ты не помнишь, наверно...
Но почитай.
О, здесь у него найдется что почитать. Дени — библиотекарь
в Центре Помпиду.
Все, кто писал о процессе или о книге Кравченко, прежде
всего описывали ситуацию во Франции. Вот что говорит в пре-
дисловии ко второму французскому изданию книги Пьер Дэкс:
«...французский перевод вышел на той самой неделе, когда ми-
нистры-коммунисты были исключены из правительства Рамадье.
Книга продавалась в тот год, когда был разорван союз между
СССР и западными странами, объединившимися с СССР в борь-
бе против Гитлера, в самом начале периода, который мы впо-
следствии называли «холодной войной». Этот разрыв был ознаме-
нован первой конференцией Коминформа, объединившей 22 сен-
тября 1947 года девять европейских компартий в Шклярской
Порембе, в Польше, под водительством Маленкова и Жданова...
Жданов объявил, что мир неумолимо рассечен на два антагонис-
тических лагеря, лагерь империалистический и лагерь антиимпе-
риалистический, демократический... Компартия должна встать во
главе сопротивления тому... что она защищала накануне «во всех
19
сферах: правительственной, политической, экономической и иде-
ологической».
ФКП совершила поворот на 180 градусов в октябре 1947 го-
да, подняв в ноябре волну стачек, которые принимали порой
характер восстаний... 13 октября «Леттр франсэз» напечатала
статью Сима Томаса против Кравченко. В том, что это произо-
шло через шесть месяцев после появления книги, не было ничего
случайного».
«Почему в Париже и почему точно через шесть месяцев?» —
спрашивает Дэкс о статье Сима Томаса. «Почему в Париже и
почему сейчас?» —вопрошает Вюрмсер о процессе, точно забывая
о поздней реакции его газеты. Оба намекают на
политическую подоплеку событий. Оба верят в железную логику
их развития («ничего случайного»). А мы? Мы с вами не будем
спешить с выводами...
24 ЯНВАРЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
В ю р м с е р. Не может ли истец мне ответить, только
пусть сам ответит, как кончается «Кукольный дом»? Нет, нет,
я прошу вас, пусть Кравченко выйдет к барьеру!
Мэтр Изар. Господин судья, здесь не место для советской
авторитарности!
Судья. Умоляю вас, господа!
Кравченко. Не вижу, какую это имеет связь с процессом.
Вюрмсер. Возможно ли, чтоб он отказался ответить на
такой безобидный вопрос?
Мэтр Нордман. А Кравченко продолжает разговаривать
со своим переводчиком.
Кравченко. Я не хочу отвечать на этот вопрос и хочу,
чтоб судья положил конец этой комедии.
Вюрмсер. Объясняю. В книге, на авторство которой он пре-
тендует, говорится о «Кукольном доме» Ибсена, пусть он нам
скажет, как кончается «Кукольный дом».
20
10 МАЯ 1989 года. ПАРИЖ.
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
До конца своих дней вспоминал Андре Вюрмсер, как
ловко в первый же день процесса разоблачил он своего против-
ника. Кравченко рассказывал год спустя: «Переводчик, переводя
мне вопрос, перевел французское «кончается» как русское «скон-
чался», и я все ворочал и ворочал в мозгу эту загадочную смерть
какого-то дома куклы».
Впрочем, уже на заседании выяснилось, что в России пьеса
эта была известна как «Нора». Под этим названием и знал ее по-
дозрительный Кравченко, который уверен был, что такая ловуш-
ка могла быть придумана для него только московским советчи-
ком, знавшим, под каким названием пьеса идет в Москве.
Тем не менее в 1979 году Вюрмсер с гордостью описывал свою по-
беду над врагом: «...он не знал книг, которые упоминались в его
книге!» Таких побед у него было не так много: как скоро выясни-
лось, процесс был довольно слабо подготовлен защитниками
«Леттр франсэз». Да и вообще, что до победы, то победителей
ведь и вовсе не было на этом странном процессе.
24 ЯНВАРЯ 1949 года. ПАРИЖ.
СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Мэтр Изар. Когда и как господин Вюрмсер узнал
и убедился, что господин Кравченко — это марионетка, грубые
тесемки которой изготовлены в США?
Вюрмсер. Когда я прочел статью Сима Томаса в «Леттр
франсэз».
Мэтр Изар. Благодарю вас. И это единственное доказа-
тельство, которым вы располагали?
Вюрмсер. Этого более чем достаточно. Вы не знаете,
что такое «Леттр франсэз», мэтр.
Мэтр Изар. И Сима Томаса вы тоже не знаете?
Вюрмсер. Лично не знаю.
Мэтр Изар. Хорошо. Вы, стало быть, испытываете ог-
ромное доверие к вашей газете и еще большее доверие к господи-
ну, который принес вам заявление американского сыщика. А по-
чему ж тогда, господин Вюрмсер,— и это не пристало господину,
который называет Кравченко лжецом...— в газете, которую вы
представляли только что оба как гордость французской словес-
ности и как образец объективности,— почему же, говоря о первом
21
заявлении Кравченко во вторник 4 апреля 1944 года газете
«Нью-Йорк тайме», вы выбросили следующие строчки:
«Господин Кравченко по патриотическим мотивам отказался
обсуждать вопросы, связанные с военными действиями Советской
России, или раскрывать какие бы то ни было детали, касающиеся
ее экономики, в особенности всего, что касается вопросов осу-
ществления поставок по ленд-лизу...»
...Второй вопрос. В статье, называющей Кравченко лжецом, гос-
подин Вюрмсер обосновывает это утверждением Кравченко, что
советско-германский пакт не был вовсе подписан, чтобы выиграть
время для подготовки войны с нацизмом. «Нет, заявляет Крав-
ченко, аргумент о том, что пакт был подписан, чтоб выиграть вре-
мя... был придуман позднее». На это господин Вюрмсер отвечает:
«Кравченко лжец, потому что в речи по радио 3 июля 1941 года
Сталин заявил: «...заключив с Германией пакт о ненападении,
мы обеспечили нашей стране мир на полтора года...»
То, чего не привел господин Вюрмсер и чего он не приведет,
это слов, которые предшествовали этой фразе... Ибо там сказа-
ны вещи очень важные.
«Понятно,— это говорит Сталин, но не господин Вюрмсер, ко-
торый выкинул этот отрывок,— понятно, что наша миролюбивая
страна, не желая брать на себя инициативу нарушения пакта,
не могла стать на путь вероломства»,
В ю р м с е р... Я не мог цитировать всю речь Сталина, и какое
отношение это имеет к аргументу Кравченко?
Мэтр Изар. Следующее: если Сталин заявляет что
Россия ни в коем случае не собиралась вести войну с Герма-
нией, из этого следует, что вовсе не для подготовки войны с Гер-
манией, которой она и не собиралась вести, если только Германия
не нападет на нее сама, заключила Россия этот пакт, вовсе не
для того, чтобы выиграть время. Мне кажется, это ясно.
...Почему же, господин Вюрмсер, почему коммунистическая
пресса и ораторы-коммунисты никогда не цитируют приведенный
мной отрывок?
Вюрмсер. Вы хотите, чтоб я цитировал все шесть страниц,
мэтр?
Мэтр Изар. Если б вы процитировали эти два кусочка,
вы не смогли бы назвать Кравченко лжецом. Вот почему я и за-
дал вам этот вопрос.
22
11 МАЯ 1989 года. ПАРИЖ.
УЛИЦА ДЕБОРД-ВАЛЬМОР.
КВАРТИРА МАДАМ ЖОРЖ ИЗАР
— Вы ведь знаете, что мой муж еще до войны был со-
циалистом? — спрашивает мадам Изар и, несмотря на преклон-
ные годы, с достоинством выпрямляется в кресле.
— Да, я знаю. Мэтр Жорж Изар был депутатом от департа-
мента Мерт-и-Мозель. Я знаю, что он был писателем. Я читал
книгу «Человек — это революционер» и другие его книги. Знаю,
что он был в Сопротивлении, и мне симпатично, что он так редко
упоминал об этом на процессе... в отличие от его противников,
которые говорили об этом постоянно.
— Он был избран во Французскую академик}. Причислен
к лику «бессмертных».— Мадам Жорж Изар горько усмехает-
ся.— «Бессмертным» он прожил только год.
— А кто эта чета новобрачных на фотографии?
— Не узнаете? Это же Саша Вильмэн и моя дочь Мадлен.
Саша был секретарем и переводчиком Кравченко на процессе...
— Саша Зембулатов? Я не знал, что он был женат на вашей
дочери. А почему он Вильмэн?
— Вильмэн — фамилия, которую мой муж носил в Сопро-
тивлении. Это как бы его подпольная кличка... О, все это целая
история...
Мадам Жорж Изар умолкает. Она погрузилась в историю
этих дней... Сорок лет назад, когда в их квартире на бульваре
Сен-Жермен впервые появился этот неистовый русский, этот
Кравченко...
— Я вам расскажу позднее,— говорит мне мадам Монье,
дочь мэтра Изара.— А сегодня мы вынули из ящика эту фотогра-
фию, потому что должен был зайти Серж. Сын Саши и Мадлен...
Да, мама права, это целая история. Мне было тогда девятнадцать,
Мадлен восемнадцать, была еще одна сестра, младше нас... Мы
каждый день бегали на Кэ дэз Орфевр, в зал 17-й палаты, где отец
защищал Кравченко...
23
24 ЯНВАРЯ 1949 года,
ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ. ПАРИЖ.
СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Мэтр И з а р. ...Я хотел бы задать этим господам,
которые столько говорили здесь о патриотизме, следующий воп-
рос: господин Кравченко — это предатель, потому что в 1944 году
он покинул гражданскую комиссию в Вашингтоне, чтоб остаться
в стране, которая была союзницей Советской России и воевала
против Германии?
Вюрмсер. Это она воевала, а не Кравченко.
Мэтр Изар. Так вот, почему и каким образом господина
Андре Марти *, который заново издал... всего три дня назад... свой
труд, который называется «Славные дни на Черном море», так
вот, почему Андре Марти эти господа считают патриотом? Я
прочту из брошюры господина Марти всего два отрывка, о них
и будем говорить. Предатель он? Или он патриот?
«Назавтра, пишет Марти, полк направился в сторону Астер-
ной... Саперы, распропагандированные активными профсоюзны-
ми деятелями, были с большевиками, они взяли в руки оружие и
прогнали офицеров. Слава 58-му! Слава также 175-му пехот-
ному... и т. д., которые восстали и которые отказались подчи-
няться прогерманскому правительству!» ...Господин Марти —
олицетворяет ли он в глазах коммунистов патриотическую славу
Франции?
Вюрмсер. Да.
Мэтр Изар. Вот и все, что я хотел знать.
Вюрмсер. Превосходно.
Мэтр Изар. Так вот, мы установили здесь, что есть двой-
ная мера и двойной счет у коммунистической партии. Во всяком
случае, я констатирую, что г. Марти подбивал моряков и солдат
бунтовать против их офицеров, восставать против приказов фран-
цузского правительства, правительства Клемансо, который выиг-
рал войну. Господин Марти, офицер, имел право рассуждать,
имел право судить, прав ли Клемансо. А господину Кравченко
оставалось сделать только одно: вернуться в Советскую Россию
и быть расстрелянным НКВД.
1 Видный деятель Французской компартии, участник революционных собы-
тий в России; работал в Москве в Коминтерне, комиссар интербригады в Испа-
нии, избирался в Секретариат ФКП в 1945—1950 годах, а вскоре после процесса
Кравченко был обвинен во фракционной борьбе и сотрудничестве с полицией,
освобожден от всех должностей и исключен из партии.
24
23 ИЮНЯ 1989 года. ПОЛДЕНЬ'.
ПАРИЖ. АВЕНЮ ОШ. КАФЕ
Как уже, вероятно, догадался внимательный читатель,
следующий пример, который привел адвокат Кравченко, защи-
щая своего клиента, касался жизни вождя компартии Мориса То-
реза. Доходя до это места, издатели стенограмм неизменно тушу-
ются и сообщают скороговоркой: «Мэтр Нордман объясняет, что
г. Торез подчинился приказу коммунистической партии, «пресле-
дуемой» правительством...» Предвидя, что читатель захочет все
же узнать подробнее о претензиях мэтра Изара, я обратился к ис-
торику и журналисту Гийому Малори, большому знатоку процес-
са Кравченко. Мы встретились в обеденный перерыв в кафе на
авеню Ош, неподалеку от редакции престижного журнала, где мо-
лодой и красивый Малори возглавляет какой-то отдел.
— Издатели тушуются,— сказал я жалобно.— Да и мне как-
то неудобно... Все же я выпускник института имени Тореза. Вы-то
небось «энарк» '?
— Нет, я «нормальен» 1 2,— говорит Малори, внимательно изу-
чая изощренное французское меню.— Факты эти, впрочем, всем
известны, и на процессе Кравченко о них говорили не раз и не
два. В самом разгаре «странной войны» Торез, сапер инженер-
ного полка, покинул расположение своей части и добрался в
Москву, связанную в то время тесными узами с Берлином... При-
говоренный судом к шести годам за дезертирство, Торез был по-
милован во время Освобождения, однако приговор никогда не
был объявлен недействительным или пересмотрен. Так что, если
преступление и было прощено, оно никогда не было оправдано...
Мэтр Изар действовал умно. Он вовсе не обвинял Тореза в пре-
дательстве 3, но просто указывал, что Торезу могут бросить
гот же упрек, что и его, мэтра Изара, клиенту... А то, что пути
идеологии и священной любви к отечеству разошлись еще в
1914—1918 годах, это ни для кого не является тайной... В первую
мировую войну известно было о десятке предателей. Во вторую
их насчитывалось уже тысячи.
— Да нет, пожалуй что и миллионы...
1 «Энарк» — выпускник ЭНА, государственной административной школы
при правительстве, из которой выходят высшие чиновники и министры.
2 «Нормальен» — выпускник Эколь нормаль, одного из самых знаменитых
и престижных гуманитарных вузов Франции.
3 Торез, живший в СССР под псевдонимом Иванов, работал в Коминтерне
и проводил тогдашнюю линию Сталина: Франция считалась страной, «высту-
павшей за войну», а Германия — страной, «отстаивающей дело мира» (см. ин-
тервью Сталина агентству Гавас 30 ноября 1939 г.). Таковы были указания,
которые дал Коминтерну Сталин в беседе с Димитровым.
25
20 МАЯ 1989 года. ПАРИЖ.
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Шелест страниц. Грязные микрофильмированные лис-
ты на экране. Рябит в глазах: предатели, предательство, шпио-
ны, вредители, агенты... Мы-то выросли среди этих слов, их приз-
раки наводняли наш довоенный и послевоенный мир. Кто ж
не помнит, как мы искали на картинках, в своих детских учеб-
никах замаскированные фашистские знаки, подсунутые нам вра-
гами? Борьба оказалась нескончаемой: наследники шпиономанов
и сегодня ищут «всемирные заговоры», подпольную сеть масо-
нов и ведьм, ищут среди нас служителей Люцифера...
Откуда пошла она, эта борьба с предателями, которую так бо-
лезненно остро ощущал в освобожденной Франции мэтр Изар?
Вероятно, от той же нетерпимости: кто не с нами, тот против нас.
«Нельзя оставаться вне коммунизма и не кончить антиком-
мунизмом»,— заявил один из свидетелей «Леттр франсэз», осно-
ватель движения франтирёров, видный интеллектуал Альбер Байе.
Мир разделился на коммунистов и предателей, отмечал Изар,
«вы можете быть пролетарием и в то же время социал-предате-
лем, резистантом и агентом нацизма, другом Ленина и «ползу-
чим гадом»... Можно уснуть верным сыном партии, а проснуться
предателем... Тактика так же важна, как теория, а тактика ме-
няется без конца. Никто не имеет права обсуждать ее коле-
бания. Никто не имеет права выяснять, ведут ли средства к це-
ли, обозначенной доктриной, или к противоположной цели...
На московских процессах обвиняемые так и начинали: «Я пре-
дал...»
«Предательство,— говорил Жорж Изар,— становится усло-
вием человеческого существования. И один только Сталин очи-
щен от этого первородного греха... В то время как уголовный прес-
тупник становится лишь социально опасным, «предатель» дела
коммунизма — это чудовище, которое человечество должно ис-
торгнуть из своих рядов. Нужно, чтобы ужас проник в души
всем, а те, кто отказывается повиноваться, будут сразу объявле-
ны предателями и над ними будет нависать мщение Стали-
на: «Вне Сталина нет спасенья».
Ну а что же Кравченко? «Советский гражданин,— говорил
мэтр Изар,— должен покинуть родину, чтобы осуществить право,
которое дает ему самая «идеалистическая» и наименее часто
применяемая из мировых конституций. Если и искать преступле-
ние, то оно в том, чтобы вынуждать к изгнанию того, кто выбрал
свободу». К такому выводу пришел адвокат и писатель Жорж
Изар.
26
Я открываю предисловие к изданию речи' Изара, написанное
главой адвокатского корпуса Парижа мэтром Морисом Рибэ, и
снова натыкаюсь на знакомое слово — «предатель»: «Госу-
дарственные соображения, «резон д’эта», объявляют предателем
всякого, кто отрицает их или бросает им вызов, кто объявляет
себя свободным человеком. Сделка невозможна, это враждебные
друг другу понятия — вода и пламень».
Французские газеты тех лет зловеще шелестят на моем столе.
Они тоже пестрят этим словом — и «Леттр франсэз», и «Юмани-
те», и «Се суар». Люди, которые еще вчера сражались за свою ро-
дину, вдруг оказались ее предателями: Трайчо Костов, который
был в подполье секретарем компартии, обвинен «в недооценке
исторической роли СССР», «признался», что он шпионил в поль-
зу англичан и продался немцам,— казнен; Райк «признался»,
что он был агентом Хорти, потом продался американцам; осужде-
ны Гомулка и Петрашкану, Клементис и Новомесский. Опасно
отклониться от курса Сталина, потому что он один знает, в чем
благо ваших народов. Он сам и есть истина в последней инстан-
ции. Опасно даже было не находиться внутри Советского Сою-
за в годы оккупации.
«Агенты Трумэна были вынуждены прибегнуть к организации
во Франции сети агентов фашистской клики Тито — Ран-
ковича»,— пишет Жак Дюкло. Титовские шпионы и провокаторы
во Франции... Бедная Франция! Она кишит агентами: «В числе
французов, открыто объявивших себя сторонниками и друзьями
Тито, оказалось всего два-три деклассированных интеллигента...
да некоторые деклассированные элементы из бывших нацистских
агентов или нынешних агентов англо-американской разведки...»
Я листаю русские журналы, и старые и поновей. «Пре-
дательская психология», «предательский комплекс». Это у кого
же? Ну да, у Б. Л. Пастернака. Отыскал их С. С. Смирнов. Дальше
еще серьезней: «Пастернак, по существу, на мой взгляд, это ли-
тературный Власов, это человек, который... питаясь нашим совет-
ским хлебом... изменил нам... Генерала Власова советский суд
расстрелял (крики с места: «Повесил»), и весь народ одобрил.
Я думаю, что изменника в «холодной войне» тоже должна постиг-
нуть соответствующая и самая большая из всех возможных кар...»
Это деловое предложение Б. Н. Полевого не было реализо-
вано, и дискуссия продолжалась: «История Пастернака — это
история предательства» (так нежно, так по-дамски — Г. Никола-
ева). «В этом проекте резолюции слово «предатель» присутствует
и слово «предательство» присутствует, но человек, предающий
свою родину и идущий на службу международной реакции, яв-
ляется антипатриотом, космополитом» (педант Н. В. Лесю-
27
чевский). «Народ в том понятии, в каком мы понимаем совет-
ского человека, не знал Пастернака как писателя. И нет ничего
более страшного для человека, для писателя быть узнанным сво-
им народом на 41-м году советской власти только как предатель».
(В этих словах С. Баруздина уже есть чуток самокритики — мало
мы печатали Пастернака, был бы сейчас известный народу пре-
датель, а так...)
...За окнами стемнело. Пора сдавать газеты. Как странно,
что и здесь, в Париже, происходило нечто похожее на то,
что происходило в Москве: так же исключали, шельмовали, на-
зывали предателями. Сперва Вюрмсер с Морганом — других. По-
том Вюрмсер — Моргана... Но отчего? Ведь ни одного концла-
геря не было здесь в те годы?
16 ИЮНЯ 1989 года, ФРГ, ДОРТМУНД
«Мы не претендуем на истину в последней инстанции».
(Из выступления М. С. Горбачева
перед рабочими.)
15 ЯНВАРЯ 1949 года, ПАРИЖ.
XV ОКРУГ. УЛИЦА ЛЕКУРБ, 253
Загадочный секретарь Кравченко, подсказок которого
напрасно опасался Андре Вюрмсер, был юный Саша Зембула-
тов. Рассказ о нем я нашел в книге воспоминаний Романа Гуля:
«Как-то дойдя до своего дома на 253 рю Лекурб, я, как обыч-
но, стал подниматься по лестнице на свой пятый этаж. Без лиф-
та — упражнение не из приятных. Кружишь-кружишь — и на
каждом повороте украшение — две турецкие уборные. Вообще
дрянная у нас была квартира. Одна комната с кухней.
При повороте к нашей квартире на пятом этаже я с удивле-
нием увидел, что у нашей двери стоят каких-то два джентльме-
на '. Что за притча? Кто это может быть? Джентльмены веж-
ливо расступаются, и я открываю дверь. Вижу: Олечка не одна —
перед нею сидит какой-то господин. Не успел я раздеться, как
Олечка говорит:
В другом месте Гуль вспоминал так: «...два господина в темных пальто,
по чьим лицам нетрудно было узнать, что это детективы-телохранители».
28
— Как хорошо, что ты пришел. А у нас неожиданный гость
из Америки... Виктор Андреевич Кравченко.
Я удивился до крайности. Гость поднялся. Мы поздоровались.
— Очень рад, Виктор Андреевич, чем могу служить.
...— Так вот,— начал Кравченко,— мне нужен в Париже че-
ловек, на которого я могу во всем положиться, как на самого
себя. Мне нужна здесь большая помощь. И наши общие друзья
дали мне ваш адрес и сказали, что вы и есть такой человек.
Я засмеялся:
— Не знаю!
— Прежде всего мне срочно,— подчеркнул Кравченко,— ну-
жен секретарь. Но секретарь совершенно особый: он должен знать
русский и французский на все сто процентов. Он будет моим пе-
реводчиком во всех делах, будет и на суде. Он должен быть абсо-
лютно честен, потому что будет иметь дело с деньгами, и я дол-
жен им располагать 24 часа, если мне понадобится. Мне этот сек-
ретарь нужен сию же минуту, сегодня же. Есть ли у вас такой
подходящий человек? Разумеется, его труд я буду хорошо опла-
чивать.
У меня на уме такого человека не было. Но Олечка тут же
сказала:
— Конечно, есть! — И обращаясь ко мне: — Саша Зембу-
латов, лучше не выдумать. К нему надо сейчас же пойти.
Кравченко был доволен категоричностью Олечки, и мы реши-
ли так: после обеда мы с Олечкой пойдем к Зембулатовым, а Крав-
ченко оставляет телефон своего отеля, куда я ему позвоню о ре-
зультате.
...Зембулатовы были прекрасной русской семьей, жившей рус-
ским бойскаутизмом. Я хорошо знал мать Саши, но самого Сашу
никогда не видел. Его знала Олечка.
Пошли к Зембулатовым. Они все дома. Олечка тут же
изложила им дело. Саша пришел в полный восторг: он юрист,
кончил Сорбонну, как раз ищет работу, а тут такое архиинте-
ресное предложение.
От них я и позвонил В. А. Он попросил, чтобы я и Саша сегод-
ня же вечером приехали к нему в гостиницу. Забегая вперед, ска-
жу: Саша подошел Кравченко на все сто процентов и стал не толь-
ко его секретарем на процессе, но и близким человеком на долгие
годы...»
(Роман Гуль. Я унес Россию.)
29
9 МАЯ 1989 года. ПАРИЖ.
УЛИЦА МОНТАНЬ САН-ЖЕНЕВЬЕВ.
РУССКИЙ КНИЖНЫЙ МАГАЗИН
«ЭДИТЁР РЕЮНИ»
— Я знал семью Зембулатовых довольно близко,—
говорит Никита Алексеевич Струве, руководитель издательства
и профессор Сорбонны.— Очаровательная была семья. Занима-
лись бойскаутизмом. С Сашей особенно дружил мой брат. Саша
был обаятельный юноша...
...Я роюсь на полке со старыми книгами.
— Ниже смотри, ниже,— говорит мне книгопродавец Алик.
Вот она! «Я выбрал свободу», лондонское издание. Толстен-
ный томина. 1947 года. Сколько ж она тут простояла?
— Бери,— говорит благодетель Алик,— читай.
24 ИЮНЯ 1989 года. 15. 00.
ПАРИЖ. ЛАТИНСКИЙ КВАРТАЛ.
УЛИЦА СВЯЩЕННИКОВ САН-СЕВЕРЭН, 3.
ЦЕРКОВЬ САН-СЕВЕРЭН
В древней церкви Сан-Северэн идет венчание. Сын
Мишель Монье, внук мэтра Изара, худощавый, породистый Жан-
Батист женится на такой же красивой и породистой Каролин.
До чего же французская пара! Священник произносит проповедь.
Преподобный Жан Муссэ говорит о бедности и голоде, терза-
ющих наш мир. О нашем долге перед неимущими и униженными.
Работы еще непочатый край. Становится ли ее меньше? Не за-
бываем ли мы о своем долге? Внучка мэтра Изара, прелестная
Мари, передает мне тексты песнопений...
...Служба закончена. Мишель выводит под руку согбенную ма-
дам Жорж Изар.
На залитом солнцем дворе ко мне подходит сияющий Серж
Вильмэн, внук мэтра Изара, который носит его резистантскую
фамилию. Боже, что за улыбка, вот оно где Сашино обаяние! А
Саши давно нет. Сперва он исчез из семьи, потом из этого мира.
Недавно умерла и Мадлен Изар-Вильмэн.
— Мой отец...— говорит Серж.— Расскажите мне, что за че-
ловек был Саша. Не знаете? Фантастический человек. Непонят-
ный. Кравченко тоже. Отец говорил, что у него нашли в голове
два отверстия. Вы не знаете?
30
— Откуда мне знать?
Выходит торжественный Жан-Батист с белоснежной невес-
той. Июньский день. Латинский квартал. Сказочная церковь Сан-
Северэн. Звонит колокол...
25 ЯНВАРЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ.
ЗАЛ 17-й ПАЛАТЫ
Мэтр Эсман (адвокат Кравченко). Первый вопрос:
я хотел спросить у г. Моргана, как и когда он узнал о том, что
существуют советские свидетели, узнал имена и адреса совет-
ских... свидетелей?
Морган. Это очень просто: Советский Союз открытая стра-
на.
Судья. Простите, там смеется какая-то молодая женщина
и беспокоит публику. Надо ее вывести.
Морган. Все мы...
Судья. Бесполезно прятаться, мадам, я вас заметил.
Морган. ...все мы, французские писатели, имеем связи с на-
шими друзьями, советскими писателями. Я очень хорошо знаю
Ермилова, Илью Эренбурга... В Советской Союзе есть почта, есть
телеграф, есть телефоны. Так что это очень просто.
Мэтр Эсман. Я вас спросил — когда. Дату.
Морган. Ах, дату... Я не знаю дату, поскольку я всту-
пил в контакт с советскими друзьями...
Мэтр Эсман. Когда?
Морган. Не могу вам точно сказать.
Мэтр Эсман. ...Я хочу задать вам следующий вопрос: если
вы доверяете, как вы сказали, американскому журналисту, то от-
куда этот американский журналист мог узнать о событиях, кото-
рые произошли до войны и в войну на территории Советского
Союза?
Морган. Вероятно, кто-то доверился ему.
Мэтр Эсман. Кто?
М о р г а н. Я не могу вам сказать. Я не могу вам сказать, как
мой корреспондент...
Мэтр Эсман. Как вы проверили это?
М о р г а н. Я вам говорю, что мой корреспондент в Соединен-
ных Штатах человек, которому я доверяю. Он получил информа-
цию, и наши свидетели докажут, что эта информация точна...
31
21 МАЯ 1979 года. ПАРИЖ.
КАБИНЕТ КЛОДА МОРГАНА
«Кравченко... опубликовал остро антисоветское произ-
ведение. Андре Ульман мне принес статью об этом типе,
которую я напечатал без подписи. В этой статье Ульман, высту-
пивший под именем Сима Томаса, обвинял Кравченко во лжи
и добавлял, что он был пьяница...»
(Дневниковая запись. В книге
К. Моргана «Дон Кихоты и про-
чие». Изд. Ги Робло, 1979. С. 189.)
1980 год. ПАРИЖ.
КАБИНЕТ ПЬЕРА ДЭКСА
«Тридцать лет спустя в своих мемуарах «Дон Кихоты
и прочие» Морган раскрыл, что статью, подписанную Сим То-
мас, ему принес Андре Ульман. Он освободил меня таким обра-
зом от тайны, которую я хранил, с одной стороны, оттого,
что это была не моя тайна, а с другой, потому, что Андре
Ульман был моим очень близким другом... Он был в Сопро-
тивлении одним из основателей... движения, которое занималось
депортированными и военнопленными. ...Это был интеллектуал-
прогрессист... У него было практическое чувство реальности...
Он не был, без сомнения, тем же, что Филби, Берджес или Алджер
Хисс *, но интеллектуальные средства его не сильно отличались
от тех, к которым прибегали они... Я уверен, что им манипули-
ровал «источник», точь-в-точь как сам он манипулировал Мор-
ганом. Морган полностью доверял Андре Ульману. Андре Ульман
полностью доверял американскому «источнику», который, без
сомнения, был антифашистским, прогрессивным и который сам,
может быть, полностью доверял...
У начала этой цепи стоял обманщик. Агент Москвы, говоря
без обиняков, который должен был всучить это обвинение, пе-
реданное ему в руки службами Сталина для того, чтобы убить,
по меньшей мере морально убить, неугодного свидетеля».
(Пьер Дэкс. Обман и опьянение:
Предисловие ко второму фран-
цузскому, 1980 г., изданию книги
В. Кравченко «Я выбрал свобо-
__________ ду»д
1 По сообщениям западной прессы, агенты советской разведки.
32
18 ИЮЛЯ 1989 года.
ПАРИЖ. БУЛЬВАР СУЛЬТ.
КВАРТИРА ПЬЕРА ДЭКСА
Я не ожидал увидеть знаменитого писателя таким мо-
лодым, здоровым, энергичным и загорелым.
— Сколько же вам было тогда? Бывшему узнику Маутхаузе-
на, участнику Сопротивления, лидеру подполья, директору «Се
суар» (одно время главному редактору «Леттр франсэз»), рома-
нисту, критику,— я даже не перечислил того, что сказал о вас
Морган на суде...
— Лет двадцать семь.
В квартире стучат молотки, идет ремонт. Дэкс только что при-
ехал и снова собирается уезжать. Итак, о чем речь? Ведь он уже
написал все, что он думает об этом процессе. Впрочем, он готов
повторить снова: главное — тогдашняя обстановка, внутреннее
положение Франции, международное положение. А обманщик,
что ж...
— Я писал в 1980 году, помните? Важно, не кто обманщик,
а важен успех, который имел обман, и это может объяснить
только опьянение Советским Союзом в Соединенных Штатах, в
других странах, везде, особенно во Франции... А сами вы знаете
обманщика?
— Нет, конечно. Хотя я читал кое-какие воспоминания,
которые наводят на след... Уже сам Кравченко обращал внимание
на парижскую газету «Советский патриот», которая выступила за
месяц до «Леттр франсэз» — примерно с тем же... Я совершенно
согласен с вами — феномен опьянения, веры, неверия, ослепле-
ния гораздо интереснее, чем расследование, чем поиски агента,
выявление ничего не говорящих нам фамилий. Однако среди чи-
тателей есть всегда любители детективов...
ИЮЛЬ 1962 года. США. НЬЮ-ЙОРК
«Стараясь подыскать друзей для Кравченко, я встре-
чался с несколькими говорящими по-русски людьми, интересо-
вавшимися современной Россией. Это были эмигранты. Я соблю-
дал большую осторожность в выборе этих людей, называвших се-
бя антисталинистами, но среди них оказался Марк Зборовский,
с которым я встречался еще во Франции в конце тридцатых годов.
Он выдавал себя за троцкиста, ненавистника Сталина. Только в
1955 году мы узнали, что Зборовский был секретным агентом
2 Б. Носик
33
НКВД *. В США он приехал в 1941 году, и вот этого человека я
познакомил с Кравченко как его возможного защитника от
НКВД».
(Д. Далин. Дело Кравченко //
Модерн эйдж. Т. 6. № 3. Июль
1962 г. Русский перевод — по
«Новому журналу» за 1966 г.)
16 МАЯ 1982 года. ФРАНЦИЯ.
МЕДОН. УЛИЦА АНРИ БАРБЮСА.
КВАРТИРА НАТАШИ КЕДРОВОЙ-МАЛИНИНОЙ
— Это ведь все советские послевоенные песни —
на вашей пластинке, я их хорошо помню...
— Конечно,— говорит Наташа Кедрова,— тогда все их пели
в Париже, после войны было настоящее опьянение Советским Со-
юзом... Мы пришли как-то с мужем на концерт петь, а нам гово-
рят: «Интернационал» спеть сможете? Мы говорим — никогда не
пели, попробуем. Можете себе представить?
— Пытаюсь...
Наташа Кедрова родилась в Аничковом дворце в Петер-
бурге. Дед ее был дворцовым регентом, отец играл в знаме-
нитом квартете Кедровых. Наташа до войны пела в опере, в ресто-
ране «Лидо», пела с Шаляпиным в зале «Плейель». А после
войны... Весь мир, казалось, уже стоял на коленях перед Гитле-
ром, а Россия спасла мир. И эмигранты болели за новую Россию,
гордились тем, что они русские, хоть и находятся вдали от Роди-
ны... Как было не петь «Хороши весной в саду цветочки...», «Выхо-
дила на берег Катюша...», «Над Волгой широкой...»? А в сорок
шестом еще и прощение всем бывшим гражданам Российской
империи вышло. Как тут не быть опьянению?
22 июля «Русские новости» напечатали этот указ Верхов-
ного Совета, и сам митрополит Евлогий объявил его «истинным
чудом Господним». Кускова призвала к «отказу от борьбы», а
Бердяев объявил взятие советского паспорта «патриотическим
долгом». Бывший посол Временного правительства В. А. Макла-
ков, хлебнувший при гитлеровцах тюрьмы, писал в обращении
к советскому послу А. Е. Богомолову: «Мы восхищались патри-
отизмом народа, доблестью войск, искусством вождей и должны
1 Зборовский предстал перед судом США, был осужден, но получил воз-
можность продолжать на свободе научную работу и стал видным американским
энтомологом.
34
были признать, что все это подготовила советская власть, которая
управляла Россией...» Предсмертная статья П. А. Милюкова
называлась «Правда большевизма» и содержала восхваление Ста-
лина. «Когда видишь достигнутую цель,— писал П. А. Милю-
ков,— лучше понимаешь и значение средств, которые привели
к ней». Это ведь писали белоэмигранты, бывшие «антисовет-
чики». Что ж тогда говорить об остальной спасенной русскими
Франции, где чуть не 27 процентов отдали свои голоса коммунис-
там. О ее «опьянении Советским Союзом»...
Вот в такой обстановке и заговорил В. А. Кравченко о кош-
марных «средствах», о жестоких «целях», о «великом друге и вож-
де». Но на то он и был «странный процесс»: процесс Кравченко
против «Леттр франсэз». Кравченко против всего мира? Против
Родины?
25 ЯНВАРЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ.
17-я ПАЛАТА УГОЛОВНОГО СУДА
Морган. Я хотел бы задать вопрос.
Мэтр Эсман. Нет, адвокатам не задают вопросов, во
всяком случае во французском суде.
Мэтр Нордман. Мой дорогой собрат, мне казалось, что
сейчас вы задаете вопросы...
Морган. Хорошо, я спрашиваю у самого себя — имею я
право? Хотел бы я знать, на какой бумаге напечатал Кравченко
эти сотни тысяч экземпляров... во Франции, в то время как фран-
цузским писателям не хватает бумаги, не хватает бумаги во Фран-
ции?
Мэтр Эсман. Что, нет бумаги во Франции?
Морган. Для французских писателей нет или очень мало.
Судья. Вы ответите потом, у нас мало времени...
Мэтр Эсман. Нет, на этот вопрос я могу ответить... Я
могу ответить, что есть бумага на «черном рынке», но по более
высоким ценам.
Мэтр Изар. Господин судья... я мог бы указать господину
Моргану... что госпожа Эльза Триоле на одной конференции,
совсем недавно, горько сетовала, что писателей-коммунистов
больше не читают. Поэтому у них и нет бумаги.
Мэтр Нордман. Речь здесь идет не о писателях-комму-
нистах.
35
Мэтр Изар. Текст вашей конференции опубликован. И кто
вы в конце концов, вы в партии или нет?
Морган. Я коммунист, и я горжусь тем, что я коммунист,
это оттого, что я люблю Францию.
Мэтр Изар. Зачем тогда говорить, что речь идет не о пи-
сателях-коммунистах?
6 МАЯ 1989 года. ФРАНЦИЯ. ШАМПАНЬ
— Вот видишь,— сказал мой друг,— я же говорил, что
он недалекий человек, твой Морган.
— Он не мой,— сказал я.— И мне его жаль. Я понимаю, что
значит, когда тебе годами говорят, что для тебя нет бумаги.
Я это пережил... Им было обидно — они были настоящие писа-
тели. Хоть и плохие. Но плохие-то как раз и про-
цветают во всем мире. А Кравченко помогли писать, переписыва-
ли рукопись на американский манер, это очевидно — и вдруг та-
кой бешеный успех.
— Все-таки книга его интересная. Даже сейчас ин-
тересно, а представь себе — тогда. Кроме того, она была умело
переписана для американской публики. И в таком виде ее
прочли. Это успех. А в другом виде не прочли бы.
— Это правда,— сказал я.— В том же году во Франции вы-
шло множество книг о Советском Союзе, их не удалось продать.
Хорошие были книги... Это грустно.
— Так было всегда.
Пришла доченька, позвала нас обедать. Друг отложил стено-
грамму процесса, которую я ему всучил вчера вечером, я оставил
машинку. Мы пошли домой — к французскому обеду, продолжая
беседовать о своих русских делах. Французские не интересовали
нас и здесь, в глуши Шампани, после стольких лет, проведенных
во Франции.
— Что показалось тебе особенно интересным в книге Крав-
ченко? — спросил я за обедом.— Да еще сегодня? После столь-
ких книг — советских, тамиздатских, самиздатских?
— В ней есть кое-что, о чем и сейчас еще не много написано.
Его жизнь... Начать с его службы в Красной Армии. Басмачи.
Кто такие басмачи? Бандиты или повстанцы? Не из среднеазиат-
ского вестерна, а настоящие? Завод в Никополе — условия жиз-
ни рабочих тех лет, в это веришь. Потрясающие картины кол7
лективизации, голода на Украине: люди, обреченные на смерть
чьими-то решениями. Стахановское движение. Репрессии 30-х
годов, атмосфера страха, доносов — хорошо написано. Чингис-
36
хан как любитель и самоучка в сравнении со’Сталиным — тоже
неплохо. Плановая экономика и ее бесплановость, советско-гер-
манский пакт, бегство из Москвы, трагедия народного опол-
чения под Москвой, тактика «выжженной земли», указы 1940 го-
да, двойная информация... Ты знаешь, не так уж много я обо всем
этом знаю. Учти, все это в одной книге. И судьба человека...
— Я думаю, он многому научился у эмигрантов-социалис-
тов.
— Пускай... Совсем неплохо. А посвящение, помнишь? Мил-
лионам, томящимся в лагерях... А в конце — о борьбе за свобод-
ную, демократическую Россию, без которой не может быть проч-
ного мира на земле. Вот это и была борьба за мир — борь-
ба за демократизацию России. А его еще объявили врагом
мира...
— Кто его объявил? Ты же помнишь кто. Сталинисты.
25 ЯНВАРЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
В тот день начали выступать свидетели. Сначала
«свидетели совести», вызванные «Леттр франсэз»: их было чуть
не вдвое больше, чем свидетелей обвинения. Первым принес
присягу католический писатель, узник концлагеря, председатель
Национального союза писателей Луи Мартэн-Шофье. Он сказал,
что обвиняемые — его друзья, и выразил восхищение их благо-
родством, их деятельностью и их газетой. Он сказал также, что
его друзья по концлагерю осудили бы Кравченко, потому что он
«продал не только свою страну, но и союзников». Мэтр Изар
не упустил случая напомнить Шофье, что его друг писатель
Поль Низан, который вышел из компартии после заключения
пакта Молотова — Риббентропа, был также объявлен предате-
лем... Вторым принял присягу Фернан Гренье.
Судья. Ваша профессия?
Гренье. Рабочий-булочник.
Судья. Вы, конечно, выступаете сегодня не в этом качест-
ве?
Мэтр Нордман. Господин Гренье — рабочий-булочник, но
благодаря силе своего интеллекта и воле он приобрел удиви-
тельную степень культуры и прозорливости; он член компартии...
с 1922 года. В 1937 году он был избран депутатом... был
арестован немцами 5 октября 1940 года... убежал из лагеря...
6 апреля, через два дня после предательства Кравченко, он
37
становится министром авиации Временного правительства Фран-
цузской республики.
Гренье. ...Что поражает всякого непредвзятого читателя,
это совершенно гениальная память автора книги, который вос-
производит до последней детали слышанные им разговоры...
Кравченко.... Поскольку я писал книгу о том, что вынудило
меня бежать, я выбирал то, что представляло интерес именно
в этом аспекте.
Мэтр Изар. Суд может констатировать, что имеет дело не
с таким идиотом, каким он был представлен вашей рекламой.
Мэтр Нордман. Он очень хорошо обходит вопросы, кото-
рые ему ставят.
Мэтр Изар. Да, он умен, благодарю вас за свидетель-
ство. (...)
Г ренье. Автор хочет доказать, будто в Советском Союзе
нельзя рот раскрыть.
Судья. На какой странице?
Гренье. На 117-й... Автор хочет доказать, что свободные
разговоры невозможны в Советском Союзе, а если читать его
книгу внимательно, то видишь, что в поезде между собой и
даже на людях очень открыто критикуют положение и даже со-
ветский режим...
Вот г. Кравченко посещает барак — кажется, это в Нико-
поле,— и вот что ему говорят рабочие.
«Прекрасно! — сказал рабочий с тяжелой насмешкой.— Доб-
ро пожаловать в наши хоромы. Крыс хотите или вам блохи
приятнее? И не смотрите, что тут вонь...
— Вот это вы одеялами называете? — спросил нас один из
них.— А это вот подушка?
— Как часто меняют простыни? — спросил я.
— Раз в месяц, если повезет, а то и в два, а то и в три, а то и
вовсе не меняют...»
...Или вот о коллективизации в главе «Ужас в деревне» он
пишет: «Сама партия ратовала за насилие и убийство». Так
вот, чтение документов этой эпохи показывает, что все было
совсем наоборот и партия боролась против активистов, которые
не побуждали крестьян входить в колхозы путем убеждения.
И партия не только не ратовала за насилие и даже убийство,
а совершенно напротив. Должен сказать, раз уж я остановился
на этой главе, что я и сам посетил Украину в момент коллекти-
визации.
Судья. Вы говорите по-русски?
Гренье. ...Поскольку автор говорит, что он был свидете-
лем случаев людоедства и что люди были, как тени, как скелеты,
38
то раз уж вы приезжаете в какую-то деревню, проделав сто
километров по дороге, проехав два десятка деревень, вы видите
сотни крестьян и вам совсем не нужно знать русский, чтоб уви-
деть, истощены ли эти люди голодом или нет, жалкие они и истер-
занные, как утверждает автор, или нет... Кроме Украины, которую
я посетил в ноябре 1933 года и где я не видел — я заверяю суд
вполне официально — ни в одной из этих деревень, через которые
мы проехали, тех сцен... Я должен добавить, что я посетил в мае
1935 года колхоз в Татарской республике, в районе, который
вовсе не был оборудован для туристов, в 180 километрах от
Казани мы сами выбрали его в кабинете президента Татар-
ской республики на карте, и, поскольку их язык имеет латинский
алфавит, мы даже заметили для себя это место... Крестьяне,
которых мы видели, казались сытыми, скромно одетыми... Мы
не видели нигде дантовских сцен, которые описаны автором
книги.
Мэтр Изар. Кравченко хочет ответить.
Кравченко. ...То, что мы здесь услышали, это все сказки
для наивных людей. Коллективизация в Советском Союзе пред-
ставляла собой вторую революцию, более кровавую, более жесто-
кую и варварскую, чем октябрьская, я и мои свидетели это
докажем. Я хочу сказать г. Вюрмсеру, г. Моргану и г. Гренье,
что они еще пожалеют, что они пустились в плаванье по этим
подробностям.
Я не сомневаюсь в том, что г. Гренье был в Советском
Союзе, но хочу подчеркнуть один факт: все, что он видел в кол-
хозе, который рекомендовал ему в своем кабинете президент
республики, он видел советскими глазами. Он, конечно, не видел
того, что я видел, потому что, если бы г. Гренье сказал здесь
правду, он не был бы тем, кто он есть. Я не знаю, остался ли бы он
членом парламента, но уж членом партии он бы не остался
наверняка.
Мэтр Брюгье (адвокат «Леттр франсэз»). Мне кажется не-
допустимым, господин судья, что истец ставит под сомнение
слова свидетеля.
Судья. И взаимно.
Мэтр Брюгье. Свидетель дал клятву говорить правду, а
истец сказал, что он не говорит правду.
Мэтр Изар. Господин Кравченко сказал, что свидетель
видел этот колхоз глазами коммуниста, и таким образом дейст-
вительность была искажена.
Судья. Мне вовсе не показалось, что Кравченко ставит под
сомнение вашу искренность. Он сказал, что вы обманулись или
вас обманули, так я понял. Вы сказали, что вы выбрали деревню
39
для посещения, а он сказал, что они вам подсказали, что они
руководили вашим выбором.
Мэтр Изар. Да это всем известно. (...)
Гренье. Я перехожу наконец к первой чистке... «В зале
атмосфера заметно накалилась, толпа почувствовала запах кро-
ви». Это показывает, с каким презрением Кравченко относится
к коммунистам, с каким презрением он относится к этим чист-
кам.
А я вот тоже присутствовал на партийной чистке на авто-
заводе Сталина в Москве... И я не почувствовал этой атмосфе-
ры. Все слушали членов партии, отвечали на многочисленные
вопросы — да это и естественно, партия должна требовать от
своих активистов, чтоб они отвечали на многочисленные воп-
росы,— и я совсем не почувствовал — даю вам слово — этого
запаха крови... и я решительно против такой интерпретации
чисток.
Кравченко. ...Вы удивляетесь тому, что собравшиеся ап-
лодировали и поддерживали все, что говорил председательству-
ющий. А почему вы молчите о том, что во время чистки Бухарина,
Рыкова, Косиора и других — чистки 90 процентов Центрально-
го Комитета партии, я вам приведу имена и дам официальные
документы,— почему назавтра же весь народ, который только
накануне восхищался Бухариным как подвижником революции,
должен был голосовать против него — на заводах, повсюду, дол-
жен был называть сволочью этого Бухарина, потому что таково
было желание Политбюро? Вы что, присутствовали на чистках?
Если да, то где и когда?
Судья. Он уже ответил. На автозаводе Сталина.
Кравченко. Это было партийное собрание, это не была чис-
тка.
Гренье. Нет, это была чистка, потому что там отчитыва-
лись о своей деятельности... И вот я еще хотел... в книге речь
идет о молодой студентке, которую во время чистки спрашивают,
давно ли она замужем.
«— Товарищ Граник,— спросил председатель,— ты за-
мужем?
- Да.
— Сколько ты уже замужем?
— Пять лет.
— Кто твой муж? Является ли он членом партии? Почему
он вышел из партии? Развелась ли ты с ним в это время?»
Две с половиной страницы вопросов в этом духе. Как запом-
нить все это через пятнадцать лет? Вот если меня спросить,
то я...
40
Кравченко. История студентки Граник -— подлинная исто-
рия. И имя подлинное, она со мной училась...
Для меня чистки 1 — шесть миллионов жертв, это выбитые
зубы, это ночи без сна, проведенные в застенках НКВД, это
пытки, это страдания. Мы с вами на разных позициях. (...)
Вы отрицаете, господин Гренье, то, что я рассказывал в
моей книге. Но все это не потому, что вы хорошо знаете то,
о чем я пишу, не потому, что вы знаете нашу действитель-
ность, а только потому, что вы член коммунистической партии.
Если вы скажете только слово в защиту моей книги, я вам
гарантирую, что завтра вы будете исключены из этой партии, что
вы будете никем. Как же могли вы знать, что проис-
ходит на чистках, если вы не знаете русского языка?
Гренье. Даже не зная русского...
Кравченко. Вот она правда!
Г ренье. Даже если я не знаю русского — мы ведь так
привыкли к политическим сборищам и партсобраниям, что сразу
можем разглядеть, чует ли толпа запах крови, и я должен
сказать, что я не почувствовал этого на оживленном, страстном
собрании коммунистов автозавода имени Сталина...
14 НОЯБРЯ 1956 года. ПАРИЖ.
КАБИНЕТ КЛОДА МОРГАНА
«Я прохожу суд Священной Инквизиции... Диалог глу-
хих... Я говорю им о человечестве, они мне отвечают формула-
ми: «Пролетарский интернационализм». Чтобы исполнить прин-
цип пролетарского интернационализма, бросаются на помощь
угнетенному народу, а не идут подавлять его силой...» 1 2
(Дневниковая запись за 14 нояб-
ря 1956 г. В книге К. Моргана
«Дон Кихоты и прочие».)
1 «Чистки» — этот термин в западной литературе и в книге Кравченко
относится не только к собственно партийным чисткам, но и ко всему «большому
террору» тех лет.
2 Речь идет о венгерских событиях 1956 года.
41
1 ИЮЛЯ 1971 года, ПАРИЖ.
КАБИНЕТ КЛОДА МОРГАНА
«Помню, когда Кассу отказался выступить против
Тито, Тийон назвал его марионеткой американского импери-
ализма. А когда директор «Эспри» Доменак усомнился на Комис-
сии борцов за мир в правоте Тийона, Лоран Казанова, пате-
тически ткнув в него пальцем, спросил: «Как смеете вы ставить
под сомнение высказывание командира франтирёров французс-
кого Сопротивления». И я сел...»
(Дневниковая запись. В книге
К. Моргана «Дон Кихоты и
прочие».)
25 ЯНВАРЯ 1949 года. ПАРИЖ.
СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Гренье. И какую же ненависть должен был испы-
тывать автор к своей стране, чтобы на странице 240-й, опи-
сывая комбинат в Никополе, заявить: «...у меня было впечатле-
ние, что это одно из тех сооружений, каких только можно
ожидать от наших титанических индустриальных усилий, непос-
ледовательных и неэффективных». Ну уж, знаете, господа, каки-
ми бы ни были наши чувства по отношению к советскому строю,
есть одна вещь, которая никогда не была непоследовательной,—
это индустриальное развитие, которое шло по линии, просто
поражающей своей последовательностью: сперва закладывается
база тяжелой индустрии — без этого нет ничего, потом уголь-
ная, потом электрификация, потом металлургия. А потом уж
мало-помалу можно развивать легкую промышленность. А следо-
вательно, когда автор говорит о «титанических индустриаль-
ных усилиях», которые «непоследовательны», он лжет.
...Я задаю вопрос: «Откуда же Красная Армия брала воен-
ные материалы?» Автор отвечает: от союзников. Конечно, по-
мощь союзников была принята с удовлетворением, но какую
долю она составляла в советских усилиях? Она составляла
5 процентов... Когда хотят солгать, надо лгать с умом, а не гово-
рить о «непоследовательных титанических усилиях» после такой
войны.
Судья. Вы хотите ответить, господин Кравченко?
Кравченко. Когда меня тут обозвали предателем, я про-
глотил эту пилюлю, хотя это и было незаслуженно, но вы тоже —
и лжец и предатель, и вот почему.
42
Вы хотите представить победу над фашизмом как сталинское
чудо, как результат деятельности коммунистической партии и
советской системы. Нет, я не согласен. Победа, одержанная
над гитлеровской Германией, это не сталинская победа, это рус-
ское чудо.
Я в своей книге отдаю должное русскому народу, его труд-
ностям, его страданиям, тем ужасам, которые он перенес, преж-
де чем выиграть эту войну. Это русский народ победил — своим
трудом, своими лишениями, ценой своих слез, страданий, благо-
даря своему патриотизму и своему духу самопожертвования.
Мэтр Нордман. И все же я попросил бы, господин судья,
чтобы уважали свидетеля, поскольку оскорбления, наносимые
господином Кравченко...
Судья. Судят вас, а не свидетеля. Свидетель заявил: «Это
предатель». Он и ответил... Если я правильно понял, он вам
ответил, что вы смешиваете правительство и народ, не так ли?
Гренье. Нет, нет, господин судья, проблема гораздо шире...
эти усилия, русский патриотизм, их никто не ставит под сомне-
ние...
Судья. Это и невозможно.
Г ренье. Но не воюют же против врага, имеющего по четыре
танка на каждый советский танк, как это было в начале войны,
по четыре немецких самолета на каждый советский,— с палка-
ми в руках!..
Кравченко. Разрешите мне задать три вопроса господину
Гренье. Первый: можете вы мне сказать, какой процент населе-
ния остался в зоне, оккупированной немцами, или назовите
цифру в миллионах? (...)
Гренье. Не знаю.
Судья. Он не может знать.
Гренье. Пусть он скажет.
Кравченко. Второй вопрос: какой процент советских про-
мышленных мощностей остался в зоне, оккупированной нем-
цами?
Гренье. Кажется, есть доклад господина Вознесенского...
это ведь министр СССР, которому это поручено.
Кравченко. Я выслушал до крайности риторичное выступ-
ление, а когда я задаю господину Гренье простые вопросы, он
не может ответить.
Мэтр Изар. Следуя логике наших противников, можно
было бы спросить, кто составлял ему это выступление.
Кравченко. Третий вопрос: может ли он указать мне —
в миллиардах, тоннах, штуках — количество материалов, постав-
ленных Советскому Союзу Великобританией, Канадой, Соединен-
43
ными Штатами,— речь идет о танках, самолетах, артиллерии,
боеприпасах, металле, сахаре и прочих продуктах питания?
Судья. Свидетель, по всей очевидности, не может этого
сказать.
Г р е н ь е. Я сказал — 5 процентов. Это цифры, которые были
даны советской печатью и не оспаривались прессой союзников.
Кравченко. То, что вы говорите, неправда, и я вам объ-
ясню почему. На территориях, оккупированных немцами, оста-
лось 60 миллионов русского населения. Там осталось 45 процен-
тов промышленности и угля. А одна лишь американская по-
мощь достигла цифры в одиннадцать с половиной миллиардов
долларов. Сюда надо добавить помощь, оказываемую Великобри-
танией и Канадой. Так что все вместе это не составит 5 про-
центов, как указывал господин Гренье, это миллиарды долларов.
Для примера можно сказать, что это составляет 50 процентов
всего плана Маршалла.
Я не говорю, что победа была делом Англии или Америки.
Я и не собирался этого говорить. Мой народ совершил это.
Но надо иметь элементарную честность. Надо говорить, кто
участвовал в этой победе.
...Мы тут прослушали очень длинный доклад о сказочных
достижениях советской индустриализации. Но, господа, рево-
люцию не совершают для индустриализации, революцию совер-
шают ради человека. Постыдитесь же своих заявлений!
Мэтр Нордман. Я позволю себе предложить, чтобы деба-
ты были ускорены... Если мы позволим Кравченко... (Мэтр Изар
протестует.)... разражаться длинными филиппиками в ответ на
каждый вопрос, поставленный свидетелю... Я хочу, чтобы суд
спросил у Кравченко, продолжает ли он утверждать, что «инду-
стриальные усилия СССР были непоследовательными и неэф-
фективными»? (...)
Судья. Вы не могли бы прочесть эту фразу? Я что-то ее
не нахожу.
Гренье. «Я помнил...»
Судья. «Я помнил, какая грязь, какой беспорядок и какое
всеобщее разложение царили на комбинате в Никополе, когда
меня посылали туда с партийной проверкой, и мне было не по
себе при мысли, что теперь я буду там работать инженером.
Несмотря на огромные деньги, которые поглотило строитель-
ство, и на все усилия рабочих, мне казалось, что еще далек тот
день, когда Никопольский комбинат сможет работать нормаль-
но. У меня было впечатление, что это одно из тех сооруже-
ний, каких только и можно ожидать от наших титанических
индустриальных усилий, непоследовательных и неэффективных».
44
Кравченко. Я должен заявить самым решительным об-
разом, что, если бы Россия представляла собой поистине демо-
кратическое, а не полицейское государство, советская промыш-
ленность в современном своем виде могла бы работать гораздо
продуктивнее. На этот Никопольский комбинат советское пра-
вительство затратило на 35—40 процентов больше средств и
усилий, чем это было необходимо. Настоящий хаос и дезор-
ганизация характерны для новой советской экономики. Я никогда
не говорил и никогда не хотел сказать, что во время войны не
были сделаны титанические усилия. Однако я хотел сказать и
сказал, что, когда промышленности приходится работать под не-
престанным надзором полиции или партии, невозможно челове-
ческому таланту, таланту инженера, подавленного каждоднев-
ным страхом, хоть сколько-нибудь развиваться. Потому что не-
возможно развивать и отдавать на пользу другим свой талант
в таких варварских условиях. Я это испытал на себе и потому
могу это утверждать.
Гренье. В книге есть, господин судья, одно место, посвя-
щенное вопросу, который наделал в свое время немало шуму
во Франции и во всем мире,— вопросу о стахановском движении.
Я хочу вам просто продемонстрировать два пассажа. «Стаха-
нову,— пишет автор,— без сомнения, были предоставлены иск-
лючительные условия работы, и ему, конечно, дали специальные
инструменты и всякого рода преимущества, чтоб он смог уста-
новить небывалый рекорд. Это чудо, которое было сфабрико-
вано по заказу и в угоду Кремлю, чтоб помочь ему насаждать
новую религию, религию темпов...»
Кравченко. Все точно.
Гренье. «То, что сделал Стаханов, могли сделать все шах-
теры. То, что мог сделать один шахтер, все остальные рабочие
могли выполнить тоже. Таковы были, грубо говоря, главные прин-
ципы и догмы, которые легли в основу новой религии, рели-
гии темпов.
Недоверчивых посылали ко всем чертям и туда их отправляли
без промедления.
Что до специалистов-техников, которые набирались смелос-
ти высказать свои возражения против нового чуда изнурения,
то кем же они могли оказаться, кроме как пораженцами и вра-
гами стахановского движения.
А рабочий, не способный сравняться с показателями славно-
го донецкого шахтера, кем же он мог оказаться, как не лодырем».
Так вот я, который тоже изучал это явление в момент его
возникновения, я скажу, что прежде всего это неверно, что те,
кто не мог выполнить исключительные нормы Стаханова, они
45
считались лодырями. Есть документы эпохи, и что нам говорят
эти документы?
Кравченко. Какие документы?
Гренье. Что говорит доклад Сталина на совещании стаха-
новцев?
Кравченко. А-а-а..
Гренье. Что сказал Сталин? «...Было бы абсолютно глу-
пым требовать от всех шахтеров достичь того, чего достиг Ста-
ханов. Надо было просто повысить нормы».
12 АВГУСТА 1946 года. ВЕЧЕР.
ПАРИЖ. УЛИЦА ЖАКА ОФФЕНБАХА, 1.
КВАРТИРА ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА БУНИНА
В тот вечер к Бунину пришли гости. Зная, что нищему
писателю-эмигранту угощать их будет нечем, знатный советский
писатель Константин Симонов (потомок самых что ни на есть
Оболенских) затребовал из Москвы на самолете черную икру,
белую и красную рыбу, черный хлеб, селедку и водку, которую
развеселившийся хозяин упорно называл «стахановкой». Вот как
вспоминает об этом вечере тогдашняя пассия И. А. Бунина,
русская азербайджанка, писавшая книги по-французски под псев-
донимом Ум Эль-Банин:
«Социалистическая водка имела приятный вкус, но была не
очень крепкой. Симонов уверял, что в ней сорок градусов, но Бу-
нин — тонкий знаток — проверял ее спичкой.
— При царизме,— гудел он,— водка за минуту опрокиды-
вала полк гусар. Неудивительно, что она выдыхается, раз ее
производят стахановцы. Этот Стаханов вредный тип, он появился,
чтобы мешать людям мирно жить. Вы заменили опиум религии
опиумом труда. Вы что думаете, чем больше люди работают,
тем они счастливее?
Он схватил бутылку, долго изучал этикетку, как будто хотел
вычитать из нее судьбу русского народа, с укором покачал го-
ловой и налил соседям и себе...»
(Ум Эль-Банин. Последний по-
единок Бунина / Русский пе-
ревод Е. Зворыкиной — по жур-
налу «Время и мы».)
46
25 ЯНВАРЯ 1949 года. ПАРИЖ.
СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Гренье. Автор цитирует доклад Сталина о чистке.
...Он тут добавил строчки, которых вовсе нет в докладе: «В раз-
личной степени, сказал Сталин, вредительство и раскол проник-
ли практически во все наши организации». Это прямая и явная
ложь, этой фразы совсем нет...
Кравченко. Есть.
Судья. Насколько я понял, вы говорите — нет, он го-
ворит — есть.
Мэтр Изар. Мы все это дадим вам, господин судья...
Мы с высочайшей осторожностью относимся к последним из-
даниям русских документов, выходящим во Франции, ибо, как
мы докажем вам, они сильно искажены для нужд пропаганды во
Франции ’.
Гренье. Я хотел еще показать, как автор солгал, и он
знает, что он лжет, когда говорит о советско-германском пакте:
«Только позднее, чтобы скрыть трагическую ошибку, которую
Кремль совершил, доверившись Гитлеру, изобрели теорию, со-
гласно которой Сталин хотел выиграть время, во время которо-
го он лихорадочно вооружался против нацистов. Это объяснение
настолько шито белыми нитками, что его не решались даже
выдвигать во время германо-русского конфликта». Но ведь было
выступление Сталина 6 июля...
Мэтр Изар. 3 июля... Я повторяю, господин Гренье, то,
что я уже говорил вчера, споря с господином Вюрмсером,—
были строчки, которые выпустил господин Вюрмсер, цитируя
Сталина...
Судья. Вы уже приводили их вчера.
Мэтр Изар. Поговорим снова. Не я снова затеял эти де-
баты. Слушайте внимательно, господин Гренье, вот он, Мюнхен,
десятикратный Мюнхен: «Понятно, что наша миролюбивая стра-
на, не желая брать на себя инициативу нарушения пакта, не могла
стать на путь вероломства».
Советская Россия подписала пакт с нацистской Германией;
мало горя, что это нацисты, мало горя, что Германия разрубила
Польшу, мало горя, если она решила захватить Францию, мало
горя, если эта страна проглотила демократические страны;
Советская Россия подписала пакт с нацистской Германией, счи-
1 Позднее мэтр Изар доказал, что французские издания документов были
и впрямь подчищены.
47
тая, что она может подписать пакт мира хоть бы и с нациста-
ми, хоть бы и с чудовищами.
Гренье. Я хотел сказать несколько слов о религии, допу-
щение которой автор считает тактическим ходом, навязанным
войной». А вот у меня одно воспоминание: в 1936 году, стало
быть до войны еще, в сорока километрах от Москвы мне было
очень интересно посетить одну советскую церковь, не новую, но
заново окрашенную...
Кравченко. Если он Бога не боится, пусть побоится Ста-
лина, он говорит неправду.
Гренье. Легко вам говорить, что религию терпели только
из-за войны, но вот вам мое показание — я видел деревенскую
церковь, восстановленную, сияющую, и, когда мы расспрашивали
крестьян этой деревни, они нам сказали: «Это мы сами собрали
деньги, мы, которые веруем в Бога, чтобы наша церковь была
восстановлена...»
22 МАРТА 1929 года, МОСКВА
В 1928 году были закрыты 345 приходских и 88 мо-
настырских церквей.
(Газета «Известия» за 22 марта
1929 г.)
1 ФЕВРАЛЯ 1930 года. УКРАИНА
На Украине с октября 1929 года до февраля 1930 го-
да были закрыты 202 церкви.
(Журнал «Безбожник» № 5
за 1930 г.)
25 ЯНВАРЯ 1949 года. ПАРИЖ.
СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Гренье. Здесь много лживых измышлений, которые
я пытался разоблачить.
Мэтр Изар. Неумело.
Г ренье. Возможно, мэтр, что я разоблачал их неумело,
но я разоблачал их со всей искренностью. Я рабочий-булочник,
а не адвокат из коллегии.
48
30 СЕНТЯБРЯ 1989 года.
ПОЛДЕНЬ. ПАРК БЛИЗ ДОМА
ВОЛОШИНА В КОКТЕБЕЛЕ
— Не верю я в искренность политиков-булочни-
ков,— сказал молодой писатель, откладывая стенограмму процес-
са.
— Вот и напрасно. Он искренне верит в то, во что ему хо-
чется верить. А того, во что ему не хочется верить, организм его
не принимает. Ты же не веришь, когда я говорю, что во Франции
нелегко найти работу гуманитарию. Ты не веришь жалобам их
писателей. Ты говоришь: «Мне бы их заботы». Каждый считает,
что ему хуже всех. Может, только мои друзья горные таджики
не считают так, но уж в этом-то парке, дружище, пойди докажи
здесь, что кому-нибудь на свете тяжело, кроме нас. Так вот
этот булочник-министр не хочет верить, что где-то, в стране,
которая представляет для него единственную альтернативу не-
справедливому обществу,— такой мрак... Кстати, об этом непло-
хо написано и в самой книге «Я выбрал свободу» — не знаю
уж, кто из них двоих это сформулировал — Кравченко или его
редактор-переводчик. Вот смотри — тут речь идет о левых аме-
риканцах, которые воспринимали миф о чужой стране как уте-
шение, как замену реальности. Таких было много после войны.
Да и сейчас... «Они были удручены несправедливостями, царящи-
ми в их собственной стране, и нуждались в утешении... Они не
столько обманывали других, сколько обманывали себя... Если б
только эти люди могли подняться до интеллектуальной ясности
и моральной уравновешенности и понять, что несправедливость,
царящая в Америке, не должна служить извинением для под-
держки несправедливости, царящей в других странах! Когда они
кричат «ура», приветствуя кровавые расстрелы в России, это мо-
жет дать им временное моральное облегчение, но вряд ли может
способствовать благородным целям установления справедливос-
ти во всем мире, в том числе и в Америке».
— Так где же лучше? — спросил молодой писатель.
— В лучшем мире,— сказал я не слишком милосердно.
— А они там действительно приветствовали расстрелы?
— Более или менее. Одобряли, во всяком случае. Да ты чи-
тай дальше...
Писатель поворошил огромную французскую стенограмму и
сказал удрученно:
— Еще пятьсот страниц... Пойду-ка я в видеосалон, пос-
мотрю их фильмы про их несчастную жисть.
49
— Иди. Только ты им все-таки не очень верь. Ты же про
них лучше ихнего знаешь... Лучше их сценаристов, лучше их
режиссеров...
— А все же признай — странный процесс...— сказал он, по-
жимая плечами.
— Там было много странностей. Например, литература...
Обвиняемые критикуют сцену жатвы: Кравченко там за три дня
организовал работу, поднял людей и провел жатву. Так это
было или не так — но это же сцена, навеянная советскими
романами тех лет, от которых они там во Франции были в вос-
торге... «Время, вперед!», «Не переводя дыхания» и прочие.
Помнишь, как герой Павленко за ночь штурмом возродил крым-
ские виноградники. Мудрый совет Сталина, вдохновенный пар-
торг, ночь, фонари, штурм...
— Да они и сегодня не восстановлены, эти виноградники!
— И вот перед французами-литераторами герой их любимых
книг, советский директор, он написал книгу по образцу их
любимых книг, а они его не узнают... И книгу не узнают... Впро-
чем, они потом и живого советского крестьянина не узнали.
«Гренада, Гренада, Гренада моя...» Странный процесс, ты прав.
24 ЯНВАРЯ 1949 года,
ПАРИЖ, АВЕНЮ МОНТЕНЬ,
ОТЕЛЬ МЕСЬЕ ПУ ЛЕНАР А
Вечером в сопровождении двух полицейских Кравчен-
ко вернулся в свой отель, возле которого уже маячили люди в
штатском.
— Во всем мире, как и здесь,— сказал Кравченко,— этим
людям в штатском вовсе не нужно напяливать форму, чтобы
их немедленно узнали.
Предупрежденный полицией хозяин отеля месье Пуленар при-
нял немало и собственных мер. Надо сказать, что Кравченко
и Синтии даже нравилась эта игра со смертью, эти романтические
меры предосторожности.
«Однажды отец подвел мать к окну отеля,— рассказал мне
(сорок лет спустя) сын В. А. Кравченко.— Он сказал: «Вон
видишь опущенные жалюзи в домах? За каждым из них сидит
агент с кольтом...»
В те дни парижская вечерняя газета «Самди суар» писала:
«Кравченко мечтал о свободе... Он выбрал свободу. Но он больше
ею не располагает. У него семнадцать ангелов-хранителей. Стро-
50
го охраняемая свобода! Чтобы пробраться к нетйу, надо пробиться
через три барьера. Десять инспекторов государственной полиции
охраняют вестибюль. На пятом этаже семь американских сы-
щиков стерегут коридор. В приемной — четверо убийц, возведен-
ных в ранг специалистов по владению кольтом и вывезенных
специально из Мексики. Они сопровождают его повсюду».
Не следует слишком доверять цифрам, сообщаемым вечерни-
ми газетами, но инспекторы Нот, Андре, Марсель и Хеннери
действительно дежурили в соседнем номере. Вечерами, когда из-
мученный Кравченко кончал работу с Сашей и Синтией, инспек-
тор Хеннери начинал у себя пиликать на флейте, а инспектор
Андре — рисовать. С инспектором Хеннери Кравченко сошелся
довольно близко. Хеннери говорил по-русски, знал множество
русских пословиц, вставлял в свою неинспекторскую речь цитаты
из Уордсуорта и Китса. Это русский инженер, помешанный на
культуре и «культурном обращении», умел оценить.
Иногда, впрочем, в номере Кравченко разыгрывались и впол-
не некультурные споры. Так, один из лидеров украинского дви-
жения, оскорбленный тем, что Кравченко запретил поднимать
на процессе вопрос о независимости Украины, пригрозил увести
всех свидетелей-украинцев. Разгорелся скандал. Украинец Крав-
ченко требовал ограничиться общерусскими проблемами. Он во-
обще был русский патриот (точнее сказать, «интернационалист»
и «советский патриот», несмотря на употребляемый им расплыв-
чатый термин «антисоветский»). Он считал, что сперва вся стра-
на должна стать демократической и свободной, а потом уж воз-
можно станет разобраться в национальных проблемах... Кон-
фликт с украинцами удалось уладить. В отель «Сан Рош», где
жили за счет Кравченко его бедняки-свидетели, то и дело от-
правлялись его секретари — Саша и Синтия. Они же помогали
вести всю бухгалтерию, организованную очень странно, по-рус-
ски: в номере Кравченко стоял чемодан с французскими день-
гами. Об этом чемодане вспоминает и Роман Гуль: «Кравченко
с людьми мог быть резок, груб, в делах, вероятно, бывал очень
жестоким человеком. И в то же время он был по-русски сенти-
ментален и мог быть добр. Когда ему в Париже, после заседаний
суда, я рассказывал о какой-нибудь бедствующей семье, он
сразу же, без разговоров отпирал чемодан, полный франками,
и давал какую-нибудь крупную сумму... Особенно безотказен
был Кравченко, когда дело заходило о нуждающихся детях».
51
25 ЯНВАРЯ 1949 года. ПАРИЖ.
СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Выступление свидетеля-католика Пьера Дебрэ в за-
щиту «Леттр франсэз» было безнадежно путаным. Пытаясь ули-
чить сочинителя в аморальных проступках, бедный журналист-
попутчик из «Темуаньяж кретьен» запутался в дебрях чужой,
такой необычной морали. Ему не понравились, например, отноше-
ния героя книги с прекрасной Еленой, которая оказалась ос-
ведомительницей НКВД. Желая разоблачить Елену, Кравченко
заглянул к ней в сумку, что, конечно, показалось честному ка-
толику безнравственным. Свидетель называл Елену любовницей
Кравченко, что вовсе не казалось католику предосудительным,
зато вызвало негодование чопорного истца. Это позволило
мэтру Нордману уличить его в новой лжи.
Мэтр Нордман. Господин Кравченко нам сказал: «Елена
никогда не была моей любовницей, это неправда, и я никогда не
писал об этом в моей книге...» Я заключаю из этого, что г. Крав-
ченко не писал свою книгу, во всяком случае, не писал этого
куска о Елене, написанного в стиле более или менее порногра-
фическом, который характерен для всех тех мест в книге, где за-
ходит речь о женщинах,— здесь рассказано, как Елена стала
любовницей Кравченко... Так вот пусть он встанет, чтоб его пово-
дырь не мог ему подсказать.
Кравченко. Господа, когда я нападаю на вас, вы прикры-
ваетесь Сопротивлением. Я чту Сопротивление, но вы спекули-
руете этим заслоном, и вы не знаете ничего другого. Вы не знаете
фактов, вы не знаете советской действительности, вы ничего не
знаете. Вы вываливаете на меня вульгарные грубости, обливаете
меня грязью, вам не стыдно?
Я был членом партии, и вчера я уже сказал, что стыжусь
этого.
Я не писал об этой женщине, что она была моей «любовни-
цей», потому что слово «любовница» имеет в русском языке
крайне вульгарное звучание. Когда вы произносите по-русски
это слово, вы придаете ему значение грязное и уничижительное.
Я не хочу вдаваться во все эти детали, потому что эта женщина
была «мой большой друг». Вы привлекаете внимание суда к этому
эпизоду и вы делаете Елену моей любовницей, но единствен-
ное, о чем вы не говорите,— это о том, что эта женщина была
жертвой советского режима, вы не говорите о том, что она вынуж-
дена была предавать, обязана была доносить на своих соотечест-
венников. Вы циники, и у вас нет совести, у вас нет чести, вы види-
те в этом только грязь, тогда как для меня это драма, это драма
52
нашей жизни, и я категорически отвергаю вашу трактовку этого
эпизода. Это вы занимаетесь порнографией, а не я. Я категори-
чески отвергаю эти утверждения и подобные характеристики,
даваемые живому человеку, женщине, которую я любил, которой
я восхищался и которая пережила личную драму, которая
слишком дорого заплатила за все... Для меня это живое существо,
человеческое существо...
Я хотел спросить у суда, каков тираж этой вашей газеты?
Мне говорили, что речь идет о 65 тысячах экземпляров...
Морган. 100 тысяч.
Кравченко. Неужели Францию спасли всего 65 тысяч
человек? Что позволяет вам присваивать себе эту миссию? Кто
дал вам право говорить от имени всех жертв, понесенных
Францией в борьбе? Ваша игра — это грязная спекуляция. Вы
стараетесь поставить себе на службу эти жертвы Франции, ими
прикрыться!
Неужели люди, которые выступают против меня, защищают
интересы Франции? Если б это было так, они не носили бы
Сталина в кармане.
25 ЯНВАРЯ 1949 года.
ПАРИЖ. БУЛЬВАР ИТАЛЬЯНЦЕВ.
ГАЗЕТА «МОНД»
«Кравченко взрывается, он ударяет по столу огромным
кулаком, и остальным приходится воздержаться... Его взрыв
возмущения по поводу слова «любовница», бесспорно, был тро-
гательным».
1973 год. МОСКВА.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС».
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
В ту недалекую от нас пору на редакционном совете
издательства «Прогресс» некая редакторша предложила издать
один, даже на ее тогдашний взгляд, совершенно невинный роман
Владимира Набокова. Встал один из моих сокурсников (сделав-
ший к тому времени профессорскую карьеру) и возмущенно ска-
зал: «Как вы, жена и мать, можете всерьез предлагать нам
автора «Лолиты»?» Время было мягкое, и редакторшу отпустили
с Богом, кажется даже за границу. Ну а сокурсник-обличитель?
Его сперва уличили таможенники (он был уже тогда «выездной»
53
и провозил порнягу из Америки), потом московская милиция:
дома он снимал какую-то порнягу на кинопленку. Не странно
ли, что именно учителя нравственности (вспомните ответствен-
ного за идеологию в стране т. Александрова, воспитателя масс
т. Берию и еще кое-каких воспитателей юношества) попадались
в те годы осатанелого ханжества на пристрастии к самой насто-
ящей порнухе, к афинским ночам на казенный счет и тому подоб-
ному...
(Об этой истории с Набоковым
можно прочесть и в воспомина-
ниях покойной Р. Орловой в жур-
нале «Форум», 1989, № 20.)
25 ФЕВРАЛЯ 1949 года. МОСКВА.
САДОВАЯ-СПАССКАЯ.
МОСКОВСКИЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ
Наш маленький уютный институт потрясали собрания
и разборы, нечто вроде чисток. Конечно, мы еще не знали толком
о страшной порнографической угрозе, которая уже наползала
через океан на Францию и так волновала «Леттр франсэз». Не
знали мы и книги Кравченко (которая, на нынешний взгляд,
не более порнографична, чем «Хижина дяди Тома»). Зато мы
знали тогда два вида проработок: «политкосмополитические»
и «морально-этические». По два раза в неделю мы собирались
для «охоты за ведьмами»...
В тот февральский день у нас была скромная чистка в
масштабах редакторской группы. Мой близкий друг в затрапез-
ном пиджачке тогдашней бедняцкой нашей моды занял место
за прокурорским столом и сказал дрожащим от волнения го-
лосом:
— Лида, до нас дошли сведения, что ты жила с Юрой.
Друг мой был полон искреннего возмущения: сам он понять
этих нелепых отношений с женщинами не мог. Но взрослый
фронтовик Юра — в чем он-то был виноват? (Он тогда попла-
тился институтом. Юра, где ты теперь, ау?) Из неосознан-
ного внутреннего протеста я пустил по рядам стишок Бернса:
«И кому какое дело, если у межи...» Комсорг пригрозил мне
разбором... Пронесло: сам я был маленький, безобидный и еще ни
с кем «не жил». Может, просто счастливая звезда...
54
25 ЯНВАРЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Гренье. Совершенно удивительно, если вернуться к
вопросу о чистках, об исключениях и репрессиях, которые пред-
ставлены тут как совершенно ужасающие, автор ни разу не
объяснил, как он ухитрился пройти через все это целым. Он
живет в стране, превращенной в настоящую каторгу, где за одно
«да» или «нет» можно угодить в Сибирь, и вот на тебе, читаем:
«Думали не раз, что подошла моя очередь, но моя счастливая
звезда не утратила своей магической силы...»
1966 год. США. ШТАТ АРИЗОНА.
СКОТОВОДЧЕСКОЕ РАНЧО «ДВА КОПЫТА»
«Одной из величайших трагедий личной жизни Викто-
ра было то, что он по натуре своей был мистик (как и многие
славяне), но при этом был совершенно извращен, и придавлен,
и искривлен диалектикой и дидактикой своего образования».
(Из письма Синтии Кюзер-Эрл,
написанного вскоре после смерти
В. А. Кравченко.)
25 ЯНВАРЯ 1949 года. ПАРИЖ.
СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Свидетель «Леттр франсэз», директор «Юманите»,
писатель Пьер Куртад предупредил, что он будет обсуждать
книгу Кравченко «в плане, так сказать, техническом».
Куртад. ...Что мне показалось наиболее характерным в этой
книге — это то, что вещи, которые Кравченко, по его словам,
видел собственными глазами, эти вещи, Бог мой, они, может
быть, неприятны ’, но не могут послужить для принципиаль-
ной критики режима. А то, что могло бы послужить для прин-
ципиальной критики режима 1 2, никогда не появляется среди тех
1 Речь, видимо, идет о кровавой коллективизации, «большом терроре»,
атмосфере слежки, нищете, неравенстве, несвободе, нерациональном ведении
хозяйства.
2 О чем идет речь, неясно.
55
вещей, которые видел Кравченко. Вот это, мне кажется, первое,
что бросается в глаза в книге.
Остается еще личность Кравченко, которая, думается, пра-
вильно отражена в книге. Я хотел бы охарактеризовать ее дву-
мя отрывками из книги самого Кравченко, которые я хотел бы,
если разрешите, зачитать. Вот как Кравченко... вступил в ком-
мунистическую партию: «...Вера в нее развивалась во мне испод-
воль, мало-помалу, с течением времени... Я не хочу оставаться
вне партии и критиковать. Я хочу честно работать в рядах пар-
тии, бороться против всего, что есть дурного, и поддерживать
все хорошее».
Здесь выражен символ веры.
...Прошло двадцать лет, нет, пятнадцать лет, и вот второй
текст...
(Здесь Пьер Куртад приводит тот самый отрывок, который
мы дали в начале своей книги, в главке «2 апреля 1944 года.
Два часа ночи. Вашингтон. Вокзал «Юнион стэйшн».)
...Я думаю, что это правдиво, я думаю, что эта часть книги
господина Кравченко правдива, потому что никакой литературной
техникой этого не передать. Это то, что чувствовал господин
Кравченко. Он, кажется, предрасположен к этой живой чувстви-
тельности своим темпераментом, проявления которого вы уже
наблюдали во время заседаний суда.
(Далее Куртад высмеивает зубную боль Кравченко, которая
вынудила его лечь в госпиталь то ли во время Сталинграда,
то ли раньше, а также смехотворное, с точки зрения Куртада,
описание ночной работы в Совнаркоме.)
Куртад. Ибо что является, господин судья, драмой советс-
кой жизни? Драма советской жизни в том, что Сталин ложится
поздно и работает по ночам, а потому миллионы личностей по
всей территории Советского Союза сидят привязанные к телефо-
ну, надеясь на то или боясь того, что Сталин позвонит им из
Кремля: «... столица приспосабливала свой режим жизни к до-
вольно эксцентричному режиму Сталина... Вот почему отливы
и приливы официальной жизни по всей России зависели от
прихода в кабинет и ухода...»
Кравченко. Это точно.
Куртад. «...приземистого и рябого от оспы грузина. Было,
впрочем, учреждение, которое работало 24 часа в сутки,—НКВД,
которое не думало о режиме и не спало никогда».
56
23 ИЮНЯ 1989 года. ПОЛДЕНЬ.
ПАРИЖ. АВЕНЮ ОШ. КАФЕ
— Я думаю, что портрет Сталина мог написать сам
Юджин Лайонс,— сказал Гийом Малори.— Кравченко не встре-
чался со Сталиным, а Лайонс брал у него интервью в 1931 году,
когда журналисты в Риге пустили слух об исчезновении Ста-
лина. У Лайонса уже встречался этот портрет отца народов —
совсем маленького, коренастого, сухорукого, пузатенького,
с желтым лицом, изрытым оспинами... Прямо скажем, далеко-
вато от юного красавца в идеальном представлении Пикассо.
— Я думаю, что Кравченко, в общем-то, повезло с Лайонсом.
— Конечно. Единомышленник...
— Странно все же, что обвиняемые искали «бригаду мень-
шевиков», разбирали и сличали тексты, но не удосужились
почитать книги Юджина Лайонса... Отчего же процесс был так
плохо подготовлен защитниками «Леттр франсэз»? Что они —
считали подготовку ненужной или они были застигнуты врас-
плох?
— И то и другое, наверное.
26 ЯНВАРЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Судья. Ваше имя?
В е р к о р. Жан Булер, по прозвищу Веркор. (Свидетель под-
ходит к присяге.)
Судья. Вы можете начать ваше заявление.
Веркор. Нетрудно понять, что я думаю о Клоде Моргане
и «Леттр франсэз», ибо я узнал их в самый трагический момент
французской истории, вместе с ними мы защищали свободу
самовыражения и вместе доказывали, что любим нашу страну...
Мэтр Нордман. Что бы подумали в апреле 1944 года
ваши друзья по Сопротивлению, бывшие людьми разных убеж-
дений, и что подумали бы вы сами, если бы узнали о поступке
Кравченко?
Веркор. Бог мой, да это ясно, мы подумали бы то, что мы
думали в тот момент обо всех агентах антисоветского фронта
в нашей стране и в особенности об агентах Антибольшевистской
лиги, об антисемите и об антимасоне Поле Шаке, который был,
если не ошибаюсь, расстрелян именно за это.
Мэтр Изар. Господин Веркор, который так сурово вы-
57
сказывается о книге Кравченко, не припомнит ли он, что гово-
рили о нем самом коммунисты в тот момент, когда он опублико-
вал свое «Молчание моря»? Господин Илья Эренбург писал:
«...книга Веркора мне кажется оскорблением для французского
народа... Моя любовь к Франции обязывает меня со всей реши-
тельностью подняться против книги Веркора и против тех фран-
цузов, которые, будь то в Лондоне или в Африке, пытаются оп-
равдать эту непристойную книгу...»
1957 год. ПАРИЖ. КАБИНЕТ ВЕРКОРА
«Я играл неблагодарную роль больше двенадцати
лет... Я перестал сотрудничать в коммунистической печати и в
особенности в «Леттр франсэз», потому что больше не мог выра-
жать свои мысли свободно.
Позднее закипело дело Сланского и «убийц в белых халатах».
Мы приземлились на той самой точке, которую я тогда приводил
в пример,— на антисемитизме».
(Веркор. Чтоб уйти в отпуск. Париж, 1957.)
27 ДЕКАБРЯ 1956 года.
ПАРИЖ. КАБИНЕТ ВЕРКОРА
«Сегодня вы знаете, что правда была не так проста,
что антисемитизм существовал, что убили писателей, писавших
на идиш... Вы знаете и многое другое. Знаете, что множество
преступлений было совершено под покровом тайны или лжи. Вы
не должны, я убежден в этом, думать без боли об Исааке Ба-
беле, Платонове, Борисе Пильняке, без боли и чувства унижения.
Конечно, все это прошло. Но знаете, как говорят: «Если он тебя
обманет один раз, позор ему. Если он тебя обманет дважды,
позор тебе».
(Из письма Веркора советским писателям.)
26 ЯНВАРЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Свидетелем «Леттр франсэз», выступившим вслед за
знаменитым писателем Веркором, был профессор истории Жан
Баби. Он заявил, что с точки зрения историка книга Кравченко
58
является «абсурдной», и выразил сомнение в' правдоподобности
сцен коллективизации.
Б а б и. Значительная часть книги посвящена положению
крестьян. Потом часть книги посвящена проблеме рабочих, и
тут главная мысль, что рабочим хуже при советском строе, чем
было при царизме. Имея всю сумму исследований, какие только
можно иметь, я прихожу к мысли, что это нелепость...
Большая часть книги посвящена так называемым чисткам.
Все это украшено длинными историями о грубости ГПУ и пыт-
ках, которым подвергались члены партии или просто люди, на
которых падало подозрение... Говоря об одной их этих чисток,
которую он называет «суперчистка», господин Кравченко или
тот, кто подписался этим именем, пишет: «Но чистка, настоя-
щая чистка, опустошила страну, забрала еще десяток миллионов,
о которых никогда не говорили и судьба которых решена была
казнью, ссылкой или принудительными работами».
...А вот на странице 411 читаем в предпоследнем абзаце:
«Масштабы этого проклятия так никогда и не были поняты
внешним миром. Может, было оно слишком огромно, чтоб его
вообще можно было понять, объять умом. Россия преврати-
лась в поле битвы, усеянное трупами и перепоясанное колючей
проволокой, где отбывали срок несчастные «пленники», где они
страдали и умирали... Как могло воображение вместить столь
обширную картину? Единственное, на что оно было способно,
это бросить взгляд на ту или иную деталь и по частям судить
о целом».
Автор заканчивает следующей интересной фразой: «В целой
истории человечества я не нахожу ничего равного по размаху
этому безжалостному и целенаправленному преследованию, ко-
торым впрямую или рикошетом были задеты десятки миллионов
русских. Рядом со Сталиным сам Чингисхан выглядит любите-
лем-самоучкой... Эту бешеную войну до победного конца ведет
против собственного народа кремлевская клика...»
Кравченко. Все точно!
Б а би. Есть цифры и общая картина, которые могут быть
вынесены на суд историка. Как историк, я могу вам сообщить,
что в 1917 году, к началу революции, в России насчитыва-
лось 117 миллионов человек, в 1939 году насчитывалось 180 мил-
лионов. Мне кажется, что если бы были десятки миллионов
жертв, а с 1917 по 1920 год еще ведь и шла война, которая
принесла разрушения, к тому же в 1920 году был голод, кото-
рого никто не отрицает, то эти цифры приходят в прямое про-
тиворечие с заявлением о том, что Россию опустошил человек,
который был хуже Чингисхана и который объявил войну...
59
Судья. Вы допускаете, что за это время советское населе-
ние увеличилось со 117 до 180 миллионов. Единственное, чего
вы не допускаете, это того, что оно могло увеличиться, понеся
при этом потери, которые вы оцениваете в какую цифру?
Б а б и. Лично я полагаю, что вообще не было никаких реп-
рессий.
Судья. Ну, возьмем 20 миллионов.
Б а б и. Я отказываюсь от этой цифры... Что еще там за по-
тери? В своей книге Кравченко говорит, что одна чистка унесла
10 миллионов.
Судья. Значит, вы допускаете, что за этот период население
России могло без труда возрасти на 63 миллиона человек, но не
допускаете — на 73 миллиона человек?
Б а б и. Мне это кажется абсурдным.
Судья. Но вам не кажется абсурдным предположить, что
население России выросло с 1917 до 1939 года со 117 до 180 мил-
лионов. А абсурдным вам кажется, что оно могло вырасти за тот
же самый период со 127 до 180 миллионов.
Баби. Нет, этого не может быть.
20 ИЮЛЯ 1982 года. ИТАЛИЯ.
ВАЛЬТЕЛЛИНА. СОН ДАЛО.
КВАРТИРА ЭЛЬДЫ КАПИТАНИ
— Поживите у меня, а я пока у родителей поживу,—
сказала Эльда, передавая нам ключи от квартиры, и я снова по-
думал, что такая щедрость встречается здесь все-таки чаще всего
у «левых». Вот небось и учительница Эльда тоже...
Мы поселились на окраине древнего села Сондало, в виду
гор, виноградников и швейцарской границы. Гуляли с коляской
по древним, серым улочкам, нянчили свою Сандру-Саньку. А по-
том, ничего не объясняя, ко мне пришла бессонница. Сельская
поликлиника, разместившаяся в пустующих корпусах муссоли-
ниевского легочного санатория, не могла дать средства от рус-
ской бессонницы. Оставалось слоняться всю ночь по квартире,
читать... Я перечитал все, что привез из Парижа, и все, что
одолжили мне на русском факультете в Бергамо. Потом взял-
ся за хозяйские книги. Это были по большей части многотом-
ные курсы истории, так как Эльда Капитани была учительницей
истории. Конечно, я читал не все подряд — я высматривал, нет
ли про Россию. И тут меня ждало открытие. Их книги были
в восторге от всего, что произошло на моей родине за последние
60
семьдесят лет. Нет, конечно, они приводили некоторые страш-
ные цифры и не менее страшные факты. Однако потом шло
резюме, и какой-нибудь итальянский Баби говорил, что так нам
и надо (и им тоже это было бы нужно), потому что без нацио-
нализации нет коллективизации, без коллективизации нет индуст-
риализации, без индустриализации нет электрификации, без
электрификации нет интенсификации... «А третий слог, досуг
имея...» — писал ребусник Синицкий. Иными словами, все было
там у нас хорошо, полезно и высоконравственно, все вызывало
восторг и сочувствие, потому что у нас там, за синь-морями,
была достигнута полная свобода, мы обогнали их по производ-
ству чугунных чушек на душу населения, а они все отстают,
отстают, отстают... Ничего у них нет, и только вот удалось выве-
сти эту удивительную породу специалистов по России. Хотел бы я
почитать сегодня — как они там перестроились...
ИЮНЬ 1989 года. МОСКВА.
БУМАЖНЫЙ ПРОЕЗД, 14. ЖУРНАЛ «СМЕНА»
«В январе 1937 года в СССР была проведена третья
Всесоюзная перепись населения. Сталин возлагал на нее боль-
шие надежды. Перепись должна была продемонстрировать все-
му миру достижения страны социализма. Прирост населения
за одиннадцать лет... мог составить около 37,6 миллиона.
Однако перепись дала ошеломляющие результаты: ...общий
прирост составляет лишь 7,2 миллиона. Сколько смертей при-
шлось на тюрьмы и лагеря, сколько на голод — установить не-
возможно.
Объявлять результаты? Не лучше ли объявить перепись
1937 года вредительской? Именно так и поступил Сталин... Дан-
ные переписи были немедленно уничтожены... Первой слетела
с плеч голова начальника ЦСУ Ивана Адамовича Краваля...
Генсек назначил новую перепись на 1939 год. И она дала то, что
нужно: число подданных оказалось равным 170 миллионам.
«Прирост» за два года — 14 миллионов... Произошло чудо. Од-
нако при сравнении с результатами переписи 1926 года чудо
сразу поблекло, 21,2 миллиона прироста за 13 лет — негусто...
9 процентов от общего прироста населения вместо ожидаемых —
и естественных — 29 процентов.
Под каким нажимом, с применением каких «поправочных
коэффициентов» получена эта утешительная цифра — 170 мил-
лионов, как удалось «причесать» непослушную статистику, мог
61
бы рассказать Владимир Николаевич Старовский, новый на-
чальник ЦСУ. Статистические манипуляции принесли ему в свое
время звание Героя Социалистического Труда и члена-кор-
респондента Академии наук...»
(Антон Антонов-Овсеенко. Дело
о пропавшей переписи // Журнал
«Смена» № 11 за 1989 г.)
10 МАЯ 1989 ГОДА. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ.
ЗАЛ 17-й ПАЛАТЫ
— Что ж, посидите, если хочется,— сказал мне
молоденький полицейский.— А зачем это вам?
— Так... Книжку хочу написать про 17-ю палату.
— О-о! Разбогатеете. Как Сименон.
Я жизнерадостно киваю. Зачем я буду объяснять парижскому
ажану, что от книжек во Франции не богатеют, если я в этом
даже московских литераторов убедить не могу.
Зал как зал... В золоченой мозаике ниши видится дама во
фригийском колпаке. В медальонах потолка — факел, змея, об-
вивающая зеркало, и весы на карающем мече правосудия... Вот
тут он и закричал на весь Париж, на весь мир, злосчастный
перебежчик Кравченко, о неправедном, окровавленном мече.
Чтобы понять взрывную силу его публичного заявления, на-
до сначала представить себе тогдашний Париж и Францию, где
больше трети населения голосовало скорей за Сталина, чем за
собственное правительство. Где имена Молотова или Жданова
звучали как имена святых и мудрецов, присваивались древним
улицам взамен какого-нибудь Святого Франциска. Чтобы пред-
ставить это, надо вспомнить, как известный историк-комму-
нист Жан Баби заявил в этом вот зале, вполне довольный собой
и своей наукой: «Лично я полагаю, что вообще не было никаких
репрессий». И ушел пить кофе еще более известным, чем при-
шел. Заодно можно понять, отчего взрыв не состоялся. Каждый
ушел из зала с тем, с чем и пришел. Только поздней обнару-
жилась скрытая сила этого взрыва — в 1956-м, в 1968-м, когда
танки вошли в Прагу, в семидесятых, когда вышел «Архипелаг
ГУЛАГ»... В книге Солженицына есть одна строка — простое
упоминание о процессе Кравченко. Французский историк про-
цесса Гийом Малори развернул ее в красочный абзац. Ее можно
было бы развернуть в роман (как и многие строки этой книги
поразительной силы и поразительной судьбы)... В ноябре
62
1949 года на куйбышевскую пересылку попадает молодой за-
ключенный Петя П-в. Немцы мальчишкой вывезли его в Герма-
нию. После войны он скитался по Западной Европе, занимался
перепродажей машин и еще чем-то малопочтенным, а потом ре-
шил вернуться на родину, где и был, конечно, немедленно аре-
стован... Он и принес в тюрьму весть о том, что существует не
только Большая зона, но и какой-то совершенно иной, неви-
данный мир со всеми его приманками и чудесами, в тысячу раз
более манящими издали, чем вблизи. И вот там, в этом мире —
чудо из чудес! — в самом центре этой древней цивилизации,
в городе Париже, какой-то русский беглец вызвал в суд оскор-
бившую его газету, а на суде во всеуслышание заявил, что «ма-
ленький рыжий мясник» вовсе не лучший друг советских детей,
не великий миротворец, не творец языкознания и прочих наук,
не добрый и нежный философ в простой шинели, а жестокий
костолом. И что он по этой части хуже самого Чингисхана...
Можно вообразить, как слушали эти невероятные Петины
рассказы оторванные от мира зэки в своем очередном пересыль-
ном аду. Это мы можем вообразить, потому что нам помогают
в этом книги Солженицына, рассказы Шаламова... Куда труд-
нее представить себе тогдашние восторги профессора Баби или
Веркора, потому что об этих людях не осталось нам ничего,
кроме романов Эренбурга или Вюрмсера, кроме эпопеи Арагона.
Как по этим схемам восстановить картину ушедшего наводне-
ния? Погасшие опьянение и восторг? А все же мы должны попы-
таться...
26 ЯНВАРЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Кравченко. Господин судья, в понедельник я
представляю официальные советские документы о чистке в Цент-
ральном Комитете.
А сейчас я остановлюсь только на нескольких деталях...
19 февраля 1941 года были опубликованы официальные данные...
Этот доклад знакомил со средним возрастом участников
XVIII партийной конференции: 163 человека имели возраст до
35 лет, 195 — от 36 до 40 лет, 90 — от 41 до 50 лет, старше 50 —
только восемь. И если вы взглянете на эти даты — 1941 год и год
революции — 1917-й, вы поставите логичный вопрос: кто эти
восемь человек из окружения Сталина? И где все остальные, те,
кто совершал революцию, кто создавал промышленность, эко-
63
номику, культуру? Где миллионы других? И второй пункт... В том
же докладе сказано, что в промышленности осталось только
22 процента специалистов с высшим образованием. И вот я
спрашиваю: после того как с 1917 по 1941 год вся система техни-
ческих вузов выпускала специалистов... что стало с миллионами
тех, кого они выпустили? Они в концлагерях, они в тюрьмах,
они в ссылке, многие из них ликвидированы. И это специалисты,
вышедшие из рабочего класса, о которых так хорошо говорил
Сталин, и другие, о которых так складно врал весь мир, это вы их
уничтожили.
Судья. Вы хотите продолжить, господин Баби?
Б а б и. У меня не создалось впечатления, что Кравченко до-
статочно быстро понимает вопросы, которые ставятся.
Мэтр И з а р. А вы — те вопросы, которые вам ставят.
Вюрмсер. Существует демографическая ситуация, кото-
рая свидетельствует о стремительном росте населения в СССР, а
Кравченко говорит, что там убили миллионы. В подобной атмос-
фере разве можно было бы мечтать о столь стремительном
росте населения?
28 СЕНТЯБРЯ 1989 года. КОКТЕБЕЛЬ.
СТОЛОВАЯ ДОМА ТВОРЧЕСТВА
Журналистка Надежда Железнова, сидящая напро-
тив меня за столом, вспоминает:
— Моя мать проходила по делу автозавода имени Сталина...
Того самого завода, где Фернан Гренье видел мирную чистку.
На деле же «чистили» еврейский антифашистский комитет.
Мама погибла в подвале тюрьмы... Расстреляна... Во время
«Недели памяти» я была аккредитована при «Мемориале»...
— Какие цифры называли там, в «Мемориале»?
— Называли, по меньшей мере, 18 миллионов погибших в
лагерях и тюрьмах. Общее число погибших после 1917 года —
около 64 миллионов. Но учтите — официальной цифры еще нет.
Да и сам «Мемориал» не имеет пока официального статуса.
По цифрам Антонова-Овсеенко — 16 миллионов заключенных
было только в 1938-м...
Бедный профессор Баби с его липовым приростом населения!
И что такое этот прирост вообще? Самый бешеный прирост
отмечен в голодной черной Африке, в Индии, в Китае...
«Левые» западные эксперты, говоря о сталинской России, не
соглашались признать даже тысячные потери. Иные все же усту-
64
пали какую-нибудь мелочь. Одним из весьма заметных знатоков
считался Александр Верт, как-никак он прожил семь лет в Рос-
сии в самые тяжелые годы. Знаменитый автор сообщил «Нью-
стэйтсмен энд нейшн», что он лично проанализировал эти мил-
лионные цифры и пришел к выводу, что заключения всей этой
«школы мыслителей, стоящих на глиняных ногах», вроде Крав-
ченко, неубедительны. Верт пришел к цифре в два миллиона
убитых как наиболее вероятной. И кажется, наиболее для него
приемлемой, ибо за семь лет, что он провел в СССР, Верт
«убедился», что «НКВД не имеет большого касательства к жизни
простых людей», и это, на его взгляд, развенчивает «миф о Рос-
сии как о большом лагере». Про Большую зону внимательный
Верт даже не слышал. Скромная цифра в два миллиона убитых
должна была в глазах Верта и других гуманистов оправдать про-
исходящее. Что касается чисток тридцатых годов, то Верт считал
человеческие потери за эти годы просто «несущественными»,
«вероятно, не более 10 тысяч человек». Хотя, по признанию
гуманиста, «это, конечно, не означает, что с гуманистической
точки зрения это не был один из самых позорнейших эпизодов в
человеческой истории». «В СССР настоящий социализм,— пи-
сал Сартр,— но он характеризуется практической необходимо-
стью или исчезнуть, или стать тем, чем он является, с помощью
отчаянных и кровавых усилий... При известных обстоятель-
ствах это выведение среднего из противоречий может стать си-
нонимом ада...» Другие западные интеллектуалы, настроенные
менее философично, говоря о соотношении средств и целей, оп-
равдывали все средства во имя великой цели. Что до чужой крови
и чужого ада, то они казались вполне райскими в чужой лазо-
ревой дали, откуда редкие благожелатели-визитеры привозили
лишь воспоминания о детских садах, украшенных портретами
великого друга детприемников, о черной икре и улыбках девушки-
гида, чьи рассказы на инязовском иностранном языке заполня-
ли их достойные всяческого доверия блокноты.
ИЮНЬ 1989 года. МОСКВА.
БУМАЖНЫЙ ПРОЕЗД, 14; ЖУРНАЛ «СМЕНА»
«В 1956 году... Президиум ЦК испросил у органов
цифры. Сведения, собранные «внутренними» статистиками, вы-
глядели так: с 1935 по 1940 год через Лубянку и ее филиалы
прошло 19 840 тысяч человек. Из них 7 миллионов было рас-
стреляно в тюрьмах. Остальных отправили на медленную смерть.
3 Б. Носик 65
20 миллионов... Четверть взрослого населения страны — без
детей и престарелых. Почти все погибли. В числе убитых и заму-
ченных в лагерях — лучшие умы, цвет народа».
(Антон Антонов-Овсеенко. Дело
о пропавшей переписи // Жур-
нал «Смена» № 11 за 1989 г.)
26 ЯНВАРЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
В тот день выступали знаменитые попутчики ком-
партии и друзья «Леттр франсэз». Среди них был и знамени-
тый общественный деятель, в годы войны комиссар внутренних
дел Временного правительства в Алжире, французский аристо-
крат Эммануэль д’Астье де ля Вижери.
Судья. Какова ваша профессия, господин д’Астье де ля Ви-
жери?
Д’Астье де ля Вижери. Член Национальной ассамблеи...
Вот мое заявление, простое и официальное: если бы Кравченко
был в Алжире, если бы он сделал заявление или опубликовал
статью на территории Свободной Франции, подобную той, ко-
торую он дал в «Нью-Йорк тайме», назавтра я в качестве ко-
миссара внутренних дел арестовал бы его за вражескую про-
паганду... За его поступок, совершенный в 1944 году, я считаю
его врагом его страны и его народа, врагом победы. А за его
книгу, изданную в 1946 и 1947 годах, врагом Франции и врагом
мира.
(Завязывается малоинтересная для нашего читателя пере-
палка между д’Астье и мэтром Изаром. Мэтр Изар доказывает,
что совсем еще недавно д’Астье де ля Вижери был на противопо-
ложных позициях и нелестно отзывался о коммунистах. Не зна-
чит ли это, что в скором времени, может быть, завтра... Как в воду
глядел многоумный мэтр Изар.)
1963 год. ПАРИЖ.
КАБИНЕТ Д’АСТЬЕ ДЕ ЛЯ ВИЖЕРИ
«Когда я впервые приехал в Москву в 1949 году,
город и окрестности утопали в предметах сталинской иконогра-
фии: портреты везде — в квартирах, на улицах, портреты из кам-
ня, из бронзы, из картона. Как в любом религиозном обществе,
66
официальное искусство — единственное, которое там существу-
ет,— преподносит вам пресный, банальный и святошеский облик,
который преследует вас как наваждение. Сталин был велик. Его
лицо, обшарпанное стигматами времени и насилия, было лицом
лукавого деда, ворчливого и доброго, омоложенного и загримиро-
ванного под персонаж детского театра...
...Приезжий должен был довольствоваться здесь проповедя-
ми о счастливом будущем, выпадами против других режимов
и других религий, должен был наблюдать, как поднимают кам-
ни и сталь, а также убирают хлеб на новых землях. Он отмечал,
что эта масса людей, взращенная режимом, наделена щедрой
душой, долготерпением, привычкой к трудностям и уверенностью
в будущем.
Благосостояние, воспеваемое с общепринятым лиризмом, или
вести о несчастьях, сообщаемые на ухо друг другу, носили так-
же характер мифический...
Не следует забывать о культе, надо помнить эпизоды, кото-
рые пережил сам и которые переживали другие, примиряясь с
ним. ...Амстердам 1952 года, где происходила Ассамблея мира.
На площади перед вокзалом, на который прибывали советские
делегаты, толпа молодых девушек, здоровых и смеющихся, во-
дит какой-то бешеный хоровод и скандирует: «Ста-лин... Ста-
лин...» Я был там, раздосадованный, удрученный, но тоже во-
влеченный во все это, ошалевший, точно на конгрессе республи-
канской партии в Нью-Йорке или на съезде в Москве, когда
тысячи людей ритмично хлопают в ладоши. Завороженность
толпы, охваченной религиозным чувством: а все религии, будь
это католицизм в X веке или марксизм в XX, даже когда они яв-
ляются на свет после бунта любви и мудрости, воззвавшего к
достоинству и свободе духа, рискуют кончить одними лишь
пропагандистско-воспитательными ритуалами да исступлением,
отчуждающим душу».
«Коммунистический мир на протяжении тридцати лет, с 1926
по 1956-й, безоговорочно поддерживал действия Сталина, не-
укоснительно следовал мысли Сталина. Именно эту безусловную
поддержку следует обвинять более, чем самого Сталина. Эта
абсолютность, которая, как обычно, приводит к признанию
непогрешимости руководителя, еще далеко не изжита сегодня.
Недостаточно, чтоб вполголоса была произнесена критика или
как ее замена — самокритика. Надо, чтоб критика или ясно вы-
раженная тенденция не становилась объектом оскорбительных
нападок, физических или моральных угроз в адрес людей, кото-
рые позволяют себе эксперименты. Нет нужды и в том, чтобы
вожди били себя в грудь, признавая вину.
6^
Мы все виноваты.
...Интерпретируя Маркса, его кодируя, Сталин заменил на-
шего удобного Бога целью Истории, так сказать Великим Ме-
ханизмом, доктриной о грядущем рае как конечной цели вселен-
ной, путь к которой идет через апокалипсис, обязательным ге-
роем которого является Сталин...
Все, кто отказывается разделить виденье вождя, будут заклей-
млены как буржуа, капиталисты, ревизионисты, ползучие гады.
Все, кто усомнится, станут продажными агентами. Тысячу лет
спустя мы снова возвращаемся к манихейству, к фантастиче-
скому противопоставлению Христа и Антихриста, к дуалисти-
ческому миру добра и зла. Сталин превращается в гигантского
паука, вовлеченного в паутину собственной системы и не разли-
чающего больше пожираемых им мух».
(Д’Астье де ля Вижери.
О Сталине. Париж, 1963.)
26 ЯНВАРЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Прежде чем предоставить слово для заявления своему
свидетелю, профессору Перюсу, мэтр Нордман поинтересовал-
ся статьями о производстве труб, которые Кравченко публиковал
двадцать лет назад в России, а также точными датами их публи-
кации.
Кравченко. Я помню приблизительно.
Мэтр Изар. У него хорошая память.
Мэтр Нордман. Очень хорошая.
Вюрмсер. Удивительная!
Мэтр Нордман. Я хотел бы теперь, чтобы г. Кравченко
рассказал нам, какой издатель выпустил в Канаде его книгу
по-украински?
Кравченко. С публикацией на украинском произошло не-
доразумение. Книга была напечатана в Монреале газетой «Ук-
раинский рабочий». Поскольку переводчик позволил себе неко-
торые вольности и исказил некоторые куски без моего ведома,
а некоторые выбросил, я заявил протест против этой публика-
ции. С другой стороны, я отдал им свой текст бесплатно, без
гонорара и не хотел, чтобы они его продавали. Во многих местах,
в разных странах публикация приобрела антирусский характер.
А я не хотел написать антирусское произведение, я хотел на-
писать произведение антисоветское. Теперь тысячи экземпля-
68
ров украинского издания лежат в Канаде, так как я через своего
адвоката запретил их продажу.
П е р ю с. Я профессор лицея Вольтера при университете
Клермон-Феррана... Американский друг прислал мне вырезку из
русской газеты от 2 мая 1948 года, где есть статья Кравченко...
Тем, кто знает русский язык, ясно, что текст, подписанный
Кравченко, не мог быть написан по-русски, а мог быть написан
американцем. Я начну с ошибок в орфографии... Глагол «апелли-
ровать» написан с двумя «п» и одним «л». А по-русски надо
одно «п» и два «л». Таким образом, орфография не русская, а
американская.
Судья. То есть вы утверждаете, что Кравченко сделал ор-
фографическую ошибку.
Мэтр Изар. Или газета допустила опечатку.
Судья. Во всяком случае, там орфографическая ошибка —
там одно «л», а нужно два.
Кравченко. В апреле, не помню точно дату... газета
«Франс суар» попросила меня дать интервью ее нью-йоркскому
корреспонденту... Как-то вечером мы явились к этому господину
вместе с моим переводчиком, и я надиктовал свой текст, кото-
рый переводился по мере необходимости на французский. Меня
тут спрашивают, почему я опубликовал потом эту статью в
«Новом русском слове». Потому что мне надо было связаться
с русскими из Германии, Австрии и Италии, которые зна-
ют жизнь в Советском Союзе. И есть разница между тек-
стами, напечатанными в «Франс суар» и в «Новом русском
слове».
Например, в русской газете есть такой абзац: «Что скажет
французский суд, когда увидит моих сограждан, приехавших из
Германии, Австрии и Италии! Кому больше поверит суд — гос-
подам Моргану, Жолио-Кюри или этим жертвам...»
Переводчик. Простите, но там еще было — Кравченко
сказал: «... и другим агентам Кремля...».
Морган. Неплохо.
Вюрмсер. Не забудьте этого. Когда Кравченко называ-
ет господина Жолио-Кюри агентом Кремля, такое нельзя за-
быть.
Мэтр Изар. У меня еще вопрос к Кравченко, господин
судья. С какого языка и как был переведен текст, который сей-
час свидетель подвергает разбору?
Вюрмсер. Он переводился с французского.
Судья. Так это перевод интервью из «Франс суар»?
Мэтр Изар. Вот именно, господин судья. И причем пере-
вод был сделан в отсутствие господина Кравченко...
69
Судья. Месье, вы кончили?
П е р ю с. После всего, что было сказано, не имеет смысла
продолжать критику текста, происхождение которого мы знаем
теперь. Во всяком случае, я утверждаю, что тот, кто редакти-
ровал этот текст, не был русским, не знал русского языка и ду-
мал не по-русски; одно не противоречит другому.
Судья. Благодарю вас, месье, вы можете идти.
23 ИЮНЯ 1989 года. ПАРИЖ.
АВЕНЮ ОШ. КАФЕ
— Этот многонедельный спектакль, и горестный, и
раздражающий, и нудный, и смешной,— как вы определили бы
его жанр? — спросил я у Гийома Малори.
— Его называли «комедией». Называли его и «диалогом
глухих».
— Там был важный для меня элемент трагедии.
— Вы, русские, слишком серьезны. Ну что ж, это была тра-
гикомедия.
— Пожалуй... Во всяком случае, этот эпизод с Перюсом,
который учил бедную русскую газету русскому языку... Была
там еще смешная старушка-гувернантка. Был этот инженер
Кот...
— Видите, не все было так грустно...
— Но за всем этим... Тридцатилетие нашей бойни. Нашего
бесправия.
— Я же говорю, что вы, русские, слишком серьезны.
— Что поделаешь? Еще один серьезный вопрос, Гийом,— о
«ди-пи», о перемещенных лицах. Я не нашел цифр... В принци-
пе все понятно. Человек, переживший 1929 год на Украине,
потом лагерь, потом 1939-й и 1940-й... Человек, подозревающий,
что с ним теперь сделают,— после заграницы, после плена, после
«общения с иностранцами»... Человек этот может и не вернуться.
Или, более того, взять оружие, мстить... Но сколько их было?
Миллион этих «невозвращенцев»? Два?
— Точной цифры у меня нет. Я привел цифру 876 тысяч.
Это то, что я нашел... Больше миллиона, наверное. Та же неяс-
ность и с немецкими военными формированиями из советских
солдат. Их, по моим разысканиям, у немцев было около 900 тысяч
человек. 300 тысяч власовцев...
— В «Литературке» писали, что 30 тысяч.
— Значит, надо разобраться... ПО тысяч туркмен, 35 тысяч
70
татар, 220 тысяч украинцев, два эскадрона калмыков... Но, по-
вторяю, точные цифры — за вами.
— Калмыков сослали потом, с детьми и стариками. Осталь-
ное население СССР просто не успели сослать из Большой
зоны... Все были виноваты перед отцом народов.
— Напомню, что в Ялте союзники подрядились выдать Ста-
лину 2270 тысяч человек. И успели выдать немало. На верную
расправу.
— А вы говорите, что мы слишком серьезны...
26 ЯНВАРЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Мэтр Нордман. ...Полковник Маркье был назна-
чен главой миссии по репатриации французских военнопленных,
находившихся в Советском Союзе.
Маркье. В 1941 году я впервые увидел советских военно-
пленных в одном лагере в Восточной Пруссии... Я присутствовал
при том, как на них оказывали моральное давление. На них
оказывали также физическое давление, и я хочу привести цифры:
из 20 тысяч советских, которые находились в шталаге 1-6, 12 ты-
сяч предпочли лучше умереть, чем вступить в армию Власова.
Там были простые рабочие, и были интеллигенты, были инже-
неры, там были офицеры; многие из низших слоев населения,
в годы юности им дали возможность получить образование и
строить свою страну, а поскольку они знали, где Истина, они
предпочли умереть, зная, что они служат человечеству. А за трид-
цать месяцев в России я видел, как эти люди вернулись к услови-
ям жизни не только приемлемым, но и сравнимым с условиями
в других странах, и я был в лагерях для военнопленных... Они
были под контролем Министерства внутренних дел, которое
Кравченко неправильно называет НКВД, оно уже давно МВД,
то есть министерство.
Я не хочу анализировать эту книгу, другие здесь это сде-
лали и сделают еще, так что вы уже, наверно, знаете, господин
судья, о содержании этой книги. (Смех в зале.)
Судья. Вопросов нет?
Мэтр Изар. «Юманите» 12 декабря 1947 года напечатала
на первой странице с большим заголовком следующее сообщение:
«В среду вечером полковник Маркье, глава французской мис-
сии по репатриации в СССР, дал в Москве важную пресс-кон-
ференцию. В своем заявлении он указал, что советское прави-
71
тельство нисколько не виновато в фактах, которые послужили
причиной отзыва миссии: «...винить в этих фактах следует только
французское правительство...» Полковник Маркье был в то время
представителем правительства Франции, а не простым служащим
комиссии, как Кравченко, он был главой миссии за границей,
в Москве, в стране, с которой его правительство имело в то вре-
мя острый конфликт... И вот я хочу задать вопрос господину
Маркье. Если бы он был советский гражданин, какое наказание
ожидало бы его после этого по возвращении в страну — если б у
него хватило храбрости в нее вернуться?
Маркье. Я отвечу господину адвокату, что если у человека
есть долг совести, то он не думает о последствиях, он возвра-
щается, выполнив свой долг. ...Следует вернуться, чтоб нести
ответственность за свои слова, платить, какой бы ни была цена.
Мэтр Изар. И какова же цена во Франции? Какое нака-
зание понес господин Маркье?
Маркье. Тридцать суток в крепости. Но это не страшно.
Мэтр Изар. О! Конечно! Мы все можем вернуться, чтоб
получить тридцать суток в крепости... Но я заявляю, что когда
человек не может вернуться в свою страну, то это режим ви-
новат, а не человек, который выбрал свободу.
28 ЯНВАРЯ 1949 года. ПАРИЖ.
БУЛЬВАР ИТАЛЬЯНЦЕВ. ГАЗЕТА «МОНД»
«Единственное, что продемонстрирует этот процесс,
это то, что люди лишь игрушки в руках страстей, своего сек-
тантства и своих интересов, а также то, что разум играет весь-
ма незначительную роль в их действиях».
31 ЯНВАРЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Мэтр Нордман. Господин Кравченко бросил со-
ветскую закупочную комиссию в Вашингтоне 1 апреля 1944 года.
Кого видел г. Кравченко между 1 апреля, днем своего побега,
и 3 цпреля, когда он дал интервью?
Кравченко. Я не могу ответить на этот вопрос. Во всяком
случае, могу вам сказать, что мне помогли, потому что я плохо
говорил по-английски...
72
Судья. Кто собрал для вас журналистов в отеле?
Кравченко. Журналистов собрал человек, который и пе-
реводил мои интервью.
Судья. Не может ли г. Кравченко назвать этого человека?
Кравченко. Я могу назвать, но только членам суда, я не
хотел бы оглашать это имя перед целым светом.
Судья. Тогда это невозможно. У вас есть другие вопросы
по этому поводу, мэтр?
23 МАЯ 1989 года. 19.00 ПАРИЖ.
ОСТРОВ САН-ЛУИ. НАБЕРЕЖНАЯ БУРБОНОВ.
КАБИНЕТ ЖОЭ НОР ДМ АН А.
У мэтра были, конечно, вопросы по этому поводу.
Он задал их мне — через сорок лет. Хотя бы потому, что я был
одним из немногих, кого еще занимали и эти вопросы, и этот
процесс.
Пятиминутное пешее путешествие от метро к дому мэтра
Нордмана — через мост и по набережной Бурбонов — стоило
солидной туристической экскурсии. Вот дом маркиза де Менара,
свояка самого Кольбера. Рядом обитал синьор де Вилар, капи-
тан полка королевы. По соседству с ним — Филипп де Шампень,
художник и камердинер королевы-матери. А в доме № 19 —
скульптор Камиль Клодель. Сюда мне и надо: на первом этаже
здесь контора мэтра Нордмана, а может, даже и его жилье.
XVII век царит вокруг: окно с витражами выходит на мощеный
двор, в глубине второго видна позеленевшая скульптура...
— Этот человек был дезертир,— сообщает мне бывший бое-
вой офицер, боевик компартии мэтр Нордман, включая, на
всякий случай, под столом маленький магнитофон,— нейтрали-
сты были сильны в США. Секретные службы тоже были сильны
и враждебны СССР. Политика США должна была противо-
стоять советским победам. Ясно, что Кравченко не убежал без
предварительных контактов. Его бегство было подготовлено се-
кретными службами. У него не было других резонов убежать,
иначе как для связи с секретными службами...
— Собственно...— говорю я неуверенно,— собственно, об
этом есть воспоминания Давида Далина.
— Где напечатаны?
— В «Модерн эйдж» за 1962 год. Потом они вышли по-рус-
ски, 1966 год, «Новый журнал».
— Там рассказано, как он убежал?..
73
Как странно! Мы возвращаемся к заседанию 31 января
1949 года... Сколько воды утекло — мне тогда было восемнад-
цать, да и мэтру Нордману было тридцать девять. Он, впрочем,
не изменился ничуть — тот же боевик, «милитант» компартии.
Все тот же защитник рабочего класса, хоть и живет в таком фе-
шенебельном квартале. Все было правильно тогда, правильно
сейчас, правильно будет всегда.
— Так что же там сказано, в этом журнале?
ИЮЛЬ 1943 года. США. ВАШИНГТОН
«Когда Виктор Кравченко в июле 1943 года приехал
из России в Вашингтон в составе советской закупочной комиссии,
у него уже было твердое решение порвать с советской службой».
Д. Далин. Дело Кравченко //
Модерн эйдж. Т. 6. № 3 за 1962 г.
Русский перевод по «Новому жур-
налу».)
23 СЕНТЯБРЯ 1989 года. МОСКВА.
ПЛОЩАДЬ ВОССТАНИЯ. ВЫСОТНЫЙ ДОМ
У меня было предположение, что решение Кравченко
созрело в Америке. Он почувствовал, может, что возвращение
не сулит ему ничего доброго. Так я и сказал профессору Алексею
Михайловичу Салмину, который любезно согласился дать мне
интервью. Я ожидал, что, как ученый-франковед, профессор
Салмин просветит меня насчет неисповедимых путей француз-
ской элиты. Однако он неожиданно сообщил мне вдобавок нечто
крайне любопытное о тогдашних намерениях Кравченко.
— Я как-то беседовал с одним человеком, который плыл
вместе с Кравченко в Америку на пароходе...
— В июле 1943 года?
— Да. Человек этот рассказывал, что Кравченко вел себя
на палубе очень странно. Он был возбужден. И он вел на корабле
такие разговоры, что все в ужасе разбегались...
— Тогда нетрудно было испугать взрослого человека. И все
же... Это очень любопытно.
74
ЯНВАРЬ 1944 года. США.
ВАШИНГТОН — НЬЮ-ЙОРК
«...Члены закупочной комиссии соприкасались с не-
сколькими беспартийными, работавшими в качестве переводчи-
ков, техников, бухгалтеров. Этих людей из другого мира члены
комиссии явно чуждались. Кравченко прислушивался к их раз-
говорам, наблюдал за их поведением. И постепенно пришел к
мысли, что при помощи этих людей ему удастся найти путь в
несоветский мир. С большой осторожностью он выработал план
сближения с одной из переводчиц его отдела — Ритой Холидэй.
Кравченко слышал в своей коммунистической ячейке, что с Ри-
той Холидэй надо быть очень настороже.
По воскресеньям Кравченко стал заходить в библиотеку конг-
ресса. Там он стал просматривать писания русских эмигрантов.
Его поразило, что во многих книгах и журналах он находил
точное и ясное изложение собственных мыслей и критики ста-
линской системы.
Однажды в понедельник мисс Холидэй случайно спросила его,
как он провел воскресенье. Кравченко решил рискнуть и расска-
зал ей о своих посещениях библиотеки, о книгах, попавшихся
ему там, и о высказанных в книгах мыслях. Он хотел узнать,
выдаст ли она его, как полагалось каждому советскому служа-
щему. Но прошло довольно много времени, и ничего не случи-
лось... Наконец, Кравченко попросил ее помочь ему встретиться с
политическими эмигрантами, говорящими по-русски. Рита ус-
троила ему встречу со мной.
Однажды вечером в конце января 1944 года в моем доме
появился человек лет 35—40, высокого роста, с темными воло-
сами. Он назвал себя Владимиром Сергеевичем Громовым. Под
этим именем мы знали его до тех пор, пока он не открыл нам свое
настоящее имя...»
(Д. Далин. Дело Кравченко.)
3 ОКТЯБРЯ 1989 года. КОКТЕБЕЛЬ.
ПАРК БЛИЗ ДОМА ВОЛОШИНА
Перечитывая воспоминания Далина, я думаю о том,
как легко быть умным и наблюдательным сорок лет спустя: вот
они где — эмигрантский стиль и эмигрантская психология, кото-
рые с таким мучительным трудом выискивал в русской руко-
писи Кравченко полиглот Познер. И еще я думаю, поверит ли
75
этой истории мэтр Нордман, когда прочтет. Лично я не вижу ос-
нований не верить Далину... ФБР с большим недоверием от-
неслось сперва к мнимому Громову, а потом и к настоящему Крав-
ченко. Американцы боялись, что Кравченко подослан советскими
службами. Кравченко же объяснял их нерешительность как отказ
в его просьбе. Просьба заключалась в том, чтоб его не выдали
советским властям, ибо дружба союзников достигла в то время
высшей точки, и Рузвельт, судя по его высказываниям и дей-
ствиям, редко противостоял чарам Сталина. Далин обратился
за советом к бывшему американскому послу в Москве Уильяму
Буллиту, но тот ничего не смог посоветовать. Неисправимый
социалист Давид Далин убеждал Кравченко «поставить себя под
покровительство американского общественного мнения». Крав-
ченко очень заинтересовал Далина, так же как позднее Романа
Гуля. Оба они впервые видели перед собой истинно советского
человека, «гомо советикус» (как странно, что защитники «Леттр
франсэз» не смогли разглядеть его ни в книге Кравченко, ни на
процессе).
«Чем более он говорил о себе,— пишет Далин,— тем более
интересным он становился для меня... Сын железнодорожного
рабочего, он не мог получить хорошего образования В то время
когда он изучал инженерное дело, технический институт служил
одним из объектов хаотических советских экспериментов в
области учебного дела. Поэтому Кравченко не получил тех зна-
ний, опыта и широкого кругозора, которые были у молодых
русских инженеров дореволюционного времени. По его собствен-
ному признанию, он был верным и преданным сыном партии.
Когда он говорил со мной, я убедился, что многое из воспри-
нятого им в молодости все еще оставалось для него живым.
Несмотря на личный горький опыт и несмотря на ненависть к
Сталину, к НКВД, к колхозной системе, он не мог, например,
представить себе хозяйственный строй будущей России, осно-
ванный на частной собственности. Также не допускал возмож-
ности и старого политического порядка.
Кравченко очень ценил жизненный комфорт и культурность
в обращении между людьми. Не без гордости сказал он нам, что
его жалованье в Москве доходило до 3 тысяч рублей в месяц.
Но в то же время он очень сочувствовал низшим слоям общества
и верил, что в один прекрасный день социальные и политические
реформы в Советском Союзе уничтожат бедность и притесне-
ния. Он был мне интересен, я видел в нем одного из тысяч пред-
1 Читатель отметит, что ни Далин, ни Гуль не путают «хорошее образова-
» с «высшим образованием», столь престижным на Западе.
76
ставителей новой русской интеллигенции ’, совмещавшей в себе
стремление к свободной и спокойной жизни с внушенными им
общественными идеями, которые (верные или неверные) будут
руководить ими дальше, после исчезновения всех следов сталин-
щины».
Любопытная характеристика. В ней прежде всего — образ
рассказчика, этой полузабытой человеческой особи, русского
социалиста: его пренебрежение к спокойной жизни (сам-то он,
как видим, снова ввязался в чужую историю), его неизбывный
оптимизм и вечное ожидание счастливых перемен на родине.
Да и Кравченко здесь очень точен. Роман Гуль описывает его
с большим снобизмом: «Кравченко был не только не писатель,
но человек малокультурный...»
В этом чисто русском споре о «культурности» западные
свидетели далеко не так категоричны. Переводчик Жан де Кер-
деланд вспоминает, что Кравченко любил музыку, интересовался
живописью и сам рисовал немножко. Он любил театр (москов-
ская постановка ибсеновской «Норы», как помните, подвела его
на процессе). Он много читал — и всегда с карандашом в руках:
подчеркивал то, что ему казалось важным, делал свои замечания
на полях и выписывал «мысли». Его знаменитая книга свидетель-
ствует о том, что уже в первые месяцы и годы пребывания в
США он успел прочитать немало политического «тамиздата»
и о многом подумать. Вероятно, он разобрался даже в спорах
между Далиным и Троцким, в размышлениях социалистов о
прошлом и будущем России. Но, конечно, «хорошего образова-
ния» получить ему так и не удалось (вероятно, для этого надо
начинать рано).
Книга Кравченко свидетельствует о его серьезных раздумьях,
о новом его знании и о «чисто советских» предрассудках (он
пишет, например, о «гиганте Бухарине», решительно выступает
против «украинизации» Украины и преподавания на украинском
языке, да и многие его претензии к ненашей Америке узнаешь
сразу — они вполне нашенские, советские).
1 С подобным же интересом приглядывался И. А. Бунин к К. М. Симонову
после войны в Париже, различая в нем как черты чисто советские, так и черты
природного аристократизма.
77
23 МАЯ 1989 года. 19.30. ПАРИЖ.
ОСТРОВ САН-ЛУИ. НАБЕРЕЖНАЯ БУРБОНОВ.
КАБИНЕТ МЭТРА ЖОЭ НОРДМАНА
— Кравченко? Это был человек умный и очень нерв-
ный... Врач говорил мне, что, если процесс продлится, он не
выдержит...
Мэтр Нордман взглянул на меня. Может, мы подумали об
одном и том же: они советовались с драчом. Может, тянули до
бесконечности, ожидая, пока враг упадет на барьер...
Я понимаю, что мэтру Нордману сейчас должно быть не по
себе. Он пространно рассказывает о наступлении империализма,
об Атлантическом пакте, а я думаю, что не так-то уж он, видно,
уверен в своей правоте. Ведь то, что говорили его соратники и
он сам, далеко не выглядит убедительным и безупречным в свете
нынешнего дня. И Миттеран, на нынешний взгляд, не совсем
похож на Геринга, с которым его сравнивал Торез. И «фашисты»-
троцкисты мирно отплясывали в этом году на празднике «Юма»,
аплодировали советским артистам... Мне вдруг становится жаль
несгибаемого Жоэ Нордмана. «Бедный человек,— думаю я.—
И годы...» И я бросаю фразу, похожую на хилую
веревочку спасения:
— Знаете, я ведь тоже написал стихи о Сталине... в 1949
году...
О, я отлично помню. Точь-в-точь такие стихи, как писали тог-
да многие. А во Франции — Элюар с Арагоном. Мои были пони-
же качеством, конечно, но, может, оттого и запомнились, из-
вестная причуда Мнемозины: «Мир — это когда с трибуны Ста-
лин майские приветствует колонны». Ну да, я был сильно помо-
ложе Элюара и значительно серей Арагона — мне было восем-
надцать лет, и я был выпускник московской средней школы
№ 273. Однако уровень мысли тот же, можете быть свидетелями.
«И Сталин сегодня развеет все зло. Уверенность — плод его лю-
бящего мозга. Как умная гроздь совершенна она». Так писал
в эти годы Поль Элюар. А вот вам Рене Депестр: «Я пою этого
цветущего человека... Слава Сталину, ценнейшему из наших ка-
питалов». Год 1949-й. Ау, коллеги!.. Впрочем, если среди тер-
роризированных французских интеллектуалов не нашлось тогда
недоброго слова для Депестра и Элюара, то в испуганной Моск-
ве 1949 года еще кое-что оставалось. Тогдашний наш комсорг Яш-
ка Малыкин (тоже был не Спиноза, но все же и не Сартр, нет, не
Сартр), услышав мои вирши, шепнул мне: «Боб, и тебе не стыд-
но?» Мне стало стыдно.
78
На набережной Бурбонов мои детские вирши, написанные со-
рок лет назад для праздничной газеты, получили неожиданное
признание.
— Вот видите! — радостно воскликнул мэтр Нордман.
И я понял, что он испытывает облегчение, потому что ему
все же слегка неуютно от моего визита. Должно быть неуютно.
Он снова спрашивает мою фамилию, номер телефона, назва-
ние московского издательства, адрес моей жены... Пишите,
мэтр, пишите. «Мы уже не те русские, что были»... в 1949 году.
— Вот видите! — восклицает мэтр Нордман снова. И спраши-
вает с любопытством: — Ну а как же все-таки он убежал? В
каком номере журнала, вы говорите, это описано?
АПРЕЛЬ 1944 года. США.
ВАШИНГТОН — НЬЮ-ЙОРК
«Он... твердо решил бросить свою службу 1 апреля.
Эта дата была удобна, потому что приходилась на субботу.
Моей следующей задачей было найти путь в печать. Я свя-
зался с Джозефом Чаплиным из «Нью-Йорк тайме» и, не назы-
вая имени и даты, рассказал ему о предстоящем бегстве. Я спро-
сил, согласится ли «Таймс», невзирая на дружбу военного вре-
мени, напечатать такое... заявление... Чаплин высказал уверен-
ность, что «Таймс» это сделает, особенно если это будет напе-
чатано только в «Таймс».
В субботу 1 апреля Кравченко пошел к бухгалтеру заку-
почной комиссии (контора была открыта по субботам полдня);
получил свое жалованье, причем тщательно рассчитался в каждом
пенни, так, чтобы его не могли обвинить в каких-нибудь присвое-
ниях. В этот день он жаловался своим коллегам на головную
боль и лихорадку. Они посоветовали ему (на что он и рассчиты-
вал) остаться на несколько дней в постели. Он согласился с этим,
прибавив, что из-за этого нездоровья он, возможно, не придет
в понедельник на работу. После обеда Кравченко уложил свои
два чемодана, дождался наступления темноты...
Я встретил Кравченко на Пенсильванском вокзале, и мы по-
ехали на такси в гостиницу, где я заказал для него небольшую
комнату. Когда мы вошли в нее, Кравченко включил свет ма-
ленькой лампы и вскрикнул: «Но ведь это же гроб... Это комната
только для самоубийц!»1 Я пытался убедить его, что нужна эко-
Эти жуткие комнаты дешевых гостиниц есть во многих эмигрантских
воспоминаниях и рассказах. Как, впрочем, и самоубийства.
79
номия... но он все повторял: «Так вот как начинается моя новая
жизнь!»
На следующий день Кравченко и Чаплин встретились у меня,
чтобы составить политическое заявление. Виктор писал текст,
а Чаплин переводил. Этот процесс сопровождался многими
стычками между ними... До этого времени я знал Кравченко
только по его собственным захватывающим рассказам, но не
представлял себе, что жизнь в СССР сделала его таким вспыль-
чивым и даже озлобленным. Теперь, когда я видел его спорящим
об отдельных словах, резко отвергающим вносимые поправки,
настаивающим на мелочах, я невольно задавал себе вопрос: как
же этот крайне нервный человек, без знания английского языка,
без денег и фактически без друзей, сможет устроить свою жизнь
в Америке? Я чувствовал на себе огромную ответственность за
него, за само его существование».
«В тот вечер, когда Чаплин и Кравченко продолжали свои
дискуссии, я позвонил Юджину Лайонсу и попросил его о не-
медленном свидании. Лайонс заметил, что... может случиться,
что жизнь Виктора действительно не будет достаточно безопасна.
Поэтому Лайонс советовал ему вернуться к своим соотечествен-
никам, если это еще не поздно».
«Я вернулся домой в тяжелом настроении. Мнение Лайонса
в точности отражало и мое чувство и утверждало меня в моих
опасениях... Застав Кравченко одного, я... обрисовал ему... риско-
ванность всего этого предприятия. Наконец я предложил отвезти
его на вокзал и проводить обратно в Вашингтон, пока никто еще
не заметил его отсутствия. Но он ответил категорически: «Нет,
ни за что!» Это «нет» поставило точку нашим разногласиям...
его решение дало мне какое-то облегчение, я был почти счастлив
за него и за себя. В тот же вечер, по его настоянию, я взял его
к себе на квартиру, где он и остался жить, пока мы не нашли для
него другого, более удобного и безопасного пристанища».
«Следующий день был понедельник... Этот день прошел без
всяких происшествий, а после наступления темноты мы пошли
погулять, не сознавая, что это была, в сущности, последняя ночь,
когда Кравченко оставался обыкновенным, заурядным челове-
ком, и в то же время последняя ночь, когда он мог чувствовать
себя в безопасности. Поздним вечером мы остановились у киос-
ка, чтобы купить очередной номер «Нью-Йорк тайме» за втор-
ник 4 апреля. На первой странице, на видном месте, было помеще-
но заявление Кравченко. Приведу часть из него:
«В течение многих лет я честно работал для народа моей стра-
ны на службе у советского правительства и мог наблюдать раз-
личные стадии развития его политики. Ради интересов Совет-
80
ского Союза и его народа я старался обходить молчанием мно-
гие отталкивающие и тревожащие меня факты. Но дальше я не
могу молчать. Интересы войны, а также интересы моего стра-
дающего и измученного народа заставляют меня умалчивать о
некоторых вещах, но в тех же интересах я должен высказаться
по поводу основ политики, проводимой теперь советским пра-
вительством и его вождями, поскольку она вредит делу войны и
разрушает надежды всех народов на новый международный по-
рядок всеобщего мира.
...Действительные планы и цели советского правительства...
находятся в противоречии с интересами и нуждами русского
народа и с теми целями, за которые борются Объединенные на-
ции. Настаивая на необходимости введения демократического
строя в странах, освобожденных от фашизма, советское прави-
тельство в своей стране не сделало ничего для гарантии элемен-
тарных свобод для русского народа.
Русский народ, как и раньше, находится в состоянии крайнего
угнетения и подвергается всевозможным жестокостям, в то время
как НКВД... пользуется неограниченной властью над народами
России. В странах, освобожденных от нацистских вторженцев,
советское правительство устанавливает свой политический режим
беззакония и насилия; тюрьмы и концлагеря продолжают дейст-
вовать, как раньше. Надежды русского народа на политические
и социальные реформы, возникшие в начале войны, оказались
пустой иллюзией.
Я утверждаю, что русский народ, больше чем какой-либо
другой, нуждается в получении элементарных политических
свобод, подлинной свободы печати и слова, свободы от нужды
и страха. То, что русские люди получили от своего правитель-
ства, было только фальшивой подделкой этих свобод. Русские
люди заслужили новый строй принесенными неизмеримыми
жертвами, которые спасли страну и существующий строй... Бу-
дучи знаком с методами, употребляемыми... в борьбе с полити-
ческими противниками, я не сомневаюсь, что эти методы будут
применены теперь против меня — методы клеветы, провокации,
а возможно, и хуже. Я заявляю, что никогда не совершил ни-
какого поступка, могущего нанести вред моему народу, правящей
партии или советскому правительству, и всегда старался выпол-
нять свой долг перед моей страной, моей партией и моим народом
честно и добросовестно.
Я надеюсь иметь возможность продолжать служить моим
опытом и энергией делу войны. Поэтому я отдаю себя под по-
кровительство американского общественного мнения».
Заявление Кравченко вызвало сенсацию...»
81
«Как только заявление Кравченко появилось в «Таймс»,
г. Уатсон («довольно неприятный в обращении», по тому же
Далину.— Б. Н.) позвонил мне из Эф Би Ай 1 с настойчивой прось-
бой указать им местопребывание Кравченко... Я был поражен пе-
ременой отношения бюро. Вначале такое холодное и уклончивое
отношение теперь сделалось твердым и настойчивым... Беседы
Эф Би Ай с Кравченко участились, хотя последний и не был рас-
положен раскрыть все, что он знал. «Я мог бы сказать вам массу
вещей об НКВД,— сказал Кравченко откровенно,— но я не на-
мерен открывать вам какие-нибудь военные секреты, даже если
бы я знал их». Кравченко продолжал считать себя русским анти-
сталинцем, а не американским патриотом. Ему было нужно от
Эф Би Ай одно — покровительство. Недавние трагические слу-
чаи с другими коммунистами-перебежчиками были ему хорошо
известны. Эф Би Ай предложило ему службу агента в своем
заграничном отделе с предоставлением квартиры, автомобиля
и одного или двух телохранителей. Но Кравченко отказался. Он
не ддя того порвал с Советами, чтобы взять службу в поли-
ции...»
(Д. Далин. Дело Кравченко.)
3 ОКТЯБРЯ 1989 года. КОКТЕБЕЛЬ.
ПАРК БЛИЗ ДОМА ВОЛОШИНА
Нетрудно догадаться, что творилось в эти дни в заку-
почной комиссии, подобно консульству объявившей, что там ни-
когда не слышали ни о каком Кравченко. Продолжение этой
истории кратко изложено у Романа Гуля:
«Сталин настаивал на выдаче Кравченко. Американцы мед-
лили. В конце концов Рузвельт стал склоняться к выдаче Крав-
ченко. В это время Кравченко скрыла у себя на квартире
Е. Л. Хапгуд. У нее, никуда не выходя, Кравченко прожил семь
месяцев — до смерти Рузвельта. И тогда американцы решили
не выдавать Кравченко. Он вышел на свободу...»
(Роман Гуль. Я унес Россию.)
Конечно, к мемуарам писателей (скажем, того же Гуля или
Нины Берберовой) надо подходить с большой осторожностью.
Автор этой книги и сам — если б его не связывало обещание о
строгой документальности — попробовал бы представить себе,
Федеральное бюро расследований (ФБР).
82
как отнеслись к решительному красавцу перебежчику Рита Хо-
лидэй или его «большой друг» Елизавета Львовна Хапгуд. Автор с
удовольствием развил бы тему мистических предчувствий, расска-
зал бы о многих погонях, о вездесущих сыщиках, о тайнах
Пентагона или Кремля. Однако мы просто обязаны вернуться
к странному процессу.
У истоков процесса была книга Кравченко, и о книге надо
сказать несколько слов. Заработав денег статьями, он сразу же
сел за книгу. Он любил писать, любил покрывать своим ровным
красивым почерком белые листы. Он хотел раскрыть глаза этому
миру, опьяненному любовью к тирану. И он жаждал оправдания
в своих глазах и в глазах людей... Он прятался от русской и аме-
риканской разведки, и он писал. Опасность возбуждала его, но
вряд ли умиротворяла. Убийца мог скрываться в любом обличье,
мог прятаться за каждым углом. Ни талант гениального Си-
кейроса, ни тонкость гениального Неруды не гарантировали в
те времена непричастности к убийству, убийству во имя идеи.
Американская газета «Дейли уоркер» назавтра после появления
интервью Кравченко предупредила его о задачах прогрессив-
ного человечества и гуманизма: «Подобные предатели, идет ли
речь о Троцком или о ничтожестве вроде Кравченко, недолго
смогут обманывать мир... бдительная рука и мщенье Челове-
чества, шагающего вперед к прогрессу, схватит их раньше или
позже и сотрет с лица земли».
Кравченко читал, конечно, этот номер газеты. Он прятался
и писал.
31 ЯНВАРЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Мэтр Нордман. Может ли господин Кравченко
сказать суду, когда и кем он был впервые допрошен? И пусть от-
вечает стоя. (Протесты в зале.)
Кравченко. Я не имею никаких отношений ни с секрет-
ными службами США, ни с полицией США. Я никогда не имел
никаких отношений с какой-либо полицией, и я не имею наме-
рений вступить в отношения с какой бы то ни было секрет-
ной службой... Я слишком дорого заплатил за эту незави-
симость, чтоб разрешить кому-либо воспользоваться моей ра-
ботой.
МэтрНордман. Приехал ли сюда Кравченко под именем
Поля Кедрина? Да или нет?
83
Кравченко. Это бесчестно. У меня нет никакого сходства
с Симом Томасом. В США я все время меняю имена, и это
из-за моих врагов... А как я путешествую — это мое личное дело.
Прокурор. Это настоящий полицейский допрос.
Мэтр Нордман. Вы можете предъявить суду свое удос-
товерение личности?
Кравченко. Я не в Советском Союзе, чтоб таскать в кар-
мане двадцать бумажек. Я нахожусь в свободной Франции. (Ап-
лодисменты в зале.)
С у д ь я. Не могли бы вы удалить из зала вон того господина,
который так бурно аплодирует, вон того, с повязкой на лбу?
Пусть выйдет. У нас здесь не собрание.
Мэтр Нордман. Меня просто удивляют такие проявле-
ния чувств в зале правосудия.
Судья. Ну вот видите.
(Продемонстрировав суду русское издание речи Сталина,
в котором есть куски, выброшенные во французском, мэтр Изар
просит пригласить следующего свидетеля.)
Судья. Ваше имя?
Свидетель. Андре-Реми Муанэ, господин судья. (При-
носит клятву.)
МэтрЭсман. В двух словах, господин судья, щадя застен-
чивость свидетеля, я расскажу, что он депутат Национального
собрания, а раньше был капитаном авиации... Ушел на фронт
добровольцем... Он кавалер ордена Почетного легиона (самый
молодой во Франции), Военного креста и советского ордена
Отечественной войны I степени, а также ордена Отечественной
войны II степени...
Каким образом вы попали в Советский Союз?
Муанэ. Господин судья, в 1942 году мы воевали в Англии...
Когда СССР вступил в войну, мы решили, что хорошо было бы
повоевать на стороне нового союзника. Поэтому я добровольно
вступил в группу «Нормандия», чтоб воевать в СССР.
Мэтр Эсман. Второй вопрос: каковы ваши впечатления
от войны в СССР?
Муанэ. Я должен вам сказать, господин судья, во всем,
что касается фронтового братства и моих русских товарищей
по оружию, то я редко такое встречал, а я все же во многих стра-
нах воевал. Я восхищался патриотизмом, который проявили рус-
ские в этой борьбе с общим врагом... У нас было большое дове-
рие друг к другу и братство по оружию с русскими, с которыми
мы проводили вместе все дни, и союз наш был скреплен общей
опасностью... Я могу рассказать про один случай.
Судья. Не называйте имен.
84
М у а н э. Нет, господин судья. И все же, под честное слово,
вам лично, если хотите, у меня есть имя и адрес...
Судья. Нет, нет.
М у а н э. Наша жизнь проходила почти все время на перед-
нем крае. Часто мы попадали под обстрел немецкой артиллерии,
делали в день по одному-два вылета, а все остальное время были
тоже привязаны к самолету; или под самолетом проводили время
с нашими механиками, которые у нас были русские. Самолеты
были рассеяны по полю, чтоб их все сразу не уничтожили, так
что мы в конечном счете целый день проводили с этими механи-
ками. Мало-помалу — конечно, хорошо мы так и не научились
по-русски говорить — мы все же стали друг друга понимать без
большого труда. И конечно, самое интересное мне было узнать,
как и в Англии тоже,— это, как люди живут. Это для меня было
как учеба. Потому что ученье мое война прервала, и я старался
теперь на другой манер учиться. Так вот, я с самого начала пы-
тался у наших механиков узнать, счастливы они или нет в своей
стране и какие у них отношения с партией коммунистов. И вот
тут первое, что меня удивило. Я-то по глупости честно думал,
что в СССР все коммунисты, а они сказали, что коммунистов
в СССР меньшинство людей и, чтобы в партию вступить, надо
стаж пройти, в пионерах побыть, в комсомоле, так что немногие
там могут стать членами партии.
Потом — после всяких трудностей, потому что они не реша-
лись, конечно,— я готов присягнуть, что они не очень-то свобод-
но разговаривали,— а все же со временем мы так сблизились
и доверие было такое, что механик мой от меня не скрывал боль-
ше, что он вообще-то не так уж доволен, потому что отец его
участвовал в революции и он тоже в эту революцию верил — он
тогда еще молодой был,— потому что революция должна была
покончить с некоторыми привилегиями царского режима и окру-
жающего общества. Но в конце концов после многих огорчений
они убедились, что на место одних привилегированных людей
пришли другие и что стало то же самое, а может, хуже. Он вспо-
минал, что у деда его все же была небольшая ферма, на кото-
рой он хозяйничал, как ему нравилось, а потом у них стал кол-
хоз и всякая свобода вообще исчезла...
С другой стороны, у меня было впечатление, что это их не-
вероятное мужество — это все был чистый патриотизм. Они на-
деялись, особенно после союза с американцами и всех согла-
шений, которые были подписаны, после Атлантической хартии ’,
надеялись, что это все приведет к изменению строя.
1 Подписание Сталиным Атлантической хартии как будто подразумевало
осуществление демократических свобод в стране (свободу мнения, религиозных
культов, экономические свободы и т. д.).
...Там есть и другие вещи, про которые господин Кравченко
написал очень точно. Например, про заключенных он там пишет:
«Жестоко торговались из-за квалифицированной рабской силы,
которую предоставляли в наше распоряжение, а также по поводу
зарплаты, которую мы за них будем платить. Если бы какой-
нибудь посторонний присутствовал среди нас во время этих
переговоров, он мог бы подумать, что мы спорим о лошадях
или собаках, а вовсе не о человеческих существах обоих
полов».
Вот и меня тоже это поразило после прибытия в Россию.
Мы прибыли через Баку, Астрахань, Москву, потом нас послали
под Тулу. Мы пришли с пополнением — из первого эшелона ос-
талось четыре-пять человек, остальные погибли. Во время боев
под Орлом мы как раз и прибыли под Тулу, к югу от Москвы,
там было поле, где мы тренировались, готовились к весеннему
наступлению. Было очень холодно, и снегу тоже много было, и,
чтобы взлетать и садиться, надо было паровыми катками рас-
чищать взлетную полосу. И вот мы очень удивились, когда уви-
дели, что работу эту выполняют женщины, одетые в совершен-
ные отрепья, и они работают от рассвета дотемна, а другие жен-
щины с автоматами их стерегут. Это были пленные.
Судья. Охранницы были вооружены автоматами?
М у а н э. Ну да! И пленные должны были сами тянуть этот
бетонный каток, которым трамбуют. Они до такой были дове-
дены степени, что — я сам видел — ходили по нужде прямо
тут, на месте.
Судья. Вы говорите, что это были пленницы? Военноплен-
ные? Они, значит, были не русской национальности?
М у а н э. Вот именно что русской. Вечером их запирали в
такой загон, в землянку — в яму под крышей. Ничего похожего
на наши тюрьмы. В такую, знаете, гнусную трущобу. Пища у
них была не слишком качественная. Наша, должен сказать,
тоже. Но, скажу вам, тяжко было видеть женщин, доведенных
до такого состояния. Там есть одна фраза (в книге господина
Кравченко), которая точно выражает то, что и мы об этом дума-
ли: «Заключенные выстраивались в строй перед вами. И не думаю,
чтоб могло существовать для нормального человека зрелище
ужаснее, чем сотни женщин, отвратительно грязных, имеющих
больной и несчастный вид».
Так и было, точно так. Мы расспрашивали, что ж они могли
такого совершить, эти женщины, но осторожно спрашивали,
из-за этих трудностей, про которые я вам уже говорил,— там
нельзя так свободно разговаривать обо всем, как мы тут у себя в
стране разговариваем. Но мы знали, что это русские заключен-
86
ные. Там были уголовные заключенные. Были 'Проститутки. Но
были и женщины, которые просто опоздали на работу.
Судья. Как вы об этом узнали?
Муанэ. Ну, через переводчиков... Да потом это всем у них
казалось нормальным делом: если человек работает плохо или
опаздывает, его могут очень серьезно наказать. Для нас, фран-
цузов, это было невероятно. Мы даже представить себе не могли,
что преступника можно довести до такого состояния. Помню,
когда мы в Баку прибыли, нас там сразу встретили зеленые фу-
ражки.
Судья. Зеленые фуражки?
Муанэ. Ну да, они были в форменных фуражках.
Вюрмсер. Тайная полиция в фуражках?
Муанэ. Как у гестапо, у них форма была.
Судья. Вы хотели сказать, государственная полиция? Тай-
ная полиция не ходит в форме.
Муанэ. Аяи не сказал «тайная полиция». Я сказал НКВД.
Судья. Слова «тайная полиция» произнес господин Вюрм-
сер.
1979 год. ПАРИЖ.
КАБИНЕТ АНДРЕ ВЮРМСЕРА
«Был один веселый момент в нудной пустыне этих
двадцати пяти заседаний. Я проявлю достаточно великодушия,
чтоб не назвать имя этого молодого летчика, который сражался
на восточном фронте и получил потом место депутата на скамьях
реакции. Он потерянно вошел в зал как человек, который впер-
вые оказался в таком месте; я дьявольски ему улыбнулся; обод-
ренный, он подошел к барьеру, стараясь держаться ко мне по-
ближе (позорная скамья обвиняемых стоит рядом с барьером,
к которому выходят свидетели). Из его показаний, полных бод-
рых банальностей в стиле «Оля-ля-ля, гаспаын судья», выходило,
что едва французские воины ступили на русскую землю, как их
тут же взяла на заметку советская тайная полиция. Я подсказал
ему: «зеленые фуражки». Доверяя мне, он повторил: «зеленые
фуражки». Судья удивился: «Как это так — разве секретная по-
лиция носит зеленые фуражки?» — «Да, господин судья». Тут-то
уж я, конечно, целомудренно восстал, призывая весь мир в сви-
детели,— и это, увы, надо было сказать,— что нам навязывают
столь жалкие показания на этом громком процессе! Назавтра
87
я имел удовольствие, которое я и посегодня смакую, получить
одно из тех оскорбительных писем, которые делают мне честь».
(А. Вюрмсер. С совершеннейшим
почтением. Шестьдесят лет по-
литической и литературной
жизни.)
(Сравнивая эти поздние записи Вюрмсера со стенографи-
ческим отчетом процесса, мой благосклонный читатель получит
должную прививку против всяких мемуаров. Мемуары — темное
зеркало прошлого: как дверное стекло в метро, они скрадывают
детали, и ты, облезлый и постаревший, сам себе кажешься еще
хоть куда...)
31 ЯНВАРЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Судья. Вы утверждаете, что радиоприемники были
конфискованы советским правительством?
М у а н э. Точно.
Вюрмсер. Что, больше не было в России радиоприемни-
ков?
М у а н э. Были громкоговорители, а поскольку мы привезли
с собой приемник, то командир испросил специальное разреше-
ние, чтоб нам его оставили.
«Они воевали не за Сталина, а несмотря на Сталина. Крем-
левская клика это знала лучше, чем кто бы то ни было, что она и
подтвердила своими призывами к «патриотической войне».
Вот тут я совершенно согласен с идеей господина Крав-
ченко. Мои русские товарищи по оружию, к которым я испыты-
ваю самую большую нежность и с которыми я хотел бы под-
держивать контакты, сражались гораздо чаще за родину, чем за
режим, который большинство из них не любило. Они ждали
победы в надежде, что тогда, как они мне говорили, в их стране
произойдут политические перемены.
Я еще не затронул один вопрос, который для меня имеет
большое значение. Я слишком много нагляделся войны и всяких
ее ужасов, чтоб не желать по-настоящему долгого мира. И я ду-
маю, что этот мир, я так на самом деле думаю, может быть
достигнут более тесными контактами. Когда я пишу моим анг-
лийским и американским друзьям, моим товарищам по эскад-
88
рилье, через восемь дней я получаю ответ. У меня есть фотогра-
фия моего русского механика, где он на обороте написал свое
имя, свой адрес и еще несколько слов: «Товарищ лейтенант,
надеюсь, что ты запомнишь нашу братскую дружбу и что ты мне
напишешь и подашь весточку о себе». Я писал и никогда не по-
лучал ответа.
С другими моими товарищами было то же самое, а один из
моих товарищей на новогодний праздник поехал в Россию и
попытался снова встретиться с товарищами по оружию. Он нико-
го не нашел. Мне кажется удивительным, что этот режим хочет
только, чтоб был союз республик, а нам не разрешает лучше
узнать друг друга и переписываться.
МэтрЭсман. Суд отметит разницу в положении бывшего
летчика «Нормандии» и господина Моргана, который и пишет
туда, и получает оттуда новости.
Морган. Я получаю их от друзей...
Мэтр Эсман. Вы в привилегированном положении!
Вюрмсер. Мы, стало быть, во Франции в привилегиро-
ванном положении.
Мэтр Эсман. ...Вот вы, который бок о бок сражались с
вашими товарищами из Советской Армии, считаете ли вы, что
Кравченко — предатель?
М у а н э. Знаете, господин судья, многие французские слова
потеряли за последние годы свое значение, ими бросаются зря,
направо и налево, и я понял после того уже, как обвинили Крав-
ченко,— меня самого тут назвали предателем,— я понял, что
люди не понимают, каково значение этого слова... Если я пра-
вильно понял, господин Кравченко — предатель, потому что он
оставил свою страну во время войны с Германией и уехал в дру-
гую страну... Покинул страну, в которой он был. Но ведь обе
эти страны вели войну с Германией. Так что у них была общая
цель. Он просто покинул страну из-за режима. В сущности, это
вроде того, как поступил господин Торез. Я не говорю, что
господин Торез — дезертир. Я говорю, что он сделал то же са-
мое, что и Кравченко. Он покинул Францию... потому что он был
глава французского коммунистического Сопротивления, чтоб
бороться против Германии. Согласен. Но он бросил страну,
потому что режим ему не нравился и он хотел бороться в союзной
стране с режимом. Это то же самое. Только все же есть малень-
кая разница, которую никогда не отмечали. Я задавал вопрос
господину Торезу во время дебатов в ассамблее... Ведь госпо-
дин Торез покинул Францию и уехал в СССР в тот момент, когда
СССР не воевал с Германией, вовсе даже нет. СССР был ее
союзником, по меньшей мере экономическим. Каково же поло-
89
жение человека, который покинул страну свою и уехал в страну,
которая союзник врага, хотя бы и экономический? Это уже кол-
лаборационизм. И вот меня удивляет, почему люди, которые на-
зывают Кравченко предателем, не требуют, чтобы и господин
Торез предстал, как многие другие, перед судом, чтоб можно
было выяснить его поведение и его позицию.
3 ОКТЯБРЯ 1989 года. КОКТЕБЕЛЬ.
ПАРК ВОЗЛЕ ДОМА ВОЛОШИНА
Мой сверстник горестно улыбнется, услышав сетова-
ния наивного французского летчика, снисходительно подумает
о его неискушенности, простоте и в общем-то человеческой
нормальности. Переписку с заграницей, друзей за границей, на-
конец даже родственников за границей — такую роскошь мог
позволить себе какой-нибудь Эренбург. Может, еще Лиля Брик.
Но зато и сестра ее Эльза Триоле должна была, наверное, отра-
батывать опасное родство.
Вспоминаю смешную подпись, которую я видел под фото-
графией в наивном агитжурнале «Америка», уже в послесталин-
ские, потеплевшие времена. Там был фотоочерк о гастролях
Большого театра в Америке, а подпись под фотографией гласила,
что дирижер театра встретил брата Мирона, которого давно
считал умершим. Й сразу представилось, как дирижер благора-
зумно умерщвляет брата, заполняя анкету для поездки за гра-
ницу: «Родственников за границей не имею». Иначе трудненько
было бы ему выехать на гастроли.
Вспоминаю, как в нашем деревянном домике в Банном
переулке исходила слезами старушка полька, у которой исчез,
сгинул красавец сын, директор завода.
— А за что? — спрашивал я, глядя издали на залитое сле-
зами старушечье лицо.
— Понимаешь...— мялся мой юный отец,— у них есть какой-
то родственник в Италии. А Италия, сам понимаешь...
Что я мог понять? Понять, каких трудов стоило нашим ро-
дителям скрывать от нас все страхи собственной семьи? Понять,
что не надо задавать вопросов: в Италии, и все тут... Понять, что
в Италии фашисты, а дружить с фашистами позволено только
самому гуманисту? Он даже телеграммку послал другу Гитлеру:
поздравляю, мол, со взятием Варшавы...
Над моей детской кроваткой висел портрет гуманиста с де-
вочкой на руках. У девочки была челка, а в руках у гуманиста
90
(или у девочки?) — цветы. Цветы были настоящие, засушенные,
прижатые стеклом к «широкой груди осетина». Откуда нам было
знать, что родителей счастливой девочки гуманист уже упек к
тому времени в лагерь, а сама девочка маялась где-то по тюрем-
ным детприемникам? Откуда нам было знать, если даже немоло-
дой резистант-коммунист, участник черноморских событий 1919
года, бывший французский министр Шарль Тийон писал о Ста-
лине и детях следующее: «И если он умеет смеяться, как дитя,
то это потому еще, что он больше всякого другого сделал для всех
детей мира».
«А откуда нам было знать,— спрашивает меня мэтр Норд-
ман,— если вы там не знали, то нам тут откуда?» Глаза
мэтра туманятся воспоминанием. О, как сладко, должно быть,
ничего, ничего не знать! Как в детстве.
31 ЯНВАРЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ.
ЗАЛ 17-й ПАЛАТЫ
Свидетель истца инженер Франсиск Борнэ приносит присягу.
Б о р н э. Я приехал в Россию в 1909 году. Я жил там с 1909
до 1947 года, то есть тридцать семь лет. Пять лет и два меся-
ца я провел в тюрьме и концлагере как французский гражда-
нин.
Судья. Русское правительство заключило вас в тюрьму
только за то, что вы были французским гражданином?
Борнэ. Совершенно верно. Было арестовано 137 французов,
у меня есть список всех 137, многие умерли в концлагере, особен-
но из числа женщин. Весь ленинградский дом престарелых, где
жили старые гувернантки-француженки, которые получали пен-
сии от французского посольства, все были вывезены. У них не
было семьи во Франции, и они оставались в России. Многие из
них умерли на этапе, от Москвы — три недели пути, а есть им
почти ничего не давали, там были такие, которым было уже во-
семьдесят лет, восемьдесят два и даже восемьдесят четыре...
Сам я начинал работать как инженер в Донбассе, потом на строи-
тельстве Магнитогорска... Я там оказался в плохое время. Это
время в России называли «ежовщина», по имени их народного
комиссара,— в это время всех арестовывали. Тогда же выгнали
всех иностранцев, во всяком случае, большинство...
(Без особого интереса выслушал французский суд одиссею
скитальца-француза: Новосибирск, Караганда, лагеря, ссылки,
91
трупы, сброшенные в шахты, зэки, умирающие от голода, смерть
товарищей, страдания...)
Б о р н э. Я видел всяческие зверства. Все, что рассказывает
Кравченко о репрессиях,— совершенно точно. Я видел и кое-
что похуже. Концлагеря, естественно, существовали по всей
России. Когда я жил в одной деревушке между двумя линиями
железной дороги, в тринадцати километрах от Новосибирска,
я видел, как шли составы с арестованными поляками — в Сибирь,
они наверняка еще там.
Сами мы не знали, за что мы арестованы...
Суперчистки — это было в партии, я не был членом партии.
Я видел, как арестовывают членов партии, некоторые из них были
расстреляны, это я знаю. Но как это проходило, я не знаю.
Судья. Вы не знаете, за что их расстреливали?
Б о р н э. Ах, это? Не знаю.
Мэтр Эсман. Знали ли вы о полицейском терроре, о ко-
тором рассказывает Кравченко?
Б о р н э. Все, кто жил в России, если только он не был приви-
легированный турист, все знали об этом.
Мэтр Эсман. Что вы знали о деятельности профсоюзов?
Б о р н э. Они существуют там, чтоб заставлять работать,
потому что они отвечают за это, как партийный секретарь и ди-
ректор. Эти трое так и называются — «треугольник».
Мэтр Брюгье (адвокат «Леттр франсэз»). Итак, госпо-
дин Борнэ прождал тридцать семь лет, прежде чем он почувство-
вал необоримую потребность снова обрести свободу. Он был
намного терпеливее самого Кравченко.
Б о р н э. Я уже говорил, что, как иностранные специалисты,
мы находились в привилегированном положении. У меня была
семья в России, моя приемная дочь вышла замуж, у меня там
внуки, одному одиннадцать лет, другому девять. Во Франции
у меня нет ни родных, ни друзей.
Судья. Они там? Вы поддерживаете с ними связь?
Борнэ. Нет.
Судья. Вы им писали?
Борнэ. Нет. Не хочу им писать, не хочу навлекать на них
неприятности.
Мэтр Брюгье. Вам что же, безразлична их судьба?
Борнэ. Нет, вовсе не безразлична их судьба, но я пришел
сюда, чтобы сказать правду.
Мэтр Брюгье. Вследствие какого поступка вас аресто-
вали?
Борнэ. Нам ничего про это не сказали. Только позднее
мы узнали, что после того, как французское правительство порва-
92
ло отношения с Советским Союзом, французов послали в ла-
геря.
Судья. Итак, вы были арестованы как враги, как люди,
принадлежащие к стране, которая могла считаться врагом, как
подданные вражеской страны.
Б о р н э. Вот именно, и в то время как эскадрилья «Норман-
дия» сражалась за Россию, французы сидели в концлагерях.
Мэтр Брюгье. Другие французы, оказавшиеся в СССР,
выразили солидарность с делом генерала де Голля, даже если
возраст не позволял им взять в руки оружие. И они не были арес-
тованы правительством.
Судья. Как он мог выразить свою солидарность?
Мэтр Брюгье. Он мог послать телеграмму сочувствия
генералу де Голлю... (Смех в зале.)
МэтрБрюгье. Мы приходим к выводу, что свидетель был
посажен в лагерь, потому что он сочувствовал правительству
Виши, вот и все объяснение!
Мэтр Эсман. Но он же был в России с 1909 года!
Б о р н э. Я не был во Франции тридцать семь лет.
Мэтр Б р ю г ь е. Не надо было лично знать Петена, чтоб
быть преданным ему и его политике. Это единственная причина...
М а р к ь е. ...К сожалению, до 1941 года в Москве был посол,
имя которого пользуется печальной известностью... Так что до
1942 года у них не было возможности проявить свои чувства...
МэтрЭсман. Я хотел задать вопрос свидетелю в присут-
ствии полковника Маркье. Пока вы были в лагере, доходила ли
до вас статья полковника Маркье, которая вас удивила бы?
Б о р н э. Была в «Известиях» перепечатка из газеты «Се
суар», там один летчик из эскадрильи «Неман» утверждал, что в
России нет французских заключенных. А мы читали эту статью
в концлагере!..
(Как это было и после выступления летчика Муанэ, защит-
ники «Леттр франсэз» зачитывают письма коммунистов, возра-
жающих против всяких показаний в пользу Кравченко.)
12 МАЯ 1989 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ЗАЛ 17-й ПАЛАТЫ
Вот так же видны были за окном крыши и мансарды
набережной Гранд Огюстэн. Так же темнели в зале черные ман-
тии, сверкали белые галстуки судейских, так же стыли весы на
мече правосудия, когда в этот зал, услышавший уже столько спо-
93
ров о безупречной честности язвительного Вюрмсера, о коле-
баниях благородного д’Астье де ля Вижери, о потребности ин-
теллектуалов в новой языческой вере, о переименовании города
Сталинабада, о взглядах Ильи Эренбурга на прозу Веркора,—
когда в эту компанию богатых юристов, процветающих левых
и правых журналистов, членов парламента, профессоров, гене-
ралов, роскошных дам и мирных полицейских — два гениальных
режиссера, мэтр Изар и Кравченко, привели вдруг украинскую
крестьянку Ольгу Марченко: в длинной не по моде юбке, в кресть-
янском платочке на седеющих волосах, в странной блузке...
Сама жизнь, сама Украина, истерзанная деукраинизацией,
коллективизацией, индустриализацией, а потом еще и оккупа-
цией, испуганная до потери сознания, вдруг вторглась в зал па-
рижского суда. Шок был настолько велик, пропасть, отделявшая
настоящую Россию от лучезарной и утешительной России, при-
думанной на свою потребу такими разными, но такими понятны-
ми, своими парижскими интеллектуалами, была столь глубока,
что русским свидетелям Кравченко не удалось затронуть ни фран-
цузских зрителей, ни читателей судебных отчетов. Французы
бросились за спасительными разъяснениями к своим наставни-
кам, и те утешили: не обращайте внимания, это все «обоз Гит-
лера», полицаи, «коллабо», тупое быдло реакции...
Так или иначе, она все-таки состоялась — 31 января 1949
года,— эта фантастическая встреча двух миров, которую только
позднее (да и то лишь самые чувствительные и молодые — вроде
Гийома Малори) осознали как «упущенное рандеву».
31 ЯНВАРЯ 1949 года.
ПАРИЖ. ОСТРОВ СИТЭ.
ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ. ЗАЛ 17-й ПАЛАТЫ
Вот она стоит перед барьером, перед непонятными
чужеземными людьми, эта «матрешка», эта «баба в форме коло-
кола» («Фигаро»), и льется ее «ровная серьезная речь необыкно-
венной мягкости... с этими рокочущими согласными, точно ручей
журчит по большим округлым булыжникам» («Монд»), «да» и
«да-да» и еще что-то в этом роде» («Леттр франсэз»), крестьянка
«в пестром платочке, с круглым лицом, певучим голосом» («Рус-
ская мысль»). Она рассказала, как пошла она брать справку
для арестованного брата, что он работал шахтером, а председа-
тель сельсовета потребовал с нее тысячу рублей и велел за справ-
кой приходить назавтра.
94
Ольга Марченко. Я пришла назавтра; как он велел, за
три километра пришла, и ребенка оставила дома, а он, когда я
пришла, вынул из стола справку, прочел ее мне и говорит: «Эта
справка не годится для твоего брата, можем дать другую». Я
взяла в руку справку, а ему тысячу рублей дала. А потом он выр-
вал у меня справку эту, а за дверьми у него милиционер стоял,
он и говорит ему, этот предсельсовета: «Товарищ милиционер,
арестуйте эту гражданку, потому что мы не даем справок для того,
чтобы освобождать кулаков. Мы, наоборот, хотим ликвидировать
кулака, чтобы этот класс исчез с лица земли». Я там оставалась
два дня и две ночи и только добилась с трудом, чтобы мне дали
маленького ребеночка.
Судья. А тысячу рублей он вам так и не вернул?
Ольга Марченко. Нет. Я побыла три недели в тюрьме
и вижу, что ожидают еще заключенных, чтобы нас куда-то от-
править. И я ночью решила сбежать. А трудно было, потому что
второй этаж, а у меня ребенок. И я так придумала, у меня длинная
шаль была, как у нас носят, я ее разорвала и сделала веревку.
Сперва я ребеночка спустила со второго этажа, а потом сама
спустилась. А ночью пешком пошла к Донбассу...
Мэтр Эсман. Что вы можете рассказать о коллективиза-
ции?
Судья. Вы что хотите, чтоб она целую лекцию прочла?
Ольга Марченко. Про коллективизацию я ничего не
знаю, это мой муж может вам рассказать. А вот я могу про рас-
кулачивание, потому что я сама это пережила, и еще могу рас-
сказать, как соседей моих раскулачивали... Я жила возле Росто-
ва, в деревне Холодное, мы с мужем занимались сельским хо-
зяйством. У нас пять гектаров земли было, одна корова и две
лошади. Наемных работников не было. До 1929 года жизнь хотя
и трудная, а все же была терпимая. А когда началась коллективи-
зация, четырнадцать крестьян у нас были назначены как кулаки
на шестьдесят семь хозяйств.
Судья. Из шестидесяти семи четырнадцать фермеров были
арестованы как кулаки?
Ольга Марченко. Вот так. Потом налоги назначили,
какие невозможно было дать по нашему хозяйствованию. Хотя
б мы и головы свои заложили, а столько нам было не набрать.
Ну вот они и конфисковали все, что у нас было в хозяйстве, и
мебель, и скот, и одежду, и лошадей, и чего из продуктов было,
и орудия — все. Когда одни стены остались, они на нас денежный
налог назначили и сказали: «Если за дом свой выплатите, оставим
вас тут жить, а нет — на снег выкинем». Мы заняли у других
крестьян, которых не назначили кулаками, и за дом выплатили.
95
A 5 февраля 1930 года прибыла к нам бригада представителей
партии рабочих из Ростова, Щукин и другие. Вошли ко мне в
дом, а я одна была, и они мне говорят: «Выходи из дому». Я ста-
ла говорить, что за дом мы выплатили, но они меня взяли за руки
и из дому выволокли. Дверь дома опечатали. А меня в снег затол-
кали. А я на девятом месяце была беременности.
Судья. Муж где был в этот момент?
Ольга Марченко. Он прятался, боялся ареста, потому
что мужиков уже в тот момент арестовывали.
Судья. Значит, в этот момент она была одна?
ОльгаМарченко. Мне двадцать четыре года было, я еще
жить хотела. Я спряталась в погребе у нас во дворе, а представи-
тель из бригады видел, что я спряталась, вот они и пришли меня
выгонять...
Льется украинская речь... Безысходный рассказ о том, как
в товарных вагонах угоняли на Урал Ольгину сестру с семьей,
как выселяли бедную соседку Марию Кованову с семью детишка-
ми только за то, что у первого ее мужа отец был служащий...
Проглянуло солнце, луч упал на даму во фригийском колпаке.
В зале зашевелились — невыносимо чужое горе, стеснительно.
Не дрогнул господин Вюрмсер, он знает, что это все лакеи Гитле-
ра, что они врут, выучив наизусть свои роли.
Не дрогнул корреспондент «Юманите», написал: «...плачи и
стенания и скрежет зубовный на фирме «Кравченко и К0, экспорт
во всех жанрах». И заключение тут же сочинил: «Этот день при-
нес смятение врагам мира и их защитникам». И добавил удачный
оборот: «Началось с позорного, чтоб закончиться смешным».
Смешное нашел и Жан Марсенак из «Леттр франсэз»: «Да-да»
и «да». Но все эти «да-да» застревают у них в горле, когда мэтр
Матарассо ставит вопросы». А мэтр Матарассо спрашивает одно:
«Какого числа уехали? Пусть угнали, но когда?» Ему надо дока-
зать, что вовсе не угоняли немцы эти десятки и сотни тысяч лю-
дей, сами они ушли, оттого и не пожелали обратно. А хоть бы и
на верную муку, не вернулся, значит, полицай — сто тысяч поли-
цаев, мильон...
И, не дождавшись, пока их изловит, замучив вопросами, мэтр
Матарассо, корреспондент «Юманите» спешит возвестить в тот
же самый день: «Свидетели признались, что они покинули ро-
дину, чтобы избежать наказания, которое ждало предателей».
Это, конечно, подтасовочка — лишь то сказали свидетели, что
не хотят пострадать невинно. Да еще и повинили при этом отца
народов. Вообще с «признаниями», к которым так привыкла
«Юманите» (все «признаются в предательстве» — и герои-парти-
96
заны, и секретари компартий, и московские поэты, еще вчера
воспевавшие Сталина), вышла на парижском процессе промашка.
И это (как заметило лет через тридцать — сорок новое поколение
исследователей) проливало свет на великую тайну московских
процессов тридцатых годов: не пытали в Париже арестованных —
и вот тебе, ни в чем не «признались» там невиновные. От этих
страшных, под пыткой, «признаний» бежали потом, как от чумы,
и сам Морган, и сам Веркор — поминали их многократно. Но
только это все было поздней, потом, а пока...
Все смешней становилось писателю-гуманисту Вюрмсеру —
не переставая смеялся он и шутил, угощал конфетками господи-
на Моргана, своего личного переводчика, друзей по газете, жену
Луизу — очень любил карамельки писатель Вюрмсер. А когда
заплакала Ольга Марченко, растревоженная воспоминаниями,
да и многие дамы в зале («Представители правящих классов»,—
сказал Вюрмсер) стали растроганно сморкаться, то совсем раз-
веселились на скамье обвиняемых: горе и смятение в стане врагов
веселит сердце бойца.
Судья. Отчего она не вернулась на Украину?
Ольга Марченко. Не было мне никакой причины воз-
вращаться, потому что я там считалась кулачка. И права голосо-
вать у меня не было, и жить было негде, осталась в Германии,
пока нового места не найдем, чтоб жить...
(Дрогнул корреспондент «Попюлер», записал в свой блокно-
тик: «Эта женщина слишком подлинная, чтобы соврать».)
25 СЕНТЯБРЯ 1986 года. ПАРИЖ.
XIII ОКРУГ. УЛИЦА ДЮНУ А
Страшная выдалась тогда осень в Париже. Подполь-
ные группки террористов, чуть не ежемесячно менявшие назва-
ния (то «Группа освобождения арабских узников», то «Ливан-
ская революционная организация правосудия», то еще как),
швыряли или прятали смертельные бомбы где ни попадя. На
почте в ратуше взлетели на воздух ни в чем не повинные туристы
да почтовые барышни, в кафе во время обеда убиты были не-
винные служащие. А потом идейные бандиты взорвали пеструю
толпу близ бедняцкого магазина «Тати»: по телевизору пока-
зывали плачущего марокканца в окружении окровавленных поку-
пок и остатков его жены с детьми. Париж был на осадном поло-
жении. При входе на почту хилые старушки-пенсионерки, наня-
тые решительным господином Шираком, проверяли сумки —
4 Б. Носик
97
нет ли там каких-нибудь фугасов. И родителей теперь в детский
сад не впускали: детей выводили к нам на улицу, как будто это
родители покушаются на детей... Вот и сегодня мы толкались
на улице Дюнуа, ждали из сада детей. Симпатичный папа-алжи-
рец, преподающий где-то марксизм, сообщил мне, что у меня на
родине — он только что прочел в «Либё» — еще не все благопо-
лучно со снабжением.
— Так ведь и здесь...— горестно махнул он мне рукой в уте-
шение.
Мама-сефардка тоже не хотела меня расстраивать.
— Ничего,— сказала она,— мы ведь знаем, что вам приш-
лось так тяжело отбиваться от этих ужасных «кулак».
— Откуда дровишки? — спросил я не слишком растроганно.
— Ну как же! — подхватил папа.— Мы читали книгу анар-
хиста Волина.
— Грустно...— сказал я, и молодые родители сочувственно
кивнули,— грустно в стране непуганых идиотов.
Они не знали, что это цитата из любимого автора. И я лишился
их бескорыстного сочувствия. Так и живу без него. Но зато по-
нимаю, что я был не прав. Это понимание помогло мне дружески
общаться с мэтром Матарассо.
1987 год. РОСТОВ-НА-ДОНУ
ЖУРНАЛ «ДОН» № 1
«Как доказывает академик В. А. Тихонов, кулачество
конца XIX века... было почти полностью разгромлено еще в годы
гражданской войны. В конце 20-х годов под определение «кулак»
попадали главным образом добросовестные крестьяне-середняки,
которые упорным трудом добились относительного благополучия
за несколько лет нэпа».
31 ЯНВАРЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Семен Марченко. В сентябре 1929 года мы были
арестованы, и все, что у нас было, забрали... Посадили в тюрьму
отца, брата и еще семь человек... Защитников у нас на суде не
было, потому что мы назывались кулак...
При мне судили двух женщин за то, что они собирали колоски
в поле, на котором рожь уже была сжата. По закону Калинина
98
от 7 августа 1935 года, который запрещал собирать колоски, им
дали десять лет ссылки в Сибирь... Одна из них упросила судью,
чтоб он отпустил ее домой за шесть километров, где у нее оста-
вался маленький ребенок и еще пятеро детей побольше...
Судья. Спросите, где он сейчас живет?
Семен Марченко. Сейчас я работаю как поденщик у
немецкого фермера... Его зовут Хайбенд, это место — Кинден,
а вокзал называется Кинца. Деревня Фестенрик.
Мэтр Матарассо. Каково было его занятие во время не-
мецкой оккупации? Нет! Не подсказывайте ему, и ему тоже...
Семен Марченко. Шахтером был в шахте.
Украинский переводчик. Свидетель говорит, что
он рабочий. Он говорит: «Посмотрите на мои руки, я не ка-
питалист».
31 ЯНВАРЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Судья. Ваше имя, фамилия, профессия, адрес?
К и з и л о. Кизило, инженер-механик во французской зоне
оккупации в Германии.
...Я был арестован 10 мая 1938 года... Меня обвинили в том,
что я член троцкистско-бухаринской группы контрреволюционе-
ров, которые хотят свергнуть советское правительство во главе
со Сталиным.
(Свидетель Кизило рассказывает об изнурительных допросах
и пытках, об угрозах, о быстром, незаконном суде, который при-
говорил его к восемнадцати годам заключения в лагере строгого
режима. Он рассказывает об издевательствах над женщинами
и детьми, свидетелем которых он был в тюрьме, об уральском ла-
гере, о своем неожиданном освобождении после смещения Ежова.
Он свидетельствует, что книга Кравченко правдиво рассказывает
о стахановском движении и о роли профсоюзов. Отвечая на во-
просы о жизненном уровне рабочих, свидетель вспоминает, что
в «хорошем» 1938 году рабочий-стахановец на его предприятии
получал 280 рублей в месяц.)
Судья. 280 рублей в месяц?
Кизило. Да. Серый хлеб стоил полтора рубля, белый
хлеб — 2 рубля 80, сахар — 4 рубля 60, масло — 4 рубля, туф-
ли — от 90 до 250, костюм — 600—1500 рублей...
(Господин Вюрмсер спрашивает, что делал свидетель во
время оккупации.)
99
Вюрмсер. Уж мы-то знаем оккупацию. Нам достаточно уз-
нать, на чьей он был стороне.
Кравченко (бросается к Вюрмсеру). Кто здесь имеет
право судить о предательстве? Вы или он? Это вы предатель, а
не он.
Вюрмсер. Подальше от меня, подальше.
Судья. Позовите стражу.
31 ЯНВАРЯ 1949 года. ПАРИЖ.
БУЛЬВАР ИТАЛЬЯНЦЕВ. ГАЗЕТА «МОНД»
«Господин Вюрмсер быстро вскакивает на ноги и на-
чинает вопить. Кравченко немедленно появляется перед своим
противником и вопит тоже... Между двумя противниками уста-
навливают совершенно удивительный железный стул, окрашен-
ный нежно-голубой краской, на котором сидит, багровея, респуб-
ликанский страж. Успокоение приходит необычайно быстро —
господин Кравченко уже царапает что-то карандашом...»
31 ЯНВАРЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
К и з и л о. Разрешите мне ответить, господин судья.
Я хочу заявить, что население, которое оказалось в зоне, окку-
пированной гитлеровцами, оно было брошено на произвол судьбы
своим собственным правительством. А теперь советское прави-
тельство обвиняет этих людей, говоря, что они стали фашиста-
ми. Я хотел спросить этих господ, где теперь люди, которые
были в оккупации, где партизаны, которые боролись. Они все
по лагерям, потому что, по мнению Сталина, они все стали вра-
гами народа, эти люди, которых он сам бросил.
Вюрмсер. Я хотел уточнить, не было ли ошибки в переводе.
Свидетель утверждал тут, что он рубил березы в лесу при мо-
розе ниже сорока градусов, а на ногах у него были тряпки.
Переводчик. Не тряпки. Он сказал «обувь из березовой
коры».
Вюрмсер. Хорошо, пусть так.
К и з и л о. Мороз был ниже сорока градусов.
Вюрмсер. И когда он возвращался после целого дня ра-
боты в снегу... двенадцать километров пешком, он был вспотев-
ший и пот замерзал у него на теле?
юо
К и з и л о. Мы мокрые были от пота, а когда добирались до
лагеря к десяти вечера, одежда на нас была жесткая, заледенев-
шая.
В ю р м с е р. ...Я просто сомневаюсь в том, что когда проходят
двенадцать километров, то пот замерзает.
Кравченко. Спросите в НКВД!
Вюрмсер. Я вовсе не хотел придираться... Но каково прав-
доподобие!..
Мэтр Нордман. Согласно Кравченко, кремлевские дея-
тели усыпали степь трупами и превратили в каторжан десятки
миллионов людей. Что думает свидетель?
Кравченко. Вы лжете! Там не так написано, в моей книге!
31 ЯНВАРЯ 1949 года. ПАРИЖ.
БУЛЬВАР ИТАЛЬЯНЦЕВ. ГАЗЕТА «МОНД»
«Весь дрожа, неистовствуя, негодуя, Кравченко взры-
вается: «Я говорил о мертвых...»
Совершенно затурканный, республиканский страж решается
лишь на слабый жест. Бригада приходит ему на помощь...»
31 ЯНВАРЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Мэтр Нордман. В конце концов, господин судья,
сколько может продолжаться эта комедия?
Вюрмсер. Вот именно... Вот именно...
Судья. Стража, скажите Кравченко вернуться на место.
Мэтр Нордман. Господин судья, взрывы ярости Крав-
ченко...
Судья. Пусть сперва переведут, что он сказал.
Мэтр Эсман. О, вы еще не знаете его ярости!
Кравченко. Ну зачем они лгут?! Зачем играют крапле-
ными картами? Это все провокационные маневры Нордмана и
К°... Зачем так нагло врать? Я протестую. Этого нет в моей книге...
Мэтр Эсман. Не приписывайте ему то, чего нет в книге.
Мэтр Нордман. Является ли СССР огромным исправи-
тельным заведением? Вот в чем вопрос!
(Корреспондент «Леттр франсэз» раздраженно писал в те дни:
«Надо раз и навсегда сказать, что такое советские лагеря, о ко-
101
торых столько говорят на этом процессе. СССР и не думал ни-
когда их скрывать, совершенно оправданно считая и имея вели-
чайшее основание считать, что лагеря эти могут составлять для
него предмет гордости, славы, доказательство того, что там никог-
да не теряют веры в человека и что перевоспитание, возрождение
преступника при социализме не пустая фраза».)
ОКТЯБРЬ 1988 года. МОСКВА.
САДОВОЕ КОЛЬЦО
У ПЛОЩАДИ МАЯКОВСКОГО.
ЖУРНАЛ «ЮНОСТЬ»
«Первый лагерь был открыт в 1924 году. Дело стало
быстро расти, началась «перековка», Беломорканал, Потьма, за-
тем Дмитлаг (Москва — Волга), где в одном только лагере
(в Дмитлаге) было свыше 800 000 человек. Потом лагерям не
стало счета: Севлаг, Севвостлаг, Сиблаг, Бамлаг... Заселено было
густо. Белая, чуть синеватая мгла зимней 60 ° ночи, оркестр се-
ребряных труб, играющий туши перед мертвым строем арестан-
тов. Желтый свет огромных, тонущих в белой мгле бензиновых
факелов. Читают списки расстрелянных за невыполнение норм.
Беглец, которого поймали в тайге и застрелили «оператив-
ники». Отрубили ему обе кисти, чтобы не возить труп за несколько
верст, а пальцы ведь надо печатать. А беглец поднялся и доплел-
ся к утру к нашей избушке. Потом его застрелили окончательно...
Свитер шерстяной, домашний часто лежит на лавке и шеве-
лится — так много в нем вшей.
Идет шеренга, в ряду люди сцеплены локтями, на спинах жес-
тяные №№ (вместо бубнового туза), конвой, собаки во множест-
ве, через каждые 10 минут — ло-о-жись! Лежали подолгу в снегу,
не поднимая голов, ожидая команды...
Тех, кто не может идти на работу, привязывают к волокушам,
и лошадь тащит их по дороге за 2—3 километра.
Ворот у отверстия штольни. Бревно, которым ворот вращают,
и семь измученных оборванцев ходят по кругу вместо лошади.
И у костра — конвоир. Чем не Египет?»
(Из письма бывшего заключен-
ного советских лагерей поэта
В. Т. Шаламова поэту Б. Л. Пас-
тернаку, написанного 8 января
1956 г.)
102
1979 год. ПАРИЖ.
КАБИНЕТ АНДРЕ ВЮРМСЕРА
«На пресс-конференции, которую мы дали накануне
процесса, мы утверждали, что в Советском Союзе не было лаге-
рей, что исправительный режим там отличается от нашего, вот
и все. Со всей искренностью любой французский коммунист
заявил бы то же самое, от Мориса Тореза до наших адвокатов,
от Матильды Пери до Мари Клода Вайян-Кутюрье. Пьер Дэкс
отстаивал то же самое перед Давидом Руссэ *. В статье о нашем
труде, посвященном памяти Сталина, над которым вместе со мной
работали Жорж Мунэн, Анри Лефабр и Жан Десанти (Роже Га-
роди и Виктор Ледюк фигурировали вместе с нами в оглавлении),
Жан Канала так сформулировал в «Нувель критик» наше мнение
по этому вопросу: «Существуют или не существуют концлагеря в
СССР? Нет, концлагерей в СССР не существует. Существуют или
не существуют в СССР лагеря трудового перевоспитания? Да, та-
кие лагеря существуют. В них собирают уголовных преступников
и политических заключенных: СССР этого никогда
не скрывал».
(А. Вюрмсер. С совершеннейшим
почтением. Шестьдесят лет поли-
тической и литературной жизни.)
1979 год. ПАРИЖ.
КАБИНЕТ КЛОДА МОРГАНА
«24. IX. 69. Нужно было обрушивать жестокие удары
и проводить террор, чтобы любой ценой помешать отклонению
от линии, установленной Сталиным. Для достижения этой цели
все средства были хороши, включая фабрикацию процессов пре-
дателей из каких-то кусочков.
...Во что я верю? И во что я не верю? Я верю в Ленина. Я все
еще верю, что недостаточно революционной партии захватить
власть для того, чтобы революция была завершена.
Но я не верю в полицейское государство. Я не верю в жестокое
господство диктатуры над пролетариатом. Не верю утверждениям
о необходимости насаждать социализм силой.
21. V. 70. Мы, коммунисты, не ставим под сомнение ни совет-
ские заявления, ни заявления нашей партии... Мои выступления
1 «Зачем Давиду Руссэ понадобилось выдумывать сталинские лагеря?» —
сказал в те годы Пьер Дэкс.
103
на процессе Кравченко это показали... Кравченко пригласил сви-
детелей, которые единодушно доказывали существование лагерей
подавления, где царили чудовищные условия. Я не верил им ни
на йоту. Одни были кулаки, другие политические враги. Я заяв-
лял, что, если б они говорили правду, я не был бы коммунистом.
Бедный м-дак!»
(К. Морган. Дон Кихоты и прочие.)
1989 год. ТБИЛИСИ.
ЖУРНАЛ «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ» № 1
В 1918 году Ленин писал о диктатуре: «Научное по-
нятие диктатуры означает не что иное, как ничем не ограничен-
ную, никакими законами, никакими абсолютно правилами
не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся
власть».
1 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Судья. Спросите его имя, возраст, профессию и прочее.
К р е в с у н. Иван Кревсун, украинский крестьянин из Пол-
тавской области на Украине, родился в 1898 году. Сейчас сель-
скохозяйственный рабочий в Регенсбурге, Германия, лагерь пере-
мещенных лиц.
Судья. Пусть делает свое заявление.
Кревсун. 20 октября 1930 года, в полночь, работники
ГПУ пришли ко мне домой во главе с неким Якушевым. Как
только я открыл дверь, они велели мне поднять руки вверх. Я был
в ночной рубашке...
Нас было в камере сто семнадцать человек. Ни пройтись, ни
повернуться, ни сесть — как сельди в бочке.
(Дальше рассказ про допросы, требование подписать лживые
протоколы — обо всем, о чем наш читатель так хорошо осведом-
лен теперь.)
Кревсун. ...Мы высадились в бухте Нагаево, в районе Ко-
лымы... Мы строили город Магадан, который теперь известен в
Советском Союзе... В Магадане я пробыл до 25 марта. Оттуда
нас пешком повели на золотые прииски. Шли мы долго, пункты
и бараки там стояли далеко друг от друга. Шли по глубокому
104
снегу. Многие не выдержали, их так и оставили лежать в снегу...
Нас заставляли рыть землю, твердую, как камень. Мороз...
К тому же и цинга косила наши ряды. В этих условиях я прора-
ботал до декабря 1939 года. Тогда я получил свидетельство об
освобождении. Но на Украине мне было жить запрещено...
(Кревсун рассказывает, как он пробирался домой повидать
жену. Как залаяла в темноте братнина собачонка. Как обнялись
с женой и как она заспешила тут же в колхоз на работу.
В этом месте у судьи, так терпеливо выслушивавшего прият-
ные воспоминания своих соотечественников о поездках в Моск-
ву, терпение кончилось.)
Судья. Не могли бы вы попросить, чтоб он подсократил
немного рассказ...
Кревсун. Не могу сократить, потому что тогда смысла не
останется, несвязно будет.
Мэтр Нордман. Он так заучил свой урок, что не
может сократить.
Кревсун. Три дня и три ночи побыл я с женой, а потом
ушел, потому что не имел права больше жить на Украине...
Судья. Вам никогда не объясняли, почему они так с вами
обошлись?
Кревсун. Не знаю. Мне никогда не говорили. Мне не
сказали даже, на сколько лет я был осужден. Судил меня
какой-то особый комитет ГПУ, в закрытом совещании...
23 ИЮНЯ 1989 года. ПОЛДЕНЬ.
ПАРИЖ. АВЕНЮ ОШ. КАФЕ
— Они скучают, они не могут дослушать,
ваши соотечественники,— сказал я Гийому Малори,— у них
была уникальная возможность понять — подлинные свидетели.
Но они не попытались даже понять...
— Идеи всегда интересовали их больше, чем реальность,—
сказал Малори, отставив чашечку с кофе.— Если свидетель
не мог сказать, почему именно было так, им сразу становилось
неинтересно. А свидетели ваши были люди потерянные.
Они притерпелись к несправедливости. Посмотрите, как покорно
они сносили оскорбления от обвиняемых. Они и от суда этого
ничего хорошего не ждали. Произошла «банализация зла».
У нас говорят: «Найди причину преступления и ты найдешь
виновного». А здесь не было причин и, стало быть, не было
виновных. Тоталитаризм вообще был за гранью понимания...
105
И обратите внимание на девальвацию слова. Лагерь смерти
спокойно называют сборным пунктом трудового перевоспитания.
Массовый террор — антифашизмом или еще как-нибудь.
Извращение языка больше никого не задевает. Слова вообще
не имеют значения. Как у Андре Жида: «Марксизм — это месса
на латыни: там, где не понимают, там просто кладут поклоны».
— Да уж, ваши потомственные атеисты оказались на ред-
кость религиозными. Единственное, на что смогла подвигнуть их
антиклерикальная традиция,— это на смену религии... И все же
эта неспособность поверить в очевидное кажется мне
невероятной.
— Отчего же? С одной стороны, могучая реальность.
Существование СССР. Победа в войне. С другой стороны,
ускользающая истина. Нет надежных документов. Посмотрите
сейчас — ревизионисты вроде Фориссона 1 ставят под сомнение
существование нацистских газовых камер. Лишь оттого, что они
не фигурируют в документах III рейха как «концепция
юридически административная». А ведь тут речь идет о давно
разоблаченной и поверженной тирании. Тогда же...
— Грустно.
— Заметьте, опыт немецких лагерей нисколько не помог
развить воображение: советских лагерей наши левые интел-
лигенты представить себе вообще не могли. Беттельхейм
в этой связи говорит об автоцензуре сознания. Сюда
прибавляется еще невозможность взаимопонимания двух
разделенных культур, о которой говорил Шпенглер. А главное —
боязнь потерять идеал. Поэтому Симона де Бовуар и писала, что,
несмотря на «чистки, ссылки, разнообразные злоупотребления
во время оккупации и полицейскую диктатуру», коммунис-
тическая система является все же позитивной. Мерло-Понти
заявил, что ужасы двух систем одинаковы, но социализм лучше,
так как он все-таки признается в насилии и оттого он
«может заключать в себе больше гуманности». Что уж говорить
о нашем общем знакомом Жоэ Нордмане, который прямо
заявил, что советские лагеря были «основаны на доверии
к человеку». И в общем-то все в ту пору были готовы принести
жертвы во имя будущего. Статья Нэлля в «Комба» так
и заявляла: «Если б тысячи жизней не были бы принесены
в жертву созданию советской военной машины мира, то мертвых
1 Лионский преподаватель, историк-ревизионист. Усомнился в существова-
нии нацистских газовых камер: ревизионисты-историки считают их простыми
вошебойками. Провинциальные шкрабы (вспомните Н. Андрееву) могут позволить
себе любую степень неведенья. Совсем недавно мы стали свидетелями «сом-
нений» в существовании секретного сговора Сталина с Гитлером.
106
было бы больше и не было бы надежды». Опрос читателей
«Комба» показал, что французы считают, что следует
пожертвовать для будущего целым поколением.
— Эта жертвенность трогательна. Точнее, готовность
жертвовать чужими жизнями. Я это отметил во многих речах
на процессе — у русских, мол, такой режим, им так лучше,
они привыкли.
— Но ведь и читатели «Нью-Йорк тайме» тоже ответили при
опросе, что в СССР наилучшее возможное правительство.
А 35 процентов французов заявили тогда, что во Франции дела
идут хуже, чем в России.
— Ну уж это-то универсальное убеждение: «Нам хуже всех!»
Помните, как сказал на процессе Андре Вюрмсер: «Нужда
всегда с нашей стороны».
1 ФЕВРАЛЯ 1949 ГОДА. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Силенко. Я родился в украинской крестьянской
семье в Харьковской области. Фамилия моя Силенко.
Судья. Предвосхищая вопросы, которые ему зададут,
я спрошу сам. Почему при подходе русской армии... он убежал?
Почему он ушел на Запад вместо того, чтобы встретиться с сооте-
чественниками?
Силенко. Я был солдатом Красной Армии и попал в плен
к немцам. Англичанам и французам, которые попали в плен
к немцам и были военнопленными, помогал Красный Крест.
А Сталин сказал: «У нас нет пленных, есть только предатели
и дезертиры...» И вот тысячи наших солдат умирали в лагерях.
Я в лагере был, сам спал на трупах. И я убежал из лагеря.
...Когда мне было девять лет, бригада коммунистов во главе
с человеком по фамилии Сурин пришла к нам в дом. описала
все и сказала, что мы должны уходить... Я хотел взять свои
школьные учебники, но один коммунист вырвал их у меня из рук
и сказал: «Ты в школу не пойдешь...» Весь хлеб отбирали тогда
в деревне, до последнего грамма, и лозунг такой был: «Весь
хлеб государству»... Зимой трупы замерзали, так что еще не было
дурного запаха, однако с приближением весны тлетворный
запах начинал заполнять деревню... 30 процентов населения
у нас вымерло.
...Насчет шпионства... Оно существовало не только в универ-
ситетах. Оно начиналось еще в школе. В начальной школе
107
пионервожатый спрашивал, кому из нас родители велят читать
молитвы. Пионер Клименко признался... и его отец был арестован.
Работал я ответственным секретарем редакции в газете
«Электроэнергия», которая выходила в Сталинском районе.
Главный редактор Алешенко... меня посылал в цех электрозавода
записать две-три фамилии рабочих. Потом я возвращался, писал
статьи про счастливую жизнь в Советском Союзе и подписывал
их именами этих рабочих... Если кто-нибудь пожелает проверить
эти факты, то в Библиотеке Ленина можно найти номера
за 1940 год.
Судья. Смешное занятие.
С и л е н к о. Это драма — быть советским журналистом...
И для меня такая же драма, когда я вижу, что за границей
читают советскую прессу и люди верят как в Магомета или
в Коран.
(По просьбе адвокатов Силенко рассказывает о начале
советско-германской дружбы в 1939 году.)
Силенко. В Доме Красной Армии возле Джебракова
командир 55-го танкового дивизиона сказал бойцам: «Великая
Германия и Советский Союз заключили договор о дружбе
и в любой момент могут поставить на колени англо-
американскую буржуазию...» До заключения договора нам
в Политехнической школе все время говорили, что Германия —
фашистская страна. И я сгорал от ненависти к гитлеровской
диктатуре. Дружба эта была необъяснима и малопонятна для
красноармейцев...
1939 год. АБХАЗИЯ. СУХУМИ
Учительница сказала своим маленьким ученикам,
что теперь больше нельзя говорить «фашисты».
«Все ждали, что Александра Ивановна как-то пояснит свои
слова, но она ничего не говорила. Помню, хорошо помню
красные пятна, которые пошли по морщинистым щекам нашей
старой учительницы. Она продолжала молчать, и края губ с одной
стороны ее рта мелко-мелко вздрагивали...
После этого много раз в жизни мы видели эти повороты на сто
восемьдесят градусов, которые никто и не пытался нам как-то
объяснить. Казалось, самим отсутствием какого-либо правдопо-
добного объяснения зигзагов политики тот, кто вершил ее,
проверял полноту власти над нами.
— Ничего, схамают, как булочку,— казалось, бормотал
он в усы».
(Фазиль Искандер.
Старый дом под кипарисом.)
108
1 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Мэтр Матарассо. ...По странному совпадению
свидетели депортированы в Германию, как раз когда немцы
уходят.
Силенко. ...Сталин сказал, что у него нет военнопленных.
Согласно принятой мной присяге я должен был покончить
самоубийством. Многие и кончали, но я еще хотел бороться
с фашизмом, с немецким и советским. Я свой народ люблю
до смерти. И я за него в любой момент готов на казнь,
а Сталин и Политбюро — это не народ.
Вюрмсер. Не сможете ли вы задать ему вопрос?
Я его задаю как журналист. Свидетель сказал, что он написал
какое-то число статей, которые, как он знал заранее, будут
подписаны именами тех, кто не является их авторами. Это был
отдельный случай или он проделывал это регулярно в течение
долгого времени?
Силенко. Секретарь парткома Суханов вызвал меня к себе
в кабинет и сказал: «Если ты журналист, ты должен показывать
счастливую жизнь советского рабочего. Советский рабочий
знает, что он счастлив...»
Вюрмсер. Это несколько иной мир!
1 ФЕВРАЛЯ 1949 года. МОСКВА.
УЛИЦА «ПРАВДЫ». ГАЗЕТА «ПРАВДА»
В тот самый день, когда А. Вюрмсер, один из
творцов Сима Томаса, пытался предстать человеком не от мира
сего, в «Правде» была напечатана статья, подписанная именем
Константина Симонова.
«Кто такой этот Кравченко?.. Человек, переставший быть
человеком в тот апрельский день... когда он стал платным
агентом американской разведки... лишенный Родины выродок,
отребье, изменник и предатель.
Горький как-то замечательно сказал: «...сравнить предателя
не с кем и не с чем. Я думаю, что даже тифозную вошь
сравнение с предателем оскорбило бы».
То же самое можно сказать о Кравченко, этом холуе,
который уже четвертый день паясничает в зале парижского суда.
...Военнослужащий инженер Кравченко, проворовавшийся,
спившийся и запутавшийся в карточных долгах, был подобран
109
в ночных кабаках вашингтонскими агентами американской
разведки... Сущность дела состоит не только в том, какую
именно сумму украл проворовавшийся подлец в закупочной
комиссии в Вашингтоне, сколько именно долларов американские
разведчики заплатили за его карточные долги, нацарапал ли он
своей рукой, дрожащей, как осиновый лист, рукой иуды,
какие-нибудь куцые обрывки своих еще более куцых мыслей
подлеца и предателя...» 1
4 ОКТЯБРЯ 1979 года.
КОКТЕБЕЛЬ. ПАРК БЛИЗ ДОМА ВОЛОШИНА
Я перечитываю статью, подписанную Симоновым,
и думаю о том, что мой читатель, конечно, узнает
в этих пассажах стиль Сима Томаса. Сим ли? Симонов ли?
Ведь и Симонов тоже не был на процессе, откуда ему было
знать? А может, все написал Силенко? Во всяком случае, все
необычайно знакомо...
Из соседнего коттеджа, как и всегда, доносится хрипато-
насмешливый голос Высоцкого. И я вдруг вспоминаю: вот оно!
Вот кто знал Сима-то! Или, может, он Симонова знал? Ну,
судите сами:
Где-то в дебрях ресторана
Гражданина Епифана
Сбил с пути и с панталыку
Несоветский человек.
Епифан казался жадным,
Хищным, умным, плотоядным,
Меры в женщинах и в винах
Он не знал и не хотел...
В общем, так: подручный Джона
Был находка для шпиона...1 2
Как помните, с Епифаном у ихней разведки был полный
прокол. С Кравченко, впрочем, тоже. Однако вернемся к Симу
и Симонову.
1 Любопытно, что такую же широту и терпимость (не в том, мол, дело...)
проявляет в то время и Ж. Канапа по отношению к писателю А. Кестлеру и его
знаменитому роману: <Стал ли Кестлер агентом Интеллидженс сервис во время
своего пребывания в темницах Франко или он был им до того — не имеет значе-
ния» (Ж. Канапа. Предатель и пролетарий / Предисловие А. Вюрмсера).
2 См. статью Сима Томаса, зачитанную на заседании 24 января 1949
года.
ПО
1 ФЕВРАЛЯ 1949 года. МОСКВА.
УЛИЦА «ПРАВДЫ». ГАЗЕТА «ПРАВДА»
«Первым же свидетелям не составило особого
труда доказать смехотворную глупость и безграмотность книги,
подписанной фамилией предателя Кравченко, книги, в которой
объединился под одной крышей весь желчный и глупый,
слезливый и наглый, изуверский и фарисейский бред
о Советском Союзе, рассеянный дотоле по бесчисленным
статьям и книжонкам разной херстовской газетной клоаки.
Не составило большого труда найти в этой помойной яме
и текстуально точные цитаты из геббельсовских пропаганди-
стских книг и радиовыступлений ’, что, конечно, никого не
удивило, так как цитировать Геббельса, не называя его имени,
давно уже вошло в привычку американских фашиствующих
агрессоров. Без особого труда были обнаружены на суде
и другие нелепости, которые прямо доказывают, что американ-
ские хозяева Кравченко не стали тратить времени на то,
чтобы перевести своему холую с английского книгу, подписанную
его грязным именем.
...В зале раздается взрыв гомерического хохота. Холуй
ошеломлен и не находит аргументов1 2... Жулики и мерзавцы
еще раз попались с поличным. Их поймали за грязную руку
сразу же, в первый день.
...Я вижу, как предатель, черный выродок, в помещении
американской разведки царапает американской самопишущей
ручкой иудину подпись под хулой на свою бывшую Родину.
Как всегда бывает на таких процессах, вопреки воле его
организаторов, вопреки их злобным ожиданиям, этот процесс
будет позорным для них. Он обнаружит перед всем миром
оскаленные звериные морды крупных хозяев этого мелкого
холуя, настоящих устроителей процесса».
(К. Симонов. Иуда Кравченко и его хозяева.)
1 В статье, вероятно, нашли отражение те материалы французской печати,
от которых отказались уже сами обвиняемые. Например, «Се суар» обвинила
В. А. Кравченко в том, что он был автором подписанной неким Р. Кравченко
книги, которая вышла в фашистской Германии в 1941 году. Поддержав эту версию
Доминик Десанта утверждала, что шансов на простое совпадение фамилий
очень мало, так как Кравченко на Украине фамилия крайне редкая — как
Бразийяк во Франции. Одна из видных тогдашних «сталинисток» (см. книгу
«Сталинисты»), Десанта считала себя крупным специалистом по России. Чи-
татель без труда убедится, что и остальные сведения, которыми располагал автор
статьи в «Правде», были примерно на том же уровне.
2 А. Вюрмсер с раздражением отмечал, что зал всегда на стороне Кравченко,
объясняя это классовым составом публики. У К. Симонова, не присутствовавшего
на процессе, создалось, кажется, иное впечатление.
111
1 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Судья. Вы француженка?..
Л а л о з. Лалоз-Горюнова, Бланш-Ольга, мне 4 августа
исполнится шестьдесят девять лет. До 1918 года я была
гувернанткой, а в 1918-м, когда... запретили по-английски
говорить и по-французски, я стала акушеркой.
Мэтр Эсман. Не скажете ли, мадам, сколько вы были
в России?
Л а л о з. Сорок пять лет, в России и в СССР.
Мэтр Эсман. У вас, позволю себе напомнить, мадам,
было два сына?
Л а л о з. Три сына... Один из моих сыновей умер шестнадцати
лет, а два других на войне были убиты.
Мэтр Эсман. В армии?
Л а л о з. Ну да, в Красной Армии. Один вернулся из
Финляндии сильно контуженный, получил освобождение, а как
в 1941 году война началась, его снова в военкомат. <...>*
Судья. Почему вы решили уехать из СССР?
Л а л о з. У меня ничего в России не осталось, даже
могилок моих сыновей. Не знаю, где дети мои похоронены.
Чего ж было мне оставаться?.. Мой второй муж умер. А за моих
сыновей мне ничего не платили. Была у меня маленькая
пенсия, потому что я двадцать пять лет была медработником,
и в шестьдесят пять лет нам давали пенсию.
Мэтр Эсман. Ну да, 150 рублей в месяц.
(Словоохотливая мадам Л алоз, которая училась на медсестру
«еще в нормальное время в Варшаве», рассказывает, как она
помогала арестовывать кулаков во время коллективизации,
как была народным заседателем, присутствовала при чистках
в качестве члена партии, как производила заготовки хлеба
и реквизировала зерно.)
Л а л о з. ...Я там была как представитель. Работали по ночам.
Там одна женщина была, она всюду шла, ничего не боялась.
Искали везде по ночам. Там печки у них кирпичные, так мы все,
бывало, кирпичи развалим... Террор... террор... О!., сердце болит,
когда про все это вспомнишь, что было. У вас, к примеру,
земли три гектара. А зерна у вас нет. Вам дали на три
гектара посеять. А у вас семья, семь-восемь детей, есть-то надо.
А хлеба нет. Ладно, думаете, может, год будет хороший —
соберем. Съели немного, потом еще, а потом сеять нечего,
еле полтора гектара засеяли. А требуют с трех. Ясно? Ну и тут
приходит мил человек, говорит: «Деньги гони». А денег тоже нет.
112
Тогда выгоняют из дома человека, и за полчаса дом продан.
Да за какую цену! Ужас!
Судья. Вы это видели?
Л а л о з. Да, я это видела... У меня многих соседей выслали
в деревне. Им сказали: «Враги народа».
...Теперь насчет религии. У них религия просто поразительная.
Церкви там не все поломали, только колокольни. А в церквах
клуб сделали, кино, разные вещи для молодых. И религии не
стало, священников не стало. Чтоб молиться, они прятались.
Когда ребенок родится, его крестить надо, а права не имеют,
и вот в дальней какой деревушке там есть священник, переодетый
в гражданское. Ну а туда за сорок, за пятьдесят километров
бабушка его не может нести. Потом, если узнают, что какой-
нибудь отец или мать ребенка своего крестили, им на работе
говорят: «Благодарим покорно, но только для вас работы нет,
можете уходить». А вот уж когда война началась...
Судья. Приходим к заключению, что церкви были закрыты.
Л а л о з. ...Это чистая комедия была или, скорей, трагедия.
Как-то раз слышу по радио: «Патриарх (уж не помню, как его
звали, кажется, Алексей) Алексей вернулся из Греции
и беседовал со Сталиным. Он его принял в Кремле». Так что
снова открыли религию. Возрождение религии. Войска наши
отступали, немцы наступали. Это все быстро шло. За две-три
недели они уже под Харьковом были. А Сталин хитрющий был.
Он подумал, что русские, мол, очень религиозные и если им дать
возможность молиться, то они скорей в огонь пойдут.
И они это делали, господин судья! Как подумаешь, что ребятишки
в возрасте моего сына должны были на пулеметный огонь идти!..
25 МАЯ 1974 года. ТАДЖИКИСТАН.
ЗА АНЗОБСКИМ ПЕРЕВАЛОМ
Автобус ушел. Я поставил на камень пишущую ма-
шинку, поправил рюкзак за спиной, огляделся. Как всегда,
подумалось: такой красоты еще не видел. Пятнадцатилетний мой
попутчик, с которым мы разговорились в автобусе, не уходил,
ждал. Он учился в городе и приехал на побывку к семье.
С гордостью показал мне подарок: рыночного изделия от руки
раскрашенный портретик Сталина при всех орденах — отцу
привез.
— А вы где ночевать будете? — спросил меня мальчик.
— Еще не решил,— отозвался я беспечно.
из
Беспокоиться было и правда не о чем. Если уж у нас,
в родной моей России, «ночлег с собой не носят», то здесь,
в Таджикистане, со здешним-то потрясающим, совершенно
исступленным гостеприимством...
— Значит, будете у нас жить. Мехмонхона хорошая...
В каждом доме горного таджика есть гостиница (мехмон-
хона) — гостевая комната или даже домик: а вдруг гости?
В комнате этой все лучшее, что только есть в доме, а на
скатерть — достархон (столов тут нет, стульев тоже) мечут все,
что есть.
С появлением гостя в доме праздник. Чай нам подали уже
через десять минут, а плов через час; вечером же за
достархоном в мехмонхоне собрались молодые родственники
хозяина и почтенные старики. Прямо напротив меня, пришпилен-
ный к вышитому хозяйкой сюзане, висел только что прибывший
с городского базара анилиново-фиолетово-розово-голубой вождь,
и я. насытившись сверх меры и оглядев ласково хозяев, спросил,
изо всех сил стараясь быть понят неправильно:
— За что же мы его все-таки любим, нашего теперь уже,
так сказать, покойного вождя и вдобавок ко всему учите-
ля?
Первым отвечал достойный старик, бывший районный
судья,— в культурной нашей Средней Азии никто не полезет
отвечать поперек батьки.
— За то,— сказал почтенный законник прошлого,— что при
нем весь мир, всякая Англия, Америка, Голландия — все
нас боялись.
Мы помолчали. Слово взял учитель, немолодой исхудалый
человек:
— Очень был мудрый. Всякую науку знал. Языкознание
знал, табаководство, ювелирное дело, японский язык, танк знал,
самолет знал, ленинскую науку побеждать...
Не дождавшись очереди, вспыхнул, зарделся молодой
красавец шофер, отец всего еще только троих детей.
— Очень был храбрый! — сказал он горячо.— На амбразуру
бросался...
Теперь мы все глядели на самого почтенного из старцев,
который должен был говорить первым, но разрешил высказаться
другим.
— Скажи,— обратился он ко мне.— Скажи, разве можно не
любить родного отца?
— Нельзя,— сказал я, не погрешив ни против истины,
ни против правил поведения. Я ни о ком не думал в эту
минуту, кроме своего родного отца, да и вопрос был поставлен
114
вполне деликатно. Совсем не так, как ставили его когда-то
у нас в детсаду или в пионерлагере: «А ты кого больше
любишь — папу, маму или дядю Сталина?»
20 ИЮНЯ 1989 года.
ПАРИЖСКИЙ РАЙОН МАССИ.
АВЕНЮ ДЖОНА КЕННЕДИ.
КВАРТИРА ЛЕОНА ПОЛЯКОВА
— Я помню, что писатель Жан Лаффит воскликнул:
«Да как же мы можем критиковать Советский Союз! Ведь
Советский Союз — наша мать». Отцом был обычно Сталин.
Но Клод Морган сказал, что мать — это партия. Еще я слышал...
— Ну да, ну да,— сказал нетерпеливо и горестно профессор
Леон Поляков.— Потом эти люди потеряли веру в отца и стали
лечиться психоанализом.
— Думаю, что с этим у них были трудности. Рудоминеску
пишет, что партия не одобряла Фрейда. Во всяком случае, до
Аржантойского пленума шестидесятых годов, когда ученым-
коммунистам было разрешено заниматься хоть бы
и психоанализом...
2 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Первым свидетелем был в тот день известный аме-
риканский журналист, автор книг «Заговор против мира»
и «Великий заговор против России» Альберт Кан.
К а н. Я проделал 3500 миль для того, чтоб выступить на
процессе, значение которого выходит за рамки этого дела...
Я был с 1938 по 1940 год генеральным секретарем
Американского совета по борьбе с нацистской пропагандой...
Одна из задач совета была выпускать бюллетень внутренней
информации... Он был адресован ограниченному кругу лиц...
в том числе, например, службам расследования армии и флота,
Федеральному бюро расследований и другим подобным службам.
М з т р Изар. Насколько я понял, этот человек и есть
агент американской разведслужбы?
Мэтр Нордман. Я вас умоляю, не перебивайте его.
Мэтр Изар. Наконец-то хоть одного нашли.
115
К а н. Великий римский писатель сказал: «О вкусах
не спорят». Вопрос о том, кто агент секретной службы, а кто нет,
это вопрос вкуса.
Судья. Я хотел бы все-таки задать вам вопрос, который
мне кажется существенным. Знаете ли вы Сима Томаса? Я не
прошу сказать, кто такой Сим Томас, просто скажите, знаете ли
вы такого?
К а н. До вчерашнего дня я даже не слышал этого имени.
Судья. Стало быть, вы не знаете статьи, подписанной
Симом Томасом?
Мэтр Изар. До вчерашнего дня не знал.
К а н. Вчера я узнал о статье, подписанной Симом Томасом,
но имя это я никогда раньше не слышал.
Судья. Вы прочли эту статью?
К а н. Нет, я ее не читал.
Судья. Вы не любопытны.
К а н. ...Я думаю, что этот процесс выходит за рамки...
Мэтр Изар. Какой процесс?
К а н. Минуточку. Если бы речь шла только о деле Кравченко,
я не переступил бы порог своего дома.
Мэтр Изар. Ага, отметим, что свидетель приехал давать
показания по другому вопросу, согласен...
К а н. ...Я специализируюсь в определенных областях.
В особенности меня интересует деятельность украинских фашис-
тов в Соединенных Штатах... Среди украинских фашистов
выделялись две организации... Первая из организаций, о которой
я хотел бы рассказать, называлась ОКФУ... Полковник Николай
был шефом немецкой секретной службы...
24 ИЮНЯ 1989 года. 11.30.
ПАРИЖ. УЛИЦА ТУРНОН.
КАБИНЕТ МЭТРА МАТ АР АССО
— Странный был человек ваш свидетель Кан...—
сказал я мэтру Матарассо.
— Да, больной человек.
— Явная паранойя. Ну а остальные?
— Много говорилось глупостей. Много глупостей говорилось
в те времена. Но вы заметили — я не задал ни одного
вопроса Бубер-Нойман? Непременно почитайте также
экспертизу Владимира Познера. Я вам сниму копию.
116
— Спасибо, мэтр. Непременно все прочтут.
— Да, да, говорилось немало глупостей.
— Я уже заметил, мэтр.
2 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
К а н. Был в Соединенных Штатах один персонаж,
который был известен под именем графа Анастасия Вознесен-
ского. Как и Кравченко, он был тоже родом из России...
Это бывший царский офицер, террорист и убийца... Когда он
был в Париже, он встретил одну американку, очень богатую...
Мэтр Изар. Ага! Вот он, американский стиль!..
К а н. Ее звали миссис Стивн Риз... Потом он работал
с немецкими и японскими шпионами. В Томсоне (штат
Коннектикут) он тренировал ударные группы. В подвале у него
был склад оружия. У него был тир, и там стреляли по
фигурам членов ЦК Коммунистической партии СССР...
Он заявлял, что он финансировал убийство Кирова, о котором
Кравченко упоминает в своей книге. Кравченко заявляет, что это
убийство вызвало удовлетворение у всех идеалистов его типа.
МэтрИзар. Мне очень неудобно перед господином Каном,
но прошли процессы в Москве, которые самым решительным
образом противоречат его заявлениям. Ваш историк что-то
не вполне объективен...
К а н. Я даю свою версию...
75 ИЮНЯ 1965 года.
КАЛИНИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. ДАРВИНСКИЙ
ЗАПОВЕДНИК. КОРДОН БОР ТИМОНИНСКИЙ
Закатное солнце еще грело, и я читал, сидя на брев-
нышке на берегу Рыбинского моря. Подошел лесник. Неко-
торое время мы молча смотрели на подмытые белеющие
корни, похожие на кости, на красноватую воду... Потом он
спросил, о чем я читаю, и сказал, что раньше вот тут у них все
было. Может, даже книжки были, и людей было много,
и снабжение было хорошее. Раньше. Еще до заповедника.
— А что ж тут было до заповедника в этой глуши? —
удивился я.
117
— А что и везде по этим местам. Лагерь был. Рыбинское
море строили. Тут был лагерь и вон там, за мысом, и еще дальше,
где главная усадьба заповедника, там тоже лагерь. А тут у нас
большой — тыщ на десять. Я в нем стрелком охраны был.
— И кто ж тут был, в лагере?
— У нас — исключительно убийцы Кирова.
— Все 10 тысяч?
— Ну. Вон за мысом, там тоже были убийцы Кирова. Это
уж дальше поляки сидели.
Я долго молчал, переваривая это сообщение, вглядываясь
в берег, в лесную чащобу. Мне стало казаться, что я непременно
смогу разглядеть следы, а может, и призраки этих людей,
которые страдали тут и гибли.
— И что ж? — спросил я наконец.— Хорошие люди были?
— А что — которые и хорошие,— охотно объяснил лесник,—
которые хорошие, а которые совсем доходяги. Как смену
сдаешь, вон туда в яму под берег целую телегу и скинешь.
Обретя снова дар речи, я сказал, с невольной ненавистью
глядя в его небритое лицо:
— Зато море вон плещет. Рады?
— Дурное море,— сказал лесник.— У меня сынишка в нем
утонул — палки, топляк, торф... Вообще дурное — ни рыбы,
ни птицы, ни земли, ничего. Луга затопило, молока нет.
И электричеству оно, говорят, больше ненужное...
2 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
К а н. Его штаб, где он тренировал свои боевые
группы и где он... часто встречался с японскими агентами,
находился по соседству с женской школой. У графа были
бешеные псы, и когда псы не бросались на юных девушек,
то граф сам на них бросался. Я это упомянул, чтоб показать,
какой это был разложившийся человек. Я нашел документы,
подтверждающие, что это он был вдохновителем этого убийства
в России. Я все эти документы опубликовал в своем
бюллетене... и его обвинили в том, что у него была
немецкая и японская сеть в США...
Мэтр Изар. Кино, да и только!
К а н. Эта история, как правильно заметил адвокат наших
противников, имеет характер кинематографический и театраль-
ный.
118
Мэтр И з а р. А вы в этом упрекали Кравченко.
К а н. ...Большая часть его пропаганды, как и пропаганда
Кравченко, направлена против Советского Союза... А этот
человек, он был враг всех свободных народов мира.
Мэтр Изар. По-моему, он над нами издевается.
К а н. ...Антисоветская пропаганда в моде, и Кравченко
это заметил. <\..Z>
Судья. Ну а есть там такие писатели, в США, которые
борются с антисоветской пропагандой?
К а н. Да, есть.
Судья. И их не особенно беспокоят?
К а н. ...Необходимо печатать свои произведения, чтобы
есть и пить... Господин судья не должен думать, что если я
здесь, то мне было легко приехать.
Судья. И вам трудно будет вернуться в Америку?
К а н. Всякий американский гражданин может свободно
вернуться.
Мэтр Изар. Спасибо... Так вот вопрос о Симе Томасе...
Как вы объясняете, Сим Томас не смог приехать сюда из-за
того, что он якобы не смог бы потом свободно вернуться
в США?
Судья. Спасибо. Я и сам хотел задать этот вопрос. (...)
К а н. Полагаю, что я здесь не за тем, чтобы объяснять
отсутствие человека, которого я не знаю. <...>
Судья. ...Объясните, господин переводчик, что Сим
Томас — главный обвиняемый на этом процессе...
Морган. ...Я взял на себя ответственность...
Судья. Это известно. Но это не ликвидирует Сима Томаса,
который написал статью.
К а н. ...Прежде всего я хотел бы сказать об «Отчете
Кинзли», вышедшем недавно в США и посвященном половой
жизни мужчин... В книге Кравченко много материалов,
посвященных сексу...
Мэтр Изар. А сам свидетель? Его история про
женскую школу?
К а н. Лично я ничего не имею против этой темы. (Смех
в зале.)
Мэтр Изар. Даже напротив!
К а н. ...Я хотел бы поговорить о Люке Масхауэре. Это имеет
непосредственное отношение к делу. Это украинец. Он издает
газету «Свобода». В 1939 году он ездил в Германию.
В Австрии он выступал по радио... Так вот, он друг Кравченко.
Мэтр Изар. Кравченко сказал мне, что он не видел его
никогда и что вообще его забавляет вся эта история.
119
К а н. Что касается дружбы этих людей, то это, конечно,
доказать очень трудно. Переписка — если и есть —... ведется
самым секретным образом... 1 Я мог бы получить подтверждение
американской разведки в надежности моих расследований. <С...>
МэтрИзар. Получить сведения в американской разведке...
о человеке, который, как здесь утверждают, является сам
агентом... Эти показания становятся комичными...
(Альберт Кан подробно рассказывает об ужасах войны.)
Кравченко. ...Вчера, господин Кан, здесь перед публикой
тоже говорили о зверствах и ужасах; мои свидетели были
простые люди... они говорили об ужасах, которые тираны
Кремля принесли народам России и всего мира. Именно потому,
что я не желаю этих ужасов ни народам России, ни народу
Франции, ни народу США, ни какому-нибудь еще народу мира,
я затеял этот процесс... Я в жизни не встречал господина
Масхауэра. Я никогда не встречал людей, подобных этому
Вознесенскому, потому что я не хочу иметь ничего общего
ни с одним фашистом, ни с одним монархистом, ни с одним
сепаратистом.
Мэтр Изар. Так вот, господин судья, я хотел спросить
у свидетеля, согласен ли он с нашими сегодняшними противни-
ками. Наши противники заявили в статье Сима Томаса, что
в апреле 1944 года господин Кравченко был агентом
американских секретных служб...
Кан. На мой взгляд,— я могу дать только свое мнение,—
очень маловероятно, чтобы Кравченко мог работать для сек-
ретной американской службы.
Мэтр Изар. Благодарю... Вы дали хорошие показания!
Кан. Во время войны у нас вообще не было секретной
службы. Это неточное наименование.
Мэтр Эсман. Может, Сим Томас не американец!
Кан. ...Мы можем вернуться к этому вопросу. Вполне
возможно, что в американских разведслужбах находились
фашистские агенты, на которых Кравченко мог работать, но,
на мой взгляд, он работал на немецких агентов. Это мое
мнение...
1 В конце процесса Альберт Кан сообщил письмом, что ему пришлось
извиниться перед Люком Масхауэром за возведенную на него напраслину.
120
12 ИЮЛЯ 1965 года. ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ.
ПОШЕХОНЬЕ. ГАЮТИНО
Я шагал по изрытой грунтовой дороге от Гаютина к
Кувырдайкову уже добрый час, когда меня нагнала бодрая
бабуся с почтальонской сумкой на боку. Вдвоем идти было
много веселей, и за то время, что мы шли вместе, а потом
еще отдыхали и закусывали чем Бог послал, усевшись под
деревом, она успела мне рассказать много удивительных историй.
Одна из них была о страшном разбое, который творили у них
до войны иностранные шпионы в глухом пошехонском углу.
Конечно, шпионы — люди скрытные, и ничего бы о них местные
жители не узнали, если б не рассказали про эти дела соседи,
уцелевшие в местах заключения и вернувшиеся домой. По-
страдали они по большей части как шпионы иностранных дер-
жав — и таких далеких, как Япония, и таких могучих, как
Румыния, и уж совсем экзотических, вроде Аргентины. Зачем
устремились шпионы в этот захудалый сельскохозяйственный
угол России, что на стыке Ярославской и Вологодской областей,
зачем принимали они облик неграмотных мужиков,— этого нам
знать не дано. Есть, конечно, писатели, которые умеют раз-
гадывать все хитросплетения разведслужб, им и книги в руки,
а также и закрытые документы, нам же с вами этого всего ни в
жисть не распутать.
— А я думаю, может, они и не были шапионы...— очень
здраво рассудила вдруг пошехонская бабушка, но потом сама
себя и урезонила:— А тогда зачем? Зачем посажали тогда
мужиков наших?
Этого самого, как вы уже заметили, добивались на париж-
ском процессе многомудрые интеллигенты от украинских крес-
тьян, но крестьяне так и не смогли им ничего ответить.
Мы со старенькой пошехонской почтальоншей тоже не могли
разрешить этот вопрос. Может, оттого, что у нее дневная
норма была двадцать пять километров в день (за двенадцать
рублей жалованья в месяц), а я с такой скоростью по родной
земле передвигаться вовсе не умел. Да и некуда мне было спе-
шить: шел я тогда к мастерице, которая плела лукошки из
бересты, так что скорость мне была ни к чему, а напротив —
хотелось радоваться лесу и полю и мягкому июльскому дню.
Бабушка меня обогнала, я отстал, и вскоре скрылась она за
спуском дороги, оставив меня размышлять о странном пристра-
стии международной шпионской мафии к этому глухому россий-
скому углу. Впрочем, в сиянии июльского солнышка я скоро
и думать забыл обо всех этих гадостях, а вспомнил про все это
121
только теперь, когда стал листать стенограмму процесса и про-
чел выступление знаменитого журналиста Альберта Кана, не-
истовые изобличения которого издавались у нас по-русски ги-
гантскими тиражами еще в ту пору, когда шпионские страсти
кипели на нашей стремительно нищавшей земле.
2 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ.
В тот день одним из свидетелей «Леттр франсэз»
выступил член английского парламента левый лейборист Кони
Зиллиакус.
Зиллиакус. Прежде всего про то, как Кравченко гово-
рит о коллективизации. Он говорит так, будто это была какая-то
месть режима несчастному крестьянству, и не объясняет причин,
по которым проводилась эта политика... После победы Сталина
над Троцким... режим принялся за построение социалистичес-
кого общества, индустриализацию страны и выведение сельского
хозяйства на новый уровень.
...Стало труднее на этих маленьких участках земли вести
хозяйство, и тогда была принята идея коллективизировать сель-
ское хозяйство. Как это часто бывает в Советском Союзе,
были допущены перегибы. Шли слишком быстро и зашли слиш-
ком далеко. Нет сомнения, что кампания сопровождалась экс-
цессами. Само правительство призвало остановиться в какой-то
момент, но операция была необходимой. Именно поэтому эко-
номическая мощь Советского Союза в войну была так велика.
Второе. Господин Кравченко так говорит о чистках 1937—
1938 годов, точно это бы^а месть режима невиновным людям,
и вовсе отметает идею немецкой «пятой колонны» в Советском
Союзе... Вот Уолтер Дюрантэн пишет: «Ясно, что, как всегда,
большевики зашли слишком далеко, но в результате все же
не было «пятой колонны» в России, когда на нее напали
немцы...»
...Кравченко пишет, что Сталин никому не доверял. Почему
же он стал тогда так пылко верить в Гитлера? Это не укла-
дывается в воображении. (...)
Мэтр Изар. ...Два важных вопроса к вам: смог ли бы
господин Кравченко, который не одобряет свой строй,' вер-
нуться без риска в Советскую Россию? Или он вынужден
только потому, что он «русский Зиллиакус», оставаться за
границей?.. Могли бы мы — мы, а не вы, который пользуется
122
особыми привилегиями,— поехать в Россию/ как мы ездим в
Нью-Йорк и Лондон, мог ли бы Кравченко стать членом оппо-
зиционной партии в советском парламенте?.. Мы хотим услышать
ваше мнение.
Зиллиакус. Знаете, это немножко напоминает знаме-
нитое выражение: «Если бы у тетушки были колеса, она была
бы велосипед». (Смех в зале.) Ясно, что концепции граж-
данской свободы в России не совпадают с нашими. Если
здесь есть люди, которые упали с неба и не сознают этого, я не
из их числа, и, честно говоря, я думаю, что понадобится еще
по меньшей мере лет тридцать, прежде чем социальная рево-
люция в других странах, в России в том числе, придет к тем же
концепциям свободы и прав индивидуума, а также мень-
шинств, которые будут напоминать наши...
Кравченко. Браво!
1989 год. ИТАЛИЯ. ВЕНЕЦИЯ.
ФОНДАМЕНТА БРИГ АН ДИН. ДОРСОДУРО
«Положение, что сталинизм в историческом смыс-
ле — явление европейское, исключает обычную интерпретацию
его как чисто русского или, как принято говорить, восточного
явления».
(Витторио Страда. Журнал «Континент».)
4 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ.
АВЕНЮ МОНТЕНЬ. ОТЕЛЬ МЕСЬЕ ПУЛЕНАРА
Был перерыв в заседаниях. Кравченко готовился
к продолжению процесса, совещался с мэтром Изаром, с
Сашей и с Синтией у себя в отеле на авеню Монтень или в
квартире Изара на бульваре Сен-Жермен. Иногда он позволял
себе роскошь погулять вечерком по набережной Сены. Это было
странное зрелище. Вдоль парапета шел высокий, одетый с
иголочки джентльмен в черном пальто и в шляпе — очень похо-
жий на пастора, а по обочине мостовой, стараясь не отставать
от него, семенили два приземистых телохранителя в затра-
пезных парижских плащиках L Остановившись в каком-нибудь
1 Замечательную фотографию этой парижской прогулки показывал мне
Эндрю Кравченко, сын В. А. Кравченко.
123
укромном месте, Кравченко вступал в беседу с одним из стра-
жей, чаще всего с Хеннери...
В отеле на авеню Монтень его снова ждала работа. Пред-
стояло седьмое заседание, на котором должны были выступить
советские свидетели, а Кравченко уже был порядком измотан.
Вот что рассказывает об этом писатель Роман Гуль:
«...Иногда, глядя на него, я думал: «Как он выдерживает
страшное нервное напряжение этого процесса?» Помню, после
одного заседания суда, усталый, зная, что на следующем засе-
дании выступят какие-то приехавшие из Москвы «свидетели»,
он сказал мне: «Я слышал, что они привезут мою первую
жену, но это пустяки, а вот если они привезут мою мать,
я не выдержу, я знаю, что не выдержу». Кравченко очень
любил свою мать и знал, что говорил. Он всегда возил с собой
портрет матери... Но большевики его мать почему-то не привезли.
Умерла? Была в тюрьме?»
5 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ. УЛИЦА РИВОЛИ
Московские свидетели гуляли по Парижу, глядели
на витрины. Вряд ли кому-нибудь из них приходилось раньше
бывать в этом прославленном городе. А Зинаиде Горловой,
первой жене Кравченко, выпало, хоть и на недолгое время,
стать звездой Парижа. Эту полноватую голубоглазую блондинку
со следами усталости и переживаний на лице журналисты
считали красивой и фотографировали без конца. Особенно часто
газеты писали о ее царственной груди. «Этот ее русский бюст,—
вспоминает Р. Гуль,— в парижских газетах имел успех. Его
окрестили «пуатрин агрессив» («агрессивные груди»). Думаю,
что эта жена была петая дура...» От Зинаиды ни на шаг
не отходила маленькая, худенькая, черная женщина, профессия
которой ни у кого не вызывала сомнений. Споры вызывала
этническая принадлежность маленькой женщины, и только после
того, как она резко ответила корреспондентке, что говорит
только по-французски и по-армянски, семитическая версия была
отброшена в пользу кавказской. Второй по популярности фигурой
был бывший глава закупочной комиссии в Вашингтоне генерал
Руденко. Газеты вначале перепутали его с его братом — совет-
ским обвинителем на Нюрнбергском процессе. Потом выясни-
лось, что Л. Руденко был политработник и участник Сталин-
градской битвы, о которой слышал любой француз. Генерал
появлялся на улице и на приемах в военной форме и неиз-
менно привлекал внимание журналистов.
124
7 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ.
XV ОКРУГ. УЛИЦА ЛЕКУРБ, 253
«Помню мое одно неожиданное столкновение с
Олечкой 1 из-за Кравченко. И ее победу. Кравченко был потом-
ственный пролетарий, сын железнодорожного рабочего, комсо-
молец, коммунист, «большевик по нутру», ни в БоГа, ни в
черта не верующий, что он не раз подчеркивал. Когда я соби-
рался ехать к нему в день вызова в суд московских свиде-
телей, вижу: Олечка с чем-то возится, что-то зашивает. И
потом протягивает мне ладанку на шнурке, говоря:
— Вот, Рома, передай это Виктору Андреевичу, у него
сегодня трудный день.
Я удивился и говорю:
— Олечка, ну что за чепуха! Атеисту, коммунисту, ни во
что не верующему Кравченко я буду давать ладанку?! Ты
понимаешь эту нелепость? Нет, я не возьму, да он, чего доброго,
засмеется над этой ладанкой. Если не в глаза, так за глаза.
...Олечка так упорно настаивала, что как я ни отказывался,
а в конце концов взял ладанку и сунул ее в карман.
...Когда я приехал к Кравченко, было еще рано. Он нерв-
ничал. Я понимал, что мысль о матери не выходила у него
из головы, я не знал, как мне эту ладанку дать. Стеснялся:
попадешь в глупое и смешное положение. Но я обещал Олечке
и перед уходом от Кравченко все-таки решился, полез в карман,
вынул завернутую в папиросную бумагу ладанку и, заикаясь,
нерешительно пробормотал:
— Виктор Андреевич, вот вам жена прислала, просила обяза-
тельно передать.
— Что такое? — удивился Кравченко, разворачивая пакетик,
и вдруг лицо его просветлело. — Пожалуйста, передайте Ольге
Андреевне мою большую благодарность. Большое спасибо!
А на следующий день опять благодарил, говоря:
— Мне так вчера было одиноко, и эта ладанка пришла
как раз вовремя.
...Приехав домой, я увидел на столе грандиозный букет
красных роз. Пересчитал: 36 штук!..»
(Роман Гуль. Я унес Россию.)
Жена Р. Гуля.
125
7 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
В своем выступлении, открывшем седьмое засе-
дание суда, мэтр Нордман отметил, что французское правитель-
ство показалось ему слишком заинтересованным в проведении
процесса и придании ему гласности и что иностранец судит
здесь политическую партию. Прокурор ответил мэтру Норд-
ману, что суд судит не режимы и не партии, а только диффама-
цию. Затем мэтр Изар в ответ на объявление мэтра Блюмеля
о советских свидетелях также пожелал сделать заявление.
Мэтр Изар. ...Определенное число советских свидетелей,
приглашенных обвиняемыми, члены коммунистической партии
большевиков СССР. Я хочу зачитать некоторые положения
устава партии: «Партия является единой боевой организацией,
связанной сознательной дисциплиной, одинаково обязательной
для всех членов партии... Партия очищает свои ряды от лиц,
нарушающих программу партии, устав партии, дисциплину пар-
тии».
...Я хотел бы также привести... короткие заявления господина
Вышинского, генерального прокурора СССР. Господин Вышин-
ский, в своем высоком качестве генерального прокурора опре-
деляя советскую концепцию правосудия, пишет: «Как и всякий
орган Советской власти, советская юстиция есть орган действен-
ного проведения советской политики».
...И наконец, господа, в своем труде «Уголовный процесс»
господин Вышинский пишет, что советский судья (цитирую)
«не должен только следовать юридической логике, он должен
постоянно помнить о том, что закон есть не что иное, как выра-
жение политики партии». Практически это означает, что совет-
ский судья в случае, если закон приходит в противоречие с гене-
ральной линией партии, должен без колебаний пожертвовать
применением закона для того, чтобы беспрекословно подчиниться
указаниям партии, которая является для него высшим законом.
Таким образом, мы видим, что судья, главное лицо, отправ-
ляющее правосудие, не должен считаться с законом, высшим
законом для него является веление партии... а это веление
выражено в недавнем номере газеты «Правда», где мы читаем,
отмечая при чтении поразительное богатство словесных средств,
ибо обычный эпитет «ползучий гад» оказался недостаточно
сильным для Кравченко,— мы читаем там, что господин Крав-
ченко — это «выродок», что он «отребье», что он «американский
шпион» и «предатель родины».
Вюрмсер. Совершенно справедливо!
126
1 ЯНВАРЯ 1949 года.
МОСКВА, ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР.
«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА»
В этот день «Литературная газета» поместила письмо
голландского читателя Кека генеральному прокурору А. Вы-
шинскому: «Хочу от имени тысяч и себя поблагодарить Вас за
все, что Вами сделано для человечества».
В этом же номере газеты помещена была хвалебная рецен-
зия на книгу М. Н. Гернета «История царской тюрьмы». В книге
приводились действительно внушительные цифры предреволю-
ционного террора: в 1910 году в тюрьмах и на каторге находи-
лось 28 742 человека, а в 1913 году — 32 757 человек (из кото-
рых 5 тысяч были осуждены за «политику»). Если б были пре-
даны гласности (хоть бы в десятки раз преуменьшенные) цифры
сталинских репрессий, не видать было бы М. Н. Гернету ни Ста-
линской премии, ни похвал «Литгазеты», а, напротив, изучать
бы ему свой предмет за казенный счет. Но поскольку «никто
ничего не знал»...
Впоследствии, когда дальнейшее незнание стало уже офи-
циально невозможным, один из «свидетелей совести» «Леттр
франсэз», совестливый д’Астье де ля Вижери нашел доброе
слово и для Вышинского: «У Сталина есть также свой про-
курор убийств, пыток и фальшивых признаний: Вышин-
ский».
Впрочем, на тех, кто был уже в ту пору более чуток, хоть
и менее прогрессивен, чем А. Вюрмсер или д’Астье де ля Вижери,
предупреждение мэтра Изара произвело большое впечатление.
Вот как писал об этом в тот день корреспондент «Фигаро» на
процессе Франсуа Мориак: «Эти слова точней, чем железный
занавес, обозначили границу между двумя мирами. Они возвести-
ли древним католическим нациям, уже лежащим между лапами
хищника, их близкое будущее. Он еще оставляет им видимость
свободы. Он знает, что ему осталось только выпустить когти —
особенно сейчас, когда Пастырь повержен, а овцы, дрожа, гля-
дят на дверь, которая только что захлопнулась навсегда, скрыв
мучительную тень живого убийцы».
Возвращаясь в зал судебного заседания на острове Ситэ, надо
напомнить: уже в своей вступительной речи В. А. Кравченко пре-
дупредил, что московские свидетели приедут в Париж не по своей
воле, что дома у них останутся заложники — родные и близкие
и что за каждый свой промах на суде они будут держать ответ по
возвращении...
127
7 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Судья. Назовите свое имя.
Романов. Виктор Романов, инженер. Проживаю в нас-
стоящее время в Москве.
Мэтр Нордман. ...Господин Романов знает Крав-
ченко уже двадцать лет, они родились в одном городе, в Днепро-
петровске, они примерно одного возраста, оба были рабочими
на том же самом заводе, учились в одном учебном заведении —
Днепропетровском металлургическом институте...
Романов. Я хочу рассказать одну историю, которая
показывает его провокаторские наклонности уже в ту эпоху...
Судья. Сколько лет было Кравченко в то время?
Романов. Это было в 1932 году. Ему должно было
быть лет двадцать семь — двадцать восемь. Во всяком случае,
он был человек сознательный, всегда отдавал себе отчет в
своих действиях. Глупости он никакой бы не допустил!
Кравченко. О, вы очень любезны!
Мэтр Изар. И значит, Сим Томас соврал!
Романов. ...А вот еще был один случай. В 1942 году на
Урале я встретил земляка, инженера Герардова... он у нас
в институте проверял студенческие дипломы... Ну, знаете, как
земляки встречаются, говорят о знакомых... Герардов работал
в Сибири на одном заводе с Кравченко...
(Как и другие московские свидетели, Романов рассказывает
о «кражах», совершенных Кравченко,— «краже» диплома, разно-
образных сумм... Поскольку ни одно из обвинений не было
подтверждено документами, мы не излагаем их здесь.)
Кравченко. Но я никогда не работал с Герардовым!
И Герардов никогда не занимался дипломными проектами.
Почему вы все врете? Мне же это легко будет доказать!
Романов. ...Герардов тогда умолчал об этой истории.
По-моему, он просто пожалел Кравченко, подумал, что в буду-
щем из него что-нибудь выйдет. (Смех в зале.)
...Еще один момент. Я встретил Кравченко в июле 1943 года
во Внешторге, конечно, случайно. И он мне сказал, что он в со-
вершенстве знает английский и немецкий.
Кравченко. Это уж ни в какие ворота не лезет.
Мэтр Изар. Обратное будет легко доказать. (...)
Романов. Мы с ним разговорились о близких, знаете,
как между земляками, он сказал, что мать его немцы повесили, а
брат пропал без вести... он сказал, что его бывшую жену Зину
Горлову тоже казнили... Новая наша встреча была в США, куда
128
я прибыл с группой инженеров для приемки машин... Крав-
ченко прибыл незадолго до меня.
Кравченко. Мы же с ним на корабле вместе плыли,
я докажу это.
Романов. ...Ну, сами понимаете, как это бывает с
земляками вдали от родины: хотя я его знал и знал его харак-
тер, а все же мы с ним старались как земляки встречаться. Но,
в отличие от наших товарищей, и в эти первые дни в Америке
Кравченко держался особняком. Он хотел самостоятельно,
по-своему познакомиться с Америкой...
Мэтр Изар. Это очень большой комплимент, спасибо!
Романов. И когда мы с группой товарищей, особенно
по воскресеньям, посещали памятные места Вашингтона, всякие
музеи и картинные галереи, Кравченко никогда с нами не ходил...
Его поведение стало меня беспокоить. Я доложил генералу Ру-
денко — это было, без сомнения, в феврале, что он ведет себя
не вполне прилично для советского гражданина и во многих
отношениях нас компрометирует... И Кравченко переменил свой
облик. Он понимал, что его могут отозвать, это его не устраива-
ло; он был капитан Красной Армии, и он понимал, что его отпра-
вят на фронт... У него был животный страх...
И вот в субботу у него был спокойный вид. А в понедельник
он не пришел на работу. Это нас не особенно беспокоило, потому
что мы знали, что он ходит в ночные кабаки. (Кравченко смеет-
ся.) Он занимал деньги у товарищей... В понедельник
к вечеру весь отдел забеспокоился...
Кравченко. Если я был такой плохой, чего ж вы так бес-
покоились?
Романов. Потому что вы были член советского коллек-
тива, один из нас... И каково же было наше удивление, когда мы
прочли заявления этого нового государственного мужа. Он всту-
пил в прямой спор с самим вождем.
Кравченко. А почему бы и нет?
Романов. ...Благодаря любезности «Леттр франсэз» я
смог прочесть статью Сима Томаса. И я понял,— потому что
мне перевели эту статью,— чтоб не вообразили, что я читаю
по-французски,— я понял, что это все было не случайно, что
он давно уже замышлял путь предательства. У него не хватает
мужества взглянуть мне в глаза! У него не хватает мужества,
глядя мне в глаза, сказать своему товарищу, который знает
его с двадцати пяти лет, что он предал свою родину!
Кравченко. Не хнычь, я могу посмотреть тебе в глаза.
(Свидетель Романов отрицает, что Кравченко учился в Харь-
кове, что его посылали с партийной комиссией в Никополь.
5 Б. Носик
129
Романов не может припомнить, чтобы Кравченко работал в Сов-
наркоме РСФСР и чтобы студентов посылали когда-нибудь
в деревню.)
Кравченко. Вы не были тогда в партии, вы не знали
всего и не могли знать.
Романов. Если ты член советского коллектива, ты
знаешь все.
Кравченко. Я им был, на мое несчастье. Поцелуйте
от меня маршала Сталина...
Романов. Я поцелую его от себя. Не от вас...
(Романов отрицает, что был отдан приказ об отзыве Крав-
ченко из США. Было дано только предупреждение.)
Мэтр Изар. Когда вы впервые услышали о «Леттр фран-
сэз»?
Романов. В декабре 1948 года.
Мэтр Изар. Кто вам сказал?
Романов. Академик Трайнин (...)
Мэтр Изар. Не для того же, чтобы доставить удовольст-
вие господину Моргану, вы приехали давать показания? (...)
Романов. Мне это тоже не доставляет никакого удо-
вольствия; это мне сейчас испортило все добрые впечатления,
которые я получил от Парижа... (Смех в зале.) В конце декаб-
ря — а я работаю главным инженером в большом главке метал-
лургии — меня позвали к телефону, и гражданин, который зво-
нил, сказал, что он академик Трайнин. Я был, конечно, очень
удивлен, потому что это человек, известный у нас в стране. С чего
бы я вдруг понадобился академику? Он меня попросил приехать,
потому что он не хотел мне рассказывать по телефону, что ему от
меня нужно. Очень взволнованный, я в тот же вечер пошел к
нему. (
Кравченко. Зайдя предварительно на Лубянку!
Романов. Вы хорошо знаете адрес, у вас хорошая
память.
Мэтр Изар. Нам это уже говорили.
Романов. Трайнин не на Лубянке живет, а в доме 5...
Адрес я не знаю.
18 ЯНВАРЯ 1962 года.
ЗВЕНИГОРОД. ПОСЕЛОК МОЗЖИНКА
Уйдя со штатной работы, я жил в деревне Алымо-
вке под Наро-Фоминском, но однажды приятель из нашего поли-
графинститута предложил мне поселиться у него на даче в
академическом дачном поселке под Звенигородом.
130
— Так там небось все сплошь профессора...— сказал я с
сомнением.
— П-п-профессора? — сказал симпатичный приятель, слегка
заикаясь. — Да там члены-корреспонденты и те живут в гара-
жах, а в домах — одни академики...
Так я поселился на даче покойного академика Трайнина.
В одинокие зимние вечера я думал о самых разнообразных
людях и предметах. В частности, о покойном юристе, кото-
рому и самому стало страшновато под конец, потому что как
раз в те годы обнаружилась его не стопроцентная надежность
по части расовой принадлежности и космополитизма. О пленных
немцах, которые строили эти роскошные по тем временам
виллы (дачный дом, плюс дом с гаражом каждому, плюс изряд-
ный кусок леса). О щедром корифее всех наук...
Однажды я выдвинул забытый ящик письменного стола и
увидел там красную корочку какого-то диплома, украшенного
знакомым профилем. Я открыл этот диплом и прочел, что
Великий Вождь дарит этот дом действительному члену академии
Трайнину... В один из тех дней я и прочел впервые в руко-
писи «Ивана Денисовича» и «Матренин двор». Растревоженный,
я бродил по дачному кругу под могучими соснами, пока не
встретил симпатичного эстонца Альфреда, который снимал ком-
натку на соседней даче и писал книгу про Томаса Мюнцера.
Я так долго приставал к Альфреду со своими глупыми разговора-
ми, что он в конце концов рассказал мне о своей жизни;
ему тоже пришлось хлебнуть лагеря: семь лет. Конечно, я
задал ему тот же дурацкий вопрос, какой без конца зада-
вали адвокаты свидетелям Кравченко в наивном городе Париже:
«За что?» «Не за что, а как!» — сказал Альфред. Он был
подающий надежды аспирант знаменитого медиевиста Сказкина,
а жена его не поладила с соседкой по московской квартире.
Соседка написала «кой-куда», что люди эти покушаются на
самого Сталина (самое удивительное, что никто никогда так на
него и не покусился!), и этого было достаточно, чтобы жизнь
молодой пары была искалечена. Не то чтоб кто-нибудь
поверил, что они и правда покушаются, но просто для вы-
полнения плана по «врагам народа» такого доноса было доста-
точно...
Это была одна из многих историй, которые сыпались на
нас в ту оттепельную зиму как из рога ужасов и продол-
жают сыпаться посегодня, и нет им конца... Ну а должен ли
быть конец? Все чаще слышим сегодня, что, мол, не нужны
нам больше эти печальные истории. Ну, было, было и сплыло,
зачем снова «ворошить», «бередить»?
Т31
Я думаю, что истории эти должны дойти каждому из нас
до сердца, должны растревожить весь наш народ, и тогда,
только тогда родятся, может, какие-нибудь гарантии того, что
это не повторится, не возникнет снова атмосфера, в которой
возможно такое вот насилие и такое безропотное повиновение
насилию,— атмосфера доносительства и страха, подлого фари-
сейства, лжи, расизма, преклонения перед наглой силой, атмос-
фера отцеубийства и братоубийства, ненависти ко всем, «кто
не поет сегодня с нами», кто не похож на нас, кто по-другому
думает, по-другому говорит, по-другому дышит, по-другому «зна-
комится с памятными местами Вашингтона...».
7 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
В центре внимания публики в тот день были пока-
зания первой жены Кравченко, специально привезенной на
остров Ситэ откуда-то из таинственной глуши. Заговаривая
о ней, журналисты сбивались на мелодраматический тон. Не
избежал этого и анонимный автор предисловия к стенограмме
судебного отчета: «Появилась мадам Горлова, бывшая жена
Кравченко, с которой он разошелся, чтобы потом еще дважды
вступить в брак Она вошла через дверь в глубине зала,
предназначенную для судей, и таким образом оказалась неожи-
данно лицом к лицу с тем, кого она любила и кого пришла
уличать. Эта дама, одетая со сдержанной элегантностью, еще
красивая блондинка с усталым лицом, вполне могла оказаться
женой какого-нибудь мирного французского нотариуса из
Франш-Конте или могущественного судовладельца из Бордо.
Но она приехала с Украины, и среди ответчиков поговаривали,
что ей довелось отбыть ссылку в Сибири. Она с непринуж-
денностью вышла к свидетельскому барьеру, избегая смотреть
на Кравченко, который находился от нее в нескольких шагах,
и начала давать показания...»
Другие корреспонденты, впрочем, были несколько сдержан-
нее в своих описаниях:
«Это миловидная блондинка 36 лет, обладательница, как
выражались в старину, «роскошных форм», крепко затянутая
1 Сама «мадам Горлова» тоже проделала эту операцию еще дважды или
трижды, что, по утверждению Ф. Потешера, не могло не удивлять вполне консер-
вативную французскую публику.
132
в корсет. На ней черное платье. Лицо ее бледно и мрачно».
(«Русская мысль»).
«Мадам Горлова слушает с видом одновременно и сдержан-
ным и мученическим, чуть наклонив голову, этакая колхозная
мадонна — руки ее сложены на коленях, рукава приподняты,
чтобы дышали кулачки» («Монд»).
Но вот начались показания...
Горлова. Горлова, Зинаида Сергеевна, тридцать шесть
лет, врач-педиатр. Мне трудно рассказывать обо всем, что прои-
зошло. Я хотела изгнать из своей памяти эти самые груст-
ные воспоминания моей жизни... Я любила этого человека
и вышла за него замуж. Мне было девятнадцать лет, когда
я узнала его, он был старше меня на семь лет... Мои роди-
тели противились этому браку, а отец умолял меня не выхо-
дить за этого человека. Он говорил мне, что это «невежест-
венный Дон Жуан». (Смех в зале.) Через два месяца после
женитьбы Кравченко узнал, что я жду ребенка, и начались
сцены. Он не хотел ребенка и говорил, что это помешает
его карьере... Он хотел, чтобы я сделала операцию...
Судья. Она хочет сказать «аборт»?
Мэтр Нордман. Да.
Судья. Дайте ответить свидетельнице.
Г Орлова. Да... Он меня довел до такого состояния, что я
просто должна была сделать эту операцию. Я еще была нез-
дорова... когда он сказал мне, что он должен ехать в Крым,
в санаторий... Когда он вернулся, он мне снова устраивал
сцены... он меня колотил, он бил посуду... он ревновал и пытался
меня застрелить.
Судья. Пытался застрелить?
Горлова. Ну да, из оружия.
Судья. Вы хотите сказать, что он стрелял?
Г Орлова. У него было оружие.
Судья. Какое?
Г Орлова. Револьвер.
Мэтр Изар. Он выстрелил или нет?
Судья. Он наводил на вас револьвер?
Г Орлова. Нет, он мне угрожал, он просто показывал
оружие.
Мэтр Изар. Ну вот, и только подумать, что книгу нашу
называли «американским романом».
Мэтр Нордман. Помолчите вы!
Мэтр Изар. Я вам говорил, что русские так же чувст-
вуют, как американцы.
Судья. Дальше.
133
Горлова. ...В августе 1933 года я снова заберемене-
ла. Когда он узнал об этом, он впал в ярость и стал
снова бить посуду. (Смех в зале.) ...Но я не хотела портить
мою жизнь. Я вернулась к семье. Я была уже на третьем
месяце.
Судья. У вас родился ребенок?
Г Орлова. Да... ему сейчас четырнадцать лет... В 1935 го-
ду я снова вышла замуж, и мой новый муж захотел усыновить
моего ребенка.
(Дальше, как отмечала французская пресса, было снова о
битье посуды. Отвечая жене, Кравченко все отрицал и доказывал
обратное. Журналистам и публике не слишком понравилось
это перемывание грязного белья на людях. Поскольку Крав-
ченко настаивал на своем, а Горлова на своем, мэтр Эсман
предложил провести тут заново бракоразводный процесс. Мэтр
Нордман так часто отвечал за жену Кравченко, что мэтр Эсман
под смех зала спросил его, не является ли он женой Кравченко...
Горлова отрицала не только то, что писал или говорил
сейчас Кравченко об их семейной жизни, она отрицала, что
он был в комсомоле, что он знал Орджоникидзе, что он был
в деревне во время коллективизации, что она тоже была там.
Она вообще ничего не слышала о коллективизации.)
Анонимному автору предисловия к стенограмме (издатель-
ство «Жон парк») сцена эта, впрочем, представилась в ином
свете:
«Она говорила уже минут десять на этом славянском языке, в
котором «р» рокочут, как камешки в бурном речном потоке,
когда ее бывший муж вдруг прервал ее и взгляды их встре-
тились. Невозможно описать, что выражали эти взгляды. Глаза
мужчины, полные страсти, которая могла быть как страстной
ненавистью, так и горячей жалостью, казалось, хотели вырвать
у этой женщины какую-то тайну. Взгляд женщины, поначалу
ледяной, не выражающий ничего, кроме, может быть, упрека
или презрения, вдруг, кажется, смягчился. Можно было подумать,
что эти два человеческих существа начинают узнавать друг
друга и что они вот-вот дадут нам ключ к той великой загадке,
которую представляет собой Страна Советов. Но нет, снова —
все это длилось одно мгновение — мадам Горлова продолжает
по зернышку нанизывать бусы своих семейных невзгод».
Так выглядела репортерская драма. Сама стенограмма сви-
дельствует об иной, не менее жестокой драме. Кравченко заго-
ворил вдруг об отце Зинаиды Горловой.
К р а в ч е н к о. ...Я хотел, чтобы госпожа Горлова отве-
тила, где находится сейчас ее отец Сергей Николаевич Горлов.
134
Горлова. Я буду отвечать только на вопросы, кото-
рые задает господин судья.
Мэтр Изар {переводчику «Леттр франсэз» Боровскому).
Вы без конца переводите ей, что ей говорит мэтр Нордман.
Боровский. Нет, господин Андроников мне свиде-
тель...
Андроников. Я не слышал, я как раз переводил.
МэтрИзар. Вы официальный переводчик, и вы приносили
клятву...
Боровский. Ая и не лгал пока что.
Судья. Переведите громко вопрос госпожи Г Орловой.
Боровский. Но она сказала, что она будет отвечать
только на ваши вопросы.
Судья. Ну так спросите у нее, где сейчас находится Сер-
гей Николаевич Горлов?
Горлова. Он умер в 1938 году от бронхопневмонии.
Кравченко. Ну хорошо, тогда я скажу, где сейчас
Горлов и почему госпожа Горлова оказалась сейчас в Париже.
Мэтр Нордман. Но о Г Орлове не говорится в книге.
Кравченко. Господин судья, господа заседатели, гос-
пожа Горлова находится во Франции не по своей воле. Она
жертва советской полиции. Ее отец был арестован во время
чисток и послан на каторгу на десять лет без права переписки.
Сергей Николаевич Горлов, отец госпожи Горловой, был офи-
цером царской армии; ко времени чистки он работал в горсовете.
Арестованный НКВД, он был сослан в отдаленные места без
права переписки.
Мэтр Нордман. На сей раз я вмешаюсь: речь у нас
не идет об отце госпожи Горловой... Состоял ли Кравченко
в комсомоле?
(Мэтр Нордман снова забросал Кравченко вопросами,
Горлова закричала, что она не хочет и слышать всей этой лжи,
однако, дождавшись конца ее показаний, Кравченко все-таки
закончил свое заявление...)
Кравченко. Господин судья, почему Горлова оказа-
лась во Франции? Приехала ли она сюда по собственному жела-
нию? Как она приехала? Я ничего не имею против госпожи
Г Орловой, совершенно ничего, но я знаю это, и я докажу, и потому
я настаиваю, чтоб госпожа Горлова была на заседании в среду
в этом зале, куда я приведу пятерых свидетелей, которые ее
знают лично, которые ее знали лично и которые расскажут, где
находится ее отец и где мать. А я потребую, чтобы госпожа
Горлова честно все рассказала, чтобы сказала, как она приехала
и почему приехала. Я гарантирую ей, что она до конца своих
135
дней не будет нуждаться ни в чем, но я собираюсь ее смутить
и пристыдить не потому, что я хочу обидеть кого-нибудь здесь,
а потому, что я хочу доказать суду, что только советская полицей-
ская система вынудила эту женщину приехать во Францию и
сделать подобное заявление — что вообще-то, должен сказать, с
ее стороны недостойно.
(У тех, кто был на процессе, и даже тех, кто только читал
репортажи Н. Берберовой, создалось впечатление, что Крав-
ченко звал жену тут же, на суде, перебежать на его сторону.
Свидетели (в частности, князь Константин Андроников) вспо-
минают, что Кравченко якобы крикнул на процессе: «Беги
сюда!» Или даже: «Зина, беги сюда!» В стенограммах процесса
и в записях иноязычных корреспондентов это. не нашло отраже-
ния. Но, видимо, подобный драматический момент на процессе
все же был... Роман Гуль вспоминает, что черненькая женщина,
караулившая 3. Горлову, «сопровождала ее даже в уборную.
Так что, несмотря на все старания Кравченко и Саши, перехва-
тить ее было нельзя и на полслова. Нежных чувств к ней Крав-
ченко давно не испытывал. Он только хотел ей предложить
остаться в свободном мире при его поддержке, но это не уда-
лось».)
15 МАЯ 1984 года. ПАРИЖ.
ХП1 ОКРУГ. ПАРК ШУ АЗ И
Я помню, как пять лет тому назад после ночного
чтения стенограммы процесса я позвонил с утра Игорю Алексан-
дровичу Кривошеину и договорился с ним о встрече. Я в то утро
собирался гулять с дочкой в парке Шуази, находившемся непо-
далеку, как раз на полпути от меня к Игорю Александровичу,
на обочине парижского «чайнатауна». Игорь Александрович
сказал, что он тоже придет в парк и мы погуляем вместе. Телефон
Игоря Александровича дала мне когда-то моя учительница на
стезе перевода Рита Яковлевна Райт-Ковалева. Представила же
меня Кривошеину Татьяна Алексеевна Осоргина-Бакунина. Пом-
ню, как во время нашей первой совместной прогулки я
услышал историю Игоря Александровича... Отец его был знаме-
нитый сотрудник Столыпина, царский министр, а позднее премь-
ер-министр правительства Врангеля. Об уме и образованности
Кривошеина-отца можно прочитать в эмигрантских мемуарах
и дневниках (в том числе у И. А. Бунина). Сам Игорь Александ-
рович молодость провел за границей — в молодой тоске по
России. Как и жена его, Нина Александровна, дочь крупного
136
русского промышленника, сблизившаяся в Париже с движением
«младороссов», он все неудержимей мечтал об оставленной
родине, все чаще оправдывал те или иные действия пусть и
несовершенного, зато такого сильного ее нового правительства...
Потом началась война. Для начала немцы упрятали всех русских
в компьенский лагерь. Потом часть из них была выпущена.
И вот тогда произошла эта история, которую я запомнил с
первого рассказа Игоря Александровича (может, и не вполне
точно) и которую часто вспоминаю с тех пор...
Он шел по какой-то парижской улочке и вдруг столкнулся
со старым приятелем, вместе с которым они учились когда-то
в университете еще в старой и вольной довоенной Европе. Прия-
тель был немец, и теперь он носил ненавистную эсэсовскую
форму. Они зашли в кафе, где Игорь Кривошеин и сказал молодо-
му немцу, как стыдно ему видеть человека, с которым когда-
то вместе учились, вместе читали благородные книжки, вместе
мечтали,— видеть его в этой гнусной униформе оккупанта, в
одной банде с убийцами, в банде Гитлера...
— Если б ты знал, как я сам его ненавижу! — восклик-
нул немец (это в парижском-то кафе, в оккупированной Фран-
ции).
Помолчав, он спросил с таким же отчаянием:
— Ну скажи, как бороться против него? Я сделаю все.
— Попробую узнать,— сказал Игорь Александрович.
Он связался с французскими резистантами, они по радио —
со ставкой генерала де Голля в Англии, оттуда им передали
список вопросов к «своему человеку из СС». На несчастье,
немцы перехватывали передачи радиосвязи. Когда сведения
были добыты и переданы в Лондон, оттуда поступил новый
запрос. Однако совсем скоро Игорь Александрович и его немец-
кий друг были схвачены гестапо. Немец был тут же расстрелян,
и я думаю, что всеобщая гласность требует сегодня того, чтобы
рядом с многочисленными мемориальными досками резистантов
на парижских улицах появилась и доска с его именем...
Игорь Александрович попал в Бухенвальд, в подземный ла-
герь. Там, на подземном заводе, где изготовляли боеприпасы,
он сблизился с советским Сопротивлением. Родилось боевое
братство. Он любил теперь не просто Россию воспоминаний,
но Россию своих братьев по оружию, безоглядно любил Советскую
Россию. Худой, изможденный, больной, он все-таки выжил в
послевоенной Франции, охваченной восторгом перед Россией-
победительницей. Что с того, что это была Россия Сталина?
Сталин ведь тоже величайший из победителей. Кто скажет,
что это не так?
137
Когда в июле 1946 года вышел указ о возвращении советского
гражданства гражданам бывшей Российской империи первой
эмиграции (вторая получила частичное отпущение грехов чет-
верть века спустя, третья — совсем недавно, и тоже не пол-
ностью), Игорь Александрович и его жена немедленно взяли
советские паспорта. И. А. Кривошеин возглавлял тогда «Содру-
жество русских добровольцев, партизан и участников Сопротив-
ления», выпускал «Вестник»...
Все это я уже знал из рассказов Игоря Александровича —
мы ведь гуляли вместе, я бывал у него дома. Помню, мы с
дочкой как-то провожали его до дому, и он говорил дорогой, что
вся его надежда теперь — на новых «славофилов», на тех, кого
сегодня у нас называют «национал-радикалами».
— Они, наверно, унаследовали бескорыстные традиции
русской интеллигенции? — спрашивал он, заглядывая мне в глаза
с надеждой.
Я отвечал уклончиво, так как тех, кого я знал по своим мы-
тарствам в издательстве «Молодая гвардия», в интеллигент-
ности и бескорыстии заподозрить было трудно. Мы останови-
лись, чуть не дойдя до его дома: какие-то молодые люди белили
стены маленького павильона, густо покрытого политическими
надписями, какими левые и правые марали в ту пору стены
Парижа. Молодые люди были бритые или аккуратно подстри-
женные, в пиджачках с галстуками или в душных черных
кожаных куртках, несмотря на жару.
— Кто это? — спросил я, невольно притянув к себе дочурку.
— Здешние национал-радикалы,— усмехнулся Игорь Алек-
сандрович.— Это их штаб. Каждый день его покрывают антифа-
шистскими надписями. Каждый раз им приходится красить
домик заново. Нелегко быть в Париже шовинистом. Пока еще
нелегко.
— Так, может, все же не нужно? — осмелился я.
...И вот в майский день 1984 года я с нетерпением ждал
Игоря Александровича, чтобы засыпать его вопросами. Мне
интересно было, как он реагировал на этот процесс тогда, в
1949-м? Что мог думать даже «просоветски» настроенный рус-
ский человек об «антисоветских» выступлениях украинских
крестьян? Неужто то же самое, что А. Вюрмсер? И способен
ли вообще измученный ностальгией человек на здравое рассуж-
дение? Ведь даже мыслящий Бердяев призывал, кажется, больше
не раздумывать...
Я издали увидел исхудавшую, почти усохшую фигуру Игоря
Александровича, с опасением взглянул в его усталое лицо, потом
все же спросил о процессе.
138
— О-о,— сказал он,— тогда-то я и сам уже был в лагере.
— Во французском?
— Нет, зачем же? В советском.
Я замолчал, без труда преодолев свое любопытство. Не в
силах справиться с острой жалостью... Век-волкодав...
— Видите ли,— сказал он,— в ноябре 1947 года министер-
ство Жюля Мока арестовало и послало в Советский Союз
«нежелательные элементы». В том числе двадцать четыре семьи
новых советских граждан. Ну, вы знаете уже — у них здесь и
своих было достаточно патриотов Советского Союза, вся компар-
тия и треть населения. А мы уже, пожалуй, и не очень-то соби-
рались в ту пору. Дошли слухи про Ахматову и Зощенко. И
вообще... Так вот, летом того года Молотов принял группу
вернувшихся эмигрантов, заверил, что все будет хорошо. Ну а к
началу процесса Кравченко я уже снова сидел в лагере, в вашем,
советском... Почитайте книгу покойной моей жены...
Я часто вспоминаю Игоря Александровича, который умер со-
всем недавно, беру с полки книгу Нины Александровны «Че-
тыре трети нашей жизни», вышедшую в издательстве «ИМКА-
пресс». Там много интересного: про ресторан «Самарканд», где
она виделась с сыном Л. Н. Толстого Михаилом, про парижский
«Кунак», который содержал племянник С. А. Берс, про тот старый
Париж, который волновали идеи Бердяева и лозунги Казим-
Бека, где И. Фондаминский пытался восстановить «орден рус-
ской интеллигенции», где гремела скромная по своим масштабам
слава молодого Набокова, где спивались и гибли в тоске по
родине молодые поэты-монпарнасцы, где так страшно бедство-
вала интеллигенция, та, что была некогда «солью каторжной
земли». И еще там есть про возвращение в бериевскую Рос-
сию. Про страшную русскую жизнь во времена знаменитого
парижского процесса, на котором французские интеллектуалы
самоуверенно провозглашали свою правду о гуманизме Сталина,
Ягоды, Ежова...
8 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Колы балов (свидетель «Леттр франсэз»,
прибывший из Москвы). Я работал в ту пору заместителем
начальника «Трубостали». В 1938 году Кравченко был назначен
начальником цеха на Первоуральском заводе... Я снова встретил
его в начале 1944 года в Америке, в закупочной комиссии в
139
Вашингтоне... Он сказал, что проходил курс подготовки в армии,
но был освобожден по причине здоровья, врачи нашли у него
какую-то умственную недостаточность...
Мэтр Изар. Смотрите выступление Романова...
Колы балов. ...Я категорически заявляю, что он никог-
да не занимал никакого ответственного поста. Максимум был
начальником смены... да еще на короткий срок начальником
несуществующей стройки. (Смех в зале.) (...)
Кравченко. ...Я принесу завтра все официальные
документы о моем назначении. После чисток, когда сотни тысяч
русских специалистов были уничтожены, люди, не имеющие
ни таланта, ни знаний вроде Колыбалова, пришли к руководству
тяжелой промышленностью. До этого Николай Колыбалов был
председателем профкома, а парторгом в этой конторе был
Меркулов.
Колыбалов. Это ложь.
Мэтр Нордман. Попросите, чтоб свидетель не отвечал
раньше, чем переведут.
Кравченко. Когда Меркулова назначили директором
трубопрокатного завода, он взял к себе товарища Колыбалова
как верного соратника из профкома, которого он хорошо знал
по совместной работе еще и тогда, когда Колыбалов был там
диспетчером, то есть занимался приемкой почты — писем,
телеграмм и так далее.
Колыбалов. Это ложь.
Кравченко. У меня есть доказательства. <С...>
Колыбалов. Но почему, черт подери, надо было посы-
лать к вам бригаду главка, если у вас не было отставания?
Кравченко. ...Завод уже не выполнял план в течение
некоторого времени, когда приехала эта славная бригада и
принялась агитировать. Эти люди только всем действовали на
нервы, орали, визжали, оскорбляли всех, проводили днем и
ночью собрания, что никак не продвигало вперед работу. У них
главное было занятие — произносить громкие слова в честь
любимого вождя товарища Сталина.
Колыбалов. Я вас попрошу не упоминать здесь имени
моего любимого вождя Сталина. (Смех в зале.)
Мэтр Изар. Надо, чтобы свидетелю объяснили, что он
находится во Франции, а здесь разрешено говорить то, что тебе
хочется... «Попрошу вас не упоминать моего любимого вождя...»
Допускаю, что ему это не пришлось по душе!
Мэтр Эсман. Не вина французов, что фраза эта пока-
залась им смешной!
Колыбалов. Я сказал, «моего любимого вождя».
140
Кравченко. К сведению свидетеля, я могу здесь
упоминать «его любимого вождя», потому что я нахожусь в
свободной Франции и мне с высокого дерева наплевать, что он
думает об этом. Я этой минуты ждал всю мою жизнь.
ДЕКАБРЬ 1988 года. ФРГ. КЕЛЬН
Мой покойный друг писатель Камил Икрамов, сын
расстрелянного предсовнаркома Узбекистана Акмаля Икрамова,
всю свою печальную юность мыкался по лагерям и ссылкам.
Незадолго до своей смерти он рассказал в Кельне корреспон-
денту русского журнала «Форум»:
«...Запомнилось, как в 1951-м я, отбывший первый срок и
находившийся после второго ареста в ссылке, лежал ночью в
пустыне на кошме, укрытый другою кошмой. Вокруг ходили
козы, бараны, было замечательное звездное небо. Я лежал и
думал о том, что, если бы сейчас явился волшебник и предложил
бы мне три желания — нет, только одно,— какое бы желание
я ему продиктовал? Нет, не свободу, не воскрешение родных и
близких. Я хотел одно попросить у волшебника, чтоб в небе над
Москвой (почему-то я не думал обо всей стране) висели написан-
ные ночью огненными буквами, а днем черными, два слова:
«Сталин — говно!» Я очень четко помню эту ночь и этот нехитрый
текст».
Мир праху твоему, Камил-ака. Миллионы зэков в ту пору
поняли бы твое странное и нечестивое пожелание.
8 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Кравченко. Я этой минуты ждал всю мою жизнь!
Судья (мэтру Матарассо). Прошу вас отметить, что он
не оскорбляет свидетеля.
Мэтр Нордман. ...Он только признался, что он всю свою
жизнь ждал этой минуты, а следовательно, он лгал всю свою
жизнь!
Мэтр Матарассо. ...Его поведение в стенах суда не-
сколько необычно.
Судья. У господина Кравченко темперамент. Что ж вы
хотите? Я ничего не могу поделать. Лишь бы он не оскорблял
свидетелей. Да, он был суров по отношению к главе правитель-
ства, признаю это, но свидетеля он не оскорблял.
Кравченко. Почему эта бригада, эта комиссия конт-
141
роля была послана в Первоуральск? Мы что, сами не умели ра-
ботать? Сами не знали, что нам делать? У нас в цеху, точней у нас
на заводе, было шестьдесят — сетиьдесят инженеров. Зачем же
было посылать бригаду? Все очень просто. Когда меня на-
значали в Первоуральск, то Меркулов, ЦК и Наркомат тяжелой
промышленности обещали, что помогут нам, пришлют оборудо-
вание, сырье, инженеров, создадут условия работы, но ничего
этого сделано не было. Вместо этого прислали мне один новый
автомобиль и эту вот бригаду. Когда они увидели ситуацию, то
директор Осадчий, Кожевников и Колыбалов взяли бракован-
ные, бросовые трубы — которые там уже два с половиной года
валялись — и послали человека в Москву с документами и с об-
мерами этих труб. А Кожевников в Москве через начальника
отдела провел заказ на эти бракованные трубы — так хваленая
«бригада» помогла выполнить план, дав 114 процентов плана.
Вот тут, в газете,— тут все это рассказано — у меня в руках
фотокопия, вот она. После этого они стали организовывать
собрания, митинги, размахивали красными флагами под
звуки оркестра, кричали «ура» советскому правительству, а план
ведь так и не был выполнен. Да и нельзя его было выполнить,
потому что приказами Колыбалова работать не заставишь. Ко-
лыбалов соврал здесь, сказав, что премию в трубопрокатной
промышленности платили за 100 процентов выполнения плана.
Вы отлично знаете, что платили уже за 80 процентов. Вы лжец!
...Господин судья, господа присяжные и вы все, кто присут-
ствует при этих спорах, я хочу вам сказать только, что я
уцелел, но где они, эти десятки тысяч инженеров, и в част-
ности инженеры нашего главка трубопроката, которые попали
в лагеря и тюрьмы из-за таких вот, как Колыбалов, Меркулов
и им подобные?
Колыбалов. Все на месте, все честно трудятся на
благо советского народа. И не тратят времени, предавая свою
родину. Предатель!
Кравченко. ...Я вас разоблачу.
(Мэтр Изар зачитал старую газетную статью, в которой
начальник Колыбалова Меркулов хвалил работу Кравченко.
Мэтр Изар напомнил Колыбалову, что на процессах тридца-
тых годов всем обвиняемым, всем этим старым большевикам
говорили тоже о растратах. Колыбалов дал понять, что он пред-
почел бы ничего не слышать об этих процессах. Мэтр Нордман
стал уверять суд, что «советский пенитенциарный режим гораздо
мягче французского», потому что Кравченко после суда (и
142
оправдания) продолжал работать. Мэтр Изар-, ссылаясь на 51-ю
статью советского Уголовного кодекса, утверждал, что всякое
слово в защиту Кравченко было бы сейчас весьма опасным
для советских свидетелей. В заключение мэтр Изар напомнил
слова Вышинского о том, что «истина — это и есть закон пар-
тии, истина и есть интересы партии».
23 МАЯ 1989 года.
ПАРИЖ. УЛИЦА ВАЛУА, 29.
КВАРТИРА Ф. ПОТЕШЕРА
В сущности, московские свидетели парижанам понра-
вились. Они были прилично одеты и выглядели как нормальные
европейцы. Общее мнение выразил судебный репортер Фреде-
рик Потешер, который сказал мне: «Они были очень симпатичные.
Мне показалось, что они похожи на средних французов». То
есть такого Романова можно было бы увидеть в окошечке банка,
а такую Горлову представить себе в собственной кухне за при-
готовлением тостов и кофе. Конечно, публика полевее и поин-
теллектуальнее сознавала, что люди, приехавшие оттуда, как
указывал сам Сталин, должны быть «на голову выше» любого
француза и даже какого-нибудь «высокопоставленного чинуши».
Знаменитая резистантка, журналистка, ставшая потом зна-
менитым историком, Анни Бесс объясняла в «Нувель критик»
непонятливому Франсуа Мориаку про его «смятение, рожденное
чувством непригодности, растерянности и нравственного паде-
ния»: «...так вот, советские люди действительно не живут этой
внутренней жизнью... Но можно заверить Мориака, что ни
один советский человек не станет притязать на обладание гной-
ником его внутренней жизни, напыщенной и лживой».
7 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Мэтр Матарассо сообщил суду, что свидетель «Леттр
франсэз» Василенко родился в Днепропетровске, был рабочим
на том же заводе, что и Кравченко, позднее стал директором
этого завода, а в 1943—1944 годах работал в закупочной
комиссии в Вашингтоне.
Василенко. ...Я не знаю в подробностях, как жил
143
и работал Кравченко в Соединенных Штатах, но знаю, что он
держался в стороне от нашего коллектива советских инженеров.
Может, он ходил в другую компанию, которая мне неизвестна.
Вот один случай, который мне запомнился: однажды Крав-
ченко не явился на работу. Наши товарищи были заинтригованы
его отсутствием. Вместе с товарищем Шлыковым, инженером
из комиссии, я пошел посмотреть, как он живет. Мне сказали,
что он болен. Но мы с товарищем Шлыковым обнаружили,
что товарищ Кравченко находится в обществе одной дамы,
американской гражданки,— не считаю пристойным называть
ее имя — и Кравченко вовсе не был болен. (Смех в зале. Крав-
ченко обменивается со свидетелем какими-то русскими словами.
Диалог этот вызывает взрыв веселья среди переводчиков.)
Мэтр Изар. Позвольте свидетелю продолжать.
Василенко. ...В феврале я собирался уезжать в
Россию... и Кравченко мне дал письмо для своей матери. В сере-
дине мая я встретился с матерью Кравченко, и я уже знал в это
время, что Кравченко стал предателем, я отдал матери Кравченко
письмо, и она засыпала меня вопросами. Как живет ее сынок
Витя? Да как он работает? Да с кем водит компанию? Да кто
его друзья? И когда вернется? Мне больно было говорить с
ней... Она мне рассказала, как было трудно при немцах, как
немцы бежали... и как люди целовались от радости... одни благо-
дарили Бога, другие — Сталина, третьи — Красную Армию.
Мэтр Эсман. Вот и святая троица!
Мэтр Изар. Здесь уже много говорили о книге Крав-
ченко, но ни разу не упомянули о предмете, которым интересу-
ется суд,— о чистках... Что стало с людьми, которые до чистки
были членами Политбюро на Украине? Например, Косиор?
Василенко. Не знаю.
Мэтр Изар. Затонский?
Василенко. Не помню этих имен.
Мэтр Изар. Это были члены правительства Украины в
то время, когда вы там работали. Балицкий?
Василенко. Не помню такой фамилии.
Мэтр Изар. Петровский?
Василенко. Он работал в Москве...
Мэтр Изар. Хатаевич?
Василенко. Не знаю, где он.
Мэтр Изар. О, конечно! Любченко?
Василенко. Не помню такой фамилии.
Мэтр Изар. Исчез. Сухомлин?
Василенко. Не помню такой фамилии.
Мэтр Изар. Якир?
144
Василенко. Не знаю.
Мэтр Изар. Это члены Политбюро Украины того вре-
мени, когда Василенко там был, и он признал, что все они исчезли
во время чистки.
Судья. Вы хотите сказать, что он был членом Полит-
бюро?
Мэтр Изар. Нет, но он занимал важный пост на Укра-
ине, когда они были членами Политбюро.
Василенко. Так много было составов Политбюро...
Мэтр Изар. Да, да, конечно.
Кравченко. Он был в Верховном Совете Украины...
Судья. И он не знал членов Политбюро?
Мэтр Изар. ...Хорошо ли вы знаете Днепропетровскую
область?
Василенко. Я хорошо знаю Днепропетровскую об-
ласть.
Мэтр Изар. Что стало с секретарями Днепропетровс-
кого обкома большевистской партии, которых я вам назову. Се-
менов?
В а с и л е н к о. Не знаю.
Мэтр Иза р. Строганов?
В а с и л е н к о. Не знаю.
Мэтр Иза р. Марголин?
В а с и л е н к о. Не знаю.
Мэтр Иза р. Все вычищены!
Морган. Это вы так говорите!
Василенко. Вы, конечно, лучше моего знаете.
Мэтр Изар. Да, от Кравченко. А что стало со Шпель-
тым, главным инженером Главтрубстали?
Василенко. Он умер.
Мэтр Изар. Каким образом?
Василенко. В 1938 году.
Мэтр Изар. Как?
Василенко. На Урале.
Кравченко. В какой тюрьме?
Василенко. На заводе. <С...>*
Мэтр Изар. Бирман, директор Петровского завода?
Василенко. Бирман умер в 1937 году.
Мэтр Изар. Как?
Василенко. От заражения крови.
Мэтр Изар. В тюрьме? (Пауза. Молчание.) Голубенко?
Василенко. Не знаю.
Мэтр Изар. Колесников с Таганрогского завода?
Василенко. Не помню.
145
Мэтр Изар. Радин с Мариупольского?
Василенко. Не помню.
Мэтр Изар. Картозия с завода металлургического обо-
рудования?
Василенко. Не знаю, где он.
Мэтр Изар. Логуйко, директор завода Карла Либкнехта?
Василенко. Не знаю, где он.
Мэтр Изар. Еще бы. Белков, директор завода в Петров-
ске?
Вюрмсер. Это что, телефонная книга?
Мэтр Изар. Это книга тюрем.
Вюрмсер. Это вы так утверждаете... Если вы меня
спросите, где все эти люди, которых я знал двадцать лет тому
назад.. Если вы меня спросите, где Гастон Галлимар, который
издавал меня...
Мэтр Изар. Это крупные руководители индустрии, в
которой он работал. Как он может не знать, где они? Это не
мелкая сошка... Макеев, секретарь парткома Петровского заво-
да?
Василенко. Совсем не помню.
Мэтр Изар. Стрепетов?
Василенко. Он в Москве.
Кравченко. Арестован?
Василенко. Не знаю.
Мэтр Изар. Ширинг, главный инженер строительства?
Брашко? Вишнев?
Василенко. Не знаю, где они все.
26 АПРЕЛЯ 1989 года. ПАРИЖ.
УЛИЦА КОРДЕЛЬЕР.
КВАРТИРА МЭТРА АЛЬПЕРА,
ОДНОГО ИЗ АДВОКАТОВ КРАВЧЕНКО
— О, это был великий адвокат, мэтр Изар... Вели-
кий адвокат. И его «перекличка мертвых», когда он вызывал всех
этих людей, как на поверке, на аппеле... Это было впечатляюще...
А Вюрмсер, вы заметили, жуткий тип...
Я киваю, пытаясь вспомнить, что это я читал такое на днях,
похожее на эту поверку. Ну да, воспоминания Адамовича о
приезде Константина Симонова в Париж за год-два до процесса.
Красавец Симонов посещал своих нищих эмигрантских собрать-
ев по перу, угощал, соблазнял возвращением... И вот в гостях
146
Иван Алексеевич Бунин спросил процветающего московского
гостя:
— А был вот у вас знаменитый писатель Бабель — что-то
его не слышно. Где он?
— Не могу знать,— по-военному ответил Симонов.
— А вот еще был такой Пильняк? Тоже гремел.
— Не могу знать...
И еще «не могу знать», и еще.., «Это что, литературная
энциклопедия?» — спросил бы остроумный Вюрмсер. Но, увы,
знатный Симонов не взял его с собой в гости. Симонова интере-
совал Бунин. И Симонову можно было посочувствовать в тот
вечер. Впрочем, сам виноват...
— Да, «перекличка мертвых» — это было потрясающе,—
говорит мэтр Альпер.— Помните, как он ответил: «Книга тюрем»?
Это был его процесс...
Мне вспомнилось то место в книге Жоржа Изара, где он
привел спор Жореса и Геда о том, надо ли выступать в защиту
Дрейфуса, который был, с точки зрения Геда, лишь армейским
капитаном и буржуем. Жорес сказал тогда, что одна-единствен-
ная допущенная нами несправедливость делает невозможной
борьбу за торжество справедливости. «В личности Кравченко,—
писал мэтр Изар,— Рубашов 1 воскрес в роли обвинителя.
Эта паутина, столь искусно сплетенная на московских процес-
сах, в первый раз предстала в чистом виде. Она была та же:
перед судом снова оказался бывший член партии, а вместо Вы-
шинского обвинения в «предательстве» предъявляли ему фран-
цузские коммунисты и все те же свидетели. Кравченко предстал
как человек, сбежавший из-под стражи... Этот человек прошел
над железным занавесом, принеся с собой годы опыта, раздумий
и самоотречения в том потаенном хранилище свободы, которое
так же необходимо человеку, чтоб выжить, как запас воздуха
необходим птице, чтобы взлететь. Он принес их вместе с протес-
том, переполнявшим все его существо... Побег его был лишен вся-
кого расчета. Там была вершина жизненной карьеры, здесь
ждало лишь убожество эмигрантской жизни или участь Троцко-
го... Он взял на себя миссию раскрыть глаза миру, он хотел только
свидетельствовать...»
Мэтр Изар взял на себя ту же миссию в этом «процессе
человека против предательства человека...».
— Для меня все это не было открытием, все, что он гово-
рил,— сказал старенький мэтр Альпер.
— Правда? А у меня уж создалось впечатление, что здесь
никто ничего не знал.
1 Герой знаменитого романа А. Кестлера «Слепящая тьма».
147
— Ну, что вы! Было написано множество честных книг...
Десятки книг. Я все это знал. У меня ведь жена родом была из
Одессы... Хотите, я покажу вам ее фотографию?
Разве я могу отказаться? Медленно идет время в тесной квар-
тирке на рю Кордельер. Мы смотрим фотографии красавицы
Тани из Одессы, бедной супруги мэтра Альпера, которая в пять-
десят шесть лет умерла от рака. Вот они оба в Альпах, на Пело-
поннесе, в Нормандии, в Ле Бо, в Сан-Реми де Прованс...
— А это? Вы узнаете это?
— Нотр-Дам.
— Мы жили возле Нотр-Дам, где церковь Сан-Жюльен
де Повр. У нас была прекрасная квартира. Потом жена умерла,
и вот... Все...
7 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Мэтр Изар. Мы перечислили несколько самых
крупных руководителей тяжелой индустрии, где Василенко зани-
мал важный пост, и по какой-то случайности они все исчезли
во время чисток.
Мэтр Нордман. Вот почему Советский Союз выиграл
войну!
Мэтр Изар. Вот почему, когда Кравченко говорит,
что были кровавые чистки, которые унесли тысячи и тысячи
людей, он берется это доказать — и доказывает!
Мэтр Матарассо. А я вижу, что он обеспокоен
судьбой каких-то людей, но не нашел времени спросить, как
поживает его ребенок!
Мэтр Изар. Не спрашивает, потому что вы солжете.
Мэтр Матарассо. Его ребенок и его мать... его не
интересуют.
Кравченко. Я ничему не поверю, пока здесь не увижу
свою мать, в Париже. Если Василенко говорит правду, почему
ни одно письмо, ни одна телеграмма моя из США не дошли?
Почему вы лжете?..
А все эти имена, которые назвал мэтр Изар, Василенко их
знает... он отлично знает, что все эти люди в тюрьмах и лагерях!
Василенко. Странное вы нашли место, в котором вы
себе друзей ищете! И почему вы выступаете защитником именно
таких людей!
Мэтр Изар. Ага! «Таких людей»! Так он их знает! Вот
спасибо!
148
Вюрмсер. Пожалуйста... Пожалуйста... *
Мэтр Изар. А вы еще стали русским вдобавок.
Вюрмсер. Я понимаю, когда говорят по-французски,
мне переводят.
Мэтр Изар. Вы сменили национальность.
Вюрмсер. Что это значит? Эти оскорбления? Я дока-
зал, что я француз, и не позволю мне читать мораль.
(Следующим свидетелем «Леттр франсэз» был ассистент Кол-
леж де Франс господин Жак Николь.)
Николь. В 1946 году я был приглашен Сергеем Вави-
ловым, президентом Академии наук СССР, провести три месяца
в Советском Союзе, чтобы изучить организацию научно-иссле-
довательской работы. Из них месяц я провел в доме отдыха Ака-
демии наук «Узкое», в двадцати километрах от Москвы... Я
мог видеть там, а также в Доме ученых в Москве множество
ученых и художников, которые были знамениты уже при старом
режиме, и все они в добром здравии и прекрасно устроены.
Я видел соотечественника Кравченко Николая Крылова, велико-
го математика, бывшего землевладельца и украинского аристо-
крата... Я встречался также с женщиной-академиком Линой
Штерн, академиком Трайниным, директором Института права,
который изучал право в Париже, и с другими... Все они свободны,
занимаются наукой и имеют учеников... Мы были приглашены
на банкет, который давал маршал Сталин... Там были маршалы,
лауреаты Нобелевской премии со всего мира и Жолио-Кюри...
Вы не верите?
Мэтр Изар. Что вы! Я ни на мгновение не усомнился в
вашей искренности.
Николь. Я принадлежу к обществу очень вежливых
и благовоспитанных людей, и я не для того пришел сюда, чтобы
меня оскорбляли.
Мэтр Изар. По-моему, свидетель очень впечатлителен.
Судья. Ну кто же вас оскорблял, сударь?
Мэтр Изар. Я тоже хотел бы это знать.
Николь. Над моим рассказом смеются. В том обществе,
в котором я вращаюсь, я не привык, чтобы слова мои обращали
в насмешку.
Я читал книгу Кравченко. Он, если я помню, говорит, что
двадцать миллионов человек находятся в лагерях... Если вы
учтете семнадцать миллионов, которые погибли на войне, всех
больных и увечных, то как же, отняв столько, вы можете увидеть
так много людей на улицах Москвы и Ленинграда, днем и
ночью — просто толпа... Я мог совершенно свободно, днем и
ночью, передвигаться в Советском Союзе, в Ленинграде, в «Уз-
149
ком» и даже за пятьдесят километров от Москвы... Я был среди
колхозников, мясников и даже обращался к шоферу... В 1945 году
я был в Москве на процессе генерала Кугулицкого и шестнад-
цати полковников. Я сидел возле дипкорпуса... Должен сказать,
что обвиняемые были хорошо одеты и что им часто приносили
чай... Они доносили друг на друга и во всем сознавались, а про-
курор был очень великодушен, им дали по десять — двенадцать
лет...
Мэтр Брюгье (адвокат «Леттр франсэз»). Благодарю
вас за показания.
9 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Мэтр Эсман. Здесь хотели бросить тень подо-
зрения на наших русских свидетелей, особенно на украинцев,
из-за того, что они являются перемещенными лицами. Это тем
более удивительно, что вы можете прочесть, господа, в «Монд»
от 5 февраля 1949 года следующий текст обращения ко всем
украинцам: «Московское радио передало текст обращения Вер-
ховного Совета и Совета Министров Украинской республики
к украинцам, которые находятся в западной зоне оккупации
Германии и Австрии, чтобы призвать их вернуться на родину и
принять участие в восстановлении и развитии любимой Совет-
ской Украины. Все они будут приняты с сердечностью и окружены
отеческой заботой».
(Приглашен свидетель Кравченко, бывший профессор мате-
матики Харьковского института, ныне профессор в Париже
Николай Лаговский. Он вспоминает, что Кравченко был в инсти-
туте «стопроцентным коммунистом», активистом и дисциплини-
рованным студентом, упорно изучавшим марксизм-ленинизм.)
Лаговский. ...Политические дисциплины занимали у
нас восьмую часть всех учебных часов... а когда увидели, что на
марксизм-ленинизм не хватает часов, у меня сняли часы по мате-
матике и механике...
Во время коллективизации, в 1933—1934 годах, я жил в Харь-
кове. По дороге в институт я часто видел трупы, которые не
успевали убирать. Это были тела крестьян, приходивших в город
в поисках куска хлеба... Помню, как-то раз я шел в институт,
и у меня был кусочек хлеба. Я увидел какого-то очень голодного
человека, у него не было сил подняться с земли. Я отдал ему
свой хлеб, а на обратном пути я снова его увидел. Он держал
150
в руке мой хлеб. Я подошел поближе, чтобы посмотреть, в чем
дело, и увидел, что он уже мертвый. В газетах рассказывали
про людоедство. И я видел однажды женщину, которая съела
своего сына. Мне нужно было попасть в деревню Мерчик, которая
была в тридцати километрах от Харькова. Я должен был навес-
тить сына, который там был в детском доме и болел. На обратном
пути я познакомился с врачом из этой деревни, вместе с которым
нам нужно было проехать четыре километра до станции. Доктор
мне сказал: «Зайдемте в эту лачугу, я вам кое-что интересное
покажу». Я зашел. Там лежала женщина, уже сильно опухшая.
Врач мне сказал: «Посмотрите на эту женщину. Она убила своего
четырехлетнего ребенка и его съела. Но арестовывать ее
нет смысла, потому что она через два, а может, три дня сама
умрет».
...Треть моих студентов уехала в деревни проводить коллек-
тивизацию. Со мной оставались примерно две трети. Студенты
мне рассказывали кое-что, например, про людей, которые соби-
рали колоски в поле и которых за это отсылали на принудработы.
Я не помню точно, на пять или на десять лет, но помню, что
наказание было суровое.
(К барьеру подходит свидетель Кравченко инженер Борис
Удалов, сверстник Кравченко и уроженец Днепропетровска.)
Удалов. Господин судья, я был арестован 21 января
1931 года в квартире моего друга Бабунина.
Мэтр Эсман. Он тут скоро выступит.
Удалов. У ГПУ не было мандата на мой арест, потому
что они пришли за Бабуниным. Меня сперва пригласили как
свидетеля... Потом отвели в ГПУ. Домой я вернулся 5 июля...
Первое, что поразило меня, это невообразимые оскорбления,
которым нас всех подвергали работники ГПУ... Меня толкнули
к стене и сказали, что я не имею права спать; когда я попробо-
вал закрыть глаза, солдат сказал, что он меня стукнет по голове
рукояткой, если я усну,— я и не спал.
...Следователь оказывал на меня давление, чтоб я признался.
Четыре дня и четыре ночи я провел без сна... Мне показали
подписанные моим другом Бабуниным показания, что я был чле-
ном контрреволюционной организации, а я ничего и не знал о
такой... Дело шло быстро, все уже подписали, кроме меня, но
мне тоже сказали, что это без толку, потому что я тоже в конце
концов подпишу под пытками... Я подписал, и меня послали
обратно в тюрьму... В камере я узнал, что следователь нам всем
дал разные роли в заговоре, чтоб мы совершали разные диверсии,
например, захват телефонной станции. А Войдович, например,
был расстрелян за то, что, как он сам подписал, он виделся с
151
президентом Пуанкаре, который, как мне кажется, уже к этому
времени умер...
Мэтр Нордман. Почему же он подписал?
Судья. Он вам уже все объяснил.
Вюрмсер. Это нам мало что говорит.
Судья. Он сказал — оттого, что его пытали, или оттого,
что он боялся пыток.
Мэтр Нордман. Он боялся пыток, так я понял,
надеюсь, и вы тоже.
Мэтр Эсман. ...Знали ли вы госпожу Горлову?
Удалов. Я с ней познакомился в 1926 году, и мы часто
встречались в 1930-м; я даже хотел на ней жениться, но так и не
сделал предложение... Потом мы часто виделись в Кривом Роге
в 1938 году, когда я был курсантом в училище комсостава...
Она тогда уже носила фамилию Швец, она меня пригласила,
мы часто виделись, и отношения между нами были довольно
близкие...
Мэтр Эсман. Что вы знаете об отце госпожи Горловой?
Удалов. В 1938 году он был арестован и выслан... Семья
не знала о его судьбе. Мать ее находилась в ссылке в Кривом
Роге без права выезда...
Судья. Какую цепь преследовало советское правитель-
ство, арестовывая такое количество людей и посылая в тюрьмы
ни в чем не повинных?
Удалов. Не могу вам ответить на этцт вопрос, я не
правительство.
Мэтр Матарассо. Как вы объясняете, что они
пытали или угрожали пытками, чтобы узнать фамилии невинов-
ных, тогда как было бы несравненно проще арестовывать этих
невинных и подвергать их пыткам, чтоб они признались, потому
что ведь получаются двухступенчатые пытки. Арестовывают,
пытают или угрожают пытками...
Судья. В чем вопрос?
Мэтр Матарассо. Я хочу, чтобы он объяснил. Если
он может.
Удалов. Мы сами пытались найти этому объяснение,
когда я был в тюрьме. Мы ни к чему не пришли. Мы не поняли
причину таких действий советского правительства. Мы только
знаем, что множество людей, масса людей оказались в Сибири.
Потом мы предположили, что, может быть, советское правитель-
ство нуждается в рабочей силе, потому что там строили каналы на
Крайнем Севере,— такие люди и строили, добровольцев не
нашлось, а правительство не хотело там давать никаких приви-
легий, поэтому оно и прибегло к таким методам.
152
Судья. Другими словами, он и сам себе задает такой же
вопрос.
Мэтр Матарассо. Я заключаю, что советское пра-
вительство без колебаний снимало с работы инженера, чтобы
пополнять ряды рабочей силы в Сибири.
(Затем мэтр Матарассо подвергает свидетеля Удалова риту-
альному допросу, чтоб доказать, что он не боролся с немцами и
плохо вел себя во время немецкой оккупации.)
Мэтр Матарассо. ...Из ответа свидетеля я делаю
вывод, что он, как он выразился, прикидывался идиотом и, как
я понимаю, старался не работать на немцев, и я думаю, что
«прикидываться идиотом» — это оскорбительно звучит для укра-
инских резистантов, а такие, слава Богу, были, похрабрее были
люди, чем этот свидетель. (Возгласы протеста в зале.)
Мэтр Брюгье. И больше таких было, чем те, что
здесь сидят.
Судья. Если вы будете провоцировать публику, что здесь
будет?
Морган. Это публика нас провоцирует, господин судья.
22 МАЯ 1989 года.
18.30 ПО ПАРИЖСКОМУ ВРЕМЕНИ.
ПАРИЖ. УЛИЦА ТУРНОН, 29.
КАБИНЕТ МЭТРА МАТАРАССО
Кабинет мэтра Матарассо — в старинном квартале не-
подалеку от Сан-Сюльпис. В соседнем доме жил некогда блиста-
тельный Джакомо Казанова, да и прочие дома тут могут кое-что
порассказать...
По часто повторяемой им фразе о былых «глупостях» я за-
ключаю, что воспоминания о славном процессе все чаще тревожат
мэтра Матарассо и он хочет, чтобы его поняли. Или хотя бы сде-
лали для этого усилие.
— Поймите нас,— говорит он.— Мы были в «маки», в пар-
тизанах. Мы только что вышли из войны, в которой Гитлер нас
победил бы, если бы не Советский Союз. До войны я, пожалуй,
был троцкистом. Но после «маки» я поверил в Сталина. А вот
Кравченко, он бросил свой пост. Для нас он был предатель, кото-
рый еще и не сам написал свою книгу.
— Согласен. Но на первых изданиях «Сына народа» М. Торе-
за ведь тоже стояло какое-то второе, не помню уж чье, имя.
Пишут и вдвоем — было бы о чем писать...
153
— А эти его свидетели... Они все ушли с немцами. Они не
сопротивлялись — работали в войну у немцев. Мне как резистан-
ту это трудно принять. Даже Жорж Марше... Он вот тоже —
он уехал работать в Бельгию и не был резистантом.
— И вам трудно это принять? О-ля-ля! Попадет вам, мэтр
Матарассо.
— Мне уже попало тогда из-за Бубер-Нойман. Потому что
этой женщине я поверил. А Кравченко? Я ощущаю сегодня —
то, что он там написал о лагерях и коллективизации, это все
правда. Это все было. И у меня ощущение, что пришло время
обо всем написать.
— Спасибо, мэтр Матарассо. С вашего благословения обо
всем и напишем. Нам это все нужно сегодня. Надеюсь, что и вам?
Какое у вас нынче ощущение?
Вид у доброго адвоката неуверенный. Ну да ладно — с нас
хватит и наших собственных ощущений.
9 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Мэтр Эсман. Слышала ли госпожа Горлова пока-
зания свидетеля? Что она может ответить на это в его
присутствии?
Горлова. Я не согласна. Это ложь... Он утверждает,
что мой отец был враг народа, он лжец и ничтожество. Отец
мой умер в апреле 1938 года. Я была тогда в Кривом Роге,
и я взяла к себе мать. {Повернувшись к свидетелю.) Вы долж-
ны припомнить, как вы сидели вместе с нами и мы все оплаки-
вали отца. Он заучил свой урок, провокатор! Он хотел, чтобы я
была его любовницей. Да, вы хотели, но у вас не вышло!
Мэтр Э с м а н. Он не говорил ничего подобного.
Обвиняемые (все вместе). Да, да, да...
Судья. Он сказал, что у них были отношения...
Андроников (переводчик). Может, мой перевод был не-
точным, он просто сказал, что у них были хорошие отношения.
Вюрмсер. Очень близкие.
Андроников. Я перевожу, как могу.
Судья. А ответ?.. Вам есть что сказать?
У д а л о в. Я хочу, чтобы меня прежде всего оградили от по-
добных комплиментов, какими награждает меня Горлова. Это
в стиле советских свидетелей, и я это уже слышал... Я это,
кстати, все предвидел.
154
Горлова. Конечно, предвидел, потому что провокатор, вы-
учил наизусть свой урок. <С...>*
Удалов. Во-первых, что касается ее отца, то я ни разу не
назвал его врагом народа, никогда не позволил бы себе это в отно-
шении человека, который погиб от рук НКВД.
Мэтр Нордман. Он продолжает...
У д а л о в. Я только хотел сказать, что отца Зинаиды Горло-
вой забрали, а дальнейшая его судьба мне неизвестна. Я не
НКВД, я не могу этого знать...
(Сцена эта взволновала французских журналистов и была во
всех подробностях описана корреспондентом «Монд»: «Контраст
между ними бросается в глаза: она, вальяжная блондинка, кра-
сивая и непримиримо враждебная; он, некрасивый, тщедушный,
сознающий свою непривлекательность. Ни он, ни она не убе-
дили...»
В тридцатилетием отдалении Вюрмсеру вспоминался еще один
эпизод победы над врагом (не подтверждаемый, впрочем, ни сви-
детелями, ни стенограммой): «Был один украинец, желтый и
грустный, сочувствующий мадам Кравченко, против которой он
выступал. Она была так деморализована, что мы не могли на-
деяться на успех. А того, что прошептал ей бедняга, прежде чем
прочитать свой заученный урок, ни переводчики не смогли рас-
слышать, ни я — понять: я ведь не говорю по-русски. Я спросил
у мадам Кравченко после заседания, что ей шептал наш «враг»:
«Прости меня, я не могу поступить иначе». И это она говорит
нам сейчас! Ах, какой судебный эпизод! Какой поворот собы-
тий!»)
...М этр Нордман. Господин Романов слышал показания
свидетеля, и он хочет сейчас же с ним поспорить.
Романов. ...Мы, советские граждане, мы не хотели сего-
дня приходить на это заседание и лицом к лицу встречаться с
предателями родины и всей компанией... (Протесты в пуб-
лике.)
Судья. Пусть публика успокоится.
Романов. Эти восклицания меня не удивляют... потому что
они не хотят слышать наш голос. (Протесты в зале.) Нам
было неприятно сюда идти, в эту аудиторию, но мы пришли
сказать правду господину судье и другим, которые проявляют эти
чувства сегодня.
Кравченко. Их сотни тысяч.
Романов. Я инженер и советский человек.
Мэтр Эсман. Он хочет аванс.
155
Мэтр Изар. Да, ему надо заработать награду.
Романов. Мы вынуждены сказать в присутствии этих по-
донков, что тут устраивают развлечение, превращают этот про-
цесс в любовное представление. (Смех в зале.)
Судья. Повторяю, если это будет продолжаться, я потре-
бую всех удалить. Мадам, вот вы, в первом ряду, рядом, я прошу
вас, это непристойно.
Мэтр Изар. Политические заявления свидетеля, господин
судья, нисколько не пристойнее...
Судья. Речь сейчас не о свидетеле, а о публике.
Мэтр Изар. Он просил очной ставки, господин судья,
но я не пойму, о чем он говорит.
Судья. Я с вами не спорю. Я просто сказал о публике:
недопустимо, чтоб публика себя так вела.
Романов. Я здесь свидетель, я явился, чтоб сказать прав-
ду-
Мэтр Эсман. Что он тут делает?
Судья. Дайте ему сказать, и мы услышим, что он хотел
сказать, пусть закончит.
Романов. Меня не удивляет, что этот тип по фамилии
Удалов рассказывает порнографические истории. А почему Крав-
ченко не сказал, что он, по показаниям трех свидетелей, имел
любовную связь с госпожой Джудиц?
Кравченко. Все ложь и грязь — от начала до конца.
Мэтр Изар. Эта традиционная операция заключается в
том, чтобы всех облить грязью.
Романов. Всем понятно, что эти люди хотят нас дискре-
дитировать.
Мэтр Изар. Отличная операция, очень мило! Вы неплохо
представляете вашу страну в данный момент! (Крики протеста
в зале.) <...>
Кравченко. Он сказал «подонки».
Романов. Просто в том дело, что пришло время узнать
правду об этих выродках. Я вынужден сказать, что когда один из
них тут рассказывал, как он остался под немцами, то он не сказал
правду, почему он остался... Вот моя старая мать, которой семь-
десят лет, была в начале войны в Ленинграде. В начале ав-
густа я ее послал в Днепропетровск, и вот старая женщина семи-
десяти лет нашла средства 7 августа тронуться в путь оттуда.
Кравченко. А почему же моя мать осталась в Днепро-
петровске?
Романов. Сотни тысяч людей сумели уехать на Урал. А они
специально, из ненависти к советской власти, нарочно остались
под немцами.
156
Мэтр Изар. Вместе с десятками миллионов других!
Романов. Рассказывают нам тут страшные истории о том,
что они пережили. А мы видим тут цветущего мужчину — после
всех пыток, которые он якобы пережил. {Неистовые протесты в
зале.)
Судья. Заметьте, что все-таки прошло немало лет!
Романов. Я хочу закончить. Мы нисколько не удивляемся
всем этим демонстрациям. Хотят создать впечатление, что в Со-
ветском Союзе не жизнь, а просто ад. Но господин судья прекрас-
но понимает, что это не какая-то там волшебная сила одержа-
ла победу над Гитлером и строит теперь счастливую жизнь в на-
шей стране, освобожденной от этих выродков.
Андроников. Он сказал «грязных подонков».
Кравченко. А кто кормится у агентов?
Р о м а н о в. А, вот и сам дирижер, отлично! Первая премия!
Я, в общем, кончил... И мы внимательно следим за мэтром Иза-
ром, который совершенно извращает наши показания...
Мэтр Изар. Я их зачитываю дословно!
Романов. ...и который с адвокатским ехидством... (Смех
в зале.) перекручивает наши слова...
12 СЕНТЯБРЯ 1989 года. ПАРИЖ.
XIII ОКРУГ. УЛИЦА ЖАННЫ Д'АРК. КАФЕ
— Упрек привычный,— сказал я.— Чуть не все сви-
детели «Леттр франсэз» попрекали Кравченко и его защитников
тем, что они выжили. Что они не расстреляны, не умерли с голо-
ду. Что они хорошо выглядят или прилично одеты. Если б вы по-
гибли, тогда мы вам, может быть, поверили бы...
— Необязательно,— сказал мой друг.— Там тоже строгая
градация: только свои погибли как герои... Но вообще-то... Не
надо лезть так далеко в прошлое. Ты читал про интервью Кло-
да Отан-Лара?
— Ну его, маразматика...
— Когда-то был неплохой режиссер. «Плата за страх» с Мон-
таном... Так вот, он сказал корреспонденту, что, мол, нечего зря
шуметь о печах крематория. Ничего страшного. Вон мамаша
Симон Вейль была в Освенциме — и ничего, выжила, неплохо
выглядит...
— Это которая была председателем Европейского парла-
мента? Отчего ж она мамаша, она его лет на пятнадцать моложе?
— Я думаю, ему просто обидно, что не все сгорели в печах.
157
Как и этим «ревизионистам»... Но сегодня уже поднялся шум по
всей Франции. Посмотри газеты. Из парламента старика режиссе-
ра уже поперли, и сам Ле Пен от него отрекается. Депутаты
все высказались, писатели тоже. Во Франции такие штуки не
проходят...
— Да... Это уже наш Чехов заметил... Он в Ницце был
во время процесса Дрейфуса, читал газеты, восхищался Золя.
Вот он и написал по этому поводу, кажется, Суворину,— что
Франция, мол, замечательная страна и писатели у нее замеча-
тельные.
19 МАЯ 1989 года.
9.00. ПАРИЖ. АВЕНЮ ВАГРАМ, 76.
КАБИНЕТ МЭТРА ЭСПИНОЗЫ
Я гляжу на адвоката и думаю, как удивился бы инже-
нер Романов, узнав в ту пору, что его враги, эти адвокаты, на
которых он глядел с таким испугом,— тоже левые, тоже
участники антифашистского Сопротивления, противники аме-
риканского империализма, единомышленники многих из своих
благородных противников, поклонники Советской России, долгое
время ничего не знавшие об этой загадочной и дружественной
стране... Именно таким был тогда, например, тридцатилетний
длинноносый и симпатичный мэтр Эспиноза, в кабинете у кото-
рого я сижу сегодня с утра. Сижу и слушаю про то, как он сочув-
ствовал России, с какой подозрительностью следил за Америкой,
про то, какие благородные люди, хотя и не сведущие во
всем, что они взялись доказывать,— но тем очевидней их бла-
городство — были все эти свидетели «Леттр франсэз».
О, это была настоящая битва идей, присяга верности, сим-
вол веры...
Я слушаю и смотрю по сторонам: не много я видел таких кра-
сивых кабинетов в своем полупролетарском Париже...
— Да, конечно, они ничего не знали, свидетели газеты,
это была с их стороны чистая вера,— говорит мэтр Эспиноза.—
Вообще мир не существовал тогда для нас, все это было второ-
степенно. Война только закончилась, жизнь еще была нелегкая,
не до того было. Идеи мы принесли еще с войны — наш великий
союзник, великий Советский Союз, где все здорово, не то
что у нас. А этот Кравченко — он еще приехал из Америки, може-
те себе представить?
— Без труда. Антиамериканские чувства и сегодня здесь
158
очень живы. Понять бы еще отчего? Ну а то/ что ваша Россия
ничего общего не имела с моей, реальной Россией — это я уже
заметил по стенограммам процесса... Хотя, как говорил мне Гий-
ом Малори, оригинал стенограммы исчез куда-то, пропал...
Мэтр Эспиноза дарит мне удивительную фотографию: на
переднем плане Кравченко (какая безысходная тоска у него
в глазах), юный Саша, а за ними худой, кудрявый Эспиноза —
между молодым мэтром Эсманом и нестарым еще мэтром Аль-
пером. Светится огромный лоб мэтра Изара. Полицейский
с простым, деревенским лицом восседает на своем стуле. Все
слушают с грустным, прямо-таки безнадежным видом. Может,
оттого, что выступает такой почтенный человек — лауреат
Нобелевской премии Фредерик Жолио-Кюри? Или от того, что
он говорит? Что же он говорил? Не упомню. Наверное, вспо-
минает, как он летел над сталинской Россией, и не видел там ни-
чего черного, кроме икры. Ладно, дойдем еще — это было в
конце процесса...
Мы прощаемся с мэтром Эспинозой. Красивая горничная-
португалка, темное лицо которой так нежно оттеняет светлая
голубая наколка, провожает меня до двери.
— Нет, не сюда, месье, это кабинет секретарши мэтра.
И не сюда. Вот сюда.
Я выхожу на авеню Ваграм. Боже, как далеко отсюда до
Москвы! А может, Москвы и нет? Может, Москва отсюда —
это всегда миф?.. Как в 1949-м.
9 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Свидетель Кравченко инженер-металлург Михаил
Пасечник, лысый человек лет шестидесяти, в железных очках,
продолжал свои показания.
Пасечник. Как я уже сказал, я работал вместе с Крав-
ченко в прокатном цехе Петровского завода. Однажды меня выз-
вали в НКВД, которое тогда называлось ОГПУ. Следователь
предложил мне стать секретным сотрудником ОГПУ. Я должен
был каждую неделю писать рапорты о том, как идет выполне-
ние плана и кто занимается вредительством. Поскольку я, выпол-
няя эту работу, не указал ему никаких имен...
Мэтр Нордман. А, так это был стукач...
Мэтр Изар. Люди, которые требовали от него этого,
тоже весьма милы!
159
Вюрмсер. Полицейские осведомители выступают в защиту
Кравченко!
Морган. Да уж! Хорошенькие свидетели...
Пасечник. ...Я часто получал серьезные замечания. Это
было в 1930-м. Через несколько месяцев меня снова вызвали
в НКВД и заявили мне, что, если я не донесу на контрреволю-
ционную организацию, которая,как мне сказали, существует, меня
самого арестуют. Я, конечно, ничего сделать не мог. И вот через
десять дней прибыл агент НКВД с двумя типами, которые были
за понятых. Они обыскали мой дом, жена была еще не одета, она
плакала на пороге, и мать моя при этом была. Мне самому
пришлось собрать небольшой узелок, взять хлеба — потом меня
повели к их фургону.
Личный переводчик Кравченко. К «черному во-
рону».
Андроников. «Черный ворон» — это нам ничего не гово-
рит, просто черный фургон НКВД.
Вюрмсер. Дорогой собрат, вы упустили литературный
эффект.
Андроников. Приберегу его для другого случая...
Пасечник. Десять дней и десять ночей в местном ГПУ
меня заставляли разоблачать организацию, которой я не знал...
Потом меня отвезли в тюрьму, где я пробыл девять месяцев...
Условия там были ужасные, потому что в тюрьму советскую, если
она, скажем, на пять тысяч заключенных рассчитана, сажают
сорок тысяч... Потом меня выпустили и сказали, чтоб никому
не говорил про это ни слова...
Мэтр Нордман. ...Вы из немецкой тюрьмы вышли тоже.
Вот если б я был в немецкой тюрьме, я бы никогда уже не вышел.
(Крики протеста в зале.) А ваши лагеря перемещенных лиц,
они что, были в Инсбруке? Нет?.. А знает ли он Антибольше-
вистскую лигу народов, которая была в Инсбруке?
Пасечник. Я хочу вам ответить, что жена моя три с поло-
виной года страдает нервной болезнью и что у меня на руках
остался, когда она заболела, двухмесячный ребенок.
Мэтр Нордман. Это не имеет никакого отношения к Ан-
тибольшевистской лиге...
Пасечник. Так что у меня нет совсем времени заниматься
всеми этими лигами и даже интересоваться.
Мэтр Нордман. Ав Мюнхене существует университет...
Пасечник. Мюнхен я даже не проезжал и этого ни-
чего не знаю.
160
9 ФЕВРАЛЯ 1949 года.
МОСКВА. ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР.
«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА»
В тот же самый день в «Литературной газете» появи-
лась статья о процессе «микрочеловека», даже «минус-
человека Кравченко» за подписью большого человека, режис-
сера Александра Довженко. В статье сообщалось, что «скан-
дальный провал инициаторов этой провокации совершился на
глазах у всего мира, и притом — весьма быстро», по той причи-
не, что «от имени борцов против поджигателей открыто, честно
и смело выступали на суде профессор Перюс 1 и депутат Гренье...»
Статья сообщала также, что «темные личности подкупа-
ли библиотекарей для того, чтобы они каждому читателю всу-
чивали этот сборник...». Тот, кто сочинял этот опус (вряд ли это
был сам А. Довженко), перепутал «лайбрэри» и «либрэри», что по-
французски означает книжный магазин. Но зато человек этот
знал разные тонкости о работе французских агентств и о по-
литике Жюля Мока. Ни язвительному Вюрмсеру, ни наивному
злодею Силенко не определить было, кто сочинил и подсунул
на подпись бедному А. Довженко этот фантастический труд.
Впрочем, надо признать, что другие материалы газеты были вы-
держаны на более высоком уровне и помогают нам сегодня по-
нять и атмосферу парижского процесса, и то время. Главное
направление задано передовой статьей «Ненависть к космополи-
там!». Затем, следуя точно по курсу, Анатолий Софронов писал,
что двурушник А. Борщаговский делал различие между культу-
рой Европы и Америки: «...такое внеклассовое, внесоциальное
разделение может проповедовать только космополит» 1 2. Теат-
ральные критики-космополиты были дальновидно названы
в газете «живыми трупами». Клод Морган жаловался тут же
на успех Кравченко и Кестлера во Франции и отсутствие бумаги.
А. Суров предупреждал, что «обнаглевшие громилы имели свою
штаб-квартиру в ВТО». С. Бабаевский был увенчан премией
первой степени. Хичкок был охарактеризован как воспитатель
фашистских убийц, а профессор Е. Бертельс — как данник кос-
мополитизма. М. Мендельсон громил здесь же «декадента»
1 Читатель, вероятно, помнит, что это тот самый французский профессор,
который на основании чужого перевода с французского уличал русскую газету
и Кравченко в незнании русского языка.
2 В беседе с автором этой книжки 25 октября 1989 года А. М. Борщаговский
сообщил, что А. Софронов имел обыкновение самолично придумывать цитаты
для своих жертв, а затем с ними же полемизировать.
6 Б. Носик
161
У. Сарояна, А. Гурвич был уличен в том, что «любимым героем
его является... Гамлет». Зато Академия наук оценила по за-
слугам труды т. Сталина о диалектическом материализме и
труды т. Лысенко обо всем прочем. Окончательно было
установлено в те дни, что «космополитизм... является прямым
орудием черной империалистической реакции...»
14 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
В этот день французские гости на процессе смогли
наконец отдохнуть от свидетелей Кравченко, от их стран-
ного украинского говора и их мрачных воспоминаний, терза-
ющих душу. Свидетелями «Леттр франсэз» были опять «люди из
хорошего общества». Первым подошел к барьеру генерал резер-
ва Пети, который с 1943 по 1945 год возглавлял французскую
военную миссию в Москве. Он сказал, что труд Кравченко вряд
ли был написан русскими, потому что русские пишут хотя и длин-
но, но весьма ясно и умно.
Пети. ...Весь мир знает, какой замечательный скачок сде-
лала эта страна с 1937 по 1939 год в мирном труде... Я могу
вам сказать, что я был принят маршалом Сталиным. Я был пер-
вым французом, после Лаваля, и в беседе со мной...
Мэтр Эсман. Сладкие воспоминания, господин генерал!
Вюрмсер. Вам не понять!
Пети. Когда я прибыл, генерал по фамилии Кубылин сказал
буквально следующее: «Я получил из Кремля инструкции от само-
го маршала Сталина, чтобы вы...»
...Поскольку я старый спортсмен, мне всегда нужно занимать-
ся спортом. И, поскольку я не мог там скакать на лошади, я
попросил разрешения заниматься водным спортом и вступить в
водный клуб. В условиях клуба я имел беседы с рабочими,
студентами и военными... Кравченко говорит, что миллионы рус-
ских враждебны режиму. Это неудивительно при населении в
200 миллионов... Я был принят Вышинским, Молотовым. И я вам
расскажу забавную историю, как Молотов говорил лично со
мной...
(Так как Молотов походя сказал генералу лишь несколько
слов, мы опускаем эту историю, не содержащую, на наш взгляд,
ничего забавного.)
...Я ночевал на ферме возле Киева. Крестьяне мне расска-
зали, что немцы хотели разрушить колхоз и дать им частное хо-
16;
зяйство. «Мы все отказались, мы сохранили колхоз, потому что
это единственный способ процветания сельского хозяйства».
Мэтр Брюгье. Что вы думаете об оценке, которую дает
Кравченко Ворошилову, Буденному... Мол, они не просто беспо-
лезны, но и опасны. Вы же знали их лично...
Судья. Что вы думаете о генерале Буденном?
Пети. Я имел удовольствие удостоиться его благосклон-
ной беседы и пришел к выводу, что это человек умный. Для свое-
го возраста, конечно... Но возраст, это ведь со всяким может
случиться, он почетный инспектор, и я его встречал на официаль-
ных церемониях.
Мэтр Эсман. Вот вы сказали, что стиль книги... не рус-
ский. Я хочу спросить — что же, меньшевики не русские?
Пети. Она не русская по форме.
Мэтр Эсман. Но в статье Томаса сказано, что это писали
меньшевики.
Пети. Я ничего не знаю об этой статье...
Судья. Ладно. Свидетель ничего этого не знает.
Мэтр Эсман. А есть ли свобода слова в Советской
России?
Пети. Какое это имеет отношение к процессу?.. Ну, я не
могу ответить на этот вопрос, я полагаю, что эта свобода слова,
как и другие свободы в Советском Союзе, они соответствуют
их специфическому режиму... (Смех в зале.)
Пети. ...И конечно, их никак нельзя сравнивать...
Вюрмсер. Это уже само по себе показание.
Пети. Советский режим не имеет ничего общего с фран-
цузским. Но я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь не мог сво-
бодно говорить, как ему хочется. Я сам, впрочем, не русский,
не советский, я никогда не пользовался их языком, но я слы-
шал, что люди вообще-то там разговаривают.
Мэтр Эсман. ...Может ли там человек сказать, что он не
согласен с правительством?
Пети. Я не имею подтверждений обратного.
Мэтр Эсман. Мы зачитаем вам письмо господина Зиллиа-
куса. Он пишет (газета «Франтирер» от 11 февраля): «Свобода
слова, то есть возможность высказываться против правительства,
теоретически существует в советской конституции, но почти не
существует на практике».
Мэтр Нордман. А мы покажем вам документы, свиде-
тельствующие, до какой степени свобода критики развита в Со-
ветском Союзе...
163
23 МАЯ 1989 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ САН-ЛУИ.
НАБЕРЕЖНАЯ БУРБОНОВ, 19.
КАБИНЕТ МЭТРА НОРДМАНА
— Эта книга являлась монтажом,— сказал мэтр
Нордман,— который призван был отвратить симпатии француз-
ского народа от страны социализма. Именно эту ее сторону ком-
мунистическая партия ставила во главу угла. Вы знаете, что
нейтралисты были сильны в Соединенных Штатах, а в 1944 году
американская политика стремилась противостоять советским
победам. Ясно, что предварительные контакты Кравченко с аме-
риканской разведкой...
— Да, ясно,— говорю я, стараясь сохранить спокойствие.
— Книга переписана службами, она неполна, мы сегодня
знаем уже больше, из первых рук. Конечно, в 1949 году все это
было еще непредставимо. Но главное, что немцы использо-
вали ее в своей пропаганде. Кроме того, это было пропаган-
дистское сражение, острием направленное против коммунисти-
ческой партии. Мне было тридцать девять лет, я был предан
«Леттр франсэз» и партии...
— Что же там все-таки было, в этой книге?
— Главное не это. Главное — это обстановка во Франции
того времени. Забастовочное движение, министерство Жюля
Мока...
1944—1953 годы. АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ.
НА ОДНОМ ИЗ ОСТРОВОВ АРХИПЕЛАГА
«И в чем же состоит высокая истина благонамерен-
ных? А в том, что они не хотят отказаться ни от одной преж-
ней оценки и не хотят почерпнуть ни одной новой. Пусть
жизнь хлещет через них, и переваливается через них, и даже
колесами переезжает через них — а они ее не пускают в свою
голову! а они не признают ее, как будто она не
идет! Это нехотение что-либо изменить в своем мозгу, эта прос-
тая неспособность критически обмысливать опыт жизни — их
гордость!
...Ото всех этих споров остался у меня в голове как будто
один спор. Как будто все эти талмудисты вместе — один слив-
шийся человек. Из разу в раз он повторит в том же месте тот же
164
довод и теми же словами. И так же будет непробиваем,— непро-
биваем, вот их главное качество!.. Это — дебри, сознание орто-
докса. С ним невозможно столковаться живому человеку».
(А. И. Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. Ч. 111.)
I ОКТЯБРЯ 1989 года. КОКТЕБЕЛЬ.
НАБЕРЕЖНАЯ ВОЗЛЕ ДОМА ВОЛОШИНА
Мы гуляем по набережной с маленьким человеком,
которого я очень долго считал несуществующим. В году 1965-м
появился в «самиздате» его знаменитый доклад о тиранах и ти-
рании со множеством замечательных цитат. Потом имя его
встречалось часто — но только в «самиздате» и «тамиздате».
Можно было подумать, что он и живет где-то там. Оказалось,
что он жил здесь, но продолжал думать сам. И если он был не
согласен с кумирами вчерашними и сегодняшними, здесь и там,
он говорил об этом так, будто для него не существовало куми-
ров. И вот мы говорим с ним о процессе Кравченко. Он отходит
на шаг и вдруг появляется с неожиданной стороны — такое
у меня впечатление. Пожалуй, если б у него была привычка гордо
вскидывать голову, он был бы похож на Мандельштама. Но Гри-
горий Соломонович Померанц ходит с опущенной головой и дума-
ет про что-то свое. Или про мое... Я жалуюсь ему на непробива-
емое нежелание Нордмана, Вюрмсера и других «благонамерен-
ных» видеть факты, и он, появившись снова откуда-то не от-
туда, откуда я ждал, отвечает мне хотя и горестно, но вполне
энергично:
— Видите ли, нежелание видеть факты — это, по-моему, чер-
та очень обыкновенная. Человеку свойственно видеть то, во что он
верит, и верить в то, что он видит. Тэйлор сказал это о дикарях,
но профессора и академики ничуть не лучше. Факты, мешающие
сохранить верность себе, можно счесть сомнительными, недосто-
верными, второстепенными, исключительными — и так далее.
Ленин (то ли в полемике с Сухановым, то ли в полемике с Соро-
киным) остроумно разделил факты и фактики. По фактам, как по
шпалам, проложены рельсы нашей концепции, а фактики — это
то, чем нас смущают оппоненты.
— Пример...
— Пожалуйста, вот вам пример. Шафаревич в недавнем ин-
тервью «Книжному обозрению» утверждает, что это либе-
ралы виноваты во всех несчастьях человечества. И приводит при-
165
мер: перед войной Черчилль предупреждал об опасности со сто-
роны Гитлера, но английские либералы только рисовали на него
карикатуры. Черчилль — консерватор, и это вот факт. А факти-
ки — это то, что Гинденбург и Папен, посадившие в кресло Гит-
лера, были тоже консерваторы. И то, что Невилль Чемберлен,
подписавший мюнхенские соглашения, был еще консервативнее
Черчилля. Факты — это то, что либералы во Франции и в России
раскачали лодку старого режима, а фактики — то, что этот режим
давно прогнил и готов был рухнуть не сегодня, так завтра. Из кар-
тины, нарисованной Шафаревичем, выпали, таким образом,
Гришка Распутин, безволие и бездарность царя, бездарное ве-
дение войны. Читаешь Шафаревича и хочется верить, что мы с Го-
ремыкиным и Штюрмером дожили бы до 1989 года, лишь бы
Милюков с Керенским держали язык за зубами. Да и теперь глав-
ное, чтоб всякие там Власовы, Емельяновы и прочие не произно-
сили поджигательских речей. Тогда Егор Кузьмич Лигачев всех
нас перестроит...
— Мы ушли, по-моему, от Вюрмсера...
— Нисколько. Мышление большинства людей реактивно и от
Сциллы бросается к Харибде. Чтобы понять ваших вюрмсеров
и им подобных, надо вспомнить ужасы, кошмары первой миро-
вой войны. После целого века цивилизации все цивилизованные
народы стали вдруг травить друг друга газами. И на это толкну-
ли их законно избранные правительства — вспомните отчаяние
Роже Мартен дю Гара и других! Отвращение к национализму
и буржуазности у них было тогда такое же сильное, как теперь
у Солженицына или Шафаревича к интернационализму и соци-
ализму,— после Воркуты, после Колымы... И вот в 1917-м Россия
рванулась к чему-то новому...
— Но потом...
— И потом. Даже террор тридцатых годов не смог охладить
сочувствие к советскому эксперименту. Помню, в «Иностранной
литературе» печатались тогда «Драмы о революции» Ромена Рол-
лана. Они говорили мне: да, мы наломали дров, но это болезнь
революционного роста, мы выздоровели — вы выздоровеете тоже.
— К моменту выздоровления нас вообще могло не остаться...
— Потом еще был Гитлер. И навязанный всем выбор — Ста-
лин или Гитлер. Практически Гитлер был хуже тем, что хотел
завоевать Европу (и завоевал). А Сталин (тогда, конечно) строил
(и убивал, конечно) у себя дома. Ну и пусть, думали, строит, вой-
на хуже... И вот война. Мы лежали под бомбами, затыкая свои-
ми шкурами дырку, которая осталась на месте нашей разбомблен-
ной в первые дни авиации, и своей готовностью умереть мы созда-
вали Сталину огромный, просто божественный авторитет. Попро-
166
бовали бы вы посягнуть на этот авторитет в 1946 году, на
другой день после победы? Когда все еще были пьяны этой побе-
дой?..
— И все же... Находились люди...
— А почему мы должны ждать от вюрмсеров и веркоров боль-
шей способности признавать неприятные нам факты, чем от
нынешних противников либерализма? У коммунистов, у них же
такое учение. Помните Багрицкого: если скажет солгать — солги,
если скажет убить — убей. Но ведь и христиане тоже — под вли-
янием реактивного понимания видят черта только там, где он
заранее нарисован... Вот и все... Разоблачать ошибки, которые
сегодня очевидны,— легкое дело. Попробуйте разоблачать ошиб-
ки и пристрастия кумира сегодняшнего и завтрашнего дня.
Скажем, того же Солженицына. Я пробовал и уверяю вас —
это нелегко. Бранили меня не меньше, чем Кравченко, и будут
еще бранить...
— Страшноватенькую вы нарисовали картину, Григорий Со-
ломонович. Между бешеной собакой и волком. Что ж, третьего,
более человеческого, не дано? А может, все же бывает третье?
14 ФЕВРАЛЯ 1989 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Свидетель «Леттр франсэз», старенький инженер
Жюль Кот, работал в России еще до революции. В 1929 году он
снова поехал в Советскую Россию, поселился в Харькове, совер-
шал вылазки в деревню, у него даже была прислуга из деревни, но
он «совершенно ничего не слышал о коллективизации».
Кот. ...В этих деревнях не происходило ничего необычного.
С другой стороны, в этом не было ничего удивительного, потому
что на самом деле социализм был установлен уже в 1920—
1921 годах, был произведен передел земли, нечто вроде коллекти-
визации мелких крестьянских ферм. Это было хорошо принято
мелкими и средними крестьянами; только кулаки чинили препят-
ствия... Но их лишили их владений уже в 1920—1921 годах.
...О чистках я тоже кое-что знаю... была в тот момент «Пром-
партия», вдохновляемая неким Рамзиным. Он ездил во Францию,
и, вероятно, Пуанкаре или Бриан приказали, и вот потом он
занимался вредительством. Это официальная точка зрения. Семь
тысяч инженеров было арестовано; у нас на предприятии —
тоже, но не знаю точно сколько. Во всяком случае, у меня было
две комнаты, кладовка, кухня и ванная, но было еще две комна-
167
ты в квартире, в которых жили жены арестованных инженеров.
У одной из них было двое детей... Я не видел в этом ничего не-
обычного и ненормального. Она жила, как обычно, а я, который
имел привилегии в продовольственном снабжении, пытался ей
иногда кое-что достать... Она настаивала, чтобы мне платить, но
весьма скромную сумму. И она жила совершенно нормально со
своими двумя детьми... ходила в ГПУ время от времени... Я ничего
не видел и полагаю, что там, в ГПУ, не происходило ничего ненор-
мального, необычного... Я читал у Кравченко о чистках... Это
у него вроде боя быков... Я этого не видел. Я даже видел совер-
шенно противоположное. Пытались обелить человека, предстаю-
щего перед чисткой, представить его невинным... Я видел, напри-
мер... чистку Пятакова... потом директора нашего треста, который
жил со мной в одном доме... ему задали несколько вопросов —
что ж тут поделать — совершенно старомодные вопросы: «До-
бавляете ли вы крепкие напитки в свой кофе? Любите ли вы
спиртное?» и т. д. Конечно, были крики, смех, нечто вроде забавы.
Конечно, надо сказать, что это было не всегда так.
Судья. А этот господин, он был осужден?
Кот. Да, на смерть. (Смех в зале.) В 1938 году его приговори-
ли к смерти.
(Вслед за мирным инженером защитники «Леттр франсэз»
вызвали для дачи показаний русского эмигранта, бывшего царс-
кого генерала, работавшего после войны в одном из советских
учреждений Парижа. Генерал Говоров повторил все, что го-
ворилось до него о проделках Кравченко в России и в
США).
Судья. Переведите ему, что обо всем этом уже говорили. Он
не был в это время в России; я хотел, чтобы он рассказал что-
нибудь из личного опыта.
Мэтр Блюмель. Господин судья, это говорит русский,
белый эмигрант. Разве такое показание не представляет интере-
са?
Судья. Он не был в то время в России.
Мэтр Эсман. И суд уже понял, что мы могли бы привести
десять белых эмигрантов, которые бы сказали совершенно про-
тивное.
Вюрмсер. Противное!.. Противное!..
Кравченко. У нас тут не колхозное собрание, мы это все
знаем.
Судья. Не кажется ли вам, что он уже достаточно сказал...
(Из дальнейшего опроса свидетеля выясняется, что в войну
он не участвовал в Сопротивлении и что сейчас он собирается об-
ратно в Россию.)
168
Мэтр Э с м а н. ...На каком языке вы читали книгу Крав-
ченко?
Г о в о р о в . На французском.
Мэтр Эсман. Суд уже оценил, какова степень его владения
французским.
Г о в о р о в. Сын мне объяснял кое-что непонятное...
(Следующий свидетель «Леттр франсэз» г. Тома был инва-
лид первой мировой войны, отставной инспектор Министерства
ветеранов войны, во время последней войны был связан с
Сопротивлением.)
Судья. Я попросил бы вас, если возможно, вернуться к
теме процесса...
Тома. Все французские патриоты отдавали должное ясно-
видению, энергии и способностям советского правительства...
никто во Франции не одобрил бы Кравченко! Его даже не впус-
тили бы в Париж.
...Первое советское подразделение вернулось в Россию из
Марселя в ноябре 1944 года... Все военнопленные хотели участ-
вовать в конвоировании эшелонов. Потом я видел много таких
отправок с вокзала Буживаль... из лагеря Борегар. В тот момент
поползли зловещие слухи, которые даже нашли отражение в
прессе. Заявляли, например, что уже в вагонах на них надевают
наручники, а на платформах устанавливают пулеметы, чтоб они
не убежали. Ничего подобного... Я лично видел только один
инцидент: я видел горе солдата, который поехал в Париж за
покупками и опоздал к отходу поезда, он просто по земле ка-
тался и был в отчаянии оттого, что ему еще пятнадцать дней
придется ждать отправку конвоя.
Мэтр Блюмель. ...Свидетель был довольно долго в Совет-
ском Союзе с миссией французского правительства. Я хочу,
чтоб он рассказал нам о своих впечатлениях. (Протесты в зале.)
Но почему? Я удивляюсь.
Судья. Сколько вы были там?
Тома. Я был на Украине, ездил в Харьков... Три месяца.
Я возглавлял миссию, которой было поручено извлечение из мо-
гил трупов французских солдат, павших на советской земле в
эпоху интервенции... Когда я ехал туда, я был настроен совер-
шенно антисоветски. Но я увидел страну в расцвете молодо-
сти... Я был в колхозах. Они были восхитительны... Я полагаю,
что частные хозяева не могли бы соперничать с колхозами.
Цена на зерно была установлена государством очень низкая в
то время, и частные хозяева не смогли бы конкурировать с сель-
скохозяйственной индустрией.
169
30 СЕНТЯБРЯ 1989 года.
КОКТЕБЕЛЬ. НАБЕРЕЖНАЯ У СТОЛОВОЙ
За обедом я услышал эту фразу: «Хуже нас никто
не живет»,— и сейчас, стоя у парапета, перевариваю ее вместе
со столовскими сырниками. Что-то она мне напомнила... Ну да,
конечно,— фразу Вюрмсера на процессе. Что-то вроде того, что
«нам хуже всех»...
На скамейке рядом со мной две дамы. Одна вдохновенно
рассказывает, другая кивает согласно.
— Да, я целый месяц там прожила у дяди... во Франции.
Столько видела, даже привезла с собой видеокамеру. У них два
автомобиля, у него и у жены. Сын, дочь. Оба работают. Дочь
кассирша. А сын не работает, говорит — не может устроиться, но
я думаю, сам виноват. Там даже эти, негры, работают. Если уж
кто хочет... В театр они, между прочим, не ходят. Но там это и не
нужно. Там столько всякого! Один телевизор чего стоит! Там
есть такая передача — «Колесо фортуны». «Фортуна» по-ихне-
му «фортюн», почти так же. И такие выигрыши! Одна женщина
выиграла на 100 тысяч франков гарнитур, а мужчина проиграл.
Но тоже получил сервиз за пять тыщ. Замечательная переда-
ча, все смотрят. Гости? Бывали, ужинали. У них не принято, как
у нас, за столом — все про книжки какие-то говорить, про Ель-
цина, про кино... Там это даже считается неприлично. Когда я ем,
я глух и нем. Ну, скажут что-нибудь, два слова, кто где чего
купил выгодно. По-ихнему «интересант». Или какой-нибудь
смешной случай — например, машина испортилась. Дядя мой, он
вообще книжек никогда не читал. У нас много читают, но это
все от нашей бедности. Уверяю вас. Зачем? Когда столько есть
всего замечательного. Можно пойти в кафе. Или купить, напри-
мер, видео японское. Сама я тоже старалась никуда не ходить.
Потому что все очень дорого. В уборную — и то два с полови-
ной франка — это же колготки можно купить. Кофе выпить —
десять франков потребовали, представляете? В автобусе — то-
же в этом роде. Но им там автобус не нужен, у них же машины.
Нет, болеют, конечно. Оба. Но там можно болеть. Там столько
лекарств! И каждый год все больше. Наши эти несчастные ва-
лерьянки — уже название все забыли. Нет, умирают, отчего же
не умирают, но не так часто. Дядя говорит, это очень доро-
го — умирать. Очень-очень дорого. Они с женой уже с детства
копят на похороны. А зачем им умирать, когда столько всего...
У дядиных знакомых вилла, там это у них называется «па-
вильон». И у вас, Верочка, была бы вилла. Что вы, такой редак-
тор, как вы! Вас бы на руках носили. Со знанием румынского
170
языка. Английский вы тоже? Чуть-чуть? Ну а французы? Они
тоже по-иностранному мало кто говорит. А дети у них — пред-
ставляете: многие школу кончают и читать не могут научиться.
А я так думаю: зачем читать, когда столько у них всего — могут
пойти в кафе, в бар. Карате у них очень развито. Вам бы там
было очень просто. Один у нас уехал знакомый редактор. Уже
книжку там издал — стихи. Наверное, получил мильон, дом
построил... Мой дядя там ездил в Средиземноморский клуб,
это курорт на море, там культурники, массовики, танцы каждый
вечер, купание, пляж, представляете — Средиземное море.
Дорого, конечно. Но на две недели можно себе позволить, не
дороже денег...
...Я вспоминаю, как Хрущев поразил американцев редкой пос-
ловицей: «Всяк кулик свое болото хвалит». Никто не брался пере-
вести — за неупотребительностью. Сказал бы: «За морем те-
лушка — полушка» — сразу бы все воскликнули: «На той сто-
роне. холма трава всегда гуще!» Это по-английски. А по-сер-
жантски на всех языках: «В чужой руке все толще...»
Бедный Вюрмсер. Вот я и перевел, наконец, его знаменитую
фразу: «Хуже нашего никто не живет...» Вот поразил бы он этой
своей фразой осенний Коктебель. Потому что все знают: хуже
нашего никто не живет.
14 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
На заседании с показаниями в пользу «Леттр фран-
сэз» выступил участник Сопротивления доктор Фише.
Фише. Господин судья, я был арестован гестапо в феврале
1943 года и отправлен в лагерь уничтожения Маутхаузен. В этом
лагере я имел счастье продолжать борьбу с нацизмом благо-
даря организации советских солдат, которые прибыли туда до
меня. Я общался с врачами, интеллектуалами, инженерами,
рабочими и крестьянами. Как врач, я видел тысячи советских
людей, которые умерли у меня на руках. У всех этих людей была
возможность свободно высказываться, это единственный вид
свободы, которой мы обладали в лагере, мы могли критиковать
каждый свою страну... Но никогда ни один советский человек не
сказал ничего такого, о чем можно прочесть в книге Кравчен-
ко... Я думаю, что такую книгу могли бы написать многие фран-
цузы, которые сейчас находятся во франкистской Испании, а
также могли бы написать здесь — французы, которые тоже хо-
171
тели бы выбрать свободу, а не страдать от республиканского
режима, который наказывает их только за то, что они сотруд-
ничали с немцами и боролись против французского Сопротивле-
ния. Вот мои короткие показания, господин судья... После ос-
вобождения все русские вернулись на родину с великой радостью,
как и мы, французы, как англичане...
30 МАЯ 1989 года. ПАРИЖ. БУЛЬВАР СУЛЬТ.
БЛИЗ МЕТРО «ПОРТ ДОРЕ».
КВАРТИРА ПЬЕРА ДЭКСА
В соседней комнате стучат молотки. Идет ремонт. Хо-
зяин вышел куда-то — у него тысяча дел в Париже. А тут еще
и ремонт. А тут еще и я.
Я сижу, жду и думаю о показаниях доктора Фише, о книге
самого Дэкса, об «Архипелаге» Солженицына. Думаю о сотнях
тысяч советских людей, которые не захотели вернуться на ро-
дину после войны. Иногда они встречаются мне в Париже или на
дорогах Европы. Неужели Вюрмсер с Нордманом и впрямь ве-
рили, что это все полицаи — сотни тысяч полицаев? С другой сто-
роны, показания полковника Маркье категоричны: лучше
смерть, чем война против Сталина. Но тогда откуда эти довольно
обширные формирования, национальные и многонациональ-
ные,— на той стороне? Борьба за Гитлера их не могла вдохно-
вить, борьба против Сталина, против тюрем, против коллекти-
визации, против насилия — могла.
Пьер Дэкс возвращается, садится рядом со мною за стол.
Этот человек был одним из руководителей подполья в Маутхау-
зене. Он написал об этом популярный роман — «Последняя
крепость». Там уже поднято немало проблем, но в целом автор
там на позициях Маркье и Фише. Он видит то, во что верит.
И не верит ничему, что выпадает из схемы...
— Я больше не переиздаю этот роман,— говорит мне Пьер
Дэкс.— Знаете... Меня спас в лагере врач-украинец. Он мне
сказал: «Если отсюда выйду живым, туда я не вернусь». Вы по-
нимаете, почему он не хотел?
— Кажется, понимаю.
— Честно сказать, мне было в лагере очень трудно рабо-
тать с русскими. Точнее, с советскими — там были украинцы,
белорусы, узбеки, грузины. Я их вовлекал в нашу подпольную
организацию. И знаете, я обнаружил, что у них есть какие-то
счеты. Вы знали об этом?
172
— Не хотел бы, но приходится. Особенно* сейчас.
— С ними, скажу я вам, было даже трудней, чем с югосла-
вами. Мало солидарности. Но это мой личный опыт. Наверное,
бывало и по-другому. Мне, помню, было трудно с ними. К тому
же многие испытывали недоверие к коммунистам. Я заметил, что
даже власовцам зачастую было легче найти с ними общий язык,
чем мне, французскому коммунисту... Когда вышел у нас первый
роман Солженицына, я писал к нему предисловие. И знаете, я
обнаружил, что его лагерь очень похож был на мой лагерь. Он
начинал фразу, я мог бы ее закончить...
— Я чувствую, всех просветил только Солженицын, который
подарил европейским языкам слово «ГУЛАГ».
— Нет, мы начали кое-что понимать еще до того. 52-й год
был для нас переломный. Помните процесс Сланского? Я тогда
беседовал с Веркором. Он обратил мое внимание на то, что из
двенадцати обвиняемых одиннадцать были евреи. Потом Морган
публикует «Оттепель» Эренбурга. Поздней его тоже исключи-
ли из партии. Когда Эльза и Арагон вернулись в феврале 1953 го-
да из Москвы, видно было, что они уже кое-что поняли. Это
ведь Эльза написала текст заявления в защиту Солженицына.
А последняя статья Эльзы была в защиту Сахарова. Но вы пра-
вы, все это было гораздо позже...
Я карябаю на листе бумаги, и вдруг карандаш мой замирает.
Я слышу такое, чего еще ни разу не слышал во Франции:
— Нас спросили: «Вы идиоты или мерзавцы?» Я отве-
тил: «Мы и идиоты и мерзавцы...» Я чувствую свою ответствен-
ность за преступления против духа, которые совершала эта
газета...
Ну да, конечно, это еще не настоящее покаяние. Но это уже
так много. Слова, которые витают невысказанными в кабинете
мэтра Матарассо, обретают здесь французскую плоть. Пре-
ступление против духа. Газеты «Се суар», «Леттр франсэз»: ко-
рифей Жданов «протягивает спасительную руку, чтобы вывести
художников из их противоречий...».
7 ОКТЯБРЯ 1989 года. 13.00.
КОКТЕБЕЛЬ. НАБЕРЕЖНАЯ
Покаяние. Это слово написано на сегодняшнем небе,
точно это афиша первого фильма о покаянии, подаренного нам
Грузией. Покаяние — глубоко интимное чувство, вроде любви
к родине. Я предпочел бы не каяться публично и не призна-
173
ваться публично в любви к родине. Я предпочел бы это делать
в одиночку и безвозмездно. Но что ж поделать — писатели
«не могут молчать». Им нужна трибуна. Давно ли сетовал
Ю. Ф. Карякин, что «уже пятое поколение советских людей уми-
рает без покаяния, понятия не имея о покаянии», и вот уже
все чаще появляются в печати публичные покаяния.
Я читаю — и мороз по коже. Пишет прекрасный драма-
тург в зените славы: «Стыды. Не ходил на Красную площадь с
теми семерыми против наших танков в Чехословакии. Это, на-
пример. А сколько лихорадочных, глупейших поступков, они же,
как правило, и плохие?.. Ладно, у Соловьева: «Я стыжусь, сле-
довательно, существую». Или: «Спокойная совесть — изобрете-
ние дьявола». Для утешения на полторы минуты. А как с этим
жить по утрам? Ведь стыды-то не выдуманные, настоящие». Пи-
шет знаменитейший режиссер: «Я был частицей большого за-
гипнотизированного государства... Да, теперь могу открыться,
мне, как и Сталину с Молотовым, город Стамбул (Цареград)
давно казался объектом, предрасположенным к добровольному
включению в СССР, по просьбе стамбульских трудящихся.
И это вовсе не затянувшееся кошмарное сталинское детство.
Уже возмужавши, я продолжал наивно полагать, что территория
СССР должна расширяться...» Пишет литературный критик:
«...я тяжело переживал и переживаю былое свое предатель-
ство... Несу в себе постоянное сознание вины и постоянную
потребность в очищении, покаянии, искуплении. С тем и умру,
наверное».
Впрочем, чаще все-таки каются по-иному: призывают
каяться соседа, жителей соседней республики, представителей
смежных профессий, а себя только жалеют. Я что? Я был молод
и глуп. Да и кто я был такой — простой инженер? Простой
редактор? Простой охранник? Простой прозаик? Простой сол-
дат? Советский простой человек? Время изменилось, и я с ним
меняюсь, слава Богу...
Так, может, и не нужно ничего вспоминать. Бередить раны.
Мучить себя и людей. Было и сплыло. Хватит уже про всех этих
Ждановых и вюрмсеров. Именно такого мнения придерживает-
ся книжный спекулянт у нас на набережной.
— Кому это надо? — говорит он.— Вот в Канаде, рассказы-
вают, есть такое приспособление к видику... И недорого...
А здесь...
С ним все ясно. Я шлепаю прочь по лужам и вижу Померан-
ца. Он слушал на пляже шум дождя, а теперь бежит сушиться.
Я ловлю его за рукав и спрашиваю, кому это нужно — чтоб
вспоминать. Он останавливается и решает, что об этом надо не-
174
медленно поговорить. Сушиться можно будет и потом. Начинает
он, как всегда, издалека:
— В шестидесятые — семидесятые годы я работал в библио-
теке и иногда имел доступ к спецхрану... листал там западногер-
манский еженедельник «Шпигель». Каждую неделю там появ-
лялась иллюстрированная статья о нацизме и преступлениях
нацизма. Хотя прошло уже двадцать и тридцать лет после само-
убийства Гитлера и Евы Браун... Может быть, некоторым из
многих тысяч читателей «Шпигеля» и надоедала хроника времен
нацизма, может, они пропускали ее, но все же она продолжа-
лась и напоминала молодым немцам, родившимся после 1945 го-
да, о том, чем были эти двенадцать лет соблазна, охватившего
один из самых культурных народов Европы. Мне говорили, что
примерно в том же направлении работало немецкое просвеще-
ние, а также другие журналы и газеты — с самого 1945 года,
когда катастрофа подняла волну отвращения ко всему, что на
протяжении двенадцати лет было народною верой, когда немцев
охватило раскаяние. В католических и протестантских церквах
было полно богомольцев, а Генрих Бёлль написал тогда: «Луч-
ше быть мертвым евреем, чем живым немцем». Именно это
искреннее покаяние вернуло немцам уважение других народов и
в конечном счете самоуважение. Конечно, многое с тех пор по-
теряло остроту, вылезли ветераны, празднующие день рожде-
ния Гитлера...
— Они уже в Европейском парламенте, я вас поздравляю...
— Но все же общая обстановка в стране неузнаваемо изме-
нилась. Друзья, жившие в ФРГ, говорили мне, что хотя там и
есть неофашисты, это все же самая антигитлеровская и анти-
фашистская страна на свете.
— Наверно, так и есть.
— Такого всенародного покаяния нам теперь не хватает.
Имя Сталина все еще связано с победой, а военная победа
льстит имперскому чувству. Я думаю, что необходимо снова и
снова окунать имя Сталина в ту кровь и гной, в которых захле-
бнулись его жертвы. А вместе со Сталиным — идею власти над
другими народами, идею империи. Гитлеры и Сталины будили в
народе чувство обиды (национальной или классовой) и вели к
насилию (которое они называли справедливой местью). Истин-
ные духовные вожди, подобно древним пророкам, будят чув-
ство вины и зовут к покаянию. Немецкий народ, освободив-
шись от имперской спеси, стал миролюбивым и богатым. Я ду-
маю, и у нас нет иного пути. Лекарство будет горьким. Но его
надо проглотить, чтобы выздороветь.
Померанц уходит сушиться, читать и писать... Боже, сколь-
175
ко еще энергии у того поколения! Сколько веры в разумное
устройство мира! Вот еще нашелся какой-то там «Шпигель»...
Поэт Константин Кедров идет вдоль парапета со своей кра-
сивой женой. Он моложе меня, она моложе нас обоих. Но я не
пристаю к женщинам на набережной, я пристаю к поэту. «Пока-
яние... Покаяние...» — бормочу я.
— Все думают, что покаяние — это о прошлом,— говорит
Кедров.— На самом деле каяться можно только в настоящем.
Прошлое (сталинизм и все, что ему предшествовало) только
повод для того, чтобы раскаяться в нашем сегодняшнем зле.
Два главных национальных злодеяния — стукачество и наси-
лие. Оба кровавых идола до сих пор не свергнуты с пьедесталов.
Культ насилия и доносов — это наши СПИД и сифилис. Изле-
чимся ли мы? Покаяние — единственное лечение, в нем од-
ном — надежда на исцеление. Если мы устремимся за Христом,
как тот прокаженный («Иисус Назареянин, спаси меня»), бу-
дем так же чудесно исцелены. Но что значит устремиться за
Христом? Ведь пойти в храм (в мечеть, в синагогу) — это все
равно что записаться в районную поликлинику. В лучшем случае
получишь больничный; а так, если что серьезное, все равно ведь
не вылечат. Устремиться за Христом — значит уличить себя в
предательстве, как Иуда. Но не повеситься на первом суку, а сде-
лать единственное посильное и возможное для человека —
простить врага своего. Вот он, твой враг, перед тобой — армянин,
азербайджанец, еврей, русский... Прости его и дай ему возмож-
ность простить тебя.
15 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Это был необычный день. Свидетелем «Леттр фран-
сэз» выступал в тот день бывший глава закупочной комиссии
в Вашингтоне генерал Руденко. В Париже, украшенном мно-
гократно именем Сталинграда, появился герой Сталинграда. Он
вошел через судейскую дверь в полном блеске своего парадного
мундира в сопровождении своего неотступного адъютанта, и
судья Дюркем спросил растерянно: «Что, будет два свидетеля
сразу?» Судье объяснили, что генерал не может обойтись без
своего адъютанта.
Генерал говорил о том, что Кравченко вор и пьяница, что
он боялся службы в армии, притворялся больным, что генерал
велел отправить его немедленно на родину. К сожалению, пока-
176
зания генерала не были подтверждены никакими новыми доку-
ментами.
Что же до отзыва Кравченко из Вашингтона, то инженер
Романов только что показал, что этого не было, и немедленно
вступил в спор с самим генералом. И все же начало показа-
ний генерала было довольно внушительным и произвело впечат-
ление на всех, кроме бывшего его подчиненного инженера Крав-
ченко.
Руденко. У меня в подчинении было в Вашингтоне около
тысячи человек, авиаполк на Аляске, группа кораблей. Я воз-
главлял филиалы в разных городах Америки... Перед нами
сейчас планы великих работ. Мы хотим, чтобы природа открыла
нам свои богатства, чтобы обеспечить народу счастливую жизнь.
Мы боремся против засушливых ветров, преобразуя природу,
мы хотим повернуть реки, которые текут на север, так, чтобы они
потекли на юг и напитали оазисы и нынешние пустыни.
Кравченко. Лучше бы вы вернули свободу людям, а по-
том уж занялись бы оазисами.
Руденко. Господин судья, я хочу, чтобы мне разрешили
высказаться без постороннего вмешательства...
Судья. Скажите свидетелю, что, если публика будет вести
себя так же невежливо по отношению к иностранному генера-
лу, я не остановлюсь перед тем, чтобы всех удалить.
Руденко. Мы много работаем над повышением выпуска
угля, над тем, чтобы газ пришел в города, чтоб электрифициро-
вать колхозы...
...В комиссариате я обнаружил, что после ухода Кравченко
он остался должен 150 тысяч рублей!
Кравченко. Позор! Он же врет! Вы знаете, что вы лжете!
(Корреспонденты отметили, что при этом бессмысленном
возгласе Кравченко генерал, а за ним и другие московские сви-
детели, а за ними даже и сам Кравченко понимающе улыбну-
лись. Эти люди знали какую-то тайну, недоступную здешним
простакам. Может быть, то, что ложь должна быть наглой...)
Руденко. Советская юстиция была к нему милосердна. Она
дала ему все, чтобы он оправдался перед советским народом...
Кравченко. При чем тут народ? Вы не народ! Вы его не
представляете!
Руденко. ...своей общественно полезной работой. Госпо-
дин судья, я еще раз прошу, чтобы мне дали кончить без посто-
роннего давления.
Судья. Я могу только через переводчика сказать...
Руденко. Господин судья, я не раз смотрел смерти в лицо,
и когда мне здесь угрожают, ясно, что я не испугаюсь!
Мэтр Эсман. Чего бояться во Франции!
Судья. Мы не сомневаемся.
Кравченко. Вы герой. Давайте дальше.
Руденко. Господин судья, я попрошу оградить меня от
оскорблений в мой адрес.
Судья. Скажите ему, что я ничего не слышу.
Мэтр Блюмель. Он все время что-то бормочет.
Судья. Переведите ему, чтоб не прерывал.
Руденко. Это дезертир, предатель, уголовный преступник.
Не такие люди определяют поступь истории. Советский Союз
борется и будет бороться за мир. Демократические народы мира
и демократический народ Франции. (...)
Кравченко. Мы тут выслушали длинный доклад, в кото-
ром господин адвокат представлял генерала Руденко... Но там не
было сказано, в каком военном заведении он учился... Руденко
политический генерал и представитель коммунистической партии,
а не боевой генерал, он это знает ’. То, что он явился сюда в блес-
ке военной формы,— это маскарад...
Вюрмсер. Какая непристойность!
Морган. Предатель...
Кравченко. ...для психологического воздействия на пуб-
лику... Десятки тысяч моих соотечественников умирали за Рос-
сию, а не за режим, а Руденко, живя безбедно, получал награ-
ды и золотые погоны... Руденко тут рассказывал, как меня ис-
пользовали немцы, вырезав мое заявление из американской га-
зеты. У господина Руденко отличная память.
Морган. А у вас?
Кравченко. Я не знаю, как меня использовали немцы, но
я знаю, как они использовали заявления Сталина и Молотова,
а также те материалы и продукты, которые были посланы в Гер-
манию по советско-германскому соглашению. Советский Союз
поставил Германии миллион тонн зерна, 900 тысяч тонн нефте-
продуктов, 100 тысяч тонн хлопка, 500 тысяч тонн стальных спла-
вов, 300 тысяч тонн железа, 100 тысяч тонн хрома, 11 тысяч тонн
свинца, 3 тысячи тонн никеля...
1 Намек Кравченко был не случаен. К началу войны три четверти кадрового
состава Красной Армии имело стаж не больше года, и только 7 процентов
имело дипломы военной академии. А куда ж девались другие, опытные и обу-
ченные? Были расстреляны почти все командующие военными округами, корпу-
сами и армиями, командующие флотами, флотилиями, погибли в тюрьмах и ла-
герях маршалы, заместители наркома обороны, разгромлены были все военные
академии. К началу войны Сталин успел разгромить комсостав Красной Армии —
его пришлось формировать заново в начале войны. Л. А. Руденко был в 1938 году
председателем Ростовского облисполкома и депутатом Верховного Совета СССР,
а через пять лет в Сталинграде он уже получил чин генерал-лейтенанта.
178
(О чем думал генерал Руденко, слушая 'это перечисление?
Вероятно, о том, когда ему следует встать и уйти — сейчас
или чуть позже? О том, безопасно ли для него все это слышать?
Что до простодушного Клода Моргана, то он вспоминал, ско-
рей всего, «многоголосую декламацию» Поля Вайяна-Кутюрье:
«...Вот руды из Магнитогорска,/ Вот ливень спелой ржи колхоз-
ной./ Мы принесли к прославленной стене / Оружье и орудия по-
беды...» — Перевод П. Антокольского,)
Кравченко. ...Что было важнее для Гитлера: маленькая
вырезка из американской газеты или вооружение для армии,
воевавшей против Европы? Руденко здесь скулил насчет совет-
ско-французской дружбы. Так вот, этим металлом убивали
французов. Вы были причиной гибели женщин и детей.
Боровский, (переводчик «Леттр франсэз»). Г осподин
Кравченко сказал: «Вы уголовные преступники и политические
преступники».
Кравченко. Совершенно верно.
Мэтр Нордман. Господин судья, эта провокация не-
пристойна.
Судья. Ах, нет! С той стороны барьера высказывались со-
вершенно в том же духе. (...)
Руденко. Нужен ли я еще господину судье?
Кравченко. Я еще не кончил.
Судья. Скажите ему, что он может удалиться, если хочет.
Как хочет.
Мэтр Изар. Он удаляется, а Кравченко еще говорит! И вы
не знаете, о чем мы еще скажем! Отметим это. Генерал ушел!
Вюрмсер. Сталинградский генерал уходит от этого! (Кри-
ки протеста в зале.) (...)
Мэтр Эсман. Они все ушли! (Неожиданно вбегает адъю-
тант. Он забыл генеральскую фуражку.)
Мэтр Нордман. Таких оскорблений нельзя претерпеть!
Судья. Заседание откладывается.
(По поводу событий этого дня старейшина адвокатского
цеха Парижа мэтр Морис Рибе писал следующее:
«Истина не боится свободы. Именно здесь проходит граница
между двумя мирами, которые столкнулись в борьбе за будущее:
мог ли бы подобный процесс развернуться с такой широтой в
странах, хранящих трагическое молчание?
Генерал при полном параде и все его спутники-свидетели
дали на этот вопрос недвусмысленный ответ, когда они поки-
нули зал заседаний, чтобы не слышать противоположного мне-
ния».)
179
Следующим свидетелем «Леттр франсэз» был друг газеты,
резистант и историк Альбер Байе.
Байе. Достоин ли доверия истец? И что такое человек, за-
служивающий доверия?
Я не думаю, чтобы в своей великодушной неосмотритель-
ности или в своем великодушии мои друзья Морган и Вюрмсер
хотели повредить тому, кто обвиняет их сегодня.
(Выслушав длинную, витиеватую речь профессора Байе, мэтр
Эсман зачитал ему отрывки из его собственных произведе-
ний 1940 и 1941 годов: «...дезертир Торез и его банда», «...де-
зертир Торез, человек, который покинул свой пост из страха пе-
ред боем...», «...Сталин бросился в объятья фюрера, он позорно
напал на Польшу, позорно атаковал Финляндию».)
Байе. ...Идиот ли я, если я верил, что Петен — это благо
для французов? Так нас много идиотов во Франции. Идиот
ли я, если я думал, что Сталин пойдет против нас в 1940-м? Нас
много идиотов во Франции... Вы хотите мне доказать, что я
идиот?..
Судья. Мы и не думали...
Мэтр Эсман. Мы хотели вас просто поблагодарить за ве-
ликолепные вариации на тему истины.
(Свидетель «Леттр франсэз» Жан Морис Эрман, генеральный
секретарь примыкающего к коммунистическому профсоюзу син-
диката журналистов, говорил в своем выступлении о патриотизме
Вюрмсера и Моргана. Затем рассказал об американской манере
литературной обработки мемуаров. В качестве примера он привел
книгу советского перебежчика Вальтера Кривицкого, переписан-
ную Доном Левиным. К разряду таких книг г. Эрман отнес и
книгу Кравченко. Г. Эрман остановился на характеристике рус-
ских меньшевиков и эсеров, живущих в Америке, упомянув,
в частности, Б. Николаевского, работ которого г. Эрман не мог
оценить по достоинству. Если бы г. Эрман внимательно прочи-
тал вышедшие в США и во Франции книги Николаевского и Да-
лина (в частности, книгу Николаевского и Далина «Принудра-
боты в Советской России» и книгу Далина «Подлинная Рос-
сия Советов»), он понял бы, сколь многим обязан был Кравчен-
ко русским эмигрантам-социалистам, уже на протяжении деся-
тилетий думавшим над проблемами сталинского режима — еще
и в ту далекую пору, когда В. А. Кравченко учился грамоте или
проводил коллективизацию в деревне. И в книге Кравченко, и
в его выступлениях на процессе нетрудно нащупать излюблен-
ные темы Николаевского и Далина, найти те же самые цифры
и те же самые наблюдения.)
«Я уверен, что кто-то, думавший над всем этим, помогал
180
ему,— сказал мне Пьер Дэкс, давший книге Кравченко очень
высокую оценку в своем предисловии к ее второму французско-
му изданию.— Я просто уверен в этом».
Слово «помогал», может, и не слишком точно передает тот
процесс созревания, который прошел инженер Кравченко за ме-
сяцы и годы знакомства с русскими социалистами разных оттен-
ков. В сознании защитников «Леттр франсэз» все они объеди-
нялись под пугающей кличкой «меньшевики». О том, каким
пугалом представлялась первая русская эмиграция друзьям
Вюрмсера и Моргана, можно судить и по ироническому наблюде-
нию Владимира Набокова, который пишет в «Пнине», что «по-
нятие о русской эмиграции стараниями хитрой коммунистиче-
ской пропаганды включало расплывчатую и на сто процентов
вымышленную массу так называемых троцкистов (независимо от
того, что это такое на самом деле), разорившихся реакционеров,
переменившихся или переодевшихся чекистов, титулованных
дам, профессиональных священников, кабатчиков и объединен-
ных в свои группы белогвардейцев — ни вместе, ни по отдель-
ности не представлявших никакой культурной ценности».
Вслед за г. Эрманом выступил со своими показаниями сви-
детель и эксперт «Леттр франсэз» писатель Владимир Познер.
Экспертиза его должна была доказать, что Кравченко не писал
свою книгу, и Познер довольно убедительно показал, что многие
фразы, с трудом поддающиеся переводу на русский, были напи-
саны профессиональным журналистом-американцем. Все это,
впрочем, никак не помогло «Леттр франсэз» опровергнуть обвине-
ние в диффамации: ведь Сим Томас утверждал, что книгу на-
писали русские меньшевики, а не какие бы то ни было амери-
канские журналисты...
Мэтр Матарассо до сих пор гордится экспертизой Познера
как одной из самых удачных операций защиты (их ведь было
не так уж много). Изучив подаренную мне мэтром Матарассо
фотокопию экспертизы Познера, я посетил старого писателя
в его парижской квартире на рю Мазарин.
12 ИЮНЯ 1989 года.
ПАРИЖ. УЛИЦА МАЗАРИН.
КВАРТИРА ВЛАДИМИРА ПОЗНЕРА
Владимир Познер родился во Франции. Пяти лет он
попал в Петербург и там впервые заговорил по-русски. С восьми
лет он был знаком с Горьким, а с 1934 года получал на дом «Ли-
181
тературную газету». Она и сейчас лежит горами в его квартире.
В Париж он вернулся совсем русским, советским, и все, что он
слышал не восторженного о Советском Союзе, он всегда считал
ложью.
— Они говорили плохо о России, значит, им заплатили,—
сказал он мне.— Так я думал об этих «перемещенных лицах».
— И сомнения никогда не закрадывались вам в голову?
— Никогда,— спокойно говорит Познер.
И я верю ему: никогда.
— Будете долго жить,— говорю я.
— Веня...— говорит вдруг Познер.— Умер Веня... Мы были
вместе — в «Серапионовых братьях». Мы были последние. Вы
что, не знали?
— Нет, я не знал. Я не получаю здесь «Литературную га-
зету».
Я тихонько прикрываю за собой дверь, оставляя старого
писателя наедине с его «Литературными газетами», в одной из
которых есть сообщение о смерти Каверина.
15 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ.
СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Мэтр Матарассо. Немного найдется людей,
которые знали бы наизусть стихи Вольтера, но отец Кравченко
цитирует их в книге наизусть, и Кравченко воспроизводит их
в американском издании... Французский переводчик их не нашел.
Кравченко мог бы легко положить нас на лопатки, если бы он
объяснил нам, что там были за две строчки, но он промолчит. (...)
Мэтр Брюгье. Уверяю вас, это была бы просто литера-
турная редкость. Буквально умираю от любопытства — что ж
это там были за две строчки Вольтера? Может, чтоб исчерпать
этот крошечный инцидент, суд мог бы задать вопрос Крав-
ченко и у нас была бы полная ясность.
Мэтр Матарассо. Да, было бы забавно закончить се-
годняшнее заседание цитатой из Вольтера...
Кравченко. Вольтер. «Орлеанская девственница».
И не отыщешь этих рук щедрей,
Что сыплют в дар нам мыльных пузырей...
Судья. Ну вот, вы просили вас просветить...
Мэтр Изар. Он и дал вам их, ваши строчки. «Девствен-
ница», во всяком случае,— по нашу сторону баррикады.
182
12 МАЯ 1989 года.
ПАРИЖ. УЛИЦА ДЮ ТАМПЛЬ.
ИЗДАТЕЛЬСТВО МОРИСА НАДО
В тесной конурке — несколько столов: это один из
крупных литературных центров Парижа, где издают книги, иногда
даже хорошие. А что конурка, так литература теперь вообще
в конурке — какие тиражи у нынешней французской прозы?
И сколько тут платят за роман? Гроши. На годовой билет в мет-
ро этих денег еще хватит, а вот на квартплату за год — уже нет.
За квартал, пожалуй, да и то если квартирка какая-нибудь
дешевая. Если ж она где-нибудь в XVI округе, то за один
месяц.
Морис Надо говорит по телефону и успокаивающе погля-
дывает на меня: сейчас кончу. Худенькая бледная женщина на-
против меня пытается сосредоточиться на чтении. Это Анн Сар-
рот. Я справляюсь о здоровье ее матушки. Мы не раз беседова-
ли со знаменитой Натали Саррот: ах как прекрасно говорит по-
русски Наталья Ильинична! Я трепетно отношусь к этим воспо-
минаниям и к самой Наталье Ильиничне Черняк-Саррот. Не
потому, чтоб прочел ее романы, а потому, что она прочла мои:
я веду учет своим редким читателям, как в Монголии ведут
учет писателям...
Ага, знаменитый издатель и критик закругляется. В те да-
лекие годы, после войны, он уже был знаменитый левый ин-
теллектуал, кажется, коммунист. Среди многих видов его дея-
тельности было участие в комитете, присуждавшем премию
Сент-Бева за лучшее эссе. 27 июня 1947 года комитет после
бурной дискуссии присудил премию Сент-Бева американскому
бестселлеру «Я выбрал свободу», которому суждено было
стать и французским бестселлером: продано было 400 тысяч
экземпляров, и полмиллиона читателей предпочли эту книгу
«Молчанию моря» Веркора, знаменитому роману Кестлера и
«Маленькому принцу».
Не обошлось без борьбы и интриг. «Были дебаты,— вспоми-
нает один из членов комитета,— и жестокие споры со скан-
далами по поводу книги Кравченко «Я выбрал свободу», ко-
торую некоторым, сохранявшим благоразумие, хотелось бы от-
вергнуть, чтоб угодить партии...» Какой партии — не указано.
Похоже, все интеллектуалы Франции (и Арагон из «Юманите»,
и Мориак из «Фигаро») были тогда в одной партии — однопар-
тийная система. Морис Надо был среди тех, кто боролся за
присуждение премии Кравченко. Тоже (как выразился проци-
тированный выше член комитета) «не из-за литературных ка-
183
честв, а из-за того, что она способна была рассеять некую за-
весу тумана».
Надо писал, что, когда он кончил читать эту книгу, он был
«ошеломлен и испуган, сердце переполняло возмущение: или
все это ложь, и тогда нужно, чтобы немедленно кто-то, кто
знает лучше, как можно скорее опроверг этот кошмар, вернул
реальность, или же все это правда, и тогда стыд должен объ-
ять нас». Не случилось ни того, ни другого. Отчего? Об этом
я и хочу спросить Мориса Надо, который уже положил трубку
и быстро записывает что-то на клочке бумаги, чтоб не за-
быть.
— Отчего? — говорит он.— Нельзя было открыто признаться
в своих сомнениях. Атмосфера была такая. Сами взгляните —
все интеллектуалы были по эту сторону барьера. Сколько их вы-
ступило? И еще больше хотело — не все понадобились. Мно-
гие были записаны, однако защита обвиняемых отказалась их
вызвать. Но выступить по ту сторону барьера было нельзя...
— Да... Марсенак сам отмечал в «Леттр франсэз», что «ни
один интеллектуал не выступил» за Кравченко, боясь «потерять
лицо». Это и есть так называемый «интеллектуальный террор»?
— Говорят и так. Ведь наш комитет Сент-Бева сразу рас-
пустили после этого присуждения. Тогда все были на одной
стороне. Даже Лига прав человека. Хотя понимали уже многие...
— Что-то я не заметил...
— Понимали, понимали... Уже столько книг вышло, столько
надежных свидетельств. Однако выступить считалось по-
стыдным...
Покидая редакцию и бредя по улочкам древнего квартала
Марэ, я вспоминал, что после каждого выступления француза
на стороне Кравченко мэтр Нордман зачитывал письма бывших
коллег и товарищей, клеймивших отступника. Великая вещь об-
щественное мнение! Хорошо это или плохо? Ведь, может, по-
этому во Франции до сих пор стыдно прослыть расистом. А во
многих деревнях до сих пор можно не запирать двери...
Впрочем, когда есть хоть одна сильная партия, обществен-
ным мнением можно уже манипулировать. Кроме того, есть
отчаянные боевики. На книжных магазинах, где продавалась
книга Кравченко, в ту пору рисовали фашистские знаки. У его
издателя раздавались по ночам телефонные звонки. Но ведь и
в мае этого года милая парижская редакторша, муж которой
когда-то должен был выступить на процессе, предупредила меня,
что за эту тему все-таки лучше не браться... О-ля-ля, мадам,
какое нынче тысячелетье на дворе? Какой нынче год? И потом,
я не в пуганом Париже, мадам. Я в Москве 1989 года! Помните,
184
что сказал Вольтер? Пардон, вы, конечно, помните, но просто
такая уж привычка у русских — напоминать французам Воль-
тера. Так вот, он писал в «Истории России»: «Никогда еще исто-
рия не испытывала такой нужды в достоверных фактах, как
в наши дни, когда так беззастенчиво торгуют ложью».
15 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
В конце заседания парижский интеллектуал предстал
перед судом в качестве защитника Сима Томаса — профессор
политнаук Жан Брюа, преподававший тогдашнюю советологию
в том самом «сьянспо» (Институте политнаук), библиотекой
которого я пользовался в солнечном мае 1989 года.
Брюа. ...уточню для начала, что я не знаком с господином
Кравченко и никогда не был в Советском Союзе. Мои показа-
ния — это просто мнение человека, который знаком с совет-
скими проблемами. Критикуя Тэна, Алар сказал, что Тэн пере-
спи гал стекла, разбитые во время революции, и что, пересчи-
тывая разбитые стекла, не создашь историю революции... В кни-
ге Кравченко очень неточно определен кулак... Кулак — это
крупный землевладелец...
(Профессор Брюа сообщает, что в 1929 году кулаки еще
доминировали в советском хозяйстве. Приведя сомнительные
цифры из сомнительных тогдашних отчетов, профессор объяс-
няет внимательной аудитории, что когда лес рубят — щепки
летят. Доказательства он черпает из романа Шолохова «Под-
нятая целила».)
Брюа. ...были кулаки, которые были депортированы. Но
есть книга, и она переведана на французский — почитайте роман
Шолохова «Поднятая целина»,— и вы получите совершенно
иное впечатление... поскольку был неистовый террор со сторо-
ны кулаков, были убийства, поджоги ферм, оказывалось дав-
ление на бедных крестьян. С другой стороны, этот террор неот-
делим от крестьянских волнений, потому что эту фазу, гос-
пода, недаром называют «крестьянский Октябрь», и это пока-
зывает, что этот период борьбы был таким же трудным и таким
же героическим, как революция 1917 года.
...Чистки также не представляют собой ничего загадочного.
Всякий гражданин, вступающий в партию большевиков, отдает
себе отчет, что в любой момент... с него могут потребовать дать
публично отчет о его деятельности. Для нас, которые знают
185
нашу историю, не тайна, что чистки, которые называли тогда
«очищениями», проходили в эпоху якобинцев, и я позволю себе
процитировать вопросник, который был в ходу у якобинцев
во время сеансов «очищения»: «Кем ты был в 1789 году? Что ты
делал до 1793 года?.. Что ты сделал для революции? Не под-
писывал ли ты когда-нибудь какую-нибудь контрреволюционную
петицию?.. Отдавал ли ты свое перо только на службу свобо-
де?» Бог мой, да это ж так похоже на допросы из книги «Я вы-
брал свободу»... это пункт, в котором большевики вдохновляются
традицией поистине французской...
(Доказав таким образом полную респектабельность чисток, а
заодно и террора, профессор отсылает аудиторию к чтению книги
аббата Баруэля, написанной в 1789 году и похожей, по мнению
профессора Брюа, на книгу Кравченко. То есть уже в 1789 были
эти «романы ужасов»: «замените только с минимальной долей
воображения слово «якобинцы» словом «большевики». По-
скольку сходство с Французской революцией легализует любую
степень террора, профессору Брюа не пришлось пускаться в дол-
гие объяснения. Тем более что газета «Юманите» еще перед
войной познакомила читателей с заветом, который Ленин дал
своим французским собеседникам из делегации на III конгрессе
Коминтерна: «Хорошенько изучайте Жан-Поль Марата».)
{«Юманите» за 29 августа 1921 г.)
АВГУСТ 1989 года. США.
СТЭНФОРД. АРХИВ Б. И. НИКОЛАЕВСКОГО
«Я читаю сейчас мемуары из эпохи Французской
революции. Это очень своевременно ввиду того, что происходит
сейчас в России и что, по всей вероятности, будет по всей Ев-
ропе. Большевиков тогда еще не было, но в Париже тогда, как
теперь в Петербурге, были люди, которые тиранически обраща-
лись с миром, прикрываясь лозунгом свободы. Шарлотта Кор-
де сказала: «Я убила не человека, а дикого зверя». Это больше-
вики, и кто знает, не найдется ли своя Корде и для Троцкого...»
(Из мемуаров графа О. Чернина,
министра иностранных дел Авст-
ро-Венгерской империи. Запись
от 26 декабря 1917 года.)
Предсказание графа в отношении Троцкого сбылось почти
через четверть века. Пародийный эффект кровавой сцены в том,
что в роли трепетной аристократки Шарлотты выступала мощ-
186
ная группа талантливых террористов-интеллектуалов (в их чис-
ле были Сикейрос, Неруда и другие), руководимая профессио-
налами, но действовавшая по заданию всего-навсего другого
«дикого зверя».
Надо сказать, что между графом Черниным, профессором
Брюа и сегодняшним днем насчитывается не один десяток авто-
ров, соблазненных сравнением двух революций. Уже в 1921 —
1924 годах за границей была целая группа правых эмигрантов,
приветствовавшая новый «термидор» в России, что вызывало
тогда возмущение Троцкого. Впрочем, позднее он также стал
считать, что это конец революции — перерождение ее без взрыва
в собственную противоположность. Сходство казалось полным:
автократический режим приходит на смену конституционному,
в результате внутрипартийной борьбы к власти приходят экстре-
мисты, в стране воцаряются террор, ограничение собственности
и свободной торговли, напряженность и небезопасность суще-
ствования, казни. Идеологическая система, игравшая столь боль-
шую роль вначале, теряет свое влияние, начинается лихорадка
личного обогащения, старые привычки уступают место буржу-
азным, а сам республиканский режим — диктатуре бывшего
революционера. «Термидорианцы» и могущественная бюрокра-
тия движимы только жаждою власти... Друг Кравченко Д. Ю. Да-
лин, критикуя это сравнение, указывал, что сходство не идет
далеко: при Наполеоне наступила «нормализация» жизни, то-
гда как при Сталине продолжали набирать силу террор, страх,
принуждение...
15 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Показания скромной библиотекарши с Петровского
завода, разысканной мэтром Изаром и его подопечным где-то
в дебрях немецких лагерей для «ди-пи», таили в себе малоприят-
ный сюрприз для московского свидетеля Василенко...
Мэтр Эсман. Знает ли свидетельница Семена Василенко,
присутствующего в зале?
Корниенко. Я знаю его семью очень давно, с 1923 года,
у нас были очень близкие отношения со всеми... А кроме этих
дружеских отношений у нас были и другие, о которых сам Ва-
силенко не знает...
Судья. Что вы этим хотели сказать?
Корниенко. В конце 1940 года я была вызвана в секрет-
ную часть, и там были два сотрудника НКВД...
187
Судья. И что же?
Корниенко. Я им сказала, что у меня и так работы
достаточно, но они сказали мне, что я обязана это делать, то
есть вдобавок к своей работе я должна заниматься еще секрет-
ной работой. Они сказали, что стране нашей угрожает опасность
и что все советские граждане должны им помогать. Я этой ра-
боты очень боялась. Я знала, что это ужасная работа, и вначале
я отказывалась. Но у меня были дочка и зять, и мне сказали,
что если я откажусь, то я их подвергаю опасности. И у меня еще
был внук... Меня вызвали еще раз, в квартиру начальника НКВД,
и я продолжала отказываться от этой работы. Но он мне сказал,
что я не буду связана с такой работой, на которой будут пят-
на крови. Он назвал мне пять человек, за которыми я должна
буду следить. Это был Василенко, директор завода Ленина,
Горбов с Петровского завода, Трубенков, начальник цеха,
Кленов, главный бухгалтер завода, и Федоров, секретарь парт-
кома.
Мэтр Блюмель. Значит, она согласилась? (...)
Мэтр Изар. Вы собираетесь защищать способ, которым ее
к этому вынудили? Это вы хотите защищать? Через нее мы
обвиняем режим.
Мэтр Нордман. «Мы обвиняем режим...» То есть здесь,
в зале французского суда, адвокат господина Кравченко соби-
рается судить режим страны-союзницы. Я принужден от имени
моих собратьев-обвиняемых возвысить против этого голос.
(Смех в зале.)
Вюрмсер. Пусть смеются, впервые есть над чем смеяться.
Мэтр Нордман. Хотят подготовить агрессию против
Советского Союза при помощи свидетелей, которые все преда-
тели, военные преступники, стукачи, изменники родины.
Мэтр Изар. ...Эти свидетели таковы, какими их сделал
режим.
Вюрмсер. Хорошенькие у вас свидетели! (...)
Корниенко. Я всю правду сказала, я клялась, а я в Бога
верую, и все правда, что я сказала... Я должна была к ним хо-
дить домой, к этим пятерым; как друг должна была ходить, пить
чай и слушать, о чем говорят.
Вюрмсер. Это агент полиции. (...)
Корниенко. Все, что я слышала про политику и про вся-
ких больших людей, я должна была записывать и все пере-
давать в НКВД. Но я была не такая бессовестная, чтоб все им
говорить, что я слышала, и я хотела людей спасти, а не погу-
бить.
Морган. «Такая бессовестная!»
188
Мэтр Нордман. Она была бессовестная, но не такая
бессовестная.
Мэтр Изар. А режим был такой. (...)
Корниенко. Я хочу сказать только, что Василенко зна-
ет, какой это режим, потому что дядя его жены Калашни-
ков тоже погиб.
Мэтр Нордман. Все кругом погибли, никого нет.
Судья. Господин Василенко, вы знаете свидетельницу?
Василенко. Да, да, знаю. И правда, что давно уже знаю.
Она была хорошая знакомая нашей семьи и моей жены. И это
правда, что она к нам часто заходила, когда я еще был инжене-
ром-конструктором на заводе. Потом стала ходить реже. Когда
я стал директором, она к нам приходила всего раза два-три...
Как сотрудница НКВД. Я, конечно, ей благодарен, что она
меня не утопила. Правда, я и не знаю, в чем меня можно было
бы обвинить... Но все эти рассказы насчет НКВД— это все, ко-
нечно, ложь.
Мэтр Изар. Что он знает об этом?
Василенко. Это все шито белыми нитками, всякому бро-
сается в глаза...
Мэтр Нордман. Детективы, романы ужасов.
Корниенко. Нет, господин судья, это чистая правда. Васи-
ленко этого мог и не знать, а все же это правда. К тому же я не
два-три раза у них бывала, а чаще. Конечно, очень уж часто я
не могла ходить, потому что у меня их было пять человек, чтоб
наблюдать за ними, а я еще до одиннадцати часов вечера на
заводе задерживалась. Редко удавалось раньше уйти.
Василенко. Господин судья, эта история была бы похожа
на правду, если б я был инженер старой школы, вышел бы из
буржуазии, был беспартийный...
Мэтр Изар. В ЦК тоже все были коммунисты.
Василенко. ...Тогда, может, властям был бы какой-нибудь
интерес за мною следить.
Корниенко. Я, наоборот, изо всех сил старалась, чтоб Ва-
силенко не говорил о политике, чтоб он ничего такого не сказал,
что бы им показалось интересным в НКВД.
Мэтр Нордман. Была ли она член партии большевиков?
Корниенко. Нет.
Мэтр Нордман. И ей поручили следить за работниками
завода, за членами партии!
Морган. Вот именно!
Корниенко. Господин судья, я только хотела вам объяс-
нить, что НКВД привлекало к работе беспартийных, а не членов
партии.
Судья. Мы это хорошо поняли.
19 СЕНТЯБРЯ 1989 года.
МОСКВА. ПУШКИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ
Помню, как десять лет тому назад в Шотландии
одна милая полька рассказывала мне, отчего она в шестидеся-
тые годы уехала из Польши.
— Они хотели, чтоб я стучала, пан Борис, они от меня не
отставали, истрепали мне нервы. Вот мы и уехали. Вам это по-
нятно? Вы должны понимать. Вы же приехали оттуда...
Да, я отсюда. Когда мне кто-нибудь звонил с работы, бедная
моя мамочка говорила: «Остерегайся этого голоса. Он оттуда».
Сколько надо было мучить человека, чтоб довести до такой тон-
кости слуха? Сколько еще должно вырасти поколений, чтоб
мы были совсем здоровы от страха? И, поверите, расстояние бес-
сильно, не лечит. Когда в эмигрантской компании закрывается
дверь за очередным гостем, тебе шепчут: «С ним поосто-
рожней...»
А один эмигрантский автор даже написал о том, что все эмиг-
ранты — шпионы. Все читают и кивают согласно: «Да, это прав-
да. Все, кроме нас с женой...»
Однажды в Малеевке, где нас было четверо за обеденным
столом, меня успели предупредить в первую же неделю, чтоб я
был поосторожнее в разговорах: предупреждали все трое —
о каждом из троих по очереди. Где это понять мэтру Норд-
ману?
И вот я стою сегодня на Пушкинской площади и слушаю го-
рячий, просто горячечный спор. О том о сем — о политике, о вож-
дях... По старой памяти заржавелый счетчик щелкает где-то за
спиной: вроде счетчика в такси, с полустершейся надписью —
«58-10-25». Однако никто не оборачивается, не смотрит на счет-
чик...
Сколько еще должно пройти времени, чтоб мы вовсе забыли
унизительный страх? Чтобы мы жили не в кафкианском, а в ка-
ком-нибудь другом, открытом и радостном мире, где черные вши
страха не просто дохли, а даже и не заводились бы ни в головах,
ни в душах... Боже, как жаль мне всех! Не только тех, кто сгинул
по доносам, но и серую мышку-библиотекаршу из Днепропет-
ровска! И надутого жлоба Василенко, попавшего в западню мэтра
Изара и орущего в ужасе: нет, нет, это неправда! Ведь он-то сразу
понял, что все это правда. Сразу залепетал, что он член партии,
что он из рабочих — за что же его-то? За ним-то? Лепетал и
знал — да так, ни за что, за здорово живешь. Вот и Антон Калаш-
ников — уж какой был член партии, а взяли... Стоял и орал, за-
быв, что это все дело прошлое да и стукачка эта уже беглая.
190
Орал, потому что страшно еще было очень в- 1949-м. Ох какой
страшный был год!
А Нордману с Морганом, им что ж, им этого всего не понять.
Да и желать им этого понимания было бы грешно. Чтоб такою це-
ной...
16 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Неприятный сюрприз ждал в тот день и первую жену
Кравченко, бедную Зинаиду Горлову, которой так недолго
посчастливилось оставаться звездой Парижа. К свидетельскому
барьеру была вызвана мэтром Эсманом врач Кашинская, кото-
рая училась когда-то вместе с Горловой в медицинском инсти-
туте в Днепропетровске. Так вот, эта беглая Кашинская помнила
и коллективизацию, и поездку студентов на уборку, так подробно
описанную в книге Кравченко, и саму Горлову.
Кашинская. ...Нас разбили на бригады и послали в раз-
ные деревни, в которых вымерло много народу... В деревне, где я
работала, в живых не осталось ни души. Весь урожай должны
были убрать студенты, а мы сами пухли от голода... Верну-
лись мы в город только осенью, конечно, не управившись
с уборкой. Все опухшие были от голода. Занятия начались
только в конце осени, а в Днепропетровске в это время еще
больше было трупов. Мы вечно были голодные.
Украинский хлеб отсылали тогда в элеваторы Советского Со-
юза, а народ украинский умирал с голоду. Украинским хлебом
финансировали мировую революцию, устраивали демпинг на ми-
ровом рынке, а украинцы умирали от голода. Цифры можно най-
ти и в Малой советской энциклопедии. Официальные данные.
Согласно им в 1927 году на Украине было 32 миллиона жителей,
а в 1939 году 28 миллионов... Что я видела на улицах Днепропет-
ровска? Да что видела? Сотни и тысячи трупов. На каждом шагу
были трупы, и Зинаида Горлова это знает, потому что у нас на
факультете...
Мэтр Изар. Вообразите, что кто-нибудь заявил бы, что на
улицах Бордо в 1933 году были сотни и тысячи трупов. Был бы
здесь взрыв смеха. Но никто не смеется сегодня, и это вас
бесит...
Кашинская. ...У нас в анатомическом театре столько бы-
ло учебного материала, что нам все завидовали...
Мэтр Эсман. Узнает ли госпожа Горлова свидетельни-
цу?
191
(Читатель без труда угадает ответ бедной Зинаиды Горловой.
Нет, она не знает Кашинскую, не видела коллективизации, ни-
когда не была в деревне, не помнила их совместную поездку, с
трудом припоминает их общих преподавателей, которых назвала
Кашинская... Испытания этих дней, впрочем, не прошли даром
для бедной женщины. Она села на свое место, закрыла лицо ру-
ками...)
22 МАЯ 1989 года.
19.30. ПАРИЖ. УЛИЦА ТУРИОН.
КАБИНЕТ МЭТРА МАТАРАССО
— Да, да, конечно... Я вам расскажу...— мэтр Мата-
рассо понижает голос, как будто нас могут услышать Вюрмсер
или мэтр Нордман.— После заседания нас всех, защитников
«Леттр франсэз», пригласили в советское посольство. Там был
прием и все такое. И там она вдруг разрыдалась... Настоящая ис-
терика... Так что мы все узнали правду про ее отца... Она не вы-
держала. Ее срочно отправили назад самолетом. Она должна
была оставаться до конца, но ее пришлось срочно отправить до-
мой...
— Хотел бы я знать, что с ней стало по возвращении. И
еще — зачем Вюрмсер придумал эту историю про кающегося
Удалова?
16 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Инженер Николай Трегубов из Днепропетровска дру-
жил с семьей и младшим братом Кравченко. Противореча пока-
заниям Романова, он заявляет, что никогда не встречал его в этой
семье. Начинается очная ставка. Когда Трегубов говорит, что
младший брат Кравченко Константин был кудрявый шатен сред-
него роста, часто брился и имел прямую походку, Романов заяв-
ляет, что все было наоборот — что он был светловолосый, не куд-
рявый, высокого роста и хромал. На одно из последующих засе-
даний Кравченко пришлось принести фотографию брата, чтоб
доказать правоту свидетеля Трегубова. Анализируя это «забве-
ние прошлого», историк процесса Гийом Малори дает ему весьма
широкое толкование. Как в романе Оруэлла, прошлое больше не
192
существует для этих людей из страны Большого Брата. Человек,
уверенный в своем праве назначать людям и прошлое и будущее,
делает это с удивительной решимостью. Это продемонстрировали
все московские свидетели на процессе. Каждый из них выдвигал
свою (не подтвержденную документами) версию событий — чем
дальше от реальности, тем убедительней. Не удивляет, что защи-
те «Леттр франсэз» пришлось отказаться от вызова остальных
московских свидетелей, назначенных к даче показаний.
В тот день после очной ставки Романова и Трегубова к свиде-
тельскому барьеру вышел свидетель Кравченко слесарь Василий
Лузна.
Л у з н а. ...Я сын крестьянина... Был лозунг искоренения кула-
ков... По ночам забирали стариков и детей, отправляли на север,
в лагеря смерти. У отца моего была семья тринадцать человек, у
нас было семь гектаров земли и четыре коровы. Батраков никогда
не нанимали, отец сам нанимался поденщиком к другим. А со
мной на севере был крестьянин Мазуров со станции Илларионов-
ка, так у него четыре коровы было, лошадь и четыре гектара земли
на шесть человек семьи. 12 февраля нас погрузили в товарный
вагон на станции Илларионовка, семьдесят человек в один вагон,
и везли до самой Вологды, выходить ни разу не давали, а оттуда...
в город Котлас. Семьи наши разместили в старых церквах и ста-
рых кирпичных цехах фабрики. В такой комнате, как вот эта, где
у вас суд, еще в шесть раз больше, чем тут, народу было напихано.
Маленькие дети помирали уже в 1930-м... Есть не давали, иглы
сосновые мы глодали, березовый сок пили. Весной начали лес гру-
зить, а тут эпидемия тифа пошла. Я узнал, что и мать моя уже
померла, и сестра... У Мазурова остальные детишки тоже помер-
ли. Жены нам все рассказали, когда их привезли из Вологды.
А я вскоре после этого сбежал на Украину. И вот что я там
видел. В июле 1931 года снова начали высылать крестьян... В
1932—1933 годах я там видел страшный голод. Хлеб весь отобра-
ли до последнего зернышка и все, что можно было забрать... а
еще и уничтожили. В 1932—1933 годах на Украине голод был
сделан нарочно.
Мэтр Нордман. Он слышал показания Кашинской.
Лузна. Голод у нас был ужасный. Людоедство началось.
В Ипатьевке крестьяне откопали лошадь зарытую и съели. А их
НКВД расстреляло... В 1936 году арестовали меня в Кривом Роге.
Со мной там были евангелисты в тюрьме. После пыток я признал,
что хотел взорвать электростанцию. Но НКВД требовало, чтоб я
назвал людей, которые мне помогали... Потом предложили, чтоб
я подписал бумагу, что я буду сотрудничать... и выпустили. 16 мая
1941 года меня снова арестовали, требовали, чтоб я назвал имена
7 Б. Носик
193
«кулаков», таких, как я. Я решил — или с собой покончу, или
сбегу...
Вюрмсер. Он покончил с собой!
Л у з н а. Тут война пришла, и все повернулось. Я так скажу
суду: советская власть рабочим обещала дать рай на земле, а вме-
сто рая дала непрерывную борьбу классов. Вместо хлеба — голод
и людоедство. Вместо свободы — лагеря. И Кравченко лишь ма-
лую долю того описал, что украинцы и другие народы пережили,
потому что всего этого человек даже представить себе не может.
Один тиран гитлеровский побежден там, где народы узнали Бу-
хенвальд и Дахау, но я уверяю вас, что там у нас сотни есть Бу-
хенвальдов и Дахау! Я кончил.
Мэтр Нордман. Он думает, французы идиоты!
(Мэтр Матарассо принимается выяснять, как попал сюда сви-
детель. Лузна отвечает, что он прочел в украинской газете в лаге-
ре объявление какой-то АПИА и написал туда письмо, предлагая
свои показания. Выясняется, что АПИА — литературное агентст-
во в Париже, и дали это объявление адвокаты Кравченко.)
Мэтр Изар. А что ж вы думаете — свидетели сами упа-
дут с советского неба?
Вюрмсер. В этом небе множество звезд, мэтр Изар.
Мэтр Изар. ...А также несколько молотов...
23 МАЯ 1989 года.
ПАРИЖ. УЛИЦА ВАЛУА, 29.
КВАРТИРА ФРЕДЕРИКА ПОТЕШЕРА
— Я был журналистом на радио в то время,— говорит
Фредерик Потешер.
— Как же! Как же! Я тоже — лет на десять позже вашего.
Репортерский магнитофон у нас еще заводился ручкой, как пате-
фон. Назвали мы его «крупорушка».
— Я все записывал на процессе... А теперь вот — глядите!
Месье Потешер с гордостью протягивает мне новую книжку:
его! Московское издание. По-русски. Это удача! В предисловии
сказано, что Фредерик Потешер — мастер исторической миниа-
тюры. Я перевожу комплимент, мастер миниатюры доволен, я то-
же. Спрашиваю про русских свидетелей из лагерей «ди-пи». От-
чего никто из французов не смог отнестись к ним с сочувствием?
Потешер морщится, пожимает плечами.
— Они меня раздражали...— говорит он искренне.—Чисто
физически. Сам Кравченко тоже. У него была не русская голова.
194
Точно он марокканец... И его речь! У меня была жена русская,
она пошла, послушала — что за русский язык! Жуткий язык!
— Ну да, он же днепропетровский. Откуда была ваша жена?
— Из Баку... Но у нас было много русских друзей. Сухомлин,
например, Лебедев — он был у Керенского. Художница Гонча-
рова, Ларионов. Татьяна Логин...
— А-а-а! Как же! Татьяна Логинова, друг Буниных. Моя со-
седка по «чайнатауну»...— бормочу я, чтоб скрыть свое отчаяние.—
Ну да, ну конечно... Это другие русские, другой слой... Но те-то все
же...
Боже, неужели так трудно пробиться к пониманию чужого
человека, его страданий, его правоты, его права на жизнь — та-
кую же, как у вас! Отчего мне так легко сегодня понять и Лузну,
и супругов Марченко, и Силенко, и Удалова, и даже бедную затур-
канную библиотекаршу, сбежавшую от своих гнусных обязанно-
стей? Может, оттого, что я здешний?
— Довольно было интересно,— говорит Потешер.— Мы ж
ничего тогда не знали о России.
— А как же процессы тридцатых годов?
— Ну, это было до войны. Война все разделила на два отрез-
ка — «до войны» и «после войны». А Кравченко этот что-то гово-
рил, говорил... Я ему не верил.
— А обвиняемым верили?
— Морган был чистый, наивный человек. Человек абсолют-
ного повиновения партии. Он сказал: «Верю партии, как матери».
Вюрмсер? О, это был великий журналист — язвителен, остер.
Морган почему-то скрывал, что он сын академика, не знаю по-
чему.
— Как судебный репортер — что вы думаете о подготовке
процесса?
— Изар был замечательный человек. Честный, вежливый,
элегантный — я верю ему. Он блестяще подготовил процесс.
А Нордман плохо. Но я думаю, Изар не должен был защищать
Кравченко. Моих русских друзей процесс мало интересовал. Наш
общий друг Корбюзье тоже смеялся... Потом все забыли. А у вас
помнят?
— У нас еще и не знают.
— Ах, в Париже все так. Сегодня нет хлеба — все плачут.
Через две недели есть хлеб — общественное мнение изменилось,
все уже заняты иным. То черное, то белое. Это Париж. Вот
Фландрия, Эльзас, Бретань — там по-другому! Но здесь: сегодня
шум — завтра все забыли. Таков Париж! Вот эта первая жена
Кравченко, эта красавица — шум! Сенсация! Потом — плюф!
Все забыли. У вас тоже так?
195
16 ФЕВРАЛЯ 1949 года. АВЕНЮ МОНТЕНЬ.
ОТЕЛЬ ГОСПОДИНА ПУ ЛЕНАР А
По дороге в отель Саша обратил внимание Кравченко
на платочки в витрине магазина — в их уголках было вышито по-
английски и по-французски: «Я выбрал свободу». Саша расска-
зал, что в барах предлагают коктейль «Кравченко»: виски, водка и
лимонный сок. Впрочем, на конкурсе коктейлей эта смесь не по-
лучила никакой премии. В киосках продавались значки — трех-
цветная ленточка, карта Франции, а на ней по-французски все те
же слова: «Я выбрал свободу».
Вернувшись в тот день в отель, Кравченко получил новую кипу
писем, телеграмм и посылок. После того как он пожаловался
однажды на боль в желудке, его завалили добрыми советами и
лекарствами: у него были во Франции сотни тысяч читателей.
Впрочем, письма приходили из Марокко (марокканец не совето-
вал прибегать к операции), из Голландии (голландец предосте-
регал от французской пищи), из Швейцарии (швейцарец звал
Кравченко просто отдохнуть у него дома у озера), из Германии
(немец давал добрые советы).
Опальный монарх предлагал Кравченко дружбу, которая была
отвергнута бывшим партийцем. Двадцатисемилетняя девушка
просила его «стать ее дядей». Какой-то экстрасенс писал, что он
работает над мысленным разрушением стен Кремля, в то время
как английский астролог предсказывал смерть Сталина в 1952 го-
ду. Он просил сообщить ему дату рождения Кравченко, чтобы оп-
ределить его судьбу... Письма, письма, письма, сувениры, подар-
ки — подушечка с украинскими узорами...
Мода на Кравченко была в зените.
16 МАЯ 1989 года.
ПАРИЖ. УЛИЦА ДЕБОРД-ВАЛЬМОР, 11.
КВАРТИРА МАДАМ ЖОРЖ ИЗАР
— Литературный агент Кравченко обратился к отцу,
и отец полетел в Нью-Йорк,— рассказывает старшая дочь мэтра
Изара мадам Монье.— Там отец встретился с Кравченко и сразу
решил, что он непременно будет вести этот процесс. На него раз-
говор с Кравченко произвел большое впечатление. Отец, вы знае-
те, был социалист, он был демократ, гуманист. Он был одним из
создателей журнала «Эспри»... После первого разговора с Крав-
ченко у него родилось убеждение, что это нужно.
196
— Да. Понимаю... У мэтра Изара есть такая фраза о Крав-
ченко: «Его голосом говорят миллионы тех, кого лишили голоса».
Так он, вероятно, и представлял себе этот процесс.
16 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Мэтр Эсман пригласил к барьеру свидетеля Эраста
Бабунина, днепропетровского инженера-электрика, ныне безра-
ботного «ди-пи». Бабунин начал излагать историю своего ареста,
отчасти уже известную суду из рассказа его друга Удалова, аре-
стованного на квартире Бабунина. Эта история, по мнению мэтра
Эсмана, подтверждала правдивость многих деталей в книге Крав-
ченко: описание незаконной процедуры ареста, допросов, пыток...
Судья. Но в чем же вы должны были признаться?
Бабунин. Я узнал об этом только в камере. Там я встретил
человека, который мне рассказал, в чем меня обвиняют. Оказа-
лось, что я принадлежал к огромной контрреволюционной орга-
низации «Весна», которая должна была свергнуть советскую
власть. Я должен был там играть роль командира батареи. Боль-
шинство людей в нашей камере были по профессии адвокаты,
врачи, инженеры... Все принадлежали к этой несуществующей
организации. ...А моему соседу по камере на каждом допросе
предъявляли новое обвинение. Сперва говорили, что он должен
был взорвать мост. Потом его обвиняли в том, что он составлял
списки коммунистов, чтобы их «ликвидировать». А на третьем до-
просе ему просто сказали, что он японский шпион...
Судья. Сколько вы пробыли в тюрьме?
Бабунин. Семь месяцев.
Судья. Возвращаюсь к своему вопросу: за что его осудили?
Мэтр Эсман. Его просто посадили. Его так и не судили.
Судья. Но за что-то же сажали?
Мэтр Нордман. Ради своего удовольствия.
Бабунин. Меня обвинили в том, что я принадлежу к контр-
революционной организации.
Судья. Почему он не вернулся после войны в Россию?
Бабунин. Не вернулся, потому что я видел, что происхо-
дило уже в лагерях для тех, кто хотел вернуться. Советские пред-
ставители открыто заявляли, что всем этим несчастным людям,
которых силой угнали в Германию,— им еще нужно будет оправ-
даться в глазах советского народа. А мы думаем наоборот: мы ду-
маем, что это властям нужно еще оправдаться в наших глазах.
197
(Свидетель Василенко пожелал оспорить показания Бабунина
о беспорядочном бегстве днепропетровского руководства из горо-
да. Он утверждал, что все руководители были на месте и все было в
порядке, город не был взорван и даже водопровод к приходу нем-
цев работал.)
Б а б у н и н. Я-то знаю другой приказ, который дал Сталин,—
разрушать все, чтобы ничего не досталось врагу. Вы о нем знаете?
Василенко. Действительно, был такой приказ... но мы
приняли решение оставить водопровод и канализацию. Мы вывез-
ли оборудование, людей, но не взорвали здание станции.
Бабунин. А 23 тысячи жителей? Что с ними было?
Василенко. Немцы, уходя, сожгли главный проспект...
Бабунин. Я знаю, что немцы — сволочи, но и вы — тоже.
Вы бы все взорвали, если б вы раньше не дали деру. Потому вы и
не взорвали.
Мэтр Нордман. Вот поэтому русские и выиграли войну,
что они дали деру.
Вюрмсер. Он говорит «вы», обращаясь к своим соотечест-
венникам. «Вы дали деру». Это словарь предателей.
Мэтр Изар. ...А сколько осталось жителей, когда вы уш-
ли?
Василенко. Не могу сказать...
Мэтр Изар. С вами всегда так.
АВГУСТ 1957 года. МОСКВА.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ
«В тот вечер, когда мне разъяснили в Москве, в чем
смысл сталинской системы, я не обнаружил в ней ни одной детали,
не описанной ранее в книгах Кафки... Он мог бы стать лучшим
биографом Сталина...»
(Габриэль Гарсиа Маркес.
Журнал «Юность», № 4 за 1988 г.)
16 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
После свидетеля Бабунина мэтр Эсман пригласил к
барьеру тридцативосьмилетнего украинского рабочего, ныне
шахтера в Бельгии Михаила Щебета.
198
Щебет. Я малограмотный, и мне трудно рассказать всю мою
жизнь коротко. А я за свою жизнь был в восьми тюрьмах и двух
советских лагерях, так что если я выжил, то чудом только.
Судья. За что его посадили в тюрьму?
Щебет. Родители мои крестьяне, у них было три гектара
пахотной земли, которые нам дали, когда делили землю. У них
было три лошади и две коровы, мы их к 1929 году сами вырастили.
Потом пришли коммунисты и агитаторы, сказали, что нужно
добровольно записываться в колхоз. Поскольку это было до-
бровольно, то мой отец записываться не хотел, как и многие дру-
гие наши крестьяне... Вступили одни активисты да знаменитые
лодыри, которые и стали помощниками ГПУ.
Мэтр Нордман. Благодаря лодырям Советский Союз
поставляет Западу 20 процентов всего зерна...
Щебет. Они стали на людей возводить поклеп. До 1930 года
они у людей забрали весь хлеб, до последнего грамма, а 15 марта
1930 года к нам пришел представитель ОГПУ с двумя активи-
стами и сказал, что мы арестованы, вся семья.
Судья. Почему?
Щебет. У нас все забрали, а потом наложили на нас еще
200 пудов налог — или в колхоз иди, добровольно. Раз доброволь-
но, то мой отец опять не записался. Активисты нас дома держали
под охраной, а через три дня повезли на станцию... из нашей
деревни семнадцать семей... повсюду крики, агенты ГПУ и акти-
висты толкают людей. Погрузили нас. А когда привезли, там та-
кое было жилье, какое я потом видел у Гитлера: бараки, окружен-
ные колючей проволокой и с охранниками ГПУ... На четвертый
день погрузили нас в товарный вагон, по сорок человек, с женщи-
нами, и детьми, и младенцами, и стариками... Повезли нас в ла-
герь, который назывался Макариха, в трех километрах от Кот-
ласа... Потом комендант сказал, что мужчины должны уходить
строить другой лагерь. А мужчины не хотели, потому что жен-
щины и дети замерзали там... Погнали нас за 150 километров
через тайгу...
С у д ь я. Не мог бы он перейти к фактам, которые интересуют
суд?
Щ е б е т. Я не могу сокращать, потому что я не могу не рас-
сказать все подробности, они очень важные, жуткие, и если хо-
тите слушать, то дайте мне рассказать.
Мэтр Нордман. У него нет сокращенного издания.
Мэтр Изар. Ведите себя прилично. Мы не приглашаем
сюда привилегированных представителей режима, перед вами
простые крестьяне, имейте же терпение их выслушать...
Вюрмсер. О, уж терпение у нас...
199
Мэтр Нордман. Пятнадцать лет мы слушаем эти рас-
сказы.
Вюрмсер. Это потому, что ты молод, Нордман, я слушаю
их уже тридцать лет...
Мэтр Нордман. Во время оккупации я читал то же са-
мое в немецких журналах, которые разжигали психоз...
Мэтр Изар. Когда речь заходила о немецких лагерях, на-
цисты говорили так же.
Мэтр Эсман. Мы здесь во Франции начинаем кое-что
узнавать.
Судья. Просто я хотел сберечь время, но, кажется, я был не
прав.
Мэтр Нордман. Декламация продолжается.
Щебет. ...Мы там пилили сосны на экспорт... Землянки нам
улучшить не разрешили... Я решился бежать. Оттуда бежать тя-
жело, потому что ГПУ предупреждало местное население. За
каждого беглого давали пять кило хлеба... Я добрался до Мака-
рихи, где был наш первый лагерь. От матери я узнал, что одна моя
сестра, Лена, убежала, а куда — мать не знала, сам я так с восем-
надцати лет ее больше не видел, не знаю даже, что с ней... Нас тут
перевели на 10-й километр...
Судья. Пусть он сократит... Все его странствия нас не инте-
ресуют. Пусть расскажет про зверства, про самое ужасное...
Мэтр Нордман. Такого, как мы при немцах, они, конеч-
но, не видели.
Судья. Может, и наоборот.
Щебет. ...Семью я не нашел. Они были арестованы. Мать
умерла в тюрьме в Гомеле. А отец убежал, и я не знаю, что с ним
стало... Меня таскали из одной тюрьмы в другую...
Матарассо. За что его сажали в тюрьмы?
Щебет. Когда я узнал, что арестовали всю мою семью, я
сам явился в ГПУ и попросил разрешения остаться в деревне, хо-
тя бы и отец мой был «кулак». Меня арестовали... Судили меня за-
очно. В лагере я работал на нефтепромыслах, кормили плохо,
люди там мерли. Больницы у нас не было. Там были интеллигенты
и религиозники, а потом стали так много посылать к нам, когда
было убийство Кирова, что мы думали — больше уж и людей на
воле не осталось в России... (Взрыв смеха на скамье «Леттр
франсэз».)
Мэтр Нордман. Он явился сюда сам, и одет неплохо, да
и вообще держится довольно свободно.
Мэтр Изар. А ваши свидетели посланы сюда были святым
духом и явились в лохмотьях.
200
1 ИЮНЯ 1988 года, ПАРИЖ. СОРБОННА
«Любому ясно, что положение крестьян в России после
1929 года в общем было много хуже, чем при крепостном праве.
Но что касается личной власти Сталина, то заверяю вас (да вы,
наверно, и сами согласны со мной), что ни один русский монарх...
такой личной власти не имел».
(Из лекции советского историка
Н. Эйдельмана.)
1949 год. ПАРИЖ. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПЛОН»
«По официальной статистике в 1928 году кулаков на-
считывалось 5 859 000... К 1938 году в деревнях было уже 384 389
председателей колхозов и их заместителей, 248 390 счетоводов,
232 421 председатель контрольных комиссий и заготовщиков,
1 500 000 — на станциях обслуживания, не считая прочих слу-
жащих.
...По данным 1937 года, 13 100 000 крестьян работали меньше
50 дней в году и 4 600 000 не работали вовсе».
(Д. Далин. Подлинная Россия Советов.)
22 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
В тот день после мучительного однообразия и грусти
крестьянских и лагерных показаний суду предстояло, наконец,
услышать слово мудрости — к барьер}7 подошел свидетель «Леттр
франсэз» тридцатипятилетний философ-коммунист Роже Гаро-
ди... Он начал с критики все тех же страниц книги Кравченко — о
насильственном голоде на Украине в пору коллективизации.
Г а р о д и. ...Но почему стало бы правительство обрекать на
голодную смерть большую часть населения, пряча при этом запа-
сы в резервы?..
(Философ не находит ответа на этот вопрос. Неправомерными
кажутся ему и сравнения нынешнего положения страны с цар-
ским временем.)
Г а р о д и. Прошу прощения, но здесь то и дело говорится:
«При старом режиме Украина поставляла продукты питания
многим странам мира, не то теперь...» Говорится даже, что
уровень жизни у рабочих был выше и что царская полиция — это
201
я отмечу — была по сравнению с НКВД благотворительным
заведением...
Кравченко. Без сомнения. По сравнению с советским
режимом — конечно.
Г а р о д и. Он это все время говорит. <.••>
Кравченко. При царском режиме были тысячи заключен-
ных, при коммунистическом режиме — миллионы.
Г а р о д и. Согласен... Но вот становится понятно, что сво-
бода, которую избрал Кравченко, это свобода нескольких при-
вилегированных эксплуатировать других и пользоваться их
трудом... Как раз в этом духе высказывались эмигранты Коблен-
ца... враги Коммуны... версальцы... Мы могли бы здесь сослать-
ся на французскую традицию, восходящую к Бланки, который
уже в 1848 году сказал: «Свобода, выступающая против комму-
низма... это свобода синьоров...» В чем свобода безработного?
В том, чтобы умирать с голоду...
...Да, якобинская дисциплина, которая завоевала нам нашу
свободу,— это дисциплина грубая; это правда, что дисциплина
большевиков — дисциплина тоже грубая, и мы понимаем, что
есть души настолько слабые и трусливые, что они не могут
продолжать борьбу, и мы понимаем, что на протяжении деся-
ти лет можно лгать, лелеять злобу трусливого раба против
дисциплины, а теперь давать нам уроки свободы.
1989 год. ПОЛДЕНЬ. ИСПАНИЯ. КОРДОВА
На башнях Кордовы пробило двенадцать. Профес-
сор Гароди отложил новую рукопись о путях марксизма, вы-
нул из портфеля молитвенный коврик, постелил его и, встав
на колени, обратил лицо к востоку. Он совершал намаз. За-
кончив молитву, он вспомнил, что надо еще подготовиться к
празднику «Юманите»...
Мэтр Нордман назвал бы эту сценку «монтажом», каковое
слово он не раз употреблял на процессе в применении к книге
Кравченко. Однако он должен был бы отметить, что ни один
из элементов этого монтажа не придуман: ни Кордова, ни
полдень, ни коврик, ни обращение профессора Гароди в одну
из величайших религий мира с сохранением веры в другие,
менее великие...
202
11 ИЮЛЯ 1989 года. МОСКВА.
ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОВЕТСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ, ПОСВЯЩЕННОЕ
200-ЛЕТИЮ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
«...Интересные даты отмечаем мы в последние годы:
1000-летие крещения Руси, 200-летие Великой французской
революции, 100-летие Социалистического Интернационала...
Когда мы сегодня мучительно недоумеваем, как получи-
лось, что страна, партия ленинцев приняли диктатуру посред-
ственности, смирились со сталинщиной, реками безвинной
крови,— нельзя не видеть, что среди причин, удобривших
почву авторитарности и деспотии, оказалась и болезненная
вера в возможность форсировать социально-историческое
развитие, идеализация революционного насилия, восходящая
к самим истокам европейской революционной традиции.
Весь накопленный с той поры опыт, происшедшие в мире
изменения обязывают заново переосмыслить допустимость и
пределы насилия в истории... Идея о насилии в качестве пови-
вальной бабки истории исчерпала себя, равно как и идея вла-
сти диктатуры, непосредственно опирающейся на насилие.
За тысячи лет цивилизации никто, нигде и никогда не смог
построить достойное человека общество через насилие, кото-
рое рождало только насилие...
...Любые революции должны быть гуманными, бережли-
выми к человеку, его жизни и ценностям, к духовному и нрав-
ственному богатству общества... Цивилизация создавалась на-
коплением материального и духовного богатства, его новой
общественной организацией. А не тем, что человечество пе-
риодически возвращалось в пустыню и начинало все заново.
Подобные безнравственные представления свойственны как
раз тем, кто готов превратить революционный порыв масс, их
стремление к более достойной жизни в разгул низменных стра-
стей и разрушительства...»
(Из выступления члена Политбюро,
секретаря ЦК КПСС А. Н. Яковлева.)
203
22 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Свидетель обвинения Николай Антонов, сослуживец
Кравченко по Никополю, в начале своего показания подтвердил,
что в цехе горячего проката, начальником которого был Крав-
ченко, работало не меньше полутора тысяч рабочих. Показание
это было важно после множества попыток обвиняемых и их сви-
детелей доказать, что Кравченко был мелкая сошка и руководил
всего-навсего десятком рабочих («цех» — по-французски «ате-
лье», так же как пошивочное или сапожное ателье). На доказа-
тельство того, что Кравченко был когда-то и директором завода,
и сотрудником Совнаркома РСФСР, ушло немало часов и дней
процесса.
Мэтр Эсман. Пусть он расскажет главное о своем пребы-
вании в лагере.
Антонов. Я провел девять лет в лагере... Я был осужден
на шестнадцать лет, но в тюрьме я провел девять лет...
(Дальше последовала еще одна длинная и так хорошо знако-
мая сегодняшнему советскому читателю одиссея странствий по
тюрьмам и пересылкам, история допросов, побоев, издева-
тельств.)
Антонов. ...Следователь по фамилии Сологуб вызвал двух
охранников, и меня стали бить кулаками — по лицу, по голове —
а руки мне связали за спиной — пока не сбили меня на пол...
(Антонов высказал предположение, содержащееся и в книге
Кравченко, о том, что правительству требовалась рабочая сила
для строек Севера, и поэтому нужно было без конца пополнять ла-
геря.) Изумленные слушатели узнали от Николая Антонова о
фантастическом лагере, протянувшемся на сотни километров,
разместившем (а потом и убившем) десятки тысяч людей. Это
было строительство Беломорско-Балтийского канала, воспетого
лучшими советскими писателями и зарубежными левыми жур-
налистами. Корреспондент «Леттр франсэз» Марсенак, описы-
вая в отчете о процессе Кравченко «ослепленных злобой» быв-
ших советских зэков, щегольнул знанием классики и привел вы-
сказывание самого Луи Арагона о строительстве этого канала
при помощи рабской силы.
«Луи Арагон писал: «Этот необычайный эксперимент играет
для современной науки ту же роль, что история с яблоком, упав-
шим на глазах Ньютона, сыграла для физики». Но для людей
яблоко иногда падает понапрасну. Эти свидетели Кравченко про-
демонстрировали нам здесь неспособность воспользоваться этой
204
попыткой вернуть человеку человеческий облик... есть даже ка-
кая-то ирония в том, что мы позволяем отказаться от добра тем,
кто при всей убедительности добра в этой сфере предпочитает
упорствовать в своем пристрастии ко злу». Переводя эту как бы
интеллектуальную журналистику на язык родных осин, получаем
поразительную картину. «Эврика!» — воскликнули интеллектуа-
лы из ГПУ, совершив гениальное открытие (открыв лагеря). Но
темные зэки, упорствующие во зле, не желают воспользоваться
возможностью своего перехода (довольно, впрочем, мучитель-
ного) в лучший мир и трусливо бегут...
1963 год. ПАРИЖ.
КАБИНЕТ Д'АСТЬЕ ДЕ ЛЯ ВИЖЕРИ
«Сталин сказал: «Человек — это наш самый ценный
капитал». И эту формулу повторяют с готовностью. Она дву-
смысленна. Если человек — это капитал, то есть собственность,
достояние, он может быть употреблен в свою пользу капитали-
стом или государством, без учета того, склонна ли к этому сама
личность».
(Д’Астье де ля Вижери. О Сталине.)
22 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Свидетельница Кравченко Лилия Антонова, давав-
шая показания вслед за мужем, знала семьи руководителей
днепропетровской промышленности, о которых писал Кравченко
в своей книге. Она подтвердила, что эти люди и их жены были рас-
стреляны...
Мэтр Эсман. И что же, все эти женщины были арестованы
только потому, что против их мужей были выдвинуты оправдан-
ные или же фальшивые обвинения?
Антонова. Да, да, да! Я хочу сказать, что во всех камерах
и в различных корпусах здания, где я находилась, там были одни
только жены арестованных.
Мэтр Нордман. Вам что же, не встречалось ни одной
виновной в этих тюрьмах?
Мэтр Эсман. Вы не слышали, что она ответила?
205
Антонова. Виновных?
Кравченко. Про это спросите в НКВД.
Антонова. А в чем могла быть женщина виновна? Что она
знала? Мне сказали: «Вы виновны, потому что вы работали с ва-
шим мужем».
Вюрмсер. Так и не было виновных?
Антонова. «Вы виновны в том, что вместе со своим мужем
участвовали в контрреволюционной деятельности», но я вам голо-
ву даю на отсечение, что мой муж ничего такого никогда не
делал.
Мэтр Изар. Речь идет о женщинах, которые согласно
советскому Уголовному кодексу — и мы это уже цитировали —
были арестованы в качестве членов семьи обвиняемых.
(Вслед за Лилией Антоновой показания давал свидетель
Андрей Васильков, работавший юристом в тресте «Трубосталь».
Васильков рассказал об аресте популярнейшего в Харькове
директора «Трубостали» Иванченко и многих других руководи-
телей промышленности. Все они были из новой интеллигенции,
вышли из рабочих и получили образование при советской
власти. Арестованы были также их семьи.)
Васильков. У нас в семье были отец, мать и пять сестер...
Отец мой был священник, окончил духовную академию...
В 1918 году их выгнали из дому. Мой отец — ему было семьде-
сят семь лет — был арестован в 1937 году и исчез без следа,
как только в Советском Союзе люди исчезают. До этого его
четыре раза арестовывали, десять лет он провел в тюрьмах
и три года в ссылке. Из-за этого у сестры моей Елены сделалась
нервная болезнь, она умерла от нее в больнице. Мать моя умерла
от цинги во время голода в 1922 году. Сестра моя была профессор,
ее выгнали с работы из-за социального происхождения...
(Солнце пробилось в окно, осветило стены 17-й палаты, даму
во фригийском колпаке, грозный меч правосудия... Вюрмсер
улыбнулся, протянул карамельки Моргану, адвокатам и перевод-
чикам. За окном видны были старинные крыши и мансарды
набережной Гранд Огюстен. Несмотря на существование классо-
вых врагов, Париж все еще был прекрасен...)
Васильков. Сестра после этого пыталась работу найти на
заводах, чернорабочей, но каждый раз ее выгоняли за то же
самое, и в конце концов она отравилась. Сестра Евгения увиде-
ла, что в нашем городе работу не найти, и исчезла куда-то —
навсегда исчезла. Сестра Ольга не была дома, когда отца аресто-
вали, она уехала в другой город... Там ее и арестовало НКВД,
присудили ей пять лет лагеря, за что, не знаю. Она умерла в ла-
гере. Младшая моя сестра, Катерина, от всех этих событий
206
заболела и умерла безвременно... (Гомерический хохот раздался
на скамье обвиняемых.)
Вюрмсер (хохоча). Безвременно!
Судья. А над чем же смеяться? Я не знаю, все ли здесь
правда или нет, но только смеяться не над чем. Если это неправ-
да, не над чем смеяться тоже, а если правда — тем более.
Мэтр Изар. Это амплуа обвиняемых — смех. Во время по-
казаний госпожи Антоновой было то же.
Вюрмсер. Вам не удалось меня растрогать. На меня вы не
произвели впечатления, мэтр Изар. Все несчастья мира на моей
стороне! (Крики протеста в зале.) Разве несчастья на стороне
кагуляров?
28 ИЮЛЯ 1989 года.
ПАРИЖ. УЛИЦА РАНЖИС.
КВАРТИРА ПРОФЕССОРА ЛЕОНА РОБЕЛИ
— Вы помните, Леон, Вюрмсера? Что это был за
человек?
— Прекрасный, обаятельный, очень приветливый человек.
Я был еще молод...
— Ну да, вы мой сверстник. Так что вы в юности читали, на-
верное, «Леттр франсэз», «Се суар». Как я читал «Литературку».
У меня, впрочем, не было выбора. Так что ж это были за газеты?
— Я вспоминаю, что это были просто замечательные газеты.
Очень интересные... Я и теперь так думаю...
— Может, вам перечитать их снова? Вот Дэкс, кажется,
перечитал...
30 МАЯ 1989 года. ПАРИЖ.
БУЛЬВАР СУЛЬТ. КВАРТИРА ПЬЕРА
ДЭКСА
— Что за человек Вюрмсер?..— Дэкс задумался.—
Ну, как бы это вам сказать... Мне, например, приходилось кром-
сать его статьи. Я специально спрашивал на это согласие
Арагона. И Арагон давал согласие.
— Отчего же?
— Из-за их антисемитизма...
— Из-за чего, из-за чего?
207
— Да. Я вырезал целые куски такого характера.
— Он ведь небось и сам еврей. Впрочем, какое это имеет
значение? Раз нужно, раз приказано...
1875 год. ПЕТЕРБУРГ.
КВАРТИРА Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
«...Если захотите рассмотреть человека и узнать его
душу, то вникайте не в то, как он молчит, или как говорит, или
как он плачет, или даже как он волнуется благороднейшими
идеями, а высмотрите лучше его, когда он смеется. Хорошо
смеется человек, значит, хороший человек».
(Ф. М. Достоевский. Подросток.)
9 ОКТЯБРЯ 1989 года. КОКТЕБЕЛЬ.
ПАРК ВОЗЛЕ ДОМА ВОЛОШИНА
Да, все правда — и чудовищный смех, и самодоволь-
ные мемуары, предваряемые клятвой о смирении и чистоте серд-
ца. Но также и приветливость. Обходительность. Семейные доб-
родетели... Не хватает еще весьма важного... Вот минули годы,
всем ясно стало, что ничего не придумывал свидетель Васильков,
что кровавые драмы, которые и не снились Франции или Вюрм-
серу, вовсе не были придуманы для процесса-«спектакля» та-
лантливым Изаром. Что все это украинское горе было реаль-
ностью, а бездушный Вюрмсер ничего не почувствовал. И дело
даже не в бездушии. Точнее, не только в нем...
1979 год, давно напечатан во Франции доклад Хрущева,
вышел «Архипелаг», а Вюрмсер все еще утверждает, что свидете-
ли Кравченко были лжецы и полицаи. Отчего же? Да оттого,
что правда недействительна, если она не получена нами из уст
партии. Вот читайте: «Эта книга... не говорила правды: она ее
искажала. И человек, и книга эта давным-давно дискредитиро-
ваны. И нет ничего общего между «Я выбрал свободу», гранди-
озным поджигательским маневром времен «холодной войны»,
и XX съездом Коммунистической партии Советского Союза,
беспрецедентной хирургической операцией: режим, партия сами
разоблачили преступления избранного ими руководителя».
Таким образом, дело не в правде, не в истине, не во «фрагментах
истины», вырванных из контекста, объясняет нам Вюрмсер, а в
208
том, «кому служит» и чему она служит. Знакомо? Кому служит
роман Пастернака? Кому служит книга Солженицына? Кому
служат Сароян, Мориак, Альфред Хичкок, Платонов, Есенин,
Ильф, Петров, Ахматова, Клюев, Бабель, генетика, кибернети-
ка?.. Почитайте статью в старом-старом «Новом мире» про
Александра Грина, который верно служит «английским импе-
риалистам». Цель ведь важнее факта. И уж конечно важней ми-
лосердия. Ну а ведь на сегодняшний день цель будет вам задана
с вечера, утром, под Новый год... Это всем нам памятно. «Я знаю,
что быть правым против партии нельзя. Правым можно быть
только с партией, ибо других путей реализации правоты исто-
рия не создала» (Троцкий). «Я буду считать черным то, что
считал и что могло мне казаться белым, так как для меня нет
жизни вне партии, вне согласия с ней» (Пятаков). Справедли-
вости ради учтем, конечно, простой человеческий страх, владев-
ший двумя последними ораторами, и добровольность, почти
полную ненаказуемость Вюрмсера...
Под впечатлением вюрмсеровского смеха я бродил по воло-
шинскому парку, где и встретил Г. С. Померанца. Выслушав мой
рассказ, этот крошечный человек, до краев заполненный воспо-
минаниями, начал так:
— Весной 1950 года я сидел в Бутырках и играл в шашки
с одним коллаборационистом. Это был сельский учитель, попы-
тавшийся восстановить русскую школу под немецким управле-
нием... Он мне нравился, и я спросил его, почему он выбрал такой
путь. Взглянув на меня в упор (и сейчас помню его прямой
взгляд, его серо-стальные глаза), он ответил: «Я был свидетелем
коллективизации. Простить этого я не мог». Я кивнул, и мы про-
должали партию. Кое-что про коллективизацию я знал, главное
мне рассказывали. И язык все подытожил с новым, его словом —
«раскурочить». На войне подбили машину, а назавтра глядишь —
всю уже «раскурочили», бессмысленно растащили на части, уже
не восстановишь. «Куркуль» — это по-украински «кулак», рас-
курочить — раскулачить. Во французском «декулакизё» этих
оттенков нет (как в русской «дискриминации» нет множества
значений английского «дискриминейшн» — все равно что столб
вместо сосны). Так вот, если кулак — это плохо, значит, раску-
лачить («декулакизё») — хорошо. А если кулак еще и «коллабо»,
то согласно французскому опыту он мразь, подонок. Я тут отвле-
каюсь от коммунистической интеллектуальной дисциплины, но
и любому французскому интеллектуалу трудно было понять, что
война, которая называлась (и была для большинства) отечест-
венной, для некоего отчаявшегося меньшинства (не такого уж,
впрочем, ничтожного) была попыткой гражданской войны со
209
сталинской тиранией. Или что генерал Власов, избравший в со-
юзники Гитлера, был немногим бесчестнее Черчилля, избрав-
шего себе в союзники Сталина. Так история тасовала карты
в своей абсурдной игре. Вашему Вюрмсеру...
— Он не мой. Он их... Может, еще чуть-чуть ваш. Вашего
поколения, во всяком случае...
— Вюрмсеру было смешно, что полицаи, мерзавцы, колла-
борационисты рассказывают слезливые истории о своих сест-
рах,— и он смеялся. А потом история посмеялась над ним. Лич-
но мне жаль, что Ионеску не написал о процессе Кравченко.
Прекрасный был бы образец театра абсурда...
22 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Судья. Вы кончили? Будет ли свидетель продолжать
свой рассказ?
Васильков. У отца моего было два брата, тоже, как и он,
священники, и муж сестры был священник. Отцовские братья
были арестованы в 1937-м, и оба исчезли бесследно. А шурин
моего отца тоже был арестован и расстрелян. Я кончил.
(Следующим свидетелем Кравченко был Андрей Лебедь,
инженер-механик с Украины, ныне тоже «ди-пи». Он перечисляет
инженеров и служащих железной дороги, которые были при нем
арестованы в Донбассе. Сам Лебедь был арестован 2 декабря
1937 года, не зная за собой никакой вины: допросы, тюрьма,
снова допросы, суд военного трибунала, обвинения в диверсиях
и шпионаже, грозящие расстрелом...)
Лебедь. Я ни в чем не виновен, в чем меня обвиняли.
Вюрмсер. Естественно!
Мэтр Эсман. Он был в конце концов оправдан, вот вам
доказательство невиновности. И вы можете смеяться, зная конец
этой истории...
(Мэтр Эсман зачитывает официальную справку Военной кол-
легии об оправдании Лебедя.)
Мэтр Изар. Почти дело Дрейфуса!
Мэтр Нордман. Это еще раз доказывает, что, когда улик
недостаточно, человека оправдывают и освобождают. Мы конста-
тируем факт...
Мэтр Эсман. Что человека пытали, а потом оправдали.
Вюрмсер. Насчет пыток мы не будем констатировать, и не
надо заходить слишком далеко.
210
Мэтр Изар. Это НКВД заходит слишком далеко!
(Дальше идет обычная процедура. Мэтр Матарассо забрасы-
вает свидетеля вопросами, пытаясь доказать, что он не был де-
портирован,— быть депортированным во Франции считалось
не подозрительным, а почетным,— но бежал с немцами.)
Лебедь. На вопросы суда я отвечать не отказываюсь, но
я отказываюсь отвечать на этот допрос, вроде как в НКВД, и отве-
чать на провокации.
Морган. Он умеет оскорблять.
Вюрмсер. Мы — НКВД... что ж, это неплохо...
Мэтр Изар. Ну а скажите мне, от кого советские власти
узнали сейчас о том, что показания будет давать Антонов, как не
от вас? Вы мне можете сказать — от кого?
Вюрмсер. Могу вам сказать, под присягой — они разговари-
вали с советскими свидетелями, и те им передали, но не говорите
об этом никому...
Мэтр Изар. Значит, это советские свидетели доносили
властям? Благодарю, месье Вюрмсер.
1949 год, ПАРИЖ,
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛЯ БИБЛИОТЕК ФРАНСЭЗ»
Корреспондент «Леттр франсэз», освещавший процесс,
отличался столь же разящей иронией, как и его друг Вюрмсер.
Обобщая показания бывших советских зэков, Марсенак писал
в своем репортаже: «Свидетель повторяет причины, по которым
его посадили. Рассказывает, как его посадили. Рассказывает, как
его били, потрошили, и заключает, конечно, утверждением, что
он невиновен... Условия содержания заключенных в Советском
Союзе неприятные, говорят нам, и это в конце концов может быть
вероятным... «Да» и «да-да» и еще что-то в этом духе. Но все эти
«да-да» застревают у него в горле, когда мэтр Матарассо, в свою
очередь, задает ему вопросы...»
(Жан Марсенак. Битва за правду.)
211
11 ФЕВРАЛЯ 1989 года. КИЕВ.
УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ТОВАРИЩЕСТВА УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА
ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО
«Украинский язык в беспощадные те зимы паковали
в спецпереселенческие вагоны вместе с горестным взыванием
миллионов людей, оторванных со своими семьями от родной
земли, от родных вод и от ясных украинских рассветов. Услы-
шало этот язык заполярное краесветие, топили его в океанских
баржах, загоняли слово Тараса в тундру и тайгу. Однако и там
язык Украины отзывался то невольничьими письмами в без-
весть, то изысканным лагерным сонетом высокообразованного
интеллигента, то неожиданно выявлял себя удивительным пред-
ставлением соловецкого украинского театра... Душегубы стояли
близко. Много чего им удалось...» (Возгласы в зале: «Позор!
Позор!» )
(Из выступления писателя Олеся Гончара.)
23 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Немолодой француз Паскаль Джиарелли давал в тот
день показания в пользу Кравченко.
Джиарелли. Я ученик Ленина, Троцкого, Плеханова,
Густава Тьери, Виктора Мерика. Я старый революционер, госпо-
дин судья. (Смех на скамьях обвиняемых.)
Судья. Я попрошу вас, чтоб вы не потешались все время.
Джиарелли. Я русский выучил со всей этой компанией
товарищей, которые избрали Париж колыбелью подготовки рус-
ской революции... Нас называли «кепочниками», потому что мы
все носили кепки...
(Во время войны господин Джиарелли общался с русскими
пленными, он видел и таких, что не хотели возвращаться на
родину.)
Джиарелли. ...Они начали мне рассказывать истории,
подобные этим, которые описал Кравченко. Когда я прочел его
книгу, я понял, что он ничего не выдумал... а тут его обхамили,
обозвали лжецом... Вот почему я явился сюда, господин судья.
(В тот же день, 23 февраля, свидетельницей Кравченко
выступила вдова одного из секретарей германской компартии
212
Маргарет Бубер-Нойман. Ее показания произвели на всех огром-
ное впечатление. Впервые на стороне Кравченко выступала евро-
пейская интеллигентка, и все, с кем мне доводилось беседовать
в Париже,— от мэтра Матарассо до Мишель Монье, от Фреде-
рика Потешера до мэтра Альпера — говорили о достоинстве,
с которым она держалась, о скромной («на грани бедности»)
элегантности ее темной одежды, о ее тихом голосе (немецкая
речь в Париже, вскоре после войны!), о ненавязчивости ее пока-
заний, об удивительности ее судьбы. Она была замужем за сыном
известного философа Мартина Бубера, потом за трагически по-
гибшим вождем рабочего класса. С ранней юности она связала
себя с коммунистическим движением. Ей досталось лагерей
«и от Сталина, и от Гитлера», она выжила — может, для того,
чтобы рассказать о том, что ей довелось пережить...
26 ИЮНЯ 1989 года. ПАРИЖ.
АВЕНЮ ОШ. КАФЕ
— А почему бы вам не съездить к ней в Германию? —
спросил меня Гийом Малори.— Она жива.
— Уже не успеваю.
— Она очень интересно рассказывает — как ее неожиданно
вызвали к французскому консулу и сказали, что она может
поехать в Париж, давать показания... Американцы ей помогли
доехать без всяких тогдашних пропусков и виз, поселили ее
в отеле. Она встретилась с подругами по лагерю, которые были
вовсе не в восторге от того, что она будет выступать на стороне
этого типа, который все время кричит на суде и бросил к тому
же жену беременной... Она сказала, что для нее главное — ра-
зоблачить преступления Сталина. А наутро она была представле-
на Кравченко. Он ей не понравился, он был груб, заявил, что она
не должна упоминать на процессе о своей книге «Узница
Сталина и Гитлера». Потом мэтр Изар все же согласился упомя-
нуть ее книгу, а Саша поговорил с ней, сгладив неловкость. Но
она была обижена. Позднее она писала, что это человек, который
привык обращаться с людьми как с пешками: «Настоящий тип
функционера, порожденного советским режимом...» Думаю, у нее
мороз по коже подирал от воспоминаний...
— Конечно. Он и был типичный советский директор... А
Вюрмсер, Куртад, Морган, Веркор — никто из них не узнал
своего героя. Поразительно было другое — его способность пре-
одолевать штампы, способность учиться.
213
— Я чувствую, вам это по душе.
— Конечно. Это дает надежду. Никто не безнадежен... Кро-
ме, может, Вюрмсера... А так — живой человек учится. У него
человеческие реакции просыпаются, когда меняется время,
обстоятельства... Помните, как Хрущев распустил лагеря?..
23 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Б у б е р-Н о й м а н. Я пришла сюда как свидетель,
потому что я пять лет пробыла в Советской России в качестве
немецкой коммунистки и могла на собственном опыте узнать, что
такое сталинский режим. С 1921 по 1926 год я была членом союза
германской коммунистической молодежи, с 1926 до 1937-й —
членом Коммунистической партии Германии. Мой муж Хайнц
Нойман, член Коминтерна, был отозван в 1932 году за извра-
щения политической линии... Нойман призывал наносить удар
национал-социализму везде, где бы ты его ни встретил. Осенью
1931 года лозунг изменился. Нойман был отозван в Москву для
беседы с товарищем Сталиным. Это было в декабре 1931 года.
Сталин сказал ему вначале: «Не думаете ли вы, товарищ Нойман,
что, если фашисты возьмут власть в Германии, они будут так
заняты Западом, что мы сможем спокойно строить социализм
в России?» Нойман был другого мнения, поэтому он был отозван
в Москву для работы в Коминтерне, а потом послан в Испанию,
в редакцию «Мундо обреро»... Вскоре он был отстранен от работы
в Испании и отозван в Цюрих. Швейцарские власти отказались
выдать его гитлеровцам... Потом советское правительство предло-
жило ему приехать в Москву... В Москве мы жили в доме Ко-
минтерна... В то время, в мае 1936 года, атмосфера в Москве
стала невыносимая... Если старый друг дерзнул вас навестить, это
было настоящее событие. Еще большая смелость была откровен-
но говорить с кем-нибудь, даже со старыми друзьями, или заво-
дить новых друзей; мы все время боялись доноса... Ноймана
несколько раз вызывали в отдел надзора за кадрами... Обвинения
против него становились все более серьезными...
214
10 НОЯБРЯ 1989 года.
МОСКВА. ПРОФСОЮЗНАЯ УЛИЦА.
КВАРТИРА ВИЛЬГЕЛЬМИНЫ СЛОВУЦКОЙ
Эта квартирка на Профсоюзной, предтеча нынешнего
«Мемориала», описана была А. И. Солженицыным в его «Архи-
пелаге»:
«В одном моем знакомом доме, где бывшие зэки, есть такой
обряд: 5 марта, в день смерти Главного Убийцы, выставляются
на столах фотографии расстрелянных и умерших в лагере —
десятков несколько, кого собрали. И весь день в квартире тор-
жественность — полуцерковная, полумузейная. Траурная музы-
ка. Приходят друзья, смотрят на фотографии, молчат, слушают,
тихо переговариваются; уходят, не попрощавшись».
Хозяйка дома Мишка (Вильгельмина) Словуцкая потеряла
десятки друзей по Коминтерну — и немцев, и французов, и
итальянцев... Она тоже прошла через лагеря... Ее слепнущие глаза
глядят куда-то мимо меня, может, в прошлое, где она видит их
всех, еще молодых, не подозревающих о своей судьбе...
— Мишка, вы помните Маргарет Нойман?
— Конечно. Хорошо помню — и ее и Хайнца. Еще бы...
Маргарет Нойман...
— Я хотел съездить, повидать ее...
— Когда?
— Это было летом. Но потом...
— Поздно,— говорит Мишка.— Она умерла в октябре...
23 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Бубер-Нойман. ...Нойман был арестован НКВД
в апреле 1937 года... я осталась на положении политической
эмигрантки.
...Меня выгнали из квартиры, я была без работы, без денег...
В июне 1938 года меня арестовало НКВД. Я пробыла пять
дней в тюрьме на Лубянке, потом меня отправили в «Бутырки»...
Через много недель меня вызвали к следователю, который сказал:
«Вы обвиняетесь в контрреволюционной деятельности и в том,
что вы входили в организацию контрреволюционеров. А также
обвиняетесь в антисоветской деятельности...» Приговор огласи-
ло особое совещание, которое сменило прежние «тройки». (...)
215
Судья. В каких же все-таки конкретных фактах вас упре-
кали?
Бубер-Нойман. Следователь никогда не ставил мне в вину
никаких конкретных фактов...
(Маргарет Бубер-Нойман, прерываемая время от времени реп-
ликами мэтра Нордмана, не желавшего верить в то, что невин-
ные люди могут быть осуждены, рассказала, как ее привезли
в огромный лагерь в Караганду... Здесь в ее рассказ вмешался
адвокат «Леттр франсэз», бывший соратник Леона Блюма кругло-
лицый мэтр Блюмель: он стал доказывать, что лагерь в Кара-
ганде, где были и вышки с пулеметчиками, и карцер, и все другие
атрибуты пенитенциарной системы, все же не был «лагерем во
французском смысле слова»...
В этом лагере М. Бубер-Нойман прожила до 1940 года. И тут
ее вдруг перевезли в другой лагерь, а оттуда в Москву.)
Б у б е р-Н о й м а н. Под охраной НКВД нас отвезли в Москву,
в тюрьму «Бутырки». В моей камере было двадцать женщин —
австриячек, венгерок, немок... Когда мы приехали, нам дали
замечательную еду, белый хлеб... Дали новую одежду и сводили
к парикмахеру. Каждые два-три дня из нашей камеры забирали
кого-нибудь из женщин... Потом меня вместе с Кларой Фетер
и Бетти Ольберг солдаты НКВД отвели в контору и вручили та-
кую бумагу: «Ваш пятилетний срок заключения заменяется не-
медленной высылкой за пределы Советского Союза». Я спросила,
куда меня высылают. Мне сказали: «Скоро узнаете». Клара Фе-
тер отказалась уходить из тюрьмы без ребенка... Мы с Бетти Оль-
берг пошли к тюремному фургону. Фургон отвез нас на вокзал.
В момент посадки я смогла установить, что поезд идет в сторону
Польши. Нас посадили в тюремный вагон, на окнах была колю-
чая проволока. Кроме нас, двух женщин, в вагоне было еще двад-
цать восемь немцев и австрийцев, а также один венгр, все были
коммунисты, кроме одного старика профессора. Поезд тронулся.
Мы все еще не знали, куда нас везут. Мы надеялись, что нас
повезут к границе с балтийскими странами... Через три дня нас
выгрузили: мы были в Брест-Литовске, который был на границе
между частью Польши, оккупированной Германией, и частью,
оккупированной Советским Союзом. Офицер НКВД повел нас
на мост возле Брест-Литовска. Офицер командовал солдатами
НКВД, окружавшими нас. Мы ждали на мосту. Потом мы увиде-
ли людей, которые к нам приближались и которых мы не сразу
узнали. Мы узнавали их по мере того, как они к нам приближа-
лись, потому что это были эсэсовцы. Офицер НКВД вынул список
и прочел тридцать фамилий. Среди нас был венгерский еврей по
фамилии Блох, который был когда-то редактором немецкой
216
коммунистической газеты «Эхо Рура». Другой 'был немецкий ра-
бочий-коммунист, который во время стычки рабочих с нацистами
убил нациста и бежал, чтобы избежать ареста. Он был там приго-
ворен к смерти.
Мэтр Изар. Кем?
Бубер-Нойман. Заочно. Нацистами.
Мэтр Нордман. Она уже говорила нам тут, что Сталин хо-
тел прихода национал-социализма.
Б у б е р-Н о й м а н. Трое отказались переходить через мост:
венгерский еврей Блох, этот молодой рабочий, осужденный
нацистами, и один немецкий учитель, уже забыла его имя. Их
потащили силой через мост. Ярость нацистов обрушилась сна-
чала на еврея... Нас посадили в поезд и повезли в Люблин, в тюрь-
му. Там нас передали в руки гестапо, и мы узнали, таким обра-
зом, что НКВД передало СС также наши документы... Из Люб-
лина меня и еще тридцать девять человек отвезли в префектуру
полиции на Александерплац в Берлине... Через пять месяцев
меня перевели в концлагерь Равенсбрук... Я освободилась
оттуда 21 апреля 1945 года. Вот так я и познала две диктатуры
со всеми их мрачными сторонами...
(Дальнейшие прения сводились к попыткам мэтра Блюмеля
доказать, что советский лагерь не так страшен, как французский,
а также попыткам мэтра Нордмана доказать, что Хайнц Нойман
был не таким уж хорошим антифашистом. Кроме того,
мэтр Нордман упрекнул Маргарет Бубер-Нойман в том, что она
не испытывает благодарности к освободившей ее из Равенсбрука
Советской Армии. Маргарет Бубер-Нойман объяснила, что она
сбежала в американскую зону, не дождавшись подхода Совет-
ской Армии.)
Б у б е р-Н о й м а н. Когда я прибыла в Равенсбрук, я, естест-
венно, познакомилась с чешскими и немецкими коммунистками.
Но они меня возненавидели, потому что я, конечно, рассказы-
вала им, что мне пришлось перенести в Советской России. Они
меня преследовали, а потом угрожали, что, когда придет Со-
ветская Армия, они потребуют, чтоб меня арестовали и отослали
снова туда. (...)
Мэтр Брюгье. ...Я думаю, что французский боевой синди-
калист и коммунист Тэмбо перед расстрелом думал не о Хайнце
Ноймане, а о Тельмане... Он думал о жертвах нацизма, а не о сооб-
щниках Гитлера.
217
18 СЕНТЯБРЯ 1989 года.
МОСКВА. ОСТАНКИНО. АРГУНОВСКАЯ УЛИЦА.
КВАРТИРА ПРОФЕССОРА Ф. И. ФИРСОВА
Профессор Фридрих Игоревич Фирсов больше поло-
вины жизни занимается историей Коминтерна. Этот трудолю-
бивый и талантливый человек уже и четверть века назад был
переполнен разнообразными, мрачноватыми тайнами, редко,
впрочем, интересными (а главное, доступными) для широкой
публики. И вдруг прорвало — публика обратилась (и главное, по-
лучила доступ, ибо на сведения эти распространилось разреше-
ние гласности) к тайнам профессора Фирсова: приподнялась
завеса, и раскрылись забрызганные кровью подвалы, в которых
страдали и гибли все эти неистовые подпольщики, ораторы,
конспираторы, теоретики и практики борьбы, готовившие
мировую революцию. Корреспонденты из-за рубежа, това-
рищи по братским компартиям устремились в скромный ка-
бинет профессора и в Институт марксизма-ленинизма. Одни
скорбели, другие восхищались, третьи протестовали (через со-
рок лет после Вюрмсера и Моргана): нет, так не могло быть,
это клевета на наших партийных товарищей, они не могли быть
убиты своими же, не могли быть замучены Сталиным, заслуги
которого... и так далее... «Но вот же...» — недоумевая, говорил
профессор Фирсов, читая очередной протест и размахивая
архивной бумажкой. Из архива извлечено было трагическое,
«строго секретное» письмо венгерского коммуниста Е. Варги
Сталину (от 28 марта 1938 г.): «Даже честнейший иностранный
революционер не может быть уверен в своей свободе... Многие
иностранцы каждый вечер собирают свои вещи в ожидании воз-
можного ареста. Многие, вследствие постоянной боязни, полу-
сумасшедшие, не способны к работе. Из этих настроений сле-
дует, что арест не воспринимается — как это было еще год
назад — как позор, а как несчастье. Арестованных не прези-
рают, а жалеют!»
Жалеют! Боже, в какую надо беду попасть человеку, чтобы
в нем проснулись нормальные чувства и потеснили на миг
ослепление и дисциплину!
Западногерманский журнал «Шпигель» сообщил (а газета
«Аргументы и факты» перевела для своих многочисленных чи-
тателей), что «около четырех тысяч товарищей, которые по при-
казу партии приехали в Москву или добровольно решили помо-
гать в построении социализма в СССР, были переданы в руки
гестапо после заключения гитлеровско-сталинского пакта в ав-
218
густе 1939 года. Из 130 деятелей искусства,, сочувствовавших
великому Советскому Союзу, около 90 погибли в ГУЛАГе».
«Шпигель» пишет о судьбе членов учредительного съезда гер-
манской партии, членов немецкого политбюро, кандидатов
в члены ЦК: четверо погибли от рук Гитлера, пятеро — от рук
Сталина, пятеро убито в Германии, пятеро — в Советском Союзе,
девятнадцать стали жертвами нацистского режима, пятнад-
цать — сталинского.
Попытки Димитрова и Пика спасти хотя бы своих редко
кончались успехом. «Все вы там, в Коминтерне, работаете на руку
противнику»,— сказал Сталин Димитрову 11 февраля 1937 года.
«...Мы будем уничтожать каждого такого врага, хотя бы был он
и старым большевиком,— сказал великий гуманист Сталин,—
мы будем уничтожать весь его род, его семью. Каждого, кто
своими действиями и мыслями, да, и мыслями, покушается на
единство социалистического государства, беспощадно будем
уничтожать».
Вот и разгадка тайны, над которой тщетно бился в Париже
судья Дюркем: «За что? Каким образом? Каково обвинение?»
Простым парням из НКВД (ОГПУ) предписано было угадывать
мысли и землекопов, и хлеборобов, и профессоров философии,
а за мысли давать срок. Закипела работа...
Немецкие коммунисты пострадали особенно жестоко.
— Конечно, у них были ошибки в их борьбе с фашизмом.
Они не делали различия между буржуазной демократией и дик-
татурой фашизма,— говорит мне профессор Ф. И. Фирсов.—
Ошибка эта в высшей степени свойственна и Сталину и Зи-
новьеву.
— Да, ведь и послевоенный Коминформ прежде всего
обозвал предателями всех лидеров социалистического движения
(скажем, Блюма или Бевина).
— Хайнц Нойман был, конечно, левак. Он ненавидел фа-
шизм...
— То есть он все-таки не был сообщником Гитлера, как
говорил мэтр Брюгье?
— Нет, конечно. Просто у них были расхождения с Тель-
маном, но это была борьба «левых» с крайне «левыми». Нойман
тот вообще не допускал никакого сотрудничества. Но, конечно,
во времена репрессий все эти тонкости внутрипартийной борь-
бы не имели никакого значения. Все иностранцы пострадали,
особенно политэмигранты. Представляете — в эпоху психоза —
и вдруг рядом человек, плохо говорящий по-русски...
— Представляю. А он еще и бывал за границей. Знает
кое-какие тайны про подрывную нелегальную работу в ненаших
219
странах. У него к тому же и родственники за границей — жуткая
анкета. Чем же он не шпион?.. Я помню — у Е. С. Гинзбург есть
страшная глава про коминтерновок и бутырские ночи...
В дверь квартиры то и дело звонят. Собираются гости.
У профессора Ф. И. Фирсова сегодня день рождения. А я тут ему
про бутырские ночи.
— Желаю вам здоровья, профессор,— говорю я.— Долгих
вам лет... И забудьте хоть на сегодня про свой предмет. Ну да,
про всю эту кровь и грязь...
23 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Показания Маргарет Бубер-Нойман, которая ровным,
спокойным голосом говорила о преимуществах и недостатках
Караганды по сравнению с Равенсбруком (в Равенсбруке пона-
чалу еще царили чистота и порядок), внесли некоторое смяте-
ние в железные ряды обвиняемых. Дрогнул дотошный следова-
тель мэтр Матарассо, не захотел ловить на неточностях несчаст-
ную вдову, доказывать, что она — «арьергард Гитлера» (выра-
жение ученого Гароди, так понравившееся мэтру Нордману).
Однако не дрогнул Вюрмсер. В предсмертной книге он попрекал
дрогнувшего Франсуа Мориака и самодовольно констатировал,
что он всегда был на несколько шагов впереди Мориака (только
умер Мориак раньше да писал лучше). У Мориака на процессе
было много проступков. Он, например, заинтересовался лич-
ностью неистового истца и даже встретился с ним в ресторане —
позор! Разве можно писателю быть таким любопытным?
Итак, показания Бубер-Нойман проняли многих коммунистов.
Это вам была не украинская крестьянка в платочке, у которой
померло от голоду неправдоподобно много родни, которая про-
шла сибирские лагеря и все еще — на тебе — стоит на ногах. Это
был все-таки свой брат (своя сестра) коммунист, женщина из
знаменитой (хотя бы до первого развода) семьи, интеллек-
туалка. Она и говорит не так, как на колхозном сходе,— а тихо,
ровно, печально...
Теперь обвиняемым нужны были мощные контрпропагандист-
ские выступления, и мэтр Нордман готовил на 28-е свою тяже-
лую артиллерию. А пока ему пришлось выслушать еще одного
нелепого свидетеля Кравченко. Это был моряк Виктор Федонюк,
который плавал, воевал, был награжден орденами, дважды
ранен, уволен в запас, а потом «спрыгнул» в испанском порту,
220
«выбрал свободу», по ставшему таким модным в ту пору выра-
жению Кравченко. Родом из Владивостока, Федонюк немало
повидал лагерей на своем веку, видел, как выросло на пустом
месте Нагаево, видел, как его строили зэки.
Федонюк. ...Рабочие, которые разгружали наши суда и кото-
рые часто были больные, цинготные, они должны были по пояс
в воде носить груз, потому что даже пристани не было. Они пада-
ли от слабости, и охрана их поднимала ударами прикладов...
часто их расстреливали просто по решению НКВД или Дальстроя
за украденную банку консервов...
Мэтр Нордман. Вот почему он выбрал Испанию, он вы-
брал Франко! (...)
Мэтр Изар. Он выбрал тюрьму! Многие французские ре-
зистанты тоже бежали в Испанию!
Федонюк. ...До меня здесь выступали другие русские
патриоты, которые на себе испытали ужасы лагерей... так что
я много говорить не буду...
(И все же моряк рассказал несколько историй о садистах,
которые по утрам, просто для разминки, били зэков.)
Федонюк. ...В 1943 году я вернулся в Нагаево на «Суворо-
ве» и увидел, что за десять лет ничего там не изменилось. Там был
один начальник порта, или, скорее, специальный комиссар порта.
Его фамилия была Дегой. Этот человек был, если я могу так
выразиться, бандит. Он по утрам для физической зарядки
колошматил заключенных в порту...
(Судья объясняет свидетелю, что все это имеет мало отно-
шения к процессу Кравченко, а мэтр Матарассо выясняет, како-
ва справедливая мера наказания для беглого моряка в Советском
Союзе той поры. Расстрел показался адвокатам ответчиков мерой
достаточной.)
28 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
В этот день перед судом в качестве свидетеля «Леттр
франсэз» предстал семидесятичетырехлетний настоятель Кентер-
берийского собора (Англия) Хьюлет Джонсон. Это была внуши-
тельная фигура — венчик седых волос, экклезиастическая муд-
рость, опыт жизни, знакомство со Сталиным и преданность газе-
те «Дейли уоркер». «Это святой!» — восклицали на скамьях
обвиняемых. «Святой, если хотите,— писал в своем отчете кор-
респондент «Леттр франсэз»,— но в нем ничего мистического,
ни малейшей отрешенности, он обладает величием святых и ве-
221
личием людей...» Святой настоятель говорил о торжестве науки,
о мудрости пятилетних планов и просил положиться на него в
том, что книга Кравченко лживая, потому что он трижды был
в Советском Союзе и видел всю правду. Он говорил, что в книге
все клевета, потому что Сталин очень хорош собой, у него много
достоинства в повадке и «правильные черты лица». А главное, о
чем свидетельствовал настоятель-коммунист, религия в Совет-
ском Союзе свободна, она процветала уже и до войны...
Хьюлет Джонсон. Если мои книги правдивы, то книга
Кравченко неправдива; и наоборот, если его правдива, то мои
нет... История доказала, что мои оценки были более правиль-
ными, чем... Я знал, что Советский Союз так силен, потому что
он благосклонен к науке...
...После войны я вернулся в Советский Союз и провел там три
месяца. Я хотел повидаться с руководством всех отраслей жизни
и всех партий страны... Я был гостем этих руководителей, я был
гостем патриарха Алексия... я присутствовал на службе у главы
баптистской церкви господина Житкова... Я захотел присутство-
вать на выборах нового католикоса армян. Мне тут же предо-
ставили самолет, и я полетел. Я видел представителей армянских
церквей, я видел их реакцию... Я присутствовал на выборах
католикоса...
1954 год. АРМЕНИЯ. ЭЧМИАДЗИН.
ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 48874
— А ну, сбегай, Носик, закажи баню солдатам.
Небось завшивел? — сказал мне в тот день добрейший капитан
Губа.
И я побежал. У проходной караульный солдат предупредил,
что военным сегодня в городе запрещено показываться — там
у армян какие-то выборы и прибыли иностранцы.
— Значит, и патрулей тоже нет! — сказал я радостно.—
Задами доберусь...
И побежал...
О, милый Эчмиадзин моей солдатской юности — плоские
крыши, глиняные дувалы; вкусный лаваш сушится на веревках,
точно солдатские портянки; нищий парижанин Андроник Эскузян
и первые уроки французского, доброта бедных здешних армян,
вкус сыра, вина и лука...
Предупредив банщика, я побежал назад — мимо храма. И тут
я увидел их. А они увидели меня... Они были красивые, в рясах,
222
и этот седой был среди них. А я был в новой 'форме — «тропи-
ческий вариант» — в широкополой панаме и гимнастерке с
открытым воротом. И один из них воскликнул восхищенно:
— Армянская армия!
И этот седой, он тоже что-то сказал по-английски. А я в тот
год кончал иняз — большой был соблазн поболтать с ним, но
страх был сильнее соблазна... Католикос Вазген — он был тогда
еще совсем молодой, красивый,— он со мной потом говорил по-
французски...
«Какое это все имеет отношение к процессу?» — слышу
я голос судьи Дюркема.
«Вы правы, господин судья. Пусть уж говорит ваш святой
Джонсон...»
28 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Хьюлет Джонсон. ...Я был принят архиепископом
Грузии и провел день с имамом Ташкента... Я встретил главу
еврейской общины... Все меня заверяли, что церковь в их стране
свободна. Я не говорю о нынешних, еще новых свободах, потому
что уже до войны церковь тоже была свободна. Культовые отправ-
ления были свободными, и никакого вмешательства в дела церкви
не было.
...Это все противоречит утверждениям Кравченко. Так кому
верить — ему или мне? Для подтверждения моей правоты...
я прошу разрешения зачитать очень важное письмо патриарха
Московского и всея Руси ко мне от 29 января 1949 года.
Мэтр Эсман. Повторите дату.
Мэтр Изар. Какая разница, если благословение Сталина
было уже получено...
Переводчик. «Дорогой настоятель!.. Ваша книга объектив-
на. Она дружественно описывает положение нашей страны
и особенно нашей церкви... Желаю вам успеха в ваших разнооб-
разных сферах деятельности... Да пребудет благословение Божье
на ваших трудах и деятельности...
Алексий,
патриарх Московский и всея Руси».
223
19 СЕНТЯБРЯ 1989 года, МОСКВА,
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ ЛЕНИНА, ЗАЛ № 3
Кто-то здесь уже почистил каталоги от правдивых
сочинений Джонсона, я нашел всего одну из знаменитых книг
настоятеля. Но и в ней все неплохо, совсем неплохо. Ясно, что пу-
тешествие преподобному нравится, интуристовские гостиницы
и стол, изобилующий икрой и рыбой, не вызывают возражений,
а рассказы гидов и экскурсоводов не вызывают нареканий. Мы
узнаем, что «глубоко христианская программа пятилетки будет
претворена в жизнь» и основана «на научно-планируемом хо-
зяйстве»: «...по моему мнению, она является не только христиан-
ской и нравственной, но также практичной и научной, и она
увенчается успехом». После не содержащего никаких открытий
сообщения о том, что «Христос полностью отвергал всякие ра-
совые барьеры», X. Джонсон открывает нам, что «Сталин был
современным пророком, давшим равноправие... всем националь-
ностям СССР». «Пожалуй, наиболее интересной из всех... хрис-
тианских черт советского строя является поощрение мате-
ринства как основной обязанности женщины... Новая экономи-
ческая независимость дала женщинам досуг, позволяющий им
пользоваться радостями семейной жизни... Теперь прилагаются
новые усилия к тому, чтобы обеспечить население более высоко-
качественным питанием, дать ему больше молока, больше мяса.
Россия может это сделать потому, что население требует больше
продуктов и у него есть средства, позволяющие ему больше поку-
пать... Советские врачи прописывают — как хотели бы прописы-
вать и наши врачи — дорогие продукты питания и дорогостоящий
отдых, потому что они знают...» и т. д. и т. п.... «Я пришел для
того, чтобы имели жизнь, и имели с избытком»,— сказал Христос.
Нигде в мире это не осуществляется с такой полнотой, как в Со-
ветском Союзе благодаря политике в отношении бывших коло-
ний... Среди всех... лечебных мер, пожалуй, важнейшее значение
имеет устранение причин для волнений...»
«Ничто не произвело на меня такого сильного впечатления,
как моральная чистота коммунистических стран, где ни у кого
нет нужды или возможности наживать деньги».
«В Советском Союзе, где зарплата растет, а цены снижаются,
волнения из-за денег редки».
«Чудеса, которые за 2—3 десятка лет совершили Сталин
и Мао...»
«Освобожденная при коммунизме от своих прежних оков,
церковь ныне, к счастью, снова окрепла».
224
«...Поскольку западный мир пренебрег' строительством
царства Божия, осуществление отдельных элементов этой идеи
взял на себя коммунистический мир. В коммунистическом мире
многие настолько поглощены созиданием царства Божия
на земле... так боятся затянуть создание этого царства
размышлениями о потусторонней жизни, что вовсе не задумыва-
ются о ней...»
Не правда ли, здесь все впечатляет, в этом сборнике
статей X. Джонсона «Христианство и коммунизм» (Полит-
издат, 1957)?
Я не упомянул еще, что в милом моем Таджикистане,
по X. Джонсону, врачей больше, чем где бы то ни было на земле,
и особенно много их в школах (что-то я не заметил этого
за свои шестьдесят путешествий по Таджикистану).
Но, конечно, самое впечатляющее — свидетельства X. Джон-
сона о довоенном и послевоенном процветании религии.
При всей неполноте наших мартирологов православной церкви
и других церквей на территории СССР можно все же вспомнить,
что в 1936 году было арестовано двадцать русских епископов,
а в 1937-м — пятьдесят (см. «Словарь епископов» митрополита
Мануила). Число замученных и убитых к тому времени
исчислялось уже сотнями. В 1948 году начались послевоенные
аресты среди служителей церкви: арестованы архиепископ
Оренбургский, инспектор Московской духовной академии и
ставший впоследствии знаменитым студент Дмитрий Дудко.
Но, может, слухи все же не долетали до мирного
Кентербери? Долетали, долетали. Митрополит Евлогий вспоми-
нал: «В начале поста 1930 года архиепископ Кентерберийский
пригласил меня в Лондон на однодневное моление о страждущей
Русской церкви... В эти незабываемые дни... верующая Анг-
лия коленопреклоненно молилась о прекращении тяжких стра-
даний нашей Русской православной церкви...»
(Цитирую по книге Л. Регелъ-
сона «Трагедия русской церкви
1917—1945». Париж: ИМКА-
пресс, 1977.)
«Так то ж верующая Англия!» — скажете вы. А богослужи-
телю, верующему в науку, научную организацию пятилетки,
в Сталина и Мао,— ему-то до этого что? Хоть бы он и был тут же,
в Кентербери, над коленопреклоненной толпой...
8 Б. Носик
225
24 МАЯ 1989 года.
ПАРИЖ. УЛИЦА РОЗЕНВАЛЬД.
КВАРТИРА КНЯЗЯ КОНСТАНТИНА
АНДРОНИКОВА
Князь Андроников, худой, очень моложавый,
любезный человек, угощает меня холодным чаем по-итальянски.
Дверь комнаты открыта во двор, а там курлычут голуби,
шелестит листвой береза, лепечет внучка — забываешь, что ты
в Париже. Жизнь князя прошла в этом городе. Отец его,
претерпев Соловки, погиб в Потьме. В молодости князь
Константин Андроников ездил в Англию, к старшей сестре
отца, знаменитой Саломее Андрониковой, там он и выучил
английский. Окончил Сорбонну, потом знаменитый Богословский
институт в Париже, а перед самой войной крестьянствовал
вместе с Вырубовым и Воронцовым-Дашковым. После войны
князь стал переводчиком. Он выступал как официальный
переводчик на процессе Кравченко, работал в Министерстве
иностранных дел, был переводчиком у де Голля, бывал и в
Москве, а когда представилась возможность уйти в отставку
да на пенсию, отдался любимому делу. Том за томом
переводит он русскую богословскую литературу на французский
язык. Начал с Флоренского, а теперь уже — целая полка...
— Кстати, о богословии... Там был настоятель Кентерберий-
ского собора, на процессе. Он все ссылался на царство
Божие...
— Ах, этот! — князь небрежно махнул рукой.— Да, был.
Совершеннейший дурак. Я, говорит, летал над всей страной —
и не видел лагерей... Еще эта была, жена Кравченко,—
читала по бумажке свой урок. Давно это было...
Давно... Давно... Я смотрю на трепетную листву березы
во дворе, на книжные полки, на старинную русскую икону,
подаренную знаменитым советским писателем. Щедры они,
наши писатели! Вот и Эренбург тоже — подарил Моргану
икону, которую он «нашел» в монастыре, в Восточной Пруссии.
Настоящий друг! Но честный Морган, отвернувшись от иконы,
написал все же перед смертью, что Эренбург был не Дон
Кихот. Нет, не Дон Кихот... Далеко не Дон-Кихот...
Ну а кому хочется на рожон? На мельницу? В мясорубку?
226
28 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ:
АВЕНЮ ВАГРАМ. ЗАЛ ВАГРАМ
В тот день, когда на процессе состоялось столь
значительное выступление Хьюлета Джонсона, поклонника
советской науки и научных методов построения царства Божия
в одной отдельно взятой стране, в зале Ваграм видный
французский коммунист Лоран Казанова зачитал свой манифест,
проводивший резкую грань между буржуазной и социалисти-
ческой наукой. Если бы прямо с процесса настоятель
Кентерберийского собора отправился в зал Ваграм, он услышал
бы там подтверждение своим собственным выводам.
Социалистическая наука, заявил Казанова, по-новому
разрабатывает свои методы. Она сливается с деятельностью всего
общества, ведет организованные исследования, интересующие
весь народ. Лоран Казанова привел убедительный пример:
стенографический отчет дискуссии о генетике, проходившей
в Академии наук и разгромившей эту буржуазную науку,
был издан тиражом в 200 тысяч экземпляров. Таким образом,
весь народ был приобщен к теоретическим достижениям
лысенковской мысли.
Далее. Родился новый тип ученого. Политический руководи-
тель (например, парторг), колхозник и даже сознательный
специалист — каждый из них сегодня по-своему ученый.
Более того, все они специалисты в одной и той же науке —
науке построения социализма.
Далее — новое назначение и невиданное дотоле могущество
науки. Например, наука преобразует 120 миллионов гектаров
земель.
Главными образцами и высшими достижениями новой совре-
менной науки явились, по мнению Казановы, труды Сталина
по лингвистике и труды академика Лысенко...
Усталые, но радостные расходились французские интеллек-
туалы с этого собрания. Путь был тернист, но ясен.
Надо внедрять научные методы Лысенко и Сталина — и тогда
не только сельское хозяйство или отсталая лингвистика, но
и сама честь французской науки будет спасена.
(См. книгу Б. Лежандра
«Французский сталинизм».
Париж: Изд-во «Сой», 1980.)
227
28 ФЕВРАЛЯ 1949 года. ПАРИЖ
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Весь остаток заседания был посвящен выясне-
нию того, как и когда писал Кравченко свою книгу, кто писал
за него, с кем он в то время дружил. Конечно, версия
Сима Томаса, сочиненная на основе не вполне точных
агентурных данных и обработанная лихим журналистом,
рассыпалась при первом к ней прикосновении: русские меньшеви-
ки явно не писали эту американскую книгу (и даже отыскать
совпадения идей, тем, цифр и примеров у Кравченко и его
друзей Далина и Николаевского адвокаты обвиняемых не
потрудились); Кравченко явно не был дебилом и пьяницей;
книга не была насквозь лживой, и даже настоящих, доказуемых
отступлений от фактов в ней не удалось отыскать ни одному из
десятков «свидетелей совести»... И вот теперь адвокаты «Леттр
франсэз» путем перекрестного допроса пытались установить
связи Кравченко с американскими журналистами. Наряду
с Доном Левиным и Джозефом Чаплиным называли имя Юджина
Лайонса. Мэтр Изар зачитал данное в Америке под присягой
показание Марка Киноя, у которого Кравченко жил во время
работы над своей книгой: «Что меня особенно поразило
в моем жильце — это его столь редкая в русских интеллиген-
тах способность к сосредоточенному труду, к отречению от
всего, что может его отвлечь... С раннего утра до позднего
вечера он просиживал за столом, работая над книгой... Писал
пером, по-русски, без стенографистки и машинистки, исписывая
сотни страниц...»
1 МАРТА 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
В этот день Кравченко выступил с заявлением,
в котором рассказал о своей жизни в Советском Союзе,
потом о работе над книгой в 1944—1945 годах, прерываемой
вынужденными переездами в новые убежища. Когда несколько
сот страниц уже было написано, друзья нашли ему переводчика.
Это был Чарльз Маламуд, зять Джека Лондона. Кравченко
заплатил Маламуду тысячу долларов, и первые полтысячи
переведенных страниц были предложены издательству Харкурт,
которое книгу отвергло по причинам политическим. Через
228
некоторое время друзья Кравченко представили книгу издатель-
ству Скрибнер. Скрибнер потребовал русский оригинал, потом
заключил договор с Кравченко и выдал ему аванс. Скрибнеру
было ясно, что нужен новый переводчик, переводчик-редактор,
по-нашему литобработчик, имеющий солидный литературный
опыт и знающий вкусы американской публики. Нужен был
человек, не только умеющий писать, не только знающий
русский язык, но и знающий русскую жизнь, знающий, о чем
идет речь, а также — зачем это все написано. Нужен был
единомышленник. Тогда снова возник на горизонте Юджин
Лайонс.
13 АВГУСТА 1989 года. 16.00.
НЬЮ-ЙОРК. ЮЖНЫЙ БРОНКС
Вот они, эти темно-красные кирпичные дома старо-
го Бронкса с лестницами по фасаду. Здесь еще живут какие-то
люди, а вон там, чуть подальше, там похоже на Сталинград
после битвы: километры брошенных кирпичных коробок
с зияющей пустотой окон...
Я пытаюсь представить себе эти дома и улицы, кишащие
эмигрантской беднотой, детворой... Киношная экзотика Серджио
Леоне мешает мне вообразить этот скудный быт без ганг-
стерской романтики... Вот тут где-то обитал с семьей и Юджин
Лайонс...
Он был сыном русского эмигранта, одного из тех тысяч
эмигрантов, которые так и не разбогатели, так и не пустили
по-настоящему корней в Америке. У Юджина Лайонса было
острое чувство эмигрантской неприкаянности: «Ни одному
американцу, чьи корни глубоко уходят в американскую почву,
не понять ностальгической бездомности эмигрантских детей,
патетическую грусть второго поколения чужаков. «Земля, где
отцы умирали, о, гордость и честь пилигрима»,— выводили в зале
собраний голоса многих тысяч еврейских, русских, итальянских
и прочих пришлых мальчиков и девочек... Мы украшали
революцию опаловым сияньем своей мечты. Наконец-то Отече-
ство, средоточие наших надежд! Наша нью-йоркская жизнь
казалась такой отвратительной и прозаичной в сравнении
с поэзией победоносной революции».
Юджин стал журналистом. Он подружился с Элизабет Герли
Флинн. Он защищал Сакко и Ванцетти. «Не колеблясь,—
пишет он,— я связал свою судьбу с коммунизмом!»
229
Он начинает издавать журнал «Советская Россия в иллюст-
рациях», потом сотрудничает в советском агентстве новостей,
работает с Уманским, по временам заменяет Долецкого.
И наконец, сбывается его мечта — он уезжает корреспондентом
в Советскую Россию. Кажется даже — он был первым постоян-
ным корреспондентом Запада в стране его мечты и революции.
«Если кто-нибудь и отправлялся когда-нибудь в советские
пределы с глубокой и серьезной решимостью понять революцию,
отметая мелочь и шелуху, докапываясь до жесткой, неподатливой
оболочки величайшего события в человеческой истории, то это
был новый корреспондент «Юнайтед пресс». Я чувствовал,
что главная проблема моя будет заключаться в том, чтобы
как-то снизить, приглушить эту рапсодию до повседневного,
скучного уровня американской журналистики. Я отплывал
в землю своей мечты».
Его восторг не затухал долго, и первая часть его поздней
книги о «назначении в Утопию» называется «Аллилуйя!».
Название дальнейших глав свидетельствует о его эволюции:
«Сомнения», «Разочарование». Но как только бдительное ухо
хозяев расслышало первые нотки разочарования, он был
выдворен из страны как нежелательный корреспондент.
В пухлой рукописи Кравченко Лайонс вычитал свою
историю — юность, восторг, служение, долгий путь разочарова-
ния. Однако в истории Кравченко были тысячи его личных
примет, деталей... Лайонс сел переписывать эту чужую жизнь
и написал ее своими словами — от первой до последней буквы.
Так, во всяком случае, он утверждал в своей авторской гордыне.
Однако хозяин этой судьбы и жизни, и сам исписывавший
своим ровным, красивым почерком многие сотни страниц,— он
был жив, он был здесь, он был неуступчив, и он привык
к повиновению. Он потребовал, чтобы ему переводили все, что
пишет Лайонс, слово за словом, строчку за строчкой. Для этой
цели он нанял переводчика Никольского, а также запряг в этот
адский труд Елизавету Львовну Хапгуд. И он готов был спорить
из-за всякой мелочи (зато уж потом, на процессе, он мог
ответить за любую мелочь в своей книге, за каждое слово,
за букву). Вряд ли после такой соавторской баталии они
остались друзьями. Тем более что потом пришли большие
деньги, а каждый из них считал себя более достойным авторства.
Кравченко хотел отлучить Лайонса от последующих заграничных
гонораров: ему это не удалось, потому что Лайонс достоин был
считаться соавтором. И все же Сим Томас солгал — Кравченко
был «человеком своей книги». В книге была его жизнь, его
судьба, воссозданная его феноменальной памятью, его наблюда-
230
тельностью, но здесь была и его день дто дня растущая
зрелость, его умение слушать и учиться. Поражаешься, как много
тут от разговоров с Далиным, от чтения, от размышлений.
Что же до американского стиля Лайонса, то он был нужен для
успеха у публики, но он может и раздражать иного читателя,
как раздражал он французских интеллектуалов. В целом, надо
признать, книга получилась очень емкая.
30 МАЯ 1989 года.
ПАРИЖ. БУЛЬВАР СУЛЬТ.
КВАРТИРА ПЬЕРА ДЭКСА
— В 1980 году, когда я писал предисловие к книге
Кравченко,— говорит Пьер Дэкс,— самое поразительное было
для меня, насколько эта книга точна и полна. Впрочем, я ду-
мал об этом уже и в 1963-м, когда писал предисловие к ро-
ману Солженицына, а также работал над переводом: многое
мне было там знакомо — из Кравченко. Но, конечно, в 1947—
1948-м это все еще трудно было себе представить. Победа
СССР в той войне, казалось, доказывала единство партии и
народа, отсюда следовало, что там царит правосудие, демо-
кратия и — почему бы и нет? — свобода, что экономика функ-
ционирует должным образом... Да вообще, критика СССР была
нелегка. Начать с того, что ваша революция объявила себя
наследницей нашей революции. Что страна ваша была рож-
дена идеями французского рабочего движения, была как бы
дочерью нашей левой. Как же можно причинить вред собст-
венному ребенку? Надо научиться быть терпеливыми, понять,
простить все. Другого пути к будущему нет... Так что старались
и не думать...
— Однако и тогда были люди, которые пытались думать
сами, анализировать ситуацию...
— Да. Уже тогда появилась в «Тан модерн» статья Клода
Лефорта. Он писал — обратите внимание: «Одной из самых
важных и оригинальных особенностей книги Кравченко является
то, что она с необычайной силой разоблачает непоследователь-
ность, беспорядочность, которая царит в сталинской экономи-
ческой системе. Идея эта основополагающая и противоречит
распространенным мнениям». Я вот раздумывал — может,
на каких-то уровнях в Советском Союзе циркулировало больше
информации, чем мы думаем. Или же Кравченко черпал
231
вдохновение в трудах русских эмигрантов, таких, как Далин
и Николаевский, которые пристально изучали сталинизм...
— Я думаю — и то, и другое, и еще третье. Это его
жизнь. Наша жизнь. Кстати, в 1949 году вышли сразу две книги
Далина, одна в соавторстве с Николаевским...
— Во Франции?
— Да. Во Франции, по-французски... Вообще к тому времени
вышли десятки свидетельств, потрясающих репортажей «из
чрева кита». Беглые зэки, беглые члены сталинского аппарата,
беглые разведчики — все писали. Но никто их не читал. Да
и личным впечатлениям кто ж верит? Вспомните процесс...
Но поразительно, какую степень невежества могли позволить себе
(да и сегодня позволяют достаточно часто) все эти крупные
французские специалисты по русским делам вроде Брюа, Га-
роди... Храни нас Боже от ваших знатоков России!
— Я думаю, кто бы ни помогал Кравченко, цель была
достигнута. Книга его — первоклассное свидетельство о вели-
чайшей из тайн — о тайне сталинского террора.
1 МАРТА 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
В тот день адвокаты «Леттр франсэз» снова га-
дали об авторах книги. Истец же рассказывал о том, как он
писал свою книгу. Положение его в ту пору было опасным —
американское правительство еще могло его выдать на верную
смерть. Иногда он прятался у друзей. Приезжал к друзьям,
а на перроне, не скрываясь, маячили чьи-то люди с поднятыми
воротниками. Потом он ехал в машине, пытаясь оторваться
от «хвоста». Чьи это были агенты? Иногда, по-видимому,
агенты ФБР, но чаще, по всей вероятности, агенты Сталина.
«Сталин имеет своих убийц во всех уголках земного ша-
ра...» Так написал позднее яростный противник Кравчен-
ко — благородный Эммануэль Д’Астье де ля Вижери, лау-
реат Ленинской премии мира. Нет оснований ему не ве-
рить...
Кравченко. ...Когда я работал над моей книгой...
в рождественскую ночь 1945 года у меня в кармане не было
и 15 центов, я тридцать кварталов прошагал пешком, и у меня
не было тогда настроения шутить.
Морган. Ах, бедняжка!
Судья. Это был бедный человек.
232
После контракта со Скрибнером, а главное — после выхода
книги жизнь беглеца переменилась. В ноябре 1946 года
Кравченко встретился в гостях с молодой, красивой, талантли-
вой, богатой и образованной Синтией. Она стала его другом,
верной помощницей и матерью двух его сыновей — Тони и
Эндрю.
Французский переводчик и издатель книги Кравченко Жан де
Керделанд вспоминал позднее, как, прочитав за ночь эту книгу
и решившись ее перевести, он полетел в Америку, чтоб повидаться
с автором. Из предосторожности (не излишней) он взял себе имя
Алекс Мартин, а при встрече обнаружил, что автор книги
скрывается под именем Питер Мартин. Встречаться им приходи-
лось в шумных ночных кабаках и дансингах, где загнанный
автор, никогда не выходивший из дому без оружия, чувствовал
себя, кажется, в большей безопасности. Успех французского
издания превзошел все ожидания — пожалуй, ни одна перевод-
ная книга не распродавалась так во Франции. Что до Америки,
то там было продано уже четыре миллиона экземпляров.
Почта приносила в издательство целые мешки писем. Читатели
были взволнованы, и многим хотелось поделиться своими
воспоминаниями и мыслями. Приходили также вырезки из газет,
рецензии. Синтия, знавшая несколько языков, переводила их
для «Тато» (так они по-украински звали Кравченко дома).
Синтия вспоминала, что фельетон «Как был сфабрикован
Кравченко» особенно его задел, потому что, как всякий русский,
он питал безмерный пиетет к Парижу и Франции, к стране
Вольтера, революции, трех благородных мушкетеров... А может
быть, он ощутил в этом фельетоне лихой проработочный стиль
партсобраний и чисток. Пьер Дэкс считает, что в США не
решились бы напечатать такую малообоснованную статью.
Во Франции сочли, что момент самый подходящий. В том,
что статья Томаса появилась лишь через шесть месяцев после
выхода французского издания книги, в самый острый момент,
когда компартия должна была дать бой, по мнению Дэкса,
не могло быть случайности.
Автор этой книжки, не имеющий столь завидной убежден-
ности ни в неумолимой последовательности событий, ни в
политико-экономической подоплеке каждого взрыва на Солнце,
предлагает на рассмотрение читателя свою простенькую
(и ни для кого не обязательную) гипотезу «приуроченности»
или «несвоевременности» статейки Сима Томаса. Издатель
и переводчик книги де Керделанд во вступительной статье
ко второму французскому изданию вспоминает, между прочим,
и о своей милой проделке: «Выпущенное в продажу по случаю
233
1 мая 1947 года первое европейское издание книги
«Я выбрал свободу»... вышло наконец... что мне дало возможность
вскоре послать несколько экземпляров с «дружескими» надпися-
ми Сталину, Молотову и другим крупным деятелям Кремля.
Этого не сделал американский издатель, но и мне от этого было
мало толку: никто из мной облагодетельствованных персонажей
никогда даже не подтвердил получение подарка».
Нашему (но только нашему) читателю нетрудно представить
себе, как через месяц-два после этой проделки «служебный
перевод» или резюме книги легли на стол более или менее
крупного идеологического начальника, который написал на уголке
титульного листа какое-нибудь заклинание. Например: «Отреаги-
ровать». И вот появился материал Сима Томаса. В годы моей
журналистской юности такие материалы называли «контр-
пропагандистскими». Нам доводилось читать похожее о Пастер-
наке и Ольге Ивинской, позднее — о супруге А. Д. Сахарова,
о писателях Говарде Фасте и Эптоне Синклере, а также
о множестве других людей, которые вдруг оказывались разврат-
никами, растратчиками, пьяницами и наймитами иностранного
капитала.
Прочитав статью, Кравченко попросил своего французского
литературного агента найти ему в Париже хорошего адвоката.
В Америке у него к тому времени были замечательная подруга
жизни, сын от нее и много денег. Не было у него настоящего
дела. Процесс против «Леттр франсэз» и стал для него таким
делом (да и остался самым крупным делом его жизни).
Возникло немало препятствий — он преодолел все: у него к тому
времени в Америке было немало влиятельных друзей. Ведь он
был знаменитый автор бестселлера, богатый человек, друг
блистательной и богатой американки.
Это было небезопасное дело. Однажды, вернувшись домой,
он нашел на каминной полке пулю. Как она попала туда,
догадаться не смог никто. Потом позвонил человек, который
дружески уговаривал его отказаться от парижской затеи,—
намекнул на пулю, клялся в своем расположении. Назвался он
русским разведчиком. Кравченко за последние годы привык уже
к осадному положению. Да и вообще он был не из тех, кто
отказывается от начатого дела...
...На заседании суда 1 марта 1949 года мэтр Изар зачитал
несколько свидетельств очевидцев, рассказывавших, с каким
неистовством писал Кравченко свою книгу, как нетерпимо
относился потом к любому отклонению от текста. Среди этих
свидетелей были известный эсер Зензинов, врач Анжелика
Балабанова, несколько русских американцев.
234
Потом снова выступил эксперт «Леттр франсэз» писатель-
коммунист Владимир Познер. На этот раз он доказывал, что
книга является «более антисоветской», чем рукопись. Объяснения
Познера были вполне обстоятельными, но оправданию «Леттр
франсэз» никак не могли помочь.
2 МАРТА 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
В этот день после окончания долгой и бесполезной
экспертизы Познера выступали друзья «Леттр франсэз»,
«свидетели морали» и «свидетели совести». Им нечего было
сказать по существу обвинений против Моргана и Вюрмсера,
кроме того, что оба журналиста — резистанты, благородные
и достойные люди, что их газета представляет собой лучшее,
что есть в интеллектуальной жизни Франции, и что поэтому она
была вправе назвать Кравченко предателем.
Выступил с заявлением шурин Вюрмсера, главный хранитель
Музея современного искусства Жан Кассу, выступал Ив Фарж,
взывавший к памяти мертвых и клеймивший какого-то
предателя-антикоммуниста, который «изобрел отвратительные
рвы Катыни» («Кто защищает эти выдумки,— сказал Ив
Фарж,— тот против Франции»). Обращение Фаржа к памяти
погибших было привычным приемом со стороны обвиняемых,
их адвокатов и свидетелей. Приемы подобного рода редко
бывают оправданными. Помню, когда я двадцать лет тому назад
попытался в своей книжке разобраться, чего было больше от
Рыбинского моря — вреда или пользы, редактор ярославской
областной газеты тов. Иванов немедленно попрекнул меня
памятью товарищей, строивших Рыбинское море, а потом
погибших на войне. Поскольку у меня не было своей газеты,
я не мог публично напомнить, что товарищи, строившие
Рыбинское море, там и остались — на дне Рыбинского моря
и ни война, ни тов. Иванов к этому не имели никакого
отношения...
После Ива Фаржа выступил в тот день Пьер Кот, который
посетил Советскую Грузию, где путешествовал по следам
Александра Дюма. Пьер Кот отметил, что дороги в Советском
Союзе хуже, чем во Франции, зато люди, несмотря на войну,
казались Пьеру Коту счастливыми — «относительно счастливы-
ми» (ибо все на свете относительно, добавляет П. Кот. Впрочем,
неизвестно, с кем сравнивал П. Кот этих людей). Колхозная
235
жизнь показалась французскому путешественнику весьма демо-
кратичной (помня, что все на свете относительно, мы должны
учитывать, что у Пьера Кота могли быть свои представления
о том, какая демократия пригодна для грузинского крестьянина).
У Пьера Кота создалось даже впечатление, что население
«доверяет режиму» и что оно обладает «определенными
какими-то свободами, непохожими, конечно, на наши» («Я готов
согласиться, что концепции свободы там совершенно отличаются
от наших»; в конце концов «...есть ведь не одна концепция
свободы»); здесь можно предположить, что Пьеру Коту даже
пришлось видеть концлагеря, но и они вполне укладывались
в его «концепцию свободы» для русских. Пьер Кот, как и другие
свидетели того дня, не читал книгу Кравченко, однако считал,
что Вюрмсер с Морганом — люди столь достойные, что зря они
худого ни о ком не скажут.
20 СЕНТЯБРЯ 1989 года. МОСКВА.
ВЫСОТНЫЙ ДОМ НА ПЛОЩАДИ ВОССТАНИЯ.
КВАРТИРА ПРОФЕССОРА САЛМИНА
Как и французские специалисты по рабочему
движению, профессор Салмин живет в довольно престижном
доме, однако сравнения с жильем французских деятелей
жилплощадь его, прямо скажем, не выдерживает: две комнаты
на четверых. К тому же Алексей Михайлович Салмин, в отличие
от А. Вюрмсера и Ж. Нордмана, не притязает на роль главного
выразителя интересов рабочего класса. Просто он изучает
Францию и французское общество, работая в Институте рабочего
движения, где заведует весьма важным сектором. Над
специфическим образом мыслей, который прослеживается
в выступлениях защитников «Леттр франсэз» на процессе,
профессору Салмину уже доводилось размышлять.
— О, это ужасный ход сознания,— говорит он.— Человек
загоняет себя в угол, заведомо отказывая себе в выходе.
Виной тут еще отказ от трансцендентной культуры (вот
в католичестве, например, всегда есть эта возможность выхода).
Тут играет роль понятие «общей воли» (помните, наверное,
по «Общественному договору» Руссо?). Это некий категорический
императив, которому не грозит никакой опыт. То, чего человек
не может не хотеть, чего он должен непременно желать.
В принципе там даже какие-то правильные вещи, тем не менее
человек загоняет себя в тупик — с «общей волей» нельзя шутить,
236
не рискуя стать отщепенцем по отношению к правильному
идеалу.
— А стать отщепенцем страшно...
— Да. И вот вам — групповая солидарность, групповой!
конформизм.
— Ну а потом, когда, скажем, набор идеалов оказывается
несостоятельным?
— Выхода нет. Вспомните их переживания в шестидесятые
годы. Они дружно переходят в маоизм.
— Вы знаете, когда читаешь нашу и их прессу конца
сороковых годов, находишь поразительное сходство.
— Конечно. В принципе «левая» культура здесь и там
развивалась синхронно. Типологически все очень похоже. А во
Франции ведь еще республиканская традиция внутренней
дисциплины... В общем, тяжелый случай.
7 МАРТА 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
В этот день мэтр Нордман двинул в ход свою
тяжелую артиллерию. Нетрудно заметить, что защита «Леттр
франсэз» была построена по типу массового митинга: ораторы
один за другим нагнетают атмосферу, после чего выступает
какой-нибудь особо уважаемый человек, слово которого просто
не может быть ложным... Роль такого оратора выпала на
процессе лауреату Нобелевской премии, верховному комиссару
Франции по атомной энергии профессору Фредерику Жолио-
Кюри. Он трижды посещал Россию, и ему было что рассказать ее
уроженцам. Например, в 1936 году ему довелось слышать, как
в Харькове ученые смело высказывались о недостатках в собст-
венной работе. Мол, такой-то, такой-то виноват в недостаточно
высоких показателях. Профессор Жолио-Кюри не уточняет,
сидел ли к этому времени «такой-то» в тюрьме или только гото-
вил «допровскую корзинку». Профессор видел там немало умных
детей. Да и вообще — разве можно критиковать страну, кото-
рую революция застала на стадии средневековья...
237
4 АВГУСТА 1977 года.
ПАРИЖ. ПРИГОРОД МАЛАХОВ
Аргументация профессора Жолио-Кюри напомнила
мне афишки, которые во время самой первой своей поездки по
Лазурному берегу Франции я видел на стенах нескольких комму-
нистических мэрий. Там говорилось, что до революции Россия
отставала от Франции на четыреста лет, а теперь обгоняет ее по
множеству показателей. Откуда авторы этих афишек брали дан-
ные, сказать затрудняюсь.
В ту же пору, помню, мы сидели как-то с двумя
русскими дамами на уютной вилле в парижском пригороде
Малахове и говорили о своих, о русских проблемах. Проблем,
как всегда, хватало. Муж одной из этих дам, красивый француз-
архитектор, испытывал от нашей беседы какое-то смутное бес-
покойство. Видимо, наличие проблем разрушало некое успо-
коительное равновесие его миропорядка (скажем, здесь пло-
хо — там хорошо). В конце концов он счел нужным противо-
поставить этому русскому нытью какой-нибудь позитивный
факт.
— Вот вы говорите...— сказал он.— А между тем один мой
друг, сам очень толковый химик, рассказывал мне, что Мао
Цзэдун и на самом деле замечательный поэт...
Когда я вспоминал позднее эту отчаянную аргументацию,
мне чудилось в ней несомненное родство с показаниями
«свидетелей совести» на процессе «Леттр франсэз»...
7 МАРТА 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Профессор Жолио-Кюри поделился с судом сво-
ими впечатлениями от России военных лет. Правда, он не был
в России в войну, но зато его свояченица Эва Кюри написала
книжку «Вояж среди воинов», и профессор пожелал пересказать
эту книжку, признавая, впрочем, что свояченица, в отличие
от него, не является коммунисткой. Например, заявил он,
Кравченко лжет, говоря о скудости военных лет в России,
потому что, по сведениям Эвы Кюри, неработающие получали
в войну 400 граммов, а работающие — 800 граммов хлеба.
«Даже у нас в стране столько не давали!» — сказал нобелевский
лауреат...
238
В этом месте показаний подал голос деликатный судья
Дюркем.
Судья. Вам, может быть, захотят ответить, что у нас было
еще что-нибудь, кроме хлеба, откуда мне знать?
Язвительная Берберова по поводу этого выступления написала
в своем репортаже, что Ф. Жолио-Кюри следовало бы прислать
на заседание суда свою свояченицу. (Вот уж мэтр Изар не
упустил бы случая напомнить ей о ее восторгах по поводу
генерала Власова!)
Фредерик Жолио-Кюри заявил, что Кравченко не стоило
выпускать такую книгу, раз он видел свою цель в освобождении
русских: ведь русские уже освобождены.
— Замечательный был человек Жолио-Кюри,— сказал мне
мэтр Матарассо, глядя на старую фотографию процесса.—
Очень умный, честный. Ну да, наивный чуть-чуть...
Наивность! Блаженны наивные...
17 АВГУСТА 1989 года. США.
БОСТОН. КОМОНУЭЛС-АВЕНЮ
С ранней юности я слышал об удивительной
чистоте и наивности этого человека. Будто бы он заявил где-то
во всеуслышание (тогда и вслух-то еще не принято было
говорить), что у него опять какие-то несогласия то ли с отдель-
ными мероприятиями правительства, то ли с его курсом в целом.
Может, это тоже была легенда: о его честности и наивности
ходили бесчисленные легенды.
Он был политический поэт. В годы застоя в политике
нелегкая занесла его в парилку восточного берега США,
на унылую окраину Бостона. Здесь я его и нашел...
Мы гуляем вместе с ним в атмосфере парной бани по безрадо-
стной Комонуэлс-авеню и говорим о своем, нездешнем.
— Вюрмсер очень плохой человек,— убежденно заявляет
поэт.— Вот Окуджава благородный человек. Это бесспорно.
Белов и Распутин тоже... Не будем спорить! Кравченко сказал
правду, а эти французы — они заклевали человека. Позор!
Я выслушиваю наивные прогнозы поэта на будущее и напоми-
наю ему о его прекрасной статье про наивность. Когда-то он
написал в эмиграции статью про взрослых людей, которые
кокетливо позволяют себе «ничего не знать», сохраняя
монополию на наивность.
— Наивность! — восклицает поэт.
239
Тут, впрочем, нам приходится временно прервать беседу.
Мы пришли в поликлинику. Поэт только что перенес глазную
операцию, и теперь мы вместе идем к окулисту.
— Собственно, нас с женой должны были уже открепить от
этой поликлиники,— лукаво говорит мне поэт.— Но они еще не
знают, что жена потеряла работу.
Жена потеряла работу, поэт никогда не мог ее найти:
идеальное местечко для поэтов, этот Бостон.
Богатый окулист снисходительно и даже ласково спрашивает
поэта:
— Теперь вы видите получше, дорогой Мэндл?
Врач говорит медленно, точно диктует, чтобы поэт понял эту
их распроклятую нерусскую феню.
— Глаз! — восклицает поэт на своем совершенно неправдо-
подобном (после пятнадцати лет изгнания) американском
языке.— Еще... делать... немножко... более... гуд мор... лечат...
Врач объясняет медленно, ласково, терпеливо:
— Если они увидят, что стало чуть лучше, они снимут это
их пособие для слепых. Надо ли?
— Понимал...— говорит поэт.— Не надо... Больше лучше
не надо...
Мы выходим в уличную парную и возвращаемся к нашим
наивным баранам.
— Наивность... G, ваш Вюрмсер! Такой весь мир в крови
утопит, но только цельность сохранит...
Я чувствую, что запахло стихами... Поэт останавливается,
читает стихи. Прохожие идут мимо: мало ли у них там
в Бостоне сумасшедших.
Наивность!
Хватит умиленья!
Она совсем не благодать.
Наивность может быть от лени,
От нежеланья понимать.
Таким ничто печальный опыт.
Их лозунг — «вера, как гранит!».
Такой весь мир в крови утопит,
Но только цельность сохранит.
Прогрохотал трамвай на Комонуэлс. Неторопливый трамвай,
который, спустившись под землю, становится метропоездом,
а за проезд берет как душанбинский частник...
Ведет!
Не может... Не умеет...
Куда — не знает... Но ведет...
Он даже сам не различает,
240
Где в нем корысть, а где — любовь.
Пусть так. Но это не смягчает
Вины за пролитую кровь.
Вот мы и договорились до пролитой крови — да и как
русским людям забыть про эту невинно пролитую кровь?
Грех — кровь пролить из веры в чудо.
А кровь чужую — грех вдвойне...
— Вот в чем и была вина интеллигенции, и нашей и
французской,— говорит поэт.— Нельзя с легкостью манипулиро-
вать человеческими жизнями. Ради своего душевного и умствен-
ного равновесия. Ради своего душевного комфорта. Но русская
интеллигенция поплатилась за это... А французская?
— Мне показалось, что она вполне довольна собой.
Он снова читает стихи. Теперь о главном — о покаянии.
Прости меня, прости, Россия,
За все, что сделали с тобой...
Какой-то человек остановился. Странный, невиданный
в Европе человек, здесь таких много: поперек себя шире.
Проклятье болезненной толщины. За что? Ну а СПИД им за
что?..
Слоновый человек уходит, переваливаясь, не дождавшись
развития событий. Да и откуда ему понять про нашу вину —
в чем мы виноваты? Бедолага-поэт, отбывший когда-то ссылку,
а потом новым страхом заброшенный на край света, по иронии
судьбы называемый Новым. И я, разве что юным студентом или
молоденьким солдатиком в последний раз кричавший «ура».
Давно, конечно, было, а все же ведь и это мое «ура» переводилось
на язык жестов как «бей». Они сами и переводили, бережливые
наши чуткие садовники...
МАРТ 1949 года. ПАРИЖ.
ОСТРОВ СИТЭ. ДВОРЕЦ ПРАВОСУДИЯ
Процесс подходил к концу. Снова и снова
возвращался к барьеру В. Познер с клочками текста и словами,
доказывавшими, что автор был скорее американец, чем русский
или француз. Снова шли поспешные переговоры на скамье
обвиняемых, снова и снова судья Дюркем требовал прекратить
митинг...
241
Судья. ...Я повторяю в десятый и двадцатый раз, что
здесь не митинг и не политическое собрание. Будем вести
процесс как положено...
Начались длинные заключительные речи адвокатов. Самой
интересной из них была, конечно, речь мэтра Изара. За семь лет
до знаменитого доклада Хрущева заключительная речь Изара
свела воедино многочисленные письменные и устные показания
о жизни страны, в которой один на дюжину сидел в тюрьме или
в лагере, а стало быть, и вся семья его была на подозрении.
Мэтр Изар доказывал, что измышления против Кравченко были
лишь одним из симптомов недопустимой системы охаиванья
и клеветы, когда не нужны доказательства и документы,
когда всех, кто не с нами, можно в любой момент объявить
предателями. Система эта изгоняет (во Франции, как и везде)
свободу дискуссии, свободу выражения, устанавливает диктатуру
клеветы как трамплин для политической диктатуры. Во имя
защиты самого духа французской свободы мэтр Изар требовал
осуждения обвиняемых. Завершая тему предательства, он
воскликнул: «Предал ли Кравченко свое советское отечество
или это Сталин предал обещания социализма? Один из них
двоих, без сомнения, предал. Но кто?»
«Господин Кравченко сказал, что он выбрал свободу,—
закончил мэтр Изар.— Ну так вот, на этом процессе свобода
выбрала его, чтоб защищать ее дело».
Заключительное слово прочих адвокатов было тоже весьма
длинным. Мэтр Нордман повторил обвинения против Кравченко,
не сообщив никаких фактов в оправдание своих подзащитных.
Остальные адвокаты «Леттр франсэз» совершали экскурсы
в русскую литературу, сравнивали Кравченко с Горьким или
Гоголем, но так и не подошли к обоснованию обвинений
Сима Томаса. Корреспондент «Русской мысли» так излагала
в своем репортаже выступление молодого коммуниста адвоката
Брюгье:
«— Смотрите на него,— сказал Брюгье (хотя смотреть было
не на кого, так как Кравченко на заседании отсутствовал),—
он совершенно один!.. Против него — генерал Руденко и другие
свидетели, и весь СССР, который поражает нас силой,
молодостью, здоровьем и искренностью! Там не формальная
свобода, которую якобы выбрал Кравченко,— там реальная
свобода!
Затем, сделав небольшую паузу и слегка возвысив голос,
Брюгье прочувствованно прочел длинную цитату из Сталина».
На двадцать третьем заседании суда (16 марта) после
окончания речи бывшего социалиста адвоката Блюмеля говорил
242
прокурор Куассак. Он сказал, что подобно Нюрнбергскому
процессу, этот процесс «должен быть причислен к событиям
международного значения, которые вызывают жестокие потрясе-
ния мирового сознания и совести, которые дают новый толчок
нашему развитию». Именно поэтому процессу была придана
такая гласность — чтоб факты и события, освещенные на
процессе, могли через головы тех, кто присутствовал на суде,
дойти до других людей, которые сами будут судить о них.
В то же время прокурор благоразумно предупредил, что речь
вовсе не идет о политическом процессе, ибо французский суд
не может выносить никаких суждений о стране-союзнице,
стране, которая даже французской конституцией была определе-
на как «свободная страна» (в том месте, где говорится о победе
«коалиции свободных стран» над фашизмом).
Наконец Кравченко произнес свое последнее слово. Он
просил суд восстановить его доброе имя.
«Настало время для западного мира,— сказал Кравченко,—
смело взглянуть правде и фактам в лицо, трезво оценить всю
серьезность положения.
Мир не может быть свободен, пока люди на шестой его
части — народы моей родины — живут в условиях диктатуры,
насилия, жесточайшей полицейской власти, какую когда-либо
знала история.
Поэтому неправда, что всякий народ имеет то правительство,
которое он заслуживает! Эта формула верна только для тех
стран, где существуют демократические, а не тоталитарные
порядки.
Эта слишкохм часто употребляемая формула натравливает
западные народы против народов России... Указанная формула
специально придумана лицемерами, чтобы умыть руки от неверно
называемого... «русского вопроса».
Есть еще одна высокомерная теория у некоторых политиков
Запада, утверждающих, что коммунизм, дескать, годится
и приемлем для народов России, но неприемлем для народов
западных стран.
Однако эти псевдотеоретики забывают, что коммунизм как
теория родился на Западе, что он... уже вошел в жизнь их
стран...
Я не боюсь борьбы! Я ищу борьбы. Я хотел дискуссии на
суде, честной и политически принципиальной, по существу
книги... и по поводу моего поступка...
Вы... должны решительно восстановить мою честь... и оградить
меня от грязи и клеветы... Право всех людей — защищать свою
честь — а мое в особенности,— потому что за эту свободу я за-
платил дороже, чем кто-либо».
Произнесли свое последнее слово и обвиняемые. Клод Морган
ссылался на «вершины мировой литературы», к которым подня-
лись такие советские книги, как «Поднятая целина» и «Танкер
«Дербент».
Приговор суда объявил газету «Леттр франсэз», Клода Морга-
на и Андре Вюрмсера виновными в диффамации. Они должны
были уплатить штраф и возместить расходы Кравченко. После
кассационной жалобы (и, вероятно, немалого нажима) новый
суд присудил виновных к уплате символического одного франка.
«Пятнадцать миллионов узников» за один франк, как образно
сформулировал этот итог процесса историк Гийом Малори.
25 ИЮЛЯ 1989 года.
ПАРИЖ. XIII ОКРУГ. УЛИЦА НАСЬОНАЛЬ
Было уже поздно, пора было спать, но я все еще сидел
перед телевизором и бессмысленно нажимал на кнопки дистан-
ционной настройки: 7-й канал, Би-би-си, «сине-фоли», Люксем-
бург, ФРГ, Рай-уно... Везде в тот вечер была какая-то ерунда.
Зазвонил телефон. Мужской голос сказал по-английски:
— Говорит Эндрю Кравченко.
Сын В. А. Кравченко звонил откуда-то из Штатов... Да, ему
передали мой телефон. Он звал в гости, сказал, что у него есть
интересные фотографии, письма, какие-то рукописи. Проговори-
ли целый час — чертову кучу денег должен стоить такой разговор
через океан.
Повесив трубку, я еще долго не мог уснуть, вспоминая, что
было после процесса. ...Кравченко улетел в Америку. Кроме Син-
тии при нем был теперь его новый адъютант Саша Зембулатов.
В первое время еще шла волна от процесса. Почта приносила
письма, да и пресса не сразу успокоилась. Один из последних
залпов дала московская «Литературная газета». 14 апреля «Ли-
тературка» напечатала статью о «неоспоримом провале амери-
канской провокации». Статья, подписанная В. Рудным, сообщала,
что «сюжет» книги Кравченко был заимствован из книги, выпу-
щенной ведомством Геббельса в 1941 году» \ что, «прижатый к
стене свидетельскими показаниями, истец вынужден был приз-
нать себя агентом американской разведки»; что «к концу процесса
предатель был уже полностью деморализован и раздавлен и его
собственные адвокаты то и дело раздраженно кричали: «Болван,
болтает не то, что надо!»
1 См. сноску 1 на с. 111.
244
Дальше шли еще более красочные описания:
«Кравченко метался на суде, как затравленная крыса, пищал
и в страхе озирался по сторонам... На авеню Иена ждала... распра-
ва с провинившимся холуем. Наконец во избежание новых скан-
дальных разоблачений американцы вообще убрали его из зала
суда».
Автор статьи сообщал, что рукопись являла собой странное
зрелище: «...на многих страницах такие пометки-директивы аме-
риканской секретной службы: «Делайте все, что возможно, по
материалам 7-го управления об экономике, производстве, поли-
ции и т. д.».
Читая подобную статью, скромные парижские публикаторы
Сима Томаса могли только завидовать творческой свободе, фан-
тазии, раскованности и профессиональной безнаказанности мос-
ковского автора. Но Кравченко знал, что в Москве процесса о
диффамации ему не обломится. Сидя в штате Вермонт с Синтией
и Сашей, он работал теперь над новой книгой — «Я выбрал пра-
восудие». Сюда он включил некоторые материалы, не использо-
ванные на процессе, показания его свидетелей, речи адвокатов и
собственные рассуждения. Была здесь и глава, вызвавшая немало
споров среди его друзей и, возможно, помешавшая успеху его
новой книги в Америке. Вот как пишет об этом Синтия Эрл: «Тато
особенно мучился над последней главой. Она была для него самой
важной в книге. Он считал, что должен высказать это американс-
ким лидерам...» И в другом письме Синтии — о том же: «Конечно,
в книге «Я выбрал свободу», написанной сразу после его побега,
да еще успешного, в мир, который виделся ему издали свободным,
совершенным... там была такая струя оптимизма и безграничной
веры. Но когда он разглядел многочисленные изъяны этого мира,
в который он вошел, он все реже и реже (так мне кажется) срав-
нивал его с тем мрачным миром, из которого он ушел».
Последняя глава, о которой идет речь, содержала довольно
суровую критику... Соединенных Штатов. При более вниматель-
ном взгляде на героя парижского процесса это нас удивлять не
должно. Кравченко был, как верно отметил в заключительном
слове на процессе мэтр Изар, «человек левых взглядов». Он воспи-
тывался как коммунист да и в Америке формировался под влия-
нием старших своих друзей-социалистов: социал-демократов и со-
циалистов-революционеров. Американская действительность не
привела его в восторг, да и американская внешняя политика вов-
се не показалась ему разумной. «Неограниченный капитализм...—
писал он в своей второй книге,— это анахронизм, уцелевший
из прошлого века. Мы вступили уже на путь иного образа жиз-
ни...» Кравченко возмущался, например, назначением богатых ка-
245
питалистов на высокие дипломатические посты, где они должны
были представлять США. Он призывал американцев «прислу-
шаться к разумным голосам, доносящимся из Европы» (они доно-
сились до него, вероятно, из оживленного салона на Сан-Жермен,
из компании единомышленников последовательного социалиста
Изара). Советский изгнанник клеймил философию бизнеса, про-
низавшую внешнеполитические связи США, предостерегая от
урона, который могут нанести слаборазвитым странам вторгав-
шиеся туда беззастенчивые бизнесмены, призывал дать землю
безземельнььм итальянским крестьянам... Много неприятного ска-
зал он в этой главе своим влиятельным американским друзьям,
разоблачил гонку вооружений, борьбу против антиколониальных
движений...
Трудно было, конечно, ожидать, чтоб советы его возымели
успех в Белом доме или принесли успех новой книге.
В штате Вермонт и в летнем доме на Сосновом острове Крав-
ченко писал, беседовал с Сашей и Синтией, играл с детьми или
готовил украинский борщ. Он любил стряпать. Синтия и Саша
смеялись без умолку, пытались втянуть его в игру — он был
серьезен, мрачноват. «Он был, как скала»,— вспоминает его
сын.
Потом он уехал в Перу, прихватив с собой своего верного ору-
женосца Сашу. Вот как вспоминает об этом Роман Гуль:
«Он был очень русский... В его характере была одна подавляю-
щая все русская черта — самохвальная уверенность, что все
кругом дураки, а я умный. Любимой темой его разговоров было:
«Да разве американцы умеют работать? Да ни черта не умеют!
Вот я им покажу, как надо работать!» И в своей самохвальной
уверенности Кравченко был неколебим.
Вместо того чтобы на свои миллионы начать какое-нибудь
нормальное дело, он сразу бросился «делать из миллионов мил-
лиарды», в полной уверенности, что он их сделает и всем амери-
канцам «утрет нос».
Посему он бросил Нью-Йорк и уехал в Перу на разработку
серебряных руд».
Гораздо больше, чем пространные воспоминания Гуля, объяс-
нила мне одна фраза из рассказа Мишель Монье-Изар, не раз
бывавшей в семье Кравченко в Нью-Йорке:
— Маленький Тони, играя, все время повторял какое-то
странное слово — тюб... тюб, тюб... Я спросила, что это. Оказа-
лось, что это значит «труба».
Поразительная за этим стоит картина. Играя со своим аме-
риканским первенцем, Кравченко рассказывал ему про трубо-
прокат, «Главтрубу», «Трубосталь»... Ему не миллиарды были
246
нужны сейчас, ему нужна была деятельность. Ему необходимо
было постоянное самоутверждение и самооправдание. Да, выб-
ранная им свобода, судя по новой книжке, предстала вблизи не
столь роскошной и величественной, какой открывается с моря
пассажиру, подплывающему к Нью-Йорку, будь то нищий италь-
янский эмигрант или затравленный советский инженер... А в Перу
он был счастлив — впервые, наверное, со времени побега. Здесь
была простота общения, здесь была работа, которая ему нрави-
лась (инженерская и организаторская), была чудесная страна,
не похожая на тесную нью-йоркскую парную, были горы... Эндрю
Кравченко показывал мне фотографию: Кравченко, в плаще, в ре-
зиновых сапогах, что-то стряпает на костре. А рядом прелестные
перуанские ребятишки. Пляж, океан, свобода... Вероятно, он
варил борщ для этих вечно голодных обитателей пляжа, кормил
их — и был совершенно счастлив. Подобную сцену описывает он
и в письме, написанном уже после первых его неудач и финансо-
вых потерь, нового возвращения и новых поездок... А прогореть
ему было нетрудно: он был безудержным, порывистым и не знал
бесчисленных ухищрений американского бизнеса. Он был не
бизнесмен, не торговец — он был, увы, волевой и нерасчетливый
советский директор. Саша Зембулатов вспоминал, что ему мож-
но было продать даже камни на дороге...
15 МАЯ 1957 года.
ПЕРУ ЛИМА. ОТЕЛЬ «БОЛИВАР»
«Как вы знаете, мне очень нравится в Перу, где у
меня много друзей и много работы, которая мне по-настоящему
приятна. Уже проясняется, что я достигну теперь гораздо лучших
результатов, чем раньше, и не только верну свои потери, но и
продвинусь вперед... может, это просто удача, а может, результат
напряженной работы... Крупные киты уже стараются заключить
со мной сделки... Все это доказывает, что то, что было только
моим убеждением — большие возможности в Перу,— существу-
ет в реальности...
У нас в Лиме теперь осень, но погода чудесная, и каждое вос-
кресенье я хожу на пляж, плаваю, греюсь на солнышке и стряпаю
обед, и не смейтесь надо мной — если бы вы попробовали, вы бы
удивились».
(Из письма В. А. Кравченко в Вашингтон его
друзьям сенатору Карлу Э. Мундту и его жене
Мэри. Предоставлено автору сыном В. Крав-
ченко Эндрю.)
247
3 ИЮЛЯ 1957 года,
ПЕРУ ЛИМА, ОТЕЛЬ «БОЛИВАР»
«...Я вернулся грязный из Сиерры, весь искусанный
какими-то тварями, но нашел ваше теплое письмо с добрыми
словами, и мне сразу стало лучше... Я был очень занят, и у меня
два раза были грипп и лихорадка из-за плохой погоды и усталос-
ти.
Ваш диагноз — что я «в песенном настроении» — совершенно
правильный. Я и в самом деле всерьез влюблен, но только сразу
в двух очаровательных дам и не могу решиться, какую из них
сделать королевой моего сердца, потому что обе они совершенно
очаровательны, одна — скорее в пляжном смысле, но зато вторая
больше похожа на меня, пытлива и любит всякие изыскания.
Первая — Тики, ей 9 лет, а вторая — Сусси, ей 6. Я часто
хожу с ними на пляж по воскресеньям, и мы вместе готовим
великолепный обед, и, конечно, у нас много помощников. Не
могу гарантировать вам качество блюд, но, по крайней мере, у
нас всегда горячая еда... вот вам и причина, отчего я «в песенном
настроении».
...Я вернулся из Чили, где пробыл неделю со своими геологами
и инженером. Мы посетили мои медные месторождения, которые
я приобрел,— они расположены в шести часах езды от Антофа-
гасты на высоте 2200 метров над уровнем моря. То, что мы увиде-
ли, произвело на нас сильное впечатление, потому что ясно, что
это большое и богатое месторождение. Результаты проб показали,
что там 4 процента меди... в каждой тонне концентрата 5 граммов
золота и 6 унций серебра, это кроме меди...
Надеюсь предварительные изыскания закончить через два
месяца...»
(Из письма В. А. Кравченко в Вашингтон его
друзьям Карлу Э. Мундту и его жене Мэри.)
Во время одного из возвращений в Нью-Йорк Кравченко и
Саша застали в гостях у Синтии младшую дочь мэтра Изара Мад-
лен. Возможно, еще со времен процесса она затаила влюблен-
ность в веселого русского адъютанта Кравченко, но тогда Саша
только вступал в свой первый брак (который не был еще расторг-
нут). В Нью-Йорке молодых людей больше ничто не сдержива-
ло, и вскоре беспечный Саша вступил в свой второй брак. После
урегулирования нелегких формальностей в Старом Свете супруги
взяли резистантскую фамилию мэтра Изара — Вильмэн.
(«Вы-то знаете, что за человек был Саша?» — спросил меня
однажды его обаятельный, улыбчивый сын — Серж Вильмэн...)
248
Вряд ли Кравченко следил в это время за жизнью Франции.
Вряд ли узнал он, как мучается его противник Клод Морган,
глядя на советские танки из окон будапештской гостиницы («О,
какая боль! Какая боль...» — писал Морган в дневнике). Не знал
он, наверное, и того, какой глубокой перестройке подвергаются
взгляды Жана Кассу, Д’Астье де ля Вижери, Веркора и прочих
его противников. Но зато он напряженно следил за Москвой,
откуда прозвучал доклад Хрущева, повторивший (хотя и не все
еще) откровения Кравченко о сталинизме. Кравченко возлагал
большие надежды на Хрущева. Вот как вспоминает об этом Роман
Гуль:
«Он ненавидел Сталина, как только можно было ненавидеть.
Но Сталина нет, и, будучи долголетним партийцем и психологи-
чески совершенно «советским человеком», к Хрущеву он уже
никакой ненависти не питал.
— Вы не понимаете Хрущева,— говорил он мне,— а я его
знаю, я его понимаю. Никита неплохой, вот вы увидите, он повер-
нет к народу7, даст свободную и хорошую жизнь.
Никаких возражений Кравченко не хотел слушать».
...Снова Перу. Удачи и неудачи, подъемы и спады. Какой-то
работяга в кабаке в Лиме говорит Кравченко, что он видел в горах
серебро. Кравченко срывается с места. Авантюра! Поиски! Вер-
нувшись из экспедиции, он отсылает пробы в Нью-Йорк.
И вот долгожданный ответ: серебро есть! Немедленно купить!
Снова надежда, подъем — дело идет! А потом... Он опять
забыл, что живет среди акул. Вернее, не мог поверить в эту баналь-
ную истину. «...В одно прекрасное утро,— пишет Роман Гуль,—
«акулы американского капитализма», которым В. А. хотел «уте-
реть нос», проглотили его, как мелкую плотву».
Кравченко еще бывает (хотя все реже и реже) в летнем доме
на Сосновом острове. Здесь, сидя на причале над озером, он смот-
рит на трепет прибрежных берез и покрывает своим ровным по-
черком целые страницы. Будет еще одна книга, вернется его
былая парижская и нью-йоркская слава, а главное — снова будет
битва. О чем будет новая книга? О неизбывном русском горе,
конечно. «О чем плачут березы...»
Бывшая актриса МХАТа В. П. Булгакова пересказала ему
слухи о его родных — все как будто погибли в лагере. О том же
говорит беглая полька из лагерей. Его вина-
Кравченко снова уезжает в Перу. Синтии приходится думать
о сыновьях, об их безопасности. Жить под фамилией Кравченко
им не безопасно. Все еще красивая, Синтия выходит замуж за
господина Эрла. «Это был брак безопасности»,— говорит Мишель
Монье-Изар. Это подтверждает и Эндрю Кравченко.
249
«Русское упрямство и тут Кравченко ничему не научило,—
ворчит Гуль.— Он один начал эксплуатировать какой-то не-
большой заброшенный рудник, причем занял деньги и у Е. Л. Хап-
гуд, уверив ее, что это дело «изумительно пойдет».
Легко догадаться, что он прогорел снова. Потерял и свои
деньги, и чужие. Пришли болезни. Мучила эмфизема легкого, он
подолгу лежал в больнице. Сохранилось трогательное письмо из
больницы. Синтия (он называет ее во всех письмах «Корочка» —
и впрямь ведь она была корочка-щепочка в сравнении с днепро-
петровскими женщинами) принесла ему цветы в больницу. Он
пишет, что палата его уже завалена цветами от верной Е. Л. Хап-
гуд, что ему не нужны сейчас цветы...
Сохранилось его письмо к младшему сыну на день рождения.
В нем ущемленная гордость отца и мужчины, пронзительная
грусть:
«...Жаль, что не могу отослать тебе в этом году на день рожде-
ния ни Бруклинский мост, ни Эмпайр-Стэйт-билдинг, ни золотой
кадиллак со специальным устройством для решения математи-
ческих задачек и подсказок по орфографии. Просто надеюсь,
что тебе понравится то, что пришлось послать тебе взамен. 1 де-
кабря я подниму стакан вина за твое здоровье и твое счастье.
Хочется надеяться, что ты будешь счастливей меня.
Привет и пожелания всему семейству. Напиши мне про себя,
когда будешь в настроении, как захочешь — в стихах или прозе.
Еще раз — с днем рождения, милый Агу! С большой любовью.
Тато».
Роман Гуль дает вполне убедительную, хотя и неполную
версию последних дней Виктора Андреевича Кравченко (непол-
ную, конечно, не только потому, что было еще множество не
перечисленных Гулем невзгод — физических и моральных, но и
потому еще, что мы не можем знать всего):
«Кравченко вернулся в Нью-Йорк. Он был в отчаянии. И от
потери собственного капитала, и от потери денег Е. Л. Он почти
не выходил от Е. Л., рассказывая ей все подробности своего
неожиданного прогара, причем в одном из разговоров Е. Л. впер-
вые услышала: «Остается только пулю пустить в лоб». Е. Л. его
успокаивала, но чем и как можно было успокоить?
Помню, при мне как-то Кравченко рассказывал, как его «успо-
каивал» адвокат: «Вы не отчаивайтесь, Виктор, у вас такое боль-
шое имя во всем мире и в Америке, что, если вы откроете какое-
нибудь дело, оно прекрасно пойдет. Например, ресторан!»
От такого совета Кравченко приходил в совершенное бешенст-
во: «Виктор Кравченко открывает ресторан! Этого еще не достава-
ло! Я лучше пулю пущу в лоб!»
250
(Надо сказать — это тоже совершенно советская реакция:
и русские князья открывали в США рестораны, и полковники
садились во Франции за баранку такси.)
«После конца Никиты Кравченко помрачнел,— пишет Гуль,—
но вскоре стал строить новые иллюзии: Леня Брежнев. Его Крав-
ченко знал, с ним вместе учился, был на «ты». И вот Леня теперь
повернет к народу. Когда же в Москве поставили процесс Синяв-
ского — Даниэля, надо было видеть, как это подействовало на
Кравченко.
— Стало быть, ничто не меняется?! — повторял он.
На него, уже нервно разбитого... этот процесс подействовал
потрясающе. Стало быть, он снова ошибся в своем прогнозе
«оттепели»?
Кравченко все мерещилась некая иллюзорная перспектива:
СССР пойдет направо, а США немного влево, и вот тогда наступит
настоящее дружественное сосуществование двух великих сверх-
держав. И он, Кравченко, сыграет тут не последнюю роль, ибо
хорошо знает и СССР и США. И именно он подаст эту «идею».
Об этом он и писал куда-то (кажется, в госдепартамент). Но
нелепые его иллюзии рассеивались на глазах, и Кравченко впадал
в черный пессимизм.
Как-то Е. Л. расстроенно сказала мне:
— Был Кравченко и спросил меня: «Знаете, сколько у меня
денег в банке? Всего-навсего... 250 долларов! И это все!»
Чуя недоброе, Е. Л. просила его пожить эти дни у нее.
Кравченко согласился, и каждый день разговоры его кончались —
«пулю в висок». Е. Л. пыталась его как-то успокоить. Но разве
можно было его успокоить?!»
19 АВГУСТА 1989 года.
США. ШТАТ МАССАЧУСЕТС. АВТОСТРАДА
Мы мчимся на север от Бостона. Братик Сашенька
везет меня на своем «олдсмобиле» к Эндрю Кравченко на Сосно-
вый остров. По сравнению с французскими (не говоря уже о за-
падногерманских) автострады в США — спокойные и медлен-
ные (55 миль в час, больше не положено). Я вычитываю из аме-
риканского путеводителя всякие памятные события, связанные с
надписями на указателях (что ж еще увидишь вдоль автостра-
ды?). По большей части — из истории борьбы с индейцами за
эти леса и долины. Вот здесь доблестная американка, захваченная
в плен индейцами, ночью перебила спящих своих пленителей и
сняла с них скальпы: браво, Ханна Дастин! А здесь вот умираю-
251
щий индейский вождь проклял грядущие поколения белых завое-
вателей. «Как видим, проклятие не имело силы!» — восклицает
бодрый автор путеводителя.
Мы заводим с Сашком разговор о девушке-эмигрантке из
соседнего Линна, которая недавно бросилась в канал. Красивая
медичка из Москвы, пела под гитару, мечтала о чем-то таком,
чего не бывает на свете,— Старый он или Новый...
— Разлука с родиной была всегда тяжким наказанием,—
повторяю я старый урок.— Люди попробовали этим способом
облегчать себе жизнь. Ну что, легче вам, люди? Скажите правду!
Сашеньке мои уроки давно надоели.
— Дочитывай про своего Кравченко,— говорит он.
Я дочитываю печальную историю по Роману Гулю:
«В роковой день самоубийства к Е. Л. приехал Питер (муж
ее дочери...). И вдруг Кравченко после обеда говорит, что ему
надо пойти к себе на квартиру на час-другой по делам. Все это
было бы ничего, но, когда он стал прощаться с Е. Л., она почувст-
вовала какую-то странность, до того нежно и долго он целовал
ее руки и все благодарил. Потом вдруг сказал: «Давайте поцелуем-
ся!» Поцеловались... Е. Л. почувствовала что-то неладное и попро-
сила Питера проводить Кравченко домой и побыть у него час-дру-
гой. Тот, конечно, согласился, и они вдвоем вышли из квартиры
Хапгуд.
Как только они вошли к Кравченко, Виктор Андреевич попро-
сил Питера пойти купить ему чистилку для трубки — он забыл
ее купить. Ничего не подозревая, Питер пошел купить чистилку,
а когда вернулся — перед портретом матери Кравченко лежал
на полу мертвый с простреленным виском...
В своем завещании Кравченко просил, без всяких церковных
обрядов и без гражданской панихиды, сжечь его тело, а урну с
пеплом сохранить и, когда будет возможность, отвезти в Россию
и бросить в воды любимого им Днепра.
Е. Л. Хапгуд в 1974 году умерла. Урну она закопала в саду в
Питерсхеме. Но дети перепродали усадьбу, и урна с пеплом так
и осталась закопанной где-то в саду».
Мы молчим, глядим на дорогу.
— Отчего же мы не едем в Питерсхем? — спрашивает Са-
шенька.
— Он был не в курсе, Гуль. Синтия перезахоронила урну.
Могила — на Сосновом острове.
— И что, ты заберешь ее в Россию?
— Вот слушай некролог Гуля: «...несмотря на внешнюю
грубоватость и резкость, по душе был хорошим человеком. Пусть
сбудется его последняя воля, чтоб прах его поплыл в любимом
252
Днепре, чтоб настала когда-нибудь в России та свободная и при-
вольная для народа жизнь, чего он так хотел и во что не переста-
вал верить... даже вопреки очевидному. Народ свой он любил
страстно и искренне».
19 АВГУСТА 1989 года.
США. НОВАЯ АНГЛИЯ. СОСНОВЫЙ ОСТРОВ.
ДОМ ЭНДРЮ КРАВЧЕНКО
Эндрю встретил нас на берегу озера с экзотическим
индейским названием — невысокий светлоглазый блондин, ка-
жется, ничего общего с В. А. Кравченко. Нет, нет — вот они, две
резкие складки по сторонам рта. И этот взгляд, описанный Жаном
де Керделандом: то дружелюбный, открытый, то вдруг сдержанно-
недоверчивый.
Мы сели в моторку и через несколько минут путешествия в
виду великолепных гор, покрытых темным лесом, подошли к
длинному пирсу. Вот и стол... За этим столом сиживал В. А. Крав-
ченко, когда жил на острове.
Дом странный, даже несколько домов — простых дачных
строений, разбросанных в зарослях на берегу. Мастерская, гос-
тиная, кухня: сын, как и отец, увлекается живописью.
Мы гуляем под деревьями, потом, усевшись друг против друга,
беседуем в тишине. Эндрю говорит о матери — о ее первом не-
удачном браке, о ее свободолюбии и ее поисках. У нее был воз-
любленный — русский жокей, а в ноябре 1946 года она познако-
милась с Виктором. Они умели уважать друг в друге свободолю-
бие, ценить вкус к приключению, к тайне. Эндрю вспоминает о
поздних годах матери, о ранчо в Аризоне, где у Синтии было
много работников-индейцев и где она начала изучать язык апачей.
А отец... Он был человек чести. Но он был странный, очень чо-
порный человек, со строгими правилами. Как он рассердился
однажды, когда на прогулке в Сентрал-Парк им навстречу попал-
ся немолодой человек, евший на ходу мороженое...
Виктор любил строгие костюмы, черные шляпы, и Дэвид Хап-
гуд сказал ему однажды, что он похож на пастора.
— Хапгуд... Елизавета Львовна любила его?
— Думаю, да... А вот посмотрите...
Я листаю томик Тургенева на английском, подаренный Викто-
ром сыну. Фразы о смерти, о храбрости, о русском характере
педантично подчеркнуты синим и красным карандашом. Предис-
ловие Эдмунда Уилсона снабжено пометками на полях: «Идиот»,
«Чушь». Эдмунд Уилсон был одно время другом Набокова, но
253
думаю, что дерзостные эти пометки инженера Кравченко Набоков
бы сумел оценить.
— Он звал меня Агу,— говорит Эндрю.— Это, кажется, на
языке апачей?
— Нет, нет. Это у нас так младенца забавляют...
— А что такое Корочкины? Мы все были Корочкины.
А мать — Корочка...
Приходит Линн и зовет нас закусить на причале. Мы проходим
через лесок, где Эндрю указывает мне могилы. Вот здесь — Син-
тия, здесь — старший брат Тони: увлекался восточными учения-
ми, был хрупкий, ранимый... Потом покончил самоубийством.
— Как Виктор...
— Да. Как Виктор...— неуверенно говорит Эндрю.— У меня,
впрочем, три гипотезы гибели Виктора. Одна из них, конечно,
самоубийство. Но полицейские отчеты производят странное
впечатление. Пистолет отчего-то оказался у мертвого в кармане...
— Мне-то версия Гуля показалась вполне убедительной.
— Вот здесь... где этот дикий камень,— говорит Эндрю.—
Здесь зарыт прах отца...
Мы идем на причал. Линн накрывает на стол. С нами еще одна
молодая женщина. Она неотступно присутствует при всех наших
разговорах.
— Карен — мой адвокат,— говорит Эндрю.
— Да, да... Я уже слышал, что американцу спокойнее, когда
при нем адвокат.
— У меня даже несколько адвокатов,— говорит Эндрю.—
Ведь у меня еще ранчо в Аризоне, дом в Санта-Фе и так далее.
Мало ли что случится?
— Понятно,— говорю я.— Не спи — обворуют.
— Это русская пословица?
— Польская. А что — нравится?
С причала нам видны деревья, под которыми зарыт прах Вик-
тора Кравченко.
— На этом камне,— говорит мне Эндрю Кравченко,— я хо-
чу написать одно только слово — «свобода».
Я смотрю под сень берез, туда, где камень, и мне вдруг ста-
новится грустно. Вот ты и обрел свободу, Виктор Андреевич
Кравченко. Тебе не нужны теперь адвокаты, не нужны ни боль-
шие, ни малые деньги, не нужен пистолет. Не нужно прятаться,
не нужно ничего никому доказывать... Даже вспоминать ни о чем
не нужно.
— Надо отвезти его на родину...— говорит Эндрю.— На
Днепр. Он же просил. Как ты думаешь, это станет возможным?
— Я думаю — да.
254
ЗАКРЫВАЯ КНИГУ
Книга Бориса Носика посвящена чрезвычайно интересной странице послевоен-
ной истории — так называемому «процессу Кравченко», или, точнее, процессу
«Виктор Кравченко против «Леттр франсэз», состоявшемуся в Париже в начале
1949 года. Мало кому известный в нашей стране и основательно забытый на
Западе, этот процесс явился важным рубежом не только в истории взаимоотно-
шений бывших союзников по антигитлеровской коалиции, но и в истории само-
познания западной интеллигенции, ее затянувшегося «романа» со сталинизмом.
Без особого преувеличения можно сказать, что парижский процесс оказался ред-
чайшим в истории событием, когда всемирно-историческая драма, трагикоме-
дия борьбы культур, но также и живых людей оказалась разыгранной не на
сцене театра, а в реальном судебном присутствии с соблюдением трех класси-
ческих «единств».
В отличие от других громких процессов, таких, как знаменитые московские
или, по-своему, Нюрнбергский, итог этого действа fie был предопределен: обстоя-
тельство, держащее в напряжении даже сегодняшнего читателя стенограмм,
наперед знающего развязку.
Автору книги удалось, на мой взгляд, в полной мере воспользоваться преиму-
ществами материала, избежав соблазна выстроить сюжет по законам детектив-
ного жанра, несмотря на целый ряд более или менее серьезных к тому поводов (со-
хранявшаяся долгие годы анонимность таинственного автора пасквиля, вызвав-
шего судебное преследование, причины пересмотра приговора апелляционным
судом, обстоятельства смерти главного героя и др.). Тайнам секретных служб и
законспирированных организаций автор предпочел тайну культуры и в конечном
счете человеческой души. Подлинным антагонистом истца Кравченко (от-
нюдь не идеализируемого автором в том или ином смысле: живого, не всегда сим-
патичного, но и отнюдь не «инфернального» человека) оказывается в книге не
«система» («Леттр франсэз», ФКП, НКВД, Коминформ и т. д.), а личность: писа-
тель и журналист Вюрмсер. Личность, правда, иногда до неразличимости
сливающаяся с «системой», с другими «такими же» личностями.
Процесс Кравченко — одно из «белых пятен» не только истории, но и нравст-
венного миропорядка, которые еще предстоит по-настоящему осмыслить как в
России, так и на Западе. Было очень важно поэтому, возвращая этот процесс
нашей и европейской культуре, точно расставить акценты, не позволяя конфликту
судеб превратиться исключительно в спор тактических ухищрений, в шахматную
партию, в которой белые начинают и выигрывают.
Б. Носик создает запоминающийся, вполне узнаваемый любым историком
образ Парижа 1949 года. Вполне «работает» в книге метод постоянного смещения
временных рамок: его традиционность для документальной прозы искупается
личным присутствием автора в обоих временных пластах, особенно, конечно,
в позднем, когда он берет на себя уникальную роль интервьюера еще здравствую-
щих участников и свидетелей событий сорокалегней давности.
В книге даются вполне точные характеристики известных исторических лиц,
в ней нет непроверенных фактов, гипотез, которые выдавались бы за очевидные
истины. Превосходно написанная, книга способна в равной степени увлечь и
неподготовленного читателя, и историка-профессионала. Она удовлетворяет тре-
бованиям самой придирчивой критики с точки зрения фактов и общего
духа изображенной в ней эпохи.
Закрывая книгу, думаешь о том, отчего же она производит столь яркое впе-
чатление и каков характер произведенного ею воздействия? Ведь сомнительно,
чтоб мы извлекали из всего рассказанного уроки в обычном смысле слова. Да и
новая информация уже не перевернет наших представлений о том, что происхо-
дило и у нас, и за рубежом. Так что же это за потрясение, что за ощущение? При-
255
ходишь к выводу, что ощущение это сродни тому катарсису, тому очищению,
которое мы переживаем после сильного театрального спектакля. А это, на мой
взгляд, вещь нужная и ценная.
Впечатление, результат такого разыгранного жизнью действа
гораздо сильнее, чем то, которое иногда производят великие события, будора-
жащие тысячеустую молву. Воздействие это нелегко вычислить прагматически,
затрудняюсь сказать, что оно может научить чему-то, тем более научить всех и
вся. И все же, если такой незаурядный «спектакль» заставит нас что-то почув-
ствовать, если в человеке, пережившем его вслед за автором книги, что-то
произойдет, что-то в нем совершится,— это уже немало. И это благо.
АЛЕКСЕЙ САЛМИН,
доктор исторических наук
Борис Михайлович Носик
ЭТОТ СТРАННЫЙ
ПАРИЖСКИЙ ПРОЦЕСС
Заведующий редакцией В. Пекшев. Редактор Н. Блисковская. Художник И. Лопа-
тина. Художественный редактор И. Сайко. Технический редактор Н. Калиничева.
Корректоры Ю. Черникова, А. Гомозова
ИБ № 4785
Сдано в набор 10.04.90. Подписано к печати 06.12.90. Формат 60 X 84'/i6. Бумага типографская N° 2.
Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 14,88. Усл. кр.-отт. 15,80. Уч.-изд. л. 15,52.
Тираж 20 000 экз. Заказ 783. Цена 2 руб.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Московский рабочий». 101854, ГСП, Москва,
Центр, Чистопрудный бульвар, 8.
Ордена Ленина типография «Красный пролетарий». 103473, Москва, И-473. Краснопролетарская, 16.
Эндрю встретил нас на берегу озера
с экзотическим индейским назва-
нием — невысокий светлоглазый блон-
дин, кажется, ничего общего с отцом...
С причала нам видны деревья, под ко-
торыми зарыт прах Виктора Кравченко.
«На этом камне,— говорит мне Эндрю
Кравченко,— я хочу написать одно
только слово — «свобода».
о
этот
СТРАННЫЙ _
ПАРИЖСКИМ
ПРОЦЕСС
Борис Носик — московский писа-
тель, опубликовавший наряду с по-
вестями, рассказами, пьесами, кино-
сценариями и переводами с англий-
ского несколько документальных
книг, из которых некоторым успе-
хом пользовались «По Руси Ярос-
лавской» и «Швейцер». С 1982 года
Б. Носик ежегодно по нескольку ме-
сяцев проводит в Париже, где помо-
гает жене-итальянке воспитывать
дочку. Узнав (в парижской Турге-
невской библиотеке из старых га-
зетных репортажей Нины Берберо-
вой) о процессе Кравченко, решил
написать о нем книгу.
МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
2 руб.