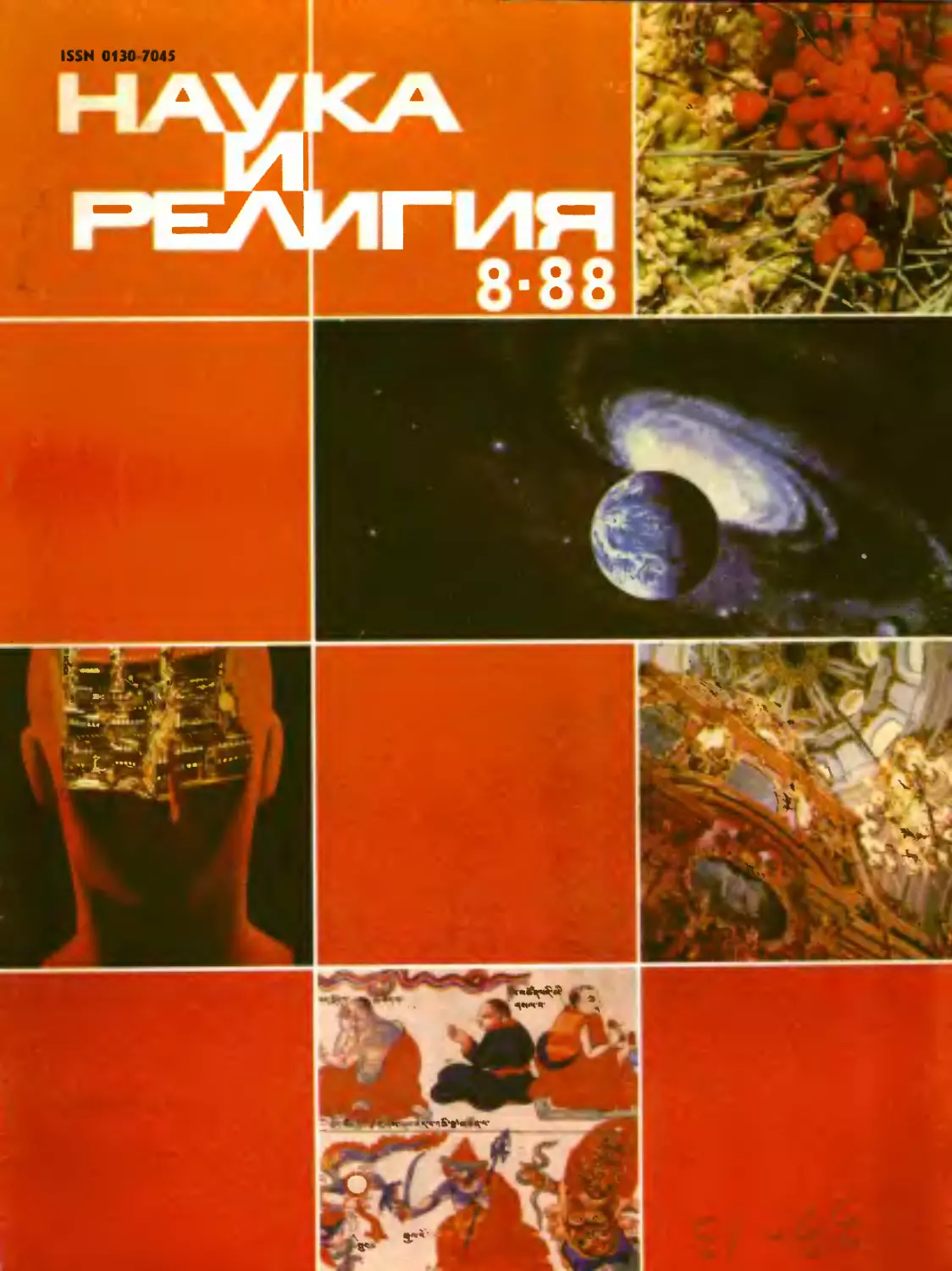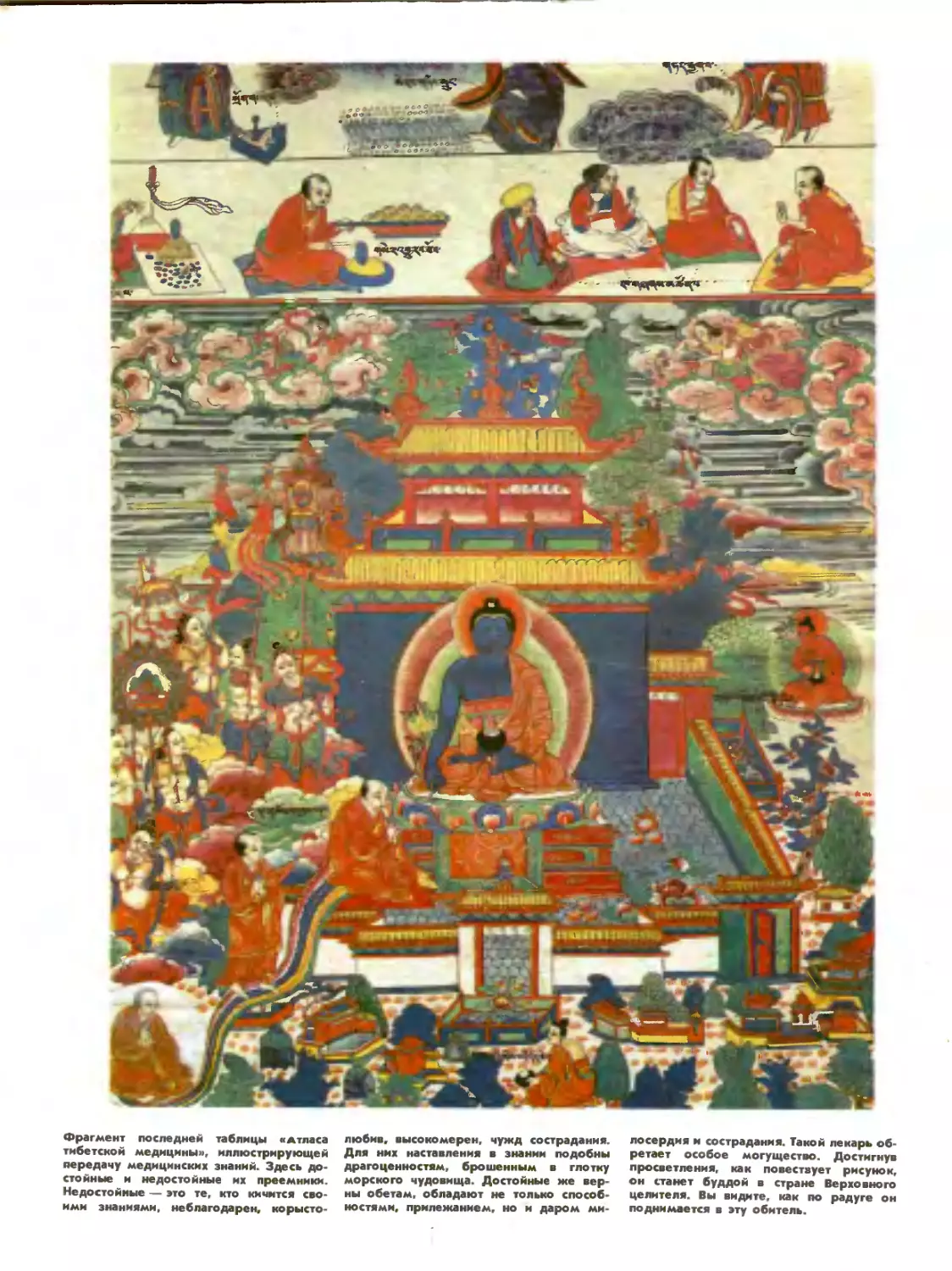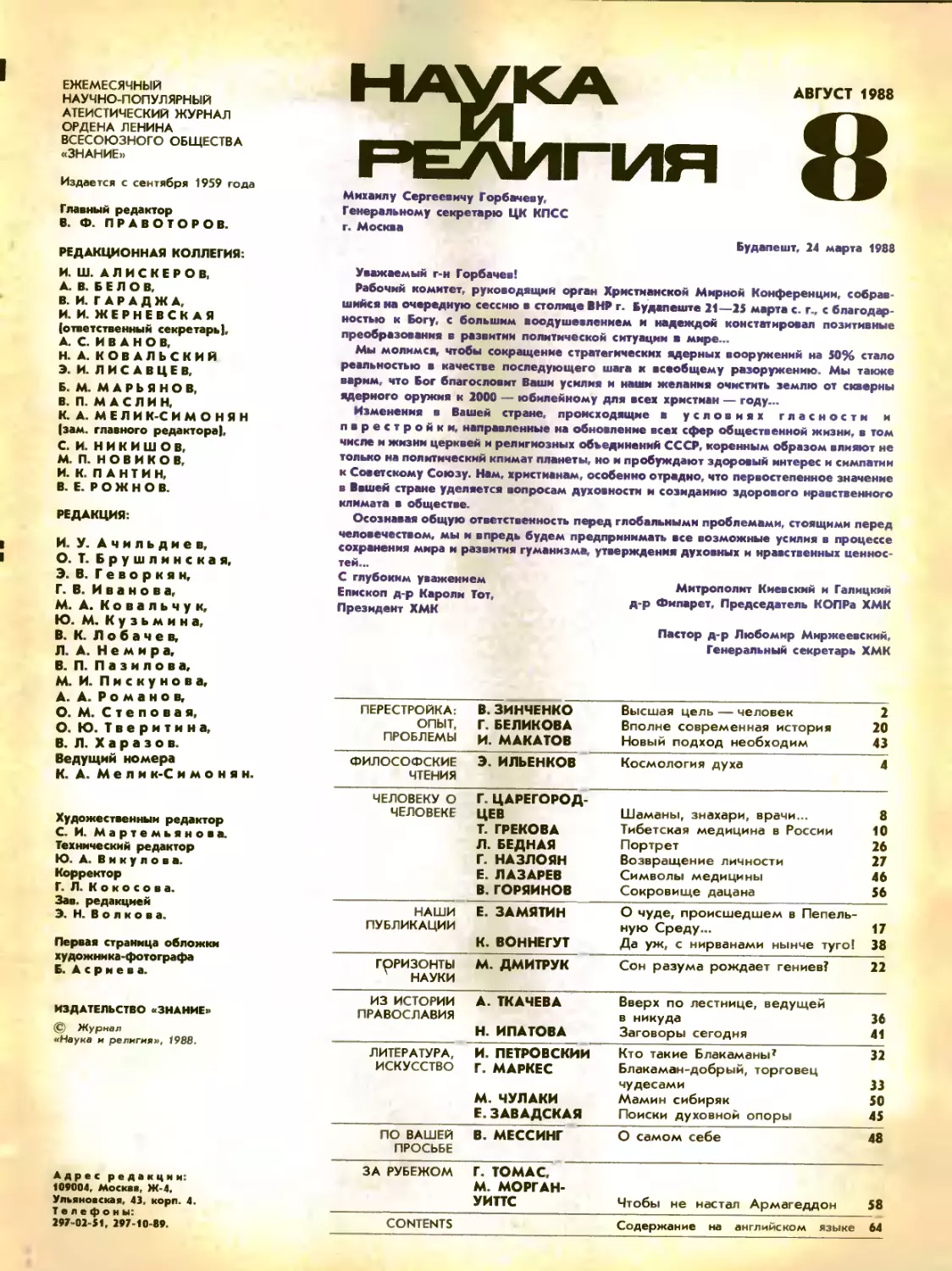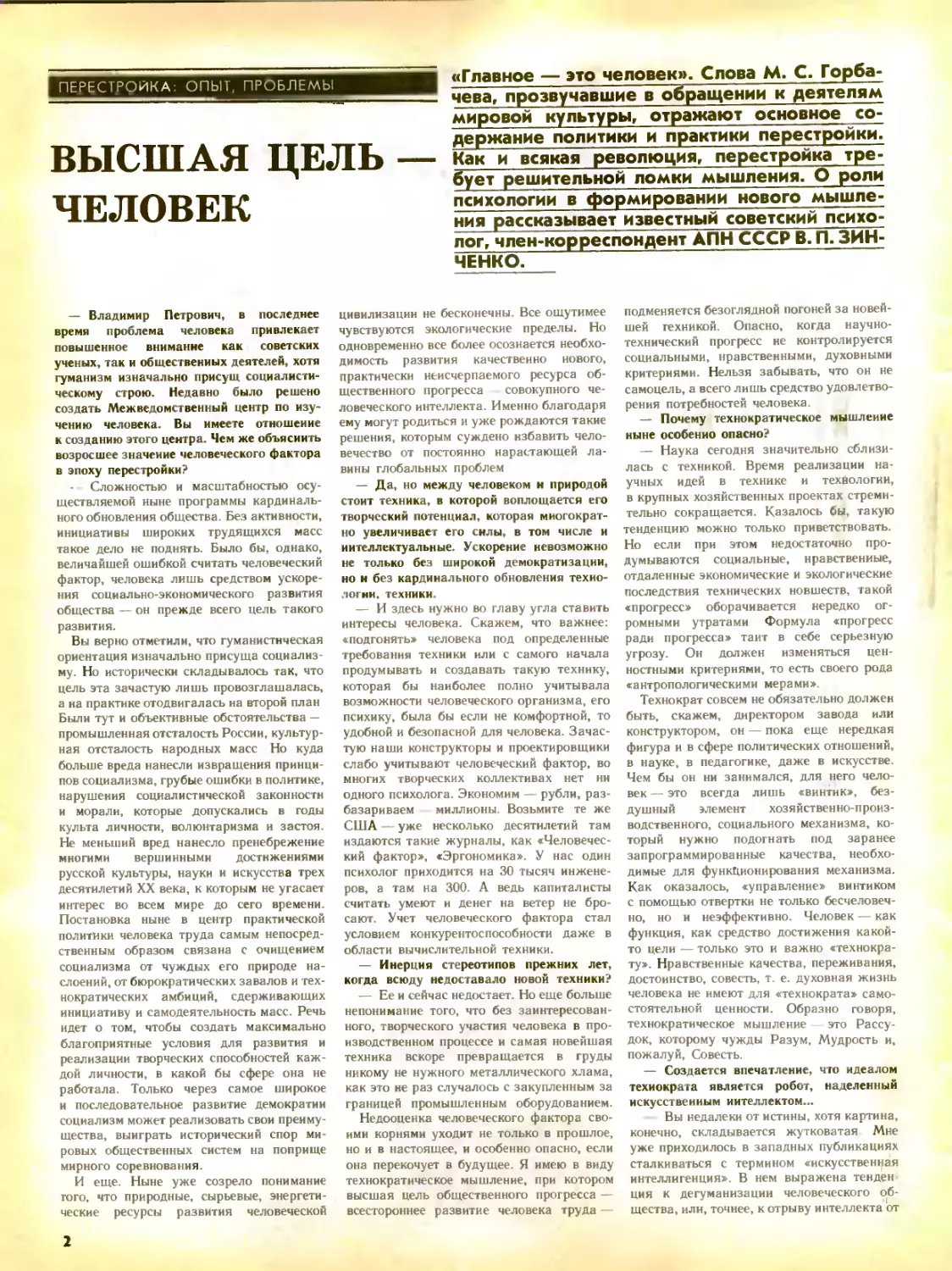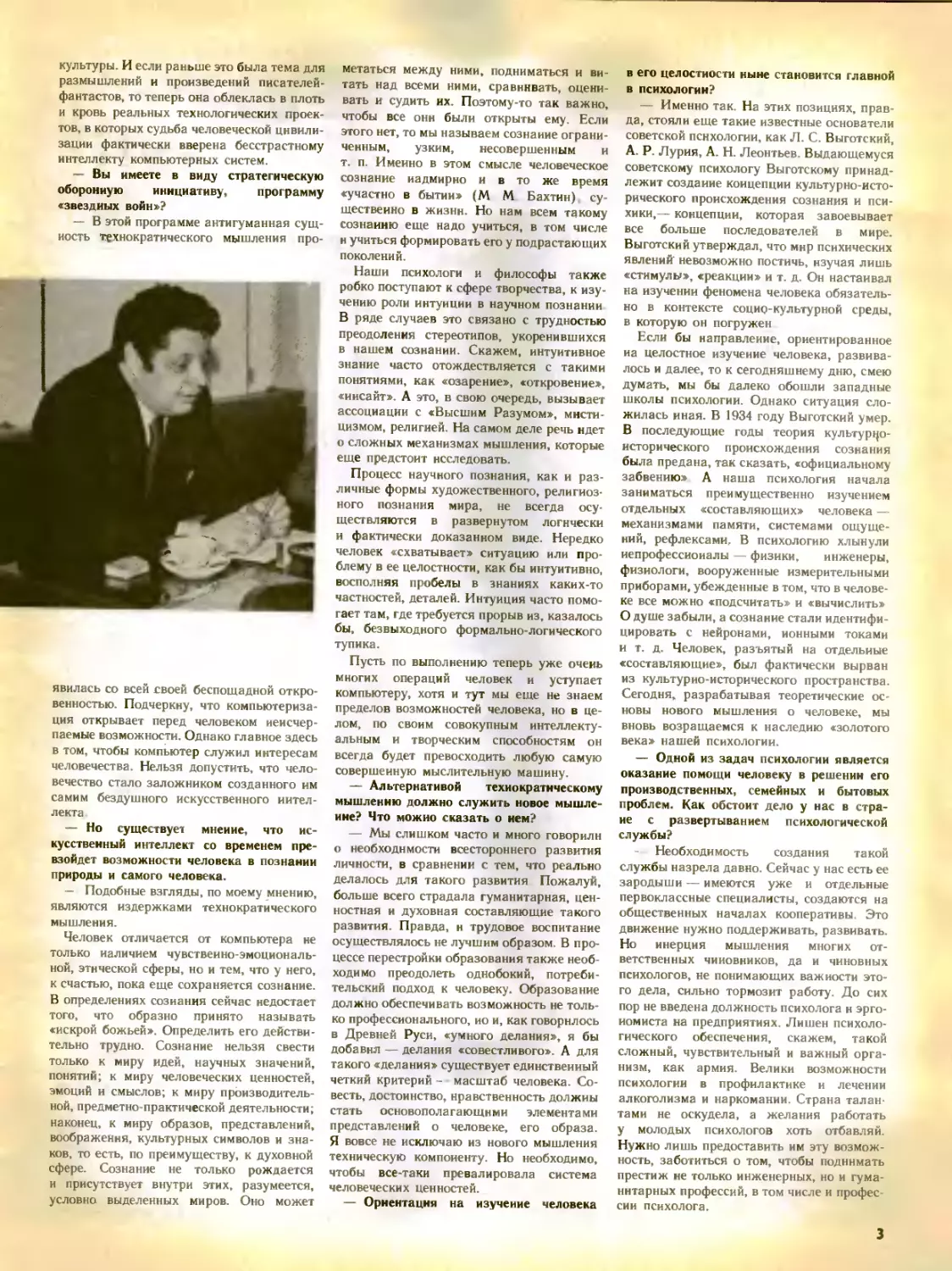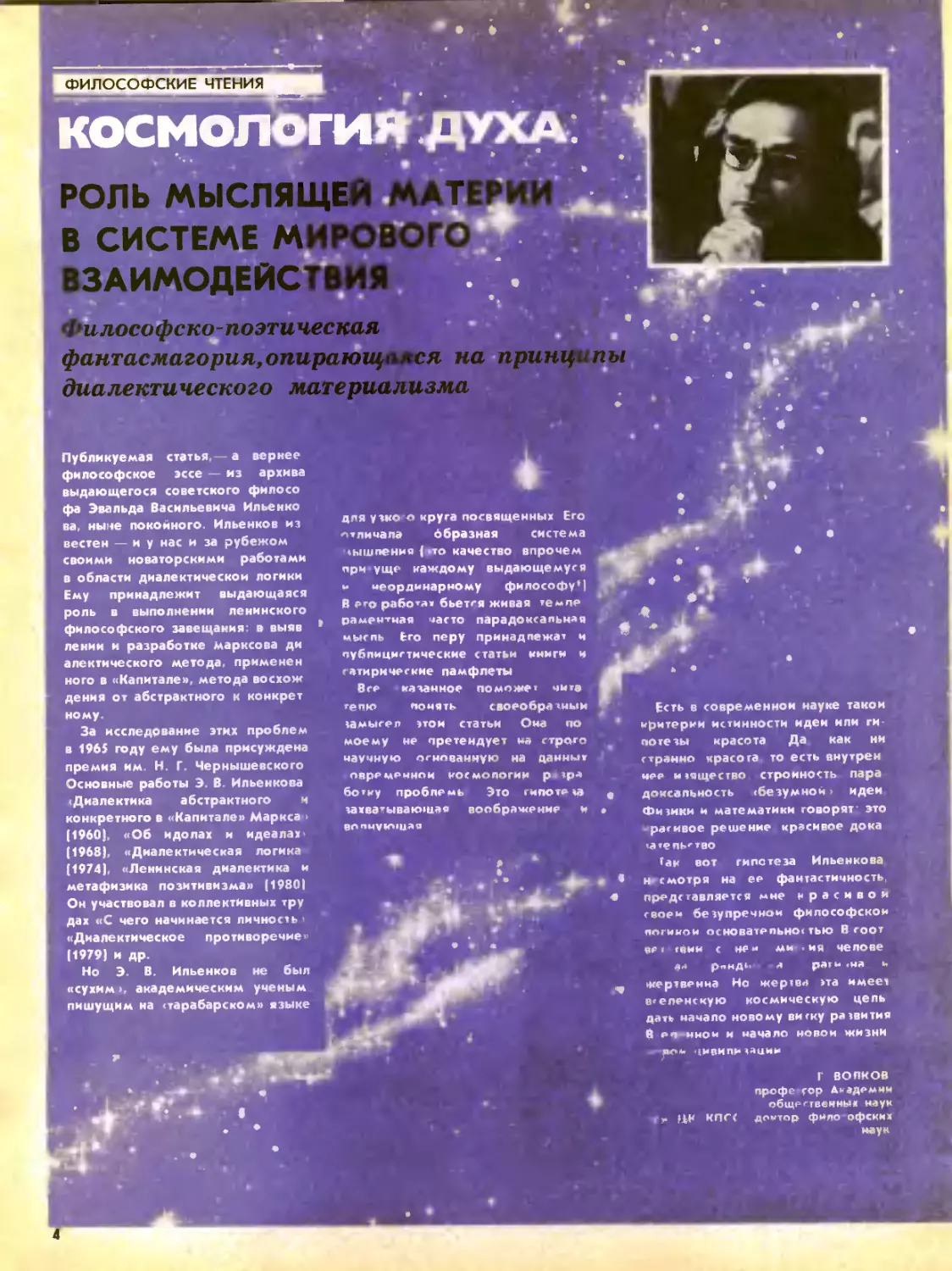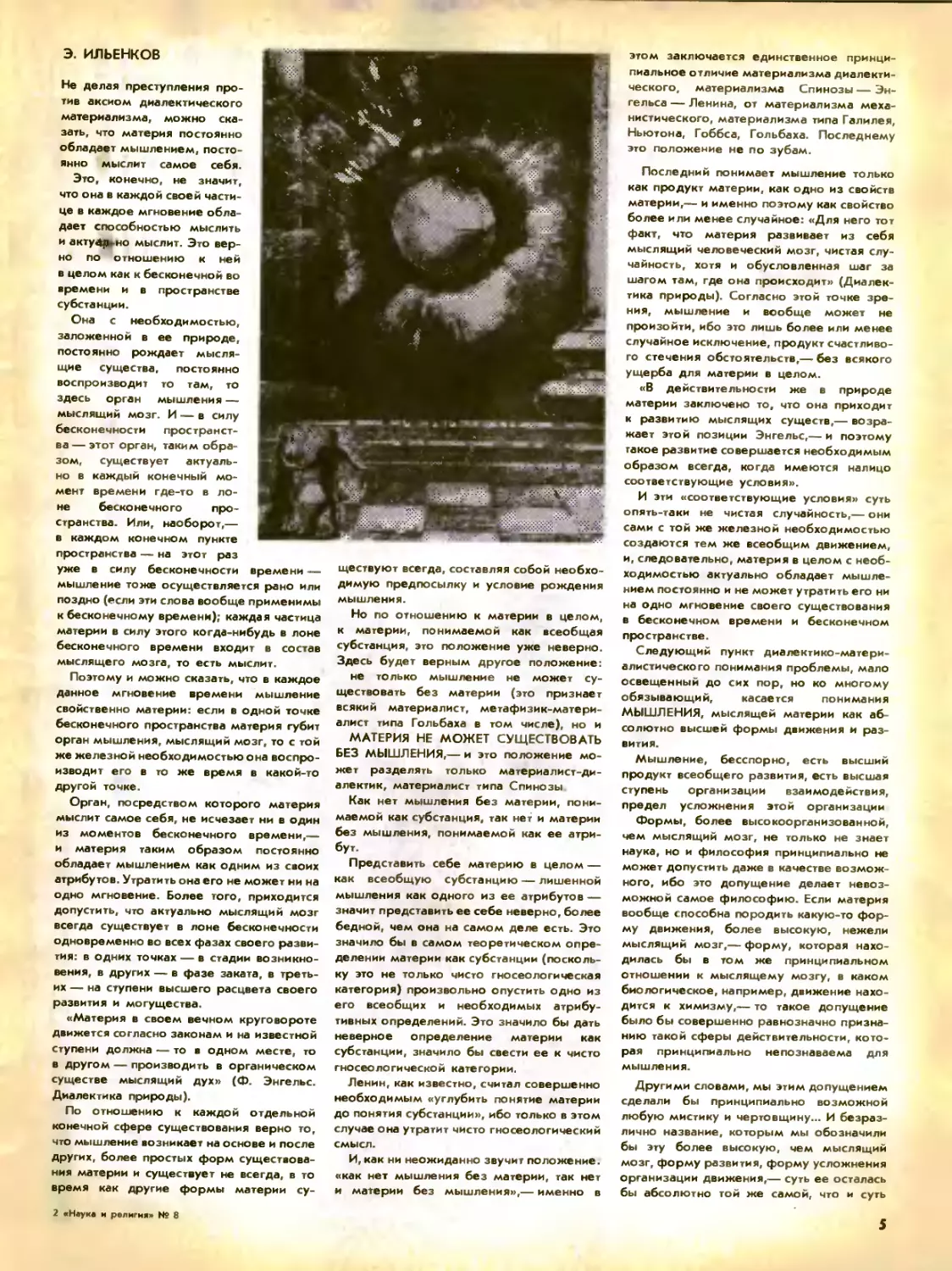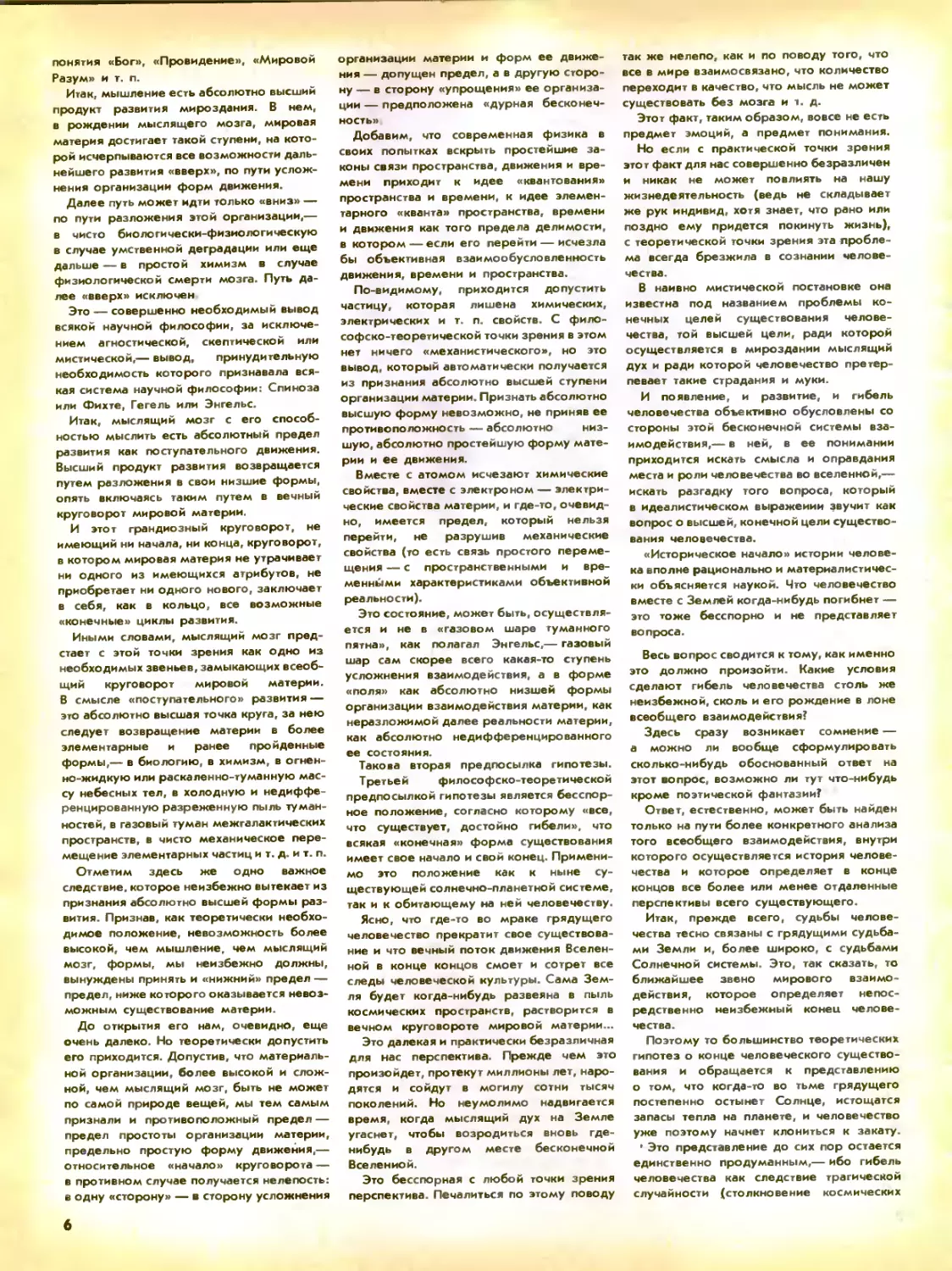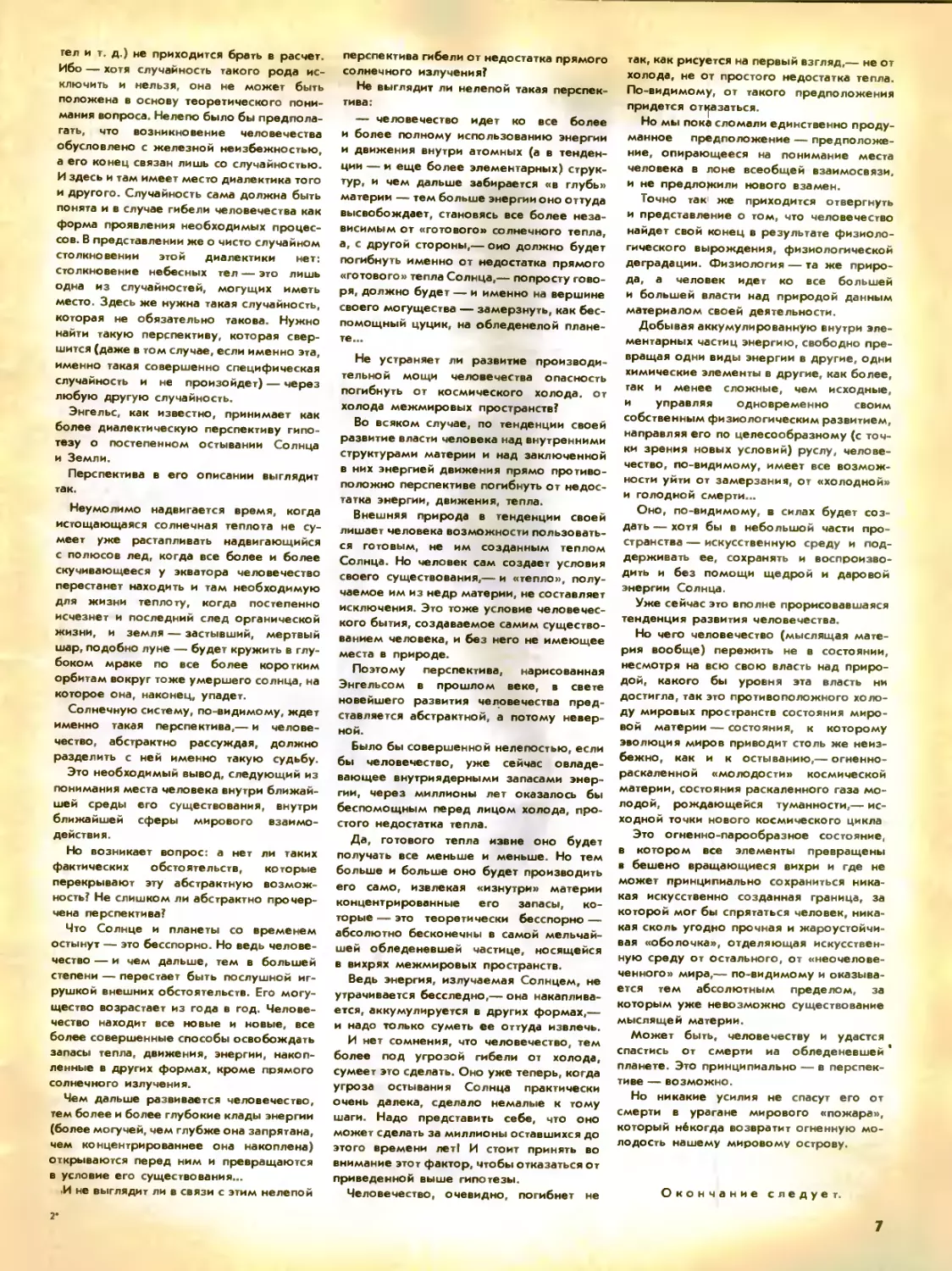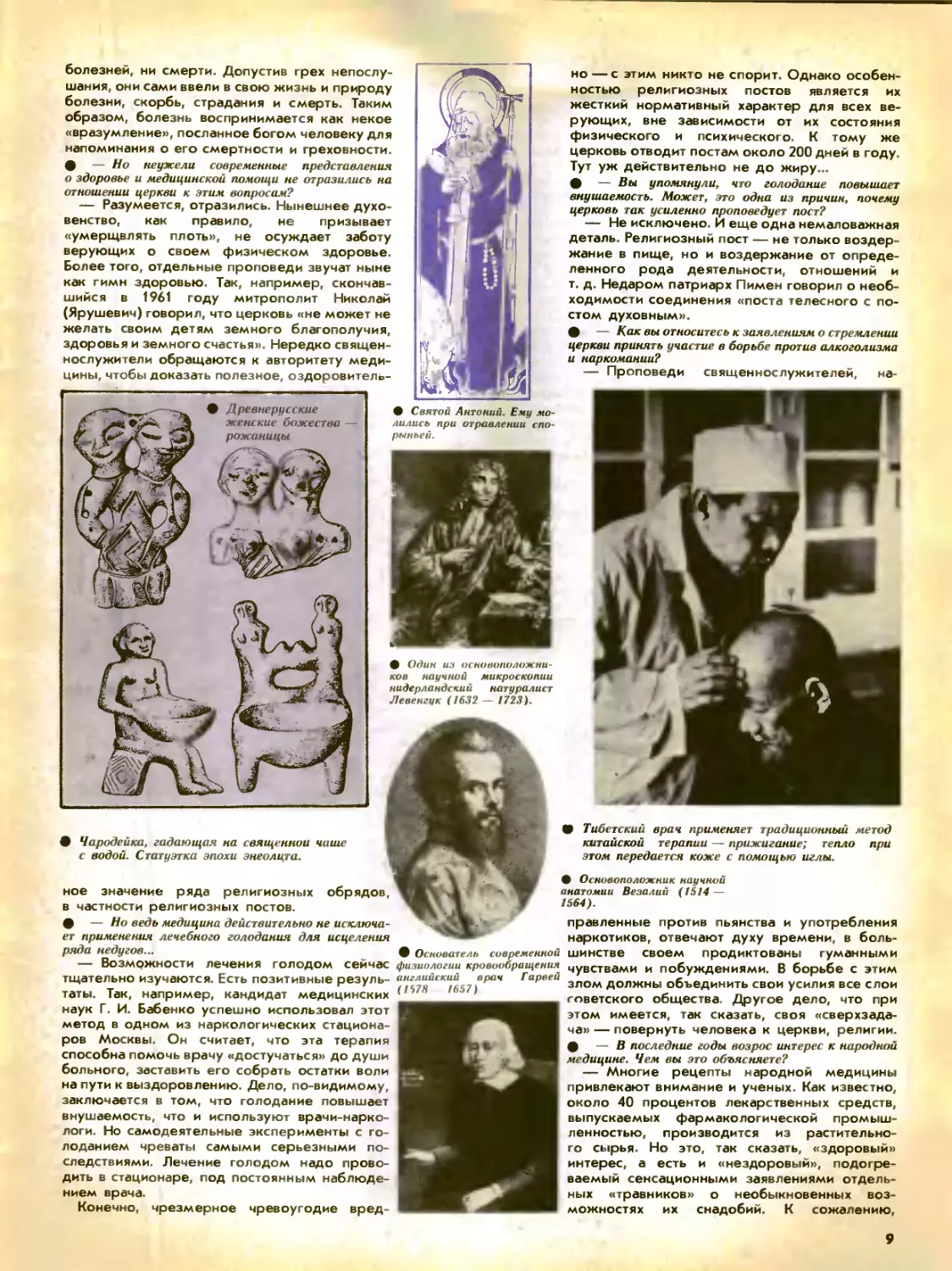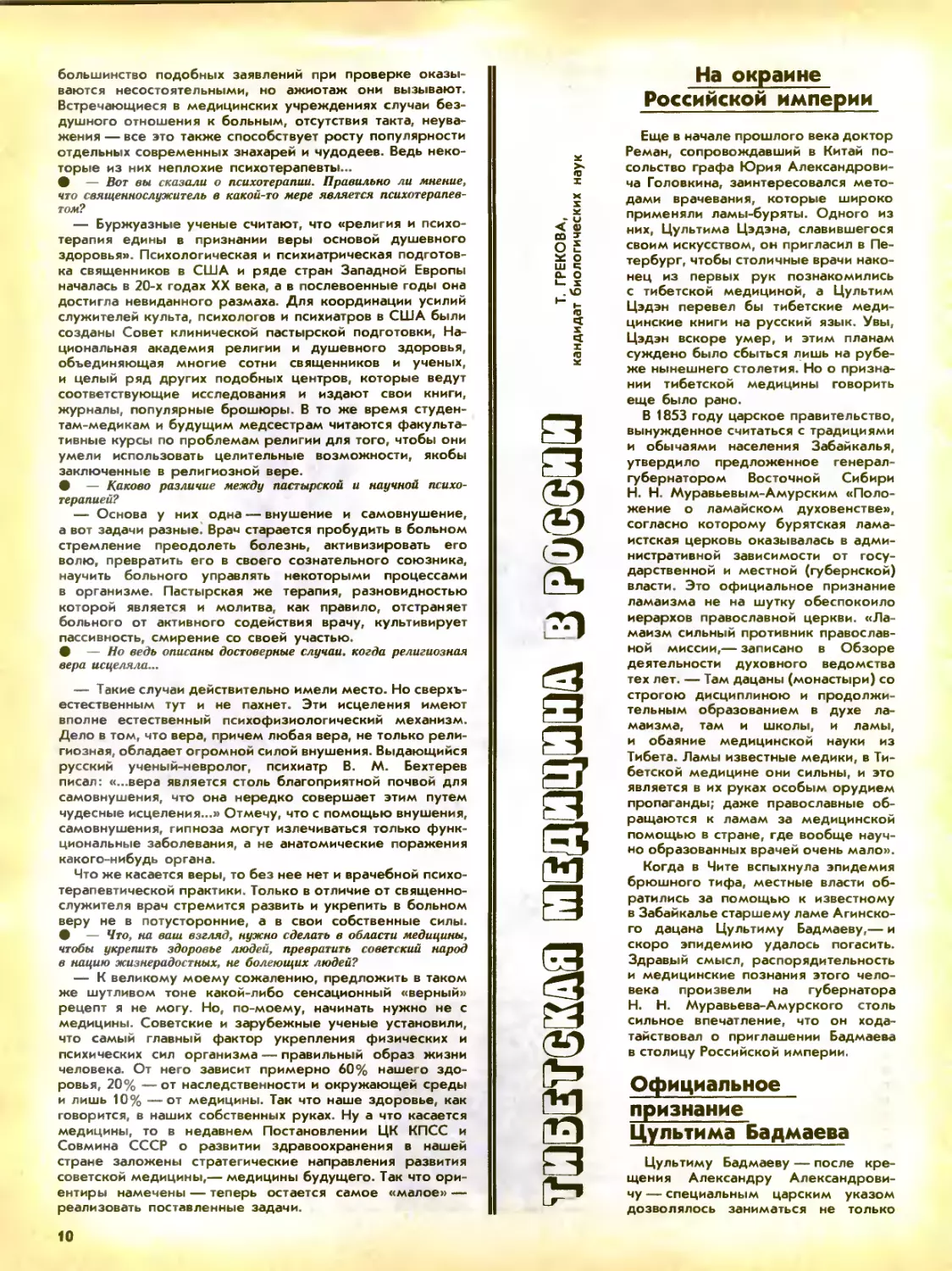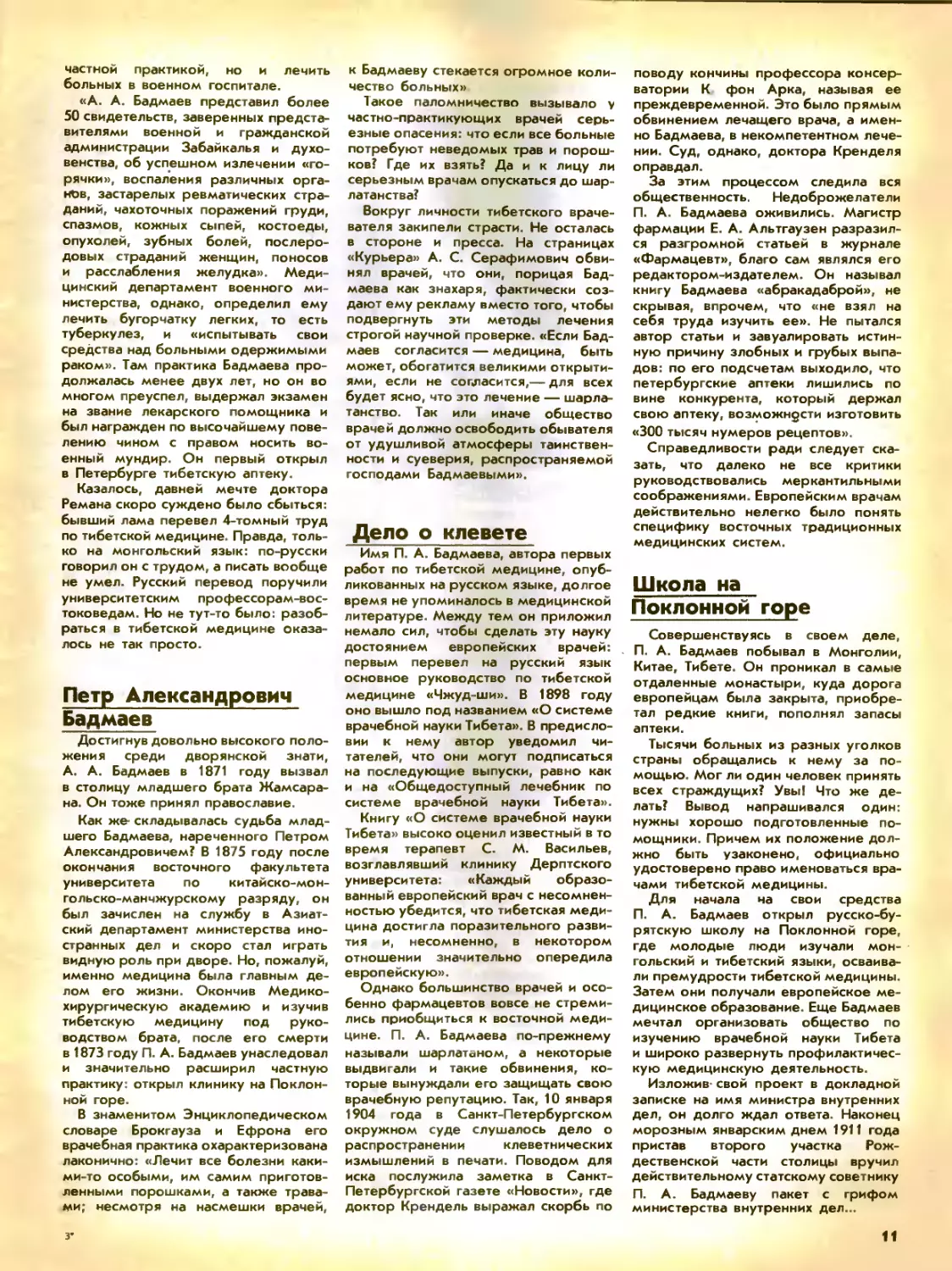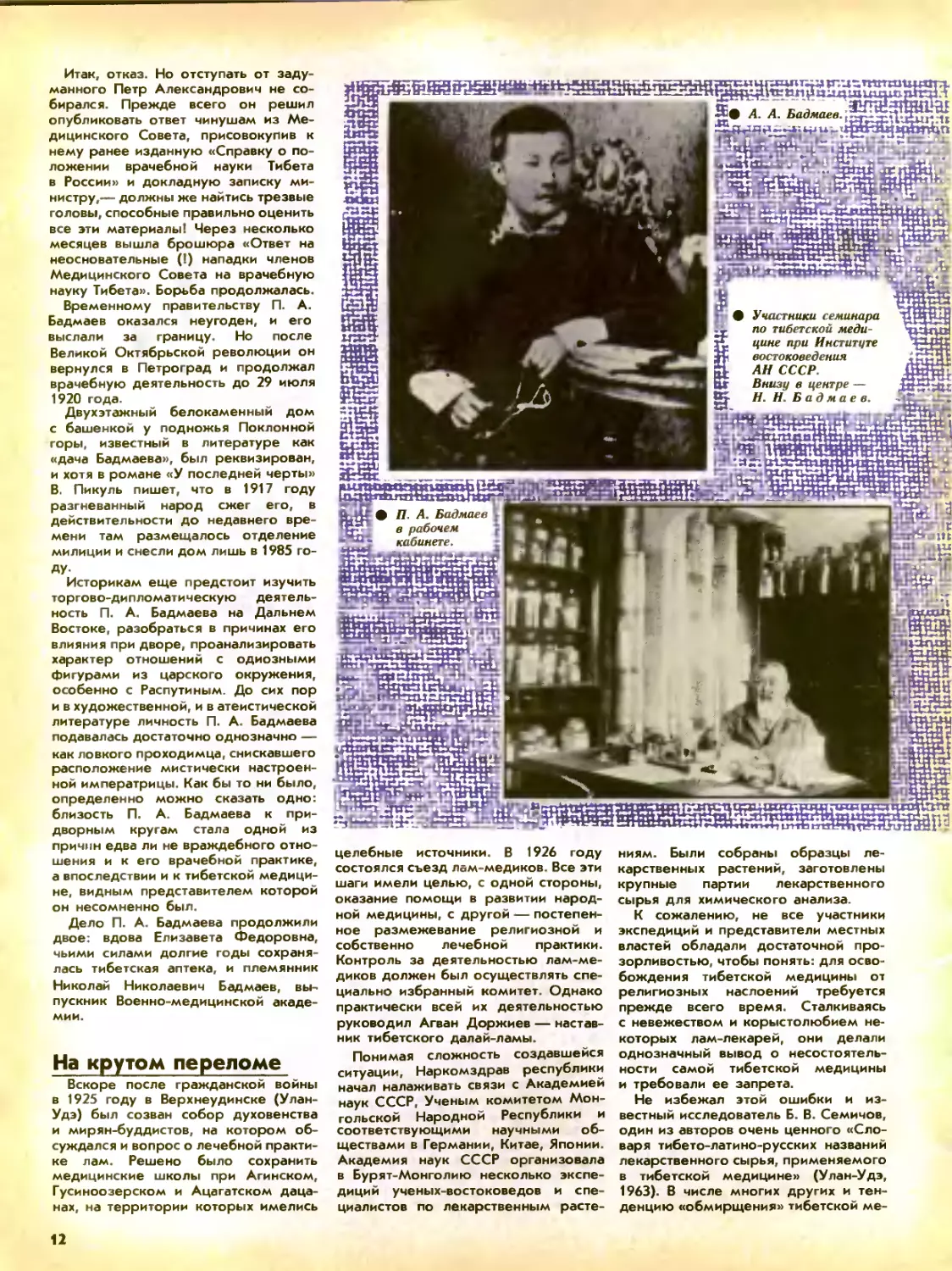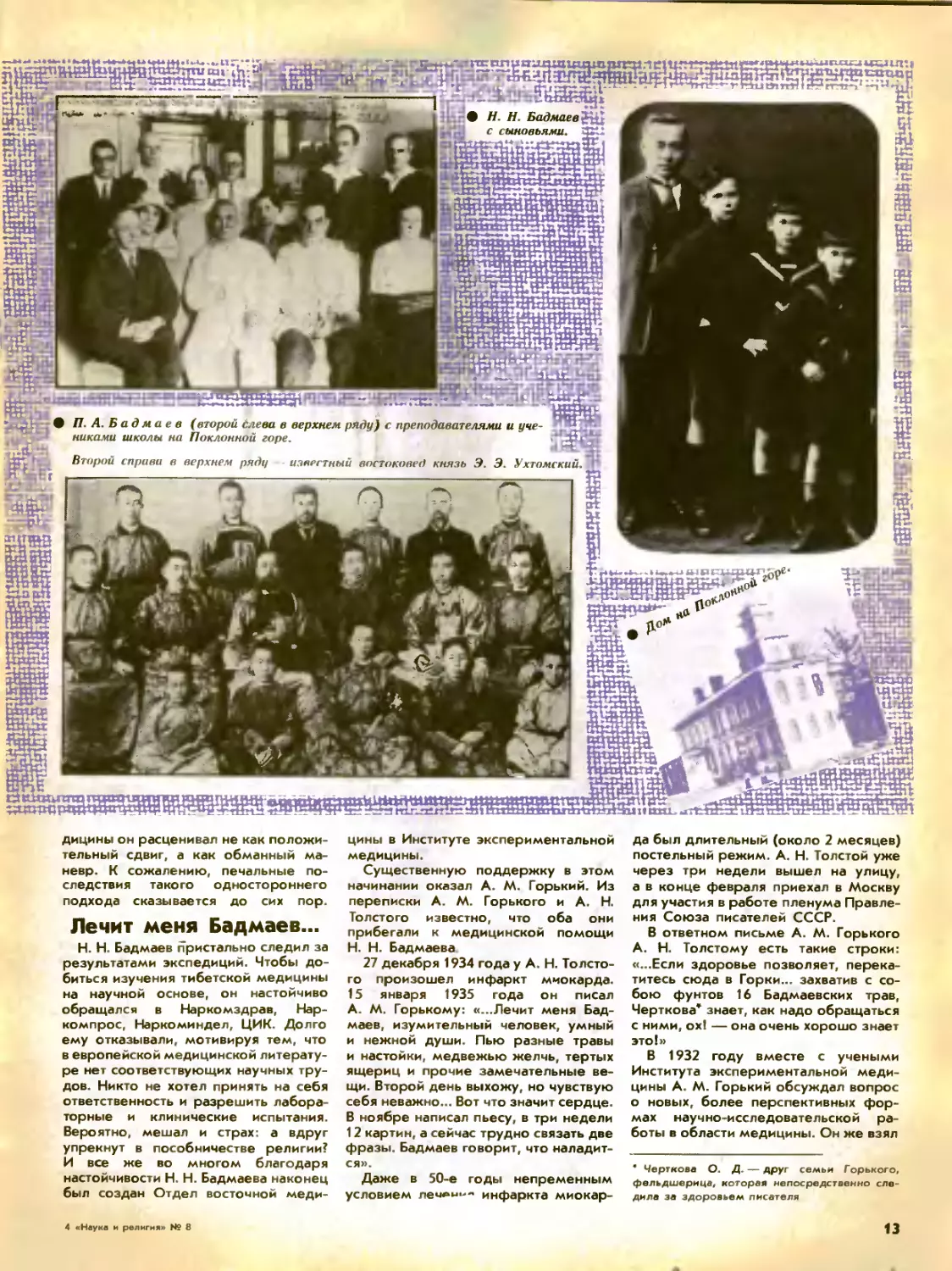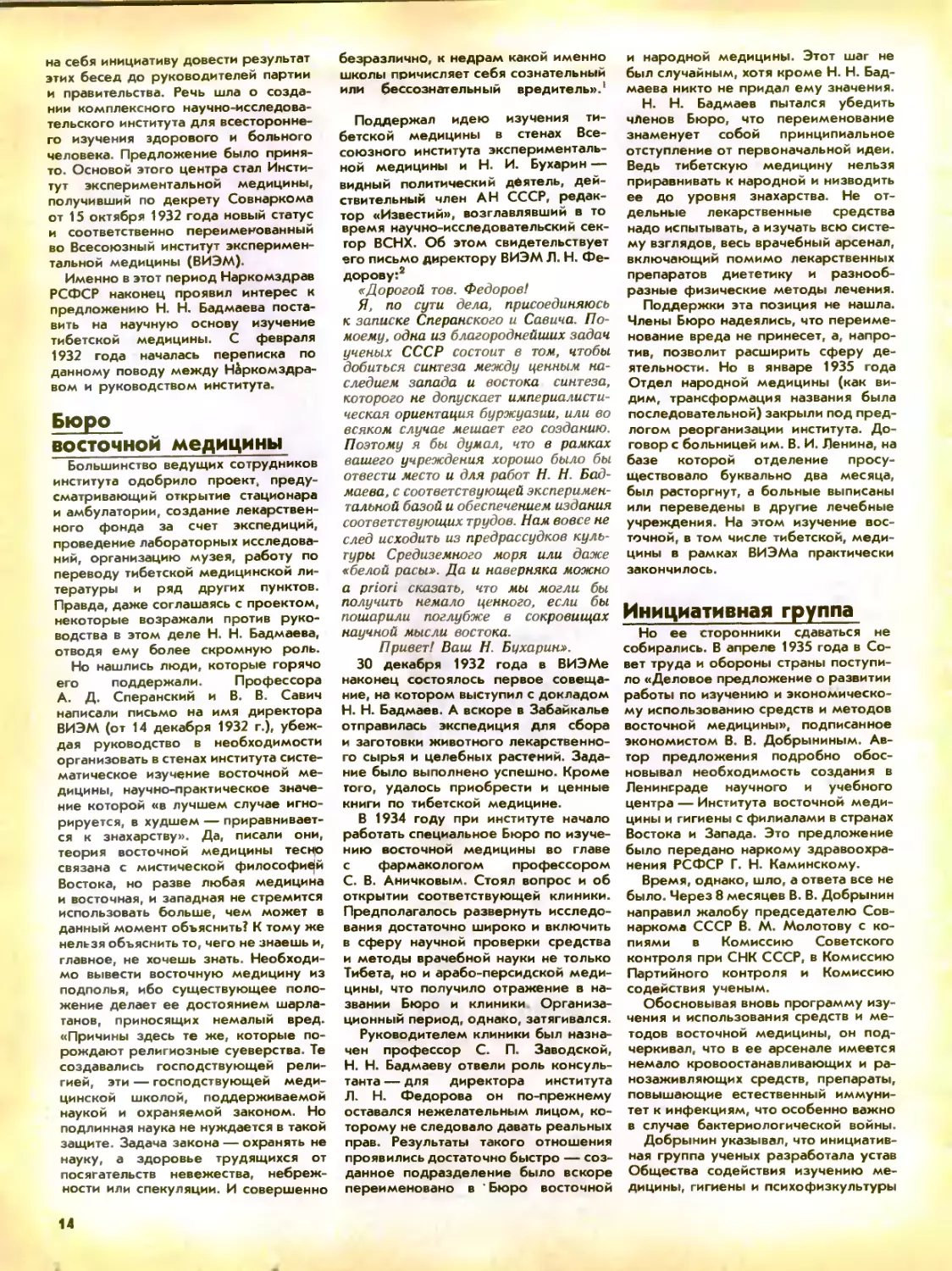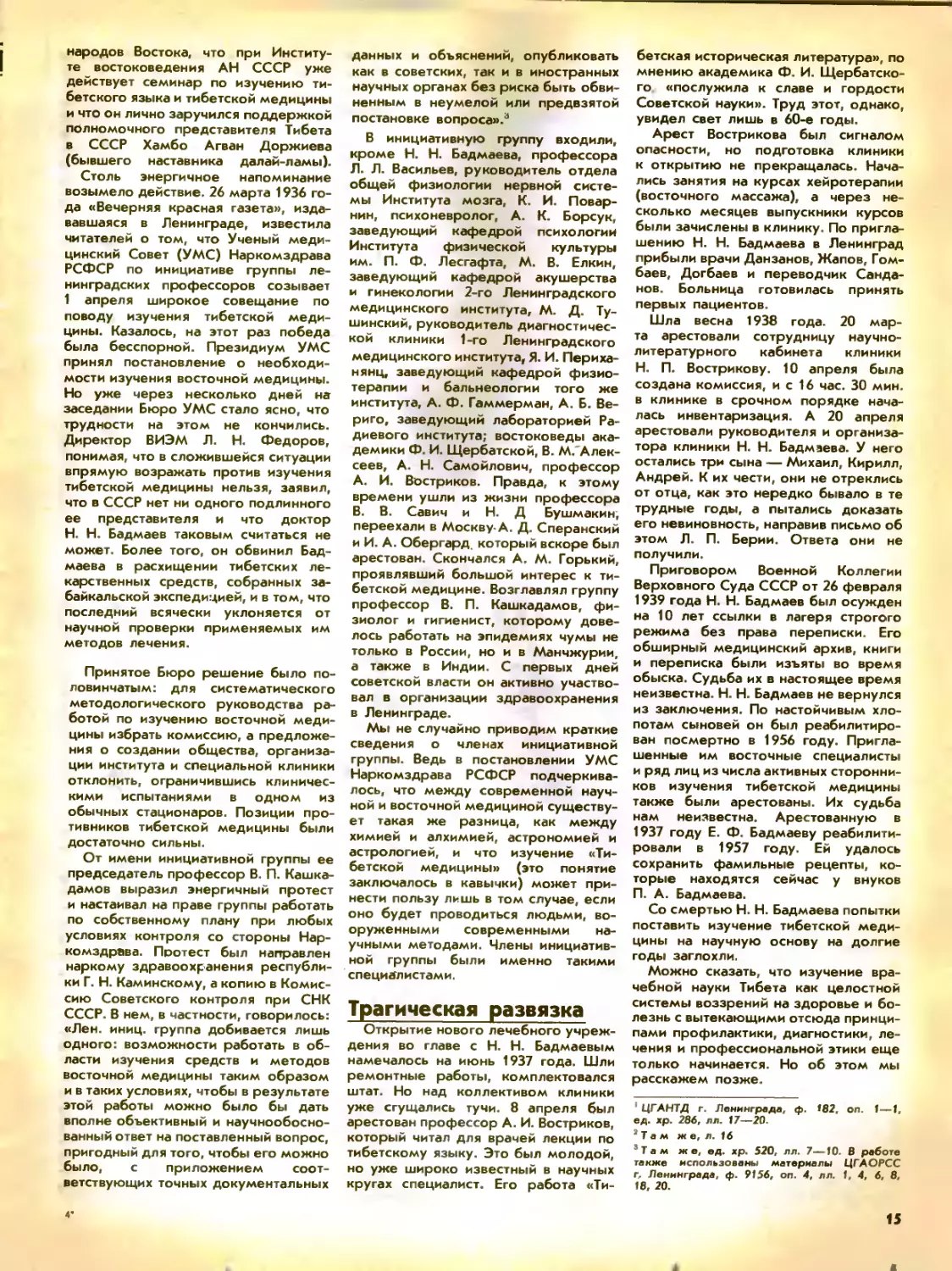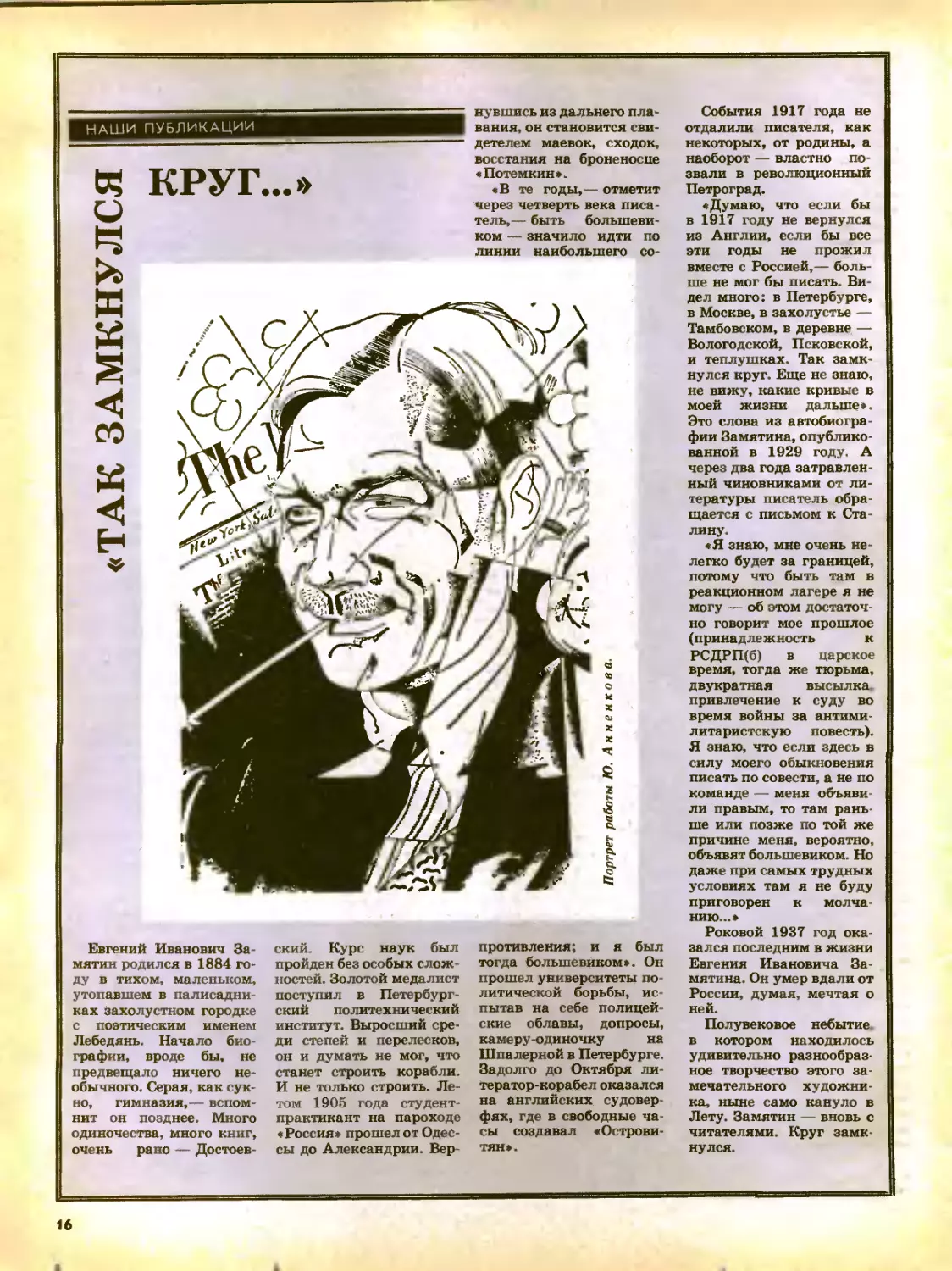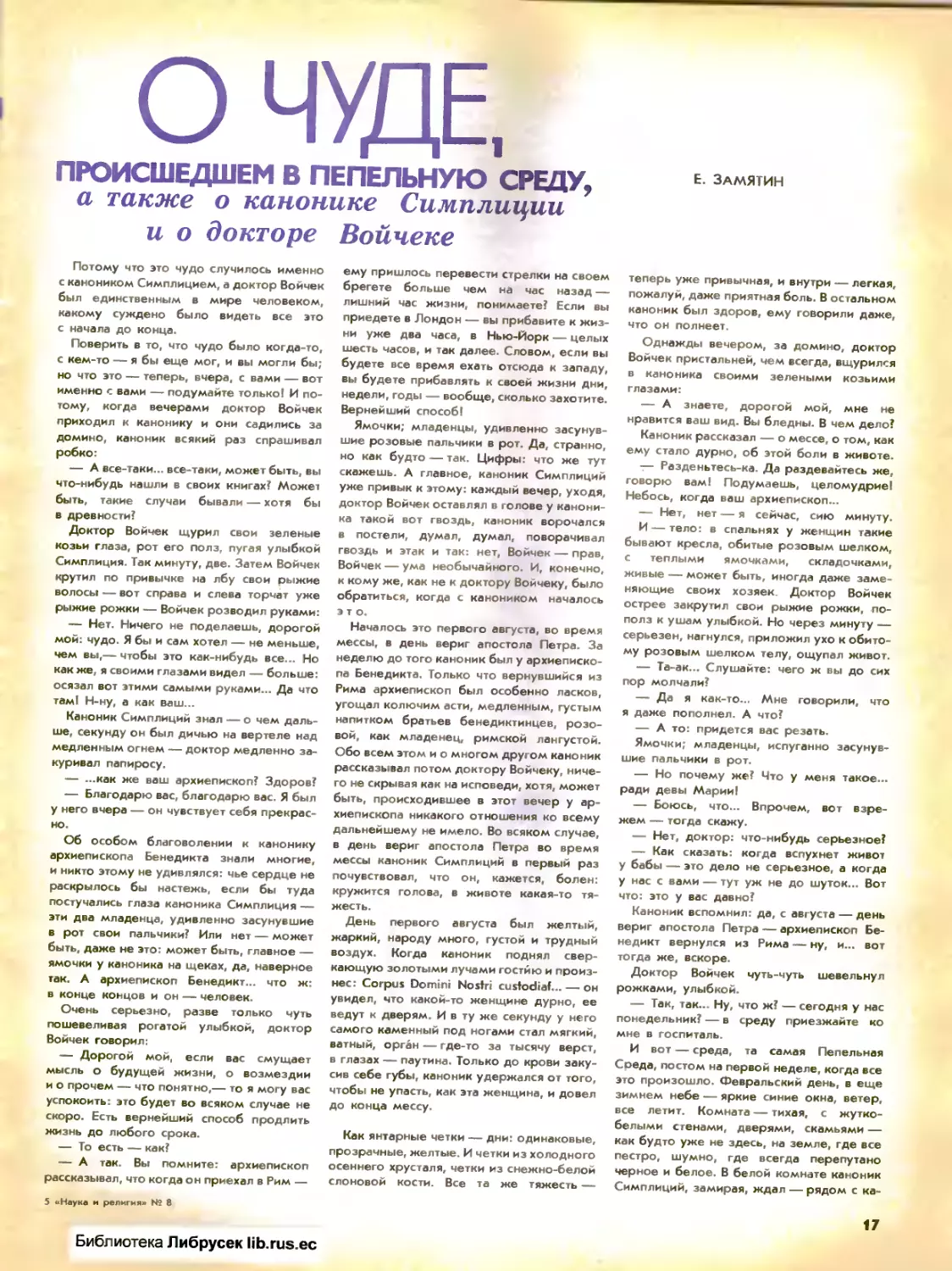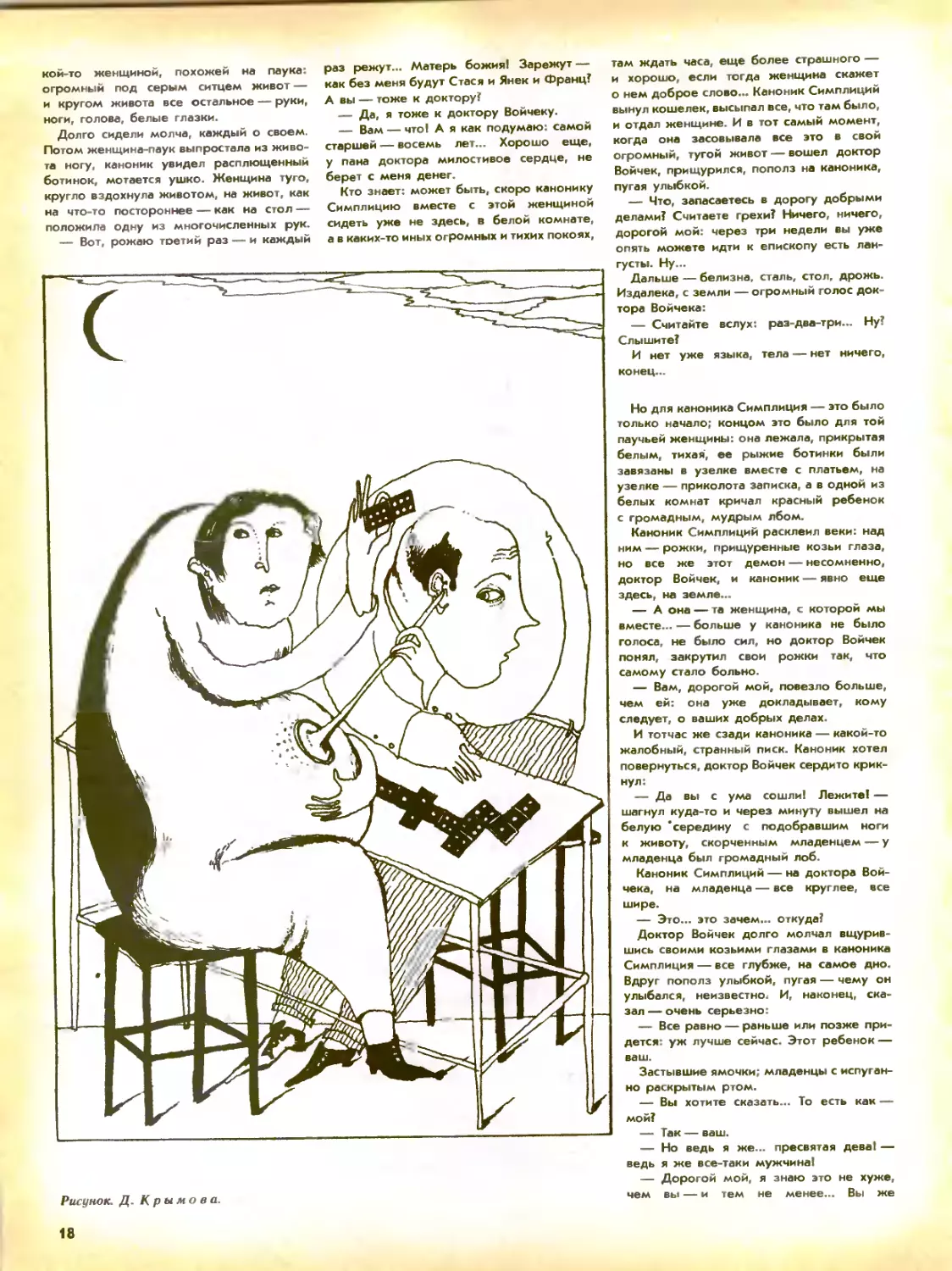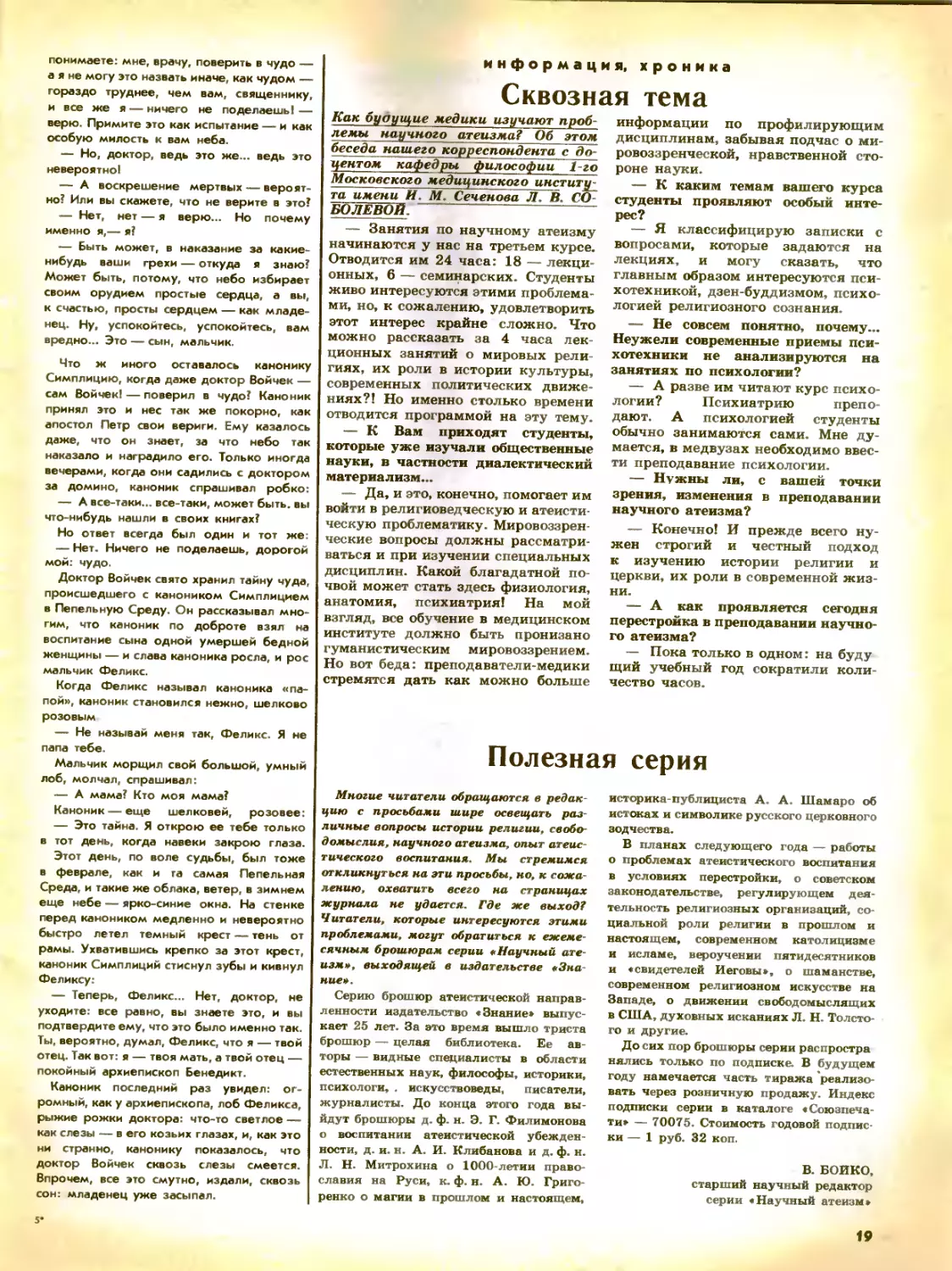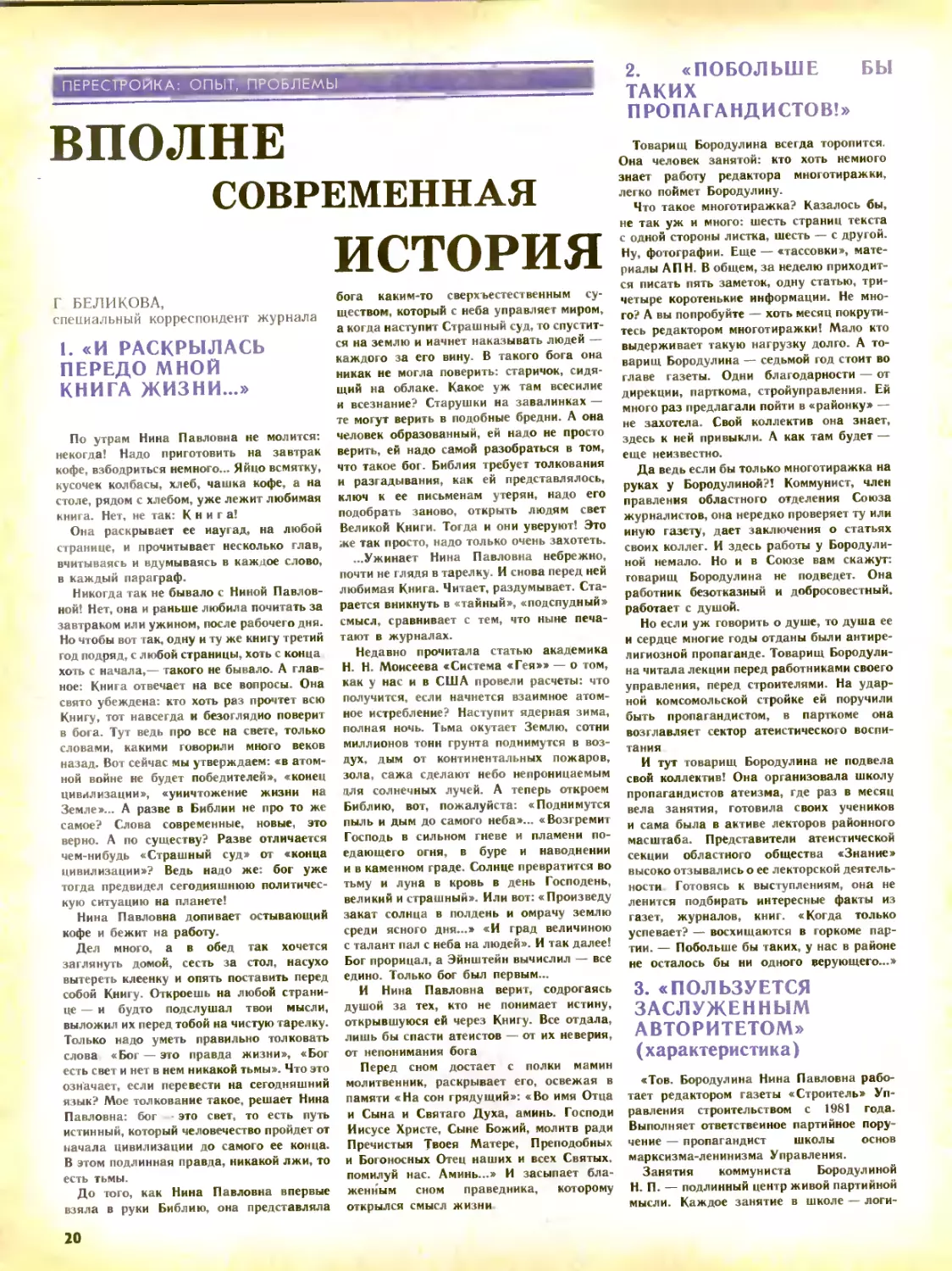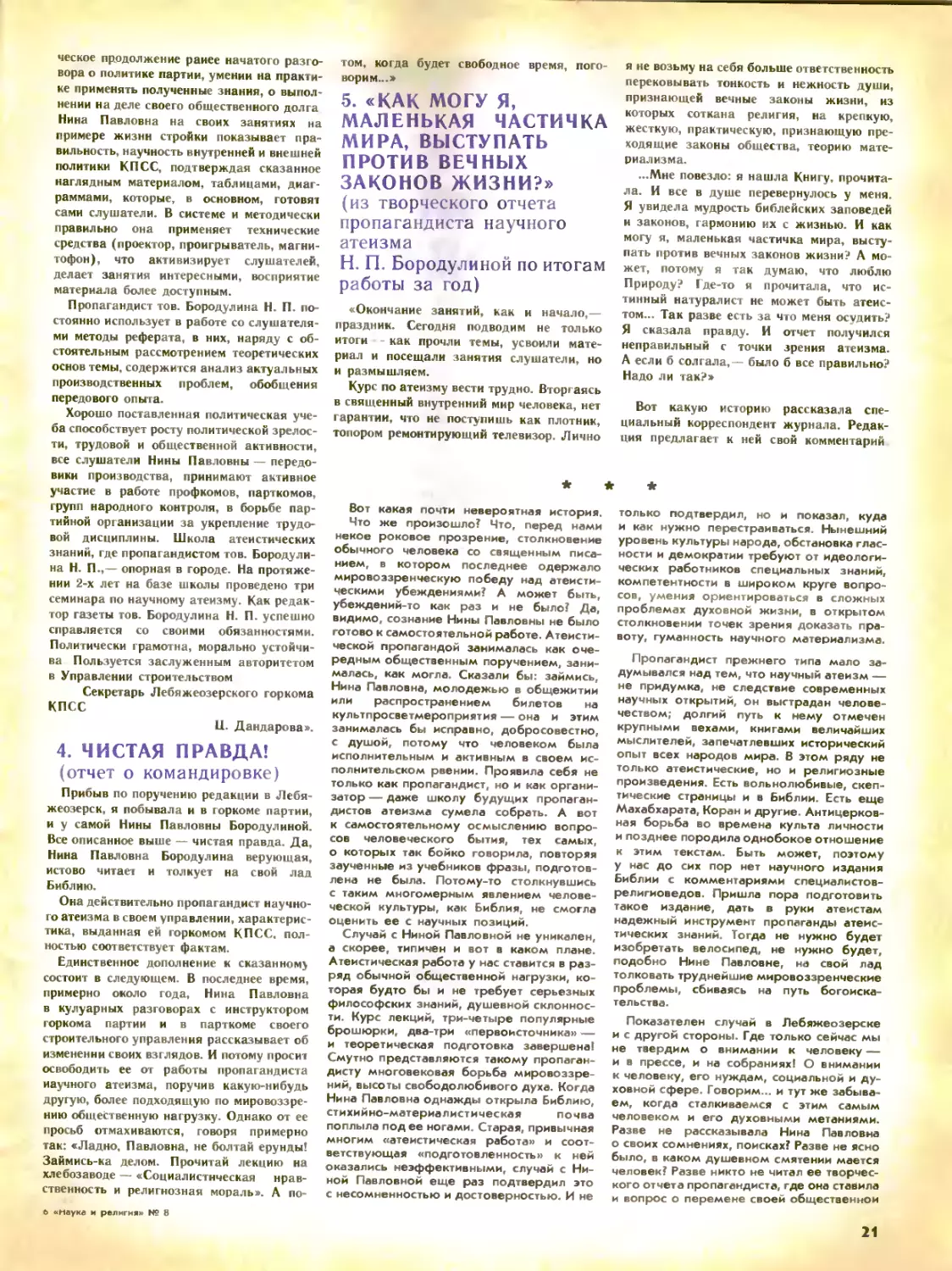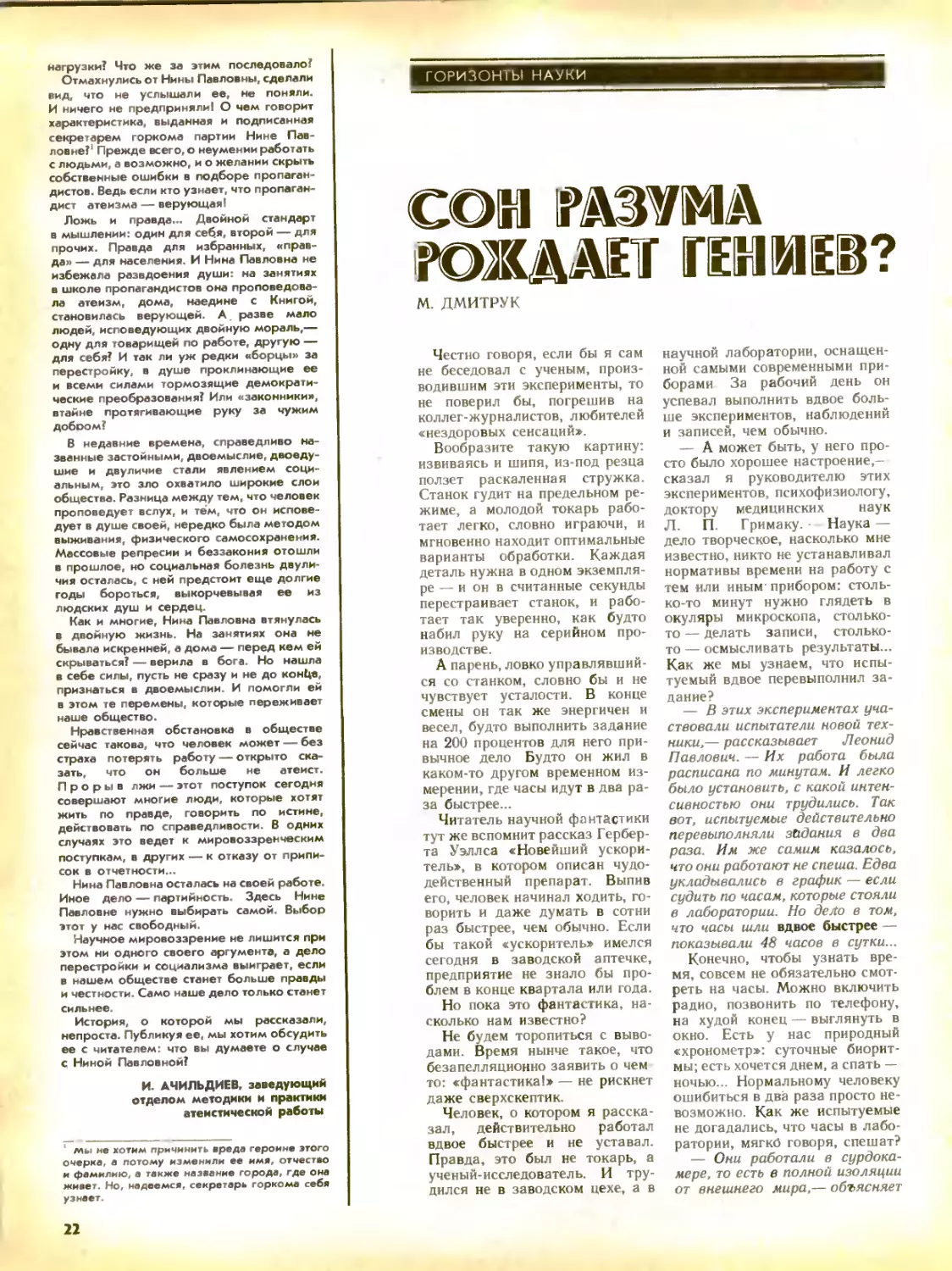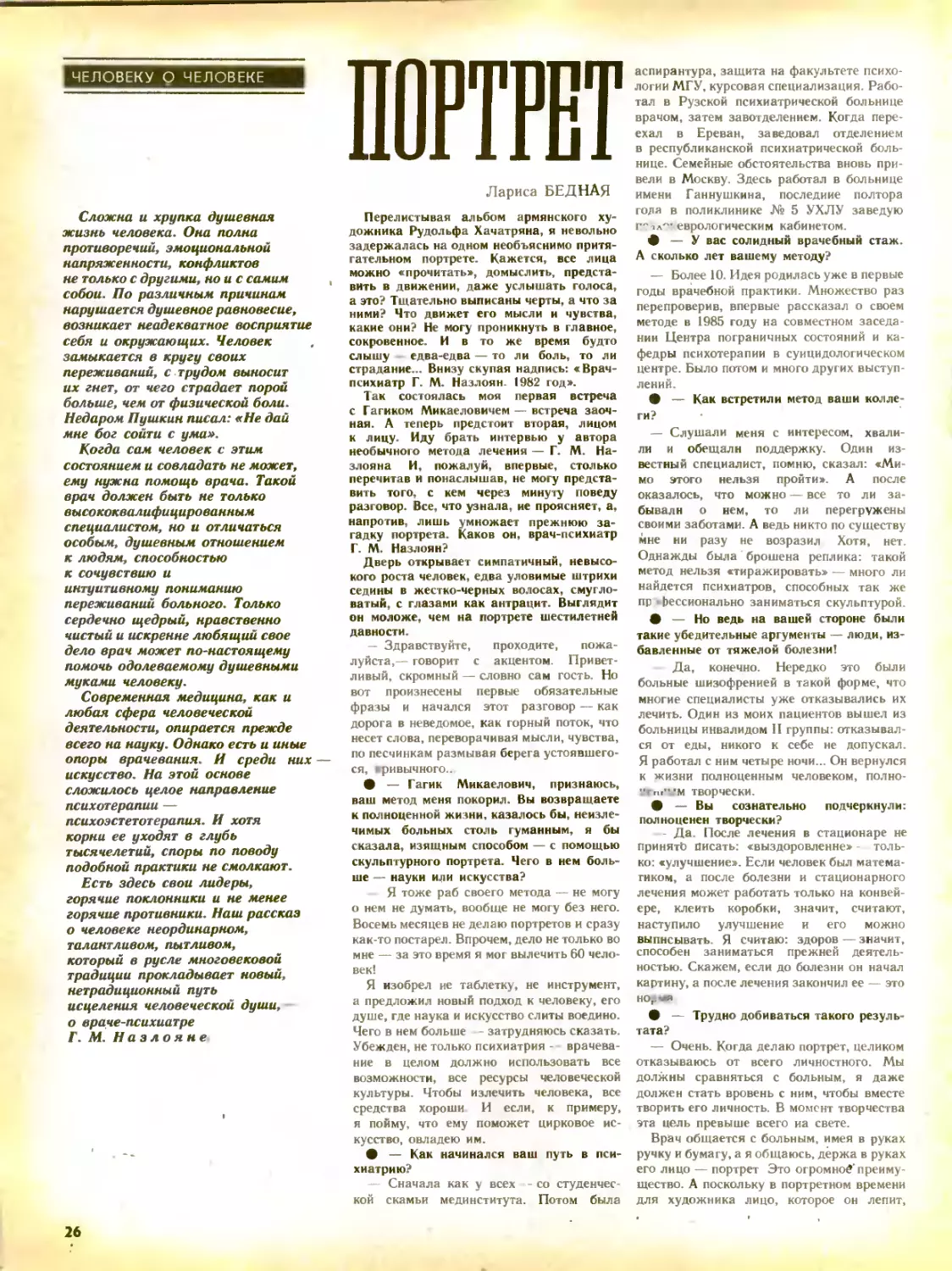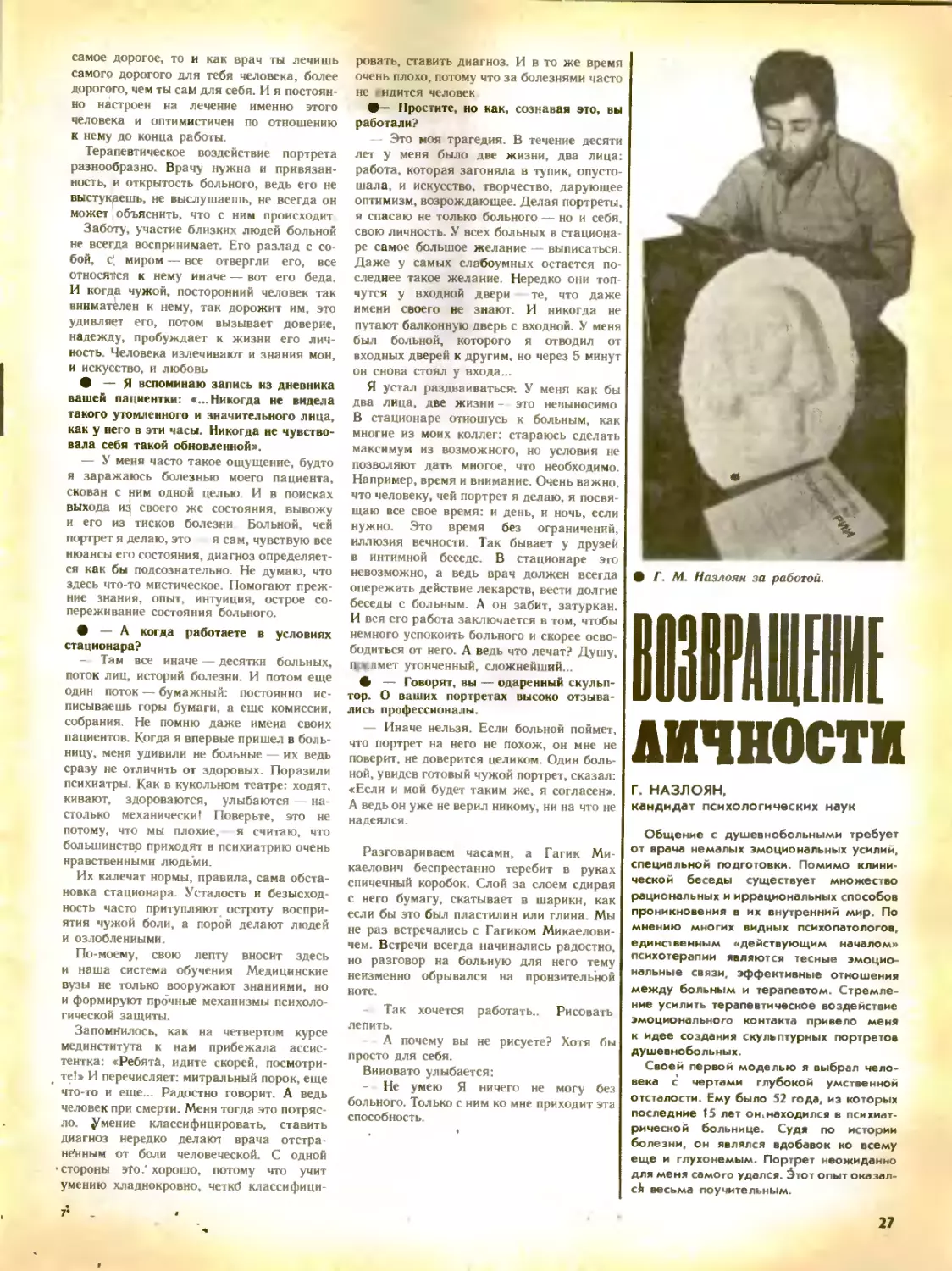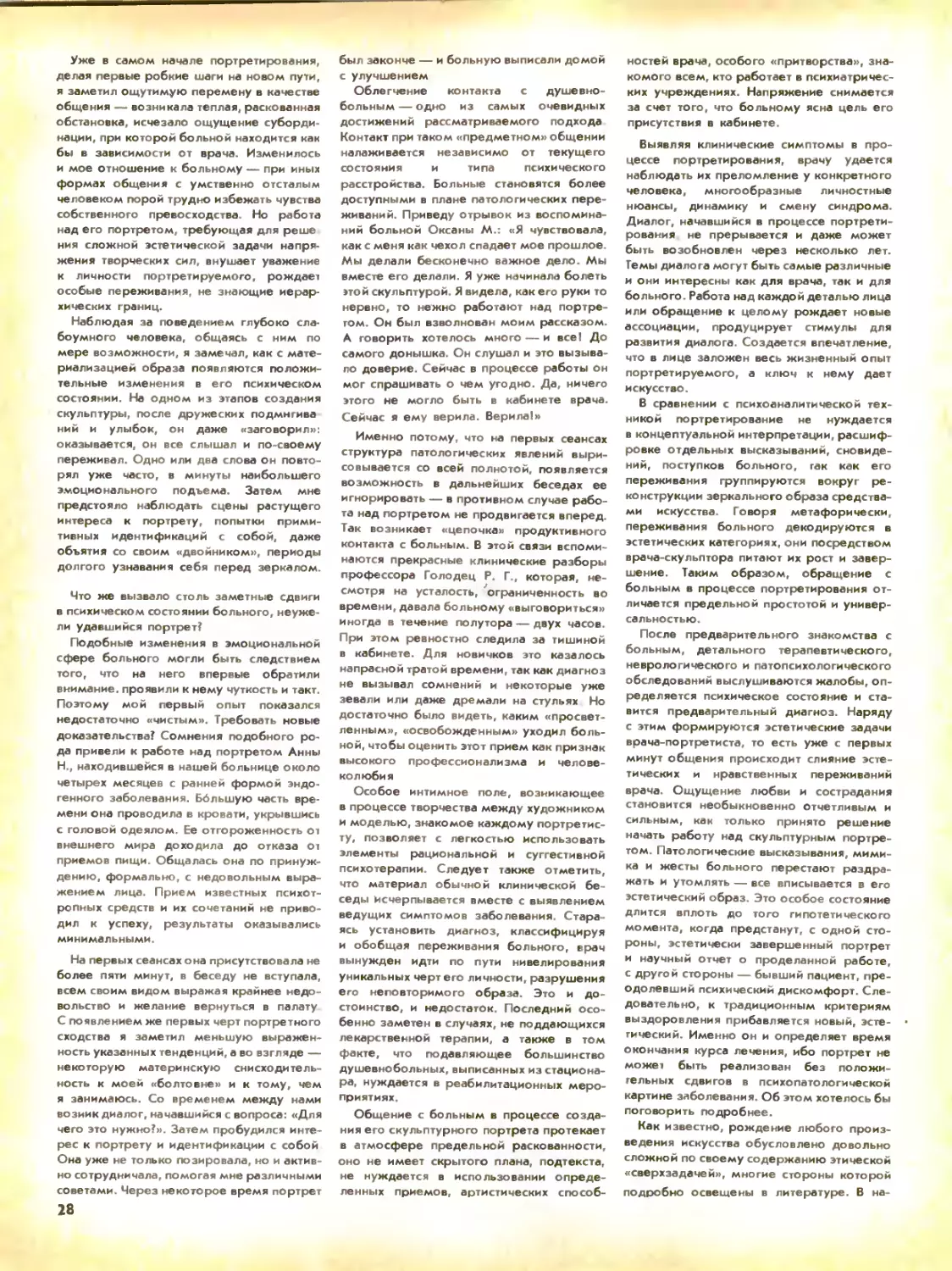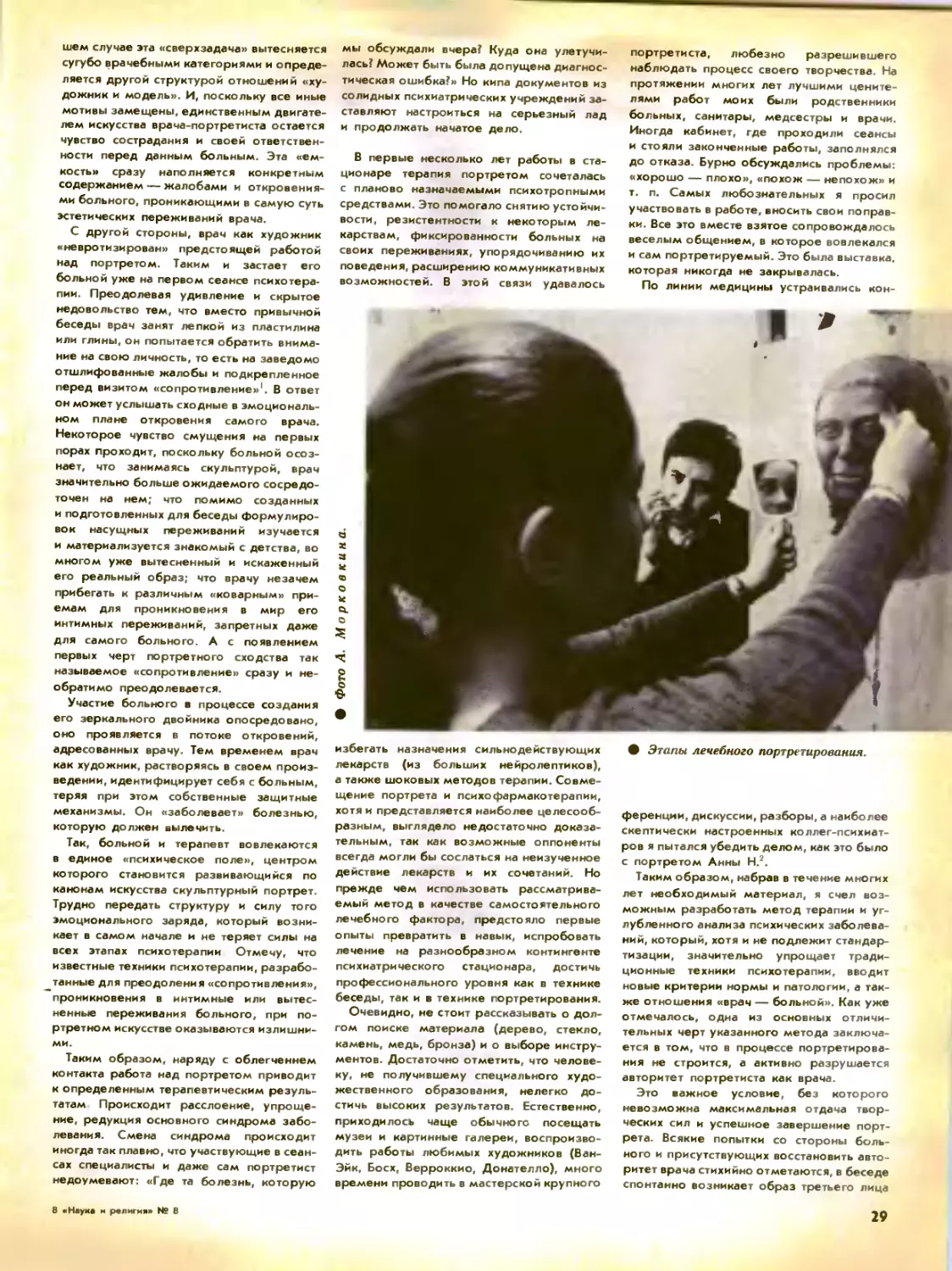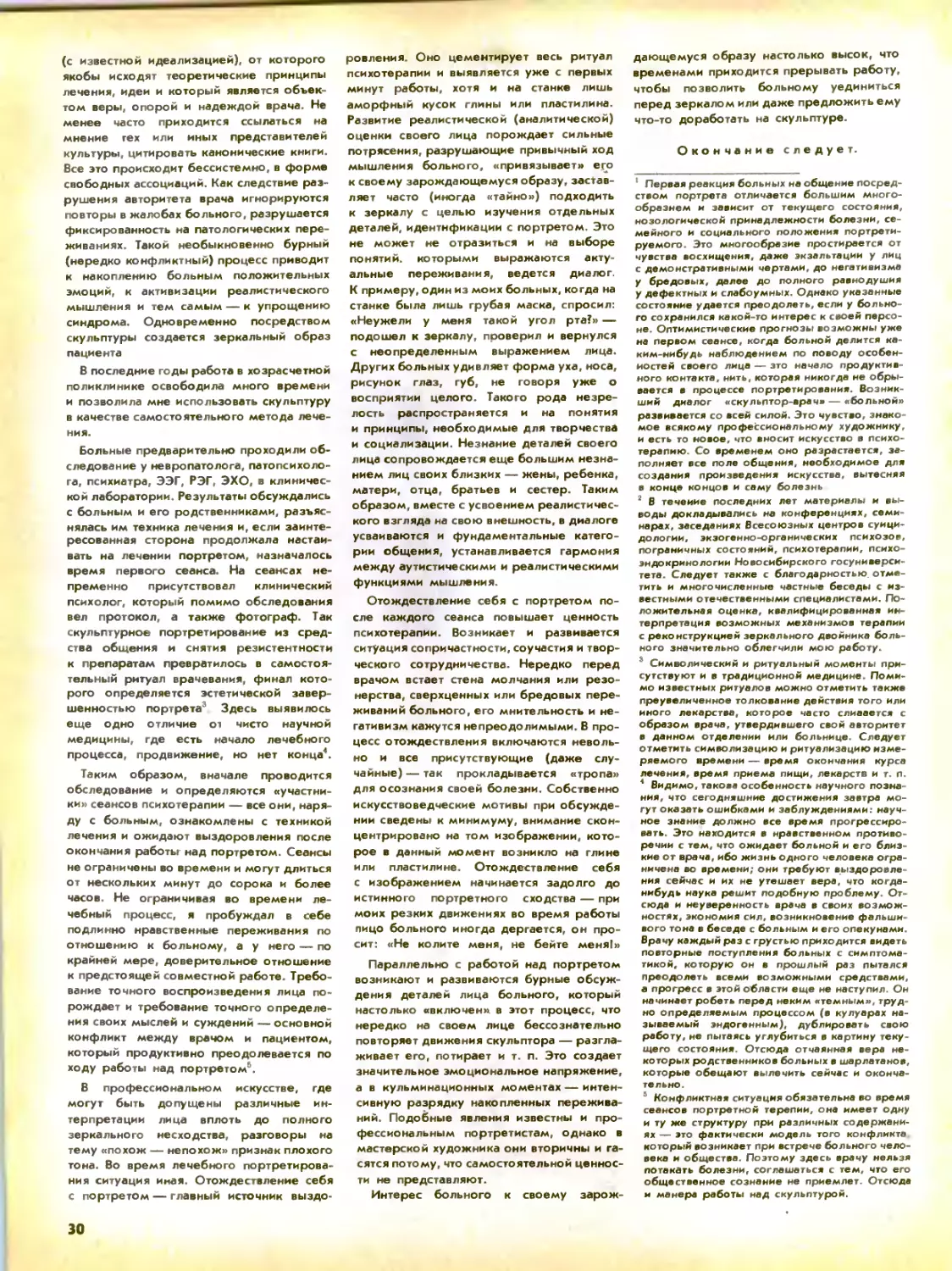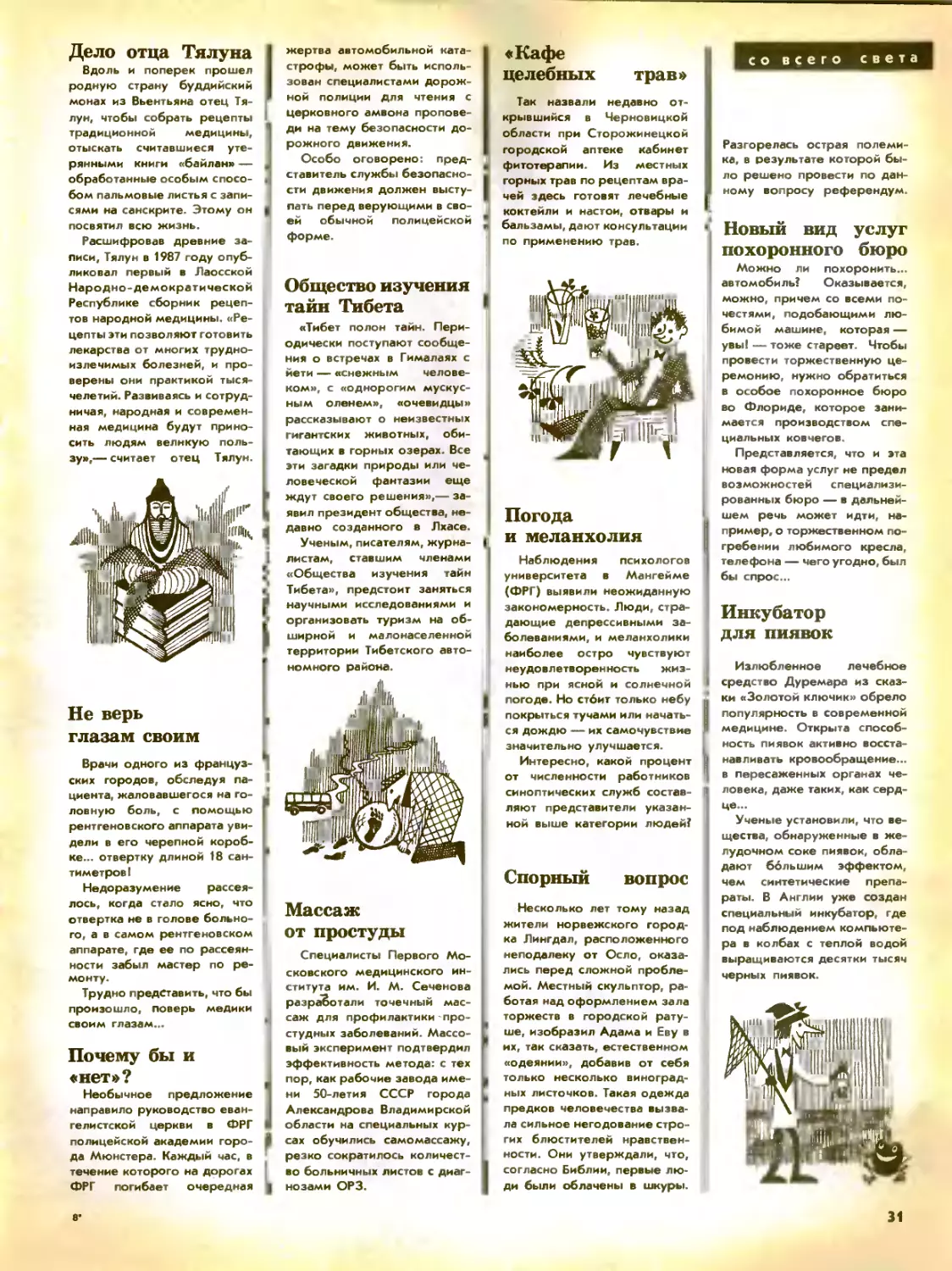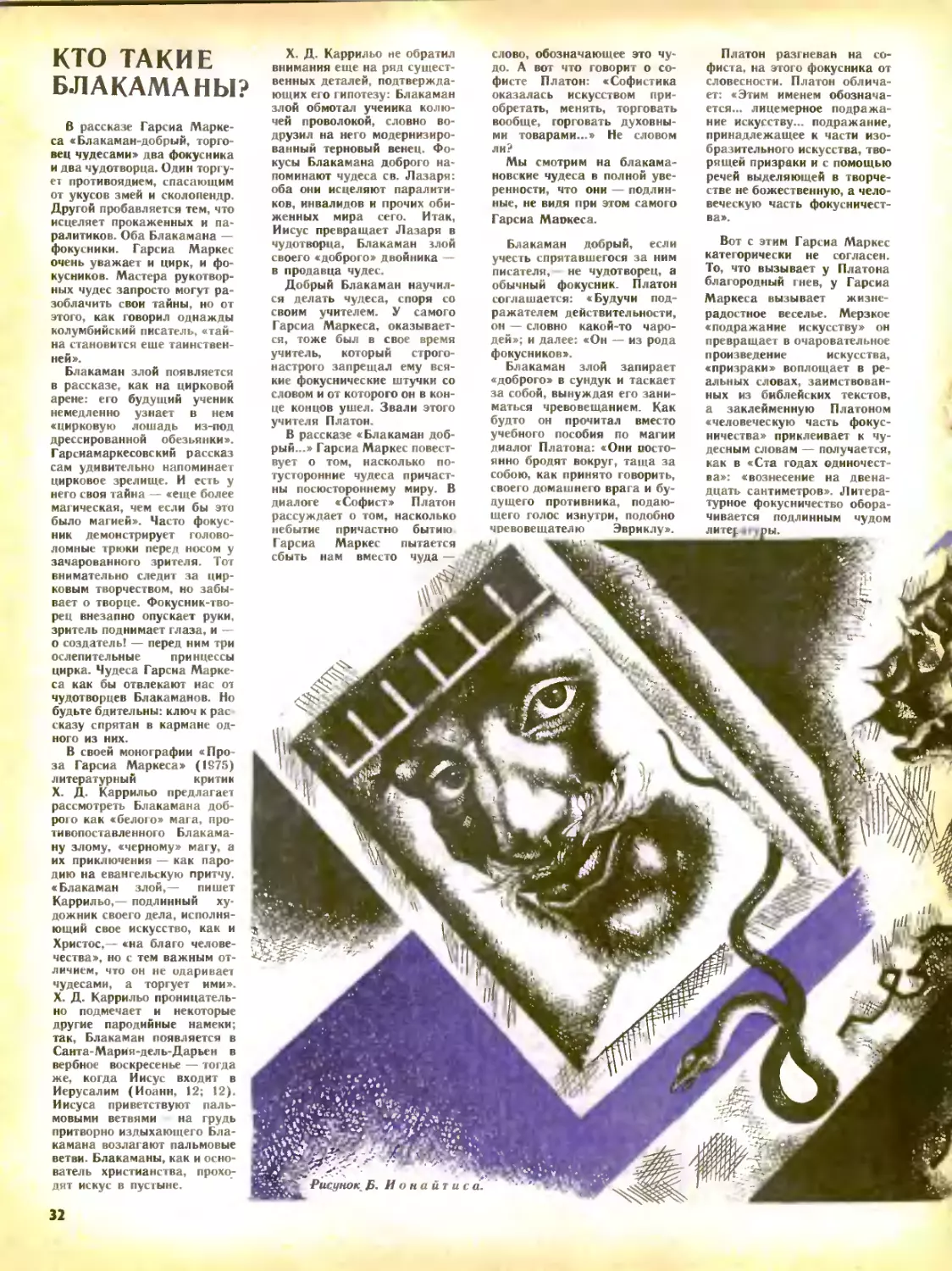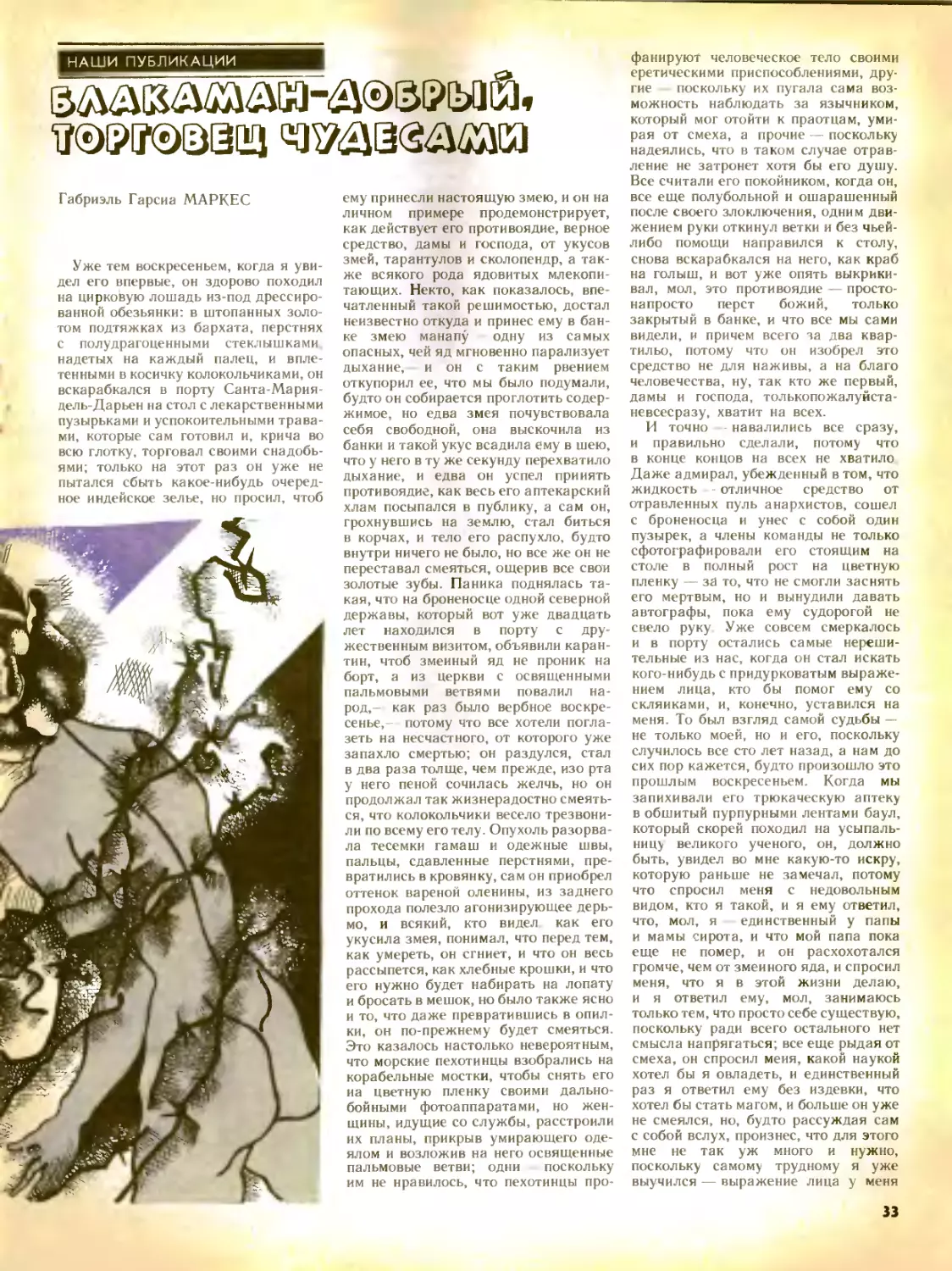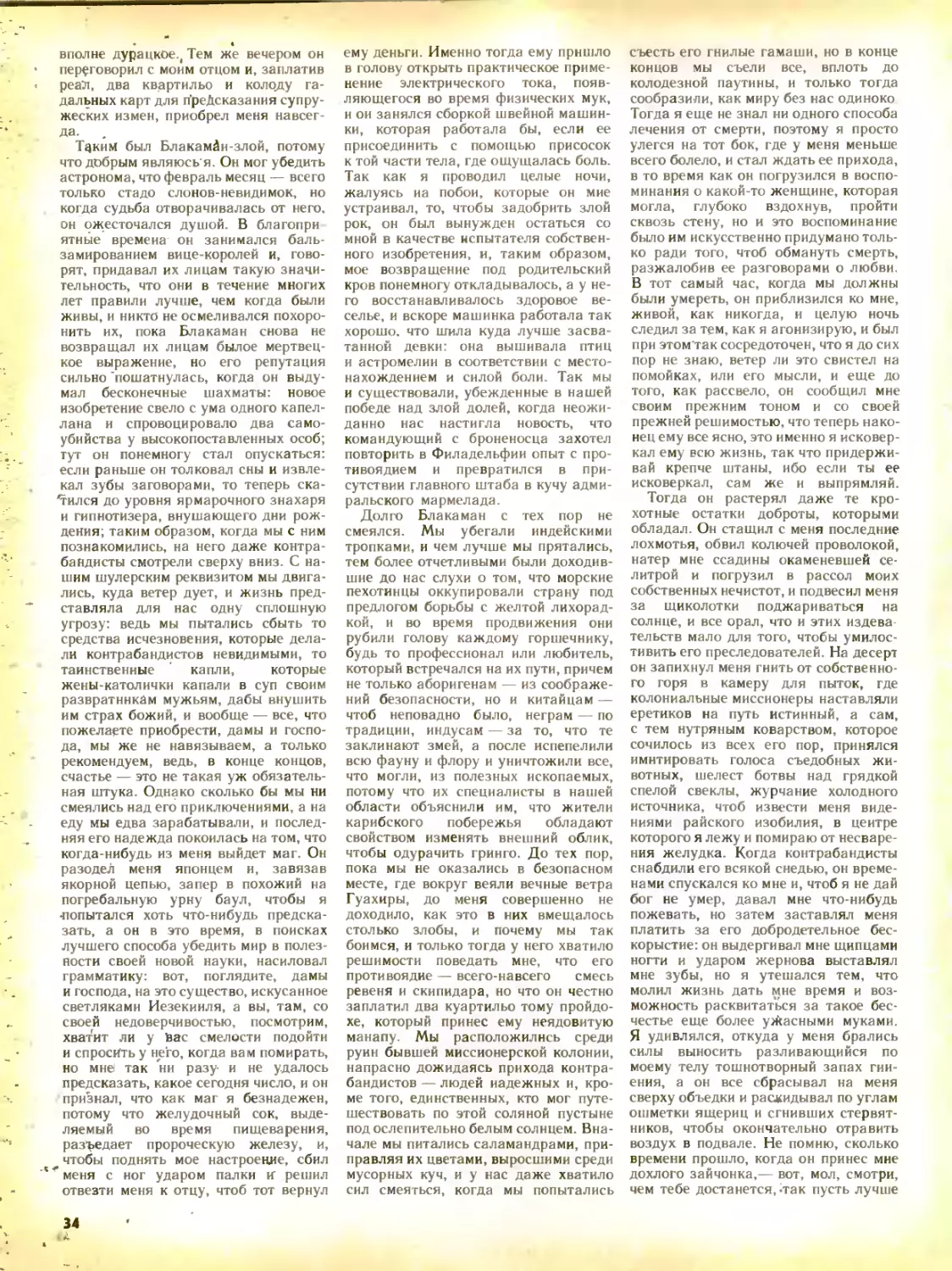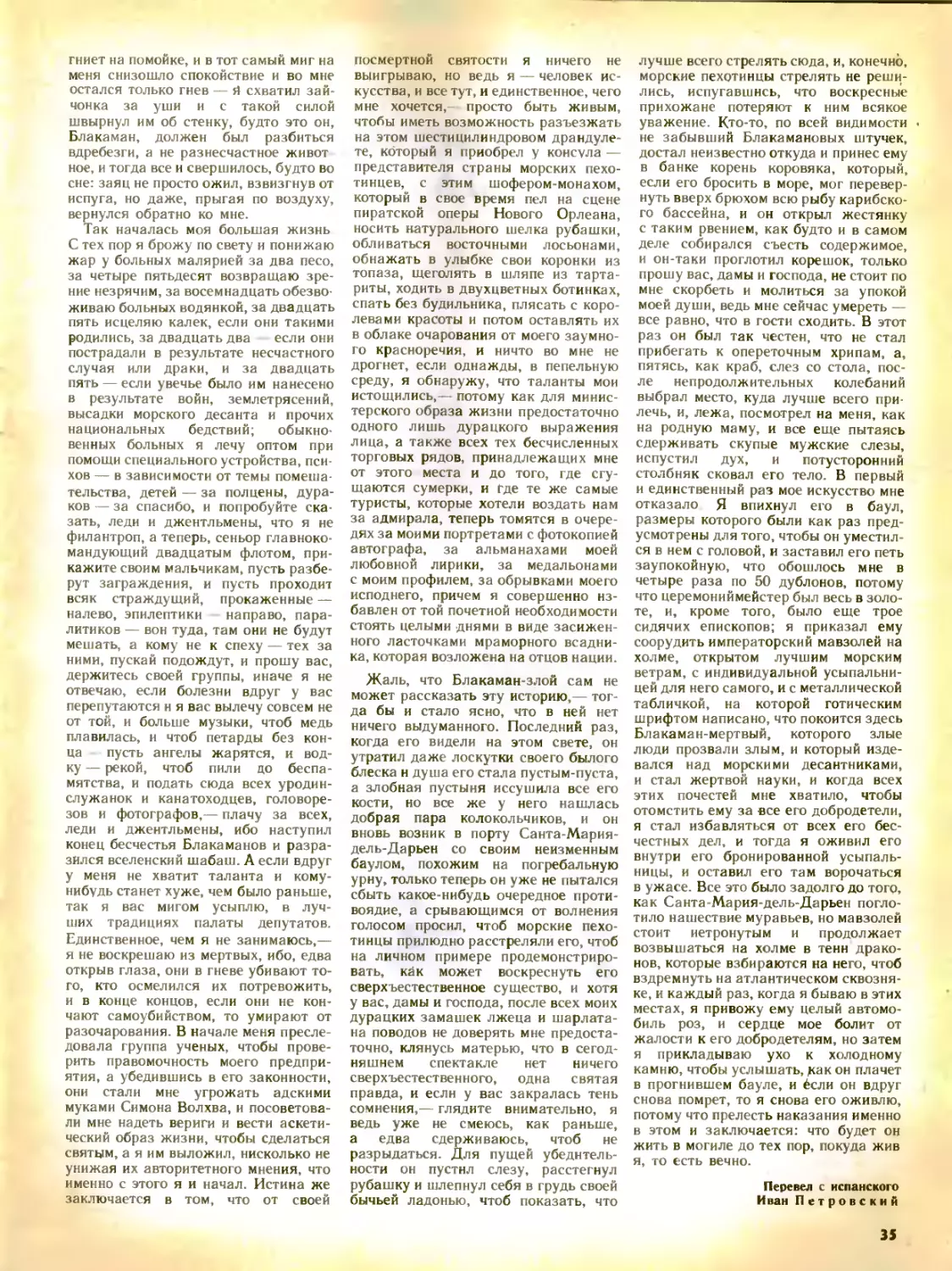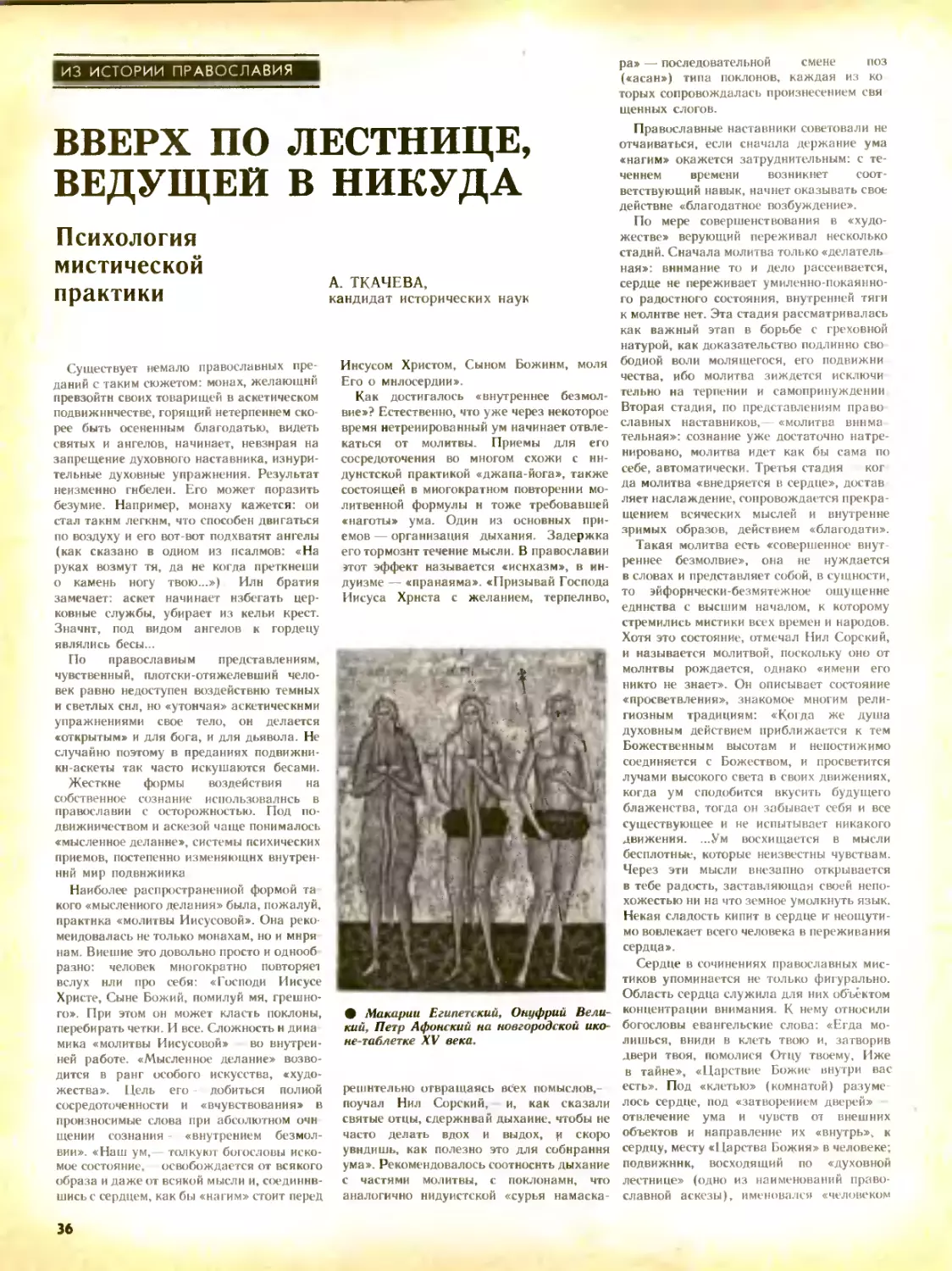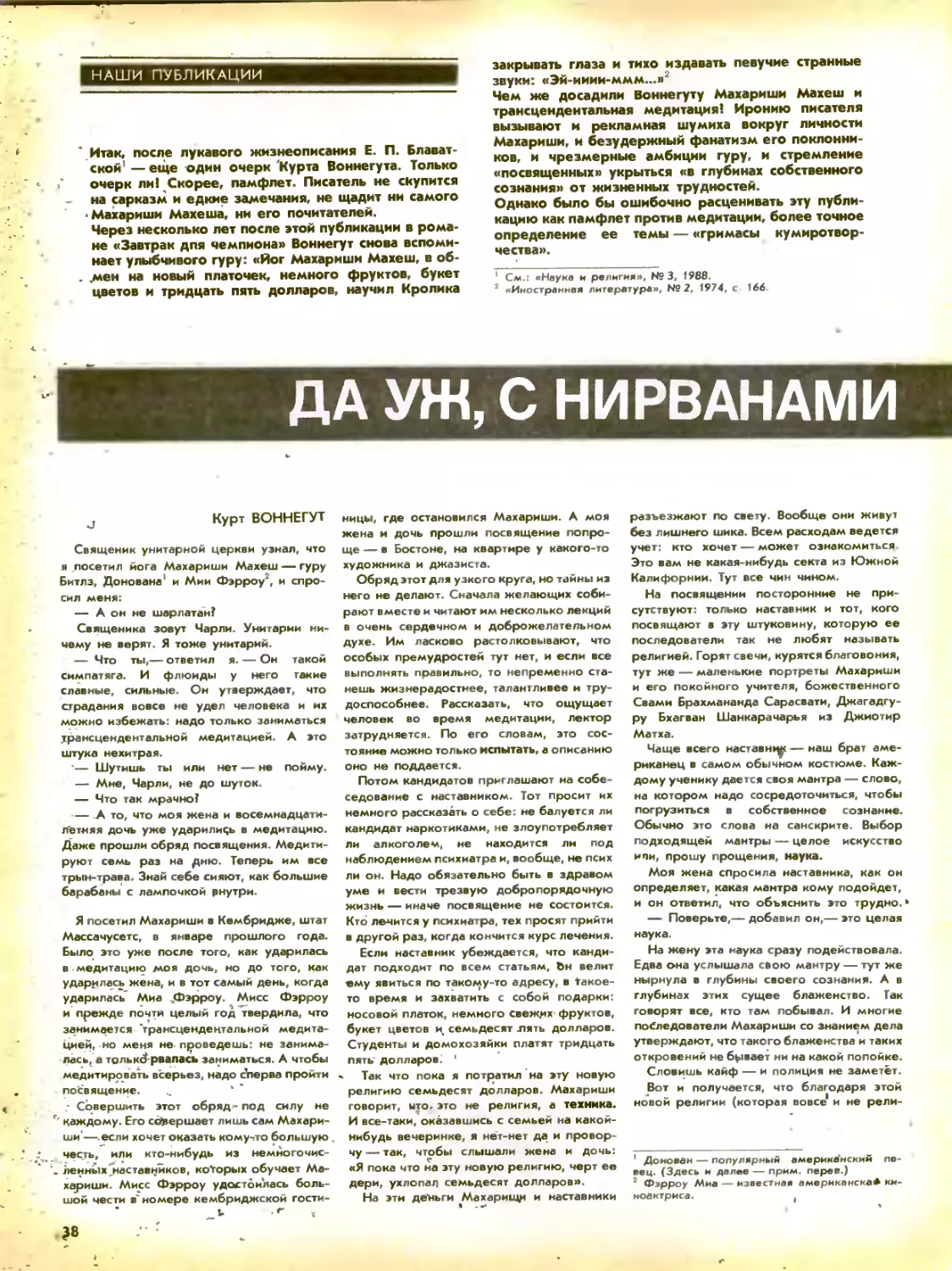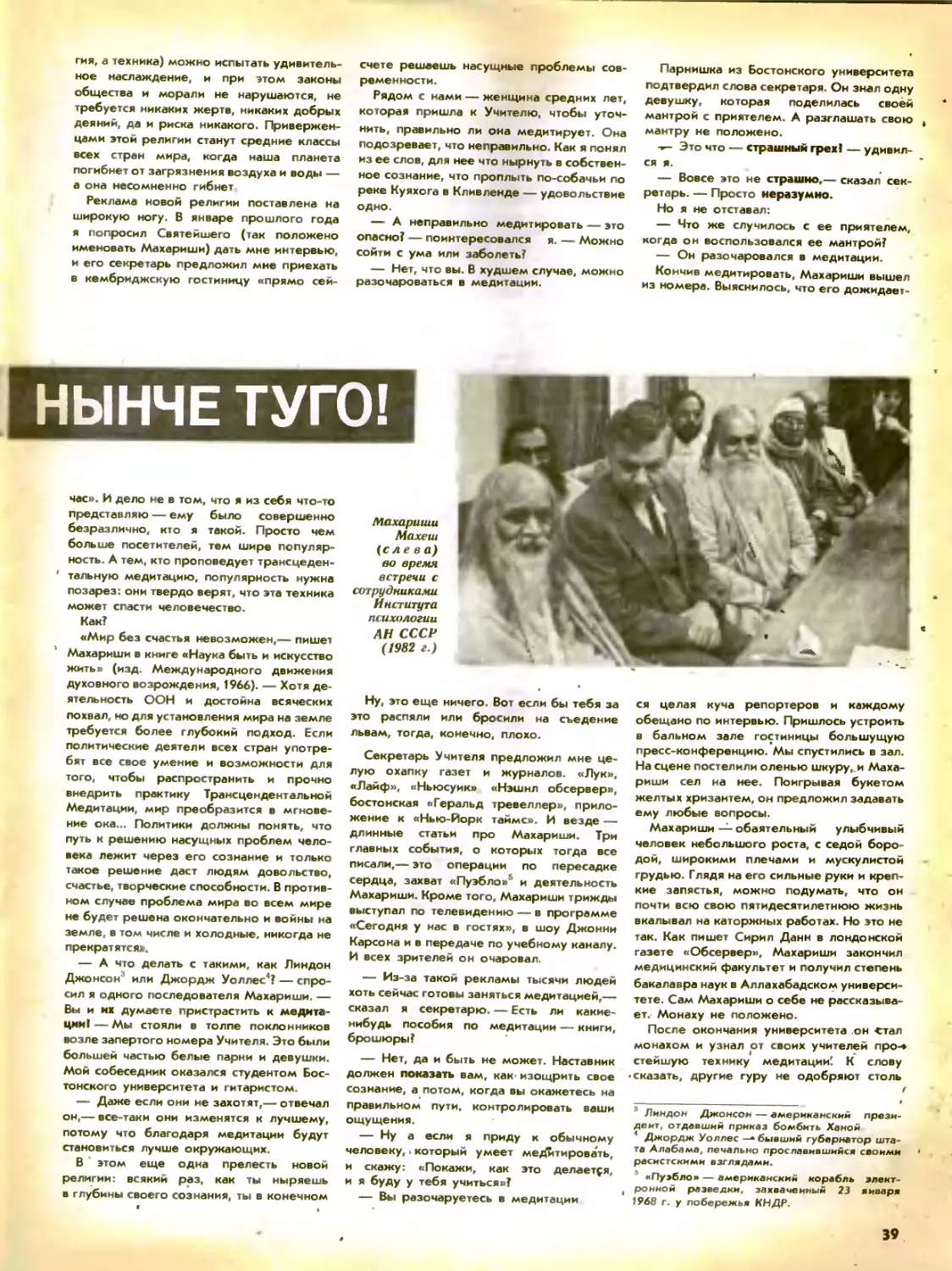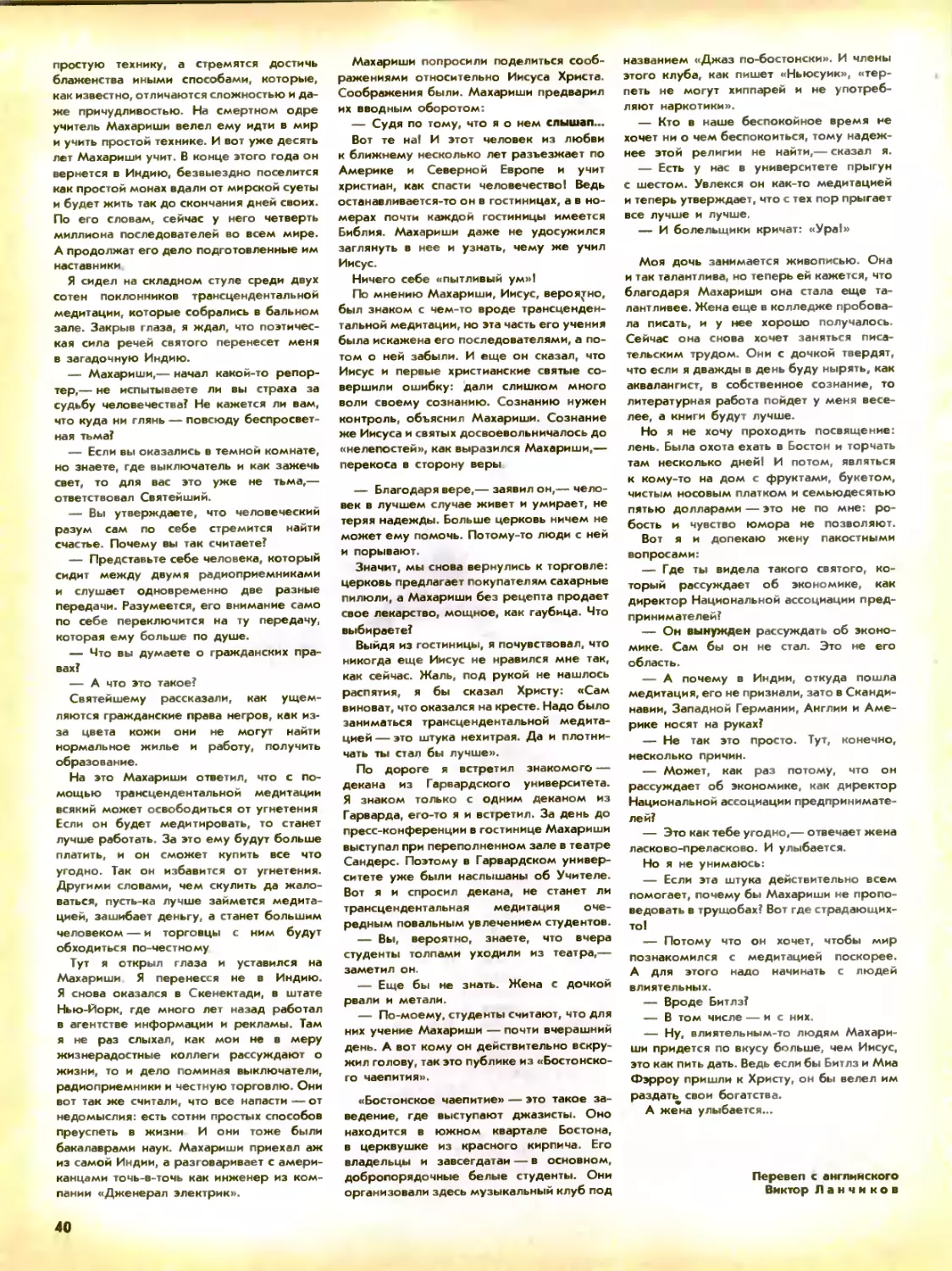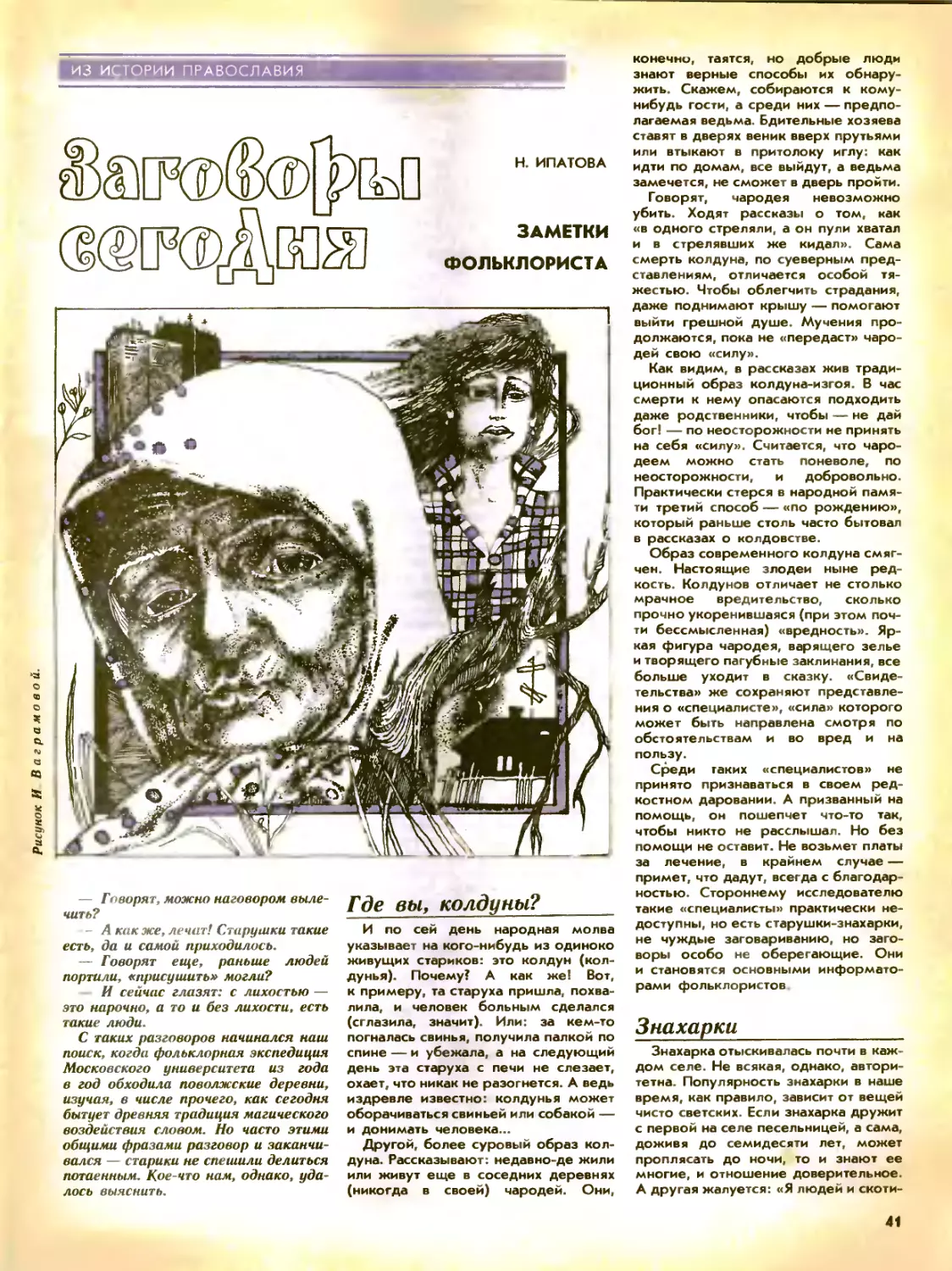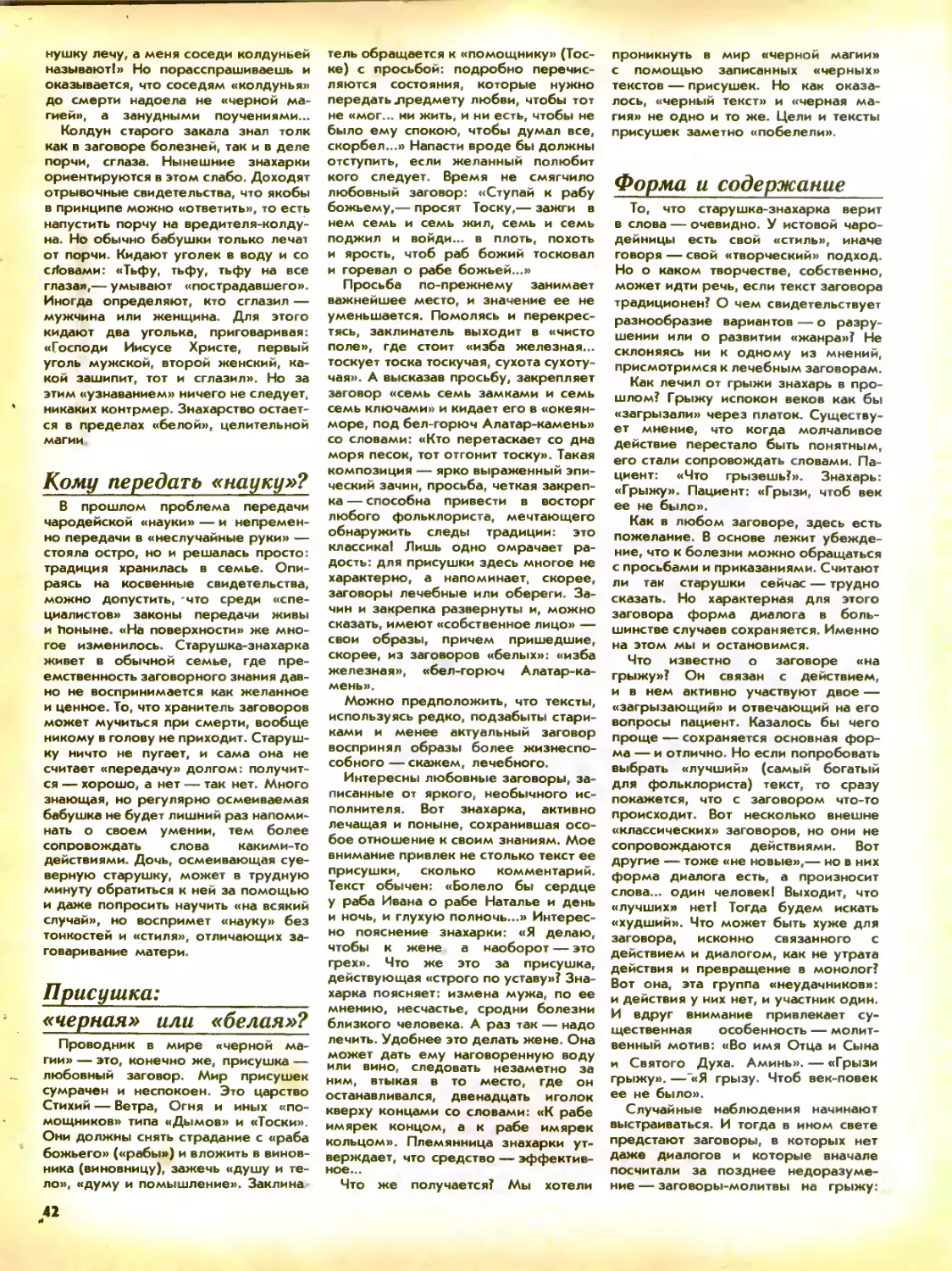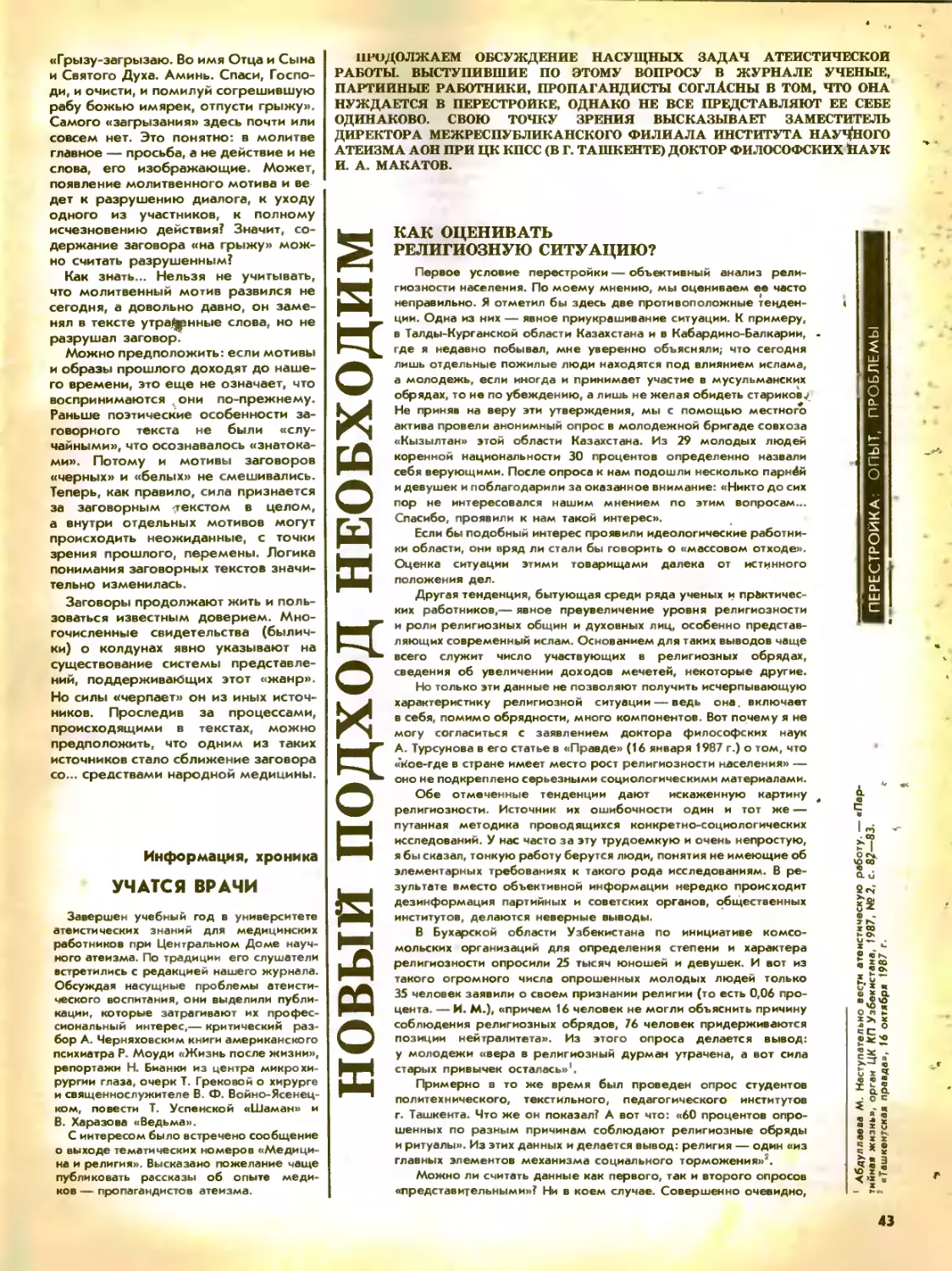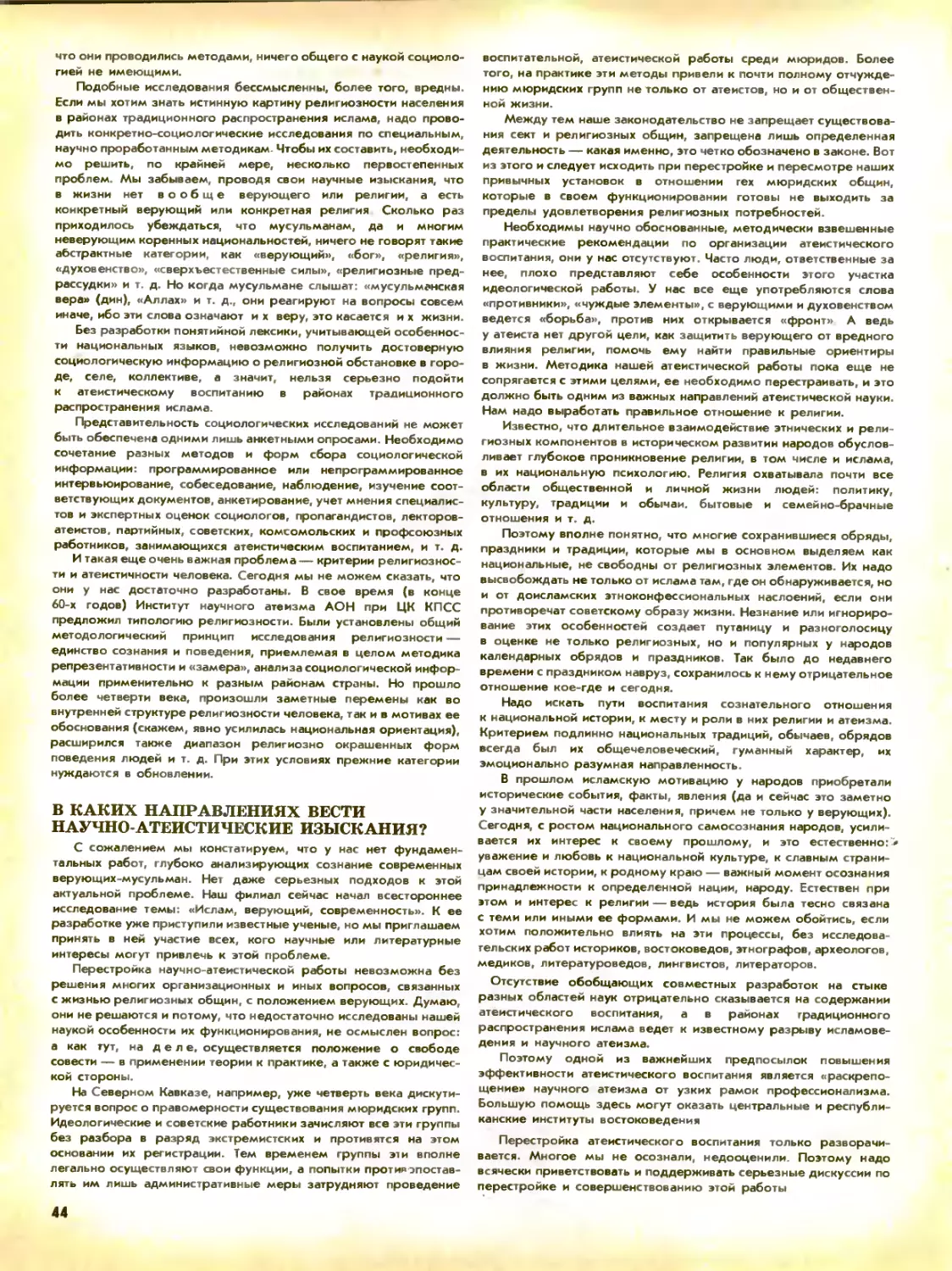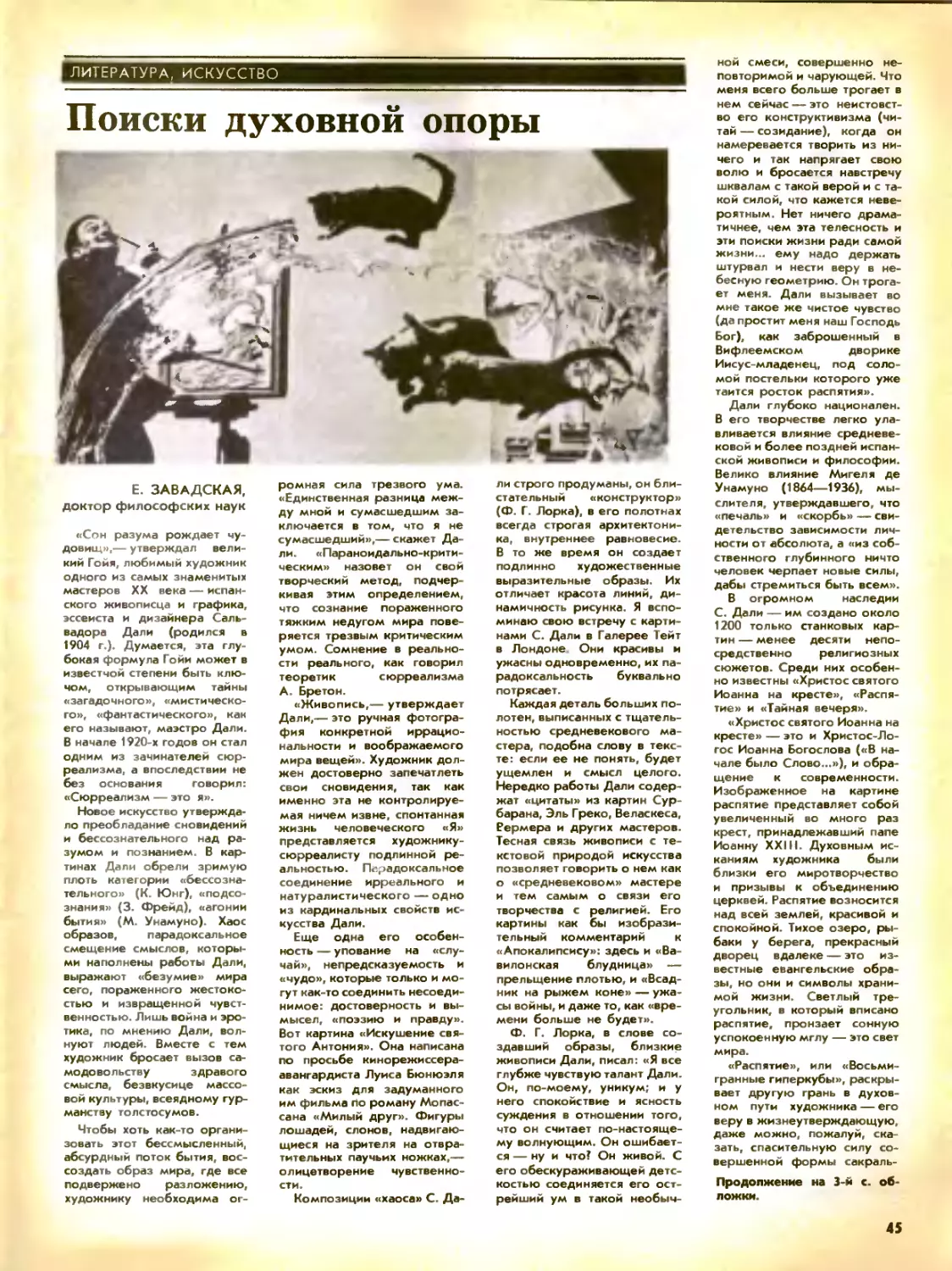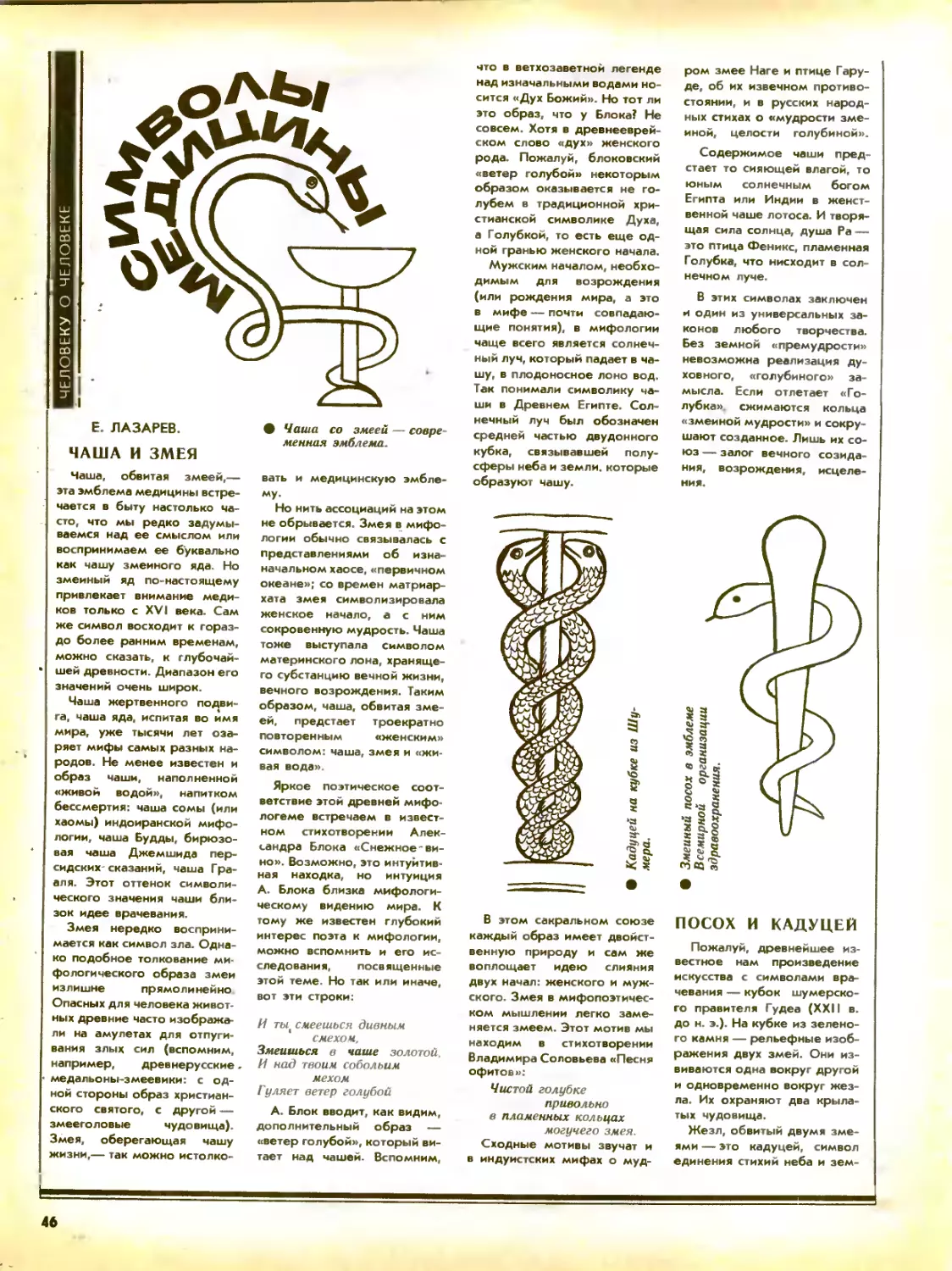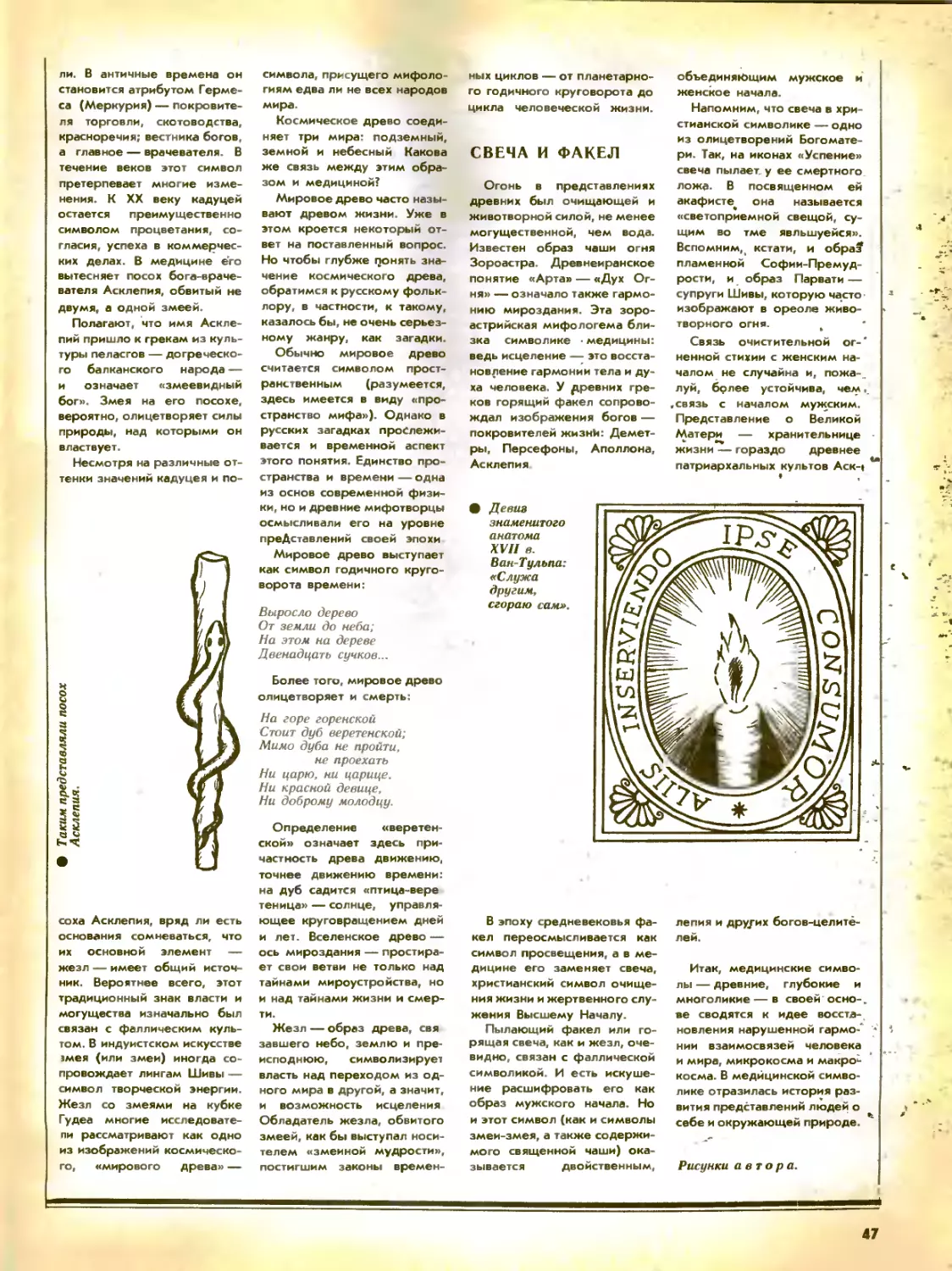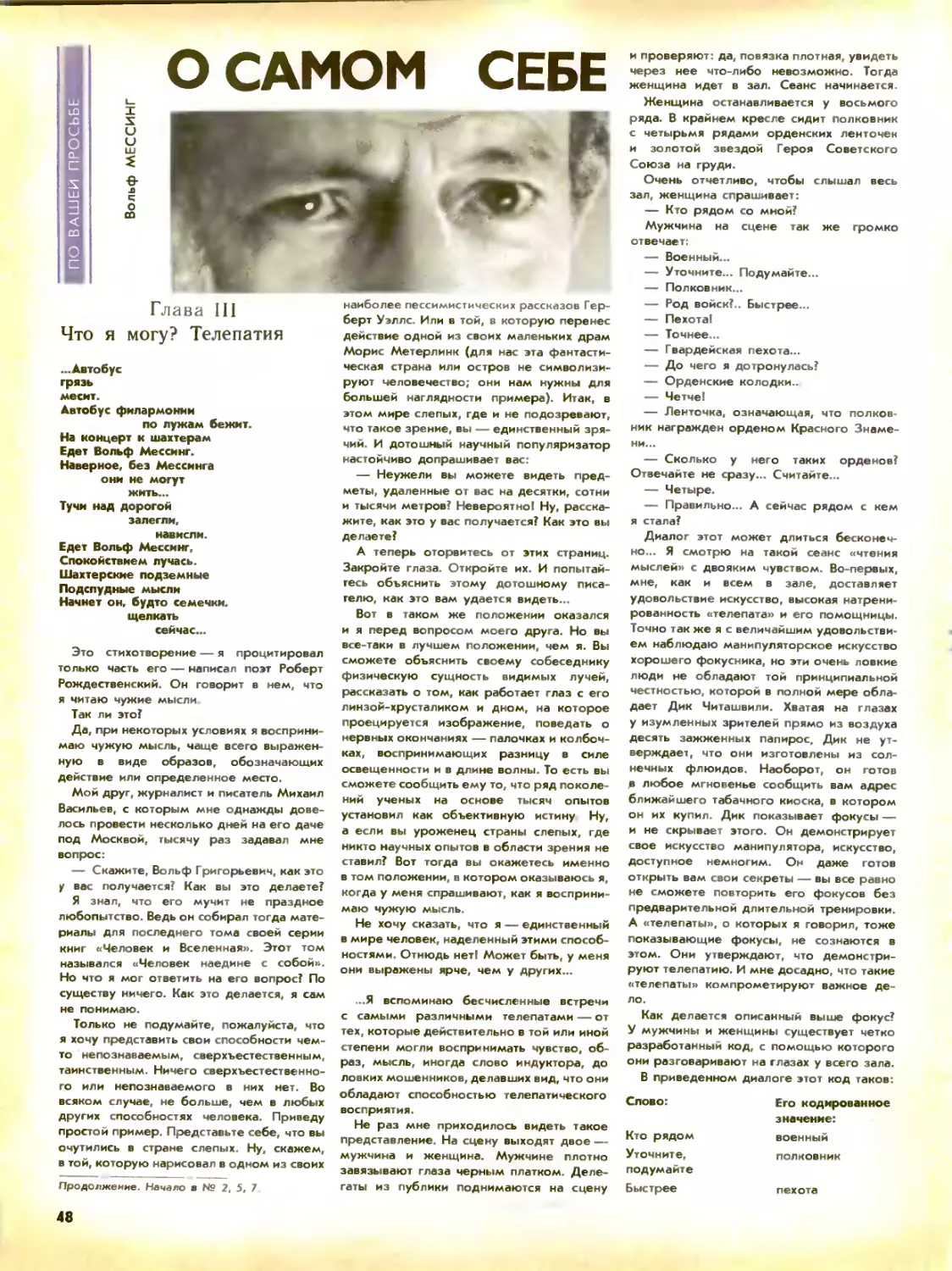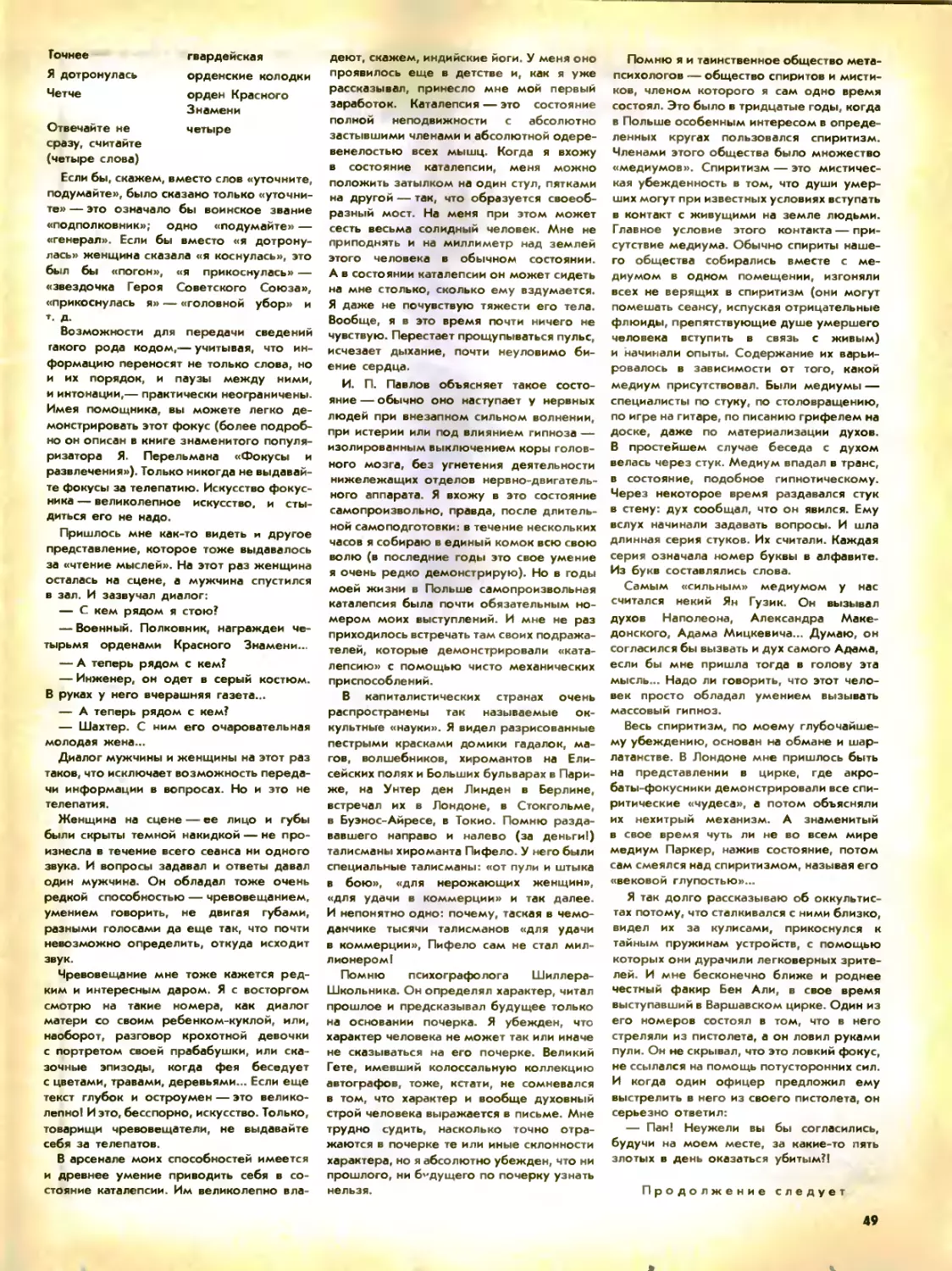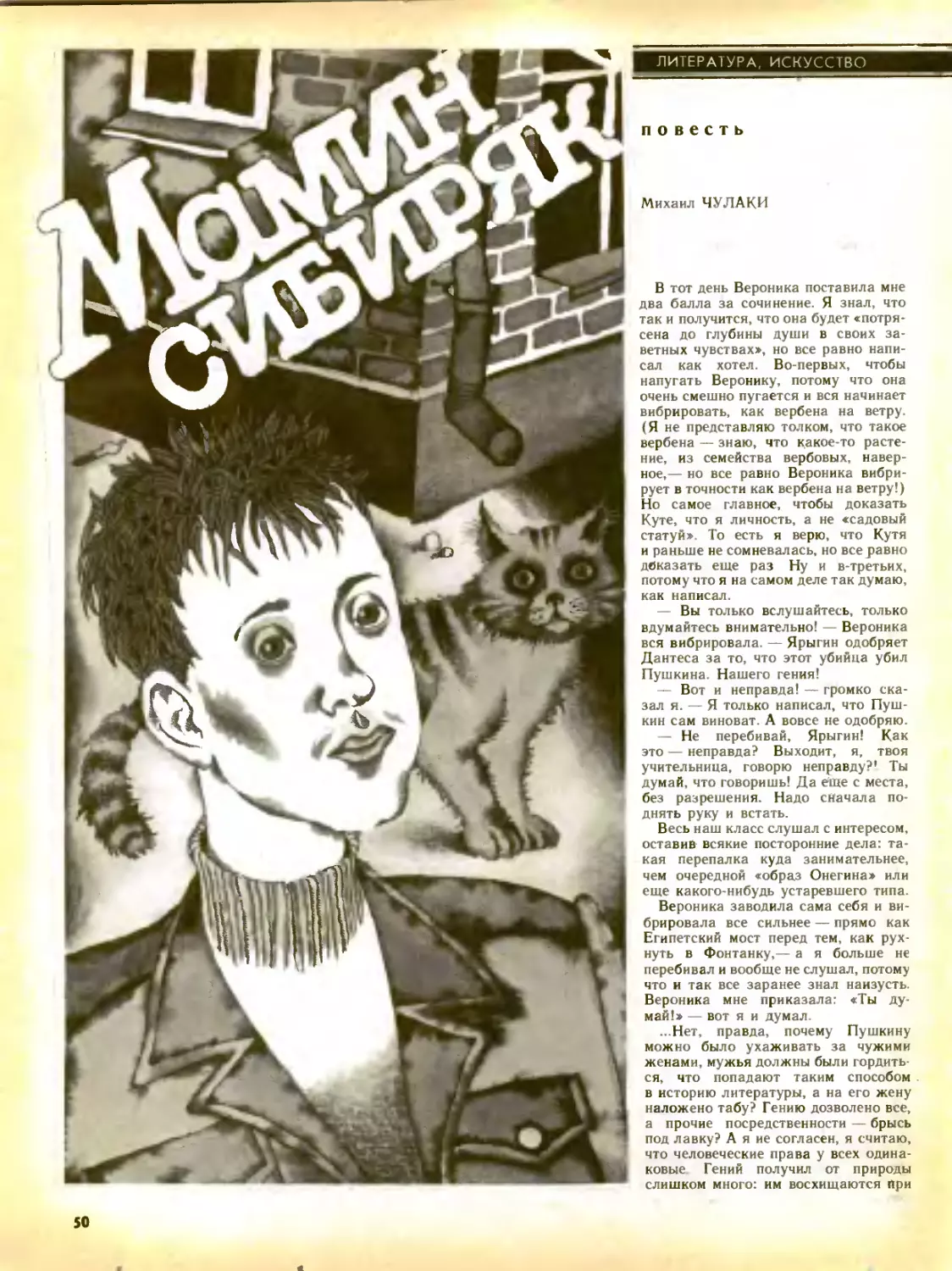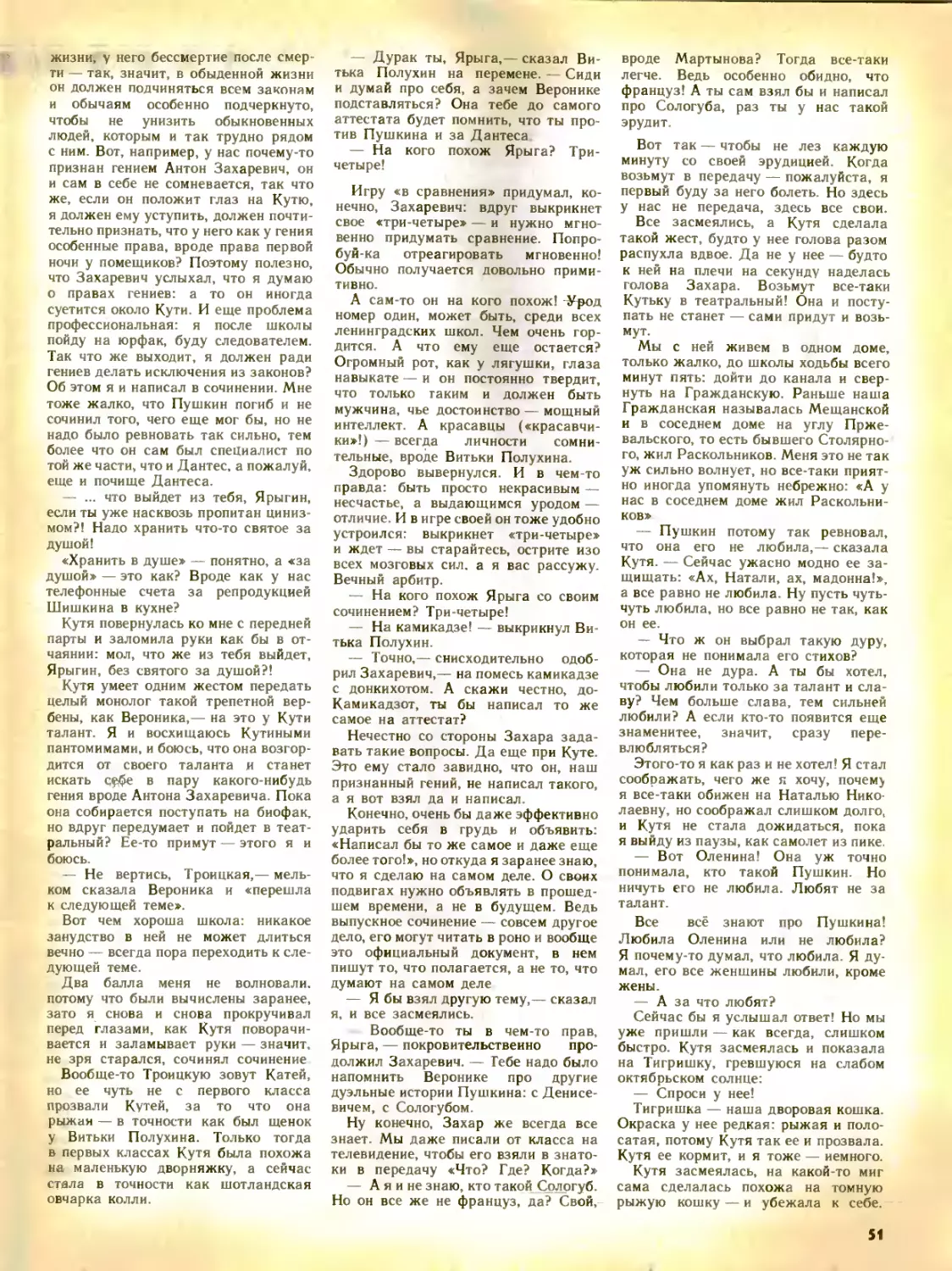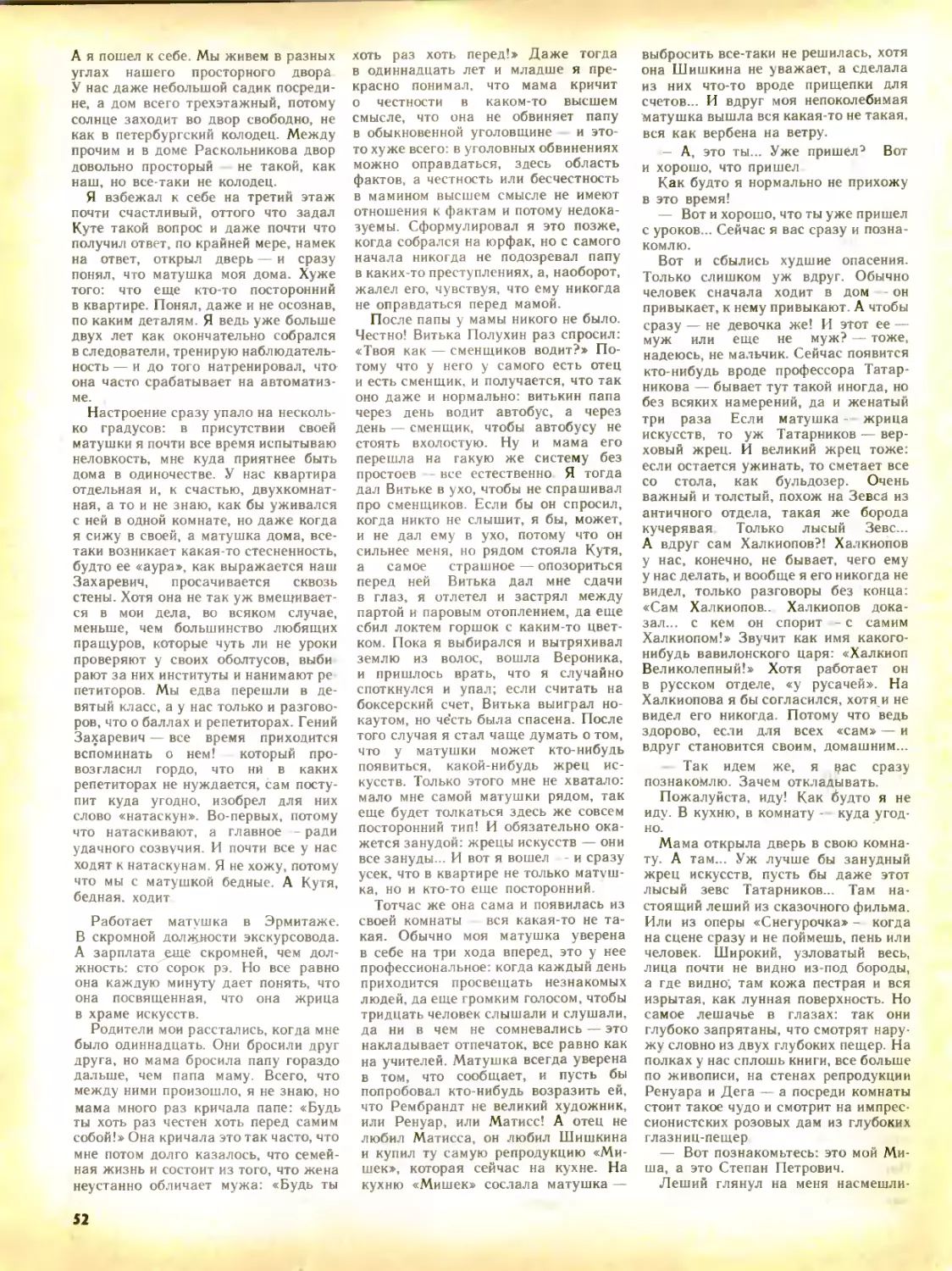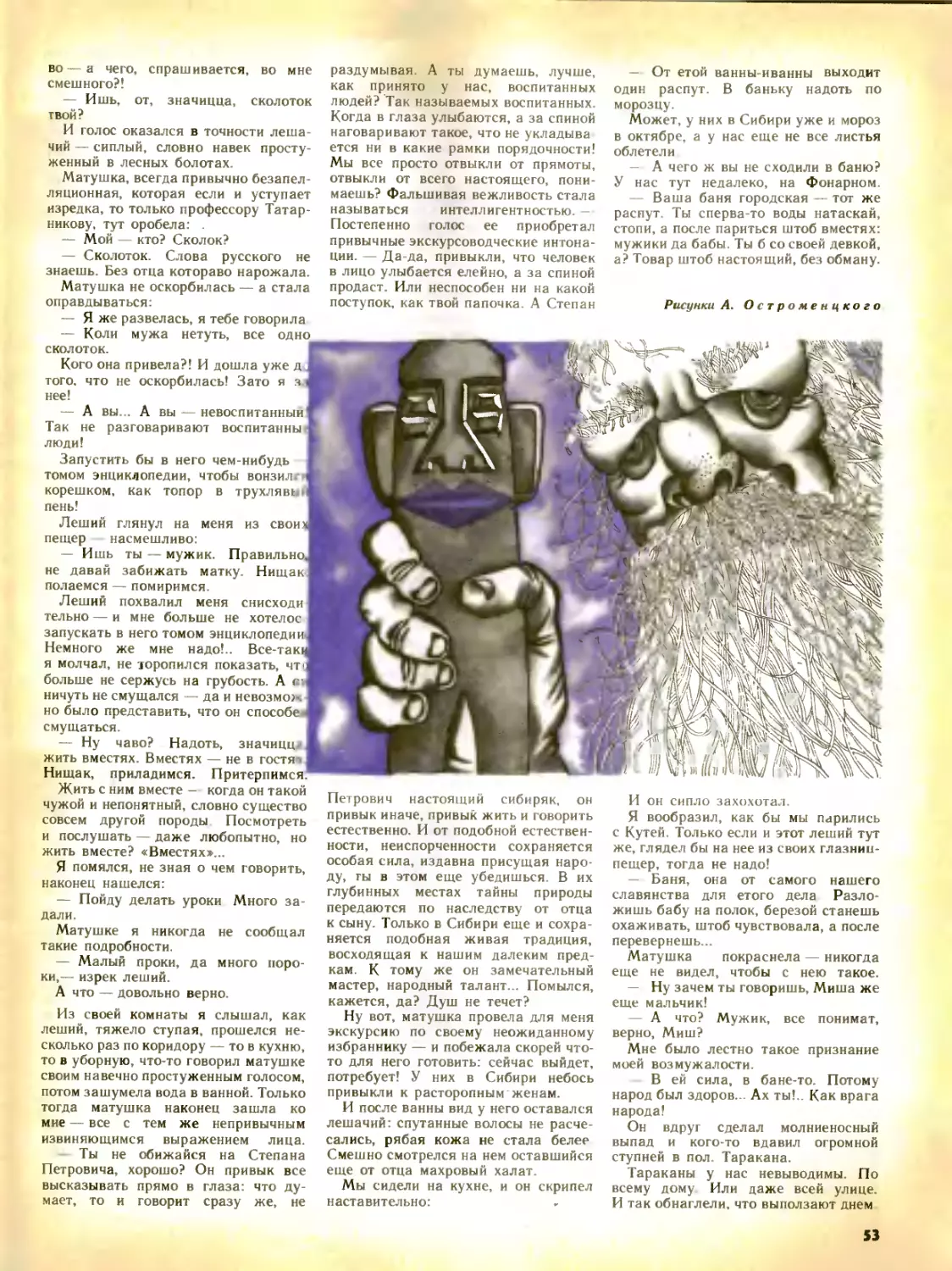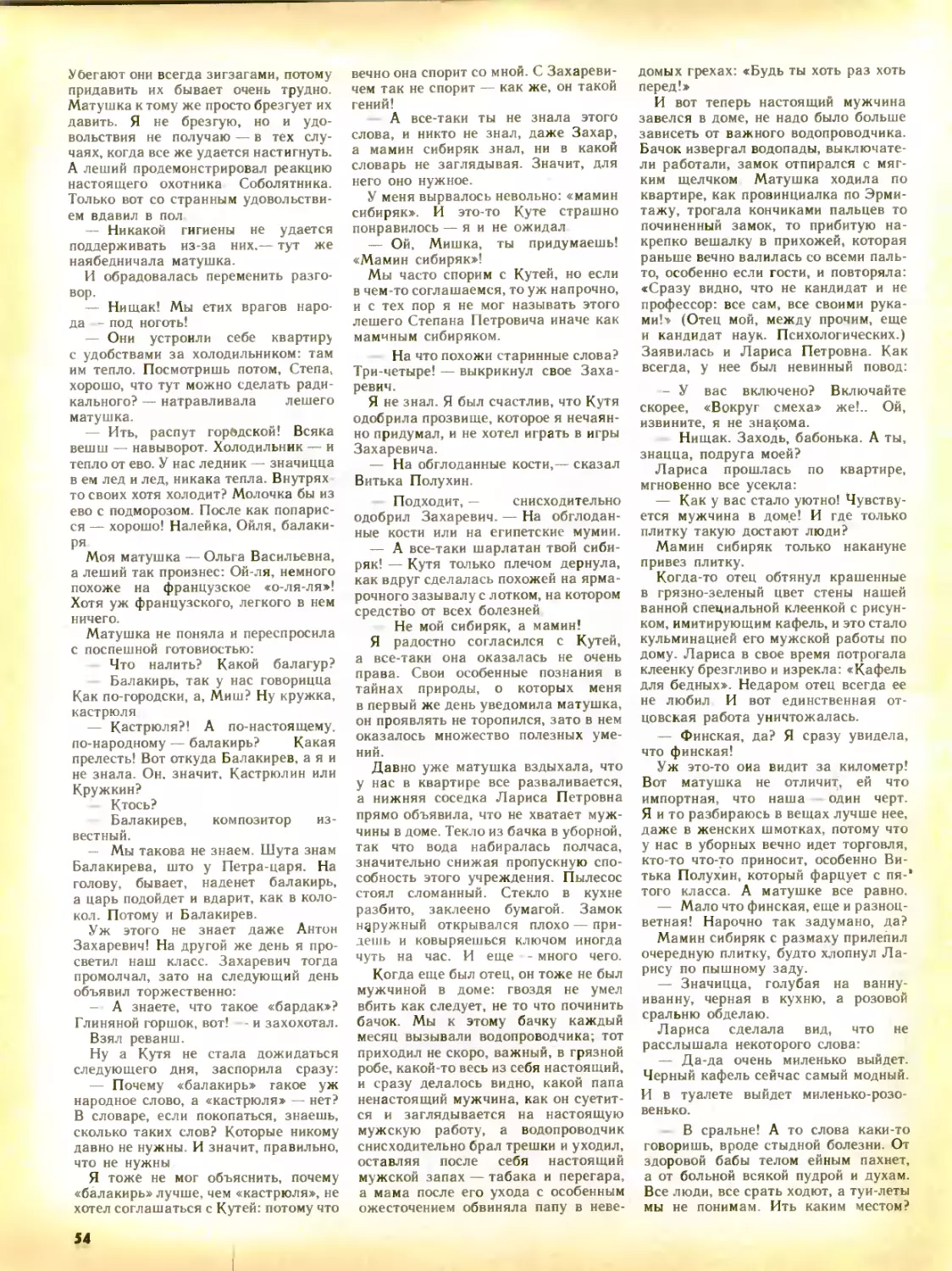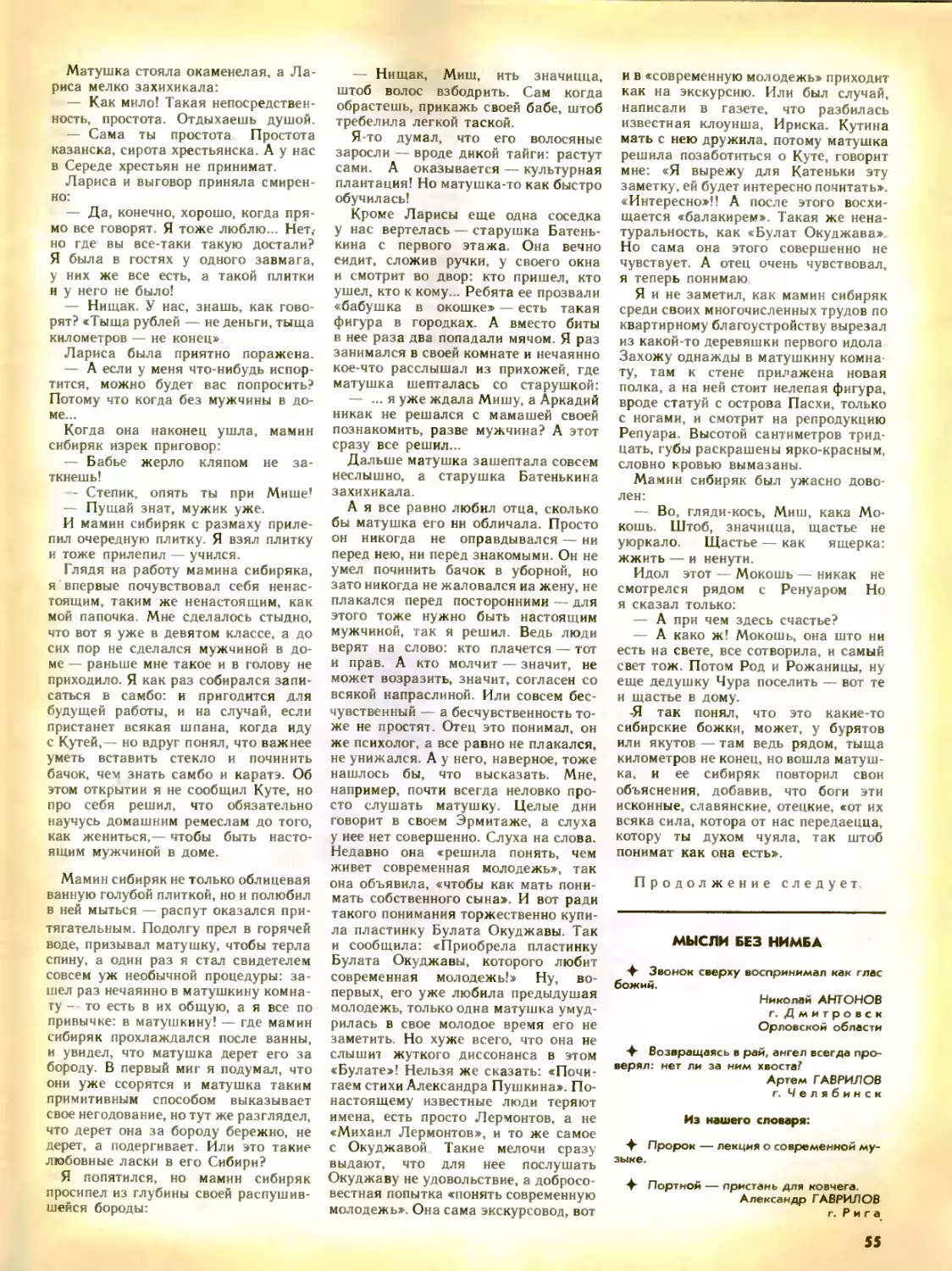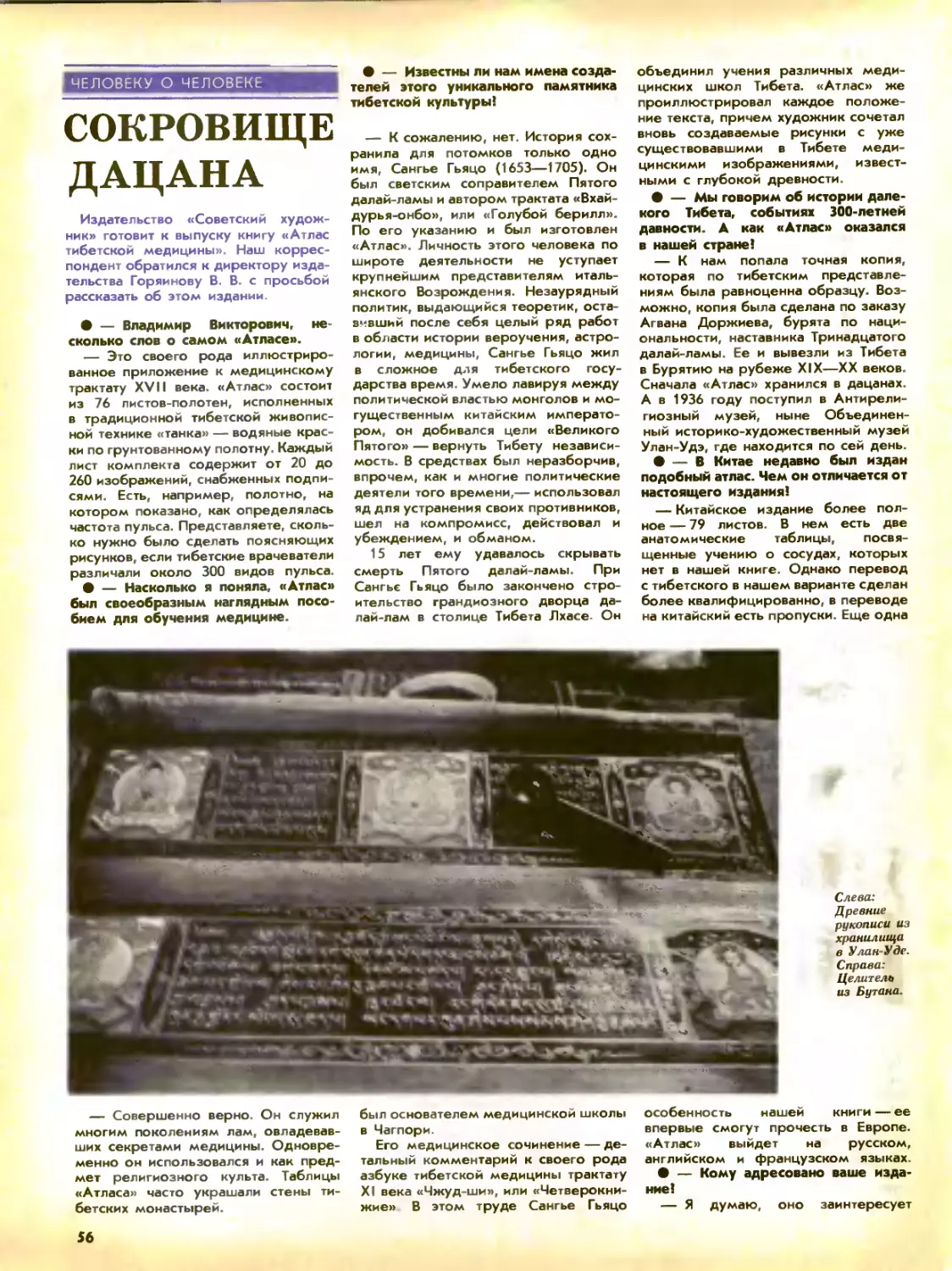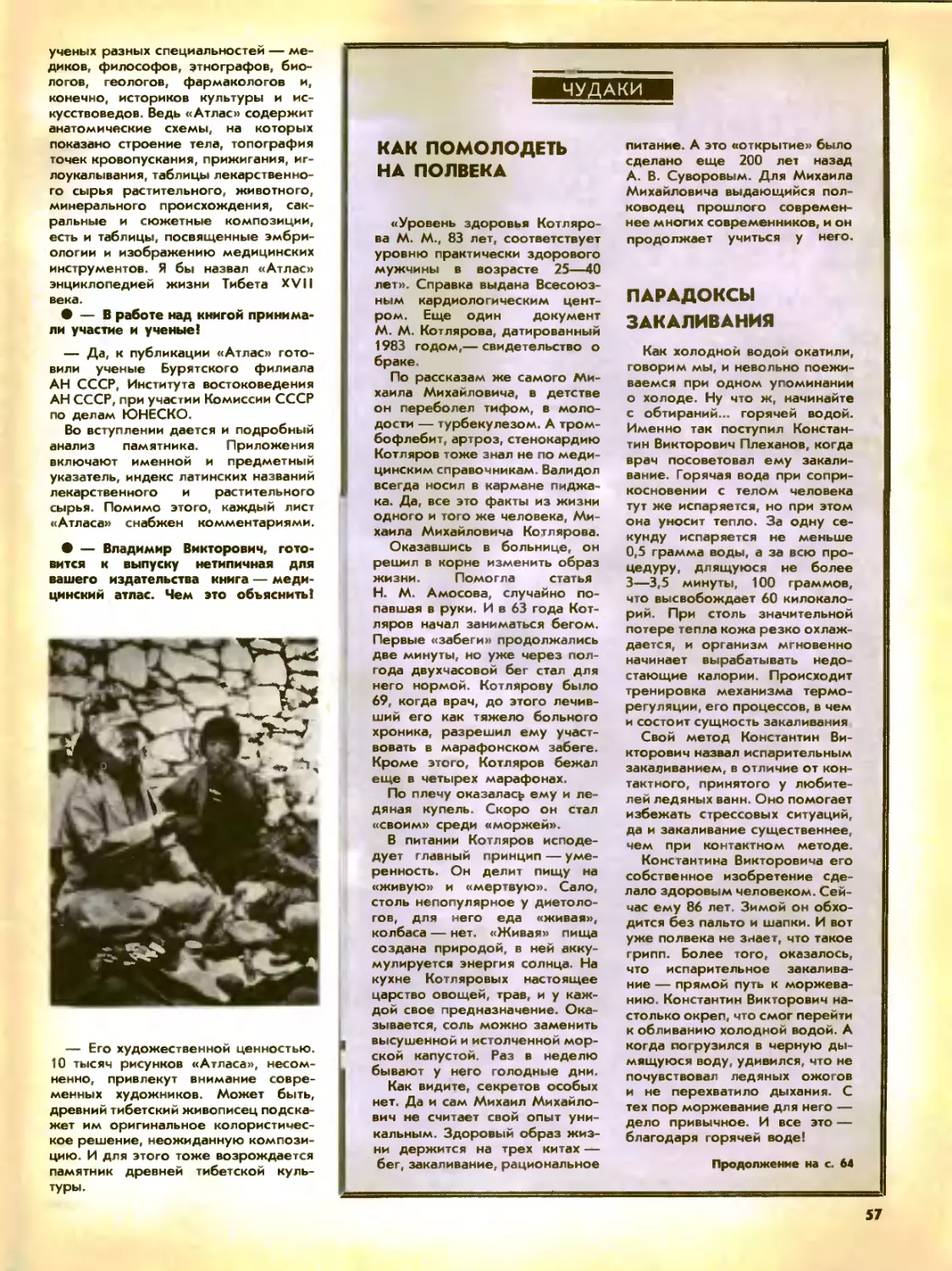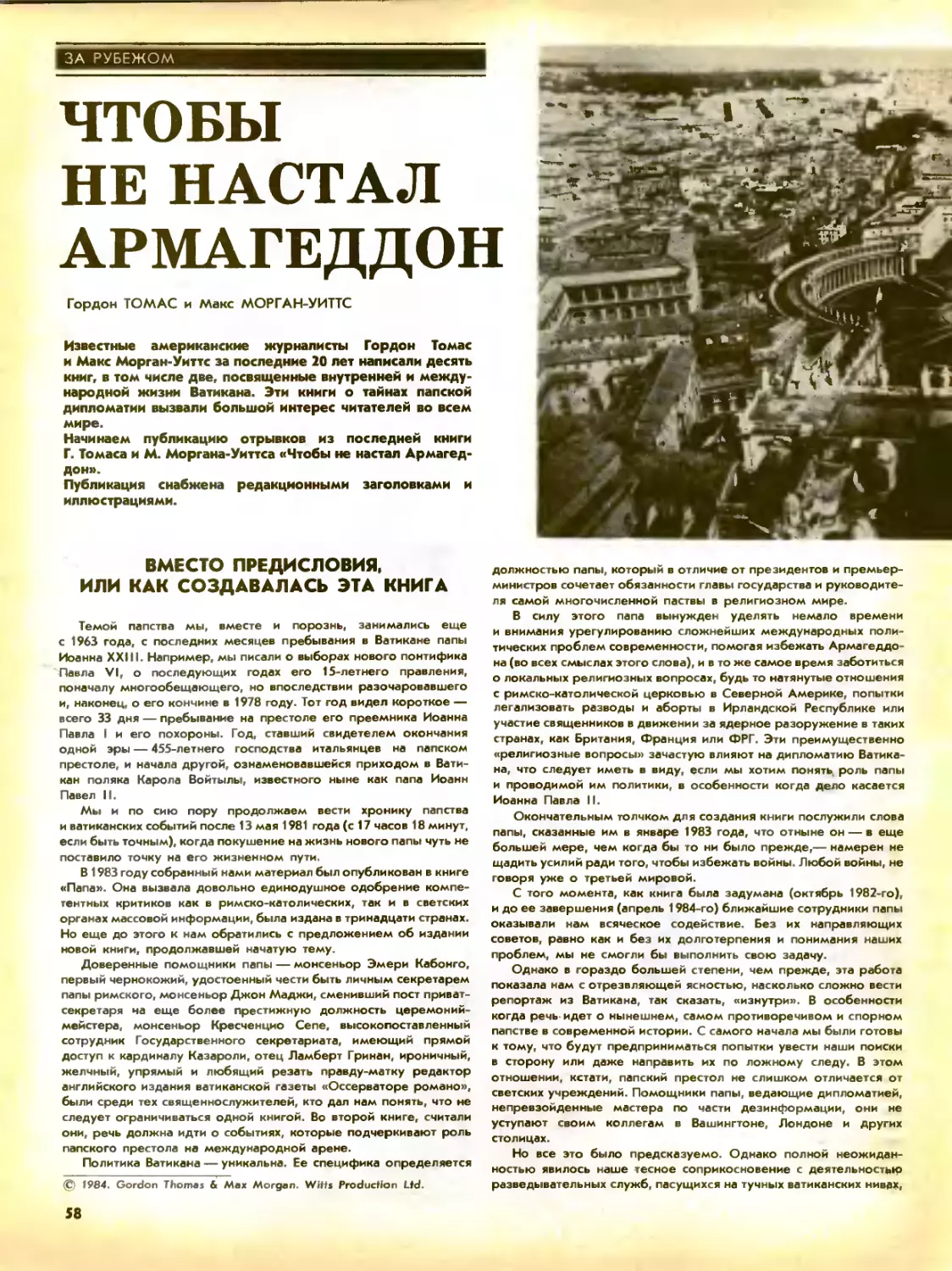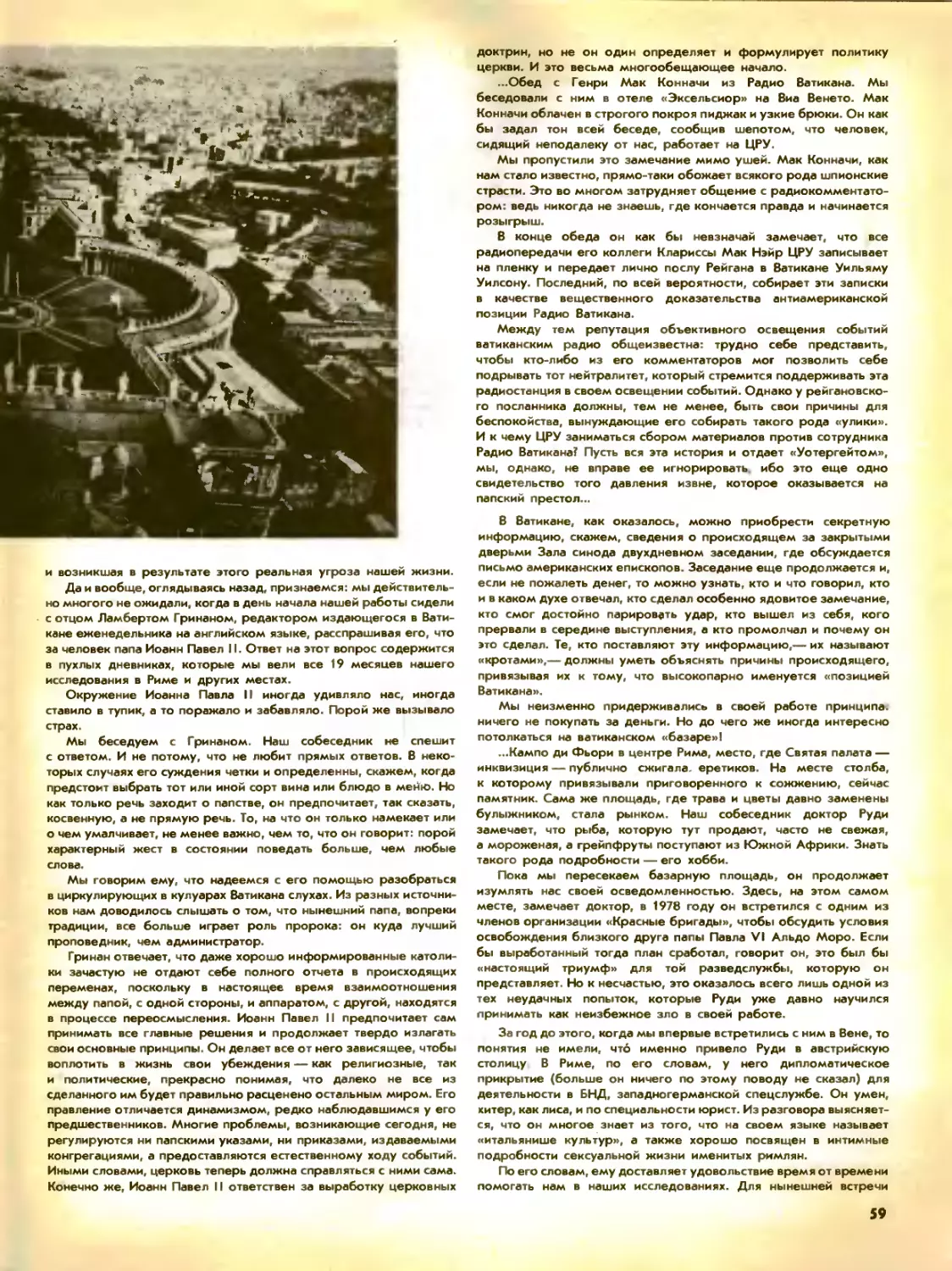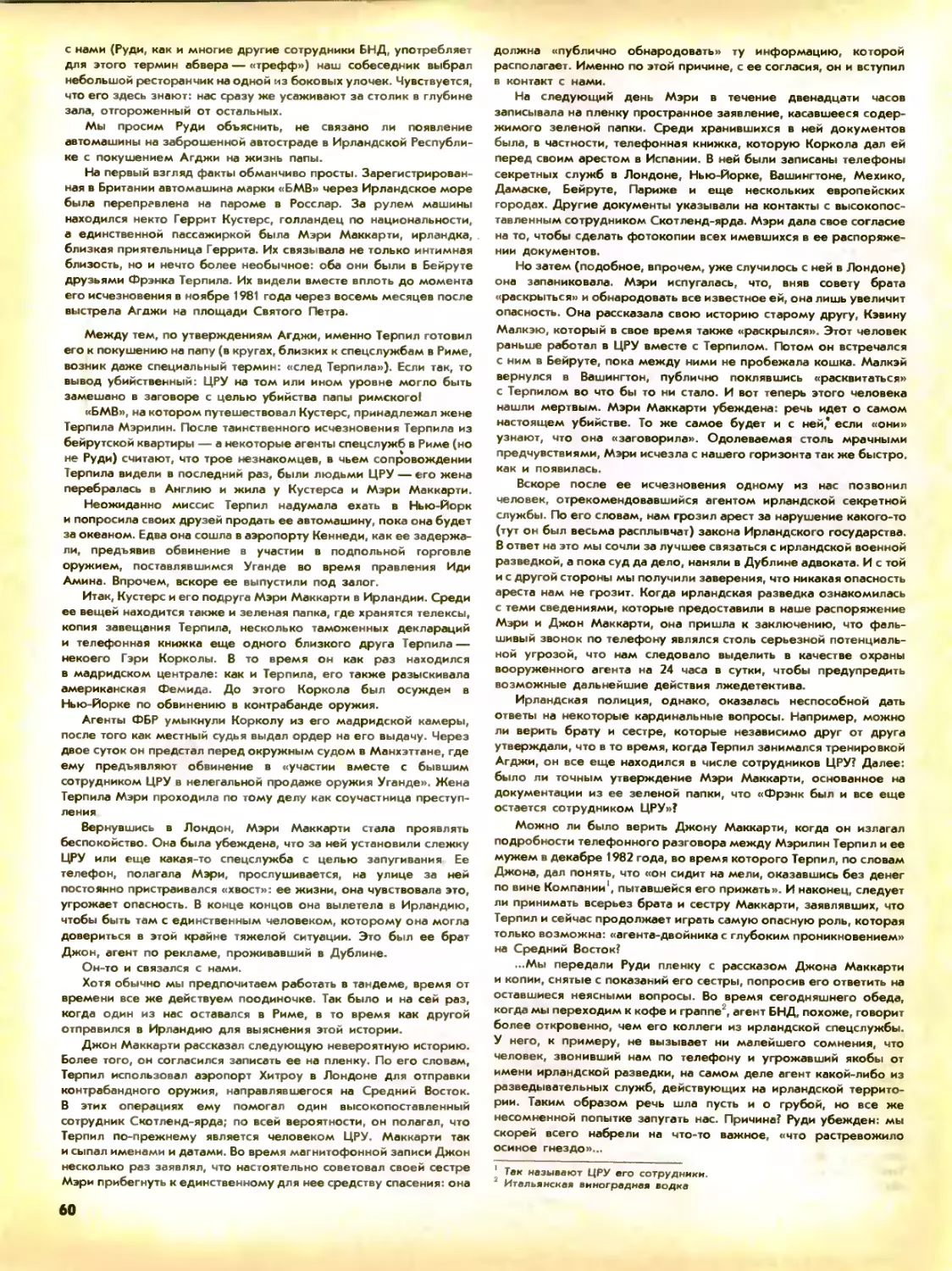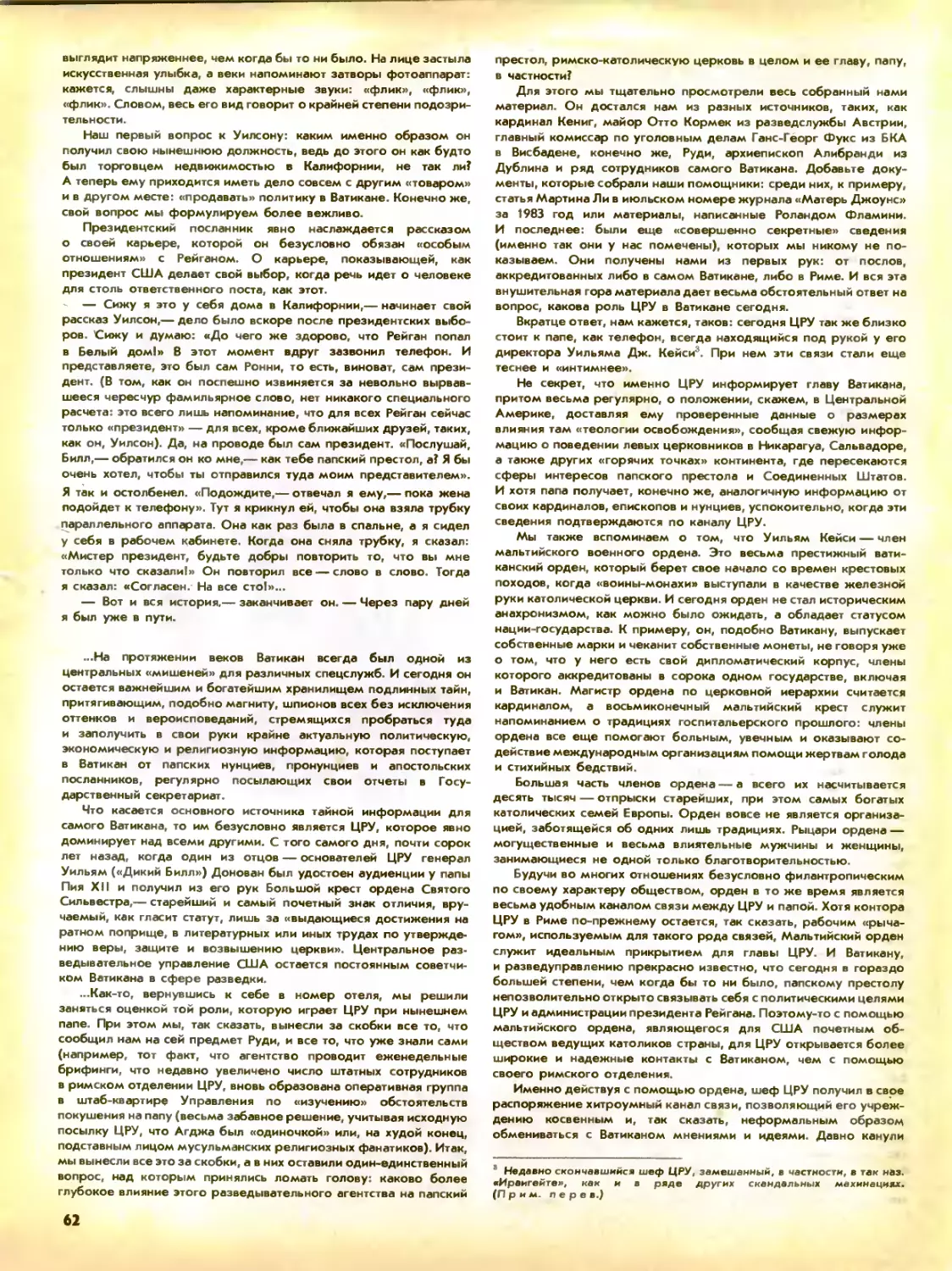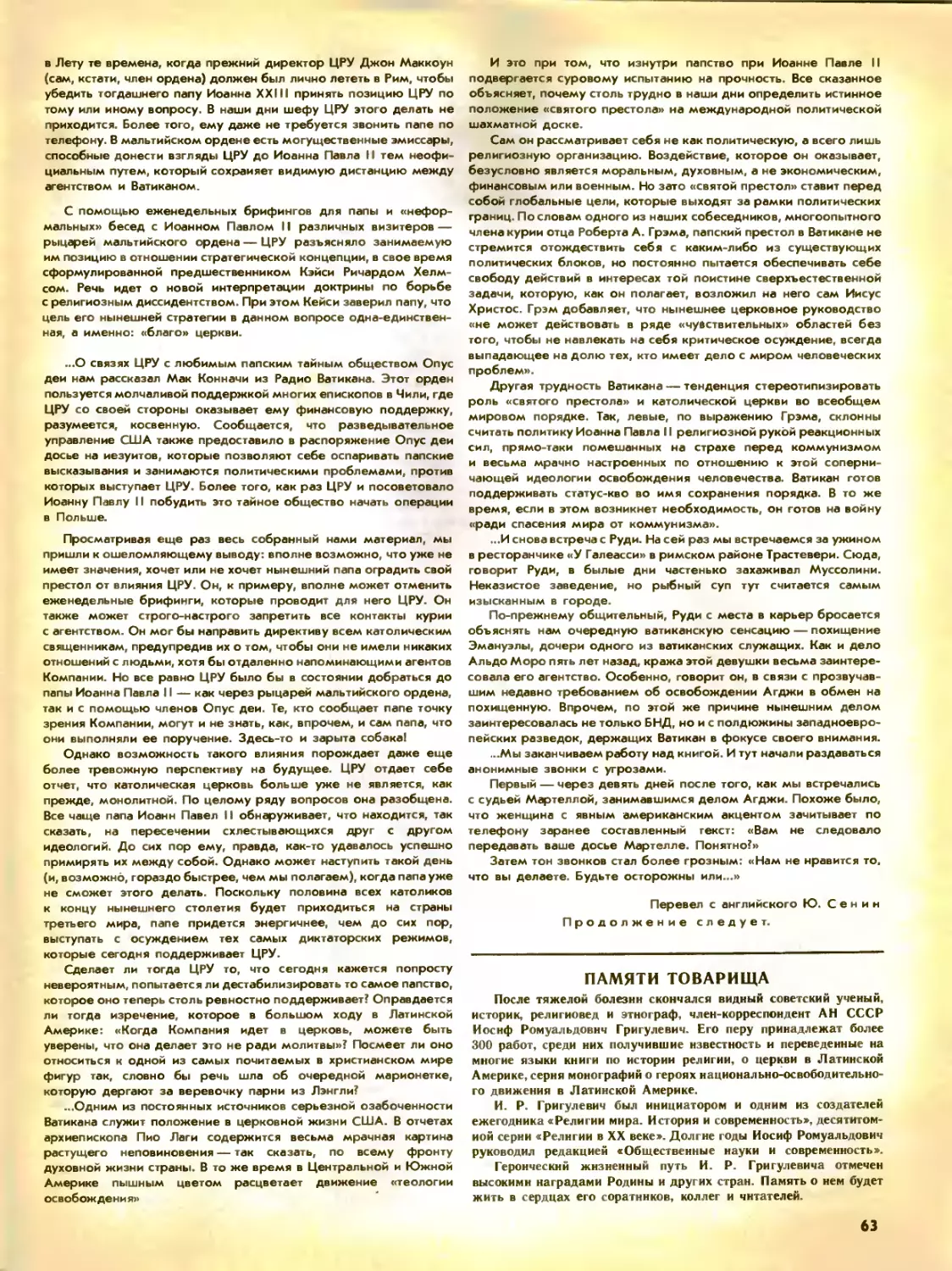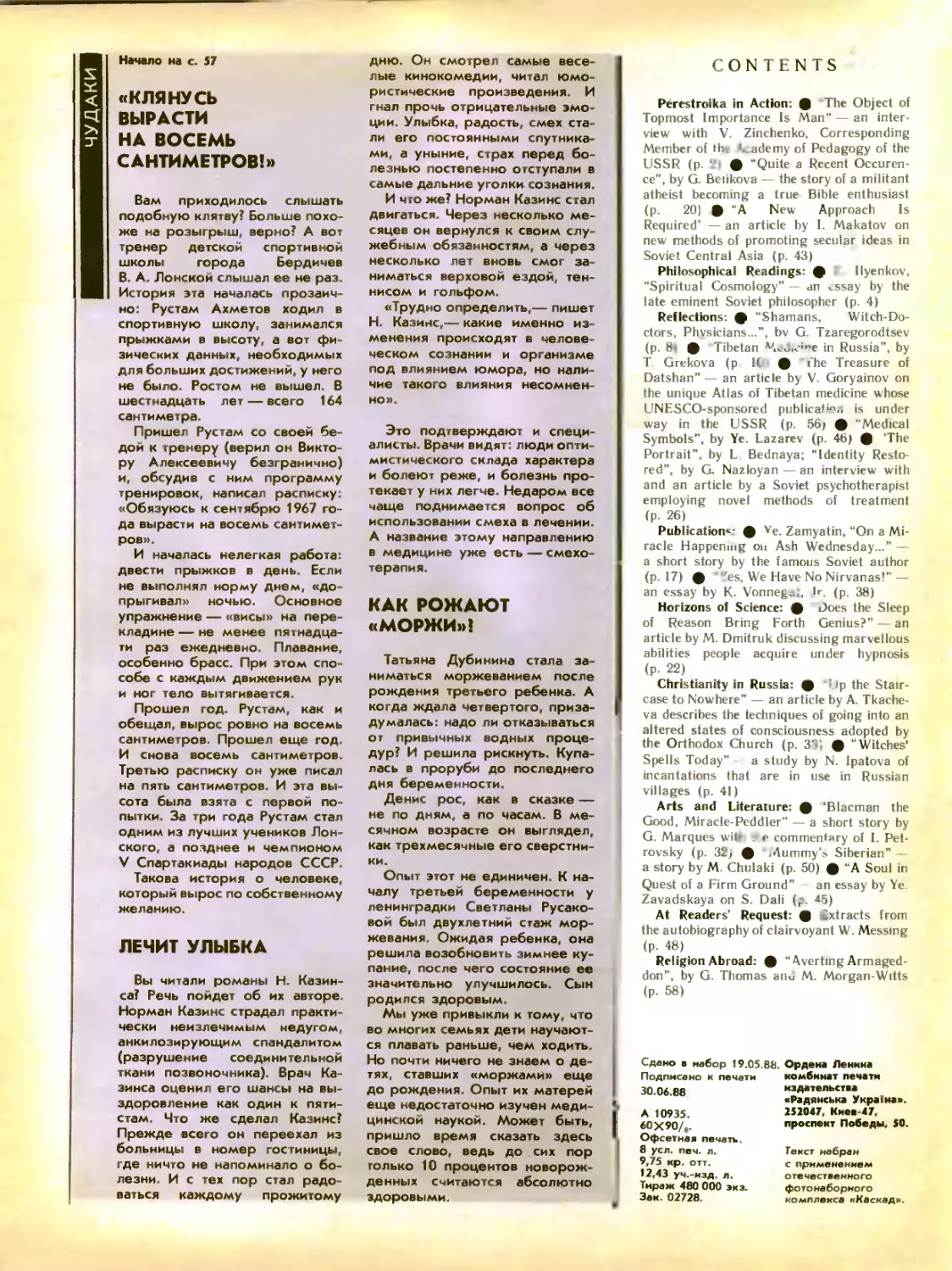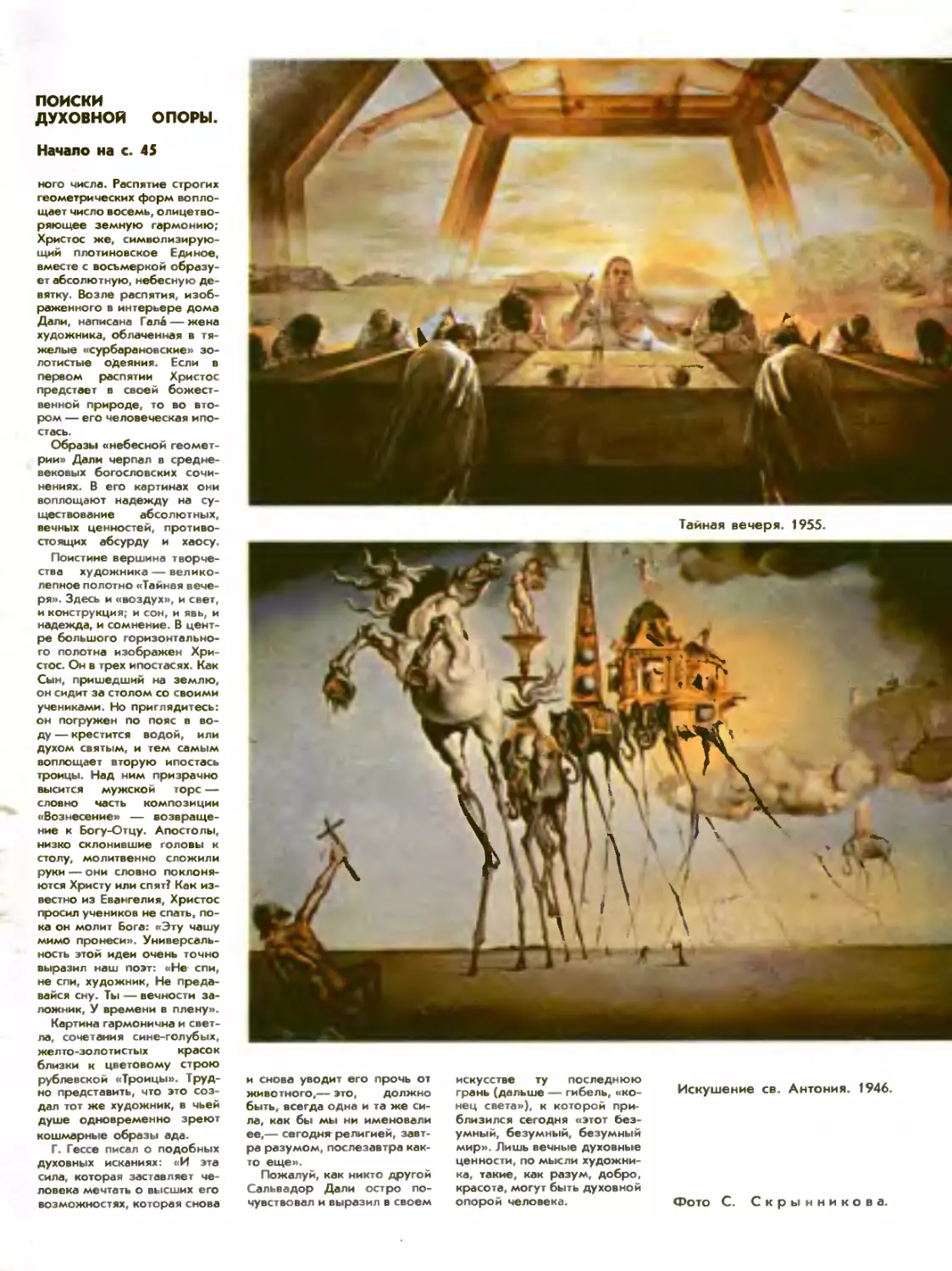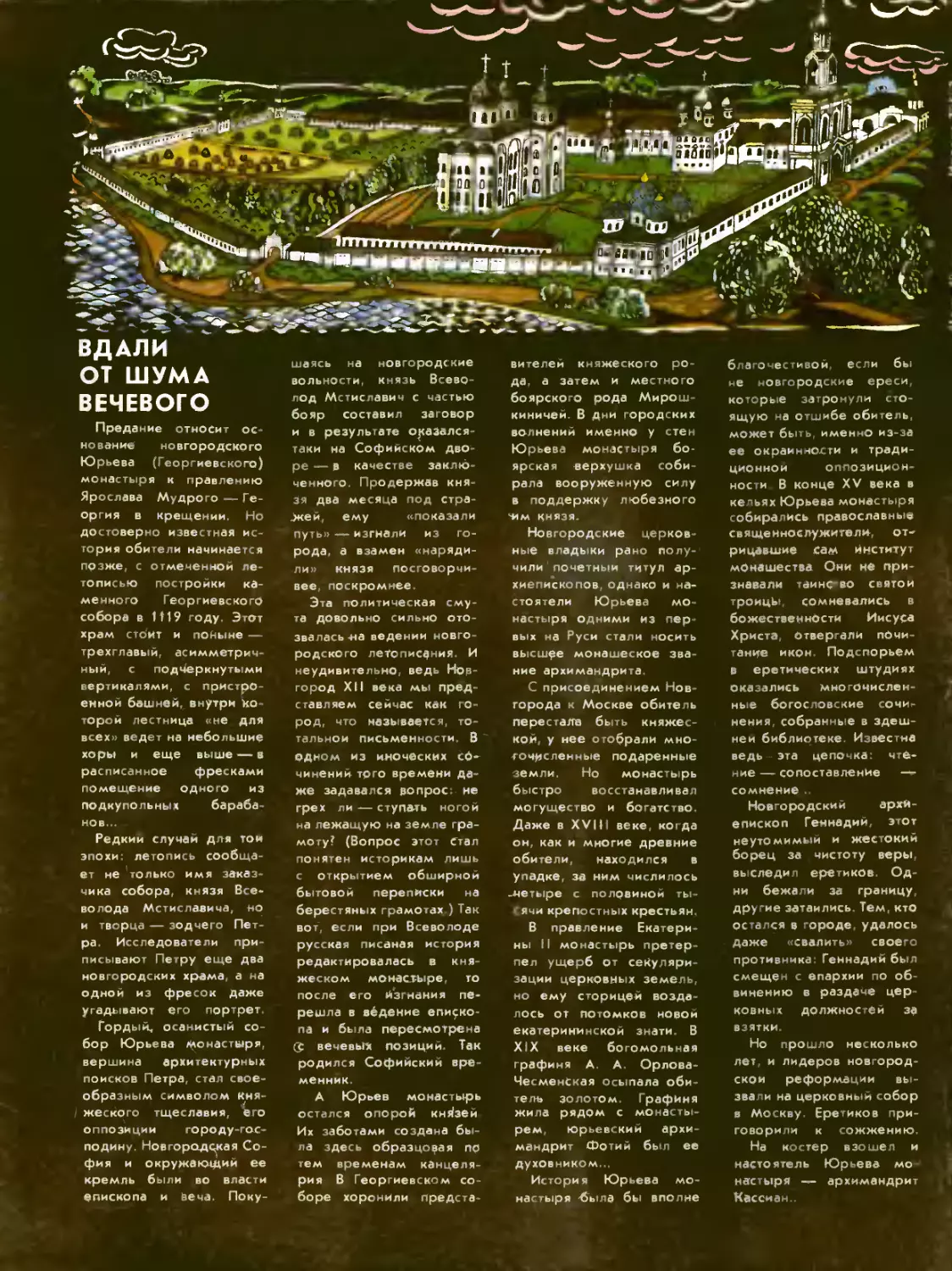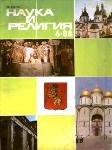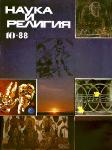Текст
t *^*Ч^' * ... •»• у - ,» t ’••г» у** *• ' V Я04 ?1/1Г1/1Я 8-88 1 •. м *! Ж f ' * : ! ь. ' V'r 1 ’ 5 . ffr. ^яа
Фрагмент последней таблицы «Атласа
тибетской медицины», иллюстрирующей
передачу медицинских знаний. Здесь до-
стойные и недостойные их преемники.
Недостойные — это те, кто кичится сво-
ими знаниями, неблагодарен, корысто-
любив, высокомерен, чужд сострадания.
Для них наставления в знании подобны
драгоценностям, брошенным в глотку
морского чудовища. Достойные же вер-
ны обетам, обладают не только способ-
ностями. прилежанием, но и даром ми-
лосердия и сострадания. Такой лекарь об-
ретает особое могущество. Достигнув
просветления, как повествует рисунок,
он станет буддой в стране Верховного
целителя. Вы видите, как по радуге он
поднимается в эту обитель.
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ
АТЕИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ОРДЕНА ЛЕНИНА
ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗНАНИЕ»
Издается с сентября 1959 года
Главный редактор
В. Ф. ПРАВОТОРОВ.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
И. Ш. А Л И С К Е Р О В,
А. В. Б Е Л О В,
В. И. Г А Р А Д Ж А,
И. И. ЖЕРНЕВСКАЯ
(ответственный секретарь],
А. С. И В А Н О В,
Н. А. КОВАЛЬСКИЙ
Э. И. Л И С А В Ц Е В,
Б. М. М А Р Ь Я Н О В,
В. П. М А С Л И Н,
К. А. М Е Л И К-С И М О Н Я Н
(зам. главного редактора),
С. И. Н И К И Ш О В,
М. П. Н О В И К О В,
И. К. П А Н Т И Н,
В. Е. Р О Ж Н О В.
РЕДАКЦИЯ:
И. У. А ч и л ь д и е в,
О. Т. Брушлинская,
Э. В. Геворкян,
Г. В. Иванова,
М. А. Ковальчук,
Ю. М. Кузьмина,
В. К. Лобачев,
Л. А. Н е м и р а,
В. Л. П а з и л о в а,
М. И Пискунова,
А. А. Романов,
О. М. Стеновая,
О. Ю. Т в е р и т и н а,
В. Л. X а р а з о в.
Ведущий номера
К. А. М е л и к-С и м о н я н.
ГИЯ
Михаилу Сергеевичу Горбачеву,
Генеральному секретарю ЦК КПСС
г. Москва
АВГУСТ 1988
8
Будапешт, 24 марта 1988
Уважаемый г-н Горбачев!
Рабочий комитет, руководящий орган Христианской Мирной Конференции, собрав-
шийся на очередную сессию в столице ВНР г. Будапеште 21—25 марта с г., с благодф-
ностью к Богу, с большим воодушевлением и надеждой констатировал позитивные
преобразования в развитии политической ситуации а мире...
Мы молимся, чтобы сокращение стратегических ядерных вооружений на 50% стало
реальностью в качестве последующего шага к всеобщему разоружению. Мы также
варим, что Бог благословит Ваши усилия и наши желания очистить землю от скверны
ядерного оружия к 2000 — юбилейному для всех христиан — году...
Изменения в Вашей стране, происходящие в условиях гласности и
перестройки, направленные на обновление всех сфер общественной жизни, в том
числе и жизни церквей и религиозных объединений СССР, коренным образом влияют не
только на политический климат планеты, но и пробуждают здоровый интерес и симпатии
к Советскому Союзу. Нам, христианам, особенно отрадно, что первостепенное значение
в Вашей стране уделяется вопросам духовности и созиданию здорового нравственного
климата в обществе.
Осознавая общую ответственность перед глобальными проблемами, стоящими перед
человечеством, мы и впредь будем предпринимать все возможные усилия в процессе
сохранения мира и развития гуманизма, утверждения духовных и нравственных ценнос-
Митрополит Киевский и Галицкий
д-р Фипарет, Председатель КОПРа ХМК
Пастор д-р Любомир Миржеевский,
Генеральный секретарь ХМК
С глубоким уважением
Епископ д-р Кароли Тот,
Президент ХМК
Художественным редактор
С. И. Мартемьянова.
Технический редактор
Ю. А. Викулова.
Корректор
Г. Л. К о к о с о в а.
Зав. редакцией
Э. Н. Волкова.
Первая страница обложки
художника-фотографа
Б. А с р и е в а.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗНАНИЕ»
© Журнал
«Наука и религия», 1988.
Адрес редакции:
109004, Москва, Ж-4,
Ульяновская, 43, кори. 4.
Телефоны:
297-02-51, 297-10-89
ПЕРЕСТРОЙКА: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ В. ЗИНЧЕНКО Г. БЕЛИКОВА И. МАКАТОВ Высшая цель — человек Вполне современная история Новый подход необходим 2 20 43
ФИЛОСОФСКИЕ Э. ИЛЬЕНКОВ Космология духа 4
ЧТЕНИЯ
ЧЕЛОВЕКУ О Г ЦАРЕГОРОД-
ЧЕЛОВЕКЕ ЦЕВ Шаманы, знахари, врачи... 8
Т. ГРЕКОВА Тибетская медицина в России 10
Л. БЕДНАЯ Портрет 26
Г. НАЗЛОЯН Возвращение личности 27
Е. ЛАЗАРЕВ Символы медицины 46
В. ГОРЯЙНОВ Сокровище дацана 56
НАШИ Е. ЗАМЯТИН О чуде, происшедшем в Пепель-
ПУБЛИКАЦИИ ную Среду... 17
К. ВОННЕГУТ Да уж, с нирванами нынче туго! 38
ГОРИЗОНТЫ ' НАУКИ М. ДМИТРУК Сон разума рождает гениев? 22
ИЗ ИСТОРИИ А. ТКАЧЕВА Вверх по лестнице, ведущей
ПРАВОСЛАВИЯ в никуда 36
Н. ИПАТОВА Заговоры сегодня 41
ЛИТЕРАТУРА, И. ПЕТРОВСКИЙ Кто такие Блакаманы* 32
ИСКУССТВО Г. МАРКЕС Блакаман-добрый, торговец чудесами 33
М. ЧУЛАКИ Мамин сибиряк 50
F. ЗАВАДСКАЯ Поиски духовной опоры 45
ПО ВАШЕЙ В. МЕССИНГ О самом себе 48
ПРОСЬБЕ
ЗА РУБЕЖОМ Г. ТОМАС, М. МОРГАН- УИТТС Чтобы не настал Армагеддон 58
CONTENTS Содержание на английском языке 64
ПЕРЕСТРОЙКА: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ
ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ —
ЧЕЛОВЕК
«Главное — это человек». Слова М. С. Горба-
чева, прозвучавшие в обращении к деятелям
мировой культуры, отражают основное со-
держание политики и практики перестройки.
Как и всякая революция, перестройка тре-
бует решительной ломки мышления. О роли
психологии в формировании нового мышле-
ния рассказывает известный советский психо-
лог, член-корреспондент АПН СССР ь. П. ЗИН-
ЧЕНКО.
— Владимир Петрович, в последнее
время проблема человека привлекает
повышенное внимание как советских
ученых, гак и общественных деятелей, хотя
гуманизм изначально присущ социалисти-
ческому строю. Недавно было решено
создать Межведомственный центр по изу-
чению человека. Вы имеете отношение
к созданию этого центра. Чем же объяснить
возросшее значение человеческого фактора
в эпоху перестройки?
Сложностью и масштабностью осу-
ществляемой ныне программы кардиналь-
ного обновления общества. Без активности,
инициативы широких трудящихся масс
такое дело не поднять. Было бы, однако,
величайшей ошибкой считать человеческий
фактор, человека лишь средством ускоре-
ния социально-экономического развития
общества — он прежде всего цель такого
развития.
Вы верно отметили, что гуманистическая
ориентация изначально присуща социализ-
му. Но исторически складывалось так, что
цель эта зачастую лишь провозглашалась,
а на практике отодвигалась иа второй план
Были тут и объективные обстоятельства —
промышленная отсталость России, культур-
ная отсталость народных масс Но куда
больше вреда нанесли извращения принци-
пов социализма, грубые ошибки в политике,
нарушения социалистической законности
и морали, которые допускались в годы
культа личности, волюнтаризма и застоя.
Не меньший вред нанесло пренебрежение
многими вершинными достижениями
русской культуры, науки и искусства трех
десятилетий XX века, к которым не угасает
интерес во всем мире до сего времени.
Постановка ныне в центр практической
политики человека труда самым непосред-
ственным образом связана с очищением
социализма от чуждых его природе на-
слоений, от бюрократических завалов и тех-
нократических амбиций, сдерживающих
инициативу и самодеятельность масс. Речь
идет о том, чтобы создать максимально
благоприятные условия для развития и
реализации творческих способностей каж-
дой личности, в какой бы сфере она не
работала. Только через самое широкое
и последовательное развитие демократии
социализм может реализовать свои преиму-
щества, выиграть исторический спор ми-
ровых общественных систем на поприще
мирного соревнования.
И еще. Ныне уже созрело понимание
того, что природные, сырьевые, энергети-
ческие ресурсы развития человеческой
цивилизации не бесконечны. Все ощутимее
чувствуются экологические пределы. Но
одновременно все более осознается необхо-
димость развития качественно нового,
практически неисчерпаемого ресурса об-
щественного прогресса совокупного че-
ловеческого интеллекта. Именно благодаря
ему могут родиться и уже рождаются такие
решения, которым суждено избавить чело-
вечество от постоянно нарастающей ла-
вины глобальных проблем
— Да, но между человеком н природой
стоит техника, в которой воплощается его
творческий потенциал, которая многократ-
но увеличивает его силы, в том числе и
интеллектуальные. Ускорение невозможно
не только без широкой демократизации,
но и без кардинального обновления техно-
логии. техники
— И здесь нужно во главу угла ставить
интересы человека. Скажем, что важнее:
«подгонять» человека под определенные
требования техники или с самого начала
продумывать и создавать такую технику,
которая бы наиболее полно учитывала
возможности человеческого организма, его
психику, была бы если не комфортной, то
удобной и безопасной для человека. Зачас-
тую наши конструкторы и проектировщики
слабо учитывают человеческий фактор, во
многих творческих коллективах нет ни
одного психолога. Экономим — рубли, раз-
базариваем миллионы. Возьмите те же
США — уже несколько десятилетий там
издаются такие журналы, как «Человечес-
кий фактор», «Эргономика». У нас один
психолог приходится на 30 тысяч инжене-
ров, а там на 300. А ведь капиталисты
считать умеют и денег на ветер не бро-
сают. Учет человеческого фактора стал
условием конкурентоспособности даже в
области вычислительной техники.
— Инерция стереотипов прежних лет
когда всюду недоставало новой техники?
— Ее и сейчас недостает. Но еще больше
непонимание того, что без заинтересован-
ного, творческого участия человека в про-
изводственном процессе и самая новейшая
техника вскоре превращается в груды
никому не нужного металлического хлама,
как это не раз случалось с закупленным за
границей промышленным оборудованием.
Недооценка человеческого фактора сво-
ими корнями уходит не только в прошлое,
но и в настоящее, и особенно опасно, если
она перекочует в будущее. Я имею в виду
технократическое мышление, при котором
высшая цель общественного прогресса —
всестороннее развитие человека труда —
подменяется безоглядной погоней за новей-
шей техникой. Опасно, когда научно-
технический прогресс не контролируется
социальными, нравственными, духовными
критериями. Нельзя забывать, что он не
самоцель, а всего лишь средство удовлетво-
рения потребностей человека.
— Почему технократическое мышление
ныне особенно опасно?
— Наука сегодня значительно сблизи-
лась с техникой. Время реализации на-
учных идей в технике и технологии,
в крупных хозяйственных проектах стреми-
тельно сокращается. Казалось бы, такую
тенденцию можно только приветствовать.
Но если при этом недостаточно про-
думываются социальные, нравственные,
отдаленные экономические и экологические
последствия технических новшеств, такой
«прогресс» оборачивается нередко ог-
ромными утратами Формула «прогресс
ради прогресса» таит в себе серьезную
угрозу. Он должен изменяться цен-
ностными критериями, то есть своего рода
«антропологическими мерами».
Технократ совсем не обязательно должен
быть, скажем, директором завода или
конструктором, он — пока еще нередкая
фигура и в сфере политических отношений,
в науке, в педагогике, даже в искусстве.
Чем бы он ни занимался, для него чело-
век — это всегда лишь «винтик», без-
душный элемент хозяйственно-произ-
водственного, социального механизма, ко-
торый нужно подогнать под заранее
запрограммированные качества, необхо-
димые для функционирования механизма.
Как оказалось, «управление» винтиком
с помощью отвертки не только бесчеловеч-
но, но и неэффективно. Человек — как
функция, как средство достижения какой-
то цели — только это и важно «технокра-
ту» Нравственные качества, переживания,
достоинство, совесть, т. е. духовная жизнь
человека не имеют для «технократа» само-
стоятельной ценности. Образно говоря,
технократическое мышление — это Рассу-
док, которому чужды Разум, Мудрость и,
пожалуй, Совесть.
— Создается впечатление, что идеалом
технократа является робот, наделенный
искусственным интеллектом...
Вы недалеки от истины, хотя картина,
конечно, складывается жутковатая Мне
уже приходилось в западных публикациях
сталкиваться с термином «искусственная
интеллигенция». В нем выражена тенден
ция к дегуманизации человеческого об-
щества, или, точнее, к отрыву интеллекта от
2
культуры. И если раньше это была тема для
размышлений и произведений писателей-
фантастов, то теперь она облеклась в плоть
и кровь реальных технологических проек-
тов, в которых судьба человеческой цивили-
зации фактически вверена бесстрастному
интеллекту компьютерных систем.
— Вы имеете в виду стратегическую
оборонную инициативу, программу
«звездных войн»?
— В этой программе антигуманная сущ-
ность технократического мышления про-
явилась со всей своей беспощадной откро-
венностью. Подчеркну, что компьютериза-
ция открывает перед человеком неисчер-
паемые возможности. Однако главное здесь
в том, чтобы компьютер служил интересам
человечества. Нельзя допустить, что чело-
вечество стало заложником созданного им
самим бездушного искусственного интел-
лекта
— Но существует мнение, что ис-
кусственный интеллект со временем пре-
взойдет возможности человека в познании
природы и самого человека.
— Подобные взгляды, по моему мнению,
являются издержками технократического
мышления.
Человек отличается от компьютера не
только наличием чувственно-эмоциональ-
ной, этической сферы, но и тем, что у него,
к счастью, пока еще сохраняется сознание.
В определениях сознания сейчас недостает
того, что образно принято называть
«искрой божьей». Определить его действи-
тельно трудно. Сознание нельзя свести
только к миру идей, научных значений,
понятий; к миру человеческих ценностей,
эмоций и смыслов; к миру производитель-
ной, предметно-практической деятельности;
наконец, к миру образов, представлений,
воображения, культурных символов и зна-
ков, то есть, по преимуществу, к духовной
сфере. Сознание не только рождается
и присутствует внутри этих, разумеется,
условно выделенных миров. Оно может
метаться между ними, подниматься и ви-
тать над всеми ними, сравнивать, оцени-
вать и судить их. Поэтому-то так важно,
чтобы все они были открыты ему. Если
этого нет, то мы называем сознание ограни-
ченным, узким, несовершенным и
т. п. Именно в этом смысле человеческое
сознание иадмирно и в то же время
«участно в бытии» (М М Бахтин) су-
щественно в жизни. Но нам всем такому
сознанию еще надо учиться, в том числе
н учиться формировать его у подрастающих
поколений.
Наши психологи и философы также
робко поступают к сфере творчества, к изу-
чению роли интуиции в научном познании
В ряде случаев это связано с трудностью
преодоления стереотипов, укоренившихся
в нашем сознании. Скажем, интуитивное
знание часто отождествляется с такими
понятиями, как «озарение», «откровение»,
«иисайт». А это, в свою очередь, вызывает
ассоциации с «Высшим Разумом», мисти-
цизмом, религией. На самом деле речь идет
о сложных механизмах мышления, которые
еще предстоит исследовать.
Процесс научного познания, как и раз-
личные формы художественного, религиоз-
ного познания мира, не всегда осу-
ществляются в развернутом логически
и фактически доказанном виде. Нередко
человек «схватывает» ситуацию или про-
блему в ее целостности, как бы интуитивно,
восполняя пробелы в знаниях каких-то
частностей, деталей. Интуиция часто помо-
гает там, где требуется прорыв из, казалось
бы, безвыходного формально-логического
тупика.
Пусть по выполнению теперь уже очень
многих операций человек и уступает
компьютеру, хотя и тут мы еще не знаем
пределов возможностей человека, но в це-
лом, по своим совокупным интеллекту-
альным и творческим способностям он
всегда будет превосходить любую самую
совершенную мыслительную машину.
— Альтернативой технократическому
мышлению должно служить новое мышле-
ние? Что можно сказать о нем?
— Мы слишком часто и много говорили
о необходимости всестороннего развития
личности, в сравнении с тем, что реально
делалось для такого развития Пожалуй,
больше всего страдала гуманитарная, цен-
ностная и духовная составляющие такого
развития. Правда, н трудовое воспитание
осуществлялось не лучшим образом. В про-
цессе перестройки образования также необ-
ходимо преодолеть однобокий, потреби-
тельский подход к человеку. Образование
должно обеспечивать возможность не толь-
ко профессионального, ио и, как говорилось
в Древней Руси, «умного делания», я бы
добавил — делания «совестливого». А для
такого «делания» существует единственный
четкий критерий - масштаб человека. Со-
весть, достоинство, нравственность должны
стать основополагающими элементами
представлений о человеке, его образа.
Я вовсе не исключаю из нового мышления
техническую компоненту. Но необходимо,
чтобы все-таки превалировала система
человеческих ценностей.
— Ориентация на изучение человека
в его целостности ныне становится главной
в психологии?
— Именно так. На этих позициях, прав-
да, стояли еще такие известные основатели
советской психологии, как Л. С. Выготский,
А. Р. Лурия, А. Н. Леонтьев. Выдающемуся
советскому психологу Выготскому принад-
лежит создание концепции культурно-исто-
рического происхождения сознания и пси-
хики,— концепции, которая завоевывает
все больше последователей в мире.
Выготский утверждал, что мнр психических
явлений' невозможно постичь, изучая лишь
«стимулы», «реакции» и т. д. Он настаивал
на изучении феномена человека обязатель-
но в контексте социо-культурной среды,
в которую он погружен
Если бы направление, ориентированное
иа целостное изучение человека, развива-
лось и далее, то к сегодняшнему дню, смею
думать, мы бы далеко обошли западные
школы психологии. Однако ситуация сло-
жилась иная. В 1934 году Выготский умер.
В последующие годы теория культурно-
исторического происхождения сознания
была предана, так сказать, «официальному
забвению» А наша психология начала
заниматься преимущественно изучением
отдельных «составляющих» человека —
механизмами памяти, системами ощуще-
ний, рефлексами, В психологию хлынули
иепрофессиоиалы — физики, инженеры,
физиологи, вооруженные измерительными
приборами, убежденные в том, что в челове-
ке все можно «подсчитать» и «вычислить»
О душе забыли, а сознание стали идентифи-
цировать с нейронами, ионными токами
и т. д. Человек, разъятый на отдельные
«составляющие», был фактически вырван
из культурно-исторического пространства.
Сегодня, разрабатывая теоретические ос-
новы нового мышления о человеке, мы
вновь возращаемся к наследию «золотого
века» нашей психологии.
— Одной из задач психологии является
оказание помощи человеку в решении его
производственных, семейных и бытовых
проблем. Как обстоит дело у нас в стра-
не с развертыванием психологической
службы?
Необходимость создания такой
службы назрела давно. Сейчас у нас есть ее
зародыши — имеются уже и отдельные
первоклассные специалисты, создаются на
общественных началах кооперативы Это
движение нужно поддерживать, развивать.
Но инерция мышления многих от-
ветственных чиновников, да и чиновных
психологов, не понимающих важности это-
го дела, сильно тормозит работу. До сих
пор не введена должность психолога н эрго-
номиста на предприятиях. Лишен психоло-
гического обеспечения, скажем, такой
сложный, чувствительный и важный орга-
низм, как армия. Велики возможности
психологии в профилактике и лечении
алкоголизма и наркомании. Страна талан-
тами не оскудела, а желания работать
у молодых психологов хоть отбавляй.
Нужно лишь предоставить им эту возмож-
ность, заботиться о том, чтобы поднимать
престиж не только инженерных, но и гума-
нитарных профессий, в том числе и профес-
сии психолога.
3
казанное поможет читэ
понять своеобразный
> этой статьи Она
принципы
г ВОЛКОВ
профе* гор Академии
общественны* наук
, » ЦК КПСС дочтор фило офских
наук
космологий духа:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
<7 • илософско - поэти ческая
фантасмагория,опирающаяся на
диалектического материализма
Публикуемая статья,— а вернее
философское эссе — из архива
выдающегося советского филосо
фа Эвальда Васильевича Ильенко
ва, ныне покойного. Ильенков из
вестей — и у нас и за рубежом
своими новаторскими работами
в области диалектической логики
Ему принадлежит выдающаяся
роль в выполнении ленинского
философского завещания в выяв
пенни и разработке марксова ди
алектического метода, применен
него в «Капитале», метода восхож
дения от абстрактного к конкрет
ному.
За исследование этих проблем
в 1965 году ему была присуждена
премия им. Н. Г Чернышевского
Основные работы Э. В. Ильенкова
(Диалектика абстрактного и
конкретного в «Капитале» Маркса >
(19601 «Об идолах и идеалах
(1968), «Диалектическая логика
(1974), «Ленинская диалектика и
метафизика позитивизма» (1980)
Он участвовал в коллективных тру
дах «С чего начинается личность'
«Диалектическое противоречие»
(1979) и др
Но Э В Ильенков не был
«сухим >, академическим ученым
пишущим на <тарабарском» языке
для узко о «рута посвященных Его
отличала Образная система
«ышления (.то качество впрочем
при уще каждому выдающемуся
и неординарному философу»] -*
В его работа» бьется живая темпе
раментная часто парадоксальная
мысль Его перу принадлежат и
публицистические статьи книги и
сатирические памфлеты
Все ।
те лк»
замысел этой статьи Она по
моему не претендует на строго
научную ознлванную на данных
переменной космологии р зра
ботку проблемь Это гипотеза
захватывающая воображение
волнующая
Есть в современной науке такой
критерии истинности идеи ипи ги-
потезы красота Да как ни
странно красота то есть внутрен
нее изящество стройность пара
доисапьность (безумной» идеи
Физики и математики говорят это
рагивое решение красивое дока
та »е пь'тво
1ак вот гипотеза Ильенкова
н смотря на ее фантастичность
предс тавляется мне и рас и ► о и
своей безупречной философской
погикои основательно!тью Всоот
вс 1 тени с не» ми ия челове
в» рчндь а рати .на ь
жертвенна Нс жерзва »та имеет
вселенскую космическую цель
дать начало новому виску развития
В ₽ч- мной и начало новой жизни
во*. чивипи зации
Э. ИЛЬЕНКОВ
Не делая преступления про-
тив аксиом диалектического
материализма, можно ска-
зать, что материя постоянно
обладает мышлением, посто-
янно мыслит самое себя.
Это, конечно, не значит,
что она в каждой своей части-
це в каждое мгновение обла-
дает способностью мыслить
и актуарно мыслит. Это вер-
но но отношению к ней
в целом как к бесконечной во
времени и в пространстве
субстанции.
Она с необходимостью,
заложенной в ее природе,
постоянно рождает мысля-
щие существа, постоянно
воспроизводит то там, то
здесь орган мышления —
мыслящий мозг. И — в силу
бесконечности пространст-
ва — этот орган, таким обра-
зом, существует актуаль-
но в каждый конечный мо-
мент времени где-то в ло-
не бесконечного про-
странства. Или, наоборот,—
в каждом конечном пункте
пространства — на этот раз
уже в силу бесконечности времени —
мышление тоже осуществляется рано или
поздно (если эти слова вообще применимы
к бесконечному времени); каждая частица
материи в силу этого когда-нибудь в лоне
бесконечного времени входит в состав
мыслящего мозга, то есть мыслит.
Поэтому и можно сказать, что в каждое
данное мгновение времени мышление
свойственно материи: если в одной точке
бесконечного пространства материя губит
орган мышления, мыслящий мозг, то с той
же железной необходимостью она воспро-
изводит его в то же время в какой-то
другой точке.
Орган, посредством которого материя
мыслит самое себя, не исчезает ни в един
из моментов бесконечного времени,—
и материя таким образом постоянно
обладает мышлением как одним из своих
атрибутов. Утратить она его не может ни на
одно мгновение. Более того, приходится
допустить, что актуально мыслящий мозг
всегда существует в лоне бесконечности
одновременно во всех фазах своего разви-
тия: в одних точках — в стадии возникно-
вения, в других — в фазе заката, в треть-
их — на ступени высшего расцвета своего
развития и могущества.
«Материя в своем вечном круговороте
движется согласно законам и на известной
ступени должна — то в одном месте, то
в другом — производить в органическом
существе мыслящий дух» (Ф. Энгельс.
Диалектика природы).
По отношению к каждой отдельной
конечной сфере существования верно то,
что мышление возникает на основе и после
других, более простых форм существова-
ния материи и существует не всегда, в то
время как другие формы материи су-
ществуют всегда, составляя собой необхо-
димую предпосылку и условие рождения
мышления.
Но по отношению к материи в целом,
к материи, понимаемой как всеобщая
субстанция, это положение уже неверно.
Здесь будет верным другое положение
не только мышление не может су-
ществовать без материи (это признает
всякий материалист, метафизик-матери-
алист типа Гольбаха в том числе), но и
МАТЕРИЯ НЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ
БЕЗ МЫШЛЕНИЯ,— и это положение мо-
жет разделять только материалист-ди-
алектик, материалист типа Спинозы
Как нет мышления без материи, пони-
маемой как субстанция, так нет и материи
без мышления, понимаемой как ее атри-
бут.
Представить себе материю в целом —
как всеобщую субстанцию — лишенной
мышления как одного из ее ирибутов —
значит представить ее себе неверно, более
бедной, чем она на самом деле есть. Это
значило бы в самом теоретическом опре-
делении материи как субстанции (посколь-
ку это не только чисто гносеологическая
категория) произвольно опустить одно из
его всеобщих и необходимых атрибу-
тивных определений. Это значило бы дать
неверное определение материи как
субстанции, значило бы свести ее к чисто
гносеологической категории.
Ленин, как известно, считал совершенно
необходимым «углубить понятие материи
до понятия субстанции», ибо только в этом
случае она утратит чисто гносеологический
смысл.
И, как ни неожиданно звучит положение,
«как нет мышления без материи, так нет
и материи без мышления»,— именно в
этом заключается единственное принци-
пиальное отличие материализма диалекти-
ческого, материализма Спинозы — Эн-
гельса — Ленина, от материализма меха-
нистического, материализма типа Галилея,
Ньютона, Гоббса, Гольбаха. Последнему
это положение не по зубам.
Последний понимает мышление только
как продукт материи, как одно из свойств
материи,— и именно поэтому как свойство
более или менее случайное: «Для него тот
факт, что материя развивает из себя
мыслящий человеческий мозг, чистая слу-
чайность, хотя и обусловленная шаг за
шагом там, где она происходит» (Диалек-
тика природы). Согласно этой точке зре-
ния, мышление и вообще может не
произойти, ибо это лишь более или менее
случайное исключение, продукт счастливо-
го стечения обстоятельств,— без всякого
ущерба для материи в целом.
«В действительности же в природе
материи заключено то, что она приходит
к развитию мыслящих существ,— возра-
жает этой позиции Энгельс,— и поэтому
такое развитие совершается необходимым
образом всегда, когда имеются налицо
соответствующие условия».
И эти «соответствующие условия» суть
опять-таки не чистая случайность,— они
сами с той же железной необходимостью
создаются тем же всеобщим движением,
и, следовательно, материя в целом с необ-
ходимостью актуально обладает мышле-
нием постоянно и не может утратить его ни
на одно мгновение своего существования
в бесконечном времени и бесконечном
пространстве.
Следующий пункт диалектико-матери-
алистического понимания проблемы, мало
освещенный до сих пор, но ко многому
обязывающий, касается понимания
МЫШЛЕНИЯ, мыслящей материи как аб-
солютно высшей формы движения и раз-
вития.
Мышление, бесспорно, есть высший
продукт всеобщего развития, есть высшая
ступень организации взаимодействия,
предел усложнения этой организации
Формы, более высокоорганизованной,
чем мыслящий мозг, не только не знает
наука, но и философия принципиально не
может допустить даже в качестве возмож-
ного, ибо это допущение делает невоз-
можной самое философию. Если материя
вообще способна породить какую-то фор-
му движения, более высокую, нежели
мыслящий мозг,— форму, которая нахо-
дилась бы в том же принципиальном
отношении к мыслящему мозгу, в каком
биологическое, например, движение нахо-
дится к химизму,— то такое допущение
было бы совершенно равнозначно призна-
нию такой сферы действительности, кото-
рая принципиально непознаваема для
мышления.
Другими словами, мы этим допущением
сделали бы принципиально возможной
любую мистику и чертовщину... И безраз-
лично название, которым мы обозначили
бы эту более высокую, чем мыслящий
мозг, форму развития, форму усложнения
организации движения,— суть ее осталась
бы абсолютно той же самой, что и суть
2 «Науке и религия» № 8
5
понятия «Бог», «Провидение», «Мировой
Разум» и т. п.
Итак, мышление есть абсолютно высший
продукт развития мироздания. В нем,
в рождении мыслящего мозга, мировая
материя достигает такой ступени, на кото-
рой исчерпываются все возможности даль-
нейшего развития «вверх», по пути услож-
нения организации форм движения.
Далее путь может идти только «вниз» —
по пути разложения этой организации,—
в чисто биологи чески-физиологи ческую
в случае умственной деградации или еще
дальше — в простой химизм в случае
физиологической смерти мозга. Путь да-
лее «вверх» исключен
Это — совершенно необходимый вывод
всякой научной философии, за исключе-
нием агностической, скептической или
мистической,— вывод, принудительную
необходимость которого признавала вся-
кая система научной философии: Спиноза
или Фихте, Гегель или Энгельс.
Итак, мыслящий мозг с его способ-
ностью мыслить есть абсолютный предел
развития как поступательного движения.
Высший продукт развития возвращается
путем разложения в свои низшие формы,
опять включаясь таким путем в вечный
круговорот мировой материи.
И этот грандиозный круговорот, не
имеющий ни начала, ни конца, круговорот,
в котором мировая материя не утрачивает
ни одного из имеющихся атрибутов, не
приобретает ни одного нового, заключает
в себя, как в кольцо, все возможные
«конечные» циклы развития.
Иными словами, мыслящий мозг пред-
стает с этой точки зрения как одно из
необходимых звеньев, замыкающих всеоб-
щий круговорот мировой материи.
В смысле «поступательного» развития —
это абсолютно высшая точка круга, за нею
следует возвращение материи в более
элементарные и ранее пройденные
формы,— в биологию, в химизм, в огнен-
но-жидкую или раскаленно-туманную мас-
су небесных тел, в холодную и недиффе-
ренцированную разреженную пыль туман-
ностей, в газовый туман межгалактических
пространств, в чисто механическое пере-
мещение элементарных частиц и т. д. и т. п.
Отметим здесь же одно важное
следствие, которое неизбежно вытекает из
признания абсолютно высшей формы раз-
вития. Признав, как теоретически необхо-
димое положение, невозможность более
высокой, чем мышление, чем мыслящий
мозг, формы, мы неизбежно должны,
вынуждены принять и «нижний» предел —
предел, ниже которого оказывается невоз-
можным существование материи.
До открытия его нам, очевидно, еще
очень далеко. Но теоретически допустить
его приходится. Допустив, что материаль-
ной организации, более высокой и слож-
ной, чем мыслящий мозг, быть не может
по самой природе вещей, мы тем самым
признали и противоположный предел —
предел простоты организации материи,
предельно простую форму движения,—
относительное «начало» круговорота —
в противном случае получается нелепость:
в одну «сторону» — в сторону усложнения
организации материи и форм ее движе-
ния — допущен предел, а в другую сторо-
ну — в сторону «упрощения» ее организа-
ции — предположена «дурная бесконеч-
ность»
Добавим, что современная физика в
своих попытках вскрыть простейшие за-
коны связи пространства, движения и вре-
мени приходит к идее «квантования»
пространства и времени, к идее элемен-
тарного «кванта» пространства, времени
и движения как того предела делимости,
в котором — если его перейти — исчезла
бы объективная взаимообусловленность
движения, времени и пространства.
По-видимому, приходится допустить
частицу, которая лишена химических,
электрических и т. п. свойств. С фило-
софско-теоретической точки зрения в этом
нет ничего «механистического», но это
вывод, который автоматически получается
из признания абсолютно высшей ступени
организации материи. Признать абсолютно
высшую форму невозможно, не приняв ее
противоположность — абсолютно низ-
шую, абсолютно простейшую форму мате-
рии и ее движения.
Вместе с атомом исчезают химические
свойства, вместе с электроном — электри-
ческие свойства материи, и где-то, очевид-
но, имеется предел, который нельзя
перейти, не разрушив механические
свойства (то есть связь простого переме-
щения — с пространственными и вре-
менными характеристиками объективной
реальности).
Это состояние, может быть, осуществля-
ется и не в «газовом шаре туманного
пятна», как полагал Энгельс,— газовый
шар сам скорее всего какая-то ступень
усложнения взаимодействия, а в форме
«поля» как абсолютно низшей формы
организации взаимодействия материи, как
неразложимой далее реальности материи,
как абсолютно недифференцированного
ее состояния.
Такова вторая предпосылка гипотезы.
Третьей философско-теоретической
предпосылкой гипотезы является бесспор-
ное положение, согласно которому «все,
что существует, достойно гибели», что
всякая «конечная» форма существования
имеет свое начало и свой конец. Примени-
мо это положение как к ныне су-
ществующей солнечно-планетной системе,
так и к обитающему на ней человечеству.
Ясно, что где-то во мраке грядущего
человечество прекратит свое существова-
ние и что вечный поток движения Вселен-
ной в конце концов смоет и сотрет все
следы человеческой культуры. Сама Зем-
ля будет когда-нибудь развеяна в пыль
космических пространств, растворится в
вечном круговороте мировой материи...
Это далекая и практически безразличная
для нас перспектива. Прежде чем это
произойдет, протекут миллионы лет, наро-
дятся и сойдут в могилу сотни тысяч
поколений. Но неумолимо надвигается
время, когда мыслящий дух на Земле
угаснет, чтобы возродиться вновь где-
нибудь в другом месте бесконечной
Вселенной.
Это бесспорная с любой точки зрения
перспектива. Печалиться по этому поводу
так же нелепо, как и по поводу того, что
все в мире взаимосвязано, что количество
переходит в качество, что мысль не может
существовать без мозга и 1. д.
Этот факт, таким образом, вовсе не есть
предмет эмоций, а предмет понимания.
Но если с практической точки зрения
этот факт для нас совершенно безразличен
и никак не может повлиять на нашу
жизнедеятельность (ведь не складывает
же рук индивид, хотя знает, что рано или
поздно ему придется покинуть жизнь),
с теоретической точки зрения эта пробле-
ма всегда брезжила в сознании челове-
чества.
В наивно мистической постановке она
известна под названием проблемы ко-
нечных целей существования челове-
чества, той высшей цели, ради которой
осуществляется в мироздании мыслящий
дух и ради которой человечество претер-
певает такие страдания и муки.
И появление, и развитие, и гибель
человечества объективно обусловлены со
стороны этой бесконечной системы вза-
имодействия,— в ней, в ее понимании
приходится искать смысла и оправдания
места и роли человечества во вселенной,—
искать разгадку того вопроса, который
в идеалистическом выражении звучит как
вопрос о высшей, конечной цели существо-
вания человечества.
«Историческое начало» истории челове-
ка вполне рационально и материалистичес-
ки объясняется наукой. Что человечество
вместе с Землей когда-нибудь погибнет —
это тоже бесспорно и не представляет
вопроса.
Весь вопрос сводится к тому, как именно
это должно произойти. Какие условия
сделают гибель человечества столь же
неизбежной, сколь и его рождение в лоне
всеобщего взаимодействия?
Здесь сразу возникает сомнение —
а можно ли вообще сформулировать
сколько-нибудь обоснованный ответ на
этот вопрос, возможно ли тут что-нибудь
кроме поэтической фантазии?
Ответ, естественно, может быть найден
только на пути более конкретного анализа
того всеобщего взаимодействия, внутри
которого осуществляется история челове-
чества и которое определяет в конце
концов все более или менее отдаленные
перспективы всего существующего.
Итак, прежде всего, судьбы челове-
чества тесно связаны с грядущими судьба-
ми Земли и, более широко, с судьбами
Солнечной системы. Это, так сказать, то
ближайшее звено мирового взаимо-
действия, которое определяет непос-
редственно неизбежный коней челове-
чества.
Поэтому то большинство теоретических
гипотез о конце человеческого существо-
вания и обращается к представлению
о том, что когда-то во тьме грядущего
постепенно остынет Солнце, истощатся
запасы тепла на планете, и человечество
уже поэтому начнет клониться к закату.
• Это представление до сих пор остается
единственно продуманным,— ибо гибель
человечества как следствие трагической
случайности (столкновение космических
6
тел и т. д.) не приходится брать в расчет.
Ибо — хотя случайность такого рода ис-
ключить и нельзя, она не может быть
положена в основу теоретического пони-
мания вопроса. Нелепо было бы предпола-
гать, что возникновение человечества
обусловлено с железной неизбежностью,
а его конец связан лишь со случайностью.
И здесь и там имеет место диалектика того
и другого. Случайность сама должна быть
понята и в случае гибели человечества как
форма проявления необходимых процес-
сов. В представлении же о чисто случайном
столкновении этой диалектики нет:
столкновение небесных тел — это лишь
одна из случайностей, могущих иметь
место. Здесь же нужна такая случайность,
которая не обязательно такова. Нужно
найти такую перспективу, которая свер-
шится (даже в том случае, если именно эта,
именно такая совершенно специфическая
случайность и не произойдет) — через
любую другую случайность.
Энгельс, как известно, принимает как
более диалектическую перспективу гипо-
тезу о постепенном остывании Солнца
и Земли
Перспектива в его описании выглядит
так.
Неумолимо надвигается время, когда
истощающаяся солнечная теплота не су-
меет уже растапливать надвигающийся
с полюсов лед, когда все более и более
скучивающееся у экватора человечество
перестанет находить и там необходимую
для жизни теплоту, когда постепенно
исчезнет и последний след органической
жизни, и земля — застывший, мертвый
шар, подобно луне — будет кружить в глу-
боком мраке по все более коротким
орбитам вокруг тоже умершего солнца, на
которое она, наконец, упадет.
Солнечную систему, по-видимому, ждет
именно такая перспектива,— и челове-
чество, абстрактно рассуждая, должно
разделить с ней именно такую судьбу.
Это необходимый вывод, следующий из
понимания места человека внутри ближай-
шей среды его существования, внутри
ближайшей сферы мирового взаимо-
действия.
Но возникает вопрос: а нет ли таких
фактических обстоятельств, которые
перекрывают эту абстрактную возмож-
ность? Не слишком ли абстрактно прочер-
чена перспектива?
Что Солнце и планеты со временем
остынут — это бесспорно. Но ведь челове-
чество — и чем дальше, тем в большей
степени — перестает быть послушной иг-
рушкой внешних обстоятельств. Его могу-
щество возрастает из года в год. Челове-
чество находит все новые и новые, все
более совершенные способы освобождать
запасы тепла, движения, энергии, накоп-
ленные в других формах, кроме прямого
солнечного излучения.
Чем дальше развивается человечество,
тем более и более глубокие клады энергии
(более могучей, чем глубже она запрятана,
чем концентрированнее она накоплена)
открываются перед ним и превращаются
в условие его существования...
И не выглядит ли в связи с этим нелепой
перспектива гибели от недостатка прямого
солнечного излучения?
Не выглядит ли нелепой такая перспек-
тива:
— человечество идет ко все более
и более полному использованию энергии
и движения внутри атомных (а в тенден-
ции — и еще более элементарных) струк-
тур, и чем дальше забирается «в глубь»
материи — гем больше энергии оно оттуда
высвобождает, становясь все более неза-
висимым от «готового» солнечного тепла,
а, с другой стороны,— оио должно будет
погибнуть именно от недостатка прямого
«готового» тепла Солнца,— попросту гово-
ря, должно будет — и именно на вершине
своего могущества — замерзнуть, как бес-
помощный цуцик, на обледенелой плане-
те...
Не устраняет ли развитие производи-
тельной мощи человечества опасность
погибнуть от космического холода, от
холода межмировых пространств?
Во всяком случае, по тенденции своей
развитие власти человека над внутренними
структурами материи и над заключенной
в них энергией движения прямо противо-
положно перспективе погибнуть от недос-
татка энергии, движения, тепла.
Внешняя природа в тенденции своей
лишает человека возможности пользовать-
ся готовым, не им созданным теплом
Солнца. Но человек сам создает условия
своего существования,— и «тепло», полу-
чаемое им из недр материи, не составляет
исключения. Это тоже условие человечес-
кого бытия, создаваемое самим существо-
ванием человека, и без него не имеющее
места в природе.
Поэтому перспектива, нарисованная
Энгельсом в прошлом веке, в свете
новейшего развития человечества пред-
ставляется абстрактной, а потому невер-
ной.
Было бы совершенной нелепостью, если
бы человечество, уже сейчас овладе-
вающее внутриядерными запасами энер-
гии, через миллионы лет оказалось бы
беспомощным перед лицом холода, про-
стого недостатка тепла.
Да, готового тепла извне оно будет
получать все меньше и меньше. Но тем
больше и больше оно будет производить
его само, извлекая «изнутри» материи
концентрированные его запасы, ко-
торые — это теоретически бесспорно —
абсолютно бесконечны в самой мельчай-
шей обледеневшей частице, носящейся
в вихрях межмировых пространств.
Ведь энергия, излучаемая Солнцем, не
утрачивается бесследно,— она накаплива-
ется, аккумулируется в других формах,—
и надо только суметь ее оттуда извлечь.
И нет сомнения, что человечество, тем
более под угрозой гибели от холода,
сумеет это сделать. Оно уже теперь, когда
угроза остывания Солнца практически
очень далека, сделало немалые к тому
шаги. Надо представить себе, что оно
может сделать за миллионы оставшихся до
этого времени лет! И стоит принять во
внимание этот фактор, чтобы отказаться от
приведенной выше гипотезы.
Человечество, очевидно, погибнет не
так, как рисуется на первый взгляд,— не от
холода, не от простого недостатка тепла.
По-видимому, от такого предположения
придется отказаться.
Но мы пока сломали единственно проду-
манное предположение — предположе-
ние, опирающееся на понимание места
человека в лоне всеобщей взаимосвязи,
и не предложили нового взамен.
Точно так1 же приходится отвергнуть
и представление о том, что человечество
найдет свой конец в результате физиоло-
гического вырождения, физиологической
деградации. Физиология — та же приро-
да, а человек идет ко все большей
и большей власти над природой данным
материалом своей деятельности.
Добывая аккумулированную внутри эле-
ментарных частиц энергию, свободно пре-
вращая одни виды энергии в другие, одни
химические элементы в другие, как более,
гак и менее сложные, чем исходные,
и управляя одновременно своим
собственным физиологическим развитием,
направляя его по целесообразному (с точ-
ки зрения новых условий) руслу, челове-
чество, по-видимому, имеет все возмож-
ности уйти от замерзания, от «холодной»
и голодной смерти...
Оно, по-видимому, в силах будет соз-
дать — хотя бы в небольшой части про-
странства — искусственную среду и под-
держивать ее, сохранять и воспроизво-
дить и без помощи щедрой и даровой
энергии Солнца.
Уже сейчас это вполне прорисовавшаяся
тенденция развития человечества.
Но чего человечество (мыслящая мате-
рия вообще) пережить не в состоянии,
несмотря на всю свою власть над приро-
дой, какого бы уровня эта власть ни
достигла, так это противоположного холо-
ду мировых пространств состояния миро-
вой материи — состояния, к которому
эволюция миров приводит столь же неиз-
бежно, как и к остыванию,— огненно-
раскаленной «молодости» космической
материи, состояния раскаленного газа мо-
лодой, рождающейся туманности,— ис-
ходной точки нового космического цикла
Это огненно-парообразное состояние,
в котором все элементы превращены
в бешено вращающиеся вихри и где не
может принципиально сохраниться ника-
кая искусственно созданная граница, за
которой мог бы спрятаться человек, ника-
кая сколь угодно прочная и жароустойчи-
вая «оболочка», отделяющая искусствен-
ную среду от остального, от «неочелове-
ченного» мира,— по-видимому и оказыва-
ется тем абсолютным пределом, за
которым уже невозможно существование
мыслящей материи.
Может быть, человечеству и удастся
спастись от смерти иа обледеневшей
планете. Это принципиально — в перспек-
тиве — возможно.
Но никакие усилия не спасут его от
смерти в урагане мирового «пожара»,
который некогда возвратит огненную мо-
лодость нашему мировому острову.
Окончание следует.
2’
7
ШАМАНЫ,
ЗНАХАРИ,
ВРАЧИ...
HALU КОРРЕСПОНДЕНТ ОБРАТИЛ-
СЯ К ДОКТОРУ ФИЛОСОФСКИХ
НАУК Г. И. ЦАРЕГОРОДЦЕВУ, ОД-
НОМУ ИЗ АВТОРОВ КНИГИ «НА-
КАЗАНЬЕ ЛИ БОЖЬЕ!»1, С ВОПРО-
САМИ, КОТОРЫЕ ПОДНИМАЮТ В
ПИСЬМАХ НАШИ ЧИТАТЕЛИ.
• Считалось, что прикосно-
вение божества
целение
• — Сейчас много говорят о проблемах медицины,
фантазируют о медицине будущего, ну а мой первый
вопрос о ее прошлом: с чего она начиналась, когда
возникла?
— Думаю, что в глубокой древности, когда
ни науки, ни религии еще не было Древние
люди опытным путем накапливали сведения
о целебных свойствах растений, минералов,
продуктов животного происхождения. Первые
зачатки медицинских знаний зародились еще
в дорелигиозный период Этот вывод под-
тверждается многими путешественниками,
учеными. В XIX веке этнографы обнаружили на
Огненной Земле и Суматре племена, у ко-
торых отсутствовали какие-либо религиозные
верования, не было представлений о сверхъес-
тественном. Однако они знали ряд ле-
карственных растений и пользовались простей-
шими способами перевязки ран, устранения
вывихов и т. д. Конечно, медициной в полном
смысле этого слова все это назвать нельзя.
Скорее — это прогомедицина.
• — Первые целители были женщины или муж-
чины?
— Первоначально целительством, по всей
видимости, занимались женщины — они соби-
рали съедобные плоды и растения и у них было
больше возможностей познавать и применять
на практике их целебные свойства.
• — Ну а первые, так сказать, профессионалы,
«протоврачи»,— кем они были и когда появились?
— С развитием общества и общественным
разделением труда выделилась и прослойка
профессиональных целителей — знахарей.
Я считаю ошибочным отождествление народ-
ной медицины со знахарством, хотя и резкой
границы между ними также не существует.
Испокон веков колдуны знахари, шаманы
пользовались в своей практике приемами
народной медицины: применяли массаж,
компрессы, кровопускание, лечебные травы.
Но главным элементом знахарства, иначе
говоря лечебной магии, были различного рода
магические приемы: «высасывание» знахарями
из тела больного болезни (в виде камня или
кристалла), произнесение магических формул,
заклинаний, изгнание духов болезней и
т. д. Поэтому знахарство как бы явилось
основой религиозного подхода к болезням
и здоровью, а народная практическая медици-
на — основой современной медицины.
1 Н. В. Рябушкнн, Г. И. Царегородцев. Наказанье ли
божье? М., Политиздат, 1988.
• — Как относилась Русская православная цер-
ковь к лекарям, практикующим народную медицину?
— Сугубо отрицательно. Лечебные приемы
объявлялись «безбожным волшебством», на-
стои из трав — отравой, повивальным бабкам
было запрещено оказывать акушерскую по-
мощь при родах, лекарей преследовали. Даже
паровая баня — древнейшее лечебное
средство славянских племен — и та подверга-
лась нападкам. Вообще все, что было связано
с врачеванием, народной медициной, счита-
лось великим грехом Во время исповеди
священники нередко задавали вопрос: «В лес
по траву и по корение не ходил ли еси? — Не
ходил ли к врачу или по волхвам или к себе
приводил? — Зелия какова не пивал ли?»
Наказанием за чародеяние, под которое попа-
дало и народное врачевание, могла быть
смертная казнь.
Приемам народной медицины церковь про-
тивопоставила свои средства лечения — «цели-
приносит ис-
О Врач и е< тествоиспыта-
тель Пирацаы (1493 —
1541) способствовал внедре-
нию химических препаратов
в медицину.
• Иероним Босх. XVI в. Фрагмент картины.
30 изданий, в течение многих
веков был основным теорети-
ческим руководством по ме-
дицине.
* Энциклопедический « Ка-
нон врачебной науки» учено-
го, философа и врача Ибн
Сины (Авиценна, 980 —
1037), выдержавший около
«чудотворные» иконы,
тельную» молитву,
мощи «святых», «святую» воду и т.п.
• — Существует мнение, что в Библии содержится
немало рекомендаций, важных для здоровья. Так ли
это?
— В Библии встречаются отдельные ги-
гиенические советы, отражающие народную
мудрость. Однако удельный вес их невелик
Они подчинены требованиям соблюдать рели-
гиозные обряды, которые якобы обеспечи-
вают и закрепляют успех лечения.
• — В трудах христианских авторов болезнь
нередко объяснялась как кара божья за грехи
человеческие...
— Христианские проповедники и поныне
утверждают, что первые люди не знали ни
• Древнегреческий врач,
реформатор античной меди-
цины Гиппократ (460 — 370
до н. э.). С его именем связа-
но представление о высоком
нравственном облике врача.
8
болезней, ни смерти. Допустив грех непослу-
шания, они сами ввели в свою жизнь и природу
болезни, скорбь, страдания и смерть. Таким
образом, болезнь воспринимается как некое
«вразумление», посланное богом человеку для
напоминания о его смертности и греховности.
• — Но неужели современные представления
о здоровье и медицинской помощи не отразились на
отношении церкви к этим вопросам?
— Разумеется, отразились. Нынешнее духо-
венство, как правило, не призывает
«умерщвлять плоть», не осуждает заботу
верующих о своем физическом здоровье.
Более того, отдельные проповеди звучат ныне
как гимн здоровью. Так, например, скончав-
шийся в 1961 году митрополит Николай
(Ярушевич) говорил, что церковь «не может не
желать своим детям земного благополучия,
здоровья и земного счастья». Нередко священ-
нослужители обращаются к авторитету меди-
цины, чтобы доказать полезное, оздоровитель-
• Святой Антоний. Ему мо-
лились при отравлении спо-
рыньей.
ное значение ряда религиозных обрядов,
в частности религиозных постов.
• — Но ведь медицина действительно не исключа-
ет применения лечебного голодания для исцеления
ф Чародейка, гадающая на священной чаше
с водой. Статуэтка эпохи энеолцта.
ряда недугов...
— Возможности лечения голодом сейчас
тщательно изучаются. Есть позитивные резуль-
таты. Так, например, кандидат медицинских
наук Г. И. Бабенко успешно использовал этот
метод в одном из наркологических стациона-
ров Москвы. Он считает, что эта терапия
способна помочь врачу «достучаться» до души
больного, заставить его собрать остатки воли
на пути к выздоровлению. Дело, по-видимому,
заключается в том, что голодание повышает
внушаемость, что и используют врачи-нарко-
логи. Но самодеятельные эксперименты с го-
лоданием чреваты самыми серьезными по-
следствиями. Лечение голодом надо прово-
дить в стационаре, под постоянным наблюде-
нием врача.
Конечно, чрезмерное чревоугодие вред-
но —с этим никто не спорит. Однако особен-
ностью религиозных постов является их
жесткий нормативный характер для всех ве-
рующих, вне зависимости от их состояния
физического и психического. К тому же
церковь отводит постам около 200 дней в году.
Тут уж действительно не до жиру...
• — Вы упомянули, что голодание повышает
внушаемость. Может, это одна из причин, почему
церковь так усиленно проповедует пост?
— Не исключено. И еще одна немаловажная
деталь. Религиозный пост — не только воздер-
жание в пище, но и воздержание от опреде-
ленного рода деятельности, отношений и
т. д. Недаром патриарх Пимен говорил о необ-
ходимости соединения «поста телесного с по-
стом духовным».
ф — Как вы относитесь к заявлениям о стремлении
церкви принять участие в борьбе против алкоголизма
и наркомании?
— Проповеди священнослужителей, на-
• Один из основоположни-
ков научной микроскопии
нидерландский натуралист
Левенгук (1632 — 1723).
ф Тибетский врач применяет традиционный метод
китайской терапии — прижигание; тепло при
этом передается коже с помощью иглы.
• Основоположник научной
анатомии Везалий (1514—
1564).
правленные против пьянства и употребления
наркотиков, отвечают духу времени, в боль-
• Основатель современной
физиологии кровообращения
английский врач Г арвей
(1578 1657)
шинстве своем продиктованы гуманными
чувствами и побуждениями. В борьбе с этим
злом должны объединить свои усилия все слои
советского общества. Другое дело, что при
этом имеется, так сказать, своя «сверхзада-
ча» — повернуть человека к церкви, религии,
ф — В последние годы возрос интерес к народной
медицине. Чем вы это объясняете?
— Многие рецепты народной медицины
привлекают внимание и ученых. Как известно,
около 40 процентов лекарственных средств,
выпускаемых фармакологической промыш-
ленностью, производится из растительно-
го сырья. Но это, так сказать, «здоровый»
интерес, а есть и «нездоровый», подогре-
ваемый сенсационными заявлениями отдель-
ных «травников» о необыкновенных воз-
можностях их снадобий. К сожалению,
9
большинство подобных заявлений при проверке оказы-
ваются несостоятельными, но ажиотаж они вызывают.
Встречающиеся в медицинских учреждениях случаи без-
душного отношения к больным, отсутствия такта, неува-
жения — все это также способствует росту популярности
отдельных современных знахарей и чудодеев. Ведь неко-
торые из них неплохие психотерапевты...
• — Вот вы сказали о психотерапии. Правильно ли мнение,
что священнослужитель в какой-то мере является психотерапев-
том?
— Буржуазные ученые считают, что «религия и психо-
терапия едины в признании веры основой душевного
здоровья». Психологическая и психиатрическая подготов-
ка священников в США и ряде стран Западной Европы
началась в 20-х годах XX века, а в послевоенные годы она
достигла невиданного размаха. Для координации усилий
служителей культа, психологов и психиатров в США были
созданы Совет клинической пастырской подготовки, На-
циональная академия религии и душевного здоровья,
объединяющая многие сотни священников и ученых,
и целый ряд других подобных центров, которые ведут
соответствующие исследования и издают свои книги,
журналы, популярные брошюры. В то же время студен-
там-медикам и будущим медсестрам читаются факульта-
тивные курсы по проблемам религии для того, чтобы они
умели использовать целительные возможности, якобы
заключенные в религиозной вере.
• — Каково различие между пастырской и научной психо-
терапией?
— Основа у них одна — внушение и самовнушение,
а вот задачи разные.' Врач старается пробудить в больном
стремление преодолеть болезнь, активизировать его
волю, превратить его в своего сознательного союзника,
научить больного управлять некоторыми процессами
в организме. Пастырская же терапия, разновидностью
которой является и молитва, как правило, отстраняет
больного от активного содействия врачу, культивирует
пассивность, смирение со своей участью.
9 — Но ведь описаны достоверные случаи, когда религиозная
вера исцеляла...
— Такие случаи действительно имели место. Но сверхъ-
естественным тут и не пахнет. Эти исцеления имеют
вполне естественный психофизиологический механизм.
Дело в том, что вера, причем любая вера, не только рели-
гиозная, обладает огромной силой внушения. Выдающийся
русский ученый-невролог, психиатр В. М. Бехтерев
писал: «...вера является столь благоприятной почвой для
самовнушения, что она нередко совершает этим путем
чудесные исцеления...» Отмечу, что с помощью внушения,
самовнушения, гипноза могут излечиваться только функ-
циональные заболевания, а не анатомические поражения
какого-нибудь органа.
Что же касается веры, то без нее нет и врачебной психо-
терапевтической практики. Только в отличие от священно-
служителя врач стремится развить и укрепить в больном
веру не в потусторонние, а в свои собственные силы.
9 — Что, на ваш взгляд, нужно сделать в области медицины,
чтобы укрепить здоровье людей, превратить советский народ
в нацию жизнерадостных, не болеющих людей?
— К великому моему сожалению, предложить в таком
же шутливом тоне какой-либо сенсационный «верный»
рецепт я не могу. Но, по-моему, начинать нужно не с
медицины. Советские и зарубежные ученые установили,
что самый главный фактор укрепления физических и
психических сил организма — правильный образ жизни
человека. От него зависит примерно 60% нашего здо-
ровья, 20% — от наследственности и окружающей среды
и лишь 10% —от медицины. Так что наше здоровье, как
говорится, в наших собственных руках. Ну а что касается
медицины, то в недавнем Постановлении ЦК КПСС и
Совмина СССР о развитии здравоохранения в нашей
стране заложены стратегические направления развития
советской медицины,— медицины будущего. Так что ори-
ентиры намечены — теперь остается самое «малое» —
реализовать поставленные задачи.
3
м
2D
На окраине
Российской империи
Еще в начале прошлого века доктор
Реман, сопровождавший в Китай по-
сольство графа Юрия Александрови-
ча Головкина, заинтересовался мето-
дами врачевания, которые широко
применяли ламы-буряты. Одного из
них, Цультима Цэдэна, славившегося
своим искусством, он пригласил в Пе-
тербург, чтобы столичные врачи нако-
нец из первых рук познакомились
с тибетской медициной, а Цультим
Цэдэн перевел бы тибетские меди-
цинские книги на русский язык. Увы,
Цэдэн вскоре умер, и этим планам
суждено было сбыться лишь на рубе-
же нынешнего столетия. Но о призна-
нии тибетской медицины говорить
еще было рано.
В 1853 году царское правительство,
вынужденное считаться с традициями
и обычаями населения Забайкалья,
утвердило предложенное генерал-
губернатором Восточной Сибири
Н. Н. Муравьевым-Амурским «Поло-
жение о ламайском духовенстве»,
согласно которому бурятская лама-
истская церковь оказывалась в адми-
нистративной зависимости от госу-
дарственной и местной (губернской)
власти. Это официальное признание
ламаизма не на шутку обеспокоило
иерархов православной церкви. «Ла-
маизм сильный противник православ-
ной миссии,— записано в Обзоре
деятельности духовного ведомства
тех лет. — Там дацаны (монастыри) со
строгою дисциплиною и продолжи-
тельным образованием в духе ла-
маизма, там и школы, и ламы,
и обаяние медицинской науки из
Тибета. Ламы известные медики, в Ти-
бетской медицине они сильны, и это
является в их руках особым орудием
пропаганды; даже православные об-
ращаются к ламам за медицинской
помощью в стране, где вообще науч-
но образованных врачей очень мало».
Когда в Чите вспыхнула эпидемия
брюшного тифа, местные власти об-
ратились за помощью к известному
в Забайкалье старшему ламе Агинско-
го дацана Цультиму Бадмаеву,— и
скоро эпидемию удалось погасить.
Здравый смысл, распорядительность
и медицинские познания этого чело-
века произвели на губернатора
Н. Н. Муравьева-Амурского столь
сильное впечатление, что он хода-
тайствовал о приглашении Бадмаева
в столицу Российской империи.
Официальное
признание
Цультима Бадмаева
Цультиму Бадмаеву — после кре-
щения Александру Александрови-
чу — специальным царским указом
дозволялось заниматься не только
10
частной практикой, но и лечить
больных в военном госпитале.
«А. А. Бадмаев представил более
50 свидетельств, заверенных предста-
вителями военной и гражданской
администрации Забайкалья и духо-
венства, об успешном излечении «го-
рячки», воспаления различных орга-
нов, застарелых ревматических стра-
даний, чахоточных поражений груди,
спазмов, кожных сыпей, костоеды,
опухолей, зубных болей, послеро-
довых страданий женщин, поносов
и расслабления желудка». Меди-
цинский департамент военного ми-
нистерства, однако, определил ему
лечить бугорчатку легких, то есть
туберкулез, и «испытывать свои
средства над больными одержимыми
раком». Там практика Бадмаева про-
должалась менее двух лет, но он во
многом преуспел, выдержал экзамен
на звание лекарского помощника и
был награжден по высочайшему пове-
лению чином с правом носить во-
енный мундир. Он первый открыл
в Петербурге тибетскую аптеку.
Казалось, давней мечте доктора
Ремана скоро суждено было сбыться:
бывший лама перевел 4-томный труд
по тибетской медицине. Правда, толь-
ко на монгольский язык: по-русски
говорил он с трудом, а писать вообще
не умел. Русский перевод поручили
университетским профессорам-вос-
токоведам. Но не тут-то было: разоб-
раться в тибетской медицине оказа-
лось не так просто.
Петр Александрович
Бадмаев
Достигнув довольно высокого поло-
жения среди дворянской знати,
А. А. Бадмаев в 1871 году вызвал
в столицу младшего брата Жамсара-
на. Он тоже принял православие.
Как же- складывалась судьба млад-
шего Бадмаева, нареченного Петром
Александровичем? В 1875 году после
окончания восточного факультета
университета по китайско-мон-
гольско-манчжурскому разряду, он
был зачислен на службу в Азиат-
ский департамент министерства ино-
странных дел и скоро стал играть
видную роль при дворе. Но, пожалуй,
именно медицина была главным де-
лом его жизни. Окончив Медико-
хирургическую академию и изучив
тибетскую медицину под руко-
водством брата, после его смерти
в 1873 году П. А. Бадмаев унаследовал
и значительно расширил частную
практику: открыл клинику на Поклон-
ной горе.
В знаменитом Энциклопедическом
словаре Брокгауза и Ефрона его
врачебная практика охарактеризована
лаконично: «Лечит все болезни каки-
ми-то особыми, им самим приготов-
ленными порошками, а также трава-
ми; несмотря на насмешки врачей,
к Бадмаеву стекается огромное коли-
чество больных»
1акое паломничество вызывало у
частно-практикующих врачей серь-
езные опасения: что если все больные
потребуют неведомых трав и порош-
ков? Где их взять? Да и к лицу ли
серьезным врачам опускаться до шар-
латанства?
Вокруг личности тибетского враче-
вателя закипели страсти. Не осталась
в стороне и пресса. На страницах
«Курьера» А. С. Серафимович обви-
нял врачей, что они, порицая Бад-
маева как знахаря, фактически соз-
дают ему рекламу вместо того, чтобы
подвергнуть эти методы лечения
строгой научной проверке. «Если Бад-
маев согласится — медицина, быть
может, обогатится великими открыти-
ями, если не согласится,— для всех
будет ясно, что это лечение — шарла-
танство. Так или иначе общество
врачей должно освободить обывателя
от удушливой атмосферы таинствен-
ности и суеверия, распространяемой
господами Бадмаевыми».
Дело о клевете
Имя П. А. Бадмаева, автора первых
работ по тибетской медицине, опуб-
ликованных на русском языке, долгое
время не упоминалось в медицинской
литературе. Между тем он приложил
немало сил, чтобы сделать эту науку
достоянием европейских врачей:
первым перевел на русский язык
основное руководство по тибетской
медицине «Чжуд-ши». В 1898 году
оно вышло под названием «О системе
врачебной науки Тибета». В предисло-
вии к нему автор уведомил чи-
тателей, что они могут подписаться
на последующие выпуски, равно как
и на «Общедоступный лечебник по
системе врачебной науки Тибета».
Книгу «О системе врачебной науки
Тибета» высоко оценил известный в то
время терапевт С. М. Васильев,
возглавлявший клинику Дерптского
университета: «Каждый образо-
ванный европейский врач с несомнен-
ностью убедится, что тибетская меди-
цина достигла поразительного разви-
тия и, несомненно, в некотором
отношении значительно опередила
европейскую».
Однако большинство врачей и осо-
бенно фармацевтов вовсе не стреми-
лись приобщиться к восточной меди-
цине. П. А. Бадмаева по-прежнему
называли шарлатаном, а некоторые
выдвигали и такие обвинения, ко-
торые вынуждали его защищать свою
врачебную репутацию. Так, 10 января
1904 года в Санкт-Петербургском
окружном суде слушалось дело о
распространении клеветнических
измышлений в печати. Поводом для
иска послужила заметка в Санкт-
Петербургской газете «Новости», где
доктор Крендель выражал скорбь по
поводу кончины профессора консер-
ватории К фон Арка, называя ее
преждевременной. Это было прямым
обвинением лечащего врача, а имен-
но Бадмаева, в некомпетентном лече-
нии. Суд, однако, доктора Кренделя
оправдал.
За этим процессом следила вся
общественность. Недоброжелатели
П. А. Бадмаева оживились. Магистр
фармации Е. А. Альтгаузен разразил-
ся разгромной статьей в журнале
«Фармацевт», благо сам являлся его
редактором-издателем. Он называл
книгу Бадмаева «абракадаброй», не
скрывая, впрочем, что «не взял на
себя труда изучить ее». Не пытался
автор статьи и завуалировать истин-
ную причину злобных и грубых выпа-
дов: по его подсчетам выходило, что
петербургские аптеки лишились по
вине конкурента, который держал
свою аптеку, возможности изготовить
«300 тысяч нумеров рецептов».
Справедливости ради следует ска-
зать, что далеко не все критики
руководствовались меркантильными
соображениями. Европейским врачам
действительно нелегко было понять
специфику восточных традиционных
медицинских систем.
Школа на
Поклонной горе
Совершенствуясь в своем деле,
П. А. Бадмаев побывал в Монголии,
Китае, Тибете. Он проникал в самые
отдаленные монастыри, куда дорога
европейцам была закрыта, приобре-
тал редкие книги, пополнял запасы
аптеки.
Тысячи больных из разных уголков
страны обращались к нему за по-
мощью. Мог ли один человек принять
всех страждущих? Увы! Что же де-
лать? Вывод напрашивался один:
нужны хорошо подготовленные по-
мощники. Причем их положение дол-
жно быть узаконено, официально
удостоверено право именоваться вра-
чами тибетской медицины.
Для начала на свои средства
П. А. Бадмаев открыл русско-бу-
рятскую школу на Поклонной горе,
где молодые люди изучали мон-
гольский и тибетский языки, осваива-
ли премудрости тибетской медицины.
Затем они получали европейское ме-
дицинское образование. Еще Бадмаев
мечтал организовать общество по
изучению врачебной науки Тибета
и широко развернуть профилактичес-
кую медицинскую деятельность.
Изложив- свой проект в докладной
записке на имя министра внутренних
дел, он долго ждал ответа. Наконец
морозным январским днем 1911 года
пристав второго участка Рож-
дественской части столицы вручил
действительному статскому советнику
П. А. Бадмаеву пакет с грифом
министерства внутренних дел...
у
11
Итак, отказ. Но отступать от заду-
манного Петр Александрович не со-
бирался. Прежде всего он решил
опубликовать ответ чинушам из Ме-
дицинского Совета, присовокупив к
нему ранее изданную «Справку о по-
ложении врачебной науки Тибета
в России» и докладную записку ми-
нистру,— должны же найтись трезвые
головы, способные правильно оценить
все эти материалы! Через несколько
месяцев вышла брошюра «Ответ на
неосновательные (!) нападки членов
Медицинского Совета на врачебную
науку Тибета». Борьба продолжалась.
Временному правительству П. А.
Бадмаев оказался неугоден, и его
выслали за границу. Но после
Великой Октябрьской революции он
вернулся в Петроград и продолжал
врачебную деятельность до 29 июля
1920 года.
Двухэтажный белокаменный дом
с башенкой у подножья Поклонной
горы, известный в литературе как
«дача Бадмаева», был реквизирован,
и хотя в романе «У последней черты»
В. Пикуль пишет, что в 1917 году
разгневанный народ сжег его, в
действительности до недавнего вре-
мени там размещалось отделение
милиции и снесли дом лишь в 1985 ГО-
ДУ-
Историкам еще предстоит изучить
торгово-дипломатическую деятель-
ность П. А. Бадмаева на Дальнем
Востоке, разобраться в причинах его
влияния при дворе, проанализировать
характер отношений с одиозными
фигурами из царского окружения,
особенно с Распутиным. До сих пор
и в художественной, и в атеистической
литературе личность П. А. Бадмаева
подавалась достаточно однозначно —
как ловкого проходимца, снискавшего
расположение мистически настроен-
ной императрицы. Как бы то ни было,
определенно можно сказать одно:
близость П. А. Бадмаева к при-
дворным кругам стала одной из
причин едва ли не враждебного отно-
шения и к его врачебной практике,
а впоследствии и к тибетской медици-
не, видным представителем которой
он несомненно был.
Дело П. А. Бадмаева продолжили
двое: вдова Елизавета Федоровна,
чьими силами долгие годы сохраня-
лась тибетская аптека, и племянник
Николай Николаевич Бадмаев, вы-
пускник Военно-медицинской акаде-
мии.
На крутом переломе
Вскоре после гражданской войны
в 1925 году в Верхнеудинске (Улан-
Удэ) был созван собор духовенства
и мирян-буддистов, на котором об-
суждался и вопрос о лечебной практи-
ке лам. Решено было сохранить
медицинские школы при Агинском,
Гусиноозерском и Ацагатском даца-
нах, на территории которых имелись
целебные источники. В 1926 году
состоялся съезд лам-медиков. Все эти
шаги имели целью, с одной стороны,
оказание помощи в развитии народ-
ной медицины, с другой — постепен-
ное размежевание религиозной и
собственно лечебной практики.
Контроль за деятельностью лам-ме-
диков должен был осуществлять спе-
циально избранный комитет. Однако
практически всей их деятельностью
руководил Агван Доржиев — настав-
ник тибетского далай-ламы.
Понимая сложность создавшейся
ситуации, Наркомздрав республики
начал налаживать связи с Академией
наук СССР, Ученым комитетом Мон-
гольской Народной Республики и
соответствующими научными об-
ществами в Германии, Китае, Японии.
Академия наук СССР организовала
в Бурят-Монголию несколько экспе-
диций ученых-востоковедов и спе-
циалистов по лекарственным расте-
ниям. Были собраны образцы ле-
карственных растений, заготовлены
крупные партии лекарственного
сырья для химического анализа.
К сожалению, не все участники
экспедиций и представители местных
властей обладали достаточной про-
зорливостью, чтобы понять: для осво-
бождения тибетской медицины от
религиозных наслоений требуется
прежде всего время. Сталкиваясь
с невежеством и корыстолюбием не-
которых лам-лекарей, они делали
однозначный вывод о несостоятель-
ности самой тибетской медицины
и требовали ее запрета.
Не избежал этой ошибки и из-
вестный исследователь Б. В. Семичов,
один из авторов очень ценного «Сло-
варя тибето-латино-русских названий
лекарственного сырья, применяемого
в тибетской медицине» (Улан-Удэ,
1963). В числе многих других и тен-
денцию «обмирщения» тибетской ме-
12
дицины он расценивал не как положи-
тельный сдвиг, а как обманный ма-
невр. К сожалению, печальные по-
следствия такого одностороннего
подхода сказывается до сих пор.
Лечит меня Бадмаев...
Н. Н. Бадмаев пристально следил за
результатами экспедиций. Чтобы до-
биться изучения тибетской медицины
на научной основе, он настойчиво
обращался в Наркомздрав, Нар-
компрос, Наркоминдел, ЦИК. Долго
ему отказывали, мотивируя тем, что
в европейской медицинской литерату-
ре нет соответствующих научных тру-
дов. Никто не хотел принять на себя
ответственность и разрешить лабора-
торные и клинические испытания.
Вероятно, мешал и страх: а вдруг
упрекнут в пособничестве религии?
И все же во многом благодаря
настойчивости Н. Н. Бадмаева наконец
был создан Отдел восточной меди-
цины в Институте экспериментальной
медицины.
Существенную поддержку в этом
начинании оказал А. М. Горький. Из
переписки А. М. Горького и А Н.
Толстого известно, что >ба они
прибегали к медицинской помощи
Н. Н. Бадмаева
27 декабря 1934 года у А. Н. Толсто-
го произошел инфаркт миокарда.
15 января 1935 года он писал
А. М. Горькому: «...Лечит меня Бад-
маев, изумительный человек, умный
и нежной души. Пью разные травы
и настойки, медвежью желчь, тертых
ящериц и прочие замечательные ве-
щи. Второй день выхожу, но чувствую
себя неважно... Вот что значит сердце.
В ноябре написал пьесу, в три недели
12 картин, а сейчас трудно связать две
фразы. Бадмаев говорит, что наладит-
ся».
Даже в 50-е годы непременным
условием леи*"1"’ инфаркта миокар-
да был длительный (около 2 месяцев)
постельный режим. А. Н. Толстой уже
через три недели вышел на улицу,
а в конце февраля приехал в Москву
для участия в работе пленума Правле-
ния Союза писателей СССР.
В ответном письме А. М. Горького
А. Н. Толстому есть такие строки:
«...Если здоровье позволяет, перека-
титесь сюда в Горки... захватив с со-
бою фунтов 16 Бадмаевских трав,
Черткова* знает, как надо обращаться
с ними, ох! — она очень хорошо знает
это!»
В 1932 году вместе с учеными
Института экспериментальной меди-
цины А. М. Горький обсуждал вопрос
о новых, более перспективных фор-
мах научно-исследовательской ра-
боты в области медицины. Он же взял
* Черткова О« Д. — Друг семьи Горького,
фельдшерица, которая непосредственно сле-
дила за здоровьем писателя
4 «Наука и религия» № 8
13
на себя инициативу довести результат
этих бесед до руководителей партии
и правительства. Речь шла о созда-
нии комплексного научно-исследова-
тельского института для всесторонне-
го изучения здорового и больного
человека. Предложение было приня-
то. Основой этого центра стал Инсти-
тут экспериментальной медицины,
получивший по декрету Совнаркома
от 15 октября 1932 года новый статус
и соответственно переименованный
во Всесоюзный институт эксперимен-
тальной медицины (ВИЭМ)
Именно в этот период Наркомздрав
РСФСР наконец проявил интерес к
предложению Н. Н. Бадмаева поста-
вить на научную основу изучение
тибетской медицины. С февраля
1932 года началась переписка по
данному поводу между Н&ркомздра-
вом и руководством института.
Бюро
восточной медицины
Большинство ведущих сотрудников
института одобрило проект, преду-
сматривающий открытие стационара
и амбулатории, создание лекарствен-
ного фонда за счет экспедиций,
проведение лабораторных исследова-
ний, организацию музея, работу по
переводу тибетской медицинской ли-
тературы и ряд других пунктов.
Правда, даже соглашаясь с проектом,
некоторые возражали против руко-
водства в этом деле Н. Н. Бадмаева,
отводя ему более скромную роль.
Но нашлись люди, которые горячо
его поддержали. Профессора
А. Д. Сперанский и В. В. Савич
написали письмо на имя директора
ВИЭМ (от 14 декабря 1932 г.), убеж-
дая руководство в необходимости
организовать в стенах института систе-
матическое изучение восточной ме-
дицины, научно-практическое значе-
ние которой «в лучшем случае игно-
рируется, в худшем — приравнивает-
ся к знахарству». Да, писали они,
теория восточной медицины тесно
связана с мистической философией
Востока, но разве любая медицина
и восточная, и западная не стремится
использовать больше, чем может в
данный момент объяснить? К тому же
нельзя объяснить то, чего не знаешь и,
главное, не хочешь знать. Необходи-
мо вывести восточную медицину из
подполья, ибо существующее поло-
жение делает ее достоянием шарла-
танов, приносящих немалый вред.
«Причины здесь те же, которые по-
рождают религиозные суеверства. Те
создавались господствующей рели-
гией, эти — господствующей меди-
цинской школой, поддерживаемой
наукой и охраняемой законом. Но
подлинная наука не нуждается в такой
защите. Задача закона — охранять не
науку, а здоровье трудящихся от
посягательств невежества, небреж
ности или спекуляции. И совершенно
безразлично, к недрам какой именно
школы причисляет себя сознательный
или бессознательный вредитель».1
Поддержал идею изучения ти-
бетской медицины в стенах Все-
союзного института эксперименталь-
ной медицины и Н. И. Бухарин —
видный политический деятель, дей-
ствительный член АН СССР, редак-
тор «Известий», возглавлявший в то
время научно-исследовательский сек-
тор ВСНХ. Об этом свидетельствует
его письмо директору ВИЭМ Л. Н. Фе-
дорову:2
«Дорогой тов. Федоров!
Я. по сути дела, присоединяюсь
к записке Сперанского и Савича. По-
моему, одна из благороднейших задач
ученых СССР состоит в том, чтобы
добиться синтеза между ценным на-
следием запада и востока синтеза,
которого не допускает империалисти-
ческая ориентация буржуазии, или во
всяком случае мешает его созданию.
Поэтому я бы думал, что в рамках
вашего учреждения хорошо было бы
отвести место и для работ Н. Н. Бад-
маева. с соответствующей эксперимен-
тальной базой и обеспечением издания
соответствующих трудов. Нам вовсе не
след исходить из предрассудков куль-
туры Средиземного моря или даже
«белой расы». Да и наверняка можно
a priori сказать, что мы могли бы
получить немало ценного, если бы
пошарили поглубже в сокровищах
научной мысли востока.
Привет! Ваш Н. Бухарин».
30 декабря 1932 года в ВИЭМе
наконец состоялось первое совеща-
ние, на котором выступил с докладом
Н. Н. Бадмаев. А вскоре в Забайкалье
отправилась экспедиция для сбора
и заготовки животного лекарственно-
го сырья и целебных растений. Зада-
ние было выполнено успешно Кроме
того, удалось приобрести и ценные
книги по тибетской медицине.
В 1934 году при институте начало
работать специальное Бюро по изуче-
нию восточной медицины во главе
с фармакологом профессором
С. В. Аничковым. Стоял вопрос и об
открытии соответствующей клиники.
Предполагалось развернуть исследо-
вания достаточно широко и включить
в сферу научной проверки средства
и методы врачебной науки не только
Тибета, но и арабо-персидской меди-
цины, что получило отражение в на-
звании Бюро и клиники Организа-
ционный период, однако, затягивался.
Руководителем клиники был назна-
чен профессор С. П. Заводской,
Н. Н. Бадмаеву отвели роль консуль-
танта — для директора института
Л. Н Федорова он по-прежнему
оставался нежелательным лицом, ко-
торому не следовало давать реальных
прав. Результаты такого отношения
проявились достаточно быстро — соз-
данное подразделение было вскоре
переименовано в ' Бюро восточной
и народной медицины. Этот шаг не
был случайным, хотя кроме Н. Н. Бад-
маева никто не придал ему значения.
Н. Н. Бадмаев пытался убедить
членов Бюро, что переименование
знаменует собой принципиальное
отступление от первоначальной идеи.
Ведь тибетскую медицину нельзя
приравнивать к народной и низводить
ее до уровня знахарства. Не от-
дельные лекарственные средства
надо испытывать, а изучать всю систе-
му взглядов, весь врачебный арсенал,
включающий помимо лекарственных
препаратов диететику и разнооб-
разные физические методы лечения.
Поддержки эта позиция не нашла.
Члены Бюро надеялись, что переиме-
нование вреда не принесет, а, напро-
тив, позволит расширить сферу де-
ятельности. Но в январе 1935 года
Отдел народной медицины (как ви-
дим, трансформация названия была
последовательной) закрыли под пред-
логом реорганизации института. До-
говоре больницей им. В. И. Ленина, на
базе которой отделение просу-
ществовало буквально два месяца,
был расторгнут, а больные выписаны
или переведены в другие лечебные
учреждения. На этом изучение вос-
точной, в том числе тибетской, меди-
цины в рамках ВИЭМа практически
закончилось.
Инициативная группа
Но ее сторонники сдаваться не
собирались. В апреле 1935 года в Со-
вет труда и обороны страны поступи-
ло «Деловое предложение о развитии
работы по изучению и экономическо-
му использованию средств и методов
восточной медицины», подписанное
экономистом В В. Добрыниным. Ав-
тор предложения подробно обос-
новывал необходимость создания в
Ленинграде научного и учебного
центра — Института восточной меди-
цины и гигиены с филиалами в странах
Востока и Запада. Это предложение
было передано наркому здравоохра-
нения РСФСР Г. Н. Каминскому.
Время, однако, шло, а ответа все не
было. Через 8 месяцев В. В. Добрынин
направил жалобу председателю Сов-
наркома СССР В М. Молотову с ко-
пиями в Комиссию Советского
контроля при СНК СССР, в Комиссию
Партийного контроля и Комиссию
содействия ученым.
Обосновывая вновь программу изу-
чения и использования средств и ме-
тодов восточной медицины, он под-
черкивал, что в ее арсенале имеется
немало кровоостанавливающих и ра-
нозаживляющих средств, препараты,
повышающие естественный иммуни-
тет к инфекциям, что особенно важно
в случае бактериологической войны.
Добрынин указывал, что инициатив-
ная группа ученых разработала устав
Общества содействия изучению ме-
дицины, гигиены и психофизкультуры
14
народов Востока, что при Институ-
те востоковедения АН СССР уже
действует семинар по изучению ти-
бетского языка и тибетской медицины
и что он лично заручился поддержкой
полномочного представителя Тибета
в СССР Хамбо Агван Доржиева
(бывшего наставника далай-ламы).
Столь энергичное напоминание
возымело действие. 26 марта 1936 го-
да «Вечерняя красная газета», изда-
вавшаяся в Ленинграде, известила
читателей о том, что Ученый меди-
цинский Совет (УМС) Наркомздрава
РСФСР по инициативе группы ле-
нинградских профессоров созывает
1 апреля широкое совещание по
поводу изучения тибетской меди-
цины. Казалось, на этот раз победа
была бесспорной. Президиум УМС
принял постановление о необходи-
мости изучения восточной медицины.
Но уже через несколько дней на
заседании Бюро УМС стало ясно, что
трудности на этом не кончились.
Директор ВИЭМ Л. Н. Федоров,
понимая, что в сложившейся ситуации
впрямую возражать против изучения
тибетской медицины нельзя, заявил,
что в СССР нет ни одного подлинного
ее представителя и что доктор
Н. Н. Бадмаев таковым считаться не
может. Более того, он обвинил Бад-
маева в расхищении тибетских ле-
карственных средств, собранных за-
байкальской экспедицией, и в том, что
последний всячески уклоняется от
научной проверки применяемых им
методов лечения.
Принятое Бюро решение было по-
ловинчатым: для систематического
методологического руководства ра-
ботой по изучению восточной меди-
цины избрать комиссию, а предложе-
ния о создании общества, организа-
ции института и специальной клиники
отклонить, ограничившись клиничес-
кими испытаниями в одном из
обычных стационаров. Позиции про-
тивников тибетской медицины были
достаточно сильны.
От имени инициативной группы ее
председатель профессор В П Кашка-
дамов выразил энергичный протест
и настаивал на праве группы работать
по собственному плану при любых
условиях контроля со стороны Нар-
комздрава. Протест был направлен
наркому здравоохранения республи-
ки Г. Н. Каминскому, а копию в Комис-
сию Советского контроля при СНК
СССР. В нем, в частности, говорилось:
«Лен. иниц. группа добивается лишь
одного: возможности работать в об-
ласти изучения средств и методов
восточной медицины таким образом
и в таких условиях, чтобы в результате
этой работы можно было бы дать
вполне объективный и научнообосно-
ванный ответ на поставленный вопрос,
пригодный для того, чтобы его можно
было, с приложением соот-
ветствующих точных документальных
данных и объяснений, >публиковать
как в советских, так и в иностранных
научных органах без риска быть обви-
ненным в неумелой или предвзятой
постановке вопроса».1 * 3
В инициативную группу входили,
кроме Н. Н. Бадмаева, профессора
Л. Л. Васильев, руководитель отдела
общей физиологии нервной систе-
мы Института мозга, К. И Повар-
нин, психоневролог, А. К. Борсук,
заведующий кафедрой психологии
Института физической культуры
им. П. Ф. Лесгафта, М. Р. Елкин,
заведующий кафедрой акушерства
и гинекологии 2-го Ленинградского
медицинского института, М. Д. Ту-
шинский, руководитель диагностичес-
кой клиники 1-го Ленинградского
медицинского института, Я. И. Периха-
нянц, заведующий кафедрой физио-
терапии и бальнеологии того же
института, А. Ф. Гаммерман, А. Б. Ве-
риго, заведующий лабораторией Ра-
диевого института; востоковеды ака-
демики Ф. И. Щербатской, □ М.'Алек-
сеев. А- Н. Самойлович, профессор
А. И. Востриков. Правда, к этому
времени ушли из жизни профессора
В. В. Савич и Н. Д Бушмакин;
переехали в Москву-А. Д Сперанский
и И. А. Обергард. который вскоре был
арестован. Скончался А. М. Горький,
проявлявший большой интерес к ти-
бетской медицине. Возглавлял группу
профессор С П. Кашкадамов, фи-
зиолог и гигиенист, которому дове-
лось работать на эпидемиях чумы не
только в России, но и в Манчжурии,
а также в Индии. С первых дней
советской власти он активно участво-
вал в организации здравоохранения
в Ленинграде.
Мы не случайно приводим краткие
сведения о членах инициативной
группы. Ведь в постановлении УМС
Наркомздрава РСФСР подчеркива-
лось, что между современной науч-
ной и восточной медициной существу-
ет такая же разница, как между
химией и алхимией, астрономией и
астрологией, и что изучение «Ти-
бетской медицины» (это понятие
заключалось в кавычки) может при-
нести пользу лишь в том случае, если
оно будет проводиться людьми, во-
оруженными современными на-
учными методами. Члены инициатив-
ной группы были именно такими
специалистами.
Трагическая развязка
Открытие нового лечебного учреж-
дения во главе с Н. Н. Бадмаевым
намечалось на июнь 1937 года. Шли
ремонтные работы, комплектовался
штат. Но над коллективом клиники
уже сгущались тучи. 8 апреля был
арестован профессор А. И. Востриков,
который читал для врачей лекции по
тибетскому языку. Это был молодой,
но уже широко известный в научных
кругах специалист. Его работа «Ти-
бетская историческая литература», по
мнению академика Ф. И. Щербатско-
го «послужила к славе и гордости
Советской науки». Труд этот, однако,
увидел свет лишь в 60-е годы.
Арест Вострикова был сигналом
опасности, но подготовка клиники
к открытию не прекращалась. Нача-
лись занятия на курсах хейротерапии
(восточного массажа), а через не-
сколько месяцев выпускники курсов
были зачислены в клинику. По пригла-
шению Н. Н. Бадмаева в Ленинград
прибыли врачи Данзанов, Жапов, Гом-
баев, Догбаев и переводчик Санда-
нов. Больница готовилась принять
первых пациентов.
Шла весна 1938 года. 20 мар-
та арестовали сотрудницу научно-
литературного кабинета клиники
Н. П. Вострикову. 10 апреля была
создана комиссия, и с 16 час. 30 мин.
в клинике в срочном порядке нача-
лась инвентаризация. А 20 апреля
арестовали руководителя и организа-
тора клиники Н. Н. Бадмаева. У него
остались три сына — Михаил, Кирилл,
Андрей. К их чести, они не отреклись
от отца, как это нередко бывало в те
трудные годы, а пытались доказать
его невиновность, направив письмо об
этом Л П. Берии. Ответа они не
получили.
Приговором Военной Коллегии
Верховного Суда СССР от 26 февраля
1939 года Н. Н Бадмаев был осужден
на 10 лет ссылки в лагеря строгого
режима без права переписки. Его
обширный медицинский архив, книги
и переписка были изъяты во время
обыска. Судьба их в настоящее время
неизвестна. Н. Н. Бадмаев не вернулся
из заключения. По настойчивым хло-
потам сыновей он был реабилитиро-
ван посмертно в 1956 году. Пригла-
шенные им восточные специалисты
и ряд лиц из числа активных сторонни-
ков изучения тибетской медицины
также были арестованы. Их судьба
нам неизвестна. Арестованную в
1937 году Е. Ф. Бадмаеву реабилити-
ровали в 1957 году. Ей удалось
сохранить фамильные рецепты, ко-
торые находятся сейчас у внуков
П. А. Бадмаева.
Со смертью Н. Н. Бадмаева попытки
поставить изучение тибетской меди-
цины на научную основу на долгие
годы заглохли.
Можно сказать, что изучение вра-
чебной науки Тибета как целостной
системы воззрений на здоровье и бо-
лезнь с вытекающими отсюда принци-
пами профилактики, диагностики, ле-
чения и профессиональной этики еще
только начинается. Но об этом мы
расскажем позже
1 ЦГАНТД г. Ленинграда, ф. 182, on. 1—1,
ед. хр. 286, лл. 17—20-
’Там ж е, л. 16
’Там же, ед. хр. 520, лл. 7—10. В работе
также использованы материалы ЦТАОРСС
г, Ленинграда, ф. 9156, on. 4, лл. 1, 4, 6, 8,
18, 20.
4’
15
=
SSB
НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
В КРУГ...»
Евгений Иванович За-
мятин родился в 1884 го-
ду в тихом, маленьком,
утопавшем в палисадни-
ках захолустном городке
с поэтическим именем
Лебедянь. Начало био-
графии, вроде бы, не
предвещало ничего не-
обычного Серая, как сук-
но, гимназия,— вспом-
нит он позднее. Много
одиночества, Много книг,
очень рано — Достоев
ский. Курс наук был
пройден без особых слож-
ностей. Золотой медалист
поступил в Петербург-
ский политехнический
институт. Выросший сре-
ди степей и перелесков,
он и думать не мог, что
станет строить корабли.
И не только строить. Ле-
том 1905 года студент-
практикант на пароходе
«Россия» прошел от Одес-
сы до Александрии. Вер-
нувшись из дальнего пла-
вания, он становится сви-
детелем маевок, сходок,
восстания на броненосце
«Потемкин».
«В те годы,— отметит
через четверть века писа-
тель,— быть большеви-
ком — значило идти по
линии наибольшего со-
противления; и я был
тогда большевиком». Он
прошел университеты по-
литической борьбы, ис-
пытав на себе полицей-
ские облавы, допросы,
камеру-одиночку на
Шпалерной в Петербурге.
Задолго до Октября ли-
тератор-корабел оказался
на английских судовер-
фях, где в свободные ча-
сы создавал «Острови-
тян».
События 1917 года не
отдалили писателя, как
некоторых, от родины, а
наоборот — властно по-
звали в революционный
Петроград.
«Думаю, что если бы
в 1917 году не вернулся
из Англии, если бы все
эти годы не прожил
вместе с Россией,— боль-
ше не мог бы писать. Ви-
дел много: в Петербурге,
в Москве, в захолустье —
Тамбовском, в деревне —
Вологодской, Псковской,
и теплушках. Так замк-
нулся круг Еще не знаю,
не вижу, какие кривые в
моей жизни дальше».
Это слова из автобиогра-
фии Замятина, опублико-
ванной в 1929 году. А
через два года затравлен-
ный чиновниками от ли-
тературы писатель обра-
щается с письмом к Ста-
лину.
«Я знаю, мне очень не-
легко будет за границей,
потому что быть там в
реакционном лагере я не
могу — об этом достаточ-
но говорит мое прошлое
(принадлежность к
РСДРП(б) в царское
время, тогда же тюрьма,
двукратная высылка
привлечение к суду во
время войны за антими-
литаристскую повесть).
Я знаю, что если здесь в
силу моего обыкновения
писать по совести, а не по
команде — меня объяви-
ли правым, то там рань-
ше или позже по той же
причине меня, вероятно,
объявят большевиком. Но
даже при самых трудных
условиях там я не буду
приговорен к молча-
нию...»
Роковой 1937 год ока-
зался последним в жизни
Евгения Ивановича За-
мятина. Он умер вдали от
России, думая, мечтая о
ней.
Полувековое небытие
в котором находилось
удивительно разнообраз-
ное творчество этого за-
мечательного художни-
ка, ныне само кануло в
Лету. Замятин — вновь с
читателями. Круг замк-
нулся.
16
О ЧУДЕ,
ПРОИСШЕДШЕМ В ПЕПЕЛЬНУЮ СРЕДУ,
а также о канонике Симплиции
и о докторе Войчеке
Е. Замятин
Потому что это чудо случилось именно
с каноником Симплицием, а доктор Войчек
был единственным в мире человеком,
какому суждено было видеть все это
с начала до конца.
Поверить в то, что чудо было когда-то,
с кем-то — я бы еще мог, и вы могли бы;
но что это — теперь, вчера, с вами — вот
именно с вами — подумайте только! И по-
тому, когда вечерами доктор Войчек
приходил к канонику и они садились за
домино, каноник всякий раз спрашивал
робко:
— А все-таки, все-таки, может быть, вы
что-нибудь нашли в своих книгах? Может
быть, такие случаи бывали — хотя бы
в древности?
Доктор Войчек щурил свои зеленые
козьи глаза, рот его полз, пугая улыбкой
Симплиция. Так минуту, две. Затем Войчек
крутил по привычке на лбу свои рыжие
волосы — вот справа и слева торчат уже
рыжие рожки — Войчек розводил руками:
— Нет. Ничего не поделаешь, дорогой
мой: чудо Я бы и сам хотел — че меньше,
чем вы,— чтобы это как-нибудь все... Но
как же, я своими глазами видел — больше:
осязал вот этими самыми руками... Да что
там! Н-ну, а как ваш...
Каноник Симплиций знал — о чем даль-
ше, секунду он был дичью на вертеле над
медленным огнем — доктор медленно за-
куривал папиросу.
— ...как же ваш архиепископ? Здоров?
— Благодарю вас, благодарю вас. Я был
у него вчера — он чувствует себя прекрас-
но.
Об особом благоволении к канонику
архиепископа Бенедикта знали многие,
и никто этому не удивлялся: чье сердце не
раскрылось бы настежь, если бы туда
постучались глаза каноника Симплиция —
эти два младенца, удивленно засунувшие
в рот свои пальчики? Или нет — может
быть, даже не это: может быть, главное —
ямочки у каноника на щеках, да, наверное
так. А архиепископ Бенедикт... что ж:
в конце концов и он — человек.
Очень серьезно, разве только чуть
пошевеливая рогатой улыбкой, доктор
Войчек говорил:
— Дорогой мой, если вас смущает
мысль о будущей жизни, о возмездии
и о прочем — что понятно,— то я могу вас
успокоить: это будет во всяком случае не
скоро. Есть вернейший способ продлить
жизнь до любого срока.
— То есть — как?
— А так. Вы помните: архиепископ
рассказывал, что когда он приехал в Рим —
ему пришлось перевести стрелки на своем
брегете больше чем на час назад —
лишний час жизни, понимаете? Если вы
приедете в Лондон — вы прибавите к жиз-
ни уже два часа, в Нью-Йорк — целых
шесть часов, и так далее. Словом, если вы
будете все время ехать отсюда к западу,
вы будете прибавлять к своей жизни дни,
недели, годы — вообще, сколько захотите.
Вернейший способ!
Ямочки; младенцы, удивленно засунув-
шие розовые пальчики в рот. Да, странно,
но как будто — так. Цифры: что же тут
скажешь. А главное, каноник Симплиций
уже привык к этому: каждый вечер, уходя,
доктор Войчек оставлял в голове у канони-
ка такой вот гвоздь, каноник ворочался
в постели, думал, думал, поворачивал
гвоздь и этак и так: нет, Войчек — прав,
Войчек — ума необычайного. И, конечно,
к кому же, как не к доктору Войчеку, было
обратиться, когда с каноником началось
это.
Началось это первого августа, во время
мессы, в день вериг апостола Петра. За
неделю до того каноник был у архиеписко-
па Бенедикта. Только что вернувшийся из
Рима архиепископ был особенно ласков,
угощал колючим асти, медленным, густым
напитком братьев бенедиктинцев, розо-
вой, как младенец, римской лангустой.
Обо всем этом и о многом другом каноник
рассказывал потом доктооу Войчеку, ниче-
го не скрывая как на исповеди, хотя, может
быть, происходившее в этот вечер у ар-
хиепископа никакого отношения ко всему
дальнейшему не имело. Во всяком случае,
в день вериг апостола Петра во время
мессы каноник Симплиций в первый раз
почувствовал, что он, кажется, болен:
кружится голова, в животе какая-то тя-
жесть.
День первого августа был желтый,
жаркий, народу много, густой и трудный
воздух. Когда каноник поднял свер-
кающую золотыми лучами гостию и произ-
нес: Corpus Domini Nosfri custodiai...— он
увидел, что какой-то женщине дурно, ее
ведут к дверям. И в ту же секунду у него
самого каменный под ногами стал мягкий,
ватный, орган — где-то за тысячу верст,
в глазах — паутина. Только до крови заку-
сив себе губы, каноник удержался от того,
чтобы не упасть, как эта женщина, и довел
до конца мессу.
Как янтарные четки — дни одинаковые,
прозрачные, желтые. И четки из холодного
осеннего хрусталя, четки из снежно-белой
слоновой кости. Все та же тяжесть —
теперь уже привычная, и внутри — легкая,
пожалуй, даже приятная боль. В остальном
каноник был здоров, ему говорили даже,
что он полнеет.
Однажды вечером, за домино, доктор
Войчек пристальней, чем всегда, вщурился
в каноника своими зелеными козьими
глазами:
— А знаете, дорогой мой, мне не
нравится ваш вид. Вы бледны. В чем дело?
Каноник рассказал — о мессе, о том, как
ему стало дурно, об этой боли в животе.
— Разденьтесь-ка. Да раздевайтесь же,
говорю вам! Подумаешь, целомудрие!
Небось, когда ваш архиепископ...
— Нет, нет — я сейчас, сию минуту.
И —тело: в спальнях у женщин такие
бывают кресла, обитые розовым шелком,
с теплыми ямочками, складочками,
живые — может быть, иногда даже заме-
няющие своих хозяек. Доктор Войчек
острее закрутил свои рыжие рожки, по-
полз к ушам улыбкой. Но через минуту —
серьезен, нагнулся, приложил ухо к обито-
му розовым шелком телу, ощупал живот.
— Та-ак... Слушайте: чего ж вы до сих
пор молчали?
— Да я как-то.. Мне говорили, что
я даже пополнел. А что?
— А то: придется вас резать.
Ямочки; младенцы, испуганно засунув-
шие пальчики в рот.
— Но почему же? Что у меня такое...
ради девы Марии!
— Боюсь, что... Впрочем, вот взре-
жем — тогда скажу.
— Нет, доктор: что-нибудь серьезное?
— Как сказать: когда вспухнет живот
у бабы — это дело не серьезное, а когда
у нас с вами — тут уж не до шуток... Вот
что: это у вас давно?
Каноник вспомнил: да, с августа — день
вериг апостола Петра — архиепископ Бе-
недикт вернулся из Рима — ну, и. . вот
тогда же, вскоре.
Доктор Войчек чуть-чуть шевельнул
рожками, улыбкой.
— Так, так... Ну, что ж? — сегодня у нас
понедельник? — в среду приезжайте ко
мне в госпиталь.
И вот — среда, та самая Пепельная
Соеда, постом на первой неделе, когда все
это произошло. Февральский день, в еще
зимнем небе — яркие синие окна, ветер,
все летит. Комната — тихая, с жутко-
белыми стенами, дверями, скамьями —
как будто уже не здесь, на земле, где все
пестро, шумно, где всегда перепутано
черное и белое. В белой комнате каноник
Симплиций, замирая, ждал — рядом с ка-
17
Библиотека Либрусек lib.rus.ec
5 «Наука и религия» № 8
кой-то женщиной, похожей на паука
огромный под серым ситием живот —
и кругом живота все остальное — руки,
ноги, голова, белые глазки.
Долго сидели молча, каждый о своем.
Потом женщина-паук выпростала из живо-
та ногу, каноник увидел расплющенный
ботинок, мотается ушко. Женщина туго,
кругло вздохнула животом, на живот, как
на что-то постороннее — как на стол —
положила одну из многочисленных рук.
— Вот, рожаю тоетий раз — и каждый
Рисунок. Д. Крымова.
раз режут... Матерь божия! Зарежут —
как без меня будут Стася и Янек и Франц?
А вы — тоже к доктору?
— Да, я тоже к доктору Войчеку.
— Вам — что! А я как подумаю: самой
старшей — восемь лет... Хорошо еще,
у пана доктора милостивое сердце, не
берет с меня денег.
Кто знает: может быть, скоро канонику
Симплицию вместе с этой женщиной
сидеть уже не здесь, в белой комнате,
а в каких-то иных огромных и тихих покоях,
там ждать часа, еще более страшного —
и хорошо, если тогда женщина скажет
о нем доброе слово... Каноник Симплиций
вынул кошелек, высыпал все, что там было,
и отдал женщине. И в тот самый момент,
когда она засовывала все это в свой
огромный, тугой живот — вошел доктор
Войчек, прищурился, пополз на каноника,
пугая улыбкой.
— Что, запасаетесь в дорогу добрыми
делами? Считаете грехи? Ничего, ничего,
дорогой мой: через три недели вы уже
опять можете идти к епископу есть лан-
густы. Ну...
Дальше — белизна, сталь, стол, дрожь.
Издалека, с земли — огромный голос док-
тора Войчека:
— Считайте вслух: раз-два-три... Ну?
Слышите?
И нет уже языка, тела — нет ничего,
конец...
Но для каноника Симплиция — это было
только начало; концом это было для той
паучьей женщины: она лежала, прикрытая
белым, тихая, ее рыжие ботинки были
завязаны в узелке вместе с платьем, на
узелке — приколота записка, а в одной из
белых комнат кричал красный ребенок
с громадным, мудрым лбом.
Каноник Симплиций расклеил веки: над
ним — рожки, прищуренные козьи глаза,
но все же этот демон — несомненно,
доктор Войчек, и каноник — явно еще
здесь, на земле..
— А она — та женщина, с которой мы
вместе... — больше у каноника не было
голоса, не было сил, но доктор Войчек
понял, закрутил свои рожки так, что
самому стало больно.
— Вам, дорогой мой, повезло больше,
чем ей: она уже докладывает, кому
следует, о ваших добрых делах.
И тотчас же сзади каноника — какой-то
жалобный, странный писк. Каноник хотел
повернуться, доктор Войчек сердито крик-
нул:
— Да вы с ума сошли! Лежите! —
шагнул куда-то и через минуту вышел на
белую 'середину с подобравшим ноги
к животу, скорченным младенцем — у
младенца был громадный лоб.
Каноник Симплиций — на доктора Вой-
чека, на младенца — все круглее, все
шире.
— Это... это зачем... откуда?
Доктор Войчек долго молчал вщурив-
шись своими козьими глазами в каноника
Симплиция — все глубже, на самое дно.
Вдруг пополз улыбкой, пугая — чему он
улыбался, неизвестно. И, наконец, ска-
зал — очень серьезно
— Все равно — раньше или позже при-
дется: уж лучше сейчас. Этот ребенок —
ваш.
Застывшие ямочки; младенцы с испуган-
но раскрытым ртом.
— Вы хотите сказать... То есть как —
мой?
— Так — ваш.
— Но ведь я же .. пресвятая дева! —
ведь я же все-таки мужчина!
— Дорогой мой, я знаю это не хуже,
чем вы — и тем не менее... Вы же
18
понимаете: мне, врачу, поверить в чудо —
а я не могу это назвать иначе, как чудом —
гораздо труднее, чем вам, священнику,
и все же я — ничего не поделаешь I —
верю. Примите это как испытание — и как
особую милость к вам неба.
— Но, доктор, ведь это же... ведь это
невероятно!
— А воскрешение мертвых — вероят-
но? Или вы скажете, что не верите в это?
— Нет, нет — я верю... Но почему
именно я,— я?
— Быть может, в наказание за какие-
нибудь ваши грехи — откуда я знаю?
Может быть, потому, что небо избирает
своим орудием простые сердца, а вы,
к счастью, просты сердцем — как младе-
нец. Ну, успокойтесь, успокойтесь, вам
вредно... Это — сын, мальчик.
Что ж иного оставалось канонику
Симплицию, когда даже доктор Войчек —
сам Войчек! — поверил в чудо? Каноник
принял это и нес так же покорно, как
апостол Петр свои вериги. Ему казалось
даже, что он знает, за что небо так
наказало и наградило его. Только иногда
вечерами, когда они садились с доктором
за домино, каноник спрашивал робко:
— А все-таки... все-таки, может быть, вы
что-нибудь нашли в своих книгах?
Но ответ всегда был один и тот же
— Нет. Ничего не поделаешь, дорогой
мой: чудо.
Доктор Войчек свято хранил тайну чуда,
происшедшего с каноником Симплицием
в Пепельную Среду. Он рассказывал мно-
гим, что каноник по доброте взял на
воспитание сына одной умершей бедной
женщины — и слава каноника росла, и рос
мальчик Феликс.
Когда Феликс называл каноника «па-
пой», каноник становился нежно, шелково
розовым
— Не называй меня так, Феликс. Я не
папа тебе.
Мальчик морщил свой большой, умный
лоб, молчал, спрашивал:
— А мама? Кто моя мама?
Каноник — еще шелковей, розовее:
— Это тайна Я открою ее тебе только
в тот день, когда навеки закрою глаза.
Этот день, по воле судьбы, был тоже
в феврале, как и га самая Пепельная
Среда, и такие же облака, ветер, в зимнем
еще небе — ярко-синие окна. На стенке
перед каноником медленно и невероятно
быстро летел темный крест — тень от
рамы. Ухватившись крепко за этот крест,
каноник Симплиций стиснул зубы и кивнул
Феликсу:
— Теперь, Феликс... Нет, доктор, не
уходите, все равно, вы знаете это, и вы
подтвердите ему, что это было именно так.
Ты, вероятно, думал, Феликс, что я — твой
отец. Так вот: я — твоя мать, а твой отец —
покойный архиепископ Бенедикт.
Каноник последний раз увидел- ог-
ромный, как у архиепископа, лоб Феликса,
рыжие рожки доктора: что-то светлое —
как слезы — в его козьих глазах, и, как это
ни странно, канонику показалось, что
доктор Войчек сквозь слезы смеется.
Впрочем, все это смутно, издали, сквозь
сон: младенец уже засыпал.
информация, хроника
Сквозная тема
Как будущие медики изучают проб-
лемы научного атеизма? Об этом
беседа нашего корреспондента с до-
центом кафедры лософии 1 го
Московского медицинского институ-
та имени И. М. Сеченова Л. В. СО-
БОЛЕВОЙ.
— Занятия по научному атеизму
начинаются у нас на третьем курсе.
Отводится им 24 часа: 18 — лекци-
онных, 6 — семинарских. Студенты
живо интересуются этими проблема-
ми, но, к сожалению, удовлетворить
этот интерес крайне сложно. Что
можно рассказать за 4 часа лек-
ционных занятий о мировых рели
гиях, их роли в истории культуры,
современных политических движе-
ниях?! Но именно столько времени
отводится программой на эту тему.
— К Вам приходят студенты,
которые уже изучали общественные
науки, в частности диалектический
материализм...
— Да, и это, конечно, помогает им
войти в религиоведческую и атеисти-
ческую проблематику. Мировоззрен-
ческие вопросы должны рассматри
ваться и при изучении специальных
дисциплин. Какой благадатной по-
чвой может стать здесь физиология,
анатомия, психиатрия! На мой
взгляд, все обучение в медицинском
институте должно быть пронизано
гуманистическим мировоззрением
Но вот беда: преподаватели-медики
стремятся дать как можно больше
Полезная серия
Многие читатели обращаются в редак-
цию с просьбами шире освещать раз-
личные вопросы истории религии, свобо-
домыслия, научного атеизма, опыт атеис-
тического воспитания. Мы стремимся
откликнуться на эти просьбы, но, к сожа-
лению, охватить всего на страницах
журнала не удается. Где же выход?
Читатели, которые интересуются этими
проблемами, могут обратиться к ежеме-
сячным брошюрам серии «Научный ате-
изм», выходящей в издательстве «Зна-
ние»
Серию брошюр атеистической направ-
ленности издательство «Знание» выпус-
кает 25 лет. За это время вышло триста
брошюр — целая библиотека. Ее ав-
торы — видные специалисты в области
естественных наук, философы, историки,
психологи, . искусствоведы, писатели,
журналисты. До конца этого года вы-
йдут брошюры д. ф н. Э Г. Филимонова
о воспитании атеистической убежден-
ности, д. и. н. А. И. Клибанова и д. ф. н.
Л. Н. Митрохина о 1000-летии право-
славия на Руси, к. ф. н. А. Ю. Григо-
ренко о магии в прошлом и настоящем.
информации по профилирующим
дисциплинам, забывая подчас о ми-
ровоззренческой, нравственной сто-
роне науки.
— К каким темам вашего курса
студенты проявляют особый инте-
рес?
— Я классифицирую записки с
вопросами, которые задаются на
лекциях, и могу сказать, что
главным образом интересуются пси-
хотехникой, дзен-буддизмом, психо-
логией религиозного сознания.
— Не совсем понятно, почему...
Неужели современные приемы пси-
хотехники не анализируются на
занятиях по психологии?
— А разве им читают курс психо-
логии? Психиатрию препо-
дают. А психологией студенты
обычно занимаются сами. Мне ду-
мается, в медвузах необходимо ввес-
ти преподавание психологии.
— Нужны ли, с вашей точки
зрения, изменения в преподавании
научного атеизма?
— Конечно! И прежде всего ну-
жен строгий и честный подход
к изучению истории религии и
церкви, их роли в современной жиз-
ни.
— А как проявляется сегодня
перестройка в преподавании научно-
го атеизма?
— Пока только в одном: на буду
щий учебный год сократили коли-
чество часов.
историка-публициста А. А. Шамаро об
истоках и символике русского церковного
зодчества.
В планах следующего года — работы
о проблемах атеистического воспитания
в условиях перестройки, о советском
законодательстве, регулирующем дея-
тельность религиозных организаций, со-
циальной роли религии в прошлом и
настоящем, современном католицизме
и исламе, вероучении пятидесятников
и «свидетелей Иеговы», о шаманстве,
современном религиозном искусстве на
Западе, о движении свободомыслящих
в США, духовных исканиях Л. Н. Толсто-
го и другие.
До сих пор брошюры серии распростра
нялись только по подписке. В будущем
году намечается часть тиража реализо-
вать через розничную продажу. Индекс
подписки серии в каталоге «Союзпеча-
ти» — 70075. Стоимость годовой подпис-
ки — 1 руб. 32 коп.
В. БОЙКО,
старший научный редактор
серии «Научный атеизм»
5’
19
ПЕРЕСТРОЙКА: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ
ВПОЛНЕ
СОВРЕМЕННАЯ
Г БЕЛИКОВА,
специальный корреспондент журнала
I. «И РАСКРЫЛАСЬ
ПЕРЕДО МНОЙ
КНИГА ЖИЗНИ...»
По утрам Нина Павловна не молится:
некогда! Надо приготовить на завтрак
кофе, взбодриться немного. Яйцо всмятку,
кусочек колбасы, хлеб, чашка кофе, а на
столе, рядом с хлебом, уже лежит любимая
книга. Нет, не так: Книга!
Она раскрывает ее наугад, на любой
странице, и прочитывает несколько глав,
вчитываясь и вдумываясь в каждое слово,
в каждый параграф.
Никогда так не бывало с Ниной Павлов-
ной! Нет, она и раньше любила почитать за
завтраком или ужином, после рабочего дня.
Но чтобы вот гак, одну и ту же книгу третий
год подряд, с любой страницы, хоть с конца
хоть с начала,— такого не бывало. А глав-
ное: Книга отвечает на все вопросы. Она
свято убеждена: кто хоть раз прочтет всю
Книгу, тот навсегда и безоглядно поверит
в бога. Тут ведь про все на свете, только
словами, какими говорили много веков
назад. Вот сейчас мы утверждаем: «в атом-
ной войне не будет победителей», «конец
цивилизации», «уничтожение жизни на
Земле»... А разве в Библии не про то же
самое? Слова современные, новые, это
верно. А по существу? Разве отличается
чем-нибудь «Страшный суд» от «конца
цивилизации»? Ведь надо же: бог уже
тогда предвидел сегодняшнюю политичес-
кую ситуацию на планете!
Нина Павловна допивает остывающий
кофе и бежит на работу.
Дел много, а в обед так хочется
заглянуть домой, сесть за стол, насухо
вытереть клеенку и опять поставить перед
собой Книгу. Откроешь на любой страни-
це — и будто подслушал твои мысли,
выложил их перед тобой на чистую тарелку.
Только надо уметь правильно толковать
слова «Бог — это правда жизни», «Бог
есть свет и нет в нем никакой тьмы». Что это
означает, если перевести на сегодняшний
язык? Мое толкование такое, решает Нина
Павловна: бог - это свет, то есть путь
истинный, который человечество пройдет от
начала цивилизации до самою ее конца.
В этом подлинная правда, никакой лжи. то
есть тьмы.
До того, как Нина Павловна впервые
взяла в руки Библию, она представляла
ИСТОРИЯ
бога каким-то сверхъестественным су-
ществом. который с неба управляет миром,
а когда наступит Страшный суд, то спустит-
ся на землю и начнет наказывать людей —
каждого за его вину. В такого бога она
никак не могла поверить: старичок, сидя-
щий на облаке. Какое уж там всесилие
и всезнание? Старушки на завалинках —
те могут верить в подобные бредни. А она
человек образованный, ей надо не просто
верить, ей надо самой разобраться в том,
что такое бог. Библия требует толкования
и раз! адывания, как ей представлялось,
ключ к ее письменам утерян, надо его
подобрать заново, открыть людям свет
Великой Книги. Тогда и они уверуют! Это
же так просто, надо только очень захотеть.
.. Ужинает Нина Павловна небрежно,
почти не глядя в тарелку. И снова перед ней
любимая Книга. Читает, раздумывает. Ста-
рается вникнуть в «тайный», «подспудный»
смысл, сравнивает с тем, что ныне печа-
тают в журналах.
Недавно прочитала статью академика
Н. Н Моисеева «Система «Гея»» — о том,
как у нас и в США провели расчеты: что
получится, если начнется взаимное атом-
ное истребление? Наступит ядерная зима,
полная ночь. Тьма окутает Землю, сотни
миллионов тонн грунта поднимутся в воз-
дух. дым от континентальных пожаров,
зола, сажа сделают небо непроницаемым
для солнечных лучей. А теперь откроем
Библию, вот, пожалуйста: «Поднимутся
пыль и дым до самого неба»... «Возгремит
Господь в сильном гневе и пламени по-
едающего огня, в буре и наводнении
и в каменном граде. Солнце превратится во
тьму и луна в кровь в день Господень,
великий и страшный». Или вот: «Произведу
закат солнца в полдень и омрачу землю
среди ясного дня...» «И град величиною
с талант пал с неба на людей». И так далее!
Бог прорицал, а Эйнштейн вычислил — все
едино. Только бог был первым...
И Нина Павловна верит, содрогаясь
душой за тех, кто не понимает истину,
открывшуюся ей через Книгу. Все отдала,
лишь бы спасти атеистов — от их неверия,
от непонимания бога
Перед сном достает с полки мамин
молитвенник, раскрывает его, освежая в
памяти «На сон грядущий»: «Во имя Отца
и Сына и Святаго Духа, аминь. Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради
Пречистыя Твоей Матере, Преподобных
и Богоносных Отец наших и всех Святых,
помилуй нас. Аминь...» И засыпает бла-
женным сном праведника, которому
открылся смысл жизни
2. «ПОБОЛЬШЕ БЫ
ТАКИХ
ПРОПАГАНДИСТОВ!»
Товарищ Бородулина всегда торопится.
Она человек занятой: кто хоть немного
знает работу редактора многотиражки,
легко поймет Бородулину.
Что такое многотиражка? Казалось бы,
не так уж и много: шесть страниц текста
с одной стороны листка, шесть — с другой.
Ну, фотографии. Еще — «тассовки», мате-
риалы АПН. В общем, за неделю приходит-
ся писать пять заметок, одну статью, три-
четыре коротенькие информации. Не мно-
го? А вы попробуйте — хоть месяц покрути-
тесь редактором многотиражки! Мало кто
выдерживает такую нагрузку долго. А то-
варищ Бородулина — седьмой год стоит во
главе газеты. Одни благодарности — от
дирекции, парткома, стройуправления. Ей
много раз предлагали пойти в «районку» —
не захотела. Свой коллектив она знает,
здесь к ней привыкли. А как там будет —
еще неизвестно.
Да ведь если бы только многотиражка на
руках у Бородулиной?! Коммунист, член
правления областного отделения Союза
журналистов, она нередко проверяет ту или
иную газету, дает заключения о статьях
своих коллег. И здесь работы у Бородули-
ной немало. Но и в Союзе вам скажут:
товарищ Бородулина не подведет. Она
работник безотказный и добросовестный,
работает с душой.
Но если уж говорить о душе, то душа ее
и сердце многие годы отданы были антире-
лигиозной пропаганде. Товарищ Бородули-
на читала лекции перед работниками своего
управления, перед строителями. На удар-
ной комсомольской стройке ей поручили
быть пропагандистом, в парткоме она
возглавляет сектор атеистического воспи-
тания
И тут товарищ Бородулина не подвела
свой коллектив! Она организовала школу
пропагандистов атеизма, где раз в месяц
вела занятия, готовила своих учеников
и сама была в активе лекторов районного
масштаба. Представители атеистической
секции областного общества «Знание»
высоко отзывались о ее лекторской деятель-
ности Готовясь к выступлениям, она не
ленится подбирать интересные факты из
газет, журналов, книг. «Когда только
успевает? — восхищаются в горкоме пар-
тии. — Побольше бы таких, у нас в районе
не осталось бы ни одного верующего...»
3. «ПОЛЬЗУЕТСЯ
ЗАСЛУЖЕННЫМ
АВТОРИТЕТОМ»
(характеристика)
«Тов. Бородулина Нина Павловна рабо-
тает редактором газеты «Строитель» Уп-
равления строительством с 1981 года.
Выполняет ответственное партийное пору-
чение — пропагандист школы основ
марксизма-ленинизма Управления.
Занятия коммуниста Бородулиной
Н П. — подлинный центр живой партийной
мысли. Каждое занятие в школе — логи-
20
ческое продолжение ранее начатого разго-
вора о политике партии, умении на практи-
ке применять полученные знания, о выпол-
нении на деле своего общественного долга
Нина Павловна на своих занятиях на
примере жизни стройки показывает пра-
вильность, научность внутренней и внешней
политики КПСС, подтверждая сказанное
наглядным материалом, таблицами, диаг-
раммами, которые, в основном, готовят
сами слушатели. В системе и методически
правильно она применяет технические
средства (проектор, проигрыватель, магни-
тофон), что активизирует слушателей,
делает занятия интересными, восприятие
материала более доступным.
Пропагандист тов. Бородулина Н. П. по-
стоянно использует в работе со слушателя-
ми методы реферата, в них, наряду с об-
стоятельным рассмотрением теоретических
основ темы, содержится анализ актуальных
производственных проблем, обобщения
передового опыта.
Хорошо поставленная политическая уче-
ба способствует росту политической зрелос-
ти, трудовой и общественной активности,
все слушатели Нины Павловны — передо-
вики производства, принимают активное
участие в работе профкомов, парткомов,
групп народного контроля, в борьбе пар-
тийной организации за укрепление трудо-
вой дисциплины. Школа атеистических
знаний, где пропагандистом гов. Бородули-
на Н. П.,— опорная в городе. На протяже-
нии 2-х лет на базе школы проведено три
семинара по научному атеизму. Как редак-
тор газеты тов. Бородулина Н. П. успешно
справляется со своими обязанностями.
Политически грамотна, морально устойчи-
ва Пользуется заслуженным авторитетом
в Управлении строительством
Секретарь Лебяжеозерского горкома
КПСС
11. Дандарова».
4. ЧИСТАЯ ПРАВДА!
(отчет о командировке)
Прибыв по поручению редакции в Лебя-
жеозерск, я побывала и в горкоме партии,
и у самой Нины Павловны Бородулиной
Все описанное выше — чистая правда. Да,
Нина Павловна Бородулина верующая,
истово читает и толкует на свой лад
Библию.
Она действительно пропагандист научно-
го атеизма в своем управлении, характерис-
тика, выданная ей горкомом КПСС, пол-
ностью соответствует фактам.
Единственное дополнение к сказанному
состоит в следующем. В последнее время,
примерно около года, Нина Павловна
в кулуарных разговорах с инструктором
горкома партии и в парткоме своего
строительного управления рассказывает об
изменении своих взглядов. И потому просит
освободить ее от работы пропагандиста
научного атеизма, поручив какую-нибудь
другую, более подходящую по мировоззре-
нию общественную нагрузку. Однако от ее
просьб отмахиваются, говоря примерно
так: «Ладно, Павловна, не болтай ерунды!
Займись-ка делом. Прочитай лекцию на
хлебозаводе — «Социалистическая нрав-
ственность и религиозная мораль». А по-
том, когда будет свободное время, пого-
ворим...»
5. «КАК МОГУ Я,
МАЛЕНЬКАЯ ЧАСТИЧКА
МИРА, ВЫСТУПАТЬ
ПРОТИВ ВЕЧНЫХ
ЗАКОНОВ ЖИЗНИ?»
(из творческого отчета
пропагандиста научного
атеизма
Н. П. Бородулиной по итогам
работы за год)
«Окончание занятий, как и начало,—
праздник. Сегодня подводим не только
итоги - как прочли темы, усвоили мате-
риал и посещали занятия слушатели, но
и размышляем.
Курс по атеизму вести трудно. Вторгаясь
в священный внутренний мир человека, нет
гарантии, что не поступишь как плотник,
топором ремонтирующий телевизор. Лично
Вот какая почти невероятная история.
Что же произошло? Что, перед нами
некое роковое прозрение, столкновение
обычного человека со священным писа-
нием, в котором последнее одержало
мировоззренческую победу над атеисти-
ческими убеждениями? А может быть,
убеждений-то как раз и не было? Да,
видимо, сознание Нины Павловны не было
готово к самостоятельной работе. Атеисти-
ческой пропагандой занималась как оче-
редным общественным поручением, зани-
малась, как могла. Сказали бы: займись,
Нина Павловна, молодежью в общежитии
или распространением билетов на
культпросветмероприятия — она и этим
занималась бы исправно, добросовестно,
с душой, потому что человеком была
исполнительным и активным в своем ис-
полнительском рвении. Проявила себя не
только как пропагандист, но и как органи-
затор — даже школу будущих пропаган-
дистов атеизма сумела собрать. А вот
к самостоятельному осмыслению вопро-
сов человеческого бытия, тех самых,
о которых так бойко говорила, повторяя
заученные из учебников фразы, подготов-
лена не была. Потому-то столкнувшись
с таким многомерным явлением челове-
ческой культуры, как Библия, не смогла
оценить ее с научных позиций.
Случай с Ниной Павловной не уникален,
а скорее, типичен и вот в каком плане.
Атеистическая работа у нас ставится в раз-
ряд обычной общественной нагрузки, ко-
торая будто бы и не требует серьезных
философских знаний, душевной склоннос-
ти. Курс лекций, три-четыре популярные
брошюрки, два-три «первоисточника» —
и теоретическая подготовка завершена!
Смутно представляются такому пропаган-
дисту многовековая борьба мировоззре-
ний, высоты свободолюбивого духа. Когда
Нина Павловна однажды открыла Библию,
стихийно-материалистическая почва
поплыла под ее ногами. Старая, привычная
многим «атеистическая работа» и соот-
ветствующая «подготовленность» к ней
оказались неэффективными, случай с Ни-
ной Павловной еще раз подтвердил это
с несомненностью и достоверностью. И не
я не возьму на себя больше ответственность
перековывать тонкость и нежность души,
признающей вечные законы жизни, из
которых соткана религия, на крепкую,
жесткую, практическую, признающую пре-
ходящие законы общества, теорию мате-
риализма.
-Мне повезло: я нашла Книгу, прочита-
ла. И все в душе перевернулось у меня.
Я увидела мудрость библейских заповедей
и законов, гармонию их с жизнью. И как
могу я, маленькая частичка мира, высту-
пать против вечных законов жизни? А мо-
жет, потому я так думаю, что люблю
Природу? Где-то я прочитала, что ис-
тинный натуралист не может быть атеис-
том... Так разве есть за что меня осудить?
Я сказала правду. И отчет получился
неправильный с точки зрения атеизма.
А если б солгала,— было б все правильно?
Надо ли так?»
Вот какую историю рассказала спе-
циальный корреспондент журнала. Редак-
ция предлагает к ней свой комментарий
только подтвердил, но и показал, куда
и как нужно перестраиваться Нынешний
уровень культуры народа, обстановка глас-
ности и демократии требуют от идеологи-
ческих работников специальных знаний,
компетентности в широком круге вопро-
сов, умения ориентироваться в сложных
проблемах духовной жизни, в открытом
столкновении точек зрения доказать пра-
воту, гуманность научного материализма.
Пропагандист прежнего типа мало за-
думывался над тем, что научный атеизм —
не придумка, не следствие современных
научных открытий, он выстрадан челове-
чеством; долгий путь к нему отмечен
крупными вехами, книгами величайших
мыслителей, запечатлевших исторический
опыт всех народов мира. В этом ряду не
только атеистические, но и религиозные
произведения. Есть вольнолюбивые, скеп-
тические страницы и в Библии. Есть еще
Махабхарата, Коран и другие. Антицерков-
ная борьба во времена культа личности
и позднее породила однобокое отношение
к этим текстам. Быть может, поэтому
у нас до сих пор нет научного издания
Библии с комментариями специалистов-
религиоведов. Пришла пора подготовить
такое издание, дать в руки атеистам
надежный инструмент пропаганды атеис-
тических знаний. Тогда не нужно будет
изобретать велосипед, не нужно будет,
подобно Нине Павловне, на свой лад
толковать труднейшие мировоззренческие
проблемы, сбиваясь на путь богоиска-
тельства.
Показателен случай в Лебяжеозерске
и с другой стороны. Где только сейчас мы
не твердим о внимании к человеку —
и в прессе, и на собраниях! О внимании
к человеку, его нуждам, социальной и ду-
ховной сфере. Говорим . и тут же забыва-
ем, когда сталкиваемся с этим самым
человеком и его духовными метаниями.
Разве не рассказывала Нина Павловна
о своих сомнениях, поисках? Разве не ясно
было, в каком душевном смятении мается
человек? Разве никто не читал ее творчес-
кого отчета пропагандиста, где она ставила
и вопрос о перемене своей общественной
6 «Маука и религия» № 8
21
нагрузки? Что же за этим последовало?
Отмахнулись от Нины Павловны, сделали
вид, что не услышали ее, не поняли.
И ничего не предприняли) О чем говорит
характеристика, выданная и подписанная
секретарем горкома партии Нине Пав-
ловне?1 Прежде всего, о неумении работать
с людьми, а возможно, и о желании скрыть
собственные ошибки в подборе пропаган-
дистов. Ведь если кто узнает, что пропаган-
дист атеизма — верующая!
Ложь и правда... Двойной стандарт
в мышлении: один для себя, второй — для
прочих. Правда для избранных, «прав-
да» — для населения. И Нина Павловна не
избежала развдоения души* на замятиях
в школе пропагандистов она проповедова-
ла атеизм, дома, наедине с Книгой,
становилась верующей. А разве мало
людей, исповедующих двойную мораль,—
одну для товарищей по работе, другую —
для себя? И так ли уж редки «борцы» за
перестройку, в душе проклинающие ее
и всеми силами тормозящие демократи-
ческие преобразования? Или «законники»,
втайне протягивающие руку за чужим
добоом?
В недавние времена, справедливо на-
званные застойными, двоемыслие, двоеду-
шие и двуличие стали явлением соци-
альным, это зло охватило широкие слои
общества. Разница между тем, что человек
проповедует вслух, и тем, что он испове-
дует в душе своей, нередко была методом
выживания, физического самосохранения.
Массовые репресии и беззакония отошли
в прошлое, но социальная болезнь двули-
чия осталась, с ней предстоит еще долгие
годы бороться, выкорчевывая ее из
людских душ и сердец.
Как и многие, Нина Павловна втянулась
в двойную жизнь. На занятиях она не
бывала искренней, а дома — перед кем ей
скрываться? — верила в бога. Но нашла
в себе силы, пусть не сразу и не до конЦв
признаться в двоемыслии. И помогли ей
в этом те перемены, которые переживает
наше общество.
Нравственная обстановка в обществе
сейчас такова, что человек может — без
страха потерять работу — открыто ска-
зать, что он больше не атеист.
Прорыв лжи — этот поступок сегодня
совершают многие люди, которые хотят
жить по правде, говорить по истине,
действовать по справедливости, в одних
случаях это ведет к мировоззренческим
поступкам, в других — к отказу от припи-
сок в отчетности...
Нина Павловна осталась на своей работе.
Иное дело — партийность. Здесь Нине
Павловне нужно выбирать самой. Выбор
этот у нас свободный.
Научное мировоззрение не лишится при
этом ни одного своего аргумента, а дело
перестройки и социализма выиграет, если
в нашем обществе станет больше правды
и честности. Само наше дело только станет
сильнее.
История, о которой мы рассказали,
непроста. Публикуя ее, мы хотим обсудить
ее с читателем: что вы думаете о случае
С Ниной Павловной?
И. АЧИЛЬДИЕВ, заведующий
отделом методики и практики
атеистической работы
1 мы не хотим причинить вреда героине этого
очерка, а потому изменили ее имя, отчество
и фамилию, а также название города, где она
живет. Но, надеемся, секретарь горкома себя
узнает.
ГОРИЗОНТЫ НАУКИ
СОМ РАЗУМА
рожаан ггимиз?
М. ДМИТРУК
Честно говоря, если бы я сам
не беседовал с ученым, произ-
водившим эти эксперименты, то
не поверил бы, погрешив на
коллег-журналистов, любителей
«нездоровых сенсаций».
Вообразите такую картину:
извиваясь и шипя, из-под резца
ползет раскаленная стружка.
Станок гудит на предельном ре-
жиме, а молодой токарь рабо-
тает легко, словно играючи, и
мгновенно находит оптимальные
варианты обработки. Каждая
деталь нужна в одном экземпля-
ре — и он в считанные секунды
перестраивает станок, и рабо-
тает так уверенно, как будто
набил руку на серийном про-
изводстве.
А парень, ловко управлявший-
ся со станком, словно бы и не
чувствует усталости. В конце
смены он так же энергичен и
весел, будто выполнить задание
на 200 процентов для него при-
вычное дело Будто он жил в
каком-то другом временном из-
мерении, где часы идут в два ра-
за быстрее...
Читатель научной фантастики
тут же вспомнит рассказ Гербер-
та Уэллса «Новейший ускори-
тель», в котором описан чудо-
действенный препарат. Выпив
его, человек начинал ходить, го-
ворить и даже думать в сотни
раз быстрее, чем обычно. Если
бы такой «ускоритель» имелся
сегодня в заводской аптечке,
предприятие не знало бы про-
блем в конце квартала или года.
Но пока это фантастика, на-
сколько нам известно?
Не будем торопиться с выво-
дами. Время нынче такое, что
безапелляционно заявить о чем
то: «фантастика!» — не рискнет
даже сверхскептик.
Человек, о котором я расска-
зал, действительно работал
вдвое быстрее и не уставал.
Правда, это был не токарь, а
ученый-исследователь. И тру-
дился не в заводском цехе, а в
научной лаборатории, оснащен-
ной самыми современными при-
борами За рабочий день он
успевал выполнить вдвое боль-
ше экспериментов, наблюдений
и записей, чем обычно.
— А может быть, у него про-
сто было хорошее настроение,—
сказал я руководителю этих
экспериментов, психофизиологу,
доктору медицинских наук
Л. П. Гримаку. Наука —
дело творческое, насколько мне
известно, никто не устанавливал
нормативы времени на работу с
тем или иным прибором: столь-
ко-то минут нужно глядеть в
окуляры микроскопа, столько-
то — делать записи, столько-
то — осмысливать результаты...
Как же мы узнаем, что испы-
туемый вдвое перевыполнил за-
дание?
— В этих экспериментах уча-
ствовали испытатели новой тех-
ники,— рассказывает Леонид
Павлович. — Их работа была
расписана по минутам. И легко
было установить, с какой интен-
сивностью они трудились. Так
вот, испытуемые действительно
перевыполняли задания в два
раза. Им же самим казалось,
что они работают не спеша. Едва
укладывались в график — если
судить по часам, которые стояли
в лаборатории. Но дело в том.
что часы шли вдвое быстрее —
показывали 48 часов в сутки...
Конечно, чтобы узнать вре-
мя, совсем не обязательно смот-
реть на часы. Можно включить
радио, позвонить по телефону,
на худой конец — выглянуть в
окно. Есть у нас природный
«хронометр»: суточные биорит-
мы; есть хочется днем, а спать —
ночью... Нормальному человеку
ошибиться в два раза просто не-
возможно. Как же испытуемые
не догадались, что часы в лабо-
ратории, мягко говоря, спешат?
— Они работали в сурдока-
мере, то есть в полной изоляции
от внешнего мира,— объясняет
22
ученый. — Поэтому представле-
ние о времени могли составить
только по часам. Конечно, в
обычном состоянии испытуемые
быстро заподозрили бы подвох.
Но весь фокус в том, что они-то
были — в необычном. Под гип-
нозом. А в этом состоянии люди
не способны критически осмыс-
ливать происходящее Им вну-
шили, что время идет в два раза
быстрее — и они поверили. Ис-
пытуемым казалось, что они ра-
ботают в обычном темпе —
просто время ускорилось, даже
часы стали идти быстрее. В те-
чение суток они дважды ложи-
лись спать и «утром» приступа-
ли к работе Трудились с небы-
валой интенсивностью — но поч-
ти не уставали...
— Наверное, нечто подобное
можно испытать и без гипноза?
Для занятого любимым делом
человека время летит незамет-
но... Да и сделать он успевает
больше своего коллеги, только
«отбывающего* время (для не-
радивого работника оно, кстати,
ползет как улитка, а в конце
смены ему кажется, что он силь
но устал). Но ведь все это
субъективные ощущения; навер-
ное,,медицинские приборы пока-
зали бы другие результаты —
прямо противоположные?
— На самом деле это не
так,— не соглашается со мной
Л П. Гримак. — Эксперименты
показали, что в состоянии гипно-
за изменяются не только психо-
логические представления о вре-
мени. Когда человеку внушают,
что оно идет быстрее, у него
учащается дыхание и пульс,
ускоряются обменные процессы
(это четко регистрируют при-
боры). Изменяются и суточные
ритмы — правда, не в два раза,
а чуть меньше. На них как бы
накладываются «внушенные»
пациенту ритмы, и в результате
получается сумма двух кри-
вых — это хорошо видно на гра-
фике.
— Но ведь люди очень интен-
сивно работали — ясно, что у
них должны участиться дыхание
и пульс, ускориться обмен ве-
ществ. Может быть, и биоритмы
нарушились от перенапряже-
ния...
— ...а испытуемые не пере-
напрягались. Это, пожалуй, са-
мый удивительный результат
нашего эксперимента. Во время
бодрствования они чувствова-
ли необыкновенный прилив сил,
у них было отличное настроение.
И утомление наступало гораздо
позже, чем в обычном состоянии
при напряженной работе.
6’
Известно, что в сурдокамере
биоритмы обследуемого меняют-
ся и без гипноза. Они начинают
подчиняться законам, не свойст-
венным жителю Земли: человек
может работать намного доль-
ше, чем обычно, и спать один раз
в двое суток... Как будто —
пофантазируем — у него про-
сыпается память предков, при
летевших с другой планеты.
— Ну, это слишком смелая
гипотеза,— улыбается уче-
ный. — Больше данных в пользу
нашего земного происхождения,
и память предков скорее всего
здесь ни при чем. Если следо-
вать логике, то, в случае приня-
тия этой гипотезы, память долж-
на «ускорять» суточные био-
ритмы: сотни миллионов лет на-
зад Земля вращалась быстрее.
А у человека в сурдокамере, по-
ка он находится в обычном сос-
тоянии. они как раз замедляют-
ся.. Пока мы не знаем, поче-
му это происходит. Но в любом
случае этим фактором нельзя
объяснить результаты наших
экспериментов с внушением ус-
коренного хода времени Кста-
ти, в других опытах у пациента
под гипнозом происходило за-
медление процессов жизнедея-
тельности.
Итак, исследователи получили
результат, о котором даже герой
рассказа Уэллса мог только меч-
тать. Помните, он хотел изобре-
сти «замедлитель», позволяю-
щий пациенту «погрузиться в
состояние покоя, застыть, напо-
добие ледника, в любом, даже
самом шумном, самом раздра-
жающем окружении»? Совре-
менным ученым не надо было
поить испытуемых успокаиваю-
щими лекарствами. Просто в
сурдокамере людям внушали,
что время течет в два раза мед-
леннее — и они и вправду дви-
гались, говорили и работали
словно в замедленной кино-
съемке.
Ускорение и замедление про-
цессов жизнедеятельности с по-
мощью психологических при-
емов многим может показаться
невероятным Между тем индий-
ские йоги практиковали его еще
тысячелетия назад. Они по же-
ланию могли замедлять обмен
веществ, надолго останавливать
дыхание и даже сердце Суще-
ствует обряд самозахоронения:
человек ложится в гроб, его за-
сыпают землей — а через неде-
лю откапывают живого и... по-
молодевшего. В одном из экспе-
риментов, за которым наблюда-
ли ученые, йог несколько часов
пролежал в воде, налитой в
большую стеклянную капсулу.
Как после такого не поверить в
легенду о святом, которого па-
лачи живьем зарыли в землю, а
через месяц откопали крестьяне
во время полевых работ. И
святой... ожил.
А вот противоположный при-
мер: секта «бегущих йогов» в
Гималаях. Приводя себя в осо-
бое психическое состояние, близ-
кое к лунатизму, специально
натренированные монахи (на-
зывающие себя лунгомпа —
буквально «медитирующие на
ветру») способны за ночь пробе-
жать более ста километров. При-
чем босиком, по горным тро-
пинкам, ежеминутно рискуя
сорваться в пропасть. Самое,
впрочем, невероятное, что все
это они проделывают... словно
во сне*.
— Все объясняется состоя-
нием медитации,— рассказы-
вает Л. П Гри чак. — Войдя в
него, человек может предельно
сконцентрировать сознание на
том или ином предмете — на-
пример времени. Он перестает
воспринимать внешние раздра-
жители, которые в обычном со-
стоянии мешают сосредоточить-
ся. Медитирующий не способен
правильно оценивать промежут-
ки времени, ему просто не с чем
сравнивать, ведь он не видит и
не слышит ничего вокруг. Время
то растягивается до бесконечно-
сти, то сжимается в одну точку.
Возникает ощущение необыкно-
венной пустоты, человеку кажет-
ся, что он растворяется в сол-
нечном свете, парит в невесо-
мости, сливается с беспредель-
ным... Разумеется, с профессио-
нальной точки зрения все это —
лишь галлюцинации.
Рассказ ученого вызвал у ме-
ня в памяти еще одну литератур-
ную ассоциацию: подобное со-
стояние психики талантливо
описал Джек Лондон в рассказе
«Смирительная рубашка». За
несколько часов, как кажется
герою, он переживает целую
вечность и преисполняется пре-
зрением к смерти, которая мо-
жет отнять у него такую корот-
кую, никчемную жизнь. Об од-
ном он забывает: не что иное,
как «никчемная» жизнь, подари-
ла ему возможность испытать
это восхитительное состояние,
пережить «века» во время крат-
кой медитации.
— Впрочем, йоги не ставят
себе задачу «оперировать» вре-
менем,— замечает мой собесед-
ник. — Это, так сказать, побоч-
ный результат их занятий, смысл
Рисунки Б. И онайтиса
* См об этом — «Наука и религия»
1988, № !,с. (Прим, род.)
23
которых — познание мира и са-
мих себя.
Мне это поначалу показалось
странным. Какое может быть
познание, если человек в бук-
вальном смысле отключен от
внешнего мира, попросту гово-
ря, спит? У него даже не рабо-
тает сознание — в привычном
смысле этого слова. И он совер-
шенно не помнит себя в состоя-
нии медитации.
Однако не требуется много
времени, чтобы понять смысл
«познания во сне». Есть ведь
еще и мышление бессознатель-
ное, которое подчас куда эффек-
тивнее служит познанию, чем
«обычное» логическое мышле-
ние. Достаточно вспомнить эк-
сперименты В. Райкова, о кото-
рых много писали. Человеку вну-
шили, что он Илья Репин или
Александр Алехин — и он начи-
нал писать картины или играть
в шахматы так, как и предста-
вить себе не мог до того. После
нескольких сеансов рядовой че-
ловек был в состоянии создать
талантливое произведение, на
равных сразиться с гроссмей-
стером.
А когда сеанс заканчивался,
они что — становились обыч-
ными людьми? Да, вначале так
и было. Но после 20 30 сеан-
сов, по словам В. Райкова, уче-
ники уже могли самостоятельно
погружать себя в необходимое
состояние творчества. А главное,
они с энтузиазмом начинали
обучаться искусствам, способ-
ности к которым обнаружили в
себе под гипнозом. И это гаран-
тировало успех надежнее любо-
го психотерапевта.
Возникает, конечно, щекотли-
вый вопрос. Вдруг человек от
природы одарен совсем не тем,
что пытается разбудить в нем
гипнотизер? Не все же зарывали
в землю таланты художника и
шахматиста — не меньше погре-
бено дарований ученых, инжене-
ров, рабочих... Вопрос, однако,
че по адресу: гипноз как раз и
помогает выяснить, к чему каж-
дый человек больше всего при-
годен. Внушив, навязав челове-
ку «личность» того или иного
мастера своего дела, врач-гип-
нотизер (да и сам пациент впо-
’ледствии) легко определяет,
насколько он «способен» именно
з этой профессии.
Уж не думают ли некото-
рые психотерапевты, что для
полного счастья их испытуемым
Г- льшую часть времени надо
|||»оводить в гипнозе? — спра-
шиваю я Леонида Павловича.
— Среди моих коллег есть
i-эди очень увлеченные, даже
< ишком. Порою кажется, что
они сами загипнотизированы —
величием своих идей. Я же отво-
жу гипнозу куда более скром-
ную роль: это особое состояние
психики, и применять его надо,
на мой взгляд, только в осо-
бых — экстремальных ситуаци-
ях.
Ученый не случайно коснулся
морально-этической стороны де-
ла. Гипноз, как и хирургичес-
кий скальпель, оружие обоюдо-
острое: им лечат, но, случается,
и калечат... Взять хотя бы не-
законченные эксперименты с
«внушением времени».
По мнению Л П Гримака,
нельзя увлекаться ими без на-
добности. Ведь испытуемые на-
ходятся в неестественном со-
стоянии, оно может пагубно от-
разиться на их психике. Люди,
которым внушают, что время
идет в два раза быстрее, бы-
вают необычно возбуждены и
веселы, они никак не могут успо-
коиться. Недаром исследовате-
ли сравнивают это состояние
с маниакально-депрессивным
психозом. А испытуемые с за-
медленным ходом времени, на-
против, чувствуют себя подав-
ленными, настроение у них мрач-
ное, работа валится из рук -
депрессия да и только... Кстати,
участники экспериментов, по-
бывавшие в обоих состояних,
признаются, что гораздо при-
ятнее жить «ускоренно», чем
«замедленно»: настроение пре-
красное, работа спорится...
Думаю, что как раз на-
оборот: практическое примене-
ние найдет прежде всего «за-
медление времени»,— говорит
Л. П Гримак. — Разумеется,
это не значит, что людей под
гипнозом будут ввергать в де-
прессию. Если внушение про-
изводить во время сна, то испы-
туемый скорее всего не почувст-
вует вообще никакого диском-
форта. Известно немало случа-
ев, когда люди непроизвольно
впадали в такое состояние; что
далеко ходить: о летаргическом
сне знает, вероятно, каждый.
...Меня снова повело в науч-
ную фантастику. Я представил
себе космонавтов, совершающих
межпланетный полет, который
может занять несколько лет.
Монотонный образ жизни на
корабле и огромная удаленность
от Земли вызовут неизбежное
состояние стресса. А что если у
всего экипажа (или некоторых
его членов) временно снизить
интенсивность процессов жизне-
деятельности - вызвать состоя-
ние, похожее на летаргический
сон? По мнению ученых, это по-
может космонавтам преодолеть
многие трудности полета. Тут-то
и пригодился бы гипноз в соче-
тании с другими методами за-
медления обмена веществ.
Этим отнюдь не ограничива-
ются перспективы применения
гипноза в космонавтике. На-
пример, эксперименты показали,
что человеку можно внушить
чувство невесомости... в обыч
ных земных условиях! После од
ного сеанса у него целый месяц
будут непроизвольно расслаб-
ляться мышцы, словно он парит
в космическом пространстве. По
мнению исследователей, этим же
методом еще легче сформиро-
вать ощущение земной «весо-
мости» тела в условиях меж-
планетного полета.
— Чтобы преодолеть отри-
цательное воздействие невесо-
мости,— объясняет мой собе-
седник,— космонавтам прихо-
дится много заниматься на тре-
нажерах или выполнять асаны
хатха-йоги. Но никакая нагруз-
ка, получаемая время от време-
ни, не сможет сравниться по
своей эффективности с тониче-
ским напряжением скелетных
мышц, когда человеку внушили,
что действует сила тяжести.
Ведь они будут работать не толь-
ко во время бодрствования, но
и во сне, что предотвратит неже-
лательные изменения в организ-
ме. Кстати, с помощью данного
метода можно снимать и ощуще-
ние перегрузки после длительно-
го космического полета. Ду-
мается, что именно такое дву-
кратное и разнонаправленное
воздействие на психическое со-
стояние экипажей обеспечит на-
дежную профилактику отрица-
тельного влияния невесомости.
— Я добавлю мнение других
исследователей, утверждающих,
что гипноз найдет широкое при-
менение в искусстве, педагоги-
ке, на производстве Но где
взять столько тренеров-гипноти-
зеров, чтобы удовлетворить всех
желающих раскрыть дремлю-
щие в них таланты? Утвержда-
ют, что можно научиться и само-
гипнозу. Вы, наверное, помните
известную юмореску о человеке,
который всю ночь пытался за-
снуть с помощью аутогенной
тренировки... А если говорить
серьезно, то даже индийские гу-
ру, которые в совершенстве
умеют управлять своей психи-
кой, берут в ученики далеко не
каждого. Может быть, нужен
какой-то особый талант, чтобы
этому научиться? Или искусство
властвовать собой как сокро-
венную мудрость, доступную по-
священным, передают только
из рук в руки духовные учители
Востока?
— Ему может самостоятель-
но научиться любой нормаль-
ный человек. — утверждав!
Л. П. Гримак. — И не только
на Востоке. Так, после первой
мировой войны в цирках Европы
гастролировал артист, который
выдавал себя за индийского
йога по имени То-Рама. Он де-
монстрировал абсолютное пре-
небрежение к боли — прокалы-
вал себе плечи, ладони, шею
толстой и длинной иглой. А по-
том выяснилось, что это не
индус, а австриец. Участвуя
в сражениях, он получил тяже-
лое ранение и, казалось, на дол-
гие годы был обречен на мучи-
тельные страдания. Но упорны-
ми тренировками психики боль-
ной научился превозмогать
боль и, наконец, получил полную
власть над нею. Он утверждал,
что выработал свою систему по-
беды над самим собой и вообще
не испытывал страданий, если
не хотел их испытывать.
Думаю, что тут сыграли роль
все-таки чрезвычайные обсто-
ятельства, если бы не они, упор-
ный австриец, наверное, никог-
да бы не стал «йогом». Но, ока-
зывается, и обыкновенный че-
ловек, не подвергаясь страда-
ниям и лишениям, психологи-
чески вполне способен подгото-
вить себя к суровым испытани-
ям.
Известно, что немецкий врач
X. Линдеман, собравшийся в
одиночку пересечь Атлантиче-
ский океан на надувной лодке,
систематически занимался ауто-
генной тренировкой. Он внушил
себе, что достигнет поставленной
цели во что бы то ни стало, даже
если его утлое суденышко де-
сять раз перевернется под уда-
рами волн. А во время плавания,
с помощью приемов аутотре-
нинга вызывал приливы тепла в
различных участках тела, кото-
рые начинали замерзать и не-
меть от изнурительной работы в
сидячем положении Линдеман
почти непрерывно греб веслами
или управлял рулями — научил-
ся делать это даже во сне. И
только исключительное само-
обладание, способность не под-
даваться панике позволили ему
спастись во время шторма, когда
лодка действительно переверну-
лась. С помощью самовнушения
путешественник оградил себя от
психических срывов и во время
галлюцинаций, неизбежных в
условиях длительной изоляции.
«Аутогенная тренировка по-
зволила мне пересечь Атлантику
и остаться живым,— писал
X. Линдеман после своего 72-
дневного плавания. — Резино-
вой лодке не место в открытом
море. Это как раз и доказал мой
эксперимент: более ста любите-
лей риска из разных стран пыта-
лись повторить его или совер-
шить нечто подобное — но толь-
ко один из них остался в живых
и только благодаря аутогенной
тренировке. Счастье остаться
живым я воспринял и как пода-
рок судьбы, и как обязательство
посвятить свою жизнь пропаган-
де аутогенной тренировки».
Разумеется, гипноз или само-
гипноз — отнюдь не панацея. В
последние годы было разработа-
но немало новых методик управ-
ления психикой. Но вот что лю-
бопытно: в каждой из них в той
или иной мере есть элементы
гипноза.
Например, можно в несколько
раз быстрее изучать иностран
ные языки в лингафонном каби-
нете, когда в одном наушнике
звучит легкая оркестровая му-
зыка, сопровождаемая негром-
кими щелчками, а в другом
слова и фразы для запоминания.
При этом синхронно с щелчками
на экране вспыхивает яркое зе-
леное пятно. Постепенно их ритм
замедляется — на него непро-
извольно настраиваются студен-
ты. Они начинают реже дышать,
у них снижается пульс... И люди
входят в гипнотическое состоя-
ние, которое обычно испытывают
перед сном или после пробужде-
ния. Теперь любая информация
попадает в подсознание и запо-
минается навсегда. Так, в сущ-
ности, начинается гипнопедия —
обучение иностранному языку в
гипнотических фазах сна.
Можно по желанию вызывать
у себя положительные эмоции с
помощью актерской гимнастики
гармонического совершенство-
вания — проиграв их в нужной
последовательности подобно му-
зыкальной гамме, вы ощутите
необыкновенный прилив твор-
ческих сил. Правда, заниматься
такой гимнастикой лучше всего
под руководством опытного на-
ставника: интонациями своего
голоса он помогает ученикам
вызвать в себе ту или иную эмо-
цию. Тоже своего рода внуше-
ние; подобные интонации ис-
пользуют гипнотизеры. Недаром
же самостоятельные занятия
«гимнастикой чувств» приводят
к эффекту куда меньшему, чем в
присутствии учителя.
Изучив известные методы ре-
гуляции психики, харьковськие
исследователи А Ильинский и
Л. Ильинская убедились, что их
эффективность объясняется
скрытыми гипнотическими фак-
торами. Взять хотя бы шум ле-
са, звуки музыки, доверительные
интонации диктора во время
сеанса аутогенной трениров-
ки,— все эти компоненты могут
вызывать в сознании гипноти-
ческие фазы. Так не лучше ли
делать это целенаправленно?
Стали учить пациентов произ-
вольно повышать или понижать
уровень своей внушаемости. Так
родился оригинальный метод
психофизиологической саморе-
гуляции
Кстати, Минздрав СССР не-
давно одобрил этот метод для
применения на производстве.
Теперь на любом предприятии
владеющий им психотерапевт
может научить рабочих и служа-
щих самостоятельно снимать
утомление и повышать работо-
способность, предотвращать
стрессы во время производст-
венных конфликтов, засыпать
сидя или стоя на рабочем месте,
чтобы через несколько минут
проснуться полными сил и с хо-
рошим настроением...
И все это — с помощью гипно-
за. А ведь еще недавно он был
чуть ли не под запретом. Гово-
рили, что внушение подавляет
личность. Став послушным ору-
дием в руках гипнотизера, чело-
век якобы может совершить пре-
ступление... Не удивительно, что
выступая в печати, авторы но-
вых методов регуляции психики
объясняли их эффективность
чем угодно, но только не гипно-
тическими факторами. А такие
слова, как «медитация», вообще
употребляли разве что в «разо-
блачительных» статьях.
— Сейчас аргументы о безу-
словном вреде гипноза безна-
дежно устарели,— говорит в
заключение Л. П. Гримак. —
Экспериментально доказано, что
человека можно загипнотизиро-
вать лишь в том случае, если он
сам этого хочет. Поэтому в стро-
гом смысле слова есть только
самогипноз. Следовательно, ни
о каком «послушном орудии»
не может быть и речи. Даже до-
верившись недостойному че-
ловеку, загипнотизированный не
способен совершить преступле-
ние, если это противоречит его
нравственным установкам. С
другой стороны, стало известно,
что с помощью гипноза можно
раскрепостить личность, развить
дарования, вызывать вдохнове-
ние по заказу... И я уверен, что
недалеко то время, когда детей
будут учить в школе управлять
своей психикой, как сейчас учат
писать и считать. Став взрослы-
ми, они смогут преодолевать
любые трудности, их не устра-
шат опасности и не сломят испы-
тания Они станут настоящими
хозяевами своей жизни — хра-
нителями жизни на земле
7 «Наука и религия» № 8
ЧЕЛОВЕКУ О ЧЕЛОВЕКЕ
Сложна и хрупка душевная
жизнь человека. Она полна
противоречий, эмоциональной
напряженности, конфликтов
не только с другими, но и с самим
собой. По различным причинам
нарушается душевное равновесие,
возникает неадекватное восприятие
себя и окружающих. Человек
замыкается в кругу своих
переживаний, с трудом выносит
их гнет, от чего страдает порой
больше, чем от физической боли.
Недаром Пушкин писал: «Не дай
мне бог сойти с ума».
Когда сам человек с этим
состоянием и совладать не может,
ему нужна помощь врача. Такой
врач должен быть не только
высококвалифицированным
специалистом, но и отличаться
особым, душевным отношением
к людям, способностью
к сочувствию и
интуитивному пониманию
переживаний больного. Только
сердечно щедрый, нравственно
чистый и искренне любящий свое
дело врач может по-настоящему
помочь одолеваемому душевными
муками человеку.
Современная медицина, как и
любая сфера человеческой
деятельности, опирается прежде
всего на науку. Однако есть и иные
опоры врачевания. И среди них
искусство. На этой основе
сложилось целое направление
психотерапии —
психоэстетотерапия. И хотя
корни ее уходят в глубь
тысячелетий, споры по поводу
подобной практики не смолкают.
Есть здесь свои лидеры,
горячие поклонники и не менее
горячие противники. Наш рассказ
о человеке неординарном,
талантливом, пытливом,
который в русле многовековой
традиции прокладывает новый,
нетрадиционный путь
исцеления человеческой души,
о враче-психиатре
Г. М. Назлояне
ПОРТРЕТ
Лариса БЕДНАЯ
Перелистывая альбом армянского ху-
дожника Рудольфа Хачатряна, я невольно
задержалась на одном необъяснимо притя-
гательном портрете. Кажется, все лица
можно <прочитать», домыслить, предста-
вить в движении, даже услышать голоса,
а это? Тщательно выписаны черты, а что за
ними? Что движет его мысли и чувства,
какие они? Не могу проникнуть в главное,
сокровенное. И в то же время будто
слышу едва-едва — то ли боль, то ли
страдание... Внизу скупая надпись: «Врач-
психиатр Г. М. Назлоян. 1982 год».
Так состоялась моя первая встреча
с Гагиком Микаеловичем— встреча заоч-
ная. А теперь предстоит вторая, лицом
к лицу. Иду брать интервью у автора
необычного метода лечения — Г. М. На-
злояна И, пожалуй, впервые, столько
перечитав и понаслышан, не могу предста-
вить того, с кем через минуту поведу
разговор. Все, что узнала, ие проясняет, а,
напротив, лишь умножает прежнюю за-
гадку портрета. Каков он, врач-психиатр
Г. М. Назлоян?
Дверь открывает симпатичный, невысо-
кого роста человек, едва уловимые штрихи
седины в жестко-черных волосах, смугло-
ватый, с глазами как антрацит. Выглядит
он моложе, чем на портрете шестилетней
давности.
— Здравствуйте, проходите, пожа-
луйста,— говорит с акцентом. Привет-
ливый, скромный — словно сам гость. Но
вот произнесены первые обязательные
фразы и начался этот разговор — как
дорога в неведомое, как горный поток, что
несет слова, переворачивая мысли, чувства,
по песчинкам размывая берега устоявшего-
ся, >ривычного..
• — Гагик Микаелович, признаюсь,
ваш метод меня покорил. Вы возвращаете
к полноценной жизни, казалось бы, неизле-
чимых больных столь гуманным, я бы
сказала, изящным способом — с помощью
скульптурного портрета. Чего в нем боль-
ше — науки или искусства?
Я тоже раб своего метода — не могу
о нем не думать, вообще не могу без него.
Восемь месяцев не делаю портретов и сразу
как-то постарел. Впрочем, дело не только во
мне — за это время я мог вылечить 60 чело-
век!
Я изобрел ие таблетку, не инструмент,
а предложил новый подход к человеку, его
душе, где наука и искусство слиты воедино.
Чего в нем больше - затрудняюсь сказать.
Убежден, не только психиатрия - врачева-
ние в целом должно использовать все
возможности, все ресурсы человеческой
культуры. Чтобы излечить человека, все
средства хороши И если, к примеру,
я пойму, что ему поможет цирковое ис-
кусство, овладею им.
• — Как начинался ваш путь в пси-
хиатрию?
— Сначала как у всех - со студенчес-
кой скамьи мединститута. Потом была
аспирантура, защита на факультете психо-
логии МГУ, курсовая специализация. Рабо-
тал в Рузской психиатрической больнице
врачом, затем завотделением. Когда пере-
ехал в Ереван, заведовал отделением
в республиканской психиатрической боль-
нице. Семейные обстоятельства вновь при-
вели в Москву. Здесь работал в больнице
имени Ганнушкина, последние полтора
года в поликлинике № 5 УХЛУ заведую
Г"1л"' евролигическим кабинетом.
* — У вас солидный врачебный стаж.
А сколько лет вашему методу?
— Более 10. Идея родилась уже в первые
годы врачебной практики. Множество раз
перепроверив, впервые рассказал о своем
методе в 1985 году на совместном заседа-
нии Центра пограничных состояний и ка-
федры психотерапии в суицидологическом
центре. Было потом и много других выступ-
лений.
• — Как встретили метод ваши колле-
ги?
— Слушали меня с интересом, хвали-
ли и обещали поддержку. Один из-
вестный специалист, помню, сказал: «Ми-
мо этого нельзя пройти». А после
оказалось, что можно — все то ли за-
бывали о нем, то ли перегружены
своими заботами. А ведь никто по существу
мне ни разу не возразил Хотя, нет.
Однажды была брошена реплика: такой
метод нельзя «тиражировать» — много ли
найдется психиатров, способных так же
пр < Ьессионально заниматься скульптурой.
• — Но ведь на вашей стороне были
такие убедительные аргументы — люди, из-
бавленные от тяжелой болезни!
Да, конечно. Нередко это были
больные шизофренией в такой форме, что
многие специалисты уже отказывались их
лечить. Один из моих пациентов вышел из
больницы инвалидом II группы: отказывал-
ся от еды, никого к себе не допускал.
Я работал с ним четыре ночи... Он вернулся
к жизни полноценным человеком, полно-
п,"жм творчески.
• — Вы сознательно подчеркнули:
полноценен творчески?
- Да. После лечения в стационаре не
принять писать: «выздоровление» - толь-
ко: «улучшение». Если человек был матема-
тиком, а после болезни и стационарного
лечения может работать только на конвей-
ере, клеить коробки, значит, считают,
наступило улучшение и его можно
выписывать. Я считаю: здоров — значит,
способен заниматься прежней деятель-
ностью. Скажем, если до болезни он начал
картину, а после лечения закончил ее — это
НО,.ч»л
• — Трудно добиваться такого резуль-
тата?
— Очень. Когда делаю портрет, целиком
отказываюсь от всего личностного. Мы
должны сравняться с больным, я даже
должен стать вровень с ним, чтобы вместе
творить его личность. В момент творчества
эта цель превыше всего иа свете.
Врач общается с больным, имея в руках
ручку и бумагу, а я общаюсь, держа в руках
его лицо — портрет Это огромной’преиму-
щество. А поскольку в портретном времени
для художника лицо, которое он лепит,
26
самое дорогое, то и как врач ты лечишь
самого дорогого для тебя человека, более
дорогого, чем ты сам для себя. И я постоян-
но настроен на лечение именно этого
человека и оптимистичен по отношению
к нему до конца работы.
Терапевтическое воздействие портрета
разнообразно. Врачу нужна и привязан-
ность, и открытость больного, ведь его не
выстукаешь, не выслушаешь, не всегда он
может объяснить, что с ним происходит
Заботу, участие близких людей больной
не всегда воспринимает. Его разлад с со-
бой, с; миром — все отвергли его, все
относятся к нему иначе — вот его беда.
И когда чужой, посторонний человек так
внимателен к нему, так дорожит им, это
удивляет его, потом вызывает доверие,
надежду, пробуждает к жизни его лич-
ность. Человека излечивают и знания мои,
и искусство, и любовь
* — Я вспоминаю запись из дневника
вашей пациентки: «...Никогда не видела
такого утомленного и значительного лица,
как у него в эти часы. Никогда не чувство-
вала себя такой обновленной».
— У меня часто такое ощущение, будто
я заражаюсь болезнью моего пациента,
скован с ним одной целью. И в поисках
выхода из| своего же состояния, вывожу
и его из тисков болезни Больной, чей
портрет я делаю, это я сам, чувствую все
нюансы его состояния, диагноз определяет-
ся как бы подсознательно. Не думаю, что
здесь что-то мистическое. Помогают преж-
ние знания, опыт, интуиция, острое со-
переживание состояния больного.
• — А когда работаете в условиях
стационара?
- Там все иначе — десятки больных,
поток лиц, историй болезни. И потом еще
один поток — бумажный: постоянно ис-
писываешь горы бумаги, а еще комиссии,
собрания. Не помню даже имена своих
пациентов. Когда я впервые пришел в боль-
ницу, меня удивили не больные — их ведь
сразу не отличить от здоровых. Поразили
психиатры. Как в кукольном театре: ходят,
кивают, здороваются, улыбаются — на-
столько механически! Поверьте, это не
потому, что мы плохие, я считаю, что
большинство приходят в психиатрию очень
нравственными людьми.
Их калечат нормы, правила, сама обста-
новка стационара. Усталость и безысход-
ность часто притупляют остроту воспри-
ятия чужой боли, а порой делают людей
и озлобленными.
По-моему, свою лепту вносит здесь
и наша система обучения Медицинские
вузы не только вооружают знаниями, но
и формируют прочные механизмы психоло-
гической защиты.
Запомнилось, как на четвертом курсе
мединститута к нам прибежала ассис-
тентка: «Ребята, идите скорей, посмотри-
те!» И перечисляет: митральный порок, еще
что-то и еще... Радостно говорит. А ведь
человек при смерти. Меня тогда это потряс-
ло. умение классифицировать, ставить
диагноз нередко делают врача отстра-
ненным от боли человеческой. С одной
стороны это.’ хорошо, потому что учит
умению хладнокровно, четкб классифици-
ровать, ставить диагноз. И в то же время
очень плохо, потому что за болезнями часто
не идится человек
•— Простите, но как, сознавая это, вы
работали?
— Это моя трагедия. В течение десяти
лет у меня было две жизни, два лица:
работа, которая загоняла в тупик, опусто-
шала, и искусство, творчество, дарующее
оптимизм, возрождающее. Делая портреты,
я спасаю не только больного — но и себя,
свою личность. У всех больных в стациона-
ре самое большое желание — выписаться.
Даже у самых слабоумных остается по-
следнее такое желание. Нередко они топ-
чутся у входной двери те, что даже
имени своего не знают. И никогда не
путают балконную дверь с входной. У меня
был больной, которого я отводил от
входных дверей к другим, но через 5 минут
он снова стоял у входа...
Я устал раздваиваться*. У меня как бы
два лица, две жизни - это невыносимо
В стационаре отношусь к больным, как
многие из моих коллег: стараюсь сделать
максимум из возможного, но условия не
позволяют дать многое, что необходимо.
Например, время и внимание. Очень важно,
что человеку, чей портрет я делаю, я посвя-
щаю все свое время: и день, и ночь, если
нужно. Это время без ограничений,
иллюзия вечности. Так бывает у друзей
в интимной беседе. В стационаре это
невозможно, а ведь врач должен всегда
опережать действие лекарств, вести долгие
беседы с больным. А он забит, затуркан.
И вся его работа заключается в том, чтобы
немного успокоить больного и скорее осво-
бодиться от него. А ведь что лечат? Душу,
и ».лмет утонченный, сложнейший...
* — Говорят, вы — одаренный скульп-
тор. О ваших портретах высоко отзыва-
лись профессионалы.
— Иначе нельзя. Если больной поймет,
что портрет на него не похож, он мне не
поверит, не доверится целиком. Один боль-
ной, увидев готовый чужой портрет, сказал:
«Если и мой будет таким же, я согласен».
А ведь он уже не верил никому, ни на что не
надеялся.
Разговариваем часами, а Гагик Ми-
каелович беспрестанно теребит в руках
спичечный коробок. Слой за слоем сдирая
с него бумагу, скатывает в шарики, как
если бы это был пластилин или глина. Мы
не раз встречались с Гагиком Микаелови-
чем. Встречи всегда начинались радостно,
но разговор на больную для него тему
неизменно обрывался на пронзительной
ноте.
- Так хочется работать.. Рисовать
лепить.
- А почему вы не рисуете? Хотя бы
просто для себя.
Виновато улыбается:
- Не умею Я ничего не могу без
больного. Только с ним ко мне приходит эта
способность.
• Г. М. Назлоян за работой.
ИНН!
ЛИЧНОСТИ
Г. НАЗЛОЯН,
кандидат психологических наук
Общение с душевнобольными требует
от врача немалых эмоциональных усилий,
специальной подготовки. Помимо клини-
ческой беседы существует множество
рациональных и иррациональных способов
проникновения в их внутренний мир. По
мнению многих видных психопатологов,
единственным «действующим началом»
психотерапии являются тесные эмоцио-
нальные связи, эффективные отношения
между больным и терапевтом. Стремле-
ние усилить терапевтическое воздействие
эмоционального контакта привело меня
к идее создания скульптурных портретов
душевнобольных.
Своей первой моделью я выбрал чело-
века с чертами глубокой умственной
отсталости. Ему было 52 года, из которых
последние 15 лет он.находился в психиат-
рической больнице. Судя по истории
болезни, он являлся вдобавок ко всему
еще и глухонемым. Портрет неожиданно
для меня самого удался. Зтот опыт оказал-
ch весьма поучительным.
7"
27
Уже в самом начале портретирования,
делая первые робкие шаги на новом пути,
я заметил ощутимую перемену в качестве
общения — возникала теплая, раскованная
обстановка, исчезало ощущение суборди-
нации, при которой больной находится как
бы в зависимости от врача. Изменилось
и мое отношение к больному — при иных
формах общения с умственно отсталым
человеком порой трудно избежать чувства
собственного превосходства. Но работа
над его портретом, требующая для реше
ния сложной эстетической задачи напря-
жения творческих сил, внушает уважение
к личности портретируемого, рождает
особые переживания, не знающие иерар-
хических границ.
Наблюдая за поведением глубоко сла-
боумного человека, общаясь с ним по
мере возможности, я замечал, как с мате-
риализацией образа появляются положи-
тельные изменения в его психическом
состоянии. На одном из этапов создания
скульптуры, после дружеских подмнгива
ний и улыбок, он даже «заговорил»:
оказывается, он все слышал и по-своему
переживал. Одно или два слова он повто-
рял уже часто, в минуты наибольшего
эмоционального подъема Затем мне
предстояло наблюдать сцены растущего
интереса к портрету, попытки прими-
тивных идентификаций с собой, даже
объятия со своим «двойником», периоды
долгого узнавания себя перед зеркалом.
Что же вызвало столь заметные сдвиги
в психическом состоянии больного, неуже-
ли удавшийся портрет?
Подобные изменения в эмоциональной
сфере больного могли быть следствием
того, что на него впервые обратили
внимание, проявили к нему чуткость и такт.
Поэтому мой первый опыт показался
недостаточно «чистым». Требовать новые
доказательства? Сомнения подобного ро-
да привели к работе над портретом Анны
Н., находившейся в нашей больнице около
четырех месяцев с ранней формой эндо-
генного заболевания. Ббльшую часть вре-
мени она проводила в кровати, укрывшись
с головой одеялом. Ее отгороженность от
внешнего мира доходила до отказа от
приемов пищи. Общалась она по принуж-
дению, формально, с недовольным выра-
жением лица. Прием известных психот-
ропных средств и их сочетаний не приво-
дил к успеху, результаты оказывались
минимальными.
На первых сеансах она присутствовала не
более пяти минут, в беседу не вступала,
всем своим видом выражая крайнее недо-
вольство и желание вернуться в палату
С появлением же первых черт портретного
сходства я заметил меньшую выражен-
ность указанных тенденций, а во взгляде —
некоторую материнскую снисходитель-
ность к моей «болтовне» и к тому, чем
я занимаюсь. Со временем между нами
возник диалог, начавшийся с вопроса: «Для
чего это нужно?». Затем пробудился инте-
рес к портрету и идентификации с собой
Она уже не только позировала, но и актив-
но сотрудничала, помогая мне различными
советами. Через некоторое время портрет
28
был законче — и больную выписали домой
с улучшением
Облегчение контакта с душевно-
больным — одно из самых очевидных
достижений рассматриваемого подхода
Контакт при таком «предметном» общении
налаживается независимо от текущего
состояния и типа психического
расстройства. Больные становятся более
доступными в плане патологических пере-
живаний. Приведу отрывок из воспомина-
ний больной Оксаны М «Я чувствовала
как с меня как чехол спадает мое прошлое
Мы делали бесконечно важное дело. Мы
вместе его делали. Я уже начинала болеть
этой скульптурой. Я видела, как его руки то
нервно, то нежно работают над портре-
том. Он был взволнован моим рассказом.
А говорить хотелось много — и все! До
самого донышка. Он слушал и это вызыва
по доверие. Сейчас в процессе работы он
мог спрашивать о чем угодно. Да, ничего
этого не могло быть в кабинете врача.
Сейчас я ему верила. Верила!»
Именно потому, что на первых сеансах
структура патологических явлений выри-
совывается со всей полнотой, появляется
возможность в дальнейших беседах ее
игнорировать — в противном случае рабо-
та над портретом не продвигается вперед.
Так возникает «цепочка» продуктивного
контакта с больным. В этой связи вспоми-
наются прекрасные клинические разборы
профессора Голодец Р. Г., которая, не-
смотря на усталость, ограниченность во
времени, давала больному «выговориться»
иногда в течение полутора — двух часов.
При этом ревностно следила за тишиной
в кабинете. Для новичков это казалось
напрасной тратой времени, так как диагноз
не вызывал сомнений и некоторые ,же
зевали или даже дремали на стульях Но
достаточно было видеть, каким «просвет-
ленным», «освобожденным» уходил боль-
ной, чтобы оценить этот прием как признак
высокого профессионализма и челове-
колюбия
Особое интимное поле, возникающее
в процессе творчества между художником
и моделью, знакомое каждому портретис-
ту, позволяет с легкостью использовать
элементы рациональной и суггестивной
психотерапии. Следует также отметить,
что материал обычной клинической бе-
седы исчерпывается вместе с выявлением
ведущих симптомов заболевания. Стара
ясь установить диагноз, классифицируя
и обобщая переживания больного, ерач
вынужден идти по пути нивелирования
уникальных черт его личности, разрушения
его неповторимого образа. Это и до-
стоинство, и недостаток. Последний осо-
бенно заметен в случаях, не поддающихся
лекарственной терапии, а также в том
факте, что подавляющее большинство
душевнобольных, выписанных из стациона-
ра, нуждается в реабилитационных меро-
приятиях.
Общение с больным в процессе созда-
ния его скульптурного портрета протекает
в атмосфере предельной раскованности
оно не имеет скрытого плана, подтекста,
не нуждается в использовании опреде-
ленных приемов, артистических способ-
ностей врача, особого «притворства», зна-
комого всем, кто работает в психиатричес-
ких учреждениях. Напряжение снимается
за счет того, что больному ясна цель его
присутствия в кабинете.
Выявляя клинические симптомы в про-
цессе портретирования, врачу удается
наблюдать их преломление у конкретного
человека, многообразные личностные
нюансы, динамику и смену синдрома.
Диалог, начавшийся в процессе портрети-
рования не прерывается и даже может
быть возобновлен через несколько лет.
Гемы диалога могут быть самые различные
и они интересны как для врача, так и для
больного. Работа над каждой деталью лица
или обращение к целому рождает новые
ассоциации, продуцирует стимулы для
развития диалога. Создается впечатление,
что в лице заложен весь жизненный опыт
портретируемого, а ключ к нему дает
искусство.
В сравнении с психоаналитической тех-
никой портретирование не нуждается
в концептуальной интерпретации, расшиф-
ровке отдельных высказываний, сновиде-
ний, поступков больного, гак как его
переживания группируются вокруг ре-
конструкции зеркального образа средства-
ми искусства. Говоря метафорически,
переживания больного декодируются в
эстетических категориях, они посредством
врача-скульптора питают их рост и завер-
шение. 1аким образом, обращение с
больным в процессе портретирования от-
личается предельной простотой и универ-
сальностью.
После предварительного знакомства с
больным, детального терапевтического,
неврологического и патопсихологического
обследований выслушиваются жалобы, оп-
ределяется психическое состояние и ста-
вится предварительный диагноз. Наряду
с этим формируются эстетические задачи
врача-портретиста, то есть уже с первых
минут общения происходит слияние эсте-
тических и нравственных переживаний
врача. Ощущение любви и сострадания
становится необыкновенно отчетливым и
сильным, как только принято решение
начать работу над скульптурным портре-
том. Патологические высказывания, мими-
ка и жесты больного перестают раздра-
жать и утомлять — все вписывается в его
эстетический образ. Это особое состояние
длится вплоть до того гипотетического
момента, когда предстанут, с одной сто-
роны, эстетически завершенный портрет
и научный отчет о проделанной работе,
с другой стороны — бывший пациент, пре-
одолевший психический дискомфорт. Сле-
довательно, к традиционным критериям
выздоровления прибавляется новый, эсте-
тический. Именно он и определяет время
окончания курса лечения, ибо портрет не
может быть реализован без положи-
тельных сдвигов в психопатологической
картине заболевания. Об этом хотелось бы
поговорить подробнее.
Как известно, рождение любого произ-
ведения искусства обусловлено довольно
сложной по своему содержанию этической
«сверхзадачей», многие стороны которой
подробно освещены в литературе. В на-
шем случае эта «сверхзадача» вытесняется
сугубо врачебными категориями и опреде-
ляется другой структурой отношений «ху-
дожник и модель». И, поскольку все иные
мотивы замещены, единственным двигате-
лем искусства врача-портретиста остается
чувство сострадания и своей ответствен-
ности перед данным больным. Эта «ем-
кость» сразу наполняется конкретным
содержанием — жалобами и откровения-
ми больного, проникающими в самую суть
эстетических переживаний врача.
С другой стороны, врач как художник
«невротизирован» предстоящей работой
над портретом. Таким и застает его
больной уже на первом сеансе психотера-
пии. Преодолевая удивление и скрытое
недовольство тем, что вместо привычной
беседы врач занят лепкой из пластилина
или глины, он попытается обратить внима-
ние на свою личность, то есть на заведомо
отшлифованные жалобы и подкрепленное
перед визитом «сопротивление»1. В ответ
он может услышать сходные в эмоциональ-
ном плане откровения самого врача.
Некоторое чувство смущения на первых
порах проходит, поскольку больной осоз-
нает, что занимаясь скульптурой, врач
значительно больше ожидаемого сосредо-
точен на нем; что помимо созданных
и подготовленных для беседы формулиро-
вок насущных переживаний изучается
и материализуется знакомый с детства, во
многом уже вытесненный и искаженный
его реальный образ; что врачу незачем
прибегать к различным «коварным» при-
емам для проникновения в мир его
интимных переживаний, запретных даже
для самого больного. А с появлением
первых черт портретного сходства так
называемое «сопротивление» сразу и не-
обратимо преодолевается.
Участие больного в процессе создания
его зеркального двойника опосредовано,
оно проявляется в потоке откровений,
адресованных врачу. Тем временем врач
как художник, растворяясь в своем произ-
ведении, идентифицирует себя с больным,
теряя при этом собственные защитные
механизмы. Он «заболевает» болезнью,
которую должен вылечить.
Так, больной и терапевт вовлекаются
в единое «психическое поле», центром
которого становится развивающийся по
канонам искусства скульптурный портрет.
Трудно передать структуру и силу того
эмоционального заряда, который возни-
кает в самом начале и не теряет силы на
всех этапах психотерапии Отмечу, что
известные техники психотерапии, разрабо-
танные для преодоления «сопротивления»,
проникновения в интимные или вытес-
ненные переживания больного, при по-
ртретном искусстве оказываются излишни-
ми.
Таким образом, наряду с облегчением
контакта работа над портретом приводит
к определенным терапевтическим резуль-
татам Происходит расслоение, упроще-
ние, редукция основного синдрома забо-
левания. Смена синдрома происходит
иногда так плавно, что участвующие в сеан-
сах специалисты и даже сам портретист
недоумевают: «Где та болезнь, которую
мы обсуждали вчера? Куда она улетучи-
лась? Может быть была допущена диагнос-
тическая ошибка?» Но кипа документов из
солидных психиатрических учреждений за-
ставляют настроиться на серьезный лад
и продолжать начатое дело.
В первые несколько лет работы в ста-
ционаре терапия портретом сочеталась
с планово назначаемыми психотропными
средствами. Это помогало снятию устойчи-
вости, резистентности к некоторым ле-
карствам, фиксированности больных на
своих переживаниях, упорядочиванию их
поведения, расширению коммуникативных
возможностей. В этой связи удавалось
избегать назначения сильнодействующих
лекарств (из больших нейролептиков),
а также шоковых методов терапии. Совме-
щение портрета и психофармакотерапии,
хотя и представляется наиболее целесооб-
разным, выглядело недостаточно доказа-
тельным, так как возможные оппоненты
всегда могли бы сослаться на неизученное
действие лекарств и их сочетаний. Но
прежде чем использовать рассматрива-
емый метод в качестве самостоятельного
лечебного фактора, предстояло первые
опыты превратить в навык, испробовать
лечение на разнообразном контингенте
психиатрического стационара, достичь
профессионального уровня как в технике
беседы, так и в технике портретирования.
Очевидно, не стоит рассказывать о дол-
гом поиске материала (дерево, стекло,
камень, медь, бронза) и о выборе инстру-
ментов. Достаточно отметить, что челове-
ку, не получившему специального худо-
жественного образования, нелегко до-
стичь высоких результатов. Естественно,
приходилось чаще обычного посещать
музеи и картинные галереи, воспроизво-
дить работы любимых художников (Ван-
Эйк, Босх, Верроккио, Донателло), много
времени проводить в мастерской крупного
портретиста, любезно разрешившего
наблюдать процесс своего творчества. На
протяжении многих лет лучшими цените-
лями работ моих были родственники
больных, санитары, медсестры и врачи.
Иногда кабинет, где проходили сеансы
и стояли законченные работы, заполнялся
до отказа. Бурно обсуждались проблемы:
«хорошо — плохо», «похож — непохож» и
т. п. Самых любознательных я просил
участвовать в работе, вносить свои поправ-
ки. Все это вместе взятое сопровождалось
веселым общением, в которое вовлекался
и сам портретируемый. Это была выставка,
которая никогда не закрывалась.
По линии медицины устраивались кон-
Ф Этапы лечебного портретирования.
ференции, дискуссии, разборы, а наиболее
скептически настроенных коллег-психиат-
ров я пытался убедить делом, как это было
с портретом Анны Н.2.
Таким образом, набрав в течение многих
лет необходимый материал, я счел воз-
можным разработать метод терапии и уг-
лубленного анализа психических заболева-
ний, который, хотя и не подлежит стандар-
тизации, значительно упрощает тради-
ционные техники психотерапии, вводит
новые критерии нормы и патологии, а так-
же отношения «врач — больной». Как уже
отмечалось, одна из основных отличи-
тельных черт указанного метода заключа-
ется в том, что в процессе портретирова-
ния не строится, а активно разрушается
авторитет портретиста как врача.
Это важное условие, без которого
невозможна максимальная отдача твор-
ческих сил и успешное завершение порт-
рета. Всякие попытки со стороны боль-
ного и присутствующих восстановить авто-
ритет врача стихийно отметаются, в беседе
спонтанно возникает образ третьего лица
8 «Наука и религия» № 8
29
(с известной идеализацией), от которого
якобы исходят теоретические принципы
лечения, идеи и который является объек-
том веры, опорой и надеждой врача. Не
менее часто приходится ссылаться на
мнение гех или иных представителей
культуры, цитировать канонические книги.
Все это происходит бессистемно, в форме
свободных ассоциаций. Как следствие раз-
рушения авторитета врача игнорируются
повторы в жалобах больного, разрушается
фиксированность на патологических пере-
живаниях. Такой необыкновенно бурный
(нередко конфликтный) процесс приводит
к накоплению больным положительных
эмоций, к активизации реалистического
мышления и тем самым — к упрощению
синдрома. Одновременно посредством
скульптуры создается зеркальный образ
пациента
В последние годы работа в хозрасчетной
поликлинике освободила много времени
и позволила мне использовать скульптуру
в качестве самостоятельного метода лече-
ния.
Больные предварительно проходили об-
следование у невропатолога, патопсихоло-
га, психиатра, ЭЭГ, РЭГ, ЭХО, в клиничес-
кой лаборатории. Результаты обсуждались
с больным и его родственниками, разъяс-
нялась им техника лечения и, если заинте-
ресованная сторона продолжала настаи-
вать на лечении портретом, назначалось
время первого сеанса. На сеансах не-
пременно присутствовал клинический
психолог, который помимо обследования
вел протокол, а также фотограф. Так
скульптурное портретирование из сред-
ства общения и снятия резистентности
к препаратам превратилось в самостоя-
тельный ритуал врачевания, финал кото-
рого определяется эстетической завер-
шенностью портрета3 Здесь выявилось
еще одно отличие oi чисто научной
медицины, где есть начало лечебного
процесса, продвижение, но нет конца4.
Таким образом, вначале проводится
обследование и определяются «участни-
ки» сеансов психотерапии — все они, наря-
ду с больным, ознакомлены с техникой
лечения и ожидают выздоровления после
окончания работы над портретом. Сеансы
не ограничены во времени и могут длиться
от нескольких минут до сорока и более
часов. Не ограничивая во времени ле-
чебный процесс, я пробуждал в себе
подлинно нравственные переживания по
отношению к больному, а у него — по
крайней мере, доверительное отношение
к предстоящей совместной работе. Требо-
вание точного воспроизведения лица по-
рождает и требование точного определе-
ния своих мыслей и суждений —основной
конфликт между врачом и пациентом,
который продуктивно преодолевается по
ходу работы над портретом6.
В профессиональном искусстве, где
могут быть допущены различные ин-
терпретации лица вплоть до полного
зеркального несходства, разговоры на
тему «похож — непохож» признак плохого
тона. Во время лечебного портретирова-
ния ситуация икая. Отождествление себя
с портретом — главный источник выздо-
ровления. Оно цементирует весь ритуал
психотерапии и выявляется уже с первых
минут работы, хотя и на станке лишь
аморфный кусок глины или пластилина.
Развитие реалистической (аналитической)
оценки своего лица порождает сильные
потрясения, разрушающие привычный ход
мышления больного, «привязывает» его
к своему зарождающемуся образу, застав-
ляет часто (иногда «тайно») подходить
к зеркалу с целью изучения отдельных
деталей, идентификации с портретом. Это
не может не отразиться и на выборе
понятий, которыми выражаются акту-
альные переживания, ведется диалог.
К примеру, один из моих больных, когда на
станке была лишь грубая маска, спросил:
«Неужели у меня такой угол рта?» —
подошел к зеркалу, проверил и вернулся
с неопределенным выражением лица.
Других больных удивляет форма уха, носа,
рисунок глаз, губ, не говоря уже о
восприятии целого. Такого рода незре-
лость распространяется и на понятия
и принципы, необходимые для творчества
и социализации. Незнание деталей своего
лица сопровождается еще большим незна-
нием лиц своих близких — жены, ребенка,
матери, отца, братьев и сестер. Таким
образом, вместе с усвоением реалистичес-
кого взгляда на свою внешность, в диалоге
усваиваются и фундаментальные катего-
рии общения, устанавливается гармония
между аутистическими и реалистическими
функциями мышления.
Отождествление себя с портретом по-
сле каждого сеанса повышает ценность
психотерапии. Возникает и развивается
ситуация сопричастности, соучастия и твор-
ческого сотрудничества. Нередко перед
врачом встает стена молчания или резо-
нерства, сверхценных или бредовых пере-
живаний больного, его мнительность и не-
гативизм кажутся непреодолимыми. В про-
цесс отождествления включаются неволь-
но и все присутствующие (даже слу-
чайные) — так прокладывается «тропа»
для осознания своей болезни. Собственно
искусствоведческие мотивы при обсужде-
нии сведены к минимуму, внимание скон-
центрировано на том изображении, кото-
рое в данный момент возникло на глине
или пластилине. Отождествление себя
с изображением начинается задолго до
истинного портретного сходства — при
моих резких движениях во время работы
лицо больного иногда дергается, он про-
сит: «Не колите меня, не бейте меня!»
Параллельно с работой над портретом
возникают и развиваются бурные обсуж-
дения деталей лица больного, который
настолько «включен» в этот процесс, что
нередко на своем лице бессознательно
повторяет движения скульптора — разгла-
живает его, потирает и т. п. Это создает
значительное эмоциональное напряжение,
а в кульминационных моментах — интен-
сивную разрядку накопленных пережива-
ний. Подобные явления известны и про-
фессиональным портретистам, однако в
мастерской художника они вторичны и га-
сятся потому, что самостоятельной ценнос-
ти не представляют.
Интерес больного к своему зарож-
дающемуся образу настолько высок, что
временами приходится прерывать работу,
чтобы позволить больному уединиться
перед зеркалом или даже предложить ему
что-то доработать на скульптуре.
Окончание следует.
11 Первая реакция больных на общение посред-
ством портрета отличается большим много-
образием и зависит от текущего состояния,
нозологической принадлежности болезни, се-
мейного и социального положения портрети-
руемого. Это многообразие простирается от
чувства восхищения, даже экзальтации у лиц
с демонстративными чертами, до негативизма
у бредовых, далее до полного равнодушия
у дефектных и слабоумных. Однако указанные
состояние удается преодолеть, если у больно-
го сохранился какой-то интерес к своей персо-
не. Оптимистические прогнозы возможны уже
на первом сеансе, когда больной делится ка-
ким-нибудь наблюдением по поводу особен-
ностей своего лица — зто начало продуктив-
ного контакта, нить, которая никогда не обры-
вается в процессе портретирования. Возник-
ший диалог «скульптор-врач» — «больной»
развивается со всей силой. Это чувство, знако-
мое всякому профессиональному художнику,
и есть то новое, что вносит искусство в психо-
терапию. Со временем оно разрастается, за-
полняет все поле общения, необходимое для
создания произведения искусства, вытесняя
в конце концов и саму болезнь
2 В течение последних лет материалы и вы-
воды докладывались на конференциях, семи-
нарах, заседаниях Всесоюзных центров суици-
дологии, экзогенно-органических психозов,
пограничных состояний, психотерапии, психо-
эндокринологии Новосибирского госуниверси-
тета. Следует также с благодарностью, отме-
тить и многочисленные частные беседы с из-
вестными отечественными специалистами. По-
ложительная оценка, квалифицированная ин-
терпретация возможных механизмов терапии
с реконструкцией зеркального двойника боль-
ного значительно облегчили мою работу.
3 Символический и ритуальный моменты при-
сутствуют и в традиционной медицине. Поми-
мо известных ритуалов можно отметить также
преувеличенное толкование действия того или
иного лекарства, которое часто сливается с
образом врача, утвердившего свой авторитет
в данном отделении или больнице. Следует
отметить символизацию и ритуализацию изме-
ряемого времени — время окончания курса
лечения, время приема пищи, лекарств и т. п.
Видимо, такова особенность научного позна-
ния, что сегодняшние достижения завтра мо-
гут оказать ошибками и заблуждениями: науч-
ное знание должно все время прогрессиро-
вать. Это находится в нравственном противо-
речии с тем, что ожидает больной и его близ-
кие от врача, ибо жизнь одного человека огра-
ничена во времени; они требуют выздоровле-
ния сейчас и их не утешает вера, что когда-
нибудь наука решит подобную проблему. От-
сюда и неуверенность врача в своих возмож-
ностях, экономия сил, возникновение фальши-
вого тона в беседе с больным и его опекунами.
Врачу каждый раз с грустью приходится видеть
повторные поступления больных с симптома-
тикой, которую он в прошлый раз пытался
преодолеть всеми возможными средствами,
а прогресс в этой области еще не наступил. Он
начинает робеть перед неким «темным», труд-
но определяемым процессом (в кулуарах на-
зываемый эндогенным), дублировать свою
работу, не пытаясь углубиться в картину теку-
щего состояния. Отсюда отчаянная вера не-
которых родственников больных в шарлатанов,
которые обещают вылечить сейчас и оконча-
тельно.
5 Конфликтная ситуация обязательна во время
сеансов портретной терепии, она имеет одну
и ту же структуру при различных содержани-
ях — это фактически модель того конфликта
который возникает при встрече больного чело-
века и общества. Поэтому здесь врачу нельзя
потакать болезни, соглашаться с тем, что его
общественное сознание не приемлет. Отсюда
и манера работы над скульптурой.
30
Дело отца Тялуна
Вдоль и поперек прошел
родную страну буддийский
монах из Вьентьяна отец Тя-
лун, чтобы собрать рецепты
традиционной медицины,
отыскать считавшиеся уте-
рянными книги «байлан» —
обработанные особым спосо-
бом пальмовые листья с запи-
сями на санскрите. Этому он
посвятил всю жизнь.
Расшифровав древние за-
писи, Тялун в 1987 году опуб-
ликовал первый в Лаосской
Народно-демократической
Республике сборник рецеп-
тов народной медицины. «Ре-
цепты эти позволяют готовить
лекарства от многих трудно-
излечимых болезней, и про-
верены они практикой тыся-
челетий. Развиваясь и сотруд-
ничая, народная и современ-
ная медицина будут прино-
сить людям велнкую поль-
зу»,— считает отец Тялун.
Не верь
глазам своим
Врачи одного из француз*
ских городов, обследуя па-
циента, жаловавшегося на го-
ловную боль, с помощью
рентгеновского аппарата уви-
дели в его черепной короб-
ке... отвертку длиной 18 сан-
тиметров!
Недоразумение рассея-
лось, когда стало ясно, что
отвертка не в голове больно-
го, а в самом рентгеновском
аппарате, где ее по рассеян-
ности забыл мастер по ре-
монту.
Трудно представить, что бы
произошло, поверь медики
своим глазам...
Почему бы и
«нет»?
Необычное предложение
направило руководство еван-
гелистской церкви в ФРГ
полицейской академии горо-
да Мюнстера. Каждый час, в
течение которого на дорогах
ФРГ погибает очередная
жертва автомобильной ката-
строфы, может быть исполь-
зован специалистами дорож-
ной полиции для чтения с
церковного амвона пропове-
ди на тему безопасности до-
рожного движения.
Особо оговореноо пред-
ставитель службы безопасно-
сти движения должен высту-
пать перед верующими в сво-
ей обычной полицейской
форме.
1
Общество изучения
тайн Тибета
«Тибет полон тайн. Пери-
одически поступают сообще-
ния о встречах в Гималаях с
йети — «снежным челове-
ком», с «однорогим мускус-
ным оленем», «очевидцы»
рассказывают о неизвестных
гигантских животных, оби-
тающих в горных озерах. Все
эти загадки природы или че-
ловеческой фантазии еще
ждут своего решения»,— за-
явил президент общества, не-
давно созданного в Лхасе.
Ученым, писателям, журна-
листам, ставшим членами
«Общества изучения тайн
Тибета», предстоит заняться
научными исследованиями и
организовать туризм на об-
ширной и малонаселенной
территории Тибетского авто-
номного района.
*
I
1
Массаж
от простуды
Специалисты Первого Мо-
сковского медицинского ин-
ститута им. И. М. Сеченова
разработали точечный мас-
саж для профилактики -про-
студных заболеваний. Массо-
вый эксперимент подтвердил
эффективность метода: с тех
пор, как рабочие завода име- ।
ни 50-летия СССР города L
Александрова Владимирской
области на специальных кур-
сах обучились самомассажу,
резко сократилось количест- '
во больничных листов с диаг- I
нозами ОРЗ.
«Кафе
целебных трав»
Так назвали недавно от-
крывшийся в Черновицкой
области при Сторожинецкой
городской аптеке кабинет
фитотерапии. Из местных
горных трав по рецептам вра-
чей здесь готовят лечебные
коктейли и настои, отвары и
бальзамы, дают консультации
по применению трав.
Погода
и меланхолия
Наблюдения психологов
университета в Мангейме
(ФРГ) выявили неожиданную
закономерность. Люди, стра-
дающие депрессивными за-
болеваниями, и меланхолики
наиболее остро чувствуют
неудовлетворенность жиз-
нью при ясной и солнечной <1
погоде. Но стоит только небу
покрыться тучами или начать- [
ся дождю — их самочувствие
значительно улучшается.
Интересно, какой процент
от численности работников
синоптических служб состав-
ляют представители указан-
ной выше категории людей?
Спорный вопрос
Несколько лет тому назад
жители норвежского город-
ка Лингдал, расположенного
неподалеку от Осло, оказа-
лись перед сложной пробле-
мой. Местный скульптор, ра-
ботая над оформлением зала
торжеств в городской рату-
ше, изобразил Адама и Еву в
их, так сказать, естественном
«одеянии», добавив от себя
только несколько виноград-
ных листочков. Такая одежда
предков человечества вызва-
ла сильное негодование стро-
гих блюстителей нравствен-
ности. Они утверждали, что,
согласно Библии, первые лю-
ди были облачены в шкуры.
со всего света
Разгорелась острая полеми-
ка, в результате которой бы-
ло решено провести по дан-
ному вопросу референдум.
Новый вид услуг
похоронного бюро
Можно ли похоронить...
автомобиль? Оказывается,
можно, причем со всеми по-
честями, подобающими лю-
бимой машине, которая —
увы| — тоже стареет. Чтобы
провести торжественную це-
ремонию, нужно обратиться
в особое похоронное бюро
во Флориде, которое зани-
мается производством спе-
циальных ковчегов.
Представляется, что и эта
новая форма услуг не предел
возможностей специализи-
рованных бюро — в дальней-
шем речь может идти, на-
пример, о торжественном по-
гребении любимого кресла,
телефона — чего угодно, был
бы спрос...
Инкубатор
для пиявок
Излюбленное лечебное
средство Дуремара из сказ-
ки «Золотой ключик» обрело
популярность в современной
медицине. Открыта способ-
ность пиявок активно восста-
навливать кровообращение...
в пересаженных органах че-
ловека, даже таких, как серд-
це...
Ученые установили, что ве-
щества, обнаруженные в же-
лудочном соке пиявок, обла-
дают большим эффектом,
чем синтетические препа-
раты. В Англии уже создан
специальный инкубатор, где
под наблюдением компьюте-
ра в колбах с теплой водой
выращиваются десятки тысяч
черных пиявок.
8'
31
КТО ТАКИЕ
БЛАКАМАНЫ?
В рассказе Гарсиа Марке-
са «Блакаман-добрый, торго-
вец чудесами» два фокусника
и два чудотворца. Один торгу-
ет противоядием, спасающим
от укусов змей и сколопендр.
Другой пробавляется тем, что
исцеляет прокаженных и па-
ралитиков. Оба Блакамана —
фокусники. Гарсиа Маркес
очень уважает и цирк, и фо-
кусников. Мастера рукотвор-
ных чудес запросто могут ра-
зоблачить свои тайны, но от
этого, как говорил однажды
колумбийский писатель, «тай-
на становится еше таинствен-
ней».
Блакаман злой появляется
в рассказе, как на цирковой
арене: его будущий ученик
немедленно узнает в нем
«цирковую лошадь из-под
дрессированной обезьянки».
Гарсиамаркесовский рассказ
сам удивительно напоминает
цирковое зрелище. И есть у
него своя тайна — «еще более
магическая, чем если бы это
было магией». Часто фокус-
ник демонстрирует голово-
ломные трюки перед носом у
зачарованного зрителя. Тот
внимательно следит за цир-
ковым творчеством, но забы-
вает о творце. Фокусник-тво-
рец внезапно опускает руки,
зритель поднимает глаза, и —
о создатель! — перед ним три
ослепительные принцессы
цирка. Чудеса Гарсиа Марке-
са как бы отвлекают нас от
чудотворцев Блакаманов. Но
будьте бдительны: ключ к рас
сказу спрятан в кармане од-
ного из них.
В своей монографии «Про-
за Гарсиа Маркеса» (1875)
литературный критик
X. Д. Каррильо предлагает
рассмотреть Блакамана доб-
рого как «белого» мага, про-
тивопоставленного Блакама-
ну злому, «черному» магу, а
их приключения — как паро-
дию на евангельскую притчу.
«Блакаман злой,— пишет
Каррильо,— подлинный ху-
дожник своего дела, исполня-
ющий свое искусство, как и
Христос,— «на благо челове-
чества», но с тем важным от-
личием, что он не одаривает
чудесами, а торгует ими».
X. Д. Каррильо проницатель-
но подмечает и некоторые
другие пародийные намеки;
так, Блакаман появляется в
Санта-Мария-дель-Дарьен в
вербное воскресенье — тогда
же, когда Иисус входит в
Иерусалим (Иоанн, 12; 12).
Иисуса приветствуют паль-
мовыми ветвями на грудь
притворно издыхающего Бла-
камана возлагают пальмовые
ветви. Блакаманы, как и осно-
ватель христианства, прохо-
дят искус в пустыне.
X. Д. Каррильо не обратил
внимания еще на ряд сущест-
венных деталей, подтвержда-
ющих его гипотезу: Блакаман
злой обмотал ученика колю-
чей проволокой, словно во-
друзил на него модернизиро-
ванный терновый венец. Фо-
кусы Блакамана доброго на-
поминают чудеса св. Лазаря:
оба они исцеляют паралити-
ков, инвалидов и прочих оби-
женных мира сего. Итак,
Иисус превращает Лазаря в
чудотворца, Блакаман злой
своего «доброго» двойника —
в продавца чудес.
Добрый Блакаман научил-
ся делать чудеса, споря со
своим учителем. У самого
Гарсиа Маркеса, оказывает-
ся, тоже был в свое время
учитель, который строго-
настрого запрещал ему вся-
кие фокуснические штучки со
словом и от которого он в кон-
слово, обозначающее это чу-
до. А вот что говорит о со-
фисте Платон: «Софистика
оказалась искусством при-
обретать, менять, торговать
вообще, торговать духовны-
ми товарами...» Не словом
ли?
Мы смотрим на блакама-
новские чудеса в полной уве-
ренности, что они — подлин-
ные, не видя при этом самого
Гарсиа Маокеса.
Блакаман добрый, если
учесть спрятавшегося за ним
писателя, не чудотворец, а
обычный фокусник. Платон
соглашается: «Будучи под-
ражателем действительности,
он — словно какой-то чаро-
дей»; и далее: «Он — из рода
фокусников».
Блакаман злой запирает
«доброго» в сундук и таскает
за собой, вынуждая его зани-
Платон разгневан на со-
фиста. на этого фокусника от
словесности. Платон облича-
ет: «Этим именем обознача-
ется... лицемерное подража-
ние искусству... подражание,
принадлежащее к части изо-
бразительного искусства, тво-
рящей призраки и с помощью
речей выделяющей в творче-
стве не божественную, а чело-
веческую часть фокусничест-
ва».
Вот с этим Гарсиа Маркес
категорически не согласен.
То, что вызывает у Платона
благородный гнев, у Гарсиа
Маркеса вызывает жизне-
радостное веселье. Мерзкое
«подражание искусству» он
превращает в очаровательное
произведение искусства,
«призраки» воплощает в ре-
альных словах, заимствован-
ных из библейских текстов.
це концов ушел. Звали этого
учителя Платон.
В рассказе «Блакаман доб-
рый...» Гарсиа Маркес повест-
вует о том, насколько по-
тусторонние чудеса причаст-
ны посюстороннему миру. В
диалоге «Софист» Платон
рассуждает о том, насколько
небытие причастно бытию
Г арсиа Маркес пытается '
сбыть нам вместо чуда —
маться чревовещанием. Как
будто он прочитал вместо
учебного пособия по магии
диалог Платона: «Они посто-
янно бродят вокруг, таща за
собою, как принято говорить,
своего домашнего врага и бу-
дущего противника, подаю-
щего голос изнутри, подобно
чревовещателю Эвриклу».
а заклейменную Платоном
«человеческую часть фокус-
ничества» приклеивает к чу-
десным словам — получается,
как в «Ста годах одиночест-
ва»: «вознесение на двена-
дцать сантиметров». Литера-
турное фокусничество обора-
чивается подлинным чудом
литер. ,ры.
« Рисунок В. И о н а йт и с а.
32
НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
Габриэль Гарсиа МАРКЕС
Уже тем воскресеньем, когда я уви-
дел его впервые, он здорово походил
на цирковую лошадь из-под дрессиро-
ванной обезьянки: в штопанных золо-
том подтяжках из бархата, перстнях
с полудрагоценными стеклышками
надетых на каждый палец, и впле-
тенными в косичку колокольчиками, он
вскарабкался в порту Санта-Мария-
дель-Дарьен на стол с лекарственными
пузырьками и успокоительными трава-
ми, которые сам готовил и, крича во
всю глотку, торговал своими снадобь-
ями; только на этот раз он уже не
пытался сбыть какое-нибудь очеред-
ное индейское зелье, но просил, чтоб
ему принесли настоящую змею, и он на
личном примере продемонстрирует,
как действует его противоядие, верное
средство, дамы и господа, от укусов
змей, тарантулов и сколопендр, а так-
же всякого рода ядовитых млекопи-
тающих. Некто, как показалось, впе-
чатленный такой решимостью, достал
неизвестно откуда и принес ему в бан-
ке змею манапу одну из самых
опасных, чей яд мгновенно парализует
дыхание, и он с таким рвением
откупорил ее, что мы было подумали,
будто он собирается проглотить содер-
жимое, но едва змея почувствовала
себя свободной, она выскочила из
банки и такой укус всадила ему в шею,
что у него в ту же секунду перехватило
дыхание, и едва он успел принять
противоядие, как весь его аптекарский
хлам посыпался в публику, а сам он,
грохнувшись на землю, стал биться
в корчах, и тело его распухло, будто
внутри ничего не было, но все же он не
переставал смеяться, ощерив все свои
золотые зубы Паника поднялась та-
кая, что на броненосце одной северной
державы, который вот уже двадцать
лет находился в порту с дру-
жественным визитом, объявили каран-
тин, чтоб змеиный яд не проник на
борт, а из церкви с освященными
пальмовыми ветвями повалил на-
род, как раз было вербное воскре-
сенье, - потому что все хотели погла-
зеть на несчастного, от которого уже
запахло смертью; он раздулся, стал
в два раза толще, чем прежде, изо рта
у него пеной сочилась желчь, но он
продолжал так жизнерадостно смеять-
ся, что колокольчики весело трезвони-
ли по всему его телу. Опухоль разорва-
ла тесемки гамаш и одежные швы,
пальцы, сдавленные перстнями, пре-
вратились в кровянку, сам он приобрел
оттенок вареной оленины, из заднего
прохода полезло агонизирующее дерь-
мо, и всякий, кто видел как его
укусила змея, понимал, что перед тем
как умереть, он сгниет, и что он весь
рассыпется, как хлебные крошки, и что
его нужно будет набирать на лопату
и бросать в мешок, но было также ясно
и то, что даже превратившись в опил-
ки, он по-прежнему будет смеяться.
Это казалось настолько невероятным,
что морские пехотинцы взобрались на
корабельные мостки, чтобы снять его
иа цветную пленку своими дально-
бойными фотоаппаратами, но жен-
щины, идущие со службы, расстроили
их планы, прикрыв умирающего оде-
ялом и возложив на него освященные
пальмовые ветви; одни поскольку
им не нравилось, что пехотинцы про-
фанируют человеческое тело своими
еретическими приспособлениями, дру-
гие поскольку их пугала сама воз-
можность наблюдать за язычником,
который мог отойти к праотцам, уми-
рая от смеха, а прочие — поскольку
надеялись, что в таком случае отрав-
ление не затронет хотя бы его душу.
Все считали его покойником, когда он,
все еще полубольной и ошарашенный
после своего злоключения, одним дви-
жением руки откинул ветки и без чьей-
либо помощи направился к столу,
снова вскарабкался на него, как краб
на голыш, и вот уже опять выкрики-
вал, мол, это противоядие — просто-
напросто перст божий, только
закрытый в банке, и что все мы сами
видели, и причем всего за два квар-
тильо, потому что он изобрел это
средство не для наживы, а на благо
человечества, ну, так кто же первый,
дамы и господа, толькопожалуйста-
невсесразу, хватит на всех.
И точно навалились все сразу,
и правильно сделали, потому что
в конце концов на всех не хватило
Даже адмирал, убежденный в том, что
жидкость - отличное средство от
отравленных пуль анархистов, сошел
с броненосца и унес с собой один
пузырек, а члены команды не только
сфотографировали его стоящим на
столе в полный рост на цветную
пленку — зД то, что не смогли заснять
его мертвым, но и вынудили давать
автографы, пока ему судорогой не
свело руку Уже совсем смеркалось
и в порту остались самые нереши-
тельные из нас, когда он стал искать
кого-нибудь с придурковатым выраже-
нием лица, кто бы помог ему со
склянками, и, конечно, уставился на
меня. То был взгляд самой судьбы —
не только моей, но и его, поскольку
случилось все сто лет назад, а нам до
сих пор кажется, будто произошло это
прошлым воскресеньем. Когда мы
запихивали его трюкаческую аптеку
в обшитый пурпурными лентами баул,
который скорей походил на усыпаль-
ницу великого ученого, он, должно
быть, увидел во мне какую-то искру,
которую раньше не замечал, потому
что спросил меня с недовольным
видом, кто я такой, и я ему ответил,
что, мол, я единственный у папы
и мамы сирот а, и что мой папа пока
еще не помер, и он расхохотался
громче, чем от змеиного яда, и спросил
меня, что я в этой жизни делаю,
и я ответил ему, мол, занимаюсь
только тем, что просто себе существую,
поскольку ради всего остального нет
смысла напрягаться; все еще рыдая от
смеха, он спросил меня, какой наукой
хотел бы я овладеть, и единственный
раз я ответил ему без издевки, что
хотел бы стать магом, и больше он уже
не смеялся, но, будто рассуждая сам
с собой вслух, произнес, что для этого
мне не так уж много и нужно,
поскольку самому трудному я уже
выучился — выражение лица у меня
33
вполне дурацкое., Тем же вечером он
переговорил с моим отцом и, заплатив
реал, два квартильо и колоду га-
дальных карт для предсказания супру-
жеских измен, приобрел меня навсег-
да.
Тдким был Блакамйи-злой, потому
что добрым являюсь'я. Он мог убедить
астронома, что февраль месяц — всего
только стадо слонов-невидимок, но
когда судьба отворачивалась от него,
он ожесточался душой. В благопри
ятные времена он занимался баль-
замированием вице-королей и, гово-
рят, придавал их лицам такую значи-
тельность, что они в течение многих
лет правили лучше, чем когда были
живы, и никто не осмеливался похоро-
нить их, пока Блакаман снова не
возвращал их лицам былое мертвец-
кое выражение, но его репутация
сильно пошатнулась, когда он выду-
мал бесконечные шахматы: новое
изобретение свело с ума одного капел-
лана и спровоцировало два само-
убийства у высокопоставленных особ;
тут он понемногу стал опускаться:
если раньше он толковал сны и извле-
кал зубы заговорами, то теперь ска-
'тился до уровня ярмарочного знахаря
и гипнотизера, внушающего дни рож-
дения; таким образом, когда мы с ним
познакомились, на него даже контра-
бандисты смотрели сверху вниз. С на-
шим шулерским реквизитом мы двига-
лись, куда ветер дует, и жизнь пред-
ставляла для нас одну сплошную
угрозу: ведь мы пытались сбыть то
средства исчезновения, которые дела-
ли контрабандистов невидимыми, то
таинственные капли, которые
жены-католички капали в суп своим
развратникам мужьям, дабы внушить
им страх божий, и вообще — все, что
пожелаете приобрести, дамы и госпо-
да, мы же не навязываем, а только
рекомендуем, ведь, в конце концов,
счастье — это не такая уж обязатель-
ная штука. Однако сколько бы мы ни
смеялись над его приключениями, а на
еду мы едва зарабатывали, и послед-
няя его надежда покоилась на том, что
когда-нибудь из меня выйдет маг. Он
разодел меня японцем и, завязав
якорной цепью, запер в похожий на
погребальную урну баул, чтобы я
попытался хоть что-нибудь предска-
зать, а он в это время, в поисках
лучшего способа убедить мир в полез-
ности своей новой науки, насиловал
грамматику: вот, поглядите, дамы
и господа, на это существо, искусанное
светляками Иезекииля, а вы, там, со
своей недоверчивостью, посмотрим,
хватит ли у Вас смелости подойти
и спросить у него, когда ва vi помирать,
но мне так ни разу- и не удалось
предсказать, какое сегодня число, и он
признал, что как маг я безнадежен,
потому что желудочный сок, выде-
ляемый во время пищеварения,
разъедает пророческую железу, и,
, чтобы поднять мое настроение, сбил
меня с ног ударом палки И решил
отвезти меня к отцу, чтоб тот вернул
34
й,
ему деньги. Именно тогда ему пришло
в голову открыть практическое приме-
нение электрического тока, появ-
ляющегося во время физических мук,
и ои занялся сборкой швейной машин-
ки, которая работала бы, если ее
присоединить с помощью присосок
к той части тела, где ощущалась боль.
Так как я проводил целые ночи,
жалуясь иа побои, которые он мие
устраивал, то, чтобы задобрить злой
рок, он был вынужден остаться со
мной в качестве испытателя собствен-
ного изобретения, и, таким образом,
мое возвращение под родительский
кров понемногу откладывалось, а у не-
го восстанавливалось здоровое ве-
селье, и вскоре машинка работала так
хорошо, что шила куда лучше засва-
танной девки: она вышивала птиц
и астромелии в соответствии с место-
нахождением и силой боли. Так мы
и существовали, убежденные в нашей
победе над злой долей, когда неожи-
данно нас настигла новость, что
командующий с броненосца захотел
повторить в Филадельфии опыт с про-
тивоядием и превратился в при-
сутствии главного штаба в кучу адми-
ральского мармелада.
Долго Блакаман с тех пор не
смеялся. Мы убегали индейскими
тропками, и чем лучше мы прятались,
тем более отчетливыми были доходив-
шие до нас слухи о том, что морские
пехотинцы оккупировали страну под
предлогом борьбы с желтой лихорад-
кой, и во время продвижения они
рубили голову каждому горшечнику,
будь то профессионал или любитель,
который встречался на их пути, причем
не только аборигенам — из соображе-
ний безопасности, но и китайцам —
чтоб неповадно было, неграм — по
традиции, индусам — за то, что те
заклинают змей, а после испепелили
всю фауну и флору и уничтожили все,
что могли, из полезных ископаемых,
потому что их специалисты в нашей
области объяснили им, что жители
карибского побережья обладают
свойством изменять внешний облик,
чтобы одурачить гринго. До тех пор,
пока мы не оказались в безопасном
месте, где вокруг веяли вечные ветра
Гуахиры, до меня совершенно не
доходило, как это в них вмещалось
столько злобы, и почему мы так
боимся, и только тогда у него хватило
решимости поведать мне, что его
противоядие — всего-навсего смесь
ревеня и скипидара, но что он честно
заплатил два куартильо тому пройдо-
хе, который принес ему неядовитую
манапу. Мы расположились среди
руин бывшей миссионерской колонии,
напрасно дожидаясь прихода контра-
бандистов — людей надежных и, кро-
ме того, единственных, кто мог путе-
шествовать по этой соляной пустыне
под ослепительно белым солнцем. Вна-
чале мы питались саламандрами, при-
правляя их цветами, выросшими среди
мусорных куч, и у нас даже хватило
сил смеяться, когда мы попытались
съесть его гнилые гамаши, но в конце
концов мы съели все, вплоть до
колодезной паутины, и только тогда
сообразили, как миру без нас одиноко
Тогда я еще не знал ни одного способа
лечения от смерти, поэтому я просто
улегся на тот бок, где у меня меньше
всего болело, и стал ждать ее прихода,
в то время как он погрузился в воспо-
минания о какой-то женщине, которая
могла, глубоко вздохнув, пройти
сквозь стену, но и это воспоминание
было им искусственно придумано толь-
ко ради того, чтоб обмануть смерть,
разжалобив ее разговорами о любви.
В тот самый час, когда мы должны
были умереть, он приблизился ко мне,
живой, как никогда, и целую ночь
следил за тем, как я агонизирую, и был
при этом'так сосредоточен, что я до сих
пор не знаю, ветер ли это свистел на
помойках, или его мысли, и еще до
того, как рассвело, он сообщил мне
своим прежним тоном и со своей
прежней решимостью, что теперь нако-
нец ему все ясно, это именно я исковер-
кал ему всю жизнь, так что придержи-
вай крепче штаны, ибо если ты ее
исковеркал, сам же и выпрямляй.
Тогда он растерял даже те кро-
хотные остатки доброты, которыми
обладал. Он стащил с меня последние
лохмотья, обвил колючей проволокой,
натер мне ссадины окаменевшей се-
литрой и погрузил в рассол моих
собственных нечистот, и подвесил меня
за щиколотки поджариваться на
солнце, и все орал, что и этих издева
тельств мало для того, чтобы умилос-
тивить его преследователей. На десерт
он запихнул меня гнить от собственно-
го горя в камеру для пыток, где
колониальные миссионеры наставляли
еретиков на путь истинный, а сам,
с тем нутряным коварством, которое
сочилось из всех его пор, принялся
имитировать голоса съедобных жи-
вотных, шелест ботвы над грядкой
спелой свеклы, журчание холодного
источника, чтоб извести меня виде-
ниями райского изобилия, в центре
которого я лежу и помираю от несваре-
ния желудка. Когда контрабандисты
снабдили его всякой снедью, он време-
нами спускался ко мне и, чтоб я не дай
бог не умер, давал мне что-нибудь
пожевать, но затем заставлял меня
платить за его добродетельное бес-
корыстие: он выдергивал мне щипцами
ногти и ударом жернова выставлял
мне зубы, но я утешался тем, что
молил жизнь дать мне время и воз-
можность расквитаться за такое бес-
честье еще более ужасными муками.
Я удивлялся, откуда у меня брались
силы выносить разливающийся по
моему телу тошнотворный запах гни-
ения, а он все сбрасывал на меня
сверху объедки и раскидывал по углам
ошметки ящериц и сгнивших стервят-
ников, чтобы окончательно отравить
воздух в подвале. Не помню, сколько
времени прошло, когда он принес мне
дохлого зайчонка,— вот, мол, смотри,
чем тебе достанется, -так пусть лучше
гниет на помойке, и в тот самый миг на
меня снизошло спокойствие и во мне
остался только гнев — й схватил зай-
чонка за уши и с такой силой
швырнул им об стенку, будто это он,
Блакаман, должен был разбиться
вдребезги, а не разнесчастное живот
ное, и тогда все и свершилось, будто во
сне: заяц не просто ожил, взвизгнув от
испуга, но даже, прыгая по воздуху,
вернулся обратно ко мне.
Так началась моя большая жизнь
С тех пор я брожу по свету и понижаю
жар у больных малярией за два песо,
за четыре пятьдесят возвращаю зре-
ние незрячим, за восемнадцать обезво-
живаю больных водянкой, за двадцать
пять исцеляю калек, если они такими
родились, за двадцать два если они
пострадали в результате несчастного
случая или драки, и за двадцать
пять — если увечье было им нанесено
в результате войн, землетрясений,
высадки морского десанта и прочих
национальных бедствий; обыкно-
венных больных я лечу оптом при
помощи специального устройства, пси-
хов — в зависимости от темы помеша-
тельства, детей — за полцены, дура-
ков — за спасибо, и попробуйте ска
зать, леди и джентльмены, что я не
филантроп, а теперь, сеньор главноко-
мандующий двадцатым флотом, при-
кажите своим мальчикам, пусть разбе-
рут заграждения, и пусть проходит
всяк страждущий, прокаженные —
налево, эпилептики направо, пара-
литиков — вон туда, там они не будут
мешать, а кому не к спеху — тех за
ними, пускай подождут, и прошу вас,
держитесь своей группы, иначе я не
отвечаю, если болезни вдруг у вас
перепутаются н я вас вылечу совсем не
от той, и больше музыки, чтоб медь
плавилась, и чтоб петарды без кон-
ца пусть ангелы жарятся, и вод-
ку — рекой, чтоб пили до беспа-
мятства, и подать сюда всех уродин-
служанок и канатоходцев, головоре-
зов и фотографов,— плачу за всех,
леди и джентльмены, ибо наступил
конец бесчестья Блакаманов и разра-
зился вселенский шабаш А если вдруг
у меня не хватит таланта и кому-
нибудь станет хуже, чем было раньше,
так я вас мигом усыплю, в луч-
ших традициях палаты депутатов.
Единственное, чем я не занимаюсь,—
я не воскрешаю из мертвых, ибо, едва
открыв глаза, они в гневе убивают то-
го, кто осмелился их потревожить,
и в конце концов, если они не кон-
чают самоубийством, то умирают от
разочарования. В начале меня пресле-
довала группа ученых, чтобы прове-
рить правомочность моего предпри-
ятия, а убедившись в его законности,
они стали мне угрожать адскими
муками Симона Волхва, и посоветова-
ли мне надеть вериги и вести аскети-
ческий образ жизни, чтобы сделаться
святым, а я им выложил, нисколько не
унижая их авторитетного мнения, что
именно с этого я и начал. Истина же
заключается в том, что от своей
посмертной святости я ничего не
выигрываю, но ведь я — человек ис-
кусства, и все тут, и единственное, чего
мне хочется, просто быть живым,
чтобы иметь возможность разъезжать
на этом шестицилиндровом драндуле-
те, который я приобрел у консула —
представителя страны морских пехо-
тинцев, с этим шофером-монахом,
который в свое время пел на сцене
пиратской оперы Нового Орлеана,
носить натурального шелка рубашки,
обливаться восточными лосьонами,
обнажать в улыбке свои коронки из
топаза, щеголять в шляпе из тарта-
риты, ходить в двухцветных ботинках,
спать без будильника, плясать с коро-
левами красоты и потом оставлять их
в облаке очарования от моего заумно-
го красноречия, и ничто во мне не
дрогнет, если однажды, в пепельную
среду, я обнаружу, что таланты мои
истощились,— потому как для минис-
терского образа жизни предостаточно
одного лишь дурацкого выражения
лица, а также всех тех бесчисленных
торговых рядов, принадлежащих мне
от этого места и до того, где сгу-
щаются сумерки, и Где те же самые
туристы, которые хотели воздать нам
за адмирала, теперь томятся в очере-
дях за моими портретами с фотокопией
автографа, за альманахами моей
любовной лирики, за медальонами
с моим профилем, за обрывками моего
исподнего, причем я совершенно из-
бавлен от той почетной необходимости
стоять целыми днями в виде засижен-
ного ласточками мраморного всадни-
ка, которая возложена на отцов нации.
Жаль, что Блакаман-злой сам не
может рассказать эту историю,— тог-
да бы и стало ясно, что в ней нет
ничего выдуманного. Последний раз,
когда его видели на этом свете, он
утратил даже лоскутки своего былого
блеска н душа его стала пустым-пуста,
а злобная пустыня иссушила все его
кости, но все же у него нашлась
добрая пара колокольчиков, и он
вновь возник в порту Санта-Мария-
дель-Дарьен со своим неизменным
баулом, похожим на погребальную
урну, только теперь он уже не пытался
сбыть какое-нибудь очередное проти-
воядие, а срывающимся от волнения
голосом просил, чтоб морские пехо-
тинцы прилюдно расстреляли его, чтоб
на личном примере продемонстриро-
вать, как может воскреснуть его
сверхъестественное существо, и хотя
у вас, дамы и господа, после всех моих
дурацких замашек лжеца и шарлата-
на поводов не доверять мне предоста-
точно, клянусь матерью, что в сегод-
няшнем спектакле нет ничего
сверхъестественного, одна святая
правда, и если у вас закралась тень
сомнения,— глядите внимательно, я
ведь уже не смеюсь, как раньше,
а едва сдерживаюсь, чтоб не
разрыдаться. Для пущей убедитель-
ности он пустил слезу, расстегнул
рубашку и шлепнул себя в грудь своей
бычьей ладонью, чтоб показать, что
лучше всего стрелять сюда, и, конечно,
морские пехотинцы стрелять не реши-
лись, испугавшись, что воскресные
прихожане потеряют к ним всякое
уважение. Кто-то, по всей видимости <
не забывший Блакамановых штучек,
достал неизвестно откуда и принес ему
в банке корень коровяка, который,
если его бросить в море, мог перевер-
нуть вверх брюхом всю рыбу карибско-
го бассейна, и он открыл жестянку
с таким рвением, как будто и в самом
деле собирался съесть содержимое,
и он-таки проглотил корешок, только
прошу вас, дамы и господа, не стоит по
мне скорбеть и молиться за упокой
моей души, ведь мне сейчас умереть —
все равно, что в гости сходить. В этот
раз он был так честен, что не стал
прибегать к опереточным хрипам, а,
пятясь, как краб, слез со стола, пос-
ле непродолжительных колебаний
выбрал место, куда лучше всего при-
лечь, и, лежа, посмотрел на меня, как
на родную маму, и все еще пытаясь
сдерживать скупые мужские слезы,
испустил дух, и потусторонний
столбняк сковал его тело. В первый
и единственный раз мое искусство мне
отказало Я впихнул его в баул,
размеры которого были как раз пред-
усмотрены для того, чтобы он уместил-
ся в нем с головой, и заставил его петь
заупокойную, что обошлось мне в
четыре раза по 50 дублонов, потому
что церемониймейстер был весь в золо-
те, и, кроме того, было еще трое
сидячих епископов; я приказал ему
соорудить императорский мавзолей на
холме, открытом лучшим морским
ветрам, с индивидуальной усыпальни-
цей для него самого, и с металлической
табличкой, на которой готическим
шрифтом написано, что покоится здесь
Блакаман-мертвый, которого злые
люди прозвали злым, и который изде-
вался над морскими десантниками,
и стал жертвой науки, и когда всех
этих почестей мне хватило, чтобы
отомстить ему за -все его добродетели,
я стал избавляться от всех его бес-
честных дел, и тогда я оживил его
внутри его бронированной усыпаль-
ницы, и оставил его там ворочаться
в ужасе. Все это было задолго до того,
как Санта-Мария-дель-Дарьей погло-
тило нашествие муравьев, но мавзолей
стоит нетронутым и продолжает
возвышаться на холме в тени драко-
нов, которые взбираются на него, чтоб
вздремнуть на атлантическом сквозня-
ке, и каждый раз, когда я бываю в этих
местах, я привожу ему целый автомо-
биль роз, и сердце мое болит от
жалости к его добродетелям, но затем
я прикладываю ухо к холодному
камню, чтобы услышать, |<ак он плачет
в прогнившем бауле, и ёсли он вдруг
снова помрет, то я снова его оживлю,
потому что прелесть наказания именно
в этом и заключается: что будет он
жить в могиле до тех пор, покуда жив
я, то есть вечно.
Перевел с испанского
Иван Петровский
35
ИЗ ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВИЯ
ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ,
ВЕДУЩЕЙ В НИКУДА
Психология
мистической
практики
Существует немало православных пре-
даний с таким сюжетом: монах, желающий
превзойти своих товарищей в аскетическом
подвижничестве, горящий нетерпением ско-
рее быть осененным благодатью, видеть
святых и ангелов, начинает, невзирая на
запрещение духовного наставника, изнури-
тельные духовные упражнения. Результат
неизменно гибелен. Его может поразить
безумие. Например, монаху кажется: ои
стал таким легким, что способен двигаться
по воздуху и его вот-вот подхватят ангелы
(как сказано в одном из псалмов: «На
руках возмут тя, да не когда преткнеши
о камень ногу твою...») Или братия
замечает: аскет начинает избегать цер-
ковные службы, убирает из кельи крест.
Значит, под видом ангелов к гордецу
являлись бесы...
По православным представлениям,
чувственный, плотски-отяжелевший чело-
век равно недоступен воздействию темных
и светлых снл, но «утончая» аскетическими
упражнениями свое тело, он делается
«открытым» и для бога, и для дьявола. Не
случайно поэтому в преданиях подвижни-
ки-аскеты так часто искушаются бесами.
Жесткие формы воздействия на
собственное сознание использовались в
православии с осторожностью. Под по-
движничеством и аскезой чаще понималось
«мысленное делание», системы психических
приемов, постепенно изменяющих внутрен-
ний мир подвижника
Наиболее распространенной формой та
кого «мысленного делания» была, пожалуй,
практика «молитвы Иисусовой». Она реко-
мендовалась не только монахам, но и миря
нам. Внешне это довольно просто и однооб
разно: человек многократно повторяет
вслух или про себя: «Господи Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешно-
го». При этом он может класть поклоны,
перебирать четки. И все. Сложность и дииа
мика «молитвы Иисусовой» во внутрен-
ней работе. «Мысленное делание» возво-
дится в ранг особого искусства, «худо-
жества». Нель его добиться полной
сосредоточенности и «вчувствования» в
произносимые слова при абсолютном очи
щении сознания - «внутреннем безмол-
вии». «Наш ум,— толкуют богословы иско-
мое состояние, освобождается от всякого
образа и даже от всякой мысли и, соединив-
шись с сердцем, как бы «нагим» стоит перед
А. ТКАЧЕВА,
кандидат исторических наук
Иисусом Христом, Сыном Божиим, моля
Его о милосердии».
Как достигалось «внутреннее безмол-
вие»? Естественно, что уже через некоторое
время нетренированный ум начинает отвле-
каться от молитвы. Приемы для его
сосредоточения во многом схожи с ин-
дуистской практикой «джапа-йога», также
состоящей в многократном повторении мо-
литвенной формулы и тоже требовавшей
«наготы» ума. Один из основных при-
емов — организация дыхания. Задержка
его тормозит течение мысли В православии
этот эффект называется «исихазм», в ин-
дуизме — «пранаяма». «Призывай Господа
Иисуса Христа с желанием, терпеливо.
* Макарии Египетский, Онуфрий Вели-
кий. Петр Афонский на новгородской ико-
не-таблетке XV века.
решительно отвращаясь всех помыслов,
поучал Нил Сорский, и, как сказали
святые отцы, сдерживай дыхание, чтобы не
часто делать вдох и выдох, и скоро
увидишь, как полезно это для собирания
ума». Рекомендовалось соотносить дыхание
с частями молитвы, с поклонами, что
аналогично индуистской «сурья намаска-
ра» — последовательной смене поз
(«асан») типа поклонов, каждая из ко
торых сопровождалась произнесением свя
щенных слогов.
Православные наставники советовали не
отчаиваться, если сначала держание ума
«нагим» окажется затруднительным: с те-
чением времени возникнет соот-
ветствующий навык, начнет оказывать свое
действие «благодатное возбуждение».
По мере совершенствования в «худо-
жестве» верующий переживал несколько
стадий. Сначала молитва только «делатель
ная»: внимание то и дело рассеивается,
сердце не переживает умиленно-покаянно-
го радостного состояния, внутренней тяги
к молитве нет. Эта стадия рассматривалась
как важный этап в борьбе с греховной
натурой, как доказательство подлинно сво
бодиой воли молящегося, его подвижни
чества, ибо молитва зиждется исключи
тельно на терпении и самопринуждении
Вторая стадия, по представлениям право
славных наставников,— «молитва вннма
тельная»: сознание уже достаточно натре-
нировано, молитва идет как бы сама по
себе, автоматически. Третья стадия ког
да молитва «внедряется в сердце», достав
ляет наслаждение, сопровождается прекра-
щением всяческих мыслей и внутренне
зримых образов, действием «благодати».
Такая молитва есть «совершенное внут
реннес безмолвие», она не нуждается
в словах и представляет собой, в сущности,
то эйфорнчески-безмятежное ощущение
единства с высшим началом, к которому
стремились мистики всех времен и народов.
Хотя это состояние, отмечал Нил Сорский,
и называется молитвой, поскольку оно от
молитвы рождается, однако «имени его
никто не знает». Он описывает состояние
«просветвления», знакомое многим рели-
гиозным традициям: «Когда же душа
духовным действием приближается к тем
Божественным высотам и непостижимо
соединяется с Божеством, и просветится
лучами высокого света в своих движениях,
когда ум сподобится вкусить будущего
блаженства, тогда он забывает себя и все
существующее и не испытывает никакого
движения. ...Ум восхищается в мысли
бесплотные, которые неизвестны чувствам.
Через эти мысли внезапно открывается
в тебе радость, заставляющая своей непо-
хожестью ни на что земное умолкнуть язык.
Некая сладость кипит в сердце и неощути-
мо вовлекает всего человека в переживания
сердца».
Сердце в сочинениях православных мис-
тиков упоминается не только фигурально.
Область сердца служила для них объектом
концентрации внимания. К нему относили
богословы евангельские слова: «Егда мо-
лишься, вниди в клеть твою и, затворив
двери твоя, помолися Отцу твоему. Иже
в тайне», «Царствие Божие внутри вас
есть». Под «клетью» (комнатой) разуме
лось сердце, под «затворением дверей»
отвлечение ума и чувств от внешних
объектов и направление их «внутрь», к
сердцу, месту «Царства Божия» в человеке;
подвижник, восходящий по «духовной
лестнице» (одно из наименований право-
славной аскезы), именовался «человеком
36
внутренним». Концентрация внимания на
области сердца должна была сопровож-
даться и «телесными деланиями». «В пер-
вую минуту, по пробуждении ото сна, как
только сознаешь себя, иизойдн внутрь
к сердцу, в эти перси телесные; вслед за тем
созывай, привлекай, напрягай туда н все
душевные и телесные силы, вниманием ума,
обращением туда очей, бодренностью воли,
с напряжением мускулов и трезвением
чувства, с подавлением услаждения и покоя
плоти, и делай это до тех пор, пока сознание
не установится там, как на своем месте...
и потом пребывай там неисходно, пока
пользуешься сознанием, часто повторяя то
же делание самособрания н для возобнов-
ления его, потому что оно поминутно то
расслабляется, то нарушается»* 1.
Связь между телесным и психическим,
теми или иными переживаниями и опреде-
ленными зонами тела была подмечена
«практиками» разных религий задолго до
того, как на нее обратила внимание наука.
Сердечный «психический центр» — «ана-
хата чакра» - известен, например, индо-
буддистскому мистическому учению (прав-
да, как одни из десятка центров). Счита-
лось, что «анахата чакра» - источник всех
благих эмоций, откуда исходит любовь
к богу и людям. Причем мистик-индуист,
медитируя над «анахата чакрой», должен
был представлять темную, пустую и зам-
кнутую комнату (подобно христианской
«клетн», в которой горит неподвижное
пламя свечи - символ души верующего,
неколеблемой никакими движениями его
внутреннего мира).
Медитация над «анахата чакрой» приво
дит к восприятию «внутренним» слухом
«вечного звука» («анахата» значит «не
рожденный ударом»), то есть божественной
вибрации, пульса мироздания. «Вечный
звук» известен и в православной мистике:
верующий как бы слышит ангельское пение,
славящее бога и наполняющее душу неска-
занным блаженством.
Другое «мысленное делание», которое
с известным допуском тоже можно опреде-
лить как род «православной медитации»,
состоит в «зрении другого мира». Один из
«отцов церкви» Исаак Сирин наставлял:
«Старайся войти в храмину, находящуюся
внутри тебя, и увидишь храмину небесную».
Подвижник должен был психически «вжи
ваться» в образы православного «символа
веры» вседержительство бога, спасение
в Иисусе Христе через святого духа,
действующего в церкви, в понятия смерти,
страшного суда, рая и ада. Этот «другой
мир» предписывалось внедрить в свое
сознание настолько глубоко, чтобы движе-
ние мысли стало невозможно «без ощуще
ния его в себе или на себе, подобно тому,
как нельзя сделать движения руки без того,
чтобы не сотрясать воздуха»2.
Подобное состояние достигалось много-
дневными трудами Поначалу аскет ос-
ваивал более частные темы. Для каждой
подбирались строки из Псалтыря, Еванге-
лия особенно эмоциональные; зримые
символы кресты, иконы. В отличие от
практики «молитвы Иисусовой» чувственно
воспринимаемый мир должеи был служить
своего рода материалом для воссоздания
картины «мира духовного». Богослов Нико-
дим Святогорец советовал подвижникам
как можно чаще использовать ассоциации
между «этим» и «другим» мирами: слушая
трели птиц, помышлять о сладких райских
песнопениях; в шуме и криках толпы
слышать вопли иудеев «Распни его!», при
виде церкви вспоминать о том, что душа
человека в идеале тоже есть храм божий,
идущий куда-либо человек должен вспоми-
нать, что каждый шаг в жизни - прибли-
жение к гробу... Такого рода духовные
упражнения Никодим Святогорец особенно
рекомендовал уставшему подвижнику, ког-
да ему уже трудно сосредоточивать мысль
«внутри сердца».
Достижение «зрения другого мира» при-
водило не к состоянию умиротворенного
блаженства, а, напротив, крайне обостряло
«ревность о Боге», «память смертную».
Подвижник должен был ощутить себя как
бы висящим над бездной и, соответственно,
собрать все силы для напряженного боре-
ния со своей «греховной натурой, миром
и дьяволом» — силами, препятствующими
спасению.
Как пишет Феофан Затворник, «главный
вид, в каком является враждебное в нас,
есть «помысел», а «сердце и воля не так
подвижны как мысль. . страсти и желания
редко восстают отдельно, большею же
частью рождаются из помыслов», поэтому
для подавления и уничтожения всех бес-
контрольно возникающих мыслей, для пол-
ного управления работой собственного
сознания предназначался еще один вид
«мысленного делания» «невидимая
брань».
Давалась подробная классификация са-
мих помыслов Незаметные поначалу
(«тонкие и тончайшие») и настойчиво
стучащие в сознание («грубые»). Приходя-
щие кратковременными «набегами» и
«осаждающие» в течение месяцев, лет (эти
считались «искушающими», приходящими
от дьявола). Откровенно греховные и как
бы безразличные. «Благовидные», казалось
бы, добрые, однако ведущие к «прелести»,
то есть самообольщению, гордыне. Для
каждого вида помыслов рекомендовался
особый вид «боя». Православные наставни-
ки, основываясь как на самоанализе, так
и на опыте «учительства» других, делали
заключение о существовании целых психо-
логически связанных цепочек-«ратей»
помыслов, когда одни влечет за собой
другой, выделяли помысла-«полковод-
ца» некий побудительный относящийся
к категории «тончайших» и существующий
в подсознании незаметно для самого по-
движника
Православные мистики считали «брань»
с помыслами и умение их различать
сложнейшим из «деланий» (гораздо более
сложным, чем телесный подвиг!), которое
желательно вести под руководством
опытного духовного отца. «Сам не всегда
заметишь врага в мысленной брани,-
писал Феофан Затворник,— не всегда су-
меешь действовать против него и сохранить
ревность и решительность к тому, а глав-
ное в том и в другом случае не можешь
иметь одного плана, предварительного
очертания, чтобы по нему весть все всева-
ние... Надобио, чтобы кто-нибудь видел
и наше настоящее, и наше будущее со
стороны. Потому предание себя руководи-
телю должно почитать лучшим и реши-
тельным средством к самоисправлению. Он
будет употреблять над нами и в нас то же
средство — брань деятельно-мысленную,
но главное по своему усмотрению, начер-
танию. с усмотрением цели, путей и распу-
тий».
Православная мистика гораздо больше
уделяла внимание самоанализу личности,
чем восточные мистические культы, увле-
кавшиеся психофизиологическими путями
к «просветлению». Дело, видимо, в том, что
христианство изначально обращало гораз-
до большее внимание на морально-этичес-
кую сторону учения, а также исходило из
наличия бессмертной индивидуальной ду-
ши. Все ее движения и переливы вызывали
больший интерес и представлялись более
значимыми, чем, например, в буддизме,
отрицавшем индивидуальное «я».
Индуист или буддист, для которых
объектом устремлений была безликая сущ-
ность, «великое Нечто» или «великое
Ничто», не наделяемое свободой воли,
рассчитывали на изменение своего сос-
тояния, так сказать, наверняка. Для на-
ступления «нирваны», «сатори», «самадхи»
им не требовалось двусторониего движе-
ния — человека к богу и бога к человеку,
решающими считались компетентность ре-
лигиозного наставника и сверхчеловеческое
упорство ученика, неуспех же объяснялся
ие отсутствием на то воли божьей, а каки-
ми-то ошибками в «практике». Достичь
«просветления» могла личность и не осо-
бенно моральная, и даже не особенно
верующая в данное учение — его по-
длинный смысл мог раскрыться и лишь
после пережитого мистического опыта.
Совсем не так трактовало мистическую
практику православие. Православный мис-
тик, ищущий связи с «Богом живым»,
с «Духом», который «рыщет, где хочет»,
полагал успех своего начинания зависимым
от высшей воли и милости Без этого
никакое собственное усилие или помощь
наставника ие могли обеспечить желаемого
результата, и поэтому православная пси-
хотехника не мыслилась без соблюде-
ния всех заповедей «богоугодной» хри-
стианской жизни. Принципиальной по-
сылкой мистицизма были страстная вера,
желание, побеждая самолюбие, «прибли-
зиться к Богу», любовь к нему. Впрочем,
и на Востоке тоже существовали интен-
сивные в эмоциональном отношении виды
мистицизма, например индуистское «бхак-
ти» движение, само название которого
переводится как «любовь».
При всей разнице догматов и установок
в православной и восточной мистической
практике все-таки много общего по части
психотехники. Впрочем, это и неудивитель-
но — ведь люди, индуисты ли, христиане
ли, «устроены» одинаково.
1 Епископ Феофан. Путь ко спасению (Краткий
очерк аскетики) М.. 1908
Преподобный Феофан канонизирован как свя-
юй Русской правое равной церкви на юбилей-
ном Поместном соборе 1988 г.
1 Там же
37
НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
" Итак, после лукавого жизнеописания Е. П. Блават-
ской' — еще один очерк 'Курта Воннегута. Только
* >* очерк ли! Скорее, памфлет. Писатель не скупится
- на сарказм и едкие замечания, не щадит ни самого
Махариши Махеша, ни его почитателей.
Через несколько лет после этой публикации в рома-
не «Завтрак для чемпиона» Воннегут снова вспоми-
нает улыбчивого гуру: «Йог Махариши Махеш, в об-
. ,мен на новый платочек, немного фруктов, букет
цветов и тридцать пять долларов, научил Кролика
закрывать глаза и тихо издавать певучие странные
звуки: «Эй-ииии-ммм...»2
Чем же досадили Воннегуту Махариши Махеш и
трансцендентальная медитация! Иронию писателя
вызывают и рекламная шумиха вокруг личности
Махариши, и безудержный фанатизм его поклонни-
ков, и чрезмерные амбиции гуру, и стремление
«посвященных» укрыться «в глубинах собственного
сознания» от жизненных трудностей
Однако было бы ошибочно расценивать эту публи-
кацию как памфлет против медитации, более точное
определение ее темы — «гримасы кумиротвор-
чества».
1 Слл.: «Наука и религия», №3, 1988..
2 «Иностранная литература», №2, 1974, с 166.
ДА УЖ, С НИРВАНАМИ
j Курт ВОННЕГУТ
Священик унитарной церкви узнал, что
я посетил йога Махариши Махеш — гуру
Битлз, Донована' и Мии Фэрроу2, и спро-
сил меня:
— А он не шарлатан?
Священика зовут Чарли. Унитарии ни-
чему не верят. Я тоже унитарий.
— Что ты,— ответил я. — Он такой
симпатяга. И флюиды у него такие
славные, сильные. Он утверждает, что
страдания вовсе не удел человека и их
можно избежать: надо только заниматься
трансцендентальной медитацией. А это
штука нехитрая.
'— Шутишь ты или нет — не пойму.
— Мне, Чарли, не до шуток.
— Что так мрачно?
— А то, что моя жена и восемнадцати-
л'етняя дочь уже ударились в медитацию.
Даже прошли обряд посвящения Медити-
руют семь раз на дню. Теперь им все
трын-трава. Знай себе сияют, как большие
барабаны с лампочкой внутри.
Я посетил Махариши в Кембридже, штат
Массачусетс, в январе прошлого года.
Было это уже после того, как ударилась
в . медитацию моя дочь, но до того, как
ударилась жена, и в тот самый день, когда
ударилась Миа Фэрроу Мисс Фэрроу
и прежде почти целый год твердила, что
занимается 'трансцендентальной медита-
цией, но меня не проведешь: не занима-
лась, а тольксГрвалась заниматься. А чтобы
медитировать всерьез, надо с'перва пройти
посвящение. „ *
- Совершить этот обряд- под силу не
г' каждому. Его совершает лишь сам Махари-
ши'—.если хочет оказать кому-то большую .
; честь, или кто-нибудь из немногочис-
ленных ^наставников, которых обучает Ма-
хариши. Мисс Фэрроу удостоилась боль-
шой чести в' номере кембриджской гости-
„Ь г т
?8 -" '
ни цы, где остановился Махариши. А моя
жена и дочь прошли посвящение попро-
ще — в Бостоне, на квартире у какого-то
художника и джазиста.
Обряд этот для узкого круга, но тайны из
не: о не делают. Сначала желающих соби-
рают вместе и читают им несколько лекций
в очень сердечном и доброжелательном
духе. Им ласково растолковывают, что
особых премудростей тут нет, и если все
выполнять правильно, то непременно ста-
нешь жизнерадостнее, талантливее и тру-
доспособнее. Рассказать, что ощущает
человек во время медитации, лектор
затрудняется. По его словам, это сос-
тояние можно только испытать, а описанию
оно не поддается.
Потом кандидатов приглашают на собе-
седование с наставником. Тот просит их
немного рассказать о себе: не балуется ли
кандидат наркотиками, не злоупотребляет
ли алкоголем, не находится ли под
наблюдением психиатра и, вообще, не псих
ли он. Надо обязательно быть в здравом
уме и вести трезвую добропорядочную
жизнь — иначе посвящение не состоится.
Кто лечится у психиатра, тех просят прийти
в другой раз, когда кончится курс лечения.
Если наставник убеждается, что канди-
дат подходит по всем статьям, Ън велит
ему явиться по такому-то адресу, в Гакое-
то время и захватить с собой подарки,
носовой платок, немного Свежих фруктов,
букет цветов и семьдесят .пять долларов.
Студенты и домохозяйки платят тридцать
пять долларов: *
- Так что пока я потратил на эту новую
религию семьдесят долларов. Махариши
говорит, HJO, это не религия, а техника.
И все-таки, оказавшись с семьей на какой-
нибудь вечеринке, я нет-нет да и провор-
чу— так, чтобы слышали жена и дочь:
«Я пока что на эту новую религию, черт ее
дери, ухлопал семьдесят долларов».
На эти де'ньги Махарищи и наставники
S _ W*
разъезжают по свету. Вообще они живут
без лишнего шика. Всем расходам ведется
учет: кто хочет — может ознакомиться
Это вам не какая-нибудь секта из Южной
Калифорнии. Тут все чин чином.
На посвящении посторонние не при-
сутствуют. только наставник и тот, кого
посвящают в эту штуковину, которую ее
последователи так не любят называть
религией. Горят свечи, курятся благовония,
тут же — маленькие портреты Махариши
и его покойного учителя, божественного
Свами Брахмананда Сарасвати, Джагадгу-
ру Бхагван Шанкарачарья из Джиотир
Матха.
Чаще всего наставнцр — наш брат аме-
риканец в самом обычном костюме. Каж-
дому ученику дается своя мантра — слово,
на котором надо сосредоточиться, чтобы
погрузиться в собственное сознание.
Обычно это слова на санскрите. Выбор
подходящей мантры — целое искусство
или, прошу прощения, наука.
Моя жена спросила наставника, как он
определяет, какая мантра кому подойдет,
и он ответил, что объяснить это трудно. •
— Поверьте,— добавил он,— это целая
наука.
На жену эта наука сразу подействовала.
Едва она услышала свою мантру — тут же
нырнула в глубины своего сознания. А в
глубинах этих сущее блаженство Так
говорят все, кто там побывал. И многие
последователи Махариши со знанием дела
утверждают, что такого блаженства и таких
откровений не бывает ни на какой попойке.
Словишь кайф — и полиция не заметёт.
Вот и получается, что благодаря этой
новой религии (которая вовсе1 и не рели- 1 2
1 Донован — популярный американский пе-
вец. (Здесь и далее — прим, перев.)
2 Фэрроу Миа — известная американская ки-
ноактриса. ,
гия, а техника) можно испытать удивитель-
ное наслаждение, и при этом законы
общества и морали не нарушаются, не
требуется никаких жертв, никаких добрых
деяний, да и риска никакого. Привержен-
цами этой религии станут средние классы
всех стран мира, когда наша планета
погибнет от загрязнения воздуха и воды —
а она несомненно гибнет
Реклама новой религии поставлена на
широкую ногу. В январе прошлого года
я попросил Святейшего (так положено
именовать Махариши) дать мне интервью,
и его секретарь предложил мне приехать
в кембриджскую гостиницу «прямо сей-
счете решаешь насущные проблемы сов-
ременности
Рядом с нами — женщина средних лет,
которая пришла к Учителю, чтобы уточ-
нить, правильно ли она медитирует. Она
подозревает, что неправильно. Как я понял
из ее слов, для нее что нырнуть в собствен-
ное сознание, что проплыть по-собачьи по
реке Куяхога в Кливленде — удовольствие
одно.
— А неправильно медитировать — это
опасно? — поинтересовался я. — Можно
сойти с ума или заболеть?
— Нет, что вы. В худшем случае, можно
разочароваться в медитации.
Парнишка из Бостонского университета
подтвердил слова секретаря. Он знал одну
девушку, которая поделилась своей
мантрой с приятелем. А разглашать свою
мантру не положено.
-г- Это что — страшный грех! — удивил-
ся я.
— Вовсе это не страшно,— сказал сек-
ретарь. — Просто неразумно.
Но я не отставал:
— Что же случилось с ее приятелем,
когда он воспользовался ее мантрой?
— Он разочаровался в медитации.
Кончив медитировать, Махариши вышел
из номера. Выяснилось, что его дожидает-
НЫНЧЕ ТУГО!
час». И дело не в том, что я из себя что-то
представляю — ему было совершенно
безразлично, кто я такой. Просто чем
больше посетителей, тем шире популяр-
ность. А тем, кто проповедует трансцеден-
' тальную медитацию, популярность нужна
позарез: они твердо верят, что эта техника
может спасти человечество.
Как?
«Мир без счастья невозможен,— пишет
' Махариши в книге «Наука быть и искусство
жить» (изд. Международного движения
духовного возрождения, 1966). — Хотя де-
ятельность ООН и достойна всяческих
похвал, но для установления мира на земле
требуется более глубокий подход. Если
политические деятели всех стран употре-
бят все свое умение и возможности для
того, чтобы распространить и прочно
внедрить практику Трансцендентальной
Медитации, мир преобразится в мгнове-
ние ока. . Политики должны понять, что
путь к решению насущных проблем чело-
века лежит через его сознание и только
такое решение даст людям довольство,
счастье, творческие способности. В против-
ном случае проблема мира во всем мире
не будет решена окончательно и войны на
земле, в том числе и холодные, никогда не
прекратятся».
— А что делать с такими, как Линдон
Джонсон3 или Джордж Уоллес4? — спро-
сил я одного последователя Махариши. —
Вы и их думаете пристрастить к медита-
ции! — Мы стояли в толпе поклонников
возле запертого номера Учителя. Это были
большей частью белые парни и девушки.
Мой собеседник оказался студентом Бос-
тонского университета и гитаристом.
— Даже если они не захотят,— отвечал
он,— все-таки они изменятся к лучшему,
потому что благодаря медитации будут
становиться лучше окружающих.
В этом еще одна прелесть новой
религии: всякий раз, как ты ныряешь
в глубины своего сознания, ты в конечном
Махариши
Махеш
(еле в а)
во время
встречи с
сотрудниками
Института
психологии
АН СССР
(1982 г.)
Ну, это еще ничего. Вот если бы тебя за
это распяли или бросили на съедение
львам, тогда, конечно, плохо.
Секретарь Учителя предложил мне це-
лую охапку газет и журналов. «Лук»,
«Лайф», «Ньюсуик» «Нэшнл обсервер»
бостонская «Геральд тревеллер», прило-
жение к «Нью-Йорк тайме». И везде —
длинные статьи про Махариши. Три
главных события, о которых тогда все
писали,— это операции по пересадке
сердца, захват «Пуэбло»5 и деятельность
Махариши. Кроме того, Махариши трижды
выступал по телевидению — в программе
«Сегодня у нас в гостях», в шоу Джонни
Карсона и в передаче по учебному каналу.
И всех зрителей он очаровал.
— Из-за такой рекламы тысячи людей
хоть сейчас готовы заняться медитацией,—
сказал я секретарю----Есть ли какие-
нибудь пособия по медитации — книги,
брошюры?
— Нет, да и быть не может. Наставник
должен показать вам, как изощрить свое
сознание, а потом, когда вы окажетесь на
правильном пути, контролировать ваши
ощущения.
— Ну а если я приду к обычному
человеку, > который умеет медитировать,
и скажу: «Покажи, как это делается,
и я буду у тебя учиться»?
— Вы разочаруетесь в медитации
ся целая куча репортеров и каждому
обещано по интервью. Пришлось устроить
в бальном зале гостиницы большущую
пресс-конференцию. Мы спустились в зал.
На сцене постелили оленью шкуру,.и Маха-
риши сел на нее. Поигрывая букетом
желтых хризантем, он предложил задавать
ему любые вопросы.
Махариши — обаятельный улыбчивый
человек небольшого роста, с седой боро-
дой, широкими плечами и мускулистой
грудью. Глядя на его сильные руки и креп-
кие запястья, можно подумать, что он
почти всю свою пятидесятилетнюю жизнь
вкалывал на каторжных работах. Но это не
так. Как пишет Сирил Данн в лондонской
газете «Обсервер», Махариши закончил
медицинский факультет и получил степень
бакалавра наук в Аллахабадском универси-
тете. Сам Махариши о себе не рассказыва-
ет. Монаху не положено.
После окончания университета он стал
монахом и узнал от своих учителей про-»
стейшую технику медитации! К слову
сказать, другие гуру не одобряют столь
3 Линдон Джонсон — американский прези-
дент, отдавший приказ бомбить Ханой
4 Джордж Уоллес —* бывший губернатор шта-
та Алабама, печально прославившийся своими
расистскими взглядами.
5 «Пуэбло» — американский корабль элект-
ронной разведки, захваченный 23 января
1968 г у побережья КНДР.
39
простую технику, а стремятся достичь
блаженства иными способами, которые,
как известно, отличаются сложностью и да-
же причудливостью На смертном одре
учитель Махариши велел ему идти в мир
и учить простой технике. И вот уже десять
лет Махариши учит. В конце этого года он
вернется в Индию, безвыездно поселится
как простой монах вдали от мирской суеты
и будет жить так до скончания дней своих.
По ei о словам, сейчас у него четверть
миллиона последователей во всем мире.
А продолжат его дело подготовленные им
наставники
Я сидел на складном стуле среди двух
сотен поклонников трансцендентальной
медитации, которые собрались в бальном
зале. Закрыв глаза, я ждал, что поэтичес-
кая сила речей святого перенесет меня
в загадочную Индию.
— Махариши,— начал какой-то репор-
тер,— не испытываете ли вы страха за
судьбу человечества? Не кажется ли вам,
что куда ни глянь — повсюду беспросвет-
ная тьма?
— Если вы оказались в темной комнате,
но знаете, где выключатель и как зажечь
свет, то для вас это уже не тьма,—
ответствовал Святейший.
— Вы утверждаете, что человеческий
разум сам по себе стремится найти
счастье. Почему вы так считаете?
— Представьте себе человека, который
сидит между двумя радиоприемниками
и слушает одновременно две разные
передачи. Разумеется, его внимание само
по себе переключится на ту передачу,
которая ему больше по душе.
— Что вы думаете о гражданских пра-
вах?
— А что это такое?
Святейшему рассказали, как ущем-
ляются гражданские права негров, как из-
за цвета кожи они не могут найти
нормальное жилье и работу, получить
образование.
На это Махариши ответил, что с по-
мощью трансцендентальной медитации
всякий может освободиться от угнетения
Если он будет медитировать, то станет
лучше работать. За это ему будут больше
платить, и он сможет купить все что
угодно. Так он избавится от угнетения.
Другими словами, чем скулить да жало-
ваться, пусть-ка лучше займется медита-
цией, зашибает деньгу, а станет большим
человеком — и торговцы с ним будут
обходиться по-честному
Тут я открыл глаза и уставился на
Махариши Я перенесся не в Индию.
Я снова оказался в Скенектади, в штате
Нью-Йорк, где много лет назад работал
в агентстве информации и рекламы. Там
я не раз слыхал, как мои не в меру
жизнерадостные коллеги рассуждают о
жизни, то и дело поминая выключатели,
радиоприемники и честную торговлю. Они
вот так же считали, что все напасти — от
недомыслия: есть сотни простых способов
преуспеть в жизни И они тоже были
бакалаврами наук. Махариши приехал аж
из самой Индии, а раз: оваривает с амери-
канцами точь-в-точь как инженер из ком-
пании «Дженерал электрик».
Махариши попросили поделиться сооб-
ражениями относительно Иисуса Христа.
Соображения были. Махариши предварил
их вводным оборотом:
— Судя по тому, что я о нем слышап...
Вот те на! И этот человек из любви
к ближнему несколько лет разъезжает по
Америке и Северной Европе и учит
христиан, как спасти человечество! Ведь
останавливается-то он в гостиницах, а в но-
мерах почти каждой гостиницы имеется
Библия. Махариши даже не удосужился
заглянуть в нее и узнать, чему же учил
Иисус.
Ничего себе «пытливый ум»!
По мнению Махариши, Иисус, вероятно,
был знаком с чем-то вроде трансценден-
тальной медитации, но эта часть его учения
была искажена его последователями, а по-
том о ней забыли. И еще он сказал, что
Иисус и первые христианские святые со-
вершили ошибку: дали слишком много
воли своему сознанию. Сознанию нужен
контроль, объяснил Махариши. Сознание
же Иисуса и святых досвоевольничалось до
«нелепостей», как выразился Махариши,—
перекоса в сторону веры
— Благодаря вере,— заявил он,— чело-
век в лучшем случае живет и умирает, не
теряя надежды. Больше церковь ничем не
может ему помочь. Потому-то люди с ней
и порывают.
Значит, мы снова вернулись к торговле-
церковь предлагает покупателям сахарные
пилюли, а Махариши без рецепта продает
свое лекарство, мощное, как гаубица. Что
выбираете?
Выйдя из гостиницы, я почувствовал, что
никогда еще Иисус не нравился мне так,
как сейчас. Жаль, под рукой не нашлось
распятия, я бы сказал Христу: «Сам
виноват, что оказался на кресте. Надо было
заниматься трансцендентальной медита-
цией — это штука нехитрая. Да и плотни-
чать ты стал бы лучше».
По дороге я встретил знакомого —
декана из Гарвардского университета.
Я знаком только с одним деканом из
Гарварда, его-то я и встретил. За день до
пресс-конференции в гостинице Махариши
выступал при переполненном зале в театре
Сандерс Поэтому в Гарвардском универ-
ситете уже были наслышаны об Учителе.
Вот я и спросил декана, не станет ли
трансцендентальная медитация оче-
редным повальным увлечением студентов.
— Вы, вероятно, знаете, что вчера
студенты толпами уходили из театра,—
заметил он.
— Еще бы не знать. Жена с дочкой
рвали и метали.
— По-моему, студенты считают, что для
них учение Махариши — почти вчерашний
день. А вот кому он действительно вскру-
жил голову, так это публике из «Бостонско-
го чаепития».
«Бостонское чаепитие» — это такое за-
ведение, где выступают джазисты. Оно
находится в южном квартале Бостона,
в церквушке из красного кирпича Его
владельцы и завсегда гаи — в основном,
добропорядочные белые студенты. Они
организовали здесь музыкальный клуб под
названием «Джаз по-бостонски». И члены
этого клуба, как пишет «Ньюсуик», «тер-
петь не могут хиппарей и не употреб-
ляют наркотики».
— Кто в наше беспокойное время не
хочет ни о чем беспокоиться, тому надеж-
нее этой религии не найти,— сказал я.
— Есть у нас в университете прыгун
с шестом. Увлекся он как-то медитацией
и теперь утверждает, что с тех пор прыгает
все лучше и лучше.
— И болельщики кричат: «Ура!»
Моя дочь занимается живописью. Она
и так талантлива, но теперь ей кажется, что
благодаря Махариши она стала еще та-
лантливее. Жена еще в колледже пробова-
ла писать, и у нее хорошо получалось.
Сейчас она снова хочет заняться писа-
тельским трудом. Они с дочкой твердят,
что если я дважды в день буду нырять, как
аквалангист, в собственное сознание, то
литературная работа пойдет у меня весе-
лее, а книги будут лучше.
Но я не хочу проходить посвящение:
лень. Была охота ехать в Бостон и торчать
там несколько дней! И потом, являться
к кому-то на дом с фруктами, букетом,
чистым носовым платком и семьюдесятью
пятью долларами — это не по мне ро-
бость и чувство юмора не позволяют.
Вот я и допекаю жену пакостными
вопросами:
— Где ты видела такого святого, ко-
торый рассуждает об экономике, как
директор Национальной ассоциации пред-
принимателей?
— Он вынужден рассуждать об эконо-
мике. Сам бы он не стал. Это не его
область.
— А почему в Индии, откуда пошла
медитация, его не признали, зато в Сканди-
навии, Западной Германии, Англии и Аме-
рике носят на руках?
— Не так это просто. Тут, конечно,
несколько причин.
— Может, как раз потому, что он
рассуждает об экономике, как директор
Национальной ассоциации предпринимате-
лей?
— Это как тебе угодно,— отвечает жена
ласково-преласково. И улыбается.
Но я не унимаюсь:
— Если эта штука действительно всем
помогает, почему бы Махариши не пропо-
ведовать в трущобах? Вот где страдающих-
то!
— Потому что он хочет, чтобы мир
познакомился с медитацией поскорее.
А для этого надо начинать с людей
влиятельных.
— Вроде Битлз?
— В том числе — ис них.
— Ну, влиятельным-то людям Махари-
ши придется по вкусу больше, чем Иисус,
это как пить дать. Ведь если бы Битлз и Миа
Фэрроу пришли к Христу, он бы велел им
раздать свои богатства.
А жена улыбается...
Перевел с английского
Виктор Ланчиков
40
ИЗ ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВИЯ
SswjMw]
Рисунок И Ваграмовой.
- Говорят, можно наговором выле-
чить?
- А как же, лечат! Старушки такие
есть, да и самой приходилось.
— Говорят еще, раньше людей
портили, «присушить» могли?
И сейчас глазят: с лихостью —
это нарочно, а то и без лихости, есть
такие люди.
С таких разговоров начинался наш
поиск, когда фольклорная экспедиция
Московского университета из года
в год обходила поволжские деревни,
изучая, в числе прочего, как сегодня
бытует древняя традиция магического
воздействия словом. Но часто этими
общими фразами разговор и заканчи-
вался — старики не спешили делиться
потаенным. Кое-что нам, однако, уда-
лось выяснить.
Н. ИПАТОВА
ЗАМЕТКИ
ФОЛЬКЛОРИСТА
Где вы, колдуны?______________
И по сей день народная молва
указывает на кого-нибудь из одиноко
живущих стариков: это колдун (кол-
дунья). Почему? А как же! Вот,
к примеру, та старуха пришла, похва-
лила, и человек больным сделался
(сглазила, значит). Или: за кем-то
погналась свинья, получила палкой по
спине — и убежала, а на следующий
день эта старуха с печи не слезает,
охает, что никак не разогнется. А ведь
издревле известно: колдунья может
оборачиваться свиньей или собакой —
и донимать человека...
Другой, более суровый образ кол-
дуна. Рассказывают: недавно-де жили
или живут еще в соседних деревнях
(никогда в своей) чародей. Они,
конечно, таятся, но добрые люди
знают верные способы их обнару-
жить. Скажем, собираются к кому-
нибудь гости, а среди них — предпо-
лагаемая ведьма. Бдительные хозяева
ставят в дверях веник вверх прутьями
или втыкают в притолоку иглу: как
идти по домам, все выйдут, а ведьма
замечется, не сможет в дверь пройти.
Говорят, чародея невозможно
убить. Ходят рассказы о том, как
«в одного стреляли, а он пули хватал
и в стрелявших же кидал». Сама
смерть колдуна, по суеверным пред-
ставлениям, отличается особой тя-
жестью. Чтобы облегчить страдания,
даже поднимают крышу — помогают
выйти грешной душе. Мучения про-
должаются, пока не «передаст» чаро-
дей свою «силу».
Как видим, в рассказах жив тради-
ционный образ колдуна-изгоя. В час
смерти к нему опасаются подходить
даже родственники, чтобы — не дай
бог! — по неосторожности не принять
на себя «силу». Считается, что чаро-
деем можно стать поневоле, по
неосторожности, и добровольно.
Практически стерся в народной памя-
ти третий способ — «по рождению»,
который раньше столь часто бытовал
в рассказах о колдовстве.
Образ современного колдуна смяг-
чен. Настоящие злодеи ныне ред-
кость. Колдунов отличает не столько
мрачное вредительство, сколько
прочно укоренившаяся (при этом поч-
ти бессмысленная) «вредность». Яр-
кая фигура чародея, варящего зелье
и творящего пагубные заклинания, все
больше уходит в сказку. «Свиде-
тельства» же сохраняют представле-
ния о «специалисте», «сила» которого
может быть направлена смотря по
обстоятельствам и во вред и на
пользу.
Среди таких «специалистов» не
принято признаваться в своем ред-
костном даровании. А призванный на
помощь, он пошепчет что-то так,
чтобы никто не расслышал. Но без
помощи не оставит. Не возьмет платы
за лечение, в крайнем случае —
примет, что дадут, всегда с благодар-
ностью. Стороннему исследователю
такие «специалисты» практически не-
доступны, но есть старушки-знахарки,
не чуждые заговариванию, но заго-
воры особо не оберегающие. Они
и становятся основными информато-
рами фольклористов
Знахарки_________________________
Знахарка отыскивалась почти в каж-
дом селе. Не всякая, однако, автори-
тетна. Популярность знахарки в наше
время, как правило, зависит от вещей
чисто светских. Если знахарка дружит
с первой на селе песельницей, а сама,
доживя до семидесяти лет, может
проплясать до ночи, то и знают ее
многие, и отношение доверительное.
А другая жалуется: «Я людей и скоти-
41
нушку лечу, а меня соседи колдуньей
называют!» Но порасспрашиваешь и
оказывается, что соседям «колдунья»
до смерти надоела не «черной ма-
гией», а занудными поучениями...
Колдун старого закала знал толк
как в заговоре болезней, так и в деле
порчи, сглаза. Нынешние знахарки
ориентируются в этом слабо. Доходят
отрывочные свидетельства, что якобы
в принципе можно «ответить», то есть
напустить порчу на вредителя-колду-
на. Но обычно бабушки только лечат
от порчи. Кидают уголек в воду и со
словами: «Тьфу, тьфу, тьфу на все
глаза»,— умывают «пострадавшего».
Иногда определяют, кто сглазил —
мужчина или женщина. Для этого
кидают два уголька, приговаривая:
«Господи Иисусе Христе, первый
уголь мужской, второй женский, ка-
кой зашипит, тот и сглазил». Но за
этим «узнаванием» ничего не следует,
никаких контрмер. Знахарство остает-
ся в пределах «белой», целительной
магии
Кому передать «науку»?
В прошлом проблема передачи
чародейской «науки» — и непремен-
но передачи в «неслучайные руки» —
стояла остро, но и решалась просто:
традиция хранилась в семье. Опи-
раясь на косвенные свидетельства,
можно допустить, что среди «спе-
циалистов» законы передачи живы
и Поныне. «На поверхности» же мно-
гое изменилось. Старушка-знахарка
живет в обычной семье, где пре-
емственность заговорного знания дав-
но не воспринимается как желанное
и ценное. То, что хранитель заговоров
может мучиться при смерти, вообще
никому в голову не приходит. Старуш-
ку ничто не пугает, и сама она не
считает «передачу» долгом: получит-
ся — хорошо, а нет — так нет. Много
знающая, но регулярно осмеиваемая
бабушка не будет лишний раз напоми-
нать о своем умении, тем более
сопровождать слова какими-то
действиями. Дочь, осмеивающая суе-
верную старушку, может в трудную
минуту обратиться к ней за помощью
и даже попросить научить «на всякий
случай», но воспримет «науку» без
тонкостей и «стиля», отличающих за-
говаривание матери^
Присушка:____________________
«черная» или «белая»?
Проводник в мире «черной ма-
гии» — это, конечно же, присушка —
любовный заговор. Мир присушек
сумрачен и неспокоен. Это царство
Стихий — Ветра, Огня и иных «по-
мощников» типа «Дымов» и «Тоски».
Они должны снять страдание с «раба
божьего» («рабы») и вложить в винов-
ника (виновницу), зажечь «душу и те-
ло», «думу и помышление». Заклина
тель обращается к «помощнику» (Тос-
ке) с просьбой: подробно перечис-
ляются состояния, которые нужно
передать .предмету любви, чтобы тот
не «мог... ни жить, и ни есть, чтобы не
было ему спокою, чтобы думал все,
скорбел...» Напасти вроде бы должны
отступить, если желанный полюбит
кого следует. Время не смягчило
любовный заговор: «Ступай к рабу
божьему,— просят Тоску,— зажги в
нем семь и семь жил, семь и семь
поджил и войди... в плоть, похоть
и ярость, чтоб раб божий тосковал
и горевал о рабе божьей...»
Просьба по-прежнему занимает
важнейшее место, и значение ее не
уменьшается. Помолясь и перекрес-
тясь, заклинатель выходит в «чисто
поле», где стоит «изба железная
тоскует тоска тоску чая, сухота сухоту-
чая». А высказав просьбу, закрепляет
заговор «семь семь замками и семь
семь ключами» и кидает его в «океян-
море, под бел-горюч Алатар-камень»
со словами: «Кто перетаскает со дна
моря песок, тот отгонит тоску». Такая
композиция — ярко выраженный эпи-
ческий зачин, просьба, четкая закреп-
ка — способна привести в восторг
любого фольклориста, мечтающего
обнаружить следы традиции это
классика! Лишь одно омрачает ра-
дость: для присушки здесь многое не
характерно, а напоминает, скорее,
заговоры лечебные или обереги. За-
чин и закрепка развернуты и, можно
сказать, имеют «собственное лицо» —
свои образы, причем пришедшие,
скорее, из заговоров «белых»: «изба
железная», «бел-горюч Алатар-ка-
мень».
Можно предположить, что тексты,
используясь редко, подзабыты стари-
ками и менее актуальный заговор
воспринял образы более жизнеспо-
собного— скажем, лечебного.
Интересны любовные заговоры, за-
писанные от яркого, необычного ис-
полнителя. Вот знахарка, активно
лечащая и поныне, сохранившая осо-
бое отношение к своим знаниям. Мое
внимание привлек не столько текст ее
присушки, сколько комментарий.
Текст обычен: «Болело бы сердце
у раба Ивана о рабе Наталье и день
и ночь, и глухую полночь...» Интерес-
но пояснение знахарки: «Я делаю,
чтобы к жене а наоборот — это
грех». Что же это за присушка,
действующая «строго по уставу»? Зна-
харка поясняет: измена мужа, по ее
мнению, несчастье, сродни болезни
близкого человека. А раз так — надо
лечить. Удобнее это делать жене. Она
может дать ему наговоренную воду
или вино, следовать незаметно за
ним, втыкая в то место, где он
останавливался, двенадцать иголок
кверху концами со словами: «К рабе
имярек концом, а к рабе имярек
кольцом». Племянница знахарки ут-
верждает, что средство — эффектив-
ное...
Что же получается? Мы хотели
проникнуть в мир «черной магии»
с помощью записанных «черных»
текстов — присушек. Но как оказа-
лось, «черный текст» и «черная ма-
гия» не одно и то же. Цели и тексты
присушек заметно «побелели».
Форма и содержание
То, что старушка-знахарка верит
в слова — очевидно. У истовой чаро-
дейницы есть свой «стиль», иначе
говоря — свой «творческий» подход.
Но о каком творчестве, собственно,
может идти речь, если текст заговора
традиционен? О чем свидетельствует
разнообразие вариантов — о разру-
шении или о развитии «жанра»? Не
склоняясь ни к одному из мнений,
присмотримся к лечебным заговорам.
Как лечил от грыжи знахарь в про-
шлом? Грыжу испокон веков как бы
«загрызали» через платок. Существу-
ет мнение, что когда молчаливое
действие перестало быть понятным,
его стали сопровождать словами. Па-
циент: «Что грызешь?». Знахарь:
«Грыжу». Пациент: «Грызи, чтоб век
ее не было».
Как в любом заговоре, здесь есть
пожелание. В основе лежит убежде-
ние, что к болезни можно обращаться
с просьбами и приказаниями. Считают
ли так старушки сейчас — трудно
сказать. Но характерная для этого
заговора форма диалога в боль-
шинстве случаев сохраняется. Именно
на этом мы и остановимся.
Что известно о заговоре «на
грыжу»? Он связан с действием,
и в нем активно участвуют двое —
«загрызающий» и отвечающий на его
вопросы пациент. Казалось бы чего
проще — сохраняется основная фор-
ма — и отлично. Но если попробовать
выбрать «лучший» (самый богатый
для фольклориста) текст, то сразу
покажется, что с заговором что-то
происходит. Вот несколько внешне
«классических» заговоров, но они не
сопровождаются действиями. Вот
другие — тоже «не новые»,— но в них
форма диалога есть, а произносит
слова... один человек! Выходит, что
«лучших» нет! Тогда будем искать
«худший». Что может быть хуже для
заговора, исконно связанного с
действием и диалогом, как не утрата
действия и превращение в монолог?
Вот она, эта группа «неудачников»:
и действия у них нет, и участник один.
И вдруг внимание привлекает су-
щественная особенность — молит-
венный мотив: «Во имя Отца и Сына
и Святого Духа. Аминь». — «Грызи
грыжу». —'«Я грызу. Чтоб век-повек
ее не было».
Случайные наблюдения начинают
выстраиваться. И тогда в ином свете
предстают заговоры, в которых нет
даже диалогов и которые вначале
посчитали за позднее недоразуме-
ние — заговоры-молитвы на грыжу:
42
«Грызу-загрызаю. Во имя Отца и Сына
и Святого Духа. Аминь. Спаси, Госпо-
ди, и очисти, и помилуй согрешившую
рабу божью имярек, отпусти грыжу».
Самого «загрызания» здесь почти или
совсем нет. Это понятно: в молитве
главное — просьба, а не действие и не
слова, его изображающие. Может,
появление молитвенного мотива и ве-
дет к разрушению диалога, к уходу
одного из участников, к полному
исчезновению действия? Значит, со-
держание заговора «на грыжу» мож-
но считать разрушенным?
Как знать... Нельзя не учитывать,
что молитвенный мотив развился не
сегодня, а довольно давно, он заме-
нял в тексте утра^рнные слова, но не
разрушал заговор.
Можно предположить: если мотивы
и образы прошлого доходят до наше-
го времени, это еще не означает, что
воспринимаются , они по-прежнему.
Раньше поэтические особенности за-
говорного текста не были «слу-
чайными», что осознавалось «знатока-
ми». Потому и мотивы заговоров
«черных» и «белых» не смешивались.
Теперь, как правило, сила признается
за заговорным ^текстом в целом,
а внутри отдельных мотивов могут
происходить неожиданные, с точки
зрения прошлого, перемены. Логика
понимания заговорных текстов значи-
тельно изменилась.
Заговоры продолжают жить и поль-
зоваться известным доверием. Мно-
гочисленные свидетельства (былич-
ки) о колдунах явно указывают на
существование системы представле-
ний, поддерживающих этот «жанр».
Но силы «черпает» он из иных источ-
ников. Проследив за процессами,
происходящими в текстах, можно
предположить, что одним из таких
источников стало сближение заговора
со... средствами народной медицины.
Информация, хроника
УЧАТСЯ ВРАЧИ
Завершен учебный год в университете
атеистических знаний для медицинских
работников при Центральном Доме науч-
ного атеизма. По традиции его слушатели
встретились с редакцией нашего журнала.
Обсуждая насущные проблемы атеисти-
ческого воспитания, они выделили публи-
кации, которые затрагивают их профес-
сиональный интерес,— критический раз-
бор А. Черняховским книги американского
психиатра Р. Моуди «Жизнь после жизни»,
репортажи Н. Бианки из центра микрохи-
рургии глаза, очерк Т. Грековой о хирурге
и священнослужителе В. Ф. Войно-Ясенец-
ком, повести Т. Успенской «Шаман» и
В. Харазова «Ведьма».
С интересом было встречено сообщение
о выходе тематических номеров «Медици-
на и религия». Высказано пожелание чаще
публиковать рассказы об опыте меди-
ков — пропагандистов атеизма.
ПРОДОЛЖАЕМ ОБСУЖДЕНИЕ НАСУЩНЫХ ЗАДАЧ АТЕИСТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ. ВЫСТУПИВШИЕ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ В ЖУРНАЛЕ УЧЕНЫЕ,
ПАРТИЙНЫЕ РАБОТНИКИ, ПРОПАГАНДИСТЫ СОГЛАСНЫ В ТОМ, ЧТО ОНА
НУЖДАЕТСЯ В ПЕРЕСТРОЙКЕ, ОДНАКО НЕ ВСЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ЕЕ СЕБЕ
ОДИНАКОВО. СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ ВЫСКАЗЫВАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ДИРЕКТОРА МЕЖРЕСПУБЛИКАНСКОГО ФИЛИАЛА ИНСТИТУТА НАУЧНОГО
АТЕИЗМА АОН ПРИ ЦК КПСС (В Г. ТАШКЕНТЕ) ДОКТОР ФИЛОСОФСКИХ НАУК
И. А. МАНАТОВ.
о
и
ф
е
О
к
№
л
ф
я
КАК ОЦЕНИВАТЬ
РЕЛИГИОЗНУЮ СИТУАЦИЮ?
Первое условие перестройки — объективный анализ рели-
гиозности населения. По моему мнению, мы оцениваем ее часто
неправильно. Я отметил бы здесь две противоположные тенден-
ции. Одна из них — явное приукрашивание ситуации. К примеру,
в Талды-Курганской области Казахстана и в Кабардино-Балкарии, -
где я недавно побывал, мне уверенно объясняли; что сегодня
лишь отдельные пожилые люди находятся под влиянием ислама,
а молодежь, если иногда и принимает участие в мусульманских
обрядах, то не по убеждению, а лишь не желая обидеть стариков <
Не приняв на веру эти утверждения, мы с помощью местного
актива провели анонимный опрос в молодежной бригаде совхоза
«Кызылтан» этой области Казахстана. Из 29 молодых людей
коренной национальности 30 процентов определенно назвали
себя верующими. После опроса к нам подошли несколько парнёй
и девушек и поблагодарили за оказанное внимание: «Никто до сих
пор не интересовался нашим мнением по этим вопросам...
Спасибо, проявили к нам такой интерес».
Если бы подобный интерес проявили идеологические работни-
ки области, они вряд ли стали бы говорить о «массовом отходе».
Оценка ситуации этими товарищами далека от истинного
положения дел.
Другая тенденция, бытующая среди ряда ученых и практичес-
ких работников,— явное преувеличение уровня религиозности
и роли религиозных общин и духовных лиц, особенно представ-
ляющих современный ислам. Основанием для таких выводов чаще
всего служит число участвующих в религиозных обрядах,
сведения об увеличении доходов мечетей, некоторые другие.
Но только эти данные не позволяют получить исчерпывающую
характеристику религиозной ситуации — ведь она. включает
в себя, помимо обрядности, много компонентов. Вот почему я не
могу согласиться с заявлением доктора философских наук
А. Турсунова в его статье в «Правде» (16 января 1987 г.) о том, что
«кое-где в стране имеет место рост религиозности населения» —
оно не подкреплено серьезными социологическими материалами.
Обе отмеченные тенденции дают искаженную картину (
религиозности. Источник их ошибочности один и тот же —
путанная методика проводящихся конкретно-социологических
исследований. У нас часто за эту трудоемкую и очень непростую,
я бы сказал, тонкую работу берутся люди, понятия не имеющие об
элементарных требованиях к такого рода исследованиям. В ре-
зультате вместо объективной информации нередко происходит
дезинформация партийных и советских органов, общественных
институтов, делаются неверные выводы.
В Бухарской области Узбекистана по инициативе комсо-
мольских организаций для определения степени и характера
религиозности опросили 25 тысяч юношей и девушек. И вот из
такого огромного числа опрошенных молодых людей только
35 человек заявили о своем признании религии (то есть 0,06 про-
цента. — И. М.), «причем 16 человек не могли объяснить причину
соблюдения религиозных обрядов, 76 человек придерживаются
позиции нейтралитета». Из этого опроса делается вывод:
у молодежи «вера в религиозный дурман утрачена, а вот сила
старых привычек осталась»1.
Примерно в то же время был проведен опрос студентов
политехнического, текстильного, педагогического институтов
г. Ташкента. Что же он показал? А вот что: «60 процентов опро-
шенных по разным причинам соблюдают религиозные обряды
и ритуалы». Из этих данных и делается вывод: религия — один «из
главных элементов механизма социального торможения»2.
Можно ли считать данные как первого, так и второго опросов
«представительными»? Ни в коем случае. Совершенно очевидно.
43
что они проводились методами, ничего общего с наукой социоло-
гией не имеющими.
Подобные исследования бессмысленны, более того, вредны.
Если мы хотим знать истинную картину религиозности населения
в районах традиционного распространения ислама, надо прово-
дить конкретно-социологические исследования по специальным,
научно проработанным методикам Чтобы их составить, необходи-
мо решить, по крайней мере, несколько первостепенных
проблем. Мы забываем, проводя свои научные изыскания, что
в жизни нет вообще верующего или религии, а есть
конкретный верующий или конкретная религия Сколько раз
приходилось убеждаться, что мусульманам, да и многим
неверующим коренных национальностей, ничего не говорят такие
абстрактные категории, как «верующий», «бог», «религия»,
«духовенство», «сверхъестественные силы», «религиозные пред-
рассудки» и т. д. Но когда мусульмане слышат: «мусульманская
вера» (дин), «Аллах» и т. д., они реагируют на вопросы совсем
иначе, ибо эти слова означают и х веру, это касается и х жизни.
Без разработки понятийной лексики, учитывающей особеннос-
ти национальных языков, невозможно получить достоверную
социологическую информацию о религиозной обстановке в горо-
де, селе, коллективе, а значит, нельзя серьезно подойти
к атеистическому воспитанию в районах традиционного
распространения ислама.
Представительность социологических исследований не может
быть обеспечена одними лишь анкетными опросами. Необходимо
сочетание разных методов и форм сбора социологической
информации: программированное или непрограммированное
интервьюирование, собеседование, наблюдение, изучение соот-
ветствующих документов, анкетирование, учет мнения специалис-
тов и экспертных оценок социологов, пропагандистов, лекторов-
атеистов, партийных, советских, комсомольских и профсоюзных
работников, занимающихся атеистическим воспитанием, и т. д.
И такая еще очень важная проблема — критерии религиознос-
ти и атеистичности человека. Сегодня мы не можем сказать, что
они у нас достаточно разработаны. В свое время (в конце
60-х годов) Институт научного атеизма АОН при ЦК КПСС
предложил типологию религиозности. Были установлены общий
методологический принцип исследования религиозности —
единство сознания и поведения, приемлемая в целом методика
репрезентативности и «замера», анализа социологической инфор-
мации применительно к разным районам страны. Но прошло
более четверти века, произошли заметные перемены как во
внутренней структуре религиозности человека так и в мотивах ее
обоснования (скажем, явно усилилась национальная ориентация),
расширился также диапазон религиозно окрашенных форм
поведения людей и т. д. При этих условиях прежние категории
нуждаются в обновлении.
В КАКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ ВЕСТИ
НАУЧНО-АТЕИСТИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ?
С сожалением мы констатируем, что у нас нет фундамен-
тальных работ, глубоко анализирующих сознание современных
верующих-мусульман. Нет даже серьезных подходов к этой
актуальной проблеме. Наш филиал сейчас начал всестороннее
исследование темы: «Ислам, верующий, современность». К ее
разработке уже приступили известные ученые, но мы приглашаем
принять в ней участие всех, кого научные или литературные
интересы могут привлечь к этой проблеме.
Перестройка научно-атеистической работы невозможна без
решения многих организационных и иных вопросов, связанных
с жизнью религиозных общин, с положением верующих. Думаю,
они не решаются и потому, что недостаточно исследованы нашей
наукой особенности их функционирования, не осмыслен вопрос:
а как тут, на деле, осуществляется положение о свободе
совести — в применении теории к практике, а также с юридичес-
кой стороны.
На Северном Кавказе, например, уже четверть века дискути-
руется вопрос о правомерности существования мюридских групп.
Идеологические и советские работники зачисляют все эти группы
без разбора в разряд экстремистских и противятся на этом
основании их регистрации. Тем временем группы эти вполне
легально осуществляют свои функции, а попытки противэпостав-
лят» им лишь административные меры затрудняют проведение
воспитательной, атеистической работы среди мюридов. Более
того, на практике эти методы привели к почти полному отчужде-
нию мюридских групп не только от атеистов, но и от обществен-
ной жизни.
Между тем наше законодательство не запрещает существова-
ния сект и религиозных общин, запрещена лишь определенная
деятельность — какая именно, это четко обозначено в законе. Вот
из этого и следует исходить при перестройке и пересмотре наших
привычных установок в отношении гех мюридских общин,
которые в своем функционировании готовы не выходить за
пределы удовлетворения релит иозных потребностей.
Необходимы научно обоснованные, методически взвешенные
практические рекомендации по организации атеистического
воспитания, они у нас отсутствуют. Часто люди, ответственные за
нее, плохо представляют себе особенности этого участка
идеологической работы. У нас все еще употребляются слова
«противники», «чуждые элементы», с верующими и духовенством
ведется «борьба», против них открывается «фронт» А ведь
у атеиста нет другой цели, как защитить верующего от вредного
влияния религии, помочь ему найти правильные ориентиры
в жизни. Методика нашей атеистической работы пока еще не
сопрягается с этими целями, ее необходимо перестраивать, и это
должно быть одним из важных направлений атеистической науки.
Нам надо выработать правильное отношение к религии.
Известно, что длительное взаимодействие этнических и рели-
гиозных компонентов в историческом развитии народов обуслов-
ливает глубокое проникновение религии, в том числе и ислама,
в их национальную психологию. Религия охватывала почти все
области общественной и личной жизни людей: политику
культуру, традиции и обычаи, бытовые и семейно-брачные
отношения и т. д.
Поэтому вполне понятно, что многие сохранившиеся обряды,
праздники и традиции, которые мы в основном выделяем как
национальные, не свободны от религиозных элементов. Их надо
высвобождать не только от ислама там, где он обнаруживается, но
и от доисламских этноконфессиональных наслоений, если они
противоречат советскому образу жизни. Незнание или игнориро-
вание этих особенностей создает путаницу и разноголосицу
в оценке не только религиозных, но и популярных у народов
календарных обрядов и праздников. Так было до недавнего
времени с праздником навруз, сохранилось к нему отрицательное
отношение кое-где и сегодня.
Надо искать пути воспитания сознательного отношения
к национальной истории, к месту и роли в них религии и атеизма.
Критерием подлинно национальных традиций, обычаев, обрядов
всегда был их общечеловеческий, гуманный характер, их
эмоционально разумная напоавленность.
В прошлом исламскую мотивацию у народов приобретали
исторические события, факты, явления (да и сейчас это заметно
у значительной части населения, причем не только у верующих).
Сегодня, с ростом национального самосознания народов, усили-
вается их интерес к своему прошлому, и это естественно
уважение и любовь к национальной культуре, к славным страни-
цам своей истории, к родному краю — важный момент осознания
принадлежности к определенной нации, народу. Естествен при
этом и интерес к религии — ведь история была тесно связана
с теми или иными ее формами И мы не можем обойтись, если
хотим положительно влиять на эти процессы, без исследова-
тельских работ историков, востоковедов, этнографов, археологов,
медиков, литературоведов, лингвистов, литераторов.
Отсутствие обобщающих совместных разработок на стыке
разных областей наук отрицательно сказывается на содержании
атеистического воспитания, а в районах традиционного
распространения ислама ведет к известному разрыву исламове-
дения и научного атеизма.
Поэтому одной из важнейших предпосылок повышения
эффективности атеистического воспитания является «раскрепо-
щение» научного атеизма от узких рамок профессионализма.
Большую помощь здесь могут оказать центральные и республи-
канские институты востоковедения
Перестройка атеистического воспитания только разворачи-
вается. Многое мы не осознали, недооценили. Поэтому надо
всячески приветствовать и поддерживать серьезные дискуссии по
перестройке и совершенствованию этой работы
44
ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО
Поиски духовной опоры
Е. ЗАВАДСКАЯ,
доктор философских наук
«Сон разума рождает чу-
довищ»,— утверждал вели-
кий Гойя, любимый художник
одного из самых знаменитых
мастеров XX века — испан-
ского живописца и графика,
эссеиста и дизайнера Саль-
вадора Дали (родился в
1904 г.). Думается, эта глу-
бокая формула Гойи может в
известчой степени быть клю-
чом, открывающим тайны
«загадочного», «мистическо-
го», «фантастического», как
его называют, маэстро Дали.
В начале 1920-х годов он стал
одним из зачинателей сюр-
реализма, а впоследствии не
без основания говорил:
«Сюрреализм — это я».
Новое искусство утвержда-
ло преобладание сновидений
и бессознательного над ра-
зумом и познанием. В кар-
тинах Дали обрели зримую
плоть категории «бессозна-
тельного» (К. Юнг), «подсо-
знания» (3. Фрейд), «агонии
бытия» (М. Унамуно). Хаос
образов, парадоксальное
смещение смыслов, которы-
ми наполнены работы Дали,
выражают «безумие» мира
сего, пораженного жестоко-
стью и извращенной чувст-
венностью. Лишь война и эро-
тика, по мнению Дали, вол-
нуют людей. Вместе с тем
художник бросает вызов са-
модовольству здравого
смысла, безвкусице массо-
вой культуры, всеядному гур-
манству толстосумов.
Чтобы хоть как-то органи-
зовать этот бессмысленный,
абсурдный поток бытия, вос-
создать образ мира, где все
подвержено разложению,
художнику необходима ог-
ромная сила трезвого ума.
«Единственная разница меж-
ду мной и сумасшедшим за-
ключается в том, что я не
сумасшедший»,— скажет Да-
ли. «Параноидально-крити-
ческим» назовет он свой
творческий метод, подчер-
кивая этим определением,
что сознание пораженного
тяжким недугом мира пове-
ряется трезвым критическим
умом. Сомнение в реально-
сти реального, как говорил
теоретик сюрреализма
А. Бретон.
«Живопись,— утверждает
Дали,— это ручная фотогра-
фия конкретной иррацио-
нальности и воображаемого
мира вещей». Художник дол-
жен достоверно запечатлеть
свои сновидения, так как
именно эта не контролируе-
мая ничем извне, спонтанная
жизнь человеческого «Я»
представляется художнику-
сюрреалисту подлинной ре-
альностью. Парадоксальное
соединение ирреального и
натуралистического — одно
из кардинальных свойств ис-
кусства Дали.
Еще одна его особен-
ность — упование на «слу-
чай», непредсказуемость и
«чудо», которые только и мо-
гут как-то соединить несоеди-
нимое: достоверность и вы-
мысел, «поэзию и правду».
Вот картина «Искушение свя-
того Антония». Она написана
по просьбе кинорежиссера-
авангардиста Луиса Бюнюэля
как эскиз для задуманного
им фильма по роману Мопас-
сана «Милый друг». Фигуры
лошадей, слонов, надвигаю-
щиеся на зрителя на отвра-
тительных паучьих ножках,—
олицетворение чувственно-
сти.
Композиции «хаоса» С. Да-
ли строго продуманы, он бли-
стательный «конструктор»
(Ф. Г. Лорка), в его полотнах
всегда строгая архитектони-
ка, внутреннее равновесие.
В то же время он создает
подлинно художественные
выразительные образы. Их
отличает красота линий, ди-
намичность рисунка. Я вспо-
минаю свою встречу с карти-
нами С. Дали в Галерее Тейт
в Лондоне Они красивы и
ужасны одновременно, их па-
радоксальность буквально
потрясает.
Каждая деталь больших по-
лотен, выписанных с тщатель-
ностью средневекового ма-
стера, подобна слову в текс-
те: если ее не понять, будет
ущемлен и смысл целого.
Нередко работы Дали содер-
жат «цитаты» из картин Сур-
барана, Эль Греко, Веласкеса,
Вермера и других мастеров.
Тесная связь живописи с те-
кстовой природой искусства
позволяет говорить о нем как
о «средневековом» мастере
и гем самым о связи его
творчества с религией. Его
картины как бы изобрази-
тельный комментарий к
«Апокалипсису»: здесь и «Ва-
вилонская блудница» —
прельщение плотью, и «Всад-
ник на рыжем коне» — ужа-
сы войны, и даже то, как «вре-
мени больше не будет».
Ф. Г. Лорка, в слове со-
здавший образы, близкие
живописи Дали, писал: «Я все
глубже чувствую талант Дали.
Он, по-моему, уникум; и у
него спокойствие и ясность
суждения в отношении того,
что он считает по-настояще-
му волнующим. Он ошибает-
ся — ну и что? Он живой. С
его обескураживающей детс-
костью соединяется его ост-
рейший ум в такой необыч-
ной смеси, совершенно не-
повторимой и чарующей. Что
меня всего больше трогает в
нем сейчас — это неистовст-
во его конструктивизма (чи-
тай — созидание), когда он
намеревается творить из ни-
чего и так напрягает свою
волю и бросается навстречу
шквалам с такой верой и с та-
кой силой, что кажется неве-
роятным. Нет ничего драма-
тичнее, чем эта телесность и
эти поиски жизни ради самой
жизни... ему надо держать
штурвал и нести веру в не-
бесную геометрию. Он трога-
ет меня. Дали вызывает во
мне такое же чистое чувство
(да простит меня наш Господь
Бог), как заброшенный в
Вифлеемском дворике
Иисус-младенец, под соло-
мой постельки которого уже
таится росток распятия».
Дали глубоко национален.
В его творчестве легко ула-
вливается влияние средневе-
ковой и более поздней испан-
ской живописи и философии.
Велико влияние Мигеля де
Унамуно (1864—1936), мы-
слителя, утверждавшего, что
«печаль» и «скорбь» — сви-
детельство зависимости лич-
ности от абсолюта, а «из соб-
ственного глубинного ничто
человек черпает новые силы,
дабы стремиться быть всем».
В огромном наследии
С. Дали — им создано около
1200 только станковых кар-
тин — менее десяти непо-
средственно религиозных
сюжетов. Среди них особен-
но известны «Христос святого
Иоанна на кресте», «Распя-
тие» и «Тайная вечеря».
«Христос святого Иоанна на
кресте» — это и Христос-Ло-
гос Иоанна Богослова («В на-
чале было Слово...»), и обра-
щение к современности.
Изображенное на картине
распятие представляет собой
увеличенный во много раз
крест, принадлежавший папе
Иоанну XXIII. Духовным ис-
каниям художника были
близки его миротворчество
и призывы к объединению
церквей. Распятие возносится
над всей землей, красивой и
спокойной. Тихое озеро, ры-
баки у берега, прекрасный
дворец вдалеке — это из-
вестные евангельские обра-
зы, но они и символы храни-
мой жизни. Светлый тре-
угольник, в который вписано
распятие, пронзает сонную
успокоенную мглу — это свет
мира.
«Распятие», или «Восьми-
гранные гиперкубы», раскры-
вает другую грань в духов-
ном пути художника — его
веру в жизнеутверждающую,
даже можно, пожалуй, ска-
зать, спасительную силу со-
вершенной формы сакраль-
Продолжение на 3-й с. об-
ложки.
45
Е. ЛАЗАРЕВ.
ЧАША И ЗМЕЯ
Чаша, обвитая змеей,—
эта эмблема медицины встре-
чается в быту настолько ча-
сто, что мы редко задумы-
ваемся над ее смыслом или
воспринимаем ее буквально
как чашу змеиного яда. Но
змеиный яд по-настоящему
привлекает внимание меди-
ков только с XVI века. Сам
же символ восходит к гораз-
до более ранним временам,
можно сказать, к глубочай-
шей древности. Диапазон его
значений очень широк.
Чеша жертвенного подви-
га, чаша яда, испитая во имя
мира, уже тысячи лет оза-
ряет мифы самых разных на-
родов. Не менее известен и
образ чаши, наполненной
«живой водой», напитком
бессмертия: чаша сомы (или
хаомы) индоиранской мифо-
логии, чаша Будды, бирюзо-
вая чаша Джемшида пер-
сидских сказаний, чаша Гра-
аля. Этот оттенок символи-
ческого значения чаши бли-
зок идее врачевания.
Змея нередко восприни-
мается как символ зла. Одна-
ко подобное толкование ми-
фологического образа змеи
излишне прямолинейно
Опасных для человека живот-
ных древние часто изобража-
ли на амулетах для отпуги-
вания злых сил (вспомним,
например, древнерусские.
медальоны-змеевики: с од-
ной стороны образ христиан-
ского святого, с другой —
змееголовые чудовища).
Змея, оберегающая чашу
жизни,— так можно истолко-
• Чаша со змеей — совре-
менная эмблема.
вать и медицинскую эмбле-
му.
Но нить ассоциаций на этом
не обрывается. Змея в мифо-
логии обычно связывалась с
представлениями об изна-
начальном хаосе, «первичном
океане»; со времен матриар-
хата змея символизировала
женское начало, а с ним
сокровенную мудрость. Чаша
тоже выступала символом
материнского лона, храняще-
го субстанцию вечной жизни,
вечного возрождения. Таким
образом, чаша, обвитая зме-
ей, предстает троекратно
повторенным «женским»
символом чаша, змея и «жи-
вая вода».
Яркое поэтическое соот-
ветствие этой древней мифо-
логеме встречаем в извест-
ном стихотворении Алек-
сандра Блока «Снежное-ви-
но». Возможно, это интуитив-
ная находка, но интуиция
А. Блока близка мифологи-
ческому видению мира. К
тому же известен глубокий
интерес поэта к мифологии,
можно вспомнить и его ис-
следования посвященные
этой теме. Но так или иначе,
вот эти строки:
И nt' смеешься дивным
смехом.
Змеишься в чаше золотой.
И над твоим собольим
мехом
Гуляет ветер голубой
А. Блок вводит, как видим,
дополнительный образ —
«ветер голубой», который ви-
тает над чашей. Вспомним,
что в ветхозаветной легенде
над изначальными водами но-
сится «Дух Божий». Но тот ли
это образ, что у Блока? Не
совсем. Хотя в древнееврей-
ском слово «дух» женского
рода. Пожалуй, блоковский
«ветер голубой» некоторым
образом оказывается не го-
лубем в традиционной хри-
стианской символике Духа,
а Голубкой, то есть еще од-
ной гранью женского начала.
Мужским началом, необхо-
димым для возрождения
(или рождения мира, а это
в мифе — почти совпадаю-
щие понятия), в мифологии
чаще всего является солнеч-
ный луч, который падает в ча-
шу, в плодоносное лоно вод.
Так понимали символику ча-
ши в Древнем Египте. Сол-
нечный луч был обозначен
средней частью двудонного
кубка, связывавшей полу-
сферы неба и земли, которые
образуют чашу.
В этом сакральном союзе
каждый образ имеет двойст-
венную природу и сам же
воплощает идею слияния
двух начал: женского и муж-
ского. Змея в мифопоэтичес-
ком мышлении легко заме-
няется змеем. Этот мотив мы
находим в стихотворении
Владимира Соловьева «Песня
офитов»:
Чистой голубке
привольно
в пламенных кольцах
могучего змея.
Сходные мотивы звучат и
в индуистских мифах о муд-
ром змее Hare и птице Гару-
де, об их извечном противо-
стоянии, и в русских народ-
ных стихах о «мудрости зме-
иной, целости голубиной».
Содержимое чаши пред-
стает то сияющей влагой, то
юным солнечным богом
Египта или Индии в женст-
венной чаше лотоса. И творя-
щая сила солнца, душа Ра —
это птица Феникс, пламенная
Голубка, что нисходит в сол-
нечном луче.
В этих символах заключен
и один из универсальных за-
конов любого творчества.
Без земной «премудрости»
невозможна реализация ду-
ховного, «голубиного» за-
мысла. Если отлетает «Го-
лубка» сжимаются кольца
«змеиной мудрости» и сокру-
шают созданное. Лишь их со-
юз — залог вечного созида-
ния, возрождения, исцеле-
ния.
ПОСОХ И КАДУЦЕЙ
Пожалуй, древнейшее из-
вестное нам произведение
искусства с символами вра-
чевания — кубок шумерско-
го правителя Гудеа (XXII в.
до н. э.). На кубке из зелено-
го камня — рельефные изоб-
ражения двух змей. Они из-
виваются одна вокруг другой
и одновременно вокруг жез-
ла. Их охраняют два крыла-
тых чудовища.
Жезл, обвитый двумя зме-
ями — это кадуцей, символ
единения стихий неба и зем-
46
ли. В античные времена он
становится атрибутом Герме-
са (Меркурия) — покровите-
ля торговли, скотоводства,
красноречия; вестника богов,
а главное — врачевателя. В
течение веков этот символ
претерпевает многие изме-
нения. К XX веку кадуцей
остается преимущественно
символом процветания, со-
гласия, успеха в коммерчес-
ких делах. В медицине его
вытесняет посох бога-враче-
вателя Асклепия, обвитый не
двумя, а одной змеей.
Полагают, что имя Аскле-
пий пришло к грекам из куль-
туры пеласгов — до греческо-
го балканского народа —
и означает «змеевидный
бог». Змея на его посохе,
вероятно, олицетворяет силы
природы, над которыми он
властвует.
Несмотря на различные от-
тенки значений кадуцея и по-
соха Асклепия, вряд ли есть
основания сомневаться, что
их основной элемент —
жезл — имеет общий источ-
ник. Вероятнее всего, этот
традиционный знак власти и
могущества изначально был
связан с фаллическим куль-
том. В индуистском искусстве
змея (или змеи) иногда со-
провождает лингам Шивы —
символ творческой энергии.
Жезл со змеями на кубке
Гудеа многие исследовате-
ли рассматривают как одно
из изображений космическо-
го, «мирового древа» —
символа, присущего мифоло-
гиям едва ли не всех народов
мира.
Космическое древо соеди-
няет три мира: подземный,
земной и небесный Какова
же связь между этим обра-
зом и медициной?
Мировое древо часто назы-
вают древом жизни. Уже в
этом кроется некоторый от-
вет на поставленный вопрос.
Но чтобы глубже донять зна-
чение космического древа,
обратимся к русскому фольк-
лору, в частности, к такому,
казалось бы, не очень серьез-
ному жанру, как загадки.
Обычно мировое древо
считается символом прост-
ранственным (разумеется,
здесь имеется в виду «про-
странство мифа»). Однако в
русских загадках прослежи-
вается и временной аспект
этого понятия. Единство про-
странства и времени — одна
из основ современной физи-
ки, но и древние мифотворцы
осмысливали его на уровне
представлений своей эпохи
Мировое древо выступает
как символ годичного круго-
ворота времени:
Выросло дерево
От земли до неба;
На этом на дереве
Двенадцать сучков...
Более того, мировое древо
олицетворяет и смерть:
На горе горенской
Стоит дуб веретенской;
Мимо дуба не пройти,
не проехать
Ни царю, ни царице.
Ни красной девице.
Ни доброму молодцу.
Определение «веретен-
ской» означает здесь при-
частность древа движению,
точнее движению времени:
на дуб садится «птица вере
теница» — солнце, управля-
ющее круговращением дней
и лет. Вселенское древо —
ось мироздания — простира-
ет свои ветви не только над
тайнами мироустройства, но
и над тайнами жизни и смер-
ти.
Жезл — образ древа, свя
завшего небо, землю и пре-
исподнюю, символизирует
власть над переходом из од-
ного мира в другой, а значит,
и возможность исцеления
Обладатель жезла, обвитого
змеей, как бы выступал носи-
телем «змеиной мудрости»,
постигшим законы времен-
ных циклов — от планетарно-
го годичного круговорота до
цикла человеческой жизни.
СВЕЧА И ФАКЕЛ
Огонь в представлениях
древних был очищающей и
животворной силой, не менее
могущественной, чем вода.
Известен образ чаши огня
Зороастра. Древнеиранское
понятие «Арта» — «Дух Ог-
ня» — означало также гармо-
нию мироздания. Эта зоро-
астрийская мифологема бли-
зка символике медицины:
ведь исцеление — это восста-
новление гармонии тела и ду-
ха человека. У древних гре-
ков горящий факел сопрово-
ждал изображения богов —
покровителей жизнй: Демет-
ры, Персефоны, Аполлона,
Асклепия
• Девиз
знаменитого
анатома
XVII в.
Ван-Тульпа:
«Служа
другим,
сгораю сам».
В эпоху средневековья фа-
кел переосмысливается как
символ просвещения, а в ме-
дицине его заменяет свеча,
христианский символ очище-
ния жизни и жертвенного слу-
жения Высшему Началу.
Пылающий факел или го-
рящая свеча, как и жезл, оче-
видно, связан с фаллической
символикой. И есть искуше-
ние расшифровать его как
образ мужского начала. Но
и этот символ (как и символы
змеи-змея, а также содержи-
мого священной чаши) ока-
зывается двойственным,
объединяющим мужское и
женское начала.
Напомним, что свеча в хри-
стианской символике — одно
из олицетворений Богомате-
ри. Так, на иконах «Успение»
свеча пылает, у ее смертного
ложа. В посвященном ей
акафисте она называется
«светоприемной свещой, су-
щим во тме явльшуейся».
Вспомним, кстати, и образ
пламенной Софии-Премуд-
рости, и образ Парвати —
супруги Шивы, которую часто •
изображают в ореоле живо-
творного огня. ,
Связь очистительной ог-'
ненной стихии с женским на-
чалом не случайна и, пожа-_
луй, более устойчива, чем,,
.связь с началом мужским.
Представление о Великой
Матери — хранительнице
жизни — гораздо древнее
патриархальных культов Аск-|
лепия и других богов-целитё-
лей.
Итак, медицинские симво-
лы — древние, глубокие и
многоликие — в своей’ осно-.
ве сводятся к идее восста-
новления нарушенной гармо-* 1
нии взаимосвязей человека
и мира, микрокосма и макро-
косма. В медицинской симво-
лике отразилась история раз-
вития представлений людей о
себе и окружающей природе.
Рисунки автора.
47
О САМОМ СЕБЕ
ш
in
О
О
С
S
ш
а
<
со
о
С
наиболее пессимистических рассказов Гер-
берт Уэллс. Или в той, в которую перенес
действие одной из своих маленьких драм
Морис Метерлинк (для нас эта фантасти-
Что
Я
Глава III
могу? Телепатия
...Автобус
грязь
месит.
Автобус филармонии
по лужам бежит.
На концерт к шахтерам
Едет Вольф Мессинг.
Наверное, без Мессинга
они не могут
жить...
Тучи над дорогой
залегли,
нависли.
Едет Вольф Мессинг,
Спокойствием лучась.
Шахтерские подземные
Подспудные мысли
Начнет он, будто семечки,
щелкать
сейчас...
Это стихотворение — я процитировал
только часть его — написал поэт Роберт
Рождественский. Он говорит в нем, что
я читаю чужие мысли
Так ли это?
Да, при некоторых условиях я восприни-
маю чужую мысль, чаще всего выражен-
ную в виде образов, обозначающих
действие или определенное место.
Мой друг, журналист и писатель Михаил
Васильев, с которым мне однажды дове-
лось провести несколько дней на его даче
под Москвой, тысячу раз задавал мне
вопрос:
— Скажите, Вольф Григорьевич, как это
у вас получается? Как вы это делаете?
Я знал, что его мучит не праздное
любопытство. Ведь он собирал тогда мате-
риалы для последнего тома своей серии
книг «Человек и Вселенная». Этот том
назывался «Человек наедине с собой».
Но что я мог ответить на его вопрос? По
существу ничего. Как это делается, я сам
не понимаю.
Только не подумайте, пожалуйста, что
я хочу представить свои способности чем-
то непознаваемым, сверхъестественным,
таинственным. Ничего сверхъестественно-
го или непознаваемого в них нет. Во
всяком случае, не больше, чем в любых
других способностях человека. Приведу
простой пример. Представьте себе, что вы
очутились в стране слепых. Ну, скажем,
в той, которую нарисовал в одном из своих
Продолжение. Начало в № 2, 5, 7
ческая страна или остров не символизи-
руют человечество; они нам нужны для
большей наглядности примера). Итак, в
этом мире слепых, где и не подозревают,
что такое зрение, вы — единственный зря-
чий. И дотошный научный популяризатор
настойчиво допрашивает вас:
— Неужели вы можете видеть пред-
меты, удаленные от вас на десятки, сотни
и тысячи метров? Невероятно! Ну, расска-
жите, как это у вас получается? Как это вы
делзете?
А теперь оторвитесь от этих страниц.
Закройте глаза. Откройте их. И попытай-
тесь объяснить этому дотошному писа-
телю, как это вам удается видеть...
Вот в таком же положении оказался
и я перед вопросом моего друга. Но вы
все-таки в лучшем положении, чем я. Вы
сможете объяснить своему собеседнику
физическую сущность видимых лучей,
рассказать о том, как работает глаз с его
линзой-хрусталиком и дном, на которое
проецируется изображение, поведать о
нервных окончаниях — палочках и колбоч-
ках, воспринимающих разницу в силе
освещенности и в длине волны. То есть вы
сможете сообщить ему то, что ряд поколе-
ний ученых на основе тысяч опытов
установил как объективную истину Ну,
а если вы уроженец страны слепых, где
никто научных опытов в области зрения не
ставил? Вот тогда вы окажетесь именно
в том положении, в котором оказываюсь я,
когда у меня спрашивают, как я восприни-
маю чужую мысль.
Не хочу сказать, что я — единственный
в мире человек, наделенный этими способ-
ностями. Отнюдь нет! Может быть, у меня
они выражены ярче, чем у других...
Я вспоминаю бесчисленные встречи
с самыми различными телепатами — от
тех, которые действительно в той или иной
степени могли воспринимать чувство, об-
раз, мысль, иногда слово индуктора, до
ловких мошенников, делавших вид, что они
обладают способностью телепатического
восприятия.
Не раз мне приходилось видеть такое
представление. На сцену выходят двое —
мужчина и женщина. Мужчине плотно
завязывают глаза черным платком. Деле-
гаты из публики поднимаются на сцену
и проверяют: да, повязка плотная, увидеть
через нее что-либо невозможно. Тогда
женщина идет в зал. Сеанс начинается.
Женщина останавливается у восьмого
ряда. В крайнем кресле сидит полковник
с четырьмя рядами орденских ленточек
и золотой звездой Героя Советского
Союза на груди.
Очень отчетливо, чтобы слышал весь
зал, женщина спрашивает:
— Кто рядом со мной?
Мужчина на сцене так же громко
отвечает.
— Военный...
— Уточните... Подумайте...
— Полковник...
— Род войск?.. Быстрее...
— Пехота!
— Точнее...
— Гвардейская пехота...
— До чего я дотронулась?
— Орденские колодки..
— Четче!
— Ленточка, означающая, что полков-
ник награжден орденом Красного Знаме-
ни...
— Сколько у него таких орденов?
Отвечайте не сразу... Считайте...
— Четыре.
— Правильно... А сейчас рядом с кем
я стала?
Диалог этот может длиться бесконеч-
но... Я смотрю на такой сеанс «чтения
мыслей» с двояким чувством. Во-первых,
мне, как и всем в зале, доставляет
удовольствие искусство, высокая натрени-
рованность «телепата» и его помощницы.
Точно гак же я с величайшим удовольстви-
ем наблюдаю манипуляторское искусство
хорошего фокусника, но эти очень ловкие
люди не обладают той принципиальной
честностью, которой в полной мере обла-
дает Дик Читашвили. Хватая на глазах
у изумленных зрителей прямо из воздуха
десять зажженных папирос. Дик не ут-
верждает, что они изготовлены из сол-
нечных флюидов. Наоборот, он готов
в любое мгновенье сообщить вам адрес
ближайшего табачного киоска, в котором
он их купил. Дик показывает фокусы —
и не скрывает этого. Он демонстрирует
свое искусство манипулятора, искусство,
доступное немногим. Он даже готов
открыть вам свои секреты — вы все равно
не сможете повторить его фокусов без
предварительной длительной тренировки.
А «телепаты», о которых я говорил, тоже
показывающие фокусы, не сознаются в
этом. Они утверждают, что демонстри-
руют телепатию. И мне досадно, что такие
«телепаты» компрометируют важное де-
ло.
Как делается описанный выше фокус?
У мужчины и женщины существует четко
разработанный код, с помощью которого
они разговаривают на глазах у всего зала.
В приведенном диалоге этот код гаков:
Слово:
Кто рядом
Уточните,
подумайте
Быстрее
Его кодированное
значение:
военный
полковник
пехота
48
Точнее
Я дотронулась
Четче
гвардейская
орденские колодки
орден Красного
Знамени
Отвечайте не четыре
сразу, считайте
(четыре слова)
Если бы, скажем, вместо слов «уточните,
подумайте», было сказано только «уточни-
те»— это означало бы воинское звание
«подполковник»; одно «подумайте» —
«генерал». Если бы вместо «я дотрону-
лась» женщина сказала «я коснулась», это
был бы «погон», «я прикоснулась» —
«звездочка Героя Советского Союза»
«прикоснулась я» — «головной убор» и
т- Д-
Возможности для передачи сведений
такого рода кодом,— учитывая, что ин-
формацию переносят не только слова, но
и их порядок, и паузы между ними,
и интонации,— практически неограничены.
Имея помощника, вы можете легко де-
монстрировать этот фокус (более подроб-
но он описан в книге знаменитого популя-
ризатора Я. Перельмана «Фокусы и
развлечения»). Только никогда не выдавай-
те фокусы за телепатию. Искусство фокус-
ника — великолепное искусство, и сты-
диться его не надо.
Пришлось мне как-то видеть и другое
представление, которое тоже выдавалось
за «чтение мыслей». На этот раз женщина
осталась на сцене, а мужчина спустился
в зал. И зазвучал диалог:
— С кем рядом я стою?
— Военный Полковник, награжден че-
тырьмя орденами Красного Знамени..
— А теперь рядом с кем?
— Инженер, он одет в серый костюм.
В руках у него вчерашняя газета...
— А теперь рядом с кем?
— Шахтер. С ним его очаровательная
молодая жена...
Диалог мужчины и женщины на этот раз
таков, что исключает возможность переда-
чи информации в вопросах. Но и это не
телепатия.
Женщина на сцене — ее лицо и губы
были скрыты темной накидкой — не про-
изнесла в течение всего сеанса ни одного
звука. И вопросы задавал и ответы давал
один мужчина. Он обладал тоже очень
редкой способностью — чревовещанием,
умением говорить, не двигая губами,
разными голосами да еще так, что почти
невозможно определить, откуда исходит
звук.
Чревовещание мне тоже кажется ред-
ким и интересным даром. Я с восторгом
смотрю на такие номера, как диалог
матери со своим ребенком-куклой, или,
наоборот, разговор крохотной девочки
с портретом своей прабабушки, или ска-
зочные эпизоды, когда фея беседует
с цветами, травами, деревьями... Если еще
текст глубок и остроумен — это велико-
лепно! И это, беса юрно, искусство. Только,
товарищи чревовещатели, не выдавайте
себя за телепатов.
В арсенале моих способностей имеется
и древнее умение приводить себя в со-
стояние каталепсии. Им великолепно вла-
деют, скажем, индийские йоги. У меня оно
проявилось еще в детстве и, как я уже
рассказывал, принесло мне мой первый
заработок. Каталепсия — это состояние
полной неподвижности с абсолютно
застывшими членами и абсолютной одере-
венелостью всех мышц. Когда я вхожу
в состояние каталепсии, меня можно
положить затылком на один стул, пятками
на другой — так, что образуется своеоб-
разный мост. На меня при этом может
сесть весьма солидный человек. Мне не
приподнять и на миллиметр над землей
этого человека в обычном состоянии.
А в состоянии каталепсии он может сидеть
на мне столько, сколько ему вздумается.
Я даже не почувствую тяжести его тела.
Вообще, я в это время почти ничего не
чувствую. Перестает прощупываться пульс,
исчезает дыхание, почти неуловимо би-
ение сердца.
И. П. Павлов объясняет такое состо-
яние — обычно оно наступает у нервных
людей при внезапном сильном волнении,
при истерии или под влиянием гипноза —
изолированным выключением коры голов-
ного мозга, без угнетения деятельности
нижележащих отделов нервно-двигатель-
ного аппарата. Я вхожу в это состояние
самопроизвольно, правда, после длитель-
ной самоподготовки: в течение нескольких
часов я собираю в единый комок всю свою
волю (в последние годы это свое умение
я очень редко демонстрирую). Но в годы
моей жизни в Польше самопроизвольная
каталепсия была почти обязательным но-
мером моих выступлений И мне не раз
приходилось встречать там своих подража-
телей, которые демонстрировали «ката-
лепсию» с помощью чисто механических
приспособлений.
В капиталистических странах очень
распространены так называемые ок-
культные «науки». Я видел разрисованные
пестрыми красками домики гадалок, ма-
гов, волшебников, хиромантов на Ели-
сейских полях и Больших бульварах в Пари-
же на Унтер ден Линден в Берлине,
встречал их в Лондоне, в Стокгольме,
в Буэнос-Айресе, в Токио Помню разда-
вавшего направо и налево (за деньги!)
талисманы хироманта Пифело. У него были
специальные талисманы: «от пули и штыка
в бою», «для нерожающих женщин»,
«для удачи в коммерции» и так далее.
И непонятно одно: почему, таская в чемо-
данчике тысячи талисманов «для удачи
в коммерции», Пифело сам не стал мил-
лионером!
Помню психографолога Шиллера-
Школьника. Он определял характер, читал
прошлое и предсказывал будущее только
на основании почерка. Я убежден, что
характер человека не может так или иначе
не сказываться на его почерке. Великий
Гете, имевший колоссальную коллекцию
автографов, тоже, кстати, не сомневался
в том, что характер и вообще духовный
строй человека выражается в письме. Мне
трудно судить, насколько точно отра-
жаются в почерке те или иные склонности
характера, но я абсолютно убежден, что ни
прошлого, ни б'-дущего по почерку узнать
нельзя.
Помню я и таинственное общество мета-
психологов — общество спиритов и мисти-
ков, членом которого я сам одно время
состоял. Это было в тридцатые годы, когда
в Польше особенным интересом в опреде-
ленных кругах пользовался спиритизм.
Членами этого общества было множество
«медиумов». Спиритизм — это мистичес-
кая убежденность в том, что души умер-
ших могут при известных условиях вступать
в контакт с живущими на земле людьми.
Главное условие этого контакта — при-
сутствие медиума. Обычно спириты наше-
го общества собирались вместе с ме-
диумом в одном помещении, изгоняли
всех не зерящих в спиритизм (они могут
помешать сеансу, испуская отрицательные
флюиды, препятствующие душе умершего
человека вступить в связь с живым)
и начинали опыты. Содержание их варьи-
ровалось в зависимости от того, какой
медиум присутствовал. Были медиумы —
специалисты по стуку, по столовращению,
по игре на гитаре, по писанию грифелем на
доске, даже по материализации духов.
В простейшем случае беседа с духом
велась через стук. Медиум впадал в транс,
в состояние, подобное гипнотическому.
Через некоторое время раздавался стук
в стену дух сообщал, что он явился. Ему
вслух начинали задавать вопросы. И шла
длинная серия стуков. Их считали. Каждая
серия означала номер буквы в алфавите.
Из букв составлялись слова.
Самым «сильным» медиумом у нас
считался некий Ян Гузик. Он вызывал
духов Наполеона, Александра Маке-
донского, Адама Мицкевича . Думаю, он
согласился бы вызвать и дух самого Адама,
если бы мне пришла тогда в голову эта
мысль... Надо ли говорить, что этот чело-
век просто обладал умением вызывать
массовый гипноз.
Весь спиритизм, по моему глубочайше-
му убеждению, основан на обмане и шар-
латанстве. В Лондоне мне пришлось быть
на представлении в цирке, где акро-
багы-фокусники демонстрировали все спи-
ритические «чудеса», а потом объясняли
их нехитрый механизм. А знаменитый
в свое время чуть ли не во всем мире
медиум Паркер, нажив состояние, потом
сам смеялся над спиритизмом, называя его
«вековой глупостью»...
Я так долго рассказываю об оккультис-
тах потому, что сталкивался с ними близко,
видел их за кулисами, прикоснулся к
тайным пружинам устройств, с помощью
которых они дурачили легковерных зрите-
лей И мне бесконечно ближе и роднее
честный факир Бен Али, в свое время
выступавший в Варшавском цирке. Один из
его номеров состоял в том, что в него
стреляли из пистолета, а он ловил руками
пули. Он не скрывал, что это ловкий фокус,
не ссылался на помощь потусторонних сил.
И когда один офицер предложил ему
выстрелить в него из своего пистолета, он
серьезно ответил:
— Пан! Неужели вы бы согласились,
будучи на моем месте, за какие-то пять
злотых в день оказаться убитым?!
Продолжение следует
49
ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО
повесть
Михаил ЧУДАКИ
В тот день Вероника поставила мне
два балла за сочинение. Я знал, что
так и получится, что она будет «потря-
сена до глубины души в своих за-
ветных чувствах», но все равно напи-
сал как хотел. Во-первых, чтобы
напугать Веронику, потому что она
очень смешно пугается и вся начинает
вибрировать, как вербена на ветру.
(Я не представляю толком, что такое
вербена — знаю, что какое-то расте-
ние, из семейства вербовых, навер-
ное,— но все равно Вероника вибри-
рует в точности как вербена на ветру!)
Но самое главное, чтобы доказать
Куте, что я личность, а не «садовый
статуй». То есть я верю, что Кутя
и раньше не сомневалась, но все равно
доказать еще раз Ну и в-третьих,
потому что я на самом деле так думаю,
как написал.
- Вы только вслушайтесь, только
вдумайтесь внимательно! — Вероника
вся вибрировала. — Ярыгин одобряет
Дантеса за то, что этот убийца убил
Пушкина. Нашего гения!
— Вот и неправда! — громко ска-
зал я. — Я только написал, что Пуш-
кин сам виноват. А вовсе не одобряю.
— Не перебивай, Ярыгин! Как
это — неправда? Выходит, я, твоя
учительница, говорю неправду?' Ты
думай, что говоришь! Да еще с места,
без разрешения. Надо сначала по-
днять руку и встать.
Весь наш класс слушал с интересом,
оставив всякие посторонние дела: та-
кая перепалка куда занимательнее,
чем очередной «образ Онегина» или
еще какого-нибудь устаревшего типа.
Вероника заводила сама себя и ви-
брировала все сильнее — прямо как
Египетский мост перед тем, как рух-
нуть в Фонтанку,— а я больше не
перебивал и вообще не слушал, потому
что и так все заранее знал наизусть.
Вероника мне приказала: «Ты ду-
май!» — вот я и думал.
...Нет, правда, почему Пушкину
можно было ухаживать за чужими
женами, мужья должны были гордить-
ся, что попадают таким способом
в историю литературы, а на его жену
наложено табу? Гению дозволено все,
а прочие посредственности — брысь
под лавку? А я ие согласен, я считаю,
что человеческие права у всех одина-
ковые Гений получил от природы
слишком много: им восхищаются при
50
жизни, у него бессмертие после смер-
ти — так, значит, в обыденной жизни
он должен подчиняться всем законам
и обычаям особенно подчеркнуто,
чтобы не унизить обыкновенных
людей, которым и так трудно рядом
с ним. Вот, например, у нас почему-то
признан гением Антон Захаревич, он
и сам в себе не сомневается, так что
же, если он положит глаз на Кутю,
я должен ему уступить, должен почти-
тельно признать, что у него как у гения
особенные права, вроде права первой
ночи у помещиков? Поэтому полезно,
что Захаревич услыхал, что я думаю
о правах гениев: а то он иногда
суетится около Кути. И еще проблема
профессиональная: я после школы
пойду на юрфак, буду следователем.
Так что же выходит, я должен ради
гениев делать исключения из законов?
Об этом я и написал в сочинении. Мне
тоже жалко, что Пушкин погиб и не
сочинил того, чего еще мог бы, но не
надо было ревновать так сильно, тем
более что он сам был специалист по
той же части, что и Дантес, а пожалуй,
еще и почище Дантеса.
— ... что выйдет из тебя, Ярыгин,
если ты уже насквозь пропитан циниз-
мом?! Надо хранить что-то святое за
душой!
«Хранить в душе» — понятно, а «за
душой» — это как? Вроде как у нас
телефонные счета за репродукцией
Шишкина в кухне?
Кутя повернулась ко мне с передней
парты и заломила руки как бы в от-
чаянии: мол, что же из тебя выйдет,
Ярыгин, без святого за душой?!
Кутя умеет одним жестом передать
целый монолог такой трепетной вер-
бены, как Вероника,— на это у Кути
талант. Я и восхищаюсь Кутиными
пантомимами, и боюсь, что она возгор-
дится от своего таланта и станет
искать с0е в пару какого-нибудь
гения вроде Антона Захаревича. Пока
она собирается поступать на биофак,
но вдруг передумает и пойдет в теат-
ральный? Ее-то примут — этого я и
боюсь.
— Не вертись, Троицкая,— мель-
ком сказала Вероника и «перешла
к следующей теме».
Вот чем хороша школа: никакое
занудство в ней не может длиться
вечно — всегда пора переходить к сле-
дующей теме.
Два балла меня не волновали,
потому что были вычислены заранее,
зато я снова и снова прокручивал
перед глазами, как Кутя поворачи-
вается и заламывает руки — значит,
не зря старался, сочинял сочинение
Вообще-то Троицкую зовут Катей,
но ее чуть не с первого класса
прозвали Кутей, за то что она
рыжая — в точности как был щенок
у Витьки Полухина. Только тогда
в первых классах Кутя была похожа
на маленькую дворняжку, а сейчас
стала в точности как шотландская
овчарка колли.
— Дурак ты, Ярыга,— сказал Ви-
тька Полухин на перемене. — Сиди
и думай про себя, а зачем Веронике
подставляться? Она тебе до самого
аттестата будет помнить, что ты про-
тив Пушкина и за Дантеса
— На кого похож Ярыга? Три-
четыре!
Игру «в сравнения» придумал, ко-
нечно, Захаревич: вдруг выкрикнет
свое «три-четыре» — и нужно мгно-
венно придумать сравнение. Попро-
буй-ка отреагировать мгновенно!
Обычно получается довольно прими-
тивно.
А сам-то он на кого похож! Урод
номер один, может быть, среди всех
ленинградских школ. Чем очень гор-
дится. А что ему еще остается?
Огромный рот, как у лягушки, глаза
навыкате — и он постоянно твердит,
что только таким и должен быть
мужчина, чье достоинство — мощный
интеллект. А красавцы («красавчи-
ки»!)— всегда личности сомни
тельные, вроде Витьки Полухина.
Здорово вывернулся И в чем-то
правда: быть просто некрасивым —
несчастье, а выдающимся уродом —
отличие. И в игре своей он тоже удобно
устроился: выкрикнет «три-четыре»
и ждет — вы старайтесь, острите изо
всех мозговых сил. а я вас рассужу.
Вечный арбитр.
— На кого похож Ярыга со своим
сочинением? Три-четыре!
— На камикадзе! — выкрикнул Ви-
тька Полухин.
— Точно,— снисходительно одоб-
рил Захаревич,— на помесь камикадзе
с донкихотом. А скажи честно, до-
Камикадзот, ты бы написал то же
самое на аттестат?
Нечестно со стороны Захара зада-
вать такие вопросы. Да еще при Куте.
Это ему стало завидно, что он, наш
признанный гений, не написал такого,
а я вот взял да и написал
Конечно, очень бы даже эффективно
ударить себя в грудь и объявить
«Написал бы то же самое и даже еще
более того!», но откуда я заранее знаю,
что я сделаю на самом деле. О своих
подвигах нужно объявлять в прошед-
шем времени, а не в будущем. Ведь
выпускное сочинение — совсем другое
дело, его могут читать в роно и вообще
это официальный документ, в нем
пишут то, что полагается, а не то, что
думают на самом деле
— Я бы взял другую тему,— сказал
я, и все засмеялись.
Вообще-то ты в чем-то прав,
Ярыга, — покровительственно про-
должил Захаревич. — Гебе надо было
напомнить Веронике про другие
дуэльные истории Пушкина: с Денисе-
вичем, с Сологубом.
Ну конечно, Захар же всегда все
знает. Мы даже писали от класса на
телевидение, чтобы его взяли в знато-
ки в передачу «Что? Где? Когда?»
— А я и не знаю, кто такой Сологуб.
Но он все же не француз, да? Свой,
вроде Мартынова? Тогда все-таки
легче. Ведь особенно обидно, что
француз! А ты сам взял бы и написал
про Сологуба, раз ты у нас такой
эрудит.
Вот так — чтобы не лез каждую
минуту со своей эрудицией. Когда
возьмут в передачу — пожалуйста, я
первый буду за него болеть. Но здесь
у нас не передача, здесь все свои
Все засмеялись, а Кутя сделала
такой жест, будто у нее голова разом
распухла вдвое. Да не у нее — будто
к ней на плечи на секунду наделась
голова Захара. Возьмут все-таки
Кутьку в театральный! Она и посту-
пать не станет — сами придут и возь-
мут.
Мы с ней живем в одном доме,
только жалко, до школы ходьбы всего
минут пять: дойти до канала и свер-
нуть на Гражданскую. Раньше наша
Гражданская называлась Мещанской
и в соседнем доме на углу Прже-
вальского, то есть бывшего Столярно-
го, жил Раскольников. Меня это не так
уж сильно волнует, но все-таки прият-
но иногда упомянуть небрежно: «А у
нас в соседнем доме жил Раскольни-
ков»
— Пушкин потому так ревновал,
что она его не любила,— сказала
Кутя. — Сейчас ужасно модно ее за-
щищать: «Ах, Натали, ах, мадонна!»,
а все равно не любила. Ну пусть чуть-
чуть любила, но все равно не так, как
он ее.
— Что ж он выбрал такую дуру,
которая не понимала его стихов?
— Она не дура. А ты бы хотел,
чтобы любили только за талант и сла-
ву? Чем больше слава, тем сильней
любили? А если кто-то появится еще
знаменитее, значит, сразу пере-
влюбляться?
Этого-то я как раз и не хотел! Я стал
соображать, чего же я хочу, почему
я все-таки обижен на Наталью Нико-
лаевну, но соображал слишком долго,
и Кутя не стала дожидаться, пока
я выйду из паузы, как самолет из пике.
— Вот Оленина! Она уж точно
понимала, кто такой Пушкин. Но
ничуть его не любила. Любят не за
талант.
Все всё знают про Пушкина!
Любила Оленина или не любила?
Я почему-то думал, что любила. Я ду-
мал, его все женщины любили, кроме
жены.
— А за что любят?
Сейчас бы я услышал ответ! Но мы
уже пришли — как всегда, слишком
быстро. Кутя засмеялась и показала
на Тигришку, гревшуюся на слабом
октябрьском солнце:
— Спроси у нее!
Тигришка — наша дворовая кошка.
Окраска у нее редкая: рыжая и поло-
сатая, потому Кутя так ее и прозвала.
Кутя ее кормит, и я тоже — немного.
Кутя засмеялась, на какой-то миг
сама сделалась похожа на томную
рыжую кошку — и убежала к себе.
51
А я пошел к себе. Мы живем в разных
углах нашего просторного двора
У нас даже небольшой садик посреди-
не, а дом всего трехэтажный, потому
солнце заходит во двор свободно, не
как в петербургский колодец. Между
прочим и в доме Раскольникова двор
довольно просторый не такой, как
наш, но все-таки не колодец.
Я взбежал к себе на третий этаж
почти счастливый, оттого что задал
Куте такой вопрос и даже почти что
получил ответ, по крайней мере, намек
на ответ, открыл дверь — и сразу
понял, что матушка моя дома. Хуже
того: что еще кто-то посторонний
в квартире. Понял, даже и не осознав,
по каким деталям Я ведь уже больше
двух лет как окончательно собрался
в следователи, тренирую наблюдатель-
ность — и до TOi о натренировал, что
она часто срабатывает на автоматиз-
ме.
Настроение сразу упало на несколь-
ко градусов: в присутствии своей
матушки я почти все время испытываю
неловкость, мне куда приятнее быть
дома в одиночестве. У нас квартира
отдельная и, к счастью, двухкомнат-
ная, а то и не знаю, как бы уживался
с ней в одной комнате, но даже когда
я сижу в своей, а матушка дома, все-
таки возникает какая-то стесненность,
будто ее «аура», как выражается наш
Захаревич, просачивается сквозь
стены. Хотя она не так уж вмешивает-
ся в мои дела, во всяком случае,
меньше, чем большинство любящих
пращуров, которые чуть ли не уроки
проверяют у своих оболтусов, выби
рают за них институты и нанимают ре
петиторов. Мы едва перешли в де-
вятый класс, а у нас только и разгово-
ров, что о баллах и репетиторах. Гений
Захаревич — все время приходится
вспоминать о нем! который про-
возгласил гордо, что ни в каких
репетиторах не нуждается, сам посту-
пит куда угодно, изобрел для них
слово «натаскун». Во-первых, потому
что натаскивают, а главное - ради
удачного созвучия. И почти все у нас
ходят к натаскунам. Я не хожу, потому
что мы с матушкой бедные. А Кутя,
бедная, ходит
Работает матушка в Эрмитаже.
В скромной должности экскурсовода.
А зарплата еже скромней, чем дол-
жность: сто сорок рэ. Но все равно
она каждую минуту дает понять, что
она посвященная, что она жрица
в храме искусств.
Родители мои расстались, когда мне
было одиннадцать. Они бросили друг
друга, но мама бросила папу гораздо
дальше, чем папа маму. Всего, что
между ними произошло, я не знаю, но
мама много раз кричала папе: «Будь
ты хоть раз честен хоть перед самим
собой!» Она кричала это так часто, что
мне потом долго казалось, что семей-
ная жизнь и состоит из того, что жена
неустанно обличает мужа: «Будь ты
хоть раз хоть перед!» Даже тогда
в одиннадцать лет и младше я пре-
красно понимал, что мама кричит
о честности в каком-то высшем
смысле, что она не обвиняет папу
в обыкновенной уголовщине и это-
то хуже всего: в уголовных обвинениях
можно оправдаться, здесь область
фактов, а честность или бесчестность
в мамином высшем смысле не имеют
отношения к фактам и потому недока-
зуемы. Сформулировал я это позже,
когда собрался на юрфак, но с самого
начала никогда не подозревал папу
в каких-то преступлениях, а, наоборот,
жалел его, чувствуя, что ему никогда
не оправдаться перед мамой.
После папы у мамы никого не было.
Честно! Витька Полухин раз спросил:
«Твоя как — сменщиков водит?» По-
тому что у него у самого есть отец
и есть сменщик, и получается, что так
оно даже и нормально: витькин папа
через день водит автобус, а через
день — сменщик, чтобы автобусу не
стоять вхолостую. Ну и мама его
перешла на такую же систему без
простоев - все естественно Я тогда
дал Витьке в ухо, чтобы не спрашивал
про сменщиков. Если бы он спросил,
когда никто не слышит, я бы, может,
и не дал ему в ухо, потому что он
сильнее меня, но рядом стояла Кутя,
а самое страшное — опозориться
перед ней Витька дал мне сдачи
в глаз, я отлетел и застрял между
партой и паровым отоплением, да еще
сбил локтем горшок с каким-то цвет-
ком. Пока я выбирался и вытряхивал
землю из волос, вошла Вероника,
и пришлось врать, что я случайно
споткнулся и упал; если считать на
боксерский счет, Витька выиграл но-
каутом, но че'сть была спасена. После
того случая я стал чаще думать о том,
что у матушки может кто-нибудь
появиться, какой-нибудь жрец ис-
кусств. Только этого мне не хватало:
мало мне самой матушки рядом, так
еще будет толкаться здесь же совсем
посторонний тип! И обязательно ока-
жется занудой: жрецы искусств — они
все зануды... И вот я вошел - и сразу
усек, что в квартире не только матуш-
ка, но и кто-то еще посторонний.
Тотчас же она сама и появилась из
своей комнаты вся какая-то не та-
кая. Обычно моя матушка уверена
в себе на три хода вперед, это у нее
профессиональное: когда каждый день
приходится просвещать незнакомых
людей, да еще громким голосом, чтобы
тридцать человек слышали и слушали,
да ни в чем не сомневались — это
накладывает отпечаток, все равно как
на учителей. Матушка всегда уверена
в том, что сообщает, и пусть бы
попробовал кто-нибудь возразить ей.
что Рембрандт не великий художник,
или Ренуар, или Матисс! А отец не
любил Матисса, он любил Шишкина
и купил ту самую репродукцию «Ми-
шек», которая сейчас на кухне. На
кухню «Мишек» сослала матушка —
выбросить все-таки не решилась, хотя
она Шишкина не уважает, а сделала
из них что-то вроде прищепки для
счетов... И вдруг моя непоколебимая
матушка вышла вся какая-то не такая,
вся как вербена на ветру.
— А, это ты... Уже пришел3 Вот
и хорошо, что пришел
Как будто я нормально не прихожу
в это время!
— Вот и хорошо, что ты уже пришел
с уроков... Сейчас я вас сразу и позна-
комлю.
Вот и сбылись худшие опасения.
Только слишком уж вдруг. Обычно
человек сначала ходит в дом - он
привыкает, к нему привыкают. А чтобы
сразу — не девочка же! И этот ее —
муж или еще не муж? — тоже,
надеюсь, не мальчик. Сейчас появится
кто-нибудь вроде профессора Татар-
никова — бывает тут такой иногда, но
без всяких намерений, да и женатый
три раза Если матушка - жрица
искусств, то уж Татарников — вер-
ховый жрец. И великий жрец тоже:
если остается ужинать, то сметает все
со стола, как бульдозер. Очень
важный и толстый, похож на Зевса из
античного отдела, такая же борода
кучерявая Только лысый Зевс...
А вдруг сам Халкиопов?! Халкиопов
у нас, конечно, не бывает, чего ему
у нас делать, и вообще я его никогда не
видел, только разговоры без конца:
«Сам Халкиопов.. Халкиопов дока-
зал... с кем он спорит -с самим
Халкиопом!» Звучит как имя какого-
нибудь вавилонского царя: «Халкиоп
Великолепный!» Хотя работает он
в русском отделе, «у русачей». На
Халкиопова я бы согласился, хотя и не
видел его никогда. Потому что ведь
здорово, если для всех «сам» — и
вдруг становится своим, домашним...
Так идем же, я цас сразу
познакомлю. Зачем откладывать.
Пожалуйста, иду! Как будто я не
иду. В кухню, в комнату - куда угод-
но.
Мама открыла дверь в свою комна-
ту. А там... Уж лучше бы занудный
жрец искусств, пусть бы даже этот
лысый зеве Татарников... Там на-
стоящий леший из сказочного фильма.
Или из оперы «Снегурочка» - когда
на сцене сразу и не поймешь, пень или
человек. Широкий, узловатый весь,
лица почти не видно из-под бороды,
а где видно; там кожа пестрая и вся
изрытая, как лунная поверхность. Но
самое лешачье в глазах: так они
глубоко запрятаны, что смотрят нару-
жу словно из двух глубоких пещер. На
полках у нас сплошь книги, все больше
по живописи, на стенах репродукции
Ренуара и Дега — а посреди комнаты
стоит такое чудо и смотрит на импрес-
сионистских розовых дам из глубоких
глазниц-пещер
— Вот познакомьтесь: это мой Ми-
ша, а это Степан Петрович.
Леший глянул на меня насмешли-
52
во—а чего, спрашивается, во мне
смешного?!
— Ишь, от, значицца, сколоток
твой?
И голос оказался в точности леша-
чий — сиплый, словно навек просту-
женный в лесных болотах.
Матушка, всегда привычно безапел-
ляционная, которая если и уступает
изредка, то только профессору Татар-
никову, тут оробела: .
— Мой — кто? Сколок?
— Сколоток. Слова русского не
знаешь. Без отца котораво нарожала.
Матушка не оскорбилась — а стала
оправдываться:
— Я же развелась, я тебе говорила
— Коли мужа нетуть, все одно
сколоток.
Кого она привела?! И дошла уже д J
того, что не оскорбилась! Зато я з J
нее!
— А вы... А вы — невоспитанный4
Так не разговаривают воспитанны 4
люди!
Запустить бы в него чем-нибудь
томом энциклопедии, чтобы вонзил.-J
корешком, как топор в трухляв1 М
пень!
Леший глянул на меня из своим
пещер насмешливо:
— Ишь ты — мужик. Правильно^
не давай забижать матку. Нищак!
полаемся — помиримся.
Леший похвалил меня снисходи!
тельно — и мне больше не хотелос I
запускать в него томом энциклопедии!
Немного же мне надо!.. Все-таки
я молчал, не торопился показать, чт!
больше не сержусь на грубость. А с-J
ничуть не смущался — да и невозмо>ч!
но было представить, что он cnoco6eJ
смущаться.
— Ну чаво? Надоть, значицц 1
жить вместях. Вместях — не в гостя >1
Нищак, приладимся. Притерпимся.’
Жить с ним вместе - когда он такой
чужой и непонятный, словно существо
совсем другой породы Посмотреть
и послушать — даже любопытно, но
жить вместе? «Вместях»...
Я помялся, не зная о чем говорить,
наконец нашелся:
— Пойду делать уроки Много за-
дали.
Матушке я никогда не сообщал
такие подробности.
— Малый проки, да много поро-
ки,— изрек леший.
А что — довольно верно.
Из своей комнаты я слышал, как
леший, тяжело ступая, прошелся не-
сколько раз по коридору — то в кухню,
то в уборную, что-то говорил матушке
своим навечно простуженным голосом,
потом зашумела вода в ванной. Только
тогда матушка наконец зашла ко
мне — все с тем же непривычным
извиняющимся выражением лица.
Ты не обижайся на Степана
Петровича, хорошо? Он привык все
высказывать прямо в глаза: что ду-
мает, то и говорит сразу же, не
раздумывая. А ты думаешь, лучше,
как принято у нас, воспитанных
людей? Так называемых воспитанных.
Когда в глаза улыбаются, а за спиной
наговаривают такое, что не укладыва
ется ни в какие рамки порядочности!
Мы все просто отвыкли от прямоты,
отвыкли от всего настоящего, пони-
маешь? Фальшивая вежливость стала
называться интеллигентностью. —
Постепенно голос ее приобретал
привычные экскурсоводческие интона-
ции. — Да-да, привыкли, что человек
в лицо улыбается елейно, а за спиной
продаст. Или неспособен ни на какой
поступок, как твой папочка. А Степан
Петрович настоящий сибиряк, он
привык иначе, привык жить и говорить
естественно. И от подобной естествен-
ности, неиспорченности сохраняется
особая сила, издавна присущая наро-
ду, гы в этом еще убедишься. В их
глубинных местах тайны природы
передаются по наследству от отца
к сыну. Только в Сибири еще и сохра-
няется подобная живая традиция,
восходящая к нашим далеким пред-
кам. К тому же он замечательный
мастер, народный талант... Помылся,
кажется, да? Душ не течет?
Ну вот, мат ушка провела для меня
экскурсию по своему неожиданному
избраннику — и побежала скорей что-
то для него готовить: сейчас выйдет,
потребует! У них в Сибири небось
привыкли к расторопным женам.
И после ванны вид у него оставался
лешачий: спутанные волосы не расче-
сались, рябая кожа не стала белее
Смешно смотрелся на нем оставшийся
еще от отца махровый халат.
Мы сидели на кухне, и он скрипел
наставительно:
— От етой ванны-иванны выходит
один распут. В баньку надоть по
морозцу.
Может, у них в Сибири уже и мороз
в октябре, а у нас еще не все листья
облетели
— А чего ж вы не сходили в баню?
У нас тут недалеко, на Фонарном.
- Ваша баня городская — тот же
раснут. Ты сперва-то воды натаскай,
стопи, а после париться штоб вместях:
мужики да бабы. Ты б со своей девкой,
а? Товар штоб настоящий, без обману.
Рисунки А. Остроменцкого
И он сипло захохотал.
Я вообразил, как бы мы парились
с Кутей. Только если и этот леший тут
же, глядел бы на нее из своих глазниц-
пещер, тогда не надо!
— Баня, она от самого нашего
славянства для етого дела Разло-
жишь бабу на полок, березой станешь
охаживать, штоб чувствовала, а после
перевернешь...
Матушка покраснела — никогда
еще не видел, чтобы с нею такое.
Ну зачем ты говоришь, Миша же
еще мальчик!
- А что? Мужик, все понимат,
верно, Миш?
Мне было лестно такое признание
моей возмужалости.
В ей сила, в бане-то. Потому
народ был здоров... Ах ты!.. Как врага
народа!
Он вдруг сделал молниеносный
выпад и кого-то вдавил огромной
ступней в пол. Таракана.
Тараканы у нас невыводимы. По
всему дому Или даже всей улице.
И так обнаглели, что выползают днем
53
Убегают они всегда зигзагами, потому
придавить их бывает очень трудно.
Матушка к тому же просто брезгует их
давить. Я не брезгую, но и удо-
вольствия не получаю — в тех слу-
чаях, когда все же удается настигнуть.
А леший продемонстрировал реакцию
настоящего охотника Соболятника
Только вот со странным удовольстви-
ем вдавил в пол
— Никакой гигиены не удается
поддерживать из-за них.— тут же
наябедничала матушка.
И обрадовалась переменить разго-
вор.
— Нищак! Мы етих врагов наро-
да - под ноготь!
— Они устроили себе квартиру
с удобствами за холодильником: там
им тепло. Посмотришь потом, Степа,
хорошо, что тут можно сделать ради-
кального? — натравливала лешего
матушка.
— Ить, распут городской! Всяка
вешш — навыворот. Холодильник — и
тепло от ево. У нас ледник — значицца
в ем лед и лед, никака тепла. Внутрях
то своих хотя холодит? Молочка бы из
ево с подморозом. После как попарис-
ся — хорошо! Налейка, Ойля, балаки-
Ря
Моя матушка — Ольга Васильевна,
а леший так произнес: Ой-ля, немного
похоже на французское «о-ля-ля»!
Хотя уж французского, легкого в нем
ничего.
Матушка не поняла и переспросила
с поспешной готовностью:
Что налить? Какой балагур?
Балакирь, так у нас говорицца
Как по-городски, а, Миш? Ну кружка,
кастрюля
— Кастрюля?! А по-настоящему,
по-народному — балакирь? Какая
прелесть! Вот откуда Балакирев, а я и
не знала. Он. значит. Кастрюлин или
Кружкин?
Ктось?
Балакирев, композитор из-
вестный.
— Мы такова не знаем. Шута знам
Балакирева, што у Петра-царя. На
голову, бывает, наденет балакирь,
а царь подойдет и вдарит, как в коло-
кол. Потому и Балакирев.
Уж этого не знает даже Антон
Захаревич! На другой же день я про-
светил наш класс. Захаревич тогда
промолчал, зато на следующий день
объявил торжественно:
А знаете, что такое «бардак»?
Глиняной горшок, вот! - и захохотал.
Взял реванш.
Ну а Кутя не стала дожидаться
следующего дня, заспорила сразу:
— Почему «балакирь» такое уж
народное слово, а «кастрюля» — нет?
В словаре, если покопаться, знаешь,
сколько таких слов? Которые никому
давно не нужны. И значит, правильно,
что не нужны
Я тоже не мог объяснить, почему
«балакирь» лучше, чем «кастрюля», не
хотел соглашаться с Кутей: потому что
вечно она спорит со мной. С Захареви-
чем так не спорит — как же, он такой
гений!
А все-таки ты не знала этого
слова, и никто не знал, даже Захар,
а мамин сибиряк знал, ни в какой
словарь не заглядывая. Значит, для
него оно нужное.
У меня вырвалось невольно: «мамин
сибиряк». И это-то Куте страшно
понравилось — я и не ожидал
— Ой, Мишка, ты придумаешь!
«Мамин сибиряк»!
Мы часто спорим с Кутей, но если
в чем-то соглашаемся, то уж напрочно.
и с тех пор я не мог называть этого
лешего Степана Петровича иначе как
маминым сибиряком.
На что похожи старинные слова?
Три-четыре! — выкрикнул свое Заха-
ревич.
Я не знал. Я был счастлив, что Кутя
одобрила прозвище, которое я нечаян-
но придумал, и не хотел играть в игры
Захаревича.
— На обглоданные кости,— сказал
Витька Полухин.
Подходит, — снисходительно
одобрил Захаревич. — На обглодан-
ные кости или на египетские мумии.
— А все-таки шарлатан твой сиби-
ряк! — Кутя только плечом дернула,
как вдруг сделалась похожей на ярма-
рочного зазывалу с лотком, на котором
средство от всех болезней
Не мой сибиряк, а мамин!
Я радостно согласился с Кутей,
а все-таки она оказалась не очень
права. Свои особенные познания в
тайнах природы, о которых меня
в первый же день уведомила матушка,
он проявлять не торопился, зато в нем
оказалось множество полезных уме-
ний.
Давно уже матушка вздыхала, что
у нас в квартире все разваливается,
а нижняя соседка Лариса Петровна
прямо объявила, что не хватает муж-
чины в доме. Текло из бачка в уборной,
так что вода набиралась полчаса,
значительно снижая пропускную спо-
собность этого учреждения. Пылесос
стоял сломанный. Стекло в кухне
разбито, заклеено бумагой. Замок
наружный открывался плохо — при-
дешь и ковыряешься ключом иногда
чуть на час. И еще - много чего.
Когда еще был отец, он тоже не был
мужчиной в доме: гвоздя не умел
вбить как следует, не то что починить
бачок. Мы к этому бачку каждый
месяц вызывали водопроводчика; тот
приходил не скоро, важный, в грязной
робе, какой-то весь из себя настоящий,
и сразу делалось видно, какой папа
ненастоящий мужчина, как он суетит-
ся и заглядывается на настоящую
мужскую работу, а водопроводчик
снисходительно брал трешки и уходил,
оставляя после себя настоящий
мужской запах — табака и перегара,
а мама после его ухода с особенным
ожесточением обвиняла папу в неве-
домых грехах: «Будь ты хоть раз хоть
перед!»
И вот теперь настоящий мужчина
завелся в доме, не надо было больше
зависеть от важного водопроводчика.
Бачок извергал водопады, выключате-
ли работали, замок отпирался с мяг-
ким щелчком Матушка ходила по
квартире, как провинциалка по Эрми-
тажу, трогала кончиками пальцев то
починенный замок, то прибитую на-
крепко вешалку в прихожей, которая
раньше вечно валилась со всеми паль-
то, особенно если гости, и повторяла:
«Сразу видно, что не кандидат и не
профессор: все сам, все своими рука-
ми!» (Отец мой, между прочим, еще
и кандидат наук. Психологических.)
Заявилась и Лариса Петровна. Как
всегда, у нее был невинный повод:
- У вас включено? Включайте
скорее, «Вокруг смеха» же!.. Ой,
извините, я не знакома.
Нищак. Заходь, бабонька. А ты,
знацца, подруга моей?
Лариса прошлась по квартире,
мгновенно все усекла:
— Как у вас стало уютно! Чувству-
ется мужчина в доме! И где только
плитку такую достают люди?
Мамин сибиряк только накануне
привез плитку.
Когда-то отец обтянул крашенные
в грязно-зеленый цвет стены нашей
ванной специальной клеенкой с рисун-
ком, имитирующим кафель, и это стало
кульминацией его мужской работы по
дому. Лариса в свое время потрогала
клеенку брезгливо и изрекла: «Кафель
для бедных». Недаром отец всегда ее
не любил И вот единственная от-
цовская работа уничтожалась.
— Финская, да? Я сразу увидела,
что финская!
Уж это-то она видит за километр!
Вот матушка не отличит, ей что
импортная, что наша один черт.
Я и то разбираюсь в вещах лучше нее,
даже в женских шмотках, потому что
у нас в уборных вечно идет торговля,
кто-то что-то приносит, особенно Ви-
тька Полухин, который фарцует с пя-'
того класса. А матушке все равно,
— Мало что финская, еще и разноц-
ветная! Нарочно так задумано, да?
Мамин сибиряк с размаху прилепил
очередную плитку, будто хлопнул Ла-
рису по пышному заду.
— Значицца, голубая на ванну-
иванну, черная в кухню, а розовой
сральню обделаю.
Лариса сделала вид, что не
расслышала некоторого слова:
— Да-да очень миленько выйдет.
Черный кафель сейчас самый модный.
И в туалете выйдет миленько-розо-
венько.
В сральне! А то слова каки-то
говоришь, вроде стыдной болезни. От
здоровой бабы телом ейным пахнет,
а от больной всякой пудрой и духам.
Все люди, все срать ходют, а туи-леты
мы не понимам. Ить каким местом?
54
Матушка стояла окаменелая, а Ла-
риса мелко захихикала:
— Как мило! Такая непосредствен-
ность, простота. Отдыхаешь душой.
— Сама ты простота Простота
казанска, сирота хрестьянска. А у нас
в Середе крестьян не принимат.
Лариса и выговор приняла смирен-
но:
— Да, конечно, хорошо, когда пря-
мо все говорят. Я тоже люблю... Нет,-
но где вы все-таки такую достали?
Я была в гостях у одного завмага,
у них же все есть, а такой плитки
и у него не было!
— Нищак. У нас, знашь, как гово-
рят? «Тыща рублей — не деньги, тыща
километров — не конец»
Лариса была приятно поражена
— А если у меня что-нибудь испор-
тится, можно будет вас попросить?
Потому что когда без мужчины в до-
ме...
Когда она наконец ушла, мамин
сибиряк изрек приговор:
— Бабье жерло кляпом не за-
ткнешь!
Степик, опять ты при Мише'
— Пущай знат, мужик уже.
И мамин сибиряк с размаху приле-
пил очередную плитку. Я взял плитку
и тоже прилепил — учился.
Глядя иа работу мамина сибиряка,
я впервые почувствовал себя ненас-
тоящим, таким же ненастоящим, как
мой папочка. Мне сделалось стыдно,
что вот я уже в девятом классе, а до
сих пор не сделался мужчиной в до-
ме — раньше мне такое и в голову не
приходило. Я как раз собирался запи-
саться в самбо: и пригодится для
будущей работы, и на случай, если
пристанет всякая шпана, когда иду
с Кутей,— но вдруг понял, что важнее
уметь вставить стекло и починить
бачок, чем знать самбо и каратэ. Об
этом открытии я не сообщил Куте, но
про себя решил, что обязательно
научусь домашним ремеслам до того,
как жениться,— чтобы быть насто-
ящим мужчиной в доме.
Мамин сибиряк не только облицевая
ванную голубой плиткой, но и полюбил
в ней мыться — распут оказался при-
тягательным. Подолгу прел в горячей
воде, призывал матушку, чтобы терла
спину, а один раз я стал свидетелем
совсем уж необычной процедуры: за-
шел раз нечаянно в матушкину комна
ту - то есть в их общую, а я все по
привычке: в матушкину! — где мамин
сибиряк прохлаждался после ванны,
и увидел, что матушка дерет его за
бороду. В первый миг я подумал, что
они уже ссорятся и матушка таким
примитивным способом выказывает
свое негодование, но тут же разглядел,
что дерет она за бороду бережно, не
дерет, а подергивает. Или это такие
любовные ласки в его Сибири?
Я попятился, но мамин сибиряк
просипел из глубины своей распушив-
шейся бороды:
— Нищак, Миш, ить значицца,
штоб волос взбодрить. Сам когда
обрастешь, прикажь своей бабе, штоб
требелила легкой таской.
Я то думал, что его волосяные
заросли — вроде дикой тайги: растут
сами. А оказывается — культурная
плантация! Но матушка-то как быстро
обучилась!
Кроме Ларисы еще одна соседка
у нас вертелась — старушка Батень-
кина с первого этажа. Она вечно
еидит. сложив ручки, у своего окна
и смотрит во двор: кто пришел, кто
ушел, кто к кому... Ребята ее прозвали
«бабушка в окошке» — есть такая
фигура в городках. А вместо биты
в нее раза два попадали мячом. Я раз
занимался в своей комнате и нечаянно
кое-что расслышал из прихожей, где
матушка шепталась со старушкой:
— ... я уже ждала Мишу, а Аркадий
никак не решался с мамашей своей
познакомить, разве мужчина? А этот
сразу все решил...
Дальше матушка зашептала совсем
неслышно, а старушка Батенькина
захихикала.
А я все равно любил отца, сколько
бы матушка его ни обличала. Просто
он никогда не оправдывался — ни
перед нею, ни перед знакомыми Он не
умел починить бачок в уборной, но
зато никогда не жаловался иа жену, не
плакался перед посторонними — для
этого тоже нужно быть настоящим
мужчиной, так я решил. Ведь люди
верят на слово: кто плачется — тот
и прав. А кто молчит — значит, не
может возразить, значит, согласен со
всякой напраслиной. Или совсем бес-
чувственный — а бесчувственность то-
же не простят. Отец это понимал, он
же психолог, а все равно не плакался,
не унижался. А у него, наверное, тоже
нашлось бы, что высказать. Мне,
например, почти всегда неловко про-
сто слушать матушку. Целые дни
говорит в своем Эрмитаже, а слуха
у нее нет совершенно. Слуха на слова.
Недавно она «решила понять, чем
живет современная молодежь», так
она объявила, «чтобы как мать пони-
мать собственного сына». И вот ради
такого понимания торжественно купи-
ла пластинку Булата Окуджавы. Так
и сообщила: «Приобрела пластинку
Булата Окуджавы, которого любит
современная молодежь!» Ну, во-
первых, его уже любила предыдущая
молодежь, только одна матушка умуд-
рилась в свое молодое время его не
заметить. Но хуже всего, что она не
слышит жуткого диссонанса в этом
«Булате»! Нельзя же сказать: «Почи-
таем стихи Александра Пушкина». По-
настоящему известные люди теряют
имена, есть просто Лермонтов, а не
«Михаил Лермонтов», и то же самое
с Окуджавой Такие мелочи сразу
выдают, что для нее послушать
Окуджаву не удовольствие, а добросо-
вестная попытка «понять современную
молодежь». Она сама экскурсовод, вот
и в «современную молодежь» приходит
как на экскурсию. Или был случай,
написали в газете, что разбилась
известная клоунша, Ириска. Кутина
мать с нею дружила, потому матушка
решила позаботиться о Куте, говорит
мне: «Я вырежу для Катеньки эту
заметку, ей будет интересно почитать».
«Интересно»!! А после этого восхи-
щается «балакирем». Такая же нена-
туральность, как «Булат Окуджава»
Но сама она этого совершенно не
чувствует. А отец очень чувствовал,
я теперь понимаю
Я и не заметил, как мамин сибиряк
среди своих многочисленных трудов по
квартирному благоустройству вырезал
из какой-то деревяшки первого идола
Захожу однажды в матушкину комна
ту, там к стене прилажена новая
полка, а на ней стоит нелепая фигура,
вроде статуй с острова Пасхи, только
с ногами, и смотрит на репродукцию
Репуара. Высотой сантиметров трид-
цать, губы раскрашены ярко-красным,
словно кровью вымазаны.
Мамин сибиряк был ужасно дово-
лен:
— Во, гляди-кось, Миш, кака Мо-
кошь. Штоб, значицца, щастье не
уюркало. Щастье — как ящерка:
жжить — и ненути.
Идол этот — Мокошь — никак не
смотрелся рядом с Ренуаром Но
я сказал только:
— А при чем здесь счастье?
— А како ж' Мокошь, она што ни
есть на свете, все сотворила, и самый
свет тож. Потом Род и Рожаницы, ну
еще дедушку Чура поселить — вот те
и щастье в дому
-Я так понял, что это какие-то
сибирские божки, может, у бурятов
или якутов — там ведь рядом, тыща
километров не конец, но вошла матуш-
ка, и ее сибиряк повторил свои
объяснения, добавив, что боги эти
исконные, славянские, отецкие, «от их
всяка сила, котора от нас передаецца,
котору ты духом чуяла, так штоб
понимат как она есть».
Продолжение следует
МЫСЛИ БЕЗ НИМБА
4" Звонок сверху воспринимал как глас
божий.
Николай АНТОНОВ
г. Дмитровск
Орловской области
-4 Возвращаясь в рай, ангел всегда про-
верял: нет ли за ним хвоста.7
Артем ГАВРИЛОВ
г. Челябинск
Из нашего словаря:
4- Пророк — лекция о современной му-
зыке.
4" Портной — пристань для ковчега.
Александр ГАВРИЛОВ
г. Рига
55
ЧЕЛОВЕКУ О ЧЕЛОВЕКЕ
СОКРОВИЩЕ
ДАЦАНА
Издательство «Советский худож-
ник» готовит к выпуску книгу «Атлас
тибетской медицины». Наш коррес-
пондент обратился к директору изда-
тельства Горяйнову В. В с просьбой
рассказать об этом издании.
• — Владимир Викторович, не
сколько слов о самом «Атласе».
— Это своего рода иллюстриро-
ванное приложение к медицинскому
трактату XVII века. «Атлас» состоит
из 76 листов-полотен, исполненных
в традиционной тибетской живопис-
ной технике «танка» — водяные крас-
ки по грунтованному полотну. Каждый
лист комплекта содержит от 20 до
260 изображений, снабженных подпи-
сями. Есть, например, полотно, на
котором показано, как определялась
частота пульса. Представляете, сколь-
ко нужно было сделать поясняющих
рисунков, если тибетские врачеватели
различали около 300 видов пульса.
• — Насколько я поняла, «Атлас»
был своеобразным наглядным посо-
бием для обучения медицине.
• — Известны ли нам имена созда-
телей этого уникального памятника
тибетской культуры!
— К сожалению, нет. История сох-
ранила для потомков только одно
имя, Сангье Гьяцо (1653—1705). Он
был светским соправителем Пятого
далай-ламы и автором трактата «Вхай-
дурья-онбо», или «Голубой берилл».
По его указанию и был изготовлен
«Атлас». Личность этого человека по
широте деятельности не уступает
крупнейшим представителям италь-
янского Возрождения. Незаурядный
политик, выдающийся теоретик, оста-
вивший после себя целый ряд работ
в области истории вероучения, астро-
логии, медицины, Сангье Гьяцо жил
в сложное для тибетского госу-
дарства время. Умело лавируя между
политической властью монголов и мо-
гущественным китайским императо-
ром, он добивался цели «Великого
Пятого» — вернуть Тибету независи-
мость. В средствах был неразборчив,
впрочем, как и многие политические
деятели того времени,— использовал
яд для устранения своих противников,
шел на компромисс, действовал и
убеждением, и обманом.
15 лет ему удавалось скрывать
смерть Пятого далай-ламы. При
Сангье Гьяцо было закончено стро-
ительство грандиозного дворца да-
лай-лам в столице Тибета Лхасе. Он
объединил учения различных меди-
цинских школ Тибета. «Атлас» же
проиллюстрировал каждое положе-
ние текста, причем художник сочетал
вновь создаваемые рисунки с уже
существовавшими в Тибете меди-
цинскими изображениями, извест-
ными с глубокой древности.
• — Мы говорим об истории дале-
кого Тибета, событиях 300-летней
давности. А как «Атлас» оказался
в нашей стране!
— К нам попала точная копия,
которая по тибетским представле-
ниям была равноценна образцу. Воз-
можно, копия была сделана по заказу
Агвана Доржиева, бурята по наци-
ональности, наставника Тринадцатого
далай-ламы. Ее и вывезли из Тибета
в Бурятию на рубеже XIX—XX веков
Сначала «Атлас» хранился в дацанах
А в 1936 году поступил в Антирели-
гиозный музей, ныне Объединен-
ный историко-художественный музей
Улан-Удэ, где находится по сей день.
• — В Китае недавно был издан
подобный атлас. Чем он отличается от
настоящего издания!
— Китайское издание более пол-
ное — 79 листов. В нем есть две
анатомические таблицы, посвя-
щенные учению о сосудах, которых
нет в нашей книге. Однако перевод
с тибетского в нашем варианте сделан
более квалифицированно, в переводе
на китайский есть пропуски. Еще одна
Слева:
Древние
рукописи из
хранилища
в Улан-Уде.
Справа:
Целитель
из Бутана.
— Совершенно верно Он служил
многим поколениям лам, овладевав-
ших секретами медицины. Одновре-
менно он использовался и как пред-
мет религиозного культа. Таблицы
«Атласа» часто украшали стены ти-
бетских монастырей.
был основателем медицинской школы
в Чагпори.
Его медицинское сочинение — де-
тальный комментарий к своего рода
азбуке тибетской медицины трактату
XI века «Чжуд-ши», или «Четверокни-
жие» В этом труде Сангье Гьяцо
особенность нашей книги — ее
впервые смогут прочесть в Европе.
«Атлас» выйдет на русском,
английском и французском языках.
• — Кому адресовано ваше изда-
ние!
— Я думаю, оно заинтересует
56
ученых разных специальностей — ме-
диков, философов, этнографов, био-
логов, геологов, фармакологов и,
конечно, историков культуры и ис-
кусствоведов. Ведь «Атлас» содержит
анатомические схемы, на которых
показано строение тела, топография
точек кровопускания, прижигания, иг-
лоукалывания, таблицы лекарственно-
го сырья растительного, животного,
минерального происхождения, сак-
ральные и сюжетные композиции,
есть и таблицы, посвященные эмбри-
ологии и изображению медицинских
инструментов. Я бы назвал «Атлас»
энциклопедией жизни Тибета XVII
века.
• — В работе над книгой принима-
ли участие и ученые!
— Да, к публикации «Атлас» гото-
вили ученые Бурятского филиала
АН СССР, Института востоковедения
АН СССР, при участии Комиссии СССР
по делам ЮНЕСКО.
Во вступлении дается и подробный
анализ памятника. Приложения
включают именной и предметный
указатель, индекс латинских названий
лекарственного и растительного
сырья. Помимо этого, каждый лист
«Атласа» снабжен комментариями.
• — Владимир Викторович, гото-
вится к выпуску нетипичная для
вашего издательства книга — меди-
цинский атлас. Чем это объяснить!
ЧУДАКИ
КАК ПОМОЛОДЕТЬ
НА ПОЛВЕКА
— Его художественной ценностью.
10 тысяч рисунков «Атласа», несом-
ненно, привлекут внимание совре-
менных художников. Может быть,
древний тибетский живописец подска-
жет им оригинальное колористичес-
кое решение, неожиданную компози-
цию. И для этого тоже возрождается
памятник древней тибетской куль-
туры.
«Уровень здоровья Котляро-
ва М. М., 83 лет, соответствует
уровню практически здорового
мужчины в возрасте 25—40
лет». Справка выдана Всесоюз-
ным кардиологическим цент-
ром. Еще один документ
М. М. Котлярова, датированный
1983 годом,— свидетельство о
браке.
По рассказам же самого Ми-
хаила Михайловича, в детстве
он переболел тифом, в моло-
дости — турбекулезом. А тром-
бофлебит, артроз, стенокардию
Котляров тоже знал не по меди-
цинским справочникам. Валидол
всегда носил в кармане пиджа-
ка. Да, все это факты из жизни
одного и того же человека, Ми-
хаила Михайловича Котлярова.
Оказавшись в больнице, он
решил в корне изменить образ
жизни. Помогла статья
Н. М. Амосова, случайно по-
павшая в руки. И в 63 года Кот-
ляров начал заниматься бегом.
Первые «забеги» продолжались
две минуты, но уже через пол-
года двухчасовой бег стал для
него нормой. Котлярову было
69, когда врач, до этого лечив-
ший его как тяжело больного
хроника, разрешил ему участ-
вовать в марафонском забеге.
Кроме этого, Котляров бежал
еще в четырех марафонах.
По плечу оказалась ему и ле-
дяная купель. Скоро он стал
«своим» среди «моржей».
В питании Котляров исподе-
дует главный принцип — уме-
ренность. Он делит пищу на
«живую» и «мертвую». Сало,
столь непопулярное у диетоло-
гов, для него еда «живая»,
колбаса — нет. «Живая» пища
создана природой, в ней акку-
мулируется энергия солнца. На
кухне Котляровых настоящее
царство овощей, трав, и у каж-
дой свое предназначение. Ока-
зывается, соль можно заменить
высушенной и истолченной мор-
ской капустой. Раз в неделю
бывают у него голодные дни.
Как видите, секретов особых
нет. Да и сам Михаил Михайло-
вич не считает свой опыт уни-
кальным. Здоровый образ жиз-
ни держится на трех китах —
бег, закаливание, рациональное
яшв
питание. А это «открытие» было
сделано еще 200 лет назад
А. В. Суворовым. Для Михаила
Михайловича выдающийся пол-
ководец прошлого современ-
нее многих современников и он
продолжает учиться у него.
ПАРАДОКСЫ
ЗАКАЛИВАНИЯ
Как холодной водой окатили,
говорим мы, и невольно поежи-
ваемся при одном упоминании
о холоде. Ну что ж, начинайте
с обтираний... горячей водой.
Именно так поступил Констан-
тин Викторович Плеханов, когда
врач посоветовал ему закали-
вание. Горячая вода при сопри-
косновении с телом человека
тут же испаряется, но при этом
она уносит тепло. За одну се-
кунду испаряется не меньше
0,5 грамма воды, а за всю про-
цедуру, длящуюся не более
3—3,5 минуты, 100 граммов,
что высвобождает 60 килокало-
рий. При столь значительной
потере тепла кожа резко охлаж-
дается, и организм мгновенно
начинает вырабатывать недо-
стающие калории. Происходит
тренировка механизма термо-
регуляции, его процессов, в чем
и состоит сущность закаливания
Свой метод Константин Ви-
кторович назвал испарительным
закаливанием, в отличие от кон-
тактного, принятого у любите-
лей ледяных ванн. Оно помогает
избежать стрессовых ситуаций,
да и закаливание существеннее,
чем при контактном методе.
Константина Викторовича его
собственное изобретение сде-
лало здоровым человеком. Сей-
час ему 86 лет. Зимой он обхо-
дится без пальто и шапки. И вот
уже полвека не знает, ч го такое
грипп. Более того, оказалось,
что испарительное закалива-
ние — прямой путь к моржева-
нию. Константин Викторович на-
столько окреп, что смог перейти
к обливанию холодной водой. А
когда погрузился в черную ды-
мящуюся воду, удивился, что не
почувствовал ледяных ожогов
и не перехватило дыхания. С
тех пор моржевание для него —
дело привычное. И все это —
благодаря горячей воде!
Продолжение на с. 64
57
ЗА РУБЕЖОМ
ЧТОБЫ
НЕ НАСТАЛ
АРМАГЕДДОН
Гордон ТОМАС и Макс МОРГАН-УИТТС
Известные американские журналисты Гордон Томас
и Макс Морган-Уитте за последние 20 лет написали десять
книг, в том числе две, посвященные внутренней и между-
народной жизни Ватикана. Эти книги о тайнах папской
дипломатии вызвали большой интерес читателей во всем
мире.
Начинаем публикацию отрывков из последней книги
Г. Томаса и М. Моргана-Уиттса «Чтобы не настал Армагед-
дон».
Публикация снабжена редакционными заголовками и
иллюстрациями.
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ.
ИЛИ КАК СОЗДАВАЛАСЬ ЭТА КНИГА
Темой папства мы, вместе и порознь, занимались еще
с 1963 года, с последних месяцев пребывания в Ватикане папы
Иоанна XXIII. Например, мы писали о выборах нового понтифика
Павла VI, о последующих годах его 15-летнего правления,
поначалу многообещающего, но впоследствии разочаровавшего
и, наконец, о его кончине в 1978 году. Тот год видел короткое —
всего 33 дня — пребывание на престоле его преемника Иоанна
Павла I и его похороны. Год, ставший свидетелем окончания
одной эры — 455-летнего господства итальянцев на папском
престоле, и начала другой, ознаменовавшейся приходом в Вати-
кан поляка Карола Войтылы, известного ныне как папа Иоанн
Павел II.
Мы и по сию пору продолжаем вести хронику папства
и ватиканских событий после 13 мая 1981 года (с 17 часов 18 минут,
если быть точным), когда покушение на жизнь нового папы чуть не
поставило точку на его жизненном пути.
В 1983 году собранный нами материал был опубликован в книге
«Папа». Она вызвала довольно единодушное одобрение компе-
тентных критиков как в римско-католических, так и в светских
органах массовой информации, была издана в тринадцати странах.
Но еще до этого к нам обратились с предложением об издании
новой книги, продолжавшей начатую тему.
Доверенные помощники папы — монсеньор Эмери Кабонго,
первый чернокожий, удостоенный чести быть личным секретарем
папы римского, монсеньор Джон Маджи, сменивший пост приват-
секретаря на еще более престижную должность церемоний-
мейстера, монсеньор Кресченцио Сепе, высокопоставленный
сотрудник Государственного секретариата, имеющий прямой
доступ к кардиналу Казароли, отец Ламберт Гринан, ироничный,
желчный, упрямый и любящий резать правду-матку редактор
английского издания ватиканской газеты «Оссерваторе романо»,
были среди тех священнослужителей, кто дал нам понять, что не
следует ограничиваться одной книгой. Во второй книге, считали
они, речь должна идти о событиях, которые подчеркивают роль
папского престола на международной арене.
Политика Ватикана — уникальна. Ее специфика определяется
© 1984. Gordon Thomas & Max Morgan. Witts Production Ltd.
должностью папы, который в отличие от президентов и премьер-
министров сочетает обязанности главы государства и руководите-
ля самой многочисленной паствы в религиозном мире.
В силу этого папа вынужден уделять немало времени
и внимания урегулированию сложнейших международных поли-
тических проблем современности, помогая избежать Армагеддо-
на (во всех смыслах этого слова), и в то же самое время заботиться
о локальных религиозных вопросах, будь то натянутые отношения
с римско-католической церковью в Северной Америке, попытки
легализовать разводы и аборты в Ирландской Республике или
участие священников в движении за ядерное разоружение в таких
странах, как Британия, Франция или ФРГ. Эти преимущественно
«религиозные вопросы» зачастую влияют на дипломатию Ватика-
на, что следует иметь в виду, если мы хотим понять, роль папы
и проводимой им политики, в особенности когда дело касается
Иоанна Павла II.
Окончательным толчком для создания книги послужили слова
папы, сказанные им в январе 1983 года, что отныне он — в еще
большей мере, чем когда бы то ни было прежде,— намерен не
щадить усилий ради того, чтобы избежать войны. Любой войны, не
говоря уже о третьей мировой.
С того момента, как книга была задумана (октябрь 1982-го),
и до ее завершения (апрель 1984-го) ближайшие сотрудники папы
оказывали нам всяческое содействие. Без их направляющих
советов, равно как и без их долготерпения и понимания наших
проблем, мы не смогли бы выполнить свою задачу.
Однако в гораздо большей степени, чем прежде, эта рабо а
показала нам с отрезвляющей ясностью, насколько сложно вести
репортаж из Ватикана, так сказать, «изнутри». В особенности
когда речь- идет о нынешнем, самом противоречивом и спорном
папстве в современной истории. С самого начала мы были готовы
к тому, что будут предприниматься попытки увести наши поиски
в сторону или даже направить их по ложному следу. В этом
отношении, кстати, папский престол не слишком отличается от
светских учреждений. Помощники папы, ведающие дипломатией,
непревзойденные мастера по части дезинформации, они не
уступают своим коллегам в Вашингтоне, Лондоне и других
столицах.
Но все это было предсказуемо. Однако полной неожидан-
ностью явилось наше тесное соприкосновение с деятельностью
разведывательных служб, пасущихся на тучных ватиканских нивах,
58
и возникшая в результате этого реальная угроза нашей жизни.
Да и вообще, оглядываясь назад, признаемся: мы действитель-
но многого не ожидали, когда в день начала нашей работы сидели
с отцом Ламбертом Гринаном, редактором издающегося в Вати-
кане еженедельника на английском языке, расспрашивая его, что
за человек папа Иоанн Павел 11. Ответ на этот вопрос содержится
в пухлых дневниках, которые мы вели все 19 месяцев нашего
исследования в Риме и других местах.
Окружение Иоанна Павла II иногда удивляло нас, иногда
ставило в тупик, а то поражало и забавляло. Порой же вызывало
страх.
Мы беседуем с Гринаном. Наш собеседник не спешит
с ответом. И не потому, что не любит прямых ответов. В неко-
торых случаях его суждения четки и определенны, скажем, когда
предстоит выбрать тот или иной сорт вина или блюдо в меню. Но
как только речь заходит о папстве, он предпочитает, так сказать,
косвенную, а не прямую речь. То, на что он только намекает или
о чем умалчивает, не менее важно, чем то, что он говорит: порой
характерный жест в состоянии поведать больше, чем любые
слова.
Мы говорим ему, что надеемся с его помощью разобраться
в циркулирующих в кулуарах Ватикана слухах. Из разных источни-
ков нам доводилось слышать о том, что нынешний папа, вопреки
традиции, все больше играет роль пророка: он куда лучший
проповедник, чем администратор.
Гринан отвечает, что даже хорошо информированные католи-
ки зачастую не отдают себе полного отчета в происходящих
переменах, поскольку в настоящее время взаимоотношения
между папой, с одной стороны, и аппаратом, с другой, находятся
в процессе переосмысления. Иоанн Павел 11 предпочитает сам
принимать все главные решения и продолжает твердо излагать
свои основные принципы. Он делает все от него зависящее, чтобы
воплотить в жизнь свои убеждения — как религиозные, так
и политические, прекрасно понимая, что далеко не все из
сделанного им будет правильно расценено остальным миром. Его
правление отличается динамизмом, редко наблюдавшимся у его
Предшественников. Многие проблемы, возникающие сегодня, не
регулируются ни папскими указами, ни приказами, издаваемыми
конгрегациями, а предоставляются естественному ходу событий.
Иными словами, церковь теперь должна справляться с ними сама.
Конечно же, Иоанн Павел 11 ответствен за выработку церковных
доктрин, но не он один определяет и формулирует политику
церкви. И это весьма многообещающее начало.
...Обед с Генри Мак Конначи из Радио Ватикана. Мы
беседовали с ним в отеле «Эксельсиор» на Виа Венето. Мак
Конначи облачен в строгого покроя пиджак и узкие брюки. Он как
бы задал тон всей беседе, сообщив шепотом, что человек,
сидящий неподалеку от нас, работает на ЦРУ.
Мы пропустили это замечание мимо ушей. Мак Конначи, как
нам стало известно, прямо-таки обожает всякого рода шпионские
страсти. Это во многом затрудняет общение с радиокомментато-
ром: ведь никогда не знаешь, где кончается правда и начинается
розыгрыш.
В конце обеда он как бы невзначай замечает, что все
радиопередачи его коллеги Клариссы Мак Нэйр ЦРУ записывает
на пленку и передает лично послу Рейгана в Ватикане Уильяму
Уилсону. Последний, по всей вероятности, собирает эти записки
в качестве вещественного доказательства антиамериканской
позиции Радио Ватикана.
Между тем репутация объективного освещения событий
ватиканским радио общеизвестна: трудно себе представить,
чтобы кто-либо из его комментаторов мог позволить себе
подрывать тот нейтралитет, который стремится поддерживать эта
радиостанция в своем освещении событий. Однако у рейгановско-
го посланника должны, тем не менее, быть свои причины для
беспокойства, вынуждающие его собирать такого рода «улики».
И к чему ЦРУ заниматься сбором материалов против сотрудника
Радио Ватикана? Пусть вся эта история и отдает «Уотергейтом»,
мы, однако, не вправе ее игнорировать ибо это еще одно
свидетельство того давления извне, которое оказывается на
папский престол...
В Ватикане, как оказалось, можно приобрести секретную
информацию, скажем, сведения о происходящем за закрытыми
дверьми Зала синода двухдневном заседании, где обсуждается
письмо американских епископов. Заседание еще продолжается и,
если не пожалеть денег, то можно узнать, кто и что говорил, кто
и в каком духе отвечал, кто сделал особенно ядовитое замечание,
кто смог достойно парировать удар, кто вышел из себя, кого
прервали в середине выступления, а кто промолчал и почему он
это сделал. Те, кто поставляют эту информацию,— их называют
«кротами»,— должны уметь объяснять причины происходящего,
привязывая их к тому, что высокопарно именуется «позицией
Ватикана».
Мы неизменно придерживались в своей работе принципа,
ничего не покупать за деньги. Но до чего же иногда интересно
потолкаться на ватиканском «базаре»!
...Кампо ди Фьори в центре Рима, место, где Святая палата —
инквизиция — публично сжигала, еретиков. На месте столба,
к которому привязывали приговоренного к сожжению, сейчас
памятник. Сама же площадь, где трава и цветы давно заменены
булыжником, стала рынком. Наш собеседник доктор Руди
замечает, что рыба, которую тут продают, часто не свежая,
а мороженая, а грейпфруты поступают из Южной Африки. Знать
такого рода подробности — его хобби.
Пока мы пересекаем базарную площадь, он продолжает
изумлять нас своей осведомленностью. Здесь, на этом самом
месте, замечает доктор, в 1978 году он встретился с одним из
членов организации «Красные бригады», чтобы обсудить условия
освобождения близкого друга папы Павла VI Альдо Моро. Если
бы выработанный тогда план сработал, говорит он, это был бы
«настоящий триумф» для той разведслужбы, которую он
представляет. Но к несчастью, это оказалось всего лишь одной из
тех неудачных попыток, которые Руди уже давно научился
принимать как неизбежное зло в своей работе.
За год до этого, когда мы впервые встретились с ним в Вене, то
понятия не имели, что именно привело Руди в австрийскую
столицу В Риме, по его словам, у него дипломатическое
прикрытие (больше он ничего по этому поводу не сказал) для
деятельности в БНД, западногерманской спецслужбе. Он умен,
хитер, как лиса, и по специальности юрист. Из разговора выясняет-
ся, что он многое знает из того, что на своем языке называет
«итальянише культур», а также хорошо посвящен в интимные
подробности сексуальной жизни именитых римлян.
По его словам, ему доставляет удовольствие время от времени
помогать нам в наших исследованиях. Для нынешней встречи
59
с нами (Руди, как и многие другие сотрудники БНД, употребляет
для этого термин абвера — «трефф») наш собеседник выбрал
небольшой ресторанчик на одной из боковых улочек. Чувствуется,
что его здесь знают; нас сразу же усаживают за столик в глубине
зала, отгороженный от остальных.
Мы просим Руди объяснить, не связано ли появление
автомашины на заброшенной автостраде в Ирландской Республи-
ке с покушением Агджи на жизнь папы.
На первый взгляд факты обманчиво просты. Зарегистрирован-
ная в Британии автомашина марки «БМВ» через Ирландское море
была переправлена на пароме в Росслар. За рулем машины
находился некто Геррит Кустерс, голландец по национальности,
а единственной пассажиркой была Мэри Маккарти, ирландка,
близкая приятельница Геррита. Их связывала не только интимная
близость, но и нечто более необычное: оба они были в Бейруте
друзьями Фрэнка Терпила. Их видели вместе вплоть до момента
его исчезновения в ноябре 1981 года через восемь месяцев после
выстрела Агджи на площади Святого Петра
Между тем, по утверждениям Агджи. именно Терпил готовил
его к покушению на папу (в кругах, близких к спецслужбам в Риме,
возник даже специальный термин: «след Терпила»). Если так, то
вывод убийственный: ЦРУ на том или ином уровне могло быть
замешано в заговоре с целью убийства папы римского!
«БМВ», на котором путешествовал Кустерс, принадлежал жене
Терпила Мэрилин. После таинственного исчезновения Терпила из
бейрутской квартиры — а некоторые агенты спецслужб в Риме (но
не Руди) считают, что трое незнакомцев, в чьем сопровождении
Терпила видели в последний раз, были людьми ЦРУ — его жена
перебралась в Англию и жила у Кустерса и Мэри Маккарти.
Неожиданно миссис Терпил надумала ехать в Нью-Йорк
и попросила своих друзей продать ее автомашину, пока она будет
за океаном. Едва она сошла в аэропорту Кеннеди, как ее задержа-
ли, предъявив обвинение в участии в подпольной торговле
оружием, поставлявшимся Уганде во время правления Иди
Амина. Впрочем, вскоре ее выпустили под залог.
Итак, Кустерс и его подруга Мэри Маккарти в Ирландии. Среди
ее вещей находится также и зеленая папка, где хранятся телексы,
копия завещания Терпила, несколько таможенных деклараций
и телефонная книжка еще одного близкого друга Терпила —
некоего Гэри Корколы. В то время он как раз находился
в мадридском централе: как и Терпила, его также разыскивала
американская Фемида. До этого Коркола был осужден в
Нью-Йорке по обвинению в контрабанде оружия.
Агенты ФБР умыкнули Корколу из его мадридской камеры,
после того как местный судья выдал ордер на его выдачу. Через
двое суток он предстал перед окружным судом в Манхэттене, где
ему предъявляют обвинение в «участии вместе с бывшим
сотрудником ЦРУ в нелегальной продаже оружия Уганде». Жена
Терпила Мэри проходила по тому делу как соучастница преступ-
ления
Вернувшись в Лондон, Мэри Маккарти стала проявлять
беспокойство. Она была убеждена, что за ней установили слежку
ЦРУ или еще какая-то спецслужба с целью запугивания Ее
телефон, полагала Мэри, прослушивается, на улице за ней
постоянно пристраивался «хвост»: ее жизни, она чувствовала это,
угрожает опасность. В конце концов она вылетела в Ирландию,
чтобы быть там с единственным человеком, которому она могла
довериться в этой крайне тяжелой ситуации. Это был ее брат
Джон, агент по рекламе, проживавший в Дублине.
Он-то и связался с нами.
Хотя обычно мы предпочитаем работать в тандеме, время от
времени все же действуем поодиночке. Так было и на сей раз,
когда один из нас оставался в Риме, в то время как другой
отправился в Ирландию для выяснения этой истории.
Джон Маккарти рассказал следующую невероятную историю.
Более того, он согласился записать ее на пленку. По его словам.
Терпил использовал аэропорт Хитроу в Лондоне для отправки
контрабандного оружия, направлявшегося на Средний Восток.
В этих операциях ему помогал один высокопоставленный
сотрудник Счотленд-ярда; по всей вероятности, он полагал, что
Терпил по-прежнему является человеком ЦРУ. Маккарти так
и сыпал именами и датами. Во время магнитофонной записи Джон
несколько раз заявлял, что настоятельно советовал своей сестре
Мэри прибегнуть к единственному для нее средству спасения она
должна «публично обнародовать» ту информацию, которой
располагает. Именно по этой причине, с ее согласия, он и вступил
в контакт с нами.
На следующий день Мэри в течение двенадцати часов
записывала на пленку пространное заявление, касавшееся содер-
жимого зеленой папки. Среди хранившихся в ней документов
была, в частности, телефонная книжка, которую Коркола дал ей
перед своим арестом в Испании. В ней были записаны телефоны
секретных служб в Лондоне, Нью-Йорке, Вашингтоне, Мехико,
Дамаске, Бейруте, Париже и еще нескольких европейских
городах. Другие документы указывали на контакты с высокопос-
тавленным сотрудником Скотленд-ярда. Мэри дала свое согласие
на то, чтобы сделать фотокопии всех имевшихся в ее распоряже-
нии документов.
Но затем (подобное, впрочем, уже случилось с ней в Лондоне)
она запаниковала. Мэри испугалась, что, вняв совету брата
«раскрыться» и обнародовать все известное ей, она лишь увеличит
опасность. Она рассказала свою историю старому другу, Кэвину
Малкэю, который в свое время также «раскрылся». Этот человек
раньше работал в ЦРУ вместе с Терпилом. Потом он встречался
с ним в Бейруте, пока между ними не пробежала кошка. Малкэй
вернулся в Вашингтон, публично поклявшись «расквитаться»
с Терпилом во что бы то ни стало. И вот теперь этого человека
нашли мертвым. Мэри Маккарти убеждена: речь идет о самом
настоящем убийстве. Го же самое будет и с ней,* если «они»
узнают, что она «заговорила». Одолеваемая столь мрачными
предчувствиями, Мэри исчезла с нашего горизонта так же быстро,
как и появилась.
Вскоре после ее исчезновения одному из нас позвонил
человек, отрекомендовавшийся агентом ирландской секретной
службы. По его словам, нам грозил арест за нарушение какого-то
(тут он был весьма расплывчат) закона Ирландского государства.
В ответ на это мы сочли за лучшее связаться с ирландской военной
разведкой, а пока суд да дело, наняли в Дублине адвоката. И с той
и с другой стороны мы получили заверения, что никакая опасность
ареста нам не грозит. Когда ирландская разведка ознакомилась
с теми сведениями, которые предоставили в наше распоряжение
Мэри и Джон Маккарти, она пришла к заключению, что фаль-
шивый звонок по телефону являлся столь серьезной потенциаль-
ной угрозой, что нам следовало выделить в качестве охраны
вооруженного агента на 24 часа в сутки, чтобы предупредить
возможные дальнейшие действия лжедетектива.
Ирландская полиция, однако, оказалась неспособной дать
ответы на некоторые кардинальные вопросы. Например, можно
ли верить брату и сестре, которые независимо друг от друга
утверждали, что в то время, когда Терпил занимался тренировкой
Агджи, он все еще находился в числе сотрудников ЦРУ? Далее:
было ли точным утверждение Мэри Маккарти, основанное на
документации из ее зеленой папки, что «Фрэнк был и все еще
остается сотрудником ЦРУ»?
Можно ли было верить Джону Маккарти, когда он излагал
подробности телефонного разговора между Мэрилин Терпил и ее
мужем в декабре 1982 года, во время которого Терпил, по словам
Джона, дал понять, что «он сидит на мели, оказавшись без денег
по вине Компании*, пытавшейся его прижать». И наконец, следует
ли принимать всерьез брата и сестру Маккарти, заявлявших, что
Терпил и сейчас продолжает играть самую опасную роль, которая
только возможна: «агента-двойника с глубоким проникновением»
на Средний Восток?
Мы передали Руди пленку с рассказом Джона Маккарти
и копии, снятые с показаний его сестры, попросив его ответить на
оставшиеся неясными вопросы. Во время сегодняшнего обеда,
когда мы переходим к кофе и траппе2, агент БНД, похоже, говорит
более откровенно, чем его коллеги из ирландской спецслужбы.
У него, к примеру, не вызывает ни малейшего сомнения, что
человек, звонивший нам по телефону и угрожавший якобы от
имени ирландской разведки, на самом деле агент какой-либо из
разведывательных служб, действующих на ирландской террито-
рии. Таким образом речь шла пусть и о грубой, но все же
несомненной попытке запугать нас. Причина? Руди убежден: мы
скорей всего набрели на что-то важное, «что растревожило
осиное гнездо»...
1 Так называют ЦРУ его сотрудники.
Итальянская виноградная водка
60
Мы вопрошающе смотрим друг на друга. Руди заказывает
всем еще по порции граппы. Затем начинает сперва задавать
вопросы, а потом сам же на них отвечает.
Если допустить, что Терпил все еще работал на ЦРУ, то
поставил ли он свое агентство в известность, что занимается
подготовкой Агджи? Скорей всего, нет. В этом не было бы особой
нужды. На той стадии Агджа был всего лишь одним из террорис-
тов. Конечно, не совсем обычным: ведь его разыскивали в Турции
по обвинению в убийстве, а «Интерпол» числил его в своем
Красном списке. Но в лагере, где готовятся террористы, это едва
ли можно было считать чем-то из ряда вон выходящим. Он был
просто одним из примерно сотни молодых головорезов, ко-
торыми в то время занимался Терпил: у каждого из них, несмотря
на молодость, уже была за плечами бурная жизнь.
Знал ли Терпил заранее о предстоящей миссии Агджи?
Сомнительно. Ведь сам покушавшийся на жизнь папы римского
признал, что инструкции были получены им незадолго до
покушения.
Информировал ли Терпил свое начальство после покушения
о том, что причастен к нему?
— Они еще будут спрашивать! — восклицает Руди. — Это же
второй главный вопрос, который возникает сразу после первого,
а именно: был ли Терпил агентом-двойником с одобрения своей
Компании? Ответа на него мы не знаем.
Наш собеседник продолжает задавать вопросы и отвечать на
них. Знает ли ЦРУ, где сегодня находится Терпил? Если он жив, то
безусловно. Для агентства это было бы вопросом престижа, даже
в том случае, если Терпил находится в бегах, скрываясь от
американской Фемиды.
Следующий вопрос: почему ЦРУ в таком случае его не
задержало? Это, пожалуй, наиболее интригующая часть всего
«сценария». У ЦРУ наиболее широкие возможности для «достав-
ки» таких типов, как Терпил,— если агентство этого действительно
хочет. Но что если он стал чересчур компрометирующим
свидетелем? Все его поведение (хотя оно, конечно же, могло быть
всего лишь, так сказать, прикрытием) в течение года, предшество-
вавшего его исчезновению в Бейруте, было в высшей степени
экстравагантным. Достаточно сказать, например, что он появился
на телеэкране в фильме о самом себе с характерным названием
«Самый опасный человек в мире». Он рассказал, в частности, что
был одним из наемников в «командах убийц» у Иди Амина
в Уганде, а также принимал участие в создании обстановки общей
дестабилизации на Среднем Востоке
Просмотрев весь фильм, Руди, по его словам, вынес твердое
убеждение, что если сейчас Терпил и не работает на ЦРУ, то
сохранил с ним весьма крепкие связи. Дело в том, что сниматься
в такого рода фильме — дело не вполне обычное для сотрудника
спецслужбы. Если Терпил действительно «работает двойником»
с ведома и согласия Компании, то для появления в подобном
фильме ему наверняка нужно было получить добро от ЦРУ. Если
же, с другой стороны, он в это время скрывался от ЦРУ, то фильм
безусловно должен был послужить толчком для того, чтобы
контора в конце концов «словила» его.
Но предположим, что Терпил был бы пойман и упрятан
в тюрьму. Это сделало бы его постоянным источником беспо-
койства для боссов, поскольку он непредсказуем и мог бы сделать
какие угодно заявления: телефильм с его участием не оставлял ни
малейших сомнений насчет способности Терпила компрометиро-
вать всех, о ком он говорил. Отсюда следуют два возможных
варианта. Первый: Терпила не «словили» по той простой причине,
что он мертв — убит, чтобы избежать возможных разоблачений,
самим ЦРУ или через подставных лиц. Второй: агентство все еще
использует Терпила в качестве тайного сотрудника на Среднем
Востоке. Уже одно это обстоятельство было бы достаточным
основанием для попыток ЦРУ представить Агджу как фанатика-
одиночку, неуравновешенного человека, движимого только
религиозными страстями в своей решимости убить папу.
...Руди медленно цедит граппу из своего стаканчика.
— Хотите знать, как я сам считаю? — спрашивает он. — Мой
внутренний голос говорит мне, что Терпил жив и работает
двойником. Вот поэтому-то ЦРУ и тревожится: а вдруг «след
Терпила» всплывет? В ЦРУ этому, понятно, никто особенно не
обрадуется.
И еще в одном Руди был уверен: мы поступили абсолютно
правильно, ознакомив монсеньора Кабонго, секретаря папы,
с пленками и документами брата и сестры Маккарти. Кстати, это
был далеко не первый случай, когда мы передавали Ватикану
полученную нами информацию.
Что касается «дела Маккарти», то Кабонго попросил разреше-
ния оставить у себя на несколько дней переданные ему
документы, чтобы снять с них копии. Впоследствии он сказал нам,
что дело внимательно изучалось в Государствеином секретариате
и папа Иоанн Павел 11 сам слушал часть магнитозаписи, сделанной
Джоном Маккарти.
...Слова Руди укрепляют наше впечатление, что переданные
нами сведения сыграли свою роль в том, о чем Камилло Сибин,
начальник службы безопасности Ватикана и сотрудники Госу-
дарственного секретариата сейчас говорят в открытую. А именно:
в осознании возможной «причастности» ЦРУ — через Терпила —
к покушению на жизнь папы. Но как именно? И на каком уровне?
И самое главное: каковы шансы удостовериться в конце концов,
замешано ЦРУ в этом деле или нет?
...Наш новый собеседник — американский посланник в Ватика-
не Уильям Уилсон. Мы сидим в его апартаментах в доме № 1 на
площади делла Сита Леонина, которая почти вплотную прилегает
к ватиканским стенам. Получается таким образом, что Уилсон —
самый «близкий» к папскому престолу из зарубежных эмиссаров.
Миссия США расположена на первом этаже этого здания XVI
века. Офис Уилсона только что отремонтирован, в нем еще
сохраняется запах скипидара. В кабинете несколько безупречно
белых пепельниц, на модерновых стульях и софе — пухлые
бежевые подушечки. В витрине это смотрелось бы превосходно.
Как всегда, Уилсон выглядит типичным представителем
американского образа жизни в его рекламном варианте. Может
быть, и помимо своей воли, но впечатление он производит такое,
словно думать о столь низменном предмете, как деньги, ему
никогда в жизни не доводилось. Сидя здесь, в своих владениях,
под огромным, во всю стену, звездно-полосатым флагом, он
выглядит спокойным и удовлетворенным.
Наискосок от него, расположившись так, чтобы в любой
момент уловить малейшее желание шефа, Майкл Хорнблоу. Он
61
выглядит напряженнее, чем когда бы то ни было. На лице застыла
искусственная улыбка, а веки напоминают затворы фотоаппарат:
кажется, слышны даже характерные звуки: «флик», «флик»,
«флик», Словом, весь его вид говорит о крайней степени подозри-
тельности.
Наш первый вопрос к Уилсону: каким именно образом он
получил свою нынешнюю должность, ведь до этого он как будто
был торговцем недвижимостью в Калифорнии, не так ли?
А теперь ему приходится иметь дело совсем с другим «товаром»
и в другом месте: «продавать» политику в Ватикане. Конечно же,
свой вопрос мы формулируем более вежливо.
Президентский посланник явно наслаждается рассказом
о своей карьере, которой он безусловно обязан «особым
отношениям» с Рейганом. О карьере, показывающей, как
президент США делает свой выбор, когда речь идет о человеке
для столь ответственного поста, как этот.
- — Сижу я это у себя дома в Калифорнии,— начинает свой
рассказ Уилсон,— дело было вскоре после президентских выбо-
ров. Сижу и думаю: «До чего же здорово, что Рейган попал
в Белый дом|» В этот момент вдруг зазвонил телефон. И
представляете, это был сам Ронни, то есть, виноват, сам прези-
дент. (В том, как он поспешно извиняется за невольно вырвав-
шееся чересчур фамильярное слово, нет никакого специального
расчета: это всего лишь напоминание, что для всех Рейган сейчас
только «президент» — для всех, кроме ближайших друзей, таких,
как он, Уилсон). Да, на проводе был сам президент. «Послушай,
Билл,— обратился он ко мне,— как тебе папский престол, а? Я бы
очень хотел, чтобы ты отправился туда моим представителем».
Я так и остолбенел. «Подождите,— отвечал я ему,— пока жена
подойдет к телефону». Тут я крикнул ей, чтобы она взяла трубку
параллельного аппарата. Она как раз была в спальне, а я сидел
у себя в рабочем кабинете. Когда она сняла трубку, я сказал:
«Мистер президент, будьте добры повторить то, что вы мне
только что сказали!» Он повторил все — слово в слово. Тогда
я сказал: «Согласен. На все сто!»...
— Вот и вся история,— заканчивает он. — Через пару дней
я был уже в пути.
...На протяжении веков Ватикан всегда был одной из
центральных «мишеней» для различных спецслужб. И сегодня он
остается важнейшим и богатейшим хранилищем подлинных тайн,
притягивающим, подобно магниту, шпионов всех без исключения
оттенков и вероисповеданий, стремящихся пробраться туда
и заполучить в свои руки крайне актуальную политическую,
экономическую и религиозную информацию, которая поступает
в Ватикан от папских нунциев, пронунциев и апостольских
посланников, регулярно посылающих свои отчеты в Госу-
дарственный секретариат.
Что касается основного источника тайной информации для
самого Ватикана, то им безусловно является ЦРУ, которое явно
доминирует над всеми другими. С того самого дня, почти сорок
лет назад, когда один из отцов — основателей ЦРУ генерал
Уильям («Дикий Билл») Донован был удостоен аудиенции у папы
Пия XII и получил из его рук Большой крест ордена Святого
Сильвестра,— старейший и самый почетный знак отличия, вру-
чаемый, как гласит статут, лишь за «выдающиеся достижения на
ратном поприще, в литературных или иных трудах по утвержде-
нию веры, защите и возвышению церкви». Центральное раз-
ведывательное управление США остается постоянным советчи-
ком Ватикана в сфере разведки.
.Как-то, вернувшись к себе в номер отеля, мы решили
заняться оценкой той роли, которую играет ЦРУ при нынешнем
папе. При этом мы, так сказать, вынесли за скобки все то, что
сообщил нам на сей предмет Руди, и все то, что уже знали сами
(например, тот факт, что агентство проводит еженедельные
брифинги, что недавно увеличено число штатных сотрудников
в римском отделении ЦРУ, вновь образована оперативная группа
в штаб-квартире Управления по «изучению» обстоятельств
покушения на папу (весьма забавное решение, учитывая исходную
посылку ЦРУ, что Агджа был «одиночкой» или, на худой конец,
подставным лицом мусульманских религиозных фанатиков). Итак,
мы вынесли все это за скобки, а в них оставили один-единственный
вопрос, над которым принялись ломать голову каково более
глубокое влияние этого разведывательного агентства на папский
престол, римско-католическую церковь в целом и ее главу, папу,
в частности?
Для этого мы тщательно просмотрели весь собранный нами
материал. Он достался нам из разных источников, таких, как
кардинал Кениг, майор Отто Кормек из разведслужбы Австрии,
главный комиссар по уголовным делам Ганс-Георг Фукс из БКА
в Висбадене, конечно же, Руди, архиепископ Алибранди из
Дублина и ряд сотрудников самого Ватикана. Добавьте доку-
менты, которые собрали наши помощники: среди них, к примеру,
статья Мартина Ли в июльском номере журнала «Матерь Джоунс»
за 1983 год или материалы, написанные Роландом Фламини.
И последнее были еще «совершенно секретные» сведения
(именно так они у нас помечены), которых мы никому не по-
казываем. Они получены нами из первых рук: от послов,
аккредитованных либо в самом Ватикане, либо в Риме- И вся эта
внушительная гора материала дает весьма обстоятельный ответ на
вопрос, какова роль ЦРУ в Ватикане сегодня.
Вкратце ответ, нам кажется, таков: сегодня ЦРУ так же близко
стоит к папе, как телефон, всегда находящийся под рукой у его
директора Уильяма Дж. Кейси3. При нем эти связи стали еще
теснее и «интимнее».
Не секрет, что именно ЦРУ информирует главу Ватикана,
притом весьма регулярно, о положении, скажем, в Центральной
Америке, доставляя ему проверенные данные о размерах
влияния там «теологии освобождения», сообщая свежую инфор-
мацию о поведении левых церковников в Никарагуа, Сальвадоре,
а также других «горячих точках» континента, где пересекаются
сферы интересов папского престола и Соединенных Штатов.
И хотя папа получает, конечно же, аналогичную информацию от
своих кардиналов, епископов и нунциев, успокоительно, когда эти
сведения подтверждаются по каналу ЦРУ.
Мы также вспоминаем о том, что Уильям Кейси — член
мальтийского военного ордена. Это весьма престижный вати-
канский орден, который берет свое начало со времен крестовых
походов, когда «воины-монахи» выступали в качестве железной
руки католической церкви. И сегодня орден не стал историческим
анахронизмом, как можно было ожидать, а обладает статусом
нации-государства. К примеру, он, подобно Ватикану выпускает
собственные марки и чеканит собственные монеты, не говоря уже
о том, что у него есть свой дипломатический корпус, члены
которого аккредитованы в сорока одном государстве, включая
и Ватикан. Магистр ордена по церковной иерархии считается
кардиналом, а восьмиконечный мальтийский крест служит
напоминанием о традициях госпитальерского прошлого: члены
ордена все еще помогают больным, увечным и оказывают со-
действие международным организациям помощи жертвам голода
и стихийных бедствий.
Большая часть членов ордена—а всего их насчитывается
десять тысяч — отпрыски старейших, при этом самых богатых
католических семей Европы. Орден вовсе не является организа-
цией, заботящейся об одних лишь традициях. Рыцари ордена —
могущественные и весьма влиятельные мужчины и женщины,
занимающиеся не одной только благотворительностью.
Будучи во многих отношениях безусловно филантропическим
по своему характеру обществом, орден в то же время является
весьма удобным каналом связи между ЦРУ и папой. Хо< я контора
ЦРУ в Риме по-прежнему остается, так сказать, рабочим «рыча-
гом», используемым для такого рода связей. Мальтийский орден
служит идеальным прикрытием для главы ЦРУ. И Ватикану,
и разведуправлению прекрасно известно, что сегодня в гораздо
большей степени, чем когда бы то ни было, папскому престолу
непозволительно открыто связывать себя с политическими целями
ЦРУ и администрации президента Рейгана. Поэтому-то с помощью
мальтийского ордена, являющегося для США почетным об-
ществом ведущих католиков страны, для ЦРУ открывается более
широкие и надежные контакты с Ватиканом, чем с помощью
своего римского отделения.
Именно действуя с помощью ордена, шеф ЦРУ получил в свое
распоряжение хитроумный канал связи, позволяющий его учреж-
дению косвенным и, так сказать, неформальным образом
обмениваться с Ватиканом мнениями и идеями. Давно канули
8 Недавно скончавшийся шеф ЦРУ, замешанный, в частности, в так наз.
«Ираигейте», как и в ряде других скандальных махинациях.
(Прим, л е р е в.)
62
в Лету те времена, когда прежний директор ЦРУ Джон Маккоун
(сам, кстати, член ордена) должен был лично лететь в Рим, чтобы
убедить тогдашнего папу Иоанна XXIII принять позицию ЦРУ по
тому или иному вопросу. В наши дни шефу ЦРУ этого делать не
приходится. Более того, ему даже не требуется звонить папе по
телефону. В мальтийском ордене есть могущественные эмиссары,
способные донести взгляды ЦРУ до Иоанна Павла II тем неофи-
циальным путем, который сохраняет видимую дистанцию между
агентством и Ватиканом.
С помощью еженедельных брифингов для папы и «нефор-
мальных» бесед с Иоанном Павлом 11 различных визитеров —
рыцарей мальтийского ордена — ЦРУ разъясняло занимаемую
им позицию в отношении стратегической концепции, в свое время
сформулированной предшественником Кэйси Ричардом Хелм-
сом. Речь идет о новой интерпретации доктрины по борьбе
с религиозным диссидентством. При этом Кейси заверил папу, что
цель его нынешней стратегии в данном вопросе одна-единствен-
ная, а именно: «благо» церкви.
...О связях ЦРУ с любимым папским тайным обществом Опус
деи нам рассказал Мак Конначи из Радио Ватикана. Этот орден
пользуется молчаливой поддержкой многих епископов в Чили, где
ЦРУ со своей стороны оказывает ему финансовую поддержку,
разумеется, косвенную. Сообщается, что разведывательное
управление США также предоставило в распоряжение Опус деи
досье на иезуитов, которые позволяют себе оспаривать папские
высказывания и занимаются политическими проблемами, против
которых выступает ЦРУ. Более того, как раз ЦРУ и посоветовало
Иоанну Павлу 11 побудить это тайное общество начать операции
в Польше.
Просматривая еще раз весь собранный нами материал, мы
пришли к ошеломляющему выводу: вполне возможно, что уже не
имеет значения, хочет или не хочет нынешний папа оградить свой
престол от влияния ЦРУ. Он, к примеру, вполне может отменить
еженедельные брифинги, которые проводит для него ЦРУ. Он
также может строго-настрого запретить все контакты курии
с агентством. Он мог бы направить директиву всем католическим
священникам, предупредив их о том, чтобы они не имели никаких
отношений с людьми, хотя бы отдаленно напоминающими агентов
Компании. Но все равно ЦРУ было бы в состоянии добраться до
папы Иоанна Павла 11 — как через рыцарей мальтийского ордена,
так и с помощью членов Опус деи. Те, кто сообщает папе точку
зрения Компании, могут и не знать, как, впрочем, и сам папа, что
они выполняли ее поручение. Здесь-то и зарыта собака!
Однако возможность такого влияния порождает даже еще
более тревожную перспективу на будущее. ЦРУ отдает себе
отчет, что католическая церковь больше уже не является, как
прежде, монолитной. По целому ряду вопросов она разобщена.
Все чаще папа Иоанн Павел II обнаруживает, что находится, так
сказать, на пересечении схлестывающихся друг с другом
идеологий. До сих пор ему, правда, как-то удавалось успешно
примирять их между собой. Однако может наступить такой день
(и, возможно, гораздо быстрее, чем мы полагаем), когда папа уже
не сможет этого делать. Поскольку половина всех католиков
к концу нынешнего столетия будет приходиться на страны
третьего мира, папе придется энергичнее, чем до сих пор,
выступать с осуждением тех самых диктаторских режимов,
которые сегодня поддерживает ЦРУ.
Сделает ли тогда ЦРУ то, что сегодня кажется попросту
невероятным, попытается ли дестабилизировать то самое папство,
которое оно теперь столь ревностно поддерживает? Оправдается
ли тогда изречение, которое в большом ходу в Латинской
Америке: «Когда Компания идет в церковь, можете быть
уверены, что она делает это не ради молитвы»? Посмеет ли оно
относиться к одной из самых почитаемых в христианском мире
фигур так, словно бы речь шла об очередной марионетке,
которую дергают за веревочку парни из Лэнгли?
...Одним из постоянных источников серьезной озабоченности
Ватикана служит положение в церковной жизни США. В отчетах
архиепископа Пио Лаги содержится весьма мрачная картина
растущего неповиновения — так сказать, по всему фронту
духовной жизни страны. В то же время в Центральной и Южной
Америке пышным цветом расцветает движение «теологии
освобож дени я»
И это при том, что изнутри папство при Иоанне Павле II
подвергается суровому испытанию на прочность. Все сказанное
объясняет, почему столь трудно в наши дни определить истинное
положение «святого престола» на международной политической
шахматной доске.
Сам он рассматривает себя не как политическую, а всего лишь
религиозную организацию. Воздействие, которое он оказывает,
безусловно является моральным, духовным, а не экономическим,
финансовым или военным. Но зато «святой престол» ставит перед
собой глобальные цели, которые выходят за рамки политических
границ. По словам одного из наших собеседников, многоопытного
члена курии отца Роберта А. Грэма, папский престол в Ватикане не
стремится отождествить себя с каким-либо из существующих
политических блоков, но постоянно пытается обеспечивать себе
свободу действий в интересах той поистине сверхъестественной
задачи, которую, как он полагает, возложил на него сам Иисус
Христос. Грэм добавляет, что нынешнее церковное руководство
«не может действовать в ряде «чувствительных» областей без
того, чтобы не навлекать на себя критическое осужде <ие, всегда
выпадающее на долю тех, кто имеет дело с миром человеческих
проблем».
Другая трудность Ватикана — тенденция стереотипизировать
роль «святого престола» и католической церкви во всеобщем
мировом порядке. Так, левые, по выражению Грэма, склонны
считать политику Иоанна Павла 11 религиозной рукой реакционных
сил, прямо-таки помешанных на страхе перед коммунизмом
и весьма мрачно настроенных по отношению к этой соперни-
чающей идеологии освобождения человечества. Ватикан готов
поддерживать статус-кво во имя сохранения порядка. В то же
время, если в этом возникнет необходимость, он готов на войну
«ради спасения мира от коммунизма».
...И снова встреча с Руди. На сей раз мы встречаемся за ужином
в ресторанчике «У Галеасси» в римском районе Трастевери. Сюда,
говорит Руди, в былые дни частенько захаживал Муссолини.
Неказистое заведение, но рыбный суп тут считается самым
изысканным в городе.
По-прежнему общительный, Руди с места в карьер бросается
объяснять нам очередную ватиканскую сенсацию — похищение
Эмануэлы, дочери одного из ватиканских служащих. Как и дело
Альдо Моро пять лет назад, кража этой девушки весьма заинтере-
совала его агентство. Особенно, говорит он, в связи с прозвучав-
шим недавно требованием об освобождении Агджи в обмен на
похищенную. Впрочем, по этой же причине нынешним делом
заинтересовалась не только БНД, но и с полдюжины западноевро-
пейских разведок, держащих Ватикан в фокусе своего внимания.
...Мы заканчиваем работу над книгой. И тут начали раздаваться
анонимные звонки с угрозами.
Первый — через девять дней после того, как мы встречались
с судьей Мартеллой, занимавшимся делом Агджи. Похоже было,
что женщина с явным американским акцентом зачитывает по
телефону заранее составленный текст: «Вам не следовало
передавать ваше досье Мартелле. Понятно?»
Затем тон звонков стал более грозным: «Нам не нравится то,
что вы делаете. Будьте осторожны или...»
Перевел с английского Ю. Сенин
Продолжение следует.
ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
После тяжелой болезни скончался видный советский ученый,
историк, религиовед и этнограф, член-корреспондент АН СССР
Иосиф Ромуальдович Григулевич. Его перу принадлежат более
300 работ, среди них получившие известность и переведенные на
многие языки книги по истории религии, о церкви в Латинской
Америке, серия монографий о героях национально-освободительно-
го движения в Латинской Америке.
И. Р. Григулевич был инициатором и одним из создателей
ежегодника «Религии мира. История и современность», десятитом-
ной серии «Религии в XX веке». Долгие годы Иосиф Ромуальдович
руководил редакцией «Общественные науки и современность».
Героический жизненный путь И. Р. Григулевича отмечен
высокими наградами Родины и других стран. Память о нем будет
жить в сердцах его соратников, коллег и читателей.
63
ЧУДАКИ
Начало на с. 57
«КЛЯНУСЬ
ВЫРАСТИ
НА ВОСЕМЬ
САНТИМЕТРОВ!»
Вам приходилось слышать
подобную клятву? Больше похо-
же на розыгрыш, верно? А вот
тренер детской спортивной
школы города Бердичев
В. А. Лонской слышал ее не раз.
История эта началась прозаич-
но: Рустам Ахметов ходил в
спортивную школу, занимался
прыжками в высоту, а вот фи-
зических данных, необходимых
для больших достижений, у него
не было. Ростом не вышел. В
шестнадцать лет — всего 164
сантиметра.
Пришел Рустам со своей бе-
дой к тренеру (верил он Викто-
ру Алексеевичу безгранично)
и, обсудив с ним программу
тренировок, написал расписку:
«Обязуюсь к сентябрю 1967 го-
да вырасти на восемь сантимет-
ров».
И началась нелегкая работа:
двести прыжков в день. Если
не выполнял норму днем, «до-
прыгивал» ночью. Основное
упражнение — «висы» на пере-
кладине — не менее пятнадца-
ти раз ежедневно. Плавание,
особенно брасс. При этом спо-
собе с каждым движением рук
и ног тело вытягивав гея
Прошел год. Рустам, как и
обещал, вырос ровно на восемь
сантиметров. Прошел еще год.
И снова восемь сантиметров.
Третью расписку он уже писал
на пять сантиметров. И эта вы-
сота была взята с первой по-
пытки. За три года Рустам стал
одним из лучших учеников Лон-
ского, а позднее и чемпионом
V Спартакиады народов СССР.
Такова история о человеке,
который вырос по собственному
желанию.
ЛЕЧИТ УЛЫБКА
Вы читали романы Н. Казин-
са? Речь пойдет об их авторе.
Норман Казинс страдал практи-
чески неизлечимым недугом,
анкилозирующим спандалитом
(разрушение соединительной
ткани позвоночника). Врач Ка-
зинса оценил его шансы на вы-
здоровление как один к пяти-
стам Что же сделал Казинс?
Прежде всего он переехал из
больницы в номер гостиницы,
где ничто не напоминало о бо-
лезни. И с тех пор стал радо-
ваться каждому прожитому
дню. Он смотрел самые весе-
лые кинокомедии, читал юмо-
ристические произведения. И
гнал прочь отрицательные эмо-
ции. Улыбка, радость, смех ста-
ли его постоянными спутника-
ми, а уныние, страх перед бо-
лезнью постепенно отступали в
самые дальние уголки сознания.
И что же? Норман Казинс стал
двигаться. Через несколько ме-
сяцев он вернулся к своим слу-
жебным обязанностям, а через
несколько лет вновь смог за-
ниматься верховой ездой, тен-
нисом и гольфом.
«Трудно определить,— пишет
Н. Казинс,— какие именно из-
менения происходят в челове-
ческом сознании и организме
под влиянием юмора, но нали-
чие такого влияния несомнен-
но».
Это подтверждают и специ-
алисты. Врачи видят: люди опти-
мистического склада характера
и болеют реже, и болезнь про-
текает у них легче. Недаром все
чаще поднимается вопрос об
использовании смеха в лечении.
А название этому направлению
в медицине уже есть — смехо-
терапия
КАК РОЖАЮТ
«МОРЖИ»!
Татьяна Дубинина стала за-
ниматься моржеванием после
рождения третьего ребенка. А
когда ждала четвертого, приза-
думалась. надо ли отказываться
от привычных водных проце-
дур? И решила рискнуть. Купа-
лась в проруби до последнего
дня беременности.
Денис рос, как в сказке —
не по дням, а по часам. Б ме-
сячном возрасте он выглядел,
как трехмесячные его сверстни-
ки.
Опыт этот не единичен. К на-
чалу третьей беременности у
ленинградки Светланы Русако-
вой был двухлетний стаж мор-
жевания. Ожидая ребенка, она
решила возобновить зимнее ку-
пание, после чего состояние ее
значительно улучшилось Сын
родился здоровым.
Мы уже привыкли к тому, что
во многих семьях дети научают-
ся плавать раньше, чем ходить.
Но почти ничего не знаем о де-
тях, ставших «моржами» еще
до рождения. Опыт их матерей
еще недостаточно изучен меди-
цинской наукой. Может быть,
пришло время сказать здесь
свое слово, ведь до сих пор
только 10 процентов новорож-
денных считаются абсолютно
здоровыми.
CONTENTS
Perestroika in Action, ф The Object of
Topmost Importance Is Man“ — an inter-
view with V. Zinchenko, Corresponding
Member of th_ i. ademy of Pedagogy of the
USSR (p ф “Quite a Recent Occuren-
ce”, by G. Belikova — the story of a militant
atheist becoming a true- Bible enthusiast
(p. 20] ф “A New Approach Is
Required’ — an article by I. Makatov on
new methods of promoting secular ideas in
Soviet Central Asia (p. 43)
Philosophical Readings; ф Ilyenkov,
“Spiritual Cosmology” — an vssay by the
late eminent Soviet philosopher (p. 4)
Reflections: * “Shamans, Witch-Do-
ctors, Phvsicians...”, bv G. Tzaregorodtsev
(p. 8, ф Tibetan М<з.с!"е in Russia”, by
T Grekova (p 11 ф 1'he Treasure of
Datshan” — an article by V. Goryainov on
the unique Atlas of Tibetan medicine whose
UNESCO-sponsored piiblicab",. is under
way in the USSR (p. 56 j ф “Medical
Symbols”, by Ye. Lazarev (p. 46) ф ‘The
Portrait”, by L Bednaya; “Identity Resto-
red”, by G. Nazloyan—an interview with
and an article by a Soviet psychotherapist
employing novel methods of treatment
(p. 26)
Publication*- ф ve. Zamyatin, “On a Mi-
racle Happening on Ash Wednesday...” —
a short story by the famous Soviet author
(p. 17) ф 'es, We Have No Nirvanas!” —
an essay by K- Vonneg„,, lr. (p. 38)
Horizons of Science: ф Does the Sleep
of Reason Bring Forth Genius?” — an
article by M. Dmitruk discussing marvellous
abilities people acquire under hypnosis
(Р- 22)
Christianity in Russia: ф ’ Jp the Stair-
case to Nowhere” — an article by A. Tkache-
va describes the techniques of going into an
altered states of consciousness adopted by
the Orthodox Church (p. Зт] ф “Witches'
Spells Today” - a study by N. Ipatova of
incantations that are in use in Russian
villages (p. 41)
Arts and Literature: ф ‘Blacman the
Good, Miracle-Peddler” — a short story by
G. Marques wit . e commentary of I. Pet-
rovsky (p. 32, ф .dummy's Siberian” —
a story by M Chuiaki (p. 50) ф “A Soul in
Quest of a Firm Ground” an essay by Ye.
Zavadskaya on S. Dali (p. 45)
At Readers' Request: ф Extracts from
the autobiography of clairvoyant W. Messing
(p. 48)
Religion Abroad: ф “Averting Armaged-
don”, by G. Thomas anu M. Morgan-Witts
(p. 58)
Сдано в набор 19.05.88. Ордена Ленина
Подписано к печати комбинат печати
30.06.88
А 10935.
60Х90/в.
Офсетная печать.
8 усл. печ. л.
9,75 кр. отт.
12,43 уч.-изд. л.
Тираж 480 000 экз.
Зак. 02728.
издательства
«Радянська УкраГна».
252047 Киев-47,
проспект Победы, 50.
Текст набран
с применением
отечественного
фотонаборного
комплекса «Каскад».
поиски
ДУХОВНОЙ ОПОРЫ.
Начало на с. 45
ного числа. Распятие строгих
геометрических форм вопло-
щает число восемь, олицетво-
ряющее земную гармонию;
Христос же, символизирую-
щий плотиновское Единое,
вместе с восьмеркой образу-
ет абсолютную, небесную де-
вятку. Возле распятия, изоб-
раженного в интерьере дома
Дали, написана Г ала — жена
художника, облаченная в тя-
желые «сурбарановские» зо-
лотистые одеяния. Если в
первом распятии Христос
предстает в своей божест-
венной природе, то во вто-
ром — его человеческая ипо-
стась.
Образы «небесной геомет-
рии» Дали черпал в средне-
вековых богословских сочи-
нениях. В его картинах они
воплощают надежду на су-
ществование абсолютных,
вечных ценностей, противо-
стоящих абсурду и хаосу.
Поистине вершина творче-
ства художника — велико-
лепное полотно «Тайная вече-
ря». Здесь и «воздух», и свет,
и конструкция; и сон, и явь, и
надежда, и сомнение. В цент-
ре большого горизонтально-
го полотна изображен Хри-
стос. Он в трех ипостасях. Как
Сын, пришедший на землю,
он сидит за столом со своими
учениками. Но приглядитесь:
он погружен по пояс в во-
ду — крестится водой, или
духом святым, и тем самым
воплощает вторую ипостась
троицы. Над ним призрачно
высится мужской торс —
словно часть композиции
«Вознесение» — возвраще-
ние к Богу-Отцу. Апостолы,
низко склонившие головы к
столу, молитвенно сложили
руки — они словно поклоня-
ются Христу или спят? Как из-
вестно из Евангелия, Христос
просил учеников не спать, по-
ка он молит Бога: «Эту чашу
мимо пронеси». Универсаль-
ность этой идеи очень точно
выразил наш поэт: «Не спи,
не спи, художник. Не преда-
вайся сну. Ты — вечности за-
ложник, У времени в плену».
Картина гармонична и свет-
ла, сочетания сине-голубых,
желто-золотистых красок
близки к цветовому строю
рублевской «Троицы». Труд-
но представить, что это соз-
дал тот же художник, в чьей
душе одновременно зреют
кошмарные образы ада.
Г. Гессе писал о подобных
духовных исканиях: «И эта
сила, которая заставляет че-
ловека мечтать о высших его
возможностях, которая снова
и снова уводит его прочь от
животного,— это, должно
быть, всегда одна и та же си-
ла, как бы мы ни именовали
ее,— сегодня- религией, завт-
ра разумом, послезавтра как-
то еще».
Пожалуй, как никто другой
Сальвадор Дали остро по-
чувствовал и выразил в своем
искусстве ту последнюю
грань (дальше — гибель, «ко-
нец света»), к которой при-
близился сегодня «этот без-
умный, безумный, безумный
мир». Лишь вечные духовные
ценности, по мысли художни-
ка, такие, как разум, добро,
красота, могут быть духовной
опорой человека.
Искушение св. Антония. 1946.
Фото С. Скрынников а.
ВДАЛИ
ОТ ШУМА
ВЕЧЕВОГО
Предание относит ос-
нование новгородского
Юрьева (Георгиевского)
монастыря к правлению
Ярослава Мудрого — Ге-
оргия в крещении. Но
достоверно известная ис-
тория обители начинается
прзже, с отмеченной ле-
тописью постройки ка-
менного Георгиевского
собора в И19 году. Этот
храм стоит и поныне —
трехглавый, асимметрич-
ный, с подчеркнутыми
вертикалями, с пристро-
енной башней, внутри ко-
торой лестница «не для
всех» ведет на небольшие
хоры и еще выше — в
расписанное фресками
помещение одного из
подкупольных бараба-
нов...
Редкий случаи для той
эпохи: летопись сообща-
ет не только имя заказ-
чика собора, князя Все-
волода Мстиславича, но
и творца — зодчего Пет-
ра. Исследователи при-
писывают Петру еще два
новгородских хрэма, а на
одной из фресок даже
угадывают его портрет,
Гордый, осанистый со-
бор Юрьева Монастыря,
вершина архитектурных
поисков Петра, стал свое-
образным символом Кня-
жеского тщеславия, его
оппозиции городу-гос-
подину. Новгородская Со-
фия и окружающий ее
кремль были во власти
епископа и Веча. Поку-
шаясь на Новгороде кие
вольности, князь Всево-
лод Мстиславич с частью
бояр составил заговор
и в результате оцаЗался-
таки на Софийском дво-
ре — в качестве заклю-
ченного. Продержав кня-
зя два месяца под стра-
нней, ему «показали
путь» — изгнали из го-
рода, а взамен «наряди-
ли» князя посговорчи-
вее, поскромнее.
Эта политическая сму-
та довольно сильно ото-
звалась -на ведении новго-
родского летописания. И
неудивительно, ведь Нов-
город XII века мы пред
ставляем сейчас как го-
род, что называется, то-
тальной письменности. В
одном из иноческих со-
чинений того времени да-
же задавался вопрос: не
грех ли — ступать ногой
на лежащую на земле гра-
моту? (Вопрос этот Стал
понятен историкам лишь
с открытием обширной
бытовой переписки на
берестяных грамотах ) Так
вот, если при Всеволоде
русская писаная история
редактировалась в кня-
жеском монастыре, то
после его Изгнания пе-
решла в ведение еписко-
па и была пересмотрена
(J вечевых позиций. Так
родился Софийский вре-
менник.
А Юрьев монастырь
остался опорой князей
Их заботами создана бы-
ла здесь образцовая по
тем временам канцеля-
рия В Георгиевском со-
боре хоронили предста-
вителей княжеского ро-
да, а затем и местного
боярского рода Мирош-
киничеи. В дни городских
волнений именно у стен
Юрьева монастыря бо-
ярская верхушка соби-
рала вооруженную силу
в поддержку любезного
чим князя.
Новгородские церков-
ные владыки рано полу-
чили почетный титул ар-
хиепископов, однако и на-
стоятели Юрьева мо-
настыря одними из пер-
вых на Руси стали носить
высшее монашеское зва-
ние архимандрита.
С присоединением Нов-
города к Москве обитель
перестала быть княжес-
кой, у нее отобрали мно-
гочисленные подаренные
земли. Но монастырь
быстро восстанавливал
могущество и богатство.
Даже в XVIII веке, когда
он, как и многие древние
обители, находился в
упадке, за ним числилось
-четыре с половиной ты-
ячи крепостных крестьян.
В правление Екатери-
ны II монастырь претер-
пел ущерб от секуляри-
зации церковных земель,
но ему сторицей возда-
лось от потомков новой
екатерининской знати. В
XIX веке богомольная
графиня А. А. Орлова-
ЧесменСкая осыпала оби-
тель золотом. Графиня
жила рядом с монасты-
рем, юрьевский архи-
мандрит Фотий был ее
духовником...
История Юрьева мо-
настыря была бы вполне
благоиестивой если бы
не новгородские ереси,
которые затронули сто-
ящую на отшибе обитель,
может быть именно из-за
ее окраинноеги и тради-
ционной оппозицион-
ности В конце XV века в
кельях Юрьева монастыря
собирались православные
священнослужители, от-
рицавшие сам Институт
монашества Они не при-
знавали тайне во святпи
троицы сомневались в
божественности Иисуса
Христа, Отвергали почи-
тание икон. Подспорьем
в еретических штудиях
оказались многочислен-
ные богословские сочиг
нения, собранные в здеш-
ней библиотеке Известна
ведь эта цепочка: чте-
ние — сопоставление —-
сомнение
Новгородский архи-
епископ Геннадий, этот
неутомимый и жестокий
борец за чистоту веры,
выследил еретиков. Од-
ни бежали за границу,
другие затаились. Тем, кто
остался в городе удалось
даже свалить» своего
противника: Геннадий был
смещен с епархии по об-
винению в раздаче цер-
ковных должностей за
взятки
Но прошло несколько
лет, и лидеров новгород-
ской реформации вы-
звали на церковный собор
в Москву. Еретиков при-
говорили к сожжению.
На костер взошел и
настоятель Юрьева мо
настыря — архимандрит
Кассиан..