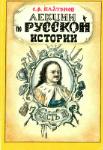Автор: Климин И.И.
Теги: всеобщая история вспомогательные исторические дисциплины (символика, эмблематика) история монография история россии крестьянство история российского государства экономическая политика
ISBN: 5-7422-1335-2
Год: 2007
ИСТОРИЯ В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
И. И. КАИ МИН
РОССИЙСКОЕ КРЕСТЬЯНСТВО
В ГОДЫ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ (1921-1927)
Часть вторая
Санкт-Петербург
Издательство Политехнического университета
Федеральное агентство по образованию
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИСТОРИЯ
В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Выпуск 4
и.и. климин
РОССИЙСКОЕ КРЕСТЬЯНСТВО
В ГОДЫ НОВОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
(1921-1927)
Часть вторая
Санкт-Петербург
Издательство Политехнического университета
2007
УДК 94 (47)
ББК 63.2(2) 613,614
К 492
Климин И.И. Российское крестьянство в годы новой экономической
политики (1921—1927). Часть вторая. СПб.: Изд-во Политехи, ун-та, 2007.
308 с. (История в политехническом университете. Вып. 4).
В монографии на основе анализа широкого круга источников, в том
числе архивных материалов, опубликованных новейших документов, пе¬
риодической печати рассматривается авторская концепция о взаимоотно¬
шениях российского крестьянства с властью в годы новой экономической
политики. Раскрывается позиция крестьян по отношению к сельским со¬
ветам, деревенским большевистским ячейкам, анализируются основные
формы крестьянского сопротивления государственной политике.
Книга предназначена для студентов, преподавателей и всех интере¬
сующихся историей родного Отечества, государства Российского.
Ответственный редактор серии — д-р ист. наук, проф. С.Н. Погодин.
Печатается по решению редакционно-издательского совета Санкт-
Петербургского государственного политехнического университета.
© Климин И.И., 2007
© Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет, 2007
ISBN 5-7422-1335-2
ВВЕДЕНИЕ
Вторая часть монографии посвящена общественно-политической
активности крестьян в годы новой экономической политики. В ней рас¬
сматривается отношение сельчан к деревенской власти, в том числе к
местным советам, партийным ячейкам. Впервые в отечественной лите¬
ратуре предпринята попытка проанализировать основные формы крес¬
тьянского сопротивления государственной политике по отношению к
деревне.
Главными источниками для написания книги явились недавно
опубликованные сборники документов, в которых содержится боль¬
шой и разнообразный материал, позволяющий по-новому взглянуть
на историю советского крестьянства периода нэпа1. Другим важней¬
шим источником послужили документы двух местных архивов: Цент¬
рального государственного архива историко-политических докумен¬
тов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД) и Центрального государственного
архива Санкт-Петербурга (ЦГАИСП). Кроме того, автор, работая над
монографией, опирался и на материалы периодической печати, так же
как и на многочисленные труды своих предшественников, опублико¬
ванные в 20—90-х годах XX века2. Данная книга написана преимуще¬
ственно на материалах европейской части РСФСР.
3
Глава первая
КРЕСТЬЯНЕ И СЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ
Отношение крестьян к избирательным кампаниям
по выборам в деревенские советы
Переход к нэпу не означал радикального изменения в сложив¬
шейся политической однопартийной системе в советской России,
более широкого предоставления демократических свобод, равных
прав всем гражданам, в том числе и крестьянам. Это нашло отраже¬
ние еще в первой конституции РСФСР, принятой в 1918 г., со¬
гласно которой лишались избирательного права лица, прибегаю¬
щие к наемному труду с целью извлечения прибыли, а также лица,
живущие на нетрудовые доходы, в том числе частные торговцы,
монахи, служители церкви. По конституции РСФСР, высшим ор¬
ганом власти являлся Всероссийский съезд Советов, выборы де¬
путатов в который были не демократическими, несвободными и
неравными, ибо он формировался из представителей городских
советов “по расчету 1 депутат на 25 000 избирателей и предста¬
вителей губернских съездов советов по расчету 1 депутат на
125 000 жителей”. Такое дискриминационное право по отноше¬
нию к крестьянам закрепила и первая Конституция СССР, ут¬
вержденная II съездом Советов Союза советских социалистичес¬
ких республик 31 января 1924 г.1
В этой связи В. И. Ленин признавал в марте 1919 г. очевидное
неравенство в правах советских граждан, давая ему собственное
классовое объяснение. По его оценке, наша конституция признает
преимущество пролетариата над крестьянами и лишает избиратель¬
ных прав эксплуататоров, буржуазию. С переходом к нэпу его пози¬
ция на этот счет не изменилась. Так, в мае 1921 г. в полемике с
отдельными делегатами X конференции РКП(б), предлагающими
некоторое расширение гражданских прав крестьян, он утверждал:
4
“Теперь пролетариат держит в руках власть и руководит ею. Он ру¬
ководит крестьянством. Что это значит — руководить крестьянством?
Это значит, во-первых, вести линию на уничтожение классов, а не
на мелкого производителя. Мы открыто, честно, без всякого обма¬
на, крестьянам заявляем: для того, чтобы удержать путь к социа¬
лизму, мы вам, товарищи крестьяне, сделаем целый ряд уступок,
но только в каких-то пределах и в такой-то мере, и, конечно, сами
будем судить — какая это мера и какие пределы”2.
Ленин, мечтая о построении бесклассового коммунистичес¬
кого общества в советской России, отводил крестьянину, состав¬
ляющему абсолютное большинство населения страны, подчинен¬
ную, вспомогательную роль, находящемуся на низшей ступеньке
российского общества. В результате чего трудовое крестьянство
имело на порядок меньше социальных, экономических и полити¬
ческих прав и свобод в годы нэпа по сравнению с другими соци¬
ально-профессиональными группами и прежде всего с “руково¬
дящим и правящим пролетариатом”, хотя на самом деле последний
таковым не являлся, поскольку в стране утвердилась не диктатура
пролетариата, а диктатура одной правящей, коммунистической
партии.
О частичном допущении к управлению государством “непра¬
вящего класса” — крестьян, об ограничении его в политических и
социальных правах, ратовали и ближайшие соратники Ленина. Они
боялись общественно-политической активности сельчан, которая
в конечном счете может привести к свержению власти большеви¬
ков. Так, в декабре 1921 г. Т. В. Сапронов писал к В. И. Ленину, что
ни в коей мере нельзя делать уступок крестьянам в политической
сфере, ибо за экономической самостоятельностью они потребуют
и политических свобод, прав. “Ведь ни для кого не секрет, — кон¬
статировал Сапронов, — что с новой экономической политикой
мужичок крепнет. И в случае два-три года хорошего урожая (даже
один год поднимет мужичка) мужик как следует встанет на ноги
и неизбежно будет требовать свои права в вопросах государствен¬
ного строительства, постепенно будет пытаться захватывать сове¬
ты в свои руки или же будет выдвигать лозунг учредилки”. Испы¬
тывая страх перед будущей политической активностью сельчан,
он делал вывод: “В экономическом вопросе мы сделали реальные
уступки, в политике мы этой роскоши позволить не можем, но
видимость создать необходимо. Эти уступки могут выразиться в'
игре (если хотите) в парламентаризм, куда должна быть допущена
мелкая буржуазия, не в лице, конечно, меньшевиков и эсеров
(это хорошая была бы для них трибуна), но десяток другой.., а
5
может, и три десятка из трехсот бородатых мужиков мы могли бы
посадить во ВЦИК. Это и было бы представительство мелкой бур¬
жуазии деревни”3.
Ленин сделал на письме Сапронова некоторые пометки с ого¬
ворками, но по существу соглашался с его главной идеей, не сле¬
дует “мелкую буржуазию”, т.е. крестьян, допускать к реальному
управлению страной, а нужно создать для них в политической
области “видимость уступок”, “игру в парламентаризм”.
В этой связи трудно не согласиться с оценкой Ю. Ларина,
писавшего в 1925 г. о том, что Владимир Ильич Ленин “самым
решительным образом предостерегал против уклонов в сторону
политического нэпа, указывая, что если мы открываем некото¬
рый экономический клапан, то тем более надо покрепче завин¬
чивать политическую гайку”4. В том же году и И. В. Сталин также
говорил о необходимости “завинчивания политической гайки” по
отношению к крестьянству, при помощи деревенской бедноты
при руководящей роли рабочего класса, партии, советской де¬
мократии, “забывая” сказать, однако, что последняя перероди¬
лась в большевистскую диктатуру. “Ведь никакая советская демокра¬
тия не может быть названа настоящей советской, — утверждал
он, — и настоящей пролетарской, если там нет руководства про¬
летариата и его партии. Но что значит советская демократия при
руководстве пролетариатом? Это значит, что пролетариат должен
имеет своих агентов в деревне. Из кого должны состоять эти аген¬
ты? Из представителей бедноты”5.
О ленинско-сталинском понимании классовой, советской
демократии, о ее видимости, “об игре в парламентаризм”, о час¬
тых уступках крестьянству, о политическом ему недоверии со сто¬
роны большевистской партии свидетельствует и состав высшего
органа российского парламента “в рабоче-крестьянском” советском
государстве. Так, на IX Всероссийском съезде Советов в 1921 г. сре¬
ди делегатов по социальному происхождению крестьян было 20 %,
рабочих — 39 %, других — 41 %; на XII съезде в 1925 г. — соответ¬
ственно 29; 41; 30 %; на XIII съезде в 1927 г. — 28; 47; 25 %. Однако
на момент созыва Всероссийских съездов советов крестьян по
положению оказалось на порядок меньше, чем по социальному
происхождению. На IX съезде крестьян от сохи, т.е. непосредственно
занятых в хозяйстве, насчитывалось только 0,5 %, рабочих от станка
— лишь 0,9 %, других — 98,6 %; на XII съезде — соответственно
17,3; 7; 75,7 %; на XIII съезде - 13,9; 11,2; 74,9 %.
Приведенная статистика говорит о том, что крестьянство,
составляющее примерно 4/5 населения РСФСР, имело в высшем
6
органе республики ничтожное представительство, тогда как ма¬
ленькая правящая прослойка, партийно-государственная бюрок¬
ратия, господствовала в нем, занимала приблизительно 4/5 мест.
Поэтому представители трудового крестьянства, да и рабочих на
Всероссийских съездах Советов не могли никак влиять на приня¬
тие этим органом решений, так же как и на постановления пра¬
вительства. К тому же сама система выдвижения и избрания депу¬
татов на Всероссийские съезды Советов от крестьян являлась
недемократической и несвободной. Партийно-государственное ру¬
ководство страны и местная власть тщательно отбирали наиболее
угодных и послушных их представителей от сельчан прежде всего
по классовому принципу, в том числе из “агентов-бедняков”. В этой
связи справедливо суждение члена коллегии Наркомзема РСФСР
К. Д. Савченко, который в мае 1927 г. в письме к И. В. Сталину
обратил внимание на то, что “всероссийское и всесоюзное съез¬
довское благополучие тоже наводит на некоторые размышления:
отсевка на местах членов съезда начинается от сельсовета, кончая
губернским”6.
Система выборов в Советы снизу доверху под контролем
партии, конечно, создавала видимость демократизма. Об этом нам
дают представление и избирательные кампании в сельские Сове¬
ты как политические организации в годы нэпа.
Первая такая кампания в послевоенный, нэповский период в
деревенские органы власти проводилась в 1922 г. Она показала
пассивность и низкую активность крестьян. В выборах в Советы
участвовало только 22,3 % сельских избирателей7 (избирательный
абсентеизм). В 80 тысячах сельсоветов РСФСР было избрано 484 тыс.
человек, из них 94,3 % — крестьяне8. В 1923 г. активность избирате¬
лей повысилась, и число граждан, явившихся на выборы в сельс¬
кие и волостные советы, составило 35,8 %, однако в следующем
году она заметно снизилась.
Осенью 1924 г. в выборах участвовало 28,9 % всех сельских
избирателей9. Во многих районах РСФСР на выборы их пришло
менее 20 %, а в некоторых губерниях — лишь 10—15 %. Напри¬
мер, в Псковской губернии явилось 10—11 % избирателей, Че¬
реповецкой — 20,1 %, причем в 20 волостях — менее 10%; в
Новгородской — 17,5 %. При этом во многих волостях в выборах
участвовало 5—15 % граждан10.
Пассивное отношение к выборам основной массы крестьянс¬
кого населения проявилось и в других районах РСФСР, когда
местами на избирательные собрания явились 5—10 % граждан. Так,
в станице Червленской Гунибского округа в Дагестане из 7 тыс.
7
избирателей на выборы пришло 300 человек, несмотря на то, что
избирательная комиссия “2 суток подряд с утра до вечера звонила
в церковный колокол и, выставив заставу на проезжих дорогах”,
приглашала жителей на избирательные собрания11.
В связи с неудовлетворительным участием в выборах в сельские
и волостные советы осенью 1924 г. ЦИК СССР принял решение о
проведении повторных выборов в тех районах, где в них участво¬
вало менее 35 % избирателей12. Однако даже повторное голосова¬
ние во многих губерниях в первой половине 1925 г. не повысило
общественно-политическую активность сельчан, ибо общее чис¬
ло избирателей по РСФСР достигло только 41 %13.
Причем в некоторых районах их явка по-прежнему оставалась
низкой. Например, во Псковской губернии она составляла 21 %14,
хотя по сравнению с осенними выборами в 1924 г. она повысилась
почти в 2 раза. При этом следует отметить, что в последующие
годы не случилось прорыва в участии крестьянского населения в
выборах в местные органы власти.
В 1925—1926 гг. в голосовании участвовало на территории РСФСР
47,3 %15. Причем в ряде мест избирательный абсентеизм по-пре¬
жнему проявился в широких масштабах. Об этом нам дают пред¬
ставление информационные сводки органов ОГПУ о ходе предвы¬
борной кампании в декабре 1925 г. в сельской местности в некоторых
районах РСФСР. Так, если в Воронежской губернии на избира¬
тельные собрания явилось 50—60 % граждан, то в Усмане ком уез¬
де — 20—30 %, а в некоторых волостях — 11%, в том числе в селе
Добринка. В Саратовской губернии наблюдалось пассивное отно¬
шение населения к выборам. Количество избирателей колебалось
в пределах 23—35 %, а в 11 волостях Кузнецкого уезда оно соста¬
вило от 13 до 20 %. Такая же низкая явка на голосование крестьян
была и в Московском уезде, в частности в деревнях Новинка, Кор-
пусово, Осево, Ситьково, Назарово Щелковской волости. 1 декаб¬
ря сельчане, проживающие на территории Долгополевского сель¬
совета Ярославского уезда, на перевыборное собрание не явились.
11 декабря 1925 г. в селе Малое Алабухово Борисоглебского уезда
Тамбовской губернии для выборов членов избирательной комис¬
сии пришли из 2150 человек только 213. А в селе Бурнок того же
уезда на избирательное собрание вместо 6749 граждан явилось лишь
45 человек.
В Дьяченском районе Новосильского уезда Орловской губер¬
нии в голосовании участвовали из 185 избирателей 30 граждан. При¬
чем не явившиеся на выборы сельчане заявляли: “Если бы хлеб
раздавали, можно было бы пойти, а то и без нас выберут”. А в селе
8
Бротовщине Долгоруковой волости Елецкого уезда той же губер¬
нии избирательное собрание созывалось 6 раз, на которые явля¬
лось 5—10 человек, хотя селение было по количеству жителей од¬
ним из многочисленных. В Пригородной волости Вяземского уезда
Смоленской губернии из 22 сельсоветов выборы состоялись в 10,
из 7834 избирателей пришли на собрания 3568 человек. Слабое
участие крестьянского населения в выборах отмечалось и в других
местах в период избирательной кампании в 1927 г. Например, в
Донском округе в некоторых хуторах и станицах явка избирателей
достигала 15—25 %, а избирательные собрания неоднократно пе¬
реносились ввиду отсутствия граждан16.
Рассматривая ход избирательных кампаний в деревне, на наш
взгляд, следует относиться осторожно и к официальным обнаро¬
дованным цифрам Наркоматом внутренних дел РСФСР о коли¬
честве сельского населения, участвующего в выборах в местные
советы, ибо мы не исключаем, что данные завышены. Поскольку
некоторые факты ставят под сомнение официальную статистику,
когда на местах избирательные комиссии, чтобы считать выборы
состоявшимися, да еще при высокой политической активности
населения, и выглядеть перед вышестоящими органами власти в
благоприятном свете, иногда сознательно завышали количество
крестьян, принявших участие в перевыборных собраниях.
Например, осенью 1924 г. в Людниковской волости Калужской
губернии на выборы явилось 17 % от общего числа избирателей,
хотя в официальные отчеты попала цифра 92,5 %. В одном из уездов
данной губернии проголосовало не более 22 % всех граждан, тогда
как в отчетах назывались данные о 63 %17 избирателей-сельчан.
Если анализировать количество участвующих в голосовании
сельчан в 1922 и 1927 гг., то, безусловно, следует отметить опре¬
деленный процесс роста политической активности крестьян, когда
число явившихся на выборы увеличилось примерно в 2 раза, с 22
до 47 % на территории РСФСР. В то же время большинство трудо¬
вого крестьянства в селе отказывалось прийти на избирательные
собрания, на выборы в сельские и волостные советы, а следова¬
тельно, они не считали эти деревенские политические органы
своими, им просто не доверяли.
Для сравнения укажем данные об участии крестьян в выборах
в Учредительное собрание в России в ноябре 1917 г., в условиях
революции и разгорающейся Гражданской войны. Тогда во мно¬
гих селах и деревнях в голосовании участвовали 70—80 % кресть-
ян-избирателей, в том числе в таких сельских губерниях, как Там¬
бовская, Воронежская, Пензенская, Казанская, Алтайская; явка
9
составляла 62—80 %, тогда как, например, в городах Тамбовской
губернии она достигала 50,2 %18. Конечно, выборы в Учредитель¬
ное собрание были общероссийскими, являлись относительно
демократическими, равными, тайными, от которых сельчане ждали
улучшения своего экономического, социального и правового по¬
ложения, тогда как выборы в сельские и волостные советы неред¬
ко проводились недемократично, что служило одной из причин
избирательного абсентеизма. Согласно Конституции, крестьяне
имели право на участие в управлении государством через систему
местных советов. Однако возникло глубокое противоречие между
конституционным правом на возможность участия в избиратель¬
ном процессе, в работе советов и реальным отказом сельчан от
этого права.
Вне всякого сомнения, крайне слабый процент участия крес¬
тьян в выборах, особенно в первые годы нэпа, объяснялся разо¬
чарованием их экономической политикой советской власти, партии
большевиков в предшествующий период, особенно в годы воен¬
ного коммунизма, в частности продразверсткой, обременитель¬
ность которой разоряла их хозяйства, порождала массовое недо¬
вольство.
Однако и при переходе к нэпу в деятельности низовых совет¬
ских органов в деревне не произошло существенных изменений к
лучшему, они не перестроились, большинство из них работали в
духе военного коммунизма, не решали насущные социально-эко¬
номические вопросы в интересах трудового крестьянства, о чем
речь пойдет ниже подробнее.
Кроме того, пассивность подавляющего числа крестьян-из-
бирателей объяснялась еще и организационно-техническими не¬
достатками в проведении кампаний, весьма слабым участием в
выборах женщин. Например, в 1922 г. в РСФСР женщины состав¬
ляли около половины всех избирателей, а голосовать явилось только
10 %, а в 1924 г. — 10,8 %19. Низкий процент явки женщин на
избирательные собрания объясняется их религиозностью, привя¬
занностью к традиционным обычаям и порядкам, когда на вы¬
борные собрания, сельские сходы обычно ходил глава семьи как
представитель крестьянского двора.
Конечно, на пассивности крестьян-избирателей сказался низ¬
кий образовательный и культурный уровень сельского населения,
нарушение некоторыми местными государственными органами ин¬
струкций по выборам в деревенские советы. Власти иногда уста¬
навливали различные нормы представительства в них. Хотя инст¬
рукция предусматривала избрание в сельский совет одного депутата
10
от 100 избирателей в 1924/25 г., тем не менее, например, в Иваново-
Вознесенской губернии за одного депутата голосовали 50, а в Чере¬
повецкой губернии — 300 избирателей20.
В ряде районов на избирательную кампанию отводилось мало
времени, несколько дней, а кое-где даже отсутствовали и списки
крестьян-избирателей. Кроме того, имели место случаи, когда на¬
селению сообщалось о голосовании за несколько часов. Они своев¬
ременно не оповещались повестками, не знали о времени и месте
проведения избирательного собрания. Пассивности избирателей
содействовала также и налоговая кампания, если она совпадала со
временем проведения выборов в сельские и волостные советы, где
если сбор налога сопровождался сильным нажимом на крестьян,
то явка на избирательные собрания составляла местами 5—10 %21.
Поэтому местная власть старалась в период перевыборных кампа¬
ний в сельской местности не проводить сбор налога, ослабляла
нажим, давала некоторое облегчение крестьянам, но после окон¬
чания выборов и избрания депутатов в сельсоветы последние уси¬
ливали репрессии по отношению к неплательщикам.
Негативное отношение сельчан к избирательным кампаниям
мотивировалось иногда и тем, что на собраниях члены советов не
отчитывались перед гражданами о проделанной работе. Причем
встречались некоторые факты, когда избирательные собрания
назначались в неудобное для крестьян время: они находились на
сельскохозяйственных работах. В ряде населенных пунктов, насчи¬
тывающих несколько тысяч избирателей, отсутствовали вмести¬
тельные помещения для собраний, в результате чего не все из них
могли принять участие в выборах. К тому же нередко нехватало и
квалифицированных кадров для организации и проведения изби¬
рательных кампаний. На пассивности избирателей в отдельных
районах сказалась и удаленность пунктов для их голосования в
связи с укрупнением сельсоветов, число которых сократилось с
86 тыс. до 50 тыс. с 1923 по 1924 г., а их количество, объединяю¬
щих свыше 10 деревень, увеличилось примерно в 2 раза22. В ряде
губерний в сельсовет входило 15—20 населенных пунктов, а рас¬
стояние между ними и сельсоветами равнялось 18—20 км. Так, в
Псковской губернии, имевшей один из самых низких показате¬
лей, участвующих в выборах 1924 г., на один сельсовет приходи¬
лось 80 деревень, и некоторые избиратели проживали от сельсо¬
вета на расстоянии 20—30 км, поэтому часть из них не являлась на
выборы, а голосовать же приходили в основном жители того селе¬
ния, где располагался сельсовет. Избиратели же других деревень
присылали своих уполномоченных. В ряде мест выборы проходили
11
по двухступенчатой системе: в деревнях избирали выборщиков
одного от 100, которые затем на собрании уже избирали членов
Совета23.
Отмеченные недостатки организационно-технического харак¬
тера, имеющие под собой как объективные, так и субъективные
причины, в том числе и связанные с недоработками местных
партийных и государственных органов, разумеется, сказывались
на пассивности крестьян-избирателей, в ходе проводимых еже¬
годно избирательных кампаний по выборам в сельские и волост¬
ные советы.
“Назначенцы”
Однако избирательный абсентеизм объяснялся еще во мно¬
гом и тем, что зачастую выборы в деревенские советы являлись
недемократическими и несвободными, ибо депутаты в них изби¬
рались не крестьянами непосредственно на собраниях открыто,
честно, а навязывались нередко им извне сверху, по существу
назначались партийно-советскими местными органами власти.
Последние предлагали гражданам проголосовать за ранее подго¬
товленный список удобных для них коммунистов и им сочувству¬
ющих, составленный без всякого обсуждения кандидатур на со¬
браниях. Такая антидемократическая система формирования
депутатского корпуса сельских и волостных советов при помощи
административного нажима, к тому же по классово-идеологичес¬
кому принципу, безусловно отталкивала крестьян от участия в
выборах, последние для многих из них становились выборами без
выбора. Местные большевистские ячейки в период избирательной
кампании зачастую, особенно в первые годы нэпа, в духе военно¬
го коммунизма, не перестроившись, навязывали трудовому крес¬
тьянству, вопреки его воле, своих кандидатов в сельские и воло¬
стные советы, своих лиц, в том числе и не связанных с хозяйством,
чтобы установить над населением полный контроль, свою власть,
диктатуру. При этом нарушались порою как гражданские, так и
конституционные права крестьян, исключалась их творческая
инициатива, самостоятельность при выборах, не пропускались
достойные, уважаемые кандидатуры в деревенские советы. При¬
чем партийно-государственное руководство страны держало под
строгим контролем все перевыборные кампании в деревне, чтобы
не допустить в сельские советы “кулаков и антикоммунистичес¬
ких элементов”. Поэтому уже в 1922 г. ЦК РКП(б) предлагал губ-
комам партии осуществлять свой контроль над составом уездных
12
избирательных комиссий; а уездными большевистскими комите¬
тами — волостными изберкомиссиями. Члены сельских избира¬
тельных комиссий формировались, согласно инструкции ВЦИК,
причем председатель и их члены комплектовались сельсоветами,
включая представителей от комсомольской, профсоюзной орга¬
низаций, делегатских собраний, крестьянских комитетов обще¬
ственной взаимопомощи; допускалось также включение в состав
комиссии и посланцев от местной большевистской ячейки. На
практике именно последняя обсуждала и намечала кандидатов в
сельский и волостной совет заранее, до избирательного собрания
граждан, иногда вместе с членами старого совета и комсомольс¬
ко-профсоюзным активом, после чего одобренный список кан¬
дидатов зачитывался присутствующим гражданам. При этом для
проведения перевыборных кампаний из губернских и уездных цен¬
тров зачастую в сельскую местность направлялись партийные и
советские работники.
О том, как они знакомились с избирателями-крестьянами и
организовывали голосование, можно приблизительно судить на
примере Медынской волости Курской губернии. “На собрании все
равно председательствовать буду я, но в президиум все-таки вы¬
берите мне двух человек”. Дальше без маяты с конституционными
процедурами зачитывался список кандидатов в сельсовет, харак¬
теристики у выдвиженцев опускались и проводилось голосование.
Уполномоченного уже ждали в соседнем сельсовете. Процедура
усложнялась, если кто-то из списка был нечист на руку, склонен
к злоупотреблениям и т.д. Иногда крестьяне подыскивали и вклю¬
чали в список для голосования альтернативную фамилию, опаса¬
ясь подтасовок кандидатур. Крестьяне предлагали всех выдвину¬
тых в состав сельсовета переписать на отдельные бумажки, сложить
записки в шапку и жеребьевкой определить очередность голосо¬
вания. Председатель собрания имел право снять кандидатуру со¬
брания с голосования, но тогда избиратели вставали и уходили.
Если на повторном собрании все же проходила кандидатура от
крестьян, борьба за персональный состав совета переносилась в
избирком, наделенный полномочиями утверждения результатов
голосования или отмены состоявшихся выборов”24.
Вышесказанное в той или иной степени подтверждается много¬
численными фактами, в том числе заявлениями, письмами кресть¬
ян, материалами обследований деревни, партийными и государствен¬
ными органами. Назовем некоторые из них. Например, 2 ноября
1922 г. Кирсановский уком РКП(б) Тамбовской губернии напра¬
вил циркуляр волостным большевистским ячейкам, в котором
13
раскрывались их непосредственные задачи в связи с проводимой
кампанией по перевыборам советов. В нем, в частности, говори¬
лось: “Фильтровать состав советов, обязательно проводить свои
кандидатуры и по возможности устранять от выборов внушающих
сомнения крестьян”25.
О том, как фильтровался состав сельских советов и проводи¬
ли в них коммунисты своих кандидатов, нам дает представление
один из идеологов большевистской партии Я.А. Яковлев. В 1927 г.
он писал: “Выборы в совет складывались частенько из одной опе¬
рации: приезжал из города какой-нибудь очередной товарищ в
соответствующее село, объявлял о том, чтобы “люди собрались”,
предлагал заранее составленный список, спрашивал: “Кто воз¬
держался, кто против?”, и в заключение оглашал: “Против и воз¬
державшихся нет — принято единогласно”. Это было не так давно.
В разных местах эти приемы имели разной широты и охвата при¬
менение, но всегда в таких случаях дело велось просто”26.
Другой член высшего политического руководства страны Г.Е. Зи¬
новьев, соглашаясь с подобной оценкой, подкреплял ее уже конк¬
ретными фактами. Так, в 1924 г. в Неткалевский сельсовет Камы¬
шинского уезда Царицынской волости на собрании избирателей
представитель уездной власти предложил голосовать за кандида¬
тов списком численностью 15 человек, обратившись при этом к
собравшимся крестьянам с ультимативным вопросом-требовани¬
ем: “Согласны всех 15 голосовать — буду голосовать? Если не со¬
гласны — как хотите. Я не буду голосовать”. После такого психо¬
логического давления на избирателей, ухищренного трюка,
манипуляции, они проголосовали за список и “все прошли по
анкете”. При этом Зиновьев, анализируя ход избирательной кам¬
пании в Царицынском уезде, делал правильный вывод, что сла¬
бое участие в ней крестьян — это назначенство, навязывание им
негодных кандидатов в советы, выборы в которые были недемокра¬
тическими и несвободными, сельчане в них не верили. Причина
пассивного отношения к выборам — назначенство, — констати¬
ровал он. “Хоть выбирай, хоть нет, все равно принимают другого,
так нечего ходить выбирать, и если бы присылали лучших работ¬
ников, население было бы довольно, а то ведь вся беда, что луч¬
шего снимают, а ничего не понимающего назначают. Там, где
председатель по назначению им население мало верит и не при¬
знает их своими выборами. “Мы вас не выбирали”27.
О таких назначенных горе-депутатах деревенских советов и их
представителях, некомпетентных, не знающих крестьянской жиз¬
ни, сельчане зачастую говорили “в глаза не видели и ничего о
14
нем не слыхали”. Председатель “не наш, переброшен и местных
условий не знает”28.
Вышецитированные слова Зиновьева и мнение крестьян под¬
крепим дополнительно и материалами, характеризующими изби¬
рательные кампании как и состав сельских советов в Горицкой
волости Тверской губернии и отношение к ним населения. Так, с
1918 по 1926 г. в среднем только 1/3 членов волисполкома были из
числа местных жителей, а остальные, как правило, назначенцы,
посланцы из города. Например, в 1924 г. в волисполкоме не оказа¬
лось ни одного местного крестьянина. Почему так получалось, что
волостная советская власть заполонилась “назначенцами-пришель-
цами”? Такую ситуацию хорошо объяснил один из авторитетных
знатоков российской нэповской деревни и внимательный наблю¬
датель избирательных кампаний в Горицкой волости, историк
А.М. Большаков. В 1927 г. он писал: “На бумаге дело выходило глад¬
ко: все трудовое крестьянство имело право участвовать в выборах,
приглашалось на выборы и как будто выбирало состав волиспол¬
кома, но на самом деле никаких выборов не было — была лишь
видимость выборов. В вик попадали те, кого хотела волостная ко¬
мячейка, действовавшая по своему разумению, или же по указке
уезда. Какими способами проводились кандидаты ячейки — на
этом не стоит останавливаться. В конце концов подавляющее боль¬
шинство населения стало просто бойкотировать выборы. Говори¬
ли: “Выбирать зовут, а выбирать не дают. Так нечего ходить сапоги
рвать”. Вот почему в 1923/24 г. в перевыборах советов участвовало
только 15 % от общего числа избирателей29.
Подобную оценку, раскрывающую механизм советской “де¬
мократической” избирательной системы отлучения крестьян от
реального участия в выборах, признавал и один из членов партий¬
но-государственного руководства страны В. В. Куйбышев. В 1925 г.
он писал: “Деревенские коммунисты, а отчасти и беспартийные
деревенские профессионалы-чиновники вели себя при выборах в
советы так, как будто они обладали особой монополией на все
деревенские выборные должности, подавляя ради этой монопо¬
лии стремление крестьян выдвигать в советы беспартийных кан¬
дидатов помимо предлагаемых списков”30.
Конечно, Куйбышев, как и другие лидеры большевистской
партии, лукавил, когда перекладывал всю вину за антидемокра¬
тическую систему комплектования состава сельских советов, на¬
значения, по сути, в них депутатов на деревенских коммунистов.
Поскольку местные большевики, как правило, выполняли дирек¬
тивы вышестоящих партийных органов, монополизировавших всю
15
власть в регионе, стране, в том числе и на селе, отводя крестья¬
нам незавидную подчиненную роль, ограничивая их реальную
экономическую самостоятельность, гражданские права и свобо¬
ды во многих районах РСФСР, да и СССР. Хотя некоторые ком¬
мунистические руководители, да и большевистская печать это
называла всего лишь “перегибами” “в период перевыборов сель¬
советов”, когда ряд ячеек навязывают силой свои списки”31.
На самом же дели эти “перегибы”, как свидетельствуют исто¬
рические факты, имели повсеместный характер, о чем явствует
вышеизложенный материал, как и нижеследующие примеры, до¬
кументы, составленные губернскими партийными органами. Так, в
информационном письме Череповецкого губкома РКП(б) конста¬
тировалось: во время перевыборов 1924 г. в деревне в советы “про¬
водились кандидаты с нажимом”. По признанию секретаря Псков¬
ского губкома РКП(б) Струппа, до апреля 1925 г. в сельские советы
коммунисты и комсомольцы избирали “сами себя” и населению
“заявляли все наше”. Согласно данным Новгородского губкома
партии большевиков от 2 февраля 1925 г., во время избирательных
кампаний деревенские коммунисты неумело подходили к крестья¬
нам, навязывали “кандидатуры в волостные и сельские советы, а
кое-где нарушали принцип выборности назначенством”, когда в
осенних выборах участвовало 15—20 % избирателей32. По итогам
обследования 6 волостей Ленинградской, Череповецкой, Новго¬
родской и Псковской губерний Северо-Западное бюро ЦК РКП(б)
отмечало в начале 1925 г.: в ходе избирательных кампаний в дерев¬
не не изжиты методы приказов и командования крестьянами, за¬
регистрированы случаи назначения председателей сельсоветов, а
ячейки навязывали своих кандидатов вопреки воле населения, а в
некоторых волостях избирателей загоняли на собрания с помощью
запугивания, угрожая штрафами и арестами33.
В ряде мест сельчан не только местная власть под мощным
административным давлением “приглашала” на избирательные
собрания, но и проводила последние с угрозами, ускоряя голосо¬
вание, чтобы ввести в советы партийных людей. Так, в 1924 г. в
Атюрьевской волости Пензенской губернии выборы членов воло¬
стного совета проходили на собрании под большим нажимом на
избирателей со стороны 9 должностных лиц, державших в руках
наган34. А кое-где непослушных избирателей, выступающих с от¬
водом кандидатур, предложенных списком уполномоченными,
даже арестовали35.
Создавая видимость выборов и ради проталкивания своих кан¬
дидатов в сельские советы в ряде мест некоторые руководители
16
фальсифицировали итоги голосования, нередко их подтасовыва¬
ли. Например, в 1924 г. в совет Стебельской станицы в Кубанском
округе включили жену секретаря ячейки РКП(б), которая полу¬
чила только 4 голоса из 300 при 17 — “против”, но оказалась-
избранной в местный орган власти. Таким же неблаговидным спо¬
собом в совет “избрали” “жену его председателя, а также супругу
секретаря комсомольской организации”36.
Об игре в “советскую демократию” и о том, что всеобщее
избирательное право не работало на практике, говорит и массо¬
вое назначение председателей сельских советов вне выборов, без
всякого участия крестьян. Так, председателя Невережского совета
Залуцкой волости Порховского уезда Псковской губернии осво¬
бодили от должности вышестоящие органы и вместо него назна¬
чили другого, даже не посоветовавшись с сельчанами-избирате-
лями. Поэтому последние возмущались и говорили: “Мы его не
выбирали, мы его не знаем”. Таким же административным мето¬
дом “избрал” Дмитриевский волостной исполком Московской
губернии в 1925 г. председателя Воронковского сельсовета, осво¬
бодив своим волевым решением его предшественника. При этом
мнения крестьян о смене руководителей совета никто не спраши¬
вал, они об этом узнали через несколько дней, поэтому к новому
назначению и волисполкому относились недоброжелательно. При
этом руководители волостных советов по своему усмотрению ме¬
няли председателей сельских советов, поскольку они совершенно
не зависели от деревенских избирателей, назначались по сути уез¬
дной властью, о чем говорит не только опыт Горицкой волости,
но и многих других. Так, с 1922 по 1925 г. председатели Шапкин-
ского волостного исполнительного комитета Лодейнопольского
уезда Ленинградской губернии не являлись местными жителями,
а их присылали и назначали вышестоящие уездные органы37.
Вышеизложенный фактический материал подтверждается не¬
посредственными оценками самих крестьян-избирателей различ¬
ных районов РСФСР, наглядно раскрывающими причины их не¬
участия в выборах.
Свои критические высказывания, недовольство недемократи¬
ческой советской избирательной системой, действующей на прак¬
тике, сельчане нередко формулировали на сходах, собраниях, ко¬
торые зачастую фиксировались и органами ОГПУ. Кроме того,
нелестные суждения о выборах жители деревни излагали в письмах
в “Крестьянскую газету”, их содержание середины 20-х годов гово¬
рило о том, что члены сельсоветов и волисполкомов должны быть
местными крестьянами и свободно избранными, без давления
17
извне: “Назначать из города только в случаях, когда местное на¬
селение против этого не возражает и не может выдвинуть канди¬
датов из своей среды”38.
Характерна на этот счет и позиция одного псковского кресть¬
янина, высказанная им на беспартийной конференции в 1925 г.:
“Почему нам самим не дают выбирать вики, а назначают из уез¬
да, да еще таких, которые не знают крестьянской жизни. Каждый
год новый председатель только дело портит”39. Об этом же писал в
ЦК РКП(б) и крестьянин Я. С. Колесников с хутора Мандровско-
го Петропавловской волости Богучарского уезда Воронежской гу¬
бернии в декабре 1924 г. Возмущаясь системой назначенства депу¬
татов в сельсоветы, он негодовал: “На перевыборы хоть и не ходи:
говорят и читают, что народное право, а на деле совсем не то, и
бывают по деревням не перевыборы советов, а назначения, а нас
зовут только для формы, в особенности это так было в хуторе
Мандровское”. Причем автор письма причину такой псевдоде¬
мократии усматривал в деятельности местных органов власти, по¬
скольку по своей политической наивности и доверчивости он счи¬
тал: ЦК РКП(б) во главе со Сталиным ведет “трудящиеся массы
по правильному пути, к светлому будущему”40. Как говорится,
царь хорош, но плохие бояре.
Негативное отношение значительной части крестьян к избира¬
тельным кампаниям в сельские советы в связи с назначением их
состава неоднократно фиксировали и работники ОГПУ. Так, в ин¬
формационной сводке за декабрь 1924 г. отмечалось: причины пас¬
сивного отношения бедняков и середняков в период прошедших
выборов в большинстве случаев— “настойчивое проведение избир¬
комами подготовленных заранее кандидатских списков. На этой
почве отмечен ряд выступлений, вроде того, что “нам нечего вы¬
бирать, коммунисты без нас уже выбрали”, “кандидаты уже под¬
готовлены в конвертах”, “пусть власть просто назначает советы”.
При этом особенно высокая пассивность избирателей и недо¬
вольство “назначенцами” проявились в Центральных и Западных
губерниях РСФСР. Так, жители поселка Пушкино Московского
уезда в ноябре 1925 г. не намерены были идти на выборы, так как
считали: им “нечего выбирать, если партъячейки выбрасывают из
совета выборных крестьян”41.
Подобные антиизбирательные суждения сельчан органы ОГПУ
зарегистрировали в период кампании по выборам в деревенские
советы и в декабре 1925 г. Например, крестьянин Козырев из де¬
ревни Машковцы Вятского уезда так объяснял свое неучастие в
выборах: “Зачем эти списки, повестки, разве выберут того, кого
18
мы желаем? Приедет представитель и будет выбирать своих наме¬
ченных кандидатов. За кого мы голосуем — не выберет правитель¬
ство, поэтому нам нечего и на собрания ходить, и напрасно нам
посылать повестки. Пусть выбирают кого хотят и не говорят нам,
что сейчас “крестьянская власть”.
Примерно в таком же духе высказывался и крестьянин В.С. По¬
техин из деревни Плотники того же уезда. Он считал, что вопрос о
составе Советов властью заранее решен, поэтому “нам заботиться
насчет выборов нечего, время придет — позовут, а там уже все
готово. Председателя вика сверху назначат, а в члены вика раньше
присмотрят, подходящих председателю вика — и резолюция гото¬
ва, а наше дело согласиться, да руку кверху поднять”.
Со своей стороны, один из крестьян Сердежской волости
Уржумского уезда той же Вятской губернии так мотивировал свое
неучастие в выборах: “Нам некогда ходить по собраниям и без
нас сделают, что нужно. Наш голос все равно не имеет значения
и сделают не по-нашему, а по-своему, т.е. всегда кандидатуры
при перевыборах бывают намечены вперед”. В селе Карповка Чи¬
тинского уезда сельчане по поводу перевыборов рассуждали: они
“свободные, а все равно никакой разницы не будет, если населе¬
ние выберет по своему желанию, то через месяц выбранного сни¬
мут и назначат коммуниста”.
Крестьянин-середняк Титов из Вятской волости и уезда не счи¬
тал нужным посещать избирательные собрания, поскольку в советы
попадали, по его наблюдениям, случайные лица, не представители
сельского общества, от которых не чувствуется эффективная работа
в интересах населения. “Вот 8 лет прошло, а пользы по волости нет.
Раньше мы выбирали старшину в волость, человека самостоятель¬
ного и зажиточного, который своим хозяйством дорожил и казен¬
ным будет дорожить, и к тому же упрашивали, а ныне сами навязы¬
ваются на выборы, ну и выходит мыльный пузырь. Нужно выбирать
самим крестьянам человека стоящего, тогда дело наладится, и мы
тогда за своего выборного отвечаем, а сейчас пошлют неизвестного,
конечно, будешь поддакивать, да руку поднимать кверху”.
Безразличное, равнодушное отношение части крестьян к пред¬
стоящим в декабре 1925 г. перевыборам сельских советов, недове¬
рие к ним, не рассчитывая на их помощь, жители Волченского
района Новосильского уезда Орловской губернии выразили так:
“А на что нам перевыборы, кого не выберут, тот и наш, нам от того
легче не будет”. Примерно такого же взгляда придерживались и кре¬
стьяне Белочинского района того же уезда, которые говорили: “Пусть
выбирают, им делать нечего, а нам кто не поп, так и батька”42.
19
Однако далеко не все российские крестьяне занимали такую
пассивную, безразличную позицию по отношению к перевыборам.
Часть из них не хотела мириться с назначениями в состав деревен¬
ских советов. Они проявляли общественную политическую актив¬
ность и не только являлись на избирательные собрания, но и зани¬
мали на них гражданскую, жизненную, активную позицию,
отстаивали свои права. Они выступали против предлагаемых влас¬
тью заранее подготовленных списков в состав советов, вели поли¬
тическую борьбу за местные ораны власти, деятельно отстаивали
собственные гражданские и конституционные права, попираемые
зачастую большевистскими ячейками, проваливали их “назначен¬
цев” и выбирали своих представителей. Укажем некоторые факты,
раскрывающие основные формы пассивного крестьянского сопро¬
тивления административному произволу властей в период избира¬
тельной кампании 1924—1925 гг. по выборам в сельские советы.
Так, в 1925 г. жители села Б. Дороги Чурюковской волости
Козловского уезда Тамбовской губернии при выборах состава сель¬
ской избирательной комиссии потребовали не вводить в нее пред¬
ставителя от профсоюзной организации, ибо считали: это являет¬
ся “посягательством на их права со стороны УИКа”. Крестьяне
слободки Давыдовки Острогожского уезда Воронежской губернии
отвергли на избирательном собрании список кандидатов в состав
совета, предложенный местной коммунистической ячейкой и за¬
явили: “Тут дело немудреное, мы и сами справимся”. В слободе
Морозовке Россошанского района той же губернии некоторые
крестьяне на избирательном собрании высказывались против чле¬
нов советов, поскольку, по их мнению, они никакой пользы не
приносят, и предлагали “выбирать одного человека как раньше
избирали на три года старосту или старшину”.
В ходе предвыборной кампании советов в декабре 1924 г. часть
крестьян, включая богатых в некоторых районах Сибири, активно
выступали на избирательных собраниях против коммунистических
кандидатов в деревенские советы, боролись с “назначенцами”,
отстаивали своих представителей, а кое-где их провалили. В ряде
мест выдвигался агитационный лозунг “Советы без коммунистов”
или против “Советов безбородых”, т.е. без комсомольцев.
В некоторых районах сопротивление сельчан выливалось и в
форму протеста, отмену итогов голосования, так как они считали
их фальсифицированными. Например, в поселке Зубчановском в
Самарской губернии в январе 1925 г. избиратели собрали 145 под¬
писей с требованием к уездной комиссии отменить результаты
голосования как несправедливые43.
20
. Все же основными формами крестьянского протеста против
“назначенцев” оставалась антикоммунистическая агитация, прова-
ливание списка партийцев. Нередко шла политическая острейшая
борьба на избирательных собраниях. Крестьяне выступали за прове¬
дение в советы путем свободного голосования своих уважаемых ав¬
торитетных деревенских жителей. Если им этого не удавалось сде¬
лать, то затягивали проводимые собрания, иногда срывали или
переносили их на другой день. Именно эти методы сопротивления
сельчан административному нажиму со стороны властей прослежи¬
ваются и в информационной сводке органов ОГПУ с 24 по 31 янва¬
ря 1925 г., иногда называемые в этих документах активностью “ку¬
лачества”. Так, в Карповской волости Богородского уезда
Московской губернии на волостном съезде советов во время изби¬
рательной кампании некоторые присутствующие, негодуя, заявля¬
ли: “Не надо нам ставленников коммунистов”. На собрании была
образована беспартийная фракция для выдвижения от нее канди¬
датов в советы. 20 января в с. Орлик Борисовского уезда Курской
губернии уполномоченному на избирательном сходе не удалось
провести в сельсовет намеченных кандидатов благодаря протес¬
там крестьян, и он его распустил. Через две недели власти собра¬
ли второй сход сельчан, на котором уполномоченный представи¬
тель вновь пытался избирателям навязать кандидатов по своему
усмотрению, не считаясь с их мнением. Поэтому возмущенные
крестьяне заявляли: “Только говорят, что перевыборы, а на са¬
мом деле ставят, кого хотят”.
В селе Каменная Поляна Щигровского уезда Курской губер¬
нии избиратели на собрании единогласно избрали председателем
крестьянина-бедняка, до этого 4 года работавшего в данной дол¬
жности, однако уполномоченного по выборам от волостного ис¬
полкома эта кандидатура не устраивала, и он хотел сделать пред¬
седателем совета своего приятеля, поэтому сход уполномоченный
распустил и единолично назначил последнего руководителем со¬
вета. Это вызвало недовольство крестьян, которые, возмущаясь,
говорили: “Это не перевыборы, а насмешка”. С таким “назначен-
ством” они не смирились и неоднократно обращались с жалобами
в волостной исполком, хотя удовлетворительного ответа от него не
получили44. В селе Касилое Курского уезда крестьяне не избрали
председателем сельсовета выдвиженца, уполномоченного от вика.
Последний от выдвиженца в подарок получил пару сапог. После
провала своего кандидата уполномоченный предложил сельскому
сходу избрать своего приятеля председателем крестьянского коми¬
тета общественной взаимопомощи: “Если вы меня уважаете, —
21
обращался он к избирателям, — выведите меня из затруднения”.
Во время перевыборов на сходе раздавались голоса: “Вот что де¬
лают сапоги”. И тем не менее сельчане все же “уважили” просьбу
уполномоченного, избрали взяткодателя председателем крестко-
ма, хотя и высказывали после этого недовольство навязыванием
им кандидатов.
8 января 1925 г. при перевыборах Боровского волостного ис¬
полнительного комитета Ярославской губернии часть делегатов
покинула собрание в знак протеста, что большевистская ячейка
навязывала своих кандидатов в совет. В Костромской губернии в
некоторых местах крестьяне также проявляли недовольство “по
поводу назначенства в волостные и сельские советы”. Об их предсе¬
дателях сельчане отзывались: “Они не нами избраны, они чужие”,
“Чужих в волость людей назначают не спросясь у нас”. Такого, на¬
пример, мнения придерживались жители Ильинской волости. То
же самое заявляли и бедняки д. Руслановки Сосновского района
Омского уезда Молоков и Селезнев: “Выборы сельсовета прошли
против нашего желания”. У всех сложилось мнение, что соввласть
на словах выборная, а фактически казначейская”. Подобной оцен¬
ки придерживались и “кулаки”, т.е. зажиточные крестьяне во время
перевыборов Колпенского сельского совета Малоархангельского
уезда Орловской губернии на собрании 23 января 1925 г. Обращаясь
к членам избирательной комиссии, они возмущенно говорили:
“Довольно вам брать нахрапом, у нас есть Конституция и вам нельзя
навязывать своих кандидатов”45. В 1924 г. в ряде селений Тамбовской
губернии во время избирательной кампании сельчане выдвигали
лозунг: “Не вводить коммунистов в Советы”46.
В некоторых районах борьба против “самовольства” властей и
предлагаемых ненавистных “обязательных списков”, как их окрес¬
тили крестьяне, принимала острый характер47. Например, в 1924 г.
в селе Воеводском Алтайской губернии из-за крестьянского сопро¬
тивления “ненавистному” списку, навязываемому избирателям,
выборы в сельский совет продолжались в течение 7 дней. В первый
день голосования на собрание явились все граждане, но посколь¬
ку они отказались поддерживать предложенных им кандидатов в
совет, то избирательная комиссия собрание закрыла и перенесла
на следующий день. Однако и на повторное голосование явившие¬
ся избиратели, хотя и меньшим числом, вновь отклонили список
“назначнцев”, и тогда комиссия отложила перевыборы на следую¬
щий день. И так собрания проводились и переносились каждый
день в течение недели, но избиратели стояли на своем, голосовали
против “назначенцев”. И только на седьмой день, когда крестьяне,
22
окончательно разочаровавшие в советской демократии, в боль¬
шинстве своем не явились на избирательное собрание, власти с
помощью административного нажима, за счет пришедших “своих
людей”, названных сельчанами “компанией савкой”, удалось на¬
конец сформировать состав Совета из “назначенцев”-кандидатов48.
Однако кандидаты в совет от коммунистов не всегда и не вез¬
де в ходе предвыборных политических баталий выходили победи¬
телями, кое-где их избиратели-крестьяне проваливали. Последние
не допускали в советы особенно аморальных, безнравственных
кандидатов, в том числе “пришельцев” из города, не знакомых с
деревенской жизнью. Так, в Новоржевской волости Псковской
губернии при выборах в сельские советы в 1924/25 г. население не
избрало ни одного коммуниста, ни одного комсомольца. В том же
году в Белозерской волости Череповецкой губернии избиратель¬
ная комиссия в течение двух часов пыталась отстоять на собрании
своих кандидатов в состав совета, однако ей этого сделать так и не
удалось. Большинство присутствующих на собрании граждан про¬
голосовали за представителей трудового крестьянства, выдвину¬
тых самими избирателями, которые и вошли в состав совета49.
Во время избирательной кампании 1924/25 г. в Стрельниковской
волости Пензенской губернии крестьяне настойчиво боролись за свои
гражданские права. На собрании они из 5 выдвинутых местной ячей¬
кой РКП(б) кандидатов в сельский совет проголосовали лишь за
одного, пользующегося их доверием. А вместо 4 коммунистов они
избрали единогласно беспартийных уважаемых односельчан, заре¬
комендовавших себя с положительной стороны. В Тербеевской воло¬
сти избиратели во время перевыборной кампании 1924/25 г. не под¬
держали ни одного местного большевика, в состав многих
сельсоветов не прошел ни один член РКП(б). Граждане даже “про¬
катили” беспартийного односельчанина, предложенного комму¬
нистической ячейкой50.
И в других районах часть политически активных крестьян по¬
дошла к повторным выборам 1924/25 г. не формально, не пассив¬
но, а весьма действенно, наступательно, последовательно на из¬
бирательных собраниях отстаивала свои конституционные и
гражданские права, предлагал свои кандидатуры в состав сове¬
тов, отклоняла коммунистов и “назначенцев”. Так, в Тамбовской
губернии в ряде мест на собраниях крестьяне задавали много воп¬
росов записками, выступали дружно, активно при обсуждении
отчетных докладов о работе советов. А избирательные сходы не¬
редко продолжались несколько часов, а кандидатуры членов в
советы детально, “по косточкам” рассматривались, в том числе и
23
в некоторых селениях Кубанского округа. Здесь голосование за
кандидатов проходило персонально, включая и предложенных
избирателями, причем иногда длительным голосованием, про¬
должавшимся в некоторых станицах более суток.
Наиболее деятельным процесс голосования проходил в тех
селах, где разгоралась политическая борьба между беднотой и за¬
житочными. В таких случаях обычно выбирали счетчиков с той и
другой стороны. В ряде мест выборные собрания проходили на¬
столько бурно, что дело кончалось их срывом. Причем споры и
дискуссии велись в основном между зажиточными, с одной сто¬
роны, и беднотой, батраками, коммунистами и комсомольцами,
с другой. К тому же боролись за влияние на собраниях на основ¬
ную деревенскую массу, на середняков.
Эти рассуждения одного из ответственных работников ЦК РКП(б)
М. Хатаевича относительно хода избирательной кампании по выбо¬
рам в сельские советы в 1924 — начале 1925 г. лишний раз свидетель¬
ствуют о том, что в некоторых местах крестьяне действительно
защищали по-боевому свои гражданские и конституционные пра¬
ва, использовали законные методы давления на власть, отстаива¬
ли своих кандидатов в состав деревенских советов и проваливали
“назначенцев” и коммунистов, процент последних на 1 апреля
1925 г. в сельских советах снизился с 12 до 7 % по РСФСР51. По¬
скольку многие партийцы не пользовались доверием у населения,
совершали преступления по должности, допускали грубость, были
“чужаками”, пришельцами, не сумевшими себя показать с хоро¬
шей стороны. В то же время имелись и такие коммунисты, кото¬
рых сельчане охотно избирали в состав советов, положительно
зарекомендовавших себя на общественной или хозяйственной ра¬
боте.
Массовый бойкот выборов в сельские советы крестьянами в
1922—1923 гг., их обоснованная критика политики правительства,
недовольство ею, побудили партийно-государственное руководство
страны провозгласить тактический лозунг: “Лицом к деревне” в
середине 20-х годов. В ходе его реализации был взят курс на устра¬
нение пережитков военного коммунизма, на оживление советов,
отчасти менялась и линия по отношению к избирательным кампа¬
ниям, приглушалось “назначенство”, предоставлялось больше сво¬
боды крестьянам при выдвижении кандидатов в советы, ослаблял¬
ся административный нажим в период перевыборов, чтобы ослабить
недовольство сельчан.
В октябре 1925 г. Центральный исполнительный комитет СССР
принял постановление о новом порядке выборов в советы и на
24
съезды советов, на основании которого несколько менялась и
организация перевыборных кампаний. Общее руководство ими
возлагалось отныне на центральные избирательные комиссии,
создаваемые при ЦИК союзных республик, увеличивалось и пред¬
ставительство в сельских советах. Если раньше в малонаселенных
районах один член совета избирался от 200 жителей, то теперь —
от 10052.
Поэтому перевыборная кампания в деревне в 1925/26 г. про¬
водилась демократичней и свободней, с меньшим администра¬
тивным нажимом и “назначенчеством” по сравнению с прошлы¬
ми годами. Заметно выросло участие крестьян в голосовании,
достигшее по РСФСР 47 %, как уже об этом упоминалось. На мно¬
гих избирательных собраниях оживленно, по-деловому и подроб¬
но обсуждались отчетные доклады руководителей волостных и сель¬
ских советов, немало задавалось вопросов, составлялись наказы
депутатам, разворачивались острые дискуссии, звучала неприят¬
ная критика в адрес властей, в том числе такого содержания:
“Обещают много, но только болтают, но сделать ничего не сдела¬
ют”53. Так заявляли, например, крестьяне в некоторых селениях
Псковской губернии. Повысилась и активность в ходе избиратель¬
ной кампании середняков и зажиточных крестьян, возросшую
активность последних органы ОГПУ зафиксировали на 18 декабря
1925 г. в 18 губерниях и округах. Было зарегистрировано 17 “пред¬
выборных группировок”, в том числе 8 — в центральных губерни¬
ях, 3 — западных.
Зажиточно-богатые и середняцкие слои активно, по-боевому
выступали на собраниях, предлагали свои кандидатуры в сельсове¬
ты, аргументированно их отстаивали, резко критиковали выдви¬
женцев от коммунистической ячейки. Укажем некоторые приме¬
ры, характеризующие ход кампании. Так, 25 ноября в Становской
и Домской волостях Елецкого уезда Орловской губернии при выдви¬
жении в состав советов сельчане заявляли: “Нужно выбрать само¬
стоятельных, чтобы они могли отстаивать свои интересы, нужно
избирать людей, стоящих на нашей защите перед властью, мы все
раньше выбирали коммунистов, а они о нас не думают”. В таком же
критическом духе по отношению к правящей партии высказывался
на перевыборном собрании 30 ноября и крестьянин Калачев из
д. Пильчок Демидовского уезда Смоленской губернии. По его мне¬
нию, большевики еще делают “нажим при выборах в результате
чего в Виках и Уиках сидят одни партийные. Необходимо дать пол¬
ную свободу выборов, тогда бы Вы посмотрели, как бы прошли
коммунисты”. В Корсунском уезде Ульяновской губернии “кулаки”
25
агитировали также за избрание в советы “своих людей”, заявляя:
“Надо проводить людей опытных, а бедняки и коммунисты не
умеют управлять государством”.
Еще более резче прозвучала критика политики большевис¬
тской партии на собрании избирателей в селе Дурнинкино Рома¬
новской волости Балашовского уезда Саратовской губернии 4 де¬
кабря. Так, гражданин Чуркин говорил: “Партия состоит из
бездельников, а истинно трудящиеся бегут из нее”, что “народ, от
имени которого исходит власть, даже не ходит на выборы и тогда
как в прежние времена старшины и старосты выбирались полови¬
ною домохозяев, теперь выбирают только 35 %, да и то только на
бумаге”. 15 ноября в с. Застепь Читинского уезда зажиточные крес¬
тьяне, готовясь к перевыборному собранию, рассчитывали избрать
председателем совета своего соратника, и он тогда “возьмет “в обо¬
рот” коммунистов и перевес будет на нашей стороне”54.
В ряде районов при обсуждении отчетов волостных и сельских
советов и при принятии резолюций выступало нередко 20—30 че¬
ловек, активно шло обсуждение и кандидатов в местные органы
власти, разбирали тщательно, рассматривали “со всех сторон”,
отбирали “из нескольких десятков 5—6 человек, более соответству¬
ющих”55. По некоторым сведениям, в ряде районов в ходе выдви¬
жения кандидатур и при обсуждении отчетных докладов участвова¬
ло 10—11 % присутствующих избирателей на собраниях56.
Как проходила перевыборная кампания на местах, можно су¬
дить по докладу инструктора Псковского губкома РКП(б) В. Ива¬
нова от 23 декабря 1925 г., обследовавшего Горожанский сельсовет
Насвежской волости Великолуцкого уезда. В данном сельсовете
подготовка к выборам проводилась с 23 по 27 ноября 1925 г.; тер¬
риторию сельсовета разбили на 4 участка с таким расчетом, что¬
бы в каждом из них насчитывалось не более 400—500 человек. Для
организации предвыборных собраний командировали в сельский
совет двоих представителей от волисполкома и одного — от уезд¬
ного исполкома. Посещаемость предвыборных собраний по участ¬
кам колебалась в пределах 60—120 человек, причем на втором уча¬
стке в первый раз собрание не состоялось ввиду плохой явки
населения, при повторном собрании пришло 100 избирателей. На
них делали отчетные доклады члены сельсовета, волисполкома и
уездной власти. В их обсуждении активно участвовали середняки,
отчасти бедняки, зажиточная часть крестьян на собрании “прояви¬
ла себя слабо, больше прислушивалась, что говорили представите¬
ли власти”. Непосредственно выборная кампания началась 15 и за¬
кончилась 20 декабря. Население об этом было заранее оповещено
26
за 4—5 дней. Посещаемость избирательных собраний составила 35—
40 %, а при выборах “соблюдалась полная демократия”, выставля¬
лись кандидатуры крестьян в состав совета, персонально обсужда¬
лись “за и против”. Голосование проходило также “за и против,
персонально по каждой кандидатуре”. Среди сельчан наблюдались
серьезнее колебания при голосовании, каждый из них имел право
выбора. На избирательных собраниях присутствовали комсомольцы
и коммунисты. “В новый совет в громадном большинстве избрали
крестьян активных и целиком ячейку РКП(б)”. Проведенную вы¬
борную кампанию в Горожанском сельсовете В.Иванов оценил “на
удовлетворительно”57.
Из его краткого информационного сообщения явствуют, на
наш взгляд, следующие выводы. Во-первых, в Горожанском сель¬
совете крестьянское население продемонстрировало пассивное
отношение к перевыборной кампании, ибо в голосовании уча¬
ствовало чуть более 1/3 от всех избирателей, что на порядок ниже
общероссийских показателей; во-вторых, все же не чувствовалось
реальной активности избирателей, они не ставили острые вопро¬
сы перед местной властью, а зажиточные молчали; в-третьих,
действительно соблюдались элементы демократии при выдвиже¬
нии кандидатур в состав совета, в том числе и от крестьян, и
отсутствовали списки “назначенцев”; в-четвертых, перевыборная
кампания в данном сельсовете, как и в других, по-прежнему про¬
ходила под контролем вышестоящих государственных органов
местных коммунистов, подтверждением тому служит “избрание”
депутатами совета “всех членов ячейки РКП(б)”.
Однако далеко не везде сельским большевикам на “перевы¬
борном фронте” удавалось одерживать победы подобного рода.
Поскольку в избирательную компанию 1925/26 г. во многих райо¬
нах их зачастую при голосовании “проваливали”, таких примеров
на порядок было больше, чем в прежние годы.
Например, в слободе Дерезовке Богучарского уезда Воронеж¬
ской губернии в местный совет не избрали ни одного ни комму¬
ниста, ни комсомольца. В Ново-Хоперском уезде в с. Абрамовка
той же губернии в декабре 1925 г. при перевыборах членов сельсо¬
ветов также не прошли представители от большевистской ячей¬
ки58. А в одном из сел Северного Кавказа после того, как на со¬
брании крестьяне отклонили проект резолюции, предложенный
ячейкой РКП(б), ее члены, расстроившись, признали свое пора¬
жение таким объяснением: теперь “нельзя навязывать крестьянам
свое мнение, им дана свобода, что они говорят, то и должно
приниматься”59.
27
Коммунисты одной из ячеек Донского округа после того как
крестьяне не поддержали их кандидатов в состав совета, надея¬
лись, что последний без них не станет жизнеспособным. “Прова¬
лили нас — посмотрим, как без нас будете работать”, — обраща¬
лись к сельчанам проигравшие выборы партийцы. Такого же мнения
придерживались и члены РКП(б) в ряде волостей Воронежской
губернии после неудачной для них перевыборной кампании. Они
негативно относились к привлечению рядовых крестьян к работе
в советах и посмеивались над теми, кто в них вошел. “Пусть, мол,
поработают без нас”60. В некоторых селениях Новгородской, Псков¬
ской губерний неизбранные в местный совет большевики оказа¬
лись не у власти, пессимистически, с тревогой за свое будущее
рассуждали: “Как же нам теперь быть, нас крестьяне не выбира¬
ют. Отношение к нам недоверчивое”61.
Подобного рода упаднические настроения деревенских партий¬
цев, кое-где в деревне, утративших власть, привыкших руководить
и командовать крестьянами, отражали растерянность, замешатель¬
ство среди определенной части членов ВКП(б). При этом свою вину
за поражение они возлагали на вышестоящие партийные органы,
будто предавшие их интересы. Среди коммунистов встречалось не¬
мало недовольных ослаблением административного нажима на кре¬
стьян, с уменьшением масштабов “назначенства” в состав сельс¬
ких советов. Бытовало среди части радикальных партийцев такое
мнение, не совсем обоснованное: “Центральная власть вытряхива¬
ет сейчас, как из мешка, коммунистов. Они заменяются беспар¬
тийными. Партийцы, участвующие в Гражданской войне, безжа¬
лостно выбрасываются за борт. Партийная дисциплина заставила
нас работать на постах, на которые мы не были способны, нас
выжали как лимон и потом выбрасывают с работы”62.
Курс партийно-государственного руководства страны на ожив¬
ление советов, на расширение демократических процедур кое-где
сельские коммунисты поняли как их полное устранение от пере¬
выборных кампаний, в которые в ряде мест они пытались и не
вмешиваться.
“В прошлом у нас была ошибка в первых перевыборах, —
признавали члены Понизовской ячейки РКП(б) в 1925 г. — Мы
руководили и активно вмешивались в выборы, а во вторых выбо¬
рах мы эту ошибку исправили и никаких кандидатов не выставля¬
ем, предоставив полную свободу гражданам”63. Среди этой части
партийцев распространилось и такое мнение: “Хорош тот комму¬
нист, кто поставит хорошо хозяйство, а управлять должны теперь
беспартийные”64.
28
Аналогичные реалистические рассуждения, бытующие среди
сельских большевиков, отчасти отражали истинное состояние пред¬
выборной кампании в советы, проводимой в деревне в 1925/26 г.
Некоторое ослабление партийно-государственного контроля над
крестьянами, административного нажима на них, в том числе и
за счет сокращения списка “назначенцев” в состав местных сове¬
тов, предоставлявших, пусть и ограниченные возможности в ряде
районов, самим сельчанам решать вопрос о кандидатах в низовой
советский аппарат, повышало общественно-политическую актив¬
ность крестьян, увеличивало в советах представительство серед¬
няцко-зажиточных слоев. Одновременно с этим понизилось среди
депутатского корпуса число коммунистов и их союзников, бат¬
рацко-бедняцких элементов. Об этом свидетельствуют официаль¬
ные данные об итогах перевыборной кампании на территории
РСФСР в 1925/26 г. В голосовании участвовало, как упоминалось
на выборах, — 47,3 % избирателей, при этом в составе сельских
советов крестьяне составляли 90,6 %, из которых подавляющее
большинство относилось по имущественному положению к се¬
реднякам. Среди крестьян в сельсоветах безлошадных насчитыва¬
лось 16 %, а освобожденных от налога — 8,5 %65, т.е. можно счи¬
тать, что примерно 1/4 депутатского корпуса относилась к
бедняцко-маломощной группе. В волостные и сельские советы
избрали 706,8 тыс. депутатов, из них 634,5 тыс. относились к крес¬
тьянам, 17,3 тыс. — рабочим, 48,5 тыс. — к служащим, включая
учителей, врачей, агрономов и 5,6 тыс. — к кустарям66.
Как явствует из вышесказанного, отношение крестьян к из¬
бирательной кампании 1925/26 г. изменилось в лучшую сторону
по сравнению с предыдущими, заметно выросло количество го¬
лосовавших, увеличилось и число их представителей в составе
сельских советов. Возросшая общественно-политическая активность
крестьян была связана, во-первых, с постепенным восстановле¬
нием их хозяйства; во-вторых, с некоторым ослаблением над ними
партийно-государственного контроля, административного нажи¬
ма, в том числе и сокращения списков “назначенцев” в состав
советов, исходящих от местных коммунистов, выполняющих ди¬
рективы вышестоящих партийных органов.
“Лишенцы”
Однако курс на оживление советов, робкие попытки по де¬
мократизации перевыборной кампании в деревне, смягчение ад¬
министративного давления на крестьян-избирателей вызывали
29
беспокойство у части центральных и местных партийных работ¬
ников, не представляющих себя без монопольной власти в дерев¬
не, без командования ее жителями. Среди них стали шире рас¬
пространяться леворадикальные настроения, будто коммунисты
теряют контроль над сельскими советами, которые стали перерож¬
даться в связи с “захватом их кулацкими антисоветскими элемента¬
ми” и вытеснением бедняков и батраков, что, дескать, создает ре¬
альную угрозу падения коммунистической власти. Первыми забили
тревогу члены ЦК ВКП(б), анализирующие предварительные итоги
избирательной кампании 1925/26 г. Так, 8 февраля 1926 г. секретарь
ЦК ВКП(б), отвечающий за работу в деревне, В.М. Молотов, на¬
правил местным партийным организациям телеграмму, в которой
констатировалось: “Предварительные итоги перевыборов в советы
показали, что партийные организации несколько ослабили внима¬
ние к этой кампании, поэтому ЦК ВКП(б) предлагает: 1. Усилить
работу по проведению кампании перевыборов советов, усилить
внимание к большому участию рабочих в перевыборах, а также к
устройству перевыборных собраний бедноты и батрачества, при¬
влекая на них советский актив середняков. Привлечь к более актив¬
ному участию в кампании общественные организации”67.
Во что вылилось на практике некоторое' “ослабление внима¬
ния” партийных организаций к перевыборам в деревне в ряде рай¬
онов, можно судить не только по вышеизложенному материалу,
но и по некоторым информационным сводкам органов ОГПУ, со¬
гласно которым в сельские советы вошли “антисоветские элементы,
кулаки” и им сочувствующие. Так, в сводке от 18 декабря 1925 г. при¬
водились следующие данные по Воронежской губернии. В с. Талиц-
ком Чаплыке Усманского уезда в сельсовете оказались сын бывшего
предпринимателя и служащий в прошлом полиции; в составе Ела-
новского сельского совета Россошанского уезда избрали сына свя¬
щенника; председателем сельсовета с. Архангельского Б. Полянского
района стал крестьянин Кириллов — “ярый тихоновец и руководи¬
тель местного тихоновского общества”. В Кутковский сельский совет
Новохоперского уезда председателем избрали крестьянина Зюзина,
поддерживающего кулаков, а его заместителем — зажиточного
односельчанина, “убежденного эсера”; в сельсовет станицы Пет¬
ропавловки Богучарского уезда прошел сторонник “кулаков” Козь-
мин, окончивший духовное училище; председателем Воробьевско-
го совета Воронежского уезда избрали церковного певчего. Среди
депутатов Елецко-Маланьевского сельсовета оказались большин¬
ство молодежи, из них сыновья кулаков, мельников. В Смоленской
губернии в сельский совет деревни Березуги Демидовского уезда
30
вошла дочь бывшего помещика; в селе Радичи Рославльского уез¬
да в состав райсовета избрали местного дьякона; в Бахаревский
райсовет попал бывший офицер старой армии; в Орловский сель¬
ский совет Смоленского уезда избрали школьную работницу, дочь
бывшего помещика — городского головы68.
Подобные факты можно приводить и дальше, ибо они имели
место и в других губерниях РСФСР. Однако наличие в составе
сельских советов “кулаков”, церковнослужителей, бывших поли¬
цейских, офицеров царской армии, детей помещиков не означа¬
ло, что они все стояли на антисоветской платформе. Их крестьяне
избрали в местные органы власти, исходя не из социального по¬
ложения, а прежде всего учитывали их деловые, организаторс¬
кие, нравственные качества, чтобы местная власть работала эф¬
фективно, в интересах деревенских жителей, защищала их
насущные жизненные интересы. К тому же “кулаки”, зажиточные
крестьяне и “бывшие” в составе сельских советов составляли не¬
значительный процент и вряд ли могли оказать на их работу ре¬
шающее влияние, чего так опасались работники ОГПУ и партий¬
ные органы. Они рассматривали деятельность советов с позиций
классово-идеологических, исходя из социального состава их чле¬
нов. Если в советах заседают коммунисты, комсомольцы, бедня¬
ки, батраки и им сочувствующие середняки — значит, совет хо¬
рош, в противном случае — он плохой, антисоветский,
антибольшевистский, его надо переизбрать.
Аналогичные устрашающие взгляды распространялись и сре¬
ди деревенских коммунистов, о чем уже упоминалось. Они пола¬
гали, что партия делает ошибочный “поворот в сторону кресть¬
янского хозяина, в руки которого и отдается руководство
сельсоветами”, значительная часть их уже перешла к зажиточным
и средним крестьянам69. Для леворадикальной части партийных
функционеров даже мелкие уступки по оживлению советов, не¬
значительные шаги по демократизации перевыборной кампании
в деревне рассматривались как отход от марксистско-ленинской
классовой, пролетарской политики, создающей реальную угрозу
делу строительства социализма в стране, власти большевистской
партии в лице перерождающихся сельских советов, когда их “захва¬
тывают кулаки”. Отсюда и требование воинствующих коммунис¬
тов — отказаться от линии на оживление советов, их демократи¬
зацию и вернуться вновь к методам военного коммунизма,
“чрезвычайщине” в деревне.
Характерны на этот счет оценки известного публициста, эко¬
номиста, хозяйственника Ю. Ларина, изложенные им в 1925 г. в
31
книге “Советская деревня”70. Он считал курс коммунистической
партии на оживление советов очередным “перегибом”, порож¬
денным примитивностью нашей политической культуры. Поэто¬
му теперь мы стоим, возможно, перед перспективой, что лозунг
“не навязывать крестьянам коммунистов насильно” будет кое-где
временно восприниматься неправильно, как нежелание участво¬
вать партийцев в сельсоветах вообще или как обязательное стрем¬
ление к уменьшению их числа. Разумеется, “это было бы дико и
нелепо”. Отказ от “назначенства” в советы, по Ларину, в ходе
перевыборных кампаний 1924—1925 гг. привел к тому, что эксплу¬
ататорские элементы деревни, не имеющие права голоса по кон¬
ституции РСФСР, захватили сельсоветы и вытеснили из них бед¬
ноту. Встревоженный возросшей общественно-политической
активностью трудового крестьянства Ларин для доказательства
мифического тезиса о засилии в деревенских советах эксплуатато¬
ров приводил не менее и мифическую статистику. Согласно его
данным, 4/5 “кулаков” включены в списки избирателей, вопреки
российской Конституции, которую, по его словам, “топчут нога¬
ми”. Конкретизируя указанную цифру, Ларин назвал и следую¬
щую статистику: в 1922/23 г. в РСФСР лишили права голоса 1,4 %
избирателей в сельской местности, или 600 тыс. человек. Тогда
как, по его расчетам, на “кулаков” приходилось только 2/5 всех
“лишенцев”, т.е. 0,5 % от их общего количества. Они составляли к
этому времени 3 %, или 1300 тыс. человек, из которых 2/3 относи¬
лись к капиталистическим, предпринимательским хозяйствам, за¬
нимающимся ростовщичеством, эксплуатирующих батраков.
Ларин в своих оценках опирался на свою исходную посылку:
отход коммунистической партии от классово-пролетарской поли¬
тики в деревне он считал ошибкой, говорил, что взят, дескать,
курс на союз “с кулаком” “и, забыв при этом о своих верных и
надежных союзниках, батраках и бедняках”. Ларин пытался под¬
крепить свои взгляды и статистикой о социально-имущественном
составе сельских советов в отдельных районах. По его данным, в
1924 г. в Алтайской губернии безлошадные крестьяне составляли в
них 2,8 %, в Псковской — 4,7 %, в Новгородской — 1,8 %, Ка¬
лужской — 2,2 %, Иваново-Вознесенской — 10,3 %. Отсюда он
делал вывод: сельские советы находились в руках середняцкой и
отчасти верхушечной, а иногда и кулацкой группы деревни, тог¬
да как беднота, составляющая половину крестьянского населе¬
ния, “почти была оттеснена от руководящего участия” в местных
органах власти: вместо 40 % безлошадных в них представлены 4 %.
Поэтому бедняцко-середняцкий союз на выборах отсутствовал, а
32
имелось “засилье зажиточной верхушки или середняцко-верху¬
шечное соглашение”71.
Однако оценки Ю. Ларина и выдвинутые в их защиту аргу¬
менты вряд ли можно считать объективными и достоверными о
перерождении сельских советов. Поэтому уже в 1925 г. они подвер¬
глись серьезной критике, в том числе и в большевистской печа¬
ти72. Поскольку называемые им цифры об удельном весе “кула¬
ков” в российской деревне, об их “засилье” в сельских советах,
будто они, дескать, вытеснили маломощных крестьян, не соот¬
ветствовали действительности, об этом речь шла раньше. Кроме
того, в 1924/25 г. в составе сельских советов на территории РСФСР
крестьяне составляли 92,1 %, из них 16 % относились к безлошад¬
ным73, а отнюдь не 4 %, как считал Ларин.
К тому же количество последних в составе низового советско¬
го аппарата действительно в ряде районов понизилось. Например,
в 1925 г. в Самарской губернии число безлошадных крестьян в
деревенских советах уменьшилось с 25 до 15 %, в Рязанской — с
29,7 до 26,7 %74. Однако Ю. Ларин явно преувеличивал удельный
вес зажиточных сельчан в составе местных советов и уменьшал в
них бедняцко-маломощных, чтобы попытаться запугать правящую
верхушку страны и побудить ее существенно изменить политику в
деревне. Поэтому мы подробно остановились на его “леваческих”
взглядах неслучайно, ибо они были присущи многим партийным
работникам в центре и на местах, ратующих за отказ от принци¬
пов нэпа, отступление от курса оживления советов и возвраще¬
ние к методам военного коммунизма, к еще большему усилению
административного нажима на крестьян. К сожалению, именно
эти радикальные настроения возобладали в партийно-государствен¬
ном руководстве страны. Оно было обеспокоено слегка возросшей
политической активностью крестьян в перевыборных кампаниях
1925—1926 гг. в связи с курсом на оживление советов, на робкие
попытки их демократизации. В правящей партии во главе со Ста¬
линым произошел поворот в политике по отношению к деревне в
сторону усиления нажима на крестьян, на дальнейшее ограниче¬
ние их гражданских и конституционных прав, связанных в целом с
наметившимся постепенным отходом от принципов нэпа в 1927 г.,
когда власть сделала ставку не на середняка, а стала считать своей
главной опорой бедняцко-батрацкие слои крестьянства, усилила
наступление “на капиталистические элементы, кулаков”.
Этот леворадикальный поворот в политике советской власти
по отношению к деревне нашел отражение и в новой инструк¬
ции “О выборах городских и сельских советов и о созыве съездов
33
советов на 1927 г.”, утвержденной 4 ноября 1926 г. Президиумом
ВЦИК. Она значительно расширяла круг лиц, лишенных избира¬
тельных прав, чего так настойчиво добивался Ю. Ларин и его ре¬
тивые сторонники.
Согласно инструкции, права голоса лишались граждане, “ис¬
пользовавшие или использующие наемный труд” в целях получе¬
ния прибыли, живущие или проживающие на нетрудовые дохо¬
ды, а также занятые в сфере торговли. В категорию “лишенцев”
попадали земледельцы, применяющие наемный труд, как посто¬
янный, так и сезонный, в таком объеме, “который расширяет их
хозяйство за пределы трудового”. Причем документ гласил: “глав¬
ным признаком трудового хозяйства в данном случае является
подсобный характер наемного труда и обязательное участие в по¬
вседневной работе в хозяйстве наличных трудоспособных его чле¬
нов”. В соответствии с инструкцией не предоставлялись также из¬
бирательные права и земледельцам, т.е. крестьянам, имеющим
“собственные или арендованные промысловые и промышленные
заведения и предприятия”, использующие постоянный или се¬
зонный наемный труд. Не допускались к выборам также и сельча¬
не, занимающиеся наряду с земледелием еще и “скупкой и пере¬
продажей скота, сельскохозяйственных и иных продуктов в виде
промысла”. Лишались права голоса и лица, “закабаляющие окру¬
жающее население путем систематического предоставления в
пользование имеющихся у них сельскохозяйственных машин, ра¬
бочего скота и пр. или постоянно занимающихся снабжением на¬
селения кредитом на кабальных условиях”. Помимо названных
крестьян, в группу “лишенцев” попадали торговцы, служители
культа, бывшие офицеры, полицейские75. При этом данный доку¬
мент, в основном, производил инструкцию ЦИК СССР, утверж¬
денную в сентябре 1926 г.
Содержание новой инструкции, в которой весьма широко тол¬
ковалось о лицах, которые могут лишиться избирательных прав,
причем в основном по классовому принципу, использующих наем¬
ный труд и живущих на нетрудовые доходы, явно носило антиде¬
мократический характер, отлучало от участия в голосовании в сове¬
ты части трудолюбивых, зажиточных, предприимчивых крестьян,
большинство из них являлись носителями экономического прогрес¬
са в деревне, вели интенсивно свое хозяйство. Они хорошо разбира¬
лись в экономике, в деревенской жизни, как правило, отличались
организаторскими способностями, высокими деловыми и мораль¬
ными качествами, пользовались авторитетом у местного населения,
знали о его настроениях, потребностях. Некоторые расплывчатые
34
формулировки инструкции ВЦИК РСФСР, по своему духу диск¬
риминационного документа, давали местным органам власти воз¬
можность толковать ее по своему усмотрению, заносить в катего¬
рию “лишенцев” “кулаков-эксплуататоров”, живущих на нетрудовые
доходы, применяющих наемных работников, в том числе кресть¬
ян, честных, старательных, допускать по отношению к ним безза¬
коние, административный произвол. Об этом убедительно свиде¬
тельствует и перевыборная кампания в сельские советы в первой
половине 1927 г. на территории РСФСР, да и СССР.
К этому времени в стране насчитывалось 73 584 сельских со¬
ветов, в среднем территория каждого из них охватывала радиусом
4—5 км. На ней располагалось от 7 до 10 населенных пунктов, где
проживало от 1 до 3 тысяч человек. К тому же территория сельского
совета не являлась самостоятельной единицей административно-
территориального деления, ею была в основном волость. В ряде рай¬
онов, в том числе на Северном Кавказе, волостное деление заме¬
нялось районным. К началу 1927 г. в СССР значилось 5701 волостей
и районов, 95,2 % населения которых составляли крестьяне. На тер¬
ритории волости в радиусе 14—15 км располагалось 10—15 сельсо¬
ветов с 20—25 тыс. жителей76.
Принимая новую инструкцию о существенном расширении
круга “лишенцев”, власти не могли не знать, что и в предшеству¬
ющий период под видом “кулака, живущего на нетрудовые дохо¬
ды”, в ряде районов незаконно лишались голоса крестьяне, не
эксплуатирующие чужого труда, а лишь применяющие работника
в хозяйстве временно, на 2—3 месяца, на летний период, о чем
сообщалось в официальных документах77. Например, в 1924/25 г. в
отдельных местах отлучались от избирательного процесса до 20 %
граждан, владеющих лошадьми и одной коровой. Так, в одной из
волостей Башкирии из всех “лишенцев” у 75 % право голоса ото¬
брали произвольно, с нарушением законодательства, ибо в раз¬
ряд “нетрудовых элементов” попали кустари, мелкие торговцы. В ряде
мест от участия в выборах устранялись и крестьяне, выступающие
на собраниях с критикой действующей местной власти, руково¬
дителей советов78.
Кто попадал в категорию “лишенцев” во время перевыбор¬
ной кампании 1924/25 г., можно судить и по данным Лужского
уезда Ленинградской губернии. Здесь не допустили власти к голо¬
сованию 865 человек, из них 51 предприниматель, 73 — живущие
“на нетрудовые доходы”, 423 — занимались торговлей”, 157 —
представители духовенства; 43 — бывшие агенты полиции и жан¬
дармерии. Как видно, почти половина “лишенцев” относилась к
35
мелким торговцам, подводимых в группу спекулянтов, эксплуата¬
торов. Что подтверждается и исключением из списка избирателей
Ульяновским волостным исполнительным комитетом Троцкого
уезда Ленинградской губернии Федора и Василия Коноваловых,
торговавших яйцами, творогом, сметаной79.
В ряде районов местное законотворчество по лишению избира¬
тельного права крестьян принимало нелепый характер — за преде¬
лами разумного. Так, 18 февраля 1925 г. Атюрьевский волостной
исполком Пензенской губернии решил не допускать на выборы
всех граждан старше 60 лет. Когда же в волисполком обратились за
разъяснением по поводу принятого данного сомнительного поста¬
новления, то вразумительного ответа не последовало, кроме несе¬
рьезной реплики: “Так уже с самого начала повелось”. Подобное
несуразное постановление приняли и власти Бирюге-Осунского
района Астраханской губернии в ноябре 1925 г. При составлении
списков для голосования они лишили права голоса всех жителей
мужского и женского пола в возрасте от 56 лет и старше80.
Однако в первой половине нэпа все же наблюдалась тенден¬
ция не увеличения числа “лишенцев”, а их постепенного сокра¬
щения. Так, в период избирательной кампании в сельские советы
в 1923/24 г. в РСФСР количество лиц, лишенных голоса, состав¬
ляло 1,4 % от общей численности избирателей81; в 1925/26 г. их
количество уменьшилось примерно до одного процента, из кото¬
рого живущие на нетрудовые доходы составляли почти полови¬
ну, а 46,4 %, — служащие религиозного культа, а также бывшие
агенты полиции82. Если в начале 1925 г. избирательных прав в рес¬
публике было лишено 700 тыс. человек (1,3 %), то в начале 1926 г.
их число сократилось до 570—580 тыс., до 1,1 %83.
Однако новая инструкция ВЦИК о выборах в советы суще¬
ственно ограничила избирательные права россиян, включая и
крестьян и ее реализация привела к заметному росту “лишенцев”
в период предвыборной кампании в январе-марте 1927 г. как по
отдельным районам, так и в целом на территории РСФСР.
Приведем на этот счет официальные данные, характеризую¬
щие резкое увеличение контингента “лишенцев” на селе, т.е. лю¬
дей, не получивших права участия в выборах по отдельным мест¬
ностям и в пределах республики, и СССР и сравним их с
предшествующей избирательной кампанией. Так, в Кубанском
округе Северо-Кавказского края в 1927 г. количество “лишенцев
достигло 31 238 человек, или 5,4 % от общего числа избирателей,
тогда как в 1926 г. их было соответственно 7182 (1,2 %)84, т.е. уве¬
личилось в 4,5 раза; в Вологодском уезде число, лишенных права
36
голоса возросло с 1518 до 3854; в Сычевском уезде Смоленской
губернии — соответственно с 367 до 1461; в Воронежской губер¬
нии по 8 уездам — с 11 644 до 34 247; по 15 районам Тульской
губернии — с 1579 до 3809; по 5 уездам Самарской губернии — с
12 360 до 37 602; по 18 округам Сибири, по неполным данным,
количество “лишенцев” поднялось с 14 514 до 76 958 человек85,
или более чем в 5 раз.
Если в 1926 г. в Тверской губернии категория лишенцев со¬
ставляла по 53 волостям 4338 человек, то в 1927 г. она возросла до
10 866 или примерно в 2,5 раза. В Нижегородской губернии лиши¬
ли избирательного права в 1927 г. в зависимости от уезда от 2,5 до
7 % граждан, тогда как в 1926 г. — 1,5—2 %. В Феодоссийском, Джан-
кийском районах Крыма количество лиц, не допущенных к выбо¬
рам, достигало 12 %, а в ряде волостей РСФСР эта цифра возра¬
стала до 20 %86. Согласно официальным данным, число “лишенцев”
на территории РСФСР в 1927 г. составляло 1 398 437 человек, или
3,3 % от общего числа избирателей, тогда как в период перевы¬
борной кампании 1924/25 г., о чем уже упоминалось, эта катего¬
рия лиц равнялась 700 тыс. человек (1,5 %), в 1925/26 г. — 410 тыс.
(1,1 %)87, т.е. по сравнению с предшествующим годом численность
“лишенцев” увеличилась примерно в 3 раза на территории Рос¬
сийской Федерации.
Такая же тенденция роста количества “лишенцев” наблюда¬
лась и в других союзных республиках, в том числе и на Украине,
где, по данным 1083 сельских советов, права голоса не получили
4,5 % граждан, тогда как в 1926 г. — 1,4 % от всех избирателей88. Во
время перевыборной кампании первой половины 1927 г. в СССР
избирательного права лишились 3,6 % лиц, достигших совершен¬
нолетия, что составляло около 2 млн. человек89.
Кого же и за что, за какие провинности и “преступления” ли¬
шила советская власть гражданских прав, избирательного голоса?
Для ответа на данный вопрос обратимся к конкретным историчес¬
ким фактам, раскрывающим механизм отлучения от голосования
сельчан в разных районах республики. Например, в Кореневском
районе Кубанского округа число “лишенцев” только в связи с при¬
менением наемного труда “в целях прибыли” составило в 1927 г.
577 человек, тогда как в 1926 г. их было 73. В этом же районе не
получали права голоса 1081 членов семей, из которых 215 относи¬
лись к крестьянам, использующим наемных работников, 678 — к
земледельцам, владеющим паровыми молотилками, 180 — к сель¬
чанам, имеющим мельницы и другие предприятия, 8 человек при¬
надлежали к кустарям и ремесленникам. Кроме того, исключили
37
из списков для голосования 149 лиц, живущих на “нетрудовые
доходы”, а в 1926 г. таковых значилось только 1690.
В Ярославской губернии в 1927 г. в число “лишенцев” попали
856 граждан, применяющих наемный труд, тогда как таких лиц
насчитывалось в 1926 г. — 488; бывших служащих полиции — со¬
ответственно 550; 291; осужденных судом — 1514; 326; членов се¬
мей, лишенных избирательных прав — 8338; 868. В 1927 г. в Мор¬
довской волости Тамбовской губернии не допустили к выборам
540 человек, из которых 15 лиц прибегали к наемному труду, один
жил на “нетрудовые доходы”, 115 являлись торговцами, 37 —
служащими религиозного культа и членами их семей, 30 относились
к бывшим полицейским, 9 — к осужденным по суду, 8 — к умали¬
шенным. Кроме того, 263 “лишенца” попадали “в категорию про¬
чих”. Последнее означало, что на местах не всегда понимали содер¬
жание новой инструкции и не знали, к какой группе отнести
“лишенца”. На территории 21 сельсовета Черепановского района
Новосибирского округа лишили избирательных прав 324 сельчан, из
них 79 — владельцев сельскохозяйственных машин, 59 — настоящих
и бывших торговцев и членов их семей; в Усть-Ишимском районе
Тарского округа из 140 “лишенцев” 55 относились к торговцам и
членам их семей, 31 — к служащим религиозного культа и членам их
семей, 34 — к административным ссыльным, 50 — к бывшим офи¬
церам, полицейским и прочим лицам91. Приведем на этот счет обоб¬
щающие официальные данные по РСФСР, согласно которым в
1927 г. из 1 398 437 “лишенцев” 11,8 % принадлежали к лицам, при¬
меняющим наемный труд; 4,7 % — к живущим “на нетрудовые до¬
ходы”; 39,2 % — к “иждивенцам”; 10,4 % — к служителям религиоз¬
ного культа; 7,4 % — к бывшим агентам полиции, жандармерии;
4,5 % — к осужденным по суду; 2,9 % — к умалишенным92.
Из названной выше статистики следует: в РСФСР лишенные
права участия в выборах в деревенские советы составляли при¬
мерно 2/3 сельчан, применяющих в своем хозяйстве наемный труд,
в том числе временно, но жившие на “нетрудовые” доходы, а
также торговцы, владельцы сельскохозяйственных машин, под¬
собных предприятий и члены их семей. Следовательно, в катего¬
рию “лишенцы” попали в основном трудолюбивые, предприим¬
чивые, хозяйственные, зажиточные крестьяне, деревенская элита.
Вторую значительную группу лиц, лишившихся права голоса,
составляли служители религиозного культа, а также бывшие офи¬
церы, полицейские, жандармы.
Однако ввиду расширительного толкования новой инструк¬
ции по выборам на местах, как отмечалось выше, избирательные
38
комиссии зачисляли в категорию “лишенцев” нередко не только
“кулаков” и зажиточных сельчан, но и середняков и даже бедня¬
ков, вынужденных иногда прибегать к найму работника времен¬
но, в летний, сезонный период. Так, Иловайская сельская изби¬
рательная комиссия Сальского округа лишила права голоса
середняка, служившего ранее в Красной Армии, за то, что он
нанял работника в разгар уборки урожая. Таким же образом по¬
ступил и Михайловский сельизбирком Сталинградской губернии
по отношению к 70-летнему крестьянину, содержателю батрака.
Второвская волостная избирательная комиссия во Владимирской
губернии получила инструкцию-разъяснение от представителя уез¬
дного избиркома о том, что крестьяне и члены их семей, владею¬
щие сложными сельскохозяйственными машинами, избиратель¬
ных прав должны лишаться. Данную инструкцию местная комиссия
проводила в жизнь.
В Донском округе Заславский избирком не допустил к выборам
бедняка, воспитывавшего 14-летнего беспризорного мальчика. В де¬
ревне Казанка Свободневского района Амурского округа местный
избирком лишил избирательного права 40 середняков, применяв¬
ших сезонный наемный труд, однако районная комиссия, ознако¬
мившись со списком “лишенцев”, восстановила в правах 37 человек.
Нередко в число “лишенцев” включались и семьи красноар¬
мейцев, временно, на сезон, использующих наемную рабочую силу.
Так, в Суворовском районе Терского округа не допустили к голо¬
сованию семью красноармейца, находящегося на действительной
военной службе, поскольку его отец применил наемный труд, а
жену другого защитника отечества лишили избирательного права
в связи с тем, что во время отсутствия своего мужа она прожива¬
ла у отца, который нанимал батрака.
К категории “лишенцев” власти на местах зачисляли часто
бывших и настоящих мелких торговцев, как явствует из офици¬
альных данных, даже продавцов продуктов своего хозяйства на
рынке. Так, в Иваново-Вознесенской губернии не разрешили уча¬
ствовать в выборах одному из членов волостной ревизионной ко¬
миссии, поскольку три года назад он в течение 6 месяцев зани¬
мался торговлей. А вот в Воронежской губернии сельчанин-бедняк
оказался в числе “лишенцев” лишь потому, “что летом 1926 г. ску¬
пал яйца для местного кооператива”. В Астраханской губернии в
селе Самоделки к “лишенцам” относили некоторых ловцов рыбы,
которые ее продавали. Микшинский избирком Донского округа
лишил избирательных прав многих бедняков, торговавших в пе¬
риод голода дрожжами и мылом собственного производства93.
39
В апреле 1927 г. Кадниковская уездная избирательная комис¬
сия Архангельской губернии вычеркнула фамилию М. Н. Соловье¬
ва из списков избирателей как “барышника и перекупщика ско¬
та”, хотя Пундогский волизбирком признал его хозяйство
бедняцким, ибо доход получаемый от занятием торговлей являл¬
ся для него источником к существованию семьи. Правда, губерн¬
ская комиссия отменила постановление уездного избиркома и
восстановила Соловьева в избирательных правах. Из 953 “лишен¬
цев”, просивших восстановления избирательных прав в Воло¬
годской губернии в ноябре 1926— декабре 1927 г., примерно по¬
ловина из них попала в группу кулаков и торговцев или членов их
семей. Причем иногда лишение гражданских прав принимало, как
выше упоминалось, абсурдный характер. Например, в Рыбинском
уезде от участия в выборах отлучили женщину, члена вика, за то,
что ее муж в 1913 г. занимался торговлей. А в Даниловском уезде без
избирательных прав осталась и сестра ленинградского торговца, с
которым она связи не имела и вела самостоятельно хозяйство94.
Михайловский сельизбирком Сталинградской губернии ли¬
шил избирательного права крестьянина-середняка, местного ак¬
тивиста, проходившего службу в Красной армии ввиду того, что
до революции его отец имел промыслово-торговый патент. Он
производил сетки и бредни, которые затем продавал. К числу “ли¬
шенцев” относились и родственники не только бывших торгов¬
цев, предпринимателей, но и служителей религиозного культа.
Так, Ново-Юрьевская избирательная комиссия Кирсановского
уезда Тамбовской губернии вычеркнула из избирательных спис¬
ков жену бывшего псаломщика, погибшего в рядах Красной Ар¬
мии. Таким же образом поступила Швердуновская сельская изби¬
рательная комиссия Валуйского уезда Воронежской губернии по
отношению к председателю совета, отец которого до революции
имел чугунно-литейный завод кустарного типа.
Отдельные местные комиссии принимали иногда анекдоти¬
ческие, нелепые решения при отлучениях сельчан от участия в
выборах, о чем уже говорилось. Например, в с. Нагоровском Ку¬
банского округа у крестьянина отобрали избирательное право в
связи с его критическими высказываниями на собрании. Он ска¬
зал, что в деревне мало уделяется внимания школьному делу.
В селе Сасыколи Астраханской губернии не допустили к голо¬
сованию двух середняков, поскольку они иногда на деревенских
собраниях “шли вразрез с линией партьячейки”; Богородицкий
и Курвинский райизбиркомы Тульской губернии постановили:
“лишить избирательных прав женщин старше 55 лет, мужчин —
40
старше 60 лет”95. В Курвинском районе избиркомы не допустили к
участию в выборах 1000 человек, из них 700 — без каких-либо
оснований96.
И все же основной контингент “лишенцев”, подчеркнем еще
раз, составляли старательные, предприимчивые крестьяне, которых
зачастую отождествляли власти на местах с “кулаками-эксплуатато-
рами”, с заклятыми ворами, рецидивистами, умалишенными, бан¬
дитами, белогвардейцами, с царскими жандармами, полицейскими.
Вот что писал по этому поводу крестьянин Ф.З. Дубровин из с. Сус-
ловского Мамонтовского района Барнаульского округа Алтайской
губернии в апреле 1927 г.: “Еще у нас в селе Сусловском 19 человек
лишены голосу. За что? За то, что они имеют хозяйство среднее и
работают день и ночь. Эти люди настоящие строители государства. От
таких людей идет хлеб, мясо, масло, кожи, овчины, волокно, шерсть.
А титул имеют якобы буржуй”97.
Для подкрепления этих слов приведем еще ряд примеров. Так,
в 1927 г. Кадниковская уездная избирательная комиссия Воло¬
годской губернии отобрала избирательное право у А.П. Филинце-
ва, участника революционной борьбы, сидевшего 13 месяцев в тюрь¬
ме (1905—1906 гг.). После Октябрьской революции он служил в
Красной Армии, работал одно время председателем волисполко-
ма, избирался делегатом уездного съезда советов. Он вел самостоя¬
тельное хозяйство, имел лошадь, три коровы, две овцы, на трех
паях владел маслобойкой, работал на ней зимой. У Филинцева была
большая семья, 10 человек; ее члены в основном являлись нетру¬
доспособными. Старшей дочери было 17 лет, младшей — 8 меся¬
цев, жена работала учительницей. Учитывая малолетний состав
семьи, он вынужден был иногда прибегать к наемному труду98,
что, по-видимому, и послужило поводом для вычеркивания фа¬
милии Филинцева из избирательного списка. А ведь его хозяйство
никак “кулацким” назвать нельзя, оно являлось скорее ниже сред¬
него, учитывая количество членов семьи.
Такие же трудолюбивые крестьяне-середняки попали в кате¬
горию “лишенцев” и в упоминавшейся нами Горицкой волости
Кимрского уезда Тверской губернии.
Например, жителя деревни Саврасово Е. М. Кудряшова не
допустили к выборам за то, что он по совету агронома, имея сель¬
скохозяйственную машину, помогал односельчанам за низкую,
справедливую цену обрабатывать их землю. Местная власть усмот¬
рела в поведении Кудряшова “закабаление крестьян”. А раз “зака¬
баление”, то, конечно, — враг народа, лишить права голоса. Кре¬
стьянин А.П. Постнов вел свое хозяйство культурно, интенсивно
41
и на волостной выставке в 1925 г. получил за это премию. Однако
и его лишили избирательного права, поскольку он владел не¬
большой валяльной мастерской. На ней в течение двух месяцев в
казачестве помощника работал ученик. Постнова волостная власть
признала “эксплуататором чужого труда”. Сельчанин А.А. Клячу-
гин, проживающий в деревне Наумово, попал в группу “лишен¬
цев” как председатель лучшего сельского кооператива, так как
его обвили в участии в “контрреволюционной банде”. Хотя вина
Клячугина была не доказана, он только подозревался в выступле¬
нии дезертиров в 1919 г."
В Сочинском районе Черноморского округа лишили избира¬
тельных прав следующих сельчан: Якова Левчука, сезонно исполь¬
зовавшего наемных рабочих во время сбора слив; Василия Проко¬
пенко, содержавшего 13-летнюю девочку в качестве няни; братьев
Ткачей, занимавшихся подсобными заработками; Якова Коробов-
ского, имеющего “излишки” посевной площади, которую он не
смог лично обрабатывать.
В Саратовской губернии в ряде волостей не допускали на вы¬
боры крестьян, нанимавших сезонных работников в уборочную
страду на 6—7 дней, а женщин — за то, что они посещали церковь.
В некоторых районах Сибири не предоставляли избирательные
права сельчанам, в том числе владельцам машин, сдающим их
напрокат, да к тому же они облагались еще и налогом. В отдельных
селениях нижегородской губернии за применение сезонного на¬
емного труда в течение 2—3-х недель крестьяне также лишались
избирательного права. В то же время имели место случаи, когда в
группу “лишенцев” попадали лица, просто не угодные властям,
последние порою сводили с ними личные счеты100.
В ряде районов Джегысуйской губернии самоуправство мест¬
ных избирательных комиссий было смехотворным, когда в кате¬
горию “лишенцев” заносились лица с такой сомнительной, неле¬
пой формулировкой: “подозревается гражданами в скотокрадстве”,
“с женой живет не в ладах”, “бьет детей”, “неисправимый пья¬
ница”, “придурковатый”. В Спас-Демянском уезде Калужской гу¬
бернии лишались права голоса некоторые пастухи и нищие как
“неблагонадежные”, а в поселке Воскресенском Кустанайской
губернии не позволили участвовать в выборах 3 гражданам, по¬
скольку прибывший на избирательное собрание милиционер зая¬
вил, что количество “лишенцев” должно составлять 8 % от всего
населения101.
В ходе перевыборной кампании 1927 г. допускалось немало и дру¬
гого произвола, беззакония, в том числе по отношению к сельской
42
интеллигенции, особенно к учителям. Ибо многие из последних
являлись членами семей священников, мелких торговцев, зажи¬
точных крестьян. Хотя эти учителя честно и добросовестно выпол¬
няли свой профессиональный и гражданский долг, были лояльно
настроены по отношению к советской власти, тем не менее часть
из них попала в категорию “лишенцев”. Так, в Тамбовской губер¬
нии отлучили от избирательного процесса учительницу, прожи¬
вающую в доме священника, тогда как брат ее служил в Красной
Армии.
На хуторе Большом станицы Етоновской Усть-Медведицкого
округа Сталинградской губернии лишили права голоса 2 учитель¬
ниц, дочерей священника, хотя они проживали отдельно от отца,
самостоятельно. Не допустила к участию в выборах избирательная
комиссия с. Елань-Колено Ново-Хоперского уезда Воронежской
губернии преподавателя 2-й ступени, активного общественника
за то, что он являлся сыном священника. В Куровской волости
Рязанской губернии не допустили к выборам 6 учителей, поскольку
они имели по корове и проживали на квартире священника, при¬
чем одна была дочерью последнего, а две — дети дьякона. В Вели-
ко-Дворской волости Владимирской губернии “лишенцем” стал
учитель, проживающий вместе с отцом-священником, хотя вел
самостоятельно хозяйство. По этому же “критерию” лишили права
голоса и учителя Велижского уезда Псковской губернии, отец ко¬
торого был церковнослужителем, да к тому же последний в разгар
уборки урожая временно нанимал работника. Лацковская избира¬
тельная комиссия Ярославской губернии не допустила к выборам
школьную работницу Новикову, члена сельизбиркома, за то, что
она ходила в гости к крестьянину-“лишенцу” Зайцеву102.
И тем не менее основную массу “лишенцев”, как выше ска¬
зано, все же составляли старательные, предприимчивые крестья¬
не, носители технического и сельскохозяйственного прогресса,
которым принадлежала важная роль в торговле, в производстве
сельскохозяйственной продукции, в увеличении производитель¬
ности труда в деревне. Как писал член Наркомзема РСФСР
К.Д. Савченко в письме к Сталину в мае 1927 г.: именно хороше¬
го, умелого работника, добивающегося высокого урожая “не хва¬
лят, он уже кулак, опасный член общества, лишают его избира¬
тельного права при перевыборах советов”103.
Грубые нарушения гражданских прав и свобод, в том числе и
записанных в Конституции, были столь очевидны в перевыбор¬
ной кампании 1927 г., что это вынужден был признать и секре¬
тарь ВЦИК А. С. Киселев. В феврале 1927 г. он констатировал: по
43
чисто формальным признакам в группу “лишенцев” относили ста¬
рательных крестьян, кустарей, представителей трудовой сельской
интеллигенции104.
Крестьяне о “лишенцах”
Многие из “лишенцев”-крестьян болезненно и с большой оби¬
дой на советскую власть восприняли потерю гражданских прав, тем
более что именно им, зажиточно-крепкой прослойке, принадле¬
жала важная роль в возрождении промышленности, в поставках на
рынок сельскохозяйственных продуктов. В заявлениях некоторых
“лишенцев” содержались такие оценки: “Нас лишают права голоса
впервые за 10 лет соввласти”, “Лишая нас избирательных прав,
соввласть не дает нам возможности учить своих детей”105.
Особенно были разочарованы политикой власти и негодова¬
ли отлучением от избирательного права сельчане, которые в свое
время являлись активными участниками революционной борьбы,
служили в Красной Армии. Об этом можно судить по содержанию
письма крестьянина Смоленской губернии М.Д. Савченко своему
брату в начале 1927 г., которое раскрывает и причины отлучения
неугодных от выборного процесса: “Сейчас веду упорную борьбу
со своим черносотенным советом, который, чтобы избавиться от
моей критики, подвел меня под категорию кулаков и лишил меня
права избирательного голоса. Я и моя жена, несмотря на незначи¬
тельный процент своей трудоспособности, работаем, не покладая
рук, но беда в том, что я имею нынче только одного работника,
землю сдавать не буду, а местный сельсовет указал, что я не рабо¬
таю, а имею работника и работницу. Но этого нет. Когда была
работница, тогда не было работника. Я лишен права даже присут¬
ствовать на выборах. Ты можешь представить, какое это глубокое
оскорбление. Мне, старому политработнику, который при цариз¬
ме был бесправным и теперь оказался таким. Несмотря на свою
полную солидарность с советской властью, приходится хлопотать
о восстановлении своих гражданских прав, чтобы не быть полити¬
ческим трупом. Я со стороны слышу насмешку: “Перестарался
защищать власть, так пусть эта же власть тебя и душит”106.
Из содержания письма Савченко напрашивается вывод: его ли¬
шили гражданских прав за критику действий местной власти, пово¬
дом для чего послужил наем работника ввиду отсутствия трудоспо¬
собных членов семьи. Для него, защитника советской власти, это
явилось сильным морально-идеологическим потрясением, с чем он
не смог смириться, поэтому и боролся за восстановление избира¬
тельного права.
44
Однако ограничивая гражданские права и свободы крестьян,
руководство страны не задумывалось о негативных экономичес¬
ких, социальных последствиях этой политики, которая в недале¬
ком будущем может привести к падению сельскохозяйственного
производства. Поскольку в категорию “лишенцев” зачастую попа¬
дали зажиточно-крепкие хозяйства, то они приходили к выводу:
зачем заботиться о расширении хозяйства, о росте производи¬
тельности труда, когда советская власть их преследует, лишает
права голоса, сворачивает хрупкие демократические начала. Вот
лишь некоторые суждения и жалобы “лишенцев” на этот счет,
зарегистрированные органами ОГПУ только в сводке от 1 марта
1927 г. Так, в станице Хоперской Балашовского уезда Саратовс¬
кой губернии “кулак-лишенец” говорил: “Отошла широкая де¬
мократия, опять хвост поджимает. Пишут о поднятии сельского
хозяйства, а если работника наймешь — зачисляют эксплуатато¬
ром и лишают избирательных прав”.
Аналогичного мнения придерживался и зажиточный крестья¬
нин-“лишенец” слободы Дмитриевки Острогожского уезда Воро¬
нежской губернии: “Теперь нельзя увеличивать свое хозяйство, а
то как заведется лишний поросеночек, лошадь, овечка, так сей¬
час же и лишают тебя избирательных прав”. В одном из сел Щад-
ринского округа “кулак-лишенец” высказывал такое недоволь¬
ство: “Мы налаживаем государство, даем ему прибыль, а нас
лишают голоса, не дают свободно работать — обрезают крылья”.
“Лишенцы” считали, что государство неправильно поступает,
отбирает права “как раз у тех, кто приносит большую пользу го¬
сударству, уплачивая большой налог. Это поход против старатель¬
ного крестьянина. Поэтому некоторые потерявшие гражданские
права заявляли: “Если коммунисты нас не считают за людей, а счи¬
тают за врагов, так и пусть с нас не требуют налоги”107.
При этом позицию “лишенцев” о необходимости сокраще¬
ния крестьянского производства, иначе попадешь в группу “вра¬
гов советской власти”, разделяли многие жители деревни, и прежде
всего середняки. Характерны на этот счет рассуждения крестьян
Горицкой волости Тверской губернии: “Говорили поднимайте
хозяйство, а теперь тех, кто особенно старался по крестьянской-
то линии, как раз и лишают голоса. “Советская власть должно
быть отвертывается от крестьянства. Надо сидеть на трехполке и
не рыпаться, а то с многопольем-то докатишься до контры, бу¬
дешь ходить в безголосых”108.
Подобные суждения звучали на перевыборных собраниях и
в других районах, на которых крестьяне не только проявляли
45
недовольство действиями советской власти, ее критиковали, но
нередко вставали и на защиту “лишенцев”. Так, в одном из селе¬
ний Рязанской губернии на собрании жители говорили: “Совсем
хотят оттереть крестьянина от власти, теперь нельзя продать или
перепродать одного барана, нельзя иметь веялки и давать ее сосе¬
ду, а то лишат избирательных прав”. “Нынче, мужики, не наде¬
вайте новые сапоги, а то соввласть в кулаки запишет”, — заявил
середняк в одном из сел Иваново-Вознесенской губернии”. Такое
же мнение разделял и один из крестьян Ленинградской губер¬
нии, по словам которого, “при соввласти заведи 4 коровы — по¬
падешь в буржуи и тебя лишат права голоса”.
Такие же оценки звучали и на собраниях Армавирского окру¬
га: “Соввласть не дает свободно расти сельскому хозяйству”, “Это
выходит, что всех хороших хозяев лишают права голоса, а оста¬
ются одни пролетарии, которые выберут себе власть и будут уп¬
равлять нами как хочется”.
На перевыборных собраниях, в том числе и при обсуждении
новой избирательной инструкции, зачастую крестьяне выступали
против лишения гражданских прав своих односельчан, высказы¬
вались в защиту “лишенцев”, осуждая политику государства. На¬
пример, в Ленинской волости Московского уезда на собрании
молодежи и актива бедняков середняк сказал: “Почему кулака
лишать избирательного права, в то время как он государству дает
больше пользы, чем бедняк? Если бы кулаки не нанимали батра¬
ков, то последние померли бы с голоду”. В деревне Александровка
Коммунистической волости Московской губернии при обсужде¬
нии новой инструкции по выборам на собрании середняки и за¬
житочные сельчане говорили: “Не нужно никого лишать избира¬
тельных прав. Почему лишают избирательных прав крестьянина,
имеющего образцовое хозяйство и содержащего наемных рабо¬
чих, а рабочего, получающего 200 руб. и держащего прислугу,
избирательных прав не лишают?”.
В ряде мест не ограничивались декларативной защитой “ли¬
шенцев”, но и обращались с заявлениями в органы власти с
просьбой восстановить их вновь в гражданских правах. Так, в сель¬
совет “Возрождение” Геленджикского района Черноморского ок¬
руга в феврале 1927 г. поступило прошение от группы крестьян
численностью 40 человек следующего содержания: “Сделанное и
объявленное избиркомиссией постановление о лишении права го¬
лоса значительного количества наших граждан — неоснователь¬
но, неразумно и несправедливо, и мы не можем отнестись к это¬
му равнодушно и безучастно. Постановление это, сделанное
46
определенной группой лиц, называемой “избирательной комис¬
сией”, не может быть рассматриваемо иначе, как опозоривание
жвущих между нами граждан, оплевание их и объявление пре¬
ступниками, находящимися как бы вне закона. За какие же пре¬
ступления люди подвергнуты столь позорному наказанию?.. Вот
эти преступления. Пользование наемным трудом, стремление к
расширению хозяйства и пользование машинами, принадлежность
к помещичьему сословию, неучастие в общественной деятельно¬
сти Мы не можем быть равнодушными всенародным оплеванием
наших граждан. Сегодня это сделали с ними — нет поруки, что
завтра то же будет сделано с нами. И пока позорный список не
будет уничтожен, мы не можем со спокойной совестью участво¬
вать в выборах и в других общественных организациях”109.
Думается, что данное ходатайство сельчан выражало настрое¬
ния большинства российского трудового крестьянства, их трево¬
гу, боль как за будущее страны, так и собственное благополучие,
его собственную судьбу, в нем четко отражено недовольство, воз¬
мущение, гнев политикой государства, и указаны основные при¬
чины “преступных” деяний “лишенцев”, их старательность, пред¬
приимчивость, умение исправно вести свое хозяйство. Даже
работники О ГПУ в обзоре за декабрь 1926 г. вынуждены признать:
со стороны зажиточных, кулаков и некоторых середняков “при¬
менение новой инструкции вызвало резкие нарекания и выступ¬
ления на собраниях в защиту лишаемых избирательных прав”, хотя
беднота и основная масса середняков в ряде районов одобряли
“линию партии и соввласти в области расширения круга лиц,
лишенных избирательных прав”110.
Конечно, среди сельских жителей встречались сторонники
ограничения гражданских прав “кулаков-эксплуататоров”, под¬
держивающих политику государства по отлучению из избиратель¬
ного процесса зажиточных сельчан, недопущению их в состав ме¬
стных советов. Однако, как свидетельствуют факты, все же основная
масса середняков даже “в ряде районов” не одобряла действия
властей по лишению гражданских прав крестьян. Даже маломощ¬
ные слои деревни, на которые и делало главную ставку в проведе¬
нии своей политики в сельской местности правительство, не яв¬
лялись столь однозначными в своем отношении к “лишенцам”.
На наш взгляд, батрацко-бедняцкие элементы деревни за¬
нимали двойственную позицию по поводу новой инструкции
по выборам, расширяющей круг лиц, лишаемых избирательно¬
го права. С одной стороны, часть бедняков одобряла данную
политику и активно участвовала в подготовке списков сельчан
47
о недопущении к выборам и даже ратовала за его расширение.
Среди них встречались и сторонники возрождения комбедовских
методов управления деревней. Например, в начале 1927 г. в селе
Ровное-Владимирское Самарской губернии сельская избиратель¬
ная комиссия, состоящая из бедноты, весьма радикальным спо¬
собом разрешила вопрос о применении наемной силы в крестьянс¬
ком хозяйстве: “Кто имел наемную силу, хотя бы и временную, —
значит эксплуататор”. Исходя из данного постановления, можно
было лишить избирательного права около половины крестьян села,
учитывая, что многие из них поденно, сезонно нанимали вре¬
менно работников. В феврале 1927 г. на собрании бедноты села
Студенцы Самарского уезда многие из них выражали недоволь¬
ство тем, что сельизбирком мало лишил избирательных прав их
односельчан, 80 человек, считая это число заниженным. Они за¬
являли: “Пришла пора зажать кулака в кулак и просим слушать,
что мы говорим: лишайте всех, кто не с нами”.
Маломощные жители сел Кистыш и Вишенки Владимирской
губернии, выражая удовлетворение содержанием новой инструк¬
ции по выборам, говорили: “Наконец-то самых “чертей” скинули
со своей шеи, и они уже не будут кричать на собрании”. В таком
же в комбедовском духе высказывалась и беднота одного из сел
Орловской губернии: “Наконец-то соввласть заткнула горло па¬
разитам, которые мешают работать, вот за это спасибо соввлас-
ти”. Аналогичную радикальную “антикулацкую” позицию зани¬
мали и бедняки поселка Четкульского Челябинского округа, по
мнению которых, “лишили тунеядцев и кулаков прав, так им и
надо, на то наша власть”111.
В то же время часть деревенской бедноты не солидаризировалась
с подобными воинственными “антикулацкими” настроениями,
а занимала более взвешенную позицию по отношению “к лишен¬
цам”. Ибо у последних нередко они находились в экономической
зависимости. Зажиточные крестьяне в трудное для бедняков время
предоставляли им деньги, хлеб, а порою обеспечивали работой.
А в случае лишения гражданских прав “кулаков” помощь от них
не придет, ждать ее будет не от кого, в том числе и от государства.
Как заметил один из маломощных села Таловая Воронежской гу¬
бернии, лишение избирательных прав кулаков “в первую очередь
отразится на бедноте”, так как они “будут отказывать давать ка¬
кую-либо работу”.
В этой связи проявляли большое беспокойство и выражали
недовольство батраки, занятые непосредственно в хозяйствах за¬
житочно-богатых крестьян, “лишенных” гражданских прав, ибо
48
последние их увольняли. В ряде мест требовали батраки исключе¬
ния из новой инструкции по выборам положения о лишении из¬
бирательных прав лиц, применяющих наемный труд. Например, в
с. Николино-Банне Ставропольского округа на предвыборном со¬
брании один из батраков заявил в начале 1927 г.: “Новая инструк¬
ция целиком ударила по батраку, т.е. никто больше не будет на¬
нимать батраков. Инструкцию надо изменить, иначе батраки
погибнут”. Такое же мнение высказывал и бедняк на собрании в
станице Бекулешевской Терского округа в ходе обсуждения док¬
лада о перевыборах советов: “Лишение избирательных прав нани¬
мателей бьет прежде всего по батракам, т.е. поэтому они лишают¬
ся работы”.
Такие опасения являлись обоснованными, ибо в ряде райо¬
нов РСФСР, в частности в Сибири, на Северном Кавказе, По¬
волжье “лишенцы” действительно вынуждены были уволить бат¬
раков, иногда заявляя им: “Пусть вас инструкция кормит” или
“не будем помогать бедноте — пусть им помогает власть”112. Таким
образом, наступление “на демократию” в деревне, ограничение в
гражданских правах зажиточных крестьян, по официальным дан¬
ным “кулаков”, недопущение их к участию в выборах в сельские
советы, имело негативные последствия как для экономики стра¬
ны, так и социальной жизни, поскольку часть батраков вслед¬
ствие такой политики оставалась без работы в хозяйствах “лишен¬
цев”, а следовательно, оказались и без куска хлеба.
В соответствии с новой инструкцией перевыборная кампания
в сельские советы в первой половине 1927 г. проходила с более
антидемократическим, административным и назначенческим ук¬
лоном, с меньшей активностью по сравнению с прошлым годом.
Крестьянам чаще навязывали список кандидатов, составленный
заранее большевистско-комсомольскими ячейками и бедняцко-
батрацким активом. Партийно-государственное руководство стра¬
ны в этой избирательной кампании пыталось отвоевать несколько
утраченные позиции в составе деревенских советов, потеснить из
них “кулаков”, “политически неблагонадежных” крестьян и про¬
вести туда побольше своих сторонников, представителей от боль¬
шевистских и комсомольских ячеек. В этих целях эти организации
постарались включить в избирательные комиссии побольше бед¬
няцко-маломощных представителей, последние преобладали в них
во многих районах РСФСР.
О ходе и характере избирательной перевыборной кампании в
деревенские советы в 1927 г. нам дает представление и наблюде¬
ние одного из современников, знатока крестьянской жизни, уже
49
упоминавшегося члена коллегии Наркомзема РСФСР, К. Д. Сав¬
ченко. В письме к Сталину в мае 1927 г. он констатировал произ¬
вол и беззаконие, допускаемые властью в период избирательной
кампании. “Инструкция по выборам работала, как гильотина, от¬
секая все сомнительное, к тому же всякая дельная, самая безо¬
бидная критика, замечание или предложение, не носящее офи¬
циально-казенного взгляда, объявлена заранее кулацкой, его
мерзостью, его вылазкой, его кознями. И еще до выборов все было
отсечено инструкцией, да и кому охота выступать, говорить, со¬
ветовать, зная заранее, что самое искреннее его заявление уже
признано исходящим от лукавого. Нужно ли нам такое' казенное
благополучие?”113.
Конкретные исторические факты подкрепляют данное наблю¬
дение, подтверждают оценки Савченко. Каким образом шло фор¬
мирование органов низового советского аппарата в деревне, можно
судить и по протоколу бедняцко-середняцкого собрания, состо¬
явшегося в деревне Васильевское Гридинской волости Костромс¬
кого уезда от 20 января 1927 г. После информации о подготовке к
перевыборам членов сельского совета поступило предложение
избрать в него активных в советской работе и авторитетных среди
населения граждан, бедняцко-середняцкого крестьянства, способ¬
ных противостоять кулаку. И тут же поступил вопрос: “Разъясни¬
те, что такое кулак”. В ходе возникшей дискуссии выяснилось,
что жителей волнует не столько кулак, сколько деревенский без¬
дельник, пользующийся подачками советской власти. Бедняки
протестовали против избрания партийных назначенцев: в сельсо¬
ветах и волисполкомах должны работать люди, хорошо знакомые
с местными условиями, без бюрократических склонностей, раз¬
бираться в экономике, подотчетные избирателям, а не партий¬
ной организации. “Социальное положение значения не имело, глав¬
ное, чтобы была голова на плечах и желание потрафить мужику.
Уговаривали переизбрать старого председателя, Костромского, но
все же постановили не выбирать, настаивать на бедняке, из одно¬
сельчан, с добрым именем”114.
И в других местах крестьянам в ходе длительных дискуссий
удавалось все же провести своих кандидатов в советы на избира¬
тельных собраниях и провалить кое-где списки с большевистски¬
ми “назначенцами”. В начале февраля 1927 г. в с. Загорново Мос¬
ковской губернии Бронницкого уезда перед выборами зажиточные
крестьяне в количестве 10 человек проводили агитацию против
кандидатов в состав сельского совета, предлагаемых ячейкой
ВКП(б). Они заявляли: “Не нужно голосовать за список ячейки,
50
там одна шпана”. На перевыборном собрании после оглашения
списка кандидатов от коммунистов раздавались голоса: “Нам сек¬
ретарь ячейки хочет хомут на шею надеть, навязывает своих кан¬
дидатов, какая-то кучка хочет управлять нами”, “Мы требуем
аннулировать наш список и сами своих кандидатов будем изби¬
рать в сельсовет”, “Тут нам, граждане, делать нечего, пойдемте
домой, пускай собрание закроют, но мы намеченных ячейкой в
советы не пропустим”. По итогам голосования “список ячейки
провалили на 75 %. В сельсовет прошли учительница, два бедняка
и 5 зажиточных”.
“Сражались” крестьяне за своих представителей в местные
советы и в других районах в январе-марте 1927 г. на перевыборных
собраниях. Так, им удалось провести в деревне Тимофевщине Вол¬
ховского уезда Ленинградской губернии в состав сельсовета “ку¬
лака”, т.е. зажиточного сельчанина; в с. Погополье Бугурусланско-
го уезда Самарской губернии избрали вопреки давлению партийной
организации своих крестьянских членов в совет.
Нешуточная политическая борьба развернулась за кандидатов
и на перевыборном собрании жителей Суходольского сельсовета
Тульской губернии между бедняками и середняками. Последние
выступали против предложенного списка первыми и утверждали:
“Мы все бедняки и нам не нужны их кандидаты. Мы сами знаем,
кого избирать”. Такую же позицию заняли и середняки села По¬
кровского Одоевского уезда той же губернии по отношению к
списку бедноты, последним не удалось провести в совет ни одно¬
го своего представителя, не оказалось в нем ни коммуниста, ни
комсомольца.
Подобная картина наблюдалась и на перевыборном собрании
с. Георгиевки Некрасовского района Хабаровского округа, где оно
проводилось дважды: первый раз, назначенное на 8 января, собра¬
ние сорвалось в связи с тем что избиратели явились “пьяными” по
случаю религиозного праздника Рождества. На второе собрание
пришли “исключительно зажиточные” сельчане и выступили про¬
тив списка кандидатов в состав сельского совета, представленного
беднотой, и выдвинули свой список в члены совета, который в
ходе голосования поддержало большинство избирателей115.
Вышеназванные примеры свидетельствуют, с одной стороны, о
политической активности середняцко-зажиточных слоев деревни,
способных отстаивать свои гражданские права в отдельных районах,
а с другой, о слабой организационной подготовке в некоторых мес¬
тах партийных организаций и сельской бедноты. В то же время в це¬
лом на территории РСФСР активность первых снизилась, а вторых —
51
немного возросла в перевыборной кампании 1927 г. Среди бед¬
няцко-батрацких элементов накануне выборов коммунисты про¬
водили заметную работу, организовывали специальные собрания,
на которых намечались члены избирательных комиссий, состав¬
лялись списки лиц на лишение избирательных прав и кандидатов
в состав советов. Например, в с. Излегащи Воронежской губернии
из 60 бедняков на собрании присутствовало 52, в с. Кистыш Вла¬
димирской губернии — соответственно 72 и 68. В Богоявленской
волости Нижегородской губернии по 37 селениям на собрания
пришли до 75 % от общего числа бедняков.
По 12 округам Сибири в перевыборную кампанию состоялось
1667 отчетных собраний и 1143 специальных собраний маломощ¬
ных, посещаемость которых составила примерно 50 %. Последняя
цифра говорит о том, что даже эти слои деревни, опора больше¬
вистской партии, проводник ее политики на селе, пассивно от¬
носились к избирательной компании, к участию в выборах в сель¬
ские советы. В некоторых районах посещаемость избирательных
собраний оставалась по-прежнему низкой. Так, в слободе Лушни-
ковка Воронежской губернии на бедняцком собрании вместо
200 человек присутствовало 58; в селе Момон той же губернии
явились 30 человек из числящихся 400. Безразличие и равнодушие
части сельской бедноты к перевыборам сельских советов объясня¬
лось просто: они не верили, что избранные депутаты будут защи¬
щать их непосредственные интересы или, как выражались мало¬
мощные сельчане Федорцовской волости Сергиевского уезда
Московской губернии: “Нам безразлично, кто будет избран в сель¬
совет, так как избранные будут выполнять директивы не бедня¬
ков, а Вика”. А вот еще одно мнение по этому вопросу батраков и
бедняков с. Степанидово Ленинградской губернии относительно
состава советов, противоречащего позиции коммунистической
партии: “Если человек хороший, то пусть он хоть кто — бедняк
ли, кулак ли — его можно выбрать в совет”116, т. е. не по классово¬
социальному признаку, а по деловым качествам, организаторским,
хозяйственным принципам.
Лишение избирательного права зажиточной части крестьян,
нередко авторитетных и уважаемых односельчан, усиление адми¬
нистративного нажима на жителей деревни, навязывание в состав
советов партийных назначенцев — все это не могло способство¬
вать росту активности населения, особенно середняцко-богатых
слоев, многие из них просто не участвовали в выборах 1927 г.,
они не приходили на собрания, нередко объясняя властям свою
неявку: “Вы лишайте избирательных прав, кто же к вам пойдет
52
после этого на собрания”, “Нас лишили права — зачем ходить на
собрания, пусть выбирают сами”117.
Поэтому в ряде районов количество участвующих в выборах
крестьян в 1927 г. снизилось по сравнению с прошлогодними. На¬
пример, в Горицкой волости их число уменьшилось с 62 % до
52 %. При этом некоторые избиратели свой бойкот голосования
объясняли так: “А ну их эти выборы! Придешь, да не так проголо¬
суешь, а потом тебе разъяснят, что и хлопот не оберешься. Уж
лучше совсем не ходить, сидеть дома”118. Вот почему отнюдь не¬
случайно в ряде мест посещаемость отчетных собраний в период
перевыборной кампании не превышала 10—20 % от общего числа
избирателей119. Хотя в целом на территории РСФСР количество
сельских жителей, участвующих в голосовании в 1927 г., осталось
примерно на уровне прошлого года и составило 47,5 % от всех
избирателей. В то же время в земледельческих районах их число
снизилось: в Северо-Кавказском крае достигало 44,6 %, в Цент¬
рально-Черноземном — 43,3 %, в Волжском — 45,2 %120.
Не совсем демократический, несвободный характер избира¬
тельной кампании 1927 г., включая лишение права голоса части
активных сельчан, привели к тому, что в составе деревенских со¬
ветов несколько сократилось число середняцко-зажиточных крес¬
тьян и немного увеличилось представительство бедняцко-батрац¬
ких элементов, членов ВКП(б) и комсомольцев по сравнению с
прошлыми выборами. Например, в Северо-Кавказском крае чле¬
нами сельских советов, освобожденных от налога, в 1925/26 г. яв¬
лялись 13,7 %, в 1926/27 г. — 17,3 %; с уплатой налога на одного
человека до одного рубля — соответственно 7,5 и 11,6%; тогда как
лиц, уплачивающих налог от 10 до 15 руб., сократилось с 16,6 до
11,5 %; а от 15 до 20 руб. — с 4,2 до 2,5 %. Последние цифры гово¬
рят о представительстве в советах зажиточных крестьян, числен¬
ность которых уменьшилась приблизительно на 1/3. В то же время
увеличилось в составе советов коммунистов с 11 % до 14,7 %, а
комсомольцев — с 3,3 до 4,6 %. Заметно возросло число партий¬
ных депутатов среди председателей сельских советов с 35,6 до
47,1 %121. В 1926/27 г. на территории РСФСР в 56 519 сельских со¬
ветов избрали 955 486 депутатов, из них 79,2 % относились к кре¬
стьянам, 5,5 % — к служащим, 4,3 % — к батракам и рабочим,
11 % — к прочим. Среди них насчитывалось 16,1 % освобожденных
от налога, 15,8 % — уплачивали его на едока до 1 руб., 24,1 % —
от 1 до 2 руб. Следовательно, больше половины членов сельских со¬
ветов принадлежали к бедняцко-маломощному крестьянству. В то же
время 18,9 % депутатов налогом облагались на человека более 5 руб. и
53
25,1 % — от 2 до 5 руб.122 Последние две группы по преимуще¬
ственному положению являлись середняцко-зажиточными. При
этом в депутатском корпусе Российской Федерации значилось
12,9 % комсомольцев, членов и кандидатов в члены ВКП(б). В мас¬
штабе СССР в выборах в деревенские советы в 1927 г. участвовало
27 839 тыс. из 57 547 тыс. избирателей, что составляло 48,4 % от их
общего числа. В сельские советы избрали 1 315 768 депутатов, в ре¬
визионные комиссии — 207 121, в волостные и районные советы
вошли 58 665 человек, в соответствующие ревизионные комиссии —
13 335. В общей сложности в деревенских органах власти насчиты¬
валось в стране около 1,6 млн. человек123. О том, как эта огромная
армия низового советского аппарата выполняла свои задачи и ре¬
шала социально-экономические вопросы в деревне, речь и пой¬
дет в нижеследующем материале.
Сельские советы в стороне от крестьянской жизни
Одна из главных причин пассивного отношения многих крес¬
тьян к перевыборным кампаниям в сельские советы заключалась
еще и в том, что деятельность последних не удовлетворяла их запро¬
сы, думы, интересы и чаяния. Большинство деревенских советов
работу не перестроили с учетом мирного, нэповского времени,
действовали методами военного коммунизма, не оказывали по¬
ложительного влияния на крестьянскую жизнь. Они выполняли в
основном административно-фискальные задачи и реализовывали
директивы вышестоящих органов власти. Хотя сельские советы и
являлись органами государственного управления, однако вряд ли
их можно было считать органами именно местного крестьянского
самоуправления. Поскольку их состав формировался зачастую не на
демократической, свободной и равновыборной основе, а путем
“партийного назначенства”. Кроме того, вопросы местного харак¬
тера, нужные крестьянам, связанные с развитием экономики, про¬
ведением землеустройства, благоустройства, строительство дорог,
мостов, их ремонт, становление образования, здравоохранения и
другие проблемы деревенской жизни, не находились в центре вни¬
мания их деятельности. Об этом свидетельствуют многочисленные
исторические факты, к изложению которых мы и перейдем.
Так, обследование осенью 1923 г. работниками Народного
комиссариата рабоче-крестьянской инспекции Петроградской гу¬
бернии низового деревенского аппарата показало: например, Вруд-
ский волостной исполнительный комитет (волисполком, вик)
Кингисеппского уезда “никуда не годен в деловом отношении,
54
недостаточно внимателен к крестьянам”. Последние негодовали
“по поводу проявления виком неумения справиться с простыми
житейскими вопросами”. Такую же негативную оценку заслужила
и деятельность Ежегорского волостного совета Вытегорского уез¬
да, работой которого было недовольно местное население, по¬
скольку он не занимался развитием сельского хозяйства, в том
числе и распространением агрономических знаний, для этого во-
лисполком “не делает ничего, даже не знал о премировании луч¬
ших, передовых крестьянских хозяйств, считая их “кулацкими”124.
Мало занимались насущными крестьянскими вопросами и мес¬
тные органы других районов РСФСР, о чем говорит изучение со¬
трудниками Центральной контрольной комиссии и НК РКИ 35 сель¬
советов различных губерний страны в 1923 г. Согласно этому
обследованию, из всех обсуждаемых на их заседаниях вопросов
20 % приходилось на политико-административные; 18,7 % — на
финансово-налоговые; 12,7 % — на организационные; 21 % — на
хозяйственные; 7,3 % — коммунальные; 8,6 % — на культурные;
7,7 % — на взаимопомощь. При этом деятельность большинства
советов крестьяне оценили “на неудовлетворительную” оценку125.
Причем в некоторых волисполкомах 90 % всей деятельности па¬
дало на сборы налогов126. В работе большинства сельсоветов пол¬
ностью отсутствовала инициатива их членов, самодеятельность,
самостоятельность. Во многих случаях советы являлись лишь про¬
стым исполнителем распоряжений высшей власти127.
Не изменилась радикально к лучшему деятельность советов в
деревне и в 1924—1925 гг. после провозглашения коммунистичес¬
кой партией так называемого нового курса на их оживление. Ди¬
рективы ЦК РКП(б) и установки второй сессии ВЦИК XI созыва
в октябре 1924 г. о необходимости активизировать работу советов в
сельской местности, сделать их защитниками трудового кресть¬
янства, которые заботились об их хозяйстве и боролись с невеже¬
ством, темнотой, болезнями и другими негативными явлениями
деревенской жизни128, остались во многом пустыми декларация¬
ми, не реализовались, да и они не вписывались в формирующую¬
ся командно-административную систему.
Анализ материалов о деятельности низового советского аппа¬
рата в деревне в середине 20-х годов, убедительно свидетельству¬
ющий о том, что никакой демократизации их деятельности не
произошло, они по-прежнему выполняли указания партийных ор¬
ганов, действовали нажимными методами по отношению к крес¬
тьянам, стояли в стороне от их запросов и не пользовались дове¬
рием у сельских жителей. Поскольку деревенские советы не
55
являлись настоящими органами крестьянского самоуправления,
занимались в основном административными вопросами и “выби¬
ванием” с населения налоговых платежей, пренебрегая его жиз¬
ненными интересами. Об этом наглядно говорят материалы об¬
следований низового советского аппарата в деревне партийными
работниками, сотрудниками ЦКК РКП(б) и ее местными орга¬
нами в середине 20-х годов.
Так, инструктор Псковского губкома РКП(б) В. Иванов на
основе тщательного изучения Советской волости Холмского уез¬
да в 1925 г. пришел к выводу: на 80 % работа сельсоветов прихо¬
дится на сборы сельскохозяйственного налога, семенной ссуды и
страховых платежей. Именно по этим показателям волостной ис¬
полнительный комитет оценивает их деятельность и прежде всего
по сбору налоговых платежей. Например, Канищевский сельсовет
вообще не касался работы школ, избы-читальни, кооперации, а
его члены в количестве 24 человек не проявляли никакой иници¬
ативы. Поступающие же документы от вышестоящих органов не
обсуждались, а просто подшивались в дело. У сельсоветов и вика
отсутствовала связь с населением, они мало обращали внимания
на культурную работу, были не изжиты методы военного комму¬
низма129. К аналогичным выводам пришли и партийные обследо¬
ватели Шапкинской волости Лодейнопольского уезда Ленинград¬
ской губернии и Рядковской волости, в которых 85—90 % всей
работы сельсоветов и виков приходилось на сборы налогов, тогда
как вопросы культурно-хозяйственного строительства, землеуст¬
ройства не рассматривались и вообще не решались. А качество
деятельности сельсоветов оценивалось виком по сумме выкачен¬
ного налога с крестьянского населения130.
В июне 1925 г. Череповецкий губком РКП(б) в секретном пись¬
ме местным органам констатировал: волиспокомы и сельсоветы ча¬
сто “всю работу сводят к взиманию всевозможных налогов, хозяй¬
ственная и политико-культурная работа не ведется, и такой Вик в
глазах крестьянина кажется гнетом, выжимающим налог и только”131.
По итогам обследования 6 волостей — Ленинградской, Псковс¬
кой, Новгородской и Череповецкой губерний — Северо-Западное
бюро ЦК РКП(б) в 1925 г. вынуждено было признать: в большин¬
стве случаев вся работа сельсоветов сводится к выполнению указа¬
ний волостных исполнительных комитетов, преимущественно по сбору
налогов, а своей инициативы они не проявляли, за исключением
лишь отдельных. То же самое характерно и для деятельности самих
виков, в их работе первое место занимают налоговые платежи132.
56
В таком же духе работали и низовые советские органы дерев¬
ни в Московской губернии. Это показал смотр волостных испол¬
нительных комитетов, проводимый в конце 1925 — начале 1926 гг.
В ходе этого смотра крестьяне давали зачастую негативные оценки
деятельности местных советов, отразившиеся в материалах сель¬
коров в газету “Московская деревня”. На основании этих матери¬
алов партийное руководство губернии подготовило соответствую¬
щий обзор, дающий представление о стиле, методах, характере
работы сельских советов и волисполкомов в середине 20-х годов.
Так, Р.Н. Кедров сообщал из Бухаловской волости Волоко¬
ламского уезда: “На годовом отчете председатель сельсовета отчи¬
тался короткой фразой: “Я, мол, ничего не делал и не знал, что
делать. Меня никто не заставлял и никто ничего не спрашивал”.
Крестьянин В. Чернышев из Шиковской волости Московско¬
го уезда писал, что ревизионная комиссия не работает, “ничего
не предпринимается по улучшению сельского хозяйства”. А Васи¬
льевский волостной совет Богородицкого уезда совершенно не
занимался вопросами благоустройства, поэтому крестьяне возму¬
щались и говорили: налог берут, а дороги и мосты не ремонтиру¬
ют. В Горской волости Ленинского уезда сельсоветы также не за¬
нимались этими вопросами, в частности починкой мостов133.
Аналогичная картина наблюдалась и в других регионах РСФСР,
когда советы стояли в стороне от крестьянской жизни, не интере¬
совались сельским хозяйством, образованием, благоустройством
и другими насущными проблемами. Так, в Григорьевской волости
Владимирской губернии сельсоветы не занимались землеустрой¬
ством крестьянских хозяйств, развитием местных кустарных про¬
мыслов. Отсюда следовала и отчужденность деревенских органов
власти от сельчан. Последние так отзывались о сельском совете и
волостном исполкоме: “Там нас не выслушивают, наших заявле¬
ний не принимают”. В Донском округе деятельность сельского ни¬
зового аппарата также отставала “сильно от местной жизни”, на¬
болевшие для населения вопросы в деревенских советах не
разрешались. В Мосальском уезде Калужской губернии, сообщалось
в другом отчете, “сельсоветы стоят в стороне от роста деревни. Сами
крестьяне по собственной инициативе обсуждают вопросы о подъеме
сельского хозяйства, о переходе на многопольный севооборот, что
совсем не интересует сельсовет. Деревня сама по себе, сельсовет
сам по себе”134. В апреле 1924 г. один из красноармейцев Бугуруслан-
ского уезда Самарской губернии, жалуясь на местную власть, кон¬
статировал: “В настоящее время не найдешь никакого выхода, что¬
бы восстановить хозяйство. Подал заявление в совет, председатель
57
сказал, что все равно на нас не обращают внимания, на жен крас¬
ноармейцев, которые положили свои головы за революцию, и
все ловко делают”135.
Всесторонняя проверка партийными органами низового со¬
ветского аппарата в 1924—1925 гг. в Пензенской губернии вскрыла
те же самые болезненные явления в деятельности волостных ис¬
полкомов и сельских советов, отсутствие в их работе деловитос¬
ти, конкретности и заботы о повседневной жизни крестьян. На¬
пример, в протоколах Валяевского вика при обсуждении почти
каждого вопроса присутствовали такого рода политические заяв¬
ления: “Приветствуем рабоче-крестьянское правительство”, “При¬
ветствуем мировую революцию”. Даже когда речь шла на заседа¬
нии о сборе налога, все равно в постановлении по данному вопросу
записывалась фраза “приветствуем”. “Основная беда, даже удов¬
летворительно работающего вика, кроется в том, что он не являет¬
ся выразителем и толкачом хозяйственных исканий крестьянства,
в нем не бьется пульс хозяйственной жизни деревни. В составлении
бюджета вика крестьянство ни малейшего участия не принимает.
Вопросами культурной работы, благоустройства деревни уделяет¬
ся крайне ничтожное внимание. На вопрос члена комиссии по
обследованию Атюрьевской волости к зав. волостным земельным
отделом: “Какова у населения нужда в хлебе, плугах, семенах,
переселении”, тот ответил: “Я таких обязанностей не знал и о
них мне никто не говорил, поэтому я и не принимал никаких мер
по этим вопросам. Наше дело, — продолжал он, — выполнять то,
что скажут из уезда. Это мы и делаем”. Второй же член вика (по
финансовой части) на вопрос: “Как исчислить продналог?” ответил:
“Ничего этого я не знаю, мне никто об этом не объяснял и я нико¬
му не разъясняю”. Отсюда наблюдался большой отрыв, изоляция
совета от массы, руководители которого смотрели “пренебрежитель¬
ным, высокомерным взглядом на крестьянство”. То же самое наблю¬
далось в Атюрьевской волости, где “ни сельсовет, ни население аб¬
солютно ничего не знают о работе волисполкома, — читаем в том
же докладе обследующего партийного работника, — и он работает
сам по себе, как аппарат. Налицо полный разрыв с крестьянством и
оно устраивается само по различным направлениям”.
В Свищевской волости “связь с крестьянством настолько сла¬
ба, что масса не знает, что делает вик вследствие легкомысленно¬
го и несерьезного отношения к делу представителей местной вла¬
сти. Население не верит тому, что говорят эти представители”.
Подобные нелестные оценки пензенских партийных и совет¬
ских работников, подробно обследовавших 28 волостей и
58
32 730 крестьянских хозяйств, встречаются почти в каждом отчете
с мест, где в деятельности виков приходилось свыше 50 % време¬
ни на разрешение административно-налоговых вопросов136.
Приведенные пространные материалы об обследовании ни¬
зового советского аппарата в деревнях Пензенской и других гу¬
берний дают, на наш взгляд, объективную и довольно-таки ти¬
пичную картину об отрыве советов от трудового крестьянства,
пренебрегающих его коренными жизненными интересами, совер¬
шенно не занимающихся вопросами сельского хозяйства, культу¬
ры, образования, быта и т. д. Советы сводили, по сути дела, всю
работу к выкачиванию с населения обременительных налоговых
платежей. Такие методы были настолько очевидными, что даже
некоторые члены высшего политического руководства СССР об
этом открыто говорили. Так, в 1925 г. председатель ЦКК РКП(б)
В. В. Куйбышев признавал: деревенские организации, начиная с
сельсоветов, стоят вообще в стороне от экономического развития
села, от его повседневных, будничных нужд, выполняя главным
образом административно-фискальные функции. Поэтому крес¬
тьяне относятся к ним как к чужим и враждебным органам137.
Аналогичные оценки о низовом советском аппарате звучали из
уст и других отдельных партийных и государственных работников
в 1925 г., что он не занимается хозяйственными вопросами, его
работа не отвечает повседневным запросам крестьян138.
Не произошло коренного улучшения деятельности сельсоветов
и виков и в 1926 г., после осуществления курса по их оживлению.
Они по-прежнему занимались прежде всего административно-фис¬
кальными, но отнюдь не социально-экономическими, сельскохо¬
зяйственными вопросами. Например, в 1926 г. Горицкий волиспол-
ком Тверской губернии рассмотрел всего 523 вопроса, из них 287 —
административных, 137 — прочих, 27 — финансово-налоговых и
лишь 8 — о сельском хозяйстве, 17 — о благоустройстве139.
В мае 1926 г. Череповецкий губком В КП (б) констатировал
отсутствие работы по оживлению советов. В июне 1926 г. Северо-
Западное бюро ЦК ВКП(б) в инструктивном письме признавало:
в работе виков и сельсоветов преобладают административные воп¬
росы за счет хозяйственно-культурных140.
Обследование НК РКИ РСФСР в 1926 г. установило, что на
заседаниях сельсоветов из всех рассмотренных вопросов 27 % отно¬
сились к организационно-административным, 16 % — налоговым,
8 % — к разного рода отчетам учреждений, 18 % — к сельскохозяй¬
ственным, 7 % — связанных с благоустройством, 5 % — к хозяй¬
ственным, 7 % — к культурно-просветительским и медицинским,
59
1 % — к сельскохозяйственной кооперации и ККОВ, 11% вопро¬
сов было посвящено другим сюжетам141. Материалы обследования
середины 20-х годов ряда уездов показали: волисполкомы и сель¬
советы не справлялись с возложенными на них задачами, выра¬
жающих “общественно-политические настроения нэповской де¬
ревни”, ибо 3/4 деревенских советов “никакой постоянной работы
не вели. Регулярные заседания были редкостью”. По оценке оргот¬
дела ВЦИКа, средняя посещаемость заседаний сельсовета дости¬
гала примерно 50 %142.
Таким образом, из вышеизложенного материала явствует, что
в содержании работы низового советского аппарата в деревне не
произошло существенного улучшения в середине 20-х годов по
сравнению с первыми годами нэпа. Хотя определенные позитив¬
ные подвижки в их деятельности и наметились: на заседаниях сель¬
советов стали чаще рассматриваться социально-экономические
вопросы, непосредственно затрагивающие жизнь, быт, хозяйство
крестьян, но по-прежнему преобладали организационно-админи¬
стративные, фискальные функции в их работе.
Последняя тенденция сохранилась и в последующие годы де¬
ятельности низовых советских органов, когда наибольшее внима¬
ние уделялось административно-налоговым проблемам, а не хо¬
зяйственным, социальным в развитии деревни. Об этом можно
судить и по материалам работы сельских советов Северо-Кавказско¬
го края в 1926/27 г. Из 37 718 рассмотренных ими вопросов 38,1 %
приходилось на так называемые прочие; 10,3 % — на финансо¬
вые; 13,6 % — на сельскохозяйственные; 6,1 % — на благоустрой¬
ство; 4,3 % — на народное образование; 2,4 % — на здравоохране¬
ние; 2,7 % — на торговые и кооперативные дела, 0,6 % — на ремонт
дорог; 11,9 % — на советское строительство; 2,8 % — на правопо¬
рядок143.
Разумеется, об эффективной работе сельсоветов и волиспол-
комов следует судить еще не по количеству обсуждаемых ими воп¬
росов, а как принятые по ним решения претворялись в жизнь,
насколько крестьянская жизнь становилась легче, лучше, богаче.
Не секрет, что многие постановления низовых советских органов
в деревне носили декларативный характер, не выполнялись, как
и решения, принимаемые центральными органами власти. Один
из важных показателей, характеризующих положительную работу
советов, оказание ими ощутимой помощи крестьянам, прежде всего,
в восстановлении и развитии их хозяйства. Однако как раз этой
поддержки от низового советского аппарата и не поступало сельча¬
нам. Об этом нам дает дополнительно определенное представление
60
их деятельности в Новгородской губернии, когда в 1925 г. в сред¬
нем волостной бюджет составлял 900 руб., а на развитие сельско¬
го хозяйства из него шло только 1,5 %144.
Естественно, такое положение дел вызывало недовольство со
стороны крестьян, не только работой местных органов власти, но и
в целом политикой правительства, не проявлявшего должной забо¬
ты о нуждах сельчан. Так, в январе 1927 г. в письме к М.И. Калинину
крестьянин Н. Ежов из села Григорьевское Ярославского уезда
писал: “Хотя советы на низах и избираются крестьянами, но они
не исполняют их воли, и лишь всецело волю пролетариата. А воля
пролетариата заключает в себе экономическое угнетение кресть¬
янства, ограждаемое в различном духе законов. Вот наглядный
пример того угнетения, за неуплату в срок сельскохозяйственно¬
го налога крестьянином законом лишают его последнего бытово¬
го удовольствия и продают его последний самовар”145.
В феврале 1927 г. один из бедняков Воронежской губернии,
недовольный существующими порядками, говорил: “Советская
власть в настоящее время на местах окостенела. Все делают по
указанию высших органов, как чиновники. Советы не советуют, а
подтверждают готовое. Почему в 1918—1919 гг. каждое заседание
сельского совета было переполнено не членами его? Да потому,
что было все ново, вопросы обсуждались живые: на кого сколько
взять хлеба и т. д. Теперь же, раскладка налога производится где-то
на стороне”146.
Хотя в рассуждениях данного бедняка и присутствовала доля
комбедовского настроения, тем не менее он был прав: в нэповский
период деревенские советы “закостенели”. Главным образом они
выполняли указания вышестоящих государственных чиновников,
не являлись органами сельского самоуправления, не имели само¬
стоятельности в принятии и реализации решений, в том числе и
в распределении налога среди крестьян с учетом их экономичес¬
кой мощи. Вот как видели основные функции волисполкомов и
сельсоветов крестьяне, в отличие от тех задач, которыми советы
занимались в ту эпоху под контролем партии. Они “должны иметь
право самостоятельно устанавливать разряд урожайности, льготы и
скидки по налогу. Налог на местные нужды должен расходоваться
на починку дорог, мостов, школьных зданий. Сельсовет и волис-
полком должны давать отчет о своей работе перед сходами и сла¬
гать свои полномочия, если деятельность их будет признана не¬
удовлетворительной. Всякие справки и документы должны
выдаваться бесплатно и без волокиты. Взяточники и воры должны
подлежать публичному суду с широким участием крестьянских
61
заседателей”147. Иными словами, сельчане видели советы, как орга¬
ны действительно местного самоуправления, решающие реально
широкий круг проблем, непосредственно касающихся их быта,
жизни, благополучия, тогда как существующий низовой советс¬
кий аппарат игнорировал в своей деятельности эти жизненно¬
важные для крестьян вопросы. Это вынуждены были признать в
той или иной форме и некоторые представители верховной, выс¬
шей власти.
К ранее сказанному на этот счет приведем еще ряд высказы¬
ваний высокопоставленных советских чиновников. Так, по мне¬
нию М.И. Калинина, советы превращались в аппарат собирания
налога с населения с применением нередко методов голого ад¬
министрирования148. Подобную оценку разделял и ответствен¬
ный партийный и государственный работник, член Госплана
СССР Э. Квиринг. В 1927 г. он констатировал: “Вопросы админис¬
тративно-налоговой и так называемые “прочие” составляют 70 %
всей работы советов, что же касается вопросов земельных и мес¬
тного благоустройства, то они занимают ничтожное место”149. Тако¬
го же взгляда придерживался и секретарь ВЦИК А. С. Киселев. В фев¬
рале 1927 г. он признавал: в настоящее время сельсовет не является
органом, объединяющим всю хозяйственную деятельность дерев¬
ни, этот административный орган не способен поднять свой ав¬
торитет, он слабо руководит социально-культурным развитием
села, политической сферой150.
Однако справедливости ради следует сказать, что негативная
оценка абсолютного большинства волисполкомов и сельских со¬
ветов в плане решения ими непосредственных вопросов кресть¬
янской жизни в годы нэпа не означает, конечно, что все они
были неработоспособными, в ряде мест имелись и жизнеспособ¬
ные, эффективно работающие органы деревенской власти. В своей
деятельности они не ограничивались только сбором налогов с сель¬
чан, их администрированием, но решали социально-экономичес¬
кие проблемы в интересах крестьян. В тех советах, где заседали
инициативные, образованные, деловые, хозяйственные сельчане
с организаторской, предприимчивой хваткой, там население ощу¬
щало от них заметную пользу, социально-экономическую выгоду.
Например, в 1923 г. Ново-Лебежайский сельский совет Сара¬
товской губернии организовал жителей на ремонт дорог, мостов
и побудил их переходить от трехпольной к четырехпольной систе¬
ме обработки земли. Сухо-Березовский и Юдьновский деревенские
советы Воронежской губернии наладили хорошую работу прокат¬
ных пунктов. В середине 20-х годов Приморско-Ахтырский
62
станичный совет на Северном Кавказе имел солидную матери¬
альную базу; в его распоряжении находились кирпичные заводы,
мельницы, торговые заведения, 92 десятины земли. Получая со
своих предприятий доход, совет за счет этого своевременно ре¬
монтировал школы, обеспечивал их топливом, учебными посо¬
биями, помогал местной больнице, выделил ей новое здание.
Беднякам оказывал бесплатную медицинскую помощь. Двум крес¬
тьянам предоставил путевки на курорт. Меденский сельсовет Ураль¬
ской области регулярно проводил заседания президиума и пленума.
На них присутствовали и рядовые крестьяне. Они активно участво¬
вали в обсуждении вопросов. При сельсовете работало 4 секции, в
них было занято 25 человек. При помощи сельсовета создавались
семенные запасы, часть которых выдавалась маломощным кресть¬
янским хозяйствам. Школа обеспечивалась учебными пособиями.
На территории сельсовета организованно прошла подписка на
газеты, в итоге — одна газета приходилась на 6 крестьянских дво¬
ров151.
В 1926 г. в Ставропольском округе совет села Лядовская Балка
Медвеженского района отремонтировал 3 общественных амбара и
школы, построил 2 новые. Члены совета регулярно отчитывались
на открытых собраниях перед избирателями. Александровский сель¬
совет того же округа с помощью населения занимался благоуст¬
ройством улиц, дорог152.
Эти же вопросы хорошо решал Туровский волисполком Серпу¬
ховского уезда Московской губернии. Он сумел организовать насе¬
ление на благоустройство территории, исправил 34 моста и постро¬
ил 14 новых, отремонтировал 19 колодцев и соорудил 8 новых153.
Отмечая положительную работу ряда сельсоветов и виков в
некоторых регионах РСФСР, все же, как подтверждают вышепри¬
веденные факты, преобладающая часть из них не занималась по-
настоящему проблемами, затрагивающими коренные судьбы тру¬
дового крестьянства, которое по отношению к ним было настроено
в основном отрицательно, а кое-где даже враждебно. Низовой со¬
ветский аппарат, выполняя директивы сверху, по неукоснитель¬
ному собиранию прежде всего налогов с населения, мало беспоко¬
ился о разрешении назревших социально-экономических задач.
В частности, советы на селе фактически состояли в стороне от
разрешения таких злободневных жгучих проблем как медицинское
обслуживание, образование, культура.
63
Деревенские советы и народное образование, здравоохранение
Сельские советы по существу мало занимались разрешением
такой острой социальной проблемы, как ликвидация неграмот¬
ности среди сельского населения, повышение его образователь¬
ного и культурного уровня. Почти не уделяли советы внимания
обучению грамоте подрастающего молодого поколения.
Хотя государство и брало непосильные зачастую для крестьян
налоги, но немного вкладывало средств в развитие народного
образования на селе, по реализации в жизнь провозглашенного
лозунга о всеобщем начальном обучении. Многие дети школьного
возраста вообще не посещали школу в середине 20-х годов. Так, в
Советской волости Холмского уезда Псковской губернии в школе
учились лишь 37 % детей в конце 1924 — начале 1925 г. На март
1925 г. в Псковской губернии насчитывалось 177 540 детей в возра¬
сте 8—11 лет, из них школу посещали 55,6 %, в 1924 г. — 38,7 %,
на 1 июля 1925 г. в Новгородской губернии количество детей, вов¬
леченных в школьные занятия, колебалось от 25 до 50 %154.
Подобная картина наблюдалась не только в Северо-Западной
области, но и в других регионах. В 1924—1925 гг. в Саранском уезде
Пензенской губернии в школе училось 46 % всех детей, в Новохо¬
перском уезде Воронежской губернии — от 20 до 49 %; в Крымском
районе — 40 %; в Рубцовском уезде Алтайской губернии — 22 %, а в
ряде мест школу посещали лишь 13 % детей155. Правда, в РСФСР
имелись некоторые волости и деревни, где обучались 60—90 % всех
детей школьного возраста156. Так, в Ленинской волости Орехово-
Зуевского уезда Московской губернии вне школьных занятий ос¬
тавалась 1/3 всех детей, в Городецкой волости Лужского уезда
Ленинградской губернии — 20 %157.
В целом по стране охват обучением сельских детей школьного
возраста 8—11 лет в первые годы нэпа постепенно сокращался. Если
в 1920/21 г. в РСФСР школу посещали 74,3 % детей, в 1921/23 г. —
61,1 %, то в 1922/23 г. — 46 %158. Однако с этого года постепенно
число детей, обучающихся в сельских школах, увеличивалось. Со¬
гласно данным всесоюзной школьной переписи, в 1927 г. ее не
посещали 36,2 % крестьянских детей в возрасте 8—11 лет159.
Основная причина резкого сокращения количества обучаю¬
щихся детей в сельских школах в эпоху нэпа, когда около полови¬
ны из них были не охвачены обучением в середине 20-х годов,
заключалась в том, что содержание школы и культурно-образова¬
тельных учреждений правительство с переходом к нэпу перевело
на небольшой местный бюджет. На практике это означало, что их
64
финансирование должно было осуществляться не волостными ис¬
полкомами и сельскими советами, а самим крестьянским населе¬
нием, у которого, как и у государства, после разрухи, голода, сред¬
ства отсутствовали. По существу, в сельской местности вводилось
платное начальное обучение. Поскольку в декабре 1922 г. X Всерос¬
сийский съезд советов разрешил в качестве временной меры “вве¬
дение платности за обучение с перенесением главной тяжести на
обучение на более обеспеченные слои населения”160.
Практически на деревенских жителей перекладывалось школь¬
ное обучение, ибо местные советы данным вопросом почти не
занимались. Об этом нам дают представление и следующие дан¬
ные. В 1926/27 г. в Северо-Кавказском крае из 3/ 718 вопросов, рас¬
смотренных сельскими советами, только 4,3 % приходилось на на¬
родное образование161, о чем выше упоминалось. В 1925 г. в
Новгородской губернии в среднем из волостного бюджета в сумме
900 руб. только 28 % шли на содержание школ162, т.е. ежегодно рас¬
ходовалось около 250 руб. Сумма ничтожная, за счет которой было
невозможно удовлетворить самые минимальные потребности
школьного образования.
При этом многие дети, поступающие в первый класс, не за¬
канчивали начальную школу, не проходили в ней полный курс
обучения, особенно девочки. В некоторых районах отсев составлял
5—10 % и даже 20 % от всех детей, поступающих учиться163. На¬
пример, в Марковской начальной школе Череповецкой губернии
занятия посещали 106 детей в 1922/23 г., а к концу года их число
сократилось до 32, хотя до Октябрьской революции почти все
дети в Марковской волости учились164.
Рассматривая причины низкого охвата детей в нэповской дерев¬
не начальным обучением, в том числе и по вине сельских советов,
следует сказать, что основная из них сводилась к нехватке школ.
Так, в Шапкинской волости Лодейнопольского уезда Ле¬
нинградской губернии учились лишь 40 % детей в 1924—1925 гг.
Основная причина тому — отсутствие школ. В этой связи учитель
Г.П. Громов из д. Берег предлагал открыть в данной деревне шко¬
лу, так как в ней насчитывалось до 30 детей, а в ближайшей шко¬
ле все места были заполнены: “Неправильно, что взрослых обуча¬
ют, а дети остаются в темноте”, — говорил он. В Советской волости
Холмского уезда Псковской губернии ввиду большой перегрузки
школ в некоторых из них учились до 70 человек, в ряде деревень
детей отказывались в них принимать. Недовольные крестьяне возму¬
щались против властей: “Налоги с нас берут, а учить детей наших не
хотят”. Аналогичную критику адресовали советам и новгородские
65
крестьяне, так как из-за отсутствия школ многие дети не учились,
некоторые сельчане предлагали даже построить школы на собствен¬
ные деньги, ругая при этом членов советов: “Налог берут, а школ
не дают... Хотят обучить грамоте взрослых, а детей не учат”.
К тому же в ряде мест крестьяне негодовали и по поводу запре¬
щения преподавания Закона Божьего, критиковали также и каче¬
ство обучения. По мнению некоторых сельчан, “в школе ничему
путному не учат”: “Ходил две зимы в школу, а написать письма
не может”165. Другой важной причиной непосещения школьных
занятий учащимися — это бедность, обнищание крестьянства,
как следствие Гражданской войны, так и политики советской вла¬
сти. У родителей не было денег, чтобы купить для своих детей
обувь, одежду, книги. Так, в Лопасинской волости Серпуховско¬
го уезда Московской губернии дети бедных родителей из-за от¬
сутствия одежды не посещали занятия: “Теплая погода придет —
в школу, а в холодную дома сидит”. То же самое наблюдалось и в
Серпуховском уезде той же губернии, когда из-за отсутствия обу¬
ви учащиеся не ходили в школу166.
В Починковской волости Смоленской губернии бедные роди¬
тели рассуждали по-традиционному ввиду своей необразованнос¬
ти и нищеты: “нет лаптей, пусть прядет дома, нам учеными не
быть”, “Научился расписываться и довольно”167. Причем из-за
бедности и плохого материального положения родители нередко
отдавали в школу прежде всего сына, полагая, что ему нельзя
быть неграмотным, поскольку он пойдет на военную службу. На¬
пример, с 1922 по 1924 г. в некоторых волостях Пензенской губер¬
нии количество девочек в школе сократилось в 3 раза. При этом
школу не посещали около 3/4 детей бедняков, тогда как середня¬
ков — 1/2 и зажиточных крестьян — 1/4. В Знаменской начальной
школе Тамбовской губернии учились только 36 % детей из семей,
не имеющих лошадей, и обучались 61 % детей из хозяйств, владе¬
ющих ими168. Эти данные наглядно свидетельствуют о том, на¬
сколько имущественное состояние крестьянской семьи влияло на
охват их детей школьным обучением.
Характерно на этот счет и мнение крестьянина А.А. Гаврилова
с. Сельца Троицко-Объединенной волости Суздальского уезда Вла¬
димирской губернии, высказанное в письме в газету в середине
20-х годов: “У нас, в окрестностях Суздальского уезда, наблюдает¬
ся, что сами бедняки не пускают детей учиться в начальную шко¬
лу, не говоря о второй ступени. Это зависит от того, что родители
их сами ходят почти босиком: на 7 человек имеется только 2 пары
сапогов, и то не совсем хорошие”169.
66
На сельских сходах, на перевыборных собраниях, в письмах в
газеты зачастую звучала острая критика в адрес низового советско¬
го аппарата в деревне за бездеятельность в области народного об¬
разования. Многие крестьяне высказывали недовольство по пово¬
ду того, что члены сельских советов собирают немалые с них
налоги, но на содержание школ денег не выделяют, поэтому все
ложится на плечи самого населения: строительство и ремонт школ,
обеспечение их топливом, учебными пособиями.
Вот лишь некоторые нелестные оценки сельчан по поводу по¬
литики местных, да и центральных властей, проявляющих мало вни¬
мания и заботы о повышении образовательного уровня подрастаю¬
щего поколения в деревне. Например, в марте 1926 г. И.К. Патрикеев,
житель д. Сырково Селищенской волости Тверского уезда, писал:
“На шее крестьянина к великой печали школа: свои принадлежнос¬
ти, тетради, дрова, даже и за помещение школы плотим мы, крес¬
тьяне У нас школы и то содерживаются за свои средства, не будем
говорить о кружках, читальнях На всеобуч другой раз отправляю
сына, и все собственно свое, приходится тянуть последние жилы,
да не голодному или же босиком учиться”. Красноармеец-отпускник
С.Т. Тюрьмин из деревни Безводные Прудищи Елатомского уезда
Рязанской губернии в апреле 1924 г. в своем письме в “Крестьянскую
газету” констатировал то же самое: “Школа находится на иждиве¬
нии граждан, мальчики половина деревни не учатся, больница и др.
расходы тоже несут граждане”170.
Подобные суждения высказывали крестьяне и в других райо¬
нах РСФСР, о чем рассказывают информационные сводки орга¬
нов ОГПУ. Например, в них за ноябрь 1925 г. указывалось: населе¬
ние Ельниковской волости Краснослободского уезда Пензенской
губернии возмущалось тем, что советская власть “берет налог на
мосты, школы и больницы, а в результате не только не строит
школы, а даже лесу бесплатно не отпускает, и получается, что
“долой неграмотность”, а детей учить негде, школа находится в
10 верстах”. В с. Кирилове Саранского уезда волостной исполком
выделил на ремонт школы 25 руб., хотя требовалось 250 руб. В этой
связи крестьяне негодовали: “Лучше бы вик совсем не давал де¬
нег. На эти деньги все равно ничего не сделаешь”. При этом они
соглашались на увеличение даже суммы налога, за счет которого
можно бы построить новую школу, ибо сами жители никогда это¬
го не сделают. С аналогичным предложением к местному совету
обратились и крестьяне с. Колесня Рязанского уезда, негодуя по
поводу политики властей: “Ну что за обманщики, эти коммунис¬
ты. Летом все говорили, что школы будут взяты на содержание за
67
счет государства, а когда пришла пора учения, они опять берут с
мужиков, а пора бы им уже кончить выезжать на деревенской
“кляче”.
В таком же негативном духе по поводу содержания населени¬
ем школ высказался и член сельского совета Лисянский на собра¬
нии крестьян д. Святоруссовке Верхне-Вольской волости Амурской
губернии: “Правительство это — жулики. Пишут одно, а делают
другое. В газетах объявляют, что кроме с/х налога никаких сборов
не будет, а между тем заставляют за свой счет производить ремонт
школы”. А недовольные отсутствием у них школы жители с. Талов-
ки Куриловской волости Самарской губернии на собрании, высту¬
пили с угрозой местному совету, что они откажутся уплачивать
сельскохозяйственный налог, ибо у них в селении закрыта шко¬
ла, и поэтому за счет невнесения налоговых платежей они сами
оборудуют школу171.
Массовое недовольство крестьян негативным отношением
советов к вопросам образования, как видно, было вызвано, во-
первых, острой нехваткой школ в сельской местности, когда, по
данным НК РКП РСФСР, в 1925/26 г. они отказали принять на
учебу по разным районам от 2 до 38 % желающих обучаться де¬
тей172. Во-вторых, существующие школы требовали серьезного
ремонта, ибо многие из них пришли в ветхость, не ремонтирова¬
лись с царских времен. Например, в Егорьевской волости Мос¬
ковской губернии их ремонтировали последний раз в 1910 г. Со¬
гласно обследованию Старорусского уезда Новгородской губернии
в январе 1925 г., школьные здания не ремонтировались 8 лет и
пришли в негодность, в них крыши протекали. Срочного ремонта
требовали и школы Советской волости Холмского уезда Псковской
губернии173. В неудовлетворительном состоянии находились школь¬
ные здания в Саранском уезде Пензенской губернии, в Ново-
Хоперском уезде Воронежской губернии и в других районах
РСФСР174.
Многие волостные исполкомы и сельские советы не то что не
занимались ремонтом школ, но даже на зимний период не могли
обеспечить их топливом, в том числе и дровами. Например, в 1925 г.
в школах Горожанского сельского совета Великолуцкого уезда
Псковской губернии зачастую не проводились занятия, так как
для них своевременно не заготовили дрова. Правда, одну из школ
родители детей отапливали сами, чтобы дать им возможность по¬
сещать занятия.
В Егорьевской волости Московской губернии по вине волост¬
ного исполкома заготовленные в лесу дрова в 1925 г. не подвезли
68
заблаговременно к школам. Поэтому ученики, чтобы не замерзать в
классах, идя на уроки, приносили еще с собой в школу по 5 полен
дров каждый175. Из-за нехватки дров в школах и их неотапливания
в ряде мест учителя вынуждены были проводить с учащимися за¬
нятия у себя на дому.
Не проявлял должного внимания и заботы низовой советский
аппарат деревни и по обеспечению школ мебелью, партами,
столами, учебными пособиями. Так, в 1926 г. в школах Хоперс¬
кого уезда Воронежской губернии полностью отсутствовали учеб¬
ники, в Саранском уезде ими учащиеся обеспечивались только
на 45 %. В 1925 г. некоторые сельчане Псковской губернии жалова¬
лись на то, что в школах не хватает учебников, когда одна книга
приходится на 6 учащихся176.
Конечно, нельзя сказать, что государство совсем не заботи¬
лось о материальном обеспечении сельских школ. Например, в
1924/25 г. правительство РСФСР за счет сметы 1925/26 г. выделило
на бесплатное обеспечение школ I ступени учебниками 1 млн. руб.
и 1569 тыс. руб. — на письменные принадлежности, 500 тыс. руб. —
на наглядные пособия, детскую и педагогическую литературу.
Однако за счет этих средств удовлетворялись потребности в учебни¬
ках от 30 до 70 % учеников. В 1926/27 г. государственные расходы
деревенским школам увеличивались в 4 раза по сравнению с про¬
шлым годом177. И тем не менее радикального прорыва в лучшую
сторону в образовании в сельской местности к концу нэпа не про¬
изошло, хотя позитивные подвижки в школьном деле и наметились.
Крестьяне критиковали иногда деревенские советы не только
за отсутствие заботы о содержании школ, но за отношение госу¬
дарства к учителю, материальное положение которого оставалось
весьма трудным, что негативно сказывалось на качестве обучения
детей. Сельчане подчас высказывались в пользу повышения зарпла¬
ты учителей, считая ее низкой. Например, в октябре 1925 г. на
собрании жителей с. Новый Черчим Кузнецкого уезда Саратовской
губернии председатель местного кооператива Маслов заявил: “На¬
лог собирают для нужд государства, а не дают учителю, ни дров,
ни книг”178.
Материально-бытовые условия сельского учителя усугублялись
еще и тем, что его низкая зарплата нерегулярно выплачивалась, за¬
держивалась на несколько месяцев, особенно в школах, состоящих
на местном бюджете. К тому же деревенские педагоги были перегру¬
жены и общественно-культурной работой по руководству избами-
читальнями, различного рода кружками. Привлекались они и к сбо¬
ру налога, организации избирательных кампаний. Им давались и
69
другие поручения. О плачевном состоянии народного образования
в сельской местности и безысходном положении учителя хорошо
сказала Н.К. Крупская в своем выступлении на XIII съезде РКП(б)
в мае 1924 г. У педагогов зарплата маленькая, 10—12 руб. в месяц.
Да и это “жалкое жалованье” они получают неаккуратно, с задер¬
жкой в 2—3 месяца. Учителя никто не кормит, “он сам кормится”,
поэтому голодает. В некоторых губерниях педагог “сведен до пас¬
туха как в прежнее время”, ходит по очереди по домам крестьян и
у них питается. А часто живет и тем, что “летом нанимается ра¬
ботником к зажиточному крестьянину, или шьет обувь, вяжет
варежки, а если есть свое хозяйство, то доходами от него”. По
словам Крупской, по материалам обследования 7 губерний, по¬
ложение на селе народного образования представляет ужасающую
картину, находится “в угрожающем состоянии”179.
В годы нэпа органы ОГПУ констатировали неоднократно при¬
мерно ту же самую неприглядную картину по поводу народного
образования на селе.
В 1925-1926 гг. среди педагогов проявлялось массовое недо¬
вольство своим материальным положением, в ряде районов про¬
шли забастовки. Например, в ноябре 1925 г. учителя Куйтунской
волости Тулуновского района Иркутской губернии “объявили за¬
бастовку, требуя немедленно выдачи зарплаты за прошлые 3 ме¬
сяца и повышения таковой”.
В информационной сводке работников ОГПУ за октябрь 1926 г.
отмечалось по-прежнему недовольство сельских учителей в неко¬
торых районах своим материальным состоянием, низкой зарпла¬
той. Они требовали ее своевременной выдачи и повышения, а кое-
где велась и подготовка к забастовкам.
“Недовольство зарплатой вызывает уход учителей с работы в
школах и переход их на работу в учреждения с более высоким уров¬
нем зарплаты В Изюмском округе 12 учителей подали в отдел на¬
родного образования заявления об увольнении. Учителями выбро¬
шен лозунг: “Разбегайтесь кто куда может”. В Читинском округе
учительство, бросая работу в школе, переходит на железную доро¬
гу. Кроме того, почти во всем районе учителя из-за материальной
необеспеченности обзаводятся сельским хозяйством, уделяя ему, в
конечном счете, больше внимания, нежели работе в школе”180.
Нередко деревенским учителям в ущерб своей основной рабо¬
те приходилось на общественных началах выполнять обязанности
заведующих избами-читальнями и библиотеками в сельской мест¬
ности, деятельность которых также мало интересовала волостные
исполкомы и сельские советы. В протоколах заседаний членов этих
70
государственных организаций трудно найти рассмотрение вопро¬
сов, посвященных данным культурно-просветительным учрежде¬
ниям деревни. Им, как и школам, государство резко сократило
централизованное финансирование и перевело на местный бюд¬
жет, по сути крестьяне должны были содержать их на свои сред¬
ства. А деньги, как правило, у сельчан отсутствовали, что привело
к заметному сокращению изб-читален и библиотек. Те же, кото¬
рые сохранились, влачили жалкое существование, книжный фонд
в них сократился, да и находился в неудовлетворительном состо¬
янии. Но это мало беспокоило низовой деревенский аппарат, со¬
веты. Так, в ходе смотра волостных исполкомов Московской гу¬
бернии в конце 1925 — начале 1926 г. выявилось равнодушие и
безразличие многих из них к культурно-просветительным учреж¬
дениям, хотя трудовое крестьянство к ним тянулось: к книгам,
газетам, знаниям, старалось повысить свой образовательно-куль¬
турный, политический уровень.
Так, в селе Пятницы Воскресенского уезда в избе-читаль¬
не, существующей при вике, работа никакая не велась, хотя
имелся штат сотрудников, ее обслуживающих. По данным сель¬
кора П.И. Степанова, деятельность Федоровской волостной избы-
читальни Орехово-Зуевского уезда “никуда не годится и никто ее
не наставит на путь. Справочного стола не имеется. Кружки только
все организуются, но к работе не приступили, должно быть не
приступят. Читка газет не ведется, а также и бесед: избач купил
для своего развлечения шашечницу и ею разгоняет тоску. Населе¬
ние ввиду этого плохо посещает избу-читальню. Последняя часто
бывает на замке. Население недовольно такой постановкой дела в
избе-читальне и в нее почти никто не ходит”.
В Козловской волости Московского уезда в 1925 г. открылось
несколько изб-читален, но из-за отсутствия средств работники
ушли. Уголки культуры “совершенно бездействуют”. “Крестьянин
стремится к знанию, ждет должного внимания к себе со стороны
вика, а последний молчит”, — констатировали сельчане.
В Ильинской волости Егорьевского уезда в избу-читальню
никто не ходит, так как не было дров. “Вик наложил резолюцию
на заявление избача подвести, но до сих пор не завезли, хотя
прошло 1,5 месяца”. В Владимирской волости Клинского уезда
крестьяне были недовольны работой избача, его никогда не заста¬
нешь на месте, где он находится, неизвестно. Вику следовало бы
сменить избача181, — сообщали селькоры.
Подобные негативные оценки сельчан о деревенских советах, не
занимающихся избами-читальнями, культурно-просветительными
71
учреждениями, не являлись редкостью. И в других районах РСФСР
ситуация выглядела не лучше. Так, в Шапкинской волости Лодей-
нопольского уезда Ленинградской губернии в начале 1925 г. в избу-
читальню население не заглядывало, из них большинство пользы
от нее не видело. В Рядковской волости Новгородской губернии в
середине 20-х годов работа изб-читален и красных уголков была
налажена плохо, их сотрудники не отвечали своему назначению:
читки газет и разъяснение материалов не проводились. В 1925 г. в
Новоржевской волости Псковской губернии Жадринская изба-чи¬
тальня не функционировала, — сообщал инструктор губкома РКП(б)
Я.А. Витоль: “Был случай, когда избач не приходил несколько не¬
дель и на дверях избы-читальни появилась надпись: “A-у, избач, где
ты, когда обменишь книжку”182.
В ходе обследования Залуцкой волости Порховского уезда Псков¬
ской губернии в начале 1925 г. Невережская изба-читальня представ¬
ляла внешне печальную картину: помещение неприспособленное,
на полу семечки, плевки; грязные скамейки, холодно, “мало при¬
влекательности, без уюта”. Тем не менее в 1924 г. она получала газеты
“Беднота”, “Псковский набат”, “Псковский пахарь”, “Крестьян¬
скую газету”. Несмотря на непривлекательный внутренний вид, кре¬
стьяне посещали избу-читальню, в ней имелось 647 книг и 104 чи¬
тателя, из которых 38 бедняков и 66 середняков. Согласно
информационному письму Псковского губкома РКП(б), в марте
1925 г. в избах-читальнях не хватало кадров, популярной литерату¬
ры, и они еще не стали центрами культурно-просветительской ра¬
боты183. То же самое констатировало и Северо-Западное областное
бюро ЦК РКП(б) по итогам обследования 6 волостей Ленинг¬
радской, Посковской, Новгородской и Череповецкой губерний в
1925 г.: в избах-читальнях слабое материальное обеспечение, не хва¬
тает в них литературы, наблюдается текучесть кадров, их неподго¬
товленность184.
Подобной болезнью страдали избы-читальни и в других райо¬
нах РСФСР ввиду отсутствия к ним внимания со стороны волис-
полкомов и сельских советов. Так, в деревне Чибизовка Рижского
уезда в избе-читальне вообще отсутствовали книги, газеты, жур¬
налы в 1925 г. В ней “на бумаге, по плану как будто проделано все,
а на деле работа отсутствует”185. Обследование пензенской дерев¬
ни в 1924—1925 гг. выявило такую же безрадостную картину, пол¬
ную бездеятельность сельских органов власти в отношении изб-
читален. “В Головищенской избе-читальне — полное отсутствие
политико-воспитательной работы. Есть изба, есть избач (член уко-
ма), есть работники, которых можно использовать, расходуются
72
средства, но нет работы. Крестьяне не знают даже, кто у них со¬
стоит избачом. Полный отрыв от крестьян”. В Ломовской волости,
по мнению обследователей, “до сих пор крестьяне избы-читаль¬
ни не посещают”. В отчете из Леткинской волости сообщалось,
что нет “работы в избе-читальне никакой”186.
Кроме того, в ряде мест крестьянское население отпугивало
от посещения изб-читален и грубая антивоинственная, антирели¬
гиозная пропаганда, проводимая в их стенах некоторыми ком¬
мунистами и комсомольцами187.
В первые годы нэпа в связи с отсутствием централизованного
финансирования государством количество изб-читален в РСФСР
с 1921 по 1923 г. сократилось с 24 413 до 5018. Однако, начиная с
1924 г., их численность постепенно увеличивалась и к 1926 г. достиг¬
ла в СССР 24 536. О наличии в них книжного фонда говорят такие
данные: из 14 640 изб-читален, в 5098 насчитывалось только до
100 книг; в 4530 — от 101 до 300; в 1669 — от 301 до 500; в 1632 —
от 501 до 1000; и в 1731 избе-читальне имелось от 1001 до 3000
книг. В 1926 г. книгами пользовались 3 069 875 человек в 11 202
избах-читальнях188.
Негативно сказалась на книжном фонде сельских библиотек их
чистка: удаление земской литературы в 1925—1927 гг, что привело
к его сокращению, поскольку снабжение деревни новыми книга¬
ми шло медленно, хотя определенные подвижки и наблюдались.
Если в 1924 г. в сельские библиотеки РСФСР через центральный
коллектор направили 362 562 экземпляров книг, то в 1925 г. —
2 563 131 экземпляр, 54 922 плаката и 8325 портретов. Однако книг
в деревне не хватало, потребности в них жителей удовлетворялись
слабо, ибо в 1926 г. охват библиотечной сетью грамотного населе¬
ния деревни в книгах по районам колебался от 3,5 до 10 %189.
Правда, небольшие возможности сельчан приобщения к зна¬
ниям могли в какой-то степени компенсироваться распростране¬
нием среди них газет, хотя в начале нэпа после прекращения ими
бесплатного обеспечения изб-читален произошел спад их тира¬
жа, о чем можно судить на примере “Бедноты”. Если в начале
1922 г. тираж этой газеты равнялся 250 тыс. экземпляров, то в 1923 г.
он сократился до 50 тыс. Для большинства крестьян она оказалась
недоступной, подписка на нее была слишком дорогой и могла
обойтись в 1922/23 г. для сельчанина в стоимость 4 пуда хлеба,
тогда как в дореволюционный период кадетская газета для него
обходилась в цену 0,5 пуда190. В этот период имелись крупные на¬
селенные пункты, насчитывающие сотни сельских жителей, куда
не поступала ни одна газета.
73
В ряде мест работники низового советского аппарата ввиду
своей необразованности, невежества сжигали книги в печке, в
том числе и учебную литературу191, в которой остро нуждались
учащиеся школ.
Начиная с середины 20-х годов, тираж крестьянских газет
постепенно увеличивается, и они шире стали распространяться в
деревне. Так, в декабре 1925 г. одна газета приходилась на 13 крес¬
тьянских дворов, тогда как раньше — на 40192. В отдельных местах
сельчане охотно подписывались на периодическую печать. Напри¬
мер, в 1924 г. жители деревни Чурилово Угольской волости Воло¬
годского уезда на свои средства открыли избу-читальню и выпи¬
сали для нее 7 газет193, тогда как местная сельская власть оказалась
в стороне от просветительской деятельности. Ведь часть вопросов,
связанных с работой школ, изб-читален, библиотек, волиспол-
комы и сельские советы при желании могли бы решить при учас¬
тии населения, организуя его, например, на ремонт помещений,
заготовку и подвоз топлива. Однако инициативы и предприимчи¬
вости по решению острейших социальных проблем большинство
из них не проявляло.
Почти не занимались советы и другим важным вопросом —
медицинским обслуживанием крестьянского населения. Например,
в 1926/27 г. в Северо-Кавказском крае из рассмотренных сельски¬
ми советами 37 718 вопросов на здравоохранение приходилось
только 2,4 %194. В 1925 г. в Новгородской губернии из волостного
бюджета на медицинское обслуживание сельчан расходовалось лишь
6 %195. Естественно, на такие мизерные деньги невозможно было
удовлетворить даже минимальные медицинские потребности крес¬
тьянского населения, не говоря уже о серьезном лечении. В других
сельских районах РСФСР со здравоохранением и его финансиро¬
ванием ситуация складывалась не лучше.
В деревне не хватало больниц, медицинских работников, ле¬
карств, оборудования. Многие лечебные заведения требовали ре¬
монта, а денег на это не было у местных органов власти, боль¬
шинство из которых совершенно не заботилось о здоровье сельчан.
Среди последних наблюдалась высокая смертность, особенно среди
детей. О плачевном состоянии системы здравоохранения и невнима¬
нии к ней со стороны сельских советов и волисполкомов можно
судить по итогам смотра последних в конце 1925 — начале 1926 г. в
Московской губернии по содержанию писем селькоров в газету
“Московская правда”. Так, крестьянин Григорьев сообщал из
Яковлевской волости Орехово-Зуевского уезда печальные вести:
“Население страдает болезнями и умирает за невозможностью
74
получения домашнего лечения, а коечного лечения нет”. В Стре-
миловской волости Серпуховского уезда больница имелась, од¬
нако ее хозяйственное обеспечение оставалось неудовлетворитель¬
ным. В Хотьковской больнице Сергиевского уезда плохо обстояло
дело со снабжением продуктами. По расчетам больного туберку¬
лезом Степана Горшкова, в первый день поступления в больницу
его вообще не кормили, в последующие дни вместо 8 кружек
молока выдавали в сутки 3, да 400 г хлеба, 2—3 кусочка мяса,
“три ложки каши размазни”, кусочек пиленого сахара к чаю ут¬
ром и вечером. Когда недовольный таким питанием Горшков об¬
ратился к врачу, последний ему ответил: “На каждого больного
полагается на питание в сутки только 15 копеек”. После 8-дневно¬
го лечения в больнице Степан Горшков из нее выписался, уяс¬
нив, что при такой кормежке вылечиться от туберкулеза легких
нельзя, скорее в ней от “истощения помереть можно”196.
Не хватало у сельских советов денег и на амбулаторное обслу¬
живание больных. Так, в Ново-Хоперском уезде Воронежской гу¬
бернии в середине 20-х годов на каждого пациента, нуждающего¬
ся в этом виде лечения, приходилось от 3 до 6 коп. К тому же в
уезде одна больница обслуживала примерно 50 000 жителей села в
радиусе от 10 до 62 км. Неблагополучно обстояло с медицинским
обслуживанием крестьян и в Рыльском уезде Курской губернии,
где из 115 имеющихся лечебных заведений до октября 1917 г., при¬
надлежащих местным органам власти, к 1925 г. осталось только 21.
В то же время в г. Курске число больниц за этот период времени
выросло в 2 раза, а расходы на их строительство и содержание в
основном шли за счет сельских налогоплательщиков197.
Последние данные лишний раз свидетельствуют о социаль¬
ном неравенстве крестьян по сравнению с городскими жителя¬
ми, в том числе и в медицинском обслуживании, когда из госу¬
дарственного бюджета на лечение сельчан выделялись просто крохи,
а город получал на эти цели львиную часть расходной части бюд¬
жета. Например, в Пензе на душу населения на медицинское об¬
служивание шло в год 4 руб. 23 коп., в сельской местности — 5 коп.;
в г. Твери — соответственно 6 руб. 83 коп., в деревне — 40 коп.;
в г. Смоленске — 5 руб., на селе — 25 коп.198
О глубоком неравенстве в области здравоохранения между
жителями города и села хорошо сказал Нарком здравоохране¬
ния РСФСР Н.А. Семашко в апреле 1925 г.: “Мы высчитали, сколь¬
ко на душу населения приходится на дело здравоохранения в губер¬
нском городе, уездном и в селе на крестьянина. Что же получилось?
В среднем на душу городского населения в губернском городе
75
приходится в 20 раз больше, чем на душу крестьянина. Как это
называется, лицом или каким-нибудь другим местом мы повора¬
чиваемся к деревне? Я думаю, что не лицом”199.
Конечно, на территории РСФСР в ряде мест с медицинским
обслуживанием крестьянского населения дело обстояло более или
менее благополучно, в том числе и благодаря деятельности низо¬
вого аппарата. Так, в 1925 г. неплохо обслуживала жителей боль¬
ница села Турово Серпуховского уезда Московской губернии. Ее
врачи постоянно проводили профилактическую работу с гражда¬
нами, а местный совет ее отремонтировал200.
Однако, думается, подобные примеры скорее являлись ис¬
ключением из правил. Поскольку подавляющее большинство ме¬
дицинских заведений, как и других учреждений социальной сфе¬
ры, влачили жалкое существование, а волисполкомы и сельские
советы в своей деятельности почти не обращали внимания и не
оказывали им реальной помощи.
В свете приведенного материала можно констатировать, что
сельские советы и волисполкомы, несмотря на некоторое ожив¬
ление в их деятельности в середине 20-х годов, все же в подавля¬
ющем своем большинстве стояли в стороне от повседневной кре¬
стьянской жизни, они не решали в интересах сельчан
экономические, сельскохозяйственные, бытовые и социальные
вопросы, в том числе и связанные с улучшением народного обра¬
зования, медицинского обслуживания крестьянского населения.
Причины отчуждения сельских советов
от повседневной жизни крестьян.
Материальная база советов и сельский сход
Постараемся выяснить: почему же роль сельских советов в
социально-экономическом развитии нэповской деревни остава¬
лась минимальной? Почему эти органы государственного управ¬
ления стояли в стороне от решения повседневных, насущных
крестьянских проблем? Одна из главных причин такой непло¬
дотворной деятельности сельских советов заключалась в том, что
они не имели необходимой материальной базы, в подавляющем
большинстве которых отсутствовал собственный бюджет. Так, в
1926/27 г. на территории РСФСР без Ленинградской и Московской
губерний из 51 281 сельсоветов его имели только 1812. При этом
исключение составляли Республика немцев Поволжья, где бюд¬
жет имелся у всех сельсоветов, и Северо-Кавказский край, где им
владели 42,6 %. Тогда как в таких земледельческих районах, как
76
Центрально-Черноземная область, бюджетом располагали только
4,8 % сельсоветов, в Саратовской и Сталинградской губерниях —
по 5 % к концу 1927 г.
При этом из 24 484 тыс. руб., предоставляемых по РСФСР по
сельсоветам бюджету, на сельское хозяйство отпускалось лишь
2068,3 тыс. руб., т.е. менее 10 %, в том числе Воронежской губер¬
нии из 594,5 тыс. руб. на хозяйственные нужды выделялось только
30 тыс. руб.201, или примерно 6 % в 1927/28 г. В 1926/27 г. самосто¬
ятельный бюджет на территории СССР имели 2,3 тыс. сельсоветов
в сумме 16 млн. руб. (3,1 %), в РСФСР — 1815 (3,2 %) от их общего
количества202. Вот почему сельсоветы, не владея бюджетами, са¬
мостоятельными средствами являлись прежде всего администра¬
тивными, а не хозяйственными органами управления в деревне.
По существу, в подавляющем большинстве районов сельсоветы
“играли роль приходно-расходной ведомости”203.
Не располагали достаточными средствами для решения соци¬
ально-экономических задач и волостные исполкомы. Например, их
бюджеты в 1924/25 г. составляли в РСФСР 99,4 млн. руб., в УССР —
39,9, в БССР — 4,8, в Закавказской Федерации — 3,3 млн. руб.
Если же эти деньги разделить на количество жителей, то в сред¬
нем на каждого из них приходилось соответственно 114; 188; 141;
71 коп. Для сравнения укажем, в местном бюджете РСФСР на
душу городского населения падало в среднем 15—16 руб., а на сель¬
ского — только 3 руб. При этом доходная часть бюджета в основ¬
ном формировалась за счет поступления от налоговых платежей,
они составляли в целом по СССР около 60 %204. Что же касается
расходов, то, например, в 1925 г. из всех средств волостного бюд¬
жета 80—85 % шло на содержание возросшего административного,
чиновничье-бюрократического аппарата, а на удовлетворение хо¬
зяйственных и культурных потребностей деревни — лишь 10—15 %205.
Укажем ряд конкретных примеров, характеризующих бедствен¬
ную материальную базу деревенских советов, убедительно под¬
тверждающих вышесказанное. Так, в 1925 г. Быковский волостной
исполком Бронницкого уезда Московской губернии 3/4 всех рас¬
ходов бюджета тратил на содержание местного аппарата и только
350 руб. выделял на социально-экономические вопросы, включая
строительство и ремонт дорог, мостов, колодцев, развитие обра¬
зования, здравоохранения, агрономическую, ветеринарную по¬
мощь. В Вохринской волости того же уезда ни волисполком, ни
сельсоветы из бюджета почти ничего не расходовали на благоуст¬
ройство деревни, культурные и хозяйственные нужды206.
В Новгородской губернии в 1925 г. из волостного бюджета, фор¬
мируемого на 85 % за счет налоговых поступлений от населения,
77
53 % шло на содержание административного персонала, тогда как
сельские советы получали в месяц на все расходы только 10 руб.
В Советской волости Холмского уезда Псковской губернии 82 %
всех расходов местного бюджета поступало на зарплату аппарата в
сумме 1847 руб. 58 коп. и почти ничего не выделялось на решение
социально-экономических проблем, в том числе здравоохране¬
ния. Причем многие сельсоветы оказались настолько обездолен¬
ными, нищими в своей материальной базе, что даже не могли
обеспечить собственные помещения топливом, не говоря о снаб¬
жении им школ, больниц, библиотек. Например, в декабре 1925 г.
члены Горожанского сельского совета Великолуцкого уезда Псков¬
ской губернии в своем помещении замерзали, так как оно не отап¬
ливалось. Поскольку из-за отсутствия средств дрова, заготовлен¬
ные за 50 км от сельсовета, не на чем было привезти. Для этих
целей волисполком выделил 8 руб. для подвозки одного кубомет¬
ра дров, однако крестьяне отказались за столь низкую цену достав¬
лять дрова. Поэтому заседания членов совета нередко приходилось
проводить в избах крестьян или в доме недавно высланного поме¬
щика207.
В тяжелейшем финансовом положении находились волиспол-
комы и сельсоветы и в других районах РСФСР. Так, в докладе на
VI московском губернском съезде советов в 1924 г. указывалось:
все волости губернии имели дефицитные бюджеты. При этом де¬
легаты съезда с мест в своих выступлениях отмечали: “Из центра
ломают план волостного бюджета”, “волисполкомы — самая
бесправная советская единица”, “сельский председатель получает
плату в два раза меньше, чем сторожа”. Комиссия ЦКК и НК РКИ,
проверяющая работу Иващевского волисполкома Иваново-Воз¬
несенской губернии, пришла к такому выводу: “Жалкий вид
членов вик, абсолютный неуют: окна заклеены бумагой вместо
стекол. Гонимые холодом сотрудники вика принуждены собирать
поленья у крестьян”208.
Конечно, при наличии таких скудных финансовых средств
низовой советский аппарат в дереве не мог по-настоящему ре¬
шать острейшие социально-хозяйственные проблемы в интересах
трудового крестьянства. По нашему мнению, несмотря на после¬
военную разруху и голод в стране, все же определенную сумму
денег из собираемых налогов в деревне на сельские нужды госу¬
дарство могло бы найти, чтобы отчасти облегчить экономическое
положение крестьян. Один из путей укрепления материальной базы
деревенских советов — это сокращение раздутого управленческо¬
го аппарата, в том числе и штатных сотрудников волисполкомов,
78
а полученные за счет этого сокращения, дополнительные сред¬
ства вложить на хозяйственные нужды. Такие предложения зачас¬
тую высказывали и крестьяне на сельских сходах, в письмах в
газеты. Характерно на этот счет справедливое замечание жителей
Александренской волости Новгородской губернии, сделанное в
июле 1925 г.: “Нас налогами жмут, все увеличивают, а деньги вот
куда платят. Раньше в волости работу определяли 2 человека: пи¬
сарь и старшина, а теперь волостных и не пересчитать”209.
Второй путь укрепления материальной базы деревенских со¬
ветов мог быть найден за счет перераспределения государствен¬
ных средств в бюджете “в сторону повышения уровня удовлетво¬
рения культурно-хозяйственных нужд деревни за счет города”210,
поскольку главными налогоплательщиками все же являлись крес¬
тьяне.
Третий путь финансового оздоровления сельских советов —
это сокращение государственных расходов, выделяемых на укрепле¬
ние обороноспособности страны. Его предложил Ф. Э. Дзержинский
в письме в Политбюро ЦК РКП(б) и лично И. В. Сталину 9 июля
1924 г.: “Советское государство должно поднять по большому плану
огромные мелиоративные работы, — писал он. — Оно должно ока¬
зать промышленности поддержку прежде всего в той части, кото¬
рая направлена на удовлетворение потребностей крестьянства и
на удешевление предметов этого потребления Оно должно ассиг¬
новать через с/х банк крупные средства на восстановление и улуч¬
шение орудий с/х и его технического улучшения, т.е. на поддерж¬
ку производства с/х машин, тракторов”. В этой связи он предлагал
“пересмотреть расходы на Красную Армию, они нам непосиль¬
ны, они нас экономически подрезают и они при своей относи¬
тельной, конечно, огромности, не дают для обороны того, что
следовало бы”211.
Однако тогдашнее партийно-государственное руководство
страны во главе со Сталиным пошло иным путем. Опираясь на
свою исходную политическую установку, что деревня является
главным источником финансирования ускоренных темпов индус¬
триализации страны, оно решило не выделять государственных
средств для укрепления материальной базы сельских советов, а пе¬
реложить их финансирование и содержание на самих крестьян. В этой
связи в целях залатывания дыр в бюджетах низовых советских ор¬
ганов в сельской местности правительство прибегло к изъятию в
их пользу средств от земельных обществ, материальная база и хо¬
зяйственная самостоятельность которых давно раздражала цент¬
ральную и местную власть.
79
“Земельное общество представляло собой, как уже упомина¬
лось, территориальное объединение крестьянских дворов, осуще¬
ствлявшее непосредственное управление землепользованием и
регулирование поземельных отношений своих членов. Высшим
распорядительным органом земельного общества являлся сход
полноправных членов, какими признавались все землепользова¬
тели, достигшие 18-летнего возраста”. К концу 1926 г. на террито¬
рии РСФСР насчитывалось более 300 тыс. земельных обществ, и в
среднем на один сельский совет их приходилось 6, а на волостной
совет — до 80212. По расчетам центральных государственных орга¬
нов, в СССР в 1926/27 г. бюджет земельных обществ колебался в
пределах 80—100 млн. руб.213
Их основными источниками дохода являлись: самообложение,
сдача земли в аренду, а также деньги, поступающие от имуще¬
ства, расположенного на его территории, в том числе от торговых
заведений, складских помещений.
Если большинство сельских советов не имели бюджетов, то
земельные общества по сравнению с ними находились в более
выгодных финансовых условиях. Например, в Рязанской губернии
в конце 1927 г. в Кузьминском и Верхне-Беломутовском сельсове¬
тах бюджеты отсутствовали, тогда как в земельном обществе пер¬
вого средства достигали 11 853 руб., второго — 22 401 руб. Если в
Чаадаевском сельсовете Саратовской губернии бюджет равнялся
564 руб., то в земельном обществе — 1380 руб., в Турбийском
совете Воронежской губернии — соответственно 1363 и 3000 руб.
При этом земельные общества, располагая соответствующими
средствами, решали не только земельные, но и другие вопросы,
связанные с социально-хозяйственным развитием деревни. А сель¬
ские сходы, являющиеся их распорядительными органами, рас¬
сматривали проблемы оперативно, деловито, с большим знанием
дела, отчего уходили деревенские советы. По оценке работников
отдела ЦК ВКП(б) по работе в деревне, к концу нэпа значение
сходов чрезвычайно большое, “они продолжают оставаться самы¬
ми авторитетными органами в деревне”214. Причина тому — они
демократическим путем решали экономические и социальные
вопросы, насущные для проблемы крестьян на протяжении всех
лет нэпа.
Так, в 1923 г. И.И. Рещиков, изучая деревню Калужской губер¬
нии, пришел к выводу, что сельский совет, предусмотренный
Конституцией, в деревне не существует. Деревней управлял “сход” —
пережиток недавнего прошлого. Причем на “сходе”, представляю¬
щем явление “повсеместное в губернии, управлял не сельсовет, а
80
“степенные” хозяйственные мужички, принадлежащие к зажи¬
точным слоям”215. То же самое констатировали в конце нэпа и
партийные органы на местах, обследуя некоторые деревни: “Как
общее явление зажиточно-кулацкие группы всегда являются на
собрания земельных обществ и очень часто собраниями руково¬
дят”. Такая тенденция “идеологического влияния” зажиточной
части деревни на крестьян сильно тревожила руководство комму¬
нистической партии, тем более активность сельских сходов воз¬
растала, включая явку на них домохозяев и расширение рассмат¬
риваемых на сходах вопросов.
Например, если в Ставропольском округе в 1925/26 г. было про¬
ведено в первом полугодии 859 деревенских сходов, в 1926/27 г. —
1075, то в 1927/28 г. — 1655. Причем присутствие на них домохозя¬
ев было высоким, тогда как на заседания сельсоветов явка остава¬
лась низкой. Так, в 1927/28 г. на территории Псковского округа в
Палкинском сельсовете в среднем явка на сходы составляла среди
домохозяев 81 %, в Навержском — 88,7 %, Чубаровском — 70 %,
Волышевском — 88 %. При этом сходы собирались чаще, чем за¬
седания сельских советов. В том же году в Сталинградской губер¬
нии Молчановский совет провел 21 заседание, а сход собирался
27 раз, Бережновский — соответственно 27; 34; Алексиковский —
17; 24216.
На порядок реже проводились заседания деревенских советов
в 1927 г. и в Тамбовской губернии по сравнению с сельскими
сходами. Например, Пересыпинский сельсовет Кирсановского
уезда провел 5 заседаний и на них рассмотрел 17 вопросов, в то
же время деревенский сход собирался 71 раз с обсуждением 200
вопросов; Гавриловский сельсовет того же уезда заседал 12 раз, а
сходы — 40. В Сосновском сельсовете Моршанского уезда было
проведено одно заседание и 8 собраний президиума за январь-
август 1927 г., тогда как сходов — 82. Аналогичная картина, сви¬
детельствующая о преобладании количества проведенных дере¬
венских сходов над числом заседаний пленумов и президиумов
сельсоветов, наблюдалась в Вологодской, Владимирской губер¬
ниях, Северо-Кавказском крае, Уральской области и в других
районах РСФСР217.
Крестьяне охотно посещали сельские сходы и активно обсуж¬
дали выносимые на них вопросы, поскольку последние касались
непосредственно их повседневной жизни, ее улучшения, чего по¬
чти не делали деревенские советы. Об этом можно судить по содер¬
жанию рассматриваемых на сходах вопросов. Так, за 1927 г. Евла¬
шевский сельский совет Кузнецкого уезда Саратовской губернии
81
обсудил 2 вопроса, связанных с землеустройством и лесоустрой¬
ством, тогда как земельное общество — 27; проблемы, посвящен¬
ные сельскохозяйственному строительству, рассматривались со¬
ответственно — 4; 17; другие хозяйственные вопросы — 2; 26;
самообложение и бюджет — 1; 8; вопросы благоустройства — 9; 12.
Материалы других районов мало чем отличаются от вышеука¬
занных цифр. Так, в станице Бескорбенской Армавирского райо¬
на за 1927 г. сельский совет обсудил 18 местных хозяйственных
вопросов, а сход — 32. В 1926/27 г. Прочнооконское земельное
общество из доходной части 10 952 руб. израсходовало 2000 руб. на
сельскохозяйственное товарищество взаимообразно; 2117 руб. —
на ремонт и содержание школы; 458 руб. — на зарплату ее техни¬
ческим работникам; 1800 руб. — на лесоустройство; 174 руб. пожа¬
лованы уполномоченному по учету аренды земли и другие мелкие
расходы218.
Во второй половине 1927 г. в Сосновской юл ости Моршанско-
го уезда деревенские сходы обсуждали следующие вопросы: о лик¬
видации неграмотности, об открытии избы-читальни и новой
школы, о строительстве здания для Народного дома за счет средств
земельного общества для “переростков”, о ремонте и отоплении
школ. В сфере благоустройства и коммунального хозяйства рас¬
сматривались вопросы: организация и очистка колодцев, ремонт
дорог, укрепление оврагов, устройство прудов, очистка и охрана
лесов, оборудование пожарного сарая. Не стояли в стороне зе¬
мельные общества и от решения таких социальных вопросов, как
выдача нуждающимся сельчанам пособий из общественных фон¬
дов, выборы членов комитетов взаимопомощи; наложение штра¬
фов за потравы посевов. По предложению волостного исполкома
на обсуждение сходов ставились вопросы и о текущей политике,
о займе индустриализации, о расширении прав низового советско¬
го аппарата, о сборе средств в фонд “Наш ответ Чемберлену”. В то же
время самый крупный сельсовет волости, Сосновский, ограничил¬
ся в своей деятельности рассмотрением второстепенных- органи¬
зационных и информационных вопросов: сообщений уполномо¬
ченных земельными обществами, заведующих школ, участкового
агронома, о работе секций. И только один вопрос, непосредственно
связанный с хозяйственной деятельностью населения, обсудил
сельсовет: об охране лесов местного значения и распределении
леса среди нуждающихся219. В земельных обществах местные воп¬
росы занимали 60—70 %, а в сельсоветах — 10—20 %220.
Источники 20-х годов убедительно свидетельствуют о том, что
сельский сход пользовался авторитетом среди крестьян, являлся
82
хозяином в деревне, оттеснив на последний план “чужеродный”
для них сельсовет. К ранее сказанному на этот счет приведем еще
примеры. Так, в д. Гадышах Валдайского уезда Новгородской гу¬
бернии в 1923/24 г. все вопросы сельской жизни рассматривались
на сходах, а не заседаниях совета221. То же самое происходило и в
с. Знаменском Тамбовской губернии, когда почти “все вопросы
решались на сходе”, в то время как члены сельсовета не собира¬
лись222. В Атюрьевской волости Пензенской губернии, по оценке
обследователей, “работы сельсоветов как таковой нет. Все дела
решал сход”223. Во Владимирской губернии деятельность сельсо¬
ветов отсутствовала. Они чаще заменялись сходом, “на котором
по-старинке решаются все общественные дела”. Из Курской гу¬
бернии сообщали: в большинстве своем сельсоветы не руководи¬
ли политической и хозяйственной жизнью деревни, а всем зани¬
мался сход224.
В январе 1926 г. Новгородский губком РКП(б) в своем письме в
ЦК ВКП(б) констатировал: сельсовет или заменяется сходом, или
работой одного председателя, принимающего постановления с раз¬
решения последнего. “В таких случаях роль сельсовета сводится к
писанию протоколов собраний граждан. Даже в наиболее работоспо¬
собном Бельском сельсовете Едровской волости Валдайского уезда,
где председателем является энергичный середняк с правильным клас¬
совым подходом, дело вершится сходом”, а председатель полагает,
что это так и должно быть. Такой взгляд, по мнению партийного
органа, “на права и обязанности членов сельсоветов вырабатывает в
населении безразличное отношение к составу совета”.
В Локшанской волости того же уезда в одном из сельсоветов
все дела решал сход. В ряде волостей губернии, где председатель
совета являлся уважаемым и авторитетным крестьянином, он ру¬
ководил и сходом, в противном же случае все было наоборот225.
Однако почитаемых и уважаемых председателей деревенских со¬
ветов встречалось мало, поэтому чаще все проблемы решались
сельским сходом. Это констатировало и Северо-Западное бюро ЦК
РКП(б) в итоговом документе об обследовании 6 волостей 4 гу¬
берний. В нем, в частности, говорилось: в деревне существует два
типа сельских сходов, первые созываются сельсоветами по дерев¬
ням для обсуждения и выполнения указаний вика, поэтому насе¬
ление смотрит на них как на повинность. Второй тип сходов, со¬
зываемых исключительно по инициативе жителей, на которых
обсуждаются вопросы землеустройства, хозяйственной и бытовой
жизни деревни. Эти сходы совершенно оторваны от сельсовета и
влияния на них не имеют.
83
В Московской губернии во время смотра волисполкомов в
конце 1925 — начале 1926 г. выяснилось, судя по материалам сель¬
коров в газету “Московская деревня”, что во многих местах сход,
как и в других районах, выполнял функции сельсоветов. Напри¬
мер, в Ленинской волости Орехово-Зуевского уезда “Большин¬
ство сельсоветов совершенно безинициативны. Всеми делами вер¬
ховодит сход. Сход утверждает все постановления сельсовета,
устанавливает порядок пользования земельными угодьями, поря¬
док использования общественных раб и т.п.”
Такая ситуация наблюдалась и в Бухоловской волости Волоко¬
ламского уезда, где “мер по оживлению работы сельсоветов особых
не предпринято, вследствие чего еще до сих пор господствуют сход¬
ки, правда, с протоколами, а председатель сельсовета подменяется
в своей работе в целом”, — сообщал селькор Н. Иванов. В Деденев-
ской волости Дмитровского уезда, как выражался селькор Кры¬
лов, “на сходах отсутствует инициатива сельсовета”. В то же время в
ряде мест председатель совета работал совместно с деревенским
сходом. Например, в Тимашевской волости Волоколамского уезда.
Как сообщал М. Сарыкин, здесь “работы об оживлении сельсовета
не видно. В сельсоветах новые положения подшиты в дело и о них
забыли. Члены совета от работы отказываются. Работает один пред¬
седатель с верным спутником — сельским сходом”226.
Исследователь Ф. Кретов, анализируя взаимоотношения сель¬
совета и деревенского схода, приходил к выводу в 1925 г.: “Со¬
вершенно исключительную роль на селе играет сход, он решает
абсолютно все вопросы, так что сельсовету не остается ничего
делать”.
Приведем и еще одну обобщающую оценку о реальной власти
в деревне в годы нэпа, сформулированную авторитетными и про¬
фессиональными исследователями А. Лужиным и М. Резуновым,
по мнению которых* сельский сход являлся хозяином села, руко¬
водителем его экономической жизни, а совет отодвигался на вто¬
рой план. Ибо в повестке дня схода обсуждаются вопросы, кото¬
рые должны бы рассматриваться сельсоветом. “Сход выступает в
качестве носителя высшей власти на территории села, а сельсовет
фигурирует в качестве административного придатка волости, об¬
ращающейся к крестьянству в роли сборщика ЕСНХ и других на¬
логов. Сельские сходы служат центром хозяйственного руковод¬
ства деревней и ставят в зависимость от своих решений действия
сельсовета”227.
Во многих случаях деревенские советы к тому же и экономи¬
чески зависели от земельных обществ, последние выделяли на
84
содержание их работников средства. Например, 2-й Гавриловский
сельсовет Тамбовской губернии получил от земельного общества
701 руб. в 1927 г., а Староюрьевское общество, имея доход 3242 руб.,
выделило сельсовету 598 руб. В Валдайском уезде Новгородской
губернии не менее 10 % сельсоветов в материальном отношении
полностью подчинялись сельскому сходу228. О том, что земельные
общества и их органы, сельские сходы, противопоставили себя
деревенскому совету, а в ряде случаев и подчинив его, являлись
реальной властью на селе, признавал и секретарь Президиума ЦИК
СССР А. С. Енукидзе в своем выступлении на XV съезде ВКП(б):
“Я мог бы перечислить много примеров, когда земельные обще¬
ства являлись действительной властью на местах, где они распо¬
ряжаются землей, одним из основных объектов жизни и деятель¬
ности местных советов”229.
Экономическая зависимость от земельных обществ некоторых
советов, работающих формально, неэффективно, стоящих в сто¬
роне от крестьянской жизни, во многом объяснялась тем, что
большинство из них, как уже говорилось, не имели собственных
бюджетов, своей материальной базы.
Например, Красносельский, Новосельский и Вышнеславский
сельсоветы Владимирской губернии имели бюджеты в сумме 4034 руб.
в 1927 г., тогда как земельные общества, расположенные на их
территориях, израсходовали 10 532 руб. Крюковский, Сосновский,
Старо-Юрьевский, Пересыпкинский сельсоветы Тамбовской гу¬
бернии располагали бюджетом в сумме 5687 руб., а земельные
общества владели 15 980 руб.230 Как выше отмечалось, в СССР в
1927 г. свои бюджеты имели лишь 2300 сельсоветов в сумме 16 млн.
руб., тогда как земельные общества и другие объединения кресть¬
ян — 80—100 млн. руб.231
Земельные общества и их распорядительные органы, сходы,
собрания граждан села являлись подлинными общественными
крестьянскими демократическими органами самоуправления. Они
по-настоящему заботились о благе деревенских жителей, исходя
из своих экономических возможностей, тогда как члены сельсо¬
ветов формально-бюрократическим способом, зачастую навязан¬
ные сверху, послушно выполняли инструкции вышестоящих
партийных и государственных организаций, прежде всего по сбо¬
ру налогов, не считаясь с нуждами крестьян. В состав сельских схо¬
дов входили не только главы семей, но и все члены крестьянского
двора. Зажиточные, “кулаки”, также имели право голоса на сходе и
могли быть избранными в число уполномоченных земельного об¬
щества. Именно эти слои и середняки, наиболее хозяйственные,
85
образованные, и делали погоду на сходах, оказывали решающее
влияние на принятие на них компетентных, правильных решений
по земельным и социально-экономическим вопросам. Середняц¬
кие и зажиточные слои селян, как правило, аккуратно посещали
собрания, иногда пытались убедить присутствующих на них в том,
что “все беды от советской власти; не будь советской власти —
было бы лучше”. В то же время беднота, прежде всего люмпенизи¬
рованная часть, менее образованная, невежественная, оставалась
в тени, не могла играть важной роли на деревенских собраниях,
что очень беспокоило партийных и советских работников в цент¬
ре и на местах.
“Решающее влияние на сходах имеют зажиточные, — сооб¬
щалось из Кривозьевской волости Пензенской губернии, — бед¬
няки о себе говорят так: мы стоим в углу, хочешь сказать, так
махнут на тебя рукой: молчи, мол, какой из тебя толк”. К анало¬
гичному выводу пришла и комиссия, проверяющая состояние
партийного и государственного аппарата в Мокшанском уезде,
заметив, что на собраниях села Ломовки “бедняк активности по¬
чти никакой не проявляет”. Были, например, случаи, когда бед¬
няк начинает говорить о необходимости более правильного про¬
ведения того или иного закона, так сейчас же, по их выражению,
им “затыкают рот” как середняки, так и кулаки, говоря: “Хоро¬
шо вам пользоваться льготами, а за вас нам платить приходится”.
“На сходах голос кулака всегда пользуется поддержкой бед¬
ноты и середняка, в особенности середняка, беднота же большей
частью отделывается молчанием”, — такие сведения поступали
из Головинщенской волости.
Подобная картина наблюдалась на сельских сходах и Григорь¬
евской волости, где “кулаки”, по мнению обследующего, пользо¬
вались правом голоса и руководили сходом вместе с зажиточными
и тяготеющими к ним середняками, они “держат свою линию и
предлагают свое постановление”. “Кто же руководит сходом?” —
спрашивал один из партийных работников, изучающих Атемарскую
волость. И на поставленный им же вопрос он ответил описанием
одного сельского схода, который состоялся 15 февраля 1925 г. По
мнению обследователя, это наиболее яркий и характерный при¬
мер управления сходом “кулаками”, их “засильем”. Общее собра¬
ние граждан открыл руководитель сельсовета, после этого избра¬
ли и председателя схода, бывшего “кулака”, “говоруна”. Сразу же
“вокруг президиума группируются кулаки и крикуны из той части
бедноты, которая считает себя обиженной советской властью”.
При обсуждении вопроса председательствующий высказывает свое
86
мнение, “два-три кулака кричат: “Правильно”. В то же время бед¬
няки и середняки молча “между собой поговаривают против, а
сзади кулаки кричат: “Правильно”. “Председательствующий как
бы вскользь замечает: “Хотя советская власть и решает вопросы
по большинству, но все вопросы по большинству решать не при¬
ходится”. “Еще крикнули о чем-то два-три кулака, да бедняк руг¬
нул советскую власть, и вопрос решается без всякого голосова¬
ния. Пиши, секретарь, — в поднявшемся гвалте слышится голос
председателя. А что секретарь пишет — об этом можем легко дога¬
дываться”232.
Однако имелось и мнение самих крестьян о сельских сходах.
Они иначе оценивали характер обсуждаемых на них вопросов, в
отличие от партийных работников. Так, 1 февраля 1927 г. сельча¬
нин В. Шимурков в письме в “Крестьянскую газету” писал: “Схо¬
ды местного значения возникают: по распределению земли, лу¬
гов, лесосек, по найму пастухов, продаже и покупке
общественного быка. Например, неожиданные случаи: градоби¬
тие, пожар, потравы — в год до 180 сходов На сходах во всяком
случае разрешаются более справедливо и удовлетворительно нуж¬
ды граждан, чем где бы то ни было. Считаю, что чем больше схо¬
дов общества, тем больше навыков в общественном поведении;
сельские сходы — это своего рода естественная школа воспитания
в публичной обстановке, нести ответственность за поручение дела...
Сходы разрешают свободно высказываться и публично спорить, а
в результате большинство поддерживают справедливость. Свобода
слова и серьезное общение мыслей между односельчанами во вся¬
ком случае вещь высококультурная”233.
Анализ содержания данного письма крестьянина и материа¬
лов обследования сходов в Пензенской губернии, несмотря на,
может быть, и некоторую однотипность, все же дает определен¬
ное представление о социально-имущественном составе деревен¬
ского схода Пензенской губернии, о степени активности его уча¬
стников, в том числе бедняков, середняков и зажиточных.
Последние тогда назывались в официальных документах “кулака¬
ми”, “эксплуататорами-мироедами”, хотя на самом деле подав¬
ляющее большинство из них относились к великим труженикам,
старательным хозяевам. Причем в ходе обсуждения вопросов на
сходе и беднота не всегда отмалчивалась пассивно, а недовольная
политикой советской власти ее критиковала.
При этом на практике формы управления земельными об¬
ществами оставались разными в зависимости от конкретной ме¬
стности, численности населения, состоящего в них. Наиболее
87
распространенной формой являлся уполномоченный земельного
общества. Иногда он одновременно выступал и как уполномочен¬
ный сельского совета. В ряде районов, например, на Северном
Кавказе с крупными селениями, избиралось и правление земель¬
ного общества в количестве 3—5 человек234.
Партийно-государственное руководство страны, как выше
говорилось, с озабоченностью воспринимало хозяйственную са¬
мостоятельность земельных обществ, возросшую активность кре¬
стьян на сельских сходах, за которыми со стороны местных орга¬
нов власти нередко отсутствовал контроль, в результате чего, как
считали коммунисты, на них принимались постановления в под¬
держку “кулаков” за счет “ущемления” интересов бедноты. Как
писал Д.П. Розит в 1925 г., “Сельсоветы и вики упускают из своих
рук инициативу по вопросам хозяйственного и культурного стро¬
ительства. Эти вопросы стихийно подхватывает сход и при реше¬
нии их на сходах беднота остается неорганизованной”235.
Опасаясь потерять политический контроль над крестьянами,
власть, начиная с 1927 г., усиливает наступление, нажим на зе¬
мельные общества, их распределительные органы, сельские схо¬
ды, что вписывалось в общий курс, направленный на сворачива¬
ние принципов нэпа и отказ от оживления советов. 14 марта 1927 г.
ВЦИК и СНК РСФСР утвердили “Положение об общих собрани¬
ях (сходах) граждан в сельских поселениях”, согласно которому
усиливался контроль деревенских советов за сходами граждан. Сель¬
ские советы должны последними руководить, устанавливать воп¬
росы, предлагаемые сходу, место и время его проведения, назна¬
чать докладчиков, рекомендовать проекты постановлений, хотя
участники схода могли вносить изменения в повестку дня, а в ходе
обсуждаемых вопросов предложить и свой вариант проекта. В работе
схода имели право участвовать только лица, пользующиеся изби¬
рательными правами в совет236.
Чтобы ослабить слегка наметившуюся экономическую и по¬
литическую самостоятельность крестьян, их стремление к демокра¬
тическим ценностям, правительство со второй половины 1927 г.
ужесточает курс по отношению к земельным обществам и их орга¬
нам — сельским сходам, на которых, как писал Э. Квиринг, “зна¬
чительное количество вопросов разрешается против интересов
бедноты”237. Такая односторонняя оценка, конечно, не соответство¬
вала действительности. Из вышесказанного видно, что обсуждаемые
и принимаемые на сходах постановления отвечали нуждам, интере¬
сам всех имущественных групп деревни: бедняков, середняков,
зажиточных, за исключением, может быть, деклассированных
88
элементов: пьяниц, лодырей, на последних нередко и пытались
опереться коммунистическая партия в проведении своей полити¬
ки в деревне, считая их своей опорой.
Официально курс правящей партии на ликвидацию “кресть¬
янской вольницы”, “двоевластия в деревне” был закреплен в ма¬
териалах XV съезда ВКП(б) в декабре 1927 г., провозгласившего
политику на коллективизацию сельского хозяйства и отмену прин¬
ципов нэпа в связи с принятием директив по первому пятилетне¬
му плану, что, по нашему мнению, открыло путь к “чрезвычай¬
щине”.
Эта политика по отношению к земельным обществам, уста¬
новление над ними полного контроля советов, т.е. партии, была
сформулирована в докладе на съезде секретарем ЦК ВКП(б)
В.М. Молотовым: “Мы подчиняем руководству советов в деревне
работу земельных обществ. Это очень важное дело. Этого мы не
решались делать и в 1918 г., когда создавали комбеды. Теперь мы к
этому приступаем уверенно, твердо, с полным убеждением, что
мы немножко с этим запоздали, а это означает, что теперь мы
должны за это дело взяться по-настоящему Что только когда зе¬
мельные общества целиком и полностью будут подчиняться руко¬
водству советов, что только тогда, в сущности, и будет осуществ¬
лена до конца “вся власть советам” в деревне. До сих пор у нас
нередко бывало так, что когда мы оживляли советы, кулак нале¬
гал на земельные общества и там старался окопаться. Теперь мы
выбьем его окончательно из этих окопов”.
В таком же антикулацком духе высказывался и А.С. Енукидзе.
Он, как и его соратники, напуганный влиянием земельных об¬
ществ на крестьян, в которых, дескать, “кулацкие элементы вся¬
чески игнорируют бедняков, лишают их возможности поделить
землю”, предложил “многовластию в деревне положить реши¬
тельный конец”. По его словам, надо это “абсолютно искоренить
Советы должны иметь решающее слово. И вот надо законодатель¬
ным порядком установить такие взаимоотношения, чтобы советы
являлись хозяином деревни”238. Эти “антикулацкие”, а по своей
сути антикрестьянские, предложения были закреплены в резолю¬
ции, принятой XV съездом ВКП(б), в которой, в частности, го¬
ворилось: “Поручить ЦК разработать вопрос об улучшении взаи¬
моотношений между советами и земельными обществами под углом
зрения обеспечения руководящей роли советов и лишения права
голоса в земельных обществах (на сходах), исключенных из спис¬
ков избирателей советов”239. В соответствии с данными установка¬
ми в следующем году сельские советы взяли полностью под свой
89
контроль земельные общества и сходы, обеспечили в них руково¬
дящую роль в лице представителей коммунистической партии.
Таким образом, с ростками деревенской демократии, с попытка¬
ми крестьянского самоуправления в хозяйственных делах оконча¬
тельно было покончено. Хотя это подчинение крестьянских хо¬
зяйственных земельных органов административно-фискальным
советам не улучшило заметно материальную базу последних, ав¬
торитет которых среди сельчан не увеличился, а скорее снизился.
Состав сельских советов и стиль работы
Другой главной причиной, почему деревенские советы не
решали насущные повседневные социально-хозяйственные зада¬
чи крестьян, как нам представляется, это был их слабый состав,
не способный к эффективной деятельности, поскольку большин¬
ство низового советского аппарата в деревне не обладали необхо¬
димыми деловыми, организаторскими, морально-нравственны¬
ми качествами, имели низкий культурно-образовательный,
политический уровень. К тому же они не владели опытом хозяй¬
ственной, руководящей работы и часто менялись. При этом на со¬
став членов советов негативно влиял тот факт, что они преимуще¬
ственно избирались не демократическим путем, самими
крестьянами, а являлись нередко “партийными назначенцами”,
отобранными по классовому принципу. Многие являлись мало¬
мощными сельчанами, без учета иных качеств, в том числе и де¬
ловых, о чем уже выше говорилось.
Об этом можно судить, например, по имущественному со¬
ставу волостных исполкомов и сельских советов в РСФСР, после
перевыборной кампании 1926/27 г. Как упоминалось, в 56 519 сель¬
ских советах насчитывалось 955 486 человек и в среднем на каж¬
дый из них приходилось 17 членов. К этому времени в республике
значилось 331 513 населенных пунктов и на территории каждого
сельсовета располагалось в среднем 6 поселений. Как отмечалось,
среди членов сельских советов значилось 16,1 % освобожденных во¬
обще от налога; 15,8 % — уплачивающих налог на душу до 1 руб.;
24,1 % — его платили в сумме от 1 до 2 руб. Следовательно, можно
считать, что 56 % депутатского корпуса, т.е. более половины при¬
надлежали к маломощным слоям деревни, из которых одна треть
относилась “к голытьбе перекатной”, по сути они вообще не име¬
ли никаких средств производства, владели самым минимумом
имущества, их власть освобождала от налога или же они им об¬
лагались в сумме на душу населения только до одного рубля. По
90
нашим расчетам, остальные члены сельских советов (44 %) можно
было считать по имущественному положению середняками и
зажиточными, из них 25 % принадлежали к первым с уплатой
налога от 2 до 5 руб. и 18,9 % — ко вторым: с них сумма налога
взималась от 5 и более руб. с каждого члена семьи240.
Конечно, следует оговориться, что наша группировка членов
сельских советов по социально-экономическим признакам на бед¬
няков, середняков и зажиточных все же приблизительна, ибо здесь
не учитываются другие факторы, в том числе состав крестьянско¬
го двора, наличие в нем работников, занятие промыслами. Тем не
менее мы полагаем, что в целом она верна и отражает имуще¬
ственный состав населения российской нэповской деревни, где
около половины ее жителей относились к маломощным, о чем
подробно говорилось в первой части книги.
Таким же выглядел и социальный состав председателей сель¬
ских советов. По своему экономическому положению они почти
не отличались от их членов, поскольку среди председателей 15,5 %
не уплачивали налог или же с них взималась сумма до 1 руб. с
души, а 25,4 % вносили его от 1 до 2 руб. Следовательно, 40,9 %
председательского корпуса являлись по имущественному состоя¬
нию бедняцко-маломощными крестьянами, тогда как 43,6 % ру¬
ководителей советов принадлежали к середнякам и зажиточным.
К первым относились 26,1 %, с уплатой налога от 2 до 5 руб.; ко
вторым — 17,5 %, уплачивающих налог от 5 и более руб.
Члены волостных исполкомов в материальном отношении
выглядели еще беднее, из которых 59 % принадлежали к мало¬
мощным сельчанам. Ибо 20,6 % из них были освобождены от на¬
лога, 14,1 % — его уплачивали в сумме до 1 руб. и 24,3 % — от 1 до
2 руб. В то же время, с нашей точки зрения, 41 % членов волис-
полкомов можно было считать середняками и зажиточными кре¬
стьянами, из которых 25,4 % вносили налог с души от 2 до 5 руб.,
а 15,6 % — уплачивали его более 5 руб. с человека. Имущественное
положение председателей волостных исполнительных комитетов
в целом отражало состояние их членов, хотя они оказались не¬
сколько беднее последних. Так, из всех руководителей волиспол-
комов 63,8 % являлись маломощными, так как из них 25,2 % не
являлись налогоплательщиками, 13,6 % — уплачивали его в сум¬
ме до 1 руб., 25 % — от 1 до 2 руб., тогда как 36,2 % председателей
виков по имущественному положению были середняками и отча¬
сти зажиточными, из которых 25 % можно было считать первыми
с уплатой налога от 2 до 5 руб., и 11 % — вторыми, они вносили
налог в размере более 5 руб. с души241.
91
Таким образом, характеристика членов сельских советов в де¬
ревне по имущественному положению на основе выплачиваемых
сумм налога свидетельствовала о том, что большинство из них
являлись выходцами из бедняцко-маломощных слоев крестьян¬
ства. А что касается членов волостных исполнительных комитетов
и их председателей, то к таковым относились около 2/3. Бедность
и нищета многих членов деревенских советов, “избранников на¬
рода”, естественно, сказывалась на стиле и методах работы. Тем
более, что этому содействовал и низкий их уровень грамотности.
Общеобразовательная подготовка оставалась слабой, как, между
прочим, и всего крестьянского населения. Так, в РСФСР в 1924/25 г.
из 679 570 членов сельских советов высшее и среднее образование
имели только 4,4 %, а из 35 580 их председателей — 2,4 %; мало¬
грамотных и самоучек насчитывалось соответственно 17,8; 15,2 %;
с низшим образованием — 71,2; 81,4 %; совсем неграмотных —
6,6; 1 %242. В 1927 г. образовательная подготовка низового советско¬
го аппарата оказалась еще ниже: количество совсем неграмотных
в составе сельских советов увеличилось до 9,9 %, а их председате¬
лей — до 1,4 %243.
Не лучше обстояло дело с грамотностью и членов волиспол-
комов в годы нэпа. Так, в 1924/25 г. на территории РСФСР из
16 674 членов вика высшее и среднее образование имели лишь
11,8 %, их председателей — только 7,4 %, низшее — соответственно
81,7 % и 86,6 %; малограмотными и самоучками являлись 5,9 и
3 %; совсем неграмотных среди членов вол исполкомов значилось
0,6 %, а среди председателей таковые отсутствовали244. Итак, по¬
давляющее большинство советских работников в деревне имели
низшее, начальное образование, часть из них вообще не умели ни
читать, ни писать, что, разумеется, не могло не сказаться на ха¬
рактере и методах их работы.
При этом основная масса депутатского корпуса деревенских
советов по социальному положению принадлежала к крестьянам,
о чем уже выше упоминалось. Так, в 1926/27 г. среди членов сельских
советов к ним относились 89,1 %, к их председателям — 94,5 %;
к членам волисполкомов и их руководителей — соответственно
67,3 % и 61 %245.
Что же касается партийности среди состава сельских советов,
то среди их членов кандидатов в члены РКП(б)—ВКП(б) насчи¬
тывалось мало. Так, в 1924/25 г. коммунистов среди членов сельских
советов насчитывалось только 5,5 %, среди их председателей —
16,6 %, в 1925/26 г. — 7,8 % и 18,7 %. В то же время удельный вес
партийцев в волостных исполкомах являлся на порядок выше, в
92
1924/25 г. они составляли 47,7 %, в 1925/26 г. — 44,9 %, в 1926/27 г. —
50,1%, а среди председателей виков — соответственно 85,4%,
84,4 %, 89,3 %246. Следовательно, около половины членов волис-
полкомов и абсолютное большинство всех их председателей ока¬
зались “партийными назначенцами”, контролировали советы и
были активными проводниками политики коммунистической
партии в деревне, неукоснительно выполняли директивы, исхо¬
дящие из ЦК РКП(б)—ВКП(б) и местных организаций, нередко
в ущерб интересам трудового крестьянства.
Однако незначительный удельный состав коммунистов в сель¬
ских советах, разумеется, не означал еще того, что в них влияние
правящей партии было ничтожным, поскольку, как отмечалось
выше, в период избирательных кампаний большевистские ячейки
по заранее составленным спискам проводили в советы своих “на¬
значенцев”. Исходя из классовых, идеологических соображений,
сельские коммунисты подбирали прежде всего в низовой советский
аппарат из бедняцко-батрацких, маломощных слоев деревни наибо¬
лее послушных и лояльных советской власти сельчан. Последние,
оказавшись в составе сельских советов, в волостных исполкомах,
являлись опорой местных коммунистов, проводили в жизнь ре¬
шения партийных ячеек, зачастую не считаясь с нуждами кресть¬
ян. Причем нередко сельские большевистские организации вклю¬
чали в списки для голосования в состав советов сельчан,
прошедших Гражданскую войну, службу в Красной Армии, полу¬
чивших там соответствующую идеологическую подготовку и на¬
выки командования, что на практике выливалось часто в голое
администрирование, “солдафонство” по отношению к крестья¬
нам. Так, в 1924/25 г. из всех председателей сельских советов быв¬
шие красноармейцы составляли 54,3 %, в 1926/27 г. — 49,3 %247,
т.е. примерно половину.
Малообразованность, маломощность большинства низового
советского аппарата в деревне негативно сказывалась на стиле и
методах его работы, в том числе и во взаимоотношениях с кресть¬
янами. К тому же на заседания члены сельских советов собирались
нерегулярно, многие из них числились только на бумаге. Так, в
Мосальском уезде Калужской губернии с 1 октября 1924 г. по 1 авгу¬
ста 1925 г. из 101 сельского совета 28 не провели ни одного заседа¬
ния пленума, 27 — собирались дважды, 34 — от 3 до 4 раз, и
остальные советы провели более 4 заседаний248. По сведениям
организационного отдела ВЦИК, во втором полугодии 1926 г. 3247
сельских советов заседали 11 274 раза, или в среднем на каждый из
них приходилось 3—4; в 1927 г. 6619 членов сельсоветов собирались
93
37 040 раз, или 5—6 раз падало в среднем на каждый из них, т.е. они
проводили одно заседание каждый примерно в 2—4 месяца, хотя,
согласно законодательной норме, заседания должны были прово¬
диться 2 раза в месяц. Одна из главных причин нерегулярности
созыва собраний членов советов — их плохая посещаемость, она
не превышала 50—60 % в 1925—1927 гг.249
Попытаемся выяснить факторы, способствующие пассивно¬
му посещению крестьянских “избранников”, заседаний сельских
советов, а следовательно, и негативного отношения многих из
них к своим обязанностям. Думается, основная причина неявки
депутатов на собрания заключалась в понимании того, что от их
заседаний и принятых на них постановлений ничего не зависело,
ни один серьезный хозяйственно-социальный вопрос совет не
может решить, как удовлетворить нужды крестьян, ибо все реша¬
лось вышестоящими органами, а создавать видимость работы они
не очень-то хотели, и тем более тратить рабочее время, особенно в
страдную пору, на заседания не считали нужным. Как отмечалось в
одном из обследований пензенской деревни середины 20-х годов,
“инициативы у сельсовета никакой. В представлении крестьянства
и самих сельсоветов они созданы исключительно для выполнения
распоряжений сверху. Распоряжения эти непопулярны и много¬
словны. О знании советских законов и говорить не приходится;
нет кодексов и даже Конституции. Требования крестьян, предъяв¬
ляемые работникам сельсовета, крайне просты: там должны быть
люди честные, толковые и не пьяницы, иногда даже с оговорка¬
ми, чтобы “знали время, когда пить”250.
При этом вышестоящие партийные и государственные орга¬
ны, пресекая нередко самостоятельность, инициативу дере¬
венских советов, осуществляли ими руководство бюрократичес¬
кими методами; заваливали их многими различного рода
инструкциями, распоряжениями. Требовали срочного их выпол¬
нения без учета реальной обстановки: сделать то, решить это и
“чтобы не нарваться на существующее обязательное постановле¬
ние: не так сел, не так лег и т.д.”. Например, один из сельских
советов получил в течение года около 1500 разного рода постанов¬
лений, документов, выполнение которых было просто физически
невозможно, а реализация указаний вышестоящих государствен¬
ных органов часто занимала 9/10 всего времени в работе сельсовета
в середине 20-х годов251.
Обследователь Егинской волости Пензенской губернии в своем
отчете в 1925 г. раскрыл бумажно-бюрократический, канцелярский стиль
работы, далеко не оперативное руководство низовыми советскими
94
органами: “В моем присутствии была получена целая кипа бумаг из
уисполкома; большинство бумаг написаны и проведены по исходя¬
щему журналу 31 января, а в волости были получены 5 марта. Между
тем были срочные задания и одна бумажка от 3 января, которой
извещалось о созыве на 20 февраля уездной школьной конферен¬
ции Большинство получаемых из уезда бумажек, циркуляров и
инструкций напечатаны на машинке крайне слепо и грязно, так
что прочитать написанное нет никакой возможности”252.
Кроме того, на посещаемость членов сельсоветов заседаний
негативно влияла удаленность проживания от места их проведения.
Так, в 1927 г. в РСФСР на один сельсовет, как уже упоминалось,
приходилось 6 населенных пунктов, в каждом из них насчитыва¬
лось 50 крестьянских дворов и 260 жителей, на территории же сельсо¬
вета проживало в среднем 1500 человек253. Причем в Европейской
части республики деревни, входящие в состав сельсовета, распола¬
гались по 5—7 км в одну сторону. Иногда над членами, аккуратно
посещающими заседания, крестьяне посмеивались: “Гляди, у лю¬
дей все в порядке, а у нашего депутата сено мокрое”254.
Материальная необеспеченность работников низового совет¬
ского аппарата, в том числе и членов сельских советов, побужда¬
ла уклоняться от активного посещения их заседаний. В некоторых
местах, чтобы не срывать собрания депутатов, руководители ста¬
рались предоставить им налоговые льготы, оказать материальную
помощь. Например, в 1925/26 г. заседания Петровского совета
Петрозаводского уезда в Карелии проходили “крайне нерегуляр¬
но”, и в целях привлечения депутатов к работе им выдавалась
премия за каждое посещение заседания255.
Конечно, вовлечь крестьян, даже маломощных, в деятельную
работу в низовой советский аппарат, было весьма сложно ввиду
плохого материального обеспечения. Низовые советские работни¬
ки в деревне получали мизерную зарплату, за которую вряд ли
можно эффективно и в полном объеме исполнять свои обязанно¬
сти. Так, в ходе проверки деятельности советского аппарата в де¬
ревне осенью 1923 г. выяснилось: материальное положение их ра¬
ботников было “катастрофическим”. Согласно обследованию, у
101 сельского совета различных районов зарплата председателя в
месяц колебалась в пределах от 60 коп. до 5 руб., а секретаря — от
60 коп. до 4 руб.256 Несмотря на некоторое увеличение заработной
платы председателям сельсоветов в середине 20-х годов, она оста¬
валась по-прежнему “мизерной” и в 1926/27 г. в большинстве слу¬
чаев достигала в месяц 20—25 руб.257
95
Об отчужденности деревенских советов от широких крестьянских
масс говорит и такая тенденция: в их заседаниях не принимали фак¬
тически участия рядовые граждане. Крайне редко проводились от¬
крытые и выездные заседания сельсоветов и волисполкомов, на
которых бы ставились отчеты об их деятельности. Попытки неко¬
торых руководителей сельсоветов пригласить на заседание кресть¬
ян в общем заканчивались неудачно. В подобных заседаниях кое-
где участвовали не более 3—4 человек из числа приглашенных. Об
отсутствии связей с трудовым крестьянством волисполкомов и их
изолированности, например, в Московской губернии рассказы¬
вают материалы селькоров, направленные в газету “Московская
деревня” в конце 1925 — начале 1926 г. Так, селькор И.М. Мали¬
новский из Крастовской волости Егорьевского уезда сообщал:
одним из основных недостатков советской работы является ото¬
рванность волостного исполнительного комитета от населения,
ибо со времени перевыборов не было ни одного выездного засе¬
дания в селениях.
Такой же стиль организационной работы подмечал и селькор
А.А. Тушлуков в Ленинской волости Орехово-Зуевского уезда. Здесь
выездные сессии вика также не устраивались, включая и открытые
заседания членов волисполкома, которых “не бывает”. В Серги¬
евской волости Сорочинского уезда у местной власти существовала
“плохая связь с населением, ни один член вика не побывал в при¬
крепленном ему районе, да и весь вик не выезжал в селения”.
Нередко руководители волостных советов проявляли пренеб¬
режительное отношение к просьбам крестьян, их просто обманы¬
вали: заранее назначали дни и часы выездных заседаний членов
исполкома в той или иной деревне, но в назначенное время не
являлись, когда население их ожидало в течение нескольких ча¬
сов. Например, Ульяновский волисполком Московского уезда нео¬
днократно намечал провести открытое заседание в селениях, но
его руководители свое слово не сдерживали. Так, жители Рузинско-
го сельсовета ждали исполкомовцев в разгар летних работ целый
день, а они так и не появились. Обманули жителей села Троцко-
Гришакова и других деревень также и руководители Кубинского
вика Звенигородского уезда. 28 октября 1925 г. крестьяне пришли
на собрание, чтобы послушать отчет членов волисполкома о про¬
деланной работе. Однако последние так и не появились, хотя сель¬
чане их ждали до четырех часов дня. Раздосадованные крестьяне
разошлись, с возмущением высказываясь о власти, что нам нуж¬
но “назад идти 6 верст обратно помолоть”, т.е. возвращаться пеш¬
ком в свои деревни, как говорится, не солоно хлебавши.
96
Об изолированности советов от жителей деревни писал и сель¬
чанин Д.Ф. Цветков из Павлово-Посадской волости Богородиц¬
кого уезда: “Связь с массами слаба. На заседаниях вика крестьян
не бывает, да и кандидаты вика за весь год не были ни разу”. Еще
более категоричней выражался селькор В.А. Кагоков из Комму¬
нистической волости Московского уезда: “Есть такие уголки во¬
лости, которые в глаза не видели председателя вика. Ну и судите,
какая связь с населением, имея в виду 52 деревни и 6 поселков”.
Крестьянин Г. Дворецкий из Раменской волости Волоколамско¬
го уезда, оценивая деятельность “избранников” и их связь с мас¬
сами, отмечал: “Вик мало уделял внимание на выезды в деревни
с докладами, на заявления обществ и отдельных лиц Вик отно¬
сится невнимательно, заявления оставались без последствий це¬
лыми месяцами. Замечались случаи плохого отношения к гражда¬
нам по выдаче справок”. Крестьянин Н.К. Букин Дмитровского
уезда видел главным недостатком в работе вика отчужденность
его от населения.
Конечно, неправильно утверждать, что абсолютно весь низо¬
вой советский аппарат в деревне находился в полной отчужден¬
ности от крестьянского населения. Встречались некоторые работ¬
ники в ряде мест, которые старались наладить связь с жителями и
селениями, выступали перед ними с отчетами о работе, прислу¬
шивались к их предложениям, критическим замечаниям. Об этих
положительных моментах также сообщали селькоры в газету “Мос¬
ковская деревня”. Так, в Хатунской волости Серпуховского уезда
члены вика посетили почти все деревни; в Шитковской волости
Бронницкого уезда волисполком за год своей работы провел два
заседания в других селах, отчитался о своей деятельности, орга¬
низовал выездные собрания пленумов, на них присутствовало до
650 человек. В Деденевской волости Дмитровского уезда вик про¬
вел 7 выездных сессий в деревнях, где обсуждались вопросы о его
работе: о местном кооперативе, о деятельности кресткомов, аг¬
ронома, лесничего, о положении дел в школах258. Однако подоб¬
ных волисполкомов, как свидетельствуют факты, где более или
менее поддерживалась связь с крестьянским населением, встре¬
чалось мало.
Вот почему партийно-государственное руководство страны,
чувствуя отчужденность низового советского аппарата от основ¬
ной массы жителей села, его закостенелость, пыталось оживить де¬
ятельность советов с помощью создания при них различных комис¬
сий и секций. Чтобы создать видимость советской демократии и
привлечения к управлению государственными делами деревенского
97
населения, с середины 20-х годов развернулась организационно¬
пропагандистская кампания по образованию постоянных комис¬
сий, секций при сельских советах, волостных и районных испол¬
комах по различным производственным направлениям. Обычно
создавались следующие секции: по местному хозяйству, торгово¬
кооперативная, сельскохозяйственная, культурно-просветитель¬
ская, финансово-налоговая, благоустройства, здравоохранения. В
марте 1927 г. ВЦИК и СНК РСФСР утвердили “Положение о по¬
стоянных комиссиях (секциях) при районных и волостных ис¬
полкомах и сельских советах”, в котором указывались основные
формы их организации и главные задачи деятельности.
Однако процесс формирования секций при советах проходил
трудно и медленно, поскольку, во-первых, на местах органы вла¬
сти не усвоили их функции; во-вторых, крестьяне не желали в
них участвовать, так как не видели в этом никакого смысла, за
них все уже было решено, да и времени не хватало, надо было
трудиться в своем хозяйстве, а не заседать. Как отмечали некото¬
рые жители Псковской губернии в 1925 г., быть советским “акти¬
вистом пользы нет, будешь без сапог и без хлеба, а если для себя
работать, будешь сыт и доволен”259. Поэтому в 1925/26 г. во многих
районах РСФСР такие секции при сельских советах отсутствовали.
Например, в Селезневской волости Велижского уезда Псковской
губернии, в Локшанской волости Валдайского уезда Новгородской
губернии, в Московском уезде ни секций, ни комиссий не суще¬
ствовало260.
Но под административным нажимом вышестоящих партий¬
но-советских органов все же секции и комиссии при советах фор¬
мировались при большинстве деревенских советов. В 1927 г. на тер¬
ритории РСФСР при сельсовете числилось по 2—3 секции, в
каждой из них значилось 6—7 человек261. Если учесть, что к этому
времени насчитывалось около 56 тыс. сельских советов, то полу¬
чается: в работу секций вовлекли около миллиона российских
крестьян, кроме депутатского корпуса, последних насчитывалось
примерно такое же количество. На первый взгляд кажется, что
названные цифры сами по себе просто впечатляют и внешне го¬
ворят об активном участии крестьян в управлении государствен¬
ными делами.
На самом же деле на практике большинство членов советов и
комиссий при них не работали, а только числились в официаль¬
ных бумагах. Об этом убедительно свидетельствуют многочислен¬
ные факты. Так, к маю 1926 г. в Маловишерском уезде Новгород¬
ской губернии при Островском сельсовете были созданы три
98
секции: культурная, земельная и по благоустройству, в каждой из
них состояло по 9 человек, но работы они никакой не проводили.
В Порховском уезде Псковской губернии секции при сельсоветах
также бездействовали, и причина их неработоспособности — отсут¬
ствие конкретных задач, нежелание крестьян участвовать в их дея¬
тельности. В Опочецком уезде наблюдалась такая же картина. В луч¬
шем случае секции при сельсоветах в отдельных волостях заседали
один раз. В Городецкой волости Новгородской губернии в 1926 г.
при вике секции не работали.
Согласно информационной сводке Ленинградского губкома
ВКП(б) от 13 мая 1926 г., во многих секциях и комиссиях отсут¬
ствовала конкретная работа, а в ряде сельсоветов не была и раз¬
граничена функция между ними262.
В июне 1926 г. Северо-Западное бюро ЦК ВКП(б) в инструк¬
тивном письме признавалась слабость работы комиссий и секций
при виках и сельсоветах, “а в большинстве из них отсутствует
всякая работа. Формальный подход к организации комиссий и
секций в смысле подбора состава, однобокость, отсутствие учас¬
тия в них широких слоев крестьянства”.
Не лучше обстояло дело с комиссиями и секциями при сове¬
тах и в Московской губернии. При Сергиевском вике отсутствова¬
ла какая-либо работа комиссий, следствием чего явилось слабое
участие в них крестьян, в Паршковской волости Звенигородского
уезда комиссии при сельсоветах работали “из рук вон плохо”,
часто не проводили ни одного заседания. При Павшинском сель¬
совете Московского уезда созданные комиссии по приказу сверху
оказались “бумажными”, ни разу не заседали в 1925/26 г. Однако
бездействовали не только комиссии при сельских советах, но и
при волисполкомах, в том числе в Яхромской волости Дмитровско¬
го уезда, Ильинской волости Егорьевского уезда. В последней “ни
одна комиссия за 2 месяца не засела” и члены их бездействовали,
и не знали зачастую, что они являются членами комиссий. Отсю¬
да тот крестьянский актив, который должен был работать, “не
втянут и еще хуже в волости” он даже не выявлен263, — сообщал
один из селькоров в “Московскую правду”
Разумеется, встречались некоторые районы, где секции и ко¬
миссии при сельсоветах и волисполкомах пытались как-то нала¬
дить работу. Так, в той же Московской губернии при Ашитковском
вике Бронницкого уезда имелось 5 комиссий: земельная, культур¬
ная, просветительская, налоговая, экономическая, по благоуст¬
ройству. В их работе участвовало 15 крестьян и 10 представителей сель¬
ской интеллигенции. При Михалевском вике того же уезда комиссии
99
также трудились, в них участвовало 30 человек, из которых 15 —
рядовые крестьяне. Однако подобных положительных примеров
имелось немного и, как отмечалось в информационной сводке
Московского комитета ВКП(б) в начале 1926 г., многие вики
подошли формально к организации комиссий, количество кото¬
рых нередко достигает 12—15 человек, но значительная часть ко¬
миссий “скороспелые и даже не приступали к работе”. Много жалоб
и нареканий поступало со стороны крестьян на работу земельных
комиссий. Например, при Кушинском вике такая комиссия рас¬
сматривала вопрос о землеустройстве в селе Кубинском несколь¬
ко лет, но так его и не решила264.
В ряде мест работа секций при сельсоветах сводилась к одним
заседаниям. Например, в Петровском районе Ставропольского
округа с октября 1924 г. по октябрь 1925 г. секции при сельсоветах
провели 152 заседания, а с января по октябрь 1926 г. — 451. На них
присутствовали 3219 крестьян265. В 1925 г. в Ленинградской губер¬
нии при секциях состояло 13 000 человек, однако “никаких сле¬
дов организации масс в секциях нет”. К такому неутешительному
выводу пришли известные исследователи 20-х годов А. Лужин и
М. Резунов, специально посвятившие проблемам советского стро¬
ительства нас селе монографию. Они объясняли бедственное по¬
ложение секций при сельсоветах низкой культурой населения,
непониманием их задач местными работниками, бюрократичес¬
ким, формальным отношением к ним266.
Конечно, названные факторы сдерживали работу секций при
сельсоветах, однако они являлись второстепенными, частными,
главная же причина скрывалась в другом: в низкой политической
культуре населения, его бедности, в системе, утвердившейся в
стране, в ее недемократическом характере, в монополии партии
на власть, которая смотрела на сельсоветы как на собственные
органы, как на придаток партии.
В формирующейся командно-административной системе чле¬
ны сельсоветов, секций при них должны играть видимость демок¬
ратии, а не служить воплощением реальной власти в деревне;
последняя на самом деле принадлежала местной партийной ячей¬
ке, а ее непосредственным выразителем зачастую выступал пред¬
седатель совета, сконцентрировавший в своих руках по существу
всю исполнительную и законодательную власть, которого неред¬
ко крестьяне называли “комиссаром”, сравнивали его иногда даже
с дореволюционным старостой или старшиной. Вот как характе¬
ризовал селькор В. Чернышов стиль организационной работы пред¬
седателей сельсоветов Шековской волости Московского уезда в
100
1925 г.: “Заседания сельсоветов практикуются в очень незначи¬
тельной группе населения, вся работа ложится на председателя сель¬
совета, за которым кое-где еще сохранилась кличка “комиссар” и
“волостной старшина”. Что же касается работы групп сельсове¬
та — в общем-то тут можно сказать следующее: за весь год не было
ни одного собрания всего состава группы сельсовета. Никаких ко¬
миссий создано не было. Ревизионная комиссия не работала со¬
всем, ничего к улучшению сельского хозяйства не предпринято.
Вся работа проводилась по-старинке, что прикажут старосте с
волостным писарем”.
Тот же метод деятельности совета наблюдался в Ямско-Сло¬
бодской волости Каширского уезда. Вот что сообщал крестьянин
Л. Юсфин: “созданные сельские советы и ревизионные комиссии
остались на бумаге, ибо всю работу несет один председатель, так
называемый здесь “комиссар”. “Вся работа в сельских советах в
большинстве ложится на председателя, — писали жители Басов и
Костерев из Яхромской волости Дмитровского уезда. — Члены или
бездействуют, или, если и работают, то слабо”. Из Быковской
волости Бронницкого уезда поступали подобные сведения: “В об¬
щем по оживлению советов сделано мало. Сельсоветы работают
по-старинке. Один председатель отдувается”267.
Вся деятельность сельсоветов, по существу, подменялась рабо¬
той одного председателя и сводилась фактически к сбору налога. Этот
стиль и характер был типичным не только для Московской губер¬
нии, но и Северо-Западной области. Так, в информационном пись¬
ме Новгородского губкома ВКП(б) от 21 января 1926 г. отмечалось:
“Работа сельсоветов как низовой советской администрации, за очень
незначительным исключением, отсутствует. Работу ведет один пред¬
седатель, бегая по району по сбору с/х налога, страховки”.
Подобная бездеятельность сельсоветов как коллективных ор¬
ганов власти констатировалась и обследователями новгородской
деревни в марте 1926 г. Они указывали: сельсоветов как таковых
не имеется, а “есть лишь председатель, он же уполномоченный
райсельсовета, выполняет задания последнего”. Подтверждением
тому служила работа трех сельсоветов Локошинской волости Вал¬
дайского уезда. В одном из них члены собирались 1—2 раза, а во
втором — один, и в третьем — ни разу.
В ходе обследования Шапкинской волости Лодейнопольского
уезда Ленинградской губернии выяснилось: деятельность сельсо¬
ветов заменяется одним председателем, главная работа которого
сводится к сбору налога268. В 1926 г. в Карелии работа советов, по
сути дела, подменялась также в большинстве случаев их председа¬
телями, а остальные члены участия никакого не принимали.
101
По итогам обследования 6 волостей в 1925 г. Северо-Западное
бюро ЦК РКП(б) признавало неутешительной работу сельсоветов,
ибо во многих случаев таковой не существует, а она заменяется
одним председателем. Заседания сельсоветов собираются 2—3 раза
в год или вообще не созываются. “Регулярный созыв собраний
сельсоветов, а тем более привлечение на них крестьян произво¬
дится как исключение, в отдельных волостях”269. Данный вывод
областной партийный орган сделал на основе тщательного обсле¬
дования 6 волостей Ленинградской, Новгородской, Псковской и
Череповецкой губерний в 1924—1925 гг. как типичных и характер¬
ных по своей территории, населению, экономическому и соци¬
альному развитию.
Подобные болезненные явления, связанные со стилем рабо¬
ты низового советского аппарата в деревне, наблюдались и в дру¬
гих районах РСФСР и по существу являлись повсеместными.
“Что такое сельсовет в представлении крестьянства? Это пред¬
седатель (есть еще села, где его по старинке зовут “старостой”),
плюс секретарь (писарь), т.е. те представители власти, к которым
крестьянину приходится непосредственно обращаться”, — чита¬
ем мы в одном из обследований сельчан Пензенской губернии.
Иллюстрацией к этому выводу служила характеристика деятель¬
ности председателя и секретаря сельсовета с. Савы, последнего
как наиболее грамотного. Председатель “с утра до вечера сидит и
молча курит, с приходящими “от нечего делать” в сельсовет с
крестьянами Все его деловые распоряжения сводятся к “приказа¬
ниям” кому-нибудь из присутствующих растопить печку или по¬
слать куда-нибудь подводу”270. Исследователь Ф. Кретов писал в
1925 г.: “Главным носителем власти в селе является председатель
совета или, как называют его крестьяне, сельский комиссар. Пред¬
седатель сельсовета еще больше походит на прежнего старосту”271.
Приведем на этот счет и еще ряд примеров, характеризующих
“демократический коллективный” стиль работы советов в дерев¬
не. Так, заседания Белявского сельсовета Сарапульского округа
проводились редко и “вся тяжесть работы лежала на председате¬
ле”272. В другом отчете сказано, что во Владимирской губернии в
середине 20-х годов сельские советы “как общественные органи¬
зации в большинстве случаев не существуют. Всю работу ведет
один председатель, по существу выполняющий обязанности сель¬
ского старосты. Совет в полном составе, за исключением единич¬
ных случаев, нигде не собирается”.
Аналогичное заключение было сделано на основе анализа мате¬
риалов и о деятельности и сельсоветов Кубани: “Всюду преобладает
102
самостоятельная работа председателя, часто заменяющего собой
совет. Члены совета недостаточно втягиваются в практическую ра¬
боту”. Проверка в Пермском округе выявила такую же “болезнь”,
где секции при сельсоветах не существовали ни в одном районе.
“Президиумы фактически не собираются, тем более пленумы, ни
связи с населением, ни отчетности перед населением не было.
Работу в сущности вел председатель с помощью секретаря”273.
“Даже в тех случаях, когда председатель сельсовета является ком¬
мунистом, нередко бывает так, что работает он один за всех чле¬
нов совета бедняков и середняков”274.
Подобного рода оценки звучали и на страницах официальной
партийной печати, где признавалось, что сельсовета как обще¬
ственно-политической организации в наших селах почти нет. “Ее
заменяет председатель, который и проделывает всю работу по
предписанию волостных и районных исполкомов”275. Уже упоми¬
навшиеся нами А. Лужин и М. Резунов на основе анализа огром¬
ного конкретного материала пришли к вполне объективным, обо¬
снованным и достоверным выводам о стиле деятельности
сельсоветов в период нэпа. “В большинстве сельсоветов председа¬
тель заслоняет собою совет. Пленумы редки”. По их мнению, пред¬
седатель выступает административным придатком волостного ис¬
полнительного комитета и осуществляет руководство деревенской
жизнью чисто административными методами, без какого-либо
привлечения к их реализации крестьянства. Он и приближается к
типу старого деревенского старосты “Посуществу в таких случаях
он играет роль сборщика налогов, уступая руководство хозяйством
села сходу и земельным уполномоченным”276.
Вышеизложенный материал подкрепляет данный вывод: дере¬
венские советы, хотя по своему социальному составу и являлись
крестьянскими, но по содержанию, характеру, стилю их деятельно¬
сти они оказались отчужденными в большинстве своем от основной
массы сельского населения, не являлись органами самоуправления.
Административно-нажимные методы управления крестьянами
Одна из причин пассивности сельских избирателей, изолиро¬
ванности большинства низового советского аппарата от них заклю¬
чалась еще и в грубых административных нажимных методах управ¬
ления крестьянами. Социально-имущественное положение многих
членов советов и волисполкомов, принадлежащих к беднякам, край¬
не низкий культурно-образовательный, политический уровень,
фискальные задачи, решаемые советами, во многом определили и
103
методы их работы с деревенским населением: преобладало ко¬
мандование, администрирование, пренебрежение и высокомерие
по отношению к крестьянам. Нередко нарушались их элементар¬
ные гражданские права, в том числе записанные и в Конститу¬
ции, о чем упоминалось выше.
В некоторых районах за невыполнение распоряжений советских
органов, за неуплату налогов сельчан незаконно арестовывали, а
иногда избивали и пороли, как это делали в эпоху крепостного
права наиболее реакционные помещики. В ряде мест низовые со¬
ветские работники просто истязали сельчан, особенно в пер¬
вые годы нэпа, действовали в духе времен военного коммунизма.
Об этом можно судить, например, по содержанию донесения
ответственного секретаря 6-го райкома РКП(б) в Тюменский уез¬
дный комитет партии от 31 декабря 1921 г.: “За последнее время
участились случаи избиения граждан, в особенности в Успенском
сельсовете, обвинявшихся в преступлениях. Помещение сельсове¬
та сделалось ареной пыток и истязаний. Арестованных уводят из
Успенского волостного исполкома в сельсовет на допросы и там
истязают, а затем еле живыми приводят обратно в исполком для
заключения под надзор. Волисполком также превратился не знаю
во что, как богадельня, слышатся стоны избитых. Придя в испол¬
ком, услышал в отдаленности за стеной стоны и, увидя через
решетчатые отверстия украшенные кровоподтеками лица, невольно
приходится задумываться и задать вопрос: неужели это происхо¬
дит в советской республике?..”. Волисполком не обращает на это
внимания и не принимает мер к пресечению. На протесты граж¬
дан против избиений председатель Угрюмов ответил: “Так им и
надо”277.
В нэповской российской деревне в отдельных районах порка
крестьян низовыми советскими работниками являлась нередкос¬
тью. Например, в середине 20-х годов, в Холмском уезде Псковской
губернии под видом борьбы с самогонщиками сельчан пороли278.
А что касается незаконных арестов жителей деревни, то они встре¬
чались часто. Причем их наказывали даже за мелкие прегрешения.
Так, в 1924 г. в Пензенской губернии в одном из селений аресто¬
вали крестьянина за то, что он пожаловался на председателя во-
лисполкома в милицию279. Славатинский вик Старорусского уезда
Новгородской губернии в административном порядке арестовал
на 5 суток одного сельчанина, так как он не смог вовремя достать
продукты на учебный пункт допризывникам. Тот же волисполком
за непосещение его канцелярии арестовал на 5 суток одного из
председателей сельских советов280.
104
Селькора Кудыкинской волости Орехово-Зуевского уезда
Московской губернии в конце 1925 г. арестовал председатель во-
лисполкома Ф. И. Зырянов за то, что последнему, распивающему
водку в трактире, предложили вывесить в помещении исполкома
программу работы Дома крестьянина281.
Подобные факты, характеризующие репрессивные, каратель¬
ные меры некоторых советских работников в деревне, имели место
и в других районах. Это признавалось и в официальных документах
региональных и центральных органов власти. Так, в 1925 г. Северо-
Западное бюро ЦК РКП(б), подводя итоги обследования 6 вы-
шеназываемых волостей Ленинградской, Новгородской, Псковс¬
кой и Череповецкой губерний, констатировало: в деревнях не
изжиты грубость, аресты “за неисполнение даже мелких предпи¬
саний”282. В том же году М.И. Калинин, указывая на правовую
незащищенность крестьян, раскрыл и механизм репрессивной по¬
литики в деревне: “Власть у нас построена так, что, например, в
области карательной политики, в области репрессий каждый ис¬
полком располагает почти полнотой власти, хотя, по нашей Кон¬
ституции, это не совсем так. У нас, пожалуй, местные милиционеры
свободно арестуют крестьянина в любое время, потом рассчитыва¬
ешься с ними. И так почти везде, почти по всем вопросам”283.
Наряду с произвольными арестами крестьян получил распро¬
странение и такой метод управления ими, как незаконное нало¬
жение на них штрафов в целях, во-первых, “покорения” непослуш¬
ных сельчан, их запугивания, а во-вторых, пополнения властями
скудного местного бюджета. В этом плане иногда местное законо¬
творчество по штрафованию крестьян не знало предела, порою
принимало нелепый и абсурдный характер. В этой связи укажем
некоторые примеры, раскрывающие злоупотребления должност¬
ных советских работников в деревне в середине 20-х годов. Так,
президиум одного из уездных исполкомов в январе 1925 г. принял
решение о том, чтобы усилить нажим на крестьян через сельсове¬
ты при помощи штрафов и арестов. Когда же председатель одного
волисполкома доложил в уисполком о трудностях, возникших с
реализацией данного решения, и попросил при этом помощи, то
ему приказали усилить административное давление на сельчан,
чтобы волостной исполком в течение двух недель наложил не ме¬
нее 200 штрафов и 300 арестов284. Другой уездный исполком дал
указание штрафовать в одной из 6 волостей как минимум 200 че¬
ловек и арестовать 100 сельчан.
В доходную часть бюджета волисполкома Хреновской волости
заранее предусматривалось поступление штрафов в сумме 1200 руб.
105
Причем ежеквартально должно поступать 300 руб. Если же этого
не происходило, то прибегали к репрессивным мерам по отноше¬
нию к населению, чтобы собрать указанную сумму285.
В некоторых районах для пополнения бюджета налагали штраф
до 15 руб. на каждого жителя деревни в порядке очередности: в
один год платили одни, на следующий — другие, при этом плате¬
жи объяснялись “кулаками”, чтобы вносить штраф “на законном
основании”. Начальник административного отдела одного районно¬
го исполнительного комитета отдал директиву, согласно которой
следовало внести в смету доходов за 5 месяцев сумму в 1500 руб.,
полученную от штрафов286. Другой райисполком Томской губер¬
нии обязал население района мыть полы горячим щелоком в до¬
мах не менее двух раз в неделю; 2 раза производить побелку стен в
них, а в избах не сушить белья. За невыполнение данного поста¬
новления вводился штраф в 100 руб. А в одной из губерний Севе¬
ро-Западной области жителей села оштрафовали за то, что на улице
лежала мертвая собака287.
В апреле 1926 г. один из сельсоветов Тихвинского уезда Чере¬
повецкой губернии, по-своему реализуя указания губкома ВКП(б)
о необходимости борьбы с пьянством, постановил: “Закрыть праз¬
дник св. Григория 23 апреля, гостей не принимать. Широко опо¬
вестить население о закрытии праздников. Налагать штраф в раз¬
мере 25 руб. Наблюдение поручить сельсовету”288.
Грубость и произвол по отношению к крестьянам со стороны
низового советского аппарата являлись зачастую нормой работы
во многих местах, что находило нередко отражение и в принима¬
емых ими решениях. Так, в конце 1924 г. Чуровский волостной
исполнительный комитет Череповецкой губернии, проводя по¬
литику воинствующего атеизма, издал распоряжение о запреще¬
нии проведения религиозных праздников на территории волости,
рекомендуя населению их отмечать в семейном кругу на дому. Од¬
новременно этот же волисполком дал указание гражданам об “обя¬
зательной выписке газет”. В 1925 г. Коростынский вик Старорус¬
ского уезда Новгородской губернии изобрел оригинальный способ
бороться с неграмотностью, решив “не регистрировать брак тем
лицам, кто не прошел курсы ликвидации неграмотности”289.
О пренебрежительном отношении части работников волис-
полкомов и сельских советов к жителям деревни можно судить и
по их жалобам, заявлениям и письмам в газеты. Например, в фев¬
рале 1922 г. один из крестьян Молодицкой волости Лужского уез¬
да Петроградской губернии в письме в газету “Деревенская прав¬
да” возмущался “дерзким поведением” председателя волисполкома
106
А. Никитина и других членов, угрожающих постоянно сельчанам
арестами только за то, что они приходили в совет узнать о сумме
облагаемого налога. Неоднократно слышали угрозы в свой адрес
об аресте и избиениях и сельчане от работников Левашовского
вол исполкома той же губернии290. Осенью 1925 г. на беспартийных
конференциях в Невельском уезде Псковской губернии крестьяне
говорили, что председатель волисполкома мало обращает внима¬
ния на бедных, когда к нему приходят “в лаптях, то он и не
разговаривает”. Некоторые жители села настолько были запуга¬
ны, что в ответ на обращение докладчика к конференции выска¬
заться о наболевших вопросах, они отвечали: “Приехал началь¬
ник милиции, он может взять за шиворот”.
В апреле 1925 г. гражданин Купросов в своем письме сообщал
И. В. Сталину: в Череповецкой губернии в деревнях наблюдается
“произвол и бесчинства” властей, они действуют “как опрични¬
ки у грозного царя”. Со своей стороны, Череповецкий губком
ВКП(б) в июле 1926 г. признавал: в Залесской волости Устюжен-
ского уезда на собрании один крестьянин сказал: “Бывали слу¬
чаи, если бедняк поговорит против сельсовета, то придешь к нему
засвидетельствовать какую-нибудь бумажку, то он говорит, что
нельзя, поэтому нам необходимо организоваться”291. Псковский
губком РКП(б) в середине 20-х годов неоднократно констатиро¬
вал проявление административного произвола со стороны низового
советского аппарата в деревне по отношению к крестьянам. В январе
1926 г. Новгородский губком ВКП(б) в информационном обзоре
об итогах перевыборов советов признавал: “отношение членов
виков с населением часто грубое”, что подтверждается многими
фактами. Так, бедняк Перегинской волости Старорусского уезда
указывал: к членам совета и “подойти боишься, не только что спро¬
сить”. В Рядокской волости Боровичского уезда в начале 1925 г. насе¬
ление нелестно отзывалось о секретаре волостного совета Агафонове.
Жители говорили: “Такую сволочь давно нужно убрать”. И задавали
вопрос обследователям: “Уберете вы этого негодяя?”292. В ходе смот¬
ра волисполкомов Московской губернии, судя по материалам сель¬
коров в газету “Деревенская правда”, часть волостных работников
невнимательно относилась к крестьянам, грубо с ними обраща¬
лась. Например, в Зорненской волости Коломенского уезда боль¬
шинство приходящих “за делом” в совет обкладывались “матер¬
щиной” членами виков293.
Подобный метод работы низового советского аппарата в де¬
ревне был характерен и для Ленинградской губернии. К выше¬
сказанному назовем еще ряд примеров. Так, 22 июня 1926 г.
107
крестьянин Г. С. Рожкин из с. Заостровье Лодейнопольского уезда
писал в “Крестьянскую газету”: “Наш председатель Заостровско-
го вика Семушкин страшно груб с населением. Заходишь в вик,
так он закричит, что впечатление остается такое же, как после
посещения волостного правления”294. Нелицеприятные оценки
давали членам Иванкинского волостного исполкома Лодейнополь¬
ского уезда Ленинградской губернии и сельчане в ходе обследова¬
ния волости в январе 1925 г. Например, крестьянин Н.И. Никитин
возмущался: “Председатель вика груб. Приходят и говорят: “Только
подай”. Крестьянка А.И. Самукова сказала, что с нами “считаются
мало, придут, опишут корову и не разъяснят, не разговаривают”.
Такое же мнение высказал А.М. Сидоров о власти: “Не очень счи¬
таются и слова не скажи — сейчас арестуют Председатель вика
грубоват. Местная власть строго прижимает, не знаю от кого это,
сверху так ли это, или они сами стараются, чуть не уплатишь
сейчас, они тут, да и с торгов чуть не даром продадут”. К подоб¬
ной оценке присоединился и крестьянин К.М. Родичев: “Как толь¬
ко увидишь члена исполкома, так сердце замирает, зачешется там,
где раньше не чесалось, стараешься скорее расплатиться, а то при¬
дут описывать все имущество и не разговаривают, а то арестуют”295.
Аналогичный произвол над крестьянами творили и многие
местные руководители Пензенской губернии, о чем свидетельству¬
ют материалы партийного обследования деревни в 1924—1925 гг.
Например, жители села Дигилевки жаловались на грубость работ¬
ников волисполкома, которые “никогда тебя иначе не назовут,
ну, ты, мордвин”. Особенно возмущались крестьяне хамством и
административным нажимом руководителей советов при взима¬
нии налога. Так, члены вика Стрельниковской волости “доходили
до рукопашной схватки с неплательщиками”. А председатель Ал-
тарского сельсовета Альмяшов, навязанный к тому же коммунис¬
тами избирателям, в ноябре 1924 г. заявил крестьянам: “Если вы
мне подчиняться не будете, так я вас поодиночке буду таскать в
ГПУ”296. Трехмесячное правление Альмяшова на территории сель¬
совета вылилось в незаконное обложение крестьян налогом, с
одной стороны, и предоставлением льгот не заслуживающих их
лицам — с другой. Судя по всему, за дарения и угощения, ибо
взяточничество среди работников данного совета широко практи¬
ковалось.
Однако взяточничество, это болезненное явление в низовом
советском аппарате, носило повсеместный характер. Строптиво¬
го, инакомыслящего, критикующего власть крестьянина не толь¬
ко запугивали, оскорбляли, лишали гражданских прав, но иногда
108
еще и обирали в виде взятки члены местных советов, тем более
многие из них относились по имущественному положению к бед¬
някам, а заработная плата была низкой. Взяточничество прини¬
мало различные формы, в зависимости от занимаемой должности
сельским работником, материального состояния, моральных прин¬
ципов: взятки брали деньгами, продуктами, спиртными напитка¬
ми. Об этом говорят многие факты. Так, председатель и члены
волисполкома Рядковской волости Боровичского уезда Новгород¬
ской губернии с 1921 по 1924 г. во время сбора налога брали с
населения масло и другие продукты, а кто их не давал, тех, по
выражению крестьян, “всячески старались согнуть его в дугу”297.
Таким же неблаговидным методом изымали налоговые плате¬
жи с крестьян председатель волисполкома и волостной продо¬
вольственный инспектор в 1922 г. в Усть-Тартаской волости Омской
губернии. За взятки они понижали налоговые ставки некоторым
зажиточным сельчанам. Руководство сельского совета совместно с
секретарем д. Казани Казат-Кульской волости Татарского уезда
той же губернии за самогон подделывали окладные листы некото¬
рым сельчанам якобы об уплате налога298.
А вот председатель сельского совета деревни Тулеблец Старо-
русского уезда Новгородской губернии в 1925 г. использовал иной
способ получения взятки водкой. Он уговорил крестьянина, у ко¬
торого сгорела крыша избы, чтобы тот ее совсем разобрал и со¬
ставил фиктивный акт, будто весь дом сгорел. В результате хозяин
“сгоревшей избы” получил полную страховую сумму, а руково¬
дителя совета “поблагодарил” за услуги угощением водкой. Члены
Городецкого сельского совета того же уезда, имея на своей терри¬
тории лавку общества потребителей, в середине 20-х годов брали
из нее бесплатные по справкам для себя продукты и товары: муку,
яйца, овес, папиросы, махорку, тетради, под видом “для нужд
совета”, “для комиссии по отводу плановых усадебных участков”,
а также “для пирога пастуху в день Егория”. В Семковской волости
Демянского уезда Новгородской губернии один из членов сельско¬
го совета воровал у крестьян овец, а когда его уличили в этом
преступлении, то жители надели на него шкуру зарезанной овцы
и водили по деревне, хотя после этого он по-прежнему оставался
в составе совета299.
В середине 20-х годов председатель Алтарского сельсовета Пен¬
зенской губернии прежде чем принять на работу в школу учитель¬
ницу, вызывал к себе на квартиру ее отца и просил у него взятку
самогоном или деньгами. Комиссия по обследованию Кривозерь-
евской волости той же губернии установила, что “приезжающие в
109
села разные землемеры, лесники и т.п. стараются под тем или
иным предлогом сорвать что-нибудь с крестьян, отчего у населе¬
ния создается мнение, что как в селах, так и в городах сидят
взяточники”300. Председатель Знаменского волисполкома Тамбов¬
ской губернии в 1924 г. брал взятки молоком, яйцами, курами у
некоторых крестьян, снижая за это сумму налога, тогда как те,
кто имел законное право на налоговые льготы, их не получали,
поскольку не подносили “подарков” руководителю совета301.
Справедливости ради следует сказать, что в определенной мере
к взяточничеству работников местных советов толкала и их низ¬
кая заработная плата, о чем выше говорилось, тяжелое матери¬
альное положение. Оправдывая таким образом нечестных чинов¬
ников, А. Белобородов писал в 1925 г.: “Когда даже честный человек
должен идти на сделку со своей совестью, брать взятку, чтобы
прокормить себя и свою семью”302. Центральные органы власти
возможно сознательно устанавливали невысокую зарплату низо¬
вому советскому аппарату на селе, заранее обрекая его на долж¬
ностные преступления, на обирание крестьян, а последние вы¬
нуждены были от взяточников как-то откупаться, что, разумеется,
им не делало чести. Часть честных работников низового советско¬
го аппарата, испытывая серьезные материальные трудности и не
желая вставать на путь взяточничества, обирания своих односель¬
чан, просто отказывалась от предложения занять ту или иную дол¬
жность. Например, в первой половине 1926 г. в Пролетарской во¬
лости Лужского уезда Ленинградской губернии почти все
председатели сельских советов подали заявление об уходе с рабо¬
ты в связи с низкой заработной платой, тогда как выполнять свои
обязанности было очень трудно, особенно по сбору налога с на¬
селения303.
То, что низовые советские работники в сельской местности в
качестве взятки брали самогон, в том числе и за освобождение
части крестьян от уплаты налога, имело место и в других райо¬
нах304.
А пьянство среди низовых аппаратчиков носило повсемест¬
ный, общероссийский характер, оно процветало среди членов
волисполкомов и сельских советов. Об этом убедительно свиде¬
тельствуют различного типа источники 20-х годов: письма и заяв¬
ления крестьян, материалы обследований партийных органов,
отчеты и сводки государственных организаций. О повальном пьян¬
стве — этой бытовой социальной болезни, ее формах проявления
среди советских работников речь и пойдет ниже. Так, в 1925 —
начале 1926 г. крестьяне Московской губернии во время смотра
110
волисполкомов приводили многочисленные факты, раскрываю¬
щие низкий образовательный и культурный уровень советских
работников, их бездуховность, моральное падение и разложение
на почве пьянства, что, естественно, вызывало протесты со сто¬
роны крестьян. Вот как характеризовал “народных избранников”
селькор М. Ключкин из Ленинской волости: “Предвика, напив¬
шись пьяным вместе с районным милиционером Нестеровым,
пришли в кооперативную чайную и, фигурируя как представите¬
ли власти, начали там дебоширить, изорвав у крестьянина дерев¬
ни Назарово Тарачанова пальто и отломив ему палец. Во время
дебоша крестьяне говорили, что это за власть, какая-то бандитская”.
Так же негативно отзывался о поведении председателя волиспол-
кома Аксеновской волости Богородицкого уезда и сельчанин
А. И. Юсков. Поего наблюдениям, руководитель совета днями не
появлялся на своем рабочем месте. “На третий день к вечеру 3 де¬
кабря заявляется в вик пьяный в дым” некий предвик. Поставил
на стол бутылочку и кричит: “Выпьем, сотруднички, за здоровье
меня”.
О пьяных похождениях председателя совета красочно описал
селькор А.И. Челноков из Шаламошинской волости Воскресенско¬
го уезда: “Связь нашего райсовета с деревней Сычи очень плохая.
Председателя своего, тов. Надморева видим только тогда, когда
какой-либо оброк причитается с нас получить, тогда он прихо¬
дит или праздник — погулять, тогда напьется пьян, ругается, ху¬
лиганствует он. Больше ничего в нашей деревне от него не услы¬
шишь. В свой крестьянский праздник “Сергиев день” до того
раздурачился — снял иконы и на них оправился, а на второй
день, заливаясь слезами, просил свое семейство их вновь святой
водой освятить”. В д. Губино Ашитовской волости Бронницкого
уезда руководитель сельсовета постоянно пьянствовал “и забро¬
сил всякую общественную работу”. В Коммунистической волости
Московского уезда председатели Павелецкого и Осташковского
сельсоветов “кроме пьянки ничем не занимались и даже не пони¬
мали того, что они должны делать как орган власти в деревне”, —
констатировал селькор В.А. Каюков305.
Пьянство распространилось в широких масштабах и среди
низового советского аппарата и в других губерниях РСФСР. Так, в
Рядокской волости Боровичского уезда Новгородской губернии в
1921 г. все члены вол исполкома являлись на заседания в пьяном
виде, причем в канцелярии вика находился своего рода самогон¬
ный склад, откуда советские работники брали “зелье”, им угоща¬
лись и напивались сполна. В Старорусском уезде этой же губернии
111
в середине 20-х годов низовой советский аппарат, особенно на
волостном уровне, был подобран неудачно. Например, в Угинской
волости процветало пьянство. Председатель вика не пользовался
авторитетом, брал к тому же взятки. В Славатинской волости заве¬
дующий земельным отделом и писарь также пьянствовали, а жи¬
тели им носили самогон.
До 1924 г. встречались случаи, когда председатель Уика, и сек¬
ретарь Укома РКП(б), и другие ответственные работники Старо-
русского уезда пьянствовали в гостинице до 2 часов ночи вместе с
местными работниками.
В феврале 1922 г. жители Модолицкой волости Лужского уезда
Петроградской губернии в письме в газету “Деревенская правда”
жаловались на членов волисполкома и его председателя. После¬
дние вели разгульную жизнь вместе с администрацией Лисицин-
ского совхоза. В ходе обследования Шапкинской волости Лодей-
нопольского уезда Ленинградской губернии крестьянин Чесноков
так охарактеризовал члена вика Абрамова: он не на своем мес¬
те — “ведет борьбу с самогонщиками, а сам пьет самогон”306. Че¬
реповецкий губком РКП(б) в августе 1925 г. признавал, что чле¬
ны виков слабо знают население, большая часть работы видна на
бумаге, не изжиты методы военного коммунизма, среди советских
работников имеют место грубость, пьянство, алчность.
Обратимся и еще к одному источнику — письмам родствен¬
ников к красноармейцам, в которых также характеризуется раз¬
ложение низового советского аппарата в деревне в середине 20-х
годов. Так, из Воронежской губернии сообщали: “Председатель
нашего сельсовета часто пьянствует и играет в карты, говорит,
что он сейчс выше т. Рыкова, что хочет, то и делает. Раздавал
семссуду, в первую очередь давал тем, кто ему самогон подносил
и угощает его, а остальное раздавал своим хорошим знакомым, а
вот беднякам и красноармейским семьям и нам совсем не дал, т.е.
вашей жене и земля осталась незасеянной. Все просьбы твоей жены
не подействовали, продать ей нечего, а воровать не у кого”. Такую
же нелестную оценку советским работникам давало и другое письмо
из той же губернии: “Наш сельсовет состоит из пьяной шайки и
вот что орудуют. Раздавали семена. Нам дали 4 пуда 2 ф. овса на
14 душ, а члены сельсовета побрали по 5 пуд., когда души у них
по две или по 3. Нормы земли у них нет. И когда я сказал, что овес
ведь дается на семена, а не на еду, то Анд. Ив. Хохлов сказал мне:
“Выйди из амбара, а то побью тебе морду”. За меня стояли все
граждане и подавал заявление, но ответа не дают. Еще где-то у
них пропал овес 70 п., и они при раздаче высчитывали по 4ф. с
112
пуда, а между тем после раздачи начали члены сельсовета прода¬
вать овес по 2 руб. за пуд и на эти деньги пьянствовали”307.
Обследование Пензенской губернии в 1924—1925 гг. также
показало духовную деградацию низового советского аппарата в
деревне. Так, один из членов исполкома Григорьевского вика,
кроме самогона, ничем не интересовался, пьянствовал ежеднев¬
но. “В течении месяца, когда производилось обследование, ску¬
пил 6 ведер самогонки (“Купил бы больше, но в деревне не хва¬
тило”) и в течении 10 дней пил без просыпа”. Председатель данного
вол исполкома, объезжая села, “первым делом отыскивает через
сельсовет самогонку и выпивает. Сельсоветы после этого идут по
стопам своего волостного начальства”. А делопроизводитель нало¬
гового стола вика, по выражению обследователя, “горчайший
пьяница и трезвым никогда не бывает, ни одного дня (выпивает,
по словам крестьян, 5—7 бутылок самогона в день)”. В Свищевской
волости председатель волостного исполкома и секретарь в пьяном
виде приехали в вик на оглобле и при этом стреляли на улице.
Сильно выпивали и работники Дубровского волисполкома. По¬
вально увлекались зельем и члены Головищенского вика, да к
тому же еще в пьяном виде совершали и преступления, что и
вынудило Нижне-Ломовский уездный исполком, с учетом массо¬
вого недовольства населения, “распустить до срока старый состав
и конструировать новый”. По оценке обследователей, в деревне
Дигилевка Городищенского уезда “сельсовет пьет без просыпки”,
а председателя Каменского совета и его заместителя Пригородско-
го района они встретили “совершенно пьяном виде”, хотя об их
приезде заранее было известно308.
Подобную удручающую картину о морально-нравственном
падении низовых советских работников на селе и их повальном
увлечении спиртными напитками вместо настоящей работы изоб¬
ражают и многие информационные сводки ОГПУ. Укажем из них
лишь некоторые факты. Так, в январе 1923. в Омском округе чле¬
ны Нового-Теренгульского волисполкома и уполномоченный по
продналогу созвали в деревне Благовещенке собрание крестьян,
на которое “явились совершенно пьяными”. В том же месяце в
Чувашской области отмечена слабая работа сельсоветов и волис-
полкомов, среди их членов развивалось пьянство. В Новоникола¬
евской губернии в Черепановском уезде члены Коуракского, Кан-
дайрского, Боровлянского волисполкомов “пьянствовали почти
поголовно”. В январе 1924 г. в деревне Высокая Рязанской губер¬
нии члены вика злоупотребляли также спиртными напитками, а
когда крестьянин обращался к ним за справкой, просят бутылку
113
или пуд хлеба. В мае 1924 г. из деревни Поплевской той же губер¬
нии сообщали: “В селе порядка нет. Председатель пьет самогон”.
Такие же нерадостные известия о поведении низовых советских
работников поступали и из Самарской губернии.
Например, в селе Студинец члены волисполкома и сельского
совета “очень слабые, порядков нет, самогон глушат чертовски.
27 апреля вечером был задержан начальник милиции, напившийся
пьяным он много нахулиганил”. Председатель сельсовета д. Бугу-
руед “ежедневно пьяный. У него голова своя, а мозги крово¬
жадного Николашки, а плетет чего не надо, самовар на кури¬
це, а стол под курицей и барыня под столом, так бесконечно у
него идет”.
По данным сотрудников ОГПУ, в октябре 1924 г. в Ульяновской
губернии сильно распространялось пьянство среди работников
сельских и волостных советов, что заметно подрывало “авторитет
власти”, причем первенство в этом отношении держал Корсунс-
кий уезд. Однако и в других районах РСФСР ситуация с поведе¬
нием низового советского аппарата мало чем отличалась в луч¬
шую сторону. Так, в апреле 1924 г. из Вязовской волости
Саратовской губернии сообщали: “Местная власть пьянствует и
многомошенствует. Семена раздавались так, кто даст взятку пред¬
седателю сельсовета, тому и семена. Наша местная власть пьет
вовсю, а раз власть пьет, то и граждане все пьют. Милиция кругом
задарена от самогонщиков, пьет вместе”309.
Из вышеприведенного материала напрашивается вывод, что
большинство низовых государственных работников на селе вели
нездоровый образ жизни, своим аморальным, пьяным поведени¬
ем они дискредитировали советскую власть, которая для многих
крестьян являлась зачастую еще и “пьяной властью”, где, по сло¬
вам сельчан, сидели “мошенник на мошеннике и мошенником
погоняет”310.
Однако и среди простых граждан в нэповской деревне пьян¬
ство получило широкое распространение, и в какой-то степени
состав низового советского аппарата зеркально отражал и поведе¬
ние рядовых крестьян, за счет которых, в основном, он и форми¬
ровался. Конечно, пьянство сельчан нельзя объяснять, как неко¬
торые полагали, дурным примером членов советов; раз последние
пьют, то и мы, простые граждане, будем пить. Проблема пьянства
в деревне имела глубокие корни: историко-традиционные, соци¬
ально-экономические, психологические, сейейно-бытовые, и эта
проблема требует специального изучения. Мы же ограничимся лишь
некоторыми соображениями. Одна из причин распространения
114
пьянства на селе была связана с увеличивающимся производством
самогона, ибо городская заводская водка “Русская горькая”, как
называли ее крестьяне, оставалась для них почти недоступной ввиду
высокой ее цены.
Информационные сводки работников ОГПУ дают некоторое
представление об этой закоренелой социальной болезни деревен¬
ской жизни: о масштабах самогоноварения и о борьбе с ними
органов власти в различных районах РСФСР. Так, в первой поло¬
вине 1923 г. поступали сведения о массовой выделке самогона в
Иркутской, Смоленской, Орловской, Иваново-Вознесенской гу¬
берниях, в Вотской области. Причем в последней пьянство усили¬
лось и захватило “все слои населения. Пьянствуют поголовно все —
рабочие, крестьяне, служащие и даже ответственные партий¬
ные работники”. При этом органы ОГПУ насчитали в марте 1923 г.
44 “пьяных губернии”, число которых в мае сократилось до 22, из
них в Сибири значилось 5, в Центральном районе — 3, в Северо-
Западном — 2, Приволжском районе — 3, по одной — на Даль¬
нем востоке и Юго-Востоке311. Правда, называя численность “пья¬
ных губерний”, чекисты не указывали критерии, по которым они
к ним относили: или по числу производителей самогона, или же
по количеству граждан, его употребляющих, или по количеству
потребляемого спиртного.
Сокращение “пьющих губерний” не только последствия на¬
чавшейся посевной кампании на селе, но отчасти и результаты
борьбы государственных органов власти против самогоноварения.
Так, к марту 1923 г. в Вологодской губернии во время проведения
двухнедельника по ликвидации этого производства милиция про¬
вела 1506 обысков, возбудила 1840 судебных дел, изъяла 468 ап¬
паратов, 1,7 тыс. ведер самогона; в Рыбинской губернии задержа¬
ли 903 человека, отобрали 137 ведер самогона, 1160 ведер заквасы,
566 аппаратов. В Пензенской губернии с 20 июля по 21 августа 1924 г.
произвели 7126 обысков, в ходе которых арестовали 1783 челове¬
ка, конфисковали 1225 самогонных аппаратов, 1312 четвертей са¬
могона, 6251 ведро барды, под суд отдали 2116 человек312.
Однако подобные административные меры борьбы с пьянством
далеко не всегда давали ощутимые, впечатляющие результаты, тем
более что и работники милиции и низового советского аппарата
нередко сами спивались, сращивались с самогонщиками, о чем
выше упоминалось. Неэффективность борьбы с этим “зельем-сур¬
рогатом” заключалась в том, что промысел по производству само¬
гона имел прежде всего социально-экономические корни в дерев¬
не. Как показывают сводки органов ОГПУ, им занимались чаще
115
всего бедняки, вдовы, которых гнать самогон вынуждала нужда;
требовались деньги для уплаты налога, для питания детей. Это
был, наверное, единственный источник их заработка. Например,
в январе 1925 г. в Петропавловском и Каменском уездах Новони¬
колаевской губернии для уплаты суммы налога требовалось про¬
дать 10—15 пудов хлеба, тогда как данную сумму можно было по¬
лучить за счет изготовленного самогона из 2 пудов зерна313.
Почему сельчане вынуждены были заниматься этим промыс¬
лом, можно судить и по содержанию письма из Тульской губер¬
нии Ефремовского уезда, направленного в газету “Правда” осе¬
нью 1923 г. “Крестьяне, чтобы улучшить свое тяжелое материальное
положение, принимаются за выделку самогона. Из пуда ржи, сто¬
ящего 30 руб., выгоняют самогона на 250 руб. Кроме того, без
самогона ефремовским крестьянам никуда нельзя сунуться. За
получением разрешения в упродкоме нужно везти самогон в зе-
мотдел. Продинспектору — самогон, милиции — самогон. По рас¬
сказам крестьян, и комиссар Ефремовского упродкома не удо¬
вольствовался привезенной ему четвертью самогона и потребовал
еще. Привезли еще четверть — мало. После третьей четверти и пяти
фунтов сала дело, по словам крестьянина, “выгорело”. Самогон в
Ефремовском уездпродкоме пьют все, начиная с верхов и кончая
предсельсоветом. Упродкомиссар Бондарев и его помощник уст¬
раивают специальные самогонные экскурсии и напиваются до по¬
ложения низ. Районный продинспектор требует от налогоплатель¬
щиков самогона, угрожая всякими репрессиями”314.
Вышеизложенный материал в основном подтверждает наблю¬
дения и выводы автора данной корреспонденции в газету о нечис¬
топлотности советских работников, об их пьянстве, взяточниче¬
стве, которые способствовали своими неблаговидными действиями
росту самогоноварения в сельской местности. А поведение властей
означало малопродуктивные итоги борьбы против самогоноваре¬
ния. Это вынуждены были признавать и органы ОГПУ, в частности
сотрудники Псковского губернского отдела. В своей сводке от 2 сен¬
тября 1924 г. они констатировали: “В деревне наблюдается большая
выгонка самогона, вызванная причинами как историческими, так
и социально-экономическими” К последним чекисты отнесли су¬
ществование так называемых “ножниц”. Дешевая цена на хлеб и
побуждала крестьян заниматься самогонокурением, как выгодным
для них промыслом, что “оставляли далеко позади какой бы то ни
было успех в ликвидации самогонокурения”.
По их расчетам, в Псковском уезде в деревне себестоимость вед¬
ра самогона достигает 1,8—2 руб., а продажная цена его составляла
116
11 руб.; Великолуцком уезде — соответственно 2—3 и 10—12 руб.;
Торопецком — 2; 6—8 руб.; Холмском — 2,5—3; 14—20 руб.; Пор-
ховском — себестоимость ведра самогона — 2,5—3, а продажная
цена — 7—16 руб. При этом работников ОГПУ особенно тревожи¬
ла ситуация, сложившаяся с производством самогона в Велижском
и Новоржевском уездах. В последнем в Новоржевской волости его
изготовляли до 35 % населения.
При этом чекисты постарались подсчитать, сколько же кресть¬
яне расходовали зерна на самогонокурение в губернии. Хотя точ¬
ную цифру они не указали, тем не менее, по их данным, с 1 июля
1923 по 30 июня 1924 г. приблизительно около 500 тыс. пудов зерна
шло на производство самогона. Эту цифру они выводили, исходя
из следующей статистики: за указанный срок работники милиции
в губернии совершили 7803 обыска, в результате которых конфис¬
ковали 2634 самогонных аппарата и 920 ведер самогона. При этом
сотрудники ОГПУ подсчитали, что с учетом конспирации само¬
гонных аппаратов их могли отобрать максимум 15 %, общее коли¬
чество которых достигало 17,5 тыс. Среднегодовая перегонка хлеб¬
ных злаков составляла приблизительно 30 пудов каждым из них315.
Считая деятельность советских органов малоэффективной по
ликвидации самогоноварения, сотрудники ОГПУ ратовали за
ужесточение карательных мер работниками прокуратуры, суда,
милиции. Последняя, по их словам, имеет преступные связи с
населением. Они предлагали ужесточение административного на¬
жима на самогонщиков, на которых накладывался судами обычно
мелкий штраф в сумме 3—10 руб. Чекисты одновременно реко¬
мендовали партийно-советским организациям усилить просвети¬
тельную работу среди крестьянского населения. Ведь самогонова¬
рение, пьянство наносили не только экономический урон, но
подрывали здоровье граждан. На почве пьянства в деревнях неред¬
ко возникали драки, особенно среди молодежи, сопровождавши¬
еся иногда избиениями, убийствами316.
При этом некоторые сознательные крестьяне выступали про¬
тив повального пьянства в деревне, требовали от местной власти
принятия действенных мер против этой социальной болезни.
Характерно на этот счет письмо сельчанина Ф.К. Евсеева из
д. Кодушкино Финяевской волости Скопинского уезда Рязанской
губернии в “Крестьянскую газету” 1 августа 1924 г.: “Да где же власть,
что же она смотрит, для кого она существует — для бедного или для
богатого?.. Я приведу один пример: во время покоса продано 1/3 луга
и вырученные за это деньги крестьяне пропили на самогоне, да про¬
играли на песнях, пользы никакой нет. А потребовались деньги на
117
ремонт школы, на пожарную дружину, каждый говорит: “Хоть
зарежь — копейки нет”317.
Проблема самогоноварения и связанное с ней пьянство на
селе являлись серьезной и труднейшей социальной болезнью и,
конечно, требовали радикального длительного лечения, решения
острейших экономических, социальных задач, и в первую оче¬
редь, существенного улучшения материального положения крес¬
тьян, значительного повышения их культурного, образовательно¬
го и политического уровня. А для этого требовались не только
годы, но и десятилетия. Административными мерами данную бо¬
лезненную проблему невозможно было решить, ее только загоня¬
ли внутрь. Что же касается роли низового советского аппарата в
борьбе с самогонокурением и пьянством в деревне, то в тех кон¬
кретных исторических условиях в этом плане от него мало что
зависело, тем более, что многие работники советов сами “завязли
в самогонной трясине”.
Из вышесказанного читатель не должен делать вывод, что все
члены сельских советов и волисполкомов являлись хамами, зако¬
ренелыми взяточниками, сущими пьяницами, притесняли крес¬
тьян на территории РСФСР. Разумеется, имелось и много “не¬
пьющих” деревенских советов, эффективно работающих в
интересах крестьян, особенно в тех районах, где они избирались
непосредственно самими жителями деревни или волости, а не
навязывались “сверху” партийными органами. В этих советах их
члены внимательно и чутко относились к нуждам, повседневным
запросам сельчан и среди последних пользовались популярнос¬
тью, авторитетом. Вот мнение одной из крестьянок Хатунской
волости Московской губернии о руководителе волисполкома,
высказанное в конце 1925 г.: “Никогда, мол, я еще при советской
власти там не была. Боюсь и уже терялась. Я когда туда пришла,
главный в исполкоме — Шмарев, так его зовут, такой обходи¬
тельный о всем расспросил, все рассказал, как надо поступить.
Право хороший человек”. Председатель и члены Стрелиловского
волисполкома той же губернии в середине 20-х годов также пользо¬
вались уважением у крестьян за то, что усердно и добросовестно
исполняли свои обязанностей, не забывали о житейских пробле¬
мах сельчан318.
Однако членов низового советского аппарата в деревне, каче¬
ственно и эффективно работающих, с высокими моральными
принципами, организаторско-хозяйственными навыками, уважа¬
емых и почитаемых крестьянами, насчитывалось мало, о чем речь
шла выше.
118
В то же время российские крестьяне отнюдь не всегда покор¬
но воспринимали произвол местных советских работников, гру¬
бость, беззаконие, допускаемое по отношению к ним. Они писа¬
ли жалобы в газеты, в вышестоящие государственные органы,
требовали от них восстановления справедливости. Однако после¬
дние зачастую не только не принимали действенных мер по заяв¬
лениям сельчан, но даже порою их и не рассматривали. Об этом
можно судить по нижеследующим примерам. Вот как отвечал на
просьбы жителей волисполком Васильевской волости Богородиц¬
кого уезда Московской губернии в 1925 г. “Если посмотришь на
дела вика, то много есть заявлений от крестьян, — писал селькор
А. Зубов, — лежат без всякого движения. Когда придет крестьянин
и спросит, что сделано, то ему скажут — отослали в уезд или
губернию. Крестьяне дер. Коншино постановляли 3 раза с просьбой
снизить с.-х. налог вместо 9 разряда на 8-й, то оказалось, что их
бумага подшита к делу с резолюцией: “к делу”, чем дело и кончи¬
лось”319.
Также равнодушно, черство, по-бюрократически относились
к жалобам крестьян и многие уездные органы власти. Об этом нам
дает представление обследование партийными работниками Пен¬
зенской губернии в 1925 г., в материалах которых констатирова¬
лось: “В наших советских органах не в состоянии добиться какого-
либо толку. Из ряда заявлений видно, что на крестьянские жалобы
из уезда нет ответов в течение трех и более месяцев”320.
Разумеется, сельчане, не удовлетворенные стилем, методами
работы низовых советских работников, обращались с письмами,
жалобами в центральные государственные органы власти. После¬
дние вынуждены были принимать определенные административ¬
ные меры по обузданию строптивых деревенских начальников. Так,
в 1926 г. по итогам проверки Центральной контрольной комиссии
ВКП(б) 1190 председателей, секретарей и членов сельских сове¬
тов и волисполкомов были выявлены серьезные недостатки у
250 человек, в том числе должностные преступления, взяточниче¬
ство, из которых 40,8 % получили взыскания за пьянство, 12 % —
за грубое обращение с крестьянами, 8 % — за злоупотребления
служебным положением, 58 работников исключили из партии321.
Вместе с тем подобные косметические меры центральных и
местных властей по лечению закоренелой болезни, которой стра¬
дало большинство работников низового советского аппарата, не
могли существенно повлиять на качественный состав советов, во
многом формировавшийся не по деловым, а классово-партийным
признакам. Радикально не улучшался состав деревенских советов
119
и в ходе их постоянного большого обновления. Так, в 1925/26 г. в
РСФСР члены сельских советов обновились на 51,7 %, в 1927 г. —
на 53,9 %; их председатели — соответственно на 44,9 и 37,6 %; чле¬
ны волисполкомов — на 50 и 53,5 %; их руководители — на 29,1 и
29,5 %322.
Однако на смену одним руководителям морально-разложив-
шимся, невежественным, грубиянам-хамам, приходили во власть
зачастую мало чем отличающиеся люди по своим деловым и нрав¬
ственным критериям от их предшественников. Например, в Зна¬
менской волости Тамбовской губернии в течение года от должно¬
сти освободили за взятки и пьянство трех начальников волостной
милиции323. В 1925 г. в Ульяновской волости Московского уезда
председателя волисполкома осудили за преступления, пришед¬
ший же ему на смену руководитель вообще “порвал связь с насе¬
лением и занялся междоусобной склокой”, — утверждали кресть¬
яне324. В 1924 г. в Николаевском уезде Царицынской губернии жители
проявляли недовольство работой одного из председателей сельских
советов, поскольку последний не уплативших своевременно на¬
лог граждан отдавал под суд, и “за ними носился с револьвером
перед носом у крестьян и кричал: “Я вас пристрелю”. Но когда
его сменил другой председатель совета, то крестьянам вообще не
давали возможности “говорить на собрании”325.
Подобная смена руководителей советов носила почти по¬
всеместный характер, поскольку в условиях однопартийной,
складывающейся командно-административной системы в стра¬
не состав деревенских советов, в основном, формировался по
классово-назначенческому принципу, когда существенно огра¬
ничивались возможности трудового крестьянства избирать в них
деловых, честных, с хозяйственно-организаторскими навыка¬
ми своих представителей.
* * *
Сельские советы являлись массовой государственной полити¬
ческой организацией, отношение к которым со стороны крестьян¬
ства в годы нэпа оставалось неоднозначным и противоречивым ввиду
проводимой государством политики в деревне и происходящими в
ней сложными, болезненными социально-экономическими про¬
цессами.
Двойственная позиция сельчан особенно отчетливо проявлялась
в период избирательных кампаний в советы. С одной стороны, часть
из них считала советы своей организацией и, участвуя в голосова¬
нии, рассчитывала с ее помощью улучшить свое экономическое
120
положение, а, с другой стороны, большинство жителей деревни не
участвовало в избирательном процессе, не доверяло советам, не на¬
деялось на их поддержку в разрешении насущных проблем.
По мере возрождения хозяйства крестьян возрастала и их об¬
щественно-политическая активность, количество принявших уча¬
стие в перевыборах увеличилось почти в 2 раза на территории РСФСР
с 1922 по 1927 г. Тем не менее к концу нэпа свыше половины кре¬
стьян, имеющих избирательное право, им не воспользовались. Мас¬
совый бойкот выборов в сельские советы отражал недовольство
крестьян проводимой государством политикой по отношению к
деревне. Это была пассивная форма их сопротивления, протеста.
На пассивности сельских избирателей сказалась неэффектив¬
ная деятельность многих деревенских советов, отчужденных от нужд
и запросов крестьян. Одной из причин слабой работы сельсоветов
являлась их плохая материальная база, отсутствие необходимых
средств для решения социально-экономических проблем деревен¬
ской жизни. Негативно сказывался на работе советов и их состав.
Депутатский корпус формировался в основном по классовому
признаку, состоял преимущественно из маломощных слоев с низ¬
ким образовательно-культурным, политическим уровнем, не име¬
ющим, как правило, опыта организаторской, хозяйственной ра¬
боты. В состав сельских советов попадало немало случайных людей,
поскольку выборы в них нередко являлись недемократическими и
несвободными. Зачастую в состав советов проходили “назначен¬
цы-выдвиженцы”, навязанные сверху властью вопреки воле кре-
стьян-избирателей, и одновременно лишались права голоса и не
допускались к выборам сельчане, которых население предпочло
бы видеть в составе низового советского аппарата.
Несмотря на то, что на территории РСФСР насчитывалось
немало сельских советов, деятельность которых крестьянами оце¬
нивалась положительно, тем не менее к большинству советских
органов в деревне отношение ее жителей являлось негативным,
поскольку многие советы работали в духе времен военного комму¬
низма и решали прежде всего фискально-административные зада¬
чи, применяли произвол, допускали беззаконие к жителям села.
Большинство сельских советов стояли в стороне от насущных про¬
блем крестьянской жизни, пренебрегали социально-экономичес¬
ким развитием деревни. Они оказались отчужденными, изолиро¬
ванными от основной массы крестьянского населения, превратились
в придаток вышестоящих государственных и партийных органов.
Поэтому советы не были настоящими органами местного кресть¬
янского самоуправления.
121
Глава вторая
КРЕСТЬЯНЕ
И СЕЛЬСКИЕ КОММУНИСТИЧЕСКИЕ ЯЧЕЙКИ
Численный и социальный состав
деревенских ячеек и ограничения
при приеме в коммунистическую партию крестьян
Состав сельских советов и волисполкомов, как правило, фор¬
мировался под руководством местных деревенских ячеек РКП(б)—
ВКП(б), к характеристике которых мы и перейдем.
С переходом к нэпу численность сельских коммунистов замет¬
но сократилась. Это было связано с двумя факторами: во-первых, с
проводимой во второй половине 1921 г. чисткой в правящей партии;
во-вторых, с добровольным выходом из нее многих крестьян, ра¬
зочаровавшихся в политике советской власти и решивших основа¬
тельно заняться своим единоличным хозяйством, ибо пребывание
в рядах РКП(б) ограничивало возможности их самостоятельной
экономической деятельности. При этом чистка партийных рядов в
большей степени коснулась сельских ячеек, из которых вычищали
политически ненадежных, “кулацких и мелкобуржуазных элемен¬
тов”. Если из каждых 100 рабочих-коммунистов исключали 17 чело¬
век, то из 100 крестьян-коммунистов — 42. Всего было исключено
из рядов партии 160 тыс. человек, численность которой к началу
1922 г. достигала 514 529 членов и кандидатов РКП(б), из них на
сельскую местность приходилось 200 849 человек. Они объединялись
в 18 287 ячейках, из которых 14983 относились непосредственно
к крестьянским, в них состояло 154 288 члена и кандидата партии.
В 1922 г. в коммунистической ячейке в деревне в среднем насчи¬
тывалось 6—13 человек, в городе — от 15 до 25, причем на каж¬
дую тысячу жителей сельской местности приходилось 2 комму¬
ниста, в городах — 151.
122
Однако значительная часть сельских партийцев и добровольно
покидала ряды РКП(б). Так, в феврале 1922 г. в Томском уезде из
нее вышли 60 % деревенских коммунистов, в том числе не соглас¬
ных с новой экономической политикой. В январе 1922 г. члены Фе-
досеевской и Новосельской волостных партийных организаций
Славгородского уезда Омской губернии “подали заявления об ис¬
ключении их из рядов РКП(б)”. В Тюкалинском уезде той же губер¬
нии наблюдался также выход из партии сельчан, недовольных ме¬
тодами сбора продналога. По этой же причине в Прокутской волости
Новониколаевской губернии 50 % коммунистов добровольно рас¬
стались со своими билетами и вышли из состава РКП(б). В первой
половине 1922 г. в Омской губернии шел массовый выход из партии
крестьян в связи с тяжелым материальным положением2.
В массовом порядке покидали ряды РКП(б) и крестьяне в
других регионах. Если на 1 августа 1921 г. в Старорусском уезде
Новгородской губернии насчитывался 231 член и 45 кандидатов
РКП(б), то на 1 декабря 1924 г.— соответственно 88 и 41, при
этом один коммунист приходился на 2500 жителей3. В Прокшанской
волости Островского уезда Псковской губернии в 1920 г. в партий¬
ной ячейке объединялось 80 коммунистов, в 1923 г. осталось 10; в
Никольской волости Курской губернии число партийцев на этот
период сократилось с 83 до 11; в Горицкой волостной ячейке Твер¬
ской губернии их количество уменьшилось с 33 до 44.
С 1920 по 1924 г. в селе Казалино Невыномыского района Кубан¬
ской области численность коммунистов понизилась с 20 до 6 чело¬
век, и партийная ячейка “с каждым днем чахла”5.
Только за первую половину 1924 г. в стране из 10 226 комму¬
нистов, добровольно покинувших или исключенных из рядов
РКП(б), более половины приходилось на крестьян, многие ячей¬
ки по численности сократились с нескольких десятков человек до
5—76. Если в 1920 г. в сельской местности, как упоминалось, зна¬
чилось 200 749 партийцев, то в мае 1924 г. — 136 тыс. человек. Они
приходились на 53 млн. взрослого населения7. К концу 1924 г. в
СССР насчитывалось 13 558 сельских коммунистических ячеек, в
них объединялось около 20 % общего количества членов и канди¬
датов РКП (б), в каждой из них в среднем состояло 11 человек,
тогда как в городе — 40. При этом одна деревенская партийная
ячейка приходилась на 5,5 сельских советов, в состав каждого из
них в среднем входило до 20 и более населенных пунктов8. Мало¬
численность коммунистических организаций в деревне, безуслов¬
но, способствовала изолированности их от крестьянского населе¬
ния, превращения в некие секты.
123
Массовый выход сельчан из рядов РКП(б), как отмечалось,
объяснялся как несогласием их с экономической политикой
партии, так и с нежеланием порывать с собственным хозяйством,
поскольку это ставило коммуниста в тяжелое материальное поло¬
жение. “Я сознаю, что из меня партийный работник плохой, —
писал коммунист-крестьянин, — потому что я связан с домаш¬
ней жизнью, у меня все стремление как бы наладить домашнее
хозяйство. Коммунист это не должен делать. Раз он коммунист, он
должен быть к делу беспристрастен, и поэтому я прошу исклю¬
чить меня из партии”9. Подобные причины побуждали покинуть
партию и некоторых крестьян Горицкой волости Кимрского уезда
Тверской губернии, ибо, как они полагали, “крестьянское хо¬
зяйство не позволяет состоять в партии”. Один из большевиков-
сельчан так объяснил свой поступок: “Надо свое хозяйство нала¬
живать, работать как партиец я не могу — некогда. Надо или в
партии быть, или свое хозяйство вести. Ну и решил выйти из
ячейки”10.
При этом в некоторых районах партийные органы считали
единоличное хозяйство крестьянина-коммуниста “как источник
мелкобуржуазного перерождения”. Так, в решениях Петровской
районной партконференции Калужской губернии указывалось:
“Нэп создает для членов партии такие условия, в которых часть
коммунистов-крестьян заражается мелкобуржуазной психологией
и начинает отходить от партии”. В ряде мест принимались даже
постановления, регламентирующие поведение сельских партий¬
цев, чтобы они не занимались торговлей, не выходили на хутора,
порывали связи с семьями священнослужителей.
Уязвимым, болезненным местом деревенских ячеек, содей¬
ствующим их оторванности от населения, кроме малочисленнос¬
ти, было и то, что в них преимущественно объединялись люди,
порвавшие уже связи с крестьянским хозяйством при вступлении
в партию: работники общественных организаций, профсоюзных,
кооперативных организаций, а также служащие низового адми¬
нистративно-управленческого аппарата. К 1925 г. последние со¬
ставляли среди сельских большевиков до 65,2 %, тогда как крес¬
тьян, непосредственно занятых физическим трудом, сельским
хозяйством, которых тогда называли “от сохи”, насчитывалось
лишь 7,7 %и.
Так, 1 января 1925 г. в Рядокской волостной партийной орга¬
низации Боровичского уезда Новгородской губернии насчитыва¬
лось 35 членов и кандидатов РКП(б), из них по социальному по¬
ложению 17 относились к рабочим, 12 — к крестьянам, 6 — к
124
интеллигенции. Однако ни один из партийцев не вел свое хозяй¬
ство, все 35 коммунистов являлись служащими и советскими ра¬
ботниками. Вот почему инструктор Северо-Западного бюро ЦК
РКП(б) В. К. Альф, изучив деятельность данной ячейки, пришел
к вполне обоснованному выводу: она “не может являться харак¬
терной крестьянской организацией партии, члены партии совер¬
шенно оторваны от крестьянских масс”. В мае 1925 г. все 12 членов
и кандидатов РКП(б) Кудеверской деревенской организации
Псковской губернии занимали различные должности в волиспол-
коме. В Чайкинской сельской ячейке Себежского уезда той же гу¬
бернии в 1925 г. из 5 коммунистов один работал председателем
совета, другой — милиционером, два — в кооперации и лишь
один трудился в своем хозяйстве12.
В 1925 г. в Шапкинской волости Лодейнопольского уезда Ле¬
нинградской губернии насчитывалось 11 членов и кандидатов
РКП(б), из которых 6 являлись советскими работниками, 4 —
занимали также административные должности и только один от¬
носился к крестьянам “от сохи”. В 1925 г. Северо-Западное бюро
ЦК РКП(б) по итогам обследования 6 волостных коммунисти¬
ческих ячеек Череповецкой, Новгородской, Псковской и Ленин¬
градской губерний в своих выводах констатировало: на 90 % они
состоят из служащих волисполкомов, кооперации, совхозов, хотя
по социальному положению они относились к крестьянам. Одна¬
ко в течение уже длительного времени большевики порвали связи
с крестьянским хозяйством, в результате чего наблюдается “от¬
рыв ячеек” от местного населения, от их “повседневных буднич¬
ных интересов”13.
В середине 20-х годов подобный отрыв коммунистов от кресть¬
янства происходил и в других районах РСФСР, когда в сельских
ячейках главным образом состояли управленцы, мелкие чиновни¬
ки-бюрократы, представители государственных и общественных
организаций. Так, в Николаевской ячейке Славгородского уезда
Омской губернии не значилось ни одного коммуниста-крестьяни-
на, который бы занимался физическим трудом, сельским хозяй¬
ством14. В Никольской волостной организации Курской губернии
из И партийцев только 3 принадлежали к крестьянам “от сохи”.
А вот как выглядел социальный состав Знаменской волост¬
ной организации Тамбовской губернии по роду занятий в 1924 г.:
из 17 членов РКП(б) один являлся судьей, три были членами вика,
один — начальник милиции, 4 — милиционера, секретарь ячейки,
приказчик в кооперативе, 2 — служащих совхоза, воспитатель детско¬
го сада; председатель сельсовета, секретарь правления сельхозартели
125
и только один — крестьянин “от сохи”15. В 1923 г. в Горицкой воля-
чейке из 4 партийцев относились к советским работникам: пред¬
седатель и казначей вол исполкома, судья, начальник милиции16.
В 1923 г. в Тульской губернии из 1385 сельских коммунистов лишь
104 были непосредственно заняты в сельском хозяйстве, 80 явля¬
лись служащими совхозов, 195 — артелей, 498 — работниками со¬
ветов, 130 — партработниками, 26 — трудились в профсоюзных
организациях, 52 — в кооперативах. Согласно данным статистичес¬
кого отдела ЦК РКП(б) за 1923 г., из 60 тыс. деревенских партий¬
цев подавляющее большинство относилось к работникам админис¬
тративных органов. А в промышленных губерниях удельный вес
крестьян “от сохи” среди коммунистов не превышал 5—7 %17.
Такой количественный и качественный состав сельских ячеек
еще во многом объяснялся и тем, что прием в правящую партию
шел, прежде всего, за счет служащих и в последнюю очередь —
крестьян. Например, за 1924 г. в члены и кандидаты РКП (б) при¬
няли 18 тыс. крестьян, а служащих — 54 тыс.18 На 1 января 1925 г.
в СССР из 154731 деревенских коммунистов батраки и сельско¬
хозяйственные рабочие составляли 2,4 %; крестьяне, занятые сель¬
ским хозяйством — 38 %, работники советских, партийных, проф¬
союзных и других организаций — 59,6 %19.
Другим важным фактором, способствующим изолированнос¬
ти сельских большевистских ячеек от деревенского населения,
служило то, что в них зачастую объединялись пришлые люди,
горожане, административные советские работники, совершенно
не знакомые с данной местностью, условиями быта и жизни кре¬
стьян, направленные вышестоящими партийными органами из
промышленных центров или других районов. В рассматриваемый
период один-два раза в год практиковался перевод коммунистов
из одного района в другой, чтобы таким образом не допустить их
перерождения, не дать им возможности “хозобрасти” и “не по¬
пасть под влияние окружающего мелкобуржуазного крестьянства”.
Нередко, не доверяя местным сельским коммунистам, руковод¬
ство большевистской партии регулярно требовало от губернских
организаций направлять в деревню городских партийцев из про¬
мышленных центров в целях укрепления контроля над крестьяна¬
ми, недопущения их экономической и политической самостоя¬
тельности.
Например, в конце 1924 г. Новгородский губком РКП(б) от¬
правил “для усиления работы в деревне” 119 членов партии, из
них 51 — на советскую работу, 36 — на партийную, 21 — коопе¬
ративную, 3 — культурно-просветительную, 8 — на другую.
126
Псковский губком РКП(б) с сентября по декабрь 1924 г. откоман¬
дировал для работы в деревню 317 человек20. В 1924 г. в СССР всего
было направлено из городов в сельскую местность 6000 членов
РКП(б).
Однако местные партийные органы подходили к выполне¬
нию директив ЦК РКП(б) в большинстве своем формально, под¬
бирали кадры для села без учета их деловых, моральных, полити¬
ческих, профессиональных качеств, социального происхождения.
Поэтому многие их посланцы, коммунисты, вообще не знали ус¬
ловий деревенской жизни и особенности ей партийной там рабо¬
ты. В результате чего значительная часть из них не выдерживала
партийного поручения и вскоре убегала из села. Количество осе¬
давших на постоянную работу в деревне горожан не превышало
40 %. Так, из 6000 коммунистов, направленных в 1924 г. на село,
обратно вернулись 40 %21. В этой связи некоторые укомы РКП(б)
не без основания признавали: “Посылка работников в деревню
совершенно не приносит никакой пользы”22. Вот почему направ¬
ленные не по своей воле коммунисты-горожане в деревню, ко¬
роткое время там побыв, столкнувшись с различного рода труд¬
ностями, в том числе с бытовыми и материальными, бежали
обратно. Кроме того, и заработная плата была низкой, а “идти
работать за 30 руб. никто не хочет”23, — как выражался один из
современников.
Тем не менее порочная практика политического руководства
страны по отправке городских большевиков в сельскую местность
продолжалась год от года, ибо правящая партия нуждалась в кон¬
троле над трудовым крестьянством, боялась пробуждения его эко¬
номической и политической самостоятельности и общественной
активности. Поэтому многие деревенские ячейки полностью со¬
стояли из горожан, твердо проводивших генеральную линию ЦК
партии. Например, в мае 1925 г. ячейка с. Рабежа Валдайского уез¬
да Новгородской губернии в количестве 7 человек объединяла одних
“пришлых”, приезжих назначенцев. Из 12 членов упоминавшейся
Кудеверской сельской ячейки Псковской губернии в мае 1925 г. не
было ни одного местного жителя, все члены партии прибыли из
других волостей или города24. В Шапкинской волостной организа¬
ции Ленинградской губернии из 11 коммунистов к январю 1925 г.
85 % относились к “пришлым”, в том числе 7 партийцев были
направлены из города, 2 — из других мест.
Как показало обследование ряда сельских партийных организа¬
ций Северо-Западной области в конце 1924 г. — начале 1925 г., среди
деревенских коммунистов “количество иногородних на порядок
127
превышало число местных”25. При этом иногородние партийцы, в
основном, являлись работниками низового советского аппарата,
управленцами, администраторами. Вот что сказал по этому пово¬
ду Председатель Совнаркома СССР А. И. Рыков в октябре 1925 г.:
сельские ячейки до последнего времени состояли преимущественно
“из должностных лиц. Бедняки, середняки в собственном смыс¬
ле, как правило, были там в ничтожном количестве”. Вот почему
у крестьян сформировалось мнение о ячейках как “собрание дол¬
жностных лиц, которые собирают налоги и вводят новые побо¬
ры, при этом иногда злоупотребляют, притесняют”26.
Отчужденность партийных организаций от основной массы
трудового крестьянства в первые годы нэпа побудила политичес¬
кое руководство страны принять новую тактику, провозгласить
лозунг “лицом к деревне” в середине 20-х годов, о чем выше упо¬
миналось. Новая линия нашла отражение в документах XIII съезда
РКП(б), октябрьского пленума (1924 г.) и в материалах XIV партий¬
ной конференции (апрель 1925 г.). В рамках новой тактики несколько
ограничивались пережитки военного коммунизма в деревне, расши¬
рялись товарно-денежные отношения, облегчались аренда земли и
наем рабочей силы в крестьянских хозяйствах, был взят курс и на
оживление сельских советов и большевистских ячеек. Этот курс вклю¬
чал и ослабление ограничений при приеме в ряды РКП(б) жителей
деревни, для которых до этого доступ в нее являлся затруднитель¬
ным ввиду неравных условий приема по сравнению с другими соци¬
альными группами. От сельчан, желающих вступить в ряды РКП(б),
заявления порою не рассматривались годами. Об этом можно судить
по заявлению в “Крестьянскую газету” жителя В.В. Хлопотина из
деревни Копылево Ярославского уезда от 4 декабря 1923 г. “Подал
заявление в волостную ячейку в 1921 г., но и после время мне ответа
не последовало В настоящее время занимаю временно бесплатную
должность деревенского уполномоченного и хотел бы открыть в сво¬
ем доме читальню для ознакомления себя и других с законами, те¬
кущей жизнью, но не знаю, с чего начать и чем кончить. Ввиду сего
прошу Вашу газету помочь моим начинаниям и дать Ваши наставле¬
ния и советы как бы мне выполнить свои два желания: 1) быть
партийцем и 2) открыть читальню”27.
Однако в приеме в партию отказывали не только 57-летнему
крестьянину “от сохи”, да еще и активисту Хлопотину, но и мно¬
гим другим. Например, Шапкинская волостная большевистская
организация Ленинградской губернии, насчитывающая 11 чело¬
век, вплоть до 1925 г. не пополнилась ни одним новым коммуни¬
стом из местного населения28.
128
О трудностях, возникающих с приемом в ряды РКП(б), пи¬
сал и красноармеец-отпускник С.Т. Тюрьмин из деревни Безвод¬
ные Прудищи Елатомского уезда Рязанской губернии в “Кресть¬
янскую газету” 4 апреля 1924 г. В своем письме он сообщал, что
крестьяне жалуются на препятствия при приеме их в партию. “Нуж¬
ны пять коммунистов поручателей не менее с пятилетним ста¬
жем, а где может их взять крестьянин, который всю жизнь прово¬
дит около сохи, ковыряясь в земле. Кто из партийцев знает его
образ жизни, а в деревне коммунистов, тем более с пятилетним
стажем, нет, и крестьянин остается беспартийным, другие смот¬
рят на такие явления, на такой порядок и не стараются подавать
заявления”. Автор письма, правда, по неосведомленности несколь¬
ко преувеличил трудности при приеме в ряды РКП(б) крестьян,
хотя правильно подметил суть проблемы, поскольку по уставу
РКП(б), принятому в августе 1922 г. XII Всероссийской конфе¬
ренцией для крестьян, относящихся ко второй категории при
вступлении в большевистскую партию, требовались три рекомен¬
дации лиц с трехлетним партийным стажем, которых практичес¬
ки найти было невозможно. Поэтому по решению XIV конферен¬
ции РКП(б) количество рекомендующих сократилось до двух
членов с двухлетним партстажем. Правда, такая “льгота” для вступ¬
ления в партию “батраков и крестьян-землепашцев” продолжа¬
лась недолго, всего несколько месяцев. Поскольку напуганная
ростом активности крестьянства в 1925 г. правящая партия поспе¬
шила на XIV съезде ВКП(б) в декабре 1925 г. принять новый ус¬
тав, согласно которому крестьяне при приеме в ряды коммунис¬
тов относились вновь ко второй категории, снова ставились в
неравное положение с рабочими и вынуждены были иметь 3 ре¬
комендации членов. ВКП(б) с двухгодичным стажем29-30. Подоб¬
ные ограничения при приеме сельчан в коммунистическую партию
делали по-прежнему деревенские ячейки, с одной стороны, ма¬
лочисленными, оторванными от основной массы крестьян, а с
другой — укрепляли их командную роль на селе, ставших по су¬
ществу частью государственного аппарата, зачастую выполняв¬
ших административные функции, подменявших советы.
Крестьянам, в том числе и маломощным, сложно было войти
в правящую партию и в середине 20-х годов, даже когда отчасти
проводился в жизнь лозунг “лицом к деревне”, о чем свидетель¬
ствует письмо бедняка хутора Усть-Байрацкий Острогожского уезда
Воронежской губернии к членам политического руководства страны
31 января 1926 г., от имени которых подписал П.С. Мацаев. “Где же
те лозунги, в которых говорится, лицом к деревне, смычка города с
129
деревней, пролетарии всех стран соединяйтесь, а у нас получает¬
ся наоборот — разъединяйтесь. Поступать в коммунистическую
партию является большая для крестьян трудность, а именно нуж¬
но иметь поручителей трех человек коммунистов, достигших не
менее 3-летнего стажа”31.
И тем не менее некоторое ослабление ограничений при при¬
еме в правящую партию сельчан в середине 20-х годов способ¬
ствовало росту деревенских коммунистических ячеек. Они стали
пополняться и за счет крестьян “от сохи”, хотя и крайне медлен¬
но и не везде. Например, в 1925 — первой половине 1926 г. Пус-
тошская волостная партийная организация Псковской губернии
приняла кандидатами в члены ВКП(б) 35 человек, из них 11 кре¬
стьян, 22 служащих, одного батрака и одного рабочего. В Кудевер-
скую сельскую ячейку той же губернии только за первые четыре
месяца 1925 г. поступило 8 заявлений от крестьян о приеме в ряды
РКП(б), из которых двух приняли, из них один вскоре напился
пьяным в общественном месте. Поэтому рекомендующие его
партийцы взяли назад свои поручения. В то же время заявление
местного учителя организация долго не рассматривала, не хотела
принимать, опасаясь его грамотности и образованности, что мог¬
ло оказать негативное влияние, как полагали партийцы, и на их
поведение, и деятельность. При этом в Псковской губернии с 1 ян¬
варя по 1 апреля 1925 г. в 7 уездах приняли кандидатурами в члены
РКП(б) 109 человек, из них сельчан “от сохи” — 43, хотя заявле¬
ний было подано 486, при этом большинство принятых относи¬
лись уже к бывшим крестьянам. Причем в партию принимали глав¬
ным образом бывших красноармейцев, бедняков и сельчан,
занятых в общественных организациях и членов советов.
Так, Череповецкий губком РКП (б), после провозглашения
XIII съездом РКП(б) “нового” курса в деревне, дал на места раз¬
нарядку о приеме в партию 50 крестьян, затем квоту увеличили
до 93 человек, хотя к этому времени в губернии насчитывалось
133 тыс. крестьянских хозяйств32. За 1926 г. в Троцком уезде Ленин¬
градской губернии партийная организация пополнилась 71 новы¬
ми членами В КП (б), из которых 65 относились к крестьянам33.
Только за 2 месяца 1925 г. в Северо-Западной области поступило
896 заявлений о приеме в партию, а в кандидаты приняли 396, из
них 159 крестьян, непосредственно ведущих свое хозяйство. С 1 июля
1925 г. по 1 января 1926 г. количество коммунистов Северо-Запад¬
ной области в деревне выросло на 1332, в основном за счет вновь
принятых кандидатами в члены ВКП(б). Тем не менее на 1 января
1926 г. из 8160 сельских партийцев лишь 27,7 % составляли кресть¬
яне “от сохи” или занятые в своем хозяйстве34.
130
По данным М. Варейкиса, в 1925 г. в СССР крестьян, связан¬
ных с сельским хозяйством, приняли в партию 51 860 человек, в
1926 г. — 41 779 и за первую половину 1927 г. — лишь 10 393; т.е. за
2,5 года осуществления нового курса ряды ВКП(б) пополнились
103 832 новыми коммунистами-крестьянами. Количество батраков
и сельскохозяйственных рабочих за это же время принятых в ВКП(б)
характеризовалось соответственно такими данными: 5130; 5193 и
259235. В первой половине 1925 г. крестьян в РКП(б) насчитывалось
25 %, во второй половине 1925 г. среди всех принятых в партию они
составляли 39,1 %, в 1926 г. и первую половину 1927 г. — 33 %36. По
расчетам же Э. Клиринга, с июля 1925 г. по июль 1927 г. в партию
приняли 137 тыс. крестьян, 175 тыс. рабочих и 48 тыс. служащих37.
Несмотря на некоторую “нестыковку”, указанная статисти¬
ка, по сути дела, была официальной, ибо она приводилась ответ¬
ственными работниками ЦК ВКП(б) и позволяет сделать опреде¬
ленные выводы. Прежде всего наблюдался рост в коммунистической
партии в 1925—1926 гг. крестьян по сравнению с предшествую¬
щим периодом. Однако уже в 1926 г. темпы увеличения сельских
партийцев замедляются в связи с принятием нового устава В КП (б)
в декабре 1925 г. на XIV съезде, а в 1927 г. наметился и возврат к
прошлому, к резкому сокращению приема крестьян в ряды ВКП(б).
Это означало не только отход от тактической линии политичес¬
кого руководства страны от лозунга “лицом к деревне”, но и прин¬
ципов нэпа. Его беспокоило усилившаяся тенденция обществен¬
но-политической активности крестьян, в ряде мест требовавших
больше экономической самостоятельности, реальных политичес¬
ких и гражданских прав и свобод, а отнюдь не декларативных.
В то же время динамика приема в коммунистическую партию
сельчан в указанное “золотое” для них время свидетельствовала о
том, что они по-прежнему находились в неравных дискримина¬
ционных условиях с рабочим классом и служащими. Составляя
абсолютное большинство населения страны, крестьяне представ¬
ляли в рядах ВКП(б) ничтожную долю, ибо предпочтение отда¬
валось при приеме в партию рабочим, которые даже в сельских
большевистских организациях играли заметную роль. Так, 1 янва¬
ря 1927 г. в СССР насчитывалось 307 454 деревенских коммунис¬
та, или 26,8 % всего состава партии, из них сельчане составляли
26,8 % всего состава ВКП(б), из которых по социальному поло¬
жению крестьян было 56,7 %, рабочих — 29,9 %, служащих —
15,6 % и других — 2,8 %. Однако если же посмотреть на соци¬
альный состав сельских партийцев по роду их занятий, согласно
переписи 1927 г., то количество крестьян заметно сокращается до
131
42.3 %, причем непосредственно связанных с хозяйством насчи¬
тывалось только 32,1 %, тогда как служащих значилось 39,8 %,
рабочих — 9,1 %, других категорий — 8,8 %38. Следовательно, не¬
смотря на определенные положительные сдвиги в приеме кресть¬
ян в партию, все же никакого радикального изменения в соци¬
альном составе сельских ячеек не произошло по сравнению с
первой половиной нэпа, в них по-прежнему ведущую роль зани¬
мали административные советские работники, а не крестьяне.
Например, в мае 1926 г. Залесская волостная ячейка Устю-
жинского уезда Череповецкой губернии состояла исключительно
из работников вика и других общественных организаций. На фев¬
раль 1926 г. Октябрьская сельская организация Торопецкого уезда
Псковской губернии объединяла в своих рядах одних служащих
вика39. В конце 1926 г. в Горицкой волостной ячейке Кимрского
уезда Тверской губернии насчитывалось 20 коммунистов, из них
лишь 8 — коренных жителей, остальные — “пришлые”. Причем
из местных сельчан 7 принимали участие в сельскохозяйственных
работах и лишь 3 — возглавляли хозяйство40.
На 1 января 1926 г. в Северо-Западной области, как отмеча¬
лось, из 8160 деревенских коммунистов около половины — это
работники советов и других организаций, а по роду занятий кре¬
стьяне “от сохи” составляли лишь 27,7 %41. В Троцком уезде Ле¬
нинградской губернии из 2186 членов и кандидатов ВКП(б) к
крестьянам относилось 18,3 %, из них непосредственно связан¬
ных с сельским хозяйством — 9,2 %42. На март 1925 г. в Псковской
губернии в большевистской организации насчитывалось всего лишь
4,8 % крестьян, занятых в своем хозяйстве43.
Вышеприведенные цифры как о социальном составе, так и осо¬
бенно о роде занятий сельских коммунистов по районам и в масшта¬
бе СССР, выявленные в ходе всесоюзной партийной переписи, в
основном подтверждались и материалами проверки ЦКК ВКП(б) в
начале 1927 г. 774 сельских ячеек различных губерний страны. Со¬
гласно этим материалам, только половина деревенских партий-
цев-крестьян были заняты в своем хозяйстве, из них 2/3 являлись
бедняками и лишь 1/3 — середняками. Батраков насчитывалось
2.3 %. Причем половина сельских коммунистов — это кандидаты в
члены ВКП(б)44.
Итак, на январь 1927 г. после осуществления лозунга “лицом к
деревне” количество сельских партийцев выросло за 1925—1926 гг.
примерно на 80—100 тыс. человек и достигало 307 тыс. Из них кресть¬
яне от сохи, занятые в своем хозяйстве, составляли от 30 до 40 %, из
которых около 70 % (65—80 тыс.) принадлежало к беднякам, в том
132
числе и к люмпенизированной части крестьянства, тогда как се¬
редняцкому слою, не говоря уже о зажиточных, путь в коммуни¬
стическую партию и в условиях “нового курса” по существу ока¬
зался закрытым и недоступным. Правящая верхушка ВКП(б) не
доверяла не только трудовому крестьянину, но даже союзнику
городского пролетариата, батраку, поскольку к декабрю 1925 г. из
200 тыс. сельских коммунистов только 14 тысяч относились к дан¬
ной социальной группе, тогда как в деревне насчитывалось свы¬
ше 3 млн. сельскохозяйственных рабочих и батраков45.
Из вышеуказанной статистики, характеризующей социальный
состав ВКП(б) к концу нэпа, явствует: в сельских ячейках по-
прежнему состояли в основном служащие, работники советских и
общественных организаций, а также бедняки, в том числе и дек¬
лассированные элементы. Приведенные данные служат, на наш
взгляд, одним из показателей оторванности, изолированности
большевистских ячеек от трудовых крестьян, прием которых в
правящую партию оказался вновь недоступным. Верховная власть
смотрела на середняка, не говоря о зажиточном сельчанине, с не¬
доверием, подозрительностью, как на мелкого буржуа.
К тому же некоторые районные партийные организации ис¬
кусственно иногда тормозили вступление в ряды ВКП(б) кресть¬
ян, рассматривали их заявления месяцами, а затем отказывали
им в приеме. Например, за второе полугодие 1925 г. в Северо-
Западной области в деревенские большевистские организации
поступило 3058 заявлений о вступлении в ряды ВКП(б), из них от
1938 крестьян “от сохи”. На каждую ячейку в среднем приходи¬
лось 4 заявления, хотя в их количестве наблюдались серьезные
колебания в зависимости от местности. Так, в Череповецкой гу¬
бернии в Капшинскую волостную организацию поступило 15 про¬
шений, а в Сугуровскую — одно. Из 1938 заявлений крестьян о
вступлении в коммунистическую партию приняли 1166, или 55 %
от поданных в Северо-Западной области. В ряде районов вообще
отказывались принимать сельчан “от сохи” в ряды ВКП(б), счи¬
тали их антисоветскими кулацкими элементами. Так, в 1925 г. ру¬
ководитель Хмеро-Поголовинской волостной организации Ленин¬
градской губернии полагал: “Крестьяне у нас на 85 процентов
белогвардейцы”, поэтому “рост ячейки идет за счет актива ком¬
сомола, есть желание у служилого элемента”.
В мае 1925 г. Новгородский губком РКП(б) указал на полное
отсутствие увеличения партийных рядов в деревенских ячейках Ма-
ловишерскош уезда. В следующем году этот же партийный орган вновь
констатировал неблагополучную ситуацию с приемом крестьян в
133
ВКП(б). Об этом говорилось в феврале 1926 г. на губернском сове¬
щании, что вступление в партию “деревенского актива от сохи
наблюдается мало”.
Плохо обстояло дело и с пополнением рядов коммунисти¬
ческой партии за счет крестьян и в Псковской губернии. Напри¬
мер. В июне 1926 г. Торопецкий уком ВКП(б) в резолюции, при¬
нятой по отчету секретаря Андроновской сельской ячейки, указал,
что рост ее рядов происходил “за счет прибывших. Необходимо
отметить, что крестьянство до сего времени не знает как вступить
в партию и можно ли”. В июле 1926 г. Порховский уездный коми¬
тет ВКП(б) на своем заседании констатировал то же самое. Заслу¬
шав отчет секретаря Дедовитской деревенской организации, в
своем решении записал отсутствие роста в ней за счет крестьян,
батраков, бедняков и “лучшей революционной части середняков”46.
В конце марта 1926 г. на совещании деревенских активистов Ленин¬
градской губернии ответственный работник губкома ВКП(б) Ирк-
лис, отвечая на заданный ему вопрос: “Почему крестьянам в боль¬
шинстве случаев отказывают в приеме в партию?” — признал: “Это
общее явление”47. Действительно, как свидетельствуют факты, прием
в ряды ВКП(б) крестьянам практически во всесоюзном масштабе
был если не закрыт, то, по крайней мере, резко ограничен, как
писала газета “Правда” в январе 1925 г. “легче верблюду пройти
сквозь игольное ушко, нежели крестьянину в партию”48. Такая оцен¬
ка соответствовала реалиям всего периода нэпа.
Если честному, старательному, хозяйственному, политичес¬
ки грамотному крестьянину путь в коммунистическую партию по
сути закрывали по классовым соображениям, то для бедняка, в
том числе и люмпена, двери вхождения в нее нередко приоткры¬
вались. Часть сельских коммунистических ячеек охотно наполня¬
лась деклассированными элементами деревни. Например, в конце
1925 г. Лавская большевистская организация Новгородской губер¬
нии, не выявив сельского актива, “приняла в кандидаты партии
хулиганов и пьяниц”. В Демянском уезде той же губернии в одну
из сельских ячеек, по отзывам крестьян, брали “в партию лоды¬
рей и прощелыг”49.
Деклассированная беднота вливалась в правящую партию обыч¬
но ради личных, корыстных целей, получения административной
должности. Как выразился один из маломощных на собрании
Сунской ячейки Петрозаводского уезда: “Вступаю в партию, что¬
бы улучшить материальное положение, т.к. партия дает хорошую
работу”. Так ответил бедняк на собрании на заданный ему вопрос:
“Почему он вступает в партию”50.
134
Некоторые маломощные сельчане тянулись в правящую
партию, надеясь в будущем на раскулачивание зажиточного, ста¬
рательного соседа, чтобы поживиться за счет конфискации его
имущества, рассчитывая возвращения времен военного комму¬
низма. Характерно на этот счет заявление одного батрака Псковской
губернии в местную большевистскую организацию: “Я хочу войти
в партию, потому что живу плохо, а рядом со мной живет кулак
хорошо, надо его согнать с земли”51. С подобного рода радикаль¬
ными, экстремистскими, антикрестьянскими настроениями всту¬
пали в партию и другие маломощные сельчане52, что создавало в
будущем социальную базу для “чрезвычайщины” и “великого пе¬
релома в деревне”.
Конечно, в сельской местности встречались и честные, тру¬
долюбивые крестьяне, искренне верящие в политику советской
власти, доверяющие коммунистической партии, в том числе ее
“новому курсу”. Они с надеждой, искренне воспринимали и ло¬
зунг “лицом к деревне”, мечтали вступить в ряды ВКП(б) не ради
личных, эгоистических, карьеристских побуждений, а в целях
улучшения материального благополучия всех сельчан, их просве¬
щения, укрепления экономической мощи государства. Такие кре¬
стьяне, вливаясь в ряды ВКП(б) по убеждению, обычно говори¬
ли: “Партия обратила на крестьян внимание, я и хочу помочь
партии просветить крестьян и бороться вместе с партией”53. Одна¬
ко подобных сельчан, убежденных коммунистов, встречалось очень
мало в рядах РКП(б)—ВКП(б). К тому же старательных, честных,
нередко заблуждающихся крестьян зачастую как раз и не допус¬
кали в коммунистическую партию, их просто боялись, считали их
мелкими буржуями, перерожденцами.
Вот почему к концу нэпа, несмотря на некоторый рост дере¬
венских ячеек, они все же по-прежнему, как и в начале 20-х го¬
дов, оставались малочисленными и не могли охватить своим вли¬
янием большинства сельского населения, оставались своего рода
маленькими островками в океане беспартийного индивидуально¬
го крестьянства. При этом во многих волостях даже не имелось
коммунистических ячеек. Например, в Северо-Западной области
на март 1926 г. из 365 волостей волкомы ВКП(б) существовали в
178 (48,8 %), причем в Карельской области из 63 волостей они
были лишь в 4; в Ленинградской и Новгородской губерниях — в
половине волостей, в Череповецкой — в 1/3. В Старорусском уезде
Новгородской губернии в 1925 г. один коммунист приходился на
2500 жителей, в Белозерском уезде Череповецкой губернии — на
150054. Аналогичная ситуация, если не хуже, имела место и в других
135
районах РСФСР и СССР. Так, на Украине, в Екатеринославской
губернии одна из ячеек насчитывала 7 партийцев и приходилась
на 15 сельсоветов, в каждом из которых значилось 1500—2000 дво¬
ров55. В 1927 г. в СССР на 546 747 сельских населенных пунктов
действовало всего лишь 17 500 ячеек и 3378 кандидатских групп.
Они, как уже говорилось, объединяли 307 457 членов и кандида¬
тов ВКП(б). В организации в среднем состояло 10 человек и на
каждую из них приходилось 26 населенных пунктов. Если принять
во внимание, что одна коммунистическая организация охватыва¬
ла влиянием 5—6 деревень, да к тому же еще расположенных иног¬
да на расстоянии 10—15 км, то партийцы непосредственно могли
контролировать приблизительно жителей не более 126 000 селе¬
ний56. Тогда как около 3/4 населенных пунктов оставались вне их
непосредственного воздействия. Указанная статистика подтверж¬
дает оторванность сельских коммунистических организаций от
основной массы трудового крестьянства.
Эта тенденция прослеживается и при характеристике обще¬
образовательного, культурного и политического уровня комму¬
нистов, некоторые из них в этом плане на порядок уступали мно¬
гим сельчанам. О крайне низкой грамотности партийцев
свидетельствуют следующие данные: в начале нэпа в деревнях и
волостях “по пальцам можно было пересчитать грамотных комму¬
нистов”, способных быстро разбираться в вопросах внешней и
внутренней политики государства. Только 0,6 % крестьян, членов
РКП(б), имели среднее образование, подавляющее большинство из
них владели низшим образованием, были самоучками, а 11,3 % —
вообще являлись неграмотными. Радикально не улучшилась обра¬
зовательная подготовка членов ВКП(б) и к концу нэпа, хотя не¬
которые подвижки в лучшую сторону наметились. Так, в 1927 г.
количество совершенно неграмотных понизилось до 7 %, 28 % —
имели домашнее образование, т.е. могли читать, и у 61 % комму¬
нистов было низшее образование57. Конечно, высокий удельный
вес малограмотных партийцев в целом отражал низкий образова¬
тельный уровень вообще сельского населения, больше половины
которого, согласно переписи 1926 г., относилось к неграмотным.
Так, из 58 125,5 тыс. мужчин в возрасте от 10 лет и старше 62,4 %
являлись грамотными, а из 62 588 тыс. женщин — только 30 %.
Причем в ту эпоху элементарно грамотными считались те, кто
умел читать по складам и смог подписать свою фамилию58.
Если же учесть, что среди сельских партийцев насчитывалось
немало бедняков, в том числе и люмпенов, то они оставались
наиболее неграмотной, необразованной и темной частью в рядах
136
РКП(б)—ВКП(б), лишенной творческой, созидательной деятель¬
ности. Поскольку часть деревенских большевиков не умела ни чи¬
тать, ни писать, то, естественно, являлась и политически мало¬
грамотной. Она не знакомилась с уставом, программой партии, с
другими важнейшими документами, в которых определялась ее
внутренняя и внешняя политика.
Исторические факты говорят о вопиющей, чудовищной поли¬
тической неграмотности многих деревенских коммунистов в различ¬
ных районах РСФСР. Так, в июне 1925 г. в Демянском уезде Моло-
вотской организации Новгородской губернии из 37 партийцев
34 оказались “абсолютно незнакомы с зачатками элементарных
знаний”. В Маловишерском уезде той же губернии в мае 1925 г.
80—85 % сельских коммунистов относились к политически мало¬
грамотным. В середине 20-х годов Новгородский губком РКП(б)
неоднократно отмечал отсутствие политической грамотности у аб¬
солютного большинства членов партии в деревне59.
Обследование Болотовской волостной организации Холмс-
кого уезда Псковской губернии в июне 1925 г. показало сплош¬
ную необразованность местных партийцев, которые и не стре¬
мились получить знания даже за счет чтения газет, книг.
Всеобщую политическую неграмотность коммунистов-сельчан
признавало и Северо-Западное бюро ЦК РКП(б). Подводя ито¬
ги изучения 6 деревенских организаций Ленинградской, Псков¬
ской, Череповецкой, Новгородской губерний в 1925 г., оно
констатировало крайне низкий культурный и политический уро¬
вень партийцев, их “техническую неграмотность”. Спустя год, в
марте 1926 г., этот же орган вновь подтверждал главную болезнь
сельских коммунистов — их политическую неграмотность, слабое
усвоение ими решений XIV съезда ВКП(б), не разбирающихся в
вопросах о “кулаке” и середняке60.
О политической необразованности коммунистов Коми края,
в том числе и деревенских, речь шла и на V областной партийной
конференции, состоявшейся в марте 1924 г., где до 80 % партий¬
цев считались политически неграмотными. В январе 1926 г. на VII
областной конференции назывались такие данные: политически
грамотных насчитывалось только 14,2 % партийцев, малограмот¬
ных — 33,1 %, а кое-как разбирающихся в политике — 19,1 %61.
Примерно так же обстояло дело с политическим уровнем зна¬
ний деревенских большевиков и в других районах РСФСР, да и СССР.
Так, в Щучьевской волости Акмолинской губернии из 91 партийца
лишь 15 % более или менее могли читать литературу62. В Марлинской
деревенской ячейке Мокшанского уезда Пензенской губернии в
137
1925 г. никто не читал газеты, не знакомился с материалами XIII
съезда РКП(б) и даже с документами губернской партийной кон¬
ференции63. В 1924 г. в Никольской волости Курской губернии из
11 членов РКП(б) только 4 регулярно читали газеты, т.е. один-два
раза в течение двух недель. При этом никто из коммунистов не
изучал работы В. И. Ленина. Не отличались высокой грамотнос¬
тью и украинские большевики.
В ходе обследования сельских ячеек Полтавской губернии в
первой половине 20-х годов выявились следующие наиболее ха¬
рактерные недостатки в политическом образовании украинских
коммунистов. Так, на вопрос анкеты: “Занимается ли ячейка воп¬
росами просвещения своих членов и было ли постановление о
подписке на газеты или книги?” в большинстве случаев ответы
оказались отрицательными. Например, в Зеньковском уезде из 5 ячеек
все ответили негативно, в Коблянском из 2—2; в Красногрудском
из 10—5. В остальных же уездах коммунисты говорили следующее:
“Стремимся повышать знания, но газеты не выписываем; обсуж¬
даем, но в жизнь не проводим”64.
О вопиющей политической невежественности деревенских
большевиков, их малограмотности говорят и другие примеры. Так,
в апреле 1926 г. бюро Порховского укома ВКП(б) отмечало: мно¬
гие члены и кандидаты партии “совершенно не читают и не вы¬
писывают газет65. В марте 1926 г. члены контрольной комиссии
Тверского губкома ВКП(б) спросили секретаря Горицкой волос¬
тной организации С. О. Васильева: “Какие вопросы стояли на XIV
партсъезде?” Последовал ответ: “Газет не читал, не помню”66.
Коммунисты с. Казанцево Новониколаевской губернии к началу
1925 г. все оказались малограмотными, газет не читали, не знали,
когда состоялся XIII съезд и кто такой Л.Д. Троцкий67.
В мае 1926 г. инструктор Псковского губкома ВКП(б) А.Я. Ви-
толь в ходе обследования Кудеверской сельской ячейки задал на¬
чальнику волостной милиции вопрос о М.И. Калинине, после¬
дний ответил, что он занимает, кажется, должность председателя
Коминтерна, а кто председатель ЦИКа, “ему не помнится”. В мае
1926 г. в Тихвинском уезде Череповецкой губернии проверочная
комиссия спрашивала у партийцев: “Кто такой Калинин? — ответ
был таким: “Работает где-то в кооперации”68.
Думается, совсем неслучайно, что многие деревенские ком¬
мунисты по своему образовательному уровню, политическому
развитию значительно уступали беспартийным крестьянам, с ко¬
торыми нередко они боялись вступать в дискуссии. Так, по дан¬
ным секретаря Новгородского губкома РКП(б), “на январь 1925 г.
138
некоторые члены партии по своей “индивидуальной подготовке
на 5 голов ниже среднеразвитого крестьянина”. В губернии на сель¬
ских собраниях, когда население “крыло политику партии и вла¬
сти”, не умели, да и не могли защитить советскую власть69.
Материалы обследования пензенской деревни 1924—1925 гг.
показали, что беспартийное сельское население лучше разбирается
в основных вопросах международной и внутренней жизни70. Оце¬
нивая знания сельских коммунистов, один из уральских крестьян
подметил, “что с них возьмешь — они народ темный”. В одном из
сел Саратовской губернии был задан на лекции вопрос докладчи¬
ку, члену РКП(б): “Почему план Дауэса является кабальным для
германских рабочих?”. Не желая показывать свое незнание, тем¬
ноту, докладчик грубо, в оскорбительной форме отреагировал:
“На контрреволюционный вопрос и контрреволюционера я отве¬
чать не буду”71.
Как видно, некоторые деревенские партийцы старались скрыть
свою политическую невежественность и с помощью психологи¬
ческого террора по отношению к тем, кто задавал им каверзные
вопросы, кто оказывался выше их по образованию, культуре, на¬
зывали их провокаторами и контрреволюционерами72. При этом
ответственные работники правящей партии признавали крайне
низкий уровень образования у деревенских коммунистов, 70—80 %
которых, по данным М. Хатаевича, в 1925 г. были политически
неграмотными или в лучшем случае малограмотными73.
В этой области ситуация существенно не улучшилась и за два
года существования “нового курса”. Это подтвердило обследова¬
ние Центральной контрольной комиссией в конце 1926 г. несколь¬
ких сотен сельских организаций. Контрольная комиссия пришла к
неутешительному выводу: никакого улучшения в политическом
образовании коммунистов не произошло по сравнению с первы¬
ми годами нэпа, а около 30 % членов ВКП(б) оказались абсолют¬
но политически неграмотными. Так, в Ульяновской губернии 23,7 %
сельских коммунистов вообще не имели никакого представления
о самой партии, а 27,4 % — весьма смутно разбирались в полити¬
ческих вопросах, лишь 27,8 % понимали организационное пост¬
роение ВКП(б), 11,7 % никогда не читали устав и ничего не зна¬
ли о партии, и лишь 3,7 % деревенских партийцев усвоили
политические вопросы. Примерно на таком же низком, плачев¬
ном уровне находилась политическая подготовка сельских комму¬
нистов и в других районах РСФСР и СССР74.
Вышеприведенные факты воочию свидетельствуют о политичес¬
ком невежестве большинства сельских коммунистов, “руководящей
139
и направляющей силе в деревне”, не разбирающихся в элементар¬
ных вопросах программы и устава ВКП(б), внутренней и внешней
политике государства, служивших винтиком в маховике быстро
набирающей темп формирующейся командно-административной
системе. Эта малообразованная, малокультурная темная партийная
“элита” и проводила “новый курс в деревне”, по сути дела мало
что меняя по линии либерализации и демократизации, продолжа¬
ла командовать крестьянством больше в духе времен военного ком¬
мунизма.
Конечно, центральные органы коммунистической партии и
ее местные комитеты констатировали время от времени неудов¬
летворительное положение с политико-воспитательной работой в
деревне вообще и среди коммунистов в частности75.
По линии ЦК партии, губкомов и укомов предпринимались
некоторые попытки по повышению образовательного уровня де¬
ревенских коммунистов, по вытаскиванию их из политической
трясины. В этих целях в селах организовывались разного рода круж¬
ки, школы-передвижки. Однако отсутствие материальной базы,
необходимой литературы и квалифицированных кадров, увлечен¬
ность политической борьбой за власть сводили на нет по существу
все намерения по оживлению партийной политической учебы
деревенских коммунистов. Многие из них по-прежнему к концу
нэпа так и остались в большинстве своем неграмотными и темны¬
ми, далекими от подлинных нужд трудового крестьянства.
Теоретическую и политическую подготовку деревенские ком¬
мунисты могли бы повысить и путем самостоятельного изучения
трудов К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, партийных доку¬
ментов и социально-экономической литературы: газет, журналов.
Однако из-за сплошной неграмотности, отсутствия времени и
желания они, таким образом, не могли поднять свои политичес¬
кие познания. Обследование сельских партийных организаций Том¬
ской губернии в 1925 г. выявило, что коммунисты, даже, получая
газеты, их не читали, а “питаются” исключительно циркулярами,
приказами и другими казенными директивами”76. Подобные явле¬
ния наблюдались и в других районах.
Низкий культурно-образовательный уровень, политическая
дремучесть многих коммунистов на селе, незнание элементарных
основ Устава и программы РКП(б)—ВКП(б) объясняли и весьма
слабую организационную и внутрипартийную работу ячеек. В их
деятельности отсутствовала плановость, не было предваритель¬
ной подготовки вопросов, выносимых на собрания, их заинтересо¬
ванного обсуждения, они зачастую проводились нерегулярно, а взно¬
сы некоторые партийцы не уплачивали годами77.
140
При этом в деревенских организациях был весьма высокий
процент кандидатов на протяжении всех лет нэпа. Например, к
сентябрю 1924 г. в стране на селе насчитывалось 53,5 тыс. кандида¬
тов в члены РКП(б), причем во многих ячейках их число превы¬
шало даже количество членов партии. Значительная часть канди¬
датов имела стаж 3—4 года и даже больше78. Такая ситуация
объяснялась, во-первых, тяжелейшими условиями приема крес¬
тьян в члены коммунистической партии по сравнению с рабочи¬
ми, когда нужно было представить три рекомендации от комму¬
нистов с трехгодичным стажем, которых найти практически было
невозможно; во-вторых, на местах некоторые губернские и уезд¬
ные коммунисты сознательно затягивали с утверждением уже при¬
нятых кандидатов в члены РКП (б), а подчас допускали и бюрок¬
ратическую волокиту в течение года и более. Например, к апрелю
1925 г. почти половина кандидатов в члены партии крестьян в ряде
сельских организаций Северо-Западной области принятых еще в
1918—1921 гг. оставалась не переведенной в члены79.
Во многих сельских ячейках царила нездоровая морально-пси¬
хологическая обстановка, наблюдались конфликты, склоки, до¬
носы одних коммунистов на других80.
Так, в материалах Северо-Западного бюро ЦК РКП(б) за сен¬
тябрь 1925 — март 1926 г. констатировалось разложение значитель¬
ной части деревенских организаций, их бездеятельность, пассив¬
ность в работе, склоки, в том числе в Залуцкой, Порховской
ячейках, Псковской губернии. В Островской ячейке Старорусского
уезда Новгородской губернии общие собрания не проводились,
членскиё взносы не уплачивались, партийцы во главе с секретарем
проявляли недисциплинированность, даже сорвали отчетно-пере¬
выборное собрание, назначенное на 14 февраля 1926 г., не явив¬
шись на него. В Череповецкой губернии в период избирательной
кампании в советы в 1925/26 г. в ряде мест между коммунистами
шла борьба за власть, “за портфели, за председательский стул”81.
Негативно на организационной деятельности сельских орга¬
низаций сказывался слабый состав ее руководителей, в большин¬
стве своем они были не готовы к выполнению своих функций.
Многие из секретарей ячеек отличались образовательной и поли¬
тической неграмотностью, грубостью, командным стилем работы
как по отношению к рядовым членам, так и к населению. При
этом большинство из них не имели опыта работы с людьми, орга¬
низационных навыков. Например, в мае 1926 г. Волховский уком
ВКП(б) признавал: из 7 волостных организаторов 4 не соответ¬
ствуют своему назначению, а 3 — “справляются относительно с
141
работой”. В январе 1925 г. инструктор Новгородского губкома
РКП(б) В.К. Альф после обследования Рядокской волостной орга¬
низации Боровичского уезда установил, что ее секретарь Быст¬
ров, член РКП (б) с 1920 г., не выдержан и проявляет “уклон в
сторону военного коммунизма”, поддается склоке, не пользуется
авторитетом ни у советских работников, ни у крестьян82. Новго¬
родский губком РКП(б) в 1925 г. неоднократно указывал на сла¬
бую работу секретарей деревенских ячеек. Он считал большинство
из них непригодными для выполнения своих обязанностей, 30 из
которых следовало бы заменить, но из-за отсутствия лучших при¬
ходилось их оставлять, хотя руководители и не пользовались авто¬
ритетом. Правда, секретарь губкома К. Соме в январе 1925 г. пред¬
лагал как одну из мер по излечению этой болезни переводить на
работу в другие волости, в том числе секретаря Придворской ячей¬
ки Маловишерского уезда.
Однако подобная “переброска плохих сельских руководите-
лей-партийцев” из одного места в другое, не приносила желае¬
мых результатов, ибо замена одного нерадивого секретаря часто
сопровождалась еще более худшим, с точки зрения деловых, мо¬
ральных качеств и политической подготовки. Так, в Молвотской
ячейке Маловишерскогоу уезда только за 6 месяцев 1925 г. смени¬
лось 4 секретаря83, но результаты ее работы не стали лучше, а
скорее, наоборот, дела ухудшились. К тому же многие секретари
сельских организаций старались не допустить признаков внутри¬
партийной демократии. Они подавляли инициативу, самостоятель¬
ность рядовых членов, их критиковали, устанавливали по сути
дела свою диктатуру, подменяя ячейку как коллективную органи¬
зацию.
Вот к какому выводу пришли обследователи Пензенской гу¬
бернии в середине 20-х годов: в Свищевской волости “секретарь
мало с кем считается”, а Майзанской ячейки вообще не суще¬
ствовало, ее заменял секретарь84.
В деревенских организациях при проведении собраний неред¬
ко принимались невыполнимые резолюции, допускались серьез¬
ные организационные просчеты. Одни ячейки ориентировались
на закрытые партийные собрания и, таким образом, полностью
отчуждались от беспартийных крестьян. Например, Россошанская
организация Орловской губернии из 19 собраний открытых про¬
вела лишь 285. А в ряде ячеек проводились открытые собрания,
подчас напоминавшие скорее митинги. Встречались и такие фак¬
ты, когда первая часть собрания была открытой с приглашением
беспартийных, которые после заданных вопросов докладчику и
142
выступлений с собрания удалялись, в ответ на что сельчане спра¬
ведливо сетовали, что коммунисты боятся критики86.
Существенным недостатком внутрипартийной работы дере¬
венских организаций являлось и то, что как на открытых, так и
на закрытых собраниях обсуждались преимущественно общеполи¬
тические вопросы, предлагаемые сверху, тогда как вопросы мес¬
тного значения, непосредственно затрагивающие интересы сель¬
ских жителей, рассматривались весьма редко, что усиливало
отчужденность коммунистов от крестьян.
Например, в Пермском округе в середине 20-х годов вопросы,
связанные с развитием сельского хозяйства, кооперативного стро¬
ительства, быта сельчан, оставались вне поля зрения деревенских
коммунистов, не интересовались этими проблемами и партийцы
Ишимского района Томской губернии87. Итоги изучения сельских
организаций Пензенской губернии в 1924—1925 годах показали: из
47 проверенных ячеек только 23 работали более или менее удовлет¬
ворительно. Так, Леткинская — “над улучшением быта крестьян,
введением культурного способа обработки земли или организации
с-х товарищества не задумывалась”, а ее члены “соберутся, пого¬
ворят и расходятся”. По мнению обследователей, Б-Азесская ячей¬
ка являлась “мертворожденной”, работу вела формально88.
Не лучше трудились и деревенские большевистские организа¬
ции в Новгородской губернии, где на 1 января 1925 г. 90 % из них
действовали “вхолостую”, а из 90 ячеек лишь 15 % можно было
считать “более или менее сильными”89. В 1925 г. руководящий со¬
трудник ЦК РКП(б) М. Хатаевич на основе анализа деятельности
многих сельских ячеек различных районов РСФСР и СССР при¬
шел к печальному выводу: работающих организаций, пользую¬
щихся авторитетом у бедняков и середняков, выступающих руко¬
водителями деревенской жизни, насчитывалось меньшинство90.
Но в этом была огромная вина и вышестоящих партийных
органов. Последние вместо реальной конкретной помощи руково¬
дителям, формально, по-бюрократически, как из рога изобилия
сыпали на сельские ячейки от 15 до 60 различных циркуляров в
месяц, требовали от них постоянно всевозможных отчетов, про¬
ведения кампаний91.
Учитывая малограмотность, молодость, неопытность своих
членов, многие деревенские организации не прорабатывали до¬
кументы, идущие к ним сверху, не говоря об их реализации, а
просто подшивали их в дело. Например, Опеченская волостная
ячейка Боровичского уезда Новгородской губернии за 7 месяцев
1925 г. от укома РКП(б) получила 200 инструкций, циркуляров,
143
которые не выполнялись, а лишь аккуратно складывались в папку.
За этот период времени она рассмотрела 35 вопросов, из них 85 %
посвящались общественно-политической жизни страны и только
15% — касались деревенского быта92. Кутунская организация
Чистопольского уезда Татарской республики только за 3 месяца
1924 г. обсудила 119 вопросов, из них 58 — по указанию вышестоя¬
щих органов, причем 47 — касались внутрипартийной жизни, 26 —
о советах, 7 — о политическом просвещении, 11 — о коопера¬
ции93. В данном случае мы имеем редкий пример, когда за корот¬
кий срок ради “галочки” формально рассматривалось ячейкой
большое количество вопросов, результат которых, по-видимому,
был нулевой. К тому же здесь, на заседаниях, почти не поднима¬
лись проблемы, непосредственно затрагивающие нужды сельских
тружеников.
Проверка 30 деревенских организаций в разных районах в 1925 г.
показала: в их деятельности 84,2 % занимают вопросы общеполи¬
тического значения и местного партийного строительства, тогда
как на вопросы крестьянской жизни отводилось 15,8 % всего вре¬
мени94. Эта негативная тенденция подтверждается и другими дан¬
ными, когда 3/4 времени в работе ячеек уходило на организацию
мероприятий, проведение различного рода собраний, заседаний
и т.д., а на вопросы местного значения — только 2595.
Из сказанного следует, что сельские большевики мало инте¬
ресовались хозяйственной и социально-культурной жизнью села,
оказались далекими от запросов их жителей. И одна из причин
тому заключалась в том, что многие из партийцев, представлен¬
ные рабочими, служащими, люмпенизированными элементами,
не знали по-настоящему деревенской жизни, были некомпетент¬
ными руководителями, поэтому часто и боялись идти на сближе¬
ние с сельскими тружениками. В этом плане характерно самоприз-
нание одного из секретарей волостной ячейки Самарской губернии
о том, что он боится подойти к крестьянам, так как они лучше
знают деревенскую жизнь96. Подобного взгляда придерживалась и
часть коммунистов и в других районах, считавших, что они отста¬
ют от требований жизни и не в состоянии удовлетворить запросы
крестьян97.
О том, что многие деревенские большевистские организации к
концу нэпа находились в изоляции от основной массы сельчан, не
обсуждали и не решали вопросы, непосредственно связанные с их
повседневной жизнью, признавали и некоторые ответственные
работники ЦК ВКП(б) в своих выступлениях на XV съезде, в том
числе и упоминавшийся нами М. Хатаевич98. Правда, партийные
144
функционеры, констатируя очевидные и неоспоримые реалии,
умалчивали о главных причинах, породивших столь нерадужную
обстановку в низовых организациях села, вина за которую, в пер¬
вую очередь, ложилась на руководство коммунистической партии
во главе с И.В. Сталиным, превративших их по существу в прида¬
ток административных органов, послушно выполняющих дирек¬
тивы, исходящие сверху.
Методы управления крестьянами деревенскими коммунистами и
их моральное разложение
Социальный состав сельских партийцев, их низкий образова¬
тельно-политический, культурный уровень, во многом опреде¬
лял и объяснял их основной метод работы с крестьянами — ко¬
мандно-административный, действовавших зачастую в духе
военного коммунизма, в том числе и в реализации “нового кур¬
са”, лозунга “лицом к деревне”. Партийные организации явля¬
лись по существу частью государственных структур, значительная
часть из них курс XIII съезда РКП(б) на оживление советов, де¬
мократизацию общественной жизни деревни восприняли негатив¬
но, о чем выше уже частично упоминалось. Большинство ячеек
оказались организационно и идеологически неподготовленными
к такому, хотя бы внешне более мягкому либеральному повороту
в своей практической деятельности. Среди деревенских коммуни¬
стов наблюдались растерянность, замешательство, колебания по
поводу оживления советов, снятия некоторых ограничений в при¬
еме в ряды РКП(б) сельчан, расширения аренды земли, найма
рабочей силы в крестьянских хозяйствах. Часть сельских больше¬
виков и некоторых вышестоящих партийных органов, укомов,
губкомов полагала, что ЦК РКП(б), провозглашая “новый курс”,
отказался от классово-пролетарской политики в деревне, преда¬
вал интересы бедноты и встал на путь защиты середняков и “ку¬
лаков”.
Так, в ноябре-декабре 1924 г. ряд губкомов РКП(б) в своих
документах с озабоченностью и растерянностью констатировали:
“Как бы наша партия не окрестьянилась”, ЦК “перегибает палку
по отношению к крестьянству”.
Наблюдались среди ряда большевиков пораженческие и упад¬
нические настроения. Например, один из инструкторов Острогожс¬
кого укома РКП(б) Воронежской губернии заявил в связи с про¬
возглашенным лозунгом “лицом к деревне”: “наша песенка спета”.
В таком же пессимистическом духе высказывался и работник одного
145
из укомов РКП(б) в Енисейской губернии. Он считал: “Почему
сдавать позиции. Это не большевистский подход к работе, не для
того мы все завоевывали, чтобы сдавать беспартийным”99.
Вот почему некоторые местные организации по сути саботи¬
ровали, не выполняли указания ЦК РКП(б) по оживлению сове¬
тов и не спешили давать рекомендации деревенским коммунис¬
там по поводу реализации “нового курса”, не проводилось с ними
никакой организационной, агитационно-пропагандистской,
разъяснительной работы.
Многие из сельских большевиков даже не были знакомы в
течение нескольких месяцев с материалами вышестоящих орга¬
нов. Так, до мая 1925 г. в Ельнинском уезде Смоленской губернии
в двух волостях не обсуждали партийцы решения XIII съезда
РКП(б), принятые годом раньше. В Судьгодском уезде Владимир¬
ской губернии до середины 1925 г. сельские ячейки не имели до¬
кументов октябрьского (1924 г.) пленума ЦК РКП(б) и никто из
работников укома партии не встречался с деревенскими комму¬
нистами и не беседовал по этому вопросу.
Подобная картина наблюдалась и в ряде других мест. Обследо¬
вание 57 сельских организаций различных районов в 1925 г. пока¬
зало, что 75—80 % из них плохо уяснили сущность “нового курса”
партии в деревне, направленного на ликвидацию пережитков во¬
енного коммунизма100.
Так, в Воронежской губернии выступавшие делегаты на од¬
ной из уездных конференций летом 1925 г. сравнивали “поворот в
политике партии с неожиданным, внезапным “нанесенным уда¬
ром по голове сельским коммунистам”, часть из которых растеря¬
лась, была в замешательстве. Полагая, что отныне органы РКП(б)
отказываются от руководящей роли в деревне, в том числе и сове¬
тами, ряд коммунистов Щадринского уезда Уральской области
восприняли лозунг “лицом к деревне” как поворот партии “ли¬
цом к кулаку”101.
Особенно возмущались “новым” курсом те партийцы, кото¬
рые в ходе перевыборных кампаний середины 20-х годов оказа¬
лись неизбранными в деревенские советы, кооперативные, проф¬
союзные органы. Для таких незадачливых коммунистов были
характерны упаднические настроения. Они говорили, что “новый
курс проводится рановато”, “Нужно было бы подождать года два
для того, чтобы просветить массы”, “Сейчас бедноту в сторону —
сейчас середняк в ходу”, “Теперь один середняк для партии доро¬
же, чем 10 бедняков”102. А секретарь Шевской волостной больше¬
вистской организации Новоржевского уезда Псковской губернии в
146
этой связи обреченно заявил: “Мы, защитники бедноты, должны
уйти в подполье”103.
Руководитель коммунистической ячейки села Андреевки За¬
порожского округа, сожалея о эпохе военного коммунизма, него¬
довал в связи с выдвинутым ЦК партии лозунгом “лицом к де¬
ревне”: “Меня переворачивало, когда я читал речь Бухарина о
том, что партии сейчас не интересно разжигать классовую борьбу
в деревне”104. Ставил под сомнение “новый курс”, провозглашен¬
ный XIII съездом РКП(б) и секретарь Качковской коммунисти¬
ческой организации, занявший выжидательную позицию: “Так
быстро поворачиваться лицом к деревне, как диктуют сверху,
нельзя, — рассуждал он. — Надо еще присмотреться к окружаю¬
щей обстановке, а потом уже и решать, следует ли еще поворачи¬
ваться вообще”.
При этом часть партийцев в сельской местности не верила в
жизнеспособность нового курса, направленного на оживление
советов, считала его вообще нереализуемым105. Тем более многие
из коммунистов, спустя год после его провозглашения верховной
партийной властью, не могли уяснить толком его задачи, содер¬
жание. Например, весной 1925 г. один из секретарей сельской боль¬
шевистской организации Кубанского округа, страдающий к тому
же и болезнью “вождизма”, на вопрос представителя окружного
комитета РКП(б): “Как проводится работа по уяснению нового
курса партии в деревне и резолюции Кубанского окружкома
РКП(б)?” — ответил: “Я получил этот новый курс (так называет
книжку резолюций пленума окружного комитета), но я не дове¬
ряю его проведения всей ячейке, а секретно соберу двух-трех че¬
ловек из актива и вместе с ними эту книжку прочитаем. Всем у
нас нельзя доверять проведение такого важного дела”106.
Неоднозначная, противоречивая оценка сути “нового курса”
в деревне, провозглашенного в середине 20-х годов партийным
руководством страны, многими коммунистами в сельской мест¬
ности свидетельствовала о том, что они не желали отказываться
от административно-нажимных методов руководства крестьян¬
ством, предпочитали работать в духе военного коммунизма. Это
еще означало и проявление среди них болезненных, кризисных
явлений, с одной стороны, а с другой, — не только непонимание,
но и нежелание выполнять ими поставленных в связи с этим кур¬
сом новых задач. Вот почему, думается, можно согласиться с оцен¬
кой Н.И. Бухарина, высказанной в апреле 1925 г. на XIV конферен¬
ции РКП(б), согласно которой в деревне мы переживаем
“партийный кризис” и ячейки там оказались дезорганизованными.
147
Подобный взгляд разделяли и другие делегаты данной конферен¬
ции107.
Находясь в кризисном состоянии, часть коммунистических
ячеек оказалась неспособными осуществлять лозунг “лицом к де¬
ревне” и не отказалась от методов администрирования и коман¬
дования крестьянами. Спустя полтора года после провозглашения
политическим руководством страны данного лозунга в мае 1924 г.
практически мало что было сделано на местах по претворению
его в жизнь. В большинстве районов он остался на бумаге, декла¬
ративным, ибо сельские ячейки, как правило, не перестроили
свою работу в духе “нового” курса в деревне. Это неоднократно
признавали и руководители страны, ответственные советские ра¬
ботники.
Так, в сентябре 1925 г. В. Милютин констатировал, что огром¬
ная часть решений XIV партийной конференции “совершенно не
проводится еще в жизнь на местах”108. Еще более категоричное
высказывание сделал на этот счет А.И. Рыков в октябре 1925 г.:
“Существует недоверие к последним решениям партии (или про¬
сто непонимание их) со стороны как отдельных работников, так
и целых низовых организаций в деревне. Сумятица в головах неко¬
торых низовых работников, их политическая дезориентирован¬
ность, неумение приспособиться к новой обстановке. Ликвида¬
торские настроения, отказ от всякого руководства растущей
крестьянской активностью и т.п.— все это вместе взятое являет¬
ся, конечно, тормозом к осуществлению директив партии о рабо¬
те среди широких крестьянских масс”109.
Однако спустя год после высказанной оценки Рыковым ситу¬
ация в деревне мало чем изменилась к лучшему. Проведенное осе¬
нью 1926 г. обследование сельских ячеек вновь выявило: многие
коммунисты по-прежнему на селе “выбиты как бы из колеи”, не
усвоили как следует новый курс, не избавились от методов воен¬
ного коммунизма110.
И вина в этом, конечно, прежде всего ложилась на руковод¬
ство коммунистической партии во главе со Сталиным. Провозгла¬
сив тактический курс “лицом к деревне” под давлением массово¬
го недовольства крестьян политикой советской власти, верховные
правители на самом деле, как показывает вышеизложенный ма¬
териал, и не надеялись его в полном объеме реализовать, ибо они
не отказались от стратегической цели контроля над деревней и
использования ее как главного источника для финансирования
ускоренной индустриализации, курс на которую был провозгла¬
шен ХГУ съездом ВКП(б) в декабре 1925 г. И в этой связи часть
148
сельских коммунистов заблуждались и ошибались, когда заявля¬
ли, что ЦК партии отрекся от классовой, марксистской полити¬
ки в деревне в пользу “кулака-середняка”, забывая о бедняке.
Конечно, на состояние сельских большевистских организа¬
ций сказывалась сложная социально-экономическая обстановка в
деревне, ожесточенная борьба за власть в правящей верхушке,
между различными группировками в ЦК РКП(б)—ВКП(б). Тем не
менее преобладающим в работе коммунистов по руководству сель¬
чанами, как и в годы военного коммунизма, все же оставались
административно-нажимные методы, когда ячейки превратились
во многих местах в придаток государственных органов, подменя¬
ющих их функции. Об этом говорят многие факты. Приведем не¬
которые из них. Так, в апреле 1926 г. кандидатская группа партий¬
цев Первомайской волости Порховского уезда Псковской губернии
на свое собрание “вызвала” 20 членов сельского совета для об¬
суждения вопроса об оказании медицинской помощи населению.
Заслушав отчет о деятельности врача, большевики обязали его
“немедленно составить план работы и не позднее 1 мая дать его на
утверждение кандидатской группы”.
Обследование Рядокской волостной коммунистической орга¬
низации Новгородской губернии инструктором Северо-Западно¬
го бюро ЦК РКП(б) в январе 1925 г. показало: ее основная работа
сводилась к сбору налога с крестьян111. Аналогичную деятельность
зафиксировал партийный обследователь А. Мусатов и у коммуни¬
стов деревни Старорусского уезда той же губернии. По его наблю¬
дениям, большевики в 1925 г. на местах “перегибали палку” в сто¬
рону замены волостного исполкома. В июне 1925 г., подводя итоги
изучения ряда волостей Ленинградской, Череповецкой, Новго¬
родской и Псковской губернии, Северо-Западное бюро ЦК
РКП(б) констатировало: коммунистические ячейки повсеместно
подменяют работу виков или сельсоветов112.
Взяли на себя обязанности административных органов и боль¬
шевистские организации Пензенской губернии в середине 20-х
годов. Так, уполномоченные коммунисты от ячеек Свищевской и
Н. Шкафинской волостям в волисполкомах проверяли книги фи¬
нансовых расходов и обязательно ставили свои подписи под про¬
токолами заседаний. При этом секретарь партийной организации
Черкасской волости Керенского уезда отличался особой грубос¬
тью. Возомнив себя главным начальником, он на справедливые
замечания секретаря волисполкома обругал последнего в присут¬
ствии крестьян и заявил: “кто тут старший, предвик или я”. Этот
же хам — руководитель сельской коммунистической организации —
149
установил диктатуру и над местным кооперативом, требовал от
его председателя беспрекословного подчинения на каждый соб¬
ственный запрос. Перепуганный кооператор отвечал по-военно¬
му: “На предписание ваше от такого-то числа, за номером таким-
то и т.д.”113.
А вот у деревенских коммунистов Кутушанской организации
в 1925 г. сформировалось твердое убеждение, что беспартийным
крестьянам нельзя доверять никакой работы в советах и в обще¬
ственных организациях, посты в них должны занимать только чле¬
ны РКП(б)114.
О том, что сельские большевистские ячейки превратились
зачастую в придаток административных органов и прежде всего в
сборщиков налога с крестьянского населения, можно судить по
анализу анкет, заполненных партийными организациями Полтав¬
ской губернии в 1923 г. В анкете был сформулирован такой вопрос:
“Имеет ли каждый член ячейки какие-либо обязанности, кото¬
рые ему поручает общее собрание ячейки или бюро, или секре¬
тарь? Перечислите, какие обязанности, в какой срок их надлежа¬
ло или надлежит выполнить?”. Абсолютное большинство членов
партии назвали такие задания, как сбор налога с населения и
административно-командные поручения. Вот наиболее характер¬
ные ответы на поставленные вопросы: Кумышевская ячейка —
“Сбор налогов. Срок не установлен”, Кузьминская — “Дают зада¬
ния отдельным членам партии по ударным кампаниям, как-то:
продналог, денежный налог и пр.” Ответ Лекшанской ячейки гла¬
сил: “Продработа, сбор общегражданского налога, проведение в
жизнь приказов исполкома по земотделу”. Перевозванская орга¬
низация отвечала: “Члены ячейки до сих пор не имели никаких
обязанностей, кроме выкачки местных средств продналога и по-
мголода”.
Анализируя ответы коммунистов сельских ячеек, характер¬
ные для других регионов страны, в том числе и РСФСР, Я. Яков¬
лев справедливо писал в 1924 г.: организаций партийных как та¬
ковых в деревне нет, а есть подсобный советский аппарат, плохо
ли, хорошо ли работающий, выполняющий “приказы власти” и
продналоговых учреждений; на селе отсутствуют коммунистичес¬
кие ячейки, способные вести за собой крестьянство, которые за¬
нимались бы просвещением и организацией масс. В деревне суще¬
ствуют “советские учреждения, которые и представить не могут
иной партийной работы, кроме работы продналоговой или адми¬
нистративно-командного порядка”115. Данная оценка, за редким,
может быть, исключением, подходит к характеристике методов
150
работы большинства сельских большевистских организаций не
только первых лет нэпа, но и его конца во многих районах РСФСР.
Административный произвол, грубость являлись нормой жизни
для многих деревенских партийцев. Назовем лишь некоторые при¬
меры, подкрепляющие сказанное. Так, в начале 1926 г. коммуни¬
сты Фофановской волостной ячейки Московской губернии с пре¬
небрежением относились к сельчанам, особенно чл. ВКП(б)
директор местного совхоза Тарасов. Он “покрывал матерщиной”,
“угрожал револьвером крестьянам”. Последние жаловались на него
в большевистскую ячейку, но мер к распоясавшемуся хулигану
никаких не принимали. Летом 1925 г. на беспартийной крестьянской
конференции Андреевской волости Белозерского уезда Черепо¬
вецкой губернии один из выступающих коммунистов грубо обру¬
гал делегатов сельчан за высказанную критику в адрес властей,
назвал их меньшевиками, в результате чего прения на конферен¬
ции были сорваны116. В середине 20-х годов Новгородский губком
РКП(б)—ВКП(б) неоднократно констатировал “командный ок¬
рик” со стороны деревенских коммунистов. Они администрирова¬
ли, принимали “крутые меры” при сборе налога, к тому же еще
занимались вымогательством, взяточничеством. Такой же приказ¬
но-нажимной метод в деятельности сельских партийцев призна¬
вало и Северо-Западное бюро ЦК РКП(б) в 1925 г.117
И в других районах РСФСР преобладал подобный порочный
метод в деятельности деревенских большевиков управления ими
крестьянами. Так, в 1924 г. секретарь сельской партийной органи¬
зации Острогожского уезда Воронежской губернии одновременно
выполнял и обязанности своего рода судьи. Он предварительно
проверял написанные статьи в стенную газету, и если в них со¬
держалась критика местной власти, то их авторов приглашал в
свой кабинет и требовал, чтобы они выехали за пределы губер¬
нии118.
В ходе проверки низового партийно-советского аппарата в
пензенской деревне в середине 20-х годов выявилось разгильдяй¬
ство, самоуправство, произвол со стороны сельских большевиков.
Они “ругают и стреляют в селькоров”, “много есть таких комму¬
нистов, которые как работники ни к черту не годятся”. Часто
партийцы, занимая руководящие должности, растрачивали день¬
ги в кооперативах, а их переводили на работу снова в коопера¬
цию, чтобы они могли зарабатывать деньги и “покрыть растраты”.
Однако с такими руководителями “далеко не уедешь”, поскольку
они привыкли психологически к такой обстановке119, т.е. прово¬
ровавшиеся партийцы заранее знали, что им никакого наказания
151
не будет и их назначат на ответственный пост в государственные
или общественные организации в другой волости, селении.
Подобный стиль и метод деятельности коммунистов с часты¬
ми злоупотреблениями, разгулом, хамством, имели место и во
многих районах РСФСР. Анализируя работу коммунистов в сере¬
дине 20-х годов, ответственный работник ЦК РКП(б) А.Х. Мит¬
рофанов приходил к выводу: для деревенских партийцев харак¬
терны командование, грубость, “применение дубинки”, они
проявляли самоуправство, действовали как урядники. По его оцен¬
ке, эта давнишняя застарелая болезнь большевиков, характерная
для эпохи военного коммунизма, оказалась живучей, партийцы
по-прежнему безобразничают, занимая чиновничьи должности120.
Так, на хуторе Грицына Никитовской волости Валуйского
уезда Воронежской губернии секретарь партийной ячейки не
пользовался среди населения авторитетом. Он выполнял функции
администратора, с жителями обращался грубо, по-казенному121.
При этом распространялась широко такая практика в сельской
местности, когда руководитель большевистской организации, не
занимая административные должности, мог произвести обыск
любого учреждения, и не понравившегося ему крестьянина и даже
арестовать. Причем нередко сельский совет таким секретарем ячей¬
ки рассматривался как ее придаток122. Многие деревенские ком¬
мунисты и не представляли себе иного метода обращения с насе¬
лением кроме командно-нажимного, насильственного или, как
выразился один из секретарей ячейки, “без дубинки к беспартий¬
ному не подойдешь”. Характерно на этот счет мнение одного
председателя сельского совета Потемкинской волости Сталинг¬
радской губернии: “Без революционного нажима у нас здесь не
обойдешься ввиду несознательности населения. Когда население
не соглашается с тем или другим предложением, на него прихо¬
дится нажимать как следует”. Примерно в таком же воинственном
духе высказывался и председатель одного из районных советов
Северо-Кавказского края, по оценке которого необходимо ис¬
пользовать диктатуру пролетариата, как орудие грубого командо¬
вания по отношению к населению, так как оно состоит в районе
на 88 % из казаков123.
В этой связи приведем и противоречивую оценку председате¬
ля СНК СССР А. И. Рыкова о деятельности сельских партийных
и советских работников, сформулированную им в октябре 1925 г.
С одной стороны, он считал, что до апреля 1925 г. на селе творил¬
ся “административный произвол”, когда вместо проведения в
жизнь законов население несправедливо обкладывалось налогом
152
и оно не верило в возможность свободного товарооборота. Кроме
того, наблюдалось “отсутствие сельских и волостных советов, дей¬
ствительно выбранных крестьянами, массовое избиение селько¬
ров и т.д. Разговоры о крестьянском союзе были проявлением до¬
вольно острого недовольства крестьян”. Вот почему мы не хотели
рисковать большими осложнениями с крестьянами и приняли
меры, как выражался Рыков, по уничтожению “административ¬
ных безобразий” и укреплению законности в деревне, созданию
условий для участия населения в выборах в советы.
Однако председатель союзного правительства, приводя конк¬
ретные факты массовых злоупотреблений в деревне в ходе реали¬
зации новой тактики по отношению к крестьянам и реализации
лозунга “лицом к деревне”, тем самым противореча собственным
рассуждениям, когда вынужден был по существу признать провал
этой новой политики партии на селе. По его мнению, в некото¬
рых районах партийные работники “не хотят разговаривать с кре¬
стьянами, не хотят осуществлять революционную законность, не
пытаются организовать вокруг партии основную массу крестьян¬
ства”.
Конечно, Рыков лукавил, когда противопоставлял админис¬
трирование в деревне со стороны коммунистов до апреля 1925 г.,
имея в виду решения XIV конференции РКП(б), заявляя о де¬
мократизации в деревне со второй половины 1925 г. когда коман¬
дование, нажим на крестьян имел место лишь в отдельных райо¬
нах. На самом же деле, несмотря на некоторое оживление советов,
снятие отдельных ограничений в приеме в РКП(б)—ВКП(б) сель¬
чан, административный произвол в деревне со стороны комму¬
нистов носил повсеместный характер во многих районах РСФСР
и в 1926—1927 гг., о чем говорят и вышеизложенные факты. Про¬
верка сельских ячеек Центральной контрольной комиссией
ВКП(б) в конце 1926 г. показала, что многие коммунисты по-
прежнему терроризировали крестьян124.
В этой связи приведем мнение и еще одного компетентного
современника, члена коллегии Наркомзема РСФСР К. Д. Савчен¬
ко по этому вопросу. В мае 1927 г. в письме к И.В. Сталину он
констатировал, что в большинстве своем сельские коммунисты
смотрят на деревню “по-аракчеевски”, превратившись “в сухих
официальных чиновников”, они не интересуются разрешением
острых вопросов жизни крестьян, ростом их благосостояния, а
занимаются только поисками “кулака”. При этом к последнему
относят “всякого сытого крестьянина”, считают его жупелом ком¬
мунизма, отождествляя его с нищетой и невежеством деревни.
153
“Чиновник с партийным билетом дрожит за свое местечко (при¬
зрак безработного его пугает), и они наперебой один перед дру¬
гим стараются отыскать больше кулаков, ибо их работу часто рас¬
ценивают по количеству отысканных кулаков”125. А “отыскивать
кулака” в российской нэповской деревне можно было только при
помощи административных, репрессивных мер, чем зачастую и
занимались местные коммунисты, готовя почву для “чрезвычай¬
щины”, “великого перелома”, которые, как говорится, были уже
не за горами.
В рассуждениях Савченко, как и в других источниках, рас¬
крывается и еще одна сторона поведения большинства деревенс¬
ких партийцев: их карьеризм, преследование эгоистических, ко¬
рыстных целей, получение руководящей должности любой ценой,
чтобы удержаться у власти. Они мало беспокоились о нуждах, запро¬
сах крестьян, об их благополучии. С учетом имущественного поло¬
жения, низкого образовательного, культурного уровня, полити¬
ческой неграмотности многие деревенские коммунисты были не
способны на созидательную, просветительскую деятельность, да
и морально оказались к тому же разложившимися, о чем свиде¬
тельствует их повальное пьянство.
Тяга к спиртным напиткам партийцев, большинство которых
к тому же являлись и советскими работниками, “имела повсемест¬
ный характер”. Так, в официальных документах большевистских
органов Северо-Западной области середины 20-х годов неоднократ¬
но отмечался безнравственный, паразитический, пьяный образ
жизни части сельских коммунистов, обладающих монопольной
властью в деревне, нередко ей злоупотребляющих в своих личных
целях. Вот лишь некоторые факты, характеризующие поведение,
быт и жизнь большевиков в деревне Новгородской губернии. Член
РКП(б) Моисеевской волостной ячейки Демянского уезда, пред¬
седатель вика Алексеев, ежедневно пьянствовал, на работе частенько
не появлялся, устраивал скандалы с женой, угрожал ее убить. В то
же время ответственные работники укома РКП(б) и уисполкома,
приезжающие в волость, вместо того, чтобы наказать дебошира,
в кампании с ним напивались спиртным.
В Опеченской сельской организации Боровичского уезда пьян¬
ство среди ее членов являлось обычным делом. Один из коммуни¬
стов в пьяном состоянии направил телеграмму Ф.Э. Дзержинско¬
му, в которой говорилось, будто в волости появились бандиты.
Однако прибывший отряд милиции последних в волости не обнару¬
жил. В начале 1926 г. дело дошло до того, что деревенские большеви¬
ки Маловишерского уезда прибыли пьяными, с отмороженными
154
конечностями, в уком ВКП(б), где некоторые из них даже выдви¬
нули лозунг: “Долой советскую власть”. Кроме того, пьяные
партийцы дрались, иногда наносили друг другу ножевые ране¬
ния126. Этими “играми” увлекались и большевики Старорусского
уезда. Они любили “выпить и подраться”. В 1925 г. секретарь Новго¬
родского губкома РКП(б) К. Соме в письме в Северо-Западное
бюро ЦК партии отмечал, что коммунисты на селе, занимая от¬
ветственные должности, “ведут себя невыдержанно, пьянствуют”
и на этой почве возникают преступления127.
Не уступали по части спиртного новгородским партийцам и
сельские большевики Псковской губернии. В июле 1925 г. инструк¬
тор губкома РКП(б) Я.А. Витоль, после обследования работы
Холмского укома партии, пришел к выводу, что пьянством и ра¬
стратами “сильно заражены члены волостных организаций”, а в
феврале они избили крестьян, расследованием чего занималась
специальная комиссия губкома РКП(б). Этот же инструктор обна¬
ружил “пьянки и ссоры” и среди членов Кудеверской деревенс¬
кой ячейки. В 1926 г. в Сабежском уезде сельские коммунисты так¬
же увлекались выпивкой, большинство из них в алкогольном
состоянии “ходили по деревенским гулянкам” и устраивали дра¬
ки. В октябре 1926 г. Псковская губернская контрольная комиссия
признала: среди “болезней” у коммунистов на первом месте стоит
пьянство и дебоширство128.
Пьянство процветало и в деревенских коммунистических орга¬
низациях Череповецкой губернии. Это констатировал губком РКП(б)
в закрытом письме, направленном местным органам 22 августа
1925 г. В нем, в частности, отмечалось: самым распространенным
болезненным явлением среди коммунистов является “пьянство”,
от этого происходили и другие “некоммунистические поступки,
бюрократизм, нетактичность”. Так, члены Залесской волостной
ячейки Устюжинского уезда своим “пьянством и бюрократизмом”
оттолкнули от себя местное население129.
Не с лучшей стороны проявляли себя и коммунисты Ленин¬
градской губернии и Карелии. Например, в последней к январю
1926 г. члены ВКП(б) Светколовской волостной организации Пет¬
розаводского уезда “полностью разложились”: постоянно упот¬
ребляли спиртные напитки, не платили взносы, в итоге “весь со¬
став подлежал исключению” из рядов партии. В феврале 1926 г.
изучение Керетской волостной ячейки Кемского уезда показало:
“пьянствуют как члены, так и кандидаты партии”. В мае 1926 г.
Волховский уком ВКП(б) Ленинградской губернии обнаружил
“коллективное пьянство всех членов Шульского волкома во главе
155
с организатором”, последний, кроме того, находился еще и под
следствием130.
Моральное разложение, повальное увлечение спиртными на¬
питками многих деревенских коммунистов наблюдалось не только
в Северо-Западной области, но и в других районах РСФСР, да и
СССР. Так, в начале 1926 г. из Феофановской волости Московской
губернии селькоры сообщали: все партийцы пьют131. Данной бо¬
лезнью страдали и большевики Свищевской волости Пензенской
губернии, Кутушанской ячейки в Татарии. В последней за пьян¬
ство коммунисты получили выговоры, а одного исключили из ря¬
дов РКП(б) в 1925 г.132 Секретаря коммунистической ячейки де¬
ревни Н.Петровская Боготольского уезда Томской губернии за
постоянное пьянство жители не избрали в правление кредитного
кооператива. К тому же, будучи в нетрезвом состоянии, он сорвал
доклад, посвященный Октябрьской революции, в 1924 г. В Красной
волости Самарской губернии нетрезвые партийцы устроили дебош,
в результате чего 5 из них исключили из рядов РКП(б)133.
Один из вожаков сельской коммунистической организации
Екатеринославской губернии в 1925 г. признал: “У меня в районе
партийное ядро 7 человек партийцев, три настоящих алкоголика
в полном смысле”134. В 1925 г. в одной из волостей Глазовского
уезда Вятской губернии некоторые большевики так напились в
религиозный праздник, что “ползли по селу в грязи”. Комментируя
этот и другие подобные “пьяные” факты, журнал “Деревенский
коммунист” писал: “Таких примеров можно было привести мно¬
го. Какой пример могут дать такие партийцы беспартийному кре¬
стьянину? Будет ли тяга в партию со стороны крестьян от сохи в
такой обстановке? Ясно, что нет. Особенно остро стоит вопрос о
пьянстве среди советских партийных работников. Пьянка в корне
подрывает авторитет не только отдельных лиц, но и организаций.
На почве пьянства рождаются злоупотребления”135.
Однако орган ЦК РКП(б), справедливо называя “пьяные фак¬
ты” как общезначимое явление, в ноябре 1925 г., ушел от ответа:
“Почему же так сильно пили деревенские коммунисты, в чем
причина этой социальной болезни, охватившей большинство сель¬
ских ячеек?”. Ведь вина за морально-нравственное разложение
большевиков в деревне ложилась и на партийное руководство стра¬
ны, ЦК РКП(б)—ВКП(б). Эта болезнь зарождалась в том числе и
условиями приема в коммунистическую партию, классовым прин¬
ципом ее формирования, когда не давали возможности в нее вой¬
ти честному, трудолюбивому, хозяйственному, грамотному крес¬
тьянину, а открывали широко двери прежде всего для вступления
156
в РКП(б)—ВКП(б) бедняков, в том числе и деклассированных
элементов. Последние, зачастую материально необеспеченные,
малограмотные, невежественные, попав в правящую партию,
вместо созидательной, творческой, просветительско-воспитатель¬
ной деятельности в деревне, подчас страдая от безделья, и зани¬
мались пьянством с вытекающими отсюда негативными послед¬
ствиями.
Разумеется, губернские и всесоюзные контрольные партий¬
ные комиссии, обеспокоенные масштабами злоупотреблений сель¬
ских коммунистов, их пьянством, принимали определенные меры
к нарушителям устава РКП(б)—ВКП(б). Они регулярно проверя¬
ли деятельность деревенских организаций и по их итогам делали
организационные выводы. Так, за 6 месяцев 1925 г. в Армавирском
округе наказали 20 секретарей сельских ячеек136. В октябре 1926 г. в
Псковской губернии в 5 уездах комиссия проверяла 18 деревенских
организаций. Из 145 коммунистов, состоящих в них на учете, взыс¬
кания получили 31 %, в том числе 20 человек исключили из рядов
ВКП(б), среди которых были 70 % крестьян, 20 % — служащих,
10 % — рабочих. Причем наказывались партийцы главным обра¬
зом за пьянство и хулиганство137.
В 1926 г. Астраханская контрольная комиссия обследовала
11 сельских организаций, из них признала удовлетворительной
работу только 2 и рекомендовала укомам ВКП(б) заменить 7 сек¬
ретарей, из которых 2 были исключены из партии. В том же году
Центральная контрольная комиссия, изучив работу 508 секрета¬
рей деревенских ячеек различных районов, наложила партийные
взыскания на 25 % коммунистов, из которых 15 человек исключи¬
ли из рядов ВКП(б), в том числе 5 — за пьянство, 5 — “как разло¬
жившихся элементов”, 4 — за растраты. А из 104 обследованных
секретарей ячеек взыскания получили 9,6 %, из них 2 были ис¬
ключены из партии138.
Однако, несмотря на принимаемые определенные организа¬
ционные меры по очищению сельских ячеек от разложившихся
членов, совершавших пьянство, растраты, злоупотребления сво¬
им служебным положением, преодолеть в них кризисные, болез¬
ненные явления к концу нэпа не удавалось, ибо, очищаясь от
одних неустойчивых, “переродившихся” коммунистов, правящая
партия пополнялась нередко в деревне не менее разложившими¬
ся, аморальными, невежественными лицами, иногда люмпена¬
ми, мечтающими о карьере, комиссарстве, собственном благопо¬
лучии, забывая о нуждах крестьянского населения. На протяжении
всех лет нэпа губернские и Центральная контрольные комиссии
157
постоянно напоминали о разложении многих сельских коммуни¬
стов. Например, на совещании в ЦК РКП(б) в 1924 г. отмечалось,
что эта болезнь местами приняла значительный размах.
Спустя три года, в феврале 1927 г., очередной пленум ЦКК
ВКП(б) констатировал рост пьянства, охвативший большую часть
сельских ячеек, в результате чего имелись растраты и другие дол¬
жностные преступления139.
По примеру своих старших наставников — коммунистов на
путь пьянства вступила и часть сельских комсомольцев, числен¬
ность которых в стране к декабрю 1925 г. достигала 900 тыс. чело¬
век. Они объединялись в 40 850 первичных ячеек. К началу 1925 г.
деревенские ячейки по социальному составу выглядели следующим
образом: 2,6 % составляли рабочие, 9,4 % — батраки, 57,8 % — кре¬
стьяне-бедняки, 24 % — середняки, 3,7 % — служащие, 2,5 % —
другие140.
Поведение многих комсомольцев на селе вызывало беспокой¬
ство у партийных и советских органов, что нашло отражение в
ряде официальных документов. Например, в 1925 г. Новгородский
губком РКП(б) отмечал: хотя комсомольские организации в сель¬
ской местности выросли, но качественного состава не произошло.
“Много жалоб на хулиганство и пьянство комсомольских ребят”,
они “ударяются в бравурство и богохульство”. В качестве примера
в документе называлась одна из волостных ячеек, которая нахо¬
дилась “накануне развала”, где работа была “на точке замерза¬
ния”. Дисциплина среди комсомольцев низкая, 80 % ребят по праз¬
дникам распивают самогон, “пьяные валяются по канавам, несут
всякую похабщину, матерщину и в драках отстаивают свою честь,
гордо бьют себя в грудь, на которой в золотых лучах вырисовыва¬
ется КИМ (коммунистический интернационал молодежи.— И. К.)
или Ленин”141.
Со своей стороны, органы ОГПУ в своих информационных
сводках постоянно сообщали о повальном пьянстве многих комсо¬
мольцев, об их хулиганских выходках, драках. Например, в сводке
за май 1926 г. констатировалось: среди членов ВЛКСМ и ВКП(б)
наблюдается хулиганство, особенно в Сибири. “Нередко комсомоль¬
цы избивают без всякой причины крестьян, срывают спектакли и
собрания. Были случаи разложения целых комсомольских ячеек на
почве пьянства, хулиганства”. В обзоре работников ОГПУ за 25 июня
1926 г. отмечались такие же негативные тенденции в поведении чле¬
нов ВЛКСМ Донского округа. Так, в хуторе Беляево Аксайского
района комсомольская организация среди населения никаким ав¬
торитетом не пользовалась. “Политико-просветительной работы
158
среди молодежи не ведется. Комсомольцы занимаются пьянством
и даже драками в клубе”142.
О разложении деревенских комсомольских организаций из
разных районов РСФСР сообщали родственники в письмах к крас¬
ноармейцам в середине 20-х годов. Так, из Северо-Двинской гу¬
бернии писали: “В Кузюке дело обстоит очень плохо. Комсомоль¬
цы пируют во всю и даже хулиганят. Сам секретарь Кузюкской
организации Четвериков гуляет, а на собрание ему не хватает вре¬
мени придти”. Из Кубанского округа сообщали: “Наша ячейка
очень молодая, малочисленная и слабая. Среди нашей хуторской
молодежи царит полнейший хаос, пьянство, драки и разврат”. То
же самое говорилось и в письме, посланном из Тверской губер¬
нии: “Комсомольцы все те, старые, ходят пьяные. Каждый празд¬
ник бузят, дерутся и мы не отстаем и часто попиваем самогон”143.
Из вышесказанного, разумеется, не следует делать общезна¬
чимый вывод, будто все сельские коммунисты и комсомольцы
относились к сущим пьяницам, хулиганам, дебоширам. В деревне
встречалось немало честных, работящих, повально непьющих
спиртные напитки членов РКП(б)—ВКП(б), ВЛКСМ. Они искрен¬
не, убежденно верили в дело социализма, правительству, комму¬
нистической партии и все свои силы, знания отдавали ради ук¬
репления экономического и военного потенциала своей Родины,
верили в светлое будущее своей страны.
Справедливости ради следует сказать, что наличие большого
количества сельских коммунистов и комсомольцев, чрезмерно
употребляющих спиртные напитки, в определенной степени отра¬
жало и в целом поведение крестьянского населения российской
нэповской деревни. В ней пили, прежде всего самогон, спиртной
напиток собственного производства, и рядовые граждане, о чем
речь уже шла раньше. К вышесказанному добавим: самогонокуре¬
ние на территории РСФСР приняло значительные масштабы, ох¬
ватило многие районы. Вот лишь некоторые сообщения середины
20-х годов, характеризующие не только выделку самогона, но и
повальное пьянство сельчан, на почве чего возникали драки и
убийства. Так, из Жилевской волости Каширского уезда Москов¬
ской губернии сообщали: “Выгонка самогона по многим дерев¬
ням сильно развилась. Милицией велась энергичная борьба с этим.
Но тем не менее результаты этой борьбы были невелики, самогон
все выгоняли. Выпуск 40-градусной водки оказал неоценимую ус¬
лугу в борьбе с самогоном”.
Письма из деревни красноармейцам в 1925 г. показывают мрач¬
ную картину “на самогонном фронте”. Из Вятской губернии писали:
159
“У нас в деревне варят кумышку, пируют и торгуют вовсю”. Из
Башкирии поступали аналогичные вести: “У нас самогон гонят
вовсю. Живем и удивляемся, что никто не запрещает гнать, верно
все управители сыты или жизнь изменили. Возьмем инструмент,
гоним и пьем, все открыто, гуляем вовсю”.
В письмах констатировалось не только массовое пьянство, на
почве которого развивалось хулиганство, драки, убийства, но и
беспомощность властей в борьбе с этим злом. Многие ответствен¬
ные партийные работники злоупотребляли спиртным, самогоном.
Об этом с сожалением констатировалось в одном из писем: “Ты
знаешь как велико зло, против которого бороться одним не в силу.
Это кумышка — варение самогона, льет рекой, пьют все и стар и
млад, выйдя на улицу везде увидишь пьяных мужиков и моло¬
дежь, пьют до тех пор, пока только у них в рот льется, а потом у
них начинается хулиганство, драка и доходит до убийства. Маль¬
чик лет 12 залился самогоном до смерти лишь только потому, что
местная власть халатно относится к этому, да и нельзя им очень
строго относиться к этому, когда они сами пьют”144.
Как уже говорилось, бороться с самогоноварением и в связи
с этим распространением пьянства на селе в тех конкретных ус¬
ловиях чрезвычайно было трудно в силу объективных и субъек¬
тивных факторов, включая исторические традиции, обычаи, нра¬
вы, социально-экономические условия, бедность крестьян, их
менталитет. Среди последних нередко бытовало мнение, что са¬
могонокурение — это не зло и не преступление, а просто житей¬
ская хозяйственная необходимость. За счет самогона можно было
смягчить налоговые платежи, угощая им советских работников,
решить некоторые бытовые, хозяйственные проблемы, в том чис¬
ле и вознаграждая им за помощь соседям в трудные периоды их
жизни. Например, во время уборки урожая, ремонта и строитель¬
ства дома. Вот как выглядели наиболее характерные объяснения
причин изготовления и употребления самогона крестьянами Ни¬
кольской волости Курской губернии в 1923 г.145 “За самогон легче
пригласить на работу односельчан”, “Самогон считается большой
помощью при найме рабочих рук и скота”, “Без спиртных напит¬
ков трудно обойтись в хозяйстве, когда нужна помощь односель¬
чан”, “Особого вреда в самогоне не видим. Он необходим. Особен¬
но, когда нужно подыскать подмогу в работе. За деньги никто не
поможет, а за самогон каждый поможет”, “Самогон или водка все
равно, но для крестьянина необходимы. Так, например, если нужно
строиться, ставить хату — работника не найдешь. Будь же водка или
как сейчас самогон — угостишь соседа — и хата готова”, “Самогон
160
кто гонит и пусть гонит, он только дураку вредит. Вот скажем я
куплю две четверти — мне хату на отруба перевезут”, “Как земля
не может жить без кислорода, так и человек без спиртных напит¬
ков”, “Предъявить требование к власти, чтобы она сама не пила”.
Последнее суждение одного из крестьян Никольской волости весь¬
ма ценно и справедливо, оно раскрывает личные качества многих
деревенских коммунистов. Они, занимая руководящие посты в
советах, общественных организациях, по долгу службы должны
были вести решительную борьбу с самогонокурением не только
административными методами, но, главное, культурно-просве¬
тительными мероприятиями, решением социально-экономичес¬
ких вопросов в деревне, улучшением быта, материального уровня
их жителей. Однако в жизни, на практике зачастую многие ком¬
мунисты, как выше говорено, злоупотребляли спиртными напит¬
ками, и тем самым показывали крестьянам плохой пример для
подражания.
Отношение крестьян к сельским коммунистам
Вышеизложенный материал объясняет неоднозначное, про¬
тиворечивое отношение крестьян к сельским коммунистам: пози¬
тивное, негативное, равнодушное, как бы нейтральное. После¬
дняя позиция сельчан формировалась обычно в тех населенных
пунктах, где отсутствовали партийные ячейки и о них местные
жители почти ничего не знали, тем более, что их члены “не шли
в народ” с просветительскими целями в отдаленные деревни. Это
были своего рода ячейки-“невидимки”, абсолютно изолирован¬
ные от крестьян, замкнутые “сами в себе”. Например, по итогам
обследования Советской волости Холмского уезда Псковской гу¬
бернии инструктор губкома РКП(б) В. Иванов в январе 1925 г.
пришел к выводу: о коммунистической ячейке население ничего
не знало, хотя были знакомы с отдельными партийцами, кото¬
рые ничего не делали.
Такого же мнения о деревенской коммунистической органи¬
зации придерживались и сельчане Шапкинской волости Лодей-
нопольского уезда Ленинградской губернии в середине 20-х годов.
Например, крестьянин В.Е. Григорьев из деревни Семеновой Горы
так выразил свое отношение к партийцам: они “у нас пользы не
приносят, никого из них не видно”. С такой оценкой согласился и
житель деревни Подпорожье Г.К. Рулев: “Работы партийцев не
видно. Кроме как Шаблинского, в избе-читальне кое-что разъяс¬
няет, а остальные больше заняты своим делом — налогом”146.
161
В 1925 г. в Починковской волости Смоленской губернии никто
из крестьян 20 населенных пунктов не мог назвать ни одного при¬
мера, характеризующего хотя бы какую-то работу большевистской
организации, поскольку она не оказывала никакого влияния на
деревенскую жизнь147.
Утратили какие-либо связи с населением и некоторые ком¬
мунистические ячейки Пензенской губернии, часть сельчан даже
и не догадывалась об их существовании, ибо они себя ничем не
проявляли, — к такому выводу пришли работники местной конт¬
рольной комиссии в 1925 г.148
Подобный взгляд высказывал в октябре 1925 г. и крестьянин
Макаров из деревни Пустая Буда Рославльского уезда Смоленской
губернии: “В нашей Ерничской волости, — писал он, — суще¬
ствуют ячейка РКП(б) и 3 ячейки РКСМ. Крестьяне об этих ячей¬
ках совсем мало знают. Потому что ячейки никогда не ведут связи
с крестьянством и крестьяне об этих ячейках думают отрицатель¬
но: партия — себе, а крестьянство — себе За все время существо¬
вания РКП(б) в нашей волости я не видел ни разу в своей дер. ни
одного члена РКП(б) с чем-нибудь полезным для крестьянства,
как то с разъяснением законов республики”149.
Нейтрально, безразлично относилась к большевистской орга¬
низации и часть жителей Горицкой волости Тверской губернии в
1926 г. “Знаем, что есть ячейка у коммунистов, но что там делает¬
ся — неизвестно”. “Есть партийцы — “ладно, не будет — тоже
ладно”150, — рассуждали сельчане. Подобные суждения крестьян
о деревенских партийцах звучали и в других районах: “Мы сами
по себе, а они — сами по себе”, “Ни вреда, ни пользы от ячеек
мы не видели”151.
Однако большинство трудового российского крестьянства,
которое так или иначе сталкивалось с коммунистическими орга¬
низациями, относилось к ним отрицательно. Многие партийцы
абсолютно не пользовались никакой популярностью, авторите¬
том среди сельчан, последние им совершенно не доверяли, по¬
скольку местные большевики думали прежде всего о собственной
“малой власти” в деревне и почти не обращали внимания на нуж¬
ды, быт, хозяйство крестьян. Такая позиция партийцев служила
одной из причин отчуждения их от жителей села. Об этом свиде¬
тельствуют исторические факты. Так, по мнению крестьян села
Казилино Невиномысского района Кубанской области, комму¬
нистическая ячейка в 1924 г. отгородилась от них “китайской сте¬
ной”, не заботилась об их интересах, поэтому и отношение к ней
оставалось недоверчивым. Местные партийцы деревни Б.Трифоновка
162
Егоринского района Свердловского округа не обращали никакого
внимания на просьбы крестьян, вот почему последние относи¬
лись к ним недружелюбно152.
В середине 20-х годов большевистские деревенские организа¬
ции Пермского округа, Ишимского района, Томской губернии,
многих волостей Пензенской, Курской губерний практически не
только не решали, но даже не обсуждали вопросы на собраниях,
непосредственно связанные с бытом крестьян, с развитием их
хозяйства153.
С неодобрением воспринимали большевистские организации
сельчане в Устьволомской волости Новгородской губернии и Лок-
нянской волости Псковской губернии за их бездеятельность154.
Среди крестьян Горицкой волости Тверской губернии, кроме
вышеотмеченной нейтральной оценки на деятельность большеви¬
стской организации, имелось у многих и отрицательное отноше¬
ние к ней. Причины непопулярности партийцев некоторые жите¬
ли объясняли так: “Нашим бы коммунистам надо бы взять пример
с попа из Никола-Сандуново. Поп пользуется популярностью,
бессеребреник. Этот поп сумел заразить массы, там даже церковь
добровольно обновили. А у коммунистов красный уголок не под¬
метен. Так Ленин со стены на грязь и смотрит. Почти все матери¬
алисты, только для себя норовят”. “Большинство коммунистов
ведут себя небрежно, пьют самогон, да налог выколачивают”.
При этом некоторые горицкие сельчане весьма нелестно от¬
зывались не только о местных партийцах, но и губернских и цен¬
тральных работниках, не справляющихся со своими обязанностя¬
ми, от которых нужно освободиться. “Если бы я был, скажем, в
Москве, — говорил один из них, — самый главный у коммунис¬
тов, то оставил бы на всю Россию коммунистов не более тыся¬
чи — так, чтобы на каждую губернию человек по 25 приходилось.
Но отобрал бы самых надежных. Всех остальных, липовых, ра¬
зогнал бы. Вот тогда крестьянство уверовало бы в коммунистов,
так как все они были настоящими, идейными. А то вот как по¬
смотришь на кое-кого из этих, что у нас, — да и махнешь рукой
на весь коммунизм”155.
Такая оценка горицких крестьян о местных большевиках во мно¬
гом совпадала и с точкой зрения историка А.М. Большакова, кото¬
рый видел неавторитетность, оторванность сельских партийцев от
населения в том, что они изначально не являлись крестьянами, хо¬
рошими хозяевами, на которых могли бы равняться простые, рядо¬
вые граждане. Горицкая ячейка, писал Большаков в 1927 г., “попу¬
лярностью среди населения волости” не пользовалась, и причины
163
этому “просты и ясны”, ибо они не связаны с массами. Это “на¬
чальство, которое полагается всегда слушать, иногда бояться”. Ведь
“коммунист всегда имеет какую-либо должность, получает жало¬
ванье”, он “не крестьянин, за плутом не ходит, не свой брат-
мужик”, тогда как крестьянин прежде всего хозяин. Партийцы в
волости могли бы завоевать уважение, лишь ведя “свое собствен¬
ное хозяйство не через пень колоду, а образцово”. Если бы хоть
один из них, рассуждал Большаков, сумел наладить свое личное
хозяйство на должную высоту, то не только он, но и вся органи¬
зация имела бы популярность, вес во всей волости. Крестьянин,
иногда слушая на собрании речь коммуниста, призывающего по
долгу службы “поднимать сельское хозяйство”, справедливо раз¬
мышляет: чем на словах говорить, “взял бы плуг в руки, да и
показал, как надо лучше делать. Если у меня родится на десятине
50 пуд. ржи, у оратора урожай 60, я поверю ему и буду по его
образцу поднимать хозяйство. Образец нужен, а не слова”.
Однако в Горицкой волости за 10 лет существования советской
власти не было ни одного большевика, который бы исправно вел
свое хозяйство, зато “скверных хозяев” имелось немало, “даже
больше, чем нужно. Отсюда и отсутствие связи с массами и рав¬
нодушное отношение к коммунистам”. Они гонятся “за советским
жалованьем”, а если и ведут хозяйство, то “спустя рукава”. На¬
пример, в самый пик реализации лозунга “лицом к деревне” в
волости, как уже упоминалось, из 20 партийцев только 3 вели
свое хозяйство, а были годы, когда вообще никто из них не зани¬
мался земледелием. За все время функционирования партийной
ячейки, она серьезно, по-настоящему не обсуждала вопросы, свя¬
занные с развитием сельского хозяйства156.
Эти наблюдения и выводы крупного исследователя, знатока
нэповской деревни А.М. Большакова, к тому же еще и уроженца
Горицкой волости, весьма ценны. Они лишний раз дают нам пред¬
ставление о мотивах изолированности сельских большевиков от
основной массы крестьянства, о недоверии к ним, что было ха¬
рактерным и типичным явлением для подавляющего большин¬
ства других районов РСФСР и СССР, когда население нередко
прямо, в глаза им говорило: “Мы вам не доверяем”157.
“Пришлый”, городской состав многих членов деревенских
коммунистических ячеек, наличие в них люмпенизированных сель¬
чан, не имеющих и не желающих работать на земле, командно-
административные методы работы — все это отталкивало основ¬
ную массу трудового крестьянства от большевиков. Об этом
неоднократно указывалось в официальных документах некоторых
164
региональных партийных органов. Например, 10 января 1925 г. ко¬
миссия по работе в деревне при Карельском обкоме РКП(б) в
своих материалах констатировала: “Наши паргьячейки в деревне
оторваны от основной крестьянской массы. Они не имеют доста¬
точной поддержки от широкого слоя беспартийных”.
Аналогичная оценка не раз отражалась и в материалах Новго¬
родского губкома РКП(б) в середине 20-х годов, подкрепленная
итогами проверок деревенских большевистских организаций. Так,
в Опеченской ячейке Боровичского уезда, по мнению партийно¬
го органа, коммунисты стояли “в стороне от всей практической
работы, варясь в собственном соку”, окунувшись в вопросы об¬
щеполитического характера. Рядокская волостная организация,
насчитывающая 35 человек, в 1925 г. также оказалась отчужденной
от местного населения и состояла из людей, “замкнувших в себе”.
3 января 1925 г. секретарь Новгородского губкома РКП (б) К. Соме
сообщал в вышестоящие партийные органы: в Старорусском уез¬
де значилось 88 кандидатов и членов партии, но связь их с крес¬
тьянами оставалась весьма слабой, так как коммунисты были пас¬
сивными, политически неграмотными и никакого положительного
влияния на жителей деревни не оказывали, в большинстве своем
на собраниях они рассматривали вопросы, не интересующие кре¬
стьян. На их запросы, нужды не обращали внимания158.
1 июля 1925 г. Новгородский губком РКП(б), анализируя дея¬
тельность коммунистических организаций за февраль-апрель, по-
прежнему констатировал негативную реакцию сельчан на работу
деревенских большевиков, поскольку побывавшие в деревнях 40 от¬
ветственных губернских и уездных работников “в один голос” заяв¬
ляли: “Ячейки с массами не связаны, авторитетом не пользуются.
Ячейковые собрания носят кастовый, замкнутый характер”, на¬
блюдается “уединенность от крестьян большинства ячеек”.
Для их руководителей характерен командно-нажимной метод
работы с населением. Об этом можно было судить и по заявлению
одного из секретарей большевистской организации Демянского
уезда, который, обращаясь к крестьянам, сказал: “Хотите ли, не
хотите, а все равно по-нашему будет”.
Вот почему отношение большинства новгородских крестьян к
местным коммунистам оставалось отрицательным, что подтверж¬
далось и материалами губкома РКП (б) в 1925 г., в которых отме¬
чалось: в ряде мест сельчане нелестно отзывались о партийцах
“как о прощелыгах, ворах”, пьяницах и грубиянах, любящих толь¬
ко власть”. В августе 1926 г. жители деревень Горлово и Виутс Бо¬
ровичского уезда возмущались тем, что коммунисты в газетах не
165
сообщают об их настроениях, в которых пропагандируются лишь
сами партийцы159.
О недоверчивом отношении сельчан к местным большеви¬
кам, об утрате их связей с населением неоднократно сообщали и
ответственные работники Псковского губкома РКП(б) в середи¬
не 20-х годов. Например, упоминавшийся инструктор губкома
партии Я.А. Витоль после проверки Жадринской волостной ячей¬
ки Новоржевского уезда в мае 1925 г. пришел к выводу: она не
имеет связи с беспартийными крестьянами, включая бедняков, и
у последних создается впечатление, будто большевистская органи¬
зация как таковая не существует, а имеются “отдельные члены и
кандидаты партии, которые никакого влияния на местную обще¬
ственную жизнь оказать не могут”. Подобный взгляд высказывал и
другой инструктор Псковского губкома РКП(б) В. Иванов в январе
1925 г. в ходе обследования ячейки Советской волости Холмского
уезда, утратившей связи с крестьянами. В мае 1926 г. Порховский
уком ВКП(б) отмечал отрыв Мошенской сельской организации от
местного населения. 16 марта 1925 г. секретарь Псковского губкома
РКП(б) Струппе в своем письме в вышестоящие органы призна¬
вал: некоторые деревенские ячейки разложились, а коммунисты
оказались изолированными “от лучшей части крестьянства”160.
В марте 1926 г. ответственный работник Северо-Западного бюро
ЦК РКП(б) Ольберт констатировал: сельские организации “зам¬
кнуты в своей скорлупе”. При этом их изолированность от кресть¬
янства он пытался объяснить весьма своеобразно: они не усвоили
директивы партии о работе в деревне. В то же время Северо-Запад¬
ное бюро ЦК РКП(б) в 1925 г. видело причины такого отчуждения
деревенских большевиков от основной массы сельского населения
в социальном составе коммунистических ячеек, в которых кресть¬
яне составляли только 10 %, а остальные 90 % — служащие, при¬
чем в основном “пришлые” люди, а не местные граждане. Поэтому
в работе деревенских организаций отсутствовали вопросы, связан¬
ные с повседневной будничной жизнью сельчан, а в повестке дня
превалировали проблемы “высокой политики”, в том числе “на¬
бившие оскомину международное и внутреннее положением или
же свои внутриячейковые вопросы”161. Отчужденность деревенских
коммунистов от основного местного населения, которое с боль¬
шим недоверием относилось к ним, имело место и в других райо¬
нах РСФСР162, а не только в Северо-Западной области.
Замкнутость, сектантство сельских ячеек, негативное от¬
ношение к ним местных жителей объяснялись не только их ма¬
лочисленностью, социальным составом, но еще и методами
166
управления коммунистами деревней, в том числе назначением
невежественных, малограмотных своих членов в советы, в прав¬
ления кооперативов и в другие общественные организации, воп¬
реки воле крестьян. Последние, естественно, были недовольны и
протестовали как могли. Так, один из крестьян Клинского уезда
Московской губернии в конце 1925 г. гневно заявил: “Все комму¬
нисты шкурники, они только получают по 80 руб. жалованья, а
делать ничего не делают. Нам же, беспартийным, нет доступа на
работу в совет, кооперацию и другие органы, даже приказчиком
в кооперативы”163.
Деятельность последних, во главе которых находились партий¬
цы, особенно вызывала возмущение крестьян, поскольку наибо¬
лее распространенным служебным злоупотреблением деревенских
большевиков как раз и являлась их руководящая работа в коопе¬
ративах различного типа. Занимая должности в низовом коопера¬
тивном аппарате, коммунисты нередко нарушали устав, принци¬
пы добровольности при перевыборах членов правлений, назначали
из своей среды безответственных, некомпетентных, неграмотных
сторонников. Последние допускали растраты, присваивали себе
общественные средства, в том числе и внесенные крестьянами,
пьянствовали и таким образом своим поведением порождали у
сельчан не только недоверие к коммунистам, но и к кооперации.
Например, в начале 1925 г. жители одной из волостей Старо-
русского уезда Новгородской губернии роптали на ячейку за то,
что она “коммуниста в кооперативе содержит, а он ничего не
делает”164. В 1925 г. Ново-Каменская сельская большевистская орга¬
низация Бийского уезда Алтайской губернии объединяла 11 чело¬
век, но абсолютно не пользовалась авторитетом у населения, оно
к ней негативно относилось. Ибо некоторые партийцы, работая в
правлении местного кооператива, “оскандалились”, развалили
работу, пьянствовали. Вот почему крестьяне, обеспокоенные та¬
ким положением дел в кооперативе, с горечью говорили: “Дове¬
рились коммунистам, а они нас с кооперацией подвели, может
придется коровушки лишиться”165. По вине местных партийцев
стал дефицитным, плохо работающим и кооператив в с.Себино
Ново-Одесского района Уральской области в 1925 г., что порож¬
дало недовольство у сельчан166.
Секретарь Козловской ячейки Вышне-Волоцкого уезда Твер¬
ской губернии по поводу работы коммунистов в кооперативе пи¬
сал в 1925 г.: “Очень часты стали злоупотребления по должности
(растраты), за что закон до сих пор карает очень слабо. Крестьяне
не идут в кооперацию, говоря: “Зачем я туда понесу пай, когда
167
все равно какой-нибудь негодяй пропьет”. При этом в середине
20-х годов “растраты кооперативных средств приняли “почти эпи¬
демический характер”167 во многих районах РСФСР, о чем гово¬
рилось в первой части книги.
Одна из причин, порождающая злоупотребления большеви¬
ков в области кооперации, заключалась еще в их тяжелом эконо¬
мическом положении, поскольку некоторые из них — вчерашние
бедняки, люмпены, необразованные, не желающие или не умею¬
щие работать в своем хозяйстве, — испытывали материальные труд¬
ности и старались занять оплачиваемую должность в кооператив¬
ных органах, не имея образования, не владея для этого ни
моральными, ни деловыми, ни профессиональными качествами.
Тем не менее горе-коммунисты просили свою ячейку “назначить”
их членами правления того или иного кооператива, ибо им нуж¬
ны были “заработки” для улучшения своего “бедственного поло¬
жения” и требовались “средства для поднятия хозяйства”168. Одна¬
ко, получив должность, они нередко растаскивали общественные,
крестьянские деньги. Вина за злоупотребления коммунистов в коо¬
перативах ложилась на все партийные организации, сверху донизу,
которые в рамках создающейся командно-административной сис¬
темы сплошь и рядом применяли назначенство на руководящие
посты в советские и общественные органы. Не доверяя беспартий¬
ным, коммунисты строго руководствовались классовым, формаль¬
ным подходом, поэтому и не принимали во внимание уровень об¬
разования, деловые и нравственные качества “рекомендуемых” на
должности, не предъявляли к ним должной требовательности. Для
партийцев главное заключалось в том, чтобы установить свой жес¬
ткий политико-идеологический контроль над кооперацией в де¬
ревне, даже путем грубого нарушения ее устава.
При этом в большинстве своем “коммунисты-кооператоры”
растраты делали на почве пьянства. Последнее, как об этом гово¬
рилось, особенно раздражало жителей деревни. Они постоянно
наблюдали за поведением многих “партийцев-управленцев”, ко¬
торые вместо борьбы с самогонокурением, пьянством сами пока¬
зывали дурной пример рядовым гражданам, злоупотребляли спир¬
тными напитками, вели разгульную, пьяную жизнь, в том числе
и за счет средств, полученных с населения, включая взятки, на¬
логовые и страховые платежи, паевые кооперативные взносы, о
чем уже частично речь шла выше. И тем не менее мы назовем еще
некоторые наиболее характерные факты, отражающие настрое¬
ние сельчан по отношению к местным большевикам — пьяни-
цам-карьеристам. Так, в январе 1925 г. крестьяне Попадьинской
168
волости Рязанской губернии жаловались секретарю ВЦИК Кисе¬
леву: “Посмотрите наш порядок, у нас коммунисты каждый день
пьяные находятся — Серкин Андрей, Исаков Петр ни одного со¬
брания не проведут непьяные, все вдрызг все пьянствуют. Обра¬
тите внимание”. В середине 20-х годов во время перевыборов сове¬
тов жители Шаховской волости Волоколамского уезда Московской
губернии перед властью ставили вопрос: “Коммунисты пьют вино,
а нам давайте русскую горькую”.
Однако чаще и больше всего деревенские руководители-
партийцы пили “зелье” местного производства — самогон. Вот
что писал по этому поводу красноармеец-отпускник из деревни
Гордеевки Глушковской волости Рыльского уезда Курской губер¬
нии в середине 20-х годов. По его наблюдениям, в деревне проис¬
ходят “пьянство, взятки и разбойничество”. Вот я приведу не¬
сколько фактов. “Уездный уголовный розыск послал своего агента
в нашу деревню для борьбы с самогоном, агент приехал и прямо
на квартиру к председателю сельсовета. А председатель сельсовета
в это время как раз гнал самогон с секретарем ячейки РКП(б)
тов. Белоусовым и членом бюро ячейки. Ну какая здесь борьба,
когда само начальство пьет и гонит самогон. Агент соблазнился и
начал пить самогон, пока не свалился. А в это время мимо прохо¬
дили два крестьянина, они были задержаны и арестованы. Когда
их обыскали, то у них обнаружили 1 револьвер системы наган.
Агент уголрозыска стал шутить, но шутки бывают недолго, полу¬
чился выстрел и был наповал убит член бюро ячейки РКП(б).
Сейчас же был составлен акт, в котором говорилось, что член
бюро застрелился сам, на этом и кончилось без всякого разбира¬
тельства”169.
Большевики Залесской волостной организации Устюжинско-
го уезда Череповецкой губернии своим пьянством “оттолкнули”
от себя население, которое относилось к ним с пренебрежени¬
ем170. Такая же была позиция сельчан и к коммунистам хутора
Мандровского Петропавловской волости Богучаровского уезда Во¬
ронежской губернии, в том числе и к активисту общественнику
Г.И. Пивоварову, который “воровал и выпивал”. Как сообщал
крестьянин Я.С. Колесников, этот незадачливый большевик “был
выброшен из партии весной 1922 г., а потом очутился в партии”. В годы
нэпа поочередно занимал должности председателя сельского со¬
вета, члена волисполкома: Затем оказался председателем крестьян¬
ского комитета общественной взаимопомощи, у которого из со¬
бранных у жителей 85 пудов ржи оказалась недостача 30 п. По его
инициативе лишили права голоса 43 крестьян и “надувательски
169
провели перевыборы” сельского совета, чтобы “не пропустить” в
его состав других граждан, кроме Пивоварова Гаврила. В мае 1924 г.
он “нахально” захватил 2 дес. луга у населения хутора Мандровс-
кого, которое все же сумело эту землю отстоять. В заключение
своего письма, направленного в адрес ЦК РКП(б) с благодар¬
ностью товарищу Сталину 14 декабря 1924 г., Колесников резонно
делал вывод по поводу поведения коммуниста Пивоварова. После¬
днего он пытался образумить и, обращаясь к нему, наставлял:
“Разве партийные так делают, ты похищаешь народное достояние
и разоряешь советскую власть и мараешь честных товарищей”. “Есть
люди и не партийные, а дорожат на деле за советскую власть не
только на словах, но этих людей не допускают никуда, из них
много даже лишенных избирательного права. Какие на них причи¬
ны, зажиточный, кулак, а у него одна пара волов и одна корова
или агитатор против соввласти, а что он агитировал, да сказал
председателю и другому советчику: “Ты делаешь несправедливо”171.
Хотя автор письма, крестьянин Колесников, и заблуждался,
когда пытался противопоставить “хорошего доброго царя” Стали¬
на плохим нерадивым работникам на местах, тем не менее его
наблюдения и оценки относительно поведения сельских больше¬
виков справедливы и соответствовали историческим реалиям. Не¬
редко проворовавшихся пьяниц-коммунистов снимали с одной
должности на селе и назначали, сажали в кресло на место другого
такого же проходимца зачастую с партийным билетом. В то же
время для честного, грамотного, порядочного беспартийного кре¬
стьянина с хозяйственно-организаторскими способностями путь
в низовой советский аппарат был закрыт, а некоторые из них
вообще лишались избирательного голоса, хотя оставались лояль¬
ными к советской власти, о чем речь шла выше.
Пьянство среди деревенских коммунистов, вызывающих резкую,
справедливую отрицательную реакцию со стороны крестьян, настоль¬
ко получило широкое распространение, что его не могли не заме¬
чать и вышестоящие партийные и советские организации. Напри¬
мер, в информационных сводках органов ОГПУ регулярно сообщалось
о злоупотреблении спиртными напитками сельских большевиков,
об их повальном пьянстве. Так, в сводке от 31 января 1923 г. конста¬
тировалось: в Сибири в Николаевском уезде коммунисты не пользу¬
ются авторитетом среди населения. А в Коуракской волости “кресть¬
яне некоторых коммунистов называют бандитами и пьяницами, т.к.
они в пьяном виде устраивают дебош”. В Каннском уезде партийцы
способствовали “развитию винокурения”. В с. Болмон определенные
лица гнали самогон “специально для коммунистов”.
170
В информации работников ОГПУ за апрель-май 1924 г. отме¬
чались подобные негативные явления. Так, почти все большевики
Побединской ячейки Рязанской губернии пили самогон и каж¬
дый день бывали пьяными, а в деревне Высокая “ячейка гуляла
каждый день”. Красноармеец из деревни Гляденово Пермской гу¬
бернии 28 апреля 1924 г. писал: “Но вот что плохо, очень пьют и
варят самогонку. Милиция тоже пьет здорово, также и наши
партийные, такие вещи бывают, что у крестьянина самогонку
отнимут милиция и наша ячейка и сами выпьют”172.
Естественно такое безобразное, отвратительное поведение
многих деревенских большевиков-начальничков дискредитирова¬
ло их в глазах крестьян, отталкивало последних от коммунисти¬
ческой партии, даже убежденных сторонников советской власти,
не спешивших связать свою судьбу с РКП(б)—ВКП(б).
Характерно на этот счет мнение сельчан одной из волостей
Московской губернии, сформулированное в их заявлении в 1925 г.:
“Мы в нашу ячейку вступать не хотим, потому что наши коммуни¬
сты плохо поступают, некоторые из них пьют, да взятки берут”173.
Подобный взгляд изложил и один из крестьян Псковской губер¬
нии в начале 1925 г.: “В партию вступить не шутка, но вот в нашу
ячейку вступать не хотим, потому что наши коммунисты плохо
поступают, некоторые из них водку пьют, и взятки берут”174.
Из приведенной характеристики состояния сельских ячеек у
читателей может сложиться впечатление, будто все они были “пья¬
ными”, работали неудовлетворительно и не оказывали никакого
положительного влияния на деревенскую жизнь. Подобный вывод
был бы ошибочным и не соответствовал бы реальной историчес¬
кой обстановке. Несмотря на отрицательные стороны и большие
объективные трудности, в стране имелись и некоторые деревенс¬
кие организации, к которым позитивно относились крестьяне,
успешно решавшие вопросы в пользу бедняцко-середняцких сло¬
ев, пользующиеся среди них авторитетом и уважением.
В подтверждение сказанного приведем некоторые факты сере¬
дины 20-х годов, свидетельствующие не только о негативной, но и о
положительной работе части сельских ячеек, в том числе упоминае¬
мых, занимающихся вопросами хозяйственного и культурного
строительства, иногда подменяя тем самым и сельсоветы. Так,
Катунская ячейка Бийского округа Алтайской губернии держала
тесную связь с беспартийными крестьянами, сумела организовать
деревенский актив. При содействии ячейки было кооперировано на
льготных условиях 34 бедняка, организована сельскохозяйственная
артель, для которой построили скотный двор, купили орудия труда,
171
создали машинное товарищество175. Козловская ячейка Клинского
уезда Московской губернии объединяла 14 человек, из них 9 кресть¬
ян. Она регулярно проводила открытые партийные собрания, на них
присутствовали обычно 50 беспартийных сельчан, а иногда 200—300,
принимавших активное участие в обсуждении вопросов. Ячейка
чутко прислушивалась к замечаниям беспартийных и в своей
практической деятельности старалась их учесть. Она уделяла при¬
стальное внимание подъему сельского хозяйства, проводила целе¬
направленную разъяснительную работу среди населения о перехо¬
де к многопольному севообороту, организовала агропункт,
мелиоративное товарищество. Ячейка села Усть-Урсы Корсунско-
го уезда Ульяновской губернии создала кооператив, открыла по¬
литико-воспитательные курсы, на которых занимались беспартий¬
ная молодежь и комсомольцы. Каждый вечер в селе работала
изба-читальня, в ней проводились беседы. В станице Ново-Влади¬
мирской Армавирского округа партийная организация смогла сфор¬
мировать работоспособный сельский актив, создала своего рода
стол справок, куда крестьяне обращались с жалобами на местных
работников. Сельским коммунистам часто удавалось разрешить обо¬
снованные претензии крестьян и тем самым поднять среди них
свой авторитет. Поэтому беспартийные крестьяне советовали че¬
ловеку, попавшему в беду: “Пойди в ячейку — там тебе разъяс¬
нят, посоветуют, помогут”. Ячейка регулярно проводила откры¬
тые партсобрания, в президиум которых всегда избирались самые
уважаемые беспартийные крестьяне. Можно привести и другие
примеры положительной работы деревенских партийных органи¬
заций, о которых лестно отзывались крестьяне176.
Однако сельских ячеек, пользующихся авторитетом, популяр¬
ностью у крестьян, нередко взявших к тому же на себя задачи
советов, выступающих подлинными организаторами обществен¬
но-политической жизни деревни, реально помогавших местному
населению в решении их бытовых, социальных и хозяйственных
проблем, в РСФСР насчитывалось мало. По нашим приблизитель¬
ным подсчетам, их было не более 20—25 % в середине 20-х годов.
Как показывают вышеизложенные факты, все же подавляю¬
щее большинство деревенских коммунистических организаций и
их членов работали малопродуктивно, допускали администрирова¬
ние, командование сельчанами, злоупотребляли спиртными на¬
питками, брали взятки, морально разлагались. Такое поведение
“начальников-партийцев” вызывало не только недовольство, но и
различные формы крестьянского протеста. Вот лишь некоторые из
них. Так, в 1924 г. жители сел Красное и Малаховка Бузулукского
172
уезда Самарской губернии бойкотировали работу сельского сове¬
та в связи с тем, что волисполком, где заседали коммунисты, не
утверждал протокол общего собрания сельчан о смене председа¬
теля совета177. Но самым действенным способом сопротивления
большевистскому засилью в низовом советском аппарате и в об¬
щественных организациях были попытки недопущения коммуни¬
стов на руководящие должности, проваливание их во время пере¬
выборных кампаний. Например, в д. Ново-Волково Ленинградского
уезда Московской губернии крестьяне “не пропустили” партийца
в крестьянский комитет общественной взаимопомощи в конце
1925 г. В том же году при выборах правления Морецкого единого
потребительского общества Белозерского уезда Череповецкой гу¬
бернии на собрании при обсуждении кандидатуры коммуниста
один из выступающих на собрании сельчан сказал: “Нам кроме
вреда ячейка ничего не принесла, а потому кандидатуру прошу
снять”. Собрание с этим предложением согласилось, и кандида¬
туру большевика в состав правления не допустили до голосова¬
ния178.
В Островском уезде Псковской губернии в период перевыбо¬
ров правления в потребительскую кооперацию в 1925 г. население
“проваливало” коммунистов. “Враждебные элементы”, по оценке
секретаря Псковского губкома РКП(б) Струппе, используя “рас¬
ширение демократии”, смотрели “на наш поворот лицом к де¬
ревне, как на политический нэп и что наступит время, когда можно
будет распоясаться”. 1 июля 1925 г. Новгородский губком РКП(б)
констатировал рост антибольшевистских настроений в деревне в
период проведения перевыборной кампании в сельские советы:
“Там, где партийные товарищи ретировались, зарывались и ад¬
министрировали и никакой другой стороной работы не зареко¬
мендовали себя, там они единогласно проваливались”. В состав
советов крестьяне вместо “забаривавшихся” коммунистов избра¬
ли других179.
В ряде мест сельские коммунисты так “насолили” крестьянам
своим администрированием, пьянством и развратом, что они ста¬
вили вопрос о ликвидации партийных ячеек в деревнях как не
нужных и даже вредных организаций. Например, в 1925 г. в неко¬
торых волостях Старорусского уезда Новгородской губернии жи¬
тели рассуждали: “Коммунистов в кооперативах содержим, а они
ничего не делают” зачем нам партийная ячейка, если секретари
волкомов РКП(б) и РКСМ только деньги получают, и “все это
падает на крестьян и только налог увеличивают”. Аналогичный взгляд
высказывало и население деревни Побежалово Боровичского уезда
173
в июле 1926 г. Оно считало, что советы в деревне нужны, “а зачем
существует партия и сует свой нос”, непонятно180.
В середине 20-х годов в Коми крае сельские жители на орга¬
низацию коммунистов смотрели как совершенно ненужную, и
“даже беднота не поддерживала их”181.
В 1925—1926 гг. в некоторых деревнях Тихвинского уезда Чере¬
повецкой губернии создавались антибольшевистские группы из
крестьян и вели пропагандистскую работу среди населения о не¬
доверии местным коммунистам182.
В то же время часть наиболее политически развитых, грамот¬
ных крестьян свое негативное отношение к сельским большеви¬
кам переносила в целом на коммунистическую партию, в поли¬
тике которой она видела свое тяжелое экономическое и социальное
положение. Поэтому и отношение к ней являлось даже враждеб¬
ным. Такая отчаянная позиция сельчан находила отражение и в
письмах в газеты. Например, в феврале 1927 г. крестьянин Азовс¬
кого района Донского округа в редакцию одной из газет Северо-
Кавказского края писал: “Пусть крестьянин умрет сегодня, а ра¬
бочий — завтра, но знает — коммунист, что ты для крестьянина
ничего хорошего не сделал за 8 лет”183. Еще более резкую оценку
политике большевистской партии дал в своем письме в “Кресть¬
янскую газету” в 1925 г. житель деревни Михайловка Архаринской
волости Завитинского уезда Амурской области Г. Масюра. Он с
большим негодованием писал: “Сколько существует крестьянство,
оно еще не имело ни к кому такой вражды, какую оно имеет к
рабочим вообще и к коммунистам в частности, и причина этой
вражды не здесь, не на месте родилась, а выходит из самого сер¬
дца коммунистической партии, ибо ее святой лозунг — диктатура
пролетариата — и есть корень вражды. Генералов и помещиков у
нее нет, чтобы проводить над ними диктатуру, осталось только
над крестьянами, ибо крестьянин продает последнюю корову для
налога не по доброй воле, а только под давлением диктатуры...
всякая партия представляет из себя нечто иное, как кучку, а ос¬
тальное — беспартийное целое, другими словами говоря — партия
на местах вылилась в опричнину, хотя она и не привязывает к
седлу собачью голову как опричники Ивана Грозного, но стоит
она всегда опричь от народа. Крестьянин кормит и поит, обувает
и одевает всех, кроме себя, так как сам часто бывает голодный и
голый, а коммунист готовое подбирает и не только не помогает,
а везде только мешает и в своеволии не знает границы”184.
Конечно, тон данного письма эмоциональный, сформулиро¬
ванные в нем некоторые'положения не всегда объективны, но его
174
содержание раскрывает боль крестьянской души и негодование
по поводу проводимой политики коммунистической партии в де¬
ревне, в результате которой сельчанин в экономическом, соци¬
ально-правовом отношении оставался униженным и оскорблен¬
ным. Подтверждением тому служит вышеизложенный материал.
* * *
Отмечая неоднозначное отношение крестьян к сельским ком¬
мунистическим ячейкам, воспринимаемых пассивно-равнодуш¬
но, негативно и враждебно, все же позиция жителей деревни,
как показывает вышеизложенный материал, к партийцам в боль¬
шинстве своем оставалась отрицательной. Это объяснялось, во-
первых, малочисленностью деревенских ячеек, их составом, в
которых объединялись преимущественно сельские управленцы —
чиновники, работники низового советского аппарата и обществен¬
ных организаций на селе, выходцы, главным образом, из мало¬
мощно-бедняцких слоев и городских рабочих с низким образова¬
тельным, культурным уровнем, политически неграмотных или
полуграмотных, нередко морально-разложившихся.
В то же время вступить в ряды правящей партии рядовому тру¬
долюбивому, честному, образованному крестьянину практически
было невозможно. Согласно уставу коммунистической партии, он
находился в неравных, дискриминационных условиях по сравне¬
нию с рабочим. Руководство РКП(б)—-ВКП(б) не доверяло кресть-
янину-труженику, смотрело на него как на мелкого буржуа, пред¬
ставляющего потенциальную опасность для советской власти в случае
роста его общественно-политической активности. Поэтому всячес¬
ки ограничивался прием в ряды партии крестьян.
Во-вторых, негативное восприятие большинством крестьян
деревенских коммунистических организаций определялось еще их
стилем, методами и характером деятельности, пренебрегающих
коренными насущными нуждами и чаяниями сельчан. В работе
коммунистов преобладал командно-нажимной метод, грубость и
произвол по отношению к крестьянам, унаследованные от эпохи
военного коммунизма. Сельские партийные ячейки, превратив¬
шись по сути в придаток государственного аппарата, оказались
отчужденными, изолированными от основной массы крестьян и
представляли собой мелкие островки в огромном океане милли¬
онов единоличных хозяйств.
175
Глава третья
КРЕСТЬЯНСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ
Антиправительственная, антикоммунистическая агитация и
пропаганда
Массовое недовольство крестьян и критика политики советской
власти
Несмотря на традиционную покорность, смирение, государ¬
ственность и терпеливость российского крестьянства, тем не менее
последнее не было безграничным. Экономическая политика госу¬
дарства в деревне, в том числе непосильные налоговые платежи,
низкие цены на сельскохозяйственную продукцию и высокие —
на товары широкого потребления, инвентарь, ограничение граж¬
данских прав, демократических свобод, командно-административ¬
ные методы управления крестьянами нарушали их спокойствие,
терпение и вынуждали сопротивляться политике советской влас¬
ти, о чем уже частично шла речь выше.
В зависимости от района, конкретной обстановки, органи¬
зованности, политической сознательности крестьян и поведения
работников партийно-советских органов крестьянское сопротив¬
ление принимало различные формы: как пассивные, так и актив¬
ные. С нашей точки зрения, самой массовой пассивной формой
протеста сельчан явился их бойкот выборов в деревенские сове¬
ты, как указывалось в них участвовало в 1922 г. 22 % избирателей
на территории РСФСР, а в 1927 г. — 47 %. Следовательно, в сред¬
нем в годы нэпа участвовала в перевыборах в советы примерно 1 /3
всех сельских избирателей, тогда как около 2/3 — их бойкотирова¬
ли, т.е. они были недовольны политикой государства, против ко¬
торой и протестовали, не являясь на избирательные собрания. Даже
если учесть, что какая-то часть крестьян не пришла на выборы по
176
организационно-техническим причинам, по вине недоработок мес¬
тных руководителей, тем не менее, на наш взгляд, все же свыше
половины сельчан в избирательном процессе не участвовали созна¬
тельно, они не верили в реальную власть деревенских советов, кото¬
рые могли был улучшить их тяжелое экономическое положение.
Другой наиболее распространенной пассивной массовой фор¬
мой крестьянского сопротивления партийно-государственной по¬
литике по отношению к деревне оставались их многочисленные
жалобы в центральные органы власти, в газеты, а также острая,
нелицеприятная, аргументированная критика на сельских сходах,
избирательных собраниях, на беспартийных конференциях эко¬
номических мероприятий советской власти. В первую очередь на
протяжении всех лет нэпа сельчане проявляли массовое недоволь¬
ство, по их оценке, “грабительскими” налоговыми поборами и
другими повинностями, которые их нередко разоряли и не дава¬
ли возможности восстановить собственное хозяйство до уровня
довоенного. Об этом свидетельствуют информационные сводки ор¬
ганов ОШУ, начиная с перехода к нэпу. Так, уже в апреле 1921 г.
из Владимирской губернии сообщали, что на декреты о продна¬
логе и товарообмене “население смотрит как на признание совет¬
ской властью своей несостоятельности”. В Темрюковском районе
Кубано-Черноморской области жители были “настроены враж¬
дебно из-за недостатка предметов первой необходимости”. В Тю¬
менской губернии отношение крестьян к советской власти оста¬
валось отрицательным, а декрет о продналоге они восприняли
“недоверчиво”. В июне 1921 г. позиция сельчан Симбирской губер¬
нии к советской власти являлась враждебной. В октябре того же
года отношение сельского населения Пермской губернии к ком¬
мунистам оставалось недоверчивым. В декабре 1921 г. беднейшее
крестьянство Рязанской губернии выражало недовольство “обре¬
менительной трудовой и гужевой повинностью, так как труд не
оплачивается”. В январе 1922 г. отмечалась недоброжелательная
позиция сельчан Самарской губернии к коммунистам, поскольку
они “населению совершенно не дают помощи”1.
О глубоком недовольстве сельчан властью писал в своей жа¬
лобе крестьянин Г. Ерофеев из деревни Пасьма Ропяровской во¬
лости Кологривского уезда Костромской губернии в марте 1922 г.
в Наркомзем РСФСР. Рассказывая о невзгодах и бедствиях кресть¬
ян, их разочаровании, он сравнивал при этом политику советской
власти с политикой дореволюционного правительства. Ерофеев
указывал, что жители села много физически и духовно страдают
“за великие лозунги социализма, свободы, равенства” и верили в
177
будущее Но что же получается в сущности. “Много слов, много
разговору и статей пишется в газетах по поводу поднятия сельско¬
го хозяйства. Но все лишь бумажные фразы, а на деле сов. власть
оказывается не добрее, пожалуй, и царской. Волнует крестьян¬
ство лозунг: “Все богатства Республики народу”, а на деле нет —
крестьянин становится вором по воле сов. власти”2. Он отмечает
глубочайший разрыв между декларативной политикой правитель¬
ства по отношению к сельчанам и суровой реальностью. Подтвер¬
ждает автор письма это и собственным примером. Вернувшись
домой с Гражданской войны 20 декабря 1921 г., он подал заявле¬
ние в местный совет об оказании ему помощи лесным материа¬
лом для постройки избы. Однако в течение трех месяцев не полу¬
чил никакого ответа, что и побудило его обратиться с письмом в
Наркомзем РСФСР.
Как выше сказано, особенно негодовали крестьяне на госу¬
дарственную налоговую политику, которую они считали граби¬
тельской, разорительной и крепостнической. Вот их некоторые
протестные оценки по поводу последствий налогового бремени,
зафиксированные работниками ОГПУ в различных районах РСФСР
в середине 20-х годов. Так, бывший партизан Тарского уезда Ом¬
ской губернии Ковтун, недовольный тяжестью налога, возмуща¬
ясь, предлагал его увеличить, чтобы поднять крестьян: “Я желал
бы, чтобы власть еще наложила налог потяжелее, тогда бы крес¬
тьяне сплотились и потребовали бы своих прав. Власть сидит на
нас верхом, а мы молчим”. Бывший командир партизанского от¬
ряда Лобанов из села Киштановское того же уезда, разочаровав¬
шись в экономической политике советской власти, по его мне¬
нию, разоряющей крестьянское хозяйство, заявлял: “Нет пользы
в настоящее время от земледелия. Соввласть последнее отбирает,
сеешь, сеешь, а есть нечего. При Колчаке мы здоровье потеряли,
имущества лишились для блага рабочего и служащего, которые
живут теперь безбедно и работают 6—8 часов”. Один из сельчан
Новой станицы Омского уезда давал аналогичную критическую
оценку экономической политике государства: “У соввласти нет
справедливости, кто гнет спину и ночи не спит, чтобы поддер¬
жать хозяйство, на том и едут, а разве всех дармоедов накормишь,
придется бросить хозяйство, тогда все равны будут”.
Из Екатеринбургской губернии раздавалась подобная критика
в адрес власти такого содержания: “Крестьянам очень плохо, про¬
дналогом сильно душат, прямо беда. Хлеб никакой цены не имеет,
также и скот”. В таком же негативном духе по отношению к властям
высказывались и жители Песочинской волости Елецкого уезда
178
Орловской губернии: “До чего мы дожили, — возмущались они,
— вот платили продналог, а теперь самим есть нечего, т.к. все что
было, израсходовали и скотину даже кормить нечем, приходится
сбывать”. В деревне Новоселка Ярославской губернии один из “ку¬
лаков”, т.е. зажиточных крестьян, на собрании, критикуя поли¬
тику правительства, заявил, что налог он платить не будет, ибо
“коммунисты — подлецы. С крестьян сдирают последнюю шкуру
и пропивают”. В этой связи и другим он “не советовал платить”.
Такую же отрицательно-враждебную оценку в адрес властей
высказал на общем собрании и крестьянин Степан Лифанов из
поселка Керебая Орского уезда Оренбургской губернии: “Соввласть
только тем и занимается, что “грабит с населения различные на¬
логи”. В селе Уссурки Спасского уезда Приморской губернии за¬
житочный крестьянин, протестуя против непосильных налоговых
платежей, губительных для хозяйства, рассуждал: “Нас душат
налоги, скоро все с голоду умрут, а власть не обращает внима¬
ния, только требует налоги, власть нас называет кулаками, ну а
как уничтожит наше хозяйство, то вы, бедняки, все с голоду про¬
падете”3.
Однако наиболее политически подготовленная, активная,
сознательная часть сельчан не ограничивалась критикой эконо¬
мических мероприятий правительства, но ставила вопрос о его
замене. На собраниях и сходах нередко звучали требования уже
политического порядка. Население настаивало на расширении
гражданских прав, на изменении Конституции в интересах крес¬
тьян, на демократизации советского общества. Характерно в этом
плане выступление жителя села Приветок Новоржевского уезда
Псковской губернии Богданова на беспартийной крестьянской кон¬
ференции 15 июля 1925 г. Свою речь, как он выразился, посвятил
против неправды и беззакония, используя при этом дарованную
властью “свободу критики”. Богданов сравнивал налоговую поли¬
тику советского государства с царской. При этом он комментиро¬
вал слова заведующего уездным финансовым отделом Рудзита,
который на жалобы сельчан о непосильности налогов, ответил:
“Лбом стены не прошибешь, и закон изменить нельзя”. Он сделал
такой вывод: “Оправдывается старая пословица: до Бога высоко,
до царя далеко”. Анализируя эту пословицу, Богданов продолжал
рассуждать: “Ведь при царизме приезжал к нам урядник, описывал,
отбирал за недоимку имущество и говорил: “Братцы, ведь это не я
отбираю, это закон свыше, а я как машина исполнитель”. Тогда мы
понимали, что урядник прав, он служит не народу, а правительству
Теперь мы должны жить по-новому, все правительство народное и
179
здешнее. Наше представительство — есть сам народ, но наше пред¬
ставительство превращается в машину”. Поскольку, по Богдано¬
ву, это “представительство” не выражает волю народа, оторва¬
лось от него. Вот почему крестьяне даже перестали посещать
собрания, на которые власть вынуждает их прийти “под угрозой
отдачи под суд”, если они туда не явятся. Основная причина от¬
сутствия сельчан на собраниях заключается в том, что на них вы¬
ступающие “хвалят советскую власть и ругают Чемберлена, Пил-
судского и Макдональда, не обсуждая наболевшие хозяйственные,
местные вопросы. Мы должны говорить: почему весной дорог хлеб,
когда его покупает беднота, для которой это большое разорение”.
При этом Богданов, критикуя действия государства, сослался на
жизнь крестьян своего родного села Приветки, которое органы
власти считают богатым, тогда как на самом деле весной у поло¬
вины жителей не хватает хлеба, что ведет и к уничтожению скота.
Поэтому в селении имелось немало семей, насчитывающих 7 че¬
ловек, но была одна лишь корова. За бедственное экономическое
положение населения своего села Богданов возложил вину на со¬
ветское правительство, поскольку оно, по его мнению, не крес¬
тьянское: “Нам думается, что теперешнее правительство есть ра¬
бочее. Быть крестьянином надо жить впроголодь, ходить в грязных
одеждах, на руках мозоли. Работать нужно тяжело Много есть на
свете несправедливости. Обращаюсь к правительству с просьбой
пожалеть нас, мы народ мирный, трудолюбивый и терпеливый и
работаем тысячелетия. Многие из мужиков не знают вкуса мяса
круглый год, сделать равенство и справедливость и пожалеть му¬
жиков. Мы хотим другого правительства. Мы живем как на вулка¬
не, все нервы издерганы. Сегодня не покрыл колодец — штраф,
воз из леса привез — штраф, дорогу не починил — штраф и так
бесконечно”4.
О замене правительства, не справлявшегося со своими обя¬
занностями по отношению к жителям деревни, не заботящегося
об их интересах, говорили и другие крестьяне, в том числе и нов¬
городские. Так, в первой половине 1925 г. в Лучинской волости
Валдайского уезда сельчане обсуждали вопрос о замене советской
власти, так как она “грабит и грабит и нашей нищете не будет
конца”. А в одной из волостей население даже провело дискуссию
на тему: “Что лучше: царь или соввласть?”. В том же году жители
Завидовской волости Московской губернии высказывались за из¬
менение Конституции в интересах крестьян5.
Нередко сельчане использовали избирательную кампанию по
выборам в советы для критики политики правительства и выдвигали
180
как экономические, так и политические требования. Например, в
середине 20-х годов в Волоколамском уезде Московской губернии
в Шаховской волости на собраниях они ставили перед властью
такие наболевшие для них лозунги и вопросы: “Дайте вольную
торговлю и с заграницей”, “Дайте свободу печати”, “Долой ком¬
мунистов из советов”, “Революцию сделали не рабочие, а кресть¬
яне”6.
Недоверие к правительству, недовольство его политикой про¬
слеживалось и в крестьянских письмах родственников красноар¬
мейцам, проходившим службу в Ленинградском военном округе
в 1925 г., в том числе из Рязанской, Смоленской, Костромской и
других губерний. “Настроение крестьян к советской власти очень
плохое, — говорилось в одном из них. — Я не верю, чтобы советская
власть помогала, она век никому не помогала, ей самой мало, вся¬
кого крестьянина оголила и обобрала”. В письме из Воронежской
губернии звучал прямо-таки крик отчаяния, безысходность сель¬
чан, их пессимизм, неверие в лучшую будущую жизнь. “Так и
хочется все послать к черту и уйти от этого подлого и лживого
мира. Это не жизнь, а каторга и какого черта люди посмотришь
живут на свете”. В таком же пессимистическом духе, об обречен¬
ности на бедность, безрадостной жизни крестьян говорилось и в
письме из Уральской области: “Я так сознаю, что какая бы ни
была власть, все равно жить трудно, раз мы с малых лет в кабале,
то нам никогда не выбраться, и мы вечно будем закабалены, мы
народ темный, необразованный, за неимением капитала нам не
получить образование”7.
В декабре 1926 г. крестьянин Г. Сидоров из Северо-Западной
области в письме в журнал “Красная деревня”, недовольный по¬
литикой правящей партии, ее критиковал так же как и местную
власть за творимые ею безобразия и беспорядки, за отсутствие
демократии. В этой связи он указывал на то, что “объявленный
коммунистами режим экономии проводится усилением пьянства
и разбазариванием средств. Во время перевыборов крестьянам не
дают говорить, а иногда не пускают на собрания. Собираются толь¬
ко одни коммунисты. На такие собрания лучше не ходить, ибо на
них собирают крестьян только для формы”8.
Острый недостаток в низовой кооперации на селе промыш¬
ленных товаров, в том числе первой необходимости: мануфакту¬
ры, соли, мыла, оконного стекла вызывал также протесты кресть¬
ян. Об этом можно судить по информационным сводкам органов
ОГПУ за 1927 г. Например, во всех губерниях Поволжья отсутствие
товаров широкого потребления порождало “сильное недовольство
181
и нарекания на кооперативные организации и соввласть широких
слоев деревни”. Так, в Астраханской губернии крестьяне, не на¬
ходя в кооперативах промышленных товаров, возмущаясь, не до¬
веряя власти, говорили: “На каждом собрании мы слышим, что
товаров много, фабрики и заводы превысили дореволюционный
уровень, а в действительности товаров нет — теперь уже верить
этим сказкам не приходится”. А в тех кооперативах, где товар
имелся, он распределялся в первую очередь среди служащих и тех
крестьян, которые внесли пай. Поскольку большинство маломощ¬
ных сельчан ввиду отсутствия денег пай не уплачивали, то и оста¬
вались неудовлетворенными мануфактурой, солью, мылом. “Нам,
беднякам, товаров не отпускают, как пайщикам, а мы, ввиду своей
бедности, полный пай внести не можем”. В Томском округе от¬
пуск мануфактуры только членам кооперации также вызывал силь¬
ные нарекания со стороны некооперированного крестьянства. Оно
негодовало, считая, что “государство отпускает товар потому, что
хочет кооперировать население на 100 %”9.
Общая неудовлетворенность крестьян своим экономическим
положением, резкая критика государственной политики в дерев¬
не четко прослеживается в их письмах и жалобах в год десятиле¬
тия советской власти, в 1927 г., кода материальное положение
многих из них по сравнению с дооктябрьским периодом не толь¬
ко не улучшилось, но даже ухудшилось, хотя некоторые сельчане
порой затруднялись понять причины такой ситуации. Например,
в апреле 1927 г. крестьянин Ф.З. Дубровин из села Сусловского
Мамонтовского района Барнаульского округа Алтайской губер¬
нии писал в “Крестьянскую газету”: “Жизнь при советской влас¬
ти никуда не годится. Я не знаю от чего зависит: или от началь¬
ства, или такой уже народ стал. Каждый год поджоги, да
хулиганство. Жгут хлеб в скирдах, жгут риги с хлебом, дома раз¬
ные, постройки. Сожгли уже две мельницы ветровые. Поджигают
больше лодырь, да хулиган и где будем искать спасения от таких
худых людей. Раньше наши старики говорили пословицу: “До Бога
высоко, а до царя далеко”. А сейчас Бога нет, и царя нет, а на¬
чальство никакие меры не хочет делать. И вот теперь приходится
ожидать только одну лишь гибель”. Крестьянин А.Ф. Шклинов из
села Богуславского Бугуруслановского уезда Самарской губернии
в письме в ту же газету жаловался на нелегкую жизнь сельчан,
несмотря на то, что они “кровь пролили за землю”, обеспечивая
продуктами Красную Армию. Однако “крестьянину ничего не по¬
пало, вышел кругом обман”.
182
В отличие от вышеназванных сельчан, которые не всегда могли
понять причины своего бедственного положения, один из кресть¬
ян Курской губернии в январе 1928 г. в письме в “Крестьянскую
газету” всю вину за неудовлетворительное состояние деревни воз¬
лагал на советскую власть, ее экономическую политику, не спо¬
собствующую подъему хозяйства: “Власть не дает развивать
хозяйство, не дает воли, нет свободы крестьянину. Как только
приподымет кто хозяйство, ему лишают право голоса, значит
власть хочет, чтобы все жили в нищете. Нет, какая же это свобо¬
да, надо помогать, надо свободу давать крестьянину, чтобы он
развивался, чтобы он налаживал хозяйство, ведь крестьянин всю
Россию кормит, вся Россия на его содержании, как же не дать
свободы крестьянину. Но только что называем свобода, а мы не
знаем ее, вот государству понадобилось хлеба, где его взять, давай
с крестьянина, налог с крестьянина, хлеб с крестьянина, а крес¬
тьянину нет кроме хлебопашественных заработков”10.
С разоблачительной речью против проводимой государствен¬
ной политики в деревне выступал на собрании в январе 1927 г.
один из крестьян с. Орловка Верхопянской волости Белгородско¬
го уезда. В ходе обсуждения проекта резолюции, предложенной
после доклада судьи о земельном, гражданском и уголовном пра¬
ве, он сказал: “Власть советов и ВКП не отражает интересы крес¬
тьян. До каких пор вы будете дурачить крестьян? Вы замучили крес¬
тьян налогами. Нет ни одной страны, где бы их так душили. У власти
сидят не крестьяне, а растратчики и бывшие белые. Высокими це¬
нами на мануфактуру и другие городские товары дерете шкуру с
мужика, а ему за рожь платите 70 коп. Мы, крестьяне, за вами,
коммунистами, не пойдем и не верим вам, и если вы допустите
этот вопрос обсуждать, то увидите, что масса погонит вас”. После
столь эмоционального критического выступления, подержанного
и другими крестьянами, предложенная резолюция собранию су¬
дьей “не собрала ни одного голоса”, хотя на нем присутствовал и
председатель и секретарь сельского совета11.
Подобной критике подвергалась политика советского прави¬
тельства не только российскими, но и украинскими сельчанами. Об
этом нам дает представление письмо селькора Л.Н. Бондаренко из
поселка Южный Харьковского округа, отправленное в январе 1928 г.
в “Крестьянскую газету”. Он сурово осуждал власть за творимое на¬
силие над личностью, в том числе и за национализацию государ¬
ством средств производства, когда открылся “широкий простор для
произвола и взяточничества”. “Эксплуататором является правитель¬
ство, захватившее в свои руки свое государственное имущество и
183
орудующее им безответственно, крайне бесхозяйственно, с без¬
расчетно-широким размахом, поэтому для массы людей безраз¬
лично, кто их эксплуатирует: капиталист-помещик или само пра¬
вительство, от всех им больно и все им ненавистны. Таким образом,
наше строительство социализма имеет сходство со строительством
китайской стены, которая энергии поглотила много, а толку в
ней никакого”. При этом автор письма, критикуя политику госу¬
дарства, высказывался за восстановление частной собственности
на землю, за свободную торговлю, предпринимательство, инди¬
видуальность, против насильственного навязывания социализма,
к строительству которого, по его мнению, страна была не готова,
ибо “при посредстве малограмотных чиновников”, ищущих лич¬
ной выгоды, не может осуществиться никогда; “от уродов родят¬
ся только уроды. Десятилетний опыт показал то, что делается те¬
перь неосуществимое”12.
Несмотря на некоторую эмоциональность, запальчивость,
автор во многом оказался прав, когда подводил итоги деятельно¬
сти партийно-государственного руководства страны за десятиле¬
тие существования советской власти, хотя “эксплуататором” кре¬
стьян выступало прежде всего государство при осуществлении
экономической политики. В бедной, полуголодной стране, когда
ею управляло много малообразованных, темных чиновников,
бюрократов от союзно-республиканского до деревенского уров¬
ня, построить настоящий социализм представлялось невозмож¬
ным, а вырисовывался действительно некий “урод”, внешне на¬
поминающий подобие социалистического общества, искаженное
практикой. Свидетельством тому являлось массовое недовольство
крестьян в связи с их тяжелым материально-экономическим по¬
ложением как следствие проводимой политики руководством стра¬
ны, в том числе и накануне 10-летия Октябрьской революции.
Правительство СССР, чувствуя настроение крестьянских масс,
их недовольство советской властью, ради успокоения пошло на
уступки и предоставило некоторые так называемые льготы от¬
дельным слоям, чтобы облегчить их материальное положение.
Накануне 10-летия Октябрьской революции был принят на юби¬
лейной сессии ЦИК СССР Манифест, в котором кратко подво¬
дились итоги за прошедшие годы существования советской влас¬
ти. В нем говорилось об улучшении жизненного уровня рабочих,
крестьян и намечался переход на 7-часовой рабочий день без со¬
кращения заработной платы. Что касается сельчан, то в Манифе¬
сте предлагалось освободить от налога дополнительно еще 10 %
маломощных крестьян сверх 25 % бедняцких хозяйств, ранее не
184
плативших налоги. Предлагалось также списать с жителей деревни
задолженность по семенной ссуде, выданной государством в свя¬
зи с неурожаем 1924/25 г. Кроме того, намечалось и снятие недо¬
имок с бедноты, проведение землеустроительных работ за счет
средств государства в маломощных хозяйствах и выделялось на
эти цели 10 млн. руб.13
Предлагаемые меры по улучшению экономического состоя¬
ния крестьян являлись мелкими, незначительными, и касались в
основном небольшой части бедняцких хозяйств. Они носили кос¬
метический, скорее пропагандистских характер и не могли суще¬
ственно поднять жизненный уровень сельчан. Вот почему некото¬
рые из них критически, негативно восприняли “Манифест”
Центрального исполнительного комитета СССР, обнародованный
в преддверии 10-летия Октябрьской революции. Об этом говорят
информационные сводки органов ОГПУ за ноябрь-декабрь 1927 г.
Вот лишь некоторые из них факты, свидетельствующие о недо¬
вольстве сельчан, прежде всего среднего достатка, политикой го¬
сударства накануне 10-летия советской власти, в том числе и со¬
держанием “Манифеста”. Так, в слободе Гусевка Н. Девицкой
волости Нижнедевицкого уезда Воронежской губернии на собра¬
нии, посвященном 10-ой годовщине Октябрьской революции,
после прочтения докладчиком пункта “Манифеста”, где сказано
о 7-часовом дне для рабочих, группа середняков возмутилась,
подняла шум и кричала: “Рабочие сами себе часы понижают и
жалованье назначают, а с крестьян все больше дерут. Какая это
свобода, если у нас не спрашивают, а постановляют. Брось чи¬
тать, там для крестьянина ничего хорошего нет”. Примерно также
восприняли “Манифест” и сельчане деревни Масловка Данковс-
кой волости Раненбургского уезда Рязанской губернии на торже¬
ственном заседании 17 ноября. Один из выступивших середняков
заявил: “Власть не равняет рабочего с крестьянином, первому со¬
кратили рабочий день до 7 часов, а у нас опять остаются все 24 часа”.
К внесенной резолюции им было предложено следующее допол¬
нение: “Правительству нужно больше обращать внимание на кре¬
стьян”. Данная поправка была принята с одобрением собравши¬
мися.
При обсуждении “Манифеста” крестьяне особо возмущались
их неравноправным положением по сравнению с рабочими, пос¬
ледним правительство дает льготы, а сельских жителей забывает,
утверждали они. Об этом же говорил на собрании 10 ноября один
из середняков с. Барятино Гарусовской волости Калужского уезда.
“Манифест мы в целом одобряем, — сказал он, — но там больше
185
предоставлено льгот рабочим, беднякам, а для нас, середняков,
ничего нет”.
Подобный упрек властям звучал и на собрании в с. Шайдаро-
во Ленинской волости Московского уезда. “Рабочему 7-часовой
рабочий день, а крестьянину ничего, — говорил один из серед¬
няков. — У крестьянина хлеб берут по 50 коп. пуд, а продают его за
1 руб. 20 коп. Сельскохозяйственный налог собирают также, как и
прежде подати — последний самовар у мужика отнимают, а затем
Манифест пишут”. 16 ноября в с. Тернебуш Веневского района
Тульской губернии при обсуждении “Манифеста” один из крес¬
тьян, недовольный налоговой политикой государства, возмуща¬
ясь, сказал: “Это дополнительное 10 %-ное освобождение хозяйств
бедняков ляжет на нашу спину. Власть дает льготы только бедно¬
те, а середнякам говорит: “Подожди”, и выходит, что с одних
сложили, а на других наложили”. Такую же негативную позицию
заняли к власти середняки деревни Масловки Плавского района
той же губернии. Они негативно высказывались о “Манифесте” и
также опасались, что освобождение сельчан от налога приведет в
будущем к росту их налоговых платежей: “Эти деньги с нас же
сдерут, тем более, что цены на продукты промышленности будут
повышены, т.к. рабочий день будет сокращен до 7 часов, а на
наши продукты снижены”!4.
Одной из форм пассивного протеста крестьян против комму¬
нистической политики явилось также и распространение среди
некоторых из них пораженческих настроений в связи с обостре¬
нием международной ситуации в 1927 г., в том числе и с разры¬
вом отношений между СССР и Великобританией и убийством
советского представителя Войкова в Варшаве. К тому же партий¬
но-советское руководство страны, на наш взгляд, сознательно
нагнетало в пропагандистской кампании военную истерию, пре¬
увеличивало опасность войны. Между тем многие сельчане не хо¬
тели войны, а некоторые из них вообще не желали даже защи¬
щать советскую власть с оружием в руках, разуверились в ней,
поскольку ее политика не удовлетворяла их насущные нужды, не
вела к улучшению материального благополучия.
Например, 28 июля 1927 г. на собрании Березовского района
Воронежской губернии после доклада о международном положе¬
нии выступил “кулак”. Он подверг резкой критике политику ком¬
мунистов как антикрестьянскую, которых, по его словам, не сле¬
дует защищать. “Партия ВКП(б) обращается к нам только в
трудную минуту для нее, а когда все обстоит благополучно, она
забывает про нас, так пусть же партия и идет защищаться сама.
186
Все мы против войны и не пойдем бить рабочих и крестьян других
стран. Мы не желаем строить аэропланов, чтобы этими аэропла¬
нами нас били и чтобы не восстановить против себя рабочих дру¬
гих стран. Нам война не нужна, мы не хотим ее и воевать не пой¬
дем. Все имеющиеся орудия, пулеметы и аэропланы нужно
переделать на сохи и бороны”. Это пацифистское, антимилитари¬
стское, антибольшевистское выступление “кулака”, т.е. зажиточ¬
ного крестьянина, поддержала часть присутствующих сельчан на
собрании. При обсуждении предложенной резолюции, в которой
говорилось о необходимости встать на защиту советской власти,
раздавались такие голоса, как: “Долой такую резолюцию, мы на¬
чеку быть не хотим, и если мы на войну не пойдем, то сидячих
бить не будут”. За рекомендованную резолюцию властями прого¬
лосовало только 15 человек из 250 присутствующих.
25 июля на собрании пайщиков Рождественского кооперати¬
ва Воскресенского уезда Московской губернии после доклада об
опасности войны выступил зажиточный крестьянин. В своей речи
он обосновал причины отказа от участия в войне: “Мы воевать не
будем. Воевать должны те, кто получил улучшение от соввласти,
но не мы, крестьяне”. В таком же антисоветском пораженческом
духе высказался один из середняков деревни Оликово Мещевско-
го уезда Калужской губернии на собрании членов крестьянских
обществ взаимопомощи 25 июля по докладу о международном по¬
ложении. “Нам незачем кричать: “Ведите нас против буржуазии,
мы все, крестьяне, ляжем на защиту соввласти!”. Этого вам, ком¬
мунистам, не дождаться, так как крестьянам не за что защищать
власть, она нам ничего не дала, а все права и привилегии дала
вам, коммунистам. Так идите и защищайте сами”.
Подобную позицию защищала и часть жителей села Иванино
Глушковской волости Рыльского уезда Курской губернии. После
доклада на собрании 27 июля о военной опасности, один из се¬
редняков, говорил: “За что мы пойдем воевать, у нас малоземе¬
лье и нашу землю отобрал совхоз, который сдает ее нам же в
аренду за работы по 16 часов в день, экономя платит крестьянам
всего лишь 80 коп., можно ли так жить. Мы воевать не пойдем,
пусть стреляют нас”15.
Такого же мнения придерживались и сельчане деревни Вязовки
Богородицкого района Тульской губернии, недовольные политикой
советской власти, которая не улучшила их жизненный уровень. “Во¬
евать не будем, — говорили они, — власть для нас ничего не сдела¬
ла, землю нам не дала, она досталась трестам и совхозам, если нас
возьмут на войну, то сдадимся в плен”. Поэтому за предложенную
187
собранию резолюцию по докладу о международном положении из
140 присутствующих человек проголосовали только 2, “остальные
при голосовании воздержались”. В деревне Пустоши Гремяченского
района той же губернии на общем собрании крестьяне ограничились
принятием резолюции по докладу о международном положении та¬
кими словами: “Мы считаем правильным обойтись без всякой вой¬
ны”. И в то же время они отвергли поправки к данному документу,
в котором указывалось: “Если на нас нападут, то дадим отпор”.
На расширенном пленуме Железнинского сельского совета Па-
хомовского района Тульской губернии, где присутствовало 50 чело¬
век, также не одобрялся пункт в предложенную резолюцию, где
отмечалось: “в случае военных столкновений крестьяне выступят
на защиту соввласти”. Они настаивали, чтобы это положение было
исключено. Отказались от голосования за аналогичное постанов¬
ление и жители села Лучкино Алексинской волости Ковровского
уезда Владимирской губернии. Они считали: “Нам войны не надо
и мы воевать не хотим, пусть нас берут без войны”.
На беспартийной крестьянской конференции в селе Жиряти-
но Бежецкого уезда Брянской губернии в выступлениях некото¬
рых ораторов высказывались антивоенные настроения такого ха¬
рактера: “Была война, брали скот, продукты и все другое. Нас
самих гнали штыками воевать. За что мы воевали? Если теперь
будет война, нам нужно не идти и ничего не давать, пусть воюют
одни рабочие и коммунисты”. Причем за последние слова “апло¬
дировала вся конференция”.
В селе Мальфа того же уезда на беспартийной крестьянской
конференции звучали не только резкие антивоенные оценки, но
давалась критика и международной политике коммунистической
партии, которую сельчане отвергали. На конференции раздава¬
лись резкие антибольшевистские голоса: “Мы воевать не пойдем,
если война будет начата нашим правительством. В империалисти¬
ческую войну большевики сказали: “Долой войну!”, а кто теперь
это скажет? Соввласть говорит, что нужно быть готовым, ну и
готовьтесь, причем здесь мы. Когда начнется война, то компартия
не будет в авангарде, а в авангарде будет беспартийная Красная
армия. О войне говорят и войну думает начать компартия, т.к. ей
нужно укрепить Коминтерн, если мы не захотим воевать, то вой¬
ны не будет. Мы не против Соввласти, нам не нужна компартия”.
15 июля на сходе жителей села Маркушево Владивостокского
округа за предложенную резолюцию властями, осуждающую во¬
енные приготовления Англии против СССР, проголосовали только
4 человека, а 115 — воздержались.
188
Отклонение сельчанами документов, составленных местны¬
ми партийными и советскими работниками, призывающими го¬
товиться к войне, к защите СССР, имело место и в других райо¬
нах. При этом нередко это сопровождалось соответствующей
аргументацией, в том числе и тяжелыми воспоминаниями о Пер¬
вой и Гражданской войнах, принесших им много бед. Например,
26 августа в селе Сагунах Подогрейской волости Россошанского
уезда Воронежской губернии при обсуждении на собрании докла¬
да о международном положении один из середняков сказал: “Мы
уже повоевали, если меня погонят на войну, я лягу и буду лежать.
Иностранный воин такой же, как и я, крестьянин, и убивать не
будет, нам с ним драться нечего”. Присутствующие на собрании
женщины это выступление поддержали криками: “Долой войну,
воевать не будем”.
Другой оратор в своей речи конкретизировал негативное от¬
ношение к войне такими словами: “Старые пули у нас в спине
сидят. Весь народ притеснен, самая лучшая земля забрана совхо¬
зами. Кто же и за что пойдет на новую войну?”. Эти слова нашли
дружную поддержку со стороны присутствующих на собрании. Они
встретили их криками: “Верно, правильно, воевать не будем”. После
прочтения резолюции, в которой указывалось: “Мы против вой¬
ны, но если на нас нападут, как один поднимемся на защиту
соввласти”, от присутствующих на собрании поступило предло¬
жение: “Принять первую часть, а вторую — не надо”. Однако ре¬
золюция вообще на голосование не ставилась, поскольку участву¬
ющие на нем сельчане перед этим ушли с собрания, тем самым
выразили своеобразный протест против нагнетания властями во¬
енного психоза и проводимых мероприятий.
На сходе в станице Каладжинской Армавирского округа по
вопросу о разрыве дипломатических отношений Великобритании
с СССР с осуждением первой в попытках навязать нашей стране
войну никто из присутствующих сельчан не проголосовал.
В антикоммунистическом, антимилитаристском, антивоенном
духе шло обсуждение резолюции по вопросу о международном по¬
ложении СССР и на сходе жителей села Пректич Мозановского рай¬
она Амурского округа. Один из выступающих, зажиточный крестья¬
нин, отвергая предложение о поддержке советской власти в случае
войны, заявил: “Нам такую резолюцию, чтобы идти воевать по перво¬
му зову правительства, не надо. Пусть воюют коммунисты и
рабочие. Никаких резолюций по докладу выносить не надо, за
что мы будем головы класть? Кто-то будет жить за наш счет, а
мы головы за них будем класть?”. В результате рекомендованный
189
документ собрание отвергло и приняло другую резолюцию, пред¬
ставленную зажиточными сельчанами. В ней говорилось: “Войны
мы не хотим, она нам не нужна. Нужно усилить внимание и сосре¬
доточить силы не на войне, а на поднятии сельского хозяйства”16.
Однако дело не ограничилось со стороны сельчан только откло¬
нением предлагаемых государственно-партийными работниками ре¬
золюций в защиту советской власти в случае войны, а в некоторых
местах срывались и сборы пожертвований в фонд обороны и не про¬
водились “недели обороны”. Например, в июле 1927 г. в деревне Бель-
ково Ковровского уезда Владимирской губернии не состоялось со¬
брание, посвященное “неделе обороны”, ибо на него явилось только
16 человек из 1043. На второй сход пришли 20 человек.
1 сентября в деревне Залесье Сакулинской волости Шуйского
уезда Иваново-Вознесенской губернии на сходе, посвященном
“Неделе обороны”, была вынесена резолюция: “Воевать не хо¬
тим, поэтому от всяких пожертвований отказываемся”. Аналогич¬
ное решение приняли на собрании и жители села Хоперское Тро-
стянской волости Балашовского уезда Саратовской губернии на
предложение докладчика об отчислении с каждого хозяйства по
10 коп. в фонд “обороны страны”, выступил против этого один
бедняк и сказал: “Государству наши гривенники не нужны, это
обман, им нужно наше согласие на войну, а мы не хотим вое¬
вать, пусть кто хочет, тот воюет”. В итоге сельчане отказались при¬
нять документ о десятикопеечном отчислении в фонд обороны17.
В ряде районов отклики крестьян на военную угрозу открыто
принимали враждебный, антисоветский характер, кое-кто на селе
рассчитывал что в условиях начавшейся войны можно будет свер¬
гнуть власть коммунистов и последних строго наказать. Вот лишь
некоторые суждения на этот счет. Так, в селе Глебово Озерской
волости Московской губернии бывший трактирщик в чайной го¬
ворил: “Положение у нас обостряется, должна вспыхнуть война,
а вместе с ней обязательно будет переворот, так как крестьяне,
чувствуя себя обманутыми, воевать не пойдут. Коммунизму при¬
дет конец и вся власть перейдет к другой партии, за которой идет
многомиллионное крестьянство”.
В июле 1927 г. в деревне Саморуково Трудовой волости той же
губернии зажиточный крестьянин, беседуя со своими односельча¬
нами, говорил: “Скоро будет война, дадут нам, крестьянам, ору¬
жие, а мы его обратим против соввласти и коммунистов, нам власть
рабочих не нужна. Мы ее должны сбросить, а коммунистов уду¬
шить”. В деревне Посиво Константиновской волости Сергиевского
уезда Московской губернии один из крестьян в частной беседе также
190
надеялся на падение советской власти и восстановление монар¬
хии в случае начавшейся войны. “Это хорошо, что убивают совет¬
ских представителей за границей, — рассуждал он. — Скоро на¬
станет такой момент, когда всему будет конец и у власти будет
находиться монархия, тогда мы заживем по-старому”.
10 июня в Чебулинском районе Омского округа один из за¬
житочных сельчан надеялся, что с началом войны “мы будем бить
и давить коммунистов, и когда всех уничтожим, тогда уйдем и
скроемся в тайге”. Подобные отдельные угрозы в адрес большеви¬
ков звучали и в других районах РСФСР, высказывалась надежда
на расправу с ними во время войны, чтобы “прогнать эту власть
коммунистов”18.
Конечно, подобного рода радикальные воинственные анти¬
коммунистические взгляды среди крестьян были редкостью, не
являлись доминирующими, хотя повсеместно общий настрой в
деревне оставалась критическим по отношению к политике ком¬
мунистической партии в деревне. Настрой ее жителей сводился к
формуле: “Войны не хотим, а хотим заниматься мирным трудом”.
В то же время не исключалась и другая противоположная реакция
сельчан в некоторых районах, ибо во время обострения отноше¬
ний СССР с Великобританией перед военной угрозой звучали и
такие голоса: “Мы требуем мобилизации, чтобы быть готовыми к
защите соввласти”19.
Из вышеуказанного материала явствует, что к концу нэпа
основная масса крестьян середняцко-зажиточных была недоволь¬
на прежде всего экономической политикой советской власти и
коммунистической партии. Это недовольство проявлялось в пас¬
сивной форме их протеста: в критике ее на сельских сходах и со¬
браниях, на беспартийных конференциях, в письмах в газеты и в
вышестоящие государственные органы, в частных письмах, бесе¬
дах, разговорах сельчан, регистрируемых органами ОГПУ. Однако
из сказанного не следует делать обобщающий вывод, будто все
имущественные группы крестьян повсеместно негативно отзыва¬
лись о политике советской власти, ее резко критиковали. В нэпов¬
ской деревне встречалось немало и принципиальных сторонников
и защитников советской власти, улучшивших свое экономичес¬
кое положение в 20-е годы, в том числе и среди бедняков. Вот
лишь некоторые позитивные отклики, зафиксированные работ¬
никами ОГПУ в различных районах РСФСР в самый трудный, на¬
чальный этап нэпа. Например, в апреле 1921 г. крестьяне Курской,
Самарской, Донской губерний к декретам о продналоге и товаро¬
обмене относились сочувственно. В мае 1922 г. отношение крестьян
191
Царицынской губернии к советской власти и коммунистической
партии оставалось удовлетворительным. Летом того же года пози¬
ция сельчан Челябинской, Новгородской, Тверской, Уфимской
губерний характеризовалась сочувствием по отношению к советс¬
кой власти20.
В начале 1923 г. отношение крестьян к правительству и партии
большевиков оставалось доверчивым в Чувашской области, Ор¬
ловской, Курской губернии. По сведениям органов ОПТУ, за пер¬
вую половину 1923 г. в 47 губерниях позиция крестьян к советской
власти была “за исключением кулаков” большей частью благо¬
приятной21.
Разумеется, настроения крестьян, их реакция на политику
государства не являлись устойчивыми и постоянными, они меня¬
лись в зависимости от времени года, от имущественного состоя¬
ния, специфики и социально-экономического положения регио¬
на, политической обстановки, от размеров урожаев, поведения
местных партийных и советских работников в период избиратель¬
ных кампаний в сельские советы, и существенно колебалось от¬
ношение к власти с учетом сумм налоговых платежей, цен на
сельскохозяйственную продукцию и других факторов.
Устная и письменная агитация. Листовки
В антисоветской, антикоммунистической стихийной кампа¬
нии, проводимой в деревне, заметную роль играла устная и пись¬
менная агитация. Последняя — в виде листовок, разного рода воз¬
званий, прокламаций, в основном написанных от руки чернилами
или карандашом. Эта агитация велась как индивидуально, отдель¬
ными сельчанами, так и группами крестьян в деревнях. После¬
дние квалифицировались обычно органами ОГПУ “кулацкими
группировками”, “первичными ячейками кулачества” и “антисо¬
ветскими элементами”. Они существовали легально и полулегаль¬
но, являлись узкими организациями в сельской местности. В их
деятельности присутствовали некоторые элементы организован¬
ного и целенаправленного сопротивления проводимым меропри¬
ятиям советской власти в данной местности. С ноября 1925 по ян¬
варь 1928 г. ОГПУ зарегистрировало в стране 2161 такую группу в
селах и деревнях в различных регионах, в том числе в централь¬
ных губерниях РСФСР — 419, в Северо-Западных — 102, в Повол¬
жье — 171, на Северном Кавказе — 433, на Урале — 141, в Сиби¬
ри — 222.
192
По количеству в них участников эти группы являлись неболь¬
шими, объединяющими несколько человек в каждой. Так, в воз¬
никших в 1926—1927 гг. в 1278 группах значилось 6380 человек,
или в среднем на каждую приходилось примерно 5 сельчан. По
своему социальному, имущественному составу они выглядели сле¬
дующим образом: служащих в них насчитывалось 2,1 %, сельской
интеллигенции — 2,3 %, неустановленных лиц — 14,4 %, кресть¬
ян — 81,2 %. Среди последних, по данным ОГПУ, из 5182 человек
73,9 % относились к “кулацко-зажиточным”, 22,5 % — к середня¬
кам, 3,6 % — к беднякам. Причем из всех участников групп 21,5 %
принадлежали к лицам “с антисоветским прошлым”22.
При этом антикоммунистические крестьянские группы, в
которых, как видно, были представлены все имущественные слои
деревни, действовали в основном временно, ибо они появлялись
обычно для агитации в период проведения советской властью
определенных кампаний, в том числе перевыборных в советы, в
правления кооперативов, во время сбора налоговых платежей.
Количество же постоянных, устойчивых и регулярно возникаю¬
щих групп колебалось от 10 до 30 % в разных районах страны.
Наибольшее число их появлялось в период проведения пере¬
выборов в деревенские советы. Так, в 1926—1927 гг. из 1992 зареги¬
стрированных групп в СССР 1017 возникли для проведения изби¬
рательной борьбы. Они готовили списки своих кандидатов в советы
и вели активную агитацию за них, сопровождаемую резкой крити¬
кой политики коммунистической партии, “заваливанием” ее пред¬
ставителей в низовой государственный аппарат, о чем уже упоми¬
налось. Например, в селе Михайловском Владивостокского округа
такая группа существовала в 1925—1927 гг. и называлась “Пахарь”.
Она наряду с антибольшевистской агитацией проводила своих лю¬
дей в состав некоторых сельсоветов и даже районный исполнитель¬
ный комитет.
В декабре 1926 г. в деревне Городище Мамошинской волости
Воскресенского уезда Московской губернии группа зажиточных
крестьян в количестве 15 человек, готовясь к предстоящим пере¬
выборам, занималась агитационно-пропагандистской деятельно¬
стью. На одном из собраний ее участники ставили задачу по “вы-
шибанию” теперешних членов сельсовета, чтобы избрать своих,
так как они “будут защищать наши интересы”. В этих целях группа
старалась привлечь на свою сторону односельчан, недовольных
политикой советской власти. В селе Малеты Малетинского района
Читинского округа зажиточные сельчане в 1926 г. проводили бесе¬
ды в период избирательной кампании, надеясь провести в совет
своих людей и “дать отпор голытьбе”23.
193
Летом 1927 г. в хуторе Звягинцево Медвенской волости Курс¬
кого уезда “кулацкая группировка”, во главе которой находился
местный учитель, открыто выступала против проводимых мероп¬
риятий советской властью, “дискредитировала” их и призывала
население не подчиняться ее постановлениям. В это же время в
деревне Большое Верево Троцкого уезда Ленинградской губернии
группа крестьян занималась пропагандистско-агитационной ра¬
ботой среди жителей окрестных селений, настраивала их против
правительственной политики. В июне 1927 г. в Нижне-Устюгском
сельсовете Пюженского района Северо-Двинской губернии крес¬
тьяне численностью 8 человек активно агитировали против дей¬
ствий местных партийных и советских работников под лозунгом:
“Долой коммунистов из советов”. Один из них в беседе с 30 одно¬
сельчанами рассказывал: “Проходивший райсъезд советов не был
крестьянским съездом, а был съездом служащих и “белой кости”,
которые интересов крестьян не защищали”.
В декабре 1927 г. на территории Сибири появилось 6 групп сель¬
чан, ведущих агитацию против государственной политики в де¬
ревне, одна из них действовала в деревне Орской Новосибирско¬
го округа. Под влиянием ее широкой агитации из местного
потребительского кооператива, в деятельности которого имелось
немало недостатков, стали уходить пайщики24.
В 1926 г. в ряде районов РСФСР крестьянская агитация прово¬
дилась под лозунгами: “Деревенские советы без коммунистов”,
“Кооперация без коммунистов”. В середине 20-х годов выдвига¬
лись и такие лозунги в деревне как: “Соввласть грабит и угнетает
крестьян”, “Соввласть — ярмо на шее крестьян”, “Соввласть раз¬
рушает все, а восстанавливать не может”, “Рабочий сапог давит
крестьянский лапоть”25.
В этот период Череповецкий губком РКП(б)—ВКП(б) нео¬
днократно констатировал “оживление антисоветской агитации в де¬
ревне, проводимой кулаками и зажиточными крестьянами”. В авгус¬
те 1926 г. Псковский губком ВКП(б) отмечал, что значительная часть
населения островов Залита и Белова настроена враждебно по отно¬
шению к советской власти, где ведется “злостная агитация про¬
тив коммунистов” и жители выступают за расширение частной
торговли26.
В ряде районов сельчане требовали не только более широкого
их участия в управлении на местном уровне, но и в общегосудар¬
ственном масштабе, ратовали за созыв союзного беспартийного
крестьянского съезда. Некоторые из них считали: “в России долж¬
ны быть две палаты: крестьянская и рабочая. Эти две палаты будут
194
защищать две стороны — рабочие будут защищать свою, а кресть¬
яне — свою”27.
Основное содержание агитации в деревне противниками со¬
ветской власти сводилось к тому, что она по своей природе анти-
крестьянская, ничего хорошего для жителей села не сделала, ни в
политическом, ни в социально-экономическом плане. Как заяви¬
ли четверо крестьян с. Ново-Хатуничи Владивостокского округа в
декабре 1926 г., нынешняя власть совсем не идет навстречу сель¬
чанам, не разрешает беспартийным жителям собирать свои кон¬
ференции, собрания для обсуждения и выявления проблем дере¬
венской жизни: “Крестьяне, как раньше, так и теперь являются
козлом отпущения, и это будет продолжаться до тех пор, пока
крестьяне в категорической форме не предъявят требования со-
ввласти об улучшении своего положения”.
В ходе антисоветской агитации в деревне в некоторых районах
ОГПУ зарегистрировало и открытые призывы к вооруженной борь¬
бе, восстанию, к проведению новой крестьянской революции для
свержения власти коммунистов. Так, в 1926 г. в Тульской губернии
в ряде выступлений звучали голоса такого рода: “Скоро крестьян¬
ство восстанет против соввласти под руководством знаменитых
людей, и тогда коммунистам будет крышка”. Подобного рода при¬
зывы раздавались и в Славгородском округе: “Нужен обязатель¬
ный переворот, чтобы нам коммунистов пересчитать, а то они
поналезли во власть и большое жалованье берут, а с нас, кресть¬
ян, дерут большие налоги”. В Воронежской губернии в ряде случа¬
ев сельчане также выражали надежду на скорое падение советской
власти при помощи революции, и тем самым они рассчитывали
избавиться от угнетения: “Соввласть всячески жмет крестьянство,
в результате дойдет до того, что крестьяне вынуждены будут про¬
извести крестьянскую революцию и свергнуть существующий
строй”.
Во время пропагандистско-разъяснительной деятельности,
направленной на критику политики власти, агитаторы-сельчане
ставили вопросы, связанные и с ликвидацией двух государствен¬
ных аппаратов в стране, партийного и советского. Например, в
деревне Подмошье Ленинградской губернии в 1926 г. на собрании
при обсуждении вопроса о материальной помощи английским гор¬
някам некоторые крестьяне рассуждали: “У нас нет денег для по¬
мощи рабочим других государств, много денег идет на содержание
двух аппаратов — советов и партии. Пусть нами командует кто-
нибудь один: совет или партия коммунистов, тогда и деньги лиш¬
ние будут”. Такую же идею пропагандировал и один из жителей
195
села Ребрихи Барнаульского округа: “Соввласть делает неправиль¬
но, зачем она установила два правления: рики и окрисполкомы и
Сибирский крайисполком, с одной стороны, и райкомы ВКП(б)
и окружкомы, с другой; ведь это двойной расход в государстве.
Одно правление нам совершенно не нужно, так как можно уп¬
равлять одними виками и выше, а парторганы ликвидировать,
только избрать в рики и выше партийцев и этим самым сократят¬
ся расходы в государстве и налоги с мужика будут меньше”.
В декабре 1926 г. в поселке Усть-Уйк Челябинского округа после
доклада представителя окружной власти на собрании выступил с
критикой один из зажиточных крестьян, недовольный своим эко¬
номическим положением: “Какая разница между царским и тепе¬
решним правительством, — рассуждал он. — Раньше богачи сиде¬
ли во фраках и председательствовали, и теперь такое же засилие,
и коммунисты так же сидят. Где коммунистов не просят и их не
хотят — они обязательно туда и заберутся. Вы, окружные работ¬
ники, приехали к нам в хороших шубах проповедовать небылицы
голому крестьянину. Какое может быть у казаков доверие к со-
ввласти, когда ею управляют жиды?”28.
В 1925 г. в селениях Тамбовской губернии, охваченных недоро¬
дом, особенно активно велась антикоммунистическая агитация, в
том числе и участниками вооруженного восстания 1920—1921 гг.
Так, в селе Калугине Курдюковской волости Кирсановского уезда
крестьянин Ишин, проведя беседы с односельчанами, говорил:
“Коммунисты взяли всю власть в свои руки, что хотят, то и дела¬
ют, продсубсидию дают только красноармейцам и беднякам, кото¬
рых мало били во время восстания, и которые еще дождутся”. В селе
Маркунь Карай-Салтыковской волости зажиточные жители агити¬
ровали бедноту не доверять советской власти. Обращаясь к ней,
они объясняли: “Вот вы говорили, что старая власть насиловала
нас, а теперь советская власть еще хуже насилует, народ голодает,
а советская власть говорит: “Иди и работай, а не хочешь работать —
погибай, вот где нашего брата прижимают, а выдаваемый хлеб за
общественные работы все равно в продналог вам зачтут”.
В таком же антиправительственном духе велась пропаганда не¬
которыми зажиточными жителями села Кашино Пригородной во¬
лости: “Какая это власть народа, — возмущались они, — крестьян¬
ство помирает с голоду, а советская власть дает по 3 фунта на месяц,
раньше при Николае II во время голодовки давали по 1 пуду куку¬
рузы, а теперь лишь 3 фунта”29.
Агитация против экономической политики государства велась
в деревне не только индивидуально крестьянами, но и целыми
196
группами сельчан, как упоминалось выше, что придавало ей от¬
дельные элементы организованности и некую целенаправленность.
По классификации органов ОГПУ, в 1926—1927 гг. насчитывалось в
стране 1992 “группировки”, из них противодействующих землеуст¬
ройству — 234; сопротивляющихся налоговой политике — 93, из
последних 4 действовали в Северо-Западном районе РСФСР, 20 —
на Северном Кавказе; 16 — в Сибири, 12 — на Урале.
В ряде районов агитация осуществлялась под лозунгом “Надо
организованно отказаться от уплаты сельскохозяйственного на¬
лога”.
При этом следует отметить, что агитация в деревне против
непосильных налогов активно проводилась на протяжении всех
лет нэпа в ряде районов РСФСР, в том числе в 1921—1924 гг. в
Уральской области, на Кубани, в Карелии30 и др.
В январе 1925 г. в Карачаево-Черкесской автономной области
зажиточные сельчане агитировали крестьян сокращать посевные
посевы, поскольку с их увеличением возрастала и сумма налого¬
вых платежей государству. В Заларинской волости Зиминского уез¬
да Иркутской губернии крестьяне-середняки вели разъяснитель¬
ную работу среди односельчан против налоговой политики
советской власти, которая их не защищает, а “разоряет и грабит.
Все партийные только набивают свои карманы, но они поплатят¬
ся за это своей жизнью”.
В Алтайской губернии в ряде селений в январе 1925 г. агитация
носила особенно враждебно-агрессивный характер по отношению
к коммунистам, в деятельности которых крестьяне усматривали
одни негативные последствия, включая разорительные для них
налоги. Так, в Рубцовском уезде зажиточные сельчане, недоволь¬
ные советской властью, агитировали за ее свержение и за скорое
возвращение “старой царской власти”. В селе Верхне-Алийском
“кулаки” проповедовали: “Пока будет существовать советская
власть, все разоримся, народ будет умирать с голоду. У нас остал¬
ся один выход — это всему народу организоваться и в каждой
деревне своих двух-трех коммунистов подушить, отобрать оружие
и ударить на городскую сволочь”.
В таком же воинственном духе агитировала против коммуни¬
стов и группа “кулаков” в селе Троцком Омской губернии. Один
из них заявлял: “Вот будь сейчас Ленин, я бы ему все глаза зап¬
левал, а потом выколол, до чего он со своей коммуной довел
Россию”. О необходимости борьбы с коммунистами призывали
и агитаторы с. Лазаревка Тамбовского района Амурской области в
сентябре 1926 г. Они призывали односельчан не платить налоги,
197
убеждая при этом их: “Коммунисты дерут с нас шкуру, а мы на
них смотрим. До каких пор это будет так продолжаться и когда
этому будет положен конец? Вам нужно восстать и покончить с
ними”. Аналогичные идеи внушал своим односельчанам один из
середняков села Максимовки того же района: “Коммунистов нужно
уничтожить, — говорил он в группе крестьян, — тогда нам будет
легче жить, меньше будет налога, а то коммунисты нас налогами
задушили”.
Основным протестующим требованием в антиналоговой аги¬
тации части сельчан являлось: не платить налог государству. Это
звучало во многих районах на протяжении всех лет нэпа. К выше¬
сказанному добавим еще несколько примеров.
В ноябре 1925 г. в деревне Свобода Никольской волости Воскре¬
сенского уезда Московской губернии зажиточный крестьянин Ры¬
лов агитировал население не выплачивать налоги, ибо последние
шли на содержание чиновников и коммунистов. Осенью 1927 г. в
Теплинско-Огаревском районе Тульской губернии бывший уряд¬
ник призывал местных жителей “отказаться от уплаты налога,
пусть что хотят и делают”. В селе Ново-Благодарненском Терского
округа четыре зажиточных крестьянина агитировали односельчан
не выплачивать налог, полагая, что так можно заставить прави¬
тельство пойти на уступки в предоставлении больших скидок. В но¬
ябре 1927 г. в деревне Озерки Контевской волости Тамбовского уез¬
да один из крестьян, получив в сельсовете окладный лист, стал
агитировать присутствующих в помещении сельчан, чтобы они
организовались и отказались платить сельскохозяйственный на¬
лог, ибо “нас замучают”. В той же деревне на собрании один из
зажиточных крестьян призвал односельчан отказаться от уплаты
налога.
В устной стихийно возникающей антисоветской агитации в
сельской местности в ряде районов РСФСР отражалось массовое
недовольство крестьян своим экономическим, социальным и пра¬
вовым положением, связанное, во-первых, с обременительными
налоговыми платежами и, во-вторых, с низкими ценами на сель¬
скохозяйственную продукцию и высокими — на промышленные
товары, поставляемые в деревню, в-третьих, с несвободными пе¬
ревыборами в советы. Поэтому агитация в деревне ставила еще
также и цель — побудить власть повысить цены на производимую
ими продукцию и снизить на предметы, изготавливаемые в горо¬
дах, и расширить частную торговлю, закупки товаров за границей
для полного удовлетворения ими крестьянских запросов. В этой
связи в некоторых селениях раздавались призывы не поставлять
198
продукты в города. Например, в декабре 1926 г. шла пропаганда
такого характера: “Наши с/х продукты берут даром, а фабричные
товары недоступны мужику. Нам, крестьянам, надо сговориться и
ничего не продавать из своих продуктов, пусть рабочие подыхают
с голоду”. “Если бы организоваться нам и не вывозить хлеб на
рынок, тогда мы бы подняли в цене свои продукты”.
Другой способ обеспечения сельчан промышленными това¬
рами, в том числе по более дешевой цене, — это закупка их час¬
тными лицами за границей. Поэтому агитация кое-где велась и за
расширение частной свободной торговли в стране. Так, в селе Зло-
бино Орловской губернии в конце 1926 г. один из торговцев разъяс¬
нял населению: “Соввласть не хочет, чтобы мужики по дешевым
ценам покупали товары, а товары можно было бы предоставить
для крестьян. Вот если бы соввласть привезла из-за границы ману¬
фактуру, то она стоила бы по 12 коп. аршин (аршин =71 см). Власть
старается обобрать мужиков и не заинтересована в удешевлении
цен”. Такие же взгляды пропагандировались иве. Русская Теми-
рязань Ульяновской губернии в это же время: “Если бы соввласть
разрешила частным торговцам ввозить товары из-за границы, то
этими товарами частный торговец завалил бы крестьян и стал бы
продавать эти товары дешевле, нежели советские фабрики”.
Поскольку партийно-государственное руководство страны к
концу нэпа не только не собиралось радикально менять экономи¬
ческую политику в деревне в интересах крестьян, а, наоборот,
усиливало на них нажим с помощью налогов и “ножниц” цен, о
чем выше говорилось, то часть радикально настроенных кресть¬
ян, полностью разочаровавшись в политике советской власти, в
своей агитации ставила вопрос, как уже говорилось, о ее замене,
в том числе и насильственным путем. Поэтому кое-где пропаган¬
дировались лозунги и такого революционного характера: “Рано
или поздно соввласть погибнет, потому что налог большой и кре¬
стьянство не выдержит и с пиками уже научилось воевать”31.
Если некоторые сельчане, недовольные политикой коммуни¬
стического правительства, намеревались с ними воевать и счита¬
ли его главным “врагом-угнетателем”, то вот почему-то с вне¬
шним, иностранным противником, часть из них отнюдь не желала
сражаться и проливать кровь за защиту советской власти, о чем
выше уже говорено. Поэтому отдельные сельчане проводили специ¬
фическую форму агитации — пораженческую в условиях обостре¬
ния международной обстановки в 1927 г. В ряде селений крестьяне
агитировали “за воздержание от войны”, “Пусть воюют рабочие и
коммунисты, нам незачем воевать”. О масштабах пораженческой
199
агитации в сельской местности можно судить по сведениям орга¬
нов ОГПУ, хотя и неполным, согласно которым было зарегист¬
рировано 7269 таких случаев в СССР, в том числе в Центральном
районе РСФСР — 1832, на Северо-Западе — 402, на Северном
Кавказе — 1803, в Поволжье — 332, на Урале — 217, по трем
округам Сибири — Ачинском, Барнаульском, Новосибирском —
284. Причем большинство агитационных выступлений падало на
июль 1927 г. В них участвовали все имущественные группы кресть¬
ян, хотя преобладали зажиточные, “кулаки и антисоветские эле¬
менты”. Они составляли до 75 %, а 25 % выступающих с “пора¬
женческой агитацией” относились к беднякам и середнякам32.
Устная индивидуальная и коллективная антикоммунистичес¬
кая агитация крестьян отчасти дополнялась и письменной. Это на¬
шло отражение прежде всего в листовках, распространяемых в де¬
ревнях в отдельных районах. Они в основном являлись местными
воззваниями, а поступающие из-за рубежа составляли незначитель¬
ный процент и распространялись главным образом на Дальнем
Востоке. Листовки писались местными крестьянами преимуществен¬
но от руки на листе бумаги, иногда сопровождались и карикатура¬
ми на местных партийных и советских работников, и обычно рас¬
пространялись в селах и деревнях, расклеивались на столбах, на
зданиях сельсоветов, изб-читален, иногда и в виде анонимных пи¬
сем. Органы ОГПУ зарегистрировали в 1926 г. 83 случая их распро¬
странения, в 1927 г. их число возросло до 163. За эти два года из
246 случаев появления листовок на Центральный район РСФСР
приходилось 22, на Северный Кавказ — 37, на Сибирь — 35, на
Поволжье —11, Урал — 15, на Украину — 9133.
Содержание листовок в основном отражало протест крестьян
против политики коммунистической партии и проводимых ме¬
роприятий в деревне советской властью, в некоторых из них зву¬
чали и призывы к ее свержению. В ряде случаев листовки посвя¬
щались избирательным кампаниям в сельские и волостные советы,
давались рекомендации крестьянам идти на выборы и не голосо¬
вать за предлагаемые списки кандидатов коммунистами, в том
числе и бедняков, а избрать их представителей. Например, в фев¬
рале 1927 г. в с. Новая Бельмановка Ханкайского района Влади¬
востокского округа в связи с перевыборами в советы были разве¬
шаны листовки-воззвания такого содержания: “Граждане, сегодня
перевыборы сельсоветов, идите на выборы все и выдвигайте кан¬
дидатов из своей среды и голосуйте за них. Помните, что босяки и
лодыри хотят пролезть в совет и задушить трудовое крестьянство.
Помните, граждане, всем мужчинам и женщинам придется побыть
200
на выборах 1 час, зато вы защититесь на весь год. Идите и защи¬
щайтесь”.
Характер некоторых листовок отражал недовольство крестьян
политикой советской власти. В них рассказывалось о бедственном
положении сельчан, когда экономическое состояние у некоторых
оказалось на порядок хуже по сравнению с дооктябрьским, царским
периодом. Так, в ночь на 9 октября 1927 г. в станице Петропавлов¬
ской Армавирского округа были расклеены воззвания, написан¬
ные от руки красным карандашом, в которых объяснялось: “Граж¬
дане-крестьяне, теперь мы видим и узнали, что за власть советская
и какая была кадетская, подумая хороши, сообщи газете при кем
лучше жить, вед одному рабочему хорошо, всем обеспечен, а хле¬
бороб замучен налогами и всеми гос. законами, вот ярмо надоело.
Соввласть, живем как при иге татарском: все плати и плати до
смерти”.
Подобного рода воинственная, антикоммунистическая про¬
кламация оказалась наклеенной на базарной площади села Алек¬
сандровского Усольского района Иркутского округа 6 ноября
1927 г., в ней подводились итоги “десятилетия” советской влас¬
ти, давалась ей негативно-враждебная оценка: “Граждане, 7-го
ноября будет десятилетие красной чумы. Будут таскаться с крас¬
ными тряпками по селу, на площади будут вести пропаганду. Пус¬
кают народу дурман, нахваливают, хвастаются в достижениях сво¬
их, чего при Николае никогда не было и жилось всем хорошо. Не
было безработицы, была дешевизна, у каждого были деньги, а
теперь, до чего дошли, товар в потребиловке дают по выдаче,
выманивают последние гроши. Затем меряют большими аршина¬
ми и вешают большими фунтами”. 7 ноября 1927 г. в селе Сахарово
Косихинского района Барнаульского округа на дверях местного
кооператива висела листовка с аналогичным содержанием, в ко¬
торой враждебно оценивалась политика большевиков. В ней кон¬
статировалось: “10 лет кровь льет темная масса крестьян от кро¬
вожадных коммунистов”34.
Однако в ряде прокламаций, распространяемых в сельской
местности, не только говорилось об эксплуатации крестьян госу¬
дарством, их бедном положении в связи с проводимой политикой
правящей большевистской партией, но делались нередко и при¬
зывы к жителям деревни: объединяться, организовываться в це¬
лях свержения советской власти. Особенно такие ярко выражен¬
ные враждебные лозунги проповедовались в период празднования
10-летия Октябрьской революции. Например, в ноябре 1927 г. в
станице Анненской Хоперского округа Сталинградской губернии
201
на стене местной школы была наклеена прокламация, написан¬
ная крупными буквами, в которой говорилось: “Долой советскую
власть — да здравствует торговля”.
В ноябре 1927 г. в г. Куренске Иркутской губернии в течение
6 ночей распространялись листовки-обращения к крестьянам с
призывом бороться против пролетарской диктатуры и против “па-
разитов-комиссаров” за установление власти сельчан. “Все рус¬
ское крестьянство испокон веков страдало, работало, мучилось, —
говорилось в них, — и продолжает страдать, работать и мучиться.
Нет и не было такого класса, который бы перетерпел больше,
чем русское крестьянство. Нас вечно драли, эксплуатировали и
продолжают эксплуатировать. 10 лет тому назад большинство рус¬
ского крестьянства самоотверженно боролось за власть советов,
умирало в надежде на лучшую жизнь своих детей, но эти надежды
пошли прахом: власть захватил пролетариат и простер ее широко
над крестьянством. Свободно ли сейчас крестьянство? Получило
ли оно то, за что боролось? — Оно ничего не получило. Оно боро¬
лось за землю, за волю. Землю оно получило, а волю — нет. Улуч¬
шается ли сейчас крестьянское хозяйство? Нет. Его давят налога¬
ми. Хлеб крестьянина скупается за бесценок и продается ему же
по вдвое дорогой цене. Если крестьянин обижен — нескоро он
найдет правду в бюрократических учреждениях-паразитах. Крес¬
тьянин бесправен в “свободной пролетарской республике”. Он знает
только работать, как вол кое-как пропитывая свою семью. Долго
ли так будет продолжаться. Раз стоит у власти пролетариат, о кре¬
стьянской свободе не может быть и слова. У рабочего воля и пра¬
во, у крестьянина — ничего. Крестьянин! Бери власть в свои руки.
Только этим ты добьешься свободы”.
В таком же антисоветском, враждебном по отношению к ра¬
бочим и коммунистам духе распространялось и содержание “кре¬
стьянского манифеста” в г. Росошь Воронежской губернии в ночь
с 7 на 8 ноября 1927 г. В нем утверждалось: крестьянин, защищав¬
ший советскую власть с оружием в руках в Гражданскую войну,
ничего от нее для себя не получил. Поскольку покупать товар он
“идет на базар, т.к. в кооперации с него спрашивают книжку, за
книжку 10 руб., а у него всего заработок 8 руб. За что же мне
купить, не за что, так нельзя, товарищи. Это является насилием,
которое мы завоевали, говорили долой насильников, а это и есть
самые насильники-хулиганы. Позор и стыд, добьемся и мы когда-
нибудь, выбьем молоток из рук рабочего. Не мы, а наши дети и
отомстят за кровь своих отцов. Эх, вы, грабители проклятые, кро¬
вопийцы окаянные, напьетесь когда-нибудь, доберемся и мы до
202
вас, не одного повесим на телеграфные столбы, которых насиль¬
но наставили, смерть коммуне, жидам, да здравствуют сыны го¬
лых и обобранных отцов”35. При этом на обратной стороне данно¬
го воззвания был напечатан “Манифест” ЦИК СССР.
17 июля 1927 г. в селе Заломном Валуйского уезда Воронежской
губернии на самом видном месте, где собирались сельские сходы,
была вывешена аналогичного характера листовка с призывом к
крестьянам — сопротивляться политике советской власти: “Това¬
рищи, скоро будет у вас Варфоломеевская ночь. Товарищи, при
советской власти нельзя развиваться сельскому хозяйству. Товари¬
щи, граждане и гражданки, все-все на борьбу с советской влас¬
тью”36.
Конечно, подобного рода радикальные революционные при¬
зывы со стороны сельчан не являлись повсеместными и не полу¬
чили широкого распространения в годы нэпа. Хотя в агитацион¬
ной антисоветской деятельности участвовали все имущественные
группы крестьян в той или иной форме, тем не менее главным
образом ее вели лишь отдельные зажиточные и отчасти среднего
достатка сельчане, в наибольшей степени испытывавшие притес¬
нения государства, преимущественно с помощью его налоговой
и ценовой политики. При этом агитация носила локальный, сти¬
хийный характер, проводилась по инициативе наиболее полити¬
чески грамотных крестьян, не навязывалась им сверху и являлась
примитивной, хотя на характер агитации кое-где могли оказывать
влияние бывшие члены эсеровской или кадетской партий, прожи¬
вающие в данной местности. Распространение антисоветской, ан¬
тикоммунистической агитации в деревне вызывалось и
отсутствием реальных гражданских прав крестьян, их политичес¬
ким неравноправием по сравнению с рабочими и служащими, а
также тяжелым экономическим положением. Последнее особенно
беспокоило крестьян в связи с обременительными налогами и
низкими ценами на сельскохозяйственную продукцию, что вело
к ухудшению их материального состояния, к застою крестьянско¬
го хозяйства.
В то же время в агитации, в том числе и в вышецитированных
листовках, прослеживается определенная эмоциональность, порою
злобная агрессивность по отношению к коммунистической партии,
дается не всегда объективная оценка ее деятельности, чувствуется
некоторый односторонний подход. Деревенские “агитаторы” под¬
час незаслуженно идеализировали жизнь крестьянина в царской
России, когда утверждали, что все были тогда “богатыми”, и вме¬
сте с тем преувеличивали иногда бедность советского сельчанина,
203
его беды и невзгоды, возлагая при этом всю вину на партию боль¬
шевиков, советскую власть, но не принимая во внимание объек¬
тивные, в том числе и исторические факторы, тяжелое наследие
прошлого, последствия Гражданской войны, голоды, сложность
международного положения СССР. И тем не менее, несмотря на
примитивный подход, убогий, стихийный характер антиправи¬
тельственной агитации, которая не являлась массовым явлением,
а охватывала отдельные села деревни, волости, все же она отра¬
жала, с одной стороны, растущую общественно-политическую
активность крестьян, а с другой — представляла настроение мно¬
гих сельчан, разуверившихся в политике большевистской партии,
не выполнивших своих обещаний, даваемых в 1917 г.
Агитация за образование “Крестьянского союза”
В антикоммунистической агитации на селе достойное место
занимала и разъяснительная работа среди крестьян за создание
собственной организации, которая отстаивала бы их непосред¬
ственные интересы и нужды.
К необходимости образования подобной организации привел
личный жизненный опыт крестьян, когда они на практике убеди¬
лись в том, что ни коммунистическая партия, ни советы, ни ко¬
операция, ни кресткомы и другие общественные структуры, не
пользующиеся авторитетом в деревне, не являются подлинными
выразителями и защитниками их интересов и чаяний. Вот почему
наиболее активная, политически зрелая, образованная часть жи¬
телей деревни ставила вопрос перед властью об образовании соб¬
ственного “Крестьянского союза” (КС), не зависимого от комму¬
нистической партии. С помощью “Крестьянского союза” как
организации политической или профсоюзного хозяйственного типа
сельчане надеялись защищать их гражданские, экономические и
социальные права. Как писала в январе 1925 г. на страницах газеты
“Правда” Н.К. Крупская, жители деревни выступали за создание
особой партии, которая будет больше “о крестьянских делах забо¬
титься нежели партия коммунистов”37. При этом идея организа¬
ции “Крестьянского союза” для защиты интересов сельчан, не¬
удовлетворенных политикой большевистской партии, все чаще
звучала в годы нэпа. К тому же она восходила своими корнями к
революционным событиям 1905—1907, 1917—1918 гг., когда среди
деревенских жителей была популярна идея организации собствен¬
ной партии, “Крестьянского союза”, крестьянских советов, су¬
ществовавших как в общероссийском масштабе, так и в регионах.
204
Следует указать, что вопрос о создании “Крестьянского со¬
юза” на советской платформе рассматривался даже руководством
коммунистической партии в мае-июне 1921 г. в связи с запиской
В.В. Осинского (Оболенского), в которой говорилось о необходи¬
мости политической организации крестьян. Данную идею поддер¬
живал В.И. Ленин, но с условием более тщательной подготовки и
принятия осторожных, продуманных мер для ее реализации. Дан¬
ный вопрос высшее политическое руководство страны вынуждено
было обсуждать под давлением крестьянских восстаний, однако
после их подавления и с переходом к нэпу, “после 1921 г., кажет¬
ся, никто уже не вспоминал о записке Осинского”38 в руководстве
правящей большевистской партии, кроме самих крестьян.
Их возросшая общественно-политическая активность в годы
нэпа, как упоминалось, вновь привела к пониманию необходи¬
мости создания своей организации, “Крестьянского союза”, на¬
ряду с существованием рабочих профсоюзов и коммунистической
партией. Однако лидеры последней распространение идей “Крес¬
тьянского союза” в деревне, активную агитацию за его образова¬
ние стали называть “кулацким, антисоветским движением”. Они
сильно опасались как бы это движение не привело к появлению
другой политической партии, которая бы повела за собой кресть¬
янство как единый класс, создавая тем самым угрозу коммунис¬
тической советской власти. Так, в июне 1924 г. Ф.Э. Дзержинский
в докладной записке в Политбюро ЦК РКП(б) предупреждал:
нарастание политической активности на селе направлено “к лик¬
видации классовой политики советской власти Это нарастание
политического оживления кулацких и середняцких слоев находит
себе выражение в тенденции к созданию “крестьянских союзов”,
союзов хлеборобов, носящих явно выраженную антисоветскую
окраску”39.
Если в 1924 г. ОГПУ констатировало лишь тенденцию к агита¬
ции за создание “КС”, то в последующие годы постоянно этот
орган страны свидетельствовал “Крестсоюзовское движение” во
всех районах, причем наблюдался неуклонный рост фактов за со¬
здание этого союза. С 1 января 1924 по 1 января 1928 г. было заре¬
гистрировано 4670 таких случаев агитации, в том числе в 1924 г. —
139, в 1925 г. — 543, в 1926 г. — 1676, в 1927 г. — 2312. За указанные
годы примеров выступлений за организацию “КС” выявлено в
Центрально-промышленном районе РСФСР — 1679, на Север¬
ном Кавказе — 655, в Поволжье — 330, в Сибири — 284, на
Северо-Западе — 225, в Дальневосточном крае — 154, на Урале —
82, в Украине — 867. Как явствует из приведенной статистики,
205
наибольшее распространение агитация за “Крестьянский союз”
получила в Центральном районе, где только в Московской губер¬
нии за 1926/27 г. зарегистрировано 455 таких фактов40. Из других
губернии, где население активно высказывалось за “КС”, следует
отметить Тульскую, Ярославскую, Тверскую, Костромскую,
Владимирскую; в Поволжье — Самарскую и Саратовскую; по Се¬
верному Кавказу — Ставропольский, Армавирский, Кубанский
округа; по Сибири — Красноярский, Бийский, Барнаульский
округа.
При этом предложения сельчан о создании “КС” и агитация
за него имели место как в частных разговорах, беседах, так и в
публичных выступлениях на собраниях, сходах, крестьянских кон¬
ференциях, на заседаниях сельских советов, на волостных, а иногда
и уездных съездах советов. Причем особенно была популярной идея
“Крестьянского союза” среди сельчан в период избирательных
кампаний в деревне по выборам сельсоветов, правлений коопера¬
ции, комитетов крестьянских обществ взаимопомощи. Призывы
крестьян к формированию общественной организации, начиная
с 1924 г., звучали почти повсеместно, хотя их представления о ее
характере деятельности были весьма разнообразными. Однако они
в основном сводились к защите их экономических интересов. В их
представлении “КС” должен регулировать цены на сельскохозяй¬
ственную продукцию и промышленные товары; снижать суммы
налогов; дать им возможность свободного хозяйствования и рас¬
поряжения землей; “наладить торговлю с зарубежными страна¬
ми, а также улучшить культурно-бытовое положение сельчан” при
помощи своего профсоюза, по аналогии с рабочим классом.
В то же время встречалось немало случаев агитации за “КС” как
политической организации. Об этом можно судить по информаци¬
онным сводкам органов ОГПУ. Так, в декабре 1926 г. в стране было
зарегистрировано 207 подобных случаев, в том числе в Московской
губернии — 26, на Северном Кавказе — 30, в Поволжье — 27. При
этом вопрос о создании “КС” поднимался на различного рода со¬
браниях и конференциях 96 выступающими, из них в 9 случаях на
предвыборных собраниях и 8 — на заседаниях сельских и районных
советов. За апрель 1927 г. из 126 фактов, признающих необходимость
образования “Крестьянского союза”, на политическую организацию
приходилось 23 %, по типу профсоюзов — 21 %, в целях урегули¬
рования цен — 25 % и другого характера — 31 %41. С 23 июня по
31 июля 1927 г. отмечены 34 выступления за агитацию “КС”, в
том числе в Московской губернии — 10, Тульской — 4, Тверской
— 3, Ленинградской — 2, в Сибири — 5. Из всех случаев агитации
206
13 мели место на собраниях, конференциях. Причем требования при¬
дания союзу политической организации достигало 4, рабочих проф¬
союзов — 6, для урегулирования цен — 6. В декабре 1927 г. было
выявлено 91 выступление сельчан в защиту идеи “Крестьянского
союза”, из которых 15 — в Сибири, 22 — в Дальневосточном крае,
по шести округам Северного Кавказа — 16, в Поволжье — 12, в
Московской губернии — 38. Из всех выступлений за этот месяц свы¬
ше 60 % предложений об организации “КС” прозвучало на различ¬
ного рода собраниях. Предлагалось наделение “Крестьянского со¬
юза” задачами “красных” профсоюзов — 23 %, выступления по
урегулированию цен — 18, как политического органа — 15, заменя¬
ющего ККОВ (кресткомы) — 11 %. Причем последние считались за¬
частую “мертвыми организациями”42.
По классификации работников ОГПУ, агитация за образова¬
ние “КС” по характеру их деятельности выглядела следующим
образом: как политическая партия в выступлениях сельчан со¬
ставляла в 1926 г. — 17,5 %, в 1927 г. — 22,6 %; в целях регулирова¬
ния цен на хлеб и промышленные товары соответственно — 34,8 %
и 33,1 %; с задачами профсоюза — 29,3 и 30,7 %; для противо¬
действия налоговой политике — 17,7% и 11,5%; для торговли
непосредственно с зарубежными странами — 0,7 % и 0,2 %; в свя¬
зи с обнародованием “Манифеста” ЦИК СССР — 1,2 % и ввиду
выступления троцкистско-зиновьевской оппозиции — 0,7 %.
Как видно из приведенной статистики, большинство кресть¬
ян хотели бы видеть собственную организацию, защищающую
прежде всего их экономические и социальные интересы и, в пер¬
вую очередь, регулирующую цены на производимые ими продук¬
ты и промышленные товары, и добивающуюся снижения налого¬
вых платежей. В то же время требования сельчан об образовании
всероссийской и всесоюзной политической организации кресть¬
ян, хотя и занимали важное место и имели тенденцию роста, все-
таки не являлись основными, преобладающими и составляли в
1926—1927 гг. примерно 20 %.
Причем характер агитации за “КС” по районам РСФСР замет¬
но отличался. Так, в центрально-промышленных губерниях со сла¬
бым развитием кустарных и отхожих промыслов, перенаселением
деревни, доминировали требования организации крестьянского
профсоюза с целью устройства на работу, осуществления социаль¬
ного страхования, охраны младенчества и материнства, тогда как в
земледельческих губерниях преобладали призывы к созданию орга¬
низации для ликвидации “ножниц” цен и регулированию загото¬
вок государством сельскохозяйственных продуктов.
207
В “крестсоюзовском движении” участвовали все социально-иму¬
щественные группы сельского населения, так или иначе недоволь¬
ные политикой государства и коммунистической партии. Например,
по сведениям ОГПУ, в декабре 1926 г. из 207 зарегистрированных в
стране случаев агитации за “КС” 175 — выдвигались крестьянами,
из них 59 агитаторов принадлежали к “зажиточным и кулакам”, 4 —
к середнякам, 14 — к беднякам, у 61 выступающего за “КС” эконо¬
мическое положение не установлено. В целом по СССР из 5051 лиц,
выступающих в 1926—1927 гг. с агитацией за “Союз”, до 80 %
принадлежали к крестьянам, из них примерно 37,7 % относи¬
лись “к кулакам и зажиточным”; 51,3 % — к середнякам, 10,5 % — к
беднякам. Из других социальных групп сторонников “КС” (до 20 %
из всей выступающих) работники низового советского аппарата со¬
ставляли в 1926 г. — 2,9 %, в 1927 г. — 1,3 %, рабочие, связанные с
сельской местностью соответственно — 1 % и 0,6 %; служащие и
деревенская интеллигенция — 4,2 % и 2,7 %, члены ВЛКСМ и
ВКП(б) — около 1 % (44 человека).
По расчетам чекистов, в “Крестсоюзовском движении” уча¬
ствовало также в 1926 г. — 11,3 % “антисоветских элементов”, чле¬
нов бывших политических партий, полицейских, жандармов,
офицеров, помещиков, попов. При этом социальный состав “аги¬
таторов” за “КС” по районам заметно колебался. Так, в земле¬
дельческих и казачьих губерниях среди них “кулаков” насчитыва¬
лось до 50 %, “антисоветских элементов” — 15—20 %; тогда как в
промышленных губерниях основную группу составляли середня¬
ки и бедняки — соответственно 64 % и 9,7 %.
Что касается формы агитации, то большинство зарегистриро¬
ванных выступлений носило характер частных бесед среди опре¬
деленных групп крестьян. Количество же публичных выступлений на
сельских сходах, собраниях, беспартийных конференциях достигало
в 1926 г. 30 % всех фактов агитации, в 1927 г. — 40,9 %.
Во время перевыборной кампании сельских советов в 1927 г.
зарегистрировано было 15 призывов к созданию “КС” на волост¬
ных и районных съездах советов и в отдельных случаях — на уезд¬
ных и окружных съездах советов. С развернутой программой “Кре¬
стьянского союза” выступления встречались редко, также как и
принятия решений о его создании было мало. За 1926—1927 гг.
имело место только 18 подобных фактов43.
Агитация за “КС” нередко проводилась в местах наибольшего
скопления сельчан, в частности на базарах, постоялых дворах,
чайных, в Домах крестьянина.
208
Из официальной статистики следует, что хотя “агитаторами
и пропагандистами” идеи “КС” являлись все социальные слои
деревни, включая бедняков, тем не менее подавляющее большин¬
ство из них (до 75 %) относились по имущественному положению
к середнякам и зажиточным, последние при этом считались офи¬
циальной властью “кулаками и антисоветскими элементами”. По¬
этому совсем не случайно, что среди зажиточных и середняцких
сельчан была популярна сама идея “Крестьянского союза”, по¬
скольку именно они чаще всего испытывали тяжесть экономичес¬
кой политики государства и проявляли больше недовольства.
Об этом можно судить при рассмотрении мотивов, побуждав¬
ших сельчан призывать публично или в частных беседах к созда¬
нию крестьянской организации в целях защиты политических,
экономических и социальных прав и материальных интересов.
Вот как аргументировал необходимость образования своей
партии один из сельчан Агафоновского района Северо-Западной
области в конце 1925 г.: “Давно бы нам, крестьянам, для своего
избавления, для организованного отпора необходимо организо¬
вать свой крестьянский союз, только тогда с нами будут считать¬
ся, а то наши слова ставятся не во что”.
В декабре 1926 г. крестьянин деревни Королево Краснопрудской
волости Псковского уезда в беседе со своими односельчанами
доказывал необходимость создания “Крестьянского союза”, “чтобы
поставить у власти своих русских людей, а то у нас вся власть
забрана нерусскими, которые делают, как хотят — введет боль¬
шой налог и все с нас, крестьян”44. В ноябре 1927 г. в селе Василь-
евка Александровского района Амурского округа бывший предсе¬
датель комитета крестьянского общества взаимопомощи, бедняк,
на собрании, созванном по поводу организации ККОВ, поста¬
рался обосновать необходимость образования “КС” именно для
защиты экономических интересов сельчан, поскольку он не счи¬
тал ККОВ своей организацией: “Крестком — это организация бед¬
няцкая и нам он не нужен. Но мы, пользуясь вывеской крестко-
ма, сорганизуем свой “Крестьянский союз”, который и будет
защищать наши права; тогда какую цену мы назначим на хлеб,
такая и будет. Этот союз всегда будет защищать наши права так,
как борются союзы за права рабочих и служащих, но только этот
союз будет всех союзов сильнее, потому что крестьян большин¬
ство”. После этого заявления часть середняков и зажиточных сель¬
чан, присутствующих на собрании, стали записываться в “Крес¬
тьянский союз”. Подобное событие сильно напугало деревенских
коммунистов, которые постарались распустить собрание45.
209
В январе 1927 г. в селе Киберево Аннинской волости Орехово-
Зуевского уезда Московской губернии один из бедняков, беседуя
в местной избе-читальне, высказывался за формирование “Крес¬
тьянского союза” по политическим мотивам, для уравнения в
правах горожан и сельчан, чтобы с помощью его установить в
стране не диктатуру рабочего меньшинства, а управление госу¬
дарством — крестьянским большинством. Рассматривая “КС” как
политическую организацию, независимую от большевистской
партии, некоторые сельчане предлагали отказаться от однопар¬
тийной системы. Они считали: “Пока во власти сидят коммунис¬
ты, до тех пор не будет настоящих порядков”; стране нужно иметь
такую власть, в которой представлялись бы “все политические
направления”, — вот как формулировали необходимость органи¬
зации “Крестьянского союза” жители Раменской волости Мос¬
ковской губернии46.
В Мышкинской волости Рыбинского уезда агитация за обра¬
зование “КС” велась группой крестьян через общество потреби¬
телей, в том числе и членом его правления Ворониным, а также
председателем и секретарем сельского совета. В Воронежской гу¬
бернии сторонники “КС” надеялись с его помощью добиться про¬
порционального представительства крестьян в центральных орга¬
нах государственной власти для защиты их интересов, включая
регулирование цен на сельскохозяйственные продукты, с учетом
стоимости затраченного на них производства хлеборобом47.
Во время перевыборной кампании в комитеты крестьянских
обществ взаимопомощи в конце 1925 — начале 1926 г. в Московс¬
кой губернии часть сельчан на собраниях предлагала образовать
“КС”, который оберегал бы их “от насилия и разорения”, по¬
скольку “власть на местах не дает крестьянину свободы, коопера¬
ция диктует цены, нам необходимо объединяться”. На сходе жи¬
телей деревни Синьково Софринской волости Бронницкого уезда
предложение середняка Новикова об организации “КС” присут¬
ствующие сельчане встретили аплодисментами48. 9 июня 1927 г. на
пленуме Софринского волисполкома Сергеевского уезда Москов¬
ской губернии один из зажиточных крестьян доказывая в своем
выступлении необходимость образования “КС”, убеждал присут¬
ствующих: “При Николае жить было гораздо лучше. Нам нужно
организоваться в Крестьянский союз и предъявлять соввласти тре¬
бования. Если мы этого не сделаем в ближайшее время, то нас
совсем задушат, нас, крестьян, хотят живыми в гроб положить”.
В конце 1927 г. в станице Прочноокопской Армавирского окру¬
га агитация за образование “КС” проводилась на собраниях союза
210
“Охотник”, объединяющего до 130 человек, члены которого го¬
ворили: “Если мы организуем союз хлеборобов, то это будет та¬
кая сила, что в два счета возьмем управление страной и будем
торговать со всеми странами, тогда будет не как сейчас, когда
даже мануфактуры нет”. В таком же духе высказывались за образо¬
вание “Крестьянского союза” в июле 1927 г. и жители деревни
Киселева Балобановской волости Малоярославского района Ка¬
лужской губернии. Они увязывали решение этого вопроса с созы¬
вом Учредительного собрания. 23 июля 1927 г. в с. Ветки Новиков-
ского района Бийского округа один из сельчан, недовольный
налоговой политикой государства, пришел к необходимости со¬
здания собственной организации. “Ибо нашего брата-крестьяни-
на всюду прижимают, — рассуждал он. — Вот теперь, например,
налог с кого, как не с крестьянина, дерут шкуру. Хотя нам и
говорят, что это главным образом идет на содержание нашей же
власти, служащих и на свои нужды, но мне кажется, что кресть¬
янин этого не решал и не постановлял, а все ему навязывают
сверху. Если бы крестьянину дали свободно самоустраиваться, без
расслоения и диктатуры, тогда бы сельское хозяйство лучше бы
росло и развивалось. Рабочие фабричные имеют свои союзы, че¬
рез них защищают свои интересы, а крестьянину только прика¬
зывают. Если нам говорят, что крестьянская организация — коо¬
ператив, крестком и т.п. — это еще не то, что нужно крестьянину.
Крестьянину нужно что-то большее, чем все эти организации”49.
В декабре 1926 г. крестьянин Макаровского района Иркутской
губернии Ю.М. Арватский, недовольный политикой государства
по отношению к деревне, на общем собрании сельчан, защищая
идею о необходимости образования своей политической органи¬
зации, говорил: “Соввласть что вздумает, то и делает с мужиком.
Нам необходимо во что бы то ни стало создать Крестьянский союз,
посредством которого мы сможем бороться с властью”. Другие
выступающие поддержали это предложение.
В декабре 1927 г. середняк деревни Дулепово Раменской воло¬
сти Волоколамского уезда Московской губернии, не удовлетво¬
ренный “господством диктатуры пролетариата”, в своем выступ¬
лении на собрании бедняков сказал: с помощью своей организации
будет установлена власть крестьянского большинства и тогда улуч¬
шится экономическое положение сельчан. “Партия, ведя работу с
беднотой, раскалывает крестьянство, — возмущался он. — На этом
построена диктатура миллиона над десятками миллионов населе¬
ния СССР. Крестьяне требуют от имени миллионов организации
Крестьянского союза, но об этом нам даже не дают заикнуться.
211
Один миллион жиреет за счет миллионов полуголодных крестьян.
У нас хуже, чем в Гиденбурговской Германии, там существует
свобода печати, а в СССР дают однобокую газету”.
Подобные мысли пропагандировал в мае 1927 г. и один из
крестьян деревни Михайлова Гора Бежецкого уезда Тверской гу¬
бернии. Выступая на собрании сельчан при обсуждении вопроса о
тракторизации и землеустройстве деревни, он заявил, обращаясь
к представителям власти: “Ничего нам не надо, все это делается,
чтобы с крестьян побольше вытянуть. Нас хотя и большинство —
80 % населения, а управляет нами кучка рабочих, потому что они
организованы, а мы нет. Нужно и нам организоваться в Крестьян¬
ский союз, вот тогда мы смогли бы защищать свои интересы. Бу¬
дет война, мы скажем: вы управляете, так идите и воевать. Мы
свергли царя, думали, что советская власть лучше, а получилось
то же самое”50.
Многие сторонники идеи “Крестьянского союза” видели в его
образовании единственное средство избавления от “коммунистичес¬
кой власти”, от своего социального, политического неравноправия,
в котором оказались жители деревни, составляющие абсолютное
большинство населения страны. Так, в марте 1927 г. в Круглянской
волости Дмитровского уезда Орловской губернии один из сель-
чан-середняков, ратуя на собрании за “КС”, рассуждал: “Кресть¬
янство в нашей стране составляет большинство, а живет оно в
1000 раз хуже, чем рабочий класс. Раз крестьян большинство, сле¬
довательно, и большая часть Октябрьских завоеваний принадле¬
жит крестьянам, без крестьян рабочий класс революции сделать
не мог бы, поэтому и диктатура должна быть крестьянская. Нам
нужен крестьянский союз тогда бы дела разрешались в нашу
пользу”.
Полностью разуверившись в политике большевиков, один из
жителей д. Москвино Судиловской волости Волоколамского уез¬
да Московской губернии на предвыборном собрании при обсужде¬
нии наказа будущим депутатам сельского совета в своем выступле¬
нии убеждал присутствующих в марте 1927 г.: “Нам не нужно
принимать наказ, это большевики только треплются, все равно
ничего не сделают. Партия совсем задавила крестьянство, выжи¬
мая из нас последние соки. Нам не нужно больше терпеть, а при¬
нимать меры против партии. Давайте организовывать Крестьянский
союз, но не нужно пускать в союз коммунистов”51.
В ряде выступлений сельчан звучала идея о формировании
самостоятельной особой крестьянской партии, поскольку комму¬
нисты, по их мнению, не заботились об их непосредственных
212
интересах. Так, в декабре 1926 г. из 207 случаев зарегистрирован¬
ных органами ОГПУ в агитации за “КС” в 24 — прослеживалась
необходимость формирования собственной крестьянской партии
в “противовес рабоче-коммунистической”. Например, в марте
1927 г. в поселке Гусиный Брод Новосибирского округа среди жи¬
телей шли разговоры в частных беседах о создании “Крестьянской
партии”. Один из середняков, агитируя за ее образование, объяснял:
“Высшая власть виновата в том, что мы, крестьяне, живем в тяже¬
лых условиях, накладывая налоги на те хозяйства, которые начина¬
ют расти. Диктатура раньше и теперь не дает для крестьянина поли¬
тических организаций. Вот если бы была Крестьянская партия, то
могли бы сделать забастовку и не повезли бы хлеб в город”.
В феврале 1927 г. один из крестьян села Ляхи Муромского уез¬
да Владимирской губернии, рассуждая о невзгодах сельского на¬
селения, видел причину в том, что в стране власть принадлежала
“не рабочим и крестьянам, а кучке людей”. Она “силой захватила
власть в руки, которую назвали советской. Но что же здесь совет¬
ского, как на нее смотрят рабочие и крестьяне — конечно с нена¬
вистью. Давайте еще раз проголосуем. Я уверен, что эта кучка по¬
лучит подавляющее меньшинство. Ведь партия — сам народ, сами
крестьяне и им самим нужно руководить правительством, и они
бы выставили свою программу. Коммунисты же своей програм¬
мой обманули крестьян. Компартия боится организовать кресть¬
ян, ведь она знает, что крестьяне покажут, что нужно делать”.
В декабре 1926 г. в Ставропольском округе один из председате¬
лей сельского совета, защищая необходимость образования “КС”,
предполагал, что с его возрождением “все партии должны уме¬
реть, так как он их задавит. И это будет самая великая организация
мира”. А вот в Псковской губернии некоторые сельчане, высказы¬
ваясь за “КС” в конце 1926 г., рассчитывали, что с его организаци¬
ей к власти придут русские люди, а то нерусские делают, что хо¬
тят, вводят “большой налог и все с нас, крестьян”. И все же те
немногие приверженцы “Крестьянского союза” как политической
организации в деревне в конечном счете ставили цель избавиться
от коммунистов, устранить их от власти и таким образом освобо¬
диться от их “ига и эксплуатации”, в противном случае они будут
постоянно угнетаться.
Характерным на этот счет было мнение, сформулированное
4 сельчанами в выступлении на собрании в с. Дубенки Александ¬
ровской волости Владимирской губернии в феврале 1927 г.: “Кре¬
стьянству необходимо организовать свои крестьянские союзы,
ибо без создания таких союзов крестьянство как было забитым и
213
угнетенным, так таковым и останется на все время. Диктаторство
коммунистической партии загоняет и окончательно загонит крес¬
тьянство в берлогу, где оно спит и будет спать”. Ну а для того,
чтобы разбудить крестьянство, поднять его политическую актив¬
ность, некоторые решительные сторонники “КС” в ряде мест, не
ограничиваясь устной агитацией, прибегали и к письменной. Они
распространяли листовки враждебного содержания с призывом
свержения власти большевиков: “Долой коммунистов-бюрокра-
тов! Долой большевистскую иерархию! Долой городского парази-
та-мещанина! Да здравствует крестьянский союз! Долой проле¬
тарскую диктатуру! Да здравствует Союз крестьянства!”52.
Придавая “Крестьянскому союзу” политический характер, его
немногочисленные сторонники в сельской местности, как вид¬
но, прежде всего были недовольны своим экономическим поло¬
жением, материальный уровень которых в лучшем случае остался
на степени дооктябрьского периода. Возлагая вину за свое бед¬
ственное состояние на политику коммунистической партии в де¬
ревне, агитаторы и пропагандисты “КС” рассчитывали с его об¬
разованием если не устранить большевиков от власти, то по
крайней мере ослабить их монополию на власть. Они не исключа¬
ли деятельность “Крестьянского союза” и на советской платфор¬
ме. При этом некоторые поборники “КС” по своей наивности,
политической неопытности и малограмотности надеялись превра¬
тить его в мощную всероссийско-союзную политическую партию,
с помощью которой можно будет в одночасье решить все нако¬
пившиеся хозяйственные, социальные проблемы, уравнять в граж¬
данских, политических правах сельчан с горожанами. Причем про¬
тивопоставление богатых вторых и бедных первых служило одним
из наиболее распространенных аргументов в пользу создания “Кре¬
стьянского союза”. Отсюда и звучавшие требования заменить “дик¬
татуру рабочего меньшинства — диктатурой крестьянского боль¬
шинства”. Хотя на самом деле в стране утвердилась диктатура
коммунистической партии в лице ее бюрократического аппарата,
что признавалось и частью деревенских жителей, наиболее поли¬
тически подготовленных и осознавших причины своих экономи¬
ческих трудностей. В то же время противопоставление города, де¬
ревни, интересов рабочих и крестьян, о чем речь пойдет дальше в
ходе агитации за необходимость создания “КС”, имело под собой
определенные основания, поскольку фабрично-заводские рабо¬
чие объединялись в профессиональные союзы, которые худо-бед¬
но все же как-то старались защищать их интересы.
214
Поэтому часть сторонников идеи “КС”, как выше отмеча¬
лось, предпочитала его создать не по типу политической партии,
а по образцу рабочего профсоюза, с помощью которого сельчане
могли бы отстаивать свои права, улучшать материальное положе¬
ние, решать социально-культурные, бытовые проблемы. Вот как
обосновывал необходимость организации “Крестьянского союза”
один из жителей с. Рудовка Житаловского района Иркутского ок¬
руга в своем выступлении 10 января 1927 г.: “Партия и соввласть
мало обращают внимания на крестьянство, а улучшают только
положение рабочего. С крестьянина почем зря выколачивают на¬
лог, а за неуплату же нередко судят и делают описи имущества.
Говорят, что деньги по налогу идут для крестьян же, но этого не
видно — школ мало, с медицинской помощью дело обстоит пло¬
хо. Школы и больницы хорошо поставлены только для рабочих,
все делается для рабочих, а крестьянина уговаривают словами,
как будто крестьянин ими будет сыт. Почему рабочие лучше уст¬
роены? А потому, что у них есть свой союз, который защищает их
интересы. Так вот и нам, крестьянам, единственный выход улуч¬
шить свое положение, это организовать свой крестьянский союз”.
Один из выступающих на данном собрании поддержал это пред¬
ложение и сказал: “Почему же в самом деле не создаются про¬
форганизации для крестьян”53.
Конечно, в крестьянских оценках имелись определенное пре¬
увеличение и идеализация социального и материального положе¬
ния рабочих, но тем не менее последние все же имели значитель¬
но больше прав по сравнению с сельчанами, в том числе в области
социального страхования, получали пособия по болезни, инва¬
лидности, пенсии, чего добивались жители деревни, агитируя за
организацию своего профсоюза.
Так, в январе 1927 г. зажиточные крестьяне с. Пушкино Руза-
евского уезда Пензенской губернии, высказываясь за необходи¬
мость образования “КС”, заявляли: “Если рабочие, организован¬
ные в профсоюзы, работают только 8 часов и получают пособие
по болезни, то нам необходимо организовать крестьянский союз,
через который требовать от власти улучшения своего положения”.
Аналогичную мысль сформулировал и один из середняков в с. Хо-
теево Дмитровского уезда Орловской губернии в начале 1927 г.
при коллективной читке газет комсомольцами: “Все говорите, что
партия улучшает быт и жизнь крестьянства, а этого на самом деле
нет, она улучшает лишь быт рабочих. У рабочих есть разного рода
союзы, которые защищают их интересы и благодаря чему им все
доступно, а у нас, крестьян, нет своего союза, поэтому нам и
215
живется плохо. Если крестьянин пойдет на работу, то его гонят
метлой, потому что мы не союзные и так мы шатаемся без рабо¬
ты, а требовать, как рабочий, не имеем права, потому что у нас
нет своего союза”54.
Аналогичные мотивы выдвигали и некоторые новгородские
крестьяне в пользу организации своего профсоюза в середине 20-х
годов. Так, в Боровичском уезде среди части сельских жителей
проводилась агитация для образования “КС” по типу рабочего
профсоюза, который бы не позволял “драть с них шкуру”. В де¬
кабре 1926 г. на Валдайской уездной партийной конференции де¬
легат, представляющий Фировскую волость, в своем выступле¬
нии признавал: “Есть у крестьян такие настроения, что у рабочих
есть профсоюзы, и крестьянам нужно организовать свой союз,
чтобы поприжать рабочих”55.
Подобного взгляда придерживался и один из крестьян с. Ма-
ганского Красноярского округа. Придя 10 января 1927 г. к заведу¬
ющему организационным отделом окружного исполкома советов,
он заявил: “Меня занимает мысль, что в городе рабочие имеют
профсоюз, страх, кассу и т.д. и через эти организации защищают
свои интересы, а крестьянство никаких организаций не имеет и
поэтому не может защищать свои интересы. Необходимо создать
крестьянскую организацию — союз. Очередная задача соввласти
— индустриализация, т.е. постройка новых фабрик и т.д. Поэтому
главные средства должны пойти на промышленность. Я не согла¬
сен — надо индустриализовать сельское хозяйство. Кроме того,
рабочий живет в городе куда лучше, чем крестьянин, поэтому
Крестьянский союз должен поставить своей задачей защищать
интересы крестьян и немного урезать рабочего”.
При этом сторонники создания “КС” по типу рабочих проф¬
союзов не являлись противниками советской власти, а полагали,
что они будут функционировать с ее разрешения и на ее платфор¬
ме. Вот что говорил по этому поводу в беседе с односельчанами
один из середняков села Сабынино Висловской волости Белго¬
родского уезда в январе 1927 г.: “Крестьянам живется очень пло¬
хо, а рабочие живут много лучше, потому что они организованы
имеют свой союз. Крестьяне распылены и не организованы и власть
смело на них накладывает налоги, а если бы у крестьян был свой
союз, тогда они могли бы защитить свои интересы. Союз можно
было бы организовать под руководством самой власти. При отсут¬
ствии крестьянских союзов у нас также большое расхождение цен
и все товары фабрично-заводского производства стоят в 2—3 раза
дороже крестьянских”56.
216
В ряде случаев сельчане не только агитировали за организа¬
цию “Крестьянского профсоюза”, но иногда на сельских сходах и
собраниях принимали по этому вопросу и специальные резолю¬
ции. Например, в январе 1927 г. жители деревни Катышево Му¬
ромской волости Владимирской губернии на предвыборном со¬
брании в принятой резолюции записали: “Просить вышестоящие
законодательные органы путем издания соответствующих поста¬
новлений об организации крестьянского союза, который должен
существовать на тех же основаниях, на которых существуют в на¬
стоящее время профессиональные организации. Собрание также
обращает внимание на резкое расхождение цен между продукта¬
ми сельского хозяйства и продуктами фабрично-заводского про¬
изводства, вследствие чего занятие сельским хозяйством зачастую
бывает не только малодоходным, но даже убыточным”. За данную
резолюцию собрание проголосовало единогласно.
Подобное решение приняли и жители деревни Колесникове
Олтушевской волости Вязниковского уезда той же губернии пос¬
ле обсуждения доклада о работе волисполкома. В ней, в частно¬
сти, констатировалось: “Велика еще волокита в Вике и Загсе,
налог собирается строже, чем при царском режиме, кроме того,
собрание считает нужным организовать крестьянский профсоюз”57.
О необходимости иметь такую организацию, с помощью ко¬
торой сельчане могли бы получить работу и “отстаивать свои ин¬
тересы и добиваться намеченных целей”, неоднократно высказы¬
вался и один зажиточный крестьянин деревни Новое Сельцо
Можайского уезда Московской губернии в 1926 г. За создание
“Крестьянского профсоюза” агитировал своих односельчан и
житель с. Середниково той же губернии. Выступая на собрании по
вопросу об уплате членских взносов в крестком в декабре 1926 г.,
он заявил: “Членские взносы в ККОВ платить не нужно, хороше¬
го нет от него ничего, у рабочих есть профсоюз, он им помогает,
а поэтому крестьянам нужен свой союз”58.
Анализ выступлений сельчан за “Крестьянский союз” гово¬
рит о том, что большинство из них все же хотели видеть эту орга¬
низацию ни политической, ни профсоюзной, а прежде всего хо¬
зяйственной, непосредственно защищающей их экономические
интересы по таким вопросам, как регулирование цен на сельско¬
хозяйственные продукты и промышленные товары, снижение
налоговых платежей, разрешение свободной торговли, т.е. про¬
блемы, которые стимулировали бы развитие их хозяйства и улуч¬
шали материальное состояние. Например, начиная с 1922 г. груп¬
па крестьян станицы Ново-Титароской Краснодарского района
217
Кубанского округа добивалась от местных властей разрешения на
образование “Союза тружеников-крестьян” в целях укрепления
“их экономического благополучия”, но получала постоянно от¬
каз. В 1926 г. инициативная группа жителей данной станицы рас¬
пространила воззвание, в нем говорилось о создании на коопера¬
тивных началах совета организации “Новый быт”. Ее основная
задача сводилась к налаживанию крупномасштабного сельскохо¬
зяйственного производства и укреплению связей с фабрично-за¬
водской промышленностью, чтобы положить конец бедственно¬
му существованию безработных и их семей и улучшить ведение
крестьянского хозяйства на культурных началах.
В 1924 г. в ряде районов РСФСР, в том числе в Черкесско-
Адыгейской области, часть сельчан агитировала за формирование
“Союза хлеборобов” в виде кооперативно-профессиональной орга¬
низации крестьян для защиты “от незаконных действий властей”
и правильного обмена, без посредников, их продуктов на фаб¬
рично-заводские товары59.
Многие сторонники идеи “Крестьянского союза” усматрива¬
ли в его образовании один из главных рычагов, с помощью кото¬
рого можно оказывать давление на государство в регулировании
цен на продукцию, производимую сельчанами, и изготовленны¬
ми промышленными товарами рабочими ради улучшения мате¬
риального положения жителей деревни. Вот что говорил по этому
поводу 31 января 1927 г. один из крестьян на собрании бедноты в
деревне Агнищево Волоколамского уезда Московской губернии:
“В России была бедность при царе, а при большевиках мы стали
еще беднее. Соввласть крестьянские продукты ценит очень дешево,
а промышленные — очень дорого. Рабочим жить лучше, чем крес¬
тьянину. Он покупает наш продукт по дешевой цене, а свой —
продает по дорогой цене. У рабочих есть союз, они организованы,
а с крестьян только дерут налоги. Нам, крестьянам, нужно орга¬
низовать свой крестьянский союз. Когда мы будем организованы,
мы сможем поднять цены на сельскохозяйственные продукты и
будем диктовать цены на рынках. Этим мы улучшим свое положе¬
ние”.
Идея сельчан, согласно которой они с помощью “КС” станут
навязывать городу цены на сельскохозяйственные продукты и регу¬
лировать их в соответствии с ростом цен на товары городской про¬
мышленности, была одной из самых, пожалуй, популярных в годы
нэпа среди крестьян, сторонников создания своей особой организа¬
ции. Например, в январе 1927 г. один из допризывников Новотор-
жковского уезда Тверской губернии в беседе со своими односельча¬
218
нами рассуждал: “Рабочие все организованы в союзы, благодаря
чего они живут лучше крестьян. У них имеется страх.касса, клу¬
бы, дома отдыха, союзы не позволяют им снижать зарплату, дети
рабочих все учатся в школах и вообще на рабочего власть больше
обращает внимания, чем на крестьян. Хотя государство считается
рабоче-крестьянским, но в действительности не так обстоит дело,
и нам, крестьянам, необходимо организовать крестьянский союз,
который будет проводить налоговую политику, устанавливать цены
на продукты сельскохозяйственного производства и вообще за¬
щищать интересы крестьян, как профсоюзы защищают интересы
рабочих, и тогда организованное крестьянство всегда смогло бы
отстоять свои интересы”60.
Однако немногие пропагандисты и агитаторы, сторонники
идеи создания “Крестьянского союза”, понимали, что осуществить
ее на практике будет очень трудно, поскольку коммунистическая
партия была не заинтересована в том, чтобы сельские жители име¬
ли свою организацию, даже на советской платформе. Наличие “КС”
на территории РСФСР и СССР как политической или профсоюз¬
ной организации создавало бы в перспективе реальную угрозу
монополии на власть коммунистам, последним так или иначе
пришлось бы считаться с требованиями крестьянства. Для партий¬
но-государственного руководства страны намного легче было уп¬
равлять деревней, крестьянами, не состоящими ни в каких само¬
стоятельных союзах и объединениях, не зависимых от правящей
партии. Поэтому всякие попытки сельчан в различных районах
РСФСР создать наподобие “Крестьянского союза” пресекались
органами ОГПУ в самом зародыше, а инициативные группы по
его оформлению преследовались61. Об этом можно судить не только
по официальным отчетам чекистов, но и по заявлениям сельских
жителей, в том числе и отдельных руководителей деревенских со¬
ветов. Например, 2 декабря 1926 г. в помещении Улькановского
сельсовета Макаровского района Иркутской губернии группа кре¬
стьян обсуждала вопрос о “КС” и пришла к выводу: коммунистам
его создавать невыгодно, они боятся и преследуют его сторонни¬
ков, ссылаясь при этом и на опыт периода Гражданской войны.
Причем присутствующий при разговоре председатель сельсовета
И. Г. Красноштанов, ссылаясь на опыт прошлого, заметил: “Об
организации крестьянских союзов и говорить не приходится —
факт налицо. Когда в 1920 г. в с. Макарово крестьяне Хорошев,
Хромов и другие стали призывать крестьянство к созданию своего
союза, то коммунисты арестовали всех главарей и назвали эту
организацию эсеровской”.
219
В свою очередь, крестьянин-середняк, секретарь совета И.Г. Ар-
ватский, добавил: “Добиться справедливости — нужно находить
другие методы борьбы и организации крестьянского союза и что¬
бы победить — нужно что-то делать”. Эту же мысль развивал и
зажиточный крестьянин В.Т. Арватский в разговоре с односельча¬
нином. Он указывал, что легальными, законными методами обра¬
зовать независимую от власти организацию правящая партия не
разрешит, и поэтому нужна длительная и тщательная подготови¬
тельная нелегальная работа. “Попробуй-ка, брат, начать органи¬
зацию крестьянского союза, — подчеркивал он. — Сейчас же, как
вороны, налетят коммунисты. Если мы проворонили создать Кре¬
стьянский союз в 1920 г., во время революции, то теперь сразу
этого не сделаешь. Для того, чтобы создать этот союз, необходима
длительная подготовка, и это связано с большими трудностями.
Если крестьяне начинают говорить о создании крестьянских со¬
юзов, то коммунисты говорят, что у вас есть кооперативы, крес-
ткомы и прочие организации, вот это и есть ваш крестьянский
союз, и объединяйтесь вокруг них, а что они нам дают? Только и
знай, что давай везде вклады, да взносы, а польза от этих органи¬
заций только голытьбе, а нашему брату — шиш”62.
Некоторые приверженцы “КС” на селе не только констати¬
ровали страх большевистской партии перед возможной организа¬
цией крестьян в политическую силу, но пытались дать и собствен¬
ное объяснение причинам этой боязни. Например, 24 июня 1927 г.
группа жителей деревни Минеево Тверского уезда на общем со¬
брании выступила в защиту образования “Крестьянского союза”.
Один из них, середняк, в этой связи сказал: “Соввласть выезжает
на крестьянской спине, крестьянина кругом обманывают, крес¬
тьянам не дают организоваться, потому, что крестьянство состав¬
ляет 80 %. всего населения и соввласть боится разрешить крестья¬
нам открыть союз, ибо организованный крестьянин не будет
выполнять распоряжения вышестоящих органов”. При этом при¬
сутствующие на собрании односельчане с сочувствием отнеслись
к данному выступлению.
Подобного взгляда придерживались и приверженцы “КС” села
Дубки Оболенского района Тульской губернии. 28 мая 1927 г. при
обсуждении этого вопроса середняками и бедняками председатель
правления потребительского общества, член ВКП(б) с 1919 г., под¬
держал необходимость объединения сельчан в специальную органи¬
зацию и признал: “Советская власть не позволяет организовать “Кре-
стсоюзы”, так как бороться в отдельности с мелкими крестьянскими
хозяйствами ей намного легче; на неорганизованного крестьянина
220
можно больше налог наложить и т.д., так как он бессилен и жало¬
ваться некуда”. Такую оценку поддержали и другие крестьяне, при
этом один из них, середняк, заметил: “Крестьянский союз необ¬
ходим, при его помощи крестьяне быстро выйдут на путь хозяй¬
ственного возрождения. Власть загоняет Крестьянский союз как
бы в подполье”. В заключение беседы, посвященной этой пробле¬
ме, один из членов правления потребительского общества заявил:
“Я буду всеми силами добиваться организации “Крестсоюза”, так
как только в нем я вижу избавление для крестьян, жизнь которых
улучшится и они тогда избавятся от всех лишений и нищеты,
какие переживают сейчас”63.
В таком же примерно духе высказывались на перевыборных
собраниях в сельсоветы в начале 1927 г. и приверженцы “КС” в
Московской губернии. Так, в деревне Терехово Свердловской во¬
лости Клинского уезда середняк, критикуя политику коммунис¬
тической партии, заявил: “Власть совсем закабалила крестьян.
Кучка большевиков что хочет, то и делает, а крестьянам не дают
организовываться в крестьянский союз. Если бы дали, тогда мы
продиктовали бы, что такое крестьяне”. Другой середняк уже в
селе Загорново Бронницкого уезда, отвечая на поставленный им
же вопрос на собрании: “Почему власть не разрешает крестьянс¬
кий союз?” — давал вполне точное и справедливое объяснение:
“Власть боится того, что если крестьянин организуется, то мы
пошлем к черту коммунистов и разгоним их власть”. Причем при¬
сутствующий при этом другой середняк, бывший член ВКП(б),
согласился с таким мнением и предложил свой план объедине¬
ния крестьян в общероссийском масштабе. “Союз нам нужно орга¬
низовать и тогда мы поговорили бы. Конечно, нашей одной де¬
ревне этого не сделать. Нужно организовать по волости и уезду,
тогда и губерния пойдет с нами. Мы выгоним всю эту сволочь,
которая ездит на нашей шее. Нам давно пора опомниться и орга¬
низоваться”64.
Подобные подчас враждебные оценки сторонников идеи “КС”
по отношению к власти в годы нэпа звучали нередко, которые
надеялись при помощи своей самостоятельной организации в об¬
щероссийском и всесоюзном масштабах в будущем устранить от
управления страной коммунистическую партию, препятствующую,
по их мнению, объединению крестьян. “Дайте крестьянству их
союз... — обращался к правительству в своем письме в “Крестьян¬
скую газету” житель деревни Высоково Хабацкой волости Бежец¬
кого уезда Тверской губернии Ф. Морозов в июне 1924 г. — И мы
будем знать, что вы за нас! Иначе вы наемники партии жидов, а
221
крестьянин заикнется о союзе — слышен ответ защитников: “Во¬
семнадцатым годом пахнет”. Но не забудьте, что всему бывает
конец, так и игу крестьянскому будет”65.
Вряд ли это высказывание, как и отдельные оценки подобного
рода сельчан, можно рассматривать как антисемитское, поскольку
оно носило прежде всего антиправительственный, антикоммунис¬
тический характер. Как писал А. И. Солженицын о нэповской эпо¬
хе, “среди широких крестьянских масс антисемитизм не проявил¬
ся и даже ослабел против довоенного”66. В то же время нельзя
отрицать широкое участие лиц еврейской национальности в управ¬
лении страной. По данным того же Солженицына, в 1925/26 г. в
аппарате советского управления в СССР евреи были представлены
в 6 раз больше, чем в населении страны. В 1922 г. среди членов ЦК
РКП(б) евреи составляли 26 %, хотя в самой партии их насчитыва¬
лось только 5,2 %, русских — 72 %, украинцев — 5,9 %67.
Вышеизложенный материал свидетельствует о том, что недо¬
вольство крестьян государственной политикой в деревне явилось
основной причиной распространения идей “КС”, сторонниками
которой были все имущественные группы сельчан, хотя среди них
преобладали середняцко-зажиточные слои, в наибольшей степе¬
ни испытывавшие тяжесть проводимых мероприятий советской
властью. Идея “Крестьянского союза”, за которую стихийно аги¬
тировала политически активная незначительная часть жителей села,
оставалась популярной во всех районах РСФСР, хотя ее реализо¬
вать на практике не удалось ввиду слабости, неорганизованности,
малочисленности сторонников “КС”, с одной стороны, и реп¬
рессивных действий органов ОГПУ — с другой. Тем не менее эта
пассивная форма крестьянского протеста свидетельствовала о на¬
растании политической активности сельчан, не мирившихся со
своим трудным экономическим положением, с нарушением их
гражданских, социальных и политических прав.
Крестьяне о рабочих
Из вышесказанного материала невольно напрашивается вы¬
вод. Что идея “Крестьянского союза”, получившая известное рас¬
пространение в деревне в годы нэпа, исходила еще и из противо¬
поставления села городу, интересов крестьян рабочим, что
свидетельствовало о нарастании антагонизма между двумя этими
основными классами советского общества.
Свое недоверие, а подчас враждебное отношение к коммуни¬
стической партии часть крестьян переносила и на фабрично-завод¬
ских рабочих. В их выступлениях, как следует из ранее отдельно
222
цитированного материала, “кучка большевиков” с меньшинством
рабочих установила свою диктатуру над большинством крестьян¬
ства, в результате чего в стране проводилась сознательная поли¬
тика в ущерб интересам крестьян, разорения их хозяйства, в том
числе при помощи низких цен на сельскохозяйственную продук¬
цию и высоких — на промышленные товары. При этом крестьяне,
сторонники такой точки зрения, по своей наивности, неосведом¬
ленности, необразованности считали, что рабочий класс как гос¬
подствующий, установивший свою диктатуру, имеет привилегии,
свою профсоюзную организацию, защитницу их непосредствен¬
ных насущных интересов, пользуется большими политическими,
социальными правами по сравнению “с угнетенным крестьян¬
ством”, составляющим большинство населения СССР и РСФСР.
Поэтому крестьянство, критикуя политику государства, ком¬
мунистов, иногда без достаточных на то оснований давало нелес¬
тные, нелицеприятные оценки и фабрично-заводским рабочим,
возлагая подчас незаслуженно на них вину за острые экономичес¬
кие и социальные проблемы деревни, нерадостную жизнь сель¬
чан. Отрицательные отзывы о рабочих звучали на сельских сходах,
перевыборных собраниях, в письмах в газеты, в партийные и со¬
ветские органы, о чем частично речь шла выше. При этом нередко
в адрес рабочих раздавалась злобная, оскорбительная критика,
сопровождаемая призывами к свержению “диктатуры пролетари¬
ата. Причем эта критика исходила от всех имущественных групп
деревни”, а не только от кулаков, зажиточных крестьян, но и от
середняков, от части и бедняков. Например, 16 января 1927 г. на
предвыборном собрании в деревне Сухронцево Бухломской воло¬
сти Волоколамского уезда Московской губернии, один из зажи¬
точных сельчан, обращаясь к представителям местной власти,
сказал: “Долго ли будет тиранить нас рабочий? Рабочие живут
лучше, стоят у власти. Вы рабочему даете поблажки, даете ему
ответственные посты. Мы добьемся того времени, когда стряхнем
вас со своей шеи и сделаем свою диктатуру”. Аналогичную мысль
высказал и крестьянин-середняк Аннинской волости того же уез¬
да. Он сказал: “Мы не согласны с тем, что рабочий класс руково¬
дит советской властью, крестьян больше, чем рабочих, значит,
крестьяне и должны руководить”68. В таком же негативном духе по
отношению к рабочим высказывался в июне 1927 г. середняк де¬
ревни Минеево Тверского уезда, считая, что у власти сидит “ра¬
бочий пролетариат и жмет крестьянина”69.
Причем, пропагандируя идею “о господстве, диктате” рабочих
над крестьянами, последние опровергали официальную пропаганду
223
о союзе этих двух классов, о смычке города с деревней. Так, во
время перевыборной кампании в сельские советы весной 1926 г. в
Псковской губернии один из сельчан на собрании, возмущаясь,
говорил: "Рабочий живет на шее у крестьян, получает хорошую
зарплату, пользуется разными преимуществами. Так что как была
эксплуатация человека человеком, так и осталась. Крестьянин как
рылся в земле подобно свинье, прозябал, голодовал, разоряли
его исправники и урядники и теперь также, нисколько не лучше.
Поэтому никакой смычки города с деревней не имеется, а есть
размычка”. С подобной оценкой согласился и крестьянин-бедняк.
Он полагал: “Союза рабочих и крестьян не может быть”, поскбль-
ку, по его расчетам, первый получает в день за работу 2,50 руб., а
второй — только 10 коп.”70 Антирабочие лозунги значительной
части сельчан типа: “Крестьянский труд эксплуатируют рабочие”,
“Рабочий сапог давит крестьянский лапоть” получили известное
распространение в деревне в различных районах РСФСР71, о чем
уже выше упоминалось.
“Агитаторы”, противопоставляющие интересы рабочих крес¬
тьянам в сельской местности, обычно убеждали своих односель¬
чан тем, что горожане живут лучше, хорошо, тогда как жители
деревни беднее, они нищие, угнетенные. Вот как выглядели наибо¬
лее распространенные аргументы в пользу данного тезиса его сто¬
ронников. Например, в феврале 1927 г. один из казаков Азовского
района Донского округа рассуждал: рабочие нас обманывают, они
живут хорошо, едят яйца, масло, мясо, куры, тогда как крестья¬
не голодные работают и ходят голые и босые72. Пожалуй, самым
популярным доводом в пропаганде против рабочих среди кресть¬
ян оставался аргумент, согласно которому заводские пролетарии
заняты на производстве 8 часов и получают большую зарплату, да
к тому же и налог не платят и пользуются всевозможными блага¬
ми, в том числе пенсиями, пособиями, медицинским обслужива¬
нием, домами отдыха и т.д.
Например, в 1926 г. жители Горицкой волости Тверской губер¬
нии считали: рабочие, будучи у власти, имеют 8-часовой рабочий
день, “просвещение” и медицинскую “помощь и все другое”, а кре¬
стьяне-трудящиеся находятся в бесправном положении73. На соци¬
альное неравноправие горожан и сельчан жаловался в своем письме
в журнал “Красная деревня” и крестьянин Северо-Западной облас¬
ти Г. Сидоров в 1926 г. Рабочие лучше живут, чем крестьяне, утверж¬
дал он, работают 8 часов, получают хорошее жалованье и пользуют¬
ся “всеми привилегиями и удовольствием” за счет крестьян, которые
трудятся 18 часов в сутки и имеют “гроши за свое производство”.
224
Об этом же рассуждал в августе 1925 г. на беспартийной крес¬
тьянской конференции Ашевской волости Новоржевского уезда
Псковской губернии один из жителей д. Приветки. По его словам,
в стране нельзя говорить о действующем советском правительстве
как о крестьянском, ибо оно является правительством рабочих,
последних и защищает: ведь мы не знаем случая, когда бы за не¬
доимки у рабочих забирали самовар, шкаф, тогда как они полу¬
чают в 12 раз больше крестьянина. По его данным, “путиловский
рабочий на круг зарабатывает “80 руб. и налог не платит”74.
В конце 1924 г. крестьяне Бронницкой волости Московской
губернии критиковали правительство за то, что у рабочих сосед¬
ней фабрики “Пролетарий” лучше организован быт, и “советская
власть все внимание уделяет рабочим, у них 8-часовой рабочий
день, социальное страхование”, в то время как “душат крестьян”.
В период перевыборной кампании в кресткомы в 1926 г. в
Московской губернии на некоторых избирательных собраниях
Воскресенского уезда сельчане власти ставили малоприятные для
нее вопросы: “Почему же товарищи, проповедующие братство,
равенство, получают большое жалованье и живут как баре? Поче¬
му рабочие имеют определенный заработок, 8-часовой рабочий
день, соцстрахование, а крестьяне уплачивают больше налога и
не имеют ничего?”. При этом сельчане Баранов, Тужилин, Пана¬
ев, недовольные своим материальным и социальным положени¬
ем, требовали их уравнять в правах с пролетариатом: “Нет равен¬
ства, — утверждали они, — рабочие — хозяева, а мы, крестьяне,
работники. Рабочие получают жалованье и живут хорошо, а мы
голы и оборваны. Сравняйте нас с рабочими”. Такого же мнения
придерживались и жители деревни Тутаново Ивановской волости
Богородицкого уезда, к тому же они еще сравнивали коммунис¬
тов “с новоявленными помещиками-угнетателями”. “Разница меж¬
ду рабочим и крестьянством большая, — рассуждали они, — и
заключается в том, что если заболеет рабочий, ему есть плата, а
если заболеет крестьянин, то ему ничего. Равенства между рабо¬
чим и крестьянами нет, также как нет разницы между старым
дворянством и коммунистами”.
Критиковали рабочих и сельчане Егорьевского уезда, посколь¬
ку, по их мнению, государство выделяло много для пролетариата
денег, тогда как “у крестьян ничего нет”.
Завидовало “рабочим-управленцам” и население Бояркинской
волости Коломенского уезда. Оно считало, что крестьянин живет
хуже, чем рабочий, так как первый работает день и ночь и ест один
хлеб, а второй “отработает 8 часов и не знает никаких забот”75.
225
В августе 1926 г. в информационной сводке Псковского губко-
ма ВКП(б) сообщалось: в Полканской волости все социальные
группы деревни поднимали вопрос о неравноправном положении
жителей города и села и что рабочие не помогают деревне, не
повернулись к ней лицом.
В 1925 г. сельчане Городецкой волости Ленинградской губер¬
нии также проявляли недовольство “привилегированным поло¬
жением” рабочих в советском обществе, в том числе и в обеспече¬
нии их спиртными напитками: вином, пивом, тогда как у крестьян
власть “самогон отбирает”. А в представлении некоторых жителей
Новгородской губернии середины 20-х годов “привилегий рабо¬
чих заключались в том, что они “кушали белый хлеб”, а у кресть¬
ян “черного хлеба не хватало”76.
Подобного рода взгляды пропагандировало и отстаивало и
население Прохоровской волости Белгородского уезда в июне
1925 г., пострадавшее к тому же от недородов. Оно обвиняло в
этом рабочий класс: “Находимся мы в безвыходном положении,
нигде не можем добиться помощи, — жаловались на власть сель¬
чане. — В Белгороде же рабочие и не думали голодать, в пивных
всегда полно, на базаре покупают курей, гусей нарасхват, одева¬
ются по-заграничному, рабочие добились своего, работают не более
8 часов, а наш брат — крестьяне этого не добились, работают чуть
ли не 24 часа и ходят в лохмотьях”77.
Эти же вопросы, волнующие сельчан, в своем письме к
М.И. Калинину ставил и крестьянин д. Сверково Селищенской
волости Тверского узда И. К. Патрикеев в марте 1926 г.: “Дорогой
староста, Михаил Иванович. Почему пролетариат и рабочие зара¬
батывают от 50 до 90 руб. в месяц, довольствуются здравоохране¬
нием, школой, страхованием 'жизни, предоставляют книжки для
получения на более выгодных условиях мануфактуры с фабрич¬
ных магазинов”78.
Причем Патрикеев, как и другие крестьяне, жалуясь на свою
беспросветную жизнь, на тяжелое экономическое положение, виня
в этом иногда “правящий класс”, рабочих, диктатуру пролетари¬
ата, утверждали: крестьянам Октябрьская революция не принесла
никакого облегчения. Так, 25 января 1927 г. в селе Тунгузском Че-
ремховского района Иркутского округа один из середняков на со¬
брании заявил: “Рабочий живет припеваючи, он и застрахован на
случай увечья, а крестьянин сломал себе руку или ногу, то иди по
миру, а все берут с крестьян — с рабочих же ничего не берут. До
революции было легче и жилось лучше. Боролись, боролись за рево¬
люцию, а оказывается, получили тоже, что было раньше — висит
226
на крестьянской шее весь трон власти”. Данное выступление кре¬
стьянина поддержали середняки и бедняки, присутствующие на
собрании79.
Другой весомый аргумент в агитации против рабочего класса,
используемый на селе, — это неурегулированность цен на сельско¬
хозяйственные продукты и промышленные товары. По мнению
многих крестьян, именно рабочие, находясь у власти, в своих
корыстных интересах устанавливали крайне низкие цены на их
продукцию, тогда как на изготовленные ими товары, предназна¬
ченные для деревни, вводили высокие, разорительные для их
жителей цены. При этом сторонники такой точки зрения, пропо¬
ведующие “антагонизм между городом и деревней”, обвиняли
рабочих в дороговизне произведенных ими товаров, предлагали
последним снизить зарплату и увеличить рабочий день на фабри¬
ках и заводах, чтобы восстановить “справедливость”! В результате
такой политики, по мнению крестьян, произойдет и сокращение
цен на городскую продукцию, покупаемую сельчанами, а на про¬
дукты последних, наоборот, цены поднимутся. Например, в кон¬
це 1925 г. население Круговской волости Московской губернии
просило правительство сократить заработную плату рабочим на
50 % и уменьшить им отпуска, а за счет сэкономленных средств
одновременно увеличить цены на продукты сельского хозяйства.
Со своей стороны, некоторые сельские жители Новгородской
губернии в мае 1926 г. настаивали на введении в стране равных соци¬
альных прав для всех граждан, в том числе и на сокращении жало¬
ванья рабочим и служащим на 50 %, размер которого превышал
100 руб. в месяц80. Часть жителей Воронежской губернии придержи¬
валась такого же мнения. Она надеялась, что за счет сокращения
ставок рабочим понизятся цены на городской товар, тогда как хлеб
в цене повысится. Другие же сельчане предлагали иной способ: они
считали, что при помощи увеличения рабочего дня до 12 часов на
фабриках и заводах пролетариям можно будет поднять количество
изготовляемых ими товаров для деревни и тем самым их удешевить81.
Вот почему значительная часть крестьян, как упоминалось,
негативно восприняла “Манифест” ЦИК СССР, обнародован¬
ный накануне 10-летия Октябрьской революции, в котором
предусматривалось понижение для рабочих с 8 до 7 часов рабоче¬
го дня. В условиях товарного голода, острой нехватки в низовой
кооперативной сети в сельской местности товаров первой необхо¬
димости, в том числе мыла, соли, мануфактуры, крестьяне опаса¬
лись, что при сокращении рабочего дня на фабриках и заводах про¬
мышленные товары вообще исчезнут с деревенских прилавков.
227
О позиции сельчан по этому животрепещущему для них воп¬
росу можно судить по следующим оценкам, высказанным ими в
различных районах РСФСР в ноябре-декабре 1927 г. Например, в
Сибири сельчане, возмущаясь, заявляли: “Итак, товаров в лавках
нет, а при 7-часовом рабочем дне совсем товаров никаких не бу¬
дет”, “Мужицкая шея стерпит. При 7-часовом дне станут пустые
лавки сразу, а что будет дальше”82.
Однако некоторые жители деревни, обеспокоенные отсутстви¬
ем дешевых промышленных товаров в деревне, требовали не во¬
дить 7-часовой рабочий день на фабриках и заводах. Так, 1 декаб¬
ря 1927 г. в деревне Кочина Гора Салтыковской волости
Бронницкого уезда Московской губернии один из середняков
призывал: “Долой 7-часовой рабочий день. Сперва нужно разви¬
вать промышленность и улучшать качество товаров, а потом гово¬
рить о 7-часовом рабочем дне. Долой рабочее правительство, власть
должна быть крестьяно-рабочая или даже крестьянская”. Подоб¬
ный революционный антирабочий призыв звучал 15 ноября 1927 г.
иве. Пупки Дегтянской волости Козловского уезда Тамбовской
губернии на торжественном заседании, посвященном 10-летию
Октябрьской революции, где один из зажиточных крестьян зая¬
вил: “Рабочие сидят на шее крестьянина, они захотели 7-часовой
рабочий день, а с крестьянина только берут и берут”. Во время
голосования за предложенную представителями власти резолю¬
цию “этот же кулак кричал: “Да здравствует 10-часовой рабочий
день на фабриках и заводах, а не 10 лет Октября”.
В ноябре 1927 г. в деревнях Званка, Хмелево, Горка, Бор, Ста¬
рая Ладога Волховского района Ленинградской губернии часть
сельчан протестовала против заводских рабочих, которым прави¬
тельство предоставило “опять льготы, — возмущались они, —
промышленность так слаба и нет никаких товаров в достаточном
количестве, а как начнут работать 7 часов, то и ничего не будет”.
Такую же идею пропагандировала среди жителей с. Гавриловна Узюм-
ского округа и группа середняков: “Переходить сейчас на 7-часовой
рабочий день еще преждевременно, т.к. государство еще не совсем
окрепло и промышленность не настолько еще поднялась. С введе¬
нием 7-часового рабочего дня фабричные изделия станут еще до¬
роже, чем они стоят сейчас”83.
При этом следует отметить, что антирабочая агитация в де¬
ревне, проводившаяся в ряде районов РСФСР отдельными крес¬
тьянами или группой сельчан, опиралась нередко на ошибочную
идею, согласно которой “крестьяне — работники, а рабочие —
хозяева”, ибо последние по своему усмотрению диктуют цены на
228
продукты сельского хозяйства и товары промышленные для них
выгоднее84. Иногда в защиту данного тенденциозного тезиса при¬
водилась и статистика. Так, в декабре 1926 г. в деревне Сокольни¬
ки Обольяновской волости Дмитровского уезда Московской гу¬
бернии на собрании по отчету волисполкома выступил один из
середняков и сказал, обращаясь к работникам местного совета:
“Вы, коммунисты, много говорите о смычке, а мы этой смычки
не видим. Рабочие живут лучше, чем крестьяне. Рабочие застра¬
хованы, а мы, мужики, — нет. Наша картошка стоит рубль мешок,
а сапоги — 25 руб.”85. Отрицал союз рабочих и крестьян и председа¬
тель правления потребительского общества в с. Дубки Оболенского
уезда Тульской губернии. В июле 1924 г. он говорил: “Лозунг смычки
города с деревней проводится в жизнь неправильно, не так, как
завещал Ильич. Зимой, например, рабочим был отпущен лучший
и дешевый товар, а крестьянам — худший и дорогой”86.
Однако смычке города и деревни противоречило не только
расхождение цен на продукты сельского хозяйства и промышлен¬
ные товары, но и ущемление политических и социальных прав
крестьян. Последние имели меньше их по сравнению с горожана¬
ми, в том числе и в выборах депутатов на Всероссийские съезды
советов, закрепленные в Конституции РСФСР, о чем выше упо¬
миналось, что также служило одним из доводов для раздражения
сельчан. Характерна на этот счет позиция крестьянина ИЛ. Чи-
буткина из деревни Ефремово Норской волости Ярославского уез¬
да, изложенная в статье в газету 12 марта 1927 г. под названием
“Сынки и пасынки”. Автор совершенно справедливо недоумевал,
почему же, согласно Конституции, горожане избирают одного
представителя на Всероссийский съезд от 25 000 жителей, а сель¬
чане — от 125 000. Отсюда он делал вывод: у советской власти есть
“сынки и пасынки”, она не ценит труд крестьянина. “Я знаю, что
мне на это ответят, что рабочие — это авангард революции, —
констатировал Чибуткин. — Рабочий сделал революцию, рабочий
на своих плечах вынес всю тяжесть революции. За это ему и дано
преимущество в представительстве Но я думаю, что, поскольку
рабочий поднял знамя революции, постольку Крестьянство за¬
вершило ее. Ведь Крестьянин тоже отдал на алтарь революции все:
отдал сына, лошадь, хлеб и все, что было надо. А разве партизан¬
ские отряды Сибири, Украины не прогнали Колчака, Деникина,
Врангеля и всю свору, прогоняли из нашей революционной Стра¬
ны, разве Крестьянство не подсобляло строительству Свободы?
Да! Но что ему за эти заслуги — да одна пятая часть избиратель¬
ных прав. Но где же тут смычка города с деревней, где же лозунг
229
“лицом к деревне”! Нет его здесь! Видно наоборот: на одну пятую
только лицом к деревне!., Я вношу свою статью “Сынки и пасын¬
ки” на суждение самих масс и прошу пересмотреть этот вопрос
на очередном Всероссийском съезде Советов. Пора, ведь уже на
пороге 10 годовщины Октябрьской революции. Крестьянство впол¬
не дозрело и вполне может встать рука об руку в социалистичес¬
ком строительстве”87.
Хотя автор письма и допускает некоторые неточности, в том
числе когда говорит, что на Всероссийский съезд от городских
советов избирался один депутат от 25 000 жителей. На самом же
деле норма составляла 1 депутат на 25 000 городских избирателей,.
тем не менее во многом он прав. Действительно, для советской
власти рабочие оставались “сынками”, а крестьяне — “пасынками”.
В то же время последние сыграли ключевую роль в Октябрьской ре¬
волюции и в победе-над белым движением, поскольку Красная
Армия преимущественно состояла из сельчан, за счет их труда
она кормилась, одевалась, да и вооружалась. Нельзя не согласить¬
ся и с оценкой автора, согласно которой “крестьянство вполне
дозрело” в уравнении в политических правах с горожанами, что
требовалось при этом изменения Конституции РСФСР. К тому же
он ставит вопрос в своей статье еще шире — вообще о демократи¬
зации советского общества, до которого сельчане “дозрели”. Од¬
нако тогдашнее партийно-государственное руководство страны к
уравнению вг политических и социально-экономических правах
крестьян с рабочими еще “не дозрело”. Оно проводило дискри¬
минационную политику по отношению к деревне, а горожане по
сравнению с сельчанами, действительно, находились в опреде¬
ленном привилегированном положении. На практике проводилась
в жизнь не “смычка города с деревней”, а скорее “размычка”.
Доказательством тому служил как вышеизложенный матери¬
ал, так и другие факты, в том числе и отказ жителям села в при¬
еме на работу на промышленные предприятия. В условиях массо¬
вой безработицы в деревне, особенно среди молодежи, крестьяне
не раз ставили вопрос перед властями о трудоустройстве в горо¬
дах. Так, в конце 1925 — начале 1926 г. сельчане Волоколамского,
Воскресенского, Каширского, Егорьевского уездов Московской
губернии во время перевыборной кампании в кресткомы (ККОВ)
поднимали на собраниях вопрос: “Почему их не берут на работу на
фабрики?”, “Раньше можно было свободно получить работу, а те¬
перь, хотя и советская власть, а многие безработные”88.
Требования некоторых московских крестьян уравнять их в
полном объеме в правах с горожанами дополнялись и просьбами
230
о равном их представительстве не только в законодательных, но и
исполнительных республиканских и союзных органах власти, в
том числе в правительстве. Ибо у значительной части сельчан сфор¬
мировалось ошибочное, устойчивое мнение, будто в правитель¬
стве находится рабочее меньшинство, угнетающее якобы кресть¬
янское большинство, о чем выше уже упоминалось. Например,
жители Завидовской волости считали: у власти, по их расчетам,
находится 99 % рабочих, тогда как в составе населения страны кре¬
стьяне достигают 99 %, а рабочие — только один процент. В этой
связи граждане деревни Жуково Дмитровского уезда, недовольные
политикой коммунистической партии, предлагали ее руководи¬
телям убрать “с вывесок, что у нас рабоче-крестьянская власть”,
а писать следует: у нас “власть только рабочих”89.
Примерно такую же позицию занимали по отношению к ра¬
бочим и крестьяне Горицкой волости Кимрского уезда Тверской
губернии в 1926 г.: “Рабочие у нас на первом месте, — негодовали
они, — и никакие цифры и слова этого не загородят У власти
рабочих гораздо больше, чем крестьян. А ведь в нашей стране как
раз крестьян большинство”90. Подобного антирабочего взгляда
придерживался и упоминавшийся нами крестьянин Г. Сидоров из
Северо-Западной области. В 1926 г. он писал в журнал “Красная
деревня”: “В журналах очень часто пишется, что у нас власть ра¬
боче-крестьянская. По-моему, это неверно, последнее слово нуж¬
но отбросить, ибо крестьянской власти нет, а есть грубая власть
над крестьянами. У власти стоят исключительно рабочие”91.
Конечно, Г. Сидоров, как и его последователи, глубоко заблуж¬
дались и ошибались, когда утверждали, будто власть в стране при¬
надлежала рабочему классу. На самом же деле, как отмеча¬
лось, во главе государства находилась коммунистическая партия,
определявшая как внешнюю, так и внутреннюю политику, в том
числе и в деревне. Эту очевидную истину понимали многие сель¬
чане, справедливо возлагая именно на нее вину за свое тяжелое
экономическое положение. Они осознавали, что высшее партий¬
но-государственное руководство страны вводит нередко непосиль¬
ные налоговые платежи на крестьян, не учитывая их доходы, ус¬
танавливало низкие цены на производимые продукты и, наоборот,
высокие цены — на промышленные товары, покупаемые дерев¬
ней, а отнюдь не рабочие фабрик и заводов разрабатывали эту по¬
литику и не являлись правящим, господствующим классом. Хотя
по сравнению с жителями села, как речь шла об этом выше, горо¬
жане действительно имели некоторые привилегии, включая соци¬
альное страхование, 8-часовой рабочий день. На порядок лучше
231
рабочие обеспечивались промышленными товарами, медицинским
обслуживанием. В городах открывалось больше школ, больниц, поли¬
клиник, культурно-бытовых учреждений. Горожан на порядок каче¬
ственней лечили и учили. Школьное образование и медицинское
обслуживание в деревне намного уступало городскому. Например,
по данным Н. К. Крупской, в середине 20-х годов в сельской мест¬
ности умирало около 50 % детей в возрасте до 5 лет92.
Усиливающийся социально-экономический разрыв между го¬
родом и деревней, определенное противостояние между крестьяна¬
ми и рабочими в эпоху нэпа тревожили и некоторых руководителей
СССР, предлагавших изменить политику государства по отноше¬
нию к деревне в интересах сельчан. Вот что писал в докладной
записке в Политбюро ЦК РКП(б) и лично Сталину Ф.Э. Дзер¬
жинский по этому злободневному вопросу 9 июля 1924 г.: “Необ¬
ходимо снова обратить внимание всего рабочего класса и всей
партии на намечающуюся трещину в союзе между рабочими и
крестьянами. Темп поднятия уровня жизни рабочих и крестьян не
только неодинаков, но резко разошелся. Уровень жизни рабочих
растет непропорционально быстро без достаточной для этого эко¬
номической базы. Крестьяне это видят, видят через своих безра¬
ботных, видят через связь с рабочими во время их отпуска. И то,
что они видят, и что видят у них рабочие-отпускники, затем ска¬
зывается и в нашей партии, и у рабочих. Союз рабочих и крестьян
— не только гениальная мысль т. Ленина, не только принцип на¬
шей политики, но и объективный факт, нарушение которого уг¬
рожает катастрофой государству. Вот иллюстрация настроения кре¬
стьян: на волостных конференциях крестьянами Орехово-Зуевского
уезда задавались вопросы: “Почему крестьяне не пользуются соци¬
альным страхованием, как рабочие. Почему прекращена запись
крестьян на биржу труда. Почему безработица увеличивается, меж¬
ду тем как промышленность расширяется. Почему рабочие пользу¬
ются и отпусками, и домами отдыха, а с крестьян берут только
налоги”... Надо союзу с крестьянством дать не только агитпроповс-
кое, но и материальное содержание. Надо увязать развитие и поло¬
жение промышленности с нуждами и положениями крестьянства”93.
Однако тогдашнее партийно-государственное руководство стра¬
ны не прислушалось к разумным и вполне обоснованным предложе¬
ниям Дзержинского, правильно усвоившего настроения крестьян,
чтобы радикально изменить экономическую и социальную полити¬
ку государства в деревне ради повышения качества жизни ее жите¬
лей, по стиранию граней между городом и селом. Предпринятые
некоторые меры по оживлению советов, по снятию ограничений
232
на аренду земли, наем рабочей силы в крестьянских хозяйствах в
середине 20-х годов были недостаточными, половинчатыми, да к
тому же оказались и временными и не могли существенно повли¬
ять в позитивном отношении на жизнь крестьян, на порядок улуч¬
шить их хозяйство, материальный достаток, наладить правиль¬
ный эквивалентный обмен между городом и селом. Государство
по-прежнему продолжало проводить политику вытеснения и ог¬
раничения “кулачества”, лишения его избирательных прав и рас¬
сматривало деревню как основной источник для финансирования
ускоренной индустриализации при помощи налоговых платежей
и “ножниц цен”.
В то же время справедливости ради следует отметить, что про¬
пасть, разделяющая горожан и сельчан, во многом имела под со¬
бой еще и объективную основу как наследие исторического про¬
шлого. Деревня до 1917 г. на порядок отставала от города, что,
разумеется, не снимает ответственности с тогдашних руководите¬
лей страны, нередко сознательно проводивших политику, направ¬
ленную на противопоставление интересов рабочих крестьянам,
когда последних чаще ограничивали в гражданских, политичес¬
ких, социальных правах, в экономической области, что и служи¬
ло главной причиной для проявления недовольства и антипроле-
тарских протестов со стороны сельчан, требований об уравнении
в правах всех трудящихся СССР, “ликвидации диктатуры проле¬
тариата”, власти рабочих.
Между тем в вышецитируемых материалах, характеризующих
антирабочую позицию в деревне, исходящую стихийно от раз¬
личных имущественных групп некоторых крестьян, особенно за¬
житочных, в отдельных районах РСФСР просматриваются ее раз¬
личные формы: от обычных жалоб, воплей, стонов на свою
тяжелую жизнь до озлобления, агрессивно-враждебного отноше¬
ния к рабочим, изображение последних неким господствующим,
правящим, угнетающим классом, хозяевами страны, виновника¬
ми, дескать, бедности сельчан, что, разумеется, не соответство¬
вало историческим реалиям. Поскольку в стране установилась не
диктатура пролетариата, а диктатура правящей коммунистичес¬
кой партии, как упоминалось выше, ее аппарата. Она и вершила все
большие и малые дела в советском государстве: в городе и в селе, в
том числе, утвердив и контроль над деревней. Ведь, несмотря на
свои “привилегии”, преимущества, по своему социально-эконо¬
мическому, политическому положению городские рабочие не так
уж много отличались от крестьян, в том числе и по своему мате¬
риальному достатку, быту, поведению, менталитету, культуре,
233
образованию. К тому же многие из рабочих были тесно связаны с
деревней, являлись вчерашними сельчанами и в эпоху нэпа мно¬
гие из них также испытывали огромные материальные трудности,
ощущали на себе власть правящей партийно-государственной
бюрократии.
Поэтому часть крестьян, зараженная антирабочими настрое¬
ниями, не обладала достоверной, объективной информацией и
по своей наивности, политической неграмотности и неподготов¬
ленности ошибалась, когда представляла жизнь городского про¬
летариата зажиточно-богатой, идеальной, не испытывающих якобы
никаких материальных и социальных трудностей и невзгод, сто¬
ящих будто во главе правительства.
Исторические факты не согласуются с подобного рода иллю¬
зорными представлениями и оценками части сельчан. Одни из них
так высказывались неосознанно, по незнанию, а другие — и вполне
преднамеренно, злобно, чтобы попытаться посеять рознь, недо¬
верие, антагонизм между двумя основными классами советского
общества. В эпоху нэпа рабочие не являлись хозяевами страны,
правящим классом, хотя действительно они составляли абсолют¬
ное меньшинство населения страны. Но большинство крестьян не
знали, что городской пролетариат получал невысокую заработ¬
ную плату, да и то не всегда вовремя, жил в стесненных жилищ¬
ных условиях, государство изымало также с него налоги, а цены
на продукты питания и промышленные товары оставались высо¬
кими. К тому же в крупных промышленных городах был и высо¬
кий уровень безработицы.
Значительная часть сельчан, выступающих с антирабочих по¬
зиций, не предполагала, да и не догадывалась, что фабрично-
заводские пролетарии в это же время на собраниях, митингах, а
чаще всего в своих частных, приватных, товарищеских разговорах
в столовых, курилках, в письмах к родственникам, поднимала по
сути дела те же вопросы, что и крестьяне, они были не довольны
политикой правительства. Рабочие критиковали власть за нерешен¬
ность социальных проблем, за низкую зарплату, за несвоевремен¬
ную ее выдачу, за высокие цены на продукты, покупаемые ими в
магазинах, за их нехватку. Они, как и крестьяне, также были не
удовлетворены своим материальным и социальным положением.
Хотя вопрос об экономическом и социальном состоянии нэ¬
повской эпохи рабочих является предметом специального иссле¬
дования, мы тем не менее кратко его каснемся. Это поможет по¬
казать, с одной стороны, заблуждение некоторых сельчан по
поводу их высказываний о “райской жизни горожан”, раскрыть
234
не всегда справедливый характер критики в их адрес, с другой, —
отметить и недовольство рабочих своим положением. При этом,
излагая позицию рабочего класса, в том числе и отношение его к
советской власти, государству, мы используем материалы орга¬
нов ОГПУ по Северо-Западной области за 1926 г., направленные
партийному руководству губерний, аналогичные тем документам,
в которых регистрировались антисоветские взгляды крестьян. Так,
в сентябре 1926 г. на ряде промышленных предприятий г. Ленингра¬
да рабочие протестовали против снижения расценок, низкой за¬
работной платы и задержки ее выдачи, а также и против новых
условий коллективных договоров. Жаловались пролетарии и на
отсутствие продуктов в магазинах и на высокие цены на них. На¬
пример, 7 декабря 1926 г. рабочий Гаврилов на заводе “Красный
арсенал” во время обеденного перерыва в беседе со своими това¬
рищами рассуждал: “Вот при “Серпе и молоте” масла и то не
стало, а при “Короне” — все было и вдобавок — масло — полтин¬
ник за фунт, а теперь полтора целковых — и то не купишь”94.
В июле 1926 г. на Покровском стекольном заводе Устюжинско-
го уезда Череповецкой губернии один из рабочих, выступая на со¬
брании, сказал: “Советская власть выкинула лозунг: “Кто не ра¬
ботает, тот не ест”, а делается, наоборот, кто работает, тот
голодает, сейчас рабочих жмут и давят порядки”. На это же жало¬
вался в апреле 1926 г. один из токарей тракторной мастерской
Ленинградского завода “Красный путиловец”. Он возмущался доро¬
говизной продуктов, на закрытие фабрик и отсутствие топлива,
низкое жалованье, когда “заработка не дают и все рабочего жмут,
да жмут”95.
На данном предприятии в мае 1926 г. некоторые рабочие, не¬
довольные экономической политикой государства, ущемлявшего
их* материальные интересы, также резко критиковали правитель¬
ство. Один из пролетариев в электроцехе этого завода, к тому же и
член ВКП(б), заявлял: “Все жмут на рабочего, а правительство
крутит великолепно агитируют за режим экономии, а между тем
при действительном желании сами принести могли бы большую
экономию”.
В мае 1926 г. серьезной критике подвергалась политика государ¬
ства и в выступлениях ряда делегатов IX съезда строительных рабо¬
чих Ленинграда, речи которых, по оценке органов ОГПУ, “носили
меньшевистско-эсеровский характер”. Поскольку некоторые орато¬
ры указывали на серьезные просчеты и провалы в деятельности ру¬
ководства страны как во внешней, так и во внутренней политике,
что, по их мнению, привело к росту безработицы, увеличению
235
налогов, в том числе на крестьян, к искусственному разделению
рабочих на постоянных и сезонных. Поэтому ряд делегатов счита¬
ли необходимым “указать правительству, что такой подход к рас¬
слоению масс не своевременен”.
Согласно информационной сводке сотрудников ОГПУ за 4—
6 июня 1926 г. среди ленинградских рабочих ощущалось “тревожное
настроение”, в том числе на “Фабрике Веры Слуцкой”, в типогра¬
фии, в “Печатном дворе”, на лесопильном заводе, на Шпагатной
фабрике. А на заводе “Красный дизель” рабочие, недовольные сво¬
им'материальным положением, вели разговоры о необходимости
проведения забастовки, чтобы отстоять свои социально-экономи¬
ческие права. “Теперь от верхов по-хорошему ничего не добьешь¬
ся, — рассуждали они. — Надо браться за старые приемы, дело бу¬
дет вернее”. “Добиться чего-либо можно только забастовкой”,96 —
подобные заявления недовольных рабочих на промышленных пред¬
приятиях Ленинграда были нередкостью в 1926 г.
Нередко городской пролетариат от угрожающих слов в адрес
администрации, власти переходил к делу. Он отстаивал свои эко¬
номические и социальные права при помощи проверенных, ис¬
пытанных, традиционных способов борьбы, характерных для вре¬
мен царской России, — волынок и забастовок. Они имели место
на промышленных предприятиях в Ленинграде и других городах
Северо-Западной области, в которых принимали участие тысячи
рабочих. Например, в апреле 1926 г. в Ленинграде произошли 4 заба¬
стовки на текстильных фабриках, в том числе на “Работнице”,
“Красной нити”, а также на цементном заводе и предприятии
“Красный автоген”. Основной причиной выступлений пролетари¬
ата послужила их низкая заработная плата.
По этой же причине в Ленинграде и его пригородах с 10 по
27 мая 1926 г. состоялись 8 забастовок, из которых 4 приходились
на металлическое производство, одна — на текстильное. Так, в
кузнечной мастерской Металлического завода 140 рабочих не ра¬
ботали несколько часов, а в сборочном цехе Пролетарского заво¬
да 300 человек приостановили работу на один час. Городские про¬
летарии были недовольны не только малыми размерами заработной
пЯаты, но и задержкой ее выдачи, а также сокращением отпуска
до двух недель. В конце марта 1926 г. рабочие медно-маталлической
мастерской Путиловского завода в связи со снижением расценок
не только прекратили трудиться, но, возмутившись и отчаявшись,
пошли и на такой чрезвычайно рискованный шаг, как порчу про¬
изведенной ими продукции. 7 июня 1926 г. 950 человек прокатной
236
мастерской “Красного путиловца” бастовали 2 часа ввиду пони¬
жения заработной платы в мае месяце по сравнению с апрелем97.
Протестовали на экономической почве не только некоторые
пролетарии г. Ленинграда, но и других городов. Они требовали от
властей повышения заработной платы, своевременной ее выдачи,
снижения расценок, улучшения жилищно-бытовых условий, од¬
ним словом, повышения жизненного уровня. Так, на упоминав¬
шемся Покровском стекольном заводе в Череповецкой губернии
200 человек в мае 1926 г. прекращали временно работу, 1 июня на
Смердмольном предприятии 150 пролетариев на 15 минут приос¬
тановили работу в связи с задержкой выплаты зарплаты на 2 меся¬
ца98. В апреле 1926 г. в Мурманском порту грузчики провели 3 во¬
лынки, временно прекращая работы из-за плохих жилищно-бытовых
условий и слабого технического обеспечения99.
С 22 по 27 мая 1926 г. в Северо-Западной области на торфо-
предприятиях бастовали до 5500 человек, в том числе в Новгород¬
ской и Ленинградской губерниях; забастовщики требовали сни¬
жения норм выработки и увеличения -заработной платы. С 28 мая
по 15 июня 1926 г. в Северо-Западной области, включая г. Ленин¬
град, было отмечено на промышленных предприятиях 18 забасто¬
вок, в них участвовали 1996 человек. В сентябре государственные
органы зарегистрировали в области 138 социальных конфликтов
на фабриках и заводах; в октябре — 93, а забастовок соответствен¬
но — 9 и 14 с количеством участников — 468 и 1848100. Протесту¬
ющие в основном были не довольны низкими расценками и не¬
высокой заработной платой. При этом следует подчеркнуть, что
забастовочное движение рабочих не прекращалось на протяжении
всех лет нэпа, вызванное их ухудшением материального положе¬
ния, хотя и не носило массового характера. Например, в стране в
сентябре 1923 г. было зарегистрировано 5611 конфликтов рабочих
с администрацией, включая 191 забастовку, в которых участвовали
около 80 тыс. человек, а в октябре было 217 забастовок и 165 тыс. их
участников101.
Названные нами лишь некоторые факты свидетельствуют о том,
что часть промышленных рабочих разных профессий, “хозяев стра¬
ны” была недовольна своим экономическим и социальным положе¬
нием, критиковала политику правительства и требовала от него улуч¬
шения своего жизненного уровня. И в этом отношении интересы
рабочих и крестьян совпадали, тех и других притесняло государство,
ограничивало их в правах. В годы нэпа руководители страны недоста¬
точно проявляли заботы, внимания к рядовым гражданам города и
села, материальное положение которых оставалось скудным, что и
237
порождало протесты в различных формах с их стороны. Эти про¬
тесты выражались и в форме антиправительственных, антисовет¬
ских листовок, распространяемых не только в сельской местнос¬
ти, но и в городах. Например, 20 октября 1926 г. при входе на
завод “Красный путиловец” в Ленинграде была вывешена листов¬
ка такого содержания: “9 лет мы живем при коммунистах, дей¬
ствительно ожидая год от года лучшей жизни. Но мы ее не дож¬
демся. Чаша страдания русского человека переполнена. В России
царствует бесправие, царствует и произвол. Советская власть кор¬
мит массы утопической политикой социализма. Обанкротившие
бюрократы хозяйствуют, творят засилье. На улицах Ленинграда и
Москвы вы сплошь и рядом можете увидеть целые сотни людей,
стоящих прося милостыню, обреченных на гибельную нищету. Они
просят кусок хлеба только бы не умереть с голоду С нами стали
обходиться1 грубо и не доверяют. Нигде не найдешь правды для
защиты своих интересов. Власть оттолкнулась от масс, она забыла
главную заслугу в деле революции — выполнение пролетариата и
крестьянства. Выдвинутый для проведения режим экономии явля¬
ется пагубным для рабочих. Везде сокращаются штаты производ¬
ства и рабочие массы выбрасываются на улицу. Все крестьянство
обременено непосильными налогами. Во многих губерниях берут
неуплату прошлого. Платить крестьянам нечем, берут корову, овец,
пальто и последний самовар. Крестьянин кидает землю и едет в
город В городе его ждут те же голод, безработица. А что сделали
коммунисты хорошего для народных масс России? Ровно ничего.
Страдает крестьянин, страдает и пролетариат. В России царствует
беспредел и произвол. Мы, народные массы, рабочие, крестьяне
и трудовая интеллигенция требуем от правительства положить
конец этому беспределу”102.
Отмечая определенную тенденциозность, запальчивость и злоб¬
ность тона цитируемой листовки-воззвания, явную враждебность ее
по отношению к большевикам, не выполнившим свои обещания,
тем не менее, как нам представляется, в свете вышеизложенного, ее
содержание во многом отражало наболевшее для большинства со¬
ветских фаждан их недовольство политикой правительства, утра¬
тивших в него веру. В ней, разумеется, указаны справедливо, пусть и
в эмоциональной форме, сложные, противоречивые, социально-
экономические и политические процессы, происходящие в стране в
эпоху нэпа, в том числе отмечено и трудное материальное поло¬
жение рабочих и крестьян, контроль над ними партийно-госу¬
дарственной бюрократии. В то же время автор листовки, как и
другие критики коммунистов, старались возложить всю вину за
238
кризисное состояние советского общества именно на большеви¬
ков, не принимали в расчет объективные факторы, тяжелейшее
наследие прошлого, сложность международного положения СССР,
когда страна вынуждена была восстанавливать народное хозяйство,
укреплять обороноспособность за счет собственных средств и сил,
находясь в изоляции, не получая внешних кредитов, помощи.
Тем не менее в данной листовке-воззвании оправданно речь
идет о необходимости единения рабочих и крестьян, интеллиген¬
ции в борьбе за улучшение их жизненного уровня против прави¬
тельства, на советской платформе, ибо не ставится политическая
задача — свержение советской власти. Именно экономическая со¬
ставляющая, неудовлетворенность своим материальным положе¬
нием, служила главной причиной стихийного, локального проте¬
ста как крестьян, так и рабочих.
Среди тех и других встречалось немало сознательных сторон¬
ников реального союза горожан и сельчан, понявших его значи¬
мость в борьбе за более широкие свои экономические, полити¬
ческие и социальные права. Часть политически зрелых рабочих
поддерживала стремление крестьян к созданию своей организа¬
ции. Так, весной 1925 г. на собраниях рабочих г. Москвы ставились
такие вопросы: “Почему среди крестьян нет профсоюзов, кото¬
рые бы защищали их интересы? Почему с крестьянами нельзя
договориться об их союзе? Почему крестьянский союз страшен
власти советов, а в Гражданскую войну вооружали крестьян, не
боялись”103. В конце декабря 1925 г. в г. Коломенске Московской
губернии на торжественном заседании один из рабочих завода “Крас¬
ный строитель” поставил вопрос о создании “Крестьянского со¬
юза”. Это предложение одобрил присутствующий на заседании
председатель сельсовета с. Сабурово Мячковской волости Полита¬
нин, а в отправленной телеграмме делегатам XIV съезда ВКП(б)
указывалось не упоминать в принимаемых документах слово “кре¬
стьянин”, поскольку власть на него “не обращает никакого вни¬
мания”104.
Среди крестьян также имелись не только “противники ра¬
бочих”, но и их естественные союзники в борьбе с засильем
партийно-государственного аппарата. Часть сельчан, наиболее
политически подготовленных, осознавала необходимость совме¬
стного противостояния с городским пролетариатом государ¬
ственной политике, которая вела к падению их жизненного
уровня. Так, в марте 1927 г. крестьянин И.А. Русов из починка
Суханово Хмелевицкой волости Ветлужского уезда Нижегород¬
ской губернии в письме в редакцию “Крестьянской газеты” на
239
имя М.И. Калинина указывал на необходимость единства дей¬
ствий вместе “трудового класса”, объединения рабочих и кресть¬
ян, для сопротивления другому, враждебному классу — советских
служащих, получающих “прекрасное жалованье”. Подобного взгля¬
да о союзе двух классов придерживался и крестьянин А. А. Щипа-
кин из Круглянской волости Орловской губернии. В своем письме
в газету в октябре 1927 г. он, жалуясь на бедность сельчан, кото¬
рые “голодуют уже десять лет революции”, призывал к равенству
и братству “как рабочих, так и крестьян” для противодействия
партийно-советским служащим, ибо последние забывают жизнь
бедняка105.
Подобные суждения среди сельчан встречались нередко, ког¬
да они усматривали причины своей нищеты не “в эксплуатации
рабочего крестьянином”, а в господстве над обоими классами
партийно-государственных служащих, чиновников-бюрократов,
власть которых необходимо было ограничить. Причем сторонники
такой позиции стояли на платформе советской власти, не стави¬
ли вопрос о ее насильственном свержении и даже не подвергали
сомнению ее существование.
В то же время в городе и в селе встречались отдельные и более
радикальные, по-революционному настроенные граждане, о чем
уже упоминалось, призывающие к совместным боевым действиям
рабочих и крестьян для свержения власти коммунистов. Об этом
можно судить еще и по содержанию листовок, написанных от руки,
и распространяемых в г. Куренске Иркутской губернии в октябре
1927 г.: “Рабочие и крестьяне. Нужна великая очищающая револю¬
ция в нашей стране, долженствующая снести другие классы, —
говорилось в одной из них, — и оставить у власти два трудовых —
рабочие и крестьянские классы Нужно одно великое усилие, что¬
бы столкнуть с наших плеч паразитическую бюрократию и восста¬
новить трудовую власть. Нужно сознание рабочих и крестьянских
масс, сознание права и неизбежности захвата власти в свои руки.
Да здравствует, товарищи, союз рабочих и крестьян. “Долой пара¬
зитов комиссаров”. Долой пролетарскую диктатуру”106.
Отмечая неоднозначное, противоречивое отношение кресть¬
ян к промышленным фабрично-заводским рабочим как негатив¬
ное, так и позитивное, тем не менее, как свидетельствуют выше¬
изложенные факты, большинство сельчан противопоставляли свои
интересы городским пролетариям. При этом антирабочая локаль¬
ная агитация в деревне в различных районах РСФСР и ее формы
говорили о том, что декларируемый в официальных документах
союз рабочих и крестьян, смычка города и деревни, на практике
240
зачастую трансформировались в “размычку”, в нарастающий не¬
кий антагонизм между двумя основными классами советского
общества, между городом и деревней. Причем экономическая по¬
литика государства “диктатуры пролетариата” порою сознательно
вела к возникновению “трещины, размычке” между городом и де¬
ревней, к распространению антирабочих настроений в сельской
местности. В то же время неосведомленность и политическая не¬
подготовленность некоторых “антирабочих агитаторов” создавали
иногда на селе искаженное представление о якобы богатой жизни
горожан, которые также испытывали материальные, бытовые труд¬
ности, и многие были недовольны своим экономическим поло¬
жением, что создавало некоторые объективные предпосылки для
совместных протестных действий рабочих и крестьян против про¬
водимой государственной политики, мероприятий и действий
правительства.
Отношение крестьян к выселению помещиков
Тогдашнее руководство страны зачастую причины крестьян¬
ского сопротивления власти усматривало не в сути осуществляе¬
мой политики государством, а прежде всего в антисоветской аги¬
тации “кулаков” и отчасти бывших помещиков, оставшихся на
проживание в своих имениях после Октябрьской революции в раз¬
личных районах страны.
Государственные структуры, в том числе органы ОГПУ, не¬
редко считали, что оставшиеся в своих бывших поместьях дворя¬
не являются опасными агитаторами среди окружающего кресть¬
янского населения, и они натравливают последнее на политику
советской власти. Например, в информационной сводке чекистов
за 22 октября 1924 г. констатировалось: в Псковской губернии быв¬
шие помещики ведут антисоветскую деятельность107. 14 сентября
1925 г. партийное руководство Северо-Западной области доклады¬
вало в ЦК РКП(б), что бывшие имения дворян являются “опор¬
ными пунктами антисоветской агитации”108.
Вот почему в середине 20-х годов политика правительства была
нацелена на выселение бывших помещиков из своих имений в дру¬
гие малодоступные районы страны. Отношение сельчан к такой
политике государства было неоднозначным, как позитивным, так
во многих случаях и негативным. Отдельные сельчане встали на за¬
щиту помещиков-“выселенцев”, своих “старых хозяев-эксплуатато-
ров”. Конечно, данная тема требует специального исследования,
мы же коротко остановимся на отдельных ее сюжетах, в первую
241
очередь имеющих непосредственное отношение к формам кресть¬
янского сопротивления проводимой государством политике в де¬
ревне, в том числе и по выселению бывших дворян.
Кампания по выселению помещиков из своих имений нача¬
лась осенью 1924 г. и продолжалась до 1927 г. 28 ноября 1924 г. Нар¬
ком земледелия РСФСР П. А. Смирнов отправил местным орга¬
нам директиву о необходимости ускорения работы по выселению
бывших помещиков из своих имений в административном поряд¬
ке, поскольку последние “всеми правдами и неправдами офор¬
мили свои права на землю”. При этом в документе указывалось,
что выселению не подлежат крестьяне, купившие земельные уча¬
стки в дореволюционный период при помощи Крестьянского банка
с рассрочкой платежей. Выселяемые лица могли быть наделены
землей в районах республики, где не имелось поместных владе¬
ний, прежде всего в Сибири. Освободившаяся после выселения
помещиков земля и жилые помещения брались на учет местными
государственными органами. Причем согласно ранее принятой Нар-
комземом РСФСР инструкции еще 1 октября 1918 г., у выселяе¬
мых крупных землевладельцев-дворян не должны конфисковы¬
ваться личные вещи, предметы домашнего обихода, в том числе
белье, одежда, обувь, мебель, посуда109.
О том, как проводилась в жизнь данная инструкция и поли¬
тика государства о выселении бывших помещиков, можно судить
на примере Северо-Западной области. Так, в декабре 1924 г. упол¬
номоченный Наркомзема республики по области в соответствии
с инструкцией Смирнова от 28 ноября направил в губернские зе¬
мельные управления директиву о взятии на учет бывших дворян¬
ских имений и о выселении их владельцев, в первую очередь тех,
кто не оформил в законном порядке свое землепользование рань¬
ше. А в случае его оформления через уездные органы необходимо
было представить материалы в губернские земельные управления
об его отмене. Со своей стороны губернские органы власти давали
предписания уездным — начать работу по составлению списков
проживающих на их территории бывших помещиков, взятию на
учет их имений и всей собственности. А затем уже следовало при¬
ступать к их выселению, опираясь на документы вышестоящих
земельных органов.
Подобные директивы, например, направлялись в уезды ленин¬
градскими губернскими органами власти в декабре 1924 г., в кото¬
рых говорилось о том, что всю работу на местах по выселению
помещиков нужно проводить “в ударном порядке, без каких-либо
расходов и возмещения со стороны правительства”. 3 января 1925 г.
242
председатель Новгородского губернского исполкома советов а Мо¬
розов подписал приказ, обязывающий уездные органы власти в
срочном порядке завершить выселение бывших помещиков из своих
имений. В нем, в частности, указывалось: “Все бывшие имения,
ныне признанные нетрудовыми и находящиеся до сих пор во владе¬
нии их бывших пользователей без всякого на то права, изъять из
владений этих пользователей, выселить последних в администра¬
тивном порядке, не позднее 20-го января. Имущество таких име¬
ний принять на учет, выделив из него бывшим пользователям ту
часть, которая предусмотрена циркуляром Наркомзема от 28 нояб¬
ря 1924 г. Всю работу по фактической ликвидации всех помещичь¬
их имений закончить по губернии не позднее 15-го февраля с.г.”ио.
Однако реализовать на местах подобного рода радикально-ре¬
волюционные, леваческие директивы не так-то было просто, ибо
для их быстрого “кавалерийского” натиска, проведения в жизнь
отсутствовали необходимые предпосылки, так как к скоропали¬
тельному выселению бывших землевладельцев-дворян из своих
имений оказались не готовыми не только последние, но и власти
на местах, а также окрестное крестьянское население. Поэтому
кампания по экспроприации бывших имений у помещиков, вы¬
селению дворян проходила медленно, трудно, болезненно, с оче¬
редными “перегибами”, конфликтами. В ряде районов эта кампа¬
ния выливалась в форму социального протеста со стороны сельчан,
нередко вставших на защиту своих старых хозяев.
Для выселения бывших помещиков и ликвидации их имуще¬
ственных отношений на местах создавались специальные комис¬
сии, в состав которых входили представители от партийных и со¬
ветских органов. С осени 1924 г. работала и комиссия Наркомзема
РСФСР, образованная из 3 человек во главе с членом коллегии
М.Я. Лацисом. С октября по март 1925 г. она взяла на учет 6113 быв¬
ших помещичьих семей и установила, что многие из них не офор¬
мили по закону свое право на землепользование. При этом часть
помещиков проживала в своих имениях “с разрешения сельских
обществ и пользовалась землей наряду с крестьянами чересполос-
но или на обособленных участках”. Из всех взятых на учет бывших
помещичьих семей комиссия приняла постановление о выселе¬
нии 2465, а реально выселили около 1200 семей, или примерно
половину.
20 марта 1925 г. ЦИК и СНК СССР приняли решение о лик¬
видации у бывших помещиков, прав на землепользование и про¬
живание в имениях, принадлежащих им до Октябрьской револю¬
ции, за исключением бывших собственников трудового или
243
полутрудового типа, которую они приобрели в дореволюцион¬
ную эпоху в рассрочку через земельные банки и обрабатывали
при этом наделы членами своих семей с частичным привлечени¬
ем наемного труда. Согласно постановлению, не лишались права
землепользования также семьи, ближние родственники которых
деятельно защищали советскую власть, будучи в рядах Красной
Армии, или имели большие заслуги перед государством, отме¬
ченные решениями советского или республиканского правитель¬
ства. При этом выселяемые помещики, согласно решению ЦИК и
СНК СССР, имели право получить земельные наделы в размерах
трудовой нормы или колонизационно-переселенческого фонда в
тех районах, где они раньше не владели собственностью111.
К 1927 г. на местах было взято на учет на территории РСФСР
10 756 бывших помещичьих семей, проживающих в Своих имени¬
ях. Из них подлежали выселению 4112 (41 %), у которых предпо¬
лагалось конфисковать 38 00 га земли, 1979 жилых и 6955 хозяй¬
ственных построек, а также скот и инвентарь на сумму
283 704 руб.112
На наш взгляд, одной из причин того, что из всех учтенных
бывших помещичьих семей власть выселила меньше половины в
1924—1926 гг., стало крестьянское сопротивление государствен¬
ной политике по отношению к бывшим дворянам, поскольку зна¬
чительная часть сельчан выступила в их защиту против выселения
из прежних имений в другие районы. Ведь многие бывшие поме¬
щики представляли в советские органы власти “не 1—2, а 6—8 об¬
щественных приговоров, а в ряде случаев число их доходило до
12—14”, чтобы они остались жить в своих хозяйствах113.
Прежде чем рассматривать формы крестьянской защиты быв¬
ших помещиков, мы остановимся на том, кого и как выселяла
советская власть из деревни в годы нэпа, ссылаясь при этом на
материалы по Северо-Западной области. Как выше упоминалось,
для проведения в жизнь директив центральных органов по высе¬
лению помещиков в уездах и в губерниях создавались территори¬
альные межведомственные комиссии, в состав которых входили
представители от советских и партийных органов, в том числе от
земельных управлений, ОГПУ, прокуратуры. Работа этих комис¬
сий обычно проходила секретно, в их задачу входило обследова¬
ние бывших помещичьих владений, установление их размеров, про¬
исхождения; отношение помещика к советской власти, общая
площадь земельного участка до революции; кем она обрабатывалась
раньше и сейчас, почему владелец имения остался здесь проживать.
Комиссия должна была также выяснить и позицию окружающего
244
крестьянского населения к выселяемому бывшему помещику при
принятии окончательного решения. В ряде мест создавались и волос¬
тные комиссии, в обязанность которых входил учет бывших дворян¬
ских имений и их охрана, распределение изъятой собственности.
Процесс выселения бывших помещиков проходил, как выше
упоминалось, медленно, о чем говорят нижеприведенные дан¬
ные по Северо-Западной области. Так, на 14 сентября 1925 г. в
Ленинградской губернии комиссии взяли на учет 366 семей, высе¬
лению подлежало 125, в Череповецкой губернии соответственно —
351 и 282; в Псковской — 239 и 191; в Новгородской — 368 и 224114.
При этом одним из главных критериев для комиссий при при¬
нятии решения о высылке бывших помещиков служило их дво¬
рянское происхождение независимо от имущественного положе¬
ния. Власти считали, что они враждебно настроены к советской
власти. Как отмечалось, например, в постановлении Псковского
губкома РКП(б) от 15 декабря 1924 г.; из проживающих в губер¬
нии под разными предлогами 239 помещиков решено выселить
191 как социально-вредных, которые “своими контрреволюци¬
онными действиями разлагают местное население”, тогда как
40 помещиков оставались лояльным “к советской власти, ника¬
кого вреда не представляющих”, которых не нужно выселять,
оставить их в хозяйствах115.
Руководители Новгородской губернии, недовольные полити¬
кой центральных органов власти по медленному выселению быв¬
ших помещиков и дифференцированному к ним подходу, настаи¬
вали на ускоренных темпах по “распомещиванию”. Так, в сентябре
1924 г. на заседании губкома РКП(б) отмечалось: “Центральная
власть неправильно поступает, когда отменяет постановления мес¬
тных земельных органов о выселении помещиков из бывших име¬
ний, даже тогда,, когда они действительно являются нетрудовыми...
Необходимо раз и навсегда покончить с этим уродливым явлени¬
ем, когда в помещичьих имениях сидят под тем или иным предло¬
гом их бывшие владельцы. Надо разорить дворянские гнезда”116.
В январе 1925 г. Новгородское губернское земельное управле¬
ние сообщало в Наркомзем РСФСР о том, что задания по высе¬
лению бывших помещиков проводятся в соответствии с директи¬
вами центра. “На этом мероприятии по очистке деревни от остатков
бывших землевладельцев сосредоточено все внимание и само осу¬
ществление проводится со всей строгостью и со всеми вытекаю¬
щими для этого класса последствиями. Новгородская губерния по
выселению бывших помещиков проводится на местах с достаточ¬
ной энергичностью”117. Эта “энергичность” на практике привела
245
к тому, что до принятия постановления ЦИК и СНК СССР 20 мар¬
та 1925 г. из губернии выселили в ряде уездов “поголовно всех поме¬
щиков”118, независимо от типа хозяйства, дворянское оно или
крестьянское, трудовое или нетрудовое.
В этой связи укажем некоторые примеры, характеризующие ме¬
тоды “поголовного распомещивания” бывших дворян. Так, 14 нояб¬
ря 1924 г. Новгородская межведомственная губернская комиссия
на своем заседании рассматривала вопрос об имении бывшего
помещика В. Б. Светловского. Оно находилось около станции Бе-
резайки в Дубровской волости Валдайского уезда. Светловский
являлся профессором Ленинградского государственного универ¬
ситета и Морской Академии, его семья состояла из 5 человек, из
них 4 учились в институтах. Он имел земельный участок площа¬
дью 14,5 десятин, из которых 6 были заняты под пашней, 7 — под
сенокосом. По мнению членов комиссии, земля в хозяйстве Свет¬
ловского обрабатывалась наемным трудом, оно не являлось куль¬
турно-показательным, не представляло “музейный или истори¬
ческий памятник”; было лишь домом отдыха для владельца, где
“эксплуатировался чужой труд”. Поэтому комиссия признала это
хозяйство нетрудовым, которое служило “убежищем для прежне¬
го владельца”, и предъявила Светловскому требование — сдать
его “со всем имуществом в ведение и распоряжение управления
Госеземимуществом, впредь до окончания суда, на хозяйство на¬
ложить запрещение”. Однако данное постановление профессор
Светловский обжаловал в прокуратуре РСФСР, и дело о его вы¬
селении было приостановлено.
На этом же заседании Новгородская губернская комиссия рас¬
сматривала и постановление Валдайской уездной комиссии о вы¬
селении бывшего помещика С. Г. Ефремова из Едровской волости.
Его семья насчитывала 5 человек, из них два трудоспособных, хо¬
зяйство располагало 11,25 десятинами земли, наемная рабочая сила
в нем не применялась, оно не являлось показательно-культурным
и не представляло исторической ценности. Уездная комиссия при¬
знала хозяйство Ефремова нетрудовым, которое было взято на учет
в 1918 г. Несмотря на то, что в 1921 г. постановлением уездного зе¬
мельного управления Ефремову выделили в трудовое пользование
земельный надел площадью 11,25 дес. И тем не менее его признали
необходимым выселить, а имущество зачислить, как и все име¬
ние, в государственный фонд.
Такая же печальная судьба постигла и другого дворянина
этого же ‘уезда Д.А. Сутормина, проживающего в Яжелябицкой
волости в имении “Рытая гора”. До Октябрьской революции
246
ему принадлежали 349 десятин земли, а в 1924 г. в его пользова¬
нии находилось 14,33 дес. Наемный труд в хозяйстве не применял¬
ся с 1922 г. Семья состояла из трех человек. В 1921 г. уездная власть
разрешила ему пользоваться указанной площадью земли. Комис¬
сия решила: “Учитывая, что имение “Рытая гора” бывшего поме¬
щика Сутормина до 1918 г. являлось нетрудовым, в силу чего Су-
тормин подлежит выселению”, а его имущество переходит в
собственность государства119.
По расчетам Новгородской губернской межведомственной
комиссии, от выселенных помещиков изымалось 2893 построй¬
ки, 229 лошадей, 418 голов крупного рогатого скота, 619 — го¬
лов мелкого скота, сельскохозяйственного инвентаря и других
предметов — 16 644. Все конфискованное у них имущество оце¬
нивалось на сумму 677 296 руб. 83 коп., а земли — 5500 десятин.
Из общего количества хозяйств, принадлежащих бывшим поме¬
щикам, 17 переходили для организации на их базе колхозов и сель¬
скохозяйственным школам для молодежи на площади 1200 дес.;
118 дес. передавались для открытия школ, местных лечебниц, аг¬
рономических пунктов; 145 — вообще ликвидировались, а их по¬
стройки, имущество и земля выделялись в распоряжение комите¬
тов крестьянских обществ взаимопомощи; крупный рогатый скот
и лошади должны были сдаваться в арендное пользование населе¬
нию, колхозам и совхозам. Последние получали в аренду до 30 %
сельскохозяйственного инвентаря, а остальная его часть распре¬
делялась среди крестьян, преимущественно среди бедняков120.
Примерно также проводилась кампания по выселению быв¬
ших помещиков из имений и в Ленинградской губернии. Напри¬
мер, губернская комиссия утвердила 25 апреля 1925 г. решение
Кингисепской уездной комиссии о высылке за пределы губернии
С.К. Лелонг из Горской волости. Согласно материалам комиссии,
этот помещик до Октябрьской революции владел 80 дес. земли, а
в 1925 г. — 5 дес. Он был дворянином, в прошлом кадет, в годы
нэпа вел “политику подрыва авторитета советской власти, устра¬
ивал тайные собрания учительства с целью подстрекательства”
против государства. К тому же у Лелонга уездная власть отобрала
не только лошадь, корову, сельскохозяйственный инвентарь, но
и предметы домашнего обихода, в том числе зеркала, шкаф, стол,
стулья, кресла, лампы, часы. Вот почему губернская комиссия
23 сентября 1925 г. предложила уездному земельному управлению
возвратить конфискованное личное имущество Лелонга как изъя¬
тое с нарушением законодательства121.
247
В сентябре 1925 г. Кингисеппская уездная комиссия приняла
постановление о высылке за пределы уезда из имения поселка
Смолеговицы бывшего помещика Г. Бревера только потому, что
“выселение необходимо для занятия дома под школу, т.к. во всем
районе нет школьного здания”. Причем в документах комиссии
отмечалось: “бывший барин” не относился плохо к советской вла¬
сти и был “человек несерьезный, безвредный”. До октября 1917 г.
Бревер имел 450 дес. земли, трех работников, а в 1925 г. пользо¬
вался 2 дес. земли122.
В сентябре 1925 г. Гдовская уездная комиссия Ленинградской гу¬
бернии признала необходимым выселить бывшего помещика, дво¬
рянина, 85-летнего больного, слепого и парализованного И.Д. Кош¬
карева из имения “Кильно” Тупицинской волости. До Октябрьской
революции он владел 400 десятинами земли, преимущественно
занятой лесом и болотами. В 1925 г. Кошкарев пользовался 10 деся¬
тинами сельскохозяйственных угодий, имел 2 жилых и хозяйствен¬
ные постройки, одну козу, одну корову и сельскохозяйственный
инвентарь123.
Выселенческая кампания коснулась не только бывших поме¬
щиков, но и бывших торговцев-купцов и их родственников. На¬
пример, та.-же Кингисеппская комиссия постановила в сентябре
1925 г. о высылке Ирины Крупенской за пределы уезда. Она явля¬
лась женой бывшего торговца, члена земской управы Михаила
Крупенского, который в дореволюционный период купил 180 дес.
земли, из них большая часть была занята под лесом и кустарни¬
ком. После Октябрьской революции землю национализировали, и
ее владельцы пользовались в годы нэпа 8 дес., имели также одну
корову, лошадь, нетель, две овцы и сельскохозяйственные ору¬
дия — веялку, борону, 2 плуга. До 1917 г. в хозяйстве было 3 коро¬
вы, лошадь, 3 овцы124.
Местные власти под видом высылки бывших помещиков, дво¬
рян, иногда выселяли и семьи крестьян, хозяйства которых в со¬
ветское время являлись трудового или полутрудового типа, их зем¬
ля была куплена с помощью Крестьянского банка в рассрочку. Так,
4 июля 1925 г. Гдовская межведомственная комиссия постановила
выселить из бывшего имения “Малый Шепец” Мошковской волос¬
ти И.А. Леонтьева, бывшего крестьянина, купившего в 1915/1916 г.
433 дес. земли, большая часть которой находилась под лесом и кус¬
тарником, а доля пашни предоставлялась в пользование местных
крестьян. Росле 1917 г. у Леонтьева собственность национализиро¬
вали и ему разрешили пользоваться земельным наделом площа¬
дью 18,7 дес., которую в 1924 году у него отобрали, хотя Леонтьев
248
считался рачительным землепользователем, культурно вел свое
хозяйство, в нем значилось 2 лошади, 5 коров, двухэтажный ка¬
менный дом, двор, гумно, амбар, 2 бороны, жнейка, косилка, мо¬
лотилка, земля обрабатывалась в основном членами семьи, а при¬
менение наемного труда имело вспомогательный характер.
6 июня 1925 г. Гдовская комиссия признала подлежащим высе¬
лению и бывшего крестьянина Г.К. Тедерсона, являющегося соб¬
ственником земли площадью 2600 дес. до установления советской
власти. После национализации земли в 1918 г. в 20-е годы он пользо¬
вался 20 дес. земли, из них 10 дес. относились к пахотной, и владел
также постройками, 3 коровами, 2 лошадьми, 2 телками, плугом,
сохой, телегой и другим сельскохозяйственным инвентарем125.
4 марта 1925 г. Ленинградская уездная комиссия на своем засе¬
дании постановила выселить крестьянку Н.Ф. Бахвалову, жену
бывшего плиточника-промышленника, владевшего до Октября
1917 г. 140 дес. земли, хотя в 1925 г. у нее была 1 дес. в деревне
Горная-Шальная. Выселили и бывшего крестьянина Д.Ф. Дорофе¬
ева из деревни Валовщица, в прошлом промышленника, кото¬
рый имел в собственности до революции 170 дес. земли, а в годы
нэпа — 15 дес. и работал на Волховстрое. Такая же участь постигла
и К. И. Понедельникова из Ленинской волости, бывшего рабоче-
го-каменщика, арендовавшего в царское время 36 дес. земли, а в
1925 г. он пользовался 47 дес., которые не были оформлены соот¬
ветствующим образом.
В категорию “распомещивающихся” попал и “земледелец-ку¬
лак” А.Ф. Миронов из той же волости, в собственности которого
находилось 40 дес. земли до установления советской власти, а в
период нэпа — пользовался 15 дес. На заседании 4 марта 1925 г.
Ленинградская уездная комиссия решила выселить и Родзянко,
жену бывшего председателя IV Государственной думы, прожива¬
ющую в Ленинской волости126.
Подобными методами выселялись бывшие помещики из своих
имений и в других регионах РСФСР. При этом карательная полити¬
ка советской власти, как свидетельствует вышеприведенный мате¬
риал, проводилась не только по отношению к бывшим дворянам,
но отчасти и к крестьянам, купцам, предпринимателям, интелли¬
генции и даже рабочим. Подтверждением этому служит, например,
и такой факт. В сентябре 1925 г. Ленинградская межведомственная
губернская комиссия рассмотрела дела, представленные на высе¬
ление 75 хозяйств уездными комиссиями, из которых к дворянско¬
му сословию относились 25, крестьянскому — 38 и другим — 12.
Она постановила о высылке 18 бывших дворян, 7 крестьян и двух
249
лиц, относящихся к другим социальным группам. Остальных “вы¬
селенцев” губернская комиссия оставила на прежнем месте, по¬
требовала от уездных властей дополнительных сведений127.
Данное решение свидетельствовало о том, что на местах зача¬
стую в нарушение тогдашнего законодательства кампания по “рас-
помещиванию” проводилась без оглядки, ускоренными темпами,
без учета типа хозяйства; репрессии нередко обрушивались на лиц,
не представляющих никакой социальной опасности для государ¬
ства, а конфискация имущества у них проводилась подчистую,
включая личные вещи, домашнюю утварь. Так, в мае 1925 г. Чере¬
повецкий губернский отдел ОГПУ сообщал: на местах выселение
помещиков принимало “неправильный характер”, когда у них
изымалось нательное белье, домашняя посуда, а личные вещи
разбрасывались по полу; в ряде волостей члены комиссии присва¬
ивали себе конфискованные предметы, виновные затем привле¬
кались к ответственности. За несколько месяцев “распомещива-
ния” в губернии зарегистрировали 155 жалоб, в том числе и
направленных в центральные органы власти. Последние письма
“выселенцев” адресовали в губернскую межведомственную комис¬
сию. Из рассмотренных ею жалоб она удовлетворила 32, а 49 оста¬
лись без последствий128.
Последние цифры, как и количество жалоб, поступивших
только из одной губернии, где за несколько месяцев подлежали
высылке десятки семейств, говорила о том, что кампания по вы¬
селению бывших помещиков протекала на местах порою с нару¬
шениями законодательства, оборачивалась трагедией для тысяч
семей, что не могло не беспокоить и центральные органы власти.
Поэтому еще 18 февраля 1925 г. Нарком земледелия РСФСР на¬
правил местным работникам директиву, в которой говорилось о
том, что в Наркомат поступает много жалоб от бывших помещи¬
ков на неправильное их выселение. В этой связи Смирнов призна¬
вал, что инструкция от 28 ноября 1924 г. нарушается, усвоена ме¬
стными работниками не полностью, когда встречаются случаи
выселения частных землевладельцев трудового типа, бывших кре¬
стьян, в хозяйстве которых наемный труд носил подсобный ха¬
рактер. К тому же выселению подвергались наряду с землевла-
дельцами-дворянами и лица, пользующиеся своими небольшими
участками, которых “по их размерам и способу использования
можно рассматривать не как имения”, предназначенные для веде¬
ния сельскохозяйственного производства наемным трудом, а “как
участки дачного, садоводческого типа”.
250
Кроме того, вопреки указаниям Наркомзема, на местах у вы¬
селяемых отбирается ненационализированное в свое время личное
имущество, включая предметы домашнего обихода: одежда, обувь,
утварь, мебель, книги и сельскохозяйственный инвентарь. Нарком
Смирнов предлагал губернским и уездным земельным органам ис¬
править выявленные недостатки и ошибки, допущенные в ходе
начавшейся кампании по выселению бывших помещиков и дей¬
ствовать в соответствии с ранее принятыми инструкциями129.
Однако Смирнов, как и некоторые другие ответственные
партийные и государственные работники центральных органов
власти, перекладывая всю вину за “перегибы” за “распомещива-
ние” российской деревни на местную власть, не признавали, что
эти “недостатки” коренились в самой сути политики государства,
которую, как нам представляется, следовало считать как ошибоч¬
ной и репрессивной по отношению ко многим бывшим землевла¬
дельцам, поскольку такая политика не только коверкала судьбы
тысяч людей, но и наносила определенный экономический урон
стране. Ведь за годы советской власти многие бывшие помещики не
являлись для государства социально-опасными, подавляющее боль¬
шинство из них по своему имущественному положению стали се¬
редняцко-зажиточными хозяевами, а их бывшие имения преврати¬
лись в трудовые, земля обрабатывалась главным образом членами
своих семей, а наемная рабочая сила использовалась временно,
имела подсобный характер. К тому же крестьянское население от¬
носилось к бывшим помещикам доброжелательно, в подавляющем
своем большинстве как бы считало их членами сельских обществ.
Поэтому оно восприняло во многих районах политику совет¬
ской власти по высылке из их местности бывших землевладель-
цев-дворян негативно и принимало в их поддержку обществен¬
ные приговоры на сельских сходах, что, по нашему мнению,
являлось одной из пассивных форм крестьянского протеста про¬
тив проводимых мероприятий государством в деревне. Приведем
на этот счет некоторые примеры, дающие представление еще раз
о том, кого и как выселяла советская власть и каким образом
защищало крестьянство “выселенцев”. Так, в феврале 1925 г. Вол¬
ховский уездный исполнительный комитет совета Ленинградской
губернии постановил выселить из деревни Подсонье П.П. Сысое¬
ва с конфискацией у него всего имущества, причислив его к быв¬
шим помещикам, хотя он таковым не являлся, был коренным
крестьянином-тружеником, членом земельного общества. В его
хозяйстве земля обрабатывалась членами своей семьи. С подобным
решением местной власти о выселении Сысоева не согласились
251
жители деревни Подсонье и на сельском сходе в феврале 1925 г.
приняли приговор в его защиту: “Мы, нижеподписавшиеся граж¬
дане деревни, “Подсонь” и общества, — говорилось в нем, —
даем сей приговор Сысоеву Павлу Петровичу, основанному на
нижеследующем:
1. Гр. Сысоев Павел Петрович до настоящего момента жил в
своем доме, который не был национализирован до получения
предписания.
2. Гр. Сысоев Павел Петрович до сего времени как коренной
крестьянин имел засеянную крестьянскую землю на три душевых
надела рожью и клевером. Имеет четыре коровы, одну лошадь,
жеребенка, и продукты хлебопашества являются основным источ¬
ником, единственным средством к существованию, так как ввиду
его преклонного возраста, ему 61 год и болезненного состояния
здоровья, побочного заработка не имеет. Семейство состоит из 11 че¬
ловек, в том числе сын Сергей 13 лет, дочь София 11 лет, сын
Михаил 10 лет, сын Иван 29 лет, дочь Мария — 23 года. Из пере¬
именованных два старших сына служат на советской службе.
Входя в его семейное положение и его материальную необес¬
печенность, которую подтверждает общество, просим отмены
распоряжения о выселении гр. Сысоева Павла Петровича и предо¬
ставлении дома в его полное хозяйственное пользование”. Под
данным приговором были поставлены подписи 27 домохозяев с.
Подсонье130.
Аналогичный приговор об оставлении на месте уже бывшего
помещика К.А. Якимовского принял и крестьянский сход Домо-
жировского района Волховского уезда 7 марта 1925 г. Этот доку¬
мент Якимовский приложил к своей жалобе, поданной 13 марта
1925 г. в Ленинградское губернское земельное управление, считая
решение о его выселении с конфискацией имущества противо¬
законным. Против выселения бывшего помещика Васильева из сво¬
его имения высказался и сельский сход деревни Колосарь Шумской
волости Волховского уезда 18 апреля 1925 г. Под поручительство
дворянина Васильева за оставление его проживать в своем име¬
нии подписи поставили под общественным приговоров 70 домо¬
хозяев деревни131.
Аналогичную поддержку среди крестьян получили и выселяе¬
мые бывшие дворяне-помещики Гришины из имения “Малинов¬
ка” Лысинской волости Троцкого уезда Ленинградской губернии в
1925 г. Троцкая уездная комиссия признала необходимым выслать
бывших дворян Петра, Виктора и Владимира Гришиных из Лы¬
синской волости за пределы уезда. Последние, будучи почетными
252
гражданами царской России, имели до Октябрьской революции
400 дес. земли, хотя к 1925 г. в их пользовании находилось 27дес.,
5 коров, 3 лошади, свинья, телка, 12 голов мелкого скота, 18 штук
птицы. Хозяйство Гришиных велось в основном членами их се¬
мей, применение же наемного труда имело подсобный характер.
По оценке членов уездной комиссии, бывшие помещики Гриши¬
ны “к мероприятиям советской власти относились отрицательно,
имели сторонников среди лиц антисоветского уклона”. Однако в
их защиту выступили крестьяне, в том числе “масса бедняков”132,
то ли за “антисоветский уклон” помещиков, то ли за благотвори¬
тельность по отношению к сельчанам, которых “удалось привлечь
на свою сторону”.
Многие крестьяне, в том числе бедняки, стояли против вы¬
селения и бывших помещиков братьев Лихачевых из села Пески
Усманского уезда Воронежской губернии весной 1925 г. 12 марта
сельский сход обратился с ходатайством к властям об оставлении
их проживания в с. Пески, причем инициатором данного поста¬
новления был председатель сельсовета, который, по данным ра¬
ботников ОГПУ, организованно сопротивлялся выселению быв¬
ших дворян Лихачевых. Последним удалось, по мнению органов
ОГПУ, незначительными материальными “поблажками”, вроде
одолжения полторы бутылки масла, стакана самогона, привлечь
на свою сторону многих бедняков. По сведениям чекистов, в Ка¬
лужской губернии в Лихвинском уезде жители деревни Новосел¬
ки во главе с председателем сельсовета высказались против высе¬
ления бывших помещиков Сазоновых, проживающих на хуторе
Петровском, ввиду их крестьянского происхождения и лояльнос¬
ти к советской власти.
В 1925 г. один из бывших дворян, подлежавший выселению в
Торопецком уезде Псковской губернии, опротестовал решение ко¬
миссии, представив ей поручительство крестьян в его защиту. В янва¬
ре 1926 г. бывшие помещики, братья Черенковы из села Соколово
Туровской волости Серпуховского уезда Московской губернии, под¬
лежащие выселению, получили от крестьян общественный приго¬
вор, чтобы их оставили проживать в старом имении133.
По мнению местных властей и органов ОГПУ, подобные “за¬
щитно-охранительные” документы выселяемые бывшие помещики
получали за счет “подкупа” окрестных сельчан, особенно бедняков,
предоставляя им материальную помощь, в том числе продуктами, а
иногда и угощением вином, самогоном. Такого рода факты, безус¬
ловно, по-видимому, имели место в обеднячивающейся деревне.
Например, в с. Корандаково Черемисинской волости Шигровского
253
уезда жители на сходе приняли постановление, чтобы выселяемых
граждан оставили в обществе. А перед этим выселяемые угоща¬
ли самогоном сельчан, в том числе и членов сельсовета, чтобы
последние поддержали на сходе приговор в поддержку выселяемых134.
Конечно, бывшие помещики хорошо понимали, что иногда
от позиции местного крестьянского населения зависела их судьба:
ее мог решить сельский сход, с решением которого так или иначе
должны были считаться губернские и уездные комиссии. Поэтому
выселяемые дворяне подавали жалобы в вышестоящие инстанции
обычно с представлением и общественных приговоров, в которых
жители села, деревни, волости просили оставить их на прежнем
месте, указывая порою и недворянское происхождение выселяе¬
мых. Как уже упоминалось выше, многие бывшие помещики при¬
лагали не один, а несколько подобных приговоров. Например, в
течение первых месяцев 1925 г. в Устюжинском уезде Череповец¬
кой губернии от крестьян поступило 12 ходатайств об оставлении
бывших дворян в своих имениях, а также постановления, удосто¬
веряющие их происхождение от трудовых классов135.
Таким образом, из вышеизложенного фактического материа¬
ла, естественно, закономерно возникает вопрос: “Почему же мно¬
гие крестьяне в различных районах РСФСР выступали в защиту
бывших помещиков, старались их оставить в имениях, если в 1917—
1918 гг. многие из сельчан громили дворянские усадьбы, иногда
убивали их хозяев?”136. Думается, объяснение такой эволюции кре¬
стьян надо искать не в “подкупе” их продуктами или их спаива¬
нии самогоном дворянами, хотя и такие факты нельзя отрицать,
а все же главные причины, породившие поведение жителей де¬
ревни, повернувшихся лицом к бывшим “эксплуататорам”, сле¬
дует объяснять прежде всего государственной политикой по отно¬
шению к селу, крестьянству.
Переосмысливание своей позиции многими сельчанами по
отношению к бывшим дворянам явилось закономерным следствием
проводимой политики коммунистической партией. Во-первых,
большинство крестьян на собственном, в том числе и горьком,
жизненном опыте, убедились в том, что ликвидация помещичье¬
го землевладения, уравнительный передел дворянской земли их
не обогатили, проблема малоземелья осталась нерешенной, зем¬
ли по-прежнему у них не хватало, о чем речь шла подробно рань¬
ше, в первой части книги.
Во-вторых, за годы советской власти у части крестьян иму¬
щественное положение не только не улучшилось, но даже ухуд¬
шилось. А обещания большевиков в 1917 г. о мире, воле, земле,
254
свободе и будущей зажиточной жизни крестьян так и остались
декларативными обещаниями, не реализуемыми на практике.
Поэтому многие жители деревни оказались разочарованными по¬
литикой коммунистической партии и считали, что она их обма¬
нула, отсюда и недоверие к ней.
В-третьих, зажиточно-середняцкая группа крестьян, наблю¬
дая, какими репрессивными методами осуществлялось выселение
бывших помещиков в ряде районов, нередко с конфискацией под-.
чистую всего имущества, не без основания делала вывод, рассуж¬
дая, что если сегодня советская власть ликвидирует бывших поме¬
щиков, то завтра она может обрушить карательные меры и на них,
приступить к конфискации нажитой с большим трудом личной
собственности и к выселению состоятельных семей под видом
борьбы с кулаками.
Характерно на этот счет мнение некоторых сельчан Черепо¬
вецкой губернии в 1925 г. Оценивая процесс выселения бывших
помещиков, они с опаской рассуждали: “Советская власть зубы
заговаривает, дала возможность опериться — начать жить близко
к довоенному, а потом выселит, такая штука, пожалуй, случится
с середняком”137. При этом власти, признавая наличие подобного
рода настроений сред и крестьян, причины их распространения
старались преложить, как говорится, с больной головы на здоро¬
вую, не на политику государства, а на пропаганду выселяемых
помещиков, распространявших, дескать, провокационные слухи.
Тем самым они хотели запугать жителей деревни и привлечь после¬
дних к принятию общественных приговоров в их защиту.
Так, 14 сентября 1925 г. Северо-Западное бюро ЦК РКП(б) в
докладной записке партийному руководству страны констатиро¬
вало: “Выселение помещиков натолкнулось на энергичное сопро¬
тивление выселяемых, действующих в двух направлениях. С одной
стороны, проводилось запугивание крестьян и распускались слу¬
хи, что в случае выселения помещиков будут вслед за ними высе¬
лены зажиточные крестьяне и середняки. Повсеместное распрост¬
ранение этих слухов во всех районах Северо-Западной области
указывает на связи и согласованность деятельности отдельных
помещиков. С другой стороны, центральные органы власти засы¬
паны ходатайствами помещиков — приостановить выселение”138.
Однако массовые жалобы помещиков с приложением к ним
общественных приговоров, принятых на сельских сходах крестья¬
нами в их поддержку, были закономерной реакцией, специфи¬
ческой формой протеста тех и других против произвола, творимо¬
го в ходе проводимой кампании советской властью по выселению
255
бывших землевладельцев из своих имений, независимо от того,
к какому сословию они принадлежали.
В то же время страх и тревоги трудового крестьянства по пово¬
ду их “раскулачивания”, будущего выселения из родных мест не
являлись выдумкой, а скорее они базировались на анализе всей
предшествующей политики государства по отношению к деревне
и, как покажут не столь отдаленные будущие события, что кам¬
пания “по распомещиванию” российской деревни явилась свое¬
образной генеральной репетицией политики по раскулачиванию
деревни эпохи сплошной коллективизации. И самые худшие опа¬
сения многих сельчан сбудутся.
Однако справедливости ради следует отметить, что часть кре¬
стьян, и прежде всего бедных, в том числе и по инициативе вла¬
стей, приветствовала выселение бывших помещиков, надеялась
по-прежнему при этом за счет конфискованного у них имущества
поправить свое материальное положение. Например, в январе 1926 г.
на сельском сходе крестьяне села Штецово Ново-Теребужской
волости Шигровского уезда приняли постановление “О ликвида¬
ции господ помещиков” с конфискацией у них садов, домов и
передачей комитету взаимопомощи139. 26 мая 1925 г. жители дерев¬
ни Турово Лужского уезда Ленинградской губернии направили
М.И. Калинину ходатайство такого содержания: “Михаил Ивано¬
вич! Мы, крестьяне дер. Турово, обращаемся с большой просьбой
помочь выселить из наших краев бывшую помещицу Кишкину
Александру Владимировну. Наша помещица владела в былые вре¬
мена 300 десятинами земли. Большая часть данных десятин, заня¬
тых лесом, в дни нашей революции отошла в госфонд. Указанная
помещица Кишкина после Октября 1917 г. переселилась в гор. Лугу
на квартиру, где и проживает, а землю она отдает по собственно¬
му почину кому захочет. Сама Кишкина никогда на земле не рабо¬
тала. Мы же, бедняки-крестьяне, сильно нуждаемся в земле, осо¬
бенно в покосах. Уже как 5 лет дело о передаче нам земли находится
в суде и до сих пор еще точно неизвестно, наша ли это земля,
имея 15 десятин пахоты и покоса помещицы Кишкиной. Мы про¬
сим передать нам, 25 малоземельным домохозяевам”140.
Авторы письма-жалобы, 25 бедняцких малоземельных кресть¬
ян, настаивая на выселении бывшей помещицы, рассчитывали за
счет конфискованных у нее 15 десятин улучшить свое имуществен¬
ное положение. Однако на практике, как уже выше сказано, на¬
ционализированная земля, имущество у бывших дворян обычно
поступали в государственный фонд, не распределялись среди кре¬
стьян, а в первую очередь передавались колхозам и совхозам. Но
256
даже если допустить, что при самом благоприятном для просите¬
лей исходе 15дес. земли, изъятой у помещицы Кишкиной, будут
распределены по уравнительному принципу среди 25 маломощ¬
ных семей, вряд ли они за счет этой не столь существенной при¬
бавки заметно улучшили бы свое благосостояние. Ведь для того,
чтобы засеять те дополнительно приобретенные в среднем 0,3 де¬
сятины, в хозяйстве нужны еще и другие средства производства:
инвентарь, рабочий скот, семена. Землю есть нельзя, ее еще надо
обрабатывать. А что касается волокиты при рассмотрении жалобы
крестьян относительно передачи им дворянской земли, то, веро¬
ятно, в соответствии с Земельным кодексом 1922 г. бывшая поме¬
щица получила земельный надел, как и другие пользователи-кре¬
стьяне, на законных основаниях.
Итак, указывая на неоднозначное отношение сельчан к высе¬
лению бывших помещиков из своих имений, тем не менее, как
свидетельствуют факты, в большинстве случаев крестьяне выска¬
зывались за оставление их на прежнем месте, что явилось одной
из форм социального протеста крестьян против проводимой по¬
литики советской властью в деревне.
Невыполнение крестьянами распоряжений государственных
органов власти
Пассивной формой крестьянского сопротивления по отноше¬
нию к проводимой государством политике по отношению к дерев¬
не можно считать, на наш взгляд, и невыполнение сельчанами тех
или иных постановлений органов советской власти. Так, массовое
недовольство жителей села налоговой политикой государства вы¬
ливалось нередко в отказ уплачивать налоги, поскольку их тяжелое
материальное положение зачастую зависело от обременительных
налоговых платежей, поскольку часть сельчан, уклоняясь от их уп¬
латы, считала, что налоги разоряют их хозяйство, мешают его воз¬
рождению. К тому же зачастую репрессивные методы сбора налога,
особенно в первые годы нэпа, во многом напоминали период во¬
енного коммунизма. А это в немалой степени способствовало нара¬
станию протестов против государственной политики в деревне.
Одной из форм такого протеста стало то, что некоторые наиболее
обездоленные бедняцко-маломощные, середняцкие слои деревни
нередко отказывались выплачивать налог организованно, коллек¬
тивно, целыми селами, а иногда даже волостями.
Судя по информационным сводкам органов ОПТУ, антинало-
говая кампания в деревне на протяжении всех лет нэпа в различных
257
регионах РСФСР не ограничивалась только агитацией и пропа¬
гандой, но принимала и практические очертания, некоторые сель¬
чане коллективно не вносили налоги. Например, осенью 1921 г. в
Челябинской губернии в ряде мест на общих собраниях сельчане
принимали резолюции о снятии с них продналога и отказывались
его вносить. В Куликовской волости Омского уезда крестьяне по
поводу продналога не разрешали выступать с речами коммунис¬
там на собрании и кричали, что “их только грабят”. В Кубано-
Черноморской губернии в станицах Корековской, Невыномыс-
ской, Архангельской, Ладынской сельчане также отказались
категорически вносить продналог, поскольку полагали, что их
обложили неправильно. В 1922 г. в Нижегородской губернии имели
место случаи группового отказа от сдачи продналога, в результате
чего власти арестовали 6642 неплательщика, а в Рыбнинской гу¬
бернии в 24 волостях жители категорически отказались от уплаты
самообложения141.
В феврале 1923 г. в Сибири отмечены многочисленные факты
коллективного отказа деревенских жителей от окладных листов в
Красноярской, Тюменской губерниях. На сельских сходах разда¬
вались и такого рода призывы: “Соввласть хуже колчаковской: она
грабит и замучила крестьян налогами”, “Мы вам, коммунистам,
не верим, говорили, что будет один налог, а теперь 20”. Осенью
1923 г. в Забайкальской губернии в Акшинском уезде население на
сходах выносило резолюции о неуплате налогов и категорически
отказывались его вносить, в том числе жители Копнунской, Ше-
лопучинской и других волостей. В Приморской губернии в октяб¬
ре-ноябре 1923 г. на крестьянских конференциях делегаты преры¬
вали докладчиков выкриками, что правительство хочет уничтожить
крестьян и они налога не сдадут. Так, в Николо-Уссурийском уез¬
де вручение населению окладных листов проходило с большим
трудом, болезненно, в ряде мест от уплаты налоговых платежей
жители отказывались. Негативные тенденции с уплатой налога
наблюдались и в Амурской губернии, где крестьяне некоторых
волостей не принимали окладные листы. Подобные факты имели
место в 1923 г. в Вотской, Бурятской областях, Пензенской, Са¬
ратовской и других губерниях.
В середине 20-х годов часть сельчан также отказывалась от уп¬
латы налога. Например, весной 1924 г. целые общества в Юрьевс¬
ком уезде Владимирской губернии не вносили налоговые плате¬
жи и лишь карательные меры властей принудили их к выплате
налога. От сдачи налога отказывались и жители других централь¬
ных районов РСФСР142. В октябре 1926 г. население двух волостей
258
Череповецкого уезда также коллективно не стало вносить налого¬
вые платежи, мотивируя это тем, что они для них слишком тяже¬
лы, оказались выше прошлого года. Большинство крестьян Кол-
чановской волости Волховского уезда Ленинградской губернии не
приняли окладных листов, они считали, что местные власти на¬
числили им сумму налога неправильно143.
Такую же отрицательную позицию заняли и жители Саминс-
кого сельсовета Подпорожской волости Лодейнопольского уезда
той же губернии в ноябре 1927 г. По их расчетам, сумма налогов
по сравнению с прошлым годом выросла в 2 раза с учетом их
дополнительных заработков на лесозаготовках144.
Аналогичное постановление о неуплате налога приняли и
жители с. Назарово Московской губернии в сентябре 1926 г. Они
отказались даже от приема окладных листов, ибо полагали, что
норма обложения налогом для них оказалась очень высокой и не¬
посильной. Подобные случаи имели место и в других районах
РСФСР, где призывы некоторых сельчан не платить налог нахо¬
дили поддержку части жителей деревни, которые рассчитывали
таким образом наказать советскую власть, заставить ее пересмот¬
реть налоговую политику. Так, в той же Московской губернии
неплательщики убеждали в ряде мест своих односельчан: “Нужно
попытаться не уплатить налог один год, и соввласть опомнится”.
А в Карелии в отдельных деревнях звучали призывы к сплочению
сельчан, к более организованному антиналоговому сопротивле¬
нию, хотя бы в масштабе одной волости. “Нужно объединиться
всей волости и не давать согласия на обложение сельскохозяй¬
ственным налогом, а раз мы не дадим, то силой не возьмут”. По¬
добного рода антиналоговая кампания среди населения проводи¬
лась и в некоторых селениях Кубанского округа в августе 1927 г.
Агитаторы убеждали жителей отказаться от приема окладных ли¬
стов145.
Протесты сельчан против непосильного налогового бремени,
не учитывающих их доходов, не утихали и в год десятилетия со¬
ветской власти, в том числе и в Кубанском округе. Так, в станице
Ладожской Усть-Лабинского района в августе 1927 г. бывшие крас¬
ные партизаны, недовольные высокими налоговыми ставками,
угрожали властям, заявляя: “Пусть нас сажают, а за свой труд мы
платить не будем. Даешь вторую войну. Пойдем бить тех, кто об¬
лагает красных партизан”. Иногда подобного рода угрозы превраща¬
лись в физическое насилие над советскими работниками. Напри¬
мер, в 1927 г. в Ухотской волости Каргапольского уезда Вологодской
губернии двое крестьян избили заведующего финансовой частью
259
волисполкома за чрезмерное, как они считали, обложение их на¬
логом.
В селе Игнатьево Дубровской волости Муромского уезда Вла¬
димирской губернии на общем собрании граждан один из середня¬
ков набросился на уполномоченного волостного налогового коми¬
тета, схватил его за горло, обвиняя при этом последнего в высоких
ставках налога146. И подобные факты мести, крестьянского отчая¬
ния, протеста не являлись редкостью в рассматриваемую эпоху,
хотя корни налогового бремени сельчан заключались не в “пло¬
хой” работе отдельных местных финансовых работников, хотя и
такие встречались, а в экономической политике государства, в тя¬
желейшей ситуации, в которой оказалась страна. Подчас этого не
понимали некоторые жители деревни, ведя “кулачные бои” с пред¬
ставителями финансовых органов советской власти на местах.
Другой распространенный способ антиналогового сопротив¬
ления крестьян — это укрытие ими посевной площади, скота в
своих хозяйствах, поскольку сумма налога изымалась от количе¬
ства пашни на едока, обеспеченности скотом, урожайности. На¬
пример, в конце 1921 г. в Ижевском уезде Вотской волости ока¬
залось скрытыми 27 000 десятин пашни, 12 288 дес. лугов, в
Воронежской губернии — 335 614 дес.147 В 1925 г. в деревне Горе-
виц Устюжинского уезда вместо 141 дес. пашни налогом было
обложено 60; в с. Кабардинка Геленджикского района Черно¬
морского округа от обложения налогом население скрыло 800 дес.
сенокоса; в Амурской губернии в Хабаровском уезде в Михай¬
ловской волости у 327 крестьянских хозяйств выявили 1957 дес.
утаенной посевной площади; в Уткинской волости — 300 дес. и
до 30 голов скота жители скрыли от налогового обложения148.
При этом ложные сведения подавали в финансовые органы
как отдельные сельчане, так и целые деревни, причем иногда при
содействии и представителей сельсоветов. По ряду районов сокры¬
тие посевной площади от налогового обложения принимало мас¬
совый характер и достигало от 10 до 20 % и до 50 % скота. Разумеет¬
ся, государственные органы вели борьбу с подобной антиналоговой
кампанией в деревне и усиливали административно-репрессив¬
ные меры против “укрывателей”. Так, за скрытую пашню продна¬
лог взыскивался в двухкратном размере от причитавшегося его на
данную площадь149. К тому же крестьяне, виновные в утаивании
посевной площади и скота, привлекались к судебной ответствен¬
ности, также как и неплательщики налога, у которых конфиско¬
вывался скот, инвентарь, предметы домашнего обихода, одежда,
обувь, о чем выше уже говорилось.
260
Со своей стороны, крестьяне протестовали против каратель¬
ных действий властей, и на этой почве иногда в деревне возникали
конфликты. Например, 18 декабря 1923 г. в станице Невинномыс-
ской Кубано-Черноморской области, когда трое милиционеров,
выполняя приговор народного суда, стали забирать зерно в хозяй¬
стве у одного из неплательщиков, в это время явилась толпа крес¬
тьян с кольями и ломами в руках и, угрожая расправой милицио¬
нерам, вынудила их приостановить конфискацию хлеба. Они бежали
от разъяренных крестьян. Попытка арестовать последних не увенча¬
лась успехом, ибо они скрылись. Подобные факты имели место и в
других местах150.
В то же время встречалось немало примеров, когда сельчане
вставали на защиту репрессированных неплательщиков, требова¬
ли от властей их освобождения и возвращения им изъятого иму¬
щества. Так, в феврале 1922 г. крестьяне, недовольные действиями
продработников в Омском уезде, на беспартийной конференции
приняли резолюцию, в которой просили власти снизить размеры
продналога и выдать на поруки арестованных неплательщиков
налога, возвратить им конфискованный сельскохозяйственный
инвентарь и снять вооруженные заграждения151.
Однако следует отметить, что хотя протестная антиналоговая
кампания крестьян и не носила повсеместный характер, но она
так или иначе, в той или иной форме затронула многие районы
РСФСР. В ней участвовали все имущественные группы деревни:
зажиточные, средние и бедные, причем последние зачастую больше
всего страдали от непосильных для них налогов и выступали не¬
редко инициаторами сопротивления против налоговой политики
государства.
В ряде районов сельчане противодействовали и земельной
политике советской власти, в частности о наделении землей со¬
вхозов и колхозов, которую население хотело получить в свое
пользование. Например, в 1927 г. бедняки села Пронькино реши¬
ли организовать сельскохозяйственную артель в Бугурусланском
уезде Самарской губернии. Уездное земельное управление выде¬
лило для этих целей участок земли, против чего выступило боль¬
шинство жителей села. Во время проведения землеустроительных
мероприятий по отводу участка колхозу явилась толпа крестьян в
количестве 200 человек и потребовала от землемеров приостано¬
вить все работы, в противном случае они угрожали всем “повыко-
лоть глаза и пообрезать уши”, к тому же называли представителей
власти “мошенниками, кровопийцами”. Под угрозами бунтующей
толпы землеустроительные работы прекратились. Осенью 1927 г.
261
на почве земельного спора с крестьянами в коммуне “Александ-
ровка” Колпинского района Ленинградской губернии было со¬
жжено 2000 пудов сена152.
Подобного рода протесты сельчан наблюдались и по отноше¬
нию к совхозам в отдельных районах РСФСР. Так, в 1924 г. в Мор-
шанском уезде Тамбовской губернии крестьяне были недовольны
местными совхозами, которые, по их мнению, забрали всю зем¬
лю и превратились в “имения красных помещиков”. В одном из
них, принадлежащем сахарному заводу, сожгли три стога сена,
после чего шли среди жителей разговоры, что “так нужно, чтобы
нечем было кормить этот скот красным помещикам”153.
В этой связи уместно привести оценку Ф.Э. Дзержинского,
который в июне 1924 г. в докладной записке в Политбюро ЦК
РКП(б) писал: на почве земельного голода “крайне враждебно
настроены крестьяне к совхозам”, каждый недостаток совхоза
“служит предлогом для выявления острого недовольства”. Кроме
того, плохое хозяйничанье в совхозах “еще более обостряет поло¬
жение, доводя местами до попыток поджогов”154.
К тому же неудовлетворительная работа многих совхозов, за¬
частую по вине их администрации, и низкая заработная плата
рабочим порождали социальные протесты в этих хозяйствах. На¬
пример, из-за неудовлетворенности рабочих совхозов материаль¬
ными, жилищными условиями, нарушениями коллективных до¬
говоров администрациями, по данным Всеработземлеса, в 1923 г.
в 53 губернских отделах было зарегистрировано 13 забастовок с
739 участниками155.
На наш взгляд, одной из форм сопротивления крестьян про¬
водимой государством политикой по отношению к деревне яви¬
лось и неучастие их во многих районах РСФСР не только в изби¬
рательных кампаниях в советы, но и по выборам комитетов
крестьянских обществ взаимопомощи (ККОВ, комвзаймы, крес-
ткомы) в середине 20-х годов, поскольку эти комитеты работали
в большинстве своем неудовлетворительно, не оказывали реаль¬
ной помощи сельчанам, в том числе беднякам, о чем речь шла
подробно в первой части книги. Недоверие жителей деревни к
ККОВ вылилось не только в нежелании участвовать в избиратель¬
ных кампаниях, но и в отказе их вообще создавать как ненужные,
мертворожденные организации, навязываемые зачастую сверху вла¬
стью крестьянам.
Об этом можно судить и на примере Московской губернии в
период отчетно-выборной кампании конца 1925 — начала 1926 гг.
Так, в нескольких волостях Воскресенского уезда комитеты
262
крестьянских обществ не удалось организовать ввиду неявки на
собрания граждан. В Ростовецкой волости Каширского уезда так¬
же не везде были организованы комитеты, поскольку на перевы¬
борных собраниях сельчане говорили: “ККОВ нам не нужны, мы
и без них обойдемся”.
Нередко местным партийным и советским работникам при¬
ходилось использовать административный нажим, прямое или
косвенное давление на сельчан для проведения отчетно-перевы¬
борных собраний и создания комвзаймов. И тем не менее в ряде
деревень явка на них граждан оставалась неутешительной, влас¬
тям их приходилось созывать по несколько раз. Вот что говорилось
на этот счет в информационной сводке Московского комитета
ВКП(б) в начале 1926 г.: “В деревнях в Московском уезде Ново-
Александровское, Павельцово, Воскресенка, Тропарево на выбо¬
рах участвовало от 11 до 30 % избирателей. В дд. Есиново, Разумово
собрания из-за неявки избирателей созывались по два раза. В дер.
Петровское, Лобаново, перевыборы состоялись лишь на четвертый
раз при наличии 15 человек. В Волоколамском уезде в дер. Фролов-
ской из 400 человек участвовало 60 чел. В Орехово-Зуевском уезде
Запонеровской вол. в 7 селах выборы из-за неявки крестьян не состоя¬
лись. В дер. Иваново явилось лишь 8 человек. В Егорьевском уезде
Середняковской вол. участвовало 25 % избирателей”. В деревне Со¬
сенки Десетьской волости Подольского уезда выборы в ККОВ “со¬
знательно сорваны, так как в состав ККОВ лезли кулаки”.
В селении Шейстово Пятницкой волости Воскресенского уез¬
да собрание сорвали два “выступления зажиточных кустаря”, а в
деревнях Анцихцифрово, Яковлево Орехово-Зуевского уезда оно
не состоялось, так как явились “пьяные крестьяне”. В селении
Коротково на собрание не пришел докладчик, поэтому оно ока¬
залось сорванным. В Мячковской волости Коломенского уезда вы¬
боры в ККОВ состоялись только в двух селениях из 5 из-за неявки
избирателей156.
В тех же местах Московской губернии, где властям удавалось
провести отчетно-перевыборные собрания, нередко избиратели
принимали решения о ненужности существования ККОВ, отказы¬
вались их создавать как нежизнеспособные, сверху навязанные орга¬
низации, не работающие в интересах крестьян. Например, в ряде
деревень Ленинской волости население категорически отказыва¬
лось образовывать комвзаймы ввиду их “бездеятельности”. В Рамен¬
ской волости Волоколамского уезда один из сельчан на собрании
так мотивировал свое негативное отношение к ККОВ: “Комитеты
лишние нахлебники крестьян”. В деревне Затесово Судиловской
263
волости и в двух селениях Красно-Пахарской волости того же уезда
сельчане также отказались от организации комвзаймов. Подобные
факты, характеризующие негативную позицию крестьян к ККОВ,
наблюдались и в других уездах. В результате протеста московских
жителей деревни в ряде волостей и уездов невыполнения ими ука¬
заний и распоряжений местных советских работников в губернии
из 202 первоначально назначенных перевыборных собраний состо¬
ялось 165, остальные были сорваны из-за плохой явки избирате-
лей-крестьян. Вот почему сократилось и количество комвзаймов. Если
в 1924/25 г. в 9 уездах насчитывалось 2352 сельских комитета кресть¬
янских обществ взаимопомощи, то в 1925/26 г. — 2199157.
Аналогичная протестная тенденция сельчан, связанная с ре¬
организацией кресткомов, вылившаяся против политики советс¬
кой власти, проявлялась и в других районах РСФСР, в том числе
и в Северо-Западной области, где в некоторых волостях они от¬
казывались от участия в выборах ККОВ и их создания. Так, в селе
Ильинском Репушкальской волости Олонецкого уезда Карельской
республики на собрании по перевыборам комвзаймов в начале
1926 г. один из крестьян в своем выступлении так мотивировал
свое негативное отношение к ним: “Нам комитетов взаимопомо¬
щи не нужно. Этим комитетом у нас будет взята последняя корова.
Власть сильно напирает на сельскохозяйственные налоги. У мно¬
гих произведены описи, хлеб дорогой, работы нет. Какая может
быть польза, в старое время было гораздо лучше”.
С такой нелестной оценкой по адресу советской власти согла¬
сились на собрании присутствующие избиратели и решили ККОВ
не создавать158. В Велижском уезде Псковской губернии в ряде се¬
лений принимались подобные постановления крестьян, ибо они
считали: “Зачем нам комитет, мы и без него обойдемся. Он лиш¬
няя организация”. По данным информационной сводки органов
ОГПУ от 28 июля 1926 г., в Торжковском, Псковском, Опочец-
ком, Островском и Холмском уездов Псковской губернии у насе¬
ления наблюдалось негативное отношение к перевыборам комв¬
займов и “дело доходило до срыва собраний кулаками”, а в
некоторых селениях перевыборные собрания приходилось созы¬
вать по несколько раз.
Подобное сопротивление оранизации ККОВ со стороны кре¬
стьян имело место и в Новгородской губернии в ряде волостей, в
том числе в Тесовской, Бронницкой, где собрания срывались и
комитеты не удавалось создать159.
Против организации ККОВ выступала и часть сельчан Ленинг¬
радской губернии, неудовлетворенная их деятельностью. Например,
264
обследование Шапкинской волости Лодейнопольского уезда в 1925 г.
показало, что ее население отрицательно воспринимало комвзай-
мы, ибо не чувствовало от них реальной помощи, отказывалось всту¬
пать в них160. Во время перевыборов ККОВ в 1925/26 г. отказались от
их организации жители д. Замостье Бельской волости и 6 селений
Полковской волости Гдовского уезда. Согласно докладу одного из
инструкторов Ленинградского губкома ВКП(б), в Молосковец-
кой волости Кингисеппского уезда в 1926 г. большинство жителей
пассивно относились к комвзаймам, а в деревне Кряково на от¬
четно-перевыборном собрании крестьяне поставили вопрос во¬
обще об их ликвидации, так как они считали, что комитет ника¬
кой пользы не дает и “зря его выбирать не следует”.
В Литковской волости Лужского уезда 4 сельских общества
отказались создавать ККОВ и их количество в волости уменьши¬
лось с 27 до 23161 в результате отчетно-перевыборной кампании
1925/26 г. Подобные негативные явления наблюдались со стороны
сельчан в Череповецкой губернии, где в некоторых уездах на из¬
бирательные собрания явилось от 17 до 33 % граждан при выборах
ККОВ, хотя в отдельных волостях явка составляла 70—80 %. В ряде
мест население принимало решение об их ликвидации162.
Подобные настроения распространялись и среди жителей
Северного Кавказа. Так, в Шахтинском округе на избирательных
собраниях были приняты постановления о ликвидации 13 сельских
комитетов, из существующих 22. В Симферопольском районе от
организации ККОВ отказалось 12 сельских сходов163.
Бесхозяйственность, бездеятельность многих комвзаймов яви¬
лась основной причиной негативного к ним отношения со сторо¬
ны крестьян и в период перевыборной кампании 1927 г. Они уча¬
ствовали в них пассивно, безразлично в некоторых районах
РСФСР, нередко отказывались от организации ККОВ, тем са¬
мым протестовали против политики советской власти. Об этом
нам дают представление и информационные сводки органов ОГПУ
за ноябрь-декабрь 1927 г. Так, в деревне Пяхта Тихвинского райо¬
на Ленинградской губернии ее жители отказались от перевыборов
ККОВ; в Овинском сельсовете собрание сорвали, ибо зажиточ¬
ные крестьяне его покинули и “увели за собой всех присутствую¬
щих”. В Троцком районе той же губернии на перевыборных собра¬
ниях 76 комвзаймов присутствовало 37 % всех членов, на 19 сходах
было 44 % избирателей.
В станице Щербиновской Енского района Донского округа из-
за неявки граждан перевыборное собрание комвзайма не состоя¬
лось; было сорвано собрание избирателей в деревнях Стрельно и
265
Бровкино Калужского уезда. В слободе Александровке Россошанс¬
кой волости Воронежской губернии перевыборное собрание вви¬
ду неявки граждан дважды переносилось, а на назначенное в тре¬
тий раз пришло 45 избирателей из 250. В слободе Марьевке из
300 человек присутствовало на собрании 25; в хуторе Никольском
Острогожского уезда соответственно — 400 и 15; в слободе Залуж-
ное — 1800 и 80 человек, последних из чайной привел на собра¬
ние председатель сельсовета. В слободе Лужниковка Острогожской
волости перевыборное собрание назначалось 4 раза, но так и не
состоялось, ибо никто из граждан не пришел.
Аналогичных примеров можно приводить много, свидетель¬
ствующих о позиции сельчан к ККОВ, а следовательно, и к поли¬
тике государства по отношению к этим деревенским организаци¬
ям164.
При этом часть жителей села, разочарованная деятельностью
комвзаймов, выступала за их сохранение, но предлагала в целях
оживления их работы преобразовать данные организации в крес¬
тьянские профсоюзы или страховые кассы по типу рабочих или
же в “Крестьянский союз”. Таким образом, сельчане надеялись на
защиту своих интересов в реформированных ККОВ. Однако такие
предложения отвергались местными руководителями и полити¬
ческим руководством страны. Власти считали подобные предло¬
жения происками “кулацких и антисоветских элементов”, о чем
выше говорилось. Причем именно действиями последних советские
руководители на местах зачастую объясняли и неявку сельчан на
перевыборные собрания комвзаймов, и их срывы, также как при¬
нимаемые на собраниях решения о ликвидации ККОВ как не¬
нужных, нежизнеспособных организаций. Хотя обвинения влас¬
тей в подстрекательстве “кулаков” лишь отчасти соответствовали
реалиям, на самом же деле в большинстве случаев негативное
отношение сельчан к ККОВ являлось частью их отрицательной
позиции к экономической политике коммунистической партии,
государства по отношению к деревне. А массовая неявка крестьян
на отчетно-перевыборные собрания, их срывы и принятые кое-
где постановления об отказе организовывать комвзаймы характе¬
ризовали одну из форм социального протеста сельчан, хотя она и
не носила повсеместный, общероссийский характер и затрагива¬
ла лишь часть районов и некоторых крестьян.
К крестьянскому сопротивлению мы относим и отказ от под¬
держки предлагаемого сверху властями списка кандидатов в состав
деревенских советов в период избирательных кампаний. К ранее ска¬
занному добавим, что сельчане протестовали против навязывания
266
им кандидатов в сельсоветы по анкетным, классово-идеологичес¬
ким признакам, зачастую с низкой компетентностью, со слабой
культурой управления. Жители хотели в советах иметь своих пред¬
ставителей, авторитетных, уважаемых, с хозяйственным и орга¬
низационным опытом работы односельчан, непосредственно от¬
стаивающих их нужды и чаяния.
Так, в январе 1926 г. в селе Ивановское Еремеевской волости
Воскресенского уезда Московской губернии избиратели “провали¬
ли” список кандидатов в состав советов, предложенный местной
ячейкой ВКП(б), и проголосовали за более достойных представи¬
телей, выдвинутых по собственной инициативе. В январе 1927 г. в
селе Пахабино того же уезда сельчане, организовавшись, не допу¬
стили избрание в советы кандидатов, рекомендованных деревен¬
скими партийцами165. Подобных фактов встречалось немало в раз¬
личных районах РСФСР во время проведения избирательных
кампаний в деревне, о чем речь шла ранее, хотя массового харак¬
тера данная форма социального протеста не получила со стороны
трудового крестьянства.
Волнения, беспорядки и вооруженная борьба
Недовольство крестьян политикой советской власти находи¬
ло отражение и в более активной форме сопротивления: в волне¬
ниях и беспорядках в некоторых сельских районах РСФСР, вспы¬
хивавших стихийно и локально обычно в масштабе одной деревни,
волости, реже — нескольких селений и волостей. В начале нэпа
данная форма протеста сельчан порождалась и вызывалась тяже¬
лейшими экономическими последствиями Гражданской войны и
страшным голодом 1921 г., налоговой политикой государства,
методами сбора продналога, мало чем отличающимися от эпохи
военного коммунизма. В 1921—1922 гг. голодное население в ряде
районов было крайне враждебно настроено к политике государ¬
ства, оно усматривало причины их бед и страданий в его мероп¬
риятиях, действиях, поведении. Поэтому как форму протеста жи¬
тели организовали походы к волостным сельским центрам, иногда
громили помещения советов, избивали депутатов, захватывали
амбары, ссыпные пункты, где хранилось зерно и самочинно его
распределяли. Так, весной 1921 г. в некоторых волостях Бежецкого
и Вышневолоцкого уездов Тверской губернии враждебно настро¬
енное к государственной политике население, вооружившись то¬
порами и кольями, подходило к волисполкомам и, угрожая мес¬
тной власти, требовало от нее раздачи хлеба из ссыпных пунктов.
267
Для подавления беспорядков прибыли воинские отряды, с при¬
бытием которых “бунтовщики” быстро разбегались.
В начале апреля 1921 г. в Александровском уезде Ставропольс¬
кой губернии толпа крестьян с плачем подошла к зданию испол¬
кома и требовала от местных руководителей хлеба. Протестующих
сельчан властям удалось уговорить от нападения и подождать вы¬
дачу хлеба до 26 апреля.
В Орехово-Зуевском уезде Московской губернии голодающие
дети и взрослые организовали демонстрацию, закончившуюся
нападением на местную продовольственную комиссию. В июне
1921 г. “голодные” бунты происходили в селениях Татарской и Баш¬
кирской республик, в Вятской и других губерниях, которые обычно
сопровождались разгромом мельниц, амбаров, ссыпных пунктов166.
Во второй половине 1921 г. в Пермском уезде толпа голодных
женщин численностью до 150 человек неоднократно устраивала
походы к волисполкомам и требовала от властей хотя бы по 5 фун¬
тов хлеба на каждую, постоянно угрожая разгромами ссыпных пун¬
ктов. Летом 1922 г. среди крестьян Вятской губернии наблюдалось
“брожение”, враждебное отношение к советской власти, имели
место случаи, когда голодное население осаждало волисполкомы,
требовало хлеба. Так, в Нолинском уезде толпа голодных жителей
численностью 500 человек требовала от местных руководителей
хлеба, в противном случае грозила погромами, расхищением всех
хлебных запасов. Власти вынуждены были выдать протестующим
110 пудов овса167.
Подобного типа волнения в сельской местности на почве го¬
лода прокатились и в середине 20-х годов в тех районах РСФСР,
где был недород. Например, 2 мая 1925 г. к зданию Александро-
Невского волостного исполнительного комитета Рязанской губер¬
нии из окрестных деревень подошла толпа мужчин и женщин в
количестве примерно 400 человек и требовала обеспечить их хле¬
бом. Возбужденные сельчане выкрикивали угрозы в адрес мест¬
ных руководителей такого рода: “Если не удовлетворите нашу
просьбу, мы самовольно разберем госзапасы хлеба, хранящегося
на складах Александро-Невского поселка”. Для успокоения недо¬
вольных и возмущенных крестьян прибыли представители уезд¬
ной власти, которые удовлетворили их требования, отпустили
населению хлеба, тем самым ликвидировали причины, породив¬
шие социальный конфликт.
Аналогичные выступления голодных крестьян имели место
и в Есиповской волости Тамбовской губернии весной 1925 г.,
инициаторами которых были женщины, они избрали при этом
268
весьма своеобразную форму протеста против политики советской
власти. Так, в мае около 400 женщин явились к зданию волиспол-
кома, часть из них вошли в кабинет председателя вика и легли на
полу. На его вопрос: “Почему они это делают?” женщины ответи¬
ли, что они так обессилили от голода, что не в состоянии стоять
на ногах и хотят, чтобы власть обратила на них внимание. После
того как руководитель совета объяснил женщинам сложившуюся
ситуацию со снабжением хлебом и пообещал его выдать, “бун¬
товщицы” мирно разошлись по домам, но при этом предупреди¬
ли власть: “Если не будут приняты меры к приобретению хлеба”,
то организуются и пойдут громить элеватор.
В данной волости аналогичные волнения на почве голода были
нередкостью, когда к зданию волисполкома регулярно приходи¬
ли до 100 человек в поисках хлеба, при раздаче которого иногда
возникали и беспорядки. Например, в мае 1925 г. во время распре¬
деления гороха среди голодающих крестьян часть из них самочин¬
но “кинулась” в амбар и стала хватать его, клала в карманы, по¬
долы юбок, платьев или прямо в рот. А когда одной женщине
отказались выделить хлеба, то она в знак протеста в помещении
волисполкома на столе оставила маленького ребенка и ушла. Од¬
нако сотрудники волисполкома догнали отчаявшуюся женщину,
возвратили ей ребенка и для успокоения “дали несколько фунтов
гороху”168.
Кроме голода причиной беспорядков в деревне иногда в не¬
которых районах служило крестьянское малоземелье. Они имели
место, например, в 1921—1922 гг. в ряде волостей Псковской, Нов¬
городской, Брянской губерний и сопровождались самовольными
захватами сельчанами земель государственного фонда169.
Политика государства по отношению к церкви, их закрытие
и конфискация у нее имущества для ликвидации последствий го¬
лода в 1921—1922 гг. также стали фактором для появления беспо¬
рядков в деревне в некоторых районах РСФСР. Верующие кресть¬
яне протестовали не только против изъятия церковных ценностей,
но и репрессивных мер против священников, защищали их от
преследований властей. Например, в начале 1923 г. в Рубцовском
уезде Алтайской губернии и в Тарском уезде Омской губернии
сельчане не дали арестовать в некоторых волостях священни¬
ков, выступающих против конфискации церковного имущества.
В феврале 1922 г. в одном из сел Елатомского уезда Тамбовской
губернии государственная комиссия по изъятию церковных цен¬
ностей была разогнана протестующими крестьянами. В Липецком
уезде сельские сходы выносили в ряде мест постановления, чтобы
269
конфискованные ценности у церкви передавались не государству,
а патриарху или же специально созданным комиссиям, которым
доверяло население с целью правильного обмена их на хлеб и его
распределения среди голодающих. В Либкнехтовской волости Лих-
винского уезда Калужской губернии возмущенные крестьяне дей¬
ствиями комиссии по изъятию церковных ценностей устроили
самосуд над уполномоченным и милиционером, а в Боровском
уезде верующие вообще не разрешили комиссии приступить к
работе, ссылаясь при этом на отсутствие епископа. Такую же фор¬
му протеста использовала и толпа сельчан Шуйского уезда Ива¬
ново-Вознесенской губернии, которая не дала возможности ко¬
миссии изымать церковные ценности, угрожая ее членам
физическим насилием170.
В ряде мест возникающие беспорядки в деревне сопровожда¬
лись категорическим отказом населения выполнять постановле¬
ния правительства. В этой связи раздавались угрозы и делались
попытки убить низовых советских работников. Подобные отдель¬
ные факты сопротивления властям в форме террористических ак¬
тов наблюдались в Олонецкой, Омской, Иваново-Вознесенской
губерниях в 1921—1922 гг.171
В то же время следует отметить, что в середине 20-х годов
массовых выступлений крестьян в форме беспорядков и волнений
было меньше по сравнению с эпохой военного коммунизма. По
данным органов ОГПУ, за 1926—1927 гг. их оказалось по СССР
только 63, причем из них в 30 случаях в выступлениях участвовало
8700 человек, или в среднем на каждое приходилось примерно
300 “протестующих” сельчан. При этом на Сибирь падало 22 выс¬
тупления, на Центральный район РСФСР — 7, Дальневосточный
край — 6, на Поволжье — 3, Северо-Запад — 2. Если же говорить
о причинах волнений и беспорядков, то они сводились к следую¬
щим: на почве налоговых платежей и земельных споров произош¬
ло 19 выступлений, в связи с недовольством действиями милиции
и “слабостью карательной политики” государства — 10; на почве
недовольства работой советского аппарата — 9; из-за “сословной
розни” — 4; в результате хлебного кризиса — 2; “на почве антисе¬
митизма” — 4, из них 3 — на Украине. Выступления, которые че¬
кисты относили к “прочим”, составляли 15 за 1926—1927 гг.172
В некоторых случаях для подавления беспорядков местные органы
власти использовали вооруженную силу, иногда стреляли в воздух
для разгона толпы, в том числе в Курской губернии, в Амурском
округе Дальневосточного края, в Славгородском, Барабинском
округах Сибири.
270
В этой связи укажем наиболее характерные типы беспорядков
и волнений, имевших место среди крестьян в 1926—1927 гг., даю¬
щих определенное представление об их масштабах, количестве
участников и их требованиях. Так, в с. Кузино Славгородского уез¬
да во время проведения ярмарки, на которой присутствовало до
5000 крестьян, вспыхнули волнения, в них оказались вовлечен¬
ными более 1000 человек. Основной причиной для выступления
послужило повышение налоговых ставок, а поводом явился само¬
суд сельчан над вором. Однако из всех участников волнения толь¬
ко 250 человек проголосовали за резолюцию, осуждающую поли¬
тику советской власти. В результате предпринятых оперативных мер
правоохранительными органами выступление крестьян было бы¬
стро и жестоко подавлено. “По приговору суда несколько кулаков
и торговцев-инициаторов выступления” расстреляли, — конста¬
тировалось в докладной записке органов ОГПУ в начале 1928 г.173
В конце апреля 1925 г. вспыхнули волнения в станице Плати-
нировской на Кубани, в них участвовало до 300 крестьян. Воору¬
женные палками, вилами, охотничьими ружьями и даже винтов¬
ками они постарались сорвать торжественное заседание местного
совета, напали на автомобиль, в котором ехали начальник адми¬
нистративного отдела Медведицкого райисполкома и его делоп¬
роизводитель, которых убили. Для подавления волнения в стани¬
цу Платинировскую направили отряд ОГПУ в количестве 60 сабель,
в ходе расправы над повстанцами было арестовано 30 человек.
Встречались беспорядки и иного типа, носившие более мир¬
ный характер. В мае 1927 г. в станице Вознесенской Армавирского
округа взбунтовались женщины-вдовы, мужья которых погибли в
Красной Армии. Причина волнений была связана с невыплатой за
них пенсий. 15 вдов собрались возле помещения районного коми¬
тета крестьянских обществ взаимопомощи и с плачем критикова¬
ли местных руководителей, жалуясь на свою трудную жизнь и рас¬
сказывали: “В советских учреждениях везде сидят бюрократы,
которые не беспокоятся о том, как живет красноармейка, как
тяжело ей приходится обрабатывать землю. Вы не интересуетесь,
сколько эта земля нам дает пользы. У нас рабочего скота нет,
приходится нанимать и нам ничего не остается. Нашим детям не
на что купить тетради и учиться им некогда, тогда как дети серед¬
няков и контриков учатся, а наши дети у них батраками работа¬
ют”174. Характер данного выступления женщин лишний раз пока¬
зывает, как мало государство уделяло еще внимания маломощным
сельчанам, в том числе и тем, чьи близкие родственники погибли
на фронтах Гражданской войны, защищая советскую власть.
271
Особенностью некоторых волнений эпохи нэпа, в том числе
с антисоветской направленностью, являлось то, что поводом для
них подчас служили конфликты, драки в местах значительного
скопления крестьян, в частности на базарах, ярмарках. Так, в де¬
кабре 1927 г. в селе Пески Тамбовской губернии произошло мас¬
совое выступление граждан численностью до 400 человек, сигна¬
лом к которому стала расправа над пойманным вором на базаре.
Эта расправа сопровождалась антисоветскими заявлениями тако¬
го содержания: “Власть нужно бить, она разводит воров. Она за¬
щищает интересы только рабочих. Да здравствует Союз трудового
крестьянства! Да здравствует партия крестьян! Бей всех жидов,
которые против крестьян”175.
В ряде случаев беспорядки в деревне с антикоммунистическим
уклоном принимали хулиганский характер. Последние органами
ОГПУ квалифицировались политическими, особенно со стороны
молодежи, иногда в пьяном виде. “Политическое хулиганство” при¬
обретало разную направленность и формы: включало нападения на
сельских активистов, срывы, разгон собраний, погромы советских
и культурно-просветительных учреждений. Вот лишь некоторые
факты, раскрывающие эту форму беспорядков и волнений в сель¬
ской местности в 1926 г. в различных районах РСФСР. Например, в
с. Криухи в Псковской губернии толпа пьяных жителей с палками
и ножами в руках ворвалась в помещение, где проходил митинг
комсомольцев и с криками: “Всю соввласть перебьем” набросилась
на местных руководителей. В деревне Матровой Саратовской губер¬
нии группа пьяной молодежи вошла в дом, где проходила конфе¬
ренция членов ВЛКСМ, и пыталась сорвать ее работу, а когда ми¬
лиционер попытался приостановить хулиганские действия сельчан,
то последние на него набросились с ножом. В с. Макарово Калужской
губернии пьяная толпа крестьян сорвала заседание суда. В селе Каю-
шево Ульяновской губернии группа сельчан в количестве 50 чело¬
век, выйдя из церкви, разгромила рядом расположенную избу-чи¬
тальню, избила комсомольцев, порвала портреты руководителей
коммунистической партии.
В Сибири в Барнаульском округе в некоторых селениях нару¬
шалась “политическими хулиганами” нормальная работа пунктов
по ликвидации неграмотности. В Бийском округе они разогнали
учительскую конференцию.
В одном из сел Красноярского края во время проведения со¬
брания, посвященного Дню печати, порвали политхулиганы зна¬
мя батрачкома и открыли стрельбу. В селе Корсаново Бурят-Мон¬
гольской республики группа молодежи из зажиточных семей
272
численностью 20 человек напала на Народный дом, где шел спек¬
такль. Они угрожали присутствующим и кричали: “Мы пришли
громить Бурреспублику коммунистов и комсомольцев!”.
А вот в селе Усть-Козлуча Рубцовского уезда весной 1926 г.
население избрало более миролюбивую и весьма своеобразную
форму протеста против политики государства. Жители составили
“поезд” из подвод, на одной из которых стояло чучело и при¬
крепленные к нему белый, зеленый и красный флаги. Этот “по¬
езд” разъезжал с агитационной целью по деревням, на котором
один из сельчан, указывая на чучело, говорил, что “это — Ле¬
нин”176.
Тем не менее, исходя из вышеизложенного материала, мож¬
но констатировать, что вспыхивавшие в разных формах волнения
и беспорядки в некоторых районах РСФСР имели стихийный,
локальный, местный характер и не являлись массовым сопротив¬
лением правительству. Они, тем не менее, отражали недовольство
крестьян государственной политикой по отношению к деревне.
Однако активное крестьянское противодействие диктаторс¬
кой власти не ограничивалось только волнениями, в ряде райо¬
нов РСФСР оно перерастало порой и в вооруженную борьбу, ко¬
торая также принимала разные формы: от политического
индивидуального террора до вооруженного восстания. При этом
широкое крестьянское повстанческое движение периода Граждан¬
ской войны177 не могло сразу прекратиться с переходом страны к
нэпу, хотя его социальная база существенно снижалась. Репрес¬
сивные методы сбора продналога, обременительная трудгужпо-
винность, выполнения которой неукоснительно требовали влас¬
ти от сельчан, конфискация церковных ценностей и другие
мероприятия государства служили причинами повстанческого дви¬
жения. Последнее в официальных сводках органов ГПУ квалифи¬
цировалось обычно бандитским. В 1922 г. это движение даже уси¬
лилось, в том числе в Алтайской губернии, Сибири. По данным
чекистов, в 1922 г. зарегистрировано более 300 “так называемых
бандитских формирований, состоявших в подавляющем большин¬
стве из крестьян”. Некоторые повстанческие отряды насчитывали
в своих рядах сотни, а отдельные — тысячи человек178. В ряде слу¬
чаев на сторону восставших переходили и красноармейцы и даже
ряд работников ГПУ. Разумеется, среди повстанческих отрядов
встречались и уголовные банды, занимавшиеся грабежами и раз¬
боями, однако не они составляли основу, костяк антикоммунис¬
тического движения, а сельские жители, его пополнявшие и обес¬
печивающие продовольствием и фуражом.
273
Так, согласно сводкам ГПУ, летом 1921 г. в Псковской губер¬
нии в Луцкой волости Торопецкого уезда действовал отряд числен¬
ностью 30 человек, в районе Адриатополя — в 50 человек. А количе¬
ство повстанцев в Холмском уезде точно установить не удалось.
Осенью 1921 г. на территории Карельской трудовой коммуны “об¬
щая численность бандитов и восставших” достигала 2500 человек, в
основном они сосредоточивались в районе Ухтинской волости. В Са¬
ратовской губернии весной 1921 г. в ряде уездов вели вооружен¬
ную борьбу отряды под командованием Попова. В их рядах насчи¬
тывались сотни бойцов, которые к тому же агитировали крестьян
за созыв Учредительного собрания. В сентябре-октябре 1921 г. в
Астраханской губернии в сражающемся отряде, “банде” Серова и
Пятакова насчитывалось до 800 сабель, в Царицынской губернии
действовало несколько повстанческих отрядов в количестве 630 са¬
бель. Весной 1921 г. в Кубано-Черноморской области орудовали
также подобные отряды179.
На протяжении 1921 г. не прекращалась вооруженная борьба
сельчан против государственной политики и в различных районах
Сибири, охваченных массовым сопротивлением еще до перехода
к нэпу. Например, согласно оперативной сводке работников ВЧК
за 1—3 мая 1921 г., в Курганском уезде “банда” численностью до
600 человек заняла ряд волостей, прорывалась на север и перешла
железную дорогу. На 10 мая 1921 г. в уезде количество повстанцев
достигало 6000 человек, из них 1500 были вооружены, имели 7 пу¬
леметов. В июне 1921 г. в повстанческом движении в Тюменской
губернии участвовало несколько тысяч человек180.
В отправленной телеграмме в Реввоенсовет республики в ЦК
РКП(б) 3 июля 1921 г. секретарь Тюменского губкома партии
А.М. Вадиковский так объяснял масштабы повстанческого дви¬
жения и малоэффективную борьбу советских органов и Красной
Армии по его ликвидации: “Бандитизм в Тюменской губернии
вступил в такую стадию развития, когда вооруженная борьба с
ним не приносит удовлетворительных результатов. Бандиты мел¬
кими шайками скрываются в лесах, рассыпаясь при первом появ¬
лении наших отрядов, производя грабежи в деревнях и расправы
с коммунистами”. По сведениям председателя Тюменской губер¬
нской чрезвычайной комиссии П.И. Студитова, на территории
губернии с советской властью боролись до 12 отрядов “бандитов”,
в том числе в Ишимском уезде — 1700 человек, Тобольском — до
800, Ялуторовском — 2000. По его оценке, “бандитское восстание”
продолжается по всей губернии, начавшееся как движение кресть¬
ян в феврале и породившее “партизано-бандитские выступления
274
мелких групп, находящихся в лесах, которые грабят и убивают
коммунистов”181.
Приведенные высказывания должностных лиц Тюменской
губернии, как, между прочим, и партийно-советских руководи¬
телей других районов РСФСР, опровергают официальную точку
зрения, согласно которой повстанческое движение являлось бан¬
дитским. Ибо на самом деле оно было крестьянским, переросшее
в ряде мест в партизанское, в нем участвовали тысячи бойцов и
сражались с диктаторской властью, расправлялись прежде всего с
коммунистами. Хотя мы не исключаем и того, что в ряде случаев
часть из них занималась и грабежами. Если Красная Армия не мог¬
ла подавить восставших быстро, оперативно, то это свидетель¬
ствовало о боеспособности, силе восставших, поддерживаемых
местным населением. По расчетам командующего войсками При¬
уральского военного округа С.В. Мрачковского, в первое полуго¬
дие 1921 г. на территории округа общая численность повстанцев
достигала 12 ООО182.
Как уже упоминалось, волна повстанческого движения не
только не была подавлена в 1921 г., но даже частично расшири¬
лась в 1922 г., поскольку для этого существовали необходимые
причины, коренившиеся в голоде и государственной политике.
Так, в феврале 1922 г. в Гурьевском уезде Уральской губернии
против советской власти боролась “банда” Серова численностью
до 2 тыс. сабель и штыков; в Алтайской губернии повстанческие
отряды насчитывали до одной тысячи человек под командовани¬
ем Кайгородова. В июне 1922 г. в Самарской губернии действовали
несколько отрядов повстанцев, в которых состояло более 300 бой¬
цов, в Ставропольской губернии только в районе станицы Рад-
зяньской и Ставрополь появилась “банда” в количестве 500 человек.
А в Тюменской губернии отряд Зиновьева, объединяющий до 750 бой¬
цов, вел бои с частями Красной Армии в районе заимки Четак. Ле¬
том 1922 г. в Новгородской губернии отряды под командованием
Васильева и Левицкого громили советские учреждения, кооперати¬
вы, разоружали милицию, освободили 210 заключенных183.
Конечно, вышеперечисленные разрозненные повстанческие
отряды, действующие в 1922 г. на территории РСФСР, как и дру¬
гие, назывались в официальных документах, как упоминалось,
“бандами”, по-видимому, включали и некоторых уголовных
элементов. Однако они, как нам представляется, все же в своей ос¬
нове состояли из крестьян и вели непримиримую борьбу против
насильственной политики партии коммунистов. Последние чаще всего
и становились их жертвами. Но эти локальные, плохо вооруженные
275
“бандитские” отряды, не могли противостоять всей мощи Крас¬
ной Армии и в конечном счете были разбиты, не найдя поддерж¬
ки со стороны населения в условиях нэпа.
Такая же участь постигла и восставших крестьян ряда волос¬
тей Старорусского уезда Новгородской губернии и в Советской
волости Холмского уезда Псковской губернии в первые годы
нэпа184. Эти разрозненные выступления были подавлены. В декабре
1921 г. восстали крестьяне Бийского уезда Алтайской губернии и
разоружили отряд трибунала. При этом количество повстанцев
достигало 500 человек185. Весной 1921 г. в ряде селений Коммуны
немцев Поволжья вспыхнули локальные восстания, участники ко¬
торых арестовали и жестоко расправились с коммунистами. В это же
время в Аргаяжском кантоне Башкирской республики на почве
переживаемого экономического и продовольственного кризиса
произошло также восстание сельчан186.
В декабре 1923 г. в станице Зольской Моздокского уезда Терс¬
кой губернии восстали до 700 казаков, недовольные налоговой
политикой государства и низкими ценами на хлеб. Поводом для
выступления послужило сопротивление жителей станицы отряду
милиции, который явился для конфискации имущества у непла¬
тельщиков налога по приговору суда. Восстание подавил отряд
войск ОГПУ. В конце 1923 г. разразилось и восстание крестьян в
Александро-Заводской волости Забайкальской губернии, оно ох¬
ватило и ряд соседних волостей. К повстанцам примкнул и ко¬
мандир части особого назначения, расположенной в Красноярс¬
кой волости.
К этому времени относится и вооруженное выступление на¬
селения, проживающего в районе станции Ипполитовка и дерев¬
ни Лялича, расположенных в 40 верстах Северо-Восточнее Ниж-
не-Уссурийска. Повстанцам удалось похитить из Новоуссурийского
артиллерийского склада 45 винтовок, 44 гранаты и 8 револьверов,
что свидетельствовало о возможной их поддержке красноармей¬
цами187.
Пожалуй, самое крупное восстание крестьян эпохи нэпа
вспыхнуло в Амурской губернии. Оно началось в селе Тамбовке
14 января 1924 г. и продолжалось до февраля. Затем повстанческое
движение распространилось на Амур-ЗейскуЮ, Гильчинскую,
Николаевскую, Тамбовскую волости. Центрами выступления ста¬
ли селения: Ильинка, Коврижка, Николаевка, Муравьевка, Там-
бовка, Духовское, Гильчин. Во главе восставших находился учас¬
тник белого движения — есаул Маньков, который вернулся с
китайской территории. Основной причиной выступления сельчан
276
стал непосильный “звериный налог” для них, как они выража¬
лись.
Главные силы повстанцев располагались в с. Тамбовка, числен¬
ностью до 600 человек. Здесь же они образовали и “временное Амур¬
ское правительство” во главе с Маньковым, затем реорганизован¬
ное, в котором ведущая роль принадлежала казакам села Тамбовки
и близлежащих деревень. Реорганизованное “временное правитель¬
ство” возглавил Р.Г. Чашев, его заместителем был Ф.В. Иванов, а
главнокомандующим силами повстанцев назначили Н.Н. Коржнев-
ского. В состав “правительства”, секретарем которого стал М.Н. Аис¬
тов, вошел также К. И. Коржневский. Оно поручило организацию
партизанского движения Манькову и провело мобилизацию мужс¬
кого населения в возрасте до 40 лет на территории 7 волостей, охва¬
ченной восстанием. Повстанцы свергли власть советов, разоружили
милицию. В результате проведенной мобилизации численность по¬
встанческой “армии” перевалила за одну тысячу, хотя она была
вооружена плохо. Только половина восставших обеспечивалась
огнестрельным оружием.
“Временное Амурское правительство” в своих воззваниях к
народу так излагало цели восставших: “Борьба против всякой дик¬
татуры и созыв учредительного собрания”, “Охрана и неприкос¬
новенность личности и имущества как русских граждан, так и
проживающих на нашей территории иностранных подданных всех
национальностей”, “Налоговая политика должна проводиться с
учетом платежеспособности населения; налоги не должны “ме¬
шать мощности хозяйства”.
При этом главным лейтмотивом всех обращений к народу ос¬
тавался “бешеный протест против звериного налога”, введенного
государством. Восставшие крестьяне упорно сопротивлялись ар¬
мии, отрядам особого назначения, ОГПУ. Разгромом повстанцев,
по постановлению президиума Амурского губернского исполко¬
ма, руководил начальник местного ОГПУ Каруцкий. Хотя основ¬
ные силы повстанцев оказались разбитыми к 22 января 1924 г., но
окончательно подавить восстание удалось лишь в начале февраля.
Среди повстанцев убитых оказалось 167 человек, раненых — 107,
задержанных — 1008. Со стороны правительственных войск поте¬
ри были незначительными: 5 убитых, 8 раненых, 6 обморожен¬
ных и 2 — пропали без вести. Некоторым членам “Амурского вре¬
менного правительства” и повстанцам удалось перейти границу и
укрыться на территории Китая188.
. Участники данного восстания, как и других, плохо подго¬
товленные и вооруженные, стихийно поднявшиеся на борьбу с
277
властью, не имели четкой программы действий и способов ее ре¬
ализации, были обречены на поражение. При этом крестьянские
восстания даже местного, локального значения как форма сопро¬
тивления государственной политике не получили широкого рас¬
пространения. Ими была охвачена незначительная часть крестьян.
На наш взгляд, к вооруженной борьбе сельчан против меропри¬
ятий советской власти можно отнести и террористические акты с
явно выраженным политическим характером, осуществляемые в
деревне против отдельных местных сельских активистов, комму¬
нистов и комсомольцев. Данной форме крестьянского противо¬
действия власти способствовала не только государственная поли¬
тика по отношению к деревне, но и наметившееся экономическое
расслоение крестьян, что в какой-то мере порою содействовало
нарастанию конфликтов между состоятельными и бедными крес¬
тьянами, поскольку последние нередко выступали опорой, союз¬
ником советской власти, проводниками ее политики в сельской
местности. Поэтому иногда против маломощных сельчан, дере¬
венских активистов совершалось насилие, террористические акты
со стороны части зажиточных и средних крестьян.
При этом насилие осуществлялось чаще во время проведения
налоговых кампаний в деревне, в период выборов в сельские со¬
веты, правления коопераций, когда разворачивалась политичес¬
кая борьба за представительство тех или иных социальных групп
деревни в местных органах управления. В ходе противодействия
“назначенству”, голосованию списком, предлагаемых местной
большевистской ячейкой, крестьяне иногда прибегали к насилию.
Причем в официальных документах, в информационных сводках
ОГПУ данная форма крестьянского протеста обычно называлась
“кулацким террором”, хотя такая оценка далеко не всегда соот¬
ветствовала историческим реалиям. Ибо, как будет сказано ниже,
к нему прибегали не только состоятельные сельчане, но по свое¬
му экономическому положению средние и даже бедные.
Судя по содержанию материалов органов ОГПУ, противодей¬
ствие сельчан диктаторской власти в форме террористических ак¬
тов в большинстве случаев носило политический характер189, од¬
нако мы не исключаем того, что в ряде мест террор имел и отчасти
хулиганскую, уголовную направленность.
Причем количество террористических актов за годы нэпа не¬
уклонно возрастало. Так, за 1924—1927 гг. их было совершено 2853
в стране, из которых приходилось в 1924 г. — 339, в 1925 г. — 902,
в 1926 г. — 711, в 1927 г. — 901. Причем наибольшее число терак¬
тов падало на те районы РСФСР, где больше всего наблюдалось
278
экономическое расслоение деревни на зажиточных и бедных. На¬
пример, из всех насилий, совершенных в деревне за 1924—1927 гг.,
на Сибирь приходилось 883; на Дальневосточный край — 313; Цен¬
тральный район — 393; тогда как на Урал — 116, Северо-Запад —
216190.
Насильственные действия велись прежде всего против работ¬
ников низового советского аппарата и членов ВКП(б) и ВЛКСМ.
Об этом говорят такие данные. Например, в 1926 г. из всех терактов
на сотрудников советов приходилось 33,3 %, на коммунистов и
комсомольцев — 29,1 %; в 1927 г. соответственно — 34,6 % и 29,2 %,
на других советских служащих падало 27,3 % и 30,7 %; на селько¬
ров — 8,9 и 3,1 %, на земельных работников — 1,4 % и 2,4 %.
О характере совершенных актов террора нам дает представле¬
ние следующая статистика: в 1926 г. на убийства приходилось 110
случаев (15,5 %), на ранения и избиения — 290 (40,8 %); покуше¬
ния на убийства — 240 (34 %). В 1927 г. из 901 терракта убийства
составляли 80 (8,9%), ранения, избиения — 313 (34,8 %)191.
Из названной выше официальной статистики видно, что за
указанные годы примерно половина из всех совершенных актов
насилия в деревне приходилась на убийства, ранения и избие¬
ния, которые, на наш взгляд, можно, по-видимому, отнести к
политическим. Что же касается случаев угроз убийством и поку¬
шения на жизнь, поджогов построек, стогов сена, складов с зер¬
ном, подпадавших в террористические акты, то вряд ли их все
можно считать таковыми. Думается, часть из них совершалась не
по политическим, а по хулиганским побуждениям, хотя органы
ОГПУ их не относили к таковым.
Приведем несколько примеров, характеризующих характер со¬
вершенных террористических актов в деревне, жертвами которых
стали работники советского низового аппарата, селькоры, налого¬
вые агенты, коммунисты и комсомольцы. Так, в январе 1925 г. в
деревне Кузьминково Петровской волости Московской губернии
трое крестьян убили председателя сельсовета Дроздова, которому
было нанесено 16 ножевых ран в голову. Причиной расправы с
советским работником явилась система обложения налогом сель¬
чан в деревне. По этим же мотивам в октябре 1927 г. группа крес¬
тьян в Голотинской волости Вельского уезда Волгоградской гу¬
бернии избила председателя Хозьминского сельского совета, когда
он пришел в одну из деревень с окладными листами. В этом же
месяце жители деревни Татарники Веневского района Тульской
губернии напали на члена сельской налоговой комиссии и обви¬
нили его “в переобложении налогом” и пытались убить. Однако
279
совершить покушение не удалось благодаря вмешательству других
крестьян192.
В январе 1925 г. в с. Казанском Богородицкого уезда Московской
губернии два гражданина избили ломом заведующего местной из¬
бой-читальней и селькора Николая Люсина. 30 сентября 1927 г. на
станции Сиверской Троцкого уезда Ленинградской губернии трое
неизвестных убили организатора комсомольцев дер. Куровицы Рож¬
дественской волости. 25 октября 1927 г. в с. Филатово Косинского
района Барнаульского округа “сын кулака” избил секретаря ячей¬
ки ВЛКСМ за то, что последний во время перевыборной кампа¬
нии в сельский совет выступал против зажиточных крестьян и за
организацию бедноты. В январе 1927 г. в с. Деньково Малошинской
волости Воскресенского уезда Московской губернии сын торговца
и его зять избили секретаря районной избирательной комиссии,
поскольку их родственника лишили права голоса193.
8 июня 1927 г. в с. Стригово Старосельской волости Почепско-
го уезда Брянской губернии зажиточные сельчане пытались убить
землемера, которого бедняки взяли под свою охрану. В мае 1927 г.
в поселке Колпаково Троицкого района Томского округа “кулак”
и его “приспешник”, бывший милиционер, занимавшийся “ан¬
тисоветской агитацией”, избили трех бедняков после окончания
собрания, на котором было принято решение о проведении зем¬
леустроительных работ194.
Изложенные факты, перечисление которых можно было бы
продолжить, свидетельствуют не только о характере террористи¬
ческих актов, их исполнителях, но и целях, мотивах, побудивших
сельчан применить насилие по отношению к своим оппонентам,
противникам. Эта примитивная и убогая форма борьбы, не полу¬
чившая к тому же широкого распространения, скорее являлась
актом мести, отчаяния, показателем низкой политической культу¬
ры части крестьян. Кроме того, она отражала и своеобразие их мен¬
талитета, когда причина личных бед и несчастий виделась в плохом
поведении местных советских, партийных и комсомольских работ¬
ников. Хотя на самом деле истоки тяжелой социально-экономи¬
ческой ситуации на селе заключались прежде всего в объективных
факторах и проводимой государственной политике, а не в замене
одних сельских “жестоких” служащих, “чиновников-активистов”
другими, более “добрыми, хорошими”.
Если же говорить о социальном составе лиц, совершавших тер¬
рористические акты в деревне, как индивидуально, так и коллек¬
тивно, то они принадлежали к различным имущественным груп¬
пам: бедным, средним и зажиточным крестьянам, недовольных
280
своим положением. Причем последние, наиболее страдающие от
произвола властей среди участников терактов преобладали. Об этом
можно судить по нижеследующим официальным данным. Так, в
1926 г. на Северо-Западе РСФСР, в Сибири, на Урале и в Дальне¬
восточном крае насчитывалось 755 лиц, совершивших террорис¬
тические акты. Из них 636 (84,3 %) относились к крестьянам, а
119 (15,7 %) — к другим слоям. Из общего же числа “крестьян-
террористов” на территории РСФСР “кулаки” составляли на Се¬
веро-Западе 78,4 %, на Урале — 50 %, в Сибири — 67,6 %, в Даль¬
невосточном крае — 59,1; тогда как к середнякам принадлежало в
Сибири — 22 %, к беднякам — 10,4 %; в Дальневосточном крае
соответственно — 16,9; 14 %; на Северо-Западе середняки состав¬
ляли среди участников терактов 21,6 %, а к “прочим” относились
по всем районам 15,7 %. Примерно так же выглядел социальный
состав лиц, совершивших террор в деревне и в 1927 г.195 Следова¬
тельно, можно полагать, что среди них приблизительно от 1/2 до
1/4 относились к бедняцко-середняцким слоям, учитывая специ¬
фику того или иного района. Поэтому вряд ли можно считать тер¬
рор в деревне “кулацким”, участниками которого были только
зажиточно-богатые слои.
Из приведенных фактов и официальной статистики напраши¬
вается вывод: терроризм в деревне как форма противодействия со¬
ветской власти не получил заметного распространения, носил ско¬
рее единичный, стихийный и местный характер, отражающий месть
отдельных крестьян, поскольку на 17—18 млн. крестьянских хозяйств
РСФСР приходилось примерно в год в среднем 600—700 террорис¬
тических актов, совершенных в деревне против работников совет¬
ского аппарата, коммунистов и комсомольцев. К тому же какая-то
часть “террористов” принадлежала к уголовникам, что свидетель¬
ствовало о терпимости большинства крестьян, предпочитавших
ненасильственные, а мирные, законные методы борьбы с дикта¬
торской властью, за отстаивание своих экономических, социальных
и политических прав.
* * *
Из вышерассмотренного материала явствует, что российское
крестьянство, недовольное диктаторской властью, использовало
различные формы стихийного противодействия государственной
политике по отношению к деревне: от резкой нелицеприятной ее
критики на сельских сходах и собраниях до вооруженной борьбы.
При этом в протестных акциях в той или иной степени участвовала
281
значительная часть крестьян всех имущественных групп села, хотя
тон задавали середняцко-зажиточные слои, наиболее обиженные
на советскую власть. Самой массовой пассивной формой сопро¬
тивления сельчан государственным мероприятиям, с одной сто¬
роны, было неучастие их в избирательных кампаниях по выборам
в советы, правления кооперации, ККОВ, а с другой — противо¬
действие власти навязыванию им своих кандидатов-назначенцев
в сельские органы власти и общественные организации. Крестья¬
не предпочитали видеть в советах своих представителей в целях
защиты их насущных нужд и чаяний. Ради этого они не исключали
и образования собственной организации — “Крестьянского со¬
юза”, агитация за создание которого велась в различных районах
РСФСР.
Наряду с пассивными методами борьбы за расширение своих
экономических, социальных и политических прав крестьянство в
ряде мест противодействовало коммунистической власти и более
активно. Оно использовало и такие формы протеста, как волне¬
ния, беспорядки, вооруженную борьбу, хотя последние не стали
массовыми, в них было вовлечено незначительное число сельчан,
они имели ограниченный, локальный, краткосрочный характер.
Слабое активное противодействие государственной политике
объяснялось, во-первых, тем, что с переходом к нэпу началось
постепенное возрождение крестьянского хозяйства: наметилась
тенденция постепенного улучшения жизненного уровня сельско¬
го населения, оно устало от войны. К тому же с переходом к нэпу
суживалась и социальная база протестного движения. Во-вторых,
в стране отсутствовала реальная политическая сила, авторитетная
партия, способная мобилизовать крестьянское сопротивление,
возглавить его, придать ему более организованный и целенап¬
равленный характер. В-третьих, слабость противодействия комму¬
нистической власти со стороны крестьян объяснялась еще и тем,
что государство применяло жестокие карательные меры по отно¬
шению к тем, кто стоял в оппозиции к власти, население запуги¬
вали. Например, летом 1927 г. репрессии обрушились на тысячи сель¬
чан и представителей интеллигенции якобы за антисоветское
настроение к власти. В стране провели до 20 тыс. обысков, арестова¬
ли 9 тыс. человек, из них 9/10 принадлежали к жителям деревни196.
Поэтому страх перед угрозой арестов также ограничивал число де¬
ревенских участников сопротивления коммунистической власти.
Однако под давлением крестьянского противодействия дикта¬
торская власть “кроме кнута” по отношению к деревне вынуждена
была отчасти применить и “пряник”, когда в середине 20-х годов
282
осуществила поворот “лицом к деревне”, выдвинула лозунг “ожив¬
ления советов”, хотя во многом этот “новый курс” коммунисти¬
ческой партии носил декларативный характер, и вскоре от него
она отказалась, ужесточив политику по отношению к деревне,
приближая тем самым сталинскую революцию “сверху”, которая
к концу нэпа была уже не за горами.
283
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В годы нэпа по мере возрождения хозяйства российского кре¬
стьянина постепенно возрастала и его общественно-политичес¬
кая активность. Она выражалась, во-первых, в увеличении числа
принимавших участие в избирательных кампаниях по выборам в
сельские советы, правления кооперативов, в комитеты крестьян¬
ских обществ взаимопомощи. Во-вторых, неуклонно нарастала и
политическая борьба в деревне, когда крестьяне настойчиво выс¬
тупали за более широкое представительство в местных органах
власти, в общественных организациях, решительно противодей¬
ствовали “назначенцам” сверху, навязываемым властью, что де¬
лало избирательный процесс зачастую недемократическим и не¬
свободным. А это свидетельствовало еще и о том, что “ни верхи,
ни низы”, ни в целом советское государство не созрели для ут¬
верждения свободного демократического общества ввиду беднос¬
ти, малограмотности населения, низкой образовательной, куль¬
турной подготовки, наличия его “примитивной политической
культуры” и отсутствия демократических традиций. В-третьих,
общественная активность крестьян находила отражение и в раз¬
личных формах социального протеста, как активных, так и пас¬
сивных, недовольных политикой государства по отношению к
деревне.
В этой связи в позиции крестьян к власти проявилась особен¬
ность в менталитете жителей деревни, их психологии, излагаемая
в многочисленных письмах в газеты, в выступлениях на сельских
сходах и собраниях, в которых прослеживается и традиционное
недоверие к политике правительства во все времена, последнее
нередко обманывало сельчан.
В критике политики советского государства, коммунистической
партии у крестьянина много справедливого, поскольку в своей оценке
он исходил из своего менталитета, собственного хозяйственного
284
уклада, личного материального, экономического состояния, а
зачастую не с позиций общегосударственных интересов, нередко
расходившихся с желаниями рядовых граждан.
Оценивая часто с субъективных позиций деятельность деревен¬
ских советских и партийных работников и проводимые мероприятия
правительством, крестьяне, разумеется, не всегда были объектив¬
ны в их критике, ибо многие сельчане не представляли тогда ре¬
альной катастрофической ситуации в стране, глубочайшего кризи¬
са в народном хозяйстве как следствия Гражданской войны,
политики военного коммунизма, страшного голода первых лет нэпа.
Кроме того, стране приходилось возрождать экономику, в том чис¬
ле промышленность, сельское хозяйство, транспорт, укреплять
обороноспособность в капиталистическом окружении, будучи по¬
чти “в осажденной крепости”. В этой связи страна могла рассчиты¬
вать только на собственные силы и средства, не получая реальной
финансово-кредитной помощи из-за границы. Вот почему на крес¬
тьянство как главную производительную силу страны, на его пле¬
чи ложилась основная, тяжелейшая ноша по поднятию из “руин,
пепла” народного хозяйства, обеспечению горожан и Красной
Армии продуктами питания. С разоренного, ослабленного кресть¬
янского хозяйства государство изымало средства и ресурсы, зача¬
стую при помощи непосильных налогов, закупая при этом у него
продовольствие по низким ценам. В результате такой политики
государства в годы нэпа продолжалось постепенное раскрестья¬
нивание деревни, начатое с Октябрьской революции, что вызы¬
вало недовольство ее жителей и критику правительства.
Эта критика, во многом обоснованная, принимала различ¬
ные формы: от спокойных жалоб, воплей, стонов до эмоциональ¬
но-злобных, агрессивных выражений и призывов типа “Долой
советскую власть”. При этом негативное отношение крестьян к вла¬
сти во многом зависело еще от деятельности низового советского и
партийного аппарата в деревне. Руководители советов, сельские
коммунисты, в большинстве своем морально-разложившиеся,
малограмотные, некомпетентные, выполняя указания сверху, сво¬
им поведением дискредитировали себя как и в целом советскую
власть перед крестьянами, не интересовались их насущными со¬
циально-экономическими проблемами и оказались отчужденны¬
ми от населения.
Значительная часть крестьян разуверилась в деятельности мес¬
тных советских и партийных органов, в политике правительства,
коммунистической партии, не выполнивших свои обещания 1917 г.
Сравнивая свое экономическое положение с дореволюционным
285
периодом, некоторые крестьяне приходили к выводу, что в луч¬
шем случае их жизненный уровень сохранился на периоде 1913 г.,
а многие из них считали: к концу нэпа, к десятилетию советской
власти они стали жить на порядок беднее, хуже, обвиняя в этом
политику государства, коммунистов.
К тому же советская власть ограничивала в гражданских, по¬
литических и социальных правах крестьян, лишала права голоса
наиболее активную, трудолюбивую, предприимчивую, зажиточ¬
ную их часть. Поэтому у многих крестьян сформировалось мне¬
ние, что они являются низшим, угнетенным классом, которым
управляют рабочие во главе с коммунистами. Подобные настрое¬
ния среди крестьян имели под собой реальную почву и основу,
ибо политическое руководство страны, несмотря на объективные
трудности, тем не менее в тех конкретных исторических нэповс¬
ких условиях могло бы сделать на порядок больше и качественно
лучше для восстановления крестьянского хозяйства, в том числе
ослабить классово-идеологический подход в своей политике по
отношению к деревне: увеличить финансово-материальную под¬
держку сельчан, дать им больше экономической самостоятельно¬
сти и свободы действий, расширить их политические и социальные
права, уравнять их с рабочими, предоставить возможность образо¬
вывать самостоятельную организацию “Крестьянский союз” на
платформе советской власти, хотя бы по типу профсоюза рабочих
и, таким образом, можно было бы увеличить темпы роста эконо¬
мики страны вообще и сельского хозяйства в частности, смягчить
недовольство крестьян, их протестные деяния. Но руководство стра¬
ны пошло иным путем, по ужесточению контроля над деревней.
И тем не менее, несмотря на тяготы, колоссальные трудно¬
сти своего житья-бытья, бедность, притеснения властей, подавля¬
ющее большинство российских крестьян в годы нэпа проявили тра¬
диционную для них терпимость, покорность, законопослушание,
оставались лояльными по отношению к советской власти, отстаи¬
вали свои права ненасильственными, в основном конституцион¬
ными методами. Они являлись великими тружениками, созидате¬
лями, фундаментом советского государства, благодаря усилиям
которых удалось восстановить экономику страны к концу нэпа.
286
ПРИМЕЧАНИЯ
Примечания к введению
1. Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. Документы и мате¬
риалы. Т. 1. 1918—1922 / Под ред. А. Береловича, В. Данилова. М., 1998; Т. 2.
1923—1929. М., 2000; Неизвестная Россия. XX в. Ч. 3. М., 1993; Голос народа.
Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918—1932 гг. /
Отв. ред. А.К. Соколов. М., 1998; Сибирская Вандея. Документы. Т. 2.1920—
1921 / Сост. В.И. Шишин. М., 2001; Кооперативно-колхозное строитель¬
ство в СССР 1923-1927 г. Документы и материалы. М, 1993; Трагедия
советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и ма¬
териалы. Т. 1. Май 1927 — ноябрь 1929 / Отв. ред. В. Данилов. М., 1999;
Крестьянские истории: российская деревня 1920-х годов в письмах и
документах / Сост. С. С. Крюкова. М., 2002 и др.
2. РозитД.П. Проверка низового аппарата в деревне. Основные ито¬
ги проверки низового аппарата членами ЦКК РКП(б) в 12 уездах и ок¬
ругах СССР / Под ред. Я.А. Яковлева. М., 1926; Большаков А.М. Деревня
1917—1927. М., 1927; Росницкий Н. Лицо деревни. По материалам обсле¬
дования 28 волостей и 32 730 крестьянских хозяйств Пензенской губер¬
нии. М.; Л., 1926; Лужин А.. Резунов М. Низовой советский аппарат (сель¬
совет и волисполком). М., 1929; Ларин Ю. Советская деревня. М., 1925;
Кретов Ф. Деревня после революции. М., 1925; Яковлев Я. Деревня как
она есть. Очерки Никольской волости. М., 1925; Данилов В Л. Советская
доколхозная деревня: население, землепользование, хозяйство. М., 1977;
его же. Советская доколхозная деревня: социальная структура, социальные
отношения. М., 1979; Кукушкин Ю.Н. Сельские советы и классовая борь¬
ба в деревне. М., 1968; История крестьянства СССР. История советского
крестьянства. Т. 1. Крестьянство в первое десятилетие советской власти
1917—1927. М., 1986; Советское крестьянство. Краткий очерк истории
(1917—1969). М., 1970; Власть и общественные организации в России в
первой трети XX столетия. М., 1993; Венер М. Лицом к деревне: советская
власть и крестьянский вопрос (1924—1925 гг.) // Отечественная история.
1993. № 5; Жеребцов И,Л. Отношение населения Коми края к власти в
1918 — начале 1920-х годов // Отечественная история. 1994. № 6 и др.
287
Примечания к первой главе
1. История советских Конституций (в документах) 1917—1956. М.,
1957. С. 79, 85, 228-229.
2. Ленин В.И. Поли. соб. соч. Т. 38. С. 172; Т. 43. С. 318-320.
3. Правда. 1991. 22 апреля
4. Ларин Ю. Советская деревня. М., 1925. С. 384.
5. Сталин КВ. Сочинения. Т. 7. С. 331-332.
6. Большаков AM. Очерки деревни СССР. 1917-1927. М., 1928. С. 201;
Савченко К.Д И. В. Сталину 10 мая 1927 г. // Известия ЦК КПСС. 1989. № 8.
С. 207-208.
7. Избирательная кампания по РСФСР в 1923 году. М., 1924. С. 7.
8. История крестьянства СССР. С. 235.
9. Избирательная кампания по РСФСР в 1923 году. С. 7; Предвари¬
тельные итоги избирательной кампании в советы РСФСР в 1924—1925 гг.
Выпуск 1а. Данные до 1 января 1925 г. М., 1925. С. 20-21.
10. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 98. Л. 148-149; Д. 1058. Л. 1,15, 37; Д. 1250.
Л. 26; Д. 1023. Л. 30.
11. Советская деревня. Т. 2. С. 263—264, 281.
12. См.: Хатаевич М. Предварительные итоги перевыборов сельсове¬
тов (в 1924—1925 гг.) // На аграрном фронте. 1925. № 5—6. С. 61.
13. Выборы в советы РСФСР в 1925—1926 гг. Ч. 1. М., 1926. С. 13.
14. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1058. Л. 24.
15. См.: Выборы в советы РСФСР в 1925—1926 гг. Ч. 1. С. 13, 74—75.
16. Советская деревня. Т. 2. С. 378-382, 620.
17. РозитД.П. Проверка работы низового аппарата. С. 21-22.
18. Протасов Л.Г. Всероссийское учредительное собрание и демокра¬
тическая альтернатива. Два взгляда на проблему // Отечественная исто¬
рия. 1993. № 5. С. 14-15.
19. Избирательная кампания по РСФСР в 1923 году. С. 8; Предвари¬
тельные итоги избирательной кампании в советы РСФСР в 1924—1925 гг.
С. 20-21.
20. Избирательная кампания в советы по РСФСР в 1924—1925 гг. М.,
1925. С. 4; Совещание по вопросам советского строительства 1925 г. при
Президиуме ЦИК. Апрель 1925. М., 1925. С. 26.
21. См.: Советская деревня. Т. 2. С. 263—264, 391—392.
22. См.: Кукушкин Ю.Н. Сельские советы и классовая борьба в де¬
ревне. М., 1968. С. 57, 119-120.
23. Совещание по вопросам советского строительства С. 27; Хатае¬
вич М. Указ. соч. С. 60.
24. Дегтев С. И. Крестьянство и формирование низовых властных
структур деревни в 20-х гг. // Власть и общественные организации в Рос¬
сии в первой трети XX столетия. М., 1993. С. 128—144.
25. Есиков С.А, Протасов Л.Г. “Антоновщина”. Новые подходы //
Вопросы истории. 1992. N° 6-7. С. 55.
26. Яковлев Я. Как проводить выборы советов в деревне. Под знаме¬
нем советской демократии //Деревенский коммунист. 1927. № 1. С. 11.
288
27. Зиновьев Г. Лицом к деревне. Статьи и речи. Изд. 1. М., 1925. С. 67.
28. См.: Совещание по вопросам советского строительства С. 34;
Росницкий Н. Лицо деревни. По материалам обследования 28 волостей и
32 370 крестьянских хозяйств Пензенской губ. М.; Л., 1926. С. 43.
29. Большаков Л.М. Деревня 1917-1927. М, 1927. С. 176-178.
30. Митрофанов Л.Х Деревенские организации РКП(б) и осуществ¬
ление ими новых задач и методов работы в деревне. По материалам мес¬
тных контрольных комиссий РКП(б) с предисловием В. Куйбышева. М.,
1925. С. 4.
31. Деревенский коммунист. 1925. № 5. С. 31-32..
32. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1250. Л. 26; Д. 1058. Л. 37,43,50.
33. Там же. Д. 1023. Л. 30-31.
34. Росницкий Я. Указ. соч. С. 42.
35. РозитД.П. Проверка работы низового аппарата. С. 75-76.
36. Хатаевич М. Указ. соч. С. 61.
37. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1329. Л. 47; Д. 1226. Л. 12; Д. 854. Л. 3.
38. Крестьянские истории... С. 207—208.
39. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1058а. Л. 37.
40. Крестьянские истории... С. 109—110.
41. Советская деревня. Т. 2. С. 263—264, 379.
42. Там же. С. 388-390.
43. Там же. С. 388-389, 262-265, 282.
44. Там же. С. 279-280.
45. Там же. С. 280-281.
46. Есиков СЛ, Протасов Л.Г. Указ. соч. С. 56.
47. Совещание по вопросам советского строительства. С. 29; Четыр¬
надцатая конференция российской коммунистической партии больше¬
виков. Стенографический отчет. М., 1925. С. 25.
48. Хатаевич М. Указ. соч. С. 61.
49. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1250. Л. 26; Д. 1205. Л. 22.
50. Росницкий Я. Указ. соч. С. 43-44.
51. Хатаевич М. Указ. соч. С. 68—71.
52. История крестьянства СССР. С. 385.
53. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1377. Л. 16.
54. Советская деревня. Т. 2. С. 379-384.
55. История крестьянства СССР. С. 385.
56. Дегтев СИ. Указ. соч. С. 128.
57. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1205. Л. 40.
58. Советская деревня. Т. 2. С. 385-386.
59. М. X. Некоторые итоги выполнения постановления Октябрьско¬
го пленума ЦК РКП(б) о работе в деревне // На аграрном фронте. 1925.
№ 5-6. С. 200.
60. РозитД.П. Указ. соч. С. 73-74.
61. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1058. Л. 43; Д. 1178. Л. 227.
62. М.Х. Некоторые итоги. С. 200.
63. Митрофанов А. X. Указ. соч. С. 36.
64. М.Х. Некоторые итоги. С. 199.
289
65. Выборы в советы РСФСР в 1925-1926 гг. Ч. 1. С. 13, 74-75, 85.
66. История крестьянства СССР. С. 386.
67. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1402. Л. 9.
68. Советская деревня. Т. 2. С. 390-391.
69. Хатаевич М. Указ. соч. С. 65-66.
70. См.: Ларин Ю. Советская деревня. С. 15—19, 51—52, 384—387.
71. См.: Там же.
72. Марецкий Д. Ревизия ленинизма “слева”// Большевик. 1925. № 19-
20.
73. М. X. Некоторые итоги. С. 209.
74. Хатаевич М. Указ. соч. С. 70.
75. Документы свидетельствуют. Из истории деревни накануне и в
ходе коллективизации 1927-1932 гг. / Под ред. В. П. Данилова, Н. А. Ив-
ницкого. М., 1989. Примечания. С. 494.
76. История крестьянства СССР. С. 384.
77. Совещание по вопросам советского строительства. С. 25, 163.
78. РозитДП. Указ. соч. С. 19—20.
79. ЦГАСП. Ф. 1000. Оп. 9. Д. 376. Л. 74; Оп. 10. Д. 376. Л. 16.
80. Росницкий Н. Указ. соч. С. 42; Советская деревня. Т. 2. С. 392.
81. См.: РозитДП. Указ. соч. С. 68; Хатаевич М. Указ. соч. С. 65—69; М.
X. Некоторые итоги. С. 211.
82. Выборы в советы РСФСР в 1925-1926 гг. С. 13, 74-75.
83. История крестьянства СССР. С. 385.
84. Документы свидетельствуют. С. 66—67.
85. Советская деревня. Т. 2. С. 534, 535.
86. Правда. 1927. 5, 6, 10, 20, 25 февраля.
87. Выборы в советы по РСФСР в 1927 г. М., 1928. С. 5—6; Предвари¬
тельные итоги кампании в советы РСФСР в 1924—1925 гг. Вып, 1-й. М.,
1925. С. 11, 12; Выборы в советы РСФСР в 1925-1926 гг. С. 13, 74-75.
88. Правда. 1927. 5, 6 февраля.
89. История крестьянства СССР. С. 387—388.
90. Документы свидетельствуют. С. 66—67.
91. Советская деревня. Т. 2. С. 518.
92. Выборы в советы по РСФСР в 1927 г. С. 5-6.
93. Советская деревня. Т. 2. С. 519-520.
94. Дегтев С.И. Указ. соч. С. 133-136.
95. Советская деревня. Т. 2. С. 520, 521, 525.
96. Большаков AM, Деревня 1917-1927. С. 429.
97. Голос народа. С. 115.
98. Дегтев С.И. Указ. соч. С. 134.
99. Большаков AM. Деревня 1917—1927. С. 430.
100. Правда. 1927. 5, 6; 10, 22 февраля.
101. Там же. 22 февраля.
102. Там же. 17 февраля; Советская деревня. Т. 2. С. 522.
103. Савченко К.Д. И. В. Сталину. 10 мая 1927 // Известия ЦК КПСС.
1989. № 8. С. 207-208.
104. Правда. 1927. 18 февраля.
290
105. Советская деревня. Т. 2. С. 17, 529.
106. Савченко КД. И.В. Сталину. С. 211.
107. Советская деревня. Т. 2. С. 529.
108. Большаков АЖ Деревня 1917—1927. С. 432.
109. Советская деревня. Т. 2. С. 479-480, 527-528.
110. Там же. С. 479—480.
111. Там же. С. 519, 527.
112. Там же. С. 527, 531-532.
113. Савченко КД. И.В. Сталину. С. 207—208.
114. Дегтев С.И. Указ. соч. С. 130.
115. Советская деревня. Т. 2. С. 510, 535-536, 542-545.
116. Советская деревня. Т. 2. С. 504—505.
117. Документы свидетельствуют. С. 61.
118. Большаков АЖ, Деревня 1917-1927. С. 432.
119. Правда. 1927. 18 февраля.
120. Выборы в советы по РСФСР в 1927 г. С. 79.
121. ЦГАСП. Ф. 1000. Оп. 80. Д. 231. Л. 2-4.
122. Выборы в советы по РСФСР в 1927 г. С. 16-17, 19-23, 39, 47.
123. История крестьянства СССР. С. 388.
124. ЦГАСП. Ф. 8. On. 1. Д. 925. Л. 153.
125. Волисполкомы и сельсоветы по данным обследования ЦКК и
НК РКИ / Отв. ред. С. Е. Чунаева. М., 1924. С. 196-198, 211.
126. Яковлев Я, Наша деревня. Новое в старом и старое в новом. 4 изд.
М, 1925. С. 132.
127. Лежнев-Финьковский П.Я., Савченко КД. Как живет деревня. М.,
1925. С. 82, 83, 103.
128. Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского
правительства. 1924. N9 82. С. 1173.
129. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1206. Л. 63.
130. Там же. Д. 854. Л. 37; Д. 714. Л. 45.
131. Там же. Ф. 16. Оп. 2. Д. 1247. Л. 46.
132. Там же. Ф. 9. On. 1. Д. 1023. Л. 29-31.
133. Там же. Д. 1329. Л. 40, 48.
134. РозитД П. Проверка низового аппарата. С. 10—13.
135. Советская деревня. Т. 2. С. 221.
136. Росницкий Н. Указ. соч. С. 40-42.
137. Митрофанов АХ. Указ. соч. С. 3,4.
138. См.: Совещание по вопросам советского строительства. С. 29,
45; XIV съезд Всесоюзной коммунистической партии (б). Декабрь 1925.
Стенографический отчет. М., 1926. С. 1061; О работе сельских ячеек РКП(б).
М., 1925.
139. Большаков А.М. Деревня 1917—1927. С. 179.
140. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1377. Л. 52; Д. 1310. Л. 53.
141. Лужин А., Резунов М. Низовой советский аппарат (сельсовет и
волисполком). М., 1929. С. 68.
142. Дегтев С.И. Указ. соч. С. 143.
143. ЦГАСП.Ф. 1000. Оп. 80. Д. 231. Л. 6.
291
144. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1178. Л. 20.
145. Крестьянские истории. С. 80-81.
146. Советская деревня. Т. 2. С. 508.
147. Крестьянские истории. С. 208.
148. Калинин М.И. Статьи и речи. 1919-1935. М., 1935. С. 159-160.
149. Квиринг Э. Работа сельских советов // Деревенский коммунист.
1927. №13-14. С. 14.
150. Правда. 1927. 26 февраля.
151. Волисполкомы и сельсоветы. С. 205—208; III сессия Всероссийс¬
кого Центрального исполнительного комитета XII созыва. Стенографи¬
ческий отчет. М., 1926. С. 516-517.
152. Головненко Ф. Успехи в советской работе //Деревенский комму¬
нист. 1927. №. 1.С. 37.
153. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1329. Л. 40.
154. Там же. Д. 1212. Л. 59; Д. 1058а. Л. 25; Д. 1058. Л. 65.
155. РозитДМ, Указ. соч. С. 38—41.
156. Яковлев Я. Указ. соч. С. 103.
157. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 852. Л. 89; Д. 1329. Л. 251.
158. История крестьянства СССР. С. 396.
159. Там же. С. 403.
160. Там же. С. 397.
161. ЦГАСП. Ф. 1000. Оп. 80. Д. 231. Л. 6.
162. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1178. Л. 20.
163. Росницкий Н. Указ. соч. С. 92—93.
164. Революция в деревне. Очерки / Под ред. В.Г. Тана-Богораза. М.;
Л., 1924. С. 28-29.
165. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1058. Л. 65; Д. 854. Л. 19; Д. 1206, Л. 68-69.
166. Там же. Д. 1329. Л. 36-38.
167. Гагарин Л. Хозяйство, жизнь и настроение деревни (По итогам
обследования Починковской вол. Смоленской губ.). М.; Л., 1925. С. 37;
Росницкий Н. Указ. соч. С. 93.
168. Росницкий Н. Указ. соч. С. 92-93; Яковлев Я. Указ. соч. С. 105.
169. Крестьянские истории: российская деревня 1920-х годов в пись¬
мах и документах / Сост. С.С. Крюкова. М., 2001. С. 61.
170. Там же. С. 79, 103-107.
171. Советская деревня. Т. 2. С. 373-378.
172. История крестьянства СССР. С. 402.
173. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 717. Л. 128; Д. 1329. Л. 37; Д. 1206, Л. 68-69.
174. РозитДМ\ Указ. соч. С. 30, 38-41.
175. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1205. Л. 23; Д. 1329. Л. 37.
175. Розит П.Д Указ. соч. С. 38-40.
176. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1058а. Л. 37.
177. История крестьянства СССР. С. 402.
178. Советская деревня. Т. 2. С. 371. -
179. Тринадцатый съезд РКП(б). Май 1924 года. Стенографический
отчет. М., 1963. С. 454—458.
180. Советская деревня. Т. 2. С. 394, 471—472.
292
181. ЦГАИПД. Ф. 9. On. I. Д. 1329. Л. 38.
182. Там же. Д. 854. Л. 20-21; Д. 714. Л. 33; Д. 1205. Л. 23.
183. Там же. Д. 1226. Л. 12; Д. 1058а. Л. 26.
184. Там же. Д. 1023. Л. 33.
185. Деревенский коммунист. 1925. № 3—4. С. 38.
186. Росницкий Я. Указ. соч. С. 99—100.
187. Правда. 1925. 11 января.
188. Большаков Л.М. Очерки деревни СССР. М., 1928. С. 190—192.
189. История крестьянства СССР. С. 401.
190. Яковлев Я. Деревня как она есть. С. 94, 109.
191. Тринадцатый съезд РКП(б). С. 458.
192. История крестьянства СССР. С. 401.
193. Правда. 1925. 3 января.
194. ЦГАСП. Ф. 1000. Оп. 80. Д. 231. Л. 6.
195. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1178. Л. 20.
196. Там же. Д. 1329. Л. 40-41.
197. РозитДП. Указ. соч. С. 44—45.
198. Там же.
199. Совещание по вопросам советского строительства. С. 109.
200. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1329. Л. 40-41.
201. Трагедия советской деревни. С. 436.
202. Пятнадцатый съезд ВКП(б). Стенографический отчет. Ч. 2. М., 1962.
С. 1246; История крестьянства СССР. С. 389; Данилов В. П. Советская докол-
хозная деревня: население, землепользование, хозяйство. М., 1977. С. 105.
203. Трагедия советской деревни. С. 436.
204. Совещание по вопросам советского строительства. С. 82—85.
205. Помодов Е. Волостной бюджет и советское строительство в де¬
ревне // Большевик. 1925. № 5-6. С. 39.
206. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1329. Л. 35.
207. Там же. Д. 1206. Л. 58,61—62; Д. 2105. Л. 38-39.
208. Филимонов В,Я. Власть городская, власть деревенская / К истории
формирования партийно-бюрократического аппарата в 1920-е годы // Власть
и общественные организации в России в первой трети XX столетия. М.,
1993. С. 124.
209. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1250. Л. 106.
210. Помодов Е. Указ. соч. С. 39.
211. Советская деревня. Т. 2. С. 226.
212. Данилов В.И Советская доколхозная деревня: население, земле¬
пользование, хозяйство. С. 97, 102—104.
213. Пятнадцатый съезд ВКП(б). Ч. 2. С. 1246.
214. Трагедия советской деревни. С. 437-439.
215. Никитина Я.Я. Советская власть и крестьянский мир в ходе высе¬
ления бывших помещиков // Власть и общественные организации. С. 150.
216. Трагедия советской деревни. С. 439.
217. Кожиков Я. Сельские советы и земельные общества // На аграр¬
ном фронте. 1928. № 5. С. 65.
218. Трагедия советской деревни. С. 437—438.
293
219. Кожиков И. Указ. соч. С. 66.
220. Пятнадцатый съезд ВКП(б). Стенографический отчет. Ч. 1. М.,
1961. С. 100.
221. Феноменов М.Я. Современная деревня. Опыт краеведческого об¬
следования одной деревни. Ч. 2. М.; Л., 1925. С. 34.
222. Яковлев Я. Указ. соч. С. 129.
223. Росницкий Н. Указ. соч. С. 32.
224. РозитД.П. Указ. соч. С. 15—17.
225. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1178. Л. 224; Д. 1311. Л. 27, 30, 37.
226. Там же. Д. 1023. Л. 32; Д. 1329. Л. 49-50.
227. Кретов Ф. Указ, соч.; Лужин А., Резунов М. Указ. соч. С. 143—144.
228. Кожиков И. Указ. соч. С. 66.
229. Пятнадцатый съезд. Ч. 2. М., 1962. С. 1245.
230. Кожиков И. Указ. соч. С. 65.
231. Пятнадцатый съезд ВКП(б). Ч. 2. С. 1246.
232. Росницкий Н. Указ. соч. С. 32—37.
233. Крестьянские истории. С. 85.
234. Трагедия советской деревни. С. 429—430.
235. РозитД.П. Указ. соч. С. 15.
236. История крестьянства СССР. С. 389-390.
237. Квиринг Эр. Работа сельских советов //Деревенский коммунист.
1927. №13-14. С. 15.
238. Пятнадцатый съезд ВКП(б). Ч. 2. С. 1216-1217, 1245.
239. Там же. С. 1467.
240. См.: Выборы в советы по РСФСР в 1927 г. С. 16-17, 23.
241. Там же. С. 40.
242. Избирательная кампания в советы РСФСР в 1924-1925 гг. Пред¬
варительные итоги. Вып. 2. М., 1925. С. 142—143.
243. Выборы в советы по РСФСР в 1927 г. С. 20.
244. Избирательная кампания в советы РСФСР в 1924—1925 гг. Пред¬
варительные итоги. Вып. 2. М., 1925. С. 142—143.
245. Выборы в советы по РСФСР в 1927 г. С. 19-21, 39, 47.
246. Избирательная кампания в советы РСФСР в 1924-1925 гг. Пред¬
варительные итоги. Вып. 2. С. 142—143; Выборы в советы по РСФСР в
1927 г. С. 31,47.
247. Лужин А., Резунов М. Указ. соч. С. 97.
248. РозитД.П. Указ. соч. С. 13.
249. Лужин А., Резунов М. Указ. соч. С. 63-65.
250. Росницкий Н. Указ. соч. С. 31.
251. Совещание по вопросам советского строительства. С. 32, 45.
252. Росницкий Н. Указ. соч. С. 47.
253. Квиринг Э. Работа сельских советов // Деревенский коммунист.
1927. №13-14. С. 13.
254. Дегтев С.И. Указ. соч. С. 143.
255. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1377. Л. 35.
256. Волисполкомы и сельсоветы С. 194—195.
257. Лужин А., Резунов М. Указ. соч. С. 101.
294
258. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1329. Л. 20-22.
259. Там же. Д. 1058а. Л. 24.
260. Там же. Д. 1206. Л. 42; Д. 1329. Л. 48; Д. 1311. Л. 27-28.
261. Кукушкин Ю.С. Указ. соч. С. 136.
262. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1377. Л. 52,60; Д. 1311. Л. 36.
263. Там же. Д. 310. Л. 53; Д. 1329. Л. 22-23, 26, 48-49.
264. Там же. Д. 1329. Л. 22-23.
265. Деревенский коммунист. 1927. № 1. С. 3.
266. Лужин Л., Резунов М. Указ. соч. С. 128.
267. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1329. Л. 48.
268. Там же. Д. 1176. Л. 224; Д. 1311. Л. 26, 37; Д. 854. Л. 12.
269. Там же. Д. 1377. Л. 102; Д. 1023. Л. 29-30.
270. Росницкий Н. Указ. соч. С. 30.
271. Кретов Ф. Указ. соч. С. 77—78.
272. Голубых М. Очерки глухой деревни. М.; Л., 1926. С. 11.
273. РозитД.П. Указ. соч. С. 11-16.
274. Брусов Г. Работа партии среди деревенской бедноты. М., 1927. С. 40.
275. Деревенский коммунист. 1925. № 15. С. 30.
276. Лужин А., Резунов М. Указ. соч. С. 99.
277. Сибирская Вандея. Т. 2. С. 614—615.
278. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1058а. Л. 24,40.
279. Росницкий Н. Указ. соч. С. 44.
280. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1178. Л. 225.
281. Там же. Д. 1329. Л. 18.
282. Там же. Д. 1023. Л. 31.
283. Калинин М.И. О деревне. М., 1925. С. 70.
284. Четырнадцатая конференция российской коммунистической
партии большевиков. Стенографический отчет. М., 1925. С. 250.
285. Совещание по вопросам советского строительства. С. 46.
286. Четырнадцатая конференция. С. 251; РозитД.П. Указ. соч. С. 51.
287. Белобородов А. Чем болеет низовой аппарат // Деревенский ком¬
мунист. 1925. N° 5. С. 28.
288. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1023. Л. 31; Д. 1377. Л. 74.
289. Там же. Д. 1178. Л. 225; Д. 1023. Л. 31.
290. Там же. Ф. 16. On. 1. Д. 492, Л. 5,6, 36.
291. Там же. Ф. 9.0п. 1.Д. 1058а.Л. 37,38; Д. 1023. Л. 45-46; Д. 1377.Л. 113.
292. Там же. Д. 1058а. Л. 24,40; Д. 714. Л. 48; Д. 1178. Л. 225.
293. Там же. Д. 1329. Л. 45.
294. ЦГАСП. Ф. 2004. Оп. 157. Д. 37. Л. 186-187.
295. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 854. Л. 9-10.
296. Росницкий Н. Указ. соч. С. 39, 85.
297. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 714. Л. 45,48.
298. Советская деревня. Т. 2. С. 57
299. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1178. Л. 224-225.
300. Росницкий Н. Указ. соч. С. 32.
301. Яковлев Я. Указ. соч. С. 135.
302. Белобородов А. Указ. соч. С. 29.
295
303. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1378. Л. 23.
304. Советская деревня. Т. 2. С. 82-83, 173.
305. ЦГАИПД. Ф. 1329. Л. 18-19. Л. 47.
306. Там же. Д. 714. Л. 45,122,128; Д. 854. Л. 10; Ф. 16. On. 1. Д. 492. Л. 5,6.
307. Там же. Ф. 9. On. 1. Д.1250. Л. 10,16; Д. 1033. Л. 2.
308. Росницкий Н. Указ. соч. С. 31, 38—39.
309. См.: Советская деревня. Т. 2. С. 57, 62, 65, 66, 67, 220, 221, 253.
310. Там же. С. 221.
311. Там же. С. 63, 65, 67, 126.
312. Там же. С. 74, 76, 245-246.
313. Там же. С. 65, 67, 285-286.
314. Там же. С. 150.
315. Там же. С. 246-248.
316. См.: Там же. С. 286-287, 415.
317. Голос народа. С. 83.
318. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1329. Л. 17.
319. Там же. Д. 1329. Л. 45.
320. Росницкий Н. Указ. соч. С. 46.
321. Евстафьев М. Советы в деревне и партийное руководство //Де¬
ревенский коммунист. 1927. № 2. С. 44, 45.
322. Выборы в советы РСФСР в 1927 г. С. 29, 46.
323. Яковлев Я. Указ. соч. С. 136.
324. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1329. Л. 15.
325. Советская деревня. Т. 2. С. 223.
Примечания ко второй главе
1. История крестьянства СССР. С. 236—237.
2. Советская деревня. Т. 1. С. 555, 565, 574-575, 588.
3. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1182. Л. 1; Д. 233. Л. 4.
4. Крестьянское хозяйство за время революции. М., 1923. С. 68; Яков¬
лев Я. Деревня как она есть. Очерки Никольской волости. М., 1924. С. 71;
Большаков А.М. Деревня. 1917-1927. М., 1927. С. 326.
5. Правда. 1925. 3 января.
6. Хатаевич М. О состоянии и работе партийной ячейки в деревне //
Большевик. 1925. № 3-4. С. 75, 84.
7. XIV съезд Всесоюзной коммунистической партии (б) 18—31 де¬
кабря 1925 г. Стенографический отчет. М.; Л. 1926. С. 53.
8. Хатаевич М. Указ. соч. С. 74.
9. Филимонов В.Я. Власть городская, власть деревенская / К истории
формирования партийно-бюрократического аппарата в 1920-е годы //
Власть и общественные организации в России в первой трети XX столе¬
тия. М., 1993. С. 120.
10. Большаков А.М. Указ. соч. С. 324-326.
11. Филимонов В.Я. Указ. соч. С. 120-121.
12. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 714. Л. 23, 51; Д. 1205. Л. 26; Д. 1206. Л. 82.
296
13. Там же. Д. 854. Л. 25; Д. 1023. Л. 30.
14. Правда. 1925. 15 января.
15. Яковлев Я. Деревня как она есть. С. 71; его же. Наша деревня. М.,
1925. С. 143.
16. Большаков A.M. Указ. соч. С. 326.
17. Яковлев Я. Наша деревня. С. 150.
18. Четырнадцатая конференция российской коммунистической
партии (большевиков). Стенографический отчет. М., 1925. С. 21.
19. Квиринг Э. Прием крестьян в партию // Деревенский коммунист.
1925. № 23. С. 26.
20. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1183. Л. 28; Д. 1058а. Л. 27.
21. М. X. Некоторые итоги выполнения постановлений Октябрьско¬
го пленума ЦК РКП(б) о работе в деревне // На аграрном фронте. 1925.
№ 6. С. 25; Хатаевич М. Указ. соч. С. 75-76.
22. Митрофанов Л.Х. Деревенские организации РКП(б) и осуществ¬
ление ими новых задач и методов работы в деревне. По материалам мес¬
тных контрольных комиссий РКП(б). М., 1925. С. 22.
23. Совещание по вопросам советского строительства 1925 г. Апрель
1925. М., 1925. С. 56.
24. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 265. Л. 10; Д. 1205. Л. 26.
25. Там же. Д. 854. Л. 25; Д. 1021. Л. 126.
26. Рыков А И. Основные вопросы нашей политики в деревне // На
аграрном фронте. 1925. № 10. С. 12.
27. Крестьянские истории. С. 102.
28. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 854. Л. 25.
29—30. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле¬
нумов ЦК. Т. 3. М., 1984. С. 365; Крестьянские истории. С. 103—104.
31. Крестьянские истории. С. 77.
32. ЦГАИПД. Ф.9. Оп. 1.Д. 1377.Л. 114;Д. 1205.Л.26;Д. Ю58.Л.45;Д. 1250.
Л. 28.
33. Там же. Ф. 16. Д. 1793. Л. 173.
34. Там же. Ф. 9. On. 1. Д. 123. Л. 108; Д. 1353. Л. 2.
35. Варейкис М. Вовлечение в партию батраков // Деревенский ком¬
мунист. 1927. № 20. С. 29, 30.
36. Пятнадцатый съезд ВКП(б). Декабрь 1927 года. Стенографичес¬
кий отчет. Ч. 1. М., 1961. С. 111.
37. Квиринг Э. Прием крестьян в партию // Деревенский коммунист.
1927. № 7. С. 23.
38. Социальный и национальный состав ВКП(б). Итоги Всесоюзной
переписи 1927 года. М.; Л. 1928. С. 18, 87—89.
39. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1317. Л. 40; Д. 1377. Л. 6.
40. Большаков AM, Указ. соч. С. 326—327.
41. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1353. Л. 23.
42. Там же. Ф. 16. Оп. 2. Д. 1793. Л. 143.
43. Там же. Ф. 9. On. 1. Д. 1058а. Л. 27.
44. Справочник партийного работника. Вып. 6. Ч. 2. М.; Л. 1928. С. 341.
297
45. Пятнадцатый съезд ВКП(б). Декабрь 1927 года. Стенографичес¬
кий отчет. Ч. 2. М, 1962. С. 1225-1226.
46. ЦГАИПД.Ф.9.Оп. 1.Д. 1353.Л.21;Д. 1377.Л.87,101;Д.265.Л.53;
Д. 1377. Л. 7.
47. Там же. Ф. 16. Оп. 2. Д. 1770. Л. 70.
48. Правда. 1925. 3 января.
49. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1353. Л. 22.
50. Там же. Д. 1379. Л. 19-20.
51. Там же. Д. 1058. Л. 45.
52. См.: Митрофанов АХ. Указ. соч. С. 43.
53. Там же. С. 59.
54. ЦГАИПД. Ф- 9. On. 1. Д. 1353. Л. 3; Д. 1182. Л. 1; Д. 262. Л. 45.
55. Там же. Д. 1033. Л. 6.
56. См.: Социальный и национальный состав. С. 80.
57. История крестьянства СССР. С. 238, 393.
58. Данилов В.П. Советская доколхозная деревня: население, земле¬
пользование, хозяйство. М., 1977. С. 24-26.
59. ЦГАИПД.Ф.9.Оп. 1.Д.265.Л.53,68;Д. 1183.Л.29;Д. 1182.Л. 6;Д. 233.
Л. 15.
60. Там же. Д. 1206. Л. 74; Д. 1023. Л. 30; Д. 1353. Л. 23-24.
61. Жеребцов И.Л. Отношение населения Коми края к власти в 1918 —
начале 1920-х годов // Отечественная история. 1994. № 6. С. 68.
62. Морсанов А. Акмолинская деревня // На аграрном фронте. 1925.
№ 7-8. С. 188.
63. Правда. 1925.15 января.
64. Яковлев Я. Деревня как она есть. Очерки Никольской волости. М.,
1924. С. 71-75, 87-88.
65. ЦГАИДЦ. Ф- 9. On. 1. Д. 1377. Л. 37.
66. Большаков А.М. Указ. соч. С. 331.
67. Правда. 1925.1 апреля.
68. ЦГАИПД. Ф- 9. On. 1. Д. 1205. Л. 26; Д. 1377. Л. 46.
69. Там же. Д. 1182. Л. 10; Д. 1178. Л. 109.
70. Росницкий Н. Указ. соч. С. 86.
71. Митрофанов АХ. Указ. соч. С. 25,48.
72. Правда. 1925. 3 января.
73. Хатаевич М. О состоянии и работе партийной ячейки в деревне //
Большевик. 1925. № 3—4. С. 75-84.
74. Правда. 1927. 10 февраля.
75. Правда. 1925.15 января; ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 3. Л. 34.
76. Митрофанов А.Х. Указ. соч. С. 29-30.
77. См.: Правда. 1925. 8 января; 1927. 26 февраля.
78. Хатаевич М. О состоянии и работе. С. 78.
79. ЦГАИПД. Ф. 266. Л. 37.
80. Правда. 1925.11 января.
81. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1353. Л. 5-6; Д. 1377. Л. 8.
82. Там же. Д. 1377. Л. 8; Д. 714. Л. 19.
83. Там же. Д. 1058. Л. 17; Д. 1182. Л. 8; Д. 265. Л. 68-69.
298
84. Росницкий Н. Указ. соч. С. 86—87.
85. Питу к Г. Массовая работа в деревне // Деревенский коммунист.
1927. № 13-14. С. 49.
86. Правда. 1925. 22 октября.
87. Митрофанов А.Х. Указ. соч. С. 53—54.
88. Росницкий Н Указ. соч. С. 79—81, 87.
89. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1182. Л. 2-3; Д. 1183. Л. 27.
90. Хатаевич М. Указ. соч. С. 80.
91. М. X. Некоторые итоги выполнения С. 203.
92. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 714. Л. 134.
93. Правда. 1925. 15 января.
94. Митрофанов АХ, Указ. соч. С. 51.
95. О работе сельских ячеек РКП(б). М., 1925. С. 44.
96. Митрофанов АХ Указ. соч. С. 47.
97. О работе сельских ячеек. С. 35—36.
98. Пятнадцатый съезд ВКП(б). Ч. 2. С. 1297,1336.
99. М. X. Некоторые итоги С. 198.
100. Митрофанов АХ. Указ. соч. С. 32—35; Милютин В. О нашей поли¬
тике в деревне // На аграрном фронте. 1925. № 9. С. 8.
101. РозитД.П. Указ. соч. С. 59.
102. Рыков А. Указ. соч. С. 10, 11; РозитД.П. Указ. соч. С. 59—60; Кар¬
пинский В. Кулак, середняк, бедняк и партия (О новом курсе в деревне)
//Деревенский коммунист. 1925. № 23. С. 60.
103. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1377. Л. 8.
104. РозитД.П. Указ. соч. С. 60.
105. Митрофанов А.Х. Указ. соч. С. 35—36; Буров Я. Деревня на перело¬
ме (год работы в деревне). М.; Л., 1927. С. 177.
106. Четырнадцатая конференция российской коммунистической
партии (большевиков). Стенографический отчет. М.; Л., 1925. С. 110.
107. Четырнадцатая конференция. С. 15—23, 189.
108. Милютин В. Указ. соч. С. 7.
109. Рыков А. Указ. соч. С. 9.
110. Правда. 1927. 10 февраля.
111. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1377. Л. 87; Д. 714. Л. 57.
112. Там же. Д. 714. Л. 129; Д. 1023. Л. 30.
113. Росницкий Н. Указ. соч. С. 78-79.
114. Правда. 1925. 15 января.
115. Яковлев Я. Деревня как она есть. С. 89—91.
116. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1329. Л. 68; Д. 1250. Л. 20.
117. Там же. Д. 1178. Л. 108; Д. 233. Л. 15; Д. 1058. Л. 63; Д. 1023. л. 30.
118. Правда. 1925. 11 января.
119. РозитД.П. Указ. соч. С. 68.
120. Митрофанов А.Х. Указ. соч. С. 80.
121. Деревенский коммунист. 1925. С. 39.
122. Хатаевич М. Указ. соч. С. 84-85.
123. Митрофанов А.Х. Указ. соч. С. 81.
124. Рыков А. Указ. соч. С. 9—12; Правда. 1927. 10 февраля.
299
125. Савченко К.Д. И. В. Сталину. 10 мая 1927 г. // Известия ЦК КПСС.
1989. № 8. С. 205, 209.
126. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 265. Л. 62; Д. 714. Л. 132.
127. Там же. Д. 1377. Л. 4-6, 76; Д. 1182. Л. 5,11.
128. Там же. Д. 1206. Л. 67; Д. 1205. Л. 4; Д. 1377. Л. 37; Д. 1379. Л. 74.
129. Там же. Д. 1250. Л. 20.
130. Там же. Д. 1377. Л. 68; Д. 1353. Л. 26; Д. 1021. Л. 97.
131. Там же. Д. 1329. Л. 68.
132. Правда. 1925. 15 января; Росницкий Н. Указ. соч. С. 76.
133. Правда. 1925. 8, 11 января.
134. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1033. Л. 6.
135. О быте коммунистов, его личном примере // Деревенский ком¬
мунист. 1925. № 22. С. 36, 37.
136. Митрофанов А.Х. Указ. соч. С. 50.
137. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1379. Л. 74.
138. Правда. 1927.10 февраля.
139. О работе сельских ячеек РКП(б). С. 461; Правда. 1927.10 февраля;
Справочник партийного работника. Вып. 6. Ч. 2. М.; Л., 1928. С. 343.
140. История крестьянства СССР. С. 309.
141. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1058. Л. 2,64-65; Д. 1033. Л. 3.
142. Советская деревня. Т. 2. С. 415,425.
143. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1021. Л. 52.
144. Там же. Д. 1329. Л. 42-43; Д. 1033. Л. 3-4.
145. См.: Яковлев Я. Деревня как она есть. С. 115—116.
146. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1206. Л. 59; Д. 854. Л. 27.
147. Гагарин А. Хозяйство, жизнь и настроение деревни. М., 1925.
С. 154, 157.
148. Росницкий Н. Указ. соч. С. 75—76.
149. Крестьянские истории. С. 122.
150. Большаков А.М. Деревня. С. 327,424—425.
151. Яковлев Я. Наша деревня. М., 1925. С. 143; МорсановА. Акмолин¬
ская деревня // На аграрном фронте. 1925. № 7—8. С. 189.
152. Правда. 1925. 3 января.
153. См.: Яковлев Я. Деревня как она есть С. 73; Митрофанов А.Х.
Указ. соч. С. 53—54, 73; Росницкий Н. Указ. соч.
154. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1182. Л. 9-10; Д. 1205. Л. 58.
155. Большаков А.М. Деревня 1917—1927. С. 424.
156. Там же. С. 327, 328.
157. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1033. Л. 6.
158. Там же. Д. 264. Л. 2; Д. 714. Л. 19,136; Д. 1182. Л. 1, 2.
159. Там же. Д. 1058. Л. 64; Д. 1178. Л. 107; Д. 1377. Л. 106.
160. Там же. Д. 1205.Л.23;Д. 1206. Л. 59; Д. 1377.Л.54;Д. 1058. Л. 7;Д. 1353. Л. 6.
161. Там же. Д. 1317. Л. 40; Д. 1023. Л. 28-30.
162. См.: Росницкий Н. Указ. соч. С. 82—83 и др.
163. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1329. Л. 68.
164. Там же. Д. 1178. Л. 68.
165. Деревенский коммунист. 1925. N° 5. С. 34—35.
300
166. Правда. 1925.11 января.
167. О быте коммуниста С. 36-37; Митрофанов Л. X. Указ. соч. С. 66.
168. Митрофанов A.X Указ. соч. С. 44—45, 60.
169. Крестьянские истории. С. 143-146, 205, 209.
170. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1250. Л. 20.
171. Крестьянские истории. С. 109—110.
172. Советская деревня. Т. 2. С. 66,218-221.
173. Митрофанов АХ, Указ. соч. С. 43.
174. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1058. Л. 45.
175. Брусов Г, Работа среди деревенской бедноты. М.; Л., 1927. С. 47—50.
176. См.: Деревенский коммунист. 1925. № 5. С. 32-33, 37—39; О ра¬
боте сельских ячеек РКП(б). С. 29, 30; Правда. 1925. 8, 11 января; Голу¬
бых М, Очерки глухой деревни. М.; Л. 1926. С. 65; ЦГАИПД. Ф. 9. Ош 1. Д. 120.
Л. 44—45 и др.
177. Правда. 1925. 11 января.
178. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1329. Л. 68; Д. 1250. Л: 20.
179. Там же. Д. 1031. Л. 2, 3; Д. 1058. Л. 64; Д. 1178. Л. 106.
180. Там же. Д. 1377. Л. 106; Д. 1058. Л. 64.
181. Жеребцов И.Л. Отношение населения Коми края к власти в 1918 —
начале 1920-х годов // Отечественная история. 1994. № 6. С. 72.
182. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1377. Л. 100.
183. Крестьянские истории. С. 87.
184. Неизвестная Россия. XX век. Т. 3. М., 1993. С. 203-204.
Примечания к третьей главе
1. Советская деревня. Т. 1. С. 411-414, 457, 513, 551-555.
2. Голос народа. С. 78—79.
3. Советская деревня. Т. 2. С. 273—274, 297, 298, 375—377.
4. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1058а. Л. 6.
5. Там же. Д. 1178. Л. 106; Д. 1329. Л. 62.
6. Крестьянские истории. С. 209.
7. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1033. Л. 1, 5, 6.
8. Там же. Д. 1379. Л. 160.
9. Трагедия советской деревни. С. 125-126.
10. Голос народа. С. 115, 135-136.
11. Советская деревня. Т. 2. С. 498.
12. Неизвестная Россия. Т. 3. М., 1993. С. 221-223.
13. Советская деревня. Т. 2. С. 1074. Примечание 130.
14. Там же. С. 602-603.
15. Трагедия советской деревни. С. 84.
16. Советская деревня. Т. 2. С. 571-576.
17. Там же. С. 579.
18. Трагедия советской деревни. С. 73-75.
19. Советская деревня. Т. 2. С. 19.
20. Там же. Т. 1. С. 406-408, 417, 633, 635, 655-677.
301
21. Там же. Т. 2. С. 62, 65, 67, 126.
22. Там же. С. 636—638.
23. Там же. С. 487, 488, 637, 1030.
24. Трагедия советской деревни. С. 77, 86, 127.
25. Советская деревня. Т. 2. С. 264-265,422.
26. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1377. Л. 119; Д. 1247. Л. 47; Д. 1327. Л. 76.
27. Советская деревня. Т. 2. С. 17, 493, 514-519.
28. Там же. С. 484-485.
29. Там же. С. 336-337.
30. Там же. С. 79, 121, 484-485, 1030.
31. Там же. С. 279, 376, 476, 484-485, 595, 604, 621.
32. Там же. С. 628-629.
33. Там же. С. 629—630.
34. Там же. С. 536, 599, 617, 625.
35. Там же. С. 616, 617, 619.
36. Трагедия советской деревни. С. 86.
37. Правда. 1925. 11 января.
38. См.: Советская деревня. Т. 2, С. 18.
39. Там же. С. 201.
40. Там же. С. 631.
41. Там же. С. 483,560-561.
42. Трагедия советской деревни. С. 75, 121-122, 125-128.
43. Советская деревня. Т. 2. С. 483, 632-633.
44. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1377. Л. 17,73-86; Д. 1379. Л. 158.
45. Трагедия советской деревни. С. 127, 128.
46. Советская деревня. Т. 2. С. 498.
47. Дегтев С.И. Указ. соч. С. 42.
48. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1329. Л. 67.
49. Трагедия советской деревни. С. 72, 85-86, 125.
50. Советская деревня. Т. 2. С. 540, 565, 622-623.
51. Там же. С. 511, 514, 416, 483.
52. Там же. С. 54, 483, 538, 541.
53. Там же. С. 499.
54. Там же. С. 492, 493.
55. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1379. Л. 158.
56. Советская деревня. Т. 2. С. 498.
57. Там же. С. 501.
58. Там же. С. 486.
59. Там же. С. 192, 423.
60. Там же. С. 489, 501.
61. Там же. С. 635.
62. Там же. С. 539-540.
63. Трагедия советской деревни. С. 75—76.
64. Советская деревня. Т. 2. С. 511-514.
65. Неизвестная Россия. Т. 3. М., 1993. С. 202.
66. Солженицын АЖ. Двести лет вместе. Ч. 2. М., 2002. С. 227.
67. Там же. С. 200, 206.
302
68. Советская деревня. Т. 2. С. 510.
69. Трагедия советской деревни... С. 76.
70. ЦГАИГТД. Ф. 9. On. 1. Д. 1377. Л. 16.
71. См.: Советская деревня. Т. 2. С. 265; Голос народа... С. 135 и др.
72. Крестьянские истории. С. 86—87.
73. Большаков AM. Деревня 1917—1927. С. 425.
74. ЦГАИПД. Ф, 9. On. 1. Д. 1379. Л. 160; Д. 1058а. Л. 6.
75. Там же. Д. 1183. Л. 7; Д. 1329. Л. 6-8.
76. Там же. Д. 1052. Л. 36; Д. 1311. Л. 37-38; Д. 1052. Л. 36; Д. 1058. Л. 6.
77. Советская деревня. Т. 2. С. 336.
78. Крестьянские истории. С. 78—79.
79. Советская деревня. Т. 2. С. 510.
80. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1329. Л. 62; Д. 1378. Л. 11.
81. Советская деревня. Т. 2. С. 476.
82. Трагедия советской деревни. С. 127.
83. Советская деревня. Т. 2. С. 612.
84. Трагедия советской деревни. С. 72.
85. Советская деревня. Т. 2. С. 486.
86. Трагедия советской деревни. С. 75—76.
87. Голос народа. С. 129.
88. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1329. Л. 62,66.
89. Там же.
90. Большаков А.М. Указ. соч. С. 425.
91. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1379. Л. 160.
92. Правда. 1925.11 января.
93. Советская деревня. Т. 2. С. 224-226.
94. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1379. Л. 17,156.
95. Там же. Д. 1377. Л. 3,100.
96. Там же. Д. 1379. Л. 156; Д. 1327. Л. 66; Д. 1377. Л. 78.
97. Там же. Д. 1377. Л. 10, 14, 44, 78, 82.
98. Там же. Д. 1378. Л. 38.
99. Там же. Д. 1377. Л. 33-34, 51.
100. Там же. Д. 1378. Л. 31, 38; Д. 1379. Л. 106.
101. Киселев А.Ф., Чураков Д.О. Бюрократия и нэп // Власть и обще¬
ственные организации в первой трети XX столетия. М., 1993. С. 109.
102. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1379. Л. 92.
103. Щагин Э.М. Революция, власть, политические партии и судьбы
всекрестьянской организации в России // Власть и общественные орга¬
низации. С. 61.
104. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1329. Л. 67.
105. Голос народа С. 137-138.
106. Советская деревня. Т. 2. С. 619.
107. Там же. С. 261.
108. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1023. Л. 63.
109. ЦГАСП. Ф. 2004. Оп. 3. Д. 5. Л. 173-175,185.
110. Там же. Л. 180-182,210.
111. См.: Советская деревня. Т. 2. С. 1061. Примечание 87.
303
112. Никитина Н.Н. Советская власть и крестьянский мир в ходе
выселения бывших помещиков в 1920-е годы // Власть и общественные
организации в России в первой трети XX столетия. М., 1993. С. 157.
113. Там же. С. 155.
114. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1023. Л. 63; Д. 233. Л. 35.
115. Там же. Д. 233. Л. 28.
116. Там же. Л. 30.
117. ЦГАСП. Ф. 2004. Оп. 3. Д. 5. Л. 209.
118. ЦГАИПД. Ф. 9. Оп. 1.Д. 1058. Л. 14.
119. Там же. Д. 233. Л. 1-3, 27.
120. ЦГАСП. Ф. 2004. Оп. 3. Д. 5. Л. 326.
121. Там же. Л. 131; Ф. 5324. On. 1. Д. 3. Л. 12,19.
122. Там же. Ф. 5324. On. 1. Д. 3. Л. 22.
123. Там же. Ф. 2004. Оп. 3. Д. 5. Л. 343.
124. Там же. Л. 344.
125. Там же. Л. 341, 342.
126. Там же. Ф. 5342. On. 1. Д. 6. Л. 2-3.
127. Там же. Ф. 2004. Оп. 3. Д. 5. Л. 322.
128. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1023. Л. 47-48.
129. ЦГАСП. Ф. 2004. Оп. 3. Д. 5. Л. 233-237.
130. Там же. Л. 116—119.
131. Там же. Л. 83-84, 262.
132. Там же. Ф. 5342. On. 1. Д. 2. Л. 14.
133. Советская деревня. Т. 2. С. 313-314, 397.
134. См.: Голос народа. С. 86-87.
135. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 250. Л. 27.
136. См. подробнее: Климин И.И. Российское крестьянство в годы
Гражданской войны (1917—1921). СПб., 2004. С. 20-39, 50—63.
137. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 250. Л. 27.
138. Там же. Д. 1023. Л. 63.
139. Голос народа. С. 86.
140. ЦГАСП. Ф. 2004. Оп. 3. Д. 5. Л. 86-87.
141. Советская деревня. Т. 1. С. 506-507, 526, 572, 717.
142. Советская деревня. Т. 2. С. 73, 101, 154, 156, 167-168, 194, 267.
143. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1379. Л. 72.
144. Советская деревня. Т. 2. С. 622.
145. Там же. С. 446, 581.
146. Там же. С. 581.
147. Советская деревня. Т. 1. С. 542, 544.
148. Советская деревня. Т. 2. С. 374-376.
149. Советская деревня. Т. 1. С. 50.
150. Советская деревня. Т. 2. С. 161—162.
151. Советская деревня. Т. 1. С. 578.
152. Советская деревня. Т. 2. С. 595, 618.
153. Там же. С. 263.
154. Там же. С. 199.
155. Путь возрождения совхозов. М., 1925. С. 55—56.
304
156. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 1329. Л. 69-71.
157. Там же. С. 64-65, 69-71.
158. Там же. Д. 1377. Л. 101.
159. Там же. Л. 5, 25-26, 81, 101.
160. Там же. Д. 854. Л. 17.
161. Там же. Ф. 16. Оп. 2. Д. 1793. Л. 4,13, 27; Д. 1794. Л. 19.
162. Там же. Ф. 9. On. 1. Д. 1377. Л. 81; Казаков А. Состояние и перспек¬
тивы работы крестьянских обществ взаимопомощи // На аграрном фронте.
1926. № 7-8. С. 88.
163. Казаков А, Указ. соч. С. 88.
164. См.: Советская деревня. Т. 2. С. 544, 606, 620-621; Трагедия со¬
ветской деревни. С. 120 и др.
165. Советская деревня. Т. 2. С. 502-503.
166. Советская деревня. Т. 1. С. 403, 422, 423, 427, 453-457.
167. Там же. С. 553, 655.
168. Советская деревня. Т. 2. С. 327-328.
169. Советская деревня. Т. 1. С. 421, 448, 651.
170. Там же. С. 635, 565, 582-587.
171. Там же. С. 513, 572-573.
172. Советская деревня. Т. 2. С. 640—641, 1038.
173. Там же. С. 641.
174. Там же. С. 302, 568-569.
175. Трагедия советской деревни. С. 121.
176. Советская деревня. Т. 2. С. 415,449-450.
177. См. подробней: Климин И.И. Российское крестьянство в годы
Гражданской войны (1917—1921). СПб., 2004. С. 239-342.
178. Советская деревня. Т. 1. С. 50.
179. Там же. С. 419-420, 423, 426, 484, 513, 517, 539.
180. Сибирская Вандея. Т. 2. С. 502, 505, 542.
181. Там же. С. 549, 562.
182. Там же. С. 607.
183. Советская деревня. Т. 1. С. 559, 588, 640, 646, 657, 659.
184. ЦГАИПД. Ф. 9. On. 1. Д. 714. Л. 45,122,128; Д. 1025. Л. 59.
185. Советская деревня. Т. 1. С. 554.
186. Там же. С. 401, 422.
187. Советская деревня. Т. 2. С. 167, 1050. Примечания 55—57.
188. Там же. С. 204. С. 1054—1055. Примечание 75.
189. Там же. С. 266.
190. Там же. С. 1032.
191. Там же. С. 639, 1033.
192. Там же. С. 271,598-599.
193. Там же. С. 271, 493-494, 593, 599.
194. Трагедия советской деревни. С. 72-73.
195. Советская деревня. Т. 2. С. 639, 1034.
196. Трагедия советской деревни. С. 22.
305
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Климин Иван Иванович, доктор исторических наук, про¬
фессор, родился в 1939 г. в селе Чижове Бежецкого района Кали¬
нинской области. После окончания учебы в школе работал в кол¬
хозе. В 1958—1962 гг. служил на действительной службе матросом
в Военно-морском флоте. С сентября 1962 г. по июль 1968 г. учился
на историческом факультете Ленинградского государственного уни¬
верситета, после окончания которого работал ассистентом, стар¬
шим преподавателем, доцентом в Ленинградском технологическом
институте имени Ленсовета.
С 1984 г. по 2004 г. работал доцентом, профессором историческо¬
го факультета Ленинградского — Петербургского государственного
университета и профессором факультета международных отноше¬
ний. Он является автором около 60 научных и учебно-методических
работ, в том числе книг: “Очерки по истории Бежецкого уезда Твер¬
ской губернии”. Ч. 1,2. СПб., 2002; “Годы испытаний: Бежецкий
район Калининской области накануне и в годы Великой Отече¬
ственной войны (1939—1945). СПб., 2005; “Беларусь и Россия: труд¬
ный путь к воссоединению”. СПб., 2001; “Столыпинская аграрная
реформа и становление крестьян-собственников в России”. СПб.,
2002; “Российское крестьянство в годы Гражданской войны (1917—
1921)”. СПб., 2004.
В настоящее время профессор Санкт-Петербургского, государ¬
ственного политехнического университета и Крестьянского госу¬
дарственного университета имени Кирилла и Мефодия.
306
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 3
Глава первая. Крестьяне и сельские советы 4
Отношение крестьян к избирательным кампаниям по выборам
в деревенские советы 4
“Назначенцы” 12
“Лишенцы” 29
Крестьяне о “лишенцах” 44
Сельские советы в стороне от крестьянской жизни 54
Деревенские советы и народное образование,
здравоохранение 64
Причины отчуждения сельских советов от повседневной
жизни крестьян 76
j Материальная база советов и сельский сход 76
Состав сельских советов и стиль работы 90
Административно-нажимные методы управления
крестьянами 103
Глава вторая. Крестьяне и сельские коммунистические ячейки 122
Численный и социальный состав деревенских ячеек и
ограничения при приеме в коммунистическую партию
крестьян 122
Методы управления крестьянами деревенскими
коммунистами и их моральное разложение 145
Отношение крестьян к сельским коммунистам 161
Глава третья. Крестьянское сопротивление государственной
политике 176
Антиправительственная, антикоммунистическая агитация
и пропаганда 176
Массовое недовольство крестьян и критика политики
советской власти 176
Устная и письменная агитация. Листовки 192
Агитация за образование “Крестьянского союза” 204
Крестьяне о рабочих 222
Отношение крестьян к выселению помещиков 241
307
Невыполнение крестьянами распоряжений государственных
органов власти 257
Волнения, беспорядки и вооруженная борьба 267
Заключение 284
Примечания 287
Сведения об авторе 306
308
ИСТОРИЯ
В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Выпуск 4
Климин Иван Иванович
РОССИЙСКОЕ КРЕСТЬЯНСТВО
В ГОДЫ НОВОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ политики
(1921-1927)
Часть вторая
Корректор М.Г. Крашенникова
Технический редактор А.К Колодяжная
Дизайн обложки Т.М. Ивановой
Компьютерная верстка С. В. Горячевой
Директор Издательства Политехнического университета А. В. Иванов
Свод темплан 2006 г.
Лицензия ЛР № 020593 от 07.08.97
Налоговая льгота — Общероссийский классификатор продукции
ОК 005-93, т. 2; 95 3004 — научная и производственная литература
Подписано в печать 22.01.2006. Формат 60x90/16. Печать офсетная.
Уел. печ. л. 19,25. Уч.-изд. л. 19,25. Тираж 300. Заказ 373.
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет.
Издательство Политехнического университета, член Издательско-
полиграфической ассоциации университетов России,
Адрес университета и издательства:
195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29.