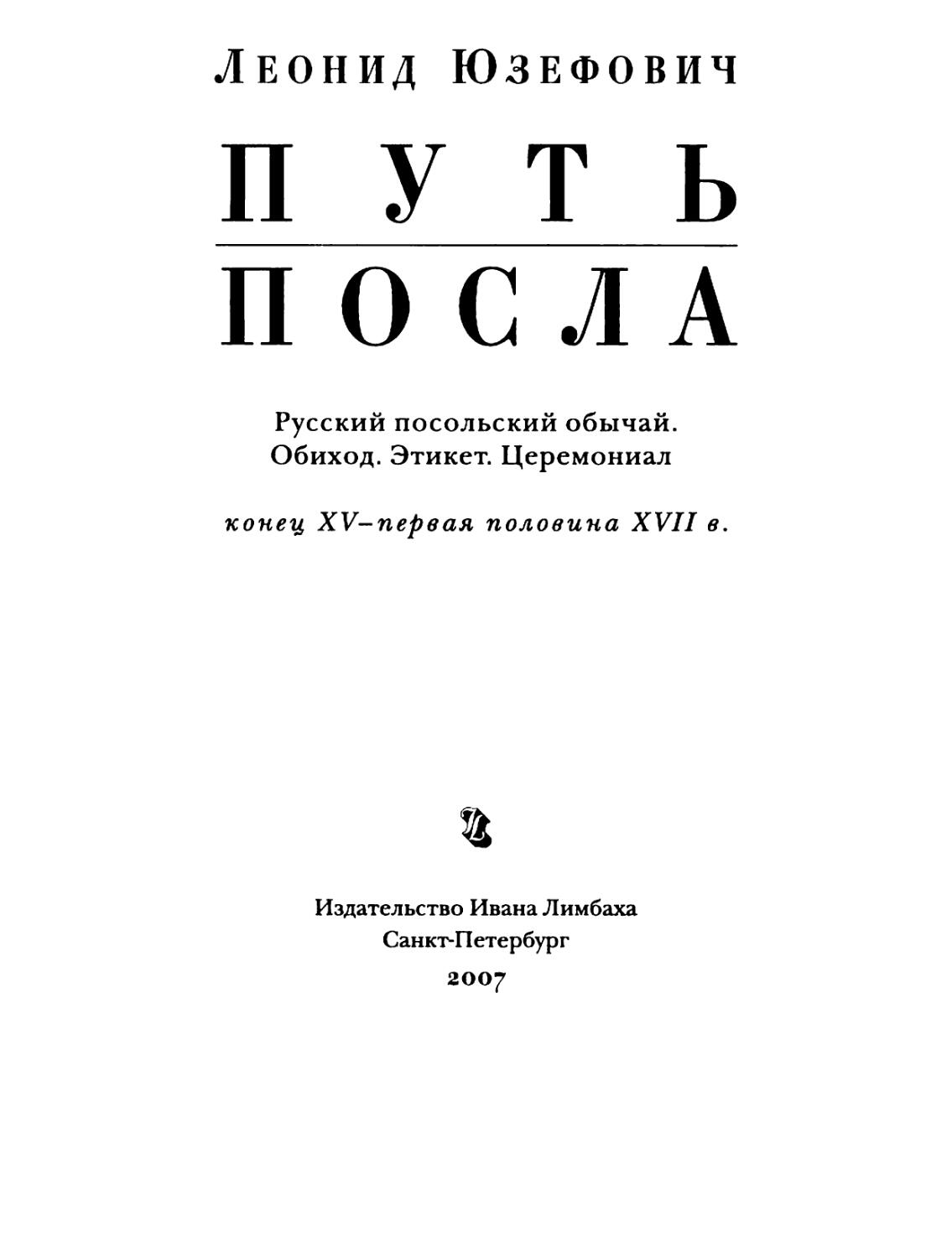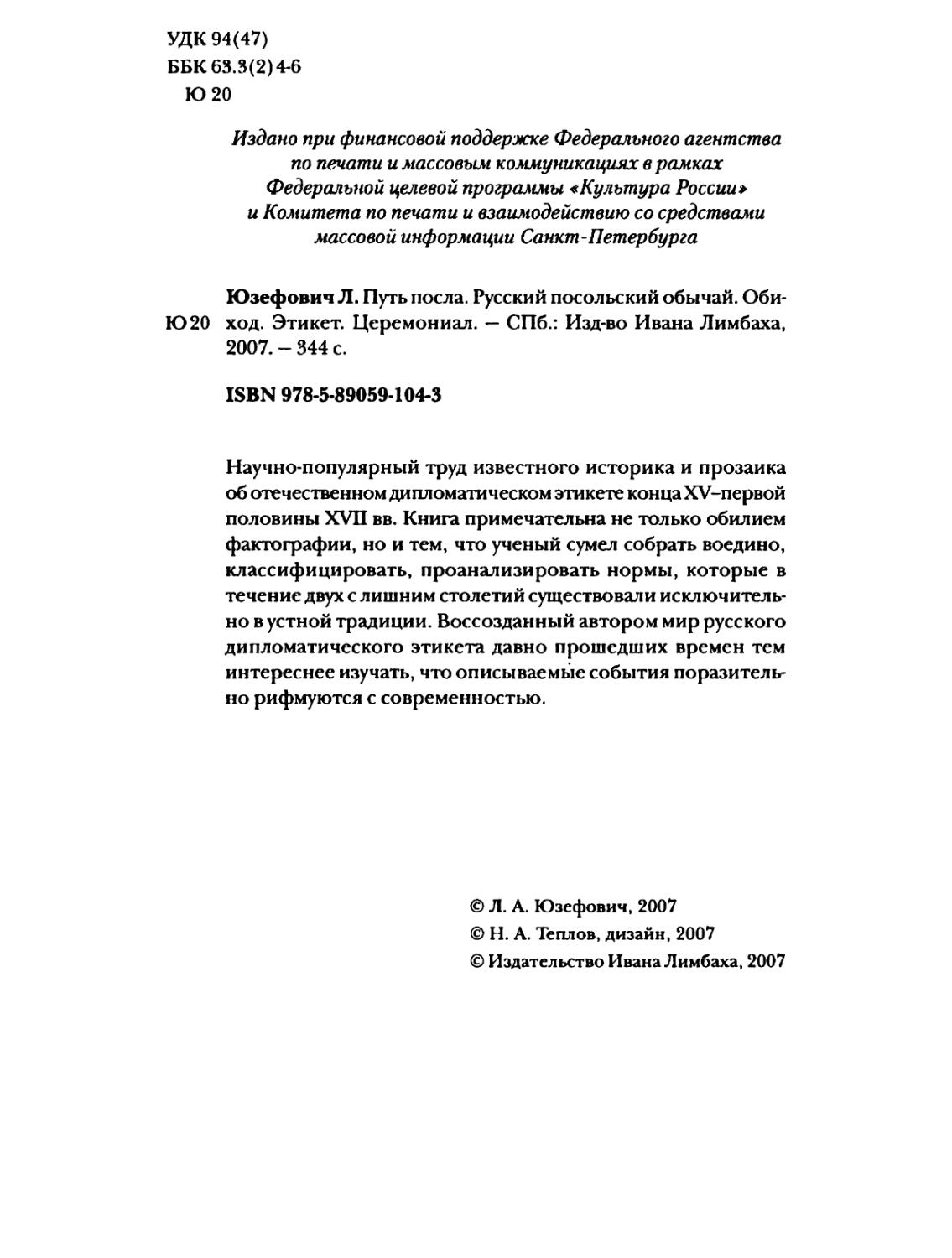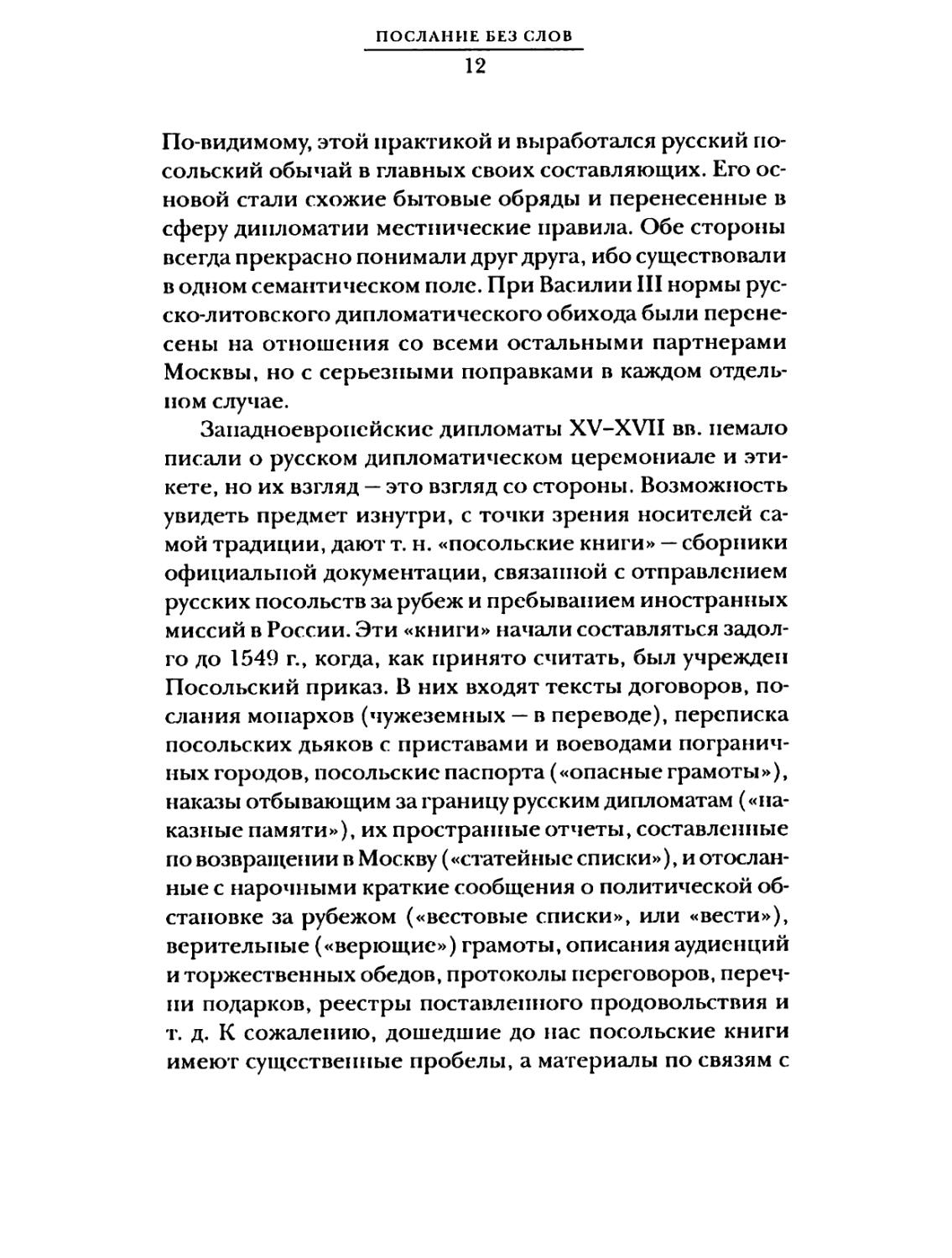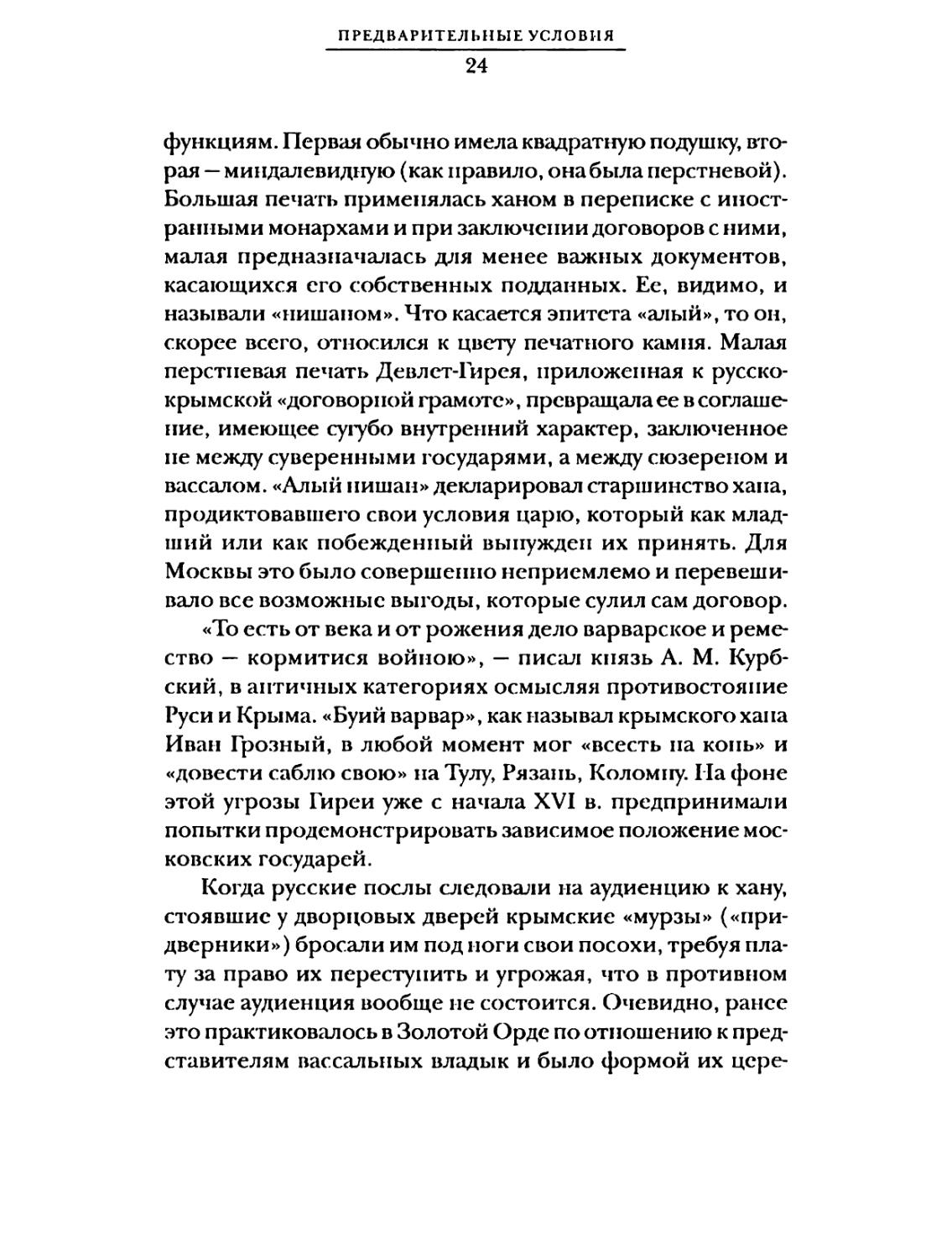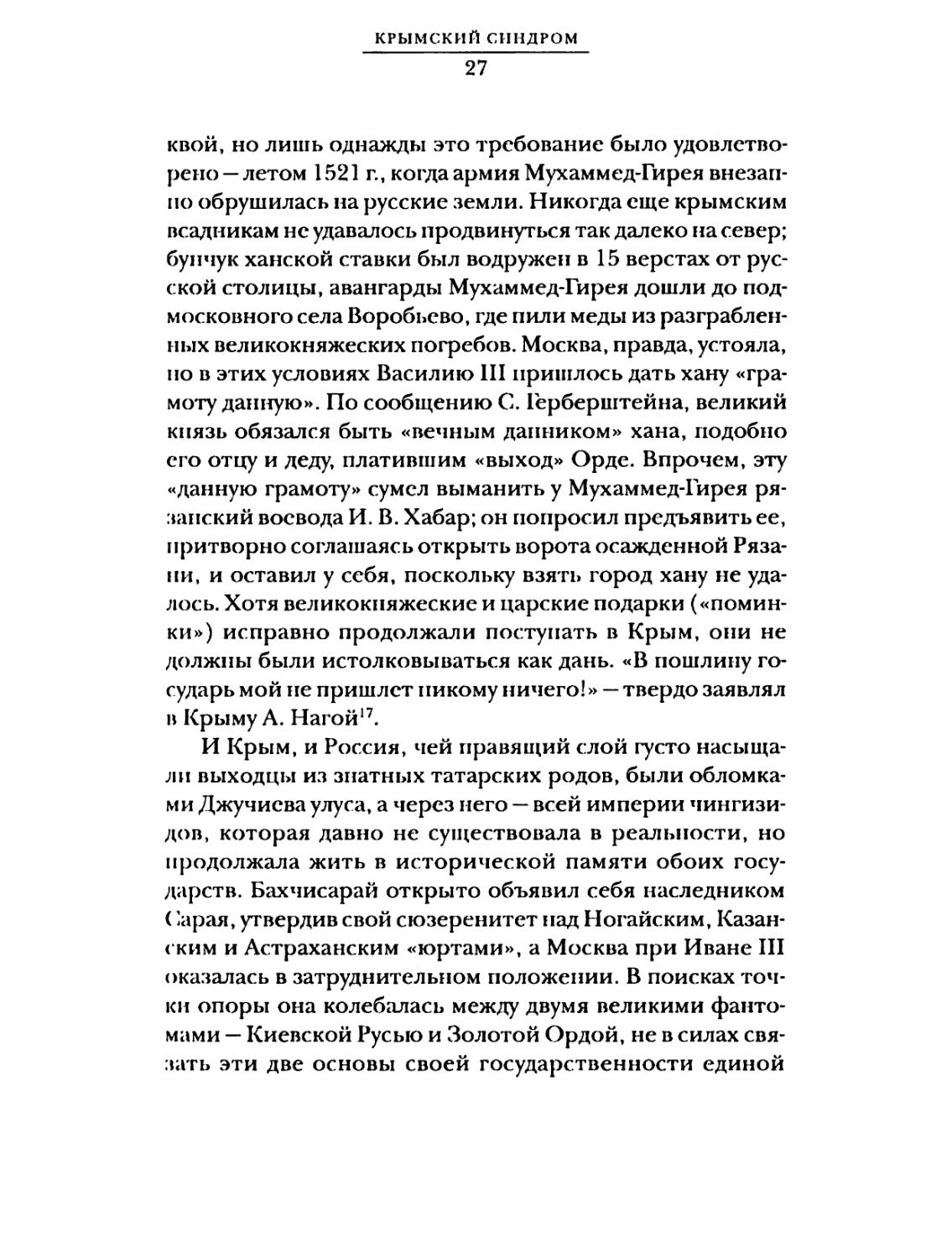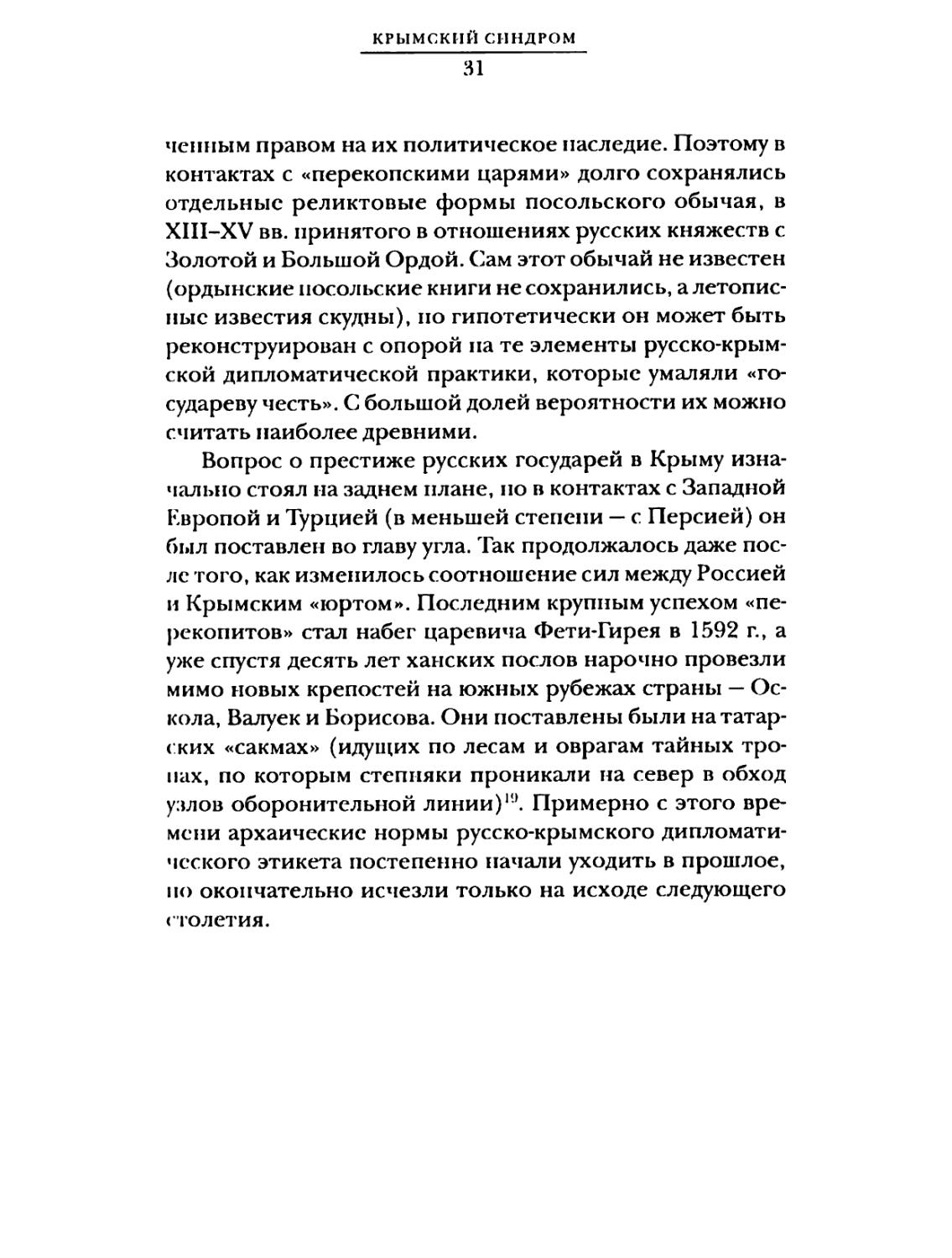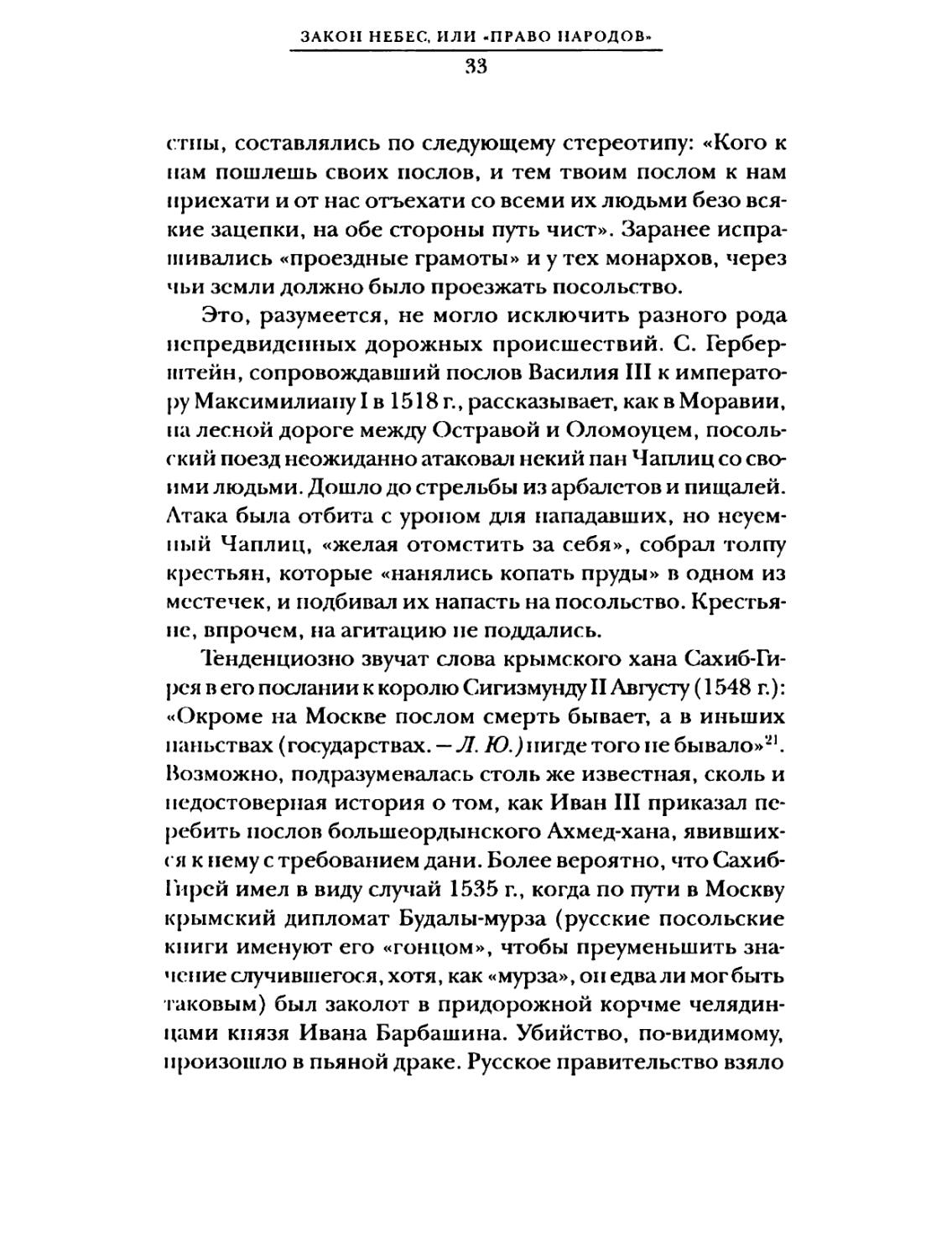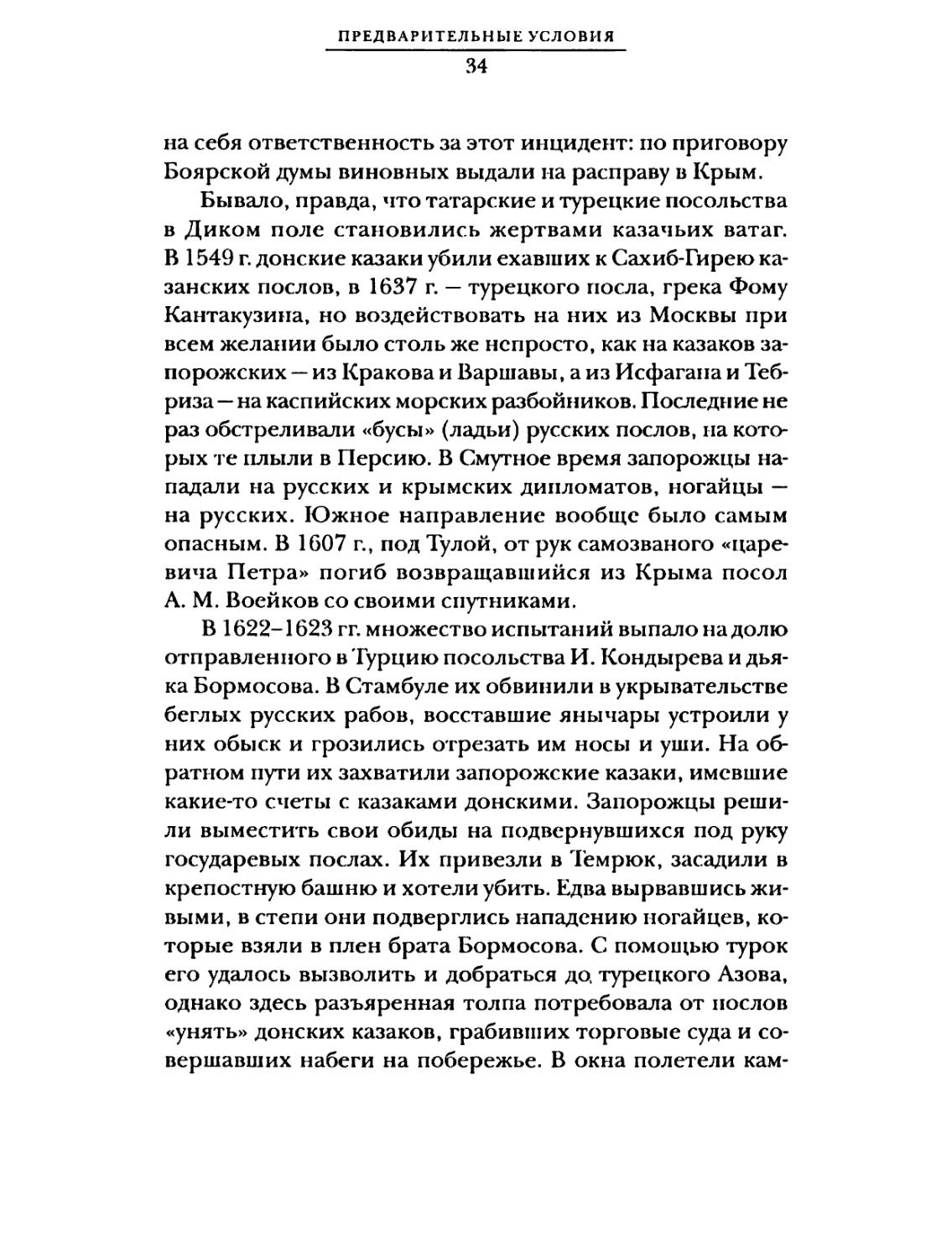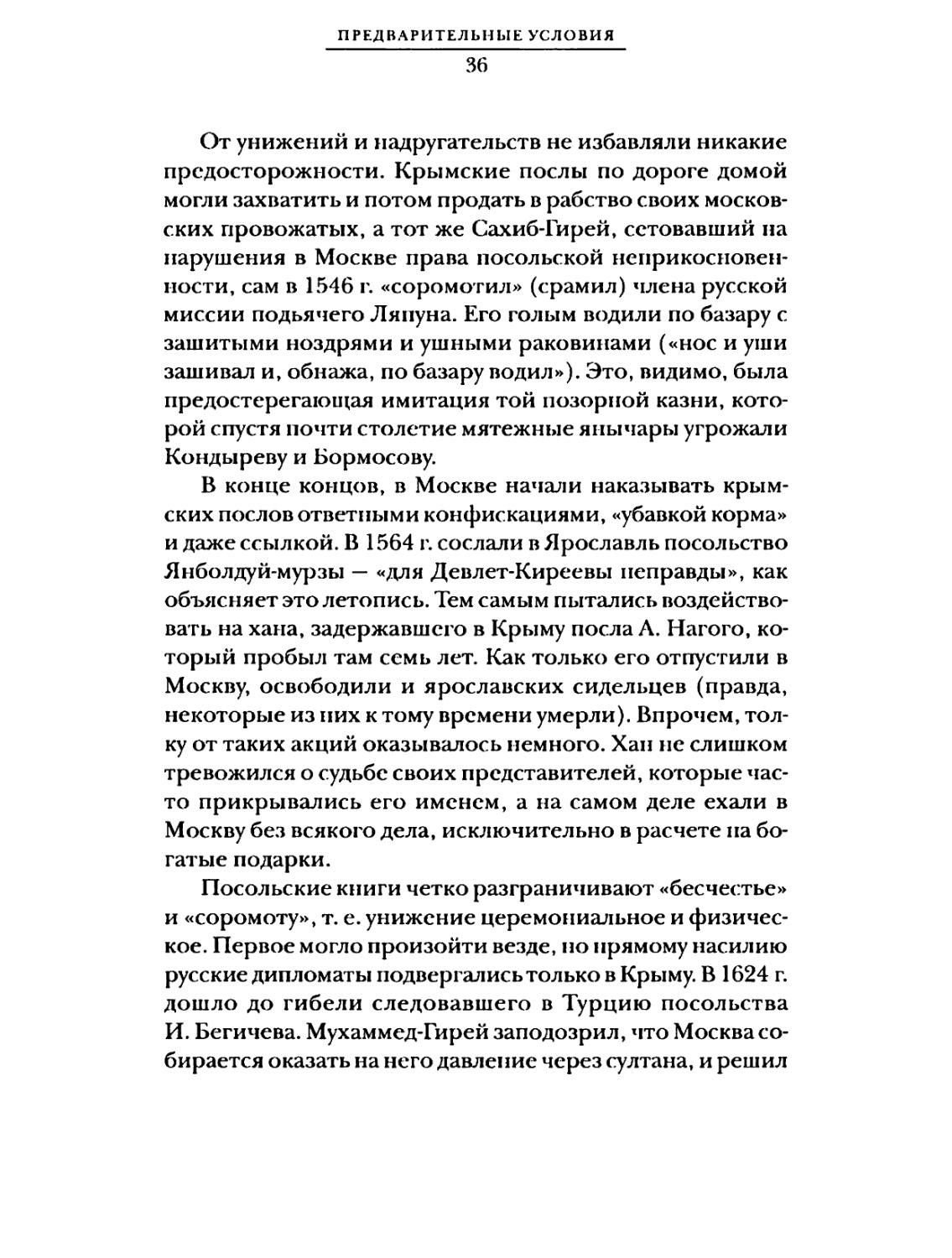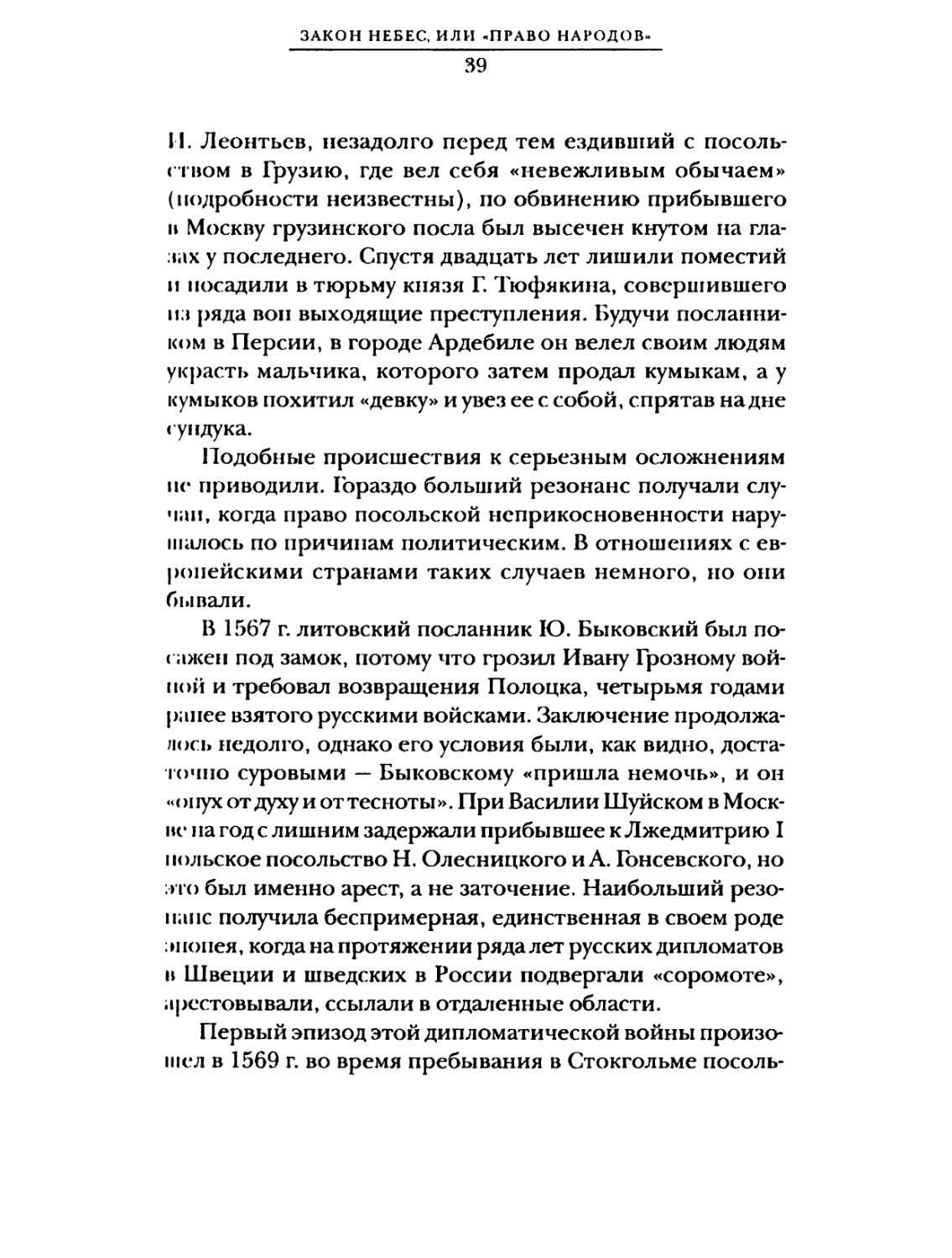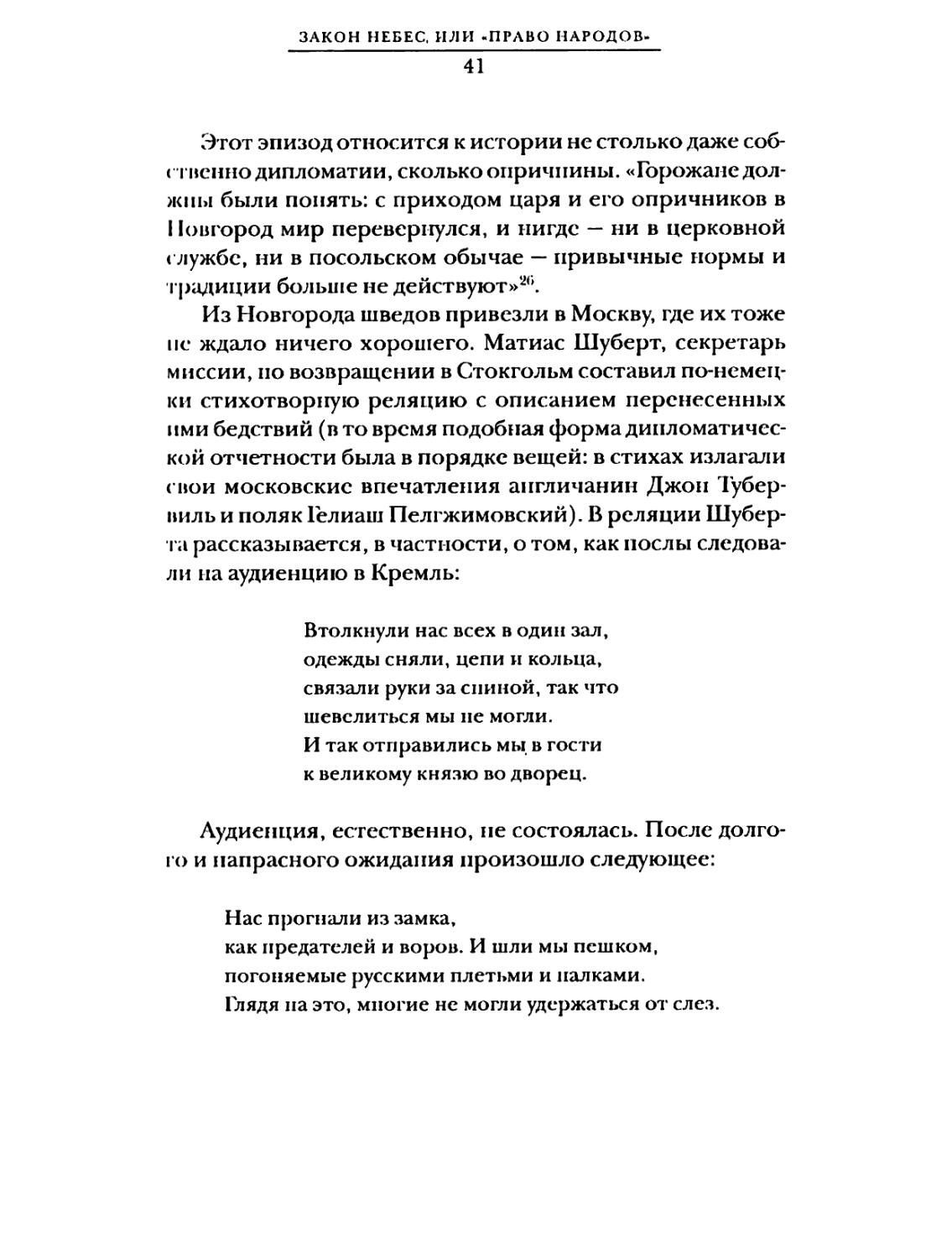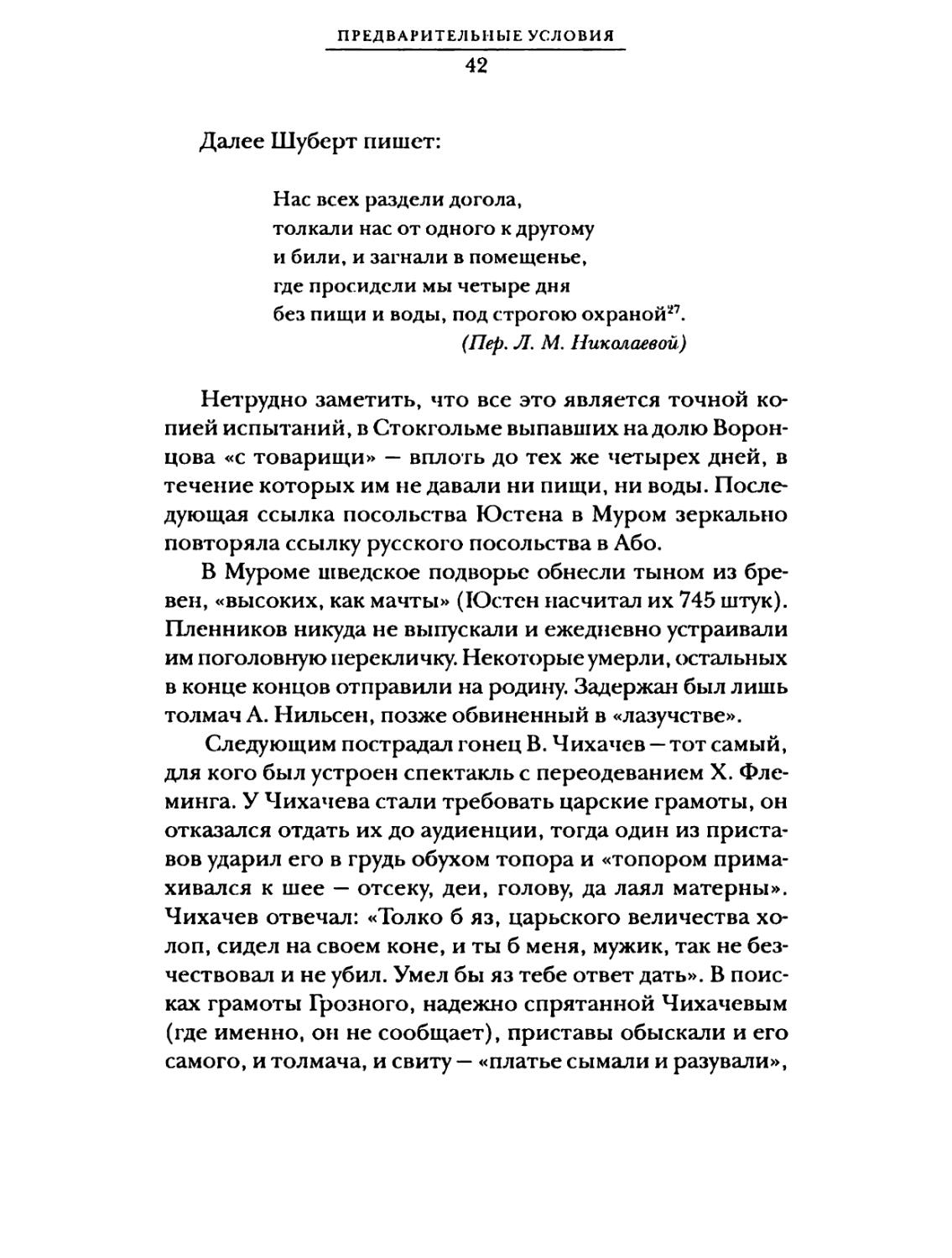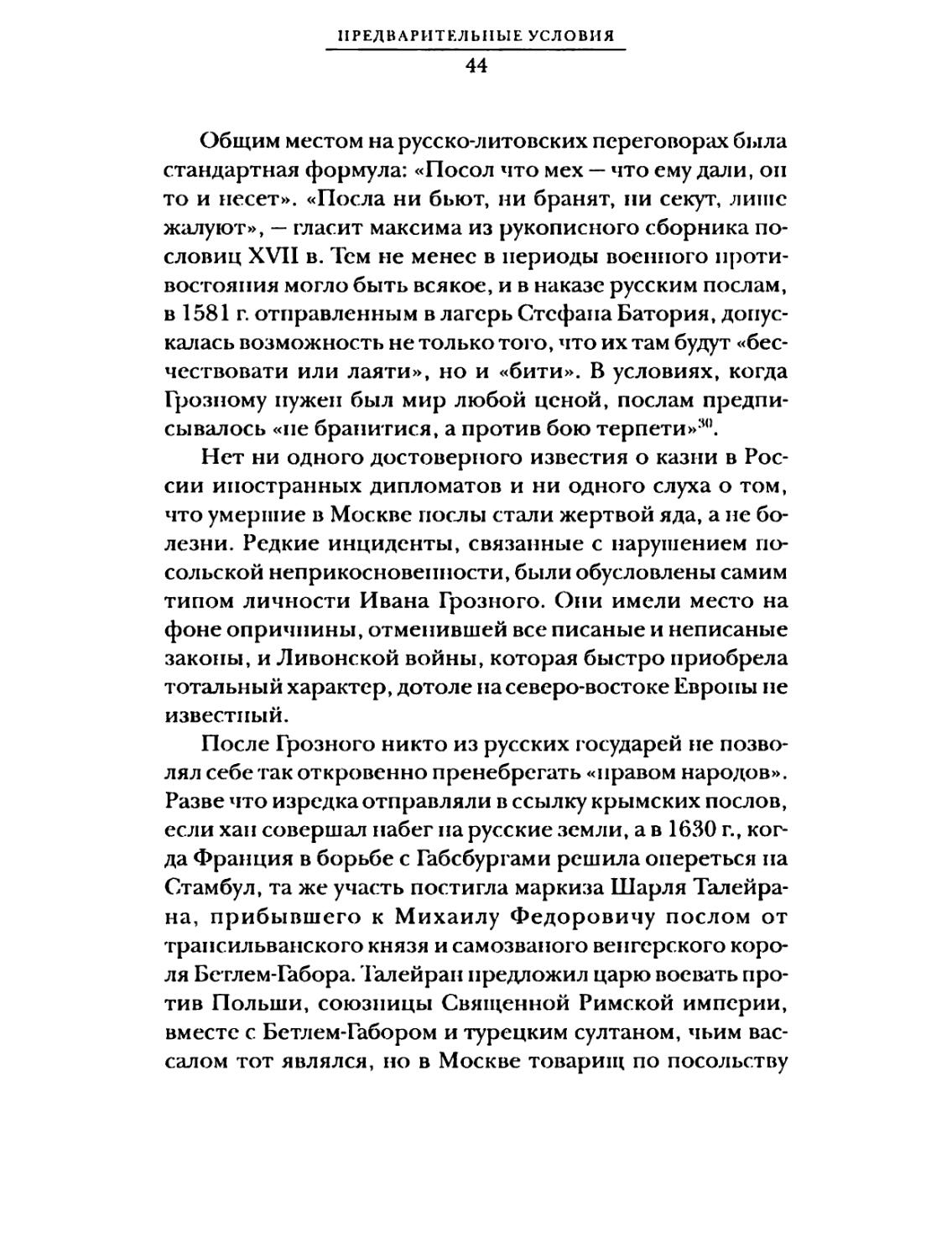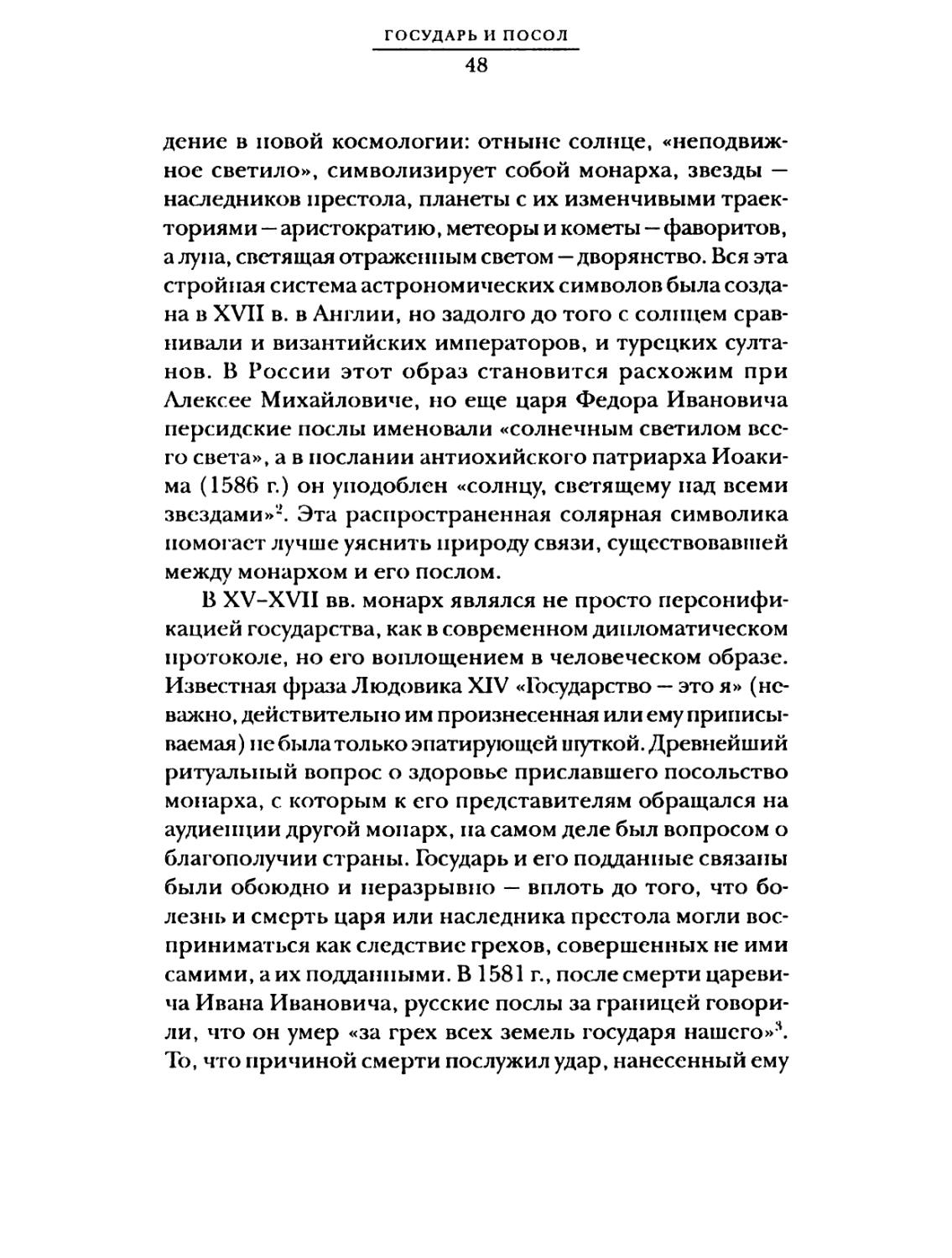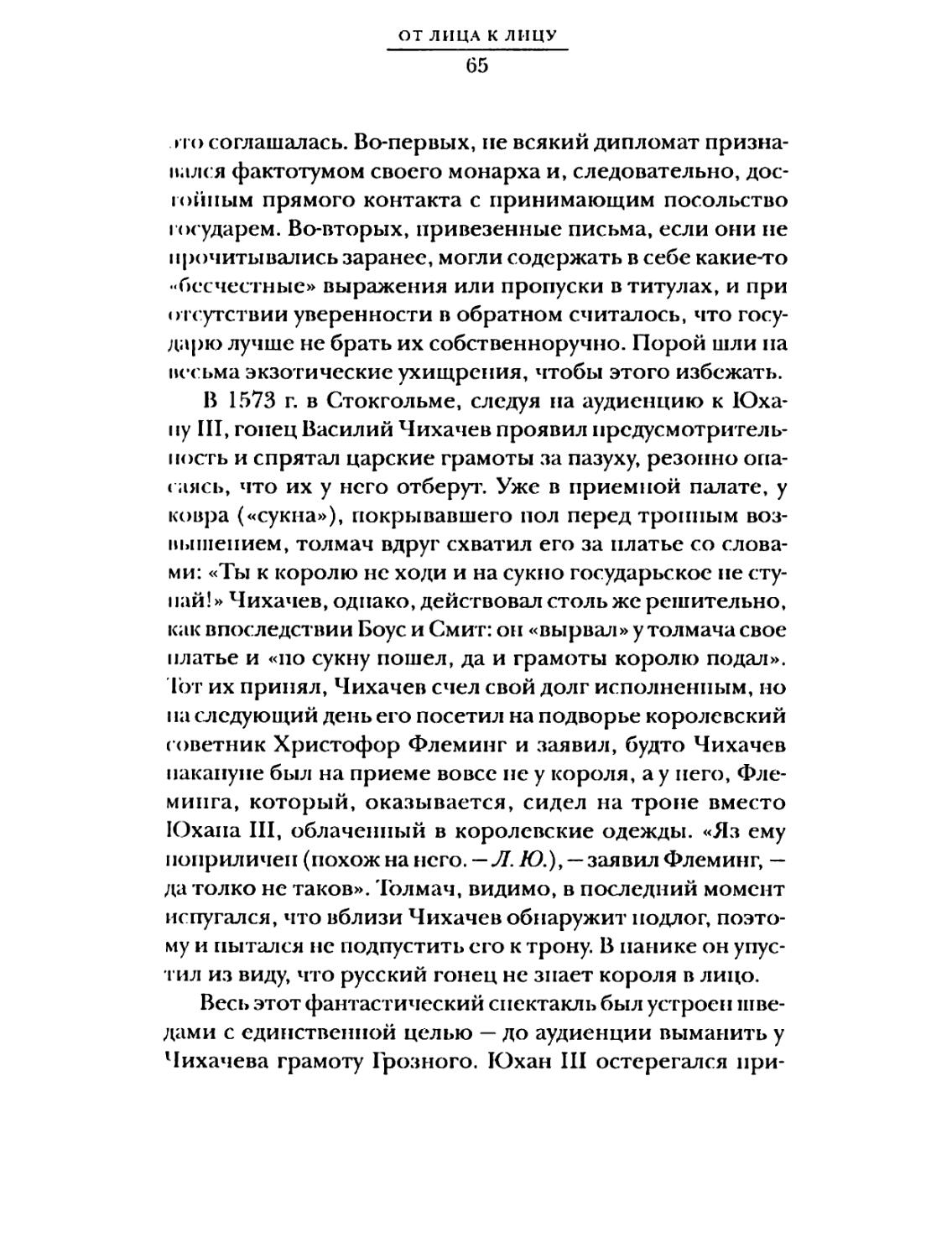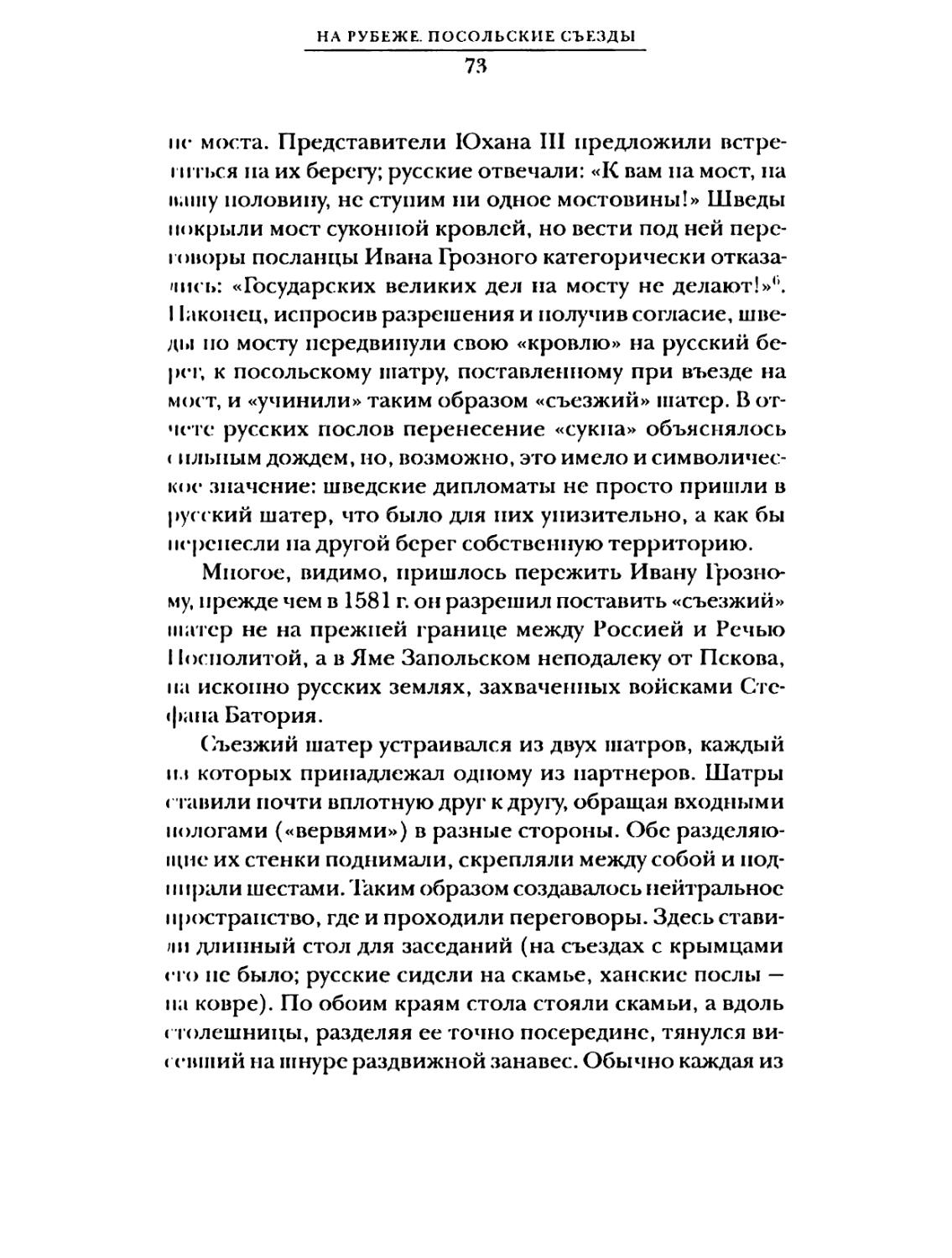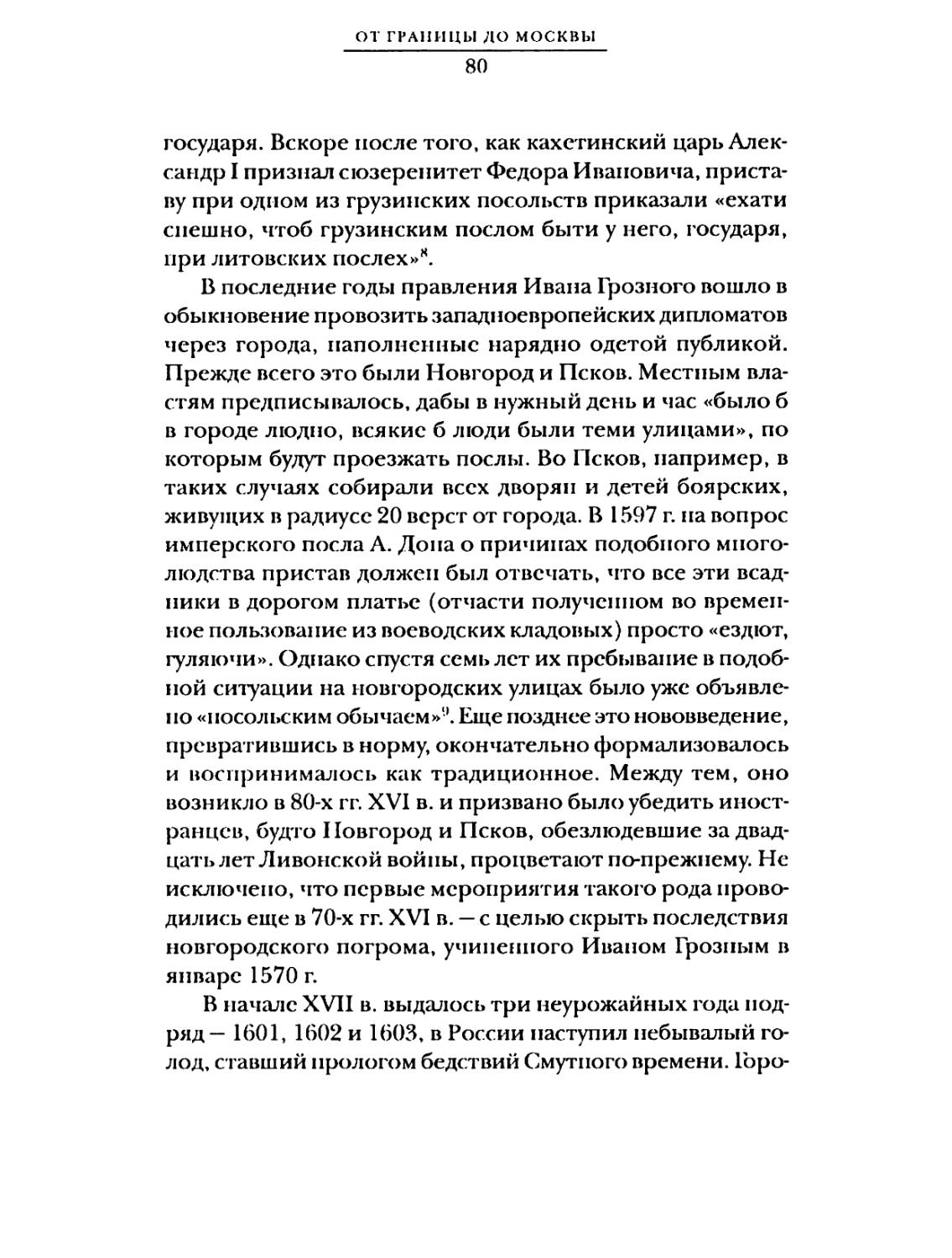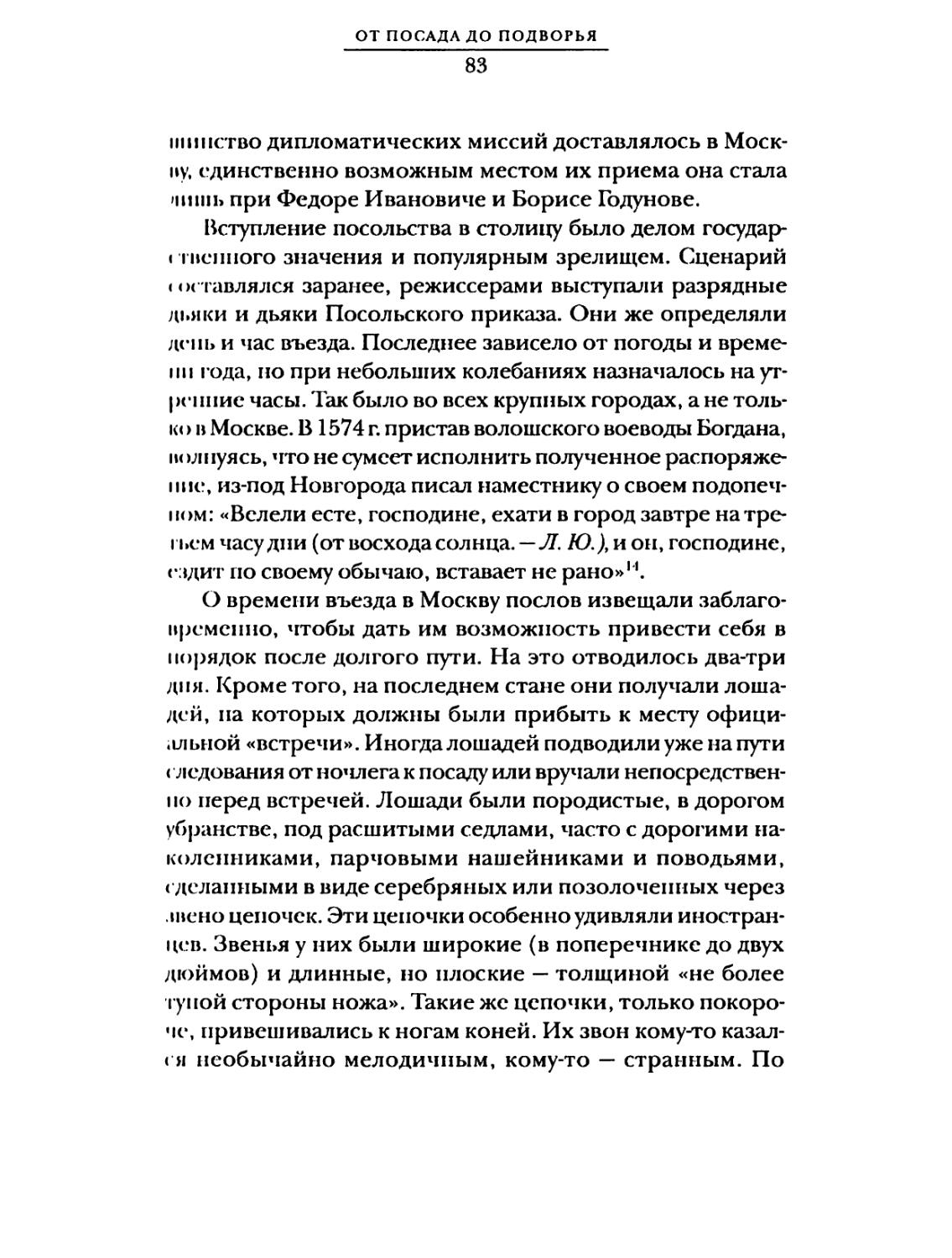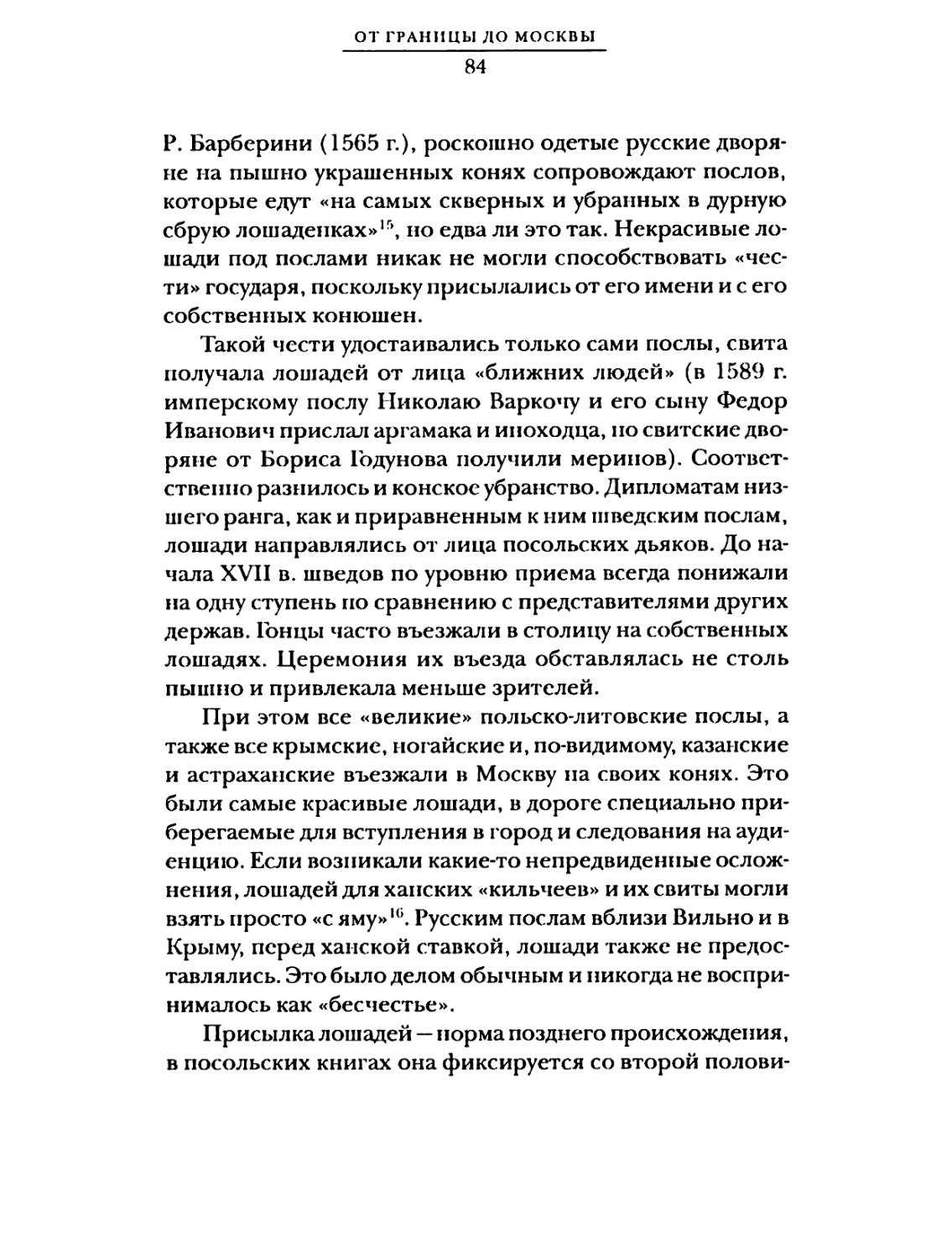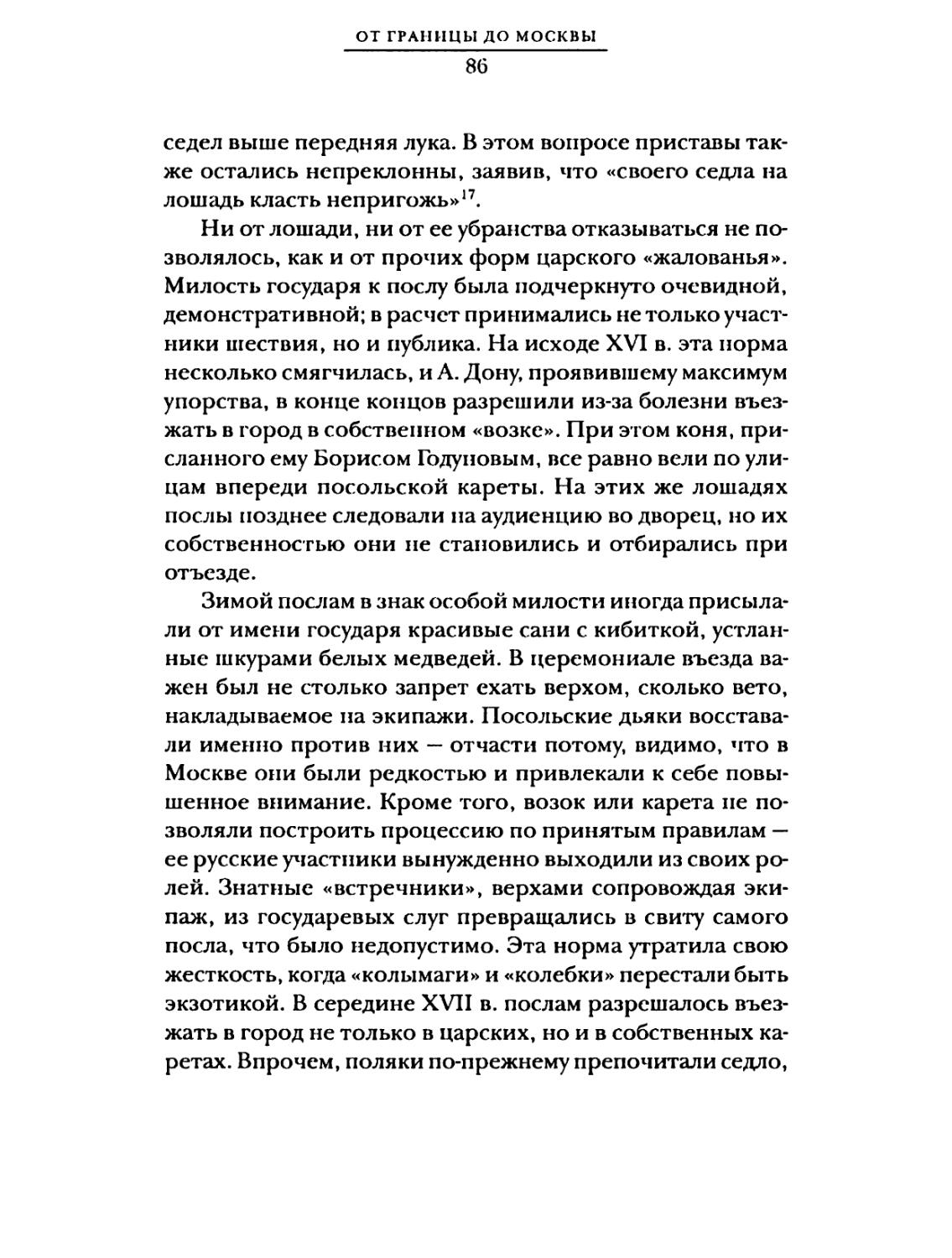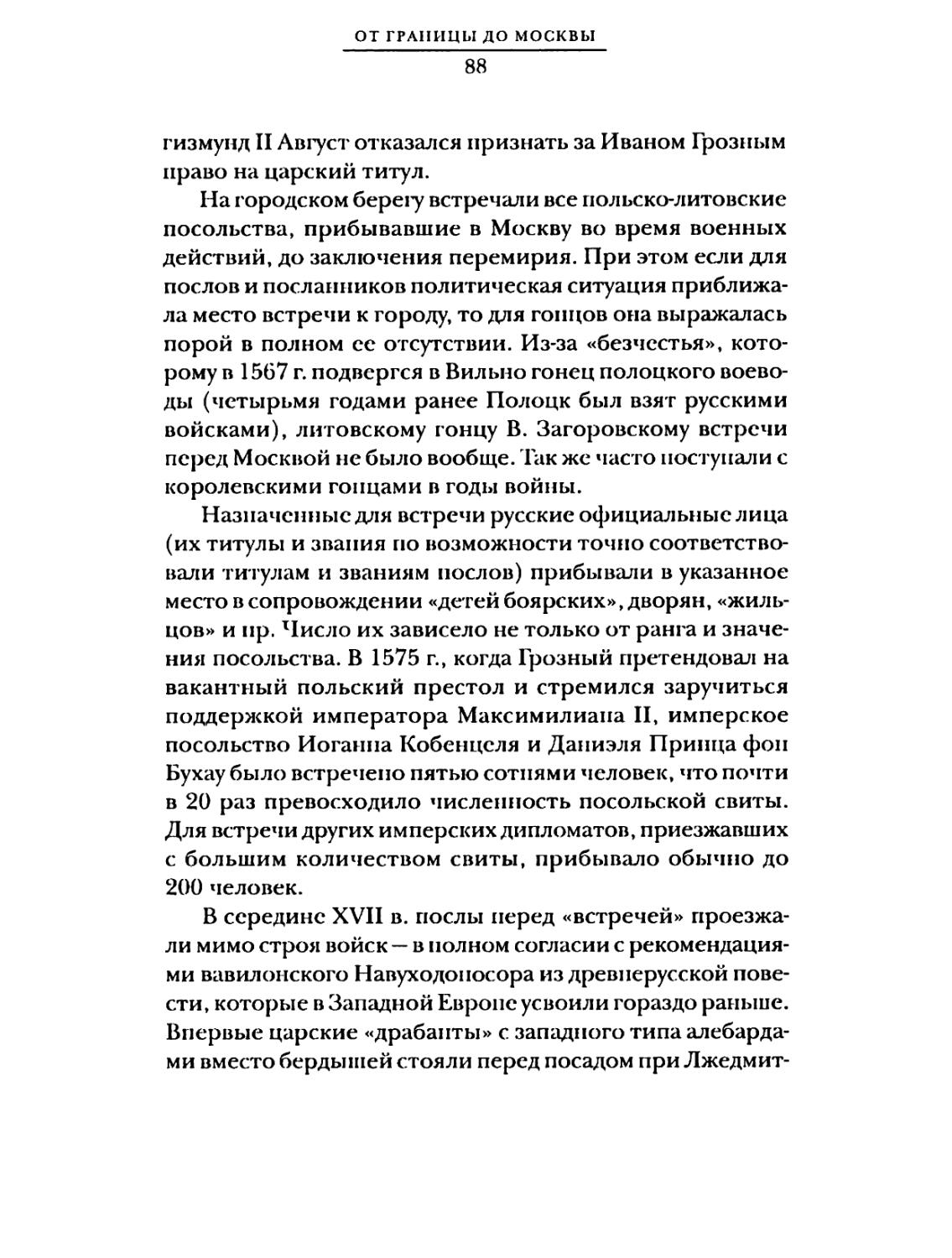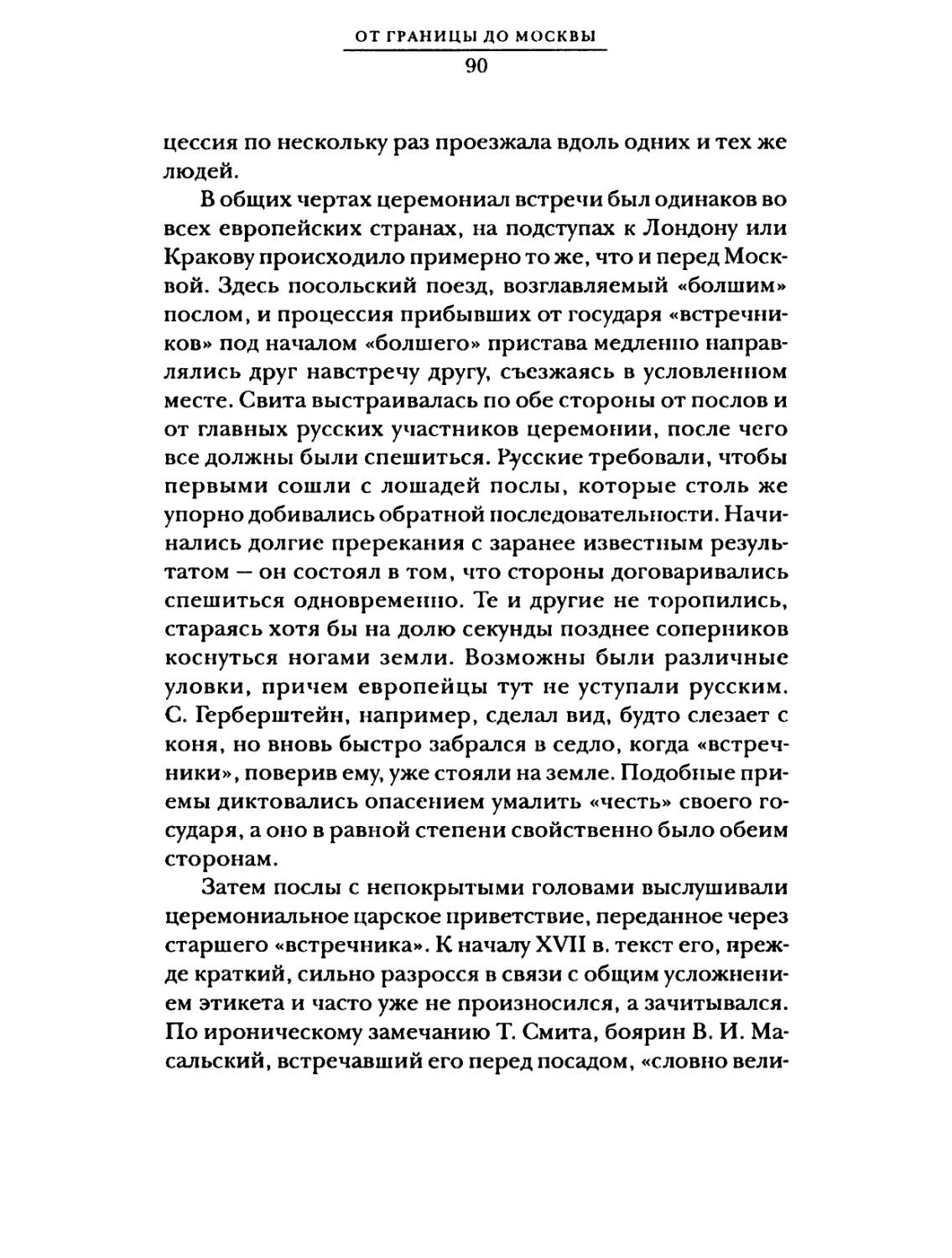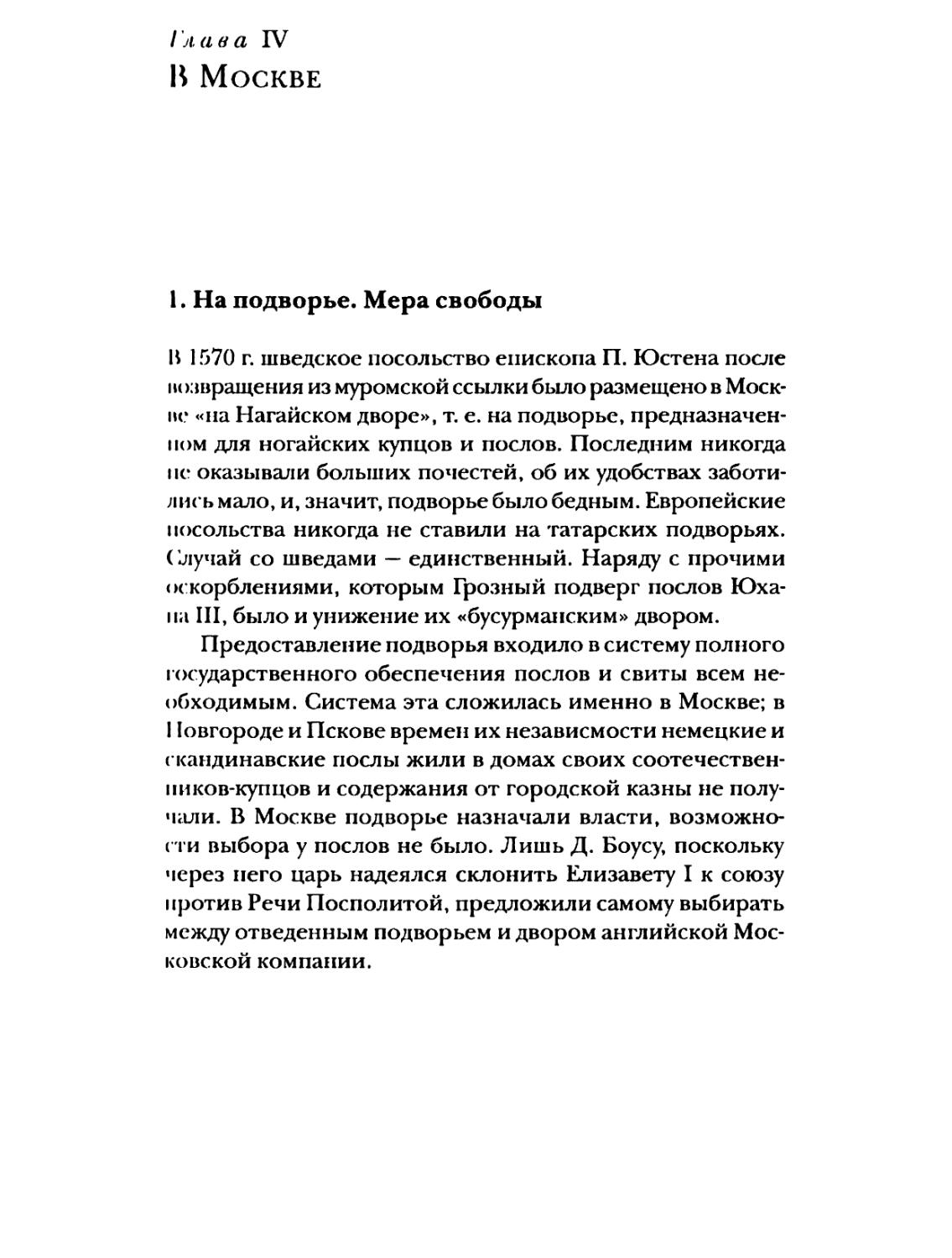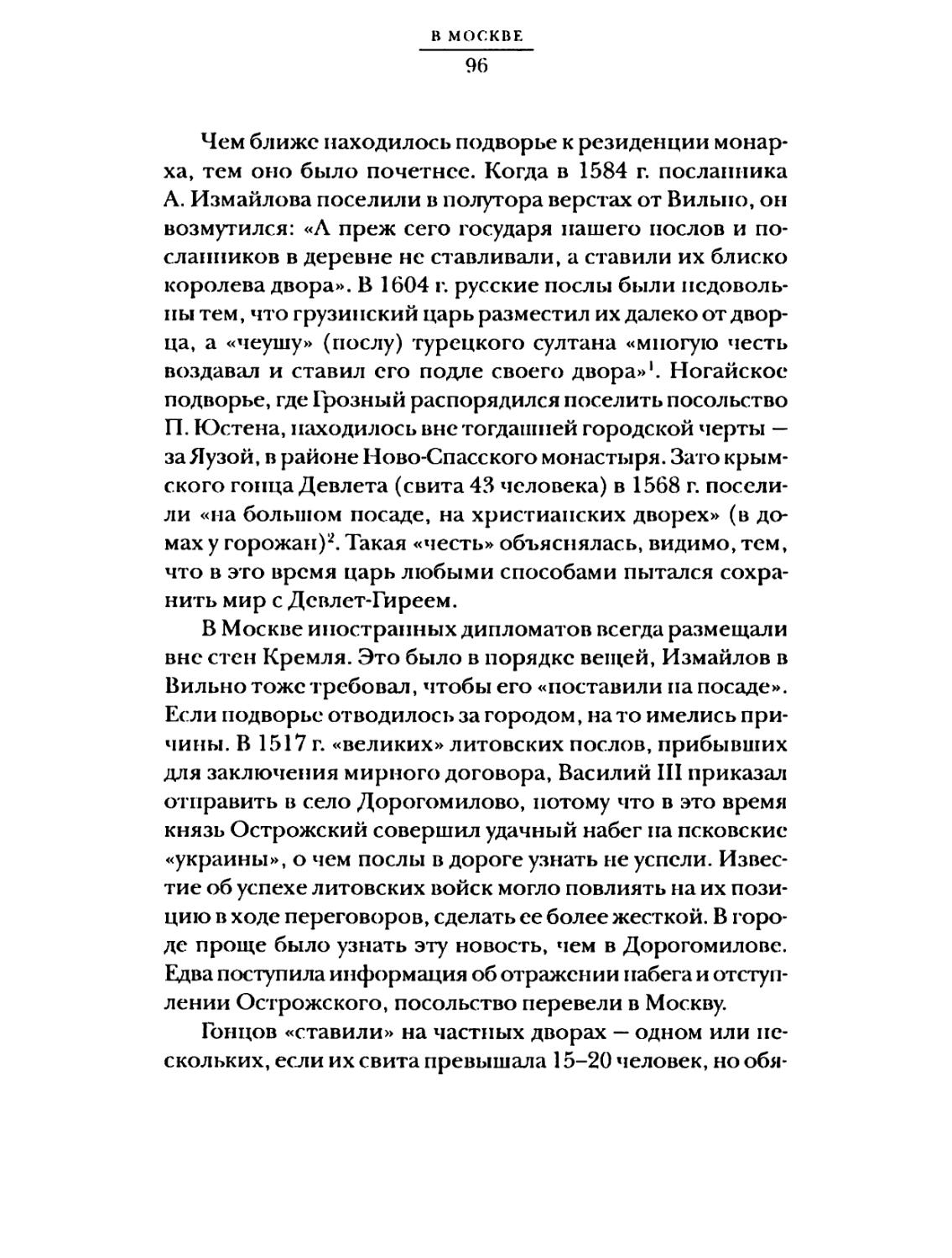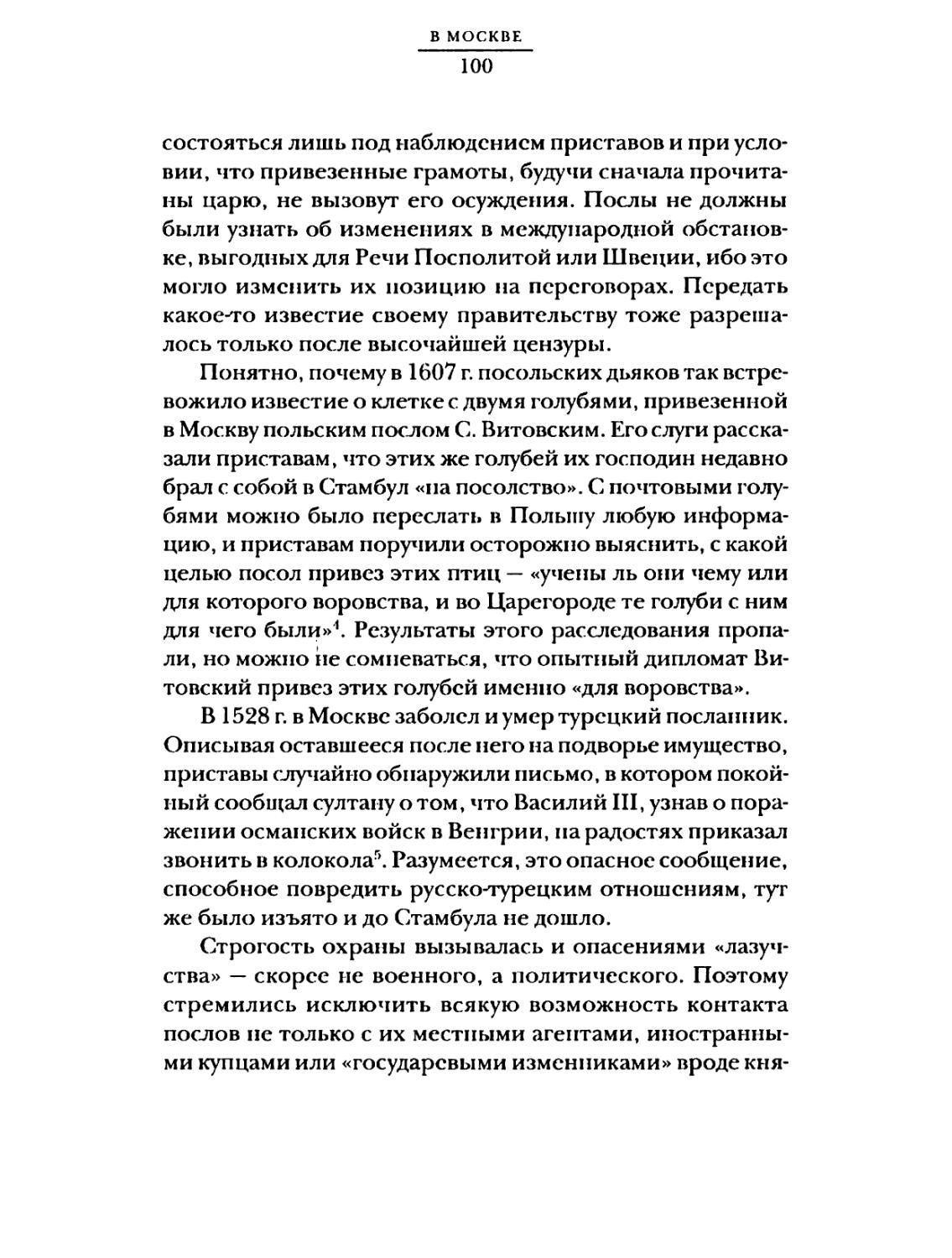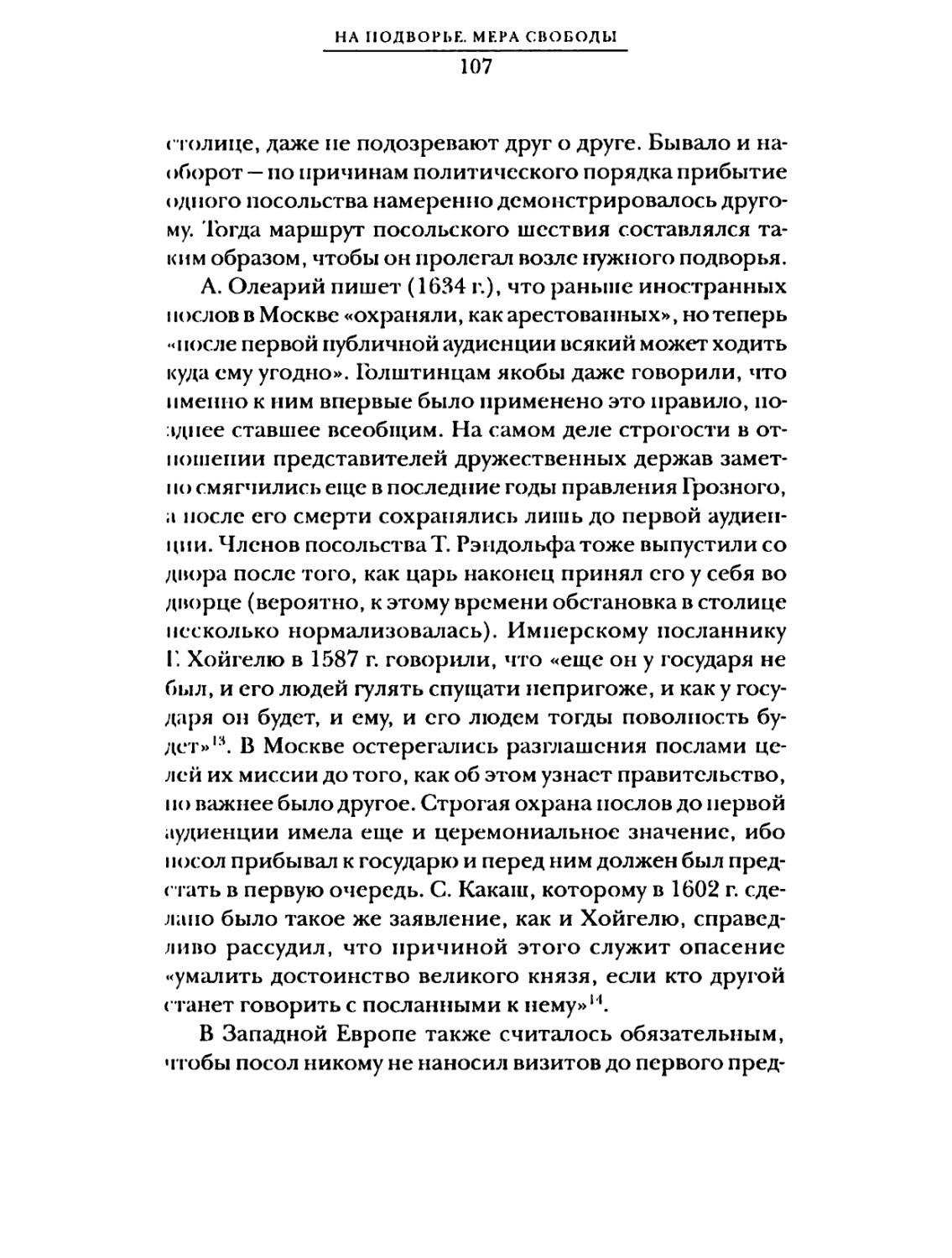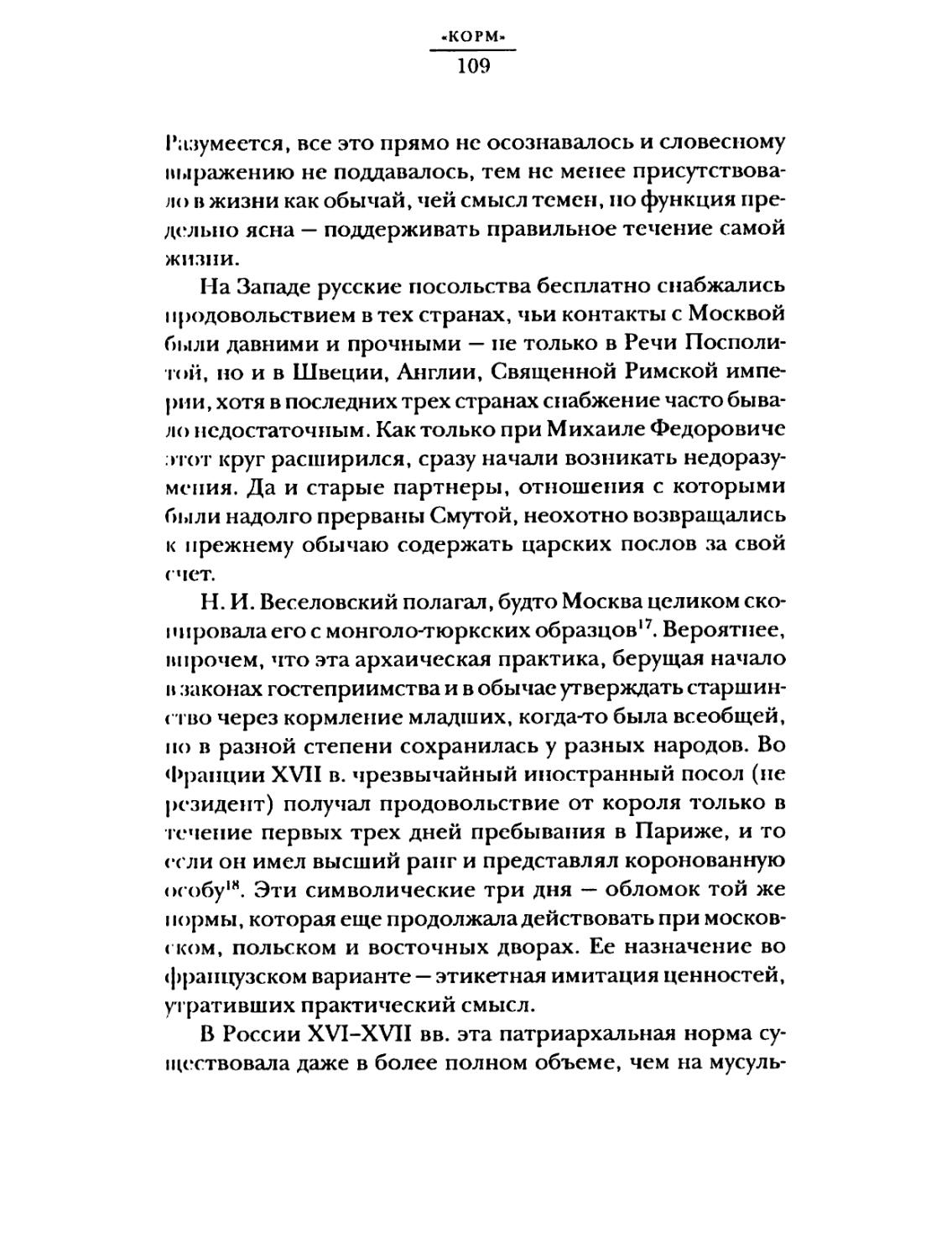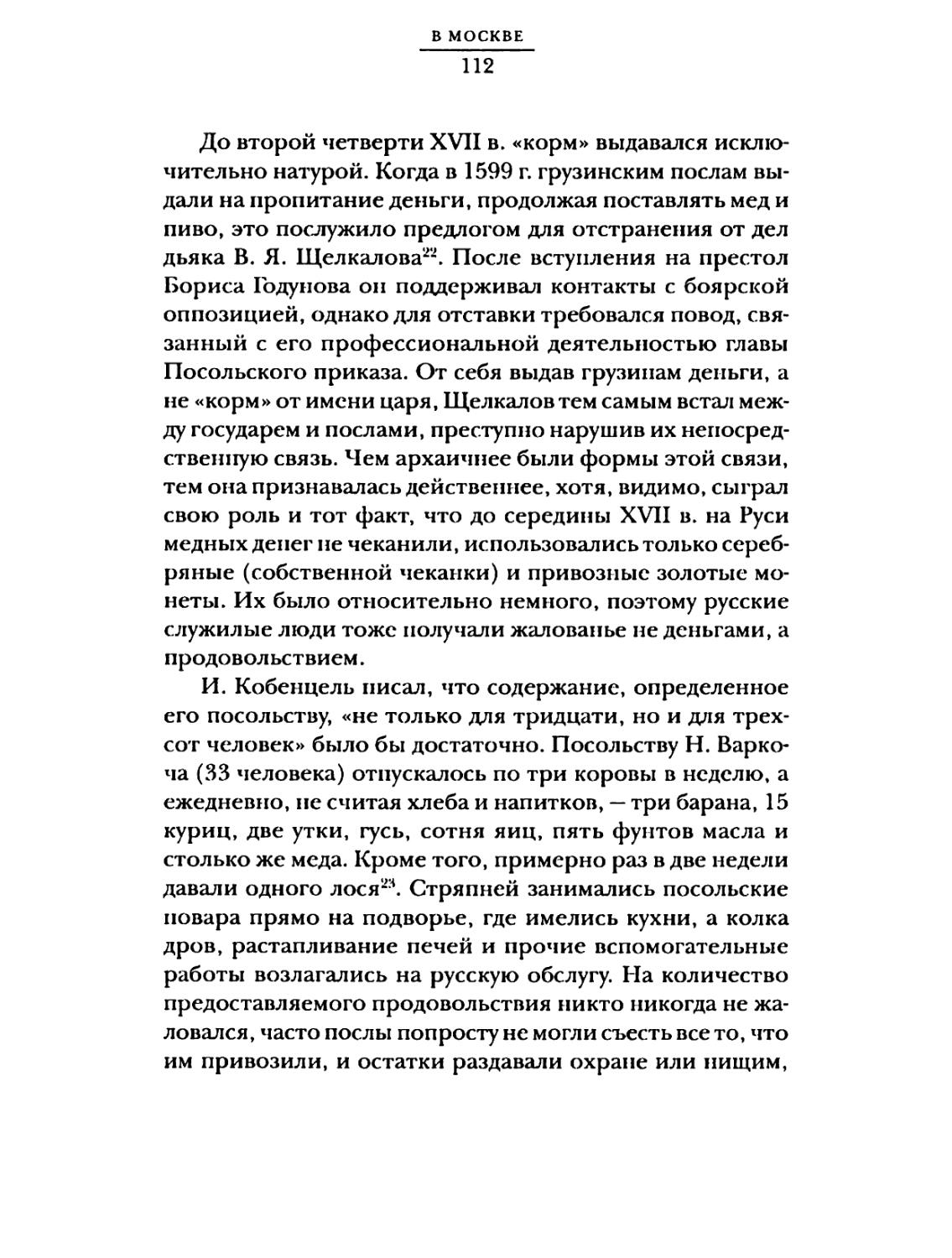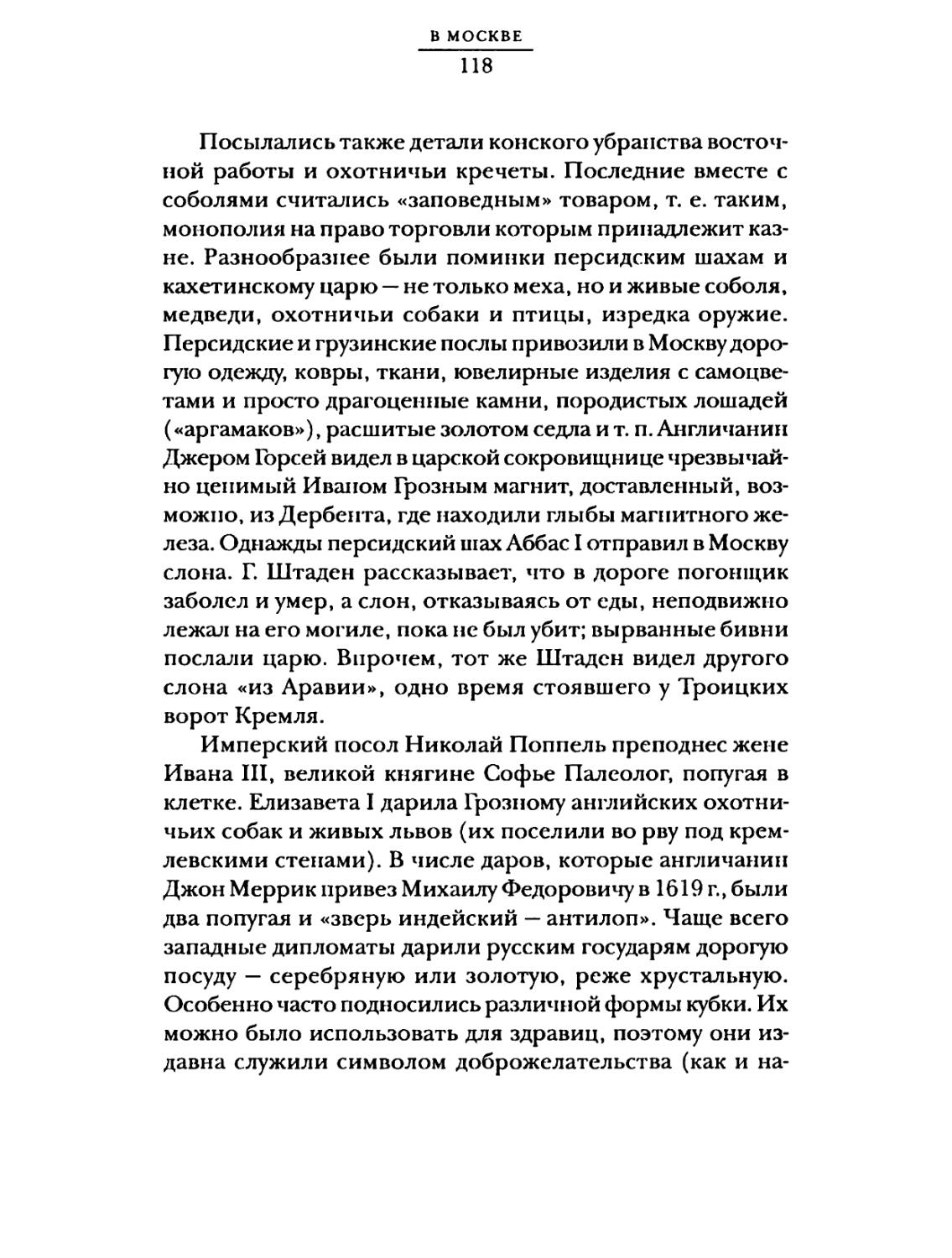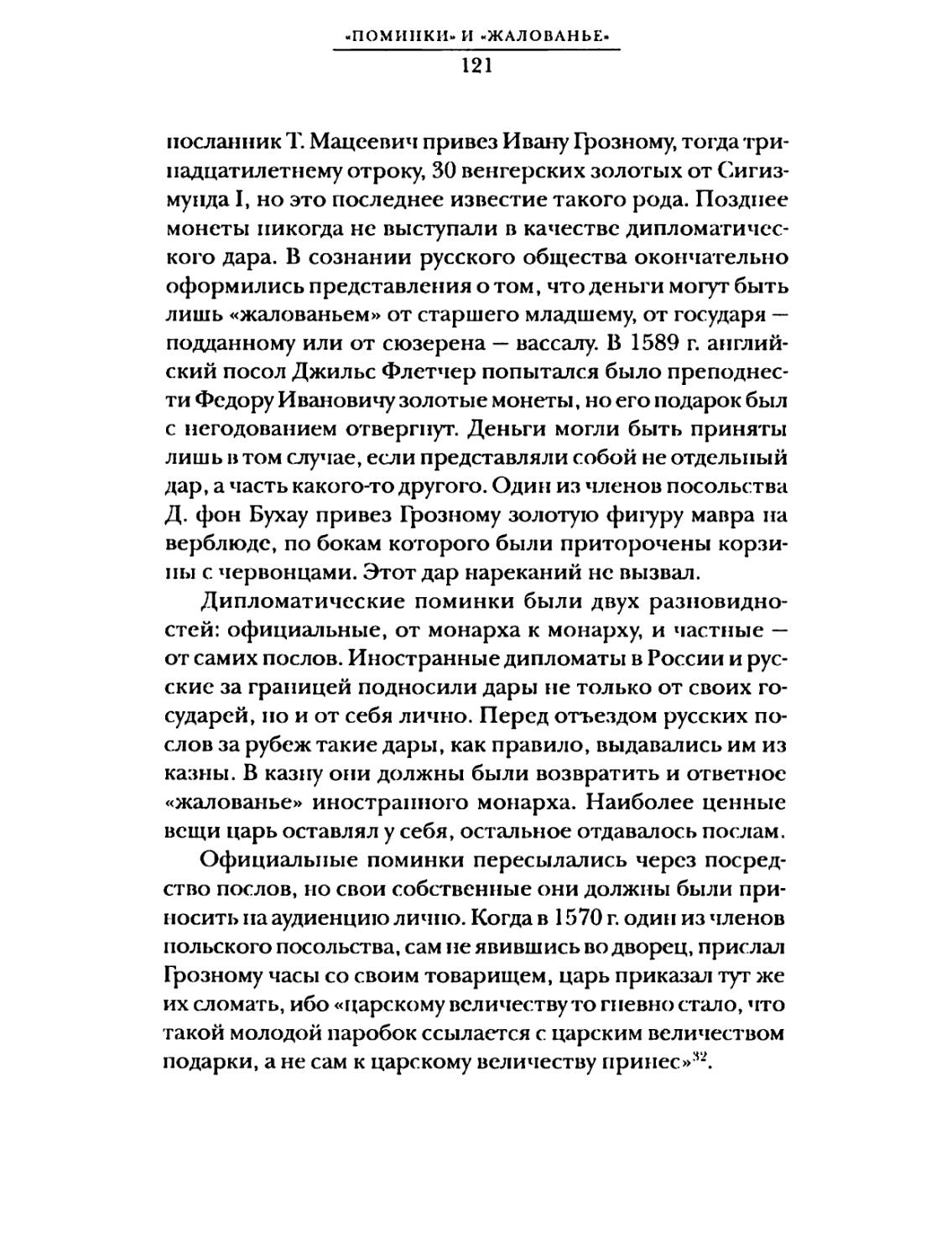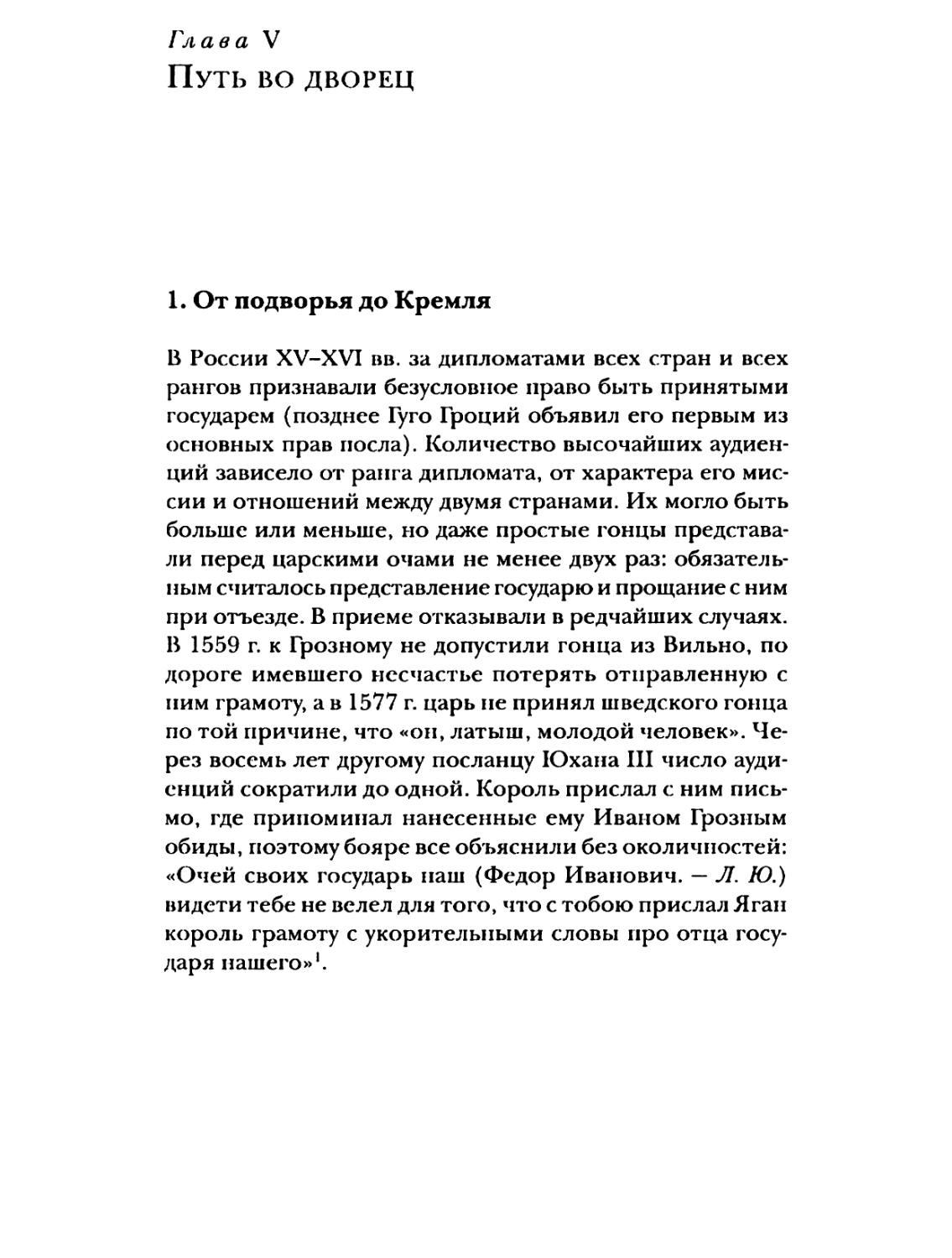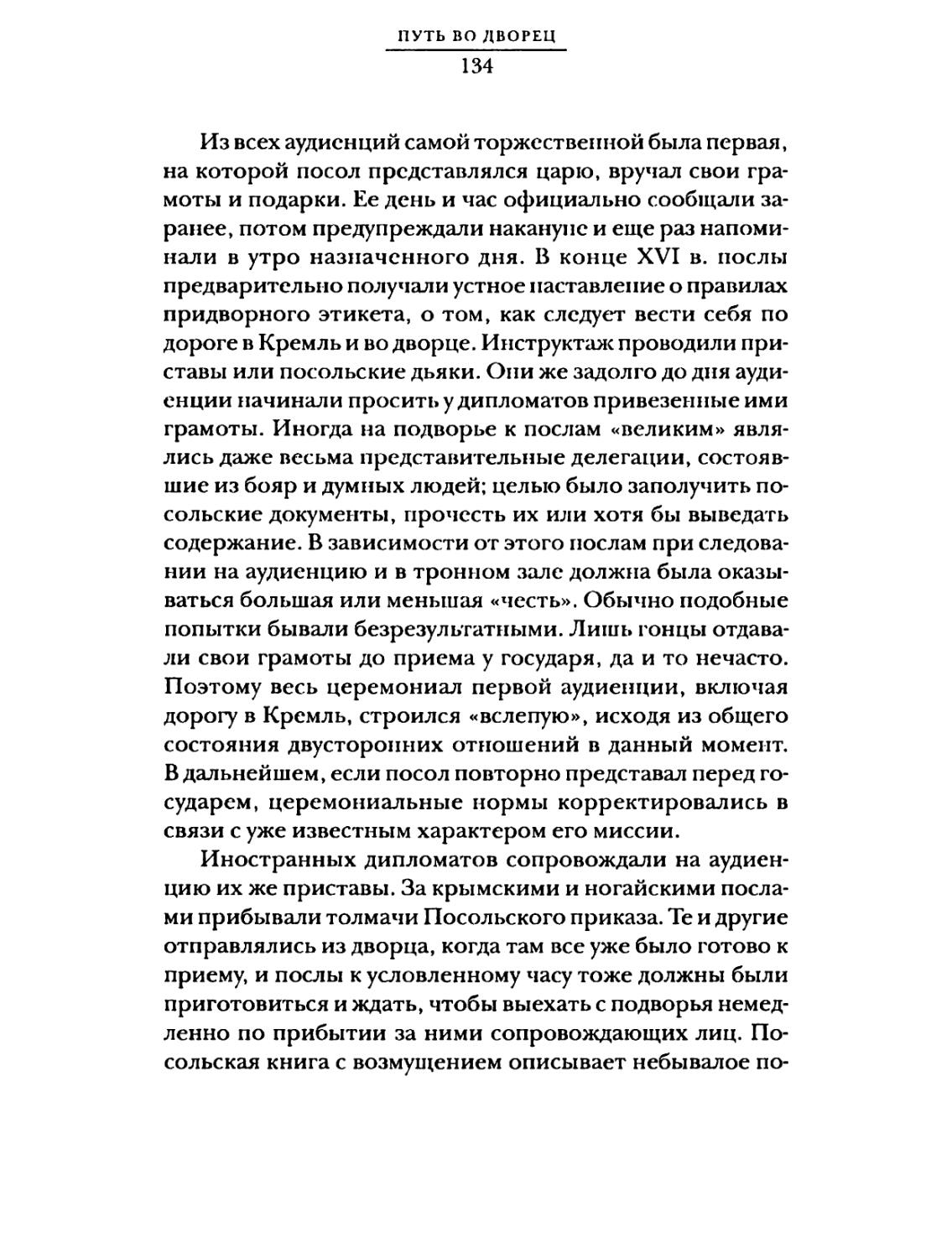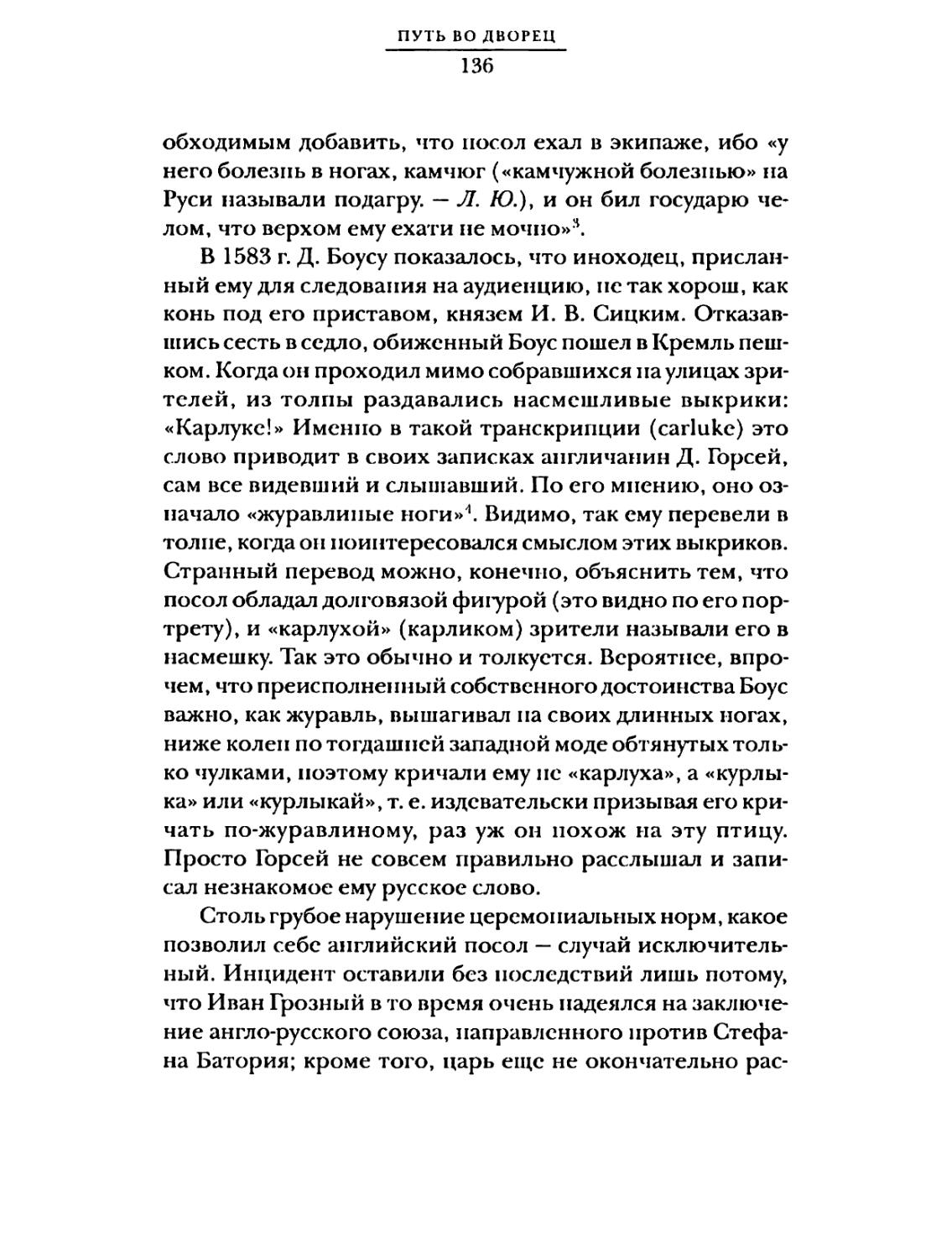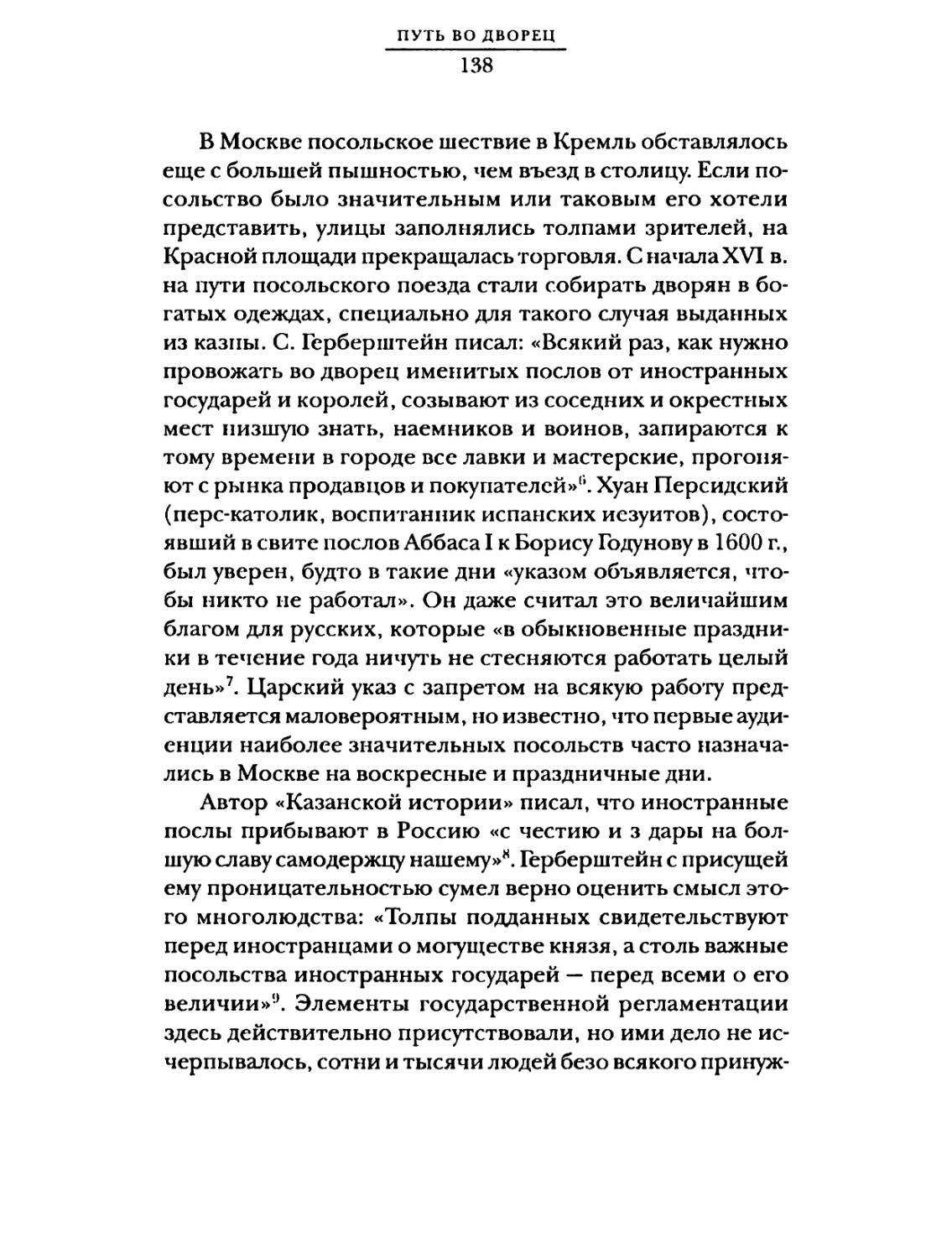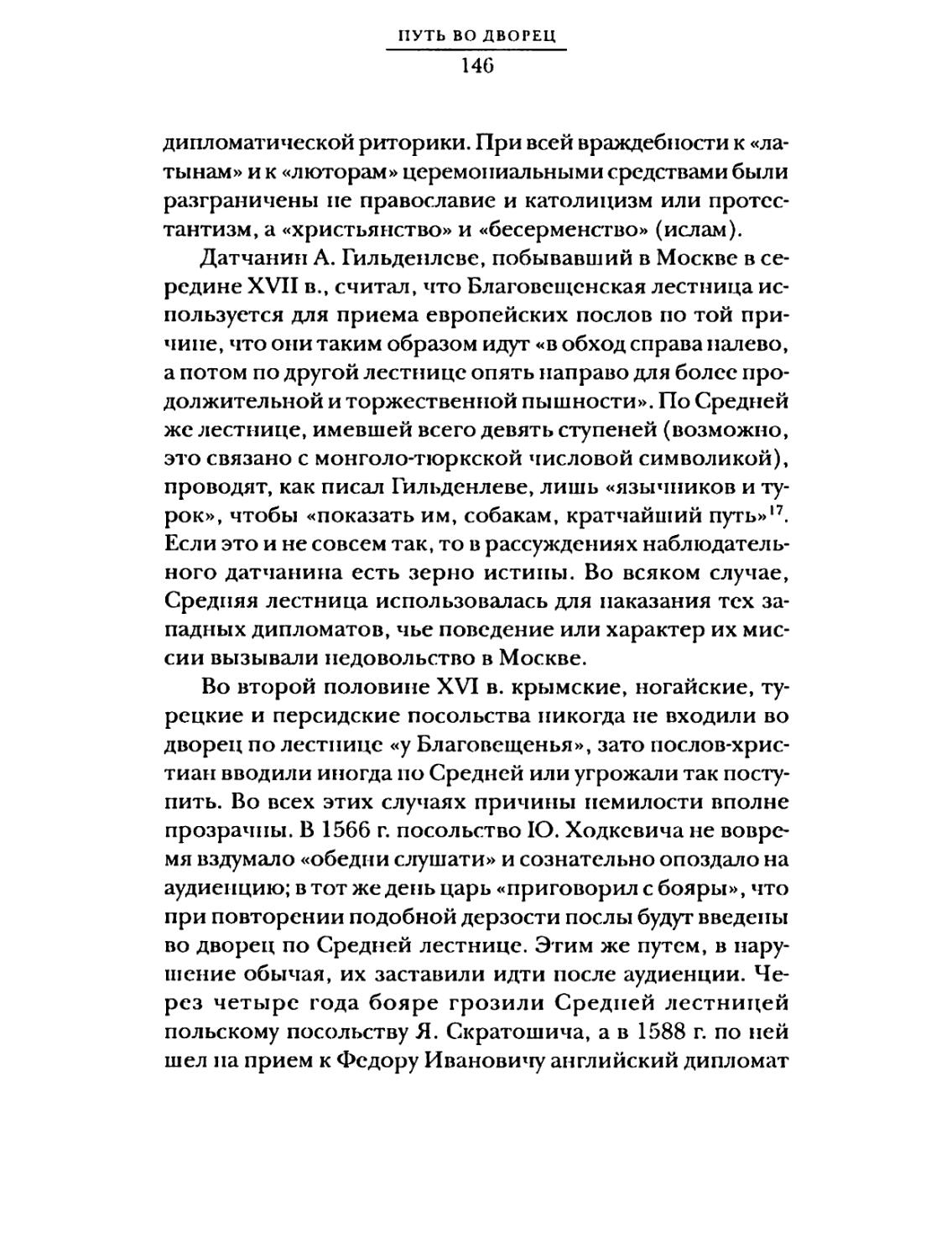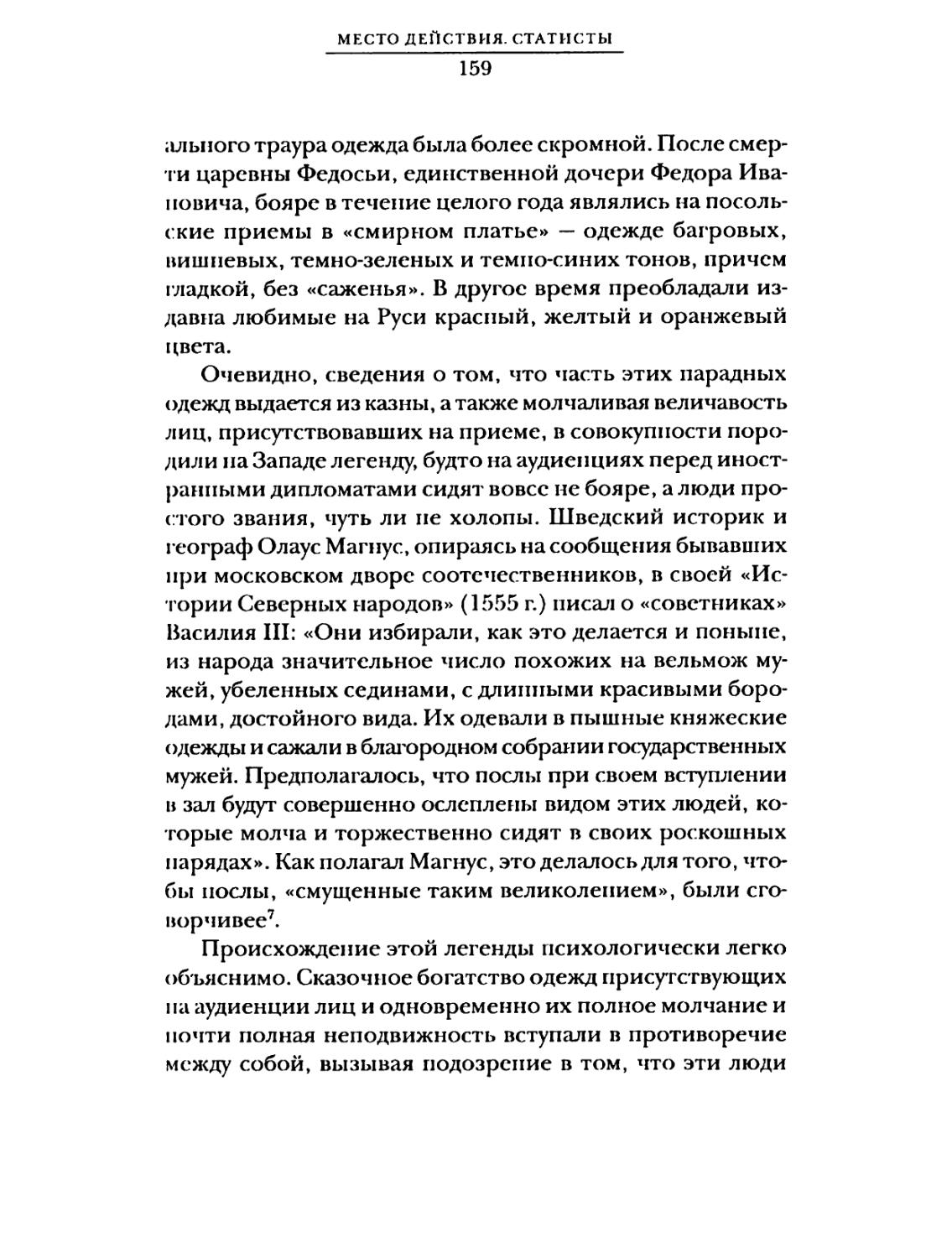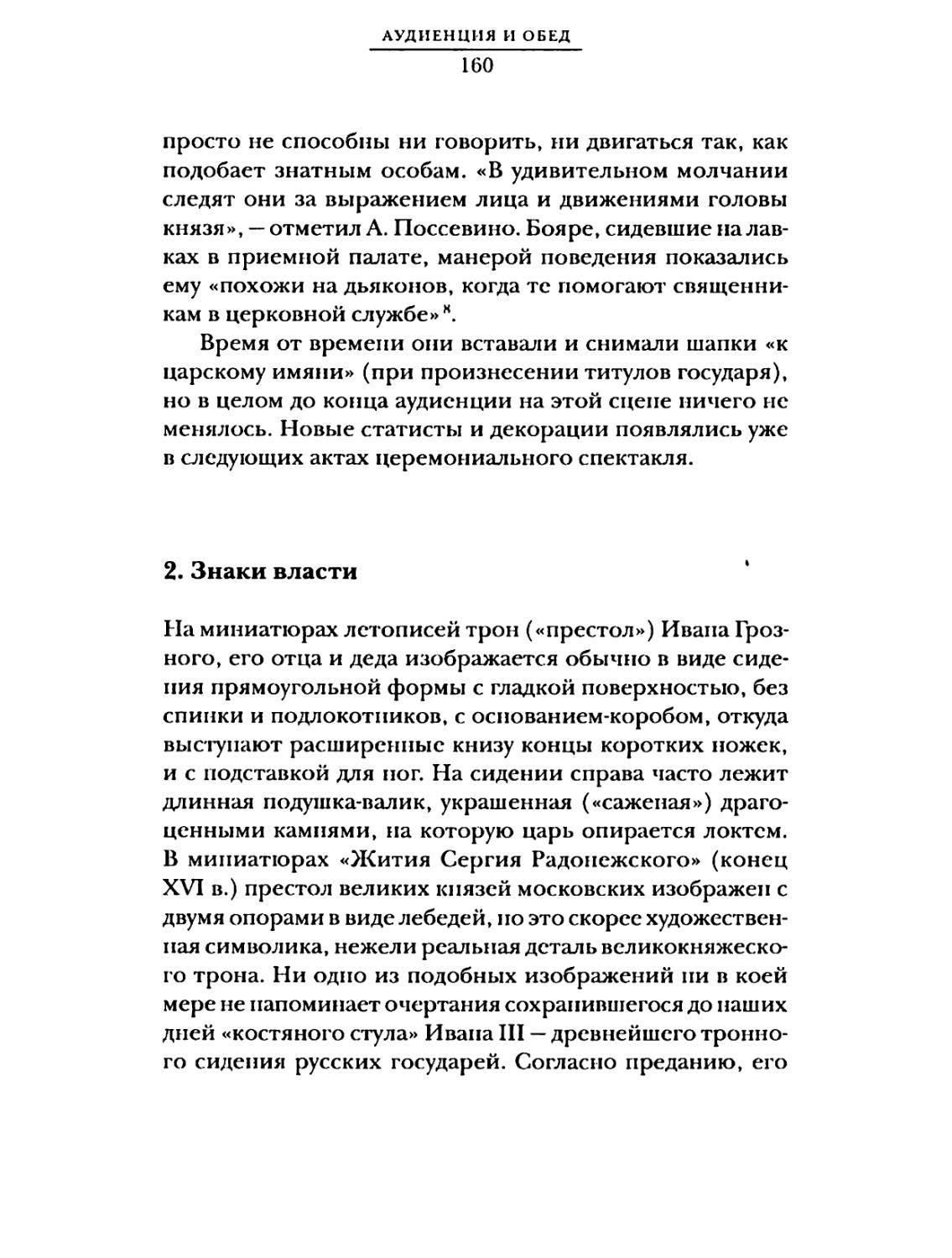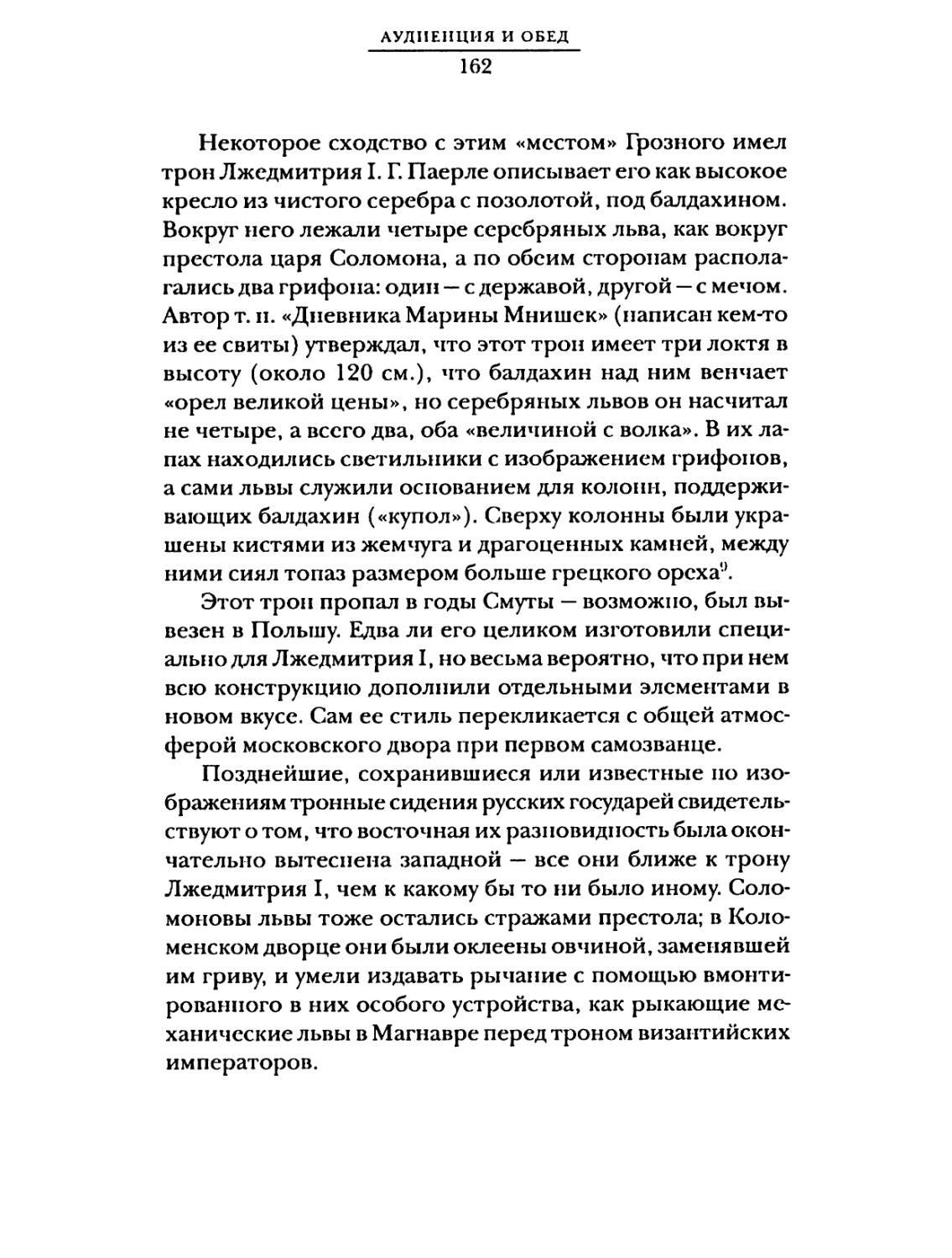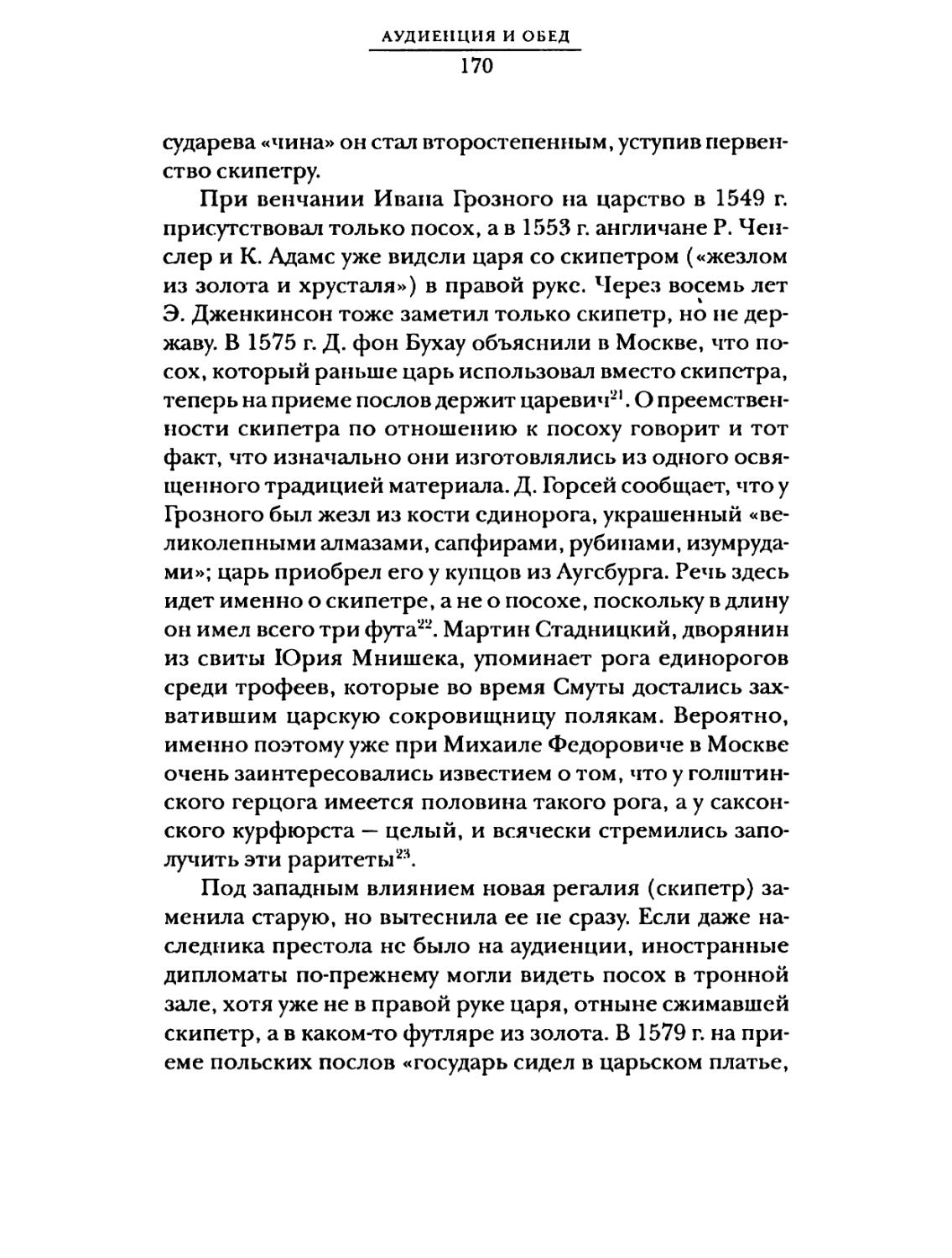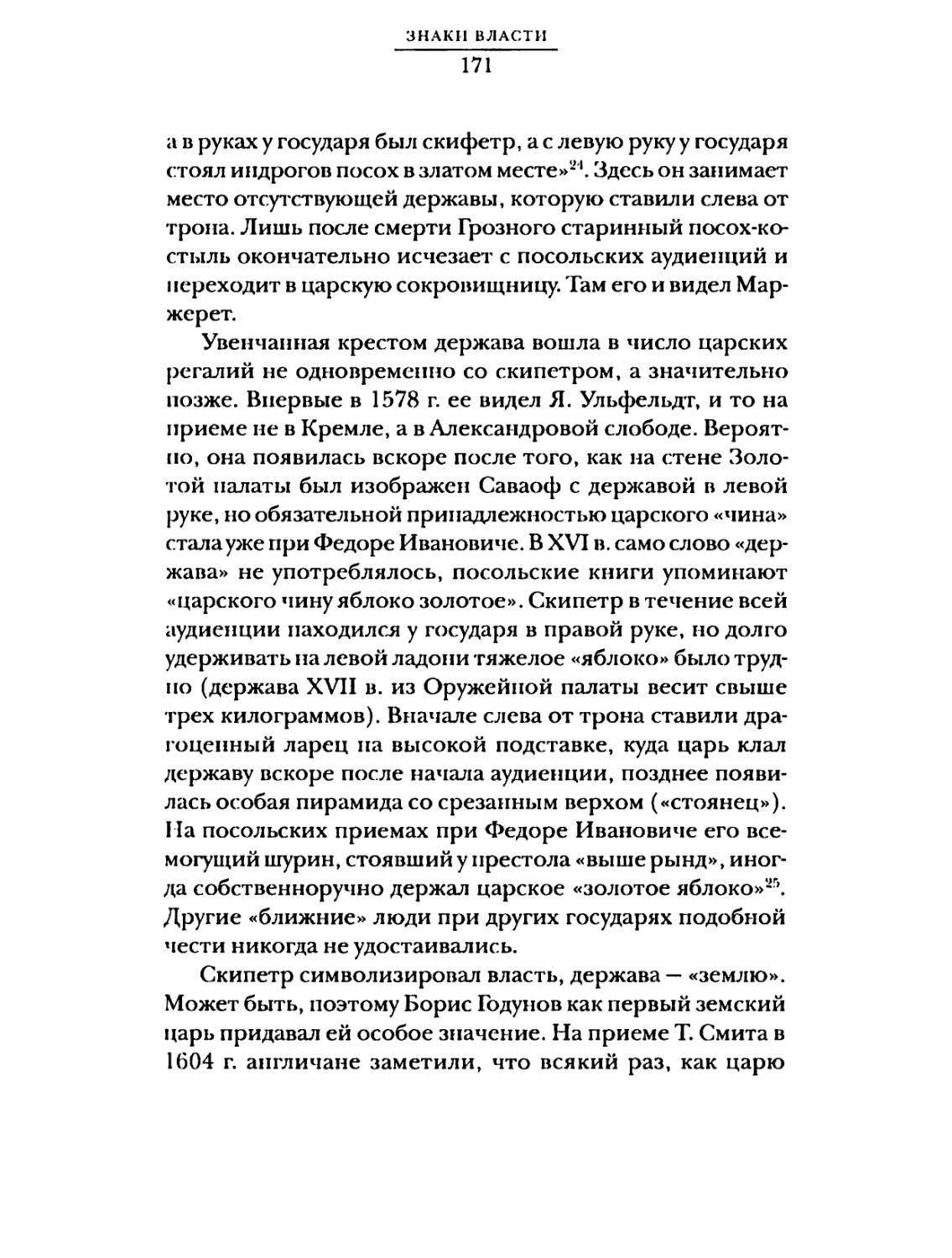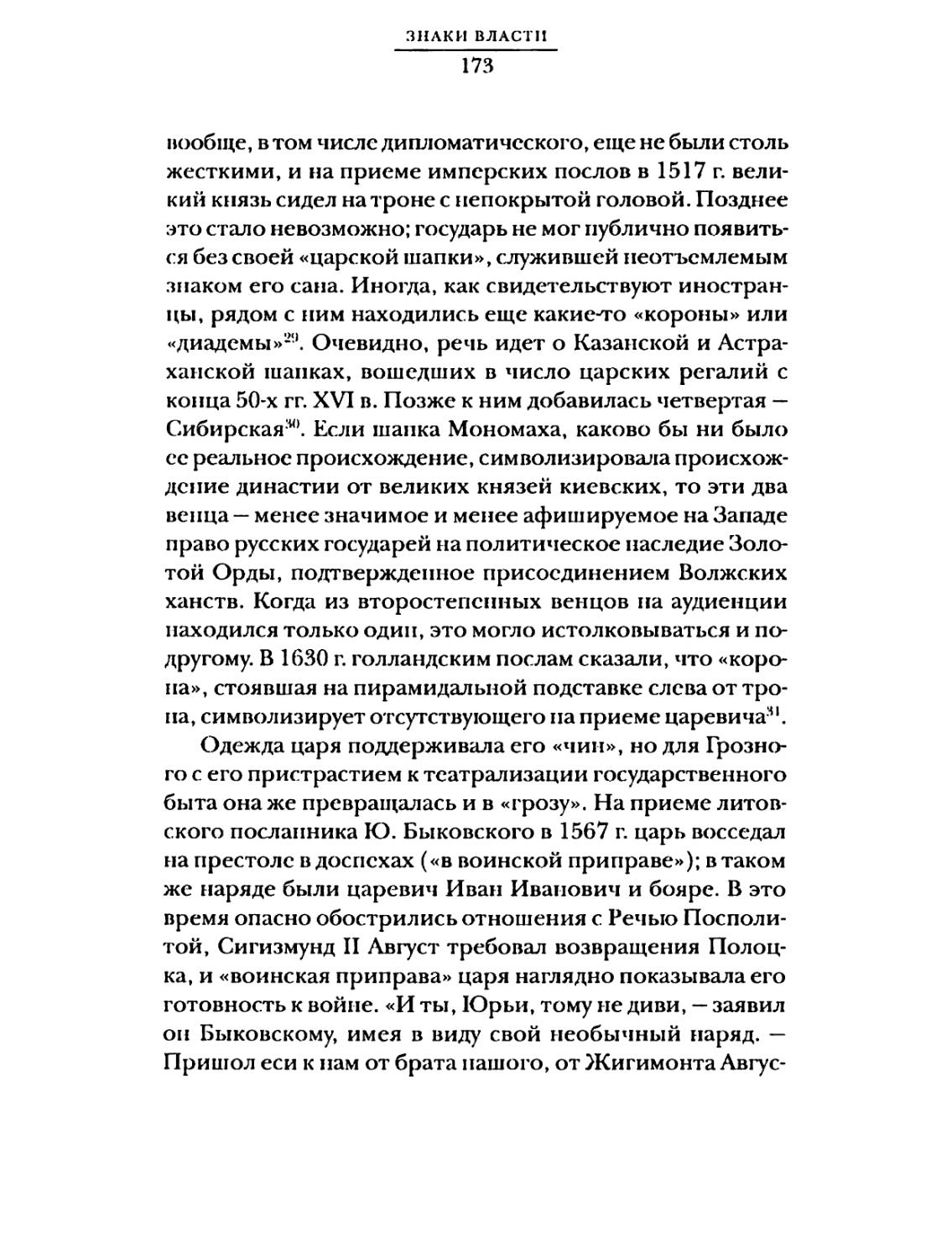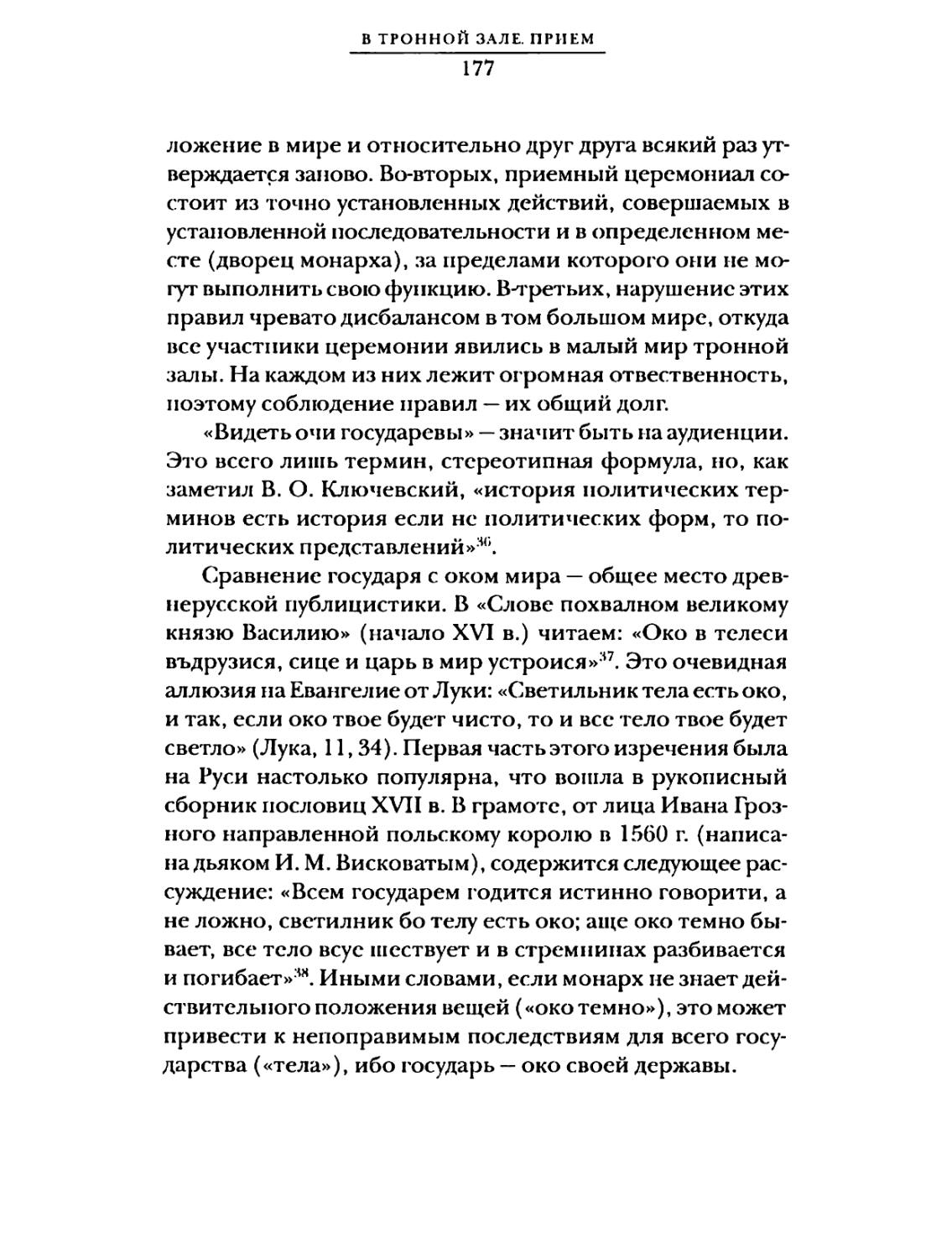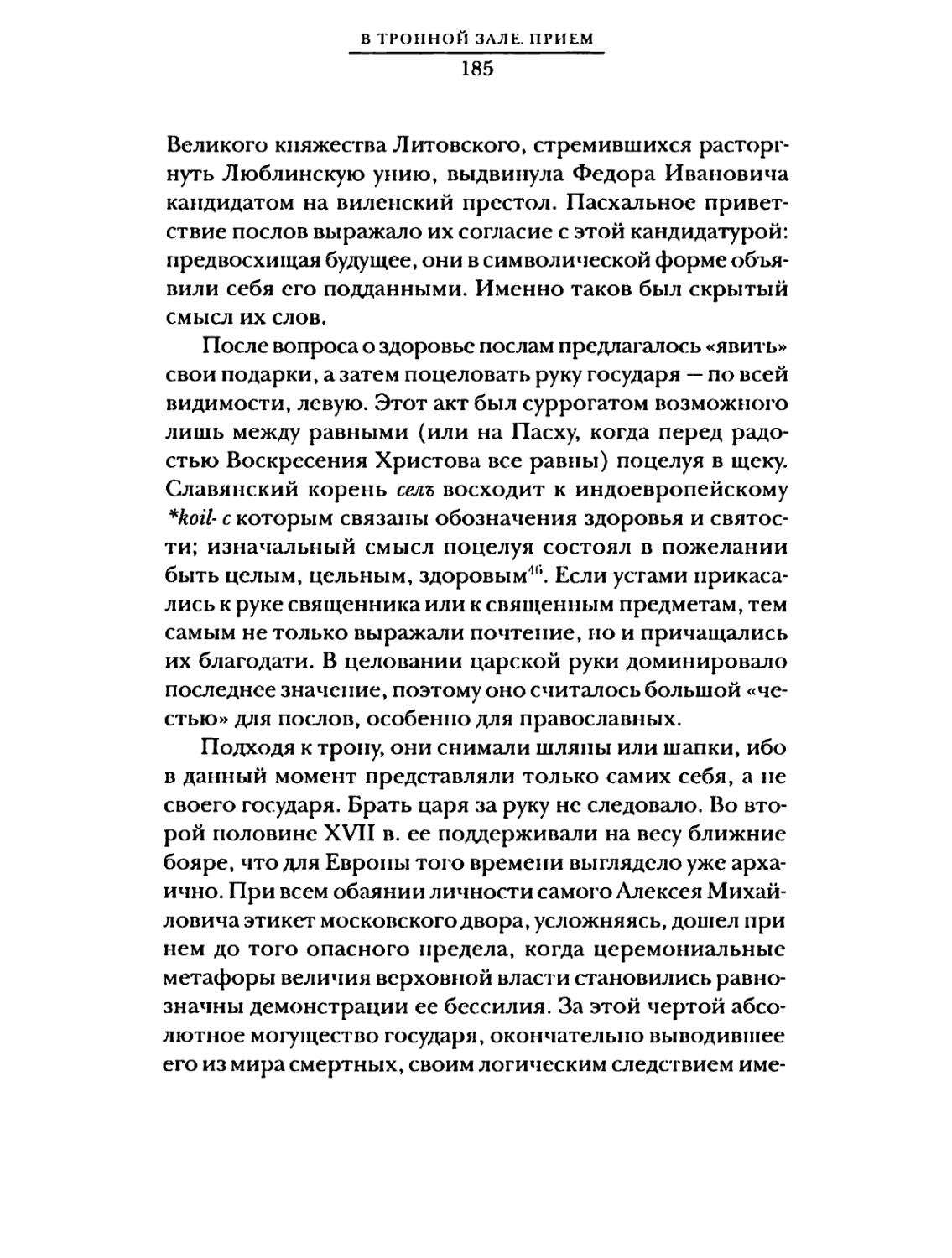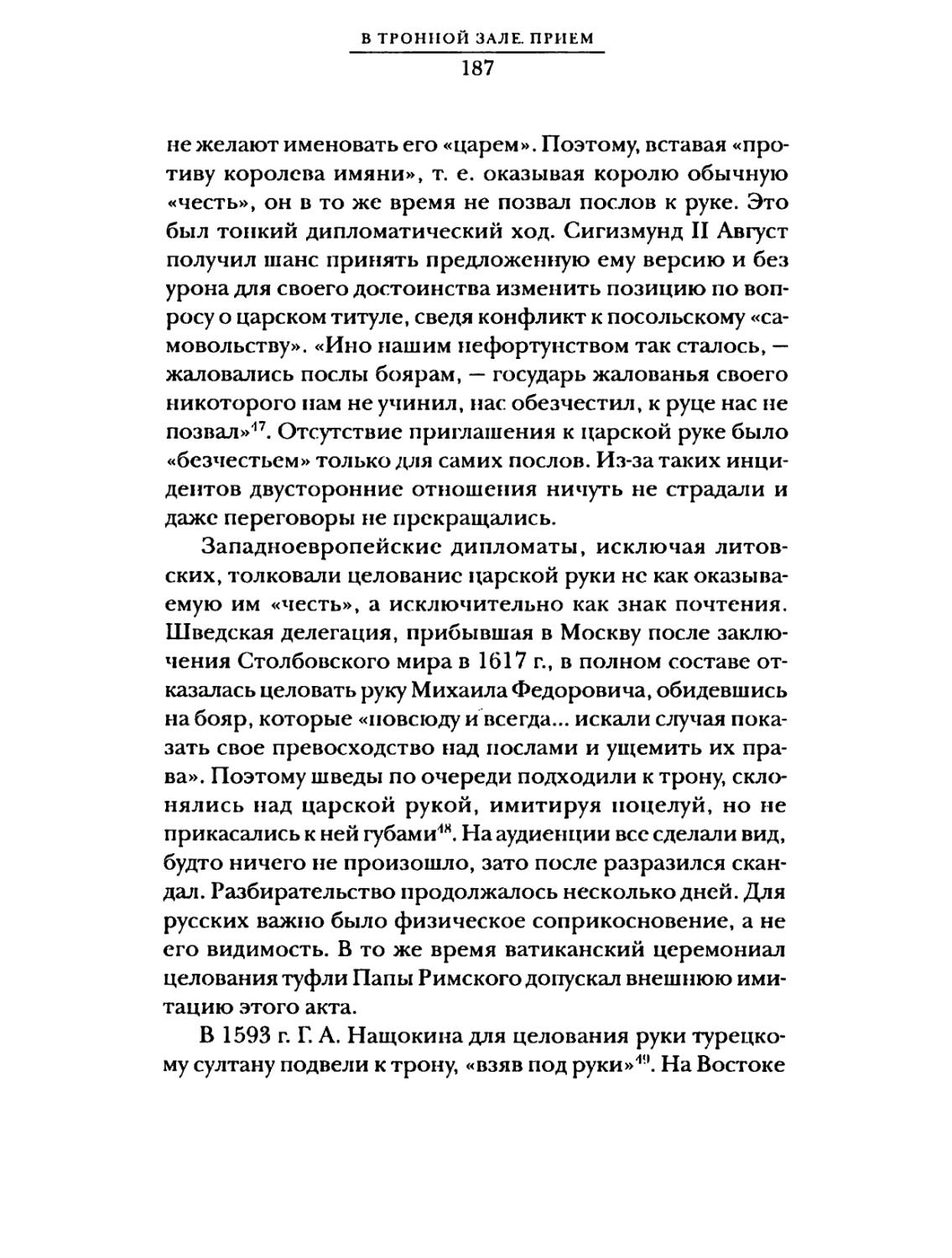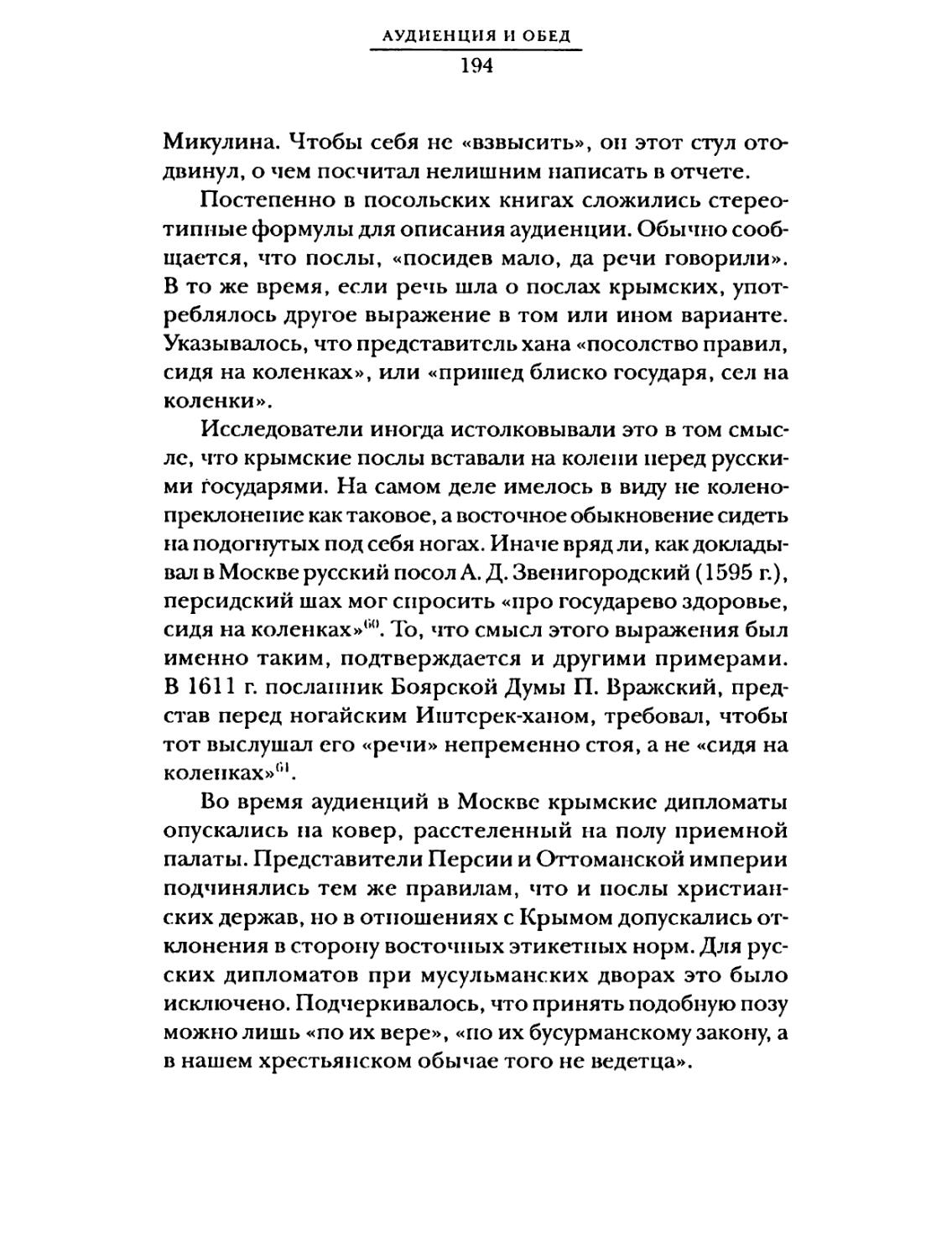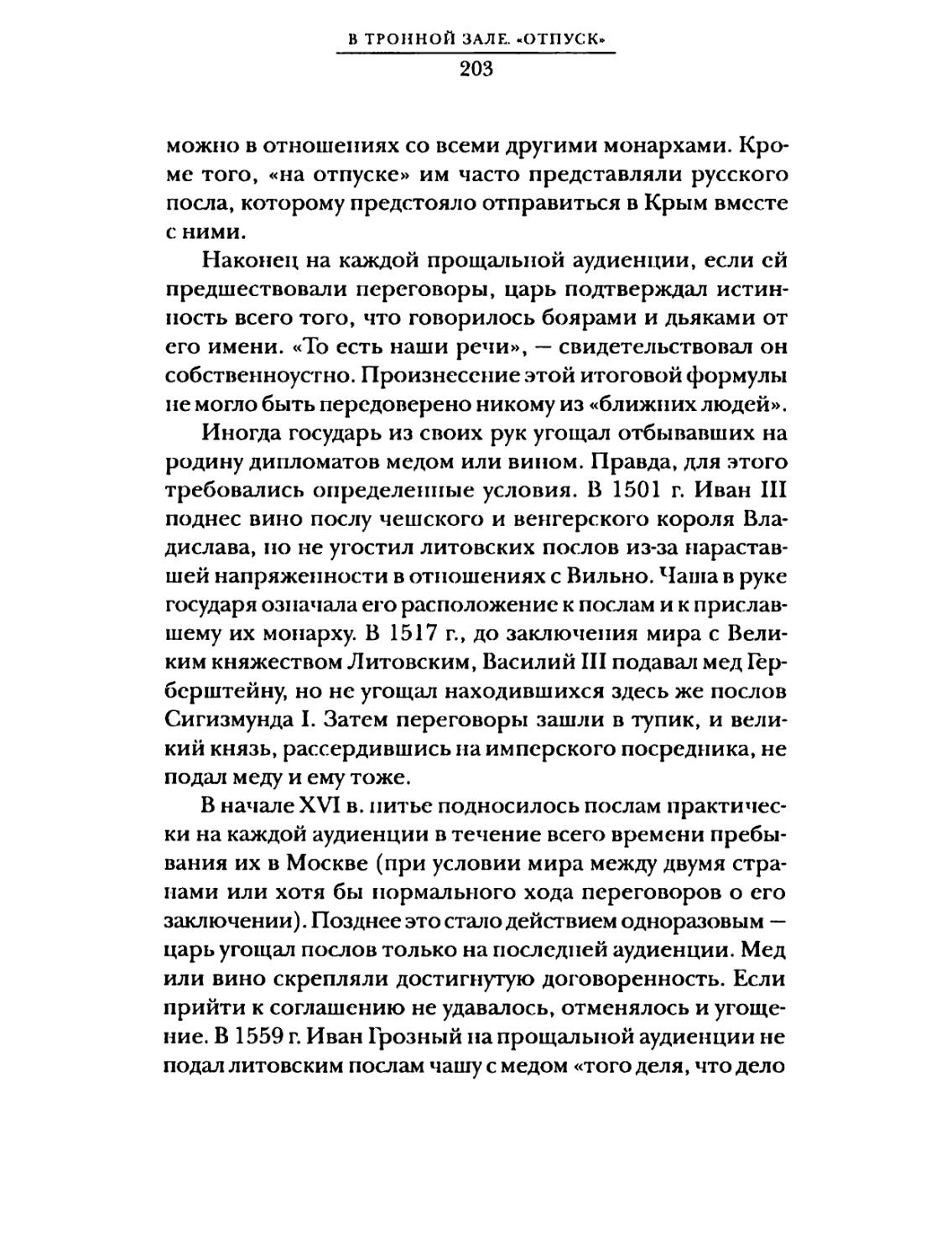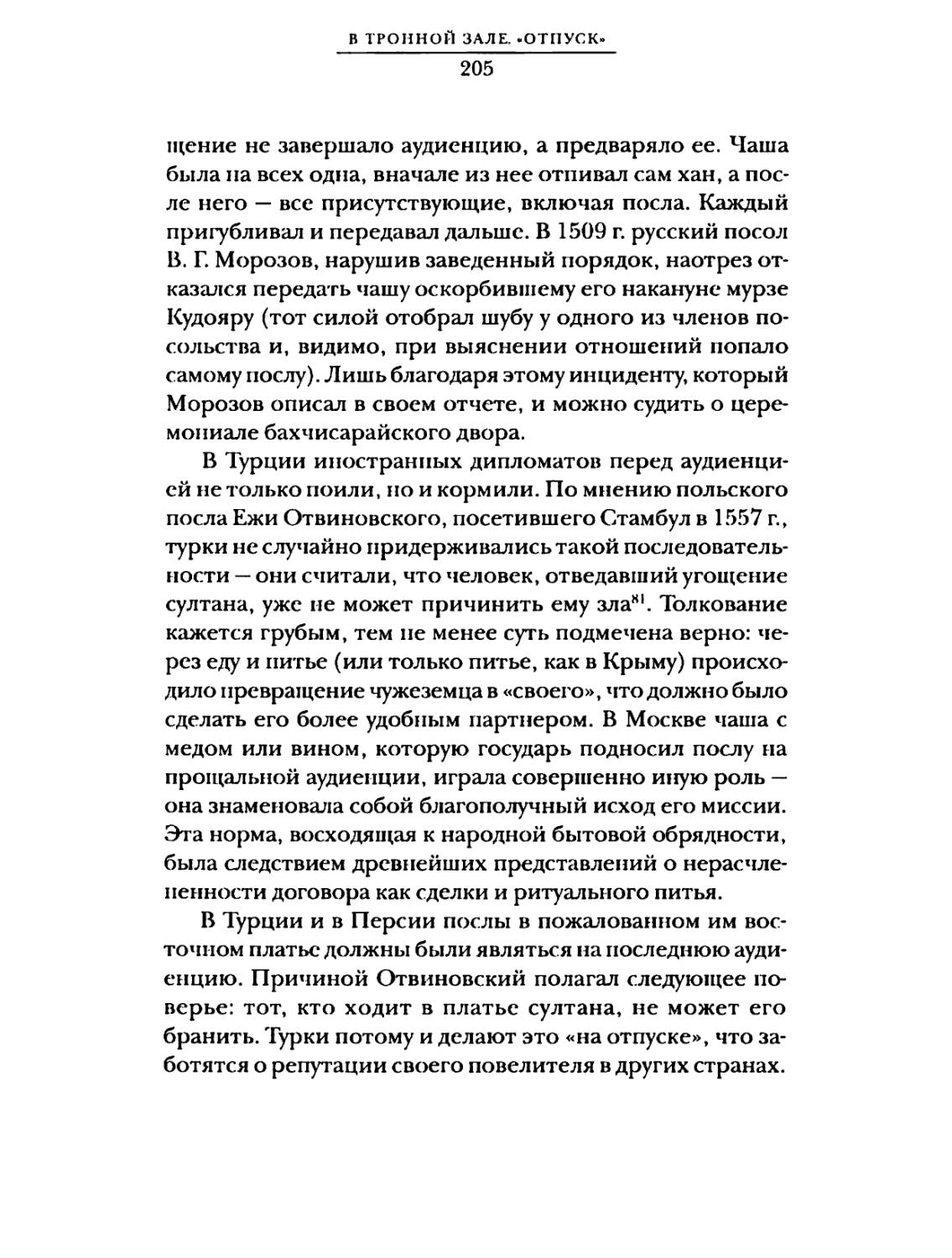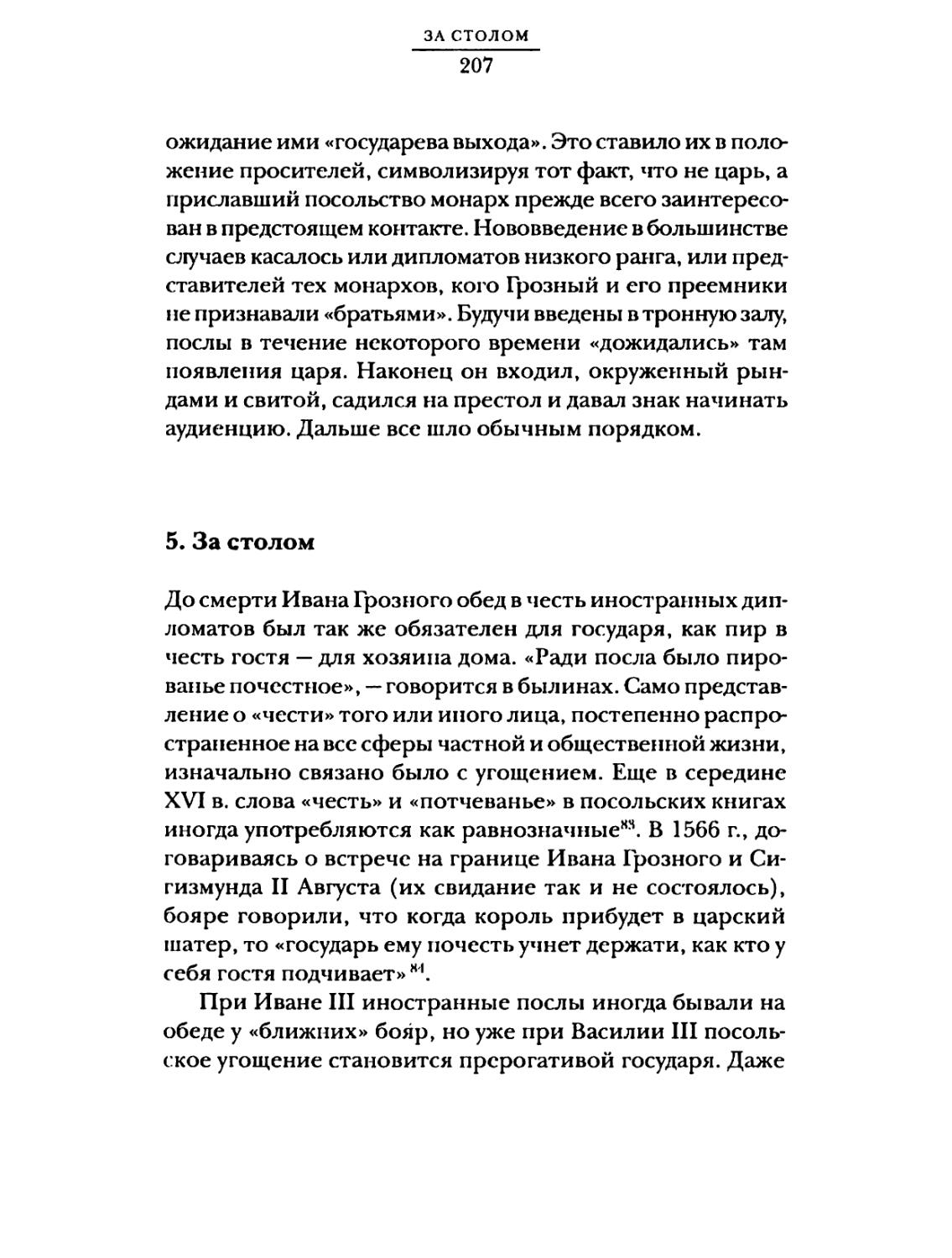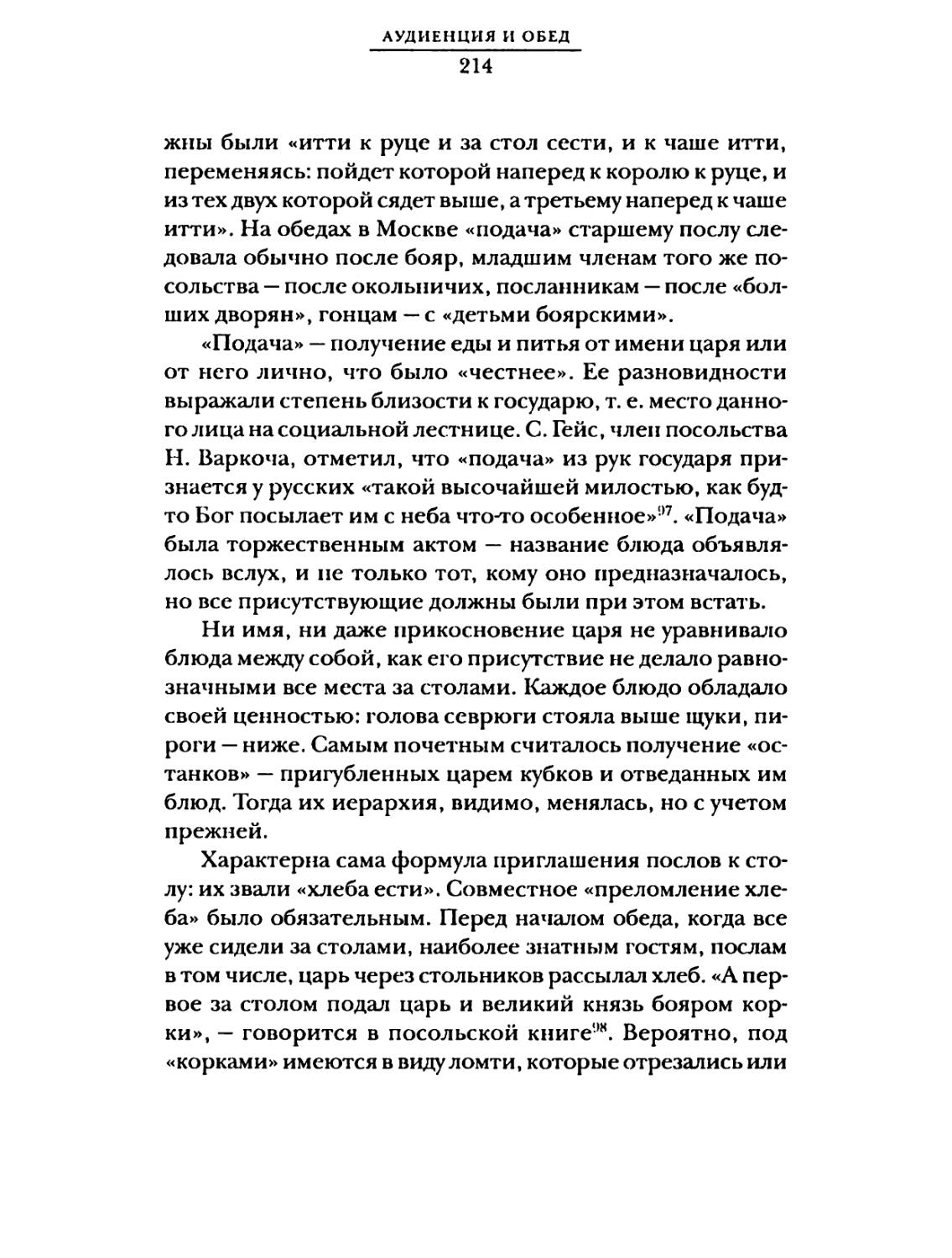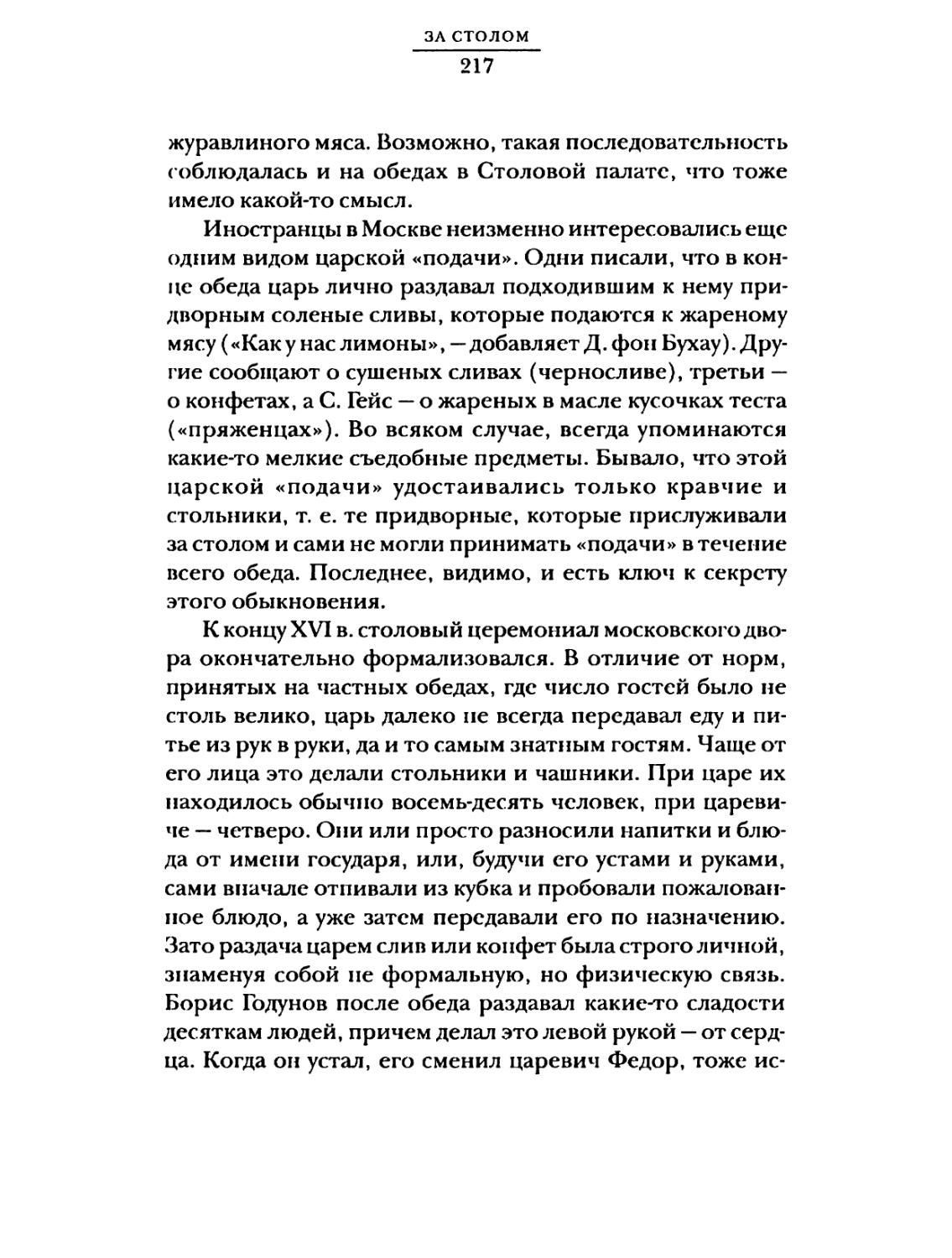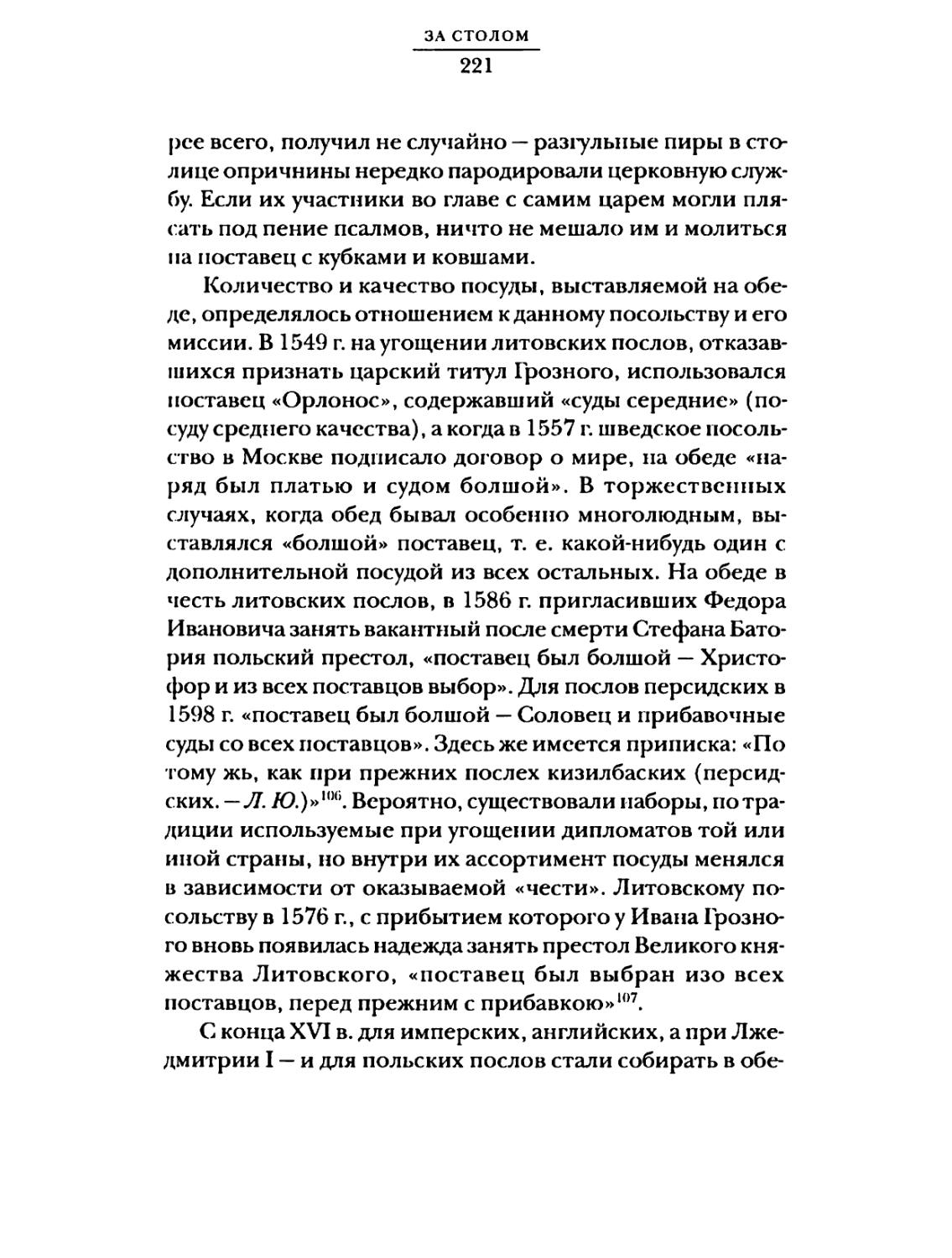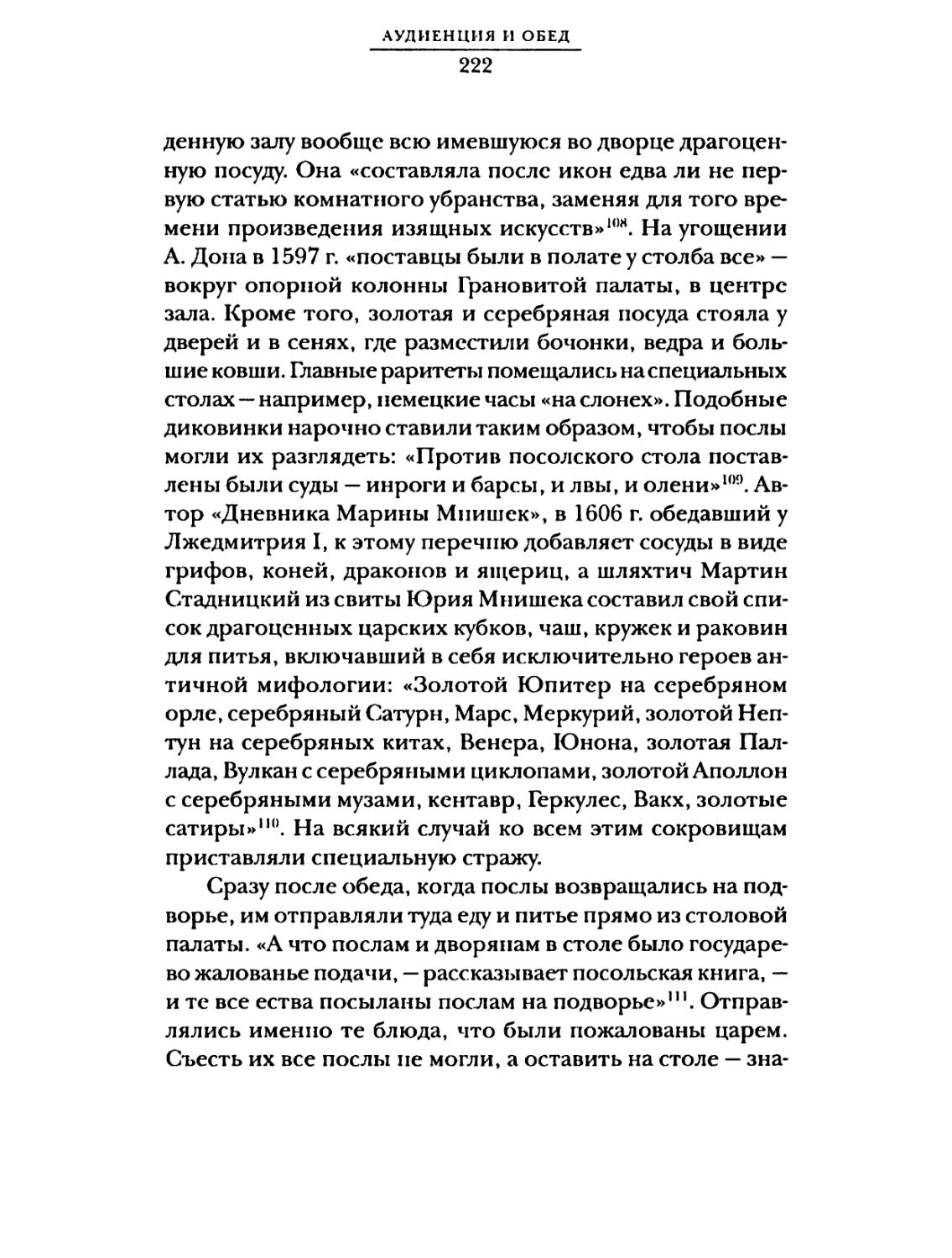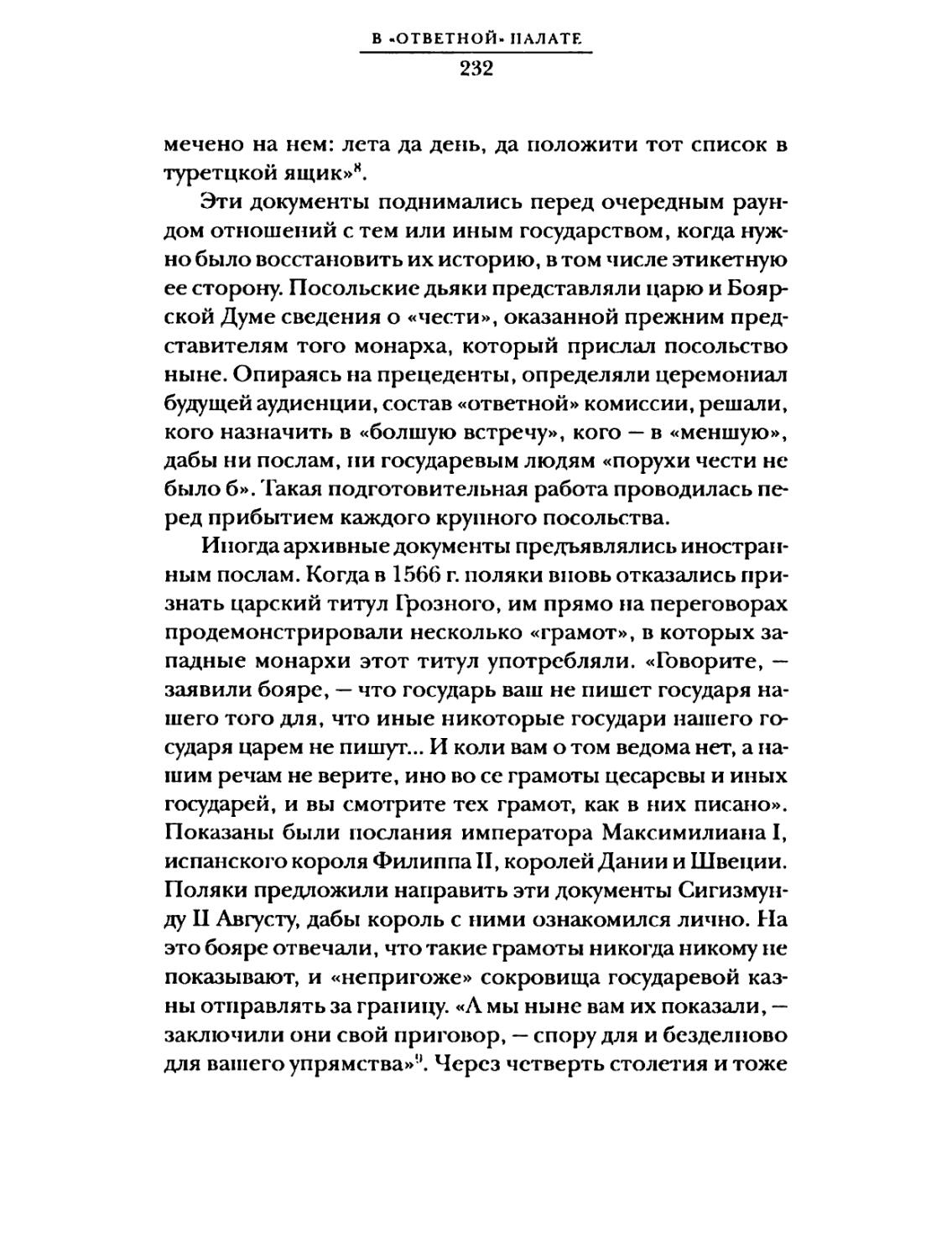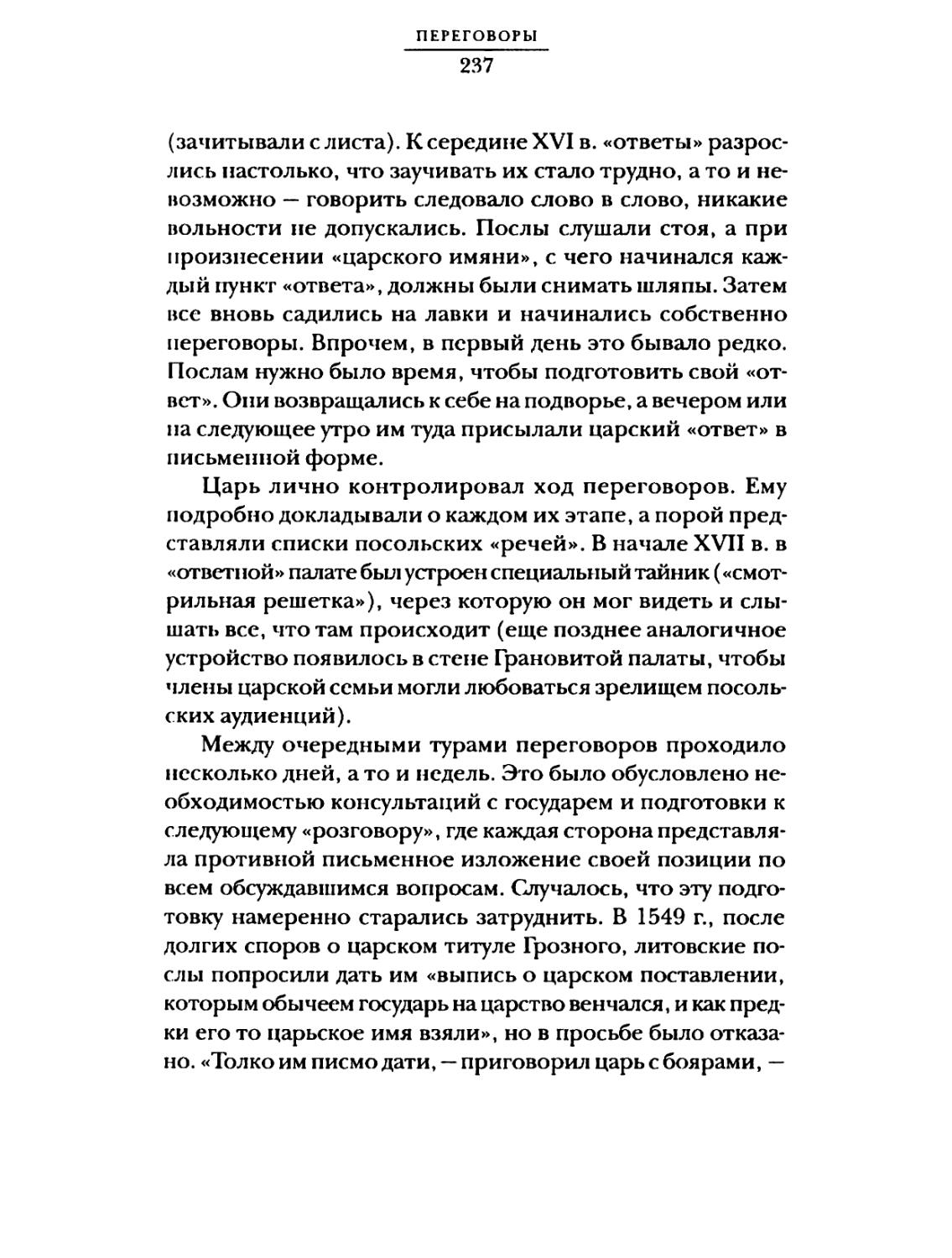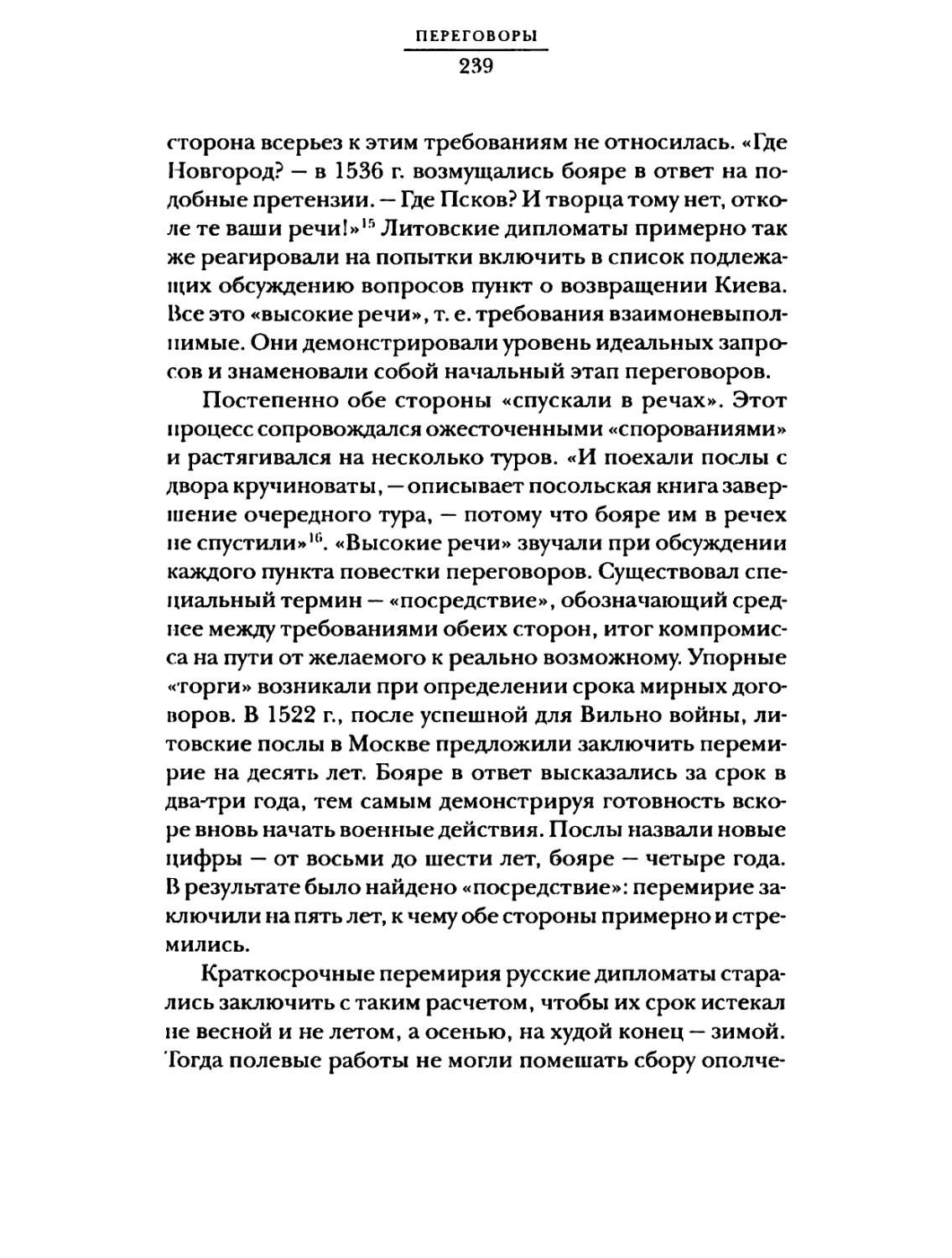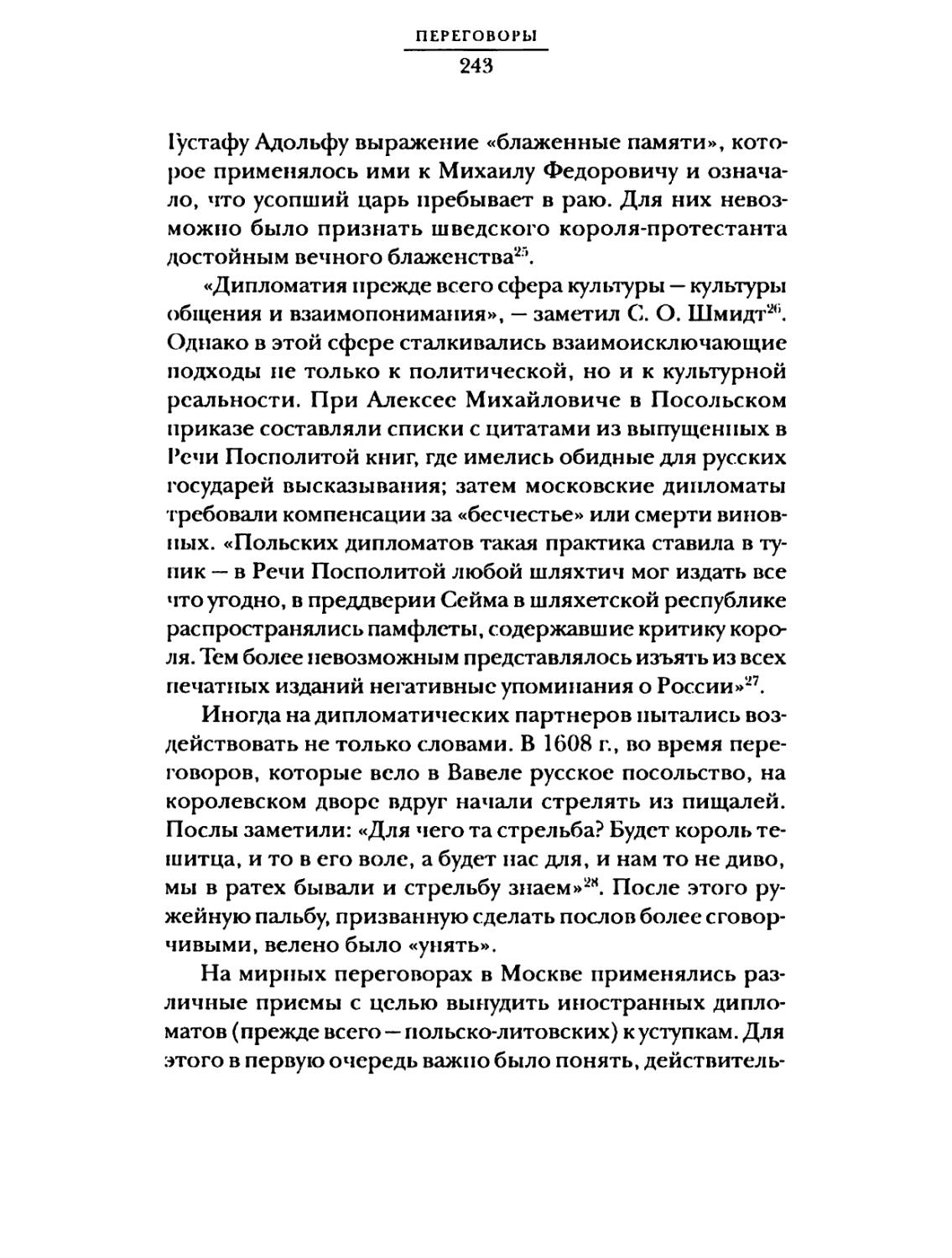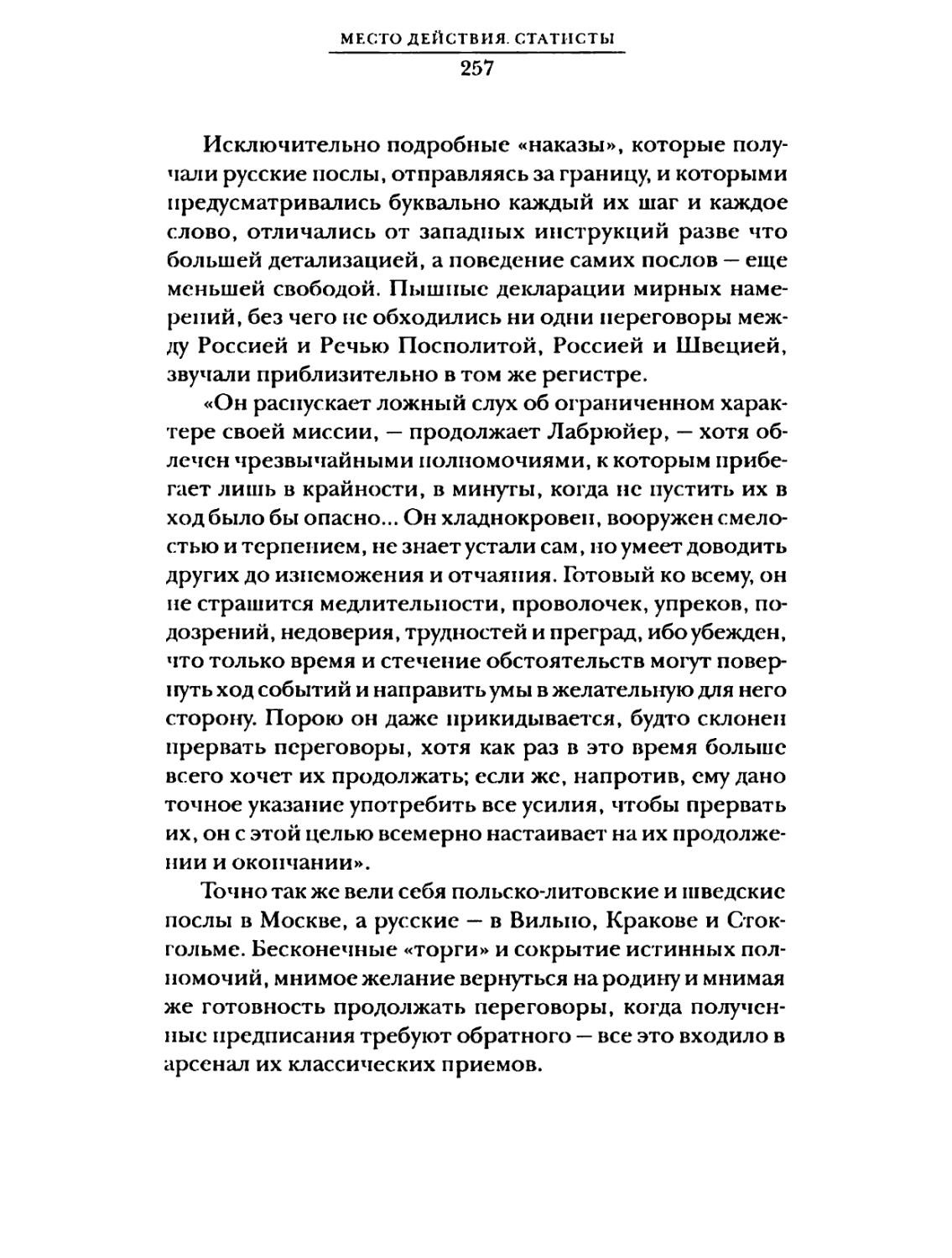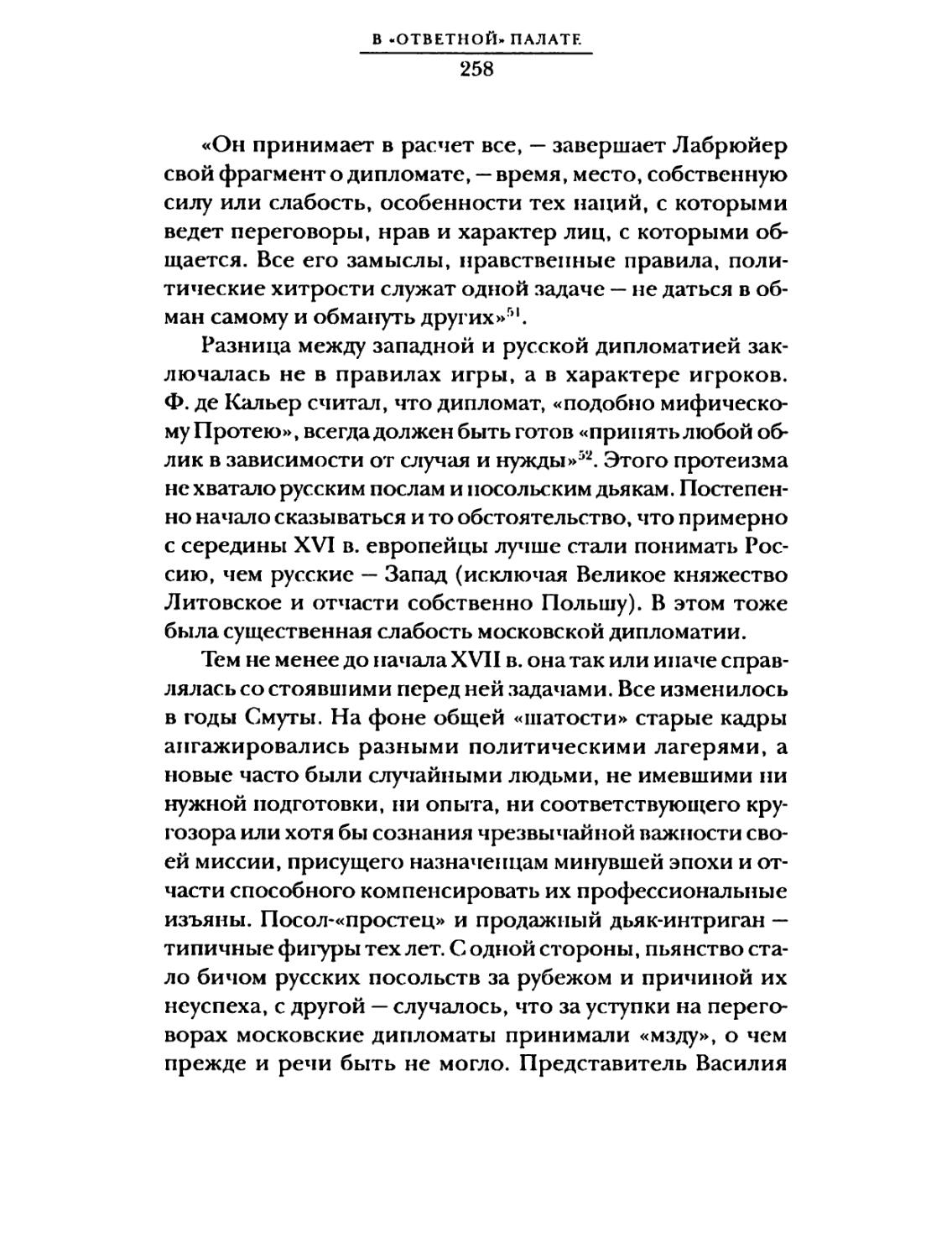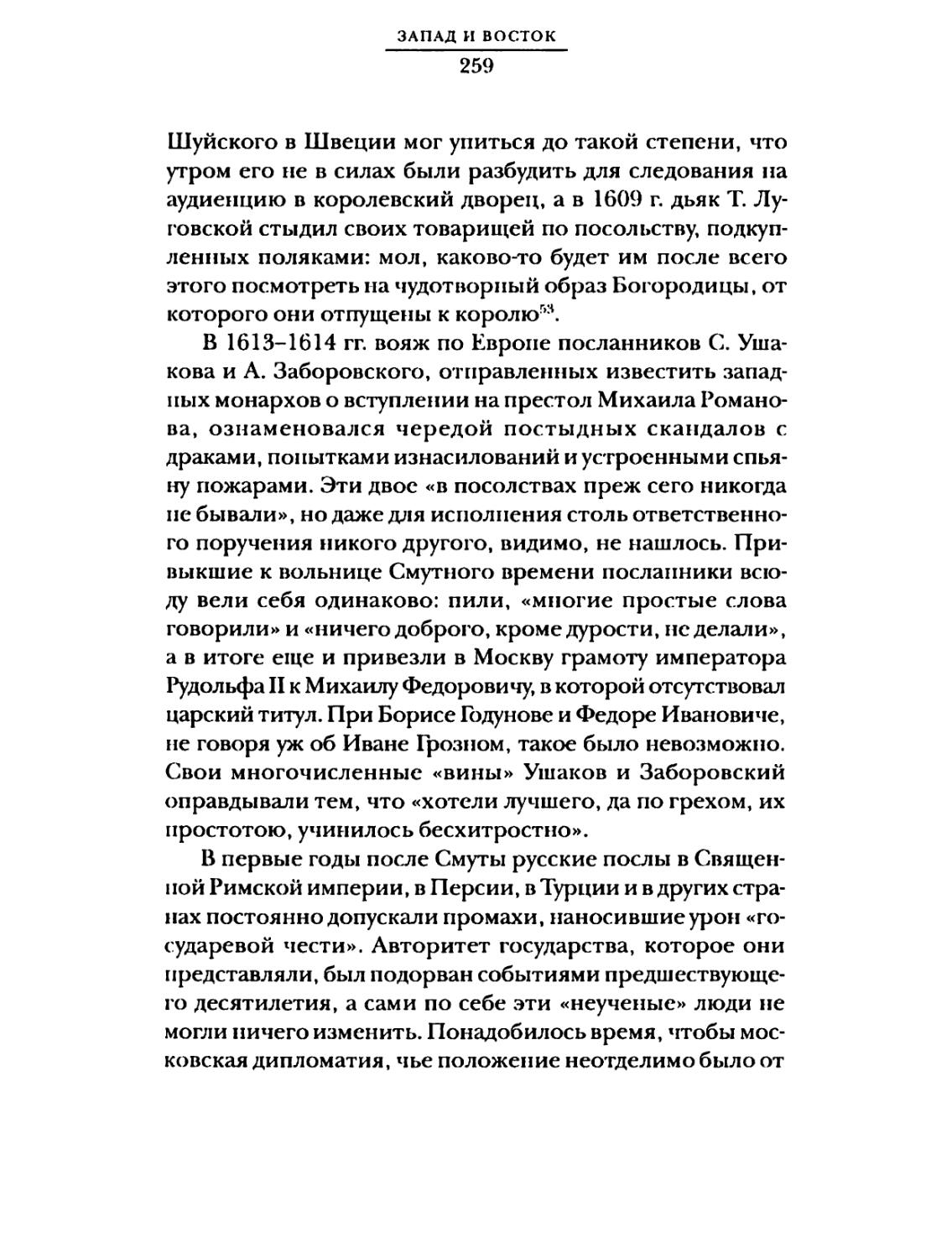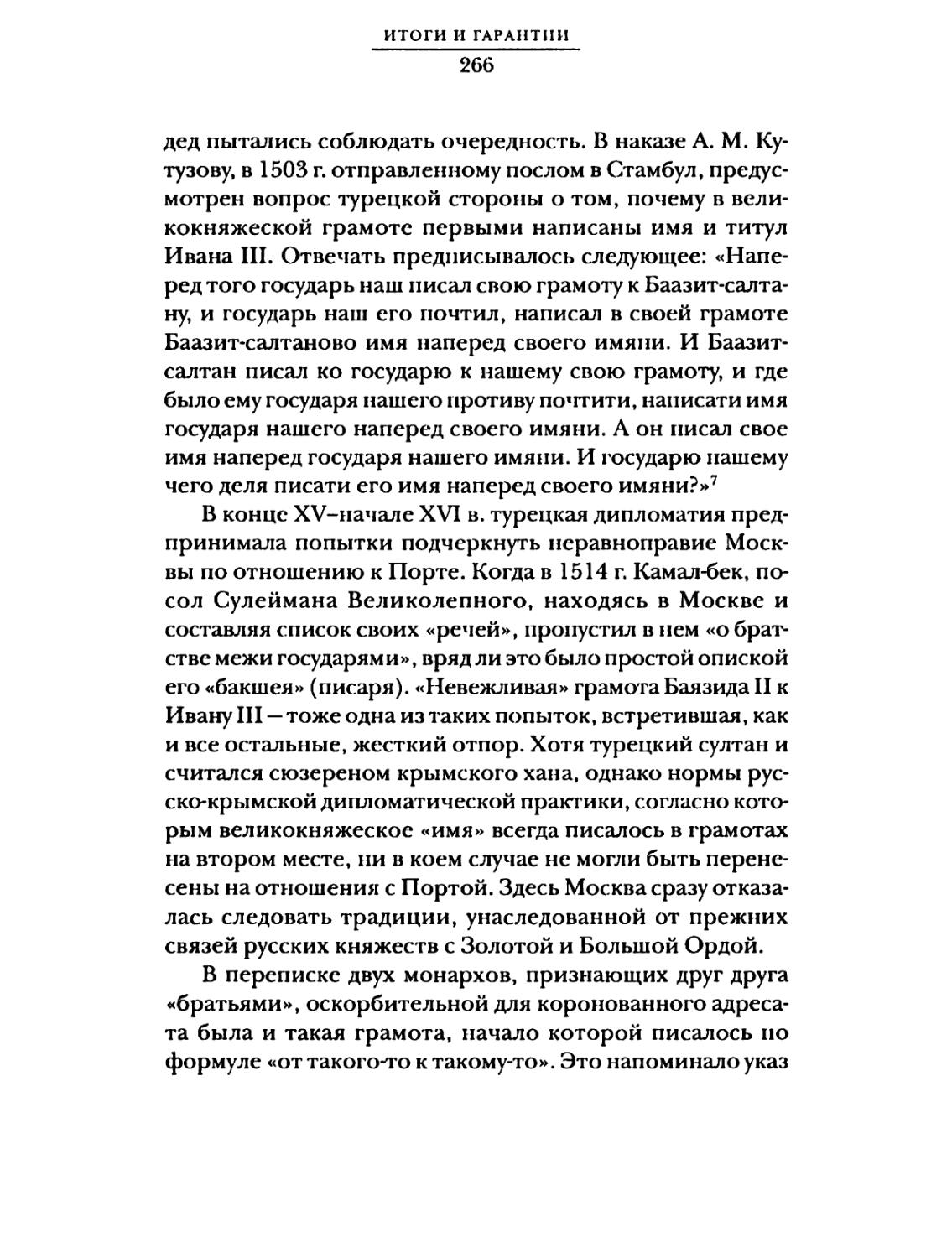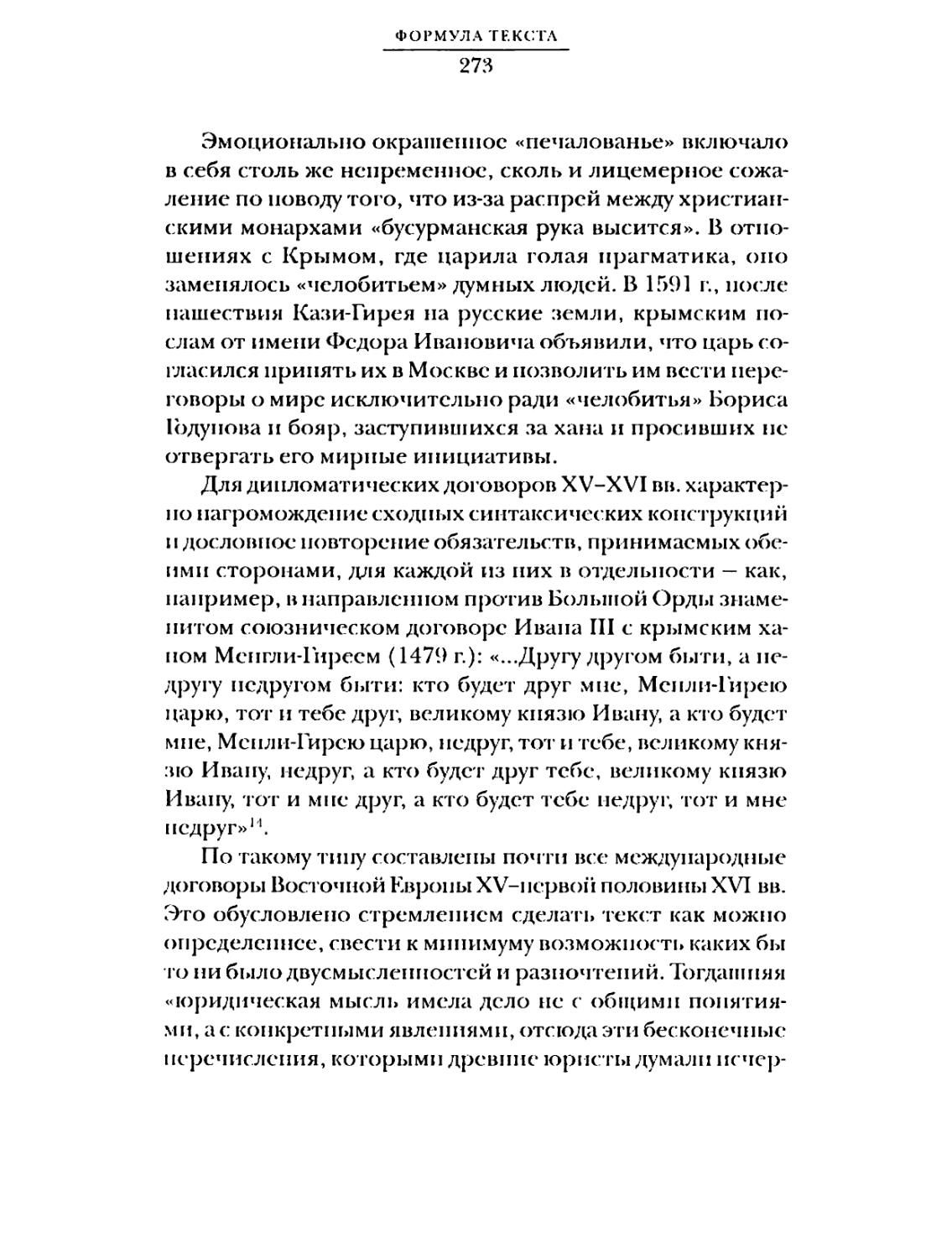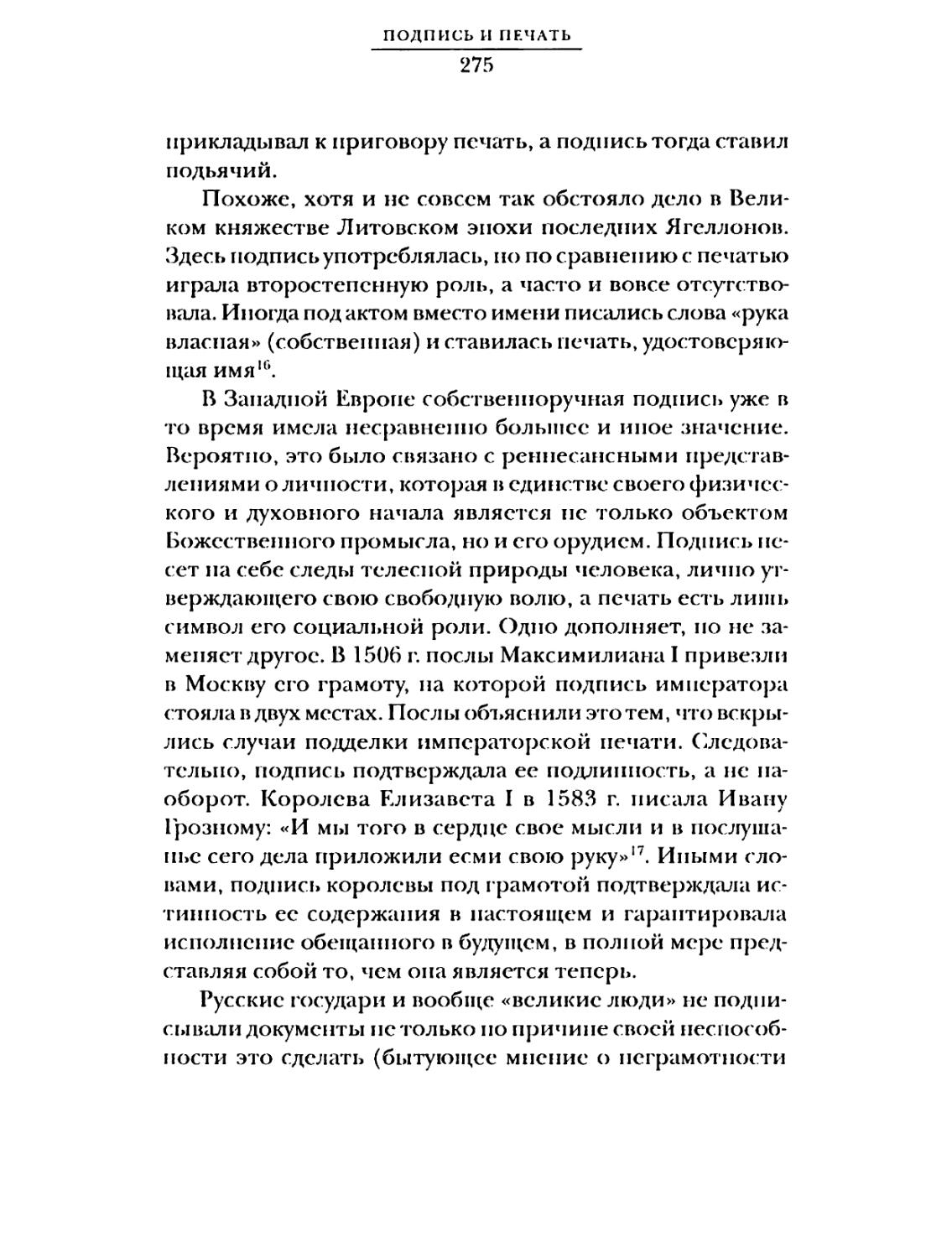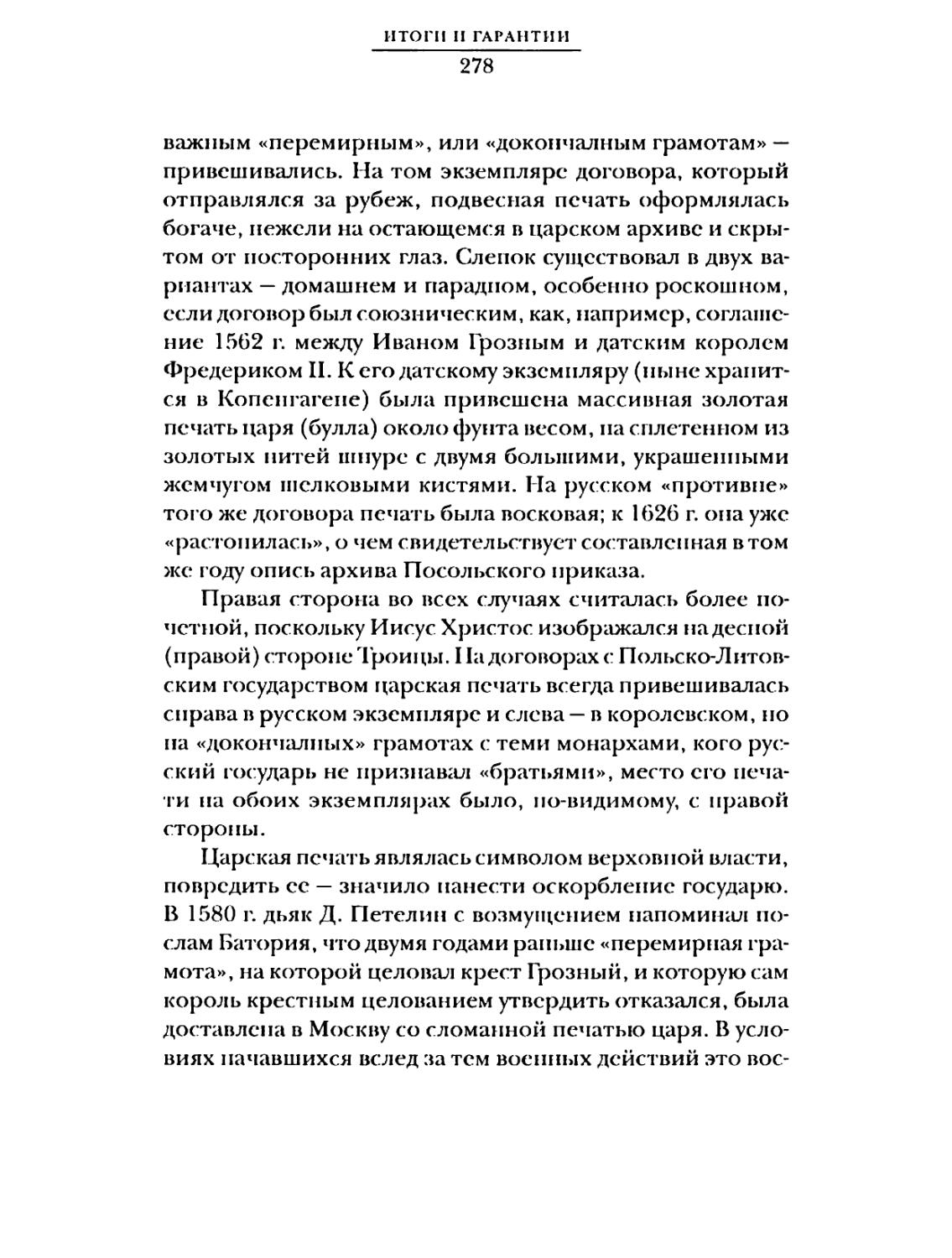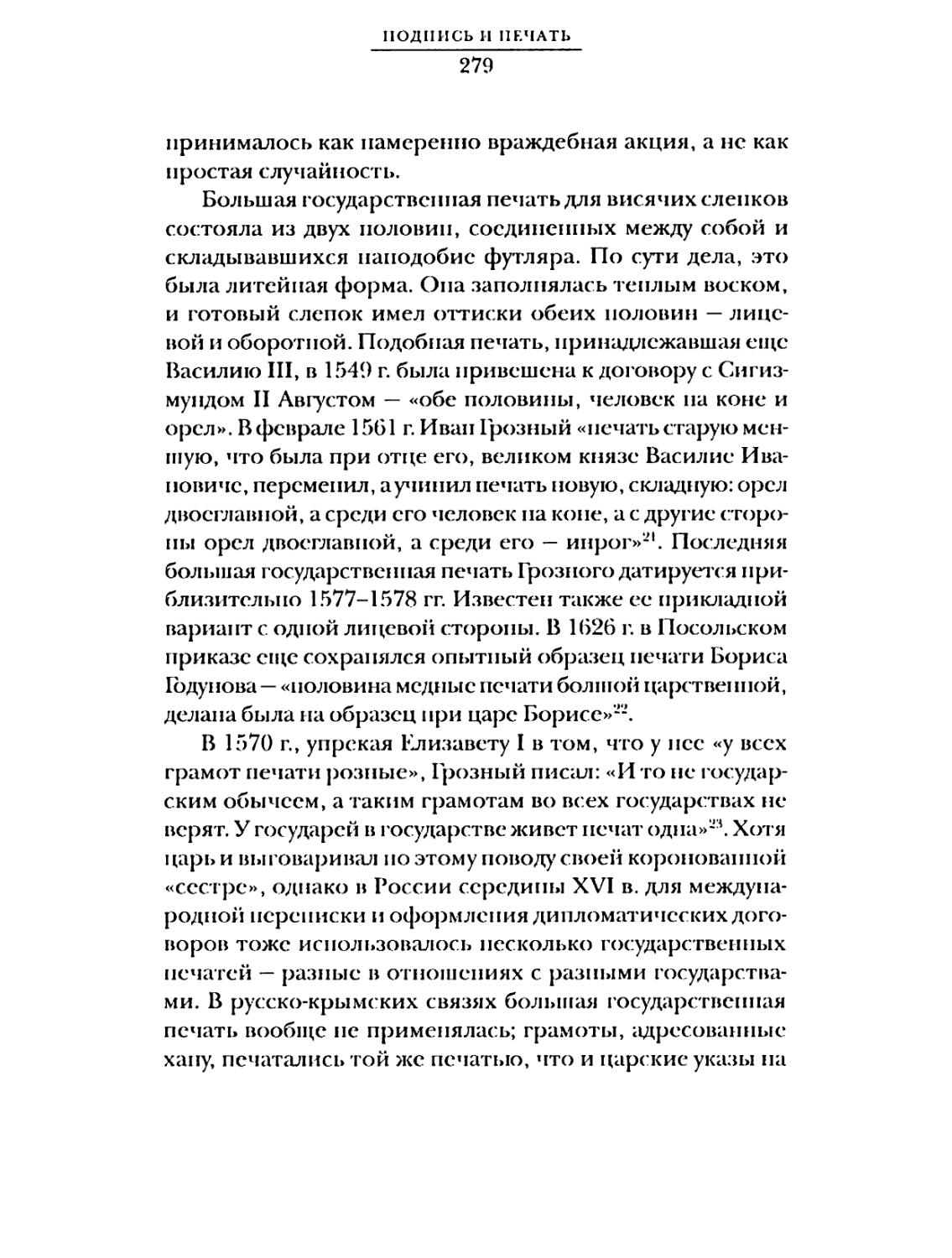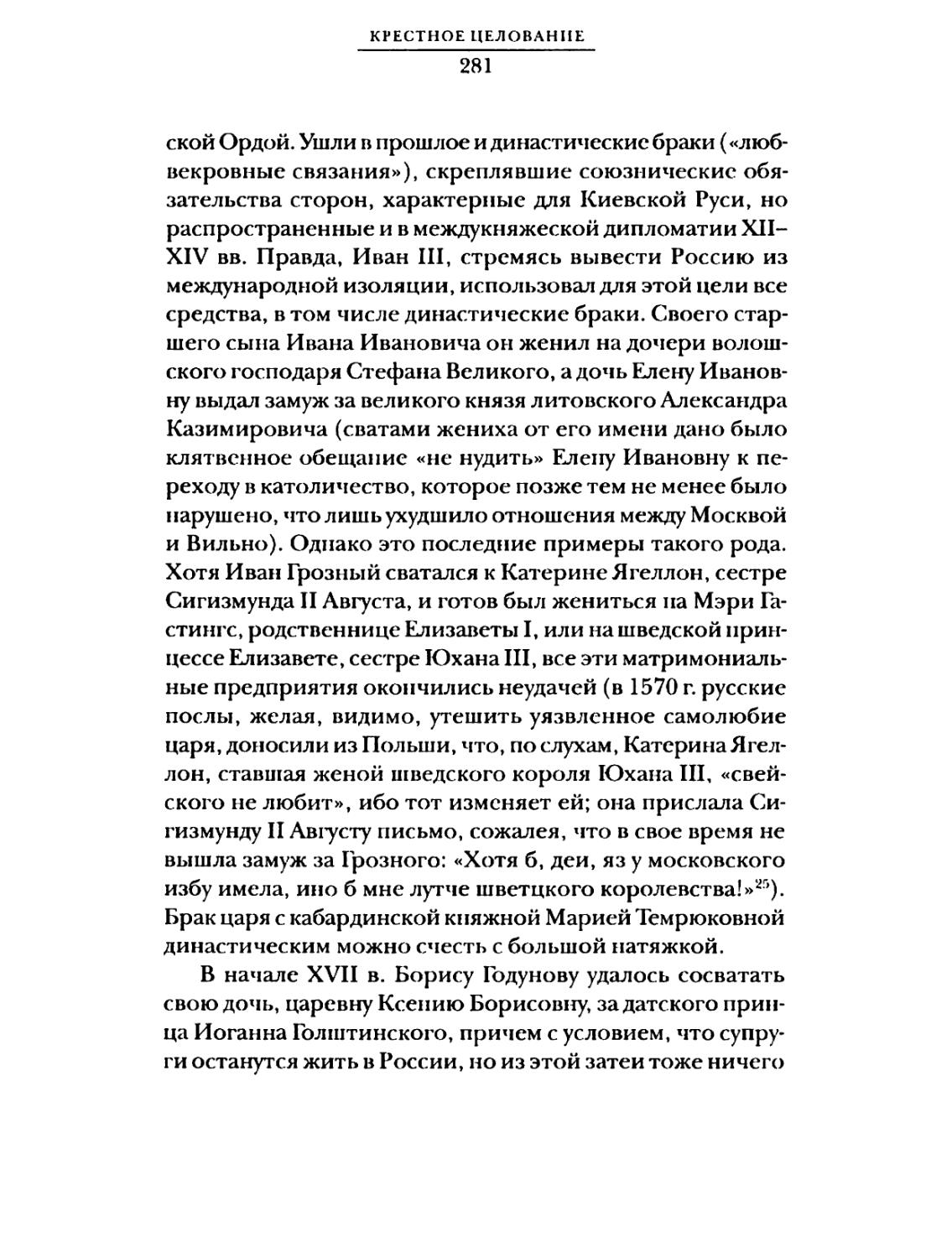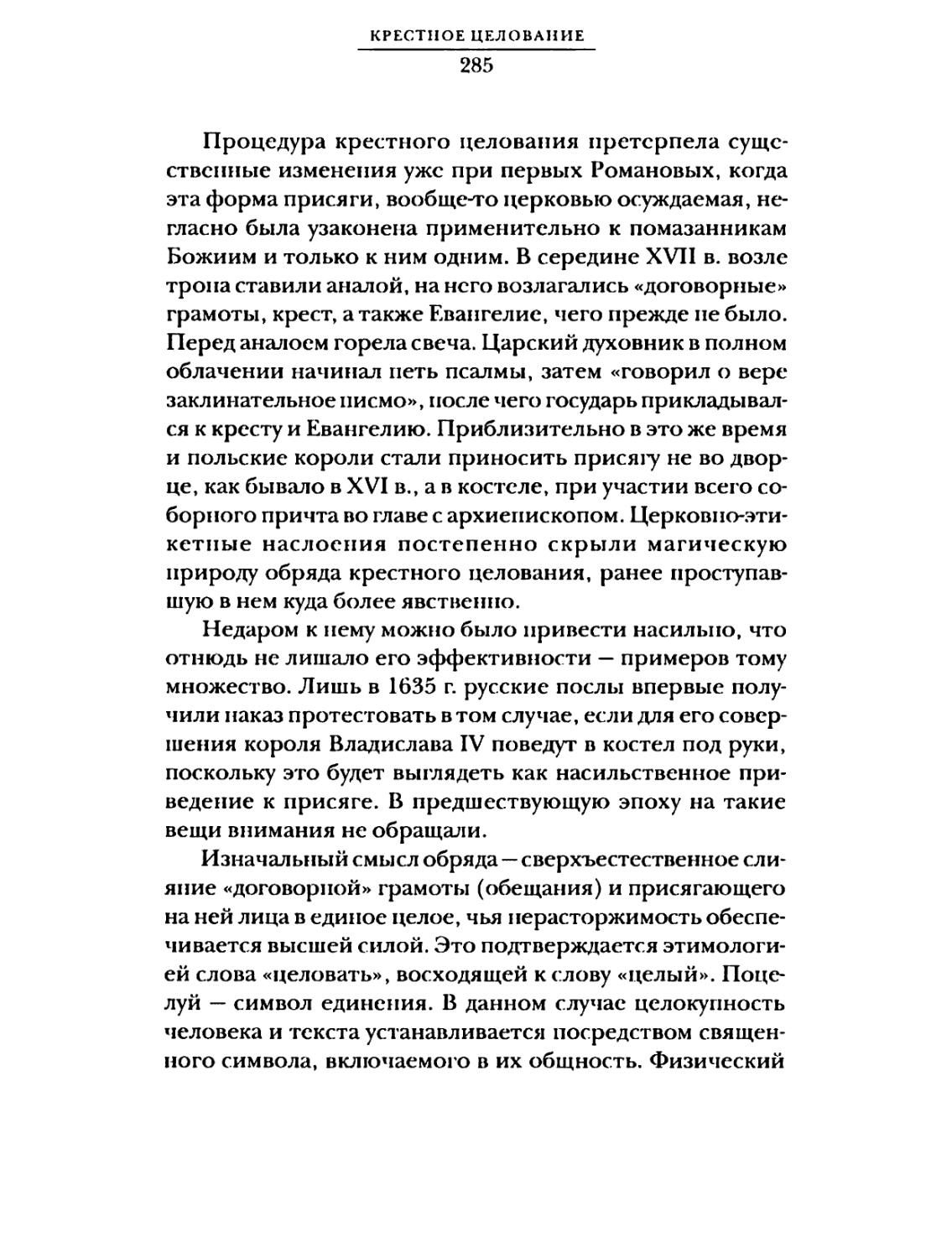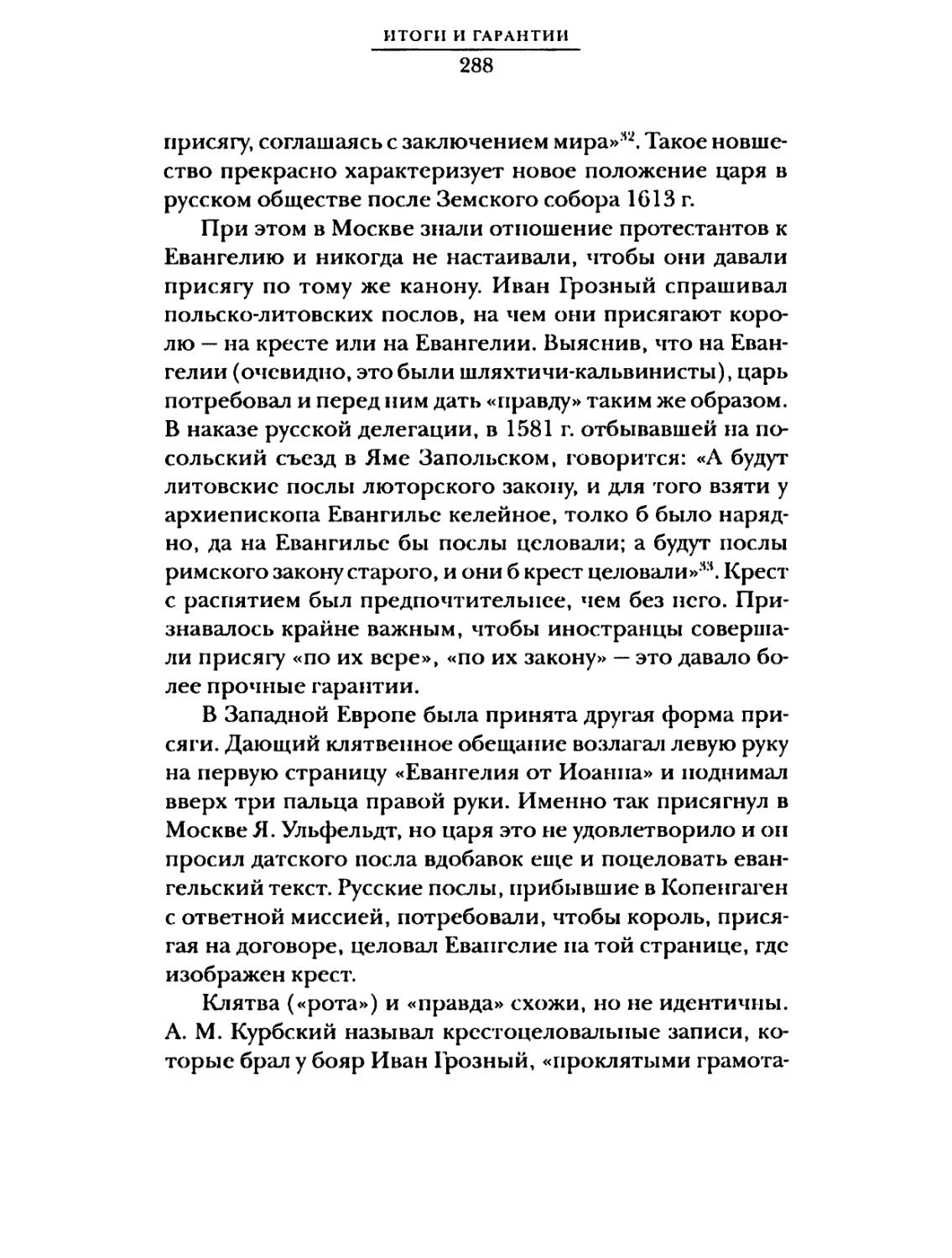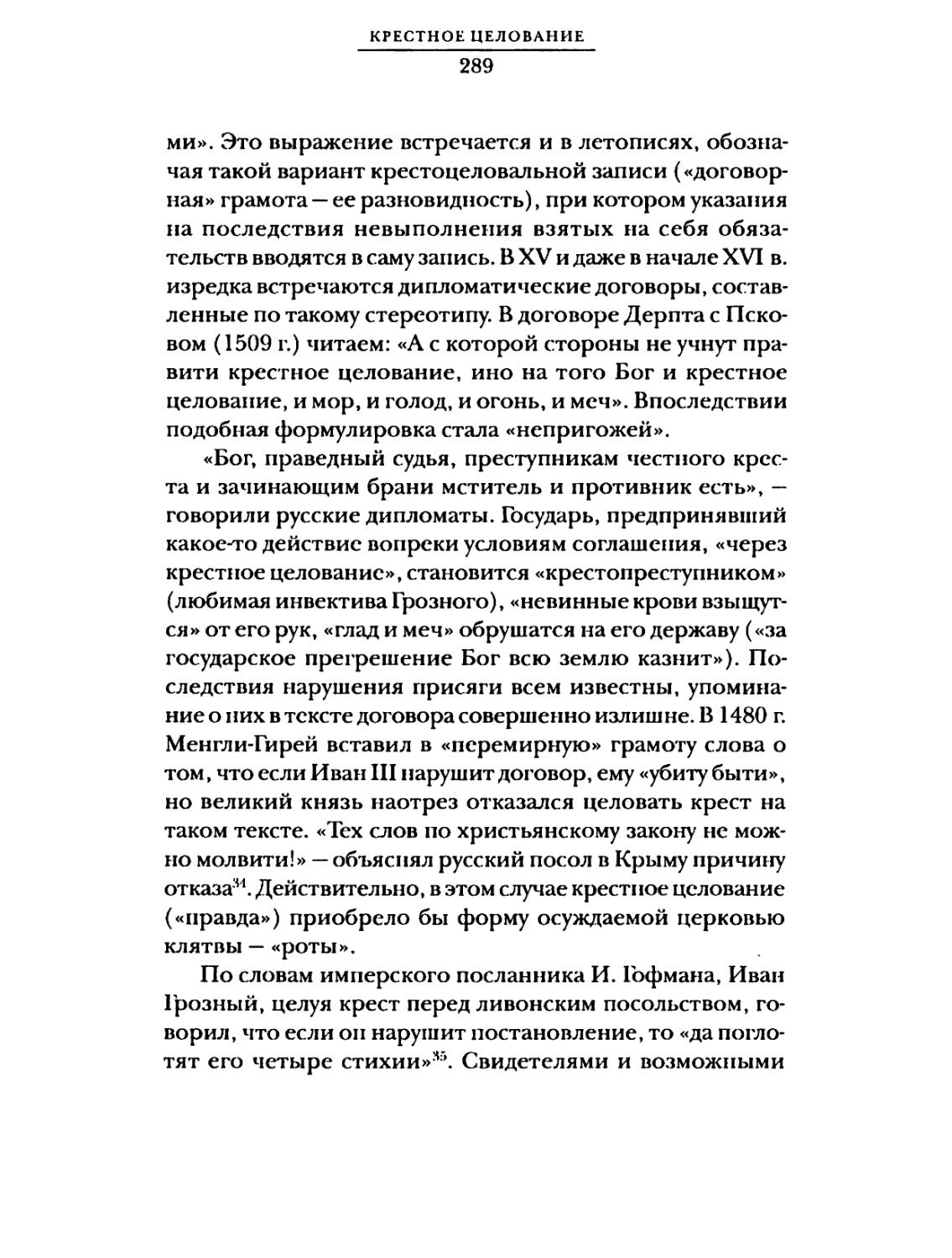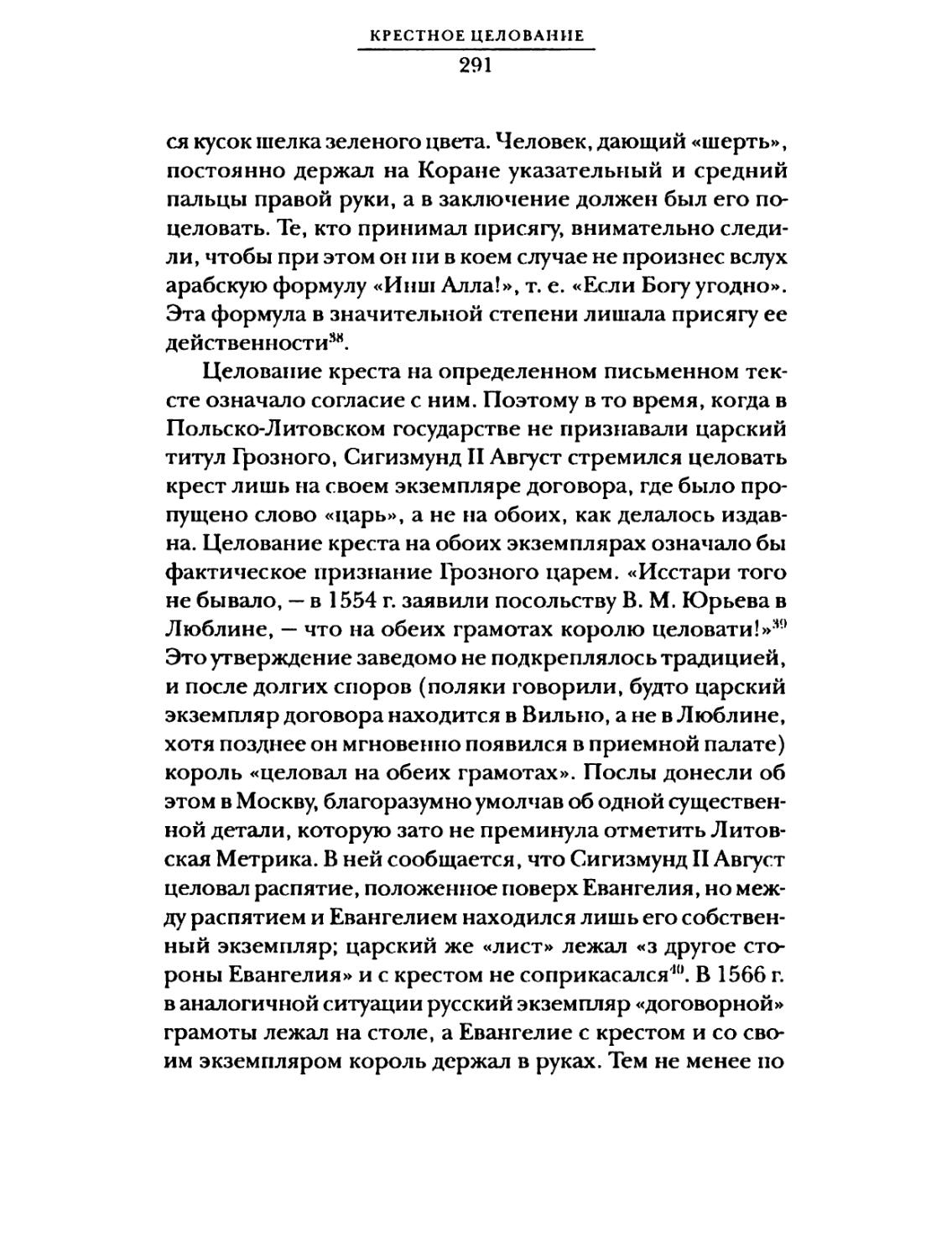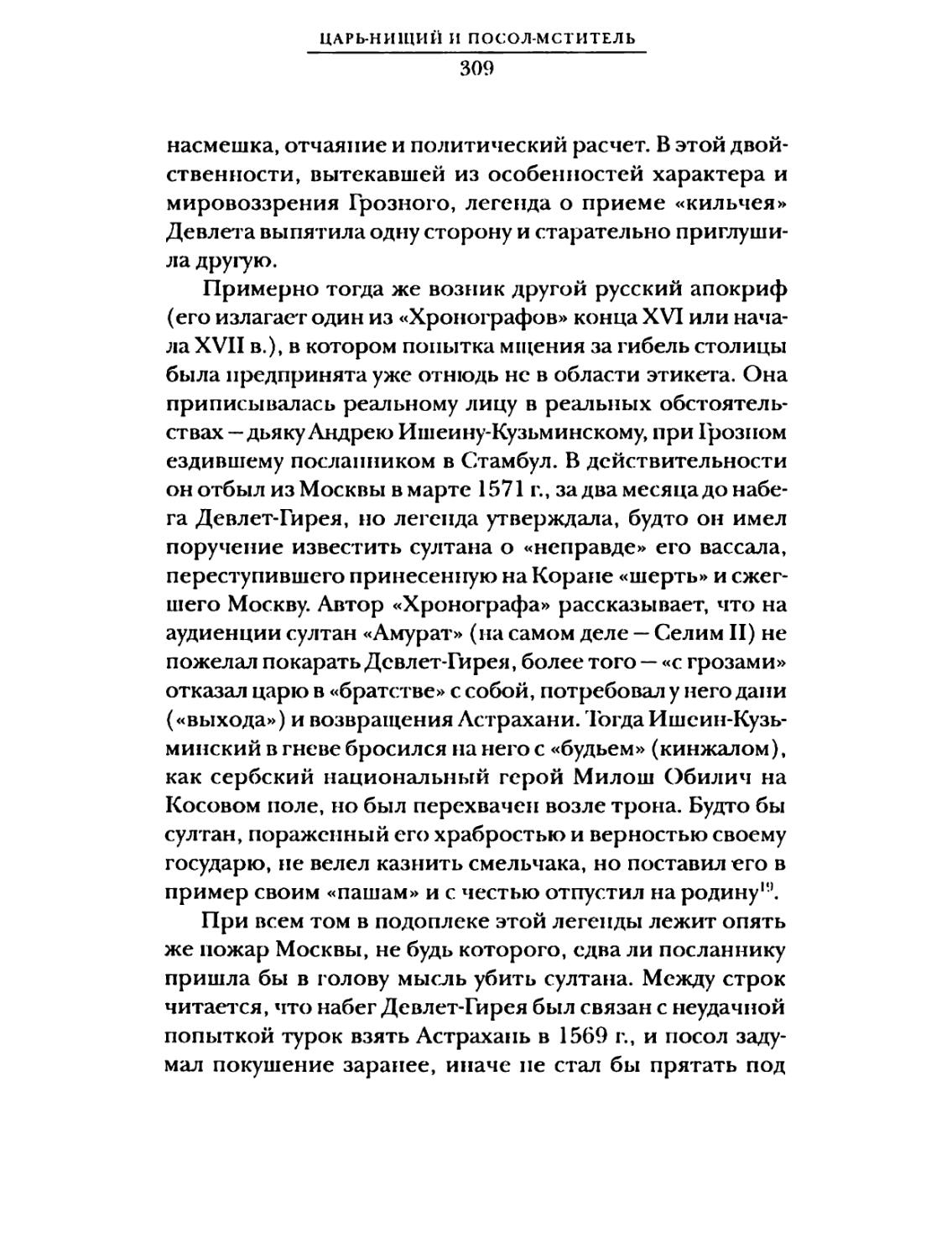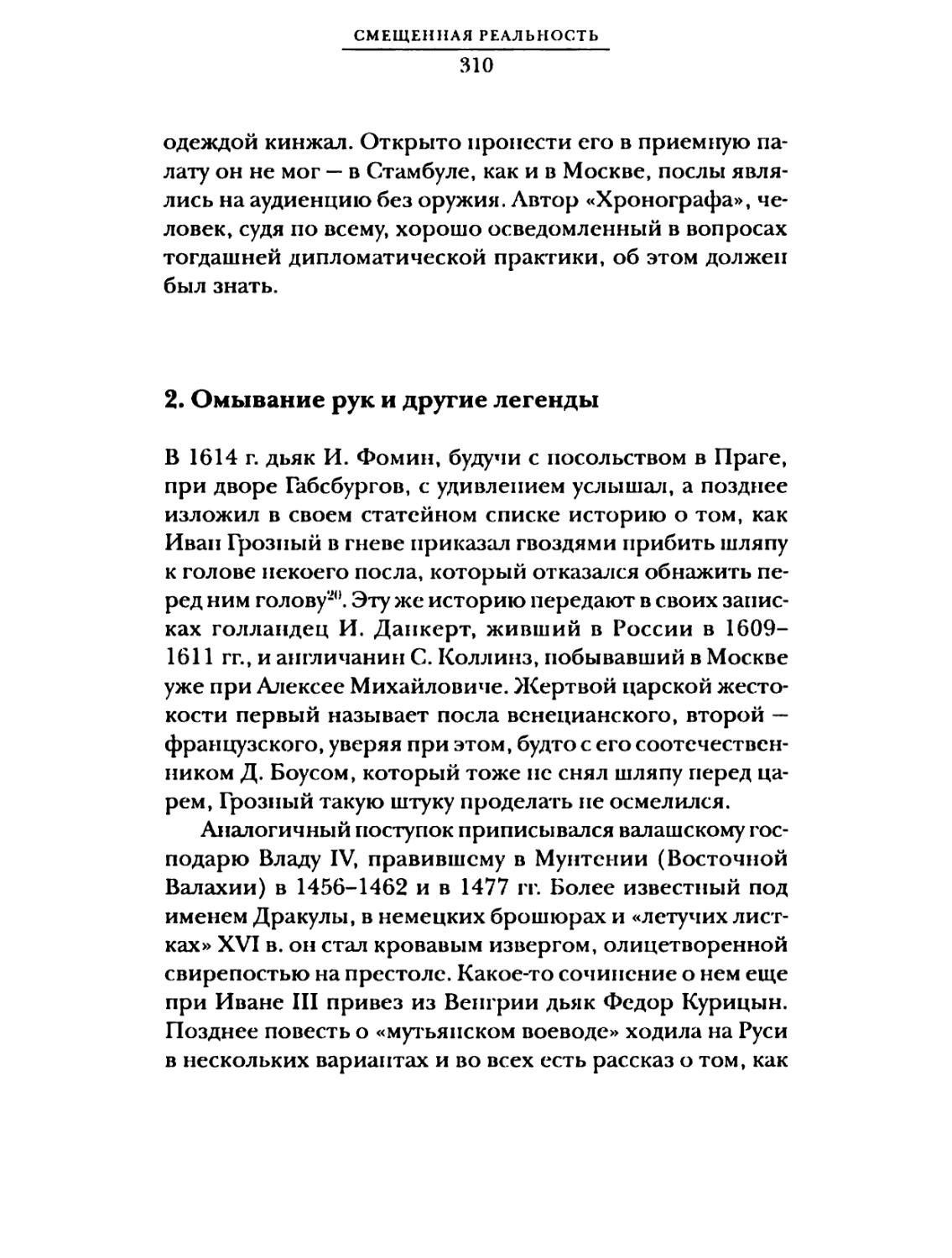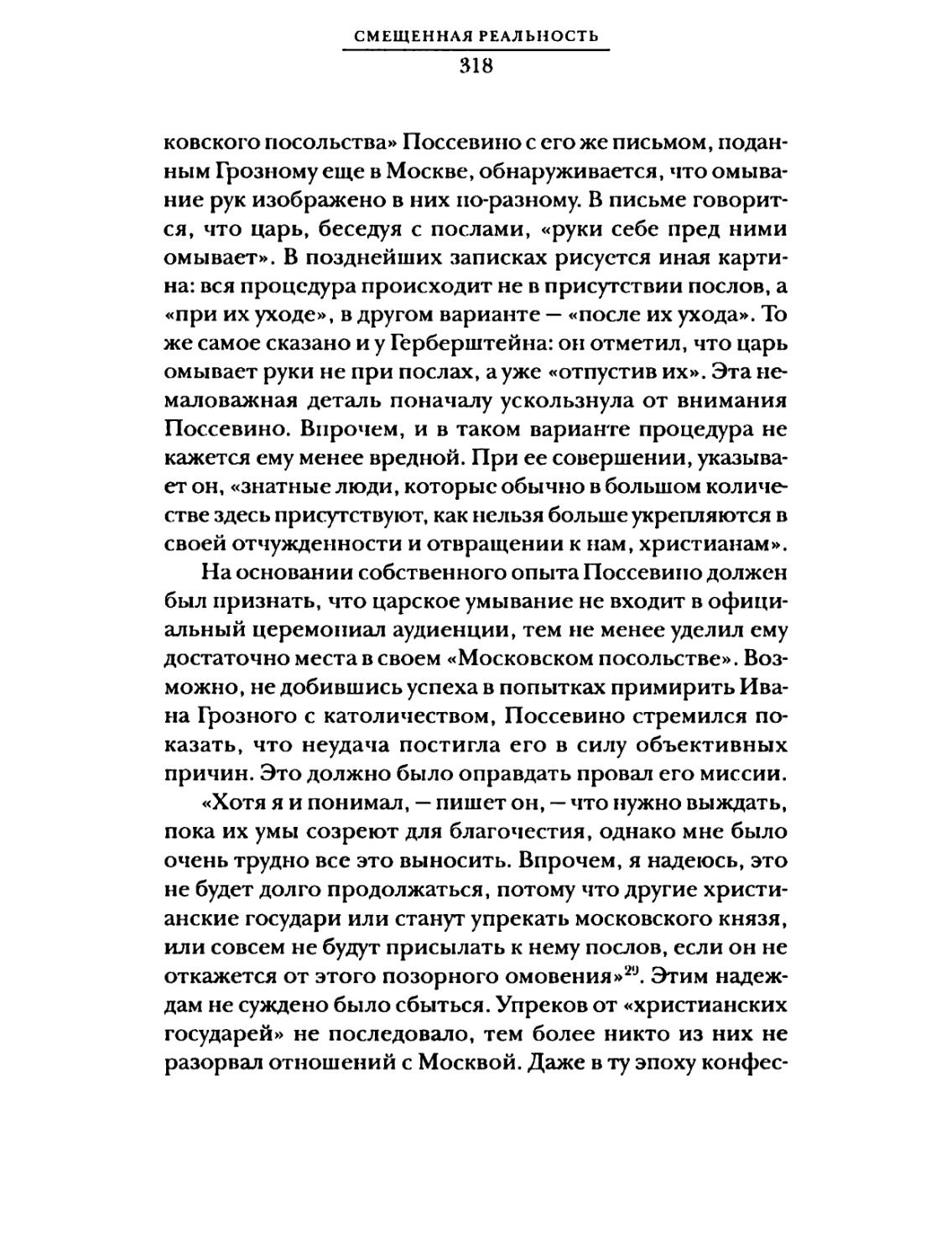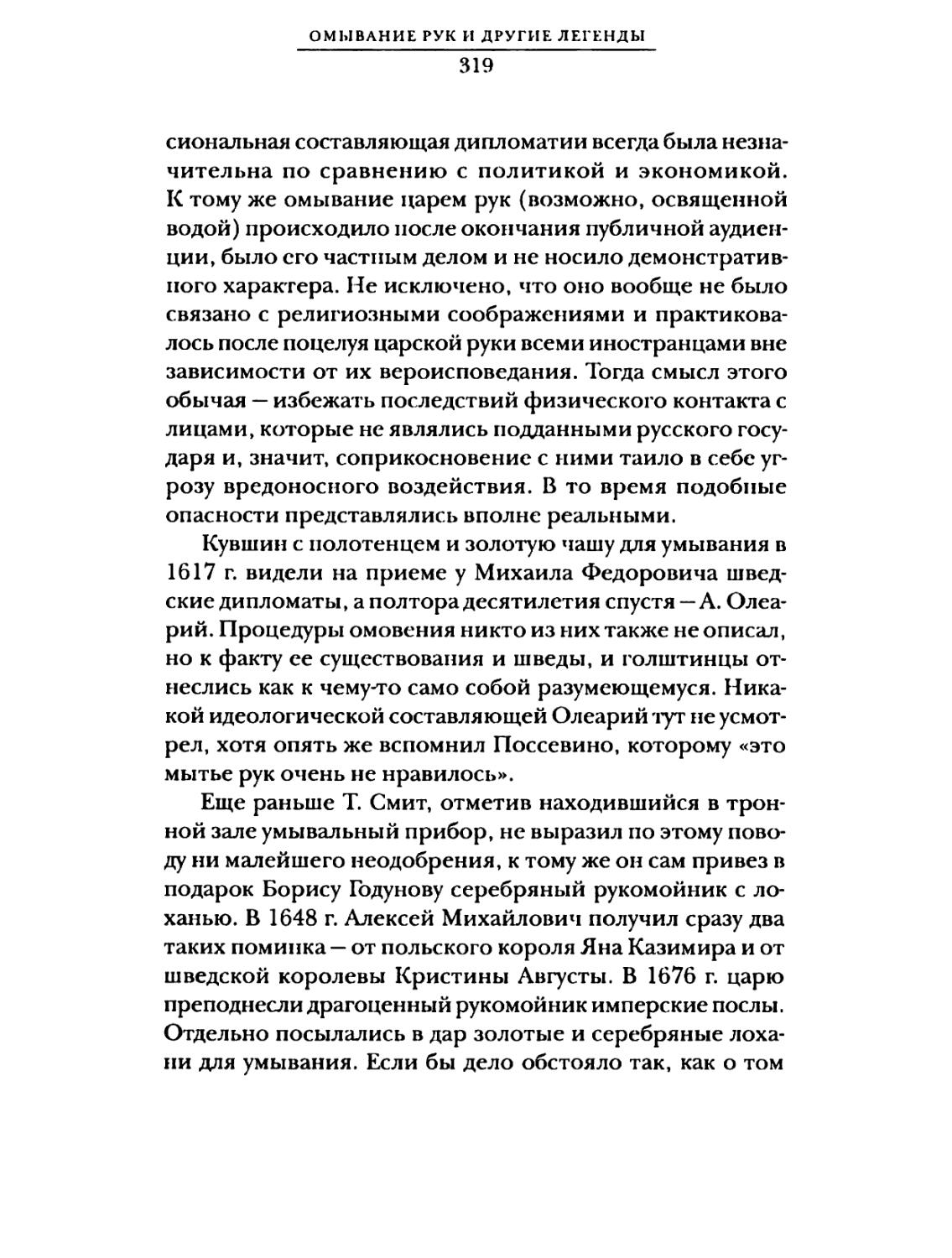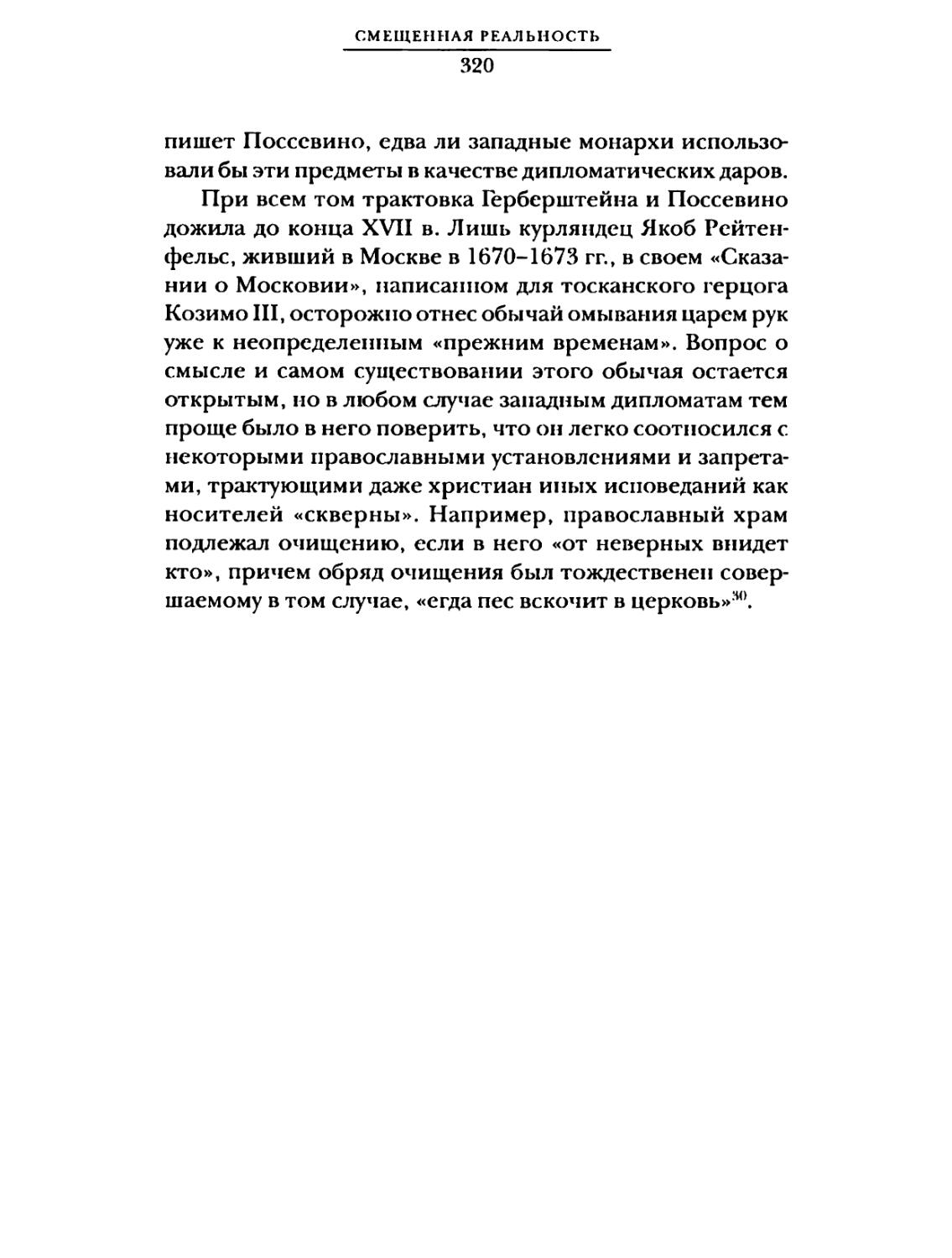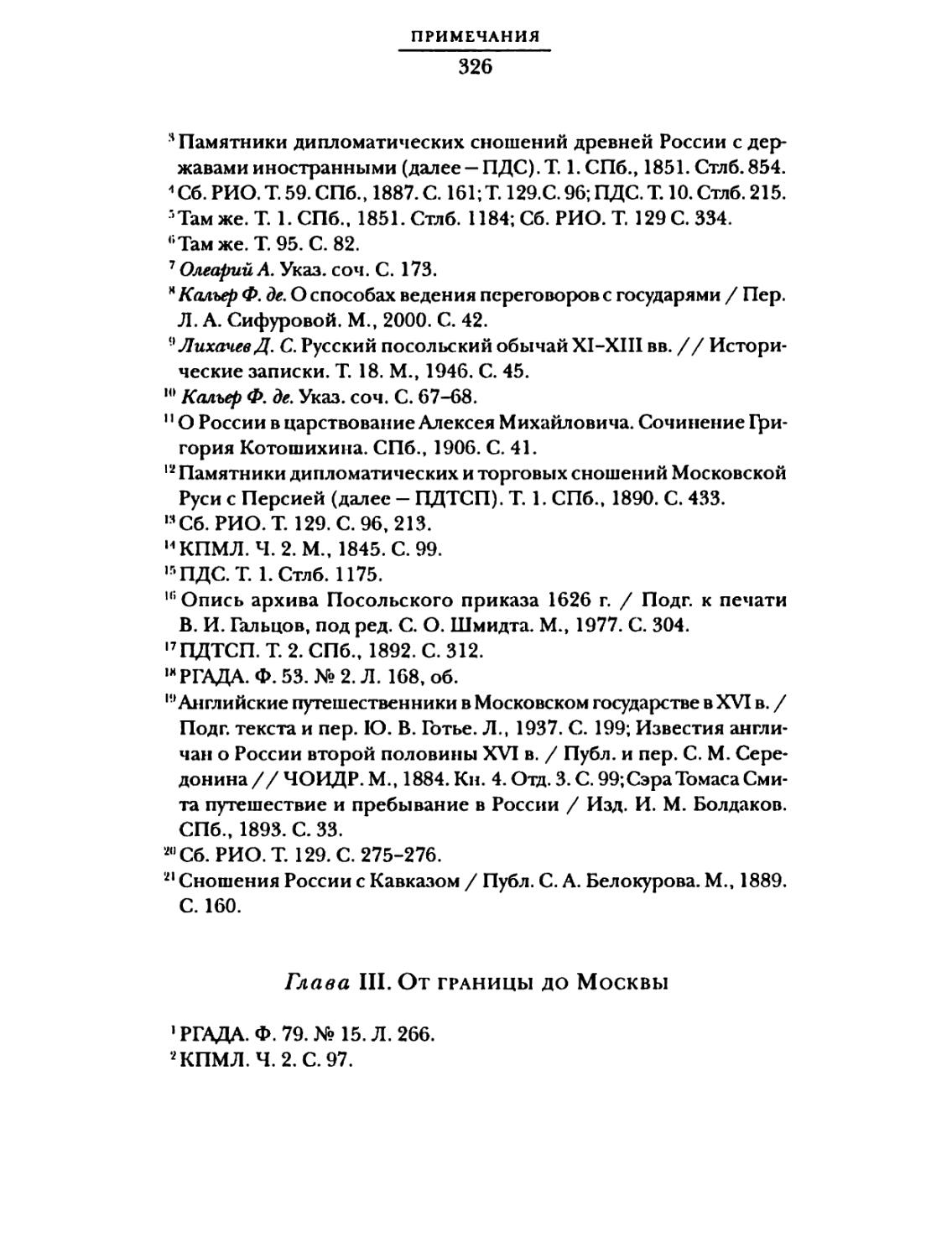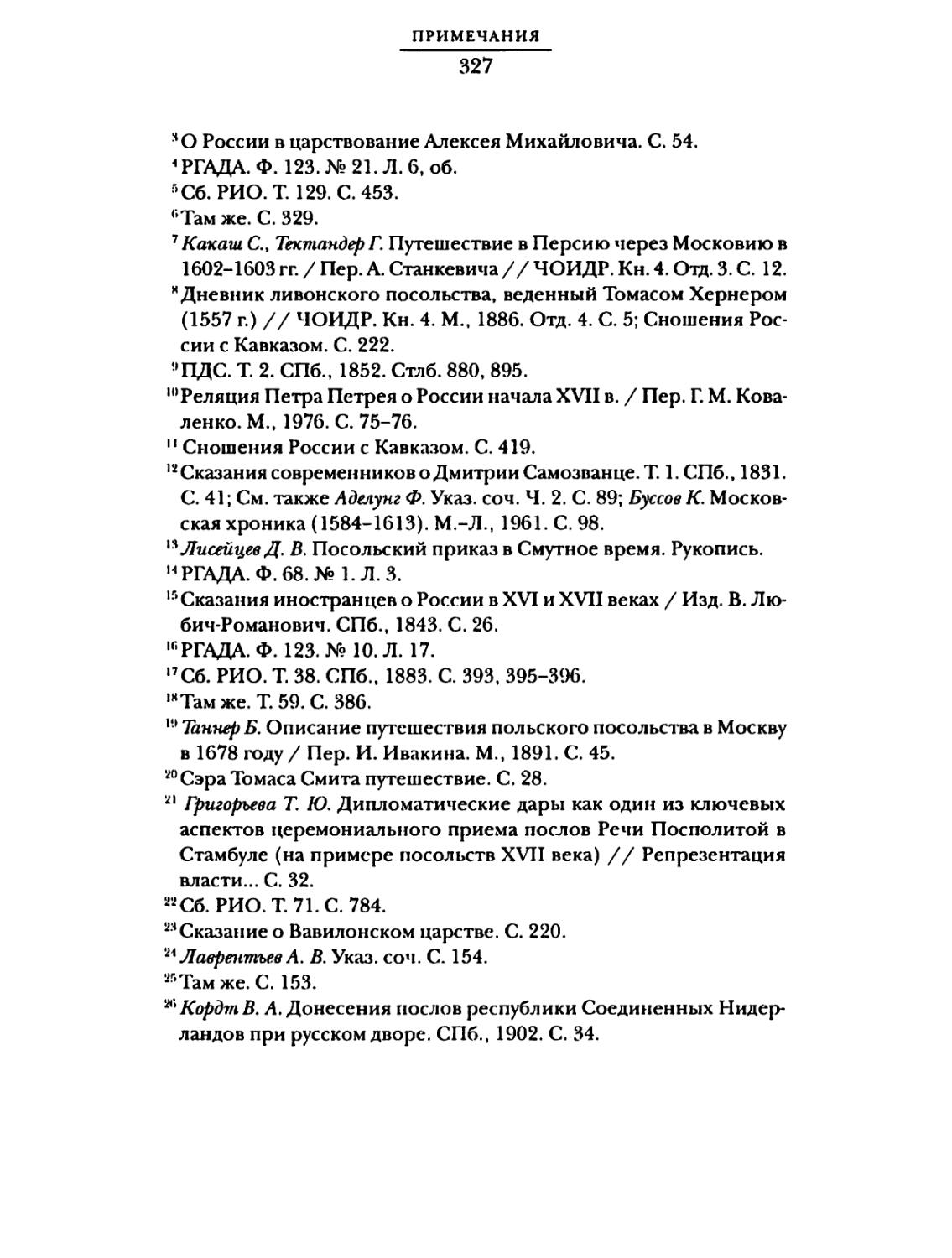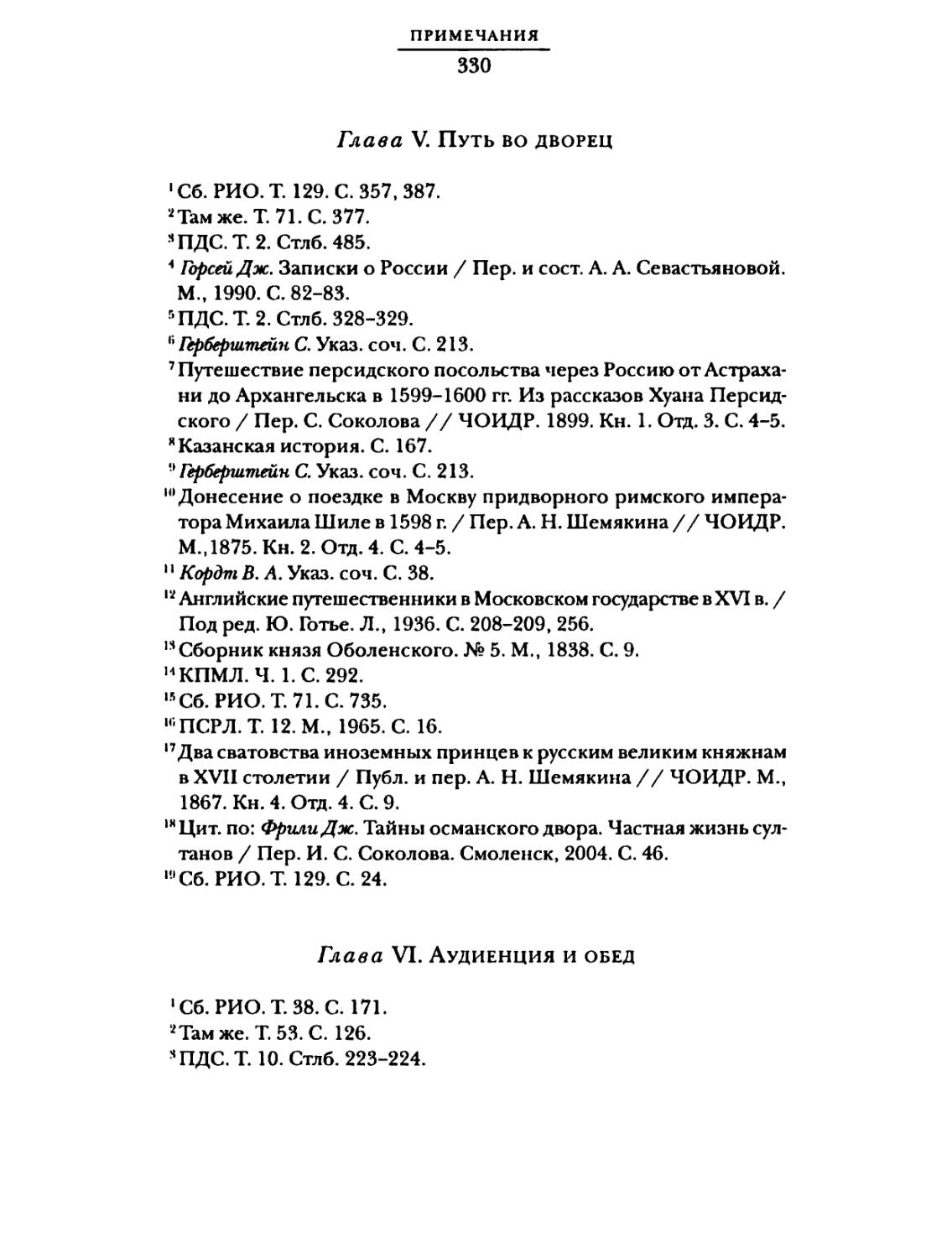Автор: Юзефович Л.
Теги: всеобщая история история российского государства этикет церемониал
ISBN: 978-5-89059-104-3
Год: 2007
Похожие
Текст
vnon
Леонид Юзефович
ПУТЬ ПОСЛА
Русский посольский обычай.
Обиход. Этикет. Церемониал
конец XV-первая половина XVII в.
г
Издательство Ивана Лимбаха Санкт-Петербург
2007
УДК 94(47)
ББК 63.3(2) 4-6
Ю20
Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациях в рамках Федеральной целевой программы «Культура России* и Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга
Юзефович Л. Путь посла. Русский посольский обычай. Оби-Ю20 ход. Этикет. Церемониал. — СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2007. - 344 с.
ISBN 978-5-89059-104-3
Научно-популярный труд известного историка и прозаика об отечественном дипломатическом этикете конца XV-первой половины XVII вв. Книга примечательна не только обилием фактографии, но и тем, что ученый сумел собрать воедино, классифицировать, проанализировать нормы, которые в течение двух с лишним столетий существовали исключительно в устной традиции. Воссозданный автором мир русского дипломатического этикета давно прошедших времен тем интереснее изучать, что описываемые события поразительно рифмуются с современностью.
© Л. А. Юзефович, 2007
© Н. А. Теплое, дизайн, 2007
© Издательство Ивана Лимбаха, 2007
Послание без слов
Вместо введения
Почти до конца XV в. в Западной Европе имели весьма смутные представления о Московской Руси. Одни считали ее «азиатской Сарматией», другие — Геродотовой Скифией, черпая сведения о ней из сочинений античных авторов, третьи — продолжением Лапландии, а итальянец Паоло Джовио, чтобы передать разительное отличие Московии от привычного ему цивилизационного пространства, уподобил се «иным мирам Демокрита». Набор этих ученых умозрений быстро стал архаикой после 1480 г., когда Золотая Орда в ее последнем изводе прекратила свое существование, и вассальное Московское княжество, превратившись в независимое Русское государство, вышло из международной изоляции. Вскоре после «стояния на Угре» русские послы начали появляться не только в Вильно, Бахчисарае, ногайских кочевьях или единоверной валашской Сучавс, но и в Кракове, Мариенбурге, Регенсбурге, Римс, Венеции, Флоренции, Стамбуле, чуть позже — в Стокгольме, Копенгагене, Лондоне, Праге, Тебризе и других центрах власти. Еще чаще прибывали в Москву иностранные дипломаты. В обоих случаях приобретаемые политические или торговые выгоды далеко не вс егда окупали расходы па снаряжение самих посольств, но назначение этих миссий было шире тех конкретных практических задач, которые перед ними стояли. Посоль-
ПОСЛАНИЕ БЕЗ СЛОВ
6
ство — это послание, чья суть не исчерпывается содержанием отправленных с ним документов и устных поручений. Считалось, что Бог, поделив вселенную между своими земными наместниками, обязал их «через послы и посланники ссылатца» друг с другом, чтобы поддерживать равновесие подлунного мира.
Человек, родившийся в последние годы правления Ивана III, в течение жизни мог наблюдать на столичных улицах множество иностранных дипломатов всех рангов — от простых гонцов с несколькими спутниками до «великих» послов, окруженных свитой из сотен дворян и слуг. Являя собой парад национальных одежд и обычаев, они торжественно въезжали в город и с еще большей пышностью следовали на аудиенцию в Кремль. Посольские шествия превратились в популярное зрелище: тысячи зрителей толпились на обочинах, влезали на валы и забрала крепостных стен, на кровли домов и церквей. Все это не только не запрещалось, напротив — поощрялось и даже организовывалось властью, использовавшей такие моменты для публичной репрезентации собственного величия.
С юга, через Дикое поле, Воротынск, Боровск и Пу-тивль, той же дорогой, какой недавно приходили за данью ордынские «послы сильные», теперь являлись в Москву посланцы крымских и ногайских ханов. В пути их сопровождал усиленный русский конвой, следивший, чтобы привыкшая к набегам посольская свита не грабила придорожные деревни («христьянству обиды и насилства не чинили б»). По этому же маршруту направляли своих представителей владыки Блистательной Порты — султаны «турские», которые, как с восточной цветистостью выражались русские дипломатические документы, «свет-лостию лица превосходят песни сирина».
ПОСЛАНИЕ БЕЗ СЛОВ
7
С севера, от «пристанища» Николо-Корельского монастыря на Белом море, позже — от «нового Архангельского города», через Холмогоры, Вологду и Ярославль двигались к Москве английские дипломаты, больше озабоченные вопросами торговыми, чем политическими, и купцы, заодно исполнявшие дипломатические поручения. Иногда их везли по рекам Сухоне и Двине — летом на лодках, зимой на санях по речному льду (речной путь на Руси называли «Божьей дорогой», которую, в отличие от дорог сухопутных, «ни перенять нельзя, ни унять, ни затворить»). Послы Василия III к императору Священной Римской империи Карлу V еще в 1524 г., по пути в Испанию, первыми из русских побывали в Англии, но постоянные связи с Лондоном установились лишь после того, как в 1553 г. король Эдуард VI снарядил экспедицию на поиски северо-восточного морского прохода в Индию, и один из кораблей («Эдуард — Благое Начинание») отнесло бурей к русскому побережью. Его капитан Ричард Ченслер выдал себя за королевского посла, был доставлен в Москву и принят Иваном Грозным. С тех пор контакты стали регулярными. Британскому флоту нужны были лес, пенька, смола, деготь. Англия начинала великую тяжбу на морях с Испанской монархией. Пушки гремели на Ла-Манше и у берегов Южной Америки, но агенты Елизаветы I и Филиппа II вели свою игру и при московском дворе.
С востока, по Волге и Оке, приезжали послы казанских и астраханских ханов, пока их владения не были присоединены к России. Позднее этим же путем следовали посольства «кизилбашские» (персидские), «иверские» (грузинские), «черкасские» (кабардинские).
С запада, через Новгород и Псков, ехали шведы, датчане, представители Пруссии и Ливонского ордена. Через Смоленск проезжали послы Габсбургов, двигались
ПОСЛАНИЕ БЕЗ СЛОВ
8 огромные польско-литовские посольства, похожие скорее на воинские отряды, чем на дипломатические миссии. Последние прибывали чаще всех остальных, хотя собственно польские дипломаты до начала XVII в. были еще относительно редкими гостями; в отношениях с Москвой страну представляли обычно литовские деятели. До Люблинской унии (1569 г.) Великое княжество Литовское и Русское имело свое войско и свою «раду», но остатки этой автономии сохранялись и позже. Гонцы между Москвой и Вильно сновали беспрерывно, и не реже чем раз в два-три года стороны обменивались посольствами.
Приезжали дипломаты бухарские, ганзейские, валашские, венгерские, голландские, венецианские (чуть позже появятся испанцы, французы, монголы и многие иные). Тюрбаны сменялись европейскими шляпами, вслед за лисьими шубами послов Сибирского ханства мелькала на Красной площади сутана папского легата, а то вдруг объявлялся человек из «Индейской страны», правитель которой, по дошедшим в Москву слухам, подчинил себе «всей земли болши двух третей». Безымянный автор «Казанской истории», перечисляя иностранных послов, после взятия Казани прибывших к Ивану Грозному «с честию и з дары», в числе прочих называет даже представителя «вавилонского царя»1. Этот фантомный посол — фигура символическая, но в глазах современников он был бы вполне уместен среди посланцев экзотических владык, время от времени возникавших из небытия па фоне кремлевских стен.
В «Сказании о князьях Владимирских» (начало XVI в.) говорится, что великокняжеский венец и «святые бармы» были получены Владимиром Мономахом из Константинополя, от императора Константина Багрянородного, а к последнему они, как сообщает другая древнерусская
ПОСЛАНИЕ БЕЗ СЛОВ
9
повесть того же времени, попали некогда из Вавилона. Современниками Ивана Грозного этот город воспринимался не только как вместилище всех пороков, родина «вавилонской блудницы», но и как первое в истории воплощение идеи вселенского царства. Недаром именно Вавилон стал столицей империи Александра Македонского, о чем на Руси знали из популярной еще в XV в. сербской «Александрии». Из этого смутного мировидения, где новая реальность выражала себя языком кустарного мифа, и соткался призрачный вавилонский посол, своим присутствием призванный освятить присоединение Казани.
Царь Навуходоносор был разрушителем Иерусалимского храма, но уже одно то, что его регалии в итоге достались московским государям, позволяло видеть в нем идеального монарха. Русский книжник начала XVI в. рассказывает, как во время «посольского приходу» Навуходоносор повелел своим воеводам «за градом и на поле, па двадцати верстах до града, полки великия урядити»; воины били «во все набаты», трубили «во многогласныя трубы», в результате чего иноземные послы исполнились «ужасти великия»2. Вавилонский царь тут нс так уж сильно отличается от Ивана Грозного, Алексея Михайловича или польских и шведских королей, прибегавших к сходным демонстрациям своего могущества. Это считалось в порядке вещей: Европа еще помнила, как византийские императоры, чтобы сделать чужеземных послов более сговорчивыми, стремились потрясти их воображение взлетающим под потолок троном, поющими механическими птицами, рыкающими львами, внезапно гаснущим и вновь зажигающимся светом в аудиенц-зале или даже иллюзией грандиозного воинского парада, которую создавал отряд гвардии, бесконечно маршируя по кругу и меняя за укрытием одежду и вооружение.
ПОСЛАНИЕ БЕЗ СЛОВ
10
Вообще вся обстановка, окружавшая послов с того момента, как они пересекали границу, была своего рода бессловесным посланием, чей смысл опытные адресаты понимали без труда. Порядок обхождения с иностранными дипломатами, церемониал аудиенции, одежда придворных на приеме, ассортимент посуды на торжественном обеде — всё, вплоть до цвета воска, к которому прикладывалась печать, подчинялось определенным правилам, связанным с идеологией власти и конкретной политической ситуацией. Их совокупность, включая правила поведения собственных представителей за рубежом, составляла посольский обычай той или иной страны. Своды таких норм издавна существовали в Венецианской республике и в Ватикане, а в первой половине XVI в. были оформлены сначала в Священной Римской империи, затем во Франции и других европейских монархиях, превратившись тем самым в протокол.
Примерно тогда же, при Василии III, Москва в относительно короткий срок сумела создать собственную посольскую службу, учитывающую международное положение страны, ее размеры и обычаи, и выработать свой дипломатический этикет, достаточно гибкий для того, чтобы использовать его при контактах равно с Востоком и с Западом. В последующие десятилетия то и другое постоянно менялось, чутко реагируя на изменения в окружающем мире. Имперский (здесь и далее имеется в виду Священная Римская империя) дипломат Даниэль фон Бухау, сопоставляя наблюдения своего соотечественника Сигизмунда Герберштейна, относящиеся к первой четверти XVI в., и собственные впечатления, вынесенные из поездки в Россию в 1575-1576 гг., сделал вывод, что за истекшие полвека там произошли большие перемены в приеме и содержании послов. В предшествующий период это было еще ощутимее.
ПОСЛАНИЕ БЕЗ СЛОВ
И
В связях с Западом и с Османской империей Москва сразу выступила партнером равноправным и суверенным. Те правила, которыми регулировались ее отношения с Ордой или с русскими уделами, здесь были неприемлемы, новое положение страны требовало иных форм государственной обрядности. Прежний полудомашний быт великокняжеских палат стремительно уходил в прошлое, парадная сторона жизни московских государей приобретала все больший блеск. В этой пьянящей атмосфере стремительного возвышения Москвы и сложились нормы русского дипломатического обихода, этикета и церемониала.
Историки XIX-начала XX в. прежде всего интересовались вопросом их происхождения. Одни подчеркивали в них следы византийского влияния, другие — и византийского, и монголснгюркского; третьи целиком выводили эти нормы из азиатских образцов. «Государственными соображениями и продолжительной практикой в посольском обиходе были выработаны самые строгие правила и приемы, унаследованные от тех времен, когда мы поневоле принуждены были следовать азиатскому этикету», — в 1911 г. писал востоковед Н. И. Веселовский, полагавший, что практически все элементы русского посольского обычая «сильно отзывают татарщиной»4. Его современник В. И. Савва, напротив, считал московских государей «скорее насадителями европейского посольского обряда при дворах восточных, чем последователями посольского обряда последних»4.
Еще Иван III пытался принимать имперских дипломатов так же, как в Священной Римской империи принимали его послов, но этот опыт был мало применим в отношениях с ближайшими соседями. Самыми давними и интенсивными были контакты Москвы с единоверным и родственным по языку Великим княжеством Литовским.
ПОСЛАНИЕ БЕЗ СЛОВ
12
По-видимому, этой практикой и выработался русский посольский обычай в главных своих составляющих. Его основой стали схожие бытовые обряды и перенесенные в сферу дипломатии местнические правила. Обе стороны всегда прекрасно понимали друг друга, ибо существовали в одном семантическом поле. При Василии III нормы русско-литовского дипломатического обихода были перенесены на отношения со всеми остальными партнерами Москвы, но с серьезными поправками в каждом отдельном случае.
Западноевропейские дипломаты XV-XVII вв. немало писали о русском дипломатическом церемониале и этикете, но их взгляд — это взгляд со стороны. Возможность увидеть предмет изнутри, с точки зрения носителей самой традиции, дают т. н. «посольские книги» — сборники официальной документации, связанной с отправлением русских посольств за рубеж и пребыванием иностранных миссий в России. Эти «книги» начали составляться задолго до 1549 г., когда, как принято считать, был учрежден Посольский приказ. В них входят тексты договоров, послания монархов (чужеземных — в переводе), переписка посольских дьяков с приставами и воеводами пограничных городов, посольские паспорта («опасные грамоты»), наказы отбывающим за границу русским дипломатам («наказные памяти»), их пространные отчеты, составленные по возвращении в Москву («статейные списки»), и отосланные с нарочными краткие сообщения о политической обстановке за рубежом («вестовые списки», или «вести»), верительные («верющие») грамоты, описания аудиенций и торжественных обедов, протоколы переговоров, перечни подарков, реестры поставленного продовольствия и т. д. К сожалению, дошедшие до нас посольские книги имеют существенные пробелы, а материалы по связям с
ПОСЛАНИЕ БЕЗ СЛОВ
13
Большой Ордой, Казанью, Астраханью, Ливонией, Венгрией, Молдавией и некоторые другие не сохранились вовсе.
Первые договоры о дипломатическом церемониале («посольском чине») Россия заключила с Речью Посполитой, Швецией и Священной Римской империей в 70-х гг. XVII в., но и тогда регламентированы были только частности. Как бы ни называть породившую его стихию — национальным духом или коллективным разумом, русский посольский обычай оставался именно обычаем вплоть до радикальных реформ петровского времени. На протяжении двух столетий его нормы жили в устной традиции, опирающейся лишь на прецедент и опыт, и не были ни записаны по отдельности, ни тем более собраны в единый свод или утверждены какими-то официальными актами.
Доступный лишь в своих проявлениях, открытый всем, кто был связан с дипломатией, но никому — до конца, посольский обычай присутствовал в каждом фрагменте организованного им мира, но нигде — полностью, поэтому его трудно реконструировать из беспорядочного множества элементов, оказавшихся в нашем распоряжении. Зато, будучи воссоздан из обломков и обмолвок, этот навсегда исчезнувший порядок жизни поражает продуманной соразмерностью своих частей, богатством символики и обилием заключенных в нем смыслов.
Глава I
Предварительные условия
1. Вопрос о «братстве»
В 1574 г. толмач одного из шведских посольств Авраам Нильсен, за пять лет перед тем насильно оставленный в Москве с целью «учить робят свойскому языку», был наконец отпущен на родину. До Швеции, однако, он не доехал. Русские власти задержали его на границе, в Орешке. Основания были вполне веские — у Нильсена обнаружили несколько бумаг, которые он «крал лазучством». Ничего экстраординарного тут нет, члены дипломатических миссий никогда не гнушались шпионажем. Ироническое выражение espion honorable (франц, почетный шпион) вошло в употребление едва ли не тогда же. В случае с Нильсеном любопытно другое: при обыске в числе прочих бумаг у него «повыимали» царские «родословцы». Через год, во время русско-шведского посольского съезда на реке Сестре, бояре, вспоминая эту историю, обвиняли Нильсена в том, что он «лазучил и выписывал родство государя нашего»1.
Удивительно не «лазучство», а предмет, на который оно было направлено. Чтобы понять, зачем понадобилось шведам генеалогическое древо Ивана Грозного, и почему это вызвало тревогу в Москве, нужно рассмотреть «дело Нильсена» под углом политических воззрений эпохи, касающихся отношений между монархами и государствами.
ВОПРОС О «БРАТСТВЕ.
15
В дипломатическом языке XV-XVII вв. существовал важнейший термин — «братство», выражавший отнюдь не родство и не характер взаимоотношений между государями, а их равноправие. С правителями, которых русские государи считали ниже себя по происхождению или по уровню власти, они могли состоять «в приятелстве и в су-седстве» (в добрососедских отношениях), «в дружбе и в любви» (вмирных отношениях), «в единачестве» (в союзе), по никак не «в братстве». Иначе страдала их «честь». В то же время даже воюющие между собой монархи продолжали величать друг друга «братьями», если это было принято до начала военных действий.
Не всех своих дипломатических партнеров русские государи считали равными себе. Василий III не признавал «братом» магистра Ливонского ордена, поскольку тот был вассалом («голдовником») Священной Римской империи, хотя па Руси прекрасно понимали номинальный характер этой зависимости. Посылая с индийским купцом грамоту к его повелителю «Бабуру-паше», Василий III «о братстве к нему не приказал», потому что «неведомо, как он на Индейском государстве — государь или урядник» (наместник)2. Казанский хан Абдул-Латиф признавался «братом» великого князя только в устных «речах», но не в официальных документах. Позднее, в конце столетия, на честь быть «в братстве» с Федором Ивановичем и Борисом Годуновым не мог претендовать кахетинский царь Александр I, признавший над собой их «высокую руку». При этом в Москве бдительно следили за тем, чтобы великих князей именовали «братьями» самые могущественные владыки Востока и Запада. Когда в 1515 г. турецкий посол Камал-бег в сделанном им списке боярских речей, который посольские дьяки внимательно сличили с оригиналом, записал «о дружбе, о любви» Василия III с султа-
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
16
ном, но пропустил «о братстве», его заставили исправить это якобы случайное упущение.
Иная ситуация сложилась в отношениях с Крымом, претендовавшим на политическое наследие Золотой Орды. Свое право на «братство» с ханами Ивану III, Василию III и даже Ивану Грозному приходилось покупать деньгами или, что чаще, дарами. В 1491 г. крымский хан Менгли-Гирей извещал Ивана III: «Ныне братству примета то, ныне тот запрос — кречеты, соболи, рыбей зуб» (моржовый клык)3. В другой грамоте «приметой братства», т. е. условием его признания ханом, оказываются меха и серебряная посуда, в третьей — некий крымский «богомолец», где-то в Диком поле захваченный в плен казачьей ватагой. Польско-литовская дипломатия активно подогревала неуступчивость «перекопских царей» в вопросе о «братстве». «Помнишь, царь (хан. — Л. сам из старины: которой князь великой московской царю братом был? — риторически вопрошал Мухаммед-Гирея литовский посол в1517г. — А нынеча князь великой московской и тебе, царю, братом чинится!»4. Литовский посол не случайно вспомнил «старину» — тем самым Крым объявлялся преемником Золотой Орды, а Москва — его вассалом. Парадоксальность ситуации заключалась втом, что крымские ханы упорно не признавали равноправие русских государей, хотя последние были «братьями» турецких султанов, установивших над Крымом свой сюзеренитет.
В свою очередь, Иван Грозный по разным причинам не признавал «братьями» некоторых европейских монархов. Он постоянно подчеркивал древность династии Рюриковичей и божественное происхождение собственной власти, поэтому для него сама возможность признания «братства» включала в себя не только абсолютный суве-
ВОПРОС О «БРАТСТВЕ-
17 репитет данного государя, но и его значение в международной политике, и даже происхождение.
Габсбургский дипломат Иоганн Гофман, посетивший Москву в 1559 г., сообщал, что русский царь считает шведского короля «купцом и мужиком», а датского — «королем воды и соли»5. Действительно, Иван Грозный не признавал «братьями» королей Швеции и Дании. Когда в том же году представители датского короля Христиана III просили «учинить его с государем в ровности», бояре мало того что отказались обсуждать с послами этот вопрос, но еще и потребовали, чтобы в грамотах, направляемых царю, король называл его своим «отцом»6. Трудно сказать наверняка, почему Грозный не соглашался хотя бы формально приравнять к себе Христиана III и его преемника Фредерика II, суверенных и потомственных монархов. Дания была державой традиционно дружественной (при Борисе 1одунове и Михаиле Федоровиче были предприняты две — неудачные, правда, — попытки женить датских принцев на царских дочерях), но, видимо, царь считал ее мощь сильно поколебленной после того, как Швеция, в 1523 г. расторгнув Кальмарскую унию, вышла из-под власти Копенгагена. Кроме того, в Москве были знакомы с иерархией католических государей, которую до Реформации периодически устанавливали специальные папские буллы. Во всяком случае, еще при Василии III на Руси был известен переводной документ под названием «Европейской страны короли», где в порядке старшинства перечислялись монархи Западной Европы. В этом реестре император Священной Римской империи («цесарь») занимал первое место, а датский король— предпоследнее, ниже венгерского, португальского, чешского и шотландского7. Вероятно, могущество Дании считалось недостаточным для того, чтобы русский царь признал ее правителей своими «братьями».
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
18
Гораздо понятнее отношение Ивана Грозного к шведскому королю Густаву Вазе и его сыновьям — Эрику XIV и Юхану III. О «братстве» с ними не могло быть и речи по причине их низкого происхождения. Царь утверждал, что это «мужичей род, не государский». На самом деле Густав I, избранный на престол после изгнания из страны датчан, был выходцем из знатной дворянской фамилии, но и в этом своем качестве он, будучи монархом выборным, не мог претендовать на равенство с Иваном Грозным — государем «от прародителей своих». О польском короле Сигизмунде II Августе, который признал «братство» с Эриком XIV, царь с презрением заявил: «Хоти и возовозителю своему назоветца братом, и в том его воля!»н.
Густава Вазу («Гастауса короля») в Москве считали даже не дворянином, а простым купцом. Грозный утверждал, будто в юности будущий король Швеции «сам, в руковицы нарядяся», осматривал сало и воск, привезенные в Выборг новгородскими «гостями». В 1557 г. А. Ф. Адашев и дьяк И. М. Висковатый говорили шведским послам: «Про государя вашего в розеуд вам скажем, а не в укор, которого он роду, и как он животиною торговал и в Свейскую землю пришол, и то недавно ся делало». Возможно, это искаженный отзвук одного из эпизодов бурной жизни Густава Вазы: в 1519 г. он был посажен датчанами в тюрьму и бежал оттуда, переодевшись в платье погонщика скота. В полемическом азарте Грозный писал Юхану III, что его отец «Гаста-ус» явился в Стокгольм из своей родной провинции Смоланд с коровами («пригпался из Шмоллант с коровами»)9. В Швеции все это воспринимались крайне болезненно. Тот факт, что основателя династии объявляли мясотор-говцем не «в укор», а «в розеуд», дела не меняло.
Впрочем, перед насущными политическими интересами этикетные нюансы отступали на второй план, и воп-
ВОПРОС О «БРАТСТВЕ*
19
рос о «братстве» становился не более чем дополнительным козырем в дипломатической игре. В 1567 г. был заключен русско-шведский союз, направленный против Польско-Литовского государства, после чего Иван Грозный «пожаловал» Эрика XIV — «учинил его с собою в братстве». Признание равенства было не безусловным. Оно могло вступить в силу только в том случае, если шведский король отберет жену у своего сидевшего тогда в тюрьме брата Юхана, герцога Финляндского, и пришлет ее царю. Грозный намеревался на ней жениться (позже он оправдывал эту «нехристианскую мысль» тем, будто считал герцога мертвым, а его жену — вдовой).
Юхан был женат на Катерине Ягеллон, родной сестре польского короля Сигизмунда II Августа. Семью годами ранее Грозный сам безуспешно к ней сватался (по легенде, король в издевку прислал ему вместо невесты белую кобылу) и теперь, пользуясь моментом, решил при живом муже все-таки заполучить ее в жены с двоякой, видимо, целью — во-первых, отплатить за былое унижение, а во-вторых, после смерти немолодого и бездетного Сигизмунда II приобрести право на польский престол для себя или своих возможных сыновей от этого брака (разумность с амой идеи доказывает тот факт, что сын Катерины и Юхана впоследствии стал польским королем Сигизмундом III). Эрик XIV, уже в то время выказывавший признаки умственного расстройства, обещал выполнить беспрецедентное царское требование. Вскоре, однако, он был низложен; его брат, чью же!гу так и нс посмели увезти в Москву, взошел патрон под именем Юхана III. Он согласился подтвердить выгодный для Швеции договор, заключенный его предшественником, по, естественно, за вычетом пункта о собственной жене. Между тем, жалуя Эрика XIV «братством», в своей присяге на тексте дого-
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
20
вора («докончанья») 1567 г., Грозный особо оговорил, что если Катерина Ягеллон прислана в Москву не будет, то его присяга утратит силу — «та докопчалная грамота не в грамоту и братство не в братство» ш. В итоге все вернулось на круги своя: царь наотрез отказался признать Юхана III своим «братом».
Именно поэтому не планы крепостей, не тайные речи недовольных самовластием Грозного бояр, а царская родословная интересовала толмача Нильсена и тех, кто дал ему такое поручение. В Стокгольме хотели доказать, что царь ведет свой род отнюдь не от «Ав1уста кесаря» и даже не от великих князей киевских, а всего лишь от князей московских — недавних данников Орды. Эти сведения облегчили бы шведской стороне ведение полемики по вопросу о «братстве». Отказ Ивана Грозного признавать королей Швеции равноправными партнерами имел следствием ряд унизительных для их достоинства норм русско-шведского посольского обычая. Стремлением их упразднить и вызвано было «лазучство» А. Нильсена.
В 1576 г. на освободившийся польский престол был избран трансильванский («седмиградцкий») князь Стефан Баторий, которого царь также не признал «братом» по причине «родственные низости». Вообще Грозный неизменно настаивал на изначальном превосходстве наследственного монарха над выборным. Сам он — государь «по Божью изволению», а Баторий — «по многомятежному человеческому хотению»; русский государь призван «владети людьми», а польский — всего лишь «устраивати их». В переписке между ними, изобиловавшей взаимными выпадами, Грозный даже заметил однажды: «Тебе со мною бранитися — честь, а мне с тобою — безчестье»11. Хотя Баторий в своей грамоте впервые обратился к царю на «вы» (в речах и посланиях от первого лица русские
ВОПРОС О -БРАТСТВЕ».
21
государи издавна говорили о себе во множественном числе), и его послы в Москве не преминули напомнить Грозному, что Сигизмунд II Август всегда писал ему «тобе, ты», на царя это новшество никакого впечатления не произвело, его решение осталось непоколебимым. Дело тут не только и не столько в «родственной низости» польского короля или способе его восшествия на престол.
Во-первых, избрание Батория неизбежно влекло за собой резкое ухудшение отношений с Речью Посполитой, ибо означало победу той партии, которая выступала за войну с Москвой. Во-вторых, в Речи Посполитой существовала и влиятельная промосковская группировка, дважды предлагавшая самому Грозному или царевичу Федору занять вакантный польский престол — после смерти Сигизмунда II Августа в 1572 г. и после внезапного отъезда из Кракова Генриха Анжуйского (он был избран королем на элекционном сейме, но в июне 1574 г., узнав о смерти брата, Карла IX, предпочел освободившийся французский трон польскому и тайно бежал в Париж). В связи с этим у царя появились далеко идущие планы. Отказываясь от власти над собственно польскими землями, он хотел сепаратно занять престол Великого княжества Литовского, разорвать Люблинскую унию и таким образом бескровно объединить под своим скипетром все земли, входившие некогда в состав Киевской Руси12. С избранием Стефана Батория эти замыслы рухнули, и вопрос о признании нового польского короля «братом» стоял в прямой связи с событиями 1574-1576 гг.
«Братство» — термин сугубо дипломатический. Когда в 1495 г. великий князь литовский Александр Казимирович женился на Елене Ивановне, сестре Василия III, последний называл его «братом и зятем», а короля Сигизмунда I — соответственно «братом и сватом». Иван Грозный,
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
22 подменяя понятия из разных семантических рядов, сознательно смешивал политические и кровно-родственные категории. Прибывшим в Москву польским послам он заявил, что если бы даже Баторий был сыном Сигизмунда II Августа, то и тогда оказался бы ему, царю, не братом, а племянником. В таком случае он мог бы считаться братом только царевичу Ивану Ивановичу. При этих словах, как пишут в дневнике послы, царь «на сына своего пальцем вказал, бо тута подле него сидел»13.
Лишь к концу жизни, после тяжелых поражений, нанесенных ему Баторием, Грозный, смирившись, вынужден был признать его «братом». Федор Иванович «учинил в братстве» с собой королей Дании и Швеции, а сами русские государи добились уже безусловного права быть «братьями» крымских ханов. Параллельно продолжали использовать в политике лексику иных родственных отношений. Германские князья, зависимые от Священной Римской империи, называли царя «дядей», поскольку были «сыновьями» Габсбургов, а те приходились русским государям «братьями». До 1632 г., когда в Москве сочли эту традицию неприличной, герцог 1олштинский в своих грамотах к Михаилу Федоровичу величал его «дядей и свойственником» («свояком»). Последнее слово использовалось в переносном смысле, обозначая неопределенно-приятельские отношения. По этой логике, крымский хап, будучи вассалом турецкого султана, тоже являлся царским «племянником», однако в отношениях с ним подобный подход считался, видимо, в принципе неприменимым.
Иван III еще мог называть казанского хана Мухаммед-Амина своим «братом и сыном»11, по позже такого рода формулировки с их нечетким разграничением ролей стали анахронизмом. К исходу XVI в. сам термин «братство», как его толковали московские дипломаты, обрел более
КРЫМСКИЙ СИНДРОМ
23
строгое значение — основным его содержанием стало понятие суверенитета. Ни происхождение монарха, ни его роль в международных делах, ни древность династии в расчет не принимались. Царь автоматически признавал равноправие всех государей, не зависимых от какой бы го ни было земной власти.
2. Крымский синдром
Загадочный наказ получил в 1563 г. отправлявшийся в Крым посол Афанасий Нагой: он должен был проследить, чтобы хан Девлет-Гирей ни в коем случае нс приложил к грамоте с текстом договора «алого нишана», т. е. хорошо известной, видимо, русским печати красного цвета. Если же добиться этого будет невозможно, Нагому приказывалось грамоту с такой печатью не брать, договор не заключать («дела не делати») и немедленно возвращаться в Москву15.
На первый взгляд поражает несопоставимость мелкой канцелярской формальности и неожиданно значительных последствий, которые могло повлечь за собой ее нарушение — вплоть до дипломатического демарша с отъездом посла. Твердость в подобных вопросах кажется тем более странной, что в это время Иван Грозный вел войну па западных границах и всеми силами стремился удержать ДсвлстТирея от набега на Русь, направить его на литовские «украины». Однако вопрос о печати оказывается крайне важен, если взглянуть на него под другим углом.
Тюркские ханы-джучиды (помомки Джучи, старшего сына Чингисхана), как и русские государи, имели две печати — большую и малую. Они различались по форме и по
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
24
функциям. Первая обычно имела квадратную подушку, вторая — миндалевидную (как правило, она была перстневой). Большая печать применялась ханом в переписке с иностранными монархами и при заключении договоров с ними, малая предназначалась для менее важных документов, касающихся его собственных подданных. Ее, видимо, и называли «нишапом». Что касается эпитета «алый», то он, скорее всего, относился к цвету печатного камня. Малая перстневая печать Девлет-Гирея, приложенная к русско-крымской «договорной грамоте», превращала ее в соглашение, имеющее сугубо внутренний характер, заключенное не между суверенными государями, а между сюзереном и вассалом. «Алый питан» декларировал старшинство хана, продиктовавшего свои условия царю, который как младший или как побежденный вынужден их принять. Для Москвы это было совершенно неприемлемо и перевешивало все возможные выгоды, которые сулил сам договор.
«То есть от века и от рожения дело варварское и реме-ство — кормитися войною», — писал князь А. М. Курбский, в античных категориях осмысляя противостояние Руси и Крыма. «Буий варвар», как называл крымского хана Иван Грозный, в любой момент мог «всесть па конь» и «довести саблю свою» па Тулу, Рязань, Коломну. 11а фоне этой угрозы Гиреи уже с начала XVI в. предпринимали попытки продемонстрировать зависимое положение московских государей.
Когда русские послы следовали на аудиенцию к хану, стоявшие у дворцовых дверей крымские «мурзы» («при-дверники») бросали им под ноги свои посохи, требуя плату за право их переступить и угрожая, что в противном случае аудиенция вообще не состоится. Очевидно, ранее это практиковалось в Золотой Орде по отношению к представителям вассальных владык и было формой их цсре-
КРЫМСКИЙ СИНДРОМ
25
мониалъного унижения. Иначе трудно понять, почему русским дипломатам строжайше предписывалось ни при каких обстоятельствах «посошную пошлину» не платить, а если без ее уплаты их не пустят во дворец, то уезжать обратно в Москву, не повидав хана. Право свободного прохода к нему великокняжеских послов особо оговаривалось в русско-крымских соглашениях 1513,1525 и 1531 гг. К концу XVI в. сообщения о попытках возродить этот полузабытый обычай напрочь исчезают из посольских донесений, но предостережения о недопустимости подобных акций с впечатляющим постоянством продолжают фигурировать в наказах послам. Память о них обострялась после удачных крымских набегов, когда возникали опасения, что в Бахчисарае захотят вернуться к старым претензиям.
Уплата послом «посошной пошлины» символизировала зависимость его государя, именно поэтому в 1516 г. послу И. Г. Мамонову в Крыму предложили компромисс: «Пошлины на тебе царь (хан. — Л. Ю.) не велит взять, а ты молви хоти одно то: царево (ханское. — Л. Ю.) слово па голове держу». Мамонов с негодованием отверг это предложение: «Хоти мне будет без языка быти, а того пикако же не молвлю!»11’. Вслух произнести то, чего хотели «мурзы», для него было невозможно — в восточной политической терминологии формула «держати слово на голове» означала подчиненное положение. «Отец мой мне приказывал слово твое на голове держати и тебе слу-жити», — писал царю Федору Ивановичу один из кабардинских князей, а столетием раньше Ахмет-хан, собираясь в поход на Русь в 1480 г., потребовал, чтобы Иван III, «у колпака верх вогнув, ходил». Шапка великого князя должна «вогнуться» под тяжестью ханского «слова», т. е. сделаться менее высокой. Эта метафора легко переводи-
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
26
лась на язык реальности: у монголо-тюркских народов особое значение придавалось форме головных уборов как символу вассалитета или подданства, да и на Руси с их помощью выражался социальный статус человека. Английский моряк Клемент Адамс заметил (1554 г.), что в Москве по форме шапок различают состояние людей: чем шапка выше, тем лицо почтеннее.
При всем том Иван III, его сын и даже внук вынужденно сохраняли в связях с Крымом некоторые унизительные для них этикетные нормы, восходящие к ордынским обычаям. Имя хана в грамотах всегда писалось первым, выше царского «имяни»; на торжественных обедах чаша с медом или вином в его честь выпивалась перед «государевой чашей»; великие князья посылали ханам не «поклон», как всем остальным монархам, а «челобитье». Русские послы в Крыму подчинялись некоторым правилам восточного этикета, что не позволялось им при дворе турецкого султана, персидского шаха и прочих мусульманских владык. В то же время ханские посланцы в Москве безнаказанно нарушали обязательные для других иностранных дипломатов нормы придворного церемониала. На равных обращаясь к монархам Европы и Азии — от Лондона до Стамбула и от Тебриза до Стокгольма, русские государи даже через столетие после падения ордынского ига признавали свое неравноправие по отношению к «перекопским царям». В то же время жестко пресекались любые попытки крымской стороны истолковать это символическое неравенство как политическую зависимость (вассалитет) и тем более — как прямое подданство.
В ряду таких попыток самым опасным было требование регулярной и строго нормированной дани («выход», «пошлина»). Вопрос о ней периодически затрагивался на русско-крымских переговорах и в переписке ханов с Мос
КРЫМСКИЙ СИНДРОМ
27
квой, но лишь однажды это требование было удовлетворено—летом 1521 г., когда армия Мухаммед-Гирея внезапно обрушилась на русские земли. Никогда еще крымским всадникам нс удавалось продвинуться так далеко на север; бунчук ханской ставки был водружен в 15 верстах от русской столицы, авангарды Мухаммед-Гирея дошли до подмосковного села Воробьеве, где пили меды из разграбленных великокняжеских погребов. Москва, правда, устояла, по в этих условиях Василию III пришлось дать хану «грамоту данную». По сообщению С. Герберштейна, великий князь обязался быть «вечным данником» хана, подобно его отцу и деду, платившим «выход» Орде. Впрочем, эту «данную грамоту» сумел выманить у Мухаммед-Гирея рязанский воевода И. В. Хабар; он попросил предъявить ее, притворно соглашаясь открыть ворота осажденной Рязани, и оставил у себя, поскольку взять город хану не удалось. Хотя великокняжеские и царские подарки («поминки») исправно продолжали поступать в Крым, они не должны были истолковываться как дань. «В пошлину государь мой не пришлет никому ничего!» — твердо заявлял в Крыму А. Нагой17.
И Крым, и Россия, чей правящий слой густо насыщали выходцы из знатных татарских родов, были обломками Джучисва улуса, а через него — всей империи чингизидов, которая давно не существовала в реальности, но продолжала жить в исторической памяти обоих государств. Бахчисарай открыто объявил себя наследником ('арая, утвердив свой сюзеренитет над Ногайским, Казанским и Астраханским «юртами», а Москва при Иване III оказалась в затруднительном положении. В поисках точки опоры она колебалась между двумя великими фантомами — Киевской Русью и Золотой Ордой, не в силах связать эти две основы своей государственности единой
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
28
линией правопреемства. Одно напрочь исключало другое. В конце концов, выбор был сделан в пользу Киева — присоединение западнорусских земель, когда-то находившихся под эгидой киевских Рюриковичей, а теперь отошедших к Великому княжеству Литовскому, временно признали задачей более актуальной и менее сложной, чем воссоздание Джучиева улуса с центром в Москве.
В династических легендах родословная русских государей через Рюрика возводилась непосредственно к «Августу кесарю», т. е. Октавиану Августу, но эта пышная генеалогия носила скорее декоративный характер, обозначая западный вектор повой московской политики. Значение теории псковского старца Филофея о Москве как «третьем Риме» сильно преувеличено позднейшими историками и публицистами. Ничего оригинального в ней пет, чуть раньше аналогичную идею пытались взять на вооружение молдавские господари. В обоих случаях она была нс более чем местным изводом общеевропейской тенденции освящать любую державную власть авторитетом римских или византийских «кесарей», чтобы вписать се в последовательно разворачивающуюся во времени иерархию государств, все более полно воплощающих собой Царство Божие па земле. В то время подобные идеи в изобилии плодились на всем континенте — от Португалии, где верили, что пропавший в битве с берберами при Аль-касар-Кивире в 1578 г. король Себастьян 1 станет основателем мистической Пятой империи, до Швеции, где короли из династии Ваза оправдывали свое право на престол ссылками на какую-то имевшуюся у них «римского царства печать». Священная Римская империя и одноглавые или двуглавые имперские орлы в гербах многих европейских династий — звенья той же цепи. Разница лишь в том, что одни провозглашали себя наследниками первого Рима, а
КРЫМСКИЙ СИНДРОМ
29
другие — второго. В реальности все это играло куда меньшую роль, чем декларировалось. На практике московские великие князья настаивали прежде всего на своем праве ('читаться единственными законными преемниками великих князей киевских, что позволяло претендовать на их политическое наследство.
Обратившись лицом па запад, Москва сохранила особые отношения с Крымом. Они были остро-враждебными и одновременно домашними, родственно-тесными и проникнутыми взаимной подозрительностью, какими всегда бывают отношения между частями одного исчезнувшего целого, но степень их идеологизации оставалась невысокой. Обе стороны слишком хорошо знали друг друга, чтобы придавать серьезное значение идейному камуфляжу. Широкое понятие «чести» московских государей сузилось в Крыму до одпого-едипственного смысла — их суверенности. На этом стояли до конца, зато все прочее принимали как данность и оправдывали обычаем.
Порядок здравиц на обедах и расположение «государ-(ких имян» на грамотах входили в число тех условий, лишь при соблюдении которых удавалось поддерживать видимость нормальных отношений с крымскими Гирея-ми. Без этого невозможно было хоть как-то уберечься от опустошительных набегов, а при необходимости направить ханскую саблю на Вилыю и Краков. Здесь Иван Грозный даже не особенно настаивал на своем царском титуле, тогда как для признания его на Западе были задействова-пы все государственные ресурсы. Русские дипломаты в Бахчисарае и перед крымскими послами в Москве никогда не произносили «высокословных» речей об «Августе кесаре» и Владимире Мономахе как предках московских государей или об изначально суверенном характере их власти, что сплошь и рядом делалось в отношениях с Ев-
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
30
ропой. В Крыму прекрасно помнили, от кого на протяжении двух столетий московские Рюриковичи получали ярлыки на великое княжение. Западные партнеры Москвы могли быть и не в курсе этих деталей.
«Мы Божиею милостью государи на своей земле изначала, от первых своих прародителей, и поставление имеем от Бога, как прародители наши, так и мы», — заявил Иван III имперскому послу Николаю Поппелю, который в 1489 г. от имени Габсбургов предложил ему королевский титул. Само напоминание о былой зависимости от Орды, если об этом говорили европейские дипломаты, воспринималось в Москве как оскорбление. Об этих черных страницах истории следовало забыть как можно скорее. В случае, если крымский хан или его «мурзы» вспомнят об отношениях между Иваном Калитой и золотоордыпеким ханом Узбеком, русским послам предписывалось просто избегать полемики по этому острому вопросу и отвечать уклончиво: «Не знаю старины; ведает ее Бог и вы, государи». Когда же в 1566 г. послы Сигизмунда II Августа, ссылаясь на польские хроники, упомянули о прежнем владычестве ордынских ханов над Москвой, дьяк П. Григорьев с возмущением это опроверг: «Мы того не слыхали, чтобы татарове Москву воевали, того не написано нигде, а в свои кроники что захотите, то пишете!»,н. Любой посольский дьяк уже в силу своей должности должен был сознавать, что в официальной истории, предназначенной для дипломатических нужд, эта страница отсутствует. Согласиться с тем, что сказанное послами — правда, значило нанести непоправимый урон царской «чести».
В Крыму такие протесты не имели смысла. Отвергая претензии Гиреев па сюзеренитет над Русью, в Москве негласно признавали «перекопских царей» главными преемниками ордынских джучидов, правда, с весьма ограни
КРЫМСКИЙ СИНДРОМ
31
ченным правом на их политическое наследие. Поэтому в контактах с «перекопскими царями» долго сохранялись отдельные реликтовые формы посольского обычая, в XIII-XV вв. принятого в отношениях русских княжеств с Золотой и Большой Ордой. Сам этот обычай не известен (ордынские посольские книги не сохранились, а летописные известия скудны), по гипотетически он может быть реконструирован с опорой па те элементы русско-крымской дипломатической практики, которые умаляли «государеву честь». С большой долей вероятности их можно считать наиболее древними.
Вопрос о престиже русских государей в Крыму изначально стоял на заднем плане, по в контактах с Западной Европой и Турцией (в меньшей степени — с Персией) он был поставлен во главу угла. Так продолжалось даже после того, как изменилось соотношение сил между Россией и Крымским «юртом». Последним крупным успехом «пе-рекопитов» стал набег царевича Фети-Гирея в 1592 г., а уже спустя десять лет ханских послов нарочно провезли мимо новых крепостей на южных рубежах страны — Оскола, Валуек и Борисова. Они поставлены были на татарских «сакмах» (идущих по лесам и оврагам тайных тропах, по которым степняки проникали на север в обход узлов оборонительной линии)19. Примерно с этого времени архаические нормы русско-крымского дипломатического этикета постепенно начали уходить в прошлое, по окончательно исчезли только на исходе следующего < толетия.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
32
3. Закон небес, или «Право народов»
В 1608 г. польско-литовские дипломаты говорили в Москве, что «Бог всемогущий, сотворивший весь свет и людей на нем, царствы, князьствы и государствы разделивши», утвердил естественный, заложенный в человеческой природе («в людцком прирожепье») порядок связи между ними «через послы и посланники»; с тех пор Бог своей «божественной силой» вечно стоит на страже этого порядка — карает или «благословение распростирает» в зависимости от того, как в той или иной стране обращаются с послами20. Позже выдающийся русский дипломат А. Л. Ордин-Нащо-кин писал, что «посольское дело основанием своим имеет совет Божий». Но если сама идея дипломатических отношений восходит к источнику вне этого мира, то и правила, которыми они регулируются, есть не что иное как божественные заповеди. Посол — воплощение своего монарха, но его значение этим не исчерпывается. Он — исполнитель высшей воли, находящийся под покровительством небес.
Еще древние греки знали разделение законов на писаные и неписаные: первые установлены людьми, вторые — богами. Право неприкосновенности посла, распространяемое на его свиту и имущество, потому и считалось священным, что покоилось па обычае, уходящем в глубочайшую древность и едином для всех племен земли. Это была наиважнейшая норма всеобщего le droit des gens (франц. право пародов), тем не менее Западная и Восточная Европа XVI-XVII вв. знала и специальные дипломатические паспорта как письменные гарантии безопасности прибывающих в страну дипломатов. Их русское название — «опасные грамоты». Они заблаговременно пересылались государю, намеренному отправить своих представителей в Москву, и, если их имена предварительно не были изве-
ЗАКОН НЕБЕС, ИЛИ «ПРАВО НАРОДОВ»
33
стпы, составлялись по следующему стереотипу: «Кого к нам пошлешь своих послов, и тем твоим послом к нам приехати и от нас отъехати со всеми их людьми безо всякие зацепки, на обе стороны путь чист». Заранее испрашивались «проездные грамоты» и у тех монархов, через чьи земли должно было проезжать посольство.
Это, разумеется, не могло исключить разного рода непредвиденных дорожных происшествий. С. Гербер-штейн, сопровождавший послов Василия III к императору Максимилиану! в 1518 г., рассказывает, как в Моравии, на лесной дороге между Остравой и Оломоуцем, посольский поезд неожиданно атаковал некий пан Чаплиц со своими людьми. Дошло до стрельбы из арбалетов и пищалей. Атака была отбита с уроном для нападавших, но неуемный Чаплиц, «желая отомстить за себя», собрал толпу крестьян, которые «нанялись копать пруды» в одном из местечек, и подбивал их напасть на посольство. Крестьяне, впрочем, на агитацию не поддались.
Тенденциозно звучат слова крымского хана Сахиб-Ги-рея в его послании к королю Сигизмунду II Августу (1548 г.): «Окроме на Москве послом смерть бывает, а в иньших паньствах (государствах. — Л. A9J нигде того не бывало»21. Возможно, подразумевалась столь же известная, сколь и недостоверная история о том, как Иван III приказал перебить послов большеордынского Ахмед-хана, явившихся к нему с требованием дани. Более вероятно, что Сахиб-Гирей имел в виду случай 1535 г., когда по пути в Москву крымский дипломат Будалы-мурза (русские посольские книги именуют его «гонцом», чтобы преуменьшить значение случившегося, хотя, как «мурза», он едва ли могбыть таковым) был заколот в придорожной корчме челядин-цами князя Ивана Барбашина. Убийство, по-видимому, произошло в пьяной драке. Русское правительство взяло
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
34
на себя ответственность за этот инцидент: по приговору Боярской думы виновных выдали на расправу в Крым.
Бывало, правда, что татарские и турецкие посольства в Диком поле становились жертвами казачьих ватаг. В 1549 г. донские казаки убили ехавших к СахибТирею казанских послов, в 1637 г. — турецкого посла, грека Фому Кантакузина, но воздействовать на них из Москвы при всем желании было столь же непросто, как на казаков запорожских — из Кракова и Варшавы, а из Исфагапа и Тебриза — на каспийских морских разбойников. Последние не раз обстреливали «бусы» (ладьи) русских послов, на которых те плыли в Персию. В Смутное время запорожцы нападали на русских и крымских дипломатов, ногайцы — на русских. Южное направление вообще было самым опасным. В 1607 г., под Тулой, от рук самозваного «царевича Петра» погиб возвращавшийся из Крыма посол А. М. Воейков со своими спутниками.
В 1622-1623 гг. множество испытаний выпало на долю отправленного в Турцию посольства И. Кондырева и дьяка Бормосова. В Стамбуле их обвинили в укрывательстве беглых русских рабов, восставшие янычары устроили у них обыск и грозились отрезать им носы и уши. На обратном пути их захватили запорожские казаки, имевшие какие-то счеты с казаками донскими. Запорожцы решили выместить свои обиды на подвернувшихся под руку государевых послах. Их привезли в Темрюк, засадили в крепостную башню и хотели убить. Едва вырвавшись живыми, в степи они подверглись нападению ногайцев, которые взяли в плен брата Бормосова. С помощью турок его удалось вызволить и добраться до. турецкого Азова, однако здесь разъяренная толпа потребовала от послов «унять» донских казаков, грабивших торговые суда и совершавших набеги на побережье. В окна полетели кам-
ЗАКОН НЕБЕС, ИЛИ «ПРАВО НАРОДОВ»
35
ни, начался штурм подворья. Перед Кондыревым и Бор-мосовым опять встала угроза лишиться носов и ушей, но в итоге они все-таки были отпущены восвояси.
Меньше повезло посольству Е. Лодыженского, в 1667 г. перехваченному запорожцами по дороге в Бахчисарай. Всех его членов голыми загнали в Днепр и расстреляли из мушкетов. Спасся только тяжело раненный подьячий (’.смен Скворцов, принятый за мертвого. По возвращении царь Алексей Михайлович пожаловал его наградным серебряным ковшом — «за крымскую посылку, для ево терпения, за увечья и за раны»22.
При всем том лишь в Крыму издевательство над русскими дипломатами вошло в систему. Их сажали под замок, грозили пытками, били, морили голодом и жаждой, отбирали лошадей, насильно вымогали подарки, грабили имущество23. Чтобы гарантировать им хоть какую-то безопасность, в русско-крымской дипломатической практике XVI в. был принят «размен» послов. Он происходил па южных границах, чаще всего в Путивле (с конца столетия — в Ливнах). Отсюда в одно и то же время русский посол отправлялся в Крым, ханский — в Москву, и каждый служил заложником безопасности другого. Это имело смысл при условии, что оба дипломата равновелики по своему социальному статусу. В 1535 г. князь Стригин-()боленский, находясь в Путивле и готовясь ехать в послом Крым, усомнился в том, что некто Темеш, посол I !слам-Гирея, является равноценной ему заменой. В Крыму, доносил он, «того Темеша не знают и имени его не ведают», значит «против того Исламова посла нелзе итти». (л ригин-Оболенский имел в виду, что ему «бесчестно» равнять себя с таким человеком, но «местничество» здесь — только предлог, чтобы не ехать к хану без достаточно надежных гарантий.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
36
От унижений и надругательств не избавляли никакие предосторожности. Крымские послы по дороге домой могли захватить и потом продать в рабство своих московских провожатых, а тот же Сахиб-Гирей, сетовавший на нарушения в Москве права посольской неприкосновенности, сам в 1546 г. «соромотил» (срамил) члена русской миссии подьячего Ляпуна. Его голым водили по базару с зашитыми ноздрями и ушными раковинами («нос и уши зашивал и, обнажа, по базару водил»). Это, видимо, была предостерегающая имитация той позорной казни, которой спустя почти столетие мятежные янычары угрожали Кондыреву и Бормосову.
В конце концов, в Москве начали наказывать крымских послов ответными конфискациями, «убавкой корма» и даже ссылкой. В 1564 г. сослали в Ярославль посольство Янболдуй-мурзы — «для Девлет-Киреевы неправды», как объясняет это летопись. Тем самым пытались воздействовать на хана, задержавшего в Крыму посла А. Нагого, который пробыл там семь лет. Как только его отпустили в Москву, освободили и ярославских сидельцев (правда, некоторые из них к тому времени умерли). Впрочем, толку от таких акций оказывалось немного. Хан не слишком тревожился о судьбе своих представителей, которые часто прикрывались его именем, а на самом деле ехали в Москву без всякого дела, исключительно в расчете па богатые подарки.
Посольские книги четко разграничивают «бесчестье» и «соромоту», т. е. унижение церемониальное и физическое. Первое могло произойти везде, но прямому насилию русские дипломаты подвергались только в Крыму. В 1624 г. дошло до гибели следовавшего в Турцию посольства И. Бегичева. МухаммедТирей заподозрил, что Москва собирается оказать на него давление через султана, и решил
ЗАКОН НЕБЕС, ИЛИ «ПРАВО НАРОДОВ*
37 упредить события. В Керчи послы ожидали кораблей, чтобы плыть в Стамбул; здесь на них напал один из хан-ских сыновей, «царевич» Шагин-Гирей с отрядом. Часть людей, в том числе самого Бегичева, убили на месте, остальных продали в рабство.
Более заурядным явлением были мелкие инциденты, ( вязанные с поведением не столько самих послов, сколько лиц посольской свиты. В 1491 г. в Кафе челядинцы А. М. Плещеева, посла Ивана III к турецкому султану, избили кафинского привратника, который стал выгонять посольских лошадей из крепостного рва, где те щипали траву. В 1613 г., когда посольство С. Ушакова и А. Забо-ровского находилось в Вене, «шла мимо Степанова (Степана Ушакова. — Л. Ю.) дворадевка, и Степановы люди ту девку ухватили и повалили», из-за чего началась драка с горожанами. В другой раз «Степанов же человек», привыкший, видимо, к вольнице Смутного времени, пытался изнасиловать жену хозяина постоялого двора; разгневанный муж «гонялся за ним с протазаном» (алебардой. — Л. Ю.) и едва не убил. Наука не пошла ему впрок, в Гамбурге* он тем же манером попытал счастья с дочерью какого-то «аглинского воеводы», а в 1олландии «хватался руками» за дочь местного «казначея», в чьем доме квартировали посланники24.
Нс лучше вела себя свита европейских дипломатов в России. В 1519 г. «детина» (сын) имперского посла II. Кристофа «у подключпикова детины» шпагой «у руки перст отсек», а также отнял корову у некоего «старца». Но дороге в Москву и обратно «насилства чинили» не только ногайские или крымские всадники. Грабежи в приграничных областях, особенно в первое время после Смуты, водились и за литовскими посольствами. Польские дворяне, забавляясь, обрубали на московских улицах хво-
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
38
сты чужим лошадям. В 1559 г. «человек» из шведского посольства С. Эриксена в Новгороде сжег на свече православную икону и был посажен в тюрьму. Вскоре, впрочем, его выпустили, ибо выяснилось, что он так поступил «впьяне». Последнее для русских было смягчающим обстоятельством, но шведы даже через десять лет не могли забыть обиду. В 1570 г., вспоминая этот случай, они утверждали, будто икону никто не жег, она загорелась сама, а виновный просто «прилепил блиско иконы свечю, и свеча пошатнулась к иконе». «Служебники» литовских послов не раз вступали в драку с русскими приставами, «задирали» местных жителей у конепойных прорубей. Москвичи, в свою очередь, выкрикивали вслед иностранцам «непотребные слова» и оскорбительные прозвища. Шведов, например, упорно дразнили «салакушниками» и «куриными ворами», на что те очень обижались.
Бывало, что иностранные посольства в России становились жертвами разбоя. По дороге в Москву «лихие люди» угоняли лошадей у крымских и ногайских послов, а в XVII в., когда членов западных миссий перестали запирать на подворье, свитских дворян нередко грабили, а то и убивали на улицах ночной столицы — преимущественно, как водится, в пьяном виде. Подобные эксцессы вызывали нарекания сторон, следовали жалобы, которые иногда оставлялись без последствий, а иногда влекли за собой наказание виновных, если их удавалось найти.
Москва уже в XVI в. признавала известную норму международного права, позже сформулированную голландским юристом Гуго Гроцием как экстерриториальность посла и его свиты. Провинившихся иностранцев русские власти, как правило, не наказывали сами, а требовали наказания от правительства той страны, откуда они прибыли, и сами поступали точно так же. В 1604 г. дьяк
ЗАКОН НЕБЕС, ИЛИ «ПРАВО НАРОДОВ»
39
11. Леонтьев, незадолго перед тем ездивший с посольством в Грузию, где вел себя «невежливым обычаем» (подробности неизвестны), по обвинению прибывшего в Москву грузинского посла был высечен кнутом на глазах у последнего. Спустя двадцать лет лишили поместий и посадили в тюрьму князя Г. Тюфякина, совершившего пэ ряда вон выходящие преступления. Будучи посланником в Персии, в городе Ар дебиле он велел своим людям украсть мальчика, которого затем продал кумыкам, а у кумыков похитил «девку» и увез ее с собой, спрятав на дне сундука.
Подобные происшествия к серьезным осложнениям не приводили. Гораздо больший резонанс получали случаи, когда право посольской неприкосновенности нарушалось по причинам политическим. В отношениях с европейскими странами таких случаев немного, но они бывали.
В 1567 г. литовский посланник Ю. Быковский был посажен под замок, потому что грозил Ивану Грозному войной и требовал возвращения Полоцка, четырьмя годами ранее взятого русскими войсками. Заключение продолжалось недолго, однако его условия были, как видно, достаточно суровыми — Быковскому «пришла немочь», и он «опух от духу и от тесноты». При Василии Шуйском в Москве на год с лишним задержали прибывшее к Лжедмитрию I польское посольство Н. Олесницкого и А. 1онсевского, но э то был именно арест, а не заточение. Наибольший резонанс получила беспримерная, единственная в своем роде эпопея, когда на протяжении рядалет русских дипломатов в Швеции и шведских в России подвергали «соромоте», арестовывали, ссылали в отдаленные области.
Первый эпизод этой дипломатической войны произошел в 1569 г. во время пребывания в Стокгольме посоль-
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
40
ства И. М. Воронцова. После того, как Эрик XIV, заключивший союз с Иваном Грозным, был свергнут вошедшими в столицу отрядами его брата, будущего короля Юхана III, тогда — герцога Финляндского, его люди захватили подворье, где находилось посольство. Они «збили у Ивановы (Воронцова. — Л. Ю.) полаты замок, в которой по-лате рухлядь, да ис полаты рухлядь всю поймали — суды серебряные и платье, и людей пограбили, да и самих послов ограбили, оставили в одпех рубашках»25. Воронцов «с товарищи» были заперты в доме; там они без еды и одежды просидели четыре дня. Одновременно герцогские наемники ограбили стоявшие в порту посольские корабли. Впоследствии часть имущества возвратили, однако посольство, разделенное на две группы, еще на полгода насильно задержали в Швеции, причем не в Стокгольме, а в окрестностях Або. Шведы объясняли случившееся простым недоразумением, но очевидно, что причиной послужило требование Грозного отдать ему жену Юхана Финляндского, Катерину Ягеллон.
Когда в том же году в Новгород прибыло шведское посольство во главе с абовским епископом Павлом Юсте-ном, царь предпринял ответные репрессии: «Велел государь свейских послов ограбити за то, что свейской король ограбил послов государьских». На дворе новгородского наместника послам связали руки, концы веревок дали всаднику, и шведы вынуждены были бежать за ним но улице под улюлюканье толпы. Всадник двигался не по прямой, а время от времени описывал круги, Юстену и другим членам посольства приходилось повторять его движения. Со стороны это выглядело так, будто они кружатся в пьяном танце. Затем их доставили в кабак, раздели донага и голыми выставили па всеобщее обозрение.
ЗАКОН НЕБЕС. ИЛИ -ПРАВО НАРОДОВ-
41
Этот эпизод относится к истории не столько даже собственно дипломатии, сколько опричнины. «Горожане должны были понять: с приходом царя и его опричников в 11овгород мир перевернулся, и нигде - ни в церковной с лужбе, ни в посольском обычае — привычные нормы и традиции больше не действуют»26.
Из Новгорода шведов привезли в Москву, где их тоже нс ждало ничего хорошего. Матиас Шуберт, секретарь миссии, по возвращении в Стокгольм составил по-немецки стихотворную реляцию с описанием перенесенных ими бедствий (в то время подобная форма дипломатической отчетности была в порядке вещей: в стихах излагали свои московские впечатления англичанин Джон Тубер-виль и поляк Гелиаш Пелгжимовский). В реляции Шуберта рассказывается, в частности, о том, как послы следовали на аудиенцию в Кремль:
Втолкнули нас всех в один зал, одежды сняли, цепи и кольца, связали руки за спиной, так что шевелиться мы не могли.
И так отправились мы в гости к великому князю во дворец.
Аудиенция, естественно, не состоялась. После долгого и напрасного ожидания произошло следующее:
Нас прогнали из замка,
как предателей и воров. И шли мы пешком, погоняемые русскими плетьми и палками.
Глядя на это, многие не могли удержаться от слез.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
42
Далее Шуберт пишет:
Нас всех раздели догола, толкали нас от одного к другому и били, и загнали в помещенье, где просидели мы четыре дня без пищи и воды, под строгою охраной27.
(Пер. Л. М. Николаевой)
Нетрудно заметить, что все это является точной копией испытаний, в Стокгольме выпавших на долю Воронцова «с товарищи» — вплоть до тех же четырех дней, в течение которых им не давали ни пищи, ни воды. Последующая ссылка посольства Юстена в Муром зеркально повторяла ссылку русского посольства в Або.
В Муроме шведское подворье обнесли тыном из бревен, «высоких, как мачты» (Юстен насчитал их 745 штук). Пленников никуда не выпускали и ежедневно устраивали им поголовную перекличку. Некоторые умерли, остальных в конце концов отправили на родину. Задержан был лишь толмач А. Нильсен, позже обвиненный в «лазучстве».
Следующим пострадал гонец В. Чихачев — тот самый, для кого был устроен спектакль с переодеванием X. Флеминга. У Чихачева стали требовать царские грамоты, он отказался отдать их до аудиенции, тогда один из приставов ударил его в грудь обухом топора и «топором прима-хивался к шее — отсеку, деи, голову, да лаял матерны». Чихачев отвечал: «Толко б яз, царьского величества холоп, сидел на своем коне, и ты б меня, мужик, так не без-чествовал и не убил. Умел бы яз тебе ответ дать». В поисках грамоты Грозного, надежно спрятанной Чихачевым (где именно, он не сообщает), приставы обыскали и его самого, и толмача, и свиту — «платье сымали и разували»,
ЗАКОН НЕБЕС. ИЛИ «ПРАВО НАРОДОВ»
43
затем взломали «коробью» с иконами, расшвыряв иконы по полу, но ничего не обнаружили и ушли, пригрозив Чихачеву пыткой: «На огне будешь, коли писма не дашь!»2Н. Вскоре Чихачева сослали куда-то на север, в Финляндию, где он и умер, избежав таким образом кары за то, что был обманут обряженным в королевский костюм шведским вельможей. Надо думать, не менее печальной была участь и того безвестного «земца» из Орешка, который в 1572 г. доставил Юхану III «ругательное» послание Ивана Грозного.
«Послы виноваты нигде не живут, — писал в нем царь, имея в виду случай с посольством Воронцова, — с чем они посланы, с тем они и пришли». Он же, однако, объясняя заточение Быковского, утверждал и прямо противоположное: «От начала велось: которые придут с розметом (разрывом отношений. — Л. /О.), и тем живота не давыва-ли». Память об этой идущей «от начала» архаической практике продолжала жить в сознании эпохи. Угрозу ее возобновления еще можно было продекларировать, осуществить на деле — уже нельзя. Русские князья перед битвой на Калке могли убить монгольских послов, поскольку з ги «языци незнаемы» явились неизвестно откуда, и никаких контактов с ними не существовало вообще, но в о тношениях с Речью Посполитой подобные вещи давно с делались невозможны. Вызывать духа из бездны не хотел никто. Древний обычай годился теперь лишь на то, чтобы । ia его фоне оттенить собственную кротость. В1579 г., когда гонец В. Лопатинский привез царю «розметную грамоту» от Стефана Батория, выступившего в поход на рус-( киеземли, ему заявили от лица Грозного: «Которыелюди < такими грамотами ездят, и таких везде казнят; да мы, как есть государь христьянский, твоей убогой крови не хотим»29.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
44
Общим местом на русско-литовских переговорах была стандартная формула: «Посол что мех — что ему дали, он то и несет». «Посла ни бьют, ни бранят, ни секут, лише жалуют», — гласит максима из рукописного сборника пословиц XVII в. Тем не менее в периоды военного противостояния могло быть всякое, и в наказе русским послам, в 1581 г. отправленным в лагерь Стефана Батория, допускалась возможность не только того, что их там будут «бес-чествовати или лаяти», но и «бити». В условиях, когда Грозному нужен был мир любой ценой, послам предписывалось «не брапитися, а против бою терпети»30.
Нет ни одного достоверного известия о казни в России иностранных дипломатов и ни одного слуха о том, что умершие в Москве послы стали жертвой яда, а не болезни. Редкие инциденты, связанные с нарушением посольской неприкосновенности, были обусловлены самим типом личности Ивана Грозного. Они имели место на фоне опричнины, отменившей все писаные и неписаные законы, и Ливонской войны, которая быстро приобрела тотальный характер, дотоле на северо-востоке Европы не известный.
После Грозного никто из русских государей не позволял себе так откровенно пренебрегать «правом народов». Разве что изредка отправляли в ссылку крымских послов, если хан совершал набег на русские земли, а в 1630 г., когда Франция в борьбе с Габсбургами решила опереться па Стамбул, та же участь постигла маркиза Шарля Талейрана, прибывшего к Михаилу Федоровичу послом от трансильванского князя и самозваного венгерского короля Бетлем-Габора. Талейран предложил царю воевать против Польши, союзницы Священной Римской империи, вместе с Бетлем-Габором и турецким султаном, чьим вассалом тот являлся, но в Москве товарищ по посольству
ЗАКОЛ НЕБЕС, ИЛИ «ПРАВО НАРОДОВ-
45
долее на него властям (суть доноса неизвестна), и маркиза па два года сослали в Кострому. Там он, как сообщает Л. Олеарий, от нечего делать выучил наизусть первые четыре книги «Энеиды» Виргилия и «был в состоянии говорить стихи из этих книг с любого места, которое ему назначали»31. Вероятно, он пошел бы и дальше, если бы через два года его не выпустили из России по ходатайству Людовика XIII. История эта темная, но причина ссылки состояла, по-видимому, в том, что БетлемТабор внезапно умер, затея потеряла свою актуальность, и Москва не спешила отпускать из страны свидетеля ее готовности вести переговоры о союзе с неверными. Это было столь же предосудительно для христианского государя, как и опасно для отношений с Варшавой и Веной.
Глава II
Государь и посол
1. Луч от солнца
До середины XVI в. в Европе практически не был известен тип посла-резидента, проживающего в стране назначения. Правда, Венеция издавна держала своих представителей при некоторых дворах, а в 1513 г., следуя ее примеру, Папа Лев X учредил нунциатуру во Франции, Англии и Священной Римской империи (в отличие от легатов, выполнявших разовые поручения Ватикана, нунции были его постоянными представителями при дворах католических монархов). Зато во второй половине того же столетия новый способ дипломатического представительства быстро утвердился в крупнейших европейских державах, хотя в особых ситуациях нс исключались и единовременные чрезвычайные посольства.
Первый шведский посол-резидент («прсбывательный агент») в Москве и русский — в Стокгольме появились в 1635 г., но вскоре их отозвали по причинам скорее житейским, чем политическим (оба скомпрометировали себя пьяными скандалами). Эксперимент оказался неудачным, повторили его уже в отношениях с Польшей и лишь спустя тридцать с лишним лет. Вплоть до 70-х гг. XVII в. на востоке Европы безраздельно господствовала дипломатия, которую английский историк Ч. Картер назвал
ЛУЧ ОТ СОЛНЦА
47
«окказиональной» — посольства направлялись «по случаю»1. При этом функции и сущность посла одинаково трактовались на Западе и в России.
В начале XVII в. Джон Донн адресовал отправлявшемуся в Венецию известному английскому дипломату и своему другу 1енри Уоттону следующие строки:
Итак, указ король тебе вручает, Поставив подпись собственной рукой. Тебя он полномочьем облекает, Как бы на время делая собой.
Ты в фонаре его горишь свечою.
Ты — копия, а он — оригинал.
Ты — скромный луч. Он — солнце золотое.
И этот луч он вдаль светить послал.
(Пер. Б. Томашевского)
Образы этого послания отнюдь не субъективны. Это устойчивые формулы, укорененные в сознании эпохи и до блеска отточенные многократным употреблением. ()ни исторически точно выражают взаимоотношения между монархом и его полномочным представителем, как они мыслились в идеале.
«Королем-солнце» называли не только Людовика XIV, хотя именно с ним традиционно связана эта метафора (в 1662 г., во время рыцарской игры в Версале, один из ры-। щрей его свиты нес зеркало, поскольку оно отражает солнечные лучи, второй —ветвь лавра, считавшегося священным деревом солнечного бога Аполлона, третий — изображение орла, который поднимается ближе к солнцу, чем все остальные птицы, и т. д.). После Коперника старинная метафорика нашла парадоксальное подтверж-
ГОСУДАРЬ И ПОСОЛ
48
дение в повой космологии: отныне солнце, «неподвижное светило», символизирует собой монарха, звезды — наследников престола, планеты с их изменчивыми траекториями — аристократию, метеоры и кометы — фаворитов, а лупа, светящая отраженным светом — дворянство. Вся эта стройная система астрономических символов была создана в XVII в. в Англии, но задолго до того с солнцем сравнивали и византийских императоров, и турецких султанов. В России этот образ становится расхожим при Алексее Михайловиче, но еще царя Федора Ивановича персидские послы именовали «солнечным светилом всего света», а в послании антиохийского патриарха Иоакима (1586 г.) он уподоблен «солнцу, светящему над всеми звездами»2. Эта распространенная солярная символика помогает лучше уяснить природу связи, существовавшей между монархом и его послом.
В XV-XVII вв. монарх являлся не просто персонификацией государства, как в современном дипломатическом протоколе, но его воплощением в человеческом образе. Известная фраза Людовика XIV «Государство — это я» (неважно, действительно им произнесенная или ему приписываемая) не была только эпатирующей шуткой. Древнейший ритуальный вопрос о здоровье приславшего посольство монарха, с которым к его представителям обращался на аудиенции другой монарх, па самом деле был вопросом о благополучии страны. Государь и его подданные связаны были обоюдно и неразрывно — вплоть до того, что болезнь и смерть царя или наследника престола могли восприниматься как следствие грехов, совершенных не ими самими, а их подданными. В 1581 г., после смерти царевича Ивана Ивановича, русские послы за границей говорили, что он умер «за грех всех земель государя нашего»4. То, что причиной смерти послужил удар, нанесенный ему
ЛУЧ ОТ СОЛНЦА
49
отцом, дела не меняло. Смерть полуторагодовалой царевны Федосьи, дочери Федора Ивановича, также объяснялась «грехом всего мира». С другой стороны, еще Иосиф Волоцкий предупреждал Ивана III, что «за государское прегрешение Бог всю землю казнит». Составляя двуединое «тело», на котором сказывается вина каждой из час-гей, государь и его «земля» были связаны общей ответственностью перед лицом Всевышнего. Соответственно с убъектом международного права выступал тот или иной монарх в его человеческой сути, а не государство как ин-с гитут и даже не совокупность последовательно сменяющихся на одном престоле правителей, пусть даже принадлежащих одной династии. Дипломатия была личной, любые межгосударственные отношения понимались как мсжгосударские. При вступлении на престол нового монарха все прежние договоренности аннулировались и должны были подтверждаться заново.
В 1542 г. русские дипломаты настаивали, чтобы в текст мирного договора с Речью Посполитой был бы «вписан» не только сам король Сигизмунд I, но и наследник престола. Делалось это из опасений, что «король уже добре с тар, и нечто нс станет короля, и сын его, то перемирье оставя», может начать войну. Это требование без удивления было воспринято противной стороной. «Пока места в которой земле государь, по та места и псремирные грамоты», — говорил дьяк И. М. Висковатый шведским послам в 1557 г. Когда Антонио Поссевино, папский посредник на русско-польских мирных переговорах в Яме Запольском (1582 г.), предложил заключить мир на 100 лет, русские послы возмутились: «Болши веку человеческого никому грамоты писати нелзя; а на сто лет нигде есмя того не слыхали, чтоб перемирные грамоты писати; а по смерти кому мочно своя воля делати?» ’. Иными словами, срок
ГОСУДАРЬ И ПОСОЛ
50
действия договора не должен превышать возможный срок жизни заключившего данный договор государя. На языке тогдашней русской дипломатии сам термин «вечный мир» означал, вероятно, всего лишь мир сроком на 30 лет5. Слово «век» многозначно, но здесь имелось в виду единственное из его значений — «век человеческий», точнее — протяженность земной жизни па том ее отрезке, на котором даже человек, не зависимый пи от какой мирской власти, только и способен осуществлять свою волю.
Если монарх воплощал в себе государство, то посол в свою очередь был воплощением своего монарха. «Луч, исходящий от солнца, несущий в себе его субстанцию, горящий и не иссякающий», — с помощью этого наглядного примера в средние века объясняли суть неразрывной связи Бога-Отца с Богом-Сыном. Описанный Д. Донном тип отношений между государем и послом восходит к той же метафоре.
Были и другие, не менее яркие. В 1491 г. крымский хан Менгли-Гирей следующим образом характеризовал отправленного им в Москву посла: «От двух моих глаз одно око». Кахетинский царь Александр I писал Федору Ивановичу: «И что учнет говорити посол мой, и то говорит мое ссрцо». В точности перевода можно не сомневаться, потому что аналогичные взгляды были свойственны и русским дипломатам. В. Г. Морозов, ссылаясь на поручение, данное ему Василием III, заявлял в Крыму: «Те речи государь наш, князь великий, у меня написал на сердце»6. Если учесть, что «сердце царево — в руце Божией», то царский посол, продолжая собой этот ряд, становился уже не совсем обычным человеком.
В 1517 г. бояре говорили Сигизмунду Герберштейну, что «всяк посланник государя своего лице образ носит». Последняя фраза буквально повторяет мысль голландца
ЛУЧ ОТ СОЛНЦА
51
Фредерика Деерзелера, автора сочинения «Легатус», цини у из которого столетие спустя привел голштинский чинломат Адам Олеарий: «Послы являются образами го-• ударен»7. Позже подобная метафизика, основанная на < верхличностной связи, уступила место теориям более рациональным, хотя и оставляющим в силе особый ста-। у< । юсла среди других смертных. Французский дипломат XVII в. Франсуа де Кальер уподобил его актеру, «призванному на глазах публики играть великих людей», но заме-1ил, что это «возвышает его над его положением в жизни- и превращает в «равного сильным мира сего»*.
(/гепень отождествления монарха и его представитё-»ni могла быть разной и выражалась рангом дипломата. 111 *< к сии уже в начале XVI в. существовала четкая градация дипломатических представителей, включавшая в себя три <и пивных ступени: послы («великие послы»), посланники («легкие послы») и гонцы. В Европе эта лестница была общепринятой, а на Востоке существовала в менее строгой форме. Крымские ханы часто присылали в Москву дипломатов неопределенного ранга, которых русские относили и гонцам («кильчеям») или послам («чеушам»), руководству-и< I. их знатностью и характером данных им поручений.
Дипломаты первых двух рангов были «фактотумами» « моего монарха9. От его лица они вели переговоры за рубежом и заключали дипломатические соглашения (в отношениях Москвы с Польско-Литовским государством право на заключение договоров имели исключительно послы; посланники такими полномочиями, как правило, иг обладали). Гонцы просто перевозили письменные сообщения («посыльные грамоты»). В посольских книгах творится, что послы возят грамоты «с отворчатыми пе-чагьми», а гонцы — «с затворчатыми». Иными словами, । |грвые знают содержание отправленных с ними докумен-
ГОСУДАРЬ И ПОСОЛ
52
тов, вторые — нет. Устные поручения с гонцами обычно не пересылались, во всяком случае выступать от высочайшего имени они не могли, ибо были не заместителями государя, а всего лишь безгласными орудиями его воли.
Именно эти представления вызвали к жизни общепринятую в Западной Европе норму, согласно которой при дворе третьих стран посол даже незначительного суверена имел преимущества перед представителями королей Франции или Испании, если дипломатический ранг последних был менее высоким. Больший почет оказывался не тому дипломату, чей монарх был могущественнее, а тому, кто в большей степени воплощал его в себе. Русские заграницей не всегда учитывали эту норму и возмущались, когда им, посланникам «великого государя», отводили места ниже, чем послам какого-нибудь герцога или курфюрста. Впрочем, подобные конфликты были явлением заурядным, дипломаты других стран в этих случаях вели себя точно так же10. Правило знали все, по каждый хотел быть исключением.
Царские «речи», адресованные иностранному монарху и переданные с послами или посланниками, произносились ими только от первого лица. «Мы, великий государь», — торжественно объявлял посол, прежде чем изложить суть дела, и в такие минуты он наиболее полно воплощал в себе своего повелителя, фактически становясь им самим. В посольских книгах часто сообщается, что государь «говорил послом своим», «посланником своим», т. е. устами посла или посланника. Перед отъездом за границу дипломаты высших рангов непременно бывали на аудиенции («отпуске») у царя, но не для того, чтобы лично от него получить последние наставления, а чтобы через благословение и физический контакт с ним (целование руки) воспринять частицу его сущности.
ЛУЧ ОТ СОЛНЦА
53
Если в междукняжеских отношениях удельного периода дипломатические поручения нередко возлагались на авторитетных церковных деятелей, и, например, Сергий Радонежский ездил послом от Дмитрия Донского к Олегу Рязанскому, то в XVI-XVII вв. духовные особы включались и < < >< тав русских миссий лишь на правах сопровождавших н и миссии священников. Это отражало общеевропей-< кие веяния. Только единоверная Грузия время от времени направляла в Москву лиц духовного звания, и в момент опаснейшего обострения русско-шведских отношений К >хаи III поставил во главе своего посольства епископа i ирода Або (Турку в Финляндии) Павла Юстена — в расче-। с на то, что царь выкажет уважение к его сану. Правда, в Hill г. в Стокгольм ездили два высокопоставленных новгородских чернеца из Благовещенского и Юрьевского монастырей — игумен Антоний и архимандрит Никандр, но их миссия была совершенно особой: они должны были пригласить на московский престол сына шведского короля Карла IX. Это исключительный случай, обусловленный нг( >бычпыми обстоятельствами и общим упадком русской дипломатии в годы Смуты.
Уже при Иване III выработался порядок, по которому । ла вой посольства назначался обычно князь или боярин, главой посланнической миссии —окольничий или думный дворянин; гонцами в середине XVI в. чаще всего бывали дворяне и «дети боярские», позднее посылались также । к щьячие и низшие придворные чины — стряпчие, «жильцы ». Мелкие дипломатические поручения иногда возла-1али па иностранцев. По утвердившимся канонам послы и посланники на летописных миниатюрах изображались в долгополом платье и с бородой, гонцы — в короткополом и без бороды, как прочие «молодшие люди», т. е. невысоко стоящие на социальной лестнице (хотя по возра-
ГОСУДАРЬ И ПОСОЛ
54
сту гонец мог быть старше посла). Человек относительно низкого звания не мог воплощать в себе государя. «Сын боярский» не мог быть послом, боярин — гонцом, но уже по другой причине: это роняло «честь» не царя, а самого боярина. Официальный статус главы посольства должен был соответствовать его дипломатическому рангу, и наоборот. Если в нужный момент не могли найти подходящую кандидатуру, одно срочно приводилось в равновесие с другим — так в 1603 г. окольничему М. Г. Салтыкову царь Борис Годунов «боярство дал для посольства».
В отношениях Москвы с Речью Посполитой обе стороны ревниво следили, чтобы такое соответствие не нарушалось. Это, в частности, сказалось при написании фамилий польско-литовских дипломатов: один и тот же человек писался в посольских книгах по-разному — в зависимости от уровня его миссии. У посланников и гонцов почетное, с точки зрения русских, окончание «-ич», (Шимкевич, Тышкевич, Скратошич) заменялось на «-оя» или « ин» как не соответствующее их рангу (Шимков, Тыш-ков, Скратошин), а у послов сохранялось в неприкосновенности. Тог же Тышкевич, когда он позднее прибыл в Москву уже в качестве посла, а не посланника, получил право на полное написание своей фамилии.
Принцип соответствия ранга и социального статуса известен с глубокой древности, и уже тогда порождал проблему, хорошо знакомую московской дипломатии, как, впрочем, и всякой другой. «Худой посол попадает в беду, а верный посланник — спасение», — говорится в «Книге притчей Соломоновых» (Притчи, XIII, 17). Проблема заключалась в том, что родовитость была необходимым условием для назначения человека послом, и она же делала сомнительным успех его миссии. Феодальная аристократия плохо годилась для решения сложных дипломати-
ЛУЧ ОТ СОЛНЦА
55
••<•< них задач, а менее знатный посланник не всегда обладал достаточными для этого полномочиями. Извечная оппозиция способностей и «чина», мудрости низших и неразумия высших (у Соломона — греха и праведности) в Москве преодолевалась столь же древним и повсеместно распространенным способом: главой посольства назначался боярин или окольничий, но его действия контролировались и направлялись опытным посольским дьяком.
Чем выше был «чин» посла (титул и звание), тем больше «чести» оказывалось принимающему посольство государю. Поэтому к монархам, которые не считались «брать-ими» русских государей, отправлялись лишь посланники и гонцы. Правда, в отношениях с Речью Посполитой при (’.тефане Батории царь все же не решился сломать веко-иыс традиции, и послы к польскому королю «ходили по прежнему обычаю».
Ранг дипломата поддерживался численностью его свиты. Хотя Иван Грозный и его преемники признавали королеву Елизавету I своей «возлюбленной сестрой», в Англию направлялись только посланники. Послу «великому» мтруднительно было добраться до Лондона с подобающей сто рангу свитой — такого количества сопровождающих лиц не выдержал бы ни один корабль. Сходные причины определяли средний ранг русских дипломатов в отношениях с Турцией, Персией, папским престолом в Римс, а в XVII в. — и с Габсбургами. Тридцатилетняя вой-। la, разорившая Священную Римскую империю, сменилась непрерывной смутой в Речи Посполитой, через территорию которой должны были проезжать посольства первых Романовых к «цесарям». Поэтому, как со знанием дела писал Григорий Котошихин (бежавший в Швецию подьячий Посольского приказа), «к цесарскому величеству Рим-। кому великие послы не посылываны давно, потому что
ГОСУДАРЬ и ПОСОЛ
56
дальней проезд чрез многие разные государства, и послом великим в дороге будет много шкоды и убытков»11.
Не меньшие опасности подстерегали московских дипломатов по дороге в Стамбул и в Тебриз или Исфаган. Кроме того, в Турцию, как и в Англию, приходилось плыть на чужих кораблях, а тяготы путешествия через Кавказ выразительно описал священник Никифор, входивший в состав посольства в Персию в 1595 г.: «Которой не может на лошади сидети, и тех привязывали к лошади, чтоб не свалился. А иной, сваляся с лошади, тут и умрет, а ино-во па стаи мертвово привезут, привязана к лошади; а ипо-во мужик за бсдры, сидя, в беремени держит, чтоб с лошади не свалился и не убился. А ее жарко непомерно, от солнца испекло, а укрытись негде, лесу отнюдь нет»12. Трудности пути мешали «послам великим» предстать перед шахом или султаном во всей приличной их рангу пышности, определяемой в первую очередь количеством свиты.
В русско-литовской дипломатической практике при Василии III и Иване Грозном свита гонцов составляла в среднем 20-30 человек, посланников — 150-200, послов — 300-400, включая слуг («служебников»). Не меньше людей прибывало поначалу и с послами крымскими, бравшими с собой даже своих жен. Миссии других государств были несравненно менее масштабными, хотя соотношение между ними оставалось примерно тем же. К концу XVI в. численность посольств, которыми обменивалась Москва с Вильно и Краковом, тоже пошла на убыль, но в середине столетия с литовскими «послами великими» в Россию прибывало порой до тысячи человек, а то и больше: дворяне, челядь, ксендзы, писари, повара, брадобреи, музыканты и т. д. Их пропитание и содержание вызывало массу хлопот и затрат, но ни в Москве, пи в Вильно никогда
ЛУЧ ОТ СОЛНЦА
57
। к- пытались ограничить численность посольской свиты — опа свидетельствовала о высоком положении дипломата и, значит, служила «чести» принимающего посольство государя.
В то же время русские дипломаты в Крыму периодически напоминали, чтобы хан «посла своего посылал не по многих людех», чтобы «с послом лишних людей не было». Причина беспокойства более чем понятна. Во-первых, ханские представители норовили взять с собой как можно больше родственников и клиентов, для которых требовали подарков. Во-вторых, крымские всадники по дороге в Москву «буйства чинили», за ними следовало присматривать, а трудность задачи возрастала пропорционально количеству подконвойных. В-третьих, возникали дополнительные трудности при охране посольского подворья в самой Москве. Здесь прагматические соображения брали верх над престижными, поскольку в отношениях с Речью Посполитой забота о «чести» русских государей была заботой важнейшей, а в крымских делах — второстепенной. В XVII в. Москва попыталась довести свиту крымских послов до 10-15 человек, а гонцов — до трех, но в итоге долгой торговли первая цифра увеличилась до 25, а вторая — до 15.
Сравнительно небольшая разница между последними двумя цифрами говорит о том, что в Крыму деление дипломатических миссий по рангам было скорее формальным, чем сущностным. Русские, предлагая соотношение 10-15 к трем, исходили из своих собственных представлений о различии между послом и гонцом, и честно пытались найти для него количественное выражение.
ГОСУДАРЬ И ПОСОЛ
58
2. От лица к лицу
Основополагающим в дипломатическом этикете был принцип иерархии отношений — они делались возможными только на одном уровне власти. В связях Москвы с Вильно эта система действовала в том своем варианте, который считался, видимо, близким к идеальному: царь мог вступать в контакт исключительно с самим королем (он же великий князь литовский), Боярская Дума — с королевской Радой («панами радными»), митрополит — с виленским епископом, смоленский воевода — с воеводой пограничной Орши, наместник Новгорода — с воеводой литовского города Троки и т. д. Некоторые вольности позволял себе разве что Лжедмитрий 1. До него даже в периоды «бескоролевья», когда всю полноту власти в стране принимали на себя польские и литовские «паны рад-ные», сноситься с царем напрямую, без посредников, им не разрешалось. Это правило оформилось относительно поздно, во второй четверти XVI в., а в отношениях с татарскими «юртами» долгое время не применялось вообще. Понятие «государевой чести» здесь было иным, поэтому царь мог получать грамоты не только от самого хана, по и от его жен, детей и «ближних людей», а также лично принимать их представителей. Лишь в середине XVII в. эта унизительная для Москвы практика была ликвидирована. Правда, в переписке со Стамбулом допускалось получение царем грамот от великого визиря, но эта норма практиковалась османской дипломатией в отношениях со всеми монархами, и русские государи тут не были исключением.
В русско-шведских контактах иерархический принцип соблюдался в особой форме, что при Иване Грозном привело к серьезному конфликту. Когда-то Швеция поддер-
ж।шала связи преимущественно с Новгородской республикой, но и в середине XVI в. Москва продолжала настаивать на сохранении этой традиции, хотя она давно превратилась в анахронизм — Новгород с 1478 г. утратил остатки независимости, а Швеция, бывшая владением датской короны, после расторжения Кальмарской унии обрела полную самостоятельность. Тем не менее шведские посольства «по старине» сначала прибывали на берега Волхова, где их принимал новгородский наместник, а уже потом доставлялись в Москву. Иван Грозный, не признававший «братьями» королей из династии Ваза, не желал отменять э гу унизительную для Стокгольма норму. Тем (амым Швеция приравнивалась к Новгороду — царской вотчине, а ее короли — к царским наместникам. Шведы неоднократно предпринимали попытки добиться права па прямые контакты с Москвой, но царь не уступал. «То дело належит тягостнее свыше всего, что прародителей своих старина порушити», — от его имени заявил по этому поводу дьяк Иван Висковатый в 1561 г.
Правда, шестью годами позже, заключив мирный договор с Эриком XIV, Грозный обещал «его пожаловать, от памесников отвести», однако союзник вскоре лишился престола, а новый король этого «жалованья» удостоен не был. Царь выдвинул совершенно неприемлемые условия, на которых готов принимать послов непосредственно от Юхана III, минуя своих новгородских «обдержате-лсй». В числе прочего король должен был отказаться от нрава самостоятельно заключать договоры с Данией и Речью Посполитой, согласиться на то, чтобы Грозный добавил к своему титулу наименование «Свейский», и прислать ему «образец, герб свейский, чтобы тот герб в царского величества печати был»13. Это означало признание зависимости. В таком случае Юхан III действительно по-
ГОСУДАРЬ И ПОСОЛ
60
лучил бы законное право на прямой контакт с царем, по только не как равный с равным, а как вассал с сюзереном.
Принцип иерархии контактов своеобразно преломился в обычае присваивать фиктивные титулы и звания русским послам, выезжающим за рубеж. Дьяка, например, «писали» наместником какого-нибудь города, дворянина — окольничим, окольничего — боярином. Обман тщательно скрывался, ибо при этом русскому дипломату при иностранном дворе оказывались почести, не подобавшие его положению при дворе московском. В контактах с Речью Посполитой так поступали обычно в периоды обострения отношений, когда не желали отправлять с посольством лиц действительно знатных, но в то же время опасались, что таких «худородных» людей примут без должного уважения, отчего пострадает «государева честь». Польско-литовская дипломатия пользовалась тем же приемом, хотя обе стороны считали эту хитрость незаконной и внимательно следили, чтобы титулы и звания послов, указанные в их верительных грамотах, соответствовали бы действительности. Когда в 1581 г. русским дипломатам пришлось признать фиктивность казначейского звания П. И. Головнина, за год до того ездившего послом к Стефану Баторию, они оправдывались тем, что «не па молодого человека имя есмо казначейское положили» (т. е. разница между истинным и декларируемым чинами Голов-пипа не так уж велика), тогда как при Сигизмунде II Августе были «писаны державцами» прибывшие к Ивану Грозному простые шляхтичи «Ян Шимков, Мартын Волотков и Ян Гайко»м. «Державец» — довольно высокий придворный чин. В этом случае разрыв между реальностью и фикцией огромен, и, следовательно, тогдашний обман был более унизителен для русского государя, чем теперешний — для польского.
ОТ ЛИЦА К ЛИЦУ
61
Взаимные разоблачения нс могли подорвать устоявшую-< я традицию. Повышался, вернее — завышался статус нс только самих послов, но и лиц, принимавших иностранные посольства в Москве и Вильно. «Молодшие» люди, па равных сносясь с «великими» людьми другого монарха, тем самым служили «чести» своего государя. В Моск-••<• всегда стремились выяснить — как соотносятся между собой титулы и звания при дворе того или иного монарха, чтобы каждому из них подыскать отечественный аналог. Нс со всеми дипломатическими партнерами это удавалось, но про Речь Посполиту всё знали досконально. Любая ступень ее придворной и должностной иерархии была точно соотнесена с московской лестницей чинов.
Эта же логика использовалась для того, чтобы объяснить причины небывалого возвышения Бориса Годунова при Федоре Ивановиче. Поскольку Годунов получал официальные послания от иноземных монархов, о чем и помыслить не мог ни один из временщиков Ивана Грозного, объявлено было, что если император Рудольф II присылает грамоты шурину русского царя, признавая, значит, его равным себе, то такой факт «служит царскому имяни к чести и прибавленью»15.
Для поддержания «чести» государя крайне важно было поведение русских дипломатов за рубежом. Оно дотошнейшим образом регулировалось целым сводом частных предписаний и общих правил. Эти составленные посольскими дьяками «наказы» («наказные памяти») в письменном виде вручались послам перед отъездом, а иногда, если посольству следовало отбыть спешно, отправлялись вдогонку со специальными гонцами.
В «коробьях окованых» послы везли с собой пышное посольское платье — иногда собственное, а чаще взятое напрокат из царских кладовых (при успешном выполне-
ГОСУДАРЬ И ПОСОЛ
62
нии миссии его могли по возвращении пожаловать им навечно). Роскошное облачение должно было показать богатство русских государей и поддержать их «чин». За рубежом его надевали только в торжественных случаях. В 1603 г., на обратном пути из Дании в Россию, послы А. Власьев и М. В. Юрьев, услышав, что в Курляндии неспокойно («зборлитовских людей»), и опасаясь за сохранность своего наряда, решили наиболее дорогостоящую его часть оставить в Любеке, чтобы потом любекские купцы морем отправили эти вещи в русский Ивангород на Балтике. В описи упоминаются «саженые» (усаженные жемчугом и драгоценностями) высокие горлатпые шапки («колпаки») итафьи (маленькие шапочки), «ожерелья стоячие и отложные», завязки из куньего меха, золотые нагрудные цепи11’. Этот случай объясняет, почему «великие послы» нечасто направлялись в дальние страны.
В Москве требовали, чтобы русские дипломаты на Востоке, надевая па себя пожалованное им платье, как принято было при дворах некоторых мусульманских владык, не роняли бы тем самым государеву «честь». В 1615 г., по возвращении из Персии посольства М. Н. Тиханова и А. Бухарова, посланникам учинили строгий допрос по поводу того, что на прощальной аудиенции у шаха они были только в подаренных им персидских халатах, без русских однорядок. «Забыв свою русскую природу и госу-дарские чины, — заключили чинившие разбирательство «думные» люди, — ездили есте на отпуске к шаху в его, шахове, платье, вздев на себе но два кафтана аземских... И вы тем царскому величеству учинили нечесть же: не ведомо, были вы у шаха государевы посланники, не ведомо — были у шаха в шутсх!»17. Русские дипломаты в Европе имели право носить только национальную одежду. В Москве их иноземный наряд был бы проступком рели-
ОТ ЛИЦА К ЛИЦУ
63
। ионно-нравственным, за пределами страны он становил-< и счце и политическим преступлением, особенно если это делалось публично. «А в угорском платье я по улице не хаживал», — оправдывался в 1573 г. вернувшийся из Копенгагена гонец К. Скобельцын, уверяя, что надевал венгерский костюм лишь у себя на подворье, где никто посторонний видеть его не мог18.
Порядок следования на аудиенцию, вручение грамот, произнесение речей — все должно было быть как можно более торжественным, но при этом подчиняться отече-< гвенным правилам. По пути во дворец иностранного монарха царскую грамоту предписывалось нести младшему члену посольства, во дворце ее следовало взять среднему по рангу послу, а в тронной зале — «болшему». От западных дипломатов они научились держать свои грамоты в высоко поднятых руках. «Речи» от имени царя послы тоже произносили по очереди: начинал старший, продолжали средний и «меньшой», затем все повторялось по кругу. В этих сценариях, регламентировавших каждый их шаг и каждое слово, видна продуманная театральность. 11ослы не просто исполняли свое поручение, но доносили до публики тот не поддающийся словесному выражению факт, что они все вместе, хотя и в разной степени воплощают в себе своего государя.
При иностранных дворах русские послы должны были требовать, чтобы во время аудиенции в приемных покоях । ic было представителей других держав. Дело тут не в стремлении сохранить какие-то государственные тайны, сама обстановка официальной аудиенции не предполагала обсуждение политических вопросов. Посторонние свидетели контакта между государями исключались нс по соображениям секретности, а потому что сам этот контакт — своего рода таинство, третий здесь — всегда лишний.
ГОСУДАРЬ И ПОСОЛ
64
Строжайше запрещалось произносить переданные от царя «речи» перед кем бы то пи было, кроме самого монарха, которому они адресованы. Государь в образе своего представителя не мог устно обращаться к простым смертным. «Мне с пашами речи нет, с салтаном мне гово-рити!» — заявил в 1496 г. М. Б. Плещеев, первый посол Ивана III в Турции. В крайнем случае допускалось, чтобы посол передал «пашам», «панам» или «королевиным лордам» списки «речей», не произнося их вслух.
Передача царских грамот «ближним людям» допускалась лишь в присутствии самого монарха. В идеале он должен был принять их лично, а уже потом отдать своим приближенным. В Москве на это шли неохотно, ив 1561 г. англичанин Энтони Дженкинсон задолго до назначенной аудиенции начал ходатайствовать о том, чтобы Иван Грозный своими руками принял у него из рук письма Елизаветы I, как четыре года назад Мария Тюдор приняла царские грамоты у русского посла. Для другого английского дипломата, Джерома Боуса, побывавшего в Москве двадцать с лишним лет спустя, предметом гордости было то, что он сумел передать грамоты королевы прямо в руки восседавшему на троне царю, хотя придворные и пытались их перехватить. Той же ловкостью при преодолении тех же препятствий хвалился Томас Смит в 1604 г.19. Все это нс вызвало недовольства лишь потому, что отношение к англичанам в принципе было особым: в них видели представителей страны настолько далекой, что ее можно было нс подозревать в каких-то антимосковских интригах, и в то же время достаточно могущественной, чтобы рассчитывать на ее помощь.
Даже простые гонцы неизменно настаивали на своем праве вручить привезенные грамоты непосредственно в руки монарху, но противная сторона далеко на всегда на
ОТ ЛИЦА К ЛИЦУ
65
это соглашалась. Во-первых, не всякий дипломат признавался фактотумом своего монарха и, следовательно, достойным прямого контакта с принимающим посольство государем. Во-вторых, привезенные письма, если они не прочитывались заранее, могли содержать в себе какие-то ‘бесчестные» выражения или пропуски в титулах, и при отсутствии уверенности в обратном считалось, что государю лучше не брать их собственноручно. Порой шли на весьма экзотические ухищрения, чтобы этого избежать.
В 1573 г. в Стокгольме, следуя на аудиенцию к Юхану III, гонец Василий Чихачев проявил предусмотрительность и спрятал царские грамоты за пазуху, резонно опасаясь, что их у него отберут. Уже в приемной палате, у ковра («сукна»), покрывавшего пол перед тропным возвышением, толмач вдруг схватил его за платье со словами: «Ты к королю не ходи и на сукно государьскос не ступай!» Чихачев, однако, действовал столь же решительно, как впоследствии Боус и Смит: он «вырвал» у толмача свое платье и «по сукну пошел, да и грамоты королю подал». 'Гот их принял, Чихачев счел свой долг исполненным, но на следующий день его посетил на подворье королевский (оветник Христофор Флеминг и заявил, будто Чихачев накануне был на приеме вовсе не у короля, а у пего, Флеминга, который, оказывается, сидел на троне вместо Юхана III, облаченный в королевские одежды. «Яз ему поприличеп (похож на него. — Л. /О.), — заявил Флеминг, — да толко не таков». Толмач, видимо, в последний момент испугался, что вблизи Чихачев обнаружит подлог, поэтому и пытался не подпустить его к трону. В панике он упустил из виду, что русский гонец не знает короля в лицо.
Весь этот фантастический спектакль был устроен шведами с единственной целью — до аудиенции выманить у Чихачева грамоту Грозного. Юхан III остерегался при-
ГОСУДАРЬ И ПОСОЛ
66
нять «невежливое» послание, сходное с тем, какое незадолго до того он уже получил от царя. По словам Флеминга, король «на своем месте не сидел» из-за предыдущей «неподобной» царской грамоты. Естественно, Чихачев отказался поверить, что его так неожиданно обманули. «Яз был не у тебя, Христофора, — отвечал он, — был яз у короля Егана, а тебя яз не знаю, тепере тя и вижу! »2(). Позже, побывав на приеме у настоящего Юхана III, Чихачев должен был убедиться в своей оплошности, но его донесение об этом умалчивает. Признать ошибку он не мог, это грозило ему жестокой карой по возвращении в Москву. Чтобы «взвысить государево имя», Чихачев должен был вручить царские грамоты королю, минуя посредников, но он был не посол, а всего лишь гонец, и Юхан III нашел оригинальный способ уклониться от прямого контакта. Будь на месте Чихачева дипломат высшего ранга, король вряд ли решился бы на подобную инсценировку.
Собственноручное принятие монархом дипломатических даров не практиковалось ни в России, ни на Западе, но подарки, отправленные с послом от имени государя, следовало «явить» только государю и никому иному, причем обязательно в парадной обстановке. Иначе олицетворяемые ими добрые чувства оказывались обращенными не к тем, кому они предназначались, или являли себя не там, где их подобало выказывать. То и другое чревато было нарушением личной связи между монархами. Кахетинский царь Александр I, в 1589 г. принявший русское посольство так, как, по его собственному выражению, «Моисей принял богописаный закон», велел принести на аудиенцию даже тех охотничьих соколов из числа отправленных ему в дар Федором Ивановичем, которые умерли по дороге в Грузию. Послы не посмели избавить-
ОТ ЛИЦА К ЛИЦУ
67
। >i от них в пути, и мертвые птицы были с почетом дос-гавлспы в приемный зал «в клобучках и во всем наряде»21.
Дары — материализованное благорасположение царя, । рамоты — его запечатленная воля, послы и посланники — фактотумы государя, в свою очередь воплощающего в себе кн ударство. Отсюда рождалось не рациональное, по вполне чувственное представление о том, что если эти нормы в равной степени признаются сторонами, то на высшем уровне отношений исчезает расстояние, разделяющее резиденции монархов, диалог ведется от лица к лицу.
Глава III
От ГРАНИЦЫ до Москвы
1. На рубеже. Посольские съезды
В посольском обычае XV-XVII вв. огромное значение придавалось последовательности отправления своих посольств и приема чужих. Здесь равновесие должно было быть незыблемым; стороны зорко следили, чтобы дипломатический маятник раскачивался равномерно и с одинаковой амплитудой.
Когда отношения между двумя государствами на какой-то период прерывались и возникала обоюдная необходимость их возобновить, почетнее считалось вначале принять иностранных послов, а потом отправить ответную миссию. В контактах с монархами, которых русские государи нс признавали «братьями», такой порядок был не просто «честным», но и обязательным. При постоянных отношениях с равными партнерами соблюдалась очередность —два раза подряд русские дипломаты высокого ранга не могли отправиться к одному и тому же государю. Лишь гонцы посылались вне очереди. Без ущерба для собственной «чести» монарх мог первым направить посольство в единственном случае — при своем вступлении на престол. По традиции об этом извещались все государства, с которыми поддерживались дипломатические отношения, и очередность тут во внимание не принималась.
НА РУБЕЖЕ. ПОСОЛЬСКИЕ СЪЕЗДЫ
69
11ри Иване Грозном бояре, ссылаясь на прецеденты, \ i верждали, что обычай, согласно которому вначале прибывают литовские дипломаты в Москву, а затем уже — русские в Вильно, имеет двухвековую историю: «почен (начат. — Л. Ю.) от великого государя, великого князя Дмитрия Донского и от Олгсрда короля»1. Отправить посольство первому означало встать в положение просителя. Лишь во время тяжелых поражений последнего периода Ливонской войны, когда положение на западных границах стало отчаянным, Грозный вынужден был по два раза подряд, нс дожидаясь ответных миссий, посылать к ( л ефапу Баторию своих полномочных представителей. Снаряжая очередное такое посольство, царь писал польскому королю, которого всегда презирал за низкое происхождение и ограниченность его власти: «И мы, перед Богом и перед тобой смирялся, послом своим к тебе велели идти»2.
Если никто не шел на уступки, и не удавалось прийти к (оглашению о порядке обмена посольствами, устраивались посольские съезды на границе. В этом случае не страдала «честь» ни одного из монархов. После русско-швед-( коп дипломатической войны 1568-1574 гг. пи одна из ( торон не желала подвергать своих послов риску повтори гь судьбу их предшественников, но и не могла позволить себе полностью разорвать отношения с соседом. В з гой безвыходной ситуации посольский съезд тоже стал единственным решением, приемлемым и для Москвы, и для Стокгольма. Практика таких съездов — явление отно-< ительно позднее, они практиковались с середины XVI в. и только в отношениях с государствами, имевшими общие границы с Россией. Чаще всего это были Швеция и Речь 11о< полита, реже — Крым, и однажды, много позже — Китай. В 1561 г. Москва даже поднимала вопрос о съезде на
ОТ ГРАНИЦЫ ДО МОСКВЫ
70
границе не послов, а самих государей — Ивана Грозного и Сигизмунда II Августа. Уже велись переговоры о церемониале высочайшей встречи, о составе и размещении свиты обоих монархов, о взаимных угощениях, по встреча так и не состоялась из-за начала военных действий.
Посольские съезды устраивались в тех случаях, когда враждующие стороны готовы были заключить мир, но пи одна не желала признать свое поражение и первой отправить к противнику своих послов. Поэтому делегации сопровождала сильная охрана, с русской стороны — стрельцы, отряды татарской конницы и дворянского ополчения. Г. Котошихип сообщает, что «на свейских» съездах «для опасения» бывает более двухсот стрельцов и столько же конных, а «на полских» — кроме стрелецких частей, до пятисот всадников и артиллерия. Накануне русско-шведского съезда 1575 г. послам предписывалось для вящей безопасности дополнительно набрать из местных жителей «латышей двести человек». Эти предосторожности имели смысл не только церемониальный, но и практический — никто заранее не знал, чем обернется дело. В 1601 г. послы Бориса Годунова и Кази-Гирея, съехавшись на реке Донец, едва нс начали между собой настоящее сражение с участием всех прибывших с ними «воинских людей». Крымцы хотели силой забрать привезенную на съезд и предназначенную хану «государеву казну»; русским пришлось пойти на уступки в переговорах, поскольку их конвой был слабее.
С делегациями, как с идущими на войну войсками, посылались наиболее почитаемые иконы в драгоценных окладах — «образа древнего писания, обложены золотом и серебром, с жемчюги и з каменьями». В XVII в. сам царь с митрополитом, бояре, придворные чипы, дворяне, духовенство и толпы простого народа торжественно про-
НА РУБЕЖЕ. ПОСОЛЬСКИЕ СЪЕЗДЫ
71
in окали их за городской посад5. Одна и та же икона Тихвин* г кой Богоматери была на двух русско-шведских съездах — < /Iолбовском и Валесиарском, и оба раза успех переговоров приписывался ее вмешательству. Такие общепризнанные святыни не должны были покидать территорию Рос-< ин, поэтому с миссиями, следовавшими не на рубежные ( ъезды, а за границу, столь широко чтимые иконы не отправлялись.
На Руси никогда не сооружали памятных знаков на местах сражений и других важных событий; их заменяли церкви, часовни и кресты. Однако в 1634 г., когда на По->1 яповском русско-польском съезде был заключен «вечный мир», поляки предложили в намять такого «великого дела» насыпать два кургана там, где стояли посольские шатры, и установить на них каменные столбы с именами короля Владислава и царя Михаила Федоровича, а также < датой подписания договора и фамилиями послов. Русские, естественно, не согласились на своей же земле ставить памятник в честь договора, закреплявшего Смоленск ia Речью Посполитой. На предложение польских послов । к мледовал ответ из Москвы: «То дело нестаточное — бугры насыпать и столбы ставить, быть тому непригоже», ибо «доброе делоучинилося по Божьей воле, ане для столбов и бугров бездушных». Первый русский памятный «столп» воздвигли на Красной площади стрельцы после мятежа 15-17 мая 1682 г., но места крупнейших посоль-। ких съездов, если они были удачными для России, отмечались часовнями и долго хранились в народной памяти.
Прибывая на съезд, примерные координаты которого определялись заранее, делегации через своих представителей из числа свитских дворян обговаривали конкрегные условия встречи. Достигнутые соглашения «подкреплялись» записями о том, что противная сторона будет вес-
ОТ ГРАНИЦЫ ДО МОСКВЫ
72
ти себя соответственно обычаю и нс применит никакого обмана или насилия. Дворяне прикладывали к этим документам свои печати, главы делегаций присягали на их тексте, после чего могли начаться собственно переговоры. Однако предварительное обсуждение затягивалось порой на много дней, а то и недель. Проблема места переговоров здесь вставала с нс меньшей остротой, хотя и в другом масштабе. Бывало, что русские и поляки хватались за сабли — не для того, разумеется, чтобы пустить их в ход, а чтобы показать твердость своей позиции.
Пока шли эти «спорования», обе делегации размещались в шатрах по разные стороны границы, и каждая предлагала для переговоров свой шатер па своей территории. Когда большинство унизительных для России норм русско-крымского посольского обычая было уже ликвидировано, на Ливенском съезде в 1593 г. ханские послы отказались ехать на переговоры в русский шатер. Для них это означало «Казы-Гирея царя имени потеряти»1. В 1585 г. чрезвычайно долгими и упорными были споры по этому поводу на русско-шведском съезде. Шведы заявили: «А по што нам к вам в шатер поитити? Ведь государя вашего го-роды за нашим государем, а нашего государя за вашим нет ничего»5. В ответ русские пригрозили вообще отказаться от встречи и уехать в Москву, была даже проведена инсценировка отъезда: ночью стрельцы и дети боярские «были сведены в заставы», и велено было «бити по набату», чтобы шведам «то было грознее». Цель была достигнута, в итоге переговоры происходили в большом «съезжем» шатре, составленном из двух — русского и шведского.
Еще больше сложностей возникало в тех случаях, когда границей служила река. В 1575 г. русская делегация расположилась на одном берегу р. Сестры, шведская — па другом, а предварительные переговоры велись посереди-
НА РУБЕЖЕ. ПОСОЛЬСКИЕ СЪЕЗДЫ
73
нс моста. Представители Юхана III предложили встретиться па их берегу; русские отвечали: «К вам па мост, па нашу половину, нс ступим пи одное мостовины!» Шведы покрыли мост суконной кровлей, но вести под ней переговоры посланцы Ивана Грозного категорически отказались: «Государских великих дел на мосту не делают!»6. 11акопец, испросив разрешения и получив согласие, шведы по мосту передвинули свою «кровлю» на русский берег, к посольскому шатру, поставленному при въезде на мост, и «учинили» таким образом «съезжий» шатер. В отчете русских послов перенесение «сукна» объяснялось < ильным дождем, но, возможно, это имело и символическое значение: шведские дипломаты не просто пришли в русский шатер, что было для них унизительно, а как бы перенесли па другой берег собственную территорию.
Многое, видимо, пришлось пережить Ивану Грозному, прежде чем в 1581 г. он разрешил поставить «съезжий» шатер не на прежней границе между Россией и Речью 11осполитой, а в Яме Запольском неподалеку от Пскова, на исконно русских землях, захваченных войсками Стефана Батория.
Съезжий шатер устраивался из двух шатров, каждый из которых принадлежал одному из партнеров. Шатры ставили почти вплотную друг к другу, обращая входными пологами («вервями») в разные стороны. Обе разделяющие их стенки поднимали, скрепляли между собой и подпирали шестами. Таким образом создавалось нейтральное пространство, где и проходили переговоры. Здесь стави-/|и длинный стол для заседаний (на съездах с крымцами его не было; русские сидели на скамье, ханские послы — па ковре). По обоим краям стола стояли скамьи, а вдоль столешницы, разделяя ее точно посередине, тянулся висевший на шнуре раздвижной занавес. Обычно каждая из
ОТ ГРАНИЦЫ ДО МОСКВЫ
74
сторон вначале требовала, чтобы большая часть стола помещалась на ее половине, но в конце концов соглашались поделить его поровну.
Обе делегации одновременно входили в съезжий шатер с двух противоположных его концов, при этом стараясь задержаться у входа, чтобы другие вошли первыми. Считалось «честнее», если противная сторона будет «дожидаться» внутри шатра в течение хотя бы нескольких секунд. Занавес в это время оставался задернутым. Еще не видя друг друга, партнеры занимали места за столом: русские послы — на своей половине, шведские или польские — на своей, потом занавес раздвигали, начинались переговоры. Когда на них присутствовали посредники, им отводилось место на отдельной скамье, поставленной перпендикулярно столу, сбоку от него. Толмачи и члены посольской свиты должны были стоять.
Съезжий шатер — модель пограничной территории двух сопредельных государств, не случайно он составлен из двух шатров. Предполагалось, что послы обеих сторон пребывают на своей собственной земле. Занавес — граница, своды шатра — небесный купол. Лишь на такой сцене могла быть разыграна пьеса, невозможная в другой постановке.
Впрочем, реальность вносила в этот спектакль свои коррективы. В январе 1616 г. Дедеринский русско-шведский съезд начался, как обычно, в сдвинутых вместе шатрах, но едва ударили сильные морозы, английские и голландские посредники отказались далее участвовать в заседаниях. Пришлось срубить «съезжую избу», чтобы продолжить их в тепле. Такая изба строилась по тому же принципу, что и «съезжий шатер»: она состояла из двух помещений, соединенных просторными общими сенями, где и проходили собственно переговоры.
ОТ РУБЕЖА ДО ПОСАДА
75
2. От рубежа до посада
Приближаясь к русской границе с запада, иностранные дипломаты заблаговременно должны были известить о ((‘бе новгородского наместника, если это были шведы, датчане, посланцы ливонского магистра, Ганзы и германских княжеств, или воеводу Смоленска, если они двига-нись из Праги, Вены, Вильно и Кракова. Воевода или наместник доносили об этом в Москву, оттуда поступали соответствующие распоряжения. Получив грамоту с разрешением на въезд, послы вступали на русскую территорию, где их встречал пристав с небольшой свитой и указывал дальнейший путь. Представителей крымского хана встречали на южных «украинах», в районе Путивля, Во-ротынска или Боровска, дипломатов турецких — в районе Азова, английских и голландских — в Архангелогородской гавани. Самовольно высаживаться на берег им не позволялось, на рейде их снимали с кораблей и доставляли па пристань загодя приготовленные русские лодки.
Порядок следования от границы до Москвы наиболее тщательно был разработан в русско-литовской дипломатической практике — в силу давности и интенсивности контактов. Тем же правилам отчасти подчинялись имперские посольства, проезжавшие по древней торговой дороге от Вильно на Оршу, а затем, уже по русской территории — на Смоленск, Дорогобуж, Можайск и Москву.
Первое время после 1514 г., когда Смоленск вошел в состав Русского государства, польско-литовских дипломатов на всякий случай старались провезти в объезд этой важнейшей пограничной крепости. Даже С. Герберштей-иа в 1526 г. приставы не хотели туда впустить. Позднее подобные предосторожности сочли излишними, но с того момента, как Стефан Баторий начал войну с Россией, его
ОТ ГРАНИЦЫ ДО МОСКВЫ
76
представителей снова стали провозить «мимоСмоленеск по прежнему обычаю». В Новгороде, как и во Пскове, даже представителей дружественной Дании, не говоря уж о шведах, никогда по допускали в кремль.
При въезде иностранных посольств в русские города пушечных салютов не бывало, разве что в 1581 г. смоленскому воеводе приказано было для А. Поссевино стрелять «изо всего наряду вдруг пыжи» (дать холостой залп из всей крепостной артиллерии). Представителю Ватикана, который должен был стать посредником на переговорах между Иваном Грозным и Стефаном Баторием, продемонстрировали оборонную мощь западного русского форпоста и одновременно оказали ответную любезность. Когда незадолго перед тем царский посланник Яков Молвяни-нов въезжал в Рим, папские гвардейцы палили из пушек со стен замка Святого Ангела.
Первая официальная «встреча» западных послов, т. е. торжественное представление им приставов и передача церемониальных приветствий от государя, устраивалась неподалеку от Смоленска или Новгорода. Ес место было строго определено для миссий различного ранга — чем он выше, тем дальше от города отъезжали «встречники». Это расстояние было прямо пропорционально оказываемому почету. Польско-литовским «великим» послам «встреча» назначалась в десяти верстах от Смоленска, но в периоды напряженности или с началом военных действий эта дистанция могла сокращаться. Представителей шведских королей, которых Грозный не считал «братьями», встречали всего в трех верстах от Новгорода, даже если они имели самый высокий ранг.
На встречу приставы прибывали с запасом продовольствия для посольства и корма для лошадей, с подводами или санями для имущества и с несколькими десятками, а
ОТ РУБЕЖА до ПОСАДА
77
го и сотнями местных дворян и «детей боярских» (с кончи XVI в. — и стрельцов). В XVII в. последние, бывало, п< тречали посольство приветственным залпом. Количество «встречников» зависело от значения и численности посольства. Эти же люди сопровождали его до самой столицы, выполняя задачи охраны и одновременно почетного эскорта. Однако руководившие ими старшие приставы присылались, как правило, из центра. Конвой для сбережения» крымских и ногайских послов целиком прибывал из Москвы, ибо «городовые дворяне» часто оказывались бессильны справиться с посольской свитой, грабившей придорожные деревни.
В нуги приставы должны были завязать непринужденные отношения с самими дипломатами и членами их свиты, используя это для сбора информации. Весьма желательным считалось предварительное выяснение целей, с которыми прибыли послы, их намерений и полномочий. 11одводить собеседников к этим щекотливым темам следовало осторожно и ненавязчиво. Нужна была немалая с норовка, чтобы расположить их к откровенности, но самим не сказать лишнего.
В Москве пытались предусмотреть все темы, которые । юслы могли затронуть в таких разговорах. Наказы содержали перечень вероятных вопросов и должных ответов. 11судобные моменты внутренней и внешней политики трактовались в уклончиво-официозном ключе, допускалась и намеренная дезинформация. В 1566 г. приставам при литовском посольстве Ю. Ходкевича вменялось в обязанность решительно отрицать введение опричнины. Иногда требовали выманить посольские грамоты или постараться украдкой их прочесть. В 1559 г., когда в Москве находились датские послы, и король Фредерик II направил к ним своего гонца с дополнительными инструк-
ОТ ГРАНИЦЫ ДО МОСКВЫ
78
циями, пристав каким-то образом ухитрился «вынять» у него королевскую грамоту. Первым с ней ознакомился царь, а уже потом ее отдали датчанам.
В дороге приставы поддерживали постоянную связь с Посольским приказом, передавая туда собранные сведения. Это могло пригодиться при подготовке к переговорам и при определении церемониальных норм, уместных для данного посольства. Извещали о пройденном расстоянии, о поведении подопечных. Для этого существовали специальные «розсылщики» или «гончики». Пока посольский поезд добирался до Москвы, они успевали несколько раз побывать в столице и вернуться обратно.
Послы двигались медленнее, чем посланники, посланники — медленнее, чем гонцы. Огромная свита замедляла движение; кроме того, в русско-литовском дипломатическом обиходе быстрая езда считалась несовместимой с достоинством послов «великих». Не менее важно было и другое: чем дольше царь будет «дожидатца» королевских послов, тем «честнее» королю, и наоборот. Темп движения к Москве задавали из самой Москвы, но это удавалось не всегда. В свою очередь русские дипломаты за границей нередко возмущались попытками заставить их ехать быстрее. «Послы ходют, а гонцы гоняют», — говорится в посольских книгах. Все эти неписаные правила действовали, главным образом, в отношениях с Вильно и Краковом, а представители других государств часто даже не подозревали об их существовании. Скорость речных караванов с теми дипломатами, кто прибывал морем в Архангельск, вообще слабо поддавалась регулировке из центра. Вверх по течению Двины и Сухоны суда по берегу тянули бурлаки, а там, где это было невозможно, на лодках завозили вперед тяжелые якоря и на канатах подтягивали к ним судно.
ОТ РУБЕЖА ДО ПОСАДА
79
Посольская служба в России окончательно сформировалась к середине XVI в. Для крупных посольств заранее заготавливали продовольствие на станах («ямах»), равномерно располагавшихся вдоль всей Смоленской дороги от рубежа до столицы. Накормить и поставить на ночлег нужно было сотни людей и коней (у посольства Ю. Ходке вича было 1282 лошади). В мороз или в распутицу эта задача неимоверно усложнялась, и тогда приставам предписывалось «ехати потише», чтобы послам «нужи нигде не было». В тех случаях, когда приходилось обедать под открытым небом, столы сооружали из плотно утоптанного < сна, покрывали его берестой, а сверху стелили скатерти. «Мы сидели за этим столом на земле, с поджатыми ногами, вроде турок и татар», — вспоминал С. Терберштейн. Через речей переправлялись на паромах, на лодках, а то и на плотах, изготовленных прямо на месте переправы.
Если, по дошедшим в Москву известиям, в тех странах, откуда прибыли послы, свирепствовала эпидемия чумы или оспы («моровое поветрие»), их или на время останавливали в дороге, или нарочно везли кружным, более длинным путем — выдерживали карантин. Имперские дипломаты Стефан Какаш и Георг Тектандер, побывавшие в Москве в 1602 г., жаловались, что их «зря возили по разным местам»7. Очевидно, па этот раз приставы пытались объехать захваченные чумой русские области.
Иногда послов намеренно задерживали в пути по причинам политического порядка; иногда, напротив, торопили. В 1557 г. Иван Грозный, готовясь открыть военные действия в Прибалтике, всячески подгонял ливонское посольство, которое, по его мнению, двигалось к столице чересчур медленно. Само присутствие в Москве одной дипломатической миссии могло быть использовано для иоздействия на другую и для демонстрации могущества
ОТ ГРАНИЦЫ ДО МОСКВЫ
80
государя. Вскоре после того, как кахетинский царь Александр I признал сюзеренитет Федора Ивановича, приставу при одном из грузинских посольств приказали «ехати спешно, чтоб грузинским послом быти у него, государя, при литовских послех»н.
В последние годы правления Ивана Грозного вошло в обыкновение провозить западноевропейских дипломатов через города, наполненные нарядно одетой публикой. Прежде всего это были Новгород и Псков. Местным властям предписывалось, дабы в нужный день и час «было б в городе людно, всякие б люди были теми улицами», по которым будут проезжать послы. Во Псков, например, в таких случаях собирали всех дворян и детей боярских, живущих в радиусе 20 верст от города. В 1597 г. па вопрос имперского посла А. Допа о причинах подобного многолюдства пристав должен был отвечать, что все эти всадники в дорогом платье (отчасти полученном во временное пользование из воеводских кладовых) просто «ездют, гуляючи». Однако спустя семь лет их пребывание в подобной ситуации на новгородских улицах было уже объявлено «посольским обычаем»9. Еще позднее это нововведение, превратившись в норму, окончательно формализовалось и воспринималось как традиционное. Между тем, оно возникло в 80-х гг. XVI в. и призвано было убедить иностранцев, будто Новгород и Псков, обезлюдевшие за двадцать лет Ливонской войны, процветают по-прежнему. Не исключено, что первые мероприятия такого рода проводились еще в 70-х гг. XVI в. — с целью скрыть последствия новгородского погрома, учиненного Иваном Грозным в январе 1570 г.
В начале XVII в. выдалось три неурожайных года подряд— 1601, 1602 и 1603, в России наступил небывалый голод, ставший прологом бедствий Смутного времени. Горо-
ОТ РУБЕЖА ДО ПОСАДА
81
да и деревни опустели, умирали сотни тысяч людей. «Многие в городах лежали мертвыми на улицах, многие — на дорогах и тропах с травой или соломой во рту, — писал Петр Петрей, московский агент шведского короля Карла IX. — Многие ели траву, кору или корни и тем утоляли голод. Многие ели навоз и отбросы. Многие лизали с земли кровь, которая вытекала из убитых животных. Многие ели конину, кошек и крыс. Да, они ели еще более ужасную и отвратительную пищу, а именно человеческое мясо»10. Покинув бесплодные поля, тысячи нищих бродили по российским дорогам. В эти годы на страницах посольских книг появляются наказы вроде того, какой в 1604 г. получил из Москвы пристав, сопровождавший грузинское посольство. Ему предписывалось тщательно следить, чтобы в тех местах, где будут останавливаться послы, «бол-пых и нищих не было б, и к стану б нищие не приходили»11. Тогда же прибывший в Россию имперский посол Генрих фон Логау сообщает, что его приставы имели предписание, по которому ни один нищий не мог встретиться послу в пути, а все рынки в городах должны были изобиловать съестными припасами. Рассказывали, будто одни и те же припасы скрытно перевозили с одного рынка на другой по маршруту следования посольства12.
Истинное состояние дел при Борисе Годунове тщательно скрывалось от иностранцев. Понадобилось десятилетие Смуты с ее чудовищным хаосом и падением авторитета центральной власти, чтобы на такие вещи никто уже не обращал внимания. Когда осенью 1615 г. голландец Л. Гетерис, приглашенный в качестве посредника на Дедеринский съезд, проезжал по России, сожженные и разграбленные деревни бросались в глаза. Прежде чем войти в избу для ночлега, приставам приходилось выносить оттуда трупы хозяев, побитых запорожцами. Впро-
ОТ ГРАНИЦЫ ДО МОСКВЫ
82
чем, оставшийся смрад не давал уснуть, и голландцы предпочитали спать на улице. Никто не пытался скрыть от них ужасающее положение страны, да и вряд ли это было возможно. У Посольского приказа имелись заботы поважнее, чем пускать иностранным дипломатам пыль в глаза. Теперь зачастую речь шла об их жизни. На юге запорожские казаки угрожали крымским и персидским посольствам, донские — турецким. На севере еще действовали остатки польских отрядов Лжедмитрия II и просто «лихие люди». В октябре 1614 г. пристав, отправленный из Москвы в Вологду, навстречу английскому послу, получил инструкцию: «В ночи б сторожи и караулы были крепкие, чтоб в дороге и на станех воровские люди, ночью искра-дом пришед, над послы какова дурна не учинили» |3.
Для посольств, двигавшихся через Смолепск-Дорого-буж, последний стан перед Москвой («подхожей стан», «останочной ям») бывал обычно в селе Мамоново. Трогаться оттуда без особого указания не разрешалось. Приставы докладывали о прибытии в Посольский приказ, там назначались дата, точное время и порядок въезда в столицу.
3. От посада до подворья
При Иване III и Василии III местом отдельных посольских аудиенций бывали Можайск, Новгород, Переяславль-Залесский и некоторые другие города. Иван Грозный до последних лет жизни принимал иностранных послов не только в столице и в Новгороде, но и в Вологде, в том же Можайске, Старице, Александровой слободе, в селе Бра-тошино, одно время бывшем его летней резиденцией, и даже просто в поле, посреди воинского стана. Хотя боль-
ОТ ПОСАДА ДО ПОДВОРЬЯ
83
in и । ictbo дипломатических миссий доставлялось в Москву, единственно возможным местом их приема она стала мишь при Федоре Ивановиче и Борисе Годунове.
Вступление посольства в столицу было делом государ-« гвенного значения и популярным зрелищем. Сценарий «оставлялся заранее, режиссерами выступали разрядные дьяки и дьяки Посольского приказа. Они же определяли день и час въезда. Последнее зависело от погоды и времени года, но при небольших колебаниях назначалось на утренние часы. Так было во всех крупных городах, а не толь-к< > в Москве. В1574 г. пристав волошского воеводы Богдана, волнуясь, что не сумеет исполнить полученное распоряжение, из-под Новгорода писал наместнику о своем подопечном: «Велели есте, господине, ехати в город завтре на третьем часу дни (от восхода солнца.—Л. Ю.), и он, господине, ездит по своему обычаю, вставает не рано»1 \
О времени въезда в Москву послов извещали заблаговременно, чтобы дать им возможность привести себя в порядок после долгого пути. На это отводилось два-три дня. Кроме того, на последнем стане они получали лошадей, на которых должны были прибыть к месту офици-<1льной «встречи». Иногда лошадей подводили уже на пути < ледования от ночлега к посаду или вручали непосредственно перед встречей. Лошади были породистые, в дорогом убранстве, под расшитыми седлами, часто с дорогими наколенниками, парчовыми нашейниками и поводьями, ( деланными в виде серебряных или позолоченных через звено цепочек. Эти цепочки особенно удивляли иностранцев. Звенья у них были широкие (в поперечнике до двух дюймов) и длинные, но плоские — толщиной «не более тупой стороны ножа». Такие же цепочки, только покороче, привешивались к ногам коней. Их звон кому-то казал-< я необычайно мелодичным, кому-то — странным. По
ОТ ГРАНИЦЫ ДО МОСКВЫ
84
Р. Барберини (1565 г.), роскошно одетые русские дворяне на пышно украшенных конях сопровождают послов, которые едут «на самых скверных и убранных в дурную сбрую лошаденках»15, но едва ли это так. Некрасивые лошади под послами никак не могли способствовать «чести» государя, поскольку присылались от его имени и с его собственных конюшен.
Такой чести удостаивались только сами послы, свита получала лошадей от лица «ближних людей» (в 1589 г. имперскому послу Николаю Варкочу и его сыну Федор Иванович прислал аргамака и иноходца, по свитские дворяне от Бориса Годунова получили меринов). Соответственно разнилось и конское убранство. Дипломатам низшего ранга, как и приравненным к ним шведским послам, лошади направлялись от лица посольских дьяков. До начала XVII в. шведов по уровню приема всегда понижали на одну ступень по сравнению с представителями других держав. Гонцы часто въезжали в столицу на собственных лошадях. Церемония их въезда обставлялась не столь пышно и привлекала меньше зрителей.
При этом все «великие» польско-литовские послы, а также все крымские, ногайские и, по-видимому, казанские и астраханские въезжали в Москву на своих конях. Это были самые красивые лошади, в дороге специально приберегаемые для вступления в город и следования на аудиенцию. Если возникали какие-то непредвиденные осложнения, лошадей для ханских «кильчеев» и их свиты могли взять просто «с яму»16. Русским послам вблизи Вильно и в Крыму, перед ханской ставкой, лошади также не предоставлялись. Это было делом обычным и никогда не воспринималось как «бесчестье».
Присылка лошадей — норма позднего происхождения, в посольских книгах она фиксируется со второй полови
ОТ ПОСАДА ДО ПОДВОРЬЯ
85
цы XVI в. Возникновение ее связано с западноевропей-< ким влиянием, а также с тем, что английские, датские и многие имперские дипломаты, прибывая в Россию морским путем, или вообще не имели лошадей, или их лошади пс способны были украсить собой торжественное ше-ствие. Эта норма сложилась под влиянием конкретных < обстоятельств, но со временем стала восприниматься как традиционная и потому обязательная. В 1604 г. английский посол Т. Смит привез с собой парадного коня, однако въезжать на нем в Москву ему запретили. Несмотря на сопротивление он вынужден был пересесть на царского аргамака. Однако в русско-татарской и русско-литовской практике, имевшей свои давние традиции, это правило гак и не прижилось.
Въезжать в город послы должны были непременно верхом, что им часто не нравилось. В 1582 г. русскому посланнику Ф. И. Писемскому в Англии была предоставлена от Елизаветы I карета, соответственно и англичанину Джерому Боусу, на следующий год прибывшему в Россию, Иван Грозный отправил в Ярославль «колымагу». 1см не менее «колымага» осталась на последнем стане перед Москвой, а для въезда в город послу привели царского иноходца. У его соотечественника Ричарда Ли (1601 г.) были больные ноги — во всяком случае, он жаловался на >то своим приставам, но следовать по московским улицам в карете, в которой он, как и Боус, прибыл к столице, ему нее равно не разрешили: «В возку ехати непригожь». Отказано было и в просьбе заменить седло на присланной лошади. Очевидно, для Ли привычнее и удобнее было сидеть в плотно прилегающем к конскому крупу седле западного типа с высокой задней лукой, подпирающей крестец всадника (во времена рыцарской конницы она служила опорой при ударе копьем); у русских и восточных
ОТ ГРАНИЦЫ ДО МОСКВЫ
86
седел выше передняя лука. В этом вопросе приставы также остались непреклонны, заявив, что «своего седла на лошадь класть непригожь»17.
Ни от лошади, ни от ее убранства отказываться не позволялось, как и от прочих форм царского «жалованья». Милость государя к послу была подчеркнуто очевидной, демонстративной; в расчет принимались не только участники шествия, но и публика. На исходе XVI в. эта норма несколько смягчилась, и А. Дону, проявившему максимум упорства, в конце концов разрешили из-за болезни въезжать в город в собственном «возке». При этом коня, присланного ему Борисом Годуновым, все равно вели по улицам впереди посольской кареты. На этих же лошадях послы позднее следовали па аудиенцию во дворец, но их собственностью они не становились и отбирались при отъезде.
Зимой послам в знак особой милости иногда присылали от имени государя красивые сани с кибиткой, устланные шкурами белых медведей. В церемониале въезда важен был не столько запрет ехать верхом, сколько вето, накладываемое на экипажи. Посольские дьяки восставали именно против них — отчасти потому, видимо, что в Москве они были редкостью и привлекали к себе повышенное внимание. Кроме того, возок или карета пе позволяли построить процессию по принятым правилам — ее русские участники вынужденно выходили из своих ролей. Знатные «встречники», верхами сопровождая экипаж, из государевых слуг превращались в свиту самого посла, что было недопустимо. Эта норма утратила свою жесткость, когда «колымаги» и «колебки» перестали быть экзотикой. В середине XVII в. послам разрешалось въезжать в город не только в царских, но и в собственных каретах. Впрочем, поляки по-прежнему препочитали седло,
ОТ ПОСАДА ДО ПОДВОРЬЯ
87
хотя нередко покупали роскошные кареты специально для посольства и ехали в них до Москвы.
Официальная встреча перед московским посадом име-/ы несравненно большее значение, чем встреча у Смолен-< ка или Новгорода. Здесь оказываемая послам «честь» измерялась уже не верстами, а единицами куда меньшего масштаба. Соответственно возрастало значение каждого метра. Та точка пути, где присланные от государя лица должны были встретить послов, определялась дальностью полета стрелы из лука (или ружейного выстрела): *от посадцких домов с перестрел», «за деревянным городом с перестрел» и т. д. Это расстояние было общепринятой нормой «чести» для дипломатов высокого ранга. Лишь посланцы шведских королей, при Иване Грозном всегда подвергаемые церемониальным унижениям, выпадали из этой системы: их встречали гораздо ближе к Москве — «от посадцких домов сажень десять или пятнадцать» (20-30 м.).
В русско-литовской дипломатической практике, где с вязи были интенсивными, и каждая норма посольского обычая покоилась на значительном числе прецедентов, место встречи играло особенно важную роль. Оно было (трого определено для дипломатов всех рангов, и перенесение его отражало изменение политической ситуации. Королевских послов и посланников встречали возле села Дорогомилово, на противоположном от города берегу Москвы-реки, а гонцов — на городском берегу, возле переправы. Когда в 1553 г. здесь же было встречено посольство Станислава Довойно, в Посольском приказе заранее предвидели возмущение послов, которое и последовало: «Почему встреча не по старине?»18. Это была не случайность, не забвение традиции, а намеренное отступление от нее. Послам оказали меньшую «честь», поскольку Си-
ОТ ГРАНИЦЫ ДО МОСКВЫ
88
гизмунд II Август отказался признать за Иваном Грозным право на царский титул.
На городском берегу встречали все польско-литовские посольства, прибывавшие в Москву во время военных действий, до заключения перемирия. При этом если для послов и посланников политическая ситуация приближала место встречи к городу, то для гонцов она выражалась порой в полном се отсутствии. Из-за «безчестья», которому в 1567 г. подвергся в Вильно гонец полоцкого воеводы (четырьмя годами ранее Полоцк был взят русскими войсками), литовскому гонцу В. Загоровскому встречи перед Москвой не было вообще. Так же часто поступали с королевскими гонцами в годы войны.
Назначенные для встречи русские официальные лица (их титулы и звания по возможности точно соответствовали титулам и званиям послов) прибывали в указанное место в сопровождении «детей боярских», дворян, «жильцов» и пр. Число их зависело не только от ранга и значения посольства. В 1575 г., когда Грозный претендовал на вакантный польский престол и стремился заручиться поддержкой императора Максимилиана II, имперское посольство Иоганна Кобенцсля и Даниэля Принца фон Бухау было встречено пятью сотнями человек, что почти в 20 раз превосходило численность посольской свиты. Для встречи других имперских дипломатов, приезжавших с большим количеством свиты, прибывало обычно до 200 человек.
В середине XVII в. послы перед «встречей» проезжали мимо строя войск — в полном согласии с рекомендациями вавилонского Навуходоносора из древнерусской повести, которые в Западной Европе усвоили гораздо раньше. Впервые царские «драбанты» с западного типа алебардами вместо бердышей стояли перед посадом при Лжедмит-
ОТ ПОСАДА ДО ПОДВОРЬЯ
89
рии 1, во время проезда польского посольства Н. Олес-пицкогои А. Гонсевского. При Михаиле Федоровиче, когда Москва демонстративно возвращалась «к старине», это иноземное новшество не только не было отвергнуто, но приобрело еще более масштабные формы.
Как сообщает А. Олеарий, в 1634 г. турецкого посла перед Москвой встречал 16-тысячпый отряд конницы, а чех Бернгард Таннер, в 1678 г. сопровождавший польское посольство, вспоминал, что в поле перед посадом было выстроено «блестящее войско, разделенное на две половины». Проехав между ними, он увидел «новый, невиданный дотоле отряд воинов», одетых в красные кафтаны и сидевших на белых копях. Это был русский вариант польских «крылатых гусар»: «К плечам у них были приложены крылья, поднимавшиеся над головой и красиво расписанные, в руках длинные пики, к концу коих было приделано золотое изображение крылатого дракона, вертевшееся по ветру». Эти всадники показались Таннеру «ангельским легионом»19.
В XVI в. регулярные русские войска перед Москвой не выстраивались, поскольку таковых не имелось. Стрельцы, правда, появились еще при Грозном, по их было относительно немного, и они выполняли роль почетного караула только при следовании послов на аудиенцию. Обставлять ими улицы на протяжении всего пути от посада до подворья стали уже при Борисе Годунове, в последние годы его царствования, но и тогда, если в это время стрелецкие полки участвовали в боевых действиях вдали от столицы, оставшихся зачастую не хватало на весь маршрут. В таких случаях применялась известная хитрость: после того, как послы проезжали мимо, за спиной у них стрельцы боковыми улицами незаметно забегали вперед и снова строились в ряды. Неторопливо движущаяся про
ОТ ГРАНИЦЫ ДО МОСКВЫ
90
цессия по нескольку раз проезжала вдоль одних и тех же людей.
В общих чертах церемониал встречи был одинаков во всех европейских странах, на подступах к Лондону или Кракову происходило примерно то же, что и перед Москвой. Здесь посольский поезд, возглавляемый «болшим» послом, и процессия прибывших от государя «встречни-ков» под началом «болшего» пристава медленно направлялись друг навстречу другу, съезжаясь в условленном месте. Свита выстраивалась по обе стороны от послов и от главных русских участников церемонии, после чего все должны были спешиться. Русские требовали, чтобы первыми сошли с лошадей послы, которые столь же упорно добивались обратной последовательности. Начинались долгие пререкания с заранее известным результатом — он состоял в том, что стороны договаривались спешиться одновременно. Те и другие не торопились, стараясь хотя бы на долю секунды позднее соперников коснуться ногами земли. Возможны были различные уловки, причем европейцы тут не уступали русским. С. Герберштейн, например, сделал вид, будто слезает с коня, но вновь быстро забрался в седло, когда «встреч-ники», поверив ему, уже стояли на земле. Подобные приемы диктовались опасением умалить «честь» своего государя, а оно в равной степени свойственно было обеим сторонам.
Затем послы с непокрытыми головами выслушивали церемониальное царское приветствие, переданное через старшего «встречника». К началу XVII в. текст его, прежде краткий, сильно разросся в связи с общим усложнением этикета и часто уже не произносился, а зачитывался. По ироническому замечанию Т. Смита, боярин В. И. Масальский, встречавший его перед посадом, «словно вели-
ОТ ПОСАДА ДО ПОДВОРЬЯ
91
повозрастный ученик, которому стыдно заучивать наизусть, прямо с бумаги прочитал свое поручение» 20.
Шведским послам приветствие передавалось не от государя, а от имени «приказных людей». Казалось бы, аналогичным образом должны были поступать и с послами датскими или грузинскими, чьих повелителей русские государи тоже не признавали «братьями», но эта унизительная норма, как и другие подобные, применялась лишь к шведам. Здесь неравноправие монархов не смягчалось дружественными отношениями.
В XVI в. послам восточным, в первую очередь — крымским, прямо к месту встречи присылались от царя дорогие шубы. В любое время года послы тут же надевали их па себя. В русской дипломатической лексике существовал особый термин — «встречное жалованье». В отличие от лошадей, предоставляемых западным дипломатам, шубы переходили в полную собственность ханских послов и назад в казну не отбирались. Тем не менее обе эти нормы имели общую основу — в них публично проявлялись богатство и щедрость государя. К тому же крымские послы, олицетворявшие собой хана, но ехавшие по улицам Москвы в пожалованных им шубах, служили «чести» царя. Считалось, что одежду может дарить лишь старший младшему — «голдовнику» или подданному, поэтому она никогда пс входила в состав дипломатических даров (не считая Крым и Волжские ханства). Еще Терберштейн в 1517 г. являлся на прием к Василию III в пожалованной ему роскошной шубе, но это, видимо, последний случай, когда по отношению к западному дипломату применялась эта восточная норма. Русским дипломатам за границей строжайше запрещалось показываться на людях в подаренном им чужеземном платье. Исключением были только аудиенции у султана и персидского шаха, где избежать этого не
ОТ ГРАНИЦЫ ДО МОСКВЫ
92
позволяли местные правила. Здесь русские послы подчинялись им точно так же, как польские или имперские. Лишь в 1699 г. одной из статей Карловацкого мира между Османской и Священной Римской империями была отменена обязанность габсбургских послов являться на аудиенцию к султану в пожалованных им халатах21.
После произнесения стереотипных церемониальных формул все вновь садились в седла (на этой стадии каждая из сторон стремилась уже не отстать, а напротив — опередить другую), и процессия следовала в город, на указанное подворье. Дьяки Разрядного приказа, в чьи обязанности входил контроль за соблюдением местнических норм, устраивали русских участников шествия «по местам», в зависимости от рода и звания. Они же следили, чтобы послам никто не переезжал дороги и «задору им нс чинил».
По традиции приставы и «встречники» должны были ехать с послами в ряд, желательно справа от них. Правая сторона считалась почетнее (у мусульман —левая), и если такой порядок послам не нравился, как обычно и случалось, то русские располагались от них по обе стороны: старший из «встречников» ехал справа, остальные — слева (при сопровождении посольств мусульманских — наоборот). Добиться этого послабления было нелегко; споры, бывало, тянулись часами. В 1629 г. Луи де Курменен, первый французский посол в России, тремя годами позднее казненный за участие в заговоре маршала Монморанси, при въезде в Псков до вечера оставался на месте «встречи», упорно отказываясь ехать слева от пристава (в Париже иностранные послы должны были находиться в процессии впереди встречающих), и в конце концов добился места в центре между двумя «встречниками». При взаимной неуступчивости доходило до стычек: по дороге
ОТ ПОСАДА ДО ПОДВОРЬЯ
93
приставы силой проталкивались на более почетные места, а посольская свита старалась их туда не пропустить.
В состав польско-литовских миссий неизменно входили трубачи, но на этом этапе пускать свои инструменты в дело им запрещалось, чтобы въезд послов в столицу не выглядел как вступление победителей в завоеванный город. Когда в 1570 г. трубачи польского посольства, «едучи посадом, в трубы трубили, чего изстари у прежних послов по бывало», это вызвало сильное недовольство, поскольку поляки умышленно нарушили заранее оговоренный порядок въезда. Позднее русские дипломаты в Кракове жаловались королю, что его представители въезжали в Москву под звуки труб, «кабы после некоторого побою»22.
Древнерусский книжник, описывая прибытие послов к вавилонскому царю Навуходоносору, сообщал: «Л как близ врат градпых приидут, и триста кузнецов начнут в мехи дути, разжегши уголье, и тогда дым и искры» 23. Кузнецы в Москве послов нс встречали, зато во второй половине XVI в. их старались провезти мимо нового Пушечного двора, чтобы продемонстрировать мощь государства. (той же целью после 1593 г., когда закончили строительство укреплений Белого города, маршрут посольского поезда, удлиняясь, частично пролегал вдоль этих стен. Все это имело целью «создать выгодный образ страны и соответствующим образом подготовить послов к переговорам» 21.
В XVII в. западные посольства вступали в столицу через Тверские ворота Белого города, а затем по Тверской улице следовали до Воскресенских ворот Китай-города. При Алексее Михайловиче здесь устроено было особое помещение с окнами за «частой решеткой», сквозь них царь лично наблюдал за въездом в столицу иностранных послов. Через Воскресенские ворота они попадали на
ОТ ГРАНИЦЫ ДО МОСКВЫ
94
Красную площадь, проезжали мимо Кремля и сворачивали на Ильинку, где находился Посольский двор. Этот путь впервые зафиксирован в 1636 г. и позднее оставался неизменным25, но в XVI в. единого для всех маршрута, по-видимому, не существовало. До того, как около 1634 г. был построен каменный Посольский двор, посольства разных стран размещали в разных местах, соответственно и ехали они разными улицами. Если их путь пролегал вблизи Кремля, приставы, явно греша против истины, но желая сделать послам приятное, порой говорили им, что позволение видеть дворец государя до первой аудиенции — это «особая милость», оказываемая далеко не всем26.
Глава IV
В Москве
1. На подворье. Мера свободы
В 1570 г. шведское посольство епископа П. Юстена после возвращения из муромской ссылки было размещено в Москве «на Нагайском дворе», т. е. на подворье, предназначенном для ногайских купцов и послов. Последним никогда нс оказывали больших почестей, об их удобствах заботились мало, и, значит, подворье было бедным. Европейские посольства никогда не ставили на татарских подворьях. Случай со шведами — единственный. Наряду с прочими оскорблениями, которым Грозный подверг послов Юхана III, было и унижение их «бусурманским» двором.
Предоставление подворья входило в систему полного государственного обеспечения послов и свиты всем необходимым. Система эта сложилась именно в Москве; в 11овгороде и Пскове времен их независмости немецкие и скандинавские послы жили в домах своих соотечественников-купцов и содержания от городской казны не получали. В Москве подворье назначали власти, возможности выбора у послов не было. Лишь Д. Боусу, поскольку через него царь надеялся склонить Елизавету I к союзу против Речи Посполитой, предложили самому выбирать между отведенным подворьем и двором английской Московской компании.
В МОСКВЕ
96
Чем ближе находилось подворье к резиденции монарха, тем оно было почетнее. Когда в 1584 г. посланника А. Измайлова поселили в полутора верстах от Вилыю, он возмутился: «А преж сего государя нашего послов и посланников в деревне не ставливали, а ставили их блиско королева двора». В 1604 г. русские послы были недовольны тем, что грузинский царь разместил их далеко от дворца, а «чеушу» (послу) турецкого султана «многую честь воздавал и ставил его подле своего двора»1. Ногайское подворье, где Грозный распорядился поселить посольство П. Юстена, находилось вне тогдашней городской черты — за Яузой, в районе Ново-Спасского монастыря. Зато крымского гонца Девлета (свита 43 человека) в 1568 г. поселили «на большом посаде, на христианских дворех» (в домах у горожан)2. Такая «честь» объяснялась, видимо, тем, что в это время царь любыми способами пытался сохранить мир с Дсвлет-Гиреем.
В Москве иностранных дипломатов всегда размещали вне стен Кремля. Это было в порядке вещей, Измайлов в Вильно тоже требовал, чтобы его «поставили па посаде». Если подворье отводилось за городом, на то имелись причины. В 1517 г. «великих» литовских послов, прибывших для заключения мирного договора, Василий III приказал отправить в село Дорогомилово, потому что в это время князь Острожский совершил удачный набег па псковские «украины», о чем послы в дороге узнать не успели. Известие об успехе литовских войск могло повлиять на их позицию в ходе переговоров, сделать ее более жесткой. В городе проще было узнать эту новость, чем в Дорогомилове. Едва поступила информация об отражении набега и отступлении Острожского, посольство перевели в Москву.
Гонцов «ставили» на частных дворах — одном или нескольких, если их свита превышала 15-20 человек, но обя
НА ПОДВОРЬЕ. МЕРА СВОБОДЫ
97
зательно соседних, примыкавших друг к другу. В начале XVI в. так же, но у знатных лиц, расселяли и дипломатов высшего ранга, если их свита была невелика (Герберштейн в 1517 г. жил в доме князя П. Ряполовского). Православных литовских послов и посланников с их многочисленной свитой размещали па более просторных монастырских и «владычних» подворьях (в Дорогомилове находилось подворье архиепископа Ростовского). Это считалось для них «честнее». Для мусульман, которые не могли останавливаться ни у церковных иерархов, пи в монастырях, в Москве издавна существовали Ногайское и Крымское подворья. Последнее представляло собой целый комплекс строений, обнесенных оградой в виде прямоугольника со стороной примерно 100 м и с караульной «избой» у ворот. Впрочем, дежурившие в ней стрельцы в 1637 г. по смогли уберечь крымского посла Ибрагима, убитого своей же свитой.
С 1526 г. упоминается едва ли меньший по размеру Литовский посольский двор на Успенском овраге, в районе между Тверской улицей и Воздвиженкой. Обычно на нем располагались польско-литовские посольства, реже — шведские, еще реже — имперские, и то лишь самые представительные. При Михаиле Федоровиче вместо него был построен каменный Посольский двор на Ильинке — «в три жилья» (этажа), украшенный башенками, с галереей-гульбищем и обширной территорией внутри ограды. Снаружи он выглядел, как дворец, но в комнатах из мебели имелись только столы со скамьями и лавки для спанья. Единственной постельной принадлежностью были набитые сеном тюфяки. Постели следовало привозить с собой, как и посуду. Тот же набор удобств существовал па всех остальных посольских дворах в предшествующий период. В Смуту большинство их сгорело в пожарах во время
В МОСКВЕ
98
сражений с поляками, а из отстроенных или вновь построенных самым крупным было, по-видимому, Персидское подворье, возведенное, как можно предположить, по без участия армянских купцов. До появления Посольского двора на Ильинке здесь размещались и западноевропейские миссии.
Пребывание иностранных дипломатов в Москве затягивалось па много недель, а то и месяцев, и в течение всего этого времени, исключая дни аудиенций и переговоров, они постоянно должны были находиться у себя па подворье. В город выпускали только слуг, да и то в порядке исключения. На Литовском дворе для послов имелась православная церковь, а посещение ими службы в кремлевских соборах строго регламентировалось и приурочивалось обычно к очередному туру переговоров. В 1517 г. представители Сигизмунда I жаловались 1ерберштейну, что «как зверей в пустыне, так их стерегут», а почти через сто лет польские послы говорили боярам: «Вся паша волность — видим неба столько, колько над нами, а земли столько, колько на дворе под нами»3. При этом сам Гер-берштейн и его итальянские спутники ездили с Василием III охотиться на зайцев и вместе с ним присутствовали на медвежьей потехе. Для них мера свободы была ипой, чем для королевских послов.
С особым тщанием в Москве охраняли польско-литовских и шведских дипломатов, ибо напряженные отношения с Речью Посполитой и Швецией были не исключением, а нормой. На Литовском дворе возле Успенского оврага существовала отлаженная система «береженья». Двор был огражден высоким бревенчатым тыном, на ночь входы замыкались решетками, для чего из числа охраны выделялись специальные «решеточники». Один из приставов и с ним определенное число людей, приблизитель-
ПА ПОДВОРЬЕ. МЕРА СВОБОДЫ
99
по равное численности посольской свиты, находились на дворе «безотступно». По ночам патрули дефилировали вдоль ограды «обходною улицей», а в Успенском овраге выставлялись добавочные сторожевые посты. Приставы и состоявшие с ними в карауле дворяне менялись ежесу-ючпо, сторожей и «решеточпиков» сменяли раз в неделю. В XVII в. эту, по выражению Г. Котошихина, «вахту» < тали поручать стрельцам. Их число колебалось от 200 человек во главе с сотником при «великих» послах до десяти при гонцах.
11икто из послов и свиты не имел права выходить со двора, никто, кроме приставов и стражи — входить туда. Нс разрешалось никому из иностранцев и москвичей разговаривать с послами через ограду; сделавших такую попытку предписывалось немедленно арестовывать и доставлять в Посольский приказ для разбирательства. Даже поить лошадей послы могли только из колодцев — ।i.i дворе их было несколько. Послы неизменно заявляли, что в этих колодцах «вода дурна», и в случае крайнего недовольства допускалось послабление: раз в день под охраной позволяли водить лошадей па водопой к реке, да и то не всех, а только лучших, принадлежавших самим пос лам. Зимой на Москве-реке или Нсглинкс устраивали прорубь особную», где могли брать воду и поить копей юлько члены посольства. Во время военных действий послам нередко отказывали и в этой милости, а воду для лучших лошадей в бочках возили с реки (проточная считалась здоровее).
Бесконтрольная связь с собственным правительством не допускалась. Гонец из Вильно или Стокгольма не мог передать находившимся в России польско-литовским или шведским послам дополнительные инструкции. Такого юнца размещали отдельно от послов, их свидание могло
В МОСКВЕ
100
состояться лишь под наблюдением приставов и при условии, что привезенные грамоты, будучи сначала прочитаны царю, не вызовут его осуждения. Послы не должны были узнать об изменениях в международной обстановке, выгодных для Речи Посполитой или Швеции, ибо это могло изменить их позицию на переговорах. Передать какое-то известие своему правительству тоже разрешалось только после высочайшей цензуры.
Понятно, почему в 1607 г. посольских дьяков так встревожило известие о клетке с двумя голубями, привезенной в Москву польским послом С. Битовским. Его слуги рассказали приставам, что этих же голубей их господин недавно брал с собой в Стамбул «па посолство». С почтовыми голубями можно было переслать в Польшу любую информацию, и приставам поручили осторожно выяснить, с какой целью посол привез этих птиц — «учены ль они чему или для которого воровства, и во Царегороде те голуби с ним для чего были»1. Результаты этого расследования пропали, но можно не сомневаться, что опытный дипломат Битовский привез этих голубей именно «для воровства».
В 1528 г. в Москве заболел и умер турецкий посланник. Описывая оставшееся после него на подворье имущество, приставы случайно обнаружили письмо, в котором покойный сообщал султану о том, что Василий III, узнав о поражении османских войск в Венгрии, на радостях приказал звонить в колокола5. Разумеется, это опасное сообщение, способное повредить русско-турецким отношениям, туг же было изъято и до Стамбула не дошло.
Строгость охраны вызывалась и опасениями «лазуч-ства» — скорее не военного, а политического. Поэтому стремились исключить всякую возможность контакта послов не только с их местными агентами, иностранными купцами или «государевыми изменниками» вроде кня-
НА ПОДВОРЬЕ. МЕРА СВОБОДЫ
101
in Семена Ростовского, в 1549 г. вступившего в тайные < ношения с литовским послом С. Довойно, по и с населением как таковым. Ни газет, ни иностранных корреспондентов не существовало, во всех европейских странах ( бор информации возлагался на дипломатов. Даже слухи («что в людех носитца») считались ценной добычей. В Москве внимательно следили, чтобы нежелательные < ведения не просочились за рубеж по дипломатическим каналам. Разумеется, об этом никогда не говорили прямо, и тот факт, что на посольском подворье постоянно находится множество сторожей и соглядатаев, объясняли соображениями пожарной безопасности («на дворе конского корму, сена и соломы, много, а люди ваши хаживали ночью с огнем небрежно») или туманной заботой о гом, чтобы послам «какого-нибудь лиха не учинилося». 11ожары, впрочем, тоже случались, и по ночам двор освещали факелы, укрепленные над бочками с водой.
Дипломатического шпионажа боялись и в Западной Европе. Филипп де Коммин, советник ЛюдовикаХ!, справедливо полагал, что нет лучшего соглядатая и собирателя слухов, нежели посол. В XVI в. гражданин Республики (Святого Марка, осмелившийся говорить с иностранным послом о государственных делах, приговаривался к штрафу в две тысячи дукатов или изгнанию, а в Англии столетием позже даже простой разговор с дипломатом другой ( граны грозил члену парламента потерей места. При всем том иностранные послы обладали там несравненно большей свободой. Даже в Польше русским дипломатам разрешай торговать у себя на подворье привезенной пушниной и беспрепятственно пропускали к ним покупателей. Исключением была разве что Литва. Правда, и в Дании с московскими послами пытались иногда обращаться точно так же, как с датскими — в Москве, но это была нс сис-
В МОСКВЕ
102
тема, аскорее жест отчаяния. Тем самым хотели заставить русских изменить свои порядки, что, естественно, ни к чему не приводило. Зато литовские дипломаты до начала XVII в. воспринимали свое заточение как нечто само собой разумеющееся. Они могли жаловаться на это Гербер-штейну, но не хозяевам.
Многовековое противостояние Москвы с Великим княжеством Литовским и Русским проходило на фоне их же своеобразного симбиоза. Противники говорили практически на одном языке, исповедовали одну религию. Они так хорошо знали и понимали друг друга и в то же время относились друг к другу с такой бескомпромиссностью, что этот хронический конфликт приобрел черты, свойственные династическим и гражданским войнам. Резких цивилизационных границ здесь не было, представители одних и тех же родов служили одновременно Москве и Вильно, то и дело меняя хозяев. К этому примешивались, во-первых, неизжитый страх сепаратизма, традиционно ищущего себе покровителей в Литве; во-вторых — постоянная, непредсказуемая в каждый конкретный момент и не подвластная никаким договоренностям угроза со стороны Крыма. Отсюда — ощущение прозрачности всех стен, чувство постоянно витающей в воздухе опасности, атмосфера пограничья в самом сердце страны.
В 1528 г. посольство Василия III в Священной Римской империи имело задачу вербовать на русскую службу специалистов по литью пушек, но делать это открыто было нельзя. Как свидетельствует С. Герберштейн, «посол давал своим слугам деньги, чтобы они по вечерам ходили к публичным женщинам («подлым девкам» в другом списке. — Л, Ю.), ездящим вслед за двором», и у них наводили справки о такого рода мастерах, совмещая приятное с полезным6. На Руси подобные удовольствия понача-
НА ПОДВОРЬЕ. МЕРА СВОБОДЫ
103
лу гоже были вполне доступны западным дипломатам. В 1519 г. дворяне из свиты имперского посла Франческо да Колло «для своего употребления» приобрели в Москве , на рынке, девушек «от пятнадцати до восемнадцати лет, поистине прекрасных», которых затем оставили при отъезде, поскольку вывозить купленных людей за границу строго запрещалось — из опасения, видимо, что там их обратят в католичество7. Позднее такого рода утехи сделались невозможны как для русских за рубежом, так и для иностранцев в России, но не по моральным соображениям, а исходя из окончательно сложившихся представлений о недопустимости никаких, помимо официальных, контактов между членами посольства и населением. В 1578 г. в Новгороде местные жрицы любви всячески ста-ралисьсовратитьдатскихпослов, демонстрируя им изокна свои, как методично указывает аккуратный Я. Ульфельдт, •<передние и задние срамные части»*, но если бы даже датчане ими соблазнились, вряд ли приставы могли разрешить нм что-то большее, чем любоваться этими прелестями на расстоянии. Строгости по отношению ко всем западным дипломатам усились с началом Ливонской войны, а с введением опричнины достигли апогея. От иностранцев тщательно скрывали то, что происходит в стране.
Однако не стоит преувеличивать их страдания, как в своих отчетах нередко и не всегда бескорыстно делали они сами. Расчет был па то, что мужественно перенесенные испытания заслуживают награды. В сущности, русская система «береженья» в полном объеме действовала лишь во время войны с тем государством, откуда прибыло посольство. В 1536 г. к литовскому посольству дополнительно приставили некоторое число «детей боярских», что объяснялось следующим образом: «Ино б их было с кем уберечи, заньже еще государь с королем не в миру».
В МОСКВЕ
104
Зато гонца Б. Довгирда, приехавшего в Москву уже после заключения перемирия, велели сторожить не так, «как в розмирицу»9. Не случайно лишь после заключения Стол-бовского мира в 1617 г. шведы просили предоставить их послам в Москве свободу передвижения. Иными словами, «береженье» послов носило не только прагматический, но и символический характер.
Представитель враждебного государства — полупленник, дружественного — гость, но в XVI в. отношения со Швецией и Речью Посполитой дружественными не бывали почти никогда. Послы других стран чувствовали себя гораздо свободнее. Англичане вообще могли беспрепятственно ходить по городу и «в торг», принимать па подворье соотечественников-купцов. Э. Джепкипсоп в 1561 г. присутствовал на водосвятии, наблюдал, как в проруби на Москве-реке крестили татар и новорожденных младенцев, как поили освященной водой лучших лошадей с царских конюшен. Правда, Д. Боуса после смерти Грозного на два с лишним месяца посадили под домашний арест — за его «невежливое» поведение — вероятно, при участии голландских купцов, главных торговых конкурентов англичан. Они опасались, что привечаемый покойным царем посол Елизаветы I сумеет добиться для соотечественников права свободной торговли с Москвой, и активно против него интриговали. Голландцам покровительствовал всемогущий дьякА. Я. Щелкалов, глава Посольского приказа. По возвращении на родину Боус уверял, что ждал нападения, вооружил слуг и приготовился к обороне, собираясь дорого продать свою жизнь, но никто на него так и не напал. Другой подобный случай произошел пятнадцатью годами раньше, в 1568-1569 гг., когда посольство Томаса Рэндольфа 18 недель провело взаперти у себя па дворе. Члены его ни в чем еще не успели провиниться, их
НА ПОДВОРЬЕ. МЕРА СВОБОДЫ
105
in точение связано было с тем, что как раз тогда начался массовый опричный террор, Москва экстренным порядком делилась на опричнину и земщину, и царь не хотел, чтобы обо всем этом узнали за границей.
На подворье у А. Поссевино находились только «сторожи для всяких дел, а не для береженья, не по тому, как живет у литовских послов»10. Правда, гулять по Москве даже имперцам и англичанам позволялось исключительно в сопровождении русского эскорта. Были и другие ограничения, тем не менее в 1575 г. имперский дипломат 11. Кобенцель писал, что не мог бы рассчитывать на лучший прием даже в Испании и Риме, где послам Священной Римской империи всегда оказывался величайший почет. При этом, замечает он, поляков, татар и турок русские принимают «по заслугам, то есть хуже, чем турки принимают наших послов» ”.
Кобенцель выдает желаемое за действительное. Польских и турецких дипломатов встречали в Москве с подобающей пышностью, а что касается крымских и ногайских, то хотя им действительно отводили весьма непритязательные подворья и снабжали хуже, чем европейцев, зато они пользовались практически полной свободой — активно торговали пригнанными с собой лошадьми, закупали товары для продажи на родине. В посольских книгах пет специальных указаний относительно их «береже-пья». Даже сосланным в Ярославль членам посольства Япболдуй-мурзы разрешено было «в город и за город, и в горгходити»12. Шпионажа с их стороны не опасались, как нс боялись и показать им что-то такое, что могло уронить престиж державы, а символичность всех вообще элементов русско-крымского посольского обычая была невелика. К ханским представителям применялась, правда, одна специфическая репрессивная мера—у них отбирались все
В МОСКВЕ
106
лошади, если хан в это время совершал набег на русские земли. В аналогичных обстоятельствах дипломатов польско-литовских и шведских никогда не наказывали подобным образом.
Туркам и персам также предоставлялась относительная свобода, лишение которой обусловливалось конкретными причинами. В 1618 г. шах Аббас I пенял русским посланникам М. Барятинскому и Т. Тюхину, что в Москве его послов запирали по дворам, «как скотину», у ворот стояли стрельцы и никого никуда не выпускали. Это вызвало его гнев именно потому, что было «против обычая». Шах грозился точно так же засадить под замок царских послов. «И птице через вас не пролететь! — обещал он, с восточной образностью живописуя их будущее заточение. — Не только вам птицы не видеть, но и пера птичьего не увидите!» Между тем, предыдущее персидское посольство лишили свободы передвижения из-за того, что до Москвы дошли слухи о контактах между шахом и Мариной Мнишек, сидевшей тогда в Астрахани вместе с атаманом Иваном Заруцким и своим трехлетним сыном, «во-ренком» Иваном Дмитриевичем. От его имени она и направила послов к Аббасу I, а тот их принял, что повлекло за собой репрессии по отношению к его представителям в Москве.
В 1591 г. на подворье заперли турецких послов, к которым такие строгости тоже обычно не применялись. Это было вызвано прибытием в столицу персидского посольства. Ни шах, ни султан, давнишние и непримиримые враги, не должны были знать, что Москва поддерживает добрые отношения с ними обоими. Аналогичные меры предосторожности принимались довольно часто. Немец-опричник Генрих Штаден точно подметил, что иногда два-три иностранных дипломата, одновременно находясь в
НА ПОДВОРЬЕ. МЕРА СВОБОДЫ
107
столице, даже не подозревают друг о друге. Бывало и на-< >борот — по причинам политического порядка прибытие одного посольства намеренно демонстрировалось другому. Тогда маршрут посольского шествия составлялся таким образом, чтобы он пролегал возле нужного подворья.
А. Олеарий пишет (1634 г.), что раныне иностранных послов в Москве «охраняли, как арестованных», но теперь «после первой публичной аудиенции всякий может ходить куда ему угодно». Голштинцам якобы даже говорили, что именно к ним впервые было применено это правило, позднее ставшее всеобщим. На самом деле строгости в отношении представителей дружественных держав заметно смягчились еще в последние годы правления Грозного, а после его смерти сохранялись лишь до первой аудиенции. Членов посольства Т. Рэндольфа тоже выпустили со двора после того, как царь наконец принял его у себя во дворце (вероятно, к этому времени обстановка в столице несколько нормализовалась). Имперскому посланнику Г. Хойгелю в 1587 г. говорили, что «еще он у государя не был, и его людей гулять спущати непригоже, и как у государя он будет, и ему, и его людем тогды поволность будет»13. В Москве остерегались разглашения послами целей их миссии до того, как об этом узнает правительство, по важнее было другое. Строгая охрана послов до первой аудиенции имела еще и церемониальное значение, ибо посол прибывал к государю и перед ним должен был предстать в первую очередь. С. Какаш, которому в 1602 г. сделано было такое же заявление, как и Хойгелю, справедливо рассудил, что причиной этого служит опасение «умалить достоинство великого князя, если кто другой станет говорить с посланными к нему»1 \
В Западной Европе также считалось обязательным, чтобы посол никому не наносил визитов до первого пред-
В МОСКВЕ
108
ставления монарху15, но в Москве это правило проводилось в жизнь с той жесткостью, которая была характерна для русско-литовских отношений вообще. Традиционный для них суровый режим содержания послов, частично распространенный на представителей других держав, смягчался медленно. Предоставлением свободы после первой аудиенции у царя окончательно стало нормой лишь в XVII в., но и тогда за ними продолжали присматривать и негласно контролировать их контакты.
2. «Корм»
С того момента, как послам устраивалась первая встреча на русской территории, все они, независимо от ранга, переходили на полное государственное обеспечение. Из западноевропейских государств эта норма действовала только в Речи Посполитой, но в Москве такой порядок считали единственно правильной формой содержания посольств. В 1585 г. русский посланник Л. Новосильцев, будучи в Вене, особо отметил, что испанский и папский послы-резиденты, живущие при дворе императора, «едят свое, а не цесарское»16. Голландец Исаак Масса в своих записках неоднократно сообщает, что тот или иной посол в Москве был освобожден царем от всех издержек — для него это обычай, заслуживающий одобрения, но в Европе не практикуемый.
Получая пропитание от государя и уподабливаясь тем самым русским служилым людям, послы символически превращались в его подданных, временно становясь зависимыми от него, а не от собственного монарха. Слова «кормить», «окормлять» и «кормчий» — однокоренные.
«КОРМ*
109
Разумеется, все это прямо не осознавалось и словесному выражению не поддавалось, тем не менее присутствовало в жизни как обычай, чей смысл темен, но функция предельно ясна — поддерживать правильное течение самой жизни.
На Западе русские посольства бесплатно снабжались продовольствием в тех странах, чьи контакты с Москвой были давними и прочными — не только в Речи Посполитой, но и в Швеции, Англии, Священной Римской империи, хотя в последних трех странах снабжение часто бывало недостаточным. Как только при Михаиле Федоровиче этот круг расширился, сразу начали возникать недоразумения. Да и старые партнеры, отношения с которыми были надолго прерваны Смутой, неохотно возвращались к прежнему обычаю содержать царских послов за свой счет.
Н. И. Веселовский полагал, будто Москва целиком ско-пнровалаего с монголо-тюркских образцов17. Вероятнее, впрочем, что эта архаическая практика, берущая начало в законах гостеприимства и в обычае утверждать старшинство через кормление младших, когда-то была всеобщей, по в разной степени сохранилась у разных народов. Во Франции XVII в. чрезвычайный иностранный посол (не резидент) получал продовольствие от короля только в течение первых трех дней пребывания в Париже, и то гели он имел высший ранг и представлял коронованную особу18. Эти символические три дня — обломок той же нормы, которая еще продолжала действовать при московском, польском и восточных дворах. Ее назначение во французском варианте — этикетная имитация ценностей, у тративших практический смысл.
В России XVI-XVII вв. эта патриархальная норма существовала даже в более полном объеме, чем на мусуль-
В МОСКВЕ
НО
манском Востоке. В Персии «корм» выдавался лишь после первой аудиенции, что в Москве было принято по отношению не к официальным представителям других стран, а к прибывшим из-за рубежа частным лицам. После прощальной аудиенции у шаха выдача провианта прекращалась. Те же правила существовали в Оттоманской империи. В 1570 г. И. П. Новосильцеву говорили в Стамбуле, что у султана «в обычае держит: как которых послов отпустит назад, и по тот день и корм дают». Новосильцев заявил в ответ: «Которых земель послы и посланники у государя царя и великого князя бывают, и тем послом кормы дают, доколе они на Москве пробудут, да и в дороге им кормы дают же и до государевы украины». Для Новосильцева это был вопрос престижа: султан должен отнестись к нему так же, как царь относился к турецким послам. В итоге ему посулили продолжить выдачу продовольствия, причем заявили, что другим послам султан «после отпуску корму никоторым нс давывал», но для него сделал исключение и тем самым «учинил его всех болши послов». Однако несмотря на столь лестное заверение Новосильцеву «корму турского на путь не дали ничего»19. В Крыму русские и польско-литовские дипломаты часто питались за свой счет, а при отъезде припасы получали далеко не всегда, и то на обратную дорогу их не хватало. Аналогично, если не хуже, обстояло дело «в ногаях» и в Центральной Азии. В 1 б 14 г. русскому посольству при дворе ургенчского хана «корму» не давали вовсе20.
Иностранные дипломаты в России получали съестные припасы с момента вступления на ее территорию и до пересечения ими границы в обратном направлении. Прибывая лично к государю, посол от него же получал «корм». Если он отвергался, это роняло государеву «честь». В 1607 г. колоссальный переполох вызвала попытка польских по-
«КОРМ-
111
с лов вывесить на ограде Посольского двора куски неудовлетворившей их баранины21.
Дополнительно прикупать продовольствие также считалось «непригожим». Во-первых, этим ставилась под сомнение царская щедрость. Во-вторых, питаясь продуктами не дарованными, а купленными, послы выходили из-под магической власти государя, которая распространялась на них через еду и питье. «Князь (Василий III. — Л. 70.) не тер-11сл, более того — прямо запрещал, чтобы нам что-либо продавали», — свидетельствует Ф. да Колло. Когда однажды (Z Герберштейн в дороге купил живую рыбу, его приставы •<рассердились, считая это зазорным для своего князя», и выдали ему «четыре живых рыбины». Торговцу рыбой еще । ювезло остаться безнаказанным. Датчанин Якоб Ульфельдт, в 1578 г. проезжавший через Псков, рассказывает о наказании некоего человека, который осмелился продать немного молока посольским слугам. Вероятно, этот пскович так и нс понял, что его вина заключалась не в общении с иностранцами, а в попытке соперничать с самим государем.
Обычно послы смирялись с необходимостью питаться исключительно тем, что им предлагалось, но Гербер-штейн, например, добился права покупать себе все, что вздумается, пообещав «размозжить голову» своему приставу, если тот будет ему мешать. Такие приемы еще могли быть эффективны по пути в Москву, но никак не в самой Москве, где за приставами стояла вся мощь государственного аппарата. Впрочем, нередко они предпочитали закрывать глаза на то, что посольские слуги тайком покупали на рынке и доставляли на подворье какие-то лакомства, не входившие в обычный рацион. Здесь вступал в силу известный русский принцип: любой запрет может быть нарушен, если из страха перед ним нарушитель действует исподтишка, тем самым признавая его правомочность.
В МОСКВЕ
112
До второй четверти XVII в. «корм» выдавался исключительно натурой. Когда в 1599 г. грузинским послам выдали на пропитание деньги, продолжая поставлять мед и пиво, это послужило предлогом для отстранения от дел дьяка В. Я. Щелкалова22. После вступления на престол Бориса Годунова он поддерживал контакты с боярской оппозицией, однако для отставки требовался повод, связанный с его профессиональной деятельностью главы Посольского приказа. От себя выдав грузинам деньги, а не «корм» от имени царя, Щелкаловтем самым встал между государем и послами, преступно нарушив их непосредственную связь. Чем архаичнее были формы этой связи, тем она признавалась действеннее, хотя, видимо, сыграл свою роль и тот факт, что до середины XVII в. на Руси медных денег не чеканили, использовалисьтолько серебряные (собственной чеканки) и привозные золотые монеты. Их было относительно немного, поэтому русские служилые люди тоже получали жалованье не деньгами, а продовольствием.
И. Кобенцель писал, что содержание, определенное его посольству, «не только для тридцати, но и для трехсот человек» было бы достаточно. Посольству Н. Варко-ча (33 человека) отпускалось по три коровы в неделю, а ежедневно, не считая хлеба и напитков, — три барана, 15 куриц, две утки, гусь, сотня яиц, пять фунтов масла и столько же меда. Кроме того, примерно раз в две недели давали одного лося23. Стряпней занимались посольские повара прямо на подворье, где имелись кухни, а колка дров, растапливание печей и прочие вспомогательные работы возлагались на русскую обслугу. На количество предоставляемого продовольствия никто никогда не жаловался, часто послы попросту не могли съесть все то, что им привозили, и остатки раздавали охране или нищим,
.корм-
113
но изредка возникали недоразумения из-за качества и ассортимента продуктов. Англичанин Д. Боус возмущался тем, что «дают ему в куров место да в боранов место ветчину, а он к той естье не привык». Имперские дипломаты вместо пива и меда просили «вина ренского», ате же польские послы, которые вывесили на заборе несвежую, видимо, баранину, однажды пригрозили боярам, что на аудиенцию захватят с собой «осетрины штуку» и фляжку меду, дабы показать Василию Шуйскому, как плохо их кормят.
Европейских послов снабжали лучше, чем крымских и ногайских. У последних при Иване III даже отбирали назад шкуры съеденных баранов (впрочем, в то время и русские послы должны были возвращать в казну шкуры овец, съеденных ими по дороге до границы). Впоследствии подобная экономия считалась уже недостойной государя. Овчину оставляли едокам. В 1584 г. это дало повод упрекнуть Д. Боуса в жадности. Раздраженные претензиями английского посла, который вообще вел себя в Москве вызывающе, бояре обвинили его в том, что, отказываясь от свинины, он хочет нажиться на бараньих шкурах.
1осударев «корм» зависел от ранга дипломата, значения его миссии и отношений с монархом, которого он представляет. В 1581 г., накануне прибытия в Москву Л. Поссевино, который должен был стать посредником па русско-польских переговорах Грозного со Стефаном Баторием, А. Я. Щелкалов подал царю выписки из книг «старых» о порядке приема прежних папских послов. При этом возникло неожиданное препятствие: нс оказалось «кормовых книг старых» с данными о том, сколько было раньше «давано корму папиным послом и гонцам» — книги эти сгорели во время одного из пожаров. Щелкалов, однако, нашел выход: взамен «для примеру» он представил выписку о снабжении продовольствием имперского
В МОСКВЕ
114
посольства в 1575-1576 гг. Царь «смотрел» эту выписку и приказал по «корму» приравнять Поссевино не к имперским, а к «литовским болшим» послам24. Позднее такие проблемы возникали редко, в XVII в. нормы снабжения были унифицированы и подверглись четкой регламентации. По свидетельству Г. Котошихина, посланник получал такое же количество «корма», как третий член «великого» посольства той же державы, гонец —как посольский «секретариус», а свита посланника — «против посолской вполу» (в два раза меньше). Производить эти сложные подсчеты было тем удобнее, что вместо продовольствия послам все чаще стали выдавать деньги, а закупка припасов сделалась заботой их свиты. Лишь самые значительные и многочисленные миссии по-прежнему получали содержание натурой. Для этого к ним приставлялся особый подьячий, ведавший снабжением.
Кроме «корма поденного», или «рядового», составлявшего ежедневный рацион, выдавался иногда «корм приездной», знаменовавший прибытие посольства в столицу. После заключения дипломатического соглашения или просто после аудиенции у государя мог назначаться «корм почестной» — добавка к поденному или даже двойная норма. В 1592 г., например, в день аудиенции у Федора Ивановича польский посланник П. Волк, члены его миссии и свита (всего 35 человек) получили сверх нормы следующую «еству»: три барана, «яловицу», двух тетеревов, двух утят, десять кур, калач «крупичатый», калач «смесной», 15 калачей «толченых», по ведру меда вишневого и малинового, по два ведра меда «боярского» и «обар-ного», три ведра паточного меда, 15 ведер меда «княжого», ведро вина, ведро сметаны, пуд масла и 300 яиц.
Количество и качество «корма» зависели от почестей, оказываемых данному посольству, и от поведения самих
.КОРМ»
115
послов. Эта зависимость четко прослеживается со второй половины XVI в. Если Посссвино получал даже пряности («пряные зелья»), то несчастному посольству П. Юстена даже «корм велели давати менши прежних свейских послов». Когда в 1563 г. литовские послы отказались въезжать в Москву в указанное время (вечером, а не утром, поскольку из-за военных действий пышной встречи им не полагалось), царь приказал выдавать им съестные припасы в таком количестве, что «толко б мало мочно сытыми быти». В 1607 г. польские послы грозились самовольно уехать из Москвы; ответом было распоряжение «за их дурость корму им давати всякого половину»25.
«Убавка корма», а также лишение отдельных его разновидностей было знаком царского нерасположения к послам, средством воздействия на них в рамках посольского обычая, но полностью прекратить их снабжение считалось невозможным. Вряд ли можно верить И. Гофману, утверждавшему, будто за отказ титуловать Грозного царем («императором») ему два дня не давали ни пищи, ни воды24. По отношению к представителю Габсбургов это тем менее вероятно, что несколько ранее по аналогичному поводу литовскому посланнику А. Станиславичу царь всего лишь «почестного корму послати не велел, а велел ему дати корм рядовой»27. Неправдоподобно и сообщение И. Массы о том, что в 1601 г. Борис Годунов, разгневавшись на Льва Сапегу, посла Сигизмунда III, вынудил членов посольства по дорогой цене покупать даже воду2Я. Скорее всего, эту информацию распространяли сами же послы, чтобы гневливостью и дурным характером царя оправдать неуспех переговоров.
В МОСКВЕ
116
3. «Поминки» и «жалованье»
Важным элементом русского посольского обихода было отправление и получение даров — «поминков» (от глагола «поминать»). По В. И. Далю, это «приношение в знак памяти и любви». В Москве всегда настаивали именно на такой трактовке дипломатических даров, но в монголо-тюркских обществах они понимались как символический знак подчинения или зависимости. В XVII в. польским послам в Стамбуле постоянно приходилось бороться за то, чтобы королевские дары султану не истолковывались как «харач» (дань). Султан вообще отказывал послу в личной аудиенции, если тот не привозил ему подарков. На Руси эта норма действовала не в столь жесткой форме и в ином значении.
Первые представители Габсбургов часто прибывали в Москву вообще без подарков. В 1517 г. С. Герберштейп ничего не привез Василию III, но в своих записках указал, что послы Литвы, Ливонии и Швеции приезжают к великому князю с дарами. В сопредельных странах лучше знали русские порядки, которые в Москве считали общепринятыми. Когда на аудиенции придворные напомнили Герберштейну о поминках, он ответил, что у них «нет такого обычая», отметив, однако, что раньше этот обычай существовал и на Западе.
Крымские или ногайские ханы, «царевичи» и «мурзы» посылали великим князьям свои приветствия и подарки в специфическом комплекте: «Тяжелый поклон с лехким поминком». Ограничиться только первой частью этой посылки не позволял обычай, а богатые дары издавна истолковывались кочевниками как дань. Их «легкость» позволяла дарителю соблюсти необходимый баланс между традицией и собственным достоинством. Следуя той же логике, Иван III в 1474 г. не принял псковского посла, по-
.ПОМИНКИ» И «ЖАЛОВАНЬЕ»
117
тому что тот «поминки лехки привезоша». По-видимому, сам термин «лехкие поминки» — калька с тюркского, чаще всего он встречается в тексте крымских и ногайских посольских книг.
Поминки русских государей западным и восточным монархам разнились по составу. В Европу обычно посылались меха, но ни в коем случае не сшитые из них шубы. В отношениях равного с равным дарить одежду не полагалось. В иерархии «мягкой рухляди», или «пушной казны», беличьи шкурки находились в самом низу и возились коробами, выше стояли куницы, еще выше — горностаи. Вершину пирамиды занимали чернобурые лисицы и соболя (волчьи, лисьи, бобровые и лосиные шкуры были скорее исключением, чем правилом). Главенствовал соболь, имевший, видимо, кроме рыночной, еще и символическую ценность. В «чипе» великокняжеских свадеб жених и невеста вступали в церковь по*ковру, на четырех углах которого лежали собольи шкурки; они же при венчании подкладывались под ноги молодым, а затем сваха трижды обносила их головы соболиной связкой. Тем самым призывалось счастье и благополучие. Соболя на Руси долго выполняли функцию денег, а в роли дипломатического дара могли демонстрировать дружбу государя и богатство его казны. В Европе их стоимость по сравнению с русской оценкой возрастала порой десятикратно.
Самые дорогие соболя отправлялись поштучно или попарно, менее ценные — «сороками». В 1488 г. Иван III послал венгерскому королю Матиашу Корвину удивительный подарок: «соболь черн, ноготки у него золотом окованы с жемчюгом, двадцать жемчюгов новгородских»29. Очевидно, этот раритет привезли в Москву из Новгорода. Тамошние златокузпецы сумели справиться с задачей нс многим менее сложной, чем подковать блоху.
В МОСКВЕ
118
Посылались также детали конского убранства восточной работы и охотничьи кречеты. Последние вместе с соболями считались «заповедным» товаром, т. е. таким, монополия на право торговли которым принадлежит казне. Разнообразнее были поминки персидским шахам и кахетинскому царю — не только меха, но и живые соболя, медведи, охотничьи собаки и птицы, изредка оружие. Персидские и грузинские послы привозили в Москву дорогую одежду, ковры, ткани, ювелирные изделия с самоцветами и просто драгоценные камни, породистых лошадей («аргамаков»), расшитые золотом седла и т. п. Англичанин Джером Торсей видел в царской сокровищнице чрезвычайно ценимый Иваном Грозным магнит, доставленный, возможно, из Дербента, где находили глыбы магнитного железа. Однажды персидский шах Аббас I отправил в Москву слона. Г. Штаден рассказывает, что в дороге погонщик заболел и умер, а слон, отказываясь от еды, неподвижно лежал на его могиле, пока не был убит; вырванные бивни послали царю. Впрочем, тот же Штаден видел другого слона «из Аравии», одно время стоявшего у Троицких ворот Кремля.
Имперский посол Николай Поппель преподнес жене Ивана III, великой княгине Софье Палеолог, попугая в клетке. Елизавета I дарила Грозному английских охотничьих собак и живых львов (их поселили во рву под кремлевскими стенами). В числе даров, которые англичанин Джон Меррик привез Михаилу Федоровичу в 1619 г., были два попугая и «зверь индейский — антилоп». Чаще всего западные дипломаты дарили русским государям дорогую посуду — серебряную или золотую, реже хрустальную. Особенно часто подносились различной формы кубки. Их можно было использовать для здравиц, поэтому они издавна служили символом доброжелательства (как и на-
-ПОМИНКИ» И -ЖАЛОВАНЬЕ»
119
градные ковши на Руси). Привозили и оружие, что допускалось при добрых отношениях и не считалось оскорбительным, если клинки находились в ножнах. Князь Конрад Мазовецкий прислал Ивану III отделанную золотом рогатину; после заключения русско-шведского союза Иван Грозный получил от Эрика XIV драгоценную шпагу со вставленным в эфес пистолетом. Польский король Сигизмунд III, заключивший мир с Борисом Годуновым, «поминался» ему рыцарскими доспехами. Русские государи тоже посылали предметы вооружения (преимущественно персидского и кавказского «дела») тем монархам, с кем традиционно поддерживались дружественные отношения. Годунов отправил императору Рудольфу II дорогой кинжал и украшенное самоцветами золотое «кольцо» для стрельбы из лука (размер его неизвестен, и не вполне понятно, использовалось ли оно в качестве мишени или надевалось на палец, чтобы удобнее натягивать тетиву). В XVII в. западные дипломаты старались привозить в Москву различные механические игрушки, имевшие неизменный успех, и вещи не столько дорогие, сколько полезные — передвижные аптечки с набором снадобий, большие зеркала, подзорные трубы.
Бывали уникальные подарки. Мекленбургский герцог Иоганн Альбрехт прислал Ивану Грозному золотого льва, украшенного драгоценными камнями, о котором посол должен был сказать, что «лев ужасает всех зверей, а государь московский — всех неприятелей». Этим подобострастным заявлением, сделанным во время русских побед в Ливонии, герцог рассчитывал склонить царя к признанию прав мекленбургской династии на Ригу. Имперский посол Д. фон Бухау в 1575 г. поднес Грозному трубку для курения еще неведомого в Москве «зелья», завезенного испанцами из Америки, и золотую букву «М» — начальную
В МОСКВЕ
120
букву имени императора Максимилиана II. Его преемник Рудольф II, страстно увлекавшийся оккультизмом и привечавший у себя в Праге астрологов, алхимиков и магов со всей Европы, прислал Федору Ивановичу камень «без-вар» (бетвар), имеющий «силу и лечбу великую от порчи» — минеральное образование, изредка обнаруживаемое в коровьих желудках. Считалось, что такие камни обладают магическими и целебными свойствами. Вскоре после этого и Борису Годунову, который всегда боялся колдовства, по специальному заказу привезли из Англии «каминь батвар». Неизвестно, как использовали эти презенты царь и его шурин, но сам Рудольф II с помощью какого-то камня, подаренного ему британским агентом Джоном Ди, общался с духами своих покойных родителей.
Западноевропейские послы старались подчеркнуть ценность своих даров. Т. Рэндольфу, прибывшему к Ивану Грозному от Елизаветы I, предписывалось «отозваться с похвалою» о привезенном им кубке и «найти случай выставить достоинство этого подарка»40. Возможно, впрочем, Рэндольф потому и получил такую инструкцию, что кубок был вполне ординарным — подарки английской королевы никогда не отличались щедростью и меркли в сравнении с дарами Габсбургов или Аббаса I. Вообще у англичан, как и у голландцев, для которых торговая составляющая дипломатии имела первенствующее значение, в состав даров неизменно входили главные продукты их экспорта. Это была своего рода рекламная акция. Английские послы, например, постоянно привозили дорогое сукно31.
При Иване III и Василии III в отношениях между Москвой и Вильно самым обыкновенным поминком считались «корабленики» — имперские золотые монеты с изображением корабля на реверсе. Еще в 1543 г. литовский
ПОМИНКИ» И -ЖАЛОВАНЬЕ»
121
посланник Т Мацеевич привез Ивану Грозному, тогда тринадцатилетнему отроку, 30 венгерских золотых от Сигизмунда I, но это последнее известие такого рода. Позднее монеты никогда не выступали в качестве дипломатического дара. В сознании русского общества окончательно оформились представления о том, что деньги могут быть лишь «жалованьем» от старшего младшему, от государя — подданному или от сюзерена — вассалу. В 1589 г. английский посол Джильс Флетчер попытался было преподнести Федору Ивановичу золотые монеты, но его подарок был с негодованием отвергнут. Деньги могли быть приняты лишь в том случае, если представляли собой не отдельный дар, а часть какого-то другого. Один из членов посольства Д. фон Бухау привез Грозному золотую фигуру мавра на верблюде, по бокам которого были приторочены корзины с червонцами. Этот дар нареканий нс вызвал.
Дипломатические поминки были двух разновидностей: официальные, от монарха к монарху, и частные — от самих послов. Иностранные дипломаты в России и русские за границей подносили дары не только от своих государей, но и от себя лично. Перед отъездом русских послов за рубеж такие дары, как правило, выдавались им из казны. В казну они должны были возвратить и ответное «жалованье» иностранного монарха. Наиболее ценные вещи царь оставлял у себя, остальное отдавалось послам.
Официальные поминки пересылались через посредство послов, но свои собственные они должны были приносить на аудиенцию лично. Когда в 1570 г. один из членов польского посольства, сам не явившись во дворец, прислал Грозному часы со своим товарищем, царь приказал тут же их сломать, ибо «царскому величеству то гневно стало, что такой молодой паробок ссылается с царским величеством подарки, а не сам к царскому величеству принес»32.
В МОСКВЕ
122
Один вид поминков не мог быть заменен другим. В 1589 г. персидские вельможи предложили царскому послу Г. Васильчикову выбрать из его собственных даров те, что получше, и присоединить их к царским, дабы шаху «было честнее». Васильчиков решительно воспротивился этому подлогу: «Мне таких речей и слушать нс надобно, нс токмо что так зделать. Тому как возможно статись, чево и в разум не может вместитца, что вы говорите, что холопу назвать свои поминки государевы поминки?»33.
«Государевы поминки» посылались или не посылались в зависимости от отношений между государствами. С1549 г., когда литовское посольство не признало царский титул Грозного, и до 1584 г., когда на престол вступил Федор Иванович, при оживленном обмене посольствами царь не отправлял даров ни Сигизмунду II Августу, ни Стефану Баторию, и сам ничего от них не получал. Однако в течение всего этого периода и русские, и польско-литовские дипломаты регулярно подносили королю и царю подарки «от себя». Точно так же обстояло дело и в русско-шведских отношениях. В 1557 г. Густав Ваза прислал Ивану Грозному кубок с крышкой-часами, но после начала Ливонской войны и до 1567 г., когда была предпринята попытка заключить русско-шведский союз, посланцы обеих сторон подносили царю и королю только дары от своего имени. От общей политической ситуации они зависели слабо и выражали добрую волю самих послов.
До середины XVI в. принимать поминки отказывались в исключительных случаях. В 1490 г. Иван III вернул Н. Поппелю привезенные им от императора дары, поскольку «цесарская» грамота была написана «не поприго-жу» (пропущен титул «государя всея Руси»), но подарки самого Поппеля принял. Во время визита Дж. Боуса к Федору Ивановичу сложилась прямо противоположная
«поминки- и -жалованье-
123
ситуация. В Москве были недовольны поведением самого посла, поэтому его личные подарки царь отверг, а королевские — принял. В 1559 г. Иван Грозный вернул датским послам часы с еретическим, по его мнению, изображением зодиакального круга. Датчанам было сказано, что христианскому царю нечего делать с этими «планетами и знаками»44.
В Вильно подарки русских дипломатов изредка возвращались из-за их малоценности. В 1554 г. у гонца Ф. Вокше-рипова взяли в королевскую казну «два сорока» соболей, но вернули лук и узду, ибо в казне «то ся не подобает», а послу В. М. Юрьеву отослали назад привезенных им кречетов, потому что «кречеты были хворые, и то подкрасные, красного ни одного не было»
В 1537 г. литовским послам в Москве вернули их поминки, но прислали «жалованье» от имени малолетнего великого князя. Послы брать его отказывались, поскольку на переговорах стороны не пришли к соглашению, по пристав убеждал их не упрямиться: «Поделаетца ли дело, не поделаетца ли, а государь пожалует своим жалованьем — то государей чин держит»5*’*. «Чин» монарха поддерживался классической добродетелью идеального суверена — щедростью. Когда в 1570 г. польский посол Миколай Талваш заявил, что дары, которые Грозный прислал ему взамен приведенной им во дворец лошади, малоценны («Миколай запросил цену, что тот мерин не судит», — утверждали позднее русские дипломаты), царь в ярости приказал зарубить эту лошадь прямо на глазах у посла47. Этим он отвел от себя упрек в не достойной государя скупости.
На Западе одаривание послов в ответ на их поминки не практиковалось как обязательное. В 1573 г. в Вене русский гонец К. Скобельцын от себя поднес Максимилиану II «колпак с золотой пуговицей», но, не дождавшись, види-
В МОСКВЕ
124
мо, ответного «жалованья», на следующий день сам же попросил свой подарок назад, после чего стоимость этого «колпака» ему выдали деньгами.
По рассказу Мишеля Монтеня, турецкий султан Бая-зид вообще никогда не принимал подарки у послов, ибо «давать — удел властвующего и гордого», а «принимать — удел подчиненного»38. Баязид здесь выржает мысли самого Монтеня, подобные представления нетипичны для Востока. Чингизиды всегда трактовали посольские дары как знак подчинения. Еще в XIII в. князь Василько Волынский предупреждал папского посла Плано Карпини, ехавшего из Рима в Каракорум, что если тот не привезет Гуюк-хану подарков, то нс сумеет выполнить свою задачу. Такие же воззрения в XVII-XIX вв. были свойственны и китайским императорам из маньчжурской династии.
В России второй половины XVII в. подарки послов тщательно оценивали и одаривали в ответ соболями «против оценки», т. с. в соответствии с назначенной ценой. Оценка производилась по весу драгоценного металла, стоимость работы («дело») не учитывали39. Однако столетием раньше к вопросам ответного царского «жалованья» подходили не так прагматически. Оно неизменно превышало цену посольских даров. «Жалованье» имперскому послу А. Дону в 1597 г. в три раза превзошло стоимость его подарков, а датчанину Я. Ульфельдту было обещано, что это соотношение составит один к тридцати. Тем самым наглядно демонстрировалось богатство русских государей. «У государя нашего столко его царские казны, — говорили бояре грузинским послам, — что Иверскую землю велит серебром насыпать, а золотом покрыть, да и то не дорого» 10.
Начиная со второй половины XVI в. поминки от прибывших в Москву послов возвращались им полностью
.ПОМИНКИ» И «ЖАЛОВАНЬЕ»
125
или частично, а от лиц посольской свиты — полностью. «У них такой уж обычай, — писал имперский дипломат Н. Варкоч, — чтобы из посольства не оставлять у себя ни от кого подарков, кроме как от самого посла». В 1600 г. польскому послу Л. Сапсге заявили, будто у русских государей «издавна в их царских поведениях — у послов и посланников даров нс смлют, жалуют своим царским жалованьем»41. Иногда возвращалась даже часть поминков, присланных от иностранного монарха, хотя отношения с ним были вполне дружественными, как, например, с кахетинским царем Александром I. «Нет того, чего у государя нашего в государстве нет!» — пафосно провозглашали русские послы в Грузии в 1589 г. А пятью годами позже Борис Годунов, «жалуючи царя Александра», велел принять у его послов лишь небольшую часть привезенных ими поминков («не от велика»), «а досталпое все велел послам назад отдати» ,2. При этом посольские дьяки объяснили грузинам, что поминки между государями приняты «для любви, а не для корысти». На самом деле дары возвращались потому, что ни Федор Иванович, ни Борис Годунов не считали Александра I своим «братом». Он признавал их сюзеренитет и, следовательно, нс мог повторить этот широкий жест.
Посол тем более не имел права отвергнуть мопаршьи дары. Как ни отказывался от них А. Поссевино, ссылаясь па свое духовное звание, ему пришлось принять царские поминки (позднее он продал их, а деньги раздал студентам Пражского университета). По-иному поступил англичанин Д. Боус, возмущенный тем, как с ним обращались в Москве, и малой ценностью подарка, который он посчитал «нищенским». У него хватило благоразумия нс возвращать «государское жалованье» сразу после получения, а дождаться момента, когда подобная дерзость уже ничем
В МОСКВЕ
126
не будет ему грозить. Подарок царя он отослал своим приставам на обратном пути, в Архангельске, прямо с пристани, перед тем как взойти на борт корабля, уже готового отчалить. Таким хитроумным способом Боус выразил свой протест. «За ним, — в третьем лице пишет он о себе самом, не без злорадства вспоминая этот эпизод, — поднялась великая суматоха с целью заставить его снова принять эти вещи, но посол сумел ускользнуть»13.
Если речь шла о суверенных правителях, дарами к ним русские государи «поминались». Всем прочим они «жаловались», как тому же кахетинскому царю или прусскому магистру, чей посол Д. Шенберг в 1519 г. говорил о привезенном им перстне: «То государь мой прислал великому князю не для поминка, но для жалованья государско-го»'11, т. е. в благодарность за «жалованье», полученное магистром от Василия III. Во всяком случае, именно так интерпретировали его слова русские толмачи. В той же форме Грозный посылал дары своему вассалу, датскому принцу Магнусу, которого в 1570 г. он сделал марионеточным королем Ливонии.
В Москве подарки подносились не только царю и наследнику престола (очень редко — царице, а при Михаиле Федоровиче — его отцу патриарху Филарету), но и тем официальным лицам, с кем имели дело послы, вплоть до приставов. Казначеи посылали собственные дары прибывшим иностранным дипломатам и тут же получали ответные. Царь звал к своему столу лишь тех членов посольской свиты, кто привозил ему поминки. До второй половины XVII в. эта сложная система даров и отдариваний, подношений и ответного «жалованья» не имела строго регламентируемых форм, что говорит о ее естественном происхождении. С одной стороны, она поддерживалась коррупционностью московского двора и возмещала изъя-
-ПОМИНКИ» И «ЖАЛОВАНЬЕ*
127
ны в организации посольской службы, с другой — уходила корнями в древнейшие представления о том, что даритель и одариваемый вступают между собой в особую, магическую по природе связь, способствующую прочности и действенности контакта. Принятый дар гарантировал безопасность дарителя (одним из важных мотивов дарения, наряду с любовью, считался страх — «я не его, он не мой, он может причинить мне зло»), а при отдаривании подсознательно учитывалась и та сверхъестественная угроза, которую таит в себе невозмещенный подарок. Известно, что в языке многих народов этимология слова «дар» восходит к слову «яд»45.
Лишь при Алексее Михайловиче, когда внешняя сторона дипломатии стала приобретать более рациональный характер, все это стало уже в значительной степени архаикой. На смену хаотичным, но личностным отношениям пришел безличный регламент. Цена поминков, посылаемых различным иностранным монархам, была строго определена в зависимости от значения этих государств для политики Москвы и ценности ответных даров. В соответствии с новыми приоритетами император Священной Римской империи, как и датский король, заняли в этом списке последнее место, а турецкий султан и персидский шах — первое. Точно так же подверглась регламентации величина царского «жалованья», которое получали в Москве дипломаты разного ранга и члены их свиты. С прочими факторами его стоимость соотносилась гораздо слабее, чем раньше.
«Опорой сближения» и «поддержкой благорасположения» назвал дипломатические дары средневековый персидский историк. Долгое время в отношениях Москвы с европейскими странами, Кавказом, Персией и Оттоманской империей при всей обязательности таких даров их
В МОСКВЕ
128
ассортимент и количество не были важны сами по себе. В связях с Крымом все обстояло иначе. Здесь поминки являлись не столько элементом этикета, сколько частью собственно дипломатии, орудием нажима на политику ханства. Государь посылал их не только самому хану, но и его приближенным, что в отношениях со всеми остальными государствами Востока и Запада было абсолютно недопустимо. Даже снаряжение русских миссий в Крым и прием крымских посольств в Москве до середины XVI в. составляли обязанность великокняжеских казначеев, тогда как в контактах с Западной Европой их роль в это время уже свелась к минимуму46.
Ни Иван III, ни его преемники нс платили дань «перекопским царям», но ее заменяли ежегодно отправляемые в Крым поминки (тюрк, тыш), имевшие лишь видимость сугубодобровольных подношений. Соблюдение этой видимости было исключительно важным делом, поскольку Москва истолковывала поминки в Крым как плату за лояльность, а в Ногайскую орду — как царское жалованье за службу. В середине XVII в. появилась еще более оригинальная трактовка: поминки, посылаемые крымским Гиреям, объявлялись арендной платой за принадлежавшие им некогда земли, которыми впоследствии завладели российские государи. Об этом со слов своих русских собеседников сообщал архидиакон Павел Алеппский, сын антиохийского патриарха Макария, посетивший Москву в 1655-1656 гг. Действительно, Ивану Грозному пришлось заплатить хану за присоединение Казани и Астрахани, иначе в Бахчисарае не соглашались признать новое положение вещей, но столетием позже этот единичный факт уже использовался, видимо, для объяснения всей поминочной системы как таковой.
Существование этой системы было настолько болезненно для национального самосознания, что возникла
-ПОМИНКИ» И -ЖАЛОВАНЬЕ»
129
даже особая легенда, объясняющая ее происхождение вне связи с политикой вообще. Эту легенду знали многие, в том числе Г. Котошихин, Ю. Крижанич. Она передавалась в разных вариантах, но суть оставалась неизменной. Якобы в старину не то «некий чернец», не то митрополит Петр, нс то митрополит Алексий под страхом анафемы «заклял Московское государство» (или «московских людей») никогда нс воевать с крымским ханом, но «утешать нечестивого дарами»17.
Столь же регулярно отправлялись в Крым поминки польско-литовские, но и в Вильно, и в Кракове тоже всячески стремились подчеркнуть, что это делается отнюдь не по принуждению. На это СахибТирей в 1548 г. заявил Сигизмунду II Августу, что тот посылает ему богатые дары «не по доброй воле», а «для паньства (государства. — Л. /О.) своего, коли б папьство вашо во впокою было»,н. С помощью поминков откупались от набегов, склоняли к союзу. Более цепные, чем литовские, русские дары могли направить ханскую саблю против Польши и Литвы, а если, напротив, вилснские дары превосходили по богатству московские, хан мог резко изменить свою политику. С этим нельзя было не считаться. Приходилось, по выражению С. М. Соловьева, постоянно «тягаться с королем на крымском аукционе — наддавать поминки разбойникам». После Смуты крымские ханы попытались даже вернуться к практике денежного откупа от набегов по фиксированной цене: посол Ахмед-паша запросил за это десять тысяч рублей, но в конце концов согласился на шесть — при условии, что недостающие четыре тысячи будут выданы поминками (за набег на Литву данная сумма подлежала удвоению).
Крымские дипломаты привозили в Москву лишь аргамаков (порода лошадей), но в обратном направлении по-
В МОСКВЕ
130
мипки отправлялись целыми обозами: везли меха и шубы, сукно, предметы вооружения, моржовую кость, охотничьих птиц, драгоценную посуду, медные котлы и многое другое вплоть до серебряных пуговиц. После взятия Полоцка в 1563 г. Иван Грозный, желая зримо продемонстрировать Крыму успехи русского оружия, послал хану «полоцкого взятья» жеребца в полном убранстве и двух пленников — «литвинов добрых».
Из-за качества и количества привозимых в Крым даров то и дело возникали конфликты. Угодить хану и его вельможам было нелегко. Один из них говорил, например, В. Г. Морозову, что просил «пансыря доброго», а великий князь прислал ему «соломяной пансырь». Другой негодовал: «Что мне великий князь послал, хотя то яз стану жевати, да на люди свои плевати, ино и тут моим лю-дем никому ничего не достанетца! »49 Адресата этой жалобы, посла И. Г. Мамонова, заперли надворс и не давали продовольствия, обвиняя в том, что он часть подарков утаил или присвоил. Чтобы отвести такие подозрения, с послами стали посылать специальные «поминочные росписи», подтверждавшие правильное распределение даров согласно воле государя, но подобные документы помогали не всегда. От Мамонова даже требовали клятвы, что он ничьих имен из списка «не вырезал и не загладил». Бывали случаи, когда у послов вымогали «платежные записи» (долговые расписки), угрожая, что иначе их люди будут проданы в рабство.
Направляемые в Крым поминки делились па несколько разновидностей. Среди них были «явные», подносимые на аудиенции открыто, и «потайные», которые посол должен был вручить лишь в случае определенных уступок со стороны хана или какого-то другого лица, а до этого держал в секрете. «Здоровалные» поминки вручались в свя-
«ПОМИНКИ» Н «ЖАЛОВАНЬЕ»
131
зи с каким-нибудь торжественным событием (например, со вступлением па престол нового хана), а «запросные» посылались по индивидуальному заказу хана, его жен, родственников и вельмож (когда-то «по запросы» приходили в русские княжества золотоордынские «послы сильные»). Наконец, поминки «девятные» («девяти») предназначались только самому хану и наиболее влиятельным мурзам из его окружения. Для включения в их число нового лица требовалось, чтобы хан ходатайствовал об этом перед великим князем.
У монголов существовал обычай поднесения даров в количестве, кратном девяти (у тюрок «9» также считалось счастливым числом). По монгольским представлениям, дожившим до начала XX в., дар из «девяти белых» (коней, быков, овец и т. д.) был наивысшей формой почета, право на которую имели только прямые потомки Чингисхана. Венецианец И. Барбаро, в конце XV в. побывавший в ногайских степях, такие подарки называл «новеннами» (от итал. nove— девять, хотя иногда это слово возводилось исследователями к русскому слову «новина», т. е. холст). Русские государи посылали «девятные поминки» исключительно в Крым и ни в одно другое мусульманское государство. В 30-х гг. XVI в. бий Ногайской орды Саид-Ахмед, претендуя на равенство с крымскими чингизидами и пользуясь малолетством Ивана Грозного, напрасно пытался добиться от Москвы права на получение «девятных поминков»50. Когда в 1614 г. русские послы по собственной инициативе поднесли ургенчскому хану поминки «в девяти статьях», в Москве было устроено строгое разбирательство этого дела — выясняли, почему послы «столко поминков давали, кабы пошлину платили»51. Имелась в виду все та же «посошная пошлина» — символ даннических отношений. Возможно, «девяти», традиционнососто-
В МОСКВЕ
132
явшие из мехов и шуб, когда-то были наиболее ценной частью посылаемой в Орду русской дани. В новой ситуации именно они символизировали неравноправное положение Москвы и Крыма, поэтому истолковывались ханами как «дань». Во всяком случае, к концу XVI в. упоминания о «девятных поминках» навсегда исчезают со страниц крымских посольских книг.
Глава V
Путь во дворец
1. От подворья до Кремля
В России XV-XVI вв. за дипломатами всех стран и всех рангов признавали безусловное право быть принятыми государем (позднее Гуго Гроций объявил его первым из основных прав посла). Количество высочайших аудиенций зависело от ранга дипломата, от характера его миссии и отношений между двумя странами. Их могло быть больше или меньше, но даже простые гонцы представали перед царскими очами не менее двух раз: обязательным считалось представление государю и прощание с ним при отъезде. В приеме отказывали в редчайших случаях. В 1559 г. к Грозному не допустили гонца из Вильно, по дороге имевшего несчастье потерять отправленную с ним грамоту, а в 1577 г. царь не принял шведского гонца по той причине, что «он, латыш, молодой человек». Через восемь лет другому посланцу Юхана III число аудиенций сократили до одной. Король прислал с ним письмо, где припоминал нанесенные ему Иваном Грозным обиды, поэтому бояре все объяснили без околичностей: «Очей своих государь наш (Федор Иванович. — Л. Ю.) видети тебе не велел для того, что с тобою прислал Яган король грамоту с укорительными словы про отца государя нашего»’.
ПУТЬ ВО ДВОРЕЦ
134
Из всех аудиенций самой торжественной была первая, на которой посол представлялся царю, вручал свои грамоты и подарки. Ее день и час официально сообщали заранее, потом предупреждали накануне и еще раз напоминали в утро назначенного дня. В конце XVI в. послы предварительно получали устное наставление о правилах придворного этикета, о том, как следует вести себя по дороге в Кремль и во дворце. Инструктаж проводили приставы или посольские дьяки. Они же задолго до дня аудиенции начинали просить у дипломатов привезенные ими грамоты. Иногда на подворье к послам «великим» являлись даже весьма представительные делегации, состоявшие из бояр и думных людей; целью было заполучить посольские документы, прочесть их или хотя бы выведать содержание. В зависимости от этого послам при следовании на аудиенцию и в тронном зале должна была оказываться большая или меньшая «честь». Обычно подобные попытки бывали безрезультатными. Лишь гонцы отдавали свои грамоты до приема у государя, да и то нечасто. Поэтому весь церемониал первой аудиенции, включая дорогу в Кремль, строился «вслепую», исходя из общего состояния двусторонних отношений в данный момент. В дальнейшем, если посол повторно представал перед государем, церемониальные нормы корректировались в связи с уже известным характером его миссии.
Иностранных дипломатов сопровождали на аудиенцию их же приставы. За крымскими и ногайскими послами прибывали толмачи Посольского приказа. Те и другие отправлялись из дворца, когда там все уже было готово к приему, и послы к условленному часу тоже должны были приготовиться и ждать, чтобы выехать с подворья немедленно по прибытии за ними сопровождающих лиц. Посольская книга с возмущением описывает небывалое по
ОТ ПОДВОРЬЯ ДО КРЕМЛЯ
135
ведение литовского посольства Ю. Ходкевича в 1566 г. («у тех послов ново учало быти»): в то время, как пора было ехать в Кремль, они решили отстоять обедню в церкви у себя на подворье и не вышли к приставам до ее окончания. Цель очевидна — под благовидным предлогом заставить царя ждать, чтобы тем самым послужить «чести» короля. «У прежних послов того в обычае не было, чтобы государю послов долго ждати», — с осуждением записал свидетель этого инцидента2. Наследующей аудиенции Иван Грозный отплатил Ходкевичу той же монетой: к положенному сроку послов доставили во дворец и вынудили ждать, пока царь отстоит обедню в Благовещенском соборе.
Приблизившись к подворью, приставы спешивались у ворот, а послы в это время выходили на крыльцо. Затем те и другие медленно сходились посреди двора, причем первые стремились отнести место встречи ближе к воротам, вторые — к лестнице (чем меньше пройденное расстояние, тем «честнее»). Если посольство размещалось на нескольких частных подворьях, оно должно было загодя собраться на одном. Приставы прибывали с почетным эскортом, который должен был сопровождать послов до Кремля. Его численность зависела от ранга и значения их миссии. Если А. Дона эскортировали 120 русских дворян и «детей боярских», то прибывшего в том же году имперского гонца В. Мерле — всего 20.
Следовать на аудиенцию, как и въезжать в город, полагалось верхом или в санях. Редкие исключения, могущие быть превратно истолкованы, старательно объяснялись в соответствующих протокольных записях. Когда А. Дон с трудом добился разрешения следовать на аудиенцию в собственном экипаже («в возку немецком непокрытом»), посольский подьячий, описав этот факт, счел не-
ПУТЬ ВО ДВОРЕЦ
136
обходимым добавить, что посол ехал в экипаже, ибо «у него болезнь в ногах, камчюг («камчужной болезнью» на Руси называли подагру. — Л. 70.), и он бил государю челом, что верхом ему ехати не мочно»4.
В 1583 г. Д. Боусу показалось, что иноходец, присланный ему для следования на аудиенцию, нс так хорош, как конь под его приставом, князем И. В. Сицким. Отказавшись сесть в седло, обиженный Боус пошел в Кремль пешком. Когда он проходил мимо собравшихся па улицах зрителей, из толпы раздавались насмешливые выкрики: «Карлуке!» Именно в такой транскрипции (carluke) это слово приводит в своих записках англичанин Д. Горсей, сам все видевший и слышавший. По его мнению, оно означало «журавлиные ноги»4. Видимо, так ему перевели в толпе, когда он поинтересовался смыслом этих выкриков. Странный перевод можно, конечно, объяснить тем, что посол обладал долговязой фигурой (это видно по его портрету), и «карлухой» (карликом) зрители называли его в насмешку. Так это обычно и толкуется. Вероятнее, впрочем, что преисполненный собственного достоинства Боус важно, как журавль, вышагивал па своих длинных йогах, ниже колен по тогдашней западной моде обтянутых только чулками, поэтому кричали ему не «карлуха», а «курлы-ка» или «курлыкай», т. е. издевательски призывая его кричать по-журавлиному, раз уж он похож на эту птицу. Просто Горсей не совсем правильно расслышал и записал незнакомое ему русское слово.
Столь грубое нарушение церемониальных норм, какое позволил себе английский посол — случай исключительный. Инцидент оставили без последствий лишь потому, что Иван Грозный в то время очень надеялся на заключение англо-русского союза, направленного против Стефана Батория; кроме того, царь еще не окончательно рас
ОТ ПОДВОРЬЯ ДО КРЕМЛЯ
137
стался с планами женитьбы на Мэри Гастингс, родственнице Елизаветы I. Надежды оказались напрасными. Боус, активный противник союза с Россией и сторонник сближения Англии с Полыней, с самого начала повел себя в Москве не совсем так, как положено дипломату, но поплатился за это уже после смерти Грозного, прощавшего ему все его выходки.
Посольские аудиенции назначались на первую половину дня. Правда, Грозный принимал иногда крымских послов «после вечерни» (по окончании вечерней службы в Благовещенском соборе), а Т. Рэндольф, посол и доверенное лицо Елизаветы I, однажды был приглашен водворен даже глубокой ночью, но в этих случаях прием у царя носил подчеркнуто частный характер. Если аудиенция была официальной, она обычно проходила между заутреней и обедней. Это время считалось наиболее удобным по разным причинам — потому, в частности, что после приема послов приглашали на торжественный обед. На Руси он устраивался приблизительно в полдень.
Были и другие соображения, более важные. Когда в 1595 г. М. И. Вельяминову в Праге предложили быть на приеме у императора Рудольфа II «после стола, о вечерне», он решительно воспротивился, заявив, что в такое время «на посолство ехати непригоже», и добился своего: аудиенцию перенесли на первую половину дня — «по русскому обычаю»5. Дело тут не в щепетильном соблюдении правил, принятых в России, а в убеждении, что эти правила обязательны для всех, ибо являются истинными и, значит, единственно возможными. Аудиенция — «честь» не только для посла, по и для его монарха. Она должна выказываться публично, следовательно, послу «непригоже» ехать во дворец по вечерней Праге, когда на улицах малолюдно.
ПУТЬ ВО ДВОРЕЦ
138
В Москве посольское шествие в Кремль обставлялось еще с большей пышностью, чем въезд в столицу. Если посольство было значительным или таковым его хотели представить, улицы заполнялись толпами зрителей, на Красной площади прекращалась торговля. С начала XVI в. на пути посольского поезда стали собирать дворян в богатых одеждах, специально для такого случая выданных из казны. С. Герберштейн писал: «Всякий раз, как нужно провожать во дворец именитых послов от иностранных государей и королей, созывают из соседних и окрестных мест низшую знать, наемников и воинов, запираются к тому времени в городе все лавки и мастерские, прогоняют с рынка продавцов и покупателей»1’. Хуан Персидский (перс-католик, воспитанник испанских иезуитов), состоявший в свите послов Аббаса I к Борису Годунову в 1600 г., был уверен, будто в такие дни «указом объявляется, чтобы никто не работал». Он даже считал это величайшим благом для русских, которые «в обыкновенные праздники в течение года ничуть не стесняются работать целый день»7. Царский указ с запретом на всякую работу представляется маловероятным, но известно, что первые аудиенции наиболее значительных посольств часто назначались в Москве на воскресные и праздничные дни.
Автор «Казанской истории» писал, что иностранные послы прибывают в Россию «с честию и з дары на бол-шую славу самодержцу нашему»*. Герберштейн с присущей ему проницательностью сумел верно оценить смысл этого многолюдства: «Толпы подданных свидетельствуют перед иностранцами о могуществе князя, а столь важные посольства иностранных государей — перед всеми о его величии»9. Элементы государственной регламентации здесь действительно присутствовали, но ими дело не исчерпывалось, сотни и тысячи людей безо всякого принуж-
ОТ ПОДВОРЬЯ ДО КРЕМЛЯ
139
дения стекались полюбоваться зрелищем посольского шествия. Тот же Герберштейн отметил, что в такие дни женщины наряжаются и румянятся, как на праздник. Обязать их к этому не могли, разумеется, никакие указы.
С помощью праздничной атмосферы, которая сама по себе питала представления о величии царской власти, решались порой и внутриполитические проблемы. В 1598 г., когда на престол только что вступил Борис Годунов, явившемуся в Москву имперскому гонцу Михаэлю Шиле настоятельно рекомендовали назваться не гонцом, а посланником. Отклонить предложение он не посмел. Оно было представлено таким образом, будто тем самым царь желает оказать уважение императору Рудольфу II, но Шиле отлично понимал, что все это делается «ради большего стечения народа в почет великому князю»10. Чем выше ранг дипломата, тем торжественнее обставлялось его шествие во дворец, и больше зрителей собиралось на улицах. Шиле был первым иностранным дипломатом, прибывшим к Годунову-царю, из чего тот постарался извлечь все возможные выгоды. Вероятно, дьяк В. Я. Щелкалов, руководивший в то время Посольским приказом и отличавшийся практическим умом, предложил превратить гонца в посланника, чтобы поднять авторитет нового царя в глазах народа, а в глазах царя — свой собственный. Эта уникальная история показывает, во-первых, как неуверенно чувствовал себя Годунов на престоле Рюриковичей, а во-вторых — как изменилась психология власти, способной пойти на столь унизительный для самой себя подлог. При Иване Грозном подобное было бы невозможно.
Поминки, привозимые послами, выставлялись на всеобщее обозрение. Их богатство служило царской «чести», но Шиле ничего с собой не привез. В пути он претерпел
ПУТЬ ВО ДВОРЕЦ
140
множество приключений, по дороге через Польшу его едва не убили разбойники и отняли все, что предназначалось в дар царю (во всяком случае, такова его собственная версия). Чудом сохранились лишь «часы боевые» (с боем). Щелкалов осмотрел их и нашел, что они годятся в качестве подарка. Поскольку одних этих часов для публичного шествия было недостаточно, он приказал впридачу к ним выделить из казны ряд ценных вещей, которые Шиле ему же затем и поднес от своего имени. Свита гонца тоже, видимо, оставляла желать лучшего, поэтому при следовании в Кремль «дары» несли люди самого Щелка-лова, обряженные немцами. При этом аудиенция Шиле для большей торжественности была приурочена к празднованию действительной или мнимой победы над войсками сибирского хана, когда по всем московским церквам три дня звонили в колокола. В другое время при въезде послов в Кремль ударяли только в особый колокол, чьим звоном отмечались царские пиры и выезды.
С 70-х гг. XVI в. на пути следования посольского поезда начали выстраивать стрельцов. Первое время они стояли непосредственно возле дворца, а с середины 80-х гг. — и вдоль улиц. Длина строя могла быть различной. Для гонцов стрельцы выстраивались лишь возле дворцовых лестниц, для посланников — по Красной площади и внутри кремлевских степ; при проезде послов «великих» стрелецкие шеренги тянулись от подворья до царской резиденции. Стрельцы стояли с «ручницами» (пищалями), иногда — с одними бердышами, а в течение всего 1594 г., во время траура по царевне Федосье, рано умершей дочери Федора Ивановича, и вовсе безоружные. Некоторые иностранные дипломаты писали, что они отдавали им оружием честь. Т. Смит, приехавший в Москву в те дни, когда на столицу наступали войска Лжедмитрия I, утверждал, буд-
ОТ ПОДВОРЬЯ ДО КРЕМЛЯ
141
то настоящие стрельцы отправились воевать с самозванцем, а при проезде посольства на улицах стояли обыватели, наряженные в стрелецкое платье, но подобная затея с переодеванием такого масштаба едва ли была возможна. Это, видимо, одна из легенд, порожденных хорошо известным в Европе стремлением русских властей представить страну в самом выгодном свете и ответной подозрительностью иностранцев, всегда готовых поверить в то, что от них скрывают истинное положение вещей.
Пока посольский поезд медленно двигался к Кремлю, между ним и царскими покоями беспрерывно сновали курьеры («гопчики»). С их помощью поддерживалась требуемая скорость движения. В соответствии с полученными указаниями они приказывали приставам или поспешить, если во дворце все было уже готово к началу аудиенции, или ехать потише, если там возникали какие-то непредвиденные осложнения. Впрочем, у послов были свои представления о том, как быстро они должны двигаться, к тому же от них это не всегда зависело. Часто перед ними шли свитские дворяне с бархатными подушками, на которых раскладывались грамоты, а позади послов несли подарки. Поторопить этих пешеходов было невозможно, иначе все шествие утрачивало свою церемонную величавость.
Такие процессии порой включали в себя сотни людей и растягивались на громадное расстояние. В 1630 г. при следовании в Кремль голландских послов Альберта Бур-ха и Иоганна ван Фельдриля, имевших задание добиться для Нидерландов права беспошлинной торговли и поэтому в расчете на закупки вооружения доставивших в дар царю целый арсенал, по улицам провезли восемь разнокалиберных орудий, за каждым из которых ехало по нескольку саней, груженых ядрами (по сто ядер соответствую-
ПУТЬ ВО ДВОРЕЦ
142
щего калибра для каждой пушки); следом русские дворяне в руках несли 170 «не пробиваемых пулями» лат — по два человека на один комплект (всего 340), за ними 170 стволов для карабинов несли по два ствола один человек (всего 85), а замыкали шествие около трех десятков голландцев с разного рода оружейными раритетами и вполне мирными подарками для царевича Алексея и патриарха Филарета11.
Путь во дворец крымских и ногайских послов обставлялся несравненно проще. Для них не выстраивали стрельцов, русский эскорт был малочисленнее, и входили в него лица менее знатные. Зрителей собиралось меньше, нередко улицы и вовсе были пусты. Участники подобных шествий большого интереса не вызывали, москвичи не усматривали тут никакой экзотики, а власть не использовала эти миссии для повышения собственного престижа и мало заботилась о том, чтобы почтить их уличным многолюдством. В XVII в. ханских представителей порой вели во дворец даже пешком, как когда-то поступали с русскими послами в Золотой Орде, а позже — в Крыму.
2. В Кремле
Восточный придворный церемониал предполагал некоторые унизительные для послов-христиан правила следования на аудиенцию. В Персии, например, в воротах шахского дворца на них надевали особые туфли, чтобы они не осквернили своей обувью священную землю. Их путь по двору тут же вслед за ними перекапывали или посыпали песком; идти обратно они должны были строго по тому же маршруту, по какому шли туда, не отклоняясь от него
В КРЕМЛЕ
143
ни на дюйм12. Ничего похожего в русском посольском обычае не существовало. Различия в приеме, связанные с конфессиональной принадлежностью дипломатов, были минимальны. При следовании на аудиенцию действовало лишь одно незыблемое правило: в Кремле послам полагалось спешиться, не доезжая дворцовых лестниц. Та же норма принята была и в частном быту русского общества XV-XVII вв. — подъехать верхом прямо к крыльцу значило проявить неуважение к хозяину дома.
Чем большее расстояние дипломат проезжал в седле или в санях от кремлевских ворот по направлению к царским палатам, тем для него было «честнее». Поэтому гонцы спешивались раньше, чем посланники и послы, свита — раньше, чем члены посольства. Последним сходил с коня глава миссии. Одновременно с ним спешивался «болший» пристав, а остальные — вместе со свитскими дворянами.
Во второй половине XVI в. своеобразной линейкой с делениями, отмечающими положенную каждому гостю меру «чести», служило здание Казенной палаты вблизи Благовещенского собора. Имперские послы спешивались обычно у ее «середнего быка» (контрфорса), посланники — «у второго окна», гонцы — «у первого быка». Польско-литовские дипломаты пользовались правом более близкого подъезда, чем представители других держав. Они тоже сходили на деревянные мостки, тянувшиеся вдоль здания Казенной палаты к Благовещенской паперти, но уже не «у середнего быка», а «у последнего окна». Послам «великим» разрешалось прямо с седла ступать на подъездной помост лестницы, которая вела па соборную паперть.
В русско-литовской дипломатической практике таким вещам придавалось особенно большое значение, ибо каждая из сторон прекрасно знала все представления другой относительно «чести» и «безчестья». То, на что могли не
ПУТЬ ВО ДВОРЕЦ
144
обратить внимания немец или англичанин, для посланцев польских королей было исполнено глубокого смысла. С 1549 г., когда Сигизмунд I Август не признал за Грозным право на царский титул, его представителей часто заставляли спешиваться дальше от дворца, чем принято было в первой половине XVI столетия. Это приводило к постоянным конфликтам. В отчете литовского посольства 1556 г. говорится: «И когды есмо на замок (в Кремль. — Л. Ю.) приехали, не дали конным к столбе (лестнице. — Л. Ю.) приехати, яко бы могло быть о десять сажень до столбы, але почалися мешати и бити служебников некоторых и возниц батогами». Завязалась потасовка, из которой, если верить отчету, послы вышли победителями. Позже они уверяли, что их «служебники», оттеснив стражу, руками сумели дотянуть посольские сани до самой лестницы, ведущей на Благовещенскую паперть. «Праве (почти.— Л. Ю.) на ступень поставили»13,—хвалились послы. Иногда королевские дипломаты прямо на конях «сильно» пытались пробиться к дворцовым лестницам, ио это удавалось им далеко не всегда. В официальных отчетах обе стороны фиксировали только те столкновения такого рода, из которых выходили победителями, и умалчивали о неудачах.
Место спешивания могло удаляться от дворца по причинам политическим, но могло быть и репрессивной мерой по отношению к самим послам, если за ними числились какие-нибудь «вины». В 1570 г. польское посольство Я. Скратошича отказалось по приглашению приставов немедленно ехать на аудиенцию, после чего были высланы стрельцы, чтобы не допустить послов к Благовещенской паперти и заставить их спешиться возле Архангельского собора, где в те годы сходили с коней литовские гонцы, а также послы датского и шведского королей, кото-
В КРЕМЛЕ
145
рых Иван Грозный не признавал «братьями». Правда, Скра-тошич, вернувшись на родину, утверждал, что против него царь выслал не стрельцов, а своих «опричинцев» с кнутами, пустившими их в дело1’1. Как бы то ни было, инцидент получил широкую огласку, последовали жалобы, и позднее русские послы в Вильно объясняли королю, что нарушение традиции произошло по вине самих же послов: «То им учинилось от своей гордости, не от царского величества»15.
Во дворец послы входили двумя путями. Первый, более длинный, вел по лестнице «у Благовещенья» на соборную паперть и далее к переходам у Красного крыльца; второй, короткий — по Средней лестнице сразу на Красное крыльцо. Первым нул ем шли представители христианских государей, вторым — мусульмане. Идти по церковной паперти им было «непригожь», но это правило окончательно установилось лишь во второй четверти XVI в. При Василии III и крымские, и ногайские, и турецкие посольства часто входили в великокняжеские палаты по Благовещенской лестнице.
Публичное шествие мусульман по паперти «у Благовещенья» впоследствии стало неприемлемым, но в начале столетия отношение к исламу на Руси было существенно иным, более терпимым. Иван III в некоторых своих грамотах, отправляемых в Крым, даже дату помечал не от сотворения мира, а по хиджре. В 1432 г. ордынский посол, царевич Мансур-Улан, «садил на великое княженье у Пречистые (в старом Успенском соборе. — Л. Ю.), у Золотых ворот», семпадцатилетнсго великого князя Василия Васильевича (Темного)IG, но при Иване Грозном старались не вспоминать тс времена, когда послы Золотой Орды, как победители, входили в кремлевские соборы. Россия осознала себя частью христианского мира, постоянные антиисламскис декларации стали общим местом русской
ПУТЬ ВО ДВОРЕЦ
146
дипломатической риторики. При всей враждебности к «ла-тынам» и к «люторам» церемониальными средствами были разграничены не православие и католицизм или протестантизм, а «христьянство» и «бесерменство» (ислам).
Датчанин А. Гильденлсве, побывавший в Москве в середине XVII в., считал, что Благовещенская лестница используется для приема европейских послов по той причине, что они таким образом идут «в обход справа налево, а потом по другой лестнице опять направо для более продолжительной и торжественной пышности». По Средней же лестнице, имевшей всего девять ступеней (возможно, это связано с монголо-тюркской числовой символикой), проводят, как писал Гильденлеве, лишь «язычников и турок», чтобы «показать им, собакам, кратчайший путь»17. Если это и не совсем так, то в рассуждениях наблюдательного датчанина есть зерно истины. Во всяком случае, Средняя лестница использовалась для наказания тех западных дипломатов, чье поведение или характер их миссии вызывали недовольство в Москве.
Во второй половине XVI в. крымские, ногайские, турецкие и персидские посольства никогда не входили во дворец по лестнице «у Благовещенья», зато послов-христиан вводили иногда по Средней или угрожали так поступить. Во всех этих случаях причины немилости вполне прозрачны. В 1566 г. посольство Ю. Ходкевича не вовремя вздумало «обедни слушати» и сознательно опоздало на аудиенцию; в тот же день царь «приговорил с бояры», что при повторении подобной дерзости послы будут введены во дворец по Средней лестнице. Этим же путем, в нарушение обычая, их заставили идти после аудиенции. Через четыре года бояре грозили Средней лестницей польскому посольству Я. Скратошича, а в 1588 г. по ней шел па прием к Федору Ивановичу английский дипломат
В КРЕМЛЕ
147
и ученый Джильс Флетчер, автор знаменитого сочинения «О Государстве Русском». Это явно не случайность. Незадолго перед тем царский гонец Роман Бэкман (ливонский дворянин) был «невежливо» принят в Лондоне королевой Елизаветой I; кроме того, против английских купцов интриговали в Москве их голландские конкуренты, небескорыстно опекаемые главой Посольского приказа дьяком Л. Я. Щелкаловым. В другое время до Средней лестницы дело, может быть, и не дошло бы, но после смерти Грозного русско-английские отношения вообще резко ухудшились. Поэтому Флетчеру не устроили «встречу» перед московским посадом, а в Кремле заставили спешиться необычайно далеко от дворца (у Архангельского собора). Короткий путь по Средней лестнице — еще одно из церемониальных унижений, которым его подвергли, хотя сам он, возможно, этого и не осознал.
Въезжая в Кремль и направляясь к государю, послы видели вокруг себя множество людей. Во дворе, на паперти, на лестницах и лестничных переходах стояли, не считая стрельцов, сотни нарядно одетых «детей боярских», дворян, «жильцов», подьячих московских приказов и пр. Они представляли собой миниатюрный слепок социальной структуры русского общества, точнее — верхних его слоев. Это многолюдство было продолжением уличного, но более «устройным» и чинным: все стояли в определенном порядке, наблюдать за которым поручалось дьякам Разрядного приказа. В последние месяцы правления Бориса Годунова в этой толпе появились и делегаты от провинции — «выборные дворяне от городов». В ситуации всеобщего брожения, особенно в то время, когда многие города поддержали Лжедмитрия I, провинциалы должны были продемонстрировать монолитность государства.
Иногда здесь же, символизируя власть царя над раз-
ПУТЬ ВО ДВОРЕЦ
148
личными пародами, возникали ногайские, крымские, касимовские и сибирские татары в национальной одежде и какие-то фигуры в западноевропейском платье — не то ливонские немцы на государевой службе, не то обряженные немцами русские дворяне. В конце XVI в., если на аудиенцию шли английские послы, па паперти стояли «гости» и «торговые лутчис люди». Позже это вошло в обычай, но поначалу представителей третьего сословия приглашали в Кремль только для англичан, ибо только они придавали вопросам торговли первостепенное значение.
В XVI в. аналогичный обычай существовал при дворе турецких султанов, которые, вероятно, как и русские государи, позаимствовали его у византийских императоров. В Стамбуле, когда иностранные послы следовали на аудиенцию во дворец Топкапы, возле здания Дивана рядами выстраивалось до десяти тысяч пышно одетых сановников, кадиаскеров, янычар и воинов дворцовой стражи. По словам венецианца Андреа Гритти (1503 г.), все эти толпы «стояли в такой тишине и в таком безупречном порядке, что поверить в это чудо может лишь тот, кто видел его собственными глазами»18.
Иностранцы в Москве тоже с удивлением отмечали царившую в Кремле абсолютную тишину, немыслимую, казалось бы, при таком скоплении народа. Молчание и полная неподвижность были знаком того, что все эти люди есть не более чем орудие верховной власти, которая одна лишь способна вдохнуть в них жизнь. Стройные ряды подданных разных рангов символизировали ступени социальной пирамиды, посол поднимался по ним к ее вершине — царю, султану или базилевсу.
Чем ближе к дворцу, тем выше был статус лиц, мимо которых проходили послы. В сенях, куда они попадали с Красного крыльца, присутствовали уже низшие придвор-
В КРЕМЛЕ
149 ные чины: кравчие, стряпчие, стольники, сытпики, чашники и пр. Здесь, по свидетельству иностранцев, скапливалось до 300 человек. По сравнению с теми, кто находился снаружи, их расположение еще строже подчинялось местническим правилам.
Официальные «встречи» от имени государя устраивались иностранным дипломатам на рубеже страны, при въезде в столицу, затем на царском дворе и, наконец, в самом дворце, т. е. всякий раз при перемещении па качественно иную территорию. Посол как бы пересекал вписанные одна в другую концентрические окружности; они постепенно сужались, охватывая все более сакральное пространство. Через границы между ними послов и переводили «встречники». Их роль — служить почетными провожатыми при вступлении в новый мир.
При всем том «встречи» были подвижной этикетной нормой, число их колебалось, порой опускаясь до нулевой отметки. Так, в 1557 г. Иван Грозный запретил «встречать» шведских послов, потому что во дворце «наперед того, при великом князе Василье встречи им не бывало, а учинили им встречу после»19. Апеллируя к традиции, царь восстановил нормы, попранные в годы его малолетства, причем этот запрет соблюдался вплоть до его смерти. Не всегда в эти годы «встречали» и датских дипломатов. В период военных действий между Россией и Речью Посполитой польско-литовских гонцов и даже посланников лишали придворных «встреч» полностью, а для послов их было меньше, чем в мирное время.
В начале и середине XVI в. таких «встреч» обычно бывало три: первая, «меньшая» — на подъездном помосте, когда послы сходили с лошадей; вторая, «средняя» — на крыльце; третья, «болшая» — в сенях. После аудиенции «встречники» провожали послов обратно до того же мес-
ПУТЬ ВО ДВОРЕЦ
150
та, где их встречали. Соответственно «болтая встреча», состоявшая из наиболее родовитых персон, проходила расстояние более короткое, чем «средняя», «средняя» — чем «меньшая». Сам государь, будучи точкой отсчета, оставался неподвижен.
В зависимости от различных причин менялось число не только «встреч», но и «встречников». При Василии III турецкого посла Камал-бека в 1514 г. «встречали» десять человек, разбитых на три группы, но представителям прусского магистра (он считался не суверенным монархом, а «урядником» императора Священной Римской империи) полагалась всего одна «встреча», состоявшая из единственного «встречника». Иван Грозный оказывал Д. Боусу большую «честь», чем Федор Иванович, и при первом ему было две «встречи» по четыре человека в каждой, а при втором — одна из трех человек. К концу XVI в. даже «великих» послов редко «встречали» более двух раз; лишь принцу Иоганну Голштинскому, несчастному жениху Ксении Годуновой, в 1602 г. умершему в Москве от чумы, во дворце было устроено целых четыре «встречи».
Процессия из самих послов, их свиты и «встречников» строилась по своим правилам. Если по улицам приставы ехали с послами в ряд, стараясь держаться справа от них, то в узких дворцовых переходах это было невозможно. Правило «правой руки» тут не действовало, зато вступали в силу другие представления, согласно которым место сзади «честнее», чем впереди. Иван Грозный, собираясь жениться на сестре Сигизмунда II Августа, обещал королю, что встретит невесту за городом и въедет в столицу впереди нее. Это был способ «почтить» королевну, признав ее главным членом процессии. Соответственно при следовании в приемную палату члены «меньшей встречи» возглавляли процессию, «средние встречники» шли за
В КРЕМЛЕ
151
ними, а «болшие» — непосредственно перед послами. Посольская свита замыкала шествие, держась па некотором отдалении, чтобы не ломать иерархию главных действующих лиц. Когда в 1600 г. польские послы захотели поменяться местами со своей свитой, все остальное оставив по-прежнему, то получили решительный отказ. Невинное, на первый взгляд, пожелание поляков служило «чести» их самих, но унижало русских участников процессии: при гаком построении «болшая встреча», состоявшая из наиболее знатных лиц, шла бы не перед самими послами, а перед свитскими дворянами, тем самым неоправданно повышая их статус.
Войдя во дворец, послы обычно вынимали из ларца свои верительные грамоты (рекредитивы) и послание своего монарха, и несли их в высоко поднятых руках. В строго установленном порядке процессия приближалась к дверям приемной палаты, но ее порога русские участники процессии не переступали. Следующий акт церемониального спектакля разыгрывался другими актерами.
Глава VI
Аудиенция и обед
1. Место действия. Статисты
В 1584 г. русский гонец Р. Бэкман, наделенный посланническими полномочиями, прибыл в Лондон с посланием от Федора Ивановича к Елизавете I, по аудиенции в Вестминстерском дворце не получил. Вместо этого королева побеседовала с ним во время прогулки в дворцовом саду. В Москве с негодованием восприняли известие о том, что представитель царя был «бесчестно» принят в «огороде». Королеве пришлось оправдываться тем, что ее сад («огород») — «место честное, прохладное, блиско нашей палаты, а там никого много не пускают», и в этом саду «нет н«и луку, ни чесноку»1.
Русским послам за границей строжайше предписывалось добиваться высочайшей аудиенции исключительно в королевских, «цесарских» или «салтановых» палатах. Переговоры с приближенными монарха тоже должны были вестись во дворце, а не в каком-то другом месте. Отступления от этой нормы не приветствовались даже в тех случаях, когда ее нарушение служило «чести» русских дипломатов. В 1519 г., в Кенигсберге, к послу К. Т. Замыц-кому явился на подворье сам прусский магистр. Оценив это как «великую честь», оказанную ему «государева для великого имени», Замыцкий тем не менее заявил магист-
МЕСТО ДЕЙСТВИЯ. СТАТИСТЫ
153
ру: «И ты, господине, поиди к себе, и яз тебе у тебя речи своего государя говорю, а здесе мне речей тебе великого государя своего непригожь говорити!»2
Жилище монарха — такой же атрибут его сана («чина»), как скипетр или корона. Прием посла в любом ином месте считался знаком неуважения к его повелителю. Речи от лица государя невозможно было произнести в не подобающей для них обстановке, пусть даже перед лицом самого монарха. За пределами дворцовых стен, где он представал в своей человеческой ипостаси, исчезала та ритуальная торжественность, без которой эти речи не могли звучать, иначе менялся их смысл. Лишь катастрофическое положение страны, оказавшейся на краю гибели, заставило Ивана Грозного согласиться с оскорбительным требованием Стефана Батория и отправить послов в его военный лагерь под Великими Луками.
В Москве и в других городах, временно служивших резиденцией русских государей, иностранных дипломатов принимали всегда в царских палатах. Это правило практически не знало исключений. Только однажды, в 1567 г., литовский посланник Ю. Быковский, прибывший к Грозному с грамотой о разрыве перемирия, вынужден был явиться перед ним посреди воинского стана.
В России, как и в Западной Европе, существовало разделение аудиенций на официальные и частные, но поскольку в обоих случаях послы представали перед государем, разница между ними была невелика, а мера посольской «чести» определялась прежде всего их очередностью относительно друг друга. Попытки разграничения аудиенций по каким-то иным параметрам оставались чисто теоретическими и на практике большого значения не имели.
В 1579 г. Баторий в одном из своих писем не без иронии указал Грозному на то, что он нс понимает смысл ело-
АУДИЕНЦИЯ И ОБЕД
154
ва «маистат» (величество). Царь это запомнил, и через год, на переговорах с А. Поссевипо, бояре попытались отвести от него обидный упрек: «А велит у себя государь быти послом, то к его лицу, ино то большая честь послом; пришлет же государь, а велит привести послов к своему маистату, ино то к его государству, а не к его лицу, ино того хуже»3. Эти рассуждения носят вполне схоластический характер. В реальности происходило сращивание понятий «государев» и «государственный», выражавшихся одним словом — «государский».
Частные приемы у царя, во время которых он лично вел переговоры с послами, проходили в полудомашней обстановке Постельной палаты. Такая аудиенция хотя и считалась для послов большой «честью», возможна была лишь после официальной, публичной, нс заменяя, но дополняя последнюю. Тот же порядок предусматривали наказы русским послам, выезжавшим за границу. Когда в Вене один из них не дождался приема в тропной зале и посетил тяжело больного императора в его спальне, то, опасаясь наказания за «поруху» государевой «чести», оправдывал свой поступок тем, что «цесарь вельми хвор», и официальной аудиенции вообще могло не быть.
В середине XVI в. Большая Грановитая палата чаще служила местом не аудиенций, а торжественных обедов с участием иностранных дипломатов; постоянно устраивать в ней посольские приемы начали только с XVII в., хотя это бывало и при Годунове, и при Федоре Ивановиче, а в редчайших случаях — и раньше. Грозный обычно принимал послов или в «Столовой избе брусяной», или в «Середней подписной» палате, она же — «Золотая» (своды ее были покрыты росписью по золотому фону). В последней, как правило, проходили аудиенции в третьей четверти XVI в., а в «Столовой избе» — при Иване III, Ва
МЕСТО ДЕЙСТВИЯ. СТАТИСТЫ
155
силии III и Иване Грозном в начальную пору его правления.
Возраставшая пышность посольских приемов требовала соответствующих декораций; «брусяные» палаты уже нс отвечали ни новому положению государства, ни значению и престижу верховной власти. Вместе с тем до начала XVII в. место аудиенции внутри Кремлевского дворца не зависело, по-видимому, ни от ранга дипломата, ни от характера отношений с приславшим его монархом. Из текста «посольских книг» невозможно попять, почему в одном случае из трех парадных палат выбиралась одна, а в другом — другая. Вероятно, это были соображения самого обыденного свойства, которые тем труднее реконструировать, чем они обыденнее — ремонт сеней или самой палаты, возобновление настенной живописи после пожара, неисправность печей или дымохода, сильный ветер в окна и т. п. В системе придворного этикета, регулировавшего посольские аудиенции, любая из трех этих палат могла заменить другую, но их внутреннее пространство подобной рокировке не поддавалось.
В каждой из них имелось тронное возвышение, на котором располагался престол («царское место»). В «Столовой избе» трон стоял с восточной стороны палаты, ближе к почетному «красному» углу. В отчете литовского посольства 1556 г. отмечается, что царь сидел «недалеко от кута (угла. — Л. Ю.) в избе, по левой стороне входячи до избы»4. В идеале «красный» угол — не обязательно правый от дверей, а тот, что обращен к восходу солнца, как церковный алтарь. В Золотой и Грановитой палатах тронное возвышение также находилось в обращенной к юго-востоку угловой части, между двумя окнами. Прибывая на аудиенцию и направляясь к ступеням трона, посол шел на восток, навстречу мистическому свету, излучаемому
АУДИЕНЦИЯ И ОБЕД
156
государем. В такие моменты пул ь посла становился аналогичен пути паломника.
В Магнавре, аудиенц-зале византийских императоров, трон размещался аналогичным образом — ближе к углу, и сходное положение великокняжеского престола могло быть подсказано Ивану III греческими сановниками из окружения Софьи Палеолог. Эту же норму унаследовали от Палеологов и турецкие султаны, после падения Константинополя усвоившие многие элементы византийского придворного этикета. Как пишет русский посол Г. Нащокин (1592 г.), султан на аудиенции сидел «в угле, к дверем стороною»5. В то же время королевский престол в краковском и виленском замках находился у степы посередине палаты, как, впрочем, и «царское место» Ивана Грозного в Александровой слободе, если судить по гравюрам из книги Я. Ульфсльдта (1578 г.).
В «Столовой избе» над престолом царя висела икона Богоматери, а на противоположной стене — Николая Угодника. Последний был особо чтим на Руси, некоторые иностранцы считали даже, что у русских два бога — Иисус Христос и Святой Николай (не случайно в 1597 г. А. Доп привез в подарок Федору Ивановичу мощи именно Николая Мирликийского). В Золотой палате справа от тронного места на стене был изображен Саваоф с державой, слева — царевич Иоасаф, беседующий с пустынником Варлаамом. Эти два изображения представляли собой аллегорию двух сторон царского «чина» — устроительной власти и человеколюбивой мудрости.
Торжественные аудиенции проходили обычно в первой половине дня, искусственное освещение не требовалось; даже в пасмурную погоду шесть окоп Золотой палаты пропускали достаточно света. Никакой мебели в приемных покоях не было, лишь изразцовая печь, обне
МЕСТО ДЕЙСТВИЯ. СТАТИСТЫ
157
сенная серебряной решеткой, и лавки, крытые суконными, а позднее бархатными или камчатными «полавошни-ками». На подоконниках лежали расшитые «окошечни-ки». Стены были голые, потом их стали понизу обивать сукном красного цвета. Тронное возвышение покрывал восточной работы ковер или парча, спускавшиеся по ступеням до самого пола. Иногда пол тоже застилали коврами, но чаще (до 20-х гг. XVII в.) их заменяла единственная ковровая дорожка в центре залы. При первых Романовых появились матерчатые обои, а на лестницах и в переходах перед приемной палатой — ширмы.
Лавки тянулись вдоль боковых степ, по правую и левую руку от царя, а также вдоль стены напротив трона. Па них, согласно местническим нормам, строго «по местам» рассаживались бояре, думные дворяне, окольничие и дьяки. Наиболее знатные лица сидели «в правой лавке», она же — «болшая». Лавка у противоположной от царя степы («околничее место») считалась наименее почетной, и сажали там не только окольничих и дьяков. Здесь одной лавки на всех обычно не хватало, и параллельно ей ставились еще одна или две-три скамьи. Этикетное пространство могло существовать как таковое благодаря неравнозначности и неравноценности отдельных его частейG.
Часто на аудиенциях присутствовали татарские «царевичи», воплощая собой могущество государя, имевшего при своем дворе особ царской крови. Со второй половины XVI в. эти отпрыски ханских родов регулярно появлялись на приемах мусульманских посольств, а также тех европейских миссий, чье значение было особенно велико. В 1586 г., когда шла речь об избрании Федора Ивановича на польский престол, на приеме посольства М. Гарабурды, которое вело переговоры по этому вопросу, присутствовали сразу три царевича-чингизида — крымский (один из
АУДИЕНЦИЯ И ОБЕД
158
ханских родственников, нашедший приют в Москве), касимовский и сибирский. Сидели они не рядом, а соответственно своему статусу: крымский царевич — «в болшей лавке», касимовский — «в другой лавке», т. е. слева от царя, сибирский — «в околничем месте». В середине XVII в. мусульманские «царевичи» на аудиенциях иногда стояли по обе стороны трона, поддерживая царя под локти и наглядно демонстрируя иностранным дипломатам зависимость своих родов и ханств от Москвы, но ранее это не было принято.
В 1590 г. на приеме персидского посольства расстояние между Федором Ивановичем и сидевшим справа от него крымским «царевичем» равнялось сажени — так определяет его посольская книга. Возможно, это расстояние (2,13м.) было величиной постоянной, и наиболее знатные особы располагались именно на таком удалении* от царя. Э. Дженкинсон, писавший, что князь Юрий Васильевич, брат Ивана Грозного, па аудиенции сидел в ярде от царя, указывает приблизительно ту же величину (1,80 м.).
Пышные одежды всех находившихся на приеме лиц выражали богатство и величие государя, имеющего таких слуг. В 1514 г. для встречи турецкого посла придворные получили распоряжение одеться так, чтобы «видети их было цвстно». На посольских аудиенциях при Василии III бояре бывали обычно в шубах «саженых», прочие — в «терликах саженых» (род долгополого кафтана), и лишь некоторые, чином поменее — в простых шубах и «кожусех». На протяжении XVI в. эти одежды, частично выдаваемые из казны, становились все более роскошными. При Иване Грозном исчезли из приемной палаты люди в «кожусех», наиболее употребительным стало «золотное» платье (расшитое золотом), постепенно вытеснившее шубы, даже пошитые из самых дорогих мехов. В случае офици-
МЕСТО ДЕЙСТВИЯ. СТАТИСТЫ
159
;ыыюго траура одежда была более скромной. После смерчи царевны Федосьи, единственной дочери Федора Ивановича, бояре в течение целого года являлись на посольские приемы в «смирном платье» — одежде багровых, вишневых, темно-зеленых и темпо-синих тонов, причем гладкой, без «саженья». В другое время преобладали издавна любимые на Руси красный, желтый и оранжевый цвета.
Очевидно, сведения о том, что часть этих парадных одежд выдается из казны, а также молчаливая величавость лиц, присутствовавших на приеме, в совокупности породили на Западе легенду, будто на аудиенциях перед иностранными дипломатами сидят вовсе не бояре, а люди простого звания, чуть ли не холопы. Шведский историк и географ Олаус Магнус, опираясь на сообщения бывавших при московском дворе соотечественников, в своей «Истории Северных народов» (1555 г.) писал о «советниках» Василия III: «Они избирали, как это делается и поныне, из народа значительное число похожих на вельмож мужей, убеленных сединами, с длинными красивыми бородами, достойного вида. Их одевали в пышные княжеские одежды и сажали в благородном собрании государственных мужей. Предполагалось, что послы при своем вступлении в зал будут совершенно ослеплены видом этих людей, которые молча и торжественно сидят в своих роскошных нарядах». Как полагал Магнус, это делалось для того, чтобы послы, «смущенные таким великолепием», были сговорчивее7.
Происхождение этой легенды психологически легко объяснимо. Сказочное богатство одежд присутствующих па аудиенции лиц и одновременно их полное молчание и почти полная неподвижность вступали в противоречие между собой, вызывая подозрение в том, что эти люди
АУДИЕНЦИЯ И ОБЕД
160
просто не способны ни говорить, ни двигаться так, как подобает знатным особам. «В удивительном молчании следят они за выражением лица и движениями головы князя», — отметил А. Поссевино. Бояре, сидевшие на лавках в приемной палате, манерой поведения показались ему «похожи на дьяконов, когда те помогают священникам в церковной службе» к.
Время от времени они вставали и снимали шапки «к царскому имяпи» (при произнесении титулов государя), но в целом до конца аудиенции на этой сцепе ничего не менялось. Новые статисты и декорации появлялись уже в следующих актах церемониального спектакля.
2. Знаки власти
На миниатюрах летописей трон («престол») Ивана Грозного, его отца и деда изображается обычно в виде сидения прямоугольной формы с гладкой поверхностью, без спинки и подлокотников, с основанием-коробом, откуда выступают расширенные книзу концы коротких ножек, и с подставкой для ног. На сидении справа часто лежит длинная подушка-валик, украшенная («саженая») драгоценными камнями, на которую царь опирается локтем. В миниатюрах «Жития Сергия Радонежского» (конец XVI в.) престол великих князей московских изображен с двумя опорами в виде лебедей, по это скорее художественная символика, нежели реальная деталь великокняжеского трона. Ни одно из подобных изображений пи в коей мере не напоминает очертания сохранившегося до наших дней «костяного стула» Ивана III — древнейшего тронного сидения русских государей. Согласно преданию, его
ЗНАКИ ВЛАСТИ
161
привезла в Москву Софья Палеолог. Это кресло западного типа с высокой полукруглой спинкой и прямыми подлокотниками, сплошь облицованное резными пластинами из слоновой кости. Шесть его ножек покоятся на небольших фигурках львов.
Известно, однако, что миниатюры летописей обладают высокой степенью исторической достоверности. Можно предположить, что у русских государей было несколько тронных сидений, при Иване Грозном — как минимум три: в «Столовой избе брусяной», в Золотой палате и в Александровой слободе. По устоявшейся традиции русские миниатюристы изображали не «костяной стул» Ивана III, а престол другого типа, похожий на уцелевший до нашего времени один из тронов Бориса Годунова. Его массивность, широкое сидение, позволяющее класть туда «саженые» подушки, отсутствие подлокотников и низкая, почти незаметная спинка — все это может быть соотнесено с рисунками летописей, в частности с миниатюрами знаменитого Лицевого свода. Хотя Пэдунов получил это «место» от персидского шаха Аббаса I только в 1604 г., не исключено, что подобные «престолы» восточной работы существовали в Кремлевском дворце задолго до него. Во всяком случае, у Грозного имелся какой-то трон, тоже привезенный ему из Персии при посредничестве армянских купцов.
Совсем ионному выглядело его «царское место» в Александровой слободе, если судить по гравюрам из книги Я. Ульфельдта: это сидение без подлокотников, помещенное в неглубокой полуовальной нише, под балдахином па двух колоннах. На одной из гравюр верхняя часть балдахина имеет треугольную форму, повторяющую навер-шье портала при входе в приемную палату, на другой — виньеточную.
АУДИЕНЦИЯ И ОБЕД
162
Некоторое сходство с этим «местом» Грозного имел трон Лжедмитрия I. Г Паерле описывает его как высокое кресло из чистого серебра с позолотой, под балдахином. Вокруг него лежали четыре серебряных льва, как вокруг престола царя Соломона, а по обеим сторонам располагались два грифона: один — с державой, другой — с мечом. Автор т. н. «Дневника Марины Мнишек» (написан кем-то из ее свиты) утверждал, что этот трон имеет три локтя в высоту (около 120 см.), что балдахин над ним венчает «орел великой цены», но серебряных львов он насчитал не четыре, а всего два, оба «величиной с волка». В их лапах находились светильники с изображением грифонов, а сами львы служили основанием для колонн, поддерживающих балдахин («купол»). Сверху колонны были украшены кистями из жемчуга и драгоценных камней, между ними сиял топаз размером больше грецкого ореха9.
Этот трон пропал в годы Смуты — возможно, был вывезен в Польшу. Едва ли его целиком изготовили специально для Лжедмитрия I, но весьма вероятно, что при нем всю конструкцию дополнили отдельными элементами в новом вкусе. Сам ее стиль перекликается с общей атмосферой московского двора при первом самозванце.
Позднейшие, сохранившиеся или известные по изображениям тронные сидения русских государей свидетельствуют о том, что восточная их разновидность была окончательно вытеснена западной — все они ближе к трону Лжедмитрия I, чем к какому бы то ни было иному. Соломоновы львы тоже остались стражами престола; в Коломенском дворце они были оклеены овчиной, заменявшей им гриву, и умели издавать рычание с помощью вмонтированного в них особого устройства, как рыкающие механические львы в Магнавре перед троном византийских императоров.
ЗНАКИ ВЛАСТИ
163
Тронное возвышение, приподнятое над полом па одну или несколько ступеней (максимум — четыре), называлось «маистатом». Отвлеченное понятие «величества», в непонимании которого Баторий упрекнул Грозного, было материализовано в конкретной детали интерьера приемной палаты. Именно поэтому царь так оскорбился, когда русские послы в Вильно были призваны не к лицу короля, а к королевскому «маистату», т. е. к подножию трона. Одно то, что приглашение на аудиенцию последовало в такой формулировке, ставило их в положение представителей вассального владыки. «Ино то кабы некоторые незнаемые сироты, а не послы», — с возмущением писал Грозный, обвиняя Батория в том, что он приравнял русских послов к «даныцикам». В то же время Юхан III, нс считавшийся «братом» царя, должен был присылать своих представителей не к нему самому, а, как говорил Грозный, к «нашей степени царского величества порогу»10. Эта формулировка потому и была оскорбительной, что искл ючала личный контакт двух монархов, осуществляемый посредством послов.
Уже при Василии III па ступенях «маистата» или на полу возле тропного возвышения стояли рынды — отроки или молодые люди из знатных фамилий в белых (во время официального траура —в «вишневых») кафтанах и такого же цвета сапогах, со скрещенными золотыми цепями на груди («чепи», «ланцухи»). Это были западные пажи и восточные телохранители в одном лице. В руках они держали позолоченные топорики-чеканы па длинных обушках, положив их па правое плечо лезвием вперед и немного вверх. Д. Боус нашел, что по форме они «схожи с ирландскими топорами».
Рынды не только присутствовали на дворцовых церемониях, но в качестве почетной охраны русских госуда-
АУДИЕНЦИЯ И ОБЕД
164
рей сопровождали их при выходе в город и во время военных походов. В последнем случае при Иване Грозном и его старшем сыне состояло по четверо рынд у каждого, не считая сменных помощников («поддатних»). Старший рында носил «болший саадак» (лук), второй по значению — «другой саадак», третий — копье, четвертый — рогатину (широкое копье). Набор, видимо, в основном был заимствован у золотоордынских ханов, поскольку оба лука занимали в нем первые по старшинству места, русская рогатина — последнее, а ни меч, ни сабля не входили в него вообще. При Борисе Годунове число военных рынд возросло до шестерых: к прежним прибавились еще один с луком и один — с сулицей (короткое метательное копье). Позже появился седьмой рында с «самопалом». У Царевича их так и осталось четверо1 ’.
Расположение рынд на посольских приемах — справа или слева от трона, ближе или дальше в каждой паре — определялось степенью их родовитости и местническими нормами. Обычно рынд бывало четверо, а на аудиенциях менее торжественных—двое: справа и слева от царя. Лишь Лжедмитрий I, постоянно пытавшийся через чисто внеш нюю атрибутику утвердить собственную легитимность, к четырем рындам с традиционными чеканами добавил пятого — с обнаженным мечом12. Это странное для московского двора нововведение было, вероятно, продуктом его собственного творчества. Оно не привилось, и после гибели Лжедмитрия I обнаженный меч, никогда не входивший в число атрибутов власти русских государей, навсегда исчез из тронного зала. Зато при Михаиле Федоровиче число рынд на посольских аудиенциях увеличилось до шести, правда, на приемах не всех послов, а лишь представителей Священной Римской империи, Речи Посполитой и Англии, да и то имеющих выс-
ЗНАКИ ВЛАСТИ
165
in ий ранг. Для посланников этих трех монархов, как и для послов остальных государств, рынд по-прежнему было четверо.
На дипломатических аудиенциях в Западной Европе присутствие вооруженной охраны при монархе не практиковалось. Для объяснения этого обычая бояре в беседе ( Л. Поссевино ссылались на пример «Мануйло, царя греческого», за которым стража якобы следовала даже в церковь. Пример не случаен — Мапуил Палеолог был дедом Софьи Палеолог, жены Ивана III, и, соответственно, прапрадедом Ивана Грозного, по праву перенявшего у него это обыкновение. «Из давних лет во всех государствах ведет-ца, — утверждали бояре, — оружпики около государей стоят, то государей чип да и гроза»13. Возможно, у византийских императоров эту практику заимствовали и турецкие султаны. В статейном списке И. П. Новосильцева (1570 г.) говорится, что Селим II, принимая иностранных послов, «сидит на своем царьском месте, а подле пего стоят с саадаком, да з саблью, да з будями» (кинжалами)1 ’. Впрочем, самого Новосильцева султан принял без «оружников», чем, как заявили чурки, царя «почтил», а «себя нс взвысил».
Для русских государей рынды с топориками на ступенях тропного возвышения тоже были не телохранителями, но «чином и грозой», знаком сана, символом правосудно карающей власти, как ликторы при римских консулах. Поэтому на приемах крымских и ногайских послов они нс присутствовали (во всяком случае, посольские книги о них не упоминают). Демонстрация этих идей не имела здесь того значения, какое придавалось ей в отношениях со всем остальным миром.
По наблюдению С. Герберштейна, «Божиим ключником и постельничим» называли бояре Василия III. «Тебе, моему государю, яко Богу и царю, рабское многое покло-
АУДИЕНЦИЯ И ОБЕД
166
нение до лица матери всех (до земли. — Л, Ю.)», — обращался к нему М. И. Алексеев, в 1514 г. отправленный посланником в Стамбул15. По наблюдению имперского дипломата Иоганна Пернштейна, в России «подданные смотрят на своего государя, как налицо, приближенное к Богу, и как на исполнителя Божественной воли», а Стефан Баторий упрекал Грозного в том, что бояре величают его «Богом»10. В это время древнерусский княжеский «стол» начинают именовать «престолом», как в церкви. Вероятно, подобные представления, характерные для восприятия власти византийских императоров, а не великих князей московских, появились на Руси вместе с греческими сановниками из окружения Софьи Палсолог (Алексеев — тоже грек по происхождению) и упрочились после венчания Ивана Грозного на царство.
Эти представления были порождены новым положением московского государя как единственного в мире абсолютно самостоятельного православного владыки. Для католических монархов они были невозможны в силу того, что земным наместником Бога признавался Папа Римский, но в Англии, где король — глава англиканской церкви, существовали аналогичные идеи. Елизавета I негласно трактовалась как сакральная правительница, чья природа восходит к различным ипостасям Божества. На портретах ее атрибутами были пеликан и феникс — классические аллегории Иисуса Христа, а сама она могла восседать на облаках, как Вседержитель, или излучать небесное сияние, как дева Мария. Не случайно и в Москве, и в Лондоне практически одновременно предпринимаются попытки рассматривать верховную власть как имперскую, имеющую своим основанием не людские установления, а высший императив. Однако различия социальной структуры общества и исторических судеб двух наций обусло-
ЗНАКИ ВЛАСТИ
167
вили различную судьбу этой идеологии на русской и английской почве.
При Грозном, правда, были и тенденции противоположного порядка, иностранцами не замечаемые. В середине XVI в. популярно было «Слово о Дариане-царе, како повелел ся звати Богом», тем нс менее уже при Василии III негласное обожествление русских государей становится фактом социальной психологии московского двора. Рынды возле трона — это еще и аллюзия на грозных архангелов, окружающих престол Всевышнего. Отсюда их белоснежные одежды, выпадающие из принятой на Руси цветовой гаммы.
Иногда на ступенях «маистата» стояли особо приближенные к государю лица. Борис Годунов у трона Федора Ивановича всегда занимал место «выше рынд», а посольские дьяки, ведавшие приемом данного посольства, размещались рядом с ними, по левую руку от царя. Прочие присутствовавшие на аудиенции лица находились на одной плоскости, в общем пространстве, организованном по принципу трех нисходящих степеней «чести» — справа, слева и напротив государя, но сам он возвышался над этой объединяющей их горизонталью. Все те, кто занимал места на промежуточном уровне, были всего лишь частью царского «чина», воплощением его мысли и воли.
Не меньшую роль, чем трон, тронное возвышение и рынды, играли другие знаки великокняжеской или царской власти, без которых также немыслима была никакая официальная церемония.
Самый ранний из них — пастырский посох-костыль с характерным Т-образным навершием. На миниатюрах летописей концы этого навершья, в отличие от архиерейских посохов, немного приподняты вверх и образуют подобие слабо изогнутого серпа. Сам посох представлял
АУДИЕНЦИЯ И ОБЕД
168
собой деревянную основу, на которую нанизывались резные коленца из моржовой или слоновой кости (первые княжеские посохи были, вероятно, просто деревянными). На русских архиерейских посохах иногда помещалась надпись, идущая вдоль древка сверху вниз: «Жезл правления, утверждения, наказания, казнения» ,7. Это же символизировал и посох в руке государя.
Посох из Оружейной палаты, по преданию принадлежавший Ивану III, был изготовлен новгородскими, по-видимому, мастерами из моржовых клыков, ценившихся весьма дорого (в 1476 г. Иван III получил в дар от новгородцев «рыбьи зубы», причем счет им тогда велся поштучно, а нс на нуды, как позднее). Посошные коленца украшены тонкой резьбой, изображающей зверей и птиц в растительном декоре, на рукояти вырезана человеческая голова — в знак державных прав властителя на землю (страну) со всеми ее обитателями18. Этот посох в нерас-члененном виде олицетворял собой все то, что позже было поделено между державой и скипетром. Он — ось мира, своего рода «мировое древо», проходящее сквозь руку государя и через него скрепляющее земное пространство с небесным.
Были великокняжеские посохи из «индейского» черного дерева, богато украшенные драгоценными камнями, но парадный посох Ивана Грозного считался изготовленным из рога мифического единорога («инрога»). Француз Жак Маржерет, служивший Борису Годунову, рассказывает, что видел в царской сокровищнице «два совершенно целых рога единорога и один посох, с которым ходят императоры (цари. — Л. /О.), сделанный из цельного рога единорога»19. По легенде, широко известной и на Руси, и в Византии, и в Западной Европе, его представляли в виде белого коня с длинным прямым рогом, вертикально рас-
ЗНАКИ ВЛАСТИ
169
тущим между ушей, со шкурой из меди, что позволяло ему без всякого для себя вреда прыгать в глубочайшие пропасти. «Инрог» — существо бесполое; по известиям древнерусских книжников, срок его жизни — 532 года. В конце этого срока он приходит к берегу моря, сбрасывает свой рог и умирает, а сброшенный рог превращается в гигантского червя, из которого затем, как бабочка из куколки, появляется новый зверь, во всем подобный прежнему20.
На самом деле Маржерет видел бивень кита-нарвала, в длину достигающий трех метров. Спирально закрученный, прямой, плавно сужающийся к концу, он удивительно похож на рог единорога, каким его изображали в средние века, и, возможно, послужил его прообразом. Сила и отвага, неуязвимость и способность к возрождению — все это сделало коня-«инрога» одной из любимых эмблем русской верховной власти. Одно время он даже соперничал с двуглавым орлом. Его изображение имеется на «костяном стуле» Ивана III, оно же помещено в центр большой государственной печати Ивана Грозного. О кубках и кувшинах, сделанных в виде единорога, упоминают и посольские книги, и западные дипломаты. Московские публицисты нс раз прибегали к сравнению царя с единорогом. Можно предположить, что обладание посохом из его рога, в котором скрыто начало нового бытия — аллегория жизни после смерти, было прерогативой русских государей. Тайну его происхождения они, скорее всего, не знали.
Посох пастыря — древнейшая регалия великих князей московских (как, впрочем, и королей Франции и Швеции). При Иване III, Василии III и вплоть до последних лет царствования Ивана Грозного посох постоянно присутствовал на посольских аудиенциях. Правда, со временем его значение изменилось: из основного атрибута го
АУДИЕНЦИЯ И ОБЕД
170
сударева «чина» он стал второстепенным, уступив первенство скипетру.
При венчании Ивана Грозного на царство в 1549 г. присутствовал только посох, а в 1553 г. англичане Р. Чен-слер и К. Адамс уже видели царя со скипетром («жезлом из золота и хрусталя») в правой руке. Через восемь лет Э. Дженкинсон тоже заметил только скипетр, но не державу. В 1575 г. Д. фон Бухау объяснили в Москве, что посох, который раньше царь использовал вместо скипетра, теперь на приеме послов держит царевич21.0 преемственности скипетра по отношению к посоху говорит и тот факт, что изначально они изготовлялись из одного освященного традицией материала. Д. Горсей сообщает, что у Грозного был жезл из кости единорога, украшенный «великолепными алмазами, сапфирами, рубинами, изумрудами»; царь приобрел его у купцов из Аугсбурга. Речь здесь идет именно о скипетре, а не о посохе, поскольку в длину он имел всего три фута22. Мартин Стадницкий, дворянин из свиты Юрия Мнишека, упоминает рога единорогов среди трофеев, которые во время Смуты достались захватившим царскую сокровищницу полякам. Вероятно, именно поэтому уже при Михаиле Федоровиче в Москве очень заинтересовались известием о том, что у голштинского герцога имеется половина такого рога, а у саксонского курфюрста — целый, и всячески стремились заполучить эти раритеты23.
Под западным влиянием новая регалия (скипетр) заменила старую, но вытеснила ее не сразу. Если даже наследника престола нс было на аудиенции, иностранные дипломаты по-прежнему могли видеть посох в тронной зале, хотя уже не в правой руке царя, отныне сжимавшей скипетр, а в каком-то футляре из золота. В 1579 г. на приеме польских послов «государь сидел в царьском платье,
ЗНАКИ ВЛАСТИ
171
а в руках у государя был скифетр, а с левую руку у государя стоял индрогов посох в златом месте»2 ‘. Здесь он занимает место отсутствующей державы, которую ставили слева от трона. Лишь после смерти Грозного старинный посох-костыль окончательно исчезает с посольских аудиенций и переходит в царскую сокровищницу. Там его и видел Мар-жерет.
Увенчанная крестом держава вошла в число царских регалий не одновременно со скипетром, а значительно позже. Впервые в 1578 г. ее видел Я. Ульфельдт, и то на приеме не в Кремле, а в Александровой слободе. Вероятно, она появилась вскоре после того, как на стене Золотой палаты был изображен Саваоф с державой в левой руке, но обязательной принадлежностью царского «чина» сталауже при Федоре Ивановиче. В XVI в. само слово «держава» не употреблялось, посольские книги упоминают «царского чину яблоко золотое». Скипетр в течение всей аудиенции находился у государя в правой руке, но долго удерживать на левой ладони тяжелое «яблоко» было трудно (держава XVII в. из Оружейной палаты весит свыше трех килограммов). Вначале слева от трона ставили драгоценный ларец па высокой подставке, куда царь клал державу вскоре после начала аудиенции, позднее появилась особая пирамида со срезанным верхом («стоянец»). 11а посольских приемах при Федоре Ивановиче его всемогущий шурин, стоявший у престола «выше рынд», иногда собственноручно держал царское «золотое яблоко»25. Другие «ближние» люди при других государях подобной чести никогда не удостаивались.
Скипетр символизировал власть, держава — «землю». Может быть, поэтому Борис Годунов как первый земский царь придавал ей особое значение. На приеме Т. Смита в 1604 г. англичане заметили, что всякий раз, как царю
АУДИЕНЦИЯ И ОБЕД
172 предстояло что-то сказать послам» он перед этим «слегка оборачивался» к венчавшему державу кресту и осенял себя крестным знамением26.
Как правило, государь находился па аудиенции в облачении желтого цвета (царевич — красного). В XVI в. царское платье имело две разновидности — «болшее» и «мецшее», при первых Романовых — «большого чипа» и «малого чина». Строго функциональное их разграничение происходит в XVII в.» хотя уже Иван Грозный изредка в «мен-шем» платье принимал дипломатов низшего ранга. Из-за золотого шитья и драгоценных камней парадное царское платье было неимоверно тяжелым. Тяжесть его усугублялась висевшим на груди массивным золотым крестом, нагрудными цепями, также золотыми, и массивными перстнями едва ли не на всех пальцах. Д. Горсей утверждал, что наряд, в котором Федор Иванович в 1584 г. венчался на царство, весил 200 фунтов, и край одежды несли за ним шестеро бояр27. И. Кобепцель и А. Поссевино писали свои сочинения независимо друг от друга, однако им обоим костюм Ивана Грозного напомнил облачение Папы Римского28. По одному этому можно судить о психологическом эффекте, который производило на иностранцев «болшее» царское платье.
Слабый здоровьем Федор Иванович и Борис Годунов в последние годы жизни с трудом выдерживали его вес; послов порой прямо просили говорить свои речи как можно короче и не затягивать аудиенцию, потому что государю трудно долго находиться в своем одеянии. Ганзейские послы, посетившие Москву в 1603 г., полагали даже, будто у русских государей длительные аудиенции вообще не допускаются.
Василий III в придворном быту вел себя свободнее и естественнее, чем его преемники. Рамки церемониала
ЗНАКИ ВЛАСТИ
173
вообще, в том числе дипломатического, еще не были столь жесткими, и на приеме имперских послов в 1517 г. великий князь сидел на троне с непокрытой головой. Позднее это стало невозможно; государь не мог публично появиться без своей «царской шапки», служившей неотъемлемым знаком его сана. Иногда, как свидетельствуют иностранцы, рядом с ним находились еще какие-то «короны» или «диадемы»29. Очевидно, речь идет о Казанской и Астраханской шапках, вошедших в число царских регалий с конца 50-х гг. XVI в. Позже к ним добавилась четвертая — Сибирская30. Если шапка Мономаха, каково бы ни было се реальное происхождение, символизировала происхождение династии от великих князей киевских, то эти два венца — менее значимое и менее афишируемое на Западе право русских государей на политическое наследие Золотой Орды, подтвержденное присоединением Волжских ханств. Когда из второстепенных венцов на аудиенции находился только один, это могло истолковываться и по-другому. В 1630 г. голландским послам сказали, что «корона», стоявшая на пирамидальной подставке слева от тропа, символизирует отсутствующего па приеме царевича31.
Одежда царя поддерживала его «чин», но для Грозного с его пристрастием к театрализации государственного быта она же превращалась и в «грозу». На приеме литовского посланника Ю. Быковского в 1567 г. царь восседал на престоле в доспехах («в воинской приправе»); в таком же наряде были царевич Иван Иванович и бояре. В это время опасно обострились отношения с Речью Посполитой, Сигизмунд II Август требовал возвращения Полоцка, и «воинская приправа» царя наглядно показывала его готовность к войне. «И ты, Юрьи, тому не диви, — заявил он Быковскому, имея в виду свой необычный наряд. — Пришол еси к нам от брата пятого, от Жигимонта Авгус
АУДИЕНЦИЯ II ОБЕД
174
та короля, со стрелами, и мы потому так и сидим»32. Никаких «стрел» королевский посланник не привез. Это образное выражение — в монголо-тюркской дипломатии присылка стрел издавна означала объявление войны, разрыв отношений («розмет»). Однако военные действия так и не начались, и, последний раз принимая Быковского перед отъездом, Грозный был уже без доспехов, как и царевич и бояре. При этом десять стольников и дворян «стояли при государе у государева места в служебном полном наряде, в зерцалех и юмшапсх» (панцирях и кольчугах), знаменуя собой не «чин и грозу» государя, как рынды, а только «грозу».
При Иване III имперские послы привозили подарки великой княгине и наносили ей отдельные визиты, хотя лишь по указанию самого государя. Софья Палеолог была племянницей последнего византийского императора; после ее смерти ни одна из великих княгинь и цариц никогда не давала аудиенций иностранным дипломатам. Не бывало их и у наследника престола, что практиковалось на Западе — например, в Священной Римской империи. Зато Иван Грозный (у Василия III не было взрослых детей) на посольских приемах нередко сажал рядом с собой старшего сына, царевича Ивана Ивановича.
Впервые он был представлен литовскому посольству Ю. Ходкевича в 1566 г. Послы целовали наследнику руку, окольничий «являл» их ему так же, как самому царю, называя «государем царевичем». Наследнику престола было тогда 13 лет, однако еще пятью годами раньше царь на время своей поездки в Троице-Сергиев монастырь распорядился «царевичу Ивану на Москве быти в свое место». То же повторилось и в мае 1562 г., когда Грозный выезжал в Можайск. Царь, следовательно, стремился обеспечить за сыновьями династические права33. Нс совсем понятно,
ЗНАКИ ВЛАСТИ
175 почему в таком случае царевич не присутствовал на посольских аудиенциях раньше.
Сам Грозный еще мальчиком лично принимал иностранных дипломатов; у него давно была возможность официально предъявить наследника представителям соседних держав, однако он этого не сделал. По-видимому, царевич именно потому появился перед посольством Ходкевича, что оно было первой значительной миссией после введения опричнины, само существование которой всячески отрицалось. На возможные вопросы послов приставы должны были отвечать, что царь «учинил особ-ный двор для своего государского прохладу». Тем не менее нельзя было скрыть от иностранцев беспрецедентную по размаху государственную реформу. В этой ситуации разделение страны на опричнину и земщину могло быть подано как факт совместного правления царя и «государя царевича» — на манер принятого в Речи Посполитой, где сын Сигизмунда I, будущий король Сигизмунд II Август, еще при жизни отца считался великим князем литовским.
При Борисе Годунове царевич Федор регулярно присутствовал на всех посольских аудиенциях, а порой даже замещал отца. Это было связано не только с болезнью Бориса, но и с его страстным желанием обеспечить сыну право престолонаследия. При нем царевич вместо посоха, окончательно утратившего свои позиции, держал в руках позолоченный чекан на длинной рукояти, сходный с чеканами государевых рынд. Место царевича и при Грозном, и при Годунове всегда было слева от царя, поскольку правая позиция в паре считалась более почетной.
Иван III принимал послов, сидя рядом со всеми своими сыновьями и даже внуками, но при Иване Грозном возле царя мог находиться исключительно старший сын.
АУДИЕНЦИЯ И ОБЕД
176
За сто лет верховная власть успела обособиться даже от ближайшего родственного окружения. Только наследник, символизируя будущность династии, поддерживал «*1ин» государя, поэтому царевич Федор Иванович начал появляться на посольских приемах уже после смерти своего старшего брата.
Никто, кроме наследника, не мог па аудиенции сидеть непосредственно обок с царем, на одном с ним уровне. Исключений из этого правила немного. Изредка, принимая литовских дипломатов низшего ранга, Грозный сажал рядом с собой Симеона Бекбулатовича — касимовского хана-чингизида Саин-Булата, которому дал титул «великого князя всея Руси» и сделал номинальным правителем земщины51. В 1589 г. Федор Иванович пригласил воссесть возле себя константинопольского патриарха Иеремию55. Еще позднее, при Михаиле Федоровиче, на особом престоле рядом с царем сидел его отец, патриарх Филарет.
3» В тронной зале. Прием
Собственно церемониал занимает место между этикетом и ритуалом, сходными внешне, но различными по своим задачам. Этикет компенсирует несопоставимость разных по происхождению и по статусу персон и создает саму возможность общения между ними; ритуал призван поддерживать устойчивость миропорядка, воспроизводя его несущие основы через регулярно повторяющиеся действия. Этикетная сторона церемониала аудиенции более очевидна, чем ритуальная. Между тем, с ри гуалом его сближают три особенности. Во-первых, все участвующие в нем лица представляют собой воплощения тех или иных сущностей, чье по-
В ТРОННОЙ ЗАЛЕ. ПРИЕМ
177
ложение в мире и относительно друг друга всякий раз утверждается заново. Во-вторых, приемный церемониал состоит из точно установленных действий, совершаемых в установленной последовательности и в определенном месте (дворец монарха), за пределами которого они не могут выполнить свою функцию. В-третьих, нарушение этих правил чревато дисбалансом в том большом мире, откуда все участники церемонии явились в малый мир тронной залы. На каждом из них лежит огромная отвественность, поэтому соблюдение правил — их общий долг.
«Видеть очи государевы» — значит быть на аудиенции. Это всего лишь термин, стереотипная формула, но, как заметил В. О. Ключевский, «история политических терминов есть история если нс политических форм, то политических представлений»36.
Сравнение государя с оком мира — общее место древнерусской публицистики. В «Слове похвалном великому князю Василию» (начало XVI в.) читаем: «Око в телеси въдрузися, сице и царь в мир устройся»37. Это очевидная аллюзия на Евангелие от Луки: «Светильник тела есть око, и так, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло» (Лука, 11,34). Первая часть этого изречения была на Руси настолько популярна, что вошла в рукописный сборник пословиц XVII в. В грамоте, от лица Ивана Грозного направленной польскому королю в 1560 г. (написана дьяком И. М. Висковатым), содержится следующее рассуждение: «Всем государем годится истинно говорити, а не ложно, светилник бо телу есть око; аще око темно бывает, все тело всуе шествует и в стремнинах разбивается и погибает»38. Иными словами, если монарх не знает действительного положения вещей («окотемно»), это может привести к непоправимым последствиям для всего государства («тела»), ибо государь — око своей державы.
АУДИЕНЦИЯ И ОБЕД
178
Есть небо, а есть, как писал Иосиф Волоцкий, «небес небеси» — средоточие божественной сущности в физическом пространстве. Пользуясь этой аналогией, можно сказать, что послы представали не просто перед царем, но именно перед его очами — «оком ока» всего государства.
Аудиенция — кульминационный момент их пребывания в России. «Тот, кто видел государевы очи, не может быть печален в такой день», — говорили приставы имперским дипломатам39. В приемной церемонии участвовал сам государь, а не только его фактотумы. Уже в силу одного этого она подчинялась строжайшим правилам, каждое из которых несло на себе гораздо большую идейную нагрузку, чем остальные нормы посольского обычая. Все атрибуты, позы, положения, движения и слова участников церемонии были жестко регламентированы, но их символика уже не всегда поддается адекватному истолкованию. Впрочем, даже современники едва ли в состоянии были понять и объяснить все ее элементы. Смысл того, что живет лишь в устной традиции, часто умирает раньше, чем она сама.
Дипломаты всех рангов должны были являться на аудиенцию без оружия. Правда, не совсем понятно, в какой именно момент расставались они со своими саблями и шпагами: не то оставляли их на подворье и ехали по улицам уже безоружными, не то снимали в самом Кремле — там, где сходили с коней, и отдавали приставам, а потом в тех же местах получали обратно. В приемной палате исключался не только сам клинок, по и перевязь с ножнами («корд»). Западноевропейские дипломаты в своих отчетах и записках избегали сообщать об этом позорном, по их понятиям, факте. Посольские книги тоже молчат. Требование быть на аудиенции без оружия было настолько ультимативным, что не подлежало ни обсуждению, ни даже письменной фиксации. О том, что Д. Боус в 1583 г.
В ТРОННОЙ ЗАЛЕ. ПРИЕМ
179 восстал против этого правила, и шпагу у него пришлось отбирать силой, известно из письма Елизаветы I к Федору Ивановичу. В нем, вступаясь за своего представителя и оправдывая его поведение нормами западного придворного этикета, королева писала, что Боус как человек «рыцарского стану» к иным монархам всегда «хаживал» со шпагой. Бояре ответили коротко: «В обычае держит и ведетца на Руси, что никоторому послу вооружеппу или в кордах не быти перед государем»10.
Лишение послов оружия было принято и в Византии, и па мусульманском Востоке. Венецианец И. Барбаро писал (конец XV в.), что при следовании па прием к ногайскому хану оружие следовало оставлять на расстоянии брошенного копья от входа в шатер11. В Москве это обыкновение, унаследованное, вероятно, из ордынской дипломатической практики, вызывалось отнюдь не соображениями безопасности. Сабля не была обязательной принадлежностью парадного костюма русского придворного, как в Польше или как па Западе — шпага. Бояре и думные люди являлись во дворец безоружными, вооруженный посол в тронной зале выглядел бы вызывающе. Единственное оружие, которое в ней допускалось — это позолоченные чеканы царских рынд. Им ни в коем случае не должна была противостоять посольская шпага.
Зато, хотя и не в полном объеме, соблюдалась другая общепринятая в Европе протокольная норма — представители коронованных особ прибывали на аудиенцию в шляпах. Во второй половине XVII в. в Москве стали требовать, чтобы они являлись перед государем с непокрытой головой (в итоге были заключены взаимные договоренности об этом с Польшей и Швецией), по раньше их право представляться в шляпах не подвергалось сомнению. Во время предварительных бесед, проводимых при-
АУДИЕНЦИЯ И ОБЕД
180 ставами и посвященных правилам поведения во дворце, разногласия возникали из-за того, в какие именно моменты аудиенции нужно будет обнажить головы. Послы старались свести такие ситуации к минимуму, приставы — довести до максимума. Последнее слово, как всегда, оставалось за хозяевами.
Так или иначе, к дверям приемной палаты послы подходили в шляпах или шапках. В сенях у входа их встречал думный окольничий (в XVII в. — дьяк). Он должен был с послами «видетись не встречею» (без принятых в таких случаях церемоний), иначе нарушалось соответствие между числом официальных встреч во дворце и значением посольства. Окольничий вводил прибывших в палату, где царь уже сидел на престоле, и громко объявлял, что послы (при этом назывались их имена, титулы и звания) государю «челом ударили». Послы кланялись, снимая шляпы, и тут же надевали их вновь. Глубина поклона, видимо, как-то регулировалась, но свидетельств об этом нет (в 1614 г. император Рудольф II остался весьма недоволен тем, что царский посол И. Фомин в Вене «правил ему поклон средний», а не низкий). Коленопреклонения не требовали никогда и ни от кого. Глава многострадального шведского посольства П. Юстен писал, что когда он и его товарищи, в 1570 г. вызванные из 14-месячной муромской ссылки, простерлись ниц перед царским троном, Грозный велел им подняться, сказав, что, как христианский государь, он «не требует, чтобы перед ним лежали на полу»42. Полтора года назад, в Новгороде, опричники заставили их пасть перед царем на землю, однако в тронной зале он являлся уже в другой своей ипостаси, предполагающей иные формы отношений.
В то же время в Османской империи иностранные дипломаты должны были представляться султану на ко-
В ТРОННОЙ ЗАЛЕ. ПРИЕМ
181
ленях. Поначалу в Москве пытались бороться с этим правилом. Выезжавшим в Стамбул послам предписывалось «посолство правити стоя, на колени не садитися», однако вряд ли им удавалось добиться этого на практике в условиях жесточайшего церемониала османского двора. В своих отчетах ни один из них не сообщает о коленопреклонении, но, вероятно, не потому, что им удалось этого избежать, а чтобы не вызвать недовольство в Москве. Посольская документация старательно обходит молчанием эту оскорбительную для русских государей деталь. Впрочем, смириться с обязательностью посольского коленопреклонения в Москве было тем легче, что представители Речи Посполитой и даже Габсбургов на аудиенции у султана подчинялись тому же правилу.
Иван III на приеме имперского посла leopra фон Тур-на еще вставал и приспускался с тронного возвышения ему навстречу, но во второй половине XVII столетия государь оставался сидеть па троне в полной неподвижности. Правда, Иван Грозный мог встретить в центре палаты низложенного казанского хана Шах-Али («царя Шигалея»), а Борис Годунов — принца Голштинского, но это были не дипломаты, а царственные особы. Им полагались иные формы «чести», как и приезжавшим из Османской империи высшим иерархам православной церкви. Федор Иванович встретил константинопольского патриарха даже не посреди палаты, а в дверях.
После представления послов государь должен был лично спросить их о том, «здорово ли доехали». При этом он не двигался с места, не снимал шапки и даже не притрагивался к ней, поскольку в данном случае «честь» оказывалась лишь самим послам, а не их повелителю. Каковы бы пи были реальные обстоятельства путешествия, они должны были отвечать утвердительно, принося за это «бла-
АУДИЕНЦИЯ И ОБЕД
182
годарение Богу и великому государю царю и великому князю».
Неизменно утвердительными бывали ответы и на его следующий вопрос — о здоровье приславшего посольство монарха. Этот вопрос был принят еще в междукняжеских связях домонгольского периода, когда все удельные князья состояли между собой в той или иной степени родства. Рожденный в лоне внутрисемейной дипломатии, где все чувства выражались откровеннее, чем при межгосударственных контактах, он перешел в этикет московского двора, но на первых порах сохранил печать своего происхождения — спрашивали только о здоровье того монарха, с кем находились «в дружбе и в любви». В 1526 г., на совместных приемах польско-литовских, имперских и папских дипломатов, Василий III спрашивал о здоровье императора и Папы, по не справлялся о здоровье польского короля, пока с ним не было заключено перемирие.
Позднее этот вопрос задавался вне зависимости от состояния двусторонних отношений. Церемониал ужесточился, микромир посольской аудиенции начал существовать по своим законам, уже не столь прямо соотносимым с политической реальностью. В 1608 г., после того, как польские послы Н. Олесницкий и А. Гонсевский два года провели в Москве фактически под арестом, не поддерживая контактов со своим правительством (посольство прибыло к Лжедмитрию I и было задержано, когда его свергли), Василий Шуйский на аудиенции тем не менее осведомился о здоровье Сигизмунда III. Поляков охраняли чрезвычайно строго, никакие известия с родины до них не доходили. Знать, здоров ли король, они не могли и возмутились, что их об этом спрашивают. В ответ им объяснили, что таков обычай. В системе церемониала важно было задать вопрос и получить ответ. Его соответ-
В ТРОННОЙ ЗАЛЕ. ПРИЕМ
183
ствие действительному положению вещей не имело ни малейшего значения.
Очень важно было, в какой позе царь задаст этот вопрос, требующий произнесения вслух имени монарха («Брат наш, Жигимонт Август король, поздорову ль?»). «К королевским имянам» все присутствовавшие на приеме должны были встать и снять головные уборы. Бояре снимали свои высокие «горлатные» шапки из меха («колпаки»), оставаясь в тафьях. Остальные, в том числе послы, обнажали головы. Сам царь лишь слегка прикасался к венцу левой рукой, предварительно положив державу в ларец. В 1584 г. Л. Сапега попытался было протестовать, но ему объяснили, что государь при послах «шапки царские не сымаст»43.
Спрашивая о здоровье приславшего посольство монарха, государь вставал с трона только в том случае, если этот монарх считался его «братом». Дерптский архиепископ, прусский магистр, «иверский» царь, а при Грозном — короли Швеции и Дании, на такую «честь» рассчитывать не могли. В первые годы правления Стефана Батория, интересуясь его здоровьем, Грозный также не поднимался с места. Позже бояре от имени царя объясняли это тем, что «его (Батория. — Л. Ю.) достойности чести не ведали». Парадоксальное истолкование этого обычая предложил в 1606 г. Лжедмитрий I. О здоровье Сигизмунда III он спросил сидя, а когда послы тут же заявили протест, отвечал, что якобы по русскому «чину» при самом вопросе вставать не положено, а только при утвердительном ответе, и не для того, чтобы почтить короля, а «благодаря Бога за приятное известие»11
Это типично для Лжедмитрия I. Вынужденный лавировать между поляками, приведшими его на престол, и боярством, недовольным всевластием его покровителей,
АУДИЕНЦИЯ И ОБЕД
184
па официальных церемониях он всеми средствами, в том числе этикетными, стремился создать иллюзию своей независимости от Сигизмунда III, которого даже величал «полубратом», т. е. не вполне равным себе государем. Ни до, ни после него такой термин никогда не употреблялся.
Спросить о здоровье монарха, от которого прибыло посольство, царь мог не только стоя или сидя, но и «при-подывся вполу» (в половину роста) или «приподывся мало». Все это тщательно фиксировалось посольскими книгами. Каждая из четырех возможных поз выражала определенное отношение к значимости монарха, к его происхождению и проводимой им политике, но в любом случае царь задавал свой вопрос не через приближенных, а лично. Того же требовали и русские дипломаты за границей.
Никакого неофициального обмена любезностями церемониал аудиенции нс предусматривал. Лишь иногда послы поздравляли русских государей с праздниками. С. Герберштейн, прибывший во дворец 1 сентября 1517 г., поздравил Василия III с Новым годом, а в 1586 г., находясь на приеме у Федора Ивановича в один из дней Пасхальной недели, литовские послы, в числе прочего, пожелали царю: «И покори Господи все враги твои в подножье ног твоих!» Удивленные бояре попросили разъяснить это необычное пожелание. Послы ответили, что «у них так ведегца: нате дни великого праздника, Светлово Воскресенья, государю здоровают на государствах его подданные»15. Они, однако, вовсе не являлись подданными Федора Ивановича. Столь странная для иностранных дипломатов вообще, а для поляков и литовцев — в особенности, форма праздничного поздравления имела совершенно очевидный подтекст. В это время, после смерти Батория, Речь Посполитая переживала очередной период «беско-ролевья», и влиятельная партия православных магнатов
В ТРОННОЙ ЗАЛЕ. ПРИЕМ
185
Великого княжества Литовского, стремившихся расторгнуть Люблинскую унию, выдвинула Федора Ивановича кандидатом на виленский престол. Пасхальное приветствие послов выражало их согласие с этой кандидатурой: предвосхищая будущее, они в символической форме объявили себя его подданными. Именно таков был скрытый смысл их слов.
После вопроса о здоровье послам предлагалось «явить» свои подарки, а затем поцеловать руку государя — по всей видимости, левую. Этот акт был суррогатом возможного лишь между равными (или на Пасху, когда перед радостью Воскресения Христова все равны) поцелуя в щеку. Славянский корень селъ восходит к индоевропейскому *koil- с которым связаны обозначения здоровья и святости; изначальный смысл поцелуя состоял в пожелании быть целым, цельным, здоровым4'’. Если устами прикасались к руке священника или к священным предметам, тем самым не только выражали почтение, но и причащались их благодати. В целовании царской руки доминировало последнее значение, поэтому оно считалось большой «честью» для послов, особенно для православных.
Подходя к трону, они снимали шляпы или шапки, ибо в данный момент представляли только самих себя, а не своего государя. Брать царя за руку нс следовало. Во второй половине XVII в. ее поддерживали на весу ближние бояре, что для Европы того времени выглядело уже архаично. При всем обаянии личности самого Алексея Михайловича этикет московского двора, усложняясь, дошел при нем до того опасного предела, когда церемониальные метафоры величия верховной власти становились равнозначны демонстрации ее бессилия. За этой чертой абсолютное могущество государя, окончательно выводившее его из мира смертных, своим логическим следствием име-
АУДИЕНЦИЯ И ОБЕД
186
ло абсолютную бездеятельность. Предшественники Алексея Михайловича, подавая послам руку для поцелуя, обходились без помощников.
Целование руки от общей политической ситуации зависело слабо. Причины, по которым царь «не звал к руце» иностранных дипломатов, были иного рода: одного посчитали не посланником, а гонцом, поскольку с ним была прислана «грамота затворчата»; про другого решили, что он «паробок молодой»; третий «приехал на двор невежливо»; четвертый не привез собственных подарков и т. д. В 1582 г., после бурного и крайне резкого диспута о вере между Иваном Грозным и А. Поссевипо, в ходе которого царь в бешенстве назвал Папу Римского «волком», папский легат также не был допущен к его руке, хотя до того бывал «зван к руце» неоднократно. Иногда целование государевой руки отменялось по причинам санитарно-гигиенического свойства — если становилось известно об эпидемиях чумы или оспы в тех землях, откуда прибыли послы, или через которые они проезжали («сказывали, в Вильне поветрие»).
Изредка бывало, что вопрос о том, звать послов к руке или нет, становился разменной картой в политической игре. Это происходило в том случае, если в Москве были недовольны их нежеланием идти на уступки. Послы вели себя в соответствии с указаниями своего правительства, но для того, чтобы придать конфликту частный характер, ответственность за неуспех переговоров намеренно возлагали на них самих. Так случилось в 1553 г., когда литовские дипломаты в Москве отказались признать царский титул Ивана Грозного. Не желая портить отношения с Сигизмундом II Августом, который, разумеется, сам же не дал послам таких полномочий, Грозный обвинил королевских представителей в том, что они по собственной воле
В ТРОННОЙ ЗАЛЕ. ПРИЕМ
187
не желают именовать его «царем». Поэтому, вставая «про-тиву королева имяни», т. е. оказывая королю обычную «честь», он в то же время не позвал послов к руке. Это был тонкий дипломатический ход. Сигизмунд II Август получил шанс принять предложенную ему версию и без урона для своего достоинства изменить позицию по вопросу о царском титуле, сведя конфликт к посольскому «самовольству». «Ино нашим нефортунством так сталось, — жаловались послы боярам, — государь жалованья своего никоторого нам не учинил, нас обезчестил, к руце нас не позвал»17. Отсутствие приглашения к царской руке было «безчестьем» только для самих послов. Из-за таких инцидентов двусторонние отношения ничуть не страдали и даже переговоры не прекращались.
Западноевропейские дипломаты, исключая литовских, толковали целование царской руки нс как оказываемую им «честь», а исключительно как знак почтения. Шведская делегация, прибывшая в Москву после заключения Столбовского мира в 1617 г., в полном составе отказалась целовать руку Михаила Федоровича, обидевшись на бояр, которые «повсюду и всегда... искали случая показать свое превосходство над послами и ущемить их права». Поэтому шведы по очереди подходили к трону, склонялись над царской рукой, имитируя поцелуй, но не прикасались к ней губами1*. На аудиенции все сделали вид, будто ничего не произошло, зато после разразился скандал. Разбирательство продолжалось несколько дней. Для русских важно было физическое соприкосновение, а не его видимость. В то же время ватиканский церемониал целования туфли Папы Римского допускал внешнюю имитацию этого акта.
В 1593 г. Г. А. Нащокина для целования руки турецкому султану подвели к трону, «взяв под руки»19. На Востоке
АУДИЕНЦИЯ И ОБЕД
188
подводили послов к монарху — якобы насильно, против их воли и по воле султана или шаха. А. Олеарий наивно полагал, будто это делается из соображений безопасности, и по той же причине персидский шах позволяет целовать себе лишь колено, а не руку. Примечательно, что посольские книги, описывая высочайшие приемы в Стамбуле или Исфагане, обозначают их иначе, нежели аудиенции при европейских дворах: султан или шах велят посла «взять перед себя», «поставить перед собою». Восточным церемониалом подчеркивался момент принуждения, превращавший прибытие любой дипломатической миссии в акт изъявления покорности. В Москве это никогда не было принято, иностранные дипломаты к царскому престолу подходили сами.
Послы-мусульмане к целованию руки не допускались. Вместо этого царь возлагал им на голову ладонь. Г. Васильчиков в Персии (1589 г.), отказываясь целовать Аббасу I колено, требовал, чтобы тот почтил его так же, как Федор Иванович чтит персидских послов. Васильчиков объяснял персам, что в Москве давно нашли достойный способ отделить христиан от мусульман, не унижая последних. Он состоял в следующем: христианам царь подает руку для поцелуя, а «на бусурманских государей послов кладет руку»50. Возложение руки на голову исламским дипломатам — оригинальная норма русского этикета. На Западе она не употреблялась. Ее исток можно предположить в монголо-тюркских обычаях: рука на голове символизировала старшинство и покровительство. Это двухвариантное правило почти не знало исключений. Лишь турецкий посол Камал-бег в 1514 г. целовал руку Василию III. Отступление от нормы допустили, вероятно, потому, что это был принявший ислам грек, «некогда рекомый Фсо-дорит», как он сам сообщал о себе в письме к Юрию Тра-
В ТРОННОЙ ЗАЛЕ. ПРИЕМ
189
хапиоту, тоже греку, прибывшему на Русь в свите Софьи Палеолог51.
С мусульманами русские иногда «карашевались». Не совсем понятно реальное содержание этого термина. Исследователи толковали его по-разному: видеться, здороваться, приветствовать, возлагать руку на голову5-. М. Фасмер в своем словаре характеризует это слово как «темное». Можно предположить, что им обозначалась такая форма приветствия, когда двое при встрече обхватывают друг другу руки у плеч — род полуобъятья. Н. Вар-коч писал, что бояре и персидские послы не подали друг другу рук, а «взялись за руки по восточному обычаю»54. «Карашевались» обычно равные с равными: знатные послы-мусульмане — с боярами, менее знатные — с дьяками. Иван Грозный «карашевался» с казанским ханом Шах-Али.
Если высший удостаивал таким приветствием низшего, для последнего это было большой «честью». В. Г. Морозов, русский посол в Крыму (1509 г.), в своем отчете особо отметил, что хан его «жаловал и звал карашеватца». Точно так же в 1514 г. Василий III «жаловал» крымского посла Аппака, известного «амията» (приятеля) Москвы из рода прорусски настроенных беев Сулешевых (шестью годами раньше в Крыму, когда у Морозова при входе в ханский дворец требовали «посошную пошлину», он поощрял его не обращать внимания на брошенные «батоги», переступить через них и смело идти к хану, что великокняжеский посол и сделал). Милость Василия III была нс случайной; Аппак, признавая своего рода двойное подданство, писал ему: «Яз как своему государю холопство чиню, так и тебе холопство чиню, ты ведаешь»54. Позднее посольские книги о подобных случаях не упоминают. Борис Годунов «карашевался» с персидскими послами толь-
АУДИЕНЦИЯ II ОБЕД
190
ко до своего вступления на престол. Став царем, он уже возлагал па них руку.
Рукопожатие как форма приветствия и царской милости тоже практиковалось, но лишь по отношению к европейским послам. Оно было в употреблении при Иване III и Иване Грозном в годы его малолетства, затем исчезло (за редчайшими исключениями) и вновыюявилосьпри Борисе Тодунове, чтобы опять исчезнуть до конца XVII в. Русские государи разрешали послам «подержать» свою руку, не сжимая ее. Настоящее рукопожатие широко применялось между равными, но послов заранее предупреждали, чтобы они, когда возьмут царя за руку, сжимали бы ее слабо, а не «тискали, как это делают немцы»55. Смысл такого рукопожатия был различным в разные периоды. В конце XV в. оно отражало слабую разработанность русского посольского обычая, зависимость его от единичных прецедентов и случайных наблюдений: если Максимилиан I пожал руку Юрию Траханиоту, что вовсе не было нормой западного дипломатического этикета, то так же поступал одно время и Иван III, принимая имперских дипломатов. Василий III неизменно подавал послам руку для поцелуя, но в начале 40-гг. XVI в., когда Иван Грозный был мальчиком, разрешение литовским послам «подержать» его руку вместо се поцелуя свидетельствует, по-видимому, о временном падениии престижа великокняжеской власти и усилении Боярской Думы — послы приветствовали государя тем же способом, что и бояр. При Борисе 1одунове, проявлявшем искренний интерес к западноевропейскому обиходу, этим выражалась уже особая милость царя. Очевидно, из этих же соображений Грозный в 1578 г. удостоил рукопожатия Я. Ульфельдта и его спутников. Впрочем, бывали случаи, когда послы сами подавали руку государю, как это сделал Н. Варкоч в 1589 г., и тот не отклонял э^у форму приветствия.
В ТРОННОЙ ЗАЛЕ. ПРИЕМ
191
Очень важным был вопрос о том, что надлежит сделать раньше — поцеловать царю руку или объявить цель посольства. Русским дипломатам за границей предписывалось ни в коем случае не «быть у руки» до того, как они произнесут титул царя и скажут свои «речи». Когда в 1595 г. в Праге послам Федора Ивановича предложили обратную последовательность, последовал проест: «Не объявя царского имяни, к руце ходити непригоже!» Представители Василия Шуйского, находясь в Кракове, объясняли: «Наперед государских имян нам, подданным, к королю к руце итить непригоже»™. При этом иностранные дипломаты в Москве должны были целовать руку государя до начала официальной части посольства. В редчайших случаях и в качестве особого «жалованья» им самим разрешалось выбрать последовательность этих двух действий. Послы, разумеется, предпочитали вначале «править посолство». Этим они подчеркивали, что прежде всего являются представителями своего монарха, а уж затем — гостями царя.
В конце XV в. им еще позволялось произносить свои «речи», сидя на специально для них поставленной скамье (так же предписывалось поступать русским дипломатам при иностранных дворах), но обычай этот, берущий начало в практике междукняжеских отношений, очень скоро видоизменился: старая форма наполнилась новым содержанием. В XVI в. скамья, покрытая «сукном», по-прежнему ставилась в тронной зале, тем не менее послы должны были «править посолство» стоя, а садились на нее только однажды. Позволение сесть стало «государским жалованьем», разновидностью посольской «чести». Это было одноразовое действие, как и целование царской руки. В 1604 г. Борис Годунов грузинского посла, старца Кирилла, «жаловал» — «велел ему сести в другоряд», т. е. вторично. Данный случай отмечен посольской книгой в силу его
АУДИЕНЦИЯ И ОБЕД
192
уникальности. Во время военных действий с Речью Посполитой или Швецией дипломаты низшего ранга, прибывшие от польского или шведского короля, и вовсе лишались этой «чести». В 1582 г. литовский гонец Г. Пелгжимов-ский все-таки сидел на аудиенции, хотя мир еще не был заключен, но посольский подьячий, сделавший запись о его приеме, счел необходимым указать причину: царь велел гонцу «сести на скамейке», потому что «опричь грамоты речи от короля говорил» и, значит, фактически обладал посланническими полномочиями57.
Дипломату было тем «честнее», чем ближе к тропу он садился. Когда в 1517 г. С. Герберштейп прибыл на аудиенцию вместе с литовскими послами, которых Василий Ш «жаловал» меньше, чем его самого, «скамья им была поставлена одна—того подале, как Максимьянов посол (1ер-берштейн. — Л, Ю.) саживался, коли приходил один, а того поближь к великому князю, как литовские послы сажива-лись наперед того»™. Сложные поиски среднего расстояния между скамьей и троном наглядно показывают, какое значение придавалось этой дистанции.
Какой она была в мерных единицах, установить трудно. Посольские книги ограничиваются сообщениями, что государь велел послу сесть «блиско себя» или «блиско себя, у ковра», т. е. сесть у края ковра, покрывавшего ступени тронного возвышения, но тянувшегося и дальше. Н. Варкочу, которого в Москве принимали с почестями не самыми большими, скамью ставили в семи шагах от трона. Здесь, как и везде, своеобразным эталоном «чести» служили нормы, принятые в отношении разного ранга польско-литовских дипломатов. С ними соразмерялось расстояние от трона, на котором сажали представителей других государств — «в ту меру, как литовским болшим послам», или «подале того, как литовским посланникам».
В ТРОННОЙ ЗАЛЕ. ПРИЕМ
193
На приемах послов крымских и ногайских скамья вообще отсутствовала.
Близость ее к троп}7 не имела отношения к той «чести», которая оказывалась приславшему данное посольство монарху. Грузинским послам в 1599 г. скамья была поставлена «потому жь, как литовским послам», хотя кахетинский царь Александр I не считался «братом» Бориса Годунова и даже признавал себя «под его высокою рукою». Зато на той же аудиенции Годунов сидя спросил о здоровье Александра I, что явилось бы определенной демонстрацией по отношению к польскому королю. Вопрос о здоровье был «честью государской», скамья и близость ее к трону — «честью посольской». Прямой корреляции между ними не существовало. Напротив, порой можно было кое-чего добиться, умело разводя или сталкивая то и другое.
В 1600 г. королева Елизавета I, принимая Г. И. Мику-лина, распорядилась поставить для него стул возле самого трона. Тот «на королевнине жалованье челом бил, и блиско королевны не сел и, отдвинув стул от того места в сажень, и сел на стуле»59. При этом в своем статейном списке он скрупулезно перечисляет все, что служило царской «чести». Микулин рассказывает, как англичане признали его правоту, когда он отказался вести переговоры с приближенными Елизаветы I где-либо, кроме королевского дворца («К бояром нам па боярский двор о царском деле ехати не годитца»). Он нс забывает упомянуть, что приставы шли или ехали слева от него; что на аудиенции Елизавета I, «слышав царского величества имя и про их государь-ское здоровье, обрадовалась с великою сердечною любовью и учела быти весела»; что послание 1одунова она приняла «с великою радостью», и т. п. Однако стул, придвинутый к самому трону, был почетен уже не для царя, а лично для
АУДИЕНЦИЯ И ОБЕД
194
Микулина. Чтобы себя не «взвысить», он этот стул отодвинул, о чем посчитал нелишним написать в отчете.
Постепенно в посольских книгах сложились стереотипные формулы для описания аудиенции. Обычно сообщается, что послы, «посидев мало, да речи говорили». В то же время, если речь шла о послах крымских, употреблялось другое выражение в том или ином варианте. Указывалось, что представитель хана «посолство правил, сидя на коленках», или «пришед блиско государя, сел на коленки».
Исследователи иногда истолковывали это в том смысле, что крымские послы вставали на колени перед русскими государями. На самом деле имелось в виду не коленопреклонение как таковое, а восточное обыкновение сидеть на подогнутых под себя ногах. Иначе вряд ли, как докладывал в Москве русский посолА. Д. Звенигородский (1595 г.), персидский шах мог спросить «про государево здоровье, сидя на коленках»60. То, что смысл этого выражения был именно таким, подтверждается и другими примерами. В 1611 г. посланник Боярской Думы П. Вражский, представ перед ногайским Иштсрек-ханом, требовал, чтобы тот выслушал его «речи» непременно стоя, а не «сидя на коленках»61.
Во время аудиенций в Москве крымские дипломаты опускались на ковер, расстеленный на полу приемной палаты. Представители Персии и Оттоманской империи подчинялись тем же правилам, что и послы христианских держав, но в отношениях с Крымом допускались отклонения в сторону восточных этикетных норм. Для русских дипломатов при мусульманских дворах это было исключено. Подчеркивалось, что принять подобную позу можно лишь «по их вере», «по их бусурманскому закону, а в нашем крестьянском обычае того не ведетца».
В ТРОННОЙ ЗАЛЕ. ПРИЕМ
195
В Москве ханские послы не только сидели в течение всей аудиенции, но и произносили свои «речи» сидя, что представителям других держав запрещалось категорически. Все это — пережиток русско-ордынской дипломатической практики, уцелевший только в двусторонних отношениях с Крымом. Поведение крымских послов на аудиенции стояло в одном ряду с прочими церемониальными унижениями русских государей, с которыми те вынуждены были мириться. В конце XVI в. эта традиция, не имевшая опоры в реальной политической обстановке, постепенно отмирает. Времена изменились, представителям Гиреев уже не позволяли «сидеть на коленках» перед царем, но и отдельной скамьи для них тоже не ставили. Садились они, получив на то разрешение, «в лавке околничего места» — у противоположной от престола степы приемной палаты62.
Как правило, «речи» послов переводил толмач из состава самого посольства. К послам крымским и ногайским приставляли толмачей Посольского приказа, а на приемах польско-литовских дипломатов обходились без переводчиков. Сам Иван Грозный понимал по-польски. В 1566 г. на личных переговорах с литовскими послами он предупредил Ю. Ходкевича: «А которые будет речи пол-ским языком молвишь, и мы то уразумеем»63. Интересно, что в 1573 г. в Стокгольме по-польски «правил посолство» В. Чихачев; ему сказали, что шведский король «по полски сам горазд»61. Надо полагать, Юхан III овладел польским языком с помощью своей жены, Катерины Ягсллон.
Слова царя переводили толмачи московские, но на официальных аудиенциях он лично задавал послам лишь церемониальные вопросы. Более пространные речи от его имени произносили посольские дьяки или другие доверенные лица, которые в этот момент идентифицировались с государем. В 1608 г. дьяк В. Телепнев требовал,
АУДИЕНЦИЯ И ОБЕД
196
чтобы польские послы без шапок выслушали переданную через него царскую «речь», но сам при этом оставался в шапке. Бояре следующим образом объясняли законность его требования: «Послы слушают без шапок, потому что он, государь, посольского дьяка позовет к себе и велит ему молыть свою государскую речь, что было ему, государю, своими царьскими усты послам говорити, и дьяк говорит речь от царского лица». Далее следовал риторический вопрос: «И государь подданному повинен (должен. — Л. Ю.)ли шапку сымати?» Иными словами, Телспнев прямо объявлялся воплощением государя в минуту произнесения им царских «речей», обращенных к «подданным», г. е. к послам. «А коли посольский дьяк говорит послам и посланникам речь при государе же нс от царьского лица, — продолжали бояре, — тогда он сперва к царьскому имяни шапку сымает»65.
Аналогично обстояло дело при передаче посольских грамот. Беря их у послов, дьяк заменял собой государя; передавая их ему в руки — возвращался к собственному облику. В 1554 г. И. М. Висковатый взял у Р. Ченслера королевские грамоты, сам будучи в шапке, но снял ее, когда затем вручал эти грамоты Ивану Грозном/*6. Любой «ближний человек», участвуя в церемониале аудиенции, то олицетворял государя, то вновь являлся в обычной своей роли государева слуги. В Москве все эти мгновенные метаморфозы последовательно и четко разграничивались этикетом, но за границей русские дипломаты не всегда понимали, в каком именно качестве выступают они в тот или иной момент. Наложение ролей вносило путаницу и сбивало их с толку. Будучи воплощением государя, при произнесении «речей» от его имени они должны были бы сидеть, однако тут вмешивалось то обстоятельство, что время от времени приходилось называть вслух «государ-
В ТРОННОЙ ЗАЛЕ. ПРИЕМ
197
ские имяна»; садиться, потом вставать и садиться снова было невозможно, поэтому они предпочитали «править посолство» стоя, даже если им предлагали сесть.
Привезенные посольством письма царь чаще всего принимал из рук своего доверенного лица, дабы не вступать в непосредственную связь с подданным другого монарха. Такая связь, почетная для посла, не служила царской «чести». Собственноручное принятие грамот государем практиковалось редко и в виде особой милости. Ранг дипломата значения не имел. Когда М. Шиле предложили назваться не гонцом, кем он являлся в действительности, а послом, ему пообещали, что Борис Годунов сам примет у него императорские грамоты, но это было своеобразной компенсацией за подлог, а не специфической формой «чести», оказываемой именно послам.
Существовали и другие, чисто житейские причины, по которым царь избегал сам принимать посольские грамоты. Боялись заразы и колдовства. Надо думать, в 1635 г. Михаил Федорович внял предупреждению константинопольского патриарха, который настоятельно советовал ему остерегаться всего, что присылается из Стамбула — «не было бы какого насылочного дурна» в грамотах турецкого султана, ибо тот гневается на царя за мир с Речью Посполитой.
Символом дружеского расположения к монарху, приславшему грамоту, было ее целование. Царские послания целовали иногда и восточные, и западные суверены; Хуан Персидский писал, что Борис 1одупов, взяв послание шаха, приложился к нему губами67. Это, пожалуй, единственное свидетельство такого рода. В русских посольских книгах пет упоминаний о том, что на аудиенциях в Кремле государи целовали грамоты иностранных монархов. Возможно, сказывалась недобрая память о некогда присылаемых из Сарая ханских «басмах», целовать которые было пря-
АУДИЕНЦИЯ И ОБЕД
198
мой обязанностью московских князей как ордынских данников.
На протяжении всего XVI в. церемониал аудиенции становится все более пышным, а поведение государя — все менее свободным. Каждое его действие и слово приобретали все большую символическую нагрузку. Иван III, принимая в 1483 г. имперского посла Н. Поппеля, «поговорил с ним в Набережной горнице, поотступив от бояр». В 1495 г. он говорил с литовскими послами в Успенском соборе, «у сторонних дверей у правых», а на аудиенции, данной итальянцу А. Контарипи, беседовал с ним, прогуливаясь по тронному залупя. Василий III обсуждал с 1ер-берштейном политические проблемы, брал его с собой на охоту. Позднее вольное поведение государя при общении с иностранными дипломатами становится невозможным; они видели его лишь на тропе или за столом во время торжественного обеда.
В «зрелом» придворном церемониале царь — воплощение государства, и порядок аудиенции разрешал ему проявить себя только в этой роли. Все индивидуальное, изменчивое, зависящее от обстоятельств, удаляющее его от той вневременной сущности, которую государь являл в своем плотском обличье, подлежало предельной нивелировке, иначе он просто не мог выполнить задачу, возложенную на пего свыше — перед небом и землей представлять собой всех и никого в отдельности. Именно поэтому во всех абсолютных монархиях церемониал считался делом чрезвычайной важности. «Нельзя, не нанося вреда всему государственному телу, лишить голову мельчайших признаков превосходства, отличающих ее от других членов», — писал в своих мемуарах Людовик XIV(’9.
Р. Ченслеру было сказано, что сам он не должен обращаться к царю; он может лишь отвечать на его вопросы —
В ТРОННОЙ ЗАЛЕ. ПРИЕМ
199
это обычное правило вежливости в отношениях между младшим и старшим. Спустя тридцать лет бояре от лица Грозного говорили Д. Боусу: «У нас издавна того не ведет-ца, что нам, великим государем, самим с послы говори-ти!»70. Как всегда, норма недавнего происхождения, укрепившись, объявлялась идущей «из старины». На частных, а иногда и на публичных аудиенциях Иван Грозный запросто беседовал с английскими, имперскими и папскими дипломатами, не говоря уж о послах крымских, в отношении которых этот запрет вообще не действовал вплоть до конца XVI в., но если дело касалось поляков или шведов, сам факт такой беседы считался делом из ряда вон выходящим. Это декларировалось как подвиг христианского смирения. «Яз, государь крестьянской, презрев свою царскую честь, с вами, брата моего слугами, изуст-не говорю!» — так в 1568 г. Грозный начал переговоры с послами Сигизмунда II Августа. Через два года, напоминая литовским «панам радным» об этом уникальном случае, бояре писали, что царь, «для покою крестьянского свою честь государскую презирая, сам с послы государя вашего говорил»71.
Царь мог говорить лишь с собственными подданными. В послании Польской раде (1573 г.), где речь идет о посольстве М. Гарабурды, пригласившем Грозного на вакантный после смерти Сигизмунда II Августа престол Великого княжества Литовского, царь писал о себе: «Всю свою волю и хотение изъявили и приказали с Михаилом Гарабурдою, о всем переговоря сами из своих царьских уст, как с своими прирожоными людьми»72. Личные переговоры царя с Гарабурдой уже сами по себе, независимо от их содержания, выражали согласие Грозного занять предложенный ему престол. В противном случае он бы не разговаривал с послом, как со своим подданным («при-
АУДИЕНЦИЯ И ОБЕД
200
рожоным» человеком). Поэтому здесь ни слова пет о «презрении государской чести» ради каких-то высших целей.
Прямые переговоры царя с подданными другого монарха нарушали принцип иерархии отношений. Кроме того, при этом могла возникнуть совершенно неприемлемая ситуация, когда послы начали бы возражать коронованному собеседнику. «То необыкновенное и неслыханное дело, чтобы монархи, восседая на троне, спорили с послами!» — возмущался Лжедмитрий 173. Намереваясь вступить в личную беседу с представителями Сигизмунда III, он предварительно снял с себя царскую шапку — знак сана. Без венца, как ему, видимо, казалось, государь предстает в ином своем качестве и вполне может сам говорить с послами, не роняя царского «чина». Для Ивана Грозного такая постановка вопроса была бы лишена всякого смысла.
Правило, запрещавшее или, по крайней мере, не рекомендовавшее монарху вести личные переговоры с иностранными дипломатами, действовало в Византии и в Оттоманской империи, а в менее жесткой форме — и в Западной Европе. Однако постепенность становления этой нормы в русском дипломатическом этикете свидетельствует о том, что истоки ее лежали не в чужеземных влияниях, а в меняющейся психологической атмосфере московского двора. «Изустпее» царское слово стало обладать такой значимостью, что могло звучать лишь при соблюдении множества условий. Бурный темперамент Ивана Грозного то и дело прорывался сквозь церемониальные каноны, но сами они отнюдь не утрачивали своей обязательности. Исключения истолковывались как следствие чрезвычайных обстоятельств.
Сохранились известия о вопиющих нарушениях Грозным церемониала посольских аудиенций. В 1557 г., разгневавшись на ливонских послов, отказавшихся подтвер-
В ТРОННОЙ ЗАЛЕ. «ОТПУСК*»
201
дить достигнутую ранее договоренность о выплате дани, царь в приступе бешенства пытался рвать на себе одежды. В другой раз, недовольный поведением польской миссии Я. Скратошича, Грозный прямо в приемной палате разыграл целый спектакль. Он призвал своего шута («блазпа») и велел ему передразнивать поклоны польских шляхтичей, которые на западный манер «приклякивали» (слегка приседали). Шут, по-видимому, недостаточно успешно справился с поставленной перед ним задачей, потому что царь сошел с престола и сам стал ему кланяться, показывая, как это нужно правильно делать. На той же аудиенции Грозный приказал зарубить коня, приведенного ему в подарок одним из членов посольства, затем взял снятую с него сбрую и прилюдно «насмевался» над iycap-ским конским убранством71.
4. В тронной зале. «Отпуск»
В своей церемониальной части все последующие аудиенции строились по тому же образцу, что и первая. При этом царская милость по отношению к послам могла возрастать или уменьшаться в зависимости от их поведения в ходе переговоров. Свои отличительные черты имела только прощальная аудиенция — «отпуск». Применительно к крымским и ногайским дипломатам она обозначалась словом «хаер» (от тюрк, хай —ступай, иди).
Государю самому полагалось «отпускать» иностранного посла. Последний контакт между ними считался обязательным. Этим поддерживался принцип личной связи между монархами, и после «отпуска» посол уже нс мог вступать ни в какие отношения ни с кем, кроме своих приставов,
АУДИЕНЦИЯ И ОБЕД
202
как то было до первой аудиенции во дворце. Когда русский гонец Р. Бэкман перед отъездом из Лондона был принят не королевой, а канцлером Ф. Уолсингемом, это восприняли в Москве как оскорбление, нанесенное царю. «И то где слышно, — говорится в письме Федора Ивановича к Елизавете I, — что гонцов ко государем отпускати и поклон к нам, великим государем, приказывати писарем, а не государю к государю приказывати?»75
На «отпуске» государь передавал с послами поклон или «челобитье» приславшему их монарху: поклон — равному (или младшему, если он признавал себя таковым), «челобитье» — старшему. Приветствие, которое Ивану Грозному передавал датский король Христиан III, русскими толмачами интерпретировалось как «челобитье». Иван III, его сын и даже внук посылали крымским ханам челобитье, а царевичам («калгам») — поклон. Очевидно, подобный расклад принят было и в русско-ордынской практике. Эта унизительная для русских государей норма исчезла лишь в самом конце XVI в. В 1593 г. крымские послы от имени хана Кази-Гирея передали поклон даже дьяку А. Я. Щелкалову76.
В отношениях с Польско-Литовским государством царь посылал королю поклон, а королевичу ничего не посылал — тот получал поклон от наследника престола. Королевич посылал царю «челобитье», как и царевич — королю. Когда же Федор Годунов в отсутствие отца сам принимал польских послов, он передал королю уже не «челобитье», а поклон. Нарушение этих правил вежливости одной стороной влекло за собой симметричный ответ: в 1492 г. Иван III передал королю Казимиру поклон от своих детей и внуков «того деля, что королев посол правил великому князю от королевича поклон»77.
С крымскими послами русские государи передавали хану и собственные «речи», что было совершенно невоз-
В ТРОННОЙ ЗАЛЕ. -ОТПУСК-
203
можно в отношениях со всеми другими монархами. Кроме того, «на отпуске» им часто представляли русского посла, которому предстояло отправиться в Крым вместе с ними.
Наконец на каждой прощальной аудиенции, если ей предшествовали переговоры, царь подтверждал истинность всего того, что говорилось боярами и дьяками от его имени. «То есть наши речи», — свидетельствовал он собственноустно. Произнесение этой итоговой формулы не могло быть передоверено никому из «ближних людей».
Иногда государь из своих рук угощал отбывавших на родину дипломатов медом или вином. Правда, для этого требовались определенные условия. В 1501 г. Иван III поднес вино послу чешского и венгерского короля Владислава, по не угостил литовских послов из-за нараставшей напряженности в отношениях с Вильно. Чаша в руке государя означала его расположение к послам и к приславшему их монарху. В 1517 г., до заключения мира с Великим княжеством Литовским, Василий III подавал мед 1ер-берштейну, но не угощал находившихся здесь же послов Сигизмунда I. Затем переговоры зашли в тупик, и великий князь, рассердившись на имперского посредника, не подал меду и ему тоже.
В начале XVI в. питье подносилось послам практически на каждой аудиенции в течение всего времени пребывания их в Москве (при условии мира между двумя странами или хотя бы нормального хода переговоров о его заключении). Позднее это стало действием одноразовым — царь угощал послов только на последней аудиенции. Мед или вино скрепляли достигнутую договоренность. Если прийти к соглашению не удавалось, отменялось и угощение. В 1559 г. Иван Грозный на прощальной аудиенции не подал литовским послам чашу с медом «того деля, что дело
АУДИЕНЦИЯ И ОБЕД
204
никоторое не зделалося»78. Иван III и Василий III собственноручно угощали всех лиц из состава посольства, которые в данный момент находились в приемной палате, но Грозный уже подавал питье только непосредственно послам. Членов посольской свиты потчевали царские чашники.
Любопытное осмысление этого обычая предложил Борис Годунов, еще до своего восшествия на престол нередко «отпускавший» иностранных послов вместо Федора Ивановича. На прощание он поднес Н. Варкочу ковш с медом, сказав: «Ты поедешь на корабле, и потому из корабля я пью твое здоровье и прошу Бога даровать тебе счастливое странствие»79. Ковш по форме напоминает ладыо. Слова Годунова — истолкование прощального питья в духе гомеопатической магии, предполагающей воздействие на объект через его подобие.
По свидетельству Г. Котошихина, в середине XVII в. царь подавал крымским послам по ковшу меда вишневого и по кубку «романеи» — сладкого итальянского вина. Коранический запрет на сок виноградной лозы не учитывался ни теми, пи другими. Выпив мед и вино, иные из ханских посланцев присваивали драгоценные кубки или ковши, прямо на месте пряча их себе за пазуху. Как пишет Котошихин, «у них тех судов (сосудов. — Л. Ю.) царь отни-мати не велит», и «для таких безстыдных послов деланы нарочно в Аглинской земле суды медные, посеребряны и позолочены»80. Вероятно, такое случалось и в XVI в. — с той лишь разницей, что до кубков из позолоченной меди еще нс додумались, и вряд ли крымских послов угощали редкой в то время «романеей».
У монголов существовал обычай пить кумыс па дипломатических приемах. Во дворце крымского хана русским послам подносили чашу с каким-то напитком, но здесь уго-
В ТРОННОЙ ЗАЛЕ. «ОТПУСК»
205
щение не завершало аудиенцию, а предваряло ее. Чаша была па всех одна, вначале из нее отпивал сам хан, а после него — все присутствующие, включая посла. Каждый пригубливал и передавал дальше. В 1509 г. русский посол В. Г. Морозов, нарушив заведенный порядок, наотрез отказался передать чашу оскорбившему его накануне мурзе Кудояру (тот силой отобрал шубу у одного из членов посольства и, видимо, при выяснении отношений попало самому послу). Лишь благодаря этому инциденту, который Морозов описал в своем отчете, и можно судить о церемониале бахчисарайского двора.
В Турции иностранных дипломатов перед аудиенцией не только поили, ио и кормили. По мнению польского посла Ежи Отвиновского, посетившего Стамбул в 1557 г., турки неслучайно придерживались такой последовательности — они считали, что человек, отведавший угощение султана, уже не может причинить ему зла81. Толкование кажется грубым, тем не менее суть подмечена верно: через еду и питье (или только питье, как в Крыму) происходило превращение чужеземца в «своего», что должно было сделать его более удобным партнером. В Москве чаша с медом или вином, которую государь подносил послу на прощальной аудиенции, играла совершенно И1гую роль — она знаменовала собой благополучный исход его миссии. Эта норма, восходящая к народной бытовой обрядности, была следствием древнейших представлений о нерасчле-пенности договора как сделки и ритуального питья.
В Турции и в Персии послы в пожалованном им восточном платье должны были являться на последнюю аудиенцию. Причиной Отвиновский полагал следующее поверье: тот, кто ходит в платье султана, не может его бранить. Турки потому и делают это «на отпуске», что заботятся о репутации своего повелителя в других странах.
АУДИЕНЦИЯ И ОБЕД
206
В России эта норма возникла иод восточным влиянием, но в полном объеме просуществовала недолго. В начале XVI в. и мусульманским, и западноевропейским дипломатам на прощальной аудиенции государь «жаловал» шубы, которые тут же на них надевались. Еще Иван Грозный в 1558 г. прямо в приемной палате «велел класти» шубы на литовских послов, но это едва ли не последний такой случай. Позднее шубами «жаловали» только представителей исламских государств, где русских дипломатов также одаривали платьем. На Западе и даже в Речи Посполитой это было не принято, более того — считалось не вполне приличным. В то же время на Востоке «жалованье» одеждой было более почетным, чем всякое другое. В 1590 г. астраханский дьяк Дербенев-«меныиой», сообщая в Москву, что вместо денег «черкасам» от имени Федора Ивановича выдали платье, объяснял это следующим образом: «По здешнему делу то твое государское жалованье им честнее»82.
В середине XVII в. крымские дипломаты в Москве удостаивались единственной аудиенции у царя. Они прибывали на нее не верхом, а пешком, с ног до головы одетые в пожалованное им платье. На них были русские «однорядки», кафтаны, шапки и сапоги. В приемной палате однорядки с послов снимали и отсылали на подворье, а взамен царь приказывал «взложить па них золотные шубы при себе».
Подробный сценарий разрабатывался для каждой аудиенции в отдельности, но общие нормы, вбиравшие в себя все большее число инвариантов, складывались на протяжении десятилетий. Возраставший престиж верховной власти сказался, например, в том, что с третьей четверти XVI в. придворный церемониал стал включать новую форму демонстрации послам царского величия —
ЗА СТОЛОМ
207
ожидание ими «государева выхода». Это ставило их в положение просителей, символизируя тот факт, что не царь, а приславший посольство монарх прежде всего заинтересован в предстоящем контакте. Нововведение в большинстве случаев касалось или дипломатов низкого ранга, или представителей тех монархов, кого Грозный и его преемники не признавали «братьями». Будучи введены в тронную залу, послы в течение некоторого времени «дожидались» там появления царя. Наконец он входил, окруженный рындами и свитой, садился на престол и давал знак начинать аудиенцию. Дальше все шло обычным порядком.
5. За столом
До смерти Ивана Грозного обед в честь иностранных дипломатов был так же обязателен для государя, как пир в честь гостя — для хозяина дома. «Ради посла было пированье почестное», — говорится в былинах. Само представление о «чести» того или иного лица, постепенно распространенное на все сферы частной и общественной жизни, изначально связано было с угощением. Еще в середине XVI в. слова «честь» и «потчеванье» в посольских книгах иногда употребляются как равнозначные*3. В 1566 г., договариваясь о встрече на границе Ивана Грозного и Сигизмунда II Августа (их свидание так и не состоялось), бояре говорили, что когда король прибудет в царский шатер, то «государь ему почесть учнет держати, как кто у себя гостя подчивает»*1.
При Иване III иностранные послы иногда бывали на обеде у «ближних» бояр, но уже при Василии III посольское угощение становится прерогативой государя. Даже
АУДИЕНЦИЯ И ОБЕД
208 всесильный фаворит Годунов дипломатических обедов не устраивал, хотя и принимал у себя надворе послов, прибывших к Федору Ивановичу. При Грозном лишь польско-литовские гонцы, не являясь фактотумами короля, изредка обедали у бояр, да и то в периоды обострения отношений с Речью Посполитой.
Московские дипломаты за границей соглашались быть на обеде только в том случае, если в нем будет участвовать сам монарх. Это было первое и главное условие, которое выполнялось далеко не везде. В Турции, например, султан никогда не присутствовал на публичных обедах; его трапеза была одинокой и представляла собой своего рода таинство (он сидел за особым столом, который поддавался вращению, и без посторонней помощи мог взять с него любое блюдо). В одиночестве принимали пищу и короли Франции. В других странах Западной Европы монархи приглашали к столу только дипломатов высшего ранга. При дворе Габсбургов царским представителям неоднократно заявляли, что «у римских цесарей изначала того в обычае не ведетца, что послов звати сети». На самом деле это нс так, просто в Вене или в Праге угощения во дворце удостаивалась не каждая миссия. Зато обычаи Виленского и краковского двора были схожи с московскими, поэтому именно литовские и польские дипломаты в Москве очень болезненно воспринимали те редкие случаи, когда их не приглашали на обед. В 1584 г. гонец Л. Сапега «в хоромех заперся» и отказался даже выйти к приставам «за то, што государь ево не звал ести»Н5. Он имел полное право на обиду, поскольку в тот момент Москва и Речь По-сполита находились между собой «в миру».
При Иване III, Василии III и Иване Грозном у царского стола бывали, как правило, даже простые гонцы, не говоря о послах и посланниках. Наиболее значительные
ЗА СТОЛОМ
209
лица из их свиты также входили в число приглашенных. Если по каким-либо причинам обед не устраивался, это обязательно объяснялось. В годы малолетства Грозного, вступившего на престол в трехлетием возрасте, посольских угощений не было вообще, поскольку сам государь не в состоянии был на них присутствовать, а без него вся церемония лишалась смысла. В 1536 г., объясняя литовским послам, почему их не зовут к государеву столу, бояре говорили им от лица шестилетнего великого князя: «Есме еще леты несовершенны, за столом нам сидети истомно»86. Летом 1560 г. послов не угощали во дворце по той причине, что «в те поры был на Москве пожар великой»87.
До третьей четверти XVI в. практически каждого дипломата в Москве хотя бы однажды приглашали к царскому столу. Государь не мог полностью проявить свое величие и могущество вне этой важнейшей сферы. «Стол — Божья ладонь» — гласит одна из пословиц в сборнике В. И. Даля. В данном случае это ладонь государя. Он — кормилец своих слуг, и для демонстрации всего объема собственной власти царь должен предстать перед иностранцами не только на троне, но и за столом, в древней роли подателя и распределителя пищи.
Число повторных приглашений могло быть большим или меньшим в зависимости от политической обстановки, поведения послов, успеха или неуспеха переговоров. Если в «столе» отказывали совсем, это был знак опасного обострения ситуации. В 1576 г. посольский подьячий, описав прием гонца, прибывшего от Стефана Батория, в конце пометил: «А столу быть у государя по грамоте смотря на отпуске»88. Иными словами, после прощальной аудиенции гонец будет приглашен на обед лишь в том случае, если царь благожелательно или хотя бы нейтрально отнесется к содержанию привезенной им королевской гра-
АУДИЕНЦИЯ И ОБЕД
210
моты. До ее прочтения решить этот вопрос было невозможно.
Столовый церемониал московского двора окончательно сложился и достиг своего расцвета при Иване Грозном. Его нормы опирались на традиции национальные — почти без примеси восточных и западных влияний, но измененные самим способом их бытования. Народные обряды, став элементом придворной жизни, несравненно более подвижной и гибкой, нежели стихия, их породившая, приобрели новые черты. Старинные обычаи были приспособлены для выражения современных политических идей.
В конце аудиенции государь сам приглашал послов на обед. Они покидали тронную залу и «дожидались стола» в одном из дворцовых помещений, обычно — в «Набережной горнице». Тем временем царь и придворные переодевались. Шитые золотом одежды думных бояр и дворян сменялись менее официальными шубами. Стольники и чашники, которые на аудиенции не присутствовали и не имели необходимости менять костюм при новой сцене церемониального спектакля, являлись в столовую палату «в золотном платье и в чепях золотых». Сам царь вместо «саженой» шубы надевал более легкую, а летом иногда выходил и в одном кафтане с накинутым поверх него «распашным» платьем из шелка. При переходе из аудиенц-зала в приемную палату он заменял и один из своих венцов на другой. Р. Ченслер заметил, что перед обедом Грозный надел другую «корону», а у стола «менял короны еще два раза»89. Последнее, вероятно, делалось с целью продемонстрировать разнообразную символику каждого из царских венцов. На обеде, данном в честь имперского посольства в 1576 г., «корона» царя лежала возле него на лавке, а вместо нее Грозный попеременно надевал две меховые шапки, увенчанные большими рубинами (по-видимому,
ЗА СТОЛОМ
211
Казанскую и Астраханскую). «Камни сии, когда начало смеркаться, — пишет И. Кобенцель, — засияли подобно двум свечам горящим»90.
Послов вводили в столовую палату, когда все русские участники обеда уже сидели на своих местах, и была произнесена молитва. Начало такому порядку было положено вскоре после принятия Грозным царского титула. В 1549 г. на обеде в честь литовского посольства «царь и великий князь сел за столом и изсадил в болтом столе бояр и дворян, и на околничем изсадил дворян, и послал послов звати ко столу»91. Раньше государь мог войти в обеденный зал одновременно с послами или даже лично сопроводить их к столу, как это иной раз делал Иван III.
В Византии иностранные послы, какую бы честь им ни оказывали, не могли сидеть за одним столом с императором92. В Москве подобное правило распространялось не только на послов, но на всех присутствующих в обеденной зале, исключая наследника престола. «По русским обычаям никто, кроме царских сыновей, не может сидеть за столом государя», — свидетельствует Ж. Маржерет93. Эта норма установилась не сразу. Василий III садился за один стол со своими братьями и даже с боярами, которые, правда, находились от него на расстоянии вытянутой руки. Еще в 1557 г. на обеде, устроенном в честь англичан, так же сидел Иван Грозный91. Позднее он сам и его преемники неизменно восседали за отдельным столом, который на ступень был приподнят над остальными. К нему допускались лишь коронованные особы (в 1602 г. — принц Голштинский). В посольских книгах указывается, что царский стол был «золот», но что конкретно скрывается за этим определением, не понятно.
Лжедмитрий I в быту вел себя с западной раскрепощенностью, одевался по-польски, устраивал в Кремле
АУДИЕНЦИЯ И ОБЕД
212 танцы и ел запретную для русских телятину, но и он решительно отказался сесть за один стол с послами Сигизмунда III. Настаивая на этом, поляки говорили, что тем самым будет оказана «честь» королю. Лжедмитрий резонно возразил, что он короля на обед не звал и, следовательно, почтить его не может. В вопросах церемониала он не шел ни на какие ус гупки.
Если эта норма нарушалась, то при обстоятельствах чрезвычайных. В 1581 г. на обеде в честь А. Поссевино произошел небывалый случай — Грозный сел за один стол с несколькими боярами95. Очевидно, он хотел продемонстрировать монолитность высшего русского общества перед лицом внешней угрозы — тем более, что в Речи Посполитой, откуда прибыл папский легат, ходили отнюдь не беспочвенные слухи о разброде и «шатости» в Москве. Однако, помимо всякой политики, тут проявилось и непоказное смирение, свойственное Грозному в последние годы жизни. Выражалось оно по-разному, в том числе и таким образом.
Я. Ульфельдт отметил, что лишь царь и царевич пользовались при еде ножами «размером в пол локтя», остальные получали мясо уже разрезанным. Не исключено, что на ножи в руках обедающих был наложен такой же запрет, как на любое оружие в тронной зале.
Конфигурация обеденных столов напоминала расположение лавок в приемной палате, но здесь точкой отсчета был не трон, а царский стол. Справа от него находился наиболее почетный «болший» стол. Договариваясь о встрече на границе Ивана Грозного и Сигизмунда II Августа, бояре выдвигали условие, что при визите короля в царский шатер русские будут сидеть «в болшем столе», а польские и литовские «паны радные» — «в кривом»96. Последний ставился слева от царя и имел форму «глаголя».
ЗА СТОЛОМ
213
Та его часть, что находилась против царского стола, носила название «околничего места» и считалась наименее почетной. Русский гонец Ф. Вокшеринов в 1554 г. сообщал, что дворяне его свиты на обеде в Вилыю сидели «против короля, стол поставлен у другие стены, кабы по нашему околничее». В Москве, если обедающих было больше обычного, к «кривому» столу придвигалась дополнительная «приставка».
Почетность места за тем или иным столом определялась еще и его стороной. Более «честным» признавалось размещение «в лавке», т. е. у стены, лицом к зале. «В лавке» обычно сидели послы, а их приставы — «в скамье», лицом к стене. На предполагавшемся съезде монархов в 1566 г., переговоры о котором вело литовское посольство, членам Литовской рады предназначалось место «в лавке», а Польской — «в скамье».
Обедающие рассаживались за столами согласно местническим принципам, под наблюдением разрядных дьяков. Не обходилось без «спорований», порой весьма бурных даже в присутствии иностранцев. Послов сажали не всех вместе, а по отдельности, в окружении тех лиц, кто по своему статусу приравнивался к тому или иному члену посольства. В противном случае были бы «обесчещены» либо сами послы, либо их русские сотрапезники.
В соответствии с местом все обедающие, включая послов, по очереди подходили к царю, который собственноручно вручал им «чашу» с вином или медом, а за столом получали от него «подачи» вина и еды. Эти разные виды «чести» дополняли и уравновешивали друг друга. Тот из двух равных, кто занимал место ниже, в качестве компенсации получал «подачу» в первую очередь, и наоборот. Теми же правилами регулировалась «честь» русских дипломатов при иностранных дворах. Члены посольства дол-
АУДИЕНЦИЯ И ОБЕД
214
жпы были «итти к руце и за стол сести, и к чаше итти, переменяясь: пойдет которой наперед к королю к руце, и из тех двух которой сядет выше, а третьему наперед к чаше итти». На обедах в Москве «подача» старшему послу следовала обычно после бояр, младшим членам того же посольства — после окольничих, посланникам — после «бол-ших дворян», гонцам — с «детьми боярскими».
«Подача» — получение еды и питья от имени царя или от него лично, что было «честнее». Ее разновидности выражали степень близости к государю, т. е. место данного лица на социальной лестнице. С. Гейс, член посольства Н. Варкоча, отметил, что «подача» из рук государя признается у русских «такой высочайшей милостью, как будто Бог посылает им с неба что-то особенное»97. «Подача» была торжественным актом — название блюда объявлялось вслух, и не только тот, кому оно предназначалось, но все присутствующие должны были при этом встать.
Ни имя, ни даже прикосновение царя не уравнивало блюда между собой, как его присутствие не делало равнозначными все места за столами. Каждое блюдо обладало своей ценностью: голова севрюги стояла выше щуки, пироги — ниже. Самым почетным считалось получение «останков» — пригубленных царем кубков и отведанных им блюд. Тогда их иерархия, видимо, менялась, но с учетом прежней.
Характерна сама формула приглашения послов к столу: их звали «хлеба ести». Совместное «преломление хлеба» было обязательным. Перед началом обеда, когда все уже сидели за столами, наиболее знатным гостям, послам в том числе, царь через стольников рассылал хлеб. «А первое за столом подал царь и великий князь бояром корки», — говорится в посольской книге98. Вероятно, под «корками» имеются в виду ломти, которые отрезались или
ЗА СТОЛОМ
215
отламывались от каравая. На частных пирах в Москве то же самое делал хозяин дома. По другим известиям, рассылались особые хлебцы той же ритуальной солярной формы. Когда угощение отправлялось послам на подворье, приставам предписывалось «наперед подати от государя хлебец». Его торжественно несли по улицам впереди процессии с царским угощением. При всей традиционности этой начальной «подачи», корнями уходящей, вероятно, в языческую древность, в придворной атмосфере с ее негласным обожествлением государя все это не могло не вызывать вполне определенных ассоциаций с евангельскими пятью хлебами, таинством евхаристии и словами Иисуса Христа: «Я — хлеб живый, сшедший с небес: яду-щий хлеб сей будет жить вовек» (Иоан. 6,51).
Важно, что отнюдь не весь хлеб рассылался от имени царя. Калачи, например, свободно лежали на столах или подавались всем желающим (их форму, напоминающую ярмо, Герберштейн счел символом московской деспотии). Тарелок на столах не было, лишь большие блюда с мясом и рыбой, которые расставлялись примерно в локте одно от другого. Отсутствие тарелок Д. фон Бухау, знавший русский язык и читавший летописи, простодушно объяснял традицией, идущей от Владимира Мономаха: тот запрещал брать с собой в походы «какую-либо кухонную посуду кроме одних вертелов» ". Иногда обедающие делали себе тарелки из полученных от государя круглых хлебцев, что, возможно, имело не только практический смысл. В таком случае вся последующая еда, соприкасаясь с главной и первой по времени царской «подачей», оказывалась причастна ее магической силе. Эти «тарелки» затем съедались, как в «Энеиде» Вергилия троянцы съели свою изготовленную из хлеба посуду и, согласно предсказанию, основали Рим на том месте, где это произошло.
АУДИЕНЦИЯ И ОБЕД
216
Соль посылалась далеко не всем. Герберштейн писал, что получить от государя солонку — это самая великая милость, ибо солью он выказывает не просто расположение, но любовь. Может быть, поэтому, как пишет Р. Бар-берини, соль не стояла ни на одном столе, кроме царского (впрочем, другими источниками его свидетельство не подтверждается). В западноевропейском столовом церемониале солонка тоже часто служила мерой почета. В Англии XVI в. она являлась своеобразным ориентиром: наиболее знатные лица рассаживались «выше соли», прочие — «ниже соли».
Важное, хотя и не совсем понятное значение имело также лебединое мясо. Вначале стольники вносили целиком изжаренных лебедей на больших блюдах, торжественно обходили с ними ряды обедающих, затем уносили и через некоторое время подавали царю разрезанными на куски. Ножки он оставлял себе и царевичу, крылья отдавал ближним боярам, а грудки и гузки рассылал гостям. Весь этот сложный ритуал, равно как и то, что лебеди подавались сразу же после хлеба и вина, раньше других блюд, указывает на особую их роль. На Руси лебедь считался птицей, приносящей счастье. В 1577 г., во время победоносного похода в Ливонию, Иван Грозный, угощая у себя в шатре пленного литовского воеводу Александра Полубенского, говорил ему, что встретил («налязл») в Ливонии лебедей100. Очевидно, царь воспринял это как предзнаменование будущих военных успехов. Иначе трудно объяснить, почему Полубснский обратил внимание на его слова и счел нужным упомянуть о такой несущественной, казалось бы, детали в своем кратком донесении королю. Если угощение отправлялось послам на подворье, и день был не постный, жареную лебедятину несли во главе процессии. Второе место принадлежало блюдам из
зл столом
217
журавлиного мяса. Возможно, такая последовательность соблюдалась и на обедах в Столовой палате, что тоже имело какой-то смысл.
Иностранцы в Москве неизменно интересовались еще одним видом царской «подачи». Одни писали, что в конце обеда царь лично раздавал подходившим к нему придворным соленые сливы, которые подаются к жареному мясу («Как у нас лимоны», — добавляет Д. фон Бухау). Другие сообщают о сушеных сливах (черносливе), третьи — о конфетах, а С. Гейс — о жареных в масле кусочках теста («пряженцах»). Во всяком случае, всегда упоминаются какие-то мелкие съедобные предметы. Бывало, что этой царской «подачи» удостаивались только кравчие и стольники, т. е. те придворные, которые прислуживали за столом и сами не могли принимать «подачи» в течение всего обеда. Последнее, видимо, и есть ключ к секрету этого обыкновения.
К концу XVI в. столовый церемониал московского двора окончательно формализовался. В отличие от норм, принятых на частных обедах, где число гостей было не столь велико, царь далеко не всегда передавал еду и питье из рук в руки, да и то самым знатным гостям. Чаще от его лица это делали стольники и чашники. При царе их находилось обычно восемь-десять человек, при царевиче — четверо. Они или просто разносили напитки и блюда от имени государя, или, будучи его устами и руками, сами вначале отпивали из кубка и пробовали пожалованное блюдо, а уже затем передавали его по назначению. Зато раздача царем слив или конфет была строго личной, знаменуя собой не формальную, но физическую связь. Борис Годунов после обеда раздавал какие-то сладости десяткам людей, причем делал это левой рукой — от сердца. Когда он устал, его сменил царевич Федор, тоже ис-
АУДИЕНЦИЯ И ОБЕД
218
пользуя одну левую руку. Заключительная «подача» выражала ту непосредственную, ритуальную связь между государем и подданными, от которой теперь осталась лишь оболочка. Не случайно, как подметил датчанин А. Гюль-денстиерне, Годунов раздавал конфеты лишь тем, кому он во время обеда пожаловал блюда. Если ошибки здесь нет, роль этой конфеты, сливы или «пряженца» можно сравнить с ролью царской печати на составленной от имени государя жалованной грамоте.
Посольские обеды в Москве продолжались по пять-шесть часов. Начинаясь днем, они заканчивались уже при свечах, а порой затягивались до глубокой ночи. Тогда приставы провожали послов на подворье с факелами или фонарями (ночами на московских улицах было небезопасно).
При Грозном пили, в основном, меды. Виноградное вино было относительной редкостью, и даже те послы, кого принимали в Москве с немалыми почестями, за обедом обычно получали от царя единственный кубок вина — итальянского, рейнского или особенно любимой на Руси мальвазии. Ганзейские купцы издавна привозили ее с Крита и из Испании. Венецианец Марко Фоскарини (1557 г.) был приятно удивлен тем, что «эти напитки», «взбалтываемые столькими морями, ничего не теряют ни в запахе, ни во вкусе, разве что делаются еще лучше»101. Иногда во время обеда за стенами дворца стреляли холостыми зарядами из пушек, но этой чести удостаивались исключительно послы Габсбургов, и всегда в ответ на аналогичные почести, оказанные русским дипломатам в Священной Римской империи.
В течение всего времени, пока царь сидел за столом, всем присутствующим запрещалось отлучаться со своего места. При обильных возлияниях это создавало известные неудобства. Р. Барберини вспоминал, что после окон-
ЗА СТОЛОМ
219
чания обеда он сам и его спутники, «позабыв все приличия и скромность», скорее бросились к дверям. «С такой поспешностью, — добавляет он, — не выбегали, быть может, из храма Божьего даже книжники и фарисеи»102. Неприличное поведение турецкого посла Камал-бека (1514г.), который раньше времени покинул столовую палату, посольский подьячий счел необходимым объяснить: «Стола не досидел того деля, что у него ноги были больны»105.
Длительность обедов была обусловлена непрерывным потоком церемоний — «подач», здравиц, «подчиваний» и пр. Тот же Барберини пишет: «Время от времени царь пил за здоровье кого-либо. Тот вставал. За ним и все прочие. Поклонившись, опять садились. И это происходило так часто, что от движений у меня... час от часу все еще усиливался аппетит»101. Я. Ульфельдт вынужден был подняться с места 65 раз. Поссевино за время обеда насчитал 60 здравиц. Герберштейн, дабы всякий раз не вставать, делал вид, будто увлечен беседой и не замечает происходящего вокруг. Это сошло ему с рук при Василии III, но при Иване Грозном такие уловки были уже невозможны.
Все эти церемонии, их последовательность и сопутствовавшие им словесные формулы имели чрезвычайно важное значение — с их помощью для участников обеда определялось или подтверждалось место, занимаемое ими в социальной иерархии. Случайностей здесь не было и быть не могло. На кремлевских обедах присутствовало по 200 человек и больше, но Грозный помнил имена и звания всех сидевших за столами и называл их вслух, чем поражал и восхищал иностранцев.
При нем поведение государя за столом, как и на аудиенции, становится все менее свободным. Иван III позволял себе смеяться и шутить с гостями, но его внук только произносил здравицы и изредка, что было особой мило-
АУДИЕНЦИЯ И ОБЕД
220
стью, «подчивал» обедающих (в 1566 г. он литовских послов «жаловал, им говорил, чтоб ели и пили»). Еще реже царь разговаривал с послами. При этом Грозный, возводя в закон то, что при его предшественниках было обычаем, одновременно сам же и тяготился новыми правилами, тесными для его неукротимой натуры. В 1574 г., испытав понятное злорадство при известии о бегстве во Францию Генриха Анжуйского, чью кандидатуру на польский престол годом раньше предпочли его собственной, царь призвал к своему столу литовских послов и долго беседовал с ними об этом живо интересовавшем его событии и,г>.
На посольских обедах столовую палату и сени перед ней украшали поставцы (разновидность буфета), столы и столики с золотой и серебряной посудой. По словам И. Кобенцеля, ее с трудом могли бы вместить 30 венских повозок. Обилие драгоценной посуды производило сильное впечатление на иностранцев. Часть ее была сугубо декоративной, ата, которой пользовались за столом, группировалась в несколько постоянных наборов, которые содержались в определенных «поставцах» (род посудного шкафа). Некоторые из них, в свою очередь, были приписаны к тому или иному помещению. Когда обед проходил в «Середней палате» Кремлевского дворца, часто выставлялась посуда из поставца под названием «Орлонос». Существовал также особый «Кормовой» поставец; в нем хранилась посуда для угощения послов на подворье. Кроме них, посольские книги XVI в. упоминают еще поставцы «Колодезь», «Соловец», «Судно», «Писарь» и «Христофор» (названия произошли от изображений на них или от наиболее примечательных предметов их набора). Восьмой поставец назывался «Божница». Он находился не в Кремле, а в Александровой слободе и свое имя, ско-
ЗА СТОЛОМ
221
рее всего, получил не случайно — разгульные пиры в столице опричнины нередко пародировали церковную службу. Если их участники во главе с самим царем могли плясать под пение псалмов, ничто не мешало им и молиться па поставец с кубками и ковшами.
Количество и качество посуды, выставляемой на обеде, определялось отношением к данному посольству и его миссии. В 1549 г. на угощении литовских послов, отказавшихся признать царский титул Грозного, использовался поставец «Орлонос», содержавший «суды середние» (посуду среднего качества), а когда в 1557 г. шведское посольство в Москве подписало договор о мире, па обеде «наряд был платью и судом болшой». В торжественных случаях, когда обед бывал особенно многолюдным, выставлялся «болшой» поставец, т. е. какой-нибудь один с дополнительной посудой из всех остальных. На обеде в честь литовских послов, в 1586 г. пригласивших Федора Ивановича занять вакантный после смерти Стефана Бато-рия польский престол, «поставец был болшой — Христофор и из всех поставцов выбор». Для послов персидских в 1598 г. «поставец был болшой — Соловец и прибавочные суды со всех поставцов». Здесь же имеется приписка: «По тому жь, как при прежних послех кизилбаских (персидских. —Л. /О.)»100. Вероятно, существовали наборы, потра-диции используемые при угощении дипломатов той или иной страны, но внутри их ассортимент посуды менялся в зависимости от оказываемой «чести». Литовскому посольству в 1576 г., с прибытием которого у Ивана Грозного вновь появилась надежда занять престол Великого княжества Литовского, «поставец был выбран изо всех поставцов, перед прежним с прибавкою»107.
С конца XVI в. для имперских, английских, а при Лжедмитрии I — и для польских послов стали собирать в обе-
АУДИЕНЦИЯ И ОБЕД
222
денную залу вообще всю имевшуюся во дворце драгоценную посуду. Она «составляла после икон едва ли не первую статью комнатного убранства, заменяя для того времени произведения изящных искусств»1<ж. На угощении А. Допа в 1597 г. «поставцы были в полате у столба все» — вокруг опорной колонны Грановитой палаты, в центре зала. Кроме того, золотая и серебряная посуда стояла у дверей и в сенях, где разместили бочонки, ведра и большие ковши. Главные раритеты помещались на специальных столах— например, немецкие часы «на слонех». Подобные диковинки нарочно ставили таким образом, чтобы послы могли их разглядеть: «Против посолского стола поставлены были суды — инроги и барсы, и л вы, и олени»109. Автор «Дневника Марины Мнишек», в 1606 г. обедавший у Лжедмитрия I, к этому перечню добавляет сосуды в виде грифов, коней, драконов и ящериц, а шляхтич Мартин Стадницкий из свиты Юрия Мнишека составил свой список драгоценных царских кубков, чаш, кружек и раковин для питья, включавший в себя исключительно героев античной мифологии: «Золотой Юпитер на серебряном орле, серебряный Сатурн, Марс, Меркурий, золотой Нептун на серебряных китах, Венера, Юнона, золотая Паллада, Вулкан с серебряными циклопами, золотой Аполлон с серебряными музами, кентавр, Геркулес, Вакх, золотые сатиры»110. На всякий случай ко всем этим сокровищам приставляли специальную стражу.
Сразу после обеда, когда послы возвращались на подворье, им отправляли туда еду и питье прямо из столовой палаты. «А что послам и дворянам в столе было государево жалованье подачи, — рассказывает посольская книга, — и те все ества посыланы послам на подворье»111. Отправлялись именно те блюда, что были пожалованы царем. Съесть их все послы не могли, а оставить на столе — зна-
ЗА СТОЛОМ
223
чило нанести оскорбление хозяину. Русские участники дворцовых обедов поступали точно так же, что некоторые иностранцы приписывали их скупости.
«Жалованье» меда или вина после обеда было самостоятельным видом «чести». «Почестливость чинится за столом и после стола», — говорили приставы. В их обязанности входило отвозить послам на подворье все те напитки, которыми государь «жаловал» их заочно. Если по каким-то причинам они рано покидали столовую палату, приставы по нескольку раз ездили туда и обратно. При «невежливом» поведении послов или недружелюбном характере их миссии они вообще лишались этой «почестливости». В 1562 г. Грозный не велел приставу после обеда ехать с медом к литовскому посланнику Б. Корсаку, потому что король с ним «прислал грамоту недобру»”2. На подворье приставы старались напоить послов допьяна, и не только потому, что спьяну те могли выболтать какие-то секреты. Чтобы оказать уважение хозяину, гость должен был вставать из-за стола пьяным. Не все иностранные дипломаты умели противостоять этому натиску. Бывало, что наутро после упорных «почиваний» они не в состоянии были явиться на переговоры.
После смерти Грозного приглашения к царскому столу становятся все более избирательными. Дипломаты низшего ранга не удостаивались их почти никогда, высшего — эпизодически. Взамен посылались на подворье блюда с дворцовой кухни. Это было связано не только с частыми болезнями Федора Ивановича, его длительными поездками в монастыри или годичным трауром по дочери, царевне Федосье. При Грозном даже его семейная жизнь, религиозные обязанности и развлечения были частью большой политики, ио после него быт русских государей все отчетливее начинает делиться на публич-
АУДИЕНЦИЯ И ОБЕД
224
ный и частный, домашний. Трапеза принадлежит к последнему. Еще позднее, при первых Романовых, эта тенденция укрепилась, и А. Олеарий, посетивший Москву в 1634 г., писал, что если раньше иностранные послы обедали у царя, то теперь угощение почти всегда присылается им на подворье1,3. Торжественные обеды устраивались в исключительных случаях — например, в 1667 г., когда после заключения Андрусовского перемирия Алексей Михайлович дал обед в честь польских послов.
Если угощение заменяло собой царский «стол», оно и посылалось «столом полным», будучи единой «подачей» от государя. В этих случаях количество провизии и напитков бывало огромным. До 400 человек несли по московским улицам блюда и бочки, собирая множество зевак. В 1602 году на подворье к С. Какашу и Г. Тектандеру прибыло около 200 человек, доставивших исключительно рыбные блюда (день был постный). Дело происходило во время небывалого неурожая первых лет XVII в., и нетрудно представить, какие чувства вызывала эта процессия у толпы на улицах. Перед началом обеда старший стольник от имени государя подавал послам хлеб, в назначенном порядке следовали здравицы, «подачи» и «подчиванья», как это происходило в столовой палате — с той лишь разницей, что сам царь при этом отсутствовал.
Архаические представления о том, что он как хозяин лично должен угощать посла-гостя в своем доме-дворце, постепенно уходили в прошлое. Их совместная трапеза уже не считалась необходимым условием успеха дипломатического контакта. На смену патриархальным декларациям близости, посольским обидам и государевым на послов «опалам», когда их не звали к царскому столу, пришла деловая отчужденность, лишь маскируемая видимостью соблюдения старинных обычаев.
ЗА СТОЛОМ
225
Во второй половине XVI в. забота о международном престиже страны и ее верховной власти начала выражаться в таких формах, которые раньше не воспринимались как знаковые. При Иване Грозном церемониал дипломатических обедов («стол») все дальше стал отходить от обычаев, принятых на дворцовых «пирах». Первые устраивались днем, вторые — вечером. Иногда «стол» мог переходить в «пир». В 1558 г. бывший казанский хан Шах-Али «у государя ел, а стол был в Столовой избе, а после с тола царь Шигалей у государя пировал долго вечера»114. В 1564 г. после обеда с участием крымских послов, что уже в то время было большой редкостью, «царь и великий князь пировал»115.
Приблизительно с этого времени «стол» и «пир» раздельно фиксируются посольскими книгами. Раньше большой разницы между ними или не было, или она не осознавалась как существенная. С одной стороны, «стол» отличался все большей парадностью и чинной церемонностью, с другой — «пиры» при Грозном приобрели новый, часто непристойный оттенок. На них появились музыканты, певцы, даже скоморохи. Присутствие последних на дипломатическом обеде исключалось полностью, а про какую-то «музыку из весьма разнообразных инструментов и голосов» упоминает разве что Хуан Персидский. На обеде все было приспособлено для того, чтобы определить и подчеркнуть ранг каждого из сидящих за столом; на пиру безудержное пьянство уравнивало всех, поэтому пирующие нередко надевали маски. В итоге символика официального обеда стала абсолютно несовместима с карнавальной стихией царских пиров.
Из иностранных дипломатов на пирах бывали только крымские, ногайские и, наверное, кабардинские. Их меньше стеснялись, зато и угощали с меньшей пышностью. Для
АУДИЕНЦИЯ И ОБЕД
226
них одних никогда не выставлялась драгоценная посуда — отчасти, видимо, из опасения за ее сохранность, но и по церемониальным соображениям тоже. Демонстрировать перед ханскими представителями богатство царской казны считалось ненужным и даже вредным, чтобы не напрашиваться на вымогательство. При этом вплоть до смерти Грозного на угощении крымских послов первая чаша неизменно выпивалась за здоровье хана, а на обедах в честь представителей всех остальных монархов Востока и Запада вначале пили «государеву чашу».
Глава VII
В «ОТВЕТНОЙ» ПАЛАТЕ
1. Государевы «пахари»
Со времен Ивана III перед русской дипломатией встали задачи настолько сложные, что для их решения в конце концов потребовалось создание особого ведомства. Вначале вопросы внешней политики входили в компетенцию самого великого князя и Боярской Думы, дипломатической перепиской ведал «печатник», в остальном действовала система разовых поручений. Дьяки, ведавшие приемом и отправлением посольств, занимались одновременно и другими делами, но со второй четверти XVI в. они все чаще сосредоточивались на исполнении дипломатических обязанностей. Им в помощь назначались подьячие, приставы, толмачи, переводчики (последние умели переводить письменные тексты, а не только устную речь). Наконец, в 1549 г. Иван Грозный все «посольское дело» передал в ведение подьячего Ивана Михайловича Висковатого, впоследствии — думного дьяка. Считается, что тем самым было положено начало Посольскому приказу как особому учреждению, хотя прообразы подобного ведомства существовали и раньше.
Во всяком случае, дьяки, которые «у посольских дел живут», появились на Руси еще в конце XV в. Они составляли ответственные документы, присутствовали на аудиенциях, вели переговоры с иностранными послами, вы-
В «ОТВЕТНОЙ- ПАЛАТЕ
228
езжали за рубеж в составе русских миссий, где прямо или исподволь направляли их действия во всеоружии своего специфического знания и опыта. Титулованный глава посольства часто являлся ширмой, что за границей отлично понимали. В 1562 г. дьяк Висковатый получил в Дании подарки более ценные, чем «болший посол» князь А. М. Ромодановский.
Уровень образованности посольских дьяков был разным. «Навычный книжному учению» Федор Курицын был связан с еретиками из окружения старшей невестки Ивана III, Елены Волошанки; в середине XVI в. Федор Карпов дружил с Максимом Греком, а сам Иван Висковатый, книжник и знаток иконописи, принимал участие в богословских диспутах, но уже братья Андрей и Василий Щел-каловы, после него по очереди возглавлявшие Посольский приказ, едва знали грамоту, или, по некоторым известиям, и вовсе были неграмотными. Правда, оба они, особенно старший, отличались практической сметкой, прекрасной памятью и колоссальной работоспособностью. Борис Падунов говорил, что для талантов Щелкалова-старшего «мал весь мир», и лишь при Александре Македонском он был бы на своем месте1. Всех этих не похожих друг на друга людей объединяло сознание колоссальной важности возложенной на них своей миссии. В 1594 г. А. Я. Щелкалов, принимая в Москве имперского посланника Н. Варкоча, говорил ему: «И твой, и мой государи во славу христианства начали пахоту, а Борис Федорович (Годунов, еще не взошедший на престол. — Л. Ю.)> я и ты — мы пахари»2. В фольклорной традиции с пахотой сравнивался ратный труд, пахарь уподоблялся воину. Слова «ратай» и «ратник» — однокоренные. Сам этот образ показывает, в какой высокий ряд ставил Андрей Щелкалов свою деятельность и самого себя.
ГОСУДАРЕВЫ «ПАХАРИ»
229
В середине XVII в. Л. Л. Ордин-Нащокин назвал подведомственный ему Посольский приказ «оком всей великой России». Смело переосмыслив евангельское изречение («светильник телу есть око») и расхожее сравнение государя с «оком мира», он поставил светское учреждение на место осененного божественной благодатью монарха. Эта едва ли не еретическая, во всяком случае — принадлежащая Новому времени формулировка имела разные смыслы, в том числе один специфический.
Посольский приказ был государственным «оком» еще и потому, что традиционно занимался внешней разведкой. Она велась через «сходников» — платных заграничных агентов, которые «сходились» с русскими дипломатами или лазутчиками для передачи им «вестей». Первое известие о них относится к 1499 г., когда отъезжавший в Вильно московский посол получил от дьяка Федора Курицына грамоту к его «приятелю», «пану Федке Шестакову». Тот состоял в тайных сношениях с Москвой. Ему предлагалось «без запы» (откровенно) сообщить послу все важные новости, касающиеся не только политики, но и настроений литовского общества — «каково будет слово или речь, или дело которое»3. Лучше всего русская разведывательная служба была поставлена именно в литовских землях, где православные составляли большинство населения. Грозный не раз выказывал поразительную осведомленность по многим вопросам внешней и внутренней политики Речи Посполитой. Михалон Литвин (середина XVI в.) рассказывает о каком-то священнике, который добывал в королевской канцелярии в Вильно копии договоров, решений и протоколов заседаний Литовской рады и пересылал их в Москву1.
Бывший опричник Г. Штаден, передавая свое сочинение о России императору Максимилиану II, «покорней-
В «ОТВЕТНОЙ- ПАЛАТЕ
230
ше» просил, чтобы его сочинение «не переписывалось и не стало общеизвестным». Он опасался мести со стороны Грозного, ибо тот «не жалеет денег, дабы узнавать, что творится в иных королевствах и землях». Как указывал сам Штаден, его сочинение может стать известно царю, имеющему «связи при императорском, королевском и княжеских дворах, через купцов, которые туда приезжают; он хорошо снабжает их деньгами для подкупа, чтобы предвидеть все обстоятельства и предотвратить опасность»5. Набивая себе цену, Штаден сознательно преувеличивал риск стать жертвой царских агентов, однако русские и немецкие купцы действительно выполняли за границей поручения такого рода. В середине XVII в., например, в Москве быстро узнавали о всех перемещениях по Европе самозванца Тимофея Анкудинова, выдававшего себя за сына Василия Шуйского. Без тайных агентов это было бы невозможно. Общий контроль за ними осуществлял Посольский приказ, часто — через выезжавшие за границу русские посольства. «Хорошо подобранные шпионы более чем что бы то ни было способствуют успеху великих замыслов», — писал Ф. де Кальер, с похвалой отзываясь о «мудром обычае», который первыми в Европе завели испанцы — «предоставлять послам особый запас средств для оплаты того, что именуется gastos secretes» (исп. секретные расходы)*. Сведений об этой стороне деятельности посольских дьяков сохранилось немного, но одно лишь упоминание о тайнике в дупле поваленного дерева, куда русские лазутчики должны были положить «писмо» с добытыми «вестями», а послы по дороге в Крым — его оттуда вынуть, открывает широкий простор воображению.
В Посольский приказ стекалась вся информация внешнеполитического характера, добытая как незаконными, так и вполне легальными способами. Дьяки выступа-
ГОСУДАРЕВЫ -пахари-
231
ли в роли аналитиков и экспертов, и они же были хранителями исторической памяти, живыми носителями дипломатической традиции. Именно в Посольском приказе находилась наиболее важная часть государственного архива России. В нумерованных ящиках, ларчиках («ларчик жолт» или «ларчик дубов»), в берестяных коробочках и «коробьях ноугородцких» лежали тысячи документов, связанных с историей внешнеполитических отношений. Самые древние из них датировались XIII в.: в ящике № 148 лежали «дефтери старые от Батья (Батыя. — Л. Ю.) и иных царей, а переводу им нет, нихто перевести не умеет»7. Материалы группировались по государствам, правителям, отдельным посольствам. Примерно с конца XV в. появляются «книги», которые сшивались из «тетратей» и включали в себя не только тексты договоров и грамоты «посыльные», как то было прежде, но вообще всю обширнейшую документацию дипломатических контактов, включая описания приемов и торжественных обедов. Хранились даже черновики наиболее важных документов («черные списки»).
Посольские дьяки и подьячие первыми на Руси, еще при Иване III, отказались от столбцовой формы делопроизводства, которая в других ведомствах просуществовала гораздо дольше. Столбец имел тот существенный недостаток, что, удлиняясь, погребал в себе собственную информацию. Необходимо было размотать весь его серпантин, чтобы найти нужную запись. «Тетрати» и «книги посольские» лучше отвечали потребностям дипломатической службы. Правда, не все документы копировались и заносились в эти сборники, с некоторыми поступали так же, как со «статейным списком» И. С. Колычева, ездившем с посольством в Турцию в 1523 г. О нем сообщается: «А что список послал Иван Семенов (Колычев. — Л. Ю,) о тамошнем хоженье, и тот список в книги не писан, а по-
В «ОТВЕТНОЙ- ПАЛАТЕ
232 мечено на нем: лета да день, да положити тот список в туретцкой ящик»8.
Эти документы поднимались перед очередным раундом отношений с тем или иным государством, когда нужно было восстановить их историю, в том числе этикетную ее сторону. Посольские дьяки представляли царю и Боярской Думе сведения о «чести», оказанной прежним представителям того монарха, который прислал посольство ныне. Опираясь на прецеденты, определяли церемониал будущей аудиенции, состав «ответной» комиссии, решали, кого назначить в «болшую встречу», кого — в «меншую», дабы ни послам, ни государевым людям «порухи чести не было б». Такая подготовительная работа проводилась перед прибытием каждого крупного посольства.
Иногда архивные документы предъявлялись иностранным послам. Когда в 1566 г. поляки вновь отказались признать царский титул Грозного, им прямо на переговорах продемонстрировали несколько «грамот», в которых западные монархи этот титул употребляли. «Говорите, — заявили бояре, — что государь ваш не пишет государя нашего того для, что иные никоторые государи нашего государя царем не пишут... И коли вам о том ведома нет, а нашим речам не верите, ино во се грамоты цесаревы и иных государей, и вы смотрите тех грамот, как в них писано». Показаны были послания императора Максимилиана I, испанского короля Филиппа II, королей Дании и Швеции. Поляки предложили направить эти документы Сигизмунду II Августу, дабы король с ними ознакомился лично. На это бояре отвечали, что такие грамоты никогда никому не показывают, и «непригоже» сокровища государевой казны отправлять за границу. «А мы ныне вам их показали, — заключили они свой приговор, — спору для и безделпово для вашего упрямства»9. Через четверть столетия и тоже
ПЕРЕГОВОРЫ
233
с целью доказать право Грозного на царский титул к документам архива был допущен А. Поссевино.
Большая часть того, что хранилось в двух с лишним сотнях его ящиков и ларчиков, сгорела в пламени московских пожаров, пропала в годы Смуты или просто истлела от времени. В описи архива Посольского приказа, составленной после страшного пожара 3 мая 1626 г., состояние многих уцелевших документов характеризуется следующим образом: «ветхи гораздо», «харатью от жару сволокло и воском поизлито», «печать растопилась и запись попортило» , «в середке продрано», «ветха, изодрана и мыши изъели», «от воска пообвощала», «в пожар истоптаны и изгрязнены, и писма не знать» (нельзя разобрать написанное), но не стоит винить в небрежности посольских дьяков и подьячих. Ценность архива они сознавали, ибо сами принадлежали эпохе, когда в хранилищах средневековых канцелярий впервые «были установлены обычаи дипломатии как науки, основанной на прецеденте и опыте»10.
2. Переговоры
Переговоры с иностранными послами («обмова», «розго-вор») проходили также в Кремлевском дворце — в «Набережной палате, где бояре судят». В отсутствие государя Боярская Дума разбирала здесь текущие дела. Посольские книги чаще называют эту палату просто «ответной». В ней, а не в приемных покоях, послам давался «ответ» на привезенные ими грамоты и обсуждались проблемы, для разрешения которых прибыло посольство. В относительно свободной обстановке «ответной» палаты, когда обе стороны не были стеснены присутствием государя.
В «ОТВЕТНОЙ» ПАЛАТЕ
234
бушевали страсти, сталкивались аргументы, цитаты из Священного писания перемежались божбой, угрозами или взаимными обвинениями, а на переговорах с литовскими дипломатами, когда хозяева и гости обходились без толмачей, — и вульгарными перебранками. Здесь бывало всякое: как-то в пылу полемики один из бояр в гневе плюнул на датского посла.
Первая аудиенция фактически была представлением послов государю. В этот день переговоры не велись, поскольку требовалось время, чтобы перевести полученные грамоты, прочитать их царю и составить «ответ». В дальнейшем послы переходили в «ответную палату» сразу же после аудиенции, исключая те дни, когда их приглашали к царскому столу.
Переговоры без предварительного приема у государя считались «безчестьем» для послов, и по традиции каждому их туру предшествовала высочайшая аудиенция. Когда в 1554 г. русские послы в Вильно отказались вторично идти на переговоры с литовскими «панами радны-ми», лишь однажды побывав у короля, им напомнили, что незадолго перед тем и литовские послы, видев «государ-ские очи» один раз, «по дву крот (дважды. — Л. Ю.) на об-мове сидели»11. В обоих случаях нарушение обычая было вызвано спорами по поводу царского титула Грозного. Если дело касалось европейских дипломатов, такая практика — скорее исключение, чем правило. Лишь послы крымские и ногайские, единожды побывав у государя, затем отправлялись на переговоры без предваряющей их аудиенции. Это считалось нормой и ни к каким недоразумениям не приводило. Аудиенция символизировала то обстоятельство, что государь благословляет всех участников «обмовы», которая будет проходить хотя и без него, но в его дворце и под его незримым патронажем. Подобные
ПЕРЕГОВОРЫ
235 условности мало что значили в русско-крымском посольском обычае, где символика была примитивной, а этикетные нормы—семантически менее насыщенными. В XVII в. переговоры с крымскими послами велись даже не в царских палатах, а в помещении Посольского приказа.
В «ответную» палату вначале входили послы с приставами, затем появлялись бояре и дьяки, кому царь «указал быти у послов в ответе». Такой порядок был «честнее» для русских, ибо послы, дожидаясь их, оказывались в положении просителей. Послы встречали бояр посередине палаты и здоровались с ними за руки («руки подавали»). С мусульманами русские «карашевались». Потом приставы и свита покидали помещение, оставались только толмачи, если в них имелась нужда.
В Москве по возможности старались использовать своих толмачей, состоявших при Посольском приказе, — крещеных татар, ливонских немцев и пр. Толмачам, которые приезжали с послами, не доверяли. В особенности это относилось к полякам и литовцам, часто состоявшим в качестве переводчиков при западноевропейских миссиях. Услуги этих лиц отметались заранее, ибо в них не без основания подозревали шпионов. Послы тоже иногда заявляли отвод русским толмачам, как случилось, например, в 1617 г., во время пребывания в Москве шведского посольства. Узнав, что переводчиком у них будет некто Арндт Бок, «беглый преступник», шведы предпочли говорить по-немецки, лишь бы не прибегать к помощи этого человека12.
До начала XVIII в. официальным языком западной дипломатии оставалась латынь. На Руси она была доступ-нам немногим, прежде всего — грекам, хотя, например, дьяк Григорий Истома успел выучить ее при дворе датского короля, к которому ездил с посольством в 1496 г.,
В «ОТВЕТНОЙ»ПАЛАТЕ
236
причем так хорошо, что говорил на ней с иностранцами. Национальными языками стран назначения не владели в то время ни русские, ни западноевропейские дипломаты, но, в частности, послами Священной Римской империи в Москву нередко становились выходцы из славянских земель. Преимущество их положения состояло в том, что они хотя и не могли изъясняться по-русски, зато понимали речь окружающих лучше, чем порой считали нужным показать. Случай с австрийцем Гандельсом, пытавшимся говорить с боярами на специально выученном церковнославянском, при всей его курьезности характеризует именно дипломата западного типа. Русские иностранных языков не знали и не стремились их выучить. Разве что дьяк Иван Фомин, в 1614 г. ездивший гонцом к Рудольфу П в Прагу, говорил и писал по-немецки и по-английски. В Москве, правда, многие понимали по-польски, поскольку владели западнорусским наречием — одним из двух официальных языков Великого княжества Литовского. Им овладевали на практике, при общении с литовскими дипломатами. Кроме того, в придворной и приказной среде немало было выходцев из Литвы.
После взаимных приветствий послы и члены «ответной» комиссии рассаживались по лавкам друг напротив друга. Стол для переговоров появился в XVII в., а до этого были только лавки, крытые «полавошниками суконными и камчатными». Бояре, «посидев мало», вставали и от лица государя «говорили ответ» на привезенные послами грамоты. Делать это полагалось стоя, потому что постоянно приходилось повторять имя и титул царя. Текст «ответа» предварительно распространялся среди думных людей по отдельным пунктам («статьям»), и каждый по очереди произносил свою часть. Иногда «ответ говорили наизусть по статьям», чаще — «по писму по статьям»
ПЕРЕГОВОРЫ
237
(зачитывали с листа). К середине XVI в. «ответы» разрослись настолько, что заучивать их стало трудно, а то и невозможно — говорить следовало слово в слово, никакие вольности не допускались. Послы слушали стоя, а при произнесении «царского имяни», с чего начинался каждый пункт «ответа», должны были снимать шляпы. Затем все вновь садились на лавки и начинались собственно переговоры. Впрочем, в первый день это бывало редко. Послам нужно было время, чтобы подготовить свой «ответ». Они возвращались к себе на подворье, а вечером или на следующее утро им туда присылали царский «ответ» в письменной форме.
Царь лично контролировал ход переговоров. Ему подробно докладывали о каждом их этапе, а порой представляли списки посольских «речей». В начале XVII в. в «ответной» палате был устроен специальный тайник («смот-рильная решетка»), через которую он мог видеть и слышать все, что там происходит (еще позднее аналогичное устройство появилось в стене Грановитой палаты, чтобы члены царской семьи могли любоваться зрелищем посольских аудиенций).
Между очередными турами переговоров проходило несколько дней, а то и недель. Это было обусловлено необходимостью консультаций с государем и подготовки к следующему «розговору», где каждая сторона представляла противной письменное изложение своей позиции по всем обсуждавшимся вопросам. Случалось, что эту подготовку намеренно старались затруднить. В 1549 г., после долгих споров о царском титуле Грозного, литовские послы попросили дать им «выпись о царском поставлении, которым обычеем государь на царство венчался, и как предки его то царьское имя взяли», но в просьбе было отказано. «Толко им писмо дати, — приговорил царь с боярами, —
В -ОТВЕТНОЙ» ПАЛАТЕ
238
ино вперед о том отвегы умыслят, и тогды будет в речех говорити о том тяжеле, коли о том ответы составят»13.
Кшиштоф Варшевицкий, польский дипломат и мыслитель конца XVI в., в своем сочинении «О после и посольствах» разработал принцип соответствия между личными качествами человека и страной, где на дипломатическом поприще он может принести наибольшую пользу Речи Посполитой. В Турцию, по Варшевицкому, нужно посылать людей отважных, которых нельзя запугать, и не скупых, чтобы не жалели денег на подкуп приближенных султана, ибо там без этого ничего нельзя добиться. В Рим, к Папе, лучше всего направить человека набожного, однако лицо светское предпочтительнее, чем духовное, иначе курия легко подчинит его своему влиянию. Послы к итальянским государям должны обладать хорошими манерами, во Франции для успеха нужен быстрый ум, в Англии — Достоинство, в Испании — скромность, а переговоры при дворе Габсбургов надежнее всего поручить тем, кто отличается упорством и твердостью характера. В Москву, как считал Варшевицкий, в 1582 г. сам принимавший участие в русско-польских переговорах, следует направлять людей предусмотрительных, осторожных, способных терпеливо вести на переговорах долгие «торги»14.
Последний из этих советов, как, впрочем, и остальные, носит достаточно умозрительный характер. Во все времена и у всех народов опытный дипломат должен был обладать «терпением часовщика» (Ф. де Кальер). При всем том Варшевицкий прав: переговоры в Москве с польско-литовскими послами в самом деле напоминали «торг».
Вначале русские обычно требовали вернуть Киев, Витебск, Полоцк и т. д. Послы, в свою очередь, претендовали на Новгород, Псков, даже на Тверь. Ни та, ни другая
ПЕРЕГОВОРЫ
239
сторона всерьез к этим требованиям не относилась. «Где Новгород? — в 1536 г. возмущались бояре в ответ на подобные претензии. — Где Псков? И творца тому нет, отколе те ваши речи!»15 Литовские дипломаты примерно так же реагировали на попытки включить в список подлежащих обсуждению вопросов пункт о возвращении Киева. Все это «высокие речи», т. е. требования взаимоневыпол-пимые. Они демонстрировали уровень идеальных запросов и знаменовали собой начальный этап переговоров.
Постепенно обе стороны «спускали в речах». Этот процесс сопровождался ожесточенными «спорованиями» и растягивался на несколько туров. «И поехали послы с двора кручиноваты, — описывает посольская книга завершение очередного тура, — потому что бояре им в речех не спустили»16. «Высокие речи» звучали при обсуждении каждого пункта повестки переговоров. Существовал специальный термин — «посредствие», обозначающий среднее между требованиями обеих сторон, итог компромисса на пути от желаемого к реально возможному. Упорные «торги» возникали при определении срока мирных договоров. В 1522 г., после успешной для Вильно войны, литовские послы в Москве предложили заключить перемирие на десять лет. Бояре в ответ высказались за срок в два-три года, тем самым демонстрируя готовность вскоре вновь начать военные действия. Послы назвали новые цифры — от восьми до шести лет, бояре — четыре года. В результате было найдено «посредствие»: перемирие заключили на пять лет, к чему обе стороны примерно и стремились.
Краткосрочные перемирия русские дипломаты старались заключить с таким расчетом, чтобы их срок истекал не весной и не летом, а осенью, на худой конец — зимой. Тогда полевые работы не могли помешать сбору ополче-
В «ОТВЕТНОЙ* ПАЛАТЕ
240
ния. Для Речи Посполитой, где значительная часть войск была наемной, это было не так важно. В 1586 г. русские дипломаты считали крупным своим успехом тот факт, что удалось продлить перемирие до ноября — «для того, тол-ко с Литвою доконченье не зделаетца (мирный договор не будет заключен. — Л. Ю.), ино к зиме промышляти войною, а не в лето»17.
Обычай долгих «торгов» выработался в русско-литовской переговорной практике, но постепенно стал восприниматься в Москве как единственно правильный. Когда Стефан Баторий презрительно назвал его «торговлей», Иван Грозный возразил: «Ато не торговля — розговор!»18 По словам царя, Баторий на переговорах все «делает одним словом, с бесерменского обычая, а розмовы никоторые не делает» ,9. Это заявление, адресованное А. Поссе-вино, содержит в себе скрытую издевку. До 1576 г. Баторий занимал престол зависимого от Османской империи Трансильванского («Седмиградцкого») княжества; в Москве и в Вене его считали ставленником султана и обвиняли в союзнических отношениях со Стамбулом. Это щекотливое обстоятельство Грозный и напомнил папскому легату, упомянув о свойственном королю «бесерменском обычае».
Возможно, подобные обвинения послужили причиной того, что в 1582 г., на переговорах в Яме Запольском, польско-литовская делегация решительно отвергла предложение Поссевино (он был посредником на этих переговорах) подписать мирный договор с Москвой сроком на девять лет. «Тое слово деветь, — возмутились представители Батория, — межи великими господари и в письме непригожо: але нехай будет на осмь, на семь, на пять лет, атолко не на деветь»20. В данном случае королевских дипломатов насторожила, очевидно, мусульманская символи-
ПЕРЕГОВОРЫ
241
ка числа «9» (вспомним «девятные» поминки), с которой папский легат мог быть и не знаком. Заключение мира сроком на девять лет дало бы Грозному повод истолковать э го как склонность Батория все делать «с бесерменского обычая».
Польский король также не упускал случая упрекнуть царя в близких отношениях с «агарянами». «Ты словом пеприятельми зовешь, — писал он, обвиняя Грозного в связях с татарами, — и гнушаешься ими, а речью (полъск. rzecz — дело. — Л. Ю.) наболшую крепкость покладаешь и с ними ся сватишь»21. Последнее — намек на свадьбу Грозного с Марией Темрюковной.
Без антимусульманских деклараций не обходились пи одни русско-литовские переговоры. Формула «кровь хри-стьянская льется, а бесерменская рука высится», выражающая сожаление по поводу раздоров между христианами, встречается в «посольских книгах» несколько десятков раз на протяжении всего XVI в. Такие заявления сущностного значения не имели, реальная политика никак с ними не соотносилась, носами они являлись обязательным элементом переговорного процесса. Каждая из сторон стремилась обвинить противную в том, что та «накупает бесерменство на христьянство». Если сузить формулировку, это была чистая правда, поскольку и Москва, и Вильно с Краковом регулярно посылали в Крым богатые дары с целью отвести ханскую саблю от себя и направить ее на соседа. Другого выхода у них просто не было, но признаваться в этом никто не хотел.
И русские, и литовские дипломаты всегда старались подчеркнуть, что их требования продиктованы не прагматическими соображениями, а христианской этикой. В 1537 г. в Вильно, добиваясь освобождения пленных, вернее — обмена русских «великих людей» на «молодых лю-
В -ОТВЕТНОЙ» ПАЛАТЕ
242
дей» короля, послы говорили: «Ино великий человек хри-стьянин, и молодые люди христьяне же, душа однака!»22 Даже инициатива начала мирных переговоров, что демонстрировало слабость одной из сторон, объяснялась исполнением божественной заповеди смирения: «Яко же и мы оставляем должником нашим». Побежденный тут — заимодавец, а победитель, захвативший его территорию, — должник, которому следует простить, «оставить».
В 1566 г. бояре от имени царя требовали у литовских послов возвращения Подолья, мотивируя это следующим образом: «И брат бы наш (Сигизмунд II Август. — Л. Ю.) то с души предков своих свел, того б нам поступился, штоб то на душе предков его не лежало»23. Согласно логике этих «высоких речей», король, вернув Подолье, мог искупить грехи своих предшественников на престоле, захвативших эти земли у предшественников Грозного. Когда же литовские послы в своих «высоких речах» потребовали возвращения Смоленска, бояре отвечали, что предки царя и предки короля, завоевав различные земли, «на суд Божей отошли», и живые не вправе судить мертвых — человек не может считаться христианином, если он пытается подменить собой Бога в Его непостижимой для смертных правде. «Какое то христьянство, что Божей суд восхища-ти?» — риторически вопрошали бояре21. Нетрудно заметить, что их первый тезис полностью противоречит второму. В одном утверждается правомочность оценки деяний мертвых, в другом — отрицается, но и тут, и там тенденция одна — утвердить свою позицию на фундаменте христианской этики. При этом отношение к покойным монархам определялось представлениями о католицизме и протестантизме как религиях «еретицких». На переговорах со шведами в 1646-1647 гг. русские дипломаты категорически отказались применить к недавно умершему
ПЕРЕГОВОРЫ
243
Густафу Адольфу выражение «блаженные памяти», которое применялось ими к Михаилу Федоровичу и означало, что усопший царь пребывает в раю. Для них невозможно было признать шведского короля-протестанта достойным вечного блаженства25.
«Дипломатия прежде всего сфера культуры — культуры общения и взаимопонимания», — заметил С. О. Шмидт26. Однако в этой сфере сталкивались взаимоисключающие подходы не только к политической, но и к культурной реальности. При Алексее Михайловиче в Посольском приказе составляли списки с цитатами из выпущенных в Речи Посполитой книг, где имелись обидные для русских государей высказывания; затем московские дипломаты требовали компенсации за «бесчестье» или смерти виновных. «Польских дипломатов такая практика ставила в тупик — в Речи Посполитой любой шляхтич мог издать все что угодно, в преддверии Сейма в шляхетской республике распространялись памфлеты, содержавшие критику короля. Тем более невозможным представлялось изъять из всех печатных изданий негативные упоминания о России»27.
Иногда на дипломатических партнеров пытались воздействовать не только словами. В 1608 г., во время переговоров, которые вело в Вавеле русское посольство, на королевском дворе вдруг начали стрелять из пищалей. Послы заметили: «Для чего та стрельба? Будет король те-шитца, и то в его воле, а будет нас для, и нам то не диво, мы в ратех бывали и стрельбу знаем»28. После этого ружейную пальбу, призванную сделать послов более сговорчивыми, велено было «унять».
На мирных переговорах в Москве применялись различные приемы с целью вынудить иностранных дипломатов (прежде всего —польско-литовских) куступкам. Для этого в первую очередь важно было понять, действитель-
В •ОТВЕТНОЙ» ПАЛАТЕ
244
но ли выставленные ими условия являются пределом их полномочий, или между их требованиями и королевским наказом имеется некий «зазор», который послы хотят сохранить в собственных интересах. В таком случае они могли бы рассчитывать на вознаграждение от короля, ибо добились большего, чем от них ждали. Чтобы выяснить этот вопрос, послов надолго задерживали в Москве, под любыми предлогами оттягивая очередной тур переговоров. Если они продолжали настаивать на окончательном характере своих условий, переговоры не возобновлялись, и послы начинали демонстративно готовиться к отъезду. Тогда приставам поручалось проверить, насколько тверды они в своих намерениях. Приставы должны были осторожно «задрать» послов (вызвать их на откровенный разговор), чтобы те «еще захотели на двор ехати и дело де-лати». В 1537 г. приставу при посольстве Я. Глебовича предписывалось «жалобно мол вити» послам: «Толко, Панове, по грехом христьянским не станетца межи государей доброе дело (мирный договор. — Л. 70.), и у нас толко были кони розседланы, а ныне нам опять кони седлати»29. Посольские дьяки надеялись, что этой доверительной жалобой пристав вызовет послов на ответные откровения.
Наконец применялось крайнее средство: испытывая твердость их позиции, государь давал им прощальную аудиенцию и назначал день отъезда. Послы укладывали вещи, садились в седла или в сани, но в самый последний момент, убедившись, что они действительно дошли до предела своих полномочий, приставы задерживали готовых к отъезду дипломатов и вновь приглашали на переговоры во дворец.
С представителями других европейских государств обсуждались вопросы не столь животрепещущие, поэтому переговоры с ними обставлялись проще, хотя их пре-
ПЕРЕГОВОРЫ
245
бывание в «ответной» палате подчинялось тем же нормам. С послами ногайскими и крымскими говорили в обстановке гораздо менее церемонной, особенно если это происходило не во дворце, а в здании Посольского приказа. Дьяки интересовались планами хана, мотивами его действий и т. п. Например, в 1591 г. А. Я. Щелкалов, даже не «карашевавшись» с посланцами Кази-Гирея, учинил им допрос по следующим пунктам:
1. До сих пор хан не присылал в Москву послов для заключения мира по собственной воле или под давлением турецкого султана?
2. Нынешнее посольство прибыло не «обманом» ли? Не для того ли, чтобы скрыть истинные намерения хана,замышляющего набег на русские земли?
3. В недавнем походе на литовские «украины» имел ли хан в своем войске «вогненный бой» (артиллерию)?
4. Каковы ныне взаимоотношения между ханом и султаном с одной стороны, и польским королем — с другой?
5. Существуют ли дипломатические связи между Крымом и Швецией? (На последний вопрос был получен ответ, что Юхан III прислал Кази-Гирею деньги с просьбой «воевать Москву»)30.
Честность при ответе на такие вопросы покупалась подарками, реже — деньгами. В 1593 г. для получения подобных сведений В. Я. Щелкалов «втай» (тайно) дал одному из крымских гонцов пять рублей, а другому — десять31. Дело, видимо, было вполне обыкновенное, и подьячий отметил этот случай лишь потому, что вместо шуб гонцы получили рубли, да и сумма оказалась достаточно велика. Попытки подкупа западных дипломатов и посредников на переговорах («чтоб они доброхотали») предпринимались нечасто, и то нс в прямой форме, а в виде обещания, что государь их потом «пожалует». Впро-
В «ОТВЕТНОЙ» ПАЛАТЕ
246 чем, все это делалось «втай», и свидетельств почти не сохранилось.
Взаимное недоверие — характерная черта дипломатии как таковой. «Они лгут вам? Ладно. Лгите им еще больше!» — наставлял своих послов Людовик XI. По Г. Уотто-ну, посол — это «муж добрый, отправленный на чужбину, дабы там лгать на пользу отечеству». В Москве даже бытовало мнение, будто все литовские посольства «делаются неправдою», чтобы «время чем попроизволочити». Не доверяли и другому ближайшему соседу — Швеции. Когда Эрик XIV, заключивший союз с Россией, был свергнут с престола своим братом, будущим королем Юханом III, русский гонец в Стокгольме Андрей Шерефетдинов заподозрил, что этот почти бескровный переворот — нс более чем фарс, разыгранный шведами с целью ввести в заблуждение русское посольство И. М. Воронцова и уклониться от взятых на себя по договору обязательств о совместных действиях против Речи Посполитой. Шерефетдинов донес в Москву: «То дело меж ими (Юханом и Эриком XIV. — Л. Ю.) было обманкою, что по Иванову (Воронцова. — Л. Ю.) посолству дела не хотели делати (выполнять условия договора. — Л. Ю.)\ стрельбою стреляли ухищреньем на обе стороны, людем изрону не было»32. Эту же трактовку переворота 1568 г. повторил сам Грозный, некоторое время считавший нового шведского короля подставным лицом, каковым он сам позднее сделал Симеона Бекбулатовича. Царь писал королю: «И то уже ваше воровство все наруже — опрометаетесь, как бы гад, розными виды»33. На самом деле переворот произошел настоящий, Эрик XFV был заключен в тюрьму, где и умер, но Грозный полагал, что его обманывают, что король, подобно сказочному змею («гаду»), лишь переменил обличье, по сути оставаясь самим собой. Это фантастическое пред-
ПЕРЕГОВОРЫ
247
положение вытекало не только из гипертрофированной подозрительности царя, но из самого духа тогдашней дипломатии.
Чтобы в нужном направлении воздействовать на партнера, хороши были все средства. В 1591 г., вскоре после того, как кахетинский царь Александр I признал себя вассалом Федора Ивановича, Борис Годунов заверил грузинских послов в Москве, что «все великие государи христь-янские — цесарь римской и король ишпанской, и король францовской, и литовской король, и иные великие государи, все учинились в государя нашего воле, и что государь наш им ни прикажет, и они так и учинят»31. Картина мира, нарисованная царским шурином, носит совершенно фантасмагорический характер, но о правдоподобии в данном случае можно было не заботиться: «иверские» дипломаты вряд ли вообще знали о существовании «фран-цовского» короля. Все это должно было убедить царя Александра I в правильности принятого им решения, поскольку так же, как он, поступили все монархи Европы.
Годом позже, на переговорах с крымскими послами, пытаясь разрушить наметившийся союз Кази-Гирея со шведским королем, посольские дьяки утверждали, что Юхан III якобы поддерживает дипломатические отношения только с новгородскими наместниками, а «до государя нашего ему дела нет»; следовательно, союз хана со Швецией, направленный против России, не имеет смысла. В этом случае Кази-Гирей не приобретет ни малейших выгод от связей с Юханом III, ибо «взяти у него нечего ж, сам беден и голоден, и с таким наперед для чего ссыла-тись?»35 В свою очередь имперские дипломаты в Москве настаивали на фактическом (на самом деле — номинальном) сюзеренитете Габсбургов над Пруссией и Ливонией, польско-литовские послы грозили боярам несуществую-
В «ОТВЕТНОЙ* ПАЛАТЕ
248
щими союзническими договорами между Сигизмундом I и СахибТиресм, а Л. Новосильцева в 1584 г. в Стамбуле уверяли, будто короли Франции, Англии и Испании платят дань султану.
3. Полемика. Слово «изустнее»
До Смутного времени в дипломатической полемике широко использовались примеры из всемирной и священной истории, свидетельства летописей, цитаты из Библии и святоотеческих писаний или аллюзии на них. Они присутствовали в документах и в устной речи, особенно часто — при дьяке И. М. Висковатом. Он возглавлял Посольский приказ с 1549 по 1570 г., когда был обвинен в тайных сношениях одновременно с турецким султаном, крымским ханом, князем Андреем Курбским и польским королем, которому будто бы намеревался передать Новгород и Псков, и подвергнут мучительной публичной казни через рассечение (Альберт Шлихтинг рассказывает, что он умер после того, как ему отрубили половой член). Обвинение в столь масштабной государственной измене типично для эпох «большого террора», но оно же характеризует широту политических интересов Висковатого. В памяти современников он остался как опытный дипломат, но прежде всего — как несравненный оратор и полемист. «Муж, искусством красноречия замечательный более прочих», — писал о нем Пауль Одсрборн36.
Висковатый был настолько «навычен» слогу церковно-учительной литературы, что ему доверяли писать грамоты от имени митрополита Макария. В то же время он отличался вольномыслием и полагал, например, чтоХри-
ПОЛЕМИКА. СЛОВО «ИЗУСТПЕЕ»
249
стос па кресте пострадал «не плотью». Как упоминал сам Висковатый, эту еретическую идею он почерпнул из какой-то книги, принадлежавшей боярину В. М. Юрьеву. В другом случае он ссылался на Иоанна Дамаскина, причем указывал, что эта книга, владельцем которой был боярин М. Я. Морозов, находится у него «в избе» (имелась в виду «посольская изба»)37. Оба эти боярина неоднократно ездили с посольствами за границу и участвовали в переговорах с иностранными послами в Москве. Возможно, не без их участия при Висковатом в Посольском приказе была собрана библиотека, используемая в том числе и для дипломатических нужд. Ес размер и состав определить трудно, но известно, что среди книг этой библиотеки имелись русские «летописцы», польские и литовские хроники, какая-то «датцкая козмография», «Евангельские беседы» Иоанна Златоуста, Коран, русское и латинское Евангелие (для присяги татарских и западноевропейских послов)38. Наверняка были и другие сочинения, сведений о которых не сохранилось. Вероятно, эта библиотека пришла в упадок или была слита с царским книгохранилищем после казни Висковатого, когда на смену ему пришли гораздо менее образованные братья Щелкаловы. По тексту «посольских книг» заметно, как с их приходом упал интеллектуальный уровень полемики на переговорах.
При Висковатом обычным полемическим приемом было проведение аналогии между конкретной политической ситуацией и ее библейским архетипом. В 1559 г., объясняя литовским послам причины Ливонской войны, бояре вспоминали Евангелие от Матфея: «Аще в котором дому не приимут вас, прах от ног ваших отрясете во сви-детелство их» (Мтф. 10, 14). Имелось в виду, что искреннее желание уладить дело миром ни к чему не привело по вине противной стороны. При этом, вероятно, подразу-
В .ОТВЕТНОЙ.ПАЛАТЕ
250
мевался и следующий стих: «Истинно говорю вам: отраднее будет земле Содомской и Гоморрской в день суда, нежели городу тому» (Мтф. 10, 15). Подразумевалось, что попытки царя вразумить грешников окончились неудачей, поэтому пришлось прибегнуть к иным средствам. «Целиком Вавилона и не исцеле, и несть ему откуды помощи» (Иер. 51, 9), — констатировали бояре, используя туже популярную цитату, которую столетием позже запорожцы привели в своем послании турецкому султану.
В пропаганде, рассчитанной на Габсбургов и польских католиков, едва ли не главной причиной Ливонской войны объявлялось распространение в Прибалтике лютеранства (этимология имени Лютер возводилась к слову «лютый»). «Вавилон» — это впавшая в ересь протестантская Ливония, которую Грозный наказывает за «вины» не столько перед ним самим, сколько перед Богом. Бояре даже брали на себя смелость обещать, что царь простит «вифлянтов», если они «вразумеют будет к Богу исправи-тися». В борьбе столкнулись не Ливонский орден и Москва, а новый Вавилон и «разумный Иерусалим». Объявлялось, что поход в Прибалтику предпринят «по Божию слову», ибо «всяк пастырь душу свою полагает об овцах и иных в паству привести желает, и яже не суть от двора его, да глас его слышат, и будет едино стадо, и един пастырь!» (Иоан. 10,11-16)Ч9. Здесь, как и во многих других случаях, проводилась прямая параллель между Иваном Грозным и самим Иисусом Христом — «добрым пастырем».
Когда в войну вступило Великое княжество Литовское, острие этой пропаганды было направлено и против него. Даже взятие Изборска отрядом воеводы Полубенского декларировалось как «плен Сиона от Вавилона». Хотя лютеране и ариане составляли ничтожное меньшинство литовских магнатов и шляхты, на торжественном бого-
ПОЛЕМИКА. СЛОВО «ИЗУСТНЕЕ*
251
служении после взятия русскими войсками Полоцка в 1563 г. подчеркивалось, что царь одержал победу над «лю-торами»40. Тем самым Москва пыталась противопоставить друг другу две части Польско-Литовской федерации, чтобы предотвратить их окончательное слияние. Эта пропаганда была столь мощной, что даже спустя два десятилетия, когда она давно утратила свою актуальность, автор «Повести о прихожении Стефана Батория на град Псков» продолжал находиться под ее влиянием: для него ревностный католик Баторий — «люторския своея веры воин»41. При этом отношения с лютеранской Данией сохранялись самые дружественные.
В первые годы Ливонской войны литовские дипломаты всячески старались отвести от себя подозрения в протестантизме, зная, что в противном случае им труднее будет выполнить свою задач}7. В 1558 г. Остафий Волович, один из руководителей внешней политики Вильно, говорил русскому посланнику Р. В. Алферьеву-Нащокину, что «в их государя царстве учинилось дело злодейское, великое люторство», и если при нем, Воловиче, «учнут которое дело неподельное говорити, злодейское люторство, и он в те поры сказывает втайне Создателя и Пречистую Богородицу поминает» 42. Бывали случаи, когда шляхтичи-протестанты из бывших православных, приезжая с посольствами в Москву, посещали русские церкви, чтобы скрыть свою вероисповедную принадлежность.
Идея славянской общности возникла еще в польской литературе XV в. Она была широко распространена среди высших слоев западнорусского общества (Ивана Грозного приглашали на престол Речи Посполитой как «человека роду славянского») и нашла отражение в дипломатических документах и в протоколах переговоров. В 1601 г., выдвигая проект русско-польско-литовской федерации,
В -ОТВЕТНОЙ* ПАЛАТЕ
252
посол Л. Сапега говорил в Москве, что пароды, управляемые Борисом Годуновым и Сигизмундом III, «происходят от единого народа славянского» и «суть одной веры и одного языка»43. Подавляющее большинство населения Великого княжества Литовского составляли православные, и постоянные войны между двумя сильнейшими государствами Восточной Европы, чьи народы были этнически родственными, говорили на близких языках и исповедовали одну религию, требовали от Москвы представить свою политику как подчиненную сакрально-этическим целям. Политический противник объявлялся религиозным отступником.
В полемике, насыщенной такого рода мотивами, популярна была формула «а ныне тот же Бог». Настаивая на том, чтобы литовские послы признали царский титул Грозного, бояре вспоминали: «Александр король (великий князь литовский Александр Казимирович. — Л. Ю.) деда государя нашего не учал был писати «всеа Руси», и Бог на чем поставил? Еще к тому Александр король и многое свое придал, а ныне тот же Бог!»11 В другой раз после рассказа о походе киевских князей на Царьград, что призвано было показать могущество родоначальников династии Рюриковичей, последовало резюме: «А ныне тот же Бог и государя нашего правда». Правильность конкретной позиции зижделась на представлениях о неизменности миропорядка. Ироническая формула «а ныне тот же Бог» выражала уверенность в будущей поддержке царя высшими силами, ранее уже оказавшими такую поддержку его предшественникам на престоле.
Часто звучали пословицы, поговорки, емкие афористичные формулы. «Гнилыми семяны хто ни сеет, толко труд полагает, — говорил А. Ф. Адашев литовским послам. — Как тому взойти, что гнило всеяно?» И. М. Висковатый
ПОЛЕМИКА. СЛОВО -ИЗУСТНЕЕ»
253
сетовал: «А непожитьем меж государей всем их подданным лиха ся достанет, кабы и Адамова греха». Были в ходу следующие изречения: «малым делом гнев воздвигнетца, ино и великими делы устати его скращати»; «всякой слуга службу свою доводит, должное свое сводит»; «источники от болших кладезей, так же и дела: первое, болшее дело уговорив, да меншее починати», и др. Типичная для Средневековья любовь к афоризмам связана с интересом ко всякого рода эмблемам, символам, девизам, геральдическим знакам — к тому «особому многозначительному лаконизму, которым пронизаны эстетика и мировоззрение эпохи»15. Частности аккумулировались в зримый образ, чтобы лишить конкретную ситуацию сиюминутных черт и ввести ее в контекст вечно повторяющейся истории, где меняются лишь декорации и актеры, а сама пьеса остается неизменной.
В 1568 г. на переговорах в Москве литовские послы потребовали возвращения Полоцка, запять лет перед тем взятого русскими войсками. В ответ им была рассказана история про «философа Иустина», который вознамерился «поискати премудрости свыше всех философ». Однажды он ехал берегом моря и увидел отрока, копавшего в песке яму. На вопрос, для чего он это делает, отрок отвечал, что хочет голыми руками наполнить эту яму морской водой. «Младенчески еси начал, младенческое и совершаешь!» — укорил его философ. На это отрок возразил, что «младенчески» рассуждает сам Иустин, задумавший стать мудрее всех философов. Затем отрок исчез («и невидимо бысть отроча»), а Иустин «то в себе узнал, что выше меры учал дело замышляти»46. Смысл рассказа очевиден: послы должны были соотнести собственные претензии на возвращение Полоцка с «младенческими» идеями «философа Иустина».
В -ОТВЕТНОЙ* ПАЛАТЕ
254
Иногда в дипломатической полемике использовались просто бытовые анекдоты («притчи»). В 1559 г. литовский посол В. Тышкевич, добиваясь заключения перемирия (но не мира) с Москвой, вспомнил такой случай: «Приехал князь великий Василей (Василий III. — Л. Ю.) в село да молвил попу, чтоб готовился ранее к обедне. А поп от-вечати не смел, что не готов. А князь великий стоит в церкви. И поп, модчав много (помедлив. — Л. Ю.), да молвил: да добрые, государь, часы (чтение установленных на данный час молитв и псалмов. —Л.Ю.) чем не обедня? И князь Василей догадался, что он не готов, и велел часы говорить». Наконец следовала мысль, аргументом в пользу которой служил этот незатейливый случай: «А наше дело потому ли: чем бы то перемирье не мир?»47.
Тот же Тышкевич, не соглашаясь заключить перемирие на русских условиях, апеллировал притче Иоанна Златоуста: «У некоего в подворье была змея, да съела у него дети и жену, да еще захотела с тем человеком вместе жити. И тот нынешний мир кому жь подобен? Съедчи змее жену и дети, съесть и его самого!»18 Под «некоим» человеком подразумевалась Речь Посполита, под его женой и детьми — гибнущий Ливонский орден, а под змеей — Москва.
Применялись даже притчеобразные действия, способные сделать мысль более яркой и образной. В 1575 г. на русско-шведских переговорах князь В. И. Сицкий-Ярославский бросил наземь свой посох, заявив, что так же не может по собственной воле изменить что-либо в данном ему царском наказе, как этот посох не в силах сам подняться с земли.
Среди стереотипных официозных оборотов, наполняющих «посольские книги», то и дело вспыхивает живое устное слово. В. Я. Щелкалов говорит о Стефане Батории: «Несетца о всем к небу, как сокол!» Русский посланник А. Резанов, вернувшись из Вены, передает мнение одного
ЗАПАД И ВОСТОК
255
из тамошних вельмож о финансовых затруднениях польского короля при выплате денег наемникам: «Угорскими вшами не заплатити найму!» (намек на венгерское происхождение Батория). «Ни одное драницы государь наш от Смоленска не поступитца!» — восклицают бояре. В ответ на угрозу русских дипломатов не писать Батория «королем», поскольку тот не пишет Ивана Грозного «царем», следует незамедлительный ответ: «Ино вам с кем миритися?» Шведские послы замечают: «И то где слыхано, чтобы городы от-давати даром? Отдают даром яблока да груши, а не городы!»
Посольское слово «изустнее» позволяет ощутить прошлое не только через факт, но и через мгновенную эмоцию, вызванную этим фактом. В 1554 г., в Дерпте, русский посланник К. Терпигорев заключил договор, согласно которому Ливонский орден соглашался уплатить дань Ивану Грозному (дерптский архиепископ подписал его, чтобы «попроизволочить время» в надежде найти защитников). Вернувшись на подворье, Терпигорев на радостях угостил водкой провожавших его гоф-юнкеров, затем вынул из-за пазухи грамоту с текстом договора, велел слуге завернуть ее в шелковый платок и сказал: «Смотри, береги, откармливай и ухаживай за этим теленком, чтобы он вырос велик и разжирел»™. Нетрудно представить, с какой интонацией и с каким выражением лица были произнесены эти слова.
4. Запад и Восток
«Профессия дипломата — такое же порождение Западной Европы, как профессия странствующего рыцаря», — заметил Р. Б. Моуэт50. Имеется в виду, что лишь средневековая западная цивилизация с ее уникальным сочетанием
АУДИЕНЦИЯ И ОБЕД
256
политической дробности и наднационального универсализма могла сформировать сам тип профессионального дипломата, органично соединяющего в себе феодальную традицию служения с реннесансной моралью и присущим Новому времени сознанием относительности всех местных ценностей. При всем том дипломаты Габсбургов и Тюдоров, королей Франции и германских князей были прилежными учениками итальянцев, прежде всего венецианцев, а те в свою очередь немало почерпнули из сокровищницы византийского дипломатического искусства. Из того же источника черпали их московские коллеги, среди которых при Иване III и Василии III было много греков, эмигрировавших после падения Константинополя в 1453 г. — дядя и племянник Траханиоты (оба Юрии), братья Дмитрий и Мануил Ралевы, Дмитрий Герасимов, Михаил Алексеев и др. Османские султаны тоже охотно прибегали к услугам своих греческих подданных в качестве послов и чиновников внешнеполитического ведомства. Разумеется, турецкий «чеуш» не был похож на французского «министра», папский легат — на московского дьяка, но те нормы, которыми в XV-XVI вв. регулировались дипломатические контакты на пространстве от Стамбула до Стокгольма и от Рима до Москвы, оказались достаточно схожими. Избыв зависимость от ордынского «юрта», молодое Русское государство быстро усвоило правила этой игры.
Жан де Лабрюйер (1645-1686) писал о дипломате своего времени: «Вся его деятельность направляется двором, все его шаги заранее предуказаны, даже самое незначительное его предложение предписано ему свыше; тем не менее в каждом трудном случае, в каждом спорном вопросе он действует так, словно только что принял решение сам и руководствовался при этом лишь мирными намерениями».
МЕСТО ДЕЙСТВИЯ. СТАТИСТЫ
257
Исключительно подробные «наказы», которые получали русские послы, отправляясь за границу, и которыми предусматривались буквально каждый их шаг и каждое слово, отличались от западных инструкций разве что большей детализацией, а поведение самих послов — еще меньшей свободой. Пышные декларации мирных намерений, без чего нс обходились ни одни переговоры между Россией и Речью Посполитой, Россией и Швецией, звучали приблизительно в том же регистре.
«Он распускает ложный слух об ограниченном характере своей миссии, — продолжает Лабрюйер, — хотя облечен чрезвычайными полномочиями, к которым прибегает лишь в крайности, в минуты, когда нс пустить их в ход было бы опасно... Он хладнокровен, вооружен смелостью и терпением, не знает устали сам, но умеет доводить других до изнеможения и отчаяния. Готовый ко всему, он не страшится медлительности, проволочек, упреков, подозрений, недоверия, трудностей и преград, ибо убежден, что только время и стечение обстоятельств могут повернуть ход событий и направить умы в желательную для него сторону. Порою он даже прикидывается, будто склонен прервать переговоры, хотя как раз в это время больше всего хочет их продолжать; если же, напротив, ему дано точное указание употребить все усилия, чтобы прервать их, он с этой целью всемерно настаивает на их продолжении и окончании».
Точно так же вели себя польско-литовские и шведские послы в Москве, а русские — в Вилыю, Кракове и Стокгольме. Бесконечные «торги» и сокрытие истинных полномочий, мнимое желание вернуться на родину и мнимая же готовность продолжать переговоры, когда полученные предписания требуют обратного — все это входило в арсенал их классических приемов.
В «ОТВЕТНОЙ* ПАЛАТЕ
258
«Он принимает в расчет все, — завершает Лабрюйер свой фрагмент о дипломате, — время, место, собственную силу или слабость, особенности тех наций, с которыми ведет переговоры, нрав и характер лиц, с которыми общается. Все его замыслы, нравственные правила, политические хитрости служат одной задаче — не даться в обман самому и обмануть других»51.
Разница между западной и русской дипломатией заключалась не в правилах игры, а в характере игроков. Ф. де Кальер считал, что дипломат, «подобно мифическому Протею», всегда должен быть готов «принять любой облик в зависимости от случая и нужды»52. Этого протеизма не хватало русским послам и посольским дьякам. Постепенно начало сказываться и то обстоятельство, что примерно с середины XVI в. европейцы лучше стали понимать Россию, чем русские — Запад (исключая Великое княжество Литовское и отчасти собственно Польшу). В этом тоже была существенная слабость московской дипломатии.
Тем не менее до начала XVII в. она так или иначе справлялась со стоявшими перед ней задачами. Все изменилось в годы Смуты. На фоне общей «шатости» старые кадры ангажировались разными политическими лагерями, а новые часто были случайными людьми, не имевшими ни нужной подготовки, ни опыта, ни соответствующего кругозора или хотя бы сознания чрезвычайной важности своей миссии, присущего назначенцам минувшей эпохи и отчасти способного компенсировать их профессиональные изъяны. Посол-«простец» и продажный дьяк-интриган — типичные фигуры тех лет. С одной стороны, пьянство стало бичом русских посольств за рубежом и причиной их неуспеха, с другой — случалось, что за уступки на переговорах московские дипломаты принимали «мзду», о чем прежде и речи быть не могло. Представитель Василия
ЗАПАД И ВОСТОК
259
Шуйского в Швеции мог упиться до такой степени, что утром его не в силах были разбудить для следования на аудиенцию в королевский дворец, а в 1609 г. дьяк Т. Лу-говской стыдил своих товарищей по посольству, подкупленных поляками: мол, каково-то будет им после всего этого посмотреть на чудотворный образ Богородицы, от которого они отпущены к королю53.
В 1613-1614 гг. вояж по Европе посланников С. Ушакова и А. Заборовского, отправленных известить западных монархов о вступлении на престол Михаила Романова, ознаменовался чередой постыдных скандалов с драками, попытками изнасилований и устроенными спьяну пожарами. Эти двое «в посолствах преж сего никогда не бывали», но даже для исполнения столь ответственного поручения никого другого, видимо, не нашлось. Привыкшие к вольнице Смутного времени посланники всюду вели себя одинаково: пили, «многие простые слова говорили» и «ничего доброго, кроме дурости, не делали», а в итоге еще и привезли в Москву грамоту императора Рудольфа II к Михаилу Федоровичу, в которой отсутствовал царский титул. При Борисе 1одунове и Федоре Ивановиче, не говоря уж об Иване Грозном, такое было невозможно. Свои многочисленные «вины» Ушаков и Заборовский оправдывали тем, что «хотели лучшего, да по грехом, их простотою, учинилось бесхитростно».
В первые годы после Смуты русские послы в Священной Римской империи, в Персии, в Турции и в других странах постоянно допускали промахи, наносившие урон «государевой чести». Авторитет государства, которое они представляли, был подорван событиями предшествующего десятилетия, а сами по себе эти «неученые» люди не могли ничего изменить. Понадобилось время, чтобы московская дипломатия, чье положение неотделимо было от
В «ОТВЕТНОЙ* ПАЛАТЕ
260
состояния общества и престижа верховной власти, вернула себе утраченные позиции.
Правда, в 20-30-х гг. XVII в., когда новая династия, всячески пытаясь подчеркнуть свою законность и преемственность, усиленно демонстрировала приверженность «старине», в посольском обычае появились консервативные тенденции, сильнее начали сказываться не столь резкие прежде различия между русскими и западноевропейскими нормами. Именно это время на Западе возникают представления о мелочном упрямстве московских дипломатов, часто экстраполируемые на предшествующую эпоху.
Само российское общество с его нечеткой социальной структурой, чья устойчивость поддерживалась культом верховной власти, неизбежно порождало тип дипломата, озабоченного прежде всего соблюдением «государевой чести». Твердость в этом вопросе признавалась главной его добродетелью, ибо престиж олицетворенного монархом государства понимался как условие самого его существования, причем царская «честь» была одной из опор миропорядка. Проблема соотношения этикета и насущной политики остро стояла для всей тогдашней Европы (посол Людовика XIV мог отказаться вести переговоры с турками на том основании, что великий визирь приветствовал его сидя), однако в умении найти разумный компромисс московские дипломаты уступали своим западным коллегам. Федор Байков, первый московский посланник в Китае, выехал из Тобольска в 1654 г. и добрался до Пекина спустя почти два года, однако так и не вручил императору царские грамоты, поскольку тот не принял его лично, а иметь дело с китайскими чиновниками посланник отказался наотрез. В итоге переговоры не состоялись, Байков был выслан из Китая, и все его путешествие, занявшее в общей сложности четыре года, закончилось абсолютно ничем.
Глава VIII
Итоги И ГАРАНТИИ
1. Формула текста
Результатом переговоров, которые вело в Москве уполномоченное па то посольство, становились дипломатические документы трех типов: «ответные листы» (письменное изложение позиции русской стороны по обсуждавшимся вопросам), «посыльные грамоты» (послания государя к снарядившему посольство монарху или русских официальных лиц — к равным по статусу персонам) и, если удавалось прийти к соглашению, «договорные», или «псре-мирпые грамоты» (собственно договоры). Последние подлежали ратификации обоими монархами.
«Ответные листы» составлялись в Посольском приказе. Прежде чем их вручали послам, царь и думные бояре теоретически должны были с ними ознакомиться, но на практике это бывало редко. Иностранные дипломаты получали эти бумаги на руки, чтобы увезти с собой. С них, однако, требовалось еще в Москве перевести русский текст на язык своей страны или па латынь и предъявить для проверки. Перевод выполняли их собственные толмачи, а толмачи московские тщательно сличали его с оригиналом, чтобы не закрались какие-нибудь ошибки или пропуски, чреватые уроном «государевой чести». Аналогичный порядок существовал в Западной Европе. За гра-
ИТОГИ И ГАРАНТИИ
262
ницей, получив «ответные листы», русские послы с помощью своих переводчиков внимательнейшим образом просматривали текст с той же целью, с какой это делалось в Москве. В 1576 г. послы в Вене, «ответу смотрив», обнаружили, что хотя в нем и присутствует царский титул Ивана Грозного, за чем предписывалось наблюдать в первую очередь, зато пропущен великокняжеский. «Не ведают, што пишут, пьяни!» — оправдывался имперский пристав, признав оплошность писарей. «Непригожий» документ он вернул в канцелярию для исправления, но на следующий день привез тот же самый список, в котором недостающие слова «великий князь» были попросту вставлены между строк. Половинчатое решение проблемы послов не удовлетворило. «Государя нашего имяни вчерне быти невзгоже!» — говорили они, настаивая, чтобы текст был перебелен полностью1.
Если «ответные листы» увозили сами послы, то «посыльные грамоты», написанные не «повелением» государя, а непосредственно от его лица, могли быть посланы лишь с подданными этого же государя. Едва посольство отбывало из Москвы, как вслед за ним отправлялся гонец с царским посланием. Этот принцип наиболее строго выдерживался в отношениях с Речью Посполитой и Швецией, менее строго — в связях с другими странами, и совсем не выдерживался в русско-крымской практике: адресованные хану царские грамоты часто перевозились крымскими послами. Представителей третьих стран и купцов московская дипломатия использовала в редчайших случаях. Иван Грозный, благоволивший англичанам, в 1561 г. доверил Э. Дженкинсону какие-то грамоты к эмиру бухарскому, а Д. Горсею в 1580 г. — свои приватные письма к Елизавете I (посольские дьяки спрятали их в двойном дне деревянной фляги для водки).
ФОРМУЛА ТЕКСТА
263
Некоторые из своих посланий к иностранным монархам русские государи писали или, скорее, диктовали сами (многие письма Ивана Грозного к Стефану Баторию и Юхану III носят печать его неповторимого и трудно имитируемого стиля), но обычно царь лишь выслушивал готовый текст и вносил коррективы. В менее важных случаях эта функция передоверялась Боярской Думе. Она решала, каково должно быть содержание грамоты, после чего посольский дьяк набрасывал ее вчерне. Представленный затем черновик прочитывался, обсуждался и возвращался автору с соответствующими указаниями, но окончательный вариант Дума уже не рассматривала. Дьяк, впрочем, собственноручно тоже ничего не писал, перепоручая это подьячим, а за собой оставлял только редактирование. «Чернит и прибавливает что надобно и что не надобно», — саркастически заметил Г. Котошихин, сам в прошлом подьячий Посольского приказа2. Именно тем обстоятельством, что итоговый текст «посыльных грамот» правительством не контролируется, Д. 1орсей объяснял грубые выражения в посланиях Федора Ивановича к Елизавете I. По его мнению, их туда самовольно вставлял А. Я. Щелкалов, известный враг англичан.
Царским грамотам предпосылалась обширная преамбула, призванная указать на божественное происхождение власти русских государей. Отдельные ее фрагменты были заимствованы из сочинений популярного на Руси византийского богослова Псевдо-Дионисия Ареопагита. Относительно краткая при Иване III и Василии III, она значительно расширилась и усложнилась после венчания Ивана Грозного на царство в 1547 г., и стала еще более развернутой к концу XVI в. В 1594 г. «начало грамоте» Федора Ивановича к Аббасу I было «писано по новому государскому указу с прибавкою, для того, что шах к нему,
ИТОГИ И ГАРАНТИИ
264
ко государю, пишет со многою похвалою и высокослов-но». Преамбула этой грамоты выглядит следующим образом: «Бога единаго, безначального и безконечного, невидимого, страшного и неприступного, превыше небес пребывающего, владающего силами небесными и единым безсмертным словом премудрости своея видимая и невидимая вся сотворшаго, и самодержавным божественным духом вся оживляющаго, и недреманным оком на землю призирающего, всяческая на ней устрояющаго и утешения благая всем человеком подавающаго, Его же в трех именах трепещут и боятся небесная и земная, и преисподняя, и трисиятельного Его всемогущего Божества стоим и движимся, и пребываем мы, великий государь...»3 Все это было связано, по-видимому, нс только с «высокословным» шахским посланием, на которое следовало дать достойный ответ, по и с новым положением верховной власти после 1584 г., когда при венчании на царство Федора Ивановича впервые был совершен обряд миропомазания, уподобляющий царя самому Христу (в Византии и на Западе монарх при помазании миром уподоблялся ветхозаветным царям Израиля)\ Примерно с этого времени меняются преамбулы царских грамот. Однако нельзя исключить, что подробное исчисление атрибутов «Бога единого» (без упоминания Иисуса Христа), какое содержится в послании Федора Ивановича к Аббасу I, восходит к аналогичным преамбульным формулам в грамотах исламских владык.
Иногда преамбула, имя государя и его титул «по Владимирского» писались золотом и обводились золотыми окружностями. Последнее было заимствовано из практики золотоордынских канцелярий, но в сознании русских людей XV-XVII вв. эти круги ассоциировались, по-види-мому, с представлениями о божественной природе царской власти. На миниатюрах «Жития Сергия Радонежско-
ФОРМУЛА ТЕКСТА
265
го»(конец XVI в.) даже те из великих князей, кто не был канонизирован, изображались в золотых нимбах. Как писал Иосиф Волоцкий, круг «образ носит всех виновна-го Бога — яко же круг ни начала, ни конца нс имат, сице и Бог безначален и безконечен»5.
Еще позднее имена и титулы не только русских государей, но и тех монархов, кому они адресовали свои послания, частично стали выводить золотом. Шведского короля «писали» золотом «по Свсйского», польского — «по Полского» и т. д. Со временем начала разниться и бумага. Для царских грамот к наиболее значительным адресатам использовалась бумага «болшая александрийская» (наивысшего качества), к менее значительным — «средняя»; германским князьям, ганзейским городам и крымскому хану писали на «мсншей александрийской» бумаге. Грамоты в Крым, а иногда и к другим мусульманским владыкам, имели наверху каллиграфический знак «тугрой», некогда принятый в переписке с Золотой Ордой. На посланиях, направляемых турецкому султану, фон у верхнего обреза дополнительно декорировался «травами» (растительным орнаментом). Вся эта сложная система канцелярского этикета в законченном виде сложилась лишь к середине XVII в.
Строгий канон, определявший структуру текста «посыльных грамот» к иностранным монархам, особенно к польским королям, требовал, чтобы в первой их части кратко излагался ход всех переговоров, которые предшествовали данным. В 1579 г. Стефан Баторий, незнакомый с такой манерой дипломатической переписки и удивленный размерами послания Ивана Грозного, иронически заметил: «Должно быть, начинает с Адама!»6
Грозный в своих «посыльных грамотах» всегда ставил на первое место собственное «государское имя», а имя и титул коронованного адресата — на второе, но его отец и
ИТОГИ И ГАРАНТИИ
266
дед пытались соблюдать очередность. В наказе А. М. Кутузову, в 1503 г. отправленному послом в Стамбул, предусмотрен вопрос турецкой стороны о том, почему в великокняжеской грамоте первыми написаны имя и титул Ивана III. Отвечать предписывалось следующее: «Наперед того государь наш писал свою грамоту к Баазит-салта-ну, и государь наш его почтил, написал в своей грамоте Баазит-салтаново имя наперед своего имяпи. И Баазит-салтан писал ко государю к нашему свою грамоту, и где было ему государя нашего противу почтити, написати имя государя нашего наперед своего имяни. А он писал свое имя наперед государя нашего имяпи. И государю нашему чего деля писати его имя наперед своего имяни?»7
В конце XV-начале XVI в. турецкая дипломатия предпринимала попытки подчеркнуть неравноправие Москвы по отношению к Порте. Когда в 1514 г. Камал-бек, посол Сулеймана Великолепного, находясь в Москве и составляя список своих «речей», пропустил в нем «о братстве межи государями», вряд ли это было простой опиской его «бакшея» (писаря). «Невежливая» грамотаБаязида II к Ивану III — тоже одна из таких попыток, встретившая, как и все остальные, жесткий отпор. Хотя турецкий султан и считался сюзереном крымского хана, однако нормы русско-крымской дипломатической практики, согласно которым великокняжеское «имя» всегда писалось в грамотах на втором месте, ни в коем случае не могли быть перенесены на отношения с Портой. Здесь Москва сразу отказалась следовать традиции, унаследованной от прежних связей русских княжеств с Золотой и Большой Ордой.
В переписке двух монархов, признающих друг друга «братьями», оскорбительной для коронованного адресата была и такая грамота, начало которой писалось по формуле «от такого-то к такому-то». Это напоминало указ
ФОРМУЛА ТЕКСТА
267
старшего младшему, а не обращение равного к равному. В 1646 г. в Москве отказались принимать написанные по такой формуле послания польского короля Владислава IV к Алексею Михайловичу. Бояре утверждали, что они «писаны невежливо» — «с отом», а прежде царь к королю и король к царю всегда писали «без ота». Однако к шведским королям русские государи издавна обращались именно в этой форме, и лишь в 1617 г. Михил Федорович и Густав Адольф договорились об ее упразднении.
Русские послы или гонцы везли к иностранному монарху единственную грамоту царя. Если их было две, то одна — фальшивая. Последняя могла быть написана в расчете на запорожцев, если посольство направлялось в Крым или в Стамбул, или на поляков, если оно следовало в Вену или Прагу. При нападении тех или других им следовало отдать подложную грамоту, а вторую — спрятать или уничтожить. В 1588 г. посланник А. Резанов получил в Москве две грамоты от Федора Ивановича к императору Рудольфу II. Обе отвечали всем требованиям, предъявляемым к такого рода документам, но их содержание было совершенно различным. В первой сообщалось о прибытии в Москву персидских послов и в радужных тонах рисовались перспективы будущего антитурецкого союза Священной Римской империи, Персии и России; вторая, настоящая грамота содержала обращенную к тому же Рудольфу II просьбу о пропуске в Россию военных товаров и излагала позицию русской стороны по вопросу о выборах нового польского короля. Первую грамоту Резанову велено было везти «явно, для литовского проходу, а цесарю не отдавати»н. Она и должна была стать добычей поляков, если бы тем вздумалось напасть на посольство.
Дипломатические шифры вошли в употребление с конца XVI в., но исключительно в переписке отправлен-
ИТОГИ И ГАРАНТИИ
268
ных за границу дипломатов с царем или Посольским приказом. Писали «вязью», «литореей» (шифр, где одни буквы заменяются другими), а в 1590 г. гонец А. Иванов из Вильно прислал в Москву письмо, написанное какой-то «новой азбукой», которой московских дипломатов научил имперский посол Н. Варкоч.
Переписка русских государей с Крымом и ногайскими улусами до середины XVII в. строилась по татарским образцам — к одному и тому же адресату, прежде всего к самому хану, посылалось несколько грамот, каждая из которых посвящалась какому-то одному вопросу.
В Посольском приказе неизменно заботились о том, чтобы дипломатические документы всех типов не повредились в дороге. Их перевозили в берестяных или деревянных «коробьях» и ящичках, а царские грамоты, от степени сохранности которых зависела «честь» обоих корреспондентов, посылались в отдельных мешочках — вероятно, кожаных, чтобы уберечь бумагу от сырости. В 1604 г. М. И. Татищеву, отъезжавшему в Грузию, наказывалось ни в коем случае «посольских дел и посылки не подмочити», для чего посол должен был «через болшие грязи и через недомостки коробья велети провожати и переносити на себе, чтоб однолично в тех коробьях ничего не подмочити»9. Крымские послы на аудиенции в Москве подавали грамоты хана «в мешке золотном». Возможно, специальные мешочки из шитой золотом парчовой ткани применялись и членами русских миссий при передаче ими царских посланий иностранным монархам.
«Ответные листы» и царские «посыльные грамоты» составлялись в одностороннем порядке, хотя и учитывали требования противной стороны, но грамоты «договорные», закреплявшие двусторонние соглашения, оформлялись по иным стереотипам.
ФОРМУЛА ТЕКСТА
269
До середины XVI в. договор писали в двух экземплярах, называемых «противни», или «дефтери» (от греч. «девтерос» — второй). Последний термин чаще употреблялся в отношениях с Востоком, и то лишь до конца XV в. В Крыму его заимствовали у турок, а при дворе султана — из византийской практики, как и саму эту норму. Еще первые договоры киевских князей с Византией писались «на двое харатьи». Экземпляр той стороны, которая вела переговоры на чужой территории, имел внизу особую «при-пись» (клаузулу), включавшую в себя имена послов и их обязательства гарантировать ратификацию договора монархом, приславшим посольство. Позднее такие «при-писи» стали оформлять на отдельных листах.
Если переговоры проходили в Москве, то экземпляр, написанный от имени иностранного монарха, увозили с собой его послы, а царский экземпляр доставляло ему русское посольство. Ратификация договора предполагала присягу каждого из монархов обязательно на обоих экземплярах «договорной грамоты». Затем происходил их размен: каждая сторона оставляла у себя на хранение экземпляр другой стороны. В тот период, когда представители Сигизмунда II Августа отказывались в своем экземпляре писать царский титул Грозного, соглашения тем не менее заключались. Поступаясь принципами, бояре оправдывали это тем, что русский экземпляр будет храниться у короля, а королевский, без царского титула, все равно останется в Москве, где его никто никогда не увидит.
Оба экземпляра договоров с Великим княжеством Литовским, а позже — с Речью Посполитой, писались на одном языке (послами, как правило, были западнорусские дворяне), с другими государствами — на двух. Во второй половине XVI в. число экземпляров возросло до четырех, оставшись прежним лишь в русско-литовской дипломати-
ИТОГИ И ГАРАНТИИ
270
ческой практике. Текст от имени каждого из монархов дважды параллельно писался на двух языках, и обе разноязычные грамоты, вкупе составлявшие экземпляр той или иной стороны, попарно сшивались золотым шнуром по нижнему, чистому краю. В царской «паре» иностранный текст подшивался снизу, и наоборот — в двойном экземпляре «римского цесаря», например, латинский или немецкий текст покрывал собой русский. При заключении договоров с теми монархами, кого русские государи не признавали «братьями», в Москве старались настоять на том, чтобы в обеих «парах» сверху находилась грамота, написанная по-русски.
Практически идентичные по содержанию, эти грамоты нередко различались канцелярским оформлением, способным без слов выразить такие идеи, которым не место было в самом тексте. Так, в шведском экземпляре Тявзинского мирного договора (1595 г.), чтобы умалить значение противной стороны и «взвысить королево имя», слова «Русь» и «Федор Иванович» написаны более мелкими буквами, чем «Швеция» и «Сигизмунд». Кроме того, имя шведского короля неизменно выделено еще и правым наклоном почерка вместо левого, принятого во всем остальном тексте, включая имя русского государя10.
Вопрос о размещении на листе имен и титулов обоих монархов был вопросом огромной важности. При заключении договоров с большинством государств, в том числе с Польско-Литовским, московская дипломатия применяла систему альтерната — имя монарха занимало первое место в тексте его экземпляра. Однако в обоих экземплярах русско-крымских «договорных» грамот вплоть до конца XVI в. на первом месте стояли имя и титул хана, чем подчеркивалось его первенствующее значение. Точно так же в договорах с Пруссией при Василии III и Данией при
ФОРМУЛА ТЕКСТА
271
Иване Грозном «государское имя» всегда находилось выше имени магистра или короля, соответственно на содержательном уровне они тоже строились как неравноправные. В царском экземпляре русско-датского договора 1562 г. читаем: «Мы, великий государь Иван Васильевич... Фредерика, короля датского и норвейского, учинили есмя в приятелстве и в суседстве, и в единачестве». В датском экземпляре сохранена та же формулировка, но от лица противной стороны: «Ты, великий государь Иван Васильевич... учинил меня, Фредерика Второго, короля датского и норвейского, в приятелстве и в суседстве, и в единачестве»11. Такие договоры составлялись по образцу жалованных грамот, декларируя свободную волю лишь одной стороны — русской, и считались не итогом соглашения, а милостью царя, его «жалованьем» датскому королю.
В русской дипломатической терминологии эта формула применялась еще в начале XVI в., а возможно, и раньше. В 1518 г. Юрий Траханиот-младший («Малый») говорил прусским послам, что магистр Альбрехт просил Василия III «его пожаловати, в завещанье с собою учинити». Речь идет о мирном договоре («завещанье»), заключенном с Пруссией в 1517 г. «И мы его пожаловали, — от лица великого князя продолжал Траханиот, — в завещанье с собою учинили»12. Греки на русской службе, оба Траханиота (дядя и племянник) немало сделали для становления московской дипломатии. Не исключено, что этот стереотип они позаимствовали из византийской практики. Византия, как известно, любой договор с любым правителем, даже вынужденный и невыгодный для нее, рассматривала как акт собственной милости, облекая его в письменную форму, аналогичную форме русско-датских или русско-прусских соглашений.
«Враг наш и супостат диавол наводит человецем в мыслех рати и нестроения!» — неоднократно заявляли на
ИТОГИ II ГАРАНТИИ
272 переговорах русские, польско-литовские и шведские дипломаты. Тем не менее при заключении мирного договора каждая из сторон стремилась избежать роли его инициатора, что было бы равносильно признанию собственной слабости и неготовности продолжать войну. В условиях, когда мир был необходим, а противник не желал объявить его своей инициативой, применялось т. н. «перемирье по печалованыо». Этот остроумный прием впервые применил И. М. Висковатый в 1553 г. во время русско-литовских переговоров в Москве. По его предложению в обоих экземплярах «перемирных» грамот было записано, что царь согласился на перемирие, снисходя к «печалованыо» своих бояр, просивших его «учинить» Сигизмунда II Августа «в мире». Впоследствии литовские дипломаты очень сожалели, что опрометчиво допустили внесение в текст договора столь сомнительной формулировки. С их стороны это была серьезная оплошность. Недаром через 17 лет, вскоре после того, как сам Висковатый принял мученическую смерть на рыночной площади в Москве, гордо отказавшись просить о помиловании, давняя удачная находка казненного посольского дьяка была использована царем в полемике с Сигизмундом II Августом. Когда тот в очередной раз отказался признать царский титул Грозного, царь в своем письме не без злорадства напомнил ему об унизительной для него формулировке договора 1553 г.: «И то ли брату нашему честнее, что нас писати царем, или что нам за него печалуютца наши бояре?»13
Позднее мирные договоры «по печалованыо» бояр или царских сыновей заключались также со Швецией, причем сам факт «печалованья» обязательно фиксировался в тексте договора. Это было «бесчестно» для короля, поскольку за него просили подданные русского государя.
ФОРМУЛА ТЕКСТА
273
Эмоционально окрашенное «печалованье» включало в себя столь же непременное, сколь и лицемерное сожаление по поводу того, что из-за распрей между христианскими монархами «бусурманская рука высится». В отношениях с Крымом, где царила голая прагматика, оно заменялось «челобитьем» думных людей. В 1591 г., после нашествия КазиТирея па русские земли, крымским послам от имени Федора Ивановича объявили, что царь согласился принять их в Москве и позволить им вести переговоры о мире исключительно ради «челобитья» Бориса 1одупова и бояр, заступившихся за хана и просивших нс отвергать его мирные инициативы.
Для дипломатических договоров XV-XVI вв. характерно нагромождение сходных синтаксических конструкций и дословное повторение обязательств, принимаемых обеими сторонами, для каждой из них в отдельности — как, например, в направленном про тив Большой Орды знаменитом союзническом договоре Ивана III с крымским ханом МснглиТиресм (1479 г.): «...Другу другом быти, а недругу недругом быти: кто будет друг мне, Мсили-Гирею царю, тог и тебе друг, великому князю Ивану, а к то будет мне, Мснли-Гирсю царю, недруг, тог и тебе, великому князю Ивану, недруг, а кто будет друг тебе, великому князю Ивану, тот и мне друг, а кто будет тебе недруг, тот и мне недруг»1
По такому типу составлены поч ти все международные договоры Вос точной Европы XV-нсрвой половины XVI вв. Это обусловлено стремлением сделать текст как можно определеннее, свести к минимуму возможность каких бы то ни было двусмысленностей и разночтений. Тогдашняя «юридическая мысль имела дело нс с общими понятиями, а с конкретными явлениями, отсюда эти бесконечные перечисления, которыми древние юристы думали исчер-
ИТОГИ И ГАРАНТИИ
274
пать свой предмет»15. Лишь при Иване Грозном государственные договоры России с другими странами стали составлять несколько иначе, а с конца XVI в. их форма постепенно все дальше уходит от архаических стереотипов.
2. Подпись и печать
Никакие документы, в том числе дипломатические договоры, русские государи не подписывали. Исключением был разве что Лжедмитрий I, который и в Польше, и в Москве ставил свою подпись па отдельных грамотах, но это — западное влияние.
По представлениям русских людей XV-XVII вв. документ способна атрибутировать только печать. Если соглашение заключалось за рубежом или па посольских съездах, свои печати к «договорной грамоте» прикладывали или привешивали все члены данного посольства, облеченные соответствующими полномочиями, по поставить подпись должен был только дьяк, т. е. человек, отвечающий не за сам договор, а за его словесную форму. Подпись закреи/шла ответственность лица, «давшего руку», за «букву» документа. Не случайно само выражение «руку дать» означало не только поставить подпись, по и написать весь текст. Об ответственности за содержание документа свидетельствовала печать.
Схожие нормы существовали в юридическом быту Древней Руси. Бояре, которые вели судебные процессы, сами никогда не подписывали приговоров («правых грамот»), по прикладывали к ним свои печати. Подписывали грамоты дьяки, выполнявшие при них функции секретарей. Если же процесс вел дьяк, он, в свою очередь, также
ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ
275 прикладывал к приговору печать, а подпись тогда ставил подьячий.
Похоже, хотя и нс совсем так обстояло дело в Великом княжестве Литовском эпохи последних Ягеллонов. Здесь подпись употреблялась, по по сравнению с печатью играла второстепенную роль, а часто и вовсе отсутствовала. Иногда под актом вместо имени писались слова «рука власпая» (собственная) и ставилась печать, удостоверяющая имя10.
В Западной Европе собственноручная подпись уже в то время имела несравненно большее и иное значение. Вероятно, это было связано с реннесансными представлениями о личности, которая в единстве своего физического и духовного начала является не только объектом Божественного промысла, но и его орудием. Подпись песет па себе следы телесной природы человека, лично утверждающего свою свободную волю, а печать есть лишь символ его социальной роли. Одно дополняет, по не заменяет другое. В 1506 г. послы Максимилиана I привезли в Москву его грамоту, па которой подпись императора стояла в двух местах. Послы объяснили э го тем, что вскрылись случаи подделки императорской печати. Следовательно, подпись подтверждала ее подлинность, а не наоборот. Королева Елизавета I в 1583 г. писала Ивану Грозному: «И мы того в сердце свое мысли и в послушанье сего дела приложили есми свою руку»17. Иными словами, подпись королевы под грамотой подтверждала истинность ее содержания в настоящем и гарантировала исполнение обещанного в будущем, в полной мерс представляя собой то, чем опа является теперь.
Русские государи и вообще «великие люди» не подписывали документы не только по причине своей неспособности это сделать (бытующее мнение о неграмотности
ИТОГИ И ГАРАНТИИ
276
Бориса Годунова —скорее всего легенда: в посольских книгах упоминается о том, что он «чел» привезенные литовскими послами грамоты). Наблюдательный Д. фон Бухау (1575 г.) заметил, что царь никогда не подписывает па документах свое имя, по «писец предпосылает началу целый титул; даже и простые люди обыкновенно предпосылают имена своим письмам, а подписываться считают для себя позорным»|к. Еще авторы новгородских берестяных грамот ставили свое имя в начале, а нс в конце письма. Эта древнейшая и отнюдь не чисто русская эпистолярная традиция позже была переосмыслена в духе этикетных понятий о «чести». Подпись была «бесчестна» для поставившего ее лица, поскольку располагалась в конце документа, «ниже» других упомянутых в нем имен.
Теми же принципами регулировалось и место оттиска прикладываемой к лиспу печати. Если она припгщлежала иностранному монарху, то оттиск должен был находиться ниже имени и титула царя. В 1595 и 1600 гг. послам в Персии предписывалось всемерно настаивать на том, чтобы «нишан свой» шах приложил к грамоте внизу, а не вверх}; и лишь в самом крайнем случае — «в стороне, осереди грамоты»19. В Западной Европе, пока нс вошло в употребление правило альтерната, подобные споры вызывал вопрос об очередности подписей каждого из участников соглашения, поэтому иногда, чтобы соблюсти равенство, они располагались по окружности, как надписи на монетах.
На одном документе печать государя могла соседствовать только с печатью другого монарха и ничьей иной. В 1532 г. Василий III не разрешил литовским послам приложить свои печати на грамоте о продлении перемирия — по той причине, «что у великого князя грамоты печать его, а против великого князя печати их печатей быти непригоже»20. С середины XVI в. при оформлении догово
ПОДПИСЬ II ПЕЧАТЬ
277
ра в Москве иностранные послы прикладывали или привешивали свои печати не к основному тексту «договорной грамоты», а к «приниси». По сходным причинам решительное сопротивление встречали попытки папских или имперских дипломатов, выступавших посредниками в мирных переговорах между Россией и Польско-Литовским государством, приложить свои печати к составлен-ным при их участии «докончалным» грамотам. В 1526 г. бояре отказали в этом С. Гербсрштейпу, в 1582 г. — А. Пос-севино. Личная печать посредника, чьим бы официальным представителем он не являлся, не могла находиться на одном листе с царской или королевской.
Имел значение и цвет воска на печатях, чему Иван Грозный с его обостренным интересом к вопросам этикета, в том числе канцелярского, уделял особое внимание. В 1564 г. он предложил митрополиту Макарию печатать свои грамоты нс на черном воске, как было раньше, а на красном. На Руси, как и в Византии, этот цвет издавна считался цветом верховной власти, и предложение царя имело, видимо, целью повысить авторитет власти духовной. При Иване III и Василии III оттиски великокняжеской печати делались равно на красном, черном и зеленом воске, причем трудно найти в этом какую-то систему, но Грозный явно отдавал предпочтение красному. Когда в 1568 г. литовские послы в Москве хотели привесить к «приниси» на договоре собственные красновосковые печати, бояре им этого не позволили, и в итоге посольские печати были оттиснуты на зеленом воске.
Форма скрепления дипломатического документа и тип печати зависели от типа самого документа. К царским посланиям, «ответным спискам» и «порубежным листам», определявшим согласованные очертания государственной границы, печати обычно прикладывались, к более
ИТОГИ II ГАРАНТИИ
278
важным «перемирным», или «докончалным грамотам» — привешивались. На том экземпляре договора» который отправлялся за рубеж, подвесная печать оформлялась богаче, нежели на остающемся в царском архиве и скрытом от посторонних глаз. Слепок существовал в двух вариантах — домашнем и парадном, особенно роскошном, если договор был союзническим, как, например, соглашение 1562 г. между Иваном Грозным и датским королем Фредериком II. К его датскому экземпляру (ныне хранится в Копенгагене) была привешена массивная золотая печать царя (булла) около фунта весом, па сплетенном из золотых нитей шнуре с двумя большими, украшенными жемчугом шелковыми кистями. Иа русском «противне» того же договора печать была восковая; к 1626 г. она уже «растопилась», о чем свидетельствует составленная в том же году опись архива Посольского приказа.
Правая сторона во всех случаях считалась более почетной, поскольку Иисус Христос изображался на десной (правой) стороне Троицы. Па договорах с Польско-Литовским государством царская печать всегда привешивалась справа в русском экземпляре и слева — в королевском, но на «докончалных» грамотах с теми монархами, кого русский государь не признавал «братьями», место его печати на обоих экземплярах было, по-видимому, с правой стороны.
Царская печать являлась символом верховной власти, повредить ее — значило нанести оскорбление государю. В 1580 г. дьяк Д. Петелин с возмущением напоминал послам Батория, что двумя годами раньше «перемирная грамота», на которой целовал крест Грозный, и которую сам король крестным целованием утвердить отказался, была доставлена в Москву со сломанной печатью царя. В условиях начавшихся вслед за тем военных действий это вое-
ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ
279
принималось как намеренно враждебная акция, а нс как простая случайность.
Большая государственная печать для висячих слепков состояла из двух половин, соединенных между собой и складывавшихся наподобие футляра. По сути дела, это была литейная форма. Опа заполнялась теплым воском, и готовый слепок имел оттиски обеих половин — лицевой и оборотной. Подобная печать, принадлежавшая еще Василию III, в 1549 г. была привешена к договору с Сигизмундом II Августом — «обе половины, человек па коне и орел». Вфеврале 1561 г. Иван Грозный «печатьстарую мен-шую, что была при отце его, великом князе Василис Ивановиче, переменил, аучинил печать новую, складную: орел двосглавной, а среди его человек па копе, а с другие стороны орел двосглавной, а среди его — ипрог»21. Последняя большая государственная печать Грозного датируется приблизительно 1577-1578 гг. Известен также ее прикладной вариант с одной лицевой стороны. В 1626 г. в Посольском приказе еще сохранялся опытный образец печати Бориса Годунова — «половина медные печати болшой царственной, делана была на образец при царе Борисе»22.
В 1570 г., упрекая Елизавету I в том, что у нее «у всех грамот печати розные», Грозный писал: «И то не государ-ским обычеем, а таким грамотам во всех государствах не верят. У государей в государстве живет печат одна»23. Хотя царь и выговаривал по этому повод}7 своей коронованной «сестре», однако в России середины XVI в. для международной переписки и оформления дипломатических договоров тоже использовалось несколько государственных печатей — разные в отношениях с разными государствами. В русско-крымских связях большая государственная печать вообще не применялась; грамоты, адресованные хану, печатались той же печатью, что и царские указы на
ИТОГИ II ГАРАНТИИ
280
«кормленье», а позднее, в XVII в. использовалась печать для жалованных грамот «па поместья и вотчины». После первых побед русских войск в Ливонской войне к грамотам Ивана Грозного дополнительно прикладывалась печать царского наместника Ливонии; опа изображала двуглавого орла, лапами попирающего гербы магистра ордена и дерптского епископа. В 1565 г. по личному распоряжению царя была изготовлена новая печать Новгорода — «место (престол. — Л. Ю.), а па месте посох, а у места в сторону медведь, а з другую сторону рысь, а под местом рыба»21. Эта печать применялась исключительно в отношениях со Швецией, поскольку они осуществлялись через посредство новгородских наместников. При Василии III, когда подобным образом контактировали с Ливонией через 11овгород и Псков, на русско-ливонских договорах, помимо великокняжеской, ставились печати наместников этих городов.
Для сохранности вислые восковые печати па важнейших дипломатических документах иногда забирали в маленькие деревянные ящички. На экземпляре Тявзипско-го русско-шведского мирного договора это были уже не ящички, а серебряные, с позолотой, «ковчежцы». Тем не менее первыми жертвами московских пожаров становились именно печати: воск плавился и делал нечитаемыми даже те документы, дб которых не дошел огонь.
3. Крестное целование
Взятие заложников («аманатов») как гарантия соблюдения условий дипломатического договора в XVI в. уже не практиковалось даже в отношениях с Крымом и Ногай-
КРЕСТНОЕ ЦЕЛОВАНИЕ
281
ской Ордой. Ушли в прошлое и династические браки («любвекровные связания»), скреплявшие союзнические обязательства сторон, характерные для Киевской Руси, но распространенные и в междукняжеской дипломатии XII-XIV вв. Правда, Иван III, стремясь вывести Россию из международной изоляции, использовал для этой цели все средства, в том числе династические браки. Своего старшего сына Ивана Ивановича он женил на дочери волош-ского господаря Стефана Великого, а дочь Елену Ивановну выдал замуж за великого князя литовского Александра Казимировича (сватами жениха от его имени дано было клятвенное обещание «не нудить» Елену Ивановну к переходу в католичество, которое позже тем не менее было нарушено, что лишь ухудшило отношения между Москвой и Вильно). Однако это последние примеры такого рода. Хотя Иван Грозный сватался к Катерине Ягеллон, сестре Сигизмунда II Августа, и готов был жениться па Мэри Гастингс, родственнице Елизаветы I, или на шведской принцессе Елизавете, сестре Юхана III, все эти матримониальные предприятия окончились неудачей (в 1570 г. русские послы, желая, видимо, утешить уязвленное самолюбие царя, доносили из Польши, что, по слухам, КатеринаЯгеллон, ставшая женой шведского короля Юхана III, «свей-ского не любит», ибо тот изменяет ей; она прислала Сигизмунду II Августу письмо, сожалея, что в свое время не вышла замуж за Грозного: «Хотя б, деи, яз у московского избу имела, ино б мне лутче шветцкого королевства!»25). Брак царя с кабардинской княжной Марией Темрюковной династическим можно счесть с большой натяжкой.
В начале XVII в. Борису Годунову удалось сосватать свою дочь, царевну Ксению Борисовну, за датского принца Иоганна Голштинского, причем с условием, что супруги останутся жить в России, но из этой затеи тоже ничего
ИТОГИ И ГАРАНТИИ
282
не вышло — в Москве жених заразился чумой и умер еще до венчания.
Впрочем, «любвекровные связания», будучи залогом дружественных отношений, не приурочивались к какому-то конкретному двустороннему договору и не гарантировали (по крайней мере, формально) выполнение сторонами его условий. Единственной дипломатической гарантией, носившей обрядовый характер, было крестное целование, совершаемое на тексте договора лично государем. В сущности этот акт означал ратификацию соглашения, которое заключили полномочные представители данного монарха.
Ратификация считалась обязательной. Случаев, когда государь отказывался утвердить крестным целованием договор, заключенный от его лица, практически нс было. Лишь в 1577 г. Стефан Баторий, уже задумав свой первый поход на восток, не ратифицировал договор, подписанный в Москве посольством С. Крыйского, хотя Иван Грозный успел присягнуть на его тексте. Царь воспринял это как вопиющее нарушение обычая. «Хоти послы, что и не гораздо зделают, — писал он королю, — а то не рушитца, терпят то до урочных лет (до срока, определенного условиями договора. — Л, Ю.). Послы проделаютца (ошибутся. — Л. Ю.), ино на них за то опалу кладут, а что зделают, тово никак не переделывают и крестного целования не переступают»26.
Эту процедуру первым описал С. Гербсрштейн, наблюдавший ее при ратификации Василием III русско-литовского договора 1526 г.: «Он (великий князь.— Л. /О.), глядя на крест, трижды осеняет себя крестным знамением, столько же раз наклоняя голову и опуская правую руку почти до земли; затем, подойдя ближе и шевеля губами, будто произнося молитву, отирает уста полотенцем, силе-
КРЕСТНОЕ ЦЕЛОВАНИЕ
283 вывает на землю и, поцеловав наконец крест, прикасается к нему сперва лбом, потом тем и другим глазом»27.
Крестное целование, издавна известное на Руси, рассматривалось как надежнейшая из всех возможных гарантий. В широком смысле этот обряд подтверждал истинность сообщения, на котором целуется крест, будь то рассказ о прошлом на судебном процессе или декларация будущих намерений при заключении дипломатического договора. Присяга, скрепленная крестным целованием, обозначалась словом «правда», соединяющим в себе понятия истины и праведности.
Обряды, связанные с целованием священных предметов, играли важную роль в жизни русских людей XV-XVII вв. Установленные самой церковью, в светской жизни они, однако, зачастую подвергались трансформации, которую церковь уже осуждала. Митрополит Фотий в 1427 г. писал, что «христьянину православну не дан честный крест в роту» (клятву), но затем, что человек, целующий крест, «освящевает собе и от болезни и от недуг всяческих исцелевает»28. Клятва именем Бога, крестное целование и матерный «лай» — вот три прегрешения, против которых особенно предостерегает автор «Поучения отца духовного к чадам духовным» (XVII в.). «Лучше умирать, а креста не целовать», — гласит пословица. Духовенству присяга была запрещена в принципе. На постановлении Земского собора 1566 г. целовали крест все его участники, за исключением лиц духовного звания. Вплоть до 1917 г. православные священники, выступая в суде как свидетели, официально были избавлены от присяги.
В определенные сезоны русские государи уклонялись от крестного целования даже при ратификации дипломатических договоров. В 1519 г. крымский посол попросил Василия III немедленно скрепить «правдой» заключенное
ИТОГИ И ГАРАНТИИ
284
соглашение, на что получил следующий ответ: «Ныне у нас говенье, и мы в свое говенье правды никому не даем»29. Конечно, промедление могло быть вызвано и политическими причинами, но показательна сама мотивировка отказа.
В XVI в. крестное целование государя на «договорных» грамотах было обрядом, практически не подконтрольным церкви. Протопоп Благовещенского собора (потрадиции он являлся духовником царя) вносил в приемную палату крест, предназначенный для присяги, но этим и ограничивалось его участие в церемонии. При дальнейшем он даже не присутствовал, поскольку перед тем высылался из палаты вместе с дворянами и прочими лицами, которые «в думе не живут». Тем самым подчеркивалось светское, государственное значение этого обряда, совершаемого лишь в присутствии послов и думных людей. Все русские государи от Ивана III до Бориса Годунова целовали крест без каких бы то ни было духовных особ. Иногда царский духовник и вовсе не появлялся при послах, а принесенный им крест заранее вешали на стене или клали на окно в тронной зале. «Договорные» грамоты лежали на блюде, классическом атрибуте гаданий и разнообразных народных «действ» языческого происхождения, и не случайно, может быть, Василий III перед тем, как поцеловать крест, «отплюнул на землю» — видимо, отгоняя «нечистого». В XVI в. русские государи всегда целовали крест в присутствии лишь узкого круга лиц, как бы посвященных в таинства церемонии. Блюдо с «договорными» грамотами держал дьяк, крест — боярин. Царь целовал его стоя, сняв царскую шапку, чего не делал публично ни в каких других ситуациях. Ее брал один из бояр и поднимал вверх на вытянутых руках. В этот момент все, кто находился в приемной палате, вставали и тоже снимали шапки.
КРЕСТНОЕ ЦЕЛОВАНИЕ
285
Процедура крестного целования претерпела существенные изменения уже при первых Романовых, когда эта форма присяги, вообще-то церковью осуждаемая, негласно была узаконена применительно к помазанникам Божиим и только к ним одним. В середине XVII в. возле трона ставили аналой, на него возлагались «договорные» грамоты, крест, а также Евангелие, чего прежде не было. Перед аналоем горела свеча. Царский духовник в полном облачении начинал петь псалмы, затем «говорил о вере заклинательное писмо», после чего государь прикладывался к кресту и Евангелию. Приблизительно в это же время и польские короли стали приносить присягу не во дворце, как бывало в XVI в., а в костеле, при участии всего соборного причта во главе с архиепископом. Церковно-этикетные наслоения постепенно скрыли магическую природу обряда крестного целования, ранее проступавшую в нем куда более явственно.
Недаром к нему можно было привести насильно, что отнюдь не лишало его эффективности — примеров тому множество. Лишь в 1635 г. русские послы впервые получили наказ протестовать в том случае, если для его совершения короля Владислава IV поведут в костел под руки, поскольку это будет выглядеть как насильственное приведение к присяге. В предшествующую эпоху на такие вещи внимания не обращали.
Изначальный смысл обряда — сверхъестественное слияние «договорной» грамоты (обещания) и присягающего на ней лица в единое целое, чья нерасторжимость обеспечивается высшей силой. Это подтверждается этимологией слова «целовать», восходящей к слову «целый». Поцелуй — символ единения. В данном случае целокупность человека и текста устанавливается посредством священного символа, включаемого в их общность. Физический
ИТОГИ И ГАРАНТИИ
286
контакт между ними обязателен, он гарантирует действенность всей процедуры. Иначе, как во всякой магии, нужный эффект не достигается. Поэтому при крестном целовании в Москве оба экземпляра договора складывались вместе, но сверху, под крестом, лежала грамота, составленная от имени русского государя. Напротив, при совершении той же процедуры за границей иностранный монарх клал «свое слово наверх, а государево — на низ». Крест должен был соприкасаться с тем из двух текстов, который составлен от имени присягающего. Во всех прочих ситуациях русские дипломаты упорно стремились поместить русский экземпляр договора поверх экземпляра противной стороны, но здесь даже вопросы государственного престижа отступали на второй план. Когда литовские послы в Москве целовали крест на «приписи» к королевскому экземпляру «перемирной» грамоты, царь, следуя той же логике, приказывал «королево слово положите сверху своего слова».
В 1571 г. посольству И. М. Канбарова, отъезжавшему в Краков, наказывалось: «А как учнет король крест на грамотах целовати, послом того беречи накрепко, чтобы король на обеих грамотах крест целовал, в самой крест прямо губами, а не в подножье и не мимо креста, да и не носом»30. В другом наказе послам предписывалось следить за тем, чтобы король вместо креста не приложился бы к блюду, на котором тот будет лежать. Необходимость учитывать такого рода опасности говорит о восприятии крестного целования как обряда магического, где лишь правильное исполнение ритуала гарантирует ожидаемый результат. Поцелуй — это передача дыхания, знак отверстой души. Если Сигизмунд II Август будет целовать крест «носом», т. е. имитировать ритуальный поцелуй, он сможет безнаказанно нарушить свое обещание, гарантия ут-
КРЕСТНОЕ ЦЕЛОВАНИЕ
287
ратит крепость, а сам договор — силу. В XIV-XV вв. отдельный пункт о целовании креста «безо всякие хитрости» включался в основной текст междукняжеских договоров и был, по-видимому, условием их ратификации.
Гарантии были тем тверже и незыблемее, чем в большей степени священный символ воплощал в себе божество для тех, кто на нем присягает. Василий III и Иван Грозный обычно целовали «воздвизалный» крест, т. е. деревянный, используемый на богослужении в праздник Воздвижения креста Господня (датчанину Я. Ульфельдгу он показался каменным). «Воздвизалный» крест —воплощение «древа животворящего», на котором был распят Иисус, и наиболее почитаемые «воздвизалные» кресты считались изготовленными из обломков подлинного Голгофского креста. Если «воздвизалный» крест кремлевского Благовещенского собора принадлежал к их числу, «правда» на нем была особенно действенной.
Дополнительно к нему использовались и другие предметы. В 1559 г., утверждая договор с Данией, Грозный целовал крест, лежавший па золотой «мисе, а под крестом застенок от образа, жемчюги сажен, з дробницами»31. Вероятно, примерно с этого времени под крест начали подкладывать драгоценный оклад от иконы, который иностранцы иногда принимали за саму икону.
В XVII в. русские государи целовали золотой крест «с каменьями». При Михаиле Федоровиче он возлагался уже не на сами «договорные» грамоты, которые стали слишком велики по объему, а на письменный текст приносимой присяги. При ратификации Столбовского мирного договора со Швецией (1617 г.), прежде чем царь приложился к кресту, бояре Ф. И. Мстиславский и И. М. Воротынский дотронулись руками до грамоты с этим текстом — в «знак того, что русские сословия одобряют настоящую
ИТОГИ И ГАРАНТИИ
288
присягу, соглашаясь с заключением мира»42. Такое новшество прекрасно характеризует новое положение царя в русском обществе после Земского собора 1613 г.
При этом в Москве знали отношение протестантов к Евангелию и никогда не настаивали, чтобы они давали присягу по тому же канону. Иван Грозный спрашивал польско-литовских послов, на чем они присягают королю — на кресте или на Евангелии. Выяснив, что на Евангелии (очевидно, это были шляхтичи-кальвинисты), царь потребовал и перед ним дать «правду» таким же образом. В наказе русской делегации, в 1581 г. отбывавшей на посольский съезд в Яме Запольском, говорится: «А будут литовские послы люторского закону, и для того взяти у архиепископа Евангильс келейное, толко б было нарядно, да на Евангильс бы послы целовали; а будут послы римского закону старого, и они б крест целовали»43. Крест с распятием был предпочтительнее, чем без него. Признавалось крайне важным, чтобы иностранцы совершали присягу «по их вере», «по их закону» — это давало более прочные гарантии.
В Западной Европе была принята другая форма присяги. Дающий клятвенное обещание возлагал левую руку на первую страницу «Евангелия от Иоанна» и поднимал вверх три пальца правой руки. Именно так присягнул в Москве Я. Ульфельдт, но царя это не удовлетворило и он просил датского посла вдобавок еще и поцеловать евангельский текст. Русские послы, прибывшие в Копенгаген с ответной миссией, потребовали, чтобы король, присягая на договоре, целовал Евангелие па той странице, где изображен крест.
Клятва («рота») и «правда» схожи, но не идентичны. А. М. Курбский называл крестоцеловальпые записи, которые брал у бояр Иван Грозный, «проклятыми грамота-
КРЕСТНОЕ ЦЕЛОВАНИЕ
289
ми». Это выражение встречается и в летописях, обозначая такой вариант крестоцеловальной записи («договорная» грамота — ее разновидность), при котором указания на последствия невыполнения взятых на себя обязательств вводятся в саму запись. В XV и даже в начале XVI в. изредка встречаются дипломатические договоры, составленные по такому стереотипу. В договоре Дерпта с Псковом (1509 г.) читаем: «А с которой стороны не учнут пра-вити крестное целование, ино на того Бог и крестное целование, и мор, и голод, и огонь, и меч». Впоследствии подобная формулировка стала «непригожей».
«Бог, праведный судья, преступникам честного креста и зачинающим брани мститель и противник есть», — говорили русские дипломаты. Государь, предпринявший какое-то действие вопреки условиям соглашения, «через крестное целование», становится «крестопреступником» (любимая инвектива Грозного), «невинные крови взыщутся» от его рук, «глад и меч» обрушатся на его державу («за государское прегрешение Бог всю землю казнит»). Последствия нарушения присяги всем известны, упоминание о них в тексте договора совершенно излишне. В 1480 г. Менгли-Гирей вставил в «перемирную» грамоту слова о том, что если Иван III нарушит договор, ему «убиту быти», но великий князь наотрез отказался целовать крест на таком тексте. «Тех слов по христьянскому закону не можно молвити!» — объяснял русский посол в Крыму причину отказа34. Действительно, в этом случае крестное целование («правда») приобрело бы форму осуждаемой церковью клятвы — «роты».
По словам имперского посланника И. Гофмана, Иван Грозный, целуя крест перед ливонским посольством, говорил, что если он нарушит постановление, то «да поглотят его четыре стихии»35. Свидетелями и возможными
ИТОГИ И ГАРАНТИИ
290
мстителями в этой еретической тираде выступают вместо Бога земля, вода, огонь и воздух, но даже если признать сообщение Гофмана правдивым, в XVI в. такая клятва на высшем уровне — исключение. Посольские книги молчат об устных клятвенных заверениях русских государей перед иностранными дипломатами, и сами они тоже не упоминают об этом в своих записках. При торжественных актах клятвы были не приняты. Такое бывало лишь в «ответной» палате, когда обстановка накалялась. «И послы учали бояром клятися Богом и господарем своим Жиги-монтом-королем, и женами своими, и детьми», — свидетельствует посольская книга о поведении на переговорах членов литовского посольства Я. Глебовича в 1537 г. Вероятно, так же вели себя порой и русские участники переговоров.
Однако крымские послы при совершении присяги («шерти») говорили: «И естли справедливе присягаю, Боже, помози, а естли несправедливе, бо вышний забий на душе и на теле»46. Возможно, подобные декларации были связаны с самим обрядом «шерти», каким он предстает в миниатюрах русских летописей. Для его совершения требовались Коран (экземпляр «Курана» специально для этой цели хранился в Посольском приказе) и две обнаженные сабли, которые, вероятно, возлагались на «договорные» грамоты37. Впрочем, в XVI в. обходились уже одним Кораном. Как именно в XV-XVII вв. совершали присягу мусульманские послы в Москве или исламские владыки перед русскими послами, неизвестно, однако гипотетически этот обряд можно восстановить по позднейшим свидетельствам. Коран помещали на специальной подставке или столике высотой не менее 0,7 м., поскольку он должен был находиться выше пояса присягающего, который становился на колени. Под Коран подкладывал-
КРЕСТНОЕ ЦЕЛОВАНИЕ
291
ся кусок шелка зеленого цвета. Человек, дающий «шерть», постоянно держал на Коране указательный и средний пальцы правой руки, а в заключение должен был его поцеловать. Те, кто принимал присягу, внимательно следили, чтобы при этом он пи в коем случае не произнес вслух арабскую формулу «Инш Алла!», т. е. «Если Богу угодно». Эта формула в значительной степени лишала присягу ее действенности38.
Целование креста на определенном письменном тексте означало согласие с ним. Поэтому в то время, когда в Польско-Литовском государстве не признавали царский титул Грозного, Сигизмунд II Август стремился целовать крест лишь на своем экземпляре договора, где было пропущено слово «царь», а не на обоих, как делалось издавна. Целование креста на обоих экземплярах означало бы фактическое признание Грозного царем. «Исстари того не бывало, — в 1554 г. заявили посольству В. М. Юрьева в Люблине, — что на обеих грамотах королю целовати!»39 Это утверждение заведомо не подкреплялось традицией, и после долгих споров (поляки говорили, будто царский экземпляр договора находится в Вильно, а не в Люблине, хотя позднее он мгновенно появился в приемной палате) король «целовал на обеих грамотах». Послы донесли об этом в Москву, благоразумно умолчав об одной существенной детали, которую зато не преминула отметить Литовская Метрика. В ней сообщается, что Сигизмунд II Август целовал распятие, положенное поверх Евангелия, но между распятием и Евангелием находился лишь его собственный экземпляр; царский же «лист» лежал «з другое стороны Евангелия» и с крестом не соприкасался10. В 1566 г. в аналогичной ситуации русский экземпляр «договорной» грамоты лежал на столе, а Евангелие с крестом и со своим экземпляром король держал в руках. Тем не менее по
ИТОГИ И ГАРАНТИИ
292
возвращении в Москву послы, страшась сказать правду, доложили боярам, будто король присягнул па обоих списках. Как заметил Г. Котошихии, царские послы всегда в самом выгодном для себя свете изображают свое поведение при иностранных дворах — пишут «прекрасно и разумно, выставляючи свой разум на обманство, чрез что б доставить у царя себе честь и жалованье болшее».
В Литовской Метрике говорится, что когда Сигизмунд П Август целовал крест перед посольством Юрьева, русский экземпляр договора «толко для того лежал, абы они (послы. — Л. /О.) видели, але не припоминал иичим его милость (король. — Л. /О.)»41. Можно было и особо оговорить, что присягой утверждается не весь текст соглашения, а с купюрами. В 1582 г. Стефан Баторий, скрепляя мирный договор с Россией, заключенный его представителями в Яме Запольском, в конце концов согласился положить царский экземпляр под свой собственный, на чем настаивали русские послы. При этом он объявил, что присягает лишь па перемирии, но не на титуле «царь» и не на титулах «Смоленский» и «Северский», отсутствующих в его экземпляре.
В этом смысле русско-крымские отношения отличались еще большей простотой. Хап, например, мог дать «шерть» на мирном договоре, оговорив, что если весной царь не пришлет ему обещанных поминков, эта присяга аннулируется — «та шерть не в шорть». Русские государи порой вообще избегали связывать себя крестным целованием, когда дело касалось соглашений с Крымом, столь же частых, сколь и непрочных. В 1602 г. Борис Годунов принес присягу перед крымским послом Ахмет-Челебеем в неслыханной дотоле форме — взял какую-то «книгу», немного подержал ее в руках и отдал стоявшему здесь же боярину С. Н. Годунову, сказав: «Это наша болшая клятва, болши ее у нас не живет». Ахмет-Челебей засомневался.
КРЕСТНОЕ ЦЕЛОВАНИЕ
293
Ударив челом, он напомнил царю, что хан Кази-Гирей в бытность у него русского посла, князя Г. Волконского, перед ним «прямую шерть учинил на Куране», причем Волконский приказал своему толмачу «ту книгу смотреть», т. е. проверить, в самом ли деле это Коран, а не что-либо иное. Выяснилось, что «для такого же дела» хан прислал в Москву своего «дьяка грека», но царь не позволил ему осмотреть книгу, на которой присягал он сам. «Сказывал я тебе, — заявил Годунов, — что мы такой клятвы не давали никому, как теперь брату своему дали». Он даже попытался уверить посла, будто представители всех других государей довольствуются его честным словом, вполне способным якобы заменить собой присягу: «Болшим укреплением царское слово бывает, то и правда». Специфическая «присяга» на неизвестной книге ни в коем случае не могла быть публичной, поэтому царь велел Ахмет-Че-лебею «быть у себя наодине», в присутствии только боярина Годунова и доверенного дьяка Афанасия Власьева. Необычная для совершения столь важной процедуры обстановка частной аудиенции былаобъясненатем, что «все великие дела — тайные»42.
Такие уловки были возможны исключительно в русско-крымской дипломатии, по сами по себе они свидетельствуют, что к крестному целованию относились с огромной ответственностью. Дабы не пришлось «до смерти плакатися», Годунов пошел на откровенный подлог, всячески стараясь избежать этой процедуры, поскольку в непредсказуемых отношениях с Крымом обстоятельства могли вынудить его переступить собственную «правду» и стать «крестопреступ-ником». Как отметил Д. Флетчер, целование креста у русских «почитается столь святым делом, что никто не дерзнет его нарушить или осквернить ложным показанием». Вера в его скрепляющую силу была незыблемой.
ИТОГИ И ГАРАНТИИ
294
Замечателен термин, которым оно, наряду с термином «правда», обозначалось в тогдашней дипломатической лексике — «укрепление». «Крепостью» называли соглашение, скрепленное присягой обоих монархов. «Договорные» грамоты после этого приобретали новый статус, превращаясь в «докончалпые». Само «докончапье» завершало дипломатический цикл в отношениях между двумя государствами, давая гарантию соблюдения сторонами условий договора, а не просто подтверждая согласие монарха с позицией его представителей.
В отношениях между христианскими монархами основные параграфы договоров обычно соблюдались. Все русские государи от Ивана III до Алексея Михайловича придерживались известного правила, которое кардинал Ришелье сформулировал следующим образом: «Королям следует остерегаться договоров, которые они заключают, но когда дело сделано, договоры должны уважаться, как религия»43.
Глава IX
Смещенная реальность
1. Царь-нищий и посол-мститель
В июне 1571 г., когда за стенами Кремля лежало едва успевшее остыть пепелище Москвы, сожженной Девлет-Гиреем, Иван Грозный дал аудиенцию его полномочному представителю и тезке — крымскому «кильчею» Девлету. Слухи об этой аудиенции достигли многих европейских столиц и поразили воображение современников.
В донесении, полученном Литовской радой тремя годами позже, сообщается: «И когда этот посол был на приеме, сам великий князь сел на своем государском месте, возложив на себя бараний шлык и надев сермяжный армяк, а перед ним держали топор; а сына посадил подле себя в таком же уборе». Автором донесения был Филон Кмита, староста пограничной Орши. Далее он писал, что царю был привезен от хана необычный и оскорбительный подарок — «нож голый» (без ножен), а Грозный в качестве ответного дара послал Девлет-Гирею простой топор1.
Сообщение Ф. Кмиты подтверждают Д. фон Бухау и Д. Горсей. Правда, каждый из них знал только часть того, что было известно оршанскому старосте: первый ничего не говорит о присланном ноже, второй — о нищенских одеждах царя и придворных. Наконец, в т. н. «Пискарев-
СМЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
296
ском летописце» (20-е гг. XVII в.) рассказывается, что Грозный, принимая крымского посла, «нарядился в сермягу бусырь (рванина. — Л, ТО.) да в шубу боранью»2. Так же, по словам летописца, были одеты присутствовавшие на приеме бояре.
Все это вызывало доверие еще и потому, что хорошо известны случаи вопиющего нарушения Грозным церемониала посольских аудиенций. Надо полагать, подаренным конем, который был зарублен у него на глазах, шутом в тронной зале или попыткой рвать на себе одежды в присутствии ливонских послов такие инциденты не исчерпывались. Необузданный темперамент царя и его психическая неуравновешенность ни для кого не составляли секрета. В беседах с иностранными дипломатами он часто приходил в возбуждение и даже, как подметил литовский посол Лев Буховецкий, повторял сказанное «по дву крот» (дважды). Однако на приеме ханского «кильчея» все обстояло совершенно иначе. О внезапном припадке ярости речи не идет, наряд царя, царевича и бояр был продуман заранее.
Если известие Ф. Кмиты дополнить свидетельством «Пискаревского летописца», получается, что на приеме крымского посла Иван Грозный вместо «золотного» платья надел рваный сермяжный армяк, вместо «саженой» шубы — овчинный тулуп, а украшенный драгоценными камнями царский венец сменил на бараний «шлык» (по В. И. Далю—«плохая, измятая», даже «шутовская» шапка). Позолоченные топорики-чеканы государевых рынд также были заменены обычным топором. Иными словами, это не нарушение церемониала, а сознательное его пародирование.
Для Грозного, любившего театральные эффекты в политике и в быту, одежда имела особое значение. И. Масса пишет, что когда царь надевал красное платье, он проли
ЦАРЬ-НИЩИЙ И ПОСОЛ-МСТИТЕЛЬ
297
вал кровь подданных, когда черное, то людей убивали без пролития крови — топили и вешали; когда белое, всюду веселились, «но не так, как подобает честным христианам»3. Известно его пристрастие ко всякого рода переодеваниям и зловещему шутовству, по трагические события, которые предшествовали приему «кильчея» Девлета, произвели на Грозного такое сильное впечатление, что едва ли тут имела место всего лишь одна из его обычных выходок с их «изнаночным», по определению Д. С. Лихачева, юмором.
Месяцем раньше ДевлетТирей, нарушив договор, совершил внезапный набег на русские земли. По старинному обычаю золотоордынские и крымские ханы, выступая в поход на Москву, предупреждали об этом великих князей, но на сей раз хан обошелся без предупреждения. Его 40-тысячпая конница, поддержанная ногайцами и черкесами, неожиданно переправилась через Оку и легко рассеяла высланные навстречу опричные отряды. Они разбежались практически без сопротивления, а земская армия частью охраняла броды на Оке, частью только еще собиралась по городам. Путь на Москву был открыт. Узнав об этом, Грозный с небольшой свитой бежал сначала в Ростов, оттуда — еще дальше на север, в Кирилло-Белозерский монастырь. Дорогой он скрывался в лесах, где, как издевательски пишет князь Курбский, упрекавший царя в трусости, «вмале гладом не погиб».
12 мая 1571 г., на Вознесение, Девлет-Гирей дошел до Москвы и поджег предместья. Рассказывали, что он приказал сделать это сразу в тридцати местах, в том числе внутри Земляного вала. По свидетельству одного из чудом уцелевших купцов английской Московской компании (большинство их погибло), «утро было чрезвычайно хорошее, ясное и тихое, без ветра, но когда начался пожар,
СМЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
298
то поднялась буря с таким шумом, как будто обрушилось небо». Ураган мгновенно разнес огонь по всему городу. По преданию, пожар был так силен, что продолжался всего три часа. «Я убежден, — замечает тот же англичанин, — что Содом и Гоморра не были истреблены в столь короткое время»1. Г. Штаден говорит о шести часах, в течение которых полностью выгорели все монастыри, слободы и посады внутри Земляного города, включая Китай-город. Устоял только Кремль, но и в нем часть деревянных строений сгорела, а на каменных царских палатах «переломались от жару» даже прутья железных оконных решеток.
В море огня оседали кирпичные церкви, погребая под собой тех, кто спрятался в подвалах. С колоколен падали и разбивались колокола. «Болтин» воевода князь И. Д. Бельский задохнулся в погребе собственного дома, спустившись туда, чтобы спасти семью. Тысячи крестьян со всей округи стеклись в Москву, спасаясь от нашествия; теперь они вместе с горожанами устремились в Китай-город и Кремль, под защиту каменных стен, но в Кремле ворота завалили изнутри. Говорили, что в толпе, скопившейся перед завалами, ходили по головам в три ряда. Множество людей погибло в давке у крепостных ворот и на прилегающих улицах, еще больше — в огне и в дыму. Некоторые башни, где устроены были пороховые погреба, взорвались. Летописец со скорбной простотой сообщает, что Москва-река «мертвых не пронесла», и позднее специальным командам приходилось «пропроваживати на низ рекою мертвых», т. е. отталкивать тела, которые течением прибивало к берегу. Хоронить их было некому, гибли целыми семьями. В городе почти не осталось мужчин, способных держать оружие, по Девлет-Гирей не сумел сполна воспользоваться плодами победы — те из его всадников, кто пытался проникнуть в пылающую столи
ЦАРЬ-НИЩИЙ И ПОСОЛ-МСТИТЕЛЬ
299
цу, разделили участь своих жертв. Требовалось время, чтобы войти в дотла спаленный город. Опасаясь приближения русских войск, хап удовлетворился взятым полоном и разграблением близлежащих монастырей. Через день он ушел из Москвы на юг, в сторону Рязани.
Катастрофа была апокалиптической. «Фиал гнева небесного излиялся на Россию», — заметил по этому поводу Н. М. Карамзин5. Колодцы были засыпаны или пересохли, улицы покрывали обгорелые останки людей и коней. Чудовищное зловоние наполняло воздух. Выжившим казалось, что понадобится не менее двух месяцев, чтобы очистить город от трупов. «Молю Бога, — восклицал один из немногих уцелевших свидетелей этого пожара, — не видеть впредь подобного зрелища!» Одни говорили о 60 тысячах погибших, другие — о 120, но во всех случаях числа были кратны дюжине. В роковые моменты истории всегда предпочитали использовать знаковые цифры из архаичной двенадцатиричной системы; десятиричная оказывалась бессильна перед лицом древнего ужаса.
«Беда, постигшая Москву, такова, — писал Г. Штаден, — что ни один человек в мире не смог бы себе того представить». Спустя четыре года он уверял императора Максимилиана II, что для взятия обезлюдевшей Москвы понадобится всего несколько тысяч солдат. Столица долго не могла оправиться от разрушений. Даже в 1576 г. на предполагаемый вопрос польских послов о причинах малолюдства московских посадов приставы должны были отвечать, что царь приказал «за городом посадом не быти, и хоромы ставити велел малые» 6.
Вместе с тем это был последний успех крымцев, во всяком случае — успех такого масштаба. Когда следующим летом Девлст-Гирей попробовал повторить набег, он был встречен князем М. И. Воротынским на реке Молодь близ
СМЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
300
Серпухова и наголову разгромлен в трехдневном сражении; в плен попал крупнейший крымский военачальник Дивей-мурза.
Однако в июне 1571 г. царь был потрясен случившимся. В течение двух недель он не решался въехать в сожженную столицу, хотя находился совсем неподалеку, в Александровой слободе. Крымского посла он принял не в Кремле, а в своем загородном дворце в селе Братошино (позднейшее название — Братовщина). В этой ситуации визит «кильчея» Девлета ознаменовался не только полным набором обычных церемониальных унижений, которым всегда подвергалась «честь» государя в отношениях с Крымом, но и дополнительными дерзостями со стороны самого посла. Явившись в приемную палату, он, сознавая исключительный характер своей миссии, позволил себе не поклониться царю — в посольской книге, описывающей его приезд, отсутствует сообщение о том, что «посол государю челом ударил». Это случай совершенно уникальный, и едва ли отсутствие стереотипной формулы можно объяснить забывчивостью подьячего. Как всегда, ханский посланец «посолство правил» не стоя, а «присев на колени» (не вставал он, надо полагать, и к «государевым имянам»). Наконец, в своей грамоте, отправленной с ним в Крым, Грозный мало того, что поставил на первое место имя хана и передал ему «челобитье», а не поклон — он еще и не употребил свой царский титул, ограничившись великокняжеским. Такого ни разу не случалось во всей его дипломатической переписке с 1547 г. и до самой смерти в 1584 г.
Крымская посольская книга № 13 достаточно откровенно описывает все детали пребывания в Москве «кильчея» Девлета, но в ней ничего не говорится ни о мужицких армяках и овчинных шубах царя и бояр, ни о топоре
ЦАРЬ-НИЩИЙ И ПОСОЛ-МСТИТЕЛЬ
301
в руках единственного рынды. Подьячий коротко записал, что «царь и великий князь сидел в обычнем платье, а бояре и дворяне были не в наряде»7. О присутствии царевича Ивана Ивановича не упоминается вообще.
«Обычнее платье» царя — не тот костюм, который обычно был принят на посольских приемах, а повседневный. Шился он не из сермяги и овчины, тем не менее на этой аудиенции Грозный и бояре были одеты проще, чем всегда. Это еще годилось на приеме ординарного гонца, но никак не Дсвлета, облеченного чрезвычайными полномочиями. Он передал царю подарок хана и от его имени «речи говорил», т. е. по своим функциям был послом или посланником («чеушем»), но посольская книга упорно именует его не иначе как гонцом. Причина противоречия может быть одна: по-видимому, Девлет-Гирей, чтобы унизить побежденного царя и приравнять его к «даныцику», намеренно отправил к нему человека низкого происхождения, в силу своего статуса не имевшего права называться послом. В таком случае одежда царя и бояр соответствовала не тому дипломатическому рангу, который сам хан дал своему представителю, а тому, который в Москве сочли уместным для него. «Болшего» царского наряда он был не достоин. При Грозном это правило еще не вошло в систему, но в XVII в. русские государи неизменно появлялись «во одеянии повсядневном» перед всеми посланцами крымских ханов, независимо от их ранга. Тем самым им оказывалась меньшая «честь», чем дипломатам других держав.
Впрочем, нельзя исключить, что и «болшее», и «мен-шее» царское платье, как и наряды бояр, в Братошино были попросту недоступны. Они находились в Кремле, где во время пожара всю «казну» второпях снесли в Успенский собор и теперь, вероятно, еще не успели разоб
СМЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
302
рать и привести в порядок. Можно, разумеется, допустить, что опытный посольский дьяк, редактируя запись о приеме «кильчея» Девлета, просто смягчил детали, и за словами «обычнее платье» скрывается тот самый костюм, о котором сообщал Ф. Кмита, но тогда трудно объяснить, почему та же посольская книга не сочла нужным умолчать о поднесенном царю вызывающем ханском подарке.
Ф. Кмита писал о «ноже голом». По Д. Горсею, это был «дрянной простой нож»; посол будто бы сказал, что хан посылает его царю «в утешение» — чтобы после разгрома и гибели своей столицы тот перерезал себе горло8. В посольской книге ничего этого нет, зато сообщается о ноже, окованном в золото и украшенном драгоценными камнями9. При всем том дар был явно «непригожий». Дарить предметы вооружения позволялось только при условии дружественных отношений, да и то при их выборе требовалась предельная осмотрительность, дабы избежать двусмысленных толкований. Нож, как и стрелы, — старинный знак войны и вражды; Грозный упрекал старцев Кирилло-Белозерского монастыря, что в качестве помин-ков они прислали ему «все ножи, кабы не хотячи нам здоровья». Кроме того, если верить посольской книге, Дев-лет заявил, что привезенный им нож прежде носил на себе сам хан, а теперь посылает в дар царю. Вряд ли Девлет-Гирей мог носить «дрянной простой нож», а его посол — утверждать это о таком ноже, но ни золото, ни «каменья» на рукояти не в состоянии были изменить природу ханского дара. Он был заведомо неприемлем, ибо платье со своего плеча и вещи, которыми пользовался даритель, символизировали его старшинство и были так же почетны для подчиненного лица, как оскорбительны — для равного. Государь мог пожаловать их своему вассалу или подданному, но никак не другому монарху.
ЦАРЬ-НИЩИЙ И ПОСОЛ-МСТИТЕЛЬ
303
Во второй половине XVI в. состав подносимых послами поминков редко указывался в посольских книгах. Чаще давали ссылку типа: «А что было государю от послов поминки, и те поминки писаны у казначеев». Если при описании приема «кильчея» Девлета посольская книга честно излагает все обстоятельства, связанные с «бесчестным» для царя ханским подарком — значит, ее рассказу можно доверять.
Из него следует, что Грозный оказался в тяжелом положении. Принять дар Девлет-Гирея он не мог, поскольку это означало бы признание зависимости, но не смел и отказаться от него без риска прогневить хана. В конце концов, нашли компромиссный выход: вначале нож был принят, но на следующий день возвращен крымскому послу. Причем если принял его сам царь, то обратно он был отдан уже не от лица Грозного, а от имени «приказных людей» — они якобы сочли такой поминок «непригожим» и самостоятельно, по собственной воле, решили его вернуть, оберегая царскую «честь»10. Понятно, что эта акция не могла быть предпринята без ведома царя, но и взять на себя ответственность за нее он остерегся.
Автор «Пискаревского летописца» приводит слова, будто бы сказанные царем «кильчею» Девлету: «Видишь же меня, в чем я? Так де меня царь (хан. — Л. Ю.) зделал! Все де мое царство выпленил и казну пожег, дати мне не-чево царю!» Д. фон Бухау писал, что царь, «притворяясь бедным», принял крымского посла и «отказал снова в дани»1 ’. Ф. Кмитатоже полагал, что Грозный облачился в нищенское платье с целью продемонстрировать свое разорение, неспособность заплатить требуемую дань. Однако в июне 1571 г. Девлет-Гирей поставил перед царем вопрос куда более опасный, чем заурядное вымогательство поминков, пусть даже под запретными для Москвы име
СМЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
304
нами «дань» или «выход». Окрыленный легкой победой и полной деморализацией противника, уверенный в том, что царь уже не способен оказать ему серьезного сопротивления, он открыто заявил претензии па политическое наследие Золотой Орды, потребовав уступить ему власть над Казанью и Астраханью. Это его требование и привез в Москву «кильчей» Девлет. Удивительнее всего, что Грозный обещал «поступитца» волжскими ханствами в пользу Крыма и лишь попросил об отсрочке12.
Разумеется, согласие было дано в надежде выиграть время и собраться с силами, но сам факт подобного обещания, немыслимого в любых других условиях, говорит о многом. Царем владела растерянность. Завоевание Казани и Астрахани составляло предмет его особой гордости, в своих посланиях за рубеж он даже дату часто помечал не только «от сотворения мира», но и от времени взятия их русскими войсками — как от начала новой эры. Д. фон Бухау считал, что две головы царского орла символизируют владычество над Казанью и Астраханью; при всей наивности подобной трактовки опа свидетельствует о том, что имперский дипломат понимал значение для Грозного двух этих городов.
В обстановке лета 1571 г., когда в Карелии и па западных границах было неспокойно, а голод, чума, крымский полон и опричное разорение грозили обратить страну в пустыню, царь всеми способами стремился предотвратить новый набег Девлет-Гирея. Форма, в которой он уклонился от ханского подарка, была настолько осторожной и дипломатичной, и так мало свойственной его темпераменту, что история с простым топором, отправленным хану в качестве ответного поминка, представляется вполне легендарной. Время для такого вызова было не самое подходящее, а сходные легенды бытовали на
ЦАРЬ-НИЩИЙ И ПОСОЛ-МСТИТЕЛЬ
305
Руси и позднее. О Лжедмитрии I рассказывали, например, что он послал крымскому хану шубу, сшитую из свиных кож. Аналогичная история существует и о Борисе Годунове, якобы подарившем турецкому султану мешок из золотой парчи — снаружи он был покрыт бриллиантами, а внутри заполнен свиным навозом. Про самого Грозного тоже ходили слухи, будто он приказал отрезать турецким послам носы и уши, а затем отослал их в дар султану13.
Как ни соблазнительно поверить в сермяжный армяк и бараний «шлык» царя, это, скорее всего, не более чем утешительная легенда. Людям хотелось верить, что Дев-лет-Гирей, спаливший Москву и угнавший многотысячный полон, был осмеян в лице своего посла. Не царь, а народ смехом мстил за перенесенные бедствия. В рассказе о том, как крымский посол предстал перед облаченным в рванину государем, придворный церемониал оборачивается пародией на самое себя; торжественная аудиенция, на которой должны были прозвучать надменные речи победителя, превращается в балаган, в скомороший вертеп, где любые попытки возвеличить имя хана утрачивают смысл и оборачиваются своей противоположностью. Именно так трактует события легенда о приеме «кильчея» Девлета, хотя в реальности Грозный вел себя совершенно иначе и добивался совсем другого эффекта.
Д. фон Бухау тоже считал, что царь надел крестьянское платье в насмешку над ханом. Вероятно, он слышал об этом в Москве, благо знал русский язык и однажды в Вене исполнял обязанности переводчика при русском посольстве11. Ф. Кмита, правда, в России не бывал, зато там был его информатор, некий «служебник» известных виленских книгоиздателей Мамоничей, посетивший Оршу проездом из Москвы в Вильно. Что касается автора «Пискаревского летописца», многие его известия яв
СМЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
306
ляются переложением устных преданий и слухов15. Теми же источниками широко пользовался и Д. Горсей, долго проживший в Москве и понимавший по-русски. Имперский дипломат, английский купец, русский книжник и работник виленской «друкарни» почерпнули свои сведения в той изменчивой стихии, которую посольские книги определяют следующим образом: «что в людех носитца». Легенду о странной аудиенции каждый из этих четверых передает немного по-своему, потому что существовала она, как и положено легенде, в нескольких вариантах. При этом слухи, ее питавшие, возникли не на пустом месте.
Крымская посольская книга № 13 ясно свидетельствует, что на приеме «кильчея» Девлета царь был одет иначе, нежели на других аудиенциях. Иностранных послов и посланников он принимал в «болшем» наряде, гонцов — изредка в «меншем», но «обычнее» царское платье упомянуто в посольских книгах всего дважды: первый раз — в июне 1571 г., второй — в феврале 1582 г., на приеме папского легата А. Поссевино. Тогда царь тоже сидел на троне в «обычнем платье», а присутствовавшие на этой аудиенции бояре и дворяне были «в смирном платье, в багровых и черных шубах — для того, что в ту пору государя царевича князя Ивана в животе не стало»16.
Царевич Иван Иванович, старший сын Грозного и наследник престола, заболел после удара, нанесенного ему отцом, и умер 19 ноября 1581 г. Спустя три с лишним месяца траур по нему еще продолжался. Кроме того, незадолго до приезда А. Поссевино в Москву и при его посредничестве, был заключен мир в Яме Запольском, по условиям которого Грозный должен был отказаться от всех своих завоеваний в Прибалтике, уступив Баторию плоды более чем двадцати летних усилий. Эти события почти совпали во времени, и по воздействию, оказанному на царя, мог
ЦАРЬ-НИЩИЙ И ПОСОЛ-МСТИТЕЛЬ
307
ли сравниться лишь с набегом Девлет-Гирея и пожаром Москвы в 1571 году.
В отличие от Федора Ивановича или Бориса Годунова, которые в знак траура надевали «смирное» платье, Грозный этого никогда не делал. Даже после смерти второй жены, Марии Темрюковны, и брата Юрия Васильевича, когда на аудиенциях все придворные бывали в «смирных» одеждах, он неизменно выходил к послам в сияющем драгоценностями царском облачении. Только два раза, в 1571 и 1582 гг., царь появился перед иностранными дипломатами в «обычнем» платье, что, вероятно, означало для него высшую степень горя и смирения. Поэтому рядом с ним не место было и государевой «грозе» — рындам. На приеме Поссевино они не упоминаются (при Федоре Ивановиче, во время траура по царевне Федосье, рынды на посольских аудиенциях были, но стояли без своих топориков). Отказ от вооруженной охраны, от золота и «каменьев» символизировал покорность Грозного Божественной воле перед лицом обрушившихся несчастий.
Если на аудиенции, данной «кильчею» Девлету, Грозный и хотел показать собственную нищету и «скудость», то отнюдь не в прямом смысле — не как отсутствие средств для выплаты требуемой дани. В противном случае ему совершенно незачем было жаловать ханскому послу шубу баснословной цены — десять рублей17. В этой шубе Дев-лет и предстал перед царем, чье достаточно скромное платье едва ли не уравнивало их друг с другом. Невольно возникает ощущение, что Грозный сознательно стремился именно к такому эффекту.
Во всем его поведении есть странная двойственность, способная навести на мысль как о страхе перед Девлет-Гиреем, так и об издевке над ним. В грамоте, отосланной в Крым в том же июне 1571 г., Грозный не только пропус-
СМЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
308
тил свой царский титул и обещал уступить хану Астрахань (правда, уже без Казани), но по его личному распоряжению к грамоте была приложена еще и «печать меншая на черном воску», хотя обычно царские грамоты, адресованные хану, запечатывались красновосковой печатью. С одной стороны, это явное самоуничижение. С другой, если вспомнить, что малая черновосковая печать использовалась для посланий царя крымским мурзам, напротив — унижение Девлет-Гирея. «Приказ царя запечатать грамоту к крымскому хану тем способом, каким запечатывались обычные указные грамоты из приказов, был, несомненно, намеренным мщением хану в области дипломатики», — отметил Н. П. Лихачев, знаток русской и западноевропейской сфрагистики1*. Трудно сказать, означала ли такая печать самоумаление царя или вызов хану. Одно луг неотделимо от другого, как истовая религиозность Грозного неотделима от его столь же страстной тяги к кощунству. Где кончается одно и начинается другое, попять в принципе невозможно.
Кажется, что на приеме крымского посла Грозный сознательно следует от одного унижения к другому: жалует Девлета роскошной шубой, сам пребывая в «обычпем» платье; впускает его в приемную палату без челобитья; принимает «безчестный» дар хана и, наконец, обещает отказаться от власти над Казанью и Астраханью. Это смирение столь глубоко и необычно, что постепенно начинает вызывать недоверие, ибо таит в себе собственную противоположность. Чем оно искреннее и глубже, тем с большей легкостью оборачивается гордыней.
По-видимому, в поведении царя летом 1571г. переплелись смирение истинное — «перед Богом», как то было во время приезда Поссевино, и показное — перед ханским послом, смешались покорность и высокомерие, страх и
ЦАРЬ-НИЩИЙ И ПОСОЛ-МСТИТЕЛЬ
309
насмешка, отчаяние и политический расчет. В этой двойственности, вытекавшей из особенностей характера и мировоззрения Грозного, легенда о приеме «кильчея» Девлет а выпятила одну сторону и старательно приглушила другую.
Примерно тогда же возник другой русский апокриф (его излагает один из «Хронографов» конца XVI или начала XVII в.), в котором попытка мщения за гибель столицы была предпринята уже отнюдь нс в области этикета. Она приписывалась реальному лицу в реальных обстоятельствах —дьяку Андрею Ишеину-Кузьминскому, при Грозном ездившему посланником в Стамбул. В действительности он отбыл из Москвы в марте 1571 г., за два месяца до набега Девлет-Гирея, но легенда утверждала, будто он имел поручение известить султана о «неправде» его вассала, переступившего принесенную на Коране «шерть» и сжегшего Москву. Автор «Хронографа» рассказывает, что на аудиенции султан «Амурат» (на самом деле — Селим II) не пожелал покарать Девлет-Гирея, более того — «с грозами» отказал царю в «братстве» с собой, потребовал у него дани («выхода») и возвращения Астрахани. Тогда Ишсин-Кузь-минский в гневе бросился на него с «будьем» (кинжалом), как сербский национальный герой Милош Обилии на Косовом поле, но был перехвачен возле трона. Будто бы султан, пораженный его храбростью и верностью своему государю, не велел казнить смельчака, но поставил его в пример своим «пашам» и с честью отпустил на родину19.
При всем том в подоплеке этой легенды лежит опять же пожар Москвы, не будь которого, едва ли посланнику пришла бы в голову мысль убить султана. Между строк читается, что набег Девлет-Гирея был связан с неудачной попыткой турок взять Астрахань в 1569 г., и посол задумал покушение заранее, иначе не стал бы прятать под
СМЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
310
одеждой кинжал. Открыто пронести его в приемную палату он не мог — в Стамбуле, как и в Москве, послы являлись на аудиенцию без оружия. Автор «Хронографа», человек, судя по всему, хорошо осведомленный в вопросах тогдашней дипломатической практики, об этом должен был знать.
2. Омывание рук и другие легенды
В 1614 г. дьяк И. Фомин, будучи с посольством в Праге, при дворе Габсбургов, с удивлением услышал, а позднее изложил в своем статейном списке историю о том, как Иван Грозный в гневе приказал гвоздями прибить шляпу к голове некоего посла, который отказался обнажить перед ним голову20. Эту же историю передают в своих записках голландец И. Данкерт, живший в России в 1609-1611 гг., и англичанин С. Коллинз, побывавший в Москве уже при Алексее Михайловиче. Жертвой царской жестокости первый называет посла венецианского, второй — французского, уверяя при этом, будто с его соотечественником Д. Боусом, который тоже нс снял шляпу перед царем, Грозный такую штуку проделать не осмелился.
Аналогичный поступок приписывался валашскому господарю Владу IV, правившему в Мунтснии (Восточной Валахии) в 1456-1462 и в 1477 гг. Более известный под именем Дракулы, в немецких брошюрах и «летучих листках» XVI в. он стал кровавым извергом, олицетворенной свирепостью на престоле. Какое-то сочинение о нем еще при Иване III привез из Венгрии дьяк Федор Курицын. Позднее повесть о «мутьяпском воеводе» ходила на Руси в нескольких вариантах и во всех есть рассказ о том, как
ОМЫВАНИЕ РУК И ДРУГИЕ ЛЕГЕНДЫ
ЗП
Дракула, разгневавшись на турецких послов, не пожелавших обнажить перед ним головы, повелел «гвоздием железным на главах их колпаки пришивати»21.
Очевидно, что и собеседники Фомина в Праге, и Дан-керт, и Коллинз излагали не реальный факт (при Грозном французские дипломаты Москву не посещали), а бродячий сюжет, где герои легко меняют имена, страны и собственные характеры: послы могут быть наглыми или благородно отстаивающими свое достоинство, государь — суровым, но справедливым владыкой или отвратительным тираном. Такие сюжеты живут столетиями, потому что персонажи постоянно подпитываются кровью реальных исторических фигур, к которым привязывает их каждая очередная легенда, возникающая в нужное время и в нужном месте. Недаром в многочисленных записках европейских дипломатов, бывавших в Москве при Иване Грозном, Федоре Ивановиче и Борисе Годунове, рассказ о прибитой шляпе отсутствует. Он возник уже после событий Смутного времени, когда, с одной стороны, на Западе обострился интерес к России, а с другой — сама личность Грозного успела подернуться мифологическим туманом.
Распространению такого рода легенд способствовали правительство и магнаты Польско-Литовского государства, в борьбе с которым русская дипломатия пыталась опереться на помощь Англии, Дании, Швеции, Священной Римской империи. Соответственно дипломатия Речи Посполитой стремилась настроить против Москвы европейское общественное мнение. Сочинение Альберта Шлихтинга, ярко рассказавшего об опричных казнях и жестокости Грозного, по просьбе Сигизмунда II Августа было переписано автором, после чего обрело еще большую полемическую заостренность; затем польский король переслал его в Рим, дабы побудить папский престол ра-
СМЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
312
зорвать отношения с Москвой. До того, как появились «Записки о Московии» С. Герберштейна, сведения о Московской Руси на Западе черпали, главным образом, из латинских сочинений польских и литовских авторов. Последние стремились представить русских государей наследниками не великих князей киевских, что давало бы им право претендовать на западнорусские земли, но всего лишь потомками удельных ордынских данников. Отсюда известный рассказ о порядке приема в Москве посланцев Золотой и Большой Орды, которому якобы подчинялся еще Иван III, пока не отказался от него по настоянию Софьи Палеолог. Впервые упомянутый Яном Длугошем в его «Истории Польши» (конец XV в.), он подробно описан Михалопом Литвином. По его словам, великий князь обязан был встречать ордынских послов за московским посадом, подносить им чашу с кумысом и, если молоко переплескивалось через край, слизывать пролитые капли с гривы посольского коня. Затем он, пеший, под уздцы вел этого коня, на котором восседал старший посол, через весь город в Кремль. Там ханский представитель садился на великокняжеский трон, а сам князь на коленях выслушивал его речи22.
Посольский обычай, практиковавшийся в отношениях Москвы с Ордой, можно восстановить только гипотетически —документация этих отношений не сохранилась. Летописные известия слишком лаконичны, чтобы по ним восстановить детали этикета, но косвенные свидетельства лишь частично подтверждают рассказ Михалона Литвина. Даже в моменты наивысших военных успехов Гиреи никогда не предпринимали попыток возродить описанный им церемониал, хотя считали себя единственными законными преемниками ордынских «царей» и сумели ввести в русско-крымский дипломатический обиход ряд
ОМЫВАНИЕ РУК И ДРУГИЕ ЛЕГЕНДЫ
313
норм, знаменующих собой неравноправное положение московских государей. Те же нормы должны были действовать в отношениях Москвы с Ордой, но к ним, как можно предположить, прибавлялось еще и требование непосредственного участия великих князей в церемонии встречи ордынских миссий. По всей видимости, до 1480 г. они встречали ханских послов перед посадом, как впоследствии Иван Грозный встретил, например, астраханскую ханшу («царицу») Нур-Салтан, подносили им чашу с медом или кумысом и верхом сопровождали их на подворье. Именно этот вариант встречи вырисовывается из краткого рассказа «Хроники Литовской и Жмойтской» (начало XVI в.)23. В Крыму, однако, непрочьбыли преувеличить унижения, которым когда-то подвергалась «честь» московских князей. Вероятно, в Бахчисарае, куда Михалоп Литвин ездил однажды в составе литовского посольства, он и почерпнул свою информацию.
Легенда о церемониале приема ордынских послов неизменно всплывала в периоды обострения отношений между Москвой и Речью Посполитой. Венгр Стефан Ба-торий, при вступлении на престол Ягеллонов не владевший даже польским языком и изъяснявшийся со своими подданными на латыни, не был, разумеется, знатоком русской истории, но знающие люди вовремя снабдили его фактами, необходимыми для полемики с Грозным. В одном из своих посланий к нему Баторий напомнил царю, что его предки слизывали кобылье молоко, пролитое на гривы татарских коней. Немного позднее Д. Флетчер писал уже о том, что когда ордынские послы прибывали в Москву, великий князь должен был собственноручно кормить их лошадей овсом из торбы.
Еще позднее возникла легенда, будто русские государи, переодевшись в простое платье и смешавшись с тол-
СМЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
314
пой москвичей, инкогнито любуются зрелищем въезда в столицу западноевропейских посольств. В XVII в. об этом писали многие иностранцы, но первое известие такого рода содержится в поэме польского литератора и дипломата Г. Пелгжимовского, посвященной пребыванию в России миссии Л. Сапеги в 1600—1601 гг.24. Тем самым создавалось представление об убогости московского двора, ибо возможность насладиться зрелищем посольского шествия для царя оказывалась настолько соблазнительной, что заставляла его забыть о достоинстве и царском «чине».
В новое время все эти истории никогда не воспринимались всерьез, по до сих пор считаются достоверными сообщения об особом рукомойнике, из которого русские государи прямо в тронной зале омывали руку, оскверненную поцелуями послов — католиков или протестантов. Такой обычай прекрасно соотносился с известной нетерпимостью русских по отношению к «л атынам» и «люто-рам», и в его реальности не сомневался даже В. О. Ключевский.
Однако стоит обратить внимание на то, что большинство свидетельств о нем относится к XVII в. Из множества иностранных дипломатов, побывавших в России ранее и детально описавших церемониал высочайших аудиенций, о процедуре омывания рук рассказывают только двое — С. Гербсрштейн и А. Поссевино. Оба видели стоявший в приемной палате рукомойник («рукомой») с положенным поверх него полотенцем и чашу («лохань») для умывания, но самой процедуры ни один из них не наблюдал лично. Поссевино ссылался на Герберштейна, посетившего Москву полувеком раньше, а тот, в свою очередь, тоже упомянул о ней с чьих-то слов. Он, впрочем, так и пишет: «Говорят (курсив мой. — Л. Ю.), что подавая руку
ОМЫВАНИЕ РУК И ДРУГИЕ ЛЕГЕНДЫ
315
послу римской веры, государь считает, что подает ее человеку оскверненному и нечистому, а потому, отпустив его, тотчас моет руки»25. Поссевино писал, будто царь моет руки в «золотой чаше, стоящей на скамье». Тем самым также подверждается, что папский легат при этом не присутствовал — на Руси, в отличие от Западной Европы, принято было умываться под струей.
В своих записках Поссевино сообщает, что он упрекал царя в следовании столь оскорбительному для католиков обычаю, а тот «пытался оправдаться, но не смог этого сделать». Однако в посольской книге, подробно зафиксировавшей обстоятельства пребывания папского легата в Москве, вся история выглядит несколько иначе.
Действительно, в феврале 1582 г. Поссевино подал на имя Грозного письмо, где, в числе прочего, просил царя отказаться от практики омывания рук. Впадая в преувеличения, которые не стоило труда опровергнуть, он писал, будто император Рудольф II и другие католические монархи не направляют своих представителей в Москву, потому что царь, «коли говорит с послы или посланники, руки себе перед ними омывает, как бы тые государи, от кого они приехали, не чистые, и вера, в которой они живут, как бы погана». В то время Поссевино еще не был на приеме у царя, поэтому к собственным впечатлениям не аппелиро-вал и в качестве источника своих сведений называл «Жи-гимонта Герберстайна». Тот, как указывалось в письме, «книги великие написал о речах и обычеех московских, которые книги мало не во всех государствах есть»21’.
Результат оказался неожиданным. «Того у нас не ведет-ца, — отвечали бояре уже, видимо, после того, как Поссевино несколько раз побывал па аудиенции в Кремле, — как живут послы или посланники, и государь бы руки умывал тех для послов, вставя которую нечистоту про государей
СМЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
316
их; то ты сам, Ангоней, все у государя видел еси, и не оди-нова, как у государя был многижда на посолстве. Тебя государь... принял своими царскими руками, а рук для того не умывал — то нехто лихой неправдивый человек те слова затеял». Относительно сочинения Герберштейна бояре заявили, что «нечего старых таких баламугных книг слушати»27.
Если оставить в стороне характеристику «Записок о Московии», ответ бояр опирается на реальную обстановку данных Поссевино аудиенций и, помимо прочего, заслуживает доверия как минимум по двум причинам. Во-первых, посольские книги ни разу не упоминают не только об омывании царем рук, но даже о рукомойнике как атрибуте дипломатических приемов. Отсюда следует, что этот предмет, пусть даже он и находился в тронной зале, церемониального значения не имел. Во-вторых, в том же письме Поссевино просил Грозного отменить строгости при содержании иностранных посольств в Москве, и бояре, ничуть не отрицая существования этих правил, просто отвечали, что «так ведетца», и, значит, вопрос дальнейшему обсуждению нс подлежит. Ничто не мешало им точно так же объяснить и обычай омывания рук, но они этого не сделали.
Нетрудно заметить, что цели, с которыми Гербер-штейн и Поссевино приезжали в Москву, чрезвычайно схожи: оба выступали посредниками в мирных переговорах между Россией и Польско-Литовским государством. Кроме того, с папскими послами, сопровождавшими Герберштейна в 1526 г., как и с миссией Поссевино, Ватикан связывал надежды на то, что если с их помощью Василий III и Иван Грозный сумеют заключить выгодный для себя мир с королем, наградой за успешное посредничество станет принятие ими Флорентийской унии. На худой ко-
ОМЫВАНИЕ РУК И ДРУГИЕ ЛЕГЕНДЫ
317
нец в Риме надеялись добиться разрешения строить в России католические храмы. Естественно, в Вильно и Кракове стремились показать абсолютную неосуществимость этих планов. Омывание рук, свидетельствуя о бескомпромиссной враждебности русских государей к католикам, позволяло продемонстрировать посредникам всю иллюзорность питаемых ими надежд и склонить их к отстаиванию польско-литовских интересов. Не случайно у Поссевино речь идег исключительно о послах-католиках, хотя до начала XVII в. на Руси гораздо неприязненнее относились к протестантам.
В письме к царю он мимоходом проговорился еще об одном, не считая Герберштейна, источнике своей информации: рассуждения о вредном обычае завершаются ссылкой на то, что «это не любо» и Стефану Баторию2*. Следовательно, вопрос обсуждался или с самим королем, или с его приближенными. Возможно, именно при польском дворе и обратили внимание Поссевино на всю важность короткого сообщения Герберштейна. Для миссионерских замыслов Ватикана этот обычай был серьезным препятствием, и требование отказаться от него папский легат выдвинул немедленно по прибытии в Москву, еще до первой аудиенции у царя.
В написанном позднее «Московском посольстве» он пишет, что царь омывает руки «у всех на виду, как бы совершая обряд очищения». Фигура, с которой проводится параллель, не называется, но подразумевается — это Понтий Пилат. Имеется в виду нс умывание в буквальном смысле слова, а ритуальное омовение. Царь не столько очищает оскверненную поцелуем руку, сколько перед Богом свидетельствует сознание своего греха, состоящего в вынужденном общении с еретиками и отступниками от истинной веры. Однако при сопоставлении текста «Мос-
СМЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
318
ковского посольства» Поссевино с его же письмом, поданным Грозному еще в Москве, обнаруживается, что омывание рук изображено в них по-разному. В письме говорится, что царь, беседуя с послами, «руки себе пред ними омывает». В позднейших записках рисуется иная картина: вся процедура происходит не в присутствии послов, а «при их уходе», в другом варианте — «после их ухода». То же самое сказано и у Герберштейна: он отметил, что царь омывает руки не при послах, а уже «отпустив их». Эта немаловажная деталь поначалу ускользнула от внимания Поссевино. Впрочем, и в таком варианте процедура не кажется ему менее вредной. При ее совершении, указывает он, «знатные люди, которые обычно в большом количестве здесь присутствуют, как нельзя больше укрепляются в своей отчужденности и отвращении к нам, христианам».
На основании собственного опыта Поссевино должен был признать, что царское умывание не входит в официальный церемониал аудиенции, тем не менее уделил ему достаточно места в своем «Московском посольстве». Возможно, не добившись успеха в попытках примирить Ивана Грозного с католичеством, Поссевино стремился показать, что неудача постигла его в силу объективных причин. Это должно было оправдать провал его миссии.
«Хотя я и понимал, — пишет он, — что нужно выждать, пока их умы созреют для благочестия, однако мне было очень трудно все это выносить. Впрочем, я надеюсь, это не будет долго продолжаться, потому что другие христианские государи или станут упрекать московского князя, или совсем не будут присылать к нему послов, если он не откажется от этого позорного омовения»29. Этим надеждам не суждено было сбыться. Упреков от «христианских государей» не последовало, тем более никто из них не разорвал отношений с Москвой. Даже в ту эпоху конфес
ОМЫВАНИЕ РУК И ДРУГИЕ ЛЕГЕНДЫ
319
сиональная составляющая дипломатии всегда была незначительна по сравнению с политикой и экономикой. К тому же омывание царем рук (возможно, освященной водой) происходило после окончания публичной аудиенции, было его частным делом и не носило демонстративного характера. Не исключено, что оно вообще не было связано с религиозными соображениями и практиковалось после поцелуя царской руки всеми иностранцами вне зависимости от их вероисповедания. Тогда смысл этого обычая — избежать последствий физического контакта с лицами, которые не являлись подданными русского государя и, значит, соприкосновение с ними таило в себе угрозу вредоносного воздействия. В то время подобные опасности представлялись вполне реальными.
Кувшин с полотенцем и золотую чашу для умывания в 1617 г. видели на приеме у Михаила Федоровича шведские дипломаты, а полтора десятилетия спустя — А. Олеа-рий. Процедуры омовения никто из них также не описал, но к факту ее существования и шведы, и голштинцы отнеслись как к чему-то само собой разумеющемуся. Никакой идеологической составляющей Олеарий тут не усмотрел, хотя опять же вспомнил Поссевино, которому «это мытье рук очень не нравилось».
Еще раньше Т. Смит, отметив находившийся в тронной зале умывальный прибор, не выразил по этому поводу ни малейшего неодобрения, к тому же он сам привез в подарок Борису Годунову серебряный рукомойник с лоханью. В 1648 г. Алексей Михайлович получил сразу два таких поминка — от польского короля Яна Казимира и от шведской королевы Кристины Августы. В 1676 г. царю преподнесли драгоценный рукомойник имперские послы. Отдельно посылались в дар золотые и серебряные лохани для умывания. Если бы дело обстояло так, как о том
СМЕЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
320
пишет Поссевино, едва ли западные монархи использовали бы эти предметы в качестве дипломатических даров.
При всем том трактовка Герберштейна и Поссевино дожила до конца XVII в. Лишь курляндец Якоб Рейтен-фельс, живший в Москве в 1670-1673 гг., в своем «Сказании о Московии», написанном для тосканского герцога Козимо III, осторожно отнес обычай омывания царем рук уже к неопределенным «прежним временам». Вопрос о смысле и самом существовании этого обычая остается открытым, но в любом случае западным дипломатам тем проще было в него поверить, что он легко соотносился с некоторыми православными установлениями и запретами, трактующими даже христиан иных исповеданий как носителей «скверны». Например, православный храм подлежал очищению, если в него «от неверных впидет кто», причем обряд очищения был тождественен совершаемому в том случае, «егда пес вскочит в церковь»30.
Вечный путь
Вместо заключения
Среди множества фактов, из разных источников перенесенных на страницы этой книги, не все поддаются истолкованию, но невозможность объяснить явление до конца — свидетельство его подлинности. Достаточно рассказать о нем, чтобы заставить его говорить. История подобна поэзии, которая, как давно известно, вовсе не обязательно должна быть понятной, чтобы быть понятой. Прошлое способно многое сказать о настоящем не потому, что похоже на него, а потому что в прошлом заметнее вечное.
Разумеется, все здесь описанное можно увидеть и с противоположной точки зрения — глазами не тех, кто принимал иностранного дипломата на своей территории, а его собственными, но это уже тема другой книги. Скажем только, что путь посла от рубежей страны до подножия трона — это еще и метафора пути человека, несущего свое послание и под разными именами проходящего одни и те же этапы земного бытия. Рождаясь на свет или пересекая границу, он вступает в иной мир, где ему предстоит понять правила чужой игры, принять их и решить свою задачу, которая при таких условиях решена быть не может, но устанавливать собственные правила ему запрещено. Вопрос в том, чтобы приспособиться к существующим и одновременно сохранить достоинство, которым нельзя пожертвовать даже ради того, чтобы в целости доставить
ВЕЧНЫЙ ПУТЬ
322
свое послание, иначе оно потеряет заключенный в нем смысл. По дороге он подвергается испытаниям, ставящим под вопрос благополучный исход его миссии, но без этих препятствий невозможно понять, что представляет собой мир, где ему предстоит действовать. С другой стороны, он сам — заложник чужой воли, направившей его на этот путь, и, как сказочный герой, должен исполнить данное ему поручение, чтобы заслужить прощение или награду. Над ним тяготеет власть того, кем он послан, и необходимость подчиняться тем, с кем приходится иметь дело, однако при этой двойной несвободе, продвигаясь от испытания к испытанию, он, если сумеет выйти из них с честью, в итоге оказывается более свободен, чем до начала пути. Чем ближе к цели, тем больше у него прав. Причем то, как он ведет себя в этих обстоятельствах, исподволь сказывается на послании, которое он несет. Текст не меняется, но будет прочитан так или иначе в зависимости от того, насколько достойно прошел он свой путь. Если это ему удается, тогда он предстает перед тем, к кому послан, не как слуга, а как творец смыслов, и победителем возвращается к тому, кто его послал, чтобы в конце пути убедиться, что автор и адресат доверенного ему послания — одно лицо.
Последнее — единственное, чем наш путь отличается от пути посла.
1979—1982, 2006
Примечания
Послание без слов
1 Казанская история / Подг. текста Г. Н. Моисеевой. Под ред. В. П. Ад-риановой-Перетц. М.-Л., 1954. С. 167.
2 Сказание о Вавилонском царстве // Хрестоматия по древней русской литературе / Сост. Н. К. Гудзий. М., 2004. С. 220.
3Веселовский Н. И. Татарское влияние на посольский церемониал в московский период русской истории. СПб., 1911. С. 3. В советское время о европейском характере русского посольского обычая писали С. В. Бахрушин (История дипломатии. 2-е изд. Т. 1. М., 1959. С. 235-247) и П. П. Бушев (История посольств и дипломатических отношений Русского и Иранского государств в 1586-1612 гг. М., 1976. С. 444). О русском посольском обычае см. также: О древней русской дипломатии. Речь, произнесенная в торжественном собрании Московского университета доктором прав, ординарным профессором В. Лешковым 17 июня 1847 г.; Сахаров И, П. Дипломатические обычаи древней России // Сын отечества. 1852. № 3-5; Белокуров С. А. О Посольском приказе. М., 1906; Рогожин Н. М. Посольский приказ: колыбель российской дипломатии. М., 2003. Красильников Б, Н. Трон Российской империи. М., 2004; Семенов И. Н. У истоков кремлевского протокола. М., 2005 и др. Интереснейшие наблюдения содержатся в классических трудах Д. С. Лихачева и С. О. Шмидта, а в последнее время — в работах целого ряда современных историков, опубликованных в сб.: Репрезентация власти в посольском церемониале и дипломатический диалог в XV-первой трети XVIII века. Третья международная научная конференция цикла «Иноземцы в Мос-
ПРИМЕЧАНИЯ
324
ковском государстве», посвященная 200-летию Музеев Московского Кремля. 19-21 октября 2006 года. Тезисы докладов (далее — Репрезентация власти...). М., 2006.
1 Савва В. И. Московские цари и византийские василевсы. Харьков, 1901. С. 191.
Глава I. Предварительные условия
1 Сборник Русского Исторического общества (далее — Сб. РИО). Т. 129. СПб., 1910. С. 263.
2 Полное собрание русских летописей (далее — ПСРЛ). Т. 8. СПб., 1859. С. 280.
3 Сб. РИО. Т. 41. СПб., 1884. С. 106-107.
1 Там же. Т. 95. СПб., 1895. С. 360.
5 Мадиссон Ю. К. Посольство И. Гофмана в Ливонию и Русское государство в 1559-1560 гг. // Исторический архив. 1957. № 6. С. 138.
'’Российский государственный архив древних актов в Москве (далее - РГАДА). Ф. 53. № 1. Л. 60-60, об.
7 Казакова Н. А. «Европейской страны короли» // Труды Ленинградского отделения Института истории СССР. Вып. 7. М.-Л., 1964. С. 420.
кСб. РИО. Т. 71. СПб., 1892. С. 314.
"Послания Ивана Грозного / Подг. текста Д. С. Лихачева и Я. С. Лурье. М.-Л., 1965. С. 153; Сб. РИО. Т. 129. С. 40; Послания Ивана Грозного. С. 158.
|0ПСРЛ, т. XIII. М., 1965. С.128-129.
11 Послания Ивана Грозного. С. 213; УоД. К. Неизвестный памятник древнерусской литературы // Археографический ежегодник за 1971 г. М., 1972. С. 360, 361.
12 Флоря Б. Н. Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во второй половине XVI-начале XVII в. М., 1978. С. 9,120.
,чСборник князя Оболенского. М., 1838. № 6. С. 9.
14 Посольская книга по связям России с Ногайской ордой. 1489-1508 гг. / Подг. текстам. П. Лукичева и Н. М. Рогожина. М.» 1984. С. 37.
ПРИМЕЧАНИЯ
325
1г’РГАДА. Ф. 123. № 10. Л. 89, об-90.
HiC6. РИО. Т. 95. С. 280.
,7РГАДА. Ф. 123. № 10. Л. 155.
Карамзины М. История государства Российского. М., 1989. Кн. 3. Т. 9. Стлб. 165. Сб. РИО. Т. 71. С. 395.
19 Гальцов В. И. Челобитная Якима Сумарокова и Федора Григорьева (из истории турецкого плена конца XVI-начала XVII вв.) // Мир источниковедения. Сборник в честь С. О. Шмидта. Москва-Пенза, 1994. С. 72.
20Сб. РИО. Т. 137. СПб., 1915. С. 642.
21 Книга посольская Метрики Великого княжества Литовского (далее - КПМЛ). Ч. 1. М. 1843. С. 41.
22 Лаврентьев А. В. Люди и вещи. М., 1997. С. 129-134.
2SO6 оскорблении царских послов в Крыму в XVII в. / Сообщ. А. Н. Зерцалов // Чтения в Обществе истории древностей российских при Московском университете (далее — ЧОИДР). 1893. Кн. 3. Смесь. С. 1-16.
21 Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Т. 9. М., 1990. С. 55.
25 Путешествия русских послов в XVI-XVII вв. Статейные списки. М.-Л., 1954. С. 59.
2Г' Богатырев С. Н. Павел Юстен: протестантский епископ и королевский дипломат // Юстен П. Посольство в Московию (1569-1572). СПб., 2000. С. 48-49.
27Тамже. С. 193.
2нСб. РИО.Т. 129. С. 274.
29 Там же. С. 218; Т. 71. С. 569; КПМЛ. Ч. 2. С. 53.
so Карамзин Н. М. История государства Российского. Кн. 3. Т. 9. Прим. 558.
31 Олеарий А. Описание путешествия в Московию / Пер. А. М. Ловягина. Смоленск, 2003. С. 70.
Глава II. Государь и посол
1 Carter Ch. Н. The Western European Powers (1500-1700). L.,1971. P. 19.
2 Дьяконов M. А. Власть московских государей. СПб., 1889. С. 88.
ПРИМЕЧАНИЯ
326
4 Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными (далее —ПДС).Т. 1. СПб., 1851. Стлб.854.
< Сб. РИО. Т. 59. СПб., 1887. С. 161; Т. 129.С. 96; ПДС. Т. 10. Стлб. 215. ’Там же. Т. 1. СПб., 1851. Стлб. 1184; Сб. РИО. Т. 129 С. 334. “Там же. Т. 95. С. 82.
7 Олеарий А. Указ. соч. С. 173.
н Калъер Ф. де. О способах ведения переговоров с государями / Пер. Л. А. Сифуровой. М., 2000. С. 42.
9Лихачев Д. С. Русский посольский обычай XI-XIII вв. // Исторические записки. Т. 18. М., 1946. С. 45.
10 Калъер Ф. де. Указ. соч. С. 67-68.
110 России в царствование Алексея Михайловича. Сочинение Григория Котошихина. СПб., 1906. С. 41.
12 Памятники дипломатических и торговых сношений Московской Руси с Персией (далее — ПДТСП). Т. 1. СПб., 1890. С. 433.
,яСб. РИО.Т. 129. С. 96,213.
ИКПМЛ. Ч. 2. М., 1845. С. 99.
15 ПДС. Т. 1. Стлб. 1175.
’“Опись архива Посольского приказа 1626 г. / Подг. к печати В. И. Гальцов, под ред. С. О. Шмидта. М., 1977. С. 304.
17ПДТСП. Т. 2. СПб., 1892. С. 312.
,н РГАДА. Ф. 53. № 2. Л. 168, об.
19 Английские путешественники в Московском государстве в XVI в. / Подг. текста и пер. Ю. В. Готье. Л., 1937. С. 199; Известия англичан о России второй половины XVI в. / Публ. и пер. С. М. Сере-донина//ЧОИДР. М., 1884. Кн. 4. Отд. 3. С. 99;Сэра Томаса Смита путешествие и пребывание в России / Изд. И. М. Болдаков. СПб., 1893. С. 33.
29 Сб. РИО. Т. 129. С. 275-276.
21 Сношения России с Кавказом / Публ. С. А. Белокурова. М., 1889. С. 160.
Глава III. От границы до Москвы
1 РГАДА. Ф. 79. № 15. Л. 266.
2КПМЛ.Ч. 2. С. 97.
ПРИМЕЧАНИЯ
327
SO России в царствование Алексея Михайловича. С. 54.
1РГАДА. Ф. 123. №21. Л. 6, об.
=’Сб. РИО.Т. 129. С. 453.
6Там же. С. 329.
7 Какаш С., Тектандер Г. Путешествие в Персию через Московию в 1602-1603 гг. / Пер. А. Станкевича // ЧОИДР. Кн. 4. Отд. 3. С. 12.
к Дневник ливонского посольства, веденный Томасом Хернером (1557 г.) // ЧОИДР. Кн. 4. М., 1886. Отд. 4. С. 5; Сношения России с Кавказом. С. 222.
9ПДС. Т. 2. СПб., 1852. Стлб. 880, 895.
10Реляция Петра Петрея о России начала XVII в. / Пер. Г. М. Коваленко. М., 1976. С. 75-76.
11 Сношения России с Кавказом. С. 419.
12 Сказания современников о Дмитрии Самозванце. Т. 1. СПб., 1831. С. 41; См. также Аделунг Ф. Указ. соч. Ч. 2. С. 89; Буссов К. Московская хроника (1584-1613). М.-Л., 1961. С. 98.
™ Лисейцев Д. В. Посольский приказ в Смутное время. Рукопись. НРГАДА. Ф. 68. № 1. Л. 3.
15 Сказания иностранцев о России в XVI и XVII веках / Изд. В. Лю-бич-Романович. СПб., 1843. С. 26.
|Г'РГАДА. Ф. 123. № 10. Л. 17.
17Сб. РИО. Т. 38. СПб., 1883. С. 393, 395-396.
,кТам же. Т. 59. С. 386.
19 Таннер Б. Описание путешествия польского посольства в Москву в 1678 году / Пер. И. Ивакина. М., 1891. С. 45.
20 Сэра Томаса Смита путешествие. С. 28.
21 Григорьева Т. Ю. Дипломатические дары как один из ключевых аспектов церемониального приема послов Речи Посполитой в Стамбуле (на примере посольств XVII века) // Репрезентация власти... С. 32.
22Сб. РИО.Т. 71.С. 784.
23Сказание о Вавилонском царстве. С. 220.
Лаврентьев А. В. Указ. соч. С. 154.
2Г’Тамже. С. 153.
*'КордтВ. А. Донесения послов республики Соединенных Нидерландов при русском дворе. СПб., 1902. С. 34.
ПРИМЕЧАНИЯ
328
Глава IV. В Москве
1 РГАДА. Ф. 79. № 15. Л. 121, об.; Сношения России с Кавказом. С. 378.
2РГАДА.Ф. 123. № 13. Л. 170, об.
*ПДС. Т. 1. Стлб. 253; Сб. РИО. Т. 137. С. 641.
'‘Там же. Т. 137. С. 409.
’ РГАДА. Ф. 89. № 1. Л. 326, об.-327.
к Герберштейн С. Записки о Московии / Пер. А. В. Назаренко. М., 1988. С. 245. Прим. 3.
1 Колло Ф. да. Доношение о Московии / Пер. О. Симчич. М., 1996. С. 66.
я УлъфелъдтЯ. Путешествие в Россию / Пер. Л. Н. Годовиковой. М., 2002. С. 305.
"Сб. РИО. Т. 59. С. 64; Т. 35. СПб., 1882. С. 672.
"’ПДС. Т. 10. СПб., 1870. Стлб. 50-51.
11 Письмо Иоганна Кобенцеля о России // Журнал Министерства народного просвещения. 1842. № 9. С. 152-153.
|2РГАДА. Ф. 123. № 10. Л. 7.
НПДС.Т. 1. Стлб. 967.
н Какаш С., Тектандер Г. Указ. соч. С. 12.
15 OssotinskiJ. Painietnik (1595-1621). Wroclaw, 1952. S. 129.
"ПДС.Т. 1.Стлб. 905.
17 Веселовский Н. И. Указ. соч. С. 2.
|н Калъер Ф. де. Указ. соч. С. 62
1!| Путешествия русских послов в XVI-XVII вв. С. 93-94.
» ПДТСП. Т. 1. С. 36, 62; Т. 2. С. 279.
21 Сказания современников о Дмитрии Самозванце. Т. 2. СПб., 1832. С. 118.
22 Сношения России с Кавказом. С. 342, 346-347.
24 Гейс С. Описание путешествия в Москву посла Римского императора Николая Варкоча / Пер. А. И. Шемякина. М., 1875. С. 36.
21 Савва В. И. Дьяки и подьячие Посольского приказа в XVI веке. Справочник. М., 1983. С. 173.
25 Сб. РИО. Т. 137. С. 424.
26 Мадиссон Ю. К. Указ. соч. С. 135.
27 Сб. РИО. Т. 59. С. 379.
ПРИМЕЧАНИЯ
329
28 Масса И. Краткое известие о Московии в начале XVII века / Пер. А. Л. Морозова. Л., 1937. С. 57.
"ПДС.Т. 1.Стлб. 171.
40 Первые сорок лет сношений между Россией и Англиею (1553-1593). Грамоты / Сост. Ю. Толстой. СПб., 1875. С. 48-49.
81 Загородная И. А. Типология дипломатических даров из европейских стран: общее и особенности // Репрезентация власти... С. 47.
42 Сб. РИО. Т. 71. С. 786.
44 ПДТСП. Т. 1.С.ЗЗ;
44 Аделунг Ф, Указ. соч. Ч. 1. С. 144.
85КПМЛ. Ч. 1.С. 90.
86 Сб. РИО. Т. 59. С. 93.
87Там же. Т. 71. С. 736; Шмурло Е. Известия Джиованни Тедальди о России времени Ивана Грозного. СПб., 1891. С. 19; КПМЛ. Ч. 1. С. 292.
* Монтень М. Опыты. Кн. 3. М.-Л., 1960. С. 236-237.
w О России в царствование Алексея Михайловича. С. 67.
40 Сношения России с Кавказом. С. 378.
41 Сб. РИО.Т 137. С. 93.
42 Сношения России с Кавказом. С. 378.
48Известия англичан о России второй половины XVI в. С. 105-106.
44Сб. РИО. Т. 53. СПб., 1887. С. 105.
45 МоссМ. Общества. Обмен. Личность. М., 1996. С. 193. Прим. 456, 198.
4G Савва В. И. О Посольском приказе в XVI веке. Харьков, 1917. С. 388.
47 Кривцов Д. Ю. Легенда о происхождении крымских поминков // Репрезентация власти... С. 68-69.
48КПМЛ. Ч. 1.С.45.
49Сб. РИО.Т. 95. С. 85.
™ Моисеев М. В. Посольские дары — «поминки» — в контексте взаимоотношений России с кочевниками в XVI веке // Репрезентация власти... С. 89.
51 ПДТСП. Т. 2. С. 307.
ПРИМЕЧАНИЯ
330
Глава V. Путь во дворец
1 Сб. РИО. Т. 129. С. 357, 387.
2 Там же. Т. 71. С. 377.
Я ПДС. Т. 2. Стлб. 485.
4 Горсей Дж. Записки о России / Пер. и сост. А. А. Севастьяновой. М., 1990. С. 82-83.
5 ПДС. Т. 2. Стлб. 328-329.
Герберштейн С. Указ. соч. С. 213.
’Путешествие персидского посольства через Россию от Астрахани до Архангельска в 1599-1600 гг. Из рассказов Хуана Персидского / Пер. С. Соколова // ЧОИДР. 1899. Кн. 1. Отд. 3. С. 4-5.
к Казанская история. С. 167.
9 Герберштейн С. Указ. соч. С. 213.
10 Донесение о поездке в Москву придворного римского императора Михаила Шиле в 1598 г. / Пер. А. Н. Шемякина // ЧОИДР. М.,1875. Кн. 2. Отд. 4. С. 4-5.
11 КордтВ. А. Указ. соч. С. 38.
12 Английские путешественники в Московском государстве в XVI в. / Под ред. Ю. Готье. Л., 1936. С. 208-209, 256.
’^Сборник князя Оболенского. № 5. М., 1838. С. 9.
ИКПМЛ.Ч. 1.С. 292.
15Сб. РИО.Т. 71. С. 735.
Н'ПСРЛ. Т. 12. М., 1965. С. 16.
|7Два сватовства иноземных принцев к русским великим княжнам в XVII столетии / Публ. и пер. А. Н. Шемякина // ЧОИДР. М., 1867. Кн. 4. Отд. 4. С. 9.
*яЦит. по: ФрилиДж. Тайны османского двора. Частная жизнь султанов / Пер. И. С. Соколова. Смоленск, 2004. С. 46.
19Сб. РИО.Т. 129. С. 24.
Глава VI. Аудиенция и обед
'Сб. РИО.Т. 38. С. 171.
2Там же. Т. 53. С. 126.
ЯПДС. Т. 10. Стлб. 223-224.
ПРИМЕЧАНИЯ
331
4 Сборник князя Оболенского. X? 5. С. 9.
5РГАДА. Ф. 79. № 3. Л. 216.
Байбурин А. К. Об этнографическом изучении этикета // Этикету народов Передней Азии. М., 1988. С.27-33.
7 Савельева Е. А. Олаус Магнус и его «История северных народов». Л., 1983. С. 79.
8 Поссевино А. Московия. Исторические сочинения о России. / Подг. текста и пер. Л. Н. Годовиковой. М., 1983. С. 24.
9 Сказания современников о Дмитрии Самозванце. Т. 2. С. 38; Дневник Марины Мнишек / Пер. В. Н. Козлякова. Под ред. Д. М. Буланина. СПб., 1995. С. 40.
|0Послания Ивана Грозного. С. 219; Сб. РИО. Т. 129. С. 212.
11 Разрядная книга. 1559-1605 гг. / Сост. Л. Ф. Кузьмина. Под ред.
В. И. Буганова. М., 1974. С. 66, 72, 311 и др.
12 Акты исторические, относящиеся до России, собранные в иностранных библиотеках и архивах А. И. Тургеневым. Т. 2. СПб., 1842. С. 98; Дневник Марины Мнишек. С. 40.
|3ПДС.Т. 10. С. 224.
н Путешествия русских послов в XV-XVII вв. С. 78.
15 Сб. РИО. Т. 95. С. 90.
16 Донесение о Московии Иоанна Пернштейна // ЧОИДР. 1876. Кн. 2. Отд. 4. С. 18; КПМЛ. Ч. 2. С. 205.
17 Чернецов А. В. Резные посохи XV в. М., 1987. С. 13.
,нТамже. С. 13.
19 Иностранцы о древней Москве / Сост. М. М. Сухман. М., 1991. С. 180.
20 Временник Ивана Тимофеева. М.-Л., 1951. С. 10,19.
21 Бухов Д. фон. Начало и возвышение Московии / Пер. И. А. Тихомирова// ЧОИДР. 1876. Кн. 3. Отд. 4. С. 29.
22 Горсей Дж. Записки о Московии XVI века / Пер. Н. А. Белозерской. СПб., 1909. С. 111.
23 Иностранцы о древней Москве. С. 238; Олеарий А. Указ. соч. С. 18-19.
24 РГАДА. Ф. 79. № 10. Л. 507, об.
25 Улъфелъдт Я. Указ. соч. С. 330; РГАДА. Ф. 79. № 15. Л. 209; ПДС. Т. 2. С. 486.
‘^Сэра Томаса Смита путешествие. С. 33.
ПРИМЕЧАНИЯ
332
27 Аделунг Ф. Указ. соч. Ч. 1. С. 256; Выписка из иностранной книги о старине русской // Вестник Европы. 1820. Ч. 63. № 20. С. 202; Полъденстиерне А. Путешествие его княжеской светлости герцога Ганса Шлезвиг-Голштинского в Россию / Пер. Ю. Н. Щерба-чева // ЧОИДР. М., 1911. Кн. 3. Отд. 2. С. 17; Сборник материалов по русской истории начала XVII века / Изд. И. М. Болдакова. СПб., 1896. С. 34; О царском «меншем» платье см.: РГАДА. Ф. 79. № 10. Л. 296, об.; Сб. РИО. Т. 129. С. 347 и др.
2Н Письмо Иоганна Кобенцеля о России. С. 144; Поссевино А. Указ, соч. С. 24.
29 БуховД. фон. Указ. соч. С. 54.
** Лаврентьев А. В. Царевич-царь-цесарь. Лжедмитрий I, его государственные печати, наградные знаки и медали. 1604-1606 гг. СПб., 2001. С. 182-188.
31 Иностранцы о древней Москве. С. 312.
32 Сб. РИО.Т. 71.С.555.
33 Государственный архив России XVI столетия. Опыт реконструкции / Подг. текста и коммент. А. А. Зимина. М., 1978. С. 466.
34 РГАДА. Ф. 79. № 10. Л. 296, об.
35 Аделунг Ф. Указ. соч. Ч. 1. С. 274.
36 Ключевский В. О. Сочинения. Т. 6. М., 1959. С. 370.
37 Розов Н. Н. Похвальное слово великому князю Василию III // Археографический ежегодник за 1964 г. М., 1965. С. 289.
33 Сб. РИО. Т. 59. С. 610.
39 Аделунг Ф. Указ. соч. Ч. 1. С. 194.
40Сб. РИО. Т. 38. С. 159,170.
41 Барбаро и Контарини о России / Пер. Е. Ч. Скржинской. Л., 1971. С. 145.
42 ЮстенП. Указ. соч. С. 155.
43 РГАДА. Ф. 79. № 15. Л. 211.
44 Акты исторические, собранные... А. И. Тургеневым. Т. 2. С. 103. 45РГАДА. Ф. 79. № 17. Л. 290.
49 Ла^утанская В. А. Невербальное поведение. Ростов, 1986. С. 18. 47Сб. РИО.Т. 59. С. 394.
*8ВидекиндЮ. История шведско-московитской войны XVII века / Подг. текста и пер. Г. М. Коваленко и А. И. Плигузова. Под ред. А. Л. Хорошкевич. М., 2000. С. 465-466.
ПРИМЕЧАНИЯ
338
«'РГАДА. Ф. 89. № 3. Л. 215.
“’ПДТСП.Т 1.С. 65.
51 Сб. РИО.Т. 95. С. 92,96.
52 Смирнов В. Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты до начала XVIII века. СПб., 1887. С. 363; Савва В. И. Московские цари и византийские василевсы. С. 223; Белокурове. А. О Посольском приказе. С. 93-94.
и7ейс С. Указ. соч. С. 22.
мСб. РИО. Т. 95. С. 533,171.
гаЛалъденстиернеА. Указ. соч. С. 17.
“ПДС. Т. 2. Стлб. 330; Сб. РИО. Т. 137. С. 315; см. также РГАДА. Ф. 79. № 11. Л. 7-7, об.; № 17. Л. 109.
57 Приезд в Москву посланника Телиаша Пелгримовского // Старина и новизна. Кн. 4. СПб., 1901. С. 415.
“НДС. Т. 1. Стлб. 260; Сб. РИО. Т. 35. С. 505.
г>"Сб. РИО. Т. 38. С. 359.
'"ПДТСП. Т. 1. С. 259.
111 Акты времени междуцарствия (1610-1613) // ЧОИДР. М., 1915. Кн. 4. Отд. 1.С. 13.
|!2РГАДА. Ф. 123. № 21. Л. 102, 327.
,аСб. РИО.Т 71.С. 289.
гиТам же. Т. 129. С. 276.
' гТам же. Т. 137. С. 494.
|Л Английские путешественники в Московском государстве в XVI в. С. 57.
117 Путешествие персидского посольства. С. 15.
МПДС. Т. 1. Стлб. 10; Сб. РИО. Т. 35. С. 163; Барбаро и Контарини о России. С. 230.
w' Цит. по: Борисов Ю. В. Дипломатия Людовика XIV. М., 2002. С. 53. 7"Сб. РИО.Т. 38. С. 113.
7,Тамже. Т. 71. С. 289,313.
72 Новодворский В. Борьба за Ливонию между Москвою и Речью Посполитой (1570-1582). Приложения. СПб., 1904. С. 7.
7!* Сказания современников о Дмитрии Самозванце. Т. 4. СПб., 1834. С. 130.
^МадиссонЮ. Указ. соч. С. 137; КПМЛ. ч. 1. С. 292.
75 Сб. РИО. Т. 38. С. 163.
ПРИМЕЧАНИЯ
334
7,1 РГАДА. Ф. 53. № 1. Л. 3, 27, об.; № 2. Л. 2; Ф. 123. № 10. Л. 21; №21. Л. 97.
77 Сб. РИО. Т. 35. С. 61.
7,1 Там же. Т. 59. С. 578.
79 Аделунг Ф. Указ. соч. Ч. 1. С. 260.
1,0 О России в царствование Алексея Михайловича. С. 70.
Я| Podroze i poselstwa polskie do Turcyj. Krakow, 1860. S. 16.
** Сношения России с Кавказом. С. 71.
и*Сб. РИО. Т. 41. С.265
1,4 Там же. Т. 71. С. 398.
*5РГАДА. Ф. 79. № 15. Л. 214.
"*!Сб. РИО. Т. 59. С. 44.
в7Там же. С. 622
** РГАДА. Ф. 79. № 10. Л. 227, об.
Н!1 Английские путешественники в Московском государстве. С. 59.
1,11 Выписка из иностранной книги о старине русской. С. 202.
Сб. РИО. Т. 59. С. 266, 491, 566 и др.
92 Toynbee A. Constantine Porphirogenitus and his World. London, 1973. P. 503.
Сказания современников о Дмитрии Самозванце. Т. 3. СПб., 1833. С. 77.
94 Герберштейн С. Указ. соч. С. 217; Известия англичан о России второй половины XVI в. С. 14.
!15ПДС. Т.10. Стлб. 80.
!“’Сб. РИО. Т. 71. С. 398.
-17Описание путешествия... Николая Варкоча. С. 29.
’«Сб. РИО. Т. 59. С. 566.
'J9 Аделунг Ф. Указ. соч. Ч. 1. С. 194.
100 Донесение князя Александра Полубенского // Труды 10-го Археологического съезда в Риге. 1896. Т. 3. М., 1900. С. 126.
"" Иностранцы о древней Москве. С. 53
102 Сказания иностранцев о России в XVI и XVII веках. С. 31-32 "“Сб. РИО. Т. 95. С. 96.
104 Сказания иностранцев о России в XVI и XVII веках. С. 31-32.
,U5 РГАДА. Ф. 79. № 10. Л. 116.
"и1Там же. № 17. Л. 343-343, об.; ПДТСП. Т. 1. С. 201.
"'7 РГАДА. Ф. 79. № 10. Л. 241.
ПРИМЕЧАНИЯ
335
,оя Забелин И. Е. Домашний быт русского народа в XVI и XVII столетиях. Т. 1.М., 1862. С. 197.
109Сб. РИО.Т. 137. С. 57.
1,(1 Дневник Марины Мнишек. С. 41. Иностранцы о древней Москве. С. 234.
1,1 Сб. РИО.Т. 137. С. 58.
,,2Там же. Т. 71. С. 49.
1,4 Одеарий А. Указ. соч. С. 208.
114 Белокурое С. А. О приездах в Москву казанского царя Шиг-Алея в 1550, 1552, 1554, 1556 и 1559 годах / ЧОИДР. М., 1899. Кн. 4. Отд. 5. С. 4.
1,5РГАДА. Ф. 123. № 10. Л. 347, об.
Глава VII. В «ответной» палате
1 Дьяки и подьячие Посольского приказа в XVI веке. Справочник / Сост. В. И. Савва. М., 1983. С. 160.
2 Аделунг Ф. Критико-литературное обозрение путешественников по России до 1700 г. и их сочинений. Ч. 1. М., 1864. С. 268.
*Сб. РИО. Т. 35. С. 276-277.
4 Мемуары, относящиеся к истории Южной России. Киев, 1890. С. 47.
''ШтаденГ. О Москве Ивана Грозного (Записки немца-опричника) / Пер. И. Полосина. Л., 1925. С. 58.
* Калъер Ф. де. Указ. соч. С. 44-45.
’Государственный архив России XVI столетия. С. 69.
я Дунаев Б. И. Преподобный Максим Грек и греческая идея на Руси XVI в. М., 1916. С. 64.
>Сб. РИО. Т. 59. С. 505-506.
Николъсон Г. Дипломатия. М., 1941. С. 25. О роли архива в дипломатии см. Шмидт С. О. Российское государство в середине XVI столетия (Царский архив и лицевые летописи времени Ивана Грозного). М., 1984. С. 44-55.
11 КПМЛ. Ч. 1. С. 90-91.
12 ВидекиндЮ. Указ. соч. С. 464.
14 Сб. РИО. Т. 59. С. 297.
ПРИМЕЧАНИЯ
336
14 Warszewcki К. О poslie i poselslwach. Warszawa, 1935. S. 193-194.
15Сб. РИО. T. 59. С. 75.
Там же. С. 281.
,7РГАДА. Ф. 79. № 17. Л. 317.
'"КПМЛ.Ч. 2. С. 142.
19 ПДС. Т. 10. Стлб. 222.
2“КПМЛ. Ч. 2. С. 229.
21 Там же. С. 184-185.
22Сб. РИО. Т. 59. С. 88.
»Там же. Т. 71. С. 357; см. также Т. 59. С. 276.
24 Там же. Т. 71. С. 357.
25 Толстиков А. В. Честь покойного монарха как предмет дипломатического спора: эпизод из истории шведско-русских отношений // Репрезентация власти... С. 129-132.
2Г’ Шмидт С. О. Документы внешних сношений и развитие культуры Руси допетровского времени // Шмидт С. О. История Москвы и проблемы москвоведения. М., 2004. С. 62.
27 Кочегаров К. А. Польские дипломаты в Москве в 80-е годы XVII века: дипломатическая практика, политическая культура, свидетельства очевидцев // Репрезентация власти... С. 66.
2ЯСб. РИО.Т. 137.С. 319.
21 Там же. Т. 59. С. 93.
“РГАДА. Ф. 123. № 17. Л. 46-52, об.
” Там же. № 20. Л. 152.
42Сб. РИО.Т. 129. С. 125.
’’Послания Ивана Грозного. С. 146.
’4 Сношения России с Кавказом. С. 231-232.
’’РГАДА. Ф. 123. № 19. Л. 183, об. 184.
4,1 Савва В. И. Дьяки и подьячие Посольского приказа. Харьков, 1916. С. 136.
’’Акты, собранные в библиотеках Российской Империи Археографической экспедициею. СПб., 1836. Т. 1. № 238. С. 241.
” Описи Царского архива конца XVI в. и архива Посольского приказа 1614 г. / Под ред. С. О. Шмидта. М., 1960. С. 29, 30, 41, 42; РИБ. Т. XIV. СПб., 1897. Стлб. 56; Юзефович Л. А. Миссия Исайи (1561 г.) и Остафий Волович // Советское славяноведение. 1975. № 2. С. 74, 77.
ПРИМЕЧАНИЯ
337
1,9 Сб. РИО. Т. 59. С. 580; Т. 71. С. 588.
40ПСРЛ. Т. XIII. С. 345-346, 359-360.
11 Повесть о прихожении Стефана Батория на град Псков. М.-Л., 1952. С. 41.
42 Сб. РИО. Т. 59. С. 550-551.
«Там же. Т. 137. С. 46.
«Там же. Т. 59. С. 319.
^'Лихачев Д. С. Своеобразие пути русской литературы X-XVII веков // Русская литература. 1972. № 2. С. 14.
«Сб. РИО. Т. 71. С. 659-660.
47Там же. Т. 59. С. 577.
«Там же. С. 573.
40 Ливонская летопись Франца Ниенштадта / Публ. Тилемана // Сб. материалов и статей по истории Прибалтийского края. Т. III— IV. СПб., 1883-1884. С. 13.
™MowatR. В. AHistory ofEuropean Diplomacy (1451-1789). Hainden-Connecticute, 1971. P. 3.
51 Лабрюйер Ж. de. Характеры или нравы нынешнего века. М.-Л., 1964. С. 215-216.
Кольер Ф. де. Указ. соч. С. 52.
« Соловьев С. М. Указ. соч. Т. 8. С. 591.
Глава VIII. Итоги и гарантии
’ПДС.Т. 1.Стлб. 705.
2 О России в царствование Алексея Михайловича. С. 24-25.
ЧПДТСП.Т. 1.С. 222.
4 Успенский Б. Л. Царь и император. Помазание на царство и семантика монарших титулов. М., 2000. С. 27-28.
5 Казакова Н. A.t Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV-начала XVI в. М.-Л., 1955. С. 372.
6 Коялович М. Дневник последнего похода Стефана Батория на Россию и дипломатическая переписка того времени. СПб., 1867. С. 39.
7Сб. РИО. Т. 41. С. 295.
н ПДС.Т. 1.Стлб. 1020.
-’Сношения России с Кавказом. С. 420-421.
ПРИМЕЧАНИЯ
338
10 РябошапкоЮ. Б. Из внешней критики Тявзинского мирного договора 1595 г. // Материалы студенческой конференции МГИАИ. Вып. 1.М., 1963. С. 78.
11 Русская историческая библиотека. Т. XVI. СПб., 1897. С. 58, 75.
12Сб. РИО.Т. 53. С. 46.
,яТамже. Т 71. С. 680.
14 Там же. Т. 41. С. 4.
15 Сергеевич В. И. Русские юридические древности. Т. 1. СПб., 1890. С. 138.
,г’ Лаппо И. И. Похищение государственной печати Великого княжества Литовского в 1581 г. СПб., 1906. С. 3.
1 7Сб. РИО.Т. 38.С. 14.
Бухов Д. фон. Указ. соч. С. 68.
19 ПДТСП. Т. 1. С. 359; Т. 2. С. 33.
20 Сб. РИО.Т. 35. С. 857.
21 Там же. Т. 59. С. 301; ПСРЛ. Т. 13. С. 331.
22 Опись архива Посольского приказа 1626 г. С. 311.
2Я Послания Ивана Грозного. С. 140.
24 ПСРЛ. Т. 13. С. 398.
25Сб. РИО.Т. 71. С. 801.
26 Послания Ивана Грозного. С. 217.
271Ърберштейн С. Указ. соч. С. 227.
2НАкты исторические, собранные Археографической комиссией. T.I. СПб., 1841. №34. С. 66.
29 Сб. РИО.Т. 95. С. 661.
49 Там же. Т. 71. С. 771.
Я1 РГАДА. Ф. 53. № 1. Л. 239, об.
** Видекинд Ю. Указ. соч. С. 474.
яя Успенский Ф. И. Наказ царя Ивана Васильевича Грозного князю Елецкому с товарищами // Записки Новороссийского университета. Т. 43. Одесса, 1885. С. 263.
Я4Сб. РИО.Т. 41. С. 22.
™ МадиссонЮ. К. Указ. соч. С. 136.
w Сборник князя Оболенского. № 1. С. 30.
™ Арциховский А. В. Древнерусские миниатюры как исторический источник / Подг. к печати В. В. Морозова, пред. С. О. Шмидта. Томск, 2004. С. 186.
ПРИМЕЧАНИЯ
339
Арапов Д. Ю. Мусульманская присяга в русском дипломатическом протоколе в средние века и раннее новое время // Репрезентация власти... С. 13-14.
*’Сб. РИО. Т. 59. С. 449.
«’КПМЛ.Ч. 1.С.91.
11 Там же.
42 Соловьев С. №. Указ. соч. Кн. 4. Т. 8. С. 362.
48 Цит. по: Борисов Ю. В. Указ. соч. С. 36.
Глава IX. Смещенная реальность
1 Акты, относящиеся к истории Западной России. Т. 3. СПб., 1848. С. 147.
2 Материалы по истории СССР. Т. 2. М., 1955. С. 80.
s Масса И. Указ. соч. С. 31.
4 Иностранцы о древней Москве. С. 78.
5 КарамзинН. М. История государства Российского. Кн. 3. Т. 9. Стлб. 108.
6Сборник князя Оболенского. X? 6. М., 1838. С. 5.
7 РГАДА. Ф. 79. X? 10. Л. 204.
яТам же. Ф. 123. № 13. Л. 402, об.
9 Горсей Дж. Указ. соч. С. 29.
10 РГАДА. Ф. 123. X? 13. Л. 405.
11 Материалы по истории СССР. С. 80; БуховД. фон. Указ. соч. С. 29.
12 РГАДА. Ф.123. № 13. Л. 412-414.
14 Копанев А. И. Пинежский летописец XVII в. // Рукописное наследие Древней Руси. Л., 1972. С. 84; Аделунг Ф. Указ. соч. Ч. 2. С. 54, Лурье Я. С. Русско-английские отношения и международная политика второй половины XVI в. // Международные связи России до XVH в. М., 1961. С. 425.
,4ПДС.Т. 1.Стлб. 673.
15ПСРЛ. Т. 34. М., 1978. С. 4.
,6ПДС.Т.1О. Стлб. 266.
,7РГАДА. Ф. 123. № 13. Л. 402.
18 Лихачев Н. П. Дело о приезде в Москву Антония Поссевино. СПб., 1903. С.135-136.
ПРИМЕЧАНИЯ
340
10 Карамзин Н. М. История государства Российского. Кн. 3. Т. 9. Прим. 348.
20ПДС.Т. 2. Стлб. 1168.
21 Повесть о Дракуле / Подг. текстаЯ. С. Лурье. М.-Л., 1964. С. 123.
22 Архив историко-юридических сведений, относящихся до России, изданный Н. В. Калачевым. Кн. 2. Пол. 2. М., 1854. С. 33.
2ЧПСРЛ. Т. 32. М., 1975. С. 92.
24 TyszkowskiК. Poselstwo Lwa Sapiehy w Moskwie w 1600 r. Lwow, 1927. S. 50.
25 Герберштейн С. Указ. соч. С. 214.
2,i ПДС.Т. 10. Стлб. 318.
27Там же. Стлб. 332-333.
2*Там же. Стлб. 318.
29 Поссевино А. Указ. соч. С. 24.
40 Орленко С. П. К вопросу об «омовении рук» государем при приеме иностранных послов в XVI-XVII веках // Репрезентация власти... С. 103-104.
Содержание
Послание без слов
Вместо введения.................................. 5
Глава!. Предварительные условия
1. Вопрос о «братстве»................... 14
2. Крымский синдром...................... 23
3. Закон небес, или «Право народов»...... 32
Глава II. Государь и посол 1. Луч от солнца............................... 46
2. От лица к лицу........................ 58
Глава III. От границы до Москвы
1. На рубеже. Посольские съезды.......... 68
2. От рубежа до посада................... 75
3. От посада до подворья................. 82
Глава IV. В Москве
1. На подворье. Мера свободы............. 95
2. «Корм»............................... 108
3. «Поминки» и «жалованье».............. 116
Глава V. Путь во дворец
1. От подворья до Кремля................ 133
2. В Кремле............................. 142
Глава VI. Аудиенция и обед 1. Место действия. Статисты.................... 152
2. Знаки власти........................ 160
3. В тронной зале. Прием .............. 176
4. В тронной зале. «Отпуск»............ 201
5. За столом........................... 207
Глава VII. В «ответной» палате 1. Государевы «пахари»......................... 227
2. Переговоры.......................... 233
3. Полемика. «Слово изустнее».......... 248
4. Запад и Восток...................... 255
Глава VIII. Итоги и гарантии 1. Формула текста.............................. 261
2. Подпись и печать.................... 274
3. Крестное целование.................. 280
Глава IX. Смещенная реальность 1. Царь-нищий и посол-мститель................. 295
2. Омывание рук и другие легенды....... 310
Вечный путь Вместо заключения.............................. 321
Примечания..................................... 323
По всем вопросам, связанным с приобретением книг Издательства Ивана Лимбаха, обращайтесь по адресу: www.bookkiosk.ru
и к нашим торговым партнерам: ООО «ИКТФ „Книжный клуб 36.6й» тел.: (495) 540-45-44, Москва www.club366.ru
e-mail: club366@aha.ru
Интернет-магазин «Лабиринт» www.labirint-shop.ru
Торговый Дом «Гуманитарная Академия» тел.: (812) 430-70-74, Санкт-Петербург;
(495) 937-67-44, Москва
Магазин розничной торговли;
Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 8 тел.: (812) 542-82-12; 541-86-39
Леонид Юзефович
ПУТЬ ПОСЛА
Редактор С. И. Князев Корректор Z7. В, Матвеев Компьютерная верстка Н. Ю. Травкин
Лицензия: код 221, Серия ИД, № 02262 от 07.07.2000 г.
Подписано к печати 16.05.2007 г. Формат 60х88’/и>. Гарнитура NewBaskerville. Печать офсетная. Бумага офсетная. Тираж 2000 экз. Заказ № 4060.
Издательство Ивана Лимбаха.
197022, Санкт-Петербург, пр. Медиков, 5.
E-mail: limbakh@limbakh.ru
www.limbakh.ru
Отпечатано с готовых диапозитивов в ГУП «Типография ,,Наука“».
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12