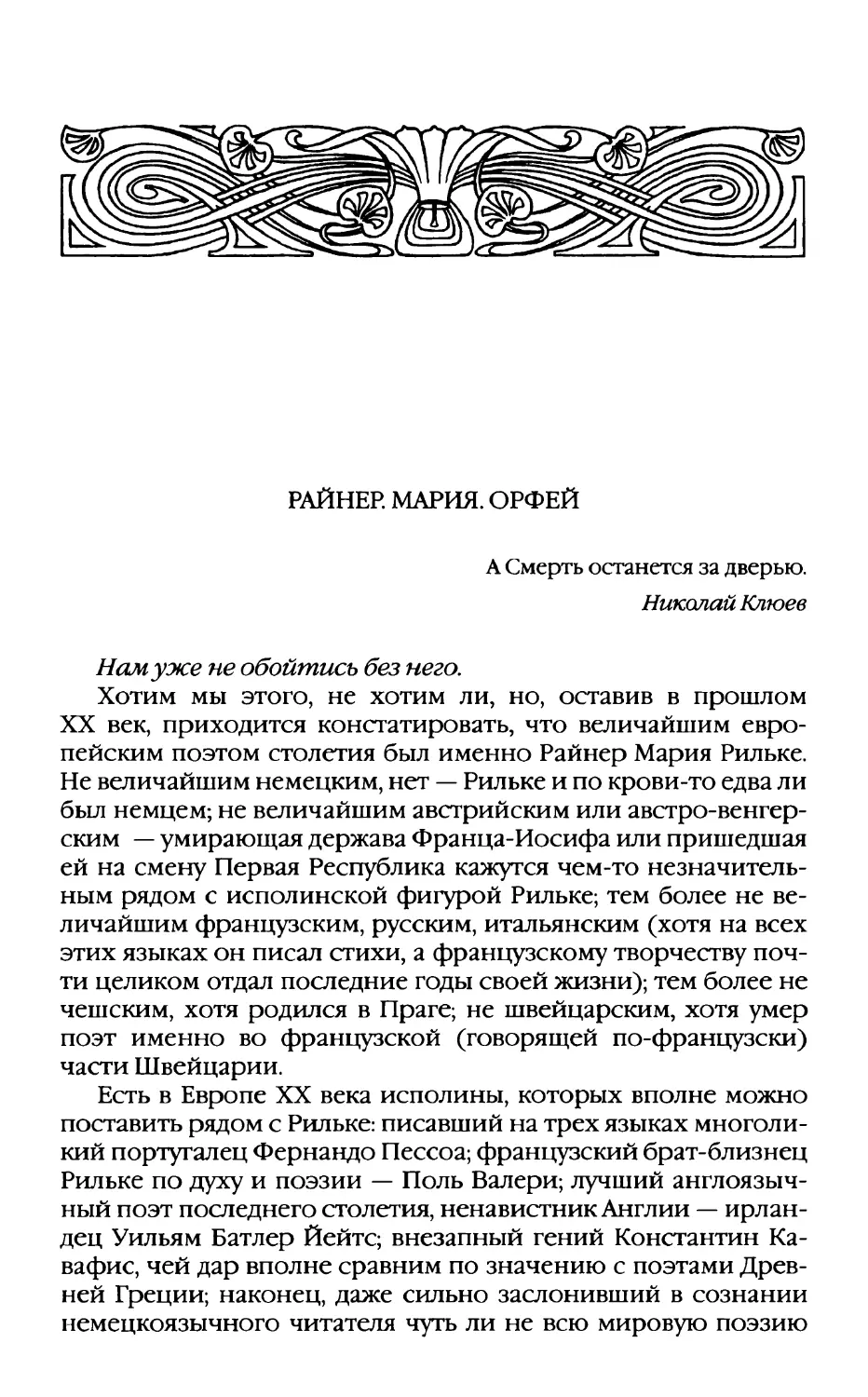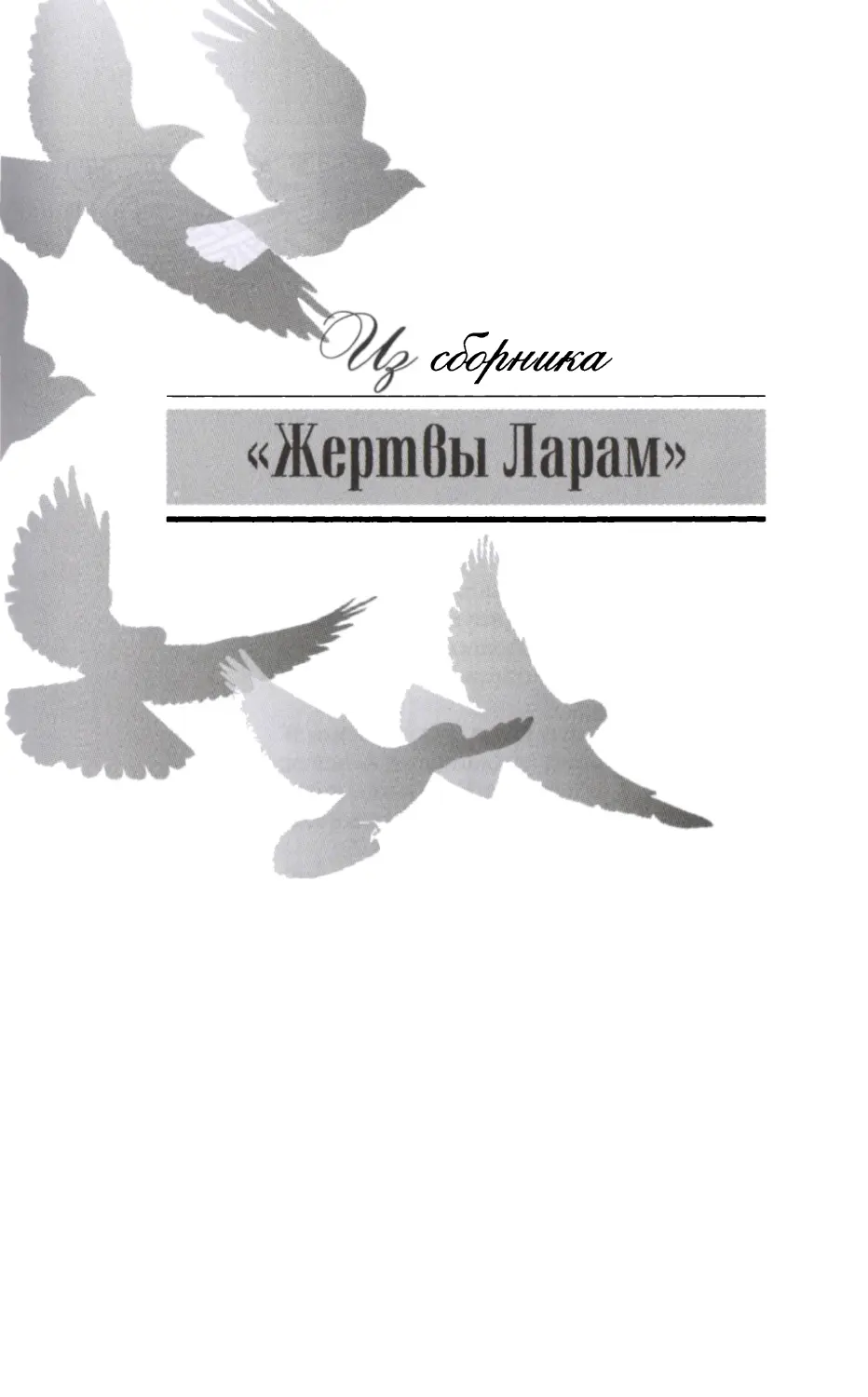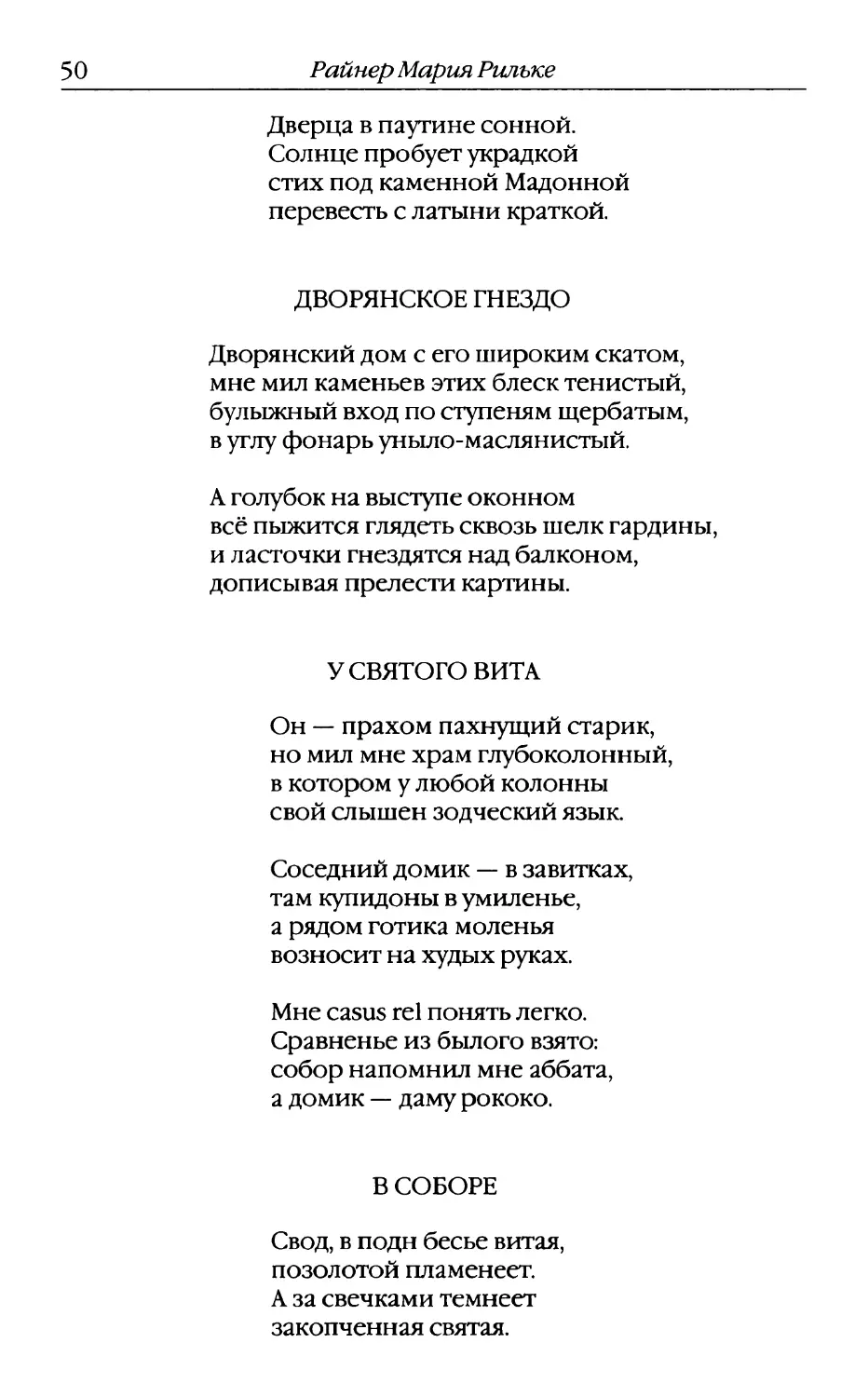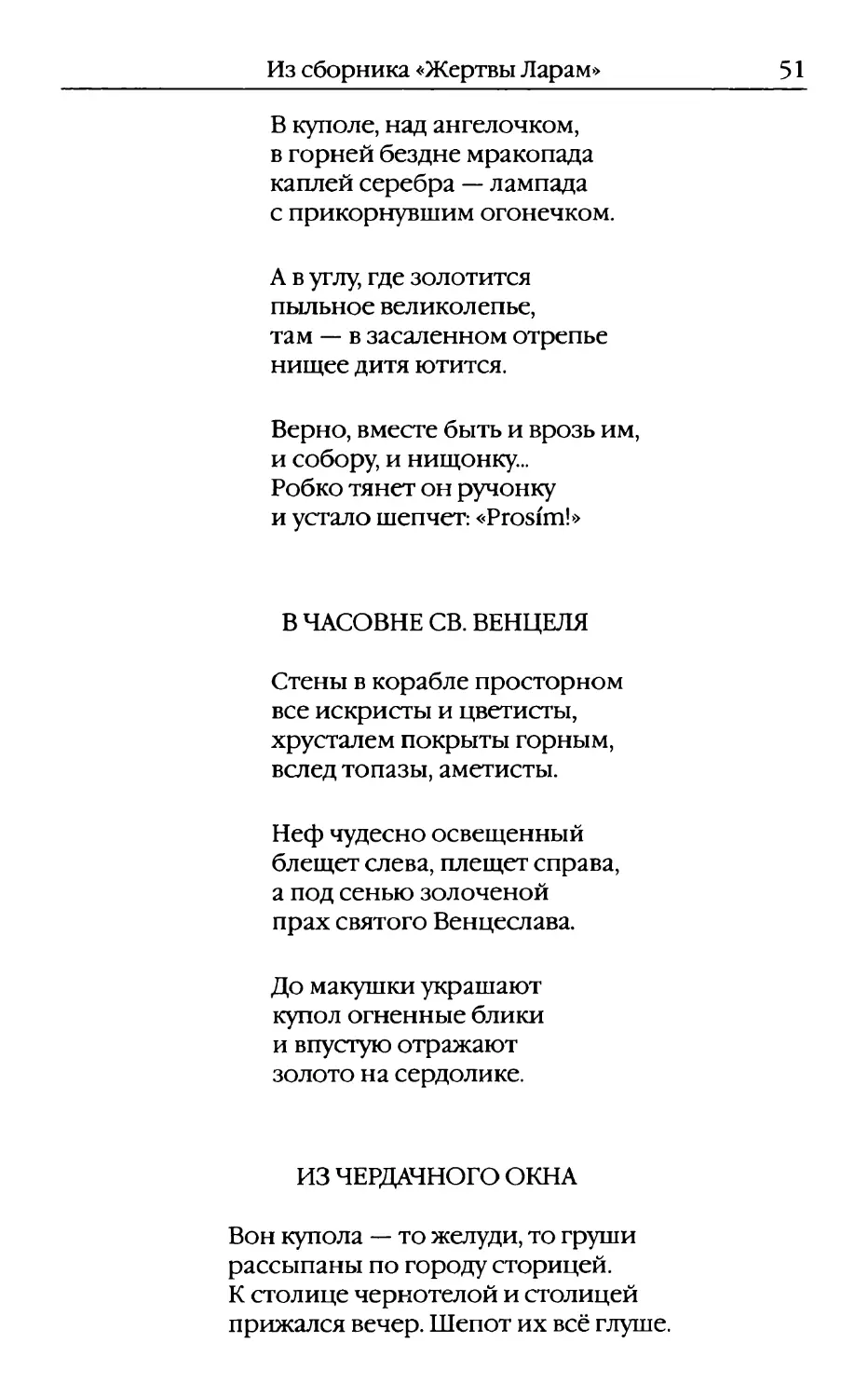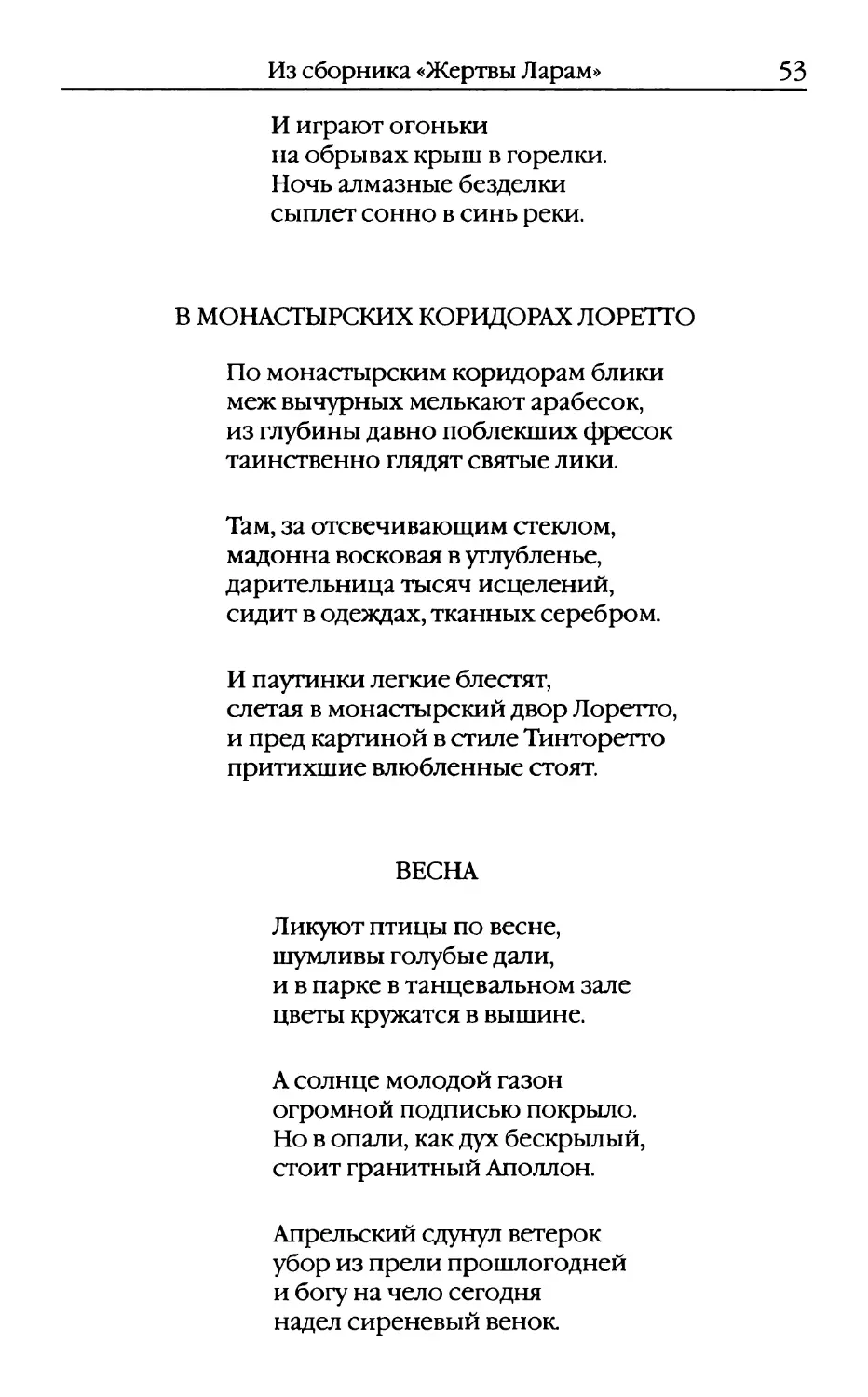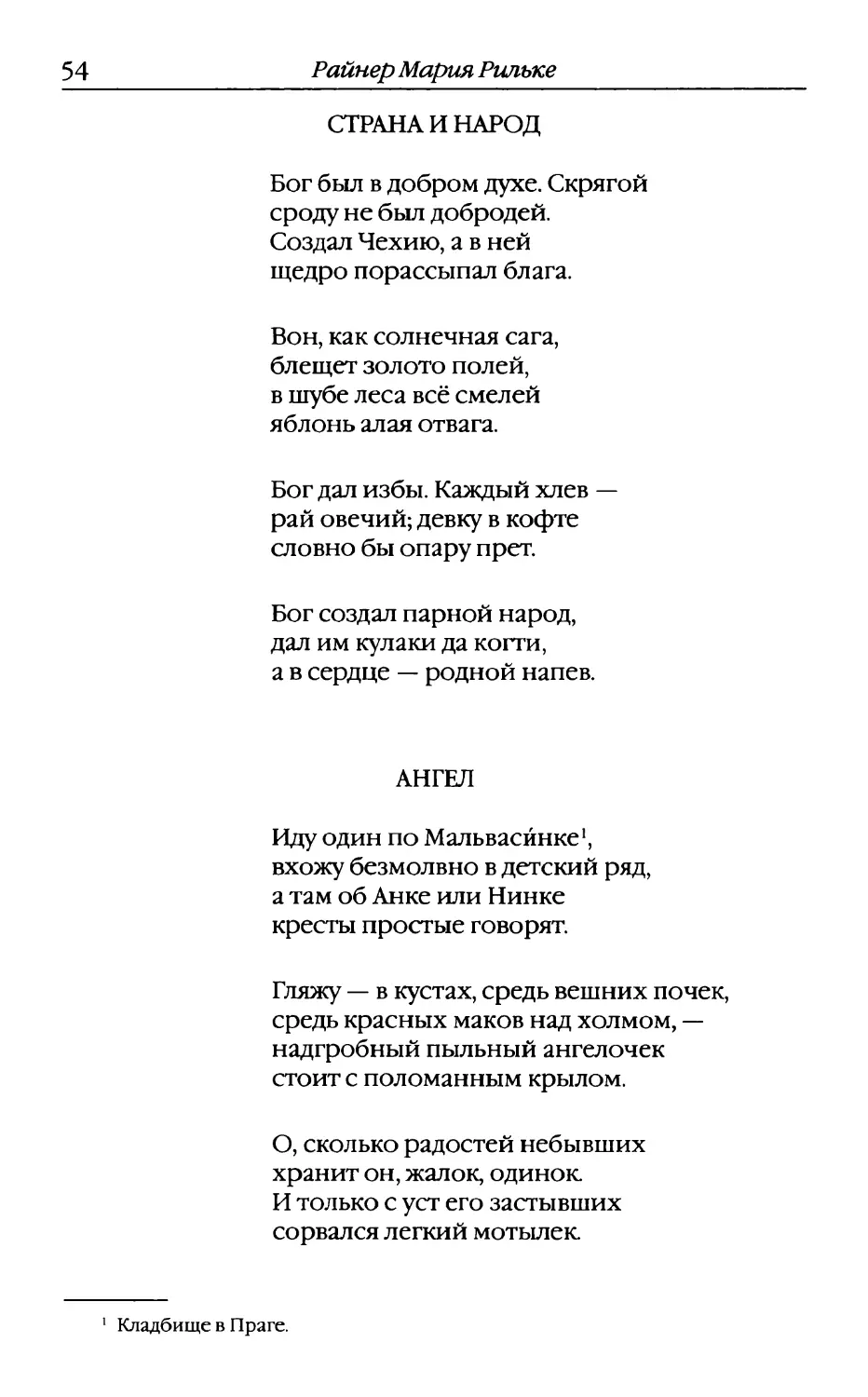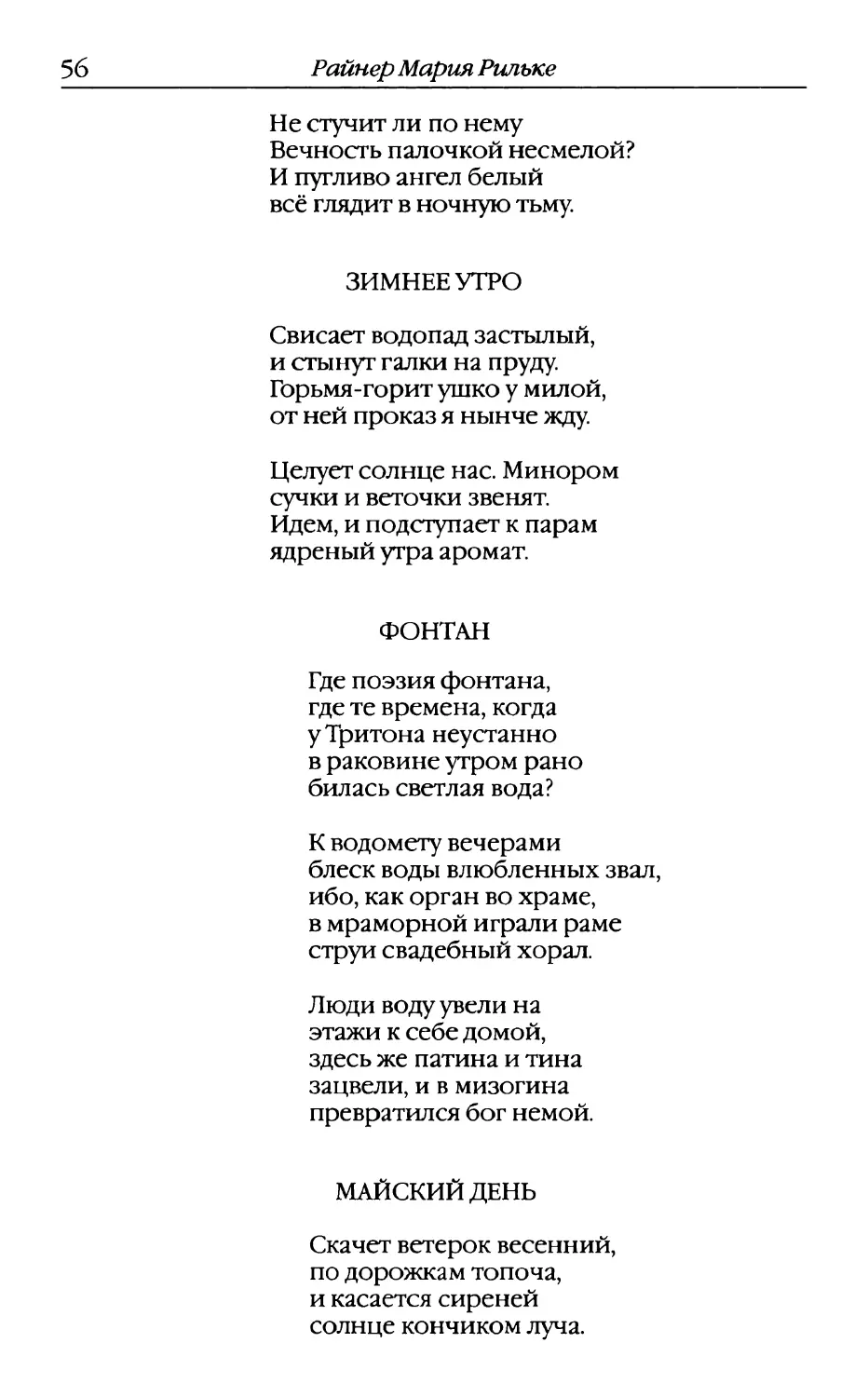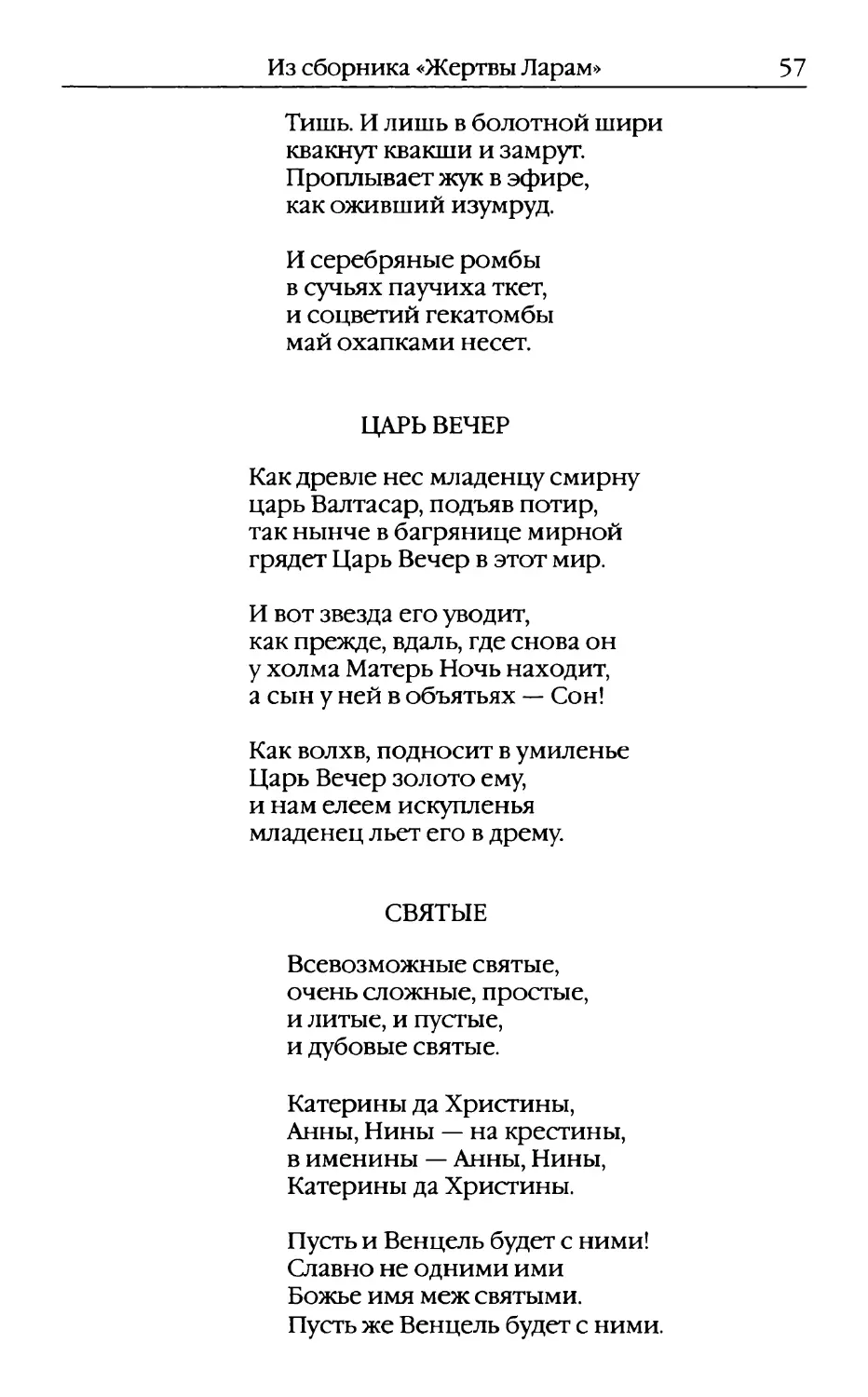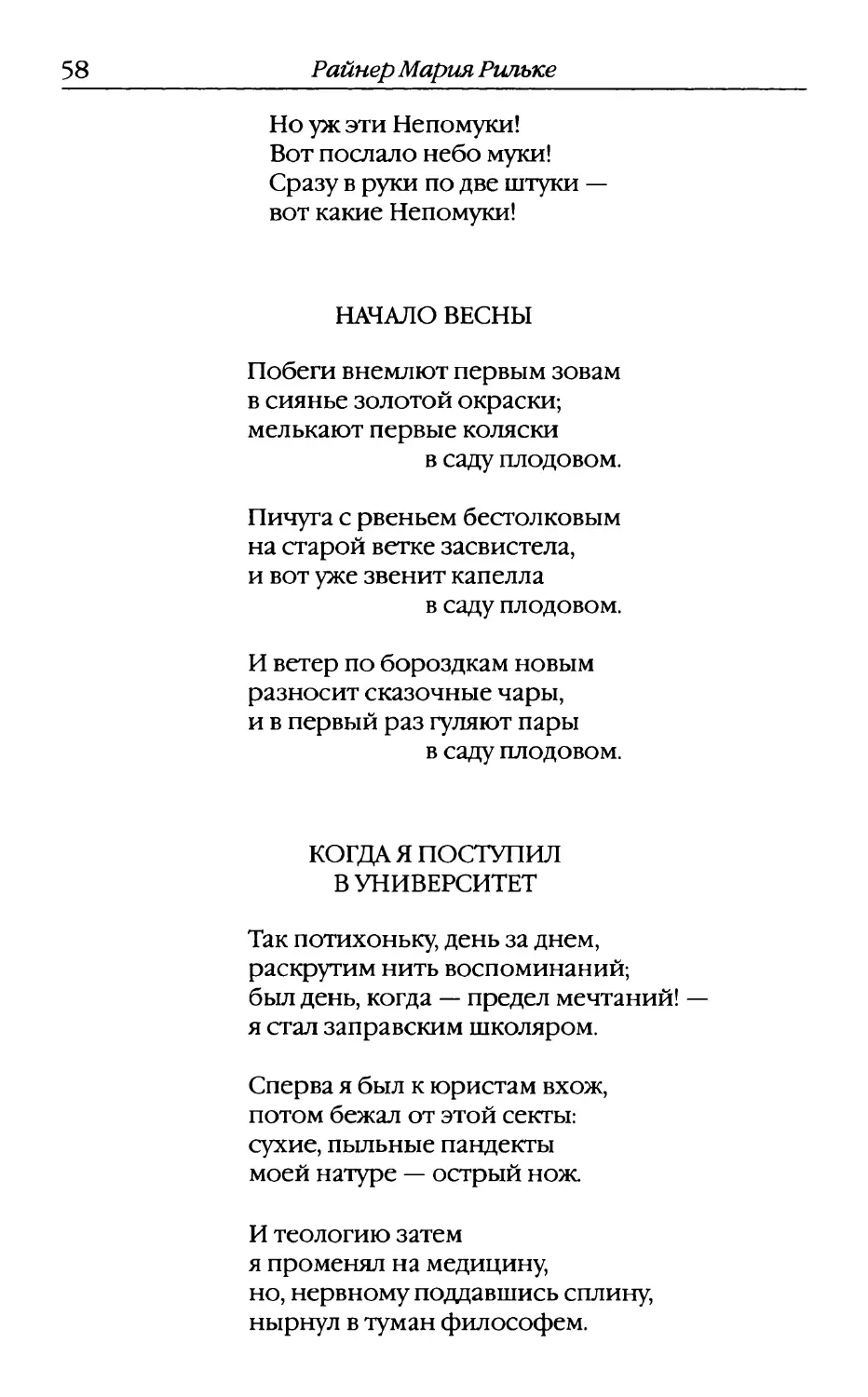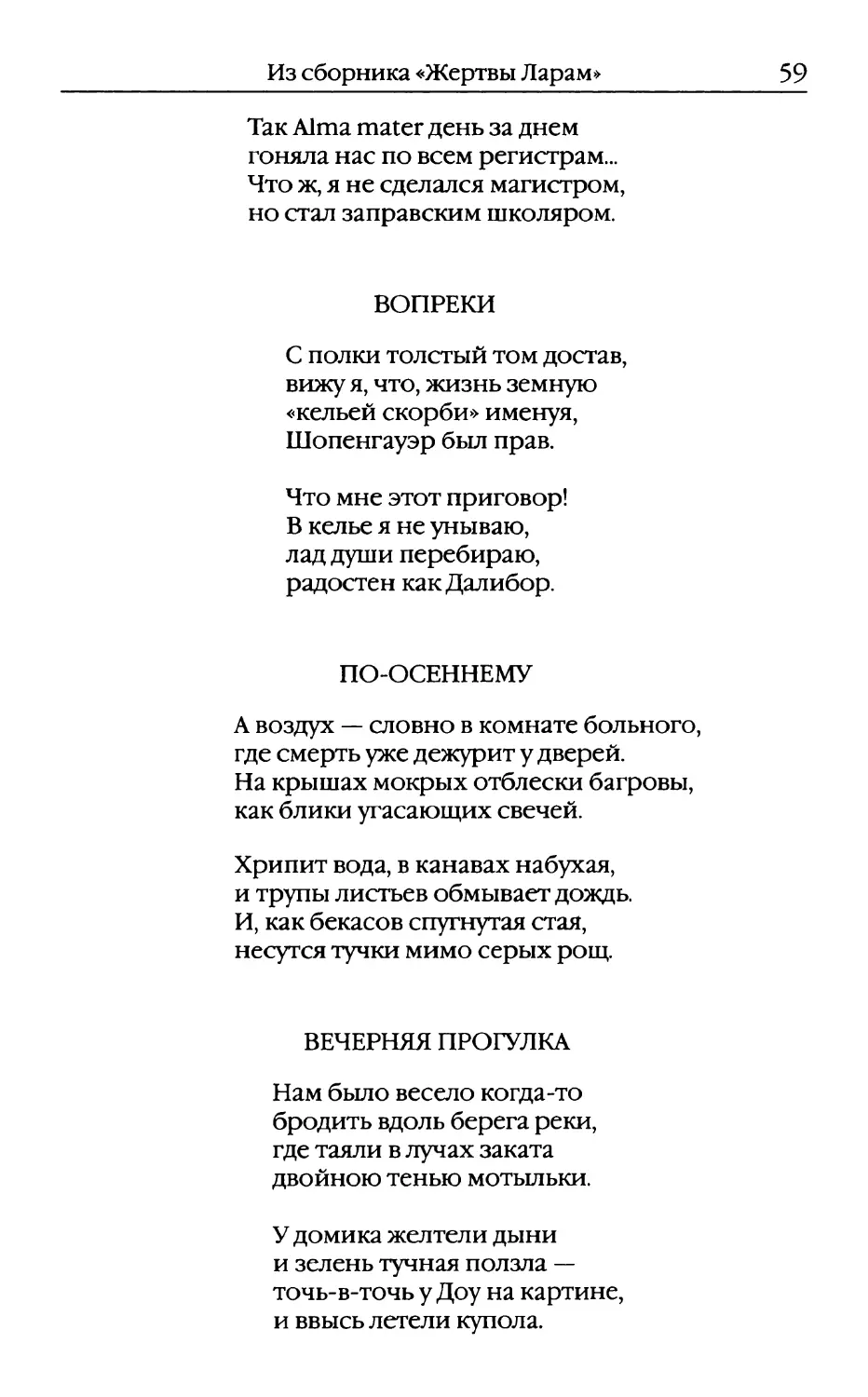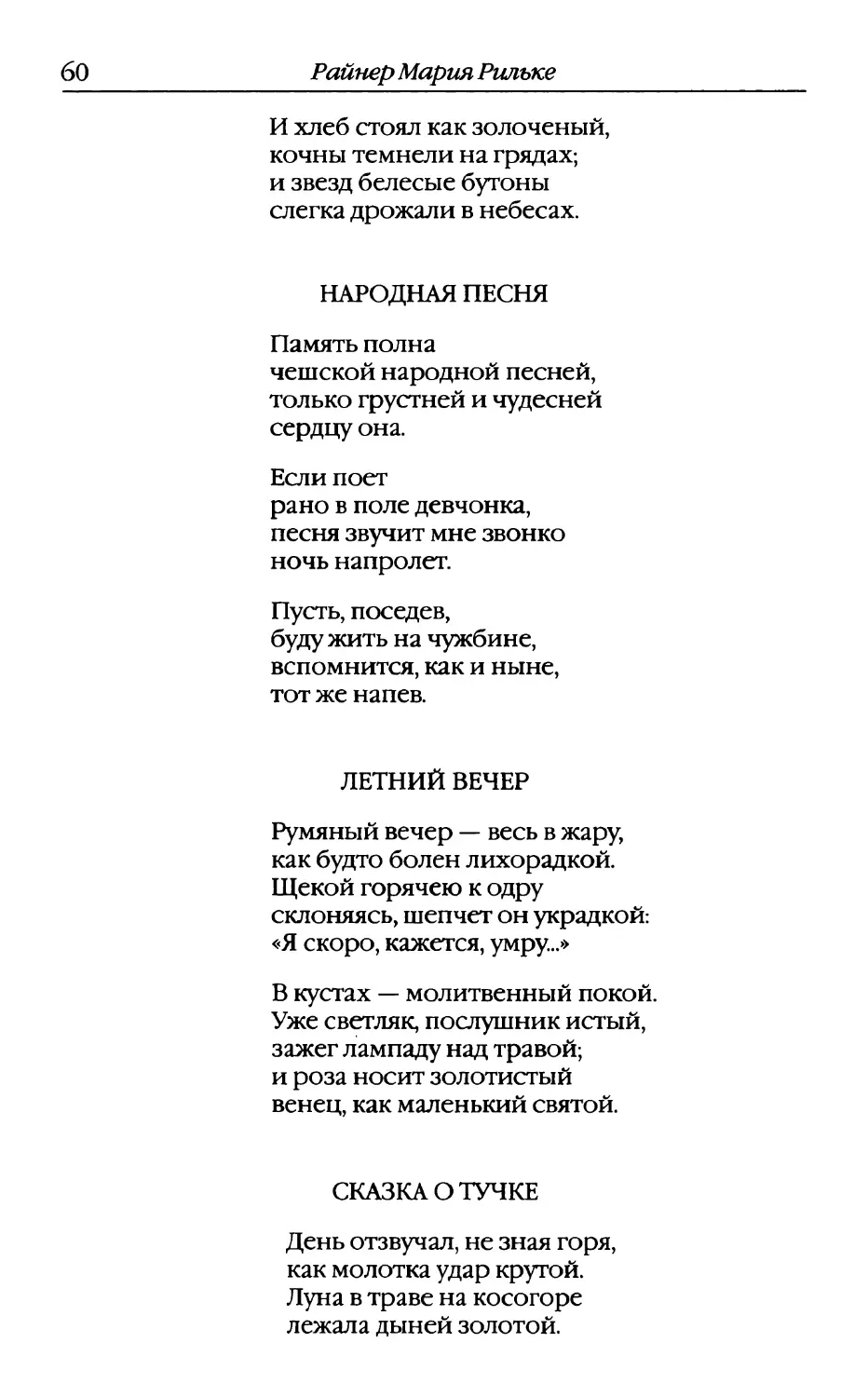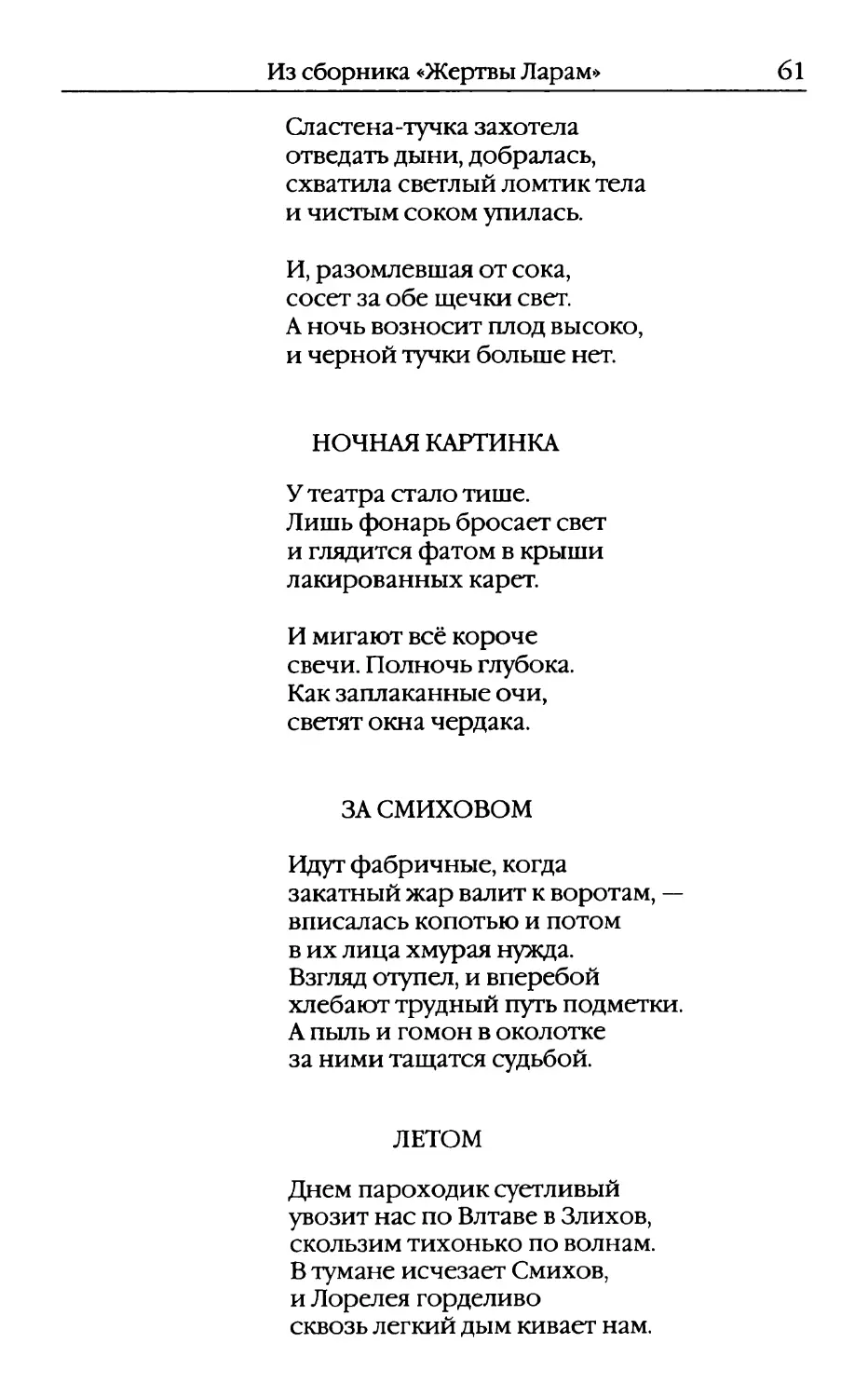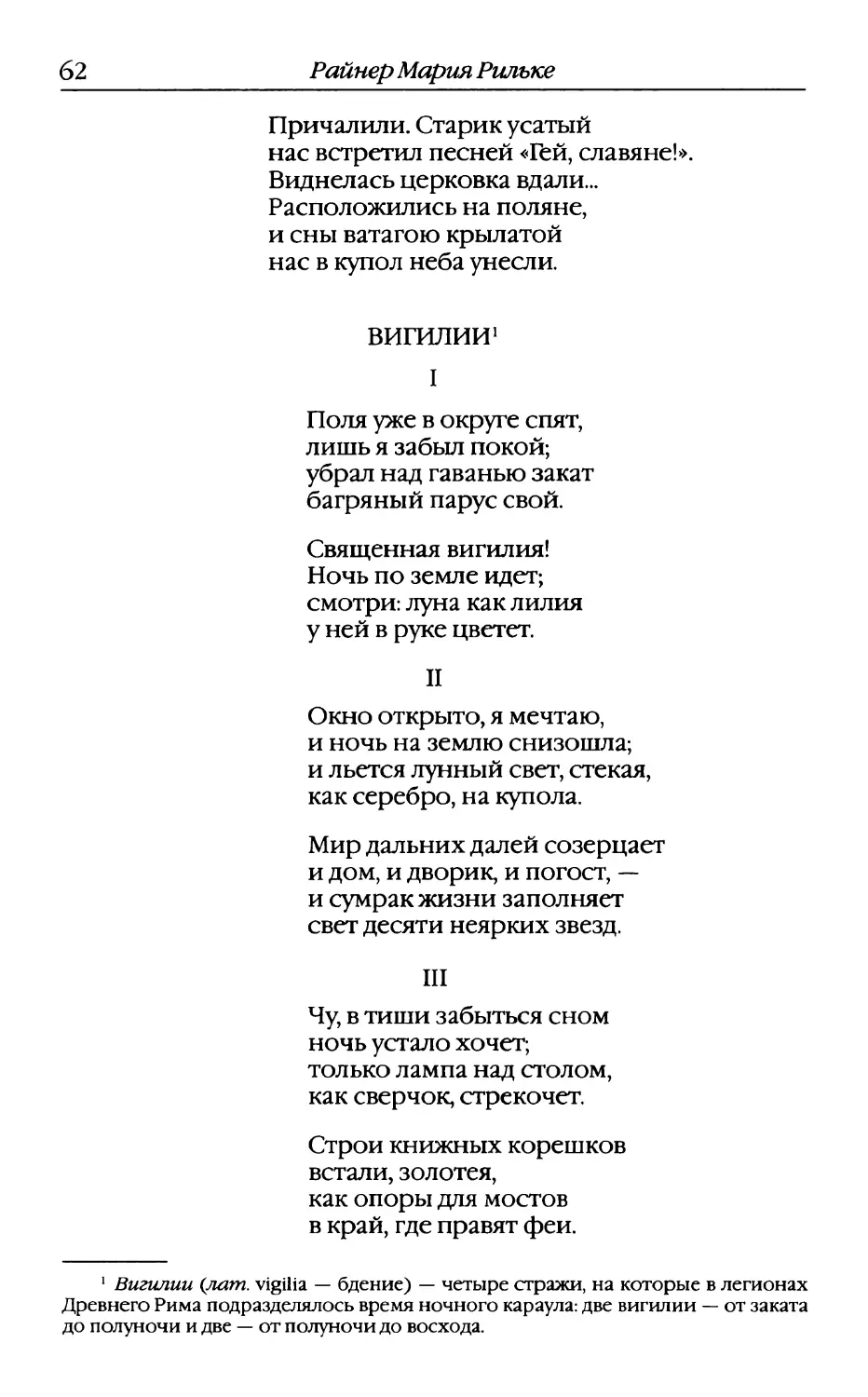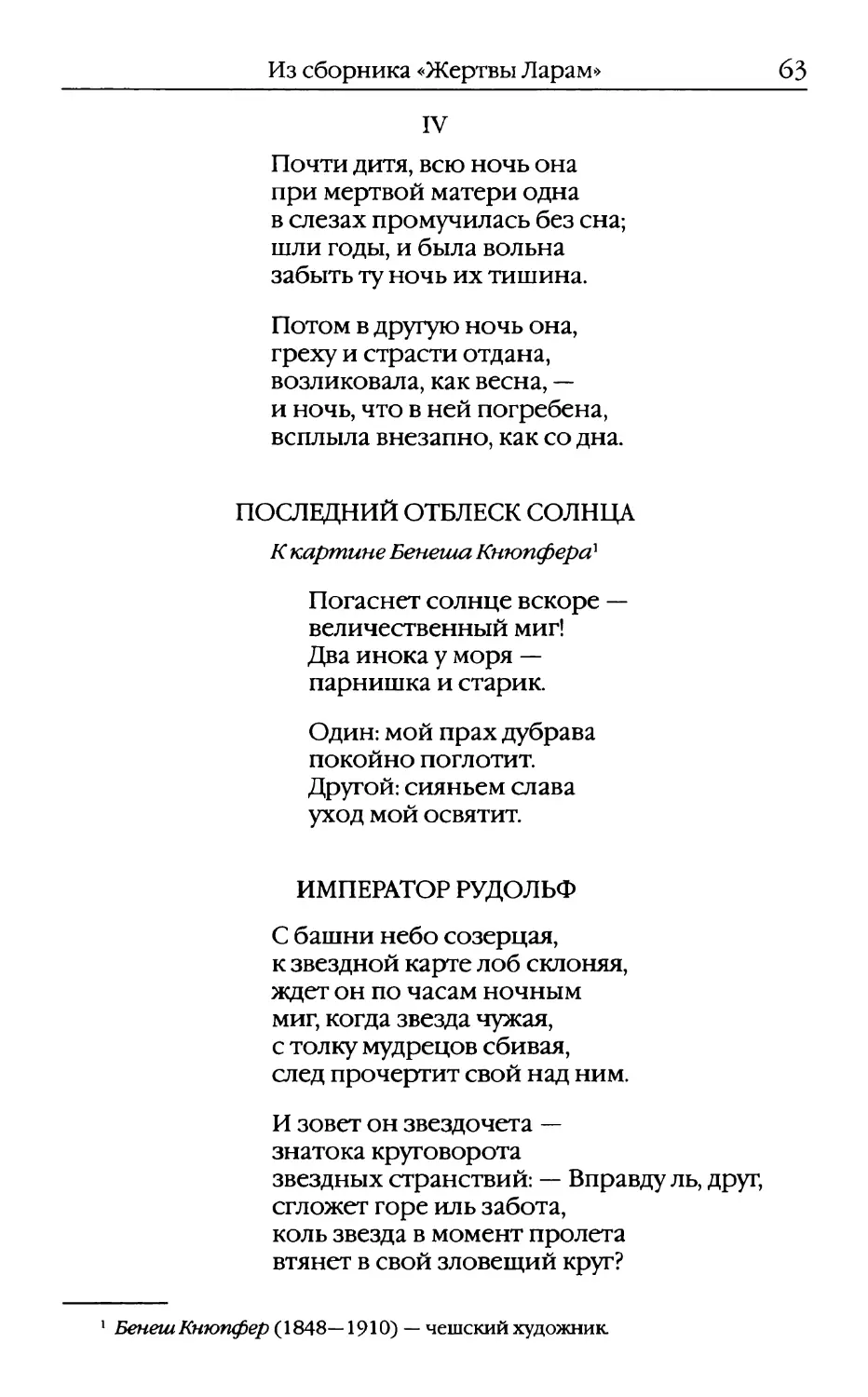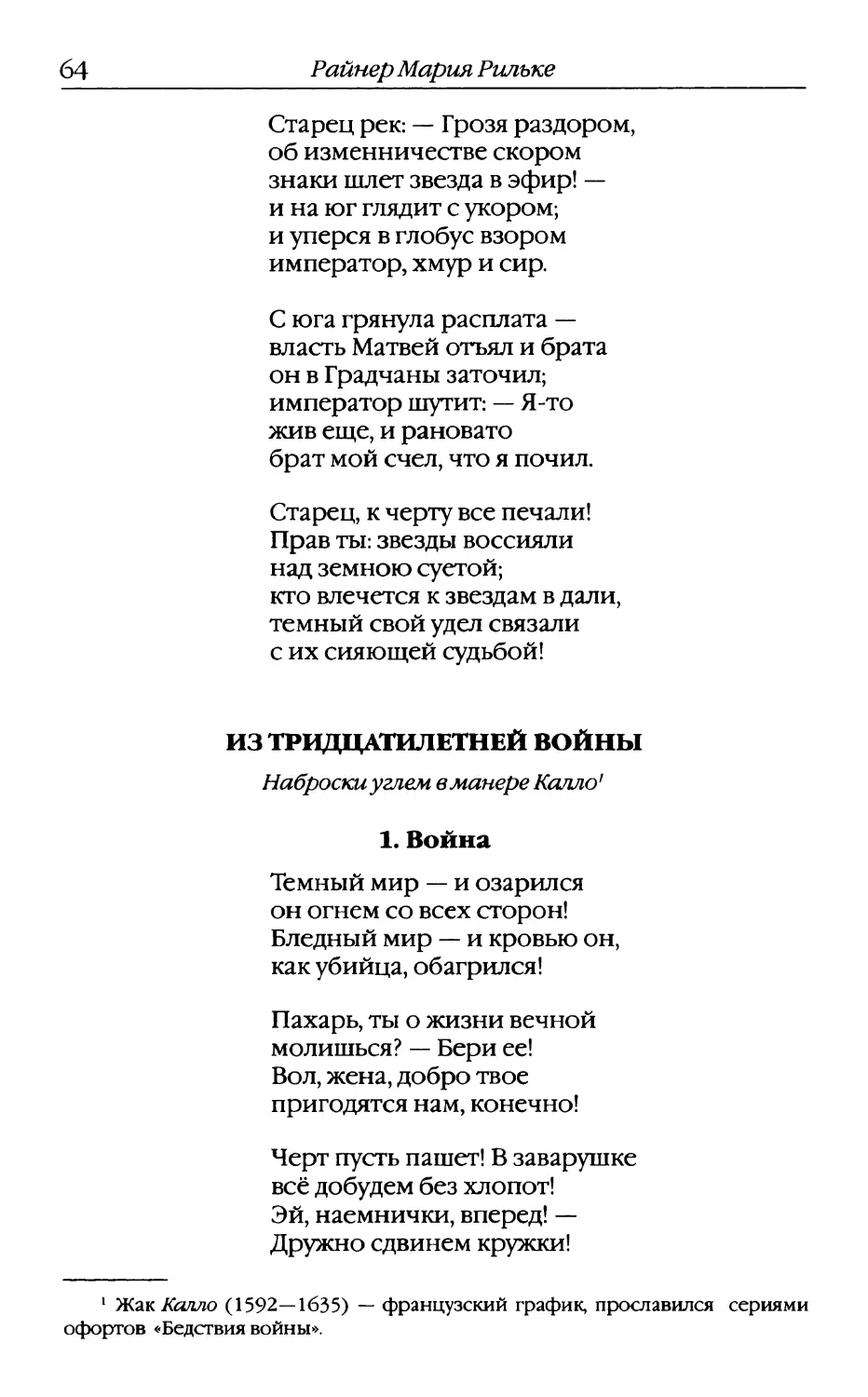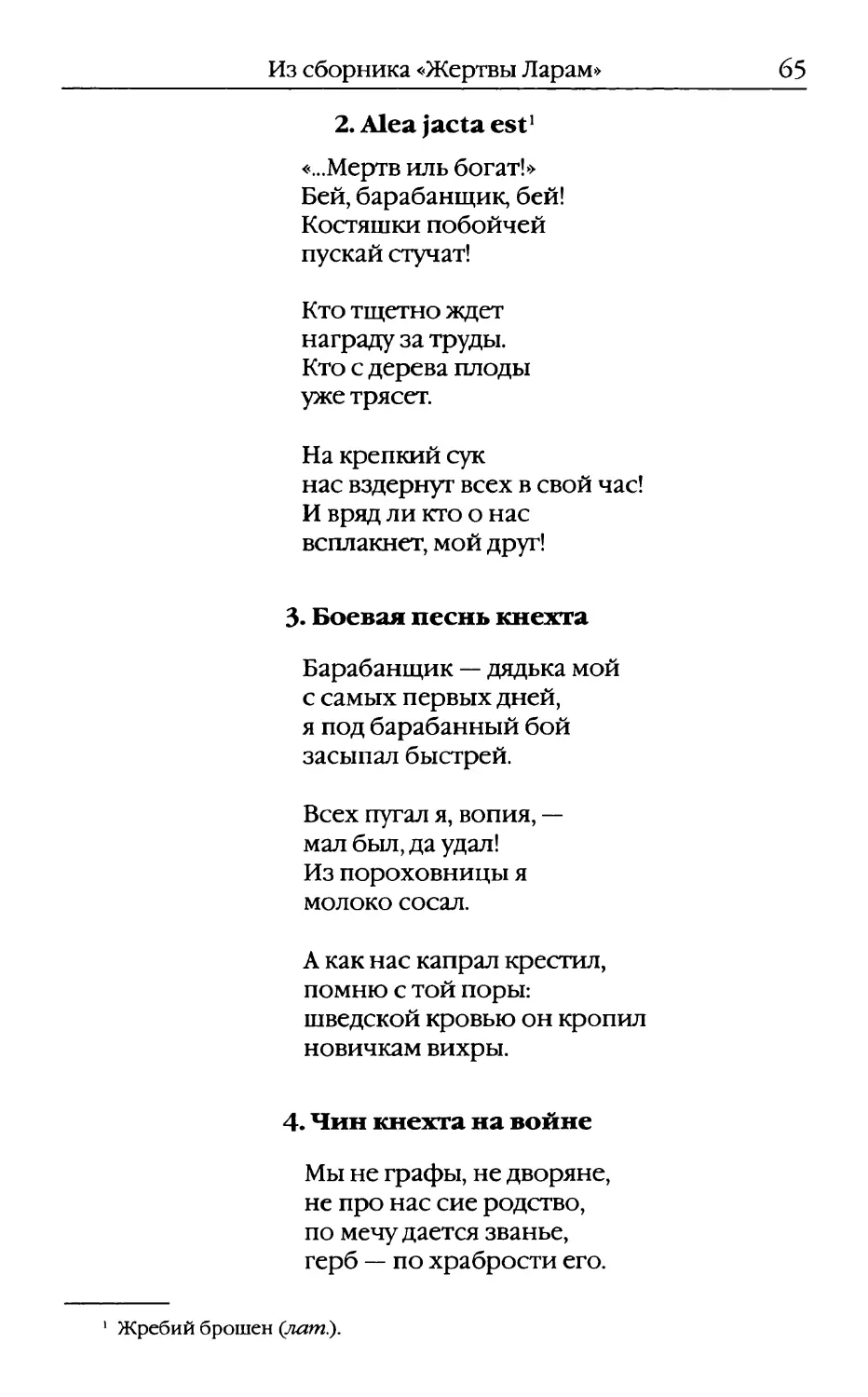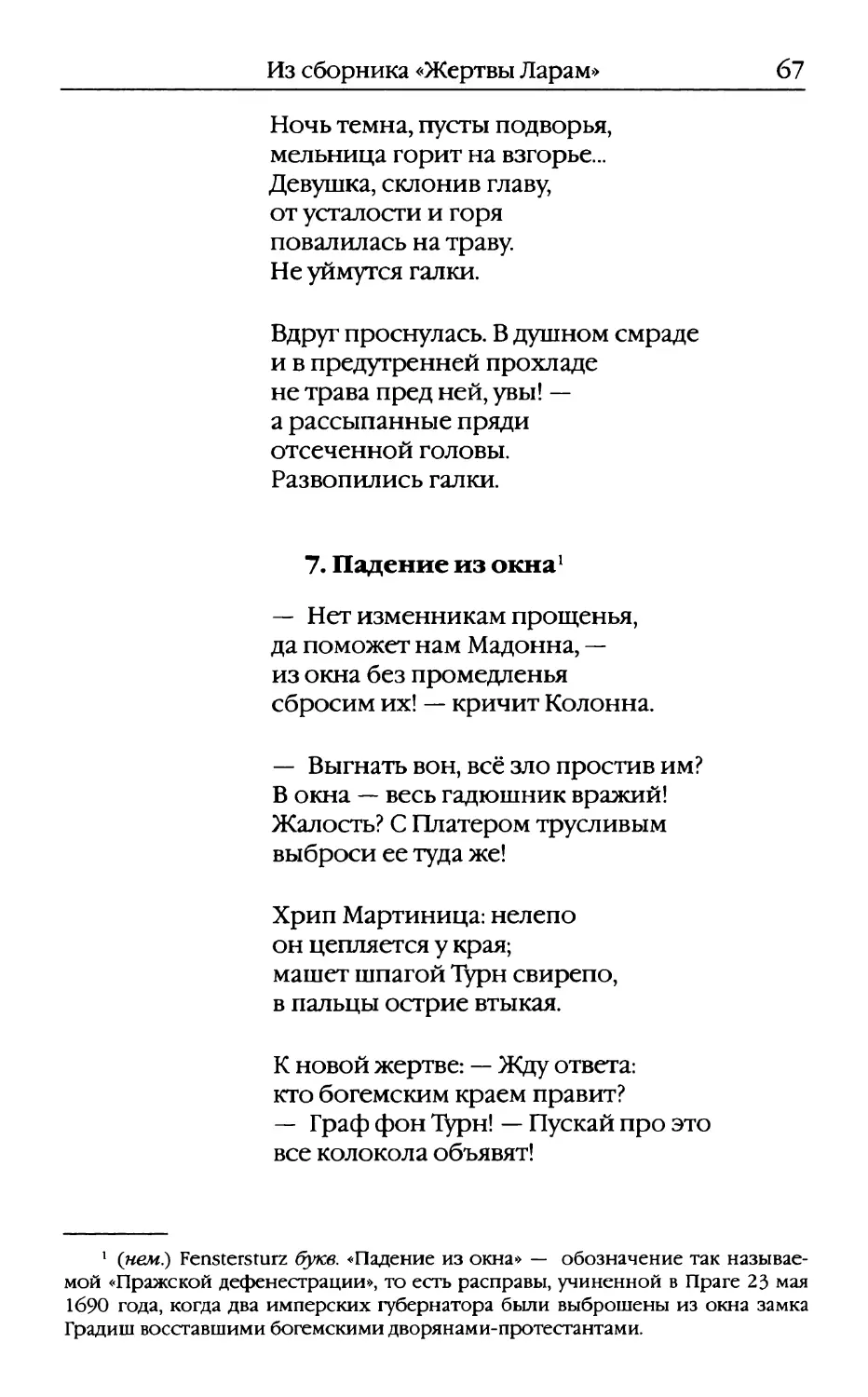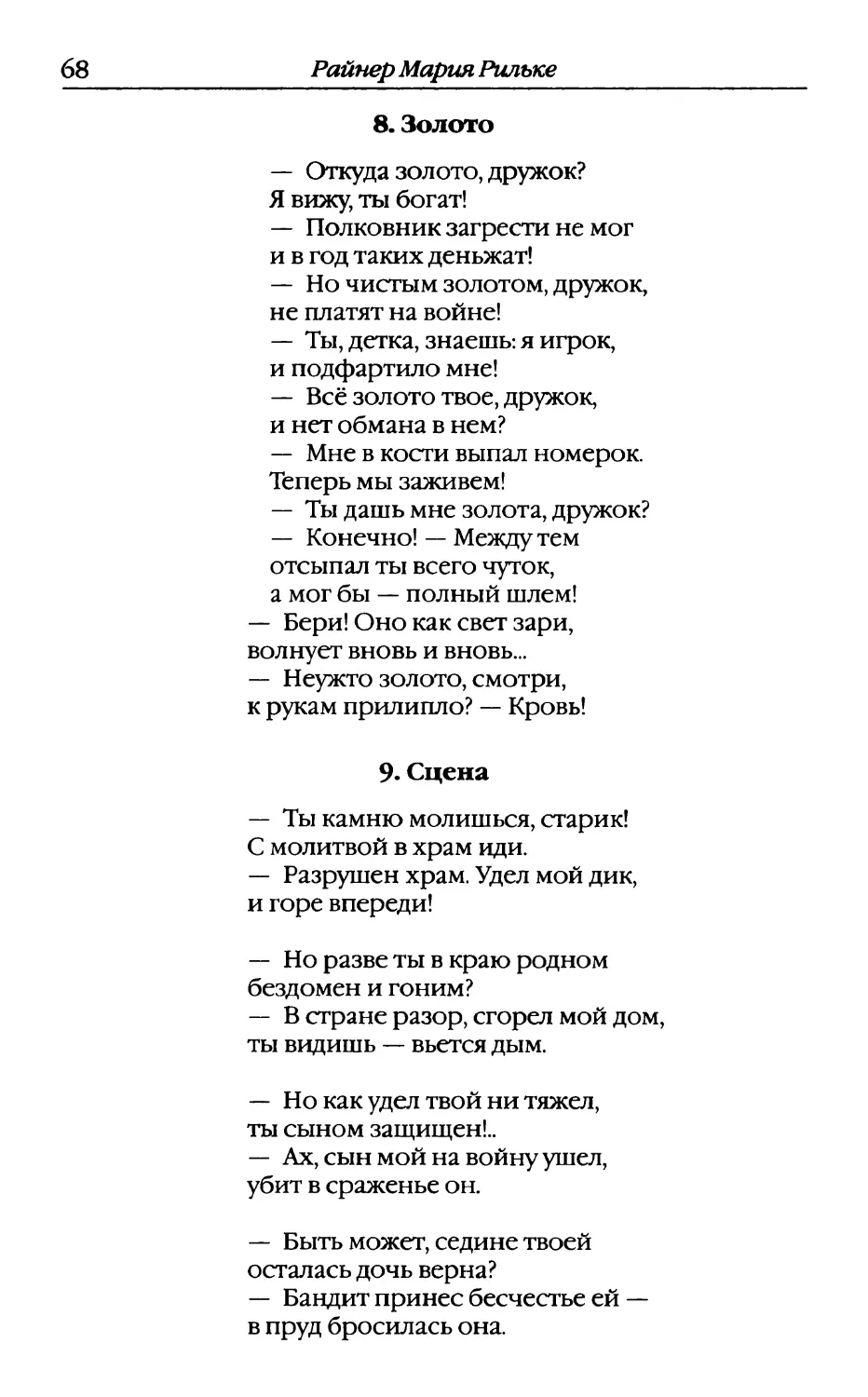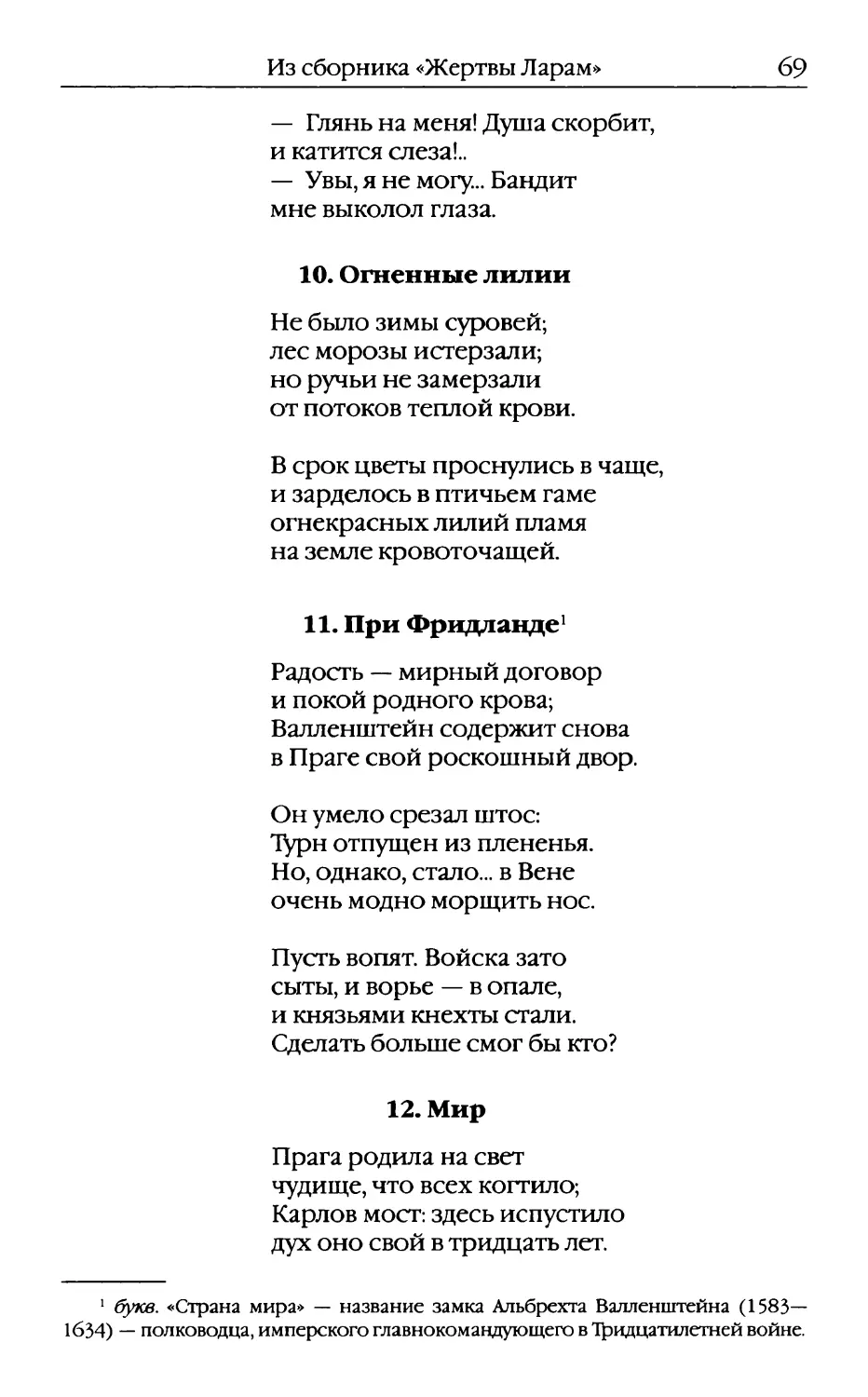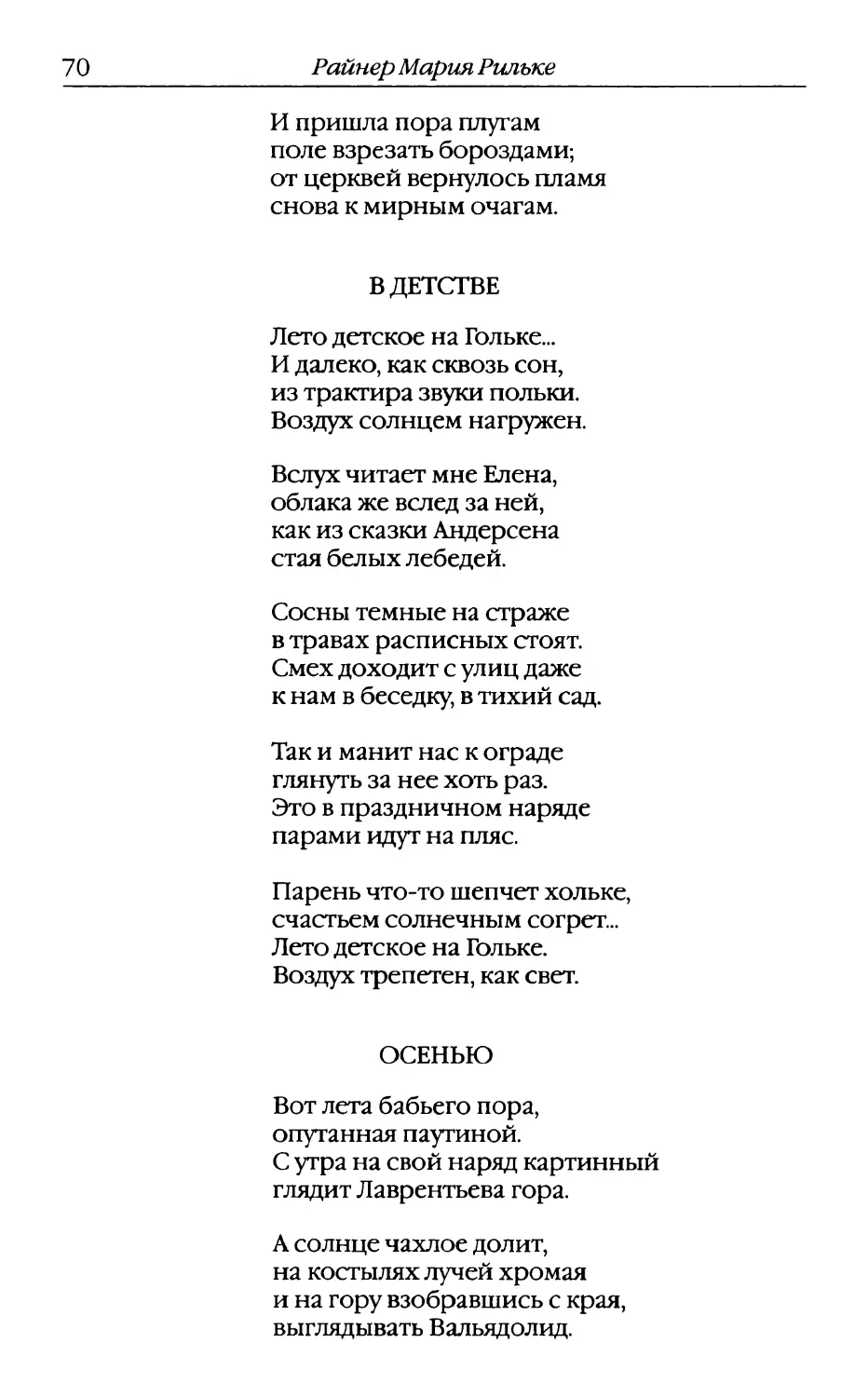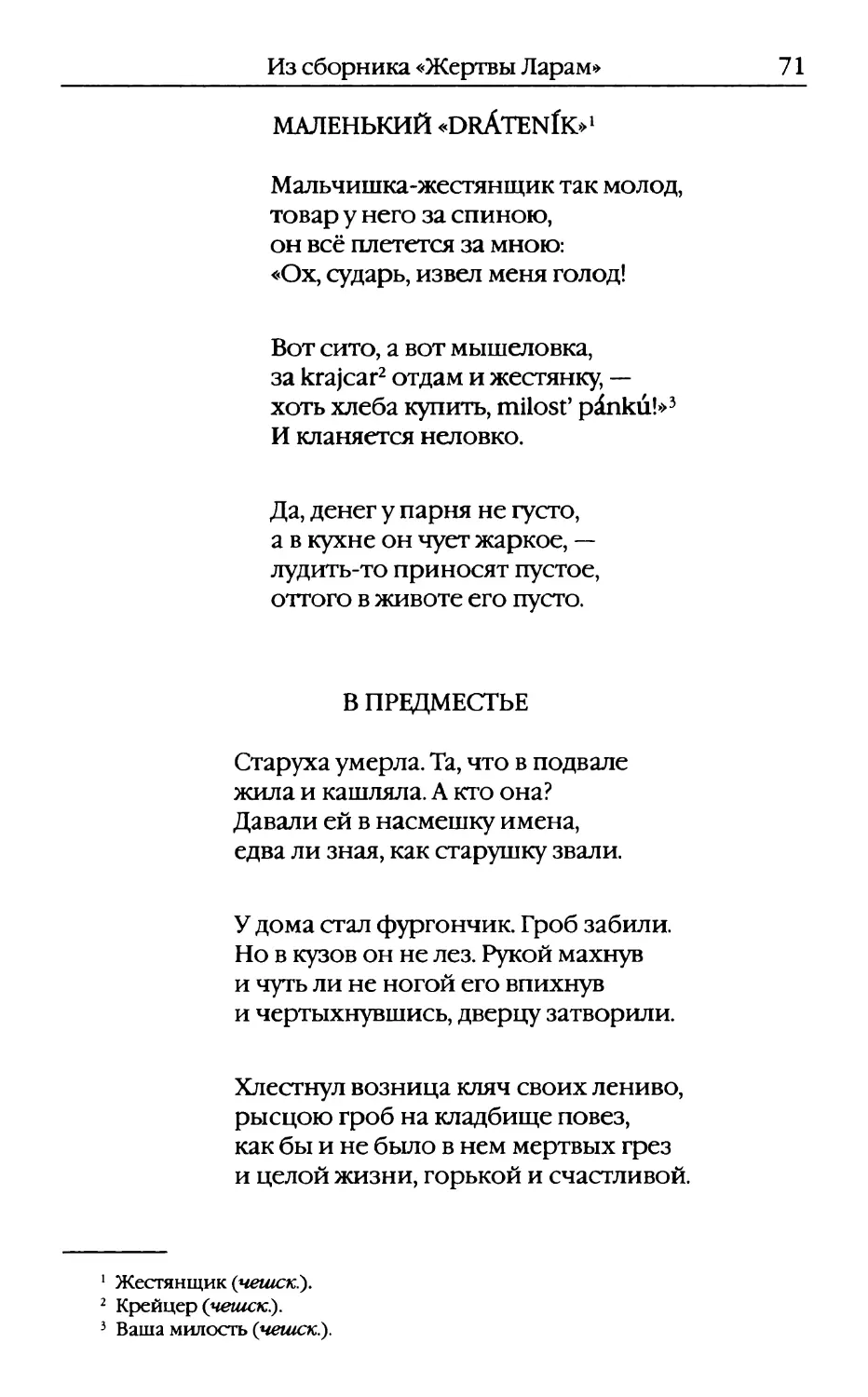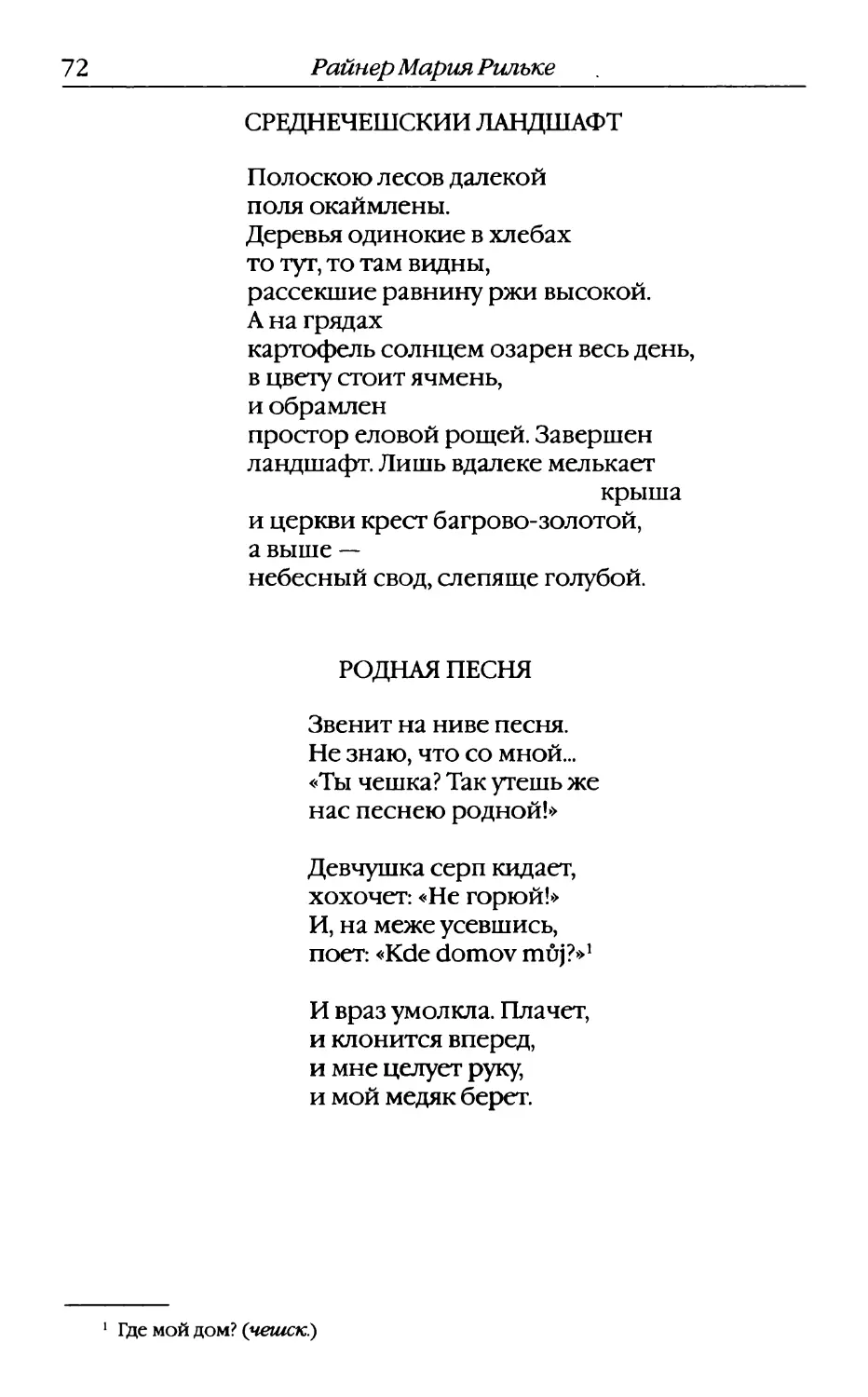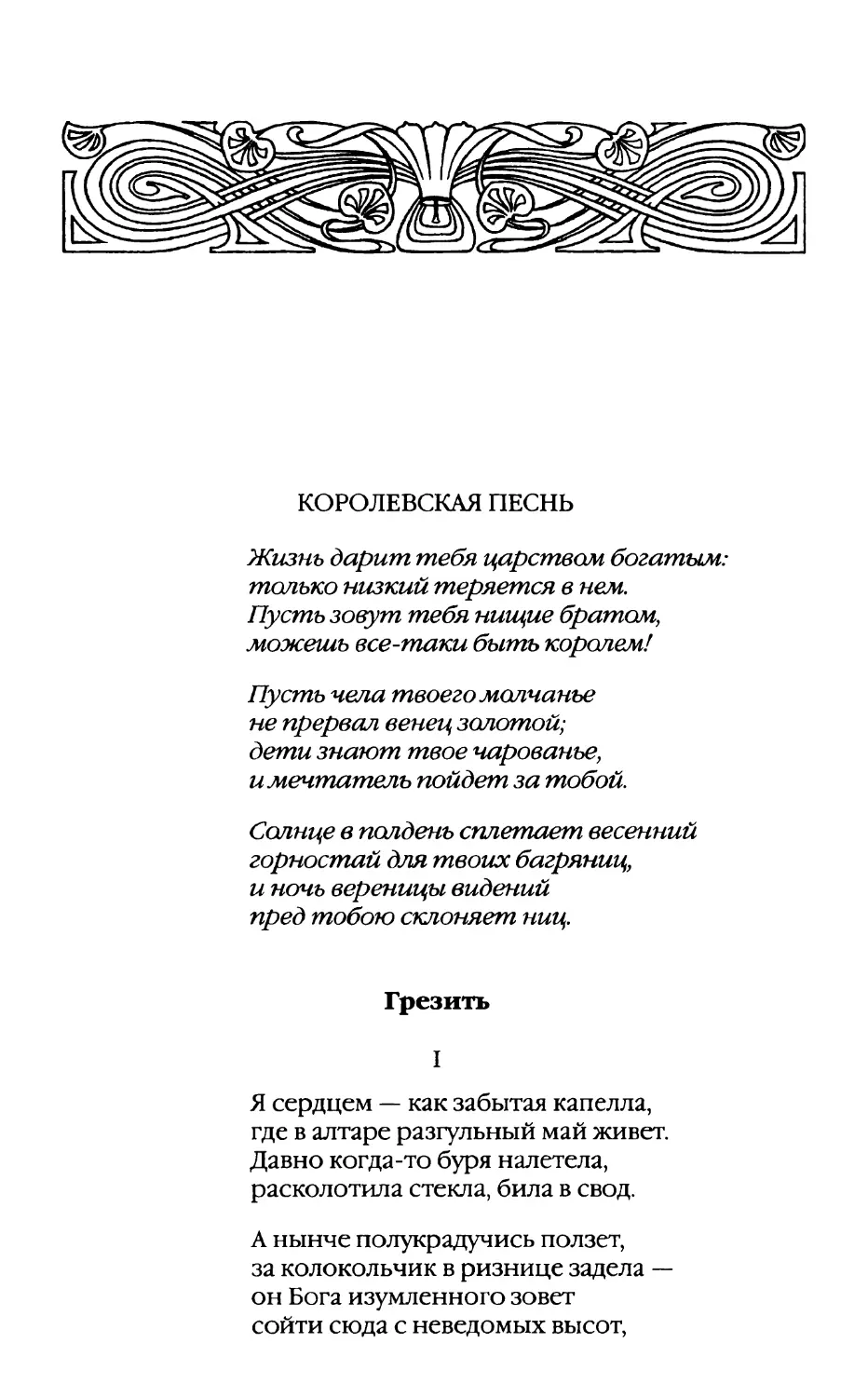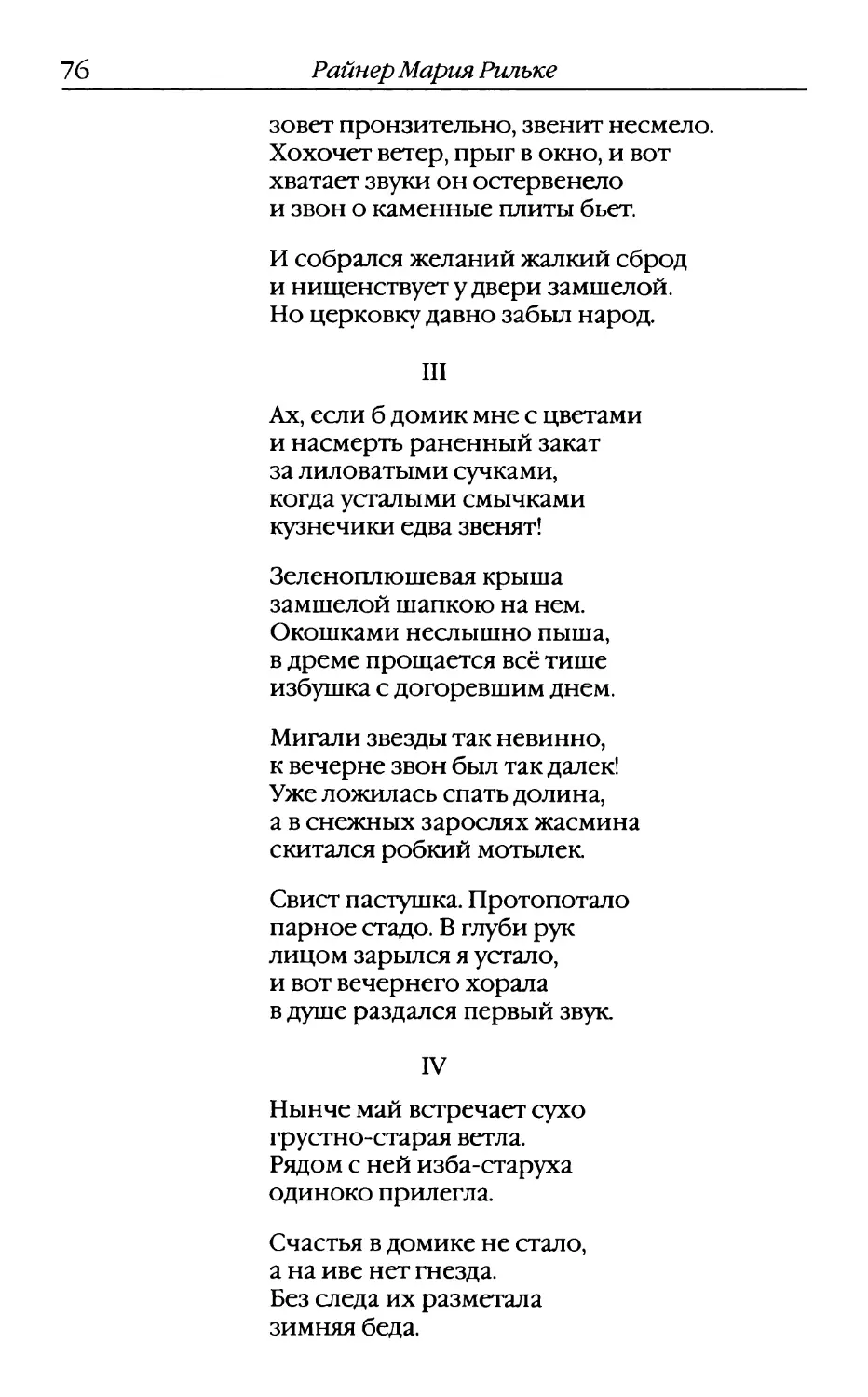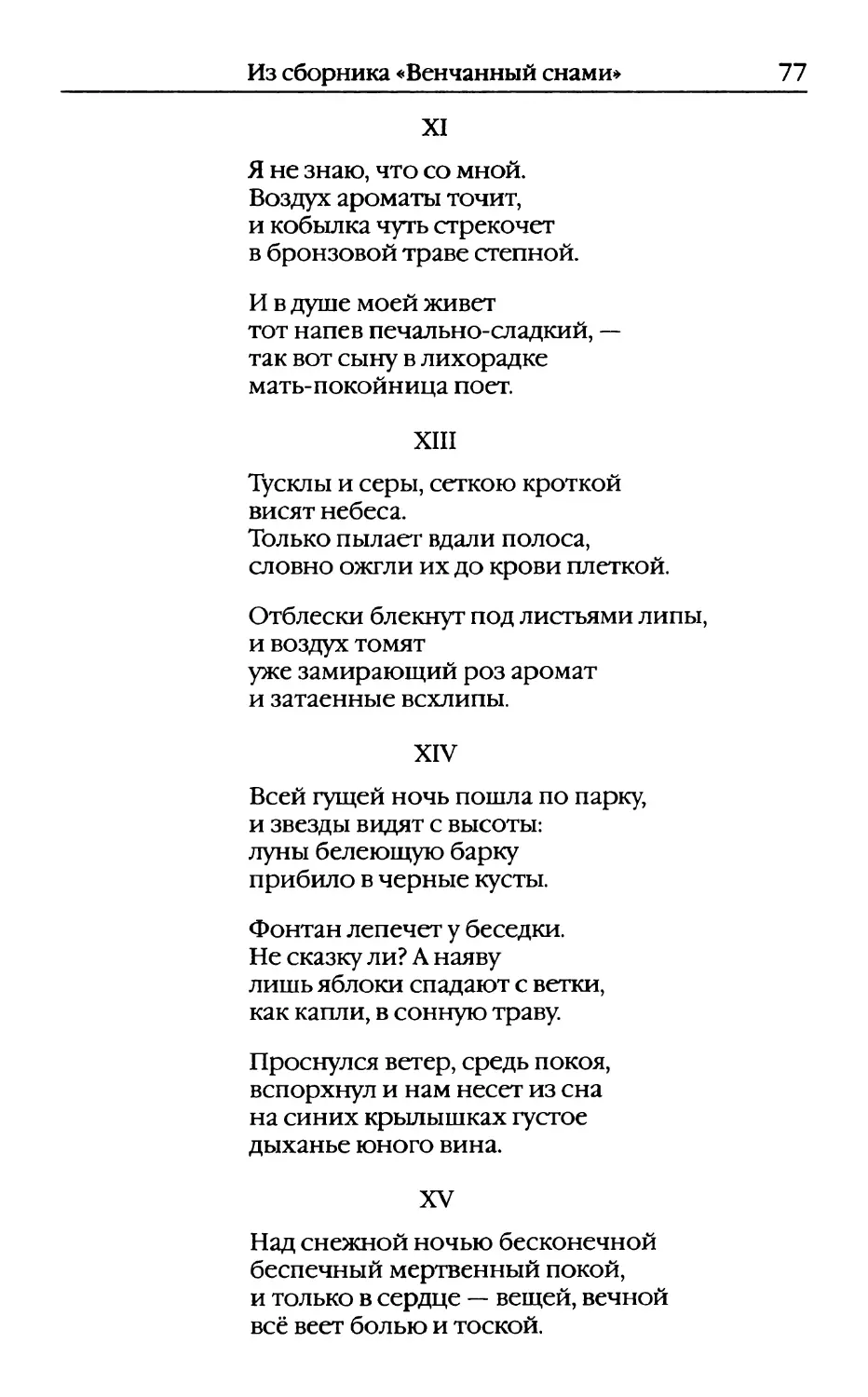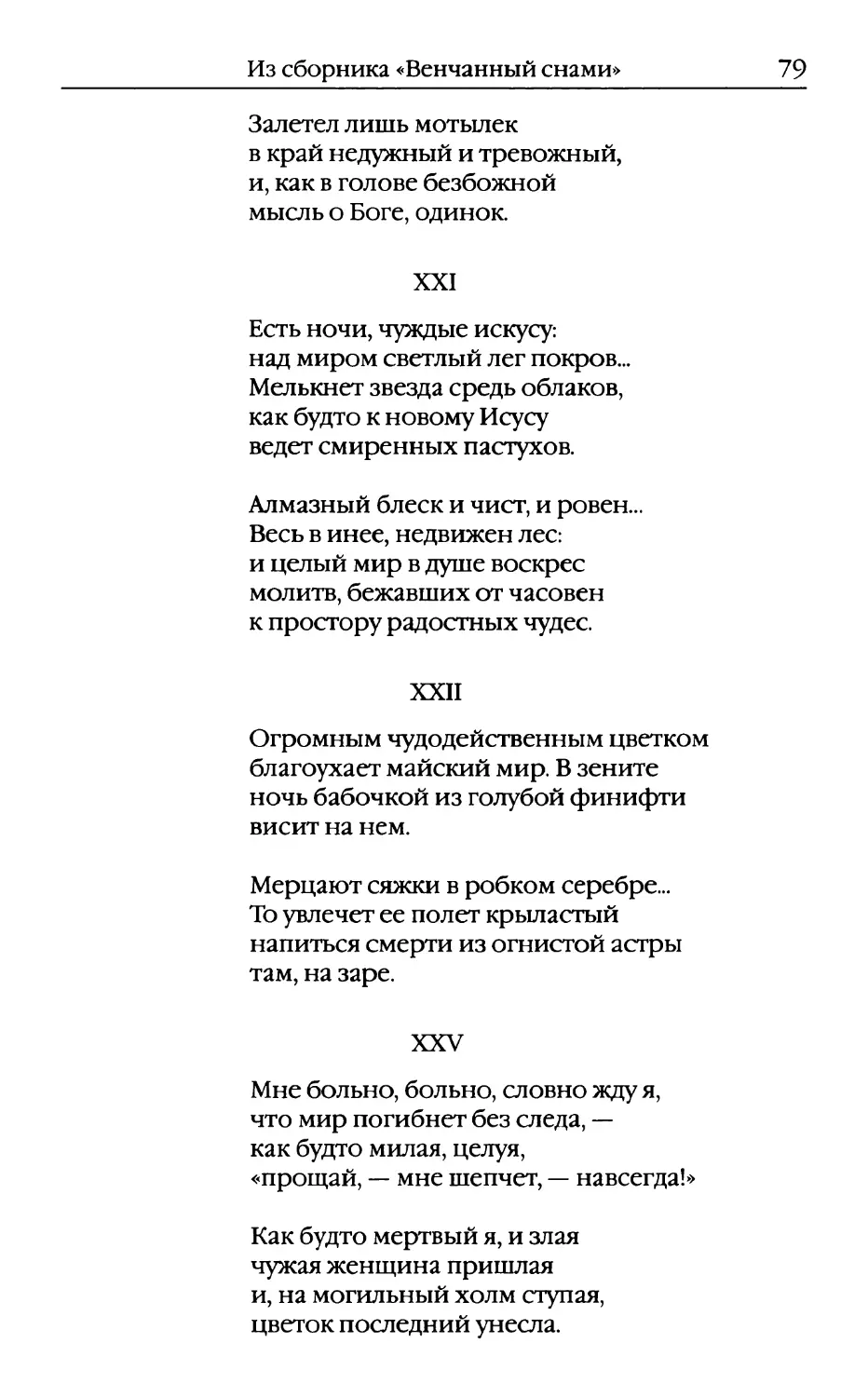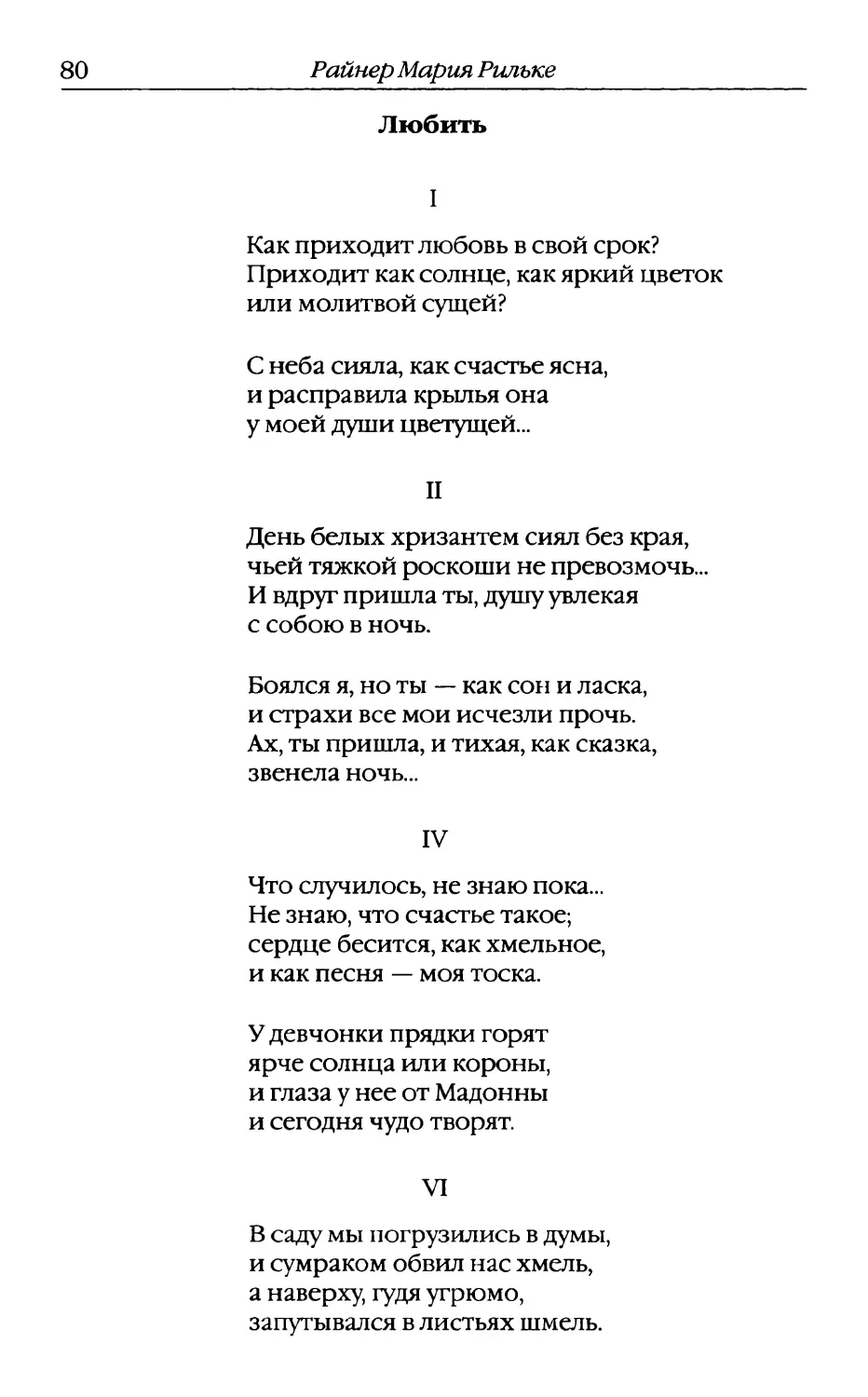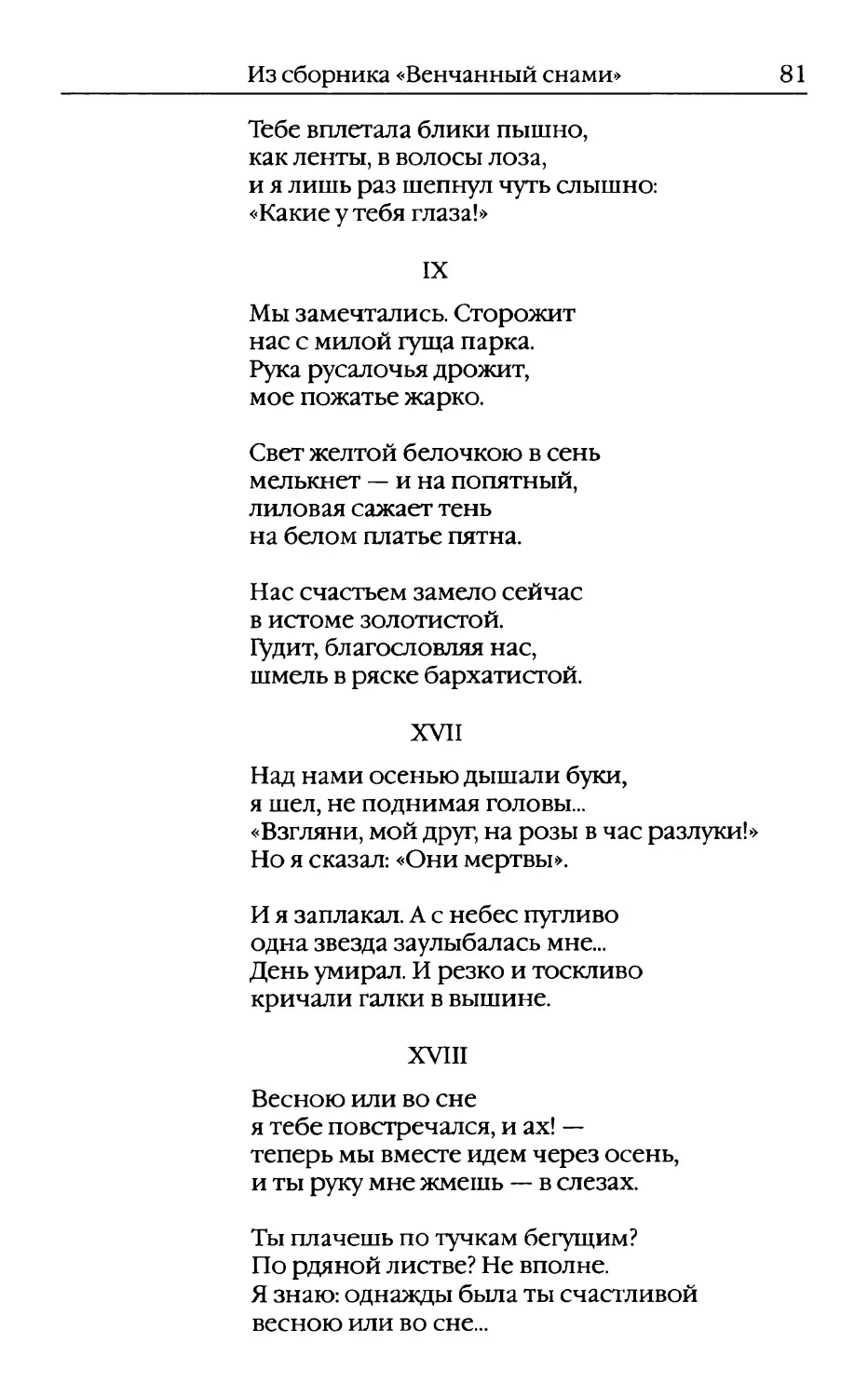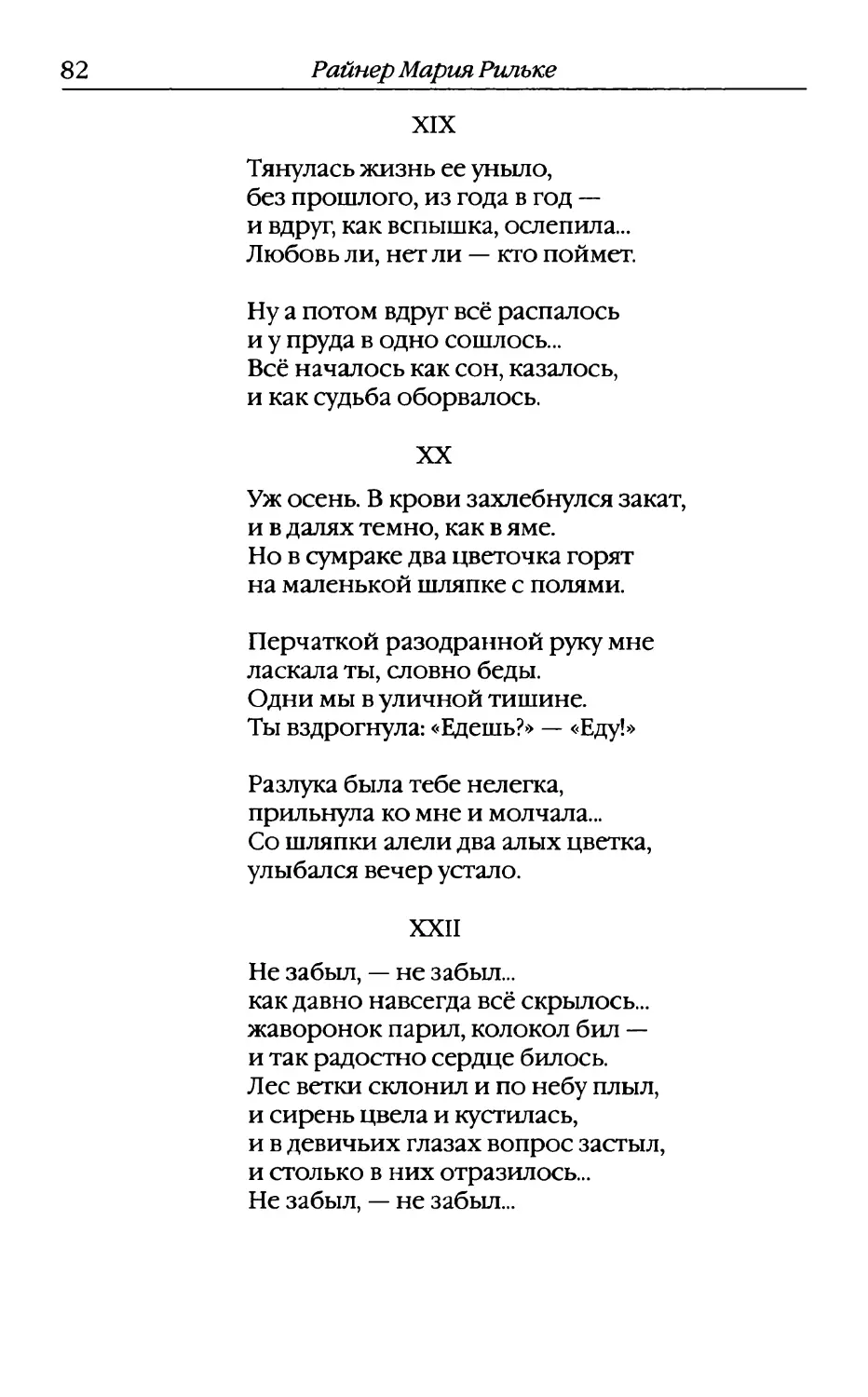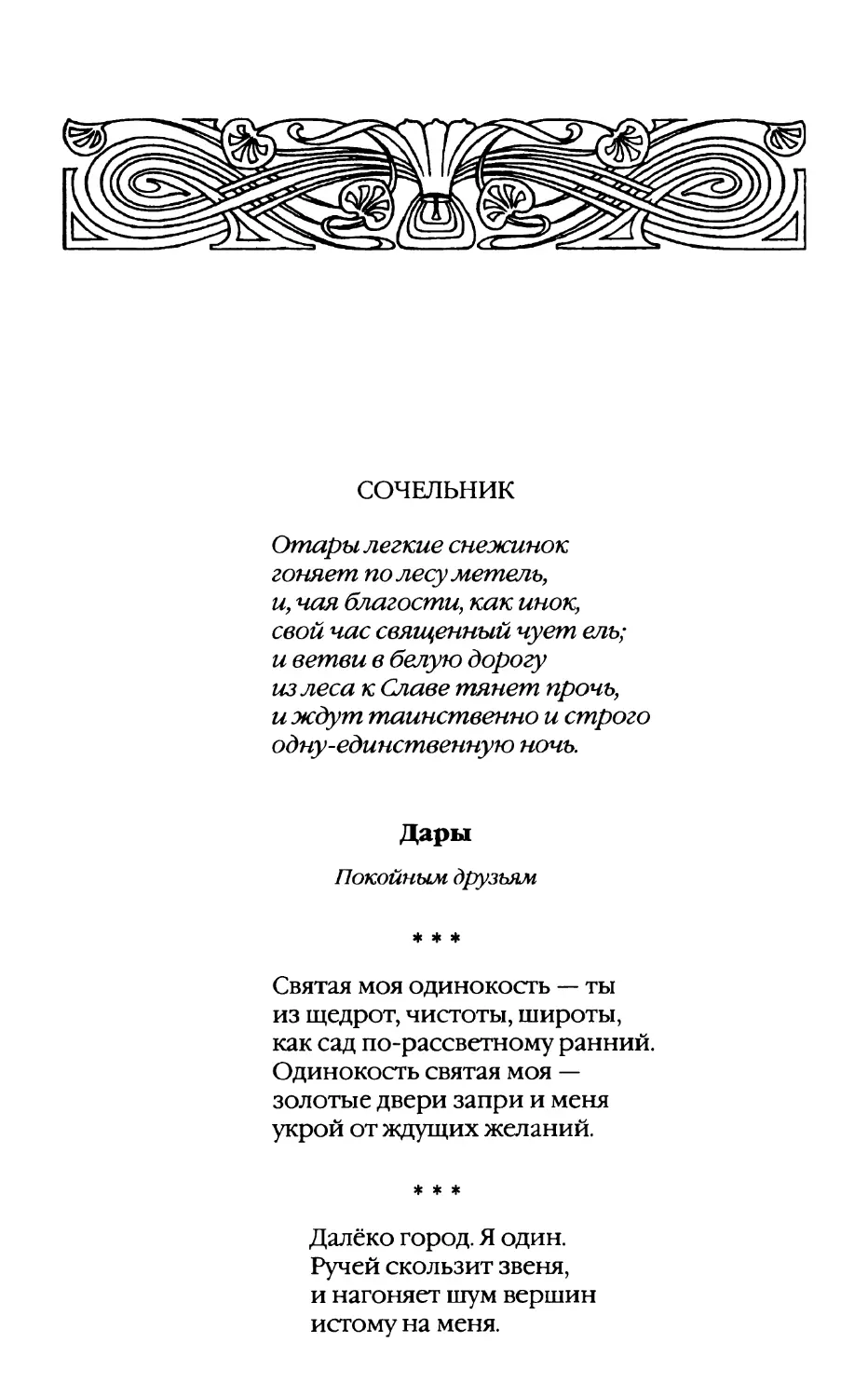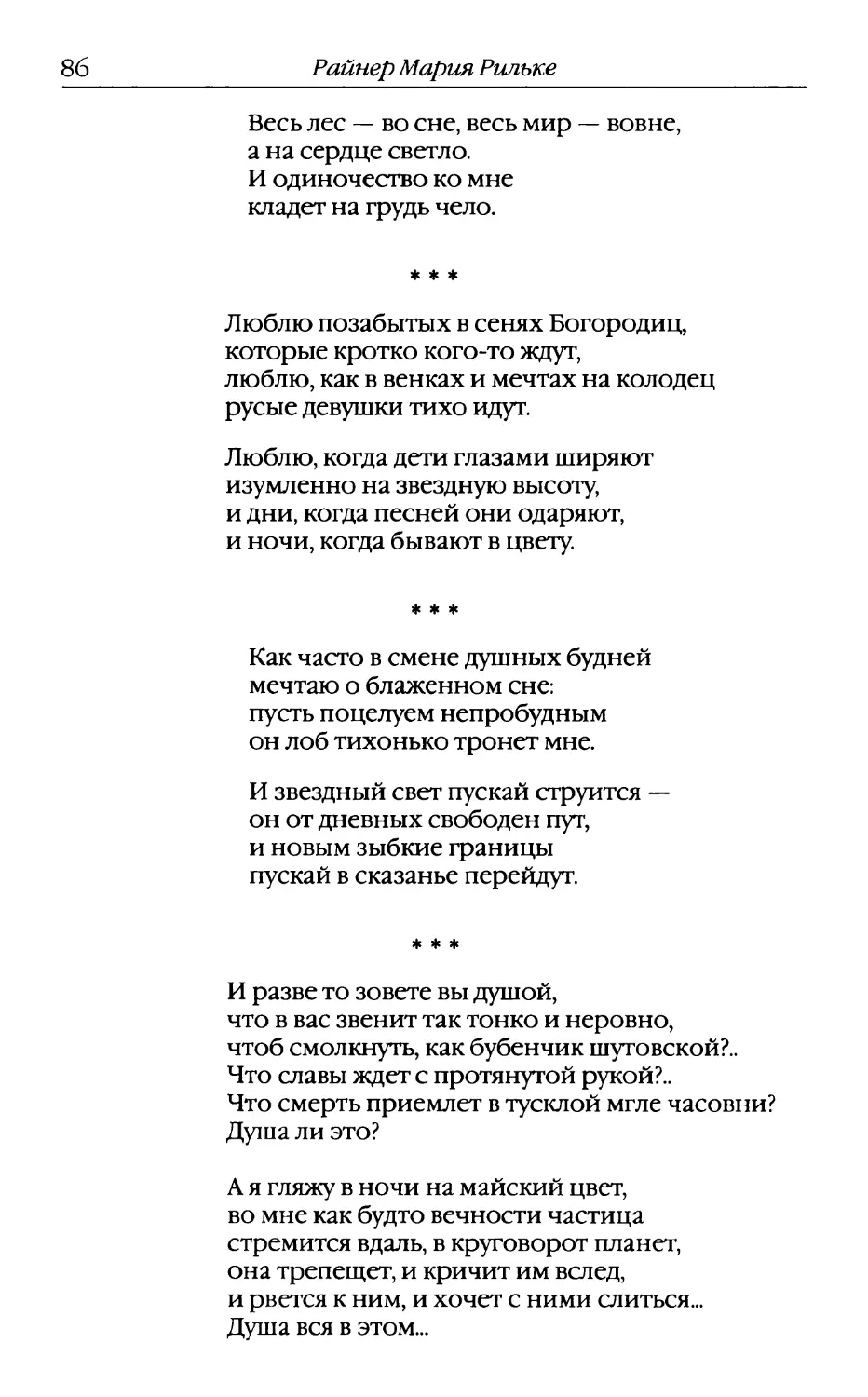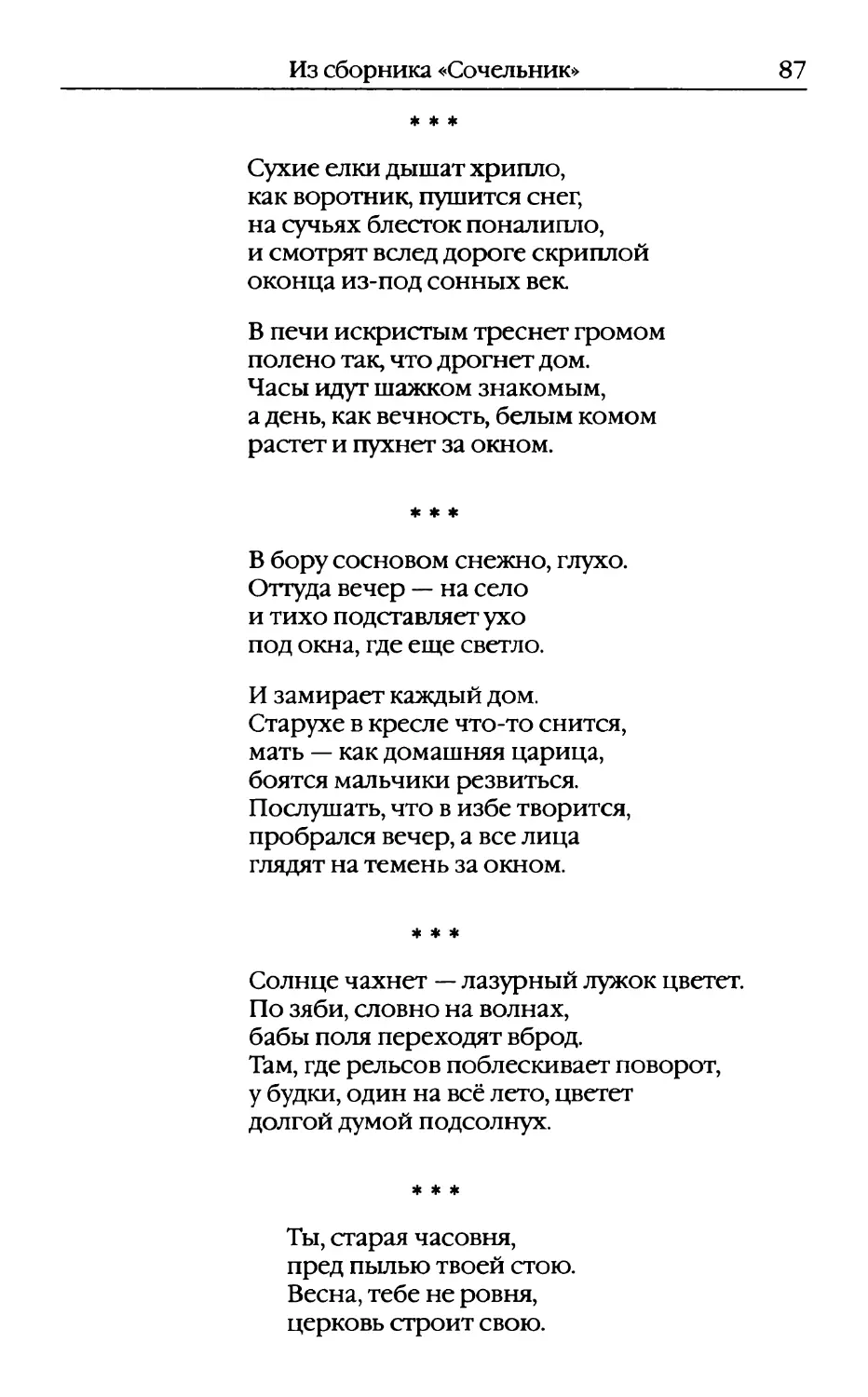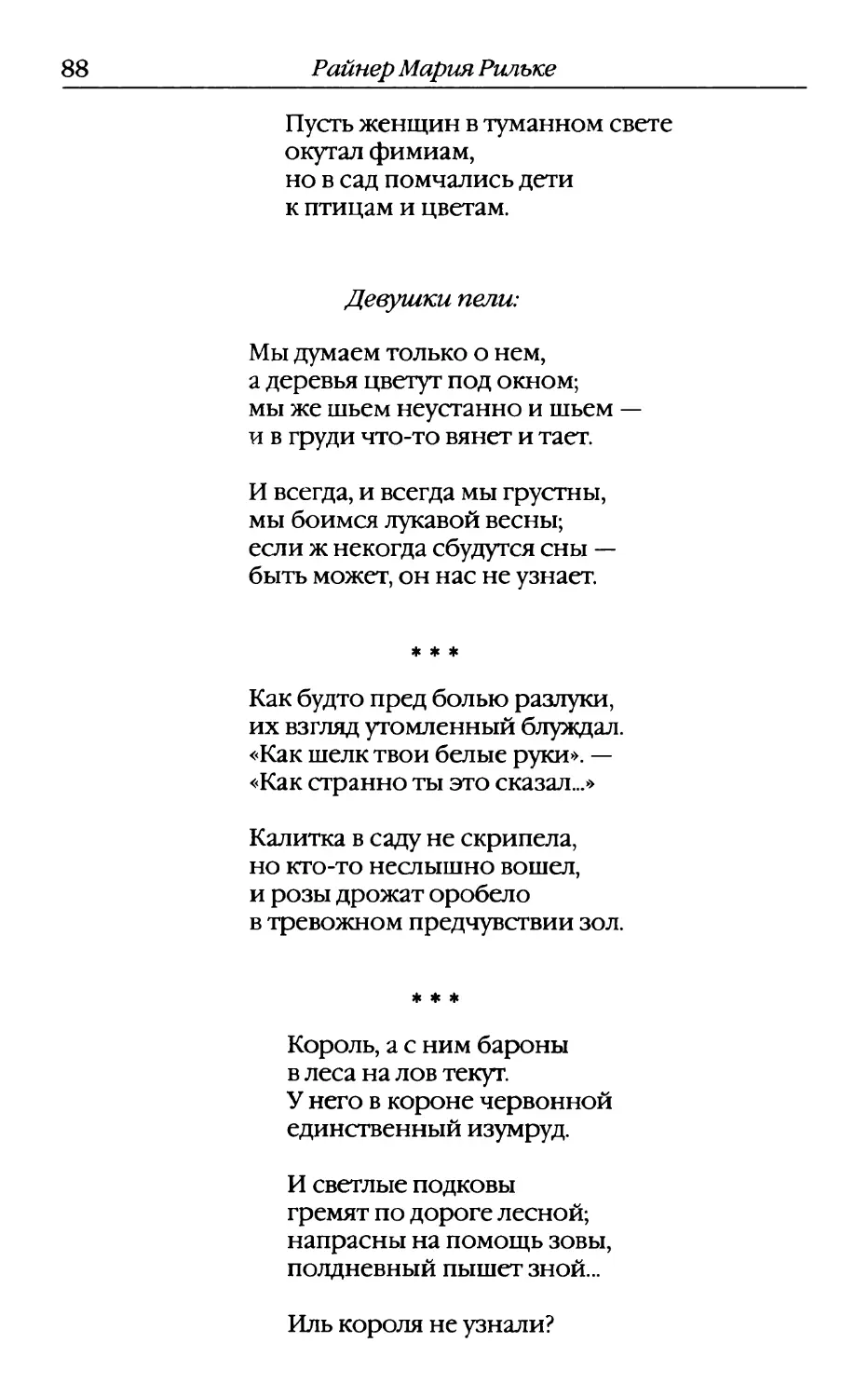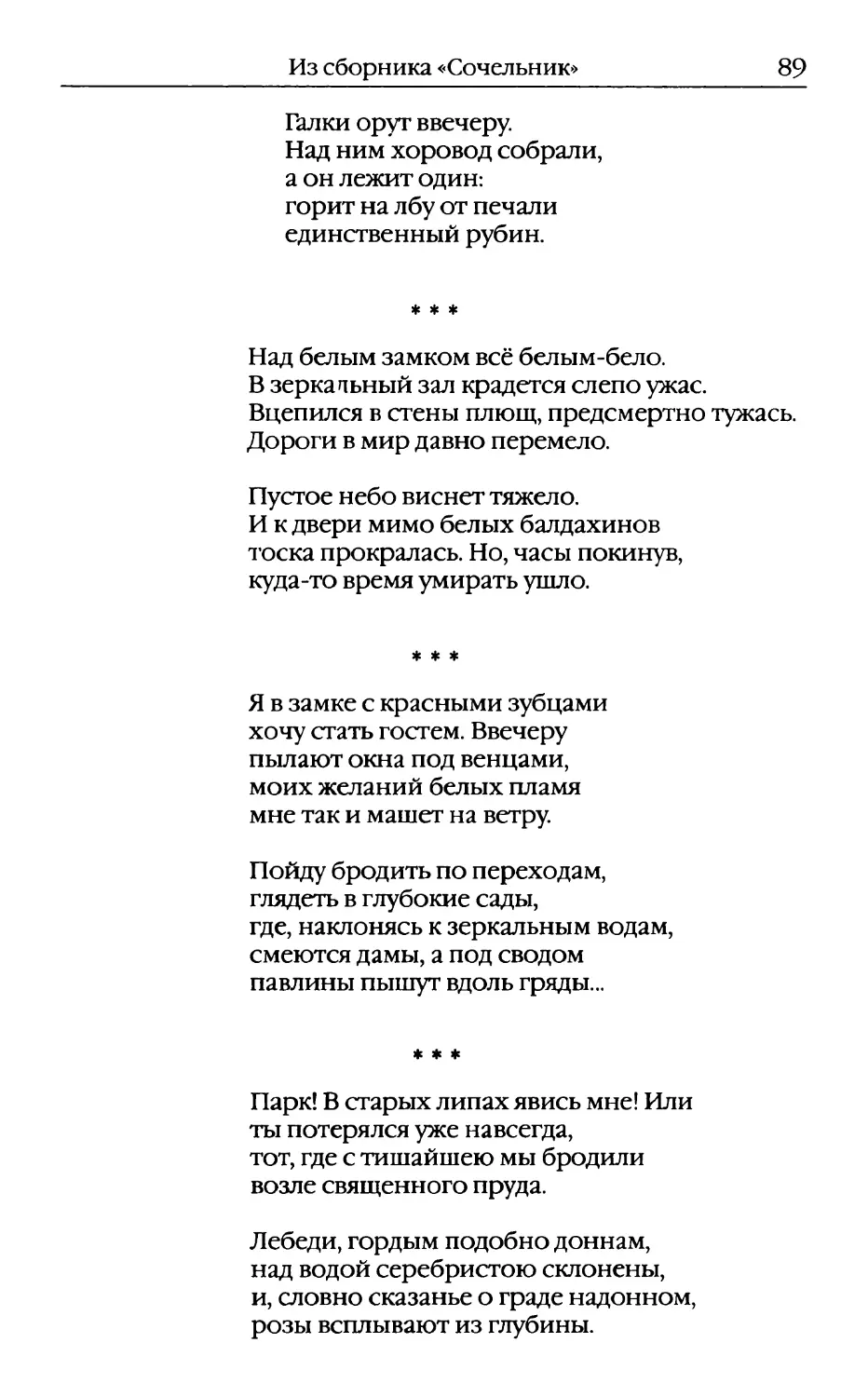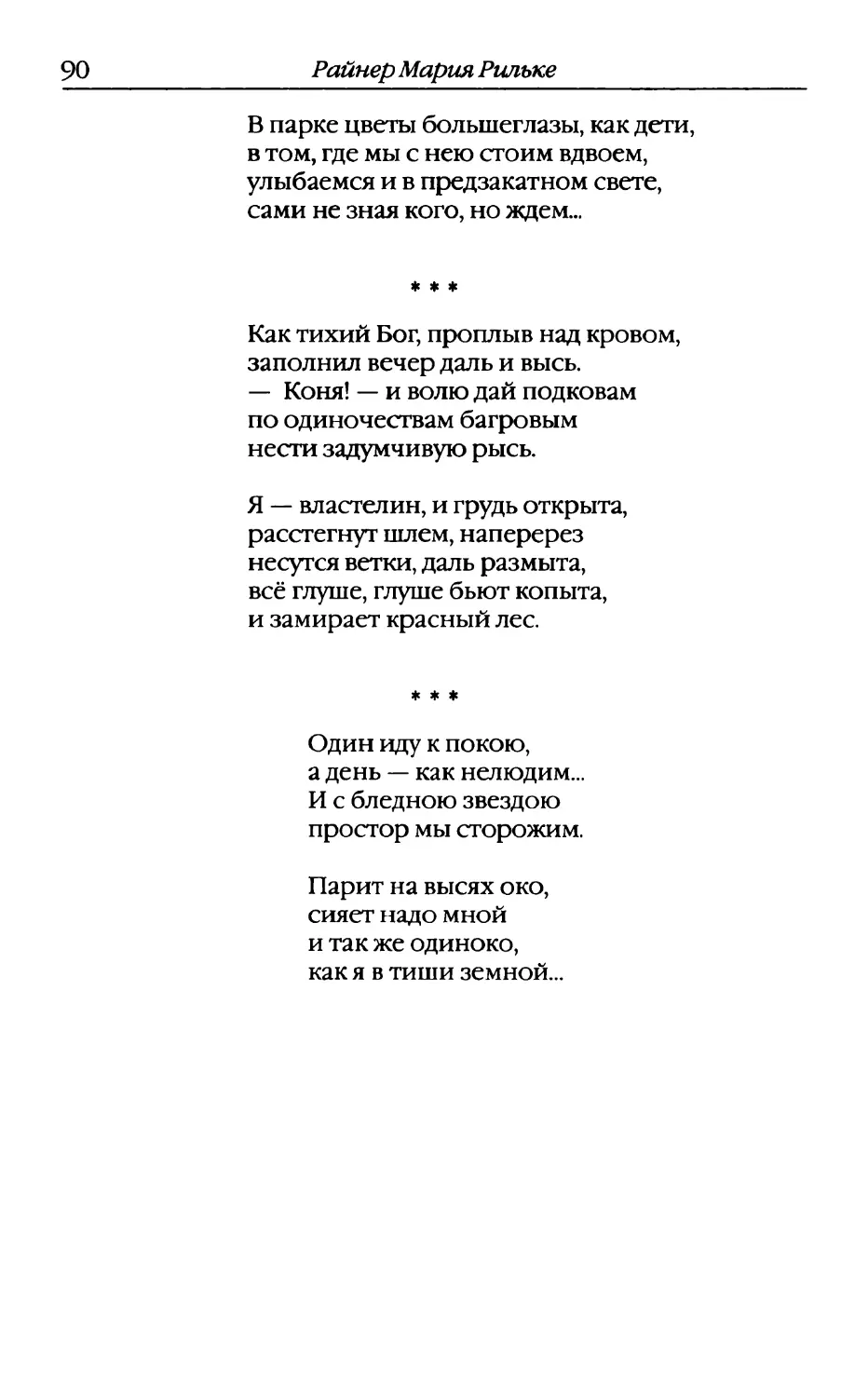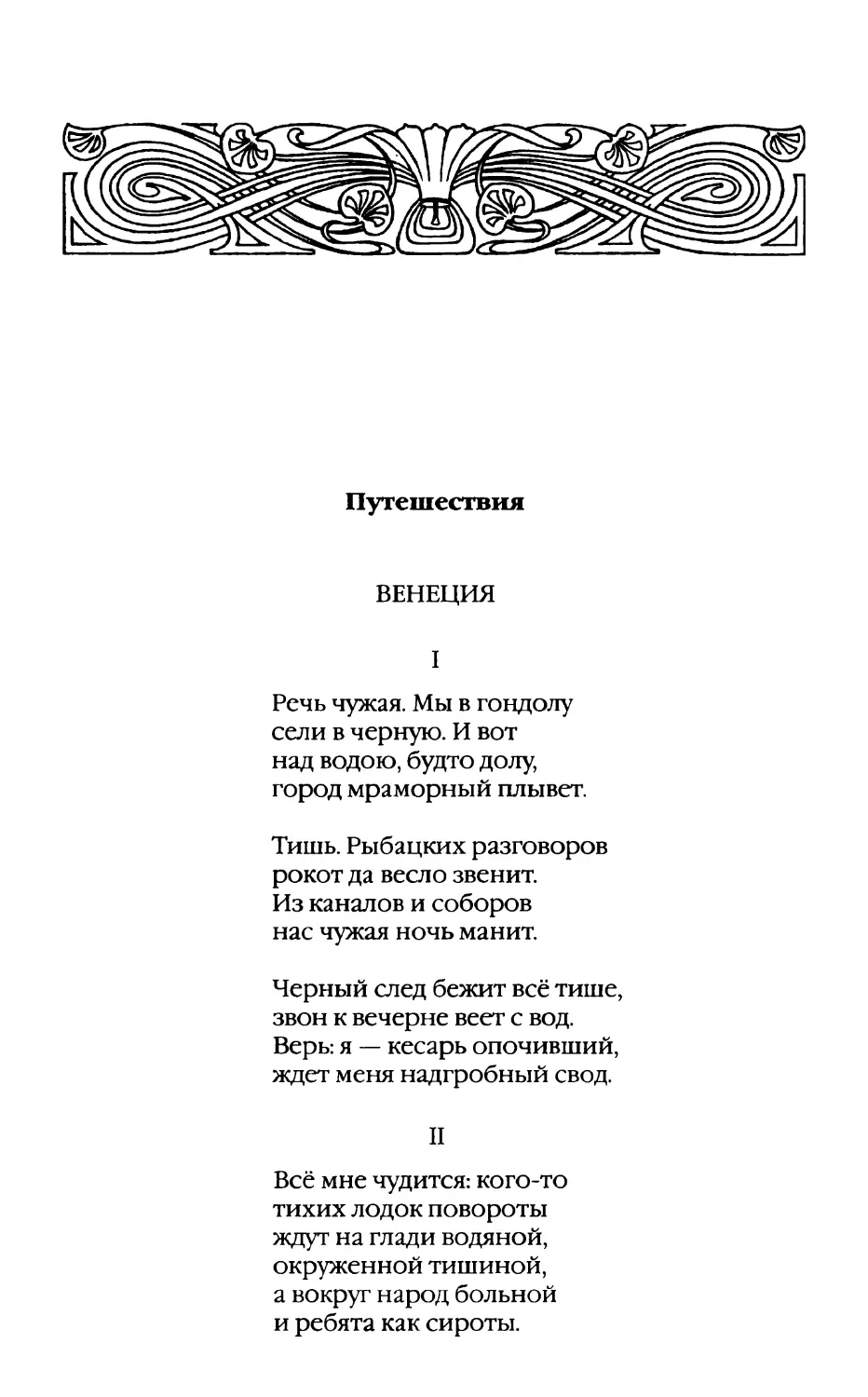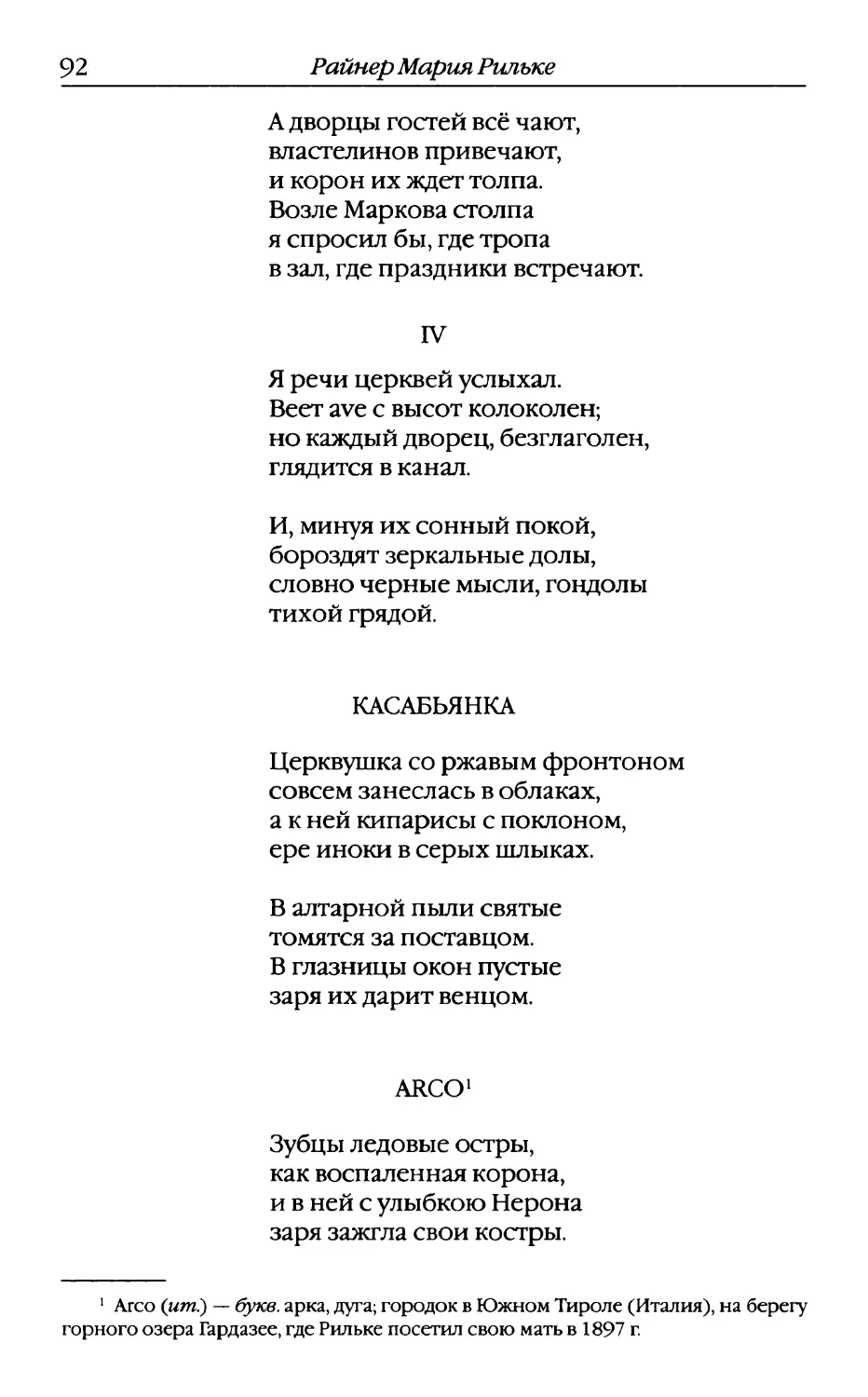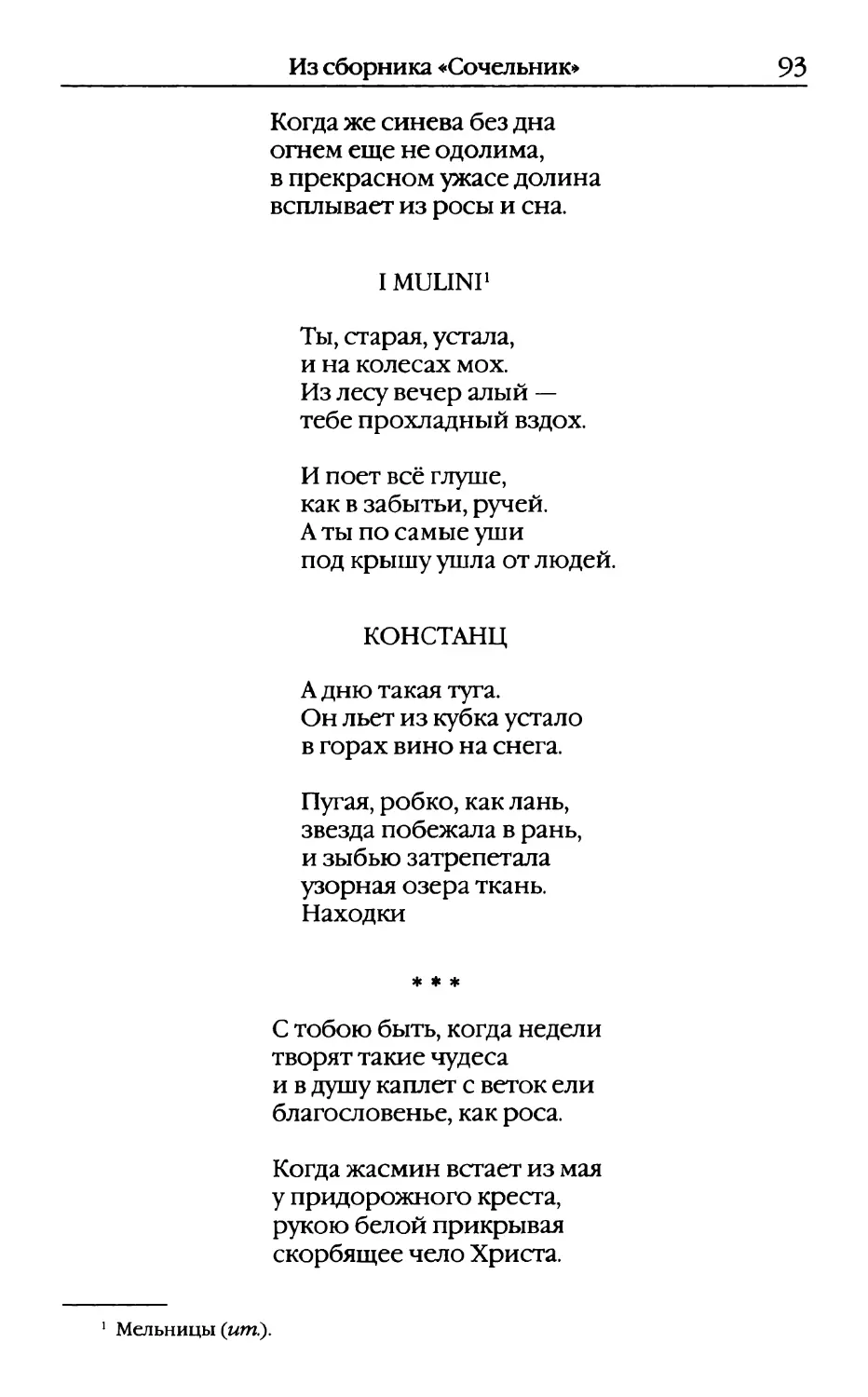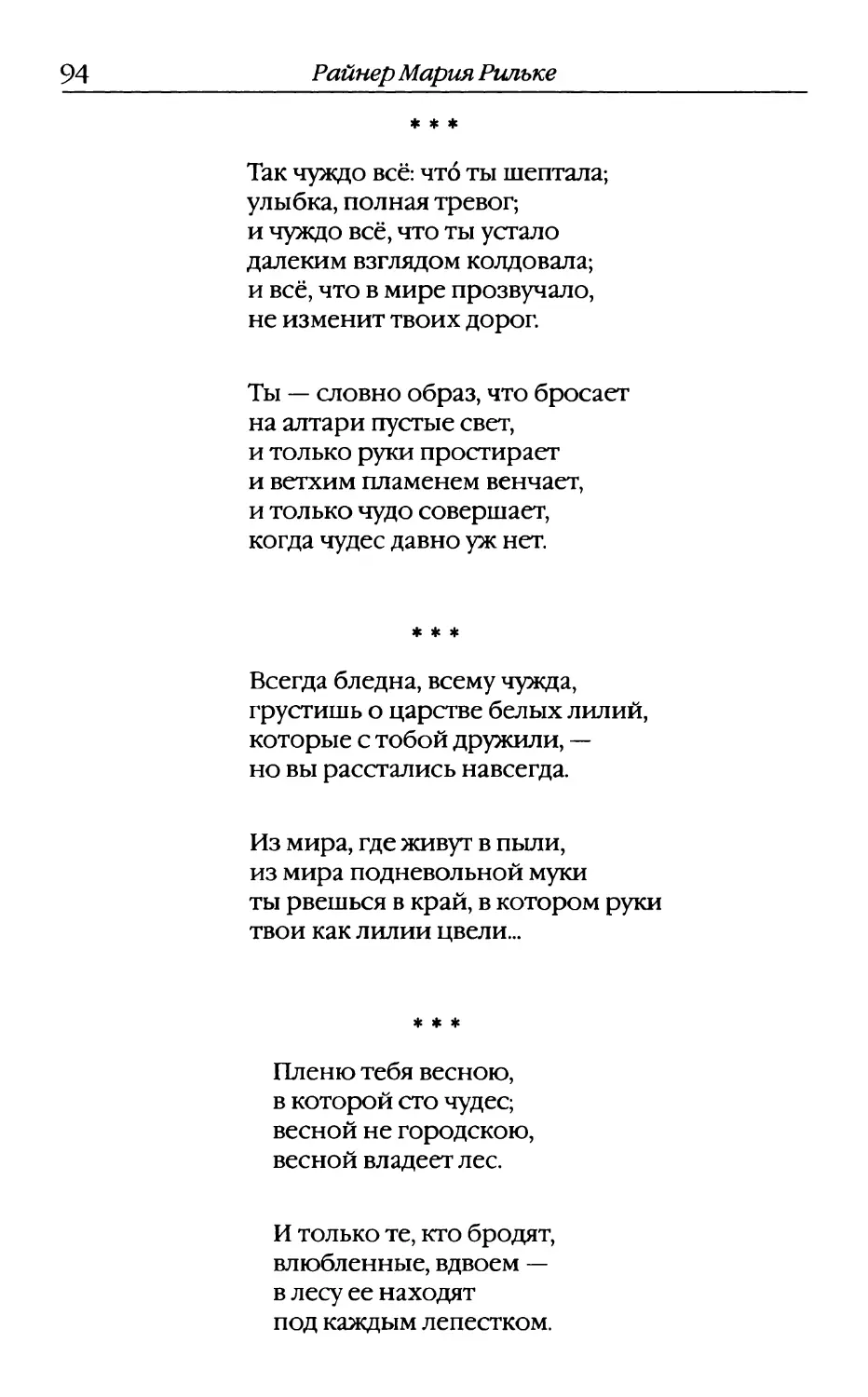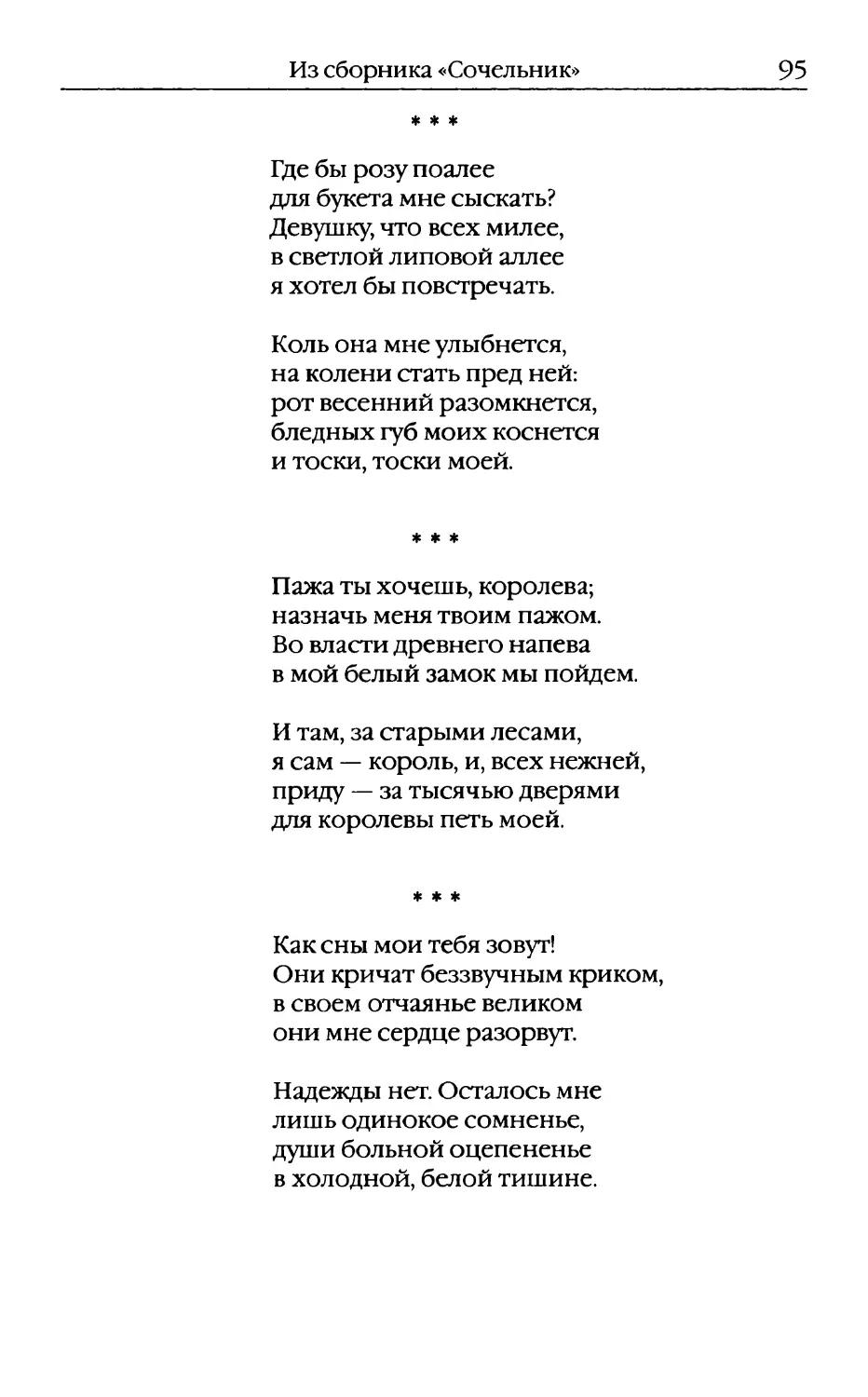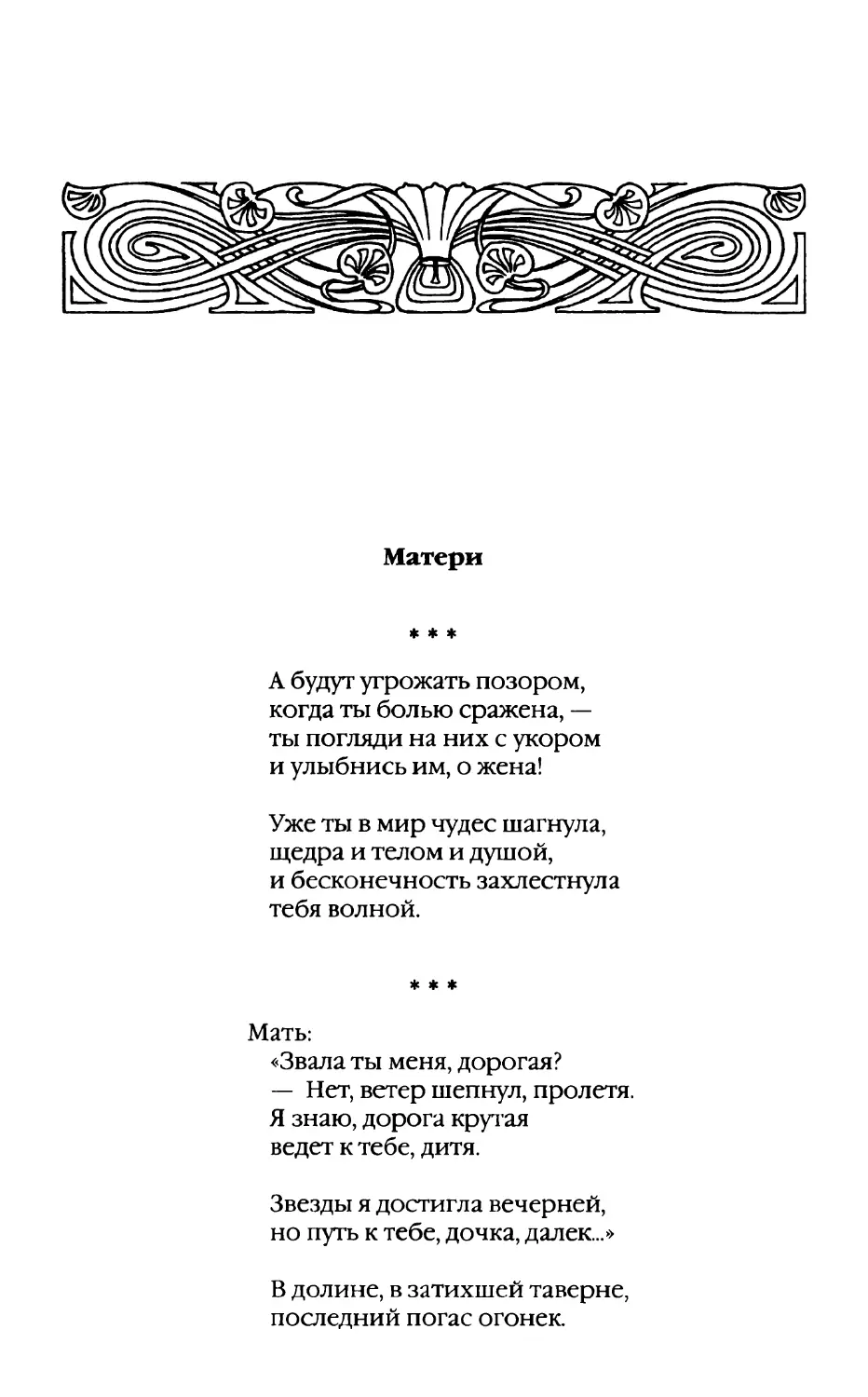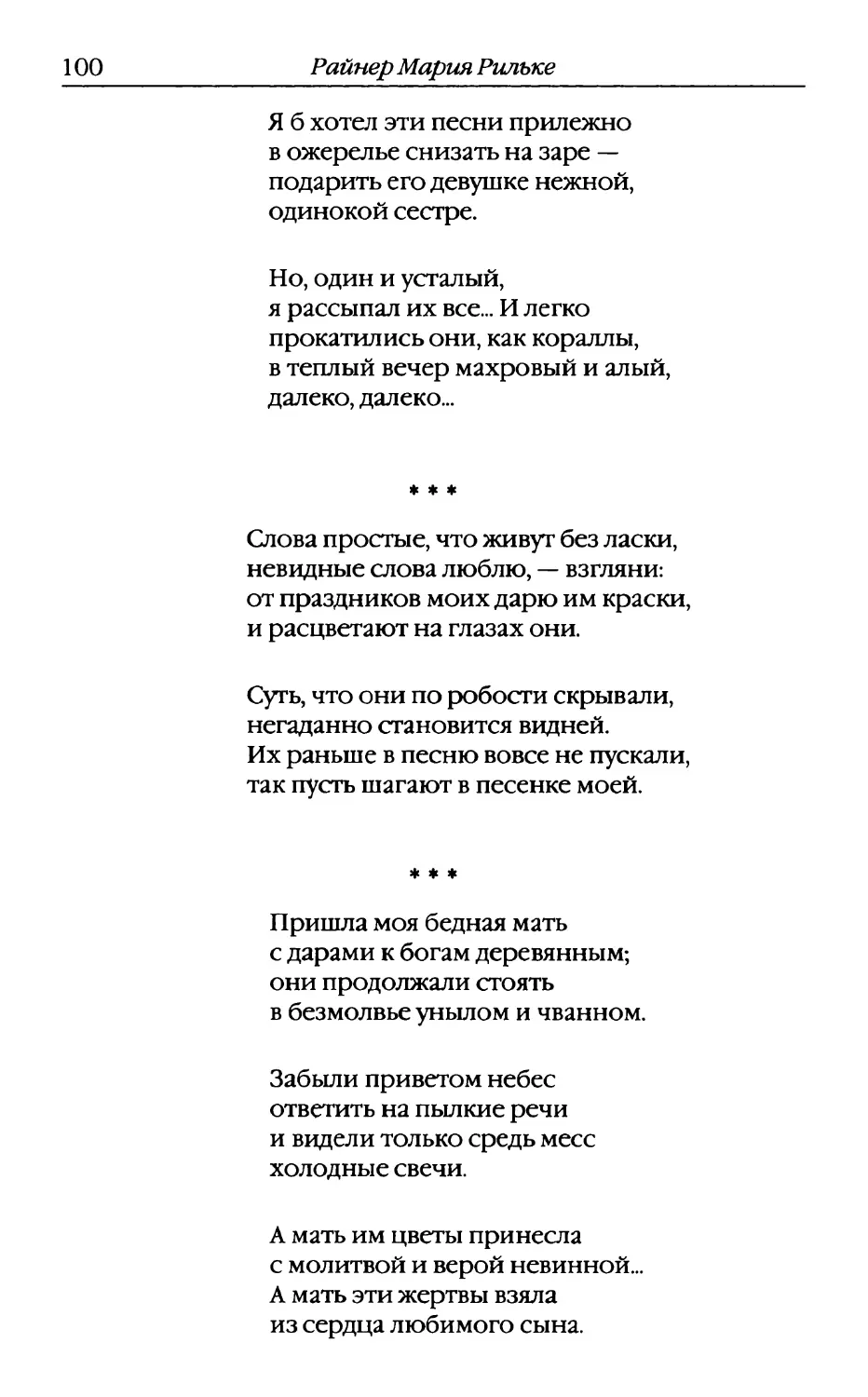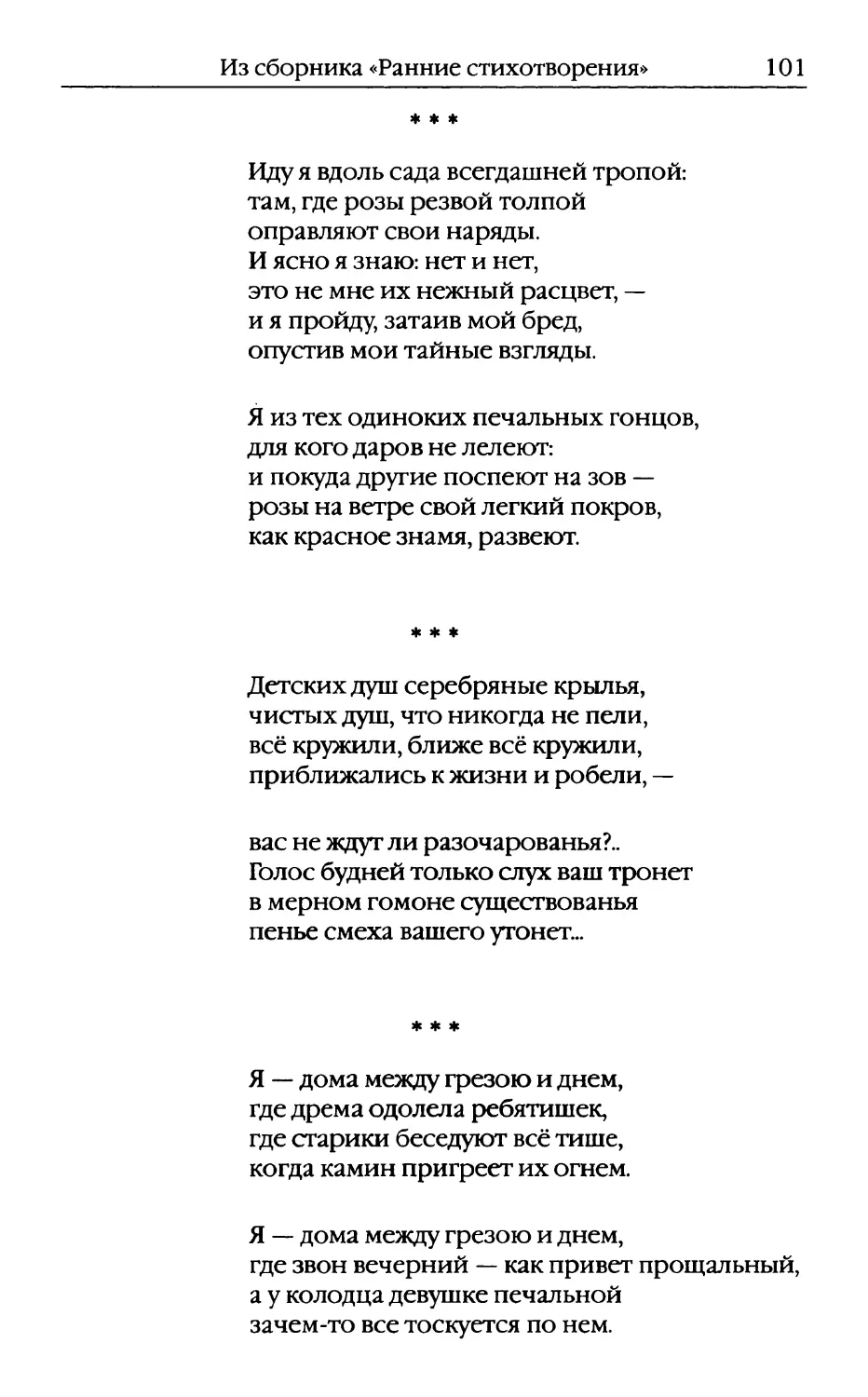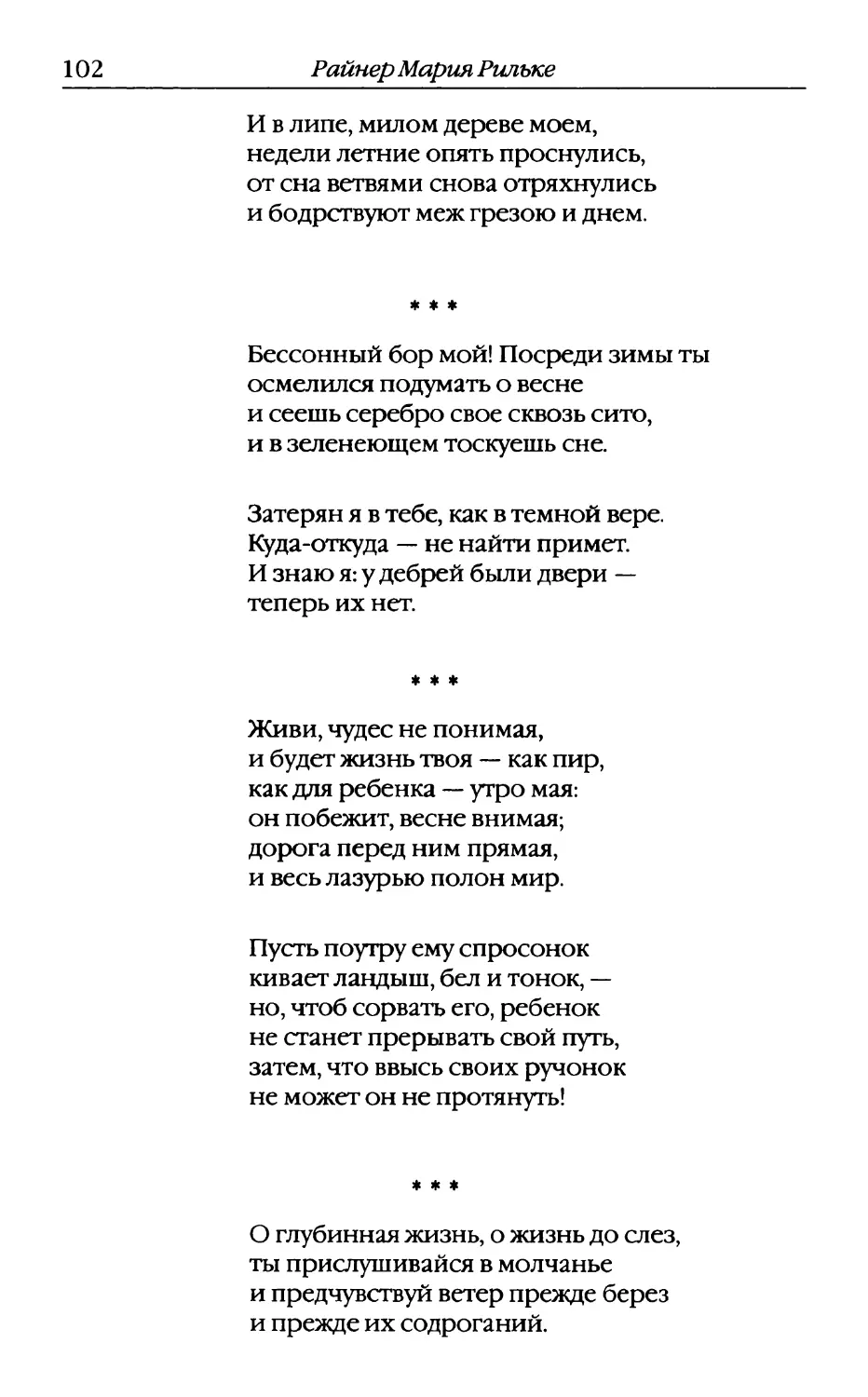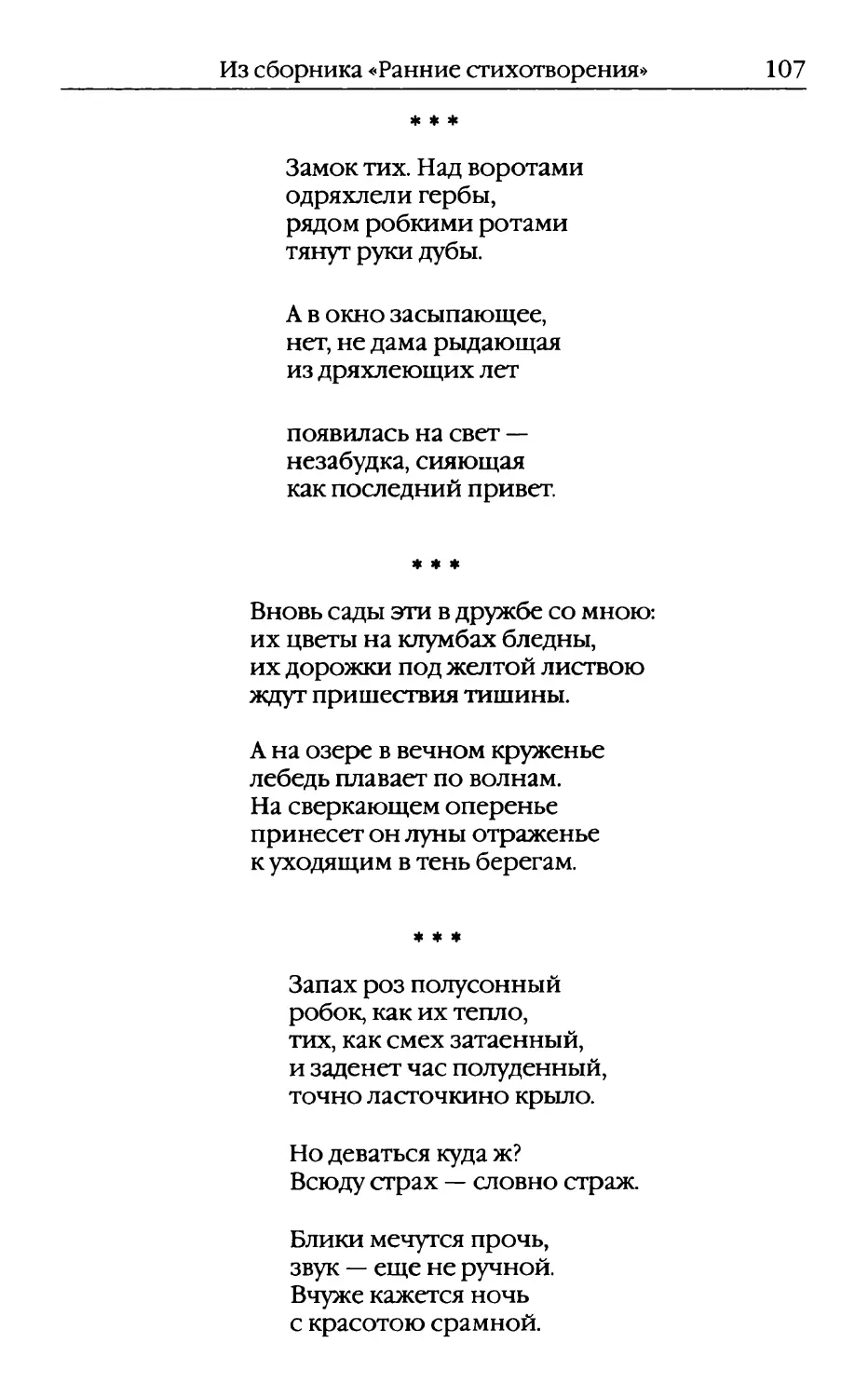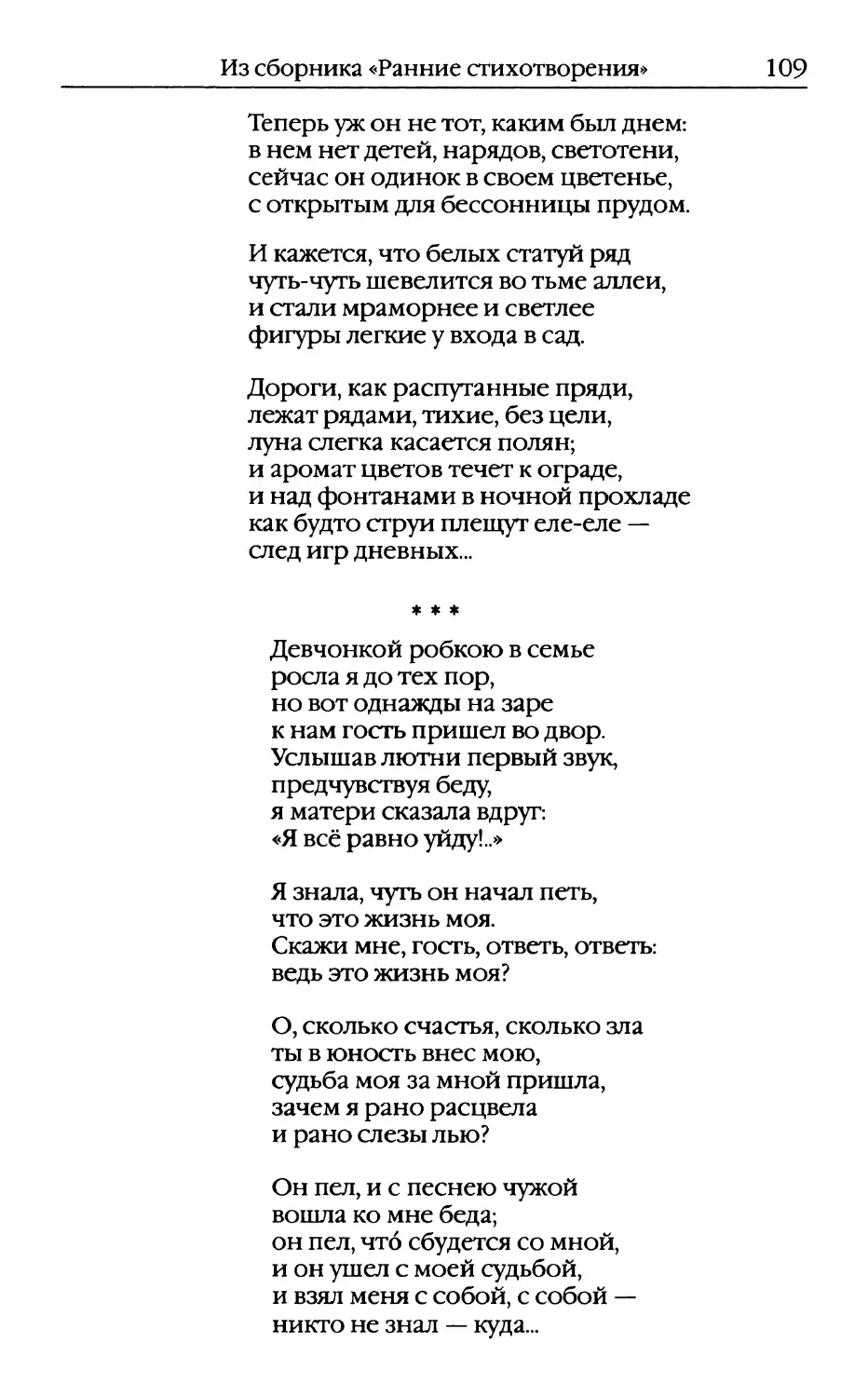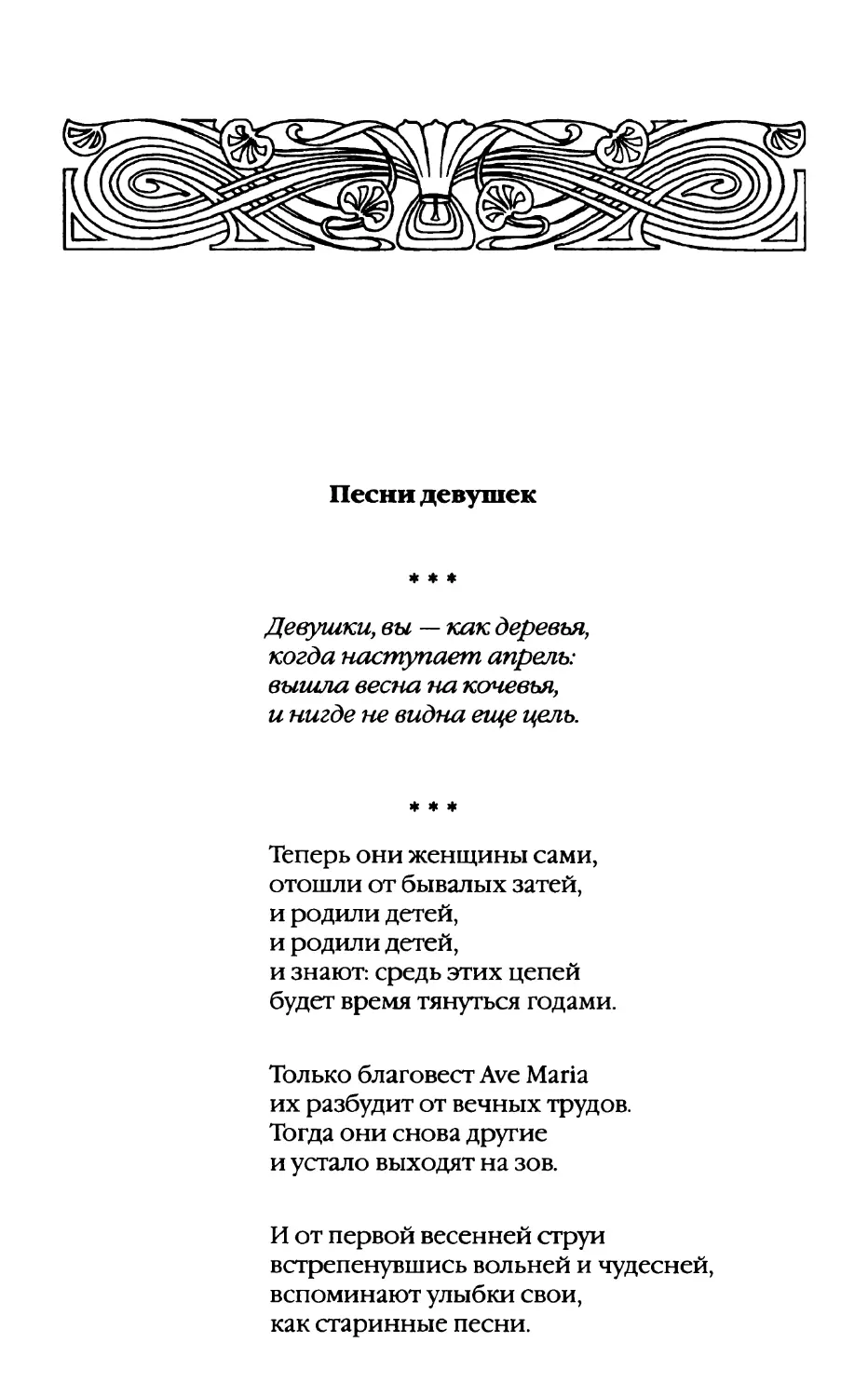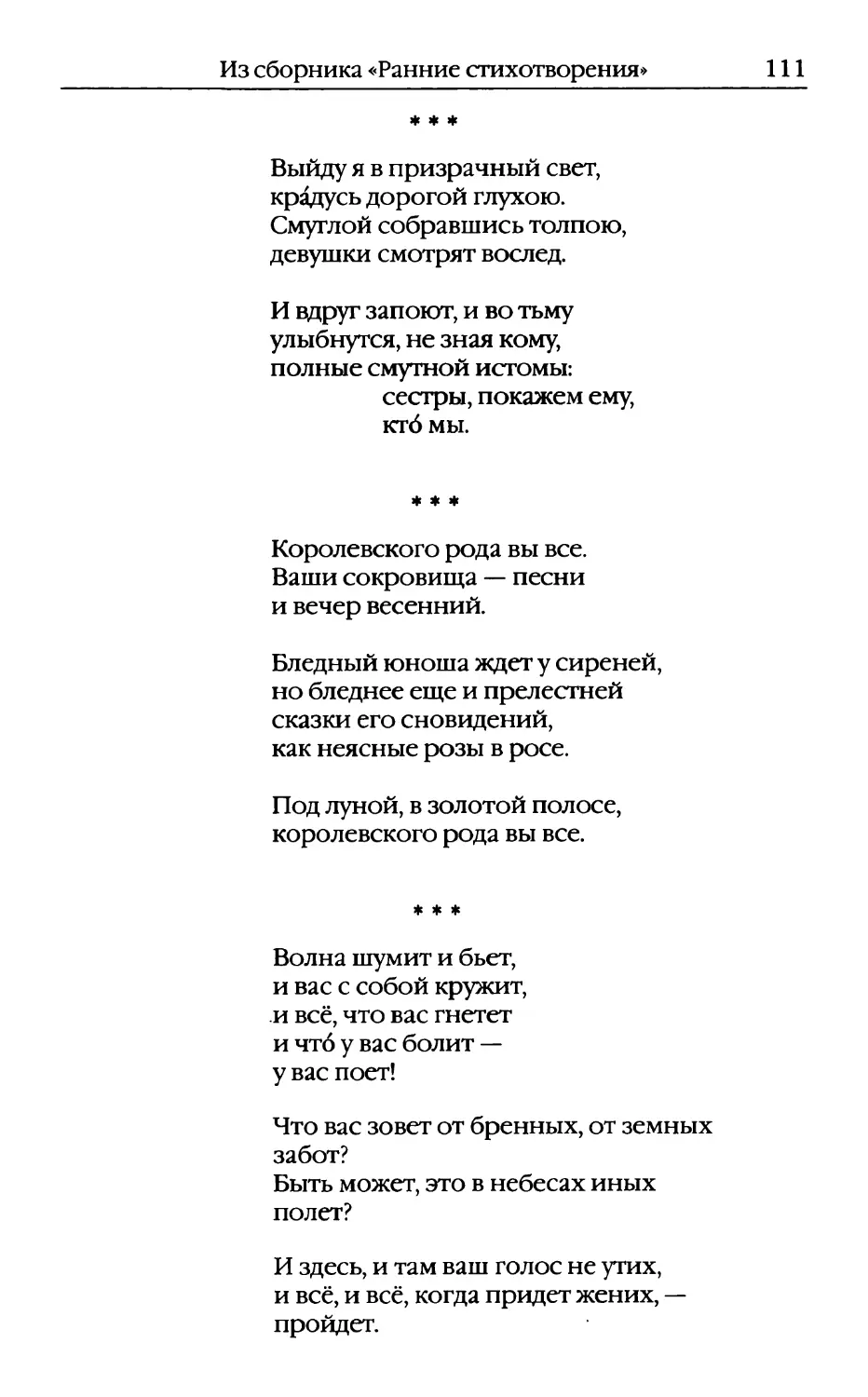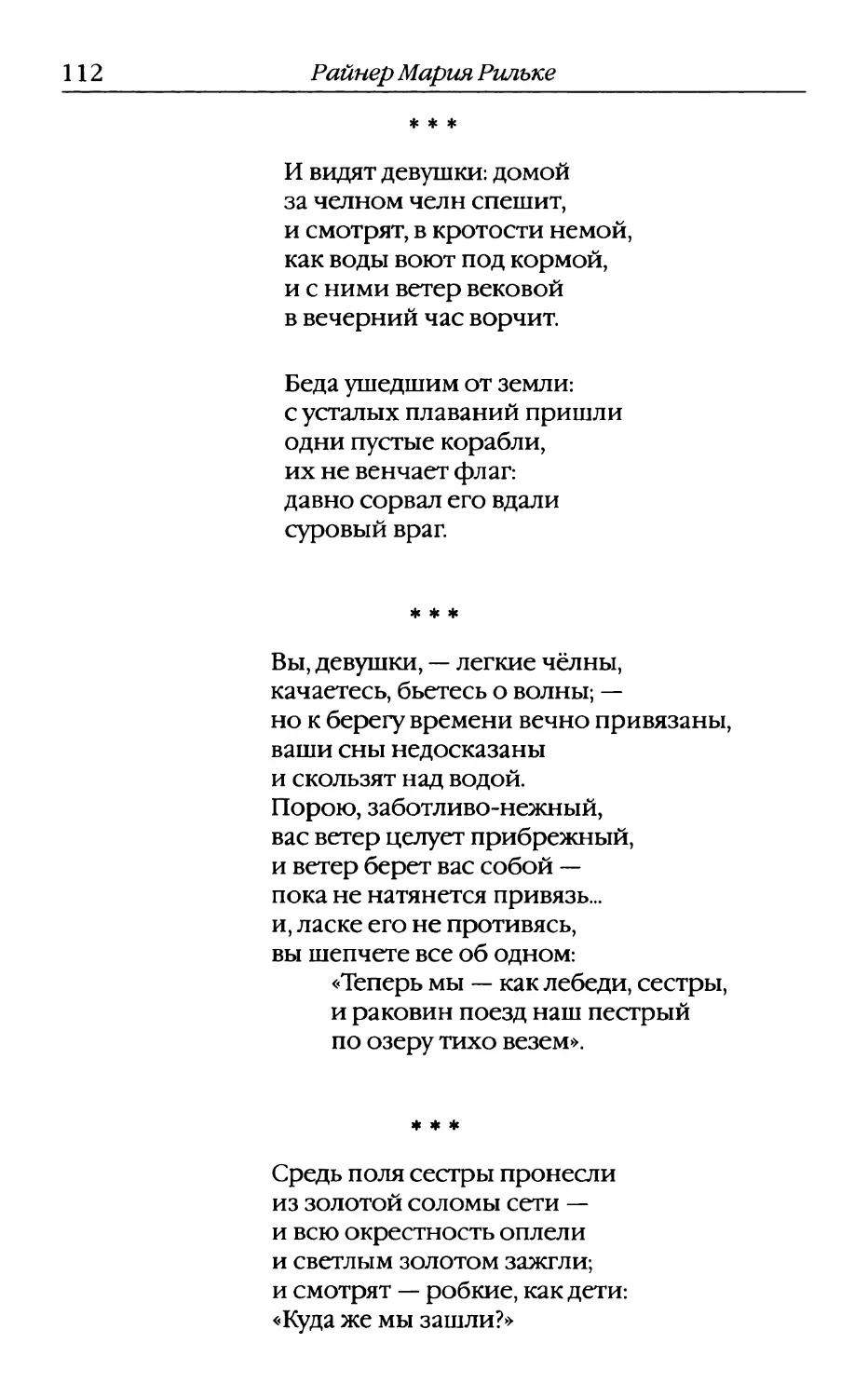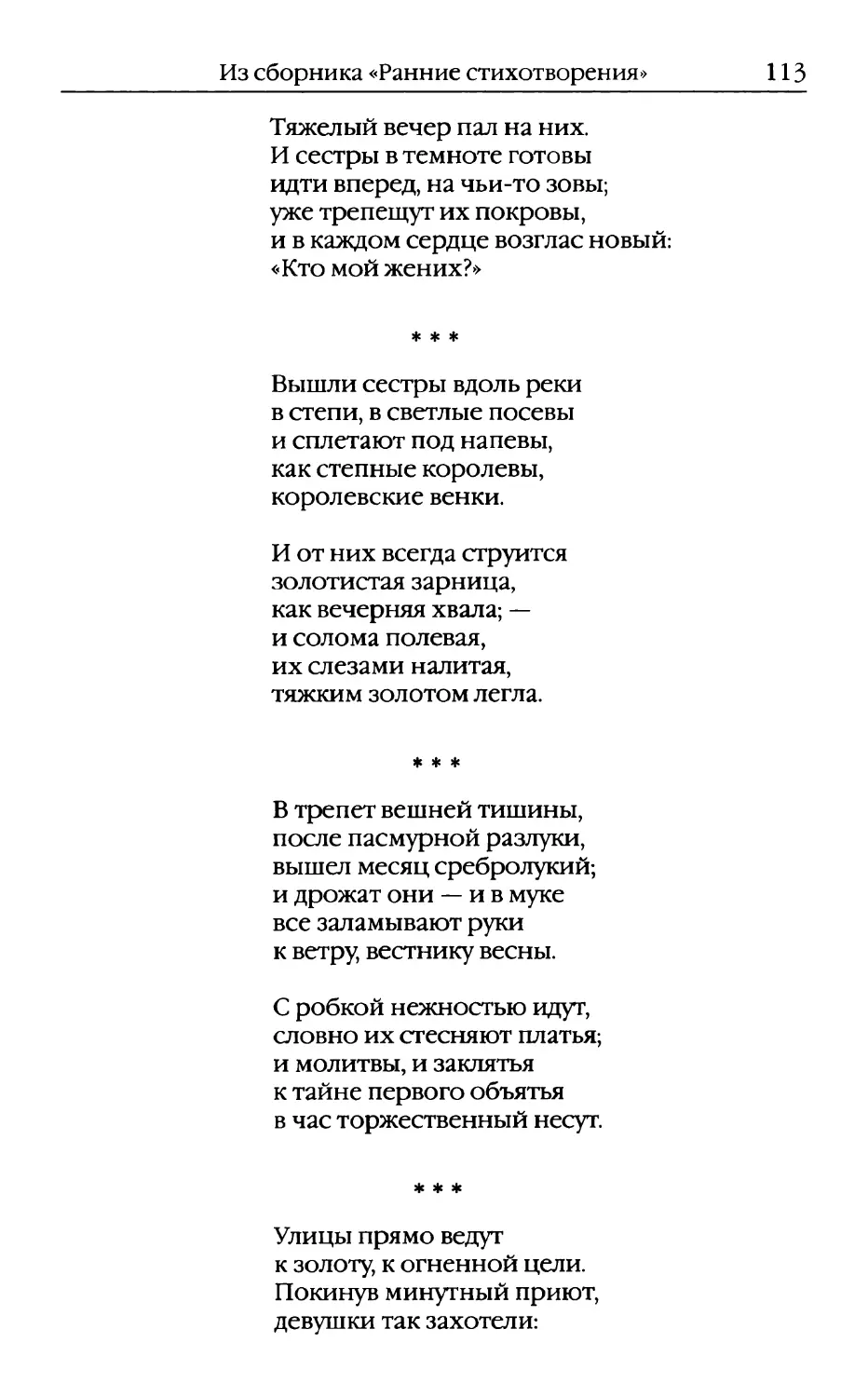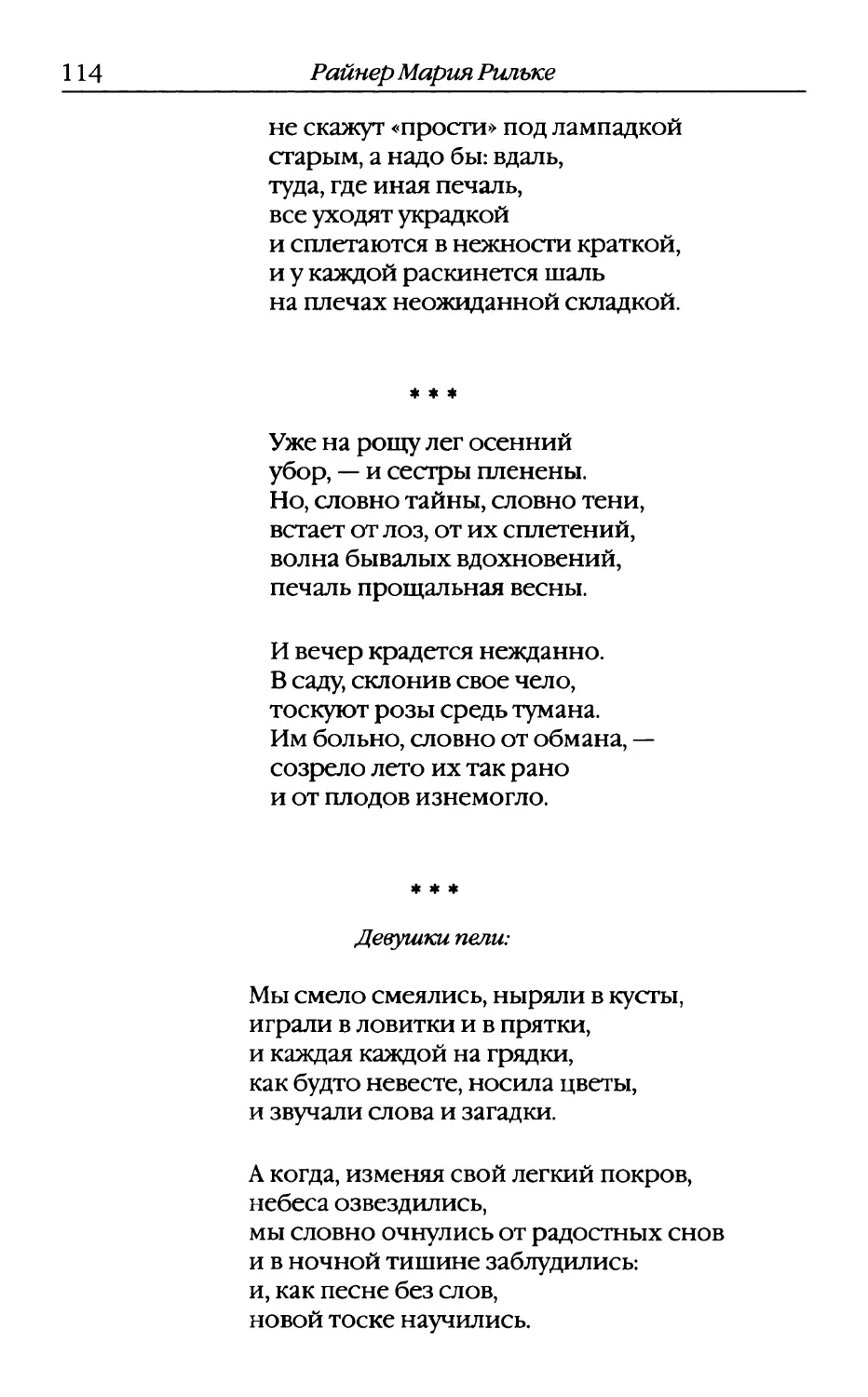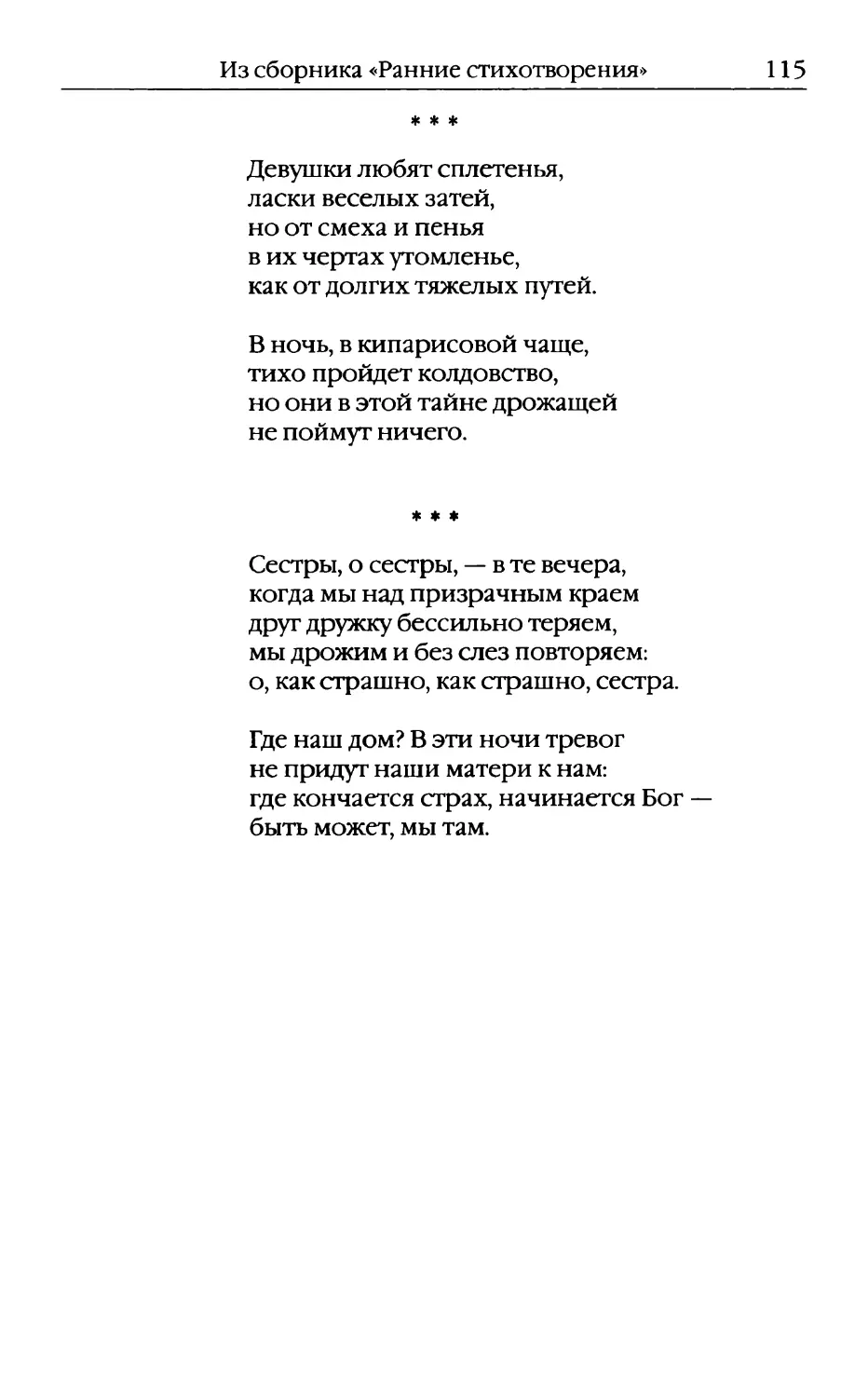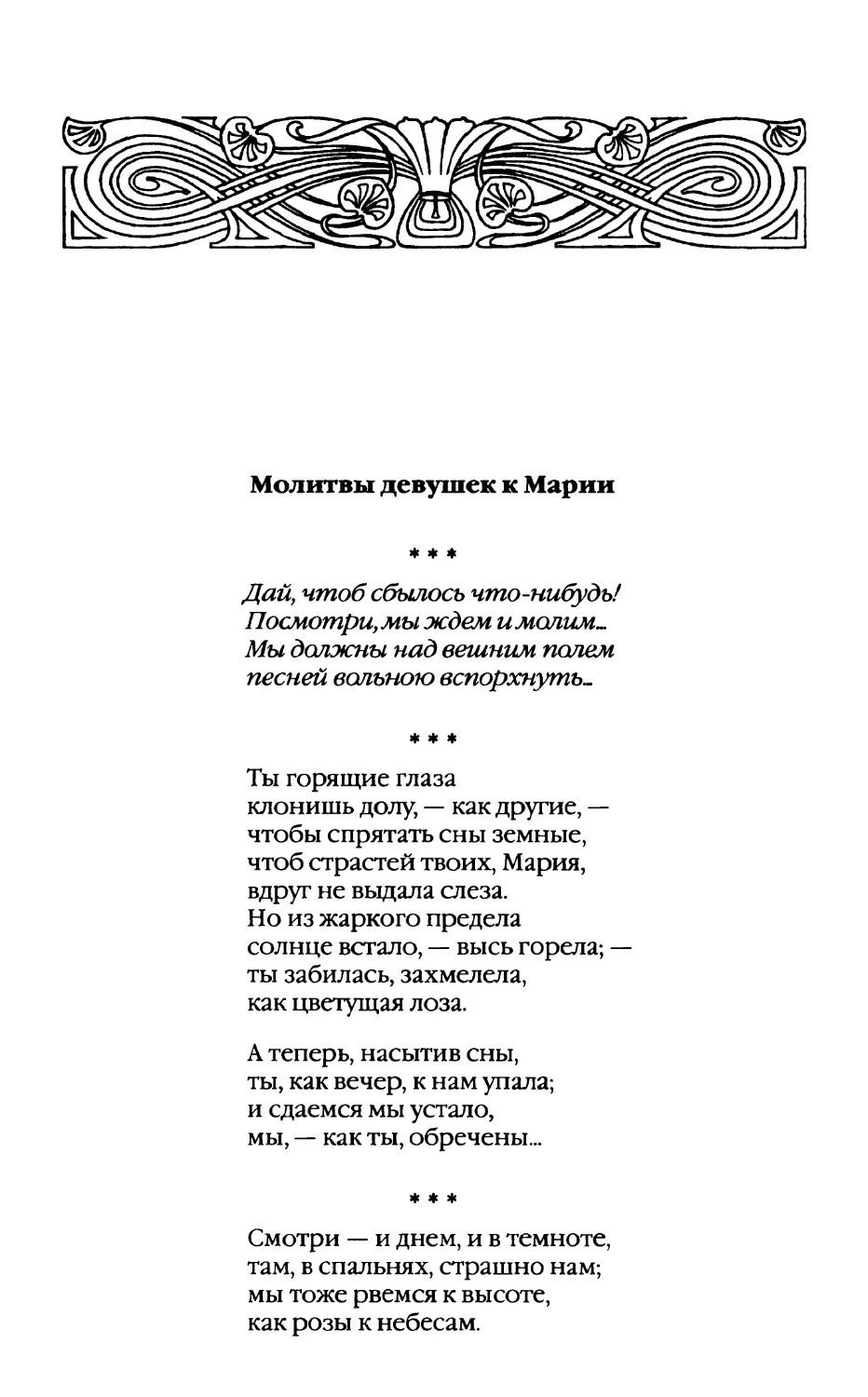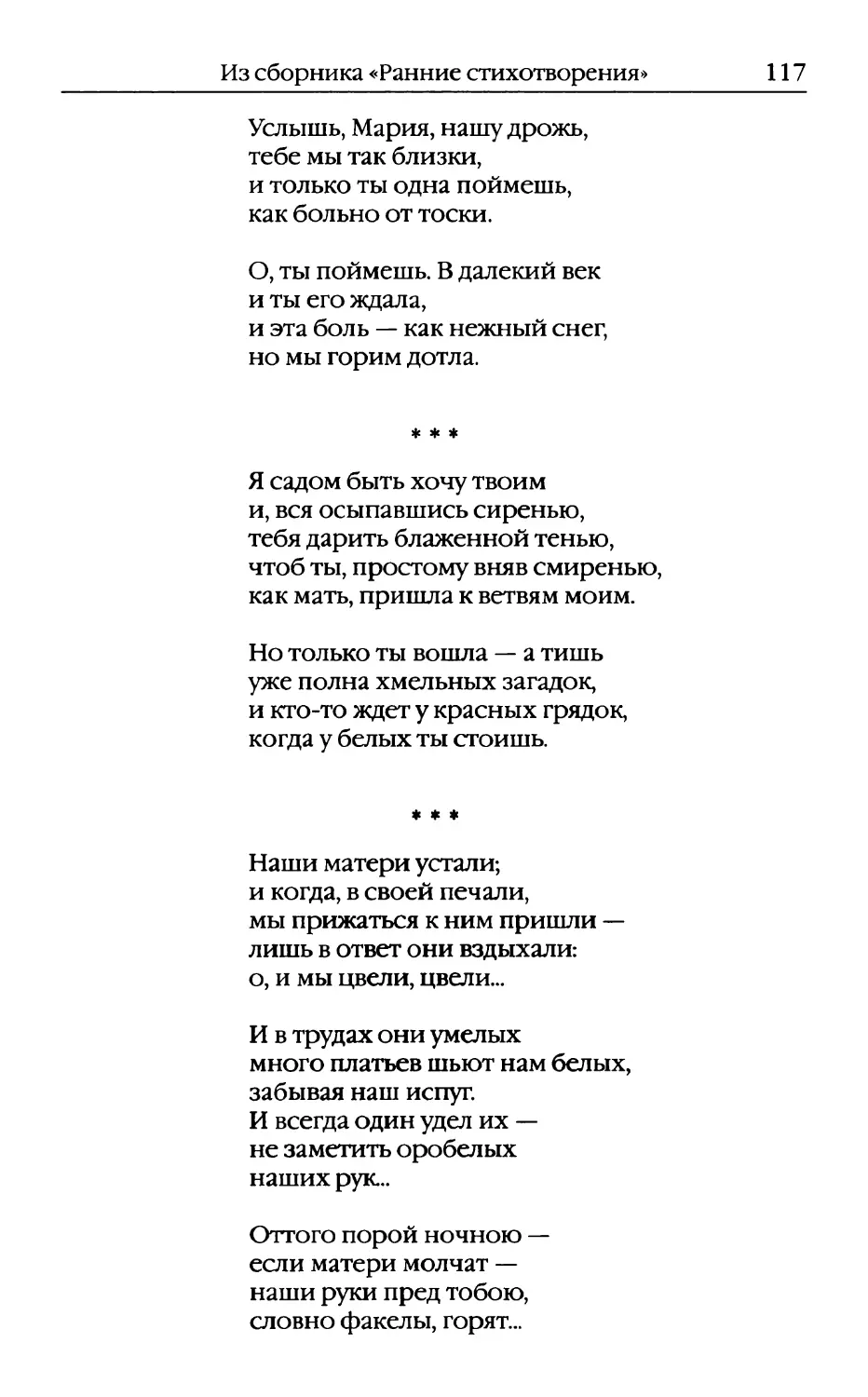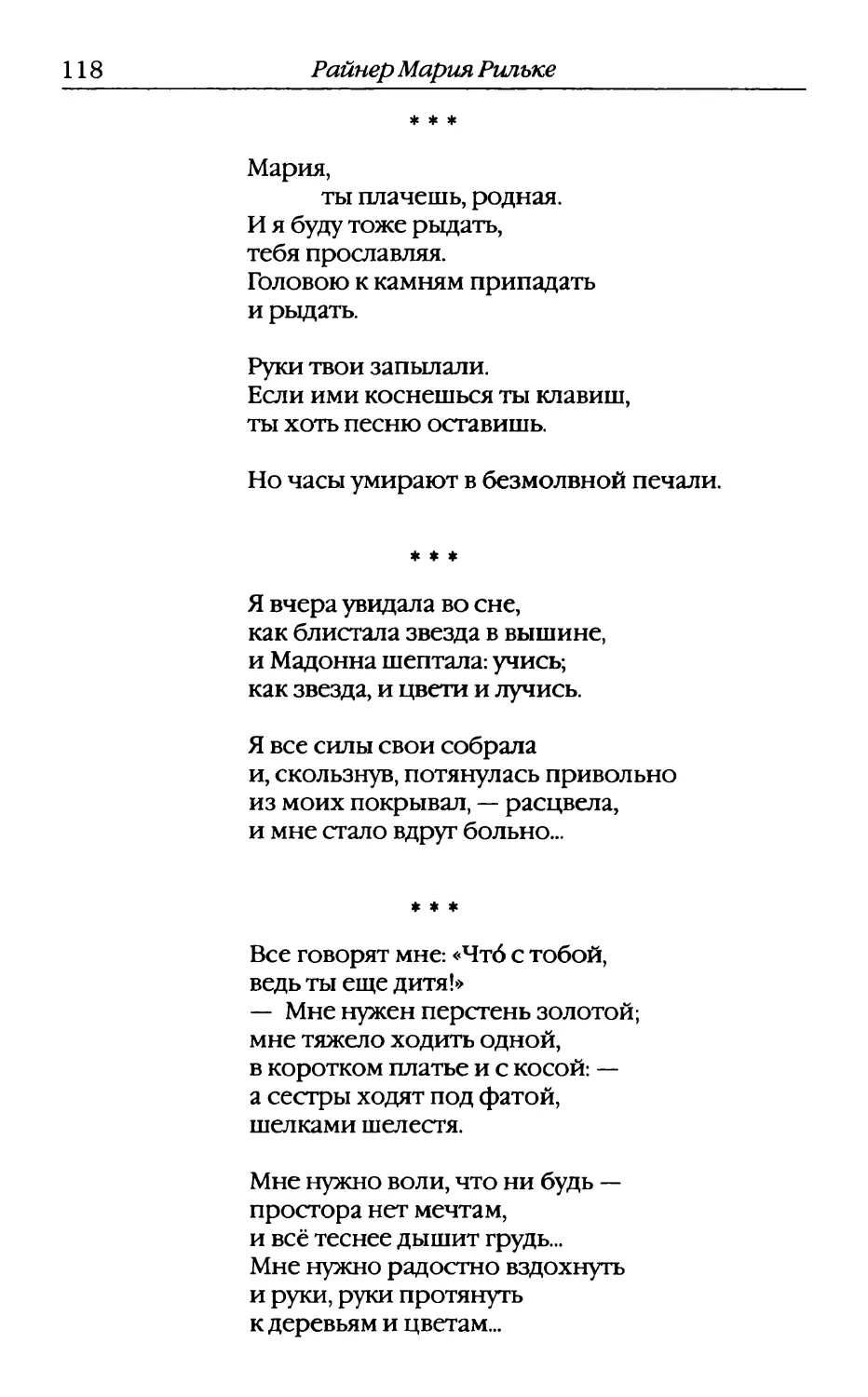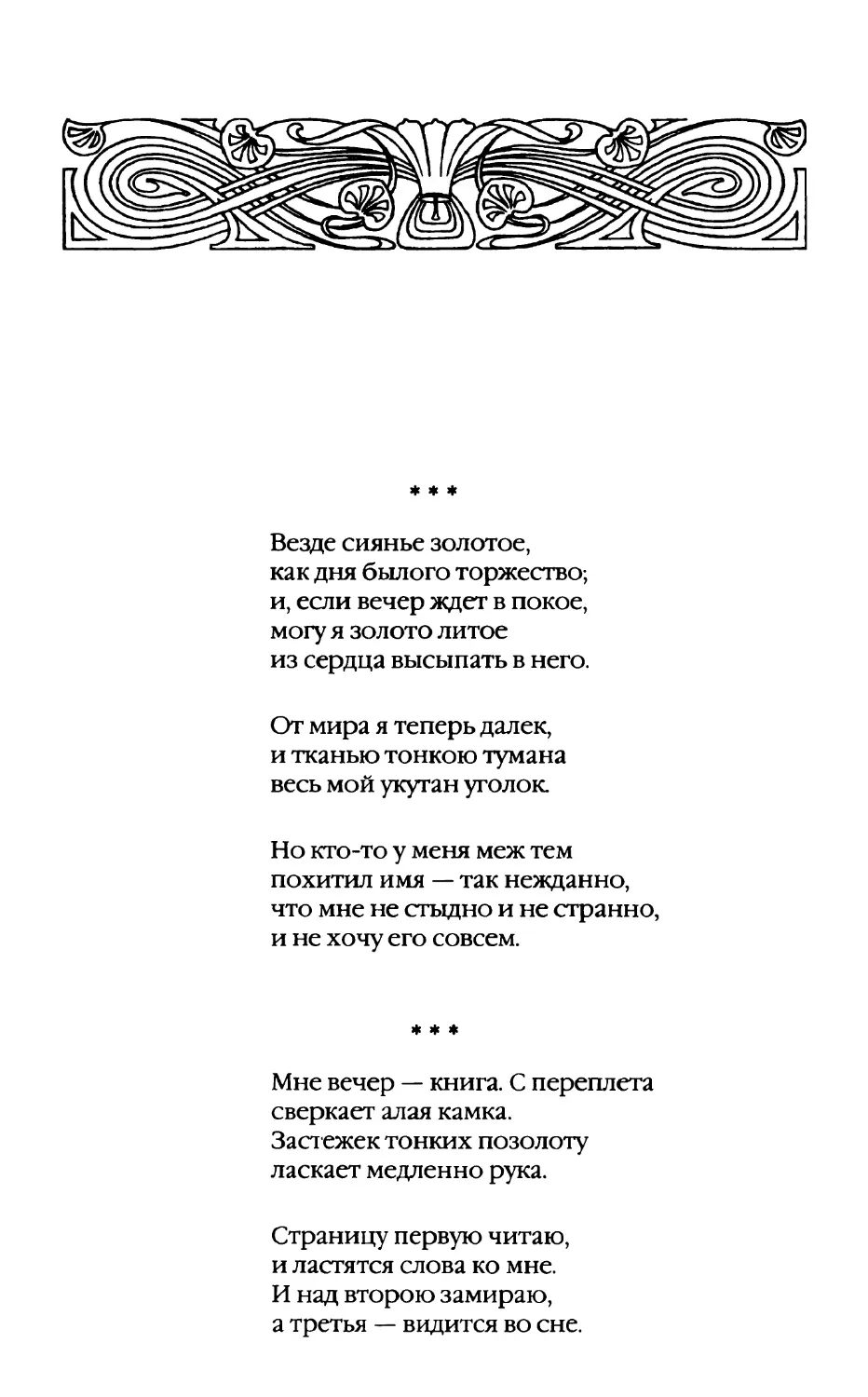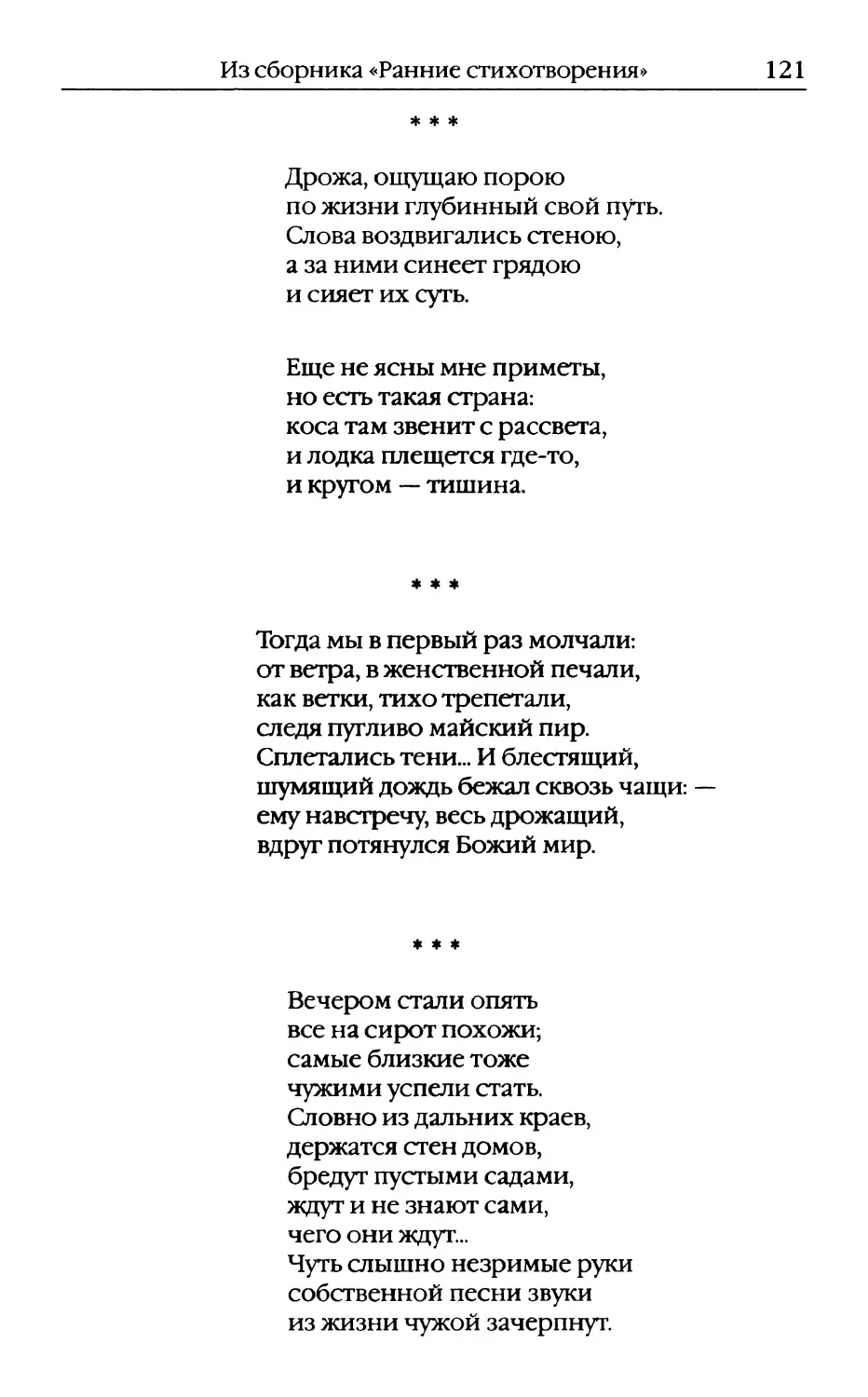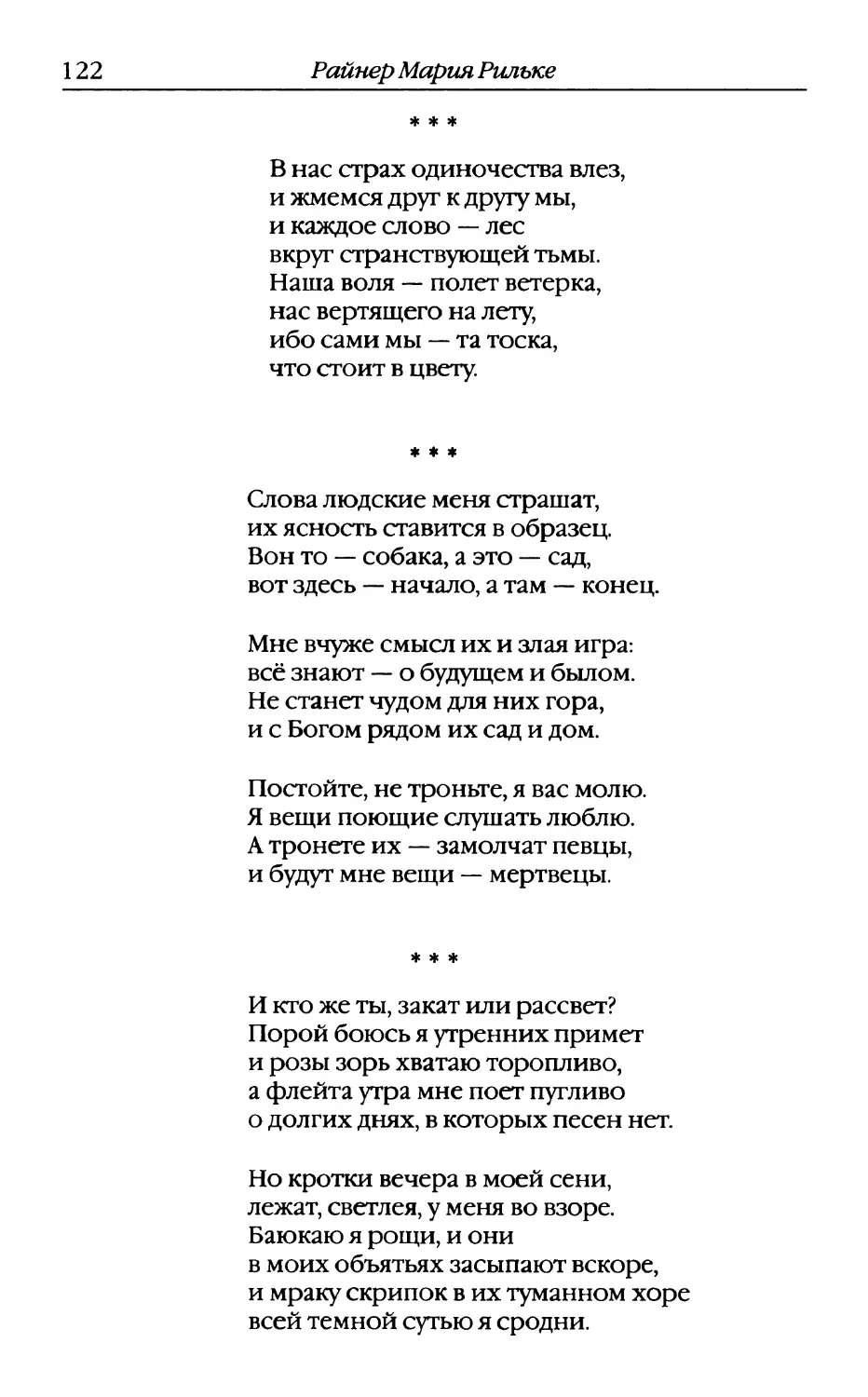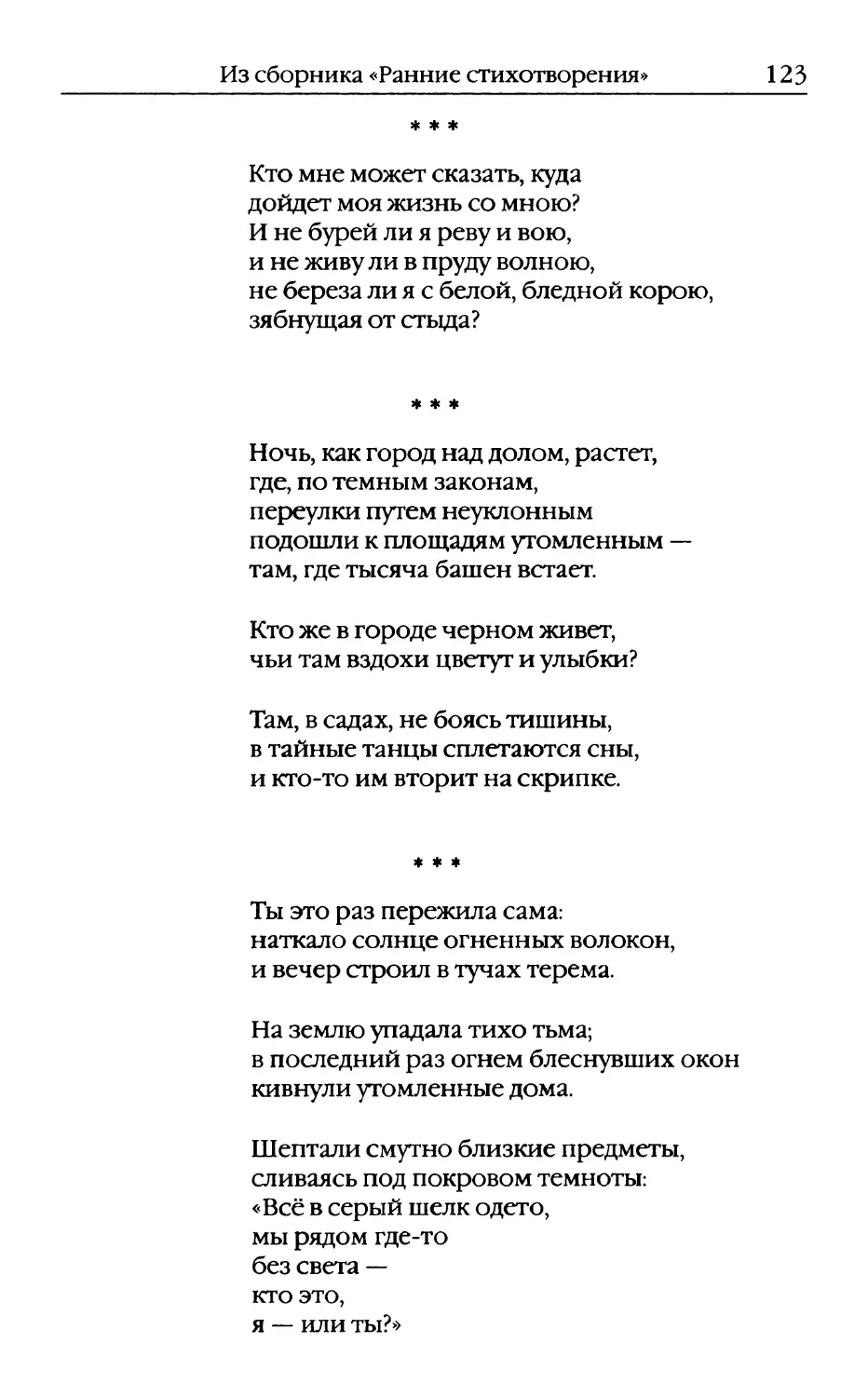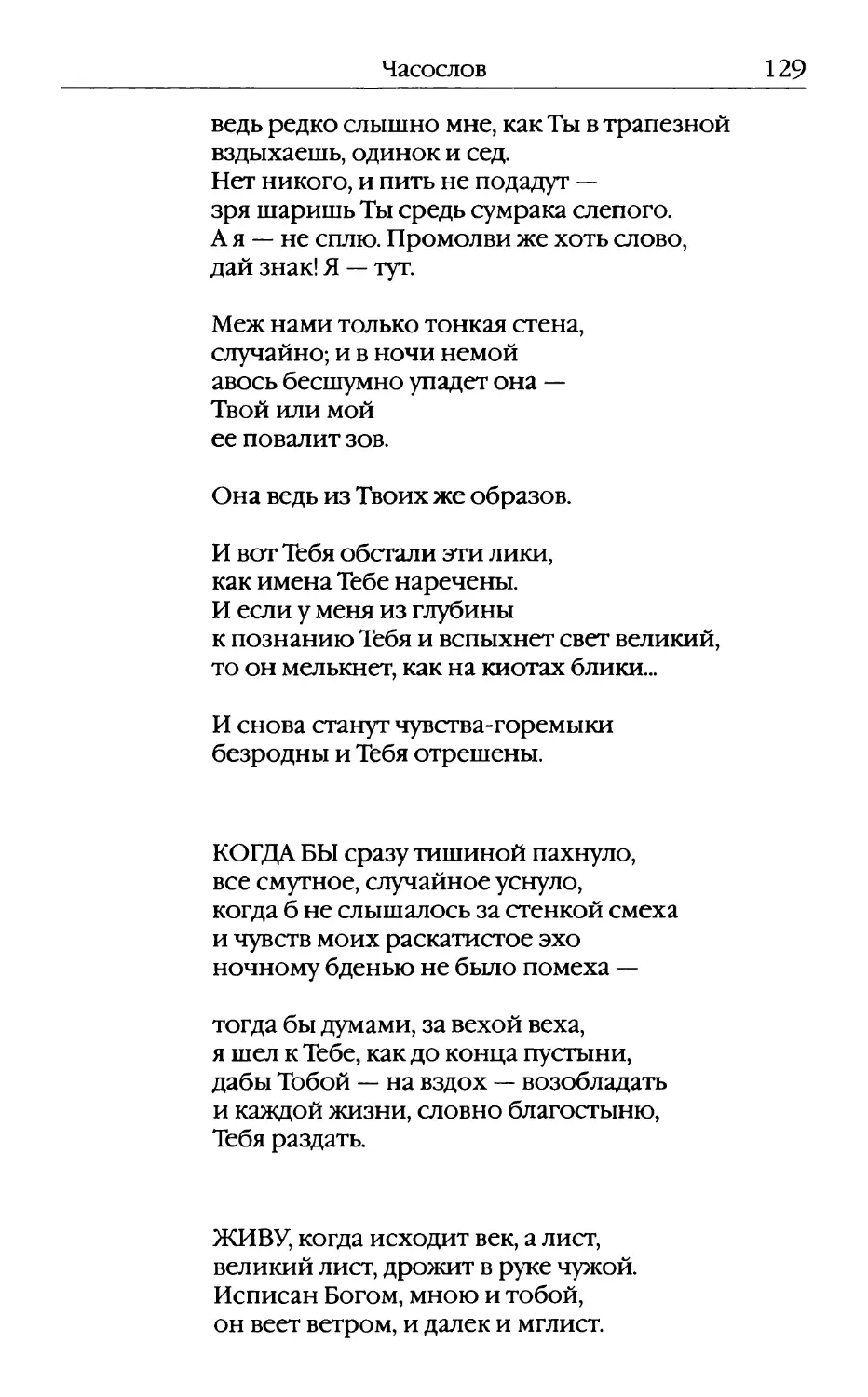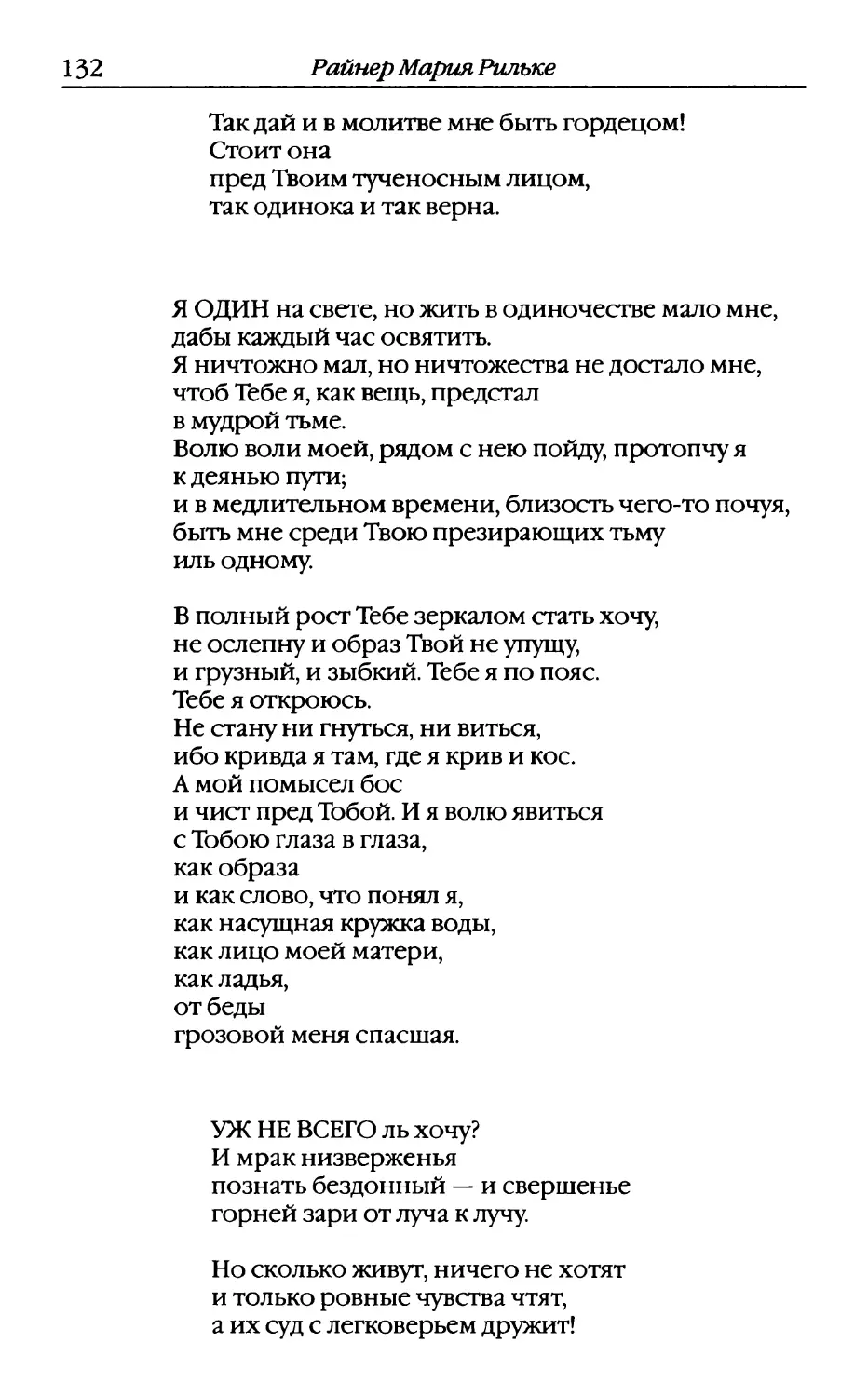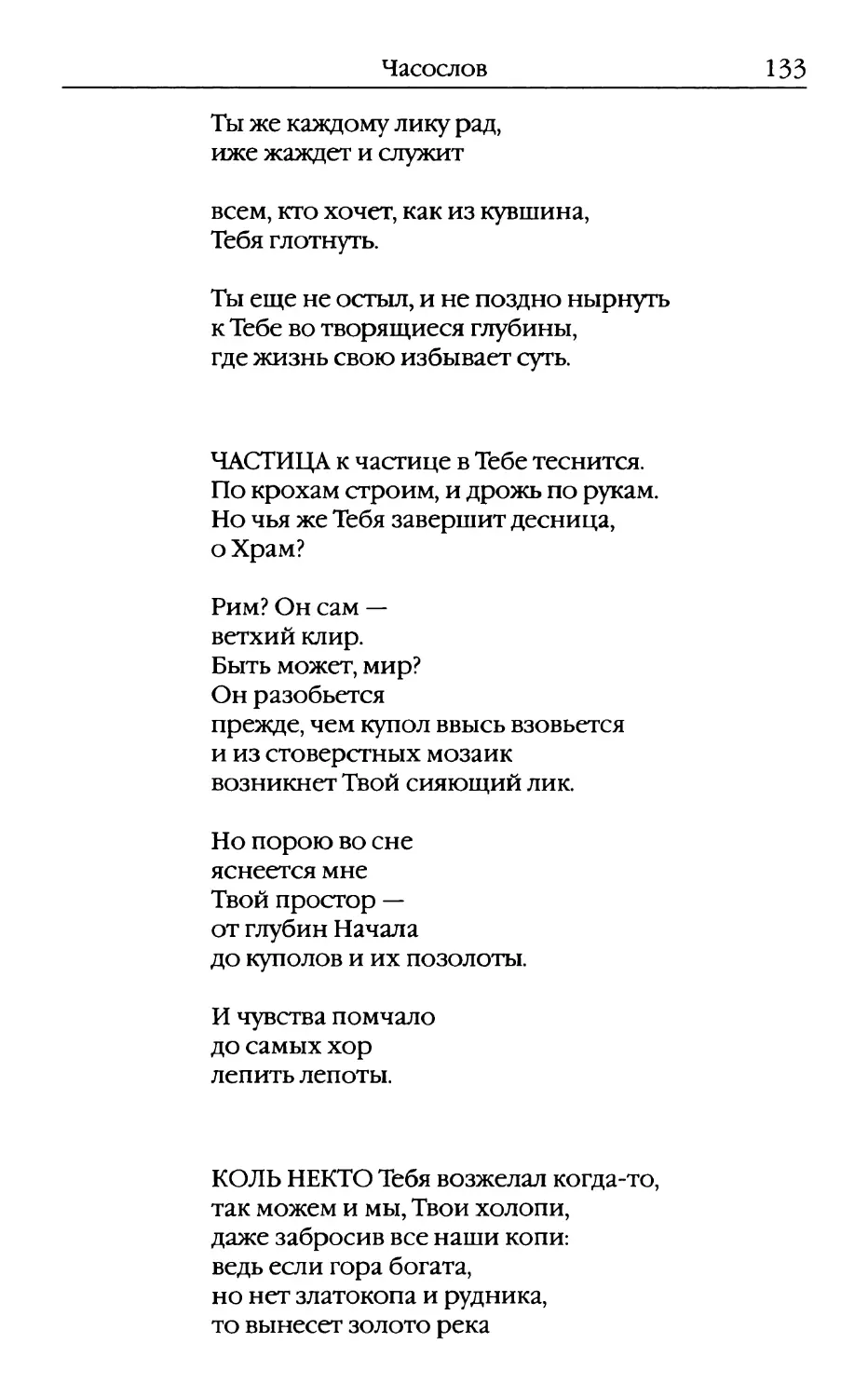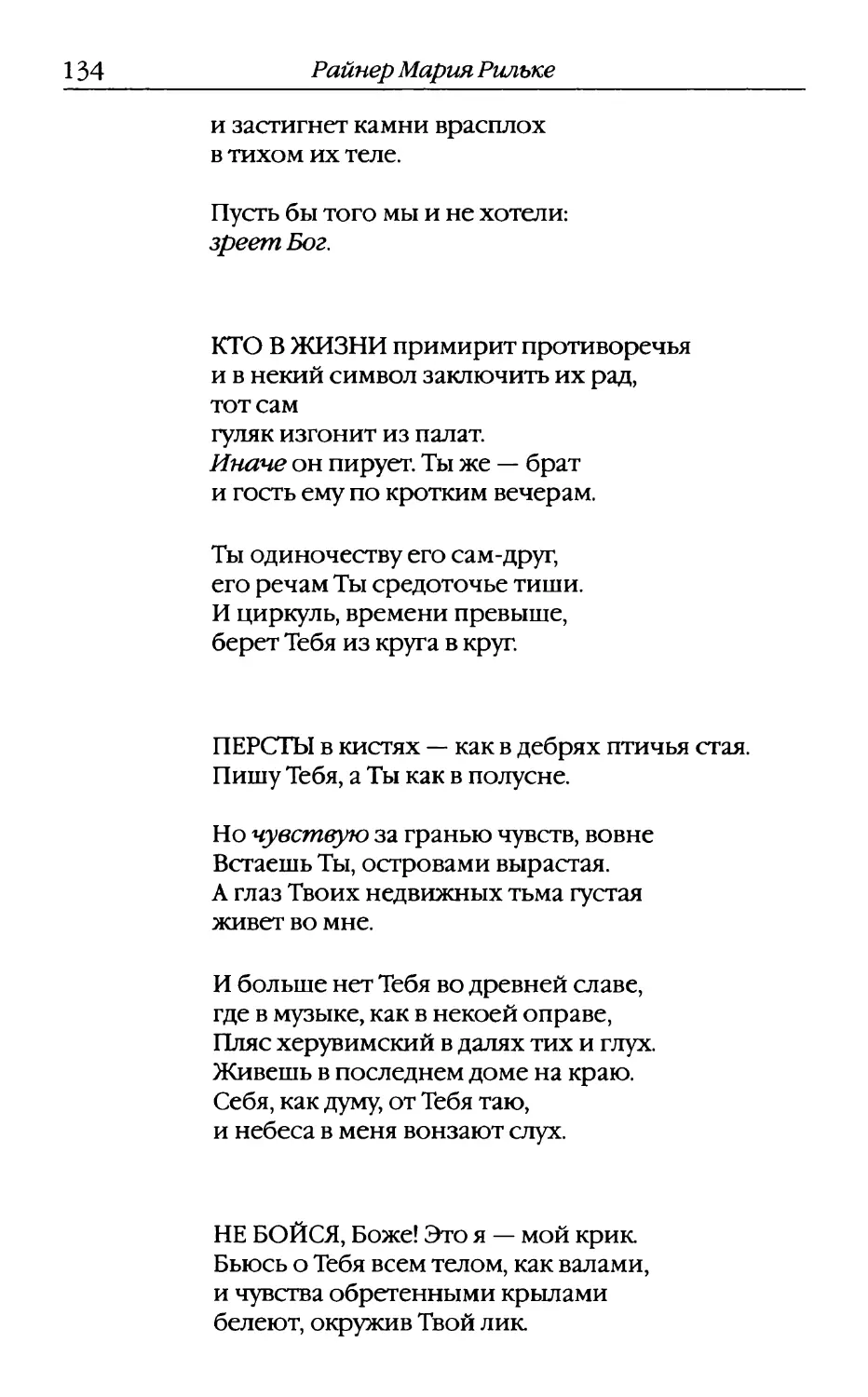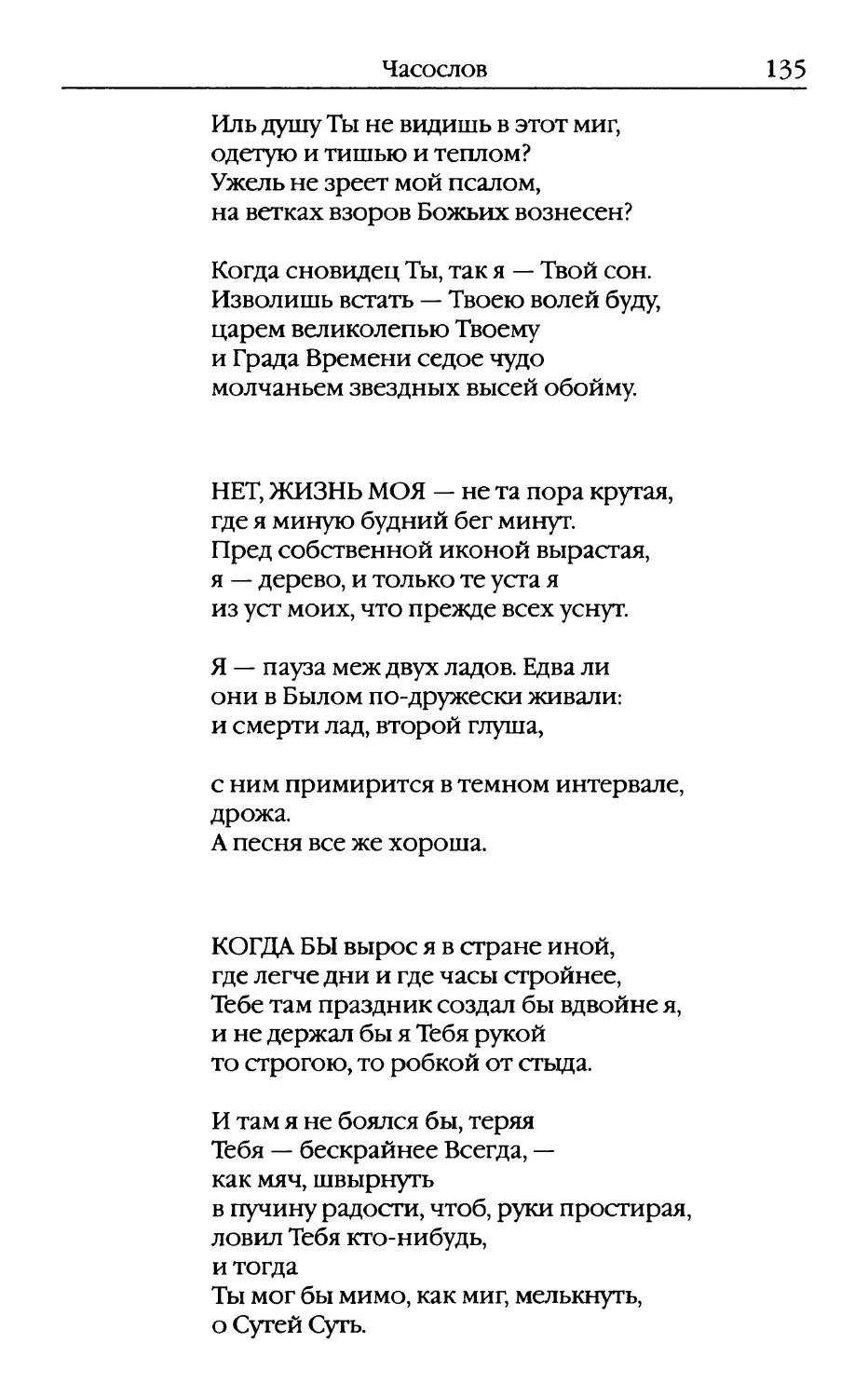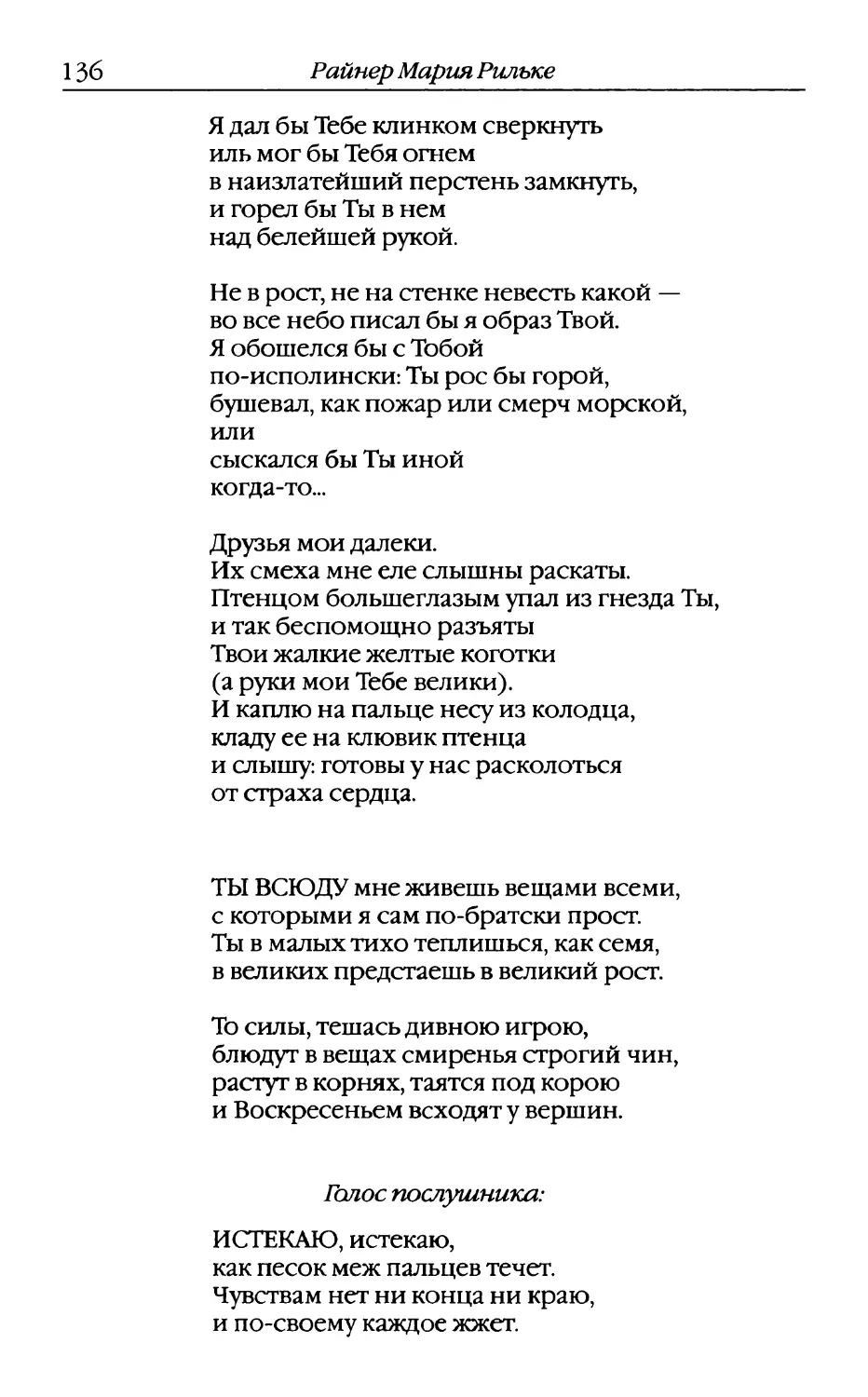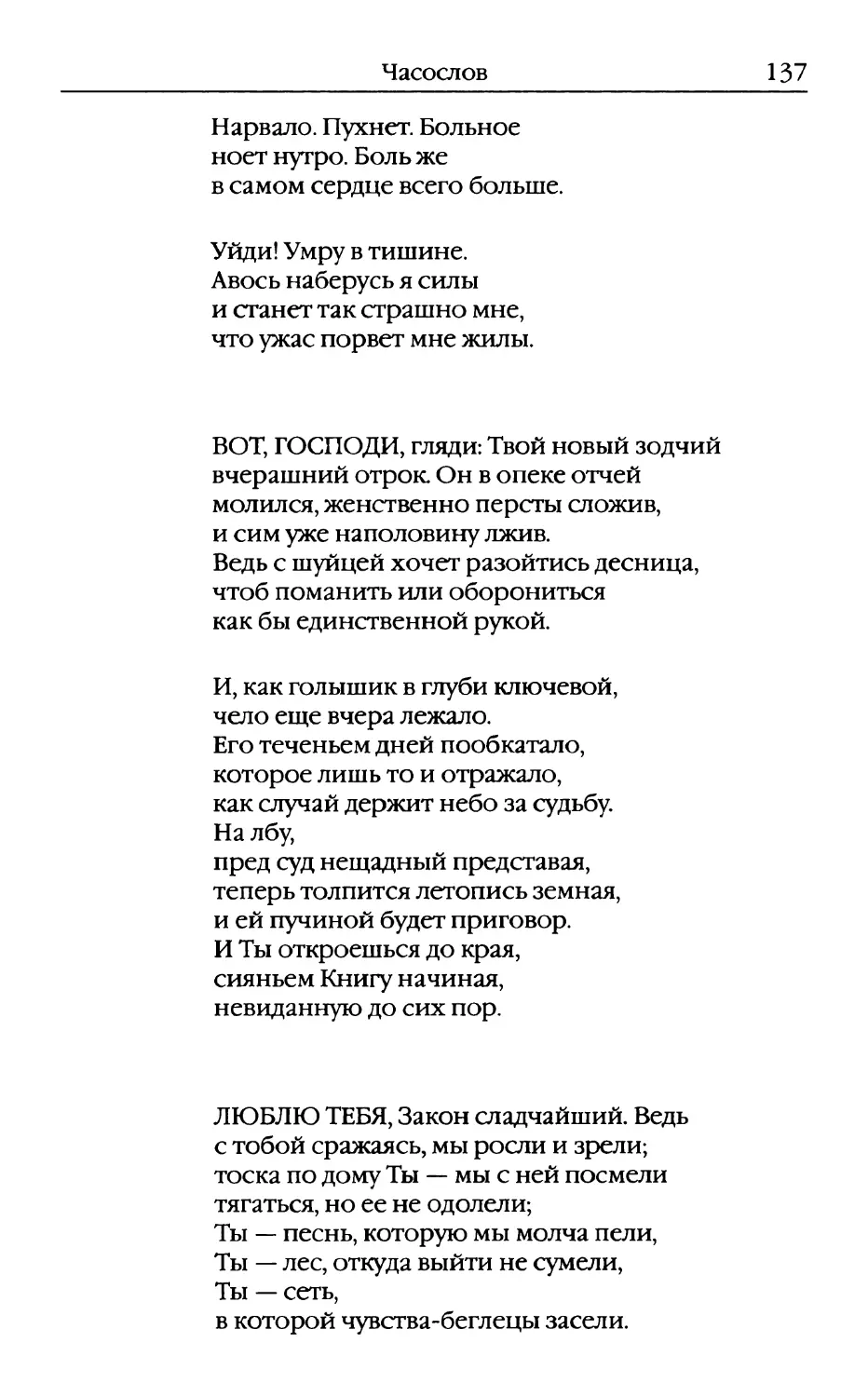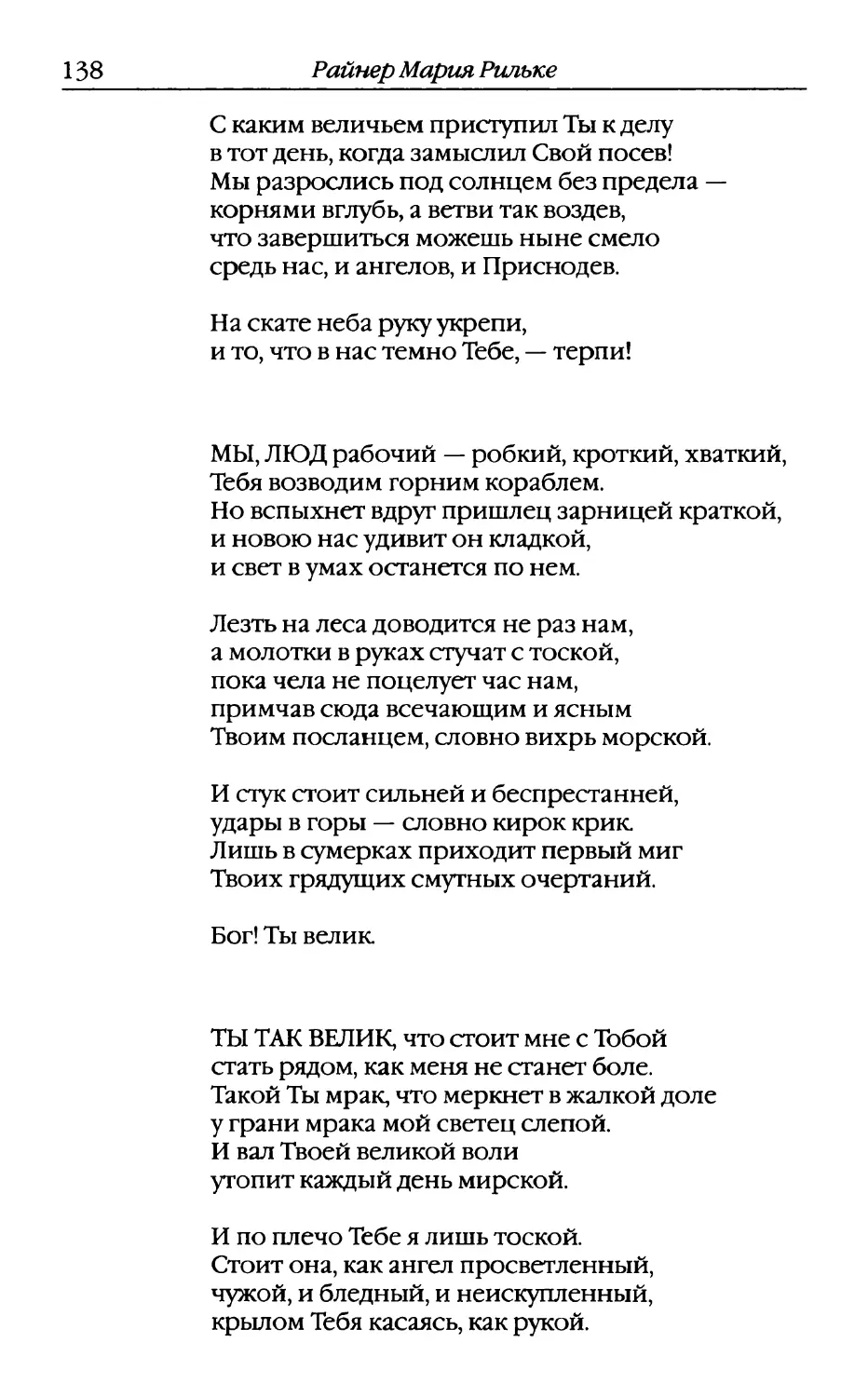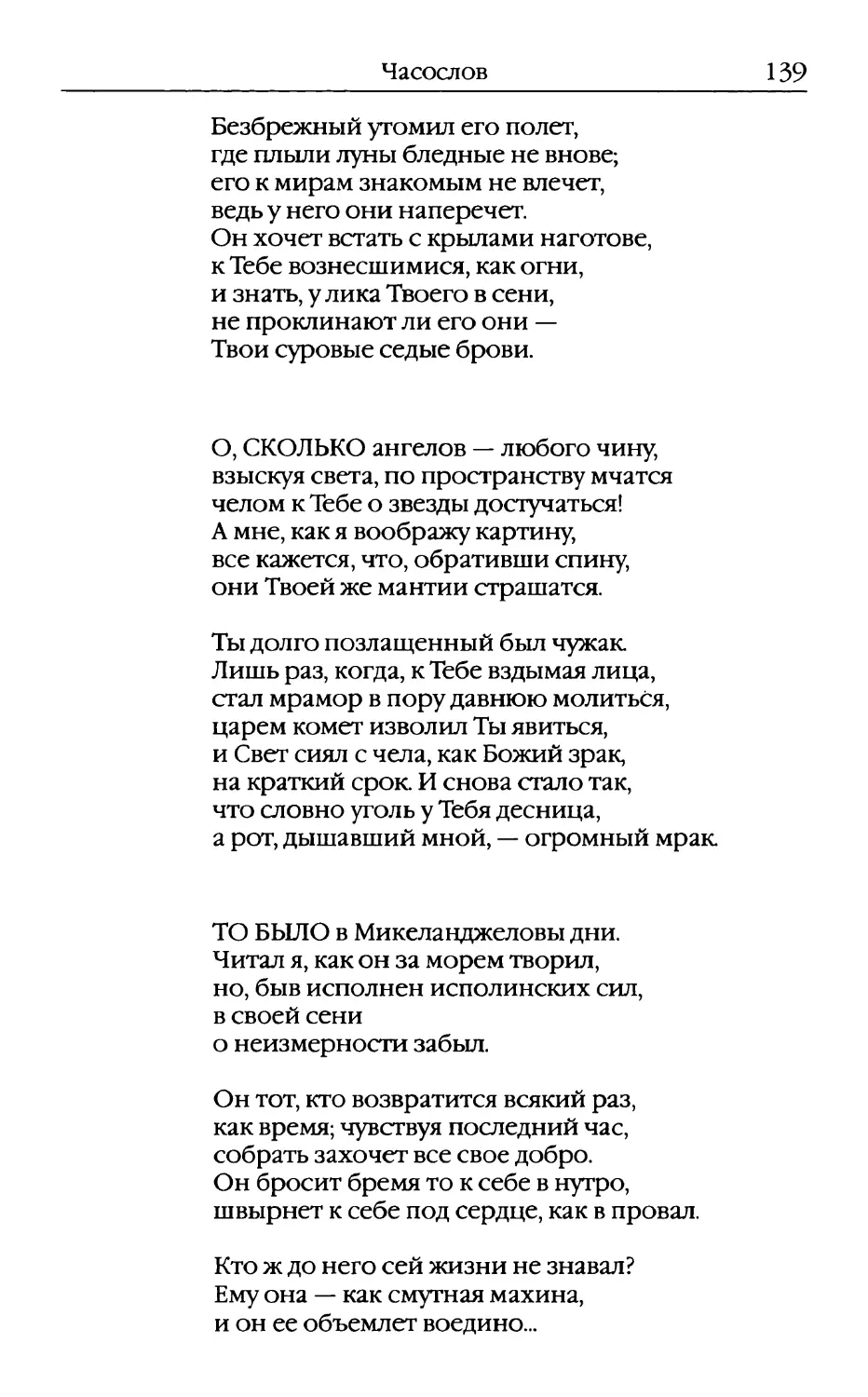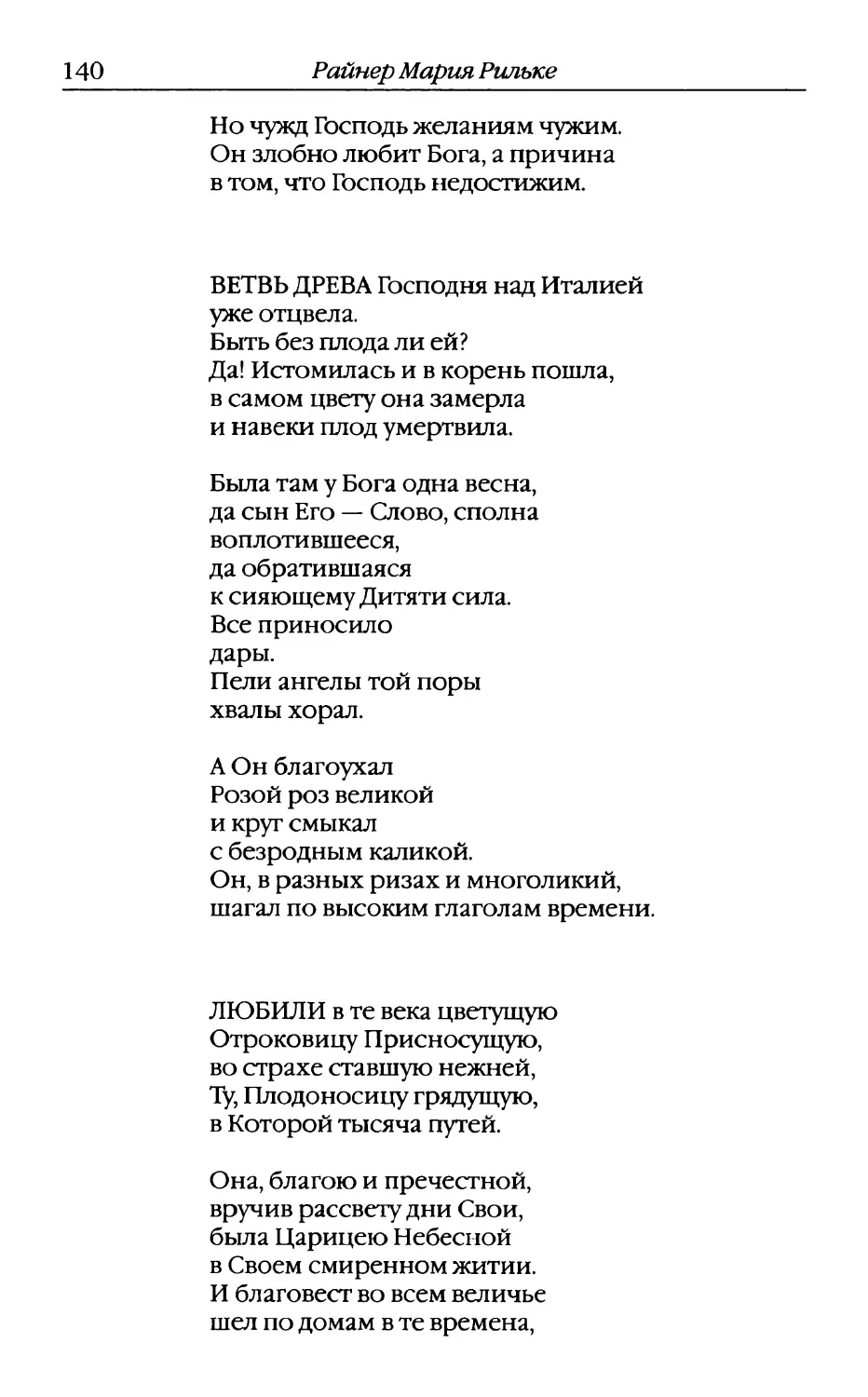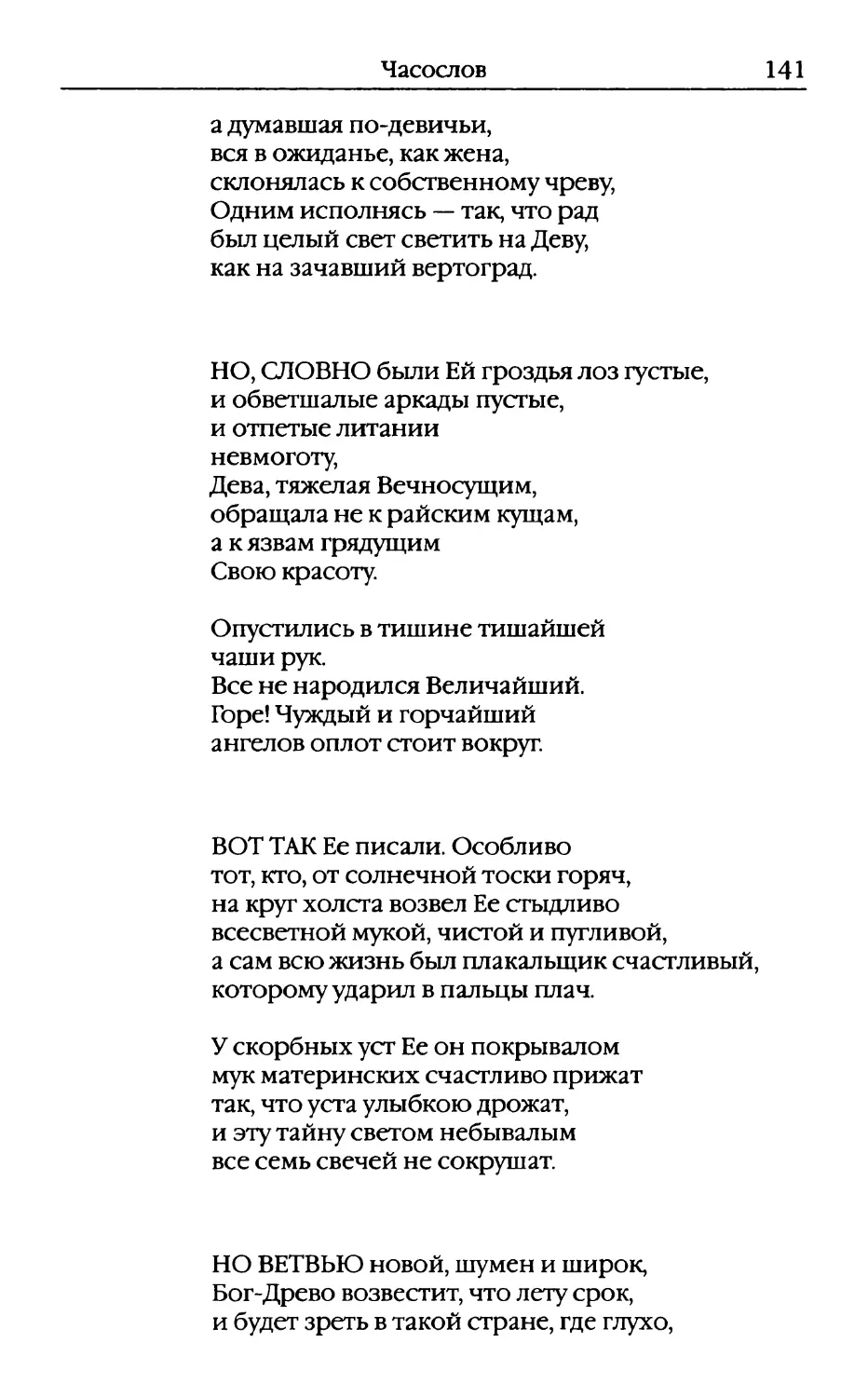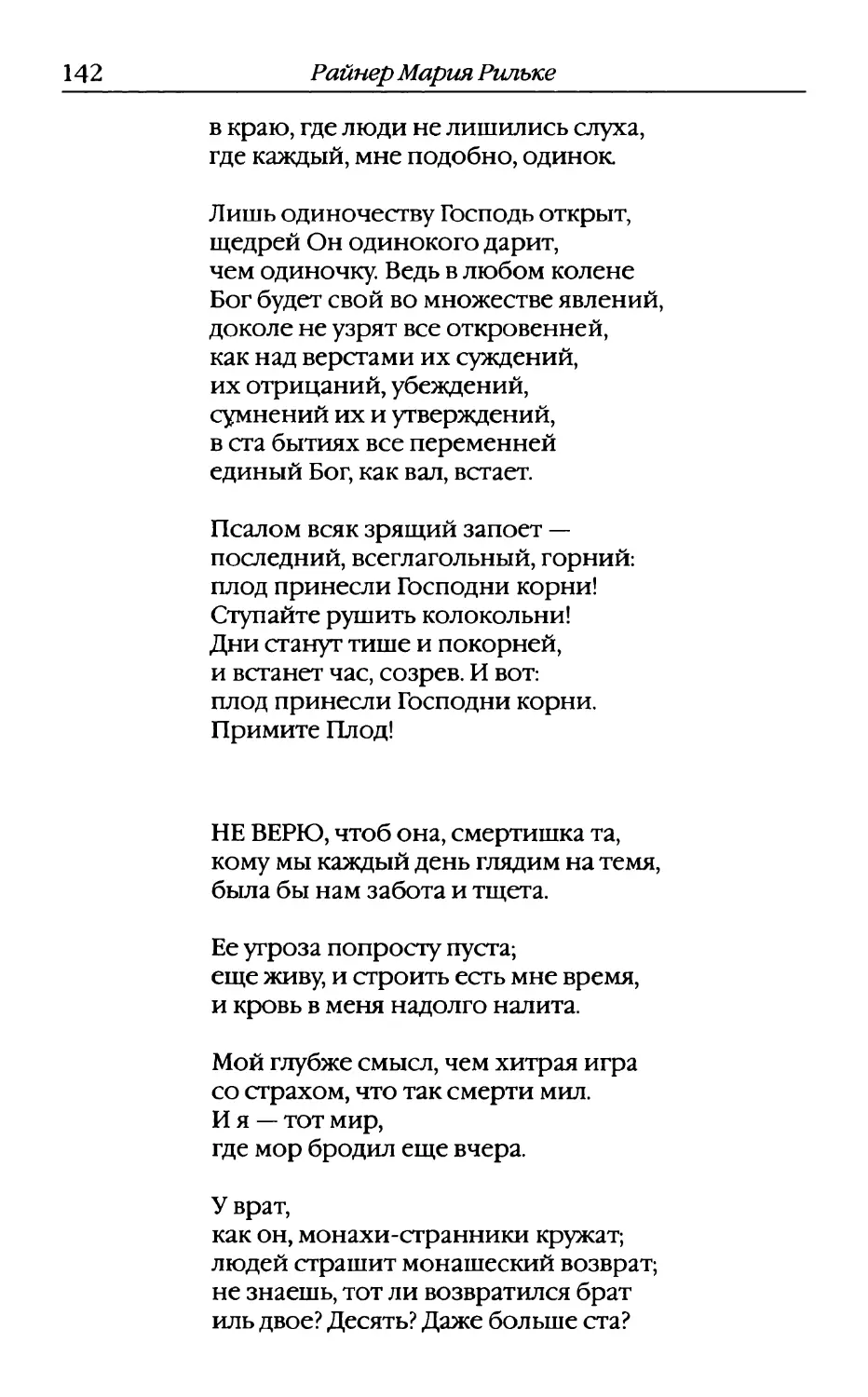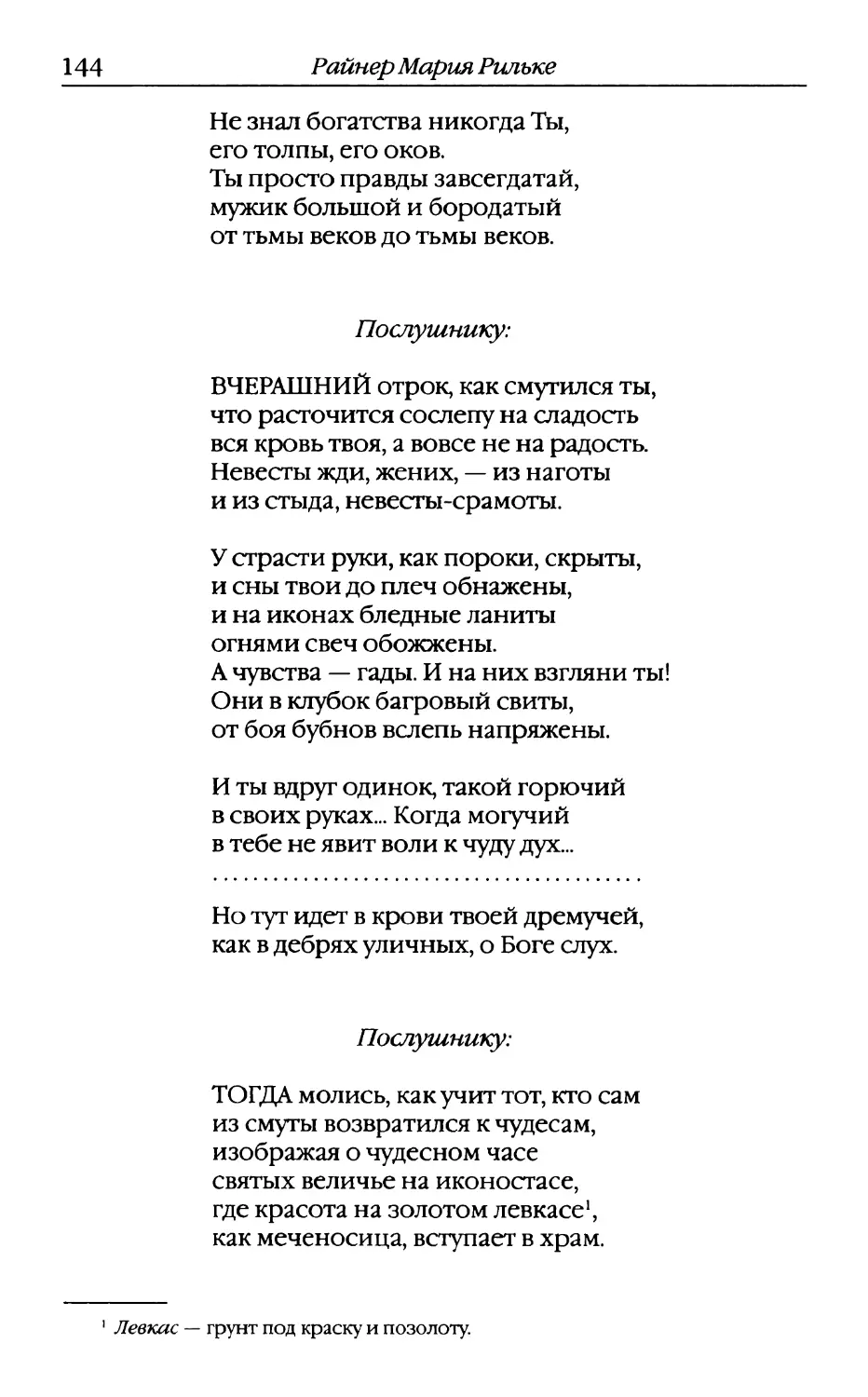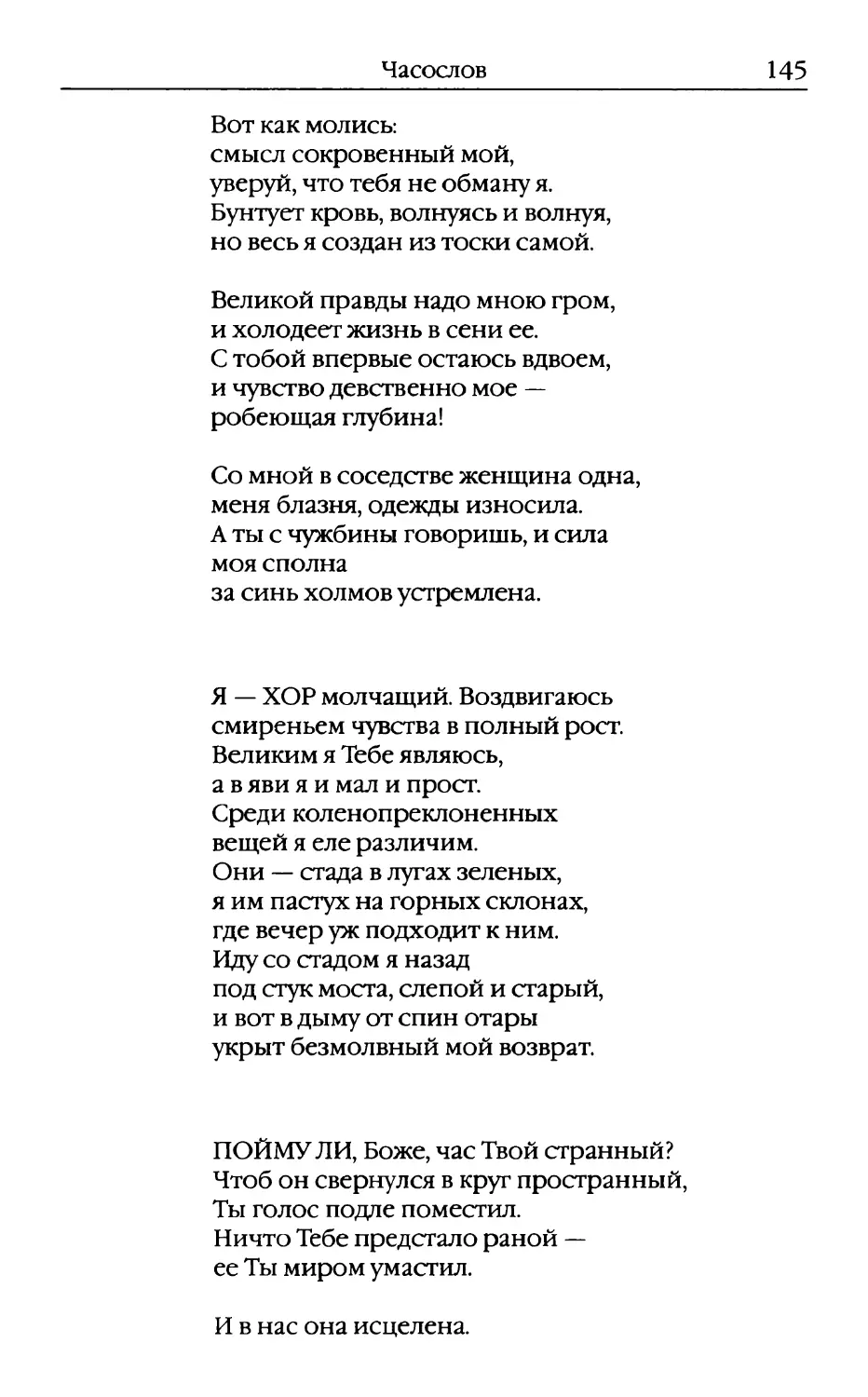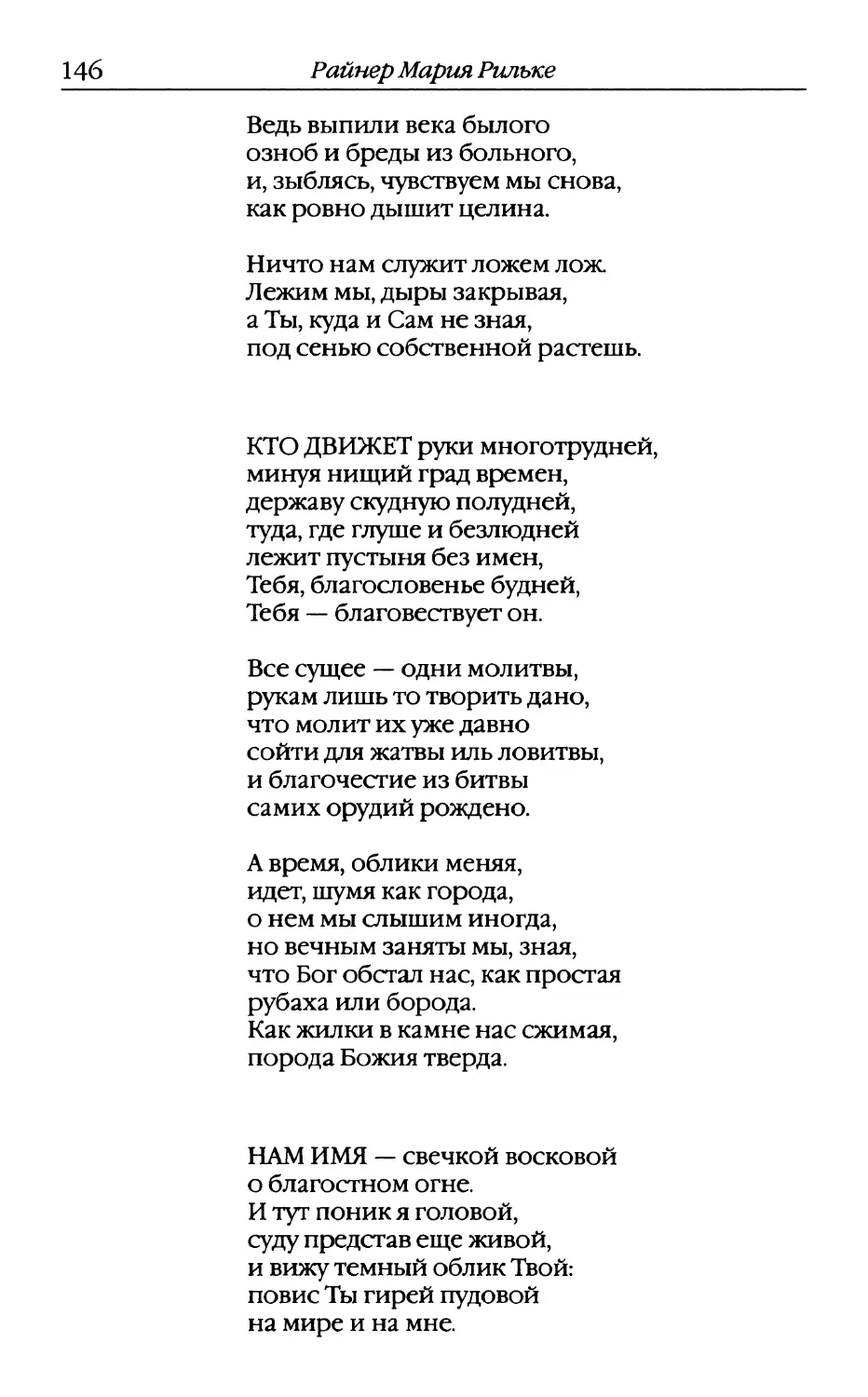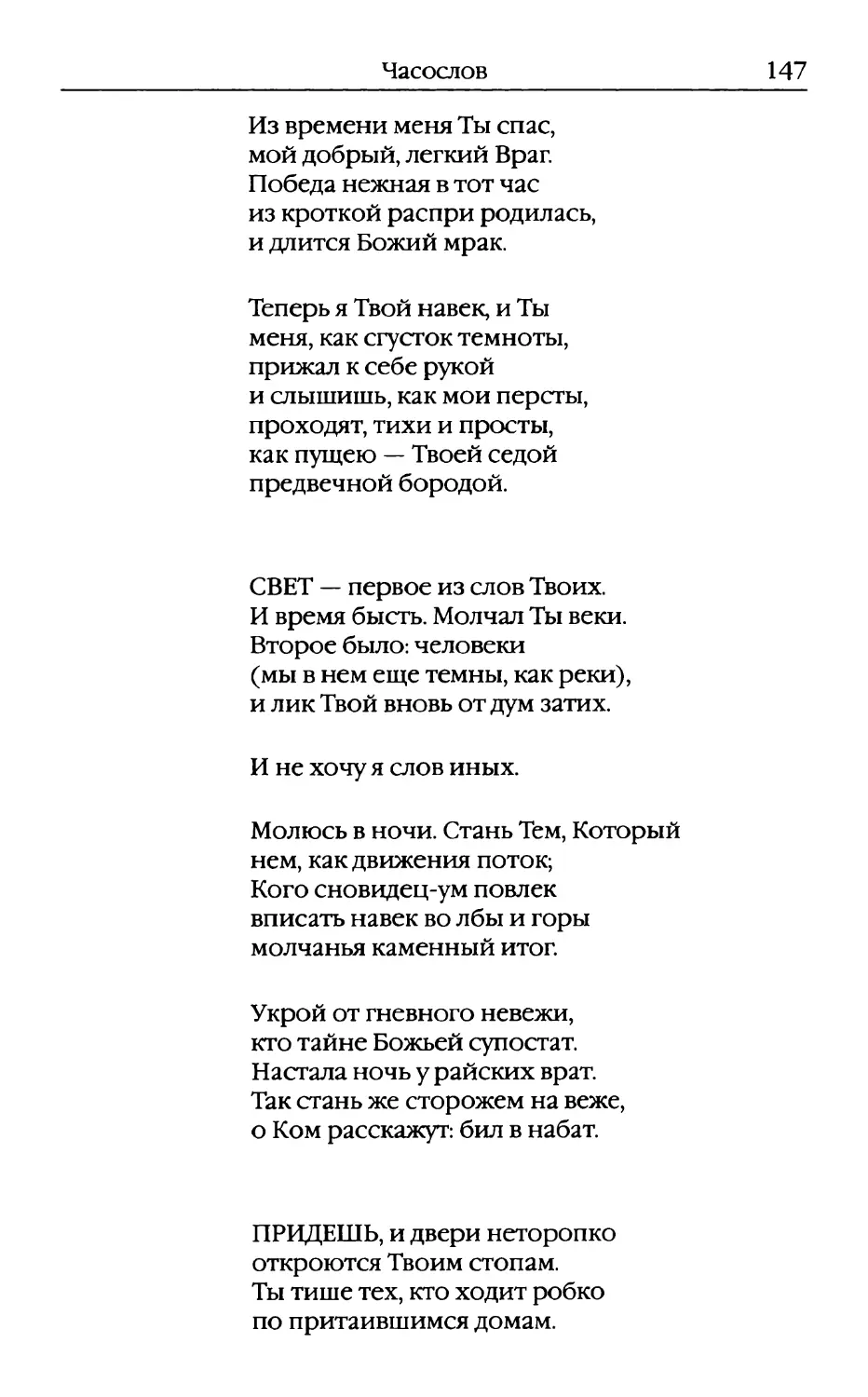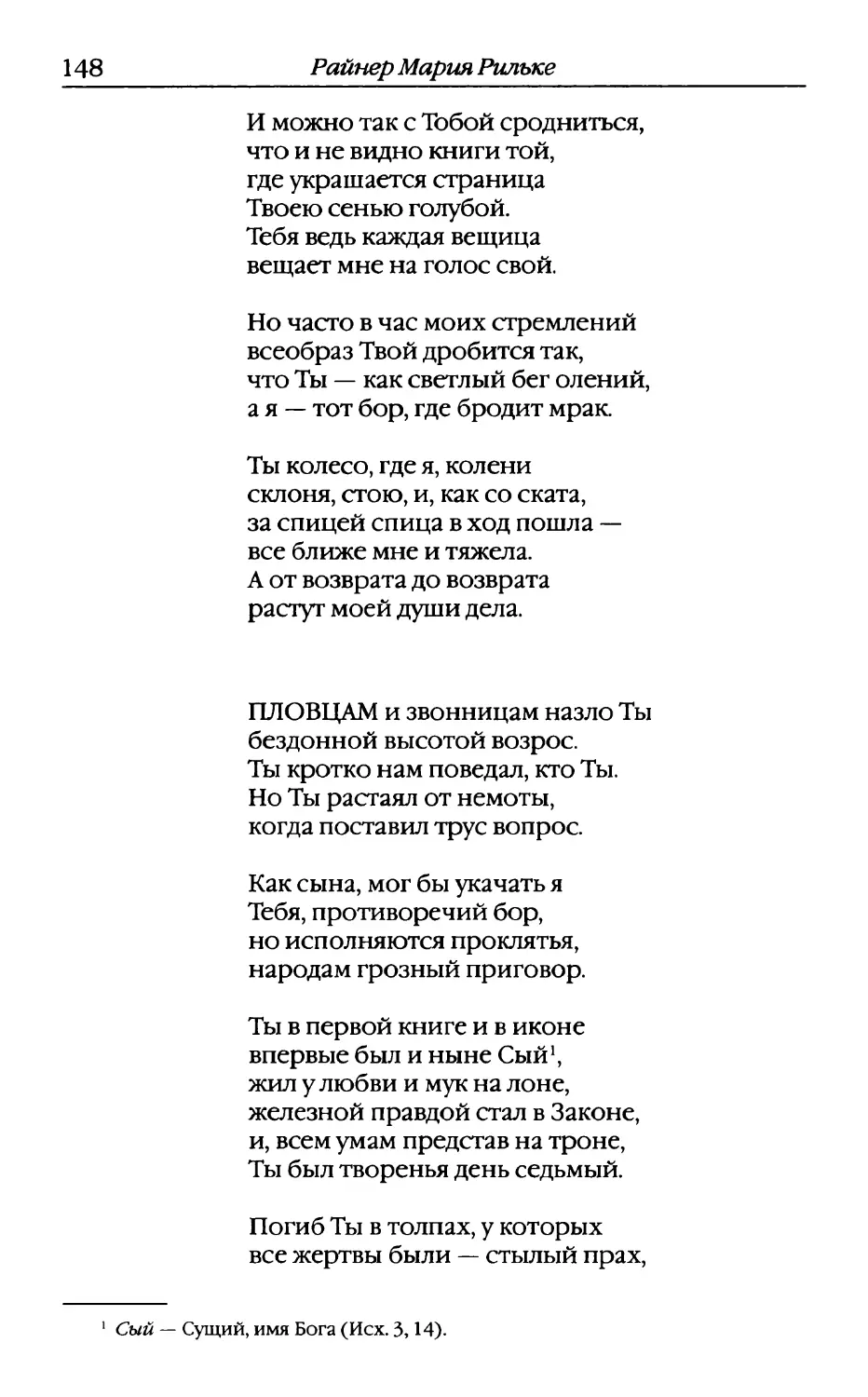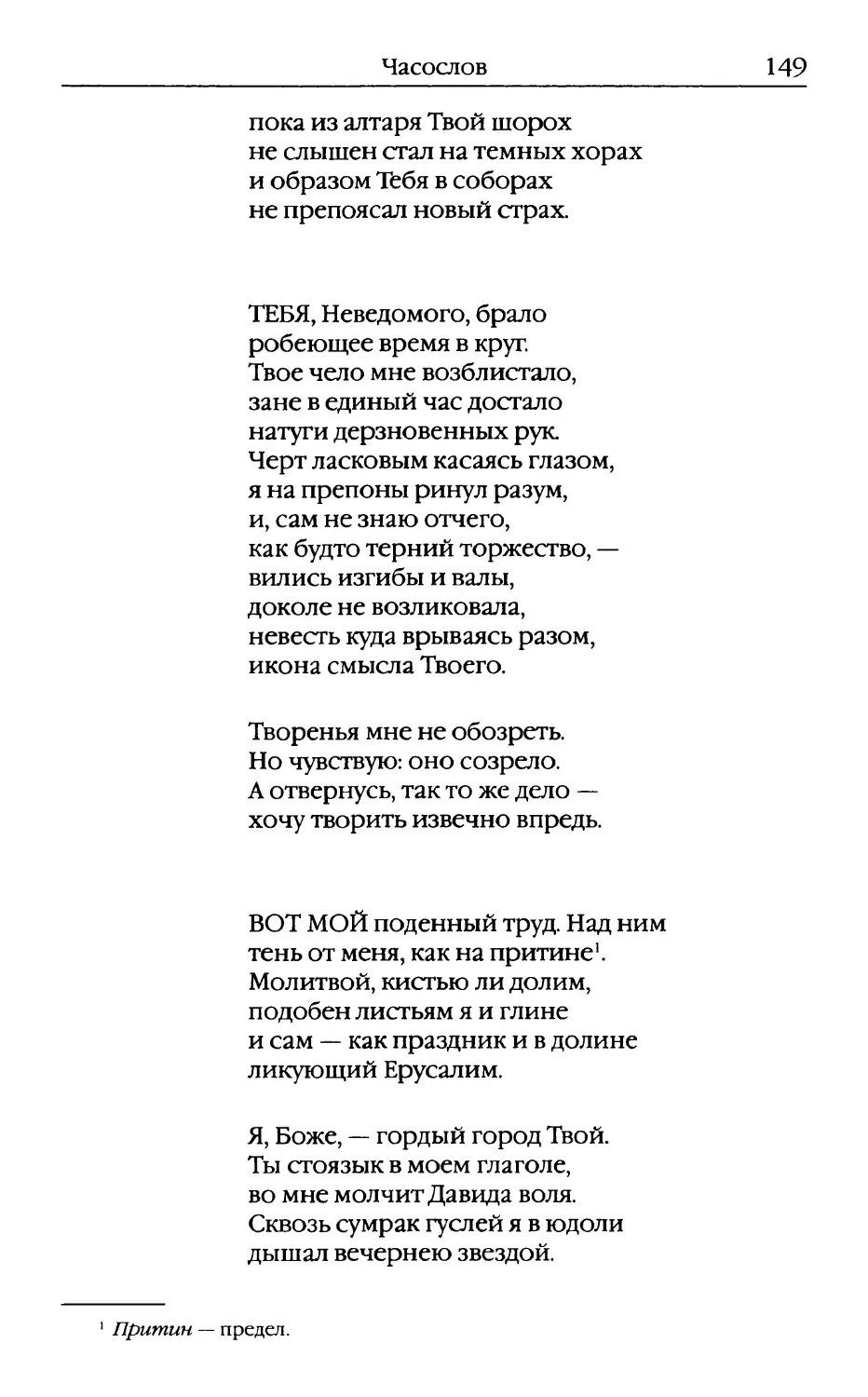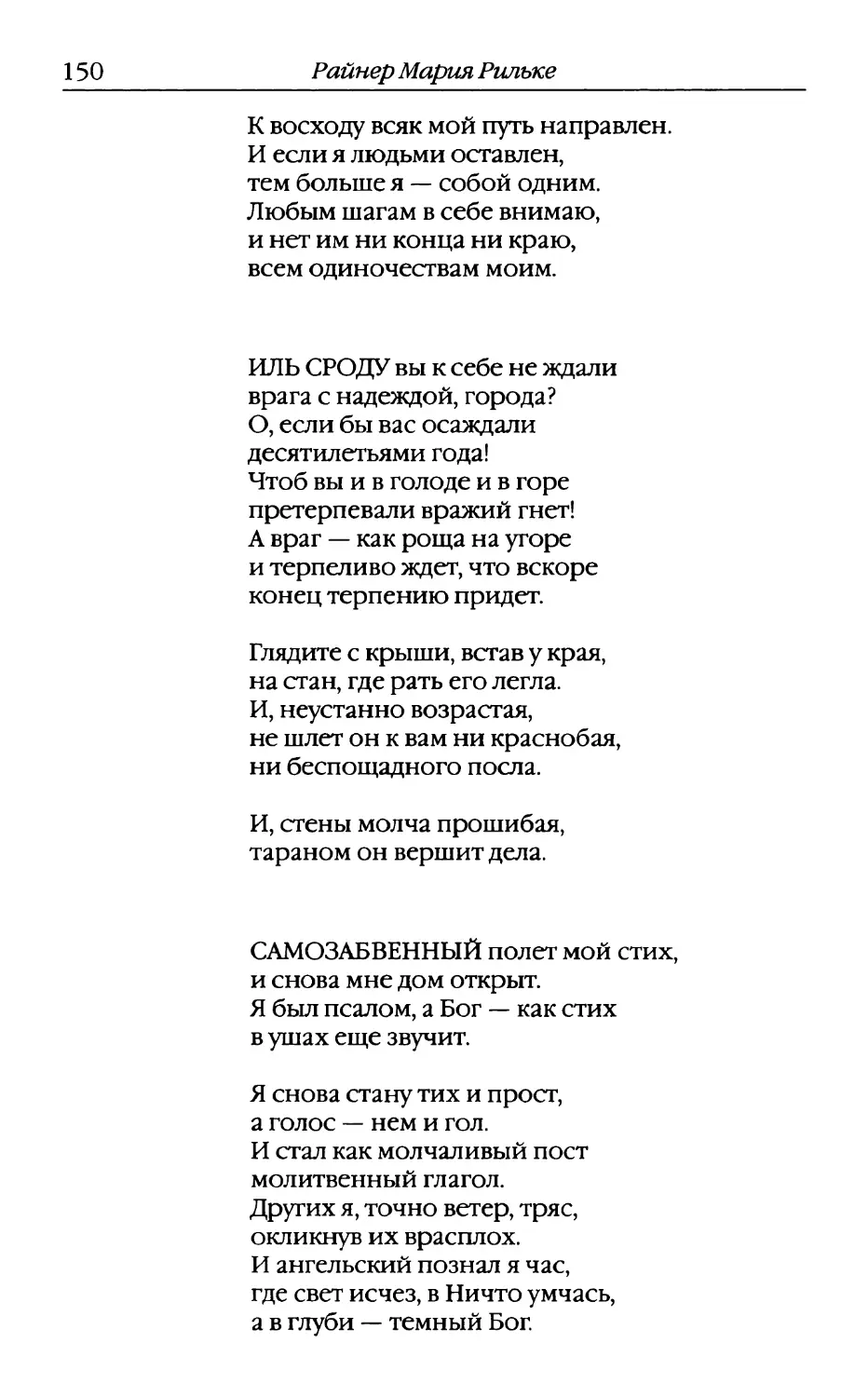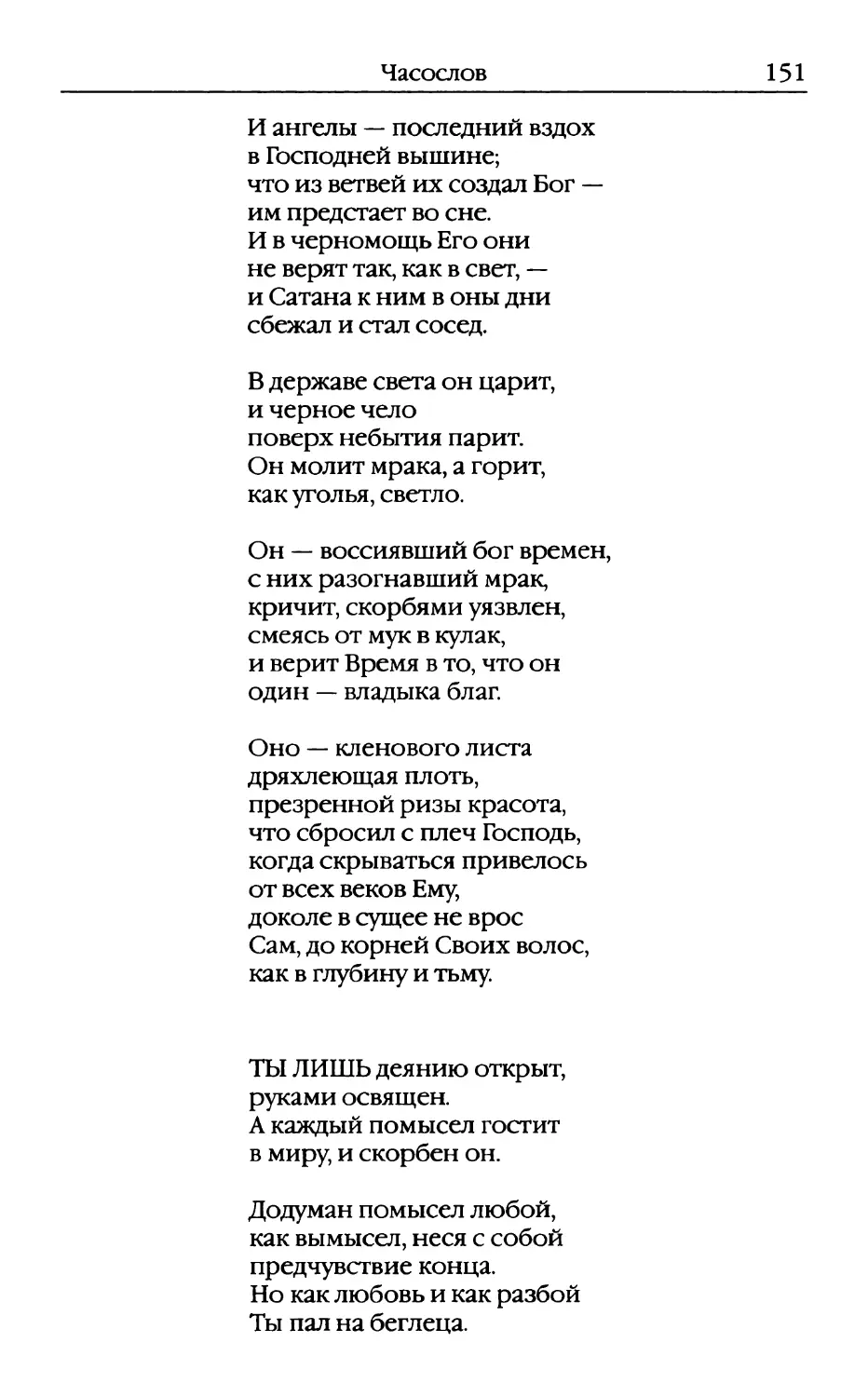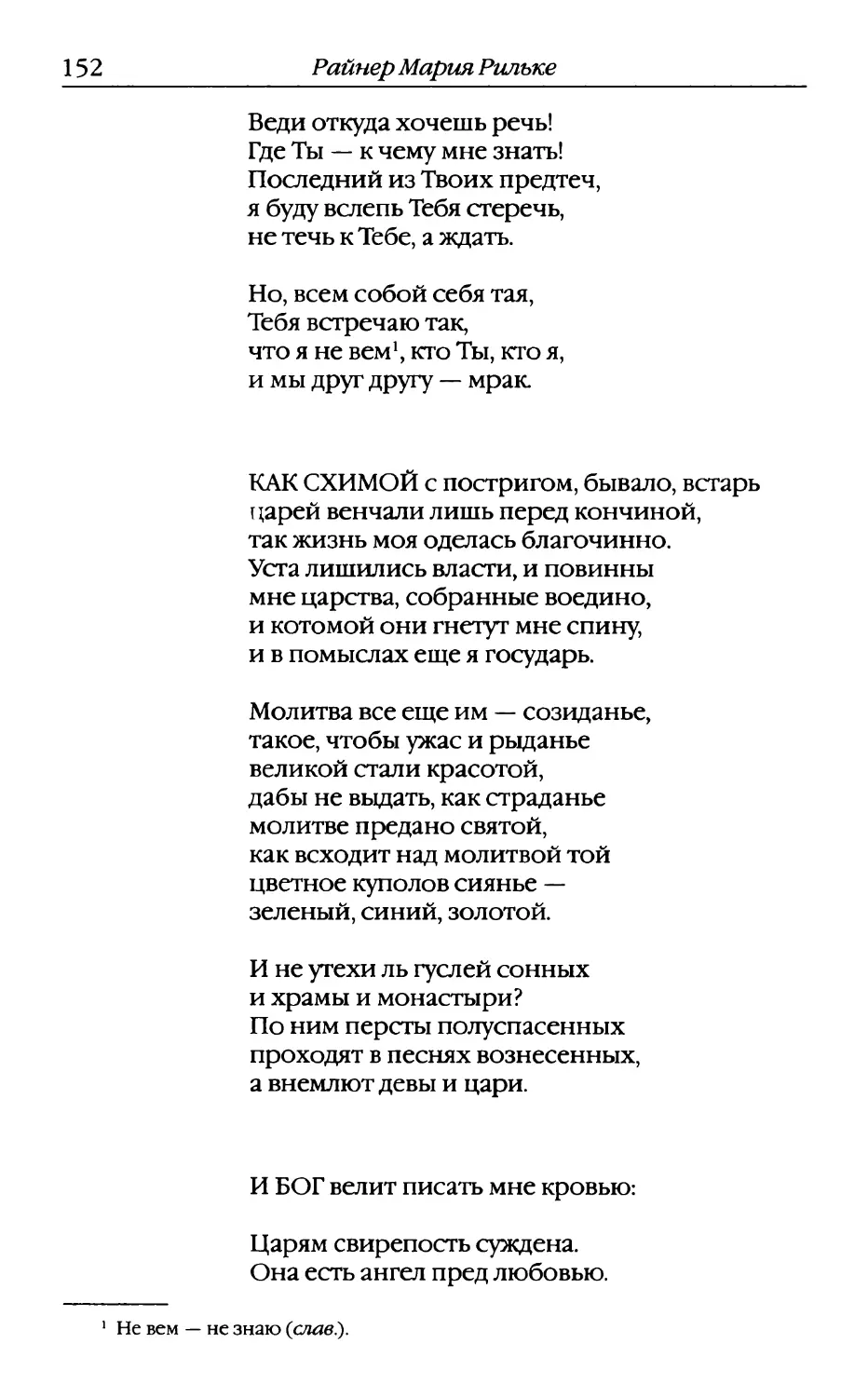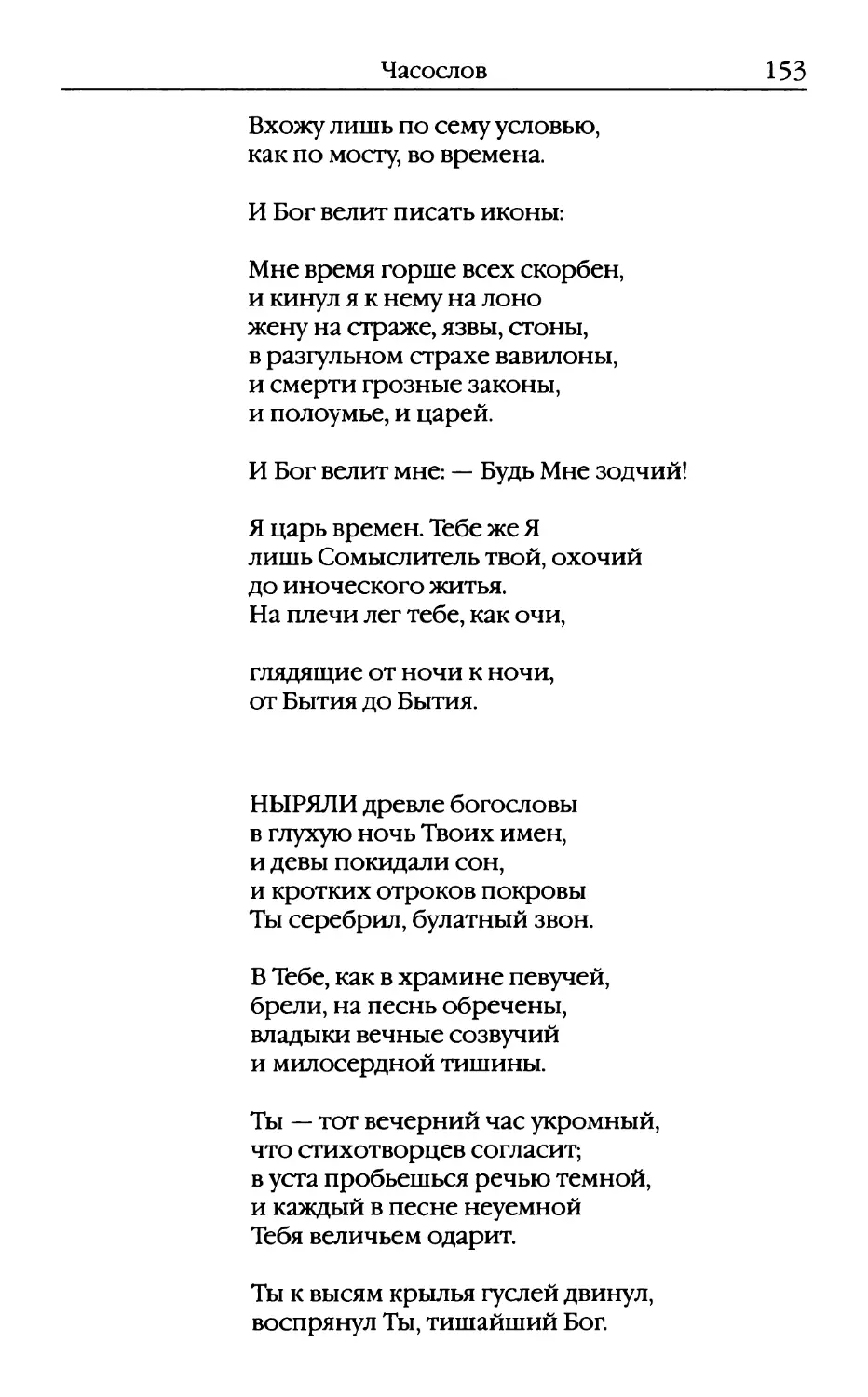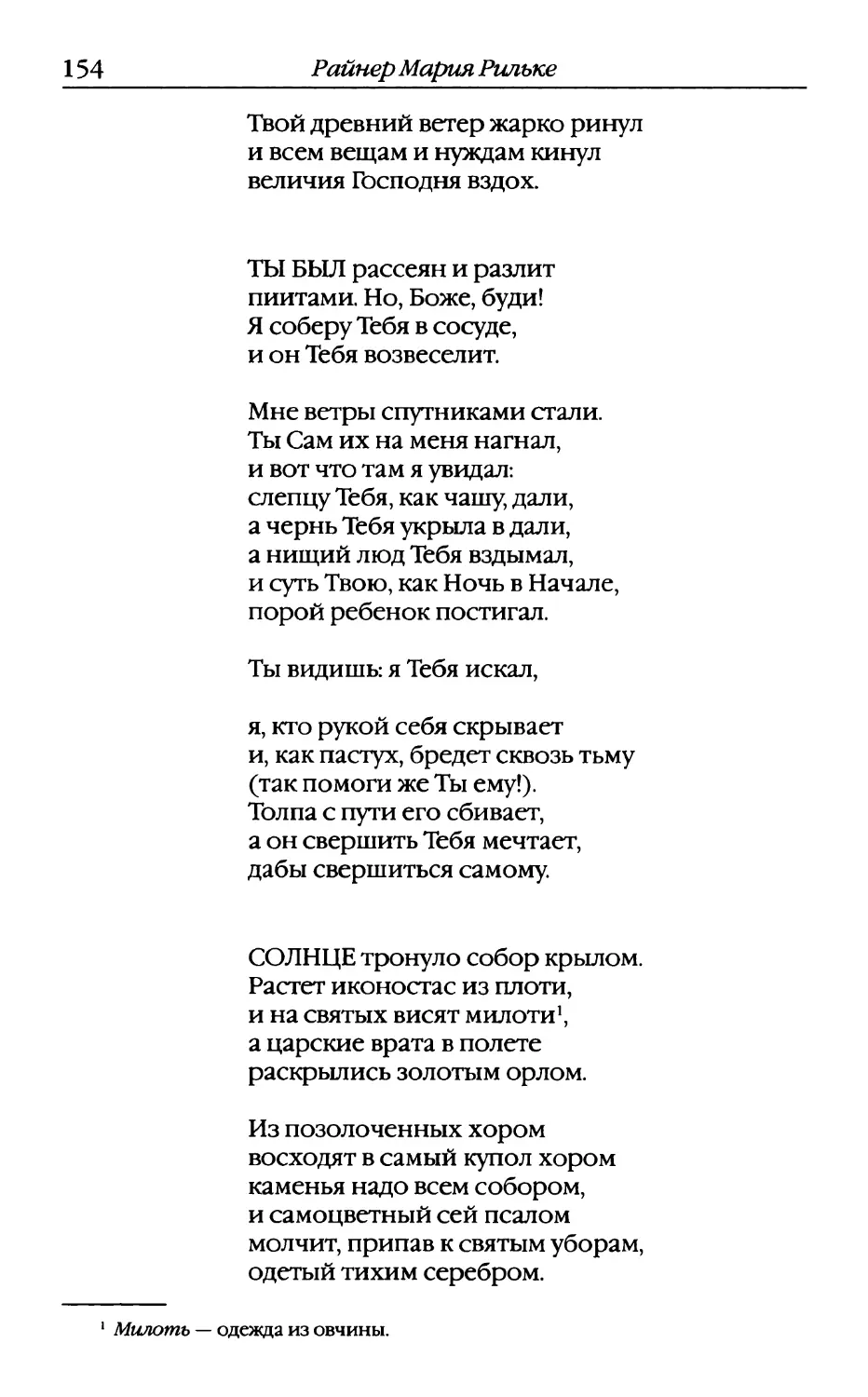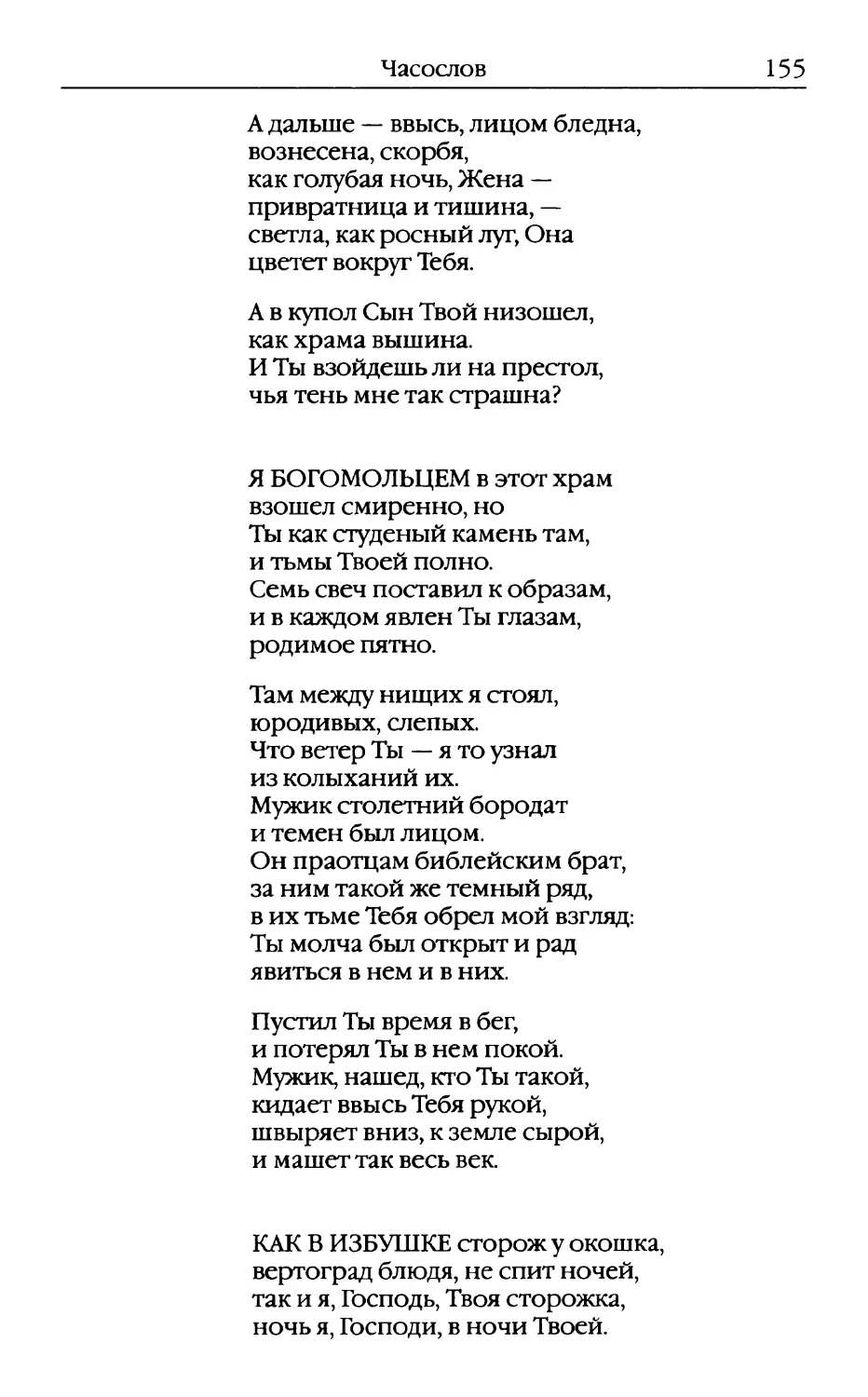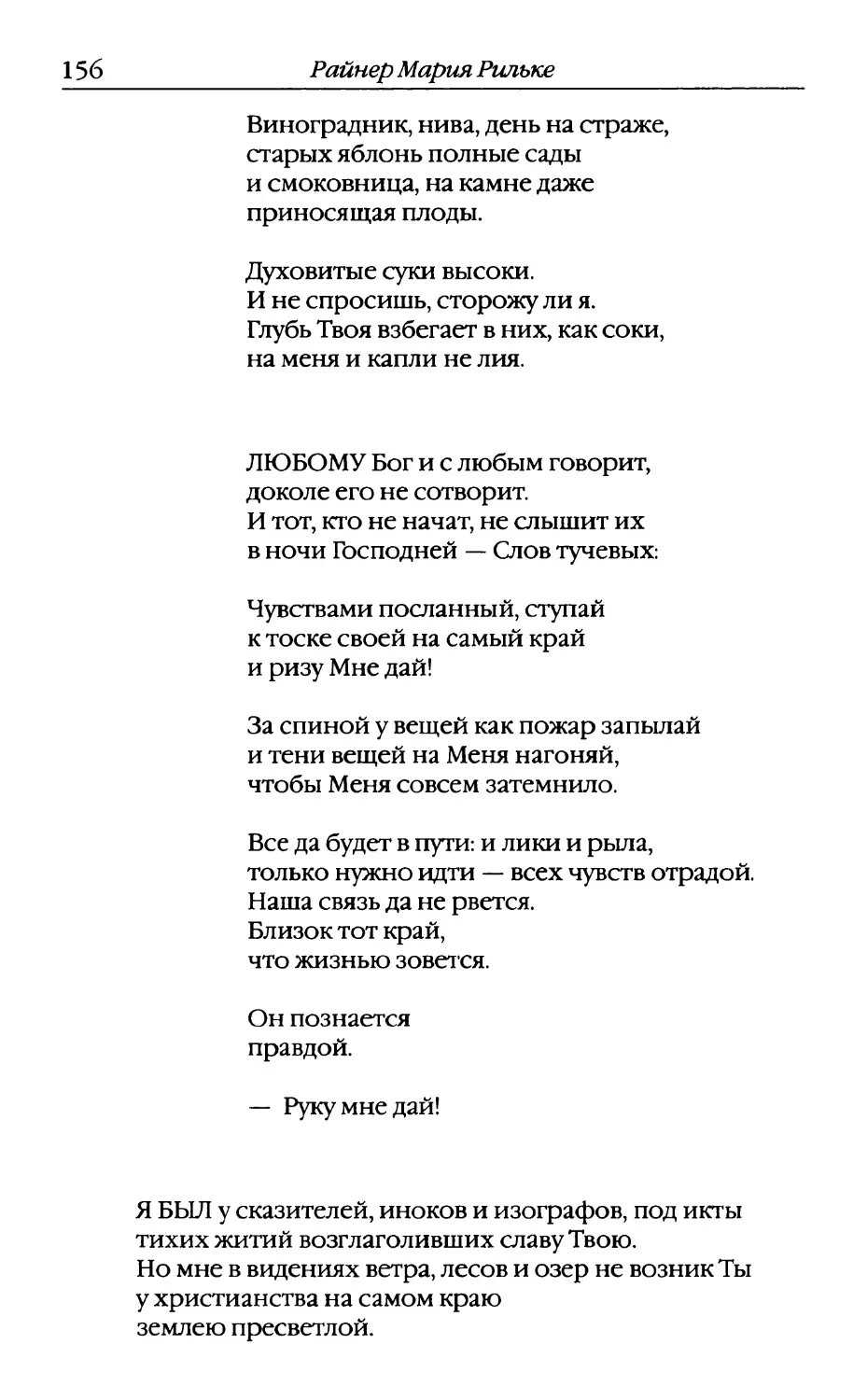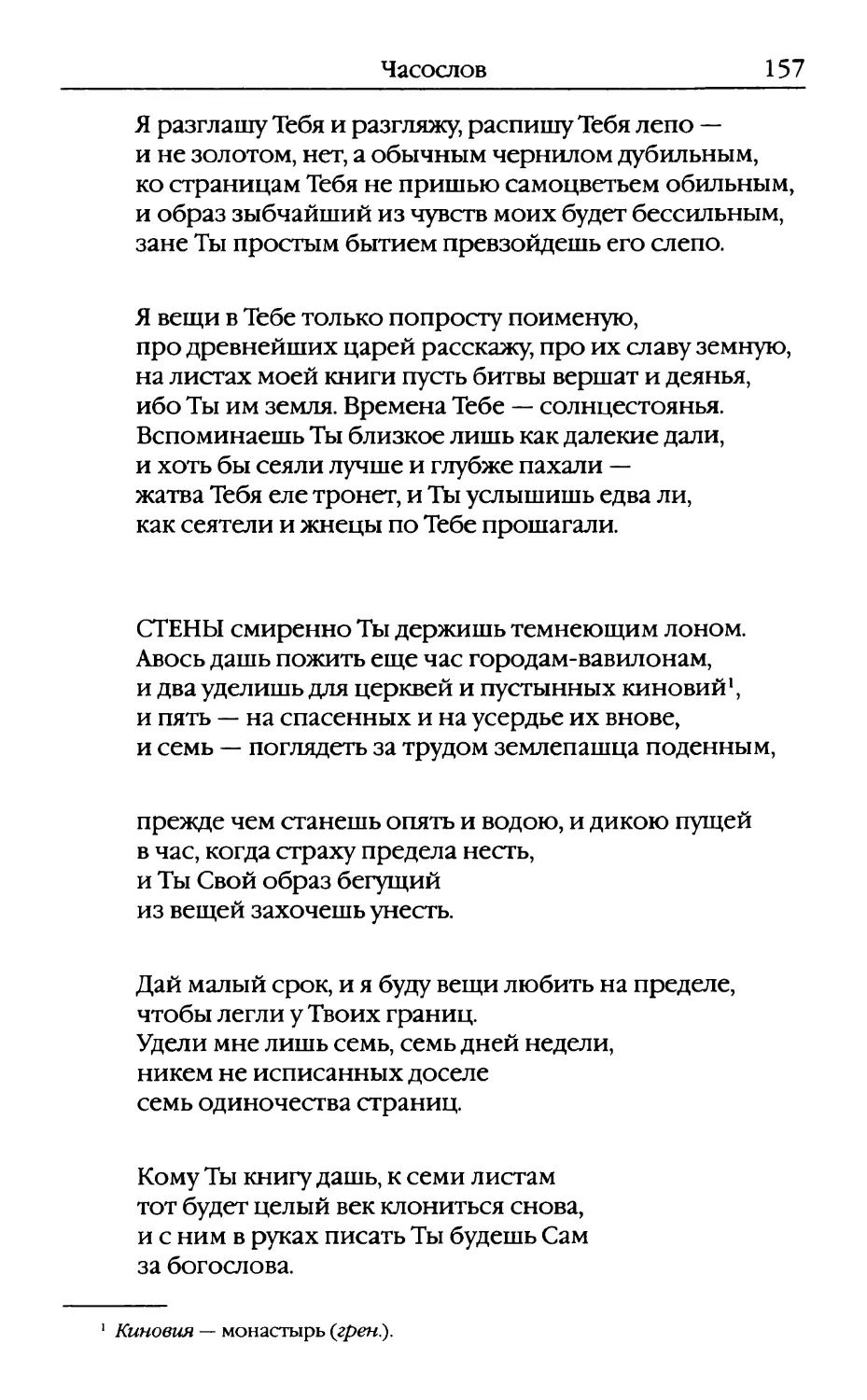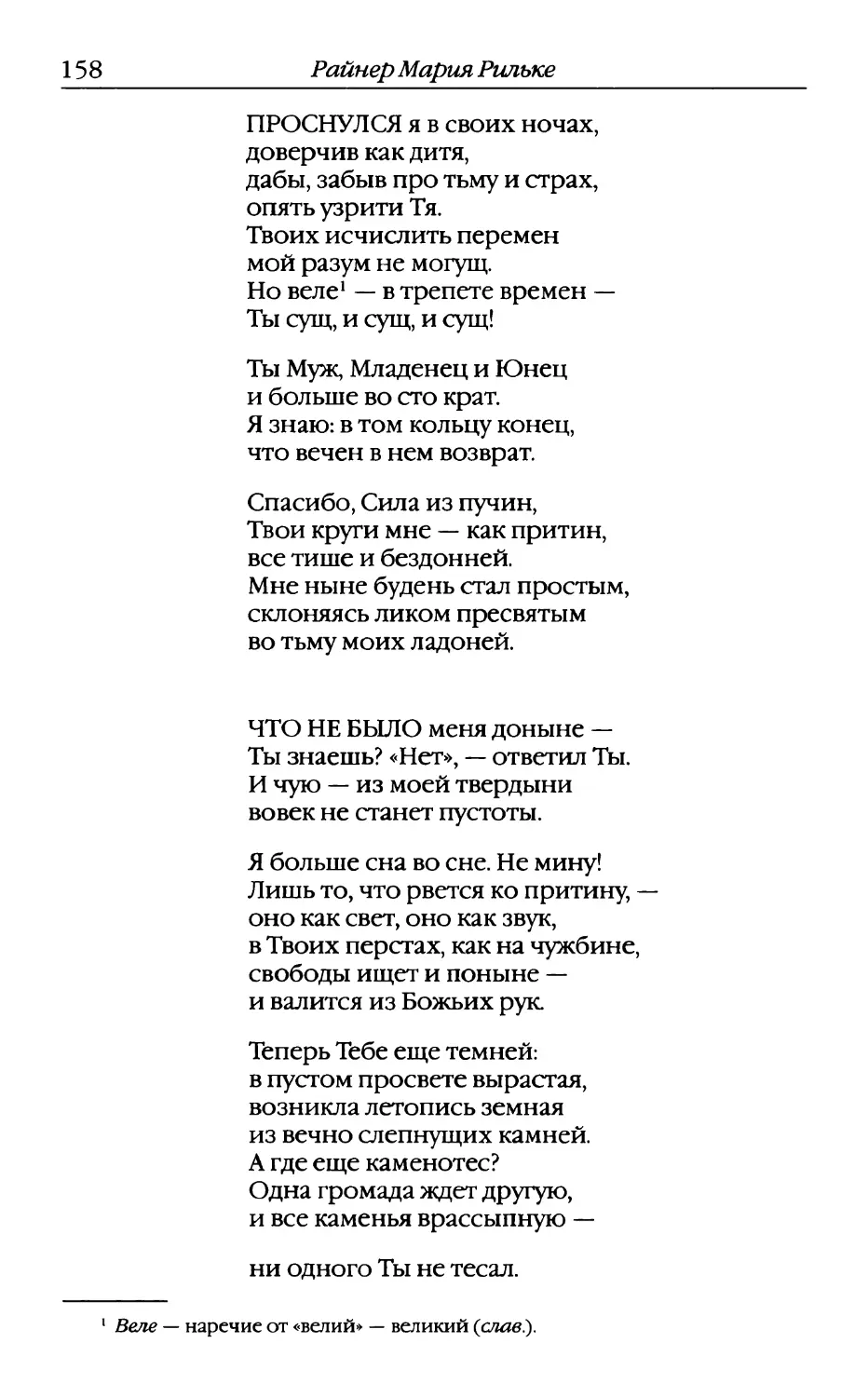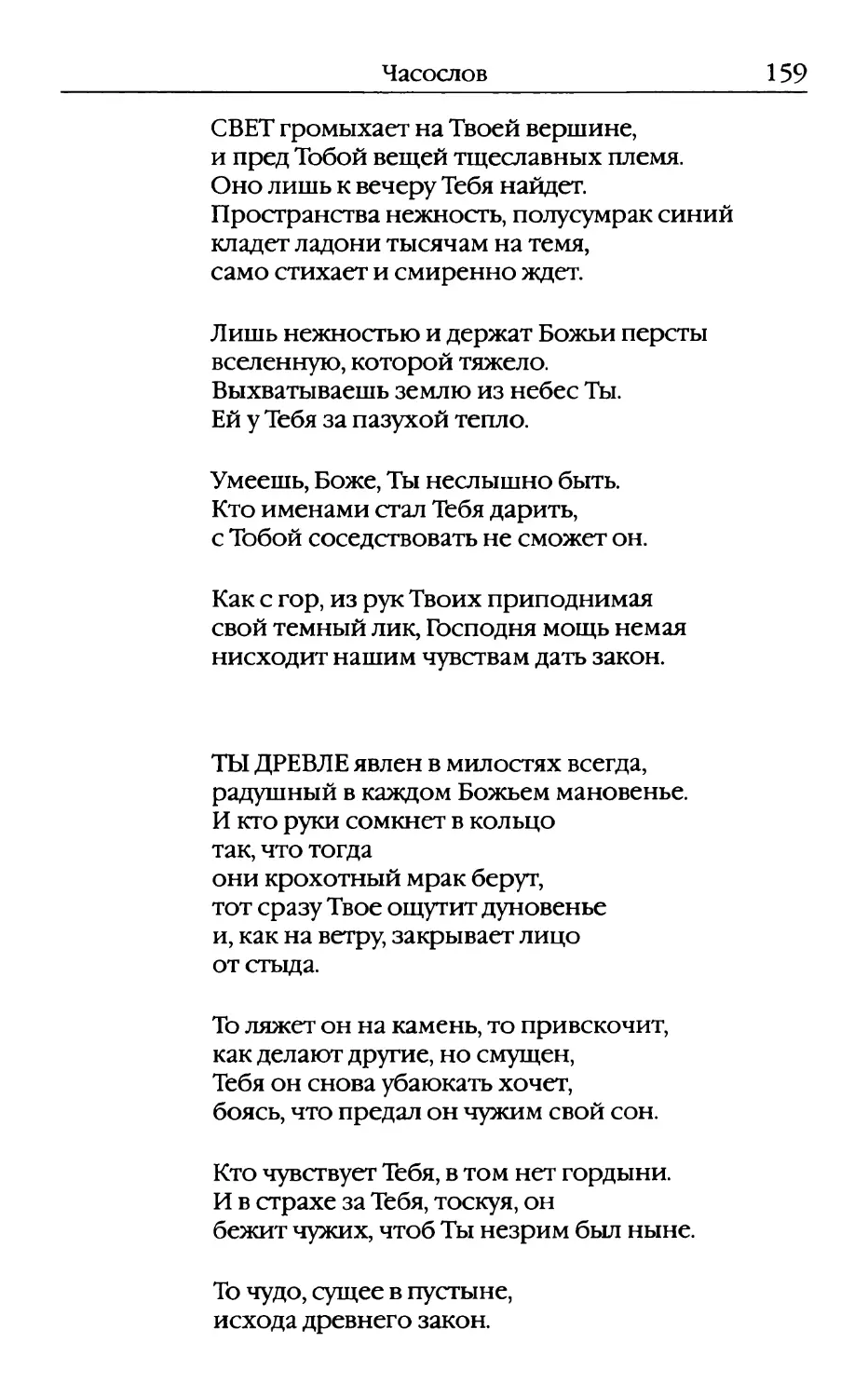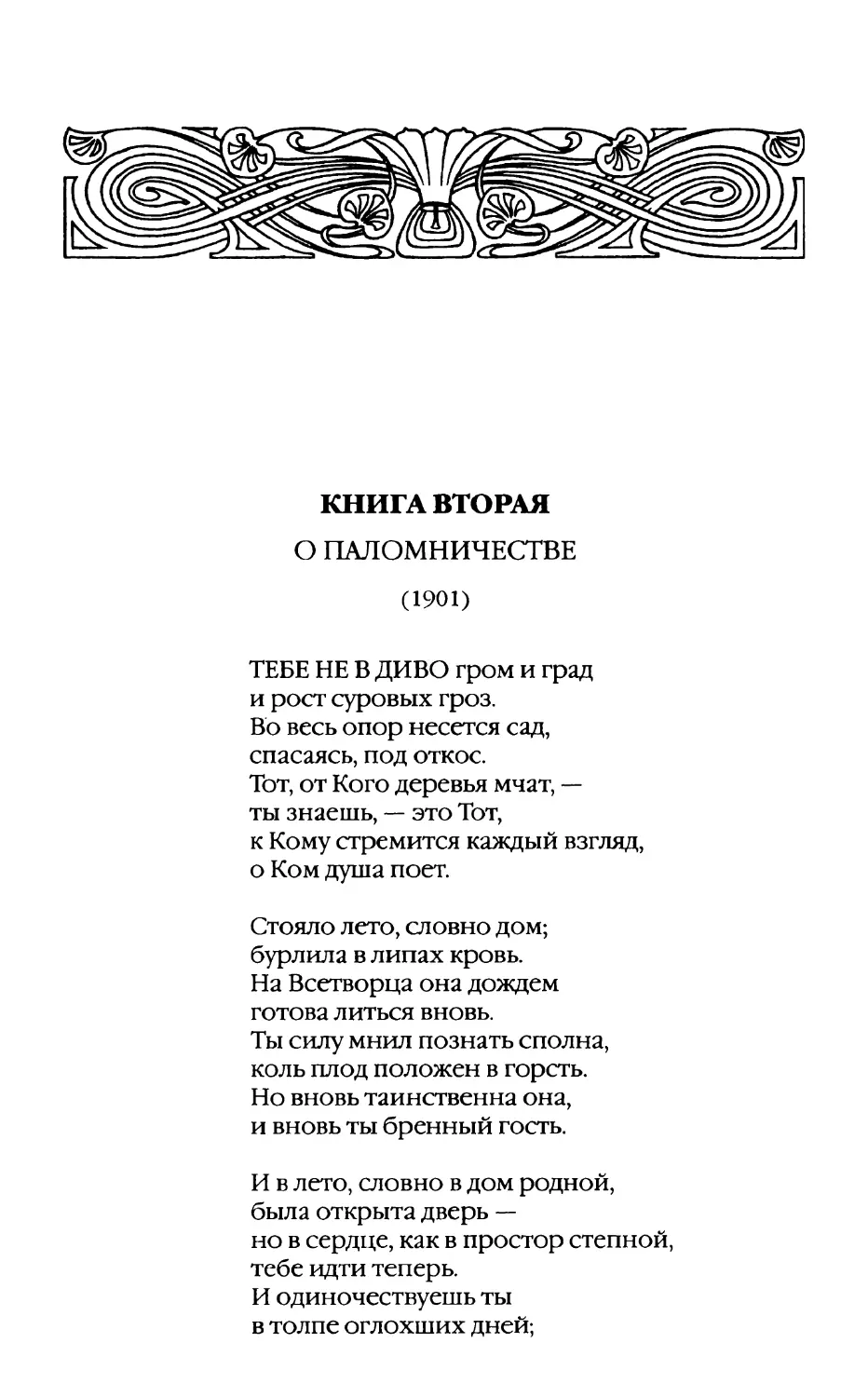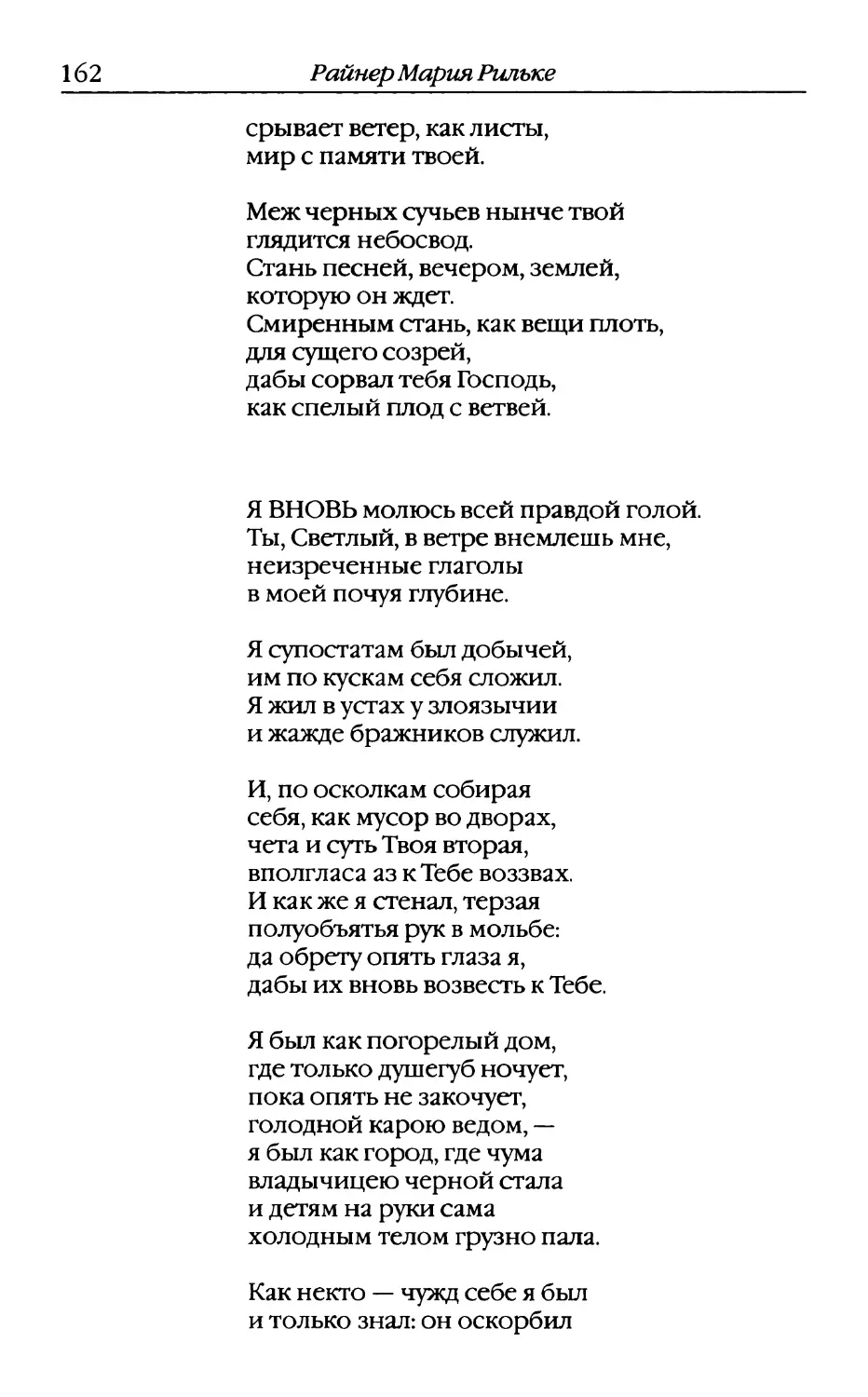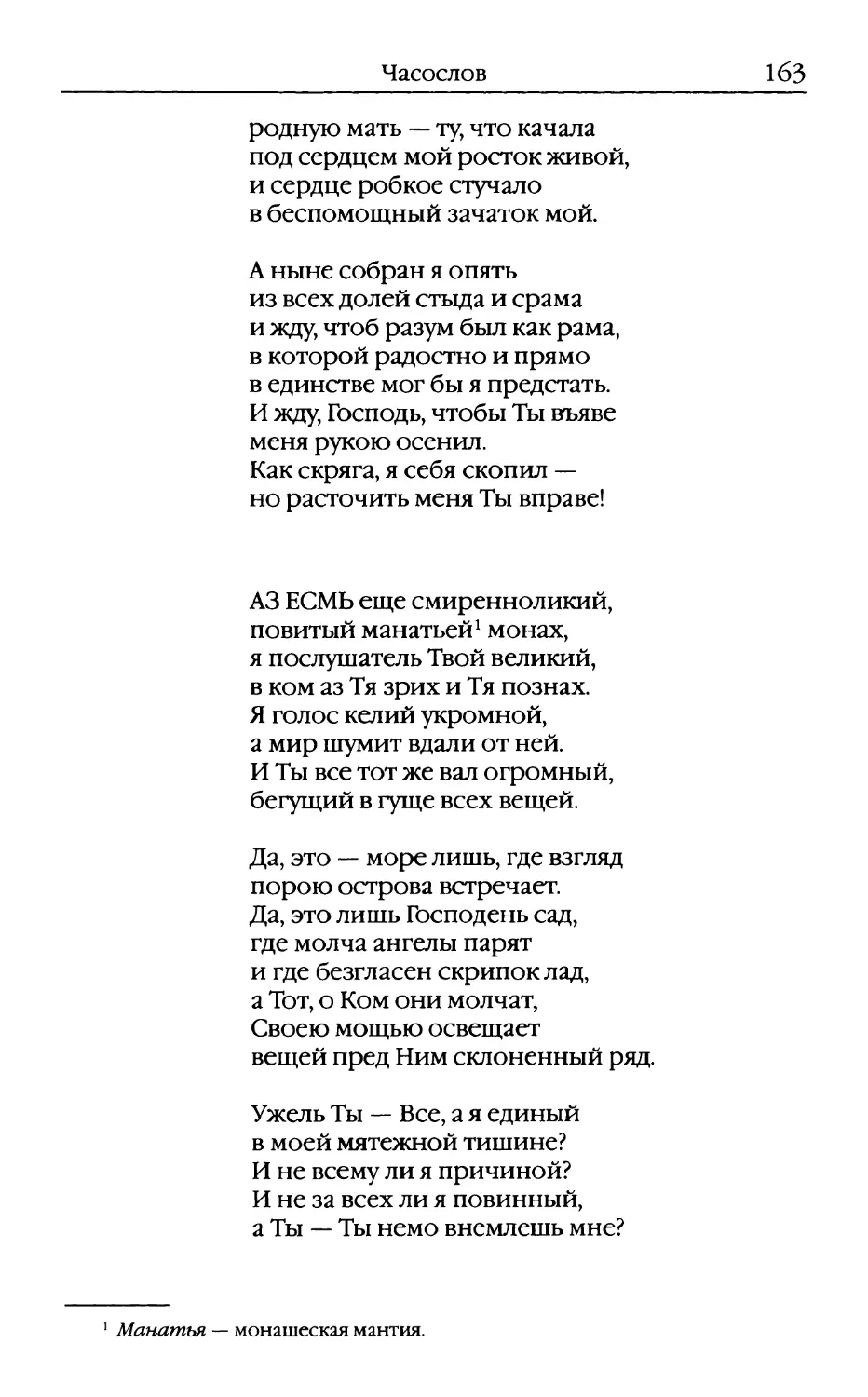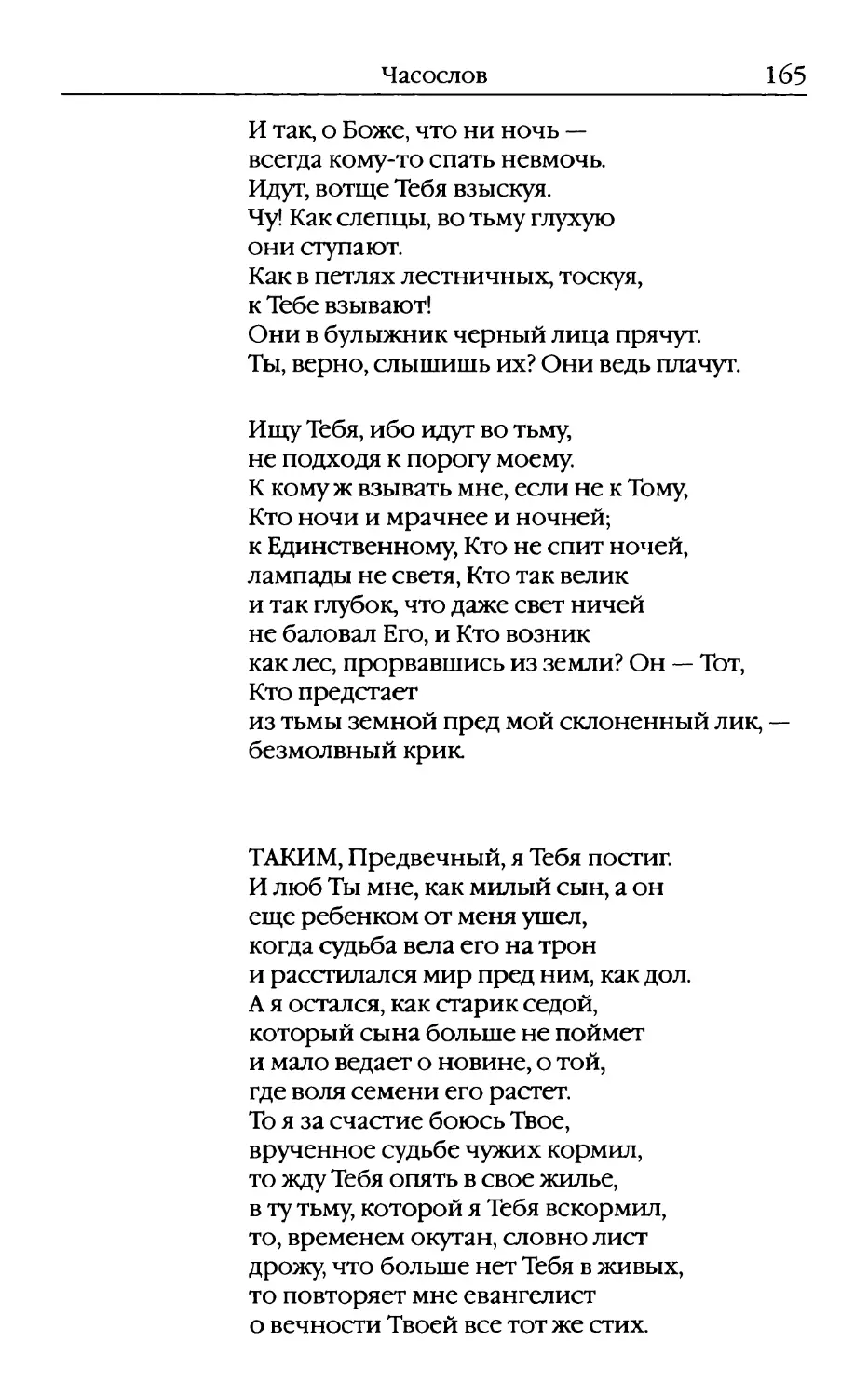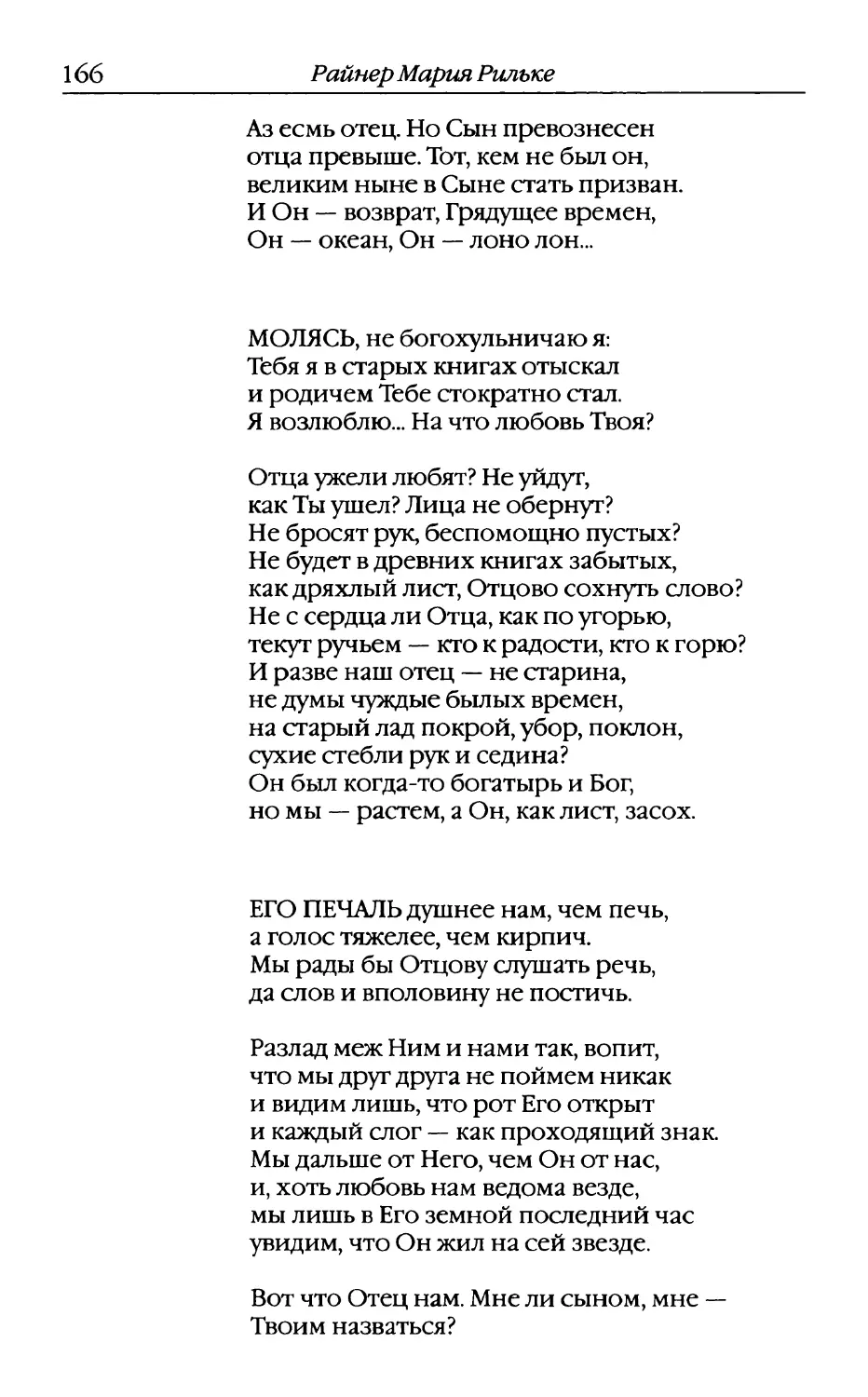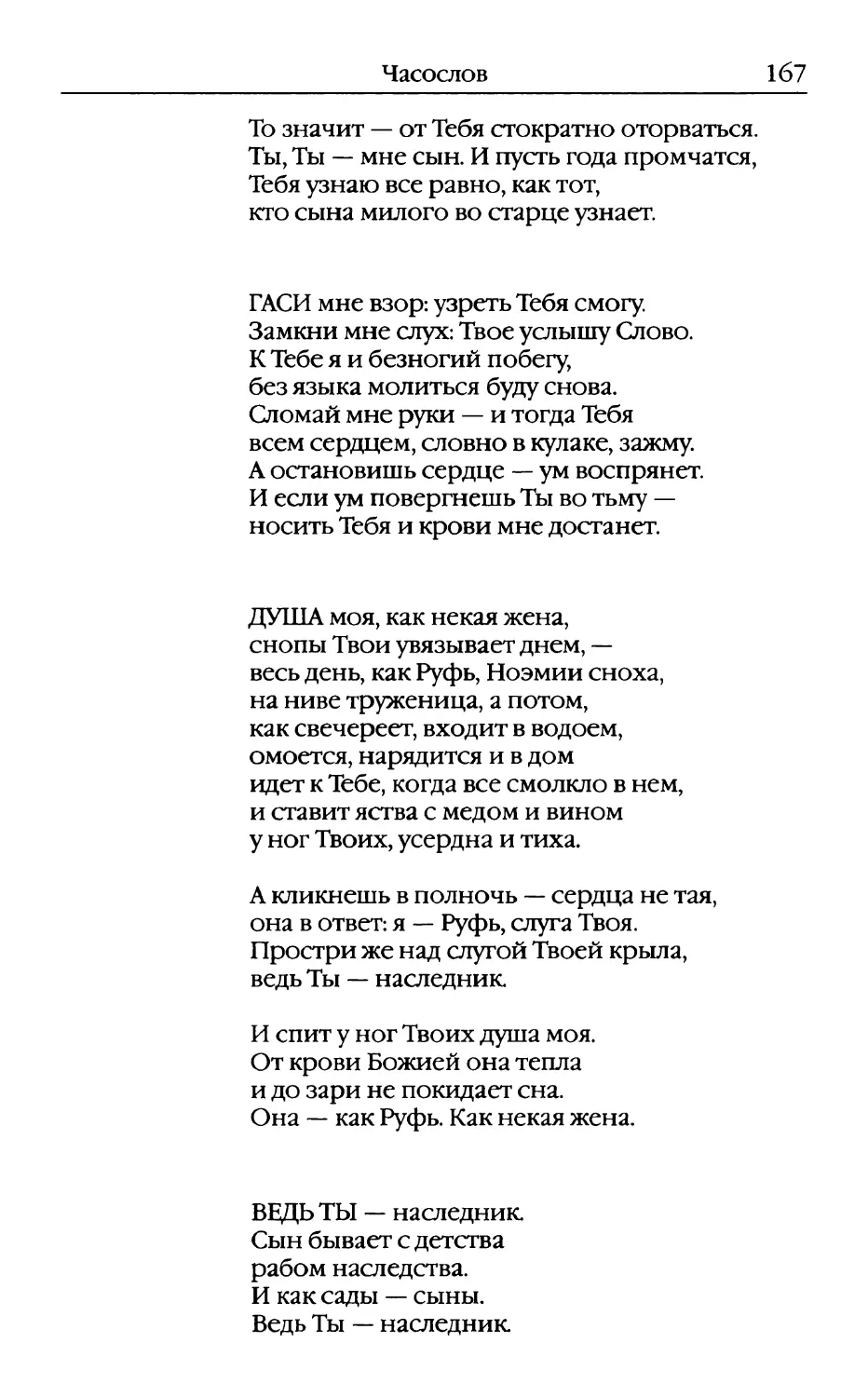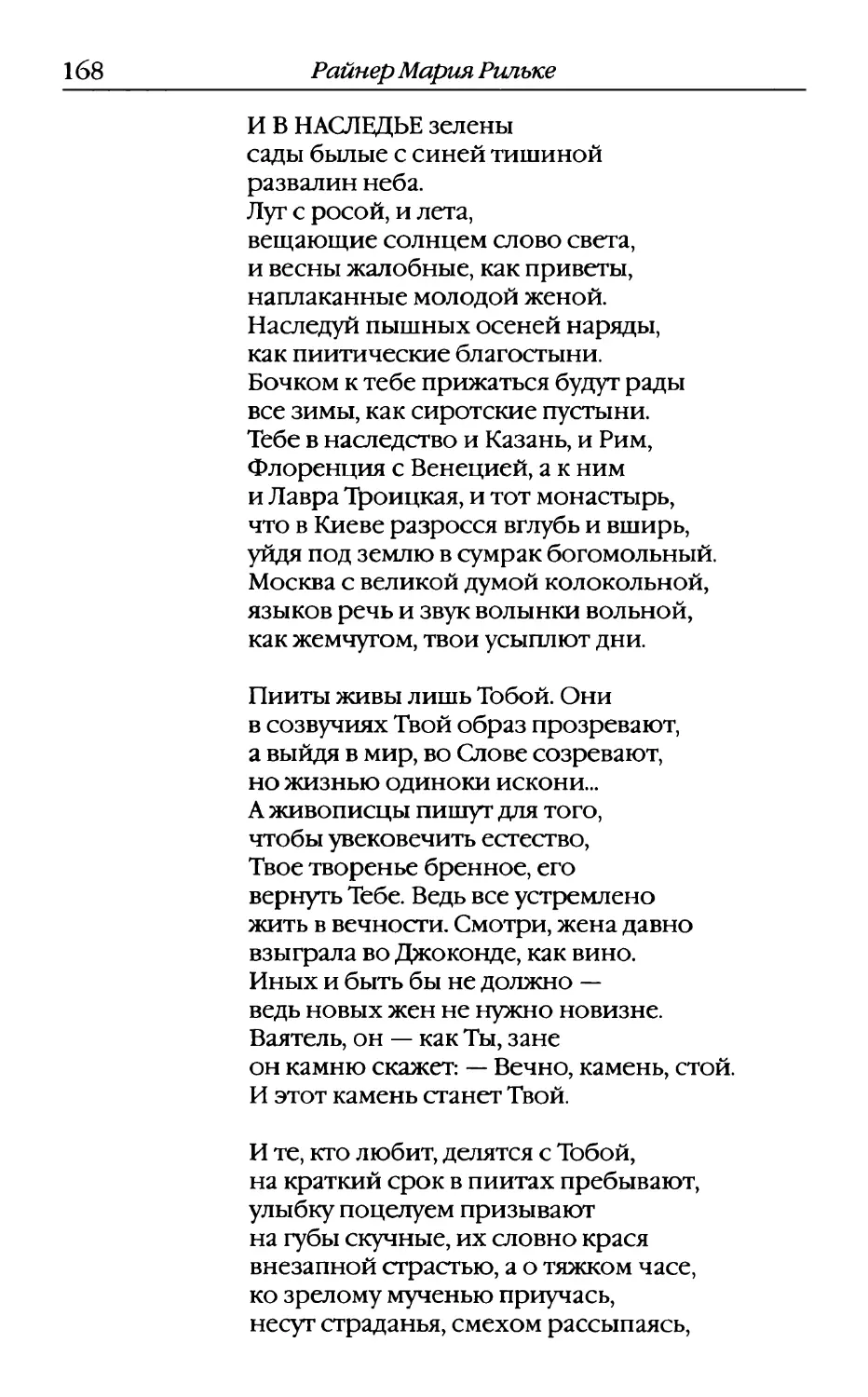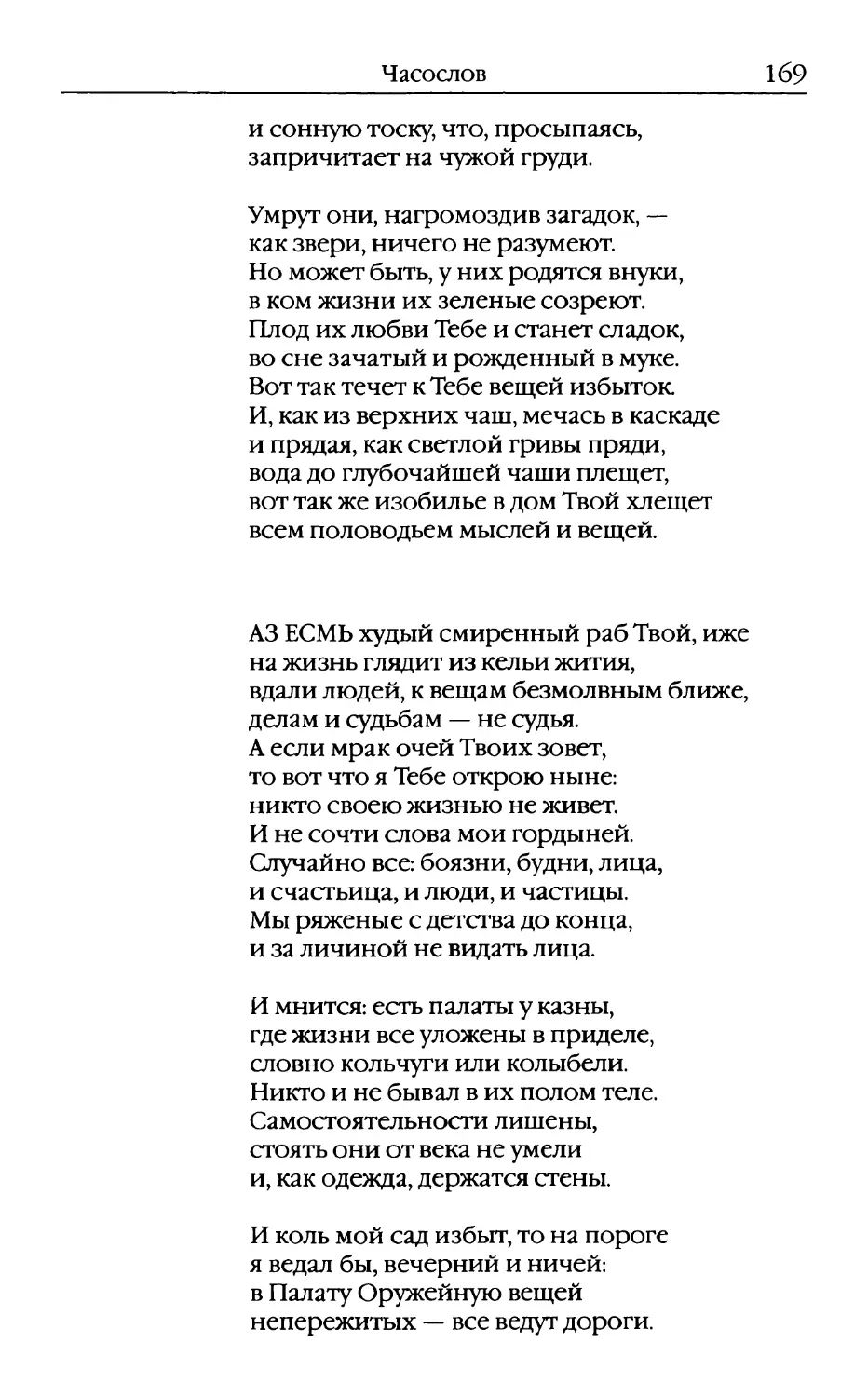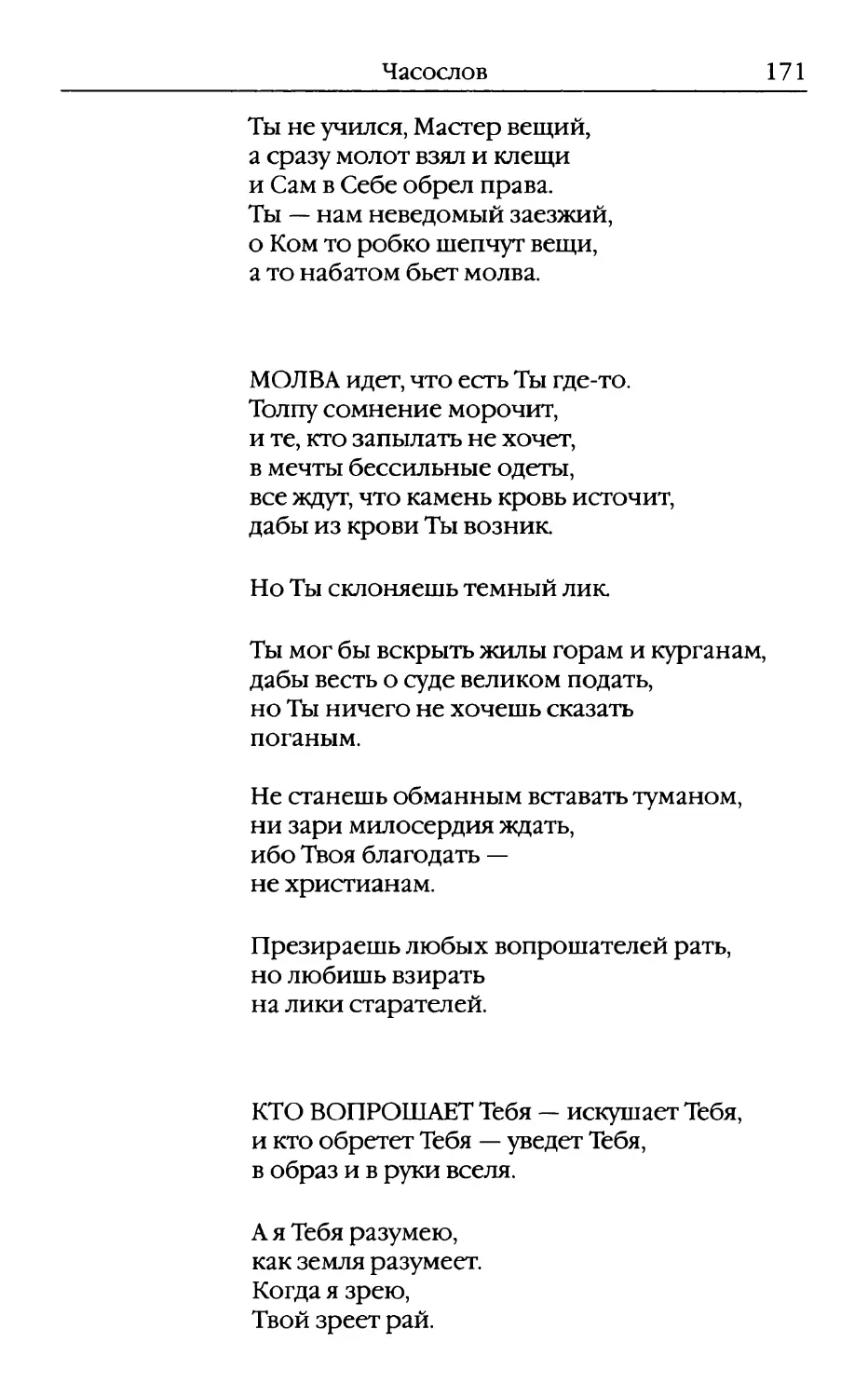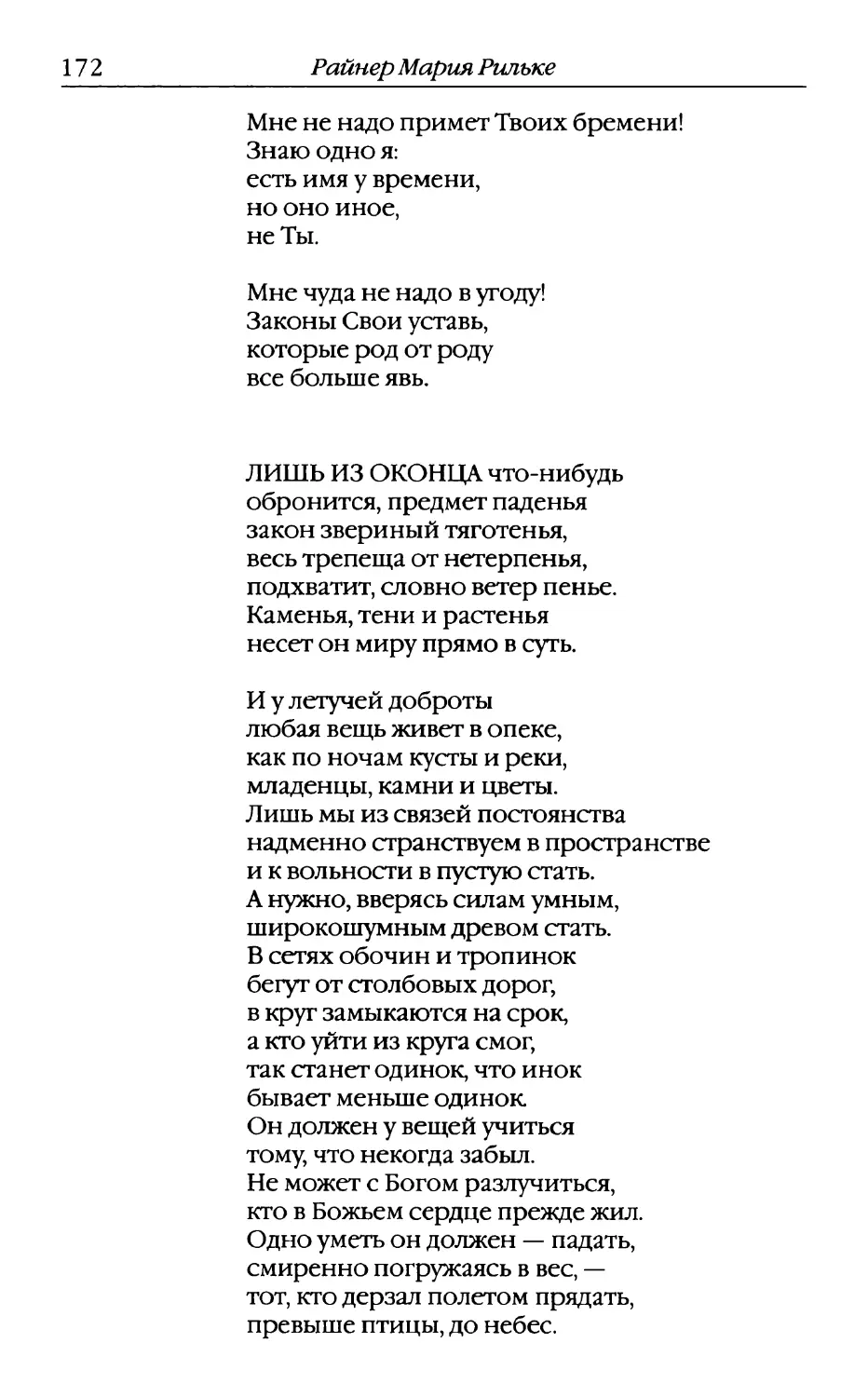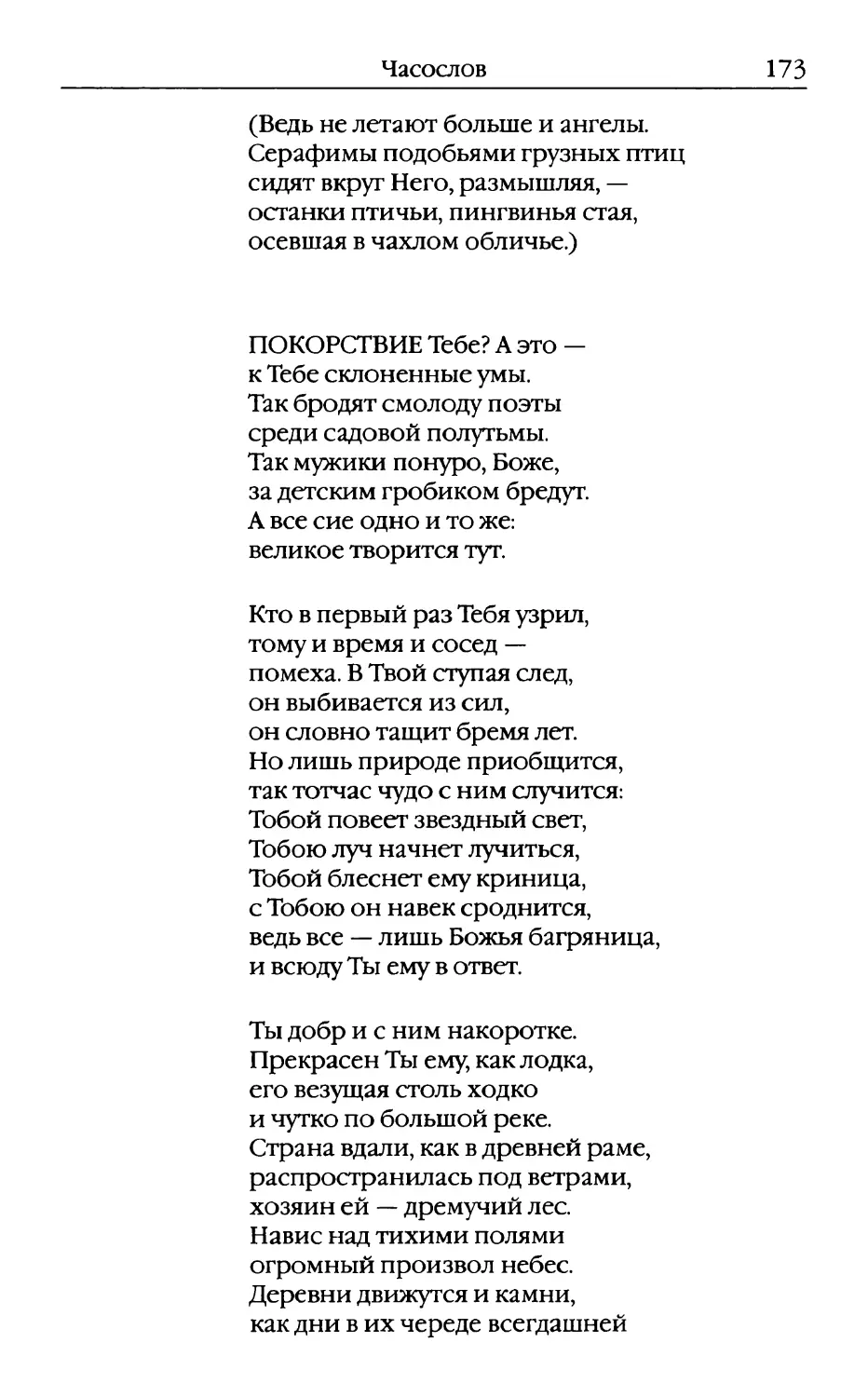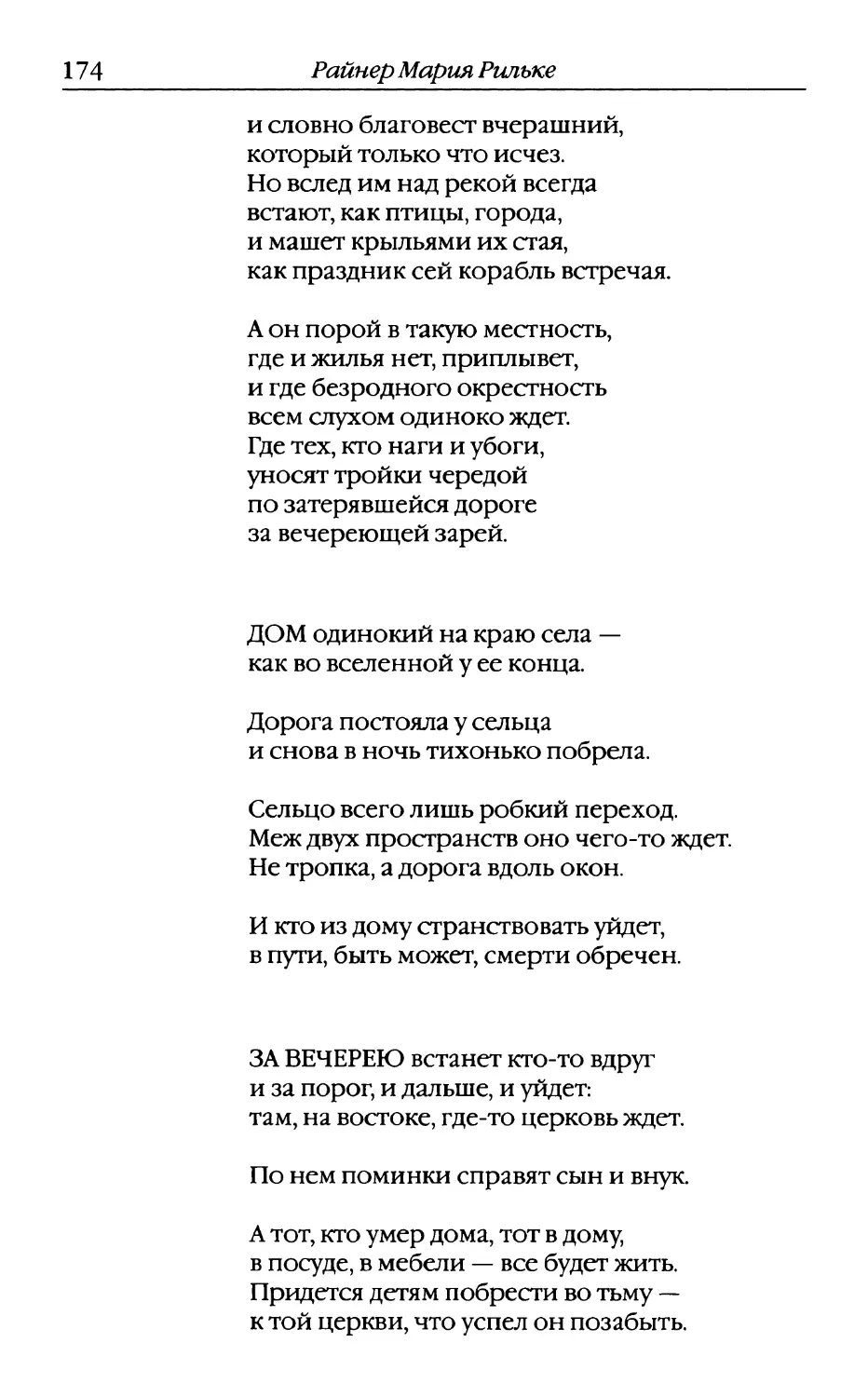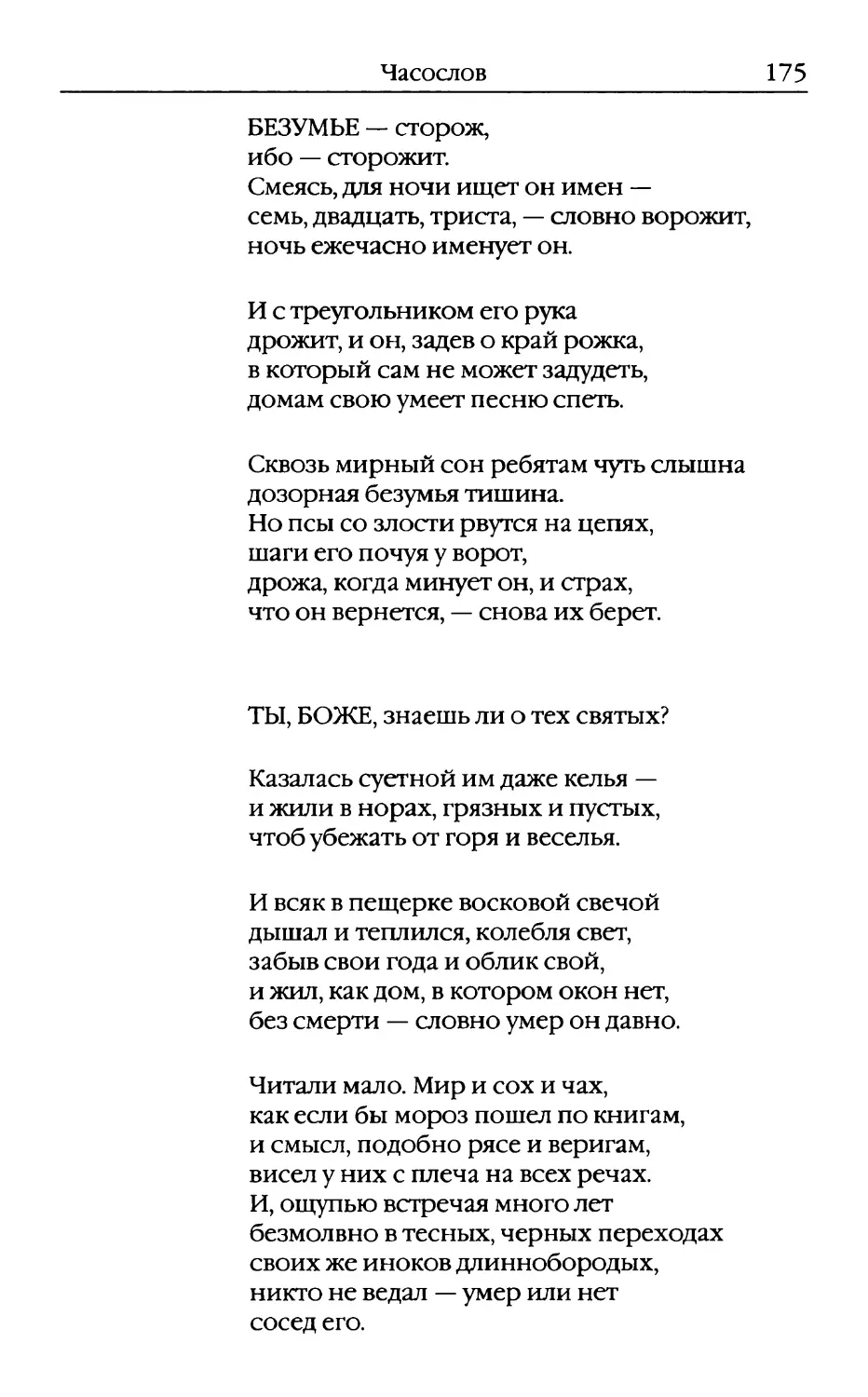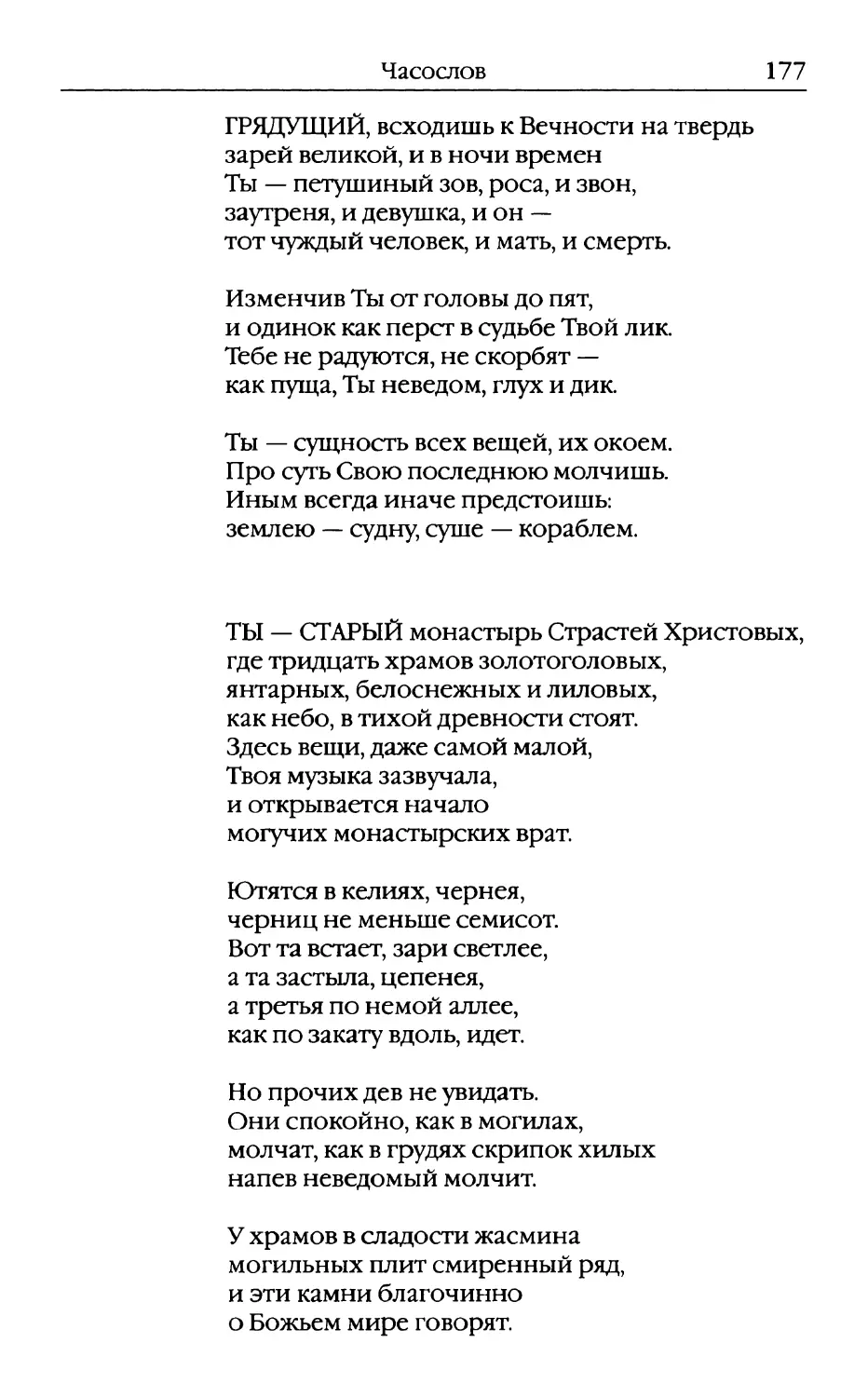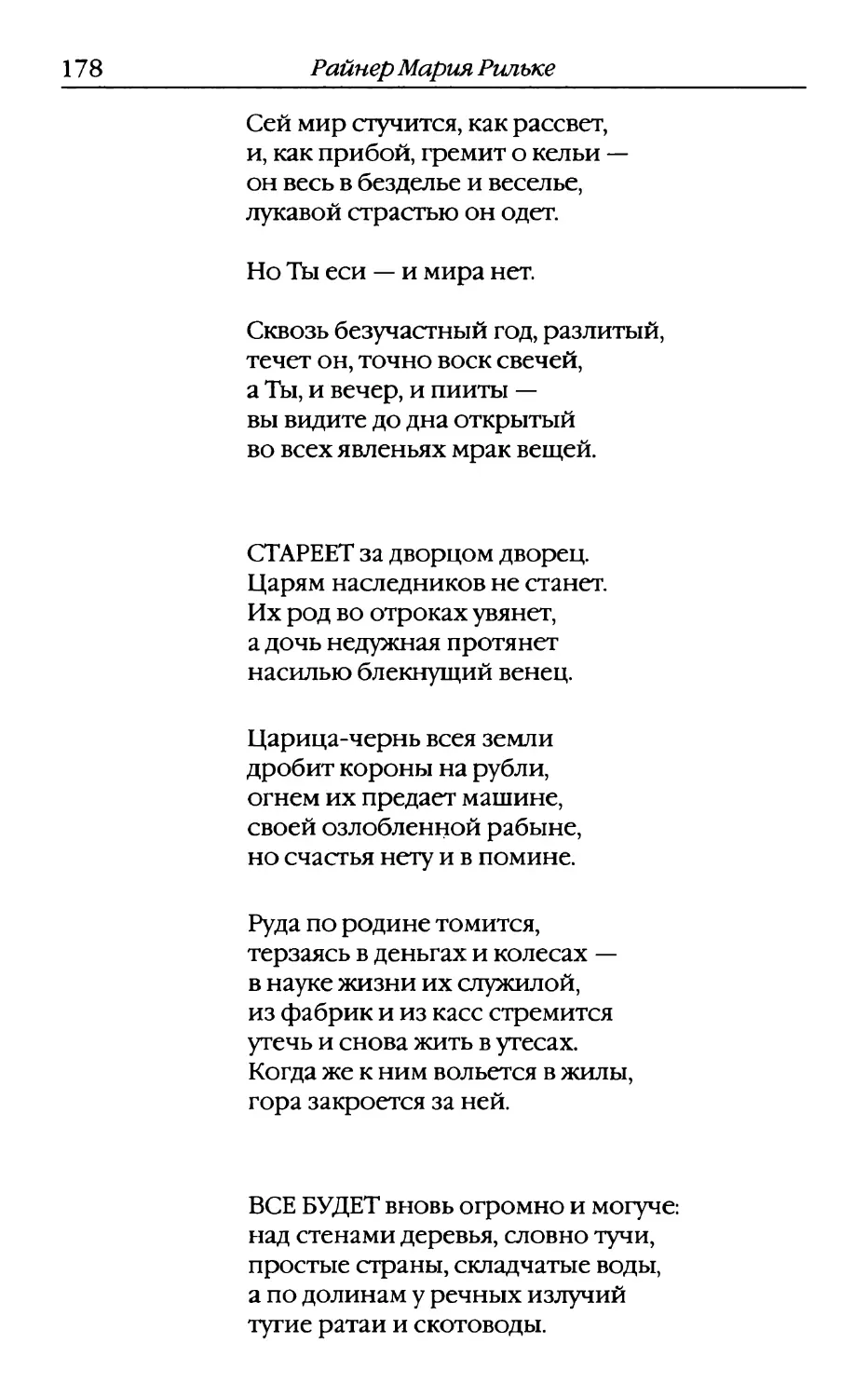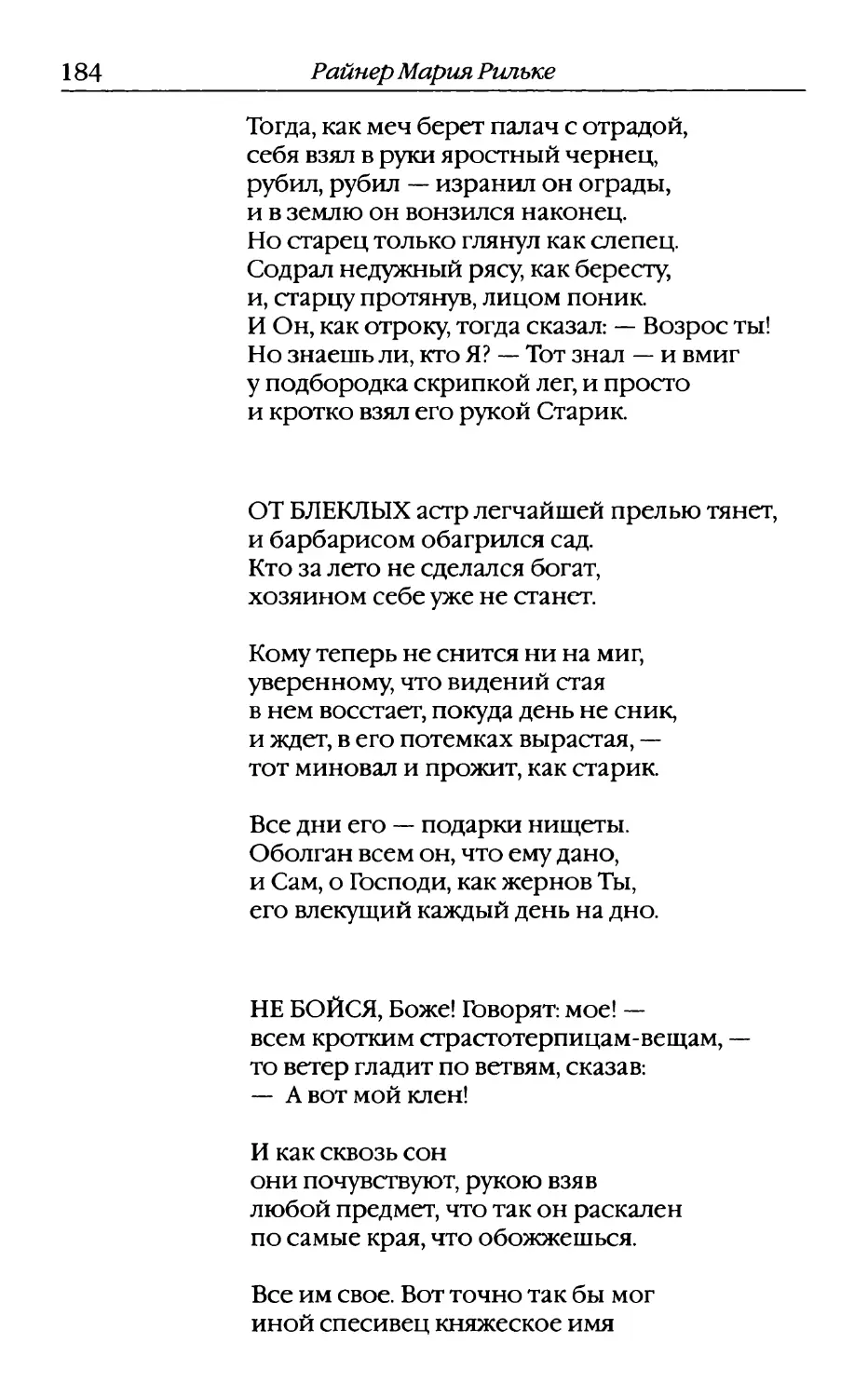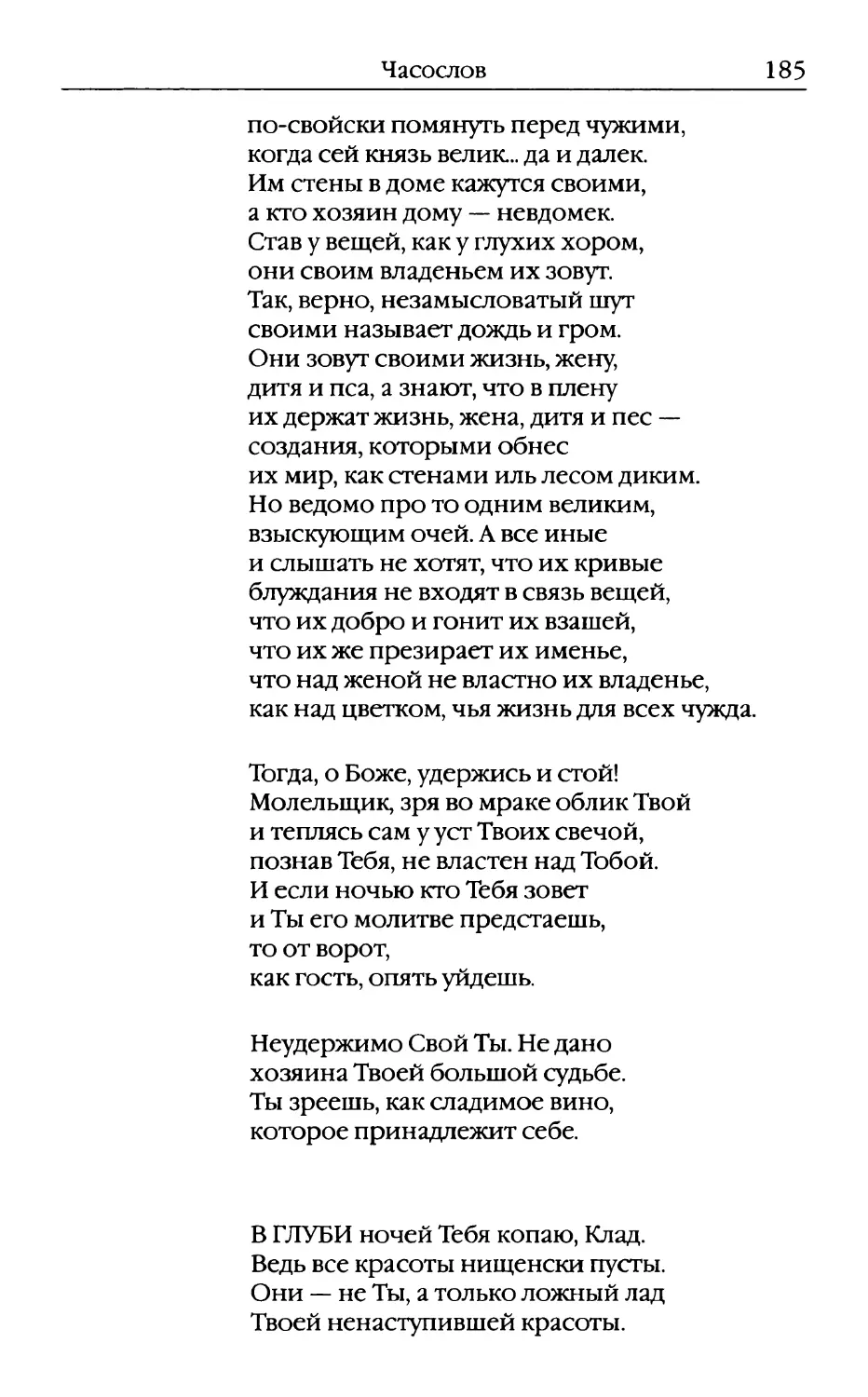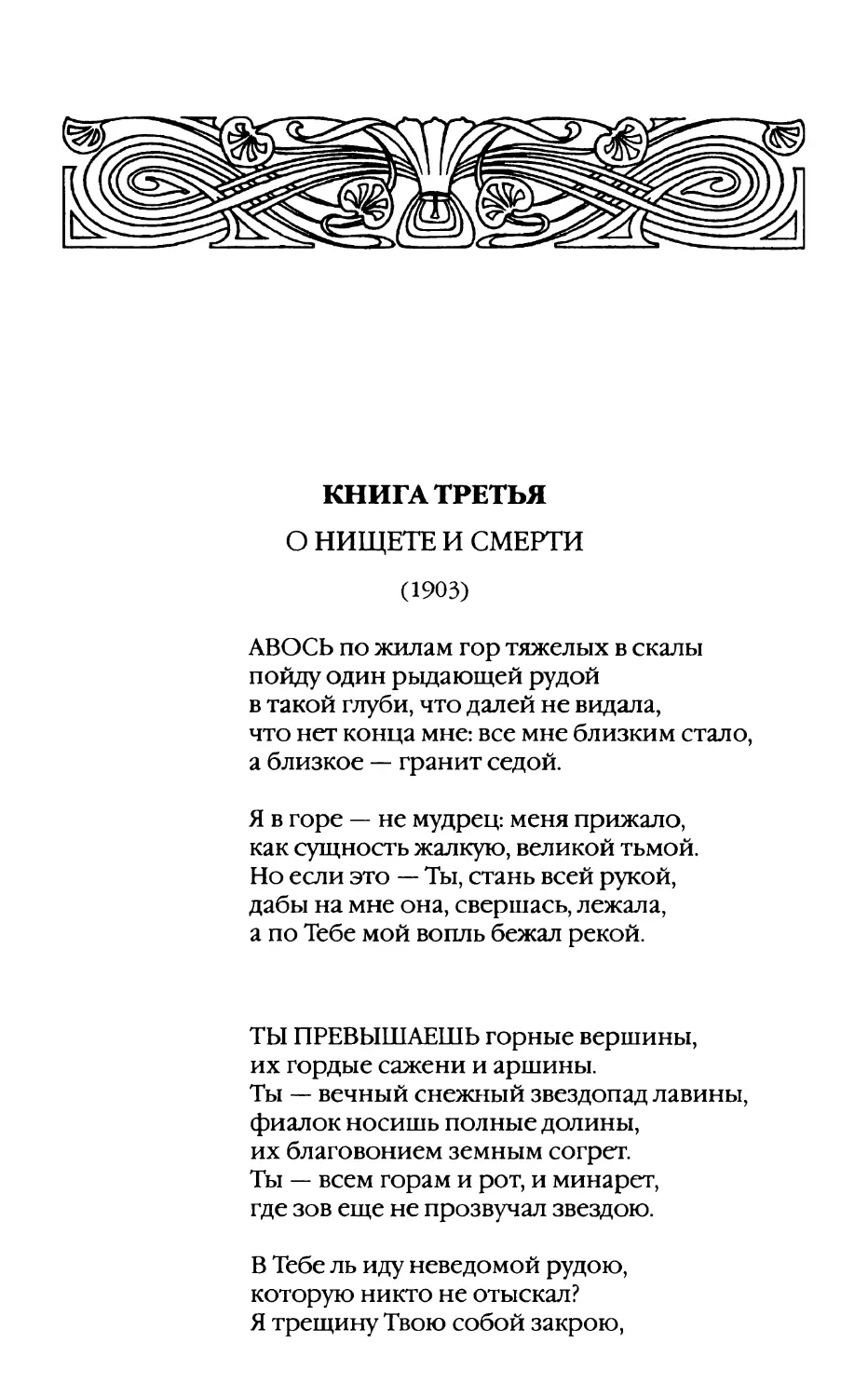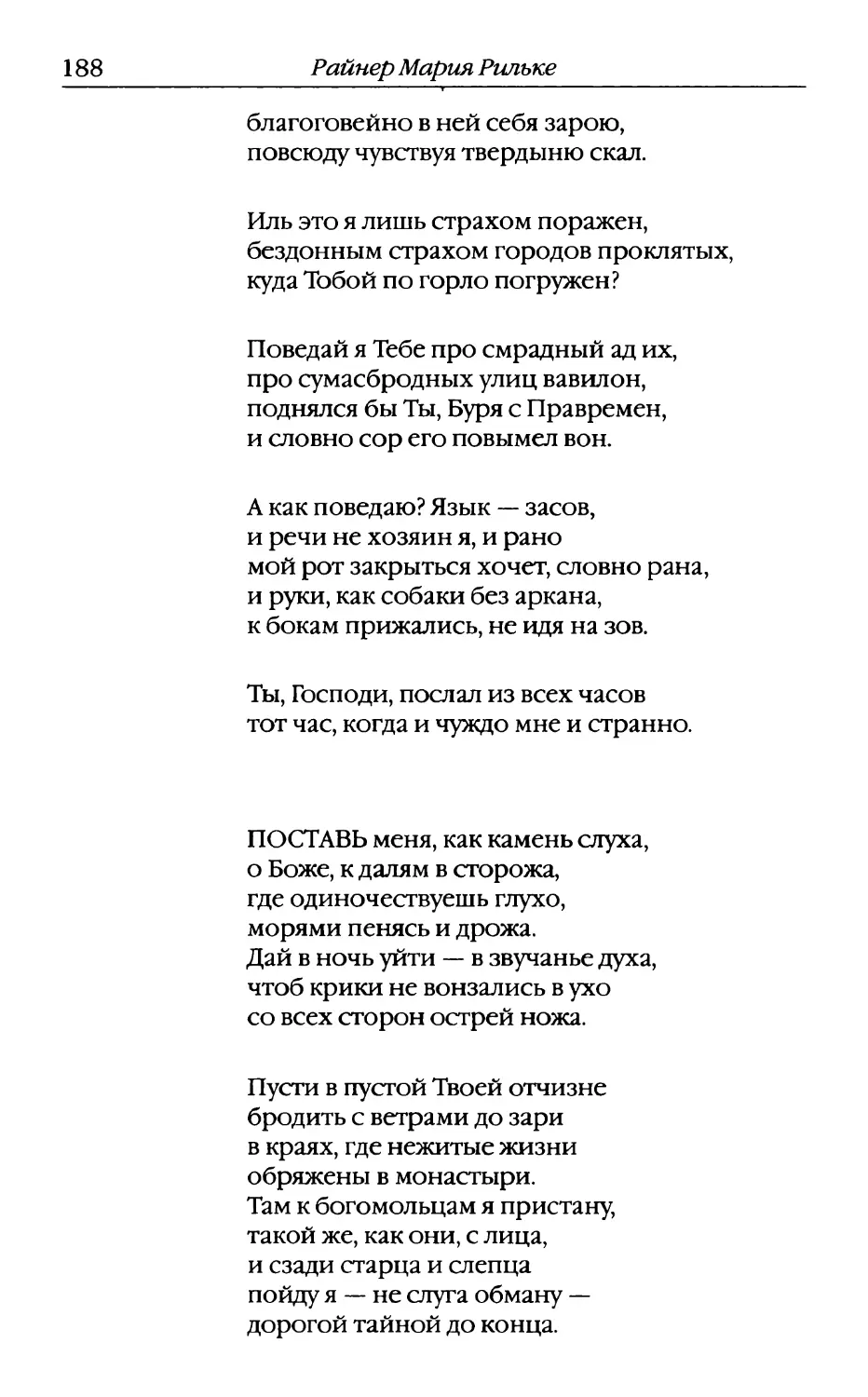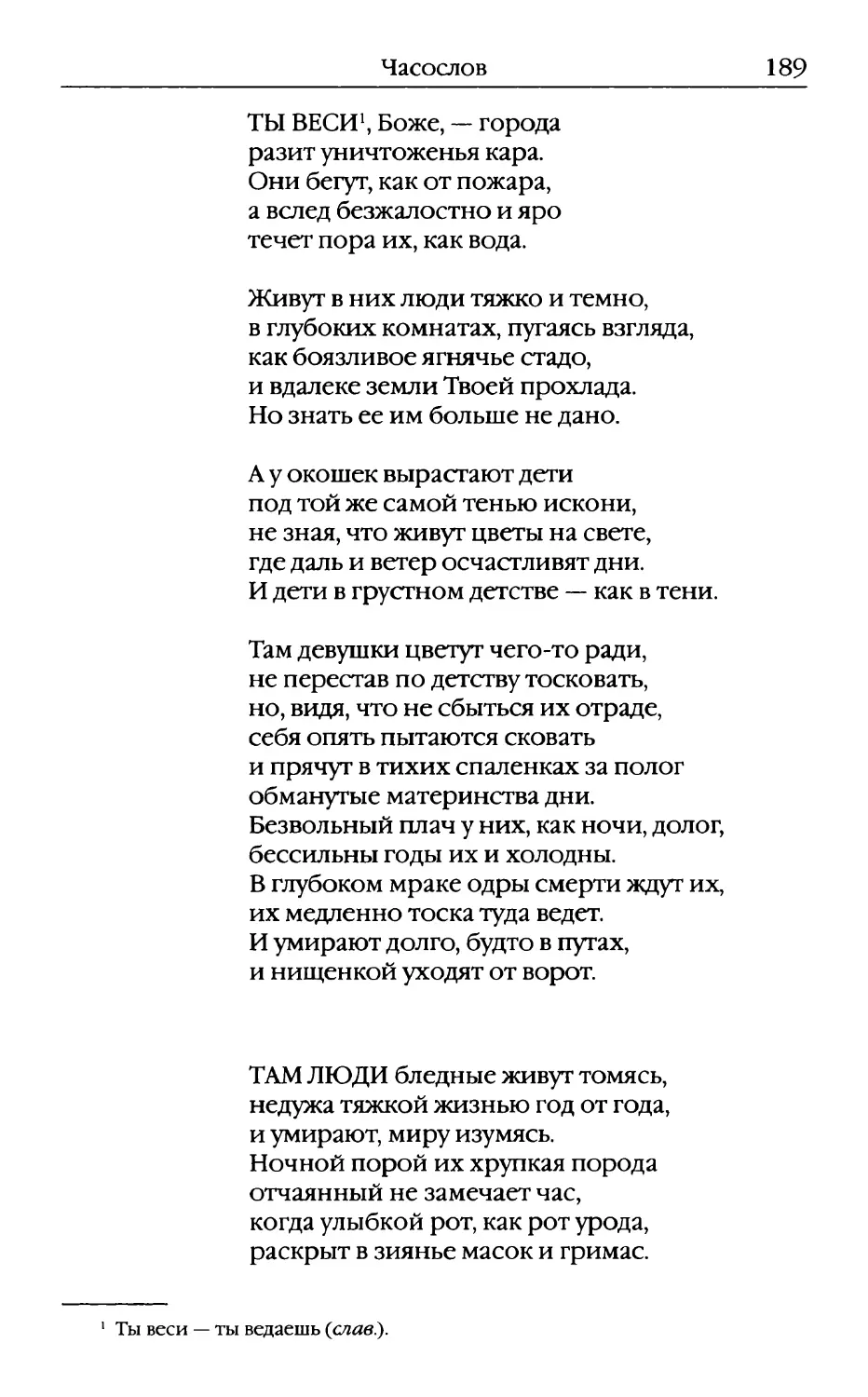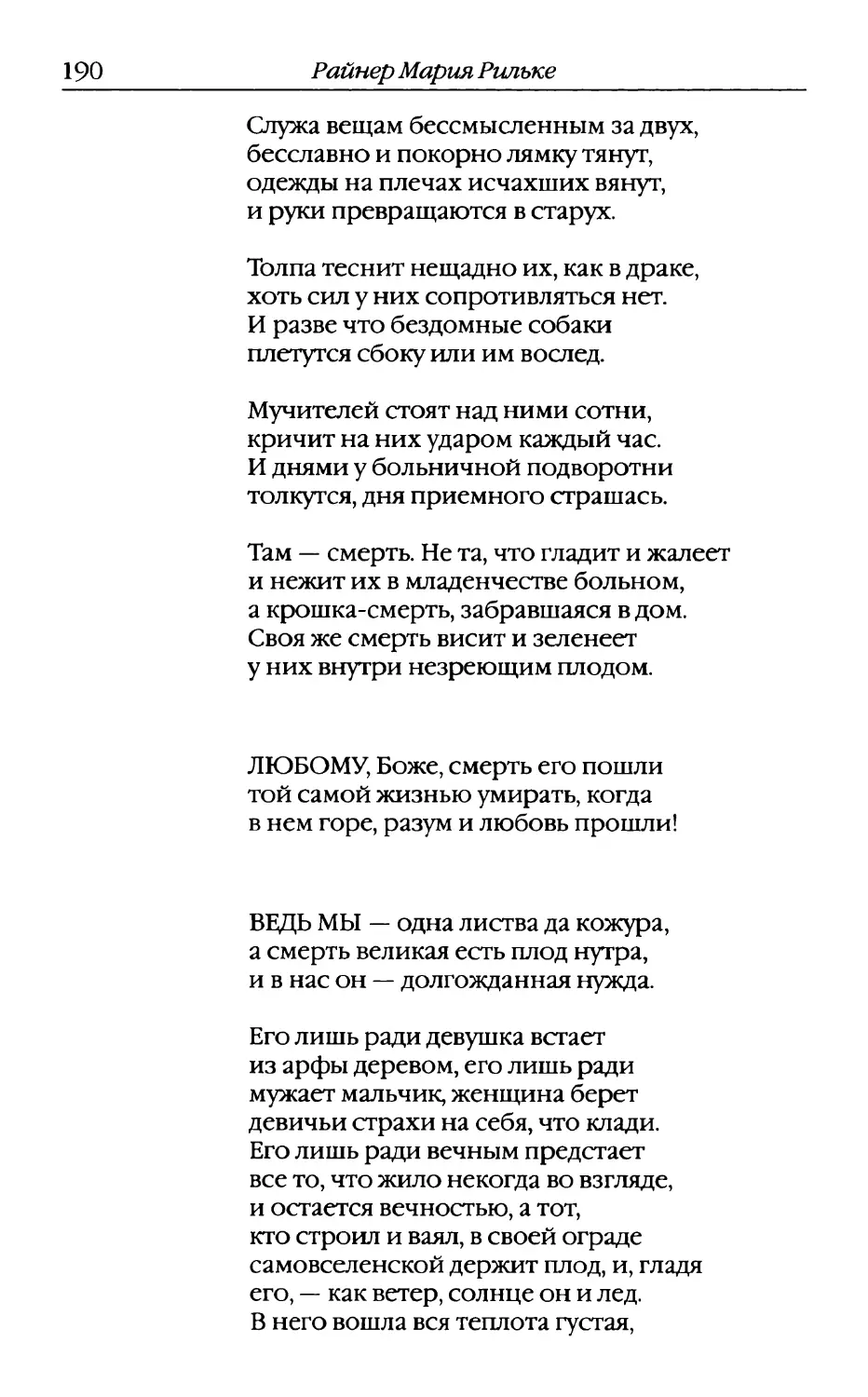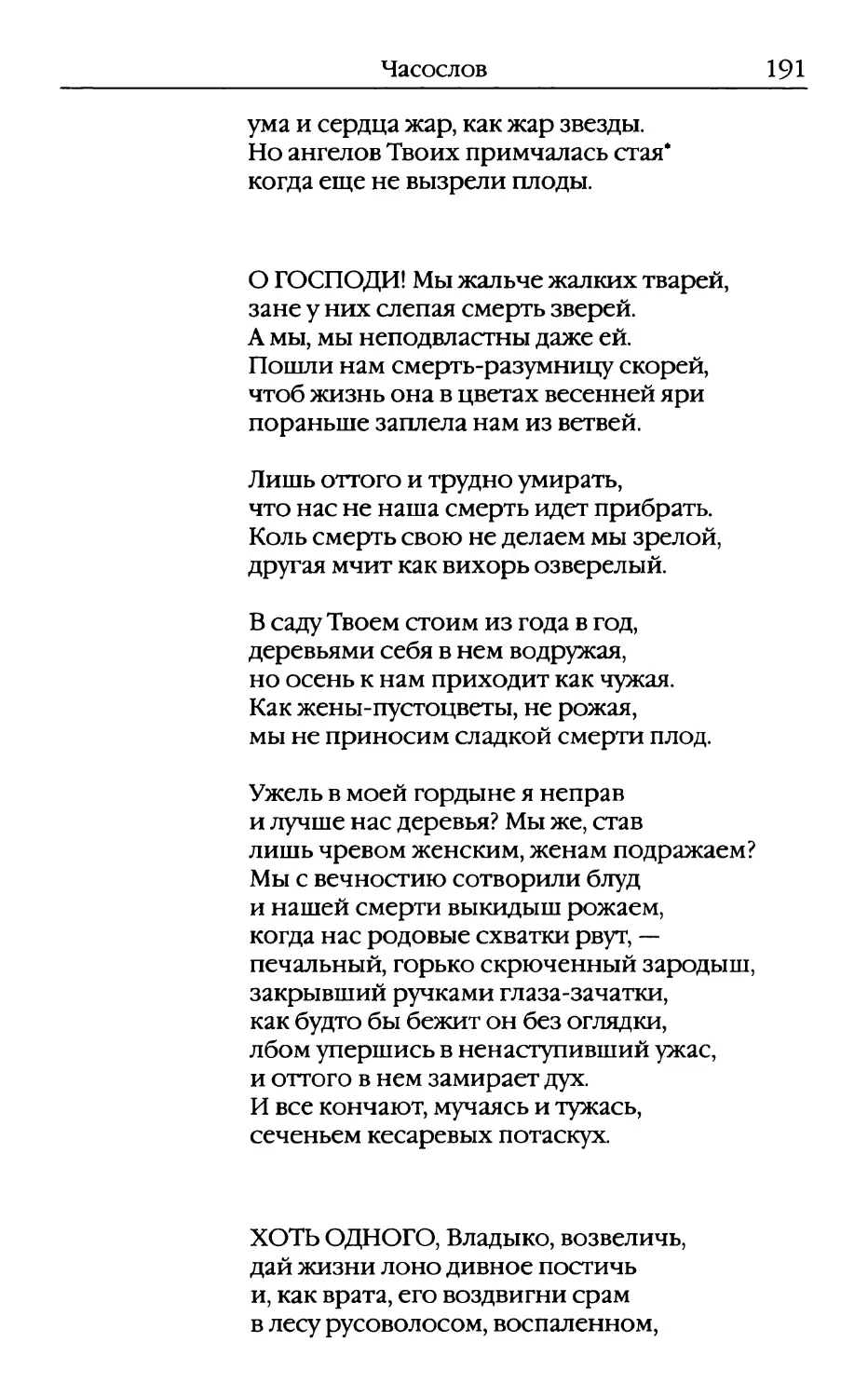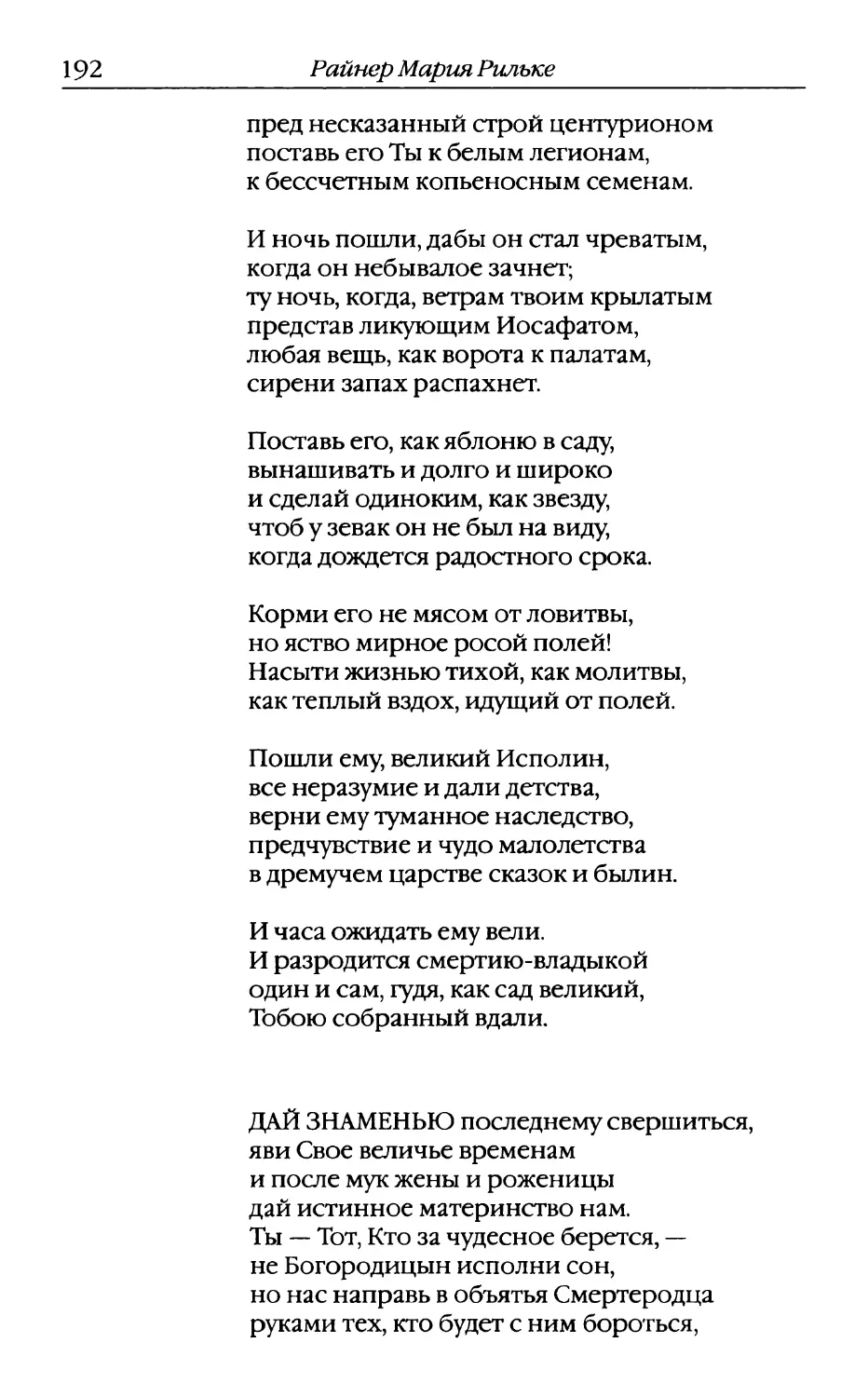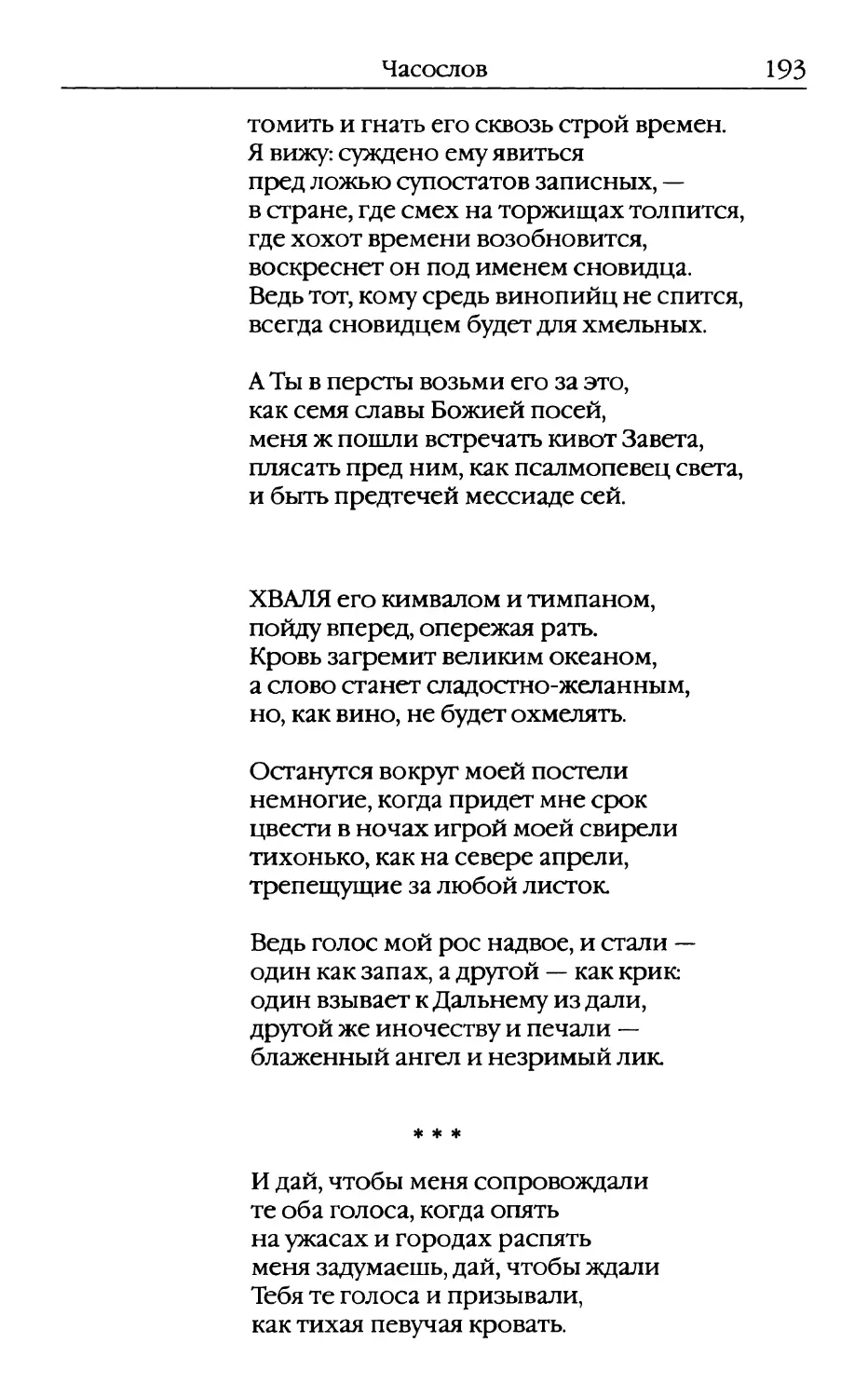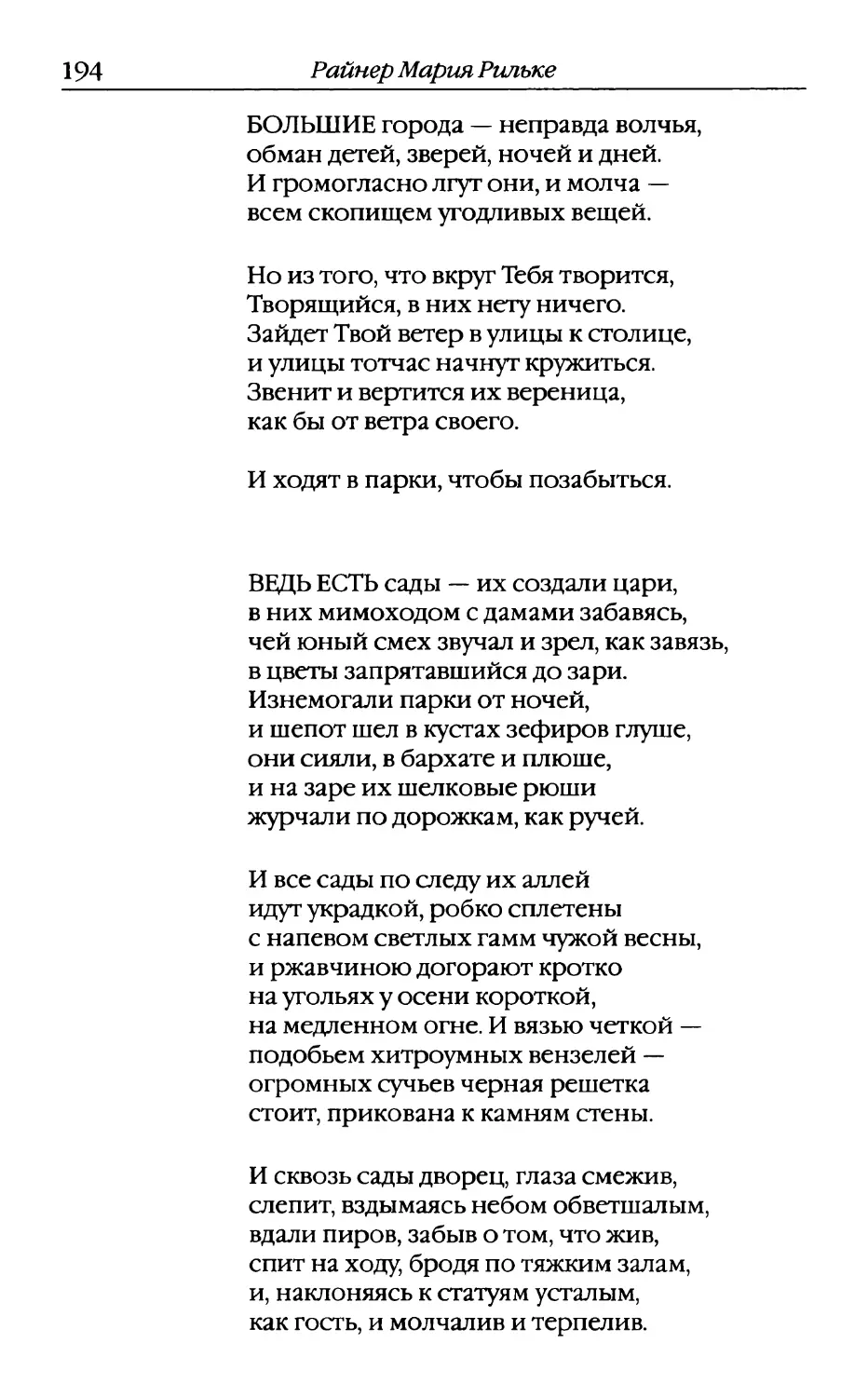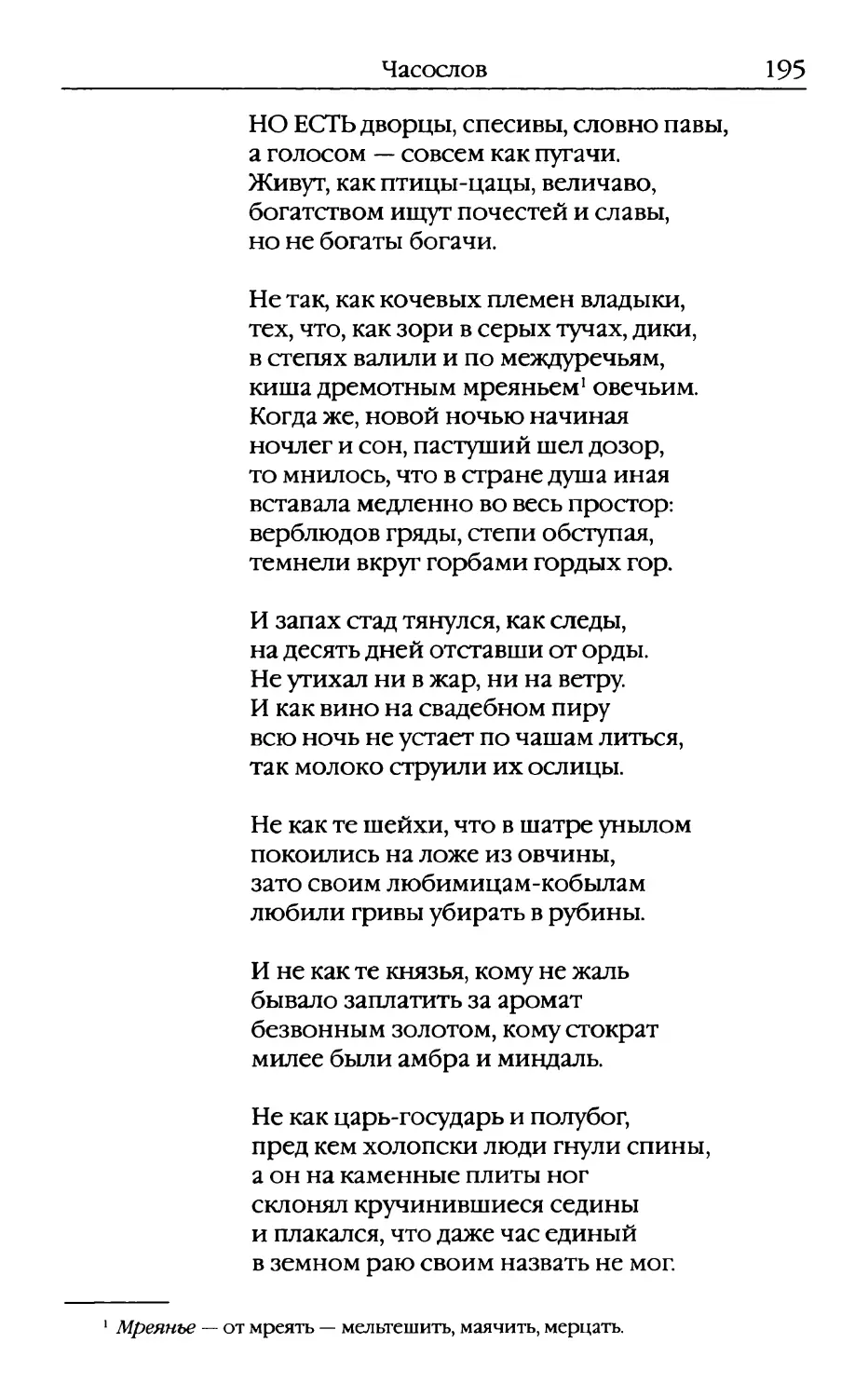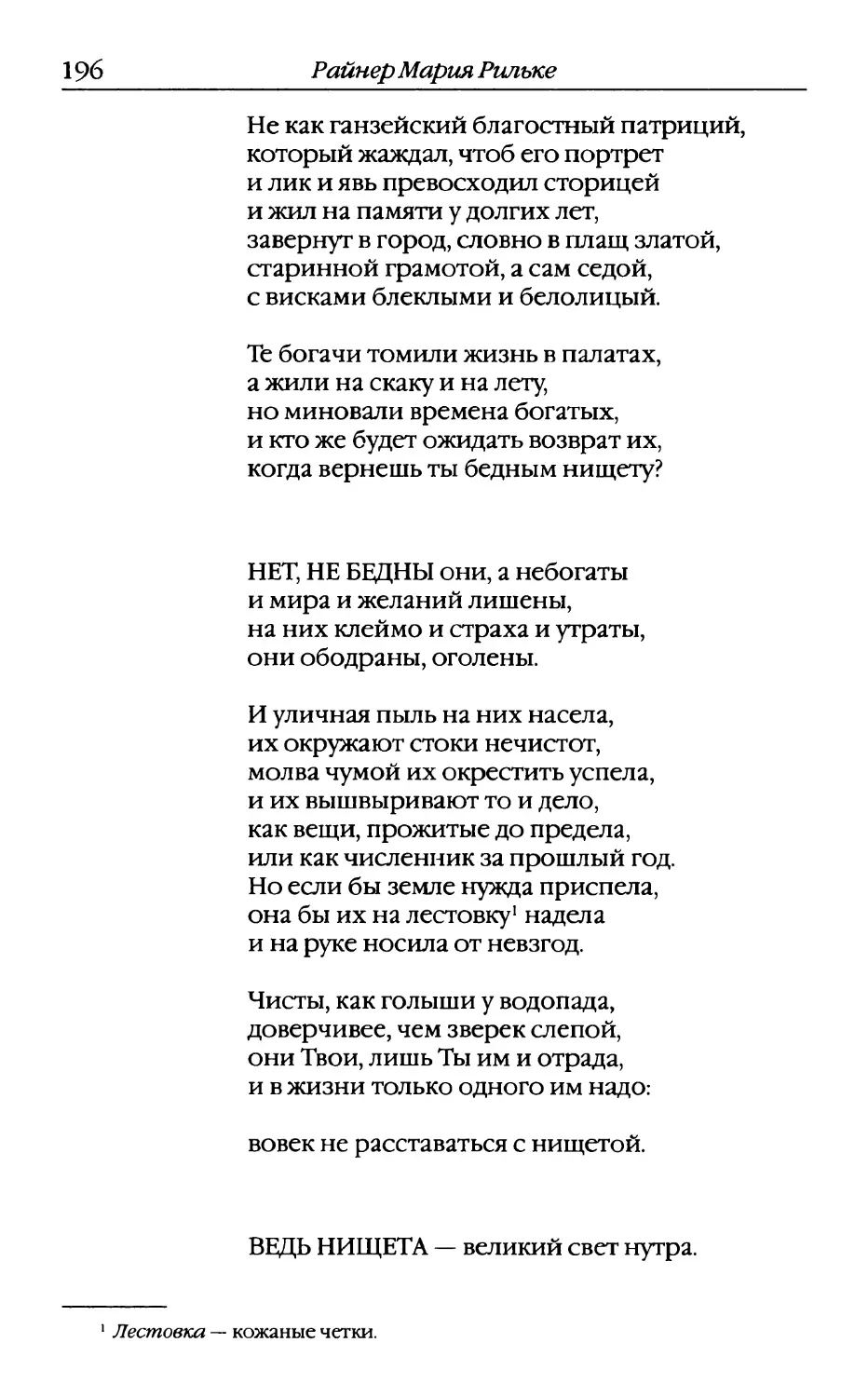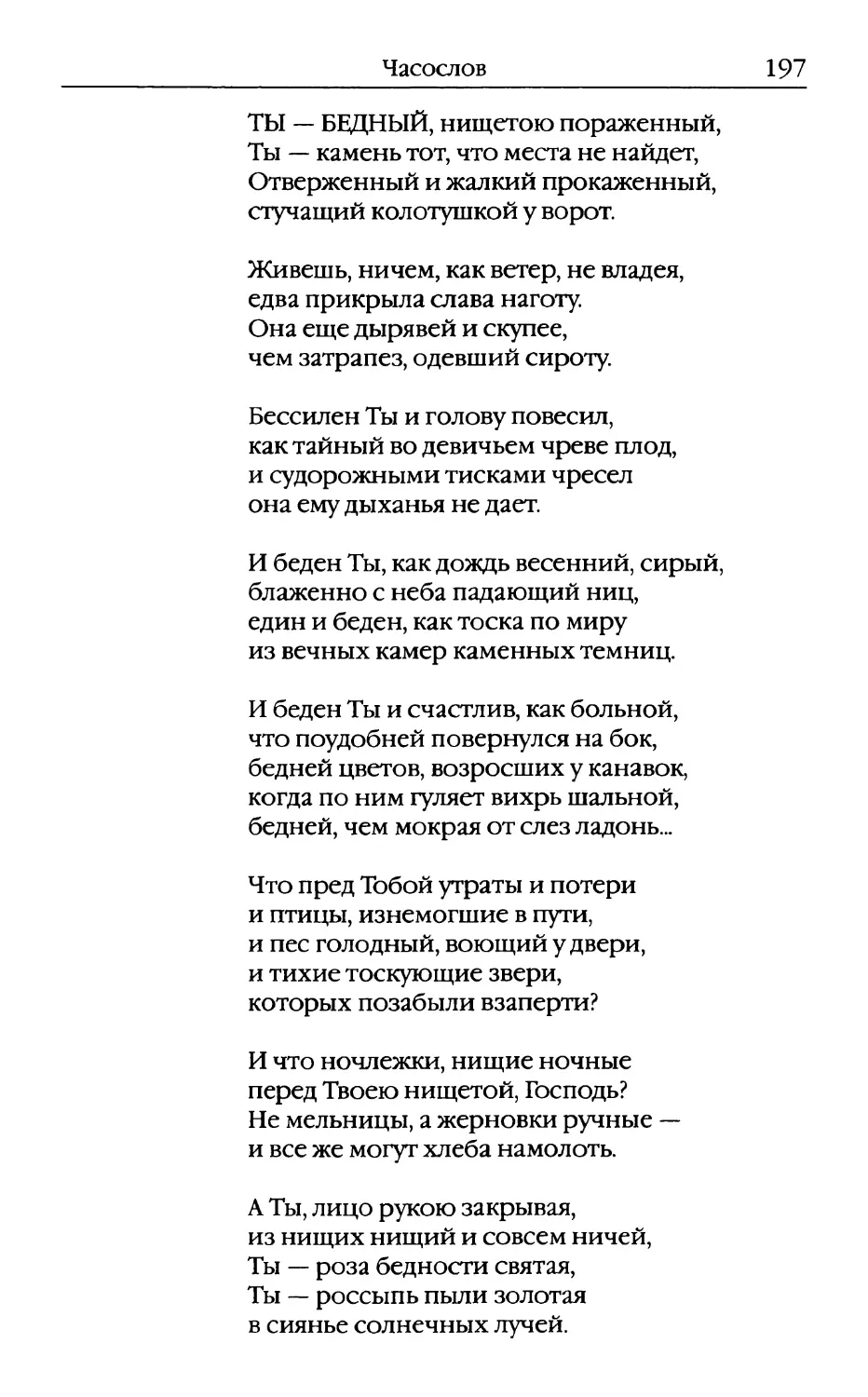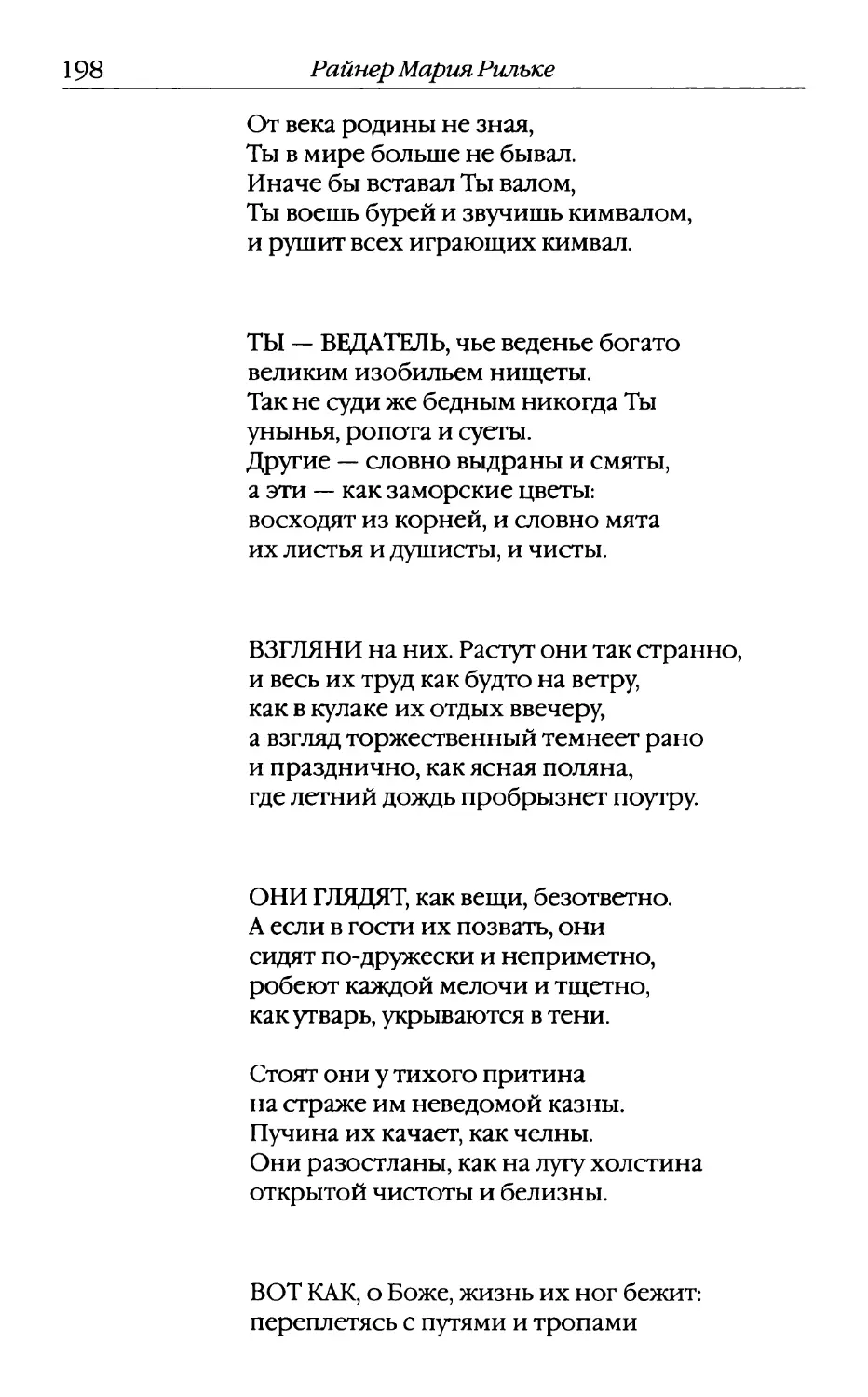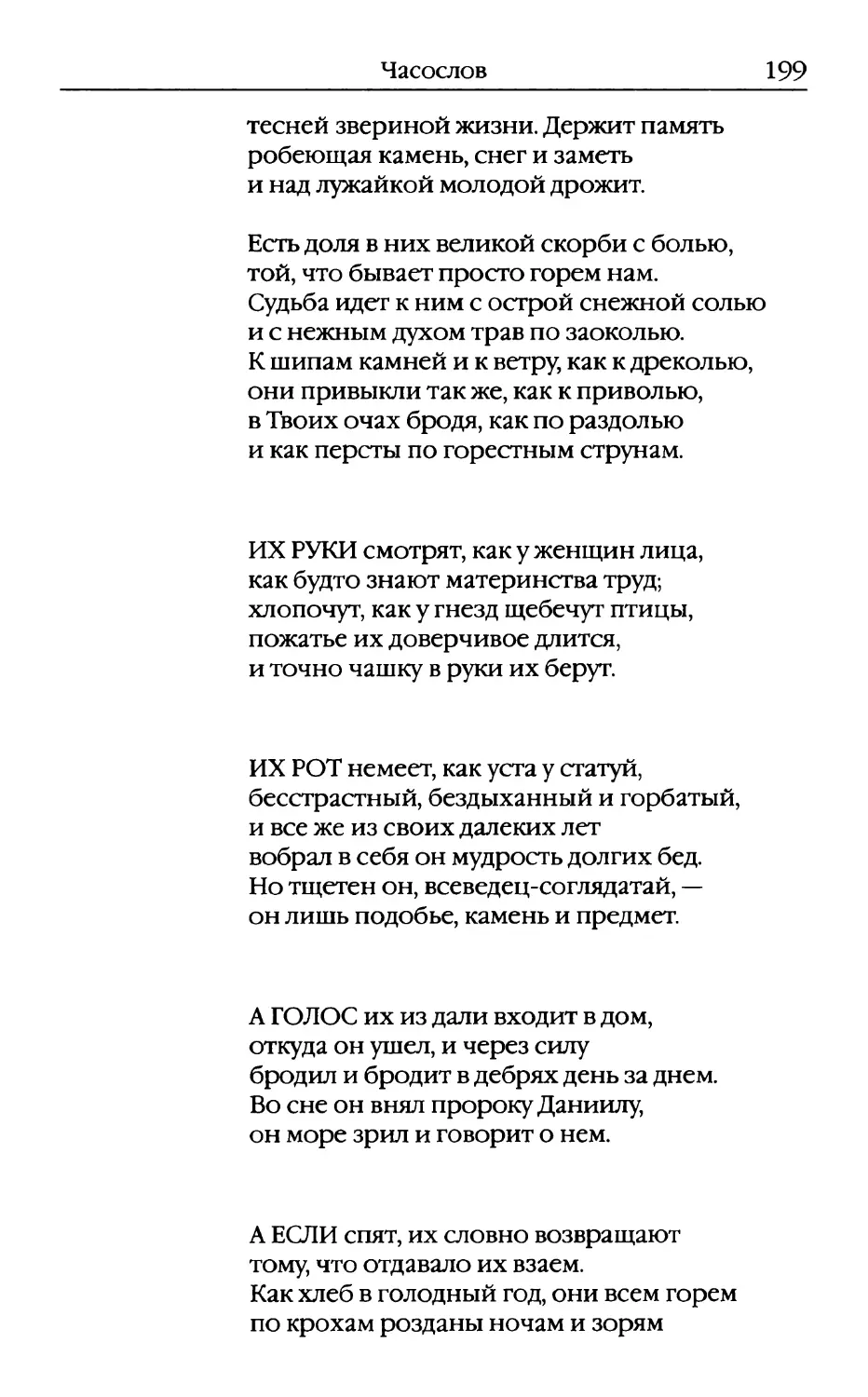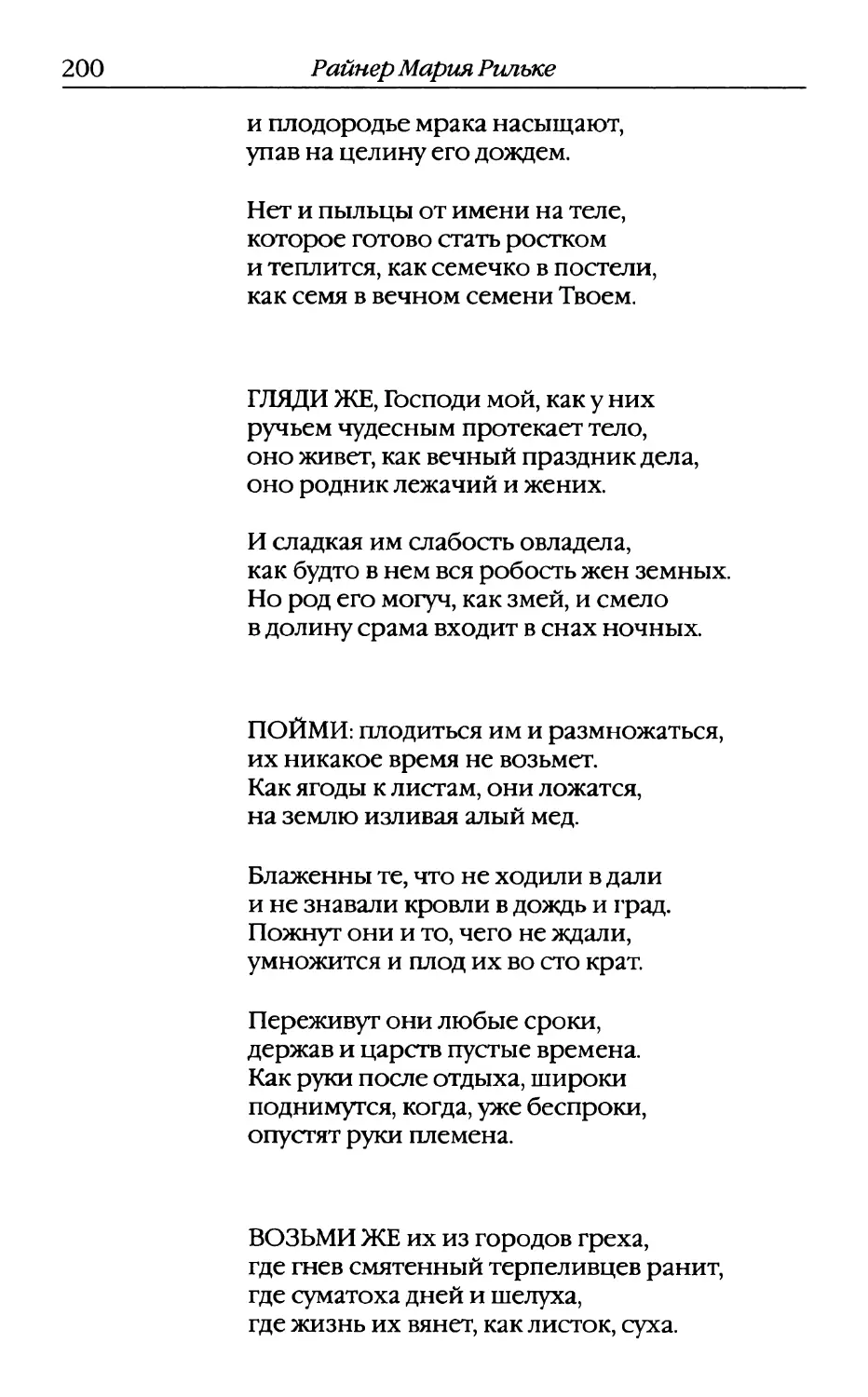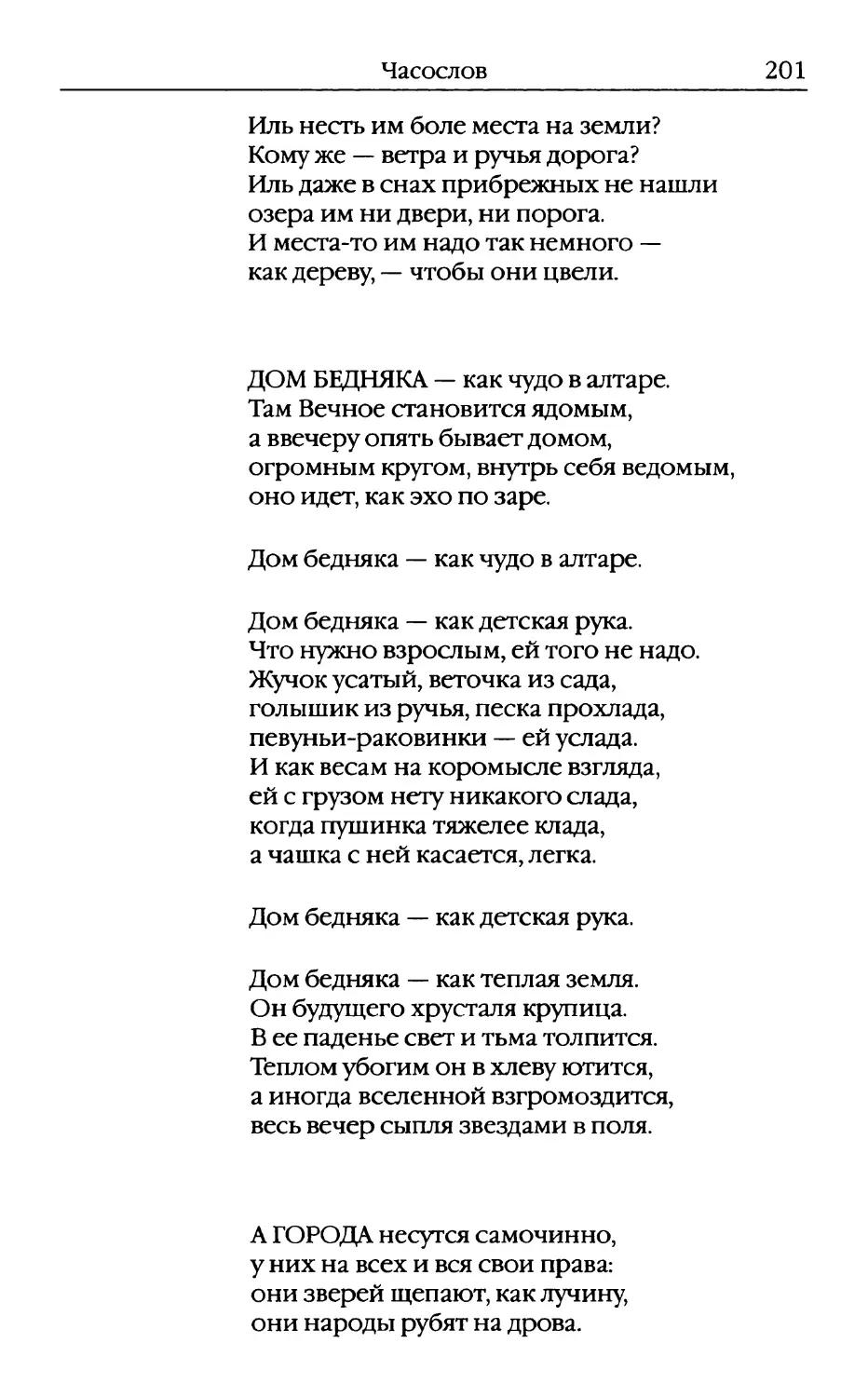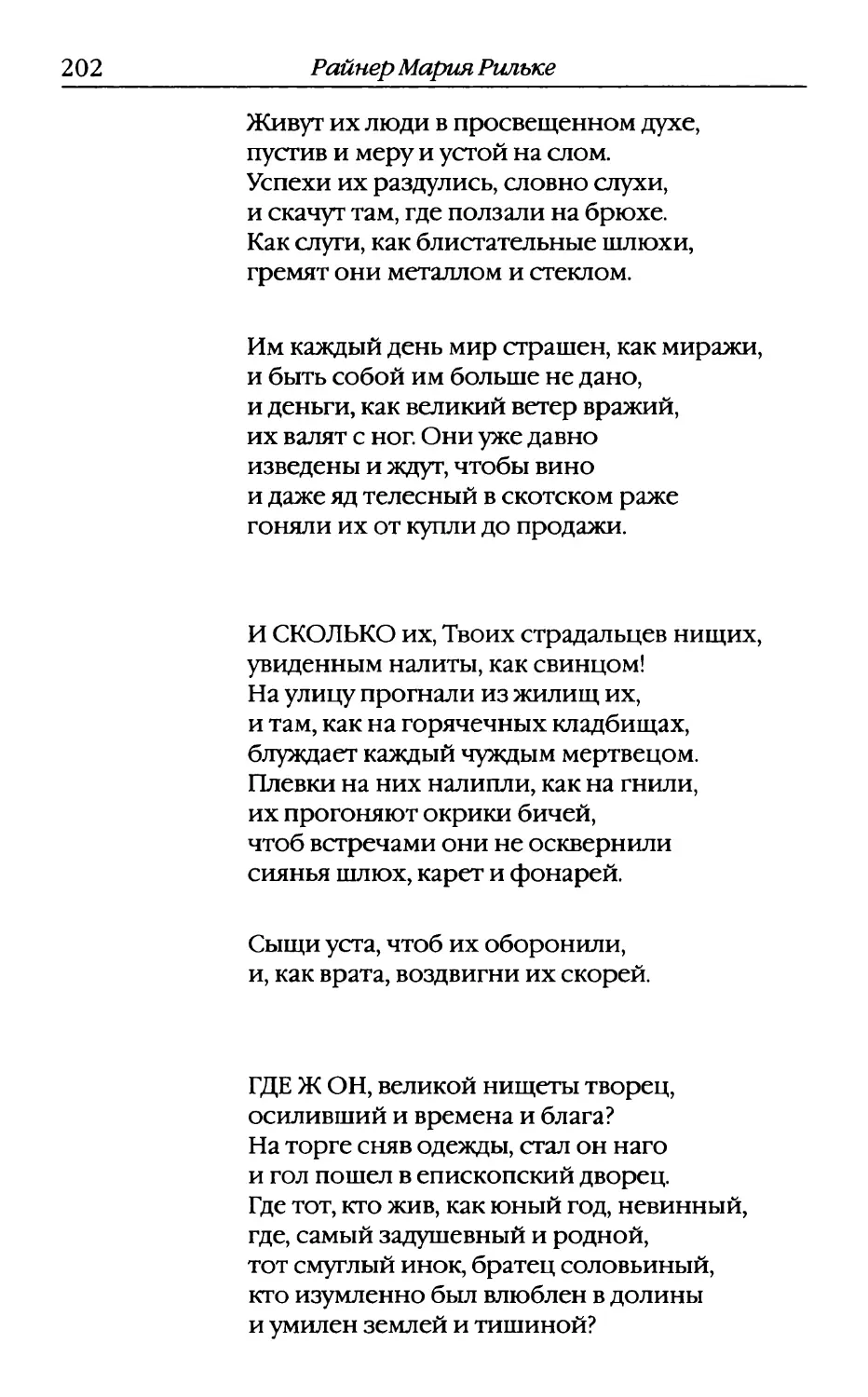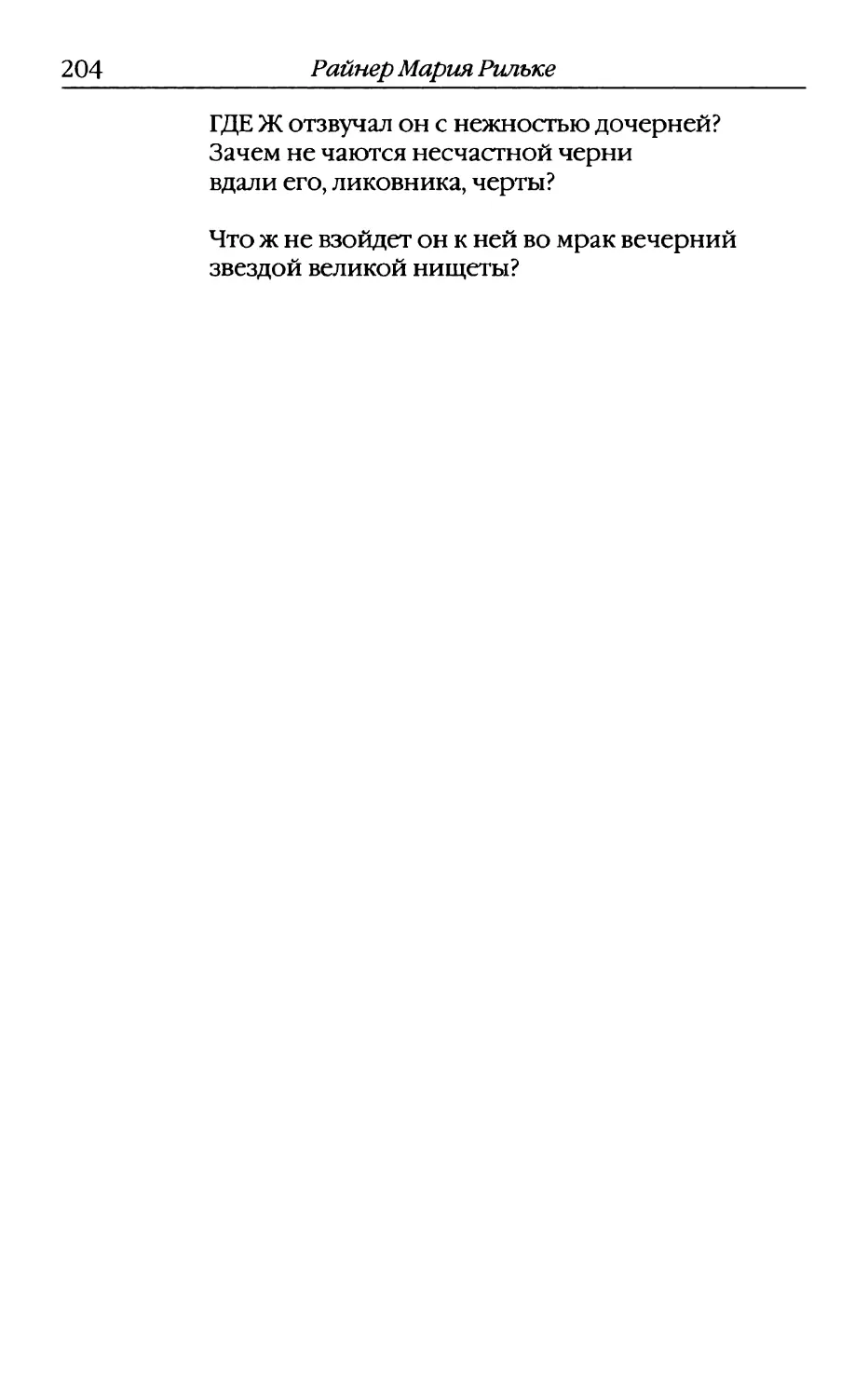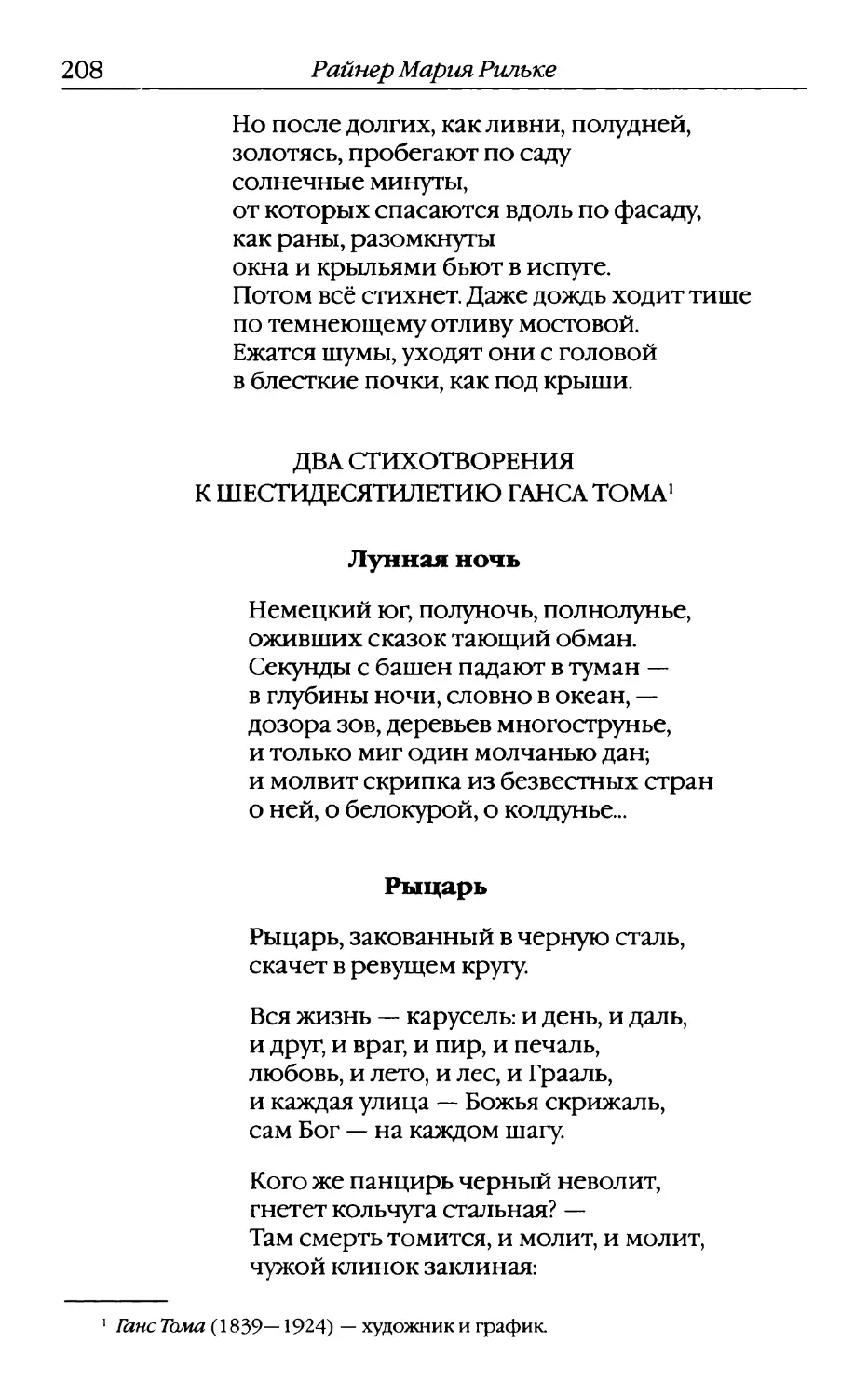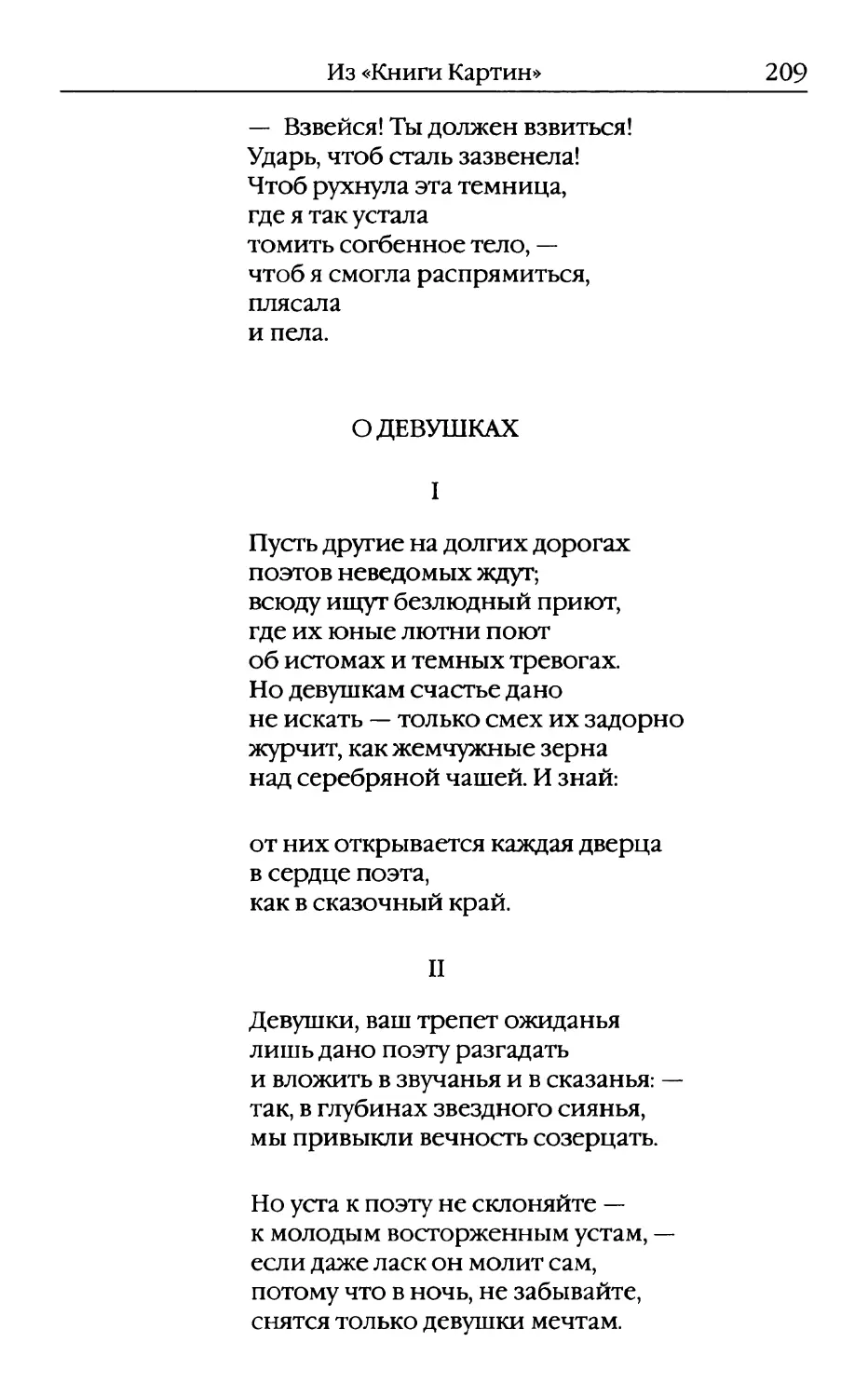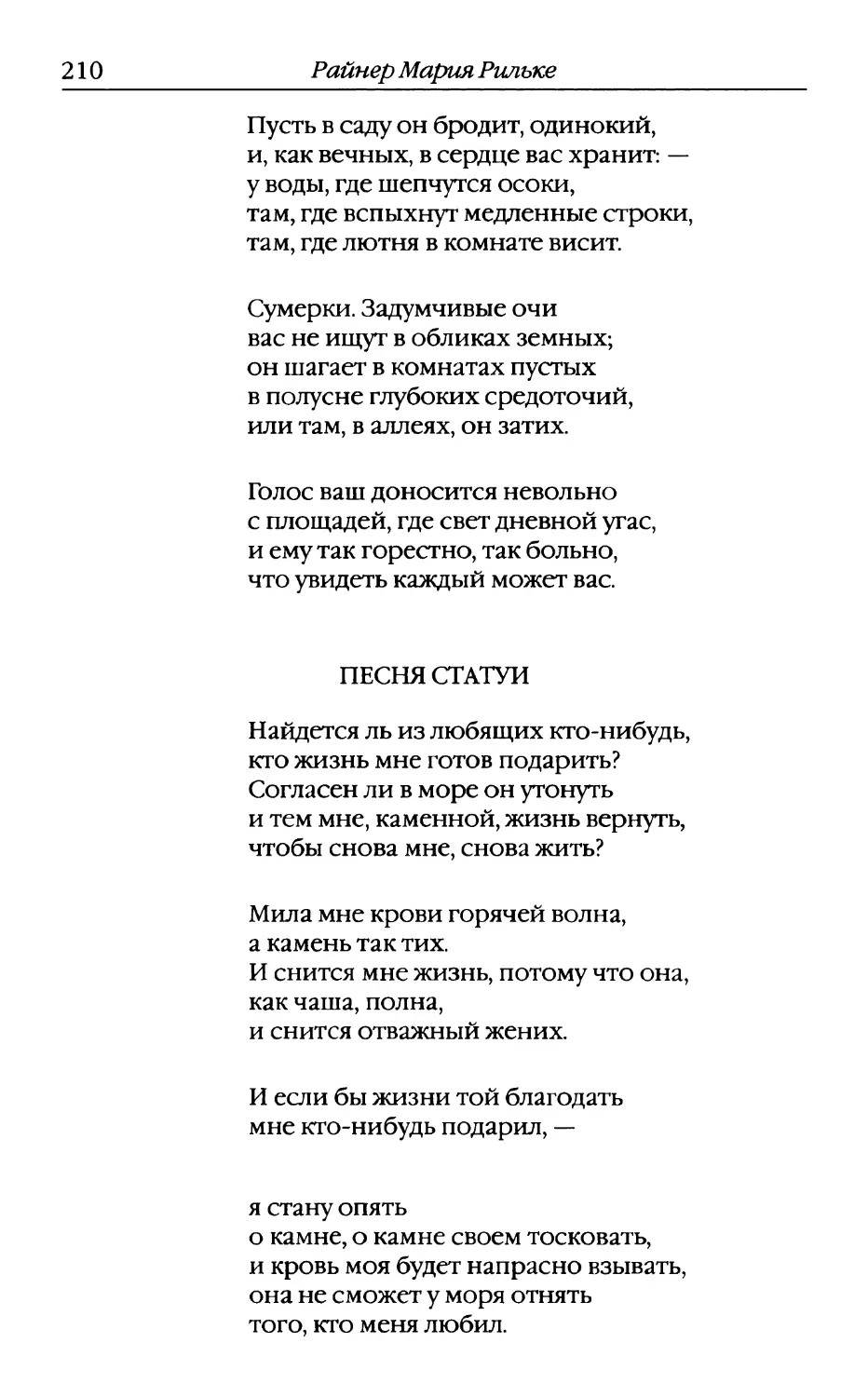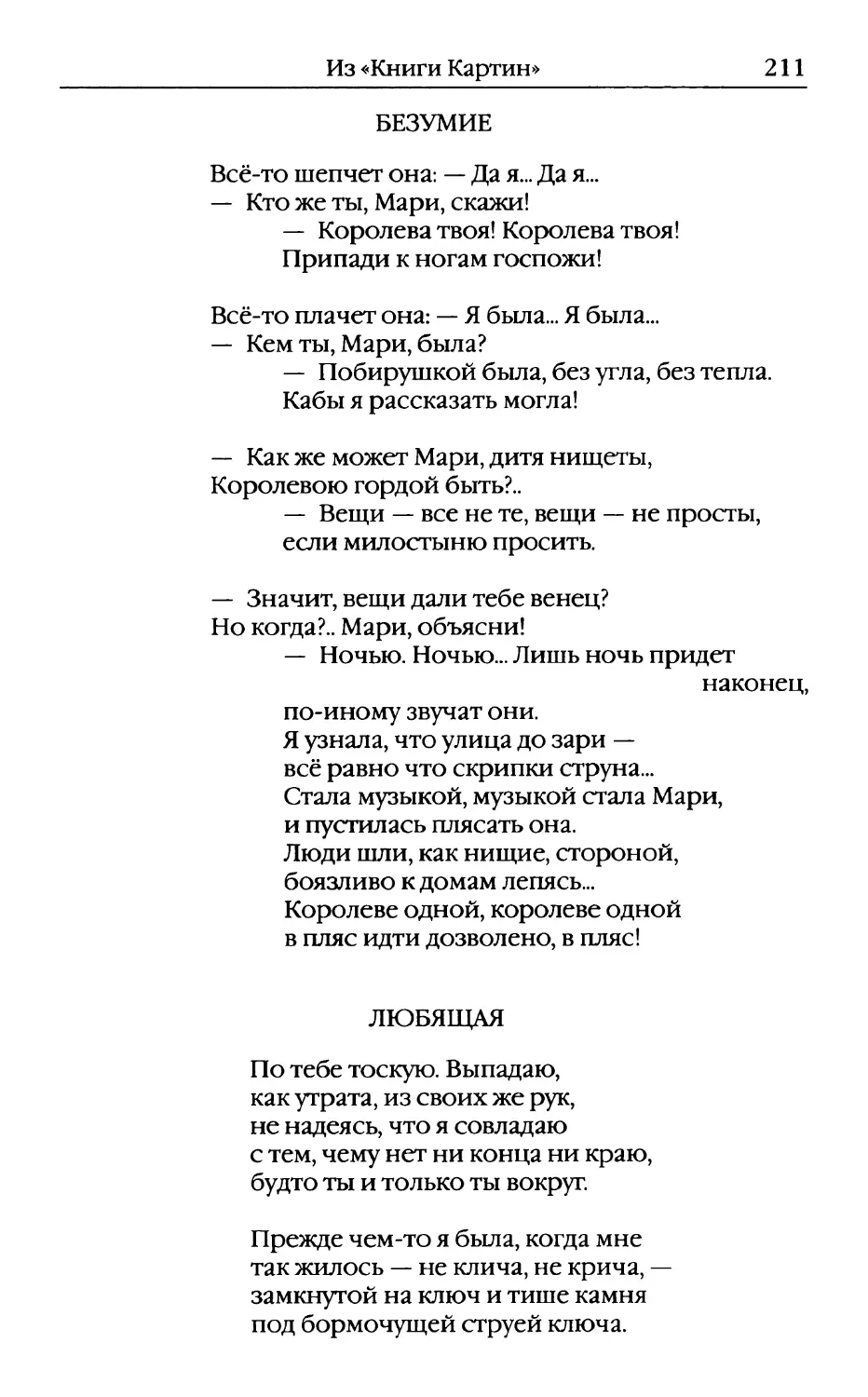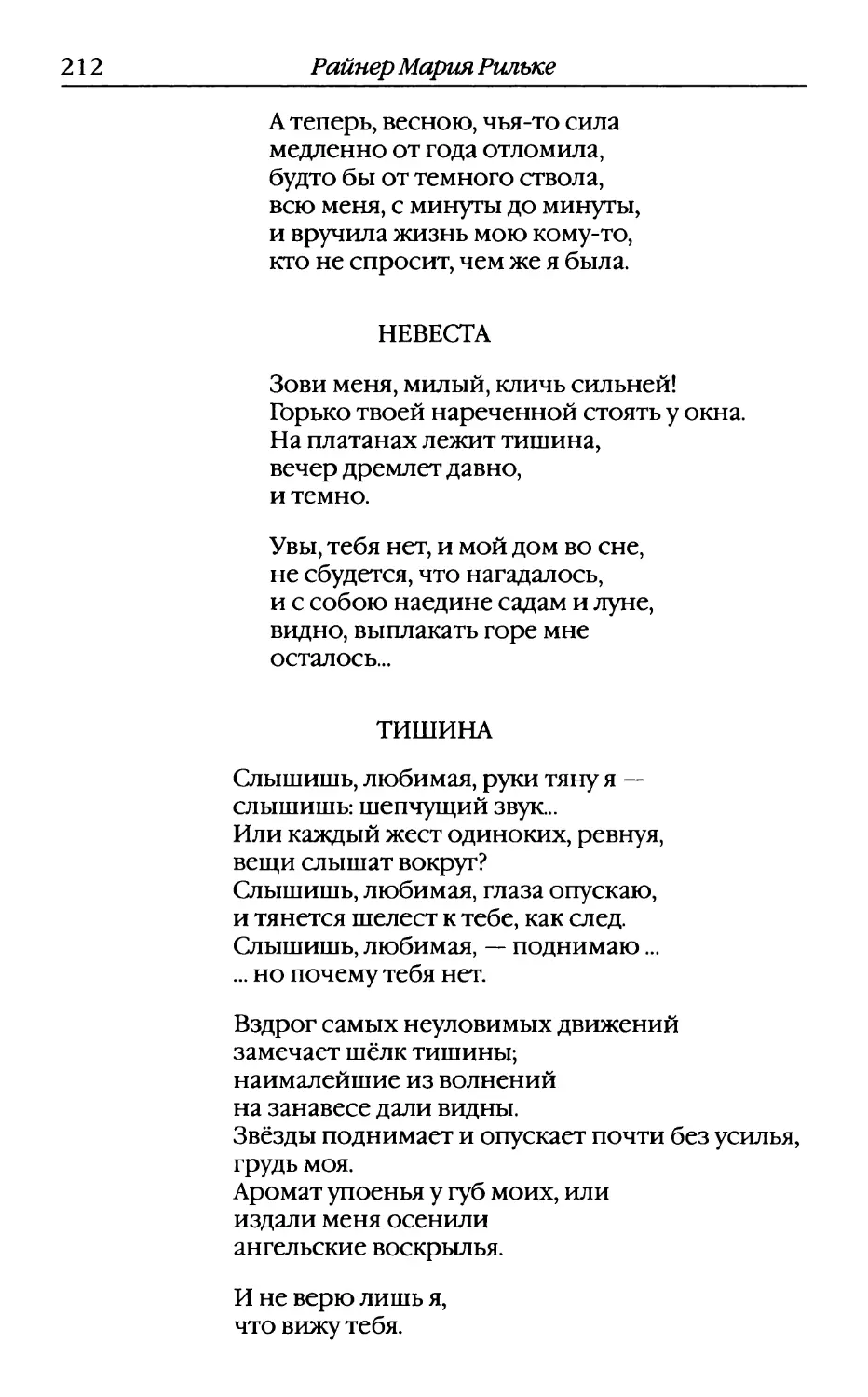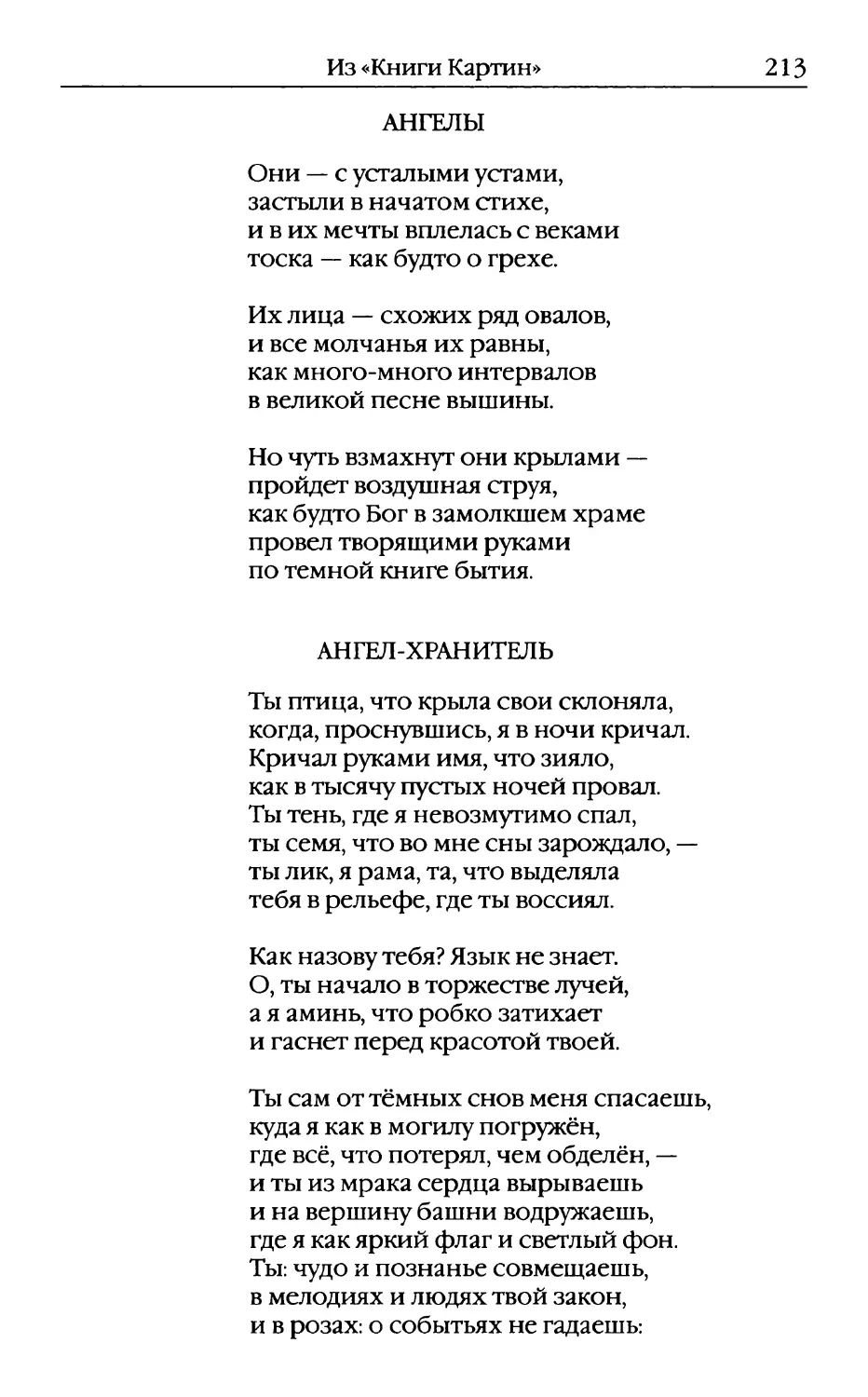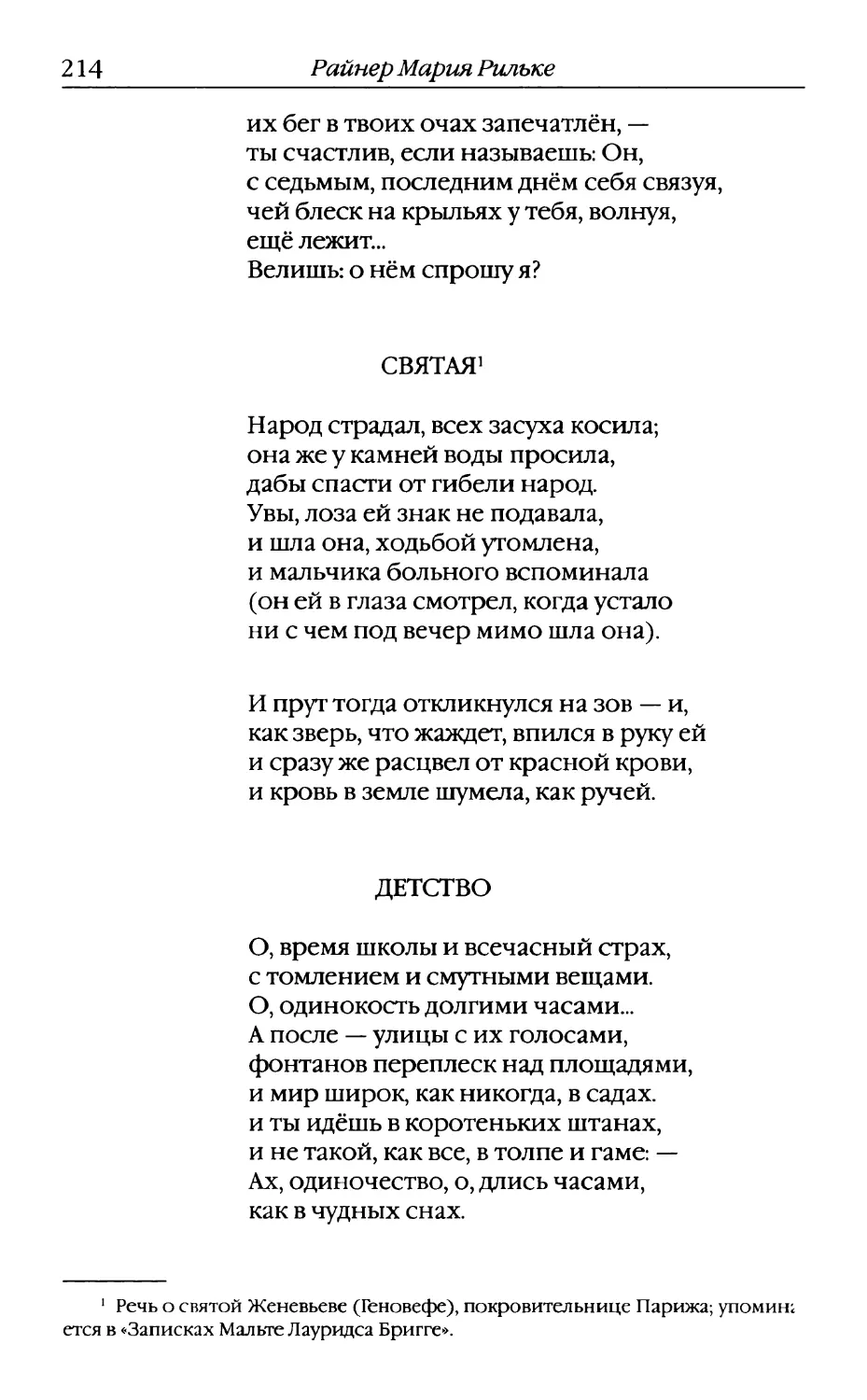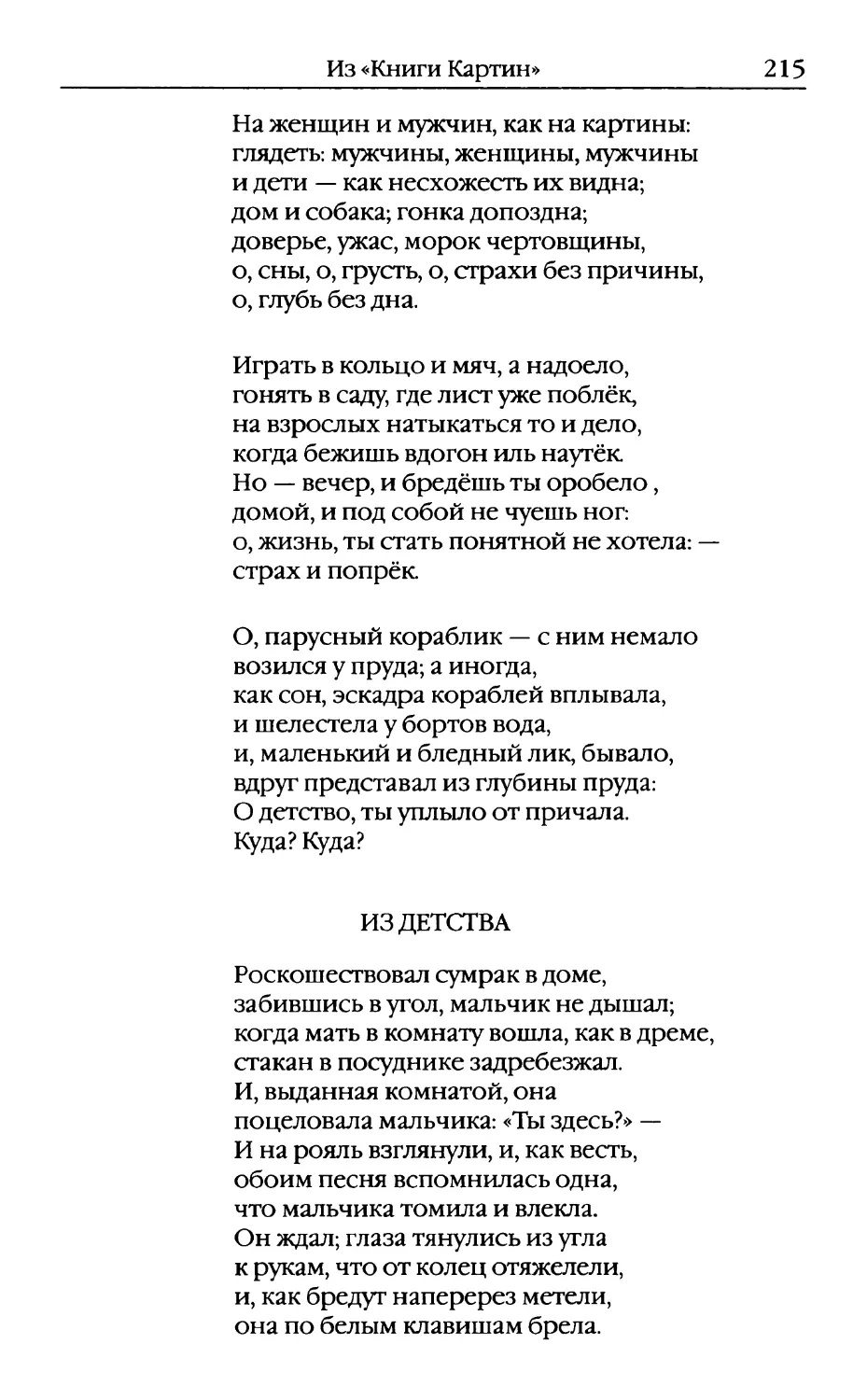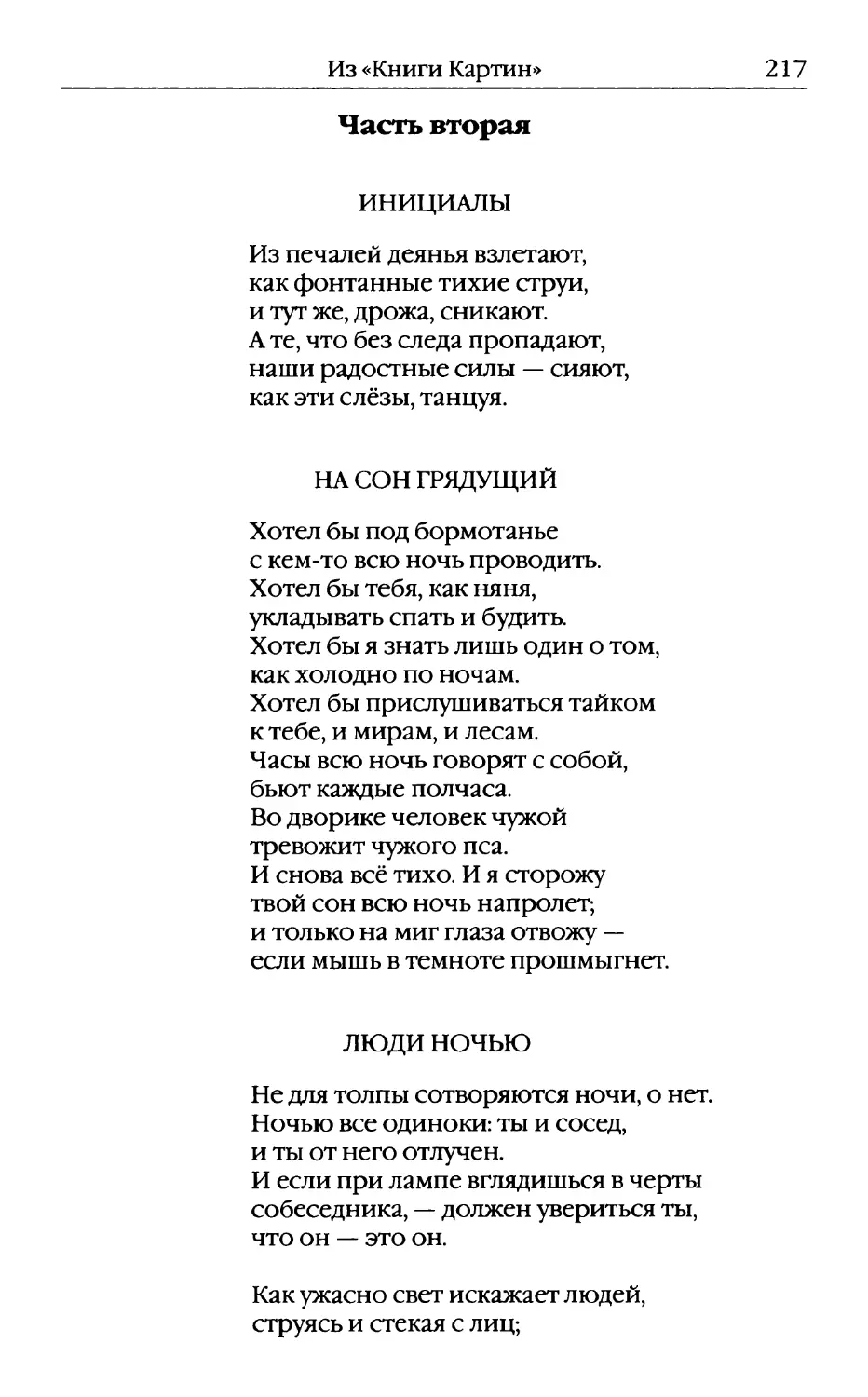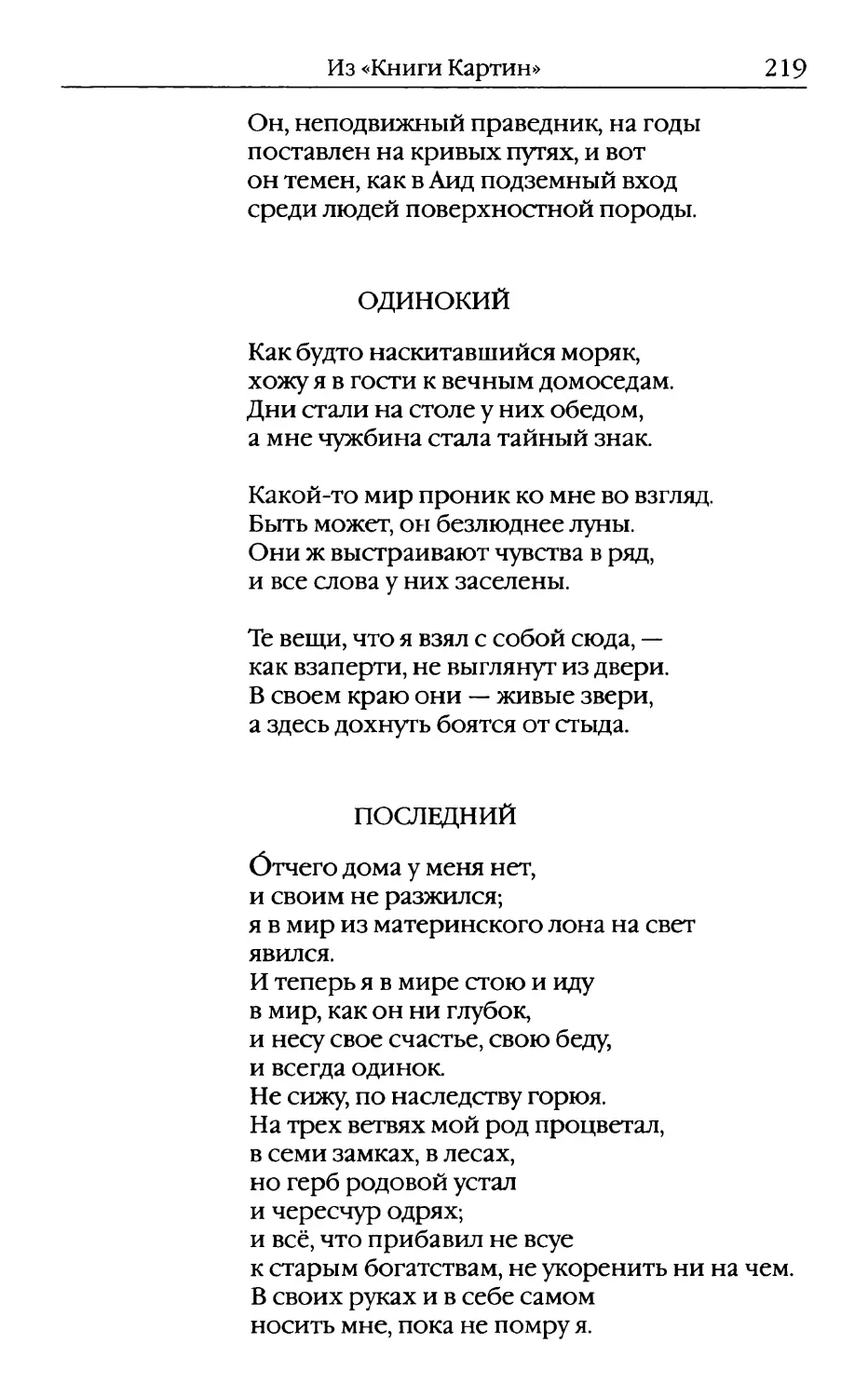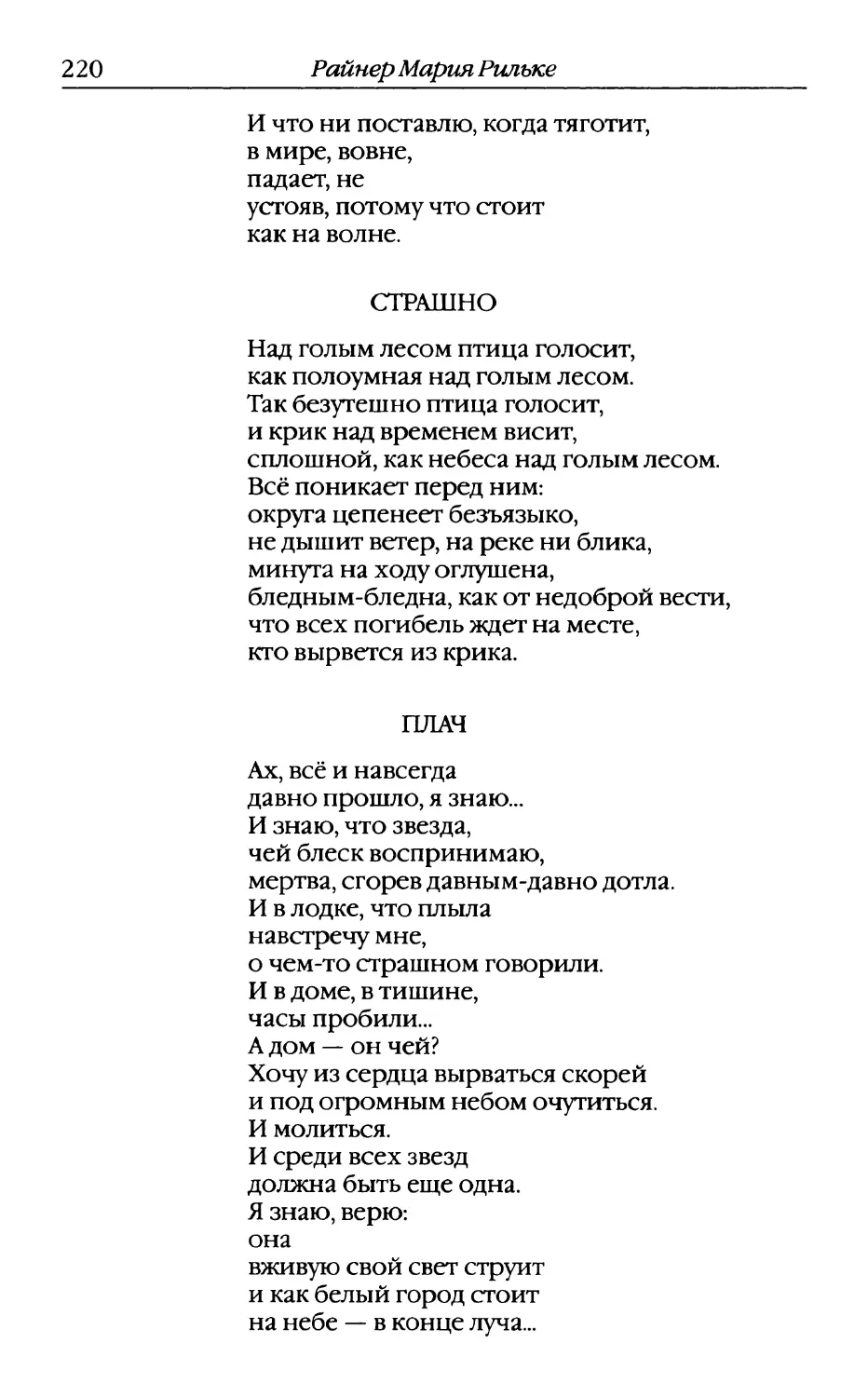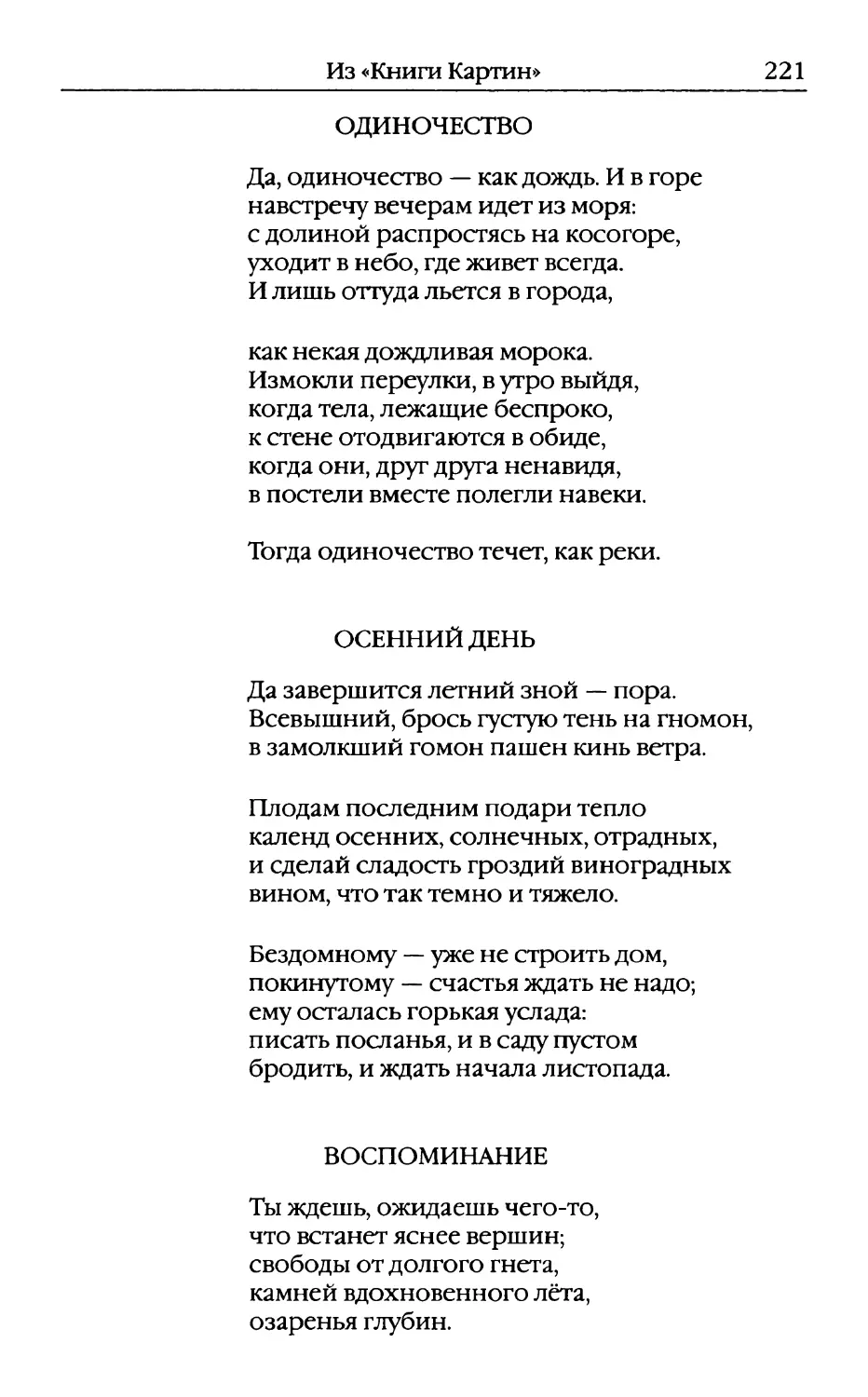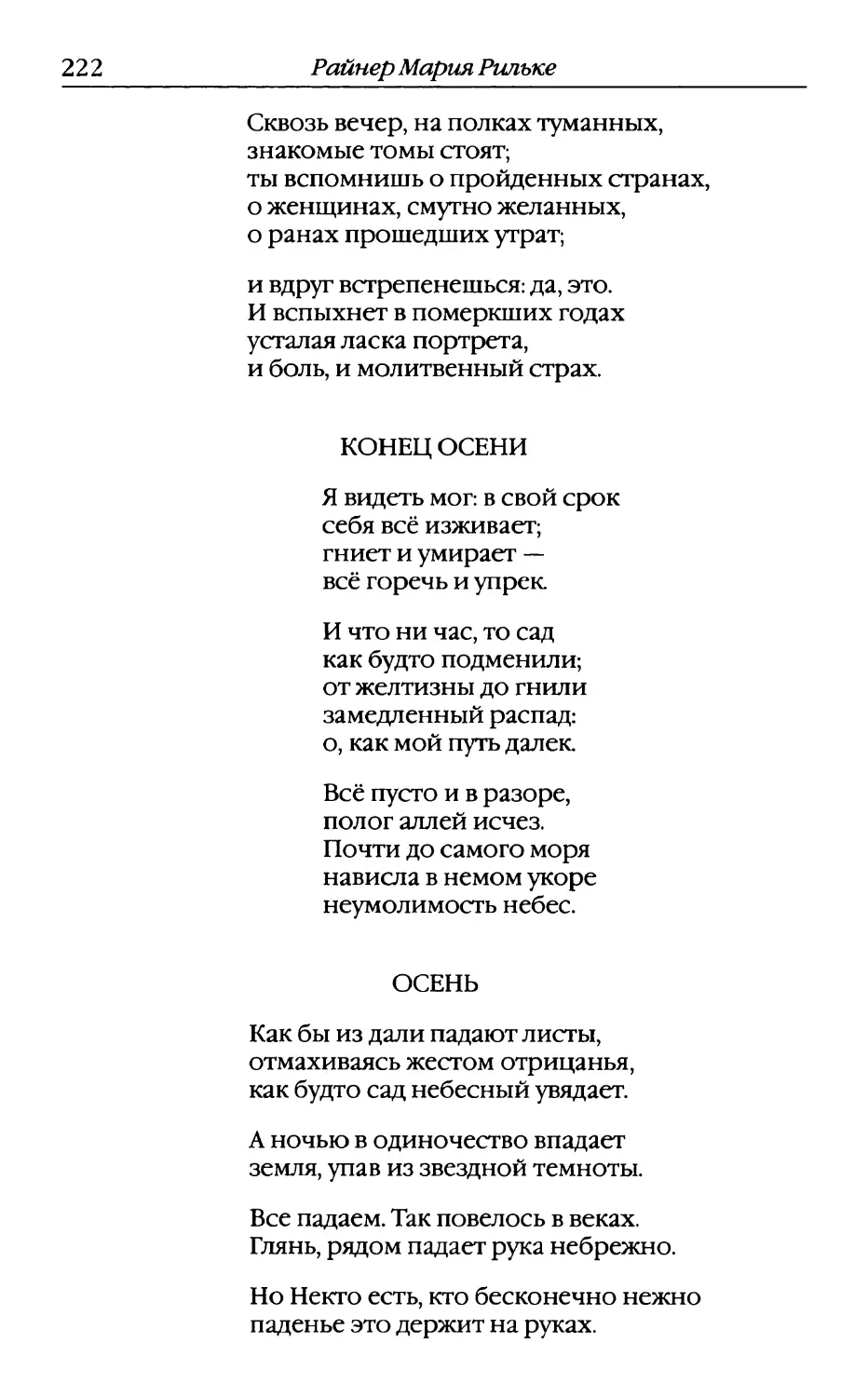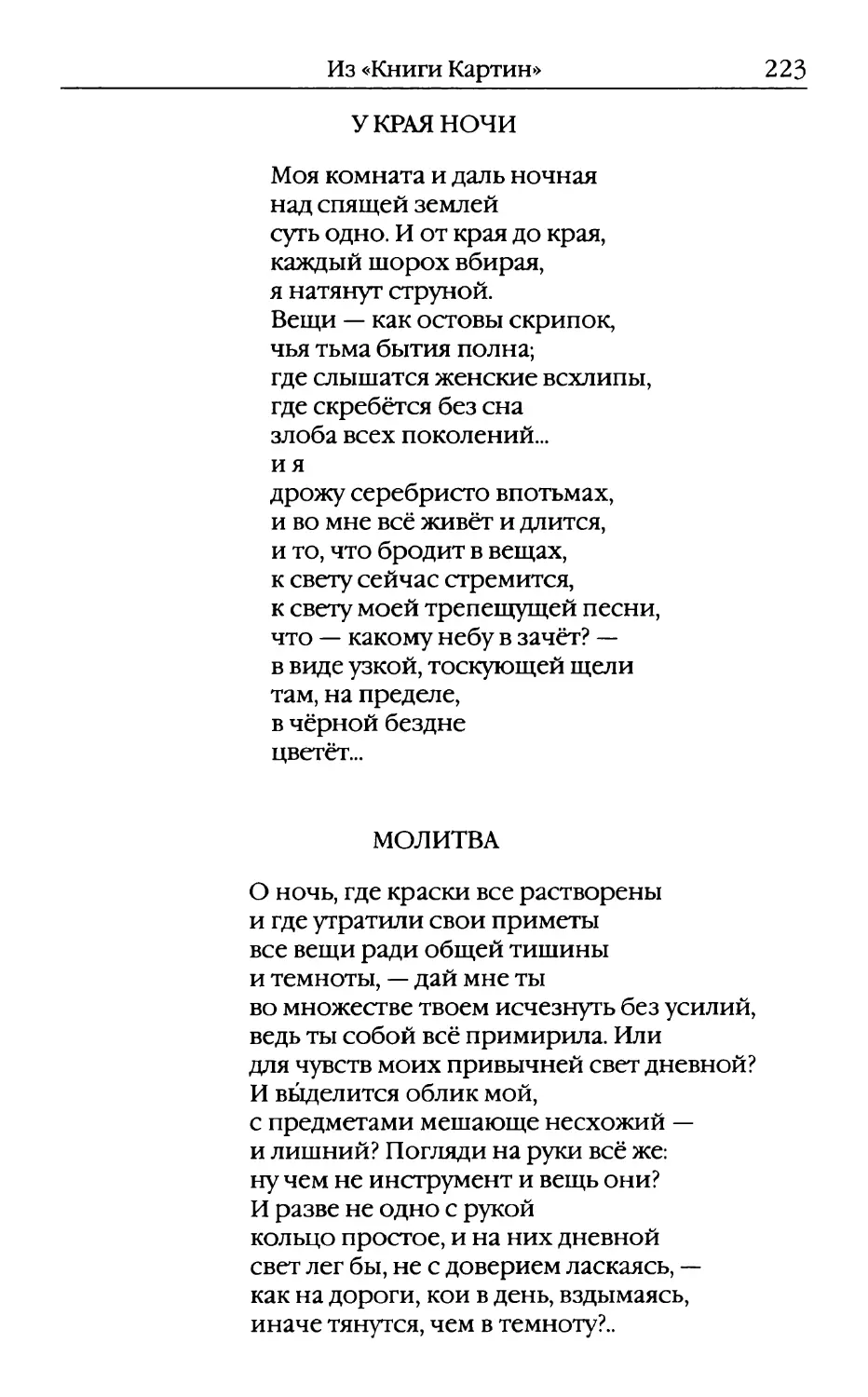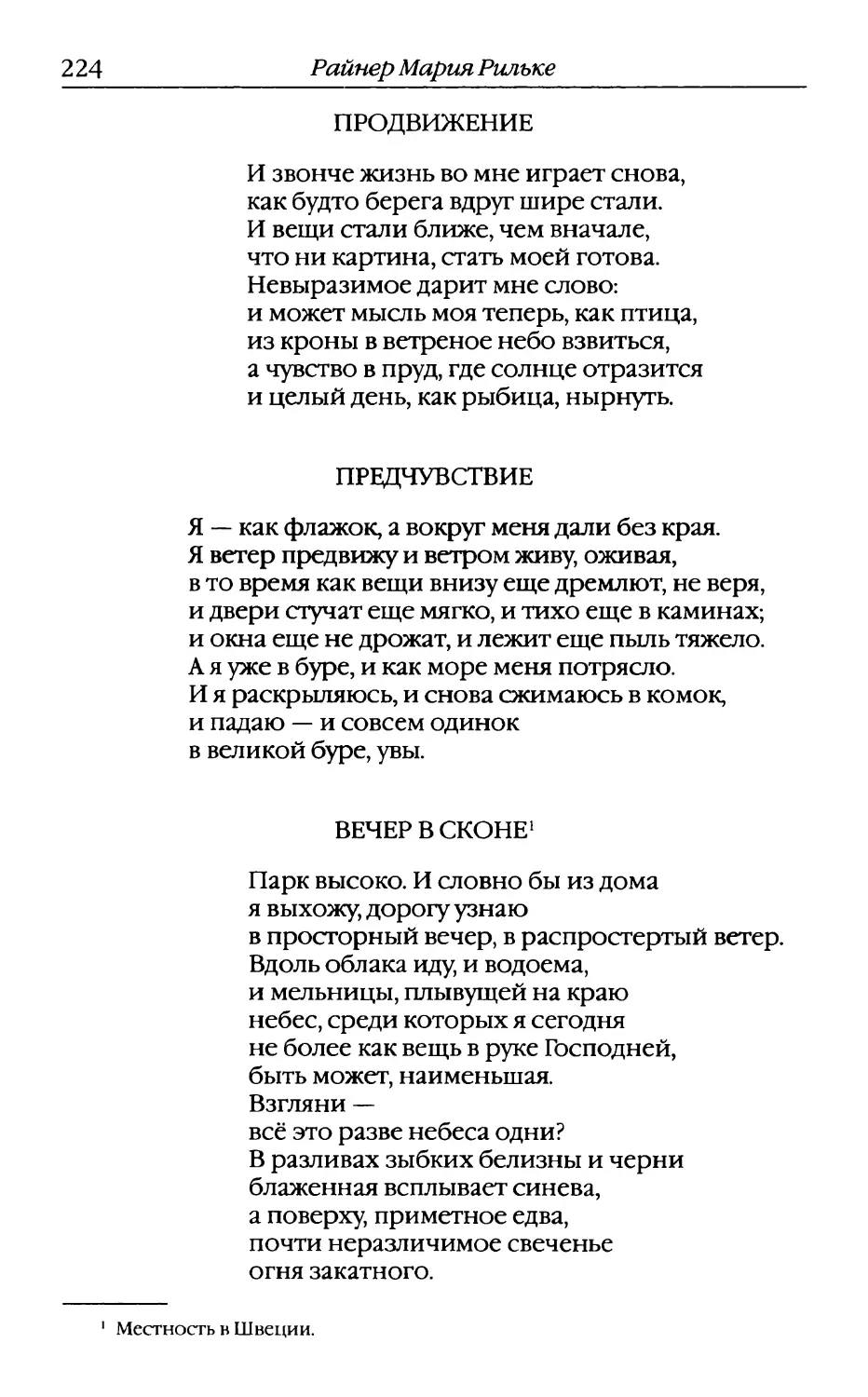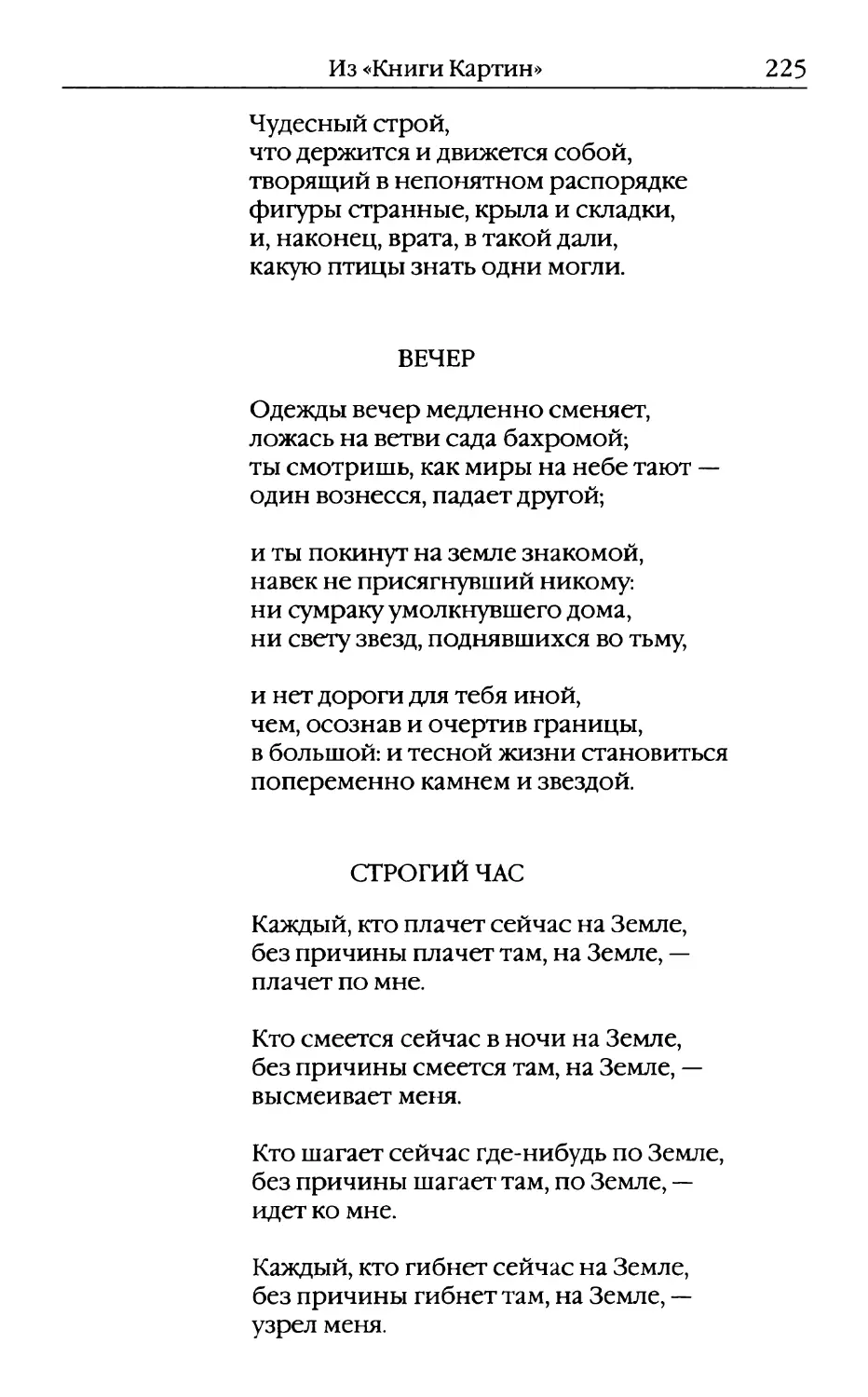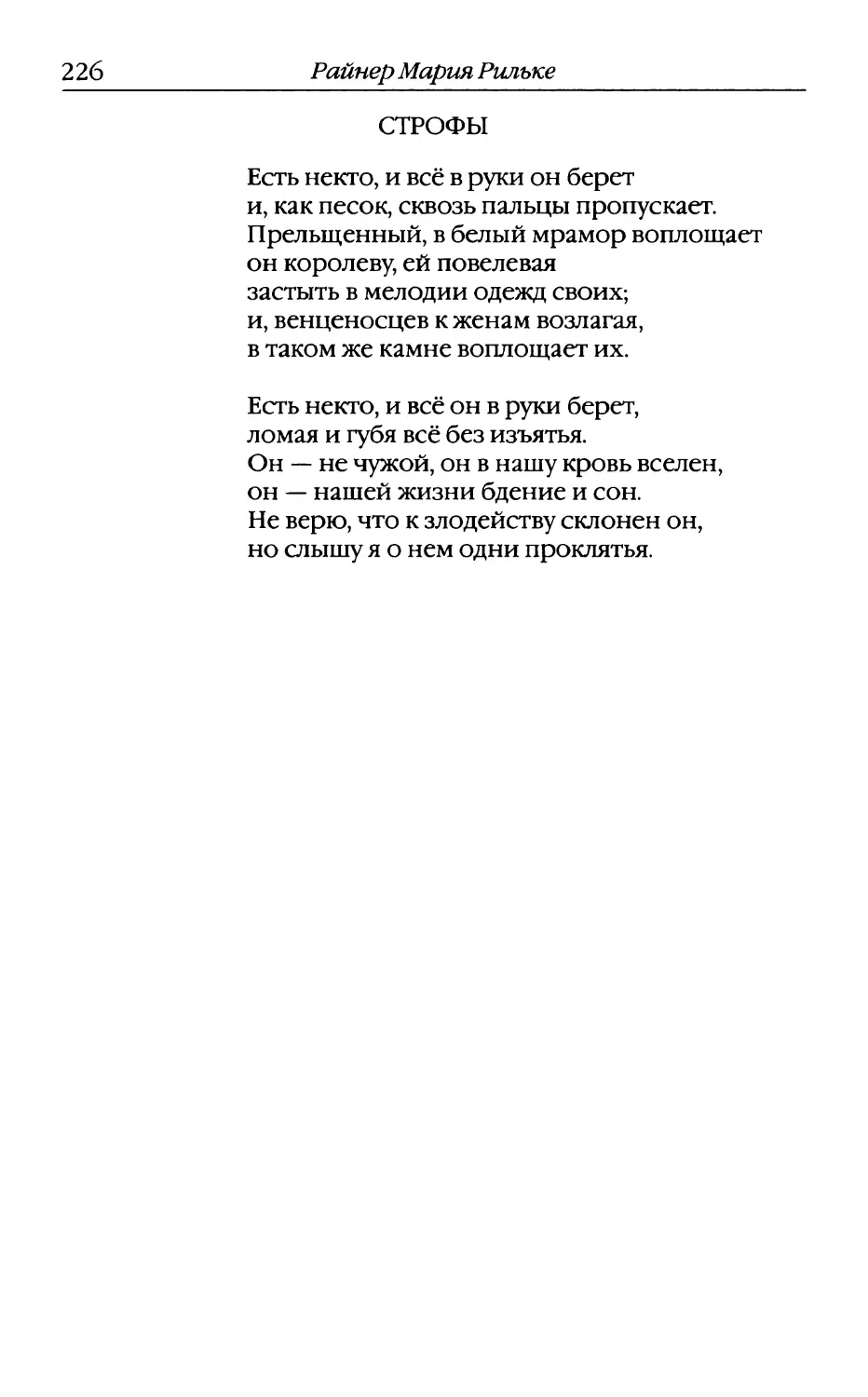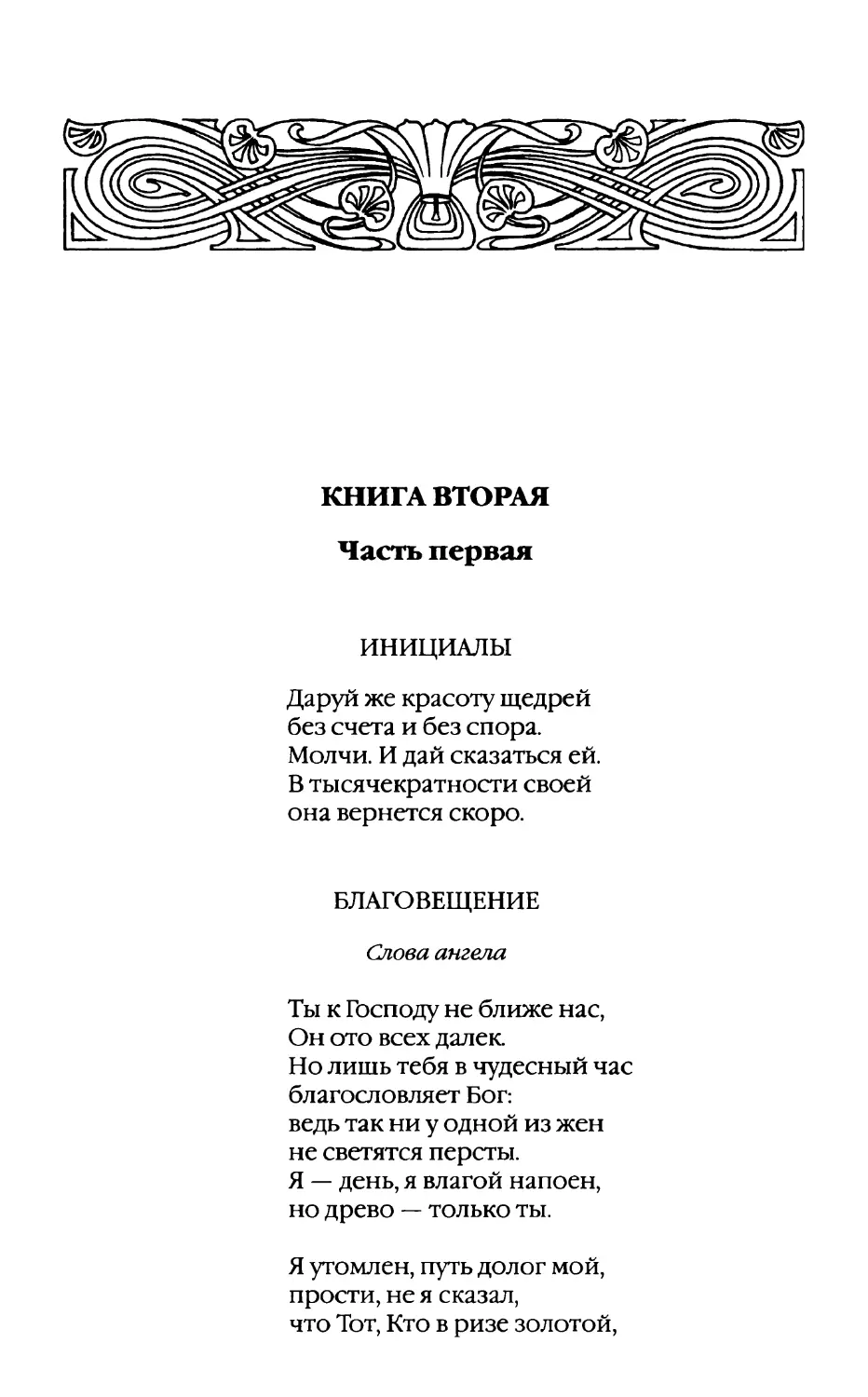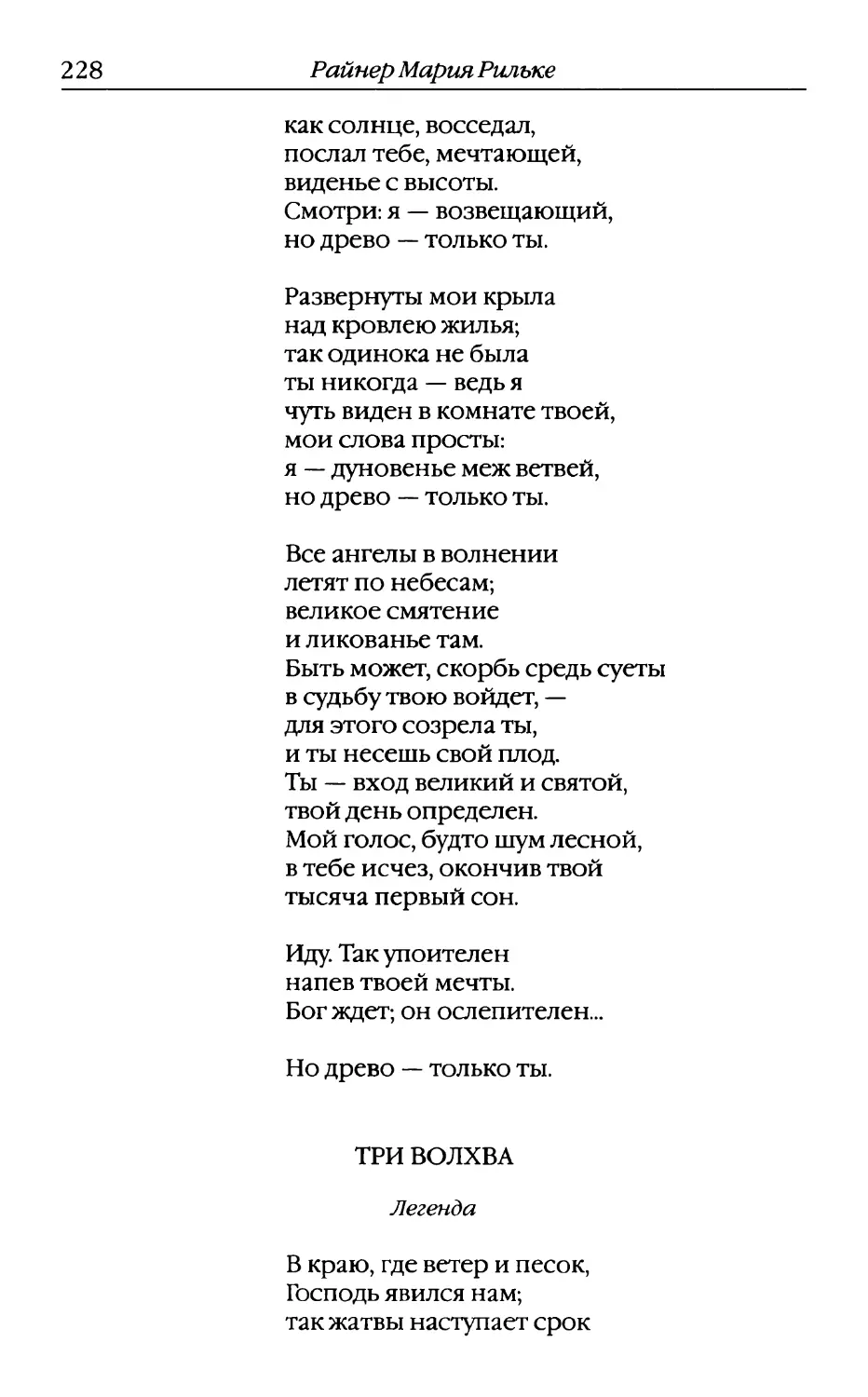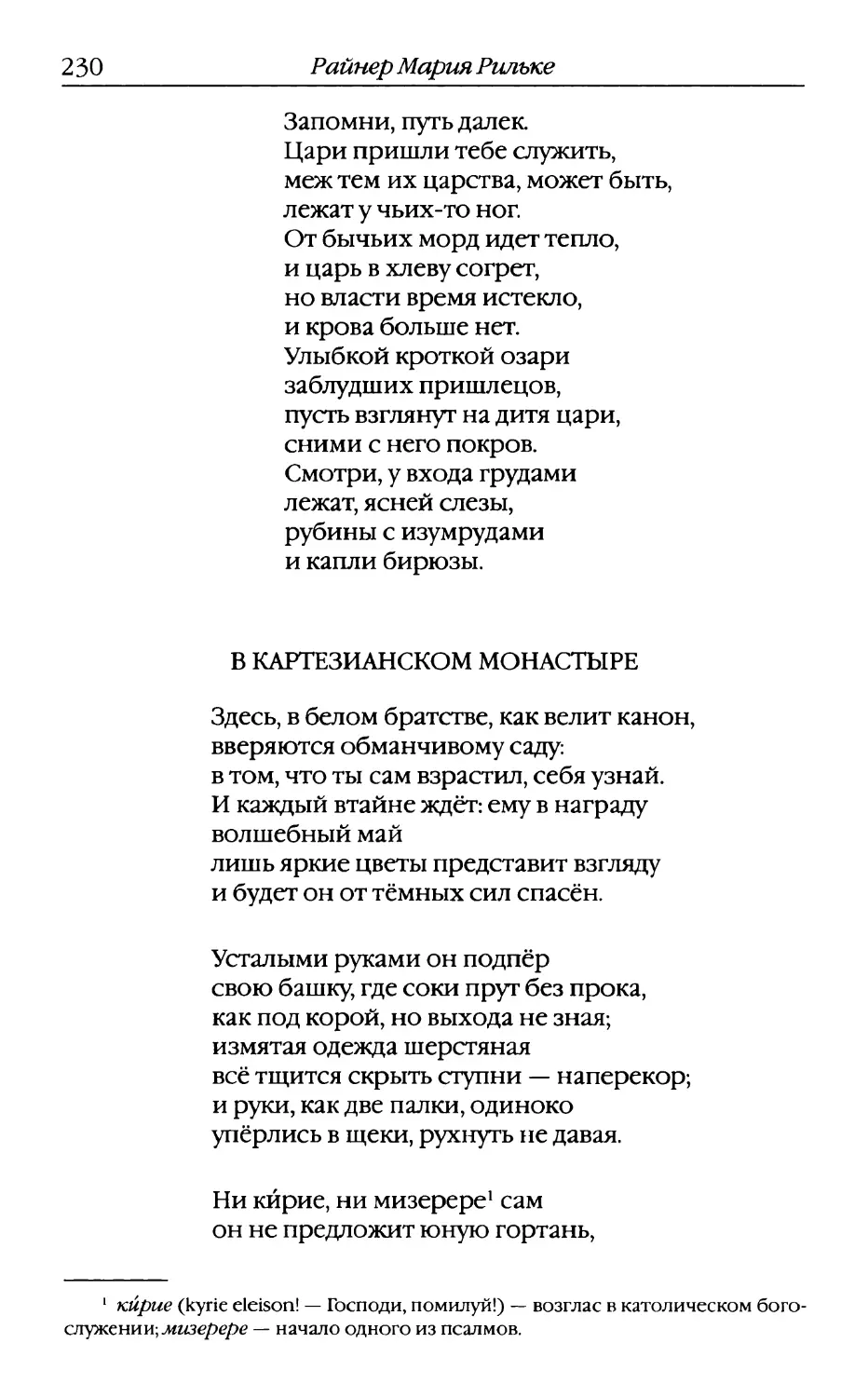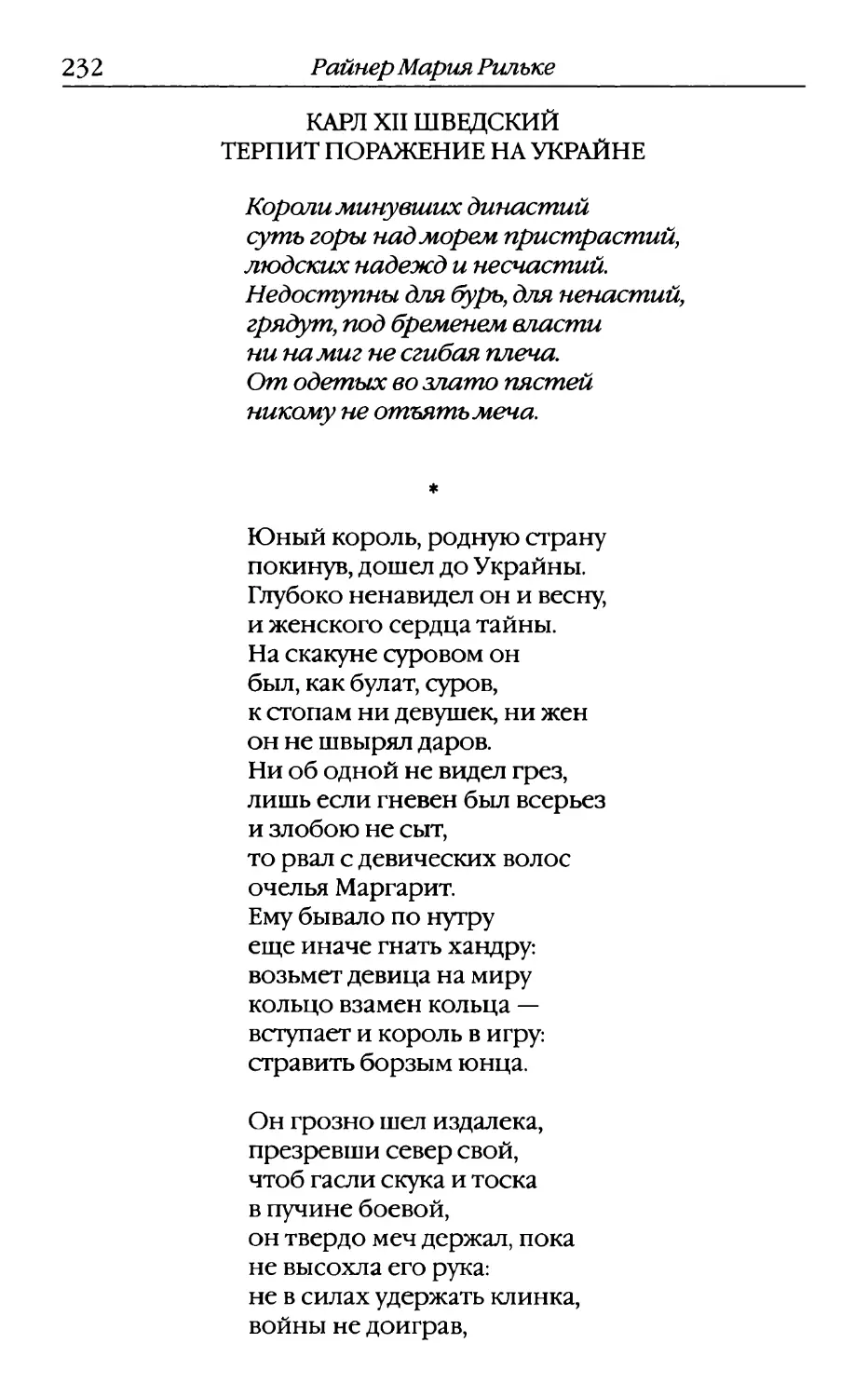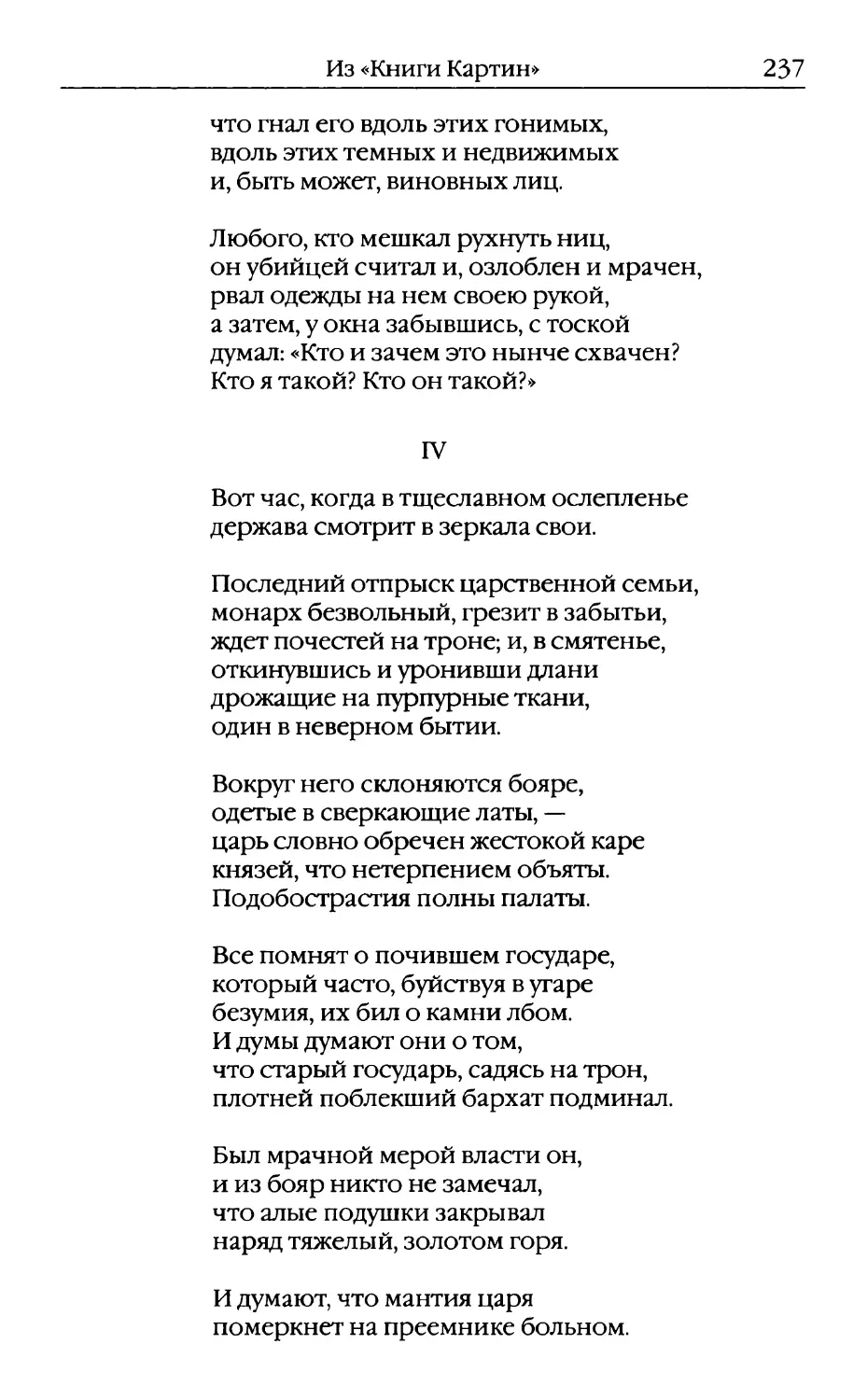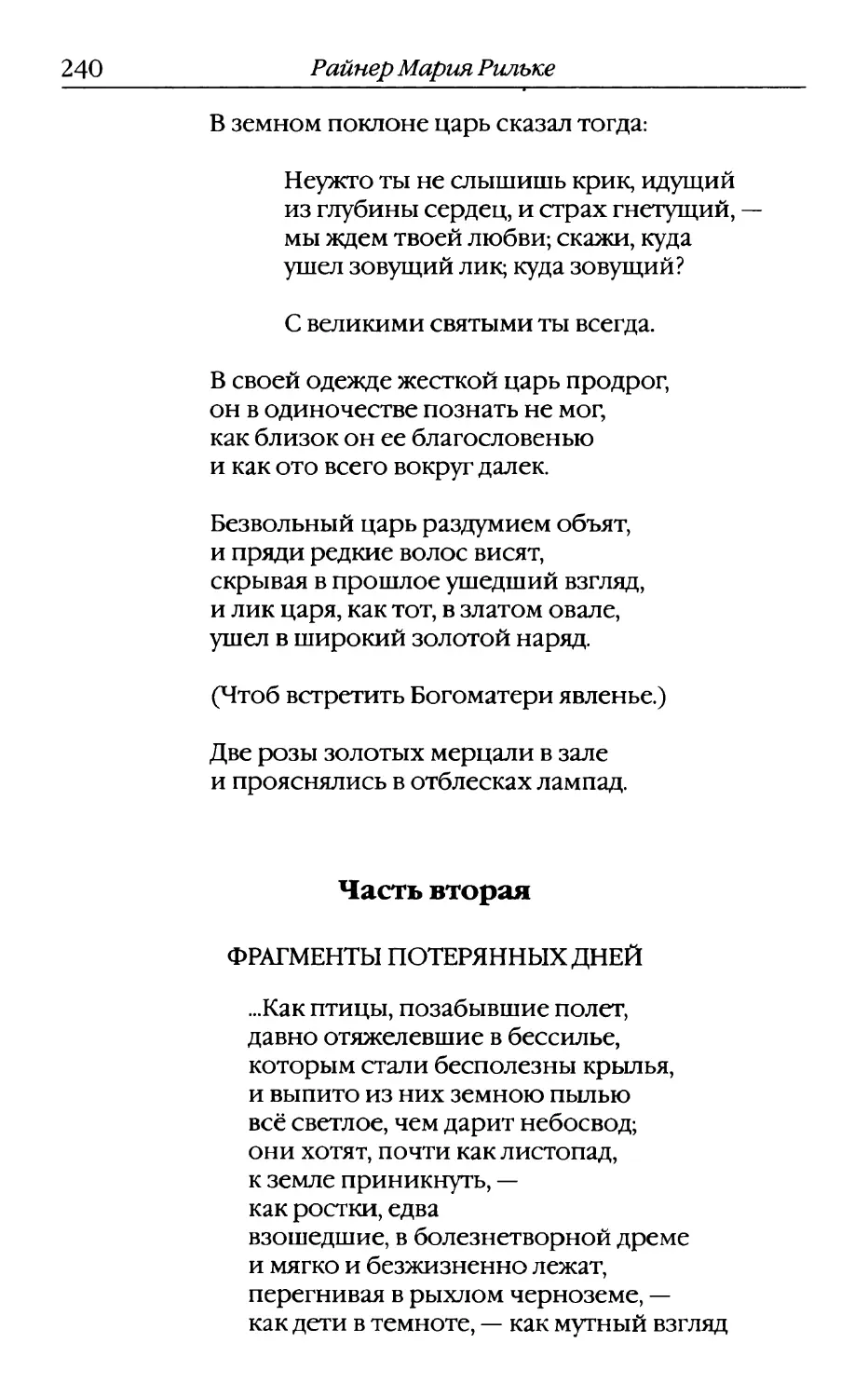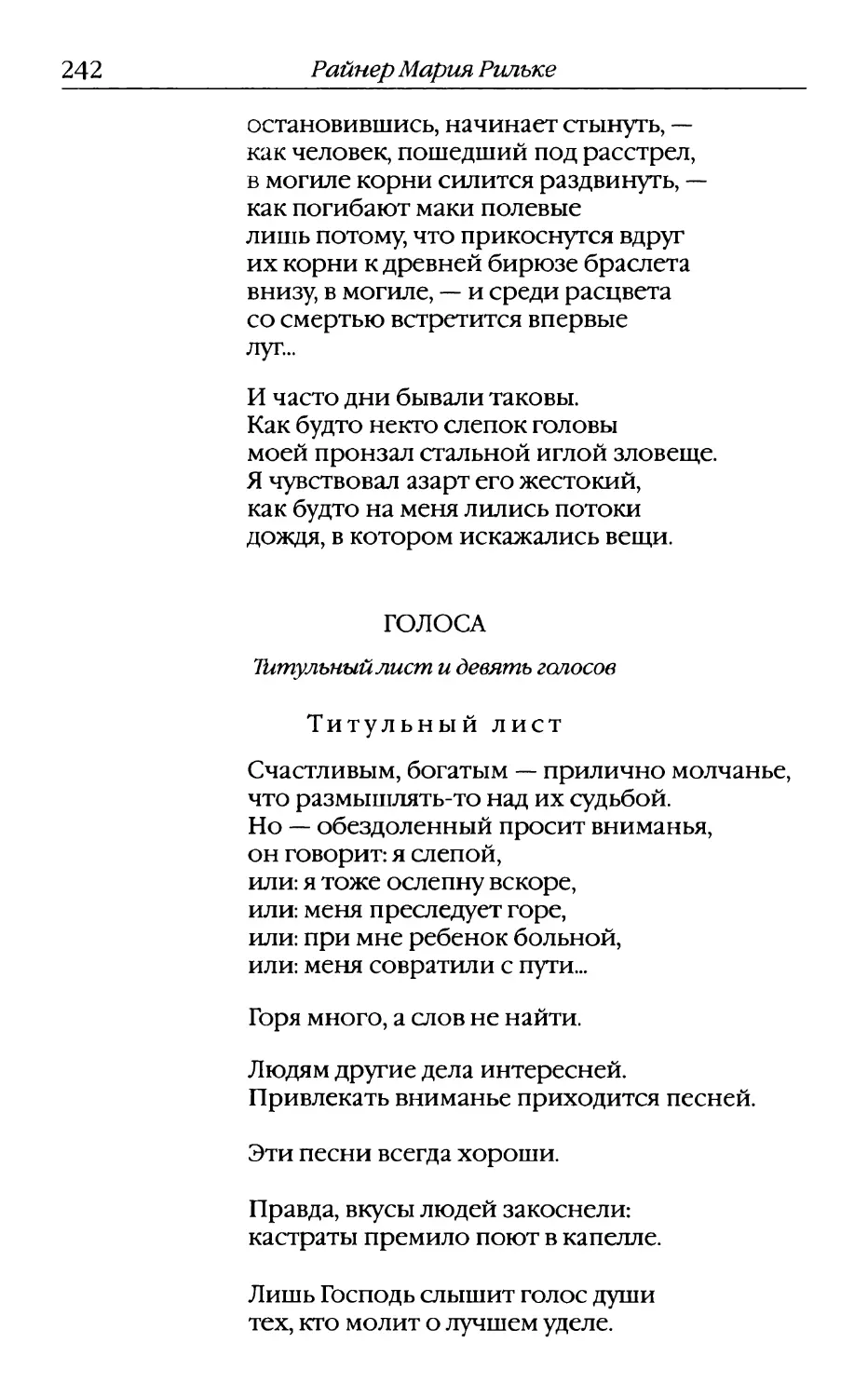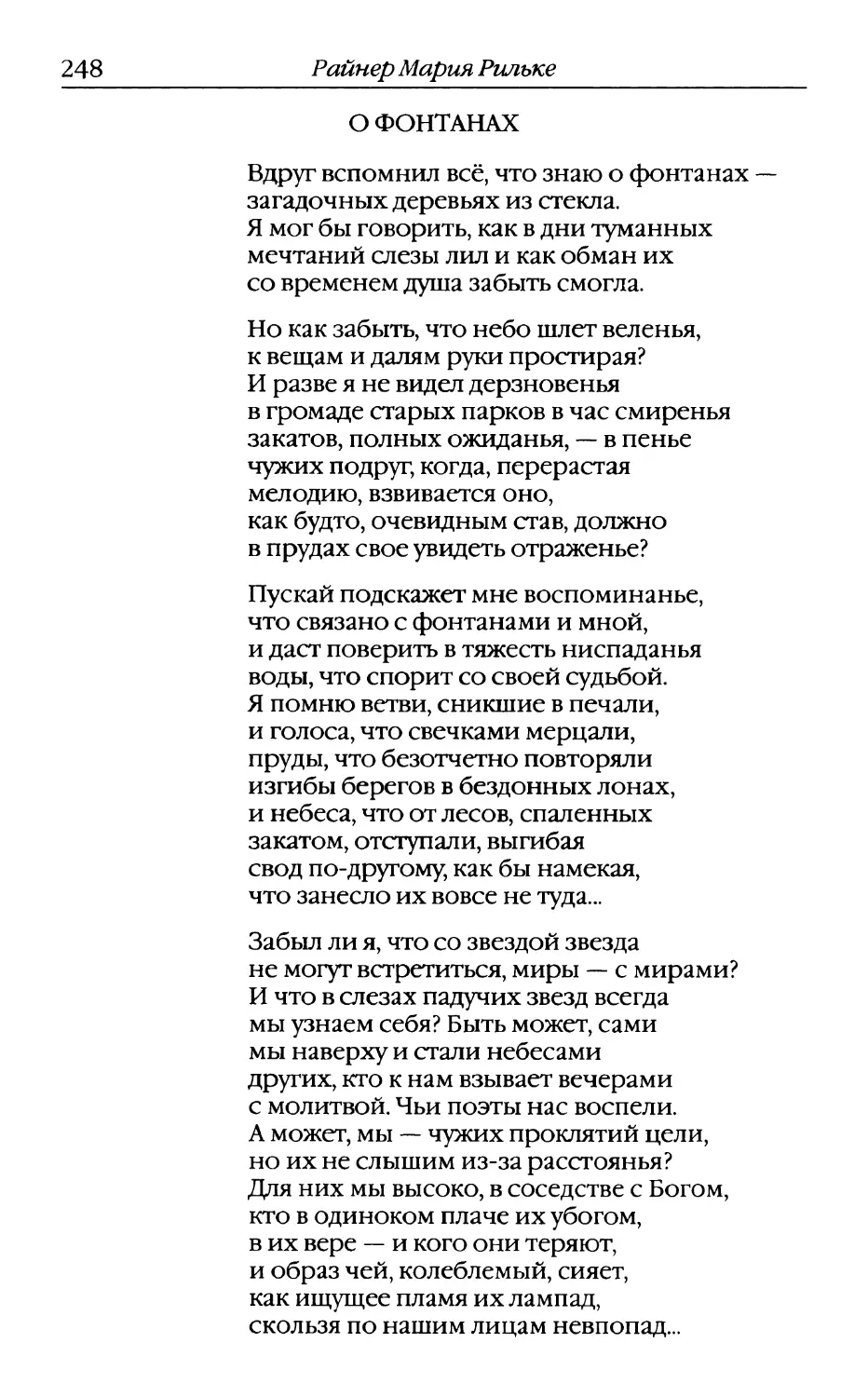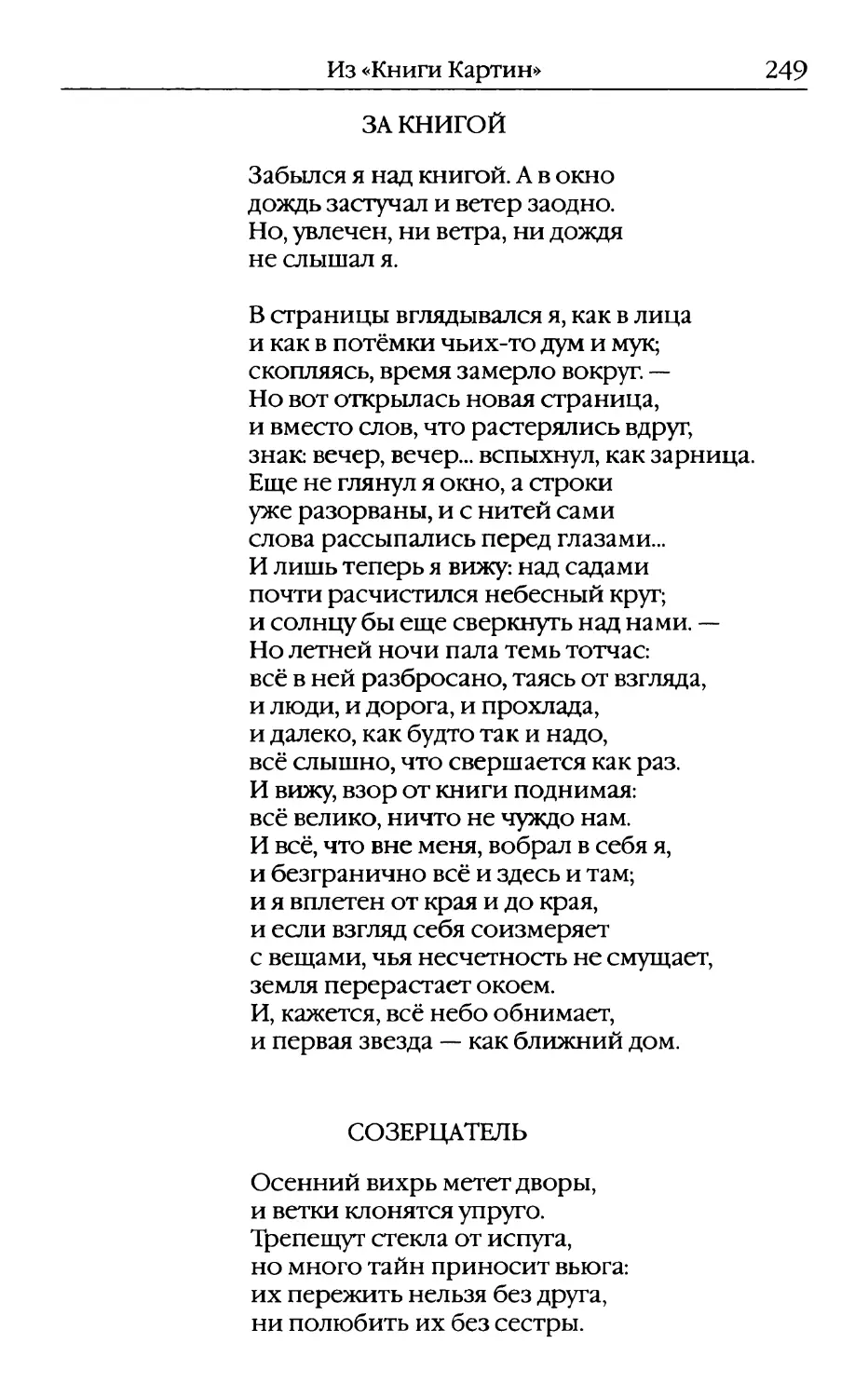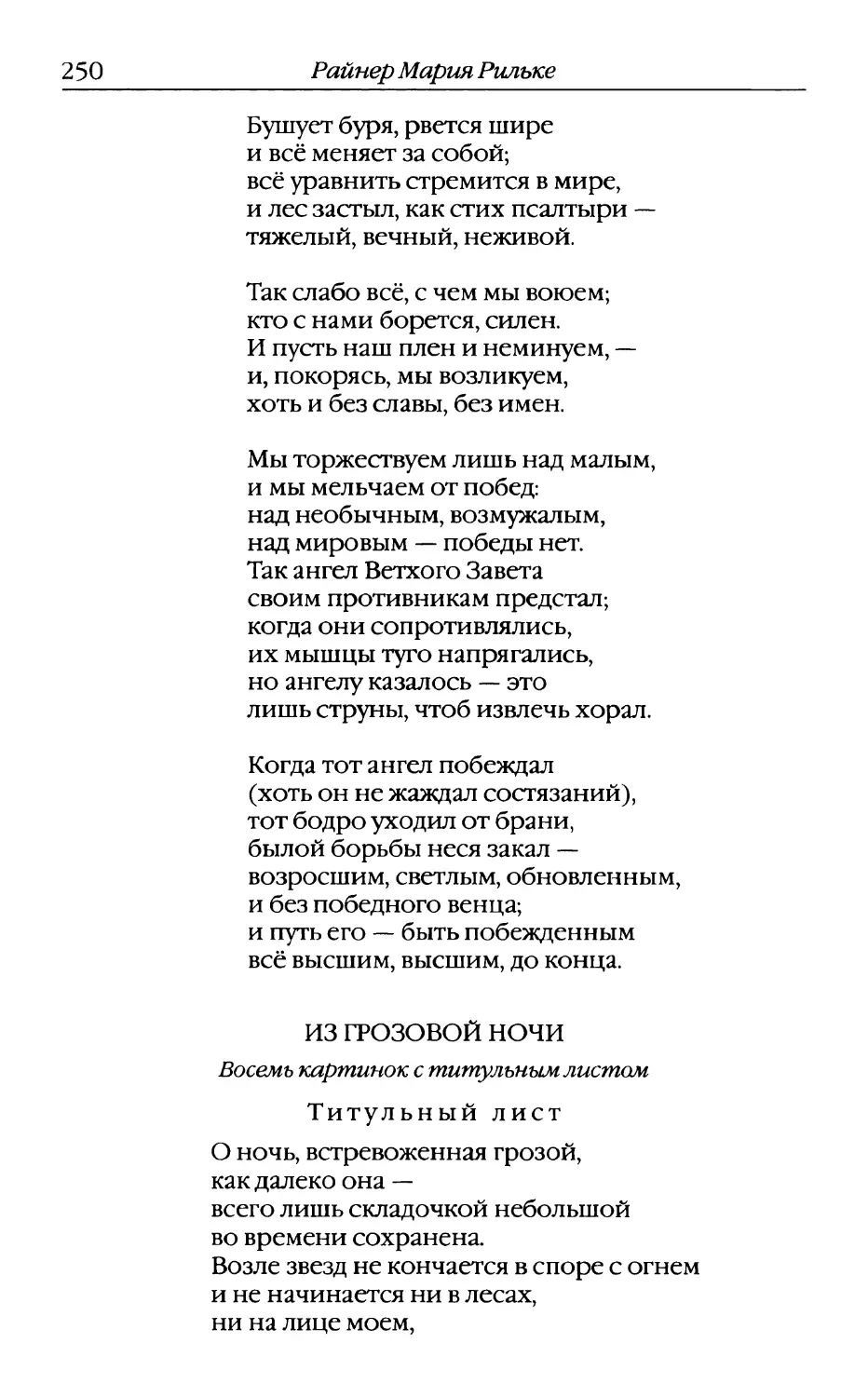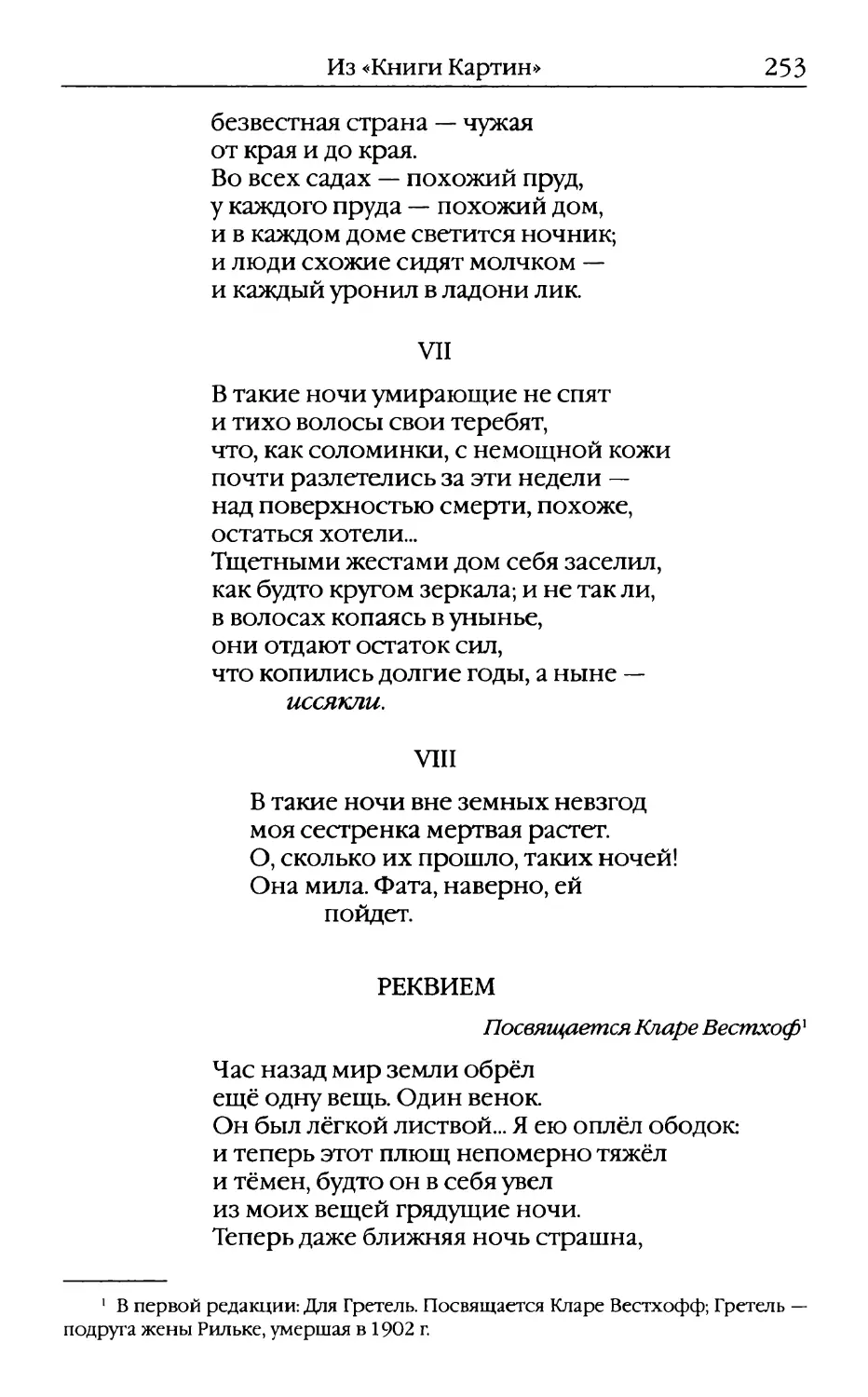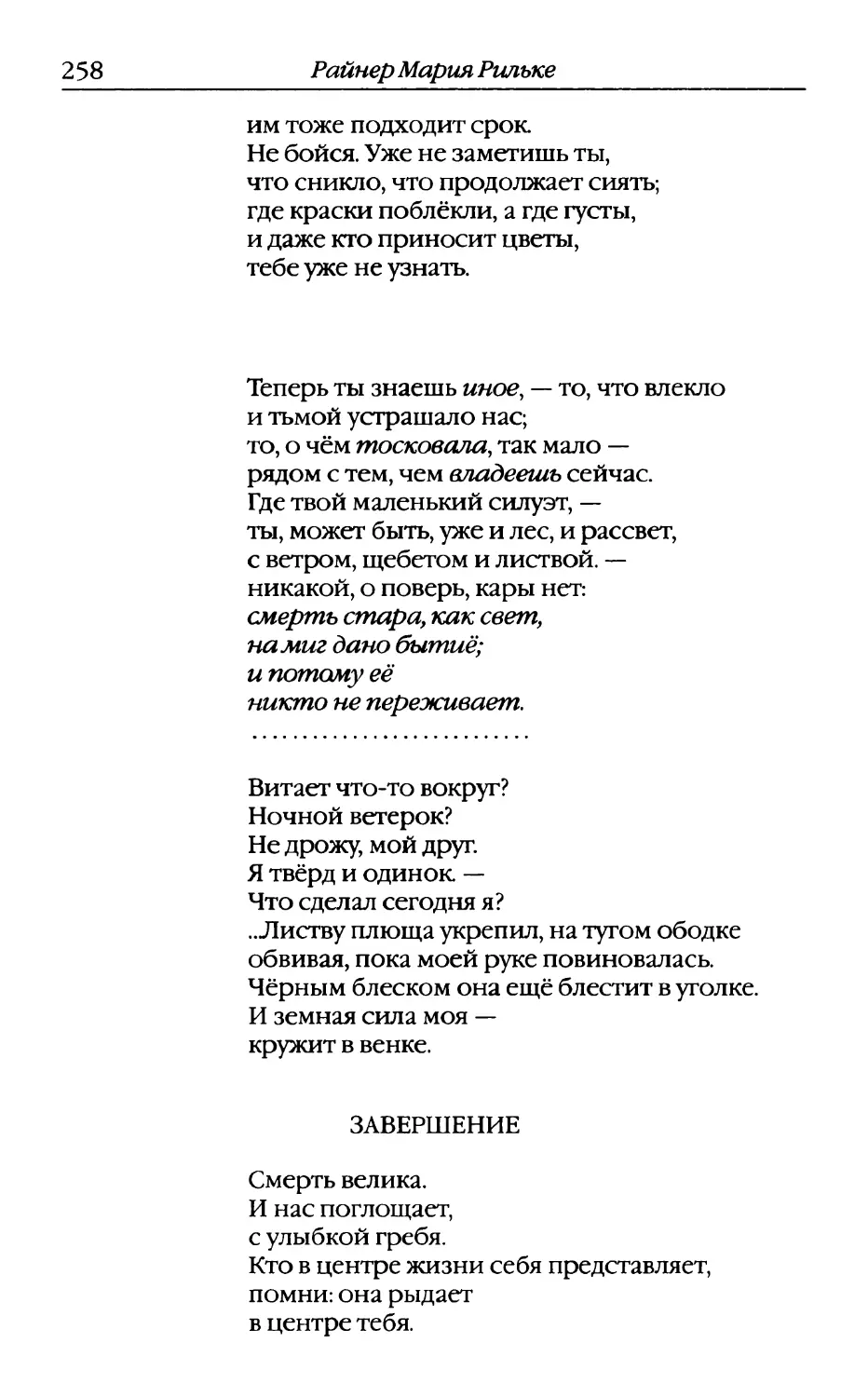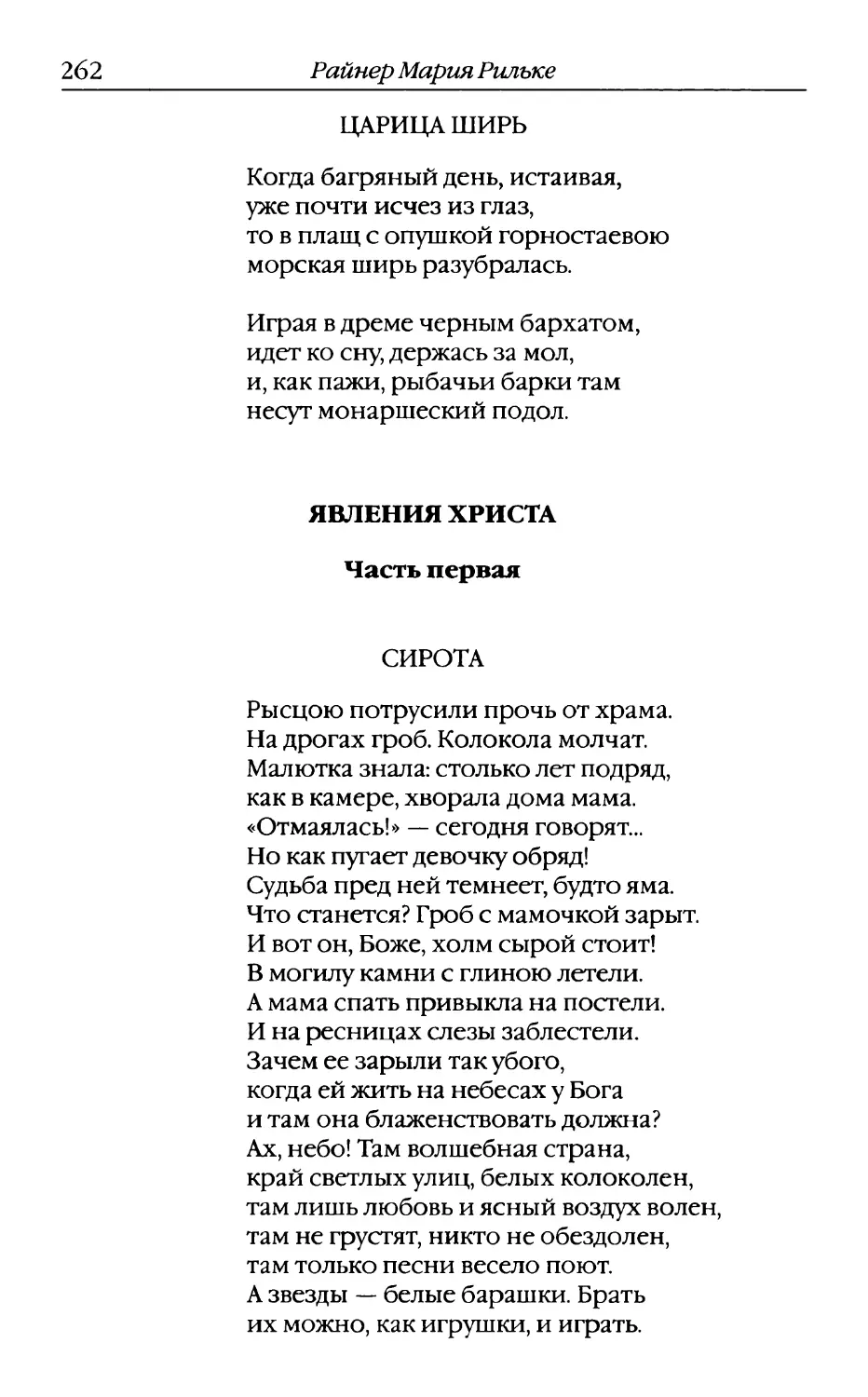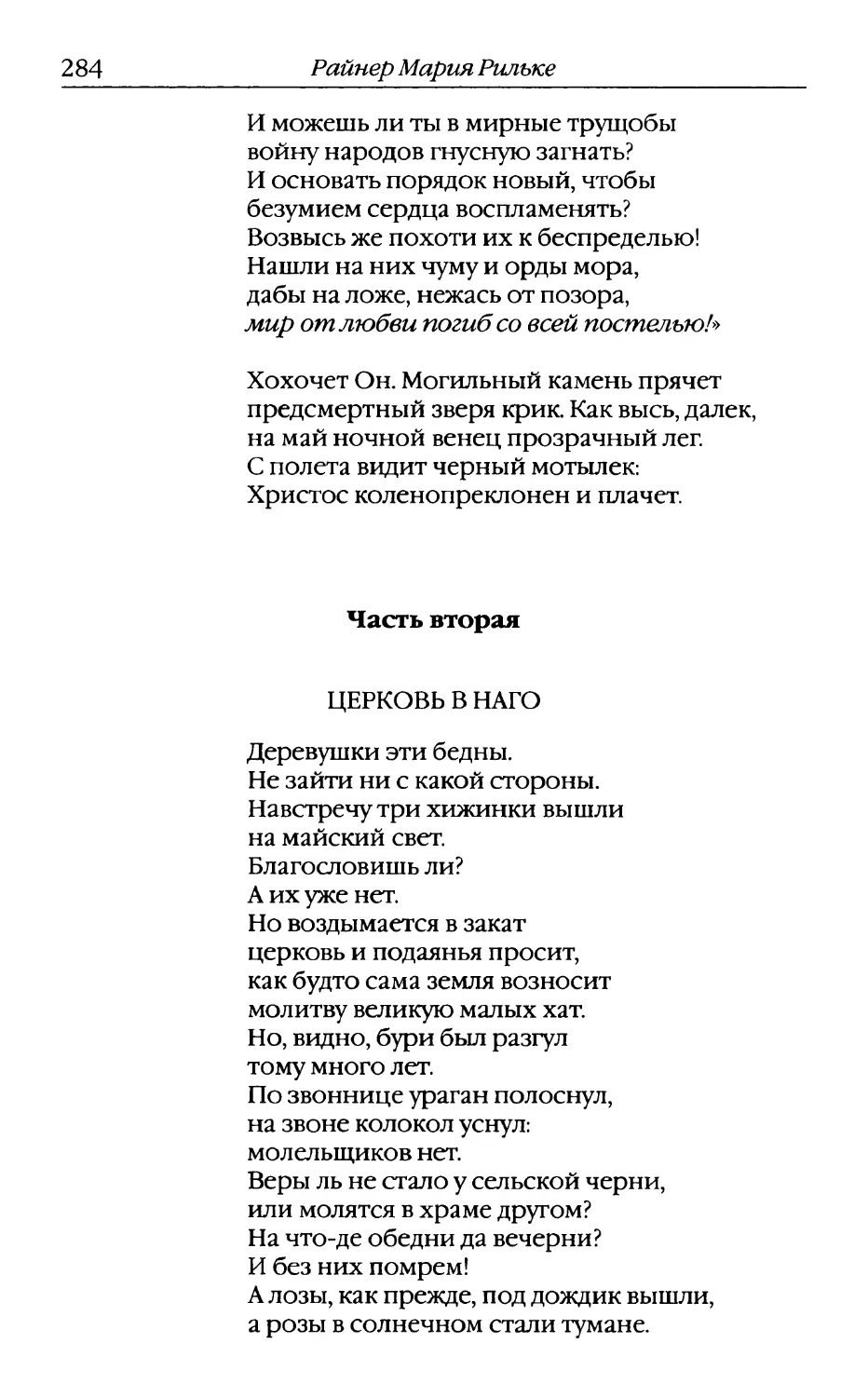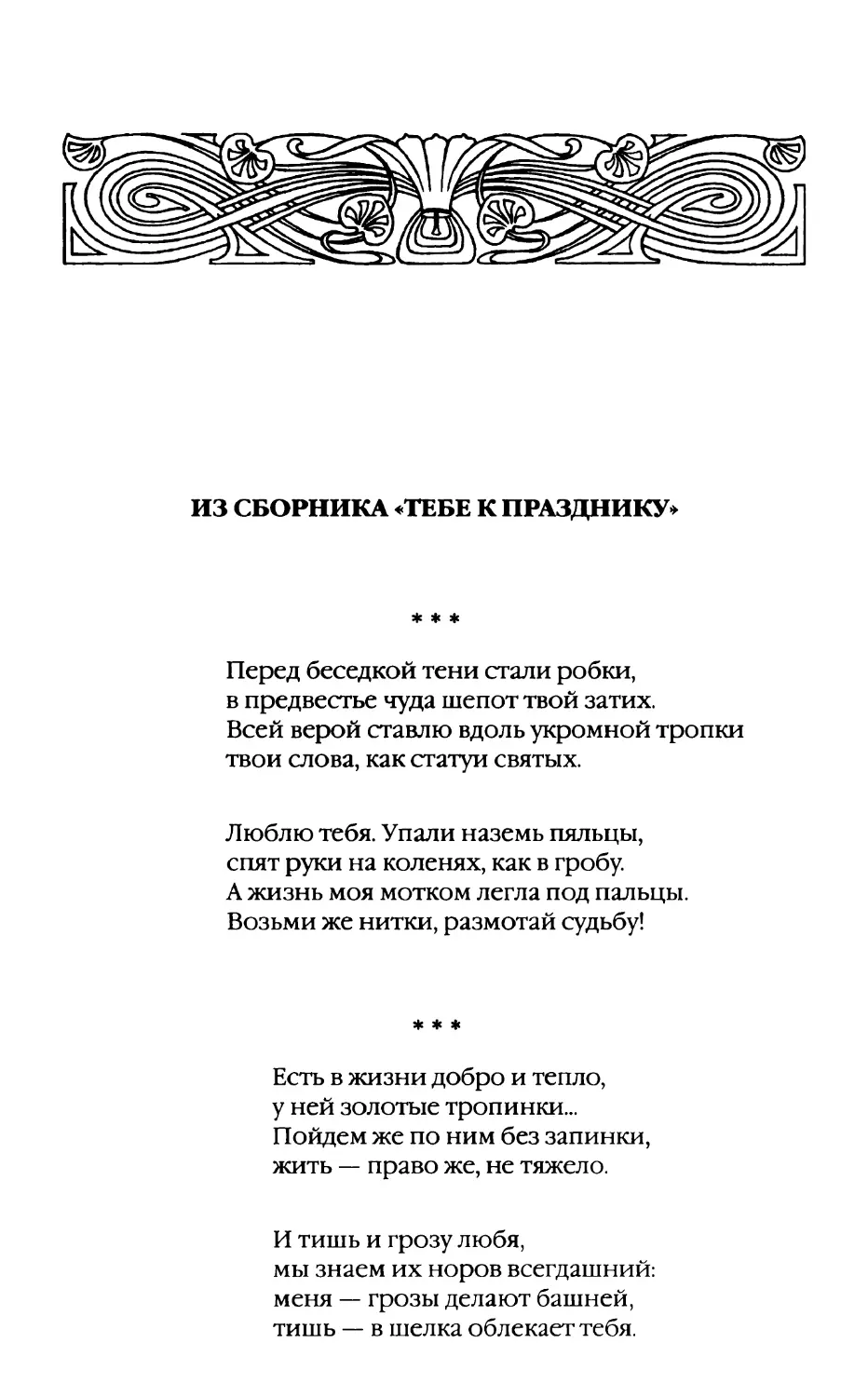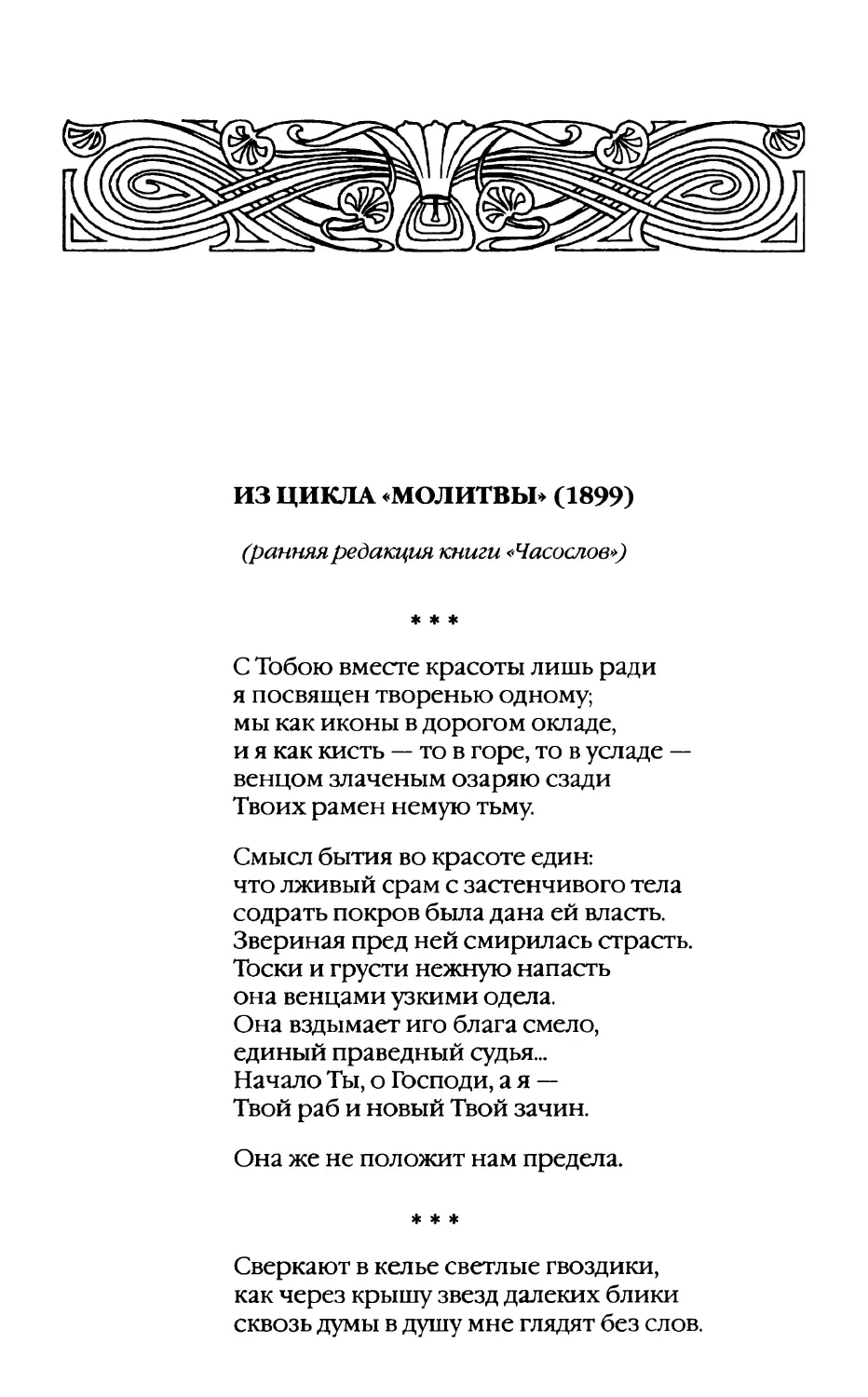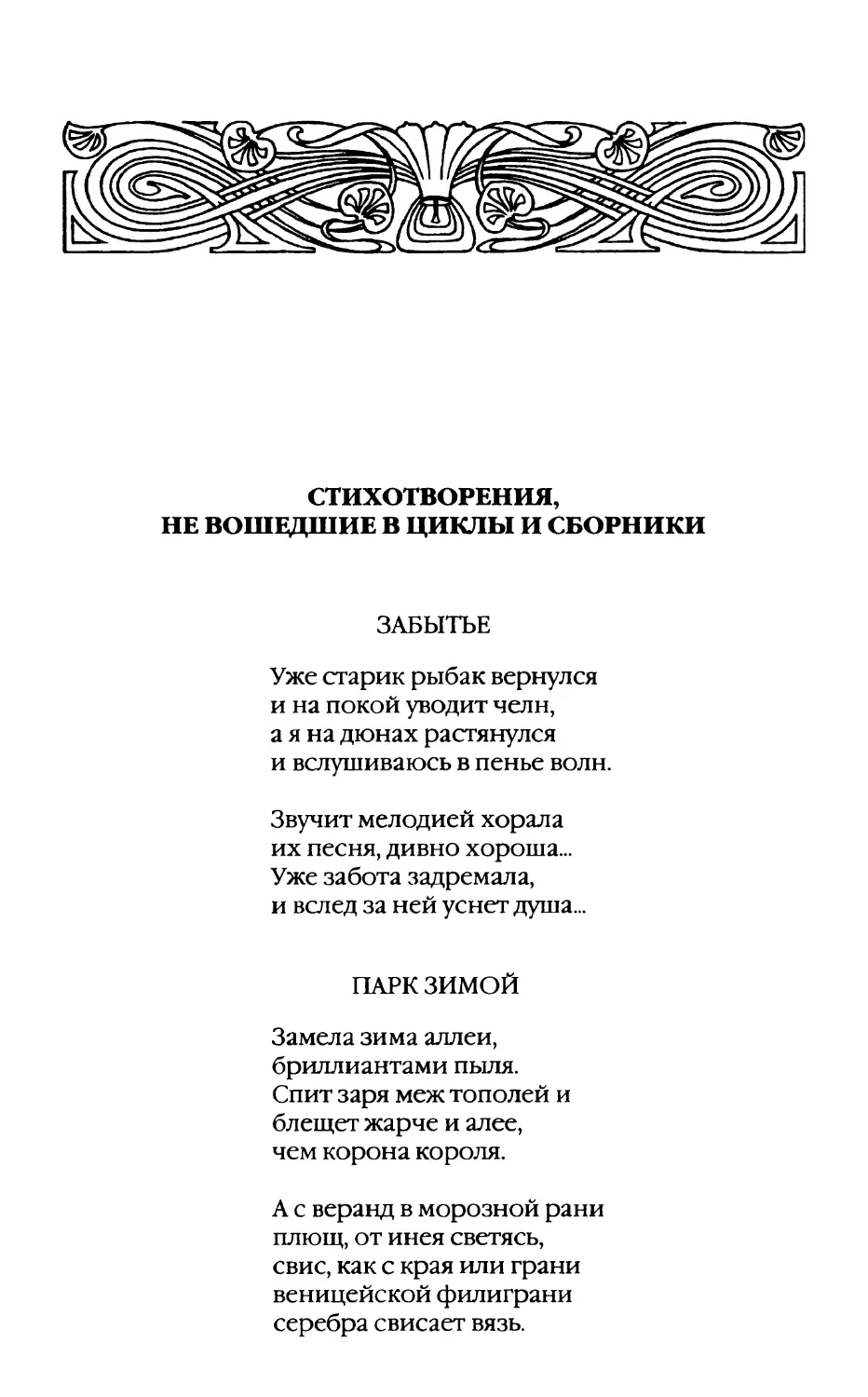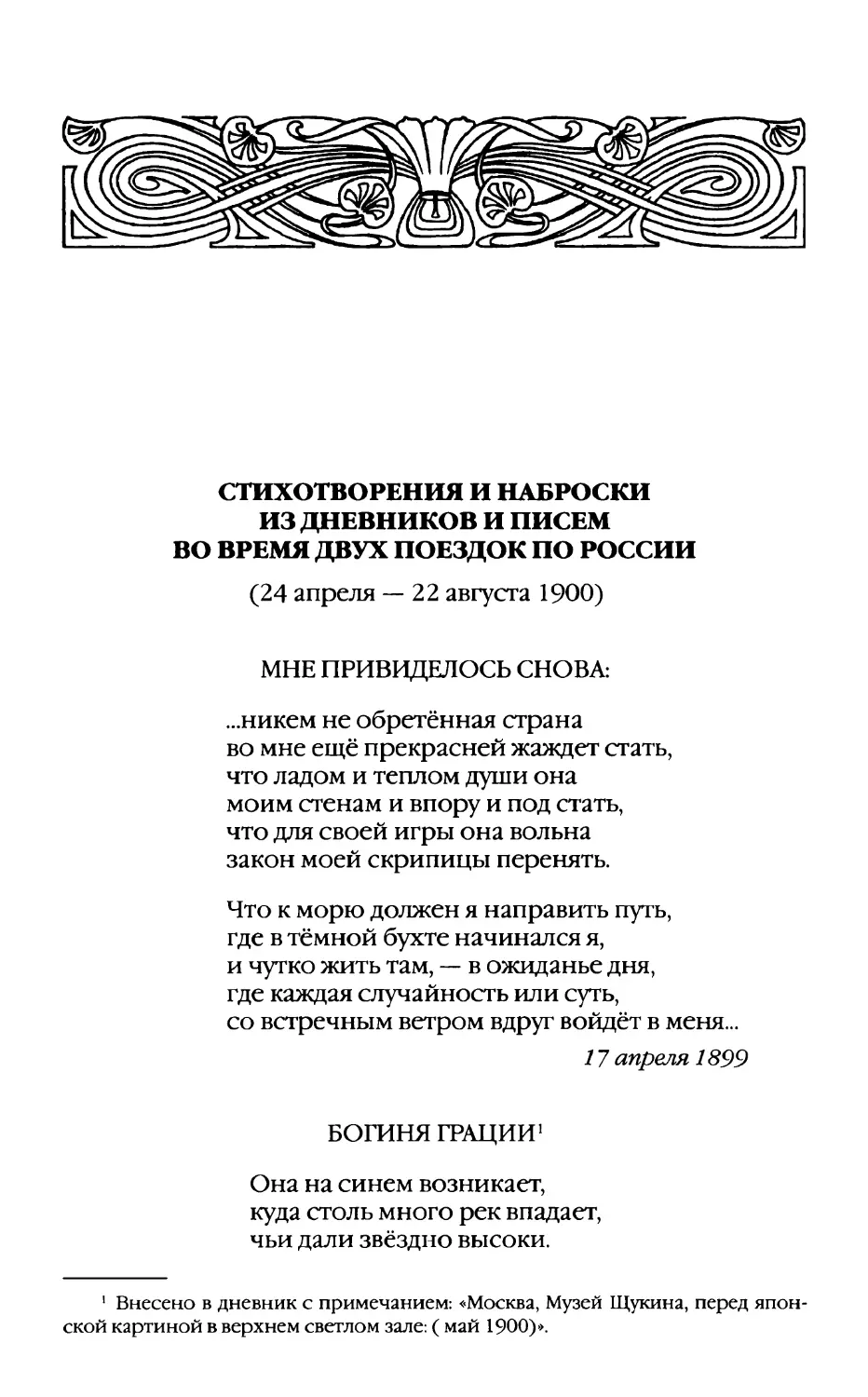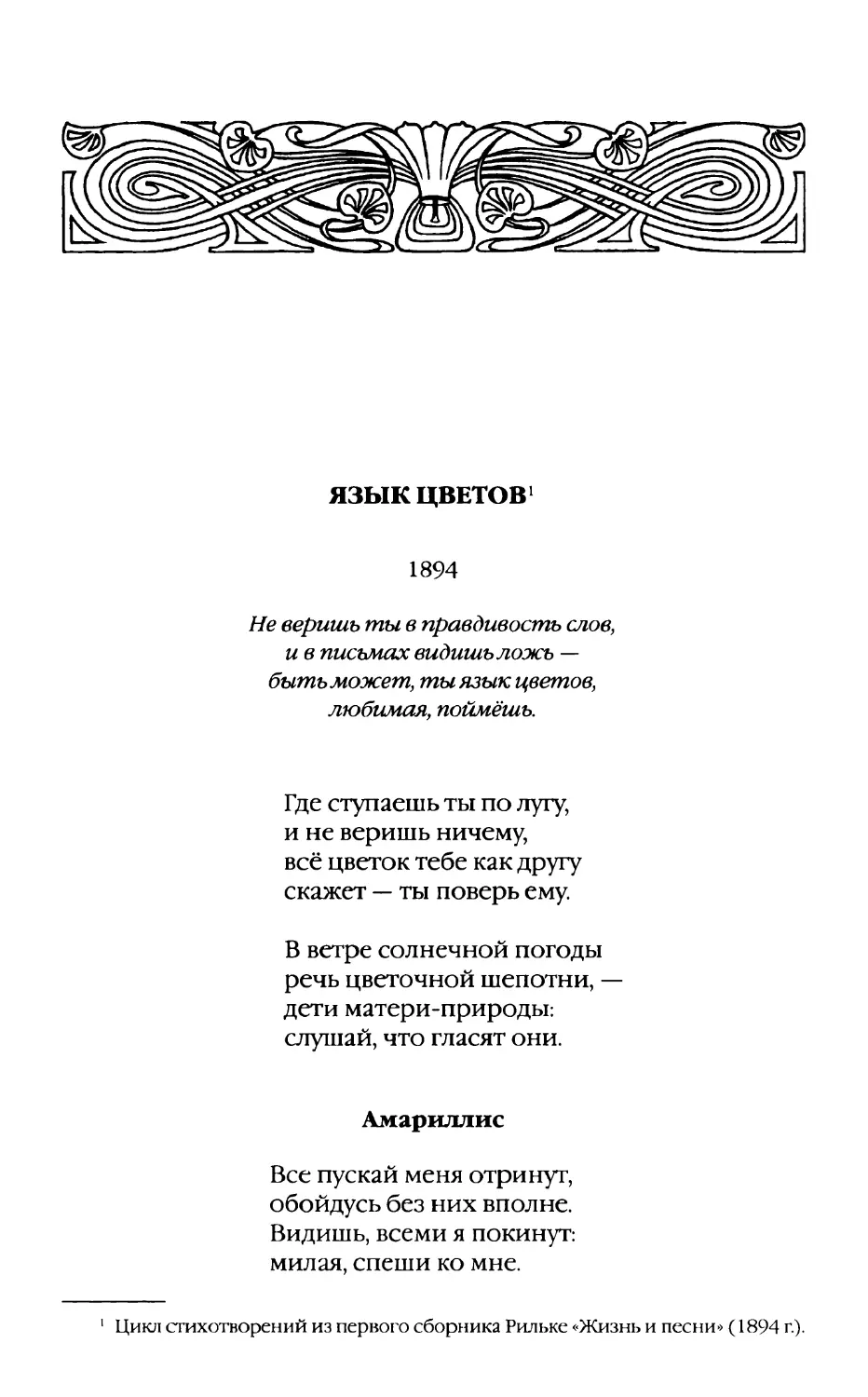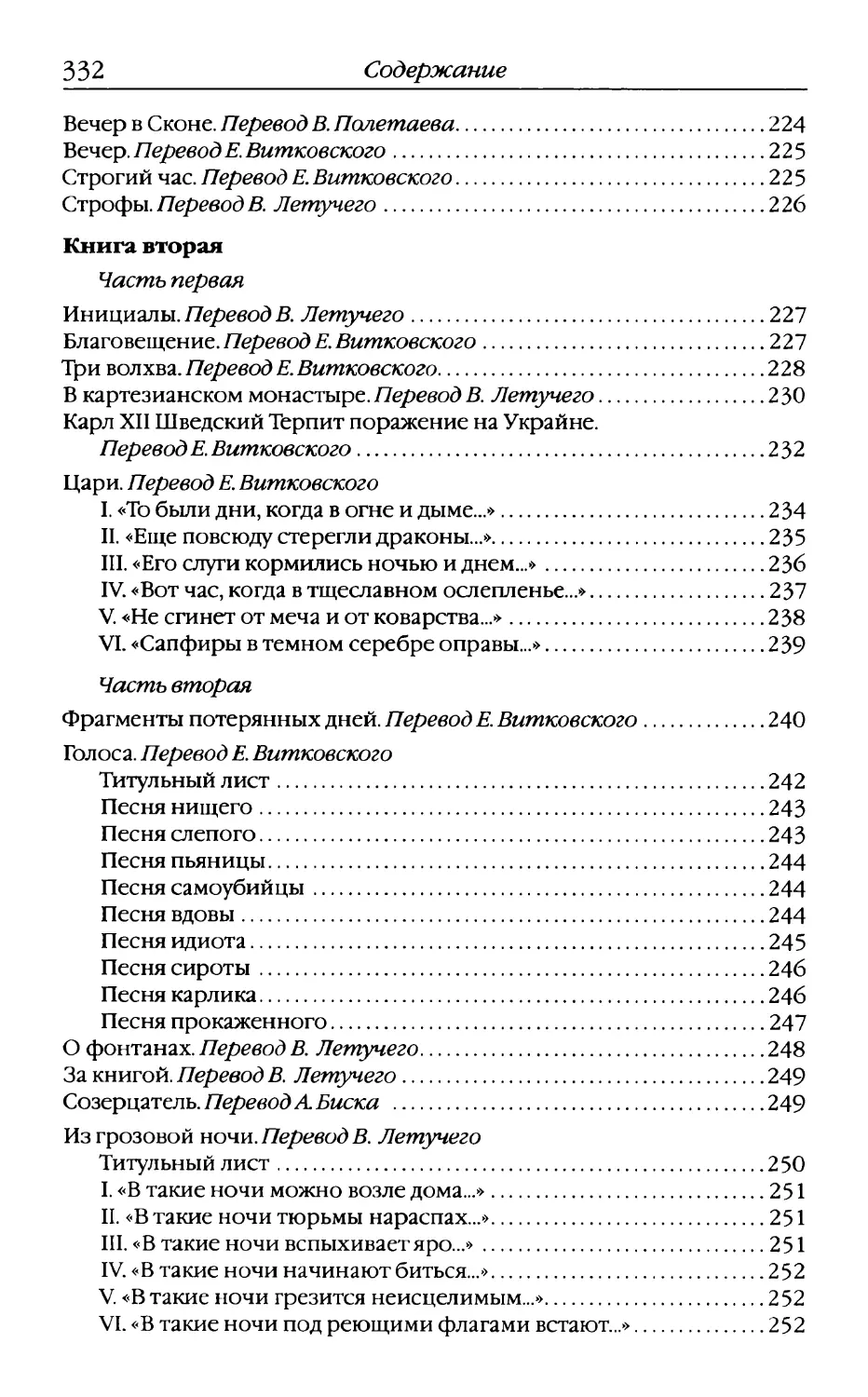Автор: Рильке Р.М.
Теги: художественная литература на немецком языке художественная литература германии стихотворения художественная литература
ISBN: 978-5-371-00288-4
Год: 2012
Текст
ai* ■
5*<w
JT
β,Λλ#*
уц/
_hfM
w. J<
>-г>Л
Jt
4
ь^Й
rf*<
л/
β*"*'
Ά
» i/ »'t/H'
>«#
■■*%#
w^
/Hf
ьА»*
А
.«>
л <**л4У
®№^irt
t. Л***
•д4и;л^
ι он*"
У
,(^'
.»ι
5* *ГЯ
-4 4«'
,&**'
m
i* «vv^ y , ■ ι (^
айнер Мария
»ИЛЬКЕ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ ТОМАХ
ÎL^-*1
^3^~
инер
Мария
РИЛЬКЕ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
tomI
•
Москва
ПРЕСТИЖ
BYK
УДК 821.112.2
ББК 84(4Нем)
Р50
Перевод с немецкого
Рильке Р. М.
Р50 Собрание сочинений в 3 т. Т. 1 / Райнер Мария
Рильке; [Пер. с нем.; вступ. ст. Е. Витковского]. — М:
Престиж Бук. — 2012. — 336 с.
ISBN 978-5-371-00288-4
ISBN 978-5-371-00289-1 (т. 1)
Райнер Мария Рильке... Пожалуй, едва ли кто из
зарубежных поэтов так любил Россию и так талантливо о ней писал,
как он, раз и навсегда назвавший Россию своей «духовной
родиной». Он и русский язык выучил, потому что на нем писали
и говорили Пушкин, Толстой, Достоевский...
И если были у Рильке достойные последователи, ставшие
гордостью родной литературы, то они, несомненно, в России:
Борис Пастернак и Марина Цветаева...
И, пожалуй, едва ли кто из зарубежных поэтов так любим
и узнаваем в России, как Рильке. Несмотря на то, что в
советский период его творчество на долгие годы оказалось под
запретом.
Перед тобой, читатель, самое полное издание творений
Рильке на русском языке. Ряд значительных произведений
публикуется впервые, многие вещи — в том числе роман
«Записки Мальте Лауридса Бригге» — в новых переводах.
Трехтомник вобрал лучшее из «русского Рильке», что
накопилось более чем за сто лет, — с тех пор, как имя поэта
известно в России.
УДК 821.112.2
ББК 84(4Нем)
О Витковский Е., составление,
предисловие, перевод, 2011
О Петров С, перевод, наследники, 2011
О Летучий В., перевод, 2011
О Елагин И., перевод, наследники, 2011
О Леванский В., перевод,
наследники, 2011
© Сергеев Α., перевод, наследники, 2011
© ООО «Престиж Бук», 2011
ISBN 978-5-371-00288-4
ISBN 978-5-371-00289-1 (т. 1)
РАЙНЕР. МАРИЯ. ОРФЕЙ
А Смерть останется за дверью.
Николай Клюев
Нам уже не обойтись без него.
Хотим мы этого, не хотим ли, но, оставив в прошлом
XX век, приходится констатировать, что величайшим
европейским поэтом столетия был именно Райнер Мария Рильке.
Не величайшим немецким, нет — Рильке и по крови-то едва ли
был немцем; не величайшим австрийским или
австро-венгерским — умирающая держава Франца-Иосифа или пришедшая
ей на смену Первая Республика кажутся чем-то
незначительным рядом с исполинской фигурой Рильке; тем более не
величайшим французским, русским, итальянским (хотя на всех
этих языках он писал стихи, а французскому творчеству
почти целиком отдал последние годы своей жизни); тем более не
чешским, хотя родился в Праге; не швейцарским, хотя умер
поэт именно во французской (говорящей по-французски)
части Швейцарии.
Есть в Европе XX века исполины, которых вполне можно
поставить рядом с Рильке: писавший на трех языках
многоликий португалец Фернандо Пессоа; французский брат-близнец
Рильке по духу и поэзии — Поль Валери; лучший
англоязычный поэт последнего столетия, ненавистник Англии —
ирландец Уильям Батлер Йейтс; внезапный гений Константин Ка-
вафис, чей дар вполне сравним по значению с поэтами
Древней Греции; наконец, даже сильно заслонивший в сознании
немецкоязычного читателя чуть ли не всю мировую поэзию
6
Райнер Мария Рильке
Готфрид Бенн; да и Россия именно в XX веке дала поэтов, чье
творчество оказало влияние едва ли не на весь мир, —
Мандельштама, Цветаеву, Хлебникова, Ходасевича. Список можно
продолжать. Но именно Рильке был самым наднациональным,
самым европейским.
В эссе Иосифа Бродского «Девяносто лет спустя», целиком
посвященном стихотворению Рильке «Орфей. Эвридика.
Гермес», нобелевский лауреат сознался (прочитав, понятно, не
оригинал Рильке, а английский подстрочный перевод или,
что столь же вероятно, русский перевод этого стихотворения,
выполненнный другом Бродского Андреем Сергеевым), что
стихотворение это наводит его на мысль: «А не было ли
крупнейшее произведение века создано девяносто лет назад?»
Заметим, что у Бродского есть вопрос, но нет утверждения. Умей
Бродский читать по-немецки, думается, этот вопрос вообще
не возник бы: у самого Рильке найдется десяток-другой
произведений — да простит мне читатель надругательство над
русским языком, но иначе сказать не умею — более бессмертных.
И еще: если брать отдельные стихотворения, то у других
поэтов — хотя бы тех, кто перечислен выше, — есть шедевры не
менее весомые: «Элегия тени» Пессоа или «Кладбище у моря»
Валери (последнее, к слову сказать, Рильке перевел на
немецкий язык столь блестяще, что и через триста лет попытка его
«превзойти» едва ли будет плодотворной). Ко всему этому надо
прибавить, что Рильке, оказавший влияние даже на тех
творцов, кто был старше него самого (таков Уильям Батлер Йейтс,
в поздние годы целиком заимствовавший у Рильке его
«философию смерти», рождающейся и умирающей вместе с
человеком, о чем ниже), в силу своей судьбы оказался именно тем
человеком, на личности которого сошлись фокусы внимания
чуть ли не всех великих творцов ушедшего века.
Спору нет, сейчас речь идет лишь о художниках слова,
покинувших границы упорядоченного рационализма —
реалистического ли, романтического, какого угодно. Нидерландский
историк Йохан Хёйзинга в поздней работе «В тени
завтрашнего дня» (1935) так охарактеризовал то, что видел в современной
поэзии: «Поэзия уходит от разума. В наши дни Рильке или Поль
Валери гораздо менее доступны для людей, нечувствительных
к поэзии, чем Гёте или Байрон для своих современников». Но
тут уж ничего не поделаешь: людям, нечувствительным к
поэзии, собрание сочинений Рильке, предпринимаемое на
русском языке, никак не предназначается. Понадобилось «сто лет
одиночества» (поэт-переводчик работает все-таки чаще всего
Ε. Витковский. «Райнер. Мария. Орфей» 7
в одиночестве, наедине с оригиналом), чтобы собрать
воедино русские версии, почти полностью охватывающие всё, что
требуется читателю, желающему прочесть Рильке, принять его
или отвергнуть, а не верить на слово, что «за пределами
данного издания осталось еще многое...» Нет. За сто лет работы мы
все-таки накопили полноценные переводы чуть ли не всех
основных зрелых книг Рильке — от «Часослова», начатого еще
в XIX веке, до двух не слишком значительных поэтических
книг, написанных по-французски и вышедших в 1926 году,
в год смерти Рильке. Скопился полностью весь зрелый,
прижизненно изданный Рильке, а также в больших фрагментах и
ранний, не столь зрелый, и поздний, никогда не сложенный
в отдельные книги, по большей части опубликованный лишь
посмертно. Здесь его роман, рассказы, искусствоведческие
работы. В итоге первая публикация Рильке на русском языке
(рассказ «Все в одной») стала началом того, что ширится и
полнится уже двенадцатый десяток лет — тем явлением,
которое называется «Русский Рильке».
Количество перешло в качество. Всего сто лет работы —
и вот они, десятки томов Райнера Марии Рильке на русском
языке. Это особенно справедливо потому, что писавший
всерьез не только по-немецки, но и по-французски поэт переведен
на третий язык — на русский, который он знал и любил. И это
тем более приятно, что по сей день русская поэзия не утратила
умения рифмовать — и в силу относительной своей
молодости по сравнению с итальянской или английской, и в силу того,
что в русском языке попросту гораздо больше рифм и прочих
пластических средств, чем в языках великих наших соседей.
От рифмы нет нужды отказываться потому, что она нам не
мешает. Ну а кто умеет ее видеть и ценить, тому будет радость
дополнительная: кроме неизбежной ознакомительной задачи
у подобного собрания сочинений иноязычного автора есть
шанс подарить кое-что и просто русской поэзии, поэтический
перевод в которой играет роль совершенно самостоятельного
жанра, имеющего не единые правила, но множество «сводов»
этих правил, и поэт-переводчик выбирает тот способ работы
с оригиналом, который ему более по душе, более по силам.
Кстати, то же самое относится и к прозе. Кто-то обманул нас
однажды, сказав, что «стихи надо переводить также, как прозу,
только гораздо лучше». Это, конечно, истина, но истиной
будет и обратное утверждение: прозу надо переводить так же, как
стихи, но — по возможности — гораздо лучше.
8
Райнер Мария Рильке
Это к тому же еще и плод нашей давней любви. Русский
язык был как-никак первым, на который Рильке перевели
много более ста лет тому назад: рассказ «Все в одной» появился в
«Северном вестнике» в 1897 году. А к нашему времени число
одних только «опубликовавшихся» переводчиков Рильке на
русский зашло далеко за полторы сотни. В начале нового
тысячелетия нам не на что жаловаться: Рильке в России хорошо
известен, любим, вполне добротно и очень обширно
переведен (графоманские переводы тут не в счет, но ведь и они
являют собою часть той любви, которую подарила Рильке Россия).
Лучший живописный портрет Рильке написал Леонид
Пастернак, с ним дружили и переписывались Борис Пастернак и
Марина Цветаева; тема «Рильке и Россия» прокормила не одно
поколение литературоведов, не исчерпана она и по сей день.
На русском языке переиздаются даже книги о Рильке.
К примеру, изрядно устаревшая (с 1958 года!) монография
Ханса Эгона Хольтхузена «Райнер Мария Рильке, сам
свидетельствующий о себе и о своей жизни» была издана
десятитысячным тиражом (это сейчас то, что раньше полмиллиона)...
в Челябинске! Основным центром изучения Рильке в
России — во всех аспектах — стараниями Р. Чайковского и Е. Лы-
сенковой стал... Магадан! Книга Чайковского и Лысенковой
«"Пантера" Р. М. Рильке в русских переводах» (Магадан, 1996)
вызвала десятка два рецензий — от магаданских, московских,
петербургских до разверьгутого отзыва в «Новом журнале»,
выходящем с начала сороковых годов в Нью-Йорке. Впрочем, на
истории русских переводов поэзии Рильке лучше
остановиться отдельно.
Первым русским переводчиком стихов Рильке был сын
одесского ювелира, весьма одаренный Александр Биск (1883—
1973). В последние месяцы жизни Биска мне хоть и по
переписке, но довелось с ним познакомиться. «Я занимался Рильке
с 1905 года — я нашел его "Lieder der Mädchen", будучи лейп-
цигским студентом», — писал из Нью-Йорка девяностолетний
поэт в Москву автору этого предисловия (письмо от 31 января
1973 г.). «Лейпцигским студентом» Биск был совсем недолго,
уже весной 1906 года он переселился в Париж, где жил до
1911 года: сам поэт политикой не занимался, но сестра
состояла в партии эсеров, возврат в Одессу и в Россию был чреват
выяснениями отношений с полицией, а молодой Биск
хорошо чувствовал себя в Париже, к тому же в одесских газетах он
печатался уже тогда. «Первые мои переводы (из Рильке — Е. В.)
относятся к 1906 году», — напишет он в предисловии к перво-
Ε. Витковский. «Райнер. Мария. Орфей» 9
му русскому «Избранному» Рильке, вышедшему в Одессе между
маем и августом 1919 года (по утверждению К. Азадовского —
в июле 1919 года). Первая «столичная» публикация
переводов Биска из Рильке пока что разыскана в 1911 году («Русская
мысль». Кн. 6) — пять стихотворений, в том числе ставший
классическим именно в переложении Биска шедевр «И был
тогда день белых хризантем...».
Именно 1911 — 1914 годы — время первого бурного
интереса к Рильке в России. Успевают выйти три его книги: «Книга
часов» (М, 1913) в сильно сокращенном и едва ли удачном
переложении Юлиана Анисимова; в том же году — перевод
единственного романа Рильке «Заметки Мальте Лауридса Бригге» в
двух томах (в оригинале книга вышла в 1910 году, что следует
помнить); наконец, выпущенная в оригинале в июне 1913 года
книга «Жизнь Марии» всего через полгода, но уже в 1914 году,
накануне войны, когда оказалось под запретом «всё немецкое»,
была выпущена в Киеве в переводе едва ли достаточно
оцененного по сей день поэта Владимира Маккавейского. Кстати, в
нашем издании этот перевод переиздается полностью, и
хотелось бы привлечь к нему читательское внимание. То, что
казалось странным и неуклюжим в начале XX века, стало понятным
и весьма поэтичным теперь. Похоже, что Маккавейский очень
сильно обогнал свое время; в 1920 году он был убит под
Ростовом, имя его забылось, но уже давно пришла пора вернуть его
стихам, переводам и доброму имени почет и внимание.
В студенческих тетрадях Бориса Пастернака 1911 — 1913 гг.
мы находим около десятка черновых переводов из «Книги
картин» и «Часослова». В те же годы сделала свой перевод
шестистишия Рильке Анна Ахматова — видимо, это был вообще
единственный ее перевод с немецкого языка: по свидетельству
академика Ю. Оксмана, язык этот был для нее тяжел и читать
свободно на нем она не могла. В те же годы перед Первой
мировой войной появились в печати переводы В. Шершеневича,
В. Эльснера, А. Дейча, так что брошенная Пастернаком фраза:
«У нас Рильке совсем не знают» («Люди и положения», 1956—
1957), — скорее относилась к месту Рильке в советской
культуре, чем в подлинной культуре России.
Впрочем, даты Первой мировой войны (1914—1918) точно
определяют еще и границы первого временного перерыва в
потоке русских публикаций Рильке. В харьковском альманахе
«Колосья» в 1918 году (№ 6—7) впервые появилась знаменитая
поэма в прозе (то ли просто новелла) Рильке, тогда
озаглавленная «Образы любви и смерти Христофора Рильке»; та же вещь,
10
Райнер Мария Рильке
но без сокращений и под более близким к оригиналу
названием («Песнь о любви и смерти Кристофа Рильке») была
опубликована в альманахе «Свиток. 3» (М.; Л.) в 1924 году. Как уже было
сказано выше, в Одессе в 1919 году вышло первое издание
книги избранных переводов Александра Биска. В 1929 году
«Новый мир» и «Звезда» опубликовали два «Реквиема» в переводе
Бориса Пастернака — по сути дела, увидела свет целиком еще
одна книга Рильке («Реквием», 1908). До 1935 года в
периодике появлялись переложения Григория Петникова — он
переводил Рильке «как хотел», т. е. как экспрессиониста, это давало
диковатые результаты, но существенно облегчало
прохождение через рогатки цензуры. Наконец, в большой книге
избранных переводов Петникова, изданной в Харькове в 1935 году
(«Запад и Восток»), появилась последняя подборка в четыре
стихотворения. Дальше наступил второй перерыв, притом
долгий.
Хотя в 1943 году член Союза писателей СССР Иоганнес
Роберт Бехер назвал поэзию Рильке в числе тех ценностей,
которые осквернены фашистскими варварами, его мнением никто
не заинтересовался. Зато в 1950 году «главный писатель СССР»
А А. Фадеев высказался доходчиво и доносчиво: «А кто такой
Рильке? Крайний мистик и реакционер в поэзии». Рильке в
сталинской империи был, таким образом, запрещен раз и
навсегда. Навеки. Но... нет ничего более временного, чем вечное.
Умер Сталин, а за ним приговорил себя к смертной казни и
Фадеев. «Разлука» с советским читателем (тогда предполагалось,
что это синоним выражения «русский читатель») неизбежно
должна была окончиться. Как возвращались люди из лагерей,
так вернулся и Рильке: уже в первом номере воронежского
журнала «Подъем» за 1958 год появилась «Пантера» в переводе
известнейшего ученого-античника и беллетриста А. Немиро-
вского. Художественные достоинства перевода сейчас
оставим в стороне, важен приоритет, и его ни у Немировского, ни
у Воронежа не отнимешь. Журналы робко стали печатать тут
стишок, там подборку; из мрака запрета Рильке стал
понемногу выходить к читателю.
Не считая журнальных публикаций, главным событием
1960-х годов для «Рильке советской эпохи» стала довольно
большая книга «Лирика», вышедшая в 1965 году в переводе
Тамары Сильман (1909—1974) в Ленинграде. Тогда она
вызвала одобрение как со стороны «старших» (Маршака, не
дожившего до выхода книги, но знакомого с рукописью; Корнея
Чуковского), видевших в ней примету еще не совсем замерз-
Ε. Витковский. «Райнер. Мария. Орфей» 11
шей хрущевской оттепели, так и гнев со стороны «младших»:
как же это выходит авторская книга у Сильман, когда в
письменных столах десятков поэтов лежит столько неизданных
переводов из Рильке! Знали, что еще с тридцатых годов
работают над Рильке Юлия Нейман и Сергей Петров, что
Ахматова хвалила переводы Андрея Сергеева, а есть еще и Владимир
Микушевич, и Вячеслав Куприянов, и Грейнем Ратгауз, главной
же легендой того времени была работа Константина
Богатырева (1925—1976), жертвы сталинских репрессий и ученика
Бориса Пастернака. Но даже не очень искушенному читателю
по книге Сильман было ясно, что великий поэт из Рильке не
получился. (Между тем в предисловии к этой книге,
написанном Владимиром Адмони, были впервые в СССР напечатаны
два прославленных перевода Пастернака, вставленные в книгу
«Люди и положения», — сейчас уже позабылось, что в первой
половине 1960-х автор «Доктора Живаго» был под полным
запретом.)
Рильке Сильман — некий многократно уменьшенный
Рильке, недаром переводчица старалась выбрать у него стихи
покороче. Читая ленинградскую «Лирику», думаешь: вот
удачное восьмистишие, вот даже и двенадцать строк вполне
приличных, а в целом получилась какая-то очень-очень маленькая
и смазанная фотография оригинала. Книга эта не могла дать
представления о Рильке еще и по другой причине: его циклы,
сборники, поэмы, созданные после 1899—1900 гг., почти не
поддаются дроблению, одно перетекает в другое, последняя
строка стихотворения служит опорой для первой строки
следующего, не говоря уже о том, как важны для Рильке его
сквозные сюжеты, образы, словосочетания — от ключевого для его
поэзии слова «смерть» до такого малозаметного, как
«деревенька» (одна только «деревенька слов» отслежена нами у Рильке
более пятнадцати раз!). Так что переводчик, отщипывающий
от Рильке там сонет, тут восьмистишие, терпит поражение
раньше, чем увидит плод своих трудов. Возможны, конечно,
очень немногие исключения: шесть строчек Анны Ахматовой,
двенадцать Ивана Елагина, по четыре-пять стихотворений у
Андрея Сергеева и Владимира Леванского, но по большей
части у тех, кто не сделал Рильке своим главным и сокровенным,
в душе хранимым, десятилетиями творимым делом, — почти
одни неудачи.
Но главная роль книги «Лирика» оказалась иной: она
«разворошила муравейник». То в «Литературной Грузии», то в
«Сельской молодежи», то в «Памире», то в «Иностранной лите-
12
Райнер Мария Рильке
ратуре», то в «Подъеме», то в «Авроре» (список можно
продолжать очень долго) Рильке стал появляться почти регулярно.
Наконец пришли 1970-е годы, и стали выходить новые
книги: близилось столетие со дня рождения Рильке, а его, к тому
же, собралась праздновать дорогая сердцу ЦК организация —
ЮНЕСКО.
Первой увидела свет очень странная книга с длинным
названием: «Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи. Русские
стихи». (М: Искусство, 1971). Помимо двух
искусствоведческих работ и полутора сотен страниц писем, книга содержала
что-то такое, что впору описывать как содержимое
знаменитого сундучка Билли Бонса из «Острова сокровищ» Р. Л.
Стивенсона: 4 стихотворения из третьей части «Часослова»,
12 стихотворений из сборника «Новые стихотворения», 6 (из
десяти) «Дуинских элегий», 4 (из пятидесяти пяти) «Сонета к
Орфею», 6 (из восьми) «русских стихотворений» Рильке, 3 (из
тринадцати) «Рассказов о Господе Боге»... И так далее —
окрошка, пытающаяся выдать себя за некое сложное и мудрое
блюдо. Ну и разъясняющее предисловие И. Рожанского, в котором
сказано ясно: «Что касается советского читателя, то он сумеет
разобраться в этом творчестве, уяснить его слабые и сильные
стороны, отнестись к нему как к части культурного наследия
прошлого, которое должно быть нами усвоено, переработано
и включено в культуру коммунистического общества». Что и
говорить, И. Рожанский достойно продолжил суждение
Фадеева...
Хотя некоторые из поэтических переводов, попавших в
эту книгу, давно стали классикой жанра, но при тираже книги
в 50000 экземпляров получилась не «творчество», а сплошная
«культура коммунистического общества», т. е. коммунальная
квартира. Если книга Сильман была чересчур маленькой
копией великого оригинала, то здесь от оригинала осталась руина,
лишенная почти всех главных частей. Легенду же о том, что в
Рильке Россия потеряла великого русского поэта, не удается
похоронить до сих пор: не так давно известный
поэт-переводчик опубликовал переложения стихов Рильке с русского... на
русский, притом ошибки в ударениях он исправил, но ввел
неточные (оглушенные) рифмы, у Рильке немыслимые. Увы,
русские творения Рильке не спасет и самый талантливый перевод,
они — всего лишь версии уже созданных по-немецки
произведений, дань любви Рильке к России, которая и вправду была:
не зря в 1919 году в письме к Л. О. Пастернаку Рильке писал о
России как о «близкой, дорогой и святой, навсегда вошедшей в
основы его существования».
Ε. Витковский. «Райнер. Мария. Орфей» 13
В 1974 году в СССР вышла первая книга Рильке,
составленная цивилизованным образом. На «просторе» в 80 страниц
уместилось 52 стихотворения в переводе 16 поэтов.
Впервые с 1919 года в Советском Союзе были переизданы работы
скончавшегося за год до того в Нью-Йорке Александра Биска,
были использованы работы Т. Сильман, Б. Пастернака, А.
Ахматовой, а также тех, чей вклад в «русского Рильке» на сегодня
можно оценить как максимальный: переложения С. В.
Петрова, Ю. Нейман, И. Озеровой и нескольких других поэтов.
Книжечка вышла под эгидой «комсомольского» издательства
«Молодая гвардия», составил ее автор этих строк, а предисловие
написал Михаил Рудницкий. Словом, чуда не было никакого,
просто я в то время работал редактором в зарубежном отделе
издательства и отчасти «использовал служебное положение в
личных целях». Надвигался юбилей, перед ЮНЕСКО
начальству хотелось выслужиться — вот и вышел тот самый плюс,
который в математике рождается от перемножения минуса на
минус. Книжка стоила пять копеек — тогдашняя цена проезда
на метро. Кстати, нынешние издания — отчасти итог работы,
начатой тогда, в первой половине 1970-х.
Двумя годами позже в «Художественной литературе»
вышел еще один томик Рильке — немного расширенный и
заметно ухудшенный вариант предыдущей книги. И стояла в
ближайших планах издательства «Наука» книга Рильке «Новые
стихотворения» (первая и вторая часть): было обещано, что
наконец-то в полном объеме увидят свет переводы
Константина Богатырева.
Увы, судя по выходным данным, книга в «Литературных
памятниках» была подписана в печать 6 мая 1977 года, а годом
раньше Богатырев был убит в подъезде собственного дома.
В силу того, что убийство по всем приметам носило
политический характер, поэтические достоинства работы Богатырева
обсуждать стало невозможно: тот, кто эту работу хвалил, чаще
всего кривил душой, а тот, кто ругал... Таких тогда сторонились.
Не ругал его работу никто, ибо обругавший немедленно попал
бы в одну компанию с убийцами Богатырева. Ну, а хвалил
более других Рудницкий — по каким-то одному ему ведомым
соображениям, едва ли поэтическим.
К счастью, из 544 страниц работа Богатырева занимала 217,
а на остальных разместилось «Дополнение» — стихи Рильке из
других книг, а также варианты, приложенные к версиям
Богатырева, и это в значительной мере спасало книгу. Из
огромного массива стихотворений Рильке (около пяти тысяч строк!),
14
Райнер Мария Рильке
переведенного Сергеем Петровым, здесь все-таки увидело свет
24 стихотворения, впервые пробились в печать многие
переложения А. Карельского, Г. Ратгауза, В. Куприянова, Ю.
Нейман и др., не считая переизданий. Конечно, и в этой книге не
обошлось без национал-идеологических казусов («Хотя
история имени Рильке неясна, нужно иметь в виду, что
по-чешски глагол "рыти" точно совпадает с древнерусским "рыти",
"рыть" (ср.украинскую фамилию Рильке-Рылько)»), без
«обреченности царской власти» и «оскудения династии Романовых»
(в комментарии к циклу «Цари», где о Романовых нет ни
слова). Но в целом именно по этой книге в последующие десять
лет читатель в СССР узнавал, кто же такой Рильке и отчего
именем его полна вся мировая культура XX века.
До 1988 года, когда в разгар «перестройки» в виде
приложения к журналу «Иностранная литература» был издан роман
«Записки Мальте Лауридса Бригге» (в новом переводе) с
прибавлением кое-какой малоизвестной прозы и неизбежным
«Корнетом» (тоже в новом переводе), ничего значительного в
области приобщения Рильке к русскому языку не произошло.
А потом пришла совсем иная эпоха.
Как уже говорилось, Рильке — чрезвычайно неблагодарный
поэт для любителей «выковыривать изюм из булочек». Книги
его — «Часослов», «Реквием», «Жизнь Марии», «Дуинские
элегии», «Сонеты к Орфею», даже менее цельную «Книгу картин» и
уж вовсе стоящие в стороне от раннего и позднего его
творчества обе части «Новых стихотворений» (в них Рильке, во
многом разрабатывая стиль Стефана Георге, создал новый жанр —
«стихотворение-вещь», исчерпал его да и забросил) — очень
важно читать целиком. А мы к столетию со дня рождения поэта
имели целиком лишь совершенно недоступную книгу «Жизнь
Марии» в переводе Владимира Маккавейского (за тридцать лет
занятий Рильке мне довелось держать ее в руках единственный
раз!) да еще горестный по качеству исполнения «Часослов»,
изданный в Париже в 1947 году поэтом-кавалеристом, заодно
другом С. В. Клычкова и масоном Г. Б. Забежинским (1879—
1966). К этому «запасу» вскоре прибавились весьма спорные
«Новые стихотворения» Константина Богатырева — уже по
одному тому спорные, что работа над ними явно не была
доведена до стадии чистовика. Имелся, впрочем, и ставший уже
классическим «Часослов» в переводе Сергея Петрова — работа
прекрасная, но по религиозности книги в условиях советской
цензуры целиком она издана быть не могла (дошла до
печатного станка лишь в 1998 году) и оставалась известна десятку
Ε. Витковский. «Райнер. Мария. Орфей» 15
специалистов. Имелся (в рукописях) десяток полных
переводов «Сонетов к Орфею»; первый же, выполненный Кареном
Свасьяном и опубликованный в Ереване, оказался
совершенно неудобочитаем. Словом, больше всего русская работа над
Рильке напоминала бесконечную постройку Миланского
собора, когда даже и вредно помышлять о «достройке».
Мода на Рильке приходила и уходила в Германии и в
Австрии, да и во всем мире; шеститомник его, весьма полный, был
издан в 1955—1966 годах при деятельном участии дочери
поэта Рут Зибер-Рильке, переиздается он и по сей день. А Россия,
постепенно возвращавшая себе имя и свободу, даже усилиями
двух сотен переводчиков всё никак не могла выяснить
отношения с Рильке. В 1990-е годы, когда появилась возможность
издавать книги без разрешения сверху, появились, конечно,
и книги Рильке. В Архангельске в 1994 году вышел еще один
«Часослов», выполненный Марией Пиккель, — и сравнимы
его поэтические достоинства оказались лишь с творчеством
первооткрывателя, поэта-кавалериста Забежинского. Второй
перевод «Сонетов к Орфею», выполненный Ниной Кан (Кани-
щевой), едва ли был лучше первого, ереванского. Не хочу
утомлять читателя, но основная часть истории «русского Рильке» —
сплошной чемпионат на приз «кто хуже». Притом в изданиях
последних лет дар Божий определенно перемешан с
яичницей: если в Санкт-Петербурге в 1995 году и были наконец-то
изданы полностью «Дуинские элегии», то под ту же обложку
издатели напихали что-то такое, что и средствами
ненормативной лексики оценить нет возможности. В Томске наконец-
то был издан полный корпус «Историй о Господе Боге», но в
петербургском переиздании очень одаренный переводчик
прозы Е. Борисов зачем-то взялся еще и за стихи. И хотелось
бы об этой его «прорухе на старуху» забыть, но две другие
мудрые старухи, История и Библиография, ничего этого забыть
не дадут. Плохого и очень плохого, а также вовсе не
ложащегося в общую концепцию восприятия творчества Рильке, среди
русских переводов очень и очень много.
Однако довольно о неудачах — они есть и будут, наверняка
есть и в нашем издании, но ведь есть же и прорывы в
совершенство. Наше издание, пожалуй, подводит некий итог более чем
столетней работе, ибо мы наконец-то одолели хоть сколько-
то полного Рильке. Не зря в 1949 году Готфрид Бенн —
единственный человек, писавший по-немецки в XX веке, чья
поэзия не только сравнима с Рильке, но во многом и превзошла
ее, — констатировал, притом как самое для себя важное, что
16
Райнер Мария Рильке
Рильке написал «строку, которую мое поколение никогда не
забудет: "Не до побед. Всё дело в одоленьи"». Приведенная Бен-
ном строка в процитированном переводе Бориса Пастернака
звучит чуть не так, как в оригинале, да и означает, быть может,
чуть-чуть не то, что у Рильке, но цель, поставленную нашим
новым изданием, она выражает очень точно.
Так что хватит о целях и методах нашего издания — теперь
важней разобраться собственно в творческом наследии
Орфея XX века, ибо в одном позиция Рильке пока что уникальна:
из европейских поэтов XX века он — самый изучаемый.
И, как всегда, чем больше мнений, тем меньше ясности.
Начнем с того, что Рене Карл Вильгельм Иоганн Йозеф Мария
Рильке, родившийся 4 декабря 1875 года в Праге, не был не только
выходцем из старинного немецкого рода, некогда
процветавшего в Каринтии (как сам поэт упрямо утверждал), — он едва
ли был «чистокровным», в нацистском значении этого слова,
немцем или австрийцем. Отца мальчика звали Йозеф, дядю —
Ярослав. По меньшей мере вторым языком в детстве будущего
поэта был чешский, свидетельством тому — раннее
стихотворение, посвященное Ярославу Врхлицкому (1853—1912),
которого Рильке явно читал в оригинале, и читал с
восхищением. Отсюда, возможно, и легкость, с которой Рильке освоил
второй славянский язык — русский; сохранилось восемь его
стихотворений, написанных по-русски в 1900—1901 годах.
Впрочем, еще раньше он посетил Италию — осталось
несколько его стихотворных строк и на итальянском языке;
творчеству на французском языке были отданы последние три года
его жизни. Видимо, родная для Рильке многоязычная Прага,
бывшая при императоре Рудольфе II столицей Священной
Римской империи, вообще располагала к многоязычию.
Город дарил своим детям легенды и факты подлинной истории,
часто неразделимые. В начале века в городе жили и творили
представители немецкоязычной «пражской школы» — Май-
ринк, Перуц, Кафка, Брод, Верфель, — а также родившийся в
тот же год, что и Верфель (1890), великий чешский прозаик и
драматург Карел Чапек Легенды пражской старины волновали
пражского немца Рильке или уроженца Вены Майринка даже
больше, пожалуй, чем чеха Чапека. Надо заметить, от своей
пражской юности Рильке не отрекался и в зрелые годы:
собирая в 1913 году стихотворения для своего сборника «Первые
стихи», поэт сохранил почти в неприкосновенности и стихи
о Врхлицком, и стихи об императоре Рудольфе, и главное —
цикл «Из времен тридцатилетней войны», своеобразный чер-
Ε. Витковский. «Райнер. Мария. Орфей» 17
новик «Песни о любви и смерти корнета Кристофа Рильке»
(первая редакция — 1899 год, последняя — 1906). Однако
отношения к «пражской школе» (огромному явлению в
литературе немецкого языка) Рильке не имеет творчески, пожалуй,
совсем никакого.
Рильке лучше не причислять ни к кому, никуда. Довольно
и того, что его эпигоны неплохо чувствуют себя по сей день
буквально во всех европейских литературах. Единственным из
старших современников Рильке, всерьез повлиявшим на его
творчество, был последний великий немецкий романтик Де-
тлев фон Лилиенкрон (1844—1909), да еще, конечно, великий
Стефан Георге, человек совершенно иного типа и
литературной формации. Баллады Лилиенкрона и строки его огромной
поэмы «Поггфред» порой вплотную смыкаются с многими
образами из «Корнета» и «Записок Мальте Лауридса Бригге»,
его белые стихи («На вокзале», «Бродвей в Нью-Йорке» и т. д.)
почти наверняка служили для Рильке образцами, темами для
вариаций. Герой «Мальте» вспоминает, как однажды увидел в
детстве собственного отца «с влажно-голубой лентой ордена
Слона» на груди, — не тот же ли самый высший датский орден
Слона срывали с заговорившего скелета при прокладке рельс
в «Новой железной дороге» Лилиенкрона: «Вульгарный сброд,
отродья крепостные, / С меня срывают голубую ленту, /
Срывают ленту ордена Слона!..» Лилиенкрону отдал дань не один
Рильке, даже прошедший путь от экспрессионизма к
ультрасимволизму Готфрид Бенн писал, вспоминая начало XX века:
«Лилиенкрон был моим богом!» С печалью нужно
констатировать, что нынешние немецкие читатели (в отличие от русских:
у нас все три поэта изданы отдельными немалыми книгами)
чаще всего разве что слышали когда-то имя Лилиенкрона и
лишь удивляются, откуда что взялось у Рильке. Хочется верить,
что в Германии хотя бы XXI век вспомнит Лилиенкрона —
единственный мостик от великих немецких романтиков к
великим немецким поэтам XX века. Рыцарская, благородно-
дворянская эстетика Лилиенкрона, кстати, немало
содействовала тому, что Рильке на всю жизнь убедил себя в собственном
дворянском происхождении. Убедил настолько сильно, что
и нам отчасти приходится с этими вымышленными
«дворянскими корнями» считаться: открытое Карлом Густавом Юнгом
«коллективное бессознательное» велит считаться с тем, во что
уверовано, даже больше, чем с тем, что было на самом деле.
Самые ранние поэтические опыты Рильке относятся к
1884 году; как почти обо всех стихах великих поэтов, напи-
18
Райнер Мария Рильке
санных в детстве, можно лишь сказать, что они «к сожалению,
сохранились». С сентября 1886 года по сентябрь 1890 года он
учился в военном реальном училище первой ступени в Санкт-
Пельтене и вспоминал позже об этих годах как о некоей
азбуке ужасов. Едва ли в этом училище было так ужасно — было
как в любом подобном учебном заведении Австро-Венгрии, и
тот, кто захочет получить представление о жизни «военного
школьника» Рене Рильке, должен обращаться не к биографии
поэта, а может взять в руки роман Йозефа Рота «Марш Радец-
кого» (1932), посвященный последнему полувеку
существования империи Габсбургов. 30 января 1889 года покончил с
собой наследник австро-венгерского престола Рудольф, в
раздираемой на части изнутри империи оборвалось даже прямое
престолонаследование; через четверть века именно убийство
племянника Франца Иосифа, эрцгерцога Франца Фердинанда,
послужило поводом к началу Первой мировой войны. «Здесь
пахнет осенью», — говорит в «Марше Радецкого» старый Трот-
та. Австро-Венгрия была уже не жилец на свете, но офицером
именно австро-венгерской армии готовился стать юный Рене
Рильке. Сохранились фотографии юноши в военной форме.
Столь грустное несоответствие формы и содержания даже
специально придумать трудно.
А в 1890— 1891 годах Рильке неполный год проучился даже
в высшей военной школе в Мэриш-Вайскирхене. «По
причине слабого здоровья» мальчик был отчислен из кандидатов в
офицеры. Старшие родственники (в основном удостоенный в
1873 году наследственного дворянства дядя с не особенно
немецким именем Ярослав) пытались сделать из Рильке студента
торговой академии, адвоката, наконец — студента пражского
университета Карла-Фердинанда, но в 1896 году юноша
университет бросил и целиком ушел в поэзию. На его счету уже
был первый сборник «Жизнь и песни» (1894). Через
несколько лет, как это обычно бывает с быстро вступающими ρ пору
творческой зрелости поэтами, Рильке стал по возможности
скупать экземпляры этой книги и уничтожать их. И всю жизнь
повторял слова Стефана Георге, которые тот сказал нашему
герою в их единственной личной беседе: «Вы слишком рано
стали печататься».
Рильке писал ежедневно и помногу. В 1896 году он без
видимого успеха издал три сборника с одинаковыми
названиями — «Подорожник», а также еще один, в котором наметились
некоторые черты зрелости, — «Жертвы ларам». Годом позже
вышел сборник «Венчанный снами», еще через год — «Сочель-
Ε. Витковский. «Райнер. Мария. Орфей» 19
ник». Эти три последних книги в 1913 году Рильке переработал,
сократил и издал под общим заголовком «Первые
стихотворения»; с воспроизведения именно этой книги начинается
ставшее каноническим посмертное собрание сочинений Рильке.
С точки зрения поэзии это, пожалуй, действительно первые
стихотворения Рильке: до того у него были только удачные
строки, строфы. Но именно с канонической строфой Рильке
решительно порывает, правильные «квадратики» (или
«кирпичики» на современном нам жаргоне) отныне будут
встречаться у него лишь как исключение.
Длина строки, форма рифмовки, ритм — всё отныне у
Рильке свое, равное длине дыхания, избранного для данного
стихотворения, данного отрывка, данной строки. «Стансы» — или,
скажем, октавы — у него попадаются, но скорее именно они
кажутся исключением на фоне огромной массы трехкратных,
пятикратных рифм и стиха вовсе нерифмованного,
переходящего в настоящий верлибр. Отныне никакая форма для Рильке
не указ и не закон. Его сонеты ничего общего не имеют с
классическими, кроме способа записи и числа строк. Его элегии —
элегии лишь по названию, и ритм, который избирает для них
Рильке, лишь отдаленно похож на гекзаметр, о содержании же
и говорить нечего. С элегией в классическом значении этого
слова останется, кажется, лишь одна общая черта: как и
классические, элегии Рильке чаще всего написаны от первого лица.
Чтобы подвести итог «раннему творчеству», в 1909 году
Рильке сильно переработал свой сборник «Мне к празднику»
(первое издание — 1899 год) и выпустил под декларативным
названием «Ранние стихотворения». Этой книгой
«продолжается» классический шеститомник; следом обычно печатают
его стихотворную, явно не предназначенную для сцены
драму «Белая княгиня» (ее в 1909 году Рильке перепечатал в конце
«Новых стихотворений», но знакомство с этим
произведением для русского читателя временно откладывается).
В нашем издании печатается многое из «ювенилии», как
попавшее в «Ранние стихотворения» и «Первые стихотворения»,
так и по разным причинам в них не вошедшее. Быть может,
время навело свою патину, изменился хрусталик нашего
поэтического зрения, но мы не можем разделить расхожее до
недавней поры мнение о том, что «ни один читатель <...> не
сможет избежать чувств изумления и смущения, увидев, как
тривиально начиналось творчество автора "Дуинских элегий"»
(X. Э. Хольтхузен), или (в советском варианте) что «Рильке как
поэт созревал медленно, с трудом преодолевая свою провин-
20
Райнер Мария Рильке
циальную ограниченность» (И. Рожанский). Пять лет на
созревание — никак не много, никак не медленно. Во всяком
случае, неоконченная, изданная лишь много десятилетий спустя
книга «Явления Христа» была создана в 1896—1898 годах, и в
этой книге Рильке достигает таких высот прозрения, такого
пластического чуда чуть ли не в каждой строке, что разговоры
о тривиальности и ограниченности могут вызвать у
нынешнего читателя лишь изрядное недоумение. И это мнение не
«с третьей стороны», «Явления Христа» ныне весьма читаемы
и почитаемы во всех странах, где говорят по-немецки. Книга
отчасти навеяна впечатлениями от поездки в Италию в марте-
апреле 1897 года, но к одной Италии ее не сведешь (как не
сведешь «Часослов» к одной России), а самое важное — эта книга
сюжетно смыкается именно с поздним творчеством Рильке,
с «Жизнью Марии» и еще более поздними стихотворениями,
где Рильке — столь же католик, сколь и еретик, столь же
гностик, сколь и православный. Во всяком случае, уже в ней
Рильке предстает как огромный, европейский поэт.
А 12 мая 1897 года, в Мюнхене, в доме романиста Якоба Вас-
сермана (чей роман о Гаспаре Гаузере по сей день переиздается
и читается) Рильке встретился с женщиной, которая была
старше него на четырнадцать лет и стала, пожалуй, самой важной
(для поэзии!) из числа многочисленных подруг, встреченных
им в жизни. Это была уроженка Петербурга, говоря по-русски,
Луиза Густавовна Андреас, урожденная Саломе, «русская муза»
Рильке. Вместе с ней в апреле 1899 года Рильке в первый раз
поехал в Россию. Исследователи датируют время его
пребывания в России весьма точно: с 24 апреля по 18 июня.
Подробности этой поездки отслежены десятки раз: и
вправду произвели огромное впечатление на молодого поэта
Пасха в московском Кремле («То была моя Пасха, и я верю, что
мне ее хватит на всю жизнь», — писал он через несколько лет
в письме), встречи с Львом Толстым и Леонидом Пастернаком
(обычно забывают, что Л. О. Пастернак был любимым,
«собственным» иллюстратором Толстого), с Репиным. Главное же
в этой поездке было, пожалуй, то, что Рильке очень быстро
выучил русский язык Для него исчез тот барьер в восприятии
России, который неизбежен для всякого иностранца, сколь
ни полюбилась бы ему наша страна. В июне Рильке вернулся
в Тюрингию, где обосновался в то время, а в сентябре-октябре
в считанные дни, порой записывая в день до 150—200 строк,
создал первую часть первой своей по-настоящему зрелой
книги — «Часослова», или, как предпочитали говорить русские
Ε. Витковский. «Райнер. Мария. Орфей» 21
переводчики начала XX века, «Книги часов». Русские
впечатления причудливо переплелись в этой книге с итальянскими, и
порою очень трудно с уверенностью сказать, о каких «иноках»
идет речь — о францисканцах ли, о православных ли
монахах. Но опять-таки, юнговское «коллективное
бессознательное», существующее со времени издания «Часослова» за счет
того, что книгу эту прочли многие сотни тысяч читателей
(неважно, одобрили или нет), заставляет думать, что странная
Италия-Россия, вызвавшая в сознании Рильке бурю и
породившая «Часослов», не менее реальна, чем самые обыкновенные
Италия и Россия. Да и как было не перепутать их в московском
Кремле, архитектура соборов которого полна венецианизма-
ми: именно из Венеции в 1475 году был привезен архитектор
Успенского собора Аристотель Фиоравенти, четвертью века
позже — Алевиз Новый, перестроивший Архангельский собор;
а Венецию Рильке впервые посетил меньше чем за два года до
прибытия в Москву, — словом, как не смешаться было образам
России и Италии!
В 1900 году (7 мая — 22 августа) Рильке предпринял второе
путешествие в Россию (поездкой это уже не назовешь),
причем на этот раз — наедине с Лу Андреас-Саломе. Три недели
провели в Москве, потом отправились в Тулу — в надежде на
вторичную аудиенцию у Льва Толстого, которую и получили.
Для Рильке эта встреча была незабываема, ну, а то, что Толстой,
судя по его записям, едва ли вообще заметил присутствие
молодого поэта, нам нынче не важно ни в какой степени. Быть
может, встреча на Курском вокзале в Москве с десятилетним
мальчиком, которого тогда едва ли заметил сам Рильке, для
русской культуры оказалась важнее: то был сын художника
Леонида Пастернака — будущий поэт Борис Пастернак.
Из Ясной Поляны Рене и Лу отправились в Киев; посещение
Лавры наполнило Рильке впечатлениями, из которых в
сентябре 1901 года родилось самое «русское», совершенно
уникальное произведение — вторая книга «Часослова» «О
паломничестве» (в других переводах «О пути на богомолье»).
Величественные картины святых и юродивых, нетленных мощей в
катакомбах под Лаврой, людей, умеющих разговаривать с
Богом один на один и на равных, сложились в картину такой
«святой Руси», что вместо реальной страны перед читателем встает
нечто столь же экзотическое, как, скажем, Лхаса в Тибете. И это
чувство не только тех, кто читает Рильке по-немецки, — в
хороших переводах изрядная доля этой неведомой, даже не
былинной, а самим Рильке вымышленной страны видна очень ясно.
22
Райнер Мария Рильке
Перед нами — Рильке-визионер, поэт, увидевший в России то,
чего не видела в себе самой даже она, и неважно, насколько
реально это увиденное, ибо прошедшее через призму
гениального искусства становится более подлинным, чем сама жизнь.
Не стоит сравнивать Лавру лесковских «Киевских антиков» с
Лаврой второй книги «Часослова» — они находятся в разных
мирах и существуют совершенно отдельно от той Лавры, что и
по сей день, слава богу, высится над Днепром.
Не совсем ясно, чувствовал ли Рильке отличие Украины
от России, — русские писатели по сей день, попав за границу,
поначалу не видят разницы между Веной и Берлином. Однако
могилу Тараса Шевченко Рильке и Лу Андреас-Саломе
посетили специально; по не очень доказанной версии, именно о
Шевченко идет речь в стихотворении «Смерть поэта», позже
появившемся в «Новых стихотворениях». Потом они плыли на
пароходе по Днепру до Кременчуга, потом побывали в
Полтаве, Харькове, Воронеже; потом опять-таки пароходом
поплыли из Симбирска вверх по Волге, посетив Казань, Нижний
Новгород, Ярославль. Если прибавить к этому длинному
списку городов еще и деревню Кресты-Богородское под
Ярославлем, деревню Низовка Тверской губернии, где жил Спиридон
Дрожжин (чьи стихи Рильке любил и переводил), — остается
спросить: все ли россияне столько всего в России видели?
Впрочем, волжские города — особенно Казань и Нижний
Новгород — показались Рильке «чересчур азиатскими»,
творческого импульса из путешествия в Россию восточней
Москвы Рильке не воспринял, хотя кто знает, что было бы, если бы
состоялось на самом деле предполагавшееся, но сорвавшееся
третье путешествие в Россию в 1901 году. Хольтхузен пишет:
«В эти годы Рильке страстно впитывает в себя всё русское —
и великую литературу, и посредственную живопись, многое
переводит: Чехова, кое-что Достоевского, позднее еще и
Лермонтова...» Приходится простить Хольтхузену грех неведения:
если Васнецов или Репин еще могут быть с высот
европейского живописного Олимпа (того, на котором Рембрандт, Рубенс,
Леонардо да Винчи) расценены как «посредственная
живопись», то речь-то ведь не о них. В написанном по-русски
письме Спиридону Дрожжину от 29 декабря 1900 года (за два дня
до начала нового столетия) Рильке говорит: «Теперь я
постараюсь писать что-то об А А Иванове, который мне кажется
самый важнейший человек и художник-пророк России»
(орфография подлинника — Е.В.). Никто по сей день, кажется, не
проследил, насколько точно совпадают сюжеты библейских
эскизов Александра Иванова и стихи на библейские, особенно
Ε. Витковский. «Райнер. Мария. Орфей» 23
на евангельские сюжеты у самого Рильке. Во всяком случае, ни
в какое сравнение с действительно второстепенной
живописью группы «Ворпсведе» (пусть даже Рильке написал о своих
друзьях монографию) Александр Иванов никак идти не может.
Видимо, лишь разрыв с Лу в начале 1901 года, резко
оборвавший связь Рильке с Россией, не дал осуществиться замыслу
Рильке — написать об Иванове, чье «Явление Христа народу»
едва ли могло серьезно увлечь поэта, но чьи библейские
эскизы еще предстоит по слову, по строчке собирать в творчестве
зрелого Рильке, притом не меньше, чем образы Родена.
В Ворпсведе (близ Бремена) Рильке приехал по
приглашению познакомившегося с ним во Флоренции Генриха Фогеле-
ра, там он встретил свою будущую жену — художницу Клару
Вестхоф. 28 апреля молодые люди поженились, а 12 декабря
того же года у них родилась дочь Рут, та самая, которой мы в
значительной мере обязаны появлением посмертного
шеститомника Рильке.
С этого времени книги Рильке не просто выходят одна за
другой — они начинают переиздаваться, постепенно
принося хоть какой-то доход, которого «обедневший дворянин» (уж
поверим на слово, что дворянин, навсегда поверим) в какой-то
момент оказался почти начисто лишен. Издательство «Инзель»
покупает у него права на книгу «О Господе Боге и о другом» в
1900 году, а в 1904 году выходит окончательный вариант этой
книги — «Истории о Господе Боге»; постепенно пробивались
к читателю другие, менее значительные прозаические книги.
В июле 1902 года увидел свет первый вариант «Книги картин»
(или, в другой версии перевода, «Книги образов»), к которой
Рильке будет многократно возвращаться и окончательный
текст которой определится лишь в пятом издании в 1913 году.
Книгу эту нельзя обойти вниманием хотя бы потому, что
именно в ней содержатся самые хрестоматийные стихотворения
Рильке — «Одиночество», «Осенний день», «О фонтанах» и еще
два, известных русскому читателю по классическим
переводам Бориса Пастернака, — «За книгой» и «Созерцание».
С одной стороны — явно ювенильные рецидивы (их
читатель пусть ищет сам, они есть), с другой — циклы (те же «Цари»),
кажущиеся написанными на полях «Часослова» и лишь по
композиционным соображениям в него не попавшие. С одной
стороны — стихи, возникшие под негаснущим впечатлением
посещения Италии («В Картезианском монастыре»), баллады,
рожденные чуть ли не под прямым влиянием живописи
раннего Ренессанса («Три волхва» так и хочется
проиллюстрировать одноименной картиной Беноццо Гоццоли, творением
24
Райнер Мария Рильке
XV века), с другой — первый из прославленных «Реквиемов»,
созданный в ноябре 1900 года по просьбе Клары Вестхоф на
смерть ее подруги Гретель Коттмайер, отзвуки которого мы
находим много лет спустя в «Дуинских элегиях». «Книга
картин» — сочинение совершенно зрелого поэта, но, в отличие от
более поздних произведений, это в значительной мере
сборник стихотворений, а не цельная книга, тем более — не поэма,
построенная из множества подогнанных друг к другу частей.
Быть может, именно поэтому сборник разделен на две книги, а
каждая из них — на две части. Вторая книга значительно
более цельна, чем первая. В ней много исторических героев —
Иван Грозный, его сын Федор Иоаннович, Карл XII Шведский
(видимо, воспринятый не только через Пушкина или Байрона,
но и под впечатлением посещения Полтавы — стихотворение
датировано 2 октября 1900 года), рыцари знаменитого
итальянского рода Колонна, за фигурами которых явственно
просматривается фигура одной из величайших поэтесс Италии,
происходившей как раз из этого рода, Виттории Колонна —
к ней некогда обращался со стихами Микеланджело, а
самому Микеланджело, надо заметить, посвящено стихотворение,
попавшее в первую часть «Часослова». «Книга картин» — некое
подведение итогов, после которого Рильке не только уезжает в
Париж, но на некоторое время меняет и поэтический жанр.
28 августа 1902 года Рильке приехал в Париж; именно здесь
он создает (преимущественно в апреле 1903 года) третью,
самую маленькую часть «Часослова», после которой книга
становится вполне завершенной и просто просится на печатный
станок. Именно здесь, в «Книге о бедности и смерти», Рильке
кратко и афористично сформулировал свою главную и до
него, кажется, не существовавшую в литературе мысль о том,
что вместе с человеком на свет появляется его смерть. Если
жизнь его и предназначение в полной мере исполнены и
реализованы, эта смерть умрет вместе с человеком, и такая смерть
столь же достойна уважения, как полная свершений жизнь. Но
чаще всего к человеку приходит не его смерть, а чужая, —
тогда и жизнь потеряна вдвойне. Горько описывает Рильке такую
смерть, приходящую к обитателям окраин больших городов:
Там смерть — не та, что холит и лелеет
и нежит их в младенчестве больном,
а крошка-смерть, забравшаяся в дом.
Своя же смерть висит и зеленеет
у них внутри незреющм плодом.
Ε. Витковский. «Райнер. Мария. Орфей» 2 5
Издан «Часослов» был лишь к Рождеству 1905 года. К этому
времени Рильке уже всецело углубился в совершенно новую и
для себя, и отчасти для европейской поэзии форму — в
«стихотворение-вещь».
Рильке приехал в Париж с вполне конкретной целью —
он хотел написать книгу об Огюсте Родене. Очень немногие
поэты, особенно великие поэты, стремились писать об
изобразительном искусстве — о живописи ли, о скульптуре ли —
именно на искусствоведческом, эссеистическом уровне, чаще
возникали в подобных случаях стихи о живописи или
«Медный всадник». Рильке был исключением: он действительно
написал о Родене монографию. Он был восхищен им до
последних пределов; в 1906 году он полгода попросту выполняет
обязанности секретаря Родена, годом позже разрывает с ним
отношения, потом опять мирится, переиздает книгу в сильно
расширенном виде. Но все-таки даже эта, действительно
хорошая книга давно канула бы в реку забвения, не будь она книгой
великого поэта. Отчасти еще и потому, что именно из
творчества Родена вывел Рильке свою версию того, что теперь
именуется «стихотворение-вещь»: жанр, едва ли существовавший до
Рильке, самим Рильке вполне исчерпанный в книгах «Новые
стихотворения» (1907) и «Новых стихотворений другая часть»
(1908).
Прежде чем говорить об этих книгах, которые одними
читателями не были восприняты вовсе (это была «не поэзия»),
другими же было объявлено, что наконец-то много
обещавший юноша оправдал надежды и создал нечто бессмертное, —
прежде этого интересно узнать мнение о них Александра
Виска, первого русского переводчика Рильке, начавшего работу
в 1905 году и завершившего ее в 1957 году вторым изданием
своего избранного, вышедшим в Париже. Книга содержит
любопытнейшее предисловие, где есть интересные мысли и о
поэтическом переводе в целом, и собственно о Рильке: «Казалось
бы, что общего мог иметь Родэн, мужественный скульптор, чья
мастерская была наполнена громадными глыбами мрамора,
с тонким поэтом, оперировавшим тихими словами. Однако,
Роден полонил Рильке — быть может, именно своей
противоположностью. Роден научил Рильке работать с натуры-,
результатом этой встречи была книга "Новые стихи". В то время
как "Книга образов" (так Биск называет "Книгу картин" — Е.В.)
рисовала людей, а "Книга Часов" (т. е. "Часослов" — Е. Я)
вообще ушла от внешнего мира в душевные глубины, — "Новые
стихи" представляют собой поэзию города. Если "Книга Обра-
26
Райнер Мария Рильке
зов" и "Книга Часов" глядели на восток, в необъятные
равнины России, то "Новые стихи" обращены на запад, к романской
Европе. Вообще надо заметить, что ни одна книга Рильке не
похожа не предыдущую, каждая представляет собой
законченное целое».
Правы были, видимо, все высказавшиеся. Созданный Рильке
жанр поэзией в прямом смысле этого слова {только поэзией)
считаться едва ли может. Сам жанр «стихотворение-вещь» в
немецкой поэзии не привился (не считая лабораторных
образцов), но Рильке довел его до абсолюта. Перед нами не простая
попытка выразить поэтическими средствами идеалы Родена.
Рильке не просто пытается запечатлеть словами вещь, живое
существо, литературного героя — он пытается сделать «вещью»
само стихотворение. «Мяч» в самом конце «Новых
стихотворений другой части» лучше всего объяснит метод Рильке.
Сначала мяч находится в одних ладонях, они греют его: «Прыгун, ты
даришь слишком беззаботно / тепло чужих ладоней...», затем
мяч летит, буквально размышляя в полете, как живое существо,
чтобы в конце стихотворения в семнадцать (!) строк нырнуть
в «ковш подставленных ладоней». К привычным трем
измерениям добавляется четвертое, тоже привычное (время), но все
четыре измерения, будучи проецированы еще куда-то
(видимо, в пятое измерение, столь любезное булгаковскому Волан-
ду), воплощаются в нечто качественно новое — и возникает
истинное остановленное мгновение.
Именно здесь Роден и Рильке сходятся ближе всего, ибо
Рильке с помощью слова передал то, что принципиально не-
воплотимо с помощью камня (если не подвешивать камень в
воздухе, конечно). Однако тут же начинаются и расхождения.
Бессмертная роденовская «Весна» — объятие обнаженных
юноши и девушки — «всего лишь скульптура» только для
невнимательного или плохо образованного зрителя. При
ближайшем рассмотрении мы находим в руке одного из
персонажей еще открытую, но уже отбрасываемую в сторону книгу.
В памяти возникает: «И в этот день мы больше не читали...» —
и «Весна» оказывается вовсе не экзерсисом на эротическую
тему, ибо изображенные герои — это Паоло и Франческа, тени,
встреченные Данте во втором круге Ада. Роден явно пытался
сделать из скульптуры литературу.
Рильке же декларативно пытался превратить поэзию во
что-то подобное скульптуре, картине, рисунку. В то время не
было ни кинематографа (робкие ростки не в счет), ни тем
более телевидения. Художественная задача, которую ставил пе-
Ε. Витковский. «Райнер. Мария. Орфей» 27
ред собой Рильке, — синтезировать из «вещи» и
«стихотворения» «вещь-стихотворение», — требовала настоящего насилия
над искусством, и она была бы обречена, не окажись Рильке
поэтом столь огромного дарования. Рильке в этой книге
пластичен, статичен, почти грубо эротичен — когда как надо.
Однако две части «Новых стихотворении», видимо, исчерпали для
автора возможности жанра: среди «не вошедших в сборники»
не набирается и десятка стихотворений, которые можно, не
кривя душой, отнести к форме «стихотворение-вещь». К концу
1907 года, несмотря на формальное примирение с Роденом,
Рильке отходит от него навсегда — он привык творить новое,
но должен искать еще что-то, что в состоянии найти он один,
и поиски его в первое время никакого нового магистрального
пути не находят. В частности, в 1907 году, сразу после смерти
Сезанна, в Париже состоялась обширная ретроспективная
выставка его работ. Рильке был потрясен, он писал Кларе Рильке:
«...И как бедны все его предметы: его яблоки можно есть только
печеными, его винные бутылки так и просятся сами в
разношенные, округлившиеся карманы простых курток».
Но поэзия из подобного, пусть восхитительного,
материала у Рильке не складывалась — это был материал для
великого Теодора Крамера, истинно австрийского поэта,
дебютировавшего в литературе годом позже, чем Рильке ушел из жизни.
Рильке нужен был какой-то другой порыв. Он всерьез берется
за прозу: пишет пока что начерно свой единственный роман
«Записки Мальте Лауридса Бригге», пытается, подражая
французским образцам, создать на немецком языке цикл
стихотворений в прозе, немного позже создает реквиемы — на смерть
подруги жены, художницы Паулы Беккер-Модерзон, и второй,
посвященный памяти юного поэта графа Вольфа фон Каль-
крёйта (1887—1906), который покончил с собой, не
достигнув совершеннолетия. Форма реквиема, более чем
традиционная в музыке, но довольно редкая в поэзии, превращается
для Рильке в постоянную: жизнь любого человека состоит из
череды прощаний с близкими и дальними, Рильке же со
времен «Часослова» ясно воспринимал смерть только как Смерть
с большой буквы, верного и вечного спутника человеческого
бытия (надо помнить, что слово «смерть» по-немецки —
мужского рода). Важно лишь встретить свою Смерть, а не чужую, —
тогда Жизнь оправдана.
1909 год отмечен для Рильке как завершением работы над
романом, так и новым знакомством. Рильке, чья европейская
слава уже неоспорима, всё чаще выбирает себе в друзья тех, для
28
Райнер Мария Рильке
кого XX век — неприятный анахронизм: богатых европейских
аристократов. Нет, Рильке уже не очень нуждается в их
меценатстве, многочисленные книги приносят ему вполне
достаточный гонорар, — Рильке доставляет удовольствие общение
с подлинными дворянами, чье генеалогическое древо порой
уходит в прошлое тысячелетие. Рильке свято убежден, что он и
сам — потомок старинного дворянского рода. Аристократам
же льстит внимание великого поэта, а благородство его
происхождения вполне доказываемо благородством его
поэтических строк. Обе стороны полностью довольны друг другом, и
через немногие годы Рильке до конца жизни становится
«дворянским гостем».
В 1909 году умирает Лилиенкрон, называвший Рильке в
письмах «мой замечательный Рене Мария». Впрочем, чуждого
немецкому слуху Рене поэт давно уже переделал в Райнера, из
многочисленных имен, полученных при крещении, оставил
лишь многозначное для него «Мария» — и под этими двумя
именами Рильке незаметно для самого себя превращается в
первого среди поэтов, пишущих по-немецки, возможно, деля
«престол» лишь с создателем ультраэстетизма Стефаном
Георге. С ним Рильке в юности даже познакомился и посвятил ему
стихотворение, но дружбы не получилось: свою «башню из
слоновой кости» Георге выстроил давным-давно, и вход в нее
был разрешен лишь немногим, младшим по дарованию,
верным друзьям-ученикам. Для Рильке такая роль была
невозможна, да он вряд ли и помышлял о ней. Впрочем, одно бесспорно
объединяло Рильке и Георге: когда составлялась очередная
«антология современной немецкой поэзии», оба, не сговариваясь,
почти регулярно запрещали печатать свои произведения. Оба
не терпели смешения с толпой. Кстати, оба умерли в
Швейцарии, в «Касталии» Германа Гессе, в той европейской стране, где
поэт, если хочет, может найти больше всего уединения, не
удаляясь при этом слишком далеко от центров цивилизации.
Итак, Рильке уже изрядно избалован вниманием
аристократов. Первым, приютившим его, был одаренный поэт, принц
Эмиль фон Шенех Каролат (1852—1908). Летом 1902 года в
его замке «бессознательное дворянское» начало Рильке как
бы доказало само себя, ибо здесь Рильке наконец-то было
хорошо: военные детство и юность казались страшным сном,
зато отнюдь не сном, а реальностью становились
поэтические строки под его пером. В последующие годы Рильке
гостит у аристократов всё чаще и чаще, а 13 ноября 1909 рода он
знакомится с княгиней Марией фон Турн-унд-Таксис Гоген-
Ε. Витковский. «Райнер. Мария. Орфей» 29
лоэ. В апреле следующего года Рильке впервые гостит в замке
княгини на берегу Адриатического моря — в замке Дуино, чье
имя, войдя в название прославленной книги «Дуинские
элегии», прославило в веках княгиню Марию куда надежней, чем
любое родословное древо. Жизнь подражает искусству: скала
в Коктебеле превратилась в портрет Максимилиана Волошина
после того, как он выстроил свой Дом Поэта; старинный замок
Дуино воспринимается нами уже не как «дворянское гнездо»,
а как тот самый замок, где создал Рильке книгу своих элегий.
Впрочем, еще до начала первой из элегий, в 1912 году Рильке
обращается к иному имени — и создает книгу «Жизнь Марии»,
произведение куда более значительное, чем принято считать
в традиционном литературоведении. В советском
литературоведении (в издании 1971 года) книга эта, конечно,
расценивалась как «второстепенный цикл» (И. Рожанский), Хольтхузен
же вообще назвал книгу «одной из сублимированных пародий
Рильке на образы христианской священной истории» —
добрых слов об этой книге я как-то в литературоведении не
нашел, хотя, признаться, не искал специально. Сам Рильке вроде
бы не придавал этой книге большого значения — его увлекал
исполинский замысел «Дуинских элегий»; между тем «Жизнь
Марии» прямого отношения к Евангелию не имеет, она
базируется на историях из церковного предания, что с какой-то
стороны имеет корни у немецких романтиков
(вспоминается трогательный «Святой Лука, рисующий Мадонну» Августа
Вильгельма Шлегеля, где Мария, живущая одиноко,
соглашается один-единственный раз позировать евангелисту Луке), с
другой, более существенной стороны, эта книга базируется на
восточном восприятии образа Девы Марии (именно ей
возносит молитву царь Федор Иоаннович в последней части цикла
«Цари» в «Книге картин»).
Доказательством того, насколько серьезно относился
Рильке к этой книге, служит множество стихотворений на близкие
темы, написанных одновременно, однако в окончательный
вариант состава не попавших («Ангелу», «Воскресение Лазаря»,
«Эммаус»): они ложились в рамки евангельских сюжетов, но не
вплетались в повествование о жизни Марии. Рильке сложил в
итоге даже не цикл стихотворений — он превратил «Жизнь
Марии» в поэму (в русском значении этого жанра). Не зря уже
через полгода после выхода немецкого издания появилось
русское. Едва ли образы жития Богородицы были для Гильке
«мифологией»: еще Ницше говорил, что художник вынужден
или использовать уже готовую мифологию, или создавать но-
30
Райнер Мария Рильке
вую. То, что Рильке с неодобрением относился к католической
трактовке образа Христа, в данном случае никакого значения
не имеет. Вера, дополненная множеством образов и идей —
преимущественно восточных, русских и греческих, — никогда
в нем не угасала, как художник и как человек он был целен и
подлинно синтетичен. Триада Логоса неизменно
торжествовала в его творчестве над триадой Эосфора (Люцифера).
Рильке никогда не синкретичен, зато подлинно синтетичен, что и
следует из антитезы этих триад.
Поэтика Рильке, используемые им стиховые формы с
годами сильно менялись, но неизменными оставались ключевые
слова: «роза», «сон», «звезда», «созвездие», «тьма», «плод», а также
слова-категории: «углубленность», «постижение», «познание»
и еще не более полусотни подобных, — именно они
являются стержнем всего творчества Рильке, особенно поэтического.
Едва ли слово было для Рильке совершенным абсолютом, как
стало оно таковым для позднего Готфрида Бенна: там
«волны» — это всегда только «волны», «пинии» — только «пинии»,
средиземноморские сосны, «кипарис» — только «кипарис»,
тогда как для Рильке образ пирамидального тополя,
появляющийся в его поздних французских стихах, служит вполне
эквивалентной заменой: это просто дерево, указывающее в небо,
и лишь отчасти — легендарный белый тополь Орфея. Слово
для Рильке всегда меньше символа, им обозначенного.
Начав с разрушения традиционной строфики, Рильке
приходит к нигде не записанной, но явствующей из его
творчества формуле: «Пишу как хочу». И, отчасти закончив, отчасти
отложив до окончательной отшлифовки «Жизнь Марии», в
январе-феврале 1912 года он создает первые две из «Дуинских
элегий».
Эта книга, законченная лишь через десять лет, вылилась в
нечто в европейской литературе невиданное. Издана книга была
лишь в 1923 году, когда мир целиком переменился, «родная
Австро-Венгрия» вообще исчезла с европейских карт, а взамен
на них обнаружились вполне чужие для Рильке Чехословакия,
Австрия и другие страны; к этому времени Рильке
окончательно стал человеком без родины. «Дуинские элегии» — едва ли
вершина творчества Рильке (доказывается просто:
представьте, что от всего Рильке остались лишь они одни, и облик поэта
расплывется в тумане времени), но, безусловно, самый
смелый, самый плодотворный его эксперимент. Традиция Гёль-
дерлина, не дававшая покоя немецким поэтам с тех пор, как
гениальный предромантик в начале XIX века забыл свое имя
Ε. Витковский. «Райнер. Мария. Орфей» 31
и время и прожил сорок лет, ставя под весьма любительскими
стихами невероятные даты — то 1640 год, то 1940 год, —
традиция поэмы «Архипелаг» бурно расцвела в «Дуинских
элегиях». Однако, много приобретя в рваных, нерифмованных, гек-
заметроподобных строках «Элегий», Рильке слишком далеко
ушел от самого себя. Его поэтический организм породил
нечто вроде «реакции».
За несколько дней в феврале 1922 года, еще не окончив «Ду-
инские элегии», в Швейцарии, в замке Мюзот, он создает свой
последний из числа опубликованных на немецком языке при
жизни поэта шедевров — двухчастный цикл «Сонеты к
Орфею». Сонетами эти четырнадцатистрочные стихотворения
можно назвать лишь с очень большой натяжкой: как некогда
«Часослов» (особенно его вторая часть), они более всего
напоминают единую поэму в 770 строк. Так же, как некогда из
«Часослова», а поздней из «Жизни Марии», из цикла был изъят ряд
«сонетов», мешающих цельности книги: восемь сонетов
известны ныне как «Примыкающие к кругу "Сонетов к Орфею"».
Стихи прекрасны, но Рильке, как некогда Микеланджело, знал,
что от глыбы мрамора нужно отсечь всё лишнее — лишь тогда
миру предстанет произведение воистину прекрасное,
воистину совершенное. Микеланджело ясно выразил это и в
собственном сонете:
Нет замысла, какого б не вместила
Любая глыба мрамора. Творец,
Ваяя совершенства образец,
В ней открывает, что она таила1.
Кстати, этот же сонет Микеланджело существует на
немецком в переводе Рильке.
Говорят, что на стене рабочего кабинета Рильке в замке
Мюзот висела гравюра, сделанная по рисунку Чимы да Коне-
льяно, ренессансного художника, взявшего на себя смелость
изобразить поющего Орфея. Выше уже было рассказано о том,
что Рильке сделал «Реквием» постоянным жанром своего
творчества; «Сонеты к Орфею» — последний из четырех основных
реквиемов, вышедших из-под его пера, притом накануне
первых симптомов той болезни, что свела Рильке в могилу, —
белокровия. «Сонеты к Орфею» посвящены памяти
поразительно красивой юной девушки, дочери друзей Рильке по имени
1 Перевод Вяч. Иванова.
32
Райнер Мария Рильке
Вера Оукама-Кнооп — она умерла от той же болезни, и
«Сонеты к Орфею» стали одновременно памятником и ей, и Рильке.
На протяжении десяти лет (1912—1922), когда медленно и
с длинными перерывами шла работа над «Дуинскими
элегиями», Рильке тоже жил, как все люди, творил, попадал то в одну
беду, то в другую, хотя в эти годы его всеевропейская слава
росла с каждым днем. От этого периода, помимо многочисленных
стихотворений, никогда не собранных в отдельные сборники,
осталось огромное количество поэтических и прозаических
переводов Рильке — от «Возвращения блудного сына» Андре
Жида и «Двадцати четырех сонетов» французской
поэтессы XVI века Луизы Лабе до «Кладбища у моря» Поля Валери,
с творчеством которого Рильке познакомился в 1921 году и
дружба с которым озарила последнее пятилетие жизни
«Орфея из Праги».
К Валери его вела судьба. В конце 19Ю — начале 1911 года
Рильке предпринял в два приема длинное путешествие в
Африку, в Алжир и в Тунис, поздней — в Египет, где увлекся
исламом. Буквально годом позже французский философ Рене
Генон (1886—1951) в своем неприятии западного
христианства принял магометантство под именем Абдул-Вахид Яхья, а
потом пошел еще дальше — принял посвящение суфийского
толка и навсегда поселился в Каире. Рильке такое не
мерещилось в страшном сне, его увлечение арабским востоком
перешло лишь в более чем критическое отношение к
традиционному образу Христа, при сохранении почитания Девы Марии.
Поздний Рильке, сам того не замечая, возвращался к «востоку»
своей молодости, недаром русские мотивы так мощно звучат в
«Сонетах к Орфею ». Хотя Рильке читал Коран и заверял друзей
в письмах, что питает к пророку Мохаммеду очень глубокое
чувство, для творчества Рильке отрицательный момент
оказался важней: отойдя от ортодоксального Христа, к
Магомету он не пришел; не принял бы он, надо полагать, и буддизма
(классик «пражской школы» Густав Майринк как раз в буддизм
в конце жизни и перешел).
Война застала Рильке в Германии, на ее начало он
откликнулся длинным циклом поэтически неопределенных
достоинств — в этих стихах больше Гёльдерлина (второе рождение
которого переживала в эти годы немецкая культура), чем
собственно Рильке, и больше общегерманского, чем личностного.
Куда интересней в этом отношении цикл откровенно
эротических стихотворений, возникший в 1915 году: как мы видим,
в творческом отношении поэта просто бросает из крайности
Ε. Витковский. «Райнер. Мария. Орфей» 33
в крайность. Жизнь отплатила ему своеобразной
«крайностью»: 4 января 1916 года в Вене он был... призван в армию.
После трехнедельной «строевой подготовки» кто-то из
военных начальников разглядел, видимо, что даже как от
пушечного мяса от Рильке на войне будет мало толку, и его
прикомандировали к военному архиву. Русский язык XX века вынес из
жаргона сталинских зеков точное слово для определения того,
чем ближайшие полгода был вынужден заниматься Рильке: он
«перекантовывался» — война шла, а поэт в максимально
переносимых для мобилизованного условиях дожидался ее конца.
До 9 июня Рильке «служил в армии», пока друзья, нажав на все
возможные рычаги, не добились его
переосвидетельствования и не вырвали из армейской казармы. Несколько недель
он провел вблизи от Вены, дружески общаясь с Гофмансталем,
а потом вернулся в Мюнхен. После окончания войны, летом
1919 года, Рильке перебирается в Швейцарию — в
единственную страну в Европе послевоенных лет, где окружающие
говорили на знакомых поэту языках, где ждали его лекций,
стихов, где — главное — ждали его самого и были ему рады. Поэт
обрел относительный покой, вернулся к творчеству — тут-то
его и застигла «вспышка сверхновой»: в 1921 году он всерьез
прочел Валери, сперва стихи, потом прозу. Восторг Рильке
не имел предела, и он записал: «Я был одинок, я ждал, всё мое
творчество ожидало. Однажды я прочел Валери и понял, что
моему ожиданию пришел конец».
Поль Валери очень поздно вошел во французскую
литературу: ему было сорок шесть лет, когда отдельное издание не
очень большой поэмы «Юная парка» в одночасье превратило
его в первого поэта Франции. Самое прославленное его
стихотворение — «Кладбище у моря» — было создано в 1920 году;
14—16 марта 1921 года Рильке на одном дыхании сделал
полный перевод всех двадцати четырех шестистиший, поняв и
расшифровав тайнопись Валери столь глубоко, как едва ли
удалось это сделать всем литературоведам мира вместе взятым.
Летом 1922 года вышло отдельным изданием главное
поэтическое произведение Валери, сборник «Очарования»; в 1922—
1923 годах Рильке переводит на немецкий все основные вещи
этого сборника, а над переводами «Фрагментов к Нарциссу»
продолжает трудиться еще и летом 1926 года: 8 июня
датирована «Элегия Марине Цветаевой-Эфрон», 4— 11 июня —
перевод «Фрагментов к Нарциссу», концом того же месяца —
дарственная надпись Цветаевой на сборнике «Сады» с
приложением «Валезанских катренов», только что вышедшем сборнике
34
Райнер Мария Рильке
французских стихотворений Рильке. С Цветаевой и
Пастернаком, чья эпистолярная дружба бросила прекрасный отблеск
на последний год жизни Рильке, он лично никогда не
увиделся (не считая встречи с десятилетним мальчиком на Курском
вокзале в Москве), с Валери провел целый день 13 сентября
1926 года на берегу Женевского озера. Об этом «одиночестве
вдвоем» по сей день ходят легенды, а Валери вспоминал:
«Какие минуты свободы, отзвучных даров — эти минуты
последнего сентября его жизни!..» Именно странная религия Валери,
точней отсутствие религии, откровенное картезианство
становится последним прибежищем беспокойного духа Рильке.
Крепчает ветер!.. Значит — жить сначала!
Страницы книги плещут одичало,
Дробится вал средь каменных бугров.
Листы, летите! Воздух, стань просторней!
Раздернись, влага! Весело раздерни
Спокойный кров — кормушку кливеров!
«Кладбище у моря»1
Впрочем, они с Валери виделись и раньше, еще в апреле
1924 года Валери приезжал в Мюзот. Встреча подобных
титанов духа редко дает творческие плоды, но здесь мы имеем
исключение. После окончания «Дуинских элегий» и «Сонетов
к Орфею» Рильке достиг в немецкой культуре высот, выше
которых одно небо. Его пятидесятилетие в 1925 году
почтительно отмечала вся Европа. А Рильке в эти последние годы
предпринимает редчайшую, но очень понятную нам, в России, на
примере жизни и творчества Владимира Набокова, попытку
сменить язык творчества: он превращается во французского
поэта, вернее — во франкоязычного, и доказательством
тому — пронизанные солнцем швейцарского кантона Валлис
«Валезанские катрены». Если эти стихи и не достучались по
сей день до разума французских ценителей, то, боюсь, лишь
по той причине, по которой это в XX веке вообще трудно
сделать: как уже было сказано, «поэзия уходит от разума» (Йо-
хан Хёйзинга), менее всего Франции нужен «второй
Валери», одного-то много, если учесть труднопонимаемость его
творчества. Да и Рильке не столько писал что-новое, сколько
разрабатывал уже найденное им в сокровищнице родного
немецкого языка.
1 Перевод мой. — Е. В.
Ε. Витковский. «Райнер. Мария. Орфей» 35
Уйдя от немецкой речи во французскую, сменив
«поэтический инструмент», Рильке столкнулся с колоссальной
трудностью: в силлабическом стихе не воспользуешься наследием
Гёльдерлина; много рифм, но все банальны; то, что по-немецки
выражается одним составным словом, по-французски требует
целой фразы. «Может быть, французский вообще не настолько
пластичен, как английский и немецкий», — писал в эссе
«Валери как символ» Хорхе Луис Борхес. Но Рильке это не
остановило: он создал свою собственную «валезанскую» поэтику
и на французском языке, подробно разбирать ее нет нужды.
Проживи Рильке еще несколько лет, мы, видимо, получили бы
еще несколько книг французских стихотворений; не совсем
законченные книги «Розы» и «Окна» увидели свет посмертно,
в первой половине 1927 года.
Посмертно. Как странно звучит это слово
применительно к поэту, всю жизнь писавшему о Смерти как о «самом
главном». Расхожей стала фраза, что после смерти великого поэта
начинается его бессмертие. К Рильке она неприменима, его
бессмертие началось гораздо раньше — не столь уж частый
случай в человеческой истории. Его имя стало символом
поэта, символом Орфея еще при его жизни. Из-за его долгой
болезни, которой лишь перед самым концом нашли диагноз,
по Европе несколько раз прокатывался слух: Рильке умер.
Друзья писали осторожные письма, получали ответы — нет, жив.
Жизнь, Смерть и Бессмертие сливались во что-то одно,
предназначенное только Райнеру Марии Рильке. Он просил
друзей: «Помогите мне умереть моей смертью!» Это не было
просьбой об эвтаназии, которая была бы по сути дела косвенным
самоубийством. Рильке просил найти способ избавить его от
мучений, как некогда молил вызволить его с военной службы.
Смерть медлила: видимо, какие-то строки поэт еще должен
был занести на бумагу. Последнее стихотворение датировано
26 декабря 1926 года.
Был декабрь 1875 года, холодный месяц, холодный день,
когда появился на свет Божий будущий Райнер Мария Рильке.
Был декабрь 1926 года, холодный месяц, когда Райнер
Мария Рильке ушел из жизни рука об руку со своей собственной,
лишь ему одному предназначенной Смертью. Его жизнь была
выполнена.
В завещании он попросил похоронить его возле церкви в
Рароне. Он сам выбрал слова для своей эпитафии, сам точно
обозначил место, где хотел лежать после смерти, — в двух ша-
36
Райнер Мария Рильке
гах от башни Мюзот, в тех местах даже швейцарские крестьяне
говорят на двух языках — французском и немецком.
1 января 1927 года Марина Цветаева писала Борису
Пастернаку: «Борис, он умер 30 декабря (на самом деле 29 — В. Я),
не 31-го. Еще один жизненный промах. Последняя мелкая
мстительность жизни — поэту. Борис, мы никогда не поедем к
Рильке. Того города — уже нет».
Мы приносим к надгробию поэта тот скромный дар, какой
в силах принести: мы отдаем в руки читателей Собрание
сочинений Райнера Марии Рильке. Вот всё, что мы можем. Когда-
нибудь появится возможность издать по-русски шеститомник
Рильке в академическом варианте, однако для этого нужно еще
сто лет труда многих поколений перевдчиков.
А пока что — «в руки читателя предаем...»
Евгений Витковский
«ИДЯ ПО СЛЕДУ ПОЭТА...»
У Рильке есть такое признание: «Я был одинок, я ждал,
ожидало все мое творчество. И однажды, прочитав Валери,
я понял, что мои ожидания закончились». Так в один из
затянувшихся творческих кризисов (1921 г.) Рильке открыл и
стал переводить «для себя самого» лирику великого
французского поэта-современника. Описанная ситуация каким-то
краем соотносится и с моей, и я, наверное, вспоминая свое,
уже весьма давнее, стихотворческое начало, мог бы сказать
о себе то же самое — с одним изменением: Однажды,
прочитав Рильке...
Для этого мне придется начать издалека и с веселых
случайностей. В селе Черный Яр, на Нижней Волге, где мои
родители обосновались после войны, с 5-го по 7-й класс я учил
английский язык; потом «англичанка» вышла замуж и уехала; в
школе осталась только «немка», и мне пришлось с 8-го по 10-й
класс учить немецкий. После срочной службы в армии (а я
служил в авиации — понятно, из-за своей фамилии!) я собрался
поступать в МГУ и попросил Валерия Семенко, своего друга-
полиглота, «поднатаскать» меня по-иностранному языку. При
встрече я рассказал ему про свой школьный расклад, и ему
ничего не оставалось, кроме как устроить маленький экзамен.
Выяснилось, что выбора нет, и в любом случае мне надо
начинать с нуля. Вопрос — с какого: английского или немецкого?
Бросили монетку — выпало: с немецкого...
Я уже учился на втором или третьем курсе, когда в моих
руках случайно оказался переводной сборник стихов
неизвестного мне немецкого поэта. Стихи, вернее переводы, были так
38
Райнер Мария Рильке
себе. Но помню, как меня поразило необычайно музыкальное
имя поэта: Райнер Мария Рильке. Ра — Ри — Ри... И, странное
дело: меня неудержимо потянуло в библиотеку иностранной
литературы, что на Николоямской улице, — заглянуть в
оригинал... И — придется повторить концовку цитаты — «мои
ожидания закончились».
Моя университетская дипломная работа (1977 г.)
называлась «Райнер Мария Рильке и Россия», куда я включил и мои
переводы из Рильке; а материал для главы об истории
переводов произведений Рильке на русский язык мне щедро
предоставил Евгений Витковский — тогда еще совсем юный, но
уже известный поэт-переводчик и историк переводческой
поэзии.
А еще раньше, накануне 100-летия со дня рождения Рильке
(1975 г.) я отпечатал на машинке несколько своих переводов и
понес их в редакцию журнала «Иностранная литература».
Внизу мне подсказали, в какой кабинет зайти — к Е. Ланиной,
ведающей зарубежной поэзией. Ланина быстро просмотрела мои
листки и передала их человеку, сидевшему тут же, за столом,
над кипой прочитанных корректорских оттисков. Он тоже
просмотрел мои листки и сказал Ланиной: — Мои переводы
этих стихотворений снимите, а эти вставьте.
Незнакомец попрощался и ушел, а я, удивленный донельзя,
спросил у Ланиной: — Кто это был?
— Константин Богатырев! — сказала Ланина.
Речь шла о двух переводах из Рильке: «Ночная езда» и
«Летняя ночь в городе» — они и стали моими первыми
журнальными публикациями.
С этого времени я не напечатал ни одного своего
стихотворения, больше того — я перестал записывать свои стихи, если
«осеняло» — я, так сказать, чистый поэт-переводчик.
Думаю, что это стихотворческое воздержание полезно:
у пишущих свои стихи поневоле вырабатывается так
называемый стиль, и он неизбежно проецируется на переводимого
поэта, а если переводишь нескольких, то на всех.
Увлечение Рильке у меня совпало с моей юностью, то есть
с порой ничем не ограниченного интереса к вещам
окружающего мира; и этот интерес, как нельзя полней, соответствовал
характеру поэзии Рильке и им же провоцировался.
Однажды я участвовал в пасхальном крестном ходе в
церкви Илии Пророка, что в Обыденском переулке (1979 г.). Через
несколько дней меня по месту работы вызвал к себе в кабинет
В. Летучий. «Идя по следу поэта...»
39
секретарь партийной организации (интересно: кто ему
донес? Не сам же он там присутствовал!):... — Как могли вы... член
КПСС... старший редактор... со свечкой в руках...
Я со всем возможным в подобных случаях
простосердечием объяснил, что перевожу стихи Рильке о России, а он
описывает пасхальную службу в Кремле... в 1899 году... И я никак не
могу понять, о чем в стихах идет речь... И вот решил...
К моему великому удивлению, никаких явных оргвыводов
не последовало.
Вспомнил про этот случай, и на ум поневоле пришло
высказывание еще совсем молодого Рильке («Флорентийский
дневник» (1898 г.): «Знайте же, что искусство есть путь к
свободе».
Разумеется, я старался до подробностей изучить все
поэтические произведения Рильке и соотнести их с обыкновенной
жизнью самого Рильке; и кажется, я знаю о нем все: как он
прогуливался по улицам или по тропинкам, среди виноградников;
как срывал цветы и вдыхал их запах; как пристально
всматривался во все, что привлекло взор, будь то нищий на мосту или
готический собор, травинка, море, обломок античной
статуэтки или звездное небо... Как любил и целовал женщин, как
всматривался в иконы или фрески, как читал книги или
слушал музыку... Как радовался и грустил...
Поле взаимодействия вокруг Рильке постепенно
расширялось, я попутно переводил тех, кто писал до Рильке и оказал
на него влияние: М. Лютер (перевод «Библии»), поэты
«немецкого барокко», Ф. Гельдерлин, Г. Гейне, С. Георге... И тех, кто
писал после него и на кого повлиял он сам: Г. Тракль, П. Целан...
Иногда и Рильке попадал под воздействие своих младших
современников; так, по собственному признанию, он был
«взволнован и увлечен» поэзией Георга Тракля, — и в некоторых его
стихах той поры слышатся отголоски этой «взволнованности
и увлеченности».
Без этих соотнесений Рильке непредставим. Например, он
пишет:
Обнес себя — за камнем камень — и
уже стоял, как одинокий дом...
И как не иметь в виду, что Рильке чуть ли не цитирует
Второе послание Петра (гл. 2: 5): Laßt euch als lebendige Steine zu
einem geistigen Haus аигЪаиеп...(И сами, как живые камни, уст-
40
Райнер Мария Рильке
рояйте из себя дом духовный...); что при переводе нельзя по
своему усмотрению подменять слова «камень», «дом»...
Или: Иоганн Кристиан Понтер (1695—1723) пишет в
«Утешительной арии» («Trostaria»):
... Endlich bricht der Tränenkrug...
... В конце концов треснула слезная кружка...
И как узнаваемо встречается у Рильке::
Gieb mir, oh Erde, den reinen
Thon für den Tränenkrug...
Для слезной кружки дай мне
чистой глины, земля...
А во второй части маленького цикла «Два стихотворения» —
Tränenkruglein (слезная кружечка)...
Или: Георг Кристоф Лихтенберг (1742—1799) писал, что
звукоподражание — своего рода «способ рисования картин
для слуха»; через сто лет Рильке пишет о преображении
музыки in hörbare Landschafl — «в ландшафт для слуха», «слышимый
ландшафт» («К музыке»).
Или: у Августа Платена (1795—1832) в стихотворении
«Тристан»:
Wer die Schönheit angeschaut mit Augen
Ist dem Tode schon anheimgegeben...
Кто однажды красоту увидел,
к смерти неизбежно приобщился...
Эта тема станет одной из основополагающих в «Дуинских
элегиях» и «Сонетах к Орфею»:
Ведь прекрасное что, как не начало ужасного...
Denn das Schöne ist nichts als des Schrecklichen Anfang...
У Рильке множество таких увязок и стыковок с другими
поэтами. Или, точней, диалогов.
В. Летучий. «Идя по следу поэта...»
41
Гельдерлин («Орел»): Wo wollen wir bleiben? — Где нам
остановиться?
Рильке (Первая Дуинская элегия): Denn Bleiben ist
nirgends. — Остановка — пребыванье нигде.
Часто поэтический замысел (особенно в «Новых
стихотворениях») основывается на сюжетах картин старых или
новых художников: Сезана («Похищение», «Искушение»); Мане
(«Балкон», «Читатель»); Пикассо (Пятая Дуинская элегия)...
«Архаический торс Аполлона» указывает на раннегреческую
скульптуру из Лувра «Юношеский торс из Милета»; а
заключительное стихотворение «Будда во славе» — на одноименную
скульптуру в роденовском саду. Разумеется, не видя подоплеки,
невозможно перевести и самого стихотворения. Как
невозможно из-за неукоснительных подробностей перевести
куски прозы, связанные, к примеру, с покровительницей Парижа
святой Женевьевой или с гобеленами из замка Буссак, не видя
ни знаменитого триптиха Пюви де Шавана в Пантеоне, ни
шести знаменитых гобеленов «Дама с единорогом» («Записки
Мальте Лауридса Бригге»).
Известно, как повлиял на поэта Стефан Георге: «...В
непреклонной позиции Стефана Георге угадывался вновь открытый
закон, которому подлежал отныне всякий, кто понимает, что в
слове он имеет дело с магией» (Из письма Рильке к Альфреду
Шэру от 26 февраля 1924 г.).
Живописная пестрота и детальность раннего Рильке,
скажем, в характерном стихотворении «Со сторожевой вышки»
(Vom Lugaus) из сборника «Жертвы ларам» (1895 г.)
естественно трансформируется в одухотворенную предметность
«Книги часов» (создавалась с 1899, первое издание — 1905 г.),
в тематическую и стилистическую расточительность
«Книги картин» (первое издание сборника в 1902), тщательную
лепку и психологизм срединных «Новых стихотворений»
(1907,1908 гг.), а в романе «Записки Мальте Лауридса Бригге»
(1910 г.), «Дуинских элегиях», «Сонетах к Орфею» (1923 г.) и
поздней лирике — в убедительный и всеобъемлющий
поэтический строй.
«Unser empfindliches deutsches Rilke-Herz» («Наше
чувствительное немецкое Рильке-Сердце»), — сказал Вольфганг
Борхерт.
Сам Рильке остро ощущает свою разность при единстве
целого и в одном из писем замечает, что «Дуинские элегии»,
созданные одновременно с «Сонетами к Орфею», в некотором
42
Райнер Мария Рильке
роде «лирические суммы, вместо того чтобы складывать
столбиком порции, необходимые для результата».
Рильке, пожалуй, как никто из поэтов, часто использует
многозвенные метафоры, и не только в стихах или прозе, но
и в письмах, и в дневниках: « Я хочу, чтобы у меня была осень.
Хочу прикрываться зимою, не выдавая себя ни единой
краской. Хочу появляться с наступлением весны, и чтобы то, что во
мне проросло, не слишком рано поднялось из борозды»
(дневниковая запись от 27 сент. 1900 г.).
Каждой своей метафорой, всегда неожиданной и
неповторимой, Рильке укоренен в плодородной почве
предшествующей поэзии. Кроме того, собственные метафоры Рильке
разрастаются, ветвятся, дают все новые и новые побеги; они
перекликаются, они скучают друг без друга и горюют, если при
переводе та или иная потеряется.
Е. Витковский обратил внимание на стыдливо обегаемую
многими одну из особенностей поэзии Рильке: «...Рильке
чрезвычайно эротичен». Впрочем, и сам поэт («Письмо
молодого рабочего») удивлялся поэтам-современникам: «Почему
пол делает нас безродными, вместо того чтобы именно в него
перенести праздник нашей причастности. Хорошо, я готов
согласиться: это не должно принадлежать нам, поскольку мы
не в состоянии отвечать за столь неистощимое блаженство
и управлять им. Но почему мы не принадлежим Богу в этом
пункте?».
При переводе любовных и эротических стихотворений
Рильке я, вторя ему, славил «праздник нашей причастности».
Проза Рильке. Да нет такого жанра в творчестве Рильке! Есть
стихи, записанные прозаическим способом, без рифм, будь то
«Истории о любимом Боге», роман «Записки Мальте Лауридса
Бригге», эссе или очерки о художниках, письма друзьям и
знакомым...
Центральный персонаж романа «Записки Мальте Лауридса
Бригге» — поэт, а если отбросить романную условность — сам
Рильке, как бы он, как и полагается в таких случаях, не
отмежевывался от своего героя. То есть речь идет о становлении
юноши-поэта, кому в свое время выпадет написать то, что написал
сам Рильке, по крайней мере, до выхода самого романа в свет
(19Юп).
Так получилось, что до того как взяться за перевод
романа, я шаг за шагом переводил стихи Рильке, что называется,
всех периодов, а книгу «Новые стихотворения» — целиком
В. Летучий. «Идя по следу поэта...»
43
(вышла в свет в 1995 г. в издательстве «Скорпион»). И
действительно, переводя роман, я на каждой странице
обнаруживал отсылки к стихам самого Рильке и от души радовался,
когда убеждался в достоверности перевода, сделанного, так
сказать, «до романа». А при выявлении несогласований, а то
и противоречий, я принимался за пере-перевод прежних
вещей, даже если они уже были однажды где-нибудь
опубликованы.
И недоумевал: как можно переводить роман, написанный
поэтом, не переведя ни одной строчки из самого поэта, и
включать в свой переводной текст вставное стихотворение
(«Песня Абелоны») в чужом переложении? Как можно
вставлять в свой переводной текст целый кусок, слово в слово, из
«Книги Иова», если юный поэт Мальте записывает по памяти
свою молитву-стихотворение, и она дословно не совпадает
с библейским текстом — ни с каким немецким, ни с каким
русским?
Рильке невозможно переводить выборочно. Он настолько
целен, что каждое значимое слово или метафора, как по
цепочке, отзываются по всему пространству его поэзии. Не
случайно, самыми достоверными оказываются переводчики
целых книг или законченных циклов стихотворений...
Заставивший заговорить невыразимое, Рильке открывал
новые, до него никому неведомые возможности языка; и речь
не только о необычных словобразованиях и метафорах. Он
зачитывался старинными книгами, «лютеровской»
Библией. В письме к Антону Киппенбергу от 3 февраля 1914 г. он
пишет: «Представьте себе, что же я нашел в великолепной
библиотеке Жида, никогда не догадаетесь: большой словарь
Гримма, я прямо-таки не спускал с него глаз и «пасся» там
часами».
Нет, пожалуй, литературных форм в европейской поэзии,
прозе или драме, не испробованных Рильке и не
трансформированных им ради конкретных поэтических замыслов. Я
старался неукоснительно следовать за поэтом, подчиняясь даже
его поэтическим прихотям.
Я часто комментирую стихотворения или отдельные
строчки Рильке, как бы расширяя поле восприятия. Исхожу из того,
что круг вещей, вовлеченных поэтом из разных источников в
сферу своего притяжения, настолько обширен, что зачастую
простой предметный указатель становится ключом к
полноценному восприятию.
44
Райнер Мария Рильке
Я не раз удивлялся, например, как внимательно читала
М. Цветаева стихи Рильке. Ее стихотворение «Новогоднее» —
плач о смерти Рильке — сплошь состоит из прямых отсылок к
стихам поэта разных лет, к «Дуинским элегиям» и «Сонетам к
Орфею». Пример:
Теперь — как ехал?
... Как на рысаках орловских...
Очевидная отсылка к стихотворению Рильке («Новые
стихотворения»), где речь идет о петербургских белых ночах и
где поэт мчится mit glatten Trabern (schwarzen, aus dem Orlof
'sehen Gestüt)...
Или:
Первое видение вселенной
...И последнее — планеты,
Раз только тебе и данной...
неизбежно соотносится с рильковской Девятой Дуинской
элегией:
...Мы тоже
единожды. И никогда еще раз.
А в концовке:
...Поверх явной и сплошной разлуки —
Райнеру Мариа-Рильке — в руки
не может не слышаться «ревнивая» отсылка к рильковскому
посвящению «Книги часов»:
Gelegt in die Hände von Lou
(Вложено в руки Лу).
Первая Дуинская элегия (1912 г.) начинается одиноким
возгласом:
Кто, если вскрикну, услышит меня...
В. Летучий. «Идя по следу поэта...»
45
А незадолго до своей гибели Н. Гумилев пишет («Огненный
столп», 1920):
Крикнул... но разве кто поможет,
Чтоб моя душа не умерла?...
Случайны ли такие переклички великих поэтов-пророков,
идет ли речь о мировой катастрофе или о своей собственной
судьбе?
Я хочу сказать, что при переводе Рильке нельзя не
согласовываться с одной стороны с перекличками внутри самой
многовековой немецкой поэзии, а с другой, русской, учитывая
к тому же, что Рильке русских классиков и современников
читал по-русски и переводил на немецкий, а его самого довольно
быстро узнали в России — и в оригинале, и в переводах.
Цветаева (в письме к А. Штейгеру от 12 сентября 1936)
признавалась: «Я всегда работаю на примерах... Поэтому оборотом
головы — на Рильке».
Почти на каждом вечере, где я читаю свои переводы, меня
спрашивают: нравятся ли мне работы других переводчиков
Рильке. Я честно отвечаю: не моя забота оценивать и
выставлять баллы. Это забота специалистов, критиков, а главное —
самих читателей и слушателей. В любом случае: удался
перевод или не удался, несомненен повышенный интерес, если не
любовь, к великому поэту. Правда, в одно время имел место
явный перебор, и десятки стихотворцев буквально набросились
на Рильке и даже в сборники собственных упражнений
обязательно включали разделы «Из Рильке». Тогда же вышла
книга-исследование Р. Р. Чайковского и Е. Л. Лысенковой:
«Пантера» Р. М. Рильке в русских переводах», где анализировались
20 (двадцать!) переводов одного (!) короткого (двенадцать
строчек!) стихотворения.
Думается, что понятие «перевод» обрело слишком
расширенное толкование и под ним зачастую подразумевается или
наличествует нечто совершенно иное: пересказ, переложение,
версификация, обработка (например, упрощение для детей
«сложных» текстов), подражание, вариация на тему,
стилизация (помните, у Маяковского: «Гейнеобразное»?),
мистификация, то есть умышленная ссылка на якобы имеющийся
первоисточник (помните, у Пушкина: «Из Пиндемонте»?), подделка,
пародия, вольное сочинение на ту же или почти ту же тему,
и т.д. и т.д. К Райнеру Марии Рильке приложили руку все.
46
Райнер Мария Рильке
Завершу мои беглые заметки словами все той же Марины
Цветаевой, влюбленной в поэзию Рильке, как и я, словами,
которые каждый переводчик Рильке, не сомневаюсь,
произносит про себя, как молитву, когда принимается за работу:
«А сегодня мне хочется, чтобы Рильке говорил — чрез меня.
Это, в просторечии, называется перевод. (Насколько у немцев
лучше — nachdichten! Идя по следу поэта, заново
прокладывать всю дорогу, которую прокладывал он. Ибо, пусть — nach
(вслед), но — dichten! — то, что всегда заново. Nachdichten —
заново прокладывать дорогу по мгновенно зарастающим
следам)».
Владимир Летучий
I
mi
«ЖешпВы Лапам»
В СТАРОМ ДОМЕ
Я в старом доме; за окном
лежит кольцом широким Прага;
и сумерки походкой мага
обходят улицы кругом.
Темней. Но там, из-за угла
зеленой плесенью сверкая,
собор святого Николая
возносит к небу купола.
Дрожат огни. Туманна синь.
Всё смолкло в городской истоме.
Мне кажется, что в старом доме
незримый шепчет мне: «аминь».
НА МАЛОЙ СТРАНЕ
Гребни зданий стародавних,
благовесту и конца нет.
Глубь дворов. Лишь иногда в них
синь одним глазком заглянет.
Купидоны в каждой нише
притомились, но смеются.
Вкруг узорных ваз на крыше
вязи роз резные льются.
50
Райнер Мария Рильке
Дверца в паутине сонной.
Солнце пробует украдкой
стих под каменной Мадонной
перевесть с латыни краткой.
ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО
Дворянский дом с его широким скатом,
мне мил каменьев этих блеск тенистый,
булыжный вход по ступеням щербатым,
в углу фонарь уныло-маслянистый.
А голубок на выступе оконном
всё пыжится глядеть сквозь шелк гардины,
и ласточки гнездятся над балконом,
дописывая прелести картины.
У СВЯТОГО ВИТА
Он — прахом пахнущий старик,
но мил мне храм глубоколонный,
в котором у любой колонны
свой слышен зодческий язык.
Соседний домик — в завитках,
там купидоны в умиленье,
а рядом готика моленья
возносит на худых руках.
Мне casus rel понять легко.
Сравненье из былого взято:
собор напомнил мне аббата,
а домик — даму рококо.
В СОБОРЕ
Свод, в подн бесье витая,
позолотой пламенеет.
А за свечками темнеет
закопченная святая.
Из сборника «Жертвы Ларам»
51
В куполе, над ангелочком,
в горней бездне мракопада
каплей серебра — лампада
с прикорнувшим огонечком.
А в углу, где золотится
пыльное великолепье,
там — в засаленном отрепье
нищее дитя ютится.
Верно, вместе быть и врозь им,
и собору, и нищонку...
Робко тянет он ручонку
и устало шепчет: «Prosim!»
В ЧАСОВНЕ СВ. ВЕНЦЕЛЯ
Стены в корабле просторном
все искристы и цветисты,
хрусталем покрыты горным,
вслед топазы, аметисты.
Неф чудесно освещенный
блещет слева, плещет справа,
а под сенью золоченой
прах святого Венцеслава.
До макушки украшают
купол огненные блики
и впустую отражают
золото на сердолике.
ИЗ ЧЕРДАЧНОГО ОКНА
Вон купола — то желуди, то груши
рассыпаны по городу сторицей.
К столице чернотелои и столицей
прижался вечер. Шепот их всё глуше.
52
Райнер Мария Рильке
А в самой дали, к вышине уныло,
как рожками, припавши звонниц парой,
храм Богородицы улиткой старой
сосет из неба синие чернила.
НОЯБРЬСКИЙ ДЕНЬ
Осень этот день в клубок смотала.
Он клубится, медленный и сонный.
Хор в тумане слышен похоронный
из глубин соборного портала.
Мокрый дым на крышах спит. И твердо
ветер, словно органист, в камине
на помин души, усопшей ныне,
взял заупокойные аккорды.
У КАПУЦИНОВ
Отец келарь меня просил
отведать водки монастырской, —
напиток силы богатырской
и мертвеца бы воскресил!
Доставши синий кошелек
и ключик вытащив оттуда,
он опьяняющее чудо
из усыпальницы извлек.
Налив, хохочет он за двух,
трясется от мясистой МОЩИ:
«Давно истлели в раке мощи,
но нам зато остался... дух!»
ВЕЧЕР
За последним домом спать
солнце алое ложится,
и последними кружится
день аккордами опять.
Из сборника «Жертвы Ларам>
53
И играют огоньки
на обрывах крыш в горелки.
Ночь алмазные безделки
сыплет сонно в синь реки.
В МОНАСТЫРСКИХ КОРИДОРАХ ЛОРЕТТО
По монастырским коридорам блики
меж вычурных мелькают арабесок,
из глубины давно поблекших фресок
таинственно глядят святые лики.
Там, за отсвечивающим стеклом,
мадонна восковая в углубленье,
дарительница тысяч исцелений,
сидит в одеждах, тканных серебром.
И паутинки легкие блестят,
слетая в монастырский двор Лоретто,
и пред картиной в стиле Тинторетто
притихшие влюбленные стоят.
ВЕСНА
Ликуют птицы по весне,
шумливы голубые дали,
и в парке в танцевальном зале
цветы кружатся в вышине.
А солнце молодой газон
огромной подписью покрыло.
Но в опали, как дух бескрылый,
стоит гранитный Аполлон.
Апрельский сдунул ветерок
убор из прели прошлогодней
и богу на чело сегодня
надел сиреневый венок.
54
Райнер Мария Рильке
СТРАНА И НАРОД
Бог был в добром духе. Скрягой
сроду не был добродей.
Создал Чехию, а в ней
щедро порассыпал блага.
Вон, как солнечная сага,
блещет золото полей,
в шубе леса всё смелей
яблонь алая отвага.
Бог дал избы. Каждый хлев —
рай овечий; девку в кофте
словно бы опару прет.
Бог создал парной народ,
дал им кулаки да когти,
а в сердце — родной напев.
АНГЕЛ
Иду один по Мальвасйнке1,
вхожу безмолвно в детский ряд,
а там об Анке или Нинке
кресты простые говорят.
Гляжу — в кустах, средь вешних почек,
средь красных маков над холмом, —
надгробный пыльный ангелочек
стоит с поломанным крылом.
О, сколько радостей небывших
хранит он, жалок, одинок.
И только с уст его застывших
сорвался легкий мотылек.
1 Кладбище в Праге.
Из сборника «Жертвы Ларам»
55
НОЧЬЮ
Над Прагой сумрак тихий лег.
Раскрылась ночь, как сад огромный;
и солнце — яркий мотылек —
в густой траве исчезло темной.
Высоко месяц, хитрый гном,
в гримасах корчится, лукавый,
и сыплет белым серебром
на волны строгие Молдавы1.
Но вдруг, обиженный, назад
скорее прячет лик чеканный;
пред ним соперник встал нежданный:
на башне — светлый циферблат.
НАВОЛШАНЕ
В День всех усопших вечером
1
Сучки стекло небес закрыли
решеткой тоненькой и черной;
погост печали непритворной
одет венками, и проворно
огни в листве замельтешили.
В усталой сини, словно в сени,
плывет луна. Чернеют туи,
ей светлое чело целуя.
И запах роз крадется всуе,
как дух усопших сновидений.
2
Стук пролеток где-то там...
Здесь и след от слез повысох.
В намогильных кипарисах
месяц — как немой там-там.
1 Старое название реки Влтавы.
56
Райнер Мария Рильке
Не стучит ли по нему
Вечность палочкой несмелой?
И пугливо ангел белый
всё глядит в ночную тьму.
ЗИМНЕЕ УТРО
Свисает водопад застылый,
и стынут галки на пруду.
Горьмя-горит ушко у милой,
от ней проказ я нынче жду.
Целует солнце нас. Минором
сучки и веточки звенят.
Идем, и подступает к парам
ядреный утра аромат.
ФОНТАН
Где поэзия фонтана,
где те времена, когда
у Тритона неустанно
в раковине утром рано
билась светлая вода?
К водомету вечерами
блеск воды влюбленных звал,
ибо, как орган во храме,
в мраморной играли раме
струи свадебный хорал.
Люди воду увели на
этажи к себе домой,
здесь же патина и тина
зацвели, и в мизогина
превратился бог немой.
МАЙСКИЙ ДЕНЬ
Скачет ветерок весенний,
по дорожкам топоча,
и касается сиреней
солнце кончиком луча.
Из сборника «Жертвы Ларам»
57
Тишь. И лишь в болотной шири
квакнут квакши и замрут.
Проплывает жук в эфире,
как оживший изумруд.
И серебряные ромбы
в сучьях паучиха ткет,
и соцветий гекатомбы
май охапками несет.
ЦАРЬ ВЕЧЕР
Как древле нес младенцу смирну
царь Валтасар, подъяв потир,
так нынче в багрянице мирной
грядет Царь Вечер в этот мир.
И вот звезда его уводит,
как прежде, вдаль, где снова он
у холма Матерь Ночь находит,
а сын у ней в объятьях — Сон!
Как волхв, подносит в умиленье
Царь Вечер золото ему,
и нам елеем искупленья
младенец льет его в дрему.
СВЯТЫЕ
Всевозможные святые,
очень сложные, простые,
и литые, и пустые,
и дубовые святые.
Катерины да Христины,
Анны, Нины — на крестины,
в именины — Анны, Нины,
Катерины да Христины.
Пусть и Венцель будет с ними!
Славно не одними ими
Божье имя меж святыми.
Пусть же Венцель будет с ними.
58
Райнер Мария Рильке
Но уж эти Непомуки!
Вот послало небо муки!
Сразу в руки по две штуки —
вот какие Непомуки!
НАЧАЛО ВЕСНЫ
Побеги внемлют первым зовам
в сиянье золотой окраски;
мелькают первые коляски
в саду плодовом.
Пичуга с рвеньем бестолковым
на старой ветке засвистела,
и вот уже звенит капелла
в саду плодовом.
И ветер по бороздкам новым
разносит сказочные чары,
и в первый раз гуляют пары
в саду плодовом.
КОГДА Я ПОСТУПИЛ
В УНИВЕРСИТЕТ
Так потихоньку, день за днем,
раскрутим нить воспоминаний;
был день, когда — предел мечтаний! —
я стал заправским школяром.
Сперва я был к юристам вхож,
потом бежал от этой секты:
сухие, пыльные пандекты
моей натуре — острый нож
И теологию затем
я променял на медицину,
но, нервному поддавшись сплину,
нырнул в туман философем.
Из сборника «Жертвы Ларам »
59
Так Aima mater день за днем
гоняла нас по всем регистрам...
Что ж, я не сделался магистром,
но стал заправским школяром.
ВОПРЕКИ
С полки толстый том достав,
вижу я, что, жизнь земную
«кельей скорби» именуя,
Шопенгауэр был прав.
Что мне этот приговор!
В келье я не унываю,
лад души перебираю,
радостен как Далибор.
ПО-ОСЕННЕМУ
А воздух — словно в комнате больного,
где смерть уже дежурит у дверей.
На крышах мокрых отблески багровы,
как блики угасающих свечей.
Хрипит вода, в канавах набухая,
и трупы листьев обмывает дождь.
И, как бекасов спугнутая стая,
несутся тучки мимо серых рощ.
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГУЛКА
Нам было весело когда-то
бродить вдоль берега реки,
где таяли в лучах заката
двойною тенью мотыльки.
У домика желтели дыни
и зелень тучная ползла —
точь-в-точь у Доу на картине,
и ввысь летели купола.
60
Райнер Мария Рильке
И хлеб стоял как золоченый,
кочны темнели на грядах;
и звезд белесые бутоны
слегка дрожали в небесах.
НАРОДНАЯ ПЕСНЯ
Память полна
чешской народной песней,
только грустней и чудесней
сердцу она.
Если поет
рано в поле девчонка,
песня звучит мне звонко
ночь напролет.
Пусть, поседев,
буду жить на чужбине,
вспомнится, как и ныне,
тот же напев.
ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР
Румяный вечер — весь в жару,
как будто болен лихорадкой.
Щекой горячею к одру
склоняясь, шепчет он украдкой:
«Я скоро, кажется, умру...»
В кустах — молитвенный покой.
Уже светляк, послушник истый,
зажег лампаду над травой;
и роза носит золотистый
венец, как маленький святой.
СКАЗКА О ТУЧКЕ
День отзвучал, не зная горя,
как молотка удар крутой.
Луна в траве на косогоре
лежала дыней золотой.
Из сборника «Жертвы Ларам»
61
Сластена-тучка захотела
отведать дыни, добралась,
схватила светлый ломтик тела
и чистым соком упилась.
И, разомлевшая от сока,
сосет за обе щечки свет.
А ночь возносит плод высоко,
и черной тучки больше нет.
НОЧНАЯ КАРТИНКА
У театра стало тише.
Лишь фонарь бросает свет
и глядится фатом в крыши
лакированных карет.
И мигают всё короче
свечи. Полночь глубока.
Как заплаканные очи,
светят окна чердака.
ЗАСМИХОВОМ
Идут фабричные, когда
закатный жар валит к воротам, —
вписалась копотью и потом
в их лица хмурая нужда.
Взгляд отупел, и вперебой
хлебают трудный путь подметки.
А пыль и гомон в околотке
за ними тащатся судьбой.
ЛЕТОМ
Днем пароходик суетливый
увозит нас по Влтаве в Злихов,
скользим тихонько по волнам.
В тумане исчезает Смихов,
и Лорелея горделиво
сквозь легкий дым кивает нам.
62
Райнер Мария Рильке
Причалили. Старик усатый
нас встретил песней «Гей, славяне!».
Виднелась церковка вдали...
Расположились на поляне,
и сны ватагою крылатой
нас в купол неба унесли.
ВИГИЛИИ1
I
Поля уже в округе спят,
лишь я забыл покой;
убрал над гаванью закат
багряный парус свой.
Священная вигилия!
Ночь по земле идет;
смотри: луна как лилия
у ней в руке цветет.
II
Окно открыто, я мечтаю,
и ночь на землю снизошла;
и льется лунный свет, стекая,
как серебро, на купола.
Мир дальних далей созерцает
и дом, и дворик, и погост, —
и сумрак жизни заполняет
свет десяти неярких звезд.
III
Чу, в тиши забыться сном
ночь устало хочет;
только лампа над столом,
как сверчок, стрекочет.
Строи книжных корешков
встали, золотея,
как опоры для мостов
в край, где правят феи.
1 Вигилии (лат. vigilia — бдение) — четыре стражи, на которые в легионах
Древнего Рима подразделялось время ночного караула: две вигилии — от заката
до полуночи и две — от полуночи до восхода.
Из сборника «Жертвы Ларам»
63
IV
Почти дитя, всю ночь она
при мертвой матери одна
в слезах промучилась без сна;
шли годы, и была вольна
забыть ту ночь их тишина.
Потом в другую ночь она,
греху и страсти отдана,
возликовала, как весна, —
и ночь, что в ней погребена,
всплыла внезапно, как со дна.
ПОСЛЕДНИЙ ОТБЛЕСК СОЛНЦА
К картине Бенеша Кнюпфера1
Погаснет солнце вскоре —
величественный миг!
Два инока у моря —
парнишка и старик.
Один: мой прах дубрава
покойно поглотит.
Другой: сияньем слава
уход мой освятит.
ИМПЕРАТОР РУДОЛЬФ
С башни небо созерцая,
к звездной карте лоб склоняя,
ждет он по часам ночным
миг, когда звезда чужая,
с толку мудрецов сбивая,
след прочертит свой над ним.
И зовет он звездочета —
знатока круговорота
звездных странствий: — Вправду ль, друг,
сгложет горе иль забота,
коль звезда в момент пролета
втянет в свой зловещий круг?
1 Бенеш Кнюпфер ( 1848— 1910) — чешский художник
64
Райнер Мария Рильке
Старец рек: — Грозя раздором,
об изменничестве скором
знаки шлет звезда в эфир! —
и на юг глядит с укором;
и уперся в глобус взором
император, хмур и сир.
С юга грянула расплата —
власть Матвей отъял и брата
он в Градчаны заточил;
император шутит: — Я-то
жив еще, и рановато
брат мой счел, что я почил.
Старец, к черту все печали!
Прав ты: звезды воссияли
над земною суетой;
кто влечется к звездам в дали,
темный свой удел связали
с их сияющей судьбой!
ИЗ ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ
Наброски углем в манере Калло'
1. Война
Темный мир — и озарился
он огнем со всех сторон!
Бледный мир — и кровью он,
как убийца, обагрился!
Пахарь, ты о жизни вечной
молишься? — Бери ее!
Вол, жена, добро твое
пригодятся нам, конечно!
Черт пусть пашет! В заварушке
всё добудем без хлопот!
Эй, наемнички, вперед! —
Дружно сдвинем кружки!
1 Жак Калло (1592—1635) — французский график, прославился сериями
офортов «Бедствия войны».
Из сборника «Жертвы Ларам»
65
2. Alea jacta est1
«...Мертв иль богат!»
Бей, барабанщик, бей!
Костяшки побойчей
пускай стучат!
Кто тщетно ждет
награду за труды.
Кто с дерева плоды
уже трясет.
На крепкий сук
нас вздернут всех в свой час!
И вряд ли кто о нас
всплакнет, мой друг!
3· Боевая песнь кнехта
Барабанщик — дядька мой
с самых первых дней,
я под барабанный бой
засыпал быстрей.
Всех пугал я, вопия, —
мал был, да удал!
Из пороховницы я
молоко сосал.
А как нас капрал крестил,
помню с той поры:
шведской кровью он кропил
новичкам вихры.
4. Чин кнехта на войне
Мы не графы, не дворяне,
не про нас сие родство,
по мечу дается званье,
герб — по храбрости его.
Жребий брошен (лат.).
66
Райнер Мария Рильке
Поднимай свой меч, не мешкай
и не трусь, врагов разя, —
кто еще вчера был пешкой,
завтра вылезет в князья.
5. В монастыре
Монастырские ворота?
Черт возьми!
Носом, ежели охота,
разнесу я их в два счета:
не скулить же под дверьми!
О! — на всех дверях печати...
Поп гнусит...
Всё тащи — вино и платья,
дароносицы и, кстати,
эти чаши: Бог простит...
Не кивай с нытьем гундосым
на кресты...
Пей-гуляй! С пунцовым носом
ты — и пастырь винососам,
и душеприказчик — ты!
6. Баллада
Грабит, режет сброд постылый
и селян стращает силой.
Плачет девушка в подол:
— Изменил, наверно, милый —
почему он не пришел? —
Раскричались галки.
И она, бледнее тени,
из окна глядит в смятенье,
ей, бедняжке, не до сна.
По селу, как привиденье,
ищет милого она.
В страхе кружат галки.
Из сборника «Жертвы Ларам*
67
Ночь темна, пусты подворья,
мельница горит на взгорье-
Девушка, склонив главу,
от усталости и горя
повалилась на траву.
Не уймутся галки.
Вдруг проснулась. В душном смраде
и в предутренней прохладе
не трава пред ней, увы! —
а рассыпанные пряди
отсеченной головы.
Развопились галки.
7. Падение из окна1
— Нет изменникам прощенья,
да поможет нам Мадонна, —
из окна без промедленья
сбросим их! — кричит Колонна.
— Выгнать вон, всё зло простив им?
В окна — весь гадюшник вражий!
Жалость? С Платером трусливым
выброси ее туда же!
Хрип Мартиница: нелепо
он цепляется у края;
машет шпагой Турн свирепо,
в пальцы острие втыкая.
К новой жертве: — Жду ответа:
кто богемским краем правит?
— Граф фон Турн! — Пускай про это
все колокола объявят!
1 (нем.) Fenstersturz букв. «Падение из окна» — обозначение так
называемой «Пражской дефенестрации», то есть расправы, учиненной в Праге 23 мая
1690 года, когда два имперских губернатора были выброшены из окна замка
Градиш восставшими богемскими дворянами-протестантами.
68
Райнер Мария Рильке
8. Золото
— Откуда золото, дружок?
Я вижу, ты богат!
— Полковник загрести не мог
и в год таких деньжат!
— Но чистым золотом, дружок,
не платят на войне!
— Ты, детка, знаешь: я игрок,
и подфартило мне!
— Всё золото твое, дружок,
и нет обмана в нем?
— Мне в кости выпал номерок.
Теперь мы заживем!
— Ты дашь мне золота, дружок?
— Конечно! — Между тем
отсыпал ты всего чуток,
а мог бы — полный шлем!
— Бери! Оно как свет зари,
волнует вновь и вновь...
— Неужто золото, смотри,
к рукам прилипло? — Кровь!
9· Сцена
— Ты камню молишься, старик!
С молитвой в храм иди.
— Разрушен храм. Удел мой дик,
и горе впереди!
— Но разве ты в краю родном
бездомен и гоним?
— В стране разор, сгорел мой дом,
ты видишь — вьется дым.
— Но как удел твой ни тяжел,
ты сыном защищен!..
— Ах, сын мой на войну ушел,
убит в сраженье он.
— Быть может, седине твоей
осталась дочь верна?
— Бандит принес бесчестье ей —
в пруд бросилась она.
Из сборника «Жертвы Ларам»
69
— Глянь на меня! Душа скорбит,
и катится слеза!..
— Увы, я не могу... Бандит
мне выколол глаза.
10. Огненные лилии
Не было зимы суровей;
лес морозы истерзали;
но ручьи не замерзали
от потоков теплой крови.
В срок цветы проснулись в чаще,
и зарделось в птичьем гаме
огнекрасных лилий пламя
на земле кровоточащей.
11. При Фридланде1
Радость — мирный договор
и покой родного крова;
Валленштейн содержит снова
в Праге свой роскошный двор.
Он умело срезал штос:
ТУрн отпущен из плененья.
Но, однако, стало... в Вене
очень модно морщить нос.
Пусть вопят. Войска зато
сыты, и ворье — в опале,
и князьями кнехты стали.
Сделать больше смог бы кто?
12. Мир
Прага родила на свет
чудище, что всех когтило;
Карлов мост: здесь испустило
дух оно свой в тридцать лет.
1 букв. «Страна мира» — название замка Альбрехта Валленштейна (1583—
1634) — полководца, имперского главнокомандующего в Тридцатилетней войне.
70
Райнер Мария Рильке
И пришла пора плугам
поле взрезать бороздами;
от церквей вернулось пламя
снова к мирным очагам.
В ДЕТСТВЕ
Лето детское на Гольке...
И далеко, как сквозь сон,
из трактира звуки польки.
Воздух солнцем нагружен.
Вслух читает мне Елена,
облака же вслед за ней,
как из сказки Андерсена
стая белых лебедей.
Сосны темные на страже
в травах расписных стоят.
Смех доходит с улиц даже
к нам в беседку, в тихий сад.
Так и манит нас к ограде
глянуть за нее хоть раз.
Это в праздничном наряде
парами идут на пляс.
Парень что-то шепчет хольке,
счастьем солнечным согрет...
Лето детское на Гольке.
Воздух трепетен, как свет.
ОСЕНЬЮ
Вот лета бабьего пора,
опутанная паутиной.
С утра на свой наряд картинный
глядит Лаврентьева гора.
А солнце чахлое долит,
на костылях лучей хромая
и на гору взобравшись с края,
выглядывать Вальядолид.
Из сборника «Жертвы Ларам»
71
МАЛЕНЬКИЙ «DRATENÎK»1
Мальчишка-жестянщик так молод,
товар у него за спиною,
он всё плетется за мною:
«Ох, сударь, извел меня голод!
Вот сито, а вот мышеловка,
за krajcar2 отдам и жестянку, —
хоть хлеба купить, milost' pdnku!»3
И кланяется неловко.
Да, денег у парня не густо,
а в кухне он чует жаркое, —
лудить-то приносят пустое,
оттого в животе его пусто.
В ПРЕДМЕСТЬЕ
Старуха умерла. Та, что в подвале
жила и кашляла. А кто она?
Давали ей в насмешку имена,
едва ли зная, как старушку звали.
У дома стал фургончик. Гроб забили.
Но в кузов он не лез. Рукой махнув
и чуть ли не ногой его впихнув
и чертыхнувшись, дверцу затворили.
Хлестнул возница кляч своих лениво,
рысцою гроб на кладбище повез,
как бы и не было в нем мертвых грез
и целой жизни, горькой и счастливой.
1 Жестянщик (чешек?).
2 Крейцер (чешек.).
3 Ваша милость (чешек.).
72
Райнер Мария Рильке
СРЕДНЕЧЕШСКИИ ЛАНДШАФТ
Полоскою лесов далекой
поля окаймлены.
Деревья одинокие в хлебах
то тут, то там видны,
рассекшие равнину ржи высокой.
А на грядах
картофель солнцем озарен весь день,
в цвету стоит ячмень,
и обрамлен
простор еловой рощей. Завершен
ландшафт. Лишь вдалеке мелькает
крыша
и церкви крест багрово-золотой,
а выше —
небесный свод, слепяще голубой.
РОДНАЯ ПЕСНЯ
Звенит на ниве песня.
Не знаю, что со мной...
«Ты чешка? Так утешь же
нас песнею родной!»
Девчушка серп кидает,
хохочет: «Не горюй!»
И, на меже усевшись,
поет: «Kde domov mûj?»1
И враз умолкла. Плачет,
и клонится вперед,
и мне целует руку,
и мой медяк берет.
1 Где мой дом? (чешек.)
λ
«Венчан
JL^
Венчанный снами»
^
КОРОЛЕВСКАЯ ПЕСНЬ
Жизнь дарит тебя царством богатым:
только низкий теряется в нем.
Пусть зовут тебя нищие братом,
можешь все-таки быть королем!
Пусть чела твоего молчанье
не прервал венец золотой;
дети знают твое чарованье,
и мечтатель пойдет за тобой.
Солнце в полдень сплетает весенний
горностай для твоих багряниц,
и ночь вереницы видений
пред тобою склоняет ниц.
Грезить
I
Я сердцем — как забытая капелла,
где в алтаре разгульный май живет.
Давно когда-то буря налетела,
расколотила стекла, била в свод.
А нынче полукрадучись ползет,
за колокольчик в ризнице задела —
он Бога изумленного зовет
сойти сюда с неведомых высот,
76
Райнер Мария Рильке
зовет пронзительно, звенит несмело.
Хохочет ветер, прыг в окно, и вот
хватает звуки он остервенело
и звон о каменные плиты бьет.
И собрался желаний жалкий сброд
и нищенствует у двери замшелой.
Но церковку давно забыл народ.
III
Ах, если б домик мне с цветами
и насмерть раненный закат
за лиловатыми сучками,
когда усталыми смычками
кузнечики едва звенят!
Зеленоплюшевая крыша
замшелой шапкою на нем.
Окошками неслышно пыша,
в дреме прощается всё тише
избушка с догоревшим днем.
Мигали звезды так невинно,
к вечерне звон был так далек!
Уже ложилась спать долина,
а в снежных зарослях жасмина
скитался робкий мотылек.
Свист пастушка. Протопотало
парное стадо. В глуби рук
лицом зарылся я устало,
и вот вечернего хорала
в душе раздался первый звук
IV
Нынче май встречает сухо
грустно-старая ветла.
Рядом с ней изба-старуха
одиноко прилегла.
Счастья в домике не стало,
а на иве нет гнезда.
Без следа их разметала
зимняя беда.
Из сборника «Венчанный снами»
77
XI
Я не знаю, что со мной.
Воздух ароматы точит,
и кобылка чуть стрекочет
в бронзовой траве степной.
И в душе моей живет
тот напев печально-сладкий, —
так вот сыну в лихорадке
мать-покойница поет.
XIII
Тусклы и серы, сеткою кроткой
висят небеса.
Только пылает вдали полоса,
словно ожгли их до крови плеткой.
Отблески блекнут под листьями липы,
и воздух томят
уже замирающий роз аромат
и затаенные всхлипы.
XIV
Всей гущей ночь пошла по парку,
и звезды видят с ВЫСОТЫ:
луны белеющую барку
прибило в черные кусты.
Фонтан лепечет у беседки.
Не сказку ли? А наяву
лишь яблоки спадают с ветки,
как капли, в сонную траву.
Проснулся ветер, средь покоя,
вспорхнул и нам несет из сна
на синих крылышках густое
дыханье юного вина.
XV
Над снежной ночью бесконечной
беспечный мертвенный покой,
и только в сердце — вещей, вечной
всё веет болью и тоской.
78
Райнер Мария Рильке
Ты хочешь знать, зачем смолчало,
зачем скрывало сердце страх? —
О, если б всё оно сказало,
погасли б звезды в небесах.
XVII
В странническом взоре
мир людской тщеты...
Кто людское горе
знает так, как ты.
Всюду, где проходит
светлая стезя,
боль к тебе возводит
влажные глаза.
В них кричит бездолье,
клятое людьми.
Мир, исполнен боли,
в них вопит: — Пойми!..
С неутешной жаждой
вечной доброты.
Сколько слез! — И в каждой
отразишься ты!
XVIII
Я б спознался с белокурым счастьем,
но устал искать его, пожалуй.
А вода белеет пред ненастьем,
вечер хлещет в рошу кровью алой.
Девушки идут домой. Краснеют
розаны на кофтах в светлой дали.
Звезды первые на высях зреют
и мечты, наперсницы печали.
XIX
Море скал передо мной,
кустики вросли в каменья.
Дремлет небо в онеменье
над смертельной тишиной.
Из сборника «Венчанный снами»
79
Залетел лишь мотылек
в край недужный и тревожный,
и, как в голове безбожной
мысль о Боге, одинок.
XXI
Есть ночи, чуждые искусу:
над миром светлый лег покров...
Мелькнет звезда средь облаков,
как будто к новому Исусу
ведет смиренных пастухов.
Алмазный блеск и чист, и ровен...
Весь в инее, недвижен лес:
и целый мир в душе воскрес
молитв, бежавших от часовен
к простору радостных чудес.
XXII
Огромным чудодейственным цветком
благоухает майский мир. В зените
ночь бабочкой из голубой финифти
висит на нем.
Мерцают сяжки в робком серебре-
То увлечет ее полет крыластый
напиться смерти из огнистой астры
там, на заре.
XXV
Мне больно, больно, словно жду я,
что мир погибнет без следа, —
как будто милая, целуя,
«прощай, — мне шепчет, — навсегда!»
Как будто мертвый я, и злая
чужая женщина пришлая
и, на могильный холм ступая,
цветок последний унесла.
80
Райнер Мария Рильке
Любить
I
Как приходит любовь в свой срок?
Приходит как солнце, как яркий цветок
или молитвой сущей?
С неба сияла, как счастье ясна,
и расправила крылья она
у моей души цветущей...
II
День белых хризантем сиял без края,
чьей тяжкой роскоши не превозмочь...
И вдруг пришла ты, душу увлекая
с собою в ночь.
Боялся я, но ты — как сон и ласка,
и страхи все мои исчезли прочь.
Ах, ты пришла, и тихая, как сказка,
звенела ночь...
IV
Что случилось, не знаю пока...
Не знаю, что счастье такое;
сердце бесится, как хмельное,
и как песня — моя тоска.
У девчонки прядки горят
ярче солнца или короны,
и глаза у нее от Мадонны
и сегодня чудо творят.
VI
В саду мы погрузились в думы,
и сумраком обвил нас хмель,
а наверху, гудя угрюмо,
запутывался в листьях шмель.
Из сборника «Венчанный снами» 81
Тебе вплетала блики пышно,
как ленты, в волосы лоза,
и я лишь раз шепнул чуть слышно:
«Какие у тебя глаза!»
IX
Мы замечтались. Сторожит
нас с милой гуща парка.
Рука русалочья дрожит,
мое пожатье жарко.
Свет желтой белочкою в сень
мелькнет — и на попятный,
лиловая сажает тень
на белом платье пятна.
Нас счастьем замело сейчас
в истоме золотистой.
Гудит, благословляя нас,
шмель в ряске бархатистой.
XVII
Над нами осенью дышали буки,
я шел, не поднимая головы...
«Взгляни, мой друг, на розы в час разлуки!»
Но я сказал: «Они мертвы».
И я заплакал. А с небес пугливо
одна звезда заулыбалась мне...
День умирал. И резко и тоскливо
кричали галки в вышине.
XVIII
Весною или во сне
я тебе повстречался, и ах! —
теперь мы вместе идем через осень,
и ты руку мне жмешь — в слезах.
Ты плачешь по тучкам бегущим?
По рдяной листве? Не вполне.
Я знаю: однажды была ты счастливой
весною или во сне...
82
Райнер Мария Рильке
XIX
Тянулась жизнь ее уныло,
без прошлого, из года в год —
и вдруг, как вспышка, ослепила...
Любовь ли, нет ли — кто поймет.
Ну а потом вдруг всё распалось
и у пруда в одно сошлось...
Всё началось как сон, казалось,
и как судьба оборвалось.
XX
Уж осень. В крови захлебнулся закат,
и в далях темно, как в яме.
Но в сумраке два цветочка горят
на маленькой шляпке с полями.
Перчаткой разодранной руку мне
ласкала ты, словно беды.
Одни мы в уличной тишине.
Ты вздрогнула: «Едешь?» — «Еду!»
Разлука была тебе нелегка,
прильнула ко мне и молчала...
Со шляпки алели два алых цветка,
улыбался вечер устало.
XXII
Не забыл, — не забыл...
как давно навсегда всё скрылось...
жаворонок парил, колокол бил —
и так радостно сердце билось.
Лес ветки склонил и по небу плыл,
и сирень цвела и кустилась,
и в девичьих глазах вопрос застыл,
и столько в них отразилось...
Не забыл, — не забыл...
axfamsco'
«Сочельник»
СОЧЕЛЬНИК
Отары легкие снежинок
гоняет по лесу метель,
и, чая благости, как инок,
свой час священный чует ель;
и ветви в белую дорогу
из леса к Славе тянет прочь,
и ждут таинственно и строго
одну-единственную ночь.
Дары
Покойным друзьям
* * *
Святая моя одинокость — ты
из щедрот, чистоты, широты,
как сад по-рассветному ранний.
Одинокость святая моя —
золотые двери запри и меня
укрой от ждущих желаний.
* * *
Далёко город. Я один.
Ручей скользит звеня,
и нагоняет шум вершин
истому на меня.
86
Райнер Мария Рильке
Весь лес — во сне, весь мир — вовне,
а на сердце светло.
И одиночество ко мне
кладет на грудь чело.
* * *
Люблю позабытых в сенях Богородиц,
которые кротко кого-то ждут,
люблю, как в венках и мечтах на колодец
русые девушки тихо идут.
Люблю, когда дети глазами ширяют
изумленно на звездную высоту,
и дни, когда песней они одаряют,
и ночи, когда бывают в цвету.
* * *
Как часто в смене душных будней
мечтаю о блаженном сне:
пусть поцелуем непробудным
он лоб тихонько тронет мне.
И звездный свет пускай струится —
он от дневных свободен пут,
и новым зыбкие границы
пускай в сказанье перейдут.
* * *
И разве то зовете вы душой,
что в вас звенит так тонко и неровно,
чтоб смолкнуть, как бубенчик шутовской?..
Что славы ждет с протянутой рукой?..
Что смерть приемлет в тусклой мгле часовни?
Душа ли это?
А я гляжу в ночи на майский цвет,
во мне как будто вечности частица
стремится вдаль, в круговорот планет,
она трепещет, и кричит им вслед,
и рвется к ним, и хочет с ними слиться...
Душа вся в этом...
Из сборника «Сочельник»
87
* * *
Сухие елки дышат хрипло,
как воротник, пушится снег,
на сучьях блесток поналипло,
и смотрят вслед дороге скриплой
оконца из-под сонных век
В печи искристым треснет громом
полено так, что дрогнет дом.
Часы идут шажком знакомым,
а день, как вечность, белым комом
растет и пухнет за окном.
* * *
В бору сосновом снежно, глухо.
Оттуда вечер — на село
и тихо подставляет ухо
под окна, где еще светло.
И замирает каждый дом.
Старухе в кресле что-то снится,
мать — как домашняя царица,
боятся мальчики резвиться.
Послушать, что в избе творится,
пробрался вечер, а все лица
глядят на темень за окном.
* * *
Солнце чахнет — лазурный лужок цветет.
По зяби, словно на волнах,
бабы поля переходят вброд.
Там, где рельсов поблескивает поворот,
у будки, один на всё лето, цветет
долгой думой подсолнух.
* * *
Ты, старая часовня,
пред пылью твоей стою.
Весна, тебе не ровня,
церковь строит свою.
88
Райнер Мария Рильке
Пусть женщин в туманном свете
окутал фимиам,
но в сад помчались дети
к птицам и цветам.
Девушки пели:
Мы думаем только о нем,
а деревья цветут под окном;
мы же шьем неустанно и шьем —
и в груди что-то вянет и тает.
И всегда, и всегда мы грустны,
мы боимся лукавой весны;
если ж некогда сбудутся сны —
быть может, он нас не узнает.
* * *
Как будто пред болью разлуки,
их взгляд утомленный блуждал.
«Как шелк твои белые руки». —
«Как странно ты это сказал...»
Калитка в саду не скрипела,
но кто-то неслышно вошел,
и розы дрожат оробело
в тревожном предчувствии зол.
* * *
Король, а с ним бароны
в леса на лов текут.
У него в короне червонной
единственный изумруд.
И светлые подковы
гремят по дороге лесной;
напрасны на помощь зовы,
полдневный пышет зной...
Иль короля не узнали?
Из сборника «Сочельник»
89
Галки орут ввечеру.
Над ним хоровод собрали,
а он лежит один:
горит на лбу от печали
единственный рубин.
* * *
Над белым замком всё белым-бело.
В зеркааьный зал крадется слепо ужас.
Вцепился в стены плющ, предсмертно тужась.
Дороги в мир давно перемело.
Пустое небо виснет тяжело.
И к двери мимо белых балдахинов
тоска прокралась. Но, часы покинув,
куда-то время умирать ушло.
* * *
Я в замке с красными зубцами
хочу стать гостем. Ввечеру
пылают окна под венцами,
моих желаний белых пламя
мне так и машет на ветру.
Пойду бродить по переходам,
глядеть в глубокие сады,
где, наклонясь к зеркальным водам,
смеются дамы, а под сводом
павлины пышут вдоль гряды...
* * *
Парк! В старых липах явись мне! Или
ты потерялся уже навсегда,
тот, где с тишайшею мы бродили
возле священного пруда.
Лебеди, гордым подобно доннам,
над водой серебристою склонены,
и, словно сказанье о граде надонном,
розы всплывают из глубины.
90
Райнер Мария Рильке
В парке цветы большеглазы, как дети,
в том, где мы с нею стоим вдвоем,
улыбаемся и в предзакатном свете,
сами не зная кого, но ждем...
* * *
Как тихий Бог, проплыв над кровом,
заполнил вечер даль и высь.
— Коня! — и волю дай подковам
по одиночествам багровым
нести задумчивую рысь.
Я — властелин, и грудь открыта,
расстегнут шлем, наперерез
несутся ветки, даль размыта,
всё глуше, глуше бьют копыта,
и замирает красный лес.
* * *
Один иду к покою,
а день — как нелюдим...
И с бледною звездою
простор мы сторожим.
Парит на высях око,
сияет надо мной
и так же одиноко,
как я в тиши земной...
Путешествия
ВЕНЕЦИЯ
I
Речь чужая. Мы в гондолу
сели в черную. И вот
над водою, будто долу,
город мраморный плывет.
Тишь. Рыбацких разговоров
рокот да весло звенит.
Из каналов и соборов
нас чужая ночь манит.
Черный след бежит всё тише,
звон к вечерне веет с вод.
Верь: я — кесарь опочивший,
ждет меня надгробный свод.
II
Всё мне чудится: кого-то
тихих лодок повороты
ждут на глади водяной,
окруженной тишиной,
а вокруг народ больной
и ребята как сироты.
92
Райнер Мария Рильке
А дворцы гостей всё чают,
властелинов привечают,
и корон их ждет толпа.
Возле Маркова столпа
я спросил бы, где тропа
в зал, где праздники встречают.
IV
Я речи церквей услыхал.
Веет ave с высот колоколен;
но каждый дворец, безглаголен,
глядится в канал.
И, минуя их сонный покой,
бороздят зеркальные долы,
словно черные мысли, гондолы
тихой грядой.
КАСАБЬЯНКА
Церквушка со ржавым фронтоном
совсем занеслась в облаках,
а к ней кипарисы с поклоном,
ере иноки в серых шлыках.
В алтарной пыли святые
томятся за поставцом.
В глазницы окон пустые
заря их дарит венцом.
ARCO1
Зубцы ледовые остры,
как воспаленная корона,
и в ней с улыбкою Нерона
заря зажгла свои костры.
1 Агсо (um.) — букв, арка, дуга; городок в Южном Тироле (Италия), на берегу
горного озера Гардазее, где Рильке посетил свою мать в 1897 г.
Из сборника «Сочельник»
93
Когда же синева без дна
огнем еще не одолима,
в прекрасном ужасе долина
всплывает из росы и сна.
IMULINI1
Ты, старая, устала,
и на колесах мох.
Из лесу вечер алый —
тебе прохладный вздох.
И поет всё глуше,
как в забытьи, ручей.
А ты по самые уши
под крышу ушла от людей.
КОНСТАНЦ
А дню такая туга.
Он льет из кубка устало
в горах вино на снега.
Пугая, робко, как лань,
звезда побежала в рань,
и зыбью затрепетала
узорная озера ткань.
Находки
* * *
С тобою быть, когда недели
творят такие чудеса
и в душу каплет с веток ели
благословенье, как роса.
Когда жасмин встает из мая
у придорожного креста,
рукою белой прикрывая
скорбящее чело Христа.
1 Мельницы (ww.).
94
Райнер Мария Рильке
* * *
Так чуждо всё: что ты шептала;
улыбка, полная тревог;
и чуждо всё, что ты устало
далеким взглядом колдовала;
и всё, что в мире прозвучало,
не изменит твоих дорог.
Ты — словно образ, что бросает
на алтари пустые свет,
и только руки простирает
и ветхим пламенем венчает,
и только чудо совершает,
когда чудес давно уж нет.
* * *
Всегда бледна, всему чужда,
грустишь о царстве белых лилий,
которые с тобой дружили, —
но вы расстались навсегда.
Из мира, где живут в пыли,
из мира подневольной муки
ты рвешься в край, в котором руки
твои как лилии цвели...
* * *
Пленю тебя весною,
в которой сто чудес;
весной не городскою,
весной владеет лес.
И только те, кто бродят,
влюбленные, вдвоем —
в лесу ее находят
под каждым лепестком.
Из сборника «Сочельник»
95
* * *
Где бы розу поалее
для букета мне сыскать?
Девушку, что всех милее,
в светлой липовой аллее
я хотел бы повстречать.
Коль она мне улыбнется,
на колени стать пред ней:
рот весенний разомкнётся,
бледных губ моих коснется
и тоски, тоски моей.
* * *
Пажа ты хочешь, королева;
назначь меня твоим пажом.
Во власти древнего напева
в мой белый замок мы пойдем.
И там, за старыми лесами,
я сам — король, и, всех нежней,
приду — за тысячью дверями
для королевы петь моей.
Как сны мои тебя зовут!
Они кричат беззвучным криком,
в своем отчаянье великом
они мне сердце разорвут.
Надежды нет. Осталось мне
лишь одинокое сомненье,
души больной оцепененье
в холодной, белой тишине.
Матери
* * *
А будут угрожать позором,
когда ты болью сражена, —
ты погляди на них с укором
и улыбнись им, о жена!
Уже ты в мир чудес шагнула,
щедра и телом и душой,
и бесконечность захлестнула
тебя волной.
* * *
Мать:
«Звала ты меня, дорогая?
— Нет, ветер шепнул, пролетя.
Я знаю, дорога крутая
ведет к тебе, дитя.
Звезды я достигла вечерней,
но путь к тебе, дочка, далек...»
В долине, в затихшей таверне,
последний погас огонек.
ш<
afywwai'
«Ранние
стихотворения»
*
* * *
И вот тоска: свой век влачить в тревоге
и знать, что ты во времени чужой.
И вот мечта: о тихом диалоге
часов вседневных с вечностью самой.
И вот вся жизнь. Покуда газ былого
вдруг самый одинокий час взойдёт
с улыбкой, как предвестием иного,
и перед вечностью замрёт.
* * *
Я стану садом, чтобы у фонтанов
мечты к цветам вплетались в свежий ворох,
одни — в задумчивость бесшумно канув,
другие же — в беззвучных разговорах.
Вслед их шагам слова шептать им стану,
как шорох листьев, нагонять истому,
а в час дремоты, наклонясь к фонтану,
умолкну, чтобы их подслушать дрему
* * *
Этих вечновесенних
песен я много собрал.
Средь руин каждый день их
розам я тихо шептал.
100
Райнер Мария Рильке
Я б хотел эти песни прилежно
в ожерелье снизать на заре —
подарить его девушке нежной,
одинокой сестре.
Но, один и усталый,
я рассыпал их все... И легко
прокатились они, как кораллы,
в теплый вечер махровый и алый,
далеко, далеко...
Слова простые, что живут без ласки,
невидные слова люблю, — взгляни:
от праздников моих дарю им краски,
и расцветают на глазах они.
Суть, что они по робости скрывали,
негаданно становится видней.
Их раньше в песню вовсе не пускали,
так пусть шагают в песенке моей.
* * *
Пришла моя бедная мать
с дарами к богам деревянным;
они продолжали стоять
в безмолвье унылом и чванном.
Забыли приветом небес
ответить на пылкие речи
и видели только средь месс
холодные свечи.
А мать им цветы принесла
с молитвой и верой невинной...
А мать эти жертвы взяла
из сердца любимого сына.
Из сборника «Ранние стихотворения» 101
* * *
Иду я вдоль сада всегдашней тропой:
там, где розы резвой толпой
оправляют свои наряды.
И ясно я знаю: нет и нет,
это не мне их нежный расцвет, —
и я пройду, затаив мой бред,
опустив мои тайные взгляды.
Я из тех одиноких печальных гонцов,
для кого даров не лелеют:
и покуда другие поспеют на зов —
розы на ветре свой легкий покров,
как красное знамя, развеют.
* * *
Детских душ серебряные крылья,
чистых душ, что никогда не пели,
всё кружили, ближе всё кружили,
приближались к жизни и робели, —
вас не ждут ли разочарованья?..
Голос будней только слух ваш тронет
в мерном гомоне существованья
пенье смеха вашего утонет...
* * *
Я — дома между грезою и днем,
где дрема одолела ребятишек,
где старики беседуют всё тише,
когда камин пригреет их огнем.
Я — дома между грезою и днем,
где звон вечерний — как привет прощальный,
а у колодца девушке печальной
зачем-то все тоскуется по нем.
102
Райнер Мария Рильке
И в липе, милом дереве моем,
недели летние опять проснулись,
от сна ветвями снова отряхнулись
и бодрствуют меж грезою и днем.
* * *
Бессонный бор мой! Посреди зимы ты
осмелился подумать о весне
и сеешь серебро свое сквозь сито,
и в зеленеющем тоскуешь сне.
Затерян я в тебе, как в темной вере.
Куда-откуда — не найти примет.
И знаю я: у дебрей были двери —
теперь их нет.
* * *
Живи, чудес не понимая,
и будет жизнь твоя — как пир,
как для ребенка — утро мая:
он побежит, весне внимая;
дорога перед ним прямая,
и весь лазурью полон мир.
Пусть поутру ему спросонок
кивает ландыш, бел и тонок, —
но, чтоб сорвать его, ребенок
не станет прерывать свой путь,
затем, что ввысь своих ручонок
не может он не протянуть!
* * *
О глубинная жизнь, о жизнь до слез,
ты прислушивайся в молчанье
и предчувствуй ветер прежде берез
и прежде их содроганий.
Из сборника «Ранние стихотворения» 103
Тишина пусть приходит на твой порог,
и пускай твои чувства не дышат,
и пускай тебя легонький ветерок
и баюкает, и колышет.
Ты, душа моя, в эту тишь, в эту тишь
устремишься, взмахнув крылами,
и огромною птицею пролетишь
над задумчивыми вещами.
* * *
Грезы, что в твоей груди теснятся,
вызвал я на свет из темноты.
Как фонтаны, ввысь они стремятся
и, как песни, на свету искрятся,
возвращаясь в лоно с высоты.
Быть как дети — всё, что ныне знаю.
Лишь вначале боязно идти,
вечности земной себя вверяя,
ведь боязнь — всего лишь даль без края,
и лишь встреча — смысл пути.
Ангельские песни
* * *
Долго ангел в тиши оставался со мной,
обаял меня послушаньем
и маленьким стал, я же вырос большой,
и вдруг я стал состраданьем,
а он — одной лишь дрожащей мольбой.
И тогда небеса я ему возвратил,
я же здесь остаюсь, где он вышел из плена.
Он учился полетам, я жизнь изучил,
и друг другу мы служим смиренно.
* * *
Руки его — как ослепшие птицы,
что надежду навек потеряли,
и, покуда другие — в безвестные дали
к розовым вёснам летали,
они опускались на выступы, шпицы,
на липы у старой границы.
На лице его — стыд и страданье
невесты, — когда, уступая греху,
покрывал темно-алые ткани
готовит она жениху.
Из сборника «Ранние стихотворения» 105
И в глазах его, полных огня,
блеск первозданного дня, —
но над всем высоко воспарил
порыв его крыл...
* * *
Слушает туча, встав подлескам.
Это нам так знакомо,
и от нее мы мгновенья ждем:
рухнет она на мечты дождем
и на нивы вблизи от дома.
* * *
Знаю: тайна жертвоприношенья
каждый вечер так проста —
словно размыкаются уста,
словно вдруг услышаны моленья
на колени ставшего куста.
В небе звезды всходят в те мгновенья,
и за ними всходит темнота.
* * *
Пройди вдоль ограды глухой:
ты сада не видишь за нею
и знаешь: ты там чужой. —
Там розы вечерней порой,
как женщины, входят в аллею.
Стройно, пара за парой, скользят
и касаются бедрами нежно;
запевают лишь красные в лад;
но за ними, струя аромат,
вступят белые в песню прилежно.
Из сборника «Ранние стихотворения» 107
* * *
Замок тих. Над воротами
одряхлели гербы,
рядом робкими ротами
тянут руки дубы.
А в окно засыпающее,
нет, не дама рыдающая
из дряхлеющих лет
появилась на свет —
незабудка, сияющая
как последний привет.
* * *
Вновь сады эти в дружбе со мною:
их цветы на клумбах бледны,
их дорожки под желтой листвою
ждут пришествия тишины.
А на озере в вечном круженье
лебедь плавает по волнам.
На сверкающем оперенье
принесет он луны отраженье
к уходящим в тень берегам.
* * *
Запах роз полусонный
робок, как их тепло,
тих, как смех затаенный,
и заденет час полуденный,
точно ласточкино крыло.
Но деваться куда ж?
Всюду страх — словно страж.
Блики мечутся прочь,
звук — еще не ручной.
Вчуже кажется ночь
с красотою срамной.
108
Райнер Мария Рильке
* * *
В низинах гостя долго ждали,
того, который не придет.
Сад робко всматривался в дали,
кривя улыбкой кислой рот.
Аллеи к вечеру скудеют,
закутаны в болотный дым.
От ветра яблоки робеют,
и ветки больно бьют по ним.
* * *
Всё это там, где крайний ряд лачуг
и новые дома, что узкогрудо
и робко выступают из-под спуда
лесов, чтоб видеть, где начнется луг.
Весна всегда так теплится чуть-чуть,
в бреду подходит лето к этим доскам,
неможется деревьям и подросткам,
и осень лишь повеет чем-нибудь
далеким, примиряющим; зарю
там нежно плавит вечер на равнине;
и брезжит стадо, и пастух в овчине
к последнему прижался фонарю.
* * *
Ветер-малыш среди ночи встал,
а потом он тайком сбежал.
Он один по аллее спешит,
по деревне пустой кружит.
И крадётся он над прудом,
и весь страхом объят.
И как тени, дома кругом,
и деревья молчат.
* * *
Когда опять прольется свет луны,
стряхнув печали города-громады,
прильнем к узору стрельчатой ограды,
чьей тенью с садом мы разлучены.
Из сборника «Ранние стихотворения» 109
Теперь уж он не тот, каким был днем:
в нем нет детей, нарядов, светотени,
сейчас он одинок в своем цветенье,
с открытым для бессонницы прудом.
И кажется, что белых статуй ряд
чуть-чуть шевелится во тьме аллеи,
и стали мраморнее и светлее
фигуры легкие у входа в сад.
Дороги, как распутанные пряди,
лежат рядами, тихие, без цели,
луна слегка касается полян;
и аромат цветов течет к ограде,
и над фонтанами в ночной прохладе
как будто струи плещут еле-еле —
след игр дневных...
* * *
Девчонкой робкою в семье
росла я до тех пор,
но вот однажды на заре
к нам гость пришел во двор.
Услышав лютни первый звук,
предчувствуя беду,
я матери сказала вдруг:
«Я всё равно уйду!..»
Я знала, чуть он начал петь,
что это жизнь моя.
Скажи мне, гость, ответь, ответь:
ведь это жизнь моя?
О, сколько счастья, сколько зла
ты в юность внес мою,
судьба моя за мной пришла,
зачем я рано расцвела
и рано слезы лью?
Он пел, и с песнею чужой
вошла ко мне беда;
он пел, что сбудется со мной,
и он ушел с моей судьбой,
и взял меня с собой, с собой —
никто не знал — куда...
Песни девушек
* * *
Девушки, вы — как деревья,
когда наступает апрель:
вышла весна на кочевья,
и нигде не видна еще цель.
* * *
Теперь они женщины сами,
отошли от бывалых затей,
и родили детей,
и родили детей,
и знают: средь этих цепей
будет время тянуться годами.
Только благовест Ave Maria
их разбудит от вечных трудов.
Тогда они снова другие
и устало выходят на зов.
И от первой весенней струи
встрепенувшись вольней и чудесней,
вспоминают улыбки свои,
как старинные песни.
Из сборника «Ранние стихотворения» 111
Выйду я в призрачный свет,
крадусь дорогой глухою.
Смуглой собравшись толпою,
девушки смотрят вослед.
И вдруг запоют, и во тьму
улыбнутся, не зная кому,
полные смутной истомы:
сестры, покажем ему,
кто мы.
* * *
Королевского рода вы все.
Ваши сокровища — песни
и вечер весенний.
Бледный юноша ждет у сиреней,
но бледнее еще и прелестней
сказки его сновидений,
как неясные розы в росе.
Под луной, в золотой полосе,
королевского рода вы все.
* * *
Волна шумит и бьет,
и вас с собой кружит,
и всё, что вас гнетет
и что у вас болит —
у вас поет!
Что вас зовет от бренных, от земных
забот?
Быть может, это в небесах иных
полет?
И здесь, и там ваш голос не утих,
и всё, и всё, когда придет жених, —
пройдет.
112
Райнер Мария Рильке
* * *
И видят девушки: домой
за челном челн спешит,
и смотрят, в кротости немой,
как воды воют под кормой,
и с ними ветер вековой
в вечерний час ворчит.
Беда ушедшим от земли:
с усталых плаваний пришли
одни пустые корабли,
их не венчает флаг:
давно сорвал его вдали
суровый враг.
* * *
Вы, девушки, — легкие чёлны,
качаетесь, бьетесь о волны; —
но к берегу времени вечно привязаны,
ваши сны недосказаны
и скользят над водой.
Порою, заботливо-нежный,
вас ветер целует прибрежный,
и ветер берет вас собой —
пока не натянется привязь...
и, ласке его не противясь,
вы шепчете все об одном:
«Теперь мы — как лебеди, сестры,
и раковин поезд наш пестрый
по озеру тихо везем».
* * *
Средь поля сестры пронесли
из золотой соломы сети —
и всю окрестность оплели
и светлым золотом зажгли;
и смотрят — робкие, как дети:
«Куда же мы зашли?»
Из сборника «Ранние стихотворения » 113
Тяжелый вечер пал на них.
И сестры в темноте готовы
идти вперед, на чьи-то зовы;
уже трепещут их покровы,
и в каждом сердце возглас новый:
«Кто мой жених?»
* * *
Вышли сестры вдоль реки
в степи, в светлые посевы
и сплетают под напевы,
как степные королевы,
королевские венки.
И от них всегда струится
золотистая зарница,
как вечерняя хвала; —
и солома полевая,
их слезами налитая,
тяжким золотом легла.
* * *
В трепет вешней тишины,
после пасмурной разлуки,
вышел месяц сребролукий;
и дрожат они — и в муке
все заламывают руки
к ветру, вестнику весны.
С робкой нежностью идут,
словно их стесняют платья;
и молитвы, и заклятья
к тайне первого объятья
в час торжественный несут.
* * *
Улицы прямо ведут
к золоту, к огненной цели.
Покинув минутный приют,
девушки так захотели:
114
Райнер Мария Рильке
не скажут «прости» под лампадкой
старым, а надо бы: вдаль,
туда, где иная печаль,
все уходят украдкой
и сплетаются в нежности краткой,
и у каждой раскинется шаль
на плечах неожиданной складкой.
* * *
Уже на рощу лег осенний
убор, — и сестры пленены.
Но, словно тайны, словно тени,
встает от лоз, от их сплетений,
волна бывалых вдохновений,
печаль прощальная весны.
И вечер крадется нежданно.
В саду, склонив свое чело,
тоскуют розы средь тумана.
Им больно, словно от обмана, —
созрело лето их так рано
и от плодов изнемогло.
* * *
Девушки пели:
Мы смело смеялись, ныряли в кусты,
играли в ловитки и в прятки,
и каждая каждой на грядки,
как будто невесте, носила цветы,
и звучали слова и загадки.
А когда, изменяя свой легкий покров,
небеса озвездились,
мы словно очнулись от радостных снов
и в ночной тишине заблудились:
и, как песне без слов,
новой тоске научились.
Из сборника «Ранние стихотворения » 115
* * *
Девушки любят сплетенья,
ласки веселых затей,
но от смеха и пенья
в их чертах утомленье,
как от долгих тяжелых путей.
В ночь, в кипарисовой чаще,
тихо пройдет колдовство,
но они в этой тайне дрожащей
не поймут ничего.
* * *
Сестры, о сестры, — в те вечера,
когда мы над призрачным краем
друг дружку бессильно теряем,
мы дрожим и без слез повторяем:
о, как страшно, как страшно, сестра.
Где наш дом? В эти ночи тревог
не придут наши матери к нам:
где кончается страх, начинается Бог —
быть может, мы там.
Молитвы девушек к Марии
* * *
Дай, чтоб сбылось что-нибудь!
Посмотри, мы ждем имолим~
Мы должны над вегиним полем
песней вольною вспорхнуть»
* * *
Ты горящие глаза
клонишь долу, — как другие, —
чтобы спрятать сны земные,
чтоб страстей твоих, Мария,
вдруг не выдала слеза.
Но из жаркого предела
солнце встало, — высь горела; —
ты забилась, захмелела,
как цветущая лоза.
А теперь, насытив сны,
ты, как вечер, к нам упала;
и сдаемся мы устало,
мы, — как ты, обречены...
Смотри — и днем, и в темноте,
там, в спальнях, страшно нам;
мы тоже рвемся к высоте,
как розы к небесам.
Из сборника «Ранние стихотворения» 117
Услышь, Мария, нашу дрожь,
тебе мы так близки,
и только ты одна поймешь,
как больно от тоски.
О, ты поймешь. В далекий век
и ты его ждала,
и эта боль — как нежный снег,
но мы горим дотла.
* * *
Я садом быть хочу твоим
и, вся осыпавшись сиренью,
тебя дарить блаженной тенью,
чтоб ты, простому вняв смиренью,
как мать, пришла к ветвям моим.
Но только ты вошла — а тишь
уже полна хмельных загадок,
и кто-то ждет у красных грядок,
когда у белых ты стоишь.
* * *
Наши матери устали;
и когда, в своей печали,
мы прижаться к ним пришли —
лишь в ответ они вздыхали:
о, и мы цвели, цвели...
И в трудах они умелых
много платьев шьют нам белых,
забывая наш испуг.
И всегда один удел их —
не заметить оробелых
наших рук..
Оттого порой ночною —
если матери молчат —
наши руки пред тобою,
словно факелы, горят...
118
Райнер Мария Рильке
* * *
Мария,
ты плачешь, родная.
И я буду тоже рыдать,
тебя прославляя.
Головою к камням припадать
и рыдать.
Руки твои запылали.
Если ими коснешься ты клавиш,
ты хоть песню оставишь.
Но часы умирают в безмолвной печали.
* * *
Я вчера увидала во сне,
как блистала звезда в вышине,
и Мадонна шептала: учись;
как звезда, и цвети и лучись.
Я все силы свои собрала
и, скользнув, потянулась привольно
из моих покрывал, — расцвела,
и мне стало вдруг больно...
* * *
Все говорят мне: «Что с тобой,
ведь ты еще дитя!»
— Мне нужен перстень золотой;
мне тяжело ходить одной,
в коротком платье и с косой: —
а сестры ходят под фатой,
шелками шелестя.
Мне нужно воли, что ни будь —
простора нет мечтам,
и всё теснее дышит грудь...
Мне нужно радостно вздохнуть
и руки, руки протянуть
к деревьям и цветам...
Из сборника «Ранние стихотворения» 119
* * *
Когда во мраке воспаленном
тоска гнетет моих сестер,
они бегут к твоим иконам,
и ты — в сияньи умиленном —
даришь, как море, им простор.
И шелест твоего качанья,
и тишина очарованья
для них — как моря синева...
И вдруг утихнут их дерзанья,
падут спокойно их желанья,
как летний дождь на острова.
* * *
Везде сиянье золотое,
как дня былого торжество,
и, если вечер ждет в покое,
могу я золото литое
из сердца высыпать в него.
От мира я теперь далек,
и тканью тонкою тумана
весь мой укутан уголок.
Но кто-то у меня меж тем
похитил имя — так нежданно,
что мне не стыдно и не странно,
и не хочу его совсем.
* * *
Мне вечер — книга. С переплета
сверкает алая камка.
Заел ежек тонких позолоту
ласкает медленно рука.
Страницу первую читаю,
и ластятся слова ко мне.
И над второю замираю,
а третья — видится во сне.
Из сборника «Ранние стихотворения» 121
* * *
Дрожа, ощущаю порою
по жизни глубинный свой путь.
Слова воздвигались стеною,
а за ними синеет грядою
и сияет их суть.
Еще не ясны мне приметы,
но есть такая страна:
коса там звенит с рассвета,
и лодка плещется где-то,
и кругом — тишина.
* * *
Тогда мы в первый раз молчали:
от ветра, в женственной печали,
как ветки, тихо трепетали,
следя пугливо майский пир.
Сплетались тени... И блестящий,
шумящий дождь бежал сквозь чащи: —
ему навстречу, весь дрожащий,
вдруг потянулся Божий мир.
* * *
Вечером стали опять
все на сирот похожи;
самые близкие тоже
чужими успели стать.
Словно из дальних краев,
держатся стен домов,
бредут пустыми садами,
ждут и не знают сами,
чего они ждут...
Чуть слышно незримые руки
собственной песни звуки
из жизни чужой зачерпнут.
122
Райнер Мария Рильке
В нас страх одиночества влез,
и жмемся друг к другу мы,
и каждое слово — лес
вкруг странствующей тьмы.
Наша воля — полет ветерка,
нас вертящего на лету,
ибо сами мы — та тоска,
что стоит в цвету.
* * *
Слова людские меня страшат,
их ясность ставится в образец.
Вон то — собака, а это — сад,
вот здесь — начало, а там — конец.
Мне вчуже смысл их и злая игра:
всё знают — о будущем и былом.
Не станет чудом для них гора,
и с Богом рядом их сад и дом.
Постойте, не троньте, я вас молю.
Я вещи поющие слушать люблю.
А тронете их — замолчат певцы,
и будут мне вещи — мертвецы.
* * *
И кто же ты, закат или рассвет?
Порой боюсь я утренних примет
и розы зорь хватаю торопливо,
а флейта утра мне поет пугливо
о долгих днях, в которых песен нет.
Но кротки вечера в моей сени,
лежат, светлея, у меня во взоре.
Баюкаю я рощи, и они
в моих объятьях засыпают вскоре,
и мраку скрипок в их туманном хоре
всей темной сутью я сродни.
Из сборника «Ранние стихотворения» 123
* * *
Кто мне может сказать, куда
дойдет моя жизнь со мною?
И не бурей ли я реву и вою,
и не живу ли в пруду волною,
не береза ли я с белой, бледной корою,
зябнущая от стыда?
* * *
Ночь, как город над долом, растет,
где, по темным законам,
переулки путем неуклонным
подошли к площадям утомленным —
там, где тысяча башен встает.
Кто же в городе черном живет,
чьи там вздохи цветут и улыбки?
Там, в садах, не боясь тишины,
в тайные танцы сплетаются сны,
и кто-то им вторит на скрипке.
* * *
Ты это раз пережила сама:
наткало солнце огненных волокон,
и вечер строил в тучах терема.
На землю упадала тихо тьма;
в последний раз огнем блеснувших окон
кивнули утомленные дома.
Шептали смутно близкие предметы,
сливаясь под покровом темноты:
«Всё в серый шелк одето,
мы рядом где-то
без света —
кто это,
я — или ты?»
124
Райнер Мария Рильке
* * *
Ты не горюй, что давно отцвели
астры в саду, что листья с земли
тихо слетают в пруд.
Прекрасное вырастает в пыли,
и силы, что зрели в нем и росли,
ломают старый сосуд.
Оно из растений
в нас перейдет,
в тебя и меня;
чрезмерность лета его гнетет,
оно покидает налившийся плод —
прочь от пьянящих видений,
в сумерки нищего дня.
I
Часослов
фЛ0
ЙА
щ
КНИГА ПЕРВАЯ
О ЖИТИИ ИНОЧЕСКОМ
(1899)
УДАРИЛ час и меня задел,
прозрачной бронзой звеня.
Дрожу я и вижу: теперь мой удел —
постигать изваяние дня.
Ничто не росло, пока зренье, как плод,
не созрело во мне наконец.
Но взор завершился, и с каждым идет
желанная вещь под венец.
Ничто мне не в малость. К. величью возвесть
его моей кисти дано,
на золоте вывесть, — и чью-то, Бог весть,
душу исторгнет оно.
КРУГАМИ над стаей вещей нарастая,
я живу уже тысячи лет.
Последний замкнуть попытаюсь спроста я,
не зная, замкну или нет.
И Бога, и древний собор я беру
в круги стовековым крылом;
и кто же я — сокол, иль буря в бору,
или великий псалом?
128
Райнер Мария Рильке
МОИ СОБРАТЬЯ южные — в сутанах,
и Богородиц в славной сени лавр
изображают, словно жен желанных;
и грежу я о юных Тицианах,
в ком Бог пылает, будто лавр.
Но, погрузясь в себя до тьмы исподней,
я чую: ощупью Он ищет пищу —
мой Бог. Во мне темнея, словно в яме,
Он — молча алчущее корневище.
И попросту из теплоты Господней
расту, на самом дне шурша ветвями.
ПИСАТЬ Тебя нам надо по канону,
о Зареносица над темнотой!
В старинных красках мы творим икону,
кладя мазки по древнему закону,
в которых молча скрыл Тебя святой.
Мы ставим образа Тебе стенами,
а стены встали сумраком вокруг,
но в сердце Ты навеки зрима нами,
хоть скрыта набожностью наших рук
ПО ЧУВСТВАМ, смутно, в суть существованья
сойти к себе люблю во глубину я.
Как в старых письмах, жизнь мою земную
в них перечитываю без страданья,
как дальнее отжитое преданье.
Но вижу: есть для жизни, для второй,
безвременно-безмерные просторы.
Во мне, как в дереве, порой
шумит и созревает сон, который
давно утратил в пенях мальчик хворый,
и в песнопеньях, и в скорбях безвестных —
пригрет теперь теплом корней древесных.
НЕ СЕТУЙ, Боже, тихий мой Сосед,
когда стучусь порой во тьме беззвездной:
Часослов
129
ведь редко слышно мне, как Ты в трапезной
вздыхаешь, одинок и сед.
Нет никого, и пить не подадут —
зря шаришь Ты средь сумрака слепого.
А я — не сплю. Промолви же хоть слово,
дай знак! Я — тут.
Меж нами только тонкая стена,
случайно; и в ночи немой
авось бесшумно упадет она —
Твой или мой
ее повалит зов.
Она ведь из Твоих же образов.
И вот Тебя обстали эти лики,
как имена Тебе наречены.
И если у меня из глубины
к познанию Тебя и вспыхнет свет великий,
то он мелькнет, как на киотах блики...
И снова станут чувства-горемыки
безродны и Тебя отрешены.
КОГДА БЫ сразу тишиной пахнуло,
все смутное, случайное уснуло,
когда б не слышалось за стенкой смеха
и чувств моих раскатистое эхо
ночному бденью не было помеха —
тогда бы думами, за вехой веха,
я шел к Тебе, как до конца пустыни,
дабы Тобой — на вздох — возобладать
и каждой жизни, словно благостыню,
Тебя раздать.
ЖИВУ, когда исходит век, а лист,
великий лист, дрожит в руке чужой.
Исписан Богом, мною и тобой,
он веет ветром, и далек и мглист.
130
Райнер Мария Рильке
Лучи страницы чистой засквозили,
где время есть всему настать.
В просторы вышли тихо сила к силе
и вслепь глядят, как рать на рать.
ИЗДАВНА я тянусь к Твоим словам
и вот читаю повесть Дела,
когда, кладя созданию пределы,
его Ты окружил теплом ладоней.
И было сказано в Твоем законе:
жить нужно вслух, -λ умирать молчком.
Быть!Быть! — Ты повторять не уставал.
Но вот злодейство смерть явило нам.
Крик разорвал
Твой кроткий круг, и в стоне
полунемом
умчались голоса, в те дни
собравшиеся
Тебя восславить,
мостом поставить
над пропастями...
И их слова, с тех пор слагавшиеся,
звучат частями
праимени Твоего.
Поблекший Авель -отрокрек:
МЕНЯ нет. Что-то сделал брат со мной,
а что — не ведаю, ибо тьмой
мне он свет заслонил.
Лица на мне нет: затемнил
своим лицом.
Нет меня с ним,
и быть ему с собою одним.
Как со мной, с ним не станется на земле.
Моею дорогой все пошли,
голову гневу его несут.
Часослов
131
Великий брат стережет, как суд.
И все падут от него, зане
он стал судом.
Вспомнила ночь лишь обо мне,
а не о нем.
ПРАМАТЕРЬ Тьма, ты родила меня!
Люблю тебя больше пламени,
межой оцепившего свет,
откуда нет
исхода, ибо он — западня
всей твари сущей, сей круг огня.
Но Тьма всех держит в себе искони:
виденья, державы, людей и огни,
меня и зверей
полною мерою.
Может статься: шевелится рядом со мной
великая сила в глуби ночной.
В ночи я верую.
Я ВЕРЮ всему, что еще безглагольно.
Дам волю я чувствам святым, и за то
такое во мне настанет невольно,
чего и волить не смел никто.
Боже, прости, если я надерзил,
но вот что поведать хотел Тебе я:
к Тебе я подвигнусь силою сил,
нимало не гневаясь и не робея, —
вот так бы ребенок Тебя любил.
Всем этим приливом врываюсь, бушуя,
как широкорукий в море поток,
возвратом стократным чрез новый порог
Тебя возвещу, о Тебе возглашу я —
небывалый пророк
132
Райнер Мария Рильке
Так дай и в молитве мне быть гордецом!
Стоит она
пред Твоим тученосным лицом,
так одинока и так верна.
Я ОДИН на свете, но жить в одиночестве мало мне,
дабы каждый час освятить.
Я ничтожно мал, но ничтожества не достало мне,
чтоб Тебе я, как вещь, предстал
в мудрой тьме.
Волю воли моей, рядом с нею пойду, протопчу я
кдеяньюпути;
и в медлительном времени, близость чего-то почуя,
быть мне среди Твою презирающих тьму
иль одному.
В полный рост Тебе зеркалом стать хочу,
не ослепну и образ Твой не упущу,
и грузный, и зыбкий. Тебе я по пояс.
Тебе я откроюсь.
Не стану ни гнуться, ни виться,
ибо кривда я там, где я крив и кос.
А мой помысел бос
и чист пред Тобой. И я волю явиться
с Тобою глаза в глаза,
как образа
и как слово, что понял я,
как насущная кружка воды,
как лицо моей матери,
как ладья,
от беды
грозовой меня спасшая.
УЖ НЕ ВСЕГО ль хочу?
И мрак низверженья
познать бездонный — и свершенье
горней зари от луча к лучу.
Но сколько живут, ничего не хотят
и только ровные чувства чтят,
а их суд с легковерьем дружит!
Часослов
133
Ты же каждому лику рад,
иже жаждет и служит
всем, кто хочет, как из кувшина,
Тебя глотнуть.
Ты еще не остыл, и не поздно нырнуть
к Тебе во творящиеся глубины,
где жизнь свою избывает суть.
ЧАСТИЦА к частице в Тебе теснится.
По крохам строим, и дрожь по рукам.
Но чья же Тебя завершит десница,
о Храм?
Рим? Он сам —
ветхий клир.
Быть может, мир?
Он разобьется
прежде, чем купол ввысь взовьется
и из стоверстных мозаик
возникнет Твой сияющий лик.
Но порою во сне
яснеется мне
Твой простор —
от глубин Начала
до куполов и их позолоты.
И чувства помчало
до самых хор
лепить лепоты.
КОЛЬ НЕКТО Тебя возжелал когда-то,
так можем и мы, Твои холопи,
даже забросив все наши копи:
ведь если гора богата,
но нет златокопа и рудника,
то вынесет золото река
134
Райнер Мария Рильке
и застигнет камни врасплох
в тихом их теле.
Пусть бы того мы и не хотели:
зреет Бог.
КТО В ЖИЗНИ примирит противоречья
и в некий символ заключить их рад,
тот сам
гуляк изгонит из палат.
Иначе он пирует. Ты же — брат
и гость ему по кротким вечерам.
Ты одиночеству его сам-друг,
его речам Ты средоточье тиши.
И циркуль, времени превыше,
берет Тебя из круга в круг.
ПЕРСТЫ в кистях — как в дебрях птичья стая.
Пишу Тебя, а Ты как в полусне.
Но чувствую за гранью чувств, вовне
Встаешь Ты, островами вырастая.
А глаз Твоих недвижных тьма густая
живет во мне.
И больше нет Тебя во древней славе,
где в музыке, как в некоей оправе,
Пляс херувимский в далях тих и глух.
Живешь в последнем доме на краю.
Себя, как думу, от Тебя таю,
и небеса в меня вонзают слух.
НЕ БОЙСЯ, Боже! Это я — мой крик
Бьюсь о Тебя всем телом, как валами,
и чувства обретенными крылами
белеют, окружив Твой лик
Часослов
135
Иль душу Ты не видишь в этот миг,
одетую и тишью и теплом?
Ужель не зреет мой псалом,
на ветках взоров Божьих вознесен?
Когда сновидец Ты, так я — Твой сон.
Изволишь встать — Твоею волей буду,
царем великолепью Твоему
и Града Времени седое чудо
молчаньем звездных высей обойму.
НЕТ, ЖИЗНЬ МОЯ — не та пора крутая,
где я миную будний бег минут.
Пред собственной иконой вырастая,
я — дерево, и только те уста я
из уст моих, что прежде всех уснут.
Я — пауза меж двух ладов. Едва ли
они в Былом по-дружески живали:
и смерти лад, второй глуша,
с ним примирится в темном интервале,
дрожа.
А песня все же хороша.
КОГДА БЫ вырос я в стране иной,
где легче дни и где часы стройнее,
Тебе там праздник создал бы вдвойне я,
и не держал бы я Тебя рукой
то строгою, то робкой от стыда.
И там я не боялся бы, теряя
Тебя — бескрайнее Всегда, —
как мяч, швырнуть
в пучину радости, чтоб, руки простирая,
ловил Тебя кто-нибудь,
и тогда
Ты мог бы мимо, как миг, мелькнуть,
о Сутей Суть.
136
Райнер Мария Рильке
Я дал бы Тебе клинком сверкнуть
иль мог бы Тебя огнем
в наизлатейший перстень замкнуть,
и горел бы Ты в нем
над белейшей рукой.
Не в рост, не на стенке невесть какой —
во все небо писал бы я образ Твой.
Я обошелся бы с Тобой
по-исполински: Ты рос бы горой,
бушевал, как пожар или смерч морской,
или
сыскался бы Ты иной
когда-то...
Друзья мои далеки.
Их смеха мне еле слышны раскаты.
Птенцом большеглазым упал из гнезда Ты,
и так беспомощно разъяты
Твои жалкие желтые коготки
(а руки мои Тебе велики).
И каплю на пальце несу из колодца,
кладу ее на клювик птенца
и слышу: готовы у нас расколоться
от страха сердца.
ТЫ ВСЮДУ мне живешь вещами всеми,
с которыми я сам по-братски прост.
Ты в малых тихо теплишься, как семя,
в великих предстаешь в великий рост.
То силы, тешась дивною игрою,
блюдут в вещах смиренья строгий чин,
растут в корнях, таятся под корою
и Воскресеньем всходят у вершин.
Голос послушника:
ИСТЕКАЮ, истекаю,
как песок меж пальцев течет.
Чувствам нет ни конца ни краю,
и по-своему каждое жжет.
Часослов
137
Нарвало. Пухнет. Больное
ноет нутро. Боль же
в самом сердце всего больше.
Уйди! Умру в тишине.
Авось наберусь я силы
и станет так страшно мне,
что ужас порвет мне жилы.
ВОТ, ГОСПОДИ, гляди: Твой новый зодчий
вчерашний отрок. Он в опеке отчей
молился, женственно персты сложив,
и сим уже наполовину лжив.
Ведь с шуйцей хочет разойтись десница,
чтоб поманить или оборониться
как бы единственной рукой.
И, как голышик в глуби ключевой,
чело еще вчера лежало.
Его теченьем дней пообкатало,
которое лишь то и отражало,
как случай держит небо за судьбу.
На лбу,
пред суд нещадный представая,
теперь толпится летопись земная,
и ей пучиной будет приговор.
И Ты откроешься до края,
сияньем Книгу начиная,
невиданную до сих пор.
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, Закон сладчайший. Ведь
с тобой сражаясь, мы росли и зрели;
тоска по дому Ты — мы с ней посмели
тягаться, но ее не одолели;
Ты — песнь, которую мы молча пели,
Ты — лес, откуда выйти не сумели,
Ты — сеть,
в которой чувства-беглецы засели.
138
Райнер Мария Рильке
С каким величьем приступил Ты к делу
в тот день, когда замыслил Свой посев!
Мы разрослись под солнцем без предела —
корнями вглубь, а ветви так воздев,
что завершиться можешь ныне смело
средь нас, и ангелов, и Приснодев.
На скате неба руку укрепи,
и то, что в нас темно Тебе, — терпи!
МЫ, ЛЮД рабочий — робкий, кроткий, хваткий,
Тебя возводим горним кораблем.
Но вспыхнет вдруг пришлец зарницей краткой,
и новою нас удивит он кладкой,
и свет в умах останется по нем.
Лезть на леса доводится не раз нам,
а молотки в руках стучат с тоской,
пока чела не поцелует час нам,
примчав сюда всечающим и ясным
Твоим посланцем, словно вихрь морской.
И стук стоит сильней и беспрестанней,
удары в горы — словно кирок крик.
Лишь в сумерках приходит первый миг
Твоих грядущих смутных очертаний.
Бог! Ты велик
ТЫ ТАК ВЕЛИК, что стоит мне с Тобой
стать рядом, как меня не станет боле.
Такой Ты мрак, что меркнет в жалкой доле
у грани мрака мой светец слепой.
И вал Твоей великой воли
утопит каждый день мирской.
И по плечо Тебе я лишь тоской.
Стоит она, как ангел просветленный,
чужой, и бледный, и неискупленный,
крылом Тебя касаясь, как рукой.
Часослов
139
Безбрежный утомил его полет,
где плыли луны бледные не внове;
его к мирам знакомым не влечет,
ведь у него они наперечет.
Он хочет встать с крылами наготове,
к Тебе вознесшимися, как огни,
и знать, у лика Твоего в сени,
не проклинают ли его они —
Твои суровые седые брови.
О, СКОЛЬКО ангелов — любого чину,
взыскуя света, по пространству мчатся
челом к Тебе о звезды достучаться!
А мне, как я воображу картину,
все кажется, что, обративши спину,
они Твоей же мантии страшатся.
Ты долго позлащенный был чужак
Лишь раз, когда, к Тебе вздымая лица,
стал мрамор в пору давнюю молиться,
царем комет изволил Ты явиться,
и Свет сиял с чела, как Божий зрак,
на краткий срок. И снова стало так,
что словно уголь у Тебя десница,
а рот, дышавший мной, — огромный мрак
ТО БЫЛО в Микеланджеловы дни.
Читал я, как он за морем творил,
но, быв исполнен исполинских сил,
в своей сени
о неизмерности забыл.
Он тот, кто возвратится всякий раз,
как время; чувствуя последний час,
собрать захочет все свое добро.
Он бросит бремя то к себе в нутро,
швырнет к себе под сердце, как в провал.
Кто ж до него сей жизни не знавал?
Ему она — как смутная махина,
и он ее объемлет воедино...
140
Райнер Мария Рильке
Но чужд Господь желаниям чужим.
Он злобно любит Бога, а причина
в том, что Господь недостижим.
ВЕТВЬ ДРЕВА Господня над Италией
уже отцвела.
Быть без плода ли ей?
Да! Истомилась и в корень пошла,
в самом цвету она замерла
и навеки плод умертвила.
Была там у Бога одна весна,
да сын Его — Слово, сполна
воплотившееся,
да обратившаяся
к сияющему Дитяти сила.
Все приносило
дары.
Пели ангелы той поры
хвалы хорал.
А Он благоухал
Розой роз великой
и круг смыкал
с безродным каликой.
Он, в разных ризах и многоликий,
шагал по высоким глаголам времени.
ЛЮБИЛИ в те века цветущую
Отроковицу Присносущую,
во страхе ставшую нежней,
Ту, Плодоносицу грядущую,
в Которой тысяча путей.
Она, благою и пречестной,
вручив рассвету дни Свои,
была Царицею Небесной
в Своем смиренном житии.
И благовест во всем величье
шел по домам в те времена,
Часослов
141
а думавшая по-девичьи,
вся в ожиданье, как жена,
склонялась к собственному чреву,
Одним исполнясь — так, что рад
был целый свет светить на Деву,
как на зачавший вертоград.
НО, СЛОВНО были Ей гроздья лоз густые,
и обветшалые аркады пустые,
и отпетые литании
невмоготу,
Дева, тяжелая Вечносущим,
обращала не к райским кущам,
а к язвам грядущим
Свою красоту.
Опустились в тишине тишайшей
чаши рук.
Все не народился Величайший.
Горе! Чуждый и горчайший
ангелов оплот стоит вокруг.
ВОТ ТАК Ее писали. Особливо
тот, кто, от солнечной тоски горяч,
на круг холста возвел Ее стыдливо
всесветной мукой, чистой и пугливой,
а сам всю жизнь был плакальщик счастливый,
которому ударил в пальцы плач.
У скорбных уст Ее он покрывалом
мук материнских счастливо прижат
так, что уста улыбкою дрожат,
и эту тайну светом небывалым
все семь свечей не сокрушат.
НО ВЕТВЬЮ новой, шумен и широк,
Бог-Древо возвестит, что лету срок,
и будет зреть в такой стране, где глухо,
142
Райнер Мария Рильке
в краю, где люди не лишились слуха,
где каждый, мне подобно, одинок
Лишь одиночеству Господь открыт,
щедрей Он одинокого дарит,
чем одиночку. Ведь в любом колене
Бог будет свой во множестве явлений,
доколе не узрят все откровенней,
как над верстами их суждений,
их отрицаний, убеждений,
сумнений их и утверждений,
в ста бытиях все переменней
единый Бог, как вал, встает.
Псалом всяк зрящий запоет —
последний, всеглагольный, горний:
плод принесли Господни корни!
Ступайте рушить колокольни!
Дни станут тише и покорней,
и встанет час, созрев. И вот:
плод принесли Господни корни.
Примите Плод!
НЕ ВЕРЮ, чтоб она, смертишка та,
кому мы каждый день глядим на темя,
была бы нам забота и тщета.
Ее угроза попросту пуста;
еще живу, и строить есть мне время,
и кровь в меня надолго налита.
Мой глубже смысл, чем хитрая игра
со страхом, что так смерти мил.
И я — тот мир,
где мор бродил еще вчера.
У врат,
как он, монахи-странники кружат;
людей страшит монашеский возврат;
не знаешь, тот ли возвратился брат
иль двое? Десять? Даже больше ста?
Часослов
143
Знакома лишь — нага, желта, мертва
рука чужая, и ползет она
одна,
как будто у тебя из рукава.
А ВДРУГ умру — куда же Ты-то?
Я Твой сосуд (а вдруг разбитый?),
я Твой настой (а вдруг пролитый?),
почин, и промысел сокрытый,
и риза драная Твоя.
Нет без меня Тебе жилья,
и смысла нет в Тебе нимало.
С ноги снимаешь Ты устало
сандалию — а это я.
Твой взгляд, что на щеке моей
в тепле покоился когда-то,
как на подушке, взором брата,
не вынесет моей утраты
и ляжет скорбно в час заката
на ложе из чужих камней.
Вдруг я умру — тогда куда Ты?
ТЫ ЕЛЕ шепчешь, прокопчённый,
в широком сне у очагов.
Лишь время — знанью путь и кров.
Ты — неосознанный и сонный
от тьмы веков до тьмы веков.
Молельщик робкий Ты и хворый,
кем смысл вещей отягощен.
Ты — слабый слог псалма, который,
попав к басам могучим в хоры,
тысячекратно повторен.
Другому Ты не обучен:
144
Райнер Мария Рильке
Не знал богатства никогда Ты,
его толпы, его оков.
Ты просто правды завсегдатай,
мужик большой и бородатый
от тьмы веков до тьмы веков.
Послушнику:
ВЧЕРАШНИЙ отрок, как смутился ты,
что расточится сослепу на сладость
вся кровь твоя, а вовсе не на радость.
Невесты жди, жених, — из наготы
и из стыда, невесты-срамоты.
У страсти руки, как пороки, скрыты,
и сны твои до плеч обнажены,
и на иконах бледные ланиты
огнями свеч обожжены.
А чувства — гады. И на них взгляни ты!
Они в клубок багровый свиты,
от боя бубнов вслепь напряжены.
И ты вдруг одинок, такой горючий
в своих руках... Когда могучий
в тебе не явит воли к чуду дух...
Но тут идет в крови твоей дремучей,
как в дебрях уличных, о Боге слух.
Послушнику:
ТОГДА молись, как учит тот, кто сам
из смуты возвратился к чудесам,
изображая о чудесном часе
святых величье на иконостасе,
где красота на золотом левкасе1,
как меченосица, вступает в храм.
1 Левкас — грунт под краску и позолоту.
Часослов
145
Вот как молись:
смысл сокровенный мой,
уверуй, что тебя не обману я.
Бунтует кровь, волнуясь и волнуя,
но весь я создан из тоски самой.
Великой правды надо мною гром,
и холодеет жизнь в сени ее.
С тобой впервые остаюсь вдвоем,
и чувство девственно мое —
робеющая глубина!
Со мной в соседстве женщина одна,
меня блазня, одежды износила.
А ты с чужбины говоришь, и сила
моя сполна
за синь холмов устремлена.
Я — ХОР молчащий. Воздвигаюсь
смиреньем чувства в полный рост.
Великим я Тебе являюсь,
а в яви я и мал и прост.
Среди коленопреклоненных
вещей я еле различим.
Они — стада в лугах зеленых,
я им пастух на горных склонах,
где вечер уж подходит к ним.
Иду со стадом я назад
под стук моста, слепой и старый,
и вот в дыму от спин отары
укрыт безмолвный мой возврат.
ПОЙМУ ЛИ, Боже, час Твой странный?
Чтоб он свернулся в круг пространный,
Ты голос подле поместил.
Ничто Тебе предстало раной —
ее Ты миром умастил.
И в нас она исцелена.
146
Райнер Мария Рильке
Ведь выпили века былого
озноб и бреды из больного,
и, зыблясь, чувствуем мы снова,
как ровно дышит целина.
Ничто нам служит ложем лож.
Лежим мы, дыры закрывая,
а Ты, куда и Сам не зная,
под сенью собственной растешь.
КТО ДВИЖЕТ руки многотрудней,
минуя нищий град времен,
державу скудную полудней,
туда, где глуше и безлюдней
лежит пустыня без имен,
Тебя, благословенье будней,
Тебя — благовествует он.
Все сущее — одни молитвы,
рукам лишь то творить дано,
что молит их уже давно
сойти для жатвы иль ловитвы,
и благочестие из битвы
самих орудий рождено.
А время, облики меняя,
идет, шумя как города,
о нем мы слышим иногда,
но вечным заняты мы, зная,
что Бог обстал нас, как простая
рубаха или борода.
Как жилки в камне нас сжимая,
порода Божия тверда.
НАМ ИМЯ — свечкой восковой
о благостном огне.
И тут поник я головой,
суду представ еще живой,
и вижу темный облик Твой:
повис Ты гирей пудовой
на мире и на мне.
Часослов
147
Из времени меня Ты спас,
мой добрый, легкий Враг.
Победа нежная в тот час
из кроткой распри родилась,
и длится Божий мрак.
Теперь я Твой навек, и Ты
меня, как сгусток темноты,
прижал к себе рукой
и слышишь, как мои персты,
проходят, тихи и просты,
как пущею — Твоей седой
предвечной бородой.
СВЕТ — первое из слов Твоих.
И время бысть. Молчал Ты веки.
Второе было: человеки
(мы в нем еще темны, как реки),
и лик Твой вновь от дум затих.
И не хочу я слов иных.
Молюсь в ночи. Стань Тем, Который
нем, как движения поток;
Кого сновидец-ум повлек
вписать навек во лбы и горы
молчанья каменный итог.
Укрой от гневного невежи,
кто тайне Божьей супостат.
Настала ночь у райских врат.
Так стань же сторожем на веже,
о Ком расскажут: бил в набат.
ПРИДЕШЬ, и двери неторопко
откроются Твоим стопам.
Ты тише тех, кто ходит робко
по притаившимся домам.
148
Райнер Мария Рильке
И можно так с Тобой сродниться,
что и не видно книги той,
где украшается страница
Твоею сенью голубой.
Тебя ведь каждая вещица
вещает мне на голос свой.
Но часто в час моих стремлений
всеобраз Твой дробится так,
что Ты — как светлый бег олений,
а я — тот бор, где бродит мрак.
Ты колесо, где я, колени
склоня, стою, и, как со ската,
за спицей спица в ход пошла —
все ближе мне и тяжела.
А от возврата до возврата
растут моей души дела.
ПЛОВЦАМ и звонницам назло Ты
бездонной высотой возрос.
Ты кротко нам поведал, кто Ты.
Но Ты растаял от немоты,
когда поставил трус вопрос.
Как сына, мог бы укачать я
Тебя, противоречий бор,
но исполняются проклятья,
народам грозный приговор.
Ты в первой книге и в иконе
впервые был и ныне Сый1,
жил у любви и мук на лоне,
железной правдой стал в Законе,
и, всем умам представ на троне,
Ты был творенья день седьмый.
Погиб Ты в толпах, у которых
все жертвы были — стылый прах,
1 Сый — Сущий, имя Бога (Исх. 3,14).
Часослов
149
пока из алтаря Твой шорох
не слышен стал на темных хорах
и образом Тебя в соборах
не препоясал новый страх.
ТЕБЯ, Неведомого, брало
робеющее время в круг.
Твое чело мне возблистало,
зане в единый час достало
натуги дерзновенных рук
Черт ласковым касаясь глазом,
я на препоны ринул разум,
и, сам не знаю отчего,
как будто терний торжество, —
вились изгибы и валы,
доколе не возликовала,
невесть куда врываясь разом,
икона смысла Твоего.
Творенья мне не обозреть.
Но чувствую: оно созрело.
А отвернусь, так то же дело —
хочу творить извечно впредь.
ВОТ МОЙ поденный труд. Над ним
тень от меня, как на притине1.
Молитвой, кистью ли долим,
подобен листьям я и глине
и сам — как праздник и в долине
ликующий Ерусалим.
Я, Боже, — гордый город Твой.
Ты стоязык в моем глаголе,
во мне молчит Давида воля.
Сквозь сумрак гуслей я в юдоли
дышал вечернею звездой.
1 Притин — предел.
150
Райнер Мария Рильке
К восходу всяк мой путь направлен.
И если я людьми оставлен,
тем больше я — собой одним.
Любым шагам в себе внимаю,
и нет им ни конца ни краю,
всем одиночествам моим.
ИЛЬ СРОДУ вы к себе не ждали
врага с надеждой, города?
О, если бы вас осаждали
десятилетьями года!
Чтоб вы и в голоде и в горе
претерпевали вражий гнет!
А враг — как роща на угоре
и терпеливо ждет, что вскоре
конец терпению придет.
Глядите с крыши, встав у края,
на стан, где рать его легла.
И, неустанно возрастая,
не шлет он к вам ни краснобая,
ни беспощадного посла.
И, стены молча прошибая,
тараном он вершит дела.
САМОЗАБВЕННЫЙ полет мой стих,
и снова мне дом открыт.
Я был псалом, а Бог — как стих
в ушах еще звучит.
Я снова стану тих и прост,
а голос — нем и гол.
И стал как молчаливый пост
молитвенный глагол.
Других я, точно ветер, тряс,
окликнув их врасплох.
И ангельский познал я час,
где свет исчез, в Ничто умчась,
а в глуби — темный Бог.
Часослов
151
И ангелы — последний вздох
в Господней вышине;
что из ветвей их создал Бог —
им предстает во сне.
И в черномощь Его они
не верят Taie, как в свет, —
и Сатана к ним в оны дни
сбежал и стал сосед.
В державе света он царит,
и черное чело
поверх небытия парит.
Он молит мрака, а горит,
как уголья, светло.
Он — воссиявший бог времен,
с них разогнавший мрак,
кричит, скорбями уязвлен,
смеясь от мук в кулак,
и верит Время в то, что он
один — владыка благ.
Оно — кленового листа
дряхлеющая плоть,
презренной ризы красота,
что сбросил с плеч Господь,
когда скрываться привелось
от всех веков Ему,
доколе в сущее не врос
Сам, до корней Своих волос,
как в глубину и тьму.
ТЫ ЛИШЬ деянию открыт,
руками освящен.
А каждый помысел гостит
в миру, и скорбен он.
Додуман помысел любой,
как вымысел, неся с собой
предчувствие конца.
Но как любовь и как разбой
Ты пал на беглеца.
152
Райнер Мария Рильке
Веди откуда хочешь речь!
Где Ты — к чему мне знать!
Последний из Твоих предтеч,
я буду вслепь Тебя стеречь,
не течь к Тебе, а ждать.
Но, всем собой себя тая,
Тебя встречаю так,
что я не вем1, кто Ты, кто я,
и мы друг другу — мрак.
КАК СХИМОЙ с постригом, бывало, встарь
царей венчали лишь перед кончиной,
так жизнь моя оделась благочинно.
Уста лишились власти, и повинны
мне царства, собранные воедино,
и котомой они гнетут мне спину,
и в помыслах еще я государь.
Молитва все еще им — созиданье,
такое, чтобы ужас и рыданье
великой стали красотой,
дабы не выдать, как страданье
молитве предано святой,
как всходит над молитвой той
цветное куполов сиянье —
зеленый, синий, золотой.
И не утехи ль гуслей сонных
и храмы и монастыри?
По ним персты полуспасенных
проходят в песнях вознесенных,
а внемлют девы и цари.
И БОГ велит писать мне кровью:
Царям свирепость суждена.
Она есть ангел пред любовью.
1 Не вем — не знаю {слав?).
Часослов
153
Вхожу лишь по сему условью,
как по мосту, во времена.
И Бог велит писать иконы:
Мне время горше всех скорбен,
и кинул я к нему на лоно
жену на страже, язвы, стоны,
в разгульном страхе вавилоны,
и смерти грозные законы,
и полоумье, и царей.
И Бог велит мне: — Будь Мне зодчий!
Я царь времен. Тебе же Я
лишь Сомыслитель твой, охочий
до иноческого житья.
На плечи лег тебе, как очи,
глядящие от ночи к ночи,
от Бытия до Бытия.
НЫРЯЛИ древле богословы
в глухую ночь Твоих имен,
и девы покидали сон,
и кротких отроков покровы
Ты серебрил, булатный звон.
В Тебе, как в храмине певучей,
брели, на песнь обречены,
владыки вечные созвучий
и милосердной тишины.
Ты — тот вечерний час укромный,
что стихотворцев согласит;
в уста пробьешься речью темной,
и каждый в песне неуемной
Тебя величьем одарит.
Ты к высям крылья гуслей двинул,
воспрянул Ты, тишайший Бог.
154
Райнер Мария Рильке
Твой древний ветер жарко ринул
и всем вещам и нуждам кинул
величия Господня вздох.
ТЫ БЫЛ рассеян и разлит
пиитами. Но, Боже, буди!
Я соберу Тебя в сосуде,
и он Тебя возвеселит.
Мне ветры спутниками стали.
Ты Сам их на меня нагнал,
и вот что там я увидал:
слепцу Тебя, как чашу, дали,
а чернь Тебя укрыла в дали,
а нищий люд Тебя вздымал,
и суть Твою, как Ночь в Начале,
порой ребенок постигал.
Ты видишь: я Тебя искал,
я, кто рукой себя скрывает
и, как пастух, бредет сквозь тьму
(так помоги же Ты ему!).
Толпа с пути его сбивает,
а он свершить Тебя мечтает,
дабы свершиться самому.
СОЛНЦЕ тронуло собор крылом.
Растет иконостас из плоти,
и на святых висят милоти1,
а царские врата в полете
раскрылись золотым орлом.
Из позолоченных хором
восходят в самый купол хором
каменья надо всем собором,
и самоцветный сей псалом
молчит, припав к святым уборам,
одетый тихим серебром.
1 Мияоть — одежда из овчины.
Часослов
155
А дальше — ввысь, лицом бледна,
вознесена, скорбя,
как голубая ночь, Жена —
привратница и тишина, —
светла, как росный луг, Она
цветет вокруг Тебя.
А в купол Сын Твой низошел,
как храма вышина.
И Ты взойдешь ли на престол,
чья тень мне так страшна?
Я БОГОМОЛЬЦЕМ в этот храм
взошел смиренно, но
Ты как студеный камень там,
и тьмы Твоей полно.
Семь свеч поставил к образам,
и в каждом явлен Ты глазам,
родимое пятно.
Там между нищих я стоял,
юродивых, слепых.
Что ветер Ты — я то узнал
из колыханий их.
Мужик столетний бородат
и темен был лицом.
Он праотцам библейским брат,
за ним такой же темный ряд,
в их тьме Тебя обрел мой взгляд:
Ты молча был открыт и рад
явиться в нем и в них.
Пустил Ты время в бег,
и потерял Ты в нем покой.
Мужик, нашед, кто Ты такой,
кидает ввысь Тебя рукой,
швыряет вниз, к земле сырой,
и машет так весь век.
КАК В ИЗБУШКЕ сторож у окошка,
вертоград блюдя, не спит ночей,
так и я, Господь, Твоя сторожка,
ночь я, Господи, в ночи Твоей.
156
Райнер Мария Рильке
Виноградник, нива, день на страже,
старых яблонь полные сады
и смоковница, на камне даже
приносящая плоды.
Духовитые суки высоки.
И не спросишь, сторожу ли я.
Глубь Твоя взбегает в них, как соки,
на меня и капли не лия.
ЛЮБОМУ Бог и с любым говорит,
доколе его не сотворит.
И тот, кто не начат, не слышит их
в ночи Господней — Слов тучевых:
Чувствами посланный, ступай
к тоске своей на самый край
и ризу Мне дай!
За спиной у вещей как пожар запылай
и тени вещей на Меня нагоняй,
чтобы Меня совсем затемнило.
Все да будет в пути: и лики и рыла,
только нужно идти — всех чувств отрадой.
Наша связь да не рвется.
Близок тот край,
что жизнью зовется.
Он познается
правдой.
Руку мне дай!
Я БЫЛ у сказителей, иноков и изографов, под икты
тихих житий возглаголивших славу Твою.
Но мне в видениях ветра, лесов и озер не возник Ты
у христианства на самом краю
землею пресветлой.
Часослов
157
Я разглашу Тебя и разгляжу, распишу Тебя лепо —
и не золотом, нет, а обычным чернилом дубильным,
ко страницам Тебя не пришью самоцветьем обильным,
и образ зыбчайший из чувств моих будет бессильным,
зане Ты простым бытием превзойдешь его слепо.
Я вещи в Тебе только попросту поименую,
про древнейших царей расскажу, про их славу земную,
на листах моей книги пусть битвы вершат и деянья,
ибо Ты им земля. Времена Тебе — солнцестоянья.
Вспоминаешь Ты близкое лишь как далекие дали,
и хоть бы сеяли лучше и глубже пахали —
жатва Тебя еле тронет, и Ты услышишь едва ли,
как сеятели и жнецы по Тебе прошагали.
СТЕНЫ смиренно Ты держишь темнеющим лоном.
Авось дашь пожить еще час городам-вавилонам,
и два уделишь для церквей и пустынных киновий1,
и пять — на спасенных и на усердье их внове,
и семь — поглядеть за трудом землепашца поденным,
прежде чем станешь опять и водою, и дикою пущей
в час, когда страху предела несть,
и Ты Свой образ бегущий
из вещей захочешь унесть.
Дай малый срок, и я буду вещи любить на пределе,
чтобы легли у Твоих границ.
Удели мне лишь семь, семь дней недели,
никем не исписанных доселе
семь одиночества страниц.
Кому Ты книгу дашь, к семи листам
тот будет целый век клониться снова,
и с ним в руках писать Ты будешь Сам
за богослова.
1 Киновия — монастырь (грен.).
158
Райнер Мария Рильке
ПРОСНУЛСЯ я в своих ночах,
доверчив как дитя,
дабы, забыв про тьму и страх,
опять узрити Тя.
Твоих исчислить перемен
мой разум не могущ.
Но веле1 — в трепете времен —
Ты сущ, и сущ, и сущ!
Ты Муж, Младенец и Юнец
и больше во сто крат.
Я знаю: в том кольцу конец,
что вечен в нем возврат
Спасибо, Сила из пучин,
Твои круги мне — как притин,
все тише и бездонней.
Мне ныне будень стал простым,
склоняясь ликом пресвятым
во тьму моих ладоней.
ЧТО НЕ БЫЛО меня доныне —
Ты знаешь? «Нет», — ответил Ты.
И чую — из моей твердыни
вовек не станет пустоты.
Я больше сна во сне. Не мину!
Лишь то, что рвется ко притину, —
оно как свет, оно как звук,
в Твоих перстах, как на чужбине,
свободы ищет и поныне —
и валится из Божьих рук
Теперь Тебе еще темней:
в пустом просвете вырастая,
возникла летопись земная
из вечно слепнущих камней.
А где еще каменотес?
Одна громада ждет другую,
и все каменья врассыпную —
ни одного Ты не тесал.
1 Веле — наречие от «велий» — великий (слав).
Часослов
159
СВЕТ громыхает на Твоей вершине,
и пред Тобой вещей тщеславных племя.
Оно лишь к вечеру Тебя найдет.
Пространства нежность, полусумрак синий
кладет ладони тысячам на темя,
само стихает и смиренно ждет.
Лишь нежностью и держат Божьи персты
вселенную, которой тяжело.
Выхватываешь землю из небес Ты.
Ей у Тебя за пазухой тепло.
Умеешь, Боже, Ты неслышно быть.
Кто именами стал Тебя дарить,
с Тобой соседствовать не сможет он.
Как с гор, из рук Твоих приподнимая
свой темный лик, Господня мощь немая
нисходит нашим чувствам дать закон.
ТЫ ДРЕВЛЕ явлен в милостях всегда,
радушный в каждом Божьем мановенье.
И кто руки сомкнет в кольцо
так, что тогда
они крохотный мрак берут,
тот сразу Твое ощутит дуновенье
и, как на ветру, закрывает лицо
от стыда.
То ляжет он на камень, то привскочит,
как делают другие, но смущен,
Тебя он снова убаюкать хочет,
боясь, что предал он чужим свой сон.
Кто чувствует Тебя, в том нет гордыни.
И в страхе за Тебя, тоскуя, он
бежит чужих, чтоб Ты незрим был ныне.
То чудо, сущее в пустыне,
исхода древнего закон.
160
Райнер Мария Рильке
ВОТ СТРАНА ко всему готова
в час, как день переходит грань.
Что тоскуешь, душа? Молви слово,
стань степью и далью стань.
Нарастай, нарастай курганами,
еле узнанной стариной,
когда месячно над полянами,
над давно забытой страной.
Явись, тишина, в обличий
вещей (выводи их из детства,
и пойдут они за тобой).
Стань степью простой и просторной!
Авось в полуночном величии
войдет Он, старый и черный,
в мой чуткий дом по соседству
исполинскою слепотой.
Раздумье Его все пуще я
вижу в уме моем.
Внутри для Него все сущее —
и небо, и степь, и дом.
Лишь псалмы забыты, как вечер,
потерялись вдали
и, как век за веком, как ветер,
из ушей человечьих ушли,
из ушей на шумливом вече.
НО ЧУДИТСЯ: как на дне,
сберег я в своей глубине
псалмы до последних созвучий.
Из-за бороды плакучей
молчит Он и рад бы собраться
в лады, в напевную гладь.
Прижмусь я к Нему, и — глядь!
псалмы Его заструятся
и польются в Него опять.
КНИГА ВТОРАЯ
О ПАЛОМНИЧЕСТВЕ
(1901)
ТЕБЕ НЕ В ДИВО гром и град
и рост суровых гроз.
Во весь опор несется сад,
спасаясь, под откос.
Тот, от Кого деревья мчат, —
ты знаешь, — это Тот,
к Кому стремится каждый взгляд,
о Ком душа поет.
Стояло лето, словно дом;
бурлила в липах кровь.
На Всетворца она дождем
готова литься вновь.
Ты силу мнил познать сполна,
коль плод положен в горсть.
Но вновь таинственна она,
и вновь ты бренный гость.
И в лето, словно в дом родной,
была открыта дверь —
но в сердце, как в простор степной,
тебе идти теперь.
И одиночествуешь ты
в толпе оглохших дней;
162
Райнер Мария Рильке
срывает ветер, как листы,
мир с памяти твоей.
Меж черных сучьев нынче твой
глядится небосвод.
Стань песней, вечером, землей,
которую он ждет.
Смиренным стань, как вещи плоть,
для сущего созрей,
дабы сорвал тебя Господь,
как спелый плод с ветвей.
Я ВНОВЬ молюсь всей правдой голой.
Ты, Светлый, в ветре внемлешь мне,
неизреченные глаголы
в моей почуя глубине.
Я супостатам был добычей,
им по кускам себя сложил.
Я жил в устах у злоязычии
и жажде бражников служил.
И, по осколкам собирая
себя, как мусор во дворах,
чета и суть Твоя вторая,
вполгласа аз к Тебе воззвах.
И как же я стенал, терзая
полуобъятья рук в мольбе:
да обрету опять глаза я,
дабы их вновь возвесть к Тебе.
Я был как погорелый дом,
где только душегуб ночует,
пока опять не закочует,
голодной карою ведом, —
я был как город, где чума
владычицею черной стала
и детям на руки сама
холодным телом грузно пала.
Как некто — чужд себе я был
и только знал: он оскорбил
Часослов
163
родную мать — ту, что качала
под сердцем мой росток живой,
и сердце робкое стучало
в беспомощный зачаток мой.
А ныне собран я опять
из всех долей стыда и срама
и жду, чтоб разум был как рама,
в которой радостно и прямо
в единстве мог бы я предстать.
И жду, Господь, чтобы Ты въяве
меня рукою осенил.
Как скряга, я себя скопил —
но расточить меня Ты вправе!
A3 ЕСМЬ еще смиренноликий,
повитый манатьей1 монах,
я послушатель Твой великий,
в ком аз Тя зрих и Тя познах.
Я голос келий укромной,
а мир шумит вдали от ней.
И Ты все тот же вал огромный,
бегущий в гуще всех вещей.
Да, это — море лишь, где взгляд
порою острова встречает.
Да, это лишь Господень сад,
где молча ангелы парят
и где безгласен скрипок лад,
а Тот, о Ком они молчат,
Своею мощью освещает
вещей пред Ним склоненный ряд.
Ужель Ты — Все, а я единый
в моей мятежной тишине?
И не всему ли я причиной?
И не за всех ли я повинный,
а Ты — Ты немо внемлешь мне?
1 Манатья — монашеская мантия.
164
Райнер Мария Рильке
Какие слышишь голоса?
Чему внимаешь? Буре? Плачу?
Кому? Я тоже что-то значу,
и ждут Тебя мои леса.
Иль сирой песней слух Твой, Боже,
закрыт моленью моему?
Но я себе внимаю тоже,
как одинокому псалму.
Я тот же, кто стучал когда-то
и не вошел в Твои врата.
И после каждого заката
я — уязвленный сирота.
Я отрешен людских веселий,
отсельник всякой суеты,
и вещи, где я жил доселе,
стоят как старые скиты.
Тогда Ты, Боже, мой наперсник,
сосед и брат любых судеб,
моих страданий верный сверстник, —
тогда Ты мой насущный хлеб.
Не знаешь, верно, что ночами
в сердцах бессонных зреет крик, —
ведь все неправедны меж нами:
младенец, дева и старик.
Чернеют вещи возле них,
дрожащих, как пред часом казни,
их руки белые в боязни
по жизни, как в дремучей блазни,
блуждают, будто две борзых.
Былое где-то предстоит,
а в будущем лежат скелеты.
И кто-то у ворот стучит.
Ни взор, ни слух не различит
единой утренней приметы,
и даже петел не кричит.
Ночь — как великий дом. И вот
их — страхом раненные — руки
рвут дверь за дверью в смертной муке,
им ходов предстают излуки —
нет и не будет им ворот.
Часослов
165
И так, о Боже, что ни ночь —
всегда кому-то спать невмочь.
Идут, вотще Тебя взыскуя.
Чу! Как слепцы, во тьму глухую
они ступают.
Как в петлях лестничных, тоскуя,
к Тебе взывают!
Они в булыжник черный лица прячут.
Ты, верно, слышишь их? Они ведь плачут.
Ишу Тебя, ибо идут во тьму,
не подходя к порогу моему.
К кому ж взывать мне, если не к Тому,
Кто ночи и мрачнее и ночней;
к Единственному, Кто не спит ночей,
лампады не светя, Кто так велик
и так глубок, что даже свет ничей
не баловал Его, и Кто возник
как лес, прорвавшись из земли? Он — Тот,
Кто предстает
из тьмы земной пред мой склоненный лик, —
безмолвный крик
ТАКИМ, Предвечный, я Тебя постиг.
И люб Ты мне, как милый сын, а он
еще ребенком от меня ушел,
когда судьба вела его на трон
и расстилался мир пред ним, как дол.
А я остался, как старик седой,
который сына больше не поймет
и мало ведает о новине, о той,
где воля семени его растет.
То я за счастие боюсь Твое,
врученное судьбе чужих кормил,
то жду Тебя опять в свое жилье,
в ту тьму, которой я Тебя вскормил,
то, временем окутан, словно лист
дрожу, что больше нет Тебя в живых,
то повторяет мне евангелист
о вечности Твоей все тот же стих.
166
Райнер Мария Рильке
Аз есмь отец. Но Сын превознесен
отца превыше. Тот, кем не был он,
великим ныне в Сыне стать призван.
И Он — возврат, Грядущее времен,
Он — океан, Он — лоно лон...
МОЛЯСЬ, не богохульничаю я:
Тебя я в старых книгах отыскал
и родичем Тебе стократно стал.
Я возлюблю... На что любовь Твоя?
Отца ужели любят? Не уйдут,
как Ты ушел? Лица не обернут?
Не бросят рук, беспомощно пустых?
Не будет в древних книгах забытых,
как дряхлый лист, Отцово сохнуть слово?
Не с сердца ли Отца, как по угорью,
текут ручьем — кто к радости, кто к горю?
И разве наш отец — не старина,
не думы чуждые былых времен,
на старый лад покрой, убор, поклон,
сухие стебли рук и седина?
Он был когда-то богатырь и Бог,
но мы — растем, а Он, как лист, засох.
ЕГО ПЕЧАЛЬ душнее нам, чем печь,
а голос тяжелее, чем кирпич.
Мы рады бы Отцову слушать речь,
да слов и вполовину не постичь.
Разлад меж Ним и нами так, вопит,
что мы друг друга не поймем никак
и видим лишь, что рот Его открыт
и каждый слог — как проходящий знак.
Мы дальше от Него, чем Он от нас,
и, хоть любовь нам ведома везде,
мы лишь в Его земной последний час
увидим, что Он жил на сей звезде.
Вот что Отец нам. Мне ли сыном, мне —
Твоим назваться?
Часослов
167
То значит — от Тебя стократно оторваться.
Ты, Ты — мне сын. И пусть года промчатся,
Тебя узнаю все равно, как тот,
кто сына милого во старце узнает.
ГАСИ мне взор: узреть Тебя смогу.
Замкни мне слух: Твое услышу Слово.
К Тебе я и безногий побегу,
без языка молиться буду снова.
Сломай мне руки — и тогда Тебя
всем сердцем, словно в кулаке, зажму.
А остановишь сердце — ум воспрянет.
И если ум повергнешь Ты во тьму —
носить Тебя и крови мне достанет.
ДУША моя, как некая жена,
снопы Твои увязывает днем, —
весь день, как Руфь, Ноэмии сноха,
на ниве труженица, а потом,
как свечереет, входит в водоем,
омоется, нарядится и в дом
идет к Тебе, когда все смолкло в нем,
и ставит яства с медом и вином
у ног Твоих, усердна и тиха.
А кликнешь в полночь — сердца не тая,
она в ответ: я — Руфь, слуга Твоя.
Простри же над слугой Твоей крыла,
ведь Ты — наследник.
И спит у ног Твоих душа моя.
От крови Божией она тепла
и до зари не покидает сна.
Она — как Руфь. Как некая жена.
ВЕДЬ ТЫ — наследник.
Сын бывает с детства
рабом наследства.
И как сады — сыны.
Ведь Ты — наследник.
168
Райнер Мария Рильке
И В НАСЛЕДЬЕ зелены
сады былые с синей тишиной
развалин неба.
Луг с росой, и лета,
вещающие солнцем слово света,
и весны жалобные, как приветы,
наплаканные молодой женой.
Наследуй пышных осеней наряды,
как пиитические благостыни.
Бочком к тебе прижаться будут рады
все зимы, как сиротские пустыни.
Тебе в наследство и Казань, и Рим,
Флоренция с Венецией, а к ним
и Лавра Троицкая, и тот монастырь,
что в Киеве разросся вглубь и вширь,
уйдя под землю в сумрак богомольный.
Москва с великой думой колокольной,
языков речь и звук волынки вольной,
как жемчугом, твои усыплют дни.
Пииты живы лишь Тобой. Они
в созвучиях Твой образ прозревают,
а выйдя в мир, во Слове созревают,
но жизнью одиноки искони...
А живописцы пишут для того,
чтобы увековечить естество,
Твое творенье бренное, его
вернуть Тебе. Ведь все устремлено
жить в вечности. Смотри, жена давно
взыграла во Джоконде, как вино.
Иных и быть бы не должно —
ведь новых жен не нужно новизне.
Ваятель, он — как Ты, зане
он камню скажет: — Вечно, камень, стой.
И этот камень станет Твой.
И те, кто любит, делятся с Тобой,
на краткий срок в пиитах пребывают,
улыбку поцелуем призывают
на губы скучные, их словно крася
внезапной страстью, а о тяжком часе,
ко зрелому мученью приучась,
несут страданья, смехом рассыпаясь,
Часослов
169
и сонную тоску, что, просыпаясь,
запричитает на чужой груди.
Умрут они, нагромоздив загадок, —
как звери, ничего не разумеют.
Но может быть, у них родятся внуки,
в ком жизни их зеленые созреют.
Плод их любви Тебе и станет сладок,
во сне зачатый и рожденный в муке.
Вот так течет к Тебе вещей избыток.
И, как из верхних чаш, мечась в каскаде
и прядая, как светлой гривы пряди,
вода до глубочайшей чаши плещет,
вот так же изобилье в дом Твой хлещет
всем половодьем мыслей и вещей.
A3 ЕСМЬ худый смиренный раб Твой, иже
на жизнь глядит из кельи жития,
вдали людей, к вещам безмолвным ближе,
делам и судьбам — не судья.
А если мрак очей Твоих зовет,
то вот что я Тебе открою ныне:
никто своею жизнью не живет.
И не сочти слова мои гордыней.
Случайно все: боязни, будни, лица,
и счастьица, и люди, и частицы.
Мы ряженые с детства до конца,
и за личиной не видать лица.
И мнится: есть палаты у казны,
где жизни все уложены в приделе,
словно кольчуги или колыбели.
Никто и не бывал в их полом теле.
Самостоятельности лишены,
стоять они от века не умели
и, как одежда, держатся стены.
И коль мой сад избыт, то на пороге
я ведал бы, вечерний и ничей:
в Палату Оружейную вещей
непережитых — все ведут дороги.
170
Райнер Мария Рильке
Там пусто. Словно спать легла страна,
и, как вокруг тюрьмы, висит стена
без окон — семикратным кругом строгим.
Застегнутые наглухо ворота
пришельцам как чугунная зевота,
решетка же — из пальцев сплетена.
ПУСТЬ каждый из себя на волю рвется,
как узник из острога, — все равно
есть в мире чудо чудное одно:
я чувствую — любая жизнь живется.
А кто живет ее? Вещей ли ряд —
они в ночи, как в музыке, стоят,
несыгранным напевом муча струны?
Иль ветер, нагоняющий буруны?
Иль ветви, что друг другу словно знаки?
Цветы ли — пряхи запахов во мраке?
Дороги ли, что в поле пролегли?
Иль звери, дети теплые земли?
Иль птицы, что так просто в небо вхожи?
Так кто же жизнь живет? Не Ты ли, Боже?
ТЫ СТАРЫЙ, темный, закоптелый,
и волосы Твои — как дым.
Свое незримо правишь дело,
седой кузнец годам седым.
У наковальни век Свой целый
стоишь, великий нелюдим.
И в праздник у Тебя дела —
Ты меч ковать не перестанешь,
его без устали чеканишь,
да станет сталь его светла.
Когда все пьяны, сонны, сыты
и смолкли жернов и пила,
то слышно нам, как в те часы Ты
вздымаешь молот Свой сердито,
гремя во все колокола.
Часослов
171
Ты не учился, Мастер вещий,
а сразу молот взял и клещи
и Сам в Себе обрел права.
Ты — нам неведомый заезжий,
о Ком то робко шепчут вещи,
а то набатом бьет молва.
МОЛВА идет, что есть Ты где-то.
Толпу сомнение морочит,
и те, кто запылать не хочет,
в мечты бессильные одеты,
все ждут, что камень кровь источит,
дабы из крови Ты возник.
Но Ты склоняешь темный лик.
Ты мог бы вскрыть жилы горам и курганам,
дабы весть о суде великом подать,
но Ты ничего не хочешь сказать
поганым.
Не станешь обманным вставать туманом,
ни зари милосердия ждать,
ибо Твоя благодать —
не христианам.
Презираешь любых вопрошателей рать,
но любишь взирать
на лики старателей.
КТО ВОПРОШАЕТ Тебя — искушает Тебя,
и кто обретет Тебя — уведет Тебя,
в образ и в руки вселя.
А я Тебя разумею,
как земля разумеет.
Когда я зрею,
Твой зреет рай.
172
Райнер Мария Рильке
Мне не надо примет Твоих бремени!
Знаю одно я:
есть имя у времени,
но оно иное,
не Ты.
Мне чуда не надо в угоду!
Законы Свои уставь,
которые род от роду
все больше явь.
ЛИШЬ ИЗ ОКОНЦА что-нибудь
обронится, предмет паденья
закон звериный тяготенья,
весь трепеща от нетерпенья,
подхватит, словно ветер пенье.
Каменья, тени и растенья
несет он миру прямо в суть.
И у летучей доброты
любая вещь живет в опеке,
как по ночам кусты и реки,
младенцы, камни и цветы.
Лишь мы из связей постоянства
надменно странствуем в пространстве
и к вольности в пустую стать.
А нужно, вверясь силам умным,
широкошумным древом стать.
В сетях обочин и тропинок
бегут от столбовых дорог,
в круг замыкаются на срок,
а кто уйти из круга смог,
так станет одинок, что инок
бывает меньше одинок
Он должен у вещей учиться
тому, что некогда забыл.
Не может с Богом разлучиться,
кто в Божьем сердце прежде жил.
Одно уметь он должен — падать,
смиренно погружаясь в вес, —
тот, кто дерзал полетом прядать,
превыше птицы, до небес.
Часослов
173
(Ведь не летают больше и ангелы.
Серафимы подобьями грузных птиц
сидят вкруг Него, размышляя, —
останки птичьи, пингвинья стая,
осевшая в чахлом обличье.)
ПОКОРСТВИЕ Тебе? А это -
к Тебе склоненные умы.
Так бродят смолоду поэты
среди садовой полутьмы.
Так мужики понуро, Боже,
за детским гробиком бредут.
А все сие одно и то же:
великое творится тут.
Кто в первый раз Тебя узрил,
тому и время и сосед —
помеха. В Твой ступая след,
он выбивается из сил,
он словно тащит бремя лет.
Но лишь природе приобщится,
так тотчас чудо с ним случится:
Тобой повеет звездный свет,
Тобою луч начнет лучиться,
Тобой блеснет ему криница,
с Тобою он навек сроднится,
ведь все — лишь Божья багряница,
и всюду Ты ему в ответ.
Ты добр и с ним накоротке.
Прекрасен Ты ему, как лодка,
его везущая столь ходко
и чутко по большой реке.
Страна вдали, как в древней раме,
распространилась под ветрами,
хозяин ей — дремучий лес.
Навис над тихими полями
огромный произвол небес.
Деревни движутся и камни,
как дни в их череде всегдашней
174
Райнер Мария Рильке
и словно благовест вчерашний,
который только что исчез.
Но вслед им над рекой всегда
встают, как птицы, города,
и машет крыльями их стая,
как праздник сей корабль встречая.
А он порой в такую местность,
где и жилья нет, приплывет,
и где безродного окрестность
всем слухом одиноко ждет.
Где тех, кто наги и убоги,
уносят тройки чередой
по затерявшейся дороге
за вечереющей зарей.
ДОМ одинокий на краю села —
как во вселенной у ее конца.
Дорога постояла у сельца
и снова в ночь тихонько побрела.
Сельцо всего лишь робкий переход.
Меж двух пространств оно чего-то ждет.
Не тропка, а дорога вдоль окон.
И кто из дому странствовать уйдет,
в пути, быть может, смерти обречен.
ЗА ВЕЧЕРЕЮ встанет кто-то вдруг
и за порог, и дальше, и уйдет:
там, на востоке, где-то церковь ждет.
По нем поминки справят сын и внук.
А тот, кто умер дома, тот в дому,
в посуде, в мебели — все будет жить.
Придется детям побрести во тьму —
к той церкви, что успел он позабыть.
Часослов
175
БЕЗУМЬЕ — сторож,
ибо — сторожит.
Смеясь, для ночи ищет он имен —
семь, двадцать, триста, — словно ворожит,
ночь ежечасно именует он.
И с треугольником его рука
дрожит, и он, задев о край рожка,
в который сам не может задудеть,
домам свою умеет песню спеть.
Сквозь мирный сон ребятам чуть слышна
дозорная безумья тишина.
Но псы со злости рвутся на цепях,
шаги его почуя у ворот,
дрожа, когда минует он, и страх,
что он вернется, — снова их берет.
ТЫ, БОЖЕ, знаешь ли о тех святых?
Казалась суетной им даже келья —
и жили в норах, грязных и пустых,
чтоб убежать от горя и веселья.
И всяк в пещерке восковой свечой
дышал и теплился, колебля свет,
забыв свои года и облик свой,
и жил, как дом, в котором окон нет,
без смерти — словно умер он давно.
Читали мало. Мир и сох и чах,
как если бы мороз пошел по книгам,
и смысл, подобно рясе и веригам,
висел у них с плеча на всех речах.
И, ощупью встречая много лет
безмолвно в тесных, черных переходах
своих же иноков длиннобородых,
никто не ведал — умер или нет
сосед его.
176
Райнер Мария Рильке
В мерцании лампад
во мгле икон, ступая еле-еле,
порой сходились иноки у врат,
которые, как золоченый сад,
пред ними, нераскрытые, блестели.
И недоверы в сон вонзали взгляд
и тихо бородами шелестели.
Их жизнь была великой, как века.
От ночи свет она не отличала,
как будто валом их опять примчала
во чрево материнское река.
Зародыши с огромной головой
и крохотными ручками на теле,
они сидели, скрючась, и не ели,
как бы кормясь обставшей их землей.
И сотни богомольцев в наши дни
поклоны бьют пред ними в умиленье.
Уже три века здесь лежат они,
а плоть и до сих пор не знает тленья.
И мрак, вздымаясь как свеча вокруг,
коптит тела, что раньше были рады
упрятаться в посмертные наряды, —
и на груди у них лежат, как гряды,
упрямые кресты из темных рук.
Ты, старый Воевода, Князь величья,
забыл иль, может быть, из безразличья
им смерти не послал и в наши дни,
зане ныряли в глубь земли они?
Иль эта плоть, издревле нежилая,
являет вечного нетленный плод?
Иль это во успенье жизнь живая
и смерть времен она переживет?
Годится ли еще их естество
Тебе, о всем пределам Беспредельный?
И вечен ли такой сосуд скудельный,
чтоб кровью Божьей наполнять его?
Часослов
177
ГРЯДУЩИЙ, всходишь к Вечности на твердь
зарей великой, и в ночи времен
Ты — петушиный зов, роса, и звон,
заутреня, и девушка, и он —
тот чуждый человек, и мать, и смерть.
Изменчив Ты от головы до пят,
и одинок как перст в судьбе Твой лик.
Тебе не радуются, не скорбят —
как пуща, Ты неведом, глух и дик.
Ты — сущность всех вещей, их окоем.
Про суть Свою последнюю молчишь.
Иным всегда иначе предстоишь:
землею — судну, суше — кораблем.
ТЫ — СТАРЫЙ монастырь Страстей Христовых,
где тридцать храмов золотоголовых,
янтарных, белоснежных и лиловых,
как небо, в тихой древности стоят.
Здесь вещи, даже самой малой,
Твоя музыка зазвучала,
и открывается начало
могучих монастырских врат.
Ютятся в келиях, чернея,
черниц не меньше семисот.
Вот та встает, зари светлее,
а та застыла, цепенея,
а третья по немой аллее,
как по закату вдоль, идет.
Но прочих дев не увидать.
Они спокойно, как в могилах,
молчат, как в грудях скрипок хилых
напев неведомый молчит.
У храмов в сладости жасмина
могильных плит смиренный ряд,
и эти камни благочинно
о Божьем мире говорят.
178
Райнер Мария Рильке
Сей мир стучится, как рассвет,
и, как прибой, гремит о кельи —
он весь в безделье и веселье,
лукавой страстью он одет.
Но Ты еси — и мира нет.
Сквозь безучастный год, разлитый,
течет он, точно воск свечей,
а Ты, и вечер, и пииты —
вы видите до дна открытый
во всех явленьях мрак вещей.
СТАРЕЕТ за дворцом дворец.
Царям наследников не станет.
Их род во отроках увянет,
а дочь недужная протянет
насилью блекнущий венец.
Царица-чернь всея земли
дробит короны на рубли,
огнем их предает машине,
своей озлобленной рабыне,
но счастья нету и в помине.
Руда по родине томится,
терзаясь в деньгах и колесах —
в науке жизни их служилой,
из фабрик и из касс стремится
утечь и снова жить в утесах.
Когда же к ним вольется в жилы,
гора закроется за ней.
ВСЕ БУДЕТ вновь огромно и могуче:
над стенами деревья, словно тучи,
простые страны, складчатые воды,
а по долинам у речных излучий
тугие ратаи и скотоводы.
Часослов
179
Хватать не будут больше церкви Бога,
как беглого, и причитать убого
над Божьей жалкой, загнанной судьбой.
Странноприимны всюду станут домы,
желаньем жадным жертвовать ведомы
деянья будут, как и мы с тобой.
Не будут ждать загробного в надежде
на небеса и, смерти не боясь,
земле послушны будут, как и прежде,
к ее рукам знакомым прислонясь.
И ТЫ ВЕЛИКИМ будешь. Величаний
Тебе еще не выискал язык
И будешь Ты еще необычайней,
и станешь старше, чем любой старик.
Тебя почуют все: свежо и снежно
повеет садом и пахнет весной.
Тебя полюбят все, — так взглядом нежно
ласкает вещь любимую больной.
На торжищах Ты не привык селиться,
не станет толп молельщиков, и тот,
кто чувствует Тебя, возвеселится,
как будто в мире он один живет.
Поруган и обласкан, друг и враг он,
в нем и казна, и расточенье в нем!
Он улыбается, полузаплакан,
могуч, как царствие, и мал, как дом.
ДОМАМ покою нету: то нести
покойника в дорогу надо ныне,
то кто-то тайно собрался брести
на богомолье — лицезреть святыни.
И знает он, что где-то на чужбине
его Ты встретишь на пути.
180
Райнер Мария Рильке
И по дорогам Твой народ кишит,
спешит к Тебе, как к розе той румяной,
что раз в тысячелетие цветет.
И он, усталый, томный, безымянный,
к Тебе добравшись, утирает пот.
Я видел это шествие калик,
и ветер из одежд у них возник,
когда полой и рукавом махали,
и стих, когда одежды отдыхали, —
так их поток в долинах был велик.
ВОТ ТАК и я бы: на чужом пороге
сбирал бы милостыню я скупую.
А если бы запутались дороги,
пристал бы к старцам в их толпу слепую.
Я видел бы, что стариков, как тени,
ведет вперед дороги поворот
и, как нагие острова, колени
всплывают из пучины их бород.
Мы обгоняли бы поводырей,
которыми слепцы, как глазом, видят,
и тех, кто из толпы напиться выйдет,
и чревом отягченных матерей.
Мне были бы мужчины как родня,
а женщины — как добрые подруги,
и стало бы все близким в этом круге,
и даже псы узнали бы меня.
И МНЕ ДАЙ, Боже, богомольем стать
идти к Тебе молитвенной толпой
и долею Тебе великой стать:
Ты — сад, и многотропный и живой.
Но одному идти мне что за стать?
Когда к Тебе не двинусь я толпой,
Кто будет знать о том? И кто Тобой
исполнится?
Часослов
181
Ведь будет смех чужой
звучать как прежде. Я же буду рад,
что я, невидим смеху, в дальний сад
иду один пустынною тропой.
ДНЕМ Ты наслышками одними
народу в уши шелестишь,
но бьют часы, и Ты — за ними
опять сомкнувшаяся тишь.
Чем день к вечерней мгле ведомей,
тем больше Божье бытие,
и дымом Царствие Твое
вздымается на каждом доме.
НА БОГОМОЛЬЕ утром. И покорно,
как бы с похмелья тяжкого, встает
восточный тощий, нищенский народ.
Едва заслыша благовест соборный,
они под ранним солнцем собрались.
Бородачи степенно бьют поклоны,
в чадрах или халатах душных жены
молчат, и тяжко и настороженно
из шуб детишки выползают сонно,
а снился им Ташкент или Тифлис.
К колодцам православный сей ислам
идет и тянет руки, как пиалы,
как если б в эти кроткие фиалы
лилась душа с водою пополам.
И пьют, лицо в пригоршню погружая,
а грудь рукою левой обнажая,
святую воду держат у груди,
как бы прохладный легкий лик в слезах,
заговоривший о земных скорбях.
А скорби тут. Они стоят кругом.
Глаза в них тускнут. И не знаешь — в ком.
Кто эти люди? Мужики иль слуги?
А может быть, расстриги-чернецы?
182
Райнер Мария Рильке
Иль, может, прогоревшие купцы,
иль искушенья ждущие ворюги,
иль девки, кратких радостей подруги,
что скорчились на корточках и в дуги
согнулись скорбно, иль в своем недуге
блуждающие, как в безумном круге,
юродивые и слепцы?
Все как цари они, в великой туте
пустили на ветер свои дворцы.
Как мудрецы, они созрели ныне,
избранники, взалкавшие пустыни,
где Божья тварь им пищею была,
отшельники, прошедшие по долам,
о ветер стукаясь лицом тяжелым
и в одиночестве глухом и голом
страшась тоски. Она была как кол им
и все же их чудесно вознесла.
Былые слуги будней и заботы,
вступившие и в крестный ход и в хор,
коленопреклоненные полеты
и те хоругви, что собор
в притворе прячет до Страстной субботы.
И ныне снова движутся с трудом.
Иные медленно глядят на дом,
где хворые ночуют богомольцы.
Вон инок выполз, бесами ведом,
с тенисто-синим испитым лицом.
Плетьми повисли волосы на нем,
а ряса завилась на теле в кольца.
Согнулся — как сломался пополам,
забился на земле двумя кусками.
Прилипла, словно вопль, земля кустам
и стала, будто бы он сам,
вытягиваться и махать руками.
Ушла падучая, его погладив
прохладною рукой по волосам.
И он вспорхнул, как будто крыльев чая,
и чувство легкости, его качая,
ввело во искушенье птичьей верой.
Часослов
183
Меж рук своих, и тощ и долговяз,
повис он, как Петрушка, кособоко,
и в силу крыльев верил он глубоко,
и в то, что мир уже который час
под ним разостлан, словно степь, широко.
Но недоверчиво косил он глаз:
куда же он попал? Над ним высоко
кручиною пучина собралась.
И в серебристой глуби вод седых
он рыбою резвился и вился
в кустах кораллов, возле звезд морских.
Вода русалке юной волоса
чесала, гребнем проплывая в них.
Он вышел на берег и стал жених
покойнице: все девушки должны
быть с кем-нибудь уже обручены,
когда выходят на поляны рая.
И вкруг нее, как хоровод ступая,
приплясывал он, руки заплетая
вокруг себя в такой же хоровод.
Прислушался: ужели тень чужая,
замыслившая в хоровод пуститься,
не веря пляске, ждет, и ждет, и ждет?
Он понял, что теперь пора склониться
пред Тем, Кто как венец и багряница
одел пророков некогда, и вот
у нас в руках Он, Тот, Кем нам кормиться,
из семени возросшая Пшеница.
Народ чредою с нивы возвратится,
как ладом песенным, с полей пойдет.
Чернец склонился низко, до земли,
но старец словно спал, и око
не замечало инока. В пыли
склонился он пред старцем так глубоко,
что дрожь и ужас тело сотрясли.
Но старец на монаха не взглянул.
Чернец себя за волосы рванул,
стал выколачивать себя, как плащ, о ствол.
Но старец даже бровью не повел.
184
Райнер Мария Рильке
Тогда, как меч берет палач с отрадой,
себя взял в руки яростный чернец,
рубил, рубил — изранил он ограды,
и в землю он вонзился наконец.
Но старец только глянул как слепец.
Содрал недужный рясу, как бересту,
и, старцу протянув, лицом поник.
И Он, как отроку, тогда сказал: — Возрос ты!
Но знаешь ли, кто Я? — Тот знал — и вмиг
у подбородка скрипкой лег, и просто
и кротко взял его рукой Старик.
ОТ БЛЕКЛЫХ астр легчайшей прелью тянет,
и барбарисом обагрился сад.
Кто за лето не сделался богат,
хозяином себе уже не станет.
Кому теперь не снится ни на миг,
уверенному, что видений стая
в нем восстает, покуда день не сник,
и ждет, в его потемках вырастая, —
тот миновал и прожит, как старик.
Все дни его — подарки нищеты.
Оболган всем он, что ему дано,
и Сам, о Господи, как жернов Ты,
его влекущий каждый день на дно.
НЕ БОЙСЯ, Боже! Говорят: мое! —
всем кротким страстотерпицам-вещам, —
то ветер гладит по ветвям, сказав:
— А вот мой клен!
И как сквозь сон
они почувствуют, рукою взяв
любой предмет, что так он раскален
по самые края, что обожжешься.
Все им свое. Вот точно так бы мог
иной спесивец княжеское имя
Часослов
185
по-свойски помянуть перед чужими,
когда сей князь велик., да и далек.
Им стены в доме кажутся своими,
а кто хозяин дому — невдомек.
Став у вещей, как у глухих хором,
они своим владеньем их зовут.
Так, верно, незамысловатый шут
своими называет дождь и гром.
Они зовут своими жизнь, жену,
дитя и пса, а знают, что в плену
их держат жизнь, жена, дитя и пес —
создания, которыми обнес
их мир, как стенами иль лесом диким.
Но ведомо про то одним великим,
взыскующим очей. А все иные
и слышать не хотят, что их кривые
блуждания не входят в связь вещей,
что их добро и гонит их взашей,
что их же презирает их именье,
что над женой не властно их владенье,
как над цветком, чья жизнь для всех чужда.
Тогда, о Боже, удержись и стой!
Молельщик, зря во мраке облик Твой
и теплясь сам у уст Твоих свечой,
познав Тебя, не властен над Тобой.
И если ночью кто Тебя зовет
и Ты его молитве предстаешь,
то от ворот,
как гость, опять уйдешь.
Неудержимо Свой Ты. Не дано
хозяина Твоей большой судьбе.
Ты зреешь, как сладимое вино,
которое принадлежит себе.
В ГЛУБИ ночей Тебя копаю, Клад.
Ведь все красоты нищенски пусты.
Они — не Ты, а только ложный лад
Твоей ненаступившей красоты.
186
Райнер Мария Рильке
Но путь к Тебе до ужаса далек
и заметён: ведь им давно не шли.
Ты — одиночество, Ты одинок,
как сердце где-то у долин вдали.
Копая, руки в кровь я рассадил
и нынче их по ветру распустил —
они ветвисты, как стоперстыи куст,
и пью Тебя я целой сотней уст,
как если б некогда, нетерпелив,
себя Ты раздробил в пространстве грозном,
а нынче, всей вселенною вспылив,
на землю пал горючим плачем звездным,
ее, как майским дождиком, полив.
КНИГА ТРЕТЬЯ
О НИЩЕТЕ И СМЕРТИ
(1903)
АВОСЬ по жилам гор тяжелых в скалы
пойду один рыдающей рудой
в такой глуби, что далей не видала,
что нет конца мне: все мне близким стало,
а близкое — гранит седой.
Я в горе — не мудрец: меня прижало,
как сущность жалкую, великой тьмой.
Но если это — Ты, стань всей рукой,
дабы на мне она, свершась, лежала,
а по Тебе мой вопль бежал рекой.
ТЫ ПРЕВЫШАЕШЬ горные вершины,
их гордые сажени и аршины.
Ты — вечный снежный звездопад лавины,
фиалок носишь полные долины,
их благовонием земным согрет.
Ты — всем горам и рот, и минарет,
где зов еще не прозвучал звездою.
В Тебе ль иду неведомой рудою,
которую никто не отыскал?
Я трещину Твою собой закрою,
188 Райнер Мария Рильке
благоговейно в ней себя зарою,
повсюду чувствуя твердыню скал.
Иль это я лишь страхом поражен,
бездонным страхом городов проклятых,
куда Тобой по горло погружен?
Поведай я Тебе про смрадный ад их,
про сумасбродных улиц вавилон,
поднялся бы Ты, Буря с Правремен,
и словно сор его повымел вон.
А как поведаю? Язык — засов,
и речи не хозяин я, и рано
мой рот закрыться хочет, словно рана,
и руки, как собаки без аркана,
к бокам прижались, не идя на зов.
Ты, Господи, послал из всех часов
тот час, когда и чуждо мне и странно.
ПОСТАВЬ меня, как камень слуха,
о Боже, к далям в сторожа,
где одиночествуешь глухо,
морями пенясь и дрожа.
Дай в ночь уйти — в звучанье духа,
чтоб крики не вонзались в ухо
со всех сторон острей ножа.
Пусти в пустой Твоей отчизне
бродить с ветрами до зари
в краях, где нежитые жизни
обряжены в монастыри.
Там к богомольцам я пристану,
такой же, как они, с лица,
и сзади старца и слепца
пойду я — не слуга обману —
дорогой тайной до конца.
Часослов
189
ТЫ ВЕСИ1, Боже, — города
разит уничтоженья кара.
Они бегут, как от пожара,
а вслед безжалостно и яро
течет пора их, как вода.
Живут в них люди тяжко и темно,
в глубоких комнатах, пугаясь взгляда,
как боязливое ягнячье стадо,
и вдалеке земли Твоей прохлада.
Но знать ее им больше не дано.
А у окошек вырастают дети
под той же самой тенью искони,
не зная, что живут цветы на свете,
где даль и ветер осчастливят дни.
И дети в грустном детстве — как в тени.
Там девушки цветут чего-то ради,
не перестав по детству тосковать,
но, видя, что не сбыться их отраде,
себя опять пытаются сковать
и прячут в тихих спаленках за полог
обманутые материнства дни.
Безвольный плач у них, как ночи, долог,
бессильны годы их и холодны.
В глубоком мраке одры смерти ждут их,
их медленно тоска туда ведет.
И умирают долго, будто в путах,
и нищенкой уходят от ворот.
ТАМ ЛЮДИ бледные живут томясь,
недужа тяжкой жизнью год от года,
и умирают, миру изумясь.
Ночной порой их хрупкая порода
отчаянный не замечает час,
когда улыбкой рот, как рот урода,
раскрыт в зиянье масок и гримас.
1 Ты веси — ты ведаешь (слав).
190
Райнер Мария Рильке
Служа вещам бессмысленным за двух,
бесславно и покорно лямку тянут,
одежды на плечах исчахших вянут,
и руки превращаются в старух.
Толпа теснит нещадно их, как в драке,
хоть сил у них сопротивляться нет.
И разве что бездомные собаки
плетутся сбоку или им вослед.
Мучителей стоят над ними сотни,
кричит на них ударом каждый час.
И днями у больничной подворотни
толкутся, дня приемного страшась.
Там — смерть. Не та, что гладит и жалеет
и нежит их в младенчестве больном,
а крошка-смерть, забравшаяся в дом.
Своя же смерть висит и зеленеет
у них внутри незреющим плодом.
ЛЮБОМУ, Боже, смерть его пошли
той самой жизнью умирать, когда
в нем горе, разум и любовь прошли!
ВЕДЬ МЫ — одна листва да кожура,
а смерть великая есть плод нутра,
и в нас он — долгожданная нужда.
Его лишь ради девушка встает
из арфы деревом, его лишь ради
мужает мальчик, женщина берет
девичьи страхи на себя, что клади.
Его лишь ради вечным предстает
все то, что жило некогда во взгляде,
и остается вечностью, а тот,
кто строил и ваял, в своей ограде
самовселенской держит плод, и, гладя
его, — как ветер, солнце он и лед.
В него вошла вся теплота густая,
Часослов
191
ума и сердца жар, как жар звезды.
Но ангелов Твоих примчалась стая*
когда еще не вызрели плоды.
О ГОСПОДИ! Мы жальче жалких тварей,
зане у них слепая смерть зверей.
А мы, мы неподвластны даже ей.
Пошли нам смерть-разумницу скорей,
чтоб жизнь она в цветах весенней яри
пораньше заплела нам из ветвей.
Лишь оттого и трудно умирать,
что нас не наша смерть идет прибрать.
Коль смерть свою не делаем мы зрелой,
другая мчит как вихорь озверелый.
В саду Твоем стоим из года в год,
деревьями себя в нем водружая,
но осень к нам приходит как чужая.
Как жены-пустоцветы, не рожая,
мы не приносим сладкой смерти плод.
Ужель в моей гордыне я неправ
и лучше нас деревья? Мы же, став
лишь чревом женским, женам подражаем?
Мы с вечностию сотворили блуд
и нашей смерти выкидыш рожаем,
когда нас родовые схватки рвут, —
печальный, горько скрюченный зародыш,
закрывший ручками глаза-зачатки,
как будто бы бежит он без оглядки,
лбом упершись в ненаступивший ужас,
и оттого в нем замирает дух.
И все кончают, мучаясь и тужась,
сеченьем кесаревых потаскух.
ХОТЬ ОДНОГО, Владыко, возвеличь,
дай жизни лоно дивное постичь
и, как врата, его воздвигни срам
в лесу русоволосом, воспаленном,
192
Райнер Мария Рильке
пред несказанный строй центурионом
поставь его Ты к белым легионам,
к бессчетным копьеносным семенам.
И ночь пошли, дабы он стал чреватым,
когда он небывалое зачнет;
ту ночь, когда, ветрам твоим крылатым
представ ликующим Иосафатом,
любая вещь, как ворота к палатам,
сирени запах распахнет.
Поставь его, как яблоню в саду,
вынашивать и долго и широко
и сделай одиноким, как звезду,
чтоб у зевак он не был на виду,
когда дождется радостного срока.
Корми его не мясом от ловитвы,
но яство мирное росой полей!
Насыти жизнью тихой, как молитвы,
как теплый вздох, идущий от полей.
Пошли ему, великий Исполин,
все неразумие и дали детства,
верни ему туманное наследство,
предчувствие и чудо малолетства
в дремучем царстве сказок и былин.
И часа ожидать ему вели.
И разродится смертию-владыкой
один и сам, гудя, как сад великий,
Тобою собранный вдали.
ДАЙ ЗНАМЕНЬЮ последнему свершиться,
яви Свое величье временам
и после мук жены и роженицы
дай истинное материнство нам.
Ты — Тот, Кто за чудесное берется, —
не Богородицын исполни сон,
но нас направь в объятья Смертеродца
руками тех, кто будет с ним бороться,
Часослов
193
томить и гнать его сквозь строй времен.
Я вижу: суждено ему явиться
пред ложью супостатов записных, —
в стране, где смех на торжищах толпится,
где хохот времени возобновится,
воскреснет он под именем сновидца.
Ведь тот, кому средь винопийц не спится,
всегда сновидцем будет для хмельных.
А Ты в персты возьми его за это,
как семя славы Божией посей,
меня ж пошли встречать кивот Завета,
плясать пред ним, как псалмопевец света,
и быть предтечей мессиаде сей.
ХВАЛЯ его кимвалом и тимпаном,
пойду вперед, опережая рать.
Кровь загремит великим океаном,
а слово станет сладостно-желанным,
но, как вино, не будет охмелять.
Останутся вокруг моей постели
немногие, когда придет мне срок
цвести в ночах игрой моей свирели
тихонько, как на севере апрели,
трепещущие за любой листок
Ведь голос мой рос надвое, и стали —
один как запах, а другой — как крик
один взывает к Дальнему из дали,
другой же иночеству и печали —
блаженный ангел и незримый лик
* * *
И дай, чтобы меня сопровождали
те оба голоса, когда опять
на ужасах и городах распять
меня задумаешь, дай, чтобы ждали
Тебя те голоса и призывали,
как тихая певучая кровать.
194
Райнер Мария Рильке
БОЛЬШИЕ города — неправда волчья,
обман детей, зверей, ночей и дней.
И громогласно лгут они, и молча —
всем скопищем угодливых вещей.
Но из того, что вкруг Тебя творится,
Творящийся, в них нету ничего.
Зайдет Твой ветер в улицы к столице,
и улицы тотчас начнут кружиться.
Звенит и вертится их вереница,
как бы от ветра своего.
И ходят в парки, чтобы позабыться.
ВЕДЬ ЕСТЬ сады — их создали цари,
в них мимоходом с дамами забавясь,
чей юный смех звучал и зрел, как завязь,
в цветы запрятавшийся до зари.
Изнемогали парки от ночей,
и шепот шел в кустах зефиров глуше,
они сияли, в бархате и плюше,
и на заре их шелковые рюши
журчали по дорожкам, как ручей.
И все сады по следу их аллей
идут украдкой, робко сплетены
с напевом светлых гамм чужой весны,
и ржавчиною догорают кротко
на угольях у осени короткой,
на медленном огне. И вязью четкой —
подобьем хитроумных вензелей —
огромных сучьев черная решетка
стоит, прикована к камням стены.
И сквозь сады дворец, глаза смежив,
слепит, вздымаясь небом обветшалым,
вдали пиров, забыв о том, что жив,
спит на ходу, бродя по тяжким залам,
и, наклоняясь к статуям усталым,
как гость, и молчалив и терпелив.
Часослов
195
НО ЕСТЬ дворцы, спесивы, словно павы,
а голосом — совсем как пугачи.
Живут, как птицы-цацы, величаво,
богатством ищут почестей и славы,
но не богаты богачи.
Не так, как кочевых племен владыки,
тех, что, как зори в серых тучах, дики,
в степях валили и по междуречьям,
киша дремотным мреяньем1 овечьим.
Когда же, новой ночью начиная
ночлег и сон, пастуший шел дозор,
то мнилось, что в стране душа иная
вставала медленно во весь простор:
верблюдов гряды, степи обступая,
темнели вкруг горбами гордых гор.
И запах стад тянулся, как следы,
на десять дней отставши от орды.
Не утихал ни в жар, ни на ветру.
И как вино на свадебном пиру
всю ночь не устает по чашам литься,
так молоко струили их ослицы.
Не как те шейхи, что в шатре унылом
покоились на ложе из овчины,
зато своим любимицам-кобылам
любили гривы убирать в рубины.
И не как те князья, кому не жаль
бывало заплатить за аромат
безвонным золотом, кому стократ
милее были амбра и миндаль.
Не как царь-государь и полубог,
пред кем холопски люди гнули спины,
а он на каменные плиты ног
склонял кручинившиеся седины
и плакался, что даже час единый
в земном раю своим назвать не мог.
1 Мреянгзв — от мреять — мельтешить, маячить, мерцать.
196
Райнер Мария Рильке
Не как ганзейский благостный патриций,
который жаждал, чтоб его портрет
и лик и явь превосходил сторицей
и жил на памяти у долгих лет,
завернут в город, словно в плащ златой,
старинной грамотой, а сам седой,
с висками блеклыми и белолицый.
Те богачи томили жизнь в палатах,
а жили на скаку и на лету,
но миновали времена богатых,
и кто же будет ожидать возврат их,
когда вернешь ты бедным нищету?
НЕТ, НЕ БЕДНЫ они, а небогаты
и мира и желаний лишены,
на них клеймо и страха и утраты,
они ободраны, оголены.
И уличная пыль на них насела,
их окружают стоки нечистот,
молва чумой их окрестить успела,
и их вышвыривают то и дело,
как вещи, прожитые до предела,
или как численник за прошлый год.
Но если бы земле нужда приспела,
она бы их на лестовку1 надела
и на руке носила от невзгод.
Чисты, как голыши у водопада,
доверчивее, чем зверек слепой,
они Твои, лишь Ты им и отрада,
и в жизни только одного им надо:
вовек не расставаться с нищетой.
ВВДЬ НИЩЕТА — великий свет нутра.
1 Лестовка — кожаные четки.
Часослов
197
ТЫ — БЕДНЫЙ, нищетою пораженный,
Ты — камень тот, что места не найдет,
Отверженный и жалкий прокаженный,
стучащий колотушкой у ворот.
Живешь, ничем, как ветер, не владея,
едва прикрыла слава наготу.
Она еще дырявей и скупее,
чем затрапез, одевший сироту.
Бессилен Ты и голову повесил,
как тайный во девичьем чреве плод,
и судорожными тисками чресел
она ему дыханья не дает.
И беден Ты, как дождь весенний, сирый,
блаженно с неба падающий ниц,
един и беден, как тоска по миру
из вечных камер каменных темниц.
И беден Ты и счастлив, как больной,
что поудобней повернулся на бок,
бедней цветов, возросших у канавок,
когда по ним гуляет вихрь шальной,
бедней, чем мокрая от слез ладонь...
Что пред Тобой утраты и потери
и птицы, изнемогшие в пути,
и пес голодный, воющий у двери,
и тихие тоскующие звери,
которых позабыли взаперти?
И что ночлежки, нищие ночные
перед Твоею нищетой, Господь?
Не мельницы, а жерновки ручные —
и все же могут хлеба намолоть.
А Ты, лицо рукою закрывая,
из нищих нищий и совсем ничей,
Ты — роза бедности святая,
Ты — россыпь пыли золотая
в сиянье солнечных лучей.
198
Райнер Мария Рильке
От века родины не зная,
Ты в мире больше не бывал.
Иначе бы вставал Ты валом,
Ты воешь бурей и звучишь кимвалом,
и рушит всех играющих кимвал.
ТЫ — ВЕДАТЕЛЬ, чье веденье богато
великим изобильем нищеты.
Так не суди же бедным никогда Ты
унынья, ропота и суеты.
Другие — словно выдраны и смяты,
а эти — как заморские цветы:
восходят из корней, и словно мята
их листья и душисты, и чисты.
ВЗГЛЯНИ на них. Растут они так странно,
и весь их труд как будто на ветру,
как в кулаке их отдых ввечеру,
а взгляд торжественный темнеет рано
и празднично, как ясная поляна,
где летний дождь пробрызнет поутру.
ОНИ ГЛЯДЯТ, как вещи, безответно.
А если в гости их позвать, они
сидят по-дружески и неприметно,
робеют каждой мелочи и тщетно,
как утварь, укрываются в тени.
Стоят они у тихого притина
на страже им неведомой казны.
Пучина их качает, как челны.
Они разостланы, как на лугу холстина
открытой чистоты и белизны.
ВОТ КАК, о Боже, жизнь их ног бежит:
переплетясь с путями и тропами
Часослов
199
тесней звериной жизни. Держит память
робеющая камень, снег и заметь
и над лужайкой молодой дрожит.
Есть доля в них великой скорби с болью,
той, что бывает просто горем нам.
Судьба идег к ним с острой снежной солью
и с нежным духом трав по заоколью.
К шипам камней и к ветру, как к дреколью,
они привыкли так же, как к приволью,
в Твоих очах бродя, как по раздолью
и как персты по горестным струнам.
ИХ РУКИ смотрят, как у женщин лица,
как будто знают материнства труд;
хлопочут, как у гнезд щебечут птицы,
пожатье их доверчивое длится,
и точно чашку в руки их берут.
ИХ РОТ немеет, как уста у статуй,
бесстрастный, бездыханный и горбатый,
и все же из своих далеких лет
вобрал в себя он мудрость долгих бед.
Но тщетен он, всеведец-соглядатай, —
он лишь подобье, камень и предмет.
А ГОЛОС их из дали входит в дом,
откуда он ушел, и через силу
бродил и бродит в дебрях день за днем.
Во сне он внял пророку Даниилу,
он море зрил и говорит о нем.
А ЕСЛИ спят, их словно возвращают
тому, что отдавало их взаем.
Как хлеб в голодный год, они всем горем
по крохам розданы ночам и зорям
200
Райнер Мария Рильке
и плодородье мрака насыщают,
упав на целину его дождем.
Нет и пыльцы от имени на теле,
которое готово стать ростком
и теплится, как семечко в постели,
как семя в вечном семени Твоем.
ГЛЯДИ ЖЕ, Господи мой, как у них
ручьем чудесным протекает тело,
оно живет, как вечный праздник дела,
оно родник лежачий и жених.
И сладкая им слабость овладела,
как будто в нем вся робость жен земных.
Но род его могуч, как змей, и смело
в долину срама входит в снах ночных.
ПОЙМИ: плодиться им и размножаться,
их никакое время не возьмет.
Как ягоды к листам, они ложатся,
на землю изливая алый мед.
Блаженны те, что не ходили в дали
и не знавали кровли в дождь и град.
Пожнут они и то, чего не ждали,
умножится и плод их во сто крат.
Переживут они любые сроки,
держав и царств пустые времена.
Как руки после отдыха, широки
поднимутся, когда, уже беспроки,
опустят руки племена.
ВОЗЬМИ ЖЕ их из городов греха,
где гнев смятенный терпеливцев ранит,
где суматоха дней и шелуха,
где жизнь их вянет, как листок, суха.
Часослов
201
Иль несть им боле места на земли?
Кому же — ветра и ручья дорога?
Иль даже в снах прибрежных не нашли
озера им ни двери, ни порога.
И места-то им надо так немного —
как дереву, — чтобы они цвели.
ДОМ БЕДНЯКА — как чудо в алтаре.
Там Вечное становится ядомым,
а ввечеру опять бывает домом,
огромным кругом, внутрь себя ведомым,
оно идет, как эхо по заре.
Дом бедняка — как чудо в алтаре.
Дом бедняка — как детская рука.
Что нужно взрослым, ей того не надо.
Жучок усатый, веточка из сада,
голышик из ручья, песка прохлада,
певуньи-раковинки — ей услада.
И как весам на коромысле взгляда,
ей с грузом нету никакого слада,
когда пушинка тяжелее клада,
а чашка с ней касается, легка.
Дом бедняка — как детская рука.
Дом бедняка — как теплая земля.
Он будущего хрусталя крупица.
В ее паденье свет и тьма толпится.
Теплом убогим он в хлеву ютится,
а иногда вселенной взгромоздится,
весь вечер сыпля звездами в поля.
А ГОРОДА несутся самочинно,
у них на всех и вся свои права:
они зверей щепают, как лучину,
они народы рубят на дрова.
202
Райнер Мария Рильке
Живут их люди в просвещенном духе,
пустив и меру и устой на слом.
Успехи их раздулись, словно слухи,
и скачут там, где ползали на брюхе.
Как слуги, как блистательные шлюхи,
гремят они металлом и стеклом.
Им каждый день мир страшен, как миражи,
и быть собой им больше не дано,
и деньги, как великий ветер вражий,
их валят с ног. Они уже давно
изведены и ждут, чтобы вино
и даже яд телесный в скотском раже
гоняли их от купли до продажи.
И СКОЛЬКО их, Твоих страдальцев нищих,
увиденным налиты, как свинцом!
На улицу прогнали из жилищ их,
и там, как на горячечных кладбищах,
блуждает каждый чуждым мертвецом.
Плевки на них налипли, как на гнили,
их прогоняют окрики бичей,
чтоб встречами они не осквернили
сиянья шлюх, карет и фонарей.
Сыщи уста, чтоб их оборонили,
и, как врата, воздвигни их скорей.
ГДЕ Ж ОН, великой нищеты творец,
осиливший и времена и блага?
На торге сняв одежды, стал он наго
и гол пошел в епископский дворец.
Где тот, кто жив, как юный год, невинный,
где, самый задушевный и родной,
тот смуглый инок, братец соловьиный,
кто изумленно был влюблен в долины
и умилен землей и тишиной?
Часослов
203
В него усталость не могла пробраться,
он радости неутолимо брал,
и цветики ему бывали братцы,
с которыми он на лугу играл.
Он говорил им, что неутомима
в нем милость всем увеселять сердца.
Не проходила даже малость мимо,
и сердцу брата не было конца.
Из света шел он к свету во глубины,
и в келье было у него светло.
Как детство, зрели на лице судьбины,
в улыбке отрочески голубиной
лицо его до девства доросло.
А в песнях он гулял, как в рощах пестрых,
само былое возвращалось в них,
и тишь смиренно поселялась в гнездах,
и лишь сердца кричали в кротких сестрах,
которых он касался как жених.
От непорочного зачали лозы
душой своей во плоти и крови.
Глаза у них закрылись, словно розы,
и в волосах настала ночь любви.
Его прияли малость и величье,
и к тварям херувимы снизошли
сказать, явясь во бабочек обличье,
что зачали звериное и птичье,
и вещи, точно плоть девичья,
его познавши, понесли.
Когда ж он умер, то, как в колыбели,
был безымянен. Семя потекло
в ручьях, деревья от него запели.
Оно в росе, прозрачной как стекло,
над ним цветком вставало и росло.
Он пел и мертвый. Сестры же скорбели
над милым мужем тяжко и светло.
204
Райнер Мария Рильке
ГДЕ Ж отзвучал он с нежностью дочерней?
Зачем не чаются несчастной черни
вдали его, ликовника, черты?
Что ж не взойдет он к ней во мрак вечерний
звездой великой нищеты?
i
a
4L· «Книги картин»
с
ш
С
КНИГА ПЕРВАЯ
Часть первая
ВСТУПЛЕНИЕ
Кто ты ни есть: под вечер выходи
из дома, где ты всё сумел учесть;
твой дом — лишь край, а даль вся впереди:
кто ты ни есть.
И подними усталый взор свой в явь,
от стёртого порога к небесам,
и чёрным деревом себя представь,
таким же одиноким, как ты сам.
Ты мир воспроизвёл. И он велик,
и он как слово в недрах немоты.
Каким весь этот мир познаешь ты,
таким отпустишь нежно — в некий миг...
В АПРЕЛЕ
Лесом запахло опять.
И жаворонки в выси уносят
небо, которое так надавило нам тело.
Виднелся, правда, сквозь сучья день опустелый...
208
Райнер Мария Рильке
Но после долгих, как ливни, полудней,
золотясь, пробегают по саду
солнечные минуты,
от которых спасаются вдоль по фасаду,
как раны, разомкнуты
окна и крыльями бьют в испуге.
Потом всё стихнет. Даже дождь ходит тише
по темнеющему отливу мостовой.
Ежатся шумы, уходят они с головой
в блесткие почки, как под крыши.
ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ
К ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЮ ГАНСА ТОМА1
Лунная ночь
Немецкий юг, полуночь, полнолунье,
оживших сказок тающий обман.
Секунды с башен падают в туман —
в глубины ночи, словно в океан, —
дозора зов, деревьев многострунье,
и только миг один молчанью дан;
и молвит скрипка из безвестных стран
о ней, о белокурой, о колдунье...
Рыцарь
Рыцарь, закованный в черную сталь,
скачет в ревущем кругу.
Вся жизнь — карусель: и день, и даль,
и друг, и враг, и пир, и печаль,
любовь, и лето, и лес, и Грааль,
и каждая улица — Божья скрижаль,
сам Бог — на каждом шагу.
Кого же панцирь черный неволит,
гнетет кольчуга стальная? —
Там смерть томится, и молит, и молит,
чужой клинок заклиная:
Ганс Тома (1839—1924) — художник и график.
Из «Книги Картин»
209
— Взвейся! Ты должен взвиться!
Ударь, чтоб сталь зазвенела!
Чтоб рухнула эта темница,
где я так устала
томить согбенное тело, —
чтоб я смогла распрямиться,
плясала
и пела.
О ДЕВУШКАХ
I
Пусть другие на долгих дорогах
поэтов неведомых ждут;
всюду ищут безлюдный приют,
где их юные лютни поют
об истомах и темных тревогах.
Но девушкам счастье дано
не искать — только смех их задорно
журчит, как жемчужные зерна
над серебряной чашей. И знай:
от них открывается каждая дверца
в сердце поэта,
как в сказочный край.
И
Девушки, ваш трепет ожиданья
лишь дано поэту разгадать
и вложить в звучанья и в сказанья: —
так, в глубинах звездного сиянья,
мы привыкли вечность созерцать.
Но уста к поэту не склоняйте —
к молодым восторженным устам, —
если даже ласк он молит сам,
потому что в ночь, не забывайте,
снятся только девушки мечтам.
210
Райнер Мария Рильке
Пусть в саду он бродит, одинокий,
и, как вечных, в сердце вас хранит: —
у воды, где шепчутся осоки,
там, где вспыхнут медленные строки,
там, где лютня в комнате висит.
Сумерки. Задумчивые очи
вас не ищут в обликах земных;
он шагает в комнатах пустых
в полусне глубоких средоточий,
или там, в аллеях, он затих.
Голос ваш доносится невольно
с площадей, где свет дневной угас,
и ему так горестно, так больно,
что увидеть каждый может вас.
ПЕСНЯ СТАТУИ
Найдется ль из любящих кто-нибудь,
кто жизнь мне готов подарить?
Согласен ли в море он утонуть
и тем мне, каменной, жизнь вернуть,
чтобы снова мне, снова жить?
Мила мне крови горячей волна,
а камень так тих.
И снится мне жизнь, потому что она,
как чаша, полна,
и снится отважный жених.
И если бы жизни той благодать
мне кто-нибудь подарил, —
я стану опять
о камне, о камне своем тосковать,
и кровь моя будет напрасно взывать,
она не сможет у моря отнять
того, кто меня любил.
Из «Книги Картин»
211
БЕЗУМИЕ
Всё-то шепчет она: — Да я... Да я...
— Кто же ты, Мари, скажи!
— Королева твоя! Королева твоя!
Припади к ногам госпожи!
Всё-то плачет она: — Я была... Я была...
— Кем ты, Мари, была?
— Побирушкой была, без угла, без тепла.
Кабы я рассказать могла!
— Как же может Мари, дитя нищеты,
Королевою гордой быть?..
— Вещи — все не те, вещи — не просты,
если милостыню просить.
— Значит, вещи дали тебе венец?
Но когда?.. Мари, объясни!
— Ночью. Ночью... Лишь ночь придет
наконец,
по-иному звучат они.
Я узнала, что улица до зари —
всё равно что скрипки струна...
Стала музыкой, музыкой стала Мари,
и пустилась плясать она.
Люди шли, как нищие, стороной,
боязливо к домам лепясь...
Королеве одной, королеве одной
в пляс идти дозволено, в пляс!
ЛЮБЯЩАЯ
По тебе тоскую. Выпадаю,
как утрата, из своих же рук,
не надеясь, что я совладаю
с тем, чему нет ни конца ни краю,
будто ты и только ты вокруг.
Прежде чем-то я была, когда мне
так жилось — не клича, не крича, —
замкнутой на ключ и тише камня
под бормочущей струей ключа.
212
Райнер Мария Рильке
А теперь, весною, чья-то сила
медленно от года отломила,
будто бы от темного ствола,
всю меня, с минуты до минуты,
и вручила жизнь мою кому-то,
кто не спросит, чем же я была.
НЕВЕСТА
Зови меня, милый, кличь сильней!
Горько твоей нареченной стоять у окна.
На платанах лежит тишина,
вечер дремлет давно,
и темно.
Увы, тебя нет, и мой дом во сне,
не сбудется, что нагадалось,
и с собою наедине садам и луне,
видно, выплакать горе мне
осталось...
ТИШИНА
Слышишь, любимая, руки тяну я —
слышишь: шепчущий звук...
Или каждый жест одиноких, ревнуя,
вещи слышат вокруг?
Слышишь, любимая, глаза опускаю,
и тянется шелест к тебе, как след.
Слышишь, любимая, — поднимаю...
... но почему тебя нет.
Вздрог самых неуловимых движений
замечает шёлк тишины;
наималейшие из волнений
на занавесе дали видны.
Звёзды поднимает и опускает почти без усилья,
грудь моя.
Аромат упоенья у губ моих, или
издали меня осенили
ангельские воскрылья.
И не верю лишь я,
что вижу тебя.
Из «Книги Картин»
213
АНГЕЛЫ
Они — с усталыми устами,
застыли в начатом стихе,
и в их мечты вплелась с веками
тоска — как будто о грехе.
Их лица — схожих ряд овалов,
и все молчанья их равны,
как много-много интервалов
в великой песне вышины.
Но чуть взмахнут они крылами —
пройдет воздушная струя,
как будто Бог в замолкшем храме
провел творящими руками
по темной книге бытия.
АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
Ты птица, что крыла свои склоняла,
когда, проснувшись, я в ночи кричал.
Кричал руками имя, что зияло,
как в тысячу пустых ночей провал.
Ты тень, где я невозмутимо спал,
ты семя, что во мне сны зарождало, —
ты лик, я рама, та, что выделяла
тебя в рельефе, где ты воссиял.
Как назову тебя? Язык не знает.
О, ты начало в торжестве лучей,
а я аминь, что робко затихает
и гаснет перед красотой твоей.
Ты сам от тёмных снов меня спасаешь,
куда я как в могилу погружён,
где всё, что потерял, чем обделён, —
и ты из мрака сердца вырываешь
и на вершину башни водружаешь,
где я как яркий флаг и светлый фон.
Ты: чудо и познанье совмещаешь,
в мелодиях и людях твой закон,
и в розах: о событьях не гадаешь:
214
Райнер Мария Рильке
их бег в твоих очах запёчатлён, —
ты счастлив, если называешь: Он,
с седьмым, последним днём себя связуя,
чей блеск на крыльях у тебя, волнуя,
ещё лежит...
Велишь: о нём спрошу я?
СВЯТАЯ1
Народ страдал, всех засуха косила;
она же у камней воды просила,
дабы спасти от гибели народ.
Увы, лоза ей знак не подавала,
и шла она, ходьбой утомлена,
и мальчика больного вспоминала
(он ей в глаза смотрел, когда устало
ни с чем под вечер мимо шла она).
И прут тогда откликнулся на зов — и,
как зверь, что жаждет, впился в руку ей
и сразу же расцвел от красной крови,
и кровь в земле шумела, как ручей.
ДЕТСТВО
О, время школы и всечасный страх,
с томлением и смутными вещами.
О, одинокость долгими часами...
А после — улицы с их голосами,
фонтанов переплеск над площадями,
и мир широк, как никогда, в садах,
и ты идёшь в коротеньких штанах,
и не такой, как все, в толпе и гаме: —
Ах, одиночество, о, длись часами,
как в чудных снах.
1 Речь о святой Женевьеве (Геновефе), покровительнице Парижа; упомин;;
ется в «Записках Мальте Лауридса Бригге».
Из «Книги Картин»
215
На женщин и мужчин, как на картины:
глядеть: мужчины, женщины, мужчины
и дети — как несхожесть их видна;
дом и собака; гонка допоздна;
доверье, ужас, морок чертовщины,
о, сны, о, грусть, о, страхи без причины,
о, глубь без дна.
Играть в кольцо и мяч, а надоело,
гонять в саду, где лист уже поблёк,
на взрослых натыкаться то и дело,
когда бежишь вдогон иль наутёк
Но — вечер, и бредёшь ты оробело,
домой, и под собой не чуешь ног:
о, жизнь, ты стать понятной не хотела: —
страх и попрёк.
О, парусный кораблик — с ним немало
возился у пруда; а иногда,
как сон, эскадра кораблей вплывала,
и шелестела у бортов вода,
и, маленький и бледный лик, бывало,
вдруг представал из глубины пруда:
О детство, ты уплыло от причала.
Куда? Куда?
ИЗ ДЕТСТВА
Роскошествовал сумрак в доме,
забившись в угол, мальчик не дышал;
когда мать в комнату вошла, как в дреме,
стакан в посуднике задребезжал.
И, выданная комнатой, она
поцеловала мальчика: «Ты здесь?» —
И на рояль взглянули, и, как весть,
обоим песня вспомнилась одна,
что мальчика томила и влекла.
Он ждал; глаза тянулись из угла
к рукам, что от колец отяжелели,
и, как бредут наперерез метели,
она по белым клавишам брела.
216
Райнер Мария Рильке
МАЛЬЧИК
О, быть бы мне таким же, как они!
Их кони мчат, безумны и строптивы,
и на ветру вздымаются, как гривы,
простоволосых факелов огни.
Я первым был бы, словно вождь в ладье,
как знамя, необъятен и весом,
весь черный, но в забрале золотом,
мерцающем тревожно. А за мной
десяток порожденных той же тьмой.
И так же беспокойно блещут шлемы,
почти прозрачны, замкнуты и немы.
А рядом — вестник с громкою трубою,
которая блистает, и поет,
и в черное безмолвие зовет,
и мы несемся бурною мечтою;
дома за нами пали на колени;
предчувствуя со страхом нашу мощь,
проулки гнутся, зыбясь, точно тени,
и кони хлещут землю, словно дождь.
ВЕЧЕРЯ
Они стоят, встревоженная стая,
вокруг него, кто всё уже решил,
осиротевших спутников бросая,
кому отдал он всуе столько сил.
Ну что ж, к деяньям прежним он опять
вернется, к одиночеству привычный,
пойдет, как прежде, через сад масличный,
его полюбят, прежде чем предать.
Последний ужин и канун напасти:
как выстрел — птиц от корабельной снасти,
так тихим словом он вспугнул их пясти,
хлеб облепившие со всех сторон;
потом они, вспорхнув в последний раз,
искали выход, оробев. Но он
повсюду был, как сумеречный час.
Из «Книги Картин»
217
Часть вторая
ИНИЦИАЛЫ
Из печалей деянья взлетают,
как фонтанные тихие струи,
и тут же, дрожа, сникают.
А те, что без следа пропадают,
наши радостные силы — сияют,
как эти слёзы, танцуя.
НА СОН ГРЯДУЩИЙ
Хотел бы под бормотанье
с кем-то всю ночь проводить.
Хотел бы тебя, как няня,
укладывать спать и будить.
Хотел бы я знать лишь один о том,
как холодно по ночам.
Хотел бы прислушиваться тайком
к тебе, и мирам, и лесам.
Часы всю ночь говорят с собой,
бьют каждые полчаса.
Во дворике человек чужой
тревожит чужого пса.
И снова всё тихо. И я сторожу
твой сон всю ночь напролет;
и только на миг глаза отвожу —
если мышь в темноте прошмыгнет.
ЛЮДИ НОЧЬЮ
Не для толпы сотворяются ночи, о нет.
Ночью все одиноки: ты и сосед,
и ты от него отлучен.
И если при лампе вглядишься в черты
собеседника, — должен увериться ты,
что он — это он.
Как ужасно свет искажает людей,
струясь и стекая с лиц;
218
Райнер Мария Рильке
и если ночью усядутся люди тесней,
ты видишь зыбкий мир из теней
и размытых границ.
Желтые пятна лбов, где давно
проблеск мысли зачах,
и плещется в глазах вино,
и виснут на руках
тяжелые жесты, как суть
беседы ночной;
и если я говорит кто-нибудь,
тонауме:д/тугой.
СОСЕД
Скрипка чужая, что ходишь за мной по пятам?
В скольких городах здесь и там
шепталась твоя одинокая ночь с моей?
Один или сто у тебя скрипачей?
Или во всех больших городах,
без тебя, судьбину кляня,
бросятся в реку в сердцах?
Что тебе надобно от меня?
Почему сосед — я, и за стенкой моею
просят петь тебя песни эти
и говорить, что жизнь тяжелее,
чем весят все вещи на свете?
PONT DU CARROUSEL1
Как царств безвестных камень межевой,
слепец седеет на мосту. Возможно,
что встал он вечной вещью, непреложно,
как центр созвездий, тихий, но живой.
Вокруг него вершится звездный час,
в безумстве мчась и в роскоши мечась.
1 Мост в Париже.
Из «Книги Картин»
219
Он, неподвижный праведник, на годы
поставлен на кривых путях, и вот
он темен, как в Аид подземный вход
среди людей поверхностной породы.
ОДИНОКИЙ
Как будто наскитавшийся моряк,
хожу я в гости к вечным домоседам.
Дни стали на столе у них обедом,
а мне чужбина стала тайный знак.
Какой-то мир проник ко мне во взгляд.
Быть может, он безлюднее луны.
Они ж выстраивают чувства в ряд,
и все слова у них заселены.
Те вещи, что я взял с собой сюда, —
как взаперти, не выглянут из двери.
В своем краю они — живые звери,
а здесь дохнуть боятся от стыда.
ПОСЛЕДНИЙ
Отчего дома у меня нет,
и своим не разжился;
я в мир из материнского лона на свет
явился.
И теперь я в мире стою и иду
в мир, как он ни глубок,
и несу свое счастье, свою беду,
и всегда одинок.
Не сижу, по наследству горюя.
На трех ветвях мой род процветал,
в семи замках, в лесах,
но герб родовой устал
и чересчур одрях;
и всё, что прибавил не всуе
к старым богатствам, не укоренить ни на чем.
В своих руках и в себе самом
носить мне, пока не помру я.
220
Райнер Мария Рильке
И что ни поставлю, когда тяготит,
в мире, вовне,
падает, не
устояв, потому что стоит
как на волне.
СТРАШНО
Над голым лесом птица голосит,
как полоумная над голым лесом.
Так безутешно птица голосит,
и крик над временем висит,
сплошной, как небеса над голым лесом.
Всё поникает перед ним:
округа цепенеет безъязыко,
не дышит ветер, на реке ни блика,
минута на ходу оглушена,
бледным-бледна, как от недоброй вести,
что всех погибель ждет на месте,
кто вырвется из крика.
ПЛАЧ
Ах, всё и навсегда
давно прошло, я знаю...
И знаю, что звезда,
чей блеск воспринимаю,
мертва, сгорев давным-давно дотла.
И в лодке, что плыла
навстречу мне,
о чем-то страшном говорили.
И в доме, в тишине,
часы пробили...
А дом — он чей?
Хочу из сердца вырваться скорей
и под огромным небом очутиться.
И молиться.
И среди всех звезд
должна быть еще одна.
Я знаю, верю:
она
вживую свой свет струит
и как белый город стоит
на небе — в конце луча...
Из «Книги Картин»
221
ОДИНОЧЕСТВО
Да, одиночество — как дождь. И в горе
навстречу вечерам идет из моря:
с долиной распростясь на косогоре,
уходит в небо, где живет всегда.
И лишь оттуда льется в города,
как некая дождливая морока.
Измокли переулки, в утро выйдя,
когда тела, лежащие беспроко,
к стене отодвигаются в обиде,
когда они, друг друга ненавидя,
в постели вместе полегли навеки.
Тогда одиночество течет, как реки.
ОСЕННИЙ ДЕНЬ
Да завершится летний зной — пора.
Всевышний, брось густую тень на гномон,
в замолкший гомон пашен кинь ветра.
Плодам последним подари тепло
календ осенних, солнечных, отрадных,
и сделай сладость гроздий виноградных
вином, что так темно и тяжело.
Бездомному — уже не строить дом,
покинутому — счастья ждать не надо;
ему осталась горькая услада:
писать посланья, и в саду пустом
бродить, и ждать начала листопада.
ВОСПОМИНАНИЕ
Ты ждешь, ожидаешь чего-то,
что встанет яснее вершин;
свободы от долгого гнета,
камней вдохновенного лёта,
озаренья глубин.
222
Райнер Мария Рильке
Сквозь вечер, на полках туманных,
знакомые томы стоят;
ты вспомнишь о пройденных странах,
о женщинах, смутно желанных,
о ранах прошедших утрат;
и вдруг встрепенешься: да, это.
И вспыхнет в померкших годах
усталая ласка портрета,
и боль, и молитвенный страх.
КОНЕЦ ОСЕНИ
Я видеть мог: в свой срок
себя всё изживает;
гниет и умирает —
всё горечь и упрек
И что ни час, то сад
как будто подменили;
от желтизны до гнили
замедленный распад:
о, как мой путь далек.
Всё пусто и в разоре,
полог аллей исчез.
Почти до самого моря
нависла в немом укоре
неумолимость небес.
ОСЕНЬ
Как бы из дали падают листы,
отмахиваясь жестом отрицанья,
как будто сад небесный увядает.
А ночью в одиночество впадает
земля, упав из звездной темноты.
Все падаем. Так повелось в веках.
Глянь, рядом падает рука небрежно.
Но Некто есть, кто бесконечно нежно
паденье это держит на руках.
Из «Книги Картин»
223
У КРАЯ НОЧИ
Моя комната и даль ночная
над спящей землей
суть одно. И от края до края,
каждый шорох вбирая,
я натянут струной.
Вещи — как остовы скрипок,
чья тьма бытия полна;
где слышатся женские всхлипы,
где скребётся без сна
злоба всех поколений...
ия
дрожу серебристо впотьмах,
и во мне всё живёт и длится,
и то, что бродит в вещах,
к свету сейчас стремится,
к свету моей трепещущей песни,
что — какому небу в зачёт? —
в виде узкой, тоскующей щели
там, на пределе,
в чёрной бездне
цветёт...
МОЛИТВА
О ночь, где краски все растворены
и где утратили свои приметы
все вещи ради общей тишины
и темноты, — дай мне ты
во множестве твоем исчезнуть без усилий,
ведь ты собой всё примирила. Или
для чувств моих привычней свет дневной?
И выделится облик мой,
с предметами мешающе несхожий —
и лишний? Погляди на руки всё же:
ну чем не инструмент и вещь они?
И разве не одно с рукой
кольцо простое, и на них дневной
свет лег бы, не с доверием ласкаясь, —
как на дороги, кои в день, вздымаясь,
иначе тянутся, чем в темноту?..
224
Райнер Мария Рильке
ПРОДВИЖЕНИЕ
И звонче жизнь во мне играет снова,
как будто берега вдруг шире стали.
И вещи стали ближе, чем вначале,
что ни картина, стать моей готова.
Невыразимое дарит мне слово:
и может мысль моя теперь, как птица,
из кроны в ветреное небо взвиться,
а чувство в пруд, где солнце отразится
и целый день, как рыбица, нырнуть.
ПРЕДЧУВСТВИЕ
Я — как флажок, а вокруг меня дали без края.
Я ветер предвижу и ветром живу, оживая,
в то время как вещи внизу еще дремлют, не веря,
и двери стучат еще мягко, и тихо еще в каминах;
и окна еще не дрожат, и лежит еще пыль тяжело.
А я уже в буре, и как море меня потрясло.
И я раскрыляюсь, и снова сжимаюсь в комок,
и падаю — и совсем одинок
в великой буре, увы.
ВЕЧЕРВСКОНЕ1
Парк высоко. И словно бы из дома
я выхожу, дорогу узнаю
в просторный вечер, в распростертый ветер.
Вдоль облака иду, и водоема,
и мельницы, плывущей на краю
небес, среди которых я сегодня
не более как вещь в руке Господней,
быть может, наименьшая.
Взгляни —
всё это разве небеса одни?
В разливах зыбких белизны и черни
блаженная всплывает синева,
а поверху, приметное едва,
почти неразличимое свеченье
огня закатного.
Местность в Швеции.
Из «Книги Картин»
225
Чудесный строй,
что держится и движется собой,
творящий в непонятном распорядке
фигуры странные, крыла и складки,
и, наконец, врата, в такой дали,
какую птицы знать одни могли.
ВЕЧЕР
Одежды вечер медленно сменяет,
ложась на ветви сада бахромой;
ты смотришь, как миры на небе тают —
один вознесся, падает другой;
и ты покинут на земле знакомой,
навек не присягнувший никому:
ни сумраку умолкнувшего дома,
ни свету звезд, поднявшихся во тьму,
и нет дороги для тебя иной,
чем, осознав и очертив границы,
в большой: и тесной жизни становиться
попеременно камнем и звездой.
СТРОГИЙ ЧАС
Каждый, кто плачет сейчас на Земле,
без причины плачет там, на Земле, —
плачет по мне.
Кто смеется сейчас в ночи на Земле,
без причины смеется там, на Земле, —
высмеивает меня.
Кто шагает сейчас где-нибудь по Земле,
без причины шагает там, по Земле, —
идет ко мне.
Каждый, кто гибнет сейчас на Земле,
без причины гибнет там, на Земле, —
узрел меня.
226
Райнер Мария Рильке
СТРОФЫ
Есть некто, и всё в руки он берет
и, как песок, сквозь пальцы пропускает.
Прельщенный, в белый мрамор воплощает
он королеву, ей повелевая
застыть в мелодии одежд своих;
и, венценосцев к женам возлагая,
в таком же камне воплощает их.
Есть некто, и всё он в руки берет,
ломая и губя всё без изъятья.
Он — не чужой, он в нашу кровь вселен,
он — нашей жизни бдение и сон.
Не верю, что к злодейству склонен он,
но слышу я о нем одни проклятья.
КНИГА ВТОРАЯ
Часть первая
ИНИЦИАЛЫ
Даруй же красоту щедрей
без счета и без спора.
Молчи. И дай сказаться ей.
В тысячекратное™ своей
она вернется скоро.
БЛАГОВЕЩЕНИЕ
Слова ангела
Ты к Господу не ближе нас,
Он ото всех далек.
Но лишь тебя в чудесный час
благословляет Бог:
ведь так ни у одной из жен
не светятся персты.
Я — день, я влагой напоен,
но древо — только ты.
Я утомлен, путь долог мой,
прости, не я сказал,
что Тот, Кто в ризе золотой,
228
Райнер Мария Рильке
как солнце, восседал,
послал тебе, мечтающей,
виденье с высоты.
Смотри: я — возвещающий,
но древо — только ты.
Развернуты мои крыла
над кровлею жилья;
так одинока не была
ты никогда — ведь я
чуть виден в комнате твоей,
мои слова просты:
я — дуновенье меж ветвей,
но древо — только ты.
Все ангелы в волнении
летят по небесам;
великое смятение
и ликованье там.
Быть может, скорбь средь суеты
в судьбу твою войдет, —
для этого созрела ты,
и ты несешь свой плод.
Ты — вход великий и святой,
твой день определен.
Мой голос, будто шум лесной,
в тебе исчез, окончив твой
тысяча первый сон.
Иду. Так упоителен
напев твоей мечты.
Бог ждет; он ослепителен...
Но древо — только ты.
ТРИ ВОЛХВА
Легенда
В краю, где ветер и песок,
Господь явился нам;
так жатвы наступает срок
Из «Книги Картин>
229
налившимся хлебам, —
и чудо было: там
велел идти в дорогу Бог
звезде и трем волхвам.
И, с трех сторон в пути сойдясь,
на небо посмотрев,
так с трех сторон пошли, смирясь,
и справа князь, и слева князь,
в далекий тихий хлев.
Но что с дарами их влекло
в убогий Вифлеем?
Сияло всадника чело,
и было бархатным седло,
и драгоценным — шлем.
Был правый, словно фараон,
богат, и левый был
озолочен, осеребрен, —
и блеск, и звон
со всех сторон, —
и возжигал куренья он
в сосуде, что под небосклон
душистый дым струил.
С улыбкой вещая звезда
вела вперед князей
и, над Марией встав, тогда
сказала тайно ей:
Смотри, вот всадники пришли,
которых я вела, —
цари языческой земли,
их ноша тяжела, —
из тьмы дары они несли,
но ты не бойся зла.
У них двенадцать дочерей
и только сына нет, —
одна молитва у царей:
для тронов их, для их очей
твой Сын — надежды свет.
Но верь и жди других дорог,
твой Сын в язычниках княжить
не будет, знает Бог.
230
Райнер Мария Рильке
Запомни, путь далек.
Цари пришли тебе служить,
меж тем их царства, может быть,
лежат у чьих-то ног.
От бычьих морд идет тепло,
и царь в хлеву согрет,
но власти время истекло,
и крова больше нет.
Улыбкой кроткой озари
заблудших пришлецов,
пусть взглянут на дитя цари,
сними с него покров.
Смотри, у входа грудами
лежат, ясней слезы,
рубины с изумрудами
и капли бирюзы.
В КАРТЕЗИАНСКОМ МОНАСТЫРЕ
Здесь, в белом братстве, как велит канон,
вверяются обманчивому саду:
в том, что ты сам взрастил, себя узнай.
И каждый втайне ждёт: ему в награду
волшебный май
лишь яркие цветы представит взгляду
и будет он от тёмных сил спасён.
Усталыми руками он подпер
свою башку, где соки прут без прока,
как под корой, но выхода не зная;
измятая одежда шерстяная
всё тщится скрыть ступни — наперекор;
и руки, как две палки, одиноко
упёрлись в щеки, рухнуть не давая.
Ни кирие, ни мизерере1 сам
он не предложит юную гортань,
1 карие (kyrie eleison! — Господи, помилуй!) — возглас в католическом
богослужении; мизерере — начало одного из псалмов.
Из «Книги Картин»
231
и от проклятий не сбежит, как лань:
а ну их к псам!
Он — конь, он вздыблен, рвёт он удила,
и келья слишком для него мала;
ему верхом скакать бы без седла
через плетни, канавы, глухомань.
Монах сидит, и подломиться руки
от тяжких дум уже почти готовы,
а дума час от часу тяжелеет.
Приходит вечер, и закат алеет,
и дует ветер, двор уже пустеет,
в лощине тени загустились снова.
Как чёлн, поставлен кем-то на прикол,
сад в непроглядный сумрак отошёл,
и мается под ветром, как горюн.
Кто волю даст ему?...
Он слишком юн.
Мать умерла; он знать её не мог,
но называли всё её La Stanca1;
чиста, нежна, хрупка; а муженёк,
как кружку, вылакав до дна питьё,
разбил её.
Ну и отец!
Он чёрствый хлеб стяжал,
в карьере красный мрамор добывая.
И страх брал всех рожениц Пьетрабьянки,
когда в ночи под окнами блуждая,
он проклинал, вопил и угрожал.
А сын, из-за нужды многострадальной
у Донны Долорозы2 чахнет тут,
в монастыре, за думою печальной:
за что ему дана напасть такая,
когда лишь красные цветы цветут.
1 La Stanca (um.) — усталость
2 ДоннаДолороза — Мадонна Скорбящая
232
Райнер Мария Рильке
КАРЛ XII ШВЕДСКИЙ
ТЕРПИТ ПОРАЖЕНИЕ НА УКРАИНЕ
Короли минувших династий
суть горы над морем пристрастий,
людских надежд и несчастий.
Недоступны для бурь, для ненастий,
грядут, под бременем власти
ни на миг не сгибая плеча.
От одетых во злато пястей
никому не отъять меча.
*
Юный король, родную страну
покинув, дошел до Украины.
Глубоко ненавидел он и весну,
и женского сердца тайны.
На скакуне суровом он
был, как булат, суров,
к стопам ни девушек, ни жен
он не швырял даров.
Ни об одной не видел грез,
лишь если гневен был всерьез
и злобою не сыт,
то рвал с девических волос
очелья Маргарит.
Ему бывало по нутру
еще иначе гнать хандру:
возьмет девица на миру
кольцо взамен кольца —
вступает и король в игру:
стравить борзым юнца.
Он грозно шел издалека,
презревши север свой,
чтоб гасли скука и тоска
в пучине боевой,
он твердо меч держал, пока
не высохла его рука:
не в силах удержать клинка,
войны не доиграв,
Из «Книги Картин»
233
жестоко уязвлен судьбой,
но всё же, созерцая бой,
он мог потешить нрав:
смотрел с коня поверх голов,
впивая каждый миг, —
со всех концов, из всех углов
звучал металл булатных слов,
и возникал колоколов
серебряный язык
Знамена с яростью борьбы
рвал ветер в этот час,
как тигр, вставая на дыбы,
когда в атаку вел трубы
победоносный глас.
Но, споря с ветром и трубой,
взрывался барабанный бой:
был четок шаг пажа —
не отвлекаемый стрельбой,
он сердце нес перед собой,
до гибели служа.
Здесь магм земных густел замес,
вставали горы до небес,
эпохе вопреки, —
противнику наперерез,
с оружием наперевес,
колеблясь, как вечерний лес,
ломились в бой полки.
Всё было в дым облачено,
и не по времени темно
бывало иногда, —
но падало еще одно
огнем объятое бревно,
взрастал пожар горой,
вставал чужих мундиров строй —
войска неведомых губерний;
сталь в хохоте рвалась порой,
и правил битвою вечерней
одетый в серебро герой.
Полощут радостные стяги,
и в битву выплеснут сполна
избыток власти и отваги,
и чертят вдалеке зигзаги
над зданиями пламена...
234
Райнер Мария Рильке
И ночь была. И битва вскоре
утихла. Так, когда пришел
отлива час, выносит море
тела, и каждый труп тяжел.
Сурово серый конь ступал
(не зря в сраженье он не пал),
тропу средь мертвецов нащупав,
и перешел на черный луг,
и всадник видел, что вокруг
блестит роса в одеждах трупов,
еще недавно — верных слуг.
В кирасах кровь стоит до края,
измяты шлемы и мечи,
и кто-то машет, умирая,
кровавым лоскутом парчи...
И он был слеп.
В самообмане
скакал вперед, навстречу брани,
с лицом, пылающим в тумане,
с глазами, полными любви...
ЦАРИ
I
То были дни, когда в огне и дыме
сходились горы; водами живыми
река гремела, в берега бия, —
два странника призвали Божье имя,
и, хворость одолевши, перед ними
встал богатырь из Мурома, Илья.
Состарились родители, дотоле
от пней и камня расчищая луг, —
но взрослый сын воспрянул, вышел в поле
и в борозду вогнал тяжелый плуг.
Он вырывал деревья, что грознее
бойцов стояли твердо сотни лет,
и тяжесть поднимал, смеясь над нею,
и корни извивались, точно змеи,
впервые видящие свет.
Из «Книги Картин»
235
Испив росы, отцовская кобыла
по-богатырски сделалась крепка
и звонким ржаньем словно говорила,
что радуется мощи седока, —
постигли оба: сказочная сила
зовет их, и дорога нелегка.
И скачут... может быть, тысячелетье.
Кто время сосчитать хоть раз сумел
(а сколько лет он сиднем просидел?),
где колдовство — не различить на свете.
Природой меры миру не дано,
тысячелетьям нет числа...
Пойдут вперед те, кто дремал давно
в краю, где сумерки и мгла.
II
Еще повсюду стерегли драконы
волшебные леса, дыша огнем,
но дети подрастали день за днем,
но шли, благословившись у иконы,
мужи на битву с хищным Соловьем-
Разбойником, как волчья стая, злобным,
который свил на девяти дубах
гнездо и воем жутким, и утробным,
и светопреставлению подобным
ночь напролет в округе сеял страх;
весенний мрак, неведомое чудо —
немыслимей, ужаснее всего:
ничто не угрожает ниоткуда,
но всё вокруг — обман и колдовство, —
так шли мужи, пути не разбирая,
всем телом содрогаясь меж теней,
за шагом шаг в глухую тьму ступая
и, словно челн, захлебываясь в ней.
И лишь сильнейшие остались живы,
встречая дикий свист, без перерыва
из этой глотки, как из-под земли,
236
Райнер Мария Рильке
несущийся, но всё же шли и шли
они в леса, взрослея понемногу,
одолевая робость и тревогу, —
и так со многим справиться смогли
их руки крепкие. И дни настали,
когда они, бесстрашные, вставали
и стены возводили в твердой вере.
И наконец из чащи вышли звери,
покинув ненавистные берлоги,
и двинулись, куда вели дороги,
устало рыская от двери к двери, —
пристыжены, бессильны и убоги, —
чтоб тихо лечь собратьям старшим в ноги.
III
Его слуги кормились ночью и днем
мешаниной невнятных слухов, —
слухи были о нем, и только о нем.
Перед ним холопы валились ничком.
Женщины, кидая тревожные взгляды,
сговаривались в покоях своих,
а он в потемках подслушивал их,
и служанки шептали ему про яды.
Ни ларя у стены, ни лавки, ни скрыни,
и убийцы, прячась в монашьей личине,
справляли кровавое торжество.
И ничто не защищало его,
кроме взгляда, кроме шагов украдкой
в тишине по лестнице шаткой,
кроме гладкой стали жезла.
Ничего, кроме рясы, что плечи жгла
(и озноб сквозь нее, словно когтями,
исходя от сводов, впивался в монаха),
ничего, что было бы призвано им,
ничего, кроме страха днями, ночами,
ничего, кроме всё охватившего страха,
Из «Книги Картин»
237
что гнал его вдоль этих гонимых,
вдоль этих темных и недвижимых
и, быть может, виновных лиц.
Любого, кто мешкал рухнуть ниц,
он убийцей считал и, озлоблен и мрачен,
рвал одежды на нем своею рукой,
а затем, у окна забывшись, с тоской
думал: «Кто и зачем это нынче схвачен?
Кто я такой? Кто он такой?»
IV
Вот час, когда в тщеславном ослепленье
держава смотрит в зеркала свои.
Последний отпрыск царственной семьи,
монарх безвольный, грезит в забытьи,
ждет почестей на троне; и, в смятенье,
откинувшись и уронивши длани
дрожащие на пурпурные ткани,
один в неверном бытии.
Вокруг него склоняются бояре,
одетые в сверкающие латы, —
царь словно обречен жестокой каре
князей, что нетерпением объяты.
Подобострастия полны палаты.
Все помнят о почившем государе,
который часто, буйствуя в угаре
безумия, их бил о камни лбом.
И думы думают они о том,
что старый государь, садясь на трон,
плотней поблекший бархат подминал.
Был мрачной мерой власти он,
и из бояр никто не замечал,
что алые подушки закрывал
наряд тяжелый, золотом горя.
И думают, что мантия царя
померкнет на преемнике больном.
238
Райнер Мария Рильке
Хотя пылают факелы, но даже
жемчужины не светятся огнем,
что в семь рядов на шее, словно стража;
и оторочка из рубинов та же —
светилась, как вино, — теперь, на нем
черна, как сажа-
Память их не спит.
Они тесней толпятся возле трона,
но всё бледнее царская корона
безвольного монарха, — свысока
на них глядит он грустно и смущенно;
всё ближе, раболепнее поклоны,
и мнится — в зале слышен звон клинка.
V
Не сгинет от меча и от коварства
монарх, тоской нездешней охранен,
он принимает торжество и царство,
и за него душой болеет он.
К окну в Кремле подходит царь безвольный
и видит город — белый и престольный —
в тот час, когда ушла ночная мгла,
и в первый день весны звонят по гулким,
березою пропахшим переулкам
к заутрене колокола.
Колокола, чья песня так прекрасна, —
вот первые цари его державы,
его отцы, что с дней татар со славой
из гнева, кротости, борьбы, забавы,
легенд и крови возникали властно.
Он чувствует их царственное право
его душой овладевать порой,
таинственно входить в его глубины —
тишайшего на царстве властелина,
всегда, теперь и прежде, на вершины
благочестивой звать мечтой.
Из «Книги Картин»
239
И царь благодарит их всей душой
за то, что к жизни щедрым и огромным
порывом, жаждой одарен.
Перед богатством предков силен он,
их житие таинственным и темным
мерещится на фреске золотой.
Как серебро, вплетаясь в ткань парчи,
в делах минувших сам себе он мнится, —
что было свершено, опять свершится,
в его державе тихой повторится,
в которой меркнут яркие лучи.
VI
Сапфиры в темном серебре оправы
чуть светятся девичьими очами;
и лозы свились гибкими ветвями,
как звери в брачный час среди дубравы;
и жемчуг держит стражу величаво,
в узорах дивных сберегая пламя,
рожденное и скрытое тенями.
Венец, покров и серебро страны —
они в движение вовлечены,
как зерна на ветру, как ключ в долине, —
всё светится в мерцанье со стены.
Темнеют три овала посредине:
лик Матери, и с двух сторон узки,
как две миндалины, в уставном чине
над серебром воздеты две руки.
И темные ладони в тишине
пророчат царство в образе старинном,
что зреет до поры плодом невинным
и наводнится ручейком единым,
единосущным, вечно светлым Сыном
в невиданной голубизне.
Так говорил ладоней взлет,
но лик ее — уже открытый вход,
в тепло вечерних сумерек ведущий.
И свет улыбки, на устах живущей,
в неверной мгле блуждая, угасал.
240 Райнер Мария Рильке
В земном поклоне царь сказал тогда:
Неужто ты не слышишь крик, идущий
из глубины сердец, и страх гнетущий, —
мы ждем твоей любви; скажи, куда
ушел зовущий лик; куда зовущий?
С великими святыми ты всегда.
В своей одежде жесткой царь продрог,
он в одиночестве познать не мог,
как близок он ее благословенью
и как ото всего вокруг далек.
Безвольный царь раздумием объят,
и пряди редкие волос висят,
скрывая в прошлое ушедший взгляд,
и лик царя, как тот, в златом овале,
ушел в широкий золотой наряд.
(Чтоб встретить Богоматери явленье.)
Две розы золотых мерцали в зале
и прояснялись в отблесках лампад.
Часть вторая
ФРАГМЕНТЫ ПОТЕРЯННЫХ ДНЕЙ
...Как птицы, позабывшие полет,
давно отяжелевшие в бессилье,
которым стали бесполезны крылья,
и выпито из них земною пылью
всё светлое, чем дарит небосвод;
они хотят, почти как листопад,
к земле приникнуть, —
как ростки, едва
взошедшие, в болезнетворной дреме
и мягко и безжизненно лежат,
перегнивая в рыхлом черноземе, —
как дети в темноте, — как мутный взгляд
Из «Книги Картин»
241
покойника, — как радостные руки,
бокал поднявшие, дрожат от муки
и прошлое далекое зовут, —
как крики тонущего, что замрут
под гул колоколов в ночном тумане, —
как сохнущие в комнатах герани, —
как улицы, погрязшие в обмане, —
как локон, заслонивший изумруд, —
как солнечный апрель,
когда, толпясь у окон лазарета,
больные смотрят на потоки света,
которыми уже с утра одеты
все улицы, что им в окно ВИДНЫ;
больные видят только блеск весны,
смех юности, гонящий тени прочь,
не постигая, что уже всю ночь
жестокий шторм завесы в небе рвет,
жестокий шторм с морей, одетых в лед,
жестокий шторм шумит над городком,
легко на воздух поднимая
весь бренный груз земли,
что гнев и ярость за окном, вдали,
что там, вдали, могучим кулаком
была бы сметена толпа больная,
чья вера в солнце лишена сомнений...
...Как ночи долгие в листве осенней,
летящей по земле холодным дымом
так далеко, что здесь ни с кем любимым
для слез уже не отыскать приюта, —
как девушки нагой шаги по кручам, —
как выпивший вина в лесу дремучем, —
как слов пустых бессмысленная смута,
которая упрямо входит в уши,
и глубже, в мозг, пронизывая душу,
овладевая телом, мысли скомкав, —
как старики, проклявшие потомков
пред самой смертью, так что целый род
от муки роковой не ускользнет, —
как роза, взросшая в теплице,
под свод, к отдушине в стекле стремится
и, вырвавшись на волю из темницы,
под рыхлым снегом гибель обретет, —
как шар земной, под гнетом мертвых тел
242
Райнер Мария Рильке
остановившись, начинает стынуть, —
как человек, пошедший под расстрел,
в могиле корни силится раздвинуть, —
как погибают маки полевые
лишь потому, что прикоснутся вдруг
их корни к древней бирюзе браслета
внизу, в могиле, — и среди расцвета
со смертью встретится впервые
луг...
И часто дни бывали таковы.
Как будто некто слепок головы
моей пронзал стальной иглой зловеще.
Я чувствовал азарт его жестокий,
как будто на меня лились потоки
дождя, в котором искажались вещи.
ГОЛОСА
Титульный лист и девять голосов
Титульный лист
Счастливым, богатым — прилично молчанье,
что размышлять-то над их судьбой.
Но — обездоленный просит вниманья,
он говорит: я слепой,
или: я тоже ослепну вскоре,
или: меня преследует горе,
или: при мне ребенок больной,
или: меня совратили с пути...
Горя много, а слов не найти.
Людям другие дела интересней.
Привлекать вниманье приходится песней.
Эти песни всегда хороши.
Правда, вкусы людей закоснели:
кастраты премило поют в капелле.
Лишь Господь слышит голос души
тех, кто молит о лучшем уделе.
Из «Книги Картин»
243
Песня нищего
Бреду от одних ворот к другим
и в снег, и в бурю, и в зной.
Порой прислушаюсь, недвижим,
ухо прикрою рукой.
Мой голос кажется мне чужим,
хотя это голос мой.
Не знаю, кто здесь кого зовет —
это я кричу или нет.
О малости малой кричу у ворот,
чуть о большем — кричит поэт.
И вот на ладони мои легла
голова моя тяжело;
как будто пора покоя пришла,
и вот мне уже тепло, —
пусть никто не помыслит, что нет угла,
где я склоняю чело.
Песня слепого
Слепота — внутри, остальное — вовне;
это проклятье, разлад во мне,
всё более щемящий.
Руку протягиваю, как во сне,
незримую руку незримой жене,
бреду в пустоте шумящей.
Вперед, и назад, и со всех сторон
разносится ваших движений звон,
но вы ошиблись: лишь я наделен
достояньем добра и духа.
Во мне звучит нескончаемый стон;
и я не знаю, откуда он —
от сердца или от брюха.
Вы слышите? В гамме совсем иной
поются ваши кантаты.
Ночь уходит — и свет дневной
врывается в ваши палаты.
Ваши лица связаны между собой,
ни в чем вы не виноваты.
244
Райнер Мария Рильке
Песня пьяницы
Я здесь ни при чем. Так было давно.
Хотел держаться, держало вино.
Не знаю, что было и как.
Держало там и держало здесь,
пока я ему не продулся весь.
Я дурак.
Теперь я в игре — некозырная масть,
в игре со смертью, скотиной, пропасть
я обречен задарма.
Когда эта ведьма меня загребет,
мной, грязной картой, башку поскребет
и бросит в кучу дерьма.
Песня самоубийцы
Вот только бы не опоздать.
А то, глядишь, разрежут опять
веревку.
Чуточка вечности в плоти моей,
ведь я проделал для встречи с ней
подготовку.
Ложечку жизни суют мне они,
эту жалкую ложку.
Не хочу никак, ничего, ни-ни,
ни помногу, ни понемножку.
Я знаю, в чем счастье: живи да живи,
этот мир — горшок со жратвой.
Но этого нет у меня в крови,
хоть и понял всё головой.
Других это кормит, меня же — нет,
хворать — это мой удел.
Теперь хотя бы на тысячу лет
я на диету сел.
Песня вдовы
Вначале жизнь была хороша,
в тепле устоявшемся крепла душа.
Юные годы прошли, спеша, —
Из «Книги Картин»
245
я не знала, что так со всеми.
И вдруг потянулся за годом год,
не нов и не радостен стал их черед,
один за другим придет и уйдет, —
разорвалось надвое время.
Вина не его, вина не моя,
терпенья набрались и он, и я,
но смерть терпеть не хотела.
Я видела смерть, ковылявшую к нам,
всё без спроса она прибрала к рукам,
до меня-то ей что за дело.
Что же делала я для себя, свое?
Разве это нищенское житье
судьбой дано под залог?
Не только счастье Судьба дает,
и горе и муки идут в оборот —
старьевщицын хлам убог.
Судьба покупала меня ни за грош,
губ и ресниц любую дрожь,
даже походку, и вот
шла распродажа день за днем.
Судьба купила всё, а потом
не оплатила счет.
Песня идиота
Они не мешают. Дают ходить.
Они желают мне угодить.
Ну-ну.
Что угодно. Вертится всё и вся,
духа святого превознося,
ты знаешь, какого — превознося, —
ну-ну.
В самом деле, опасно отказывать мне,
страшно подумать: по чьей-то вине
вдруг возьму да пырну.
Кровь тяготит. Кровь тяжела.
Иногда не могу, задыхаюсь со зла.
Ну-ну.
246
Райнер Мария Рильке
Ах, что за красный огромный круг
высоко-высоко поднялся вдруг, —
вы его сделали, я очень рад, —
или он прилетает, когда велят?
Как странно всё это себя ведет:
одно из другого куда-то плывет,
потом навыворот, наоборот.
Ну-ну.
Песня сироты
Я ничто и не буду ничем ни дня.
Я мал, а кругом большая возня;
и дальше не краше.
Папаши, мамаши,
пожалейте меня.
Правда, я не стою забот:
жатва уже снята.
Пора не пришла мне и не придет —
не нужен нигде сирота.
Я без смены ношу одежду свою,
давно потерявшую цвет.
Но, быть может, волею Божьей тряпью
вовеки износу нет.
Не сменились пряди волос моих,
всё та же каждая прядь,
а тот, кто ласкал когда-то их,
их вовек не будет ласкать.
Песня карлика
Моя душа, пожалуй, светла;
но гнета стянутого узла,
сердца, несущего столько зла, —
ей удержать не по силам.
У нее ни кроватки, ни садика нет,
вцепилась в мой корявый скелет,
крыльями лупит по жилам.
Из «Книги Картин»
247
Ничто не родится из рук моих,
зачахших в судорогах, больных,
из рук тяжелых,
словно жабы в грязи болота.
Я таков с головы до ног:
печален, изношен, убог,
за что же прогневался Бог
на сваленные нечистоты?
Быть может, Он рассердился так
на гримасы капризной рожи?
Так часто готов был прогнать я мрак,
мне, в сущности, свет дороже;
но к лицу приближались лишь морды собак,
большие морды бульдожьи.
А собакам всё это пустяк.
Песня прокаженного
Смотри, я один, и я одинок.
Жителям города я не знаком,
меня поразила проказа.
Стучу колотушкой своей,
печальной мишенью служу для ушей,
для слуха, а не для глаза
всех, кто бродит вокруг.
Услышат они деревянный стук —
им и задуматься недосуг
о том, что со мною случилось.
Пространство, где разносится гром
моей колотушки, — это мой дом;
избегая знакомства со мной,
меня далеко обойдут стороной, —
Твоя воля, возможно, в том.
Вот так я долго могу идти —
ни мужчины, ни женщины на пути,
ни малого чада.
Зверей мне пугать не надо.
248
Райнер Мария Рильке
О ФОНТАНАХ
Вдруг вспомнил всё, что знаю о фонтанах —
загадочных деревьях из стекла.
Я мог бы говорить, как в дни туманных
мечтаний слезы лил и как обман их
со временем душа забыть смогла.
Но как забыть, что небо шлет веленья,
к вещам и далям руки простирая?
И разве я не видел дерзновенья
в громаде старых парков в час смиренья
закатов, полных ожиданья, — в пенье
чужих подруг, когда, перерастая
мелодию, взвивается оно,
как будто, очевидным став, должно
в прудах свое увидеть отраженье?
Пускай подскажет мне воспоминанье,
что связано с фонтанами и мной,
и даст поверить в тяжесть ниспаданья
воды, что спорит со своей судьбой.
Я помню ветви, сникшие в печали,
и голоса, что свечками мерцали,
пруды, что безотчетно повторяли
изгибы берегов в бездонных лонах,
и небеса, что от лесов, спаленных
закатом, отступали, выгибая
свод по-другому, как бы намекая,
что занесло их вовсе не туда...
Забыл ли я, что со звездой звезда
не могут встретиться, миры — с мирами?
И что в слезах падучих звезд всегда
мы узнаем себя? Быть может, сами
мы наверху и стали небесами
других, кто к нам взывает вечерами
с молитвой. Чьи поэты нас воспели.
А может, мы — чужих проклятий цели,
но их не слышим из-за расстоянья?
Для них мы высоко, в соседстве с Богом,
кто в одиноком плаче их убогом,
в их вере — и кого они теряют,
и образ чей, колеблемый, сияет,
как ищущее пламя их лампад,
скользя по нашим лицам невпопад...
Из «Книги Картин»
249
ЗА КНИГОЙ
Забылся я над книгой. А в окно
дождь застучал и ветер заодно.
Но, увлечен, ни ветра, ни дождя
не слышал я.
В страницы вглядывался я, как в лица
и как в потёмки чьих-то дум и мук;
скопляясь, время замерло вокруг. —
Но вот открылась новая страница,
и вместо слов, что растерялись вдруг,
знак: вечер, вечер... вспыхнул, как зарница.
Еще не глянул я окно, а строки
уже разорваны, и с нитей сами
слова рассыпались перед глазами...
И лишь теперь я вижу: над садами
почти расчистился небесный круг;
и солнцу бы еще сверкнуть над нами. —
Но летней ночи пала темь тотчас:
всё в ней разбросано, таясь от взгляда,
и люди, и дорога, и прохлада,
и далеко, как будто так и надо,
всё слышно, что свершается как раз.
И вижу, взор от книги поднимая:
всё велико, ничто не чуждо нам.
И всё, что вне меня, вобрал в себя я,
и безгранично всё и здесь и там;
и я вплетен от края и до края,
и если взгляд себя соизмеряет
с вещами, чья несчетность не смущает,
земля перерастает окоем.
И, кажется, всё небо обнимает,
и первая звезда — как ближний дом.
СОЗЕРЦАТЕЛЬ
Осенний вихрь метет дворы,
и ветки клонятся упруго.
Трепещут стекла от испуга,
но много тайн приносит вьюга:
их пережить нельзя без друга,
ни полюбить их без сестры.
2 50 Райнер Мария Рильке
Бушует буря, рвется шире
и всё меняет за собой;
всё уравнить стремится в мире,
и лес застыл, как стих псалтыри —
тяжелый, вечный, неживой.
Так слабо всё, с чем мы воюем;
кто с нами борется, силен.
И пусть наш плен и неминуем, —
и, покорясь, мы возликуем,
хоть и без славы, без имен.
Мы торжествуем лишь над малым,
и мы мельчаем от побед:
над необычным, возмужалым,
над мировым — победы нет.
Так ангел Ветхого Завета
своим противникам предстал;
когда они сопротивлялись,
их мышцы туго напрягались,
но ангелу казалось — это
лишь струны, чтоб извлечь хорал.
Когда тот ангел побеждал
(хоть он не жаждал состязаний),
тот бодро уходил от брани,
былой борьбы неся закал —
возросшим, светлым, обновленным,
и без победного венца;
и путь его — быть побежденным
всё высшим, высшим, до конца.
ИЗ ГРОЗОВОЙ НОЧИ
Восемь тсартинок с титульным листом
Титульный лист
О ночь, встревоженная грозой,
как далеко она —
всего лишь складочкой небольшой
во времени сохранена.
Возле звезд не кончается в споре с огнем
и не начинается ни в лесах,
ни на лице моем,
Из «Книги Картин»
251
ни в твоих очесах.
И свечи выведывают шепотком:
— Разве мы лжем?
О ночь, ты — истинность, и одна
от начала начал...
I
В такие ночи можно возле дома
столкнуться с будущим, чьи лики невесомо
колеблются, тебя не узнавая,
по переулку медленно влекомы.
Заговори они — и, плоть живая,
казался бы давным-давно минувшим
ты, как в веках
истлевший прах.
Но они остаются в молчанье, как мертвые,
хотя навстречу идут.
Грядущее пока не началось.
И влекутся сквозь время они,
как под водой, размывающей зренье;
и от нечего делать заняты слежкой
бесцельной: за спешкой
рыбешек; и несет их теченье.
II
В такие ночи тюрьмы нараспах.
Сквозь злые сновиденья стражи
крадутся узники по-вражьи
и, может быть, даже — по знаку небес.
Лес! Они приходят к тебе, чтобы в тебе
отоспаться, —
и снова им снятся оковы.
Лес!
III
В такие ночи вспыхивает яро
пожар в театре оперном. И монстр пожара
жует пространство — ярусы, балконы
и зрителей, вгрызаясь разъяренно
в плоть мешанины.
Женщины, мужчины
друг друга давят исступленно
252
Райнер Мария Рильке
и пробиваются сквозь крики и препоны —
и рушится стена громадой всей.
И некто, может быть, лежит под ней —
он мертв уже, но в пустоте ушей
еще мятутся бедственные стоны —
вдруг смолкли и они...
IV
В такие ночи начинают биться
сердца князей умерших; вереница
столетий словно сдвинулась назад;
и мощно сотрясается гробница,
но этот стук не ведает преград:
в камчатых тканях, в злате чаш он длится, —
и гложет всё невидимое пламя.
Дрожит собор — с органом, голосами;
колокола вцепляются когтями,
как птицы, в башни; и скрежещут в страхе
врата и балки под немолчный гуд:
и мнится, что гранит опор несут,
ворочаясь, слепые черепахи.
V
В такие ночи грезится неисцелимым
о прошлом, невозвратимом...
И они додумывают простые,
хорошие мысли — впервые,
наверное, до конца.
А чей-то младший сынок до рассвета
бродит, быть может, по глухим переулкам где-то;
ибо только в эти ночи
уповает он, став агнца кротче:
что недолго ему тяготиться,
и что всё наконец разрешится,
и что празднество ждет его, —
верит...
VI
В такие ночи под реющими флагами встают,
не различаясь, города.
И видится во весь охват тогда,
из тьмы грозы и флагов возникая,
Из «Книги Картин»
253
безвестная страна — чужая
от края и до края.
Во всех садах — похожий пруд,
у каждого пруда — похожий дом,
и в каждом доме светится ночник;
и люди схожие сидят молчком —
и каждый уронил в ладони лик.
VII
В такие ночи умирающие не спят
и тихо волосы свои теребят,
что, как соломинки, с немощной кожи
почти разлетелись за эти недели —
над поверхностью смерти, похоже,
остаться хотели...
Тщетными жестами дом себя заселил,
как будто кругом зеркала; и не так ли,
в волосах копаясь в унынье,
они отдают остаток сил,
что копились долгие годы, а ныне —
иссякли.
VIII
В такие ночи вне земных невзгод
моя сестренка мертвая растет.
О, сколько их прошло, таких ночей!
Она мила. Фата, наверно, ей
пойдет.
РЕКВИЕМ
Посвящается Кларе Вестхофф
Час назад мир земли обрёл
ещё одну вещь. Один венок.
Он был лёгкой листвой... Я ею оплёл ободок:
и теперь этот плющ непомерно тяжёл
и тёмен, будто он в себя увел
из моих вещей грядущие ночи.
Теперь даже ближняя ночь страшна,
1 В первой редакции: Для Гретель. Посвящается Кларе Вестхофф; Гретель —
подруга жены Рильке, умершая в 1902 г.
254
Райнер Мария Рильке
где я один, венок и тишина,
и не ощутима пока беда,
но от плюща уже исходит смута;
и не постигнуть, что теперь чему-то
не быть на свете. Так по никогда
не хоженым раздумьям ты блуждаешь,
средь диковинных вещей,
хотя, скорей, привычных: приглядись...
....Вниз по реке уносит цветы; их дети, играя, сорвали, и
теперь из растопыренных пальцев они падают один за другим,
чередой, и букета нет и в помине. Остаток, когда вернутся
домой, сгорит потихоньку в камине. Можно потом всю ночь,
когда не спишь только ты, заливаться слезами, оплакивая
сорванные цветы.
Гретель, от начала начал
обещалась тебе ранняя смерть,
светло-русая смерть.
Давно, прежде чем обещалась жизнь.
Не потому ль до тебя явил тебе Бог сестру,
а потом брата —
две близости, две чистоты,
чтобы воочию смерть
увидела ты:
твою смерть.
И ныне там уже, на небесах,
суждено лицезреть им,
как, испытана на двух смертных часах,
ты примиряешься с третьим,
чья угроза тысячелетий древней.
Ради смерти твоей
жизни чередой возникали;
руки букеты сплетали,
алость роз, многоликость людей
взоры пытливо воспринимали,
всё создавалось и уничтожалось,
в смерть двукратно сжималось,
прежде чем к тебе постучалось,
из погасшей сцены шагнув.
Из «Книги Картин»
255
...Приближение смерти тебя ужаснуло, подруга?
Ты узрела врага впереди?
Ты плакала у него на груди?
Оторвали тебя, ревнуя,
от горячего поцелуя,
среди ночи, в доме без сна...?
Смерть, какая она?
Ты знаешь не всуе...
И домой вернулась — сказать.
Тебе ли не знать,
как миндаль цветёт
и синь моря южных широт.
Много вещей, что лишь женское чувство поймёт,
в пору первой любви, —
тебе ли не знать. Назови,
что шептал тебе юг и как тебе любы
дни в бесконечных красотах земных,
как могут сказать лишь счастливые губы,
счастливцев, у кого на двоих
один мир, одна речь, как порука —
едва ли кто с ними сравним, —
(о, как бесконечная мука
измывалась над терпеньем твоим).
Осиротевшие, с юга ещё приходили
твои письма, где солнце и свет, —
наконец, без своих усилий,
ты прибыл : за ними вослед;
оттого, что ты в блеске страдала,
каждая краска была как вина,
ты жила, нетерпенья полна,
ибо жизнь ещё целым не стала.
Жизнь только часть... Но чего?
Жизнь только звук... Но в чём?
Суть жизни в одном — в слиянье с кругами
пространства, в их претворенье, —
жизнь — сон сна, но вечное бденье
где-то в сфере иной.
Твой земной век — беглый блик.
Как велик этот миг.
Малышка — о тебе говорим.
Твоим немногое было: одним
256
Райнер Мария Рильке
намёком — улыбка (грустинку скрывая);
нежные пряди, комната небольшая,
что стала за смертью сестры огромно-пустой.
А всё остальное лишь платьем твоим и тобой,
О, тихая подруга, как ты светла.
И как многим была
ты всю жизнь. И каждый из нас это знал,
когда ты входила вечером в зал;
каждый знал — ему повезло:
потому что тебя, как толпу, принесло,
как толпу, что как бы спешила вослед,
потому что ты знаешь путь.
И должна его знать, скорее всего,
и ты знала его
вчера...
младшенькая сестра.
Глянь, хоть разок:
как же тяжёл этот венок
И его на тебя возложат;
как же этот венок тяжёл.
Выдержит гроб эту тяжесть, хотел бы знать я?
А вдруг провалится он своей
чёрной тяжестью всей,
и заползёт в складки платья
плющ.
Широко расправится
и обовьёт тебя,
и сок, текущий в его прожилках,
тебя пробудит шорохом СВОИМ;
целомудренную, как свет.
Но тебя уже нет.
Вытянута в длину под землёй.
Наглухо закрытая плоть,
и сырой
тянется плющ во мрак...
как
если бы блуждала,
по черному канату
черниц череда,
слит с твоей темнотой; ты — исток и начале
Из «Книги Картин»
257
Тянется во тьму,
к твоему к сердцу по пустым кровотокам
блуждая,
где твоя нежная боль неживая,
и поблёкшие радости и воспоминанья, —
тянется, как в молитве, в твоём
сердце, где ни стука, ни трепетанья, —
темный, распахнутый дом.
Но венок тяжёл лишь при светлом дне,
где живём,
лишь при живущих, при мне;
эта тяжесть потом
не пригнетёт вдвойне,
когда возложу его, тихо о чём-то моля.
Земля всегда вравновесье своём.
Твоя земля.
Он тяжёл от моих глаз, с него не сводимых,
тяжёл от неисчислимых
скорбных шагов какой уже день подряд,
от страхов, что на него глядят —
и тяжелят.
Возьми его, он уже твой
с тех пор, как сплетён.
Возьми его от меня.
Дай побыть одному! Он как гость...
и как в горле кость, и стесняет меня потому.
Ты тоже боишься, Гретель?
Ты больше не можешь ходить?
В моей комнате просто побыть?
Станет ещё тяжелей?
Оставайся, где все собрались в кружок,
завтра венок за тобой понесут, дружок,
среди облетевших аллей.
Понесут за тобой, утешься и жди,
столько цветов ряд в ряд.
И ни ветер, ни град, ни дожди
цветы твои не повредят.
Их тебе принесут. И они верны
тебе по праву, дружок,
и тоже с утра черны и бледны,
258
Райнер Мария Рильке
им тоже подходит срок
Не бойся. Уже не заметишь ты,
что сникло, что продолжает СИЯТЬ;
где краски поблёкли, а где густы,
и даже кто приносит цветы,
тебе уже не узнать.
Теперь ты знаешь иное, — то, что влекло
и тьмой устрашало нас;
то, о чём тосковала, так мало —
рядом с тем, чем владеешь сейчас.
Где твой маленький силуэт, —
ты, может быть, уже и лес, и рассвет,
с ветром, щебетом и листвой. —
никакой, о поверь, кары нет:
смерть стара, как свет,
на миг дано бытиё;
и потому её
никто не переживает.
Витает что-то вокруг?
Ночной ветерок?
Не дрожу, мой друг.
Я твёрд и одинок. —
Что сделал сегодня я?
..Листву плюща укрепил, на тугом ободке
обвивая, пока моей руке повиновалась.
Чёрным блеском она ещё блестит в уголке.
И земная сила моя —
кружит в венке.
ЗАВЕРШЕНИЕ
Смерть велика.
И нас поглощает,
с улыбкой гребя.
Кто в центре жизни себя представляет,
помни: она рыдает
в центре тебя.
'опыте/ше/
Стихотворения
1894490522.,
йе в основное собрание
ИЗ СБОРНИКА «ПОДОРОЖНИК»
УТРО
Ведя с собой рассвет
меж ветел, чист и светел,
проходит ветер. Петел
ему горланит вслед.
Пять лепетных осин
из лесу к небу лезет.
Облизываясь, грезит
о жаворонках синь.
ПОЛДЕНЬ
О, как над озерною голубизной
колышется тяжко молчанье!
И шепот волшебный из тиши лесной —
как веток под цветом качанье.
Сквозит стрекоза над хрустальной водой
и, шустрая, мчится без шума,
когда в камышинках тенью седой
блуждает нежданная дума.
262
Райнер Мария Рильке
ЦАРИЦА ШИРЬ
Когда багряный день, истаивая,
уже почти исчез из глаз,
то в плащ с опушкой горностаевою
морская ширь разубралась.
Играя в дреме черным бархатом,
идет ко сну, держась за мол,
и, как пажи, рыбачьи барки там
несут монаршеский подол.
ЯВЛЕНИЯ ХРИСТА
Часть первая
СИРОТА
Рысцою потрусили прочь от храма.
На дрогах гроб. Колокола молчат.
Малютка знала: столько лет подряд,
как в камере, хворала дома мама.
«Отмаялась!» — сегодня говорят...
Но как пугает девочку обряд!
Судьба пред ней темнеет, будто яма.
Что станется? Гроб с мамочкой зарыт.
И вот он, Боже, холм сырой стоит!
В могилу камни с глиною летели.
А мама спать привыкла на постели.
И на ресницах слезы заблестели.
Зачем ее зарыли так убого,
когда ей жить на небесах у Бога
и там она блаженствовать должна?
Ах, небо! Там волшебная страна,
край светлых улиц, белых колоколен,
там лишь любовь и ясный воздух волен,
там не грустят, никто не обездолен,
там только песни весело поют.
А звезды — белые барашки. Брать
их можно, как игрушки, и играть.
Дополнение. Стихотворения (1894—1905) 263
И будут в лунной колыбели спать
те, кто послушен. И какой уют —
забраться в облачный перинный пух,
спать во весь дух и видеть сны за двух.
И видит крошка, что в цвету весна,
как сказка, ждет ее и взять готова
туда, где гномы седенькие снова
клад стерегут средь сумрака лесного
и колокольня золота литого,
сияя, воздымается из сна.
Нет, в Божьем мире столько есть утех!
На радость создал Бог его для всех.
И радостны у крошки вздох и смех.
Вдруг видит: неподвижный и печальный,
стал у погоста серый человек
и из-под темных утомленных век
грусть теплится свечою погребальной.
В сермяге он, дрожащею рукой
вцепился в космы и глядит с тоской
за гребни гор, лежащие межой,
как будто он собрался в край чужой
лететь душой крылатой и унылой.
Туг девочка к нему засеменила,
и из огромных глаз глядит вопрос,
звучащий чисто, празднично и прямо:
«Что ты горюешь чуть ли не до слез?
А может быть, и у тебя нет мамы?»
Но он не слышит. Взор его немой
взыскует чуда, и, смыкая брови,
как будто прерванный на вещем слове,
он шепчет, как узревший нечто внове:
«Ступай-ка к мамочке домой!»
А девочка дрожит: «Да что ты! Или
ты не слыхал, что мама умерла?»
А он: «Так, стало быть, она в могиле?»
Ладонь на темя тяжко ей легла
благословеньем: «Будь земля ей пухом!»
И девочка к сермяжнику тогда
со страхом прижимается тесней,
264
Райнер Мария Рильке
а сердцу крохотному всё больней:
«На небе я увижусь снова с ней?
Увижусь? Пастор говорит, что да».
Но слово на ветер. Сверчок трещит.
И хороводом мотылек кружит.
Над хижиной далекий дым дрожит.
Сермяжник серый, точно тень, молчит.
ЮРОД
На башне, полдень возвещая,
гремят часы. На школьный двор
летит толпа ребят лихая,
забыв зеленых парт забор.
Так вырывается в упор
из плена на густой простор
от роз алеющего мая
и водит мотылечков стая
с цветами нежный разговор.
Мальчишек бойкие отряды
дерутся или держат строй,
но раз идти обедать надо,
так дезертируют порой.
Девчушки стали у ограды
с косичками наперевес
и щебетать на воле рады,
а дернут за косу — их взгляды
кружат: да кто же там полез?
Кого это попутал бес?
И малолетний Ахиллес
спасается куда попало.
Ребят уж остается мало,
рассеивается их рой.
Вдруг Анне, девочке больной
и полунищей, страшно стало.
Она подружке зашептала
и на ворота показала,
и вскрикнула. Наперебой,
как от военного сигнала,
детей в испуге прочь погнало.
Переполох! Там, у ворот:
«Юрод!»
Дополнение. Стихотворения ( 1894— 1905) 265
«Дети!»
Он к ним, но все те,
кто был еще тут,
прочь бегут.
«Стой!»
Он, высокий, худой,
с помертвелым лицом,
сам беглецом
крикам вослед.
Скелет!
Пальцы стальные
крючит, как точит,
ледяные
выпучил очи.
«Стойте, шальные!» —
крикнуть им хочет.
Ноги больные
длинный торочит
плащ — рваный и белый,
прорехами шит.
Он, помертвелый,
молча спешит.
Страх мальчишек берет,
и они от ворот
бегут наугад,
Анна тоже. Но вот
пал на Анну взгляд.
Горьким криком объят,
он платьишко ей рвет,
так что клочья летят:
«Стой!»
И несчастный ребенок стал сам не свой.
А помощи нет! Пугливой толпой
воробьиной уже разлетелись дети,
и Анна осталась одна на свете,
чадо нужды.
Чудо ли сотворено?
Видит одно —
глаза его ей ничем не чужды.
И вдруг на нее упованье нашло.
Как будто она очень долго болела,
в потолок, нахмуренный тяжело,
уставясь, и это небо белело.
266
Райнер Мария Рильке
А нынче ей небо сияет светло.
Он правую руку кладет ей на темя
и гладит тихонько. Она как во сне
и левую ловит губами, и время
остановилось в тишине.
Рука вырывается, как от стыда,
а ей на ладони свалилась слезина,
и губы чужие ей шепчут тогда:
«Ведь маму твою зовут Магдалина?»
«Да».
И губы чужие шепчут тогда:
«А в доме нужда?»
«Да».
И как колокольный звон — уста:
«Ей жизнь — маята?»
«Да.
Ночью она иногда притулится
и очень плачет иногда».
«А ты умеешь молиться?»
«Да».
«И за папу ты молишься всегда?»
«Да».
«Молись и впредь!»
«А где мой папа, ты мне ответь!»
Он на руки Анну берет, и навзрыд
его голос, как птичий хор, звенит,
когда он в жасминовом цвете скрыт.
«Скажи мне то слово вновь!» — говорит.
«Слово?»
«Снова!»
«Папа?»
«Да».
И от этого «да» ликует взгляд.
Целует он Анну сто раз подряд,
но поцелуи его не горят,
а «люблю» да «спасибо» говорят.
И он ставит девочку на мостовую:
«Ничем я тебя не побалую».
Улыбка устало тянется к ней:
«Тебя я куда бедней!»
И тут же речь его в плач разлилась.
На прощание машет он ей рукой,
и, как нищий, проходит он стороной
Дополнение. Стихотворения ( 1894— 190 5) 267
по земле, погруженной в жестокий зной,
и всё же по-царски и горд, и строг.
А у людей он всегда юрод.
И долго Анна стоит у ворот,
не сводит глаз.
И мчится потом домой со всех ног.
Ни слова маме. Но в темноте
вырвалось на грядущий сон:
«Я дяденьку видела, а он —
совсем как тот, на кресте...»
ДЕТИ
Босой,
он был ребячьей окружен толпой,
белел холщовой ризою простой,
струились волосы рекой густой.
И, словно день весенний окружив,
цветы раскрыли изумленно рыльца —
вот так смотрели дети на кормильца,
который был им, как и прежде, жив.
В ворота рук Его они спешат,
и говорит один, худой и хилый:
«Тебя я знаю, ты ведь тот Помилуй,
по ком сто раз томился мамин взгляд».
И кто-то шепчет с простодушной силой:
«А правда ведь, что дом твой тот закат,
где горы в гордом золоте встают,
что рощи и ветра тебе поют,
что ты во сны приходишь к добрым детям?»
Березками пред человеком этим
склонились все, и, видя детский послух,
вокруг застыло изумленье взрослых.
Спасаясь под Его благословенье,
толпа детей как бы домой текла,
и вот над ними в белом мановеньи
слова Его раскрылись, как крыла:
«А думал ли хоть кто-нибудь из вас,
как днем и ночью, неудержно прыток,
268
Райнер Мария Рильке
проводит вас поспешно каждый час
сквозь тысячи ворот, дверей, калиток?
Порой еще не прячутся пороги,
а дверцы робко льнут уже к замкам.
Я спутник и остерегатель вам,
но вдаль из царств моих ведут дороги.
Вы рветесь в жизнь, а в ней меня не ждут,
вас тянет тьма, а я светла сосуд,
в надеждах вы — я отреченья жгут,
вас манит счастье, ну а я есмь суд».
И взрослые вдали, как в лабиринте,
ему внимали тоже. «Не отриньте
меня, когда мы станем у границ.
Вы молоды забрать меня с собой,
но обернетесь посреди скитанья
в цветник убогий у былого зданья,
к улыбке материнского страданья
и даже, может быть, и в ожиданье.
Я — детство вместе с памятью-судьбой.
Но по пути пошлите мне от лиц
уже бродившие по жизни взоры,
откуда скорый, может быть, и спорый
прострет к вам руки новый бог-кумир.
На волю! Там вас ожидает мир».
Завету внимали в румяной вере
и стояли вокруг, как хорал.
«А сможем ли мы распахнуть те двери?» —
какой-то лихой карапуз заорал.
И тут же клянчит он, умоляя:
«По водам и дебрям веди нас теперь!
А скоро ли будет она, большая
последняя дверь?»
Светлый учитель о счастьи вещает,
взглядом, как полднем, детей освещает.
Детские кудри от света рябят.
Но из толпы изумленных ребят
вышел малыш. И колышутся прядки
жидких волос над поблекшим челом —
так драные перья несет в беспорядке
гневный шелом.
А голос детский наперелом:
Дополнение. Стихотворения (1894— 1905) 269
«Ты, — вкруг Его коленей обвил
мальчик голодные руки снова, —
о вечном конце такого слова
не говорил.
Пусть их другие, желая свободы,
гонят вперед свои смелые годы,
а я не такой, не такой!»
И припадает к коленям с тоской.
И пресветлые губы трепещут.
Он на детские слезы взирает:
«Разве мама с тобой не играет?»
А мальчик рыдает опять.
«Большой я, чтобы играть».
«Так, верно, у мамы похлебка
для тебя-то есть?»
Лепечет ребенок робко:
«Беден я, чтобы есть».
«Тебе не целует, что ли,
щеки докрасна?»
А он кричит от боли:
«Умерла она!»
И трепещут пресветлые губы,
как осенние листья осин:
«В жизни ты побывал, и сугубо,
и ты будешь мне друг и сын».
ЖИВОПИСЕЦ
Старинные часы, устав от боя
полночного, пробили час с тоской
такой, что вздрогнул мастер и худое
девичье тело взял в пальто: «Не стой!
Ступай!» Ее задело за живое.
Куда идти, когда их в мире двое?
И по-ребячески: «Когда с тобой
опять увидимся?» — «На днях. Число я
не назову. Оставь меня в покое!»
Ушла, звала, валился снег сырой.
А он опять бродил по мастерской,
где об ушедшей не было помина,
270
Райнер Мария Рильке
и шелестели тонкие шаги,
и свет, как спрут, тянулся из камина,
искал во тьме хоть самой малой зги.
И только проблесками жили вещи,
и возвышались, чужды и зловещи,
пока их баловал недолгий свет,
и нежно колыхались Да и Нет
вокруг того, кто, как пустой предмет,
терялся в сутолке теней пугливых.
Но вдруг он занавес с окна рванул,
и шумный шелк в лиловых переливах,
разодранный, пространство распахнул,
и там, среди вещей неторопливых,
был Тот, кого уже среди теней
узнал он жизнепомыслами всеми,
хоть Тот лица не обращал из теми.
На холст распятый он смотрел всё время,
где бледная луна всё ледяней
студеными лучами осыпала
людскую свору, вздыбленную шало,
а посредине грозного кагала
стоял какой-то чахлый лиходей,
и был Он как предатель меж людей.
Любовь его, как совесть, донимала,
сумятица волос росла густей,
как в драной ризе, виснущей с костей,
достоинства в нем не было нимало,
и нищего пугался рой детей.
Просвет лица из тьмы, как из-под арок,
художнику был чуждый, но подарок
от человека из знакомой мглы.
Он холст когтил, цепляясь за углы,
и с сердцем, словно стиснутым в кулак,
затравлен страхом, в трепете воскрылии
душой летел к надежде, к тайной были
и думал обрести просвет в них или
окно-лазейку в никуда, во мрак.
Но не успел обресть — уже скользили
с картины взгляды и его спросили:
«Зачем же ты меня рисуешь так?
Иль так сидел я у твоей постели,
когда в бреду ребячьем бился ты?
Дополнение. Стихотворения (1894—1905) 271
И разве так глаза мои блестели,
сей кладезь храбрости и доброты?
А как я встал у гробовой плиты
над матерью твоей? В таком ли теле?
Иль позабыл меня ты в самом деле,
что нынче исказил мои черты?»
Как цвет, опавший тихою весной,
ждет, что его в траве покроют росы,
так нежно падали Его вопросы
и шелестели, точно ветр лесной.
Но живописец от стыда ослаб
и в нетерпенье, как пугливый раб,
цвет растоптал и грозно сжал кулак:
«Тебя всегда я видел только так».
А тот, кто был как грешник, вновь живет,
и во всю стену тень его растет,
и голос разливается зарницей:
«Ты думаешь, отец мой — не патриций?
Был бедностью я вскормлен бледнолицей,
и оттого наследной багряницей
алеет катова печать на мне.
Я с оцтом знатность не впитал и сице
реку: Царем я был в своей родне,
рабом же стал о смертном дне.
Стал в смерти Богом. Только неизвестный
бог мог бы быть велик в слепой и тесной
толпе, как бык, ревущей искони
о Господе. Но всё равно когда-то
добудет чернь, усердием богата,
богов себе с восхода и заката,
и вот в молитвах, как в руках у ката,
умрут они».
Исчез он весь, от пят до темени,
белый в копотном мраке,
но живописцу слова, как знаки,
веяли ласково из темени
вне времени:
«...Я в тех же ризах и в тех же нуждах
зябнуть друзей за собой поведу,
но пред очами душою чуждых
стану владыкою на виду.
272
Райнер Мария Рильке
пиши, как изранен чудесами
и скоробью кровавый мой багрец,
и над убогими волосами
духа вознеси венец,
и все сиянье любви вмести
в мою щепоть, дабы светом этим
я расточил без остатка детям
небо где-нибудь по пути».
ЯРМАРКА
Осенний праздник в Мюнхене. Блистая
от радости, Терезин луг — содом
с гоморрой, и толпа гостей густая,
артистов дел мясных, спуста болтая,
шагает полоротым чередом.
Девчушки, как пичужек чудных стая,
порхают парами за светлым днем,
а парни в шляпах, шагу прибавляя,
и франты местные прут напролом.
Лакеи на запятках, спесь являя,
и кучера — болваны с галуном,
извозчики, во всё нутро гуляя,
полощут глотки пивом и вином.
Все радостно, как бы в преддверье рая,
толкаются, восторженно взирая
на пестрый гомон и на гам кругом.
Лились взахлеб моря вина и пива,
и знатоки спознались с сим и с тем,
хвалили кто букет, кто год розлива,
а зазывалы пели торопливо
о том, какое нам представят диво,
как, словно вместе с Ноем, горделиво
они вернулись в истинный Эдем.
А на лотках коринка, груша, слива,
на вертелах телами терпеливо
прекрасных кур румянился гарем.
Дикарь, чумазый Телль, приподнял лук,
как будто держит он священный посох,
забыл рычать, мечтая о кокосах,
горбатый карла, будто бедный Мук,
вертится и кривляется вокруг
с усмешкой меткою в глазах раскосых.
Дополнение. Стихотворения (1894—1905) 273
Краснеет флаг на весь Терезин луг.
Средь каруселей яростнополосых
полишинель проделывает трюк
и, стоя на помосте, тюк да тук
на барабанных шкурах безголосых,
на драных, и в почтенных стоеросах
идет, как эхо ухает в утесах,
по барабанным перепонкам стук
И нет конца веселью и ухмылкам.
И по дорожкам, словно по прожилкам,
я сам кружил, не приходя к концу,
под стать нахалу или подлецу,
красоток встречных гладил по лицу
пером павлиньим в дерзновеньи пылком.
А мне в ответ на это, словно эхо,
звенит серебряная мелочь смеха.
Малютка улыбалась беглецу
Там, где телеги с бочками по торной
дороге волочили битюки,
толпа кипела страстью непритворной,
орал ребенок, пели мужики.
В девичьи ножки дальний вальс проворный
ударил и пришелся им с руки.
Звенело всё, любые пустяки,
и, от паноптикумов далеки,
дуэт играли бумеранг с валторной.
И, пробиваясь в этой суетне,
до будочки дойти случилось мне,
где буквами кривыми на стене
гласила надпись кратко и сурово:
«Здесь жизнь и мука крестная Христова».
И я, бог весть зачем, зашел туда.
За гривенник билетик без труда
купил, вошел и тут же изумился:
да чем владелец будочки кормился?
Я был один в музейчике пустом.
И кто бы здесь стал размышлять о Том,
который по евангельской науке,
как счастье, покаяние с постом
нам завещал, кончаясь в крестной муке?
274
Райнер Мария Рильке
Я видел звездный вифлеемский пыл
и как Иосиф дряхлый увозил
Марию на осляти; тут же разом
и храм, где смирный отроческий разум
гордыню книжников седых разил.
А вслед за тем и въезд в Ерусалим,
где Он, одной любовью лишь долим,
живет среди и грешных и простых
и чудесами одаряет их;
и день, в который грянет Он народу:
«Сын Божий семь» — и дать ему свободу
согласен будет сам Пилат,
когда Он, бледный, станет у палат
в венце терновом, а смиренный взгляд
от муки и потуплен и крылат.
И вот в уме наместника разлад,
он скажет «Ессе homo» невпопад.
В ответ рычащей черни торжество:
«Распни Его!»
В день казни, мук и мелочных обид
по манию правителей державы
был Он жестоко ко кресту прибит.
Настала ночь, и вот из туч трубит
багровой медью голос мести ржавый,
и алчут стерва черных птиц оравы,
и кровь, а не роса, покрыла травы.
Два татя слева на меня и справа
уставились. И воск их чел скорбит,
а стекла глаз блестят в глуби орбит.
Но взор Христов, как черное ущелье,
так вспыхнул из глубокого подчелья,
что кровь во мне метнулась, как в провал.
А желтый бог смежал и открывал
два века, синеватых словно пленка,
и грудь, худая точно у цыпленка,
вздымалась тихо, губы сжались тонко,
смертельно бледные от кроткой дрожи...
Сквозь строй зубов прорвался стон ребенка:
«Почто же Ты меня оставил, Боже?»
Я думал, ужас в сердце затая,
Дополнение. Стихотворения (1894—1905) 275
что жалостное страстотерпца слово
уже вложить в меня свой смысл готово.
Тут руки белые с креста крутого
упали, и Он стонет: «Это — я».
Но речь Его молчать обречена.
Передо мной лишь пестрая стена.
На ярмарке обманной мне слышна
вонь керосина, воска и вина.
«Проклятая мне доля суждена! —
он шепчет вновь, как из глубокой дали. —
У гроба грубого меня украли
ученики, которые едва ли
свои же суеверья понимали.
С тех пор со мною ямы больше нет.
Покуда звезды зыблются в зерцале,
доколе солнце в яростном накале
беснуется с весною на причале,
дотоль исхаживаю белый свет.
И все кресты возмездием мне стали,
и где бы столб смертельный ни вкопали,
иду туда, не стерши кровь с сандалий,
я — раб своей и муки, и печали,
и гвозди зло из язв повырастали,
и каждый миг приводит ко кресту.
Как совесть, каждый день невмоготу.
И как недуг живу я, умирая
в морозных храмах, где тоска сырая,
или в лепотах прибыльного зданья,
бессилен, но молитвами усеян,
бессилен, но отвержен и осмеян,
бессилен и у солнечной дороги,
и у часовен зябких на пороге,
кружась подобьем жалкого листка,
и стал я сам как Вечный Жид преданья.
Так жизнь его моей теперь близка,
смерть на живот меняя то и дело.
Как море белонощное — тоска,
которой нет ни утра, ни предела.
Так вот отмщенье тех, кто ради рая
погинул, за мои заветы умирая!
И ныне их за мной полным-полно.
Шаги и крики их я слышу...
276
Райнер Мария Рильке
Но
и мне отмщенье было суждено!
По осени вершится месть такая,
что люди, смертной страсти потакая,
льют сок огнистый на пустое дно,
а кровь из язв течет не иссякая.
И думают, что кровь моя — вино,
и пьют и яд и пламень заодно».
Пророчество ужасное! Оно
меня держало в страхе на отшибе.
Поток толпы столпотвореньем тел
ворвался и стоял подобно глыбе,
смотря на казнь, и нагл и оголтел.
И вис распятый на базарной дыбе,
и воск желтел.
НОЧЬ
За полночь. И за ручку чьи-то души
домой уводит темный час ночной,
А в «Ангельском» на полинялом плюше
уселись двое. В зале дым сплошной.
И половые желтые всё суше
глядят на них и ходят стороной.
Он с женщиной. А дальнего гарсона
совсем засыпал сон. Как на засов
закрыт он. Лампы вздрагивают сонно,
и стены тают в мороке притона,
и еле каплет время из часов.
Она склоняется. Из рукавов
волнисто-голубых, как пара псов,
чета морозных рук бежит влюбленно.
«Нет, бледненький, грустить здесь не годится!
Ты — нелюдим, ну как с тобой водиться?
Одни мы. Я красива и стройна.
За красоту! Да что же ты водицу?»
И на весь зал: «Эй, половой! Вина!»
«Я пить не стану», — и глядит в упор.
«Брось, миленький! Без мудрых поучений!
Шампанское, оно всего священней!
Дополнение. Стихотворения (1894—1905) 277
И пить тебя я обучу. На спор!
Иль у тебя какой зарок загадан?
Взгляни, как бисерится пенный бой!
Вот он и есть в соборах наших ладан,
покалывать стекло бокалов рад он...
Пей за любовь, не думай над судьбой!»
И пенистое золото до дна
она высасывает из бокала,
и он стоит пустой, мерцая ало.
Тогда белеющей рукой она
расстегивать фишю на шее стала,
и также, как морская глубина,
вздыхая волнами светлей опала,
вдруг остров выдохнет, теперь видна
из мрака шея. Руки шарят шало
по бледному соседу. Из груди
горячий шепот, близкий к поцелую:
«Ты еще молод! Не дури, не жди!
Хватай! Немного счастья впереди.
И не мечтай, и не живи впустую!
Охулки на руку ты не клади!»
Тут на него, как ветер, оголтело
неведомая сила налетела,
в душе студеной воля раздалась.
Он женщину схватил, как зверь, и враз
вонзаясь пальцами остервенело,
рвет шелк с нее и не спускает глаз.
Рука свинцом каленым налилась,
как будто захотел создать из тела
священный образ ярый богомаз,
вкруг тела, будто буря, обвилась,
и как ручей из темного предела
сквозь лед ущелья пробивает лаз
и хлещет, скачет, мчится обалдело, —
так и любовь напастью началась.
И занавес задернул он рывком,
и самый воздух сладок стал от стона,
который, как восторг во время оно,
гремел и рос, когда еще ни в ком
срам не был силе девственной препона,
охота же была сильней полона.
Он из истомы вырвался толчком,
278
Райнер Мария Рильке
на утомленное склонился лоно
и, озираясь, словно тать, кругом,
ей шепчет, будто бы бежит бегом:
«Меня судили именем закона.
Судья спросил так строго, словно с трона:
"Ты Божий сын?" Вопросу нет конца
и смысл его мне темен, как тогда,
когда меня бранили исступленно,
а я в ответ словами гордеца
им прогремел, как с неба, оскорбленно:
"Что нужно вам? Да, я — сын Божий! Да!
И мой престол одесную Отца".
Смеешься ты? Так плюнь в лицо мне! Я
твоей насмешки стою, скоморох!
И кары покаянья. Прав судья.
Нет, я — не Бог».
«Тебе немного надо,
миленок мой! Ведь от винишка в дрожь
тебя бросает. Нам оно услада,
а ты чуть выпил, как уж чушь несешь.
Нет, ты не Бог. О том ты и не думай!
Судить не станут, как судили встарь.
Но до утра, мой бледный и угрюмый,
ты можешь быть хоть малость царь.
Поцарствуешь? Тогда, дружок, постой,
дай я венец из роз тебе сострою,
как словно бы владыке и герою.
Подвяли! Ну да ладно и такой!»
И пальцы с небывалой быстротой
плетут венок, который — как оправа
листве поблекшей, но еще густой.
Плетенье, как его глава, курчаво,
а на нее стремится взор пустой.
Она хохочет, бьет в ладоши: «Ой!
Царь так уж царь ты! Браво! Браво! Браво!»
Уж зарится заря стрелять по цели,
на половицы стрелы полетели
в окно поблекшее. И слс-сяс
на крыше тает сумрак от тепла.
Но вот зевота женщину взяла,
и платье, что ей похоть сорвала,
Дополнение. Стихотворения (1894—1905) 279
она надела и бурчит со зла:
«Уж не в цари ль собрался в самом деле?»
Трясет его: «Иль захотел гулять?
Средь бела дня в веночке щеголять?
Неужто ты и впрямь блажной совсем?»
Он смотрит на нее и тих, и нем.
Но рвет она венок с него в насмешку,
летят цветы и листья вперемешку...
А он за розой хочет наклониться
и, плача, подобрать последний цвет:
«Мы грех наследный всех минувших лет —
я вечный бред, ты вечная блудница».
ВЕНЕЦИЯ
Девичья веет ночь. Дворцы молчат,
устав в прохладный дух воды клониться.
Ползут гондол немые вереницы,
как будто мертвых цезарей в гробницы
они влачат.
Одну из них далеко занесло,
в пугливый мрак каналов увлекая,
ибо любовь иль ненависть без края —
ее весло.
Вот дом, где мрамор стар, и сер, и сыр,
и вдоль державных свай давно гондолы
не заезжали в сей старинный мир.
Ступени ждут. И песнь, и стон мандолы
с канала Гранде гонит в ночь трактир.
Каналы откликаются, как долы.
Стал слухом чужестранец-пассажир
и бережет напев в душе тяжелой:
"Vorrei morir..."1
Плыл алый вечер понизу легко,
и каждый отблеск из палаццо Дожей
был на воде как след бича на коже.
Пред гордой лестницей он высоко
и одиноко встал, чужой прохожий.
Напрягся взгляд, на темный лук похожий,
1 Здесь: Ты захочешь умереть (um.).
280
Райнер Мария Рильке
и в то окно нацелился до дрожи,
где некогда томился Пеллико.
И он кивнул, как будто там, за шторой,
всё прячется поныне на заре
усталый мирный узник, тот, который
презрел борьбу и гнев, как назорей.
Авось он улыбнется, поскорей
откинув шторку. Если только имя
живет, как прежде, с грезами чужими
влюбленных тяжко и хранимо ими,
то он в окне, как в яростном зажиме
жары, поднимется, и станет зримей
улыбка сжатых узами страстей.
Пришелец улыбнулся. Вдоль перил
поплелся он по лестнице старинной,
где над ступенями покой парил.
Аркады гордо выгибали спины.
Как рощи каменные, их притины,
казалось, ждали жгучих слез мужчины —
так скорбен был пришелец — тот, Единый,
кто за страдание благодарил.
На мрамор переходов не смотря,
он двигался и тяжко и несмело,
и позабытой роскошью висела
на стенах грустно-алая заря.
От дрожи зашагал он торопливо,
и огласился переход тоской,
а заповедь о бренности мирской
в создателе откликнулась тоскливо.
Она росла в немых столпах всё злее,
как месть сыновняя, от гнева зрея,
отцу седому, ибо сын, робея,
себе на горе говорить посмел.
Помчался он в испуге и успел
спастись в совсем пустынной галерее,
и долго отзывалось в назорее
то, что усталый вал закату пел.
Вдруг шелест шелка, и пред ним клобук,
а на коленях старец в багрянице,
и тянется к нему, как бы томится,
молитва набожно сомкнутых рук
Дополнение. Стихотворения ( 1894 — 190 5) 281
И спрашивает старца Иисус
«Черны причалы, пустота на торге...
А где ж пиры и пестрые восторги?
И где заморский драгоценный груз?
Я жду и жду из древности седой
молельщиков, но нет их и в помине
Где Пападополи и Вендрамини
с серебряной, по пояс, бородой?
У вас в хоромах холод, как в пустыне,
и ночь живет в молчании палат,
зане вы умерли, и схоронили
потомки песнь и смех в одной могиле
в ту пору, чей язык был как булат.
И залежами улицы лежат,
лишь в песне полусонной к давней были
из серых окон под завесой пыли
воспоминанья скорбные летят.
К вам корабли уже не приплывают.
За вас решила всё судьба сама.
Повымерли надменные дома,
и только церкви живы и взывают».
И дож промолвил, рук не разжимая:
«Да, Господи! Морока смерти злая
ордой бессилия на нас нашла.
Но во весь звон Твои колокола,
и задаешь роскошные пиры Ты,
Твои палаты всем гостям открыты,
и в них на час бывают позабыты
ребячески лишенья и нужда.
Любой народ торопится туда,
когда он ищет, как дитя, защиты,
и ослепленно молится тогда.
Но стар я. И полет времен крылатый
я вижу, вижу день, когда народ
не потечет ребячески в палаты,
и хоть гневись во все колокола Ты,
дворец Твой будет пуст из года в год».
Старик умолк, выдыхая тяжело,
как ночь от звездного заполоненья.
Казалось, что коленопреклоненье
вздымалось и Христа переросло.
282
Райнер Мария Рильке
<ИУДЕЙСКОЕ КЛАДБИЩЕ>
Закат весенний. И чернеют четко
в рябящем свете камни и кусты,
и май кладет застенчиво и кротко
на мох могилок первые цветы,
как бы дрожащей ручкою сиротка
на каменные мамины черты.
Здесь уличной не слышно маяты,
отсюда прочь бегом бегут трамваи,
здесь на дорожках белых затихая,
бредут к пурпурной смерти день и свет.
Погост еврейский в Праге стар и сед.
И двор стоит, сквозь сумрак забелев,
где Спиро спит, язычник, грозный в воях,
и мудрецы покоятся, те, в коих
был светлый ум, вознесший высоко их,
а во главе премудрый ребе Лев,
о ком раввины сетуют в покоях.
В сторожке старой, где живет смотритель,
окно не спит, и вечер у дверей.
И вот немой походкою теней
скользит к могиле Ливы не Спаситель
улыбчатый, а бедный иудей.
И с бледных узких уст слетает слово,
во взгляде сто мучительных ночей:
«О горе! Как десницею своей
меня ты искалечил, Иегова!
Тебя не пощажу я, бога злого,
со мной в бою ты понесешь урон.
Кто дал тебе корону из корон?
Пусть веру старую со всех сторон
враги копьем жестоким прободали —
я с верою моей пришел из дали,
и гордый образ твой на пьедестале
по-новому был мною вознесен.
И я швырнул твое святое имя
людской толкучке: Се великий Он!
Душа моя покинула полон,
скорбями нагруженная земными.
Простор небесный пуст был и студен.
Дополнение. Стихотворения ( 1894— 1905) 283
И вот тебя не стало с тех времен
(иль даже вовсе не было), как я
побрел в пыли земного бытия.
Что мне была людей слепая рать,
когда ее не стал ты собирать
пред свой престол? А если только бред
их вера клянчущая, то тебе не стать
им Господом, зане тебя ведь нет.
Когда-то мнил я, что ты создал свет,
а я — твой голос из пространств и лет.
Родством с тобой, отец, я был согрет...
И если б не было тебя, создать
злодея из любви моей и бед
я дал бы в Гефсимании обет».
В сторожке свет смотритель погасил,
а по дорожкам в сумраке могил
разлился месяц голубым потоком,
и по-ребячески лукавым оком
с конька мигает шустрая звезда.
Христос раввину говорит тогда:
«Во славу Божию любил и ты
глагол премудрый вырастить из пота.
Какого, дурень, слушал ты деспота —
перебирать библейские листы?
К науке тайной, к бездне высоты
влекла тебя великая охота.
Откройся! Дай великой остроты
проклятье, чтоб с небесной красоты
соскоблена была лжепозолота!
Иль к алхимической причастен касте,
открыл ли ты такой огонь грозы,
который всё страшней и языкастей
готов из мести, как великой страсти,
лизать, как пес, вселенские пазы?
И ведом ли тебе сладчайший яд,
нежней он, нежли материнский взгляд,
а всех разит, как крохотных цыплят.
О счастье — целый мир сложить во гробы!
Где обрести такую горечь злобы,
дабы любому диким зверем стать?
284
Райнер Мария Рильке
И можешь ли ты в мирные трущобы
войну народов гнусную загнать?
И основать порядок новый, чтобы
безумием сердца воспламенять?
Возвысь же похоти их к беспределью!
Нашли на них чуму и орды мора,
дабы на ложе, нежась от позора,
мир от любви погиб со всей постелью!»
Хохочет Он. Могильный камень прячет
предсмертный зверя крик. Как высь, далек,
на май ночной венец прозрачный лег.
С полета видит черный мотылек:
Христос коленопреклонен и плачет.
Часть вторая
ЦЕРКОВЬ В НАГО
Деревушки эти бедны.
Не зайти ни с какой стороны.
Навстречу три хижинки вышли
на майский свет.
Благословишь ли?
А их уже нет.
Но воздымается в закат
церковь и подаянья просит,
как будто сама земля возносит
молитву великую малых хат.
Но, видно, бури был разгул
тому много лет.
По звоннице ураган полоснул,
на звоне колокол уснул:
молельщиков нет.
Веры ль не стало у сельской черни,
или молятся в храме другом?
На что-де обедни да вечерни?
И без них помрем!
А лозы, как прежде, под дождик вышли,
а розы в солнечном стали тумане.
Дополнение. Стихотворения ( 1894— 1905) 285
Без смеха, без слез живут поселяне,
твои прихожане.
Благословишь ли?
Сперва отдохнешь в сени алтаря,
а после к тем, кто тебя заметил,
сойдешь, в нагорном сумраке светел,
чудо творя.
Но знаешь ли, как им помочь в беде
и дать опору?
Сманишь ли малых с собой на гору,
чтоб разостлать их низинному взору
озеро Гарда в раннюю пору
с зарей в воде?
Горы ль подвинешь поближе к долине,
горы, подобные пуховикам,
чтобы отраднее старикам
спать на перине?
Ибо твоя есть власть над судьбою,
и, окружив тебя, как царя,
вещи послушно пойдут за тобою,
и побегут мосты гурьбою
чрез творимые моря.
Но нынче ты устал и продрог.
Или брели
ноги в пыли
дальних дорог?
«От моря к морю, — сказал он тогда, —
я сюда
шел по дорогам острым,
не зная,
что за мною былые дни
и мук, подобных белым сестрам,
меня обуяла толпа больная,
и плачут они».
Затих.
Я въяве услышал плач покорный,
увидел, как шел он в свой храм нагорный
медленно между камней немых
и скал крутых.
Свершался дорогами удрученными
его возврат.
286
Райнер Мария Рильке
Он станет в ряд
со всеми тенью омраченными,
их темный брат.
Но еще цел его дом,
в который моленья
нищих века вели.
Вернется домой он владыкой в пыли,
а проснется — и клонятся короли.
Царь земли
выйдет из алтаря
потом,
средь разрушенья
чудо творя.
Он входит ощупью во врата.
В храме черно, но мала темнота
и клубится медленно вдаль, как пыль.
Приносит в церковь с собой бобыль
вечность. Ее он развернул
молитвенными руками,
и ветер живым теплом во храме
по Божьему дому подул.
Лишь тут он узнал, что церковь лгала.
Где был алтарь, там теперь стоят
у яслей три коровы в ряд,
и сырую полову они дотла
из кормушки новой едят.
А вечности, принесенной извне,
не хватает и от стены к стене.
Робкой вечностью стала она,
ибо жизнь широка и полна.
И поблекший склоняет колени в пыли
тяжело.
Идет на него, по-детски дыша,
тепло.
И стал он, как царь из восточной земли,
без гроша.
<СЛЕПОЙ РЕБЕНОК>
У всех дверей бывал слепой ребенок,
и, красотою матери храним,
пел ощупью он голосом слепым:
Дополнение. Стихотворения (1894—1905) 287
«Я небе увидал еще с пеленок!»
И люди плакали над ним.
У всех дверей бывал слепой ребенок.
А мать его тянула за собой
от плача, и он шел от двери к двери,
и вновь стоял перед своей судьбой,
и пел, кромешной тьме всё больше веря:
«Вся жизнь лишь в лютне, в ней ведь нет потери».
А мать его тянула за собой.
Так разносил он песни по земле.
А на вопрос, что эти песни значат,
молчал он, но читалось на челе:
«Пока я вспышкой грозовою начат,
но стану жить я, как пожар во мгле».
Так разносил он песни по земле.
И находила грусть на всех детей.
И девушки, и робки и бледны,
вдруг делались на мать слепца похожи,
чьи песни были в их ночах слышны.
Они боялись — будут дети тоже.
И были матери больны.
Желанья их — как слово без конца,
как ласточек порхающая стая
вкруг той, которая вела слепца:
«Тебе, Пресвятая,
молюсь я, рыдая.
Судьба его злая.
Под купами гая
спаси мальца!»
У всех деревьев был слепой ребенок,
и, красотою матери храним,
он пел на ощупь голосом слепым:
«Я небо увидал еще с пеленок!»
И все они цвели над ним.
288
Райнер Мария Рильке
<МОНАХИНЯ>
Пришла к ней в келью русая белица,
прижалась к ней: «Меня ты успокой.
К чужим морям должна я удалиться,
в них литься бурною рекой.
А ты светла. Так дай мне просветлиться,
дай быть тобой.
Пошли мне мир, который ты таишь,
без страха, как еще никто не мог, —
пошли мне тишь,
да стану я скала, а не камыш,
вступи в поток».
Чуть-чуть ресницы иночески никнут
во мгле;
как будто легким ветром был окликнут
цвет на стебле.
Она движения долин хранила,
и животворною улыбкою
в венок она персты соединила
и наградила деву зыбкую.
И сблизились они от немоты,
и не было им смутного начала,
меж ними только ясное звучало
из темноты:
«Яви, Христова нареченная,
Господень дух!
Его любви ты, речь священная,
открой мой слух!
Пошли мне грусти,
скорбям Христовым утешительница,
искупленная искупительница
живущих впусте».
А та склонила скорбную главу
к груди:
«Сама в Начале Бога я живу,
и темен смысл тоски мне наяву,
и путь далек, минует он молву,
но я сестра, и я тебя зову:
иди!
Дополнение. Стихотворения ( 1894— 1905) 289
Откроется тебе вся напрямик,
обрящется!
И бренным страх с тобою лишь на миг
потащится.
Но если веришь, он слабеть начнет.
Отстанет сам,
еле живой.
Верь чудесам!
Я славлю муки гнет
моей былой.
Бывает ночь, когда поблекший срам
бежит,
и песнею во мне звенит
Иисус.
Душа моя дрожит,
когда к нему несусь,
а он открыт».
Сестра прижала ко груди сестру,
и обе были жарки и невинны.
«Тут дохожу я в жизни до вершины,
и я сижу на свадебном пиру,
и все кувшины — винные кувшины».
Обеих словно бурею одной
легчайшим телом к телу пометало,
а буря шла
и лето привела,
и зрела летом русая и стала
женой.
Как чужая лобзала сестру она,
улыбаясь едва: «Прости! Я должна...
Где он, русый, с кем я играла?
В старом парке с ним копья метала
в меты белые. Где же он?
Теперь он силен».
И черница не стала белицу держать,
не смогла ей в глаза взирать,
медленно отошла,
возросла...
290
Райнер Мария Рильке
Вскинула русая руки ввысь,
просила трепетно: «Не сердись!»
А та ей: «Мила ты мне, так страдай!»
И тянет руки пустей и мрачней
к ней,
моля ее: «дай!»
ИЗ СБОРНИКА «ТЕБЕ К ПРАЗДНИКУ»
Перед беседкой тени стали робки,
в предвестье чуда шепот твой затих.
Всей верой ставлю вдоль укромной тропки
твои слова, как статуи святых.
Люблю тебя. Упали наземь пяльцы,
спят руки на коленях, как в гробу.
А жизнь моя мотком легла под пальцы.
Возьми же нитки, размотай судьбу!
* * *
Есть в жизни добро и тепло,
у ней золотые тропинки...
Пойдем же по ним без запинки,
жить — право же, не тяжело.
И тишь и грозу любя,
мы знаем их норов всегдашний:
меня — грозы делают башней,
тишь — в шелка облекает тебя.
292
Райнер Мария Рильке
* * *
Ты сумеркам огромным взглядом
улыбаешься слегка,
а на коленях, с ним рядом,
белеет юная рука.
Нет, не истома ей желанна.
Она легла, как слух, и вот,
как на клавишах органа,
нового хорала ждет.
ИЗ СБОРНИКА < МНЕ К ПРАЗДНИКУ»
(первая редакция)
* * *
Снится мне узор вечерних риз
над старинным жреческим обрядом.
Долгий сумрак в воздухе повис.
Черная весна прошла к оградам.
Над водой, венчая узкий мыс,
словно дым, вздымается над садом
кипарис...
Скорбь моя не похожа на те
вздохи минутной печали,
где слезы вспыхнут вначале
и тают в тихой мечте.
Скорбь моя — с молитвенным взором,
где весна не приносит цветов,
как сад с высоким забором
средь пыльных серых домов.
294
Райнер Мария Рильке
* * *
Их легкие ласки и лепет увлек,
смеялись, сплетались, шептали,
но только прошли за вечерний порог,
друг друга они не узнали.
«Где же ты?
Где же ты?» —
повторяли опять,
заблудились в лесу от испуга
и долго там будут бежать, и искать,
и мечтать о слезах друг друга.
* * *
Девушки в порту кого-то ждали,
жались друг ко дружке, как во сне,
а леса за дюнами стояли
хмуро, неготовые к весне.
Просверкав над тишиной боров,
бурь былых повисли паруса:
словно ряд готических соборов
поднялся пред ними в небеса.
* * *
Только темная ночь настает —
в старых кварталах, бессменно,
там, где медленный ветер бредет,
слышу песен усталый полет.
И каждая в страхе ждет,
как дитя, боясь тишины, —
все хотят, чтобы бледной, нетленной
рукой их взяли из плена
в белые сны.
ИЗ ЦИКЛА «МОЛИТВЫ» (1899)
(ранняя редакция книги «Часослов»)
С Тобою вместе красоты лишь ради
я посвящен творенью одному;
мы как иконы в дорогом окладе,
и я как кисть — то в горе, то в усладе —
венцом злаченым озаряю сзади
Твоих рамен немую тьму.
Смысл бытия во красоте един:
что лживый срам с застенчивого тела
содрать покров была дана ей власть.
Звериная пред ней смирилась страсть.
Тоски и грусти нежную напасть
она венцами узкими одела.
Она вздымает иго блага смело,
единый праведный судья...
Начало Ты, о Господи, а я —
Твой раб и новый Твой зачин.
Она же не положит нам предела.
* * *
Сверкают в келье светлые гвоздики,
как через крышу звезд далеких блики
сквозь думы в душу мне глядят без слов.
296
Райнер Мария Рильке
И я готов
стоять в саду безветренном на стыке
осенних дней, трудов и вечеров:
Ты здесь во мне свершился, седобров.
Всего нежней Ты здесь себя явил,
хотя бываешь иногда и скрытый:
здесь я Тебя любовью возносил,
своею всею сутью ненасытной,
в себе, как в ризе аксамитной,
я нас окутал и укрыл.
Во мне и сила и покой,
за чувства ныне я ручаюсь,
когда домой я возвращаюсь,
то лишь с одним я и встречаюсь —
с Тобой грядущим, лишь с Тобой.
СТИХОТВОРЕНИЯ,
НЕ ВОШЕДШИЕ В ЦИКЛЫ И СБОРНИКИ
ЗАБЫТЬЕ
Уже старик рыбак вернулся
и на покой уводит челн,
а я на дюнах растянулся
и вслушиваюсь в пенье волн.
Звучит мелодией хорала
их песня, дивно хороша...
Уже забота задремала,
и вслед за ней уснет душа...
ПАРК ЗИМОЙ
Замела зима аллеи,
бриллиантами пыля.
Спит заря меж тополей и
блещет жарче и алее,
чем корона короля.
А с веранд в морозной рани
плющ, от инея светясь,
свис, как с края или грани
веницейской филиграни
серебра свисает вязь.
298
Райнер Мария Рильке
СВИДАНИЕ
Ливень ужасный. «О чем ты хлопочешь?
Что ты затеял? В гостиницу?» — «Нет». —
«Церкви закрыты». Но вот мой ответ:
«Эй, ты, возница, вези куда хочешь!»
Пьяным такой экипаж на потребу,
жалкая кляча — везет не везет,
кучер багровый до хрипа орет,
а в экипаже — ты, я — и небо.
НО, СУДАРЬ МОЙ
...сидел напротив меня
и держал
румяное крылышко рябчика
кичливой, веснушчатой
мещанской лапищей.
Крохотные глазенки
ухмылялись под толстыми веками:
«Блаженство!»
Так светятся пушечные проемы
на крепостных валах.
Ну и рябчик же это был!
Пальчики оближешь.
Потом забилась волна рейнвейна
о кривые желтые зубы,
яростный виноворот
пенится в пещере
огромного рта
и рушится в бездну.
А он икал и урчал,
держа зубочистку
в слюнявых губах,
расстегнул две пуговицы на жилете
и забурчал:
«Ну чего же вам все-таки нужно?
Боже мой, жить вам есть где,
да и не голодаете.
Времена, извиняюсь, плохие.
Так чего же вам еще,
если здоровы».
Дополнение. Стихотворения ( 1894— 1905) 299
«Ах, сударь мой!
Ешьте себе на здоровье рябчика!
А на меня, понимаете, находит —
и тогда мне хочется
щипать облака,
ночными ветками тополя
пририсовать усы месяцу,
и чтобы звезды были
у меня в портмоне».
AVE
Я знаю погост за оврагом,
там всё кругом цветет,
там время мерным шагом
походкой монаха бредет.
Стоит тот погост в отдаленье,
там ночью огни горят,
а рядом, в соседнем селенье,
давно уже дети спят.
ТВОРЕЦ
Не часто в жизни промчавшейся
нежданно касался нас
тихонько к нам постучавшийся
вечности творческий час;
как щемит и сжимается грудь,
мы остались вдвоем:
«Ты мне гостем единственным будь
на пиру одиноком моем».
* * *
Сиротских мальчиков прогулкой дальней
по улицам проводят в воскресенье;
на белокурых — тень листвы осенней,
а темноглазые — еще печальней.
300
Райнер Мария Рильке
Они прошли — и опустел газон,
и дали улиц глубже и светлее,
и, как зеленый занавес, аллея
смыкается над ними с двух сторон.
А в сером доме с лестницей отвесной
ребенок одинокий у окошка
задумался: в приюте — сад с дорожкой,
и почему сироткам хоть немножко
не порезвиться дома в день воскресный?..
Стихотворения, посвящения и наброски,
не публиковавшиеся при жизни автора
* * *
Что делал бы я, не будь мне дана
способность песни слагать?
Когда по земле проходит весна
и поет — могу ли молчать?
И как бы я знал, что поет соловей,
что шепчет ручей в тиши, —
когда бы не эхо в груди моей,
не отклик моей души?
Любимая, как пережил бы с тобой
я нашего счастья пожар,
когда бы не этот заветный мой
песни божественный дар?..
МАДОННА
...Она метнулась в церкви к аналою
и пала пред мадонной в исступленье:
«Дай мне вкусить от твоего покоя,
даруй, измученной, мне исцеленье».
Но всё струился дым голубоватый,
и всё сверкали золотые розы,
пречистая не изменила позы —
она ведь не бывала виноватой...
Дополнение. Стихотворения (1894— 1905) 301
* * *
Пусть от бесцельных скитаний
ноги в пыли,
все-таки вижу в тумане
звезды вдали.
Пусть я, как девкою блудной,
осмеян толпой, —
путь мой, высокий и трудный,
увенчан мечтой
* * *
Язык исчерпан весь до дна.
Хотел бы углубиться в слово
и знать, как, солнечно-багрова,
святая кампанила снова
в оливы вся погружена.
Старье трущоб изобразить,
где рой мальчишек нищих вьется,
но верный тон мне не дается —
и песенка не создается,
чтоб в этом воздухе парить.
ВЕНЕЦИЯ
Канал и ночь. Соборов своды
сиянием заволокло.
Огни безмолвно режут воды,
гондолы дышат тяжело.
Пришелицы из дальних странствий,
они всплывут, а погодя
рассеиваются в пространстве,
чужими в вечность уходя.
* * *
Вокруг — всё слух. А что такое
творится, не поймешь пока.
Воздеты в жреческом покое,
как руки, крылья ветряка.
302
Райнер Мария Рильке
Вечернее краснополосье
закрыла ночь, как синий чад.
Она растет. Ее колосья,
налившись, тяжело журчат.
ОСЕНЬ
Дни из солнечного шелку.
Осень кроткая светла.
Блекнут астры. Втихомолку
всё кого-то ждет ветла.
Пусто. Только чередой
ходят люди в дальном поле,
но не слышно песен боле
над притихшею страдой.
* * *
И это чудо: знать слова простые
и научить их, как им жить в стихах;
и это чудо: стебли трав сухие
носить короной царственной в кудрях.
И это чудо: утоляя жажду,
и воду освятить и водоем
и в дебрях жизни обрести однажды
свой путь в страну, что вечностью зовем.
СТЕФАНУ ГЕОРГЕ
Когда, как ты, от суеты сбегаю
и в одиночество спешу сокрыться,
я к образам поблекшим не взываю,
листая стародавние страницы.
В потемках ниш их лики застывают,
не внемля клятвам; и когда лишь клубы
кадильниц их обличья размывают,
то кажется: они разжали губы.
Дополнение. Стихотворения ( 1894— 1905) 303
Но стоит устремиться к ним душою,
улыбки их тускнеют торопливо;
и вновь они становятся собою
в холодном алебастровом покое;
и руки опускаются стыдливо.
* * *
Сны в ожиданьи смотрят на меня,
пугливой красотой своей волнуя,
и молча ждут, когда их позову я,
поскольку звук их арф незримых — я.
Они поют, и их слова порой —
как у тебя; нет, побледнее всё же:
на лики под водой они похожи,
твои — играют с ветром над водой.
СУМЕРКИ
Темно и тонко комары звенят
по всей дороге длинною струной,
а тучи молча бог весть чем грозят,
вися над робкою страной.
Лес отвернулся мрачный и ночной,
и время спит.
Никем не узнан, вечер стороной
пройти спешит.
* * *
Нежны, прозрачны вечера,
и эта тихая пора
вещам всего милей;
ведь вещи в дружбе с тишиной,
и льется теплою волной
молчание вещей.
И время, канув в тишину,
так немощно течет,
и вещи вольные в поход
вновь собираются в страну,
где всех их вечность ждет.
304
Райнер Мария Рильке
СТАНСЫ
(из стихотворений к Пауле Беккер-Модерзон1)
Я с вами там, в вечернем освещенье,
и жизнь моя пылает и поет.
Я говорю, — но с прежним нет сравненья, —
привычных слов утрачено значенье,
так пусть мое молчание цветет.
Ведь песня — это многих душ молчанье,
что из души единственной звучит.
Вот с нами скрипка говорит —
мелодия расходится лучами,
но глубже всех скрипач молчит.
Я с вами, робко внемлющие, с вами...
Я одинок, но наша связь крепка.
Меня не украшайте именами —
я с вами и без слов, издалека...
Так сад, лишенный свежести полей,
таит слова далекой вольной сказки
в тиши своих задумчивых аллей...
Вы чувству моему близки. И думам
заветным. Те мгновения равны
иным часам с безбрежным белым фоном,
когда ищу звучаний тишины.
О музыка! Ты властвуешь над шумом,
тобой в едином звуке воплощенным, —
нанизывай жемчужин ожерелье...
В предмете всяком некто заключен.
Раскройтесь, двери каждого предмета!
Дыханьем музыки согрета,
цепь образов протянется дрожащих,
друг друга за руки держащих,
послушных повеленьям ритмов строгих,
которыми мы измеряем время...
На их челе — венков цветущих бремя,
они выходят из жилищ убогих...
1 Паула Беккер-Модерзон (1876—1907) — немецкий
художник-экспрессионист, автор портрета Рильке (1906 г.)
Дополнение. Стихотворения (1894—1905) 305
Я с вами, жаждущие песнопенья, —
звук бесконечен, но случайны мы;
без страха жду последнего мгновенья...
Ты, музыка, творишь. В твоем творенье
единственность сквозь множество дана.
Ты созидаешь образцы природы:
из многих жен сотворена Жена,
из девушек цветущих — хороводы
весенние, что вьются вереницей...
И мальчики к тебе подъемлют лица —
они уже тобой опьянены, —
и старцам немощным твой голос снится,
и, пред тобою склонены,
мужчины тайной звуков смущены...
Я с вами. Между братьев и растений
я сходное спокойствие встречал,
лишенное боязни утешенье
подобно сну. Вкушая наслажденье,
ты счастлив тем, что в этот миг познал.
Простая жизнь течет под небесами,
как навсегда открытые пруды,
ведущие беседу с облаками,
рождающие день с его ветрами
над ровною поверхностью воды.
Я с вами всей привязанностью чистой —
так любящих сестер благодарят;
души моей девический наряд
так скромен, только кудри шелковисты...
Я рук ее не чувствую прохладу,
вкруг башни каменной брожу —
мечтаю, как ее освобожу,
как принесу ей вольность и отраду...
А я предамся ветру земному,
и он увлечет меня к той стене,
за которой в смутной, неясной печали
душа моя стонет... Ее вы узнали,
ее запомнили с той поры,
души моей нежные две сестры...
306
Райнер Мария Рильке
Побудьте же с ней при луне,
с такою прекрасной, с такой далекой.
Побудьте с невестой моей синеокой.
Скажите ей всё... О себе. Обо мне.
ДОМ
(из пояснений к картинам Генриха Фогелера1)
На небесах одна звезда забыта,
дом ждет, а утро раннее в пути.
И окна, далей полные, открыты
всему, чему дано произойти.
Грядущее глядит ему в лицо, —
еще деревья спят в пространстве тесном,
и думает о завтрашнем, чудесном
его крыльцо...
Трясина, зыбкий, темный водоем!
С тобой рассталось небо, но вернется,
тяжелыми звездами колыхнется —
как доля в одиночестве твоем.
Иль в этом городе ты посреди?
Дышу дыханьем здесь я: лишь оно
на здешних улицах, а из труди
забрало воздух небо, лишено
от горя первых звезд, а он вдали.
Но полный город где, в какой он теми?
Тут пропасть есть, и эта прорва глубже
морского дна. И я лежу со всеми
как тяжкий груз, как часть их общей гири.
О вас подумать бы, леса и шири
морские, ветреные дали, ночи,
когда летят деревья мимо сами
и за чужими гонятся мостами,
а сёла в лунном свете словно снами
проходят, чтоб застыть, их увидав.
1 Генрих Фогелер (1872—1942) — немецкий художник.
Дополнение. Стихотворения ( 1894— 1905) 307
Мое лицо от света исказилось;
когда б оно, как прежде, осветилось
той тьмой, которая есть тайный яв.
* * *
Шумит поток... Но кто владеет
фонтанами, затихшими садами
и ветром в одиночестве полей?
Кто сделал, чтоб свершалось перед нами,
у нас перед глазами,
движенье смутное вещей?
Кто обнял мир вечернею порой?
Кто нежно так его к себе прижал?
(И разве же никто не замечал,
что кто-то поднял этот шар земной
и скрыл тихонько под своим плащом?)
В чьем взгляде любящем я отражен,
я, существо без формы и границы?
А ночью, когда в тень уходят лица,
к каким еще вещам я приобщен?
РОДЕН
<Набросок>
Стоит одинокий ваятель,
нестареющий созидатель
своих созданий.
И на руках его распростертых
парят, как на крыльях, вещи.
Наедине со своими руками,
в тяжелом круженье
рождающими камни.
Между каменных мертвых пород
он бессмертным камнем живет.
308
Райнер Мария Рильке
<Вторая редакция>
Он — детства и старости отрицатель.
Его юность — в юности камня.
В его возрасте — безмерность исканья.
Одиноко стоит создатель
среди своих творений;
и ощупывает вещи свои вожделенней, чем
океаны
пальцами волн — страны.
Вещи, как звезды, его обстали
и в звездные картины слились.
Он выстраивает свою близь
с размашистым жестом дали.
РОДЕН
Кларе. Нежной матери. Художнику.
Подруге. Жене.
I
Жизнь мастера уходит в даль времен,
как будто бы она — уже преданье;
нам о его вещах дается знанье,
но не о нем: нам недоступен он.
Мы далеко от мест, где своевольный
поток снес мост и своенравно тек;
мы слышим то, что миновало: волны
и старой книги тихий шепоток;
он обогнал нас, путь к нему далек
И привыкаем, в ожиданье встречи,
что близкий друг маячит издалече,
где он всегда безмерно одинок —
он, камни научивший тихой речи.
II
Путь мастера, темнея, убегает
в свое начало, в старые века.
Дополнение. Стихотворения ( 1894— 190 5) 309
Он — вечно одинокая тоска,
ему, как морю ночью, слух внимает.
Откуда он? Пришел издалека.
А мы? Откуда мы явились сами?
Наш путь, как ночь и лес, незрим для глаз.
Чем мы богаты? Как стары сейчас?
Нет, наших ламп опасливое пламя
не озарит ни разу нас —
всегда короче долгий бег, чем путь.
И это — жизнь: не ведая, не зная,
всё видеть и дрожать, склоняя выи —
и ярко, по возможности, сияя,
как свечка, где вокруг одни чужие.
* * *
Где весны моей взлет?
Иль она уж умчалась?
Где ответ? Или ветром его унесло?
Всё, что снилось, грустилось, мечталось
и читалось, — прошло.
Мне, быть может, еще предстоит
то, что жизнь ждала от меня...
* * *
Был день — и вдруг исчез он, как закат,
и потеряли смысл его детали.
Я знаю: улочки просторней стали,
и реки в одиночестве спешат.
Совсем другим моя душа живет —
тем, что не происходит наяву,
а лишь, как вещь, блестит сквозь синеву
и холодком далеким отдает.
Дома уже ушли в себя, темнея. —
310
Райнер Мария Рильке
Но чувствую я всё, что там — вовне:
во мне проходит день зверей, пустея,
отрадный день безветренной аллеи,
и гаснет каждой розы день во мне.
ДЖОННИ ГИБСОНУ1
Так бывает, и с нами порою бывало:
словно за дверью, жизнь остается вдали;
всякий избранный путь снова к началу
нас приведет, будто по кругу мы шли.
Всё же когда, перейдя от гнева к надежде,
к жизни прорвемся иным, непривычным путем,
то и она к нам придет, не чужою, как прежде, —
теплой, открытой, своею, как обжитый дом.
Радость тогда для нас превратится в призванье,
в плод наших ищущих рук, в созидательный труд,
прежних загубленных дней прекратится страданье,
дни эти к новому, к высшему нас приведут.
Всё не таким представлялось в мальчишеском детстве,
многое было и вправду только пустою игрой
и оказалось случайно с тобою в соседстве, —
нынче действительность ты получаешь в наследство,
то, что даешь ты, — вступает в жизненный строй.
Ибо действительность — то, что вокруг создавали, —
вот оно, здесь, и великое кроется в нем;
люди множество раз просыпались, вставали,
думали, строили планы, любили, страдали —
всё это с нами, мы с этим живем...
* * *
Пустите, я пройду тихонько мимо,
как дождик, мельком трогая людей,
неудержимо никому ничей
и чувством будничным не одержимый.
1 Джонни Гибсон — знакомый Рильке, поэт останавливался в его доме в Гете-
борге (Швеция) в 1904 г.
СТИХОТВОРЕНИЯ И НАБРОСКИ
ИЗ ДНЕВНИКОВ И ПИСЕМ
ВО ВРЕМЯ ДВУХ ПОЕЗДОК ПО РОССИИ
(24 апреля — 22 августа 1900)
МНЕ ПРИВИДЕЛОСЬ СНОВА:
...никем не обретённая страна
во мне ещё прекрасней жаждет стать,
что ладом и теплом души она
моим стенам и впору и под стать,
что для своей игры она вольна
закон моей скрипицы перенять.
Что к морю должен я направить путь,
где в тёмной бухте начинался я,
и чутко жить там, — в ожиданье дня,
где каждая случайность или суть,
со встречным ветром вдруг войдёт в меня...
17 апреля 1899
БОГИНЯ ГРАЦИИ1
Она на синем возникает,
куда столь много рек впадает,
чьи дали звёздно высоки.
1 Внесено в дневник с примечанием: «Москва, Музей Щукина, перед
японской картиной в верхнем светлом зале: ( май 1900)».
312
Райнер Мария Рильке
И рыбий бог по глади моря
легко несёт её, ускоря
счастливой ношей плавники.
Из жабр, дождливый выдох длится —
как вырывается вода.
И с красотой её тогда
волна, бурля, готова слиться
и чувство, ровное всегда.
К ЕЛЕНЕ1
Я СЛЫШу: ЗВОН, ЗВОН
из комнаты, в отдаленье.
Язык часов отзывчив, как пенье,
и говорит,
что не только время, пожалуй,
означает он.
Он: как если бы жемчуга ссыпались
из диадем и корон;
он: как ласка со всех сторон —
так эльфы, наверное, перекликались...
И я в радости небывалой,
когда они бьют
и звоны колечками-голосами,
над залой
и над часами,
как улыбка, плывут...
ПЕСНЯ ДЛЯ ЕЛЕНЫ
Нам нужен тёплый дождь, как счастье,
такой, как в эти ночи лил на сушь, —
так, видно, небо возлагает пясти
на жаждущие струны наших душ,
когда весна из края в край.
1 Это стихотворение и следующее написаны в Петербурге 29 апреля 1899 г.
и обращены к Елене Ворониной (1869—1954), одной из «русских знакомых», с
которой Рильке встречался и вёл длительную переписку.
Из «Книги Картин»
313
Песнь ветру дай,
и пусть с ней вдаль несётся,
ее бойся, что утрачена она:
твой страх вдруг звонким миром обернётся,
раз песнь твоя окрылена.
<В АЛЬБОМ Ф. ФИДЛЕРУ^
В чужой стране — и россыпь столь глубоких
и чтимых мной творений мне досталась:
я этой книге до восторга рад.
Как сеть огромна, как широк захват:
карандашами тихими сплеталась,
но выловила из морей — далёких
и близких — погребённые короны —
и подняла!
*
...Вдали от чуждого хочу идти один,
за камнем камень строить жизнь мою
не из руин, что были встарь дворцами,
а из камней обтёсанных волнами,
из глыб, ещё торчащих средь равнин...
Плавание по Волге, перед Казанью,
около 28 июня 1900
*
...И вдруг вбежали в красных дугах кони,
как будто бы во много красных врат,
пылает вечер в колокольном звоне,
и, как у моря, все дома стоят...
1 Φ. Ф. Фидлер (1859—1917) — переводчик русской поэзии на немецкий
язык, составитель антологии «Русский Парнас» («Der russische Ра rrnass», Дрезден,
1889 г.); жил в Петербурге, где и навестил его Рильке.
314
Райнер Мария Рильке
ЗНАМЕНСКАЯ1
Иконописец, рисующий Богоматерь:
Ах, как рыжее дитя (нежней!)
золотую линию веду я,
лик и двери алтаря рисуя,
позади которых сто свечей.
Дгсю по одеянию мазок
Боязно — по складкам закруглённым
и рукам, как крылья вознесённым
над плечами и карминным звоном;
путь вокруг тебя широк
Маленькой тебя творим
в тёмной глубине иконы:
будь, живи, мы бьём поклоны,
сына, как во время оно,
путь вокруг твоей короны
вводит к кротким и благим.
Не стесню тебя я, знаешь,
робостью моей черты, —
и над контуром сияешь
милостью великой ты.
Знаешь, не вцеплюсь, ревнуя,
в синий плащ твой почему:
нежно правишь ты, волхвуя,
не в одном моём дому.
Как ты распростёрлась мудро
надо всем. Твой мир велик
Солнце красное всё утро
в створку зрит в твой тихий лик.
1 Чудотворную икону Богоматери «Знамение» (с молитвенно воздетыми
руками и младенцем на груди) Рильке видел в соборе Знаменского монастыря в
Москве. Кроме того, в Москве Рильке приобрёл ларец с изображением
Знаменской Богоматери. «...А когда я выучу язык и смогу говорить на нём, я буду
чувствовать себя до конца русским. Тогда трижды, как православный, я поклонюсь
Знаменской (написано по-русски — В.Л.), которую люблю больше всего» (Из
письма Рильке к Е.Ворониной от 27 июля 1899 г.)
Из «Книги Картин»
315
Верим, каясь пред тобою:
ты — голубка, и собою
ты бела, кротка, нежна.
С вечера, на время сна
входишь в образ, как листвою
тихий мир свой погребя;
и сникая, на коленях,
в подбородок (в умоленьях!)
лобызаем мы тебя.
Майнинген, 8 августа 1899·
ЯЗЫК ЦВЕТОВ1
1894
Не веришь ты в правдивость слов,
и в письмах видишь ложь —
быть может, ты язык цветов,
любимая, поймёшь.
Где ступаешь ты по лугу,
и не веришь ничему,
всё цветок тебе как другу
скажет — ты поверь ему
В ветре солнечной погоды
речь цветочной шепотни, —
дети матери-природы:
слушай, что гласят они.
Амариллис
Все пускай меня отринут,
обойдусь без них вполне.
Видишь, всеми я покинут:
милая, спеши ко мне.
Цикл стихотворений из первого сборника Рильке «Жизнь и песни» (1894 г.).
Из «Книги Картин»
317
Лесолюбка
Звёзды выплыли, светлея,
и раскрыла я цветок.
О, мой друг, приду к тебе я,
лишь назначь заветный срок.
Крыжовник
Ради дальнего расчёта
строй себя и свой очаг.
К чести верная забота,
домовитость — добрый знак
Дуб
Действуй, следуя посылу:
как ни трудно, устою;
веруй в собственную силу,
веруй в выдержку свою.
Бузинник
Роза, я тобой изранен;
что ты колешься, маня?
Видишь, как я постоянен,
верь мне и не мучь меня.
Шпорник
Разве не хочу тебя я,
в поле всем ветрам открыт,
разве не стою, блистая:
смелым мир принадлежит!?
Барвинок
Суд у молнии суровый,
трус всечасно кары ждёт.
Счастлив, кто надеждой новой,
новой радостью живёт.
318
Райнер Мария Рильке
Камелия
Говоришь — и речь ужасна,
если без души она.
Да, как мрамор, ты прекрасна,
и, как мрамор, холодна.
Боярышник колючий
Не сорвёшь, иль, болью мучим,
после волю дашь слезам —
друг, я должен быть колючим,
я тебя жалею сам.
Орхидея «Венерин башмачок»
До работы, до работы
взвесь все да и сверь все нет,
и введи в свои расчёты
каждый стоящий совет.
Астра
День мрачнеет, хлад изводит —
пялишь в будущее взгляд.
И гляди! Зима проходит,
и весна спешит назад.
Калина
Ты вчера мне говорила
про любовь и про мечты:
а сегодня всё забыла; —
как непостоянна ты!
Левкой
Как щедра на уязвленья,
как насмешлив твой посул —
всё же я для примиренья
честно руку протянул.
Из «Книги Картин»
319
Первоцвет
Не стремлюсь в букет попасть я,
люб мне мой наряд простой.
И нет выше в жизни счастья,
чем согласие с собой.
Шиповник
Не обманывай в надежде,
в сердце не играй моём!
Честно расскажи мне прежде:
Что сулишь? Грустишь о чём?
Плющ
Вверх и вверх стремлюсь, ревнуя,
к твоему окну скользя...
Сблизится с тобой хочу я,
стать хочу счастливым я.
Горицвет
Лишь три слова, но немею
и в себе я их томлю —
Глянь: дрожу я! Глянь: краснею!
Видишь: Я тебя люблю!
Кукушкины сапожки
Знаю точно: жажда власти
для любви страшней, чем яд:
не найдёшь её, как счастье,
не вернёшь её назад.
Фиалка
Ты укромно расцветаешь,
с первым веяньем тепла,
всех к себе располагаешь,
всем и каждому мила.
320
Райнер Мария Рильке
Герань
Нет покоя ни минутки,
я себя от мук не спас;
успокой, — твои же шутки
ранят сердце всякий раз.
Гиацинт
Сердце бьётся в паутине,
ах, как рад, как счастлив я:
я навеки твой отныне,
и вся жизнь моя — твоя.
Нарцисс
Бессердечный, ты, играя,
сам меня в обман вводил, —
вынужден любить тебя я,
как всегда тебя любил.
Вьюнок
Льстец тебя оберегает.
Друг твой правду говорит —
он и чести не теряет
и доверьем дорожит.
Георгин
Ах, награды, даже малой,
добиваются трудом.
Завоюй любовь сначала;
заслужи её потом.
Мирт
Даже мысль меня пугала,
ждать не ждал, мечту тая, —
но и утро не настало,
как уже был счастлив я!
Из «Книги Картин»
321
Девясил «Христово око »
Красота и юность — эти ль
свойства, коим нет цены?
Простота и добродетель —
красить женщину должны.
Клевер
Я немного желаю —
внутренне сердца связать.
Узы, коими спрягаю,
можно дружеством назвать.
Анютины глазки
Злая болтовня людская —
ей не вторь и не служи,
осторожно отделяя
правду от бесчестной лжи.
Бордюрная трава
Ах, как розу молодую
боязливый мотылёк,
виновато я целую
так тебя, о, мой дружок
Цвет яблони
Пусть, как горы, волны встали,
обрати свой взор вперёд. —
Где тебя в туманной дали
будущее счастье ждёт.
Незабудка
Жизнь остынет в час ненастья,
но не изменю огню;
чудо сладостного счастья
я, как память, сохраню!
322
Райнер Мария Рильке
Страстоцвет
Давят тучи грудой серой,
не сдавайся, милый друг,
жди, люби, надейся, веруй,
и проглянет солнце вдруг.
*
Говорят цветы природы,
только их услышь, любя!
Ведь их лепет в дни невзгоды —
утешенье для тебя.
Как благое предвещанье,
луг и вширь и вдаль раскрыт —
истинное ликованье
мир земли тебе дарит.
Но спасёт и в жутком мраке
стойкость, сила правоты —
потому что в каждом знаке
руку Бога видишь ты.
СОДЕРЖАНИЕ
Евгений Витковский. Райнер. Мария. Орфей 5
В. Летучий. «Идя по следу поэта...» 37
ИЗ СБОРНИКА «ЖЕРТВЫ ЛАРАМ»
В старом доме. Перевод А Виска 49
На Малой Стране. Перевод С. Петрова 49
Дворянское гнездо. Перевод С. Петрова 50
У Святого Вита. Перевод С.Петрова 50
В соборе. Перевод С Петрова 50
В часовне св. Вснцсяя. Перевод С.Петрова 51
Из чердачного окна.Перевод С.Петрова 51
Ноябрьский день. Перевод С. Петрова 52
У капуцинов. Перевод С.Петрова 52
Вечер. Перевод С. Петрова 52
В монастырских коридорах Лоретто. Перевод Т. Сильман 53
Весна. Т. Сильман 5 3
Страна и парод,.Перевод С.Петрова 54
Ангел. Перевод А. Виска 54
Ночью. Перевод А Виска 55
На Волшане. Перевод С.Петрова 55
Зимнее утро. Перевод С. Петрова 56
Фонтан. Перевод С. Петрова 56
Майский день. Перевод С Петрова 56
Царь Вечер. Перевод С. Петрова 57
Святые. Перевод С. Петрова 57
Начало весны. Перевод В. Летучего 58
Когда я поступил в университет. Перевод Т. Сильман 58
Вопреки. Перевод С. Петрова 59
По-осеннему. Перевод С. Петрова 59
Вечерняя прогулка. Перевод Т. Сильман 59
Народная песня. Перевод С. Петрова 60
Летний вечер. Перевод А Виска 60
Сказка о тучке. Перевод С Петрова 60
324
Содержание
Ночная картинка. Перевод С. Петрова 61
За Смиховом. Перевод С. Петрова 61
Летом. Перевод Т. Сыльман 61
Вигилии. Перевод В. Летучего
I. «Поля уже в округе спят...» 62
II. «Окно открыто, я мечтаю...» 62
III. «Чу, в тиши забыться сном...» 62
IV. «Почти дитя, всю ночь она...» 63
Последний отблеск солнца. Перевод В. Летучего 63
Император Рудольф. Перевод В. Летучего 63
Из тридцатилетней войны. Перевод В. Летучего
1. Война 64
2. Aléa jacta est 65
3. Боевая песнь кнехта 65
4. Чин кнехта на войне 65
5. В монастыре 66
6. Баллада 66
7. Падение из окна 67
8. Золото 68
9. Сцена 68
10. Огненные лилии 69
11. При Фридланде 69
12. Мир 69
В детстве. Перевод С. Петрова 70
Осенью. Перевод С. Петрова 70
Маленький «dr6tenHik». Перевод Т. Сильмап 71
В предместье. Перевод С. Петрова 71
Среднечешскии ландшафт. Перевод Т. Сыльман 72
Родная песня. Перевод С. Петрова 72
ИЗ СБОРНИКА «ВЕНЧАННЫЙ СНАМИ»
Королевская песнь.ПереводАБиска 75
Грезить.
I. «Я сердцем — как забытая капелла...». Перевод С. Петрова 75
III. «Ах, если б домик мне с цветами...» Перевод С.Петрова 76
IV. «Нынче май встречает сухо...» Перевод С. Петрова 77
XI. «Я не знаю, что со мной...» Перевод С. Петрова 77
XIII. «Тусклы и серы, сеткою кроткой...»Перевод С.Петрова 77
XIV. «Всей гущей ночь пошла по парку...» Перевод С.Петрова 77
XV. «Над снежной ночью бесконечной...» Перевод АБиска 77
XVII. «В странническом взоре...» Перевод В. Летучего 78
XVIII. «Я б спознался с белокурым счастьем...»
Перевод С. Петрова 78
Содержание» 325
XIX. «Море скал передо мной...» Перевод С. Петрова 78
XXI. «Есть ночи, чуждые искусу...» Перевод А Виска 79
XXII. «Огромным чудодейственным цветком...»
Перевод С.Петрова 79
XXV. «Мне больно, больно, словно жду я...» Перевод А Виска 79
Любить
I. «Как приходит любовь в свой срок?..» Перевод В. Летучего 80
II. «День белых хризантем сиял без края...»
Перевод В. Летучего 80
IV. «Что случилось, не знаю пока...» Перевод В. Летучего 80
VI. «В саду мы погрузились в думы...» Перевод С. Петрова 80
IX. «Мы замечтались. Сторожит...»Перевод С.Петрова 81
XVII. «Над нами осенью дышали буки...» Перевод Т. Сильман 81
XVIII. «Весною или во сне...» Перевод В. Летучего 81
XIX. «Тянулась жизнь ее уныло...» Перевод В. Летучего 82
XX. «Уж осень. В крови захлебнулся закат...»
Перевод СПетрова 82
XXII. «Не забыл, — не забыл...» Перевод В. Летучего 82
ИЗ СБОРНИКА «СОЧЕЛЬНИК»
Сочельник 85
Дары
«Святая моя одинокость — ты...» Перевод В.Летучего 85
«Далеко город. Я один...» Перевод С.Петрова 85
«Люблю позабытых в сенях Богородиц...» Перевод С.Петрова 86
«Как часто в смене душных будней...» Перевод Т. Сильман 86
«И разве то зовете вы душой...» Перевод Т. Сильман 86
«Сухие елки дышат хрипло...» Перевод С.Петрова 87
«В бору сосновом снежно, глухо...» Перевод С. Петрова 87
«Солнце чахнет — лазурный лужок цветет...» Перевод С.Петрова 87
«Ты, старая часовня...» Перевод А Виска 87
Девушки пели: «Мы думаем только о нем...» Перевод А Виска 88
«Как будто пред болью разлуки...» Перевод А Виска 88
«Король, а с ним бароны...»Перевод С.Петрова 88
«Над белым замком всё белым-бело...» Перевод СПетрова 89
«Я в замке с красными зубцами...»Перевод С.Петрова 89
«Парк! В старых липах явись мне! Или...» Перевод С.Петрова 89
«Как тихий Бог, проплыв над кровом...» Перевод В. Летучего 90
«Один иду к покою...»Перевод С.Петрова 90
Путешествя
Венеция. Перевод С Петрова
I. «Речь чужая. Мы в гондолу...» 91
И. «Всё мне чудится: кого-то...» 91
IV. «Я речи церквей услыхал...» 92
326 Содержание
Касабьянка. Перевод С Петрова 92
АгсоПеревод С.Петрова 92
I mulini. Перевод С Петрова 93
Констанц. Перевод С. Петрова 93
«С тобою быть, когда недели...» Перевод С.Петрова 93
«Так чуждо всё: чту ты шептала...» Перевод А Виска 94
«Всегда бледна, всему чужда...» Перевод Т. Сильман 94
«Пленю тебя весною...» Перевод А Виска 94
«Где бы розу поалее...» Перевод Т. Сильман 95
«Пажа ты хочешь, королева...» Перевод А Виска 95
«Как сны мои тебя зовут!..» Перевод Т. Сильман 95
Матери
«А будут угрожать позором...» Перевод Т. Сильман 96
«Мать: „Звала ты меня, дорогая?.."» Перевод А Виска 96
ИЗ СБОРНИКА «РАННИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ»
«И вот тоска: свой век влачить в тревоге...» Перевод В. Летучего 99
«Я стану садом, чтобы у фонтанов...» Перевод С.Петрова 99
«Этих вечновесенних...» Перевод А Виска 99
«Слова простые, что живут без ласки...» Перевод В. Летучего 100
«Пришла моя бедная мать...» Перевод А Виска 100
«Иду я вдоль сада всегдашней тропой...» Перевод А Виска 101
«Детских душ серебряные крылья...» Перевод Т. Сильман 101
«Я — дома между грезою и днем...» Перевод С Петрова 101
«Бессонный бор мой! Посреди зимы ты...» Перевод С Петрова 102
«Живи, чудес не понимая...» Перевод А Виска 102
«О глубинная жизнь, о жизнь до слез...» Перевод Т. Сильман 102
«Грезы, что в твоей груди теснятся...» Перевод В. Летучего 103
Ангельские песни
«Долго ангел в тиши оставался со мной...» Перевод А Виска 104
«руки его — как ослепшие птицы...» Перевод А Виска 104
«Слушаеттуча, встав над леском...» Перевод С.Петрова 106
«Знаю: тайна жертвоприношенья...» Перевод Т. Сильман 106
«Пройди вдоль ограды глухой...» Перевод А Виска 106
«Замок тих. Над воротами...» Перевод С.Петрова 107
«Вновь сады эти в дружбе со мною...» Перевод Т. Сильман 107
«Запах роз полусонный...»Перевод СПетрова 107
«В низинах гостя долго ждали...» Перевод С. Петрова 108
«Всё это там, где крайний ряд лачуг...» Перевод И.Елагина 108
«Ветер-малыш среди ночи всглл...» Перевод В. Летучего 108
«Когда опять прольется свет луны...» Перевод Т. Сильман 108
«Девчонкой робкою в семье...» Перевод Т. Сильман 109
Содержание» 327
Песни девушек. Перевод А Биска
«Девушки, вы — как деревья...» 110
«Теперь они женщины сами...» 110
«Выйду я в призрачный свет...» 111
«Королевского рода вы все...» 111
«Волна шумит и бьет...» 111
«И видят девушки: домой...» 112
«Вы, девушки, — легкие чёлны...» 112
«Средь поля сестры пронесли...» 112
«Вышли сестры вдоль реки...» 113
«В трепет вешней тишины...» 113
«Улицы прямо ведут...» 113
«Уже на рощу лег осенний...» 114
«Мы смело смеялись, ныряли в кусты...» 114
«Девушки любят сплетенья...» 115
«Сестры, о сестры, — в те вечера...» 115
Молитвы девушек к Марии. Перевод А Биска
«Дай, чтоб сбылось что-нибудь!..» 116
«Ты горящие глаза...» 116
«Смотри — и днем, и в темноте...» 116
«Я садом быть хочу твоим...» 117
«Наши матери устали...» 117
«Мария, ты плачешь, родная...» 118
«Я вчера увидала во сне...» 118
«Все говорят мне: «Чту с тобой...» 118
«Когда во мраке воспаленном...» 119
«Везде сиянье золотое...» Перевод А Биска 120
«Мне вечер — книга. С переплета...» Перевод С. Петрова 120
«Дрожа, ощущаю порою...» Перевод Т. Сильман 121
«Тогда мы в первый раз молчали...» Перевод А Биска 121
«Вечером стали опять...» Перевод Т. Сильная 121
«В нас страх одиночества влез...» Перевод С.Петрова 122
«Слова людские меня страшат...» Перевод С Петрова 122
«И кто же ты, закат или рассвет?..» Перевод С. Петрова 122
«Кто мне может сказать, куда...»Перевод Т. Сильман 123
«Ночь, как город над долом, растет...» Перевод А Биска 123
«Ты это раз пережила сама...» Перевод А Биска 124
«Ты не горюй, что давно отцвели...» Перевод Т. Сильман 124
ЧАСОСЛОВ
Перевод С Петрова
Книга первая. О житии иноческом
«Ударил час и меня задел...» 127
«Кругами над стаей вещей нарастая...» 127
«Мои собратья южные — в сутанах...» 128
328 Содержание
«Писать Тебя нам надо по канону...» 128
«По чувствам, смутно, в суть существованья...» 128
«Не сетуй, Боже, тихий мой Сосед...» 128
«Когда бы сразу тишиной пахнуло...» 129
«Живу, когда исходит век, а лист...» 129
«Издавна я тянусь к Твоим словам...» 130
«Меня нет. Что-то сделал брат со мной...» 130
«Праматерь Тьма, ты родила меня!..» 131
«Я верю всему, что еще безглагольно...» 131
«Я один на свете, но жить в одиночестве мало мне...» 132
«Уж не всего ль хочу?..» 132
«Частица к частице в Тебе теснится...» 133
«Коль некто Тебя возжелал когда-то...» 133
«Кто в жизни примирит противоречья...» 134
«Персты в кистях — как в дебрях птичья стая...» 134
«Не бойся, Боже! Это я — мой крик..» 134
«Нет, жизнь моя — не та пора крутая...» 135
«Когда бы вырос я в стране иной...» 135
«Ты всюду мне живешь вещами всеми...» 136
«Истекаю, истекаю...» 136
«Вот, Господи, гляди: Твой новый зодчий...» 137
«Люблю тебя, Закон сладчайший. Ведь 137
«Мы, люд рабочий — робкий, кроткий, хваткий...» 138
«Ты так велик, что стоит мне с Тобой...» 138
«О, сколько ангелов — любого чину...» 139
«То было в Микеланджеловы дни...» 139
«Ветвь древа Господня над Италией...» 140
«Любили в те века цветущую...» 140
«Но, словно были Ей гроздья лоз густые...» 141
«Вот так ее писали. Особливо...» 141
«Но ветвью новой, шумен и широк..» 141
«Не верю, чтоб она, смертишка та...» 142
«А вдруг умру — куда же Ты-то?..» 143
«Ты еле шепчешь, прокопченный...» 143
«Вчерашний отрок, как смутился ты...» 144
«Тогда молись, как учит тот, кто сам...» 144
«Я — хор молчащий. Воздвигаюсь...» 145
«Пойму ли, боже, час Твой странный?..» 145
«Кто движет руки многотрудней...» 146
«Нам имя — свечкой восковой...» 146
«Свет — первое из слов Твоих...» 147
«Придешь, и двери неторопко...» 147
«Пловцам и звонницам назло Ты...» 148
«Тебя, Неведомого, брало...» , 149
«Вот мой поденный труд. Над ним...» 149
Содержание» 329
«Иль сроду вы к себе не ждали...» 150
«Самозабвенный полет мой стих...» 150
«Ты лишь деянию открыт...» 151
«Как схимой с постригом, бывало, встарь...» 152
«И Бог велит писать мне кровью...» 152
«Ныряли древле богословы...» 153
«Ты был рассеян и разлит...» 154
«Солнце тронуло собор крылом...» 154
«Я богомольцем в этот храм...» 155
«Как в избушке сторожу окошка...» 155
«Любому Бог и с любым говорит...» 156
«Я был у сказителей, иноков и изографов, под икты...» 156
«Стены смиренно ты держишь темнеющим лоном...» 157
«Проснулся я в своих ночах...» 158
«Что не было меня доныне...» 158
«Свет громыхает на Твоей вершине...» 159
«Ты древле явлен в милостях всегда...» 159
«Вот страна ко всему готова...» 160
«Но чудится: как на дне...» 160
Книга вторая. О паломничестве
«Тебе не в диво гром и град...» 161
«Я вновь молюсь всей правдой голой...» 162
«Аз есмь еще смиренноликий...» 163
«Таким, Предвечный, я Тебя постиг...» 165
«Молясь, не богохульничаю я...» 166
«Его печаль душнее нам, чем печь...» 166
«Гаси мне взор: узреть Тебя смогу...» 167
«Душа моя, как некая жена...» 167
«Ведь ты — наследник...» 167
«И в наследье зелены...» 168
«Аз есмь худый смиренный раб Твой, иже...» 169
«Пусть каждый из себя на волю рвется...» 170
«Ты старый, темный, закоптелый...» 170
«Молва идет, что есть Ты где-то...» 171
«Кто вопрошает тебя — искушает Тебя...» 171
«Лишь из оконца что-нибудь...» 172
«Покорствие Тебе? А это...» 173
«Дом одинокий на краю села...» 174
«За вечерею встанет кто-то вдруг...» 174
«Безумье — сторож...» 175
«Ты, Боже, знаешь ли о тех святых?..» 175
«Грядущий, всходишь к вечности на твердь...» 177
«Ты — старый монастырь Страстей Христовых...» 177
«Стареет за дворцом дворсч ι...» 178
330 Содержание
«Все будет вновь огромно и могуче...» 178
«И ты великим будешь. Величаний...» 179
«Домам покою нету: то нести...» 179
«Вот так и я бы: на чужом пороге...» 180
«И мне дай, Боже, богомольем стать...» 180
«Днем Ты наслышками одними...» 181
«На богомолье утром. И покорно...» 181
«От блеклых астр легчайшей прелью тянет...» 184
«Не бойся, Боже! Говорят: мое!..» 184
«В глуби ночей Тебя копаю, Клад...» 185
Книга третья. О нищете и смерти
«Авось по жилам гор тяжелых в скалы...» 187
«Ты превышаешь горные вершины...» 187
«Поставь меня, как камень слуха...» 188
«Ты веси, Боже, — города...» 189
«Там люди бледные живут томясь...» 189
«Любому, Боже, смерть его пошли...» 190
«Ведь мы — одна листва да кожура...» 190
«О Господи! Мы жальче жалких тварей...» 191
«Хоть одного, Владыко, возвеличь...» 191
«Дай знаменью последнему свершиться...» 192
«Хваля его кимвалом и тимпаном...» 193
«И дай, чтобы меня сопровождали...» 193
«Большие города — неправда волчья...» 194
«Ведь есть сады — их создали цари...» 194
«Но есть дворцы, спесивы, словно павы...» 195
«Нет, не бедны они, а небогаты...» 196
«Ведь нищета — великий свет нутра...» 196
«Ты — бедный, нищетою пораженный...» 197
«Ты — ведатель, чье веденье богато...» 198
«Взгляни на них. Растут они так странно...» 198
«Они глядят, как вещи, безответно...» 198
«Вот как, о Боже, жизнь их ног бежит...» 198
«Их руки смотрят, как у женщин лица...» 199
«Их рот немеет, как уста у статуй...» 199
«А голос их из дали входит в дом...» 199
«А если спят, их словно возвращают...» 199
«Гляди же, Господи мой, как у них...» 200
«Пойми: плодиться им и размножаться...» 200
«Возьми же их из городов греха...» 200
«Дом бедняка — как чудо в алтаре...» 201
«А города несутся самочинно...» 201
«И сколько их, твоих страдальцев нищих...» 202
«Где ж он, великой нищеты творец...» 202
«Где ж отзвучал он с нежностью дочерней?..» 204
Содержание» 331
ИЗ «КНИГИ КАРТИН»
Книга первая
Часть первая
Вступление. Перевод В. Летучего 207
В апреле. Перевод С. Петрова 207
Два стихотворения к шестидесятилетию Ганса Тома.
Перевод В.Леванского
Лунная ночь 208
Рыцарь 208
О девушках. Перевод А Виска
I. «Пусть другие на долгих дорогах...» 209
II. «Девушки, ваш трепет ожиданья...» 209
Песня статуи. Перевод Т. Силъман 210
Безумие.. Перевод Ю. Нейман 211
Любящая.Перевод С.Петрова 211
Невеста. Перевод В. Летучего 212
Тишина. Перевод В. Летучего 212
Ангелы. Перевод А Виска 213
Ангел-хранитель. Перевод В. Летучего 213
Святая. Перевод В. Летучего 214
Детство. Перевод В. Летучего 214
Из детства. Перевод В. Летучего 215
Мальчик. Перевод А Сергеева 216
Вечеря. Перевод В. Летучего 216
Часть вторая
Инициалы.. Перевод А Виска 217
На сон грядущий. Перевод В. Летучего 217
Люди ночью. Перевод В. Летучего 217
Сосед. Перевод В. Летучего 218
Pont du carrouse.Перевод СПетрова 218
Одинокий.Перевод С.Петрова 219
Последний. Перевод В. Летучего 219
Страшно. Перевод В. Летучего 220
Плач. Перевод В. Летучего 220
Одиночество. Перевод С. Петрова 221
Осенний день. Перевод Е. Витковского 221
Воспоминание. Перевод А. Виска 221
Конец осени.. Перевод В. Летучего 222
Осень. Перевод С. Петрова 222
У края ночи. Перевод В. Летучего 223
Молитва. Перевод В. Летучего 223
Продвижение .ПереводВ. Летучего 224
Предчувствие. Перевод В. Летучего 224
332 Содержание
Вечер в Сконе. Перевод В. Полетаева 224
Вечер. Перевод Е. Витковского 225
Строгий час. ПереводЕ.Витковского 225
Строфы. Перевод В. Летучего 226
Книга вторая
Часть первая
Инициалы. Перевод В. Летучего 227
Благовещение. Перевод Е. Витковского 227
Три волхва.Перевод Е.Витковского 228
В картезианском монастыре. Перевод В. Летучего 230
Карл XII Шведский Терпит поражение на Украине.
Перевод Е. Витковского 232
Цари. Перевод Е. Витковского
I. «То были дни, когда в огне и дыме...» 234
II. «Еще повсюду стерегли драконы...» 235
III. «Его слуги кормились ночью и днем...» 236
IV. «Вот час, когда в тщеславном ослепленье...» 237
V. «Не сгинет от меча и от коварства...» 238
VI. «Сапфиры в темном серебре оправы...» 239
Часть вторая
Фрагменты потерянных дней. Перевод Е. Витковского 240
Голоса. Перевод Е. Витковского
Титульный лист 242
Песня нищего 243
Песня слепого 243
Песня пьяницы 244
Песня самоубийцы 244
Песня вдовы 244
Песня идиота 245
Песня сироты 246
Песня карлика 246
Песня прокаженного 247
О фонтанах. Перевод В. Летучего 248
За книгой. Перевод В. Летучего 249
Созерцатель. Перевод А Виска 249
Из грозовой ночи. Перевод В. Летучего
Титульный лист 250
I. «В такие ночи можно возле дома...» 251
II. «В такие ночи тюрьмы нараспах...» 251
III. «В такие ночи вспыхивает яро...» 251
IV. «В такие ночи начинают биться...» 252
V. «В такие ночи грезится неисцелимым...» 252
VI. «В такие ночи под реющими флагами встают...» 252
Содержание» ЪЪЪ
VII. «В такие ночи умирающие не спят...» 253
VIII. «В такие ночи вне земных невзгод...» 253
Реквием. Перевод В. Летучего 253
Завершение. Перевод В. Летучего 258
ДОПОЛНЕНИЕ
Стихотворения 1894—1905 гг.,
не вошедшие в основное собрание
Из сборника «Подорожник»
Утро.Перевод С.Петрова 261
Полдень.Перевод С.Петрова 261
Царица ширь. Перевод С.Петрова 262
Явления Христа. Перевод С. Петрова
Часть первая
Сирота 262
Юрод 264
Дети 267
Живописец 269
Ярмарка 272
Ночь 276
Венеция 279
<Иудейское кладбище> 282
Часть вторая
Церковь в Наго 284
<Слепой ребенок> 286
<Монахиня> 288
Из сборника «Тебе к празднику» Перевод С Петрова
«Перед беседкой тени стали робки...» 291
«Есть в жизни добро и тепло...» 291
«Ты сумеркам огромным взглядом...» 292
Из сборника «Мне к празднику» Перевод А. Биска
«Снится мне узор вечерних риз...» 293
«Скорбь моя не похожа на те...» 293
«Их легкие ласки и лепет увлек...» 294
«Девушки в порту кого-то ждали...» 294
«Только темная ночь настает...» 294
Из цикла «Молитвы» Перевод С. Петрова
«СТобою вместе красоты лини· ради...» 295
«Сверкают в келье светлые пи мдики... > 295
Стихотворения, не вошедшие и ιι,ιικνιι»ι ιι сборники 297
Забытье. Перевод Т. (aviuman 297
334 Содержание
Парк зимой. Перевод С Петрова 297
Свидание. Перевод Т. Силъман 298
Но, сударь мой.Перевод С.Петрова 298
Ave Перевод Г. Силъман 299
Творец. Перевод Т. Силъман 299
«Сиротских мальчиков прО!улкой дальней...»
Перевод Т. Силъман 299
«Что делал бы я, не будь мне дана...» Перевод Т. Силъман 300
Мадонна. Перевод Т. Силъман 300
«Пусть от бесцельных скитаний...» Перевод Т. Силъман 301
«Язык исчерпан весь до дна...» Перевод В. Летучего 301
Венеция. Перевод СПетрова 301
«Вокруг — всё слух. А что такое...» Перевод СПетрова 301
Осень. Перевод СПетрова 302
«И это чудо: знать слова простые...» Перевод Т. Силъман 302
Стефану Георге Перевод В. Летучего 302
«Сны в ожиданьи смотрят на меня...» Перевод В. Летучего 303
Сумерки. Перевод С Петрова 303
«Нежны, прозрачны вечера...» Перевод Т. Силъман 303
Стансы. Перевод Т. Силъман 304
Дом.Перевод Т. Силъман 306
«Трясина, зыбкий, темный водоем!..» Перевод С Петрова 306
«Шумит поток... Но кто владеет...» Перевод Т. Силъман 307
Роден (набросок) Перевод В. Летучего 307
Роден (вторая редакция) Перевод В. Летучего 307
Роден. Перевод В. Летучего
I. «Жизнь мастера уходит в даль времен...» 308
II. «Путь мастера, темнея, убегает...» 308
«Где весны моей взлет?..» Перевод Т. Силъман 309
«Был день — и вдруг исчез он, как закат...» Перевод В. Летучего 309
Джонни Гибсону. Перевод Т. Силъман 310
«Пустите, я пройду тихонько мимо» Перевод С. Петрова 310
Стихотворения и наброски из дневников и писем
во время двух поездок по России. Перевод В. Летучего
Мне привиделось снова: 311
Богиня грации 311
К Елене 312
Песня для Елены 312
<В альбом Ф. Фидлеру> 313
«...Вдали от чуждого хочу идти один...» 313
«...И вдруг вбежали в красных дугах кони...» 313
Знаменская 314
Язык цветов. Перевод В. Летучего
«Где ступаешь ты по лугу.··» 316
Амариллис 316
Содержание» 335
Лесолюбка 317
Крыжовник 317
Дуб 317
Бузинник 317
Шпорник 317
Барвинок 317
Камелия 318
Боярышник колючий 318
Орхидея «Венерин башмачок» 318
Астра 318
Калина 318
Левкой 318
Первоцвет 319
Шиповник 319
Плющ 319
Горицвет 319
Кукушкины сапожки 319
Фиалка 319
Герань 320
Гиацинт 320
Нарцисс 320
Вьюнок 320
Георгин 320
Мирт 320
Девясил «Христово око» 321
Клевер 321
Анютины глазки 321
Бордюрная трава 321
Цвет яблони 321
Незабудка 321
Страстоцвет 322
Литературно-художественное издание
Райнер Мария
Рильке
Собрание сочинений в трех томах
Том 1
Генеральный директор А. С. Артенян
Ответственный редактор Т. Бушева
Корректор В. Е. Резвый
Художественное оформление Т. С. Прокуратовой
Компьютерная верстка A4. Войковой
Подписано в печать 31.08.2011 г.
Формат 84xl08732. Гарнитура «Гарамон»
Печать офсетная. Усл. печ. л. 17,64
Тираж 3050 экз. Заказ Р-1477.
ООО «Престиж Бук»
111141, г. Москва, 1-й проезд Перова поля, д. 11 А
E-mail: artyr57@mail.ru
Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета в типографии
филиала ОАО «ТАТМЕДИА» «ПИК «Идел-Пресс».
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2.
iJn/
Г1"\ Η
Ρ* . , *****
г-™
m 9*
Я**"
, ^-Ζ**
-
#**
«/·
â ^ i£
m
В-«'™) ./i/'Г(jr.»ίί^ι*v* ,^" ,.fИ'.».
^
$ΛΛ
If
.jU ^ Г ^ ' , »ν*
\* Ö А I И*
O. J** '
f*
(·
(*"
4i>*?
Ь V if. ^Pt'U*
. ,4j
Ά^^
Ci/V
A/V*
f^ . .*Ш
Ä.JfcV ^'
i*
lt<
#^i