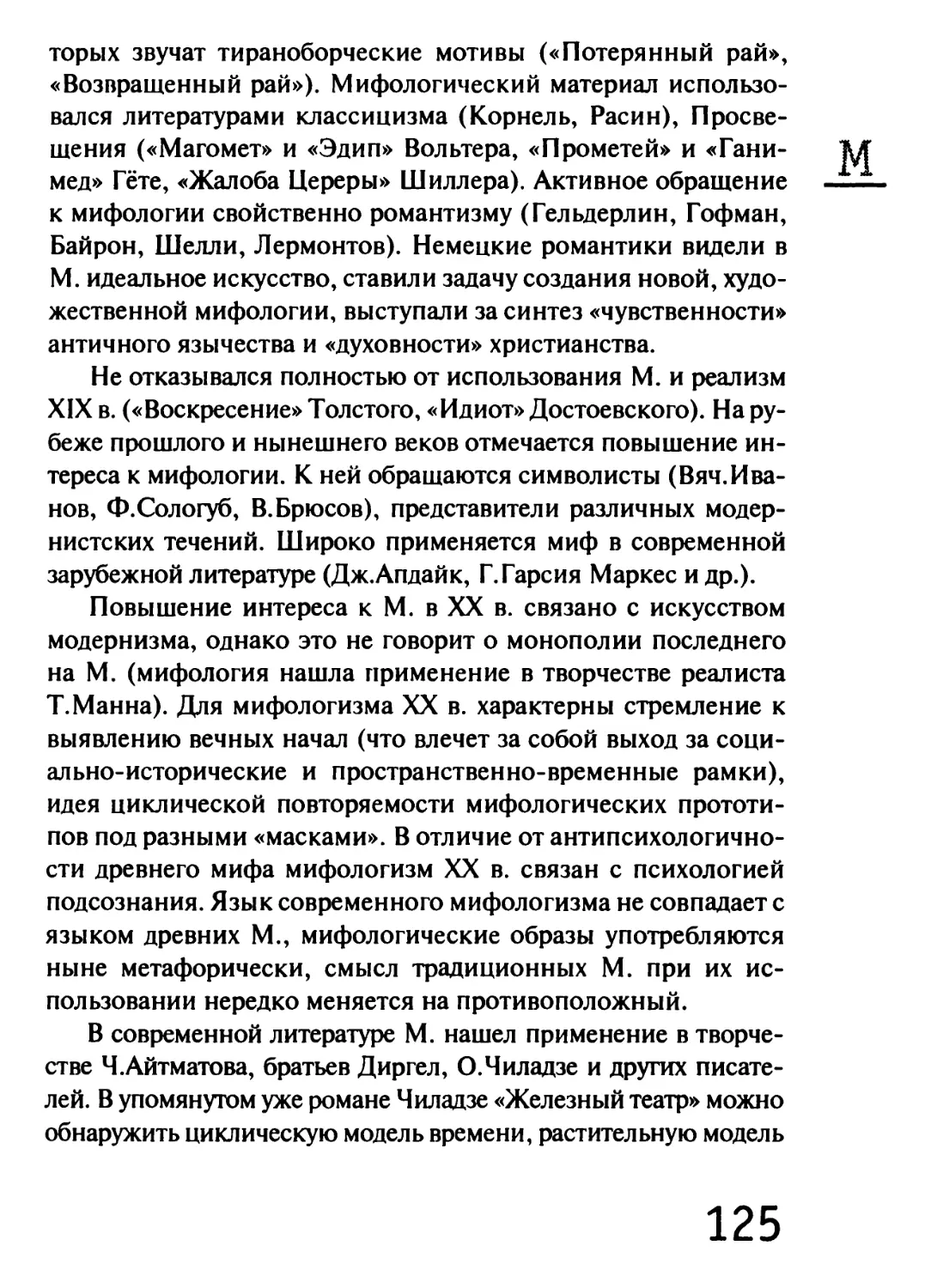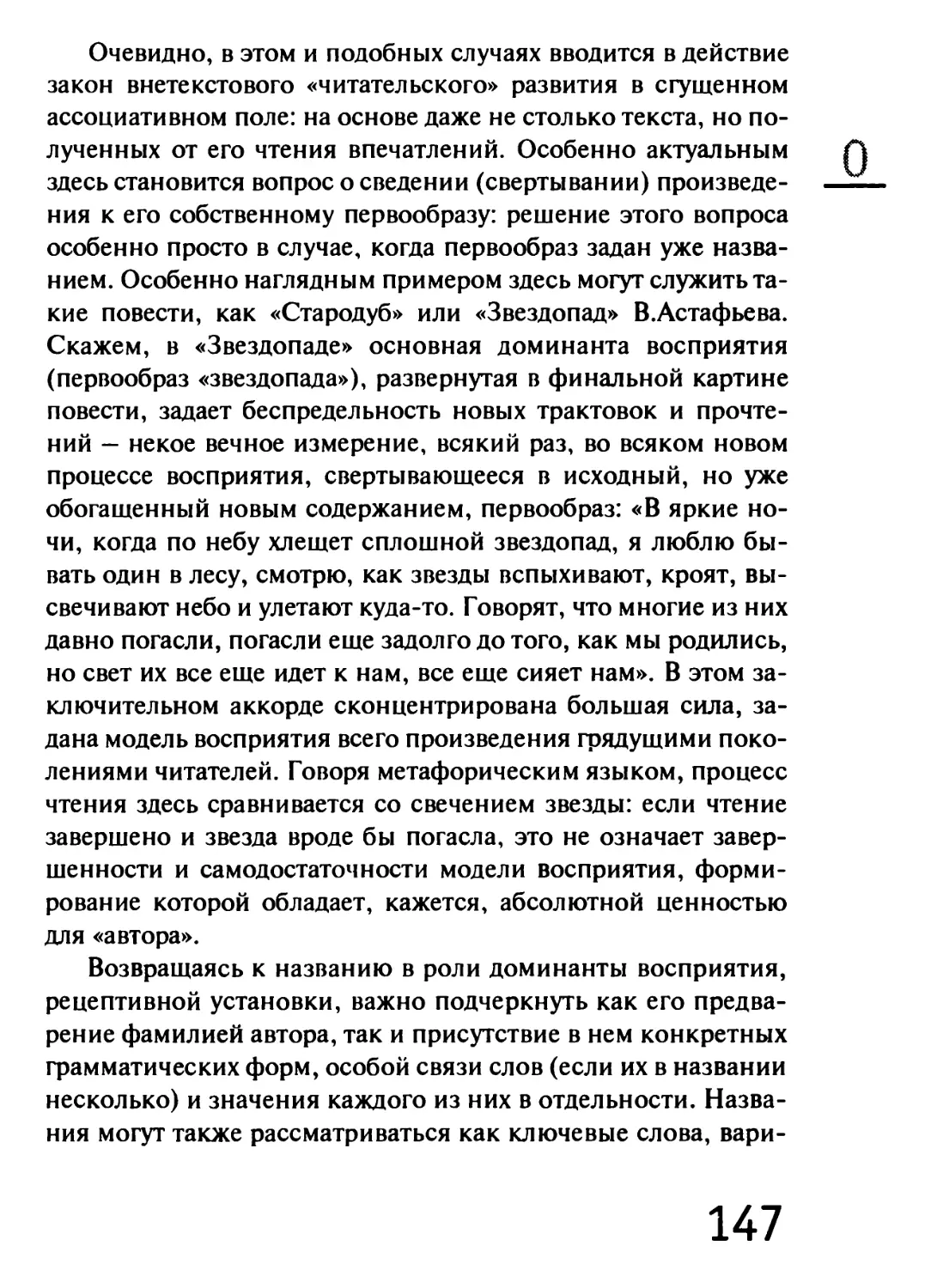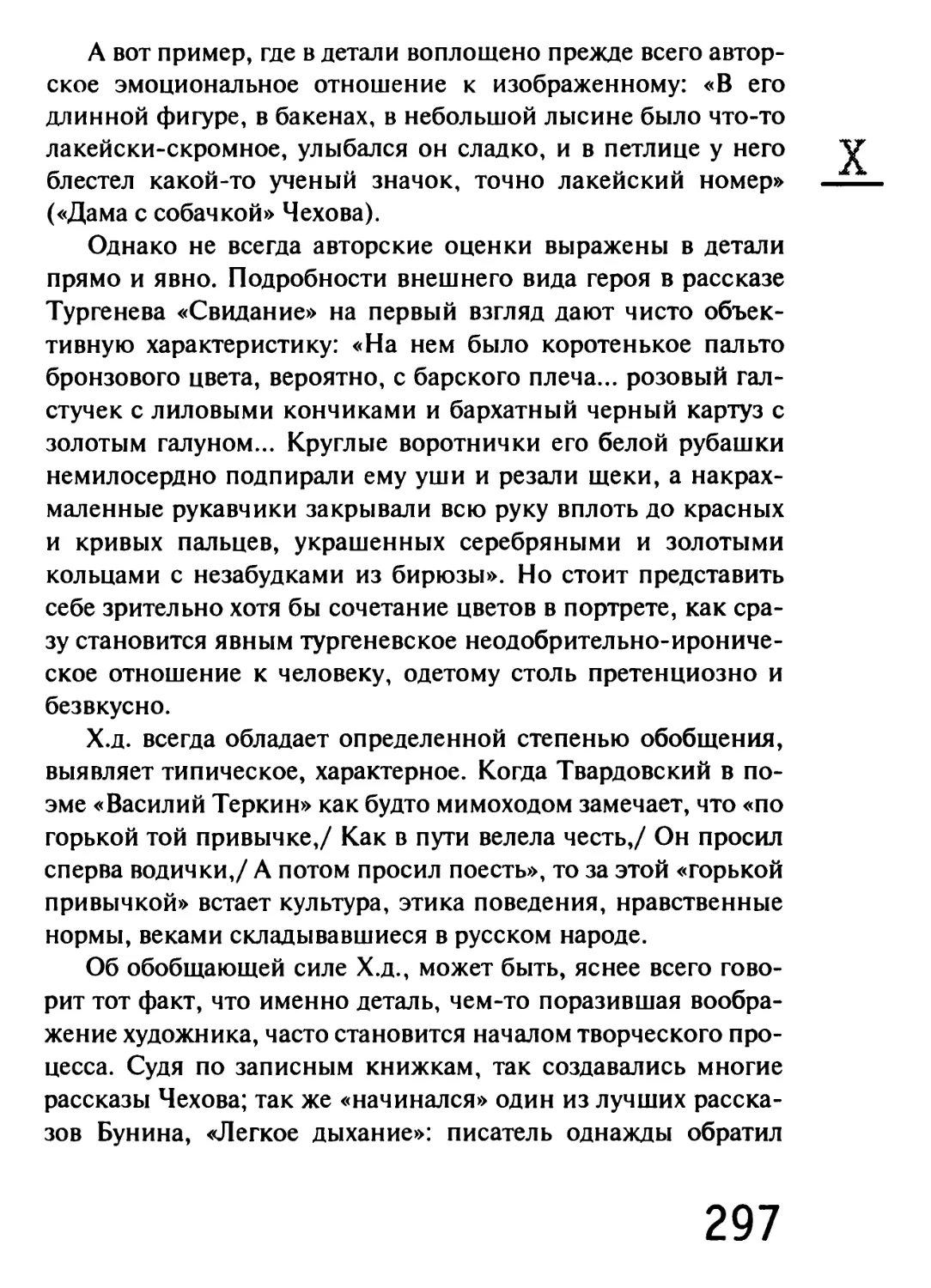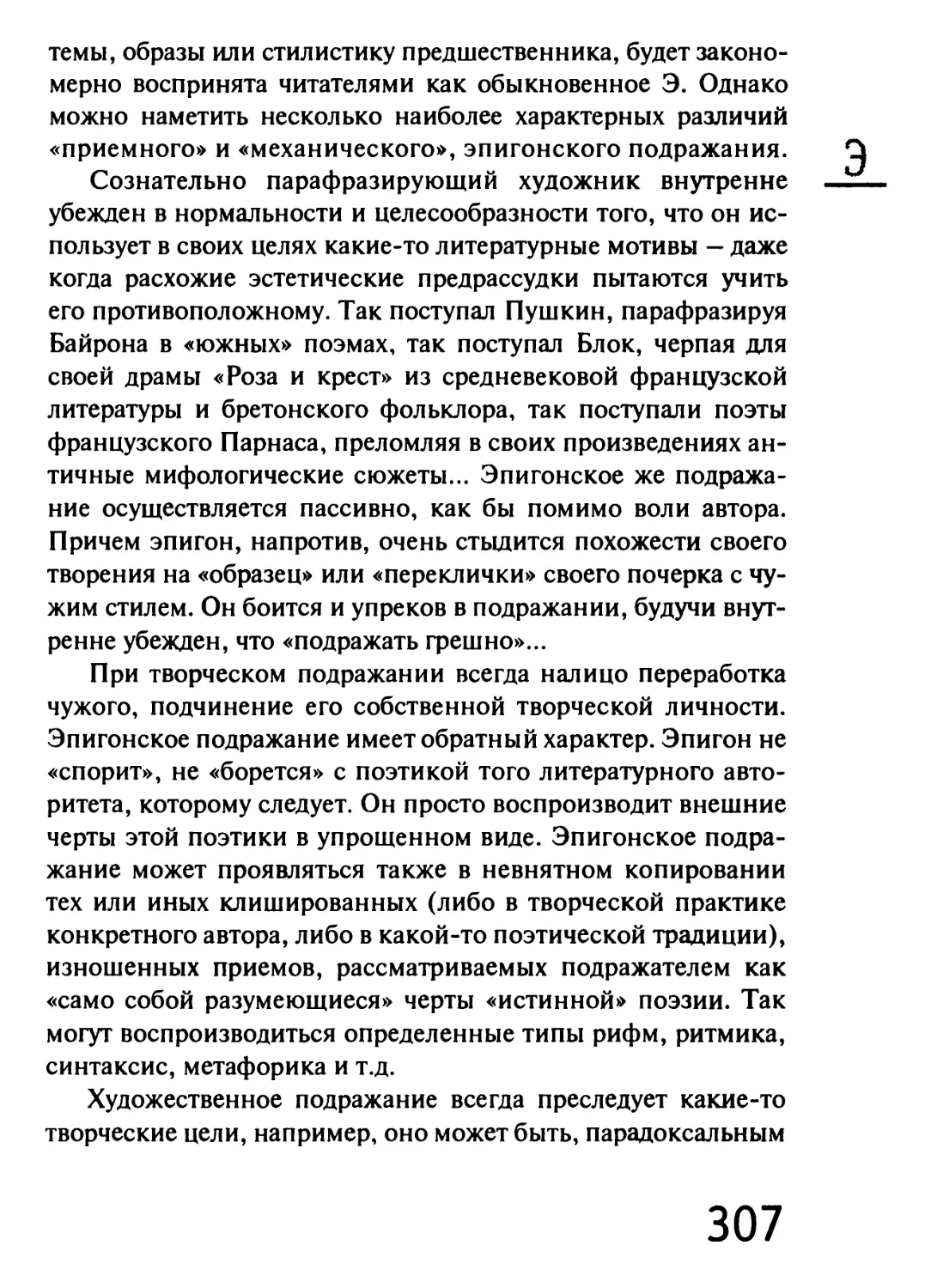Текст
литературная учеба
литературный
словарь
МОСКВА 2007
УДК 821.0(031)
ББК 83.3Я2
Л 64
Издано при финансовой поддержке Федерального агенства по
печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной
целевой программы «Культура России».
Литературный словарь. — М: «ЛУч», 2007. — 320 с.
ISBN 978-588915-022-0
Основу этого литературного словаря составили статьи из одно-
именной рубрики, много лет подряд существовавшей в журна-
ле «Литературная учеба». Он не претендует на полноту охвата,
но дает возможность читателю получить ответы на наиболее ча-
сто возникающие у него вопросы, а также позволит ему рас-
ширить свои знания по истории литературы.
УДК 821.0(031)
ББК83.3Я2
Охраняется Законом РФ об авторском праве
ISBN 978-588915-022-0
© ООО ИД «Литературная учеба», 2007.
От издательства
Настоящее издание создано на основе материалов
журнала «Литературная учеба», который был открыт
еще в 1930 году М.Горьким. Много лет в нем существо-
вала рубрика «Литературный словарь», включавшая в
себя статьи крупных ученых-филологов. Давая опреде-
ление тому или иному термину, понятию, объясняя зна-
чение каждого, они ставили его в контекст мировой ли-
тературы и подробно иллюстрировали многочисленны-
ми примерами - цитатами из русской и зарубежной
классики. При этом также проводились различные ли-
тературные параллели и сравнения. Таким образом, чи-
татель мог получить не только нужную ему информа-
цию, но и взглянуть на хорошо известные произведения
под другим углом зрения, сделать для себя интересные
открытия.
Собранные воедино, эти статьи становятся не про-
сто справочным изданием, но книгой увлекательного
чтения.
Безусловно, объем словаря не позволяет претендо-
вать ему на исчерпывающую полноту: в нем даны опи-
сания наиболее распространенных терминов и поня-
тий, которые чаще всего вызывают вопросы. Приво-
димые же в текстах отсылки к различным источникам
3
по теории и истории литературы дадут читателю воз-
можность расширить свои знания в данной области.
Подбирая статьи, мы не стремились к их стилевому
однообразию и определенному наполнению, считая,
что различные научные подходы и творческая свобода
исследователей помогут читателю увидеть, насколько
изменчива природа литературных терминов, и понять,
что закрепить за ними раз и навсегда найденные свой-
ства и характеристики нельзя.
Надеемся, это издание вызовет интерес у самой раз-
нообразной читательской аудитории.
Автобиографические жанры -
автобиография, исповедь, мемуары, дневник.
Автобиография (от греч. autos — сам, bios — жизнь, grapho —
пишу) — жанр документально-художественных произведений,
преимущественно в прозе.
Термин А. в узком смысле означает документ, в котором пи-
шущий отмечает наиболее значительные вехи своей жизни (так
называемые «анкетные данные»). А. выдающихся деятелей ли-
тературы и культуры помимо основной, деловой, функции при-
обретают историческое, научное значение для исследователей,
а также художественное значение для читателей, так как несут
основные черты стиля писателя, их оценку (прямо выраженную
или косвенную) своих произведений, освещают обстоятельства
возникновения и воплощения художественных замыслов. Ча-
ще всего жанр А. выносится в название, в отдельных случаях
названия бывают другими: «Коротко о себе», «Автобиографи-
ческие заметки», «Краткая автобиография» и т.д.
В отличие от биографии А. охватывает ограниченный пе-
риод жизни до момента написания, т.е. имеет «открытый ко-
нец». Бывает, что писателю не раз приходилось рассказывать
о себе. Поэтому мы имеем несколько А. Горького, Есенина,
Булгакова и др. Кроме того, А. пишутся по разным поводам и
обращены к разному кругу читателей. Соответственно они мо-
гут иметь разную стилистическую окраску. Так, одни и те же
факты, перечисленные Зощенко в «Автобиографии» (1928),
подготовленной для «Бегемотника» (сатирической энцикло-
педии журнала «Бегемот»), и в «Автобиографии» (1953) окра-
шены откровенной самоиронией в первом случае и поданы в
строгой деловой манере во втором.
А. — важный источник знаний не только о жизни писате-
ля, но и о его творчестве и литературных взглядах: здесь неред-
ко даются истолкование и оценка произведений (своих и чу-
жих), рассказывается о реальных событиях, положенных в их
основу, раскрываются творческие замыслы и т.д.
5
Однако факты и даты, указанные в А., не всегда являются
достоверными, иногда историкам их приходится уточнять.
По разным причинам авторы умалчивают о некоторых собы-
тиях своей жизни.
В широком смысле А. - произведение, основное содержа-
ние которого составляет изображение процесса духовно-нрав-
ственного развития личности автора, основанного на осмыс-
лении прошлого с точки зрения опытного, зрелого человека,
умудренного жизнью. Жизнь писателя становится протосю-
жетом, а его личность (внутренний мир, особенности поведе-
ния) - прототипом главного героя. Для А. характерны особый
тип биографического времени и «специфически построенный
образ человека, проходящего свой жизненный путь» (Бахтин М.
Формы времени и хронотопа в романе// Бахтин М. Вопросы
литературы и эстетики. М., 1975. С. 281). Одно из особых до-
стоинств автобиографических произведений - отражение в
них исторических примет своего времени (пейзаж, описание
жилища, интерьер, вещи, портреты, традиции, передача осо-
бенностей речи, манер и т.д.). Содержание А. может исчерпы-
ваться рассказом (например, «Моя жизнь. Автобиография»
В.Белова), стать романом («Другие берега» В.Набокова), или
разрастись до трилогии («Детство», «В людях», «Мои университе-
ты» М. Горького).
Наблюдения и анализ собственных побуждений и поступ-
ков составляют важную часть литературной и культурной
жизни. Одно из главных отличительных качеств А. — их до-
стоверность и откровенность, саморефлексия.
Авторы, намеревающиеся в своих произведениях расска-
зать о себе предельно искренно, называют автобиографию ис-
поведью, сближая в определенной мере свое творчество с ре-
лигиозным ритуалом. Большая степень откровенности, ис-
кренности и доверия к читателю отличает И. от А. Автор И.
стремится осмыслить подлинные мотивы и причины своих
поступков, истинные побуждения, какими бы они ни были.
6
И. по своей сути диалогична: автор рассчитывает на понима-
ние читателя и вызывает его на ответную откровенность. Один
из ярких примеров тому — известное письмо И.Тургенева по
прочтении «Исповеди» Л.Толстого: он хотел бы свидеться с
автором, «чтобы в свою очередь исповедаться перед дорогим
мне человеком» (от 15 дек. 1882 г).
Особенности И. используются в художественной литера-
туре как композиционный, повествовательный, стилистичес-
кий прием (например, «Исповедь сына века» А.Мюссе, 1836,
«Исповедь хулигана» С.Есенина, 1921 и т.д.).
От А. и И. отличают разного рода мемуары (от фр. memoires —
воспоминания). На первый план в произведениях этого жанра
выдвигается, главным образом, изображение исторических
событий, пережитых автором, а также деятелей обществен-
ной, политической, культурной жизни, с которыми автору ме-
муаров приходилось сталкиваться. Как документы своего вре-
мени ценятся воспоминания исторических деятелей, запечат-
левших значительные периоды общественной жизни, детали
ее, не отраженные в других исторических источниках.
Еще один автобиографический жанр — это дневники (за-
писные книжки) — ежедневные (относительно систематичес-
кие), в хронологической последовательности записи событий,
в которых отражается течение жизни автора, замечания о вре-
мени, об окружающем мире, запомнившихся разговорах,
творческих планах и т.д. В отличие от других автобиографиче-
ских форм, обращенных к читателю и тем самым имеющих
«диалогическую направленность», Д. (записные книжки) по
своей сути монологичны. Их смысл — «черновой», в напоми-
нание самому себе, они предназначены для использования в
будущей работе, или «потаенный», как, например, «Дневник
для одного себя», «Тайный дневник» 1908 года Л.Толстого.
Д. многих писателей имеют не меньшее значение, чем соб-
ственно художественные произведения (например, «Дневник
писателя» (1873—1881) Ф.Достоевского), а в некоторых случа-
7
ях помогают решить многие проблемы, связанные с творчест-
вом поэта («Записные книжки» А.Блока). Д. оставили выдаю-
щиеся западноевропейские писатели XX в.: Ф.Кафка, Р.Му-
зиль, А.Камю и многие др.
Наряду с повседневными Д., ведущимися неопределенное
(для автора) время, существуют Д., отражающие особый пе-
риод жизни или отдельные события: военные, блокадные и
т.д., а также дорожные Д., или путешествия. В большинстве
случаев они предназначены для публикации и воспринима-
ются читателями как специальная литературная форма. Здесь
показывается, как частное лицо переживает исторические со-
бытия или необычные, временные условия.
Часто форма Д. используется как повествовательный при-
ем, элемент композиции (например: «Записки сумасшедше-
го» Н.Гоголя, «Записки из подполья» Ф.Достоевского, «Днев-
ник сельского священника» Г.Бернаноса и др.).
Понятие «автобиографическая литература» имеет очень
широкое значение. В известном смысле все художественное
творчество автобиографично. Поэтому границы между собст-
венно А., И., М., художественными автобиографическими
жанрами весьма условны и подвижны.
Жанр А. известен с античных времен. Одни из наиболее
древних М. в истории - воспоминания Ксенофонта о Сокра-
те, а также записки Цезаря (в частности, о Галльской войне).
Наиболее ранние образцы И. — «К самому себе» Марка Авре-
лия (II в.), «Исповедь» Августина Блаженного (ок. 400). Как
пример средневековой А. приведем «Историю моих бедст-
вий» Абеляра (1132-1136).
В XVI—XVII вв. в европейской литературе пишут М. поли-
тически значимые фигуры: королевские особы (Маргарита
Валуа, Генриетта Английская), кардиналы (Ришелье, Маза-
рини), министры, писатели (Ларошфуко), где главный пред-
мет изображения — политика и война. Автор в своих воспоми-
наниях берет на себя функцию историка, чья точка зрения
8
обусловлена тем, на чьей стороне он был — победителей или
побежденных.
Новым этапом в развитии автобиографического жанра
явилась «Исповедь» (1782—1789) Ж.-Ж.Руссо.
Литературную значимость имеют А. знаменитых авантю-
ристов (А.Калиостро, Дж.Казановы), близкие к авантюрному
и плутовскому романам. В их жизнеописаниях увеличивается
доля вымысла, усиливается авторская тенденциозность: поли-
тика и исторические проблемы здесь эпизодичны, рефлексия
не играет значительной роли.
В XIX в. М. остаются популярным жанром. Например, в
Германии XIX в. к этому времени относятся «Поэзия и правда
из моей жизни» (1811 — 1833) Гёте, мемуары Бисмарка и др. вы-
дающихся политических и общественных деятелей.
А. имеет длительную историю и в русской литературе.
Первое житие-автобиография написано протопопом Авваку-
мом (ок. 1673). Становление жанра происходит в XVIII в. в
связи с углублением психологизма в изображении человека, со
стремлением осмыслить его место и роль в мире и истории.
Развивается жанр автобиографических записок: «Собственно-
ручные записки императрицы Екатерины II» (на фр. яз., рус.
изд. 1907), «Записки» Е.Дашковой (1804—1806 на фр. яз., рус.
пер. 1859), «Чистосердечное признание в делах моих и помы-
шлениях» Д.Фонвизина (1789), «Записки из известных всем
происшествий и подлинных дел, заключающих в себе жизнь
Гаврилы Романовича Державина» (1812—1813) и др.
А. оставили классики XIX в.: Пушкин составил программы
автобиографических записок. В тетрадях Лермонтова сохрани-
лись записи автобиографического характера, сделанные в
1830—1831 гг., Гоголь в «Авторской исповеди» (1847), написан-
ной по поводу книги «Выбранные места из переписки с друзь-
ями» (1847), излагает свою жизненную философию, главной
ценностью считая «чистосердечность признаний и непредвзя-
тость суждений», выраженных им в последней книге. И.Турге-
9
нев в «Автобиографии» (1876) сжато рассказал о своей жизни и
литературной работе. Одна из вершин жанра - «Былое и ду-
мы» (1855—1868) Герцена, о смысле жизни людей образован-
ного сословия говорит в своей «Исповеди» (1870—1880) Тол-
стой, остались автобтографии Чехова, Некрасова и др.
Традиции А., И. продолжили в русской литературе в XX в.
Короленко («История моего современника», 1922), Пастернак
(«Охранная грамота», 1931; «Люди и положения», 1957), Ман-
дельштам («Шум времени», 1925), Зощенко («Перед восходом
солнца», 1943), Солженицын («Бодался теленок с дубом»,
1990) и многие др. писатели.
Г. Романова
Автобиография см. Автобиографические жан-
ры.
Автодокументальный текст -
произведение, воссоздающее действительность без участия
вымысла.
Термин принадлежит к числу новейших. Впрочем само
понятие «автодокументальный», довольно странное с точки
зрения словообразования, родилось более тридцати лет назад,
в самом начале 1970-х. Так, А.Урбан ввел термин «автодоку-
ментальная проза», а Л.Гинзбург — «автодокументальные жа-
нры» для обозначения группы текстов с «установкой на под-
линность». Не слишком удачное определение было забыто на
долгие годы, чтобы воскреснуть на рубеже веков в несколько
видоизмененном «западном» варианте в многочисленных ра-
ботах, посвященных дневникам, запискам, воспоминаниям,
автобиографиям, исповедям и т.п. Таким образом, термин
может трактоваться как синоним «документальной литерату-
ры».
10
Специфика современного использования понятия А.т.
связана с его функционированием в рамках гендерных иссле-
дований женского письма, рассматривающих «неканоничес-
кие» жанры с точки зрения анализа различных способов жен-
ского самоописания и реконструкции связанных с ними мо-
делей идентичности. Вероятно, можно говорить о локальном
применении термина А.т. в практике литературоведческих ис-
следований феминистской направленности и ориентирован-
ных на западную научную мысль.
Е.Местергази
Акмеизм (греч. акте - вершина, высшая степень,
острие) — один из терминов (изначально использовалось также
самоназвание «адамизм»), предложенных в 1912 Н.Гумилевым и
С.Городецким для обозначения нового литературного направ-
ления, идущего на смену переживавшему кризис символизму.
Если верить мемуарам современников, слово было выбра-
но в полемическом азарте едва ли не случайно (Ахматова А.
Записные книжки (1958-1966). М.; Турин, 1996. С. 612). По
воспоминаниям Андрея Белого, оба термина — А. и адамизм —
предложили для новой школы Вяч.Иванов и сам Белый в шут-
ку во время спора с будущим лидером А. (Белый А. Начало ве-
ка. М.; Л., 1933. С. 24). Гумилев принял вызов и провозгласил
начало борьбы за символистское наследство. «По устному
свидетельству М.А.Зенкевича, форсированное оформление
литературной программы акмеизма в рамках «Цеха поэтов»
было вызвано отчасти своего рода конкуренцией с Игорем Се-
веряниным и с оглядкой на его бурный успех» (Тименчик Р.Д.
Заметки об акмеизме// Russian literature. Amsterdam, 1974.
№7/8. С. 25). Сомнения по поводу правомерности термина
возникло и у первых критиков, и у позднейших литературове-
дов. Дать точное определение А. отказывались как многие уча-
стники и критики движения (О.Э.Мандельштам, В.М.Жирмун-
11
ский), так и исследователи: Р.Д.Тименчик, О.Ронен, Н.А.Бо-
гомолов, Дж.Малмстад, Р.Хеглувд, У.Тьялсма, О.Лекманов. О
содержании понятия «А.» до сих пор ведутся споры (см. спе-
циальный выпуск «Russian language journal» - «Toward a defini-
tion of acmeism». East Lancing, Michigan, 1975). В зависимости
от того, что вкладывается тем или иным исследователем в по-
нятие «А.», варьируется и количество его участников. Чаще
всего к акмеистам относят шестерых поэтов. Но даже и на этот
счет нет единого мнения. Одни авторы вообще отказывали А.
в праве считаться литературным направлением, признавая его
новой ступенью развития символистской поэтики. Мнение
это восходит к взглядам Б.М. Эйхенбаума, выраженным в кни-
ге об Ахматовой (1923). Похожие мысли высказывал и Ман-
дельштам в ряде статей в «Русском искусстве» (1923), однако
впоследствии он не пожелал переиздать эти статьи, где «все
оценки кривы и косы», заявив, по свидетельству Н.Я.Ман-
дельштам, что «это не то» (цит. по: Жизнь и творчество О.Ман-
дельштама: Воспоминания. Воронеж, 1990. С. 438—439). Тер-
мин А. был слабо аргументирован в манифестах. Краеуголь-
ные установления акмеистских манифестов далеко не всегда
соблюдались на практике даже главными участниками груп-
пы. Оппоненты, при всей расплывчатости термина «А.», нахо-
дили в поэтике его представителей известное единство друг с
другом и в то же время достаточные различия с поэтами иных
ориентаций, чтобы считать А. именно литера-турным направ-
лением, пусть неточно сформулировавшим собственные цели,
но все же их имевшим и существовавшим не только в манифе-
стах, но и на практике.
А. — это самоназвание группы из шести поэтов разных
индивидуальностей, связанных скорее приятельскими отно-
шениями, чем едиными устремлениями. Группа, претендую-
щая на новое направление в поэзии, сформировалась стара-
ниями Гумилева и Городецкого в конце 1912 в недрах петер-
бургского «Цеха поэтов». Помимо руководителей, в нее во-
12
шли О.Мандельштам, А.Ахматова, В.Нарбут и М.Зенкевич.
«Седьмого акмеиста, - как позже любила повторять Ахматова, —
не было». В первом номере журнала «Аполлон» за 1913 появи-
лись статьи-манифесты Гумилева «Наследие символизма и
акмеизм» и Городецкого «Некоторые течения в современной
русской поэзии». Написанный тогда же Мандельштамом тре-
тий манифест «Утро акмеизма» опубликован лишь шесть лет
спустя, в 1919. Представительная подборка стихов акмеистов
появилась вслед за манифестами в третьем номере «Аполло-
на» за 1913. В манифестах Гумилев провозгласил краеуголь-
ными камнями и предтечами А. четырех поэтов: У.Шекспира,
Ф.Вийона, Ф.Рабле и Т.Готье. К ним следует добавить не-
сколько существенных для понимания А. отечественных
имен: И.Анненского, М.Кузмина, В.Брюсова. Провозглашае-
мые в манифестах принципы находились в резком противоре-
чии со стихотворной практикой многих членов акмеистской
группы, что вызвало немало скептических откликов. Симво-
листы (А.Блок, Брюсов, Вяч. Иванов) рассматривали акмеис-
тов как собственных эпигонов, футуристы в большинстве сво-
ем считали их своими непримиримыми врагами, пришедшие
им на смену марксистские критики, начиная с Л.Троцкого,
именовали акмеистов антисоветским течением тупиковой
буржуазной литературы.
Состав группы был крайне неоднороден, и крыло «адамис-
тов», представленное именами Нарбута, Зенкевича и, отчасти,
самого Городецкого, значительно отличалось от парнасски
ориентированного А. Именно это и вызвало недоумение кри-
тики, заявившей, что под знаменем А. объединились поэты
слишком разные, не сводимые к единой поэтике. Не удиви-
тельно, что ни один из них не присоединился ни ко второму, ни
к третьему «Цеху поэтов». Попытки «бунта» предпринимались
и раньше, еще в 1913 Нарбут пытался убедить Зенкевича вый-
ти из группы акмеистов и основать собственную, из двух чело-
век, или примкнуть к кубофутуристам, чей антиэстетизм Нар-
13
буту был гораздо больше по душе, чем «тонкое эстетство Ман-
дельштама». Некоторые исследователи высказывали мнение,
что Гумилев пытался объединить столь разные устремления
под одной крышей для вящей гармонии многоголосья нового
широкого направления. Более правдоподобным представляет-
ся мнение, что оба крыла — парнасски-акмеистское и натуря-
листически-адамистское — были объединены по признаку
обоюдного отталкивания от символизма. В качестве литера-
турной школы А. вел борьбу на два фронта: противопоставляя
себя уходящему символизму и безудержному словотворчеству
своего ровесника и главного конкурента футуризма.
Роковым для А. стал 1914г., когда произошла размолвка Гу-
милева с Городецким и прекратил работу первый «Цех поэтов».
В печати усилились нападки критики, а Б.Садовской провоз-
гласил «конец акмеизма» (Современник. 1914. № 13-15).
Впрочем, большинство из участников группы еще много лет
именовались в печати акмеистами, да и сами они считали се-
бя таковыми. Четверых из учеников и соратников Гумилева,
вступивших на литературную стезю позже основных шести
участников группы, часто называют младшими акмеистами:
Г.Иванова, Г.Адамовича, Н.Оцупа, И.Одоевцеву. В воспоми-
наниях современников и работах об А. можно встретить еще
не один десяток имен молодых литераторов, которые в пол-
ном смысле слова акмеистами не считались, однако были
близки к Гумилеву и «Цеху поэтов». Их обычно называют по-
этами акмеистской ориентации или поэтами круга Гумилева.
Воздействие акмеистских текстов, идей и мироощущения ис-
пытали многие поэты, вплоть до современных.
О. Коростелев
Антижанр. Литературный жанр — устойчивый
тип поэтической структуры в пределах литературного рода —
лирики, эпоса, драмы. Например, существуют такие эпичес-
14
кие жанры, как эпопея, роман, повесть, рассказ, новелла, бас-
ня, очерк, эссе. В литературном жанре наиболее полно прояв-
ляется содержательность формы, так как именно жанр — цело-
стная организация формальных свойств и признаков. Жанр ха-
рактеризует общее, устойчивое, повторяющееся в структуре
произведений, и не случайно М.Бахтин образно определил
жанр как память искусства и утверждал, что «в жанрах (литера-
турных и речевых) на протяжении веков их жизни накопляют-
ся формы видения и осмысления определенных сторон мира».
Помимо классического понятия «жанр», в современном
теоретическом литературоведении бытует и другое - анти-
жанр, или жанровая модификация. Такова, к примеру, моди-
фикация утопии (антиутопия). А. является старой формой в
новой функции. Художественная структура А., в значитель-
ной мере определяющаяся особенностями формы «породив-
шего» его классического жанра, наполняется, по сравнению с
исходным жанром, содержанием с противоположной идейной
направленностью, так как антижанр ставит под сомнение
ценность идей, воплощаемых, как правило, в произведениях
исходного литературного жанра. При этом А. является моди-
фикацией не жанровой формы, содержание которой неопре-
деленно (романа, повести, рассказа, поэмы, драмы как жан-
ра), а такой, которая обладает достаточно определенным со-
держанием - утопии, апокрифа, христианской притчи, жи-
тия, патерикового, рождественского, пасхального рассказа.
Читатель мысленно накладывает идейное содержание произ-
ведения антижанра на идейное содержание произведения ис-
ходного жанра, и в сознании реципиента они соотносятся так
же, как части оксюморона, идея же воплощается по принципу
«от противного».
То, что представляет собой А., видно на примере чеховско-
го «Ваньки» (1886), связанного с традицией рождественского
рассказа. В ночь под Рождество герой пишет письмо дедушке,
и все произведение пронизано рождественскими мотивами.
15
Поэтому читатель ожидает чуда, характерного для рождест-
венского рассказа. Однако жанровое ожидание не сбывается,
и развязка произведения не оставляет ни малейшей надежды
на избавление Ваньки от его горькой участи. Так в традици-
онной для рождественского рассказа форме выражена идея
бытия без Бога, где нет места гармонии и чуду.
А. целесообразно сравнить с пародией. Ю.Тынянов, раз-
граничивая пародию и близкие ей формы с точки зрения на-
правленности включил в состав пародии, существовавшей с
античности («Батрахомиомахия», приписываемая Пигрету, и
«Гигантомахия» Гегемона пародируют героические эпопеи
Гомера), пограничные литературные формы — перепев, или
вариацию, подражание, а также стилизацию. Ученый утверж-
дал, что между подражанием и пародией нет четкой грани и
что «пародийность вовсе не непременно связана с комиз-
мом».
Так, лермонтовское стихотворение «Пророк», по мысли
Тынянова, лишено комического и является перепевом пуш-
кинского «Пророка». Пушкин в качестве структурной основы
своего стихотворения избирает псалом о призвании Богом
пророка, а Лермонтов — пушкинское произведение. У Пуш-
кина главное — гражданская миссия поэта, осуществляемая
по воле Бога, а у Лермонтова - конфликт с обществом поэта,
находящего понимание лишь у природы и тем самым как бы
соперничающего с Богом.
Содержание близких пародии форм — стилизации, пере-
пева и подражания - не противоположное по отношению к
содержанию произведения исходного жанра, а принципиаль-
но иное. Поэтому их целесообразно называть вариациями.
Тынянов все же не поставил проблему А.
По определению обстоятельно исследовавшего жанр па-
родии Вл.Новикова, ее структурной основой всегда является
«комический образ произведения». Но в отличие от пародии
А. не всегда обладает комической функцией. В этой связи в
16
равной мере примечательно и загадочно суждение Тынянова о
трагедии как пародии на комедию. При восприятии пародии и
антижанра общим оказывается их эстетический механизм и
наличие критического начала. А. и пародия обманывают ожи-
дания читателей найти в старой форме привычное содержа-
ние. Оксюморонное соотношение в произведении А. между
содержанием и формой и выражает критическую оценку. «Не-
вязка», смещение двух планов пародии (плана самого произ-
ведения и стоящего за ним пародируемого плана) была откры-
та уже Тыняновым. В пародии есть и третий план, представля-
ющий собой соотношение первого и второго планов как цело-
го с целым. Третий план - мера того неповторимого смысла,
который передастся только пародией.
Данное наблюдение применимо и к А., важное жанрообра-
зующее свойство которого такое же, как и в пародии — сопос-
тавление двух миров или типов мировидения, изображенного
в произведениях исходного жанра и являющегося предметом
художественного переосмысления в А. Однако в отличие от
пародии А., как и стилизация, перепев или подражание, т.е.
вариации, может обладать вполне серьезным содержанием.
Художественное своеобразие А. хорошо видно на примере
такой жанровой модификации, ставшей сегодня уже класси-
ческой, как антиутопия. Ее основной жанрообразующий эле-
мент — спор с утопией, полемика с ней на уровнях отбора
обобщаемого в произведении жизненного материала, идей,
проблем, образов героев. При этом автор антиутопии вопло-
щает свою позицию с помощью приемов и художественных
средств утопии. Как и утопия, антиутопия изображает целост-
ный образ мира с характерными для него политикой, эконо-
микой, научными представлениями, культурой, религией, мо-
ралью. Однако по сравнению с эпохой, в которой живет и тво-
рит писатель, в утопии представлен лучший, а в антиутопии -
худший образ мира. И в утопии и в антиутопии смещены вре-
менные и пространственные структуры, широко используют-
17
ся фантастика, символы, аллегории, гиперболы, устойчивые
мифологемы, архетипы, заметна близость к научной прозе с ее
установкой на всесторонний анализ той или иной идеи, что
обусловливает и особенности образно-композиционной струк-
туры и стиля. Но эти художественные средства воплощают со-
держание с противоположной идейной направленностью.
Обычно в утопии преобладает социально-бытовая, нраво-
описательная проблематика, а антиутопия воссоздает судьбу
личности в мире. Сюжет утопии статичен. Антиутопия, на-
против, отличается динамичным действием. Как правило,
различны и позиции главных героев утопии и антиутопии.
Первый — чаще всего пассивный наблюдатель совершенного
мира. Второй — еретик-бунтарь с ощущением внутренней
свободы, борец против законов кошмарного общества, в ко-
тором он живет.
Создателем первого классического романа-антиутопии
«Мы» (1921) стал Е.Замятин, основатель антиутопической
традиции в литературе XX в. Он и авторы других романов-ан-
тиутопий «О дивный новый мир» О.Хаксли, «1984» Дж.Ору-
элл темпераментно спорили с политическими и философски-
ми идеалами, выраженными в классических утопиях, пере-
несли в будущее отрицательные тенденции общественного
развития, присущие настоящему, и нарисовали худший образ
мира по сравнению с той действительностью, которую они
хорошо знали. Показательна фантастическая история Вели-
кой операции из романа «Мы», рассказывающая о насильст-
венном удалении фантазии у всех «нумеров» - граждан Еди-
ного Государства. В условно-деформированном виде эта ис-
тория отражает неприятие Замятиным уравниловки, несвобо-
ды, нивелирования индивидуального, увиденных им в жизни
молодого советского общества.
В истории литературы жанровые модификации «вспыхи-
вают» в периоды культурного перелома, «когда складывается
необходимость перехода от одного литературного направле-
18
ния (уже исчерпавшего себя) к другому (только складываю-
щемуся)». Для таких эпох характерно явление размыва жан-
ров и стилей как следствие необходимости в отрицании ста-
рой мировоззренческой и культурной парадигм. Именно та-
ким периодом в России стал рубеж XIX и XX столетий и пер-
вая треть XX в. (Чехов, Ремизов, Замятин, Лунц, Платонов,
Булгаков).
Т.Давыдова
Антитеза (от греч. anti - против, thesis — положе-
ние) — противопоставление. А. знакома художественной речи
издревле. Согласно известной легенде она возникла при са-
мом начале основания мира: творец, опечалясь царившей во-
круг тьмой, создал свет и отделил тьму от света. Поэтичность
этой легенды обязана ощущениям, за которыми мы узнаем
черточки бытия, где противоположены море и суша, зима и
лето, день и ночь, вражда и дружба, рождение и смерть. Наша
обыденная речь пестрит подобными противопоставлениями
(во сне и наяву, черным по белому, рано или поздно). Охотно
пользуется прямо полярными понятиями и пословица: сытый
голодного не разумеет; за битого двух небитых дают; ученье —
свет, а неученье - тьма. Как электрический разряд при корот-
ком замыкании начинается поэма Блока «Двенадцать»: «Чер-
ный вечер. Белый снег».
Однако чтобы высечь искру А. необязательно сцепление
обратно заряженных полюсов. Черному Стендаль противопо-
лагал не белое, а красное, Шиллер противопоставил любви не
ненависть, а коварство. А. — это сопряжение любых резко
контрастных явлений, таящих средоточие конфликта. «Отцы
и дети» Тургенева, «Преступление и наказание» Достоевского,
«Волки и овцы» Островского, «Толстый и тонкий» Чехова уже
своими заглавиями предуведомляют читателя о противостоя-
нии в этих произведений идей и характеров.
19
К А. художника влечет та страсть, которую метко выразил
Баратынский: «Две области — сияния и тьмы — / Исследовать
равно стремимся мы».
Два штриха - и в переливах светотени у Л.Толстого возни-
кает образ, исполненный убедительности и впечатляющей
силы: «В Нехлюдове, как и во всех людях, было два человека.
Один — духовный, ищущий блага себе только такого, которое
было бы благо и других людей, и другой - животный человек,
ищущий блага только себе и для этого блага готовый пожерт-
вовать благом всего мира».
Ни единой восклицательной интонации, а сколько экс-
прессии! А. придает речи личностный оттенок, взволнован-
ность. Поэтому к ней так любовно пристрастны лирические
поэты и ораторы. Правда, надо сказать, последние подчас стре-
мятся подменить действительность голой эмоцией, и А. в их ус-
тах превращается в пустоцвет красноречия. Противоположе-
ние каждый раз должно порождаться жизнью, видением взаи-
мосвязи явлений, единством чувства и мысли. Выступая в за-
щиту князя Грузинского, в исступлении застрелившего своего
злостного обидчика, Ф.Плевако сказал: «То, что с ним случи-
лось, беда, которая над ним стряслась, — понятны всем нам; он
был богат - его ограбили; он был честен - его обесчестили; он
любил и был любим — его разлучили с женой и на склоне лет
заставили искать ласки случайной знакомой, какой-то Фени;
он был отцом - у него силой отнимали детей и в глазах их по-
рочили его, чтобы приучить их презирать того, кто дал им
жизнь». Искренно, прочувствованно, правдиво, просто и ясно.
Мысль, выраженная в форме А., исключительно лапидарна
и объемна. В этом убеждают отдельные строки и целые стихо-
творения многих лирических поэтов разных времен и народов.
Иные пишут пухлые романы, где тщатся выразить противоре-
чивость человека, этого «венца природы». Ту же мысль Держа-
вин отчеканил в стихе: «Я - царь, я - раб, я - червь, я - Бог».
М.Акопян
20
Басня — малый эпический жанр, отличающийся от
новеллы, рассказа, очерка и сказки преимущественно стихо-
творной формой. Вместе с тем в Б., как и в сказке, нередко
действуют одни и те же персонажи: животные, растения, ве-
щи, а люди обозначены не именем, а какой-то заметной чер-
той характера или профессией. События в сказках и Б. одина-
ково непохожи на обычную реальную жизнь. Но Б. от сказки
отличается более очевидной двуплановостью, и что бы ни
происходило со Стрекозой и Муравьем, Вороной и Лисицей,
даже самый маленький неискушенный читатель понимает,
что речь идет о людях. Сказка может быть либо страшной, ли-
бо смешной, Б. — чаще всего комична. В Б., как правило, сме-
ются над моральными пороками, а они извечны. Вследствие
этого рамки этого вида поэзии ограничены, а перечень басно-
писцев краток: Эзоп, Лафонтен, А.Измайлов, И.Крылов,
Козьма Прутков, Д.Бедный, С.Михалков.
Б. - жанр дидактической литературы. Уже Гегель усматри-
вал значение Б. в морали и поучении и подчеркивал, кроме то-
го, реальную жизненную основу и обобщающий характер про-
блематики Б.: главное для нее - изображение отдельных кон-
кретных явлений, которые «не выдуманы произвольно, а рас-
сказаны так, что из них можно почерпнуть общее поучение в
отношении человеческого существования или, точнее говоря,
практической стороны этого существования, в отношении ра-
зумности и нравственности поступков». Наблюдения Гегеля
получили дальнейшее развитие у А. Потебни.
А.Потебня также считал, что Б. — средство познания,
обобщения, нравоучения. Емкое и конкретное определение
басенного жанра дали в свое время Жуковский и Белинский в
статьях о Крылове. «Что в наше время называется баснею?
Стихотворный рассказ происшествия, в котором действую-
щими лицами бывают или животные, или твари неодушевлен-
ные. Цель сего рассказа — впечатление в уме какой-нибудь
нравственной истины, заимствуемой из общежития и, следо-
21
вательно, более или менее полезной», — писал Жуковский,
точно определяя художественную структуру Б. Более афорис-
тично эту же мысль выразил Белинский, подчеркнув при
этом, в отличие от Гегеля и Жуковского, не нравоучительный,
а сатирический характер Б.: «Рассказ и цель - вот в чем сущ-
ность басни; сатира и ирония - вот ее главные качества». Ис-
кусство баснописца, считал Белинский, не только в том, что-
бы «выдумать сюжет для басни», но и в том, чтобы уметь «рас-
сказать и применить» уже известные сюжеты.
Басенный сюжет развивается таким образам, что в конце
повествования происходит резкое изменение, своего рода ка-
тастрофа, или «pointe» (фр.: острие, острота, «шпилька»). На-
гнетание действия здесь внезапно прерывается остротой, ста-
новящейся «ударным» местом Б. Такая «шпилька» может за-
вершить Б., может находиться несколько раньше, чем ее
окончание, но чаще всего она является последним стихом
(стихами). «Пуант» переосмысливает все предыдущие собы-
тия в неожиданном свете, хотя и не содержит обобщения. Его
цель — завершить развитие сюжета неожиданным поворотом.
Этим Б. близка новелле. Вместе с тем «пуант» не отменяет мо-
рали Б., хотя в большинстве случаев окончательное мнение
автора совпадает с «пуантом», и тогда специальная моралис-
тическая концовка или зачин отсутствуют.
Так, в Б. Крылова «Зеркало и Обезьяна» «пуант» - совет
медведя кривляющейся перед зеркалом обезьяне, которая
осуждает за то же самое своих подруг - не только раскрывает
мораль произведения, но и делает ненужной специальную
моралистическую концовку: «Чем кумушек считать трудить-
ся,/ Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?»
Чаще всего подобный «пуант» знаменует крушение лож-
ного, иллюзорного представления о жизни басенного персо-
нажа.
Однако иногда, наряду с «пуантом», дана и мораль, отде-
ленная от повествования и являющаяся второй частью басен-
22
ной структуры. В Б. Крылова «Осел и Мужик» рассказывается
об осле, которого мужик нанял гонять с огорода птиц. При са-
мых хороших намерениях осел, выполняя свои обязанности,
истоптал весь огород. «Пуант» Б. таков: «Увидя тут, что труд
его пропал,/ Крестьянин на спине ослиной/ Убыток выместил
дубиной».
Однако баснописец добавил еще и мораль: «А я скажу, не с
тем, чтоб за Осла вступаться;/ Он, точно, виноват (с ним сде-
лан и расчет),/ Но, кажется, не прав и тот,/ Кто поручил Ослу
стеречь свой огород».
По существу, данная мораль приближается к «пуанту»,
только на сей раз укол достается мужику, который должен
быть умнее животного, но так же глуп, как и осел. В таком
сближении персонажей содержится и комический эффект.
Принципы создания Б. ясны и понятны, а вот воплотить
их на практике оказывается непросто: в Б. опасны баналь-
ность и конъюнктурность.
Б. близки аполог, краткий иносказательный рассказ, и
притча, дидактико-аллегорический эпический жанр.
Т. Давыдова, В. Пронин
23
Время и пространство в художествен-
ном произведении. Все предметы и явления реального мира
существуют в какое-то время и в определенном месте. Описы-
вая реальный или условный мир, писатель изображает также
время и место его существования. В художественном произве-
дении время и место происшествия имеют свои особенности
и смысл.
Единство, которое составляют В. и п. в художественном
произведении, М.Бахтин назвал хронотопом (от др.-греч.
chronos — время и topos — место): «Хронотоп определяет худо-
жественное единство литературного произведения в его отно-
шении к реальной действительности». (Бахтин М. Формы
времени и хронотопа в романе: Очерки по исторической по-
этике// Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1984.
С. 391).
В истории культуры существуют разные модели художе-
ственного В. и п. В каждой такой исторической модели отра-
жаются представления людей о мире, характерные для раз-
ных культур, эпох и народов. Для ранних ступеней развития
творческой деятельности, для фольклора например, харак-
терно условное, абстрактное понимание В. и п.: «В некото-
ром царстве, в тридевятом государстве», «однажды в старые
времена». В пословицах (делу — время, потехе — час; лучше
поздно, чем никогда; утро вечера мудренее; весна красна цве-
тами, а осень снопами и т. д.) называется только циклическое
время (время года, суток). Но уже здесь высказано философ-
ское, оценочное отношение к разным периодам жизни при-
роды и человека.
Древнерусская литература, рассказывая о том, «откуда
есть пошла Русская земля», возводила историю Руси к все-
мирной истории, а именно к тому моменту, когда после все-
мирного потопа сыновья Ноя поделили между собой землю
(см. «Повесть временных лет»). Вместе с библейской книж-
ной традицией пришло в древнерусскую литературу представ-
24
ление о времени, о судьбе человека и народов, повторяющих
вечный канон («возвращение на круги своя»). Произведения
создавались с небольшим отрывом от описываемых событий
(«по былям нашего времени», как говорит автор «Слова о пол-
ку Игореве»). Отнесенность событий к определенному време-
ни важна не только для летописей, но и для произведений дру-
гих жанров. В житиях созданы образы биографического вре-
мени. Путешествие героя в святые места составляет сюжет в
произведениях жанра «хождение» («Хождение за три моря»
А. Никитина).
Эстетическое значение показа времени и места в искусст-
ве было акцентировано в классицистической западноевро-
пейской драме (XVII в.), где, как известно, одним из важней-
ших требований (идущим от античной драмы) было соблюде-
ние единства места и времени (действие должно протекать в
течение одних суток в одном месте).
Со временем писатели все более овладевают «миром в его
временных измерениях» (Лихачев Д. Поэтика древнерусской
литературы). В XVIII в. по новому осмысляется и пространст-
во, представляющееся бесконечным: «Открылась бездна,
звезд полна;/ звездам числа нет, бездне дна» (Ломоносов М.
Вечернее размышление о Божием величестве...).
В XVIII в. в русской литературе нового времени, с обрете-
нием ею новых функций, создаются произведения «на слу-
чай»: к определенной дате, посвященные важному, радостно-
му или печальному событию. Так появляются ежегодные оды
«На день восшествия на российский престол...» государя или
государыни или «На рождение в Севере порфирородного от-
рока» Ломоносова, «Осень во время осады Очакова» Держави-
на и др. В это время создаются разного рода мемуары, в кото-
рых авторы стремятся запечатлеть события реального време-
ни, происходившие с ними в пределах Российского государст-
ва (в деревне и в городе, в далекой провинции и в столице) и в
других странах.
25
Изображение В. и п. становится особенно важным и раз-
нообразным в литературе XIX-XX вв. в связи с развитием ре-
алистической, психологической прозы, а также нового пони-
мания истории.
Время конкретизируется в художественном произведе-
нии. Так, можно установить, в какой период происходят со-
бытия, изображенные в «Евгении Онегине», в «Герое нашего
времени». В некоторых произведениях известно точное время
свершения событий, как, например, в повестях и романах
Тургенева, указывающего: «10 августа 1862 г., в 4 часа попо-
лудни, в Баден-Бадене...» (первые слова романа «Дым»), или
«...20 мая 1859 года...» (начало «Отцов и детей») и т.д. Для ис-
торического времени характерно соответствие вещного мира
описываемой эпохе. Их несоответствие, подчеркнутое писа-
телем, может быть приемом создания комического эффекта,
способом характеристики персонажей («Записки сумасшед-
шего» Гоголя) или абсурдности существующего порядка жиз-
ни — «Разворачивалась и гремела Пятилетка в четыре года»
(«Настенька» Солженицына).
Особое значение имеет хронотоп для произведений на ис-
торические темы, где задача представления реальных событий
выдвигается на первый план, воссоздаются национально-ис-
торический колорит, детали вещного мира и характеры лю-
дей. У каждого писателя свое видение жизненного простран-
ства. Так, говорят о грибоедовской Москве («Горе от ума») и
о Москве Булгакова («Мастер и Маргарита»), о Петербурге
Пушкина, Гоголя, Достоевского. Часто писатели создают ус-
ловный город с вымышленным названием (город Глупов Сал-
тыкова-Щедрина, город Градов Платонова). Пространство не
обязательно имеет топонимический смысл. Например, в про-
изведениях Платонова оно символизируется — это яма, моги-
ла, котлован.
Для реалистической литературы характерно изображение
связи времен, прошлого и настоящего, причинно-следствен-
26
них временных связей. Так, в романах Тургенева, Толстого
предыстории героев создают ощущение связи эпох, объясня-
ют характеры персонажей и их поступки.
Художественные В. и п. обеспечивают целостное восприя-
тие художественного мира, организуют композицию произве-
дения. Начало действия, разрешение конфликта и завершение
событий связано со временем жизни и положением главных
героев, даже в произведениях с открытым финалом.
Хронотоп составляет основу сюжетов многих произведе-
ний, описывающих жизнь персонажей в пространственно-
временных изменениях. Так, в рассказе «Один день Ивана Де-
нисовича» Солженицына подробно показаны события одного
дня. Течение времени описывается подробно или со значи-
тельными пропусками. Автор может передавать каждую реп-
лику персонажей в диалоге, происходящем в течение несколь-
ких минут, при этом комментируя малейшие оттенки их пере-
живаний. Так раскрывается характер самого героя, его отно-
шения с другими людьми (например, объяснение Левина и
Кити в «Анне Карениной» Толстого).
Если же в длительный период ничего, с точки зрения авто-
ра, важного не происходит, он его опускает, отмечая только,
как, например, Тургенев в эпилогах своих романов: «Прошло
восемь лет». Переносы действия из одного места в другое, быс-
трое течение времени свойственны авантюрной литературе (ро-
маны «Десять лет спустя», «Двадцать лет спустя» А.Дюма и др.).
Сопоставление циклического времени с периодами жизни
человека лежит в основе устойчивых и оригинальных метафо-
рических выражений: «На заре туманной юности» (Кольцов);
«на склоне лет своих» (Тютчев); «река времен» (Державин);
«ямщик лихой, седое время» (Пушкин); «с веком вековать»
(Мандельштам). Писатели, выражая свое понимание жизни,
создают неповторимые образы времени, а также используют
в своем творчестве поэтические формулы, давно сложившие-
ся в фольклоре и в литературе: «В каком году — рассчитывай,/
27
В какой земле — угадывай,/ На столбовой дороженьке/ Со-
шлись семь мужиков...» («Кому на Руси жить хорошо» Некра-
сова); «’’Время — вперед!" так покатило, что потеряло лицо и
как бы само перестало быть» («Настенька» Солженицына).
Размытость временных и пространственных границ
свойственна поэзии модернизма, с характерной для этого
направления подчеркнутой субъективностью восприятия
реальности (например, в стихотворении В.Брюсова «Я люб-
лю...»: «Я смотрю в пространство неба, небом взор мой погло-
щен./ Я смотрю в глаза: в них та же даль пространств и даль
времен»).
В литературе постмодернизма, подчеркивающей услов-
ный характер творчества, изображающей мир как хаос, часто
смешиваются признаки разных эпох, стилей, в них действуют
исторические личности и персонажи литературных произве-
дений предшествующих эпох и других авторов (см., напри-
мер, «Чапаев и Пустота», «Омон Ра» В.Пелевина).
Г. Романова
28
Герой. В греческой мифологии Г. — потомок бога и
смертного, полубог. У Гомера Г. - доблестный воин, потомок
славных предков. Античные Г. долго занимали ведущее место
в сюжетах европейской литературы, и постепенно установи-
лась традиция называть Г. любого персонажа (от лат. persona —
лицо), любого субъекта действия или переживания в искусст-
ве, в том числе и человека не храброго десятка. Параллельно
развивалось понятие героики, героизма, где принципиальную
роль играли высокие цели и доблесть тех, кто действует, со-
вершает поступки. Так возникли и трусливые Г. (персонажи),
и неперсонифицированная героика («коллективные Г.» в про-
изведениях о подвигах масс), которой не было в ранних ли-
тературах (Гомер точно указывает, какой Г. какого убил).
Поэты XVIII в. и в значительной мере критики первой по-
ловины XIX в.пользовались термином «лицо» («лица»), но в
художественных произведениях уже Пушкин и Гоголь явно
предпочитают слово Г., применяя его к персонажам заведомо
негероическим: Онегину, Евгению в «Медном всаднике», Чи-
чикову. Лермонтов сознательно играет значениями слова: Пе-
чорин по характеру достоин быть настоящим Г., но он Г. ни-
колаевского безвременья, антигерой и в то же время чуть ли не
лучший в своем обществе. «"Да это злая ирония!" — скажут
они, — пишет Лермонтов о читателях в предисловии к «Жур-
налу Печорина» и отвечает: — Не знаю». Л.Толстой, избегая
односторонности, открещивался от понятия Г. даже по отно-
шению к участникам войны 1812 г.: «Для историка, в смысле
содействия, оказанного лицом какой-нибудь одной цели, есть
герои; для художника, в смысле соответственности этого лица
всем сторонам жизни, не может и не должно быть героев,
а должны быть люди».
Персонажи бывают реальные (исторические, автобиогра-
фические), домысленные (имеющие прототип, но выступаю-
щие под другим именем, в других ситуациях и т.д.) и вымыш-
ленные. Среди последних — Г. условные: гиперболизирован-
29
ные, гротескные, не только люди, но и фантастические сущест-
ва, в случае олицетворения - и вещи (умывальник Мойдодыр),
явления природы (Мороз-воевода, Зеленый Шум), даже отвле-
ченные понятия (Власть и Сила в «Прометее прикованном»
Эсхила, аллегорические образы в барочном искусстве и т.д.).
Иногда литературоведы пытаются разграничить понятия
Г. в смысле «главный герой» и «персонаж» как Г. второсте-
пенный и третьестепенный. Важно иметь в виду, что по со-
держательной нагрузке иной образ гораздо «больше» своего
места в сюжете и в общем объеме текста, например, Рахметов
у Чернышевского, Кириллов в «Бесах» Достоевского, умира-
ющий Николай Левин и художник Михайлов в «Анне Каре-
ниной», реальные персонажи в исторических романах валь-
тер-скоттовского типа, а в советской литературе, например,
Ленин в «Человеке с ружьем» Н.Погодина. Отмечалось, что в
сюжетном плане главный герой «Мастера и Маргариты» Бул-
гакова — Мастер, а в идейном — Иешуа (и вместе с тем, надо
думать, Воланд).
Если в произведении представлены и положительные и
отрицательные Г., то главными обычно бывают первые. Так,
естественно, легче выразить авторские оценки. Но в XX в. все
чаще главными Г. произведений, порой значительных по объ-
ему и по идейно-художественному наполнению, становятся
персонажи противоречивые, мечущиеся, заблуждающиеся
(Григорий Мелехов, большинство героев Ю.Трифонова, Пе-
лагея и Алька у Ф.Абрамова и т.д.) или прямо отрицательные
(начиная с Клима Самгина), хотя чаще всего не «изначально»
отрицательные, а эволюционирующие в этом направлении
(Андрей Гуськов у В. Распутина, Рамзин у Ю. Бондарева, Гле-
бов у Ю.Трифонова, в зарубежной литературе — Адриан Ле-
веркюн у Т.Манна, герои «Осени патриарха» Г.Гарсия Мар-
кеса, «Превратностей метода» А.Карпентьера и многие др.).
Разграничение литературных Г. на положительных и от-
рицательных не абсолютно по ряду причин. У многих персо-
30
нажей характеры сложны и неоднозначны. Таковы Онегин,
«добрый приятель» Пушкина, убивший восторженного и бла-
городного Ленского, потерявший себя и свое счастье, или тот
же Печорин, или Кирибеевич и Иван Грозный в «Песне про
купца Калашникова». Г. плутовских романов всегда отрицате-
лен (хотя не до предела: находятся более хитрые и бессовест-
ные плуты, ставящие его в весьма затруднительные положе-
ния), но о себе рассказывает он сам в старости, уже исправив-
шись. Правда, постаревший плут остается скорее субъектом
повествования, чем субъектом действия, то есть собственно
персонажем.
У других персонажей характеры цельные, но в чем-то огра-
ниченные, а вместе с тем их носители не могут не вызывать
сочувствия (старосветские помещики Гоголя, родители База-
рова в «Отцах и детях» Тургенева, Аким в «Царь-рыбе» В.Ас-
тафьева и т.д.). В принципе положительный Г. — выразитель
и защитник всего исторически прогрессивного или же храни-
тель лучшего в прежнем (от фонвизинского Стародума до ге-
роев и главным образом героинь современной «деревенской
прозы»). Но есть и Григорий Мелехов, заблудившийся прав-
доискатель, и его интеллигентные собратья по несчастьям —
булгаковские Турбины. Честные порывы или просто сильные
страсти, если они не заведомо низменны, поднимали над «ря-
довым» уровнем отрицательных героев не только ошибаю-
щихся Эдипа и Отелло, но даже Макбета и самого князя тьмы
и зла, назывался ли он Сатаной, как у Мильтона, Демоном,
как у Лермонтова, или Воландом, каку Булгакова. Возвышен-
ный «демонизм» делает возможным читательское сочувствие
не только к Печорину, но и ко многим персонажам литерату-
ры романтизма — к «антиобщественным» героям поэм Байро-
на, Мицкевича, юного Лермонтова и др.
Некоторые «вечные образы» мировой литературы имели
тенденцию, овеянные возвышенной страстью, переходить из
среды отрицательных образов в число положительных. Таков
31
Каин у Байрона, у Ивана Франко и др. Дон Жуан проделал
путь от исконной отрицательности у Тирео де Молины и Мо-
льера до положения воскресающего (пусть поздно) и фило-
р софствующего высокого Г. у Пушкина, А.К.Толстого и Леси
Д__ Украинки, а затем вновь подвергся снижению и даже «пере-
лицовке» у Б.Шоу, М.Фриша, С.Алешина («Тогда в Севи-
лье...»). Вас.Федоров в поэме «Женитьба Дон Жуана» исполь-
зует уже только общую схему образа и нарицательное имя для
выражения совершенно иного содержания, не претендуя на
развитие собственно «вечного образа».
Существует в литературе и такой персонаж, как Остап
Бендер, человек антиобщественный и вместе с тем настолько
обаятельный, что не воспринимается в качестве чисто отри-
цательного Г. читателями, в жизни нимало не сочувствующи-
ми аферистам.
Особенно сложен вопрос о «сравнительной положитель-
ности», применимый к любой литературе, начиная с антич-
ной. Кто положительнее: Ахилл или Гектор? Гектор - защит-
ник родины, но троянец и брат преступника Париса, несущий
для Гомера и его современников ответственность за свой род.
Ахилл — агрессор, но грек, соотечественник Гомера и выпол-
няет свой долг в соответствии с данной ахейцами клятвой. Эс-
хиловский Прометей, безусловно, «положительнее» тирана
Зевса, но Зевс не случайно в других трагедиях Эсхила — хра-
нитель мирового порядка (а следовательно, всего лучшего),
нарушить который безнаказанно нельзя и с самыми лучшими
намерениями. Наконец, положительность Г. отнюдь не без-
различна к художественности его обрисовки. Абсолютно по-
ложительный Г., особенно данный не в экстремальной ситуа-
ции, воспринимается как «лакировочный», слащавый, жиз-
ненно неубедительный. Такова участь многих Г., а особенно
героинь, безупречных женщин В.Скотта и Ф.Купера, чистей-
ших девушек вроде Эсмеральды и Деи у В.Гюго и т.п.
В реалистической литературе характер Г. обычно не может
32
быть абсолютно положительным уже потому, что существует в
конкретных социальных обстоятельствах и определяется от-
носительно их, а не сам по себе. Так, мы многое «списываем»
Чинкову да и Баклакову в «Территории» О.Куваева, потому
что не можем не учитывать исключительности обстоятельств,
в которых они живут и действуют. Однако обстоятельства не
всегда наличная обстановка. Это и вся предшествующая
жизнь Г., условия формирования его характера, в соответст-
вии с которыми мы судим о его объективных возможностях.
Поэтому именно в современной литературе, учитывающей все
сложнейшие связи человека с миром, положительность Г. не
обязательно зависит впрямую от его общественного статуса и
практических дел. Это для Шекспира положение кое в чем
важнее нравственного облика и сюжетной роли персонажей: в
списках действующих лиц он неизменно, впрочем скорее по
традиции, перечисляет их по рангам (Клавдия прежде Гамле-
та), сначала всех мужчин, а потом всех женщин — тоже по ран-
гам. Сейчас никому в голову не придет, что председатель кол-
хоза непременно более важный персонаж, чем рядовой кол-
хозник. Личность в наше время во многом важна и значитель-
на сама по себе.
Тем не менее непреложной остается социальная актив-
ность положительного Г., проявляется ли она в боевых по-
двигах, в труде или в чисто человеческих, личных отношени-
ях. В прошлом остались предложения отказаться от понятия
«положительный Г.», которое якобы толкает художника на путь
идеализации, попытки апологетики «маленького» или «поте-
рянного» человека, имевшей место на рубеже 1950—60-х гг.
В свое время Достоевский видел особо трудную задачу в
том, чтобы создать образ «положительно прекрасного» чело-
века. И все-таки русская классика чрезвычайно богата образа-
ми положительных Г., таких как Чацкий и Татьяна Ларина,
Инсаров и Базаров, Пьер Безухов и Наташа Ростова, чехов-
ские интеллигенты, не говоря уже о людях из народа, изобра-
2—501
33
женных Тургеневым, Некрасовым, Лесковым. В современной
литературе истинно положительные Г., далекие от всякой
идеализации,— это герои тетралогии Ф.Абрамова (семья
Пряслиных, Анфиса, Лукашин), Дарья Пинигина у В.Распу-
тина, Кирпиков у В.Крупина, Сергей Лосев в «Картине»
Д.Гранина, Бачана Рамишвили в «Законе вечности» Н.Дум-
бадзе. В творчестве Ч.Айтматова галерею героев-тружеников
из народа, наделенных талантом человечности, завершает об-
раз Буранного Едигея.
Выявляя историческую преемственность жизни и непрехо-
дящие духовные ценности, проза активно разрабатывает мате-
риал прошлого. В последнее время писатели нередко создают
вымышленные образы людей прошедших эпох, наполняя их
философским смыслом, имеющим актуальное значение.
С.Кормилов
Гипербола (от греч. hyperbole — преувеличение).
«Все большие произведения, — писал А.Горький, — все те
произведения, которые являются образцами высокохудоже-
ственной литературы, покоятся именно на преувеличении, на
широкой типизации явлений». Преувеличение и типизацию
Горький уверенно и безошибочно ставит рядом, на собствен-
ном писательском и читательском опыте, понимая под этим
способность и умение художника увидеть самое существенное
в наблюдаемых явлениях, извлечь из них основной смысл,
сгустить его силой воображения в художественный образ.
Преувеличение - «ядро» типизации.
Один из самых эффектных и эффективных приемов худо-
жественного преувеличения — Г. Она позволяет «представить
непредставляемое», «соотнести несоотносимое», то есть наи-
более остро и резко дать ту или иную деталь — в портрете, во
внутреннем облике персонажа, в явлении объективного мира.
Подчеркнем - объективного. Потому что, говоря о Г., следу-
34
ет иметь в виду, что какой бы невероятной, какой бы фантас-
тической она ни была, в основе ее всегда — жизненный мате-
риал, жизненное содержание.
Художественная убедительность и многозначность Г. тем
весомее, чем яснее представляет себе читатель конкретную
сущность образа или ситуации. Так, один из главных персона-
жей гоголевского «Ревизора» Хлестаков сам о себе говорит,
что у него «легкость необыкновенная в мыслях». В обществе,
основанном на всеобщем чинопочитании, на всеохватном ли-
цемерии, ложь Хлестакова, при всей ее гиперболической не-
суразности («как прохожу через департамент, — просто земле-
трясение, все дрожит и трясется как лист» и т.п.), принимает-
ся провинциальными чиновниками за чистую правду.
Еще пример. В романе Маркеса «Осень патриарха» рассказ
о «тысячелетнем» патриархе ведется от «мы», и этот прием ис-
пользования коллективной точки зрения, многоголосия, дает
почувствовать и представить себе атмосферу слухов и недо-
молвок о герое. О диктаторе с самого начала ничего не извест-
но наверняка - и до конца книги. Каждое новое толкование
его поступков раскрывает лишь какую-либо одну из сторон
его облика, где на первый план выдвигается исключитель-
ность, несходство с обыкновенными людьми. И это придает
всему стилю повествования определенную гиперболичность.
Для создания гиперболического художественного образа
используются различные виды тропов: сравнения, уподобле-
ния, метафоры, эпитеты и т.д. Функция их состоит в том, что-
бы преувеличить предмет, наглядно раскрыть противоречие
между содержанием и формой его, сделать изображение более
впечатляющим, броским. К слову, ту же цель может преследо-
вать и преуменьшение, литота, которую можно рассматривать
как разновидность Г., как Г. «со знаком минус». В зависимос-
ти от социально-эстетической направленности произведения
одно и то же событие может восприниматься как «гигантское»
или же как «мелкое». В романе Д.Свифта «Путешествия Ле-
35
мюэля Гулливера» Г. и литота соседствуют: в первой части
книги современная писателю Англия показана как бы через
уменьшительное стекло, во второй — через увеличительное.
В стране лилипутов волы и овцы до того крохотны, что герой
сотнями грузит их в свою лодку. «Я погрузил в лодку сто воло-
вьих и триста бараньих туш, — сообщает он, — соответствую-
щее количество хлеба и напитков и столько жареного мяса,
сколько могли мне приготовить четыреста поваров». Под
стать этим размерам и все прочее, с чем сталкивается Гулли-
вер в этой стране, вплоть до социального уклада и политичес-
ких событий. Сатирическим преуменьшением Свифт дает чи-
тателю понять, что претензии островной, «лилипутской», в
сущности, Англии на мировое господство (на роль «владычи-
цы морей», на обширные колониальные владения и проч.),
казавшиеся многим англичанам великими, грандиозными,
если задуматься, ничтожны и даже смешны.
Впечатляющ и другой гиперболический образ - из самого
начала романа: герой приходит в себя после кораблекрушения
и не может оторвать головы от земли — каждый волос его на-
кручен на вбитый в землю «лилипутский» колышек. Г. обре-
тает символическое звучание, наводит на мысль о личности в
неволе у множества ничтожных страстей и обстоятельств...
Именно в сатирическом произведении Г. чаще всего уме-
стна и художественно оправданна. В.Астафьев в «Царь-рыбе»
с помощью этого приема выявляет внутреннее убожество од-
ного из «любителей природы», браконьера Грохотало: «Рыбак
Грохотало недвижной глыбой лежал за жарко нагоревшим ко-
стром, сотрясая берег храпом, как будто из утробы в горло, из
горла в утробу перекатывалась якорная цепь качаемого волна-
ми корабля». Здесь проступает авторская оценка персонажа с
его ненасытно-агрессивным отношением к природе, персо-
нажа, олицетворяющего бездушную серость, откуда на мир
«глядит, не моргая, низколобое, клыкастое мурло первобыт-
ного дикаря». Однако Г., даже и «осмеивающая», может и не
36
быть явно сатирической. Диапазон использования этого при-
ема достаточно широк, охватывает и юмор, и иронию, и ко-
мизм. Г. тонко передает различные оттенки авторского отно-
шения к персонажу. Скажем, в романе И.Ильфа и Е.Петрова
«Двенадцать стульев» бывший предводитель дворянства Воро-
бьянинов в одном из эпизодов выглядит так: «Ипполит Мат-
веевич преобразился. Грудь его выгнулась, как Дворцовый
мост в Ленинграде, глаза метнули огонь, и из ноздрей, как по-
казалось Остапу, повалил густой дым». Комический эффект
достигается несколькими гиперболическими штрихами — и
эффект этот тем неожиданней, что писатели реализуют мета-
фору привычную, так сказать, обиходную: наблюдая это пре-
ображение «бывшего» в горячего скакуна, в этакого Сивку-
Бурку, право же, нельзя не улыбнуться...
История Г. уходит в далекое прошлое — в фольклор, в на-
родные сказки, щедрые на сатирические образы и комические
ситуации. Однако примерно в то же время возник и совершен-
но другой вид Г. — весьма далекой от смеха. В былинах, леген-
дах, героических сказаниях мы обнаруживаем Г., которую
можно назвать идеализирующей. Так, в русском эпосе запе-
чатлен исторический опыт народа, его героическая борьба
против захватчиков и притеснителей. В образах былинных ге-
роев народ выразил свое понимание долга и чести, мужества и
патриотизма, доброты и самоотверженности. Герои былин —
богатыри - наделены идеальными человеческими качества-
ми, как правило, преувеличенными, гиперболизированными.
В обрисовке былинного богатыря в первую очередь подчерки-
вается его сверхъестественная физическая сила: «Кабы было
во земли кольцо,/ И было бы во неби кольцо,/ Захватил бы эти
кольца в одну руку,/ Притянул бы небо к земле»,- говорится в
былине об Илье Муромце. Подобным образом гиперболизи-
руются его вооружение, его поступки. На поле брани он ору-
дует железной палицею-шалы гой «весу ровно сто пудов», лу-
ком и стрелами «в косу сажень», а то и попросту хватает за но-
37
ги подвернувшегося противника и крушит им «великую си-
лушку» вражескую: вправо махнет — появляется во вражьем
скопище «улица», влево — «переулочек». Конь же Ильи Му-
ромца может в один скок одолеть многие версты, ибо летит он
«выше леса стоячего, чуть пониже облака ходячего»...
Гиперболизируются — но уже сатирически — и образы про-
тивников былинных богатырей. Например, если Илья Муромец
внешне ничем не отличается от окружающих, то его «супостат»
Идолище — и ростом в «две сажени», и в плечах «косая сажень»,
и глазищи у него что «пивные чашищи», и нос что «локоть»...
Благодаря этому контрастному внешнему сопоставлению
победа богатыря выглядит особенно внушительной, заслужи-
вающей народного прославления.
Широко использовали идеализирующую метафору в сво-
ем творчестве писатели-романтики, противопоставляя безду-
ховной, бесчеловечной действительности свой идеал, эстети-
ческий идеал романтизма. Многочисленные примеры такого
рода мы легко обнаружим в гоголевских «Вечерах на хуторе
близ Диканьки», в книгах Вельтмана и Одоевского, Гюго,
Гофмана, Шамиссо...
Г. остается одним из самых употребимых и действенных
литературных приемов. К нему охотно прибегали такие раз-
ные писатели, как Ч.Айтматов и В.Орлов, Б.Окуджава и
А.Вознесенский, А.Ким и Н.Думбадзе и многие другие. И
можно уверенно сказать, что прожившая в литературе долгую
жизнь Г. остается верной союзницей художника как в борьбе
с негативными явлениями жизни, так и в творческом утверж-
дении нравственного идеала.
А. Кондратьев
Гротеск (от итал. grottesco - причудливый oTgrotta -
грот) — своеобразный стиль в литературе, которым подчерки-
вается искажение или смещение норм действительности и
38
совместимость контарстов — комического и трагического,
фантастического и реального и т.д.
Целые литературные направления отрицали Г., утверждая,
что в преувеличении, искажении нет верности «природе».
«Конечно же, куда легче, куда менее достойно удивления, изо-
бражая человека, придать ему несообразных размеров нос или
другую черту лица, либо выставить его в какой-нибудь неле-
пой или уродливой позе, нежели выразить на полотне челове-
ческие наклонности», — писал Филдинг.
Зачем читателю знать, что младенец Гаргантюа, вылезший
из уха Гаргамели, которая съела шестнадцать больших бочек,
две малых да шесть горшков потрохов, кричит, будто пригла-
шая всех выпить: «Пить, пить, пить». И как поверить, что для
кормления младенца было выделено 17 913 коров, а для его
штанов взяли 1105 локтей белой шерстяной материи. И уж,
конечно, ни грана правды не найдет благоразумный читатель
в рассказе о том, как, решив отплатить парижанам за плохой
прием, «...Гаргантюа отстегнул свой прекрасный гульфик и
сверху так обильно полил их, что утопил 260 418 человек, не
считая женщин и детей».
Гротескный мир - это мир доведенных до крайности пре-
увеличений, часто фантастических. В нем угрожающе растут
части человеческого тела, изменяются масштабы явлений,
размеры вещей и предметов. При этом явления и предметы
выходят за свои качественные границы, перестают быть сами
собой.
Тип гротескной образности присущ еще мифологии, арха-
ическому искусству. Сам же термин появился намного позд-
нее. Когда при раскопках в одном из гротов Древнего Рима
были найдены орнаменты, представлявшие странные, при-
чудливые переплетения растений, животных, человеческих
лиц, Б.Челлини написал: «...Как древние любили создавать
чудища, применяя коз, коров и коней, и, когда получались та-
кие ублюдки, называли их чудищами; так и эти художники де-
39
лали из своих листьев такого рода чудища; и настоящее их на-
звание — чудища, а не гротески».
Смешение человеческих и животных форм — это древней-
р ший вид Г. В языке слово Г. закрепилось в значении стран-
~__ ное, неестественное, причудливое, алогичное, и в этом отра-
жение важнейшей стороны эстетического явления, свойст-
венного всем родам искусства.
Г. может быть не только приемом, элементом стиля, окра-
шивающим произведение в алогичные тона, но и способом
типизации. Вершинами искусства Г. эпохи Возрождения ста-
ли «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле, «Похвала Глупости»
Эразма Роттердамского.
В эстетическом отношении Г. является реакцией на
«принцип правдоподобия», на искусство педантичной верно-
сти «природе». Такой реакцией на искусство классицизма
стал романтизм. В это время приходит и осознание эстетиче-
ской сущности Г. В «Опыте науки изящного, начертанном
А.Галичем» (1825) говорится: «Гротеск... как особенный спо-
соб творческих действий фантазии, — расстроивая наружный
вид естественных произведений и созидая новые, странные,
но приятные превращения, по идее жизненного начала, дей-
ствующего в беспрерывных переливах, оттенках и постепен-
ностях, посмеивается в своих арабесках, как бы педантизму
самой природы...» Подчеркнем: за Г. признается превраще-
ние «по идее жизненного начала».
После появления «Предисловия к “Кромвелю"» (1827)
В.Гюго популярность термина Г. возросла.
Г. часто внешне непритязателен. «Шуткой», в которой
«так много неожиданного, фантастического, веселого, ориги-
нального», назвал Пушкин «Нос» Гоголя. Рабле во введении к
роману обращается к читателям, «добрым ученикам и прочим
бездельникам» с просьбой не судить по внешней веселости,
не подумав как следует, не начинать смеяться. «...Вам следует
раскрыть эту книгу и старательно продумать, что в ней напи-
40
сано. Тогда вы увидите, что снадобье, в ней заключенное, сов-
сем другого качества, чем обещал ларец...»
Гротескный образ стремится к крайнему обобщению, вы-
явлению квинтэссенции времени, истории, явления, челове-
ческого бытия. В этом гротескный образ сродни символу. Гро-
тескная «Шагреневая кожа» была помещена Бальзаком над
«нижним слоем» произведений — «Сценами нравов». Гоголев-
ская «Шинель» — это не только и не столько защита «малень-
кого человека», сколько квинтэссенция ничтожности его бы-
тия. По словам Салтыкова-Щедрина, «История одного горо-
да» возникла, чтобы вобрать в себя самую суть «тех характери-
стических черт русской жизни, которые делают ее не вполне
удобною».
Г. — художественное единство контрастов: верха и низа че-
ловеческого тела (у Рабле), сказочного и реального (у Гофма-
на), фантастики и быта (у Гоголя). «Гротескный образ, — пи-
сал М.Бахтин, — характеризует явление в состоянии его изме-
нения, незавершенной еще метаморфозы, в стадии смерти и
рождения, роста и становления». Ученый показал амбива-
лентность гротескного образа народной культуры средневеко-
вья и Возрождения, в которой Г. одновременно высмеивает и
утверждает в отличие от отрицающей сатиры нового времени.
В Г. эпохи Возрождения первостепенное значение имел
контраст верха и низа человеческого тела, их взаимозамеще-
ние. В реалистическом же гротеске контраст социален. В рас-
сказе Достоевского «Бобок» сближаются социальные верх и
низ. «Барынька» Авдотья Игнатьевна раздражена близким со-
седством лавочника. Комична в рассказе память могильного
«общества» о прошлой реальной, «домогильной» иерархии.
Гротескный контраст проникает в саму ткань произведения,
выражаясь в резких перебивах авторской речи и речи героев.
Вместе с тем гротескный мир - это мир расщепленной
цельности, разъятого единства. Описывая драку монаха со
стражем, Рабле «анатомирует» рассыпающийся под ударами
41
монаха череп стража: «И одним ударом он пробил ему голову,
сломав черепную коробку над височной костью и отделив от
затылка обе теменные кости и большую часть лобной доли
вместе со стреловидным мостом...» и т.д.
В повести Гоголя была продолжена «носологическая» те-
ма, чрезвычайно популярная в литературе первой половины
XIX в., когда перед глазами читателя мелькали носы, отрезан-
ные, запеченные, неожиданно исчезающие и вновь появляю-
щиеся. В повести Гоголя «Рим» «из перекрестного переулка»
выглянул «огромный запачканный нос и, как большой топор,
повиснул над показавшимися вслед за ним губами и всем ли-
цом...». Гротескное мироощущение пронизывает и одно из
писем Гоголя из Рима. Очарованный цветением роз, Гоголь
пишет: «Верите ли, что часто приходит неистовое желание
превратиться в один нос, чтобы не было ничего больше — ни
глаз, ни рук, ни ног, кроме одного только большущего носа, у
которого бы ноздри были в добрые ведра, чтобы можно было
втянуть в себя как можно больше благовония и весны».
Реалистическое искусство приносит невиданную ранее
«психологизацию гротеска» (Ю.Манн). В реалистическом
гротеске расщепляются не только явления внешнего мира, но
и само человеческое сознание, в литературе возникает тема
двойничества, начатая еще гоголевским «Носом» (ведь стат-
ский советник Нос — это двойник глупого, пошлого майора
Ковалева). Развивается тема Достоевским в повести «Двой-
ник» и в сцене «встречи» Ивана Карамазова с чертом.
В гротескном произведении писатель многообразными
способами «убеждает» читателя в возможности сосуществова-
ния самого невероятного, фантастического с реальным, при-
вычным. Фантастическое в нем — это максимально заострен-
ная реальность. Отсюда подчеркнутая пластическая достовер-
ность в описании носа и переплетение невероятного со сце-
нами обыденной пошлости в гоголевской повести. В рассказе
«Бобок» его превосходительство покойный генерал-майор
42
Первоедов играет с покойным надворным советником Лебе-
зятниковым в преферанс. Фантастическое дробит и укрупня-
ет действительность, изменяет пропорции. Фантастика не са-
моцель автора. Она часто «снимается» писателем: в «Путеше-
ствии Гулливера» Свифта - точным, комически педантичным
описанием места и времени действия, скрупулезным приведе-
нием названий и дат, в «Двойнике» Достоевского — отрицани-
ем иллюзорности, фантастичности происходящего, которым
каждый раз сопровождается появление двойника — Голядки-
на-младшего. Фантастическое обнажается писателем как ху-
дожественный прием, от которого в свое время за дальнейшей
ненадобностью можно отказаться. «Но здесь происшествие
совершенно закрывается туманом, и что далее произошло, ре-
шительно ничего неизвестно», — замечает автор «Носа». Час-
то реалистический Г. строится полностью на игре различных
плоскостей изображения. Иногда гротескное произведение
является пародией, как, например, «История одного города»
Салтыкова-Щедрина.
В основе Г. может лежать не только предельное увеличе-
ние — гипербола, но и метафора. Метафорична природа гроте-
скных сцен в поэме Т.Шевченко «Сон», в одной из которых от
крика царя, строго сохраняя иерархию - от самых «пузатых»
до «мелких», — проваливаются в землю его приспешники. Са-
тирический гротеск политической поэзии Т.Шевченко, вос-
ходящий к фольклорным традициям, традициям Гоголя,
Мицкевича, был явлением новаторским, он предшествовал
сатирическому гротеску Салтыкова-Щедрина.
Искусство развивало традиции романтического и реалис-
тического Г. Так, под влиянием традиций Гофмана, Гоголя,
Достоевского родился гротескный стиль Ф.Кафки. Для Каф-
ки характерно сочетание в произведении сказочно-фантасти-
ческих, кошмарных событий с правдоподобным изображени-
ем деталей быта и «нормальным» поведением людей в нео-
бычных ситуациях. Герой рассказа Кафки «Превращение»
43
коммивояжер, проснувшись, видит себя превращенным в на-
секомое.
Формы Г. использованы А.Франсом в сатирических рома-
нах «Остров пингвинов», «Восстание ангелов», К.Чапеком,
Т.Манном, И.Эренбургом («Хулио Хуренито»), М.Булгако-
вым в сатирических рассказах (сборник «Дьяволиада»), пьесе
«Бег», романе «Мастер и Маргарита».
В поэзии и драматургии Г. встречается реже, чем в прозе.
Среди драматургических Г. можно назвать пьесы Л.Пиран-
делло, Б.Брехта, Э.Ионеско, пьесы-сказки Е.Шварца.
Признаки Г. имеет «страшная картина» в стихотворении
В.Маяковского «Прозаседавшиеся»: на заседании «сидят лю-
дей половины». Поэтика гротеска свойственна многим стихо-
творениям «Городских столбцов» Н.Заболоцкого. Например,
«Движение»: «Сидит извозчик, как на троне,/ Из ваты сдела-
на броня,/ И борода как на иконе,/ Лежит, монетами зве-
ня./А бедный конь руками машет,/То вытянется, как налим,/
То снова восемь ног сверкают/ В его блестящем животе».
М.Ковсан
44
Дискурс (от фр. discours — речь) — понятие с крайне
размытым сегодня содержанием: сравниться с ним может раз-
ве что парадигма. Еще в 1970-80-е гг. можно было говорить о
таком научном термине; сейчас из-за крайне нестрогого упо-
требления, когда практически любая совокупность звуков,
букв, знаков и др. может быть названа Д., его подлинно науч-
ное бытование проблематично.
Попробуем разобраться с самого начала. Исследователи
сходятся на том, что Д.: 1) связный текст, но не сам по себе, а
в совокупности с другими экстралингвистическими фактора-
ми: прагматическими, социальными, культурными, психоло-
гическими и др. Текст рассматривается не как чисто языковое
или речевое явление, а как событие, имеющее социальное на-
значение. Например, разговор студента и преподавателя на
экзамене, но и разговор двух подруг — все это Д. 2) Речь как
некоторое социальное действие, обращенное к кому-либо,
участвующая в общении, взаимодействии людей, порождаю-
щая законы понимания как законы общения, т.е. речь, «по-
груженная в жизнь». Поэтому Законы царя Хаммурапи —
только «текст», а российский Кодекс законов о труде — Д.: в
первом случае связи документа с живой жизнью не просле-
живаются, поскольку общества, регулируемого указанным
законодательством, более не существует. Во втором текст вы-
ражает, содержит сформулированные нормы социальной
жизни.
Важно, что при возникновении определенных обстоя-
тельств и в определенных условиях некоторый «текст» мо-
жет стать Д. Так, уставы рыцарских орденов или норматив-
ные документы наполеоновской армии для большинства
наших современников носят текстовый характер, но для
участников военных игр, «толкиенистов» и др. подобных
социальных групп, строящих свою игровую реальность в со-
ответствии с нормами исторических социумов, они вполне
дискурсивны.
45
В «Словаре терминов французского структурализма», со-
ставленном И.Ильиным (Структурализм: «за» и «против».
М., 1975. С. 450—461), о Д. говорится следующим образом:
«Одно из наиболее сложных... и менее всего поддающихся
четкому определению понятий современной литературы. На
многозначности этого термина неизбежно сказался принци-
пиально различный предмет исследования лингвистики и
литературоведения, объективно обусловивший и различное
толкование этого термина. <...> Одним из первых ввел в оби-
ход специфическое понятие дискурса бельгийский лингвист
Э.Бюиссанс... включивший в... противопоставление языка и
речи... новый член: langue — discourse — parole, где langue —
система, некая отвлеченная умственная конструкция, dis-
course — комбинации, посредством реализации которых го-
ворящий использует код языка... и parole — механизм, позво-
ляющий осуществлять эти комбинации... Сейчас дискурсом
называют все те уровни, которые накладываются (дополня-
ют, перекрывают) нить повествования в строгом смысле
слова. Таким образом, текст можно разделить на историю
(или интригу) и Д. Например, в детективном рассказе рас-
пределение и комбинация признаков, указывающих на ви-
новного в преступлении, относятся к плану интриги, в то
время как нагнетаемая атмосфера страха относится к плану
дискурса, то есть не к фабульной, а к сюжетной организации
текста» (с. 453—454).
Природа Д. тройственна: одна его сторона обращена к
прагматике, к типовым ситуациям общения, другая, к про-
цессам, происходящим в сознании участников общения, и к
характеристикам этих сознаний, третья — к собственно текс-
ту. Связь Д. с типовыми ситуациями и со сценариями делают
прозрачной его принадлежность к психологии, психоанализу
и др. смежным областям.
Понятие Д. было введено из-за назревшей в науке потреб-
ности учитывать не только характеристики «текста как тако-
46
вого», исходя из его внутренней специфики, но и текста как
«послания», адресованного кому-либо и выражающего какие-
то потребности адресата и автора. Речь как социальное дейст-
вие стала интересовать ученых в 1960—70-е гг. Э.Бенвенист го-
ворит о Д. как о «речи, присваиваемой говорящим», противо-
поставляя Д. и эпос: в этом смысле Д. можно назвать любое
поэтическое произведение, в котором речь предельно субъек-
тивирована и авторизована, вообще является некоторым
«слепком» или «моделью» личности поэта. Но ныне термин
распространяется сначала на все виды прагматически обус-
ловленной речи, потом — на все виды речи и текста вообще.
Тут же встала необходимость разграничить «текст», «речь» и
«дискурс». Выяснилось, что и в случае остальных двух поня-
тий ученые не могут прийти к соглашению.
Крайне расширительное толкование термина начинается с
признания прагматической сущности ситуаций, в которых
возникает объект, правомерно называемый Д. Единственным
ограничением здесь считается субъективность высказывания,
отсутствие претензий на объективность. Далее говорится, что
Д. есть любой письменный текст, более длинный, чем одно
предложение. Этим словом может быть обозначена любая за-
мкнутая система конкретных высказываний, равно как и язык
описания этих высказываний (из области политики, науки,
бытового повествования). Но и литература на основании
субъективности любого авторского мира также признается со-
вокупностью разных Д. и сама по себе «большим Д.», несмот-
ря на такие «объективирующие» обобщающие характеристи-
ки, как «тип», «характер», «образ» и др. Ограничение объема и
содержание понятия — дело будущего, зависящее от профес-
сиональной компетенции учёных.
В. Калмыкова
Дневник
см. Автобиографические жанры.
47
Документальная литература
кументалистика) - прозаические произведения, в которых
художественная реальность создается без участия вымысла на
основе реальных фактов, следовательно: документальное на-
чало главенствует.
Термин Д.л., функционирующий исключительно в Рос-
сии и странах ближнего зарубежья, возник в 1920-е гг. в кри-
тике и отдельных литературоведческих работах (в частности, в
сборниках Л ЕФа), но еще очень долго наукой как бы не заме-
чался — не было соответствующих статей ни в словарях, ни в
энциклопедиях, ни в пособиях вплоть до конца 1980-х гг. Это
объясняется прежде всего недостаточной изученностью про-
блематики. (Термин «документалистика», как правило, об-
служивает произведения, принадлежащие журналистике.)
Статус Д.л. в отечественной науке до сих пор неопределен:
в то время как одни исследователи (меньшинство) видят в ней
специальный жанр, другие (большинство) — отдельный вид
литературы. При этом научные споры ведутся как по поводу
границ жанров Д.л., так и по поводу эстетической значимос-
ти такого рода литературы.
Не много пока специальных научных работ, где бы Д.л.
получила теоретическое осмысление. Л.Гинзбург в статье
1970 г. отмечала: «Документальная литература, переводя
жизнь на свой язык, в то же время как бы берет обязательство
сохранить природу жизненных фактов. <...> документальная
литература стремится показать связи жизни, не опосредован-
ные фабульным вымыслом художника. Но отсутствие вымыс-
ла не означает отсутствия организации. Построение личности
в документальной литературе подчинено эпохальным пред-
ставлениям о человеке и закономерностям господствующих
стилей. В самой этой зависимости сохраняется, однако, спе-
цифика документального отношения между действительнос-
тью и словесным искусством. <...> Литература воспомина-
ний, писем, размышлений ведет прямой разговор о человеке.
48
Хроникальная и интеллектуальная, мемуарная и философ-
ская, она подобна поэзии открытым и настойчивым присутст-
вием автора».
Традиционно к жанрам Д.л. относят дневник, письма, ме-
муары, записки, записные книжки писателей, травелог, био-
графию, автобиографию, хронику, а также иногда очерк и эс-
се, т.е. жанры, существовавшие на протяжении веков и лишь в
XX в. объединенные понятием Д.л. Их можно называть «чис-
тыми» (первичными) жанрами Д.л. При этом не следует упус-
кать из виду, что во всех выше перечисленных жанрах факт
(документ) в исторической ретроспективе выполнял по пре-
имуществу служебную роль, так как в самой литературе про-
шлого долгое время отсутствовала установка на подлинность.
Таким образом, «документальность» такой литературы долж-
на восприниматься критически, как определенная услов-
ность.
По-настоящему все изменилось только в XX в., когда факт
получил самостоятельное эстетическое значение, и особенно
после Второй мировой войны. К «чистым» (первичным) жан-
рам Д.л. добавились, с одной стороны, такие «сложные» (вто-
ричные) жанры, как невыдуманный рассказ, документальная
повесть и документальный роман (имеются также многочис-
ленные авторские жанровые именования, например, «Архи-
пелаг ГУЛАГ» А.Солженицына — «опыт художественного ис-
следования», «Цинковые мальчики» С.Алексиевич — «роман
голосов» и т.п.), а с другой — стоящие особняком «литература
человеческого документа» и «наивное письмо».
Среди наиболее дискуссионных научных тем выделяется
проблема художественности произведений, принадлежащих к
Д.л. Сложившееся в науке и критике разделение на литерату-
ру художественную и документальную исторически предшест-
вовало теоретическому изучению этого вопроса. Хотя ученые
неоднократно указывали на подвижность границ понятия «ху-
дожественная литература» (см. работы М.Бахтина, Ю.Тыня-
49
нова, Ю.Лотмана, А.Михайлова), теория литературы в целом
запаздывала с выработкой общего взгляда на проблему лите-
ратуры как целого. Кроме традиционного разделения искус-
ства слова на поэзию и прозу, а также на роды, существуют
также и другие, своего рода неофициальные: в их число попа-
дает разделение на виды — художественная, документальная,
массовая литература, беллетристика и т.д. При этом принци-
пы такого деления нигде четко не обозначены. Современное
состояние изучения литературного процесса фиксирует раз-
мытость границ между различными «видами» литературы.
Упорядочение терминологии и обновление теоретической ба-
зы с учетом принципа историзма остается насущной задачей
л итерату ро веде н ия.
Специфика художественной образности Д.л. состоит глав-
ным образом в проявлении эстетических возможностей само-
го факта, организующего художественное целое. С другой
стороны, художественность Д.л. предполагает определенное
«сращение» — беспристрастности ожившего в слове докумен-
та и страстности идейной позиции автора, открыто проявля-
ющейся во всех формах повествования, в особенности же в
форме лирического отступления. Без сомнения, за исключе-
нием «литературы человеческого документа», Д.л. представ-
ляет собой эстетически организованный текст, а значит необ-
ходимо признать заведомую условность деления литературы
на художественную и документальную.
Вопрос о достоверности/недостоверности факта в Д.л.
приобретает совершенно особое значение. Фальшивость ме-
муаров, записок и дневников как проблема всегда стояла пе-
ред историками культуры, стремившимися достоверно вос-
создать картины былого. В XX в., в условиях господства идео-
логии, проблема псевдодокументального приобрела особенно
острый характер. В литературу было «вброшено» немало заве-
домо лживых повествований, основанных якобы на «подлин-
ных» свидетельствах очевидцев и призванных «подпитывать»
50
официальную доктрину. В этом смысле печальна судьба
М.Горького. Начав свою литературную деятельность с поиска
путей эстетического высвобождения факта, в последний пе-
риод жизни, будучи на службе у власти, Горький был вынуж-
ден или молчать, или представлять факты «в нужном свете»,
своим авторитетным словом освящая целое направление в
советской литературе, называемое «литературой факта», а на
поверку являющееся ничем иным, как псевдодокументалис-
тикой. Так рождались многочисленные биографии револю-
ционных деятелей, начиная с семьи Ульяновых, книги о пио-
нерах-героях (характернейший пример — история Павлика
Морозова), о «комсомольских» стройках и т.д. Так стало воз-
можным появление книги «документальных» очерков «Бело-
морканал» (1934), в написании которой, помимо самого
М.Горького, приняли участие такие известные писатели, как
Л.Авербах, Е.Габрилович, М.Зощенко, Вс.Иванов, В.Инбер,
В.Катаев, А.Н.Толстой, В.Шкловский, Б.Ясенский. Всего 36
авторов, поставивших под этим «правдивым» повествованием
коллективную подпись. Манипулирование фактом в полити-
ческих или иных целях породило огромное число произведе-
ний псевдодокументальных.
Такого рода «заказные» тексты при первом же изменении
политического курса, как правило, получают билет в небытие.
Д.л. необходимо отличать, с одной стороны, от этнографи-
ческих очерков, а с другой — от публицистики.
Если этнографические очерки или заметки по существу
нацелены на спокойное, почти бесстрастное научное исследо-
вание предмета — изучение жизни и быта того или иного наро-
да, т.е. не претендуют на эстетически организованное повест-
вование, то публицистика (кстати, само понятие это целиком
принадлежит русской культуре и на Западе почти неизвестно)
характеризуется, во-первых, злободневностью, во-вторых,
совершенно определенной идеологической окрашенностью,
в-третьих, по своим целям - стремлением «убедить» читателя,
51
навязать ему свою точку зрения. Здесь факт (документ) всегда
выполняет подчиненную роль.
Наряду с Д.л. в современном литературоведении и крити-
ке употребляются иные, сходные по содержанию понятия та-
кие, как «литература факта», «литература нон-фикшн/поп-
fiction», «художественно-документальная проза», «историко-
документальная проза», «эго-документ», «автодокументаль-
ный текст».
Наиболее яркие примеры Д.л.: «Архипелаг ГУЛАГ» А.Со-
лженицына, «Брестская крепость» С.Смирнова, «Блокадная
книга» А.Адамовича и Д.Гранина, «У войны - не женское ли-
цо», «Цинковые мальчики», «Последние свидетели. Книга
недетских рассказов» С.Алексиевич и др.
Е. Местергази
Документальное начало - наряду с
вымыслом представляет собой один из двух возможных спо-
собов художественного претворения действительности в ли-
тературе.
Д.н., положенное в основу произведения, предполагает
использование автором реальных фактов. С незапамятных
времен существовали такие жанры, как биография, автобио-
графия, мемуары, записки, письма, травелог, исторический
роман, которые отличались установкой на подлинность и
должны были вызывать в читателе иллюзию полной достовер-
ности описываемого. Однако, несмотря на использование ря-
да действительных документов, в целом в такой литературе
долгое время, практически вплоть до XX в., факт играл глав-
ным образом служебную роль, находясь в подчинении у фан-
тазии художника, организующей повествование.
В качестве примера можно привести «Письма русского
путешественника» Н.Карамзина. Всесторонний анализ зна-
менитого произведения первого отечественного историогра-
52
фа самыми разными исследователями показал, что письма —
не что иное, как особым образом сконструированная художе-
ственная проза, в которой собственно Д.н. выражено слабо,
зато богато и разнообразно представлен вымысел. Впрочем,
сама постановка вопроса - факт или вымысел — имеет суще-
ственное значение как раз для человека XX в. Для самого Ка-
рамзина, адепта сентиментализма, «различие между реально-
стью и вымыслом совершенно несущественно». Более того,
литература, описывающая жизнь вымышленных персонажей
зачастую для него и есть самая настоящая реальность. Таким
образом, жанр литературного письма в классическом своем
виде, сформированном в древности, не принадлежит литера-
туре с главенствующим документальным началом. Напротив,
он является неотъемлемой частью литературы вымысла, в ко-
торой факт играет подчиненную роль.
Факт «впервые сдвинулся со своего места внутри образа и
попытался что-то самостоятельное сказать» только ближе к
концу XIX в. Процесс этот в определенной мере был спрово-
цирован, или точнее — подготовлен, самым ближайшим про-
шлым: эпохой расцвета культуры салонов и кружков первой
половины XIX в. с ее культом писем, дневников, альбомов,
записных книжек, записок — с одной стороны; растущей тя-
гой к постижению «внутреннего человека» - с другой; пер-
выми плодами разрушения патриархальных устоев и наступ-
ления века научно-технического «прогресса» — с третьей.
Ф.Достоевский и Л.Толстой одними из первых ощутили по-
явление в фактах каких-то новых эстетических возможнос-
тей. «В каждом номере газет, — писал Ф.Достоевский
Н.Страхову (1869), — Вы встречаете отчет о самых действи-
тельных фактах и о самых мудреных. Для писателей наших
они фантастичны, да они и не занимаются ими; а между тем
они действительность, потому что они факты. Кто же будет
их замечать, их разъяснять и записывать?» Вскоре родились
новаторский по форме «Дневник писателя» Ф.Достоевского
53
и «Хаджи Мурат» Л.Тол сто го, книга, вся построенная на до-
кументах. Впрочем, еще до Толстого с Достоевским Пушкин
в «Дубровском» привел подлинный документ — «определе-
ние суда» по делу «о неправильном владении гвардии пору-
чиком Андреем Гавриловым сыном Дубровским имением,
принадлежащим генерал-аншефу Кирилу Петрову сыну
Троекурову...». Но в XIX в. факт все еще выполнял служеб-
ную функцию.
XX в., едва вступив в свои права, исторгнул человека из
круга всего ему привычного, устойчивого и как бы само собой
разумеющегося и одновременно вверг его в пучину доселе не-
мыслимых страданий, лишений и бед, сами меры человечес-
кого подвига и падения оказались вдруг за гранью всех воз-
можных представлений о них. Так действительность неожи-
данно оказалась фантастичнее вымысла, а факты — красноре-
чивее слов.
Родилась новая литература, устойчивого, всеми при-
знанного имени для которой в науке нет до сих пор: едва ли
не каждый называет ее по-своему и в частном порядке пы-
тается определить ее место в традиционном ряду — «доку-
ментальная литература», «литература факта», «литература
нон-фикшн» и т.д. Одно бесспорно: эстетическую значи-
мость этой литературы определяют организующие ее фак-
ты, документы, т.е. нечто по сути своей противоположное
вымыслу.
Каковы причины, вызвавшие столь мощный всплеск в
развити Д.н. в литературе? Их много:
- постоянно нарастающее в литературе XX в. расщепле-
ние, поляризация вымысла и правды, зачастую столь мирно
неразлучных в былые эпохи;
- интенсивность современной жизни и способность фак-
та (документа), пробивая существующий штамп, «дать выход
таланту самой жизни»;
— факт (документ), открытый для свободного осмысле-
54
ния, свободен от идеологически ориентированного авторско-
го взгляда;
- факт (документ) «открытым способом» добывает ту
правду народной жизни, к которой великим романистам при-
ходилось пробиваться силой своего таланта.
Но главная причина все-таки кроется не в неких, что назы-
вается «технических» возможностях факта (документа) в орга-
низации художественного целого, а в его способности реализо-
вывать ту важнейшую и труднейшую задачу, которая носит
всеобщий (всемирный) характер и выдвигается на первый
план в литературе XX в. Реальность XX в. оказалась такова, что
сказать правду о ней стало сверхзадачей писателя, решить ее
только привычными художественными средствами дано на по-
верку немногим, большинству же на помощь приходит именно
документ. То, что это действительно так, кажется, подтвержда-
ется общностью побуждений, двигавших самыми разными ав-
торами, чувствовавшими необходимость и даже более того —
долг свой, опираясь на факты, свидетельствовать о пережитом.
Изменения, которые произошли уже в первой трети XX в.,
были связаны главным образом с литературной деятельнос-
тью М.Горького. У автора «Клима Самгина» впервые в лите-
ратуре «заговорили действительные лица как новая художе-
ственная стихия». Тем не менее «общее отношение к факту
в 20-е и 30-е гг. было снова поглощающим. Его художествен-
ной самостоятельности не удавалось выделиться в литературе.
Писались очерки, монтажи, беллетризованные биографии
или романы "на основе" подлинных событий. Факт был зажат
и ожидал очередного разрыва в системе существующих худо-
жественных понятий».
Все изменилось после Второй мировой войны. Факт окон-
чательно вырвался на свободу, обретя «самостоятельное эсте-
тическое значение».
Нечто подобное, кстати, произошло и в кино и на телеви-
дении. Всюду документ принялся с невероятной настойчиво-
55
стью пробивать себе путь и всюду победил — и читателя и зри-
теля. О природе этого явления заговорили не только литерату-
роведы, но и искусствоведы, кинокритики, режиссеры. И как
оказалось, их мнения в главном совпали, подтвердив тем са-
мым единый характер того, с чем им пришлось столкнуться.
Так, основные положения, «работающие» при анализе кино-
документалистики, вполне применимы и к литературе: «Ба-
лансирование документального фильма между жизнью и ис-
кусством — вот причина его эстетической феноменальности.
Соединение образа и прообраза в одном лице, совмещение
типа и прототипа. Такое уникальное обстоятельство не может
не ставить перед документалистом уникальные художествен-
ные задачи. Игровой фильм представляется мне закрытой ху-
дожественной системой. Сочиненная история, разыгрывае-
мое действие, какой-то иной, хоть и вполне знакомый, мир...
Зритель тут — за чертой. За барьером. Документальный же
фильм - открытая система, куда включен и зритель - на пра-
вах одного из авторов. Он-то, зритель, в конце концов доду-
мывает, домонтирует фильм».
В качестве новой яркой вехи можно отметить конец 1980-х —
1990-е гг., когда Д.н. в литературе заняло почти главенствую-
щие позиции, произведя ошеломительный эффект.
Именно в XX в., помимо «литературы человеческого доку-
мента», являющей собой непреднамеренно всплывшие не
имеющие установленного авторства письмена, возникает
особый вид документальной прозы — «наивное письмо», в ко-
тором впервые зазвучал голос тех, кто традиционно безмолв-
ствовал.
Споры о перспективах развития Д.н. активно ведутся в со-
временной критике. По мнению писателей и критиков, не-
смотря на устойчивый интерес читателя к документальным
свидетельствам, ведущая роль в искусстве по-прежнему при-
надлежит литературе вымысла.
Е. Местергази
56
Жанр (от фр. genre - род, вид). Ж. - это устойчивая
разновидность одного из литературных родов — эпоса, лири-
ки, драмы — исторически повторяющийся тип единства худо-
жественного содержания и формы.
Скажем, в трагедиях не принято понижать голос и сдер-
живать страсти - эти страсти и страдания мировые, роко-
вые, всеобщие. Трагедийный герой пафосен, даже остава-
ясь наедине с самим собой. Произнося пространный возвы-
шенный монолог, он не перестает ощущать себя глашатаем,
на авансцене, в эпицентре бытийных столкновений жизни
и смерти, воли и судьбы, власти и народа. Напротив, герой
элегии целиком погружен в стихию изменчивого личного
чувства. Не вполне ясное для него самого, оно выражается
интенсивно, но фрагментарно, порою не столько поэтичес-
кой формулой, сколько интонацией: «Что не выскажешь
словами, —/Звуком надушу навей», — как писал А.Фет.
Структура Ж. определяется его функцией. «Если есть идеи
времени, то есть и формы времени», — утверждал Белинский.
Ж. возникают и возрождаются на определенном этапе эволю-
ции человеческого общества как его образы, его отражения.
«Возможен ли Ахиллес в эпоху пороха и свинца? Или вообще
"Илиада" наряду с печатным станком и тем более с типограф-
ской машиной?» - задавался вопросом К.Маркс и отвечал от-
рицательно: «Греческое искусство и эпос связаны с известны-
ми формами общественного развития».
Художник постоянно имеет дело с «социальным заказом».
«Нельзя работать вещь для функционирования в безвоздуш-
ном пространстве или, как это часто бывает с поэзией, в че-
ресчур воздушном. Надо всегда иметь перед глазами аудито-
рию, к которой этот стих обращен», - замечал Маяковский.
Способ общения с эпохой, с реальным или воображаемым чи-
тателем - это и есть Ж.
В литературном процессе всегда бывают Ж.-лидеры.
Их выбирает и поддерживает время. Не только собствен-
ж
57
ные «лета» клонили Пушкина «к суровой прозе», созда-
нию после элегий и романтических поэм «Повестей Бел-
кина» и «Капитанской дочки» — менялась окружающая
действительность, менялись умонастроения читательской
публики.
Коренное обновление духовной и экономической жизни
общества в середине 1950-х гг. поставило перед писателями
массу таких проблем, которые поначалу мог охватить только
очерк, стоящий, по выражению Горького, «где-то между ис-
следованием и рассказом». Связь содержания, структуры и
функции Ж. была тогда самой прямой, поэтому публикация
очерковых произведений В.Овечкина, В.Тендрякова, Л.Ива-
нова вызывала значительный социальный, а не только лите-
ратурный резонанс. Характерная для очерка активность авто-
ра была унаследована Ж. повести, господствовавшим в 60-х —
начале 70-х годов. В дальнейшем необходимость философски
и художественно осмыслить происшедшее и его последствия,
ответственность каждого за всех, за судьбу и будущее мира
привела к заметному увеличению в литературном процессе
удельного веса романного Ж. («Берег» Ю.Бондарева, «Дата
Туташхиа» Ч.Амирэджиби, «Буранный полустанок» Ч.Айтма-
това и др.).
Ж. диалогичен, причем участники диалога должны остро
ощущать условия, в которых он протекает. Только при совпа-
дении желаний и усилий и возникает актуальный Ж. Вспом-
ним некрасовского Гражданина, который укорял Поэта за то,
что тот не пишет стихов политических, духоподъемных, объ-
единяющих людей: «Еще стыдней в годину горя/ Красу до-
лин, небес и моря/ И ласку милой воспевать...»
Конечно, читатель не всегда активен так, как в ту пере-
ломную пору. Однако в любом случае мы выбираем. Выбира-
ем детективный роман или поэтический сборник, нашумев-
шую журнальной публикацией повесть или непритязатель-
ную книжку юмористических рассказов. При этом мы руко-
58
водствуемся не только ситуацией и собственным настроени-
ем. Одновременно человек исходит из проблемно-эмоцио-
нального строя избранного Ж.
Еще более нацеленно совершает свой выбор художник.
Жанровая установка представляет собой ориентацию не толь-
ко на художественную традицию, как это обыкновенно ут-
верждают, но и на читательскую аудиторию — ориентацию со-
знательную или косвенную, поскольку в определенном смыс-
ле и традиция — это сконденсированный исторический опыт
подобных обращений.
Главным компасом в жанровом море является для писате-
ля общее с читателем-современником чувство времени. Воль-
тер говорил, что все Ж. хороши, кроме скучного. Возможнос-
ти каждой «формы времени» — в силу ее специфичности — ог-
раничены; ее недостатки — продолжение достоинств. Нет Ж.
заведомо выдающихся. Известны такие исторические перио-
ды, когда маленькая басня бывала нужнее романа.
Писательское мастерство включает в себя, помимо проче-
го, владение широким диапазоном Ж., основанное на живом
ощущении традиций представление об их законах: присущих
тому или иному Ж. принципах сюжетосложения, компози-
ции, арсенале выработанных веками выразительных средств.
«Конечно, все изменяется, жанровые формы тоже. Но может
ли строитель самолета не учитывать летательных возможнос-
тей стрелы, а архитектор забыть о существовании формы пи-
рамиды!» — убежденно говорит прозаик Г.Матевосян.
«В Ж. всегда сохраняются неумирающие элементы ар-
хаики,— замечал М.Бахтин, но добавлял при этом: — Прав-
да, эта архаика сохраняется только благодаря постоянному
ее обновлению, так сказать, осовремениванию. Ж. всегда и
тот и не тот, всегда и стар и нов одновременно». Связь «Гер-
мана и Доротеи», «Старосветских помещиков», «Пастуха и па-
стушки» с античной идиллией несомненна, собственно она и
не скрывается. Однако и у Гёте, и у Гоголя, и тем более у Ас-
59
тафьева пасторально-буколические мотивы существенно пе-
реосмысляются, изображаемая идиллия оказывается несо-
вместимой с современной авторам жизнью.
Отдавая в творческом процессе предпочтение какому-ли-
бо Ж., автор проявляет всего лишь предрасположенность к
определенным читательским кругам, откликается на злобу
дня, примыкает к традиции. Однако талантливый писатель
одарен способностью преодолевать земное тяготение, инер-
цию жанровых канонов, притяжение к своей эпохе и читате-
лю-современнику. Л.Толстой писал: «Начиная от "Мертвых
душ" Гоголя и до "Мертвого Дома" Достоевского в новом пе-
риоде русской литературы нет ни одного художественного
прозаического произведения, немного выходящего из по-
средственности, которое бы вполне укладывалось в форму ро-
мана, поэмы или повести». И если мы, читатели новых поко-
лений, вновь и вновь обращаемся к шедеврам прошлого, то
значит есть в них не только живая жанровая актуальность, но
и такие наджанровые качества, как обаяние неповторимой
личности художника, проникновенность его стиля.
Порою они ослепляют настолько, что вроде бы заслоняют
собой Ж. Однако он сохраняет свое значение и здесь — как ти-
повой фундамент отнюдь не типового здания, как канал свя-
зи, соединяющий произведение с современным ему литера-
турным процессом, с искусством минувшего и будущего.
С.Страшнов
60
Заглавие«.. .Книга и есть — развернутое до конца
заглавие, заглавие же - стянутая до объема двух-трех слов
книга» (С.Кржижановский). Определение это «максималист-
ски» точно: начало произведения должно не обмануть ожида-
ния читателей и легко запоминаться, быть оригинальным и
кратким. Писатели не единожды вспоминали драматичные,
поучительные, смешные истории, связанные с поиском, по-
рой мучительным, 3. Ведь даже готовые произведения иной
раз долго не выносились на суд читателя, ибо были безымян-
ными. В.Маяковский, считавший 3. конструктивной частью
стихотворения, вспомнил, что однажды «в целях доказатель-
ства какой-то вагонной спутнице своей полной лояльности»
он сострил: «Я не мужчина, а облако в штанах», и «через два
года "облако в штанах" понадобилось... для названия целой
поэмы» («Как делать стихи?»). «Жерминаль» было двадцатым
заглавием этого романа Золя. «Напавший» на слово «Новь»
Тургенев опасался: как бы кто-либо из коллег не «наскочил»
на него. Во все времена оригинальные заглавия были редки и
когда случались — их нещадно эксплуатировали журналисты.
3. выражает пафос произведения. Нередко поэтому вокруг
него разгорались споры. М.Погодин «не соглашался» с назва-
нием поэмы Гоголя: в русском языке «мертвых душ» нет. На-
против, Герцен считал, что иначе Гоголь и не мог назвать свое
произведение: в 3. заключено что-то, наводящее ужас.
Повторения 3. обычно не украшают произведение. Пуш-
кин, хотевший дать своей поэме название «Мазепа», отказал-
ся от него, дабы «не столкнуться» с Байроном. Вс.Вишнев-
ский отказался от 3. «Да здравствует жизнь!», узнав, что оно
«занято» забытой пьесой начала века. Так появилась «Опти-
мистическая трагедия».
Каждое время рождает свои заголовки-штампы. Было вре-
мя «Больших потоков (шагов, перемен)». «Перепутьев», «Зорь»,
«Это было...». Поэты прошлого века очень любили «Звезды»,
«Разлуки», «Рифмы», «Тройки», «Ночи» и «Весны». 3. обычно
61
называет, реже вопрошает или призывает. Особенно запоми-
наются призывы «Не стрелять...» «в пианиста» (В.Коротича), «в
белых лебедей» (Б.Васильева). Популярны «Кафедры» (роман
И.Грековой, пьеса В.Врублевской). А.Крюкову, автору статьи
«Чем дальше в дендрарий» («Лит. газ.» от 5 февр. 1986) «уда-
лось» прочитать сборники стихотворений «Страда» и «Гориц-
вет» по четыре раза, «Стезя» и «Сентябрь» — по три. Что каса-
ется деревьев, то они в названиях сборников могут быть: «Си-
ним» и «Розовым», «Белым» и «Тутовым», «Колокольным» и
«Улыбчивым» и - чудо природы! - «Бродячим».
Еще Белинский писал об эксплуатации чужих названий
(«Новый недоросль», «Настоящий Ревизор»). Однако 3. мог-
ло повторяться сознательно — но это уж ко многому обязыва-
ло: Пушкина, «вслед Радищеву» написавшему «Вольность»,
Лермонтова, автора «Пророка» и др. «Вторичные» заглавия
призваны с самого начала вызвать определенные ассоциации:
«Леди Макбет Мценского уезда», «Русская Шехерезада»,
«Русский Декамерон».
Разные литературные эпохи, разные течения предъявляли
к 3. свои требования. Авторы физиологических очерков под-
черкивали объект своего художественного исследования:
«Петербургские шарманщики» Д.Григоровича, «Петербург-
ский дворник», «Денщик», «Ямщик» В.Даля. (Нечто сходное
у А.Хейли - «Аэропорт», «Отель».) К претенциозной броско-
сти стремились авторы сборников «2+2=5», «Лошадь как ло-
шадь» (В.Шершеневич), «Витрина сердца», «Стихами чванст-
вую» (А.Мариенгоф).
Нещадно боролся с претенциозными 3. Чехов, предлагая
давать такие, которые бы «ничего не обещали».
Пушкин писал Н.Дуровой: «"Записки амазонки" как-то
слишком изысканно, манерно... "Записки Н.А.Дуровой" -
просто, искренне, благородно».
В древности произведения были безымянными («окрести-
ли» их спустя века). Однако в эпоху «после Гутенберга» тира-
62
жирование обусловило появление не просто названий, З.-ан-
нотаций, даже проспектов. Многие хорошо знакомые лако-
ничные 3. - более позднего происхождения. Первое же изда-
ние «Короля Лира» (1608) было озаглавлено так: «Г-н Уильям
Шекспир: его правдивая хроника об истории жизни и смерти
короля Лира и его трех дочерей, с несчастной жизнью Эдгара,
сына и наследника графа Глостера, принявшего мрачный об-
лик Тома из Бедлама, как это игралось перед его королевским
величеством в ночь на св. Стефана во время рождественских
праздников слугами его величества, обычно выступающими в
"Глобусе" на Бенксайде в Лондоне».
В прошлое ушли подобные 3. произведений, равно как и
глав, многословно «повествующих», «содержащих продолже-
ние», «в коих речь идет о...». В давние, безвозвратно минувшие
времена неторопливого чтения были в моде не только не уме-
щавшиеся порой на одной титульной странице заглавия. «Вы-
мерли» и двойные названия, вторая часть которых могла быть
переводом или «рассудочным» эквивалентом «эмоциональ-
ной» первой («Литое, сиречь Камень веры», «Октоих, или
Осьмигласник», «Аптека для души, или Систематическая ал-
фавитная роспись книг»). Имея большое идейно-тематичес-
кое значение, по своему характеру заглавия могут быть «пре-
дисловными» (пусть в самой общей форме, но раскрывая со-
держание) и «послесловными», когда только «задним числом»
становится ясно, почему эта деталь, эта частность вынесена в
название.
Известно сколь «многомерны» 3. чеховские. К.Станислав-
ский вспоминал, что поначалу ему было неясно, почему на-
звание своей пьесы казалось Чехову «чудесным», в чем смысл
игры ударений («Вишневый — «Вишнёвый»). «...Но Антон
Павлович продолжал смаковать название пьесы, напирая на
нежный звук "ё" в слове "Вишнёвый", точно стараясь с его по-
мощью обласкать прежнюю, красивую, но теперь ненужную
жизнь... На этот раз я понял тонкость: "Вишневый сад" — это
63
деловой, коммерческий сад... Но "Вишнёвый сад" дохода не
приносит, он хранит в себе и в своей цветущей белизне по-
эзию былой барской жизни».
Порой 3. «приходило» со стороны, причем писателю по-
могали не только друзья. Цензуре обязана поэма Гоголя сво-
им двойным названием «Похождения Чичикова, или Мерт-
вые души». Часто в 3. выносятся имена героев. В 1930-е гг.
«пробились» в названия неодушевленные собственные: «Тан-
кер "Дербент"». В романах-хрониках нередки заглавия типа
«Будденброки», «Дело Артамоновых». 3. могло обозначать
профессию, социальную роль главного героя. Часто в 3. вы-
носится «значащий» топоним («Бородино»). Порой 3. прида-
ются черты символические («Воскресение»). Стремясь к
обобщению, символике, писатели ищут единственное слово,
жертвуя первоначальным названием. Так, «Инсаров» сменил-
ся «Накануне», а «Художник» — «Обрывом»...
Поэтика 3. чрезвычайно разнообразна: антонимичные
(«Война и мир», «Преступление и наказание», «Живые и мерт-
вые»), оксюморонные («Живой труп», «Горячий снег»), загла-
вия-вопросы («Что делать?», «Что такое обломовщина?», «Ког-
да же придет настоящий день?»), каламбурные («Нищета фи-
лософии» К. Маркса — «Философия нищеты» Прудона). Часто
в 3. есть указание (в литературоведческом смысле по большей
части неверное или фиктивное) на жанр: «Повесть о жизни»,
«Театральный роман», «Поэма Горы», «Поэма Конца». Что та-
кое жанр «записок», не знает никто. Но подобным указанием в
3., снимающим с автора ответственность за фрагментность, от-
сутствие единой фабулы и пр., пользовались авторы «Запи-
сок...» «об уженье рыбы», «ружейного охотника», «из Мертво-
го дома», «из подполья». Вслед за известным произведением
Руссо стали популярны «исповеди». Несть числа различным
«историям». Не удовлетворенные полнотой названия, авторы
добавляют подзаголовки: конкретизирующие («Из жизни...»),
называющие повествователя. Например, у Чехова: «Дом с ме-
64
зонином (Рассказ художника)», «Скучная история (Из запи-
сок старого человека)».
Особенно сложны поиски имени собственного периоди-
ческого издания. Здесь, пожалуй, лишь одно правило: емкость
и краткость, ведь давно замечено, что название, построенное
на игре слов, двусмыслице, быстро «приедается». Удачным
было название журнала братьев Достоевских «Время». Но по-
сле его запрещения возникли проблемы: вместо задуманной
«Правды» ввиду цензурных препятствий пришлось довольст-
воваться мало подходящим органу почвенников названием
«Эпоха».
Поэтам легче, чем прозаикам: в затруднительных случаях
можно «обойтись» начальной строкой. У редкого поэта про-
шлого века не было стихотворения со словом «поэт» в 3.: «Сон
поэта» (А.Одоевский), «Поэты», «Участь поэтов», «Участь
русских поэтов», «Жребий поэта» (В.Кюхельбекер), «Послед-
ний поэт» (Е.Баратынский), «Поэт», «Поэту», «Поэт и гражда-
нин» (Н.Некрасов). Для поэтов-лицеистов привычной в 3.
была дата «19 октября». Очень распространены были в загла-
виях жанровые определения: «баллада», «стансы», «элегия» и
т.д. «Прозаизация» поэзии отразилась и в 3., переставших
быть изысканно-поэтическими (названия некрасовских цик-
лов — «О погоде», «На улице»).
Если критики прошлого века часто выносили в 3. «разби-
раемое» произведение и этим ограничивались, то современ-
ные стремятся к броским и концептуальным названиям.
Важнейшая функция 3. — привлечь внимание читателя.
Это тем более важно, когда имя автора (первое слово любой
книги) мало о чем говорит, посему, может быть, в первую оче-
редь авторам первых книг стоит прислушаться: «Хорошая
книга с хорошим заглавием может иметь успех; хорошая кни-
га с плохим заглавием никогда не имеет успеха; плохая книга
с хорошим заглавием нередко имеет успех».
М.Ковсан
3-501
65
Идеал (от греч. idea — идея, прообраз). Уже почти два
столетия привлекает читателей «Татьяны милый идеал», со-
зданный Пушкиным в романе в стихах «Евгений Онегин».
И Юные читательницы зачастую отождествляют себя с пушкин-
ской героиней, подражают ей, строят свою эмоциональную
жизнь по модели, предложенной автором романа. В этом и за-
ключается воздействие эстетического И.
В конце XX в. само слово И. едва ли не впервые за всю ис-
торию человеческой культуры попало в число «нелюбимых».
Если его используют, то, как правило, в ироническом, сни-
женном, либо в прямо негативном ключе (см. дискуссию
Е.Иваницкой и А.Мелихова в журнале «Знамя», 2006, № 6).
Причина тому ясна: понятие оказалось скомпрометировано
обычаем употребления в советскую эпоху («коммунистичес-
кие идеалы» на деле оказались ложными идолами тоталитар-
ного режима и «эпохи застоя»). Но, во-первых, человечество
не может существовать без нравственного, этического И.
(об этом много пишет А. Мелихов в своих статьях и романах;
см. также: Борее Ю. Исторические идеалы и смыслы бытия
человека и человечества, формируемые культурой. М., 2006).
Оптимальное воплощение этического И. - либо религиозная
доктрина (см. заповеди Моисея, Нагорная проповедь Иисуса
Христа, проповеди Будды и др.), либо эстетический объект: в
этом случае эстетика, эстетический идеал, становится своеоб-
разным «проводником» этики. Каждый раз, оказываясь у чер-
ты исчезновения, человечество обращается к культуре, и та
предлагает ему некоторый И.: стремясь к нему, возможно вы-
жить. Во-вторых, эстетика как наука не может впрямую зави-
сеть от изменения социальных приоритетов: иначе она не
сможет хранить «вечные ценности».
В своих произведениях художник создает особый, непо-
вторимый мир. Именно в нем реализуется эстетический И.:
сначала он постепенно проявляется, становится внятным для
самого автора, затем также постепенно входит в сознание чи-
66
тателя, зрителя и др. Эстетические взгляды могут быть выра-
жены с помощью абстрактных понятий: например, централь-
ная категория эстетики В.Брюсова — «искусство», О.Мандель-
штама — «слово» и «мировая культура», А.Синявского — «игра
и жизненное веселье свободного человека». Однако всё это в
таком виде звучит слишком «теоретично». Нигде, кроме ис-
кусства, нельзя воплотить эстетический И.: именно оно дает
ему возможность «материализоваться». Впервые заговорили
об этой особенности искусства Платон и Аристотель. Инте-
ресно понимание эстетического И. в России XVII в.: не выде-
ляя самостоятельного понятия, философы-иконописцы Ио-
сиф Владимиров и Симон Ушаков, одновременно теоретики и
практики, говорили о том, как должно воплощать «горнее»,
Божественное начало в «дольнем», мирском. Для них важно
прежде всего «живоподобие», то есть, говоря нашим языком,
реализм, следование жизненной правде.
Эстетический И., как и любое другое художественное об-
разование, не может быть чисто дидактическим, поучающим:
его целью никоим образом не является непосредственно вы-
разить авторские оценки «что такое хорошо, а что такое пло-
хо». Речь идет о таком воздействии искусства, при котором его
«потребитель» или «адресат» исподволь проникнется идеями
создателя произведения, вступив с ним в «диалог» сквозь века,
минуя социально-культурные и географические границы
(о «диалоге» см. «Исповедь» Руссо, работы М.Бахтина). Эсте-
тический И. целостен, он постигается прежде всего чувствен-
но и только затем анализируется (о художественной целостно-
сти см. монографии Ваймана С.: Мерцающие смыслы. М.,
1999; Неевклидова поэтика. М, 2001). Он выражается с помо-
щью всей структуры произведения, его образного строя, язы-
ка, стиля и других составляющих.
Эстетический И., воплощенный и действующий в художе-
ственном мире, понимается в нескольких смыслах. 1) Это
высшая ценность любой эстетической деятельности вне зави-
67
симости от конкретного вида искусства, которым занят худож-
ник. В этом случае эстетический И. — цель творческого процес-
са, критерий оценки внеэстетической действительности, выра-
женный в образной форме. 2) Представление о желаемом,
должном, наилучшем, выраженное средствами искусства. Же-
лаемое, должное, наилучшее трактуется как прекрасное; чело-
веку и за пределами художественного мира предлагается ориен-
тироваться на эстетические ценности. 3) Отношение существу-
ющего, наличного (во всех сферах человеческой жизни) к пред-
полагаемому (вне зависимости от возможностей воплощения
вне искусства). Например, высокие, идеальные страсти и каче-
ства героев повести Н.Гоголя «Тарас Бульба», описанные в бит-
ве запорожцев с поляками, не могут ни при каких обстоятельст-
вах быть реализованы в действительности. Напротив, идеаль-
ные образы помещиков из второго тома «Мертвых душ» вполне
реальны, равно как и поведение Андрея Штольца из романа
Гончарова «Обломов» основано на вполне нормальных с обы-
денно-человеческой точки зрения стремлениях и поступках.
Эстетический И. возникает в конкретных исторических
обстоятельствах и по-разному оценивается потомками. На-
пример, вряд ли кто-нибудь из современных читателей сочтет
идеальным мир «Города Солнца» Т.Кампанеллы или «Уто-
пии» Т.Мора. Эстетический И. может быть и скомпрометиро-
ван изменением восприятия творчества того или иного автора,
обстоятельствами знакомства с произведением (например, на-
вязанное в средней школе чтение) или особенностями художе-
ственного письма: так произошло с романом Чернышевского
«Что делать?». То, что полагалось идеальным для русских реа-
листов второй половины XIX в. — сила социальных преобразо-
ваний, могущих, с их точки зрения, исправить природу чело-
века — сейчас вызывает недоверие и даже насмешку. В этом
смысле можно говорить, что эстетический И. переходит в об-
ласть утопии. Однако это не отменяет соотнесенность эстети-
ческого И. с прекрасным, поскольку он — в этом его родство с
68
образом — обязательно связан с какой-либо конкретно-чувст-
венной формой. Носителем эстетического И. может выступать
либо образ художественного мира, либо герой произведения.
Совершенно неважно, с помощью каких средств создает
автор свой эстетический И. Например, в повести Ю.Алешков-
ского «Николай Николаевич» главный герой-рассказчик, быв-
ший вор-карман ни к, а в момент действия повести лаборант в
научном институте, строит рассказ с помощью органичной для
него ненормативной лексики. Это не мешает Алешковскому
создать идеальный образ любви и человечности.
Само по себе художественное средство не может вывести
произведение за рамки искусства. Это происходит, если автор
по тем или иным причинам не в состоянии использовать воз-
можности художественного языка. Вот почему эстетический
И., как писал И.Кант, связан с такими категориями, как вкус,
мера (добавим к этим двум критериям и профессиональное
мастерство).
Мера и вкус формируются у того или иного художника посте-
пенно, благодаря знакомству с эстетическим контекстом: в этом
смысле о любом эстетическом И. можно сказать, что он возника-
ет из взаимодействия автора и его мира с эстетической реально-
стью других миров и И. В словаре «Эстетика» (М., 1989) Л.Сто-
лович пишет, что не нужно смешивать понятия «И. красоты»
(собственно эстетический И. во всех трех значениях) и «красота
И.». «И. красоты» может быть прекрасным для тех, кто его испо-
ведует, и отвратительным для мыслящих иначе. Простой пример —
эстетический И. в фашистской Германии («новый порядок»,
включавший в себя военные парады, публичные сожжения книг,
превращающиеся в своего рода зрелища). Другой пример — до-
историческая скульптура: утрированные телесные формы (глав-
ным образом женские и мужские гениталии, связанные с идеей
продолжения человеческого рода) означали для первобытных
мастеров саму жизнь и в этом смысле были прекрасны. Мы же
воспринимаем такое утрирование скорее как нечто «уродливое».
69
«Красота И.» возникает тогда, когда он отражает истинно
прекрасное, что в значительно менее концентрированном ви-
де присутствует в природе, в человеческой жизни, в отноше-
ниях между людьми: упомянутый герой повести Алешковско-
го прекрасен, хотя прекрасное передано акцентированно
«низким» способом.
Теория эстетического И. появилась в новое время, когда гума-
нитарная теоретическая мысль отделилась от богословия. Оценка
взаимоотношений человека с Богом, то есть реальности с И., ста-
ла возможна как бы «извне», со стороны, а не изнутри религиоз-
ной доктрины. О взаимосвязи и взаимообусловленности реально-
го и идеального говорили да Винчи, Дюрер, Тассо, Микеландже-
ло. Художник, верный природе, в своих творениях выделяет пре-
краснейшие ее черты и тем самым как бы совершенствует ее са-
мое, создает идеальное. Говоря о том, что должно или может быть,
он помогает понять смысл существующего. Так в область эсте-
тического И. попадает авторский субъективизм: ведь каждый
художник группирует черты реальности в соответствии со сво-
им внутренним настроем, индивидуальной мерой и вкусом.
Над спецификой эстетического И. размышляли Н.Буало
(«Поэтическое искусство»), И.Винкельман, Г.Лессинг. Их за-
нимала, в частности, разница между внешней красотой и ду-
ховными идеалами. Основоположник эстетики как науки и
философской дисциплины А.Баумгартен писал о необходи-
мости для художника «подражать природе»: только так можно
приблизиться к идеалу, то есть совершенному художествен-
ному произведению. После Баумгартена начинается все более
отчетливое различение эстетического И. и художественного
совершенства. Гегель уже прямо возражает против отождеств-
ления эстетического И. и красоты художественной формы.
Дидро говорит о познавательной функции эстетического И.
Эстетический И., несмотря на его сугубо художественную
природу, непременно связан с жизнью общества. Это остро
чувствовали русские писатели середины XIX в. Их идею ис-
70
кусства, преобразующего жизнь, парадоксально переняли
русские символисты: парадокс здесь заключается в понима-
нии прекрасного. Если для Чернышевского или Добролюбова
более поздней литературной критики вплоть до 1890-х гг.
правдивое изображение действительности уже являлось пре-
красным, и художник не должен был стремиться к совершен-
ствованию изобразительных средств, то с 1890-х гг. совершен-
ство художественной формы признается настоящей эстетиче-
ской ценностью. Можно сказать, что направление критичес-
кой мысли во многом изменилось благодаря статьям критика
А.Волынского. Сближение общественного идеала с эстетиче-
ским означало и сближение этики с эстетикой, о котором пи-
сали как М.Горький, так и (много позже) И.Бродский.
Современная литература порой отказывается от изображе-
ния прекрасного: художественный мир может быть построен и
«от противного», опираться на уродливые черты обществен-
ного и личного бытия. В этом случае можно сказать о том, что
эстетический И. не выступает как предмет изображения, но
остается его целью. Так происходит в рассказе Л.Петрушев-
ской «Свой круг». Эстетический И. в произведениях Л.Улиц-
кой строится более традиционно: и в «Веселых похоронах», и
в «Сонечке», и в романе «Медея и ее дети» он неизменно вы-
ступает во всех трех своих ипостасях.
В. Калмыкова
Имажинизм (от фр. и англ, image — образ) — ли-
тературное (и художественное) течение, возникшее в России в
первые послереволюционные годы на основе исканий русско-
го авангарда, в частности - футуризма.
Поэтическая группа имажинистов была создана в 1918 г.
В.Шершеневичем, С.Есениным, А.Мариенгофом; в нее во-
шли И.Грузинов, А.Кусиков, Р.Ивнев, а также художники
Б.Эрдман и Г.Якулов; близок к ним драматург и поэт Н.Эрд-
71
ман. В первой «Декларация» (1919) «оруженосцы» И., исполь-
зуя те же приемы грубого эпатажа, что и футуристы, провоз-
глашали «единственным законом искусства, единственным
несравненным методом... выявление жизни через образ и рит-
мику образов. О, вы слышите в наших произведениях верлибр
образов». Ориентация на «образ» диктовала определенные
приемы его построения: «Образ — ступенями от аналогий, па-
раллелизмов — сравнения, противоположения, эпитеты сжа-
тые и раскрытые, приложения политематического, много-
этажного построения — вот орудие производства мастера ис-
кусства... Образ — это броня строки. Это панцирь картины.
Это крепостная артиллерия театрального действия», — подчер-
кивалось в «Декларации», вышедшей почти одновременно в
двух изданиях: «Сирена» (Воронеж, 1919. № 4. Янв.) и «Совет-
ская страна» (М., 1919. 10 февр.). На первый план выдвигался
образ «как таковой»: не слово-символ в его многозначности
(символизм), не слово — название вещи (акмеизм), не слово-
звук, так называемый «заумный язык» (кубофутуризм), а сло-
во-метафора: шокирующее новизной восприятия соединение
отдаленных по значению предметов или явлений («Он готов
нести хвост каждой лошади, / Как венчального платья шлейф» —
«Исповедь хулигана», Есенина). Самый процесс возникнове-
ния имажинистского образа (намеренное разрушение пред-
метного значения слова путем сопоставления непохожих
предметов, явлений, понятий) виден в стихотворении Шер-
шеневича «Принцип примитивного имажинизма»: «И ресни-
цы стучат в тишине, как копыта, / По щекам, зеленеющим
скукой, как луг...» и в стихотворении Есенина «Не напрасно
дули ветры...»: «Плещет рдяный мак заката / На озерное стек-
ло. / И невольно в море хлеба / Рвется образ с языка: / Отелив-
шееся небо / Лижет красного телка».
Термин «И.» заимствован у англо-американского литера-
турного течения имажизм, знакомство с которым состоялось
благодаря статье 3.А.Венгеровой «Английские футуристы»
72
(сборник «Стрелец». Пг., 1915). Однако русские имажинисты
никогда не называли англо-американских имажистов своими
предшественниками, хотя и те, и другие сохраняли зависимость
от некоторых принципов теоретика футуризма — итальянского
писателя Ф.Т.Маринетти. Само название «новых поэтов на
русской почве» появилось в таком написании: «Я по преимуще-
ству имажионист, т.е. образы прежде всего», — писал Шерше-
невич, бывший эгофутурист и будущий наиболее радикальный
теоретик И. в книге «Зеленая улица» (1916). В следующем ма-
нифесте «2x2=5: Листы имажиниста» (1920) Шершеневич раз-
вивал свою теорию, обеспечивавшую победу образа над смыс-
лом и освобождение слова от содержания: «Стихотворение не
организм, а толпа образов... Ритмичность и полиритмичность
свободного стиха имажинизм должен заменить аритмичностью
образов, верлибром метафор»; «лозунги имажинистской де-
монстрации: образ как самоцель. Образ как тема и содержание»
(Поэты-имажинисты, СПб:, М.,1997. С. 29, 31).
«Каталогом образов» (по примеру имажистов) назвал
Шершеневич стихотворение из своей книжки «Лошадь как
лошадь» (1920). В его творчестве преобладали урбанистичес-
кие и богемные мотивы, тема любви и искусства при общем
декадентско-нигилистическом настрое лирического героя (не
случаен его интерес к французским символистам: перевел
«Цветы Зла» Ш.Бодлера, стихи А.Рембо).
Поведение имажинистов, как и футуристов, отличалось
скандальностью. Основав «Ассоциацию вольнодумцев», новые
поэты проводили свои «заседания» в кафе под названием
«Стойло Пегаса». Творчески они объединились вокруг изда-
тельств «Имажинисты» и «Чихи-Пихи», а также вокруг журнала
«Гостиница для путешествующих в прекрасное» (1922-24). Как
манифест были восприняты имажинистами и есенинские
«Ключи Марии» (1920). Поэт так сформулировал свое отноше-
ние к свободе творчества при новой власти: «Нам... противны за-
несенные руки марксистской опеки в идеологии сущности ис-
73
кусства. Она строит руками рабочих памятник Марксу, а кресть-
яне хотят поставить его корове». Но именно в «Ключах Марии»
Есенин утверждал, что не победа над смыслом, а лишь тесная
связь образа с содержанием делает его органичным и полноцен-
ным (в этом проявилось несогласие поэта с ортодоксальным И.).
Истоком своей поэзии Есенин назвал народную словесность и
обряд, а целью поэта - одухотворение вещного мира. Позднее
Есенин признавался, что его И. берет начало в образности «Сло-
ва о полку Игореве». По сути он возглавлял «умеренный» фланг
И., крайности которого в 1921 г. пытался критиковать в печати
как «простое акробатство». Элементы имажинистского эпатажа,
«эстетики увядания» (мотивы одиночества в городе, темы гибну-
щей России, «избяной Руси», мотивы бродяжничества, богем-
ной жизни) отразились в «Кобыльих кораблях», стихах «Я по-
следний поэт деревни...» и в цикле «Москва кабацкая».
В творческой практике все поэты-имажинисты отступали
от своей теории. Но и в самих эстетических декларациях обна-
руживались черты различия. Мариенгоф выступил как теоре-
тик в двух работах: в книге статей «Буян-остров. Имажинизм»
(1920) и в статье «Корова и оранжерея» (Гостиница для путеше-
ствующих в прекрасное. 1922. № 1). В первой он утверждал, что
«образ не что иное как философская и художественная форму-
ла», сближал искусство с церковным таинством причащения и
видел предназначение современной поэзии в соединении реа-
лизма и мистицизма. Во второй он, как и Есенин, назвал ис-
точником своих образов «Слово о полку Игореве», а также тра-
диции народной словесности и русской поэзии XVIII в. На по-
эзию Мариенгофа оказали влияние ранний Маяковский и
Есенин. Излюбленный лирический образ - поэт-паяц, жонг-
лирующий образами, бунтарь-пророк, представитель богемы;
мотив города звучит с болезненным надрывом («Анатолеград»,
«Развратничаю с вдохновеньем»). Поэт опубликовал сборники
«Витрина сердца» (1918), «Руки галстуком»(1920), «Новый Ма-
риенгоф» (1926), также «Роман без вранья» (1927), посвящен-
74
ный дружбе с Есениным. Грузинов как теоретик выступил в
книге «Имажинизма основное» (1921), назвав истоком поэзии
интуитивное познание: поэзия создается в состоянии сновиде-
ния-откровения, когда обнажаются глубинные связи между ве-
щами, не постижимые разумом. Поэт находился под влиянием
Есенина; написал книгу «С.Есенин разговаривает о литературе
и искусстве» (1927). В стихах (сборники «Избяная Русь», 1925 и
«Малиновая шаль», 1926) главная тема — деревня, воссоздавае-
мая в натуралистически-вещных образах. Для Кусикова, как и
для других поэтов-имажинистов, типичны эпатажные образы
(«О если б вбить в рассвет алмазный гвоздь / И жизнь свою на
нем повесить!..» - «Буревестник»), а также мотивы тоски, оди-
ночества («Тоска на плетне лошадиным черепом / Скалит зубы
сквозь просинь в осеннюю даль...» - «На Арбате»), «больной
любви», отрицательного отношения к городу. Мистические ус-
тремления сказались в сборнике «Зеркало Аллаха» (1918). По-
пытки сочетать мистику христианства и ислама отличают по-
эму «причащения» «Коевангелиеран», название которой со-
ставлено из слов «Коран» и «Евангелие».
Объединение имажинистов не было долговечным. 31 авгу-
ста 1924 г. Есенин и Грузинов напечатали открытое письмо в
газете «Правда», где заявляли, что распускают группу. В том
же году закрылось издательство «Имажинисты». В «Почти
декларации» (Гостиница для путешествующих в прекрасное.
1923. № 2) имажинисты вынуждены были признать, что «ма-
лый образ» (слово-метафора, сравнение) должен быть подчи-
нен образам высшего порядка - стихотворению как лиричес-
кому целому, «образу человека», сумме лирических пережива-
ний, а характер - «образу эпохи», «композиции характеров».
С отказом от принципа автономности «малого образа» И. те-
рял главное основание для самостоятельного существования.
Шершеневич говорил об И. как о течении, которое перестало
существовать в результате общего кризиса поэзии.
А. Ревякина
75
Импрессионизм (от фр. impression - впечат-
ление). Термин возник в 1860-х гг. после так называемого
«Салона отверженных» (1863), на котором представили свою
живопись художники, отступившие от канонов академизма.
Картина одного из живописцев - это был К. Моне - так и на-
зывалась: «Impression: Soleil Levant» («Впечатление: Восход
солнца»). Критики употребляли слово «impression» в ирони-
ческом и даже издевательском ключе, но самим художникам
оно понравилось настолько, что они использовали его для на-
звания своей группы.
Эстетические принципы И. — эмоциональная отзывчи-
вость, способность сохранять в художественном материале
мимолетные проявления жизни, видеть и естественно запе-
чатлевать красоту мира в его ежесекундной изменчивости.
Нередко художник-импрессионист фиксирует внимание
лишь на какой-либо одной выразительной детали, и благода-
ря ей создается целостный образ предмета, существа, явле-
ния, обстановки и др. Другой путь — передача субъективного
восприятия без сосредоточения внимания на «объективных»
свойствах и качествах явления (предмета и др.).
Это художественное направление распространилось во
второй пол. XIX — начале XX вв. по всей Европе, проявило се-
бя в таких видах искусства, как живопись, скульптура, музы-
ка, литература, театр.
И. очень близок к символизму, с которым его роднит при-
стальное внимание к мгновениям быстротекущей жизни. Од-
нако различие между обоими направлениями существенно:
символизм ищет и придает каждой крупице бытия особый
смысл, связывая мир обыденности с Абсолютом, вневремен-
ным и внепространственным бытием, где все постоянно и
вечно. И. довольствуется «бессмысленной» радостью и красо-
той жизни: характерно, что ни К.Моне, чья фигура для фран-
цузской живописи этого периода является ключевой, ни, на-
пример, О.Ренуар не стремились к написанию манифестов
76
или программных статей. Импрессионист избегает избыточ-
ного интеллектуализма, полагая, что анализ убивает спонтан-
ность, противоречит непредсказуемости, дезавуирует сам
принцип «мгновенности». Некоторые критики считают И. пе-
реходным явлением, связывающим натурализм и символизм.
Представители И. в литературе — братья Гонкуры, Г. Мопас-
сан, Ж.Гюисманс, П.Верлен, С.Малларме (Франция), К.Гам-
сун (Норвегия), Г.Келлерман (Германия), Г. фон Гофмансталь,
А.Шницлер (Австрия), О.Уайльд, А.Саймонс, Дж.Сарджент
(Англия). В России к писателям-импрессионистам можно от-
нести Б.Зайцева, отчасти А.Чехова, даже А.Фета ( «Шепот, лег-
кое дыханье...»). Черты И. присущи О.Мандельштаму, Б.Пас-
тернаку, Ю.Олеше («Ни дня без строчки», рассказы и др.). Ин-
тересна русская импрессионистическая критика, основные
представители которой — И.Анненский и М.Волошин.
Для писателя И. служит средством отделаться от повсед-
невной скуки, вызванной однообразием жизни: «Вид кварти-
ры, где они живут вот уже восемнадцать лет, вызывает во мне
отвращение, негодование. И это жизнь! Четыре стены, две
двери, окно, кровать, стулья, стол — и все! Тюрьма, тюрьма!
Любое жилище становится тюрьмой, если живешь в нем дол-
го! О, бежать, уехать, бежать от примелькавшихся мест, от лю-
дей, от все тех же движений в одни и те же часы и — главное —
от все одних и тех же мыслей!» («Под солнцем» Мопассана).
Для описания своего впечатления от Марселя Мопассан опи-
рается на самые мимолетные из жизненных проявлений —
смех и запах: «Марсель трепещет под веселым солнцем летне-
го дня. Кажется, что все здесь смеется: и большие разукрашен-
ные кафе, и лошади в соломенных шляпах, как на каком-то
маскараде, и его деловитый и шумный люд. Город словно на-
веселе — так певуче, так подчеркнуто, с таким вызовом звучит
на улицах его говор. <...> Марсель потеет на солнце, как кра-
сивая неопрятная девка, от которой, от негодницы, несет чес-
ноком да и кое-чем еще. От него несет всей той неописуемой
77
снедью, которую жуют негры, турки, греки, итальянцы, маль-
тийцы, испанцы, англичане, корсиканцы и сами марсельцы —
все те, что лежат, сидят, ворочаются с боку на бок и валяются
на набережных» («Море»).
Тот же прием — фиксация звука, аромата, цвета, теней —
применен О.Уайльдом в романе «Портрет Дориана Грея». На-
чиная произведение с описания мастерской художника, автор
почти не показывает читателю ее интерьера, напротив, обра-
щает внимание лишь на детали, признаки, наименее устойчи-
вые, временные, исчезающие: «Густой аромат роз наполнял
мастерскую художника, а когда в саду поднимался летний ве-
терок, он, влетая в открытую дверь, приносил с собой то пья-
нящий запах сирени, то нежное благоухание алых цветов боя-
рышника. С покрытого персидскими чепраками дивана, на
котором лежал лорд Генри Уоттон, кур, как всегда, одну за
другой бесчисленные папиросы, был виден только куст ра-
китника, - его золотые и душистые, как мед, цветы жарко
пылали на солнце, а трепещущие ветви, казалось, едва выдер-
живали тяжесть этого сверкающего великолепия; по време-
нам на длинных шелковых занавесях громадного окна мель-
кали причудливые тени пролетавших мимо птиц, создавая на
миг подобие японских рисунков... Сердитое жужжание пчел,
пробиравшихся к нескошенной высокой траве или однооб-
разно и настойчиво круживших над осыпанной золотой пы-
лью кудрявой жимолостью, казалось, делало тишину еще бо-
лее гнетущей. Глухой шум Лондона доносился сюда как гуде-
ние далекого органа».
Надо сказать, что сюжет романа «Портрет Дориана Грея»
вообще строится на том субъективном впечатлении, которое
возникает у художника от внешности и личности его юного
друга.
В рассказе «Город Алжир» Мопассан сочетает принципы
реалистического и импрессионистического описаний. Пере-
давая архитектуру Алжира (цвет домов, терраса, гостиницы,
78
улицы и др.), он вдруг переходит к фиксации сиюминутных
впечатлений: «Мимо величаво проходит закутанная в покры-
вало женщина с голыми лодыжками — не очень соблазнитель-
ными, черными от пыли, налипшей на потную кожу. Вид на
город с мола восхитительный. Восторженно любуешься свер-
кающим водопадом домов, словно скатывающихся друг на
друга с вершины горы до самого моря. Кажется, что это пени-
стый поток, где пена какой-то сумасшедшей белизны; но вот
пена как бы еще более сгущается - то горит на солнце ослепи-
тельная мечеть».
Мимолетное может служить фоном для раздумий о веч-
ности, истории: «Луна на стены налагала пятна/ Углом ту-
пым./ Как цифра пять, согнутая обратно,/ Вставал над ост-
рой крышей черный дым./ Томился вечер, словно стон фаго-
та./ Был небосвод/ Бесцветно сер. На крыше звал кого-то,/
Мяуча жалобно, иззябший кот./ А я, - я шел, мечтая о Пла-
тоне,/ В вечерний час, / О Саламине и о Марафоне.../ И си-
ним трепетом мигал мне газ» («Парижские кроки» П.Вер-
лена). В некоторых произведениях видно, как импрессиони-
стический прием приводит к символу с его особым наполне-
нием. Так происходит в стихотворении Верлена «Женщина и
кошка»: «Она играла с кошкой. Странно,/ В тени, сгущав-
шейся вокруг,/ Вдруг очерк выступал нежданно/ То белых
лап, то белых рук./ Одна из них, сердясь украдкой,/ Ласка-
лась к госпоже своей, Тая под шелковой перчаткой/ Агат
безжалостных когтей». Постепенно мимолетная игра приоб-
ретает мистический смысл: «Другая тоже злость таила/
И зверю улыбалась мило.../ Но Дьявол был здесь, их храня./
И в спальне темной, на постели,/ Под звонкий женский
смех, горели/ Четыре фосфорных огня».
Чистое впечатление приобретает благодаря использованию
художественных принципов И. особый ценностный, бытий-
ный статус, как в рассказе Б.Зайцева «Полковник Розов»: «Мы
веселимся. От бутылочки портеру Бирге тоже прояснился и за-
79
дымил с тройной силой. Далеко на деревне пели песни, взвиз-
гивали временами — это мой Петька не дает спуску девкам, а
мы отхлебываем темной влаги с сыром, смеемся, дышим. Но,
как и раньше, бархатный шатер над нами, девичьи взоры звезд, —
и так странно: хохочешь над толстым сыроваром, его лысиной,
и вдруг поднимешь глаза выше — и увидишь его звезду; стоит
над ним, как над полковником, Орешкой, мною, его сыровар-
ская звезда, не стесняясь тем, что, может быть, он совсем и не
знает, что такое залог (грамматический. — В. К), Ее тонкие лу-
чики отсвечивают в его лысине, а другие обтекают все филис-
терское тело, брюхо, - но ничего, не стыдятся».
У Чехова в «Степи» импрессионистские приемы служат
для передачи картины мира, складывающейся перед глазами
маленького мальчика, отправившегося в свое первое путеше-
ствие и множество вещей видящего впервые. В этом смысле
можно говорить о некоторой традиции использования этих
приемов для реконструкции «взрослым» автором мпровиде-
ния героя-ребенка (см. В.Катаев, «Волны Черного моря»).
Интересно, что во «взрослых» произведениях Катаева на поч-
ве И. возник индивидуальный художественный «метод», так
называемый «мовизм».
И. побуждает писателя увеличивать количество сравне-
ний, двигаясь по пути «метафоризации мира» (см. «Теория
метафоры». М., 1990). Это видно на примере поэзии Ман-
дельштама и Пастернака. Сравнения и метафоры создают
особенности поэтического языка каждого из поэтов, форми-
руют индивидуальный авторский мир.
В. Калмыкова
Инверсия (от лат. inversio - переворачивание, пе-
рестановка). В знаменитом трактате «Поэтическое искусство»
Буало предупреждал: «И самый звучный стих меня не увле-
чет,/ Коль слово невпопад иль спутан оборот;/ Вовек не при-
80
мирюсь ни с пышным варваризмом,/ Нив вычурном стихе с
надменным солецизмом».
В этом высказывании Буало манифестируется столь необ-
ходимая для искусства художественная гармония. В словес-
ном творчестве она обычно проявляется, по словам Пушкина,
«в чувстве соразмерности и сообразности». Существует пред-
ставление, что литературное произведение — это нужные сло-
ва, расставленные в нужном порядке. Если это так, то в чем же
он состоит, этот порядок?
Отставной титулярный советник Мармеладов в романе
Достоевского «Преступление и наказание» обращается к Рас-
кольникову с такими словами: «А осмелюсь ли, милостивый
государь мой, обратиться к вам с разговором приличным?
Ибо, хотя вы и не в значительном виде, опытность моя отли-
чает в вас человека образованного и к напитку непривычно-
го». Витиеватость речи Мармеладова здесь ощущается между
прочим в связи с необычным порядком слов, выделенных в
цитируемом тексте. Это «обратный порядок» слов (вместо «моя
опытность» - «опытность моя», «образованного человека» -
«человека образованного» и др). И. — это «обратный» порядок
слов на фоне «естественного прямого». Однако понятие пря-
мого и «обратного» порядка слов исторично.
Для языкового сознания XVIII в. речь Мармеладова, на-
пример, не показалась бы слишком необычной. Ведь поста-
новка имени прилагательного после имени существительного
была принята в XVI11 в. и в еще более ранних церковнославян-
ских образцах («восторг неописанный», «голов математичес-
ких» и др.). Н.Карамзин и его последователи много сделали
для того, чтобы утвердить свободный порядок слов в русском
литературном языке. «В ’’Истории государства Российского”,
в сей сокровищнице и святильнице языка нашего, можно най-
ти многие примеры счастливому разнообразию в перестанов-
ке прилагательных. В Карамзине, а особенно в историческом
творении его, сие передвижение слов делалось, так сказать,
81
само собой, вследствие один раз навсегда обдуманного навы-
ка. Молодым авторам подобает следить за собою, подмечать
себя», - писал П.Вяземский.
По отношению к XIX в. в целом можно, видимо, говорить
о преобладании прямого порядка слов над обратным. Тогда
последний (очевидно, более заметный) может быть осознан
как намеренный стилистический прием. Вообще говоря, вы-
бор того или иного порядка слов в совершенном литератур-
ном произведении всегда выглядит художественно оправдан-
ным. И. чаще всего служит средством выделения каких-то
особо значимых элементов художественного высказывания.
Например, особый противоречивый характер движения по-
этической мысли в лермонтовском «Парусе» создается как раз
за счет И. и выдвинутых на первое место глаголов действия:
«Белеет парус одинокий/ В тумане моря голубом.../ Что ищет
он в стране далекой?/ Что кинул он в краю родном?..»
Важно отметить, что И. в литературном произведении -
это не просто вопрос синтаксиса. По словам Г.Винокура, «по-
рядок слов в русском языке по большей части не создает раз-
личий, которые могли бы иметь чисто грамматическое значе-
ние. Но в поэтическом языке веселый день и день веселый,
смелый воин и воин смелый, бой идет и идет бой — существен-
но различимые синтагмы, потому что они могут быть приме-
нены для выражения различного поэтического содержания».
Очевидно, И. в принципе может служить разным целям.
Иногда она способствует восприятию эстетически и ритмиче-
ски закругленной гладкой формы высказывания, иногда, на-
оборот, «цепляется» за восприятие, останавливает внимание
на необычном построении речи. В «поэзии мысли» у Бара-
тынского сложные И. в сочетании с прихотливым синтакси-
сом способны порой породить «темные» для толкования мес-
та: «Благословен святое возвестивший!/ Но в глубине развра-
та не погиб/ Какой-нибудь неправедный изгиб/Сердец люд-
ских пред нами обнаживший».
82
В свое время В. Брюсов предлагал после слова «неправед-
ный» ставить запятую, так как выражение «неправедный из-
гиб» не имеет никакого смысла. С точки зрения Брюсова, Ба-
ратынский говорит здесь о неправедном, то есть порочном,
человеке, сохранившем в глубине разврата душу, способную к
творчеству, светлый дар поэзии. Однако Брюсов не заметил И.
Субъект действия, выраженный причастием «обнаживший»,
оказался здесь в самом конце четвертого стиха. В какой-то ме-
ре продолжателями «трудных» И. в поэзии XX в. выступают
Б.Пастернак, Л.Мартынов, А.Вознесенский, Д.Самойлов.
В современном литературоведении существует тенденция и
более широкого толкования И. Иногда можно встретить понятие
«сюжетной И.». Речь идет о таком строении сюжета, когда состав-
ляющие его эпизоды не соответствуют хронологической последо-
вательности. «Сюжетная И.» позволяет начать повествование с
заключительного события и затем постепенно прояснить то, что к
нему привело. Примеров такой «сюжетной И.» в литературе мож-
но привести очень много: «Смерть Ивана Ильича» Л.Толстого, «В
поисках утраченного времени» М.Пруста, романы А.Белого, «Не-
известный в Газе» О.Хаксли, «Буранный полустанок» Ч.Айтмато-
ва и др. Точнее, думается, в таких случаях было бы говорить не о
«сюжетной И.», а о «временной И. фабулы», поскольку в сюжете
мы имеем дело все-таки не с самими событиями непосредствен-
но, а с изображенными событиями. Понятие фабулы, как естест-
венной последовательности событий, позволяет замечать времен-
ные И. всякого рода: перестановку эпизодов, перестановку собы-
тий из разных эпох, биографии персонажей и др. Яркий пример
тому «Мастер и Маргарита» М.Булгакова.
М.Дарвин
Ирония (от греч. eironeia — притворство). В древне-
греческой комедии олицетворением И. была лиса, существо
лживое, хитрое и коварное. Об этом упоминает в одной из сво-
83
их работ известный литературовед Норман Нокс. Сейчас по-
добные ассоциации вызовут, пожалуй, только удивление -
настолько изменились и усложнились наши представления об
И. Мы видим в ней тонкий скепсис, скрытую насмешку под
маской абсолютной серьезности. Но все-таки момент обмана,
притворства сохранился: И. — это порицание через похвалу
или же похвала посредством порицания. Слова здесь должны
пониматься в обратном смысле, а сущность вещей раскрыва-
ется через их противоположность.
Думается, однако, что современное понимание И. ближе к
античному, чем это кажется на первый взгляд. К тому же и в
древности ирония не всегда сводилась к неблаговидному об-
ману, коварству и лжи. Вспомним, например, что Платон оха-
рактеризовал ее как притворство мудреца во имя высших це-
лей и истинного знания. Аристотель ценил разящую силу
скрытой насмешки и советовал ораторам почаще пользовать-
ся ею как своим «боевым оружием». Для нас очевидно ирони-
ческое умонастроение Лукиана, хотя у него почти нет упо-
требления слов в обратном значении. С затаенной насмешкой
рассказывает автор «Разговоров в царстве богов» о том, как
все общепризнанные ценности, которыми дорожат люди при
жизни, перед лицом смерти оказываются ненужным хламом.
Слава и знатность, богатство и красота, власть и почет - все
исчезает в реке забвенья. Привычная система понятий рушит-
ся как карточный домик. И поневоле задумываешься об ис-
тинном смысле вещей общепринятых, устоявшихся.
У античных авторов мы ясно ощущаем этот трезвый
скептицизм иронического взгляда на мир. Для Сократа, на-
пример, И. была жизненной позицией. Мнимо утверждая
отжившие свой век идеалы, Сократ в действительности ра-
зоблачал их пустоту и ничтожность. Но взамен не оставалось
ничего. Постепенно ироническое развенчание стало самоце-
лью, и уже абсолютно все подвергалось сомнению. «Я знаю
только то, что ничего не знаю», — гласит знаменитое изрече-
84
ние Сократа. Это философская И. Для нас же важнее понять,
как выражали свое отношение к миру с помощью иронии
писатели.
Обратимся к немецким романтикам. Им этот мир пред-
ставлялся настолько несовершенным, что не стоило даже вос-
принимать его всерьез. Относиться к нему можно было толь-
ко насмешливо, однако пряча насмешливость под маской се-
рьезности. В сознании романтического художника тусклая
обыденная действительность иронически игнорировалась, от-
ступала перед идеальной сферой поэтической фантазии.
Позднее романтическая И. утратила характер легкой эсте-
тической игры. Действительность настойчиво предъявляла
свои права, а крах романтических иллюзий стал явным. Уже
Гейне с горечью сознавал, что не только романтику дано осме-
ивать мир бюргеров, но и мир этот спокойно и равнодушно
развенчивает возвышенные мечты поэта. В стихах Гейне идет
иронический спор мечтателя со здравомыслящим обывате-
лем. Восторженный романтик захвачен причудливыми виде-
ниями своей фантазии. Он даже не понимает к кому обраща-
ется: «Слышишь, пенье скрипок льется,/ Контрабас гудит
ворчливый?/ Видишь, в легкой пляске вьется/ Рой красавиц
шаловливый?» И в ответ слышит отрезвляющее: «Друг любез-
ный, что с тобою?/Ты глухой или незрячий?/ Стадо вижу я
свиное,/ Визг я слышу поросячий».
Сам Гейне на стороне романтика. Но, поддаваясь очарова-
нию мира грез, он понимает, что подчиняться приходится за-
конам, которые диктует реальный мир. Поэтому иронически-
коварно высмеивает поэт романтическое парение в заоблач-
ных высях. И в то же время мы чувствуем в его стихах ноту го-
речи.
Видимо, иронизировать можно не только «над тем, что ка-
жется смешно», но и над тем, что особенно близко и дорого.
Даже над самим собой. Оттого порой ирония бывает настоль-
ко тонкой, что ее трудно уловить. В этом ее отличие от юмора
85
или сатиры. Ведь юмор и сатира понимаются сразу — смешное
здесь для всех очевидно. Комична, например, нелепая фигура
поповича из гоголевской «Сорочинской ярмарки», который,
направляясь на тайное свидание, «поднялся скоро на плетень
и долго стоял в недоумении на нем, будто длинное страшное
привидение, измеривая оком, куда бы лучше спрыгнуть, и на-
конец с шумом обрушился в бурьян». Не только смех, но пре-
зрение, негодование вызывает лицемерие и ханжество Иу-
душки Головлева у Салтыкова-Щедрина. Читатель понимает,
что в одном случае это безобидная насмешка, в другом — гнев-
ное обличение страшных социальных пороков. Отношение
писателей к своим персонажам передается сразу.
Иное дело - И. Как, например, определить отношение
М. Булгакова к героям романа «Белая гвардия»? Он, безуслов-
но, любит этих милых, добрых, честных людей, растерявших-
ся перед надвинувшимся грозным миром борьбы и страстей,
но с беспощадной И. вновь и вновь напоминает об их единст-
венном желании — уйти от бурных катаклизмов времени в
привычную тишину и уют родного дома. В устах Лариосика,
смешного «кузена из Житомира», эта мечта о покое «за кремо-
выми шторами» звучит уже как откровенная насмешка автора
над своими героями. Скрытая, едва уловимая И. у Булгакова.
Лишь иногда явственно ощутима она в подтексте, в сопостав-
лении слов героев с жизненными обстоятельствами. Это И. от-
рицающая.
А вот у Маяковского И. по-своему утверждает величие ре-
волюционной борьбы. В «Мистерии-Буфф» на основе биб-
лейской легенды о Всемирном потопе развертывается гранди-
озное «героическое, эпическое и сатирическое изображение
нашей эпохи». Представители верхушки свергнутых классов с
язвительной И. именуются «семь пар чистых», а трудящиеся
названы так же иронически «семь пар нечистых». Голодные,
обманутые, затравленные «нечистые» постепенно сознают
свою силу и проявляют высший героизм. Такое намеренное
86
ироническое снижение не случайно. В нем действует логика
«доказательства от противного»: Маяковскому необходимо
было показать, каким нелегким был путь к революции и какой
великой — победа. За легкой насмешкой скрывается одобри-
тельное отношение автора к своим героям.
И. строится всегда на мнимом отрицании или мнимом ут-
верждении. Она действует исподволь, открывая для нас во
всем новые, неожиданные черты. Комизм И. основан на нео-
жиданном, резком переосмыслении любого явления. Чтобы
уловить И., нужно остро чувствовать авторский подтекст: кри-
тический, если И. отрицающая, или сочувственный, когда в
ней нет отрицания.
И. — тонкий и гибкий инструмент для писателя, избегаю-
щего откровенного морализаторства. С блеском использует
ее, например, Н.Носов в книге «На литературные темы», где
собраны иронические миниатюры о современной поэзии,
прозе, драматургии, литературной критике. Писатель до тон-
костей воспроизводит шаблонный стиль ремесленников от
искусства. Он словно бы искренне стремится вызвать одобре-
ние читателя, а авторский подтекст резко противоречит этому
и в действительности разоблачает до конца мертвенную за-
штампован ность у бездарных литераторов.
В другой своей книге, носящей название «Иронические
юморески», Н.Носов определяет иронию точно и слегка на-
смешливо: «Ирония, как известно каждому, кто изучал лите-
ратуру в школе (если, конечно, изучение это происходило не
при помощи одних шпаргалок), - это такой оборот речи, фра-
за, слово, в которых притворно (с целью насмешки) утвержда-
ется прямо противоположное тому, что думают о каком-либо
лице, явлении или предмете».
Л. Болдина
Исповедь см. Автобиографические жанры.
87
Каламбур (от фр. calembour - игра слов). Трудно
что-либо возразить против его сути - К. действительно осно-
ван на обыгрывании, то есть сопоставлении и отталкивании
1\ смыслов созвучных слов. Человек, состривший, что он отча-
ялся получить чаю, уже пронес К.
Но трудно этим объяснением удовлетвориться. Перед на-
ми характерный случай, когда слово-то найдено, да очень не-
точное, и загадки им не разрешить. Невинная игра повинна в
том, что психологически приучает неосведомленного челове-
ка к мысли, будто К. — забавный литературный прием, сред-
ство создания в поэзии и прозе только комических эффектов.
Такое понимание просочилось и в отдельные словари. Между
тем каламбур не мяч - средство игры, но меч - боевое оружие
писателя.
«Каламбурная рифма» - так именуется поэтический ка-
ламбур, поставленный в особую ритмическую позицию —
на конец стиха. «Даже к финским скалам бурым/ Обраща-
юсь с каламбуром», - заявляет поэт-искровец Д.Минаев, и
это было для него именно средством сатирического остро-
умия. Но пришел XX в., явился Маяковский и распростра-
нил каламбурную рифму на произведения трагедийного
звучания: «Ох, эта/ ночь!/ Отчаянье стягивал туже и туже
сам./ От плача моего и хохота/ морда комнаты выкосилась
ужасом».
Невозможно вычитать шутку в этих строках из «Флейты-
позвоночника», поэмы о неразделенной любви, хотя и прони-
заны они К.
Вот примеры, напоминающие, что суженные представле-
ния о функции К. в литературе запоздали по меньшей мере на
десятилетия (а основаны на эстетике XIX века) и что это ин-
тересное явление имеет свои разновидности (каламбурная
рифма). И правда, под названием К. законно объединять це-
лую систему художественных явлений, обладающих разными
«именами», но явно однотипных по структуре.
88
Универсальная черта образно-ассоциативного, художест-
венного мышления — выявление сходства в различном и раз-
ницы в сходном. Именно этот принцип реализован в К., кото-
рый всегда есть не что иное, как полноценный микрообраз!
Звуковое подобие сопоставляемых слов выявляет их смысло-
вое родство: «Сокровище мое! Куда сокрылось ты?» (Сумаро-
ков).
Повтор группы звуков внутри слов лежит в основе всякого
К. И в обоих словах повторение (сокр -) заставляет читателя
предполагать некую целостность. У Сумарокова действитель-
но повторена целостная единица - корневая морфема (плюс
приставка). Но гораздо чаще в результате повтора возникает
так называемая «художественная этимология» — лингвистиче-
ски мнимое, но эстетически значимое ощущение смыслового
родства слов «Я пою под миртой мирной» (Державин), «Сына-
веет ночей синева» (В.Хлебников) и др.
Подобные звукосмысловые сближения — источник ориги-
нальных ассоциаций, неожиданного построения и поворотов
мысли. Перекличка «легких звуков» зачастую способна потя-
нуть за собою отнюдь не легковесную мысль. Сколько ассоци-
аций, к примеру, вызывает парадоксальная общность звуко-
вого ядра эстонских слов «коданик» (гражданин) и «вяйкеко-
данлик» (мещанский)... Сколь противоположны ими обозна-
чаемые понятия и сколь опасно близки их облики!
К. - существенный элемент стиля многих поэтов. Напри-
мер, у Державина: «Знойное лето весна увенчала/ Розовым,
алым по кудрям венцом;/Липова роща, как жар, возблистала/
Вкруг меда листом».
С одной стороны в этом четверостишии два конечных зву-
ковых повтора - две «классические» заударные рифмы. С
другой — строфа распадается на пару двустиший, в которых
конечные слова отдельных стихов составляют две созвучные
параллельные конструкции: увенчала... венцом... возблиста-
ла... листом. Первая из них (увенчала — венцом) содержит «ис-
89
тинный» звукосмысловой повтор в корне — в обоих словах
одинаковая корневая морфема. Явно по ассоциации с этим
повтором в сознании поэта возникло аналогичное уподобле-
ние (возблистала — листом). Повторение — лист — лишь ими-
тация повтора в корне; в «возблистала» корневая морфема
выглядит иначе (блист -). В К. участвуют также и «весна», и
«липова»...
Нетрудно понять теперь, что и рифма и аллитерация — яв-
ления, однотипные К. Обладая каждое своей спецификой,
все они «каламбурны» по структуре, все основаны на сближе-
нии сходно звучащих слов. Например: «Ольга - как мокрая
ветка ольховая!» (А.Вознесенский); «Светофор. Это странное
имя./ Светофор. Святослав. Светозар». (Б.Ахмадулина).
Широко понимаемый К. характерен прежде всего для
поэтов державинской линии, которых неизменно отличает
внимание к выделенности звуковой структуры стиха. Арза-
масцы осуждали стих последователя Г.Державина, С.Бобро-
ва - «Где роща ржуща ружий ржет». Между тем по смысло-
вой емкости и каламбурной метафорической смелости он
созвучен поискам поэтов XX в. (В.Хлебникова, В.Маяков-
ского, М.Цветаевой). И уж, разумеется, исканиям своего
великого предшественника: «Бурно бурей буреванье... И бо-
реев в сем бору» (Г.Державин). К. может быть прекрасным
средством художественной образности, но им надо уметь
пользоваться.
Ю.Бирюсинов
Кич (от греч. kitsch - безвкусица) - устаревший тер-
мину середине XX в. - массовое искусство для избранных,
предтеча постмодернизма. Для кича характерен высокий уро-
вень холодной техничности (искусная подделка под мастерст-
во), скрытая пародийность, отсутствие художественного от-
кровения и открытий.
90
К. балансирует на грани, обнажая разницу между поняти-
ями мастерить и мастерство. Потребитель попроще принима-
ет К. за чистую монету, потребитель-интеллектуал наслажда-
ется тем, «как сделано». Это, в сущности, очень близко к пост-
модернизму — расчет на принципиально различных зрителей.
Один из шедевров К. — роман У.Эко «Имя розы». Одновре-
менно пародия на детектив и новеллу Борхеса.
Моменты К. как массово-элитарного метода на структур-
ном уровне широко эксплуатируются в рекламе разного толка.
Т. Шубина
91
Легенда (от лат. legenda — то, что следует прочи-
тать) - это рассказ-воспоминание о чем-либо чудесном или
удивительном. В средние века так называли извлечения из
J1 житий, которые надлежало читать в определенные дни.
Это был любимый и едва ли не самый характерный жанр
средневековья — популярность его падает лишь с наступлени-
ем критического отношения к вероучительной литературе. Л.
собираются в объемистые сборники и своды, предназначен-
ные сначала только для церковных служб, а затем, начиная с
XIII в., и для светских читателей.
Особенно была популярна знаменитая «Золотая легенда»
(XIII в.), составленная генуэзским архиепископом Иаковом
Ворагинским. В нее входило более 180 житий, разделенных на
четыре раздела, что должно соответствовать, по мысли соста-
вителя, четырем периодам жизни человечества: периодам его
«совращения» с пути, «обновления», «смирения» и «возвра-
щения». Необыкновенная популярность «Золотой легенды»
(90 изданий за 50 лет!) объясняется прежде всего ее созвучно-
стью своему времени; в ней соединились высокая духовность,
дидактика и фантазия, цитаты из священных текстов и апо-
крифы, переплелись церковные традиции и светские, книж-
ные и устные.
Постепенно Л. сближается, а нередко и отождествляется, с
преданием, сказанием и другими полуфантастическими
фольклорными жанрами. Если прежде основным ее содержа-
нием было чудо, то теперь чудесное воспринимается все более
как поэтическая интерпретация какого-нибудь действитель-
ного события или происшествия.
«Предание, легенда, сказание рождаются из подлинного
события, — пишет в своих очерках о народной эстетике В.Бе-
лов. - Прошедшее через тысячи уст, это событие становится
образом. Предание, пережившее не одно поколение, растет,
словно жемчужина в раковине, теряя все скучное и случай-
ное».
92
В тех случаях, когда жанры предания и Л. разграничива-
ются, важными оказываются ведущая тональность повество-
вания и его, так сказать, смысловой акцент. В предании запе-
чатлено воспоминание о необычном, пусть даже чудесном,
но все же достоверном событии, тогда как в Л. главное и бе-
зусловное — чудо.
В современной фольклористике Л. рассматривается в со-
поставлении с двумя важнейшими повествовательными жан-
рами - мифом и сказкой, рядом с которыми она оказывается
как бы «промежуточным» жанром, возникающим на границе
факта и вымысла, веры и неверия. Сравним. Миф — и древ-
нейший и современный, чтобы быть адекватно воспринятым,
требует от воспринимающего особого отношения к действи-
тельности и прежде всего безусловной веры, доходящей до не-
различения «возможного» и «невозможного», «своего» и «чу-
жого» и т.д., и тем самым дающей ощущение причастности к
«тайнам бытия». Для восприятия сказки достаточна вера «ус-
ловная», вера-игра («сказка — ложь, да в ней намек...»); ска-
зочный мир во многом похож на мир реальный, он строится
на его нравственных законах, проясняет его, расцвечивает, ре-
ализует его нераскрытые возможности, но при всем при этом
принадлежит иной, воображаемой реальности.
Когда же мы слушаем или читаем Л., мы приглашаемся од-
новременно и верить и не верить, то есть с одной стороны ве-
рить всему, о чем бы в ней ни рассказывалось, а с другой —
предполагать, кроме этой «фантастической», существование
еще и «исторической» правды.
Так, читая Л. о докторе Фаусте, приходится верить, что не-
кий философ и чернокнижник силою своего колдовского ис-
кусства творил всевозможные чудеса, знал прошлое и буду-
щее, открывал клады, излечивал любые болезни, но при этом
мы помним, что исторический Фауст, возможно, и не совер-
шал многого из того, что за ним числится, а если и совершал,
то не совсем так, как это отразилось в народном сознании.
93
Литературная Л. обычно концептуальнее фольклорной,
материал в ней собранней и, как правило, строго подчинен
авторской мысли. Если народная Л. изменчива, подвижна и
как целостность проявляется в единстве своих вариантов, то
«авторская» Л. одновариантна, это, так сказать, наиболее «ху-
дожественный» из моментов ее самораскрытия, к тому же
раскрывающий и духовные возможности и устремления само-
го автора. При этом нередко происходит жанровое смещение
в сторону «мифологизма» — углубленности и «деметафориза-
ции» легендарных событий. Например, та же Л. о Фаусте, ис-
тория о договоре человека с дьяволом, в XIX-XX вв. (в произ-
ведениях Гёте, Булгакова, Т.Манна) становится мифом, опи-
санием не просто отдельного, хотя и характерного эпизода ис-
тории, а самой сути исторической эпохи.
Заняв в некотором смысле срединное положение в систе-
ме жанров (на границе факта и вымысла, книжной и устной
традиции, народного и авторского творчества), Л. предстает
как бы средоточием разнохарактерных свойств словесного
творчества. Так что по тому, как автор работает в этом жанре,
можно судить об особенностях его художественного видения.
Л. может быть использована (как, например, в «народных
рассказах» Л.Толстого и Лескова, в «Легенде о Великом Ин-
квизиторе» Достоевского) в качестве жанрово-стилевой «ме-
ры истинности», требующей от автора высокой духовности и
силы воображения, глубины мысли и простоты языка. Это
своего рода состязание с «мудростью народной», попытка в
единичном творчестве предугадать, как оформился бы тот или
иной материал, передаваясь из уст в уста, и в то же время на-
деление его личностным, активно воздействующим содержа-
нием.
В творчестве Горького, тоже тяготевшего к этому жанру,
напротив, Л. предстает как «возвышающий обман» — как ре-
зультат «романтического» стремления приукрасить жизнь
красивыми выдумками. Считая это творчество естественным
94
и благотворным, он и свои реалистические произведения не-
редко строил как погруженные в конкретность и томительную
будничность жизни красочные «сказки».
Особое, «реконструктивное» отношение к Л. встречаем в
романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Две знаменитые Л. —
о Понтии Пилате и докторе Фаусте - взяты автором, чтобы
быть разрушенными, причем взяты не как условно-поэтичес-
кое клише, а скорее как образцы условно-поэтического миро-
восприятия. Если истоком и зерном легендарного творчества
является «представление», обычно народное, о тех или иных
лицах, событиях, судьбах, вольная интерпретация каноничес-
ких и исторических сюжетов по своему разумению и вкусу, то
Булгаков противополагает этому нечто существенно иное —
«образ», понимаемый им как объективная, независимая от ча-
стных представлений реальность.
Наконец, в своем исконном значении — как память о про-
шлом и как высокий, обобщающе-оценивающий взгляд на
настоящее — Л. встречаются в основном в молодых литерату-
рах: у писателей Латинской Америки, Африки, а также в твор-
честве советских писателей - Ч.Айтматова, Ю.Рытхэу, В.Сан-
ги и др.
«Древние мифы и легенды, - сказал в одном из интервью
Ч.Айтматов, - помогают нам увидеть современность глазами
наших далеких предшественников... Это обогащает нас, поз-
воляет нам разглядеть ушедшее...»
А. Кораблев
Лирика (от греч. lyrikos - произносимый под звуки
лиры). Л. называют один из литературных родов наряду с эпо-
сом и драмой. Но уместнее смотреть на Л. как на особый тип
мировосприятия, выражавшийся в разные века в разных лите-
ратурных формах (в том числе в эпических и драматических).
В основе лирического взгляда на мир — «переживания и стра-
95
сти сердца и духа» (Гегель), «излияние восторженного сердца»
(Державин), «излияние томно-горестного сердца» (Карам-
зин). Лирическая поэзия — «по преимуществу поэзия субъек-
тивная, внутренняя, выражение самого поэта» (Белинский).
Но «в оде поэт не ничтожным событиям собственной жизни
радуется... он вещает правду и суд Промысла, торжествует о
величии родимого края, мещет перуны в сопостатов» (Кю-
хельбекер). А в романтической Л. «лучшие стихи» — «те, кото-
рыми выражены чувства простые, общие по существу своему,
но личные по впечатлениям, действовавшим на поэта» (Вя-
земский).
Романтизм в конце XVIII — нач. XIX в. вообще принес но-
вое понимание и слова Л., и идеи самовыражения. Романтики
утвердили главным достоинством Л. субъективное пережива-
ние мира. Впрочем, личное переживание для романтиков
сверхлично: поэт есть «вселенная в малом преломлении» (Но-
валис). Лирическая «единственность» вмещает такой смысл,
что в подлинно лирическом тексте читатель «узнает» собствен-
ное переживание. Вот строки Микеланджело, переведенные
Тютчевым: «О, в этот век преступный и постыдный -/ Не
жить, не чувствовать — удел завидный.../ Отрадно спать, от-
радней камнем быть».
Личное переживание поэта XVI в., пересказанное на дру-
гом языке поэтом XIX в., «оторвавшись» от ситуации, в кото-
рой оно было впервые выражено, позволяет читателям других
поколений «узнать» это переживание как лично близкое.
Лирическая точка зрения выражается по преимуществу в
формах стихотворных, но проникает и в прозу, особенно там,
где к этому стремится сам автор (повести Тургенева, притчи
Кафки, проза Паустовского, Солоухина). Л. обнаруживается
и в произведениях, обыкновенно считающихся чисто эпичес-
кими или драматическими (трагедии Расина, пьесы Чехова).
Своеобразные «индикаторы» лирического подхода к миру -
любовь и природа. Понятно, не всякий пейзаж и не всякое
96
«я люблю вас» или «я вас любил» — уже Л., это лишь знаки ли-
рического голоса, сигналы о возможности появления лириче-
ского самовыражения.
«Эпическое» для автора может быть «лиричным» для героя,
и правомерно говорить о лирическом голосе как автора, так и
персонажа (особенно это характерно для романа и романных
жанров). Голос этот появляется при введении чужих лиричес-
ких фрагментов (пение героями песен, чтение стихов — напри-
мер, цитирование Пушкина, Лермонтова, Шиллера героями
Достоевского), с помощью лирических произведений, сочи-
ненных самими героями (стихи и песни в романах Гёте о
Вильгельме Мейстере). По законам Л. могут быть оформлены
письма героев, их любовные признания, их монологи о своих
переживаниях.
Лирическая точка зрения появляется, когда автор (испол-
нитель, читатель, зритель, слушатель) испытывает особое чув-
ствование мира, воспринимаемого сквозь призму лирически
оформляемого текста. И при исполнении песни, и при сочи-
нении стихотворения, и при заучивании чужого лирического
фрагмента срабатывает механизм субъективного, данного
«только мне» переживания. Потому можно говорить о Л. как о
способности человека конденсировать сокровенные пережи-
вания не только в искусстве, но и в ежедневной жизни. И сти-
хи поэта, адресованные возлюбленной, в той же мере факт его
быта, что и творчества. Конечно, не всякое «мое слово» о «мо-
ем переживании» — Л. Помимо передачи почувствованного и
помысленного «только мной» - «только моими» словами, не-
обходимо соответствующее эстетическое оформление этих
слов — ритмом, лексикой, стихотворным метром, рифмой,
смысловыми повторами и паузами, «авторским» синтаксисом
и т.д. Л. свойственна тяга к усилению смысловой значимости
каждого микроэлемента лирического сюжета; Л. требуются
слова, способные как можно более полноценно воссоздать его
душевное состояние. Лирические высказывания стремятся
4—501
97
стать афоризмами, заучиваются наизусть, цитируются подоб-
но пословицам - применительно «к случаю», к определенно-
му душевному состоянию человека. Впрочем, афористичность
Л. — мнимая, потому что, как говорил Мцыри у Лермонтова,
«душу можно ль рассказать?». Лирический афоризм лишь сло-
весный знак душевного движения. Характерны сомнения ро-
мантиков в возможностях выразить переживаемое словом:
«Невыразимое подвластно ль выраженью?» (Жуковский). По-
тому лирические произведения, сколь бы ни были внутренне
завершены, в авторском и читательском сознании существуют
в каком-либо контексте, как бы пересказывая уже сказанное,
переназывая названное прежде. «Очередное» лирическое вы-
ражение переживаний любви включается в контекст уже су-
ществующих лирических выражений любви; оно апеллирует
не только к жизненному опыту читателя, но и к его литератур-
ной памяти. И прочтение каждого конкретного лирического
фрагмента обусловлено богатством лирического «фонда», ко-
торым располагает читающий. Роль такого «фонда» велика
для аудитории лирика, для него самого, отчего лирические
произведения и насыщены сознательными или невольными
реминисценциями. Л. вообще чревата повторением пройден-
ного. Опыт литературных учителей, мотивы прошлых столе-
тий оживают в ней: «И не одно сокровище, быть может,/ Ми-
нуя внуков, к правнукам уйдет,/ И снова скальд чужую песню
сложит/И как свою ее произнесет» (Мандельштам).
Поэтому существуют «вечные» темы, позволяющие лите-
ратуроведам тематически классифицировать Л.: любовная,
гражданская, философская, пейзажная... Тематическое деле-
ние заведомо условно и не способно оценить многообразия
оттенков лирического подхода к миру, выработанных истори-
ей литературы. Каждая культурно-историческая среда созда-
ет свой вариант Л.
В советской литературе вопрос о Л. стоял очень остро,
многим она казалась чуждой для нового исторического созна-
98
ния и задач культурного строительства. «Нами лирика в шты-
ки неоднократно атакована» — при всей полемической заост-
ренности строка Маяковского отражает общее умонастрое-
ние. В эти годы даже Пастернаку, поэту лирическому по пре-
имуществу, кажется, что «лирика почти перестала звучать в
наше время». Проницательнее Горький: «...люди наших дней
стыдятся лирики, но расстаться с ней, к счастью, не хотят и не
могут».
Со временем сфера лирического существенно расширяет-
ся, чему способствует социально активное ораторское слово
Маяковского, но так же и субъективнейшая метафорика Пас-
тернака, вбирающая плотный поток предметов и реалий. Со-
временная Л. особенно широко осваивает «вещный мир», слу-
жащий часто для косвенного выявления авторского пережи-
вания; но реальность и сама по себе становится предметом
оценочного, эмоционального восприятия. Лирическое «я»
способно даже полностью раствориться, например, в «натур-
философской» медитации от лица природы (характерная стро-
ка Заболоцкого: «Читайте, деревья, стихи Гезиода»). С другой
стороны: Л. раскрывается навстречу социальному бытию, ис-
тории. Эта общая тенденция воздействует на самые разные ху-
дожественные миры. Показательна эволюция, например, Ах-
матовой: если ее ранние стихи уподобляли психологической
новеллистике, то поздние — уже «исторической живописи»
(Чуковский).
Лирик часто пытается говорить от имени современников и
сограждан, его лирическое «я» стремится ко всеобщности,
«объективности». Размыкание границ субъективного пережи-
вания демократизирует лирику, дает импульс открытому граж-
данскому пафосу. Для современного сознания все более близ-
кой становится лирическая «индукция» (термин Л.Гинзбург),
то есть восхождение к общему от частного, осязаемо конкрет-
ного, от единичной лирической ситуации — к ключевым, «веч-
ным» темам. Это вовсе не означает усугубления «лирического
99
эгоцентризма», напротив, расширяется поэтический охват
бытия. В этом ключе существует и та принципиально неро-
мантическая позиция, когда авторское «я» — не главная тема
лирического высказывания, а скорее точка отсчета, угол зре-
ния.
В нынешнем словоупотреблении под Л. понимают еще и
совокупность отдельных стихотворений — одного поэта или
периода, направления. Это «служебное» значение актуально,
кроме того, для отграничения Л. от поэтического эпоса, хотя
граница между ними сейчас, как никогда, условна. Многие
считают даже, что происходит своеобразная «эпизация» Л.
Отчасти это связано с использованием повествовательных,
сюжетных форм. Если в 1920—30-е гг. XX в. разрабатывалась
лирическая баллада, то «эстрадная поэзия» 1960-х гг. развива-
ла поэтическую «беллетристику»; повествовательное стано-
вилось средством лирического. Или с другой стороны лирика
Твардовского, например, вызревала в его же поэтическом
эпосе и сохранила многие черты эпического сознания.
В недавние десятилетия полемически взаимодействовали
«эстрадная поэзия» - громкого лозунга, злободневных тем,
направленного вовне чувства («Эстрадный жанр перерастал в
призыв» - Евтушенко), - и «тихая Л.», сосредоточенно-меди-
тативная, обращенная к первоосновам человеческого бытия.
Резкое противостояние отошло в прошлое, остались достижения
того или другого течения: социально активный лирический
герой, «глобальная отзывчивость» на события современности,
проникновение в лирическое сознание научного мышления,
своеобразный аналитизм; внимание к истории и фольклору,
острота нравственного чувства, осознание ответственности за
все сущее... В открытом пространстве сегодняшней поэзии
уживаются Л. чувственно-эмпирическая и «книжная», ориен-
тированная на культуру; «лирический дневник», скреплен-
ный ощущением внутренней биографии, и прямое публицис-
тическое высказывание.
М. Гуревич, А. Песков
100
Лирическая проза Это понятие не имеет
сегодня четкого определения. Уже в самом термине кроется
противоречие, ясно видимое всякому, кто сколько-нибудь
знаком с теорией литературы. Л.п. словно стремится размыть
границы между двумя литературными родами, определенны-
ми еще Аристотелем, — эпосом и лирикой.
Не так просто найти источник Л.п. В своей «Историчес-
кой поэтике» А.Веселовский говорил об изначальной слит-
ности эпического и лирического начал в древнейших фено-
менах искусства, оказавших влияние на литературную тради-
цию.
Видимо, постепенное выделение Л.п. из разнообразных
прозаических жанров связано с «исповедальными мотивами».
Не случайно «Исповедью» назвал свое произведение поэт
раннего Средневековья Августин Аврелий (ок. 400 г.). Назва-
ние прижилось - его можно встретить у Руссо в XVIII в., и у
ряда писателей XIX в. Л.п. создавали Петрарка и писатели-ро-
мантики. В зависимости от колебаний интереса литературы (и
читателя) к личности, к внутренней жизни художника она то
«расцветала», то отодвигалась на периферию внимания. Так
было, например, в XIX в., когда на смену романтизму пришла
литература критического реализма.
В XX в. мы стали свидетелями небывалой популярности
лирических жанров. Хотя вряд ли можно безоговорочно ут-
верждать, что между исповедальной прозой предшествую-
щих столетий и Л.п. нашего времени существует прямая пре-
емственность. Бурный ее расцвет в XX в. вызван прежде все-
го изменившимися социально-историческими и психологи-
ческими условиями жизни отдельного человека и общества в
целом.
На страницах периодики то и дело вспыхивают споры по
поводу Л.п., скрещиваются шпаги ревнителей эпической
строгости и свободы прозаических жанров. Однако писатели,
как будто не замечая полемики и возражений со стороны оп-
101
понентов, продолжают создавать романы, повести и расска-
зы, которые критики и читатели уверенно называют лиричес-
кими. Это книги М.Шагинян и К.Паустовского, В.Катаева и
Ю.Трифонова, Ю.Нагибина и В.Солоухина. К Л.п. относят
произведения поэтов Е. Евтушенко и О.Сулейменова, прозаи-
ков А.Кима и В.Астафьева.
Поток Л.п. продолжает разливаться и за рубежом. Тради-
ции Пруста и Кафки, Сент-Экзюпери и Вулф углубляют сего-
дня Герлих и Сэлинджер, Керри и Жубер.
В романе французского поэта и прозаика Ж.Жубера «Че-
ловек среди песков» рассказывается история строительства на
юге Франции прекрасного города свободных и счастливых
людей. Однако вторжение человека, технический прогресс
нарушают сложившийся веками жизненный уклад этого рай-
она. Обедняя природу, человек одновременно обкрадывает и
себя. История строительства рассказана человеком, в голосе
которого без труда угадываются авторские нотки (как распоз-
нает их читатель и в повестях В.Распутина).
Дело, конечно, не в том, что экологические проблемы оди-
наково волнуют сегодня французского и российского авторов,
но в том, что тревоги эти высказываются сходным образом.
Лирический автор пренебрегает проверенной временем и
практикой эпической дистанцией. Он отказывается от так на-
зываемой «внешней точки зрения» ради того, чтобы очутить-
ся в кругу своих персонажей, разделить их беды и тревоги. Он
словно сходит с вершины, откуда мог широко обозревать всю
картину действия.
В Л.п. автор прямо называет себя «я» либо сливается с од-
ним из персонажей: и в том и в другом случае эффект прямо-
го авторского присутствия неоспорим. А неискушенный чи-
татель нередко объединяет это «я» рассказчика с личностью и
биографией автора.
Однако, отказываясь от преимуществ «всезнающего ав-
тора», художник начинает писать только о том, что спосо-
102
бен охватить его взгляд в краткий промежуток времени на
ограниченном художественном пространстве. Это неизбеж-
но ведет не только к сокращению дистанции между автором
и материалом, но и к уменьшению эпического ракурса
видения.
Л.п. начинает тяготеть к предельно конкретному, четко
очерченному пространству. Вл.Солоухин ведет настолько вла-
димирскими проселками. Иссушающий ветер пустыни веет со
страниц произведений Сент-Экзюпери. Но никто из мастеров
Л.п. не ограничивается географически определенной сферой.
Расширяется «психологическое пространство» их произведе-
ний. Дороги Сахары и срединной России оказываются связан-
ными общностью человеческой взаимовыручки и доброты.
Так же поступают авторы и с художественным временем. Пре-
дельно конкретное, нередко привязанное к определенным да-
там сегодняшней жизни, оно всегда имеет проекцию и в про-
шлое и в будущее. Мастер Л.п. получает право на подачу мате-
риала с места события, что неизбежно ведет к использованию
элементов репортажа, очерка, к подчеркнутой публицистич-
ности. Поэтому в Л.п. неизменно присутствует поэзия перво-
открывательства, что не может не импонировать читателю.
Особый ракурс видения, свой способ подачи материала
вызывают изменения сюжета лирического произведения. Его
фрагментарность - почти обязательный признак. За это Л.п.
неоднократно подвергалась упрекам со стороны критики. Ду-
мается, что делается это незаслуженно: свободное, даже про-
извольное на первый взгляд построение сюжета в лирической
прозе является одним из структурных принципов. В.Астафьев
признавался, что выбранные им эпизоды в «Печальном детек-
тиве» могли бы быть заменены на другие. В.Катаев в повести
«Алмазный мой венец» мог бы предложить читателю встречи с
другими известными современниками.
В ткань Л.п. обычно введены разного рода внесюжетные
элементы: лирические отступления, цитаты, афоризмы и т.п.
103
Встречаются они, разумеется, и в эпических повествованиях,
но там содержание их весьма строго подчинено общему за-
мыслу и сюжетному единству. В лирической прозе у них иная,
более «независимая» функция. В философских отступлениях
Жубер размышляет о соотношении цивилизации и природы,
Сент-Экзюпери — о человеке «как узле связи», Астафьев — о
специфике национального характера.
Если в классической литературе XIX в. автор стремился
представить свой жизненный опыт опосредованно, то голос
художника XX в. все чаще и все более отчетливо звучал в жан-
рах лирической прозы. Он входил в произведение как лирик
атрибутами своей жизни, узнаваемыми чертами личности,
уже привычными для читателя приметами. Он не стыдился
монотонности собственной лирической интонации, неизбеж-
ного повтора некоторых тем.
Свойственное Л.п. отношение к фактам частной биогра-
фии определяет и такую ее важную черту, как отсутствие фи-
нала в традиционном понимании этого термина. Биографизм
предполагает возможное продолжение диалога, потому что
всякий последующий факт жизни писателя может послужить
предлогом для дальнейшего разговора об обществе и челове-
ке. «Последний поклон» В.Астафьева закрыл лишь первую
главу из жизни художника. Никого бы не удивило неожидан-
ностью продолжение этой волнующей и правдивой истории.
«Алмазный мой венец» В.Катаева — своего рода продолжение
«Святого колодца» и «Травы забвения». И повесть могла бы
быть продолжена — другими повестями...
Многоликой Л.п. наших дней свойственно одно общее
качество: настойчивое и открытое стремление к идеалу. Она
откровенно показывает трудности этого пути. Ее парадокс -
парадокс личного понимания морали, выработанной мно-
говековой гуманистической традицией. XX в. ощутил его
особенно остро. Автор лирической прозы не боится при-
нять на себя всю ответственность за происходящее. Отсюда
104
повышенный интерес к Л.п., продолжающей поиски собст-
венных форм художественного выражения. Но все же про-
блема Л.п. — это не проблема жанра, но рода, то есть отно-
шения художника к миру.
С.Фомин
Литература и реальность - цент-
ральная проблема филологической науки. Отношения между
Л. и р., принадлежа непосредственно к области творческого
метода, лежат в основе всякой литературной теории и практики.
Именно изменение взгляда на действительность и на задачу,
предстоящую художнику, и обеспечивало важнейшие «пере-
мены» в культуре, ее движение. Тема эта необъятна и при-
сутствует в эстетике уже в начале античного классического
периода.
Те самые взгляды, которые в III в. до н.э. провозглашались
по-гречески, с небольшими изменениями провозглашались
спустя шесть веков по-латыни в Риме, что позволило позднее
историкам культуры говорить об античности как о длитель-
ном периоде в развитии эстетической мысли. Только в конце
III в. н.э., на стыке античности и Средневековья, возникла эс-
тетическая концепция, имевшая принципиальные отличия от
предыдущих. Ее творцом был Плотин. По мысли философа,
художник воспроизводит не действительность, но внутрен-
нюю форму (идею), пребывающую в его разуме. Средневеко-
вая европейская эстетика в своих теоретических обосновани-
ях опиралась как на метафизику Плотина, так и на учение
Псевдо-Дионисия, главного посредника между Плотином и
неоплатониками. При этом осмысление, усвоение и перера-
ботка идей Платона и Аристотеля лежали в основе последую-
щих литературных теорий, коими сопровождались все боль-
шие историко-литературные эпохи. И Средневековье — пер-
вая из этих эпох, связанная с античным образцом «школьной»
105
преемственностью. Западное схоластическое Средневековье,
говорившее на латыни, растянувшееся почти на тысячу лет, в
каком-то смысле было лишено самостоятельности и пред-
ставляло собой по большей части комментарий к определен-
ной культурной традиции. Новизна средневекового взгляда
на отношения литературы и жизни состояла в стремлении
воспринимать действительность как отражение трансцен-
дентного. Сакральный смысл искусства предполагал пости-
жение красоты в качестве нравственной и психологической
реальности. А непосредственной задачей художника было на-
правление читательского вкуса таким образом, чтобы интерес
к чувственному никогда не брал верх над устремленностью к
духовному.
Литература Древней Руси решала для себя проблему отно-
шений искусства и действительности на основе целостного
православного миропонимания и церковной традиции, тесно
связанной с культурой Византии. Задача художника виделась
в первую очередь в воссоздании должного, что вело непо-
средственно к каноническому, этикетному типу творчества.
С этим связано «художественное парение авторов над дейст-
вительностью» (Д.Лихачев) и особая «легкость» пространства
древнерусских литературных произведений. Приблизительно
с XVI-XVI1 вв., с началом постепенной секуляризации искус-
ства, русская литература размыкает свои границы. Вместе с
процессом освоения западноевропейской культурной тради-
ции в отечественную словесность проникает многовековое
эстетическое наследие. Русскому культурному сознанию от-
крываются предельно широкие исторические горизонты,
приближая к современности античность и более глубокую
древность. Причем эстетические идеи Востока приходят в
Россию зачастую тем же путем, через Запад.
Пришедшее в Европе на смену Средневековью Возрожде-
ние культивировало представление о том, что чувственно вос-
принимаемая человеком картина мира и есть подлинная ре-
106
альность. Художник в своем стремлении эстетизировать дей-
ствительность ставит искусство выше природы, а собствен-
ную фантазию не ограничивает слепым копированием и нату-
ралистическим подражанием.
Барочная эстетика создает предпосылки для появления
сложных, зашифрованных литературных произведений с «двой-
ным дном»: «наивной» поверхностью и внутренней «тайной».
Нормы и каноны классицизма, изложенные в «Поэтичес-
ком искусстве» Н.Буало, были призваны регламентировать
рациональную природу эстетической деятельности. Вслед за
Аристотелем классицизм считал искусство подражанием
природе, однако последняя понималась не как чувственно-
осязаемый мир, а как высшая умопостигаемая сущность ми-
ра и человека, как идея гармоничного сочетания природных
реалий в идеально-прекрасном единстве. Именно такое
единство классицизм нашел в античности, которая и была
объявлена вечным эталоном искусства. Таким образом, дей-
ствительность в классицистической литературе предстает не
столько воспроизведенной, сколько смоделированной по ан-
тичному образцу.
На рубеже XVII—XVIII вв. в «споре о древних и новых»
Ш.Перро, предвосхищая идеи Просвещения, утверждал, что
искусство — «скопление правил и предписаний», диктуемых
разумом, и видел задачу художника не в подражании природе,
а в передаче «замысла природы», никогда ею до конца не осу-
ществляемого.
Предшественники романтиков, Гёте и Шиллер были близ-
ки в своих взглядах на взаимоотношения искусства и действи-
тельности, будучи нацелены, по выражению А.Михайлова, на
«осознание скульптурной изваянности смысла» и видя в «за-
мкнутой в себе органической цельности» «идеальную меру ху-
дожественного творчества». Так, Гёте, как известно, различал
«простое подражание природе», «манеру» и стиль. Сходны
суждения Шиллера, утверждавшего, что изображаемое долж-
107
но «свободно и победоносно» «выявиться из изображающего
и, несмотря на все оковы языка, предстать пред воображени-
ем во всей своей правдивости, жизненности и индивидуаль-
ности» и что «красота поэтического изображения есть свобод-
ная самодеятельность природы в оковах языка».
С другой стороны, немецкая идеалистическая философия
в лице Канта провозглашала принцип самодовления искусст-
ва в его чистой созерцательности. Искусство представало в
эстетике Канта как изображение целесообразности без вся-
кой цели и даже просто как игра. Эстетическая теория Канта
предваряла открытия романтизма.
Шеллинг в трактате «Система трансцендентального идеа-
лизма» (1800) увидит в произведении искусства высшую и
окончательную реальность. При этом демиургической силой,
направляющей и созидающей произведения искусства, для
философа-романтика будут «понятия». В «Философии искус-
ства» Шеллинг, отталкиваясь от платоновских идей, говорит
о том, что «вещи живы только одним понятием и что подлин-
ная действительность только и состоит из тех творческих по-
нятий». Литературная практика в эпоху господства романтиз-
ма испытывала ярко выраженное давление со стороны теоре-
тической мысли, прямо формировалась ею. Романтики пыта-
лись моделировать действительность с помощью определен-
ных «формул» творчества.
В литературе реализм явился как реакция на романтизм.
Новое направление подчинило искусство действительности.
Реализм русской классики XIX в., реализм Пушкина, Толсто-
го, Достоевского, Чехова вознес отечественную литературу на
вершину мирового искусства.
Оттеняя подлинный реализм, в противовес ему, как тен-
денция, возник натурализм, который, питаясь идеями пози-
тивизма, понимал себя как «углубление» реализма. Литера-
турная практика представителей «натуральной школы» нашла
теоретическое осмысление в революционно-демократичес-
108
кой эстетике. В трактате Чернышевского «Эстетические отно-
шения искусства к действительности» (1855) в качестве глав-
ного тезиса, была выдвинута идея превосходства действитель-
ности над искусством. В отличие от романтических литера-
турных моделей, модель Чернышевского была основана на
антиэстетике. Эта тенденция в отечественном литературном
процессе будет господствовать достаточно долго, по меньшей
мере до наступления новой переходной эпохи рубежа веков,
приход которой ознаменует собой символизм.
Чрезвычайно пестрый и разнообразный в сфере искусства
XX в. отличался сильно выраженной зависимостью литера-
турного процесса от «направляющих» идей, как вырабатывае-
мых в самой литературной-философской среде, так и «спуска-
емых» сверху в виде прямых идеологических установок.
На смену символизму начала XX в. приходят авангардисты —
футуристы и позднее обэриуты с их упоением «формой».
В 1930-е гг. и позже, востребованным и единственно при-
емлемым для новой власти оказался метод социалистического
реализма, созревавший еще в недрах «старой» литературы и
едва различимый тогда в «лесу» символизма начала века,
окончательно теоретически оформившийся как раз к эпохе
Ленина-Сталина. «Самым желательным типом писателя, — по
мысли А.Луначарского, - явился бы, конечно, такой, кото-
рый соединил бы высокое искусство мастера и специалиста
литературы с четкостью мировоззрения пролетарского писа-
теля». Такова была идеологическая установка эпохи.
Отцом социалистического реализма справедливо считает-
ся Горький. Будучи эпигоном романтизма в юности и ранней
молодости, «буревестник» русской революции состоялся как
крупный русский писатель, войдя в русло реализма и придав
последнему новые неповторимые черты. Роман Горького
«Мать», написанный в лучших традициях революционно-де-
мократической эстетики Чернышевского, наглядно проде-
монстрировал возможность «идейного» освоения действи-
109
тельности, при котором правда жизни была как бы заслонена
от писателя некой иной, «исповедуемой» правдой. Причем
характерно, что такая, взятая из головы, по выражению До-
стоевского, «людьми из бумажки», «идейно подкованная»
правда вызывала к жизни художественную реальность, кото-
рая, в свою очередь, формировала советскую действитель-
ность.
Во взаимоотношениях Л. и р. в XX в., нельзя также не от-
метить еще один важный момент — развитие документально-
го начала в художественных произведениях.
80—90-е годы XX в. совпали в литературе с постмодерниз-
мом, явлением, со всей очевидностью, заданным как реакция и
на соцреализм, и на классику XX в. Как творческий метод,
постмодернизм, вероятно, ориентирован на модернизм начала
XX в. с его прозападными корнями, созданием «второй реаль-
ности», литературностью и увлечением гностицизмом. В осно-
ву отношений Л. и р. постмодернизм положил концепцию
жизни как игры — в широком смысле слова. Постмодернизм —
дитя не только рубежа веков, но и рубежа цивилизаций. Он
есть некая точка, поставленная в конце большого пути.
Е. Местергази
Литература факта — произведения, вос-
создающие действительность без участия вымысла. В науч-
ный обиход термин был введен в одноименном сборнике, из-
данном в 1929 г. под редакцией Н.Чужака. Среди авторов зна-
менитой книжки - О.Брик, В.Шкловский, С.Третьяков,
В. Перцов и др. В предисловии редколлегия постулировала
«отвращение» от литературы «праздной выдумки, преподно-
симой под флагом заповедного и раз навсегда мистически
предначертанного «художества»», обращала внимание читате-
ля на литературу «самой всамделишной и максимально точно
высказанной правды», отвечающей установке советского ис-
110
кусства на действенность. Писатели, «производящие» Л.ф.,
объявлялись «фактописателями». И литература для них рас-
сматривалась всего лишь как «определенный участок жизне-
строения».
Возникновение фактографии было самым тесным образом
связано с идеями авангарда, а также с утверждением «фор-
мального» метода в отечественной науке. Отсюда такие харак-
терные установки, как «конкретизация» и научный учет; от-
мена «типизации»; борьба с «символикой»»; монтажер — вме-
сто традиционного писателя — «осознавателя» и др. Фактогра-
фия заставляла художников отказываться от эпических или
лирических жанров в пользу документа и создания «внесю-
жетного» повествования ради революционной стремительной
перестройки жизни.
Сам термин Н.Чужак определял так: «Литература факта —
это: очерк и научно-художественная, т.е. мастерская, моно-
графия; газета и фактомонтаж; газетный и журнальный фель-
етон (он тоже многовиден); биография (работа на конкретном
человеке); мемуары; автобиография и человеческий документ;
эссе; дневник; отчет о заседании суда, вместе с общественной
борьбой вокруг процесса; описание путешествий и историче-
ские экскурсы; запись собрания и митинга, где бурно скрещи-
ваются интересы социальных группировок, классов, лиц; ис-
черпывающая корреспонденция с места; памфлет, пародия,
сатира; и т.д., и т.д.»
Бросается в глаза прежде всего то, что введенное понятие
обнимало огромный круг разнородных явлений, объединен-
ных главенствующей ролью факта, документа в организации
художественного целого. К тому же нельзя не отметить изве-
стную двусмысленность в выборе инструментария для фор-
мулировки. Получается, термин описывается через нанизы-
вание жанровых именований, в свою очередь научно не впол-
не проясненных. Возникает порочный круг: определяемое
может легко поменяться местами с его определяющим. «Л.ф.»
111
есть, к примеру, «автобиография». И «автобиография» есть
«Л.ф.». И так далее.
Что же касается самой фактографии, заявленной в лефов-
ском сборнике и продемонстрированной в целой серии пока-
зательных образцов, то ее судьба как направления в литерату-
ре была предопределена известной искусственностью и меха-
нистичностью ее установок. Жизнь предпочла сопротивление
математически выверенным формулам, а литературный мате-
риал — насильственной «организации». Наделе новые методы
построения произведений не могли обеспечить его художест-
венной значимости.
Несмотря на то что в науке термин Л.ф. до сих пор не по-
лучил официального статуса, он оказался живуч и по сей
день широко употребляется. Правда, со временем его содер-
жание претерпело известные метаморфозы: прежде всего из
него исчезло то конкретное наполнение, которое у лефов-
цев было данью «формальному» методу. Теперь Л.ф. все ча-
ще употребляется как синоним документальной литературы
и подразумевает достаточно расплывчатый ряд произведе-
ний, основанных на реальных событиях и претендующих на
отсутствие вымысла: мемуары, биографию, автобиографию
и т.д., а также то, что называется «человеческим докумен-
том».
Е.Местергази
Литературная личность — собира-
тельный образ автора (писателя), который «вычитывается» из
произведения.
Авторский термин Ю.Тынянова. Впервые употребляется
ученым в статье «Литературный факт» (1924) как «частный ас-
пект его теории литературной эволюции», затем получает рас-
пространение в трудах Б.Эйхенбаума и других представителей
формального метода в литературоведении.
112
Л.л. — сочетание этих двух слов оборачивается «опасным
соседством». Из совмещения двух планов — художественного
и бытового — рождается то, что, по-видимому, не может быть
определено однозначно. Если бы эпитет «литературный» от-
носился к слову «образ», то любая трактовка этого понятия
располагалась бы в пределах одной и той же области — эстети-
ческой реальности. Совсем по-другому происходит, когда оп-
ределение «литературная» прилагается к слову «личность»,
слову, принадлежащему по преимуществу реальности быто-
вой. Полученное словосочетание в силу своей смысловой ам-
бивалентности уже не просто предполагает широкий спектр
толкований, но требует от автора дать четкую дефиницию, в
противном случае читательские интерпретации понятия могут
быть прямо противоположными.
Самостоятельное употребление термина Л. л. пред полагает
два основных значения:
1) Л.л. = личность литератора (здесь, очевидно, читатель
имеет дело с биографией писателя, существующей вне его
произведений);
2) Л.л. = образ автора (иными словами, личность, принад-
лежащая исключительно художественной реальности, при
этом речь идет не о персонаже, а именно об образе автора, ко-
торый «вычитывается» из текста).
Таковы две возможные трактовки, которые, не будучи от-
четливо разделены в сознании исследователя или в его слове,
делают понятие Л.л. весьма темным в смысловом отношении.
Необходимо заметить, что термин Л.л. с самого начала
раскрывается Тыняновым через другие понятия, требующие в
свою очередь пояснения. Так, в статье «Литературный факт»
впервые Л.л. появляется как синоним «авторской индивиду-
альности»: «Авторская индивидуальность не есть статическая
система, литературная личность динамична, как литературная
эпоха, с которой и в которой она движется». Но уже на следу-
ющей странице может сбить с толку определение Л.л. как «ли-
113
тературной личности автора». Сразу же встает вопрос о приве-
дении в соответствие понятий «автор» и «писатель». Последу-
ющие замечания Тынянова не оставляют сомнений в том, что
автор и писатель здесь не одно и то же. Ученый пишет: «Су-
ществуют явления стиля, которые приводят к лицу автора; в
зачатке это можно наблюсти в обычном рассказе: особеннос-
ти лексики, синтаксиса, а главное, интонационный фразовой
рисунок — все это более или менее подсказывает какие-то не-
уловимые и вместе конкретные черты рассказчика; если рас-
сказ этот ведется с установкой на рассказчика, от лица его, то
эти неуловимые черты становятся конкретными до осязатель-
ности, складываются в облик (разумеется, конкретность здесь
особая, далекая от живописной наглядности; и если бы нас
стали спрашивать, например, как выглядит этот рассказчик,
то наш ответ был бы поневоле субъективен)».
Тынянов легко заменяет понятие Л.л. другим — «личность
автора», как бы игнорируя возможность смысловой путани-
цы. В статье «О литературной эволюции» Л.л. определяется
как «авторская личность» и сближается с понятием «герой»:
«"Л.л.", "авторская личность", "герой" в разное время является
речевой установкой литературы и оттуда идет в быт. Таковы
лирические герои Байрона, соотносившиеся с его "литератур-
ной личностью" — с тою личностью, которая оживала у чита-
телей из стихов, и переходившие в быт». При этом Тынянов
отмечал, что «литературная личность» Гейне не есть биогра-
фия подлинного Гейне.
Итак, очевидно, что категория, введенная ученым, обо-
значает «ту условную биографию (портрет, жизненные собы-
тия и проч.), которая воссоздается читателем по стихам по-
эта». Таким образом, Л.л. по своей природе отлична от реаль-
ной личности писателя, его настоящей биографии, во всяком
случае, не совпадает с ней и близка по своему содержанию по-
нятию «образ автора». Она принадлежит художественной дей-
ствительности и создается с помощью определенных изобра-
114
зительных средств и приемов. Следует также отметить, что
рассматриваемое понятие оказывается тесно связанным с дру-
гими авторскими терминами, такими, например, как «уста-
новка», т.е. «речевая функция» литературного произведения,
«его соотнесенность с бытом», и «литературная система».
Противопоставляя Л.л. «индивидуальности литератора»,
«личности творца»,Ты ня нов первую относит к явлению, име-
нуемому им «литературным фактом», в то время как послед-
ние, хотя и связаны непосредственно с литературой, остаются
«фактами быта». При этом надо помнить, что здесь под «бы-
том» подразумевается не просто «бытье, житье, род жизни,
обычай и обыкновения», как это дано в классическом опреде-
лении В.Даля. Для Тынянова «быт» — «сфера порождения не-
которых текстов, которые потенциально способны приобре-
тать художественную значимость». «Быт» — ближайший ряд
по отношению к литературному ряду, и он соотнесен с ним
«прежде всего своей речевой стороной».
О том, что Тынянов очертил свою идею лишь пунктирно,
свидетельствует и то, что неиспользованной осталась возмож-
ность сопоставления и сравнительной характеристики Л.л. и
одной из ее разновидностей — «личности пародической», рас-
сматриваемой ученым в статье «О пародии» (1929).
Принципиально важно, что исследователь четко разделяет
Л.л. и «личность творца» с ее подлинной биографией. Излагая
свою мысль, Тынянов отводит Л.л. место исключительно в рам-
ках художественного произведения, уходя в данном случае от
проблемы взаимного проникновения образов личности в жиз-
ни и в литературе. Между тем очевидно, что та «экспансия ли-
тературы в быт», о которой говорил ученый, своим следствием
имеет распространение идеи Л.л. на «личность творца», что, в
свою очередь, раздвигает границы термина и делает его по сути
иным. Но это уже выходит за пределы тыняновской концепции.
О том, насколько размытыми все же были границы тыня-
новской терминологии, свидетельствует следующее высказы-
115
вание ученого: «Биография в известные периоды оказывает-
ся устной, апокрифической литературой. Это совершается
закономерно, в связи с речевой установкой данной системы:
Пушкин, Толстой, Блок, Маяковский, Есенин — ср. с отсут-
ствием литературной личности Лескова, Тургенева, Фета,
Майкова, Гумилева и др., связанным с отсутствием речевой
установки на "Л.л."». Здесь единожды Тынянов, как это, по
крайней мере, представляется из приведенного текста, вкла-
дывает в понятие «Л.л.» содержание, отличное от того, о ко-
тором говорилось выше. Речь идет именно о биографии лите-
ратора, биографии, обладающей самостоятельной историко-
культурной значимостью. Трудно истолковать эту цитату
иначе. Подобная «непоследовательность» Тынянова, по-ви-
димому, может быть объяснена все тем же малоудачным со-
четанием слов Л.л.
Е.Местергази
116
Малые эпические жанры - новелла,
рассказ, очерк.
В отличие от романа и повести, предмет новеллы и расска-
за — какая-то одна сторона действительности, рожденное ею
противоречие.
В разговоре с Эккерманом 25 января 1827 г. Гёте заметил:
«Новелла и есть свершившееся неслыханное событие». Это
определение не вызывает возражений, хотя понимание нео-
бычности случившегося на протяжении столетий менялось.
Новелла (итал. novella — новость) — это то, что произошло не-
давно, что передают из уст в уста. Первоначально фабльо во
Франции и шванки в Германии, послужившие прообразом Н.,
распространялись устно, в Н. же обычно присутствуют рас-
сказчики, имитирующие устную манеру повествования и рас-
сказывающие что-то смешное, страшное, часто поучительное.
Для генезиса жанра важно также развертывание метафоры-
анекдота или пословицы в Н. (например, пародирование ре-
лигиозного подвига в сборнике Н. «Декамерон» Д.Боккаччо).
Итак, в основе малого эпического жанра Н. — анекдот, не-
обычное событие, судьба героя и т.д. Сюжет в Н., как прави-
ло, острый, действие развивается стремительно, важную роль
в конфликте играет развязка, показывающая характер героя с
неожиданной стороны. Преобладает устный тип повествова-
ния. Наибольшее развитие Н. получила в литературах Запад-
ной Европы (средневековый сборник «Новеллино», произве-
дения Боккаччо, Мериме, Мопассана, С.Цвейга, Т.Манна,
О.Генри), но Н. есть и у русских писателей (новеллистичны
«Повести Белкина» Пушкина, «Легкое дыхание» Бунина,
цикл «Конармия» Бабеля).
В основе «Легкого дыхания» — история запутанной жизни
провинциальной гимназистки Оли Мещерской (ее нравствен-
ное падение и гибель), при этом, благодаря искусству компо-
зиции и отбору изящных художественных деталей, истинную
тему новеллы составляет легкое дыхание. Основная черта Н.
117
И.Бунина — то чувство освобождения, легкости, отрешеннос-
ти и совершенной прозрачности жизни, которые никак нель-
зя вывести из самих событий, лежащих в его основе. По верно-
му выводу Л.Выготского, «житейская история о беспутной
гимназистке претворена здесь в легкое дыхание бунинского
рассказа». Уже в жизненном материале, обработанном в Н. Бу-
нина, содержится, помимо «житейской мути», и иное — темы
гармонии и красоты и жестокости к ним мира. Символом гар-
монии и красоты становится в новелле образ легкого дыхания.
Гармония и красота существовали в мире извечно, а с при-
ходом Оли в мир они воплотились в ней, после же ее смерти
«это легкое дыхание снова рассеялось вмире <...>». Обобщен-
ное философское содержание Н. — размышления о гармонии
и красоте, их драматической судьбе в мире — воплощаются
прежде всего в жанре: описания кладбища и могилы Оли, а
также прогулок на кладбище классной дамы Оли Мещерской,
обрамляющие сюжет Н., тематически и лексически напоми-
нают кладбищенские элегии с характерными для них фило-
софскими размышлениями о жизни и смерти и пафосом гру-
сти. Обобщенность философского содержания «Легкого ды-
хания» соответствует жанровой форме лирической Н.
В отличие от Н. рассказ больше распространен в русской
литературе. Есть мнение, что в поле зрения авторов Р. — один
эпизод из жизни человека, один конфликт. Но как в романе и
повести, в Р. подчас показывается изменение характера («Ио-
ныч» А.Чехова), мировоззрения героя («Знамение» Е.Замяти-
на). Но внимание прозаиков в таком случае направлено не на
процесс, а на узловые моменты эволюции. В Р. может воссоз-
даваться и вся человеческая жизнь или несколько ее этапов
(«Чаша жизни» Бунина, «Коновалов» и «Мальва» Горького,
«Жизнь Василия Фивейского» и «Иуда Искариот» Л.Андрее-
ва, «Матренин двор» и «На краях» Солженицына), но при
этом жизнь героя берется под определенным углом зрения.
Такие произведения называют Р. романного типа.
118
Генезис Р., как и повести, восходит к устной прозе. Поэто-
му авторы Р. часто прибегают к устному повествованию (на-
пример, «Срезал», «Миль пардон, мадам!» В.Шукшина). В от-
личие от динамичного повествования в Н., повествование в Р.
ведется более плавно.
Своеобразна художественная структура Р. Как правило,
его сюжет состоит из одной — двух линий, в действии участву-
ют несколько персонажей. «Не нужно гоняться за обилием
действующих лиц. Центром тяжести должны быть двое: он и
она», — делился А.Чехов с собратьями по перу секретами жан-
ра Р. Классический Р. отличают сгущенность повествования,
концентрация события в малом художественном пространст-
венно-временном континууме. Таковы произведения А.Чехо-
ва, И.Бунина, В.Гаршина, Л.Андреева, А.Толстого. Описания
в Р., как правило, краткие, особую нагрузку в нем несут худо-
жественные детали и подтекст. Нередко в Р. XX в. деталь ста-
новится емким символом с нравственно-философским
(«Грамматика любви» Бунина) или национальным («Чрево»,
«Кряжи» Замятина) значением.
Итак, Р. — малый эпический жанр с интенсивной органи-
зацией художественного времени и пространства, ограничен-
ным количеством персонажей, концентрированностью худо-
жественных средств изображения, ориентированных на реше-
ние одного конфликта, емкой художественной деталью.
В литературоведении выделяют множество разновидностей
Р., основанных на жанрово-родовом принципе (лирический,
драматический, эпический), тематике (охотничий, историчес-
кий, производственный и т.д.), проблематике (социально-бы-
товой, нравственно-психологический), характере художест-
венного обобщения (сатирический, фантастический и др.).
Очерк — малый вид эпоса, от рассказа и новеллы он отли-
чается документальностью и публицистичностью, более сво-
бодной композицией. Путевой, судебный, физиологический,
нравоописательный О. как всякое произведение малой формы
119
тяготеет к циклизации («Путевые картины» Гейне, «Очерки
Боза» Диккенса, «Записки охотника» Тургенева, «Очерки
бурсы» Помяловского). Порой в одном цикле объединены
д произведения разных малых эпических жанров — Р. и О. В
JL «Записках охотника» Тургенева Р. являются «Певцы», «Жи-
вые мощи», О. — «Хорь и Калиныч», «Бурмистр».
Т. Давыдов а, В. Пронин
Мемуары см. Автобиографические жанры.
Мистификация (от греч. mystes — посвящен-
ный, знающий таинства, и лат. facere — делать, притворяться).
Проблема литературной мистификации — одна из актуаль-
нейших в современной литературе. По классификации, пред-
ложенной ЕЛанном, все литературные М. разбиваются на
два вида: подделки произведений безличного творчества;
подделки произведений авторские, приписываемые: а) писа-
телям, б) историческим лицам, в) вымышленным авторам
(Ланн Е. Литературная мистификация. М.,1930, С. 67).
Особое место среди М. занимает подделка фольклорных
текстов. Наиболее известной М. стала «Краледворская руко-
пись», созданная чешским филологом В.Ганкой (1817). В тече-
ние полувека она считалась одним из наиболее ценных источ-
ников для реконструкции славянской мифологии. Примером
М. шотландского фольклора могут служить и «Песни Оссиана»
Дж.Макферсона (1760—1763). Из мистификаторов русского
фольклора наибольшую популярность приобрел И.П.Сахаров
(1807—1863), его «Сказания русского народа» и поныне переиз-
даются и цитируются многими исследователями.
Наиболее яркие литературные М. XIX - начала XX вв., со-
зданные русскими писателями и поэтами: «Повести покой-
ного Ивана Петровича Белкина» А.Пушкина, «Письма и за-
120
писки Оммер де Гель» П.Вяземского, «Египетские ночи»
А.Пушкина, дописанные В.Брюсовым (включены в собрание
сочинений Пушкина 1919 г.), Козьма Прутков, а на самом де-
ле А.К.Толстой и братья Жемчужниковы, Черубина де Габри- 1\А
ак, придуманная М. Волошиным, поэт Василий Шишков, -----------
«знакомый» В. Набокова, стихи поэта XIX в. В.Травникова из
архива, «найденного» Вл.Ходасевичем, «Дневник А.Вырубо-
вой», созданный П.Е.Щеголевым и А.Н.Толстым, поэма
Н.Некрасова «Светочи», «обнаруженная» Е.Вашковым.
Сенсацией XX в. стала М. французского писателя русского
происхождения Ромена Гари (Романа Касева). В 1956 г. за ро-
ман «Корни неба» он получил Гонкуровскую премию. В 1974
г. Гари издает роман «Большой ласкун» от имени писателя
Эмиля Ажара. Второй роман Ажара «Жизнь впереди» получа-
ет Гонкуровскую премию. Таким образом, Гари стал единст-
венным обладателем двух Гонкуровских премий (она не при-
суждается дважды).
Постмодернизм возводит литературную М. на новый ви-
ток, реализуя в литературе утверждение: «книг никто не пи-
шет», так как «все книги написаны никем» (Макс Фрай/ Свет-
лана Мартынчик). Осознание того, что «разве бывает литера-
тура без мистификации», порождает к жизни собственно ли-
тературные мистификации («великий еврокитайский гума-
нист» Хольм ван Зайчик/ писатель Вячеслав Рыбаков и восто-
ковед Игорь Алимов) и литературные проекты, основанные на
М.: Борис Акунин (индивидуальный проект Григория Чхар-
тишвили), Марина Серова (издательский проект, осуществля-
емый группой авторов).
М. по ряду признаков совпадает с понятием псевдонима.
Возможности использования псевдонима несомненно шире,
но ему не присуще главное видовое отличие М. — стилизация.
Блестящими образцами стилизации могут служить М. Фелик-
са Зальтена — автора «Олененка Бемби», создавшего воспоми-
нания от имени знаменитой венской проститутки Жозефины
121
Мутценбахер и норвежского писателя и философа Юстейна
Гордера, опубликовавшего письмо возлюбленной Блаженно-
го Августина Флории Эмилии, якобы найденное автором на
книжных развалах в Аргентине.
А. Безрукова
Миф (от греч. mythos — слово, предание) вызывает ны-
не интерес как у литераторов, так и у исследователей литера-
туры. Споры вокруг М. обусловлены не в последнюю очередь
тем, что термин М. употребляется часто неточно. М. обозна-
чают и ложь, и иллюзию, и веру, и условность, и фантастику,
и продукт воображения вообще. Иногда всякая традиция
приравнивается к традиции мифологической. Образовался
термин «роман-М.» для обозначения жанровой разновиднос-
ти романа, использующего М. Возникают споры, следует ли
относить к роману-М. то или иное произведение или нет. На-
пример, роман О.Чиладзе «Железный театр». Одни критики
(например, Л.Аннинский) считали это произведение рома-
ном-М., другие (например К.Имедашвили) — историческим
романом. Для того чтобы понять своеобразие бытования М. в
современной литературе, необходимо составить представле-
ние о том, что являл собой М. изначально.
Мифология — это стержень духовной культуры древнего
общества. Древний М. представляет собой единство зароды-
шей искусства, религии, донаучных представлений о природе
и обществе. Особенностями М. являются отсутствие разли-
чий между естественным и сверхъестественным, слабое раз-
витие абстрактных понятий, чувствен но-конкретный харак-
тер, «метафоричность».
Древний М. имеет несколько функций, одна из которых —
объяснительная. Однако основная функция первобытного М. —
практическая: воспроизведение в обрядах мифических «началь-
ных времен» и организующих космических сил, побеждающих
122
силы хаоса, способствовало поддержанию социального порядка
(поскольку с космическими силами отождествлялись силы со-
циальные). Отождествление социальных и космических сил
происходило в силу того, что носители мифологического созна-
ния не выделяли себя из природы. Для их восприятия был ха-
рактерен анимизм, то есть одушевление природы. Создания
своего воображения люди принимали за первопричины бытия.
В соответствии с тотемистическими представлениями
(о том, что человеческие роды ведут свое происхождение от
животных, птиц, растений или каких-либо других природных
объектов) предками людей в древних М. изображаются живот-
ные, растения и т.д. Первопредки создают одновременно оп-
ределенные ipynnw животных (реже — растений) и человечес-
кие родовые группы, передают людям необходимые предме-
ты, умения, организуют их социально.
В более развитых мифологиях намечается переход от пер-
вопредков к богам, которые выступают творцами мира. Сам
акт творения предстает по-разному: как самопроизвольное
превращение одних предметов в другие, как побочный резуль-
тат деятельности мифологических героев, может иметь созна-
тельный творческий характер. Часто происхождение природ-
ных объектов изображается в виде их похищения героем у
первоначальных хранителей. В одном индийском М. солнце и
луна представляются добытыми из брюха рыбы. В редких слу-
чаях мир создается словом творца.
Возникновение мира в М. выглядит как превращение хаоса
в космос, как переход от бесформенной водяной стихии к суше
с последующим отделением неба от земли. Борьба с силами ха-
оса может принимать вид борьбы между поколениями богов
(у Гесиода). Происхождение космоса нередко изображается в
виде развития из яйца или преобразования убитого богами че-
ловекоподобного существа. Из яйца появляются египетские
боги Ра и Птах, индийский Брахма, китайский Пань-гу. В ве-
дийской мифологии Вселенная создана из членов тела Пуруши —
123
тысячеглавого, тысячеглазого, тысяченогого первочеловека.
Изо рта Пуруши боги создают жрецов, из рук — воинов и т.д.
Иногда в М. земля предстает в виде животных (например, в
виде гигантской лосихи — у сибирских народов). Наиболее же
распространенной мифологической моделью космоса являет-
ся «растительная» модель в виде гигантского космического древа.
Для мифологического образа характерна обобщенность.
Под одним именем в М. могут объединяться мифологический
персонаж, его жена, дети, целый класс мифологических су-
ществ. Многозначность, ассоциативность М. делают его
удобным для использования в письменной литературе, в част-
ности, в современной. Известная живучесть мифологии объ-
ясняется и тем, что мифологическая мысль сконцентрирова-
на на таких «вечных» проблемах, как тайна рождения и смер-
ти, судьба и т.д., по которым чисто логические объяснения не
удовлетворяют людей даже в современном обществе.
Мифология оказывает влияние на литературу через сказ-
ку, героический эпос (предыстория которых связана с ми-
фом), а также через изобразительное искусство, ритуалы, на-
родные празднества. Влияние мифологического мировоспри-
ятия сказывается в период расцвета греческой трагедии (Эс-
хил, Софокл, Еврипид). Литература средних веков испытыва-
ет влияние языческой мифологии и (преимущественно) хрис-
тианской. «Божественная комедия» Данте представляет собой
сплав христианских и нехристианских мифов. В эпоху Воз-
рождения возрастает влияние нехристианской мифологии
(«Фьезоланские нимфы» Дж.Боккаччо, «Сказание об Орфее»
А.Полициано, «Триумф Вакха и Ариадны» Л.Медичи). Связь
с фольклорно-мифологическими истоками ощущается в
творчестве Шекспира и Рабле. К мифологии обращались
представители литературы барокко (поэзия А.Грифиуса, про-
за П.Ф.Кеведо-и-Вильегаса, драматургия П.Кальдерона). Ан-
глийский поэт XVII в. Дж.Мильтон, используя библейский
материал, создал героико-драматические произведения, в ко-
124
торых звучат тираноборческие мотивы («Потерянный рай»,
«Возвращенный рай»). Мифологический материал использо-
вался литературами классицизма (Корнель, Расин), Просве-
щения («Магомет» и «Эдип» Вольтера, «Прометей» и «Гани-
мед» Гёте, «Жалоба Цереры» Шиллера). Активное обращение
к мифологии свойственно романтизму (Гельдерлин, Гофман,
Байрон, Шелли, Лермонтов). Немецкие романтики видели в
М. идеальное искусство, ставили задачу создания новой, худо-
жественной мифологии, выступали за синтез «чувственности»
античного язычества и «духовности» христианства.
Не отказывался полностью от использования М. и реализм
XIX в. («Воскресение» Толстого, «Идиот» Достоевского). На ру-
беже прошлого и нынешнего веков отмечается повышение ин-
тереса к мифологии. К ней обращаются символисты (Вяч.Ива-
нов, Ф.Сологуб, В.Брюсов), представители различных модер-
нистских течений. Широко применяется миф в современной
зарубежной литературе (Дж.Апдайк, Г. Гарсия Маркес и др.).
Повышение интереса к М. в XX в. связано с искусством
модернизма, однако это не говорит о монополии последнего
на М. (мифология нашла применение в творчестве реалиста
Т.Манна). Для мифологизма XX в. характерны стремление к
выявлению вечных начал (что влечет за собой выход за соци-
ально-исторические и пространственно-временные рамки),
идея циклической повторяемости мифологических прототи-
пов под разными «масками». В отличие от антипсихологично-
сти древнего мифа мифологизм XX в. связан с психологией
подсознания. Язык современного мифологизма не совпадает с
языком древних М., мифологические образы употребляются
ныне метафорически, смысл традиционных М. при их ис-
пользовании нередко меняется на противоположный.
В современной литературе М. нашел применение в творче-
стве Ч.Айтматова, братьев Диргел, О.Чиладзе и других писате-
лей. В упомянутом уже романе Чиладзе «Железный театр» можно
обнаружить циклическую модель времени, растительную модель
125
мира (образ древа жизни), мифологическое понимание смерти
(как обновления). Попавший в горную хижину Гела, подобно
Гансу Касторпу из «Волшебной горы» Т.Манна, оказывается
«как бы в несуществующих, созданных воображением мире и
времени». Это как бы «испытание» героя (сопоставимо с мифо-
логическим посещением страны смерти). Подобно мифологиче-
скому герою, через эту «временную смерть» Гела постигает муд-
рость жизни. Нато в романе предстает как «вечная мать», Гела -
как «сын минувшего» и «отец грядущего». В произведении мно-
го мифологических реминисценций, цитат из Библии.
Однако роману Чиладзе присущ и богатый социальный,
политический контекст. Жанровая форма этого произведения
синтетична. Весьма заметным является психологический ком-
понент, который лежит как бы «на поверхности». Глубинную
сущность романа составляет философский компонент (воз-
можно сопоставление с философским романом Дж.Джойса,
Т.Манна), именно это, видимо, побудило автора обратиться к
материалу мифологии. С точки зрения поэтики М. здесь, по
всей очевидности, используется метафорически (так же как у
Дж.Джойса, Т. Манна).
Н.Бучилин
Модернизм (от фр. modeme — современный).
Термин употребляется в нескольких значениях.
1) Общее название для ряда различных явлений, процес-
сов художественной культуры, характерных для эпохи рубежа
XIX — XX вв. Среди них — собственно модерн (в России), ар-
нуво (Франция), югендстиль (Германия); импрессионизм,
постимпрессионизм, неоимпрессионизм, пуантилизм, симво-
лизм, кубизм, «новая драма», набизм, фовизм, примитивизм,
кубизм, футуризм, акмеизм, лучизм и др.
2) Художественная эпоха («эпоха модернизма»), объединя-
ющая эти и другие, порой радикально различающиеся между
126
собой направления в искусстве. Их роднит ощущение необхо-
димой смены взгляда на взаимоотношения человека с другим
человеком, с Богом, обществом, историей, культурой и др.
3) Стремление обновить культуру человечества, дать ей
возможность приобрести художественные средства для выра-
жения некоторого нового содержания, ранее не актуального.
4) Нечто новое по сравнению с предыдущей фазой куль-
турного развития, появляющееся в тот момент, когда ломает-
ся устоявшаяся эстетическая система.
Так, Возрождение по сравнению со Средневековьем явилось
проявлением «модернизма». Для отличия модернизма как «любо-
го нового метода в искусстве» от модернизма в узком смысле, от-
носящегося к периоду рубежа XIX-XX столетий, существует еще
термин «палеомодернизм»: его употребляют для обозначения лю-
бых проявлений нового до 1910-х гг. Однако нужно учитывать,
что всегда, даже в ситуациях, когда непосредственно восприни-
мается лишь «коренная ломка традиции», существует преемст-
венность прежнего, бывшего и нового, только нарождающегося.
Нередко модернизм в искусстве прямо отождествляется с
авангардом (modem-art, avant-gard). Однако модернизм не ис-
черпывается авангардом, который является лишь наиболее
активной и противоречивой его частью: здесь сосредоточива-
ется эпатаж, бунт против всего устоявшегося, напряженные,
во что бы то ни стало, поиски новых форм и назначения ис-
кусства. Авангард в своих поисках порой выходит за границы
художественности, существует на тонкой грани между искус-
ством и неискусством.
Модернизм эпохи рубежа XIX—XX вв., т.е. модернизм в
собственном смысле — направление в культуре, противопос-
тавленное классической (в широком понимании) гармонии.
Противопоставление происходит в основном благодаря появ-
лению новых форм и нового языка искусства.
Мировоззренческой основой модернизма явилось возник-
шее в период «конца века» или «рубежа веков» умонастроение.
127
Наука достигла небывалых ранее вершин. Прогресс стимули-
ровал веру в человека. Восторжествовало так называемое «се-
кулярное» мышление, в основе которого — чувство отделен-
ности и независимости человека от Бога. Человек начал гор-
диться своей самостоятельностью и могуществом, способнос-
тью победить или обуздать стихийные силы природы. С дру-
гой стороны, стремительно утрачивалось чувство целостнос-
ти, ощущение незыблемого, постоянного мира с неизменным
божественным правопорядком. В этом смысле Первая миро-
вая война — закономерное следствие модернистских умонаст-
роений в человеческом обществе. Кризис европейской циви-
лизации, ощущавшийся многими деятелями культуры (см.,
например, «Закат Европы» А.Шпенглера и др.), крах традици-
онного религиозного сознания и идеи традиционного обще-
ства, в котором механизм развития практически совпадает с
механизмом преемственности, желание преодолеть позити-
вистские идеи «пользы» в ущерб «красоте», и, наконец, со-
мнения во всемогуществе науки — все эти факторы также яв-
ляются признаками модернистского миропонимания.
«Свобода» от Бога, возникшая во второй половине XIX сто-
летия идея «смерти Бога» (Ф.Ницше) породила и другую — ми-
стическую — тенденцию: хироманты, оккультисты, теософы и
др. стремились любыми способами восстановить казавшуюся
утраченной связь человека если не с Творцом, то по крайней
мере с «абсолютом», «идеальным миром», «Космосом» и др.
Постепенно воцарявшиеся в обществе апокалиптические наст-
роения нуждались в некоторой, хотя бы частичной, компенса-
ции, хотя и не поддавались нивелированию. Вот почему идео-
логическая основа модернизма строится на основе множества
возникавших в то время направлений в философии — среди них
интуитивизм, феноменология, философия жизни, фрейдизм,
прагматизм, позитивизм и неопозитивизм и др.
Есть и другой аспект. Модернисты шли к признанию "не-
зависимости искусства от окружающей действительности, а
128
суть художественной деятельности видели в создании форм,
присущих только искусству и образующихся либо по своим
абсолютным законам, либо спонтанным действиям художни-
ка. Это искусство тяготеет, как об этом говорил немецкий экс-
прессионист Ф.Марк, к «вещам, спрятанным за покровом ви-
димости». Искусство модернизма испытывает в связи с этим
отвращение к «копированию» натуры, а «мучительная заинте-
ресованность загадкой бытия» (А.Н.Бенуа) возбуждает во-
прос, как же изобразить неизобразимое, невидимую внутрен-
нюю духовную сторону природы, и приводит к сомнениям по
части природы самого искусства, его смысла и возможностей»
(Полевой В.М. Искусство XX века. М., 1991).
Модернизм уделяет огромное внимание тем фазам разви-
тия человека и человечества, на которых проявляется целост-
ность восприятия мира. Отсюда, во-первых, пристальный ин-
терес к культурам первобытных народов — как древних, так и
находящихся вне общего движения европейской цивилиза-
ции. Настоящим открытием стало народное искусство афри-
канцев, коренного населения Америки, северных народов и
народностей и др. «Детство человечество» оказалось противо-
поставлено его «цивилизованности».
С другой стороны, призыв Христа «будьте как дети» начи-
нает восприниматься художниками и теоретиками искусства
буквально: именно на рубеже XIX-XX вв. возникает интерес к
внутреннему миру ребенка, вообще к периоду детства как к
чему-то полноценному, самодостаточному. Ранее лишь само-
стоятельная взрослая жизнь считалась «настоящей», действи-
тельной, а начальный период жизни человека воспринимался
как «репетиция»: его нужно было поскорее пройти, чтобы
стать членом общества. Ребенок еще в XIX столетии — это ма-
ленький взрослый, стремящийся соответствовать заданной
«идеальной» модели. К концу столетия мы видим огромное
количество литературных произведений, созданных (и иллю-
стрированных) специально для детей, причем назидатель-
5—501
129
ность начинает уступать лидирующие позиции художествен-
ности. В России первенство здесь принадлежит «Крокодилу»
К.И.Чуковского. Тогда же возникает настоящая индустрия
детских игрушек, аналогов которой не было ранее.
Исследователи творчества Чуковского В.Перельмутер и
М. Петровский подчеркивают, что соответствие текста вос-
приятию ребенка, стремление автора говорить со своим чита-
телем на понятном и свойственном тому языке оказалось для
словесности революционным и породило феномен русской
детской литературы XX столетия (в иных странах были свои
революции). В.Перельмутер отмечает, что иллюстраторы Чу-
ковского, среди которых — В.Лебедев, В.Конашевич, М.Добу-
жинский и др. — являли собой символические фигуры для
различных направлений отечественного модернизма, а с дру-
гой стороны — определили облик «книжки с картинками»
чуть ли не на столетие вперед.
Внимание к детству — скорее мирочувствование, чем иде-
ология. Отходя от канонов классицизма, отказываясь от га-
рантированного совершенства, художник находит новую
изобразительность. В известных ситуациях она «работает» на
возникновение яркой, непосредственно-болевой реакции
зрителя на то или иное произведение и на стоящую за ним
внеэстетическую проблему: такова «Герника» П.Пикассо
(1937). Испанский городок Герника был уничтожен фашист-
скими бомбами. Трагедия насильственной смерти передаётся
художником не с помощью конкретно выстроенного сюжета,
который можно пересказать (ср. «Последний день Помпеи»
К.Брюллова). Полотно заполнено обломками, фрагментами
тел людей и животных. Выполнены они так, как рисуют дети,
композиция калейдоскопична, и оттого впечатление оказы-
вается ошеломляющим.
Ребенок открыт миру и не знает искусственных, «знако-
вых» границ: социализация — «общественный договор»
взрослых. Благодаря «детскому» взгляду на мир в модерниз-
130
ме преодолеваются различия между культурами, осуществля-
ется диалог культур (наиболее яркий пример — проникнове-
ние западной художественной культуры в недра японской,
китайской). Непосредственный контакт с любой реальнос-
тью и преодоление всего, что препятствует общению, являет-
ся основным побудительным мотивом для художников-мо-
дернистов.
В. Калмыкова
131
Наивное письмо - порождающий литера-
турную реальность особого рода документ внеписьменной
культуры, который создан не сторонним наблюдателем, a ca-
ll мим носителем этой культуры и представляет собой образец
«письменной речи человека, для которого сама практика
письма не является обязательной ни в профессиональной, ни
в обыденной жизни».
Последние десять-пятнадцать лет XX в. ознаменовались в
культуре, помимо всего прочего, одним интересным и важ-
ным событием — появлением особого рода писателя, принад-
лежащего к традиционно бесписьменному слою общества, и
возникновением литературы, которую наиболее точно харак-
теризует термин Н.п.
Термин Н.п., первоначально возникший в трудах социо-
логов, только начал приживаться в науке о литературе, по-
скольку нов и мало пока изучен предмет, им описываемый.
Если приглядеться к словам, образовавшим его, то станет
очевидно, что «письмо» здесь употреблено в значении «писа-
нье», непосредственно предстоящем таким понятиям, как
«словесность» и «литература». Что же касается определения
«наивное», то оно в науке имеет достаточно узкий смысл: это
нечто простодушное, бесхитростное, неопытное, дорефлек-
тивное, противоположное всему, что «нагружено» культурой.
Оригинальный вариант Н.п. представляет собой обычно
рукопись без разделения на абзацы и даже предложения. Точ-
ки с запятыми расставлены произвольно. Текст сплошной,
«...ощущение непереводимости на нормальный литератур-
ный...» В качестве примера можно привести небольшой отры-
вок из авторского варианта записок Е.Киселевой, простой
малограмотной советской женщины: «Было и так, он работал
на Полтавской шахте подменял завшахтой Ковригу шахтенка
малинкая была, а в то время была карточная система в тисяча
сорок седьмом году получил на работчих хлебные карточки
трехразовки одноразовки талоны, и аванс свой и товарища
132
Каракулина Дмитрия, десять тысяч облигаций, все получил и
пошол в пивнушку отвести душу саванса, и все это вытянуто в
певнушки в Первомайки... Я пошла на шахту начала просить
работчих простите пожалуста его дурака пяницу. Ну что если
его заберуть и посадят в тюрму дадуть ему срок, а этого не вер-
нет все утеряное дневные талоны, не умрем говорять люди,
хотя и голодные но простим ему дураку алкоголику я получи-
ла алименти на дитей, и отнесли этому товарищу должок а са-
мы какнибуть пережили, уладили это дело». Когда «наивные»
тексты переводятся на «нормальный» литературный язык,
что-то существенное из них ускользает. Что именно — уже до-
статочно подробно проанализировано различными авторами,
лингвистами и социологами, пионерами в области изучения
Н.п. Они же настаивают, и справедливо, на особой культур-
ной значимости самого нетронутого редакторской рукой
«письма». Здесь само письмо, писание, его внешний облик
получают оценку сродни той, что в свое время была дана чело-
веческому документу, получившему «самостоятельное эстети-
ческое значение».
Граница между искусством и жизнью в разные времена
пролегала по-разному. Известны периоды, когда искусство ак-
тивно стремилось подчинить себе жизнь, уподобить ее себе,
впитать в себя. Так было, например, в эпоху декаданса. Проти-
воположный процесс — растворения искусства в жизни — улав-
ливался либо где-то в далекой древности, либо представал в
мечтах, вроде тех, что были у К.Леонтьева, поклонявшегося
красоте и многоцветию жизни. Но так или иначе граница меж-
ду искусством и действительностью пролегала или стиралась в
пределах культурного пространства. Автор произведения, от-
носящегося к Н.п., попадает в это культурное пространство от-
куда-то извне, хоть и не с другой планеты, но все-таки извне,
из какого-то жизненного хаоса, слепо и глухо копошащегося в
своем единственном порыве — «жить!». Поэтому измерить как-
то глубину литературной памяти в таком произведении не
133
представляется возможным. Ее просто нет. Некоторые зачат-
ки ее можно обнаружить разве что в следах знакомства с на-
родной мудростью. Автора произведения, принадлежащего
Н.п., даже при большом желании, никак нельзя поместить в
культурный круг, и в этом прежде всего и состоит его особен-
ность как автора. Он — представитель «голой» действительно-
сти. То, что он создает, есть как бы дубликат, слепок с этой
действительности. И все-таки факт творения, созидания дол-
жен быть выделен специально. Последний отделяет Н.п. от
«литературы человеческого документа», к которой «следует,
вероятно, относить только непреднамеренно всплывшие на
поверхность "письмена", не имевшие художественной цели».
Существует известный параллелизм между феноменом
Н.п. и «наивным искусством» в живописи, получившим эсте-
тическое признание в первое десятилетие XX в.
В значительной степени эстетическая сила воздействия
Н.п. определяется имеющимся в нем затекстовым содержани-
ем — всей той жизнью, которая обступает текст, знанием чи-
тателя. При этом стоит отметить, что читатель произведений
Н.п., в подавляющем большинстве, читатель профессиональ-
ный, т.е. исследователь культуры, и здесь также очевидна па-
раллель с «наивной живописью».
Состояние научного изучения Н.п. можно оценить как на-
чальную стадию.
Если представить себе литературу с главенствующим до-
кументальным началом как некое целое, то одним из ее под-
видов, очевидно, следует признать Н.п. На общем фоне лите-
ратуры с главенствующим документальным началом, сообща-
ющей правду «в подробностях, которые в литературе так или
иначе не были приняты», Н.п. являет собой крайнюю точку
«видения» мира, для «культурного» читателя будучи взглядом
со стороны. И зачастую цель такого произведения — именно
познакомить «просвещенного» читателя с совершенно «за-
крытым» для него жизненным опытом.
134
Чтение «наивных» текстов, как отмечалось исследователя-
ми, подобно переходу в «мир иной», не похожий на мир лите-
ратурного языка, субъектности и рационального мышления, в
котором привык жить интеллектуал или, во всяком случае,
«культурный читатель». Анализ произведений, относящихся к
Н.п., позволяет заметить: «наивный текст — столь же сложная
и разветвленная система, что и "культурный"».
Н.п. неоднородно в жанровом отношении — в нем пред-
ставлены и письма, и записки, и мемуары, и дневник, и даже
роман, и различно по типу письма. Для Н.п. характерно нали-
чие экзистенциальной речи. Как бы ни было беспомощно
Н.п. в художественном отношении, оно способно раскрыть
автора как человека и запечатлеть не только историю его лич-
ной жизни, но и важнейшие моменты в истории народа и го-
сударства. Несмотря на скудость изобразительных средств,
Н.п., в отличие от бульварной литературы, примыкает к глав-
ному классическому руслу литературы в силу заключенной в
нем художественной правды.
Наиболее яркие образцы Н.п.:
- книги, вышедшие в Омске в серии «Народные мемуары»:
Автобиографические записки сибирского крестьянина
В.А.Плотникова (1995); Воспоминания работницы М.Н.Кол-
таковой «Как я прожила жизнь» (1997); Документальная авто-
биографическая повесть сельского учителя А.У.Астафьева «За-
писки изгоя» (1998); Солдатские воспоминания Н.Ф.Шульги-
на и Г.П.Еланцева (1999); Воспоминания А.Н.Белозерова «За-
писки районного служащего» (2002);
— статьи: Киселева, Кишмарева, Тюричева/ Публикация
Е.Ольшанской. Предисл. О.Чухонцева// Новый мир. 1991.
№ 2; Чистякова А.Е. Не много ли для одной?// День и ночь.
1997. № 5-6.
Е.Местергази
135
см. Малые эпические жанры.
Нон-фикшн (от англ, non-fiction — не вымысел)
понятие, наиболее близкое «документальной литературе».
Термин «Н-ф.» родился на Западе в середине XX в. и вошел в
отечественный обиход в конце XX в. В настоящее время очень
активно употребляется как «Н-ф.», так и его русская калька —
«литература нон-фикшн».
На сегодняшний день это определение в ряду синоними-
ческих наиболее широкое. Можно выделить, по меньшей ме-
ре, три смысловых поля, на которые оно распространяется: 1)
«интеллектуальная литература» (понятие носит скорее ком-
мерческий, чем научный характер). Такое значение склонны
вкладывать в Н-ф., например, организаторы ежегодной
«Международной ярмарки интеллектуальной литературы
Non-Fiction» в Москве; 2) есть также попытки применить его
к низовой, массовой литературе с одной стороны, а с другой —
разного рода практическим руководствам и пособиям, будь то
психология поведения, диагностика кармы или кулинарные
рецепты, а также многочисленным опытам в жанре расследо-
вания секретных материалов и пр.; 3) литература, воспроизво-
дящая реальность без участия вымысла. Легко отличается чи-
тателем от той, что принято называть художественной. В этом
своем значении термин наиболее близок «документальной
литературе», «литературе факта» и пр. Используется также в
других сферах искусства, особенно в кинематографе.
В то время как критика и журналистика оперирует терми-
ном Н-ф. очень активно, в отечественной науке он пока не
получил официального статуса, т.е. не описан в словарях,
справочниках, энциклопедиях. Исключение составляет, по-
жалуй, только пространство Интернета. В Wikipedia («Вики-
педия»), проекте свободной многоязычной интернет-энцик-
лопедии, можно встретить, в частности, такое определение:
136
«non-fiction — является литературой отчета о вещах или их
представления в качестве факта. Подобное представление мо-
жет быть точным или неточным, однако оно должно полагать
веру в правдоподобие , <описываемого> во время его сочине-
ния. Такая литература является одной из двух составных час-
тей словесности в результате разделения особенно популярно-
го в библиотеках, — вторая же остается художественной лите-
ратуре. Другие фактологические источники, не представляю-
щие себя написанным текстом, как то: картины, фильмы —
часто также относятся к разряду non-fiction». Исследователи,
употребляющие термин «литература Н-ф.», в качестве приме-
ров приводят такие разные произведения, как «Жизнь и при-
ключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих
потомков», «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева
и «Письма русского путешественника» Карамзина, «Былое и
думы» Герцена, «Фрегат "Паллада"» Гончарова, «Записки из
Мертвого дома» Достоевского, «Очерки бурсы» Помяловско-
го, «Уединенное» Розанова, «Люди, годы, жизнь» Эренбурга,
«Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына и др.
Е. Местергази
137
о
Образ — понятие, центральное в искусстве, литерату-
ре и науке об искусстве и литературе, при этом — многознач-
ное и трудноопределимое. Оно иллюстрирует связи искусства
и действительности, роль художника в создании произведе-
ния, внутренние законы искусства, раскрывает отдельные ас-
пекты художественного восприятия.
Трудности с формулировкой понятия приводят к тому, что
ряд ученых считает его «устаревшим» и предлагает вовсе упразд-
нить за ненадобностью. Меж тем невозможно изъять из языка та-
кие слова, как «изображение», «воображение», «преображение» и
др. У них есть нечто общее, а именно «внутренняя форма» — об-
раза (о «внутренней форме» см. работы А.Потебни).
Тождество внутренней формы и образа в искусстве есть,
по сути, то же самое, что тождество формы и содержания.
Смысл О. - это сам О., объясняющий себя в процессе сво-
его создания автору и воссоздания - читателю (такое понима-
ние присуще А.Белому, М.Хайдеггеру, О.Пасу). С этой точки
зрения искусство не «отображает» бытие, но непосредственно
«поставляет» его. Одновременно это и средство познания как
внехудожественной, так и эстетической действительности: то
«место» (та область), где обе действительности «встречаются»,
пересекаются друг с другом. Во внехудожественных областях
познания сходная структура — модель.
В широком смысле художественным О. можно назвать
любую форму, в которой художник воплотил воспринятые
им и значимые для его сознания события, объекты, процес-
сы, явления потока жизни и свое восприятие их. Часто гово-
рят об «отражении» действительности в искусстве с помощью
О., о преображении человеческой жизни в свете авторского
эстетического идеала, созданного при помощи фантазии и
воплощенного в образе. Основные функции художественно-
го О. — эстетическая, познавательная, коммуникативная.
С помощью художественного О. создается индивидуальная
эстетическая реальность. По отношению к действительности
138
О. не выступает в качестве ее копии, не «удваивает» ее. Худо-
жественный О. транслирует авторский идеал читателю, зри-
телю. Несмотря на субъективизм авторской картины мира,
она выражает и нечто всеобщее — иначе художественное про-
изведение не находило бы читателей (зрителей), кроме собст-
венного создателя. Это «всеобщее» очень часто и есть художе-
ственный О.
История литературы порождает новые образные системы,
возникающие благодаря появлению новых методов в искусст-
ве. Так, существуют О. классицизма, сентиментализма, ро-
мантизма, критического реализма, натурализма, символизма,
экспресиионизма, различных иных школ модернизма и др.
Визуальный смысл понятия О. не противоречит лингвис-
тическому смыслу, но существует неотъемлемо от него.
Воображение читателя - такая же реальность, как и та, что
существует в «формах самой жизни». Человек не может реаги-
ровать на то, чего не существует; любой фантом, вызывающий
реакцию, наличествует прежде всего в воображении, и это, а
не отсутствие его в действительном мире предметов, явлений
и др., обусловливает его действенность. Термин «пластика»
применим к тому, что воспринимается органами чувств — так,
музыка не видна, а слышна, что не мешает нам говорить о му-
зыкальной пластичности. Как в слове обыденного языка сосу-
ществуют предметное, «видимое» начало, звуковой облик и
смысл, так и в поэтическом О. «картинка», пластика и поэти-
ческое значение слова не исключают друг друга.
Поэтический О. представляет собой, по сути дела, идео-
грамму, подобную древнеегипетской или шумерской единице
письма. Вызывая зрительную ассоциацию в сознании и поэта
и читателя, он отпечатывается в этой ассоциации как некото-
рый, пусть схематизированный, рисунок, стимулирующий
восприятие и понятия, и изображения («картинки»). Одно-
временно возникает поэтическое значение и смысл слова: из
общелитературного оно превращается в поэтическое. Поэти-
139
ческий О. не прочитывается однозначно, а каждый раз «разга-
дывается», «строится» в сознании заново.
О. как нечто «зримое», обращен к эмоциональному вос-
приятию, к чувству, и воспринимается чувственно. Он связан
и с явлениями внехудожественной действительности, кото-
рые в нем сталкиваются, уподобляясь друг другу, сплавляясь в
художественное целое, и со словами литературного языка, по-
лучающими новые значения. Структура О. включает то, что
преображается (некоторая обыденная реалия, предмет, явле-
ние, процесс и др.), то, что преображает (это как раз и есть
любое средство художественной речи — от сравнения до сим-
вола), и то, что возникает в результате. «И, когда изумленной
рукой проводя / По глазам, Маргарита влеклась к серебру,/
То казалось, под каской ветвей и дождя,/ Повалилась без сил
амазонка в бору» («Маргарита» Пастернака Б.): в этом стихо-
творении дождь, лес во время дождя, древнегреческий шлем с
его особенной формой прочитываются, но преображаются
благодаря метафоризации.
В самом общем виде образ обладает следующими свойствами:
— он возбуждает непосредственную реакцию, «чувство»
читателя (активизирует и «запускает» эстетическое восприя-
тие);
— он конкретен, «пластичен» (это определение использует-
ся сегодня при анализе пластических искусств (живопись,
скульптура и др.), а не мусических (музыка, поэзия и др.). Ос-
тается неизученным вопрос о содержании термина «пластика»
по отношению к слову: интуитивно она ощущается атрибутом
как музыкального, так и литературного произведения) и имен-
но в силу этих свойств является эстетическим явлением;
— О. есть посредующее звено между 1) внешними явлени-
ями, 2) чувствами и 3) сознанием человека;
— поэтому О. должен быть конкретным, осязаемым, кра-
сочным, как некоторый «предмет» действительности, а не аб-
страктно рассудочным;
140
- осязаемость как атрибут О. и его воздействие на читате-
ля возникают благодаря поиску художником новых решений,
а также благодаря его живому ощущению окружающей реаль-
ной действительности.
Можно говорить о разнице О. в поэзии и в прозе. О. в про-
зе скорее воссоздает некоторое явление мира, придавая ему
целостность, трактуя его как художественную идею. В прозе
(исключая такие переходные от поэзии к прозе форы, как
«стихотворения в прозе», например, Тургенева и др.) преобра-
жение действительности как абсолютное торжество авторской
трактовки невозможно. Здесь индивидуально-авторское виде-
ние мира должно в большей части своего объема совпадать с
читательским.
Художественные О. возможно классифицировать и по тем
объектам, которые подвергаются эстетическому преображе-
нию и в результате возникают в художественном произведе-
нии.
— Словесный (языковой) О.: «Чуждый чарам черный челн»
(К.Бальмонт); ось, оса, Осип в стихотворениях Мандельшта-
ма; «Повсеместно окрест ни светло, ни темно,/ И в созвучии:
око — икона — окно, —/ Обещание вещего знака,/ Словно все,
что случится, лежит на кону» (В.Перельмутер). Здесь основ-
ное внимание уделяется именно лексическим единицам, не-
редко актуализируется внутренняя форма слов.
— О.-персонификация, обозначение или знак, иногда даже
отождествление, основанное преимущественно на метафори-
зации. Так, «кинжал» в русской поэзии традиционно обозна-
чает «поэта», «чайка» у Чехова — знак Нины Заречной (здесь об-
раз переходит в символ, однако собственно образная природа в
таких случаях не утрачивается). Образной природой начинает
обладать отдельная типизированная человеческая личность.
- О.-фрагмент, когда отдельная часть или частное явление
приобретает характеризующий, обобщающий характер. Ос-
новной прием здесь — метонимия. Так, у С.Кржижановского
141
«Солнце врывалось параллелями лучей в фрамуги окон всех
четырех этажей магазина Тица» («Встреча»). Лучи - отдель-
ный атрибут солнца, но весь объект явлен здесь именно через
этот атрибут.
— О.-обобщение (например, «образ Родины», «образ сво-
боды» в произведениях такого-то автора (авторов)). Преобра-
жению подвергается абстрактное или очень широкое поня-
тие, раскрывающееся через конкретные реалии.
— О. автора (как рассказчика или одного из героев, персо-
нажей) в произведении. Здесь преимущественное значение
получают авторские оценки, обычно неявно присутствующие
в тексте.
- О. определенного человека, героя (персонажа) произве-
дения, который является носителем и воплощением некоторых
качеств и свойств. В нем содержатся неповторимо-индивиду-
альные и обобщающее-типические черты, иначе говоря - он и
не похож ни на кого и объединен со многими реально сущест-
вующими людьми. Например, О. Татьяны в «Евгении Онеги-
не», О. Чацкого в комедии «Горе от ума» и др. В данном случае
О. складывается из различных составляющих, которые выявля-
ются при анализе произведения. Это внешний облик, характер
(проявляется в отношении к миру, во взаимоотношениях с
другими героями, персонажами), речевой портрет, отношение
к человеческим поколениям (например, есть ли у героя дети: в
романе Гончарова «Обломов» важно, что Штольц после смер-
ти Обломова усыновляет его ребенка) и др. Очень большое зна-
чение имеют художественные детали, сопровождающие того
или иного героя. Так, князю Андрею в романе «Война и мир»
сопутствуют то старый дуб в Отрадном, то «небо Аустерлица»,
и это активно работает на создание образа героя.
— О. (в собственном смысле «картина») мира, его состоя-
ния, явления. «Когда волнуется желтеющая нива,/ И свежий
лес шумит при звуке ветерка,/ И прячется в саду малиновая
слива/ Под тенью сладостной зеленого листка... <...> Тогда
142
смиряется души моей тревога,/ Тогда расходятся морщины на
челе,/ И счастье я могу постигнуть на земле,/ И в небесах я ви-
жу Бога...» (МЛермонтов).
Надо обязательно иметь в виду, что отдельные разновид-
ности художественного О. в большинстве случаев сосуществу-
ют вместе, формируя целостное художественное впечатление.
Интересно проанализировать концепцию художественного
О., разработанную на рубеже XIX—XX вв. В.Брюсовым, одно-
временно поэтом и теоретиком литературы. С его точки зрения,
метафизическая сущность поэзии реализуется именно в художе-
ственном О., который выступает как синтезирующее средство
познания (в отличие от секулярно-научного - анализирующе-
го). О. есть своеобразный «синтез синтезов»: связывая в единое
целое различные представления о различных явлениях, он мо-
жет быть рассмотрен как особое синтетическое суждение о ми-
ре («Синтетика поэзии», 1924). «Образность» слова важнее его
способности «выражать понятие». Слово «стертое», обращенное
в оболочку понятия, должно быть приведено поэтом к исходно-
му состоянию: «Поэт должен вернуть слову его первоначальное
значение. Отсюда — стремление поэтов искать новых сочета-
ний, слов, новых образов, новых метафор (вообще тропов)».
О. должны строго соответствовать и «музыке стиха». В более
поздних текстах Брюсов говорит о необходимости соотносить
О. произведения друг с другом, вообще об уравновешенности
всех компонентов произведения друг с другом: «В поэзии,
кроме, так сказать, “абсолютной” образности, мы ждем еще
гармонии этих О. между собой и подчинения их общему за-
мыслу; от стиха, кроме внешней правильности, мы требуем
еще напевности, мелодии; мы хотим, наконец, чтобы поэт не
только умел подбирать интересные метафоры, но в своем
творчестве раскрывал бы пред нами свое миросозерцание».
Отсутствие единства компонент неизбежно приводит к разру-
шению произведения как гармонической целостности.
В. Калмыкова
143
Образ читателя — это одно из «крайних»,
«предельных» воплощений и выражений природы литератур-
ности (термин Р.Якобсона). В нем с наибольшей интенсивно-
стью осуществляется замена реальной действительности -
фиктивным миром ментальных форм. Другим важным аспек-
том является коммуникативная природа «читателя», не толь-
ко вступающего в диалектические отношения с героями и об-
разом автора, но и корреспондирующего с произведением как
открытой структурой, которая нуждается в «читательской»
активности для ее завершения.
О.ч. во многом не только дан в тексте, но задан в произве-
дении как художественно-смысловой потенциал, возмож-
ность, рецепционная установка. Это - образ-посреди и к меж-
ду текстом и реальным читателем, помогающий в процессах
восприятия и понимания текста. Он существует в произведе-
нии на правах модели восприятия, регулирующей и определя-
ющей процессы чтения. В целом, можно определить О.ч. как
основную коммуникативную модель, заданную в тексте про-
изведения на правах входящей в образную триаду «герой - ав-
тор — читатель», но реализующуюся лишь в процессе воспри-
ятия и воздействия. Природа «читателя», по сравнению с ге-
роем и «автором», наиболее условна, литературна — словом,
конвенциональна.
Возьмем классический пример — современную пастораль
В.Астафьева «Пастух и пастушка». Здесь писатель использует
уникальный прием для удовлетворения жанровых ожиданий
«читателя» - прием «двойной» концовки. Конвенциональ-
ная природа «читателя» предполагает, в соответствии с зако-
нами пасторали, счастливый конец. Однако «автор», вступая
в сферу литературной мистификации, как бы играет со своей
коммуникативной парой, «читателем» (конвенциональным,
подразумеваемым, воображаемым) и создает специально для
него весьма благостную картину выздоровления героя и его
счастливого возвращения к возлюбленной после всех пре-
144
пятствий и опасностей войны. Вовлечение конвенциональ-
ного «читателя» в затеянную «автором» литературную игру
осуществляется благодаря тонким психологическим при-
емам, побуждающим «читателя» верить в возможность счаст-
ливого соединения влюбленных. Немалую роль здесь играет
заданная названием и закрепленная в «читательском» созна-
нии многократными повторами рецептивная доминанта —
«Пастух и пастушка», которая действительно, через использо-
вание соединительного союза «и», предполагает соединение
героев повести, на которых падает отсвет пасторального кано-
на. Особым «авторским» приемом, направленным на активи-
зацию «читательских» экспектаций (заданных еще названием)
и воображения, становятся «наводящие» побудительные во-
просы: «О чем он (герой. - А.Б.) думал? На что надеялся? Ка-
кие мечты у него были? Встречу придумал — как все получит-
ся, какой она будет, эта встреча?» Нарисованная затем карти-
на встречи «пастуха и пастушки», казалось бы, возникает
лишь в мечтах героя, которому здесь передаются «авторские»
функции. Вместе с тем, столь «легко» отказываясь от них и
передоверяя их герою-мечтателю, «автор» побуждает «читате-
ля» поддаться соблазну «достраивания» воображаемых зам-
ков художественного мира, способного, казалось бы, на лю-
бые изменения. Эта кажущаяся легкость и побуждает «чита-
теля» вступить в следующий пласт вариативных наслоений,
где игра вроде бы прекращается и в права вступает реаль-
ность: «Так вот все и вышло...» Наступает реализация ожида-
ний героя и «читателя» в псевдореальности фиктивного мира
произведения, принимающей обманчивый вид настоящего,
подлинного. Завершающаяся многоточием картина «счаст-
ливого» псевдофинала доводит до предела заданное в заго-
ловке «читательское» ожидание. Начальная фраза следующей
подглавы, однако, напрочь разбивает все «читательские» ил-
люзии и отбрасывает, казалось бы, всякие надежды на кон-
венциональное примирение: «Но ничего этого не было и быть
145
не могло». Дальнейшее расслоение облика «пастушки», по-
степенно исчезающей, растворяющейся в ряде схожих, но
ложных образов, иллюзий и фантазий, постепенно делает
возможной жесткую реалистическую концовку (смерть героя
и приход на его могилу женщины, лишь отдаленно напомина-
ющей героиню). Что же происходит с заданной в заглавии ре-
цептивной доминантой? С пасторальными экспектациями
«читателя»? Сбываются ли они лишь в эсхатологическом
«там», за пределами заката, тихо угасающего над могилой «па-
стуха» и над склонившейся над ней «пастушкой» с уже отцве-
тающими древними глазами? Очевидно, смысл появления
«ложной» концовки состоит не только и не столько в пусть
иллюзорном, минутном, но удовлетворении «читательских»
желаний, но и в том, что она задает некую возможную модель
развития (названия - доминанты и структуры произведения в
целом, которая в свою очередь расслаивается на внешние и
внутренние пласты). Актуализация рецептивных доминант
(цветка, птицы, камня и других образов-символов, заданных
еще эпиграфами) и составляет художественную ткань внут-
ренних пластов. В конце концов в пасторали достигается та-
кой эффект, что все произведение начинает напоминать тща-
тельно, с любовью сделанную средневековым мастером шпа-
леру, в которой практически нет незаполненных пустот, все
нити ее в своих причудливых переплетениях образуют изоб-
ражение цветов, птиц, камней, трав... Реализация одной из
главных черт пасторали, идиллии — «сочетание человеческой
жизни с жизнью природы, единство их ритма» (М.Бахтин) —
делает возможным чудесное преображение главных героев в
глазах «читателя» и финальную реализацию его ожиданий, за-
данных еще заглавием. Образы пасторальных влюбленных -
«пастуха и пастушки» — словно оказываются помещенными в
середину сотканной картины и несут в себе глубинные биб-
лейские (вспомним «Песнь песней», герои которой были пас-
тухами!) и фольклорные смыслы.
146
Очевидно, в этом и подобных случаях вводится в действие
закон внетекстового «читательского» развития в сгущенном
ассоциативном поле: на основе даже не столько текста, но по-
лученных от его чтения впечатлений. Особенно актуальным
здесь становится вопрос о сведении (свертывании) произведе-
ния к его собственному первообразу: решение этого вопроса
особенно просто в случае, когда первообраз задан уже назва-
нием. Особенно наглядным примером здесь могут служить та-
кие повести, как «Стародуб» или «Звездопад» В.Астафьева.
Скажем, в «Звездопаде» основная доминанта восприятия
(первообраз «звездопада»), развернутая в финальной картине
повести, задает беспредельность новых трактовок и прочте-
ний — некое вечное измерение, всякий раз, во всяком новом
процессе восприятия, свертывающееся в исходный, но уже
обогащенный новым содержанием, первообраз: «В яркие но-
чи, когда по небу хлещет сплошной звездопад, я люблю бы-
вать один в лесу, смотрю, как звезды вспыхивают, кроят, вы-
свечивают небо и улетают куда-то. Говорят, что многие из них
давно погасли, погасли еще задолго до того, как мы родились,
но свет их все еще идет к нам, все еще сияет нам». В этом за-
ключительном аккорде сконцентрирована большая сила, за-
дана модель восприятия всего произведения грядущими поко-
лениями читателей. Говоря метафорическим языком, процесс
чтения здесь сравнивается со свечением звезды: если чтение
завершено и звезда вроде бы погасла, это не означает завер-
шенности и самодостаточности модели восприятия, форми-
рование которой обладает, кажется, абсолютной ценностью
для «автора».
Возвращаясь к названию в роли доминанты восприятия,
рецептивной установки, важно подчеркнуть как его предва-
рение фамилией автора, так и присутствие в нем конкретных
грамматических форм, особой связи слов (если их в названии
несколько) и значения каждого из них в отдельности. Назва-
ния могут также рассматриваться как ключевые слова, вари-
147
ативные смыслы которых раскрываются далее в тексте, ситу-
ативно обыгрываются и даже определяют сюжет и его разви-
тие (к примеру, «Срезал» Шукшина), нередко обретают сим-
волическое звучание. Элементами структуры «читателя», оп-
ределяющими рецептивную избирательность и направляю-
щими процесс восприятия, являются также эпиграфы, пер-
вое/последнее слово (строка, абзац, параграф), ключевые
слова, разные неправильности, предисловие (авторское
вступление) и эпилог; имена, фамилии (особенно «говоря-
щие»), названия; авторские комментарии (задающие рецеп-
тивные установки «читателя»), прочие многовариантные ме-
тоды стимуляции «читателя» — риторические вопросы, вос-
клицания, повелительные и побудительные обращения, а
также различные фигуры узнавания и умолчания, участки
неопределенности, смысловые лакуны, информационные
пустоты, которые называются местами «читательского» при-
сутствия. Большую роль играет интертекст, ассоциативные
поля, круг чтения героев и «автора», аудиовизуальные «вто-
рые» ряды. Особое значение для активизации «читателя» и
включения его в действие обретают разнообразные игровые
модели, побуждающие «читателя» принимать или сопротив-
ляться «авторским» условиям игры, примерять различные
лики в литературном маскараде. Так создается особая услов-
ная реальность, обуславливающая конвенциональную при-
роду «читателя».
Многие исследователи обращаются к градации «читателя»
по временному признаку. В целом, можно выделить три ос-
новных временных типа. Первый из них — это близкий («ав-
тору») «читатель», понимающий его собеседник-современ-
ник. Однако подчас это читатель-критик или же полемизиру-
ющий оппонент. Так, к примеру, цикл «Место действия» Ас-
тафьева открывается скрытой полемикой с предполагаемыми
критиками-оппонентами, «теоретиками литературы и учены-
ми людьми, клюющими крупку на полях отечественной ело-
148
вескости». (Любопытно, что именно этот цикл писателя,
включая рассказ «Ловля пескарей в Грузии», вызвал резкую
полемику в печати, как бы «заданную» самим текстом на уров-
не рецепционной модели.) Ко второму типу относится «чита-
тель» прошлого — это ретроспективная модель «читателя»,
включенная в традицию предыдущих прочтений предшеству-
ющих текстов данного и других писателей. Третья типологи-
ческая модель представляет «читателя» будущего, во многом
идеальный вариант желаемого, лучшего: некое идеализиро-
ванное «авторское я».
Следующий темпоральный момент связан с ретроспек-
тивной направленностью «читателя», во многом обусловлен-
ной его интертекстуальной природой и особенностями про-
цесса чтения. «Читательская» ретроспективность предпола-
гает постоянное возвращение к ранее прочитанным текстам:
возвращение к воспоминаниям, обусловленным общим (для
него и «автора») социально-историческим, политическим
прошлым, сходством личного биографического опыта и т.п.;
циклическое возвращение к ранее прочитанным частям тек-
ста, названию, эпиграфике, сюжетным моментам и т.п. Та-
ким образом, важную роль в анализе образа читателя играет
устремленность и целенаправленность «читательского» вре-
мени.
А. Белокурова
Очерк
см. Малые эпические жанры.
149
п
Пейзаж (от фр. — paysage, от pays — страна, мест-
ность). В словесном искусстве П. сколь древен, столь и ис-
торически многообразен. Характеру былинных богатырей
созвучен характер былинного П., где и горы, и поля, и ре-
ки, и леса простираются до невероятных размеров. Все ды-
шит гармонией, высоким поэтическим чувством. И на всем
печать мифологических традиций: буйство фантазии, а не
конкретное наблюдение. Иной восторг от природы испы-
тывает человек, когда он научается выделять себя среди се-
бе подобных, а вместе с тем индивидуализирует и окружа-
ющие явления. Усиление внутренней жизни обостряет чув-
ства, делает тоньше изобразительные способности. Обра-
зы, взятые из природы, становятся отражением личных пе-
реживаний: «Ах, кабы на цветы не морозы,/ И зимой бы
цветы расцветали...»
Вовлеченный в орбиту очеловечивания, П. приобретает
для каждого неповторимый оттенок. Неповторимый, как и
сам мир каждого человека. Поэтому чаще говорят не о П. во-
обще, а о П. конкретного писателя. И все-таки в П. современ-
ников есть и общие, «родовые» черты, обусловленные арома-
том эпохи. Сколько искусственного блеска, чего-то садово-
паркового в пейзажах сентименталистов. Не потому ли, что,
идеализируя человеческую личность, они брали и природу в
ее проявлениях умиротворенности? Напротив, романтики
полюбили природу в ее бурной стихии, соответствующей бур-
ным страстям романтической личности.
П. — это зеркало смутных, потаенных желаний, чувств и
мыслей человека, состояние его души, данное в эмоциональ-
ном изображении через картины природы. Можно с точнос-
тью судебно-медицинских экспертов по пульсу определить
состояние сердечного потрясения. А художник читает сердце
без кардиограммы. О состоянии Печорина, возвращающегося
с дуэли, мы узнаем по описанию ярких, но не греющих его
солнечных лучей.
150
Играя композиционную роль, П. отнюдь не всегда прямо
сплетается с внутренними, душевными движениями. Он не-
редко служит внешним фоном, отбрасывающим отсвет на
жизнь персонажей как представителей определенной среды. В
этих случаях писателя «спасает» способность передавать впе-
чатление от природы, чуткость к формам, звукам, запахам.
Однако полную прелесть П. приобретает для нас тогда, когда
он непосредственно связан с переживанием, вот так, как у
Тютчева в картине постепенно разгорающегося рассвета:
«Восток белел. Ладья катилась,/ Ветрило весело звучало, —/
Как опрокинутое небо,/ Под нами море трепетало.../ Восток
алел. Она молилась, / С чела откинув покрывало, —/Дышала
на устах молитва, / Во взорах небо ликовало.../ Восток вспы-
лал. Она склонилась,/ Блестящая поникла выя, —/ И по мла-
денческим ланитам/ Струились капли огневые...»
П. властно вошел и в прозу и в драматургию. Некоторые
«привилегии» он получил в лирической поэзии. В лирике осо-
бенно часто привлекаются образы из природы. Только лиричес-
кий поэт может позволить себе и чисто пейзажное стихотворение.
Труднее вводить П. в действие драмы, где авторская речь
сведена до минимума. Зато пейзажные штрихи, разбросанные в
драме, приковывают внимание как нечто очень многозначи-
тельное. П. усиливает драматизм сцен. Навсегда запечатлева-
ются в памяти пейзажи Шекспира. Карканье ворона, когда ле-
ди Макбет задумывает убийство; буря в степи, когда Лир бушу-
ет в безумии, или пение соловья в ветвях граната перед окном
Джульетты, когда она в последний раз встречается с возлюблен-
ным. А с каким волнением мы встречаем у А.Островского гро-
зу — символ судьбы Катерины! Свое чувство природы драматург
препоручает выговорить действующему лицу. Байроновский
Манфред «создает» прекрасные пейзажные полотна, навеваю-
щие такое же настроение, что и П. в лирике самого Байрона.
В русской прозе лучшим пейзажистом был Л.Толстой.
Описания неба под Аустерлицем или ночи в Отрадном памят-
151
ны каждому читателю. Вообще в «Войне и мире», как только
Андреем Болконским овладевает тревога, сомнение, мелан-
холия, мечтательность, как только он подходит к важным ве-
хам своей жизни, его сопровождает замедляющий действие
пейзаж, в созерцании которого раскрывается суть происходя-
щего в душе князя Андрея, склонного к рефлексии.
У Толстого, несмотря на его влюбленность в краски, зву-
ки, запахи, П. никогда не становится самоцелью. У Толстого
нет лишних деталей. И все-таки П. его младших современни-
ков лаконичнее. «На плотине, — как образно сказал Чехов ус-
тами своего персонажа, — блестит горлышко от разбитой бу-
тылки — вот и лунная ночь готова». Но лаконизм, очевидно,
свидетельствует не о падении удельного веса пейзажа, а о бес-
прерывном изменении техники письма и возросшей роли
подтекста в новейшей литературе.
В современной прозе едва ли отыщутся роман или по-
весть какого бы то ни было содержания, чтобы повествова-
ние обходилось без П. И писатели великолепно умеют вы-
разить в нем остроту, новизну, свежесть, индивидуальность
своего восприятия. Вот Шолохов описывает в «Тихом Доне»
гибель командира красноармейского отряда: «Он шел впе-
реди конных конвоиров, легко ступая по снегу, хмурил ку-
цый размет бровей. Но в лесу, проходя мимо смертельно-
бледной березки, с живостью улыбнулся, стал, потянулся
вверх и здоровой рукой сорвал ветку. На ней уже набухали
мартовским сладостным соком бурые почки: сулил их тон-
кий, чуть внятный аромат весенний расцвет, жизнь, повто-
ряющуюся под солнечным кругом. Лихачев совал пухлые
почки в рот, жевал их, затуманенными глазами глядел на от-
ходившие от морозов, посветлевшие деревья и улыбался
уголками бритых губ.
С черными лепестками почек на губах он и умер: в семи
верстах от Вешенской, в песчаных, сурово насупленных буру-
нах, его зверски зарубили конвойные».
152
И другие наши прозаики (В.Астафьев, В.Белов, В.Соло-
ухин) мастерски вводят природу в круг своих мыслей, находят
в ней противоречие или согласие чувству, одушевляют ею ра-
дость или горесть. Неудержимо половодье чувств в «городских
пейзажах» А. Вознесенского. До последних мелочей простира-
ется его наблюдательность. Его лирика вполне отвечает дав-
ней мечте Брюсова о времени, когда «найдут и узнают всю
красоту телеграфных проволок, стройных стен и железных ре-
шеток». Однако, строго говоря, описания видов города, архи-
тектуры, «железных решеток» — не П., а П. — это прежде все-
го изображение естественной природы. Удачные П. встреча-
ются, например, у А.Жигулина. И все же в последнее десяти-
летие редко появляются стихи, столь эстетически значимые,
как стихи Бунина, признанного поэта П. Удивительна степень
меткости бунинских изображений. Он не пишет: птица, дере-
во, цветок, а называет их вид. Есть в этой обостренной внима-
тельности радость познания, чувство первооткрывания, вос-
торг приобщения к распознанной красоте березы и ольхи, со-
кола и горлинки, медуницы и лилии. А когда Бунин прибега-
ет к родовым понятиям, они одними своими названиями пе-
редают лирическое чувство и настроение: «И цветы, и шмели,
и трава, и колосья,/ И лазурь, и полуденный зной.../ Срок на-
станет — Господь сына блудного спросит:/ ’’Был ли счастлив
ты в жизни земной?”/ И забуду я все — вспомню только вот
эти/ Полевые пути меж колосьев и трав -/ И от радостных
слез не успею ответить,/ К милосердным коленям припав».
Итак, если чувству придать мощь эмоционального заряда,
то и трава, и былинка, и песчинка, и любая иная малая ма-
лость природы становятся отражением человеческого духа.
Я.Семенов
Письмо . Одно из наиболее сложных понятий в тео-
рии словесного творчества. Эта сложность вызвана много-
153
значностью термина. Действительно, понятие П. двойствен-
но: с одной стороны существуют частные письма, с другой -
литературный жанр П.
На первый взгляд между тем и другим немного общего. П. —
явление быта, выполняющее прежде всего коммуникативные
функции. П. - литературный, публицистический или науч-
ный жанр, часто принимающий сложные формы, например
эпистолярного романа или журнала в П. И все же связь меж-
ду этими явлениями очень тесная. Они не просто литератур-
ные однофамильцы, но родственники. Родство их особенно
ясно при взгляде на историю эпистолярного искусства.
Первичны, конечно, частные П. Еще в Древнем Египте
переписка была весьма развита. Не столь популярное в Гре-
ции классического периода, в Риме бытовое П. достигло
своего расцвета. К периоду античности относится и зарож-
дение литературного жанра П. Во II—-III вв. н.э. в Греции
среди так называемых вторых софистов распространение
получили «фиктивные П.». От имени гетер 14 книг П. напи-
сал Мелезерм, Алкифон сочинял П. рыбаков, крестьян и т д.
Но в ту эпоху бытовое П. и П. как литературный жанр, соб-
ственно, не разделялись. Возникнув как подражание част-
ной переписке, П. не потеряло связь с породившим его яв-
лением. Об этом свидетельствует переписка Цицерона,
Плиния, Сенеки.
Не изменились эти взаимоотношения и в средние века, и
даже в эпоху Возрождения. Конечно, Средневековье, также
как и античность, знало П. сугубо деловые, не претендующие
ни на какую литературность — хотя бы берестяные грамоты
Древней Руси. Но не явления подобного рода определяли ха-
рактер средневекового эпистолярного искусства, а скорее П.-
послания, которые в зависимости от автора-адресата могли
иметь разнообразное содержание. П.-послания, являясь
обычно конкретными П. одного человека к другому, облада-
ли вместе с тем высокой долей литературности, были состав-
154
ной частью литературы, например, «Письмо к Олегу Свято-
славичу» Владимира Мономаха или переписка Ивана Грозно-
го с Курбским.
В эпоху Возрождения бытовое П. и П. как литературный
жанр также в известной мере не различались, во всяком слу-
чае не противопоставлялись друг другу. Весьма интересна
переписка Франческо Петрарки. В прижизненное издание
своих П. он включил как реальные П. к действительно суще-
ствующим людям, так и литературные произведения, адре-
саты которых жили много веков назад, — Цицерон, Тит Ли-
вий и т.п.
Определить общие закономерности развития эпистоляр-
ного жанра нелегко. В каждую конкретную эпоху П. приобре-
тало особые черты, его связи с литературой имели свой, спе-
цифический характер. И все же некоторая общность свойст-
венна П. античности, средневековья, эпохи Возрождения. Не-
смотря на все различия, П. тех эпох были литературой. Прин-
ципиальной разницы между П. Плиния и «Анналами» Тацита,
мономаховским «Письмом к Олегу Святославичу» и сочине-
ниями Кирилла Туровского, между перепиской и повествова-
тельной прозой Возрождения нет.
XVII—XVIII вв. (в разных странах эти процессы протекали
в разное время) — поворотный пункт в истории П. Именно
тогда происходит разделение единого (хотя и очень многооб-
разного) явления на два: на частное П., написанное конкрет-
ным автором к действительно существующему адресату, и на
литературный жанр П., который представляет собой художе-
ственное произведение, внешне облеченное в эпистолярную
форму. С этого момента начинается история не одного, а двух
понятий.
Конечно, между тем и другим нет непроходимой границы.
Более того, существуют так называемые открытые П., которые
стоят как бы между частной перепиской и эпистолярным лите-
ратурным жанром. Открытое П. обращено к конкретному адре-
155
сату, но одновременно автор с самого начала предполагал воз-
можность и даже необходимость его широкого распростране-
ния. Открытые П. очень часто используются в публицистичес-
ких целях — хотя бы знаменитое П. Белинского к Гоголю или
П. Писарева к Тургеневу. Немало открытых П. знает и XX в.
И все же, несмотря на возможность стыковки, перед нами
два разных явления, имеющие свою собственную историю.
П. как литературный жанр принадлежит литературе. Его судь-
ба тем самым тесно связаны с общим ходом литературного
движения. Жанр этот оказался очень продуктивным и способ-
ным принимать весьма разные виды — от журнального П. до
эпистолярного романа. Он вышел за пределы собственно ли-
тературы, использовался и используется до сих пор в науке,
философии («Письма провинциала» Б.Паскаля, «Философи-
ческие письма» П.Чаадаева), публицистике («Письма из
Франции и Италии» А.Герцена).
Особого расцвета жанр П. достиг в XVIII в. Он проник
почти повсюду. Прежде всего в журналистику: журналы Сти-
ла и Аддисона в Англии, Новикова, Крылова и др. в России.
Возникают даже своеобразные газеты-П.: «Nouvelles lit-
teraires» Рейнеля, «Correspondance litteraire philosophigue et cri-
tigue» M.Гримма. Очень распространенным становится эпи-
столярный роман, многие (если не большинство) значитель-
ных романов столетия эпистолярные: «Путешествие Хамфри
Клинкера» Смоллета в Англии, «Опасные связи» Шодерло де
Лакло, «Персидские письма» Монтескье, «Новая Элоиза»
Руссо во Франции, в Германии «Страдания юного Вертера»
Гёте. Русская проза XVIII в., жанровый характер которой
весьма своеобразен, культивирует иные разновидности П.
В эпистолярную форму облекаются путешествия, например,
«Письма русского путешественника» Н.Карамзина, и литера-
турно-критические статьи. Особенно важны были журналь-
ные «письма», в журналах печатались целые циклы П. вымы-
шленных героев (Новиков, Фонвизин, Крылов).
156
После XVIII в. эпистолярный жанр переживает в извест-
ной мере период постепенного угасания. Впрочем, это не зна-
чит, что он вообще исчезает из литературы. Русская литерату-
ра XIX в., например, свидетельствует об обратном: не занимая
центральное место, данный жанр все же существен для лите-
ратурного движения. Прозаические наброски Пушкина, обле-
ченные в эпистолярную форму, «Избранные места из перепи-
ски с друзьями» Гоголя, «Бедные люди» Достоевского, «Пере-
писка» и «Фауст» Тургенева — вот лишь некоторые образцы
русской эпистолярной литературы XIX в.
И в XX в. эпистолярный жанр продолжает существовать.
Назову только три весьма разных произведения: «Письмо к
заложнику» Сент-Экзюпери, «Мартовские иды» Уайлдера и
«Перед зеркалом» Каверина. Подобное разнообразие свиде-
тельствует о жизнеспособности жанра.
Форма П. может придавать камерность, интимность, спо-
собствовать глубокому раскрытию внутреннего мира человека
(эпистолярные повести Тургенева) и, наоборот, усиливать
страстность общечеловеческого начала («Письмо к заложни-
ку» Сент-Экзюпери). Но во всех случаях эпистолярная форма
(конечно, есть исключения — например, эпистола классициз-
ма) вызывает особое ощущение глубокой личной заинтересо-
ванности автора в описываемом, ощущение того, что то, о чем
идет речь, не безразлично, а волнующе, жизненно важно для
создателя произведения. Может быть, в этом и заключена ос-
новная причина привлекательности жанра П.
П. Кухаркин
Повесть — средний эпический жанр, занимающий
промежуточное место между романом и рассказом или но-
веллой. В большинстве европейских литератур ее не выделя-
ют. А в русском искусстве слова П. — традиционная жанро-
вая форма.
157
«Повесть есть тот же роман, только в меньшем объеме...», —
писал Белинский. И в самом деле, порой повесть приближа-
ется к роману. В таких случаях она эпически полно обрисовы-
вает и характер героя, и состояние среды, и взаимоотношения
между личностью и обществом («Дубровский», «Капитанская
дочка» Пушкина, «Тарас Бульба» Гоголя).
Тем не менее граница между крупным и средним эпичес-
кими жанрами существует, и она обусловлена характером
идейно-эстетического осмысления действительности.
В отличие от романа П. избирает меньший по объему ма-
териал, но воссоздает его более подробно, чем это сделал бы
роман, с необычайной резкостью и яркостью высвечивает
грани затрагиваемых проблем. Эти ведущие особенности жа-
нра охарактеризовал В.Белинский: «Есть события, есть слу-
чаи, которых, так сказать, не хватило бы на драму, не стало
бы на роман, но которые глубоки, которые в одном мгнове-
нии сосредоточивают столько жизни, сколько не изжить ее и
в века: повесть ловит их и заключает в свои тесные рамки...»
В П. и рассказе сильнее, чем в романе или новелле, выра-
жен субъективный элемент — отношение автора к изображае-
мым явлениям, человеческим типам. П., как и рассказ, сохра-
няет связь со стихией устного повествования, стремится в
буквальном смысле слова «поведать» о тех или иных событиях.
Именно таковы «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя,
«Первая любовь» Тургенева, «Человек из ресторана» Шмелева.
Но в целом у П. больше возможностей, чем у рассказа: она от-
ражает и развитие характера героя, и то или иное (нравствен-
ное, социальное, экономическое) состояние среды, и историю
взаимоотношений личности и общества. Как и другие прозаи-
ческие жанры, П. имеет своих фольклорных «предков». Преж-
де всего это сказка и легенда, от которых она наследует внима-
ние к судьбам отдельных людей и в то же время к событиям,
значительным для всего общества, совмещение разных вре-
менных пластов. Старинные значения термина П., среди кото-
158
рых и «весть о каком-то событии», и «описание», и «разговор»,
указывают на то, что этот жанр вбирает в себя бесчисленное
множество устных рассказов, запечатлевших события, виден-
ные или пережитые самим рассказчиком. Важным источником
П. явились летописи («Повесть временных лет») и докумен-
тальная письменность. От деловой прозы П. сохранила способ-
ность откликаться на злободневные события, освещать истори-
ческие факты.
П. — жанр, объединяющий традиции устного и письмен-
ного повествования, фантастику и уважение к исторической
достоверности, отражение действительности в непринужден-
ной форме устной беседы и поэтическое обобщение жизни.
В ходе своего исторического развития русская П. претер-
пела значительные изменения. Первоначально П. существо-
вали в виде рассказов о князьях, о сражениях, о житиях святых
и т.п. Позже П. стали называть и романы, новеллы, смешные
истории и анекдоты.
Новое представление о П. возникает в XVII в. Аналитиче-
ские возможности жанра сформировались в наблюдениях над
поведением героя нового типа в П. о Фроле Скобееве, Савве
Грудцыне, Горе-Злосчастии.
В творчестве Пушкина усиливается познавательно-анали-
тическая основа П. В П. 1830-х гг. «Выстрел» и «Дубровский»
изображен ведущий социальный тип того времени, близкий
по своей нравственности к декабристам.
Образы пушкинских героев раскрываются в типических
для жизни и литературы того времени ситуациях бала, любов-
ного свидания, измены, дуэли. В П. «Станционный смотри-
тель» Пушкин с сочувствием запечатлел открытый им тип
«маленького человека», в «Пиковой даме» — героя нового,
«железного» века.
Гоголевские «Вечера на хуторе близ Диканьки», отразив-
шие веру писателя в народ и воссоздавшие колорит украин-
ских ярмарок и праздников, самое значительное явление сме-
159
ховой культуры нового времени. В гротескных «Петербург-
ских повестях» Гоголя предпринят критический анализ веду-
щих социальных типов 1830-х гг., создан гуманный образ «ма-
ленького человека» («Шинель», 1842).
Нередко П. предварительно исследует злободневный
жизненный материал, который впоследствии обобщается в
романе. Так, в П. Тургенева 1840—1850-х гг. воплощены ти-
пы «лишнего» человека и нравственно сильной и духовно
прекрасной героини. Образы, темы, сюжеты, идеи турге-
невских П. находят окончательное воплощение в романах
писателя 1850-1870-х гг.: «Рудине», «Дворянском гнезде»,
«Накануне», «Отцах и детях», «Дыме», «Нови». Это же свой-
ство П. как своего рода творческой лаборатории романа
проявляется в ряде случаев у таких крупнейших мастеров
реализма XIX в., как Толстой, Достоевский. Вместе с тем в
П. «Смерть Ивана Ильича» Толстого, «Записки из подпо-
лья» Достоевского, «Палата № 6» Чехова конкретные факты
и события получают философско-нравственное осмысле-
ние. Так предельно углубляется познавательно-аналитичес-
кая основа П.
В 1900—1930-е и 1960-1980-е гг. в русской литературе
одно из первых мест занимает П. Произведения И.Бунина,
Л.Андреева, Е.Замятина, И.Шмелева, М.Пришвина, М.Бул-
гакова, А.Платонова и других прозаиков наполнены стрем-
лением понять смысл новой эпохи, отличаются установкой
на жанровый синтез и высокой художественностью. В П. Бу-
нина («Деревня», «Суходол») и воспринявших его творчес-
кий опыт «неореалистов», обогативших классический реа-
лизм достижениями модернизма, Шмелева, Замятина, При-
швина бескомпромиссно обрисована жизнь российских де-
ревни и города, столицы и провинции, народный характер
раскрыт во всех его противоречиях. В произведениях Буни-
на и «неореалистов» усилено и лирико-философское нача-
ло. Философско-психологическая П. Л.Андреева «Жизнь
160
Василия Фивейского» и сатирически-нравоописательные П.
«Человек из ресторана» Шмелева и «Уездное» Замятина со-
храняют «память» (термин М.Бахтина) о древнем жанре жи-
тия святого и тем самым выражают непреходящие духовно-
нравственные ценности. В П. Пришвина «У стен града
невидимого (Светлое озеро)» и «Жень-Шень» также синте-
зированы разные жанровые традиции очерка и путешествия,
наполненные здесь новым смыслом. Это странствие духа,
поиски Бога, проникновение в тайны природы. В произве-
дениях Шмелева, Замятина и Пришвина возникает и новый
тип повествования — воссоздающий устную речь народа,
сказ. Это расширяет эпические возможности П., так как ха-
рактерные для сказа диалектизмы и разговорная лексика
знакомят читателя со скрытыми от него сторонами действи-
тельности. Сатирические П. Булгакова «Дьяволиада», «Ро-
ковые яйца», «Собачье сердце» в гротескном виде воссозда-
ют конкретные исторические реалии периодов военного
коммунизма и нэпа, показывают противоречия и проблемы,
связанные с осуществлением на практике социалистичес-
кой утопии. В русской литературе 1960 — первой половины
1980-х гг. усиливаются аналитичность и психологизм. Зако-
номерно поэтому, что в данный период П. — ведущий жанр
в так называемой военной, деревенской и городской прозе.
В острых ситуациях выбора, которых немало в П. о войне
Ю.Бондарева, раскрываются такие общечеловеческие свой-
ства, как трусость, предательство одних и мужество, геро-
изм, способность к самопожертвованию других. П. «дере-
венщиков» Распутина, Белова, Абрамова, Можаева и близ-
кого к ним по идейно-художественным принципам дву-
язычного писателя Айтматова отличает разработка проблем
«человек и общество», «человек и природа». В их нацио-
нально-самобытных произведениях, ориентированных на
народное слово, поэтизируется человек из народа.
Т.Давыдова
6—501
161
Подтекст — это особая разновидность иносказа-
ния, художественного намека. Понять «фразу с П.» — это зна-
чит воспринять не только то, что сказано прямо, буквально,
но и то, что автор подразумевал, о чем умолчал. Раскрытие П.
предполагает, таким образом, непременное активное сотвор-
чество читателя, додумывание, домысливание. Образно гово-
ря, читатель должен угадать картину по нескольким штрихам,
направляющим его воображение, самостоятельно заполнить
художественное пространство, которое автор намеренно ос-
тавил пустым. Так, например, за ахматовским «Я на правую
руку надела/ Перчатку с левой руки» мы чувствуем огромное
душевное напряжение героини стихотворения, воссоздаем ее
психологическое состояние, хотя о нем прямо не сказано ни
слова, а дан лишь намек — внешняя, бытовая подробность.
Хемингуэй, сравнивая литературное произведение с айс-
бергом, у которого на поверхности только одна седьмая часть,
а все остальное скрыто, говорил, что, «если писатель хорошо
знает то, о чем пишет, он может опустить многое из того, что
знает, и если он пишет правдиво, читатель почувствует все
опущенное так же сильно, как если бы писатель сказал об
этом». Активным, творчески воспринимающим написанное
представлял себе своего читателя А.Чехов: «Когда я пишу, -
говорил он, - я всегда рассчитываю на читателя, полагая, что
недостающие в рассказе субъективные элементы он подбавит
сам».
Но для того чтобы читатель смог раскрыть П., его вообра-
жение необходимо соответствующим образом возбудить и на-
править. П. возможен только тогда, когда определенную орга-
низацию получил сам текст. В написанном читатель должен
ощущать недоговоренность, неисчерпанность смысла, а в то
же время находить достаточно вех и черточек, чтобы разгадать
намек правильно, создать в своем воображении тот образ, на
который рассчитывает писатель. Вот, например, как исполь-
зован П. на последней странице романа Тургенева «Дворян-
162
ское гнездо», где рассказывается о встрече Лаврецкого с Ли-
зой, ушедшей в монастырь: «Говорят, Лаврецкий посетил тот
отдаленный монастырь, куда скрылась Лиза, — увидел ее. Пе-
ребираясь с клироса на клирос, она прошла близко мимо не-
го, прошла ровной, торопливо-смиренной походкой монахи-
ни - и не взглянула на него; только ресницы обращенного к
нему глаза чуть-чуть дрогнули, только еще ниже наклонила
она свое исхудалое лицо - и пальцы сжатых рук, перевитые
четками, еще крепче прижались друг к другу».
Композиционно этот фрагмент расположен там, где чита-
тель естественно ждет психологической картины, но ее-то и
нет, на ее месте - только ряд внешних деталей. Благодаря это-
му «обманутому ожиданию» мы просто не можем воспринять
этот фрагмент как чисто внешнее описание, у нас появляется
потребность домыслить душевное состояние Лизы. Благодаря
исключительно точно найденным деталям мы можем это сде-
лать; при всем различии в индивидуальной расшифровке П.
каждый ясно представит себе основное: неизменным осталось
чувство Лизы к Лаврецкому, но так же неизменно ее твердое
решение остаться в монастыре, отказываясь от личного счас-
тья во имя долга, как она его понимает.
П. обогащает изобразительные и выразительные возмож-
ности художественного слова, позволяет ярко и зримо пред-
ставить в произведении те жизненные явления, о которых не-
возможно или нецелесообразно говорить прямо. Именно по-
этому П. чаще всего необходим для изображения душевной
жизни человека, для воссоздания сложных психологических
состояний. Прямое называние психологических процессов
часто лишает их тонкости и неповторимости, огрубляет и вы-
прямляет внутреннее состояние. П. позволяет избежать такой
опасности.
Например, у Симонова в романе «Живые и мертвые» ко-
мандующий, разговаривая с Серпилиным, постоянно смотрит
ему прямо в лицо, и тот момент, когда он выходил из окруже-
163
ния, вспоминает, «впервые за все время глядя не перед собой,
а в сторону». Этой неприметной деталью Симонов очень ясно
показывает нам, как тяжело пришлось людям в окружении,
как тяжело вспоминать сейчас об этом командующему, и на-
сколько это воспоминание, что называется, «въелось в душу» -
его, в сущности, всегда переживаешь наедине с самим собой,
даже если рядом и есть собеседник; переживаешь как нечто
глубоко личное, и даже глаза невольно отводишь, погружаясь
в эти воспоминания. Психологический рисунок слишком
сложен, чтобы обозначать его с исчерпывающей ясностью;
П. нередко оказывается здесь художественно более убеди-
тельным и эмоционально впечатляющим, чем прямое изоб-
ражение.
Особенно уместно психологическое изображение с помо-
щью П. в драме, где отсутствует речь повествователя. Если ге-
рой сам будет рассказывать нам о своем внутреннем состоя-
нии, это чаще всего не произведет впечатления достовернос-
ти, иногда же может звучать и вовсе комично. Епиходов или
Раневская в «Вишневом саде» Чехова могут говорить про се-
бя, что они страдают — это производит соответствующее за-
мыслу автора комическое впечатление. А вот Лопахин, на-
пример, или Варя говорить о своих страданиях вслух не могут -
это разрушило бы психологический облик этих персонажей и
изменило авторское отношение к ним, - но за их бытовым,
внешне спокойным диалогом мы чувствуем именно страдание —
глубоко скрытое и именно поэтому возбуждающее искреннее
сочувствие.
Иногда П. используется не только для передачи внутрен-
него состояния, но и для создания сюжетных эпизодов или
внешних картин. Вот, например, как изображено самоубий-
ство героини в поэме Пушкина «Кавказский пленник»:
«Вдруг волны глухо зашумели,/ И слышен отдаленный
стон.../ На дикий брег выходит он,/ Глядит назад, брега ясне-
ли/ И, опененные, белели;/ Но нет черкешенки младой/ Ни у
164
брегов, ни под горой.../ Все мертво... на брегах уснувших/
Лишь ветра слышен легкий звук,/ И при луне в водах плеснув-
ших/ Струистый исчезает круг».
Это пример использования П. в сюжетном построении
произведения. А вот пейзажная картинка, нарисованная Твар-
довским с помощью подтекста: «В лесу заметней стала елка».
Здесь у П. уже несколько иные функции. В первом случае
он создает романтический колорит, просветленное элегичес-
кое настроение, снимая излишнюю подробность и натуралис-
тичность, которые шли бы вразрез с общим романтическим
строем поэзии. Во втором случае П. создает яркий, мгновенно
встающий перед глазами поэтический образ, «освежая» вос-
приятие осеннего леса, желтых деревьев, на фоне которых
резко выделяется зеленая елка.
В П., особенно выражающем психологическое состояние,
очень важно, чтобы авторский намек был достаточно понятен,
а с другой стороны — раскрывался не слишком легко и проза-
ично. В равной степени плохо и когда простое, легко доступ-
ное прямому изображению состояние маскируется П., и когда
смысл настолько зашифрован, что непонятно, что же, собст-
венно, за авторским намеком стоит и стоит ли вообще что-ни-
будь. И то и другое вызывает ощущение претенциозности, кра-
сивости, ложной многозначительности, что, естественно,
сильно снижает художественную ценность произведения.
А. Есин
Постмодернизм (от лат. post — после и фр.
modeme - новый). Как вытекает из названия, П. должно на-
зываться то, что следует после нового.
Один из самых ярких представителей П., Умберто Эко,
формулирует следующее: «Постмодернизм - не фиксирован-
ное хронологическое явление, а некое духовное состояние... В
этом смысле правомерна фраза, что у любой эпохи есть свой
165
собственный Постмодернизм... По-видимому, каждая эпоха в
свой час подходит к порогу кризиса, подобного описанному у
Ницше в "Несвоевременных размышлениях", где говорится о
вреде историзма...» (Иностр, лит. 1988. № 10. С. 101-102).
На самом деле впервые слово было употреблено еще в се-
редине 1917 г. и периодически мелькало в разнообразных фи-
лологических и философских работах, в которых ставилась
цель показать отличие поэзии и поэтики авангарда от «клас-
сических» форм и норм. При этом «модернизм» восприни-
мался как часть классической культуры.
С течением лет сформировалась традиция называть П.
особый тип философствования, философской рефлексии,
полагающей себя глубоко отличной от классической культур-
ной традиции в самом широком смысле. Очень важна в П.
связь с социальными, экономическими науками и технологи-
ческими областями, выводящая проблематику мировоззре-
ния далеко за рамки искусства. Сомнению подвергаются все
ценности классического искусства, о каждой из которых ока-
зывается возможным сказать что-то вроде «а король-то гол!»;
иронически воспринимается традиционное единство «разу-
ма» и «чувства», отрицается возможность непосредственного
восприятия того или иного объекта, особенно эстетического.
Современный человек, с точки зрения П., существует во вре-
мя, которое, строго говоря, нельзя назвать историческим. Все
главные события уже совершились; все завоевания в различ-
ных областях духа, сознания и др., которые могло совершить че-
ловечество, уже совершились. Остается лишь экстенсивное раз-
витие, производство и воспроизводство материальных и прочих
благ (но главным образом все же материальных - от «мате-
рия»), никаких открытий сделать невозможно. Все, что будет
возникать и происходить далее, обречено на комбинирование
элементов различных знаковых, ценностных и других систем.
П. отрицает не только «конечную истину» о мире, но и
правомерность самого разговора о ней. Поэтому снимается
166
вопрос о «вторичности» ряда произведений, основанных на
прямом заимствовании темы, приема, системы образов и др.:
отсутствует то, что «первично». Нет также и положительных
или отрицательных героев, поскольку отсутствует сколь-ни-
будь устойчивое представление о стабильных категориях доб-
ра и зла: эти представления, по мнению постмодернистов, по-
рождаются не экзистенциальным ощущением человека, а его
социализацией и идеалогизацией отношений с миром.
П. ощущает себя в ситуации постистории, постфилосо-
фии; существуют «постмодернистская социология», «постмо-
дернистская культурология», «постмодернистская лингвисти-
ка» и др.
Человек замыкает свое внимание на самого себя. Его инте-
ресует только его состояние как таковое, и любой продукт его
деятельности самодостаточен, существует только для удовле-
творения специальной, той самой потребности, для которой
он был создан. Развивается спецификация, совершенствуется
инструментарий, но не воспитывается чувство целого — и дек-
ларируется отмена потребности в этом чувстве. Современ-
ность дает почву для подобного ощущения человека в мире,
хотя ее проявления, казалось бы, носят частный характер, воз-
никают «силою вещей» и не соотносятся напрямую с пробле-
матикой постмодерна: например, специализация врачей, при
которой врач лечит лишь какую-либо область тела, имея са-
мые смутные представления о том, как она соотносится с ос-
тальными. Здесь же — утрата ценностного понятия «учитель»,
практически заменяющегося «предметником», «преподавате-
лем», «педагогом», которые не несут в себе компоненты обяза-
тельного духовного руководства, наставничества.
По мере утраты целостного и религиозного самоощуще-
ния закономерно меняется и духовный облик человечества. В
дохристианскую эпоху «сильная личность» — герой, которому
приписывалось по крайней мере полубожественное проис-
хождение, защищающий свою страну или свершающий неко-
167
торое великое деяние (таковы кельтский Кухулин или Алек-
сандр Македоский). Также героический характер приобретает
личность философа (Диоген, Сократ, Архимед), в других ситу-
ациях заслуживающая вечной памяти и славы в веках благодо-
ря своему разуму. Библейская эпоха поражает величием обли-
ка тех, кто понимал волю Иеговы, и — по контрасту — ничтоже-
ством тех, кто отвергал единого Бога, даже если в социальном
плане они и занимали важные позиции. В первые века христи-
анства «сильная личность» обычно — либо опять-таки борец за
свою страну или завоеватель, либо, что значительно чаще, хри-
стианский мученик, чей духовный религиозный подвиг заслу-
живает увековечения и поминовения. Новое время, по мнению
Б. Рассела, начинающееся с костра над Джордано Бруно, знает
великие имена ученых, политиков, воинов, но вот духовных
подвижников становится все меньше, а деяния их все более ло-
кальны (в России после XVII в. с Сергием Радонежским может
сравниться разве что Серафим Саровский). Наконец, новей-
шее время сравнительно скудно именами, которые могут быть
восприняты как образцовые для подражания. Более того: в об-
ществе постепенно исчезает потребность такого подражания,
необходимость в подобной идеальной модели.
Все это является мировоззренческими предпосылками П.
Отменяя божественную природу мироздания, он отменяет и
ценностную отнесенность понятий «жизни» и «смерти». Для
постмодерниста естественно рассуждать о «смерти автора»
литературного произведения или «смерти субъекта» (которая
заключается в ликвидации оппозиции между субъектом и
объектом, характерной для всей предыдущей культуры). Во-
обще все противопоставления и противоположности (муж-
ское — женское, внутреннее — внешнее, массовое — элитарное
и др.) «отменяются», упраздняются. Все явления мира беско-
нечно осмысляются в кругу себе подобных.
Среди противоречий, снимаемых П., является «элитар-
ное» — «массовое». Произведения искусства не делятся на
168
«высокие» и «низкие». Любой язык любого рода хорош для вы-
ражения художником своей «концепции». С другой стороны
язык общения между постмодернистами настолько специфи-
чен, что никак не может считаться «общепонятным» и создает
препоны для настоящей «массовости» или, что преимущест-
венно для других систем культуры, — всеобщности. Слова
«проект», «концепция», «акция», «стратегия», «актуальность» и
другие и производные от них стали сегодня общераспростра-
ненными. Однако обилие наукообразной лексики в любых
текстах создает препятствия для понимания «непосвящен-
ных». Ср. слова и словосочетания: дистанцирование, консти-
туирование, витальность, аппликация, экспликация, онто-
тео-телео-фалло-фоно-логоцентризм, «гештальтирующие оси
мыслительного пространства», дихотомия, объективация, ши-
зоанализ, симулякр, унификация, парадигмальный статус и др.
Аналогичные примеры находим в истории русской литера-
туры, ср. в «Былом и думах» Герцена: «Конкресцирование аб-
страктных идей в сфере пластики представляет ту фазу само-
ищущего духа, в которой он, определяясь для себя, потенци-
руется из естественной имманентности в гармоническую сфе-
ру образного сознания в красоте» (цит. по: Берлин И. История
свободы. Россия. М., 2001. С. 30).
С другой стороны, П. ничего не принимает на веру, ни о
чем не готов судить обобщенно, стремится рассмотреть явле-
ние со всех обозримых сторон, «объективно», и не выносить
вердиктов, обычно, как показывает история культуры, слиш-
ком схожих с судебными. Ирония и пародийность для него яв-
но предпочтительнее «сотворения кумиров». Впервые в исто-
рии человек получает некоторые модели для удержания собст-
венных границ, личной независимости при коллективном
способе существования.
Единственным способом существования человека объявля-
ется такой, который, с одной стороны, артикулирован (т.е. про-
говорен или как-то иначе сформулирован самим человеком), а с
169
другой - обладает выраженным знаковым характером. Вот поче-
му главным объектом изучения, рефлексии, обсуждения и глав-
ным полем коммуникации является текст. Ему придаются все
вышеперечисленные атрибуты. Более того, любая человеческая
реальность может быть трактована как текст (от литературного
произведения до живописного полотна, алгоритма или акта со-
циального поведения и др.). Рефлексии подвергаются все виды
текстов (нормально, например, отрефлектировать инструкцию
по вождению автомобиля или схему устройства пельменного ап-
парата). Причем текст — это далеко не первоисточник, но и вся
совокупность написанного в целях его анализа, весь корпус ин-
терпретаций, интертекстуальных связей. Такое восприятие в из-
вестном смысле снимает проблему «единственности» текста, с
другой — расширяет поле его анализа. Однако такое расширение
границ в реальной научной практике оборачивается произво-
лом: поскольку границы между системами культур признают-
ся непрочными и неочевидными, то все что угодно может быть
объяснено, истолковано опять-таки через «все что угодно».
«Постчеловек» П. получает ряд «постэстетических» воплоще-
ний во множестве течений «постискуства». Это, например, поп-
арт, который видит человека демократом и приобретателем, су-
ществующем в обществе всеобщего потребления. Сонористика
предпочитает игру тембров любых звуков (скрип, свист, шурша-
ние и др.), с помощью чего выражается авторское «я». Алеатори-
ка говорит о человеке как об игроке в мире случайностей. Музы-
кальный пуантилист утверждает бытие в осколочном мире, ли-
шенном целостности. Гиперреализм предлагает человеко- и жиз-
неподобную схему, функционирующую в жестоком и грубом ми-
ре, но обезличивает ее. Фотореализм, во многом близкий к ги-
перреализму, демонстрирует обыкновенного человека в обыден-
ном мире, причем все, что изображается, видится не непосредст-
венно, а лишь с некоторого фотоснимка. Хеппенинг настаивает
на том, что личность анархически свободна, однако при этом ею
можно манипулировать. Саморазрушающееся искусство выдви-
170
гает безликую личность, живущую в мире «ничто». Соц-арт ана-
лизирует социальную проблематику прошлого в свете переори-
ентаций на посткоммунистические ценности. Наконец, кон-
цептуализм считает, что человек отрешен от смысла культуры (ко-
торого, кстати говоря, не существует), и потому пребывает среди
эстетизированных продуктов интеллектуальной деятельности.
Ведущими представителями П. являются Р.Барт, Ж.Батай,
Ж.Бодрийяр, Ж.Делез, Ж.Деррида, Ф.Гваттари, П.Клоссов-
ски, Ю.Кристева, Ж.-М.Лиотар, М.Фуко и др. В понятийное
поле входят, например, следующие единицы: анти-психоло-
гизм, анти-Эдип, бинаризм, виртуальная реальность, декон-
струкция, дискурс, интертекстуальность, коллаж, конструк-
ция, лабиринт, «мертвая классика», «мертвый музей», миф,
мнимость, принцип «Мертвой руки», метафизика отсутствия,
нарратив, нонсенс, означивание, пастиш, постметафизичес-
кое мышление, пустой знак, симулякр, симуляция, «смерть
Автора», «смерть Бога», «смерть субъекта», событие, тексто-
вый анализ, трансгрессия, «украденный объект», хаосмос, ци-
татность, шизоанализ, юродство и др.
Д.Затонский считает одним из ярчайших и нагляднейших
произведений литературы П. «Имя розы» У.Эко. Среди отече-
ственных представителей П., к которым относятся, в частнос-
ти, концептуалисты, заслуживает внимания «Школа для дура-
ков» Саши Соколова: в нем предлагается возможность посто-
янного размывания личности, ее перманентная неадекват-
ность самой себе. Постмодернистский взгляд на мир форми-
рует «Москву— Петушки» В.Ерофеева, произведения В.Пеле-
вина, В.Сорокина и др.
В, Калмыкова
«Поток сознания» — считается одним из
самых современных повествовательных приемов. Действи-
тельно, термин «П.с.» и понятие «современный» (modem) в
171
особом смысле — ровесники, появились они почти одновре-
менно в 80-х г. XIX в. Но, во-первых, и сама «современность»,
как видите, имеет уже чуть ли не столетний возраст, и, во-вто-
рых, найти примеры «П.с.» в литературе можно еще раньше.
Прежде всего, «П.с.» — это одна из форм так называемого
«внутреннего монолога», приема очень давнего, драматичес-
кого. «Внутренний монолог» есть и в античной и тем более
шекспировской драме — в сценах, когда герой, оставшись сов-
сем один или обращаясь в сторону, рассуждает сам с собой. Но
у того же Шекспира, помимо прославленных «внутренних мо-
нологов» — признаний Гамлета или Ричарда 111, - встречают-
ся драматические моменты, напоминающие «П.с.». Крайняя
неупорядоченность «внутренней» речи — первый признак «по-
тока». Однако главное не в этом. Тут состояние особое, полу-
или вовсе бессознательное: сон, бред, умирание... В таком со-
стоянии персонаж совсем не обязательно должен оказаться
один или обратиться в сторону. Такого монолога персонаж,
собственно, и не произносит — слова выговариваются сами:
состояние пассивности или даже «отсутствия» по отношению
к самому себе. Присутствие других людей тут ничего и не зна-
чит, коль скоро человек отрешен от самого себя.
«Идеи у людей в голове просто ходят, как люди по Нев-
скому проспекту: Тальони, а потом Булгарин, а потом порт-
ной Оливье», — это в одном из писем 1840-х гг. отметил Гер-
цен. Кажется, Толстой прямо иллюстрирует это герценовское
наблюдение в «Анне Карениной», когда Анна, крайне расст-
роенная, едет по Тверской: «Я умоляю его простить меня. Я
покорилась ему. Признала себя виноватою. Зачем? Разве я не
могу жить без него». И, не отвечая на вопрос, как она будет
жить без него, она стала читать вывески: «’’Контора и склад.
Зубной врач”. Да, я скажу Долли все...»
Примерно в ту же эпоху, когда Толстой вводит в свой ро-
ман эпизоды в форме «потока», сходная идея складывается у
американского философа и психолога Вильяма Джеймса,
172
старшего брата писателя Генри Джеймса. Ученый рассуждал
следующим образом: «Выражения вроде "цепи” или "ряда” не
рисуют сознания так, как оно представляется самому себе. В
нем нет ничего такого, что могло бы связываться, — оно течет.
Поэтому "река” либо "поток” естественнее всего рисуют со-
знание». Это из книги «Научные основы психологии», вышед-
шей в 1890 г. и основанной на лекциях и статьях, которые
В.Джеймс читал и печатал в 1874—1879 гг.
Итак, «внутренний монолог» — это беседа, разговор, пусть
только с самим собой, но все-таки с кем-то... «П.с.» предпола-
гает другую искренность, если можно назвать это искреннос-
тью. Как следующая ступень проникновения в глубины пси-
хики, «П.с.» — уже такая искренность, за которой уследить че-
ловек не может. Конечно, очень заманчиво, пользуясь «П.с.»
как повествовательным способом, дать самую непосредствен-
ную картину «души», но где поместить наблюдателя-рассказ-
чика? Сам персонаж рассказать ничего не может. Присутствие
посторонних при душевной работе возможно, однако оно на-
рушает непосредственность и, стало быть, достоверность. Та-
ков повествовательный парадокс: открывается душа до преде-
ла, а заглянуть в «бездну» некому!
Нам скажут: но вот же Толстой вводит «поток», исподволь
управляя им. О том, насколько Толстой отдавал себе отчет в
принципиальных трудностях, связанных с «потоком», говорит
тот факт, что использовал Толстой этот вполне уяснившийся
ему прием очень ограниченно, в пределах эпизода, отдельных
психологических зарисовок. Опыт писателей, пытавшихся
развернуть «поток» в целое повествование, подтвердил нали-
чие этих трудностей.
На рубеже XIX—XX вв. и особенно в начале нашего века
целый ряд писателей, подобно тому как бывает это в науке,
одновременно и независимо друг от друга пытались указан-
ные трудности преодолеть. Получалось, или лучше сказать не
получалось, у них в принципе одно и то же: минутные вспыш-
173
ки поразительной психологической проникновенности, осве-
щающей самые затаенные уголки сознания, а между ними по-
истине поток, серый и скучный, лишенный объема, динами-
ки, интереса. Наиболее одаренным и значительным среди
этих экспериментаторов был англо-ирландский писатель
Дж.Джойс (1882—1941), с именем которого обычно и связыва-
ют в литературе «П.с.». Поскольку Джойс решил исчерпать
«поток» поистине до дна, до самых сокровенных глубин, он
представил в романе «Улисс» (1921) такую картину сознания
своих персонажей, что напугал «цензуру нравов». Однако су-
дья, которому этот роман поступил на рассмотрение, оказал-
ся человеком неглупым, он разобрался в замысле Джойса,
увидев в его книге «попытку показать, как на всем простран-
стве сознания с его вечно передвигающимся фокусом отмеча-
ется, словно на грифельной доске, не только то, что составля-
ет центр в наблюдениях человека за явлениями, его окружаю-
щими, но также и находящаяся в тени сфера прошлых впечат-
лений, вовсе недавних, только что полученных или извлечен-
ных по ассоциации из-под сознания». Решив судьбу романа в
пределах ему подсудных - с точки зрения закона и порядка,
судья естественно оставил открытым вопрос критический:
насколько «полная картина сознания» в самом деле удалась
Джойсу?
Так, например, в романе есть замечательный эпизод из
второй главы: в школе после уроков учитель объясняет неус-
певающему ученику задачу: «— Поняли теперь? Сможете вто-
рую сделать сами? — Да, сэр». И пока ученик списывает при-
меры, учитель, совсем еще молодой, думает про себя: «Такой
же был и я, те же опущенные плечи, та же угловатость. Мое
детство, склонившееся рядом со мной. Слишком далеко, что-
бы хоть слегка, хоть один раз дотянуться до него. Мое — дале-
ко, а его — таинственно, как наши глаза. Тайны, темные, ти-
хие, таятся в чертогах наших сердец; тайны, уставшие оттира-
нии; тираны, жаждущие быть низвергнутыми».
174
В романе — разные персонажи, разные сознания, соответ-
ственно разные «потоки». Например, прохожий: он опасается
встречи со знакомым и в то же время смотрит по сторонам:
«Красивое здание. По проекту сэра Томаса Дина. Не идет за
мной? Может быть, не видел. Свет ему в глаза. Учащенное ды-
хание вырывалось короткими вздохами. Скорей. Холодные
струи: там тихо. Через минуту спасен. Нет, не видел меня. Тре-
тий час. У самого входа. Сердце!»
Сознания разные, разная по направлению и характеру ра-
бота сознания или, точнее, подсознания, но для автора труд-
ность одна — вот так, на выбор, цитатами, отдельными строч-
ками или эпизодами, получается живо и выразительно, а в
масштабах целого повествования читатель, погруженный в
«поток», утомляется, теряет ориентиры и вместе с этим самое
главное — интерес к происходящему. Поэтому даже те, для ко-
го Джойс — бесспорная классика, признают: сделать «П.с.»
универсальным эпическим методом ему не удалось.
С 1920-х гг., еще с тех пор, как в ленинградском альмана-
хе «Новинки Запада» в 1925 г. были впервые опубликованы в
переводе отрывки из «Улисса», у нас началась дискуссия во-
круг Джойса и возможностей «П.с.». Но именно потому, что
судили чаще всего только по отрывкам, не все спорящие хо-
рошо представляли себе, что значит переход от эпизода к це-
лому роману, от приема к повествовательному методу в стиле
«П.с.». На это настойчиво указывал в своих статьях начала
30-х гг. разносторонне осведомленный в зарубежной литера-
туре критик Д.Святополк-Мирский. Ему, читавшему Джойса,
был ясен основной парадокс: динамика, достигаемая с помо-
щью «потока» в пределах эпизода, совершенно теряется на
протяжении романа — «Улисс» неподвижен.
За полемикой внимательно следил Горький. Он, в частно-
сти, с карандашом в руках читал статью Д.Святополка-Мир-
ского о Джойсе, опубликованную в альманахе «Год шестнад-
цатый» (1933). Он сам в это время работал над «Жизнью Кли-
175
ма Самгина», и его глубоко интересовали как проблема кри-
зиса либерально-интеллигентского сознания, так и средства
ее художественного отображения. Нашел свое место в горь-
ковской эпопее и «П.с.». Прежде всего для характеристики
Самгина и «самгиншины».
«Какая чепуха! — думал Клим, идя по улице, но все-таки
осматривая рукава тужурки и брюки: где прилеплена на него
котовинка? — Как пошло, — повторял он, смутно чувствуя не-
обходимость убедить себя в том, что это благополучие именно
пошло и только пошло. — В сущности, Томилин проповедует
упрочение такое же, как материалисты, поражаемые им, — ду-
мал Клим и почти озлобленно старался найти что-нибудь об-
щее между философом и черным, зеленоглазым котом. — Ко-
ту следовало бы сожрать чижа, — усмехнулся он. Шумело в го-
лове. — Кажется, я отравился этими железными пряниками...»
Конечно, «П.с.» — это не обязательно кризис и распад. Ас-
социативным путем работает всякое сознание, в том числе ес-
ли движется оно к просветлению и цельности. Все зависит от
общих идей и задач, которые руководят писателем.
Наши современные прозаики прибегают к «П.с.» в самых
различных ситуациях, но это именно «П.с.» как один из при-
емов, одно из средств, а не повествовательный метод в целом.
Эпизоды в стиле «П.с.» есть в «Круге» Анара и в «Старике»
Ю.Трифонова. А вот «П.с.» одного из персонажей романа
«Жажда» Миколаса Слуцкиса. Персонаж этот характеризуется
как «неопомнившийся человек», точнее, сам он себя так опре-
деляет и стремится «опомниться»: «Нет, не буду плясать под их
дудку... Нечего гонять меня как собаку! Дождусь Мигле. Здесь.
Если все они против меня, Мигле будет за. Она умная. Видит
их насквозь. Гордая... Чуть тронул не ту струну... Наверняка
торчит где-нибудь в кафе; клубы дыма, пятая чашка кофе, кто-
нибудь из ее размалеванных старых подружек... Буду ждать».
«П.с.» вошел в литературу подобно тому, как в свое время
вошли и стали вполне традиционными другие повествова-
176
тельные способы — «приключения», «письма» и тот же «внут-
ренний монолог». «П.с.» давно уже не новшество, но это не
означает, будто возможности его исчерпаны. Как старый вер-
ный способ «приключений» оживает всякий раз, когда похож-
дения персонажей увлекательны, так и «П.с.» способен слу-
жить писателю и быть интересным для читателей, если несет в
себе серьезный смысл.
Д.Урнов
Притча — короткий рассказ, сюжет которого раскры-
вается как иносказание с нравоучительной целью. Слово П.
имеет два дополняющих друг друга значения; случай (сравним:
при-текать и с-течение) и указатель пути (древнее значение сло-
ва «течь» — идти, двигаться; в пушкинском «Анчаре»: «и тот по-
слушно в путь потек»; следовательно, притча — это что-то необ-
ходимое «при пути», а путь, как известно, непреходящий символ
человеческой жизни). Таким образом, событие П. неотделимо
от порождаемого им же самим морального напутствия.
Жанр П. дошел до нас из глубин дописьменной древности.
В строении П. отразилось мироощущение человека, начавше-
го осознавать окружающий его мир через уподобление. Упо-
добление давало образное представление о единстве, взаимо-
связи всего: земля рождает как женщина, а созревание плода
подобно созреванию человека. Известное выражение-П.
«вы - соль земли» толкуется так: вас мало, но вы необходимы
на земле, как необходима крупица соли для еды. Уподобление
лучших из людей «соли земли» связывает в плотное и органи-
ческое единство представление о высоком достоинстве чело-
века и самое обычное житейское знание о том, что соль соло-
на. Через уподобление мир постигается в единстве простого и
сложного, низкого и высокого, далекого и близкого.
Многие из П., имеющие фольклорное, устно-поэтическое
происхождение, вошли в широкое употребление через Биб-
177
лию. Таковы П. о блудном сыне, о сеятеле, о горчичном зер-
не, о закваске и другие. Сюжеты этих П. просты и ясны, но
толкование их становилось все более сложным по мере ус-
ложнения человеческих представлений о себе и о мире. Яс-
ные образы П. использовались как алфавит на пути к высше-
му знанию, к духовному «зрению»: «потому говорю им П., что
они видя не видят, и слыша не слышат и не разумеют». Так
сложился жанровый канон П. — сюжет, банальный, как сама
жизнь в ее привычных, обыденных формах, и толкование,
сложное, зачастую изощренное, как та же самая жизнь при
более пристальном взгляде на нее. П. «доступна для всех, а с
другой стороны по глубине сокровенного смысла сохраняет
печать таинственности» (Бл. Августин).
В средние века составлялись большие сборники П. («цвет-
ники», «стословы», «деяния»). Особую популярность П. в эту
эпоху можно объяснить характером мироощущения средне-
векового человека, который любое, самое незначительное со-
бытие своей жизни воспринимал как знак вмешательства из
потусторонних сфер. Для него весь мир раскрывался как П.,
был исполнен обязательным смыслом иносказания — (мир
как слово Бога). П. зачастую называли мудрое изречение, со-
держащее непременное «напутствие» слушающему или чита-
ющему, что свидетельствует о преимущественном внимании
именно к дидактическим возможностям этого жанра. И сю-
жет и поучение в П. имели одну цель — дать пример, образец
для подражания. Событие имело притчевый смысл только
тогда, когда в нем отчетливо проступало: делай так, а не ина-
че. Так вырабатывалось ценное свойство этого жанра, кото-
рое можно определить как эффект непосредственного, «опе-
ративного» контакта с моральным чувством читателя. П. о
блудном сыне, к примеру, завершается словами отца, обра-
щенными к старшему сыну (который недоволен тем, что отец
сразу простил младшего сына, мота и развратника): «о том на-
добно было радоваться и веселиться, что брат твой был мертв
178
и ожил, пропадал и нашелся». Ясно, что здесь важен мораль-
ный урок П.— то, что «надобно было».
В литературе Нового времени жанр П. не исчез из худо-
жественной практики, хотя и был постепенно оттеснен во
второй ряд жанровой иерархии (это связано с неприятием
традиционных форм дидактики — в первую очередь романти-
ками). Характерно, однако, что сам принцип иносказания —
основа П. — начинает активно «работать» в популярных жан-
рах эпохи: в романе, драме, лирическом фрагменте. При
этом широко используются освященные традицией образы
древних П., переводящие смысл повествования в торжест-
венный регистр универсальных обобщений, как, например,
образ блудного сына в стихотворении Пушкина «Воспоми-
нания в Царском Селе» (1829): «Воспоминаньями смущен-
ный,/ Исполнен сладкою тоской,/ Сады прекрасные, под су-
мрак ваш священный/ Вхожу с поникшею главой./ Так отрок
Библии, безумный расточитель,/До капли истощив раская-
нья фиал,/ Увидев наконец родимую обитель,/ Главой поник
и зарыдал».
В новой и новейшей литературе жанр П., несмотря на от-
дельные попытки сохранить его традиционную форму (напри-
мер, сборник П. «Цветник», изданный Л.Толстым в 1886 г.),
претерпел существенные изменения. В первую очередь эти из-
менения коснулись соотношения сюжета и «сокровенного»
смысла. Толкование перестало возвышаться над событием П.
как «дух» над «плотью». В переработках традиционных прит-
чевых сюжетов Лесковым, в П.-сказках Гаршина символ и ре-
альность слиты воедино. Смысл П. перестает быть переводом
с языка реальности на язык мистических значений, он стано-
вится открытым.
В XX веке притчевость — одна из постоянных и весьма су-
щественных характеристик многих выдающихся произведе-
ний мировой литературы. Она входит как неотъемлемый эле-
мент в творчество таких непохожих по художественным уста-
179
новкам писателей, как Кафка, Хемингуэй, Маркес, Голдинг и
другие. Появляются новые жанровые определения: роман-П.,
драма-П., новелла-П. Однако само по себе сопряжение слова
П. с названием того или иного жанра мало что объясняет. Что
такое, например, «роман-П.»? Как известно, социально-пси-
хологический роман — одно из высших достижений реализма
в литературе — предполагает создание сложного, объемного,
неоднозначного образа реальности, образа, который вбирает
в себя всю полноту природных и социально-психологических
предпосылок. Не находится ли эта сложность в очевидном
противоречии с моральной категоричностью П.? Опыт совре-
менной литературы показывает, что это противоречие (речь
идет не только о романе-П., но вообще о феномене притчево-
сти в современной литературе) преодолевается в художест-
венной практике в основном двумя способами.
Один из них — своего рода притчеватый эксперимент с ре-
альностью, когда через гротесковое нарушение привычных
пропорций, через насыщение сюжета аллегорическими смыс-
лами предельно ясно и четко выясняется подлинная, глубин-
ная логика изображаемого мира. Такой принцип господству-
ет, например, в романе Кафки «Процесс». Другой способ, о
котором уже шла речь выше, органичное «прорастание» прит-
чевого смысла из самой реальности. Этот способ точно опре-
делен в авторской оценке повести Хемингуэя «Старик и мо-
ре»: «Я попытался дать настоящего старика и настоящего
мальчика, настоящее море и настоящую рыбу и настоящих
акул. И если мне удалось это сделать достаточно хорошо и
правдиво, они, конечно, могут быть истолкованы по-разно-
му». При этом образы начинают как бы двоиться, то собирая
в фокусе всю полноту реальных характеристик, то отслаивая
контур «вечных», притчевых смыслов (старик Сантьяго в по-
вести Хемингуэя это и простой кубинский рыбак, и Человек
как он есть, Человек в сложном состоянии схватки и единст-
ва с миром). Но окончательного раздвоения не происходит,
180
повествование не исчерпывается мерой какого-либо «учи-
тельного» вывода, сохраняет свой сложный объем и свобод-
ную смысловую перспективу.
В «Записных книжках» А.Платонова есть такая запись:
«Смысл жизни не может быть большим или маленьким — он
непременно сочетается с вселенским и всемирным процессом
и изменяет его в свою особую сторону, — вот это изменение и
есть смысл жизни». В рассказах и повестях самого Платонова,
в романах М.Булгакова, в произведениях современных масте-
ров советской прозы — В.Распутина, Ч.Айтматова, Ч.Амирэд-
жиби мы ощущаем неразрывную, родственную связь нашей
повседневности с «вселенским и всемирным процессом». Яс-
ные образы этого родства выходят за пределы конкретных сю-
жетных ситуаций и складываются в П. с ее непреложным ус-
ловием: живи и помни.
У писателя может быть сознательная установка на «вто-
рой», притчевый план повествования (как, например, в рома-
не Ч.Амирэджиби «Дата Туташхиа»), а может и не быть. Но
обостренное чувство того единого смысла жизни, о котором
писал Платонов, создает предпосылки для «непреднамерен-
ной» притчевой символики, так как П., по определению, не
только напутствует нас, но и проясняет внутреннюю сплочен-
ность, сложное единство нашего многообразного мира.
П. Толстогузов
Произведение литературное -
форма существования литературы как искусства слова. Что же
присуще ему как произведению искусства, что делает его ху-
дожественным по своей сущности?
Наверняка многим знакомо то чувство, которое испыты-
вал замечательный читатель Алеша Пешков — герой автобио-
графических повестей Горького: «Я стал читать... и утонул в
желтоватых, изношенных страницах, подобных осенним лис-
181
тьям; они легко уводили меня в иную жизнь... Свет, скрытый
между строк, освещал доброе и злое, помогая любить и нена-
видеть, заставляя напряженно следить за судьбами людей,
спутанных в тесный рой. Сразу возникало настойчивое жела-
ние помочь этому, помешать тому, забывалось, что вся эта не-
ожиданно открывшаяся жизнь насквозь бумажная, все забы-
валось в колебаниях борьбы, поглощалось чувством радости
на одной странице, чувством огорчения на другой».
Но переживая «настойчивое желание помочь этому, поме-
шать тому», мы одновременно чувствуем и невозможность та-
кого реального вмешательства в жизнь героев художественно-
го П. А если вы в самом деле попытаетесь, например, подоб-
но Дон Кихоту на спектакле театра марионеток, вмешаться в
происходящее на сцене и помочь героям спектакля устано-
вить справедливость, то вы перестанете быть зрителем, и пье-
са будет разрушена и перестанет существовать как художест-
венное произведение. Содержащаяся в нем «неожиданно от-
крывшаяся жизнь» всегда связана с реальной действительно-
стью и в то же время не тождественна ей, является ее изобра-
жением, претворением, художественным отражением — но от-
ражением «в форме жизни», отражением таким, которое не
просто рассказывает про жизнь, но само по себе предстает как
особая жизнь.
«Овладеть всем миром и найти ему выражение» — такова
сверхзадача художника, по прекрасному определению Гёте.
Потому и размышления о природе П. искусства неразрывно
связаны с глубочайшим философским вопросом о том — что
такое «весь мир», представляет ли он собою единство и цело-
стность и можно ли «найти ему выражение», воссоздать его в
конкретном индивидуальном явлении.
Многочисленным современным утверждениям хаотичес-
кой разорванности бытия, глобальной разобщенности мира и
человека последовательно противостоит фундаментальное
положение марксистско-ленинской философии: мир пред-
182
ставляет собою единое «связное целое» (Ф.Энгельс), объек-
тивно существующее, бесконечное, исторически развиваю-
щееся. Это развитие порождает и включает в себя человека
как свою неотъемлемую часть и в то же время объединяется
человеком как общественным целым, потенциально включа-
ющим в мир своей жизнедеятельности все бытие.
Именно такой непосредственно воспринимаемой целост-
ностью и предстает человеческая жизнь в П. искусства: оно по-
казывает человека «во всем богатстве отношений ко всем сто-
ронам жизни» (Л .Толстой), оно воплощает связь времен и про-
странств, личностей и народов, исторических эпох и культур.
«Искусство есть воспроизведение действительности, по-
вторенный, как бы вновь созданный мир», — писал Белин-
ский. Здесь великолепно уловлена диалектика содержания ху-
дожественного П. Чтобы «повторить» неповторимый в своем
развитии и постоянном самообновлении мир, его надо «как
бы вновь создать», надо воспроизвести действительность, то
есть дать вновь такое индивидуальное явление, которое, не бу-
дучи тождественным реальной действительности, в то же вре-
мя выразит ее глубинную жизненную сущность и жизненную
ценность.
В самом деле, со школьных лет мы уверенно повторяем:
мир един, все в мире взаимосвязано. Но вот сейчас, когда вы
читаете эту статью, попробуйте сказать о том, как связано это
ваше чтение с тем, что происходит в эту же минуту где-нибудь
в очень далекой от вас Танзании, или с тем, что происходило
на месте, где вы сейчас находитесь, тысячу лет тому назад.
Но вот вы читаете роман Ч.Айтматова «И дольше века
длится день...» и как раз непосредственно воспринимаете по-
добные связи, чувствуете, что далекое прошлое неотрывно от
того, что происходит сейчас на Буранном полустанке. И если
все это - и легендарное прошлое, и история Буранного полу-
станка, и развертывающиеся события «долгого дня» — не ос-
тавляет вас равнодушными, если вы сочувствуете Едигею, Ка-
183
зангапу, Абуталипу, если вас волнует судьба великолепно на-
писанного верблюда Каранара, значит и все эти герои, и при-
рода, и события, происходящие на очень далеком от вас полу-
станке, становятся какой-то частью и вашей жизни. Вот и по-
лучается, что в данном случае принцип: все в мире взаимосвя-
зано — не просто провозглашен, а непосредственно осуществ-
лен, воплощен в органическом единстве художественного П.
П. это, чтобы реально существовать, должно быть создано
автором и воспринято читателем. И опять-таки это не просто
разные, внешне обособленные, но внутренне взаимосвязан-
ные процессы. Авторское творчество — это и постоянное вну-
треннее общение, автор не просто предполагает, но так или
иначе «строит», формирует принципиальные основы чита-
тельского восприятия как неотъемлемую часть художествен-
ного мира литературного П. И это не механическое подчине-
ние другого своей воле, а встреча, творческое взаимодейст-
вие, подлинно человеческое общение: общение с другим
здесь оказывается в то же время и общением с самим собой и
наоборот. Потому-то в истинно художественном П. «воспри-
нимающий до такой степени сливается с художником, что ему
кажется, что воспринимаемый им предмет сделан не кем-ли-
бо другим, а им самим» (Л.Толстой). Автор же выступает
здесь, как писал М.Пришвин, в роли «убедителя, заставляю-
щего и на море, и на луну смотреть собственным личным гла-
зом, отчего каждый, будучи личностью неповторимой, явля-
ясь в мир единственный раз, приносил бы в мировое храни-
лище человеческого сознания, в культуру что-нибудь от себя
самого».
Наличие двух масштабов: с одной стороны всего мира и
всех людей, а с другой — отдельного, индивидуального, непо-
вторимого явления - это необходимый признак художествен-
ного произведения. Но главное: живая связь этих двух мас-
штабов и то конкретное социально-историческое содержа-
ние, которое как раз и определяет каждый раз особый харак-
184
тер этой связи. Мы говорим: Печорин — типичный представи-
тель прогрессивного русского дворянства 30-х гг. Эта характе-
ристика, безусловно, необходимая для понимания сущности
этого героя. И в то же время недостаточная, если ограничить-
ся только лишь указанием на общие черты социального типа
определенной исторической эпохи. Во-первых, необходимо
указать, что это — «тип, но вместе с тем вполне определенная
личность» (Ф.Энгельс), неповторимая индивидуальность. Во-
вторых, сегодняшние школьники, весьма далекие и от дво-
рянства, и от 30-х гг. XIX в., но живо спорящие о том, хоро-
ший или плохой Печорин и как следует к нему относиться:
любить или осуждать? — проясняют общечеловеческое содер-
жание, воплощенное в этом герое. В типичном характере, со-
зданном в романе «Герой нашего времени», как раз и осуще-
ствляется органическая взаимосвязь этих трех содержаний:
всеобщего — общечеловеческого, особенного — конкретно-
исторического, единичного - индивидуально-личного.
Общечеловеческое, конкретно-историческое и индивиду-
ально-неповторимое всегда присутствуют в художественном
П. И не просто присутствуют, но и внутренне объединяются
таким образом, что преодолевается их обособленное сущест-
вование. Потому-то художественное П. и оказывается способ-
ным прояснить подлинный масштаб человеческой истории,
передать не только отдельный момент исторического разви-
тия, но и связь времен, сохранить и выразить то, что возвра-
щается и вместе с тем невозвратно и неповторимо.
П. представляет собою внутреннее, взаимопроникающее
единство содержания и формы. «Стихи живые сами говорят, и
не о чем-то говорят, а что-то», — писал С. Маршак. Действи-
тельно, очень важно осознавать это различие и не сводить со-
держание литературного произведения к тому, о чем в нем
рассказывается. Содержание — это органическое единство
отображения, осмысления и оценки действительности, при-
чем мысли и оценки в художественных П. не существуют обо-
185
собленно, как масло в воде, но пронизывают изображаемые
события, переживания, действия. И существует этот нераз-
рывный сплав действительности, мысли и чувства только в
художественном слове — единственно возможной форме во-
площения данного жизненного содержания.
Содержание - это вовсе не только то, о чем рассказывается,
а форма совсем не сводится к отвлеченному, как рассказывает-
ся, не сводится к набору приемов и речевых средств. Никакая
метафора, никакое ритмическое построение, никакой компози-
ционный прием сами по себе не имеют художественной ценно-
сти. Одна и та же ритмическая вариация того же самого четырех-
стопного хорея может быть и элементом поэтической формы в
прекрасных стихах поэмы Твардовского: «Переправа, перепра-
ва... Берег левый, берег правый...», и частью совершенно анти-
поэтического, рекламного сооружения, высмеянного А. Райки-
ным: «Позабудьте все вопросы. Покупайте папиросы...»
Любое слово, любое речевое средство оказывается значи-
мым художественно лишь тогда, когда оно перестает быть
просто информацией, когда внешние по отношению к нему
жизненные явления становятся его внутренним содержани-
ем, когда слово о жизни преображается в жизнь.
Из сказанного ясно, что художественная форма литера-
турного П. - это не просто «техника». «Что такое отделывать
лирическое стихотворение... доводить форму до возможного
для нее изящества? — писал Я.Полонский. — Это, поверьте,
не что иное, как отделывать и доводить до возможного в че-
ловеческой природе изящества свое собственное, то или иное
чувство... Трудиться над стихом для поэта то же, что трудить-
ся над душою своей». Труд над осмыслением окружающей и
своей собственной жизни, труд над «душою своей» и труд над
построением литературного П. - это для настоящего писате-
ля не три разных вида деятельности, а единый творческий
процесс.
М. Гиршман
186
Пролог и эпилог (от греч. prologos — предис-
ловие; epilogos - послесловие). Если смотреть на П. и Э. с
«вершины сюжета», то они оказываются на самой его пери-
ферии - как подножие горы. Однако хорошие книги читают-
ся иначе, во всяком случае, не с середины. Первые и послед-
ние страницы для нас не менее значительны, чем кульмина-
ционные.
Вызревшие в древнегреческом искусстве П. и Э. — продукт
разложения синкретизма и памяти о нем. «Песни лиро-эпиче-
ского характера представляются первым естественным выде-
лением из связи хора и обряда», - отмечал А.Веселовский.
Напротив, драматурги еще долго пользуются лирической и
эпической поддержкой, понимая, впрочем, что это поддержка
со стороны. Стремительное вращение драматической колли-
зии неизбежно вытесняло прямое сообщение и отношение за
границы фабульного действия. Так возникли П. и Э.
В античной драме П. - это звучащая по преимуществу в
исполнении хора историческая, бытовая или мифологическая
предыстория будущих событий, а в Э. закрепляется финаль-
ная расстановка сил, подводится нравственно-философский
итог произведения.
Постепенно происходило неуклонное сокращение П. и Э.,
ослабление их роли. Если в большинстве трагедий Эсхила за-
ключения и особенно вступления были развернутыми и мно-
гоступенчатыми, то уже древнеримские драматурги подчас об-
ходились лишь непосредственным сценическим действием.
Все чаще оно осознается как самодостаточное. Вроде бы у
Шекспира эпилогов еще немало, и все же в их необходимости
великий писатель явно сомневается: «Если правда, что хоро-
шему вину не нужно этикетки, то правда и то, что хорошей
пьесе не нужен Эпилог. Однако на хорошее вино наклеивают
этикетки, а хорошие пьесы становятся еще лучше при помощи
хороших Эпилогов», — говорит он устами Розалинды в Э. ко-
медии «Как вам это понравится».
187
В дальнейшем в своей привычной статической форме Э.
надолго исчезают из драматических сочинений, да и П. в ос-
новном становятся внесценическими: «предисловиями»,
«предуведомлениями», «открытыми письмами», «разборами»
пьесы Корнеля, Бомарше, Гюго снабжались уже при публикации.
Иначе складывалась судьба П. и Э. в эпосе. В традицион-
ных эпических жанрах (эпопея, героическая поэма, сказка)
лирические вступления и заключения сведены к минимуму: в
«Песни о Нибелунгах», например, для них хватило двух
строф, первой и последней. Коротки запев и исход и в рус-
ских былинах. Они выполняют как бы орнаментальную или
ритуальную функцию: «ворота открыты — ворота закрыты».
Чаще всего П. и Э. сказителю попросту не были нужны. Пока-
зательны начальная и финальная фразы одной из исландских
саг: «Жил человек по имени Аудун, а родом с Западных Фьор-
дов», «От этого Аудуна произошел Торстейн, сын Гюды». Рас-
сказ замкнут на событии, он последовательно излагает одну
судьбу, одно происшествие.
В эпосе П. и Э. начинают утверждаться вместе с развити-
ем индивидуального творчества. В просветительском романе
(у Филдинга, Голдсмита, Чернышевского), в таком дидакти-
ческом жанре, как басня, автор стремится дать точное на-
правление для читательского восприятия, четко установить
собственную мысль. В XIX в. лирика все активнее вторгается
в жанровую систему эпоса: развивается повесть с ее многооб-
разными отступлениями от основной повествовательной ли-
нии, появляется очерк, а поэма превращается в лиро-эпичес-
кое образование. Именно в противостоянии ей и определяют-
ся теперь такие сюжетные компоненты, как П. и Э. Здесь пи-
сатель высказывает то, что не может быть выражено через
описание событий. Образцом поэмного Э. является заключи-
тельное лирическое отступление о птице-тройке в первом то-
ме «Мертвых душ» Гоголя, а П. — авторское вступление из
«Медного всадника» Пушкина.
188
Конечно, существуют и другие формы П.: основное дейст-
вие может предваряться пейзажами (как, например, в «Кры-
жовнике» Чехова), обобщающим образом-символом (цветок
«татарина» в «Хаджи-Мурате» Л.Толстого), притчей («Дата
Туташхиа» Ч.Амирэджиби).
В эпических произведениях XIX—XX вв. П. — короткая
увертюра. Он задает тон, настраивает читателя на определен-
ную волну: «Первая послевоенная весна была на Верхнем Дону
на редкость дружная и напористая. В конце марта из Приазовья
подули теплые ветры, и уже через двое суток начисто оголились
пески левобережья Дона, в степи вспухли набитые снегом лога
и балки, взломав лед, бешено взыграли степные речки, и доро-
ги стали почти совсем непроездны» («Судьба человека» Шоло-
хова). Разве не ощутим в этих шолоховских строках намек на
будущую судьбу и характер Андрея Соколова?
Еще чаще и, пожалуй, осознаннее используется в эпичес-
кой прозе Э. Особенно в русском классическом романе. Э. за-
вершается большинство крупных произведений Достоевско-
го, Тургенева, «Обыкновенная история» Гончарова. Заметим,
что исключительные отступления - такие, как «Часть вторая»
«Эпилога» из «Войны и мира» Толстого — здесь сравнительно
редки. Обычно в романных Э. перед нами все те же знакомые
лица. И все-таки это не просто последующие истории. Скачок
через пространство и время совершался писателями-реалис-
тами для того, чтобы раскрыть сложность характера, непред-
сказуемость поведения человека, оказавшегося в новой обста-
новке: «Денисов, отставной, недовольный настоящим поло-
жением дел генерал, приехавший в эти последние две недели,
с удивлением и грустью, как на непохожий портрет когда-то
любимого человека, смотрел на Наташу» («Война и мир»).
Еще сильнее поражают метаморфозы, происходящие в
конце Э. с Рудиным. На протяжении всего романа он бездей-
ствует, разглагольствует и рефлектирует, а затем погибает на
парижских баррикадах с красным знаменем в руке. Э. сущест-
189
венно меняет сложившиеся читательские представления, он
подводит к мысли о том, что решительно проявить себя Ру-
дину мешала, очевидно, вовсе не натура, а обстоятельства.
В литературе двух последних столетий П. и Э. — монопо-
лия жанров эпических, однако их можно встретить и в драма-
тических сочинениях (в «Фаусте» Гёте, «Короле на площади»
Блока, «Добром человеке из Сезуана» Брехта), и даже в лири-
ке — причем не только в лирических книгах и циклах, но и в
отдельных стихотворениях.
Поэтические формы каноничны, и поэт-новатор по-своему
использует их в борьбе с инерцией читательского восприятия.
Завязав разговор на привычном (для читателя-собеседника)
языке, он совершает потом резкие смещения, нарушает риф-
менное, строфическое, сюжетное ожидание. В известном цве-
таевском стихотворении «Тоска по родине! Давно ...с самых
первых строк нагнетается один и тот же мотив, внушается одна
и та же мысль. И так вплоть до последней, десятой строфы, где
происходит крутой перелом: «Всяк дом мне чужд, всяк храм мне
пуст,/ И все - равно, и все - едино./ Но если по дороге - куст/
Встает, особенно - рябина...» Такова концовка, в которой не-
высказанно, выдаваемая лишь ед вздрогнувшим голосом, зву-
чит опровергаемая тоска по родине, вполне сравнимая с Э.
«Эпилоговых» произведений особенно много в лирике Ахма-
товой. Вот одно из них: «Сказал, что у меня соперниц нет./ Я для
него не женщина земная,/ А солнце зимнего утешный свет/ И
песня дикая родного края./ Когда умру, не станет он грустить,/ Не
крикнет, обезумевши: «Воскресни!» / Но вдруг поймет, что невоз-
можно жить/ Без солнца телу и душе без песни./ ...А что теперь?»
Стихи напоминают отрывок из драматического явления,
но перед нами - целое, а не часть. В масштабах лирики сжа-
тый монолог героя и размышление героини составляют общее
развитие сюжета, а заключительная реплика в сторону оказы-
вается своеобразным Э.
С.Страшнов
190
Псевдодокументалъное — особая фор-
ма литературной мистификации, при которой художествен-
ное произведение, претендующее на документальность, а) со-
знательно автором создается «под документ», по существу та-
ковым не являясь; б) сочетает в себе наряду с документальны-
ми фактами вымышленные либо содержит такого рода умол-
чания, которые искажают достоверную картину изображаемо-
го. При этом спектр П. произведений достаточно широк — от
изящных художественных созданий до грубо сфабрикованных
подделок, не имеющих ничего общего с настоящим искусст-
вом.
Сам термин П., достаточно часто встречающийся в рабо-
тах литературоведов, критиков, журналистов и киноведов, це-
ликом принадлежит новейшему времени и может обслужи-
вать только литературу XX в. и еще более позднюю. В предше-
ствующие эпохи отношения между реальностью и вымыслом
носили гораздо более сложный характер, и во многих случаях
граница между этими понятиями была размыта.
Из практики употребления термина П. можно сделать сле-
дующие выводы: описываемое им произведение отличается от
собственно художественного, несмотря на присутствие в нем
вымысла, прежде всего своей внутренней установкой на со-
здание иллюзии документальности. Вместе с тем не всегда, но
во многих случаях, особенно, когда автор — профессиональ-
ный писатель, можно с уверенностью говорить о том, что та-
кое произведение, при всех своих отличиях, есть подлинно ху-
дожественное. В таком случае псевдодокументальность мож-
но рассматривать как прием.
В качестве примера, можно привести прозу ЭЛ имонова или
СДовлатова. Последний прямо говорил, что пишет П. истории,
которые должны создать ощущение, что «все так и было».
Эффект псевдодокументальности и состоит в том, что ря-
довому читателю очень трудно не попасться на крючок искус-
ной подделки: зачастую он принимает написанное всерьез,
191
думая, «что все так и было». Более искушенный читатель или
специалист почти всегда безошибочно способны отличить
документальное от П. Кроме того, случаются и бунты «персо-
нажей» «невыдуманных» историй. Тогда в прессе появляются
разного рода разоблачения, которые, изрядно нашумев, все-
таки не могут поколебать единство мира, созданного писате-
лем, именно потому, что мир этот не документальный, а худо-
жественный.
Фальшивость мемуаров, записок и дневников как пробле-
ма всегда стояла перед историками культуры, стремившимися
достоверно воссоздать картины былого. Эта сторона П. хоро-
шо известна. Впрочем, в XX в., в условиях господства идеоло-
гии эта проблема приобрела особенно острый характер. В ли-
тературу было «вброшено» немало заведомо лживых повество-
ваний, основанных якобы на «подлинных» свидетельствах
очевидцев и призванных «подпитывать» официальную докт-
рину. Такого рода «заказные» вещи при первом же изменении
политического курса, как правило, получают билет в небытие.
Но существуют П. произведения совсем иного плана. В
отличие от первых, мертвых по сути, они оказываются и жи-
выми, и весьма жизнеспособными.
Причины, по которым автор вынужден прибегать к созда-
нию не подлинной, т.е. именно документальной биографии, а
биографии «придуманной», П., могут быть различными.
Из двух, наиболее распространеных, первая состоит в не-
обходимости скрыть некоторые факты личной жизни, имею-
щие непосредственное отношение к нерассекреченным тай-
нам современной истории.
Примером такого рода может служить книга воспомина-
ний О.Чеховой «Мои часы идут иначе», в предисловии к кото-
рой автор настаивает на предельной искренности и фактичес-
кой достоверности своего повествования: «... теперь все смогут
узнать, какой она была на самом деле, моя жизнь». Однако да-
же неискушенный читатель, при самом доверительном отно-
192
шении к написанному, рано или поздно замечает некоторые
несостыковки и интригующие «провалы» в рассказе. Когда же
он знакомится с предисловием издателей, то убеждается в том,
что прочитанное им — не более чем «придуманная» биография,
в которой, наряду с тем, что действительно было, есть много
того, чего не было или было иначе в жизни загадочной краса-
вицы, племянницы прославленной актрисы Художественного
театра О.Книппер-Чеховой и жены гениального актера М.Че-
хова, русской эмигрантки, знаменитой кинозвезды гитлеров-
ской Германии, любимицы Гитлера и по некоторым сведени-
ям сверхсекретного агента НКВД О.Чеховой (1897—1980). Так
повествование, формально претендующее на документаль-
ность, но на деле допускающее в себя прямой вымысел и изо-
билующее «фигурами умолчания», делает автора после его ис-
поведи еще более «закрытым» для читателя.
Вторая причина принципиально иного характера и связа-
на не с необходимостью что-то скрыть, а с решением опреде-
ленных художественных задач. И здесь ярким примером мо-
жет служить книга известного венгерского писателя и сцена-
риста Дюлы Хернади «Возлюбленные Миклоша Янчо».
В основе этого оригинального сочинения лежит формаль-
но биографический рассказ о жизни ныне здравствующего
всемирно известного кинорежиссера Миклоша Янчо, в кото-
ром выносится на обозрение широкой публики его любовный
опыт, причем через посредничество близкого друга — Дюлы
Хернади. В действительности же читатель имеет дело с почти
целиком «придуманной» биографией, в которой большинство
эпизодов — чистый вымысел. Причина, вызвавшая это пове-
ствование к жизни, заключается в стремлении автора и соав-
тора (он же — главный герой) противопоставить казенной
«правде» тотально идеологизированного общества подлинную
правду жизни, имитации реализма — истинный реализм в ис-
кусстве. Такого рода П. произведения никак нельзя причис-
лить к мертвой литературе. Несмотря на их слишком очевид-
7—501
193
ную недостоверность при общей установке на «документаль-
ность», они оказываются весьма жизнеспособными - вероят-
но, в силу того, что повествуют о личной истории человека,
имевшего в себе силу не лгать самой жизни.
Е. Местергази
Псевдоним (от греч. pseudos — ложь, onyma -
имя) — вымышленное имя.
К П. прибегали еще древнегреческие и древнеримские ав-
торы. Да и многие древнерусские рукописи завершались циф-
ровыми «подписями», в которых были зашифрованы имена
авторов или переписчиков. Еще более широкое распростра-
нение получили П. в эпоху Возрождения, когда впервые в ис-
тории культуры была поставлена в полной мере проблема ав-
торства художественного произведения. Заботясь о «благозву-
чии» и «запоминаемости» авторского имени, пользовались П.
многие художники - Джорджоне, Корреджо, Пизанедло...
Чрезвычайно модными стали П. во Франции в XVII—XVIII вв.
Мало кто помнит имя Поклен, но всем известен псевдоним —
Мольер. Своего рода «рекордсменом» надо признать Мари
Франсуа Аруэ: П. у него было более 160, а самый известный из
них - Вольтер.
Чаще всего литераторов заставляли прибегать к П. поли-
тические обстоятельства. Во многие времена эта мера обеспе-
чения собственной безопасности была отнюдь не лишней. На
появление «Треноса, или Плача восточной церкви» (1610),
обличавшего униатство, польский король Сигизмунд III от-
кликнулся просто: книгу сжечь, автора арестовать! Мелетия
Смотрицкого спас П., которым он подписал книгу, — Теофил
Ортолог.
Плеханов, иронизируя над условиями, в которых работали
передовые деятели культуры в царской России, писал, что «каж-
дый русский писатель состоит из тела, души и псевдонима».
194
Нередко П. становится своеобразным «оружием» и в лите-
ратурной борьбе, в столкновении различных групп, школ, на-
правлений. Украинские писатели И.Франко и М.Павлык,
подписывая свои произведения целым рядом вымышленных
имен, создавали видимость большого количества авторов ре-
волюционно-демократического направления. Таким же спо-
собом В.Брюсов «увеличивал» число приверженцев символиз-
ма: он подписал П. большое количество своих стихотворений
в сборнике «Русские символисты», выдавая при этом «авто-
ров» за реальных людей. Так что между использованием П. и
литературной мистификацией дистанция невелика.
Традиционно при помощи псевдонимов «множили» со-
трудников журналы. Ну а мужчинам, печатавшимся в женских
журналах, кроме «феминизации» своего имени, ничего не ос-
тавалось. Часто пользуются П., иногда шуточными, сатирики,
чьи подписи порой недвусмысленно указывают на объект са-
тиры.
За ложными именами авторы скрываются не только по по-
литическим и литературным, но часто и личным причинам.
Прячутся за П. дебютанты. Свое первое произведение «Ганц
Кюхельгартен» Гоголь подписал — В.Алов, «Историю моего
детства» Л.Тол стой подписал криптонимом «Л.Н.», а произве-
дения, печатавшиеся в «Современнике» в 1854—1855 гг., —
Л.Н.Т., некоторые сочинения Тургенева подписаны Т.Л. (то
есть Тургенев-Лутовинов). Свой первый рассказ «На воде»
гимназист К. Паустовский по совету редактора журнала под-
писал К.Балагин.
К П. авторы обращались, опасаясь за свое служебное по-
ложение или стремясь отграничить, скажем, научную деятель-
ность от литературной. П. Марлинский подписывал свои про-
изведения А.Бестужев. В бытность свою офицером он служил
в полку, стоявшем во дворце Марли в Петергофе. Профессор-
ориенталист О.Сенковский литературные сочинения подпи-
сывал Барон Брамбеус, профессор зоологии Н.П.Вагнер изда-
195
вал литературные произведения от имени Кота-Мурлыки, а
математик Чарлз Доджсон — Льюиса Кэрролла.
Частенько своим псевдонимом автор хочет нечто сооб-
щить читателю (национальность, место рождения, политиче-
скую ориентацию и т.д.). Таковы «значащие» П. - Русский
изгнанник (политического эмигранта, декабриста Н.Тургене-
ва), Леся Украинка (Л.Косач), Украинец (М.Драгоманов),
Панас Мирный (А.Рудченко), Д.Н.Мамин-Сибиряк. «Автоха-
рактеристика» творчества содержится в П. Навои (Мелодич-
ный). Статьи в «Полярной звезде» и «Колоколе» Н.Огарев ча-
сто подписывал буквами - Р. Ч., которые читатель легко рас-
шифровывал: «Русский человек». V-1 — таков П. декабриста
Г.Батенькова. В математике этот символ обозначает «мнимая
величина», каковой и был лишенный всех прав узник Петро-
павловской крепости. Около 40 авторов ставили под своими
произведениями подпись — Русский. Свою статью в «Русском
мире» Н.Лесков, выдавая автора за лицо духовного звания,
подписал — Свящ. Касторский. На это Ф.Достоевский отклик-
нулся в «Дневнике писателя» за 1873 год статьей —Ряженый.
К вымышленным именам прибегали и те, чьи собствен-
ные фамилии были не слишком благозвучны или уже «заня-
ты» однофамильцами. Поэтому под именем Якуб Колас во-
шел в литературу К.Мицкевич. Пользовались П. дети Л.Н
Толстого: Т.Л.Сухотина (Ольга Балхина), С.Л.Толстой
(С.Бродинский), Л.Л.Толстой (Яша Поляков и Л.Львов),
И.Л.Толстой (Илья Дубровский). Вынуждены были искать
себе литературное имя и несколько советских писателей с фа-
милией Герман. Один из них известен как Эмиль Кроткий.
Есть и коллективные П. Ф.Достоевский, Д.Григорович,
Н.Некрасов совместный фельетон «Как опасно предаваться
честолюбивым мечтам» (1846) подписали: Пружинин, Зубо-
скалов, Белопяткин и К°.
Неотрывной частью текста произведения следует считать
шуточные, сатирические П.: Экс-студент Никодим Недоумко
196
(Н.Надеждин), Иван Бородавкин, Наум Перепельский (Н.Не-
красов), Человек без селезенки, Врач без пациентов, Гайка № 6
(А.Чехов), Митрофан Горчица, товарищ Рашпиль (В.Катаев),
Гаврила (М.Зощенко). Шуточными подписями пестрят сати-
рические журналы, такие, как «Искра», «Свисток» (60-е гг.
XIX в.), «Сатирикон» (1908-1914). Нередки они и в современ-
ной периодике.
В середине XX в. в русских журналах пошла мода на крип-
тонимы — инициальные подписи. Об этом в свое время писал
Д.Минаев (стихотворение опубликовано под псевдонимом
Михаил Бурбонов): «Иной с фамилией двойною/ Пройдет в
журналах без следа,/ Другой под буквою одною/ Известен
многие года...»
Некоторые П. были так популярны, что ими подписыва-
лось множество авторов. По данным словаря И.Масанова,
псевдонимом Бывалый подписывалось 9 авторов, Скептик — 7,
Овод —11, Обыватель — 30.
Термин П. объединяет целую группу способов создания и
графического воспроизведения вымышленного имени: собст-
венно псевдонимы, создающие иллюзию «естественности»
имени и фамилии (Андрей Платонов), обобщающие псевдо-
нимы (Анатоль Франс), фразионимы или описательные псев-
донимы (Автор Д...и, то есть «Душеньки», — подписывался
И.Ф.Богданович), топонимические псевдонимы (Марко Во-
вчок — по названию села), криптонимы (Т. Г. Ш. — Тарас Гри-
горьевич Шевченко, Ал. П. — А.С.Пушкин). 14-летний Мая-
ковский свои стихотворения «Весенняя картинка» и «Полно
плакать над ним...» в гимназическом нелегальном журнале
«Порыв» подписал - Ъ (последней буквой имени). Аллонимы —
это подписи чужими фамилиями (поэт К.Михайлов, сотруд-
ничая в журнале «Осколки», подписывался — Н.Гоголь), гра-
фонимы — П., выраженные условными знаками, например
звездочками (астронимы): * — Е.А.Баратынский, ** — Н.А.Не-
красов, *** — Ф. И.Тютчев.
197
Писатели могут прибегать к П. эпизодически. Так, В.Брю-
сов иногда подписывался именем своего деда - баснописца
В.Бакулина, Н.Котляревский - Старый профессор.
Однако есть немало случаев, когда псевдоним «вытесняет»
подлинную фамилию автора, становится его литературным
именем: Андрей Белый (Б.Н.Бугаев), Михаил Светлов
(М.А.Шейнкман), Стендаль (Анри Бейль), Жорж Санд (Авро-
ра Дюпен), М.Горький (А.М.Пешков), Шолом-Алейхем
(Н.Х.Рабинович), Демьян Бедный (Е.А.Придворов), Борис
Полевой (Б.Н.Кампов).
Порой настоящее и литературное имя автора соединялись
(М.Е.Салтыков-Щедрин). Иногда в состав П. входит подлин-
ное имя или фамилия: Константин Симонов (подлинное имя
писателя - Кирилл), Анна Ахматова (подлинная фамилия -
Горенко), Александр Серафимович (Александр Серафимович
Попов).
Итак, П. - это вымышленное, заменяющее подлинное
имя, которым по политическим, литературным, личным при-
чинам подписывает свои произведения автор.
М. Ковсан
Психологизм (от греч. psyche - дума, logos -
понятие). «Мне грустно», «он сегодня не в духе», «она смути-
лась и покраснела» - любая подобная фраза так или иначе ин-
формирует нас о чувствах и переживаниях человека. Но это еще
не психологизм. Особое изображение внутреннего мира челове-
ка средствами собственно художественной литературы, глуби-
на и острота проникновения писателя в психологию героя,
способность детально и подробно описывать различные пси-
хологические состояния, подмечать индивидуальные нюансы
переживаний - вот в общих чертах приметы П. в литературе.
П., таким образом, представляет собой стилевое единство,
систему художественных средств и приемов, направленных на
198
полное, глубокое и детальное раскрытие внутреннего мира ге-
роев. (В этом смысле говорят о «психологическом романе»,
«психологическом очерке», «психологической лирике» и даже —
о «писателе-психологе».)
Как стилевое качество П. призван выражать, воплощать
некое художественное содержание. Такой содержательной его
основой является идейно-нравственная проблематика. Но для
того чтобы она возникла, необходима достаточно высокая сту-
пень развития исторически складывающейся личности, осо-
знание ее в культуре эпохи как самостоятельной нравственной
и эстетической ценности. В этом случае сложные жизненные
ситуации заставляют человека глубоко задумываться над ост-
рыми философскими и этическими вопросами, искать свою
собственную «правду», вырабатывать личную жизненную по-
зицию.
В европейской литературе П. начал складываться прибли-
зительно в конце эпохи Возрождения, когда обозначился кри-
зис феодального миропорядка и самосознание личности сде-
лало гигантский шаг вперед. Изображение внутреннего мира в
эту эпоху выступает как существенная черта стиля в новеллах
Боккаччо, драмах Шекспира, а также в лирической поэзии. Но
ведущим стилевым свойством П. становится несколько позже —
примерно к середине XVIII в., когда в Западной Европе скла-
дывается в главных чертах буржуазное общество. Его противо-
речия, отражаясь в сознании личности, создают весьма слож-
ную картину внутреннего мира, стимулируют интенсивный
идейно-нравственный поиск. Наибольшего художественного
совершенства в эту эпоху П. достигает в произведениях круп-
нейших сентименталистов — Стерна, Руссо и Шиллера.
Расцвет П. — реалистическое искусство XIX в. Причинами
этого были с одной стороны резко возрастающая сложность
личности и ее внутреннего мира, а с другой - особенности ре-
алистического метода. Главная задача писателя-реалиста —
познать и объяснить действительность — заставляет искать
199
корни явлений, происхождение тех или иных моральных, со-
циальных и философских представлений, требует углубления
в скрытые мотивы человеческого поведения, в мельчайшие
детали переживаний. Реализм рассматривает внутреннее раз-
витие характера как закономерный и последовательный про-
цесс, отсюда необходимость изобразить связь его отдельных
звеньев — мыслей, чувств и переживаний. Знаменитая толсто-
вская «диалектика души» как форма психологического анали-
за именно и отвечала этой потребности. Толстой показывал,
как сцепляются, «сопрягаются» различные моменты психоло-
гической жизни, какими извилистыми путями эти «сопряже-
ния» приводят человека к убеждению, чувству, поступку. Вот
характерный пример толстовской «диалектики души»: «Сидя
на звездообразном диване в ожидании поезда, она, с отвраще-
нием глядя на входивших и выходивших (все они были про-
тивны ей), думала то о том, как она приедет на станцию, на-
пишет ему записку и что она напишет ему, то о том, как он те-
перь жалуется матери (не понимая ее страданий) на свое по-
ложение, и как она войдет в комнату, и что она скажет ему. То
она думала о том, как жизнь могла бы быть еще счастлива, и
как мучительно она любит и ненавидит его, и как страшно
бьется ее сердце».
Традиционный П. классического реализма XIX в. был
подхвачен и плодотворно развивается в русской литературе.
Стремление поставить героя в сложные условия, подвергнуть
его трудному испытанию, чтобы выявить нравственную сущ-
ность характера, — это стремление составляет, по-видимому,
одну из коренных черт русской литературы. Оно в равной ме-
ре свойственно и классикам советской литературы - Горько-
му, А.Толстому, Фадееву, Шолохову, Леонову, Федину, Бул-
гакову и современным писателям.
П. незаменим в изображении масштабных перемен в жиз-
ни народа, особенно в романах-эпопеях: «Ему (Рощину. -
А.Е.) казалось - тело России разламывается на тысячи кусков.
200
Единый свод, прикрывавший империю, разбит вдребезги...
История, великое прошлое исчезает, как туманные декора-
ции... Он чувствовал - внутри его дробится и мучит колючи-
ми осколками что-то, что он сознавал в себе незыблемым, —
стержень его жизни...» («Хождение по мукам» А.Толстого).
Психологического раскрытия требует и тема внутреннего,
духовного богатства личности. Глубоко своеобразно изобра-
жал современного человека В.Шукшин. В его рассказах на
первом плане эмоциональный мир внешне обычных, ничем
не примечательных людей. В психологическом изображении
их внутренних достоинств Шукшин во многом следует чехов-
ской традиции: его П. часто спрятан в подтексте, ненавязчив
и одновременно очень насыщен эмоционально.
У каждого из современных писателей П. своеобразный,
каждый выбирает и «изобретает» свои приемы психологичес-
кого изображения, наилучшим образом выражающие автор-
ское понимание характера и его оценку. Эстетическая разно-
качествен ность П., как и его достаточно широкое распростра-
нение, говорит о том, что эта форма освоения действительно-
сти необходима сегодняшней литературе.
А. Есин
201
см. Малые эпические жанры.
Ремарка (от фр. remarque — замечание, пояснение) —
в драматургическом произведении: замечание автора, находя-
щееся в начальном и/или конечном положении явления, дей-
ствия, помещенное между репликами персонажей.
Цель Р.:
1) обрисовать обстановку, в которой происходит действие
(обычно в начале или конце действия, явления), дать физиче-
ский или психологический портрет действующего лица, од-
новременно в ряде случаев дать авторскую оценку событий.
Например, в конце III действия комедии Грибоедова «Горе от
ума», после знаменитого обличительного монолога Чацкого
«В той комнате незначущая встреча...», читаем: «Оглядывает-
ся: все в вальсе кружатся с величайшим усердием. Старики
разбрелись к карточным столам». Этими двумя фразами Гри-
боедов дает понять очень многое. Во-первых, ясно, что в на-
чале своего монолога герой находится в центре внимания
персонажей. Внимание рассеивается по мере произнесения
им своей патетической речи: никому, кроме него самого, она
не интересна. Так «фамусовское общество» отторгает инород-
ное тело. Во-вторых, проводится жесткая граница между раз-
ными моделями поведения: стандартной «светской» и, по
Ю.Лотману, «декабристской». Времяпрепровождение за тан-
цами, картами и др. представители передовой молодежи счи-
тали праздной тратой времени (см.: Лотман Ю. Быт и тради-
ции русского дворянства (XVIII — начало XIX вв.)).
2) Помочь актеру и режиссеру при постановке пьесы пояс-
нить детали декораций и костюмов, общую организацию сцени-
ческого пространства, поведение актера на сцене, даже мимику
и жесты. В ряде случаев Р. служит непосредственным способом
разделения пьесы на действия и явления. Всегда оповещает о по-
явлении и уходе со сцены того или иного действующего лица.
202
3) С течением веков пьеса начала мыслиться автором не
только как спектакль, играющийся на театральных подмост-
ках, но и как собственно текст, который читатель может вос-
принимать и наедине с собой, вне театрального пространст-
ва, читая, как любое произведение. В таком контексте Р. есть
указание на обстановку, которую читателю следует предста-
вить себе для понимания происходящего. Тогда Р. напомина-
ет обычное прозаическое описание, данное в очень сжатом
виде.
4) В истории литературы появление все более и более по-
дробной, развернутой Р. означает изменяющуюся трактовку
личности автора. Если в древности автор — скорее проводник
некоторого божественного действа и текста, то в последую-
щие эпохи его деятельность осознается как личностная, его
роль возрастает, оценки, раздумья, приоритеты и др. приобре-
тают все большее значение. Р. обозначает процесс возраста-
ния роли субъекта творчества.
Античная драма почти не знала Р. — за редким исключени-
ем. Автор пьесы таким образом как бы дистанцировался от
происходящего, самоустранялся, придавая действию «объек-
тивный» характер. По мере движения литературного процесса
и развития авторского субъективизма Р. не только стали более
подробными, но и начали определяться жанром и стилем дра-
матургического произведения.
Распространенная, описательно-предметная Р. — черта ре-
алистической драматургии XIX - начала XX в. Особенной де-
тализацией отличаются Р. в натуралистической драме. Напри-
мер, в пьесе Гауптмана «Возчик Геншель» описываются одно-
временно и физические действия, и психологические состоя-
ния: «Геншель, без видимого волнения, хватает Гауфе за
грудь, встает и оттесняет тщетно сопротивляющегося старика
к стеклянной двери; резко обернувшись, нажимает левой ру-
кой ручку двери и выталкивает Гауфе наружу; при этом проис-
ходит следующий разговор <...>» (действие IV).
203
Символический характер приобретают Р. в пьесах Чехова,
Ибсена. Сравним две Р. из «Вишневого сада»: «Все сидят, за-
думались. Тишина. Слышно только, как тихо бормочет Фире.
Вдруг раздался отдаленный звук, точно с неба, звук лопнув-
шей струны, замирающий, печальный» (действ. II); «Слы-
шится отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей стру-
ны, замирающий, печальный. Наступает тишина, и только
слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву» (действ.
IV). Почти дословное повторение одного и того же описания
создает образный, эмоциональный лейтмотив пьесы.
В пьесах Л.Андреева Р. имеют философско-символическую
окраску. Вот самое начало пьесы «Жизнь Человека»: «Некто в
сером, именуемый Он, говорит о жизни Человека. Подобие
большой, правильно четырехугольной, совершенно пустой
комнаты, не имеющей ни двери, ни окон. Все в ней серое, дым-
чатое, одноцветное: серые стены, серый потолок, серый пол.
Из невидимого источника льется ровный, слабый свет - и он
так же сер, однообразен, одноцветен, призрачен и не дает ни
теней, ни светлых бликов. Неслышно отделяется от стены при-
льнувший к ней Некто в сером. На Нем широкий, бесформен-
ный серый балахон, смутно обрисовывающий контуры боль-
шого тела; на голове Его такое же серое покрывало, густою те-
нью кроющее верхнюю часть лица. Глаз Его не видно. То, что
видимо: скулы, нос, крутой подбородок, — крупно и тяжело,
точно высечено из серого камня. Губы Его твердо сжаты. Слег-
ка подняв голову, Он начинает говорить твердым, холодным
голосом, лишенным волнения и страсти, как — наемный чтец,
с суровым безразличием читающий Книгу Судеб» («Жизнь Че-
ловека»). Здесь дается ключ к пониманию всего произведения —
и для постановщика или актера, и для читателя.
В целом можно сказать, что Р. развивается вместе с разви-
тием понимания авторского субъективизма, роли автора и ав-
торского начала в создании произведения искусства.
В. Калмыкова
204
Роман
(от фр. roman - произведение на романском
языке) - крупный эпический жанр, показывающий судьбы и
внутренний мир героев в их многосторонних связях с внеш-
ним миром — обществом, средой. Р. воссоздает все это целост-
но обычно в многосюжетном, многогеройном, подчас много-
голосом (полифоническом) повествовании, в котором орга-
нично сочетаются различные стилевые пласты.
Эпическое содержание жанра состоит в свойственном
ему пристальном внимании к среде, в которой живут герои, в
выявлении общих законов бытия и всестороннем воссозда-
нии действительности. Как писал М.Бахтин, в отличие от
эпопеи, связанной с героическим прошлым, предмет Р. —
настоящее в его незавершенности, современность или буду-
щее, хотя это не исключает изображения героического про-
шлого. Но даже в историческом Р. угол зрения автору дает
современность. «Одной из основных внутренних тем рома-
на является тема неадекватности герою его судьбы и его по-
ложения», то есть собственно романное содержание заклю-
чается во внимании к судьбе одного или нескольких персо-
нажей.
На протяжении всего своего существования романный
жанр не утрачивает «память» о научной (описаниях путешест-
вий, истории, суде) и деловой письменности, в чем также об-
наруживается его эпическое содержание. В этот круг можно
включить также записки и дневник.
Р. с момента своего зарождения в античности и по сей день
является наиболее энциклопедичным литературным жанром.
На основе принципов построения образа главного героя выде-
ляют такие разновидности Р.: странствований, испытания,
биографический (автобиографический), воспитания.
Хотя персонаж античного Р. странствования находился в
постоянном движении, образы героев «Сатирикона» Петро-
ния, «Золотого осла» Апулея статичны. Это означает, что соб-
ственно романное начало, которое состоит в изображении
205
внутреннего мира и судьбы человека, тогда еще находилось в
стадии становления. В античности возник и другой тип Р. - Р.
испытания, который строился как проверка главных героев в
критических ситуациях плена, изменения человеческой при-
роды, аскезы («Левкиппа и Клито-фонт» Ахилла Татия,
«Эфиопика» Гелиодора, «Золотой осел» Апулея, раннехрис-
тианские жития святых). В Р. испытания обрисован развитый
и сложный образ человека, сильно повлиявший на последую-
щую историю жанра.
Рыцарский (обычно стихотворный), куртуазный и ано-
нимный прозаический Р., возникший в эпоху Средневековья,
в XI—XIII вв., испытывает известное влияние обеих разно-
видностей античного Р. странствования и испытания. В цен-
тре средневекового Р., по преимуществу авантюрного, — при-
ключения рыцарей или придворных, странствующих по раз-
ным землям и по бурному морю жизни в поисках славы, уме-
ющих преданно и возвышенно любить. Многочисленные пу-
тешествия рыцарей понемногу начинают наполняться новым
содержанием: авторы Р. пытаются показать, как в результате
различных испытаний герои изменяются внутренне. А то
большое внимание, которое средневековые авторы уделяют
теме любви, приводит к усилению у них, по сравнению с их
античными предшественниками, психологизма («Ивэйн, или
Рыцарь со львом» Кретьена де Труа, «Парцифаль» В. фон
Эшенбаха).
Начиная с эпохи Возрождения, в судьбах и характерах ге-
роев Р. стали преломляться важнейшие вопросы обществен-
но-исторического развития. С этой поры Р. принимает на се-
бя в полной мере роль эпоса частной жизни (Рабле, Серван-
тес). В «Дон Кихоте», созданном в полемике с рыцарским Р.,
огромный жизненный материал по-прежнему объединяют
приключения главного героя, но теперь они приобретают но-
вое назначение — помогают прозаику воссоздать все многооб-
разие испанской действительности начала XVII в. В этот пе-
206
риод усиливается эпическое содержание Р., и не случайно
укоренившееся в европейской эстетике представление о Р.
сформулировано Ф. Шеллингом на основе именно «Дон Ки-
хота»: «Роман должен быть зеркалом мира, по меньшей мере
зеркалом своего века <...>».
Если в XVI—XVII вв. Р. все же являлся боковой ветвью
литературы, то в XVIII вв. он занял центральное место в кру-
гу эпических жанров. В период просветительского реализма
Р. словно опять обретает утраченное после распада героиче-
ского эпоса целостное воссоздание бытия. По наблюдению
Гегеля, определившего просветительский Р. как современ-
ную буржуазную эпопею, теперь в Р. «снова полностью вы-
ступает богатство и многообразие интересов, состояний, ха-
рактеров, жизненных отношений, широкий фон целостного
мира <...>».
В XVIII в. бурно развиваются две различные романные
разновидности: центростремительный, или психологический
(Ричардсон, Стерн, Руссо, Прево, Дидро, Гёте) и центробеж-
ный, или социально-бытовой (Дефо, Филдинг, Смоллет).
Особенно важное значение для дальнейших судеб романа
имеет Р. воспитания, возникший в Германии во второй поло-
вине XVIII в. (К.Виланд, И.Вецель, И.В.Гёте). Открытия не-
мецкого гения дали творческий импульс Стендалю, Бальзаку,
Диккенсу, также написавших Р. воспитания. Внимание авто-
ров этого типа Р. приковано к образу становящегося человека,
развитие которого происходит в реальном историческом вре-
мени: герой изменяется вместе с миром, в котором живет. Тем
самым в Р. воспитания содержалась предпосылка для возник-
новения и развития исторического Р. (де Виньи, Гюго,
В.Скотт).
Не менее продуктивным в истории Р. оказался и третий
его тип - биографический, получивший развитие в XVIII в. в
виде семейно-биографического Р. В «Истории Тома Джонса,
найденыша» Филдинга герой переживает кризис и перерож-
207
дается, тем самым делаются подступы к запечатлению изме-
нения человека. Благодаря намечающейся связи с историчес-
ким временем, здесь становится возможным более глубокое,
чем в историческом романтическом Р., реалистическое отра-
жение действительности.
Черты биографического Р. ощутимы и в «Евгении Оне-
гине» Пушкина, хотя в целом с появлением этого реалисти-
ческого произведения начинается новая эпоха Р. Время не-
бывалого прежде расцвета романного жанра — XIX в. Боль-
шой вклад в формирование Р. внесли русские классики.
Произведения Толстого и Достоевского открыты всему бо-
гатству бытия, охотно избирают самый разный жизненный
материал, ставят важнейшие социальные и общечеловечес-
кие проблемы, создавая для их выражения соответствую-
щий и органично сочетающий в себе разные языковые пла-
сты стиль. Толстой и Достоевский, рисуя целостный образ
действительности, находят пути гармонизации интересов
личности и общества (Кутузов, Андрей Болконский, Пьер
Безухов, старец Зосима, Алеша Карамазов). Кроме того,
Достоевский создает особый, полифонический (диалогиче-
ский) Р.
Для русской реалистической литературы оказался чрез-
вычайно важным старинный романный мотив движения,
понимаемого теперь как внутреннее изменение персона-
жей. Характеры главных героев Р. Толстого и Достоевско-
го, детерминированные временем, средой, национальной
принадлежностью, темпераментом, показаны в постоян-
ной эволюции.
В прошлом веке поэтика крупного эпического жанра
претерпевает такие значительные изменения, как трансфор-
мация пространственно-временных структур, ослабление
событийности (кроме детективов и описаний приключе-
ний), возрастание роли автора и документа, поиск новых
форм психологизма и полифонии (полифония мировоспри-
208
ятий героев у Солженицына), создание новых жанровых раз-
новидностей (P.-миф Т.Манна и Д.Джойса, Р. «потока со-
знания» М.Пруста, французский новый Р.). При этом незыб-
лемой основой для лучших Р. XX вв. остается изображение
ищущей мысли героя, его способности к эволюции, обуслов-
ленных определенным состоянием общества (произведения
Роллана, Т.Манна, Хемингуэя, Горького, А.Толстого, При-
швина, Шолохова, Солженицына). Р. XX в., как и его пред-
шественники в XIX в., остается путешествием человеческого
духа.
Т.Давыдова
209
с
Сарказм (от греч. sarkasmos, что буквально означа-
ет «рву мясо»). При слове С. невольно вспоминается сужде-
ние героини «Дядюшкина сна» Достоевского - Марии Алек-
сандровны Москалевой. Первая дама губернского города
Мордасова, в совершенстве овладевшая искусством злой на-
смешкой уничтожить чужую репутацию, тонко уловила осо-
бенность С. И потому она наставляет своего безответного су-
пруга, как выглядеть умным и представительным, если этими
качествами не обладаешь: когда кто-то «что тебя спросит или
что-нибудь скажет, то немедленно отвечай саркастической
улыбкой. Знаешь, что такое саркастическая улыбка?» И на
робкий вопрос: «Это остроумная, что ли, матушка?» разража-
ется гневной тирадой: «Я тебе дам, болван, остроумная! Да кто
с тебя, дурака, будет спрашивать остроумия? Насмешливая
улыбка, понимаешь, насмешливая и презрительная».
Ловкая и проницательная героиня Достоевского прекрас-
но знала всю неотразимость такой язвительно-коварной на-
смешки, действующей беспощаднее блестящей остроты или
мягкой шутки.
Начинаешь понимать, почему у древнего грека слово С.
ассоциировалось с образом свирепого зверя, яростно терзаю-
щего свою жертву. А вот несколько неожиданным является
то, что в античности С. соотносился с иронией, затаенной на-
смешкой, основанной на притворстве. Например, в «Ритори-
ке к Александру», приписываемой Анаксимену Лампсакско-
му, последовательно выделяется несколько типов иронии: ос-
троумие, насмешка и издевка, то есть С., причем С. считается
высшей степенью иронии.
Казалось бы, что общего у тонкой, скрытой насмешки, ка-
ковой является ирония, с резкой, язвительной издевкой, ха-
рактерной для С.? Однако сходство есть. Как и в иронии, в С.
отрицание выражается в противоположной форме — под ви-
дом утверждения. Но если ирония сохраняет иносказание до
конца и комический эффект основан на несоответствии на-
210
рочитой похвалы и ее критического подтекста, то С. немед-
ленно разрушает иллюзию одобрительного отношения, давая
тут же отрицательную оценку того, что восхваляется.
Античные писатели это понимали. Лукиан, например,
прибегал к С., зло высмеивая религиозный фанатизм. В пам-
флете «О кончине Перегрина» он изобразил шарлатана, окру-
жившего себя ореолом святости и в нелепой погоне за славой
и поклонением толпы решившегося даже на самосожжение.
С нарочитой торжественностью повествует Лукиан о том, что
самоубийство Перегрина подготавливалось очень тщательно
и было произведено в эффектной обстановке Олимпийских
игр, почему и привлекло всеобщее внимание. Более того, пе-
ред кончиной, ядовито замечает автор, Перегрин держал на-
пыщенную надгробную речь.
Происшествие, само по себе трагическое, освещено здесь
саркастической улыбкой автора и приобретает комический
характер. Иносказание не выдерживается: торжественный тон
теряется в откровенной насмешке, поскольку Лукиану важно
подчеркнуть низменность и своекорыстие побуждений беско-
рыстного на словах Перегрина. Будь это ирония, она прояви-
лась бы иначе. Сначала автор с нарочитой серьезностью рас-
сыпался бы в преувеличенных похвалах достоинствам Пере-
грина, а затем, поражая неожиданностью, полностью выявил
бы свое отношение в насмешливой оценке.
С. тоже вначале пытается облечь в форму похвалы отрица-
ние всего недолжного, порочного, но острое возмущение не
позволяет ему долго сохранять маску бесстрастности: вслед за
позитивным вступлением идет осмеяние и критическая оцен-
ка отрицательного явления. По этой особенности мы всегда
безошибочно распознаем саркастический смех.
Иногда С. строится на ситуации, доведенной до абсурда,
находящейся в кричащем противоречии с законами разума и
реальной жизни, что и рождает язвительную, неумолимую на-
смешку. Так, в памфлете Дж.Свифта «Скромное предложе-
211
ние, имеющее целью не допустить, чтобы дети бедняков в Ир-
ландии были в тягость своим родителям или своей родне, и,
напротив, сделать их полезными для общества» деловито из-
ложен проект «помощи» голодающему населению Ирландии,
а именно: «маленький здоровый годовалый младенец, за ко-
торым был надлежащий уход, представляет собой в высшей
степени восхитительное, питательное и полезное для здоро-
вья кушанье, независимо от того, приготовлено оно в туше-
ном, жареном, печеном или вареном виде». Тон обстоятель-
ного изложения представляет страшный контраст со смыслом
слов. Он явственно обнаруживает гнев, отчаяние, негодова-
ние Свифта по поводу ужасающего положения ирландских
бедняков, а сам памфлет является грозным обвинением анг-
лийским каннибалам, которые, по словам сатирика, «пожрав
уже большую часть родителей, по-видимому, имеют полное
право на их потомство».
По силе и страстности С. приближается к сатирическому
обличению. Он строится на подчеркнуто мнимом утвержде-
нии — утверждении со знаком вопроса, сразу настраивающем
на безоговорочное отрицание. Не случайно С. называют сати-
рической иронией: его убийственный, карающий смех разоб-
лачает социальную несправедливость в любом проявлении,
причем гибкость иносказательной манеры С. такова, что поз-
воляет непосредственно обращаться к тем, кто является объ-
ектом критики. В подтверждение можно привести стихотво-
рение Байрона с почтительно-издевательским названием
«Ода авторам билля против разрушителей станков», где инто-
нация притворного восхищения действиями английских лор-
дов, утвердивших кровавый закон против рабочих-ткачей, пе-
ремежается с гневным осуждением безумцев, «которые лю-
дям, что помощи просят, лишь петлю на шее спешат затя-
нуть».
С. — важное средство сатирического изображения. Не-
сколькими штрихами он может нарисовать обобщенную и яр-
212
кую картину несообразностей и уродливых явлений общест-
венной жизни. В русской литературе С. блестяще использовал
Салтыков-Щедрин. Сатирик настолько виртуозно умел мас-
кировать свой беспощадный анализ «тусклой» российской
действительности, что на первый взгляд он казался чуть ли не
веселым одобрением существующего порядка вещей, и
лишь потом приходило к читателю горькое осознание безо-
бразия «благоустроенного общества», в котором по штату
полагаются воры, доносчики, лицемеры, клеветники, гра-
бители. «А прочее все — утопия», — саркастически добавлял
Щедрин. И смех читателя угасал, сменялся негодованием,
унынием и скорбью. У автора, безусловно, возникали те же
чувства, но они были скрыты под маской простодушного
одобрения.
Более открытая форма С. встречается в сатирических сти-
хах Маяковского. Иносказание здесь резко ослаблено, но в за-
остренном виде дано неприятие того, что вызывает насмешку.
В стихотворении «О дряни» до мельчайших подробностей
описан быт мещанина, отсидевшего во время революционных
бурь и в новых условиях свившего уютные кабинеты и спален-
ки. Картина обывательского счастья не вызывает у Маяков-
ского умиления — непримиримое отношение к советскому ме-
щанину сказывается уже в заглавии и пронизывает затем все
стихотворение.
Здесь С. очевиден. Но бывают случаи, когда саркастичес-
кий смех приглушен, более похож на тайную насмешку иро-
нии, чем на открытое негодование сатиры. Выдает его обли-
чительная направленность - по ней мы узнаем С.
Так, своеобразно проявляется С. в стихотворении А.Воз-
несенского «Монолог битника». Написано оно от лица одно-
го из тех «сердитых молодых людей», которые появились в за-
падных странах в 60-е годы XX в. Тон иронически-вызываю-
щий: «Лежу бухой и эпохальный. Постигаю Мичиган». Но за
нарочитым равнодушием к стремительно несущейся мимо
213
жизни, гремящей ракетодромами, извергающей атомные
дожди, ощущается трагизм мировосприятия. Он неожиданно
и резко выявляется в страстности, в нервном ритме заключи-
тельных строк: «Вы думали — я шут?/ Я — суд!/ Я — страшный
суд. Молись, эпоха!»
Смешная, нелепая фигура битника становится символом
разоблачения этого безумного и жестокого мира. Добродуш-
ная ироническая улыбка сменяется язвительной и негодую-
щей саркастической насмешкой.
Эта страстность отрицания придает С. особое качество,
которого нет у иронии, часто спокойно и трезво оцениваю-
щей свой предмет. По словам Ап. Григорьева, С. - это «пафос
негодования пополам с горькою ирониею»: ему свойственно
резкое неприятие всего отрицательного и ложного, предпола-
гающее стремление к истинным ценностям жизни, ибо
«вражда не осилила здесь действительности» и «обещает что-
то лучшее в туманной безграничной дали».
Л. Болдина
Сатира (от лат. satura - смесь). Сатирический взгляд
на мир присущ человеку и в быту, и в области искусства, про-
являясь не только в «специальных» сатирических жанрах:
эпиграмме, анекдоте, фельетоне, карикатуре, памфлете, па-
родии, комедии, басне, но проникая в роман и в поэму, в жа-
нровую живопись и в песню. Человек, входящий в сферу са-
тирического мироосмысления, осмеивает прежде всего со-
временное зло, или же такую «ненормальность» прошлого,
которая имеет актуальное значение и сейчас. Причем изобли-
чаются не только наиболее существенные пороки действи-
тельности, но в не меньшей мере и «мелочи жизни», мешаю-
щие людям нормально существовать.
«Для того, чтоб сатира была действительно сатирой и до-
стигала своей цели, надобно, во-первых, чтоб она давала по-
214
чувствовать читателю тот идеал, из которого отправляется
творец ее, и, во-вторых, чтоб она вполне ясно осознавала тот
предмет, против которого направлено ее жало». В этих словах
Салтыкова-Щедрина определен главный принцип сатиричес-
кого мировидения: сатирик видит в окружающей жизни что-
то такое, что никак не укладывается в рамки его представле-
ния о том, какой должна быть жизнь. У него необычайно обо-
стрено ощущение идеальной нормы бытия. По словам Гегеля,
С. резкими красками «живописует противоречие действитель-
ного мира тому, чем должен был бы быть добродетельный че-
ловек» (Эстетика. Т. 2. С. 579).
Но хотя представление о «добродетельном человеке» у
каждого сатирика вполне индивидуально, да и сам идеал жиз-
ни в разных культурно-исторических условиях различен, ос-
тается общий для разных эпох смысл его — это идеал естест-
венной, «неиспорченной» жизни. Он становится понятен в
сатирическом произведении «от обратного», по противопо-
ложности тому, что автор показывает. Так, когда Гоголь в
«Мертвых душах» изображает существование людей, которые
«даром бременят землю», ясно, что его представления о «пра-
вильной» жизни противоположны изображаемому. Идеал са-
тирика чаще всего присутствует в тексте лишь потенциально,
как мечта о таком мироустройстве, где царит гармония и упо-
рядоченность бытия, «где бегут голубые реки, где горит голу-
бое небо, где торжествующе блещет лик человеческий» (Сал-
тыков-Щедрин). Он не излагается в подробностях, так как по-
зитивный план бытия требует обоснованных доказательств, а
сатира принципиально не доказывает, а только указывает, не
объясняет, что зло есть зло, а демонстрирует это зло. Сатири-
ческая аргументация, хотя и имитирует иногда логические
доказательства (так делал, например, Буало в своих стихотвор-
ных сатирах), но оперирует не ими, а «наглядными» примера-
ми. Поэтому в сатирических произведениях широко исполь-
зуется монтаж. Остроумное перечисление отрицательных
215
свойств «обвиняемого» героя или вариаций того или иного
порока, изображение «галереи» отрицательных персонажей,
«монтирование» эпизодов из жизни осмеиваемого героя, из-
ложение эпизодов из сатирически освещаемой истории стра-
ны или даже человечества можно наблюдать и в стихотворных
сатирах Ювенала, Буало, Кантемира, и в «Мертвых душах»
Гоголя, и в «Острове пингвинов» А.Франса. Монтаж в извест-
ной степени нарочит и рационален. Но это вовсе не предпо-
лагает, что в основании сатирического обличения находится
только холодный расчет издевающегося рассудка. Не мень-
шее значение имеет чувство, «сердечный жар» сатирика: «ког-
да он попирает ногами порок, или осмеивает глупость, или за-
бавляется насчет странности», читатель «должен замечать в
душе его и любовь к добродетели, и чувствительность, и бла-
городное уважение ко всему прекрасному» (Жуковский). То
есть сатирик судит «ненормальность жизни» не только с соци-
альной или этической стороны («любовь к добродетели»), но
и со стороны эстетической («уважение ко всему прекрасно-
му»). Соединение же этих двух сторон, совмещение потребно-
стей добра и красоты определяют основную интонацию сати-
рика, его позицию — благородное чувство негодования, воз-
мущения, презрения к тому, что он осмеивает, ибо в основе
«благородных» эмоций лежит сочетание именно этического и
эстетического начал. Общий смысл такой позиции присущ
сатирикам самых разных эпох - от Ювенала до Маяковского
при условии, конечно, что под «добродетельным» и прекрас-
ным понималось в разные времена не одно и то же.
Сатирик стремится заразить читателя своим благородным
возмущением. Он, подобно андерсеновскому мальчику, пер-
вым не побоявшемуся заметить, что «король-то голый», ука-
зывает на общественное или моральное зло людям, к этому
злу притерпевшимся и не желающим замечать, насколько оно
аномально. Сатирик пытается как бы восстановить естествен-
ное положение вещей. Недаром долгое время главной задачей
216
всякой С. считалось исправление нравов и искоренение соци-
альных недостатков. Эта задача в большей или меньшей сте-
пени входит в цели сатирических произведений и нашего вре-
мени: таковы, например, рассказы Зощенко, сатирические
стихотворения и пьесы Маяковского, современный газетный
фельетон. Сатирика сравнивали даже с искусным хирургом,
«срезывающим наросты и впускающим щуп в заразительные
раны» (Вяземский). А главное «горькое» лекарство сатирика —
правда: «Не злобу, а добро посеять в мире,/ Являет истина
свой чистый лик в сатире» (Буало).
«Лекарство» это действует лишь с помощью другого, не
менее важного «препарата» — с помощью смеха, который и от-
личает С. от других способов критического осмысления жиз-
ни. Особое сочетание эмоций сатирика — когда, осмеивая, он
может сказать про себя: «В сердце о злонравных плачу» (Кан-
темир).
Но какие бы чувства ни владели сатириком, между ним и
его героем всегда непроницаемая стена. Гиперболическая ха-
рактеристика свойственна С. разных эпох: и мольеров Тар-
тюф, и щедринский Иудушка Головлев, и Мальчиш-Плохиш
Гайдара, и Присыпкин и Оптимистенко Маяковского — пер-
сонажи принципиально неполноценные, с резко «выпячен-
ными» негативными чертами. С. как бы выводит своих героев
на всеобщее обозрение, на сцену. Действия их и помыслы до-
водятся нередко до гротеска.
Сатирическое сочинение, сатирическая трактовка характе-
ра, сатирический «укол» малым жанром - эпиграммой, паро-
дией, басней - явления всегда остросовременные. Но для но-
вых поколений полемический азарт сатирика становится вто-
ростепенным. И тогда, если за сатирическим изображением не
было ничего, кроме обличения современного писателю «не-
удобства жизни», сатирик не может «претендовать на значение
выше посредственного и очень скоропреходящего» (Салты-
ков-Щедрин). Если же, как это и происходит с большими ху-
217
дожниками, С. исследует сложные этические, социальные, эс-
тетические, философские задачи, тогда произведение с сатири-
ческим запалом неизменно приобретает многомерность и живет
р не только в сознании современников, но и в памяти потомков.
А. Песков
Символ (от греч. simboion - знак, примета; symbalo -
соединяю, составляю, сращиваю). У древних народов сущест-
вовал обычай разделять, обычно разламывать, какую-либо вещь
или пластинку надвое. При расставании каждый брал себе одну
часть. По прошествии лет люди или их потомки, наследники уз-
навали друг друга, соединив две части в единое целое.
По сути дела, этот процесс является прообразом символи-
зации в искусстве, ведь С. — прежде всего соединение. В нем
соединяется физическая картина и ее запредельный, метафи-
зический смысл, который вдруг, внезапно начинает «просве-
чивать» сквозь обыденно-реальное, придавая ему черты ино-
го, идеального бытия. Другими словами, С. есть знак или
предмет, который замещает некоторый другой предмет, выра-
жая его скрытую сущность и одновременно являясь проводни-
ком системы идей или представлений о мире, свойственных
тому, кто применяет этот символ; условное выражение сущно-
сти какого-либо явления посредством внешнего вида, формы
другого предмета или даже его внутренних качеств, в таком
случае также становящихся «формой». Утрачивая самостоя-
тельную сущность, предмет-С. или слово-С. начинает «пред-
ставлять собой» нечто совсем другое. Так, «сладострастие» для
В. Брюсова — С. общения в самом высоком смысле этого сло-
ва, слияния, взаимопроникновения двух людей до полного
растворения их друг в друге. В обыденном употреблении это
слово имеет другое, существенно менее «высокое» значение.
С. могут служить предмету, животные, известные явле-
ния, например, природные («Гроза» Островского), признаки
218
предметов, действия и др. Вот примеры устойчивых в истории
культуры С.: весы — справедливость, держава и скипетр — мо-
нархия, власть, голубь — мир, козел — похоть, зеркало - иной
мир, лев — сила, смелость, собака — преданность, осел — уп-
рямство, роза — женская красота, лилия — чистота, невин-
ность (во Франции лилия - символ царской власти).
Всем названным предметам, существам, явлениям культу-
ра придает знаковый характер. За счет него они являются осно-
вой также и такого художественного приема, как аллегория.
Лотос - С. божества и вселенной у индусов. Хлеб-соль -
С. гостеприимства и дружбы у славян. Змей — С. мудрости с
одной стороны и греха (Ветхий Завет) — с другой. Крест — С.
распятия, христианства. Парабола — бесконечности. Утро
символизирует молодость, голубой цвет — надежду (в пред-
метной системе ее символ — якорь). Существуют разнообраз-
ные ряды С. (предметные, цветовые, геометрические и др.).
В различных культурных системах различные С. могут полу-
чать разное значение. Так, в евангельской системе рыбы — С.
Христа, в Новейшее время они приобретают чувственный,
эротический смысл. Художественные образы героев литера-
турных произведений благодаря своему ценностному бытова-
нию в культуре также приобретают характер С. (Прометей,
Одиссей, Орфей, Гамлет, Дон Жуан, Казанова, Дон Кихот,
Мюнхгаузен и др.).
Структурно С. близок к аллегории, также состоя из двух
частей, однако оба компонента С. (и то, что символизируется,
и то, что символизирует) существуют в реальной действитель-
ности, тогда как в аллегории один компонент обычно являет-
ся плодом фантазии. В символе всегда таится скрытое сравне-
ние, связь преображенного явления с бытовой ситуацией
(предметом), историческим событием (явлением).
В художественной литературе С. может считаться одной из
разновидностей художественного образа, однако обычно он
воспринимается самостоятельно. Он может быть как индиви-
219
дуальным созданием того или иного автора (например, «пти-
ца-тройка» у Гоголя) или общим для двух и более авторов
(у Бальмонта и Бродского речь поэта есть С. его личности в
целом), так и универсальной культурной единицей. Так, с
связи жизни и смерти является путешествие в подземный мир
и возвращение из него, возникающее в произведениях фоль-
клора древнейших народов и появляющееся в произведениях
авторов Нового и Новейшего времени. Этот С. использовали,
например, Вергилий, Данте, Дж.Джойс, Брюсов и другие по-
эты-символисты, Мандельштам... Помимо связи двух поляр-
ных миров этот символ означает инициацию души благодаря
получению сложного духовного опыта, ее погружение во тьму
и дальнейшее очищение, пробуждение.
Внутри основного С. поэты разрабатывают свою частную
символическую систему (ее можно рассматривать и как сис-
тему метаобразов, см. Образ). Такова, например, «ласточка» в
поэзии Мандельштама, связанная с путешествием в загроб-
ный мир и с поиском оживленного поэтического слова (см.
стихи «Что поют часы-кузнечик...», «Ласточка», «Когда Пси-
хея-жизнь спускается к теням...»).
Одни и те же С. могут появляться у разных авторов, внося
новые оттенки значений, которые транслируются от одного
поэтического поколения к другому. В этом смысле интересна
группа С., связанных с миром насекомых и с понятием «лета-
ющее насекомое». Так, у В.Сосноры читаем: «О! В этих элеги-
ях много чужих жуков,/ взятых за крылышки и у меня по-
ющих,/ пришлых имен, персоналий, чисел, планет,/долго ж
они просились включения в мой гербарий./ Мог бы и вычерк-
нуть, вообще-то и не до них,/ скипетр имперский не так уж
приветлив с жуками,/ но милосерд к голосам и малых сих,/
пусть, на булавку наколотые, тут обитают» («О! В этих элеги-
ях много чужих жуков...»). Здесь жуки - символ «чужого тек-
ста», вообще литературы как совокупности образов и смыс-
лов; всех «малых сих» в мире; смерти («на булавку наколо-
220
тые») и посмертного бытия в культуре («тут обитают», т.е. в
гербарии), загробного существования, опять-таки путешест-
вия в царство теней и условного возвращения оттуда.
Какие же «чужие тексты» влияют на создание жуков как С. Г*
у В.Сосноры? Во-первых, в высокой степени выражено срав- ----
нение насекомого (кузнечика) с человеком в стихотворении
Ломоносова: «Кузнечик дорогой, коль много ты блажен,/
Коль больше пред людьми ты счастьем одарен!/ Препровож-
даешь жизнь меж мягкою травою/ И наслаждаешься медвя-
ною осою./ Хотя у многих ты в глазах презренна тварь,/ Но в
самой истине ты перед нами царь;/ Ты ангел во плоти иль,
лучше, ты бесплотен,/ Ты скачешь и поешь, свободен, безза-
ботен; Что видишь, все твое; везде в своем дому,/ Не просишь
ни о чем, не должен никому».
В поэзии К.Случевского при упоминании насекомых ви-
дим 1) связь мотивов жизни и смерти и 2) тождество «насеко-
мое (жук) — человек» (см. «На кладбище»). Символизация
здесь идет по линии «жук — жизнь». Та же ситуация — в стихо-
творении Н.Заболоцкого «Отдыхающие крестьяне».
С. подземного (загробного) существования, возвраще-
ния/невозвращения из небытия связаны, как мы видим, с
символикой насекомых/людей. В поэзии Мандельштама на-
блюдаем эту же перекличку. С одной стороны: «Да, я лежу в
земле, губами шевеля,/ И то, что я скажу, заучит каждый
школьник:/ На Красной площади всего круглей земля/
И скат ее твердеет добровольный» («Да, я лежу в земле, губа-
ми шевеля...»). Никаких «жуков» здесь нет, однако появляет-
ся языковой (звуковой) образ «жужжания»: леЖУ, в ЗЕмле,
ШЕвеля, скаЖУ,ЗАучит. Подобные вещи возникают в твор-
честве бессознательно, не моделируются автором, однако
свидетельствуют об очень определенной внутренней логике
самого творчества, верифицируя любую теоретическую идею
писателя, и об онтологическом статусе языковых поэтичес-
ких явлений. С другой стороны, возникает более непосредст-
221
венная ассоциация: «Не мучнистой бабочкою белой/ В зем-
лю я заемный прах верну...» («Не мучнистой бабочкою бе-
лой...»). Бабочка — «мусульманка» у Мандельштама тоже —
«жизняночка и умиранка» («О бабочка, о мусульманка...»).
Поскольку символизация в поэзии во многом зависит от
уже сложившегося обычая разрабатывать, углублять значение
существующих в культуре С., постольку «кузнечик» Ломоно-
сова и «жуки» Случевского порождают множество символов,
имеющих двойную природу: в них столько же от непосредст-
венного восприятия автором мира реалий, сколько и культур-
ной рефлексии (быть плодом такой рефлексии — органичес-
кое свойство символа). В стихах И.Бродского «насекомое»
впрямую не названо, но — как «малое сие» — подразумевается,
связываясь с еще одним распространеннейшим символом —
зеркалом (см. «Полдень в комнате»).
Так С. у различных поэтов складываются в единую систе-
му, в которой каждое звено связано с другими, всякий раз по-
вторяя художественную логику, отличную от обыденной. С.
посвящено множество интереснейших работ ученых: доста-
точно упомянуть, например, книгу А.Лосева «Проблема сим-
вола и реалистическое искусство» и В.Топорова «Миф. Риту-
ал. Символ. Образ».
В. Калмыкова
Символизм
— название, возникшее в споре кри-
тиков с представителями «новой поэзии» во Франции. В ответ
на упрек в «упадочничестве», «декадентстве» Ж.Мореас в 1886
г. предложил определение новой поэзии как «символичес-
кой» и издал манифест С. как литературной школы. Ж.Море-
ас и является по сути вождем французского С., к которому
принадлежали Р.Гиль, С.Мерриль, Ф.Вьелле-Гриффен,
Г.Канн, С.Малларме, Ш.Бодлер, П.Верлен, А.Рембо (послед-
ние четверо обрели мировую известность). В самом начале су-
222
шествования новой школы появилось два литературных про-
изведения, определивших ее эстетическую платформу: во-
первых, манифест символизма, написанный Ж.Мореасом, во-
вторых, сонет «Соответствия» Ш.Бодлера.
Так, Мореас считал, что «для точной передачи своего
синтеза символизму нужен первообразный (archetype) и
сложный стиль: непрофанированные слова, туго натянутый,
негибкий период, чередующийся с периодом волнистых ос-
лаблений, многозначительные плеоназмы, таинственные
эллипсы, анаколуф в недоумении, слишком смелый и мно-
гообразный; наконец, хороший язык, общеустановленный и
модернизированный» (Литературное наследство. Т. 27—28. М.,
1937. С. 54).
В.Гофман, один из самых ранних исследователей С., пи-
сал: «Концепция Мореаса не была единственной и, конечно,
не имела силы закона для символистов. Но она оказалась про-
тотипом идей символистов и предвосхитила многое из того,
что впоследствии, не ссылаясь на Мореаса, декларировали
русские символисты» (там же. С. 55).
С. следует называть литературно-художественное течение
(в строгом смысле: конец XIX — начало XX в.), распростра-
нившееся в Европе и России. Представители С.: Ж.Роденбах,
Э.Верхарн, М.Метерлинк (Бельгия); Ст.Георге, Г.Гауптман
(Германия); Р.М.Рильке, Г. фон Гофмансталь (Австрия);
О.Уайльд (Англия), Г.Ибсен (Норвегия); Д.Мережковский,
3.Гиппиус, Ю.Балтрушайтис, К.Бальмонт, Вяч.Иванов,
Ф.Сологуб, В.Брюсов, А.Блок, А.Белый и др. (Россия; некото-
рые относят к символистам также И.Анненского). Это самое
крупное направление модернизма. Оно пересекается с им-
прессионизмом и декадентством. С. охватил все сферы худо-
жественной деятельности: естественно говорить о С. в живо-
писи (Д.Россетти, А.Беклин, Г.Моро, П.Пюви де Шаванн,
Г.Климт, А.Гален-Лаллела, М.Дени, Э.Мунк, Ф. фон Штук и
др. В России — М.Врубель, К.Сомов, М.Дурнов, Л.Бакст,
223
А.Куинджи, И.Левитан, В.Васнецов, А.Васнецов, К.Коро-
вин, М.Якунчикова, В.Борисов-Мусатов, П.Кузнецов и др.).
С. в русском театре связан прежде всего с именами драматур-
га Л.Андреева, художника А.Головина, реформировавшего
постановочно-декорационный процесс на отечественной
сцене, и актрисы В.Комиссаржевской.
Если в любом художественном направлении или течении
центральным является художественный образ, и специфика
школы возникает из трактовки этого главного концепта, то
символисты считают «точкой отсчета» художественного мира
символ с его спецификой связи горнего и дольнего, земного и
небесного, обыденного и надмирного. Символ не просто
многосмыслен; он предполагает бесконечное число значений
и толкований, правда, находящихся в границах одного опре-
деленного круга представлений о мире и жизни. Способность
видеть подлинную сущность за оболочками вещей означает
возможность проникновения силами искусства в «тайны бы-
тия», познать «изначальные идеи» миротворения. Подразуме-
вается, что существует высшее единство мира, сущностное
начало, проницающее внешние оболочки любых явлений.
В этой связи огромное значение приобретает в С. концеп-
ция художественного слова. Оно призвано проникнуть в тай-
ны и выразить идеальный мир. Меж тем оно все же не всесиль-
но; обладая звуковой плотью, оно ограничено в своих преде-
лах, как все земное. Однако с его помощью (именно благодаря
его звуковой стороне) можно если не прямо назвать, то хотя
бы намекнуть на область непознаваемого («намек» - едва ли
не столь важный концепт, как и «символ»). Вот почему возни-
кает и развивается идея «музыки слова»: музыка среди ис-
кусств — как самое бестелесное, эфемерное и одновременно
вечное или причастное вечности - считается наиболее вер-
но передающей истинное божественное содержание бытия.
На формирование С. («Символизм как миропонимание» —
название одной из статей А.Белого) оказали огромное влия-
224
ние учение и эстетика Ф.Ницше, философия А.Шопенгауэра.
С. отталкивается от трактовки мира и человека, свойственной
материализму и позитивизму, отказывается объяснять мир с
позиций узко-секуляризированного «разума», видит во всем
мистические события и превращения. Положение С. — между
реализмом и натурализмом с одной стороны и импрессиониз-
мом - с другой. Если реалисты показывают действительность
в стабильных «формах самой жизни», а импрессионисты дела-
ют такую форму из мимолетных ощущений бытия, то симво-
лист стремится к означиванию всех реалий, метафоризации,
пониманию одного через другое, совсем, быть может, чуждое
ему в обыденных представлениях. «Формой» того, что симво-
лизируется, становится то, что символизирует.
Недаром для В.Брюсова, «культурного героя» русского С.,
«формой» в произведении искусства являются все средства,
которые помогают выразить единственное «содержание» — ду-
шу художника: здесь и сюжет, и идея, и даже «мировоззре-
ние», не говоря уже о композиции и языковых средствах. Для
символиста главное - обобщение, причем выраженное не в
мифическом и невозможном «объективном» отношении ху-
дожника к миру, а только субъективно, только сквозь призму
личности самого художника.
Мир обладает следующими чертами: непознаваемость; не-
слиянность и нераздельность добра и зла, красоты и безобра-
зия, лжи и правды, вообще любых полярных начал (для Брю-
сова — «истин», каждая из которых, утверждая что-либо, нахо-
дится в неразрывной связи с противоположной, утверждаю-
щей нечто обратное); диалектика «несказанного» и «не-
сказанного», слова и молчания, звука и тишины. В этом мире
поэт обладает возможностью преобразовать мир через слово,
главным образом - через его звук («музыку слов») и значение,
обогащающееся за счет найденных «соответствий». Художник
выступает как со-творец Бога или даже как творец, чуть ли не
равный Ему; во всяком случае — художник не «изображает»
8—501
225
видимое, а «создает» видимое. Условности искусства сдержи-
вают силу первобытного хаоса, стремящегося стереть с лица
земли человека и его хрупкий дом — культуру. Вот почему
столь важен в С. миф об Орфее, вообще о певце, заклинаю-
щем своим пением диких зверей.
В поэте символисты вслед за Бодлером ценили, помимо
умения находить соответствия между отдельными явлениями
мира (это связывало его в единое целое), еще и способность
ощущать ужас бытия (позднее, в философской системе экзи-
стенциализма, был уточнен экзистенциальный характер этого
ужаса) и восторг, экстаз перед самым этим ужасом. Идея
«умирания культуры» в С. получает благодаря Бодлеру осо-
бый, сакральный статус. Ужас и восторг может испытывать
только уникальная личность, органично существующая в по-
ляризированном эмоциональном мире.
Отсюда — идея «жизнетворчества», распространенная в
среде русских символистов. «Символисты не хотели отделять
писателя от человека, литературную биографию от личной.
Символизм не хотел быть только художественной школой,
литературным течением. Все время он порывался стать жиз-
ненно-творческим методом, и в том была его глубочайшая,
быть может, невоплотимая правда...» (Ходасевич В. Колебле-
мый треножник. М., 1991. С. 269).
С другой стороны, С. обращается к древней легенде, гнос-
тическому мифу о Софии Премудрости Божией, то есть апел-
лирует к христианизированному женскому началу: здесь дело
не только в способности продолжать человеческий род, но и
стремиться к осуществлению духовной преемственности
«рождения человека». Предание гласит, что София Премуд-
рость Божия была женой Бога, но Дьявол похитил ее и заточил
в неизвестном месте. Ее нужно освободить, чтобы в мире
вновь воцарилась гармония. Поэты-символисты (особенно
это характерно для наших соотечественников) ощущают себя
такими «мужами», готовятся к подвигу во имя Прекрасной Да-
226
мы (название книги Блока, придуманное Брюсовым). Воскре-
шаются и более поздние рыцарские идеалы «служения» Даме.
Во французской живописи эпохи С. поиск женственного
идеала воплотился в творчестве П.Серюзье, А.Фантен-Латур,
Моро и др. Символистом был и постимпрессинист П.Гоген,
искавший свой идеал женщины и, соответственно, образ рая
на экзотических для европейца островах Таити и Мартиника.
В русском С. ключевой фигурой служения «Прекрасной Да-
ме» был Блок, увлекший за собой все поколение «младших
символистов».
Самоощущение С. всегда двойственно, и это определяет
такой же двойственный характер его саморефлексии. С одной
стороны европейская цивилизация находится в глубоком, ка-
тастрофическом кризисе, с другой — европейская культура по-
родила высокие эстетические или жизненные, но эстетизиро-
ванные (например, культ вина, вообще любого хмельного на-
питка, опьянения) ценности. Между этими полюсами сущест-
вует символист, преклоняющийся перед прекрасным, высоко
несущий достоинство художника, и одновременно готовый
ринуться во все безобразия жизни, во все ее стремительные и
опасные водовороты.
В России о С. первым заговорил Д.Мережковский, на-
звавший свою вторую книгу стихов «Символы. (Песни и по-
эмы)» (1892). Подлинное искусство, по Мережковскому,
включает в себя: 1) мистическое содержание, 2) символы, вы-
ражающие «безграничную сторону мысли», и 3) способность
производить художественное впечатление, т.е. импрессионис-
тичность — «жадность к неиспытанному, погоня за неулови-
мыми оттенками, за темным и бессознательным нашей чувст-
вительности».
Одновременно в журнале «Вестник Европы» (№ 9 за 1892 г.)
появилась статья З.Венгеровой «Поэты-сим вол исты во Фран-
ции: Верлэн, Маллармэ, Рембо, Лафорг, Мореас». Венгерова
комментирует самое первое название «новой поэзии» — «дека-
227
дентство» — и говорит о самопонимании поэтов как предста-
вителей «латинского decadence’a, с его болезненной жаждой
еще неизведанных ощущений и с желанием создать новый
язык, новую музыку звуков, способных воплотить их мечты о
недостижимом идеале» (с. 117). «Обычный прием поэтов, по-
этическое сравнение» С., по точному наблюдению Венгеро-
вой, «заменяет... символами». Верлен «не описывает своего
душевного настроения, а лишь вычисляет предметы, вызвав-
шие его, и эти впечатления, переданные и как бы стенографи-
рованные по мере их наступления, воплощают, символизиру-
ют мысль поэта» (с. 122).
Статья 3. Венгеровой — увлекательное чтение для того, кто
захочет подкрепить свой интерес к истории русского С. точ-
ным свидетельством того, «как все начиналось». Публикация
в «Вестнике Европы» послужила стимулом интереса к новой
литературе молодого поэта В.Брюсова. В результате появи-
лись выпущенные им сборники «Русские символисты» и во-
обще возникло явление как таковое. Активность Брюсова по
продвижению нового направления была поистине титаничес-
кой. Если 1890-е гг. оказались в основном эпохой скандалов,
одиночества, неприятия и новой школы, и ее «вождя», как ок-
рестили Брюсова критики, то в 1900-е все радикальным обра-
зом переменилось. Ряды русских символистов расширились,
начали выходить периодические издания, сборники, поэти-
ческие книги и др. (издательства «Гриф» и «Скорпион», жур-
нал «Весы», отчасти и журнал «Мир искусства», альманах
«Северные цветы» и др.).
В самих изначальных установках С., воспринятых русской
поэзией, крылись причины его раскола. Огромное влияние
оказало и философское учение В.С.Соловьева, чрезвычайно
популярное на рубеже XIX-XX вв. Подавляющее большинст-
во художников («младшие символисты», в частности Блок,
Белый) пошли по пути сближения искусства и религии, при-
чем христианство (Мережковский, Гиппиус) дополнялось
228
идеями античности (Вяч.Иванов). Другое направление, срав-
нительно малочисленное («старшие символисты»; ключевая
фигура — Брюсов), считало этот путь идеологизацией искусст-
ва и настаивало на сохранении собственно эстетических при-
оритетов, занимаясь вопросами поэтического языка, его
свойств и специфики.
К концу десятилетия, точнее в 1910 г., наступил конец эпо-
хи С.: «10-й год — год кризиса символизма, смерти Льва Тол-
стого и Комиссаржевской» (Ахматова А. Десятые годы. М.,
1989. С. 5). Невозможно, однако, говорить о его «смерти», как
делали это современники и некоторые потомки. Символичес-
кая природа кроется в самом стремлении искусства создавать
знаки, передавать некоторый смысл, преображая внешние
оболочки, транслировать внутреннее через внешнее, говорить
иносказательно — словом, символизировать. Как бы ни стре-
мились ближайшие наследники С. откреститься от его «учи-
тельной» роли, их творчество само наполнено символами: та-
ковы произведения акмеистов, футуристов и др. Насквозь
символичны театральные постановки В.Мейерхольда.
В, Калмыкова
Сказка — жанр, известный уже в древности. Кто не
знает, например, трогательной истории о любви Амура и Пси-
хеи, рассказанной Апулеем еще во II в. н. э.? Сказка узнается
в ней без труда и по характерному фольклорному зачину
(«Жили в некотором государстве царь с царицею...»), и по
столь же характерному мотиву волшебных испытаний. Одна-
ко вот что обращает на себя особое внимание: все традици-
онные народно-сказочные ходы подчиняются в этой встав-
ной новелле из романа «Золотой осел» индивидуально-ав-
торскому художественному замыслу. Боги у Апулея удиви-
тельно напоминают «простых смертных». Венера «вопит во
весь голос», забывая о том, что она «...мать, и притом жен-
229
щина рассудительная». Венере, Марсу — «великому вояке»,
да и самому Юпитеру, как говорится, ничто человеческое не
чуждо. Боги спорят и при этом ссылаются на... римское уго-
ловное право.
Ирония Апулея позволяет ему как бы подняться над изна-
чально-фольклорным материалом, взглянуть на него уже с
высоты собственного эстетического сознания. Это умение
писателя «заставить работать» традиционные элементы на-
родно-сказочной структуры в исторически и художественно
иной для них системе авторского творчества — отличительная
жанровая особенность именно С.
При этом писатель не порывает с фольклорной традици-
ей, а как бы дает ей вторую жизнь, обнаруживает в ней скры-
тый, неиспользованный художественный потенциал. Проис-
ходит своеобразная игра жанром. Немецкие романтики, вы-
соко ставившие принципы игры, подвергают переосмысле-
нию и счастливый финал народной С., и фольклорное время.
Открытые, неоднозначные финалы типичны для сказок
Гофмана. Теряет свойственную для фольклора неопределен-
ность сказочное время и в пьесе другого немецкого романти-
ка, Л.Тика, «Кот в сапогах» (1797). Крестьянский сын Готлиб
просит кота Гинца как можно скорее сделать его счастливым.
«Иначе будет поздно,- говорит Готлиб, — ведь уже половина
восьмого, а в восемь театр закрывается».
Ироническая игра типичными народно-сказочными кате-
гориями продолжается и в реалистической С. Так, уточняет
время исполнения волшебного желания персонаж пушкин-
ской сказки царь Салтан, требуя от царевны «родить богаты-
ря... к исходу сентября». Не чужды Пушкину-сказочнику и
открытые, «немые» финалы: вспомним хотя бы конец «Сказ-
ки о рыбаке и рыбке» (1833).
Таким образом, С. — жанр парадоксальный. Тяготея к сво-
ему народному образцу, она в то же время решительно оттал-
кивается от него. Это противоречие заложено как бы и в самом
230
термине С. В самом деле, слово «литературная» заставляет нас
вспомнить о его латинском корне «littera» - буква, письмо.
Слово же сказка происходит от «сказывать», «говорить» и
напоминает о фольклорных истоках жанра, о его «устности».
Между прочим, читатели ощутили это своеобразие жанра
раньше литературоведов. В.Комовский, лицейский товарищ
Пушкина, сравнивая «Спящую царевну» Жуковского (1831) со
«Сказкой о царе Салтане» (1831), отмечал: «Жуковский, как ска-
зочник, обрился и приоделся на новый лад, а Пушкин — в боро-
де и армяке. Читая "Спящую царевну", нельзя забыть, что ее чи-
таешь. Читая же сказку Пушкина, кажется, будто слушаешь рас-
сказ ее, по русскому обычаю, для того, чтобы сон нашел».
В момент зарождения авторской сказки в России эта уста-
новка на чтение, на литературность формы была главным кри-
терием ее художественности. Например, В.АЛевшин предла-
гал свои «Русские сказки» (1780-1783) просвещенной публи-
ке конца XVIII в. в виде галантных рыцарских романов, кото-
рые должны были, по мысли автора, составить на читатель-
ском рынке конкуренцию популярной французской серии
«Голубая библиотека». Не удивительно, что левшинская сказ-
ка в то время читалась как увлекательная беллетристика, образ-
цы которой сегодня могут вызвать только улыбку: «Чародей...
слетел прямо на воду и ехал по реке, ровно по суху, прямо к
ладие княгининой. Тотчас послали у него спросить, откуду
он, и как смеет подъезжать к ладие княжеской без докладу?..»
Позднее С. стремится к отказу от беллетристичности изло-
жения, к устным истокам своего фольклорного детства. Для С.
Андерсена характерна ориентация на устную речь. Автор
«Дюймовочки» как бы превращает читателя в слушателя сво-
их сказок, стараясь восстановить атмосферу непосредствен-
ного общения с ним. Постоянные обращения к читателю —
«слушайте же хорошенько!..», «кто бы мог подумать...», «пред-
ставьте себе...» — характерный стилевой прием датского ска-
зочника. Но одновременно андерсеновский читатель стано-
231
вится и «зрителем» - может наглядно представить себе карти-
ны, развернутые перед ним автором. И разве не поражаемся
мы вместе с солдатом из «Огнива» (1835), глядя на огромную
собаку, у которой глаза - «каждый с круглую башню».
Андерсен писал: «Сказочная поэзия — это самая широкая
область поэзии, она простирается от кровавых могил древно-
сти до разноцветных картинок простодушной детской леген-
ды, вбирает в себя народную литературу и художественные
произведения, она для меня представительница всякой по-
эзии...»
Действительно, сказочные черты обнаруживались в лите-
ратуре издавна — и притом в жанрах, от С., казалось бы, весь-
ма далеких. Так, мотивы богатырской С. находим во всемир-
но известном рыцарском романе нормандского трувера Тома
«Тристан и Изольда», созданном около 1170 г. Сказочные сю-
жеты о герое-змееборце и мудрой жене, отгадывающей загад-
ки царя, станут основой древнерусского рассказа о Петре и
Февронии (XV в.), который назван «Повестью». Повестью же
названо и другое замечательное произведение древнерусской
литературы XVII в. — о Горе-Злочастии, в котором также явно
прочитывается сказочный мотив дружбы-вражды героя с Го-
рем. Народно-сказочный тип дурака, шута, по-своему вопло-
щен Шекспиром в образе шута Фесте («Двенадцатая ночь»,
1600), о котором говорят: «Дурак умно валяет дурака».
Таким образом, сам тип народно-сказочного миропонима-
ния мог воплощаться не только в жанре собственно С. Он ор-
ганично усваивался разнообразными литературными жанрами.
Например, хорошо известно, что в народной сказке млад-
ший брат, который с виду кажется недалеким и глупым, ока-
зывается счастливее своего «умного» и изворотливого старше-
го брата. А если хитреца и ханжу зовут Блайфилом, а просто-
душного и открытого Томом Джонсом, то, выходит, сказоч-
ная основа есть и в самом знаменитом английском романе
XVIII в. - «История Тома Джонса, Найденыша» Филдинга.
232
По сказочному трафарету разыгрывают свои отношения
Гринев и Пугачев в «Капитанской дочке» Пушкина, что дает
им возможность в отдельные моменты как бы отступить от сво-
их жестко заданных социальных ролей и выступить в «амплуа»
легко узнаваемых сказочных персонажей. Между ними уста-
навливается явно неофициальный, чисто человеческий кон-
такт, который восходит к этике народно-сказочного мотива
волшебного помощника. По отношению к Гриневу Пугачев
старается выдержать роль чудесного дарителя, который, пред-
варительно испытав своего «протеже» на добродетель (эпизод с
«заячьим тулупчиком»), выручает его затем из, казалось бы,
безвыходных положений. И уж совсем как в С. все заканчива-
ется благополучным соединением возлюбленных: вместе с ге-
роем счастье обретает и та, которую он так удачно и вовремя
«догадался» назвать «невинно гонимой» «сиротой» — и Пугачев
как добрый помощник, сообразуясь со сказочной логикой,
спасает «красную девицу» — Машу Миронову.
Несмотря на то, что в середине XVII — первой трети XIX в.
народно-сказочное мироощущение обнаруживает себя в боль-
шинстве традиционных литературных жанров, С. продолжает
сохранять свою самостоятельность, громко заявляя о себе
именами Перро («Сказки моей матушки Гусыни...», 1697),
Вольтера («Задиг», 1747; «Кандид», 1759), Гофмана («Золотой
горшок», 1814, «Крошка Цахес», 1818), Андерсена («Сказки,
рассказанные детям», 1835), Пушкина (цикл сказок
1830-1834).
Такое длительное культурно-историческое соседство ав-
торской С. и сказочности литературных форм не могло не
привести к тому, что на подступах к XX в. логика С. захваты-
вает сферу не только литературы, но и науки. Оксфордский
математик Ч.Доджсон, он же Л.Кэрролл, создает одну из са-
мых замечательных С. мировой литературы - «Приключения
Алисы в стране чудес» (первое издание —1865 г.). Поэтика
нонсенса и парадокса, составляющая основу этого произведе-
233
ния, привлекла к себе внимание известных ученых XX в. Их
воображение поразила сцена Безумного чаепития, где стрел-
ки часов всегда стоят на шести (гл. VII). Физики, занимающи-
еся теорией относительности, сравнивали ее «...с той частью
модели космоса де Ситтера, в которой течение времени оста-
новилось» (М. Гарднер).
Творчество Кэрролла предвосхитило художественные ис-
кания писателей-сказочников XX в. Относительность време-
ни, которое можно то терять, то находить, превосходно ощу-
щают многие герои знаменитой «Сказки о потерянном време-
ни» Е.Шварца. Логика нонсенса, атмосфера абсурда ощуща-
ются в знакомых всем с детства стихах К.Чуковского. Кот у
него может ехать «задом наперед», а жаба — «на метле», «вол-
ки от испуга скушали друг друга», а гиппопотам, подобно ска-
зочному царю, вместо прекрасной царевны и «полцарства в
придачу» обещает подарить двух лягушек и «пожаловать» ело-
вую шишку богатырю-избавителю от чудовища-таракана.
В современном мире интерес писателей к С. растет. На
поиски обетованной страны Муравии отправляется герой по-
эмы А.Твардовского Никита Моргунок. «Чудики», деревен-
ские «грамотеи» В.Шукшина ощущают себя в окружении го-
родских как сказочный «дурак» среди своих «умных» братьев.
Образ-символ Царь-рыбы у В. Астафьева явно восходит к на-
родно-сказочным представлениям о магическом животном,
отношения с которым человек должен строить на путях муд-
рого компромисса и великодушия. «Роман-сказка» — такой
подзаголовок имеет «Белка» А.Кима...
В.Зусман, С.Сапожков
Стиль (от лат. stylus — палочка для письма) художест-
венной литературы — способ бытования: а) общелитературного
языка, б) языка художественной литературы (включая поэтиче-
ский язык), осуществляющийся в конкретном произведении
234
конкретного автора; корпусе произведений конкретного ав-
тора; корпусе произведений ряда авторов одной и той же эпо-
хи (школы, направления и др.); корпусе произведений ряда
хронологически не связанных авторов, выбирающих сходную
манеру взаимоотношений с языком в своих произведениях.
Это определение характеризует точку зрения со стороны.
Если же говорить о внутренней сущности стиля художествен-
ной литературы, то это — центростремительное движение всех
элементов текста, подчиненных единой идее, которая обеспе-
чивает монолитность произведения. Характер сцепления слов
есть и обращенность к определенному типу восприятия, и не-
преложная необходимость, вне которой распадается художе-
ственный мир. Ясна культурологическая функция стиля худо-
жественной литературы: через него автор и читатель общают-
ся между собой.
С. в современном художественном произведении может
опираться на одну из традиционных разновидностей стиля
языка вообще: 1) нейтральный, 2) книжный, 3) разговорный,
4) научный и их производные. Главные - это нейтральный,
разговорный и книжный. Именно на них была построена нор-
мативная эстетика Древней Греции, Древнего Рима или евро-
пейского классицизма (известнейшая теория «трех штилей», в
отечественной традиции связанная с именем М.Ломоносова).
Возможна и имитация какой-либо общепринятой манеры
исполнения того или иного речевого акта (ораторская речь, га-
зетная статья, официальный документ, дневниковая запись,
научная лекция, бытовой диалог, дружеское письмо и др.).
Комбинация стилевых манер составляет особую динамику тек-
ста, ее отсутствие воспринимается признаком постоянного
присутствия автора в произведении и приоритет его позиции,
авторской точки зрения: так происходит в романах и менее
крупных жанровых формах у Толстого и Достоевского. В лю-
бом случае С., и в первую очередь С. художественной литерату-
ры, всегда — отбор и принцип комбинации языковых средств,
235
приемов, элементов и др. По тому, как осуществляется отбор,
происходит различение С. Так, в отечественной прозе 1920-х гг.
господствовала стилистика документа, «объективной» фикса-
ции событий жизни. С. поэзии Мандельштама можно опреде-
лить как «символико-метафорический», С.С.Кржижановского —
как метонимический, С. М.Булгакова - психолого-реалисти-
ческий, в ряде случаев с преобладанием иронического элемен-
та. Когда Чуковский называл Брюсова «поэтом прилагатель-
ных», имелась в виду именно стилевая характеристика. То же
самое можно сказать и о выражении «Фет безглагольный».
По отношению к нейтральной языковой норме С. художе-
ственной литературы, как и ее язык, может быть охарактери-
зован как система отклонений. Эти отклонения становятся
постоянными компонентами, главными параметрами систе-
матизации. Их источник — в мировоззрении и художествен-
ном идеале автора, стремящегося создавать свой художест-
венный мир в соответствии с собственными субъективными
представлениями о красоте и гармонии. Встречая читатель-
ский отклик, субъективное становится объективным: стиль
писателя оказывается близок его читателям, поскольку они
видят мир сходным образом. Вот почему в ряде случаев С. на-
прямую отождествляется с мировоззрением.
Мировоззрение может быть как частным, индивидуаль-
ным, так и всеобщим, обусловленным состоянием культуры в
ту или иную эпоху. Причем разные эпохи характеризуются
различным отношением к всеобщности, и поэтому можно го-
ворить о «Стиле французского (русского) классицизма» (как,
впрочем, и отдельно о стиле П.Корнеля или Ж.Расина, кото-
рые, при всей их близости, отличались по множеству параме-
тров взаимоотношений с миром), но затруднительно, напри-
мер, стремиться обобщить даже «Стиль русского символиз-
ма» (при всей общности множества языковых приемов у
Вяч.Иванова, Бальмонта и Блока крайне мало общего на сти-
левом уровне). При этом исследователи совершенно обосно-
236
ван но говорят об общности языка символистов (наиболее ав-
торитетным в этой области является исследование Н.Кожев-
никовой «Словоупотребление в русской поэзии конца XIX —
начала XX в.»). Тем более — С. акмеизма. Последний случай
особенно интересен, поскольку содружество акмеистов в
процессе общения поэтов друг с другом выработало множест-
во общих языковых, знаковых единиц (забавный пример —
знаменитая «беличья шкурка» у Ахматовой и Мандельштама).
Ср.: «Высоко в небе облачко серело,/ Как беличья расстелен-
ная шкурка./ Он мне сказал: «Не жаль, что ваше тело/ Раста-
ет в марте, хрупкая Снегурка!»/ В пушистой муфте руки холо-
дели,/ Мне стало страшно, стало как-то смутно...». У Ахмато-
вой установка на описание реальной бытовой ситуации дик-
тует «простоту», кажущуюся обыденность, стилистическую
сдержанность. У Мандельштама читаем: «Да будет так: про-
зрачная фигурка/ На чистом блюде глиняном лежит,/ Как бе-
личья распластанная шкурка,/ Склонясь над воском, девуш-
ка глядит./ Не нам мечтать о греческом Эребе,/ Для женщин
воск, что для мужчины медь./ Нам только в битвах выпадает
жребий,/ А им дано гадая умереть». Здесь происходящее пе-
реводится не в событийный, а в чисто бытийный пласт, в ми-
фологическое или, во всяком случае, мифологизированное
время античности, которая предстает как некоторый конгло-
мерат Древней Греции и Древнего Египта.
У одного и того же поэта С. могут меняться: так происхо-
дит в ранней и поздней поэзии Пастернака. Неистовая мета-
форичность сменяется простотой «стихов к роману» «Доктор
Живаго».
В. Калмыкова
Стих
(от лат. stichos - ряд, строка). Под стихом в спе-
циальном стиховедческом смысле понимается художествен-
ная речь, расчлененная на определенные, короткие, соизме-
237
римые между собой отрезки, каждый из которых тоже назы-
вается «стих».
В более широком употреблении С. — это и все поэтическое
произведение в целом (стихотворение), и речь, отличная от
прозы. С. - это устойчивая поэтическая единица произведе-
ния, имеющая стабильную структуру в рамках определенной
системы стихосложения. В зависимости от языковых особен-
ностей С. может быть силлабическим (основанным на
равном количестве слогов), метрическим (построенным
на сочетании кратких и долгих слогов) и тоническим (ос-
нованным на повторе одинакового или примерно одинаково-
го количества ударений). В русском стихосложении преобла-
дающими являются тонические формы С. С., не имеющие
рифменной клаузулы, называются белыми. Такими стиха-
ми написана, например, трагедия А.Пушкина «Борис Году-
нов». Стихи, имеющие единую внутреннюю меру, но разный
размер (длину), называются вольными. Вольными С., как
правило, пишутся басни, иногда драматические стихотвор-
ные произведения (см., например, комедию А.Грибоедова
«Горе от ума».) Вольные С. хорошо передают стихию разго-
ворной речи. С., не имеющие рифмы и единой внутренней
меры, называются свободными (см., например, стихо-
творение А.Блока «Она пришла с мороза...»)
Отдельный С., как правило, осознается нами только в сопо-
ставлении с другими С., на фоне некой строгой упорядоченно-
сти поэтической речи и сам по себе всегда есть явление ритма.
Вот почему стихотворения, состоящие из одного С. (так
называемые «моностихи»), достаточно редки в поэзии. В рус-
ской поэзии получили известность, например, только два мо-
ностиха: эпитафия Н.Карамзина «Покойся милый прах до ра-
достного утра...» да известная скорее всего своей анекдотично-
стью строка В. Брюсова «О, закрой свои бледные ноги». Мож-
но припомнить еще стихотворение Л.Мея, состоящее из од-
ной строки: «Пляшут изящно оне, лепокудрые дочери Зевса».
238
Самостоятельность стихотворной строки, отдельного С.
может быть признана только относительной, хотя иногда по-
эты и пытаются сознательно строить свои произведения с рас-
четом на автономность отдельных С. В книге Раймона Кено
«Сто тысяч миллиардов поэм» каждая строка вписывается в
отдельную страницу, которую легко совместить с любой дру-
гой столь же автономной строчкой и получить неожиданную
словесную комбинацию. Этот эксперимент ориентирован на
самостоятельное творчество читателя, перебирающего книж-
ные страницы как «карты в пасьянсе».
В свое время поэты «Искры» охотно пародировали знаме-
нитые безглагольные С. Фета, которые внешне без ущерба для
ритма читаются сверху вниз и снизу вверх и строятся как бы
по принципу «набора слов». Таковы «Шепот, робкое дыханье,
трели соловья...», «Весна» («Это утро, радость эта...») и др. Од-
нако «переставимость», полная «независимость» стихов друг
от друга здесь, конечно, только кажущаяся.
Очевидно, вне сопоставления, вне стихоряда мы не можем
почувствовать и важнейших рифмообразующих факторов С:
рифмы, членящих пауз, звуковых повторов, чередования
сильных и слабых мест и др.
Ритмическая повторяемость стихотворной строки может
возникать как по «горизонтали» (например, повторяемость
равного количества слогов или чередование сильных и слабых
мест), так и по «вертикали» (совпадают все «начала», все «се-
редины», все «концы» стихотворных строк).
Поскольку в любой системе стихосложения членение речи
на стихи остается главным и неизменным конструктивным
принципом, стих является основной единицей ритма.
В совершенном поэтическом произведении С. всегда воз-
никает как художественное единство. Членение стихотворной
речи на С. чаще всего совпадает с синтаксическим: «Когда
волнуется желтеющая нива,/ И свежий лес шумит при звуке
ветерка,/ И прячется в саду малиновая слива/ Под тенью ела-
239
достной зеленого листка...» Но может и не совпадать: «Кура
шумит, толкаясь в темный/Обрыв скалы живой волной».
Эпитет «темный» отделен в данном случае от определяе-
мого слова «обрыв» паузой, возникающей на границе двух С.
Это так называемое явление «переноса» (enjambement). «Пе-
ренос» является дополнительным средством выделения зна-
чимого слова в С. Определяющее «темный», отделяясь от оп-
ределяемого «обрыв», наделяется как бы признаком предмет-
ности и приобретает значение самостоятельности. Кроме то-
го, наличие или отсутствие переносов создает особую стихо-
творную интонацию: «говорной» или «напевный» С. В работе
«Проблема стихотворного языка» Ю.Н.Тынянов удачно
сформулировал основной конструктивный принцип стихо-
творного ритма: «единство и теснота ряда». Этот закон уста-
навливает прежде всего повышенную значимость таких эле-
ментов языка в создании поэтической образности, какие
нельзя считать специфичными для прозы. Например, в пове-
Чехова «Скрипка Ротшильда» совпадение звуков в сочетании
«..печальнее пела скрипка. Скрипнула щеколда...» может
быть истолковано как случайное.
Другое дело в С. В знаменитой строчке Пушкина «Унылая
пора, очей очарованье» звуковой повтор уже не может вос-
приниматься как случайный. Перед нами живое созвучие, об-
разуемое «теснотой стихового ряда», явление «ложной этимо-
логии», когда «очи» начинают происходить от «чар», а «чары»
от «очей» (ср. с Блоком: «Очи девы чародейной»). Перед нами
факт «свершения» смысла в С., расширение его семантичес-
кой емкости за счет «взаимоотражения» слов. Этой цели по-
эзии служит, по-видимому, и стиховая графика.
Традиционное написание С. в строку, в линию не является
единственно возможным. Со времен Симеона Полоцкого и рус-
ского барокко вообще известны в нашей поэзии всякого рода
«фигурные стихи», написанные в виде кругов, треугольников,
сердец, цветов и т.п. Эти эксперименты в какой-то мере недавно
240
повторил А.Вознесенский в форме так называемых «изопов»
(опытов изобразительной поэзии). В связи с этим можно при-
помнить еще известную «каллиграмму» Г.Аполлинера «Заколо-
тая голубка и фонтан» (1914), впоследствии прославленную в
знаменитом рисунке П.Пикассо. В какой-то мере на графичес-
кой изобразительности поэзии (использовании «вертикальных»
связей С.) строятся так называемые «акростихи» (стихотворения,
начальные буквы которых составляют имя, слово или, реже,
фразу) и «месостихи» (стихотворения, в середине которых слова
подобраны так, что отдельные буквы их, расположенные в опре-
деленном порядке и графически выделенные, составляют сло-
во). Однако эти опыты поэзии, хотя сами по себе иногда и инте-
ресны, вряд ли способны подорвать устойчивую графику стиха.
Художественные возможности ее таковы, что она не нуждается в
искусственном, нарочитом построении.
Видоизменение С. тесно связано с исторической динами-
кой поэзии в целом. Так существенные метаморфозы со С.
стали происходить на рубеже XIX и XX в. в связи с общим про-
цессом развития русской поэзии от силлаботоники к тонике.
Отказ от силлабо-тонических размеров в пользу тонического
С. привел к разрушению традиционных симметрических по-
строений. А.Белый, В.Маяковский, затем Н.Асеев, ВЛугов-
ской и другие поэты стали применять принцип «лесенки», ру-
ководствуясь сложным экспрессивным взаимодействием рит-
ма, синтаксиса и значения С. Разбивка стихотворных строк на
подстрочья (принцип «лесенки») заметно активизировала в С.
роль слова или словесной (акцентной) группы как основной
единицы соизмеримости.
«Лет до ста/ расти/ нам/ без старости/ Год от года/ расти/
нашей бодрости/ Славьте, молот/ и стих,/ землю молодости».
Так, проникнутый системой многообразных связей, С. за-
ключает в себе тот заряд ассоциаций, который и создает пол-
ноту его художественной образности.
М. Дарвин
241
Структурализм (от лат. structure - построе-
ние, расположение). Как и в любой другой науке, в литературо-
ведении структура - это характер, способ, закон той связи, ко-
торая существует между отдельными элементами объекта, в
данном случае — художественного текста. С. — теоретическая и
методологическая концепция, обосновывающая и утверждаю-
щая принципы структурного анализа произведения. Разрабо-
танная методика позволяет проанализировать его строение,
исследовать систему приемов, на которой оно держится. Лю-
бое явление искусства и литературы (например, живопись Ре-
нессанса или барокко, психологический роман, готический ро-
ман, натуральная школа, рифмованный стих, нерифмованный
стих и др.) может быть рассмотрено как структура, имеющая
определенные параметры и анализируемая по этим парамет-
рам. Сама система приемов основывается на целостности худо-
жественного произведения и возможна лишь благодаря ей.
Предполагается аналитическое деление произведения на
смыслообразующие блоки. Принципы анализа основаны на
определении основания системы (время, пространство, цвет,
звук, метафора и др.), обусловленных связей между составляю-
щими (сюжет, композиция). Предполагается, что у художест-
венного текста (в расширительном понимании) имеется не-
сколько взаимообусловленных уровней, каждый из которых
отражает предыдущий и всю целостность их.
Художественный текст для структуралистов является не
только субъектом влияния внешних факторов, но и - глав-
ным образом — объектом со своими имманентными особенно-
стями. С появлением С. «открывается новая перспектива перед
историей литературы: она может теперь одновременно учиты-
вать и последовательное развитие поэтической структуры,
обусловленное перегруппировкой элементов, и вмешательства
извне, которые, не представляя собой внутренних двигателей
развития, тем однозначнее определяют каждую из его фаз. С
этой точки зрения каждый литературный факт предстает как
242
равнодействующая двух сил: внутренней динамики структуры и
внешнего вмешательства. Ошибка традиционной истории ли-
тературы состояла в том, что она принимала во внимание внеш-
ние вмешательства и отказывала литературе в автономном раз-
витии, односторонность же формализма в том, что он помещал
литературный процесс в безвоздушное пространство» (Мукар-
жовский Я. К чешскому переводу «Теории прозы» Шкловско-
го//Структурализм: «за» и «против». М., 1975. С. 33).
У структуралистов были и дальние, и близкие предшест-
венники - члены ОПОЯЗа, т.е. русские формалисты, и члены
Пражского лингвистического кружка (В.Матезиус, Б.Гавра-
нек, Я.Мукаржовский, Н.Трубецкой, Р.Якобсон и др.). Вводя
новые научные дисциплины (например фонетику как науку о
звуках речи и фонологию как науку о звуках языка), ученые
этого круга поднимают проблему структурного характера язы-
ка в целом и взаимосвязанности его частей. С. представлен
копенгагенской школой (глоссемантика), американской (дес-
криптивная лингвистика) и др.
Изучение глобальных художественных структур позволяет
ученым выделить ряд повторяющихся моментов, которые явля-
ются смыслообразующими в ряде произведений. Так, примени-
тельно к мифу, эпосу, волшебной сказке используется понятие
«донатора» («дарителя») - существа, стоящего над действием,
вмешивающегося в него, когда необходимо придти на помощь.
Или понятие «антагониста», включающего в себя одного или це-
лый класс персонажей, противостоящих главному герою. Связь
главный герой — антагонист, безусловно, является структурооб-
разующей. Так, в романе Толстого «Война и мир» эту диалекти-
ку отражает чередование глав о «войне» с главами о «мире», на-
рушающееся лишь в особо важных случаях. Система образов, си-
стема сравнений, метафор и др. строится в произведении, подчи-
няясь этой бинарной структуре. Сам бинаризм также исследо-
ван: это «теория, согласно которой все отношения между знака-
ми сводимы к бинарным структурам, то есть к модели, в основе
243
которой лежит наличие или отсутствие признака» (Структура-
лизм: «за» и «против»: Сборник статей. М., 1975. С. 452).
В свою очередь С. оказывается предшественником постмо-
дернизма (ср. «постструктурализм»). Интересно, что важное
для постмодернизма понятие «дискурс» вводится именно в С.
В. Калмыкова
Сюжет (от фр. sujet — тема, предмет). Вспоминая об
истории создания своих основных произведений, Гоголь пи-
сал в «Авторской исповеди»: «Пушкин... отдал мне свой соб-
ственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то вро-
де поэмы и которого он, по словам его, не отдал бы другому
никому. Это был сюжет "Мертвых душ"».
Проблема С. занимала исследователей литературы с древ-
них времен. Аристотель считает С. (хотя сам термин он не
употреблял) первым и основополагающим моментом драмы
или эпики. В дальнейшем Буало, Лессинг, Гегель, Веселов-
ский, Потебня и многие другие выдающиеся писатели и ис-
следователи литературы давали определение С. в произведе-
нии. Почти каждая теоретическая школа в России и на Запа-
де также не проходила мимо этой категории.
Интересное определение С. дал в свое время Горький: С. в
литературном произведении — это «связи, противоречия,
симпатии, антипатии и вообще взаимоотношения людей -
истории роста и организации того или иного характера, типа».
Есть определения С. и в современных литературных спра-
вочниках, учебниках, словарях. С., читаем мы в «Краткой ли-
тературной энциклопедии», - это «ход событий, развитие
действия в повествовательных и драматических произведени-
ях». С. может толковаться и как «действие произведения в его
полноте, реальная цепь изображенных движений».
События в эпическом произведении могут сочетаться друг
с другом разными способами. В «Семейной хронике» Аксако-
244
ва, в «Детстве. Отрочестве. Юности» Толстого или в «Дон Ки-
хоте» Сервантеса сюжетные события связаны между собой чи-
сто временной связью, так как последовательно развиваются
одно за другим на протяжении длительного времени. Такой
порядок происходящих событий английский романист Фор-
стер представил в короткой образной фразе: «Король умер, а
затем умерла королева». Подобного типа сюжеты называются
«хроникальными» в отличие от «концентрических», где ос-
новные события концентрируются вокруг одного центрально-
го момента, связаны между собой тесной причинно-следст-
венной связью и развиваются в короткий временной период.
«Король умер, а затем королева умерла от горя» — так продол-
жил свою мысль о концентрических сюжетах тот же Форстер.
Разумеется, резкую грань между сюжетами двух типов провести
невозможно, и такое разделение является весьма условным.
Наиболее яркими примерами концентрического С. можно бы-
ло бы назвать романы Достоевского. В «Братьях Карамазовых»
сюжетные события стремительно разворачиваются в течение
нескольких дней, связаны между собой исключительно при-
чинной связью и концентрируются вокруг одного центрально-
го момента — убийства старика Карамазова. Самый же распро-
страненный тип С. — наиболее часто используемый и в совре-
менной литературе - тип хроникально-концентрический, где
события находятся в причинно-временной связи.
Сегодня, имея возможность сравнивать и изучать классичес-
кие образцы сюжетного совершенства (романы Шолохова,
Фолкнера, Булгакова), мы с трудом представляем себе, что в сво-
ем развитии С. проходил многочисленные стадии становления и
вырабатывал свои принципы организации и формирования. Уже
Аристотель отметил, что С. должен иметь «начало, которое пред-
полагает дальнейшее действие, середину, которая предполагает
как предыдущее, так и последующее действия, и финал, который
требует предыдущего действия, но не имеет последующего». Но
первым романистам приходилось сталкиваться со множеством
245
сюжетных и композиционных проблем: каким образом вводить
в разворачивающееся действие новый персонаж, как увести его
со страниц повествования, как сгруппировать персонажи и рас-
пределить их во времени и пространстве. А такой, казалось бы,
основной и необходимый сюжетный момент, как кульминация,
был впервые по-настоящему разработан лишь английским ро-
манистом В.Скоттом, создателем напряженных и увлекательных
С. Пролог, экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог-
все это неотъемлемые составные части сюжета, могущие пред-
стать в той или иной комбинации.
В наше время критерии оценки С., его соответствие теме,
проблеме, идее произведения крайне усложнились. В древности
же, когда сюжетные схемы перекочевывали из одного произведе-
ния в другое и писать «на один и тот же С.» разным авторам было
делом привычным и литературно узаконенным. Например, тра-
гическая судьба Антигоны в сюжетной интерпретации Софокла
и Еврипида, а в наше время - в интерпретации Ануя и Попеску.
Традиционные сюжетные схемы переходили из страны в страну,
из литературы в литературу, становились основой многих эпиче-
ских и драматических произведений. Такие С. (по предложению
А. Веселовского) были названы «бродячими». История Дон Жуа-
на, например, обошла почти все европейские литературы.
На всех этапах развития литературы С. занимает централь-
ное место в процессе создания произведения. Но к середине
XIX в., получив блестящее развитие в романах Диккенса,
Бальзака, Стендаля, Достоевского и многих других, сюжет как
будто начинает тяготить некоторых романистов. «...Что мне
кажется прекрасным и что хотел бы я создать, — пишет в од-
ном из писем 1870 г. великий французский стилист Г.Флобер
(его романы прекрасно организованы сюжетно), - это книга,
которая почти не имела бы сюжета, или такая, по крайней ме-
ре, в которой сюжет был бы почти не видимым. Самые пре-
красные произведения те, в которых меньше всего материи...
Я думаю, что будущность искусства в этих перспективах...»
246
В желании Флобера освободиться от С. ощущается стрем-
ление к свободной сюжетной форме. И действительно, в не-
которых романах XX в. сюжет уже не имеет такого доминиру-
ющего значения, как в романах Диккенса, Толстого, Тургене-
ва. Жанр лирической исповеди, воспоминаний с углубленным
душевным анализом, сопровождающийся поэтическими ме-
дитациями, получил право на существование.
А вот один из самых распространенных сегодня жанров —
жанр детективного романа — сделал стремительный и необы-
чайно острый сюжет своим основным законом и единствен-
ным принципом.
Таким образом, современный сюжетный арсенал писателя
так огромен, в его распоряжении столько сюжетных приемов и
принципов построения и расположения событий, что это дает
ему неисчерпаемые возможности для творческих решений.
Усложнились не только сюжетные принципы, невероятно
усложнился сам способ повествования. В романах и повестях
Ч.Айтматова, Г.Гарсия Маркеса, Э.Штриттматтера, Ю.Три-
фонова основой повествования становятся сложные ассоциа-
тивные воспоминания и размышления, смещение разных, да-
леко отстоящих по времени эпизодов, многократные интер-
претации одних и тех же ситуаций.
В этом случае наряду с термином С. для обозначения спо-
соба повествования лучше всего использовать старинный тер-
мин «фабула». «Фабула» в переводе с латинского значит «рас-
сказывание», «повествование».
В. Калмыкова
247
т
Тема (от греч. thema - то, что положено в основу).
Слова Т. в «Словаре Академии Российской, по азбучному
порядку расположенном» (Т. 6. СПб, 1822) — нет. Но зато
Пушкин в «Евгении Онегине» рифмует Т. как совершенно
привычное слово (гл. VIII, строфа 23): «Перед хозяйкой лег-
кий вздор/ Сверкал без глупого жеманства,/ И прерывал его
меж тем/ Разумный толк без пошлых тем...»
Слово Т. употребляют, вдумываясь всегда в его смысл, мно-
гие наши писатели. Некрасов («Подражание Шиллеру») при-
зывает поэта, овладевающего мастерством: «Форме дай щед-
рую дань/ Временем: важен в поэме/ Стиль, отвечающий те-
ме». А П.Коган говорит о вдохновенном, но не вполне удачном
стихотворном опыте своего героя из поэмы «Первая треть» так:
«Едва ль он тему покорял —/ Скорее тема покоряла...»
Пишет и современная критика о «владении темой и предме-
том». Т. - слово привычное, но Т. может обмануть читателя,
когда у писателя нет «владения» ею. Т. может быть серьезна, она
может требовать особого стиля, ей отвечающего, но бывают, по
Пушкину, и «пошлые темы», неразумные разговоры о них.
Т. — это, собственно, и есть предмет сочинения, предмет
рассуждения, разговора: то, о чем говорится или пишется.
Скажем, русская национальная жизнь начала XIX в. есть Т.
«Войны и мира», а приключения морских охотников — это,
говоря в общем, Т. романа Мэлвилла «Моби Дик». Общее
представление о Т. дают знакомые по критике обороты «про-
изведение на рабочую тему» (ясно, что в нем говорится о жиз-
ни рабочих), «современная по теме повесть» (то есть изобра-
жены в ней, составили ее предмет наши дни). С той или иной
Т. в художественную литературу входят люди разных эпох -
от времен Троянской войны («Илиада», «Одиссея») до жизни
американских индейцев (романы Ф.Купера) или строителей
современного индустриального советского города («Прото-
кол одного заседания» А.Гельмана). Т. обеспечивает произ-
ведению интерес читателя обилием жизненного материала
248
(уже одно такое богатство позволяет заговорить об «энцикло-
педии русской жизни», представленной в «Евгении Онегине»).
Т., сам выбор которой есть нередко акт творчества и даже
гражданской смелости (скажем, как жизнь» маленького чело-
века» у Гоголя и Достоевского, обитателей «дна» у Горького),
делает искусством то, что раньше считалось чуждым для
изящной словесности. А с необычным героем приходят но-
вый, свежий язык, новые конфликты, новые идеалы.
Как видно, Т. в художественном произведении значит не-
мало (возьмем хотя бы «Войну и мир». Как емки эти два слова
из заглавия романа!). Но почему же Т. надо «покорять»? Здесь
бытового представления о Т., сколь это слово ни было бы из-
давна знакомо, уже недостаточно. Здесь надо знать слово как
строгий термин в ряду других терминов.
Обратимся за некоторыми полезными сведениями к одно-
му из наиболее «литературоведческих» произведений Пушки-
на - к «Египетским ночам». Разговор здесь идет о тайнах по-
этического вдохновения, и наряду с «рифмой», «воплощени-
ем», «импровизацией», «эпиграммой», «строфой» здесь не раз
(а точнее десять раз!) упоминается Т. Каким же образом?
Заезжий итальянец-импровизатор получает заказ от поэта
Чарского: «Вот вам тема: поэт сам избирает предметы своих
песен; толпа не имеет права управлять его вдохновением».
И Чарский слышит: «...Таков поэт: как Аквилон,/ Что хочет,
то и носит он —/ Орлу подобно он летает/ И, не спросясь ни у
кого,/ Как Дездемона, избирает/ Кумир для сердца своего...»
Не чувствуется ли разница между Т. как таковой, отвле-
ченно и сжато названной в заказе Чарского («поэт... избирает
предметы... толпа не имеет права управлять...») и ее воплоще-
нием? То, что разница есть, показывают сами стихи, показы-
вают яркие образы, мастерски находимые импровизатором.
Затем Чарский устраивает гостю вечер-концерт, и тот
«просит господ посетителей назначить несколько т е м», что-
бы тут же развить любую из них в стихотворение. Из пяти Т.
249
(семейство Ченчи; последний день Помпеи; Клеопатра и ее
любовники; весна, наблюдаемая из темницы; триумф Тассо)
выбирают жребием любовь Клеопатры, покупаемую ценой
жизни. И сразу же льются звучные, мощные стихи: «Чертог
сиял. Гремели хором / Певцы при звуке флейт и лир./ Царица
голосом и взором /Свой пышный оживляла пир...»
Но только лишь прочитано блестящее вступление, как
именно тут «Египетские ночи» Пушкина обрываются. «...Но
только утренней порфирой/Аврора вечная блеснет,/ Клянусь -
под смертною секирой/ Глава счастливцев отпадет...»
Размышления над малой и даже незавершенной миниатю-
рой помогают разобраться в самом существенном. Чтобы понять
место Т. в художественной литературе и место этого понятия
среди других понятий и терминов, зададим себе один простей-
ший вопрос: почему нам досадно, что мы не до конца прослуша-
ли импровизацию? Ведь Т. нам известна! Или почему мы сожа-
леем, что «Египетские ночи» - незавершенная вещь Пушкина?
Зная о чем заговорил импровизатор, зная Т., мы так и не
узнаем, что хотел он об этом сказать. Чувствуя, что Чарский
вступил с нищим чужеземцем в какие-то таинственно-брат-
ские отношения художника с художником (Т.), мы так и не
узнали, как эти отношения разовьются и каков их исход.
Зная, что Пушкин был накануне блестящей поэмы «о Клео-
патре» (Т.), мы так и не прочитаем эту поэму до конца.
Эта разница между Т. и ее решением крайне важна. Т,—
значительная, но относительно пассивная сторона в творчест-
ве. А вот проблема, поставленная на этой Т.; а вот мастерство
художественного воплощения - это те стороны творчества, в
которых активность таланта сказывается наиболее наглядно.
И мы ждем вслед за Т. еще и проблемности произведения, еще
и мастерства художника в развитии Т., в разрешении проблем.
Т. для импровизации — подсказывает Пушкин в «Египет-
ских ночах» - художнику мог предложить каждый: и «секре-
тарь неаполитанского посольства», и «два журналиста», и «од-
250
на некрасивая девица, по приказанию своей матери, со слеза-
ми на глазах». Но только художник мог извлечь из Т. скрытые
в ней возможности для мысли; только талантливый поэт обле-
кал свои мысли в прекрасные стихи.
Вот почему, кроме убедительной, значимой Т., писателю для
художественного успеха нужно еще многое. Недостаточно пыш-
ных имен «Клеопатра», царица «Тамара» — нужен еще и дар по-
эта-лирика, нравописателя, пейзажиста (как у Лермонтова в
«Тамаре»). Недостаточно грандиозности событий 1812 г. (или
экзотики Крымской либо Кавказской войн. Черное море, «гор-
цы» и т.п.) - нужна глубокая народность, философская глубина
авторского мышления, чтобы из-под пера вышло не «Кавале-
рист-девица», а «Война и мир» или «Хаджи-Мурат». Недоста-
точно, если выражаться терминами, самой и одной только Т. -
нужен сюжет, нужен конфликт, нужен и «стиль, отвечающий
теме». Все это и означает, что такое «темой покорять».
С. И.
Тип (от греч. typos - отпечаток, модель, образец). В на-
чале 4 части «Идиота» Достоевский говорит, что писатели ста-
раются брать «типы, чрезвычайно редко встречающиеся в дей-
ствительности целиком, и которые тем не менее почти дейст-
вительнее самой действительности». Т., по Достоевскому,
«снуют и бегают перед нами ежедневно, но как бы несколько
в разжиженном состоянии», «типичность лиц как бы разбав-
ляется водой». После гоголевской «Женитьбы» множество
людей узнало в своих друзьях Подколесиных. «В действитель-
ности женихи ужасно редко прыгают из окошек перед своими
свадьбами... тем не менее сколько женихов, даже людей достой-
ных и умных, пред венцом сами себя в глубине совести готовы
были признать Подколесиными». Вспомним Надю из «Невес-
ты» Чехова. Ведь она именно человек достойный и умный. Она
сбежала от жениха и от всей прежней жизни чуть ли не прямо
251
из-под венца. А что пишет Чехов о ее переживаниях? «Быть мо-
жет, то же самое испытывает перед свадьбой каждая невеста».
От слова Т. производятся прямо противоположные по зна-
чению прилагательные. Все знакомы, например, с типовой, то
есть стандартной, застройкой. Чаще всего «типовой» — это
обезличенный. Напротив, типичное, типическое означает про-
явление общего в индивидуальном, в характерном, в особен-
ном. Люди, писал Достоевский, «и до Гоголя знали, что эти
друзья их такие, как Подколесин, но только не знали еще, что
они именно так называются». Действительно, мы и в жизни за-
мечаем в основном то, чему знаем наименования: не знающий,
что такое в здании фриз или архитрав, почти не видит их, вос-
принимает здание только целиком, в общем и целом, без кон-
кретных особенностей. Задача художника — увидеть и назвать,
определить жизненные явления — придать им определенность,
показать общее в индивидуальном. Татьяна Ларина неповтори-
мо индивидуальна, но именно благодаря этому она выражает
типично русский национальный характер известного времени
(в иное время «я другому отдана» Белинский интерпретировал
уже в духе «женского вопроса», не существовавшего для Пуш-
кина) и служит прообразом классических женских характеров в
русской литературе: и тургеневских женщин, и Наташи Росто-
вой, и в какой-то мере героинь Достоевского и Чехова. Непо-
вторимы Онегин, Печорин, Бельтов, Рудин, Обломов, но в их
характерах Добролюбов обнаружил развитие одного типа - мо-
лодого дворянского интеллигента в эпоху постепенной утраты
дворянством передовой роли в обществе.
До XIX в. типичность обычно оказывалась универсальнос-
тью: конкретный человек воплощал, по мысли писателей, об-
щие черты всего рода человеческого. В реализме нового вре-
мени общее в характере окрашено признаками класса, сосло-
вия, социальной среды и эпохи, а ранее эта окраска вовсе не
признавалась существенной. С точки зрения типизации не
так уж принципиально было то, что Гамлет - принц, а Лир —
252
король, да еще король древних бриттов, не владеющих ни
предметами материальной культуры, ни понятиями шекспи-
ровских героев (высокий род был важен лишь в жанровом
плане: герою трагедии полагалось быть знатным). Потому и
возможно было впоследствии усмотреть леди Макбет в Мцен-
ском, Гамлета в Щигровском уезде, а короля Лира в степном
поместье Орловщины.
«Универсалистские» характеры зачастую обнаруживали
крайние формы типизации: то стремление как бы к «типово-
му» — различные жесткие амплуа, — то увлечение исключи-
тельностью героя с его особой красотой, силой, благородст-
вом и т.д. Одно не отвергало другое, противоположности схо-
дились. Ведь если герой отличался почти одним только благо-
родством (персонажи-дворяне у маньеристов и классицистов)
либо, наоборот, одной только скупостью (мещане) и ханжест-
вом (монахи), то это исключительная, гиперболизированная
черта как раз и формировала якобы «типовые» образы идеаль-
ных возлюбленных, скряг и ханжей. Однако такое отождеств-
ление «типового» и индивидуального далеко не всегда вело к
обезличивающей стандартизации. В современном француз-
ском языке скрягу так и называют гарпагоном - по личному
имени мольеровского персонажа. Художественная индивиду-
альность может состоять именно в отсутствии человеческой
индивидуальности. Ни с кем не спутаешь щедринского Бруда-
стого, его «Раззорю!» и «Не потерплю!», хотя этими двумя уг-
розами исчерпывается почти вся его индивидуальность. Зна-
чит, и тут мы имеем дело с типическим, а не с «типовым» — ан-
тихудожественным. Для драматургических, сатирических, ал-
легорических, сказочно-фантастических произведений эта
форма типизации даже наиболее удобна. Например, в пьесах,
которые должны быть компактными, не надо других условно-
стей - длинных речей второстепенных персонажей, проясня-
ющих ситуацию и характеры главных, они и так ясны без де-
тальных предысторий. В сатире аналогичная типизация ведет
253
к заострению образа, в аллегорических баснях и сказках со-
здает предельно четкий конфликт: опять-таки не надо всякий
раз описывать человека робкого и человека сильного, злого и
коварного — каждый знает, какие отношения между зайцем и
волком. Так что и Щедрин писал сказки отнюдь не потому,
что он был умный, а цензура глупая.
Типическим может быть и странное, удивительное, нело-
гичное. В «Мертвых душах» Чичикова приняли за переодето-
го Наполеона. Фантастическое измышление? Нет. П.Вязем-
ский рассказывал, что после войны 1812 г. на одной из почто-
вых станций висел портрет Наполеона. На вопрос: «— Зачем
ты держишь на стене этого негодяя? — А затем, — отвечает
смотритель, — чтобы, в случае, если он явится на станцию под
ложным именем и спросит лошадей по чужой подорожной,
задержал его по силе примет...» Сама российская действи-
тельность была так богата алогизмами, нелепостями, что ти-
пическую нелепость писатель мог найти буквально на дороге.
Безусловно, образам дореалистической, а в Х1Х-ХХ вв. и
модернистской литературы больше грозит опасность утратить
типичность. Но «универсализм» имеет и большое преимуще-
ство - непосредственное проявление в характере героя важ-
нейших общечеловеческих свойств, которое порой приводит
к созданию так называемых вечных образов. В литературе
XIX-XX вв., чье огромное достижение состоит в ее социаль-
но-исторической конкретности, индивидуум, взятый сам по
себе, вне проблематики целого произведения, воплощает об-
щечеловеческое лишь в той мере, в какой оно присуще опре-
деленному социальному слою в определенный исторический
период. Поэтому новейшая литература не порождает столь
глобальных типов, способных отрываться от «своего» произ-
ведения и существовать независимо от него, таких, как Фауст,
Гамлет, Дон Кихот, Дон Жуан, барон Мюнхгаузен. Точнее,
они появляются, но в ином масштабе, в совершенно иных
функциях — в произведениях неисторической, «универса-
254
листской», по своим основам детской литературы (Буратино,
Чиполлино, Незнайка...). Большая литература в этом плане
ушла далеко от своего детства и отрочества, но всякий про-
гресс, как известно, сопровождается и потерями.
Средства создания типического образа тоже различны.
Есть немало писательских утверждений, в том числе Гоголя,
Толстого, Флобера, Горького, что для этого необходимо на-
блюдать в жизни многих людей, в чем-то сходных между со-
бой. По мнению Гончарова, типичным вообще может быть
лишь нечто массовое, а то, что в действительности еще только
зарождается, нетипично. Иначе полагал Тургенев, учитываю-
щий перспективу развития жизненных явлений. Он всегда
точно схватывал едва появляющиеся, но жизнеспособные
ростки нового. Тургенев, Достоевский, Лесков часто создава-
ли типические образы, отталкиваясь от одного конкретного
прототипа. В их героях много индивидуально-неповторимого,
что не раз давало повод сторонникам типического как массо-
вого упрекать этих писателей в нетипичности героев, в отступ-
лении от реализма. Но вот Чернышевский считал наиболее
плодотворной типизацию через глубокое проникновение в
сущность единичного яркого характера. А его предшествен-
ник Белинский признавал обе возможности.
Безусловно, оба способа имеют право на существование.
Однако второй из них все-таки в некоторой степени основы-
вается на первом. Недаром спорят о прототипах Базарова. Это
и врач Дмитриев, как свидетельствовал сам писатель, но так-
же и Добролюбов, и вообще известные Тургеневу революци-
онные демократы. Нельзя даже подобрать яркий Т. в жизни,
не имея «точки отсчета», исходного представления о типичес-
ком как распространенном или распространяющемся. Писа-
тель — человековед в том смысле, что, познавая человека, он
узнает и уже во многом заранее знает людей, общество. Ведь в
этом и сущность художественной типизации, воссоздания об-
щего в индивидуальном.
255
Литература социалистического реализма начиналась как
раз с «предвосхищенных» Т. Нетипичным счел В.Воровский
образ Ниловны, отразивший тогда еще редкое явление. Горь-
ф кий же видел перспективу. «Мало вас все-таки!» — говорит во
2:__ «Врагах» вахмистр Квач Синцову. «Будет много... подождите!» —
отвечает тот. Но еще многие герои советской литературы
1920-30-х гг. были героями отнюдь не массовидными. Таков
Корчагин: если бы все или большинство в его время были Кор-
чагиными, не была бы такой героической и драматической его
личная судьба. В современной же литературе «обыкновенные»
люди пользуются большим вниманием, даже когда речь идет о
войне: герои современной военной прозы уже не косят врагов,
как траву. Возникают произведения о таких людях, которые не
могли непосредственно участвовать в преобразовании соци-
альной действительности и совершенно не интересовали писа-
телей прежде, например, о деревенских старухах (В.Астафьев,
В.Белов, В.Распутин). Вспомним слова А.Н.Толстого о неже-
лании заканчивать «Петра Первого» концом царствования Пе-
тра: «Не хочется, чтобы люди в нем состарились. Что я с ними
буду, со старыми, делать?» А ведь Петр умер в 53 года...
Типизация — понятие более широкое, чем Т., типический
характер. Типичными бывают и характеры, и обстоятельства,
и отношения, связи между характерами и обстоятельствами.
Иногда утверждают, что типизация охватывает также сюжет,
художественную речь, жанр и т.д. Если типические характе-
ры, а подчас и типические обстоятельства были свойственны
«универсалистской» литературе, то типическую связь между
ними — социальный детерминизм — воссоздает только реали-
стическое искусство.
С.Кормилов
Традиция (от
лат. traditio — передача, предание).
В одной из заметок 1835 г. Пушкин, обращаясь к творчеству
256
молодого критика, ждал от него в будущем большей основа-
тельности и «большего уважения к преданию».
Предание... Это не то же самое, что «дела давно минувших
дней, преданья старины глубокой» или у Чацкого во фразе
«свежо предание, а верится с трудом». Предание в пушкин-
ской заметке о задачах критики означает традицию.
Оттенки старых слов забываются, а ценности нетленны.
Поэтому Пушкин и заботился об их судьбе. Т. - это созданные
и сбереженные культурой прошлого и затем передаваемые из
поколения в поколение сокровища народного опыта, сокро-
вища мудрости и уменья лучших мастеров искусства.
Например, народность и гражданственность литературы
опираются на тысячелетние Т. летописей, былин и классики
русского реализма. Стала всемирным достоянием шекспиров-
ская Т. в драме: предельная острота нравственных переживаний
героя на широком фоне исторических бурь и народной жизни
увлекала и Пушкина в «Борисе Годунове», и Бернарда Шоу, и
Брехта. Сонет как законченная и пластичная стихотворная фор-
ма для философского высказывания перешел по Т. от итальян-
ских и французских мастеров к Бодлеру, Малларме, Арагону и
Бехеру. Русская поэзия реже практикует сонет; но когда поэты
после Пушкина, Ап.Григорьева, Брюсова и Бальмонта обраща-
ются к сонету—такие как А.Тарковский, В.Солоухин, Н.Матве-
ева, то вместе с формой стихотворений по непререкаемой Т.
воспроизводится и установка на философское высказывание.
Во многих литературах мира (Маркес «Последний рейс ко-
рабля-призрака»; Айтматов «Белый пароход») сегодня под-
держивается и оберегается традиция полусказочно го, притче-
вого видения и объяснения действительности, восходящая к
народному эпосу. Патриотизм военной прозы выдержан в
лучших традициях Пушкина, Гоголя, Толстого. И не только
современная поэзия, но и проза нашего времени в раздумьях о
загадочной духовности и целомудрии природы черпают из
тютчевской философской Т.
9—501
257
Таким образом, поТ. сберегаются и, постоянно насыщаясь
новым содержанием, передаются в будущее лучшие достиже-
ния человечества и в области художественной мысли, и в обла-
сти художественной формы, если условно провести такое раз-
граничение. Скажем, драма с подтекстом или роман с тонким
на пряжен но-страстным психологическим и нравственным са-
моанализом героев сегодня традиционны, потому что этими
чертами отмечены лучшие творения Чехова и Достоевского.
Возвышенные интонации оды, героической песни в поэзии
первых лет советской власти означали вместе с самим высоко-
патетическим жанром возрождение Т., завещанной Ломоно-
совым, Державиным, Пушкиным и ныне обновленной.
Культурное наследие живет в двух формах: и как бесцен-
ные памятники искусства давних эпох, не требующие воспро-
изведения и повторения (египетские пирамиды, Колизей,
«Илиада»), и как основа непосредственной преемственности.
Поддержание Т. - задача святая и ответственная. Это дело
равноценно хранению вечного огня над тем, что, даже уходя
из жизни, осталось бессмертно. Иногда этот огонь как бы за-
тухает (Т. уходит в глубинные слои культурной памяти), но
потом, словно нарочно подтверждая бессмертие «предания»,
с особой пылкостью разгорается снова.
На рубеже XIX-XX вв. в эстетике и критике модернизма
были нередко утверждения, будто «всякое преклонение перед
традициями есть основа лицемерия и косности», что «традиция
есть лишь мертвенная гипсовая маска с действительности», что
Пушкин и Гете должны быть «сброшены с парохода современ-
ности» ради торжества нового искусства. На деле связь тради-
ционного с новым, конечно, сложней. От мнимо современно-
го Т. отлична одним: Т. — это то, что современно всегда. Если
же новое не беспочвенно, то оно нуждается в традиции, и оно
обновляет именно ее, а не растет на пустом месте.
Возрождение Т. в новых условиях развития культуры — од-
на из граней новаторства, которое иногда насыщает традици-
258
онные заветы и нормы особым смыслом, не отвергая их в це-
лом, а иногда, революционизируя искусство, рвет с Т., пре-
одолевает ее.
Лучшие произведения литературы, которые обновляют
представление о творческих возможностях искусства слова,
часто демонстрируют сложные формы единства новаторст-
ва с Т.
Так, Шолохов, вырываясь в «Тихом Доне» из рамок исто-
рического мышления пушкинской эпохи («не приведи бог ви-
деть русский бунт...»), в том же самом романе сохраняет тра-
диционное пушкинско-толстовское начало: свидетельствует о
торжествующем в истории «мнении народном» и находит для
этого голоса народа ярко своеобразные формы воплощения.
Точно так же «Война и мир», мощно возвышаясь над предше-
ствующими опытами русского романа, есть возрождение иде-
алов и даже некоторых форм русской воинской повести
вплоть до «Слова о полку Игореве». Лирика Блока, особенно в
стихах «Родина», многим казалась беспрецедентно новой. Од-
нако именно здесь Блок не только обновил, он по-своему воз-
родил созвучия, идущие из некрасовской традиции. «Ты и
убогая, ты и обильная...» отозвалось в заповеди Блока: за «гри-
масами» видеть величие и современности и перспектив, от-
крывающихся с революцией в будущем России. А возглас
«О, Русь моя! Жена моя!..» звучит при всей неожиданности,
как преемственный отклик на некрасовское же «как женщи-
ну, ты родину любил...».
Питая новое, Т. еще и проверяет его на высоту пробы.
В одной из работ, ставящих под сомнение насущную пользу
Т., написано так: «Традиционная поэзия зашла в тупик; нуж-
но быть гением, чтобы в этих формах создать что-либо достой-
ное...» Нельзя, однако, лучше оправдать и выше оценить Т., чем
против воли автора делает это опровержение. Дело Т. в искус-
стве действительно требует гениальности. И Т. не поощряет
эпигонство и безликость, а разоблачает и отводит их.
259
Однако невозможно настаивать на жизненности Т., явно
стесняющих развитие. Когда новому содержанию тесно в
оковах исстари принятых условностей, эти условности пере-
сматриваются и творчество идет новыми путями. Так ушло в
прошлое разделение искусства слова по высоким и низким
жанрам с соответствующей иерархией «штилей» художествен-
ного языка, принятое в литературе классицизма. Жанровая
раскрепощенность романтизма и реализма, свобода художе-
ственного языка в литературе, отвергшей классицизм, были
ярко новаторскими явлениями. Было новаторски изжито и от-
странение «изящной словесности» былого времени от судеб
простолюдина; в литературе реализма тема «маленького чело-
века» (крестьянина, «станционного смотрителя», мелкого чи-
новника, а затем, как у Горького, босяка или сознательного
пролетария-борца) принесла с собой крупнейшие художест-
венные свершения. Новаторская, гуманная трактовка этой те-
мы сама стала ценнейшей Т. реализма. По существу, обновле-
на была не только литература. Когда реализм необычайно раз-
двинул горизонты представлений о прекрасном в жизни и ис-
кусстве, это означало прогресс и литературной теории, и эсте-
тики в целом. Чем более чутка литература к духовной жизни
общества и его эстетическим запросам, тем богаче выражен в
ней пафос обновления - активизации давних Т. и утвержде-
ния новых.
С. Небольсин
Троп (от греч. tropos — поворот, оборот речи). Каждое
слово имеет свой универсальный смысл. Это так называемые
прямые значения слова, в которых закрепляются названия
предметов и явлений. Без устойчивости этих значений нет и
не может быть языка как средства общения. Вместе с тем в
своих строгих рамках природа любого национального языка
открывает безграничный простор для переносного, образного
260
употребления слов. Переход (поворот) от общеупотребитель-
ных значений слова к образным называется Т.
Связь образного и прямого смысла слова осуществляется
всеми Т.» основными из которых являются метафора, метони-
мия и ирония.
В басне лиса величает осла умным, считая это безобид-
ное существо глупым созданием, которое, впрочем, спешит
оправдать подобное мнение о себе, принимая слова лисы за
чистую монету. Благодаря иронии, таким образом, «глупый»
и «умный», выражающие в обычном языке противополож-
ные смыслы, в произведении баснописца становятся сино-
нимами.
При метонимии (от греч. metonymia — переименование) Т.
опирается на причинную связь разных понятий. Гнезда вьют,
конечно, птицы. Но Тургенев был вправе рассчитывать на по-
нимание, когда назвал один из своих романов не «Дворянская
усадьба», а «Дворянское гнездо», потому что человек тоже
«вьет гнезда», тоже создает себе уют.
В метафоре Т. «раскручивается» с помощью какого-нибудь
общего признака сравниваемых явлений. В стихотворении
«Не пишется» А.Вознесенский строит Т., исходя из похожести
творческого затишья на ощущение от приостановки сельско-
хозяйственных и промышленных работ: «Поля мои лежат в
глуши./ Погашены мои заводы./ И безработица души/ Зияет
страшною зевотой».
Остальные типы Т. являются, по существу, разновиднос-
тями иронии, метонимии и метафоры (сарказм, синекдоха,
гипербола, литота, перифраз, аллегория, сравнение, эпитет,
символ).
Т. расширяют и углубляют представления о явлениях,
чем, в частности, определяется высокая степень образности
речи ребенка. Т., приумножая оттенки слова, делают речь и
более индивидуальной, более оценочной, более эмоциональ-
ной. Все эти свойства Т. резко увеличивают интенсивность
261
его применения в диапазоне от научно-делового до языка ху-
дожественной литературы, который особенно богат образно-
стью.
Т. способствует красоте слога. Однако самоцельное ис-
пользование Т. приводит лишь к украшательству. Т. должен
быть оправдан характером переживаний и характером носи-
телей этих переживаний, должен быть оправдан особеннос-
тью передаваемых мыслей и чувств, должен быть оправдан
уместностью эмоций, должен служить содержательности.
Можно, допустим, упрямо утверждать, что Днепр разли-
вается на сотни километров. И никто не поверит. Но та же ги-
пербола Гоголя ни у кого не вызывает и тени сомнения: «Ред-
кая птица долетит до середины Днепра».
Однако не обязательно, как в приведенном примере, что-
бы эмоциональность находила выход в Т. Гениальный мастер
метафорического, образного языка Хагани передавал самые
мощные по эмоциональному накалу мысли и чувства без при-
менения тропов: «У народа в году есть два праздника. Но при-
смотрись — /И название праздника вряд ли ты дашь этим
дням!/ Потому, что такого и праздника нет на земле,/ Где бы
не было места скорбям, и слезам, и смертям».
Глубина мысли и острота переживания очень часто вопло-
щаются в безобразном слове: «На свете счастья нет, но есть
покой и воля».
Содержания этого стиха Пушкина хватило бы на повесть
или даже роман. И все-таки именно Т. сообщает языку ис-
ключительную лаконичность. Вот Фет переводит одну из га-
зелей Гафиза: «Гафиз убит. А что его убило,— /Свой черный
глаз, дитя, бы ты спросила./ Жестокий негр! как он разит
стрелами!/ Куда ни бросит их — везде могила».
К «жестокому негру» тонкий лирик Фет сделал такое
примечание: «Черный глаз красавицы. Вот истинный ска-
чок с 7-го этажа, зато какая прелесть!»
Я.Семенов
262
Условность. Этот термин употребляется в двух
значениях. Несовпадение реальности с ее изображением в
литературе и других видах искусства называется первичной У.
В произведении литературы можно по-разному воссоздать
действительность. Некоторые мастера слова делают это в жиз-
неподобной форме, позволяющей читателю представлять себе
образы персонажей до мельчайших подробностей. Мы как бы
видим Татьяну и Ольгу Лариных, Онегина, Ленского, Болкон-
ского и Пьера Безухова, Ионыча и Аню Раневскую.
Другие писатели предпочитают иносказательный способ
обобщения явлений, основанный на деформации жизненной
реальности и отрицании жизнеподобия. Этот способ получил
наименование вторичной У. При помощи такой формы худо-
жественного обобщения жизни обрели литературное сущест-
вование фантастические персонажи из сна Татьяны Лариной,
гоголевские Вий, черт и нос, чеховский черный монах, тол-
стовская Аэлита и многие другие литературные герои. Писа-
тели, используя приемы вторичной У., намеренно избегают
жизнеподобия.
Художники слова прибегают к таким способам обобщения
жизни, как фантастика, гротеск, чтобы лучше постичь глубин-
ную сущность типизируемого (гротескны роман Рабле «Гарган-
тюа и Пантагрюэль», «Петербургские повести» Гоголя, «Исто-
рия одного города» Салтыкова-Щедрина). Современный теоре-
тик литературы В.Хализев определяет гротеск как «художест-
венную трансформацию жизненных форм, приводящую к не-
кой уродливой несообразности, к соединению несочетаемого».
Черты вторичной У. есть также в изобразительно-выразитель-
ных приемах (тропах): аллегории, гиперболе, метафоре, метони-
мии, олицетворении, символе, эмблеме, литоте, оксюмороне и
др. Все эти тропы построены на общем принципе условного со-
отношения прямого и переносного значений. Черты вторичной
У., присущие тропам, особенно ярко видны в случаях реализа-
ции метафоры, базирующихся на попытке осмыслить и прими-
263
рить слова в их первичном и переносном значении. В повести
Булгакова «Собачье сердце» в фантастической истории превра-
щения собаки Шарика в хама и негодяя люмпен-пролетария
Шарикова реализована находящаяся в заглавии произведения
метафора. Если отойти от автоматизма восприятия таких язы-
ковых метонимий, как «выпить чашу до дна», «съесть три тарел-
ки» и им подобных, то их условная природа станет очевидна.
Все эти условные формы характеризуются деформацией реаль-
ности, а некоторые из них — преднамеренным отклонением от
внешнего правдоподобия. У вторичных условных форм есть и
другие важные черты: ведущая роль эстетического и философ-
ского начал, изображение тех явлений, которые не имеют в ре-
альной жизни конкретной аналогии.
Ко вторичной У. относятся также древнейшие эпические
жанры словесного искусства: мифы, фольклорные и литера-
турные басни, легенды, сказки, притчи, а также жанры лите-
ратуры Нового времени — баллады, художественные памфле-
ты («Путешествия Гулливера» Свифта), сказочная, научная и
социально-философская фантастика, в том числе утопия и ее
разновидность антиутопия.
Вторичная У. давно существует в литературе, однако
обычно приемы и образы вторичной У. интенсивно использу-
ются в сложные, переходные для литературы эпохи. Одна из
таких эпох приходится на конец XVIII первую треть XIX в.
Она ознаменована крушением феодализма, буржуазными ре-
волюциями, национально-освободительными движениями в
ряде европейских стран. Эти общественные явления нашли
свое идейно-художественное отражение в предромантизме и
романтизме.
Романтики творчески обрабатывали народные сказки, ле-
генды, предания и широко использовали символы, метафоры
и метонимии, что придавало их произведениям философскую
обобщенность и повышенную эмоциональность. Попытки
постичь ускользающие от ясного понимания законы нового,
264
буржуазного, общественного строя и привели к возникнове-
нию в романтическом литературном направлении фантасти-
ческого течения. Необыкновенно ярко оно проявилось у не-
мецких романтиков - Гофмана, Новалиса, Тика, в русской
литературе у Одоевского и Гоголя. У. художественного мира у
романтиков — аналог сложной реальности эпохи, раздирае-
мой противоречиями. К примеру, фантастический образ лер-
монтовского Демона как нельзя ярче сконцентрировал в себе
боль и одиночество части современников Лермонтова и при-
сущее им противоречие: жажду абсолютной свободы, добра и
веры в Бога с одной стороны и трагедию безверия — с другой.
Приемы и жанры вторичной У. встречаются и у писателей-
реалистов. Достоевский, автор «Легенды о великом инквизи-
торе», точно определил свой творческий метод как фантасти-
ческий реализм. Фантастичны также образы толстовского
Холстомера и одного из щедринских градоначальников, у ко-
торого вместо головы был органчик, игравший только две фра-
зы: «Не потерплю» и «Раззорю». Эти приемы фантастического
очеловечивания животного и гротескного овеществления че-
ловека помогают писателям выразить свое понимание соци-
ально-политических и нравственно-философских проблем в
жизни России XIX в. Вместе с тем у Салтыкова-Щедрина гро-
теск, наряду с сатирической функцией, имеет и трагическую
функцию (Иудушка Головлев в конце концов раскаивается в
том, что погубил своих родных). И все-таки в XIX в. реалисты,
как правило, избегали условных форм.
В XX в. ситуация меняется. В этот период А.Франс,
Б.Брехт, Т.Манн, П.Неруда, Б.Шоу, Ф.Дюрренматт нередко
создают в своих произведениях условные ситуации и обстоя-
тельства, прибегают к смещению временных и пространст-
венных пластов.
В литературе модернизма вторичная У. приобретает веду-
щее значение. В лирике Блока символический образ Прекрас-
ной Дамы имеет глубокий религиозно-философский смысл. В
265
прозе русских символистов (Д.Мережковский, Ф.Сологуб,
А.Белый) и ряда зарубежных писателей (Д.Ацдайк, Д.Джойс,
Т.Манн) возникает особый тип романа-мифа, для которого ха-
рактерны амбивалентность образов героев, система персона-
жей-двойников; символы-намеки на миф или на несколько ми-
фов одновременно; использование в функции мифов «вечных»
произведений мировой литературы, фольклорных текстов и
т.д.; лейтмотивность композиции; орнаментальность стиля.
Вторичная У. в русской литературе советского периода неред-
ко служила эзоповым языком и способствовала критике действи-
тельности, что проявилось, в частности, в таких емких в идейном
и художественном отношениях жанрах в литературе XX в., как
роман-антиутопия, повесть-легенда, повесть-сказка. Жанр анти-
утопии окончательно сформировался в XX в. в творчестве Е.За-
мятина. В его романе «Мы» обнаружились такие особенности
фантастики в литературе XX в., как сосуществование и взаимо-
проникновение двух ее основных ветвей - научно-фантастичес-
кой (предсказание полетов в космос) и социально-философской
(неприятие тоталитаризма, критика социалистической уравни-
ловки, культ вечной энергии и революции). Запоминающиеся
литературные антиутопии создали также зарубежные писатели -
В.Набоков («Приглашение на казнь»), О.Хаксли и Д.Оруэлл.
Вместе с тем в прошлом столетии продолжала существо-
вать и сказочная фантастика (эпопея Толкиена «Властелин
колец», повесть Сент-Экзюпери «Маленький принц», драма-
тургия Шварца, творчество Пришвина и Олеши). В прозе
В. Распутина, А.Кима сказочность переплетается с мифоло-
гизмом, а у Ч.Айтматова еще и с научной фантастикой.
Использование вторичной У. расширяет возможности ис-
кусства слова, придает ему глубину поэтического видения и фи-
лософскую многозначность. Жизнеподобие и У. — равноправ-
ные и взаимодействующие на разных этапах существования
словесного искусства способы художественного обобщения.
Т.Давыдова
266
Фабула (от лат. fabula - история, рассказ) — причин-
но-временное, последовательное изложение событий, опи-
санных в художественном тексте так, «как если бы они проис-
ходили в жизни». Хронологическая последовательность очень
важна, поскольку она транслирует в художественный текст, с
одной стороны, и в воспринимающее читательское сознание,
с другой стороны, жизненную логику, причинно-следствен-
ную связь событий или обстоятельств, их взаимообусловлен-
ность, идею «нормального» внеэстетического хода вещей. Да-
лее благодаря взаимодействию Ф. и сюжета происходит сдвиг,
и читатель переходит в область художественной логики и «ве-
рит» ей, согласен пребывать в художественном мире.
Литературоведческая практика показывает, что в ряде слу-
чаев понятия Ф. и сюжета смешиваются: Ф. называют сюже-
том, а сюжет — Ф. Вряд ли такое смешение продуктивно. Сле-
дует отличать логику жизни от логики художественной; и если
в действительности человек сначала рождается, затем взросле-
ет и только потом умирает, то художественное произведение
может начаться со смерти героя, затем коснуться его рожде-
ния и только после этого — обстоятельств «взрослой» жизни.
В фабульном ряду то, что приводит к гибели, часто затушева-
но. В сюжетном всегда выпукло, ярко.
Классической работой, в которой проводится разграниче-
ние обоих понятий, следует считать исследование Л.Выгот-
ского из его «Психологии искусства», посвященное новелле
И.Бунина «Легкое дыхание». Между прочим, и Выготский от-
мечает непроясненность отношений между «сюжетом» и Ф. и
неясность объема и содержания последнего термина: «одни,
как Шкловский и Томашевский, называют фабулой материал
рассказа, лежащие в его основе житейские события; а сюже-
том называют формальную обработку этого рассказа. Другие
авторы... употребляют эти слова как раз в обратном значении
и понимают под сюжетом то событие, которое послужило по-
водом для рассказа, а под фабулой — художественную обра-
267
ботку этого события» (Выготский Л. Психология искусства.
Минск, 1998. С. 161). Выготский следует трактовке предста-
вителей формальной школы В.Шкловского, Б.Томашевско-
го, Ю.Тынянова и др. Далее Выготский пишет: «Если мы хо-
тим узнать, в каком направлении протекало творчество поэта,
выразившееся в создании рассказа, мы должны исследовать,
какими приемами и с какими заданиями данная в рассказе Ф.
переработана поэтом и оформлена в данный поэтический сю-
жет. Мы, следовательно, вправе приравнять Ф. ко всякому
материалу построения в искусстве. Ф. для рассказа - это то же
самое, что слова для стиха, что гамма для музыки, что сами по
себе краски для живописца, линии для графика и т.п. Сюжет
для рассказа то же самое, что для поэзии стих, для музыки ме-
лодия, для живописи картина, для графики рисунок. Иначе
говоря, мы всякий раз имеем здесь дело с соотношением от-
дельных частей материала, и мы вправе сказать, что сюжет так
относится к Ф. рассказа, как стих к составляющим ее звукам,
как форма к материалу» (там же).
Если руководствоваться предложенной Выготским методи-
кой, то взаимодействие сюжета и Ф. можно представить следу-
ющим образом. Сюжет новеллы И.Бунина «Легкое дыхание»:
1. Кладбищенский пейзаж, могила с медальоном Оли Ме-
щерской.
2. Задолго до 1: Оля Мещерская — ничем не выделявшаяся
девочка.
3. После 2: Оля стала расцветать. Необыкновенная при-
влекательность Оли.
4. После 3: Покушение гимназиста Шеншина на само-
убийство.
5. После 4: Последняя зима Оли Мещерской: «совсем со-
шла с ума от веселья».
6. После 5: Вызов к начальнице. Разговор.
7. После 6: Начальница узнает, что Оля Мещерская —
«женщина».
268
8. Оля говорит начальнице (между 1 и 2, приблизительно
за год до событий «последней зимы»): «И виноват в этом —
знаете кто? Друг и сосед папы, а ваш брат Алексей Михайло-
вич Малютин. Это случилось прошлым летом в деревне...»
9. После 7: Убийство Оли через месяц после разговора с
начальницей. Убийца — «казачий офицер, некрасивый и пле-
бейского вида».
10. После 9: Объяснение офицера, почему он убил Олю
(«завлекла его», дала почитать дневниковую запись).
11. После 8, между 1 и 2: Дневник Оли Мещерской, запись,
в которой описывается соблазнение Оли Малютиным. Запись
заканчивается словами: «Я не понимаю, как это могло слу-
читься, я сошла с ума, я никогда не думала, что я такая! Теперь
мне один выход... Я чувствую к нему такое отвращение, что не
могу пережить этого!..»
12. После 1: Описание города в апреле месяце: «чист, сух,
камни его побелели, и по ним легко и приятно идти». Малень-
кая женщина в черном каждое воскресенье направляется на
кладбище, к могиле Оли Мещерской, подолгу сидит там. Ее
совершенное счастье.
13. После 9: Маленькая женщина в черном — классная дама
Оли Мещерской. Ее история: погибший брат, «бедный и ничем
не замечательный прапорщик». Мечта классной дамы — соеди-
нение своей души с каким-либо другим существом, которое она
по своим внутренним причинам мифологизирует. Ее мечты: 1)
о брате, 2) о том, что она — идейная труженица, 3) о том, что та-
кое была Оля Мещерская и что теперь такое ее смерть.
14. Между 4. и 5.: В воспоминаниях классной дамы: разго-
вор Оли Мещерской с гимназисткой Субботиной, «полной,
высокой» о «легком дыхании»: «Легкое дыхание! А ведь оно у
меня есть, - ты послушай, как я вздыхаю, - ведь правда,
есть?»
15. К 1: «Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в ми-
ре, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре».
269
Цифры показывают, как события внутренне соотносятся
друг с другом. Ф. новеллы (по Выготскому) выглядит так:
I. Оля Мещерская
а. Детство.
Ь. Юность.
с. Эпизод с Шеншиным.
d. Разговор о легком дыхании.
е. Приезд Малютина.
f. Связь с Малютиным.
g. Запись в дневнике.
h. Последняя зима.
i. Эпизод с офицером.
к. Разговор с начальницей.
1. Убийство.
т. Похороны.
п. Допрос у следователя.
о. Могила.
II. Классная дама
а. Классная дама.
Ь. Мечта о брате.
с. Мечта об идейной труженице.
d. Разговор о легком дыхании.
е. Мечта об Оле Мещерской.
f. Прогулки на кладбище.
g. На могиле.
Нетрудно заметить, что только благодаря соотнесению Ф.
с сюжетом становятся рельефны ведущие образы новеллы
И.А.Бунина и их система, в основе которой в данном случае
лежит попарная поляризующая группировка. Такова сюжето-
образующая пара «жизнь — смерть». «Жизнь» — это личность
Оли, ее красота, само «легкое дыхание». Смерть — насилие,
некрасота, отвращение (как чисто внешняя у казачьего офи-
270
цера, так и внутренняя у Малютина, ср. о нем: «Он приехал на
паре своих вяток, очень красивых... Он... был очень оживлен и
держал себя со мной кавалером, много шутил, что он давно
влюблен в меня. Когда мы гуляли перед чаем по саду, была
опять прелестная погода, солнце блестело через весь мокрый
сад, хотя стало совсем холодно, и он вел меня под руку и гово-
рил, что он Фауст с Маргаритой. Ему пятьдесят шесть лет, но
он еще очень красив и всегда хорошо одет... пахнет англий-
ским одеколоном, и глаза совсем молодые, черные, а борода
изящно разделена на две длинные части и совершенно сереб-
ряная» и далее: «Я чувствую к нему такое отвращение, что не
могу пережить этого!»). Смерть — это попытка к самоубийству
гимназиста Шеншина и зеркальное к нему убийство Оли. Ее
гибель воспринимается как реализация ее собственного сцена-
рия («не могу пережить этого!»): безумство «от веселья» есть
безумство от отчаяния, от несоместимости органичного суще-
ствования в гармонии и красоте с насилием и отвращением.
Образ Оли раскрывается через уподобление ее с Маргари-
той, а ее соблазнителя — с Фаустом («Фауст» Гёте), но образ
Фауста заметно снижается. Обе взрослые дамы, вступающие в
контакт с Олей (начальница и классная дама), во-первых, со-
ставляют пару между собой, во-вторых, обе они имеют брать-
ев: начальница — блестящего и отвратительного Малютина,
классная дама — невзрачного прапорщика, погибшего под
Мукденом. Этот прапорщик, в свою очередь, связывается с
казачьим офицером, Олиным убийцей, через компонент «ни-
чем не примечательный», «никакой». Несмотря на то, что ге-
роиня новеллы погибает, торжество жизни в новелле Бунина
неоспоримо — именно потому, что финал рассказа представ-
ляет собой фразу о рассеявшемся в мире легком дыхании.
Формальный разбор произведения, как видно, очень во
многом зависит от соотнесения Ф. и сюжета.
Помимо приведенных, существуют и другие определения Ф.
Например, для Ю.Тынянова это статистическая цепь отноше-
271
ний, связей, вещей, отвлеченная от словесной динамики произ-
ведения, тогда как сюжет — те же связи в словесной динамике.
Для Б.Томашевского Ф. — совокупность событий в их вза-
имной внутренней связи. Согласно представлениям совре-
менной нарратологии (науке о художественной прозе), Ф. —
«изначальные события рассказа, в отличие от последова-
тельности событий в законченном рассказе, которую назы-
вают сюжетом (или дискурсом)» (Борее Ю. Эстетика. Тео-
рия литературы: Энциклопедический словарь терминов.
М, 2003. С. 489).
В. Калмыкова
Форма поведения. Этот термин заимство-
ван у психологов.
Воссоздание Ф.п. составляет постоянный и существенный
признак литературы. Например, герои драмы проявляют себя
исключительно в поступках, произносимых словах, жестах,
мимике. «Поведенческие установки» и их реализация находят
выражение также в эпических жанрах, а порой и в лирике. Та-
ковы исполненные трагизма поэтические формулы Тютчева
(«Молчи, скрывайся и таи и чувства и мечты свои») или Бло-
ка («Ты железною маской лицо закрывай»).
Понятие Ф.п. используется сейчас в разговорах об общем
характере действий человека (исполнение ритуала, этикета
или непреднамеренность, личностная свобода; целенаправ-
ленность и непосредственность; естественность и искусст-
венность действий; серьезность — игра, смех), а также о его
чисто внешнем облике (театральность, эффектность или не-
притязательность и простота поведения).
Этим термином характеризуют и манеру речи персонажа:
описывая интонацию, эмоциональный тон слов героя, автор
обращает внимание читателей не только на содержание вы-
сказывания, но и на то, как оно организовано, построено.
272
Ф.п. людей — в литературе — необычайно многообразны.
Они соответствуют индивидуальности человека и вместе с тем
обусловлены социальными, культурно-историческими обсто-
ятельствами. Так, в древней и средневековой словесности ши-
роко воссоздано этикетное поведение действующих лиц. Все-
стороннюю характеристику «этикетность» человека в произ-
ведениях той поры получила в работе Д.Лихачева «Поэтика
древнерусской литературы». Поведение героев древних и
средневековых литератур строго задано ритуальной нормой
(представления о манерах человека определенного возраста,
положения, сословия) и жанровым каноном. Вот часть моно-
лога из VI главы «Илиады», где Гекуба обращается к своему
сыну Гектору, ненадолго покинувшему поле сражения: «Что
ты, о сын мой, приходишь, оставив свирепую битву?/ Верно,
жестоко теснят ненавистные мужи ахейцы,/ Ратуя близко сте-
ны? и тебя устремило к нам сердце:/ Хочешь ты, с замка тро-
янского, руки воздеть к Олимпийцу?/ Но помедли, мой Гек-
тор, вина я вынесу чашу/ Зевсу отцу возлиять и другим боже-
ствам вековечным...»
И в этом же тоне Гектор ответствует, почему он не дерзнет
возлиять Зевсу вино «неомытой рукой».
В комедиях и фарсах древности и средневековья царит ат-
мосфера праздничного веселья и смеха. Их сопровождают иг-
ры, шутки персонажей «на публику», забавные потасовки и
площадные перебранки. Публично-смеховой акцент поведе-
ния часто выступает на первый план и в произведениях ново-
го времени: у Рабле, Шекспира, Мольера. Этот традиционный
тип поведения персонажей тщательно рассмотрен в книге
М.Бахтина о творчестве Рабле.
Вместе с тем в литературе нового времени запечатлены са-
мые разнообразные и оригинальные типы действий литера-
турных персонажей. В эпоху классицизма это — поведение мо-
ралиста-резонера, поборника и проповедника гражданских
добродетелей. Историк Ключевский дал блистательную ха-
273
рактеристику эталона поведения новых героев в работе о «Не-
доросле» Фонвизина: «Они явились ходячими, но еще без-
жизненными схемами морали, которую надевали на себя, как
маску. Нужны были время, усилия и опыт, чтобы пробудить
жизнь в этих пока мертвенных культурных препаратах, чтобы
эта моралистическая маска успела врасти в их тусклые лица и
стать их живой нравственной физиономией».
«Чувствительность» эпохи сентиментализма по-своему
определила и поведение героев: меланхолические воздыхания
и обильные слезы (чаще всего — безотчетные и «беспечаль-
ные»). Но на практике, отразившейся в литературе, сенти-
ментальная манера себя вести часто оборачивалась игрой в
меланхолию, экзальтацией, жеманностью и чопорностью,
над которыми иронизировал Пушкин: «Нам Просвещенье не
пристало...» Этот стереотип определил облик героев многих
русских повестей, написанных как бы по мотивам карамзин-
ской «Бедной Лизы».
Романтизм — пора господства (и в самой жизни и в произ-
ведениях литературы) жизнетворческого поведения. Манеры
сознательно копируются по высокому образцу: выдающийся
исторический деятель, известный поэт, популярный литера-
турный герой. Жизнетворчество являлось формой самовос-
питания человека, залогом его духовного роста, и одновре-
менно — средством обретения определенной репутации в об-
ществе. Вместе с тем жизнетворческие позы (и в романтичес-
кую эпоху, и позднее), часто по-театральному эффектные,
были порой всего лишь данью моде, а то и просто светскими
ухищрениями. Вспомним характеристику Онегина в первой
главе пушкинского романа: «Как рано мог он лицемерить...»
Со временем жизнетворчество вызывает к себе все более
критическое отношение. Пушкин в пору своей писательской
зрелости высоко ценит безыскусственность и простоту, непо-
средственность, свободу от рассудочных установок и про-
грамм. В Татьяне Лариной, по словам Онегина, «все наружу,
274
все на воле». О Татьяне-княгине сказано: «Без подражатель-
ных затей, все тихо, просто было в ней».
Непреднамеренность и раскованность высказываний и
жестов персонажей послепушкинской литературы не сложи-
лись в новый поведенческий стереотип; непосредственная
простота персонажей Толстого и Достоевского, Гончарова и
Тургенева, Островского и Чехова каждый раз своя, особенная.
Движения, позы и жесты, высказывания (и интонации)
выступают в реалистической литературе как индивидуальная
характеристика персонажа. Достаточно вспомнить, к приме-
ру, осторожного и вкрадчивого, боящегося себя проявить че-
ховского Беликова, «человека в футляре», или противополож-
ных ему по «стилю поведения» героев Достоевского с трагиче-
скими судьбами — таких, как Настасья Филипповна и Иппо-
лит (роман «Идиот»), не умеющих, да и не желающих сдержи-
вать свои импульсы.
Обрисовке поведения персонажей других писателей-реа-
листов нередко на первый план выступают игровые начала.
Так, в «Бесприданнице» Островского явственно противопос-
тавлены друг другу проникновенный артистизм искренней и
доверчивой Ларисы и жестокие «игры» Паратова: злые шутки
и грубые издевательства над Карандышевым.
С другой стороны герой, неспособный к шутке и веселью,
кажется отъединенным от «живой жизни». Тут вспоминаются
строгие и осмотрительные дамы из «Евгения Онегина» (I гла-
ва), один вид которых «рождает spleen», и «несколько девиц,
неулыбаюшихся лиц» (VIII глава); душевный холод таится за
неизменно серьезным обликом чеховской Лидии Волчанино-
вой («Дом с мезонином»).
Склонность к озорной и доброй шутке, балагурству даже в
пору невзгод и жестоких испытаний говорит нам о душевной
стойкости Василия Теркина в поэме Твардовского.
Писатели внимательны также к собственно речевым дей-
ствиям героев, окрашенным либо риторической, либо разго-
275
верной интонацией. В «дореалистической» литературе (осо-
бенно в произведениях классицизма) риторическая, внешне
эффектная речь непременно поэтизировала и облагоражива-
ла говорящего. Но уже у Пушкина настойчиво звучит мотив
недоверия к «высокому слову». Так, риторическая приподня-
тость монологов Сальери — свидетельство духовной замкну-
тости и ограниченности.
И позднее склонность персонажа к патетике нередко изо-
бражалась иронически. Гаев из «Вишневого сада» обращается
со своими монологами-декламациями то к старому шкафу, то
к матери-природе.
Преобладают же в реалистической литературе высказыва-
ния непринужденно-разговорные, простые, неэффектные.
А то и просто молчание героя, которое зачастую оказывается
действеннее поступка или высокого слова: в «Евгении Онеги-
не», по словам современного пушкиниста, «всегда более прав
молчащий». Богаты паузами и подтекстом пьесы Ибсена и
Чехова. О молчаливом и мучающемся своей немотой герое
прозы А.Платонова написана статья С.Бочарова. «Зоны мол-
чания» составляют существенную грань поведения персона-
жей пьес советских драматургов, например А.Вампилова.
Художественная литература широко отразила и глубоко
осмыслила Ф.п. в их разном социально-историческом качест-
ве. Эта сторона образности несомненно расширяет кругозор
читателей, обогащает представления о культур но-художест-
венных традициях.
С.Сироткина
Формализм (формальная
школа, русский фор-
мализм, формальный метод) — направление в гуманитарной
науке (филология, искусствоведение, исследования кино и
др.), появившееся в России в середине 1910-х гг. Научным
объединением, декларировавшим установки Ф., явилось Об-
276
щество по изучению поэтического языка (ОПОЯЗ), основан-
ное в 1916 г. в Петрограде. Члены ОПОЯЗа — В.Шкловский,
О.Брик, Е.Поливанов, Р.Якобсон, Л.Якубинский, Б.Эйхенба-
ум, Ю.Тынянов и др. В разное время близость к установкам
ОПОЯЗа выказывали Л.Щерба, В.Виноградов, В.Жирмун-
ский и др., а также русские футуристы (прежде всего Маяков-
ский).
Ф. начал свою деятельность с изучения поэтического язы-
ка и речи (не только включая сюда «заумный язык», «заумь»,
но и понимая последнюю как в некотором роде идеальный
поэтический прием) в отличие от их практических аналогов.
Затем методология школы была расширена до концептуализа-
ции понятий «содержание» и «форма» в любом литературном
произведении, и шире - явлении искусства. В отличие от
Московского лингвистического кружка и возникшей позже
Пражской лингвистической школы (на базе Пражского линг-
вистического кружка), члены ОПОЯЗа концентрировали свое
внимание на литературе как самостоятельной области научно-
го изучения, а язык понимали как ближайший к ней сопоста-
вительный «ряд». И Московский и Пражский кружки глав-
ным предметом своего исследования видели язык и связан-
ный с ним круг лингвистических проблем.
Значительную роль играли понятия «прием» и «остране-
ние», введенные Шкловским. Литературное произведение
представляет собой сумму художественных приемов, состав-
ляющих систему и структуру.
Концептуальной базой Ф. послужило учение А.Потебни
(«Из записок по теории словесности», «Из лекций по теории
словесности»). Положение об автономности художественной
формы являлось важным открытием А.Веселовского. И По-
тебня и Веселовский - блистательные маргиналы XIX в.,
классические «пророки в своем отечестве», которых как бы не
существовало в актуальном научном контексте, среди их со-
временников. Труды обоих ученых стали популярны во мно-
277
гом благодаря русским символистам и, во всяком случае, зна-
чительно позже того, когда они были созданы.
Нельзя не упомянуть и о Пушкинском семинарии, кото-
рый вел в 1906 г. в Петербургском университете С.Венгеров,
представитель, кстати говоря, «идейного направления» в
русской литературе. Тем не менее, именно на его занятиях бу-
дущие русские формалисты приобрели первые навыки фор-
мального описания произведений. Семинарские занятия
оказали огромное влияние на становление филологической
культуры участников, среди которых были и Шкловский, и
Тынянов, и Эйхенбаум, и Жирмунский, и Мандельштам, не
говоря уже о С.Бонди, Н.Измайлове, Ю.Оксмане, С.Балуха-
том и др. Интересно, что для многих участников семинария
важными оказались две темы: творчество В.Розанова и ши-
роко понимаемая «домашность», «дом» мировой культуры.
По сути дела, русский Ф. оказался оппозиционным тому
крылу русского символизма («младшие символисты»), кото-
рое придавало искусству философско-религиозный смысл.
Но идеи религиозного искусства — вовсе не единственное, что
отрицал русский Ф. Во взглядах на литературное произведе-
ние была и значительно ранняя тенденция, связанная еще с
именами Белинского, Писарева, Добролюбова и Михайлов-
ского. Их усилиями в литературе (и шире — в искусстве) сфор-
мировалось к концу XIX в. еще и «идейное направление», тра-
диция понимания произведения как общественного «дея-
ния», направленного на улучшение условий социального су-
ществования. «Дело» писателя должно было быть «передо-
вым» и «полезным»; «долг» художника — «срывание всех и
всяческих масок», вынесение «нравственного приговора»
эпохе (недаром же одна из важнейших статей самого С.Венге-
рова называлась «Героический характер русской литерату-
ры»). «Форма» произведения постулировалась как нечто вто-
ричное, служебное по отношению к содержанию. Главное
было — обличить порок, обрисовать ситуацию социальной не-
278
справедливости, а вот как писатель станет это делать — вопрос
малозначащий.
В целом можно говорить об оппозиционном характере Ф.
по отношению к исторической, биографической и социологи-
ческой методологии литературоведения XIX и XX вв. (оппози-
ционность проявлялась, в частности, по отношению как к
марксистской методологии, так и к теоретическим основани-
ям петербургской Вольной философской ассоциации («Воль-
филы»)).
Парадоксальным образом первая «формалистская» работа
Шкловского — его доклад «Место футуризма в истории языка»,
послуживший основой для статьи «Воскрешение слова», —
опирается на положения, высказанные в статьях «старшего
символиста» В.Брюсова (ср. брюсовскую идею «оживления
слова» в поэтическом тексте с «воскрешением слова» у Шклов-
ского и «освобождением слова» у Б.Лившица). В ней сформу-
лирована основная задача русского Ф.: исследовать художест-
венную форму как то, что непосредственно переживается, вво-
дя за собой в сознание читателя (зрителя, слушателя) и содер-
жание художественного произведения.
Новый язык описания искусства, предложенный русски-
ми формалистами, получил у них название «производственно-
го» — прежде всего потому, что форма произведения есть то,
что делается, производится (ср.: Маяковский «Как делать сти-
хи», Эйхенбаум «Как сделана ’’Шинель" Гоголя»). «Важно то,
что мы подошли к искусству производственно. Сказали о нем
самом. Рассмотрели его не как отображение. Нашли специфи-
ческие черты рода. Начали устанавливать основные тенден-
ции формы. Поняли, что в большом плане существует реаль-
ность однородных законов, оформляющих произведение»
(Шкловский В. Третья фабрика. М., 1926. С. 65). А.Чудаков,
блестящий исследователь русского Ф., пишет в предисловии к
книге Шкловского «Гамбургский счет»: «Господству фило-
софско-эстетической и социологической эссеистики форма-
279
листы противопоставили пафос "строгого” описания, уста-
новления закономерностей».
Два пути развития Ф. — изучение поэтического языка и
изучение формы (литературного) произведения — имеют сре-
ди работ представителей школы свои «символы». Это иссле-
дование Ю.Тынянова «Проблема стихотворного языка»
(1923; первое название — «Проблема стиховой семантика») и
статья Б.Эйхенбаума «Как сделана "Шинель" Гоголя» (1919).
Приведем некоторые размышления Тынянова о сущности
литературного произведения и его форме как проявления
этой сущности. «Единство произведения не есть замкнутая
симметрическая целостность, а развертывающая динамичес-
кая целостность; между ее элементами нет статического знака
равенства и сложения, но всегда есть динамический знак со-
относительности и интеграции. Форма литературного произ-
ведения должна быть осознана как динамическая. Динамизм
этот сказывается: 1) в понятии конструктивного принципа.
Не все факторы слова равноценны; динамическая форма об-
разуется не соединением, не их слиянием (ср. часто употреб-
ляемое понятие «соответствия»), а их взаимодействием и, ста-
ло быть, выдвиганием одной группы факторов за счет другой.
При этом выдвинутый фактор деформирует подчиненные.
2) Ощущение формы при этом есть всегда ощущение протека-
ния (а стало быть, изменения) соотношения подчиняющего,
конструктивного фактора с факторами подчиненными...»
(Тынянов Ю. Литературная эволюция. М., 2002. С. 34).
Вопрос о специфике формы произведения искусства неиз-
бежно влечет за собой и более масштабный разговор о специфи-
ке самого искусства вообще, о его отличиях от разного рода соци-
альных «деяний», из которого он выводится за счет особенности
своего предмета и способов его художественного воплощения.
В статье Эйхенбаума «Как сделана «Шинель» Гоголя» ог-
ромное внимание уделяется анализу «личного тона автора»
(Эйхенбаум Б. О прозе. М, 1969. С. 306), создающего иллюзию
280
«сказовой» интонации. «Совершенно иной становится компо-
зиция, если сюжет сам по себе, как сплетение мотивов при по-
мощи их мотивации, перестает играть организующую роль, то
есть если рассказчик так или иначе выдвигает себя на первый
план, как бы только пользуясь сюжетом для сплетения от-
дельных стилистических приемов. Центр тяжести от сюжета
(который сокращается здесь до минимума) переносится на
приемы сказа, главная комическая роль отводится каламбу-
рам, которые то ограничиваются простой игрой слов, то раз-
виваются в небольшие анекдоты» (там же. С. 306). Каламбуры
и другие языковые приемы и средства оказываются, таким
образом, действенным средством для автора представить в
произведении самого себя, явить авторскую оценку иными
путями, чем использование дидактических ходов типа «я ду-
маю...», «я считаю...» и сходных с ними. Поэтому огромно
значение гоголевского слова в «Шинели». «...Основа гоголев-
ского текста — сказ ...текст его слагается из живых речевых
представлений и речевых эмоций. Более того: сказ этот имеет
тенденцию не просто повествовать, не просто говорить, но
мимически и артикуляционно воспроизводить — слова и
предложения выбираются и сцепляются не по принципу
только логической речи, а больше по принципу речи вырази-
тельной, в которой особенная роль принадлежит артикуля-
ции, мимике, звуковым жестам и т.д. Отсюда — явление зву-
ковой семантики в его языке: звуковая оболочка слова, его
акустическая характеристика становится в речи Гоголя зна-
чимой независимо от логического или вещественного значе-
ния» (там же. С. 309). «...Сюжет у Гоголя имеет значение
только внешнее и поэтому сам по себе статичен — недаром
«Ревизор» кончается немой сценой, по отношению к которой
все предыдущее было как бы только приуготовлением. На-
стоящая динамика, а тем самым и композиция его вещей —
в построении сказа, в игре языка. Его действующие лица —
окаменевшие позы. Над ними, в виде режиссера и настояще-
281
го героя, царит веселый и играющий дух самого художника»
(там же. С. 311).
Приведенные отрывки помогают понять единство подхо-
дов разных представителей Ф. к изучаемому предмету — лите-
ратурному произведению. Быть может, именно благодаря
этому единству и на его фоне массированности и глубине ис-
следований в области литературы, русский Ф. и оказал такое
колоссальное влияние на гуманитарную науку XX в. (без него
не было бы ни того же Пражского лингвистического кружка,
ни структурализма, ни московско-тартуской лингвистичес-
кой школы и др.).
В. Калмыкова
Футуризм (лат. futurum — будущее) — одно из те-
чений в искусстве авангарда XX в. Наиболее полно реализо-
ван в формалистических экспериментах художников и поэтов
Италии и России (1909—21), хотя последователи Ф. были в
Испании (с 1910), Франции (с 1912), Германии (с 1913), Вели-
кобритании (с 1914), Португалии (с 1915), в славянских стра-
нах; в Нью-Йорке в 1915 г. выходил экспериментальный жур-
нал «291», в Токио — «Футуристическая школа Японии», в
Аргентине и Чили существовали группы ультраистов, в Мек-
сике — эстридентистов. Ф. провозгласил демонстративный
разрыв с традициями: «Мы хотим разрушить музеи, библио-
теки, сражаться с морализмом», - утверждал итальянский по-
эт Ф.Т. Маринетти (1876— 1944) со страниц французской газе-
ты «Фигаро» 20 февраля 1909 г. (Манифесты итальянского
футуризма / Пер. В.Шершеневича. М., 1914. С. 7-8). Мари-
нетти — признанный основатель Ф. Он выводил Ф. за преде-
лы собственно художественного творчества — в сферу соци-
альной жизни (с 1919 г. как сподвижник Б.Муссолини он про-
возглашал родственность Ф. и фашизма; см. его «Futurismo
efascismo», 1924).
282
В России первый манифест итальянского Ф. был переведен
и опубликован в петербургской газете «Вечер» 8 марта 1909 г.;
благожелательный отклик появился в журнале «Вестник лите-
ратуры» (1909. № 5). Эстетические идеи итальянских футурис-
тов оказались созвучными поискам художников братьев Д. и
Н.Бурлюков, МЛарионова, Н.Гончаровой, А.Экстер, Н.Куль-
бина, М.Матюшина и др., став в 1908—10 г. предысторией рус-
ского Ф. Новый путь поэтического творчества был впервые
указан в напечатанной в Петербурге в 1910 г. книжке «Садок
Судей» (братья Бурлюки, В. Хлебников, В.Каменский, Е.Гуро).
Осенью 1911 они вместе с В. Маяковским и Крученых состави-
ли ядро литературного объединения «Гилея» (будущие кубофу-
туристы). Им принадлежит и самый хлесткий манифест «По-
щечина общественному вкусу» (1912): «Прошлое тесно: Акаде-
мия и Пушкин непонятнее иероглифов», и потому следует
«бросить» Пушкина, Достоевского, Толстого «с Парохода со-
временности», а вслед за ними и К.Бальмонта, В.Брюсова,
Л.Андреева, М.Горького, А.Куприна, А.Блока, И. Бунина. Бу-
детляне (неологизм Хлебникова) «приказывали» чтить «права»
поэтов «на увеличение словаря в его объеме производными и
произвольными словами (Словоновшество)»; они предсказы-
вали «Новую Грядущую Красоту Самоценного (самовитного) ’
Слова» (Русский футуризм. М., 1999. С. 41). История русского
Ф. складывалась из взаимодействия и противоборства четырех
основных группировок: 1) «Гилея» — с 1910 г. Московская шко-
ла «будетлян», или кубофутуристов (сборники «Дохлая луна»,
1913; «Затычка», «Молоко кобылиц», «Рыкающий Парнас», все
1914); 2) Петербургская группа эгофутуристов (1911 — 16) —
И.Северянин, Г. И ванов, И. Игнатьев, Грааль-Арельский
(С.Петров), К.Олимпов, В.Гнедов, П.Широков; 3) «Мезонин
поэзии» (1913) — группа московских эгофутуристов «умеренно-
го крыла»: В.Шершеневич, Хрисанф (Л.Зак), К.Большаков,
"Р.Ивнев, Б Лавренев (их сборники — «Верниссаж», «Пир во
время чумы», «Крематорий здравомыслия»); 4) «Центрифуга»
283
(1913—16) (преемственная от петербургского эгофутуризма) -
С.Бобров, И.Аксенов, Б.Пастернак, Н.Асеев, Божидар (Б.П.
Гордеев); их сборники — «Руконог» (1914), «Второй сборник
Центрифуги» (1916), «Лирень» (Харьков, 1914—20).
Термин Ф. (точнее — эгофутуризм) применительно к рус-
ской поэзии впервые появился в 1911 г. в брошюре Северяни-
на «Ручьи в лилиях. Поэзы» и в названии его сборника «Про-
лог "Эго-футуризм”». В январе 1912 г. в редакции ряда газет
была разослана программа «Академия эгофутуризма», где в
качестве теоретических основ провозглашались Интуиция и
Эгоизм; в том же году вышла брошюра «Эпилог "Эго-футу-
ризм”», отметившая уход из объединения Северянина. Главой
эгофутуризма стал Игнатьев. Он организовал «Интуитивную
ассоциацию», напечатал девять альманахов и ряд книг эгофу-
туристов, а также выпустил четыре номера газеты «Петербург-
ский глашатай» (1912) (см. сборники «Орлы над пропастью»,
1912; «Засахаре Кры», «Всегдатай», «Развороченные черепа»,
все — 1913). В 1913—16 годах продолжали выходить альманахи
издательства «Очарованный странник» (десять выпусков).
Дольше всех приверженность идеям «интуитивного индиви-
дуализма» демонстрировал Олимпов.
Против гладкой певучести шуршащих шелком «поэз» пе-
тербургских эгофутуристов восстали московские «будетля-
не»-речетворцы. В своих декларациях они провозглашали
«новые пути слова», оправдывая затрудненность эстетическо-
го восприятия: «Чтоб писалось туго и читалось туго, неудоб-
нее смазанных сапог или грузовика в гостиной»; поощрялось
использование «полуслов и их причудливых хитрых сочета-
ний (заумный язык)» (Крученых А., Хлебников В. Слово как та-
ковое. М., 1913. С. 46). Союзниками поэтов выступали худож-
ники-авангардисты («Бубновый валет», «Ослиный хвост»,
«Союз молодежи»), да и сами поэты - Д.Бурлюк, Крученых,
Маяковский, Гуро — были еще и художниками. Тяготение к*
кубизму было тесно связано с признанием канона «сдвинутой
284
конструкции» (наложение объемов, кубов, треугольников
друг на друга). Поэтика «сдвига» в литературном творчестве
поощряла лексические, синтаксические, смысловые и звуко-
вые «смещения», резко нарушавшие читательские ожидания
(использование снижающих образов и даже вульгарных слов
там, где традиция диктовала возвышенную лексику).
В подходе «будетлян» к словотворчеству обнаружились две
тенденции: одна вела к самым крайним формам эксперимен-
таторства (Бурлюк, Крученых), другая — к преодолению Ф.
(Маяковский, Каменский, Гуро). Однако и те и другие опира-
лись на Хлебникова, ведущего теоретика Ф. Он отказался от
силлабо-тонического стихосложения, пересмотрел и пересоз-
дал поэтическую фонетику, лексику, словообразование, мор-
фологию, синтаксис, способы организации текста. Хлебников
поддерживал устремления «будетлян» к преобразованию мира
средствами поэтического языка, участвовал в их сборниках,
где публиковались его поэма «И и Э» (1911 — 12), «музыкаль-
ная» проза «Зверинец» (1909), пьеса «Маркиза Дезэс» (1910,
разговорный стих, оснащенный редкостными рифмами и сло-
вообразованиями) и др. В сборнике «Ряв» (1914) и в «Избор-
нике стихов. 1907— 1914» (1915) поэт наиболее близок к требо-
ваниям кубофутуристов — «подчеркнуть важное значение всех
резкостей, несогласов (диссонансов) и чисто первобытной
глупости», заменить сладкогласие горькогласием. В листов-
ке «Декларация слова как такового» и в статье «Новые пути
слова» (см. сборник трех поэтов - Крученых, Хлебникова, Гу-
ро «Трое». СПб., 1913). Крученых вульгаризировал восприня-
тую у Хлебникова идею «заумного языка», истолковывая ее
как индивидуальное творчество, лишенное общеобязательно-
го смысла. В своих стихах он осуществил звуковую и графиче-
скую заумь. Поэтические откровения Хлебникова воспринял,
откорректировал и приумножил Маяковский. Он широко
вводил в поэзию язык улицы, различные звукоподражания,
создавал с помощью приставок и суффиксов новые слова —
285
понятные читателям и слушателям в отличие от «заумных» нео-
логизмов Крученых. В противоположность эстетизации Севе-
рянина, Маяковский, как и другие футуристы (Пастернак), до-
бивался нужного ему эффекта — остранения изображаемого —
путем деэстетизации («душу выржу»). В 1915 общим в критике
стало мнение о конце Ф. В декабре вышел альманах «Взял. Ба-
рабан футуристов» со статьей Маяковского «Капля дегтя»:
«Первую часть программы разрушения мы считаем завершен-
ной. Вот почему не удивляйтесь, если в наших руках увидите
вместо погремушки шута чертеж зодчего» (Поэзия русского фу-
туризма. СПб., 1999. С. 623). В октябрьской революции поэт
увидел возможность осуществления своей главной задачи — с
помощью стихов приближать будущее. Маяковский стал «ком-
футом» (коммунистом-футуристом); тем самым он резко разо-
шелся с проектом жизнестроительного искусства, который
обосновывал высокопочитаемый им Хлебников. К 1917 пони-
мание искусства как программы жизни трансформировалось у
Хлебникова в обобщенно-анархическую утопию мессианской
роли поэтов: вместе с другими деятелями культуры они должны
создать международное общество Председателей Земного Ша-
ра, призванных осуществить программу мировой гармонии в
«надгосударстве звезды» («Воззвание Председателей Земного
Шара», 1917). В период революционного переворота некоторые
футуристы ощущали себя соучастниками событий и считали
свое искусство «революцией мобилизованным и признанным».
После революции попытки продолжить Ф. были предприня-
ты в Тифлисе: «заумь как обязательную форму воплощения ис-
кусства» утверждали члены группы «4Г» — Крученых, И. Здане-
вич, И.Терентьев. А на Дальнем Востоке вокруг журнала «Твор-
чество» (Владивосток — Чита, 1920—21) объединились во главе с
теоретиком Н.Чужаком — Д.Бурлюк, Асеев, С.Третьяков, П.Не-
знамов (ПЛежанкин), В.Силлов, С.Алымов, В.Март (В.Матве-
ев). Они искали союза с революционной властью; вошли в ЛЕФ.
А. Ревякина
286
Характер (от греч. character — отличительная черта,
признак, особенность). X. в литературе - это определенность
образа: индивидуальная, социальная, историческая, нацио-
нальная и т.д. Характерным бывает пейзаж, поступок, образ
мыслей. Но прежде всего говорят о X. персонажа. Это некий
комплекс существенных черт, отличающий данный персонаж
от других, а иногда и одна преобладающая черта. «Лица, со-
зданные Шекспиром, — писал Пушкин, — не суть, как у Моль-
ера, типы такой-то страсти, такого-то порока, но существа жи-
вые, исполненные многих страстей, многих пороков...»
Слово X. в поэтику ввел Аристотель: это то, «что заставля-
ет нас называть действующие лица какими-нибудь», «то, что
обнаруживает склонность... поэтому не имеют характера те
речи, в которых совсем нет того, что говорящий предпочитает
или избегает». Ученик и друг Аристотеля Теофраст в трактате
«Характеры» учел возможность сгруппировать отличительные
черты в общие схемы: деревенщина, отчаянный, болтун, со-
чинитель слухов...
Разные виды характерности сменяли друг друга в истории.
Древние X. лишь внешне похожи на современные. Неподго-
товленный читатель при восприятии осовременивает их,
вкладывает в них то, чего в них нет.
В античных комедиях X. вроде масок, надетых на актеров:
господствует одна «страсть». А в героях вроде Ахилла, Агамемно-
на, Одиссея могут совмещаться противоположности. Они
храбры, но иногда трусливы; великодушны и благородны, но
подчас мстительны, нетерпимы и капризны. Античность не зна-
ет личности — устойчивой системы внутренних свойств, которые
признавались бы основным характерологическим признаком че-
ловека. Личности нет у детей до 13—14 лет, их внутренний мир
неустойчив, они готовы подражать кому угодно. Древние греки —
«нормальные дети» (Маркс). Они не имели такого личностного
качества, как совесть. Наказаний, презрения боялись, но терза-
ний Раскольникова не понял бы ни один древний грек.
X
287
Личность появляется с христианством. Христос — первый
личностный Бог, Богочеловек, так сказать, со своим характе-
ром (древнейшие боги невероятно изменчивы и попросту
персонифицируют стихии и явления культуры). Теперь душа —
не просто двигатель тела, а самое главное в человеке. Антич-
ное искусство телесно, средневековое — духовно. Человек
внутренне ответствен за свои поступки. Но в мире он занима-
ет ничтожное место. Если центр вселенной — Бог, а не чело-
век, то личность представляет интерес скорее для Бога, чем
для мира сего: ценность человека определяется не внутренни-
ми достоинствами личности, а вассальной и религиозной вер-
ностью, доказываемой практическими делами. Роланд — уп-
рямец и задавака, виновный в гибели многих воинов, но он
храбр и верен Карлу — этого довольно для славы. Еще нет на-
циональных X.: в Средневековье басурман — иноверец. Трис-
тан и Изольда путешествуют по разным странам, западноев-
ропейские рыцари сталкиваются с маврами, витязи Игоря — с
половцами, в поэме Руставели крепко дружат индиец Тариэл,
араб Автандил и турок Фридон, и никому из них не нужен
толмач, никто не удивляется «заграничным» одеждам, обыча-
ям и т.д.: мол, человек, в сущности, везде один и тот же.
В средние века земная жизнь особой ценности не пред-
ставляет. Ренессанс принес антропоцентризм, светскую кар-
тину мира. Человек стал в центр его. X. теперь сам, без боже-
ственного опосредования, прямо отражал богатство и буйство
действительности (часто красочной, счастливой, но нередко
и трагической!). X. героев Рабле, Шекспира, Сервантеса пере-
дают практически все, на что, по мысли писателей, был и бу-
дет способен человек, причем в самых заостренных формах.
Призванные воплощать все общечеловеческое, они складыва-
лись из еще более противоположных черт, чем их античные
предшественники. Но это личности, противоречивые единст-
ва. Мы сразу представляем себе определенный X. при одном
имени: Дон Кихот. А ведь он то трагичен, то смешон, то мудр,
288
то нелеп. Санчо Панса — то достойный спутник сумасшедшего
рыцаря, глупец, то мудрый правитель; то низменный и жадный
мужлан, то человек большого внутреннего благородства...
С таким пониманием гуманизма и всечеловечности не мог
примириться рационализм классицистов. «Герою своему искус-
но сохраните/ Черты характера среди любых событий», — требо-
вал Буало. Н.Остолопов заявлял: «Характер не иное что есть, как
страсть, управляющая беспрестанно и умом и сердцем; как то в
трагедии гордость, любовь, мщение; в комедии скупость, тще-
славие, ревность, пристрастие к игре и пр. ...Главнейшее во вся-
ком сочинении достоинство характера состоит в его неизменяе-
мости...» Ориентация — на «классические», античные образцы.
Однако герои — личности, притом гораздо более определенные,
чем средневековые и возрожденческие. Возникли социальные
характеристики: благородство у дворян, скупость у мещан,
лицемерие у клерикалов. Прямолинейно, «грубо», но уже шаг
вперед. И для сцены удобно, сразу ясна обстановка, зритель
может сосредоточиться на развитии идеи.
Классицизм видел ценность личности в служении общест-
ву. А если общество утратило прежние, хотя бы иллюзорно
высокие, идеалы? Пушкин написал: «Мы рождены для вдох-
новенья,/Для звуков сладких и молитв», — потому что не хо-
тел служить обществу «самодержавия, православия и народ-
ности». До него романтики отвергли общество, начавшее
обуржуазиваться, но заодно с ним и вообще всякое общество.
Между ним и человеком нет гармонии. Самоценная личность
романтиков выше всего мира, создает собственный «мир
иной» — мир грезы или прошлого, в котором люди были (хо-
телось, чтобы были!) сильны и свободолюбивы: «Да, были лю-
ди в наше время...» (Лермонтов). «Мир иной...» Значит, мир
не един? Оставалось спустить «иные миры» на землю и связать
их закономерной связью исторического развития социальной
жизни, чтобы возник социально-исторический реализм, в ко-
тором X. предстает как обусловленный обстоятельствами (об-
10—501
289
шественными, временными, национальными, профессио-
нальными и другими). Его сложность объяснена не «всечело-
вечески». Пьер Безухов, как и Дон Кихот, то смешон, то вели-
чествен, то умен, то глуп и неловок, но все это не от внезап-
ных «переворачиваний» X. с одной стороны на другую, как
бывало в литературе вплоть до эпохи Просвещения, а от его
закономерного изменения. Здесь отражается и конкретная
ситуация, и состояние общества в целом, и логика индивиду-
ального X. (Элен или Анатоль не подвержены такой эволю-
ции ни в каких ситуациях).
Единство в многообразии - основной принцип характеро-
логии и в социалистическом реализме. Обстоятельства гораздо
больше благоприятствуют развитию личности, она находится в
многообразных связях с другими личностями, а через них со
всем миром и оттого сама потенциально богаче. Не забыта на-
циональная характерность («Русские люди» К.Симонова,
«Мой Дагестан» Р.Гамзатова), но национальное в советской
литературе неотрывно от «чувства великой общности» (прото-
тип Егора Дремова в «Русском характере» А.Н.Толстого был
кавказцем). Неповторимость, даже странность характеров, -
пожалуйста: «чудики» Шукшина. У Трифонова немало таких
персонажей, которые, подобно ренессансным, совмещают
противоположные качества: скажем, одаренность и принципи-
альность с расхлябанностью, неприспособленностью и мо-
ральной нечистоплотностью, отсутствием элементарного такта
(Сергей в «Другой жизни»). Похоже на механическую сумму
черт. И все-таки на персонажи литературы Возрождения непо-
хоже, и не только по теме: характеры даны в соответствующих
обстоятельствах, главным персонажам под стать их партнеры...
Долгое время считалось, что X. персонажей советской ли-
тературы — героические по преимуществу. Понадобились X.-
открытия, чтобы признать современную действительность бо-
лее многообразной: Иван Африканович у В.Белова, деревен-
ские старухи у В. Распутина, Устинов у С.Залыгина, Дмитриевы
290
и Лукьяновы в повести «Обмен» Трифонова и др. Сам герои-
ческий X. был переосмыслен: традиционный, «результатив-
ный» подвиг для героя не всегда обязателен. Учитель Мороз,
Сотников, лейтенант Ивановский у В.Быкова — те неизвест-
ные герои, которые одержали моральную победу. Акцент в ли-
тературе все более переносится с действия на X. как таковой.
Люди теперь нередко интересуют людей сами по себе, вне
прямой связи с их делами, и опыт Ч.Айтматова («Прощай,
Гульсары!», «Белый пароход»), В.Астафьева («Пастух и пас-
тушка», «Последний поклон»), В.Распутина («Прощание с
Матерой») здесь особенно показателен. Гуманистический па-
фос резко противополагает социалистический реализм искус-
ству модернизма, где люди людей не интересуют, а X. превра-
щаются в «подпорки» для сюжета или неперсонифицирован-
ного потока сознания.
С.Кормилов
Хроника (от греч. chronikos — относящийся ко вре-
мени). Слово X. употребляется, когда речь идет об изложении
событий во временной и причинной последовательности. X.
называли западноевропейские летописи, содержащие записи
о событиях прошлого и настоящего. Так же именовали драма-
тические произведения Шекспира и его современников пото-
му, что в них воплощались мотивы, заимствованные из исто-
рических летописей, а само изложение подчинялось времен-
ной последовательности. В журналистике этим словом стали
обозначать краткие заметки о фактах текущей жизни. С появ-
лением кино наименование X. закрепилось за документаль-
ными фильмами, которые, подобно газетной информации,
фиксировали моменты современной истории.
Во всех приведенных случаях слово употреблялось в самых
разных значениях, но этимологически все они восходят к пер-
воначальному — греческому.
291
Основываясь на своеобразии композиционных принци-
пов произведения, писатели подчас включают термин «X.» в
обозначение жанра своих эпических, драматических, а иногда
даже лирических сочинений. Отсюда такие определения, как
«роман-Х.» или «поэтическая X.», которые возвращают нас к
исходному смыслу слова: изложение событий во временной
поел едовател ьности.
Исходя из понимания X. как особого принципа построе-
ния эпического произведения, академик А.Белецкий в свое
время разделял все эти сочинения на две группы. Одни рома-
ны, считал он, построены как биография центрального героя.
Иногда их называют «монороманами» («Герой нашего време-
ни» Лермонтова). Другие же книги, которые исследователь и
относил к романам-Х., построены иначе. В их центре нахо-
дится группа персонажей, судьба которых прослеживается на
протяжении длительного времени. «Биографическая схема, —
отмечал А.Белецкий, - здесь сменяется схемой хроники».
К романам-Х. относят «Господ Головлевых» Салтыкова-Ще-
дрина, «Горное гнездо» Мамина-Сибиряка, «Дело Артамоно-
вых» Горького.
Кроме особенностей построения, все эти произведения
отличаются еще одним признаком, относящимся не к компо-
зиции, а к содержанию. Судьбы героев этих книг прямо, от-
крыто, непосредственно связываются с важнейшими событи-
ями истории и обусловливаются прежде всего этими «пово-
ротными моментами» в жизни всего общества.
Эпоха не только запечатлена в X. в самых значительных,
воссоздающих ее неповторимый облик картинах. Время дви-
жет сюжет этих произведений. Свойственное многим другим
жанрам расхождение между историческим временем и време-
нем повествовательным в хрониках сводится на нет. Не слу-
чайно их называют «художественными летописями эпохи».
И все же в классификации жанров эпических произведе-
ний «семейная X.» или «историческая X.» не нашли своего
292
места. Сочинения этого рода группируют по другим особен-
ностям, зависящим от их объекта (роман, повесть, рассказ,
анекдот) или тематики (исторический роман, деревенская по-
весть, военный рассказ и т.п.).
Зато в системе жанров сочинений драматического рода X.
выделяли еще со времени Шекспира. Т.Гейвуд в «Апологии
актеров» (1612) особо отмечал патриотизм исторических хро-
ник, сопоставлял их с трагедиями и комедиями. Лессинг в
«Гамбургской драматургии» писал, что X. Шекспира находят-
ся в таком же соотношении с трагедиями классицистов, как
пространственная фресковая роспись с миниатюрными порт-
ретами. Тем самым обращалось внимание на панорамность,
эпичность, масштабность этих драматических произведений.
В современном литературоведении X. именуют пьесы,
близкие к повестям на современную или историческую тема-
тику. «Современной хроникой» назвал свою пьесу «Человек
со стороны» И.Дворецкий. К этому же жанру относится боль-
шинство других произведений для театра, воссоздающих во
временной и причинной последовательности события из жиз-
ни коллективов заводов, колхозов, научных учреждений, су-
дебных ведомств (производственная, колхозная, судебная X.).
Со времен Шекспира, прославившегося «Генрихом IV» и
«Ричардом III», вплоть до наших дней появляются историчес-
кие X., посвященные важнейшим событиям и героям далеко-
го прошлого. В советской драматургии к этому жанру обраща-
лись А.Толстой, К.Тренев, Н.Погодин, М.Шатров, Л.Зорин и
многие другие писатели. От трагедии, в которой тоже отража-
ются эпизоды из истории, X. отличаются меньшей условнос-
тью, эстетической «нейтральностью», объективным, близким
к документальному характером изложения событий.
По композиции X. напоминают построение эпических
произведений: в них параллельно развивается несколько сю-
жетных линий, развитие конфликтов и их разрешение совер-
шается «поэтапно», в пределах одного акта, иногда даже эпи-
293
зода. В этом отношении X. резко нарушают тот закон «един-
ства действия», который, по мнению теоретиков, требует во-
площения в драме лишь одного завершенного события.
В свое время А.Н.Островский обращал внимание на то,
что в пьесах традиционных жанров отражается лишь один мо-
мент из жизни человеческой и «чем он короче, тем лучше». X.
же, по его мнению, воспроизводит целый ряд событий, разде-
ленных большими промежутками времени, что превращает
пьесу в повесть в драматической форме.
Казалось бы, близость X. к произведениям эпического ро-
да дает все основания для их обозначения термином «драма-
тическая повесть». Однако сама театральная практика этому
препятствует. С предвоенных лет драматическими повестями
(повестями для театра) называются авторские инсценировки.
В послевоенные годы этот термин закрепился за пьесами,
близкими к социально-психологической драме, отличающи-
мися от нее широким использованием повествовательных
приемов (в том числе введением рассказчика, хора и т.п.).
По своей жанрово-композиционной структуре драматиче-
ские X. сближаются с киносценариями, и это объясняет появ-
ление многих из сочинений кинодраматургов на сцене теа-
тров в виде постановок исторических или современных X.
Кажущаяся простота построения X. привлекала многих
авторов. Трудно обозримы те «косяки» производственных
пьес и повестей, которые появились в 1970-е годы. Однако
легкость создания произведений этого вида кажется обманчи-
вой и подводит многих, в особенности начинающих писате-
лей. На самом же деле X. требует не только высокого мастер-
ства художника, но и глубокого философского осмысления
важнейших событий истории и современности. Этим объяс-
няется резкая диспропорция между огромным количеством
произведений этого жанра в прошлом и настоящем и редкими
творческими достижениями.
А. Богданов
294
Художественная деталь. Важнейшая
задача, стоящая перед писателем, - вызвать у читателя опре-
деленное впечатление от каждого образа. И здесь незаменима
Х.д. — та или иная изобразительная или выразительная по-
дробность. В реальной жизни таких подробностей бесконечно
много, поэтому перед писателем возникает проблема отбора
наиболее характерных, художественно убедительных деталей.
Не случайно в образе Элен Курагиной из «Войны и мира» нам
в первую очередь вспоминается ее застывшая улыбка, а в об-
разе княжны Марьи — «лучистые глаза»: Толстой акцентирует
те детали портрета, которые в той или иной степени характе-
ризуют внутреннюю сущность персонажа.
Для Х.д. закон «экономии поэтических средств» непрело-
жен: перенасыщенность текста подробностями снижает его
эстетическое воздействие. Величайший мастер Х.д. Чехов не
раз подчеркивал вред избыточной детализации для общего
впечатления: «Вы нагромоздили целую гору подробностей, и
эта гора заслонила солнце»; «Романы Писемского хороши, но
утомительны подробностями»; «Вы дали слишком большое
место тщательной детальной обрисовке. Получилась от этого
излишняя пестрота, дурно влияющая на общее впечатление».
Конечно, не один Чехов чувствовал необходимость самого
тщательного отбора подробностей; в наиболее совершенных
произведениях мы не найдем деталей случайных, не подчиня-
ющихся художественной целесообразности. Дело здесь, разу-
меется, не в конкретном числе деталей, а именно в их художе-
ственной оправданности, подчиненности замыслу. Чехов был
скуп на подробности, а Гоголь, напротив, весьма щедр, но и у
того и у другого деталь содержательно насыщена, а потому и
не производит впечатления лишней, избыточной.
Так, у Гоголя в «Мертвых душах» описания подробностей
вещного мира, занимающие очень большой объем, выполня-
ют сразу несколько содержательных задач. Во-первых, с их
помощью воспроизводится конкретный быт русской провин-
295
ции начала XIX в., а это сфера весьма сложная, бытовые фор-
мы жизни многообразны и сами по себе чрезвычайно инте-
ресны. Всякая деталь здесь неожиданна и потому выразитель-
на, а иногда и причудливо-гротескна (чего стоит, например,
привычка мужа Коробочки к почесыванию на ночь пяток или
шарманка Ноздрева, обладавшая весьма своенравным харак-
тером). Во-вторых, многочисленные подробности вещного
окружения служат как бы проводником гоголевской иронии;
каждая вещь не просто «регистрируется», а определенным об-
разом обыгрывается с помощью простодушно-иронической
интонации: «На одной картине изображена была нимфа с та-
кими огромными грудями, каких читатель, верно, никогда не
видывал. Подобная игра природы, впрочем, случается на раз-
ных исторических картинах, неизвестно в какое время, отку-
да и кем привезенных к нам в Россию, иной раз даже нашими
вельможами, любителями искусств, накупившими их в Ита-
лии». И в-третьих, вещи в «Мертвых душах» как бы оживают,
получают свой характер, привычки, индивидуальность, и в
результате мир вещей предстает более живым и интересным
для изучения, чем мир людей — «мертвых душ».
Любая деталь в художественном произведении выполняет
две основные задачи: служит объективной характеристикой
человека, вещи, события, и выражает субъективное авторское
отношение к изображенному.
Так, Шолохов в «Поднятой целине», описывая первое по-
явление Давыдова в Гремячем Логу, отмечает, что он поступил
не так, «как обычно кто-либо из районного начальства: не со-
скочил с саней и — мимо людей, прижав портфель, в сельсо-
вет, а сам начал распрягать коней, помогая кучеру и обнару-
живая давнишнее умение и сноровку в обращении с конем».
Тут же автор обращает внимание читателя и на «руки Давыдо-
ва, покрытые на ладонях засвинцованной от общения с метал-
лом кожей, с ногтями в застарелых рубцах». Здесь детали вы-
полняют в основном первую задачу — характеризуют героя.
296
А вот пример, где в детали воплощено прежде всего автор-
ское эмоциональное отношение к изображенному: «В его
длинной фигуре, в бакенах, в небольшой лысине было что-то
лакейски-скромное, улыбался он сладко, и в петлице у него
блестел какой-то ученый значок, точно лакейский номер»
(«Дама с собачкой» Чехова).
Однако не всегда авторские оценки выражены в детали
прямо и явно. Подробности внешнего вида героя в рассказе
Тургенева «Свидание» на первый взгляд дают чисто объек-
тивную характеристику: «На нем было коротенькое пальто
бронзового цвета, вероятно, с барского плеча... розовый гал-
стучек с лиловыми кончиками и бархатный черный картуз с
золотым галуном... Круглые воротнички его белой рубашки
немилосердно подпирали ему уши и резали щеки, а накрах-
маленные рукавчики закрывали всю руку вплоть до красных
и кривых пальцев, украшенных серебряными и золотыми
кольцами с незабудками из бирюзы». Но стоит представить
себе зрительно хотя бы сочетание цветов в портрете, как сра-
зу становится явным тургеневское неодобрительно-ирониче-
ское отношение к человеку, одетому столь претенциозно и
безвкусно.
Х.д. всегда обладает определенной степенью обобщения,
выявляет типическое, характерное. Когда Твардовский в по-
эме «Василий Теркин» как будто мимоходом замечает, что «по
горькой той привычке,/ Как в пути велела честь,/ Он просил
сперва водички,/ А потом просил поесть», то за этой «горькой
привычкой» встает культура, этика поведения, нравственные
нормы, веками складывавшиеся в русском народе.
Об обобщающей силе Х.д., может быть, яснее всего гово-
рит тот факт, что именно деталь, чем-то поразившая вообра-
жение художника, часто становится началом творческого про-
цесса. Судя по записным книжкам, так создавались многие
рассказы Чехова; так же «начинался» один из лучших расска-
зов Бунина, «Легкое дыхание»: писатель однажды обратил
297
внимание на надгробный памятник, с которого смотрело
юное девичье лицо, - вокруг этой детали Бунин «домыслил»
историю целой жизни.
Х.д. можно обозначить и довольно сложную диалектику
характера. Так, в «Железном потоке» Серафимовича на
протяжении всего повествования неоднократно подчерки-
вается постоянная портретная примета Кожуха — «камен-
ные челюсти» — и до самого конца практически ничего не
говорится о других деталях портрета. И лишь в последней
сцене автор вместе с героями вдруг с удивлением замечает,
что у Кожуха - голубые глаза. Сопоставление двух портрет-
ных деталей — «каменные челюсти» и «голубые глаза» — де-
лает художественно ощутимым двуплановость характера;
пока необходимо было с боями пробиваться к своим, спла-
чивать полуанархическую массу, проявлять волю и непре-
клонность — символом характера были «каменные челюс-
ти». Но этим не исчерпывается характер - когда позади ос-
таются обстоятельства, требовавшие быть «каменным», об-
наруживается глубинная основа личности — живая душа,
доброта, гуманизм, и на последней странице романа бук-
вально вспыхивают голубые глаза Кожуха.
Х.д. - одно из наиболее сильных средств эстетического
воздействия на читателя. Высокое мастерство в использова-
нии детали - несомненный показатель «класса» писателя:
ведь в детали, подробности, «мелочи» как нельзя лучше под-
тверждается известный афоризм: «Искусство начинается там,
где начинается ’’чуть-чуть”».
А. Есин
298
Цитата (от лат. cito — вызываю, привожу). Сколько
их в монографии, диссертации, докладе... Вряд ли возможно
обойтись без цитат. И это естественно. Отрывок из чужой ра-
боты, процитированный в научном тексте, призван или под-
твердить выводы автора, или, напротив, стать отправной точ-
кой полемики. Культура исследовательского труда требует
строгой точности цитирования по наиболее авторитетному
изданию, правильного оформления библиографического ап-
парата. Ц. же в романе, повести, рассказе представляется на
первый взгляд чем-то в принципе невозможным или по мень-
шей мере странным, так как художественному творчеству
присущи иные законы, чем научному. И нет, пожалуй, ничего
более чуждого ему, чем строгая система логических доказа-
тельств с опорой на авторитет предшественников. И, тем не
менее, авторитет этот имел огромное значение с древнейших
времен (вспомним ссылку на вещего Бояна в «Слове о полку
Игореве»), имеет его и в наши дни.
Под Ц. в прозе понимается сознательное включение в
текст дословного или видоизмененного отрывка из произве-
дения литературных предшественников или современников, а
также указаний на эти произведения (например, введение
имен персонажей, пересказа и др.) с какой-то определенной
целью. Ц. во многом близка к реминисценции и отличается от
нее прежде всего тем, что всегда осознана автором.
Ц., как правило, достаточно очевидны, они должны быть, по
мысли автора, узнаны читателем. Если читатель не воспринимает
Ц. как вкрапленный в произведение чужой текст, не может назвать
ее источника, то Ц. утрачивает свое назначение, а вместе с этим
обедняется и восприятие произведения в целом. Возрождение Ц.
в подобном случае — задача литературоведов-комментаторов.
Кавычки — этот обязательный знак Ц. — для художествен-
ной литературы не характерны. Иногда чужой текст графиче-
ски выделяется курсивом, как, например, у Салтыкова-Щед-
рина: «При этих словах Аннинька и еще поплакала. Ей вспом-
299
нилось: Где стол был яств — там гроб стоит, и слезы так и ли-
лись. Потом она пошла к батюшке в хату, напилась чаю, по-
беседовала с матушкой, опять вспомнила: и бледна смерть на
всех глядит - и опять много и долго плакала». («Господа Го-
ловлевы»). Эти строчки из державинской оды «На смерть
князя Мещерского» вспомнились Анниньке на могиле Арины
Петровны Головлевой и, естественно, вызваны ситуацией.
Но в устах персонажа Ц. могут приобретать и другое значе-
ние - характеризовать его культурный уровень, круг его чтения.
Точное, дословное цитирование (как в приведенном при-
мере) для художественной литературы отнюдь не является не-
преложным правилом. Так, А.Белый в эпиграфах (эпиграф —
один из видов Ц.) к главам романа «Петербург» отклоняется
от пушкинских текстов, как бы цитирует «по памяти». Что же
касается многочисленных скрытых Ц., не выделенных ни гра-
фически, ни каким-либо иным способом, то здесь писатели
получают достаточно большую свободу. Они вольны не толь-
ко цитировать по памяти, но порой и сознательно переделы-
вать чужую фразу без единой ссылки на источник, нисколько
не опасаясь обвинения в плагиате. Ибо задача цитирования -
не скрыть заимствование, а, наоборот, подчеркнуть его и та-
ким образом включить в произведение. Так, герой повести
Кюхельбекера «Последний Колонна» без единой формальной
ссылки вызывает в памяти читателя трагедию Шиллера «Дон
Карлос», включив в письмо неточную Ц. из нее: «Чувствую,
сколь мало еще у меня прав говорить таким языком: мне 24
года, а еще я ничего не сделал для бессмертия». (У Шиллера:
«Двадцать три года, и ничего не сделано для бессмертия»).
Цитирование может быть рассчитано на читательскую
элиту (у многих романтиков, неоромантиков, модернистов)
либо на широкую публику (так, у фантастов нередки отсылки
к Чапеку и Азимову).
Ц. не только связь с творчеством предшественников, но и
отталкивание от него, развитие старых достижений на новом
300
этапе развития, в ином художественном мире. Приведем при-
мер. Как известно, для гоголевских «Петербургских повестей»
характерна тенденция деромантизировать действительность,
пародировать излюбленные сюжеты романтиков. Хрестоматий-
ный эпизод: «Перед ним сидел Шиллер, — не тот Шиллер, кото-
рый написал «Вильгельма Телля» и «Историю Тридцатилетней
войны», но известный Шиллер, жестяных дел мастер в Мещан-
ской улице. Возле Шиллера стоял Гофман, не писатель Гофман,
но довольно хороший сапожник с Мещанской улицы». Петер-
бург Ремизова настолько деромантизирован, что возникает по-
требность в обратном процессе. Это становится очевидным в тех
случаях, когда найденный Гоголем прием как бы выворачивает-
ся наизнанку. В то время как Гоголь превращает Гофмана и
Шиллера в сапожника и жестяных дел мастера, Ремизов в рас-
сказе «Глаголица» устами своего Корнетова возвышает простых
и незаметных людей до уровня знаменитостей.
«Одну зиму завсегдатаем у Корнетова был Соломон, еврей,
самый обыкновенный Соломон, откуда-то из-под Вильны, но
Александр Александрович так его всем представлял и так смо-
трел на него и слушал, словно был этот несчастный Соломон,
сам царь Соломон, мудрейший из царей. Ходил еще к Корне-
тову Алей-татарин, ну, так, простой человек — татарин, но
Александр Александрович так его всем представлял и так смо-
трел на него и слушал, словно был этот тихий Алей, сам Шиг-
Алей проходим, поган царь казанский».
Гоголевская игра романтическими фамилиями отразилась
и в «Петербурге» Андрея Белого (в эпизоде разговора Дудкина
и Шишнарфнэ): «Извините, вы Андрей Андреич Горель-
скии?» - «Нет, я Александр Иванович Дудкин...» - «Да, по
подложному паспорту...» Александр Иванович вздрогнул: он
действительно жил по подложному паспорту, но его имя, от-
чество и фамилия были Алексей Алексеевич Погорельский, а
не Андрей Андреич Горельский».
В данном случае речь идет о контаминации (слиянии) имени,
301
отчества и псевдонима известного русского писателя-романти-
ка, последователя Гофмана Антония Погорельского (Алексея
Алексеевича Перовского). Его роман «Двойник, или Мои вече-
ра в Малороссии», спроецированный таким образом на сюжет
«Петербурга», еще раз дополнительно вводит тему двойничест-
ва, очень важную для романа, а также отсылает и к гоголевским
«Вечерам на хуторе близ Диканьки» и к «Невскому проспекту».
Романтическая пара Гофман и Шиллер трансформируется, с од-
ной стороны, в последователя Гофмана, разрабатывающего тему
двойничества, а с другой, расщепляется на романтического Не-
уловимого и безумного Дудкина (два облика героя).
Говоря о литературной Ц., необходимо коротко остано-
виться и еще на одной ее разновидности — автоцитате, заро-
дившейся довольно давно и получившей распространение в
современной литературе. Речь идет о тех случаях, когда писа-
тели сознательно включают в текст ссылки на собственные
произведения (называя или не называя их), получающие та-
ким образом статус авторитетного источника. Приведу при-
мер из повести М.Чулаки «Высоковольтный», где пересказан
сюжет его же повести «Четыре портрета».
«А я недавно читал книжку. Фантастика, но забавно: как
один художник рисовал портреты людей больных, хилых - но
рисовал их такими, какими они должны быть, здоровыми, —
и они потом смотрели на свои портреты и здоровели. Ну, мо-
жет, наивно, но идея та же. Но дело еще в том, что художник
отдавал им свое здоровье и сам слабел».
Литературное цитирование встречается в нескольких раз-
новидностях (точное, неточное или вольное, автоцитирова-
ние) и выполняет определенные функции: характеристика
персонажа, установление связи с литературной традицией
(связь эта может быть и полемической, и пародийной) или с
контекстом собственного творчества, создание усложненной
символики, и так далее.
Л.Фиалкова
302
Человеческий документ (литература
человеческого документа). Известны три различных значения
термина.
1) Первое значение этого понятия не имеет строго терми-
нологической очерченности. В литературоведении, журна-
листике и критике под Ч.д. часто подразумевается вообще
некое творение, запечатленное в какой-либо осязательной,
уловимой форме и так или иначе свидетельствующее об авто-
ре. Вот некоторые примеры такого словоупотребления: «Пе-
ред нами именно ’’человеческий документ” во всей его под-
линности и неотразимости. И подлинность эта - факт не
только этический, но и художественный» (о лирике Некрасо-
ва); «"Исповедь” Льва Толстого, законченная им в 1881 году, —
бесценный человеческий документ»; «Такова эта книга
Н.Дуровой, замечательный человеческий документ, инте-
реснейшее явление в литературе тридцатых годов XIX века»;
«Вчитываясь в "Дневник” Пушкина, убеждаешься в том, что
это человеческий документ, что это частица жизни того, кто
его создал» и т.п.
2) Второе значение этого термина близко по смыслу «доку-
ментальной литературе», и чаще всего применяется по отно-
шению к мемуарам, воспоминаниям, автобиографиям, пись-
мам.
Исторически этот термин предшествовал более поздним
«документальная литература», «литература факта» и др., по-
явившись во второй половине XIX в. в контексте идей, рож-
денных под влиянием творчества И.Тэна и связанных с «экс-
периментальным» романом Золя. В начале XX в. память о
французских источниках термина стирается в русской культу-
ре, вместе с тем Ч.д. как расхожее понятие, синоним докумен-
тализма, получает распространение в критике. Тогда же на-
блюдается устойчивая практика разделения художественной
литературы и документальной, которую и должен был описы-
вать термин Ч.д.
303
Так, например, с 1920-х гг. наметилось противопоставле-
ние Ч.д. подлинной поэзии высокой литературе, проблема
«водораздела» между ними стала предметом полемики. В ча-
стности, особое течение в поэзии русского зарубежья, полу-
чившее название «Парижская нота», устанавливало взгляд на
поэзию как на прямое свидетельство о пережитом, сводя «ли-
тературность» к минимуму, поскольку она мешает выразить
неподдельность чувства, «навеянного метафизической тос-
кой». Поэзию, согласно программе, намеченной Г.Адамови-
чем, надлежало «сделать из материала элементарного» без ка-
кого-либо приукрашивания. Напротив, В.Ходасевич в своих
откликах на выступления «Парижской ноты» подчеркивал
недопустимость превращения поэзии в Ч.д., указывая, что ре-
альные творческие свершения возможны только как итог ос-
воения художественной традиции, в конечном счетеприводя-
щей к Пушкину. При этом в качестве синонима Ч.д. Ходасе-
вич часто использовал более близкий ему термин «инти-
мизм»: «Интимизм скуп. Автор человеческого документа все-
гда эгоистичен, ибо творит (поскольку вообще есть творчес-
кий элемент в этом деле) единственно для себя. Это не прохо-
дит даром. Человеческий документ вызывает в читателе учас-
тие к автору, как человеку, но не как к художнику. Того духов-
ного отношения, как между художником и читателем, между
автором человеческого документа и читателем нет и не может
быть. Автору человеческого документа можно сочувствовать,
его можно жалеть, но любить его трудно, потому что он сам
читателя не любит».
Противопоставление Ч.д. литературе художественной на
уровне терминологическом устойчиво сохраняется и по сей
день. Характерно, к примеру, такое представление читателю
книги С.Алексиевич «У войны - не женское лицо»: «Светла-
на Алексиевич - одна из таких писателей, которые обладают
острым чутьем на правду и только правду. На этом пределе
между литературой и человеческим документом и написана,
304
вернее, записана эта книга. Будто бы автор лишь недавно вер-
нулся с передовой линии фронта».
3) Третье значение, более узкое и специальное, ввел в на-
учный обиход в 1970-х гг. П.Палиевский, впервые обратив-
ший внимание на новое явление, описавший его и давший
ему название.
К литературе Ч.д. следует относить, как отмечает Пал нев-
ский, только непреднамеренно всплывшие на поверхность
«письмена», не имевшие художественной цели. «Их выход в
свет есть всякий раз несколько загадочное событие, так как
никто не может с достоверностью утверждать, что создатели
их - люди художественного таланта, это какое-то невольное
искусство. ...Но это и наделяет их особым качеством. Благода-
ря ему читатель спокойно видит тут в роли художника целое
общество или жизнь, сотворившую и автора и документ.... По-
скольку эта литература создается без писателя, как удачное
выражение момента, она не может приобрести направление
или составить какое-либо целое. В случайностях остаются ее
сила и слабость. Этим она, между прочим, отличается и от
многочисленных к ней приближений или подделок».
Е.Местергази
305
э
Эго-документ (Я-документ) - обобщающее
именование таких документальных жанров, как дневники, за-
писные книжки, письма, автобиографии, заметки, воспоми-
нания и мемуары.
Первоначально термин Э-д. получил распространение в
70-е гг. XX в. в западной социологии, точнее в одном из ее
разделов, носящем название «история повседневной жизни».
В конце XX в. он перекочевал в глоссарий западной филоло-
гии как аналог принятого в русской науке понятия «докумен-
тальная литература». Его появление обозначило с одной сто-
роны возросший интерес к «пограничным» жанрам, с другой —
назревшую необходимость теоретического их осмысления и
всестороннего изучения в качестве самостоятельного предме-
та. Именно с этим понятием работала первая международная
научная конференция по теме «Дневники русских писателей:
литературный и исторический контекст» (20—21 мая 2005 г.,
Варшава). Сегодня этот термин можно встретить и в работах
отечественных ученых. Характерно появление его русского
аналога — «я-документ».
Междисциплинарное существование термина Э-д. свиде-
тельствует о единовременно наблюдаемом и в литературе, и в
живописи, и в кино, и в социологии, и в истории (в медиеви-
стике и не только) и в других областях глубинном интересе
культуры XX-XXI вв. к истории личной жизни и обыденнос-
ти как сфере творчества.
Е. Местергази
Эпигонство (от греч. epigonos - родившийся по-
сле) непредумышленное (или полуосознанное), происходя-
щее спонтанно, нетворческое подражание. Разумеется, между
ним и подражанием художественным, по законам диалектики,
не может быть абсолютно четкой границы. Неудачная попыт-
ка «приемно» использовать в своем творчестве литературные
306
темы, образы или стилистику предшественника, будет законо-
мерно воспринята читателями как обыкновенное Э. Однако
можно наметить несколько наиболее характерных различий
«приемного» и «механического», эпигонского подражания.
Сознательно парафразирующий художник внутренне
убежден в нормальности и целесообразности того, что он ис-
пользует в своих целях какие-то литературные мотивы — даже
когда расхожие эстетические предрассудки пытаются учить
его противоположному. Так поступал Пушкин, парафразируя
Байрона в «южных» поэмах, так поступал Блок, черпая для
своей драмы «Роза и крест» из средневековой французской
литературы и бретонского фольклора, так поступали поэты
французского Парнаса, преломляя в своих произведениях ан-
тичные мифологические сюжеты... Эпигонское же подража-
ние осуществляется пассивно, как бы помимо воли автора.
Причем эпигон, напротив, очень стыдится похожести своего
творения на «образец» или «переклички» своего почерка с чу-
жим стилем. Он боится и упреков в подражании, будучи внут-
ренне убежден, что «подражать грешно»...
При творческом подражании всегда налицо переработка
чужого, подчинение его собственной творческой личности.
Эпигонское подражание имеет обратный характер. Эпигон не
«спорит», не «борется» с поэтикой того литературного авто-
ритета, которому следует. Он просто воспроизводит внешние
черты этой поэтики в упрощенном виде. Эпигонское подра-
жание может проявляться также в невнятном копировании
тех или иных клишированных (либо в творческой практике
конкретного автора, либо в какой-то поэтической традиции),
изношенных приемов, рассматриваемых подражателем как
«само собой разумеющиеся» черты «истинной» поэзии. Так
могут воспроизводиться определенные типы рифм, ритмика,
синтаксис, метафорика и т.д.
Художественное подражание всегда преследует какие-то
творческие цели, например, оно может быть, парадоксальным
307
образом, средством «отталкивания» от стиля какого-то близ-
кого подуху поэта. Эпигонское подражание, напротив, всегда
бесцельно. Оно не от высокого мастерства, а от неумения, не
от внутренней свободы, а от внутренней скованности.
Творческий парафразис всегда заметен (так сказать, выде-
лен курсивом) именно потому, что он должен как-то «работать»
в произведении, выполнять определенную функцию как прием.
Э. обычно отличается невыраженностью, «размытостью». Оно
стремится уйти в тень, стушеваться. Малозаметность факта Э. -
одна из причин «живучести» в литературе этого типа подража-
ния. Эпигон использует те сюжетные, композиционные, стиле-
вые и т.д. средства, которые наиболее «привычны» уху и глазу
современных читателей и критиков. В силу этого «приемное»
подражание бывает объектом критики, пожалуй, чаще, чем
эпигонское именно оно заметно, и факт его «бросается в глаза».
В творчестве эпигона всегда резко ослаблено (или даже от-
сутствует) личностное начало, внешне довольно гладкое, оно
грешит самым главным: безликостью, бесцветностью, обык-
новенностью, из-за которой не у всякого критика «подымает-
ся рука» ругать эпигонские произведения.
Эпигон, как правило, творит в русле литературной моды,
ориентируясь на наиболее популярных в данный момент ху-
дожников и на литературные течения, доминирующие на се-
годняшний день.
В свете этого ясно, почему в 30-40-е годы XIX в. было так
много эпигонов Пушкина и Жуковского, в 60-е — Некрасова,
а в конце века - Надсона.
Основное средство «профилактики» Э., по-видимому,
расширение и углубление личной культурной эрудиции, сис-
тематическая начитанность, постоянная «тренировка» в чте-
нии «хороших и разных» поэтов прошлого и настоящего, тре-
нировка в умении угадывать: в чем же состоит и чем достигну-
то их отличие? Далее, опасность «впасть в эпигонство» тем
меньше, чем больше «допущено» в созданное произведение
308
собственной личности, чем яснее автор понимает свои цели.
Чем более он уверен в своей способности ответить перед со-
бой самим и читателем за каждый примененный прием, за
каждое произнесенное слово.
Ю.Бирюсинов
Эпиграф (от греч. epigraphe - надпись). Традици-
онно Э. называют цитату, которую автор ставит перед всем
произведением или перед отдельными его разделами. Эн-
циклопедии относят появление Э. к началу XV в. Впервые он
отмечен в «Хрониках» Фруассара (написаны в 1404-м, опуб-
ликованы в 1495 г.), «Максимах» Ларошфуко («Наши добро-
детели - это чаще всего искусно переряженные пороки»).
Широкое распространение Э. получает в конце XVIII —
начале XIX в. на Западе — в творчестве Руссо, Стендаля, Гюго,
Гёте, Шиллера, в России — Карамзина, Батюшкова, Жуков-
ского, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова, Герцена.
Э. — это своего рода маска, «за которую прячется автор,
когда он, не желая выступать прямо, косвенно определяет
свое отношение к событиям, изображенным им в произведе-
нии» (Я.Зунделович).
Э. — «смысловой ключ» произведения (В.Шкловский).
Именно с его помощью автор направляет ассоциации читате-
ля в нужное русло. Так, В.Шкловский заметил, что «Пиковая
дама» Пушкина нередко прочитывается как повесть о роман-
тическом герое, между тем как сам поэт ввел снижающий Э. к
произведению: «Пиковая дама означает тайную недоброжела-
тельность (Новейшая гадательная книга)».
«Гадательная книга, да еще новейшая, изданная на серой
бумаге, в лубочном издательстве, - это мещанская книга, а не
тайный фолиант на пергаменте», - пишет исследователь.
Таким образом, с помощью Э. автор корректирует, на-
правляет читательское восприятие. Это особенно существен-
309
но в тех произведениях, где есть герой-рассказчик и позиции
автора и повествователя не всегда совпадают (так, например,
в «Повестях Белкина» Пушкина дан не только один общий
Э., но и Э. к каждому из пяти произведений в отдельности).
Высказывая свое отношение к изображаемому, художник
в то же время стремится уйти от прямолинейности, назида-
тельности. В этом ему помогает «чужое» слово. Именно пото-
му одно из важнейших свойств Э. — цитатность. Однако уже в
классической литературе встречаем два типа цитат: фрагмен-
ты известных текстов (библейских, фольклорных, литератур-
ных) и типизированные, обобщенные выражения, не принад-
лежащие какому-либо автору. Последние часто оформляются
как заимствованные из разговора, из газет, записных кни-
жек... «У меня нет таланта, у меня есть призвание» (из разго-
вора) — И.Фоняков. «Нет бога у меня...»; «В нашем клубе те-
перь культурно. Ребята теперь не пляшут» (из речи заведую-
щей клубом Маши Р.) — С.Викулов. «Не пляшут...».
Более того, в поэзии появляются Э., вводящие предвари-
тельную, «фоновую» информацию, необходимую для пони-
мания текста. Например: «Сочетание 88-С по коду радистов
означает "целую"» («Восемьдесят восемь» Р.Рождествен-
ского); «По мостам войска проходят не в ногу» («Воспомина-
ние о награде» М. Дудина);
Сравним различные варианты работы с Э. у поэтов.
1. Э. включается в текст как полная неизменная цитата либо
сохраняющая, либо меняющая собственный первоначальный
смысл. Э.: «Живет моя отрада... (Русская песня)» к стихотворе-
нию Вс.Рождественского «Плотичка»: «Живет моя отрада,/
В озерной глубине,/ И все ее повадки/ Известны только мне».
2. Э. представлен в тексте в усеченном виде — лексически-
ми «осколками» или же ассоциативно, тематически связан-
ными с Э. словами. Например, Э. : «Познай, где свет - пой-
мешь, где тьма! (А.Блок)» к стихотворению Л.Озерова «Есть в
красках отзвуки и звуки...»
310
3. Э. задает особенности формы стиха: ритмометрический
строй, тип рифмы и т.п. Так, стихотворение В.Соколова
«Натали, Наталья, Ната..» выдержано в метрической схеме че-
тырехстопного хорея, которым написаны «Бесы» Пушкина,
откуда взят Э. «Мчатся тучи...». Причем само обращение к
эпохе Пушкина определило и соответствующую стилистичес-
кую окраску (высокую, архаическую) стиха В.Соколова, где
есть такие слова: чревато, надоба, длань, нетленный.
4. В стихотворении содержатся «сокращенные знаки-ука-
зания» (З.Г.Минц) на Э. Это могут быть имена (в широком
смысле), отношения между персонажами, определенные сю-
жетные линии текста-источника. Так, стихотворение Д.Са-
мойлова «Поэт и Старожил» предваряет следующий Э.:
«Не для житейского волненья./ Не для корысти, не для
битв,/ Мы рождены для вдохновенья,/Для звуков сладких и
молитв» («Поэт и толпа» Пушкина).
Э. здесь — своего рода свернутое содержание полного текста,
он концентрирует противопоставление обыденности, призем-
ленное™ толпы и высокого призвания Поэта: Стихотворение
Д.Самойлова построено, как и пушкинское, в форме диалога,
драматической сцены, причем отношения Поэт — Старожил у
Самойлова аналогичны противопоставлению Поэт — Чернь у
Пушкина: вдохновенный, приподнятый рассказ Поэта эмо-
ционально и стилистически контрастен репликам Старожила.
Заметим, однако, что Поэт Самойлова не чужд «житейскому
волнению». Сравним его прозаическую начальную реплику:
«Скажите, гражданин,/ Как здесь пройти до бани?» и высокий
слог заключительного монолога: «...еще дымился Костер./
И месяц наверху налился./ И косо плыл подыму, как ладья».
Конечно, такое разделение, раскладывание «по полочкам»
связи Э. и текста в значительной мере условно; реально, в
произведении, они сочетаются: ритмико-интонационная бли-
зость Э. к тексту обычно поддерживается лексически, цитиро-
вание Э. часто задает ритмический рисунок стиха.
311
Большинство Э. «самодостаточны» и не требуют обяза-
тельного обращения к произведению, фрагментом которого
они являются. Однако иногда Э. может выступать как знак,
отсылающий к полному тексту или — шире - к некоторому
сюжету, художественному образу, литературной традиции.
Утрата культурно-исторического фона (смена поколений)
приводит к непониманию Э. и необходимости специальных
пояснений. Так, В.Шкловский в «Заметках о прозе русских
классиков» убедительно доказывает, что три стихотворных
Э. о Москве к VII гл. «Евгения Онегина» могут быть в пол-
ной мере осмыслены, лишь если обратиться к полному тек-
сту их «источников» — произведениям И.Дмитриева, Е.Ба-
ратынского и А.Грибоедова. Тогда-то и выявится внутрен-
ний контраст отрывков, своеобразие пушкинского подхода
к материалу.
Такие Э. встречаются и в современной поэзии (Л.Васи-
льева, А.Тарковский, Б.Ахмадулина и др.). Они призваны
напомнить, оживить в памяти хорошо знакомое прежде.
Когда Л.Озеров берет Э. из Пушкина: «Четырехстопный
ямб мне надоел» — пишет: «Четырехстопный ямб не надо-
ел,/ Не оставляю мальчикам в забаву/ Его омытых нашей
кровью стрел», — то мысль его стихотворения раскрывается
в нашем, читательском, сопоставлении этих стихов со сти-
хами пушкинскими...
Э. требует повторного чтения, притягивает, возвращает к
себе читательское внимание. Он — нечто вроде авторского
нота бене.
Вот почему умелое и тонкое владение Э. - признак высо-
кого писательского мастерства.
Н. Кузьмина
Эпилог
см. Пролог и эпилог.
312
Язык художественной литературы -
одно из важнейших средств художественного общения, систе-
ма, которая воплощается в литературных текстах и функцио-
нирует в социуме как средство общения: 1) художника и дей-
ствительности, 2) художника и созданного им художественно-
го мира, 3) внеэстетической действительности и художествен-
ного мира, наконец, 4) читателя и художника, произведения,
эстетической реальности. Я.х.л. демонстрирует максимум воз-
можностей, которые имеет любой национальный литератур-
ный язык.
Структура Я.х.л. включает в себя любые частные структу-
ры и единицы всех ярусов литературного языка (плюс диа-
лектные, просторечные и др. выражения), сопоставленные эс-
тетическому способу их существования, порождающему при-
ращения смысла каждого из элементов. Так, в романе Набо-
кова «Дар» показано рождение стихотворения, данное через
попытку реконструкции этого процесса в общем потоке со-
знания автора в некоторый отдельный момент его жизни.
Единицы общелитературного языка «на глазах» читателя пе-
реходят в новую, художественную структуру, в частности, имя
героини — Зина Мерц, контексты из творчества Блока («Ночь,
улица, фонарь, аптека...»). «Он был исполнен блаженнейшего
чувства: это был пульсирующий туман, вдруг начинавший го-
ворить человеческим голосом. Лучше этих мгновений ничего
не могло быть на свете. Люби лишь то, что редкостно и мни-
мо, что крадется окраинами сна, что злит глупцов, что смерда-
ми казнимо; как родине, будь вымыслу верна. Наш час настал.
Собаки и калеки одни не спят. Ночь летняя легка. Автомо-
биль, проехавший, навеки последнего увез ростовщика. Близ
фонаря, с оттенком маскарада, лист жилками зелеными скво-
зит. У тех ворот — кривая тень Багдада, а та звезда над Пулко-
вом висит. О, поклянись, что...
Из передней грянул звон телефона. По молчаливому со-
глашению хозяев Федор Константинович его обслуживал в от-
313
сутствие хозяев. А что, если я теперь не встану? Звон длился,
длился, с небольшими перерывами для перевода дыхания. Он
не желал умереть; оставалось его убить. Не выдержав, Федор
Константинович как дух пронесся в переднюю. Русский голос
раздраженно спросил, кто говорит. Федор Константинович
мгновенно его узнал: это был неведомый абонент — по прихо-
ти случая, соотечественник - уже вчера попавший не туда, ку-
да хотел, и нынче опять, по сходству номера, нарвавшийся на
это же неправильное соединение. «Уйдите, ради Христа» -
сказал Федор Константинович и с брезгливой поспешностью
повесил трубку. На минуту зашел в ванную, выпил на кухне
чашку холодного кофе и ринулся обратно в постель. Как звать
тебя? Ты полу-Мнемозина, полу-мерцанье в имени твоем, -
и странно мне по сумраку Берлина с полувиденьем странство-
вать вдвоем. Но вот скамья под липой освещенной... Ты ожи-
ваешь в судорогах слез: я вижу взор сей жизнью изумленный
и бледное сияние волос. Есть у меня сравненье на примете,
для губ твоих, когда целуешь ты: нагорный снег, мерцающий
в Тибете, горячий ключ и в инее цветы. Ночные наши, бедные
видения, — забор, фонарь, асфальтовую гладь - поставим на
туза воображения, чтоб целый мир у ночи отыграть! Не обла-
ка - а горные отроги; костер в лесу, - не лампа у окна... О по-
клянись, что до конца дороги ты будешь только вымыслу вер-
на» (гл. III).
Понятия Я.х.л. и «литературный язык такого-то народа»
отождествляют, но это неверно: речь может идти только о ча-
стичных соотношениях. Литературный язык - та словарно за-
крепленная норма, нулевая точка эстетического отсчета, ко-
торая является базой для создания эстетических объектов.
Так, «Толковый словарь живого великорусского языка» В.Да-
ля закрепляет норму литературного языка XIX в., но при этом
и включает ряд диалектных слов, которые автоматически на-
чинают восприниматься в составе русского языка того време-
ни. «Словарь русского языка» Ожегова фиксирует норму ино-
314
го времени, XX в. Интересно, что от года к году ожеговский
словарь чуть-чуть меняется: какие-то значения появляются в
языке, какие-то, напротив, исчезают. Так произошло, напри-
мер, со словом «ханжа», которое в издании 1990 г. имеет зна-
чение «лицемер, прикрывающийся показной набожностью,
добродетелью». В более ранних изданиях было еще значение
«китайская водка (от кит. «хан-ши»)». Эта реалия окончатель-
но исчезла из действительности, слово вышло из употребле-
ния, и словарное значение перестало быть актуальным. Но
при чтении художественных произведений, например, повес-
ти А.Соболя «Паноптикум», читатель сталкивается с употреб-
лением слова в данном значении («ханжа» — водка) и узнает о
нем из комментариев.
Некорректно понимать Я.х.л. как один из «стилей» литера-
турного языка: в этом случае все индивидуальные языковые
приемы какого-либо автора попадают под слишком сильное
влияние современной общелитературной нормы. Но владеть
этой нормой необходимо для того, чтобы понимать красоту,
смысл и цель авторских отступлений от нее, характер «идиос-
тиля» (термин В.Григорьева) того или иного художника.
Еще одно понятие, с которым отождествляется Я.х.л., —
«художественная речь». Это также неверно. Художественная
речь является конкретной языковой (лексика, грамматика,
синтаксис и др. системы литературного языка и языка художе-
ственной литературы) формой выражения образного содержа-
ния некоторого произведения словесного искусства. Анализ
художественной речи предполагает, в основном, работу с оп-
ределенным произведением определенного автора, реже —
с корпусом его произведения, еще реже — с произведениями
ряда авторов, эстетически сходных между собой, объединен-
ных одним художественным направлением и др. Анализ Я.х.л.
предполагает более высокую ступень обобщения: так, можно
говорить о языке русских символистов, что и делает И.Аннен-
ский в своих статьях, посвященных их творчеству, и во мно-
315
гом по его стопам - современный ученый Н.Кожевникова в
книге «Словоупотребление в русской поэзии начала XX века»
(М., 1986). Анализ литературного языка как обработанной об-
щенародной нормы, воспринимаемой его носителями как об-
разец, важен для изучения языка как в школе, так и в научных
учреждениях; в области СМИ; в театре и др.
Под Я.х.л. зачастую понимается поэтический язык. Это
также неверно: в поэзии и прозе художественное слово су-
ществует по-разному. «В прозе (художественной) слово —
только средство. Поэзия творит из слов, создающих образы
и выражающих мысли; проза (художественная) — из образов
и мыслей, выраженных словами» - пишет В.Я.Брюсов в
1914 г.
В прозе выбор слов основывается на принципе «смежнос-
ти», «эквивалентности, подобия или различия, синонимии и
антонимии» (там же. С. 204), общеязыковом значении и
смысле. В поэзии же главное — последовательность единиц и
их взаимодействие в этой последовательности. Если два стиха
в стихотворении рассмотреть как две последовательности,
легко понять, что симметрия касается главным образом рит-
мического членения речи и ее звуковых характеристик, а не
исходных общеязыковых значения и смысла. Однако именно
благодаря помещению слова в стих оно приобретает иное, по-
этическое значение.
Есть и еще один важнейший аспект: в поэзии слово не
только сообщает о чем-то, но и само есть это «что-то», пред-
мет.
В древности поэзия являлась способом разговора о тай-
ных, непознаваемых сторонах человеческого бытия, мистиче-
ских и, говоря более современным языком, метафизических
его основаниях: отношения человека с Богом, с космически-
ми сущностями, общение душ человека и предметов и др.
(см. исландские и ирландские саги, например, «Похищение
быка из Куальнге»). Нарочито отличный от обыденной речи,
316
поэтический язык был многозначен, поэтическая информа-
ция явно преобладала над обыденной; поэтическая речь про-
граммно оказывалась «темной», малопонятной, нуждающейся
либо в «расшифровке», либо в целостном доверчивом образ-
ном восприятии. По мере формирования человеческой циви-
лизации и, в известном смысле, возникновения противостояния
между цивилизацией и культурой поэтический язык стано-
вился все более «ясным», речь — четкой и логичной (крайняя
степень — поэзия классицизма). Это не мешало, например, ни
Ломоносову или Державину в России создавать прекрасные
произведения, полные поэтических образов. Разумеется, в ря-
де случаев прозаик работает с художественным словом как по-
эт, скажем, А.Белый, А.Соболь, С.Кржижановский, О.Ман-
дельштам и др. Хотя и в поэзии далеко не каждый элемент
оказывается объектом авторской рефлексии, но все же в про-
зе значительно больший удельный вес придается сюжету,
фабуле, системе образов и персонажей, деталям, подробнос-
ти повествования, характеру рассказчика и др., а в поэзии —
слову.
Значения и слова, образуемые автором художественного
произведения, зачастую входят в литературный язык (один
из самых известных примеров — слово «летчик», придуман-
ное В.Хлебниковым); то же самое случается и с фрагмента-
ми текста, как это получилось с комедией Грибоедова «Горе
от ума».
Я.х.л. существует исторически и в разные эпохи выглядит
и формируется по-разному. Так, в нормативной поэтике клас-
сицизма предполагаются лишь «лучшие слова в лучшем по-
рядке» (Н.Буало), а в современной литературе единственная
«норма» - это чувство меры и вкус самого автора. Главный
критерий в любой культуре в любое время — эстетическая це-
лостность текста.
В. Калмыкова
317
Алфавитный указатель
статей
Автобиографические жанры 5 Автодокументальный текст 10 Акмеизм 11 Антижанр 14 Антитеза 19 Каламбур 88 Кич 90 Легенда 92 Лирика 95 Лирическая проза 101
Басня 21 Литература и реальность 105 Литература факта ПО
Время и пространство 24 Литературная личность 112
Герой 29 Гипербола 34 Гротеск 38 Малые эпические жанры 117 Мистификация 120 Миф 122 Модернизм 126
Дискурс 45 Документальная литература 48 Документальное начало 52 Наивное письмо 132 Нон-фикшн 136
Жанр 57 Образ 138 Образ читателя 144
Заглавие 61 Пейзаж 150
Идеал 66 Имажинизм 71 Импрессионизм 76 Инверсия 80 Ирония 83 Письмо 153 Повесть 157 Подтекст 162 Постмодернизм 165 «Поток сознания» 171
Притча 177 Произведение литературное 181 Пролог и эпилог 187 Псевдодокументальное 191 Псевдоним 194 Психологизм 198 Троп 260 Условность 263 Фабула 267 Форма поведения 272 Формализм 276
Ремарка 202 Роман 205 Футуризм 282 Характер 287
Сарказм 210 Сатира 214 Символ 218 Символизм 222 Сказка 229 Стиль 234 Стих 237 Структурализм 242 Сюжет 244 Хроника 291 Художественная деталь 295 Цитата 299 Человеческий документ 303 Эго-документ 306 Эпигонство 306 Эпиграф 309
Тема 248 Тип 251 Традиция 256 Язык художественной литературы 313
Справочное издание
Литературный словарь
Директор издательства
Редактор-составитель
Ведущий редактор
Корректор
Дизайн
Л.И. Карханина
А. В. Безрукова
Е.В. Толкачева
Н.В. Семенова
П.Е. Родькин
Формат 70x100/32
Печать офсетная
Гарнитура «Ньютон»
Усл.-печ. Юл.
Тираж 3000 экз.
Заказ № 501.
ООО ИД «Литературная учеба»
Свидетельство о регистрации № 013587 от 12 мая 1995 г.
127015 Москва, Новодмитровская ул., 5а.
Тел/факс (495) 685-66-02
Адрес сайта: www.lych.ru
e-mail: litucheba@dateline.ru
Отпечатано с готового оригинал-макета
в ООО ПФ «Полиграфист»
160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3
Тел.: (8172) 72-55-31,72-61-75