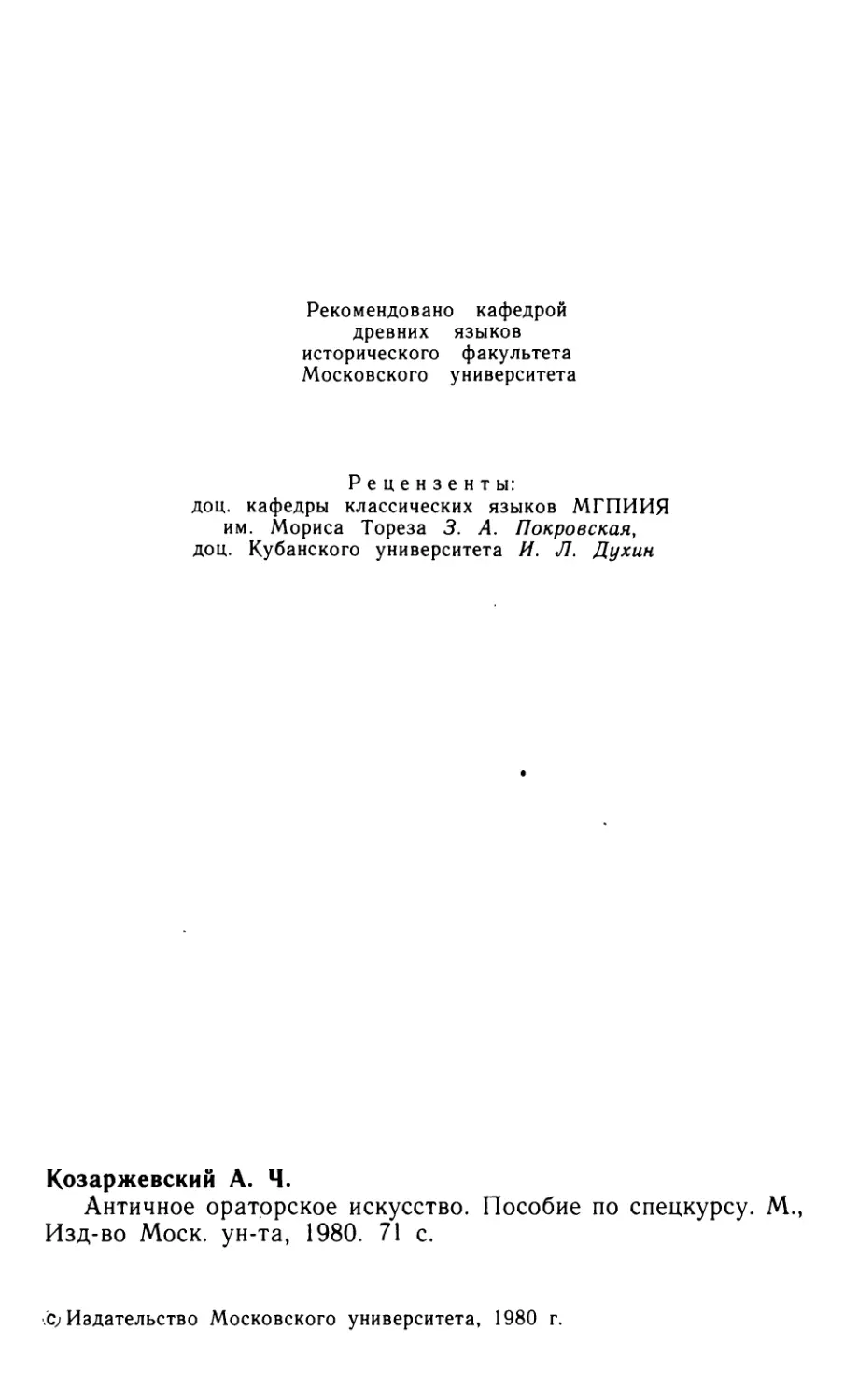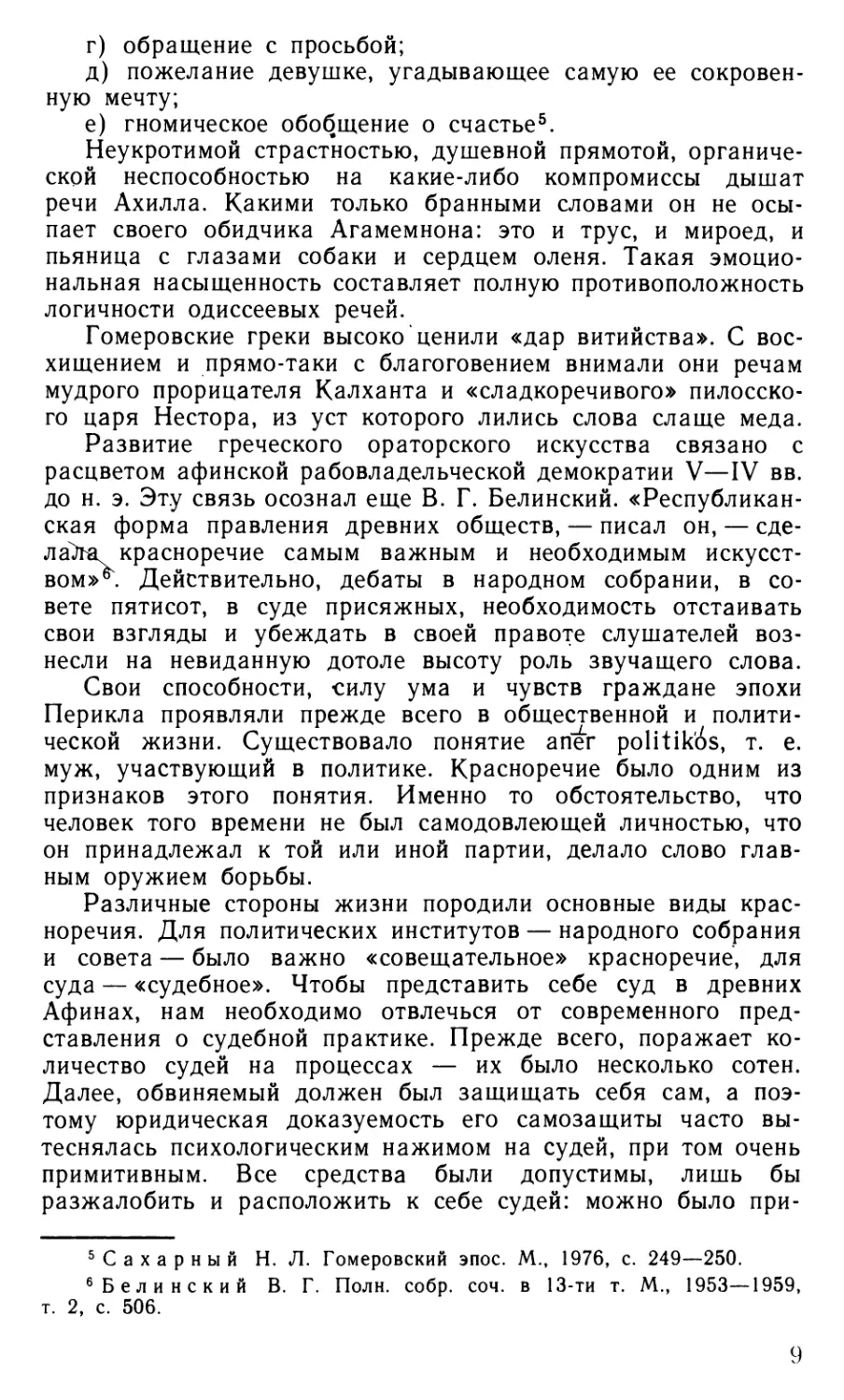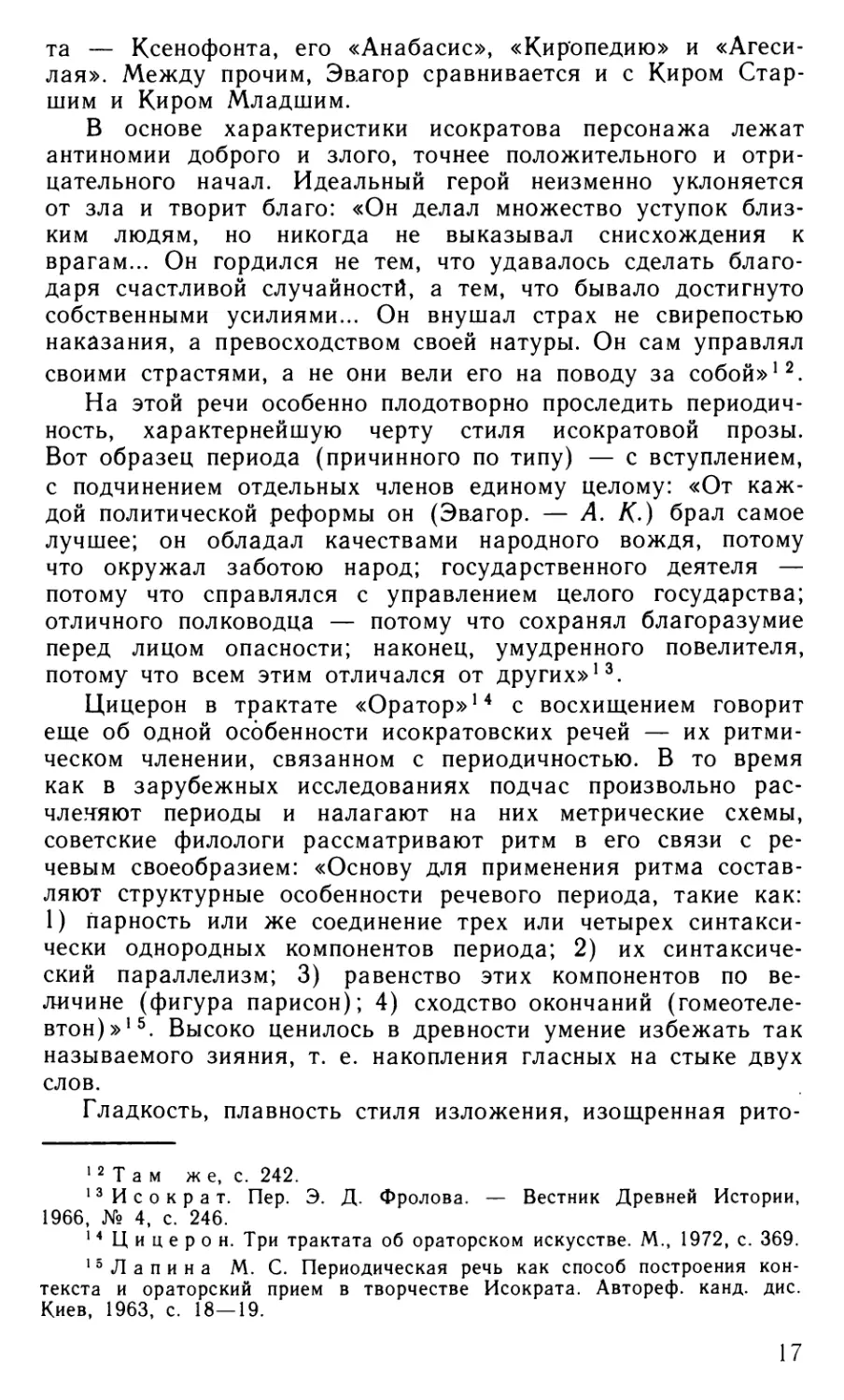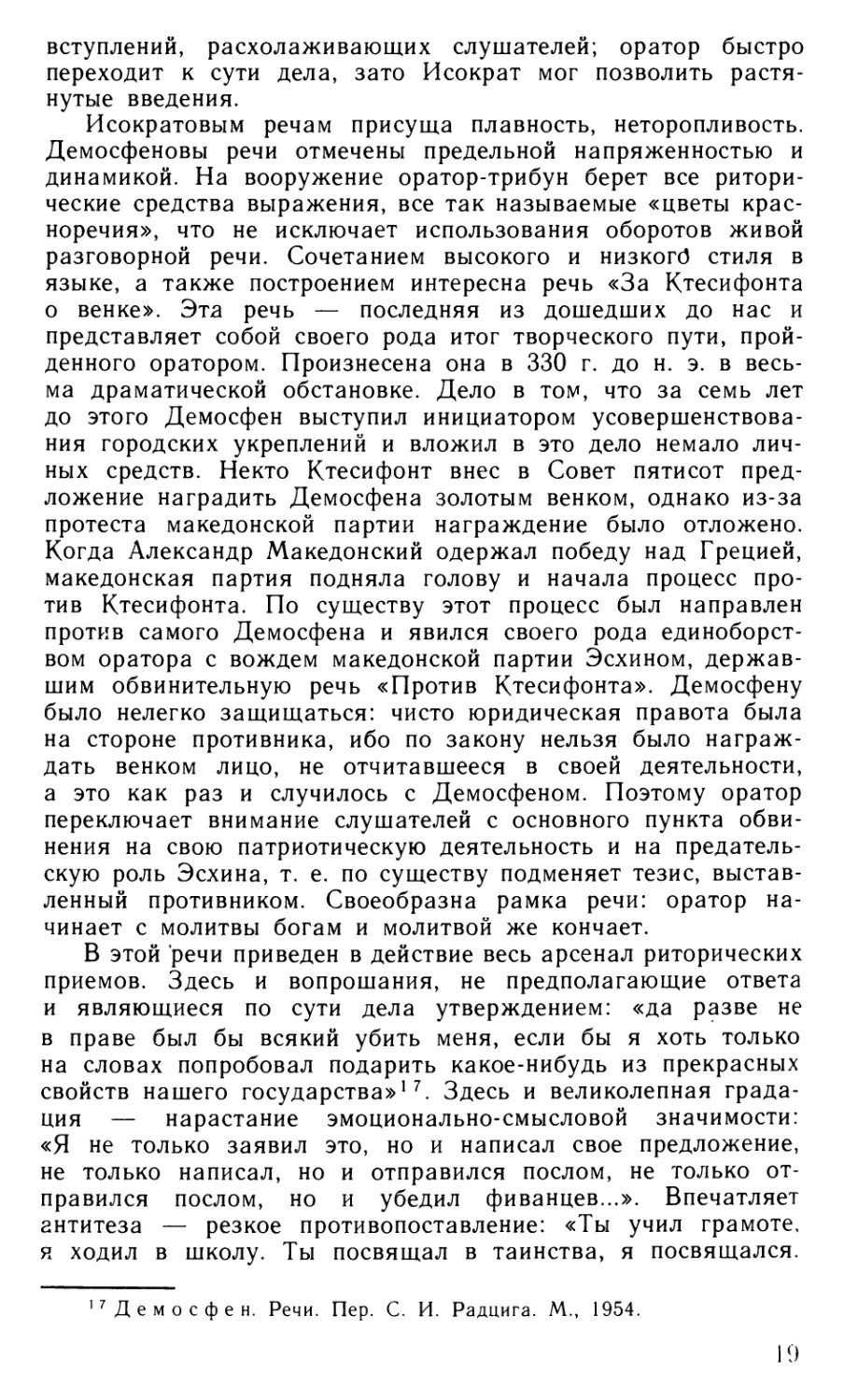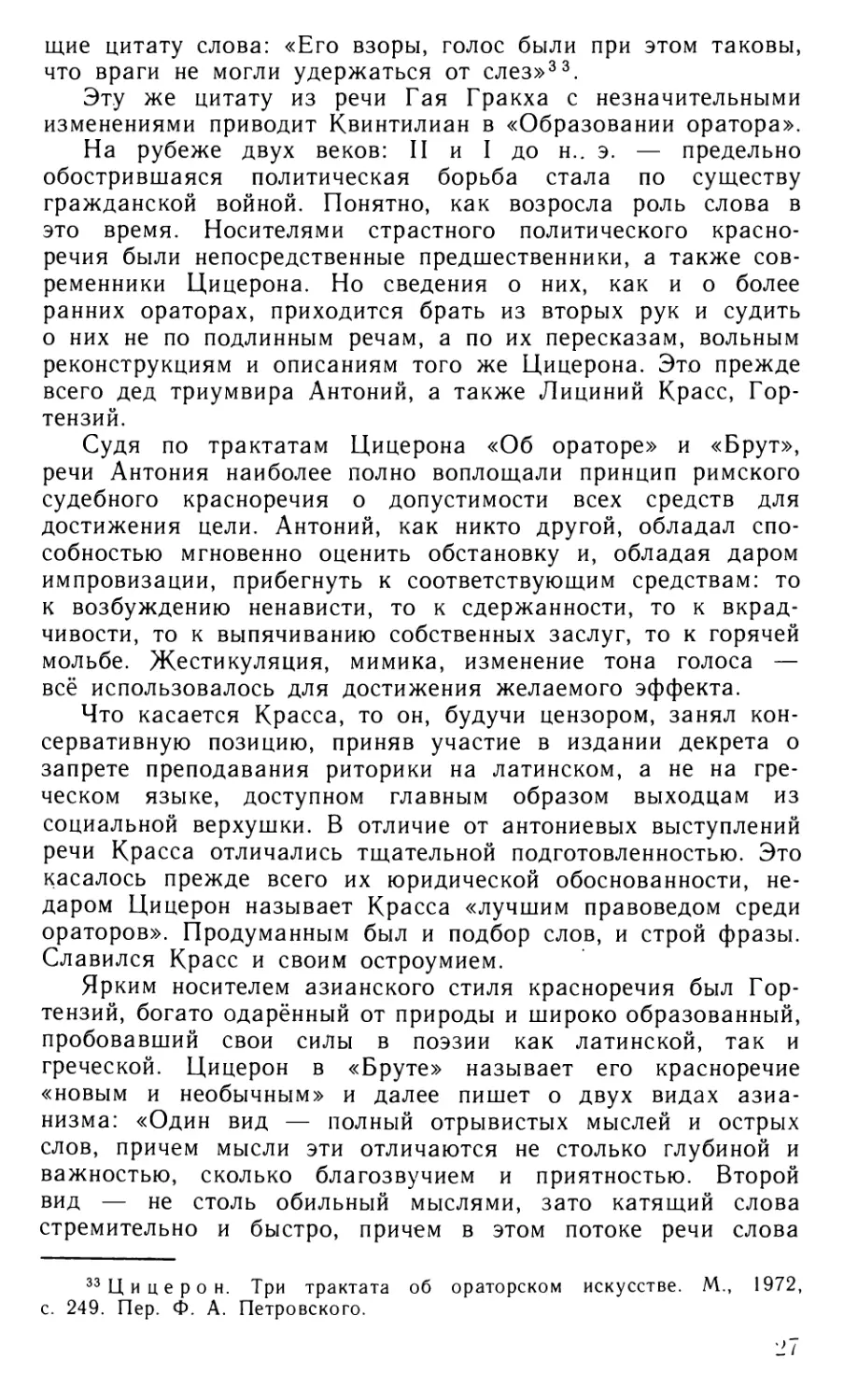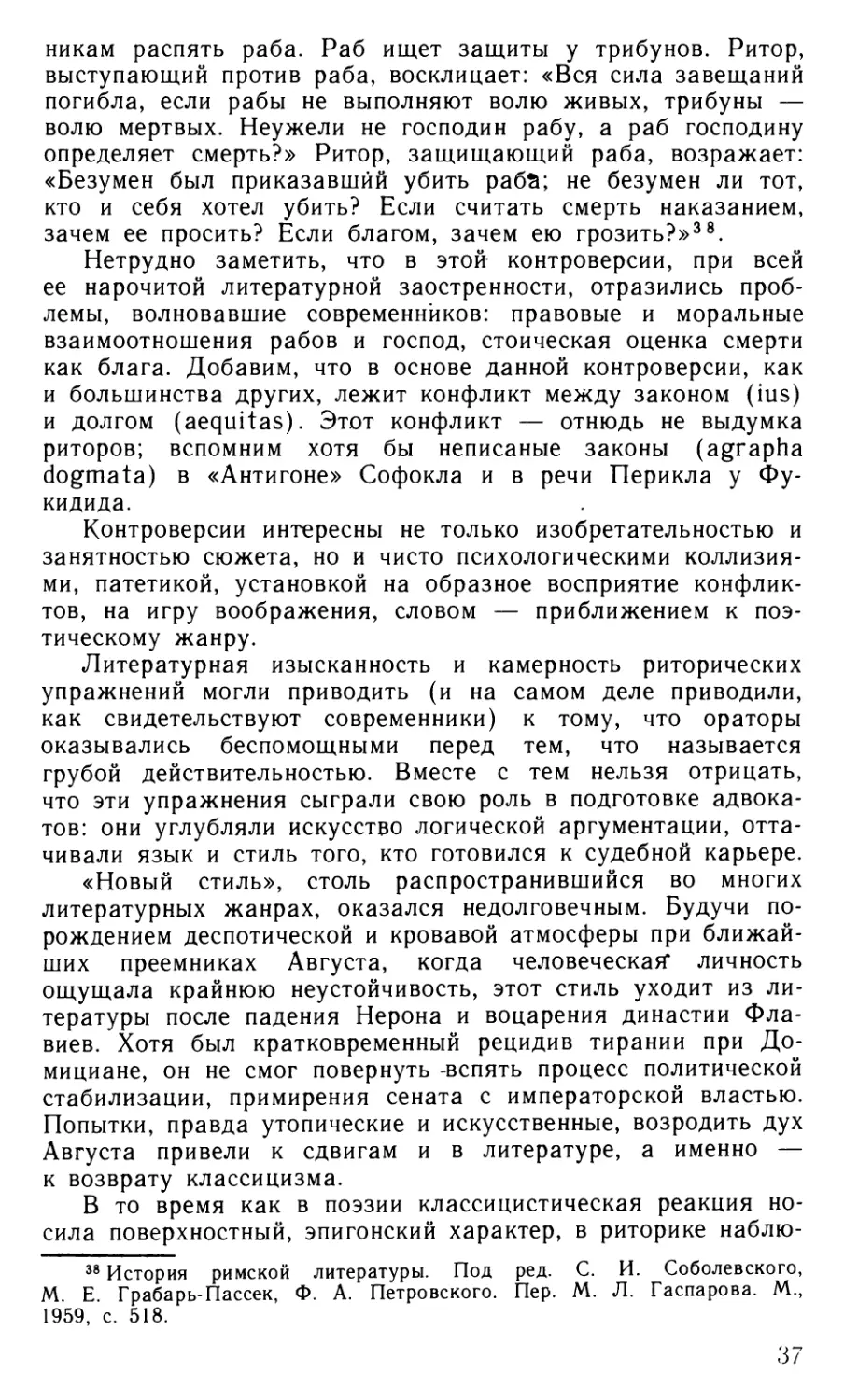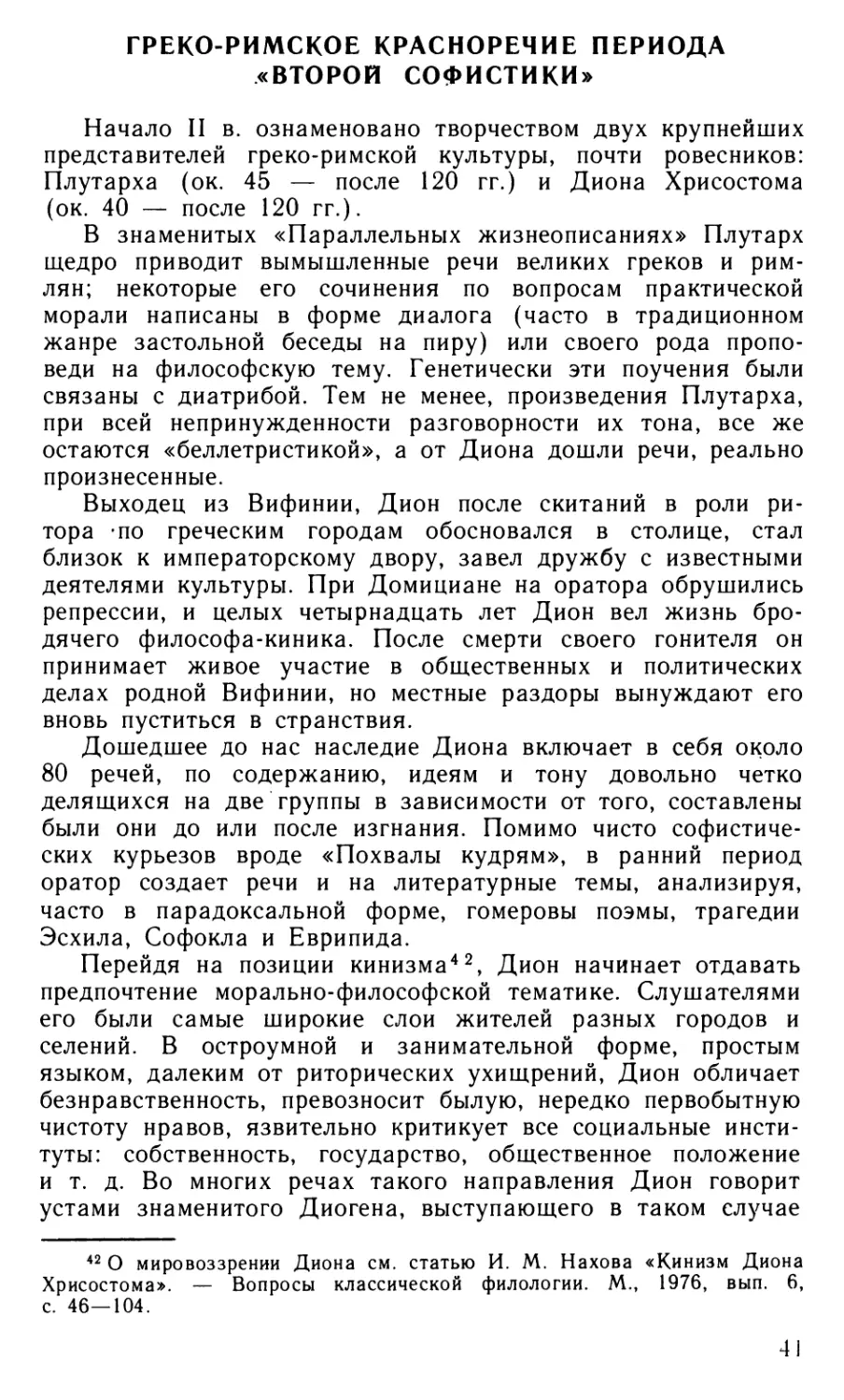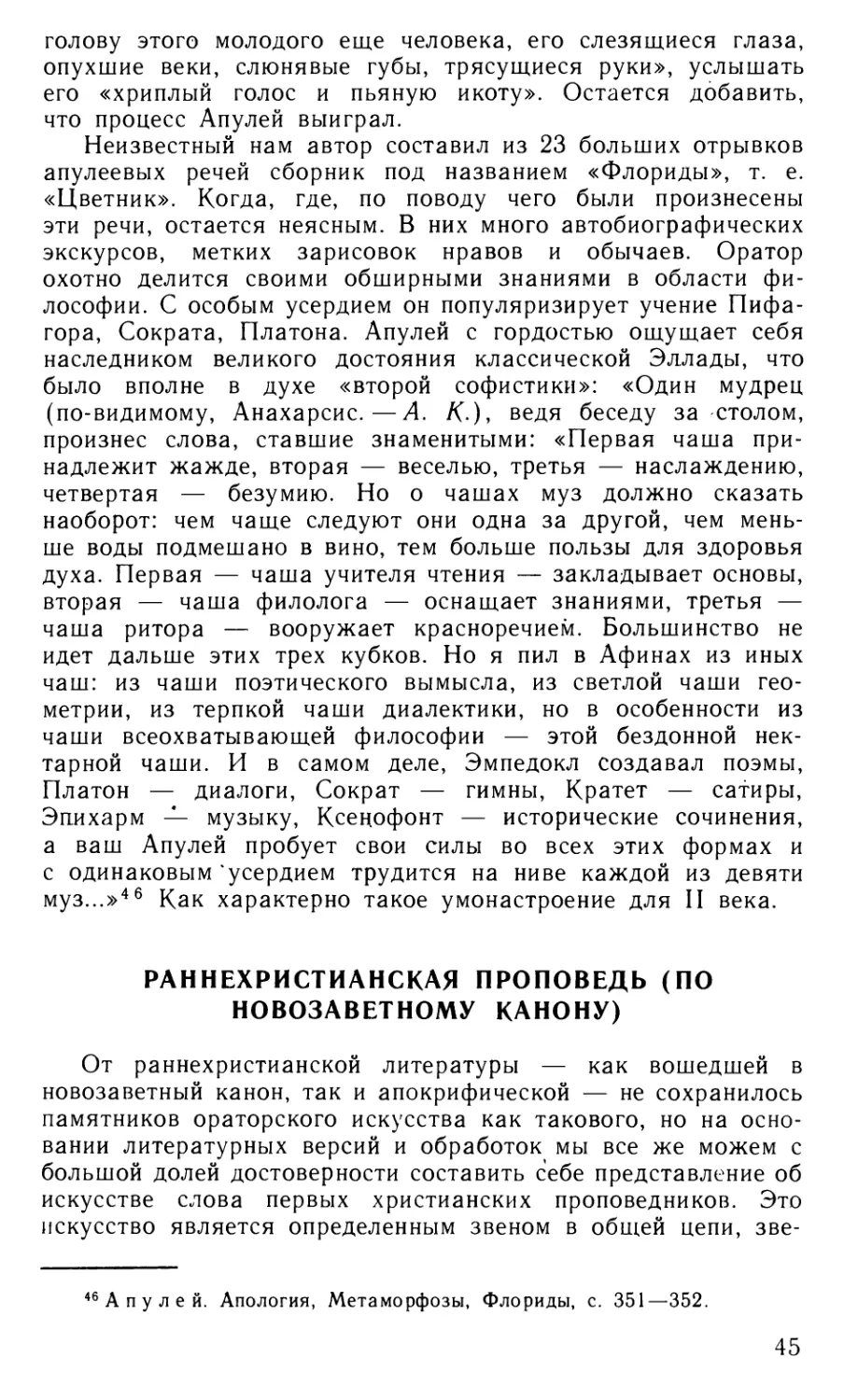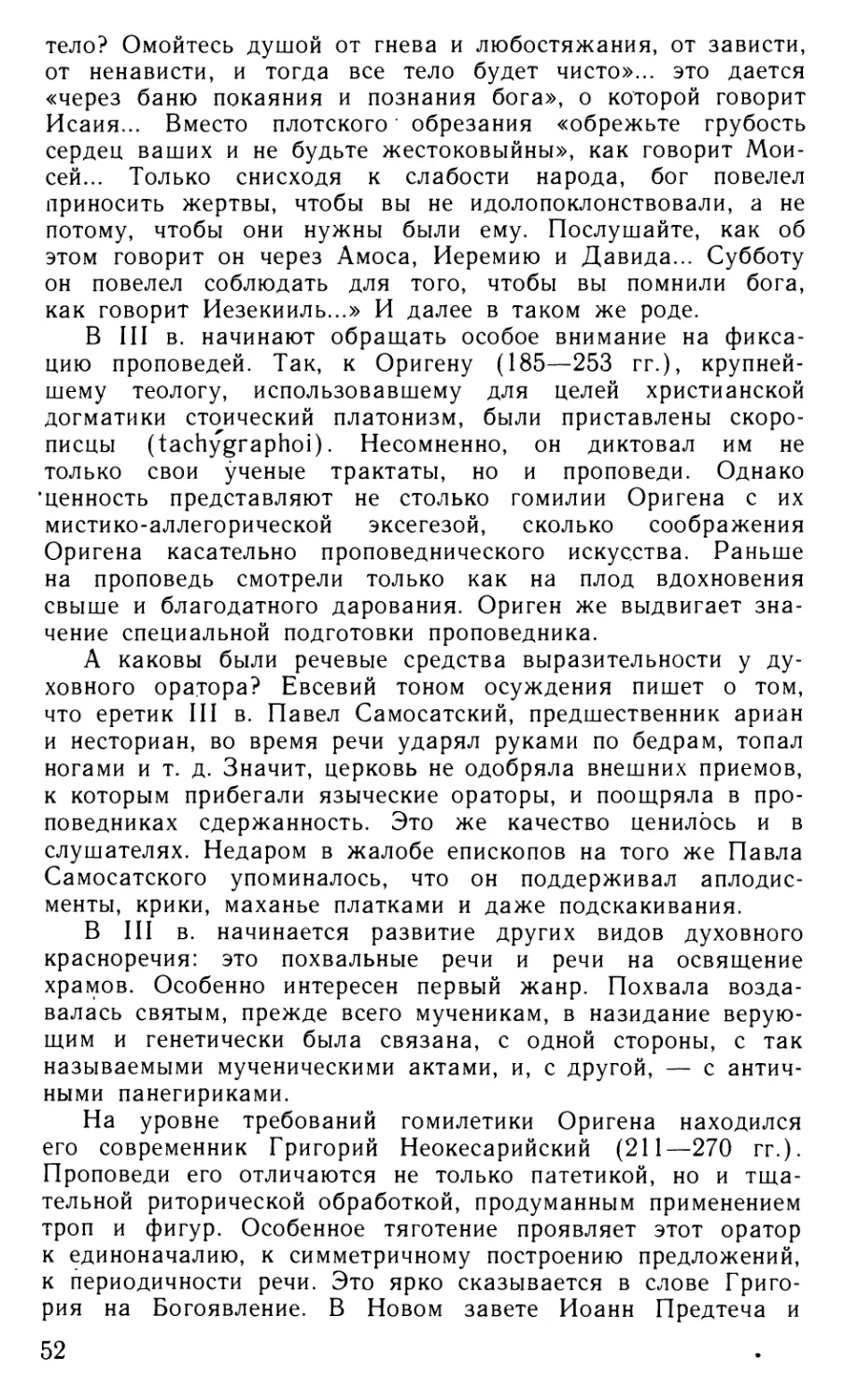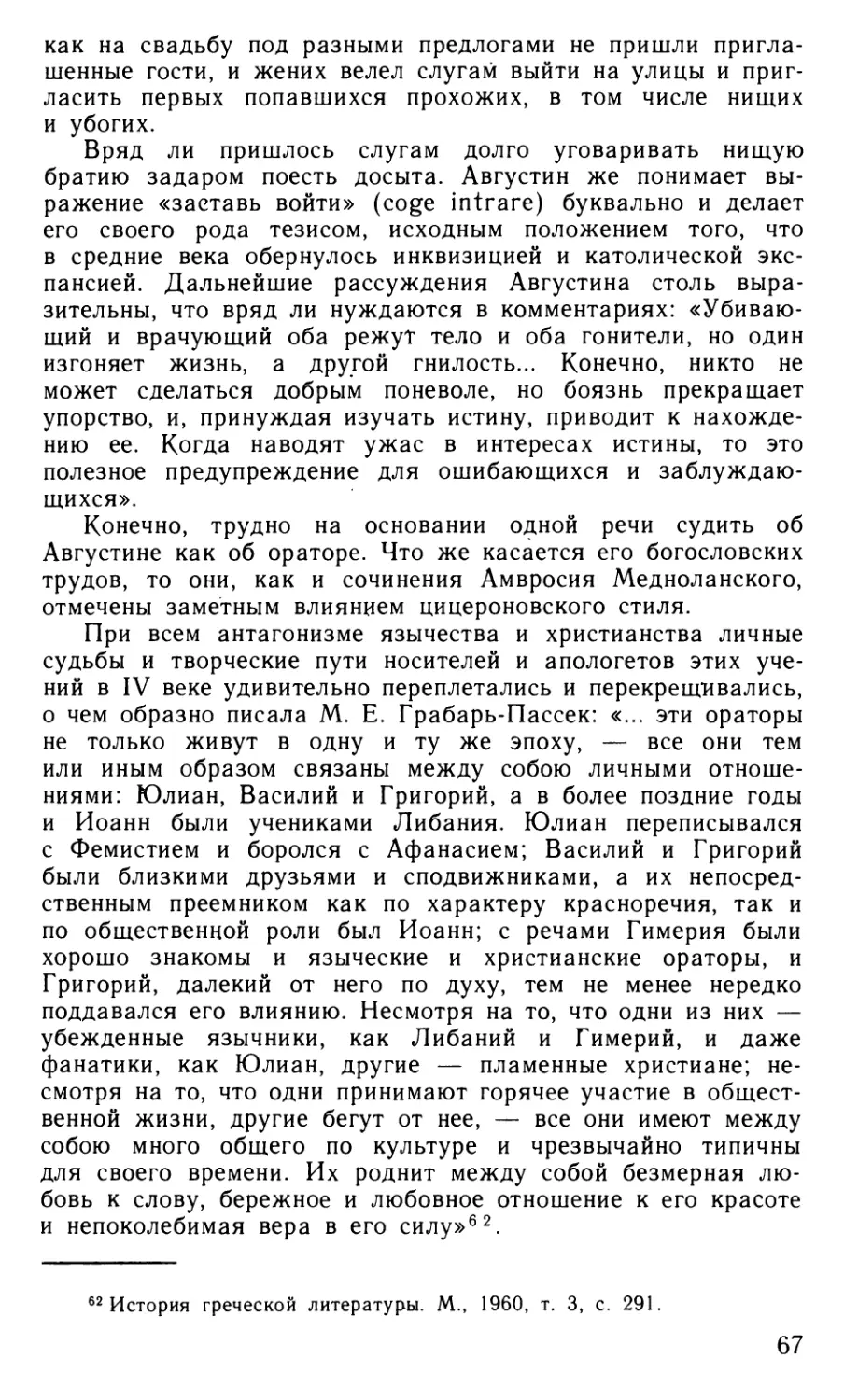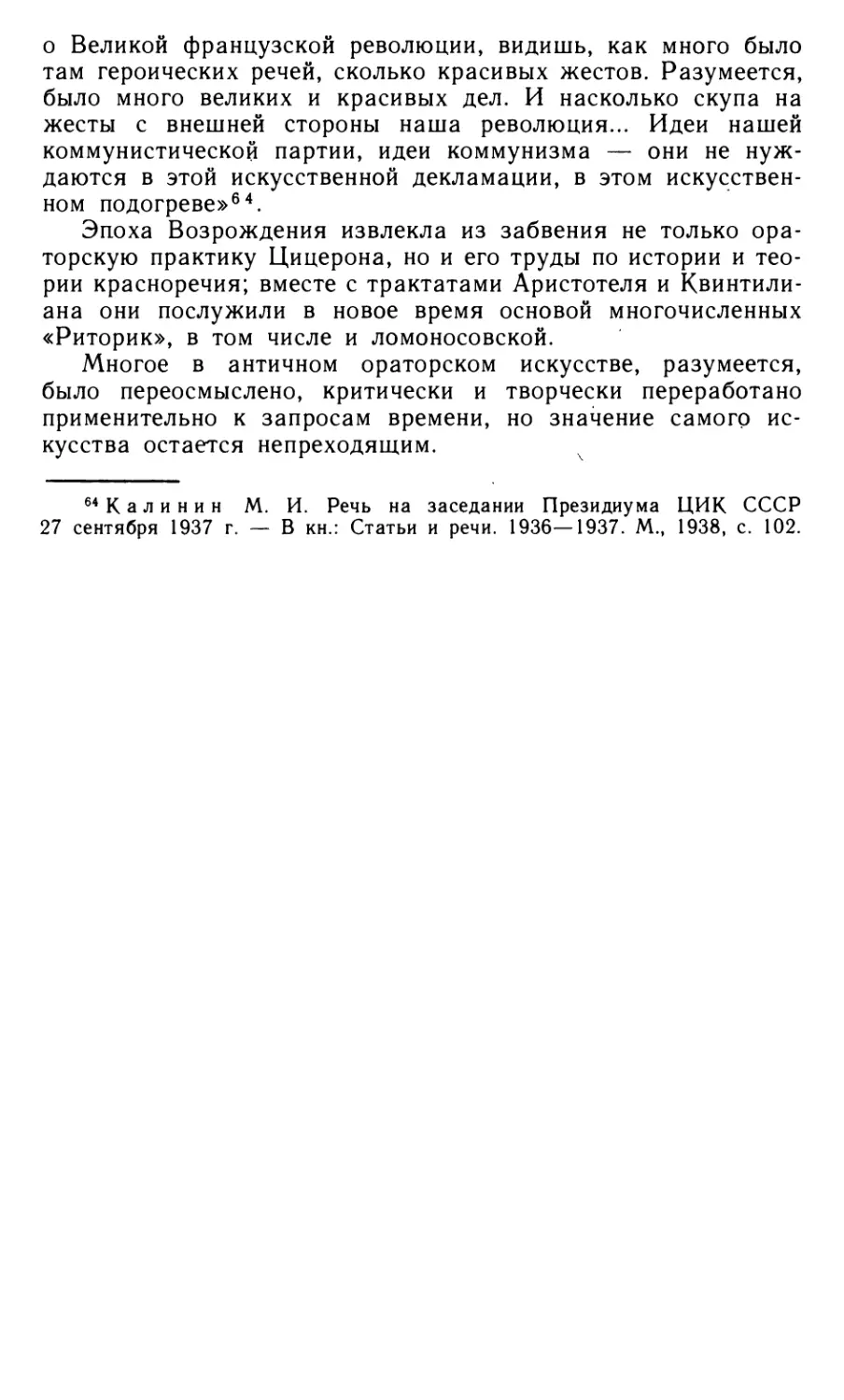Текст
МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СССР
А. Ч. КОЗАРЖЕВСКИЙ
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
ПО ЗАОЧНОМУ И ВЕЧЕРНЕМУ ОБУЧЕНИЮ
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА
АНТИЧНОЕ ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО
Пособие по спецкурсу для студентов филологических факультетов университетов
ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 1980
Рекомендовано кафедрой древних языков исторического факультета Московского университета
Рецензенты:
доц. кафедры классических языков МГПИИЯ им. Мориса Тореза 3. А. Покровская, доц. Кубанского университета И. Л. Духин
Козаржевский А. Ч.
Античное ораторское искусство. Пособие по спецкурсу. М., Изд-во Моск, ун-та, 1980. 71 с.
С; Издательство Московского университета, 1980 г.
ВВЕДЕНИЕ
Когда мы изучаем историю новой литературы, скажем, русской, нам и в голову не придет подвергать литературоведческому анализу речи знаменитого адвоката Плевако, лекции историка Ключевского, труды философа Владимира Соловьева, хотя мы знаем, что эти деятели обладали даром художественного видения мира и искусством слова, причем мы отдаем себе отчет в том, что сильное слово, впечатляющие образы служили не только прогрессу, но и реакции (возьмем, например, мистическое учение В. Соловьева).
Когда же мы знакомимся с античной литературой, то уделяем равное внимание и гомеровским поэмам, и лирике Алкея и Сапфо, и трагедиям Софокла, и философским трактатам и диалогам Платона, и речам Демосфена, и истории Фукидида. Это объясняется тем, что в античности сферы словесного искусства — собственно художественная литература, наука, политическое и судебное красноречие — не были отделены друг от друга.
Нечто подобное наблюдается и в литературе древней Руси и начала XVIII века: она включает в себя речи выдающихся светских и духовных ораторов, например, «Слово о законе и благодати» Иллариона Киевского или «Слово на погребение Петра Великого» Феофана Прокоповича.
Итак, литературный подход к античному ораторскому искусству вполне оправдан. Однако на пути к познанию красноречия древних греков и римлян, как и к освоению античной литературы вообще, нас подстерегают опасности.
Долгое время на античную культуру во всех ее проявлениях смотрели как на своего рода утраченный навеки идеал, надсоциальный и вневременной. Добролюбов в рецензии на перевод Дмитриевым Сатир Горация сетует на то, что «мы все еще не привыкли смотреть на них (древних.—А. К.) обыкновенными глазами, не подставляя увеличительного стекла»1. Уже в наше время прогрессивный французский ученый А. Боннар образно писал об идиллическом отношении к античности: «О Греция, искусств и разума Тэна и Ренана, розово-голубая
‘Добролюбов Н. А. Собр. соч., М., 1934, т. 1, с. 448.
Греция, Греция-конфетка, как ты вымазана землей, пахнешь потом и перепачкана кровью»2. Землю, пот и кровь важно почувствовать и разглядеть под красивым «плетением словес» в речах античных ораторов.
Другая опасность — впасть в бесстрастную регистрацию фактов и превратить историю античного ораторского искусства из закономерного процесса в механическую сумму характеристик наиболее известных и второстепенных носителей этого искусства.
Буржуазные ученые нередко впадают в модернизацию античности. Чтобы доказать «извечность» капиталистических отношений, они усматривали эти отношения в античном мире, и в силу этого Цицерон, например, превращался в своего рода буржуазного адвоката.
В нашем литературоведении некоторое время был распространен вульгарно-социологический подход к литературе прошлых эпох. Связь античной культуры с рабовладельческой основой понималась слишком прямолинейно и упрощенно, а писатели, в том числе и ораторы, рассматривались как простые рупоры господствующего класса.
Корень неправильных, извращенных представлений об античной культуре — антиисторизм. Всем, кто хочет постичь суть философии, литературы, искусства, красноречия античных обществ и государств, нужно руководствоваться ленинским указанием в «Философских тетрадях». Изучая Гегеля, В. И. Ленин писал: «Превосходно за строгую историчность в истории философии, чтобы не приписывать древним такого «развития» их идей, которое нам понятно, но на деле отсутствовало еще у древних»3.
Каково же значение античного ораторского-искусства для нашего времени?
Прежде всего, речи древних — важный исторический источник, из которого мы черпаем сведения — пусть в субъективной и эмоциональной окраске — об общественных и политических отношениях в Греции и Риме, о миропонимании, о бытовом укладе и т. д. Но к чистой познавательности всю ценность культурного наследия сводить нельзя.
Речи античных ораторов представляют для нас непреходящий интерес как литературный жанр, и очень важно уяснить типологию этого жанра, его структурное и стилевое своеобразие.
Нередко на античное красноречие смотрят примитивно, сводят его к риторическим приемам — употреблению троп и фигур. А поскольку так называемые «цветы красноречия» — отнюдь не основное в современном ораторском искусстве, то
2 Боннар А. Греческая цивилизация. М., 1958, т. 1, с. 21.
3 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 222.
к греческим и римским ораторам относятся со смешанным чувством почтения и иронии, весьма умозрительно представляя себе античные корни в современности и лишь по инерции называя речистых людей Цицеронами (причем не 'без оттенка насмешки).
Такое суждение предвзято и неосновательно, оно вызвано недостаточным знанием античной ораторской практики и теории.
Нам часто представляется, что комплексный подход к мастерству устной речи, понимание его как совокупности многих факторов: лингвистических, стилевых, логических, психологических, физиологических (имеется в виду техника речи), социологических и т. д. — это достояние нашего времени. На самом же деле, все эти стороны публичного выступления рассматривались, разумеется, на ином, чем теперь, уровне — уже в античности. Так, И. А. Зимняя совершенно справедливо замечает, что Цицерону «принадлежит заслуга определения основных коммуникативных (как мы это сейчас бы назвали) задач говорящего — «что сказать, где сказать и как сказать»4.
Каков же круг источников, по которым мы можем судить об античном красноречии?
К источникам следует отнести не только сохранившиеся в подлинном виде речи Лисия, Демосфена, Цицерона и т. д., но и вымышленные речи исторических лиц, вставленные в сочинения художественной прозы, например, надгробную речь Перикла, передаваемую Фукидидом, или диалоги Сократа в передаче Платона и Ксенофонта, выступления Цезаря в «Параллельных жизнеописаниях» Плутарха. Всем известны речи Цицерона против Катилины, особенно его первая речь с ее знаменитым зачином «До каких же пор, Катилина, ты будешь злоупотреблять нашим терпением?..» А как же реагировал на эту речь сам Катилина, в присутствии которого она была произнесена? Ответную речь мы находим в монографии Саллюстия «О заговоре Катилины».
Большую ценность представляют сведения древних о том, как творили мастера слова, как слушатели воспринимали их выступления.
До нас сохранились труды по риторике Аристотеля, Цицерона, Квинтилиана, Тацита и др. В них обобщен многовековой опыт античного красноречия и изложена теория ораторского искусства. Многое из древних исторических трудов было унаследовано теориями словесности эпохи средних веков, Возрождения и даже нового времени. И теперь всем, кому доводится выступать с публичным словом:
4 3 и м н я я И. А. Воздейственность выступления лектора. М., 1975, с. 3.
лекторам, учителям, пропагандистам, агитаторам, юристам и т. д., — знакомство, конечно, критическое, с теорией античного красноречия может принести ощутимую пользу.
Однако античная риторика не ограничивалась узкой сферой чисто ораторской деятельности и отнюдь не сводилась к сумме рекомендаций, годных на все случаи жизни. Риторика была органически связана с эстетикой, с пониманием того, что есть прекрасное в самых разных сферах проявления человеческого духа, а также с логикой доказательства.
Что касается хронологических рамок античного ораторского искусства, хотя бы приблизительных, то было бы неправомерно ограничиваться временем так. называемой классики. Вполне логично будет начать с речей гомеровских героев, наподобие того, как мы при знакомстве с древней русской литературой подвергаем анализу, скажем, «Золотое слово» Святослава в «Слове о полку Игореве».
Часто мы, как бы по инерции, недооцениваем значение поздней греко-римской литературы и в частности красноречия, считая, что оно находилось в глубоком упадке. Никто не отрицает того, что в эпоху римского владычества в древнем мире, когда далеко позади остался демократический строй, не было почвы для высокого гражданского пафоса демосфеновых и цицероновых речей. Но не стоит игнорировать других, положительных сторон позднего красноречия. Кроме того, нельзя ограничиваться искусством слова, связанным с античным политеизмом. На грани I и II вв. н. э. возникает христианство, несущее качественно новое не только в миропонимание и мораль, но и в характер речи. Как видно из новозаветной литературы, развивается жанр проповеди и «душеспасительных бесед»; жанр этот достигнет в IV в. н. э. своего высшего расцвета в проповеднической деятельности западных и восточных «отцов церкви», прежде чем выродиться в средневековую схоластику. Любопытно, что последний взлет так называемого «языческого» красноречия приходится тоже на IV в. н. э. и что творческие пути и судьбы ораторов двух противоположных лагерей переплетаются самым причудливым образом.
Каким материалом — переводами и исследованиями — располагает наш студент, если захочет серьезно познакомиться с античным красноречием? На русский язык переведена и прокомментирована только часть ораторского наследия: дошедшие до нас речи Лисия, избранные речи Демосфена и других аттических ораторов, Цицерона. Из поздних ораторов полностью представлен Либаний, другие — отрывочно в сборниках: «Памятники позднего ораторского и эпистолярного искусства» (М., 1964). «Поздняя греческая проза» (М., 1960); «Памятники византийской литературы IV— IX вв.» (М., 1968), «Памятники средневековой латинской
литературы IV—IX вв.» (М., 1970). Отдельные отрывки содержатся в хрестоматиях по античной литературе и истории древнего мира.
«Риторика» Аристотеля еще до 1917 г. переведена Н. Платоновой. Полностью этот перевод напечатан в сборнике под редакцией профессора А. А. Тахо-Годи «Античные риторики» (М., 1978); там же помещены осуществленные советскими филологами переводы риторических сочинений Дионисия Галикарнасского и Деметрия. Превосходно переведены цицероновские трактаты об ораторском искусстве. К сожалению, нет полного перевода Квинтилиана. Отдельные части его труда, равно как и других риторик, находятся в сборнике «Античные теории языка и стиля» (Л., 1936) и в сборнике «Об ораторском искусстве» (М., 1973).
Специального исследования античного ораторского искусства в целом в нашем литературоведении пока нет. В начале XX в. в России вышли в свет небольшие работы А. И. Покровского, Ф. Ф. Зелинского, С. П. Шестакова, Г. Ф. Шульца, Н. И. Барсова о древнем красноречии. В Ревеле в 1891 г. был издан перевод небезынтересной книжки Р. Фольк-мяна «Риторика греков и римлян». Все это представляет сейчас библиографическую редкость, да к тому же во многом устарело. Среди не переведенных на русский язык книг зарубежных ученых наибольший -интерес представляют монографии Э.Нордена, Ф. Бласса, О. Наварра, И. Добсона. Недавно вышедшая в свет книга Т. И. Кузнецовой и И. П. Стрельниковой (М., 1976) посвящена ораторскому искусству в древнем Риме, причем исследование доведено лишь до II в. н. э. Ценность, конечно, не всегда равную, представляют вступительные статьи и комментарии к русским переводам античных речей, а также соответствующие разделы в общих курсах античной литературы. Интересные сведения и обобщения можно найти в научной периодике и в некоторых диссертациях.
Подлинные тексты отдельных речей Демосфена и Цицерона издавались исключительно с учебными целями для дореволюционных гимназий и советских гуманитарных вузов.
ИСТОКИ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО КРАСНОРЕЧИЯ И ЕГО РАСЦВЕТ В V-IV вв. ДО Н. Э.
Об истоках ораторского искусства мы обычно судим по героическому эпосу. Герои скандинавской Эдды, ирландских саг, финской Калевалы, французской Песни о Роланде, немецкой песни о Нибелунгах, русских былин и «Слова о полку Игореве» не только отважны в бою, но и сильны в слове. То же можно сказать и о персонажах гомеровых поэм. Хотя теоретического осмысления красноречия и специальной подготовки в нем, конечно, еще не могло быть, стиль всякого рода словесных выступлений героев «Илиады» и «Одиссеи» уже индивидуализирован, он зависит и от психологического склада говорящего, и от принадлежности к определенному общественному слою, и от конкретных условий. Так, спартан-г сков немногословие, устремленность к сути дела отразились на речах Менелая:
«Царь Менелай всегда говорил, изъяснялся бегло,
Мало вещал, но разительно; не был Атрид многословен, Ни в речах околичен...»
(Илиада, III, 213—215. Пер. Н. Гнедича)
Иной манерой говорить отличался Одисеей:
«Но когда говорить восставал Одиссей многоумный, Тихо стоял и в землю смотрел, потупивши очи;
Скиптра в деснице своей ни назад ни вперед он не двигал, Но незыбно держал, человеку простому подобный.
Счел бы его ты разгневанным мужем или скудоумным.
Но когда издавал он голос могучий из персей, Речи, как снежная вьюга, из уст у него устремлялись!
Нет, ни единый бы смертный стязаться не смел с Одиссеем».
(Илиада, III, 216—223)
Психологическую рассчитанность и целенаправленность речей Одиссея тонко анализирует Н. Л. Сахарный. Он обнаруживает, например, такие структурные части обращения Одиссея к феакийской царевне Навсикае, оказавшей ему помощь после кораблекрушения (Одиссея, VI, 149—185):
а) подход: восхищение видом девушки;
б) завоевание расположения и доверия скромностью, воспитанностью;
в) завоевание сострадания сообщением об испытанных бедствиях;
г) обращение с просьбой;
д) пожелание девушке, угадывающее самую ее сокровенную мечту;
е) гномическое обобщение о счастье5 6.
Неукротимой страстностью, душевной прямотой, органической неспособностью на какие-либо компромиссы дышат речи Ахилла. Какими только бранными словами он не осыпает своего обидчика Агамемнона: это и трус, и мироед, и пьяница с глазами собаки и сердцем оленя. Такая эмоциональная насыщенность составляет полную противоположность логичности одиссеевых речей.
Гомеровские греки высоко ценили «дар витийства». С восхищением и прямо-таки с благоговением внимали они речам мудрого прорицателя Калханта и «сладкоречивого» пилосско-го царя Нестора, из уст которого лились слова слаще меда.
Развитие греческого ораторского искусства связано с расцветом афинской рабовладельческой демократии V—IV вв. до н. э. Эту связь осознал еще В. Г. Белинский. «Республиканская форма правления древних обществ, — писал он, — сделала красноречие самым важным и необходимым искусством»^. Действительно, дебаты в народном собрании, в совете пятисот, в суде присяжных, необходимость отстаивать свои взгляды и убеждать в своей правоте слушателей вознесли на невиданную дотоле высоту роль звучащего слова.
Свои способности, силу ума и чувств граждане эпохи Перикла проявляли прежде всего в общественной и политической жизни. Существовало понятие апег politik'6s, т. е. муж, участвующий в политике. Красноречие было одним из признаков этого понятия. Именно то обстоятельство, что человек того времени не был самодовлеющей личностью, что он принадлежал к той или иной партии, делало слово главным оружием борьбы.
Различные стороны жизни породили основные виды красноречия. Для политических институтов — народного собрания и совета — было важно «совещательное» красноречие, для суда — «судебное». Чтобы представить себе суд в древних Афинах, нам необходимо отвлечься от современного представления о судебной практике. Прежде всего, поражает количество судей на процессах — их было несколько сотен. Далее, обвиняемый должен был защищать себя сам, а поэтому юридическая доказуемость его самозащиты часто вытеснялась психологическим нажимом на судей, при том очень примитивным. Все средства были допустимы, лишь бы разжалобить и расположить к себе судей: можно было при
5 Сахарный Н. Л. Гомеровский эпос. М., 1976, с. 249—250.
6 Белинский В. Г. Поли. собр. соч. в 13-ти т. М., 1953—1959, т. 2, с. 506.
вести на суд плачущих детей, обнажить грудь и показать рубцы от нанесенных в войну ран и т. д. Недаром Дионисий Галикарнасский в статье «О Фукидиде» иронически замечает, что поскольку судьи одновременно являются и обвинителями, приходится проливать много слез и разражаться тысячью жалоб, дабы тебя благосклонно выслушали.
Но не только жизненная практика вызывала к жизни ораторское искусство. На сильное, выразительное слово смотрели и как на объект наслаждения. Услаждать слух и развлекать .было призвано «эпидиктическое» красноречие, т. е. торжественное. Это были речи на мифологические и исторические темы, рассуждения отвлеченного характера (например, раскрывалось понятие «доблесть»).
К сожалению, до нас не дошли в подлинном виде речи таких ораторов, как Перикл и Клеон. Приводимые Фукидидом выступления Перикла и в частности его надгробное слово при погребении воинов, павших в Пелопоннесской войне, по-видимому, точно уловили и передали настроения и взгляды демократических кругов, но не периклово красноречие как таковое. Однако в древнём мире Периклу сопутствовала слава замечательного оратора. Эта слава держалась не только среди его современников, но и у последующих поколений, о, чем можно судить по отдельным высказываниям Платона, Ксенофонта, Аристотеля, Плутарха. Вероятно, Перикл был оратором логического, а не эмоционального склада, и в этом отношении полную противоположность ему представлял вождь радикальной демократии начала IV в. до н. э. Клеон, о котором Плутарх, в биографии Никия пишет следующее: «Клеон перестал соблюдать всякие приличия на возвышении для оратора: он был первым, кто, говоря перед народом, стал вопить, скидывать с плеч плащ, бить себя по ляжкам, бегать во время речи»7.
Делались ли в древности попытки внести систему, правила в построение речи и ее отделку, иными словами, была ли в V в. наука красноречия? Традиция приписывает первые шаги в риторике не жителям Греции, а сицилийцам Кораку и Тисию. Эти два сиракузянина, учитель и ученик, открыли риторические школы и составили руководства по судебным речам. Впоследствии учебник старшего ритора получил признание во всей Греции, а младший переселился в Афины и стал преподавать там красноречие. Его примеру последовал и Горгий, выходец из другого сицилийского города — Леонтин.
Имена этих трех сицилийцев вводят нас в сферу рационалистического направления в греческой философии и риторике V в. до н. э. Для подготовки гражданина полиса
7 П л у т а р х. Сравнительные жизнеописания. М., 1964, т. 3, с. 219.
требовалась новая система образования и воспитания. Носителями этих новых форм явились софисты, странствующие учителя красноречия. Софистика, как известно, отказалась от абсолютизации традиций и законов, от наивного мифоло-гизма' и выдвинула учение о всеобщей относительности. Поскольку на смену незыблемым истинам, воспринимавшимся в былые времена как извечная данность, пришли субъективные, часто релятивистские построения, то их нужно было логически доказать и при этом воздействовать на человеческую психику. Поэтому главное место в софистической педагогике занимала теория убеждения. Убеждать — в зависимости от ситуации — приходится как монологической, так и диалогической речью, т. е. спором. Софисты обучали и тому и другому, в последнем случае они назывались «эристи-ками» (от erizomai — «спорю»). У софистов теория красноречия тесно переплеталась с практическими наставлениями в области политических и судебных речей, с одной стороны, и искусством спора — «эристикой», с другой.
Самое общее представление о пособиях Корака и Тисия можно составить по отзывам Платона и Аристотеля. По этому же пути приходится идти и в отношении Горгия. Наиболее знаменитая речь — «Олимпийская», в которой оратор призывал греков к единодушию в борьбе с варварами, до нас не дошла, а подлинность «Похвалы Елене» и «Апологии Паламеда», сомнительна, к тому же обе эти речи принадлежат к эпидиктическому красноречию и написаны на мифологическую тему, в данный момент нас мало интересующую. Античная традиция приписывает Горгию применение особых «фигур речи» (8сЬёша1а), так называемых «Горгиевых фигур». Суть их — в привнесении в ораторскую прозу чисто поэтических приемов. Так, Горгий применял антитезу (резко выраженное противопоставление понятий), оксюморон (сочетание противоположных по смыслу понятий), членение предложений на симметричные части, рифмованные концовки, аллитерацию (игру звуками), ассонансы (повторение в стихе сходных гласных звуков) и т. п.
Однако риторика проникала в Аттику и с той стороны, которая противоположна Сицилии, с Востока. Это Продик с Кеоса, Гиппий из Эллады и Протагор из Фракии. И об их ораторской практике, из-за отсутствия первоисточников, у нас-самое приблизительное понятие. Известно, например, что Протагор особенно ратовал за грамматическую правильность речи, за то, что в античности обозначалось термином «орфоэпия», ныне выражающим правильность произношения.
Ясно одно: восточные софисты оставили меньший след в развитии ораторского искусства, нежели софисты западные.
Кроме уже упомянутых и другие софисты сделали свой вклад в риторику. Так считается, что софист Фразимах раз
работал так называемый «период». Период — это значительное по своей протяженности сложноподчиненное предложение, включающее второстепенные предложения, которые в разных аспектах вскрывают смысл главного. Большую роль в периоде играет интонация, создающая напряженное ожидание конца высказывания, а также паузы, которые членят период на своего рода речевые такты, так называемые колоны. Такое членение соотносится с физиологией речи, поскольку определяется выдохом, на котором можно произнести определенное количество слов.
До сих пор мы говорили о разработке софистами речевой стороны ораторского искусства. Интересно проследить, как преломлялся в нем софистический подход к человеку и его поступкам. Особенно ярко это проявилось в судебном красноречии. Софисты, исходя из учета неизменности человеческой природы вообще, из относительности истин, делали акцент на психологической оправданности того, что человек совершает в определенной ситуации, стремились не к выяснению истины, а к правдоподобию. На почве таких тенденций возникла «этопея», искусство изображать не индивидуальные, а типические характеры и поступки, которые вполне вероятны и ожидаемы.
В то время как софисты строили расчеты на психологическом воздействии, их современник Сократ во главу угла ставил логическое доказательство. По его концепции, верная мысль рождает верное деяние. Как известно, Сократ сознательно не излагал своего учения в письменной форме. В «Федре» Платона Сократ прямо порицает письменный способ передачи мыслей: «В этом, Федр, дурная особенность письменности, поистине сходной с живописью: ее порождения стоят как живые, а спроси их — они величаво и гордо молчат. То же самое и с сочинениями: думаешь, будто они говорят, как разумные существа, но если кто спросит о чем-нибудь из того, что они говорят, желая это усвоить, они всегда отвечают одно и то же»8. С Сократом связано развитие диалога, принимающего форму то спокойной беседы, то напряженной полемики. Полемику же можно рассматривать как жанр ораторского искусства. Примечательно, что бытующие до сих пор термины «полемика», «полемист» в греческом языке соответственно значили «военное искусство», «воин». В самом деле, полемика — именно война, борьба взглядов. Однако в древней Греции, особенно во времена софистов и Сократа, отыскание истины путем спора именовалось «эристикой». Составными частями сократовской эристики были ирония и майевтика. Ирония выражалась в умении философа остроумной системой вопросов и ответов
8 П л а т о н. Соч. в 3-х т. М., 1970, т. 2, с. 217. Пер. А. Д. Егунова.
завести противника в логический тупик. Далее на смип^у иронии шла майевтика, что в переводе означает искусство повивальной бабки. Подобно тому, как повивальная бабка помогает родиться человеку, так и Сократ вопросно-ответным методом, беспощадной логикой и диалектикой способствовал рождению правильной мысли. Кстати, «диалектика» дрсловно означает «беседа».
ОРАТОРЫ КЛАССИЧЕСКОЙ ЭПОХИ
Однако основное направление античного ораторского искусства, естественно, монологическое. Мы располагаем довольно обширным наследием тех, кто был включен во II в. до н. э. в так называемый «канон десяти аттических ораторов». Отбор в этот канон был, по-видимому, довольно объективен, так как диктовался степенью известности и влиятельности того или иного оратора. Вызывает недоумение лишь то обстоятельство, что не оказался «канонизированным» Горгий. В канон входили: Антифонт, Андокид, Лисий, Исократ, Исей, Ликург, Демосфен, Гиперид, Динарх, Эсхин.
Очень различны эти ораторы и nd своей политической ориентации, и по характеру своего дарований, и по жанрам, в которых они себя наиболее полно проявили. Так, Лисий (ок. 459—380 гг.), подвизавшийся в области судебного красноречия, непосредственно сам выступил на суде лишь один раз — против одного из бывших олигархов Эратосфена, виновного в гибели брата оратора. В основном же Лисий был так называемым логографом: он составлял речи по заказу клиентов, которым предстояло выступать на судебных процессах. Сложные задачи стояли перед логографом: ему нужно было хорошо знать социальную среду, из которой вышел клиент, обстоятельства дела, вызвавшие тяжбу; быть тонким психологом, постичь темперамент и характер заказчика, его умственное развитие, уловить особенности его речи. Только учет всего этого приводил к тому, что сочиненная адвокатом речь звучала в устах выступавшего естественно. Нельзя было и обойти требование этопеи — воспроизвести тип гражданина, отстаивающего правое дело на суде. Кроме того, речь должна была увлечь и судей и присутствующих своей занимательностью и яркостью.
Огромную, чуть ли не доминирующую роль играет повествовательная часть, воссоздающая ситуацию. И хотя Лисий не принадлежал к софистам, но и он воспринял для обрисовки событий софические доводы правдоподобия (.eikos), природных склонностей (physis) и выгоды (sympheron). Повествовательная часть лисиевых речей важна прежде всего как исторический источник; перед нами встают сценки пов-3 Зак. 3736 13
седневной жизни афинянина, описания его жилища, пищи, утвари, проходит галерея лиц разных сословий. Лисий владеет искусством не только занимательного рассказа, но и литературного портрета.
Показательна в этом отношении речь XXIV — о том, что не дают пенсии инвалиду. В Афинах при ежегодной проверке законности выдачи пенсий на одного калеку был послан донос: якобы он не инвалид, может работать и не имеет права на государственное обеспечение. В этой речи удивительно рельефно выступает образ того, кому Лисий эту речь составил. Инвалид — человек бывалый, обладает жизненной сметкой, лукавством и грубоватым юмором.
Начинается речь с парадокса, явно рассчитанного на возбуждение интереса и снискание расположения со стороны судей: «Члены Совета! Я почти что благодарен своему противнику за то, что он возбудил против меня это дело. Раньше у меня не было повода дать отчет в своей жизни, а теперь благодаря ему я получил его»9.
Ответчик не пускается в отвлеченные рассуждения, а сразу берет «быка за рога» и с предельной конкретностью формулирует суть иска: «Противник мой утверждает, будто я не имею права получать пособие от государства, так как здоров физически и не принадлежу к числу «немощных», да и знаю такое ремесло, при котором могу жить без этого пособия. В доказательство моей физической силы он указывает на то, что я могу ездить верхом, а в доказательство обеспеченности моей от ремесла — на то, что я могу водить компанию с людьми, могущими позволить себе кое-какие траты». Поскольку мастерская инвалида находилась на рынке, и, естественно, в нее многие заглядывали не только ради дела, но и чтобы просто поболтать, он в аргументации делает упор именно на общеизвестность своей персоны: «Как велика моя обеспеченность от ремесла, да и вообще что за жизнь у меня, я думаю, вы все знаете...» Инвалид не упускает случая польстить судьям: «Вы пользовались прежде славой людей чрезвычайно сострадательных даже к тем, у кого нет никакого несчастия...» Следующие слова свидетельствуют о попытке воздействовать на психику не только судей, но и присутствующей публики, о стремлении создать атмосферу доброжелательности на суде. «Ведь в самом деле, члены Совета, была бы странная несообразность, если бы вышло так, что я получал это пособие в ту пору, когда недуг у меня был лишь один, но был бы лишен пособия теперь, когда прибавилась и старость и болезни с их тяжелыми последствиями...» При этих словах каждый мог поставить себя на место ответчика и подумать о том, что и его самого неумолимо ожидает старость и связанные с нею немощи.
9 Лисий' Речи. Пер. С. И. Соболевского. М., 1933, с. 341 и сл.
Противник утверждал, что инвалид ездит на лошадй из чванства. В своей контраргументации ответчик опять исходит из того, что общеизвестно и понятно само собой. На оседланном муле калеке было бы, конечно, спокойнее ездить... «Если бы у меня было состояние, — заявляет обвиняемый,— я ездил бы на муле, а не на чужой лошади, но так как я не могу его купить, то часто бываю вынужден брать чужую лошадь». И в дальнейших рассуждениях инвалид основывается на не каких-то юридических выкладках, а на требованиях здравого смысла: «Он называет меня дерзким, буйным, ужасным нахалом: точно думает, что если наговорит страшных слов, то скажет правду, а если станет употреблять вполне мягкие выражения, то этого не будет». К концу речи прибережено сведение довода противника к абсурду: «Если кто из Вас признает негодяями моих посетителей, то, очевидно, признает такими же и тех, кто бывает у других; а если этих, то и всех вообще афинян, потому что все вы имеете обычай заходить куда-нибудь и там проводить свободное время». Софистичность подобного доказательства очевидна, и вряд ли кто-либо мог принять его всерьез, зато оно вызывало смех и уменьшало серьезность обвинения.
Читая эту речь, мы живо представляем себе инвалида, как бы слышим интонации его голоса, видим его жесты, и нужно немалое усилие, чтобы не забывать, что обвиняемый говорит не свои слова, а то, что написано ему адвокатом: таково искусство Лисия в области этопеи.
Не только судебные ораторы вроде Лисия не выступали со своими речами: это относится и к крупнейшему представителю эпидиктического, т. е. торжественного красноречия, Исократу (436—338 гг. до н. э.). Слабость голоса вынудила Исократа навсегда отказаться от публичных выступлений. Деятельность его протекала в двух направлениях: в составлении и публикации политических речей, предназначенных таким образом не для произнесения, а для чтения, и в руководстве риторской школой. И в том и в другом сказалось воздействие его учителя Горгия. Открытая в 391 г. до н. э. в Афинах школа имела политическую направленность, поскольку целью риторического воспитания было научить искусству слова, столь необходимому в государственной жизни.
Что же за программа была у Исократа как публициста и педагога? Об этом он так заявляет в Панафинейской речи: «Когда я был моложе, я предпочитал не писать речей на мифологические темы, а также речей, наполненных чудесами и ложью, хотя многие восхищаются ими больше, чем посвященными их собственному спасению. Я не писал речей, повествующих о древних событиях и эллинских войнах, хотя мне известно, что их справедливо восхваляют. ... Оставив
без внимания сочинения такого рода, я стал писать речи, рассчитанные на то, чтобы подать совет, полезный нашему городу и всем остальным эллинам»10.
Как и Платон, Исократ рационалистическим путем пытался найти для полиса выход из кризиса. Выход он усматривал в объединении всех греков для похода против варваров, т. е. персов, и возврате к доброму старому времени — доперикловым Афинам. На кого только не делал ставку Исократ в стремлении осуществить свою идею. В конце концов он усмотрел в Филиппе Македонском подходящего гегемона панэллинского похода и в одной из своих последних речей даже обратился с непосредственным призывом к тому, кого афиняне считали варваром, угрожающим их свободе и независимости.
Под именем Исократа до нас дошла 21 речь, из которых по крайней мере две признаются исследователями неподлинными. Наиболее известны его «Панегирик», «Ареопагатик», «Филипп», а также энкомий — похвальное слово кипрскому царю Эвагору. Последняя речь имеет особое значение, т. к. выработанная Исократом структура идеализированной биографии послужила основой для развития жанра энкомия в последующей литературе. «Эвагор» составлен приблизительно в 365 г. до н. э., когда царя уже давно не было в живых, так что сочинение представляет собой не непосредственное обращение с похвалой к кипрскому владыке, а описание жизни, достойной подражания, в чем, между прочим, сказалась педагогическая направленность исократовой деятельности в целом. Речь построена по схеме, которая стала распространенной в произведениях такого рода. Сначала говорится о предках героя, далее о его детстве и юности, о его рядовых делах и подвигах, словом, прослеживается жизнь героя от рождения до смерти, причем автор допускает некоторую односторонность и даже подтасовку в освещении событий: замалчиваются неудачи Эвагора в войне с персами; Исократ пишет о благостной старости Эвагора, в то время как известно, что царь умер насильственной смертью. Заключение речи — настоящий апофеоз: «И если некоторые поэты допускают преувеличения, говоря о каком-либо из прошлых героев, что он был «богом среди людей», или «смертным божеством», то, право, все эти эпитеты самым чудесным образом подошли бы для характеристики натуры Эвагора»11.
Безудержные восхваления кипрского владыки невольно заставляют вспомнить произведения современника Исокра
10 И с о к р а т. Речи. Пер. И. А. Шишовой. — Вестник Древней Истории, 1967, № 3, с. 178.
11 Исократ. Пер. Э. Д. Фролова. — Вестник Древней Истории, 1966, № 4, с. 246.
та — Ксенофонта, его «Анабасис», «Киропедию» и «Агеси-лая». Между прочим, Эвагор сравнивается и с Киром Старшим и Киром Младшим.
В основе характеристики исократова персонажа лежат антиномии доброго и злого, точнее положительного и отрицательного начал. Идеальный герой неизменно уклоняется от зла и творит благо: «Он делал множество уступок близким людям, но никогда не выказывал снисхождения к врагам... Он гордился не тем, что удавалось сделать благодаря счастливой случайностй, а тем, что бывало достигнуто собственными усилиями... Он внушал страх не свирепостью наказания, а превосходством своей натуры. Он сам управлял своими страстями, а не они вели его на поводу за собой»12.
На этой речи особенно плодотворно проследить периодичность, характернейшую черту стиля исократовой прозы. Вот образец периода (причинного по типу) — с вступлением, с подчинением отдельных членов единому целому: «От каждой политической реформы он (Эвагор. — А. К.) брал самое лучшее; он обладал качествами народного вождя, потому что окружал заботою народ; государственного деятеля — потому что справлялся с управлением целого государства; отличного полководца — потому что сохранял благоразумие перед лицом опасности; наконец, умудренного повелителя, потому что всем этим отличался от других»13.
Цицерон в трактате «Оратор»14 с восхищением говорит еще об одной особенности исократовских речей — их ритмическом членении, связанном с периодичностью. В то время как в зарубежных исследованиях подчас произвольно расчленяют периоды и налагают на них метрические схемы, советские филологи рассматривают ритм в его связи с речевым своеобразием: «Основу для применения ритма составляют структурные особенности речевого периода, такие как: 1) парность или же соединение трех или четырех синтаксически однородных компонентов периода; 2) их синтаксический параллелизм; 3) равенство этих компонентов по величине (фигура парисон); 4) сходство окончаний (гомеотеле-втон)»15. Высоко ценилось в древности умение избежать так называемого зияния, т. е. накопления гласных на стыке двух слов.
Гладкость, плавность стиля изложения, изощренная рито
12 Т а м же, с. 242.
13 И с о к р а т. Пер. Э. Д. Фролова. — Вестник Древней Истории, 1966, № 4, с. 246.
14 Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. М., 1972, с. 369.
15 Л а п и н а М. С. Периодическая речь как способ построения контекста и ораторский прием в творчестве Исократа. Автореф. канд. дис. Киев, 1963, с. 18—19.
ричность — все это в конце концов результат ориентации скорее на читателя, чем на слушателя. И это, между прочим, понимал сам Исократ. Так, в его «Филиппе» мы читаем: «Мне хорошо известно, насколько речи произносимые отличаются по убедительности от речей, предназначенных для чтения»16. Понятно поэтому, что Исократ оказал воздействие не столько на ораторов, сколько на риторическую историографию поздней античности. Эпидиктическое красноречие Исократа содержит в себе ростки того, что расцвело в эпоху эллинизма.
Полной противоположностью Исократу был Демосфен (384—322 гг. до н. э.).
В то время как Исократ в своих политических планах делал ставку на Филиппа Македонского, Демосфен практически возглавил антимакедонские силы Эллады. Филипп для него — не спаситель, а враг его родины и ее демократического строя. Против македонского царя оратор за десять лет (с 351 по 341 гг. до н. э.) составил восемь речей, так называемых «Филиппик»: первую, вторую и третью речи против Филиппа, три олинфские речи, речи о мире и о делах в Херсонесе. Это — приблизительно пятая часть того наследия, в подлинности которого новейшая критика не сомневается.
Если речи Исократа имели хождение как литературные произведения или были объектом декламации в ограниченном кругу слушателей, то речи Демосфена рассчитаны на огромное скопление народа и касались вопросов, которые волновали каждого афинянина. Задача Демосфена — во что бы то ни стало убедить слушателей, заразить их своими идеями. Для этого нужна была техника речи, над чем Исократу задумываться не приходилось. Природа плохо позаботилась о будущем ораторе: у него был слабый голос, плохая дикция, дурная привычка подергивать плечом; все это привело к провалу его первого выступления: избалованные изощренным красноречием слушатели не могли простить оратору профессиональной несостоятельности. Античное предание говорит о том, как упорно, прямо-таки героически преодолевал Демосфен свои природные недостатки: декламировал на берегу моря, стараясь голосом покрыть шум волн; при декламации клал в рот гальку, чтобы добиться предельной подвижности артикулирующих органов и этим обеспечить хорошую дикцию; над плечом вешал обнаженный меч, который колол тело, когда оратор двигал плечом, и т. д.
Ориентированность на массовую аудиторию сказалась и на структуре демосфеновых речей: в них нет длинных
16 Исократ. Речи. Пер. В. Г. Боруховича. — Вестник Древней Истории, 1966, № 1, с. 157.
вступлений, расхолаживающих слушателей; оратор быстро переходит к сути дела, зато Исократ мог позволить растянутые введения.
Исократовым речам присуща плавность, неторопливость. Демосфеновы речи отмечены предельной напряженностью и динамикой. На вооружение оратор-трибун берет все риторические средства выражения, все так называемые «цветы красноречия», что не исключает использования оборотов живой разговорной речи. Сочетанием высокого и низкогб стиля в языке, а также построением интересна речь «За Ктесифонта о венке». Эта речь — последняя из дошедших до нас и представляет собой своего рода итог творческого пути, пройденного оратором. Произнесена она в 330 г. до н. э. в весьма драматической обстановке. Дело в том, что за семь лет до этого Демосфен выступил инициатором усовершенствования городских укреплений и вложил в это дело немало личных средств. Некто Ктесифонт внес в Совет пятисот предложение наградить Демосфена золотым венком, однако из-за протеста македонской партии награждение было отложено. Когда Александр Македонский одержал победу над Грецией, македонская партия подняла голову и начала процесс против Ктесифонта. По существу этот процесс был направлен против самого Демосфена и явился своего рода единоборством оратора с вождем македонской партии Эсхином, державшим обвинительную речь «Против Ктесифонта». Демосфену было нелегко защищаться: чисто юридическая правота была на стороне противника, ибо по закону нельзя было награждать венком лицо, не отчитавшееся в своей деятельности, а это как раз и случилось с Демосфеном. Поэтому оратор переключает внимание слушателей с основного пункта обвинения на свою патриотическую деятельность и на предательскую роль Эсхина, т. е. по существу подменяет тезис, выставленный противником. Своеобразна рамка речи: оратор начинает с молитвы богам и молитвой же кончает.
В этой речи приведен в действие весь арсенал риторических приемов. Здесь и вопрошания, не предполагающие ответа и являющиеся по сути дела утверждением: «да разве не в праве был бы всякий убить меня, если бы я хоть только на словах попробовал подарить какое-нибудь из прекрасных свойств нашего государства»17. Здесь и великолепная градация — нарастание эмоционально-смысловой значимости: «Я не только заявил это, но и написал свое предложение, не только написал, но и отправился послом, не только отправился послом, но и убедил фиванцев...». Впечатляет антитеза — резкое противопоставление: «Ты учил грамоте, я ходил в школу. Ты посвящал в таинства, я посвящался.
|7Демосфен. Речи. Пер. С. И. Радцига. М., 1954.
Ты секретарствовал, я заседал в народном собрании. Ты был протагонистом, я был зрителем. Ты проваливался, я свистал. Ты во всех политических делах работал на врагов, я — на благо родины». Контрастность сказывается и в отборе лексики: в патетических местах — торжественные слова: «ликовать», «дивиться» и т. п., при нападках на Эсхина — нарочито сниженные, даже грубые выражения: «горланить», «орать» и т. п.
Не нужно думать, что в ораторских приемах Демосфена и Исократа нет ничего общего, что младший всецело отказался использовать опыт старшего. И демосфеновым речам присуща периодичность, однако она не так округла и холодно изыскана, как в речах Исократа, и сочетается с энергичной краткостью построения фраз. Было бы преувеличением утверждать, что Демосфен превращает фразу в стихи, однако элемент ритмичности в языке Демосфена присутствует. Правда; выделить определенные стихотворные размеры не представляется возможным. Замечено тяготение Демосфена к так называемым клаузулам, ритмическим окончаниям периодов; эти клаузулы состояли из сочетаний спондея (--------)
с хореем (—<j) или кретиком (——).
О произносительной манере Демосфена нам судить, конечно, трудно. Обратимся к античным свидетельствам. Плутарх пишет: «... если верить Эратосфену, Деметрию Фалер-скому и комическим поэтам, живое его слово отличалось большей дерзостью и отвагой, нежели написанное. Эратосфен утверждает, что часто во время речи Демосфена охватывало как бы вакхическое неистовство»18. Эсхин, конечно, не без тенденциозности говорит о манере Демосфена метаться на трибуне, кричать пронзительным голосом и даже лить слезы. Цицерон в своем «Ораторе» делает гипотетическое заключение об исполнительском искусстве Демосфена на основании тонкого стилистического анализа его речи: «начав униженно, в рассуждениях о законах стал говорить все более веско, постепенно воспламеняя судей, а когда увидел, что они уже разделяют его пыл, то в остальной речи смело несся во весь опор»19. В анонимном трактате «О возвышенном» читаем: «Нашего оратора с его умением все воспламенять и сокрушать своей силой, быстротой, мощью и властью, можно сравнить с вихрем или молнией»20. От Дионисия Галикарнасского в серии «О старинных ораторах» сохранился интересный очерк под выразительным заголовком «Об удивительной силе красноречия Демосфена». Здесь делается попытка представить себе, какое впечатление производили речи Демосфена на его
18 Плутарх. Сравнительные жизнеописания. М., 1963, т. 3, с. 145.
19 Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. М., 1972, с. 335. Пер. М. Л. Гаспарова.
20 О возвышенном. М.—Л., 1966, с. 28. Пер. Н. А. Чистяковой.
современников: «Если нас, отделенных от него (Демосфена.— А. К.) таким огромным пространством времени и не имеющих никакого отношения к тогдашним событиям, он так увлекает, так властвует над нами, а мы идем, куда нас ведет его речь, то какое впечатление он должен был тогда производить на афинян и прочих эллинов во время подлинных состязаний, касавшихся их лично, когда он сам произносил свои речи с тем достоинством, которым обладал, высказывая свои чувства и уверенность души»21.
Демосфен заключает собой классический период греческого красноречия, период, органически связанный с демократическим строем и политической независимостью Эллады.
РИТОРИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ АРИСТОТЕЛЯ
Достижения греческого ораторского искусства были проанализированы, обобщены, теоретически обоснованы и возведены в правила самой универсальной головой22, по выражению Ф. Энгельса, Аристотелем (384—322 гг.), жившим в то же время, что и Демосфен. Это он осуществил в «Риторике».
Были ли у Аристотеля предшественники в этой области? Как говорилось выше, первое риторическое пособие было составлено, по-вйдимому, сицилийцами Кораком и Тисием. Несомненно, в софистических кружках, где особую роль играли Горгий и Фрасимах, должны были составляться какие-то руководства по риторике. Но они до нас не дошли. Не сохранился также исократов учебник, на который ссылаются и который цитируют древние авторы. Под именем Аристотеля сохранилось практическое учебное пособие «Риторика к Александру». В XIX веке филологи, начиная с Л. Шпенгеля, приписывали ее Анаксимену Лампсакскому и датировали ее приблизительно 340 г. до н. э. Однако В. Бухгайт в 1960 г. подверг сомнению авторство Анаксимена. «Риторика к Александру» носит предельно утилитарный характер. Платон страстно выступал в «Горгии» и «Федре» против традиционной софистической риторики с ее субъективизмом и релятивизмом, с культом слова как такового, с лозунгом «правдоподобия» и «вероятности», и считал, что в основе ораторского искусства должно лежать знание человеческой души, т. е. психология и диалектика, иными словами, логика. * Платон образно сравнивал речь с живым организмом: «Всякая
21 История греческой литературы. Нод ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. Пер. С. И. Соболевского. М., 1955, т. 2, с. 289.
22 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 20, с. 19.
речь, — говорит платоновский Сократ должна быть составлена, словно живое существо, — у нее должно быть тело с головой и ногами, причем туловище и конечности должны подходить друг к другу и соответствовать целому»23. Не менее выразительно и главное поучительно для оратора любого времени, рассуждает Сократ об учете психологических факторов и ситуации: «Поскольку сила речи заключается в воздействии на душу, тому, кто собирается стать оратором, необходимо знать, сколько видов имеет душа... Таких-то слушателей по такой-то причине легко убедить в том-то и том-то такими-то речами, а такие-то потому-то и потому-то с трудом поддаются убеждению. ... он должен учесть время, когда ему удобнее говорить, а когда и воздержаться: все изученные им виды речей — сжатую речь, или жалостливую, или же зажигательную — ему следует применять вовремя и кстати»24.
В науке совершенно справедливо подчеркивается конструктивность и жизнеспособность платоновских построений в теории ораторского искусства: «Мысли Платона о необходимости соединения риторики с методом логических членений и определений и о необходимости исследовать природу слушателя были восприняты Аристотелем и преломились в его «Риторике»2 5.
Риторическое у Аристотеля неразрывно связано с поэтическим, поэтому его трактаты «Поэтика» и «Риторика» представляют собой нечто единое. «Риторика» Аристотеля далека от 'эмпиризма, это — не эмпирический свод приемов выразительности речи, а философское исследование проблемы прекрасного и принципов достижения его в искусстве слова, причем это искусство, в философском понимании, — не самоцель, а средство познания. Вместе с тем раздаются голоса, предостерегающие от распространенного преувеличения при трактовке риторической эстетики Аристотеля — сведения всего к анализу абсолютного достоверного. А. Ф. Лосев обращает внимание на то, что, как видно уже из композиции трактата Аристотеля, «риторика определяется как искусство убеждать, то есть как использование возможного и вероятного в тех случаях, когда абсолютная достоверность оказывается недоступной»26.
Композиция аристотелева трактата отличается удивительной стройностью. В первой книге рассматривается место
23 Платон. Соч. в 3-х т. М., 1970, т. 2, с. 203.
2 4 Т а м ж е, с. 212.
25Миллёр Т. А. К истории литературной критики в классической Греции в V—IV вв. до н. э. — В кн.: Древнегреческая литературная критика. М., 1975, с. 113.
26Лосев А. Ф.‘История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М., 1975, с. 529.
риторики среди других наук, обозреваются три вида речей: совещательные, эпидиктические, судебные; вторая книга трактует о страстях, нравах и общих способах доказательства; особый интерес представляет третья книга, посвященная проблемам стиля и построения речи.
Поскольку Аристотель в своих критериях исходит от нормативности, он постоянно подкрепляет свои рассуждения ссылками на классиков, причем не только на ораторов, но и на гомеровский эпос, трагиков. Примечательно, что воспитатель Александра Македонского ни разу не ссылается на заклятого врага македонцев Демосфена. Особенно интересна современному читателю третья часть «Риторики», посвященная, как сказано, слогу речи: «ведь недостаточно знать, что следует сказать, но необходимо также сказать это, как должно, и это немало помогает речи произвести должное впечатление»27. Удивительно современно звучат многие мысли философа, например его требование ясности: «Достоинство стиля заключается в ясности; доказательством этого служит то, что, раз речь не ясна, она не достигнет своей цели»28.
Риторическая обработка не выставляется как абсолютная ценность, как самоцель. Оказывается, изощренность далеко не всегда уместна: «стиль речи, произносимой в народном собрании, во всех отношениях похож на скиаграфию (рисунок, создающий при помощи тени иллюзии пространства.— А. К.), ибо чем больше толпа, тем отдаленнее перспектива, поэтому-то и там, и здесь, все точное кажется неуместным и. производит худшее впечатление»29. «Не следует, — пишет Аристотель, — пространно рассказывать, так же как не следует делать пространные предисловия и приводить пространные доказательства. В этом случае «хорошо» заключается не в быстроте или сжатости, а в надлежащей мере; последнее же состоит в том, чтобы сказать все то, что уясняет дело»30.
Два конгениальных политических антипода, один практик, другой теоретик ораторского искусства — Демосфен и Аристотель — завершают этап расцвета греческого красноречия, расцвета, органически связанного с демократическим строем и государственной независимостью.
27 Античные риторики. Под ред. А. А. Тахо-Годи. М., 1978, с. 127. Пер. Н. Платоновой.
28 Та м ж е, с. 129.
29 Та м ж е, с. 150.
30 Античные риторики. Под ред. А. А. Тахо-Годи. с. 157.
ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО ЭПОХИ ЭЛЛИНИЗМА
Падение полисного строя и утрата Грецией самостоятельности привели к уменьшению роли ораторского искусства. Из речей уходит высокий гражданский пафос, и причина этого — не только в степени темпераментности и даровитости ораторов (эпоха эллинизма и первые века римского владычества не выдвинули выдающихся греческих ораторов), а в слабом накале общественной борьбы.
Вместе с тем, в красноречии наблюдаются качественно новые процессы, вызванные особыми историческими условиями. Эллинизм характеризуется не только распространением эллинской культуры на Восток (Малую Азию и острова Архипелага), но и воздействием местных восточных культур на античную. На этой почве возникает не только В ораторском искусстве, но и в литературе и историографии так называемый азйанский стиль. На смену периодичности идет тяготение к рубленым фразам, к звуковым эффектам, к непривычному порядку членов предложения в угоду ритмичности и напевности, к манерной игре словами. В цветистости и напыщенности люди позднеантичной эпохи усматривали силу речи.
Однако среди ораторов и писателей было немало так называемых аттикистов, которые ориентировались на классических авторов, прежде всего на Демосфена, Исократа, Фукидида. Аттикизм при всей серьезности нес в себе консервативное начало: идеализацию прошлого, непонимание необратимости смены староаттического диалекта ‘общегреческим диалектом койнэ. Развитие философии в эллинистическую эпоху, пристальное внимание грамматистов и писателей к проблемам языка и речи вызвали полемику по важному для ораторской практики вопросу: чем определяется норма литературного языка — «аналогией», т. е. правилами, вносящими единообразие, или «аномалией», т. е. обычаями, присущими живой речи. Во главе аналогистов стоял Аристарх Самофракийский, вождем аномалистов выступил философ-натуралист Кратет. Оба они жили на грани двух веков — III и II до н. э. — и были деятелями соперничавших школ: александрийской и пергамской.
Кодифицированные нормы в области произношения, грамматики, словоупотребления и отклонение от норм — проблема очень злободневная и в наше время, при развитии массовых средств коммуникации, основанной на устной речи. В эллинистическую же эпоху, при упадке общественного интереса к красноречию, споры вокруг языковой нормы были ограничены узким кругом ученых филологов и не выплескивались за его пределы,.
Искусство слова из общественно-политической сферы перекочевывает в школу, становится одной из частей античного образования, превращается в школьные декламации, темы которых были далеки от реальной жизни,, носили характер нарочитости и даже абсурдности. Так, с полной серьезностью учащиеся ставили себя на место какого-либо мифологического героя и составляли речь, которую он произнес бы в определенной ситуации.
РИМСКОЕ ДОЦИЦЕРОНОВО КРАСНОРЕЧИЕ
В III в. до н. э., когда\в Греции переживала расцвет александрийская поэзия, бытовая комедия, складывался жанр любовного и приключенческого романа, а ораторское искусство было в глубоком упадке, когда великие ораторы — Лисий, Исократ, Демосфен — были уже достоянием прошлого, начинает развиваться красноречие в Риме. И хотя недопустимо объяснять своеобразие римской культуры, исходя только из «практического духа» римлян, все же нельзя отрицать того, что римское ораторское искусство было связано прежде всего с практическими сторонами жизни, закрепленными в частном и государственном праве, с теми проблемами, которые выдвигала общественная и политическая борьба в республиканском Риме. И сами ораторы, и теоретики ораторского искусства чуждались отвлеченного философствования и морализирования, упоения красотой звучащего слова как такового.
Первая и самая яркая фигура в римском красноречии — несомненно Цицерон. Однако при асем величии и своеобразии его искусство явилось в известной мере итогом в развитии ораторского искусства. Из риторических трактатов Цицерона мы черпаем сведения о доцицероновском красноречии, поскольку от ранних ораторов не сохранилось ни одной целой речи, а дошли лишь фрагменты, цитируемые авторами более позднего времени. Что же касается речей, которые произносят ораторы в биографических и исторических трудах Светония, Аппиана, Ливия, Плутарха, то отделить в них подлинное от вымышленного крайне трудно.
По традиции первым римским прозаиком и оратором считается цензор, а впоследствии консул Аппий Клавдий Цек (Слепой), прославившийся своей речью против перемирия римлян с эпирским царем Пирром. Эта речь, произнесенная в конце 70-х гг. III в. до н. э., упоминается и цитируется Плутархом. Однако действительное начало ораторскому искусству было положено уже в следующем, И веке, когда развитие культуры во многом определялось борьбой эллинофилов во главе со Сципионами с противниками греческого
влияния, которых возглавил государственный деятель и полководец Марк Порций Катон. Эпиграфом к речам самого Катона можно было бы предпослать его же собственные слова, обращенные к одному из юных ораторов: «Придерживайся сути дела, слова найдутся» (rem tene, verba sequen-tur), ибо главное в речах Катона не ораторские изыски и ухищрения, а предельная содержательность, серьезность. Это не означало, что оратор чуждался «цветов красноречия», однако эти приемы были не самоцелью, а средством возможно глубже проникнуть в существо вопроса.
В свое время М. Е. Грабарь-Пассек предостерегала от механического связывания риторически-литературного направления с определенной политической линией. «Так, — писала она, — ярый националист Катон хорошо говорил по-гречески и в известной мере признавал необходимость выучки у греков; а в эллинофильском кружке Сципионов подшучивали над грекоманией «золотой» римской молодежи». «Но тем не менее, — продолжает М. Е. Грабарь-Пассек, — и эти, как будто чисто литературные столкновения имели свои корни в сложных политических отношениях этого времени и были тесно связаны с общественной жизнью, бытом и нравами римлян»31. Катона и Сципиона ораторами сделала их государственная деятельность. То же нужно сказать и о деятелях демократического движения братьях Гракхах. Их ораторский дар признает даже Цицерон, для которого была неприемлема политическая позиция «мятежников». Интересную сравнительную характеристику Г ракхов-ораторов читаем мы у Плутарха: «Выражение лица, взгляд и жесты у Тиберия были мягче, сдержаннее, у Гая — резче и горячее, так что и выступая с речами, Тиберий скромно стоял на месте, а Гай первым среди римлян стал во время речи расхаживать и срывать с плеча тогу... Гай говорил грозно, страстно и зажигательно, а речь Тиберия радовала слух и легко вызывала сострадание. Слог у Тиберия был чистый и старательно отделанный, а у Гая — захватывающий и пышный»32. Примером патетического стиля Гая Гракха может служить приводимая Цицероном в трактате «Об ораторе» речь Гая после убийства его брата сенаторами на Капитолии: «Где искать мне, несчастному, убежище? Куда мне обратиться? На Капитолий? Но он обагрен кровью брата. Домой? Чтобы видеть несчастную мать, рыдающую и покинутую?» Вероятно, кто-то из присутствовавших при этой речи Делился с Цицероном своими впечатлениями. Во всяком случае, именно этим можно объяснить сопровождаю
31 История римской литературы. М, 1959, т. 1, с. 164.
32 П л у т d р х. Сравнительные жизнеописания. Пер. С. П. Маркиша. М., 1964, т. 3, с. 112.
щие цитату слова: «Его взоры, голос были при этом таковы, что враги не могли удержаться от слез»33.
Эту же цитату из речи Гая Гракха с незначительными изменениями приводит Квинтилиан в «Образовании оратора».
На рубеже двух веков: II и I до н.. э. — предельно обострившаяся политическая борьба стала по существу гражданской войной. Понятно, как возросла роль слова в это время. Носителями страстного политического красноречия были непосредственные предшественники, а также современники Цицерона. Но сведения о них, как и о более ранних ораторах, приходится брать из вторых рук и судить о них не по подлинным речам, а по их пересказам, вольным реконструкциям и описаниям того же Цицерона. Это прежде всего дед триумвира Антоний, а также Лициний Красс, Гортензий.
Судя по трактатам Цицерона «Об ораторе» и «Брут», речи Антония наиболее полно воплощали принцип римского судебного красноречия о допустимости всех средств для достижения цели. Антоний, как никто другой, обладал способностью мгновенно оценить обстановку и, обладая даром импровизации, прибегнуть к соответствующим средствам: то к возбуждению ненависти, то к сдержанности, то к вкрадчивости, то к выпячиванию собственных заслуг, то к горячей мольбе. Жестикуляция, мимика, изменение тона голоса — всё использовалось для достижения желаемого эффекта.
Что касается Красса, то он, будучи цензором, занял консервативную позицию, приняв участие в издании декрета о запрете преподавания риторики на латинском, а не на греческом языке, доступном главным образом выходцам из социальной верхушки. В отличие от антониевых выступлений речи Красса отличались тщательной подготовленностью. Это касалось прежде всего их юридической обоснованности, недаром Цицерон называет Красса «лучшим правоведом среди ораторов». Продуманным был и подбор слов, и строй фразы. Славился Красс и своим остроумием.
Ярким носителем азианского стиля красноречия был Гортензий, богато одарённый от природы и широко образованный, пробовавший свои силы в поэзии как латинской, так и греческой. Цицерон в «Бруте» называет его красноречие «новым и необычным» и далее пишет о двух видах азиа-низма: «Один вид — полный отрывистых мыслей и острых слов, причем мысли эти отличаются не столько глубиной и важностью, сколько благозвучием и приятностью. Второй вид — не столь обильный мыслями, зато катящий слова стремительно и быстро, причем в этом потоке речи слова
33 Ц и ц е р о н. Три трактата об ораторском искусстве. М., 1972, с. 249. Пер. Ф. А. Петровского.
льются и пышные, и изящные...» и продолжает: «Так вот, и тот и другой вид речи... больше к лицу молодым людям, а для стариков в них слишком мало весомости. Поэтому-то Гортензий в юности так блистал и в том и в другом из этих видов, вызывая рукоплескания»34.
В то время как об ораторах-азианистах мы можем получить представление хотя бы по цицероновским отзывам, ораторы-аттикисты триумвир Марк Антоний и Марк Юний Брут как ораторы остаются для нас неясными: нет ни отрывков речей, ни сколько-нибудь развернутых отзывов современников. Естественно, что римский аттикизм носил не языковой характер, а чисто стилистический: римские ораторы отталкивались от азианской эффектированности и за образец брали простоту и безыскусность лисиевых речей.
Доцицероновское красноречие получило разработку не столько в теоретическом, сколько в учебном плане в двух риторических трактатах: юношеском сочинении Цицерона «О подборе материала» и анонимной риторике «К Гереннию», долго приписывавшейся Цицерону из-за почти дословных совпадений между обоими пособиями. До сих пор не утихают споры об авторстве и времени написания трактата. Большинство исследователей называют его автором Корнифиция, упоминаемого Квинтилианом. Датировка сочинения колеблется в пределах от 90-х до 50-х годов до н. э.
Ранний труд Цицерона отмечен компилятивностью, некоторой сухостью изложения и односторонней ориентацией на греческие источники в ущерб римским. Сам автор в последующие годы весьма скептически оценивает это сочинение.
Риторика «К Гереннию» исходит из противоположных установок. Она полемически заострена против греческой науки и философии и, вероятно, отражает демократическое умонастроение своего времени, царившее в латинских риторических школах. Однако при всей своей антигреческой направленности этот трактат основан на стройной эллинистической системе красноречия.
Схематически эта система сводилась к следующим, несколько педантическим дефинициям. Усматривались три источника ораторского искусства: дарование, обучение, подражание. Цели же этого искусства — убедить, усладить и взволновать слушателей. Различались определенные этапы в подготовке речи: нахождение (и, естественно, отбор) материала, его расположение, словесное оформление, заучивание и произнесение. Речь делилась в античных риториках на разное количество частей. В риторике «К Гереннию» их
34 Ц и ц е р о н. Три трактата об ораторском искусстве. М., 1972, с. 326. Пер. И. П. Стрельниковой.
насчитывается шесть: вступление, изложение, разделение, обоснование, опровержение, заключение. Все эти части, в свою очередь, имеют подразделения разных степеней. Эта разветвленность — не плод сухой номенклатурности, а отражение многогранности и сложности- искусства слова. И при всей огромной дистанции и специфичности кое-что из этого трактата, особенно из двух последних частей, может представлять для современного читателя не только познавательный, но и практический интерес — прежде всего рекомендации по технике речи — приданию голосу крепости и вместе с тем гибкости, приспособлению тона речи к ситуации высказывания; по связи речевых средств выразительности с кинетическими: жестикуляцией и мимикой; по ассоциативно-образным приемам запоминания. Большая часть трактата отведена учению о словесном выражении, к которому предъявляется требование быть правильным, ясным, красивым и умеренным.
Риторика «К Гереннию» сделала весомый вклад в выработку латинской риторической терминологии. Что же касается политических симпатий и антипатий автора трактата, то о них выразительно говорит прибережённое, так сказать, «под занавес», в качестве примера, драматическое описание убийства Тиберия Гракха, где на обрисовку убийцы — Сципиона Назики — не пощажены самые мрачные краски.
ЦИЦЕРОН, ЕГО РЕЧИ И РИТОРИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ
Все, что было достигнуто в раннеримской теории и практике ораторского искусства, меркнет перед гением Цицерона, хотя именно это исторически подготовило появление великого оратора.
О Цицероне написано несметное количество работ, одн( их перечисление заняло бы несколько книг. JlnTepaTypnot наследие Цицерона обширно, но осваивать его нетрудно поскольку сочинения его могут быть чётко сгруппированы ш трем разделам. Это письма, в которых Цицерон выступает не только как политик и литератор, но прежде всего и как человек со всеми его чисто человеческими наклонностями и слабостями. Социально-политические взгляды его выражены в трактатах, как собственно политических, так философских и риторических, причем эти трактаты при их тематическом разнообразии в конечном счете объединены идеалом правителя республики, которому философия нужна для знания и правильной оценки сущего, а риторика учит воздействию словом на умы людей. И наконец, главная часть наследия — речи — не только исторический источник, а прежде всего —
выдающийся памятник того, что можно назвать «латинской словесностью».
Сохранилось 58 речей Цицерона; от 17 речей дошли отрывки; приблизительно 30 .речей стали известны по упоминаниям о них у самого Цицерона и у других авторов.
Из трех основных видов античного красноречия цицеро-новы речи охватывают два: политическое и судебное. Напомним, что речи по заранее сделанным записям заучивались наизусть. Однако дальнейшая их публикация не была механическим воспроизведением рабочих записей. Цицерон тщательно редактировал речи и подчас существенно перерабатывал, при этом они, возможно, утрачивали кое-что от эмоциональной воздейственности, но зато приобретали более стройную аргументацию и тщательную стилистическую отделку. Дион Кассий в своей «Римской истории» (XL, 54) пишет, что когда Милон, будучи в изгнании, прочел опубликованную, т. е. переработанную речь Цицерона в его защиту (как известно, безуспешную), то он сказал: «Если бы он произнес именно такую речь, мне не пришлось бы отведать рыбы, которая ловится здесь в Массилии». Любопытно, что некоторые речи — пять речей против Берреса и одна «Филиппика» (против Антония) — были написаны, но не произнесены.
Ораторское образование Цицерон получил у разных лиц как в Афинах, так и в Азии. Решающую роль в его подготовке к поприщу оратора несомненно сыграл Молоний Родосский. Трудно составить ясное представление о сути родосского направления в красноречии, обычно его считают умеренным азианизмом.
Содержание речи, ее структура, тон — все это зависело и от конкретной ситуации на суде и от специфики античного судебного красноречия. Ведь судебный оратор стремился не к доказательству истины, а к достижению правдоподобия, для чего считалось вполне допустимым прибегать к подтасовке фактов, к использованию сплетен и слухов, к личным выпадам, к разжалобливанию судей и т. д. Естественно, что эти средства применялись великим оратором с чувством меры. Не только понятие о судебной практике республиканского времени получаем мы из цицероновых речей. Поскольку судебное красноречие того времени, как правило, имело политическую подоплеку, выступления Цицерона дают историку богатейшие сведения о борьбе партий и их лидеров за влияние в государстве.
Для истории литературы речи Цицерона интересны применением риторических приемов и вкладом в латинский литературный язык. Известно ходившее в древности выражение: «Трудно сказать короче, чем Цезарь, и пространнее, чем Цицерон». Дело, разумеется, не в многословии как та--. 30
ковом, а в риторической обработке. Цицерон необычайно щедр на «цветы красноречия», причем они не воспринимаются как нечто нарочитое, а органически входят в ткань речи. Без них мы просто не можем помыслить ни рассказа о событиях, ни доказательства, ни опровержения, ни призыва к какому-либо действию.
Возьмем к примеру, первую речь против Катилины, или первую Катилинарию, как ее принято называть. Начинается она с риторических вопросов, т. е. с вопрошаний, не предполагающих конкретного ответа и по существу являющихся усиленными утверждениями: «Доколе же, Катилина, будешь злоупотреблять нашим терпением? Как долго еще ты, в своем бешенстве, будешь издеваться над нами? До каких пределов ты будешь кичиться, своей дерзостью, не знающей узды?»35 Далее в латинском тексте идет выразительная анафора: повторяется перед однородными членами предложения слово nihil («совсем не», «нисколько»), что в русском переводе передается несколько смазанно, как простое отрицание. Все это длинное, многочленное предложение заключает глагол-сказуемое moverunt («произвели впечатление», «встревожили», дословно «подвинули»). Русскому языку такой порядок слов чужд и перевод звучит так: «Неужели тебя не встревожили ни ночные караулы на Палатине, ни стража, обходящая город, ни присутствие всех честных людей, ни выбор этого столь надежно защищенного места, для заседания сената, ни лица и взоры присутствующих?»
Цицерон воспользовался многозначностью слова bonus — «хороший» и употребил его в данном контексте в значении «честный», вернее «благонамеренный». В этом же предложении использована риторическая фигура гендиадис — обозначение одного понятия двумя словами синонимичного или смежного значения: os — «рот», «лицо», vultus — «взгляд», «лицо»; поэтому ora vultusque переводчики обычно толкуют как «выражение лиц» или «лица и взоры». Через несколько слов — метафора, опять дословно не переводимая: «Неужели ты не замечаешь, что связан по рукам и ногам, раз все знают о твоем заговоре?» В буквальном же переводе эта фраза выглядела бы так: «Неужели ты не замечаешь, что твой заговор связан знанием всех?»
Цепь вопрошаний заключается восклицанием, ставшим в последующие времена крылатым: «О времена! О нравы!» И далее: «Сенат это понимает, консул видит, а этот человек жив». Отсутствие союза «и» явно неслучайно, риторический прием бессоюзия («асиндетон») придает фразе упругость. Затем следует градация, или климакс (т. е. нарастание эмоционально-смысловой значимости), да еще в сочетании с
35 Цицерон Марк Туллий. Речи. Пер. Первой речи против Луция Сергия Катилины — В. О. Горенштейна. М., 1962, т. 1, с. 292 сл.
коррекцией (поправкой): «Да разве только жив? Нет, даже приходит в сенат, участвует в обсуждении государственных дел, намечает и указывает своим взглядом тех из нас, кто должен быть убит...» Слова «намечает» и «указывает» по существу метафоричны, т. е. заимствованы из жреческого обихода: жрецы отбирали и клеймили жертвенных животных.
С иронией, как ораторским приемом, мы часто встречаемся у Цицерона и прежде всего — в данной Катилинарии: «А мы, храбрые мужи, воображаем, что выполняем свой долг перед государством, уклоняясь от его бешенства и увертываясь от его оружия». Конечно, эпитет «храбрые» произнесен Цицероном с чувством горечи и мы берем его в мысленные кавычки, понимая скрытый в нем противоположный смысл. С негодованием автор восклицает: «Катилину, страстно стремящегося резней и пожарами весь мир превратить в развалины, мы, консулы, будем терпеть?» Гипербола здесь — даже не специальный ораторский прием, поскольку подобного рода преувеличения бытуют в повседневной речи (например, «сто раз я тебе говорил...»). Иногда оратор (а в обычной житейской практике просто собеседник) для виду заявляет, что не хочет касаться какого-либо вопроса, а на самом деле с особенной силой останавливается на нем. К этому остроумному приему — претериции (дословно: «прохождение мимо») прибегает и Цицерон: «О событиях далекого прошлого я, пожалуй, говорить не буду — например, о том, что Гай Сервилий Агала своей рукой убил Спурия . Мелия, стремившегося произвести государственный переворот». Далее опять идут излюбленные повторы: «Была, была некогда в нашем государстве доблесть», «... нас, нас, говорю я открыто, консулов, не достает...» До некоторого времени Цицерон ведет обвинение от своего лица, далее он переходит к эффектному олицетворению («персонификации»), предлагает слушателям и прежде всего Катилине представить себе в качестве обвинителя саму родину: «Она (родина.—А. К-) так обращается к тебе, Катилина, и своим молчанием словно говорит: «Не было в течение ряда лет ни одного преступления, которого не совершил ты ...»
Слова «своим молчанием как бы говорит» представляют собой парадоксальное соединение взаимоисключающих понятий (сравни наше «тише едешь — дальше будешь»). Такой риторический прием обозначается специальным термином «оксюморон» (дословно «остроглупое выражение»). Вряд ли столь щедро рассыпанные «цветы красноречия» были оратором запланированы заранее; скорее всего они приходили ему на ум, как художнику слова, непроизвольно, экспромтом.
Всех, читающих речи Цицерона, хотя бы в русском переводе, всегда интересует такой вопрос: как ораторская практика Цицерона соотносится с тем, что обобщено и ре-32
комендуется в его. риторических трудах, равноценны ли по оригинальности и силе эти части цицероновского наследия. Если не считать первого юношеского опыта Цицерона, от великого оратора сохранилось три трактата по красноречию: «Об ораторе», «Брут» и «Оратор». Первый из них написан в форме беседы, якобы происшедшей в 91 г. до н. э. между крупными ораторами — предшественниками Цицерона, причем мысли автора трактата явно выражает Красс. Главный вопрос беседы — связь красноречия с политикой и философией. «Брут», тоже диалогический по форме, представляет собой историю римского красноречия и автобиографию. Трактатом по существу, небольшим по объему, является «Оратор», где рассматриваются главным образом проблемы стиля и ритма. Все три трактата переведены коллективом античного сектора ИМЛИ АН СССР36. Переводам предпосланы превосходная статья М. Л. Гаспарова «Цицерон и античная риторика» и обширная библиография.
Какйе же проблемы, не утратившие до сих пор остроты, ставит Цицерон? Это прежде всего вопрос: какие данные необходимы для красноречия. Цицерон на это отвечает так: природный талант, навык и знание. В современных работах по ораторскому искусству и лекторскому мастерству часто недооцениваются природные данные и слишком буквально понимается Цицеронов тезис: «Ораторами становятся...». Правда, некоторые психологи смело пишут об индивидуальнотипологических свойствах, как предпосылке деятельности оратора: о потребности общения, высоком уровне нервной системы и положительном эмоциональном тонусе; о сильном развитии мышления, памяти, восприятия, внимания; о глубине индивидуального опыта; о таких чертах личности, как убежденность, искренность, увлеченность, уверенность и т. д.37 Естественно, что в цицероновские времена так широко проблема не рассматривалась, но самый факт ее постановки говорит о многом.
По-видимому, всякий согласится с образным и точным определением Цицерона связи содержания и словесной формы: «Всякая речь состоит из содержания и слов, и во всякой речи слова без содержания лишаются почвы, а содержание без слов лишается ясности» (Об ораторе, III, 19).
Чрезвычайно ценно предостережение Цицерона против крайностей в отборе слов — против чрезмерной изысканности и излишней будничности. В самом деле, ораторская речь по своему стилю должна быть несколько приподнятой над
36 Ц и ц е р о н. Три трактата об ораторском искусстве. М., 1972.
37 3 и м н я я И. А. Воздейственность выступления лектора. М., 1975, с. 8—10.
повседневностью и в то же время ей нельзя злоупотреблять поэтичностью, тем более, что преувеличенная пластичность образов в восприятии слушателя может мешать деловой информативности. Полезно воспринять добрый совет Цицерона сделать незаметными для слушателей свои усилия в обработке речи. Недаром бытовало у древних ироническое выражение «пахнет маслом» в применении к тому, что носит следы упорной работы при свете масляного светильника. Все трактаты объединяет главная мысль Цицерона — оратор должен иметь философскую подготовку, быть знатоком права и вообще обладать универсальной образованностью.
Хотя Цицерон не скрывал своего неприятия шаблонного, догматического школярства в риторике, он счел нужным воспроизвести сложную и разветвленную схему риторики своего времени. Исходя из трех основных назначений ораторского искусства — учить (docere), услаждать (delectare) и побуждать (movere), он продолжает вслед за греками разрабатывать теорию трех стилей — высокого, среднего и простого, имевшую громадный резонанс в последующей литературе.
Очень важен в познавательном отношении критический обзор развития римского красноречия от истоков до Цицерона — вершины ораторского мастерства.
Большое внимание уделяется специфической стороне античной речи — ее периодической и ритмической структуре. Вслед за Исократом, Цицерон разрабатывает то, что составляет суть ритма: комбинацию кратких и долгих слогов, отбор слов и порядок их сочетания, симметричность построения фразы, ритмическое завершение фразы — так называемую клаузулу. Назначение ритмичности — не столько услаждение слуха, сколько облегчение восприятия сложного комплекса мыслей.
В то время, как античная ритмика, из-за своей специфичности, в русском переводе не может быть передана, периодичность все же пытаются воспроизвести. Вот образец цицероновского периода из третьей Катилинарии: «Хотя виднейшие и прославленные мужи из числа наших сограждан, при первом же известии о случившемся, собравшиеся в большом числе у меня в доме рано утром, советовали мне вскрыть письма до того, как я доложу о них сенату, чтобы — в случае, если в них не будет найдено ничего существенного, — не оказалось, что я необдуманно вызвал такую сильную тревогу среди граждан, я ответил, что не считаю возможным представить государственному совету улики на счет опасности, угрожающей государству, иначе, как только в нетронутом виде». Здесь от уступительного придаточного предложения первой степени (хотя... мужи... советовали) зависят предложения других степеней.
С пространными периодами мы встречаемся и Аи^ьше «И если дни нашего избавления нам не менее приятны н радостны, чем день нашего рождения, так как спасение приносит несомненную радость, а рождение обрекает нас нг неизвестное будущее, так как мы рождаемся, не сознавая этого, а избавляясь от опасности, испытываем радость, то, коль скоро мы с благоговением превознесли того, кто этот город основал, и причислили его к бессмертным богам, вы и потомки ваши, конечно, должны оказать почет тому, кто этот город, уже основанный и разросшийся, спас». В данном периоде от условного предложения первой степени (если...) зависят предложения: определительное («дни избавления»... дословно: «дни, в которые мы спасаемся»), причинные (так как..., коль скоро...) и опять определительные (кто основал..., кто спас...).
ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО РАННЕЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
Как в Греции Демосфен, так в Риме Цицерон знаменовал собой итог и вершину развития ораторского искусства. Это, конечно, не значит, что после Цицерона в Риме не было выдающихся ораторов, но с падением республиканского строя исчезла почва, взрастившая цицероновский гуманистический идеал единства красноречия и философии. Философы перестали интересоваться вопросами большой социальной и естественно-научной значимости и все больше уходили в мир религии. Ораторское слово из средства борьбы становилось самоцелью, объектом эстетского любования.
Сдвиги произошли и в жанровом, и в стилевом направлении. На смену политическому красноречию шло торжественное, т. е. похвальные речи сильным мира сего. Метко выразился Тацит в «Диалоге об ораторах»: «Август умиротворил красноречие». Эти обстоятельства привели к упадку политического (совещательного) красноречия и к тому, что судебное красноречие было ограничено выступлениями по уголовным и сугубо гражданским делам, так как политические процессы значительного государственного масштаба уже не возникали. Римское право как частное, так и государственное приобрело столь законченные, детализированные, незыблемые формы, что отпадала необходимость в пространных судебных речах.
Если ранее декламации служили подготовке оратора прежде всего в сфере техники речи, т. е. постановке дыхания, голоса и дикции, то в эпоху империи они приобретают характер изысканного представления для глаза и уха тех, у кого был в достатке досуг (otium) и было мало дел (negotiu-m).
Уже в предшествующую эпоху декламации (в то время чисто учебные) были двоякого рода: контроверсии (дословно «противоречия») — речи по поводу вымышленного судебного казуса, и суазории — (дословно «убеждающие речи») — увещания, обращенные к лицу, находящемуся в затруднительном положении и колеблющемуся в выборе. Оба вида декламации практиковались и ранее, но их сюжеты были более или менее близки к действительности, современной или хотя бы исторической. Теперь же начинается увлечение неправдоподобными, но внешне эффектными ситуациями. В эти ситуации ставят сверхъестественных злодеев и героев, или страдальцев. Именно в риторике I века н. э. начался отход от классицизма с его культом рационального начала и гармонии и выработался так называемый «новый стиль», который затем распространился на собственно литературные роды и жанры — эпос, драму, сатиру.
Аффектированность, напряженность «нового стиля» сказывались и в языке. Заметно тяготение к отрывистым, рубленым фразам, запоминающимся сентенциям, впечатляющим противопоставлениям — антитезам.
От Сенеки Старшего, или Сенеки-ритора, жившего на грани I в. до н. э. — I в. н. э. сохранились риторические упражнения, составленные по просьбе сыновей, среди которых был будущий знаменитый философ-стоик, воспитатель Нерона. Особенно интересны «Контроверсии» Сенеки Старшего, в которых помимо собственно риторических тем содержатся автобиографические экскурсы, ценный материал бытового, правового и исторического характера, а главное — сведения о многих ораторах, современниках Сенеки. В то время, как «Контроверсии» строятся на доводах юридического порядка, в «Свазориях» на первом плане оказываются обоснования психологические и даже философские. Встречаются и рассуждения политического характера, особенно когда речь идет об исторических лицах, непосредственных предшественниках Сенеки Старшего. Так, например, одна свазория выдвигает проблему: как нужно было поступить Цицерону — пойти ли на примирение с Марком Антонием или предпочесть смерть?
Что касается «Контроверсий», то при всей удивительности, а подчас и парадоксальности их казусов, они, в конечном счете, подсказаны жизнью. Чисто материальные мотивы — наследство, приданое — порождали самые фантастические ситуации в римской семье, даже фигуры пиратов и разбойников были в те времена отнюдь не плодом вымысла.
Сенекой Старшим была составлена своего рода хрестоматия декламационных сюжетов. Приведем одну из контроверсий, входящих в этот сборник: Больной потребовал, чтобы раб дал ему яду. Тот отказался. Умирающий завещал наслед-36
никам распять раба. Раб ищет защиты у трибунов. Ритор, выступающий против раба, восклицает: «Вся сила завещаний погибла, если рабы не выполняют волю живых, трибуны — волю мертвых. Неужели не господин рабу, а раб господину определяет смерть?» Ритор, защищающий раба, возражает: «Безумен был приказавшйй убить рабй; не безумен ли тот, кто и себя хотел убить? Если считать смерть наказанием, зачем ее просить? Если благом, зачем ею грозить?»38.
Нетрудно заметить, что в этой контроверсии, при всей ее нарочитой литературной заостренности, отразились проблемы, волновавшие современников: правовые и моральные взаимоотношения рабов и господ, стоическая оценка смерти как блага. Добавим, что в основе данной контроверсии, как и большинства других, лежит конфликт между законом (ius) и долгом (aequitas). Этот конфликт — отнюдь не выдумка риторов; вспомним хотя бы неписаные законы (agrapha dogmata) в «Антигоне» Софокла и в речи Перикла у Фукидида.
Контроверсии интересны не только изобретательностью и занятностью сюжета, но и чисто психологическими коллизиями, патетикой, установкой на образное восприятие конфликтов, на игру воображения, словом — приближением к поэтическому жанру.
Литературная изысканность и камерность риторических упражнений могли приводить (и на самом деле приводили, как свидетельствуют современники) к тому, что ораторы оказывались беспомощными перед тем, что называется грубой действительностью. Вместе с тем нельзя отрицать, что эти упражнения сыграли свою роль в подготовке адвокатов: они углубляли искусство логической аргументации, оттачивали язык и стиль того, кто готовился к судебной карьере.
«Новый стиль», столь распространившийся во многих литературных жанрах, оказался недолговечным. Будучи порождением деспотической и кровавой атмосферы при ближайших преемниках Августа, когда человеческая* личность ощущала крайнюю неустойчивость, этот стиль уходит из литературы после падения Нерона и воцарения династии Флавиев. Хотя был кратковременный рецидив тирании при Домициане, он не смог повернуть -вспять процесс политической стабилизации, примирения сената с императорской властью. Попытки, правда утопические и искусственные, возродить дух Августа привели к сдвигам и в литературе, а именно — к возврату классицизма.
В то время как в поэзии классицистическая реакция носила поверхностный, эпигонский характер, в риторике наблю
38 История римской литературы. Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. Пер. М. Л. Гаспарова. М., 1959, с. 518.
дается стремление теоретически осмыслить смену «нового стиля» классицизмом и сделать из этого практические выводы. Этому способствовало и покровительство власти риторическим школам: их учителям было назначено за счет государства жалование. Своего рода знаменосцем классицизма выступает Марк Фабий Квинтилиан (приблизительно 35—96 гг.), автор пространного сочинения «Образование оратора». Как показывает само название труда, его создатель не сводит красноречие к сумме риторических правил, а призывает к всестороннему воспитанию оратора. Таким образом, трактат сочетает собственно риторические вопросы с проблемами педагогическими.
В риторике главным объектом восхищения и подражания выступает Цицерон. Нетрудно обнаружить много совпадений у Квинтилиана с Цицероном. Оба различают три стиля красноречия: высокий, средний и простой; оба усматривают три задачи, . стоящие перед оратором: убеждать, услаждать и увлекать; оба придерживаются принятого деления работы над речью на пять этапов: нахождение, расположение, словесное изложение, запоминание, исполнение; оба задумываются над извечной проблемой о соотношении природного дара и специальной выучки в красноречии; оба придают огромное значение элементам комического в речи; оба воюют, так сказать, на два фронта: и против архаичности и против неумеренных новаций.
Полное согласие наблюдается у обоих теоретиков по вопросу о том, что теперь называется внелингвистической знаковой системой, т. е. о воздействии внешнего облика и поведения оратора на слушателей, о позе, жестикуляции, мимике. Квинтилиан — за сдержанность в манерах оратора. Его возмущают те ораторы, которые «горланят и ревут», «бросаясь вперед, задыхаясь, жестикулируя, неистово крутя головой», хлопают в ладоши, топают ногой, хлопают себя по бокам, груди и по лбу»39. Любопытно, что через много веков осуждение таких дешевых приемов прозвучало в «Духовном регламенте» петровского времени: «Не надобно праведнику шататься вельми, будто в судне веслом гребет; не надобно руками всплескивать, в боки упираться, подскакивать, смеяться, да не надобе и рыдать...»40. И вообще Квинтилиан всячески восхваляет чувство меры, предупреждает об опасности нарушения знаменитого «чуть-чуть». «Пусть красноречие- будет великолепно без излишеств, возвышенно без риска... богато без роскошества, мило без
39 Кузнецова Т. И., Стрельникова И. П. Ораторское искусство в древнем Риме. М., 1976, с. 186 и сл. Пер. Квинтилиана здесь и далее Т. И. Кузнецовой.
40 Полное собрание законов Российской империи. Спб., 1830, т. 6, с. 339.
развязности, величаво без напыщенности; здесь, как и во всем, вернейший путь — средний, а все крайности — ошибки»41. «Новый стиль» Квинтилиану неприемлем именно своей неумеренностью, аффективностью, которая, как яд, губительно действует на молодежь.
Квинтилианова идеализация Цицерона вовсе не предполагает идентичности всех позиций обоих теоретиков красноречия. В глазах Цицерона оратор — прежде всего мыслитель, а основу риторики, по его мнению, составляет философия. Квинтилиан же во главу угла ставит стилистику и требует от оратора мастерства именно в этой области. Социальный адресат у Цицерона неизмеримо шире: это народ, собравшийся на форум, Квинтилиан же ориентируется на узкий круг образованных ценителей.
Классицистические тенденции, прогрессивные вначале, со временем выродились в нарочитую архаизацию, т. е. в силу консервативную.
Если о теоретическом обосновании классицизма можно судить по труду Квинтилиана, то о практическом преломлении классицизма некоторое представление дает «Панегирик Траяну» Плиния Младшего. Однако это произведение относится уже к самому началу II века, к периоду так называемого «эллинского возрождения». К сожалению из всего ораторского наследия Плиния (62 — ок. 114 гг.) сохранился «Панегирик», к тому же не в том виде, в каком произносился, а в отредактированном и значительно расширенном варианте. Этот «Панегирик», занимающий в нынешних изданиях около 100 страниц книги обычного формата, с трудом воспринимается как речь устная. Мы невольно подходим к нему просто как к литературному произведению, хотя в нем выдержано традиционное трехчастное деление речей, хотя постоянно употребляются формы 2-го лица глаголов, т. е. обращение непосредственно к Траяну, хотя автор предельно щедр на риторические приемы: антитезы, повторы, развернутые сравнения, сентенции. Не представляется возможным однозначно определить стиль Плиния. Автор «Панегирика Траяну» был другом, и казалось бы, последователем Квинтилиана и в своих письмах, подобно Квинтилиану, всячески восхваляет Цицерона. Однако цицероновское начало в его «Панегирике» сказывается лишь в политическом пафосе, в противопоставлении гуманности Траяна деспотизму Домициана. Стиль в похвальном слове носит черты не столько классицизма, сколько азианизма с его пышностью, цветистостью, многословием. Из «Панегирика», а также из писем видно, что дарованием Плиний не блистал, но был отменно трудолюбив.
41 История всемирной литературы. М., 1967, т. 1 (макет), с. 620. Пер. М. Л. Гаспарова.
В числе своих наставников Плиний называет и Тацита, который теперь известен как великий историк, автор знаменитых «Аннал» и «Историй», а в древности стяжал славу и оратора. Поскольку речей от Тацита не сохранилось, мы не в состоянии судить о его ораторской манере, но зато можем составить представление о взглядах Тацита на красноречие на основании дошедшего до нас, правда с большими лакунами, его раннего труда «Диалог об ораторах». По-видимому, «Диалог» появился в те же годы, что и «Панегирик» Плиния. Рассматриваемые в «Диалоге» вопросы да и сама структура сочинения заставляют нас вспомнить трактат Цицерона «Об ораторе». Хотя в диалоге участвуют реально существовавшие лица — римские ораторы, сама их встреча и дискуссия — явно плод художественного вымысла автора. Практические вопросы красноречия в «Диалоге» не затрагиваются собеседниками, которые пытаются уяснить пути и судьбы ораторского искусства. Поскольку красноречие было органически связано с республиканским строем, то в эпоху империи предпочтительнее заниматься поэзией или историей. Изменение роли красноречия, по мнению Тацита, естественно предполагает переход от цицероновского стиля, уже устаревшего, к стилю новому, правда, несколько очищенному от чрезмерной манерности. Таким образом, Тацит стоял на прогрессивных позициях, учитывал поступательный ход истории и понимал опасность превращения культа Цицерона в архаическую, тормозящую силу.
Над причинами упадка красноречия задумывались и греческие мыслители, причем на несколько десятилетий раньше появления тацитовского труда. В анонимном трактате «О возвышенном», написанном в диалогической форме, некий, не названный по имени философ, возможно, Филон Александрийский, связывает кризис политического красноречия с падением демократического строя. Однако сам автор, которого некоторые называют Псевдо-Лонгином и который вывел себя собеседником философа, стоит на морализаторской позиции и все объясняет падением нравов.
Между тем, во II и III веках классицистические, реставраторские тенденции продолжали усиливаться. В греко-римской литературе нормой и образцом подражания был аттический диалект. Таким образом, игнорировался факт эволюции живого греческого языка в эллинистическую и римскую эпоху. Однако время брало свое: следование строгим грамматическим нормам аттического диалекта причудливо сочеталось с азианистической вычурностью стиля.
ГРЕКО-РИМСКОЕ КРАСНОРЕЧИЕ ПЕРИОДА «ВТОРОЙ СОФИСТИКИ»
Начало II в. ознаменовано творчеством двух крупнейших представителей греко-римской культуры, почти ровесников: Плутарха (ок. 45 — после 120 гг.) и Диона Хрисостома (ок. 40 — после 120 гг.).
В знаменитых «Параллельных жизнеописаниях» Плутарх щедро приводит вымышленные речи великих греков и римлян; некоторые его сочинения по вопросам практической морали написаны в форме диалога (часто в традиционном жанре застольной беседы на пиру) или своего рода проповеди на философскую тему. Генетически эти поучения были связаны с диатрибой. Тем не менее, произведения Плутарха, при всей непринужденности разговорности их тона, все же остаются «беллетристикой», а от Диона дошли речи, реально произнесенные.
Выходец из Вифинии, Дион после скитаний в роли ритора -по греческим городам обосновался в столице, стал близок к императорскому двору, завел дружбу с известными деятелями культуры. При Домициане на оратора обрушились репрессии, и целых четырнадцать лет Дион вел жизнь бродячего философа-киника. После смерти своего гонителя он принимает живое участие в общественных и политических делах родной Вифинии, но местные раздоры вынуждают его вновь пуститься в странствия.
Дошедшее до нас наследие Диона включает в себя около 80 речей, по содержанию, идеям и тону довольно четко делящихся на две группы в зависимости от того, составлены были они до или после изгнания. Помимо чисто софистических курьезов вроде «Похвалы кудрям», в ранний период оратор создает речи и на литературные темы, анализируя, часто в парадоксальной форме, гомеровы поэмы, трагедии Эсхила, Софокла и Еврипида.
Перейдя на позиции кинизма42, Дион начинает отдавать предпочтение морально-философской тематике. Слушателями его были самые широкие слои жителей разных городов и селений. В остроумной и занимательной форме, простым языком, далеким от риторических ухищрений, Дион обличает безнравственность, превозносит былую, нередко первобытную чистоту нравов, язвительно критикует все социальные институты: собственность, государство, общественное положение и т. д. Во многих речах такого направления Дион говорит устами знаменитого Диогена, выступающего в таком случае
42 О мировоззрении Диона см. статью И. М. Нахова «Кинизм Диона Хрисостома». — Вопросы классической филологии. М., 1976, вып. 6, с. 46—104.
как главный персонаж. Бывалый человек, Дион щедро делится впечатлениями от тех мест, куда его забрасывала судьба; поэтому его речи имеют значение и исторического источника. Особую ценность в этом отношении представляет «Борисфенитская речь» (XXXVI), где описывается город Ольвия на Борисфене (Днепре). Интересна образным воплощением философских идеалов «Эвбейская речь, или Охотник» (УП). В идиллическом тоне описывается мирная жизнь людей на лоне природы, вдали от города с его суетой и несправедливостью. Однако безмятежности приходит конец с появлением неумолимого сборщика податей за пользование землей. Примечательно, что в идеализации прошлого Дион идет дальше, за пределы героизированных начальных этапов истории, в стадию, которую можно назвать первобытной. «Нам хотелось, — заявляет оратор, — показать, что бедность не является непреодолимым препятствием к тому, чтобы вести жизнь, достойную человека, желающего работать своими руками; напротив, она побуждает его к труду и к деятельности, гораздо более соответствующей природе, чем те дела, на которые обычно богатство толкает большинство людей»43.
Плутарх и Дион были предтечами «второй софистики», своеобразного направления в культуре II—III вв., характеризовавшегося синтезом философии и риторики. Синтез этот был в большинстве случаев поверхностным, поскольку примат принадлежал риторике с характерным для позднего красноречия формалистическим уклоном. Наблюдалось как бы соревнование с афинскими ораторами классического периода в изысканности аттической речи. «Вторая софистщ<а» выдвинула целую плеяду ораторов — блестящих стилизаторов. Среди них особое место принадлежит Элию Аристиду (117/129—189 гг.), под именем которого сохранилось 55 речей.
Элий Аристид получил образование в Пергаме и Афинах, учился у знаменитого Герода Аттика. Образцом Аристиду служил Исократ, которому он виртуозно подражал в языке и стиле. С великим аттическим оратором его роднит и частая ориентация не на собственное произнесение речей перед народом, а на. чтение их другими лицами в кругу знатоков-эстетов. Тематика речей разнообразна и подчас неожиданна. В шести так называемых Священных речах оратор подробно говорит о своей болезни и о том, как пытались лечить ее в храме Аслепия; специальная речь убеждает жителей Смирны, что комедии не следует ставить на сцене. Смирне, где в основном жил Аристид, а также другим городам — Риму,
43 Поздняя греческая проза. М., 1960, с. 78. Пер. М. Е. Грабарь-Пассек.
Родосу, Элевсину — посвящен ряд панегириков, а этот жанр был очень распространен среди риторов-софистов.
Для софистического направления характерна Элевсинская речь, в которой оплакивается гибель при пожаре святилища Деметры. Убежденный классицист в языке, Аристид в чисто азианском вкусе наполняет свою речь восклицаниями, вопрошаниями, воплями: «О Элевсин, насколько отраднее было бы мне воспевать тебя встарь! А ныне какой посягнет на это Орфей, какой Фамирид, какой Мусей-элевсинец? Какие кифары и лиры оплачут всеобщее горе, горе земли? Какую задачу ты поставил предо мной, Зевс? При первых же словах я цепенею и отступаю; и если должен я говорить, то лишь потому, что молчать я не в силах... О эллины, поистине детьми вы были, детьми и остались, если позволили совершиться такому бедствию! Неразумные, разве не предоставлены вы теперь самим себе? Убережете ли* вы хотя бы самые Афины?»44
Что же касается попыток теоретического осмысления художественной речи, то в эту эпоху они были предприняты Гермогеном из Тарса (конец II — нач. III в.). Составленное им «Руководство» стало ориентиром- для позднеантичных, а затем византийских ораторов. Как классицист Гермоген в вопросах практической стилистики основывается на Демосфене, а в области теории перекликается с Теофрастом и Гермагором (II в. до н. э.), поскольку разрабатывает проблему типов речи и ее качеств, или, согласно его терминологии, «идей» (ясности, красоты, величавости и т. д.).
Неизмеримо ниже по своему уровню рассуждения на риторические темы в письмах известного римского оратора и педагога II в. Фронтона. Подобно своим греческим коллегам он тоже ударился в архаизацию, но как образцы для подражания выставлял уже не Демосфена или Исократа, а Катона Старшего и Гракхов. Фронтона интересует главным образом лексическая стилистика: отбор, или, как он выражается, «поиски» слов, их распределение во фразе. Некоторые наблюдения Фронтона над сочетаемостью слов не лишены тонкости. Судить же о его собственных речах трудно, т. к. от них остались незначительные фрагменты. Современному читателю непонятна слава, окружавшая Фронтона как ритора, и кажется уж совсем удивительным, что послания с наставлениями в риторике были адресованы Марку Аврелию, из которого Фронтон мечтал сделать оратора. Однако «философ на троне» вошел в литературу не как оратор, а как автор психологического дневника или исповеди «К самому себе», причем это сочинение было написано не на архаической латыни, которую превозносил его учитель, а на греческом
44 Поздняя греческая проза. М., 1960, с. 319. Пер. М. Л. Гаспарова.
языке. Известно, что модное в то время эллинофильство привело к заметному примату греческого языка. Тем большую ценность для нас представляет то, что сохранилось от латинской ораторской прозы.
Имя Апулея (ок. 124—180 гг.) сразу вызывает в памяти его роман «Метаморфозы», известный больше под названием «Золотой осел». Однако Апулей пробовал свои силы и в красноречии. Мы располагаем двумя его риторическими сочинениями. Название первого из них говорит само за себя: «Апология, или в защиту самого себя по обвинению в магии». Речь эта интересна во многих отношениях. Прежде всего, она автобиографична; во-вторых, она дает яркую картину провинциальной жизни той поры; в третьих, она блещет остроумием и находчивостью в опровержении невежества. Нелепое обвинение было возведено на писателя родственниками его жены, боявшимися лишиться наследства после ее смерти.
Некоторые места «Апологии» напоминают упражнения в риторических школах. Показательно в этом отношении рассуждение о бедности: «Он же (обвинитель.—А. К.) попрекнул меня бедностью — обвинение для философа лестное и, более того, такое, о котором следует самому заявить во всеуслышание. В самом деле, бедность — издавна служанка философии. Умеренная, благоразумная, владеющая немногим, ревнующая о доброй славе, она предохраняла от опасностей, связанных с богатством; она равнодушна к своей внешности, в образе жизни проста, хорошая советчица; никогда и никого не сделала она высокомерным, никого не превратила в раба собственных страстей, никого не ожесточила тиранией. Обжорства она не желает и желать не может... Припомни величайших преступников, каких только знает человеческая история, — ты не найдешь среди них ни одного бедняка!.. Бедность, утверждаю я, была в древние времена основательницей всех государств, изобретательницей всех искусств и ремесел... Одним словом, для жизни, как и для плавания, больше пригоден тот, кто менее обременен грузом»45. Под грузом в данном афористическом выводе имеется в виду богатство.
Апулей — блестящий мастер литературного портрета, пусть тенденциозного, поскольку речь идет о врагах, но очень живого. Вот, например, как не щадит красок оратор, изображая своего обвинителя-пьяницу Красса: «Я утверждаю, что Красс давно напился и храпит, или, принимая второй раз ванну, смывает в бане винный пот, готовясь отправиться на выпивку после пира». Далее Апулей предлагает слушателям представить «безбородую и оплешивевшую
45 А п у л е й. Апология, Метаморфозы, Флориды. М., 1956, с. 23. Пер. С. П. Маркиша.
голову этого молодого еще человека, его слезящиеся глаза, опухшие веки, слюнявые губы, трясущиеся руки», услышать его «хриплый голос и пьяную икоту». Остается добавить, что процесс Апулей выиграл.
Неизвестный нам автор составил из 23 больших отрывков апулеевых речей сборник под названием «Флориды», т. е. «Цветник». Когда, где, по поводу чего были произнесены эти речи, остается неясным. В них много автобиографических экскурсов, метких зарисовок нравов и обычаев. Оратор охотно делится своими обширными знаниями в области философии. С особым усердием он популяризирует учение Пифагора, Сократа, Платона. Апулей с гордостью ощущает себя наследником великого достояния классической Эллады, что было вполне в духе «второй софистики»: «Один мудрец (по-видимому, Анахарсис.—А. К.), ведя беседу за столом, произнес слова, ставшие знаменитыми: «Первая чаша принадлежит жажде, вторая — веселью, третья — наслаждению, четвертая — безумию. Но о чашах муз должно сказать наоборот: чем чаще следуют они одна за другой, чем меньше воды подмешано в вино, тем больше пользы для здоровья духа. Первая — чаша учителя чтения — закладывает основы, вторая — чаша филолога — оснащает знаниями, третья — чаша ритора — вооружает красноречием. Большинство не идет дальше этих трех кубков. Но я пил в Афинах из иных чаш: из чаши поэтического вымысла, из светлой чаши геометрии, из терпкой чаши диалектики, но в особенности из чаши всеохватывающей философии — этой бездонной нектарной чаши. И в самом деле, Эмпедокл создавал поэмы, Платон — диалоги, Сократ — гимны, Кратет — сатиры, Эпихарм — музыку, Ксенофонт — исторические сочинения, а ваш Апулей пробует свои силы во всех этих формах и с одинаковым 'усердием трудится на ниве каждой из девяти муз...»46 Как характерно такое умонастроение для II века.
раннехристианская ПРОПОВЕДЬ (ПО НОВОЗАВЕТНОМУ КАНОНУ)
От раннехристианской литературы — как вошедшей в новозаветный канон, так и апокрифической — не сохранилось памятников ораторского искусства как такового, но на основании литературных версий и обработок мы все же можем с большой долей достоверности составить себе представление об искусстве слова первых христианских проповедников. Это искусство является определенным звеном в общей цепи, зве
46 А п у л е й. Апология, Метаморфозы, Флориды, с. 351—352.
ном между греческой и еврейско-сирийской культурой. Греческое начало выразилось в том, что новозаветные книги (кроме евангелия Матфея) написаны на греческом языке в его поздней восточнодиалектной разновидности и отмечены воздействием предшествующей, так называемой «языческой» литературы.
Здесь вряд ли уместно касаться источниковедческих проблем Нового завета: его состава, рукописей, изданий, переводов на разные языки, соотношения новозаветных сведений с данными археологии и трудов античных писателей (Тацита, Светония, Плиния Младшего, Иосифа Флавия), в частности античных критиков христианства (Лукиана, Цельса, Порфирия, Юлиана и др.). В равной мере приходится обойти вопрос об авторстве, времени написания и социальном адресате новозаветных книг. В задачу данной работы не входит и выяснять значение Нового завета как исторического источника и уж тем более углубляться в доводы двух основных школ: мифологической и исторической.
Обо всем этом написано несметное количество научных исследований и популярных пособий. Наиболее полно освещают современную стадию изучения Нового завета М. М. Куб-ланов, Г. М. Лившиц, М. К. Трофимова и др.47
Литературная сторона новозаветного канона изучена слабо.
Какой же материал дают в наше распоряжение канонические евангелия, Деяния апостолов, апостольские послания и Апокалипсис для суждения о жанрах раннехристианской ораторской прозы?
Прежде всего, это приписываемые Иисусу евангельские речи, имеющие своим вероятным источником так называемые Логии, т. е. речения Иисуса, упоминаемые фригийским епископом Папием (II век н. э.) в «Церковной истории» Евсевия. Некоторые «Логии» были обнаружены в конце XIX — начале XX в. в оксиринхских папирусах; «Логии» содержатся и в гностическом евангелии Фомы, найденном в 1945 г. в Наг-Хаммади (на месте древнего Хенобоскиона).
Структура и стиль речей евангельского Иисуса разительно меняются в разных ситуациях. Эти изменения, естественно, вызваны составом слушателей. Но нужно учесть также и различные целевые установки (обнаруживаемые, конечно, весьма гипотетично) у авторов четырех евангелей; ведь каждый из них в зависимости от своего адресата акцентировал
47 См.: Ку бла нов М.- М. Новый завет (Поиски и находки). ’М., 1968; Его же. Возникновение христианства. М., 1974; Лившиц Г. М. Очерки историографии библии и раннего христианства. Минск, 1970; Трофимова М. К. Христианство и рабство (по данным новозаветной литературы). — В кн.: Штаерман Е. М., Трофимова М. К. Рабовладельческие отношения в ранней римской империи. М., 1971, с. 250—295; Свенцицкая И. С. Тайные писания первых христиан. М., 1980.
ту или иную сторону христианского учения, что неизбежно влекло за собой и соответствующее литературное оформление, а последнее находилось в прямой зависимости от природного художественного дара и от образования автора.
Речи Иисуса отразили проповедническую практику раннехристианских общин, и именно это обстоятельство должно вызывать к себе интерес у литературоведов. Поскольку учение Иисуса подается евангелистами как безусловная истина, то и иисусовы речи отличаются сентенциозностью и далеки от логической аргументации и систематичности.
Непосредственно к простому народу была обращена иисусова нагорная проповедь, передаваемая в двух вариантах: пространном у Матфея и кратком у Луки. Эта проповедь явно связана с семитической назидательной литературой, как письменной, так и устной. Сначала идут с выразительными повторами заповеди блаженства: «блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное», «блаженны плачущие, ибо они утешатся», «блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» и т. д. Соответствие этому обнаруживается в так называемом «машале», одном из жанров иудейской литературы. Там есть подобные изречения: «блаженны праведные, ибо они не только себе делают это в заслугу, но и своим чадам...» Очень симметрично построены дальнейшие наставления: они представляют собой своего рода «поправки» к моисееву законодательству, тем более что к тому времени оно выродилось в формализм, особенно в практике фарисеев. Вот некоторые образцы этих «поправок»: «Вы слышали, что сказано древним: «не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем»... «Вы слышали, что сказано: «око за око, зуб за зуб»'. А я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» и т. д.
Лука вкладывает в уста Иисуса ряд угроз, построенных, как и заповеди блаженства, анафорически: «Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение», «Горе вам пресыщенные ныне! Ибо будете голодать. Горе вам, смеющиеся ныне! Ибо восплачете и возрыдаете». Эти угрозы, между прочим, повторяются и у Матфея, но вне нагорной проповеди: «Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, потому что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее осуждение». Подобные проклятия бывали и в иудейском фольклоре, известном по Талмуду: «Горе злодеям, ибо они навлекают вину не на себя одних, а и на своих детей». Сильное впечатление на слушателей призвано было оказать образное заключение нагорной проповеди: «Всякого, кто слушает эти мои слова и исполняет их, я уподоблю мужу благоразумному, который построил
дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот; и он не. упал, потому что был основан на камне. А всякий, кто слушает эти мои слова и не исполняет их, подобен человеку безрассудному, который построил свой дом на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое».
Кроме сентенционарной, или гноматической формы иисусовы речи нередко облекаются в форму притчи. Эти небольшие назидательные рассказы с аллегорическим толкованием в жанровом отношении близки к басне и сказке. Притча оказывалась целесообразной для возбуждения и поддержания внимания слушателей. Притчи в образной форме изъясняли то, что в непосредственном виде оказалось бы или непонятным или неприемлемым. Наконец, приточной формой было удобно прикрыть обличительное начало. Притча — не специально христианское нововведение. Большое количество притч мы встречаем и в Ветхом завете.
Итак общественная проповедь Иисуса у синоптиков строится в общем в рамках ближневосточной традиции; о греческом влиянии можно говорить в какой-то мере только по отношению к самому литературному из евангелий — евангелию Луки, да и то это касается не ораторской, учительной части, а повествовательной с ее элементами лиризма и жанровости.
Совершенно иной характер носят беседы Иисуса с учениками в евангелии, приписываемом Иоанну Богослову. В них излагается не практическая мораль, как в нагорной проповеди, а переосмысленное в духе христианской мистики позднеэллинское учение о Логосе; речь представляет собой бесконечные вариации определенного круга мыслей — тезисов: «Если мир вас ненавидит, знайте, что он меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, поэтому ненавидит вас мир...» В таком же тоне выдержаны и,дошедшие до нас апокрифические, гностические новозаветные тексты. По-видимому, это было вызвано исторической ситуацией, острой идейной борьбой, догматическими спорами среди первых христиан, Необходимостью в пространных апологических речениях отстаивать определенные вероучительные позиции. В целом же рассуждения иоаннова Иисуса по своему стилю далеки от живой речи, носят книжный характер и воспринимаются как части какого-то богословского трактата. Наиболее же полное представление о характере проповеди и бесед в раннехристианских общинах дают послания Павла. В жанровом отношении они близки к античной диатрибе; кстати, ведь именно в форме диатрибы предпочитали излагать свое учение стоики, а их идейное соприкосновение
с христианами общеизвестно. Недаром была сочинена переписка Павла с «дядей христианства» Сенекой. Диатриба, возникшая в III веке до н. э. в школе киников, — это своего рода общедоступная лекция на философскую тематику. Диатриба, естественно, предназначалась для устного общения, в то время как паулинистские сочинения — это письменные послания крупнейшим церквам. Однако послания пронизаны разговорным началом, с диатрибами их роднит живость, образность, увлечение сентенциями. Автор часто вступает в диалог с воображаемым собеседником, обращается непосредственно скорее к слушателю, чем к читателю, причем глаголы нередко употребляет в форме второго лица единственного, а не множественного лица: «Как же ты, уча другого, не учишь самого себя? Проповедуя не красть, крадешь? Говоря «Не прелюбодействуй», прелюбодействуешь?» Эти и другие вопрошания рассчитаны как бы на восприятие со слуха: «Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько; ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины — все под грехом». Каких художественных высот, какой внутренней напряженности достигало слово Павла, особенно если представить его себе не написанным, а звучащим, можно судить по такому рассуждению: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не .имею, то я — медь звенящая, или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто. И если я раздам все имение свое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит». Нужна была большая смелость, чтобы поставить любовь выше веры и мученичества за веру.
Павловы послания структурно близки к жанру церковной проповеди. На II—III вв. приходится созревание этого жанра, на IV в. — его расцвет.
В языческих религиях не было проповеди как таковой. Высшее религиозное знание считалось мистическим озарением, доступным только жрецам; непосвященные довольствовались обрядностью. Всякого рода теоретизирование было в сфере философской, а не религиозной. И тот слой, который можно назвать античной интеллигенцией, был далек от религии. Античные же ораторы не поднимали вопросов религиозного содержания.
Учительное слово первых христианских проповедников, которых принято называть апостолами, носило двоякий ха
рактер: с одной стороны, это миссионерское обращение в храме, синагогах, на площадях, ареопаге, в частных домах к тем, кто еще не принял нового учения, и в этом случае оно тождественно с речами Иисуса; с другой стороны, это внутрицерковные разъяснения и призывы, рассчитанные на реальный уровень духовно-нравственных потребностей верующего. Постепенно проповедь становится неотъемлемой частью литургического обихода и сосредоточивается у священнослужителей, а не у частных лиц. Проповедь окончательно монологизируется и предназначается для безмолвного выслушивания присутствующими. Проповедь в основном обозначали два термина: didascalia (обучение) и homilia (общение, собеседование). Термин logos (слово) применялся главным образом к письменным поучениям.
ХРИСТИАНСКАЯ АПОЛОГЕТИКА II—III вв.
Начиная со II века, христианство быстро распространяется на Восток по бассейну Средиземного моря, в Малой Азии, в Египте, Месопотамии, Сирии. Что касается Запада, то из Рима христианство перекидывается в Галлию, Северную Африку.
Хотя западные церкви были значительно моложе восточных, можно говорить о том, что и те и другие сохранили единство вероучения, церковного устройства и религиозного обихода. Немало способствовало этому и то, что многие деятели западной церкви (например, Ириней Лионский) были родом с Востока. Однако римские и африканские христиане подвергались большим гонениям, нежели восточные. Необходимость отправлять службы в катакомбах и других потаенных местах, естественно, не содействовала совершенствованию формы проповеди.
Христианству пришлось бороться и с традиционным языческим мировоззрением и с иудаизмом в двух его вариантах: мертвенно-догматическом и мистически-аллегорическом. В самих христианских общинах не было мира. Зарождаются ереси, противостоящие ортодоксальной вере, усиливается гностицизм, ‘появляется ригористическое учение Маркиона. Религиозная борьба вызывала к жизни апологетику. Намечается сдвиг от непосредственного интуитивного веропонима-ния к аналитическому, философскому восприятию основ веры, к стремлению придать догматический характер этим основам. Немалую роль сыграло то обстоятельство, что в христианские общины стали вступать не только простолюдины (вспомним, как издевался Цельс над тем, что сапожники, угольщики и другие невежественные люди были провозвестниками нового учения), но и люди утонченного «языческого» образования.
От II века до нас сохранились в основном апологетические трактаты и лишь незначительная часть гомилетического наследия. К сожалению, не сохранились проповеди такого деятеля как Тертуллиан (160—220 гг.). Но, будучи пресвитером, он, по церковным правилам, должен был вести проповедническую деятельность и, по-видимому, был оратором незаурядным. Во всяком случае, его трактаты по своему характеру близки к устным выступлениям. Строй мышления и литературный стиль Тертуллиана отмечены парадоксализ-мом. «Что общего между Афинами и Иерусалимом? Между Академией и Церковью? — вопрошает апологет в трактате «О предписании» и заключает: «Нам после Христа не нужна никакая любознательность; после евангелия не нужно никакого исследования»48. Несоизмеримость веры с разумом выражены им предельно эксцентрично: «Сын божий был распят — не стыдимся этого, потому что это постыдно; сын божий умер — вполне верим этому, потому что это нелепо; и погребенный воскрес — это верно, потому что это невозможно»...49 Такие чисто ораторские приемы мы встречаем и в других сочинениях Тертуллиана. ’
В латинской апологетике был уклон в пропаганду вероучения, что и привело к тщательности в риторической обработке как письменных трудов, так и публичных речей. На Востоке же преобладала философская умозрительность. Мы можем получить некоторое представление о направленности и стиле устной апологетики в восточной церкви по собеседованию философа Иустина с ученым евреем по имени Трифон в Эфесе около 135 года. Эту полемику Йустин восстановил, несомненно, с дополнениями и в редакционной обработке, в своем сочинении «Разговор с Трифоном».,
В начале беседы Трифон высказал убеждение, что иудеи всегда будут получать спасение через соблюдение моисеева закона. Иустин стремился доказать, что обрядовый закон Моисея имел временный и преобразовательный характер, и с пришествием истинного мессии Йисуса потерял свое значение. В борьбе с иудейством апологету приходилось опираться исключительно на ветхозаветные книги, этот единственный прочный авторитет для иудеев. Вот слова Трифона: «Поэтому если хочешь послушаться меня (а я смотрю на тебя уже как на друга), то сперва прими обрезание, потом, как узаконено, соблюдай субботу и праздники и новомесячии божьи и вообще исполняй все написанное в законе, и тогда, быть может, будет тебе милость от бога». А вот образец последовательных — пункт за пунктом — возражений Иустина: «что пользы в том омовении, которое очищает только
48 История философии. М., 1941, т. 1, с. 388.
49 Т а м же.
тело? Омойтесь душой от гнева и любостяжания, от зависти, от ненависти, и тогда все тело будет чисто»... это дается «через баню покаяния и познания бога», о которой говорит Исаия... Вместо плотского обрезания «обрежьте грубость сердец ваших и не будьте жестоковыйны», как говорит Моисей... Только снисходя к слабости народа, бог повелел приносить жертвы, чтобы вы не идолопоклонствовали, а не потому, чтобы они нужны были ему. Послушайте, как об этом говорит он через Амоса, Иеремию и Давида... Субботу он повелел соблюдать для того, чтобы вы помнили бога, как говорит Иезекииль...» И далее в таком же роде.
В III в. начинают обращать особое внимание на фиксацию проповедей. Так, к Оригену (185—253 гг.), крупнейшему теологу, использовавшему для целей христианской догматики стоический платонизм, были приставлены скорописцы (tachygraphoi). Несомненно, он диктовал им не только свои ученые трактаты, но и проповеди. Однако ценность представляют не столько гомилии Оригена с их мистико-аллегорической эксегезой, сколько соображения Оригена касательно проповеднического искусства. Раньше на проповедь смотрели только как на плод вдохновения свыше и благодатного дарования. Ориген же выдвигает значение специальной подготовки проповедника.
А каковы были речевые средства выразительности у духовного оратора? Евсевий тоном осуждения пишет о том, что еретик III в. Павел Самосатский, предшественник ариан и несториан, во время речи ударял руками по бедрам, топал ногами и т. д. Значит, церковь не одобряла внешних приемов, к которым прибегали языческие ораторы, и поощряла в проповедниках сдержанность. Это же качество ценилось и в слушателях. Недаром в жалобе епископов на того же Павла Самосатского упоминалось, что он поддерживал аплодисменты, крики, маханье платками и даже подскакивания.
В III в. начинается развитие других видов духовного красноречия: это похвальные речи и речи на освящение храмов. Особенно интересен первый жанр. Похвала воздавалась святым, прежде всего мученикам, в назидание верующим и генетически была связана, с одной стороны, с так называемыми мученическими актами, и, с другой, — с античными панегириками.
На уровне требований гомилетики Оригена находился его современник Григорий Неокесарийский (211—270 гг.). Проповеди его отличаются не только патетикой, но и тщательной риторической обработкой, продуманным применением троп и фигур. Особенное тяготение проявляет этот оратор к единоначалию, к симметричному построению предложений, к периодичности речи. Это ярко сказывается в слове Григория на Богоявление. В Новом завете Иоанн Предтеча и 52
Иисус перед крещением в Иордане обмениваются несколькими фразами; пылкая фантазия проповедника сочиняет длиннейшие монологи такого типа: «Когда увидишь, что я очищаю прокаженных, то проповедуй обо мне как о творце природы; когда увидишь, что я хромых делаю быстроногими, тогда настрой свой язык к прославлению меня; когда увидишь, что я изгоняю демонов, то почти мое царство... Мне должно исполнить закон и тогда уже сообщить благодать; мне должно прежде произвести тень и потом уже саму истину; мне должно положить конец Ветхому завету и потом уже проповедывать Новый... Погрузи меня ныне в струи иорданские подобно тому, как родившая повила меня младенческими пеленами; преподай мне крещение так же, как Дева давала мне молоко; прикоснись к моей голове, перед которой благоговеют и которой поклоняются серафимы...» и далее в таком же роде.
Слово по поводу того же праздника .сохранилось от другого проповедника оригеновой школы — Ипполита. Иероним называет его искуснейшим в слове {vir dissertissimus), а видный византийский ученый и богослов VIII века Фотий хвалит его за ясность речи, не лишенной и аттических красот. Свою проповедь он начинает с риторических вопрошаний: «Что прекраснее неба? Что разноцветнее земной поверхности? Что быстрее солнечного луча? Что приятнее лунного сияния? Какое из животных превосходит человека?..» Эти вопросы подводят к выводу: все, сотворенное Творцом, совершенно. А далее, как и у Григория, сменяют друг друга речи библейских персонажей, причем сказывается особое пристрастие оратора к антиномиям. Так, Иоанн Креститель говорит о себе: «Я частный человек, а не царь; я овца, а не пастырь; я человек, а не бог; я от нижних, а не от высших..., я бла-говествую жизнь вам, сидящим во тьме неведения; придите от рабства к свободе, от тирании к царству, от тления к нетлению» и т. д.
Приближаясь к IV в., нельзя обойти молчанием Киприана, епископа Карфагенского. Новый Карфаген был основан Августом вблизи развалин древнего, разрушенного в третью Пуническую войну, и скоро стал столицей римской Африки. В этом городе было немало философских и риторских школ. На площадях собирались толпы послушать знаменитого оратора или софиста. Именно здесь выступал остроумнейший Апулей. И крепнущее — то терпимое, то гонимое — христианство выдвинуло в Карфагене своих мыслителей и ораторов. Об одном из них — Тертуллиане уже шла речь. Младшим его современником был епископ Киприан. Он умер пятью годами позже Оригена, иными словами, жил и действовал с ним в одни и те же десятилетия. Но какая разница между этими двумя деятелями — восточным и западным! Все
силы Оригена были направлены на разработку теоретических доктрин христианства. Сфера деятельности Киприана — организация церковного устройства, единство иерархической власти, строжайшая дисциплина. Киприан получил блестящее риторическое образование и в годы, предшествовавшие его обращению в христианство, был судебным оратором. Став христианским апологетом, он не проявил склонности к патетике и парадоксализму, чем отличался его старший соотечественник Тертуллиан. И хотя ни об одном из дошедших до нас сочинений нельзя сказать, что оно было произнесенной речью, трактаты Киприана можно рассматривать как образцы западной проповеди III века. Во всяком случае, именно с этой точки зрения подходили к ним в древности. Так, Лак-танций утверждает, что Киприан «был человек ума подвижного, гибкого, сильного, приятного, и что особенно хорошо в проповеди, ума открытого». Иероним находит его речь похожей на «источник чистейшей и сладкой воды». Августин называет его «яснейшим» и «убедительнейшим» (lucidissimum et suasissimum). Эразм Роттердамский, приводя эти слова Августина, не без иронии замечает: «О, если бы Августин подражал его красноречию в такой же степени, в какой восхищался им...».
Наиболее близки к проповеднической области киприановы послания к мученикам и вообще к клирикам и народу во время гонений. В «Послании к Донату» Киприан в образной форме рассказывает о своем духовном перерождении — переходе из язычества в христианство. В этом сочинении чувствуется, что Киприан, порвав с языческой античностью духовно, не отказался от достижений античного ораторского искусства и культуры в целом. Кое в чем он перекликается даже с Горацием.
ПОЗДНЕАНТИЧНОЕ КРАСНОРЕЧИЕ
III в. принес греко-римскому миру социальные и политические потрясения: с калейдоскопической быстротой сменялись императоры, которых ставила и низвергала армия (за 70 с небольшим лет сменилось 37 властителей!), что сопровождалось гражданскими смутами; кроме того, государству приходилось сдерживать натиск внешних врагов. Перед всем этим искусство слова отступило на второй план. В IV в. при Константине положение Римской империи несколько стабилизировалось. Хотя ведущую роль в обеих ее частях — восточной и западной — играли уже христианские писатели, античная языческая традиция не умерла; напротив, она, как сказано, выдвигает плеяду блестящих талантов, но этот удивительный взлет по существу был уже предсмертным.
Наиболее заметный след в позднем красноречии оставил Либаний, точнее Ливаний (314—393 гг.). После учения в Афинах и долгих странствий в качестве софиста по мало-азийским городам он обосновался в Антиохии, откуда был родом. Как упоминалось, из его риторической школы вышли выдающиеся деятели как языческой, так и христианской культуры. Помимо декламаций на мифологические и исторические сюжеты, обширной переписки и пространной автобиографии, от Либания дошло около 70 речей. Из них можно почерпнуть ценнейшие сведения об укладе жизни в городах того времени, прежде всего Антиохии, о деятельности воспитанника и любимца Либания — императора Юлиана, о религиозных, социальных и моральных проблемах, встававших перед обществом.
По-настоящему увлекательна и поэтична хвалебная речь в честь Антиохии. Оратор восторженно славит родину: «Она прекраснейшее место страны прекраснейшей из всех стран, лежащих под небом». Далее перед слушателями прямо-таки зрительно встает живописная картина шумного южного города: «Когда ты идешь по этой улице, то перед тобой стоят частные дома, повсюду между ними вклиниваются государственные здания, то храмы, то купальни, расположенные так, что из любой части города к ним легко пройти; и у всех этих домов входные двери выходят в портики... У жителей иных городов дальние расстояния служат помехой общению. ... Наши длинные портики обеспечивают нам возможность получать не только удовольствия, но и самое важное в человеческой жизни. К ним примыкают и ристалище, и театр, и купальня... В театре то сливаются, то спорят друг с другом звуки флейт, кифар и голоса певцов, а на сцене разыгрываются представления...» Оратор находит удивительно свежие краски, чтобы живописать самые, казалось бы, обыденные вещи: «Насколько прозрачна у нас вода, ты можешь легко увидеть, если наполнишь бассейн, а потом прекратишь приток воды; он тебе покажется пустым, настолько ясно сквозь воду просвечивает дно; уж я и не знаю, способно ли это зрелище скорее распалить жажду или утолить ее; оно и манит выпить воды и радует взгляд до того, как ее выпьешь»50.
Совсем в ином тоне выдержана монодия на храм Аполлона в Дафне. В предместье Антиохии Дафне в 362 г. н. э. сгорел храм Аполлона и Артемиды. Речь построена на контрастном описании того, что было, и того, что стало: «О Зевс! Сколь безмятежна была сама Дафна, насколько безмятежнее ее храм, словно сама природа создала возле залива этот
50 Поздняя греческая проза. М., 1960, с. 592—594. Пер. М. Е. Грабарь-Пассек.
залив — и тот, и другой безбурны, но второй дарует большее успокоение; кто мог не найти там исцеления от болезни, от страха, от горя? Кто стал бы стремиться оттуда на «острова блаженных»?.. Испустил крик прохожий, шедший на ранней заре, возопила жрица бога, любимая им обитательница Дафны; удары в грудь и пронзительные вопли понеслись по густой роще и достигли города, распространяя страх и ужас... Горящие стропила рушились и губили все, на что попадали, раньше всего на статую Аполлона... А народ толпился вокруг, рыдая, бессильный помочь, — так бывает с теми, кто, стоя на берегу, видит крушение корабля и может помочь только тем, что проливает слезы»51.
Большое внимание уделяет Либаний теории и практике ораторского искусства. Владение красноречием он считает одним из главных признаков принадлежности человека к обществу и государству. Из речей Либания можно почерпнуть занятные сведения о своеобразном укладе жизни в риторических школах. Либаний — превосходный стилист, что особенно примечательно и ценно, поскольку в позднеантичном красноречии царила вычурность. Он охотно применяет риторические приемы, но они не подавляют содержания и не заставляют с трудом пробиваться сквозь их толщу к сути дела. Ритмичность и периодичность построения фразы опять-таки не вырождаются в самоцель: речь Либания во всех ее частях легко воспринимается и на слух, и с листа. Далек оратор и от кокетства аттическим диалектом, изъясняясь на нем так естественно, как будто он был и для него и для его слушателей-современников живой нормой.
Как разительно отличаются от Либания его коллеги-сверстники Фемистий (320—390 гг.) и Гимерий (315—386 гг.)! Дело не только в том, что они уступают ему талантом. Фемистий — убежденный рационалист, поклонник аристотелевой логики, платоновой и сократовой системы доказательства истины; поэтический пафос ему органически чужд. Его речи — а это преимущественно панегирики — отмечены предельной серьезностью содержания и строгой архаичностью стиля. Они представляют интерес скорее как исторические источники, чем как литературные произведения.
Гимерий, напротив, далек от политики и философии. Его кумиры — не Платон и Аристотель, а лирики. Речи Гимерия пронизаны жизнерадостным, нередко бездумным лиризмом. Обилие сравнений, метафор, антитез и других риторических фигур и тропов приближает гимериев стиль к азианизму.
51 Памятники позднего античного ораторского искусства. М., 1964, с. 64—65. Пер. М. Е. Грабарь-Пассек.
Сохранились фиктивные исторические речи Гимерия (о Фемистокле, о Демосфене), похвальные речи префектам городов и оригинальные по своему жанру свадебные речи, так сказать, эпиталамии в прозе. И так как именно в последних наиболее ярко сказалось то, что типично для Гимерия: буйство звучного слова, брызжущая радость бытия, юмор, приведем отрывок из эпиталамия, обращенного к ученику Северу: «Они (жених и невеста. — А. К.) — как молодые розы на одном лугу, в одно время появились на свет, в одно время раскрывают свои лепестки; душевное же их сродство удивительно — оба стыдливы и чисты нравом и отличаются друг от друга только свойственными природе каждого занятиями. Она изощрилась в тканье шерсти, славном деле Афины, он обретает радость в трудах Гермеса; у нее на уме ткацкий челнок, у него — речи; она держит лиру, он не расстается с книгой; ее любит Афродита, его — Аполлон. Новобрачный — первый среди юношей, невеста — среди дев; он еще безбород, и его щеки покрыты первым пухом, она созрела для брака. Сапфо сравнивает деву с яблоком; людям, которые хотят до времени сорвать его, яблоко не дает дотронуться до себя даже кончиком пальцев, а тому, кто будет ждать срока, оно подарит прелесть своей зрелости»52.
Как-то трудно себе представить, что среди учеников автора таких строк одно время находились Василий Кесарийский и Григорий Назианзин. Объяснение нужно искать, по-видимому, в том, что и Гимерий, а также Либаний, у которого тоже учились упомянутые «отцы церкви», равно как и Иоанн Златоуст, не были непримиримыми язычниками, проявляли известную веротерпимость и все силы направляли не на проповедь определенного мировоззрения, а на обучение искусству всемогущего слова.
Зато фанатично, был предан языческой религии и столь же фанатично боролся с христианством еще один ученик, да к тому же верный друг Либания — император Юлиан, прозванный в христианской литературе «Отступником» (331 — 363 гг.). Краткая жизнь его оказалась удивительно насыщенной и трагической. Юлиан пытался восстановить политеизм как государственную религию, синтезировав его с. неоплатонизмом и восточными верованиями. Юлиан был далек от умозрительности, античные мифы осмыслялись им аллегорически и в то же время морализаторски, особую тягу реформатор испытывал к культу и всякого рода гаданьям, магическим действам, пророчествам.
52 Поздняя греческая проза. М., 1960, с. 609. Пер. М. Е. Грабарь-Пассек.
Сочинения Юлиана отличаются жанровым разнообразием: среди них и философские трактаты, и носящие характер декламаций письма, и поэтические произведения. Сохранились и речи. Это гимны «К царю Солнцу» и «Матери богов», панегирики императору Констанцию и императрице Евсевии. С некоторой натяжкой к ораторскому жанру можно отнести автобиографическое «Послание к сенату и народу афинскому». Оно весьма обширно и вряд ли могло быть произнесено за один прием. Представляло ли из себя это «Послание» устное выступление или своего рода открытое письмо, неизвестно. Но так или иначе, оно выдержано в разговорных интонациях. Вот как живо описывает Юлиан свое состояние после назначения его в 355 году цезарем в Галлию: «О, боги, какое рабство, какой страх и угроза, ежедневно висящая над головой! Двери на засовах, стража у ворот, руки моих рабов под строгим надзором, как бы ко мне не проскочила записочка от моих друзей. Прислужники все чужие; лишь с трудом удалось сохранить при дворе четырех моих собственных рабов, двух маленьких мальчишек и двух постарше, для личных услуг; один из них знал о моей вере в богов и тайком, насколько мог, участвовал в совершении обрядов...»53
Почти все, дошедшее до нас от Юлиана, было сочинено им во время двухлетнего правления, и ясно, что дар литературный и ораторский не смог проявиться полностью. Стиль Юлиана нервозен до истеризма; риторическая вычурность затрудняет понимание и перевод его творений.
Своеобразная, противоречивая, окруженная ореолом трагизма личность кратковёчного утописта привлекала к себе внимание во все времена вплоть до начала XX века, когда в обстановке богоискательства появился глубоко реакционный по своей концепций исторический роман Д. С. Мережковского «Юлиан Отступник» как первая часть трилогии «Христос и Антихрист». Живучим оказалось предание о том, что, будучи смертельно ранен в битве с парфянами, Юлиан воскликнул, имея в виду Иисуса: «Все же ты победил, галилеянин!»
Совлечь романтический и мистический флер с фигуры Юлиана, осознать исторически обусловленную утопичность и обреченность его идеалов помогает замечание К. Маркса в передовице № 179 «Кельнской газеты»: «Это направление, к которому принадлежал еще император Юлиан, полагало, что можно заставить совершенно исчезнуть дух времени, пролагающий себе путь, — стоит только закрыть глаза, чтобы не видеть его»54.
53 Поздняя греческая проза, с. 44—45.
54 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 1, с. 99.
ВОСТОЧНАЯ ПАТРИСТИКА IV в.
IV век н. э. принес заключительный взлет античного ораторского искусства и расцвет духовного красноречия Восточной и Западной христианской церкви. Для последней этот век имел двоякое значение: христианская религия из гонимой сделалась господствующей, и было закреплено деление римской империи на восточную и западную. Восток был оплотом греческой культуры и образованности, Запад — латинской. Это имело далеко идущие последствия и в исторической перспективе в XI в. обернулось схизмой — обособлением друг от друга католицизма и ортодоксии. Итак, христианство одержало политическую победу, но был еще силен авторитет язычества в сфере духовной культуры, прежде всего в философии, литературе, риторике. Простыми наскоками и враждебными бездоказательными выпадами этот авторитет нельзя было ни подорвать, ни даже поколебать. Жизнь, конкретные исторические условия диктовали необходимость усвоить достижения «языческой культуры», прежде всего риторику и диалектику (хотя бы в ее неоплатоновском варианте).
Кроме того, IV в. пронизан борьбой ортодоксии с еретиками, прежде всего с арианами, среди которых были опытные и влиятельные ораторы. Центральная проблема, вызывавшая горячие споры, носила онтологический характер: это был вопрос о соотношении лиц троицы (так называемый тринитарный вопрос). Александрийский пресвитер Арий выступил с проповедью, в которой он, опираясь на античный рационализм, утверждал, что бог-сын (логос) не «единосущен», а «подобен» богу-отцу. Хотя арианство было осуждено на Никейском соборе 325 г., оно имело много приверженцев и среди правящей верхушки, и в социальных низах. Перед апологетами ортодоксальной церкви стояла необходимость вести острую религиозно-догматическую полемику, вести ее последовательно, уверенно, позитивно, ибо к IV в. заметно изменились умонастроения христиан вообще: отошло в прошлое ощущение реального и непосредственного общения с божеством, острота эсхатологических чаяний. Чтобы дойти до ума и сердца людей, нужно было прежде всего обратиться к искусству слова, причем не к позднеантичному красноречию с его беспредметностью и эстетством, а к классическому ораторскому искусству, назначением которого было «услаждать, убеждать и побуждать». Происходит диалектически противоречивый процесс усвоения изощренной риторики последних веков античности и возврата к целенаправленности речей ораторов афинской демократии V — начала IV в. до н. э.
Первым, кто выступил против арианства и развил догмат о «единосущии», был Афанасий (293—373 гг.), александрий-
ский епископ с 328 г. Против ариан им была составлена «Апология», а также окружное послание епископам Египта и Ливии. В них он, следуя апологетической традиции, прибегает к вопрошаниям и антитезам: «Они (ариане) обладают зданиями (храмов), а вы (ортодоксы) — верой апостольской; они владеют местом, но чужды истинной веры; у вас отнято место, но цела вера. Что важнее: место или вера? Ясно, что вера ваша. Кто утратил, а кто приобрел: тот, кто обладает местом или тот, кто имеет веру? Хорошо и место, где проповедуется апостольская вера. Свято и место, когда там обитает святой».
Афанасий Александрийский оказал заметное воздействие на современную и последующую патристику. Центром восточнохристианской патристики был каппадокийский кружок. Основную роль в нем играли Василий Кесарийский, Григорий Назианзин и Григорий Нисский.
Наиболее популярным среди современников и оставившим след в веках был Василий (330—379 гг.), сын ритора, епископ, блестяще образованный и очень плодовитый писатель и проповедник. Читая речи Василия, сталкиваешься с любопытным явлением: сын своего века, Василий ориентируется не на позднеантичное красноречие с его адресатом — узким кругом любителей-эстетов, — а на классическое ораторское искусство V—IV вв. до н. э., когда слово было не объектом эстетской игры, а орудием социальной борьбы, средством целенаправленного воздействия и на общество в целом и на составляющих его индивидуумов. Предание говорит, что Василий даже требовал, чтобы слушатели прерывали его проповедь, если что-либо в ней было для них непонятным. Василий далек от созерцательности; этот властный иерарх ставил перед собой весьма деловые задачи; практической направленностью отмечены его гомилии, прежде всего девять бесед на Шестоднев. Василий не ограничивается чисто философской проблематикой, а с щедростью просветителя торопится поделиться своими знаниями в области естественных наук. Эти экскурсы, часто наивные, могут сделать значительные перерывы в развитии основной сюжетной линии, но зато они сообщают речи образность, занимательность, качества столь необходимые для достижения доходчивости.
Сравнительно недавно установлено авторство Василия в отношении двух гомилий, явно примыкающих к Шестодневу, но до сих пор приписывавшихся Григорию Нисскому. Приведем из первой гомилии пример того, что в XVII в. на Руси Дмитрий Ростовский называл «прикладами простейших ради». Так, библейские слова «Да владычествуют они (люди. — А. К.)' над рыбами» проповедник поясняет наглядной картиной рыбной ловли: «Я наблюдал человеческую изобретательность; видел, как делают устройство из крючков, на-60
саживают на них приманку, соответствующую размерам тех существ, которые будут ее заглатывать. Затем к нижним концам веревок подвешивают крючки, а к верхним привязывают надутые воздухом бурдюки и оставляют их плавать на поверхности моря. Морские чудовища набрасываются на приманку и заглатывают скрытые в ней крючки, а затем увлекают бурдюки в пучину. Поскольку по своей природе бурдюки стремятся подняться, чудовища снова всплывают на поверхность. Будучи пронзенными своей собственной пищей, они неистово прыгают вверх и вниз; так они бороздят пучину, проплывая бесконечные воды, напрасно предпринимая великий труд: в конце концов они становятся жертвой упомянутого крючка. Укрощенные болью, изнуренные голодом и, наконец, издохшие, они тащатся .за бурдюками и делаются добычей рыбаков. Маленькому достается великое, бессильное — огромному»55.
Не приходится доказывать значение подобных отвлечений как источников по истории культуры, причем, как видим, не только духовной, но и материальной.
И совсем уж мирской характер носит речь Василия против пьянства: «Самых близких не узнают пьяные, а к чужим бегут, как к знакомым; часто прыгают через ручей или ров. А слух у них наполнен звуками и шумом, как у волнующегося моря. Им представляется, что земля поднимается вверх и горы идут кругом. Они то смеются неумолчно, а то беспокоятся и плачут неутеп/но; то дерзки и неустрашимы, то боязливы и робки. У них сон тяжелый, почти непробудный, удушающий, близкий к настоящей смерти, а бодрствование бесчувственнее сна... Глаза у них синие, кожа бледная, дыхание тяжелое, язык нетвердый, произношение неявственное, ноги слабые, как у детей, отделение излишеств происходит само собой, вытекая, как из мертвого. ... Долго ли будет пьянство? Есть ведь опасность, что из человека ты сделаешься грязью: так ты весь растворен вином и перегнил с ним от ежедневного опьянения; от тебя несет вином, притом перегорклым, как из негодного сосуда».
О младшем брате Василия, Григории Нисском (335— 394 гг.), нецелесообразно говорить как об ораторе, так как он более тяготел к спекулятивной философии, чем к проповедничеству. Значительно ярче как проповедник проявил себя Григорий Назианзин (329—390 гг.), получивший образование в Кесарии, Александрии, Афинах. Личность эта очень своеобразная, трагично относившаяся к тем вопросам, которые принято называть проклятыми. Неожиданно звучат
55 Sources chreti£nnes. Paris. 1970, t. 160, p. 185. Пер. A. 4. Ko-заржевского.
стихотворные строки, написанные рукой кандидата на патриарший престол Константинополя:
«Кто я? Откуда пришел? Куда направляюсь? Не знаю и не найти никого, кто бы наставил меня...»56
По сравнению с другими членами каппадокийского кружка Григорий Назианзин наиболее литературен, это выражается и в тщательности стилистической отделки речей, и в подчеркнутой личной позиции, и в использовании наследия художественной литературы.
Вот в каких выражениях говорит Григорий о своей дружбе с Василием: «Афины приняли нас, словно поток речной; оторвались мы от одного источника-отечества, разошлись в чужие стороны из-за любви к учению и снова сошлись вместе по мановению божию, словно по взаимному соглашению»57.
Обличая императора Юлиана, прозванного Отступником, он делает экскурс в античную мифологию, даже цитирует трагедию Еврипида «Орест»: «Обратись к своим книгам и ужасным преданиям, которыми восхищаются не только поэты, но и философы, припомни- свои Перифлегетоны, Коциты и Ахеронты, где наказуются за неправду Тантал, Титий, Ик-сион... Ваш император Юлиан из той же братии, он будет причислен к ним и даже предварит их — таково мое слово и определение: «не жаждой наказуем, стоя по горло в озере, не страхом охвачен от нависшей скалы над главою; беспрестанно скользящей вверх, вниз» — согласно трагедии. Его не будут -вращать на быстро кружащемся колесе, и птицы не будут терзать его печень, которая никак не уменьшается, а только увеличивается; правда ли это, сказка ли, указывающая на правду посредством вымысла, но мы увидим, какие муки он тогда претерпевает, гораздо тяжелее этих, потому что кара и возмездие соразмерны прегрешениям»58.
Но, конечно же, вершина красноречия патристического периода — это речи Иоанна Златоуста (Хрисостома) (ок. 347— 407 гг.). Хотя этот крупнейший деятель восточно-христианской церкви, богослов и оратор, не был членом каппадокийского кружка, церковная традиция соотнесла его с каппадокийцами и создала канон «трех вселенских святителей и учителей»: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Природный дар слова сочетался в Иоанне Златоусте с блестящим риторическим образованием, полученным
56 Памятники византийской литературы IV—IX веков. М., 1968, с. 70. Пер. С. С. Аверинцева.
57 Памятники византийской литературы IV—IX веков, с. 80. Пер. Т. В. Поповой.
58 Памятники византийской литературы IV—IX веков, с. 82. Пер. Т. В. Поповой.
у знаменитого Либания. Творческое наследие Иоанна поражает своими размерами и разнообразием жанров. От него остались толкования библейских текстов, литургия, трактаты, письма, диалоги, беседы на моральные темы, обличительные и похвальные речи и т. д.
В отличие от уравновешенных, рассудительных проповедей Василия Кесарийского с их общеобразовательными экскурсами и даже с юмористическими нотками речи Иоанна Златоуста предельно патетичны и в то же время до филигранности отделаны в духе античной риторики в двух ее основных ветвях: аттической и азианской. Жар души своей проповедник направлял, во-первых, на обличение роскоши, стяжательства и распущенности высшего духовенства и придворных кругов во главе с императрицей Евдоксией, во-вторых — на фанатичное преследование еретиков, в третьих — на нравственное совершенствование верующих, воспитание в них аскетического отношения к мирской суете. Веря во всемогущество слова, Иоанн сделал девизом своей деятельности такой тезис: «Один человек, охваченный пламенной ревностью, может перевоспитать целый народ». Сам Иоанн очень трагично ощущал казавшуюся ему несовместимость воспитательной пользы речи и совершенства ее формы: «Это и портит церковь, что вы, — обращался он к своим слушателям, — хотите слушать не такие проповеди, которые задевали бы вашу душу, но такие, которые ласкают ваши уши напевностью и звучностью слов, как будто вы слушаете певцов или кифаредов... Когда вы выражаете одобрение моей проповеди, я чувствую то, что испытал бы на моем месте каждый. Откровенно скажу — почему же не сказать? — я обрадован, я в восторге. Но после, когда я иду домой и начинаю думать, что толпа, выкрикивавшая мне похвалы, не получила подлинной пользы от проповеди, что эта польза была Заглушена похвалами и восклицаниями, на моем сердце грустно, я скорблю и плачу...»
Однако как раз ораторские приемы: вопрошания, восклицания, повторы, ритмические перебои, пластическая образность — приводили к неотразимому психологическому воздействию речей Иоанна. Ситуацйя, в которой они произносились, конечно была разнообразной. Проповеди, приуроченные к определенным церковным праздникам, наверное, тщательно готовились заранее. Так, чтобы составить так называемое огласительное слово, которое было произнесено на пасху, у проповедника было, по-видимому, достаточно времени. Весомо каждое слово, отделана каждая фраза. Сначала слушатель приглашается «усладиться прекрасным и светлым торжеством». Далее идут вариации одной и той же мысли применительно к традиционному в древности делению суток: «кто от первого часа работал, получи сегодня
заслуженную плату. Кто после третьего часа пришел, благодарственно празднуй. Кто явился после шестого, нисколько не сомневайся, ибо ничего не теряешь. Кто опоздал до девятого, приходи, ничуть не колеблясь. Кто1 подоспел лишь к одиннадцатому, и тот не бойся опоздания; ибо щедр домохозяин: принимает последнего, как и первого...» Праздник, таким образом, представляется как пир веры. Далее идет смелая метафора: духовной пищей служит Иисус в образе тельца: «Трапеза полна: насладитесь все. Телец — многообильный: никто да не выйдет алчущим». Равность всех в вере выражается антиномичными парами: «Богатые и бедные, друг с другом ликуйте. Воздержные и беспечные, почтите день. Постившиеся и не постившиеся, ныне веселитесь». Проповедник прибегает к остранению: ад готовился принять свою добычу — мертвеца, а встретил воскресшую плоть и от этого впал в горе, о котором проповедник говорит анафорами: «Огорчен, ибо упразднен; Огорчен, ибо осмеян; Огорчен, ибо умерщвлен; Огорчен, ибо низвергнут; Огорчен, ибо связан». Оратор бросает в толпу ликующие риторические вопросы: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Часто исключалась возможность предварительной тщательной подготовки и требовался экспромт. Так, например, когда заклятый враг проповедника евнух Евтропий, лишившись своего былого могущественного положения временщика и подвергаясь смертельной опасности, прибежал в храм Софии, надеясь сохранить там свою неприкосновенность, Иоанн обратился к нему с речью явно импровизационного характера и вместе с тем построенной по канонам патетического плача-трена: «Всегда, а теперь особенно время воскликнуть: «Суета сует и все суета*. Где теперь ты, светлая одежда консула? Где блеск светильников? Где рукоплескание, хороводы, пиры и празднества? Где венки и уборы? Где вы, шумные встречи в городе, приветствия на ипподроме и льстивые речи зрителей? Все минуло. Ветер сорвал листья, обнажил перед нами дерево и потряс его до корня. Порывы ветра все сильней, вот-вот они уже вырвут корень и переломят ствол. Где вы, придворные друзья? Где попойки и пирушки? Где рой нахлебников? Где вечно наполняемая чаша нерастворенного вина? Где поварские хитрости? Где приспешники, все говорящие и делающие для угождения властям? Все это было ночное сновидение, но настал рассвет, и оно рассеялось. То были вешние цветы, но отошла весна, и они увяли. Тень была и убежала. Дым был и развеялся. Брызги были и исчезли. Паутина была и порвалась. Поэтому мы без конца и неустанно повторяем это духовное речение: «Суета сует и все суета»59.
59 Памятники византийской литературы IV—IX веков. М., 1968, с. 90—91. Пер. Т. А, Миллер.
В той же мере не может быть того, что теперь мы называем запрограммированностью, в прощальной речи, с которой Иоанн обратился к своей пастве перед отбытием в ссылку по проискам александрийского патриарха Феофила и императрицы Евдоксии. Свое последнее слово оратор начал с излюбленного образа бурного моря: «Сильные волны, жестокая буря! Но я не боюсь потопления, потому что стою на скале. Пусть свирепствует море, — оно не может сокрушить скалы... Спрошу вас: чего мне страшиться?.. Лишения имуществ? Но я ничего не принес в этот мир и ничего не унесу из него с собою. Я презираю все, что может заставить человека трепетать. Не боюсь я нищеты, не желаю богатства, не боюсь я и смерти. Если и желаю жить, то только для того, чтобы быть с вами и трудиться над совершенствием ваших душ... Никто не может разлучить нас... Если нельзя разлучить мужа и жену, то еще более не во власти человека разлучить пастыря и паству». Свою речь Иоанн перемежает богословскими рассуждениями и ссылками на Писание, что вполне естественно для священнослужителя. Но очень примечательно, что в клерикальное выступление епископа с амвона врываются чисто земные, человеческие нотки: «Где я, там и вы; а где вы, там и я. Мы одно тело. А тело от головы, как и голова от тела, не отделяется. Мы разделимся местом, но любовью соединены: даже смерть не может разлучить нас. Хотя и умрет тело мое, но душа будет жива и станет вспоминать об этом народе. Вы мне родные мои, вы моя жизнь, вы моя слава, — как я могу забыть вас?»
И богословская мысль и проповедническое искусство Иоанна Златоуста оказывали мощное воздействие на церковную жизнь и в средние века и в последующие времена. Недаром в древней Руси составлялись с ориентацией на Иоанна Златоуста сборники поучений «Измарагды», «Злато-струи», «Маргариты», «Златоусты». Печатью влияния византийского оратора отмечена проповедническая деятельность Иллариона Киевского (XI в.), Кирилла Туровского (XII в.). Серапиона Владимирского (XIII в.).
ЗАПАДНАЯ ПАТРИСТИКА IV в,
В отличие от восточной патристики западная не углублялась в онтологические вопросы и осталась в стороне от споров вокруг вопроса о троичности божества, а, следовательно, и от накала страстей в борьбе с инакомыслящими, т. е. арианами и манихеями в первую очередь. Западные отцы церкви делали акцент на соотношении дарованной свыше человеку благодати и его воли, ущербной по своему существу. С наибольшей полнотой и категоричностью учение о
предопределении развивалось и отстаивалось в борьбе с еретиками — пелагианцами Августином (354—387 гг.). Знаменательно, что переход (описанный в «Исповеди») Августина от манихейства и скептицизма произошел не от чтения каких-либо богословских трактатов, а от слушания живого слова — проповедей Амвросия Медиоланского (Миланского). Мы не обнаружим в речах этого проповедника особой глубины или оригинальности мысли, но — подобно выступлениям его восточного современника Иоанна Златоуста — они действовали на слушателей своей страстностью и обличительной направленностью против роскоши, стяжательства, притеснений. Приобрели известность также надгробные речи Амвросия в честь императоров.
Что касается самого Августина, то прославился он не столько устным словом, сколько своим большим трудом «О граде божьем», где попытался с христианских позиций дать историю человеческого общества в целом, противопоставив два «града»: гражданское государство — царство дьявола и христианскую церковь — царство бога на земле. В 384 г., когда освободилось место учителя риторики в Медиолануме (Милане), на него был рекомендован Августин, причем рекомендующим был известный языческий идеолог и оратор Симмах, конечно, не предполагавший, что через три года покровительствуемый им и подающий надежды Августин примет новую веру под влиянием миланского епископа.
Интересно, что сам Августин впоследствии скептически, даже отрицательно оценивал свои занятия риторикой: «В неразумном возрасте я изучал сочинения по красноречию, в котором хотел всех превзойти, преследуя цель предосудительную и пустую, ища суетной славы человеческой... В те годы я преподавал риторику, из корысти торговал искусством победоносного слова»60.
Августин неизбежно должен был прибегать и к непосредственным выступлениям перед людьми. Это — и отстаивание идеи божественного предопределения в спорах с еретиком Пелагием, это — церковные проповеди его как епископа г. Гиппона в Африке. Сохранилась речь Августина на Карфагенском соборе. В ней гиппонский епископ обосновывал допустимость, вернее необходимость принуждения в вопросах веры. «Вы думаете, что никого не следует принуждать к правде, однако вы читаете у св. Луки, что господин сказал своим слугам: «Принудьте войти всех, кого найдете»61. Справедливости ради нужно заметить, что Августин весьма субъективно трактует известную евангельскую притчу о том,
60 Памятники средневековой латинской литературы IV—IX веков. М., 1970, с. 54. Пер. Т. А. Миллер.
61 Т а м же.
как на свадьбу под разными предлогами не пришли приглашенные гости, и жених велел слугам выйти на улицы и пригласить первых попавшихся прохожих, в том числе нищих и убогих.
Вряд ли пришлось слугам долго уговаривать нищую братию задаром поесть досыта. Августин же понимает выражение «заставь войти» (coge intrare) буквально и делает его своего рода тезисом, исходным положением того, что в средние века обернулось инквизицией и католической экспансией. Дальнейшие рассуждения Августина столь выразительны, что вряд ли нуждаются в комментариях: «Убивающий и врачующий оба режут тело и оба гонители, но один изгоняет жизнь, а другой гнилость... Конечно, никто не может сделаться добрым поневоле, но боязнь прекращает упорство, и, принуждая изучать истину, приводит к нахождению ее. Когда наводят ужас в интересах истины, то это полезное предупреждение для ошибающихся и заблуждающихся».
Конечно, трудно на основании одной речи судить об Августине как об ораторе. Что же касается его богословских трудов, то они, как и сочинения Амвросия Медноланского, отмечены заметным влиянием цицероновского стиля.
При всем антагонизме язычества и христианства личные судьбы и творческие пути носителей и апологетов этих учений в IV веке удивительно переплетались и перекрещивались, о чем образно писала М. Е. Грабарь-Пассек: «... эти ораторы не только живут в одну и ту же эпоху, — все они тем или иным образом связаны между собою личными отношениями: Юлиан, Василий и Григорий, а в более поздние годы и Иоанн были учениками Либания. Юлиан переписывался с Фемистием и боролся с Афанасием; Василий и Григорий были близкими друзьями и сподвижниками, а их непосредственным преемником как по характеру красноречия, так и по общественной роли был Иоанн; с речами Гимерия были хорошо знакомы и языческие и христианские ораторы, и Григорий, далекий от него по духу, тем не менее нередко поддавался его влиянию. Несмотря на то, что одни из них — убежденные язычники, как Либаний и Гимерий, и даже фанатики, как Юлиан, другие — пламенные христиане; несмотря на то, что одни принимают горячее участие в общественной жизни, другие бегут от нее, — все они имеют между собою много общего по культуре и чрезвычайно типичны для своего времени. Их роднит между собой безмерная любовь к слову, бережное и любовное отношение к его красоте и непоколебимая вера в его силу»62.
62 История греческой литературы. М., 1960, т. 3, с. 291.
Четвертый век был переходным временем от поздней античности к средневековью, как западноевропейскому, так и восточному — византийскому. Сохранившиеся памятники позднеантичного красноречия дают нам представление об искусстве слова в основном в социальных верхах и притом в его классицистическом варианте. О низовых течениях, о ближневосточных влияниях мы можем судить, конечно, приблизительно, по новозаветным текстам I—II вв., поскольку апологетическая и патристическая проповедь III—IV вв. связана опять-таки с верхушечными слоями, и те же каппадокийцы, не будь они князьями церкви, были бы князьями тогдашнего общества, хотя их социальная ориентация отнюдь не однозначна.
АНТИЧНОЕ ОРАТОРСКОЕ НАСЛЕДИЕ В ВЕКАХ
Что же из античного ораторского наследия имело наибольший резонанс в последующих веках? Если оставить в стороне апологетику и патристику, оказавшие решающее воздействие йа церковную проповедь во всех вероисповеданиях христианской религии вплоть до нашего времени, и обратиться к собственно греко-римскому красноречию, то главной фигурой здесь окажется, конечно, Цицерон, который уже в античности осмыслялся как вершина ораторского искусства. Плиний Старший в «Естественной истории» называл Цицерона «отцом красноречия»; как бы вторя ему, Квинтилиан в «Образовании оратора» утверждал, что «имя Цицерона считается именем уже не человека, а красноречия». На цицероновские речи как на образцы смотрели не только в римских школах, но и среди христианских проповедников в позднеантичную эпоху. Можно говорить о настоящем культе Цицерона в эпоху Возрождения. Ораторы Французской буржуазной революции ориентировались прежде всего, на Цицерона. Речи Мирабо, например, перекликаются с «Катилинариями», в выступлениях Робеспьера явственно слышатся чисто цицероновские нотки. Суть обращения французских революционеров к античности вскрыл Маркс. «В классически строгих традициях Римской республики, — писал он, — гладиаторы буржуазного общества нашли идеальные художественные формы, иллюзии, необходимые им для того, чтобы скрыть от самих себя буржуазно-ограниченное содержание своей борьбы, чтобы удержать свое воодушевление на высоте великой исторической трагедии»63. Примерно с таким же суждением мы встречаемся у М. И. Калинина: «Когда читаешь
63 М а р к с К. 18 брюмера Луи Бонапарта. — Маркс К., Энгель с Ф. Соч., 2-е изд., т. 8, с. 120.
о Великой французской революции, видишь, как много было там героических речей, сколько красивых жестов. Разумеется, было много великих и красивых дел. И насколько скупа на жесты с внешней стороны наша революция... Идеи нашей коммунистической партии, идеи коммунизма — они не нуждаются в этой искусственной декламации, в этом искусственном подогреве»64.
Эпоха Возрождения извлекла из забвения не только ораторскую практику Цицерона, но и его труды по истории и теории красноречия; вместе с трактатами Аристотеля и Квинтилиана они послужили в новое время основой многочисленных «Риторик», в том числе и ломоносовской.
Многое в античном ораторском искусстве, разумеется, было переосмыслено, критически и творчески переработано применительно к запросам времени, но значение самого искусства остается непреходящим.
64 Калинин М. И. Речь на заседании Президиума ЦИК СССР
27 сентября 1937 г. — В кн.: Статьи и речи. 1936—1937. М., 1938, с. 102.
ЛИТЕРАТУРА
Лисий. Речи. Пер. С. И. Соболевского. М., 1933.
Демосфен. Речи. Пер. С. И. Радцига. М., 1954.
Греческие ораторы второй половины IV века до н. э. Пер. под ред. К. М. Колобовой. — Вестник Древней Истории, 1962, № 1; 1963, № 1.
Исократ. Речи. Пер. под ред. К- М. Колобовой. — Вестник Древней Истории, 1965, № 3; 1969, № 1.
О возвышенном. Пер. Н. А. Чистяковой. М.; Л., 1966.
Цицерон. Речи. Пер. В. О. Горенштейна. М., 1962.
Цицерон. Избранные сочинения. Пер. под ред. М. Гаспарова, С. Ошерова, В. Смирина. М., 1975.
Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. Пер. под ред. М. Л. Гаспарова. М., 1972.
Тацит. Диалог об ораторах. Пер. А. С. Бобовича. — В кн.: Тацит. Соч. в 2-х т. Л., 1969, т. 1.
Поздняя греческая проза. Под ред. М. Е. Грабарь-Пассек. М., 1960.
Памятники позднего античного ораторского и эпистолярного искусства. Под ред. М. Е. Грабарь-Пассек. М., 1964.
Памятники византийской литературы IV»—IX веков. Под ред. Л. А. Фрейберг. М., 1968.
Памятники средневековой латинской литературы IV—IX веков. Под ред. М. Е. Грабарь-Пассек. М., 1970.
Античные теории языка и стиля. Под ред. О. М. Фрейденберг. М.; Л., 1936.
Античные риторики. Под ред. А. А. Тахо-Годи. М., 1978.
Соболевский С. И. и др. История греческой литературы. М., 1946—1960, т. 1—3.
Соболевский С. И. и др. История римской литературы. М., 1959-1962, т. 1-2.
Цицерон. Сборник статей. Под ред. Н. Ф. Дератани, С. И. Радцига, И. М. Нахова. М., 1959.
Цицерон. Сборник статей. Под ред. Ф. А. Петровского. М., 1958.
Кузнецова Т. И., Стрельникова И. П. Ораторское искусство в древнем Риме. М., 1976.
Лосев А. Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. М., 1969.
Лосев А. Ф. История античной эстетики. Высокая классика. М., 1974.
Лосев А. Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М., 1976.
Лосев А. Ф. История античной эстетики. Ранний эллинизм. М., 1979.
Адамов Е. А. Выдающиеся ораторы древнего мира и средних веков. М., 1964.
Статьи в научной периодике, а также вышедшие до 1917 г. работы об античном ораторском искусстве см. в справочнике «Древняя Греция и древний Рим». Библиографический указатель изданий, вышедших в нашей стране (18Q5—1959 гг.). Составитель А. И. Воронков. М., 1961.
Продолжение указателя (с 1960 г.) периодически печатается в Вестнике Древней Истории.
СОДЕРЖАНИЕ
Goto ьоьоьо —
OODCDCDCnOCD — СП CD СЛ — 00 00
Введение .......................................................... 3
Истоки древнегреческого красноречия и его расцвет в V—IV вв. до н. э............................................................
Ораторы классической эпохи .....................................
Риторическое учение Аристотеля .................................
Ораторское искусство эпохи эллинизма ...........................
Римское доцицероново красноречие ...............................
Цицерон, его речи и риторические сочинения......................
Ораторское искусство ранней римской империи ....................
Греко-римское красноречие периода «второй софистики» ...........
Раннехристианская проповедь (по новозаветному канону)...........
Христианская апологетика II—III вв..............................
Позднеантичное красноречие .....................................
Восточная патристика IV в.......................................
Западная патристика IV в........................................
Античное ораторское наследие в веках ...........................
Литература......................................................
Козаржевский Андрей Чеславович
АНТИЧНОЕ ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО
Пособие по спецкурсу
Редактор Н. П.,Кольцова Технический редактор К. С. Чистякова
Корректор М. Б. Бакусева
Сдано в набор 08.02.80. Подписано к печати 13.06.80. Л-23378. Формат 60x90416-Бумага тип. № 3. Гарнитура литературная. Офсетная печать. Усл. печ. л. 4,5. Уч.-изд. л. 4,54. Тираж 2500 экз. Заказ. 3736.
Цена 15 коп. Заказная
Издательство Московского университета 103009 Москва, К-9, ул. Герцена, 5/7.
12 ЦТ МО СССР