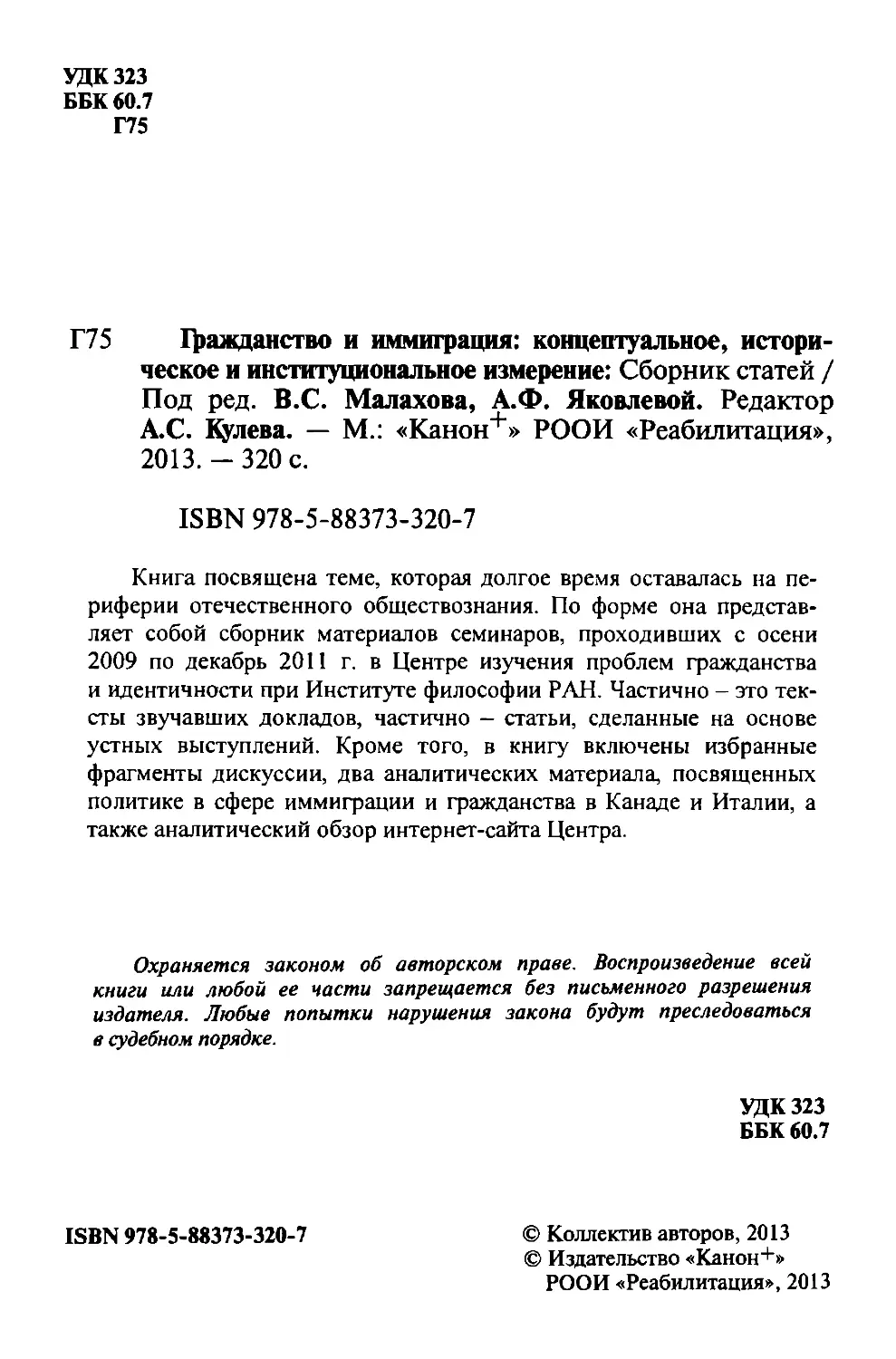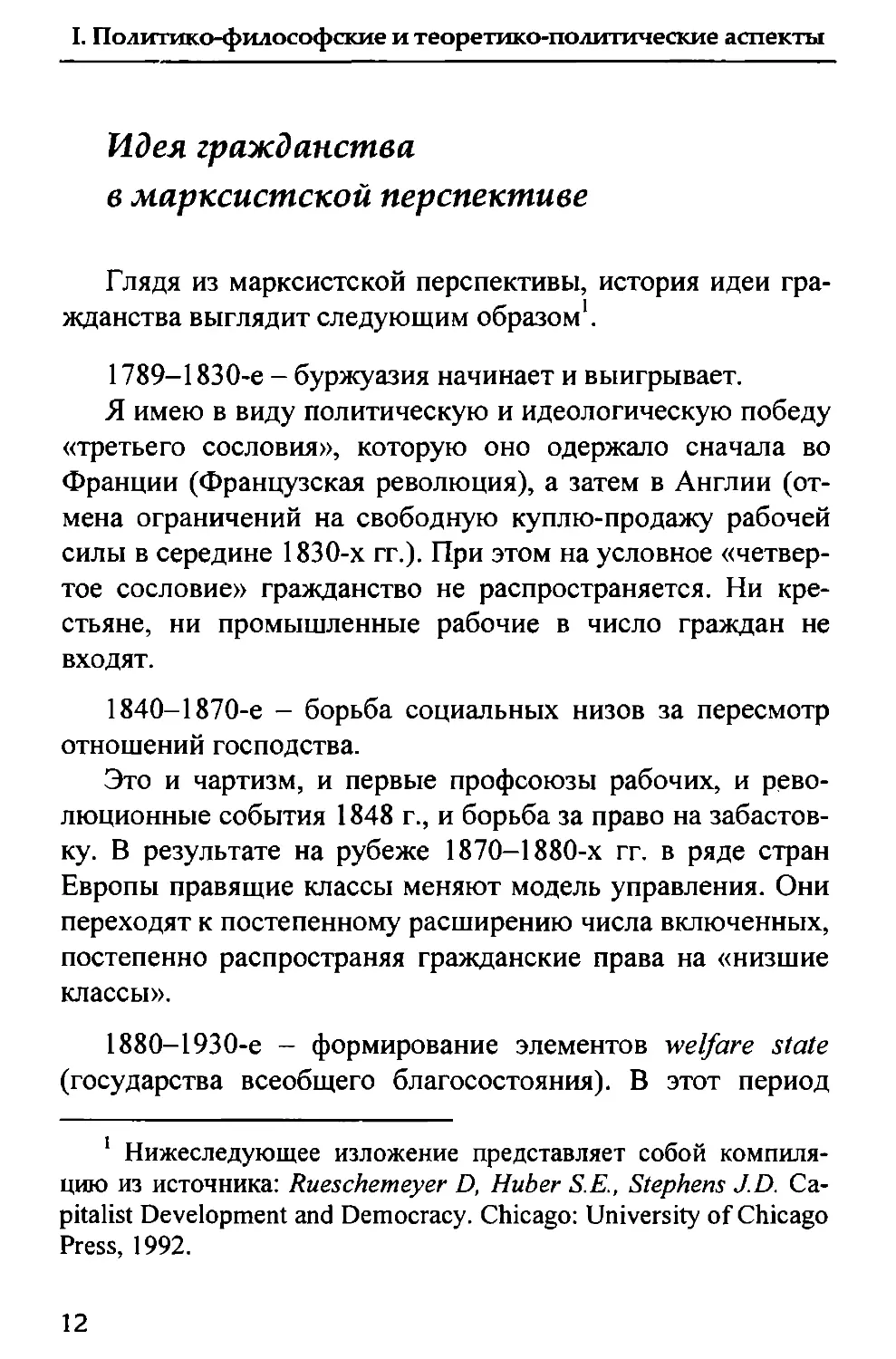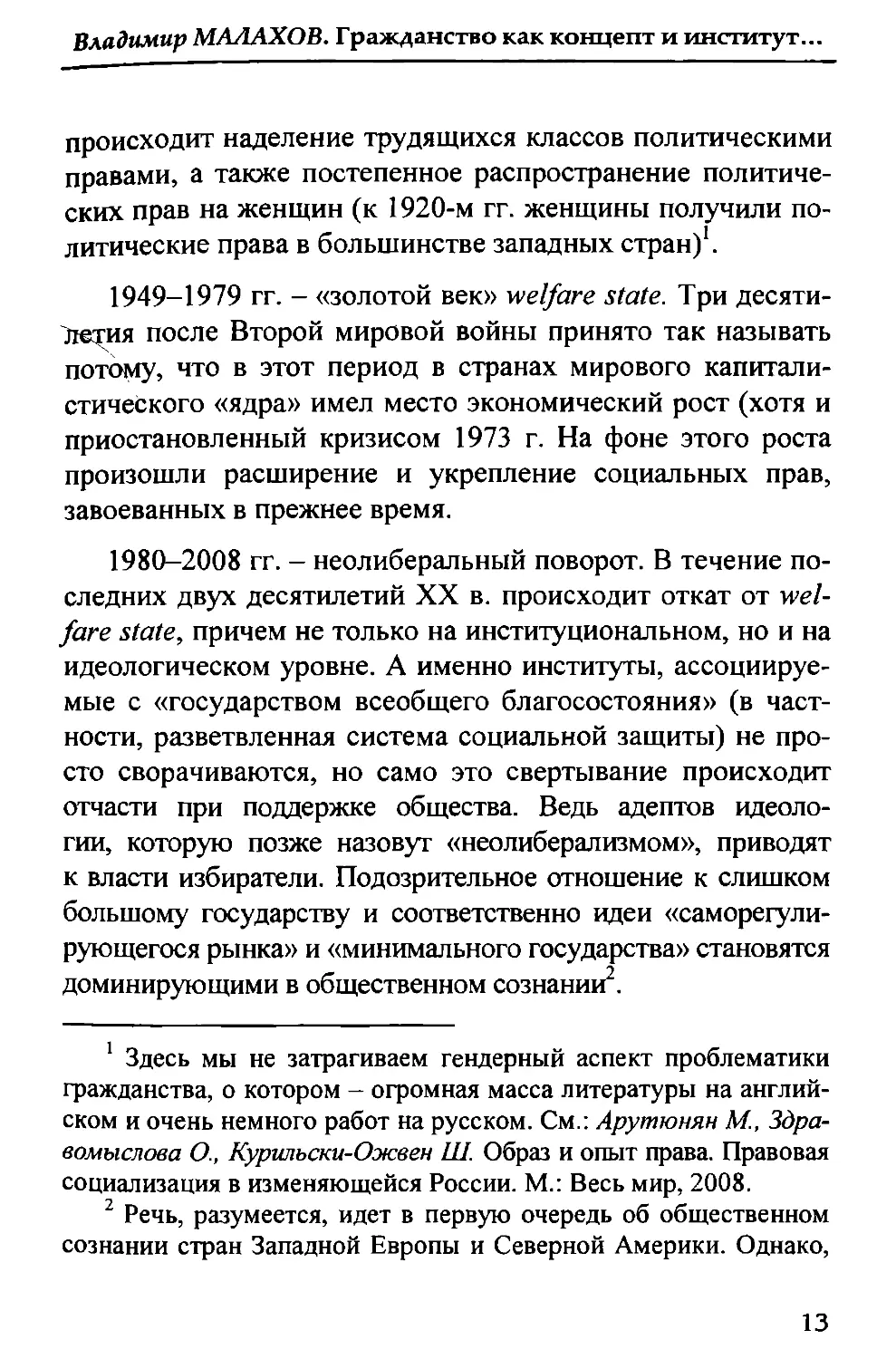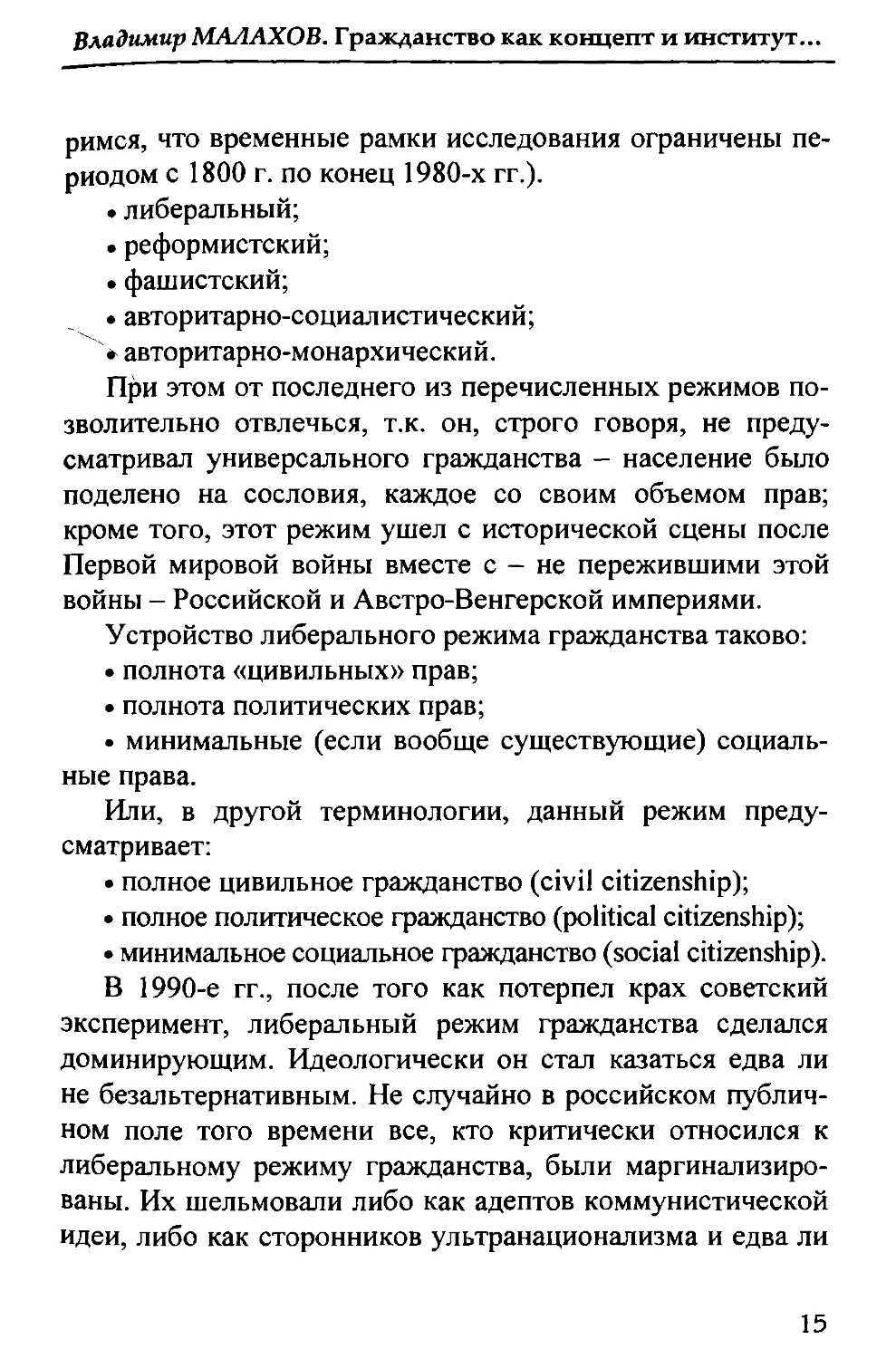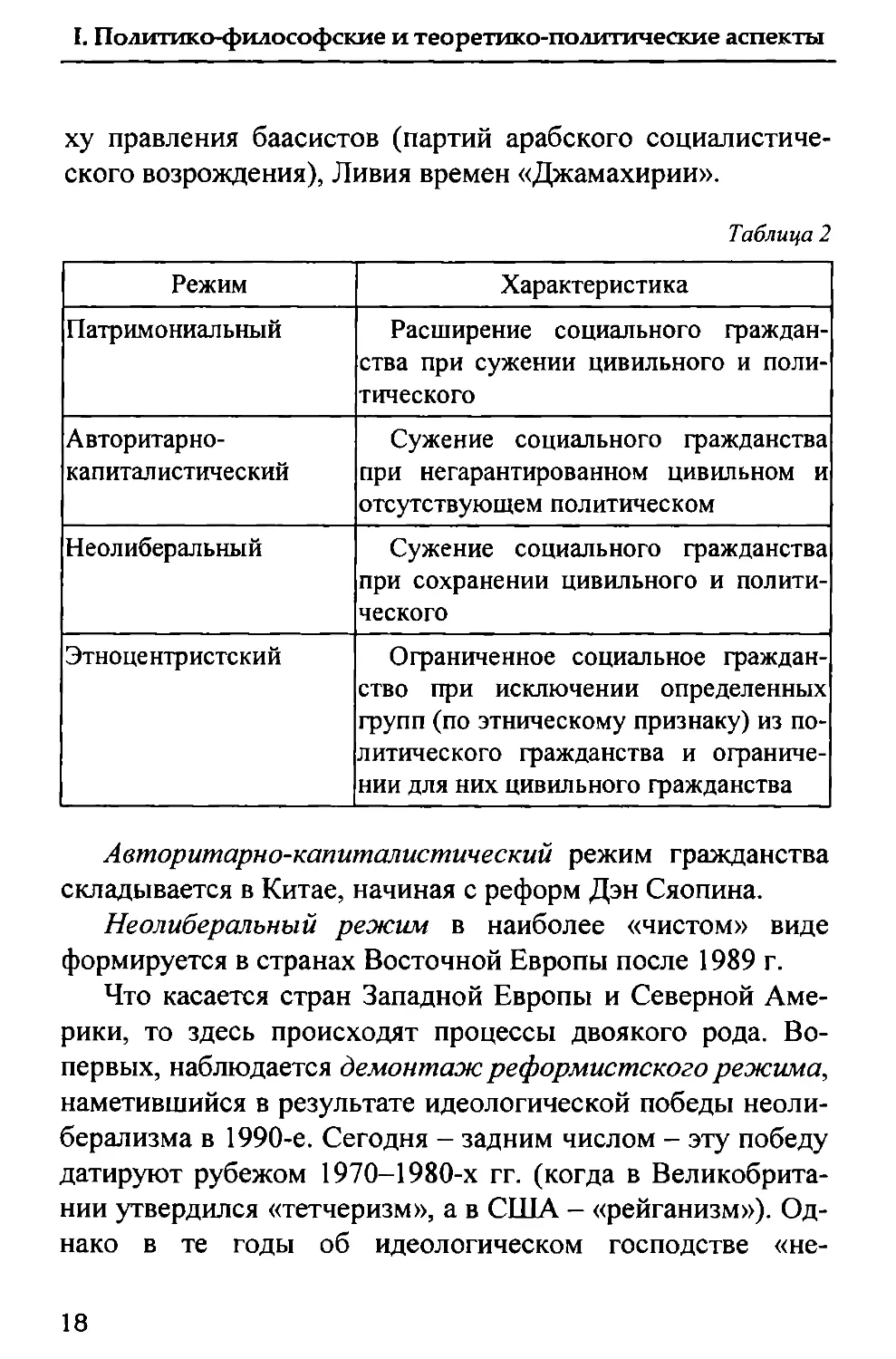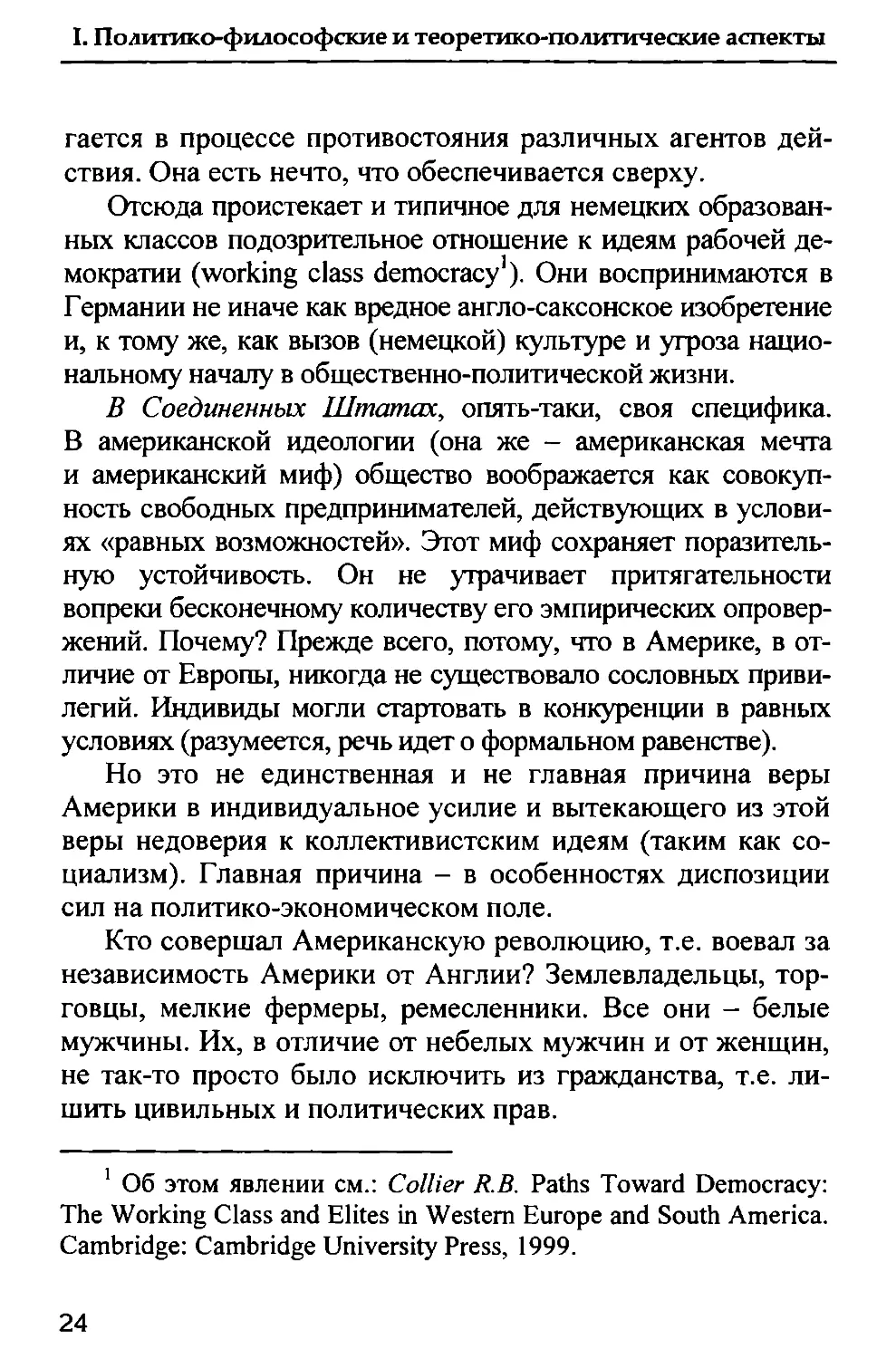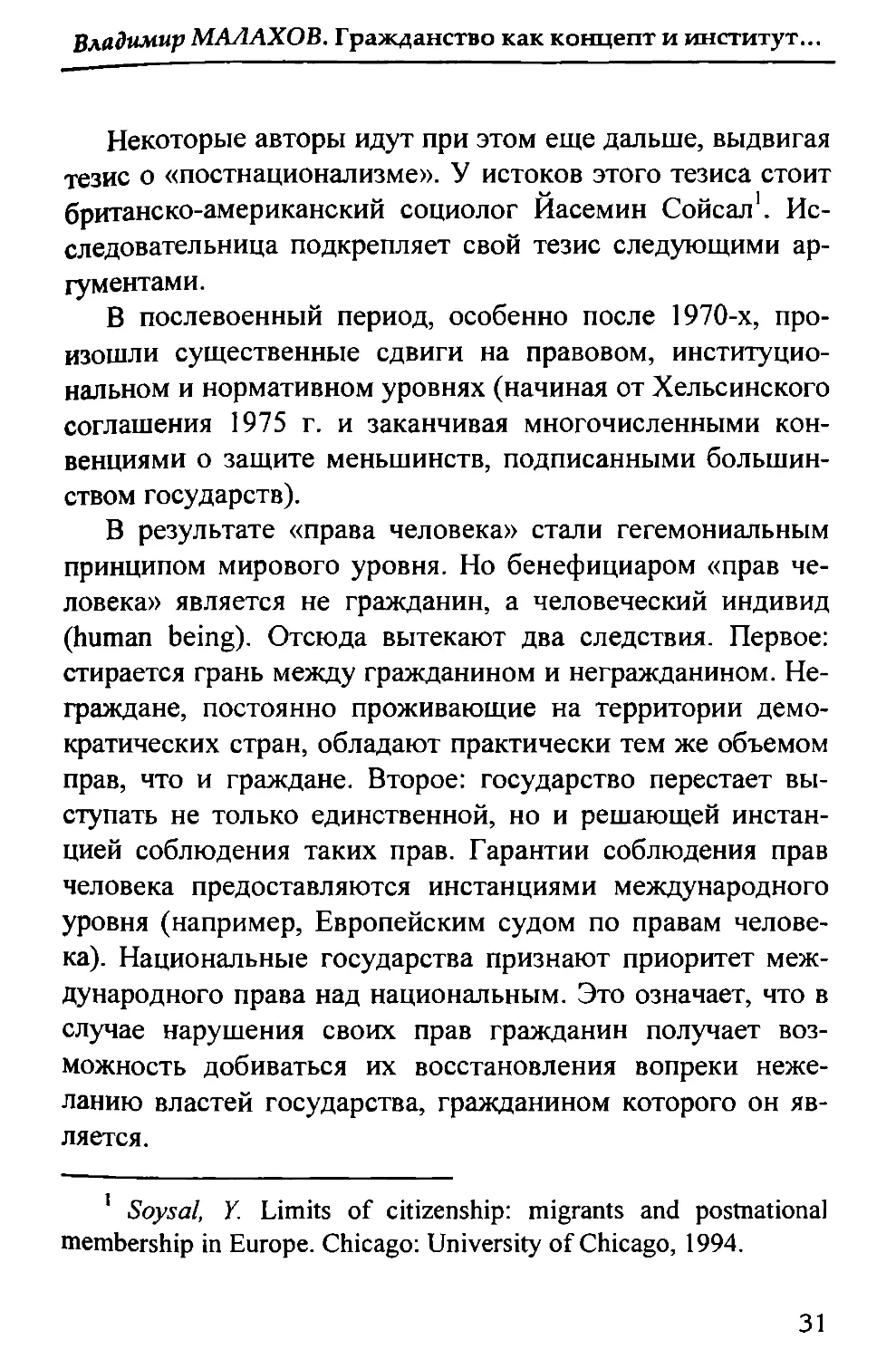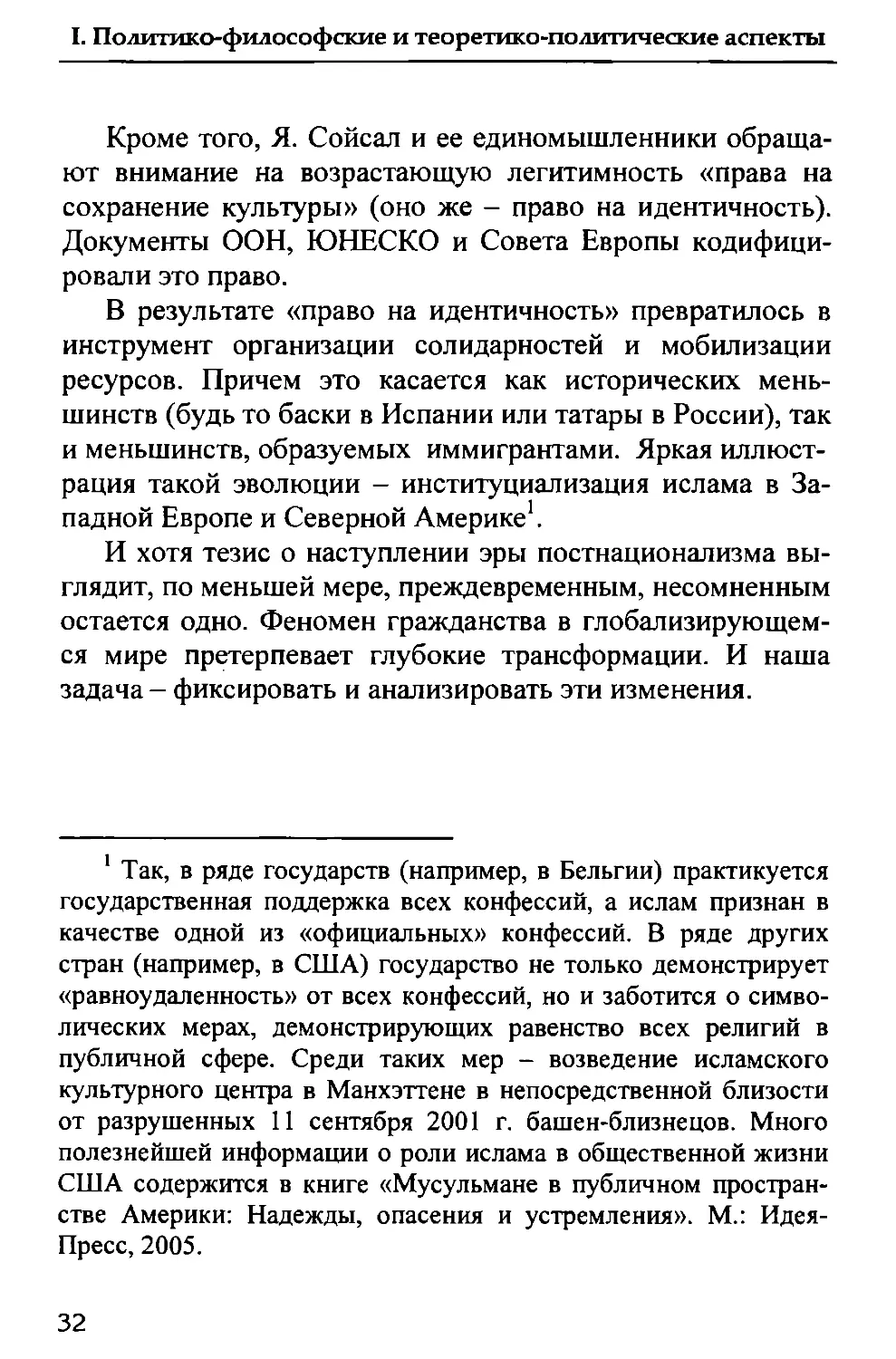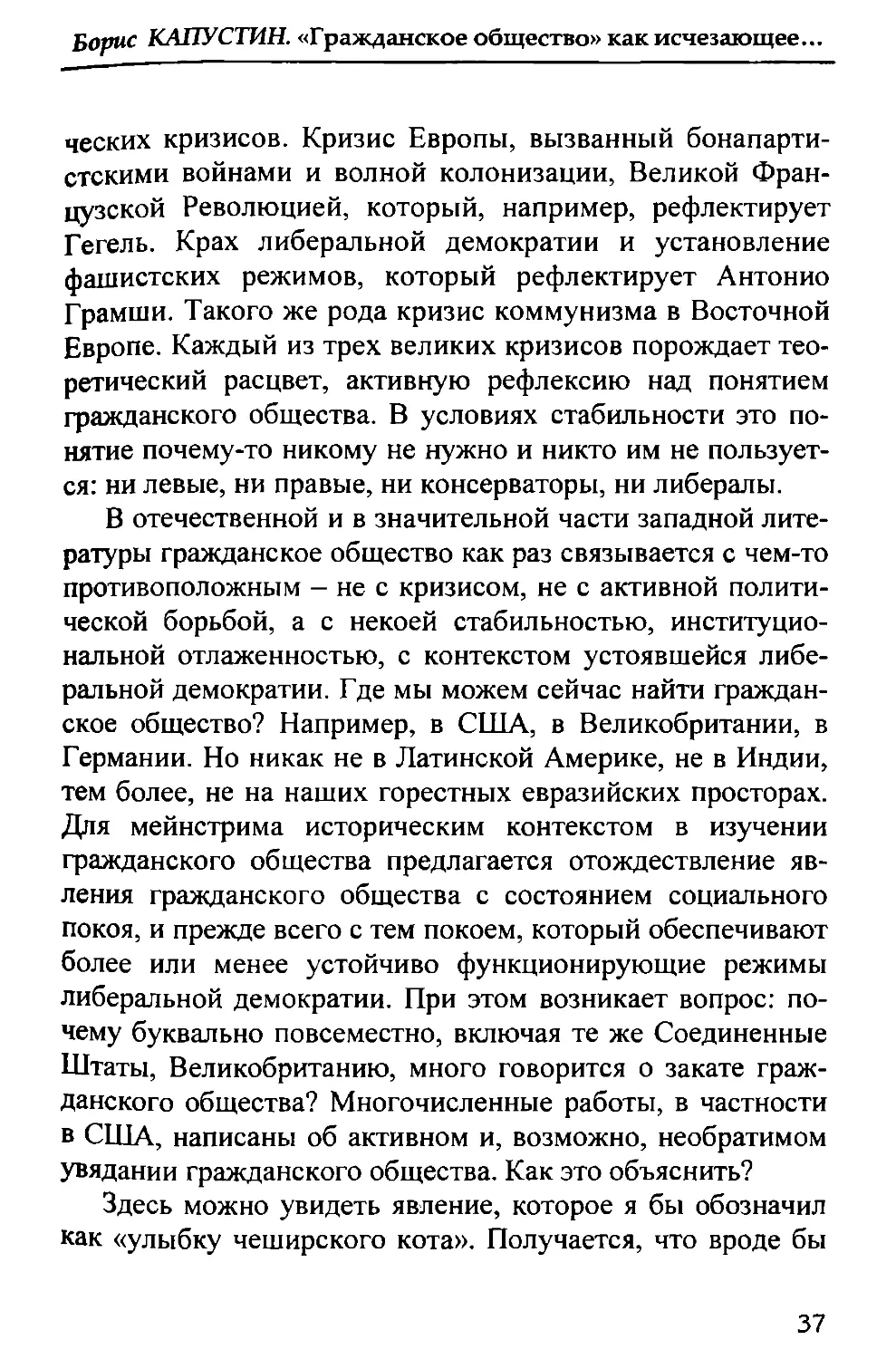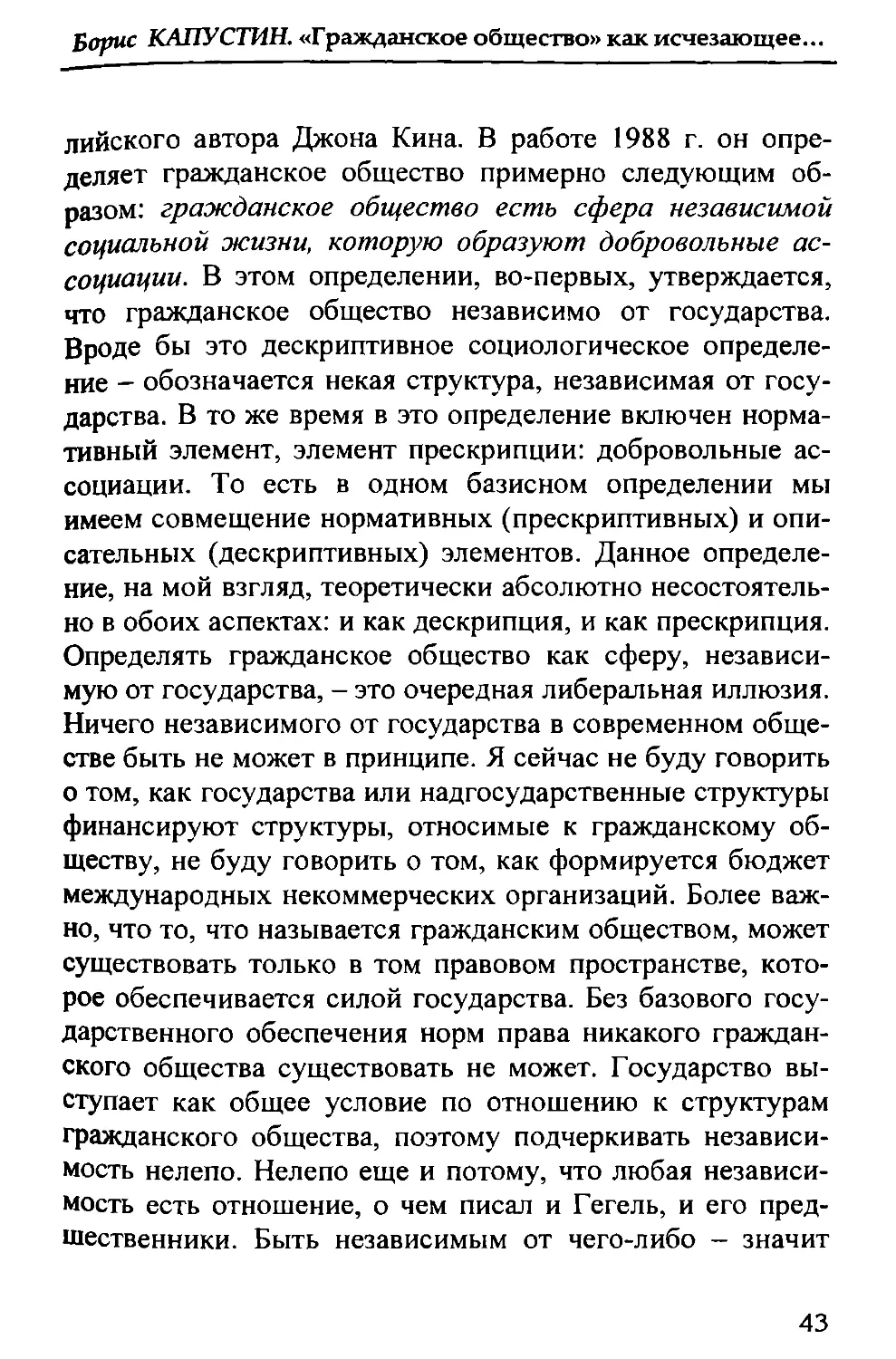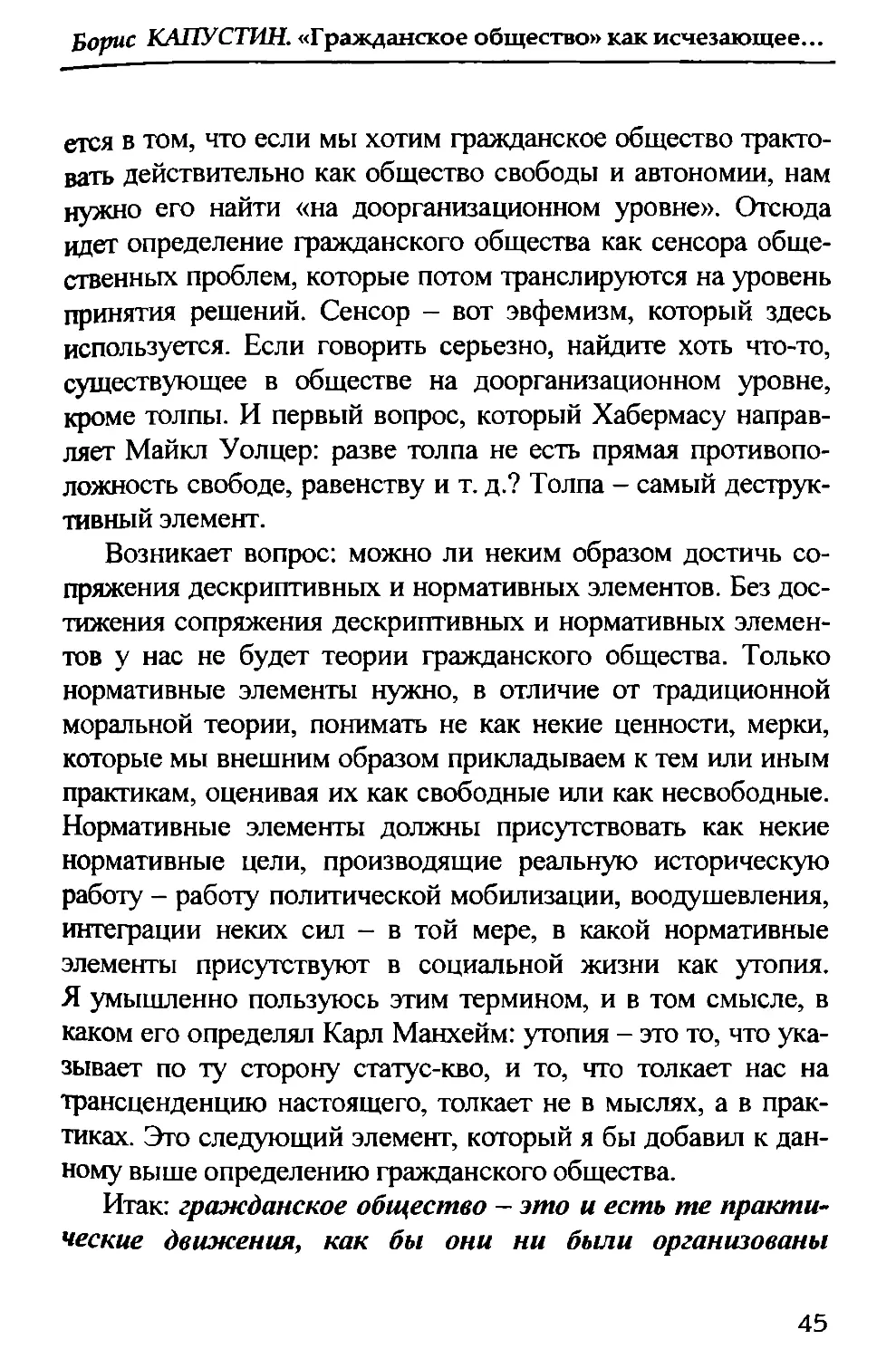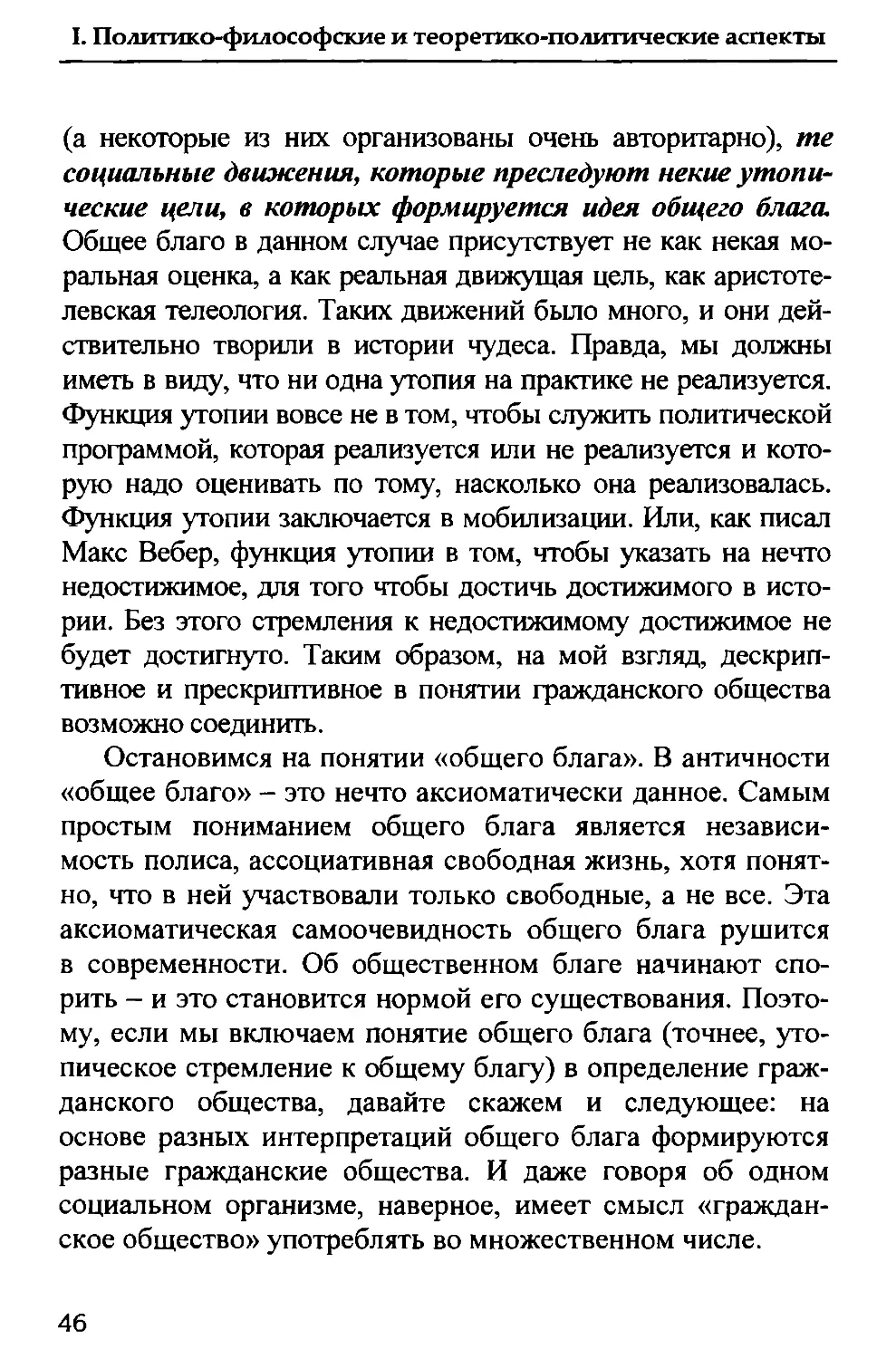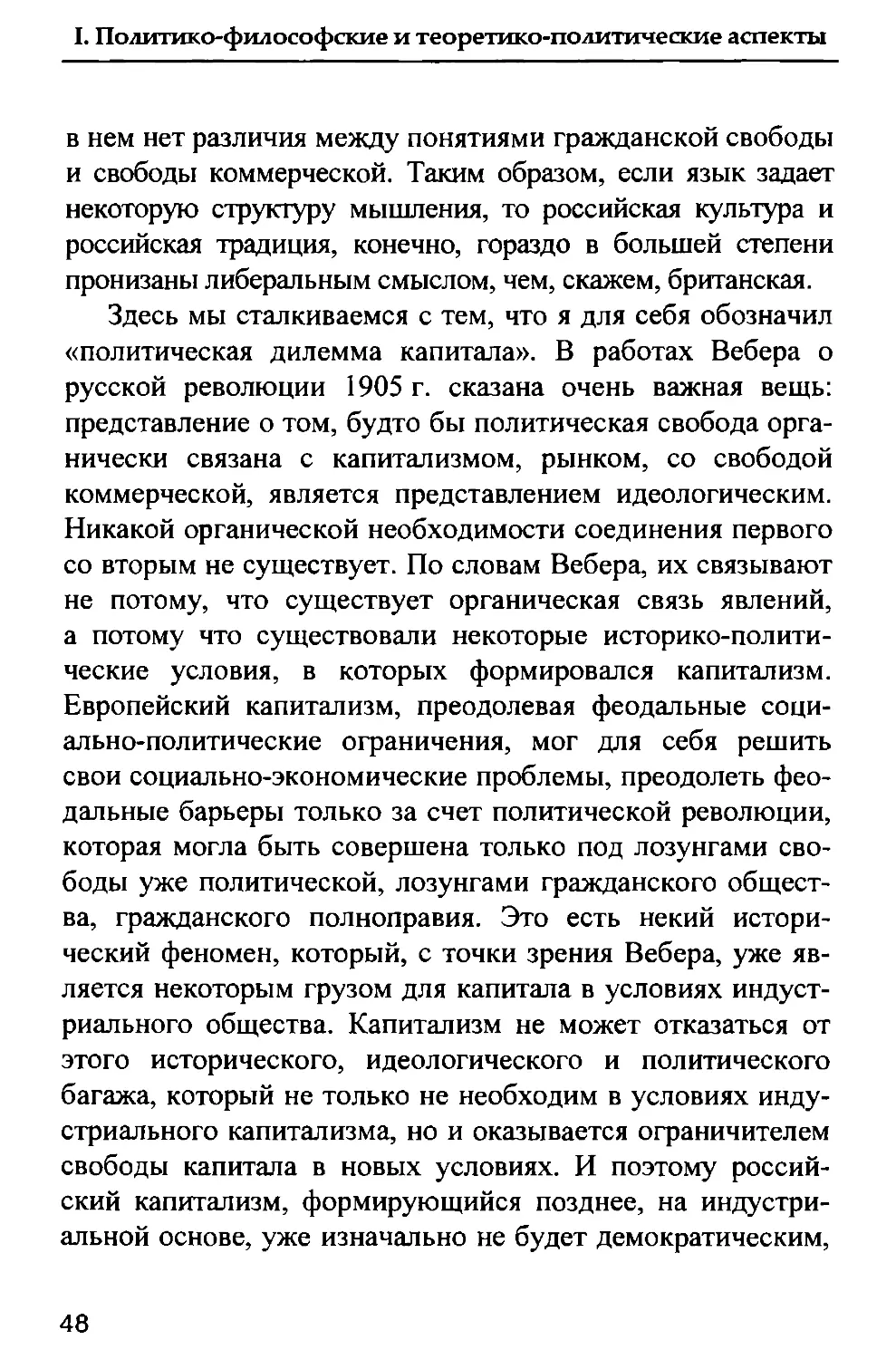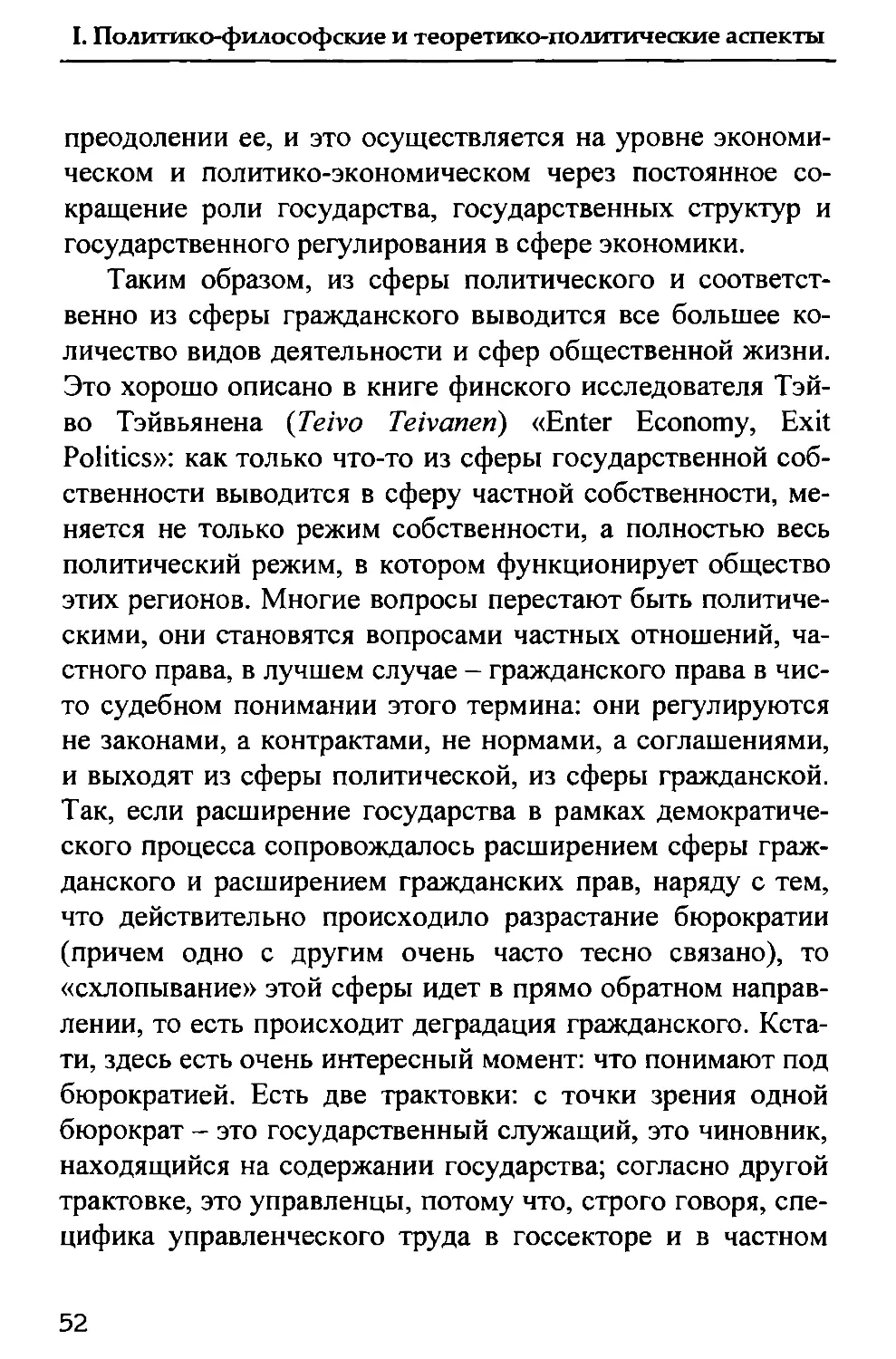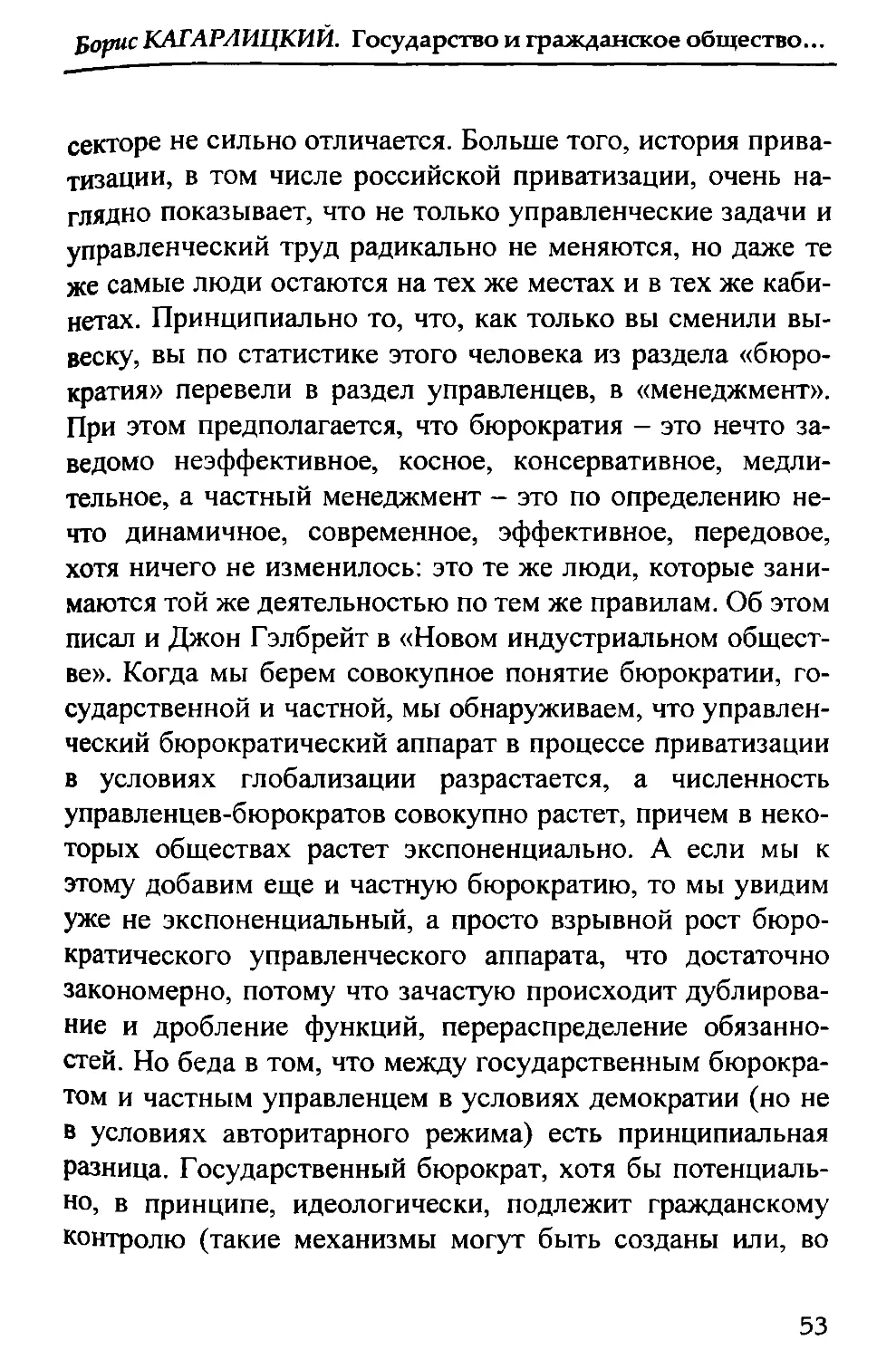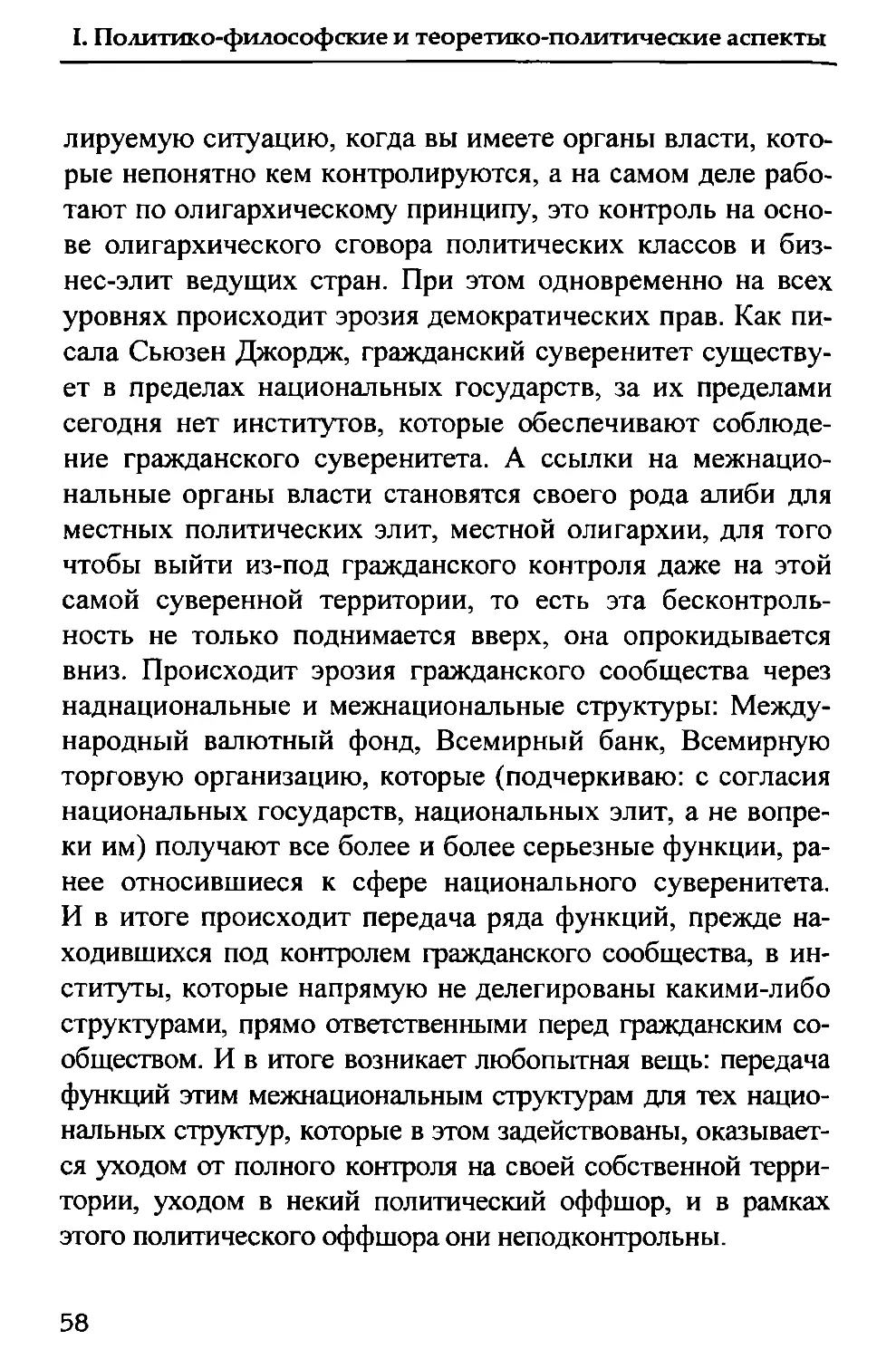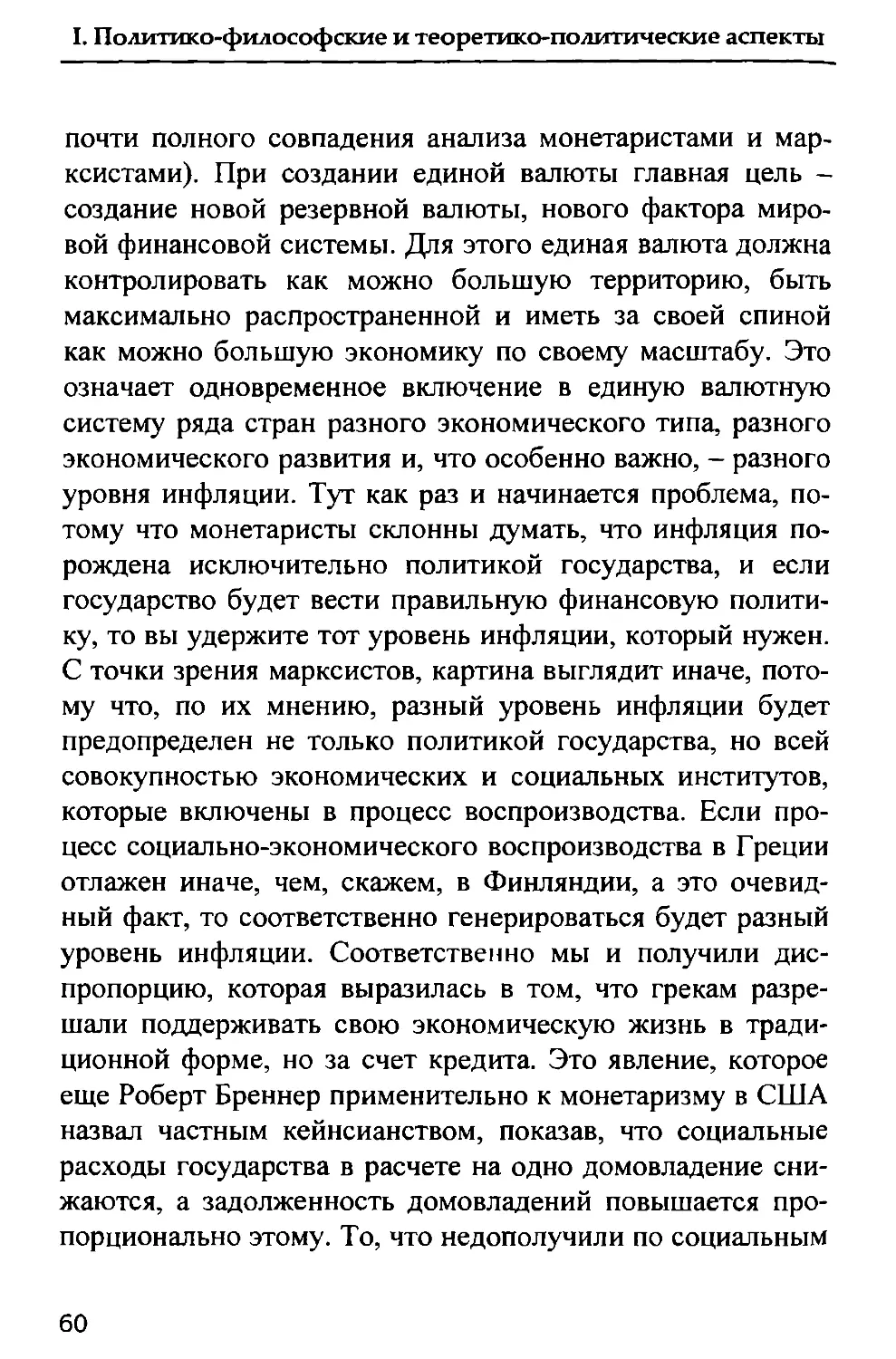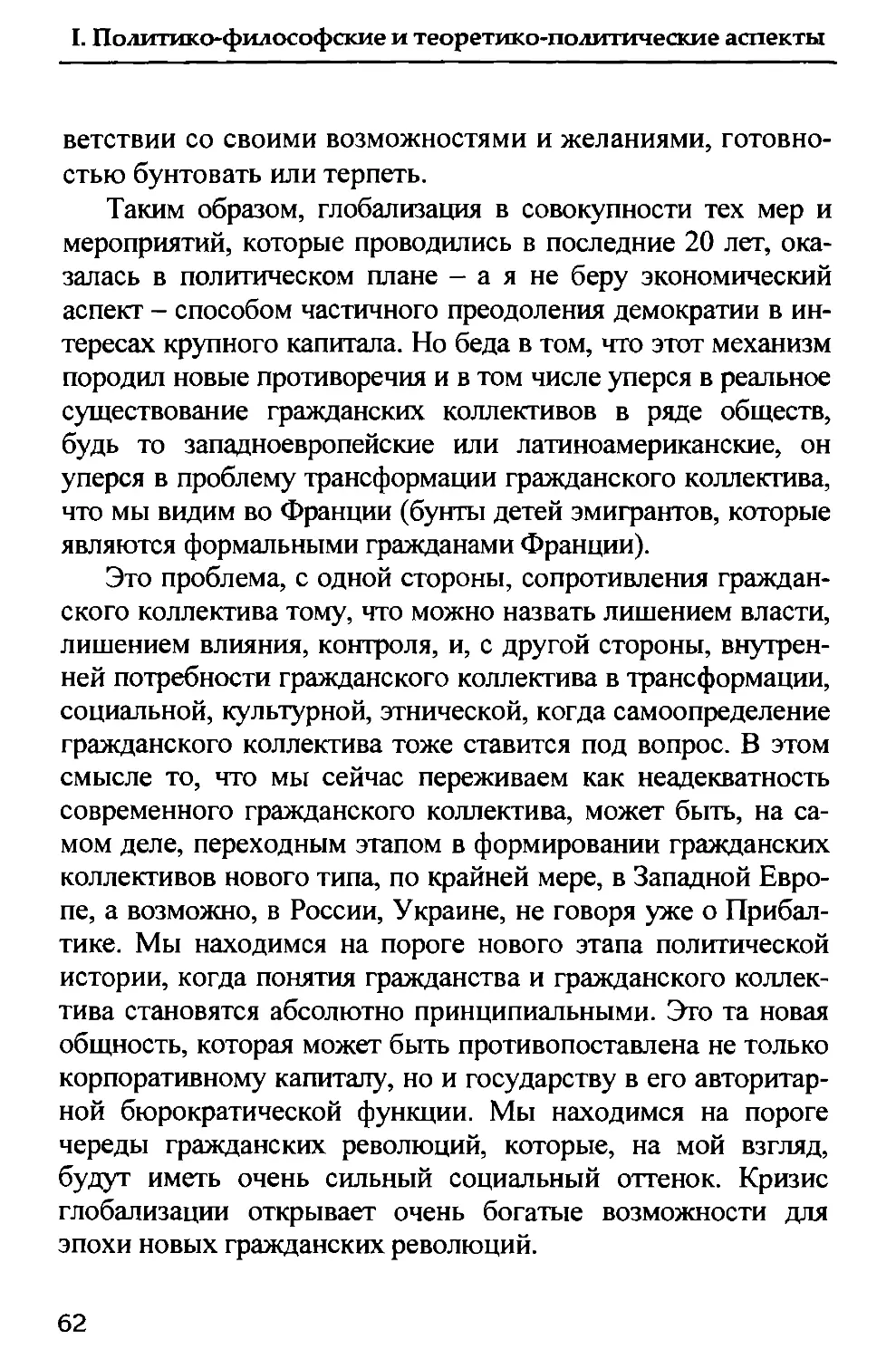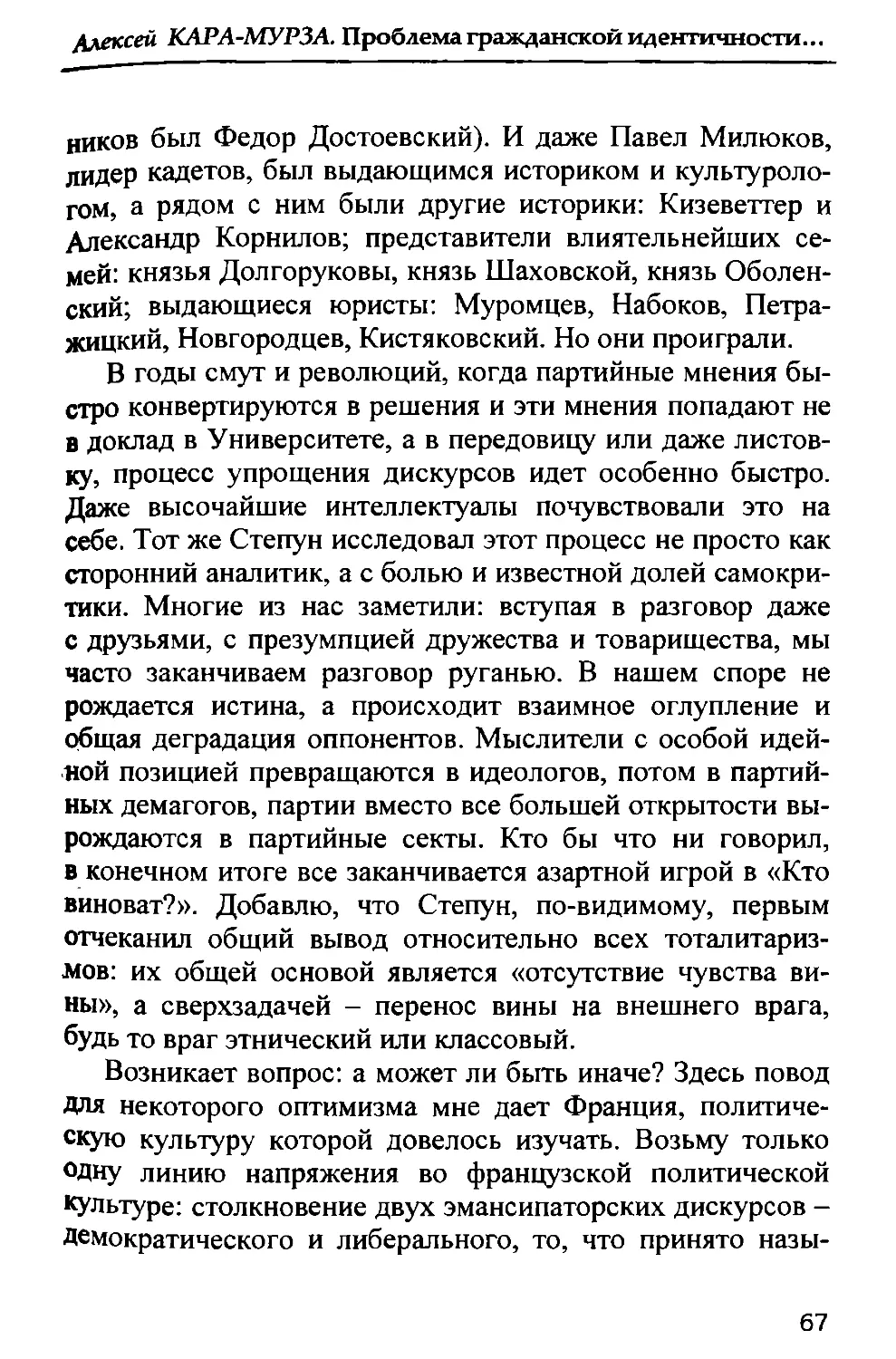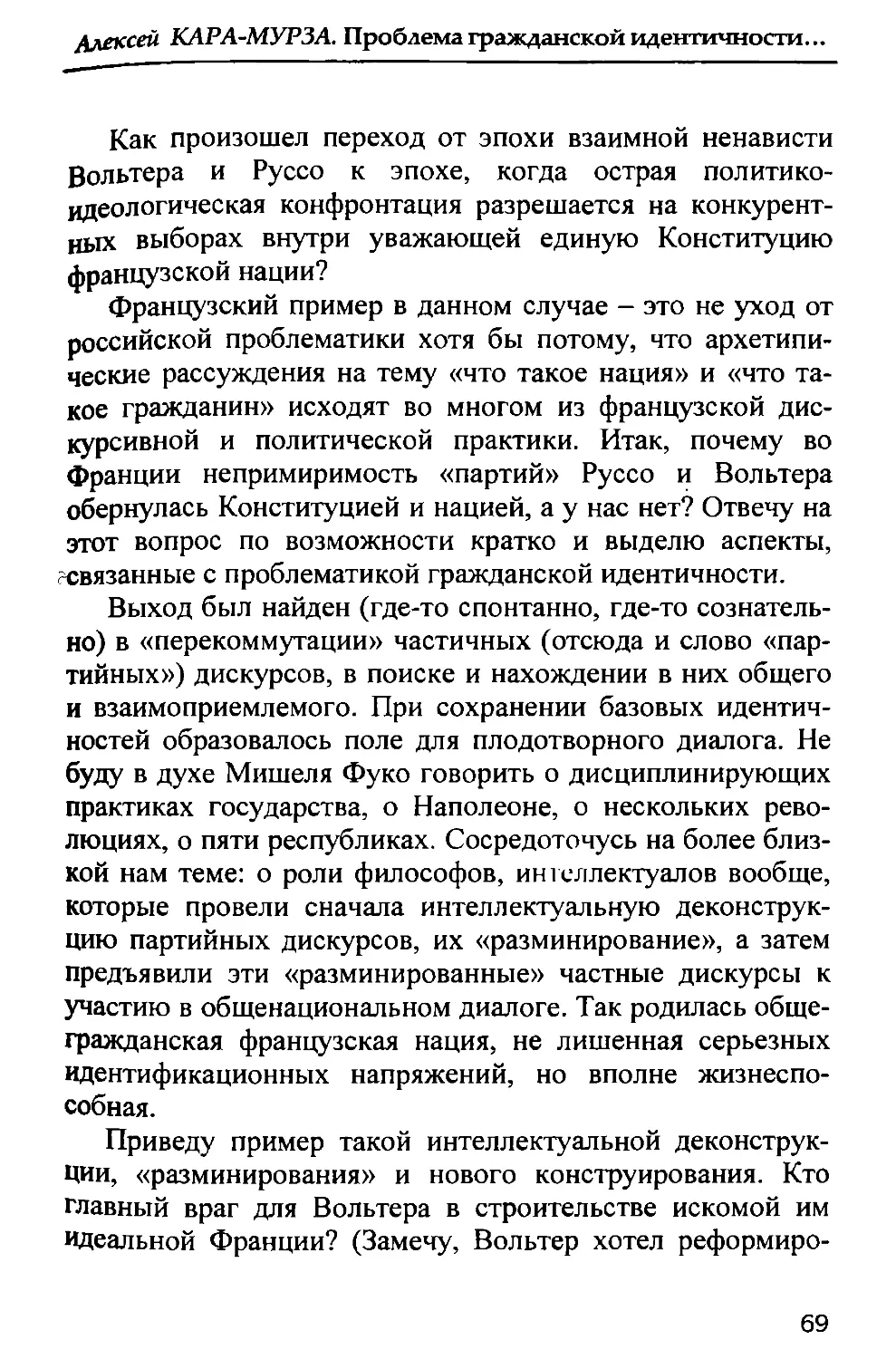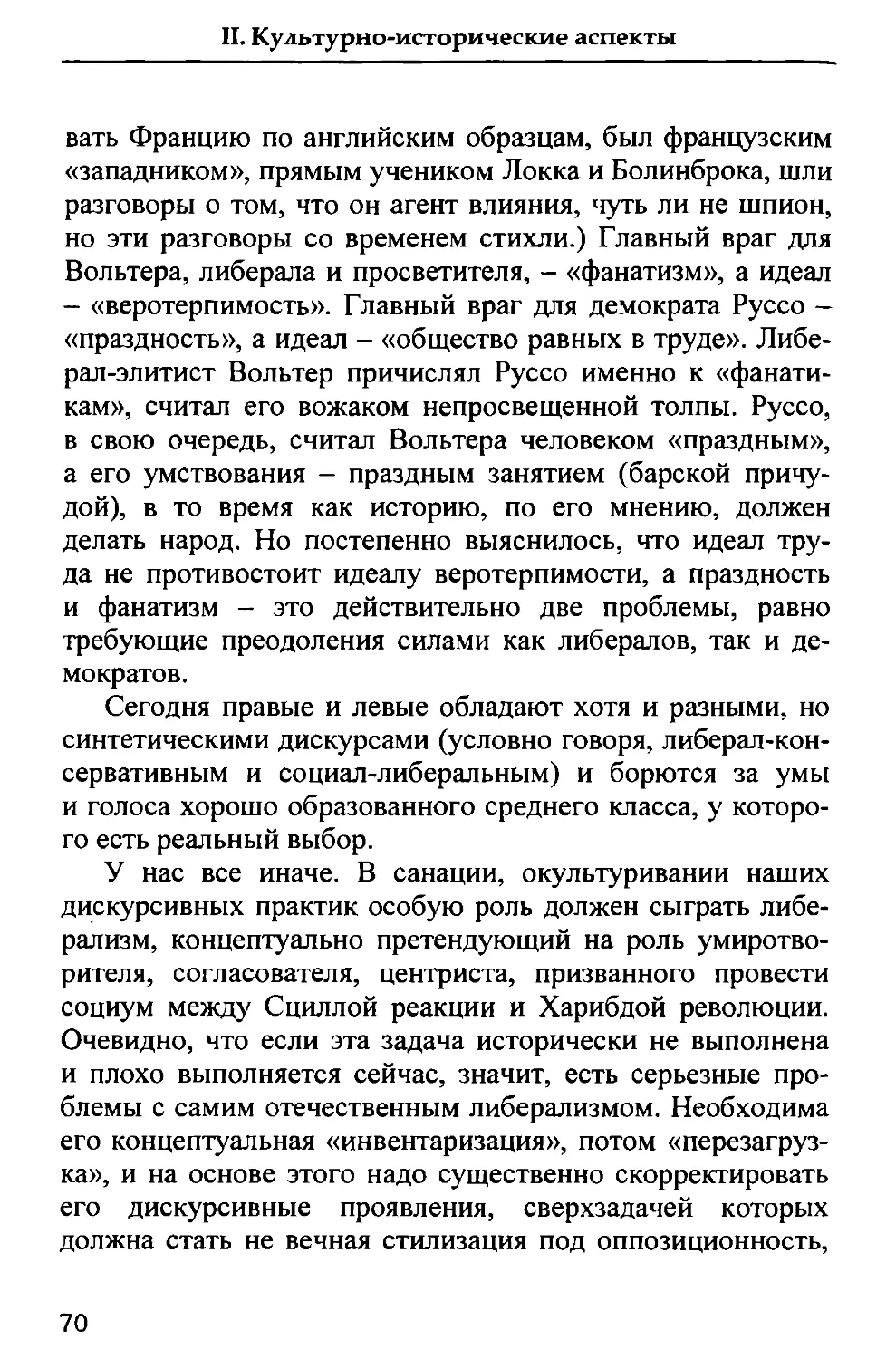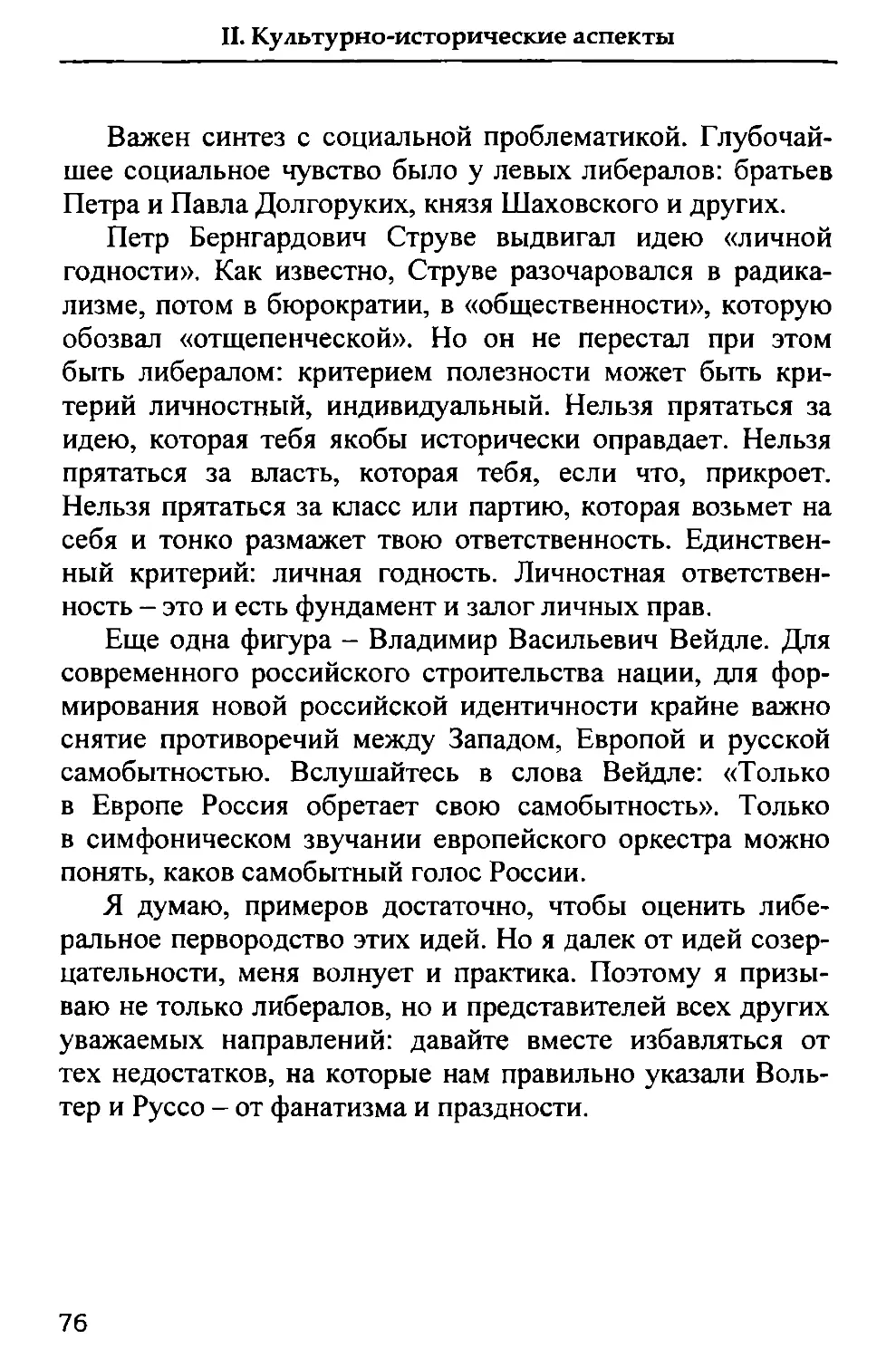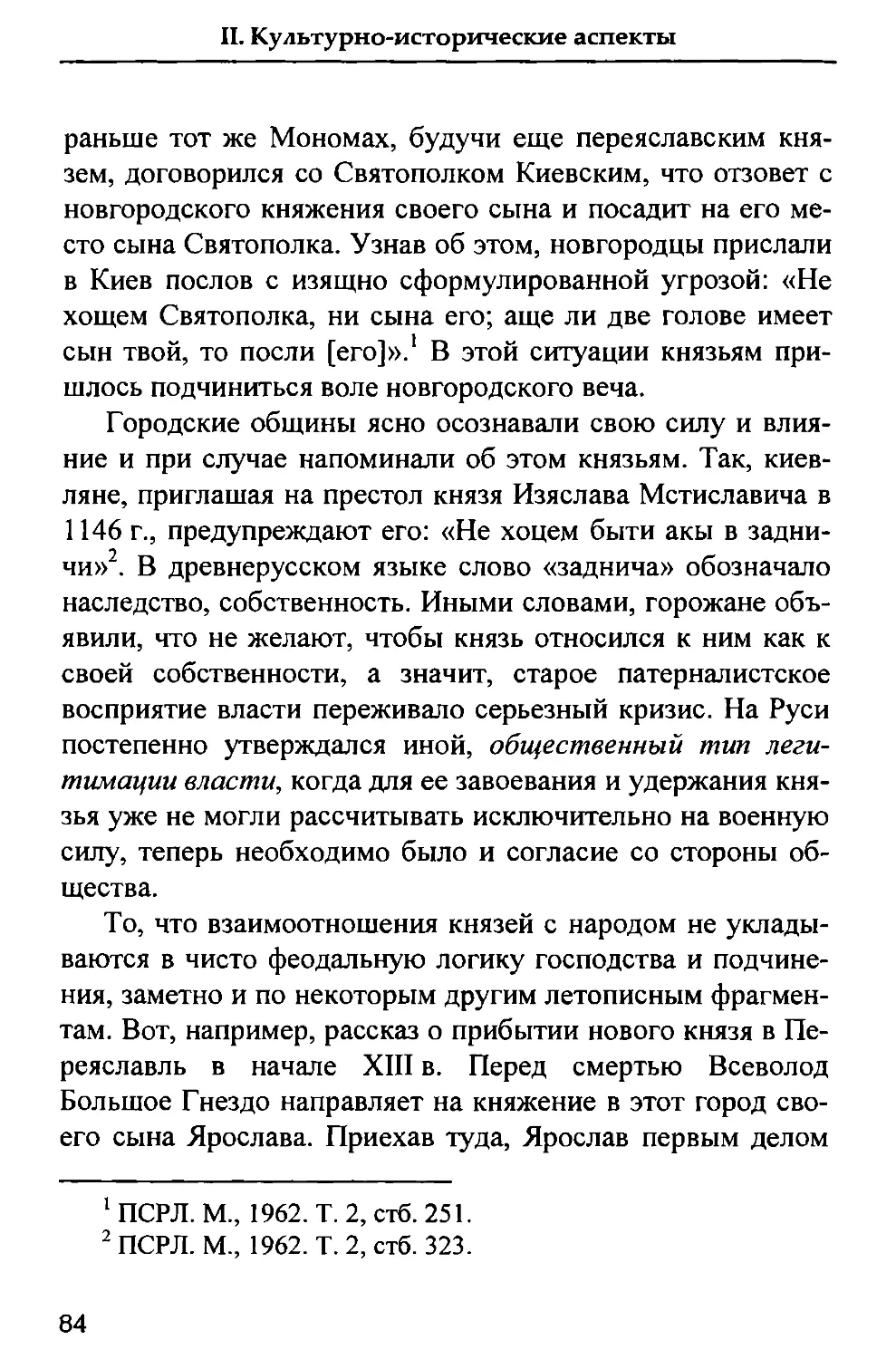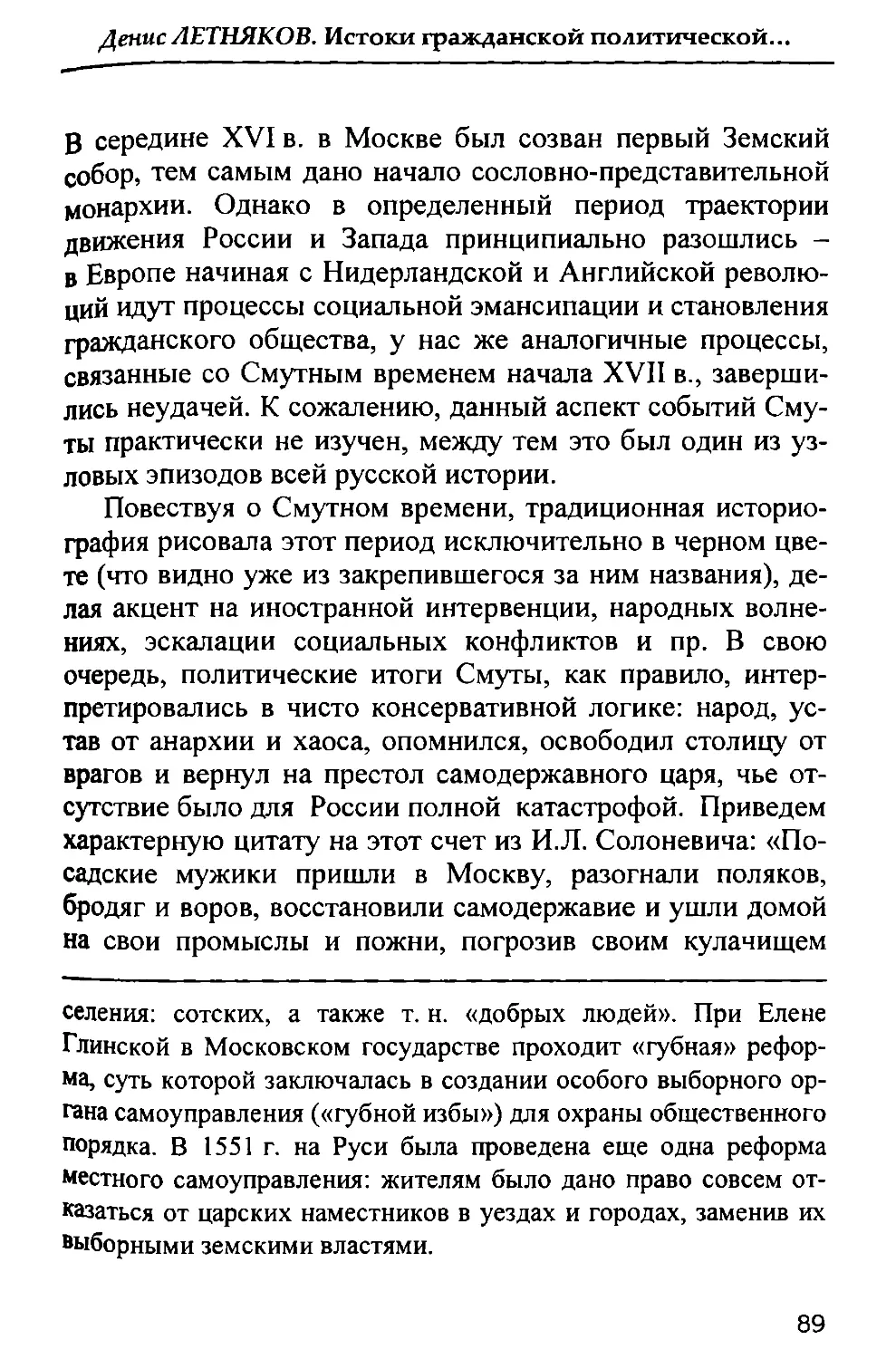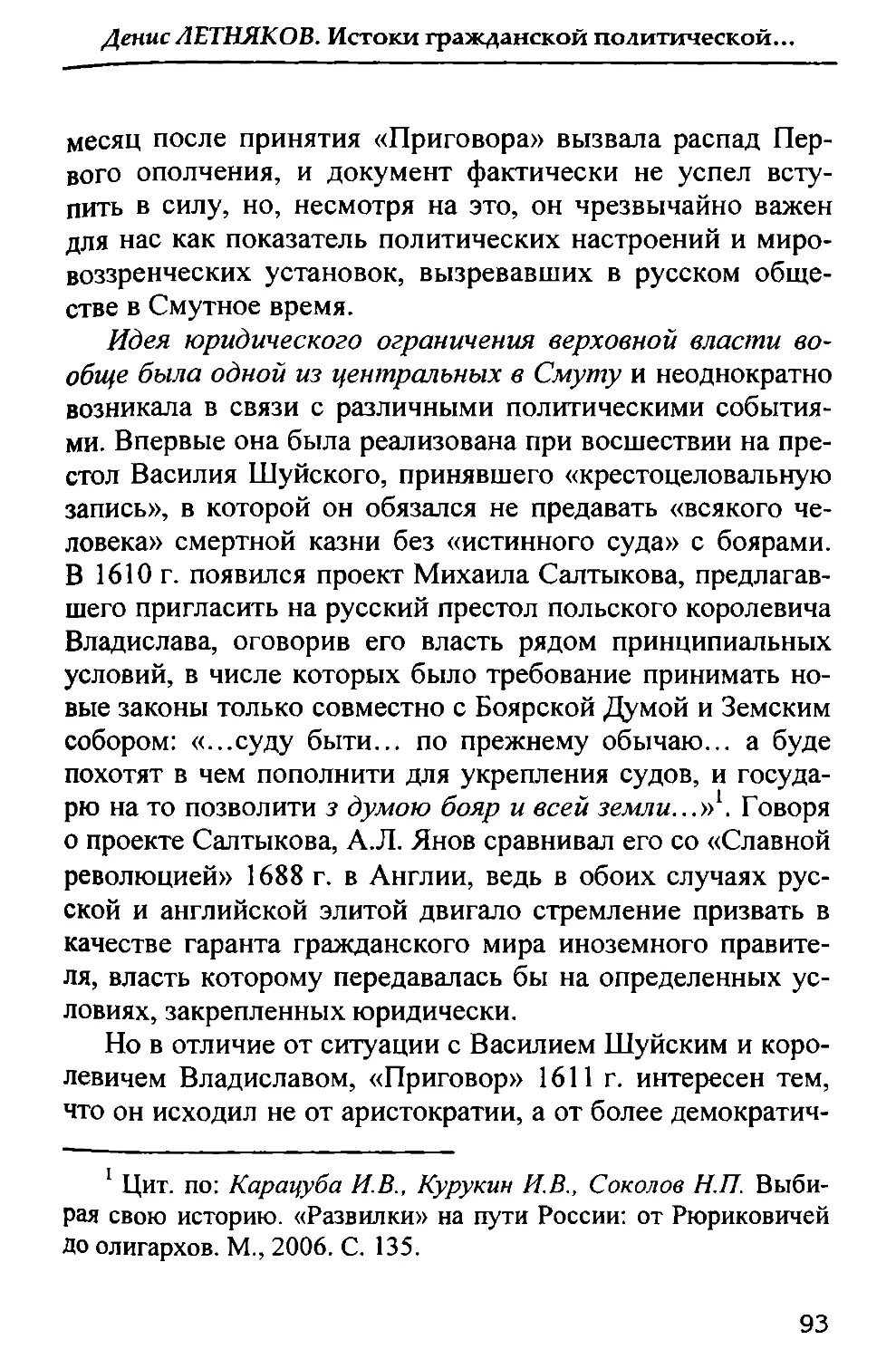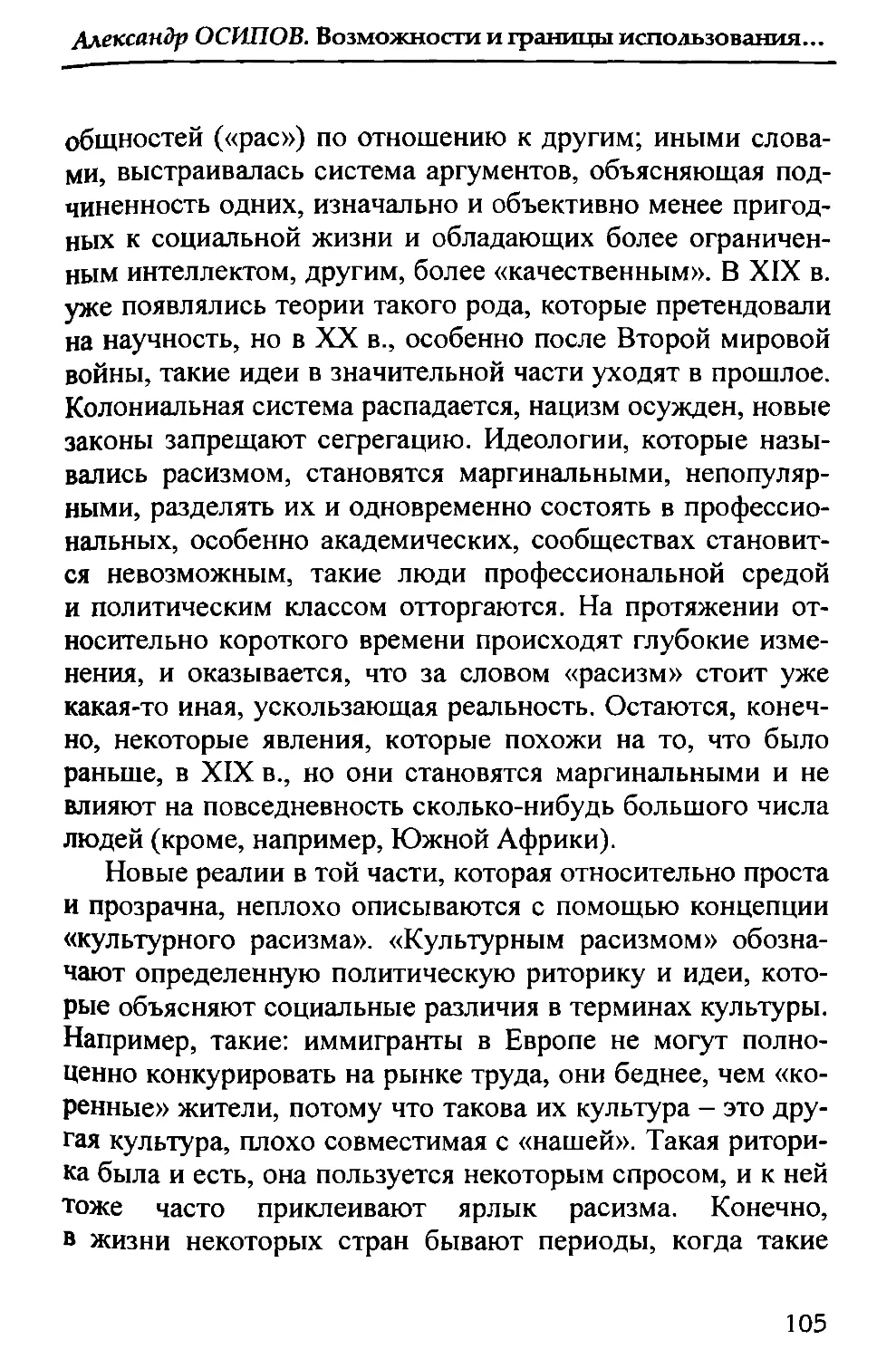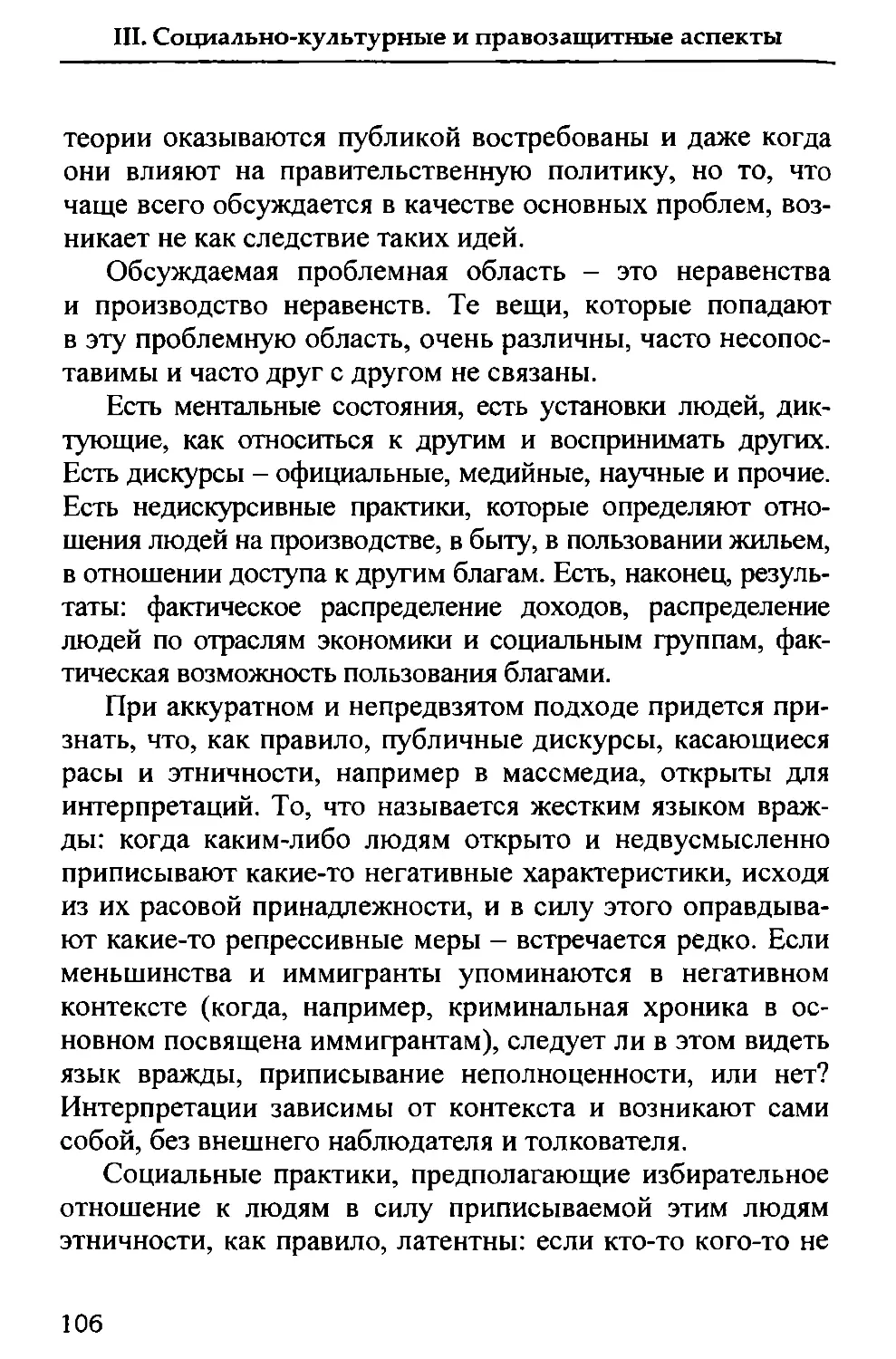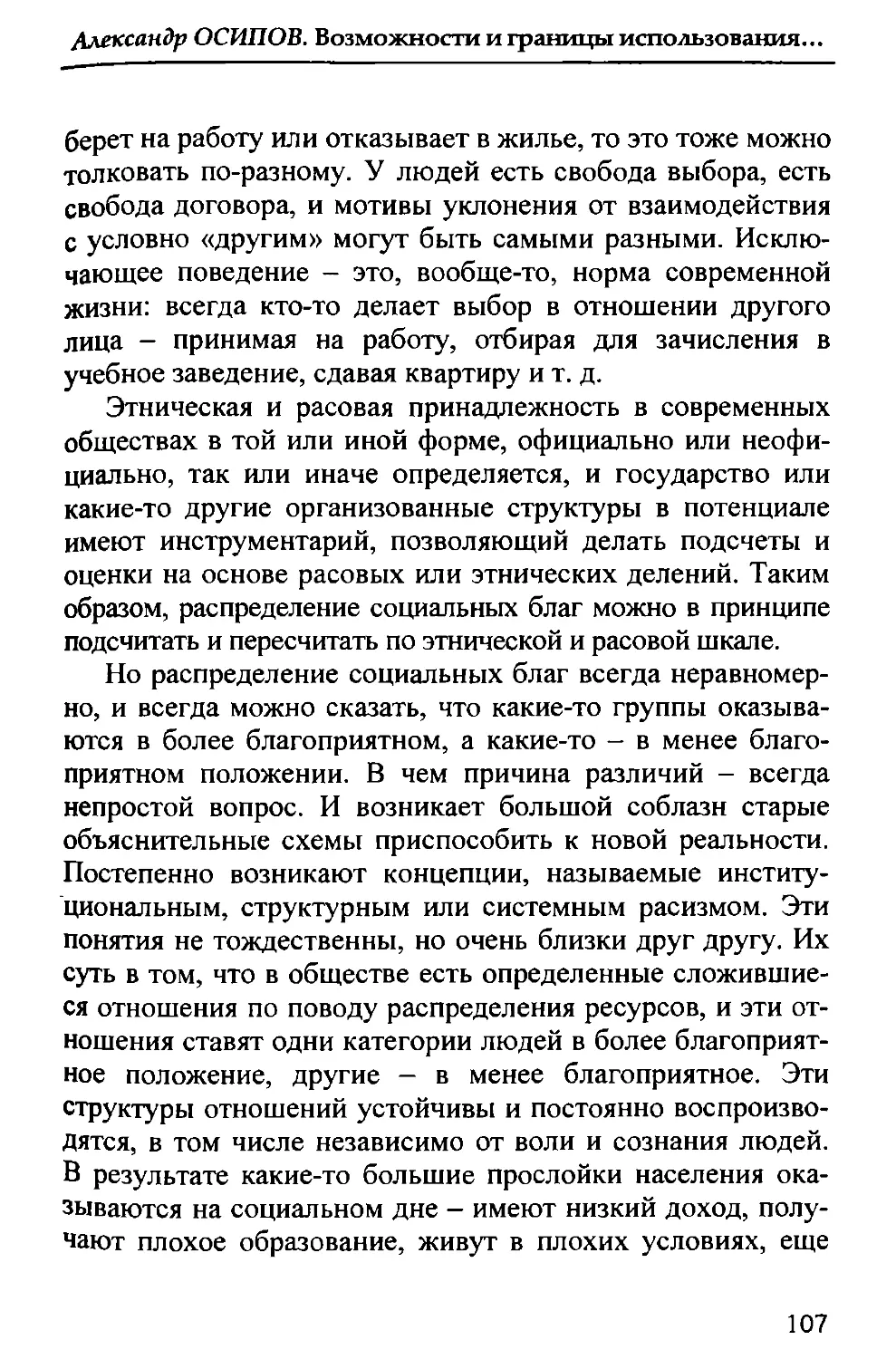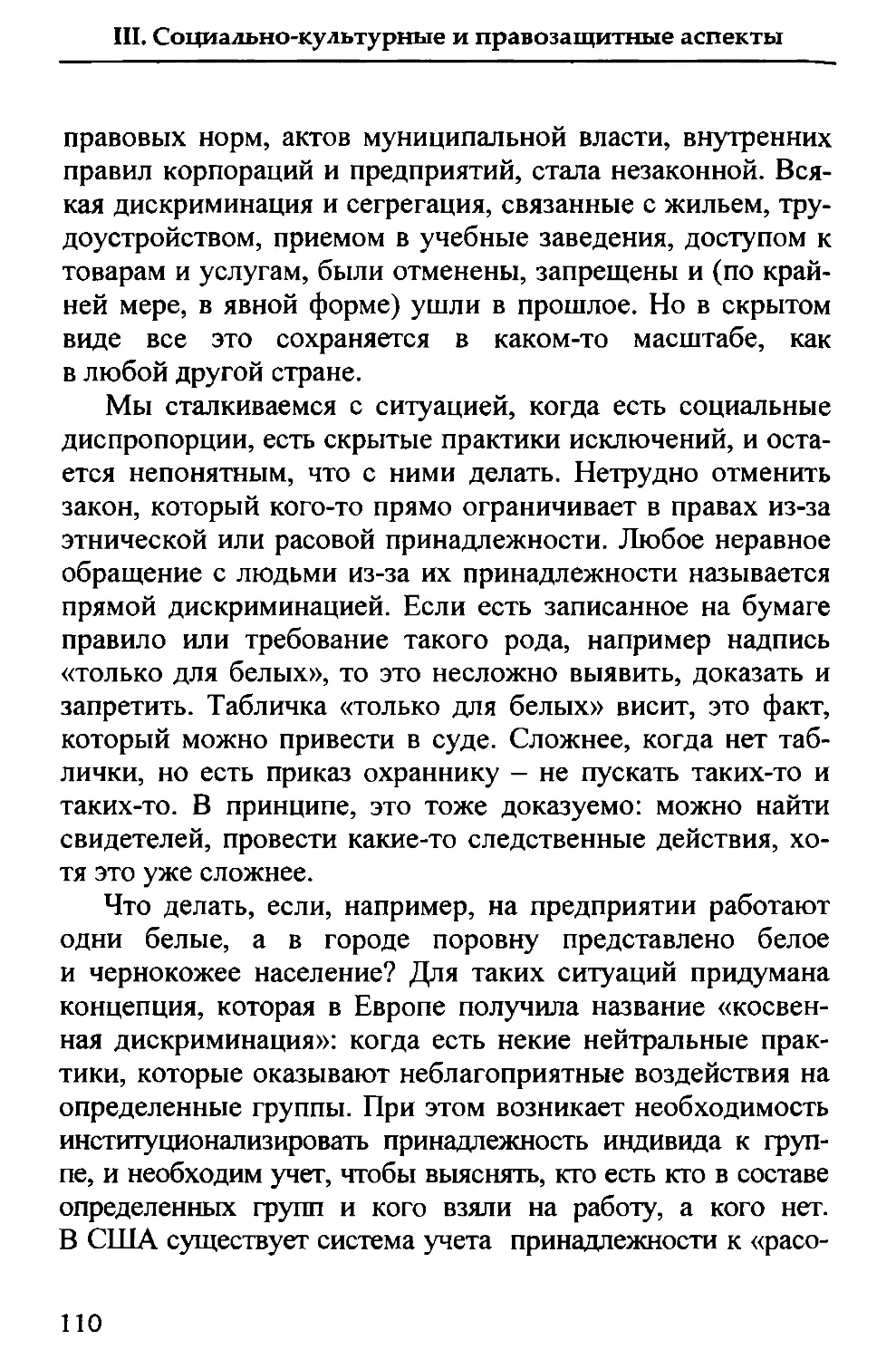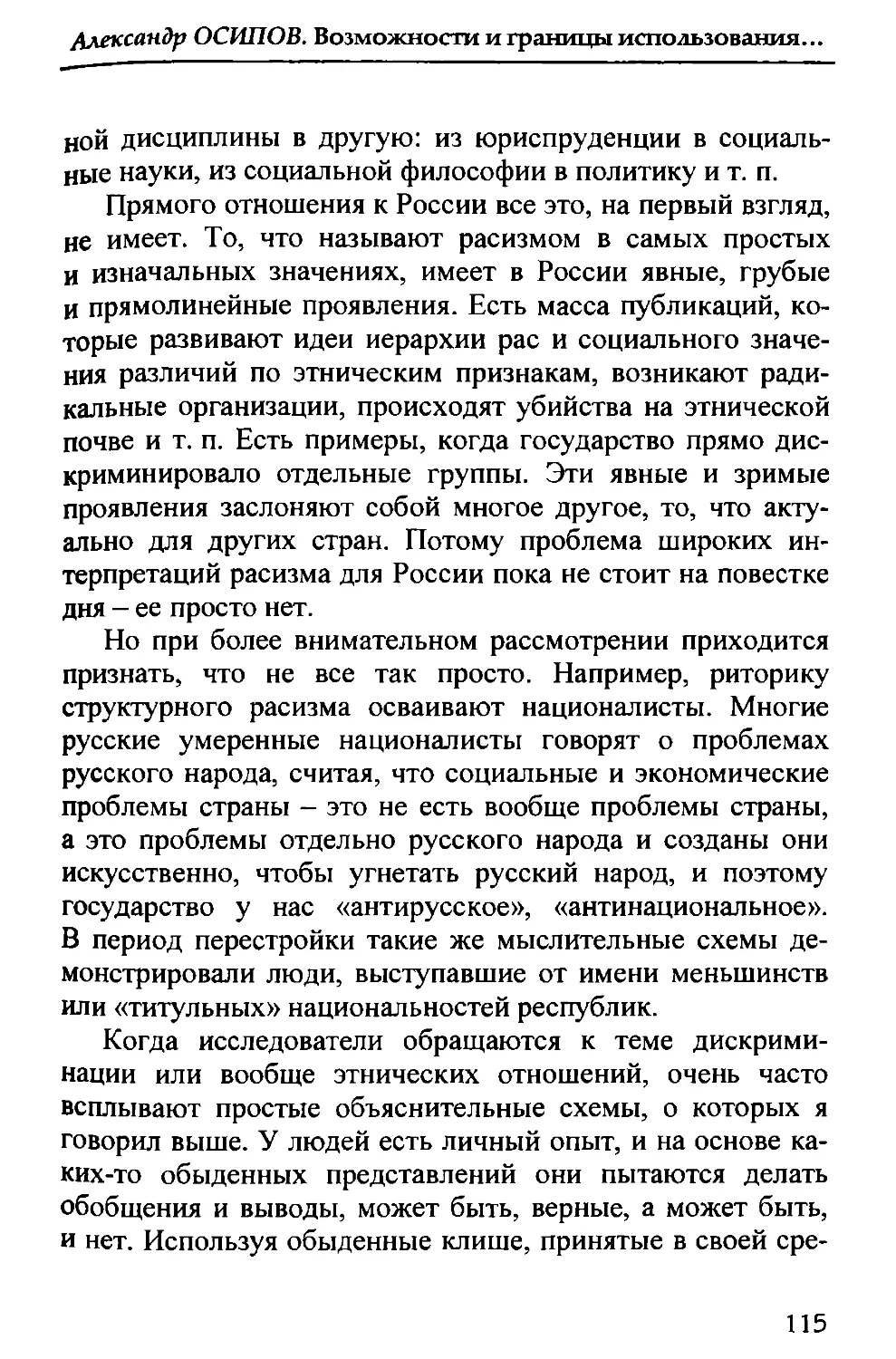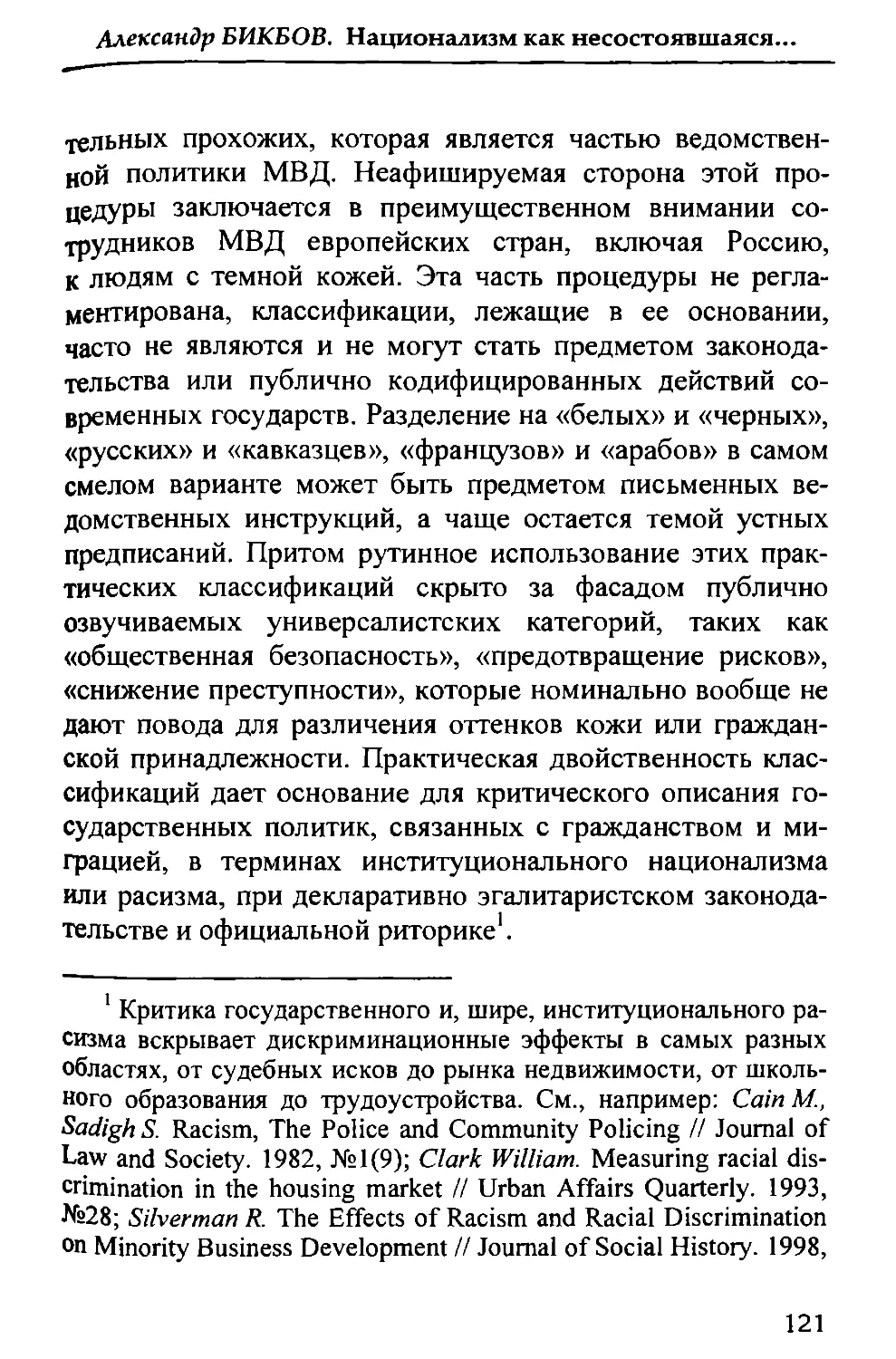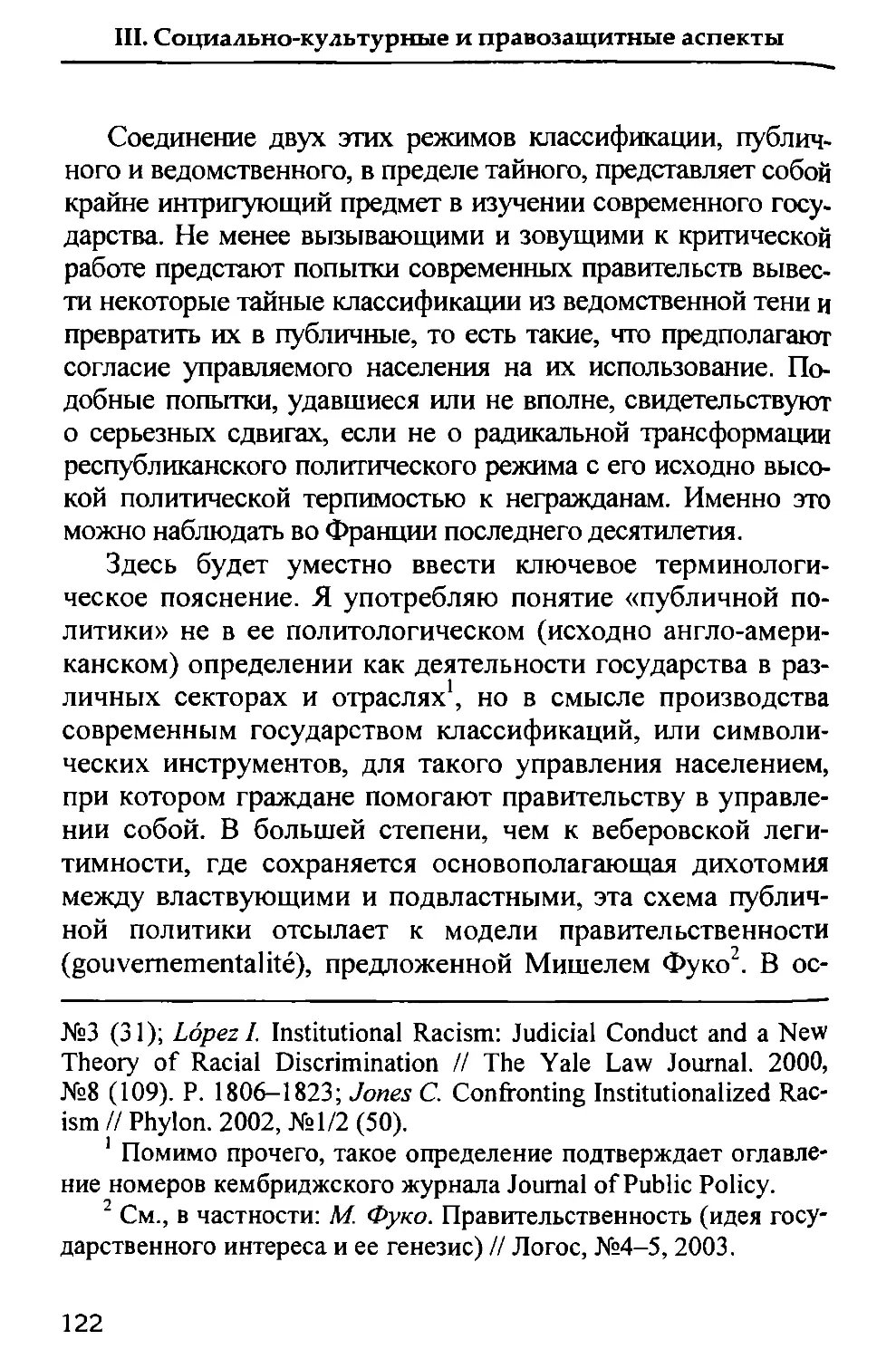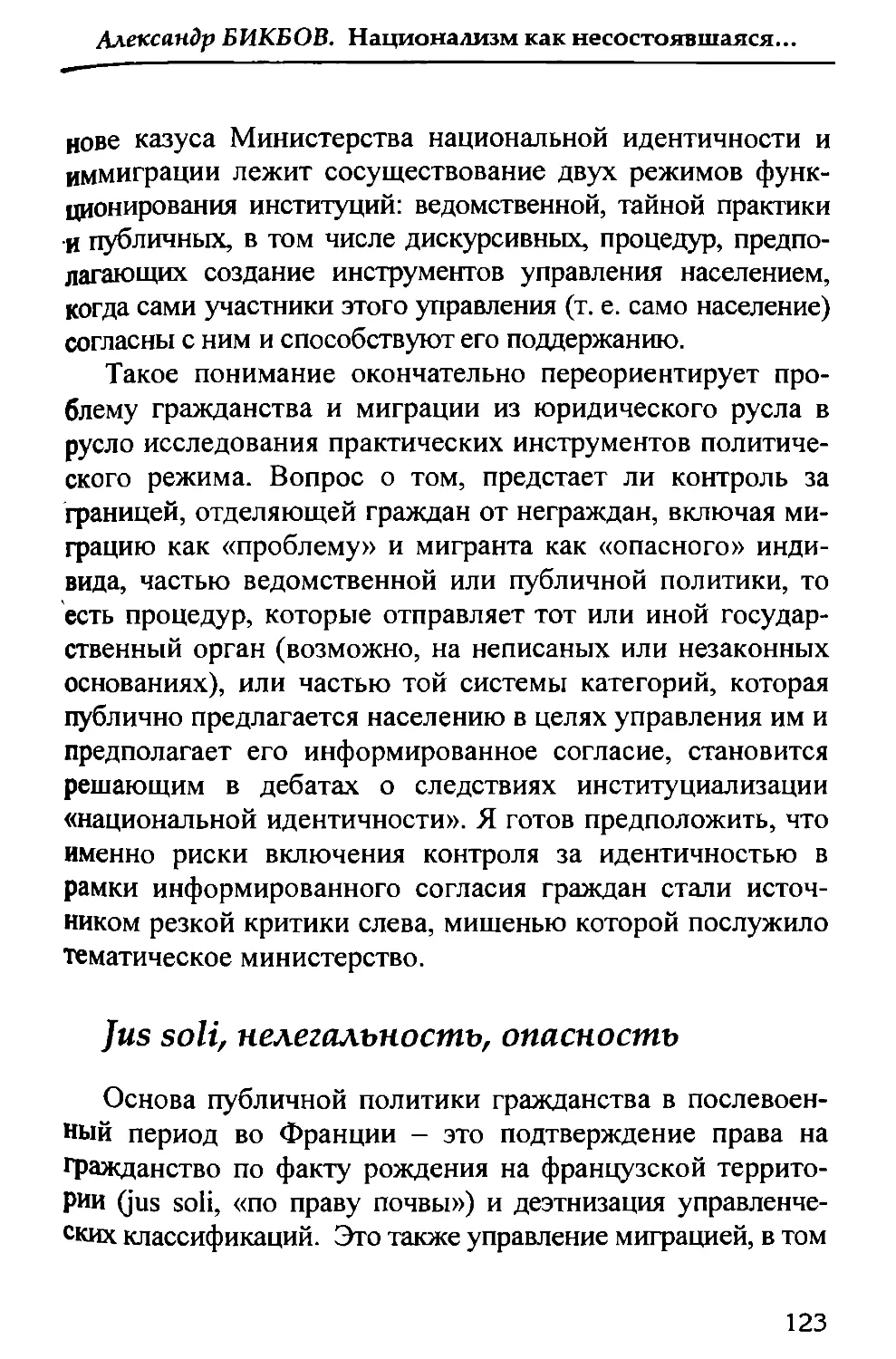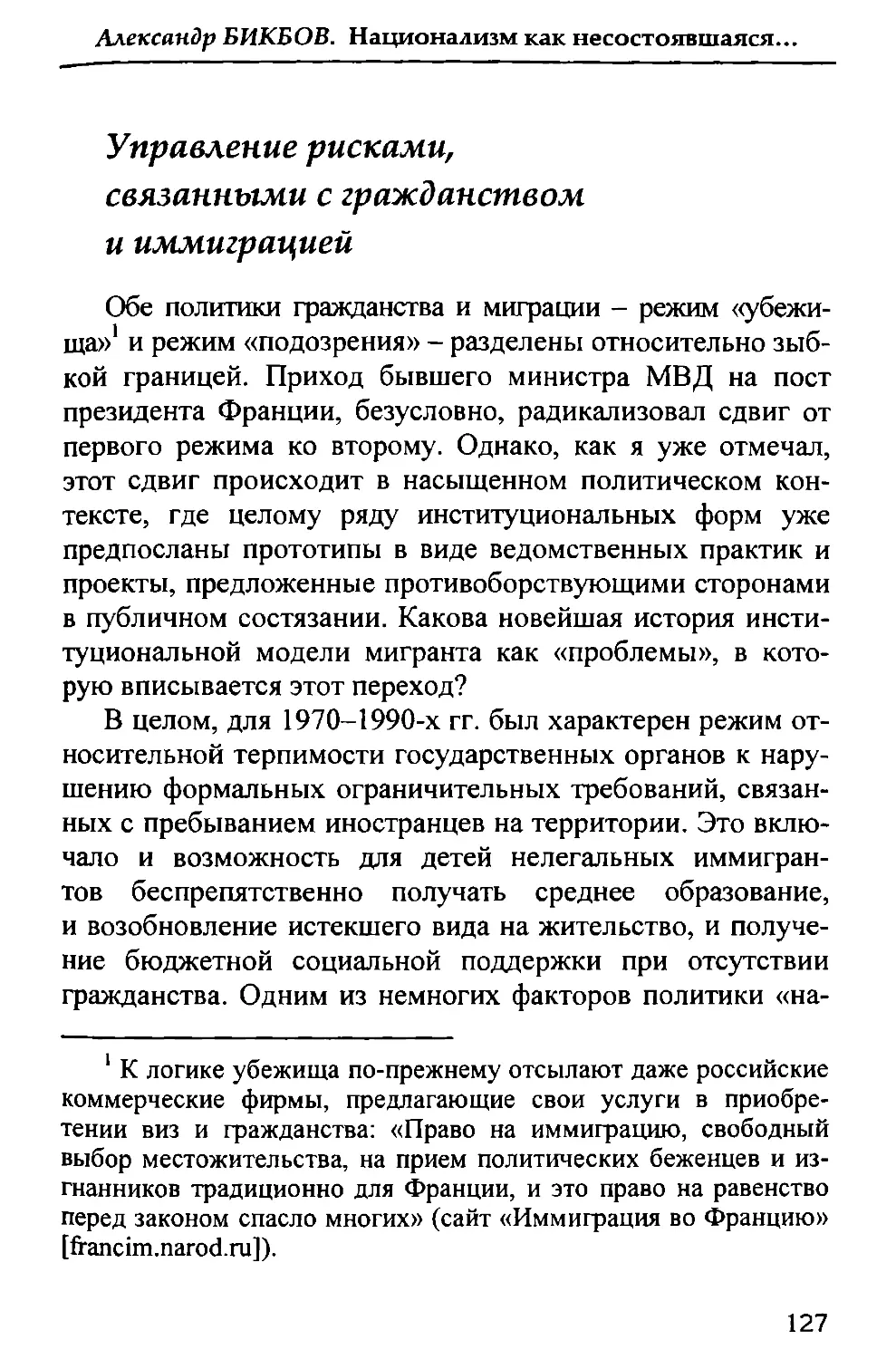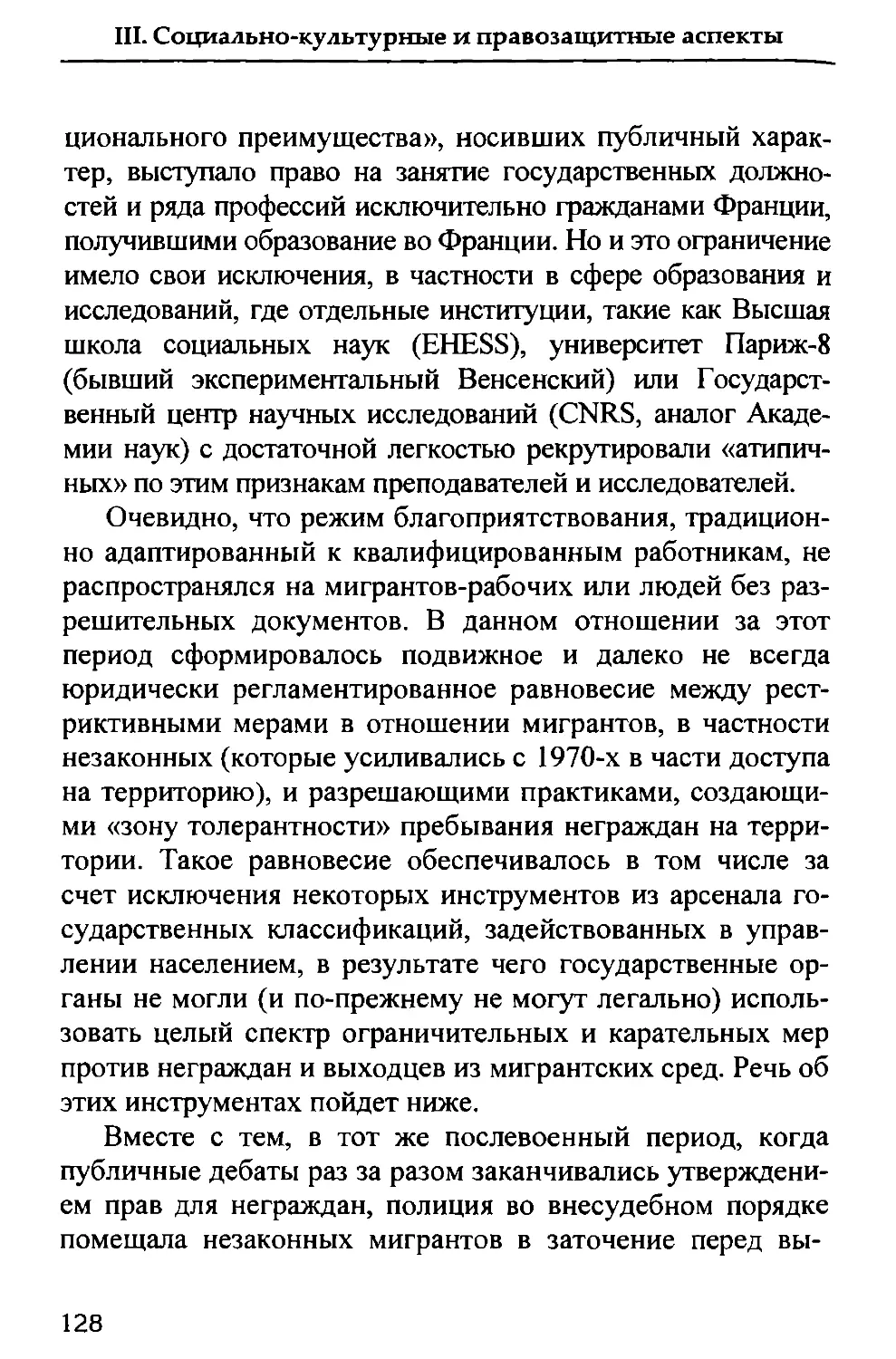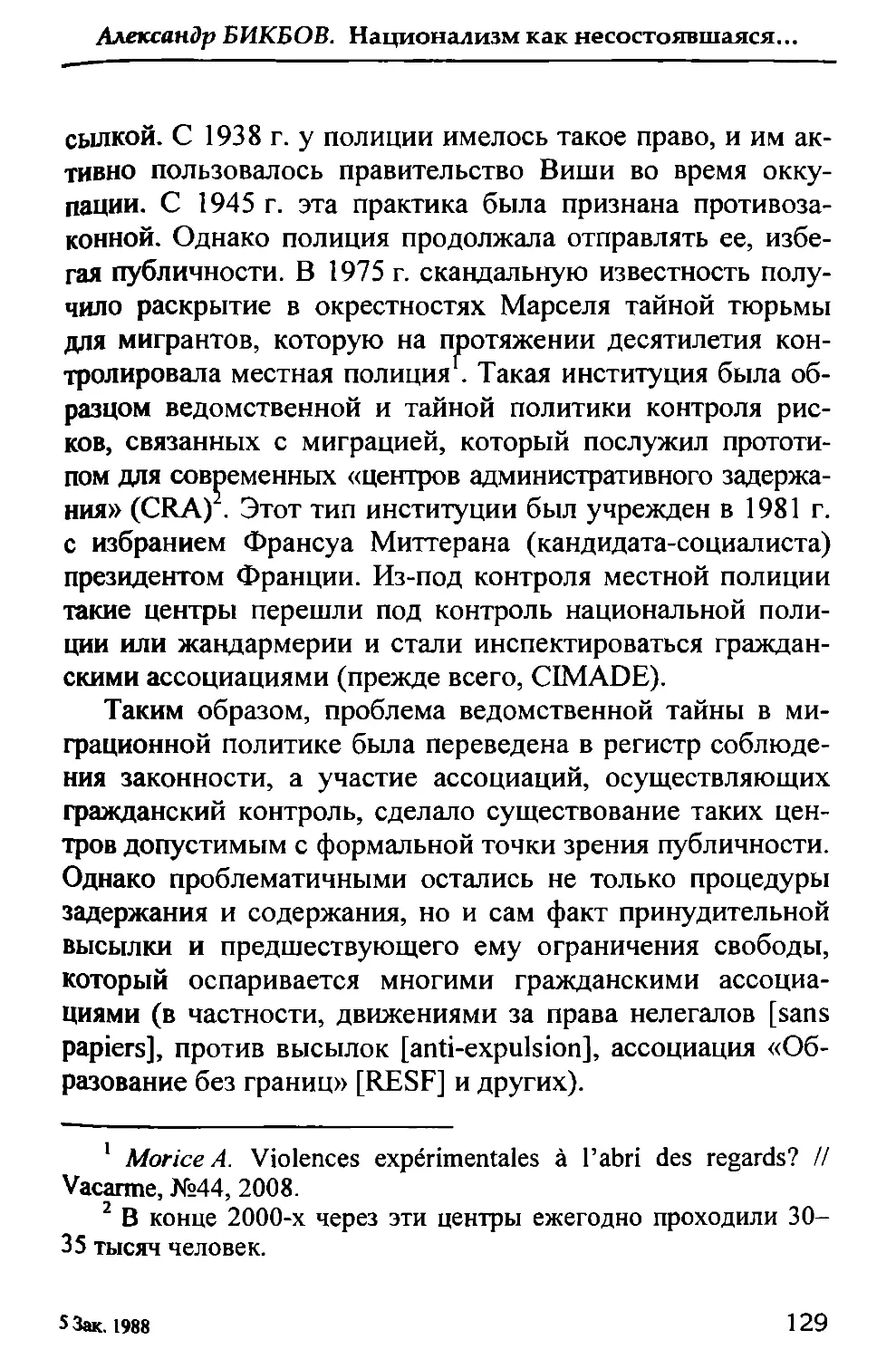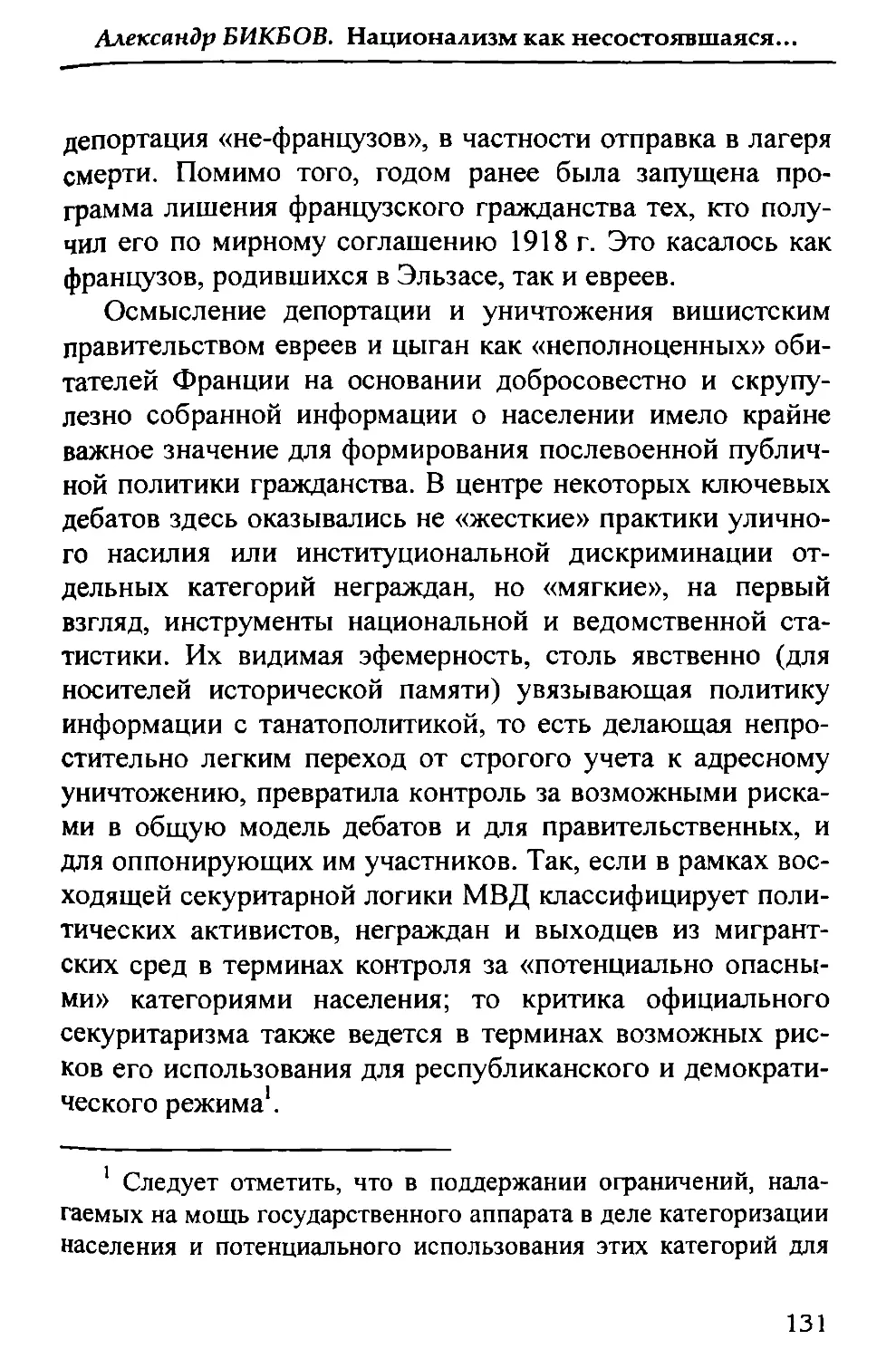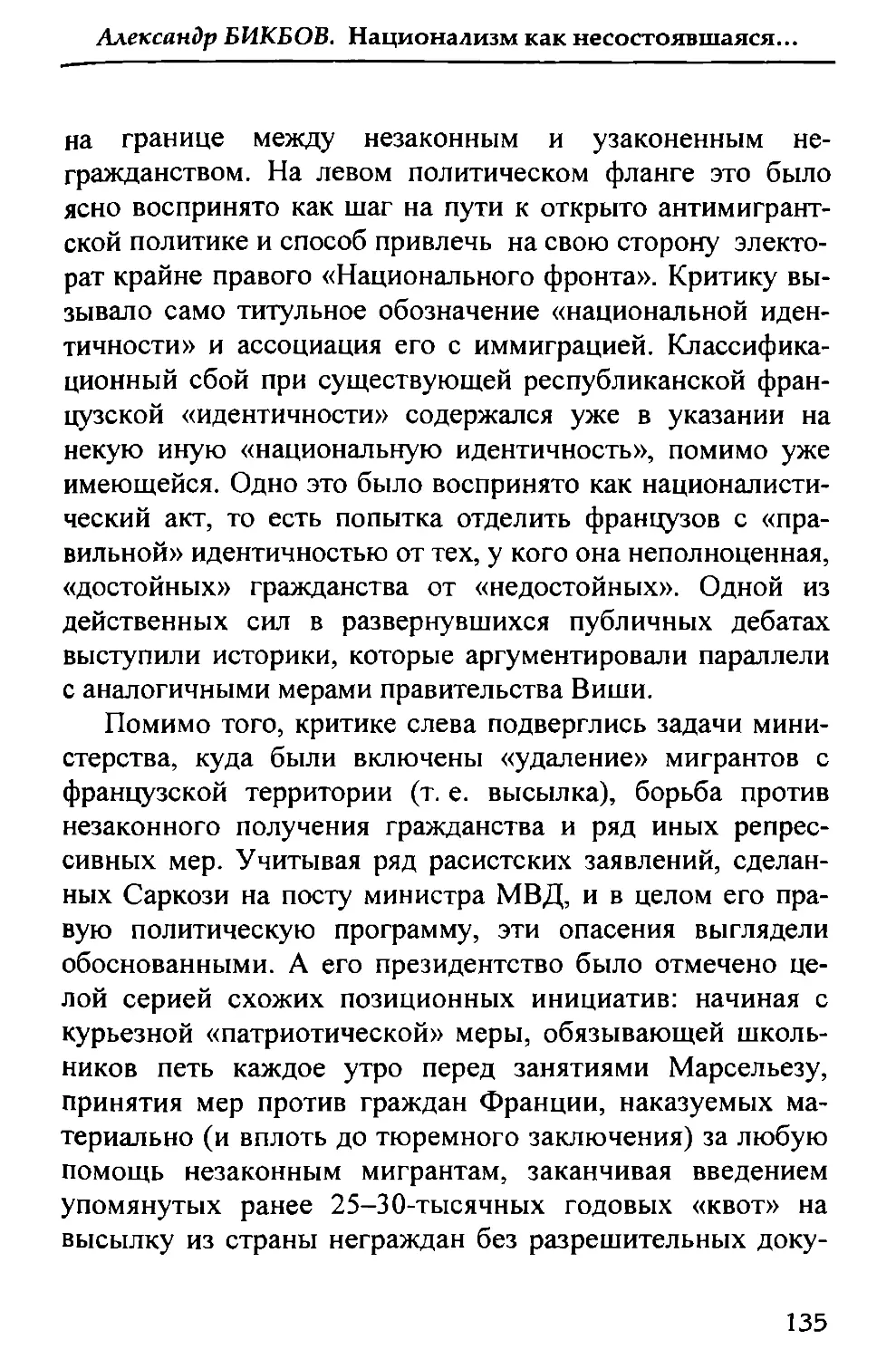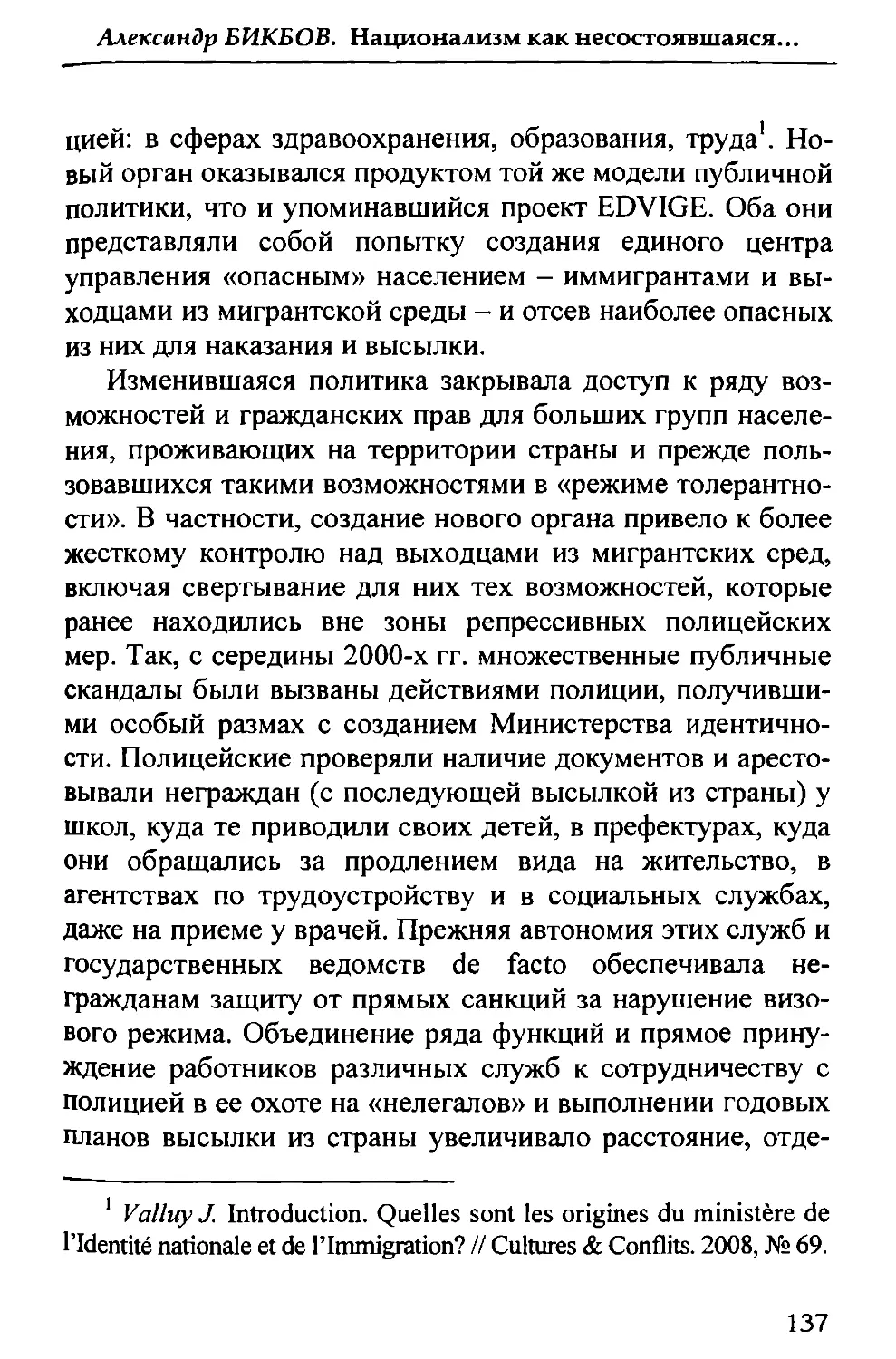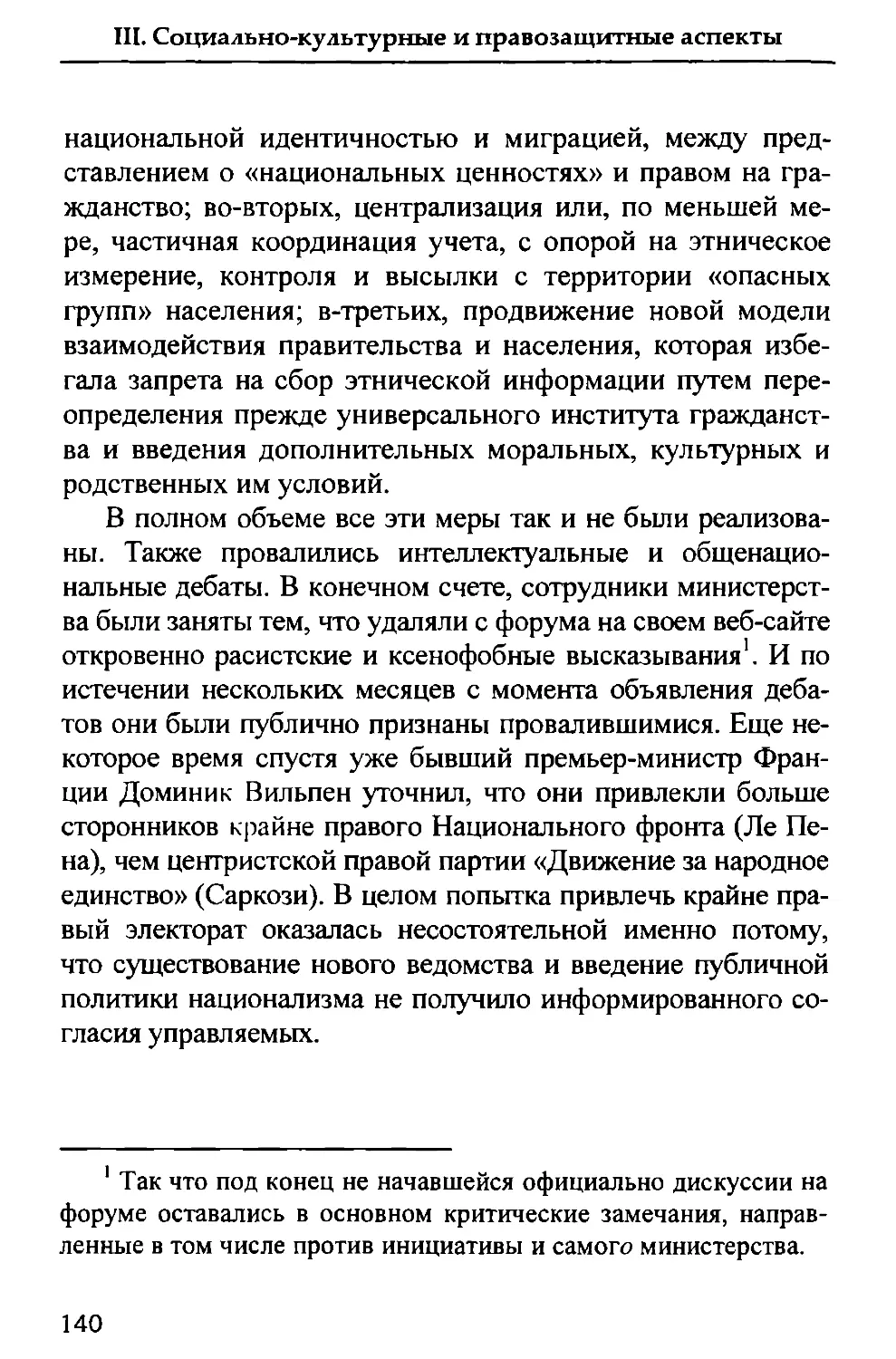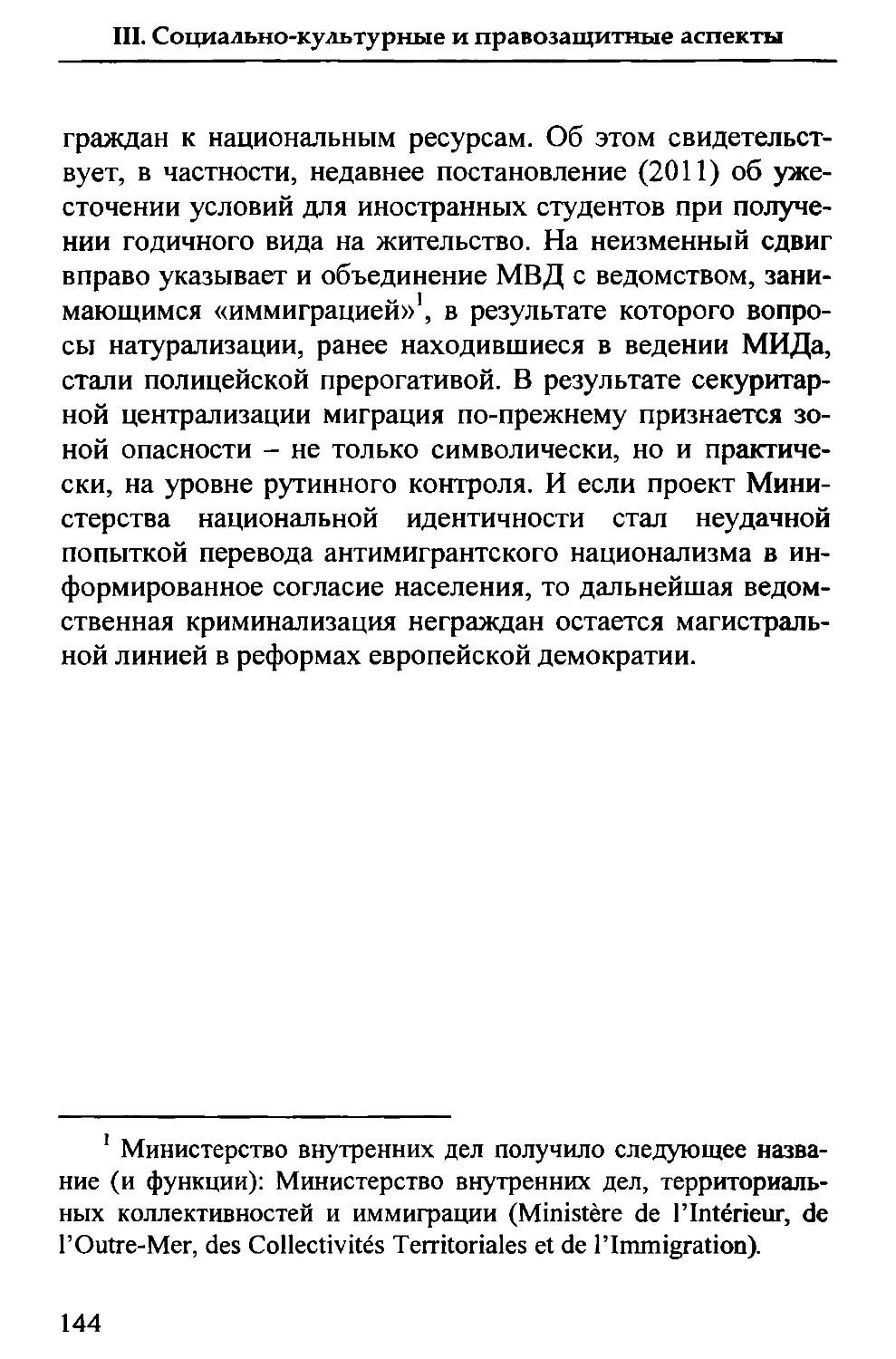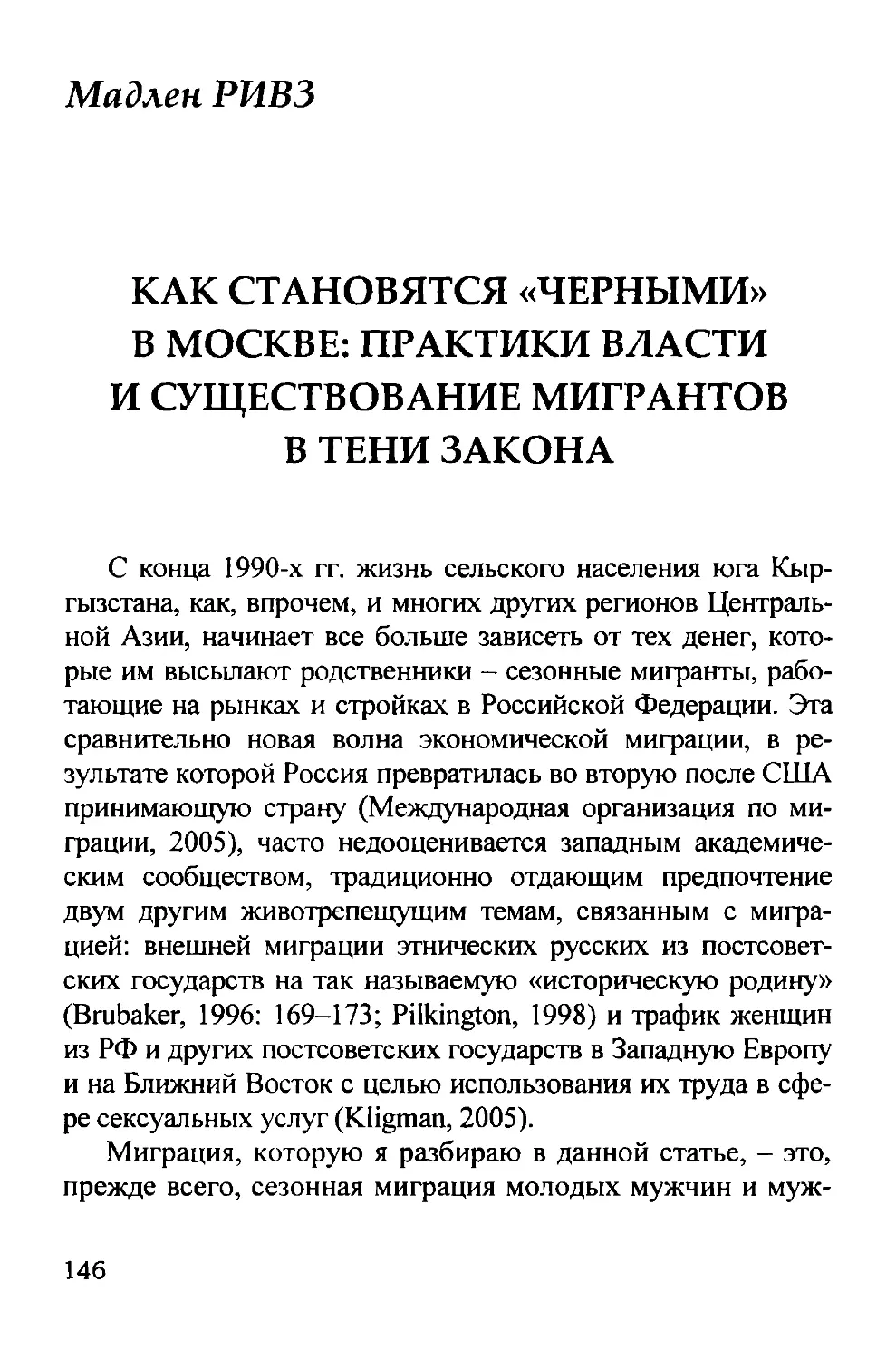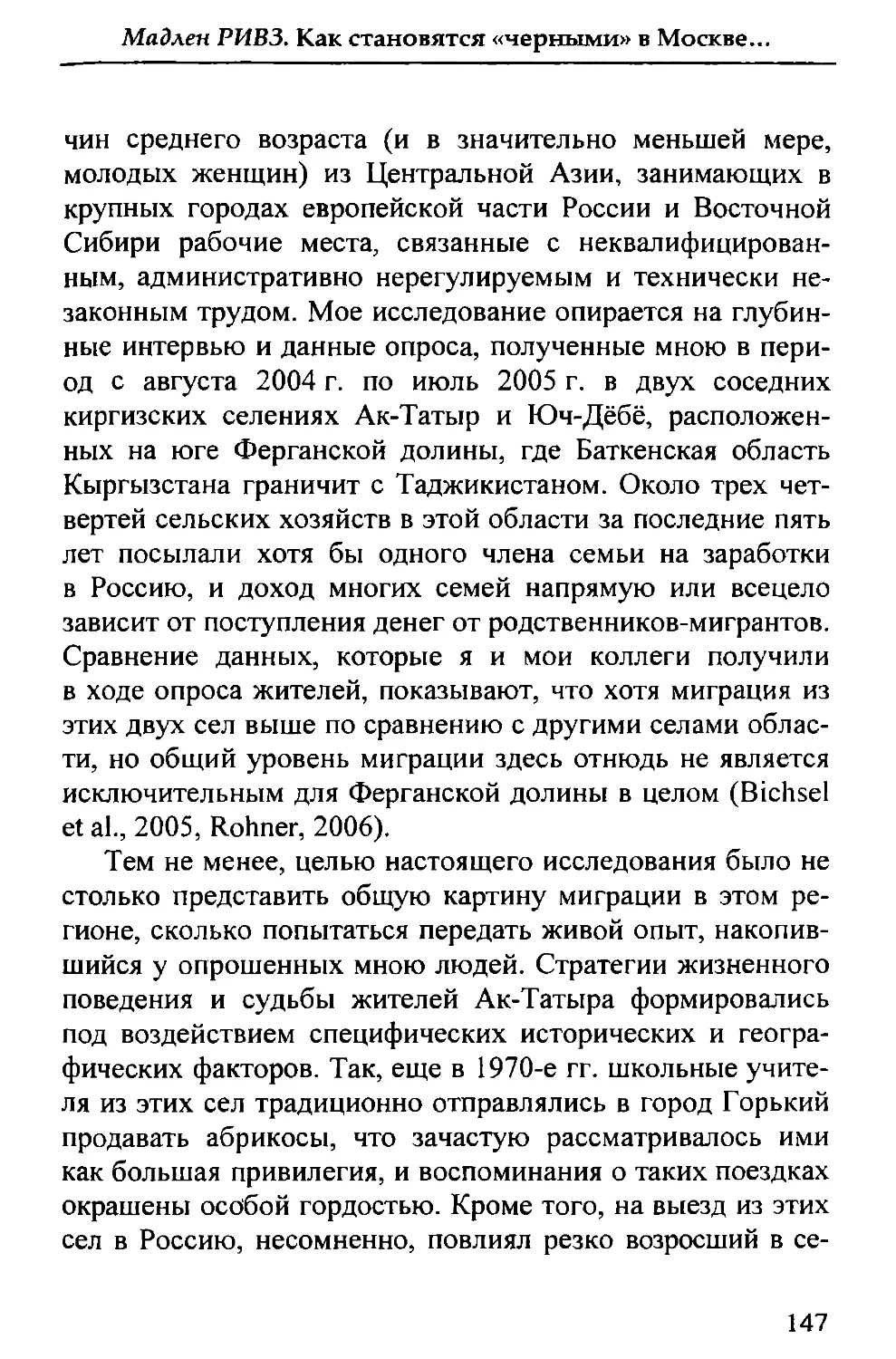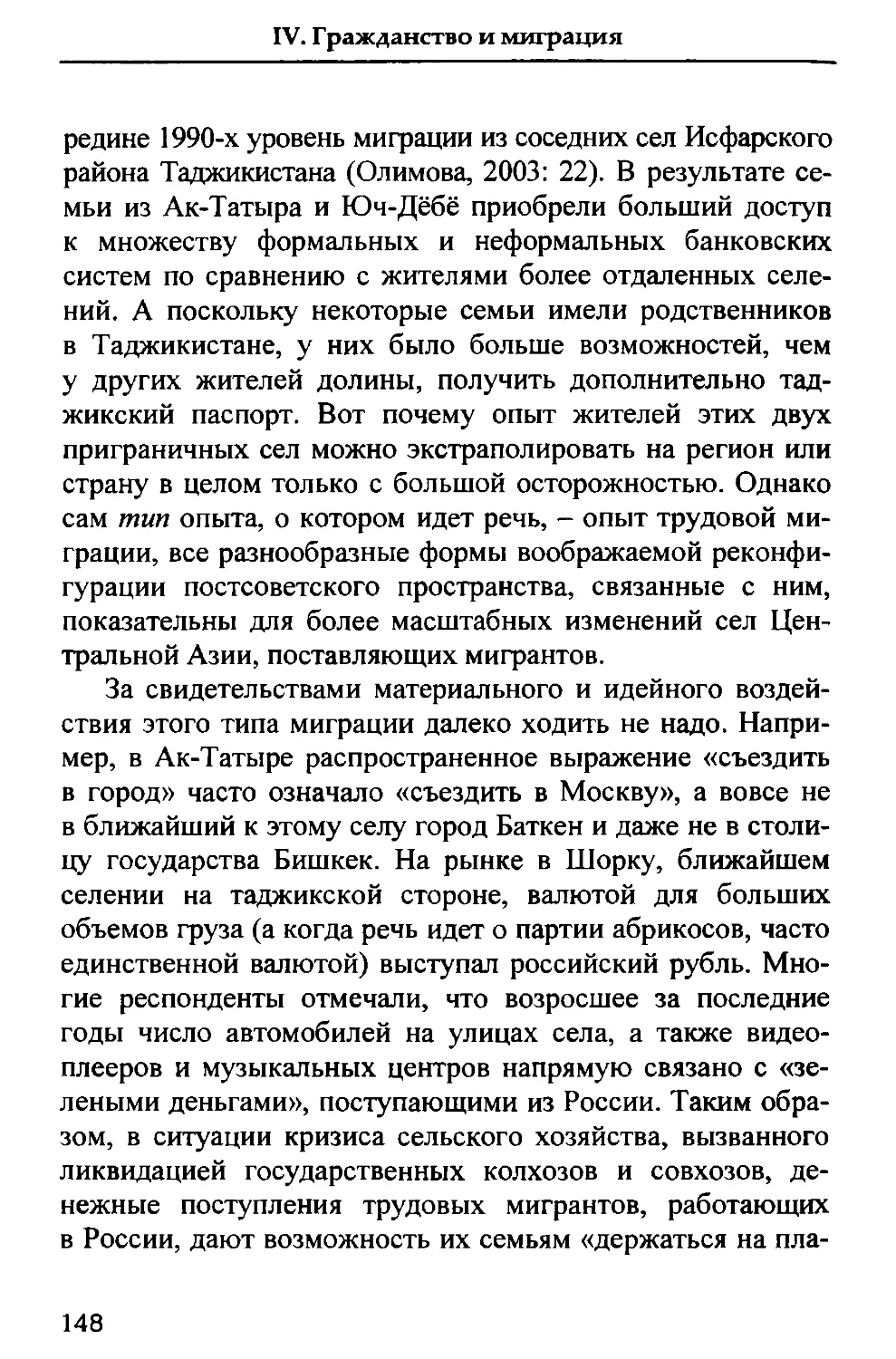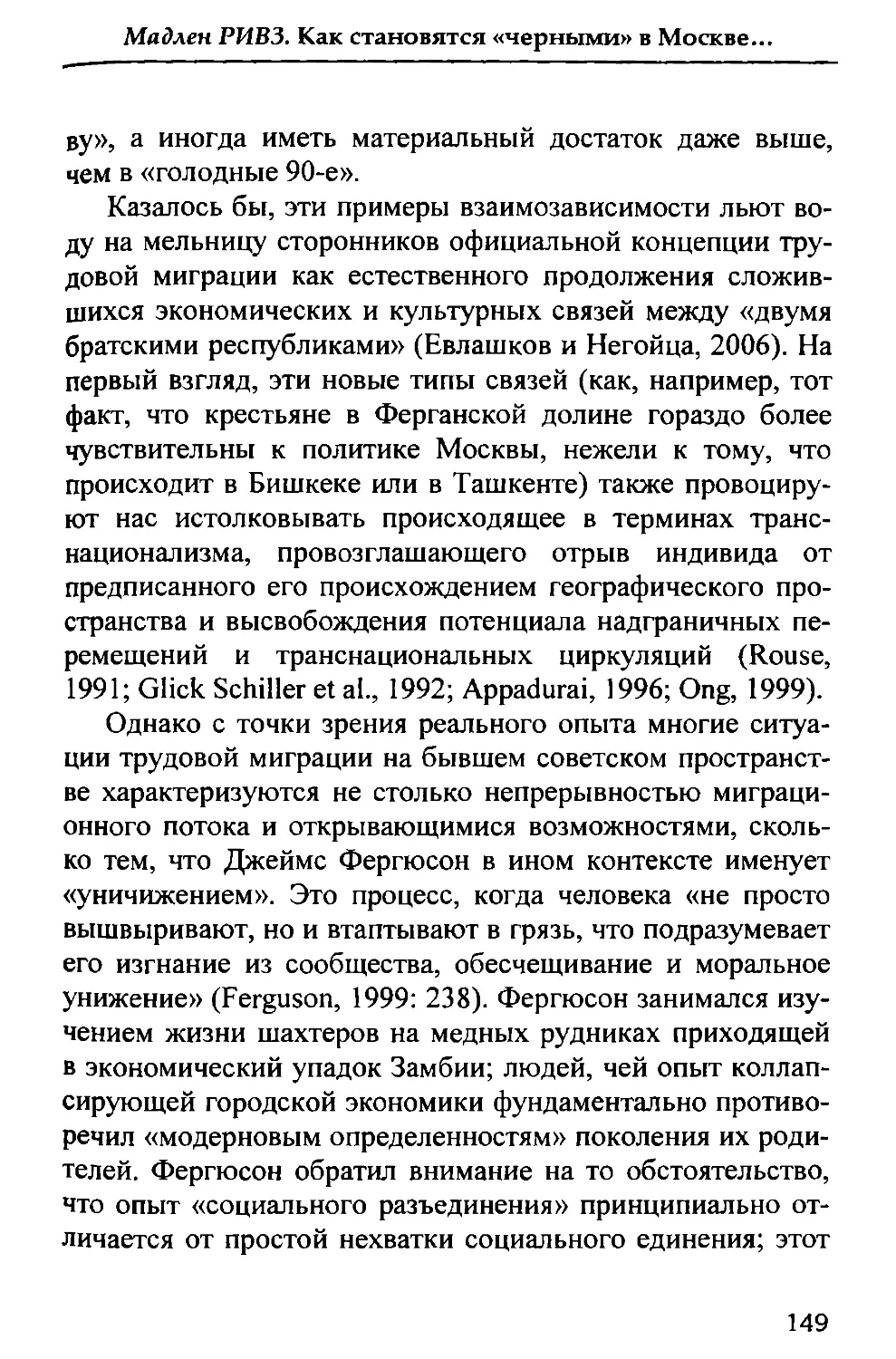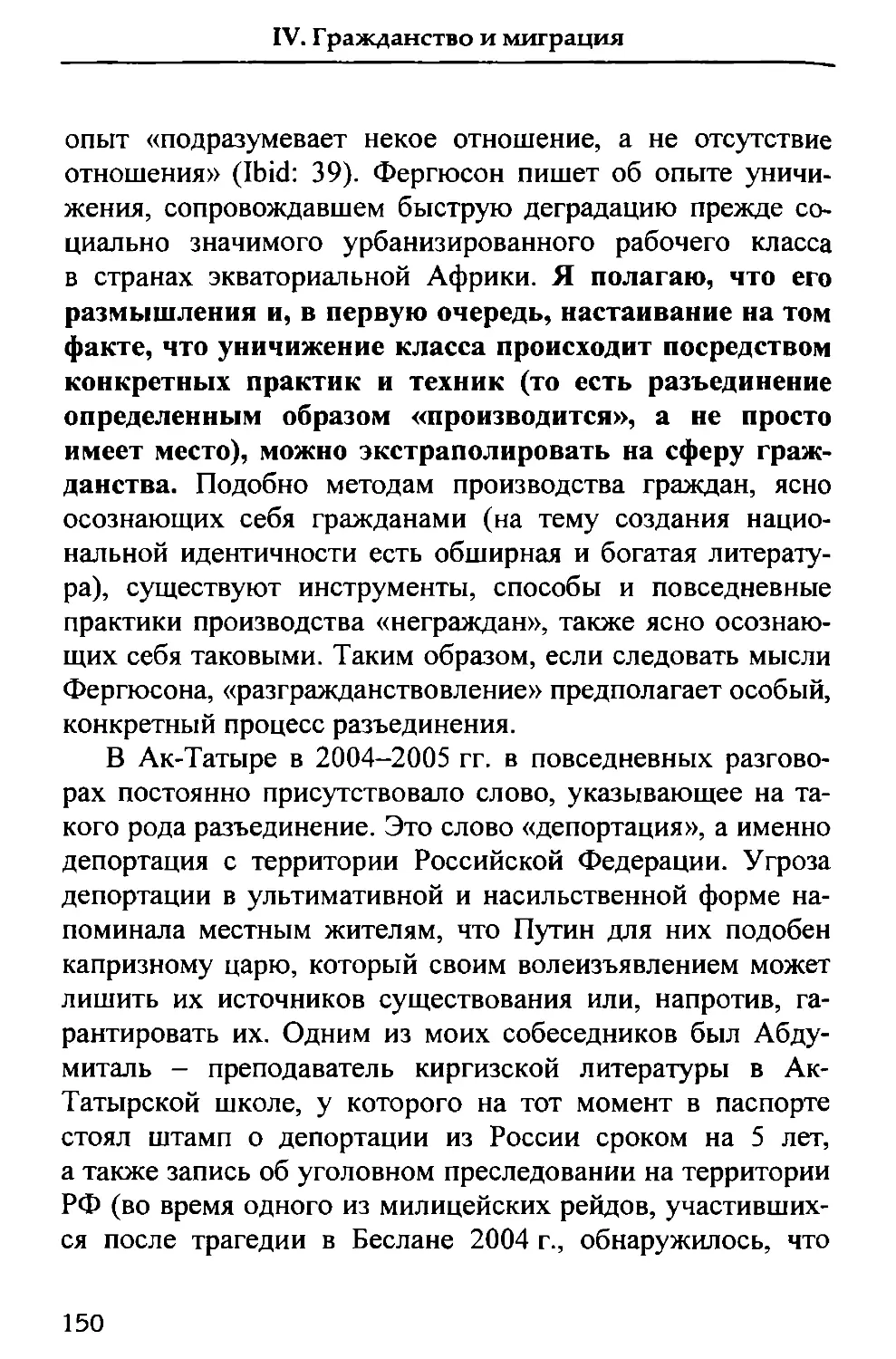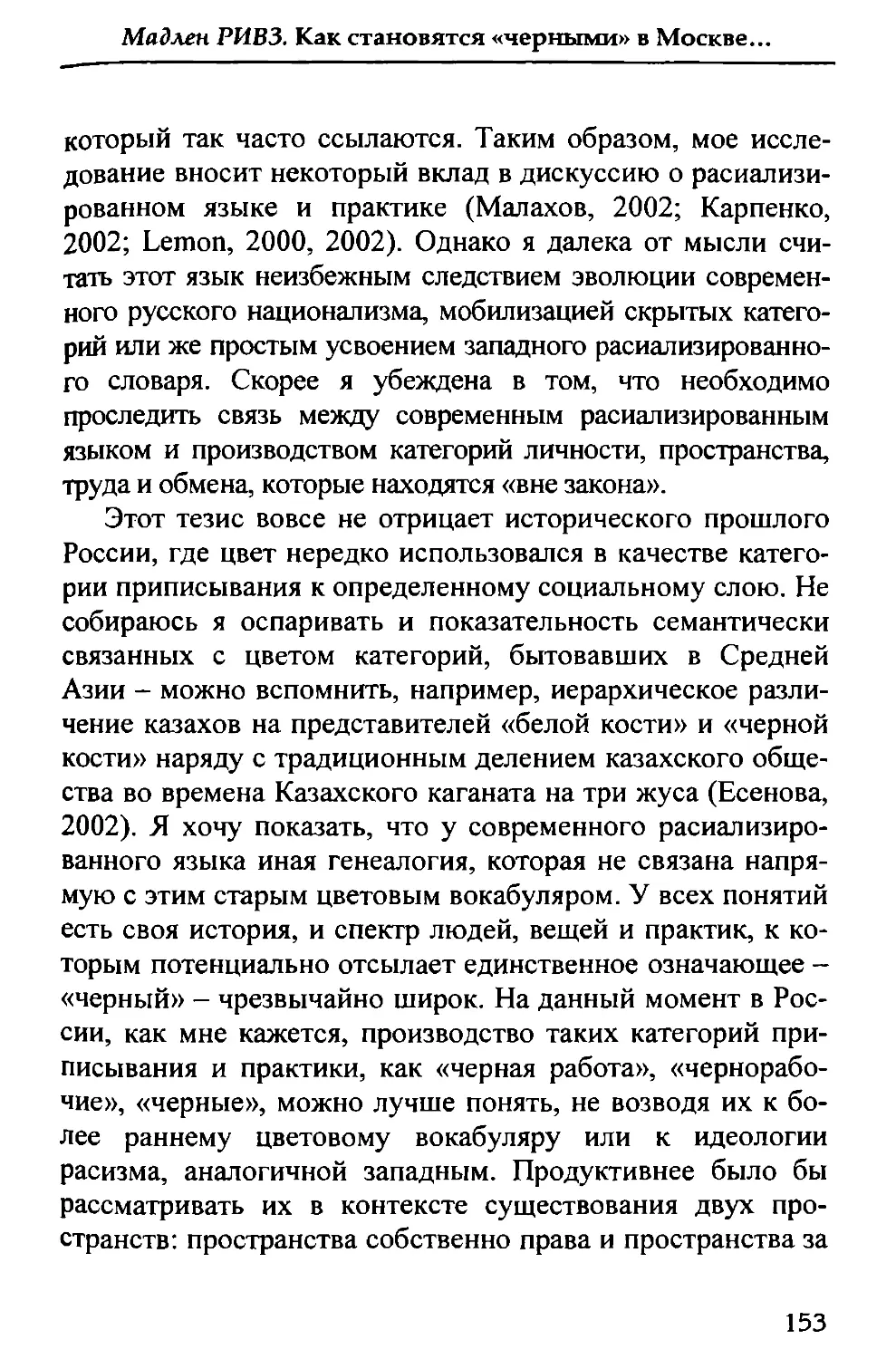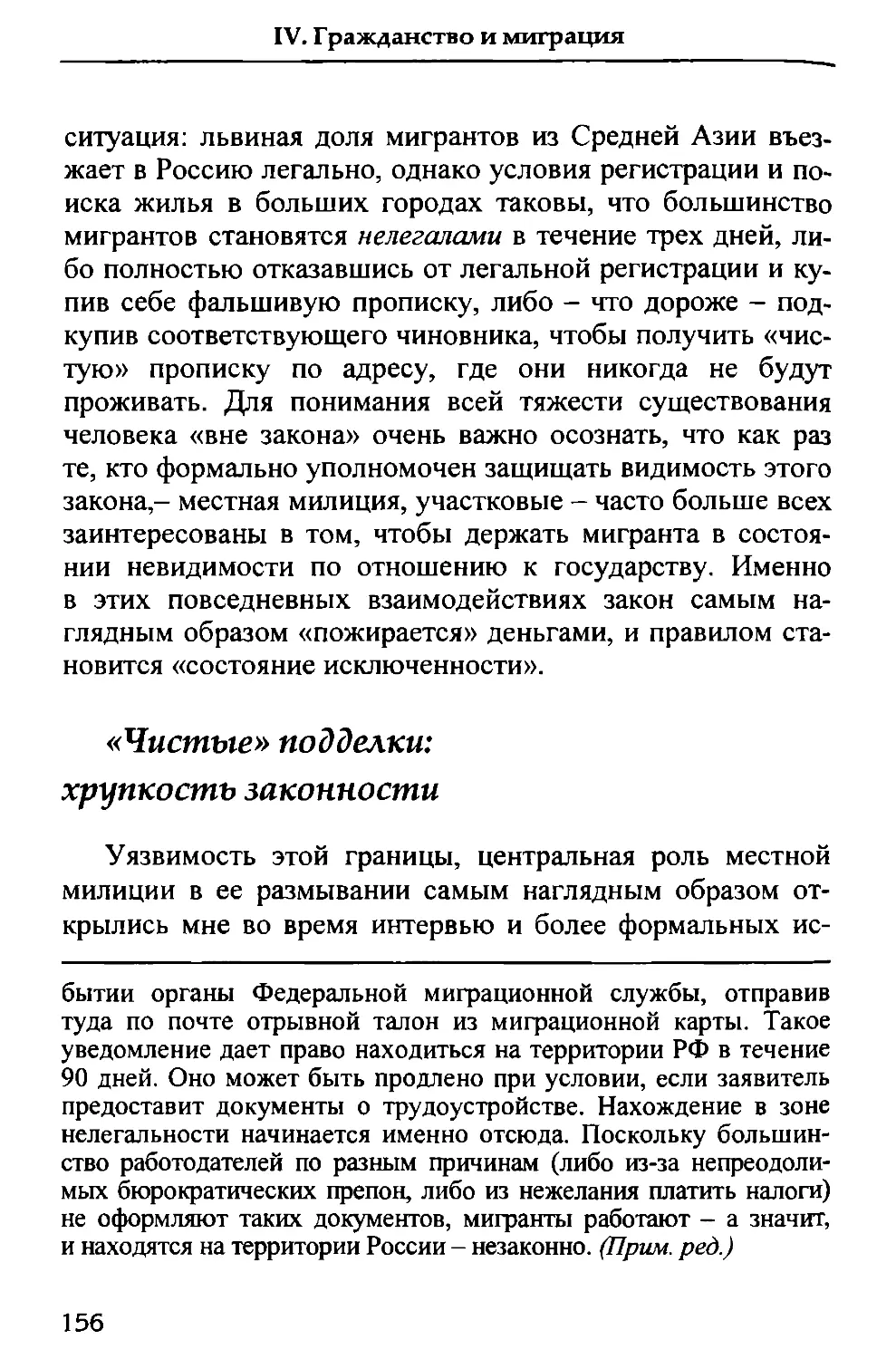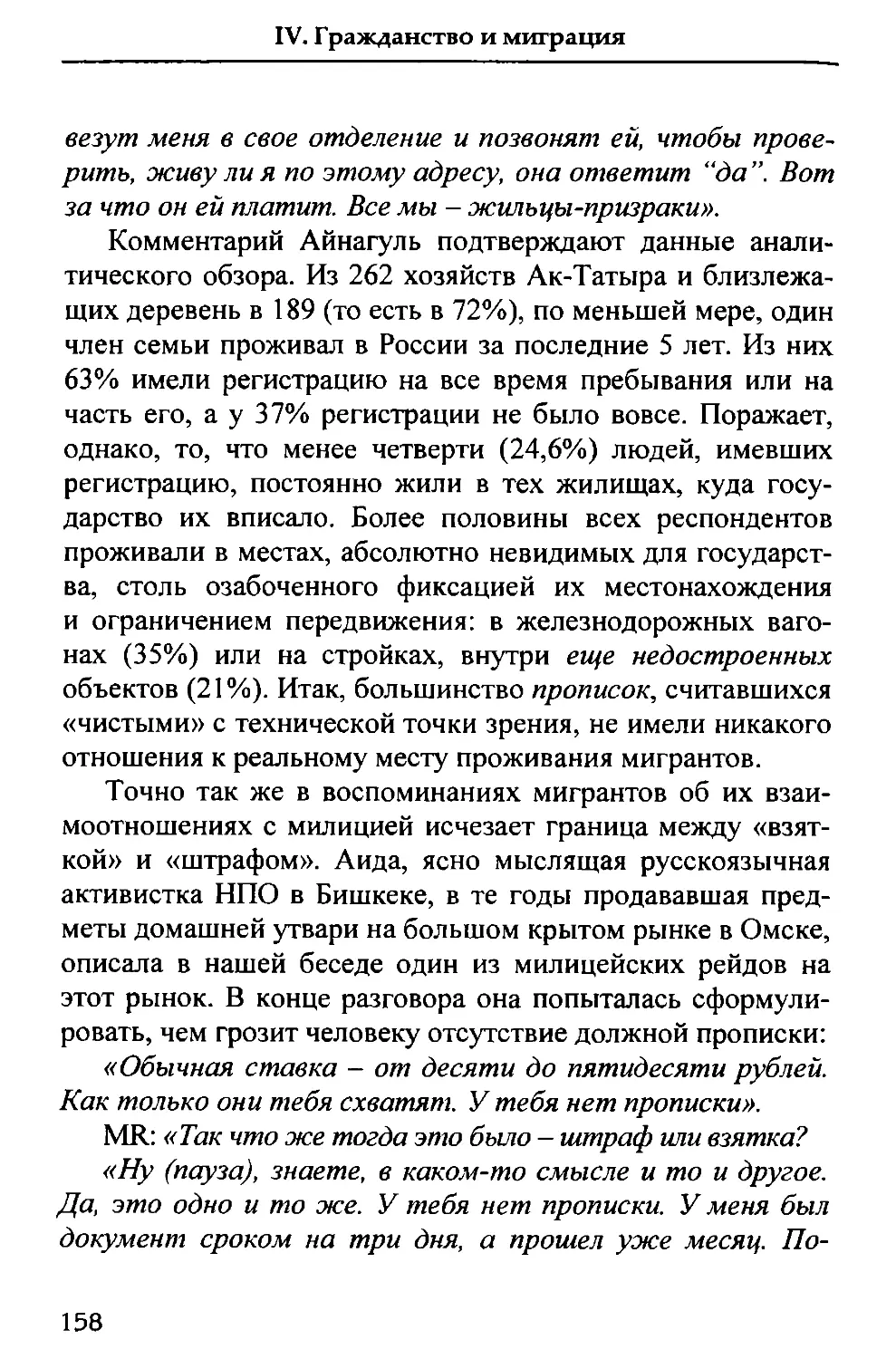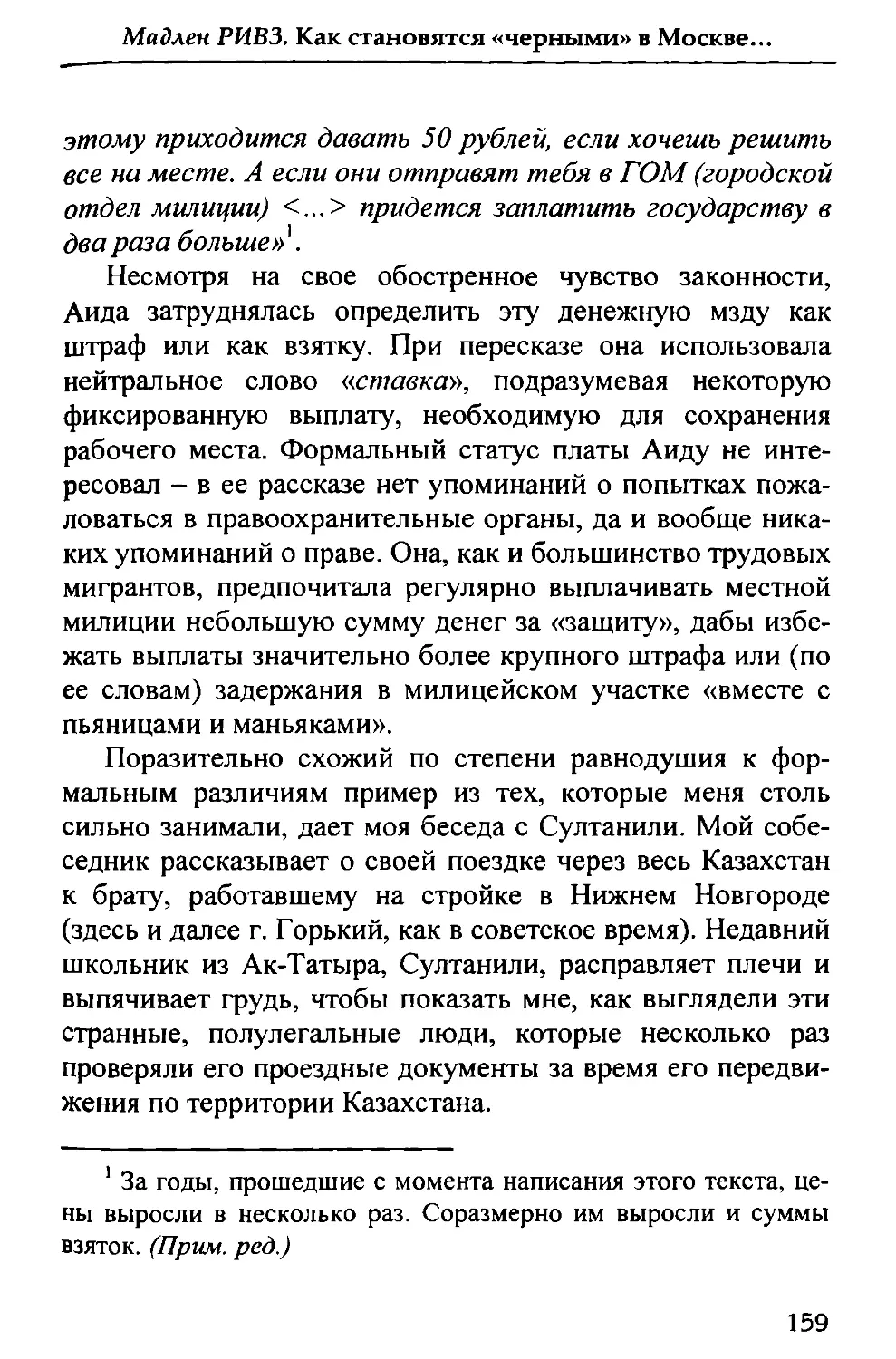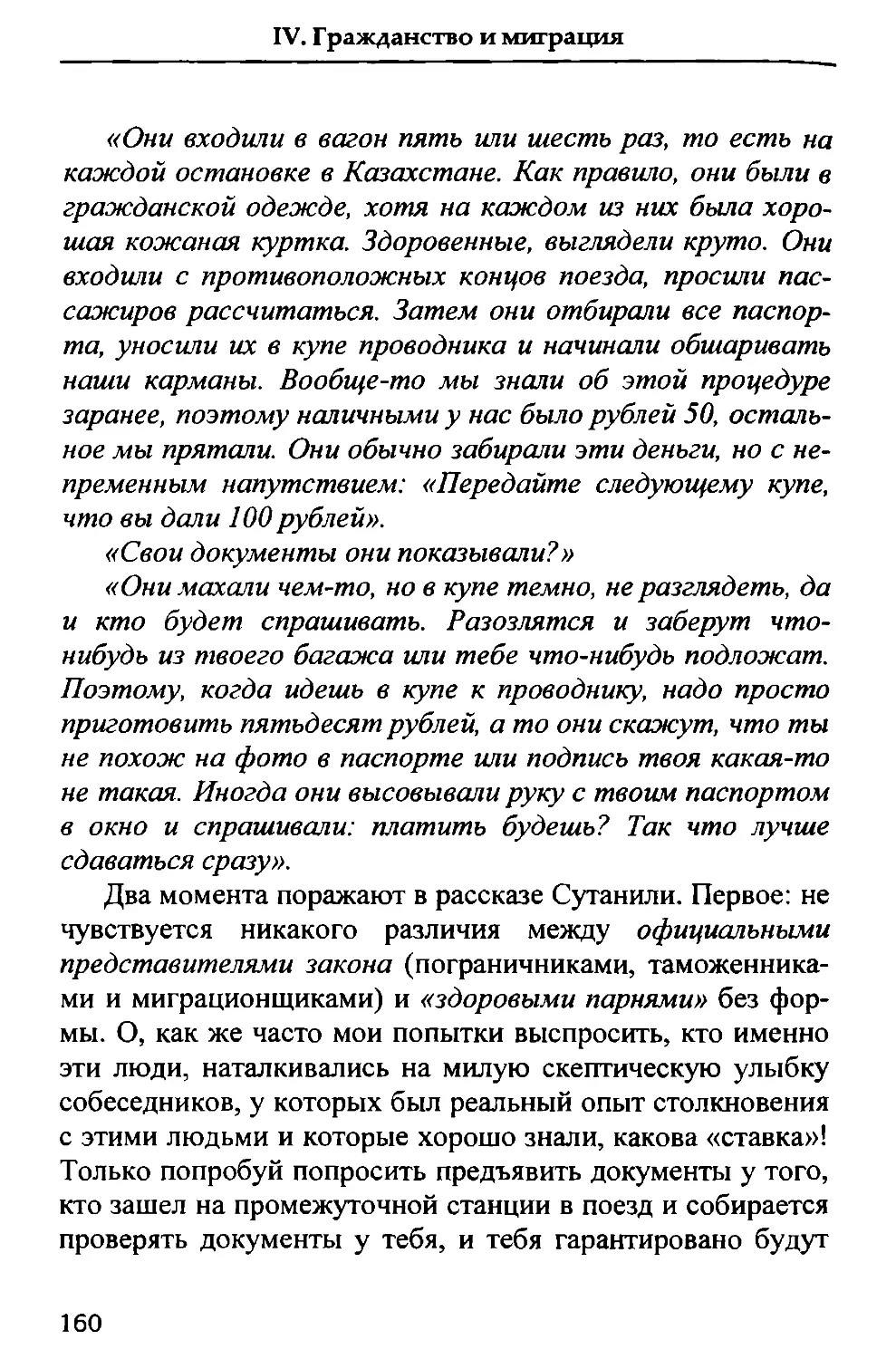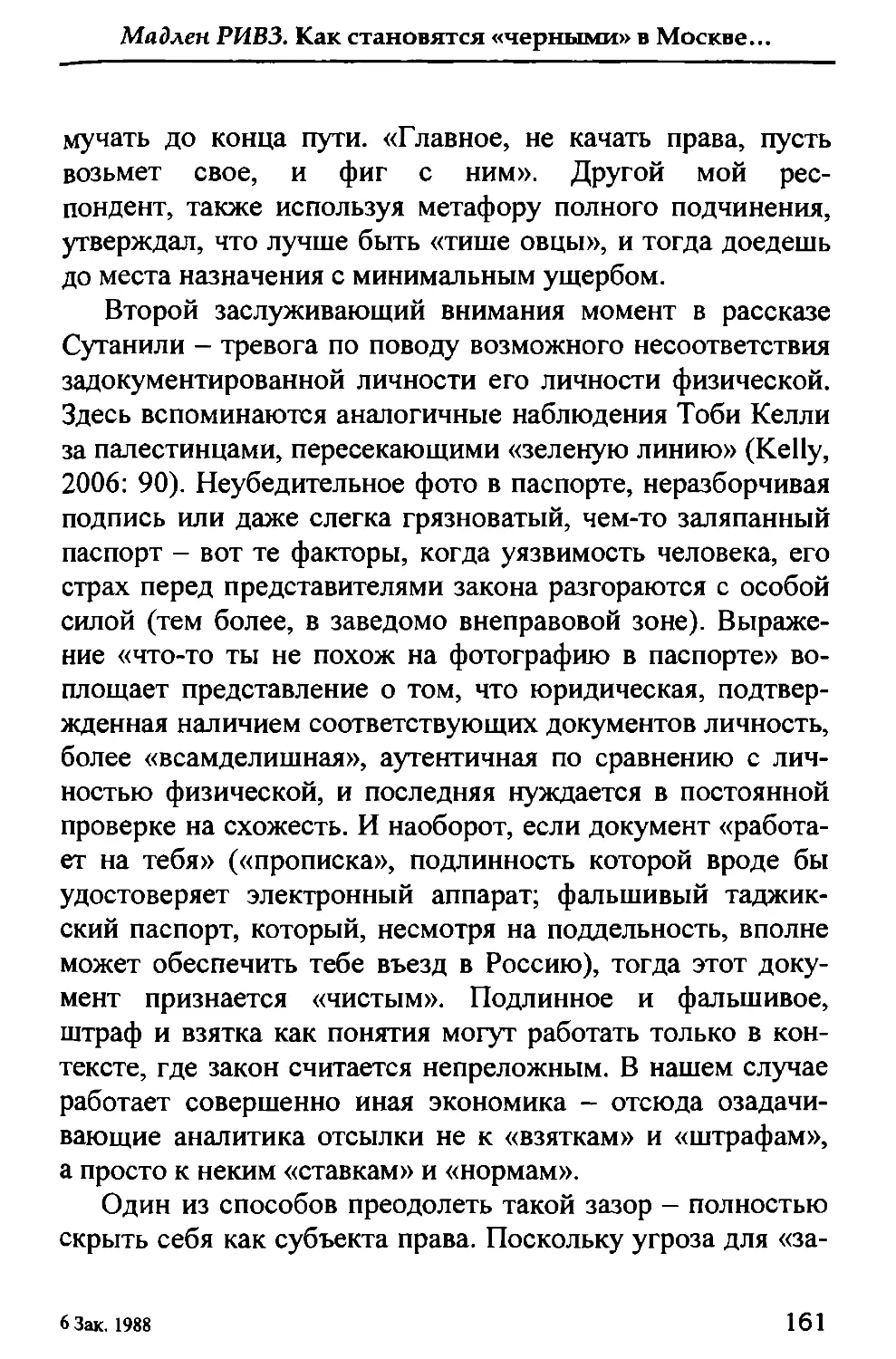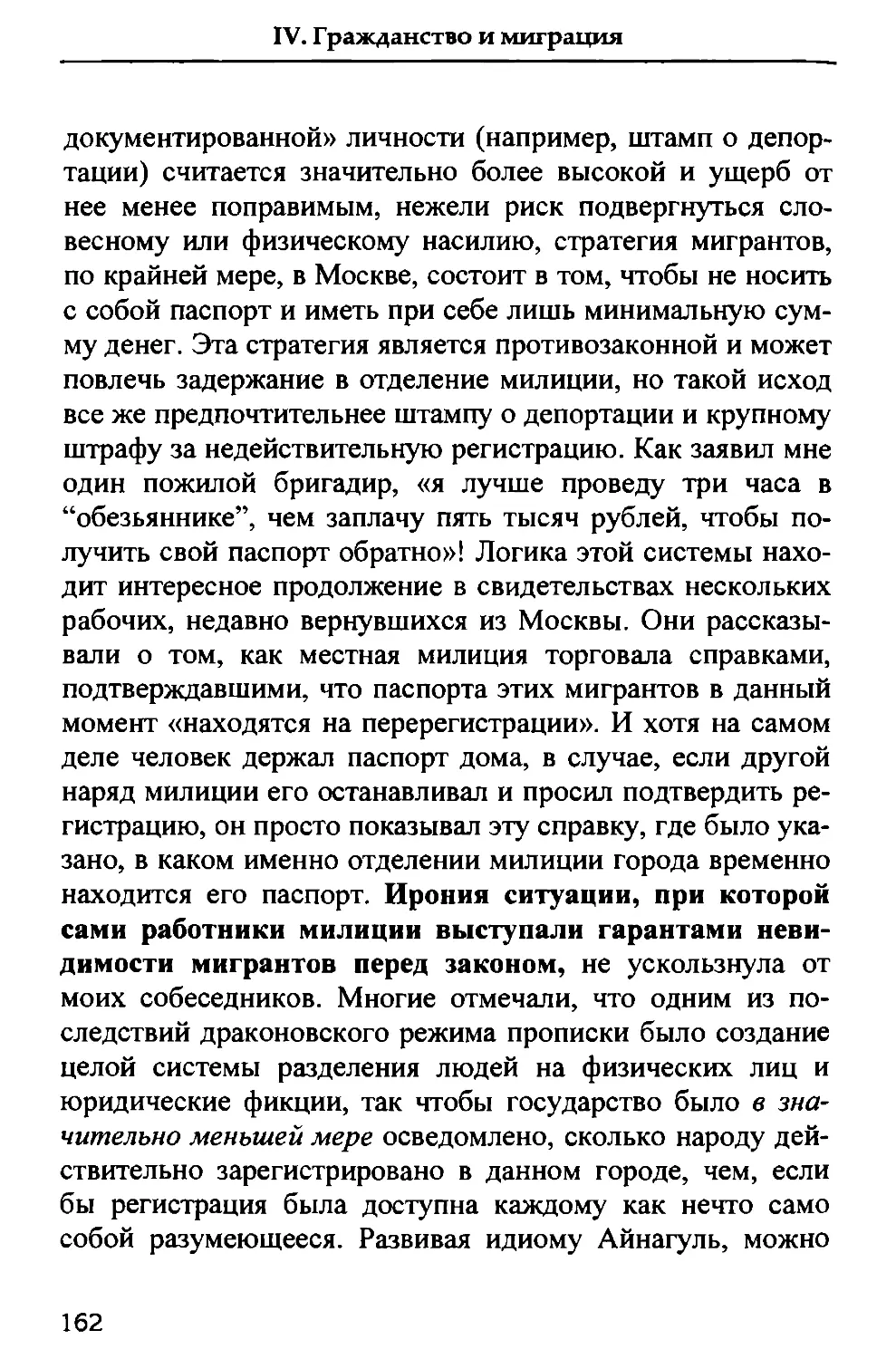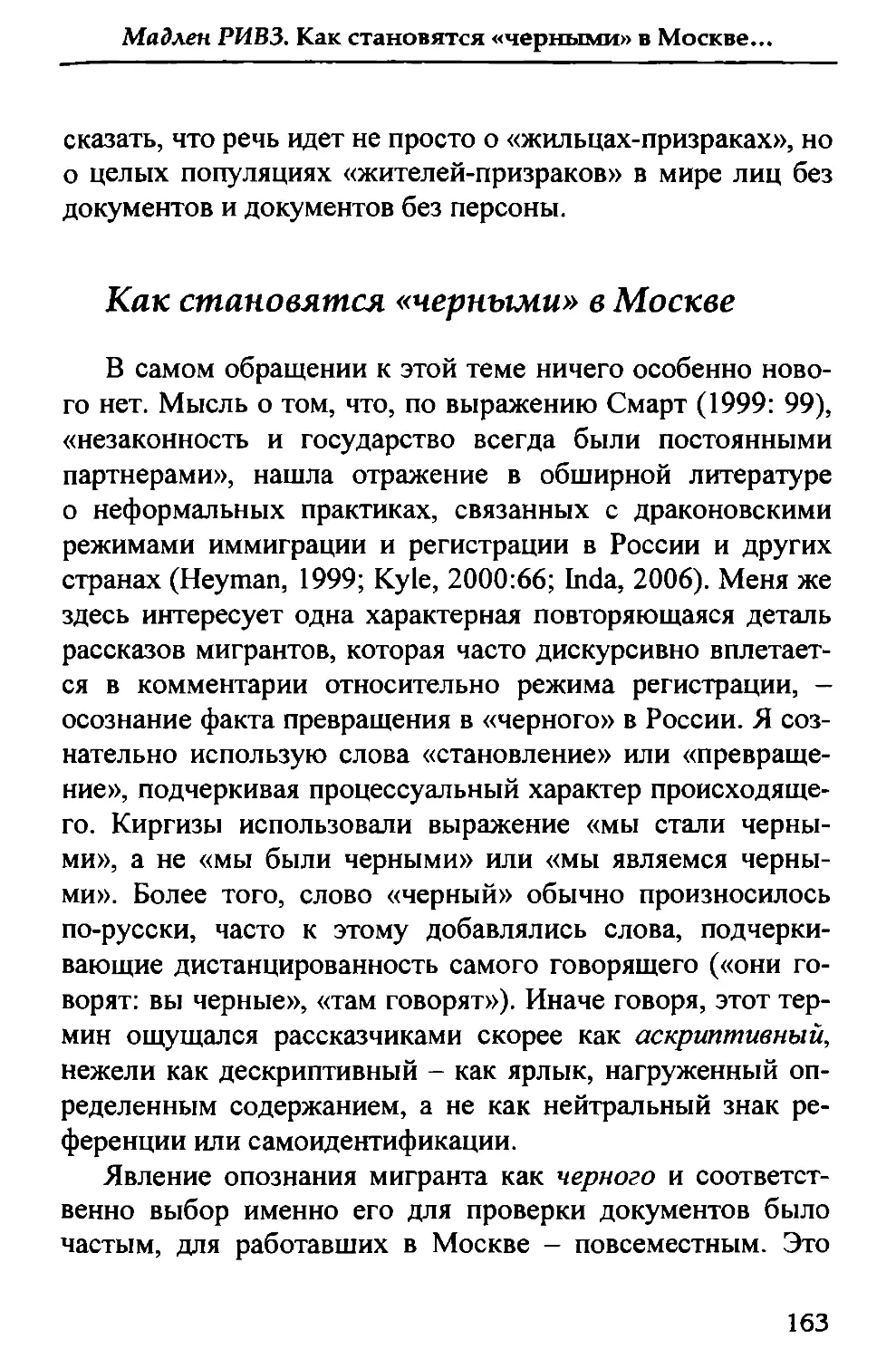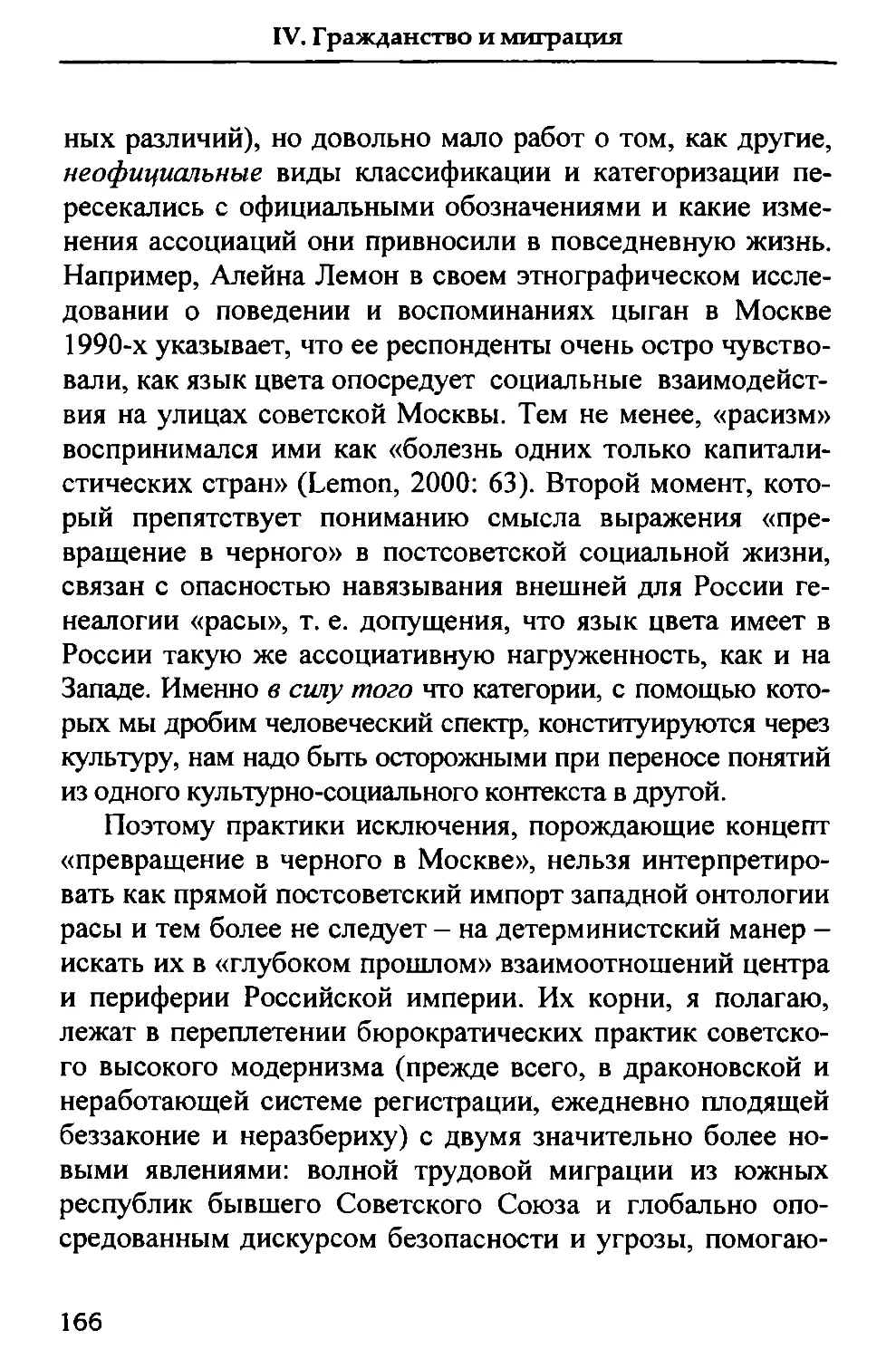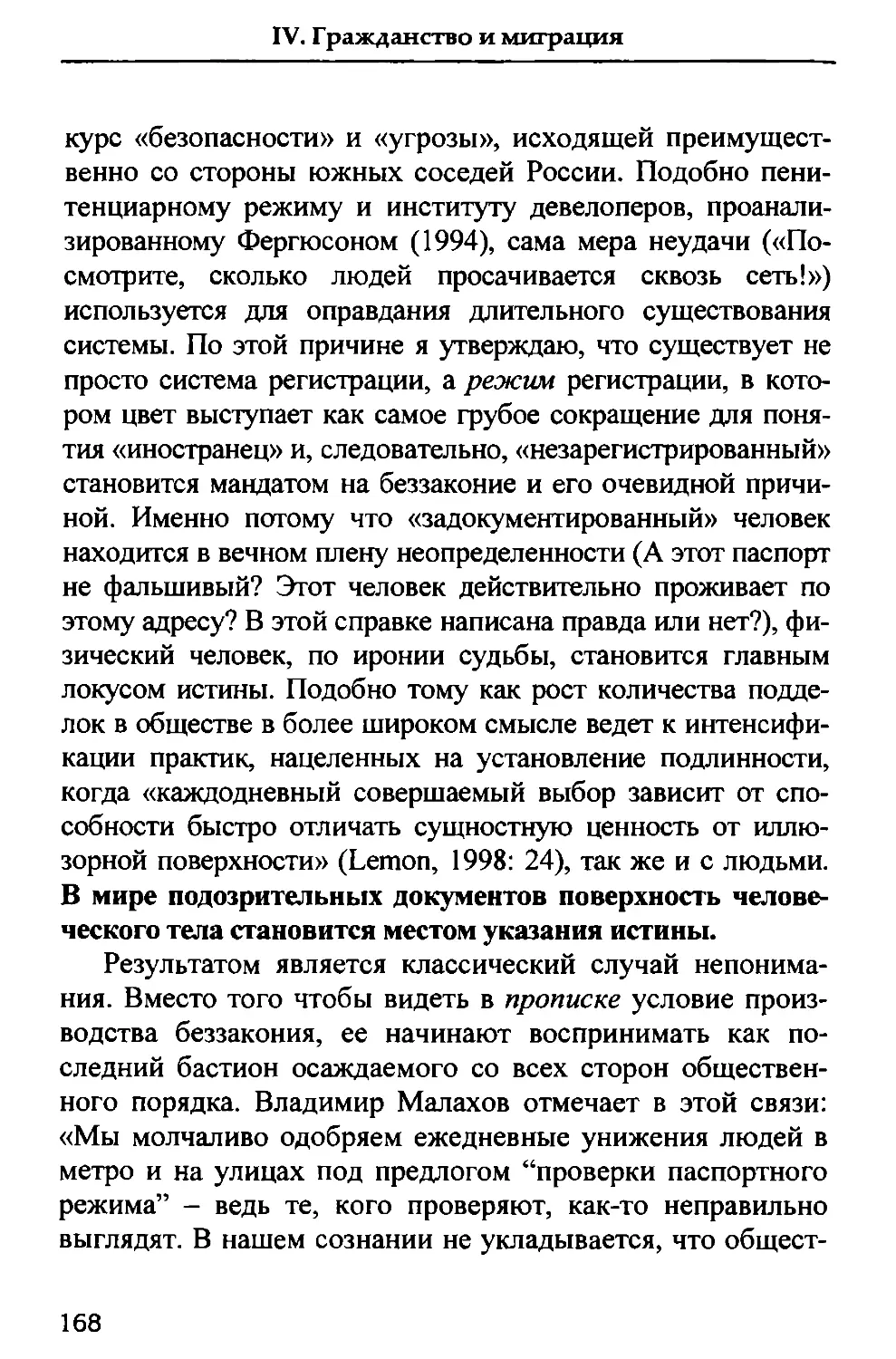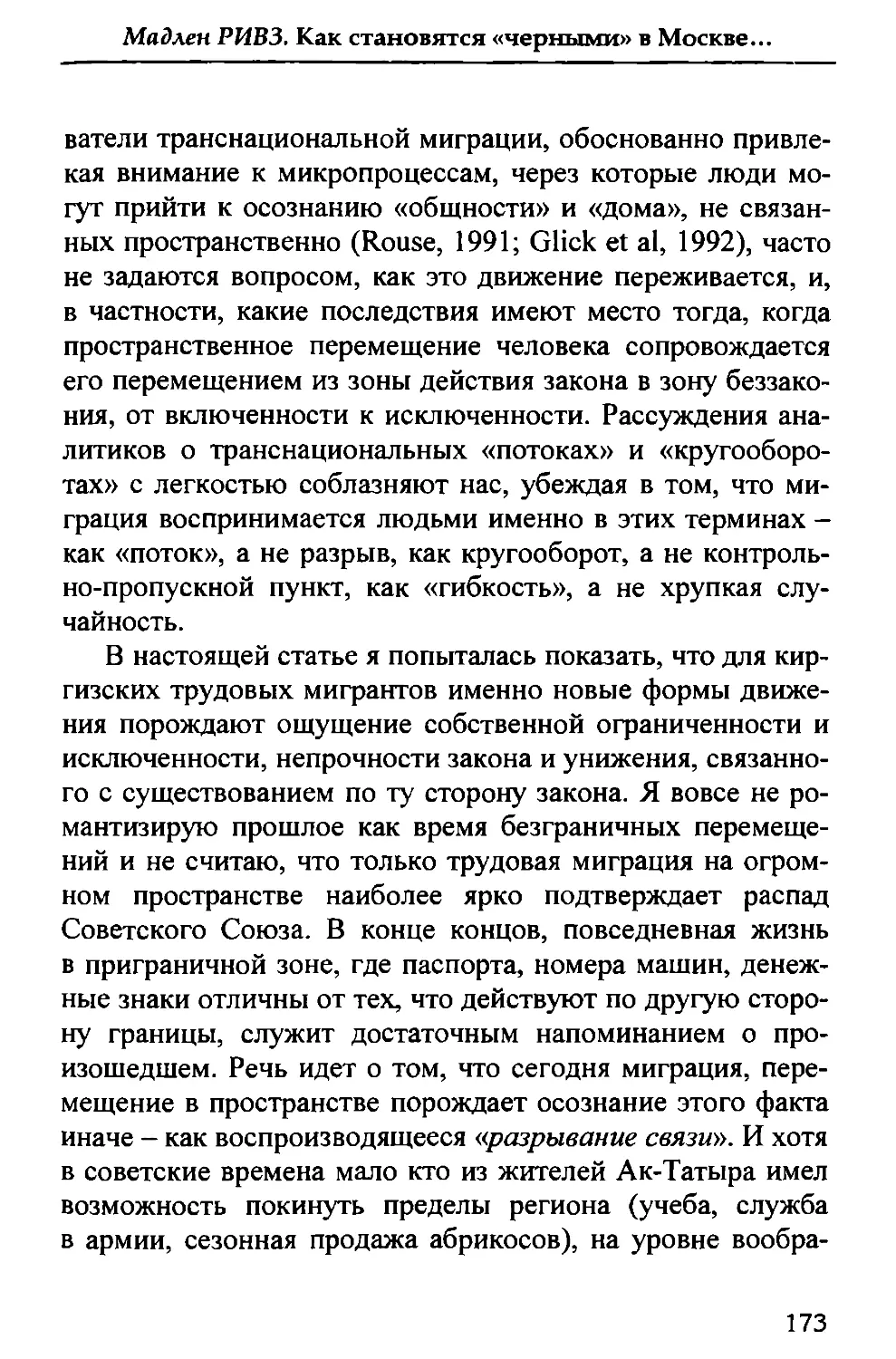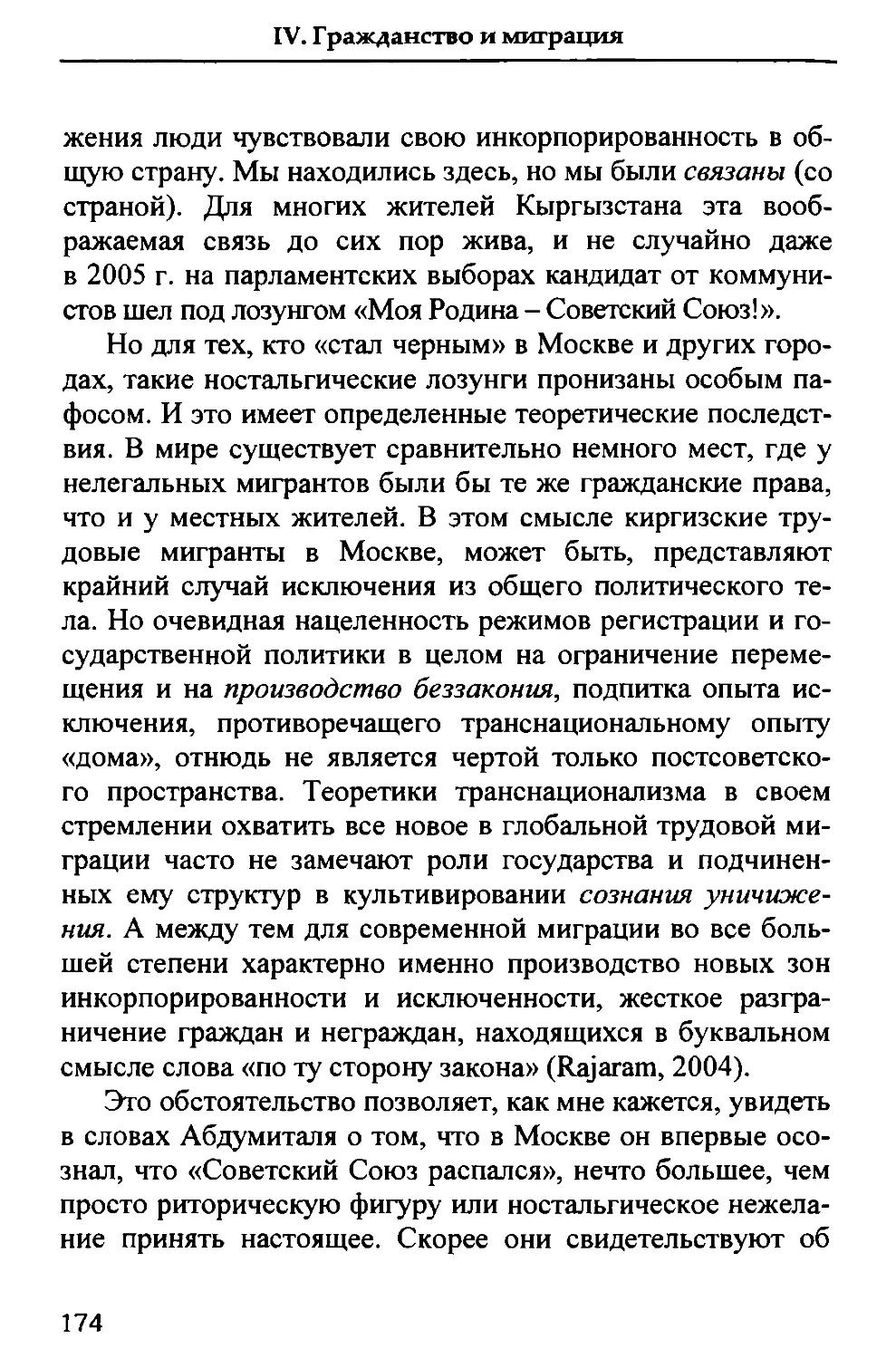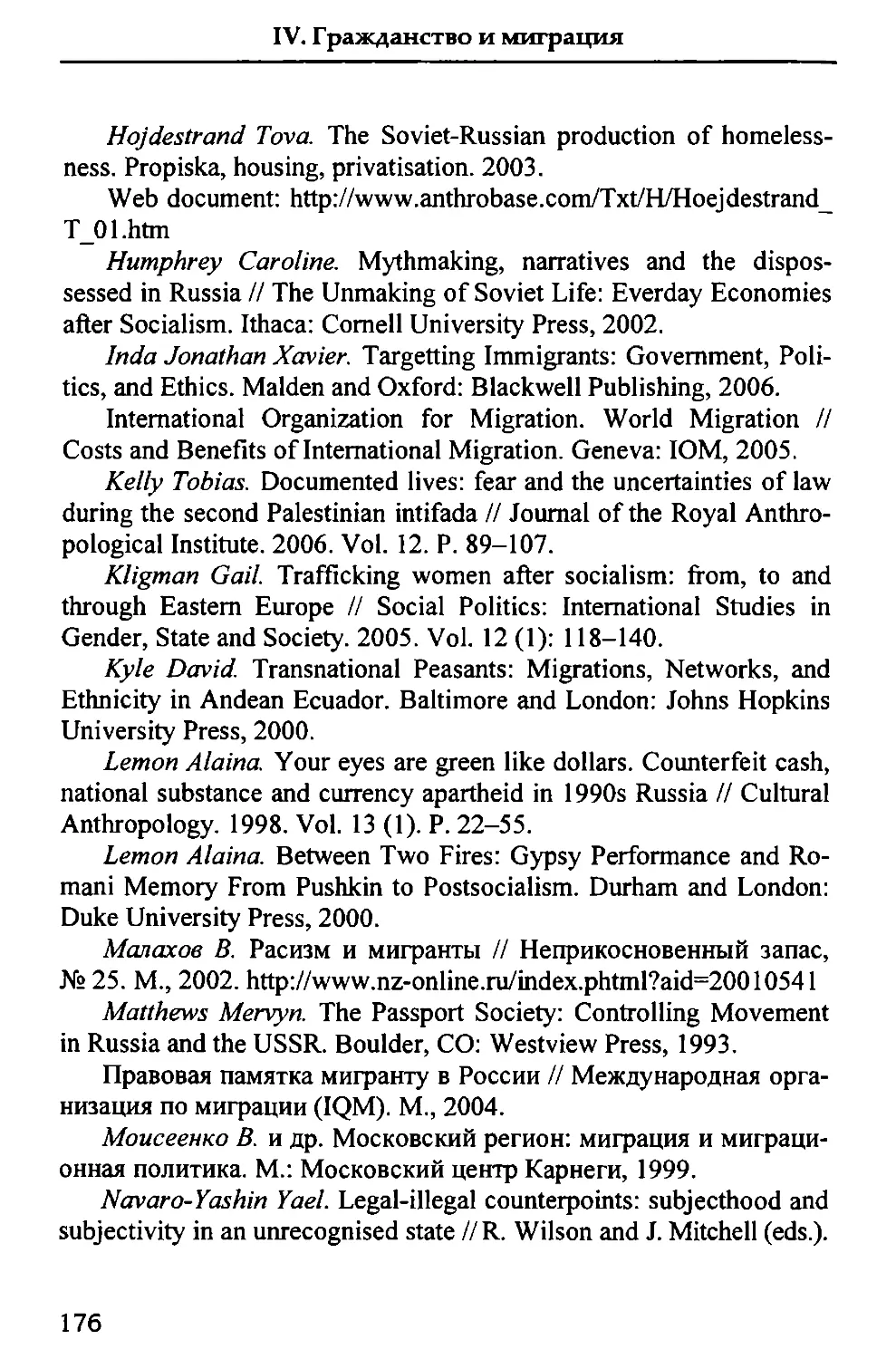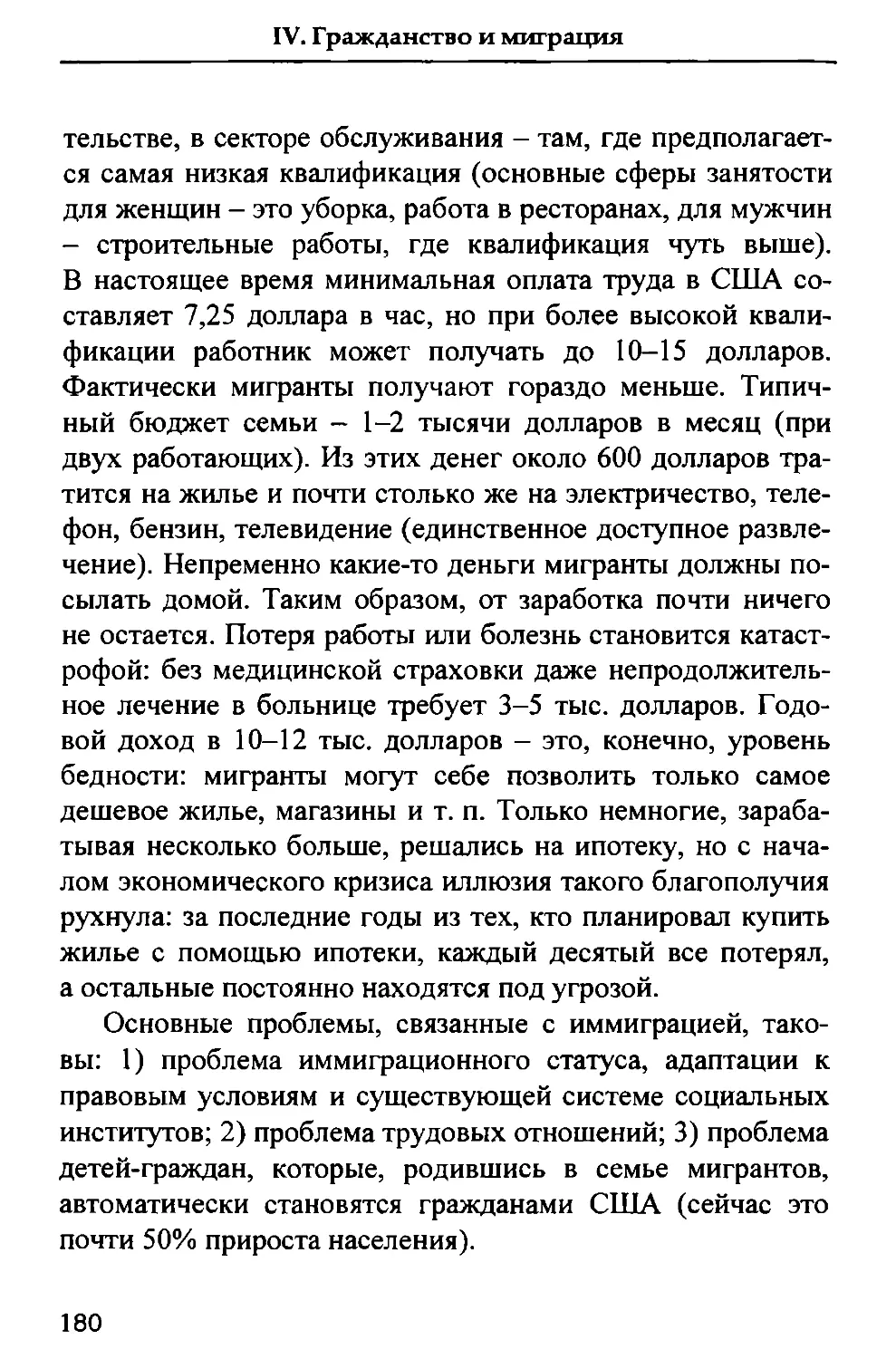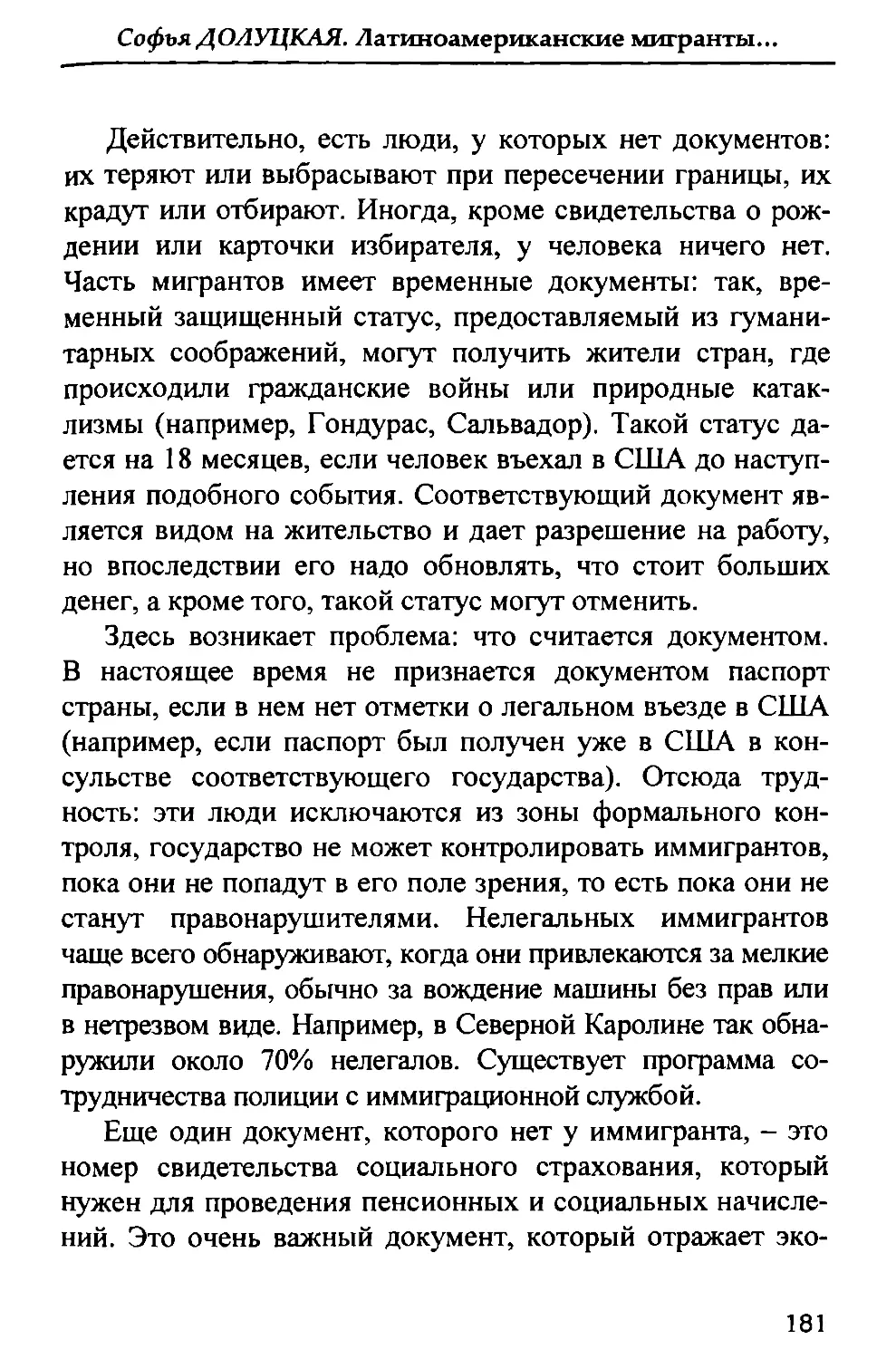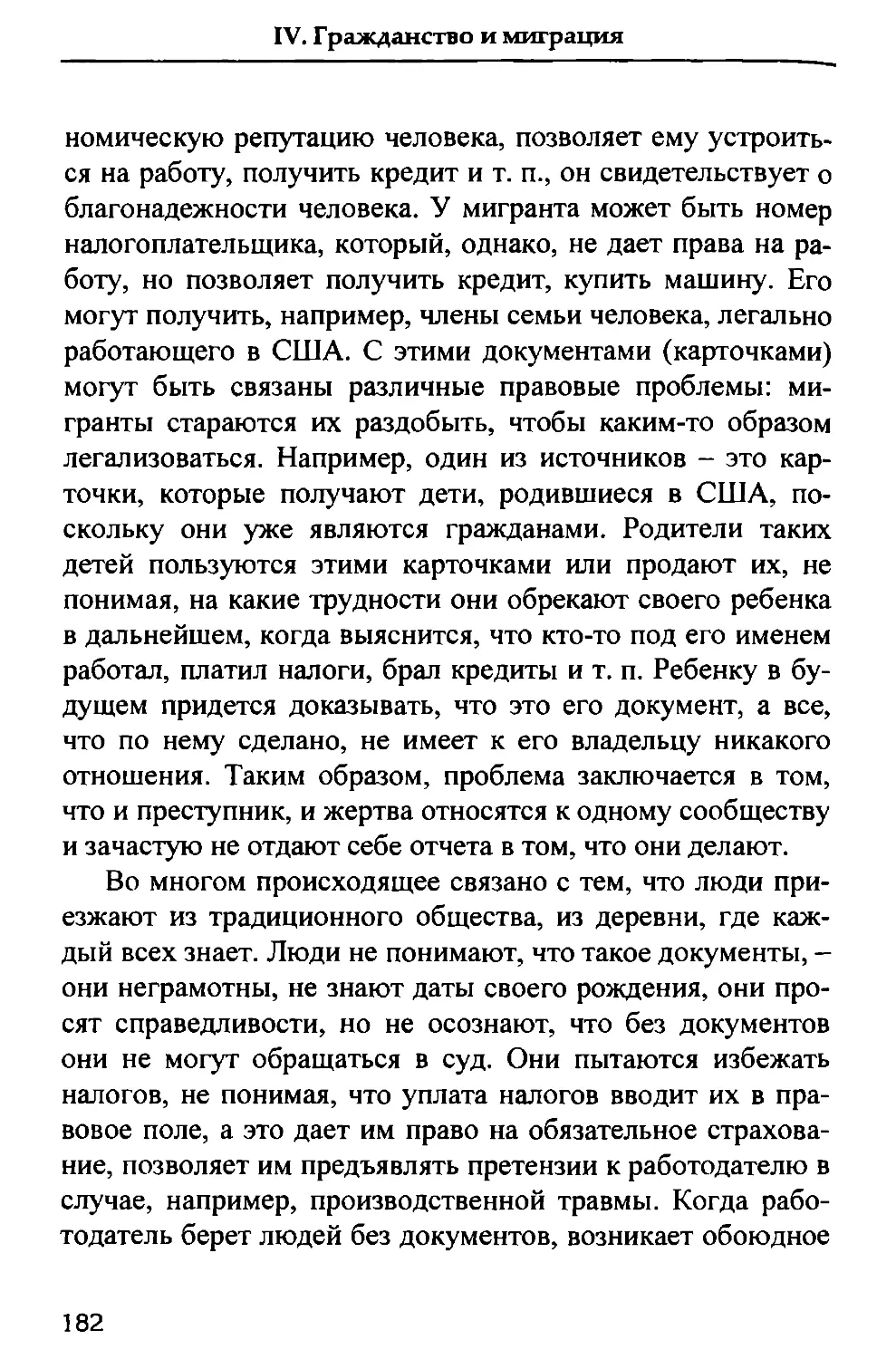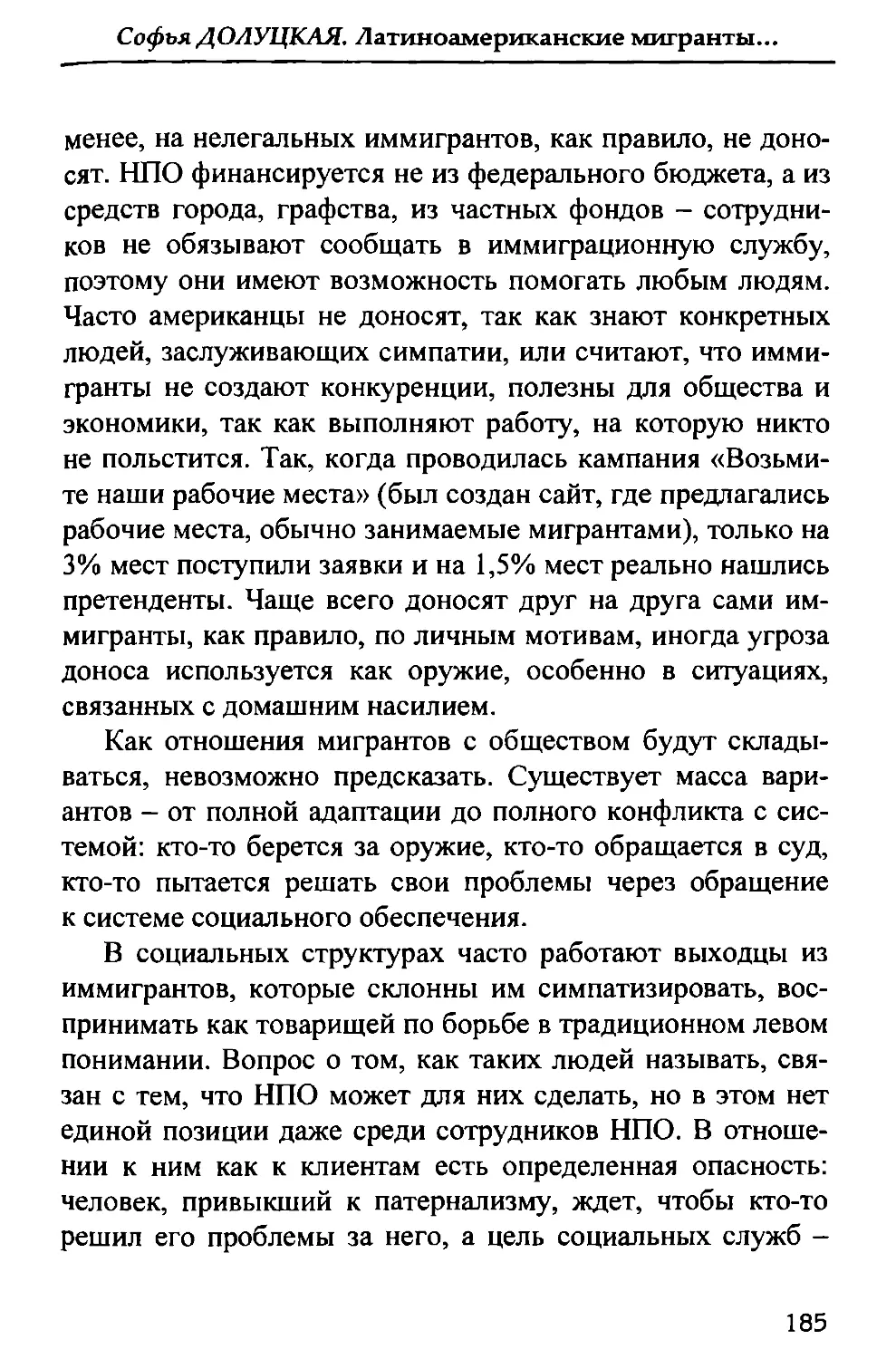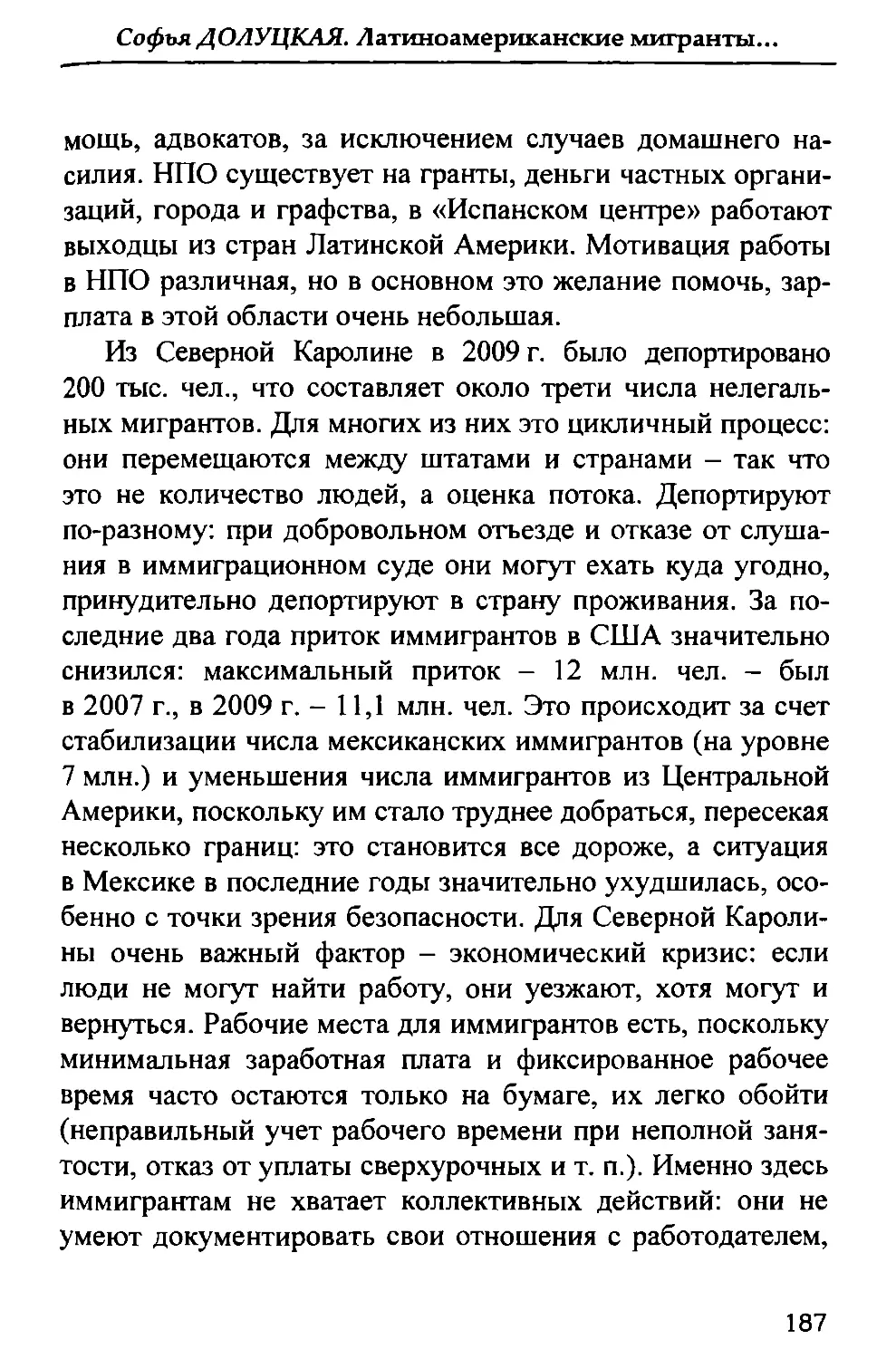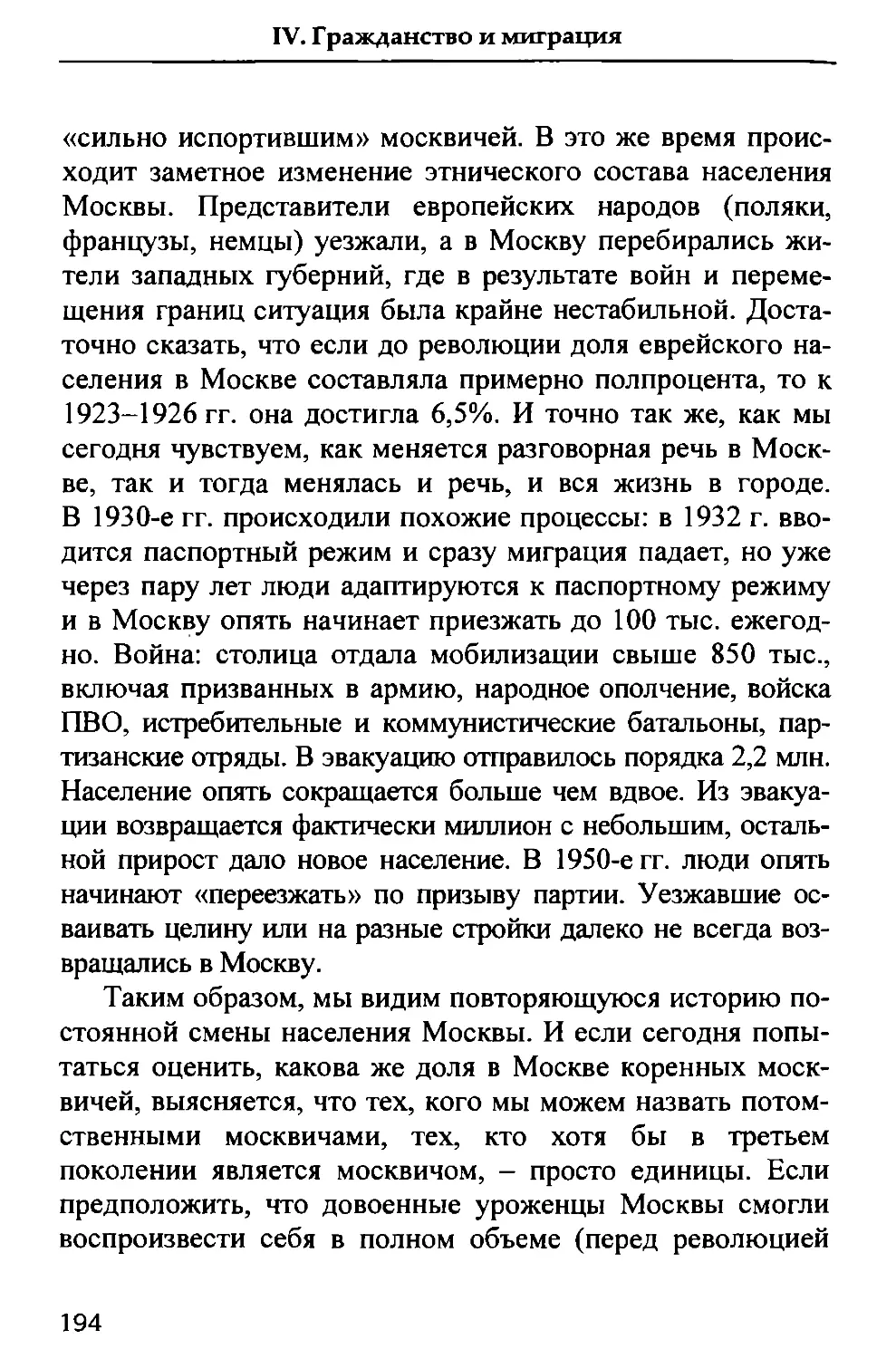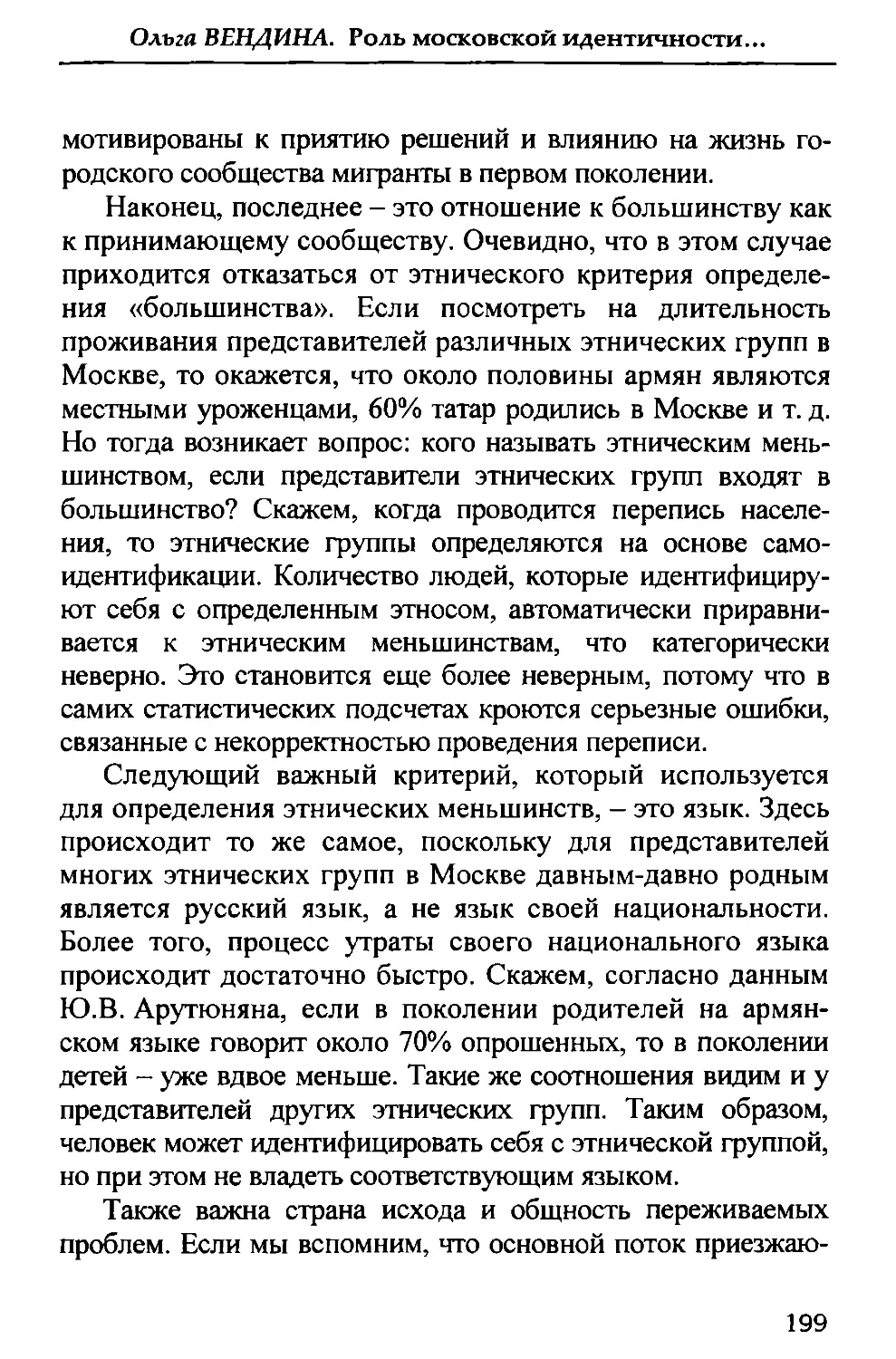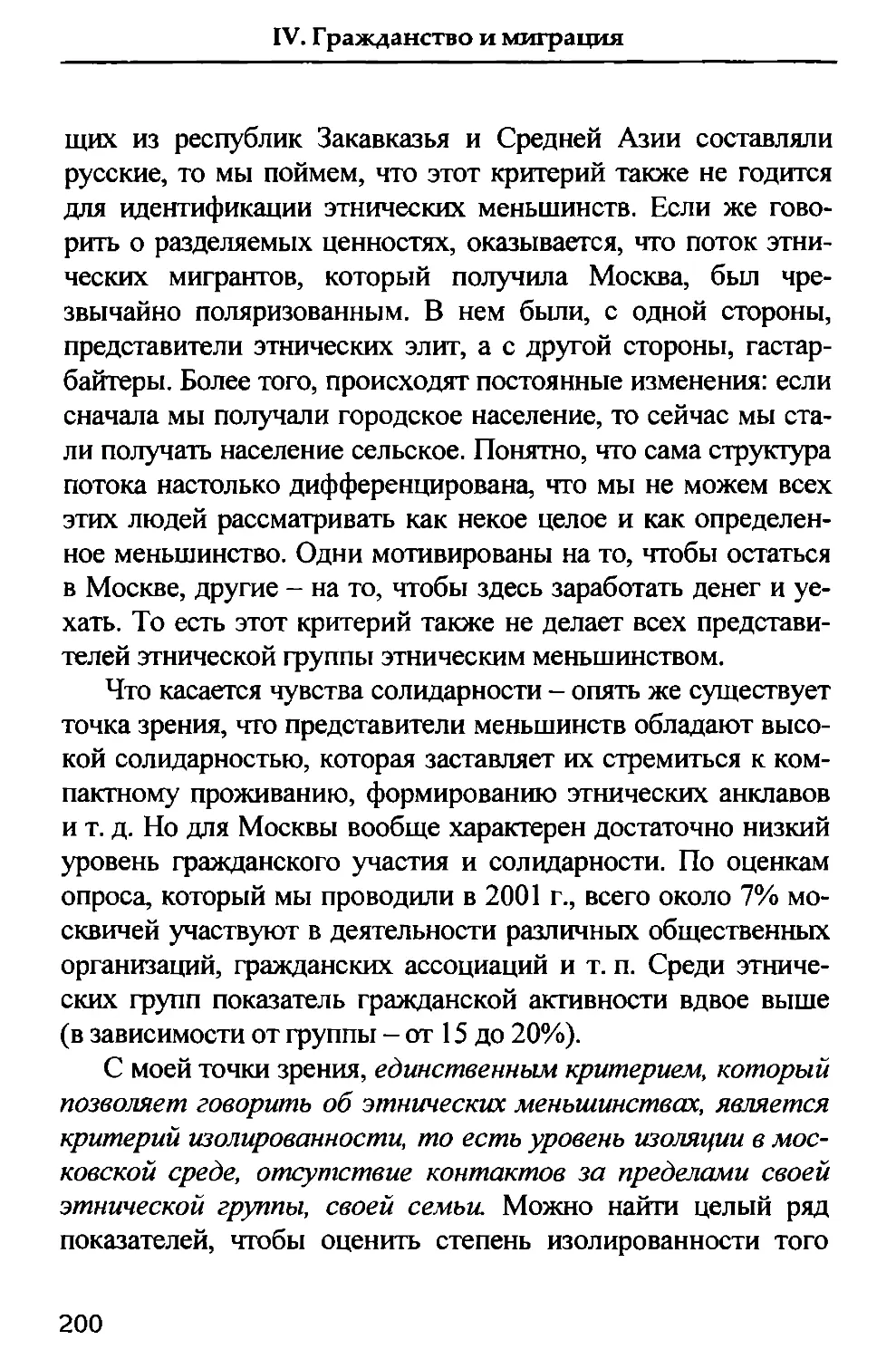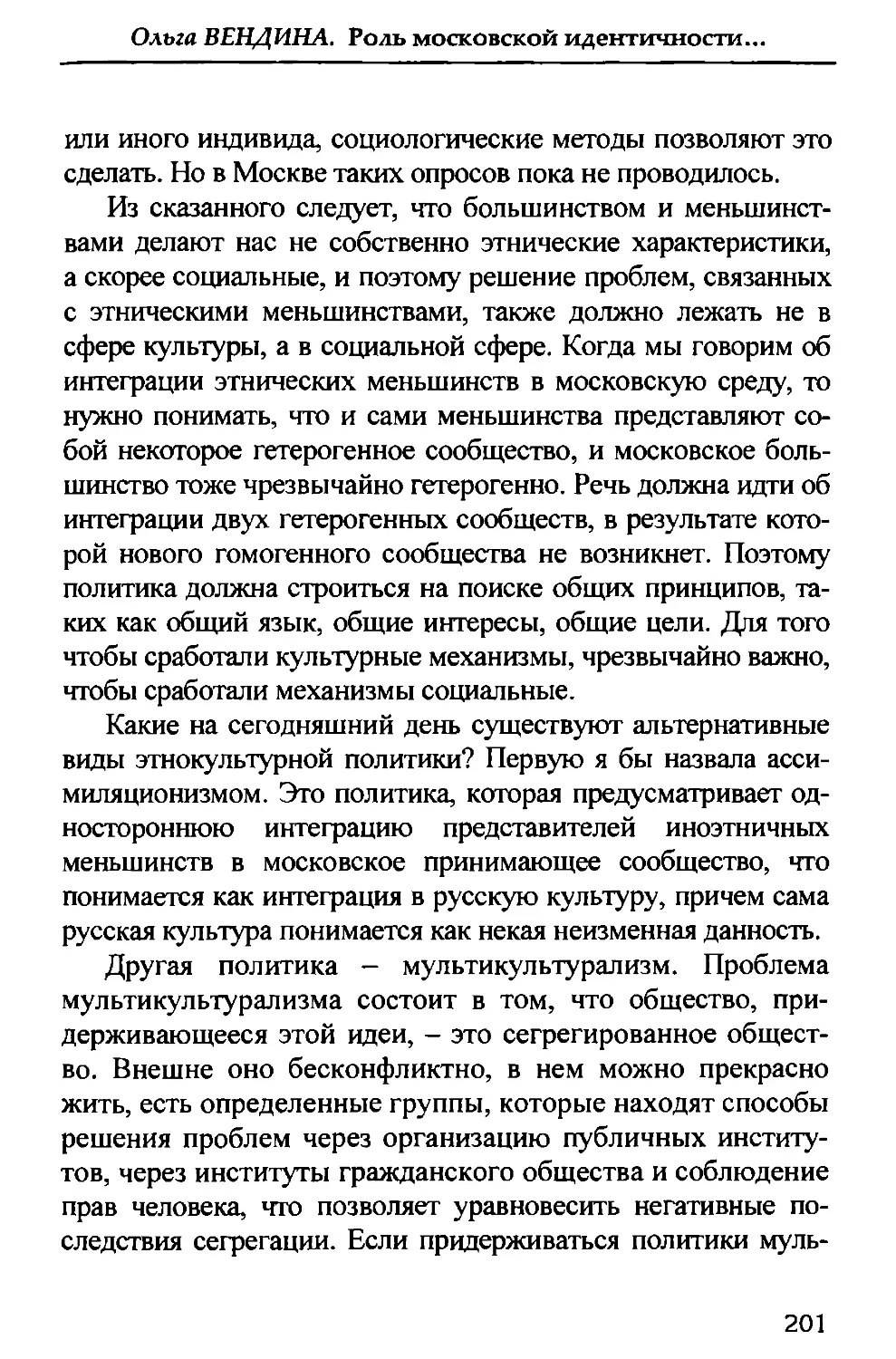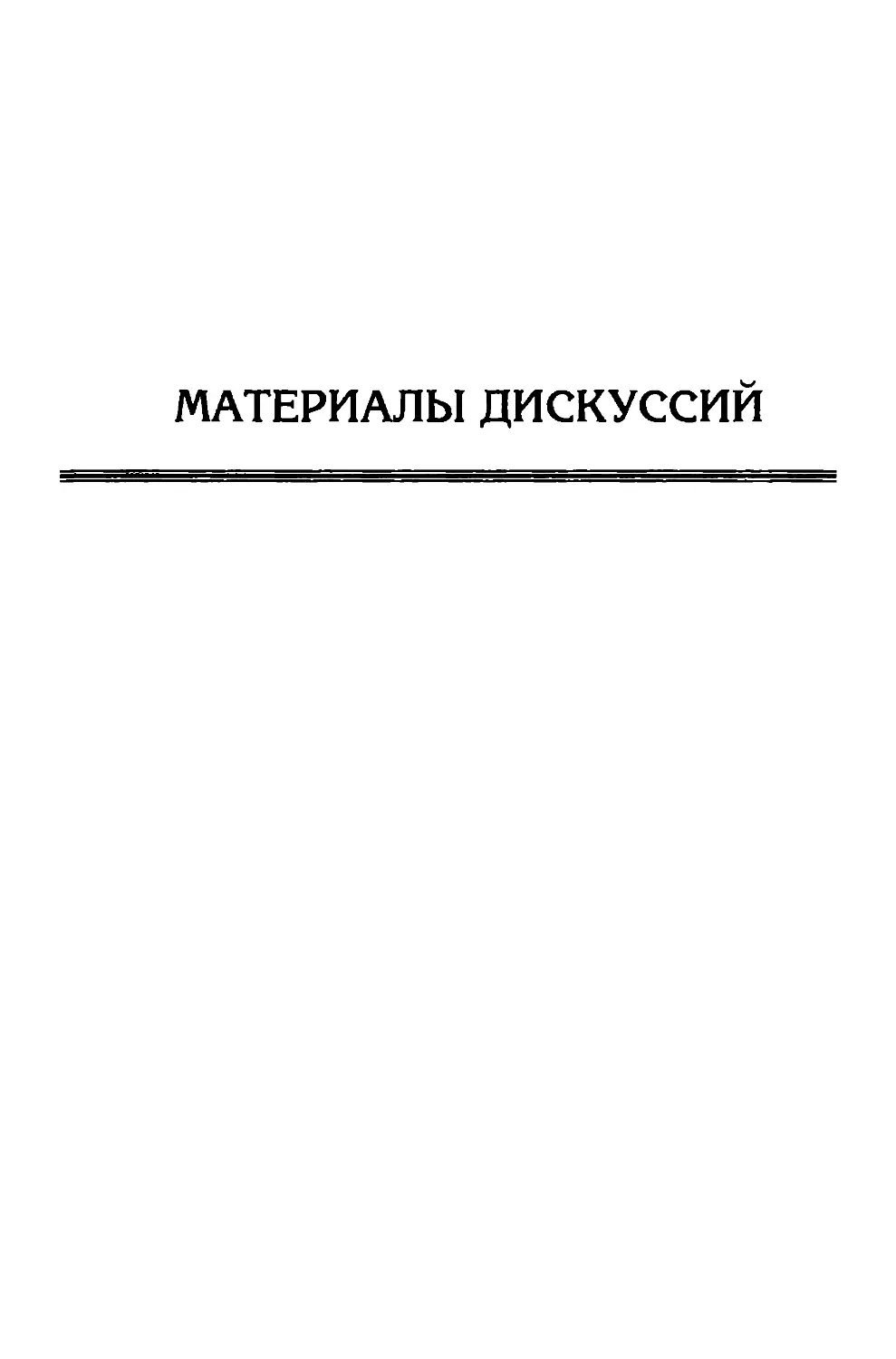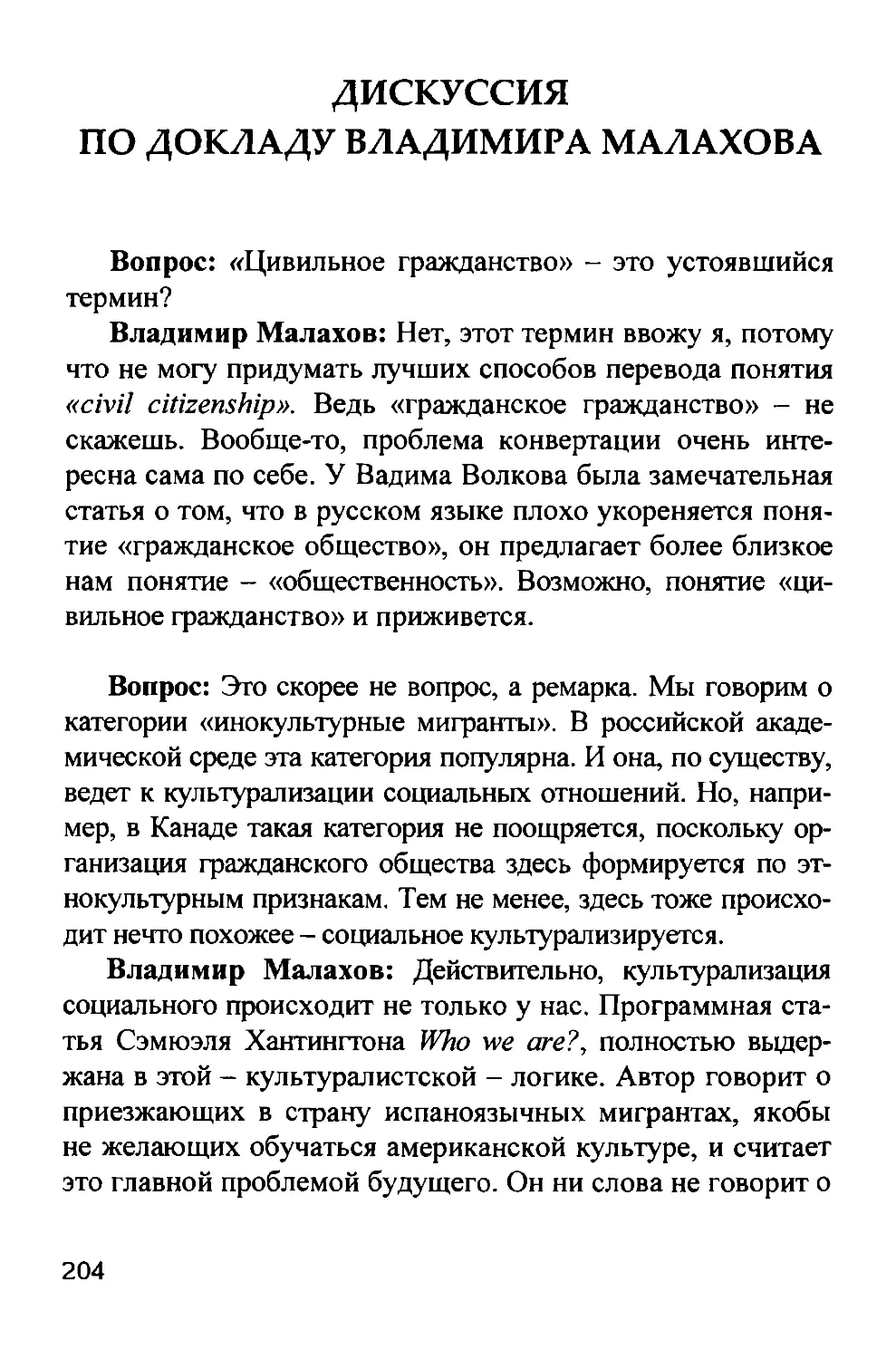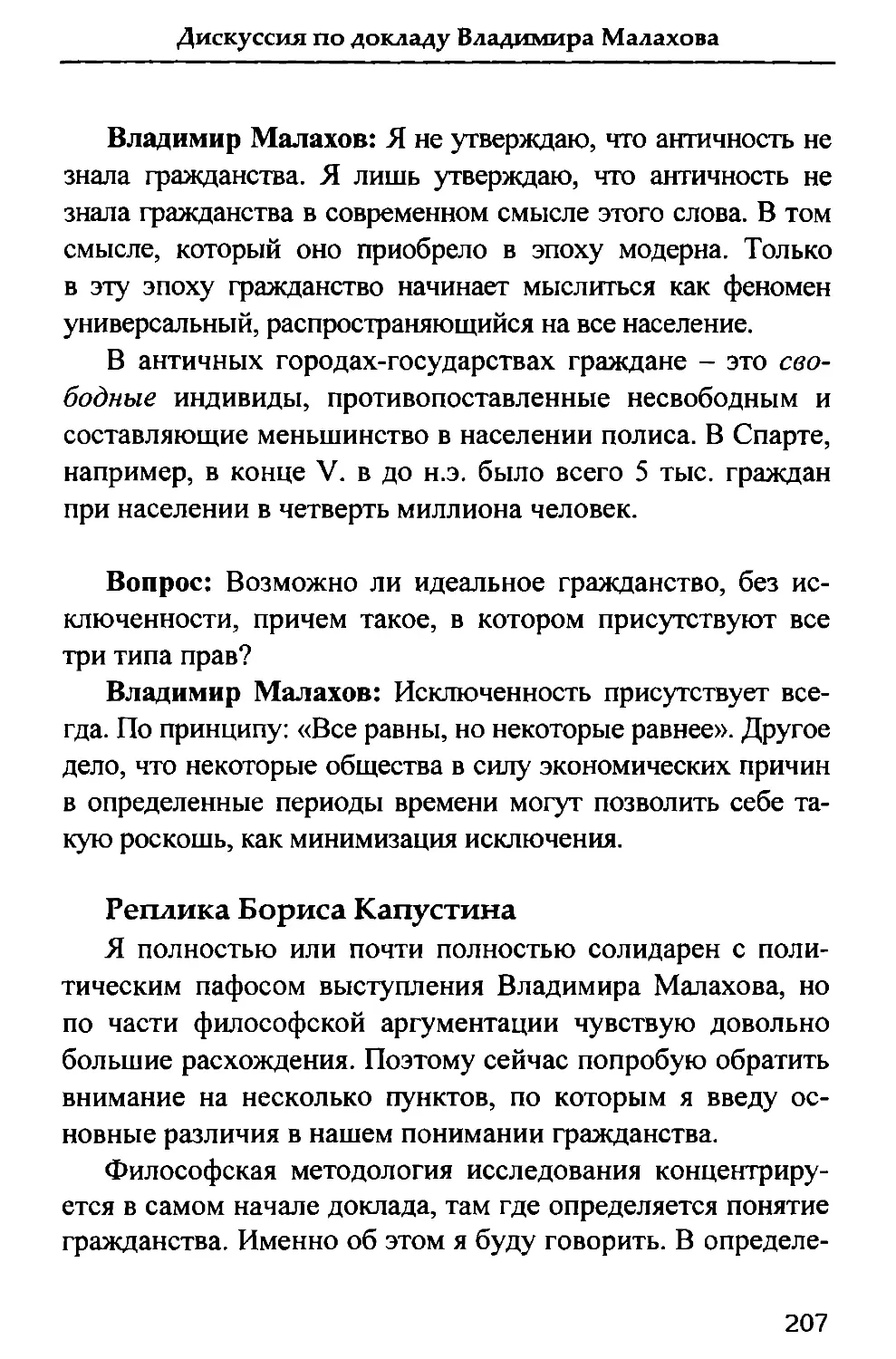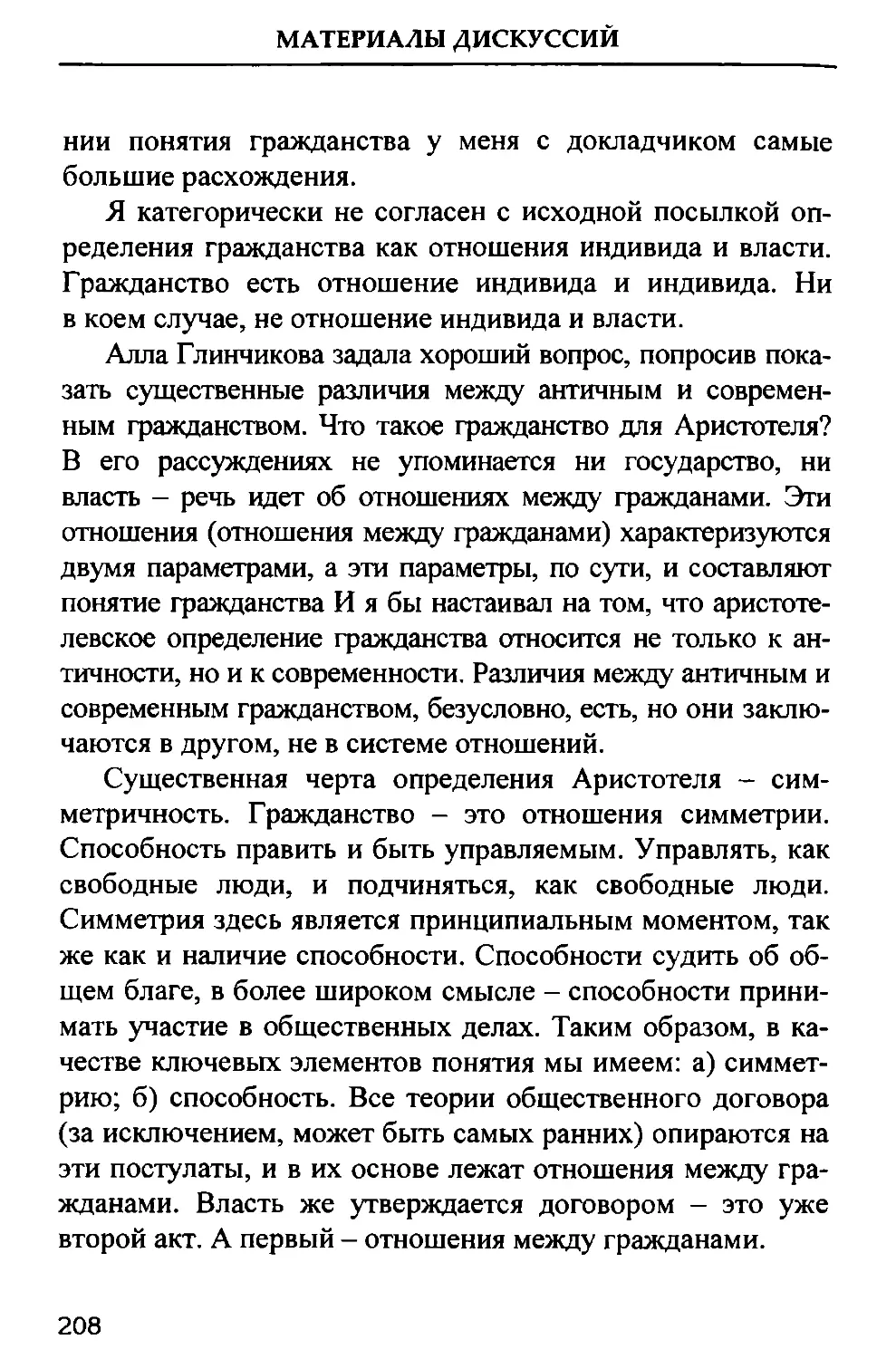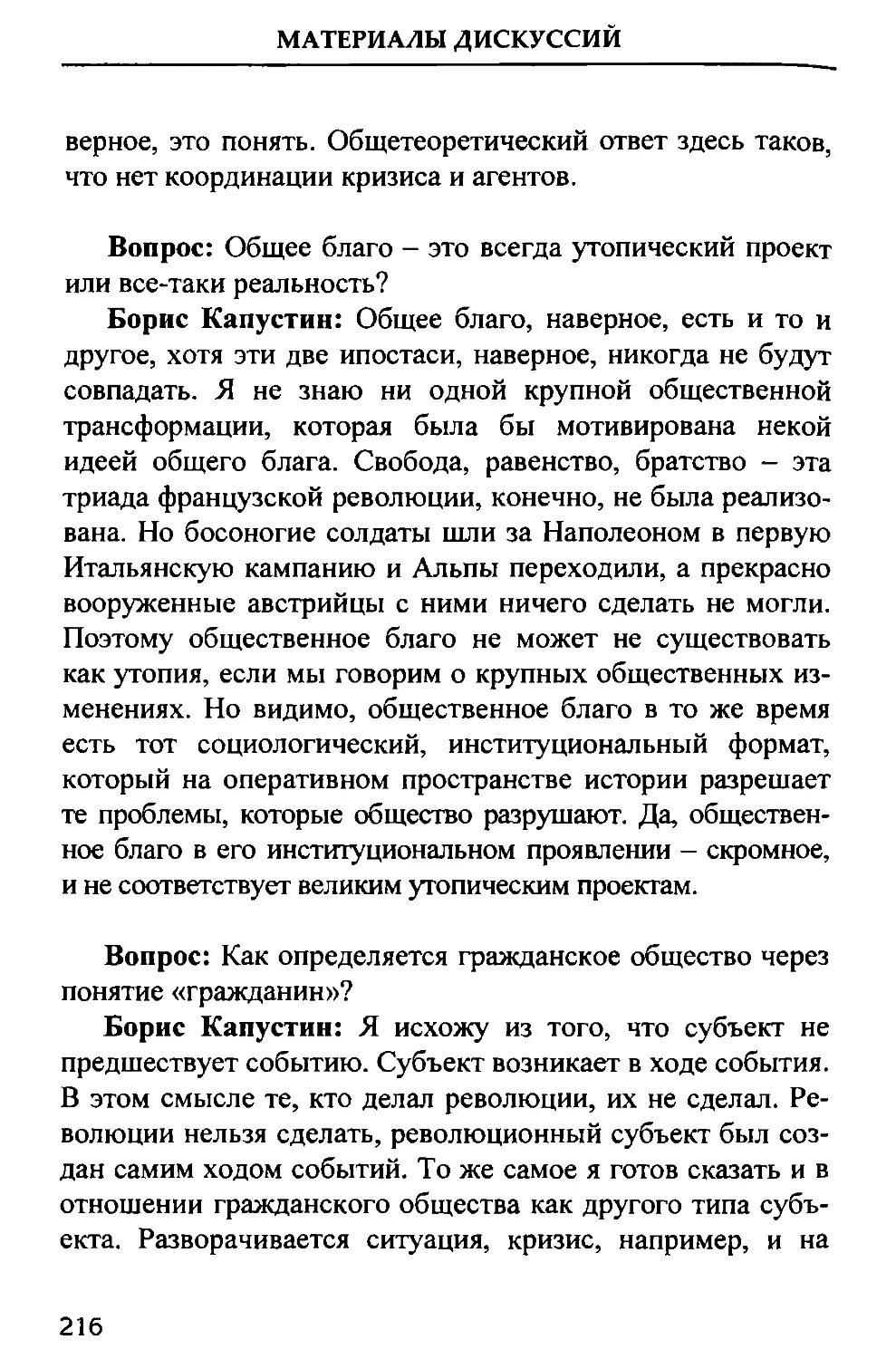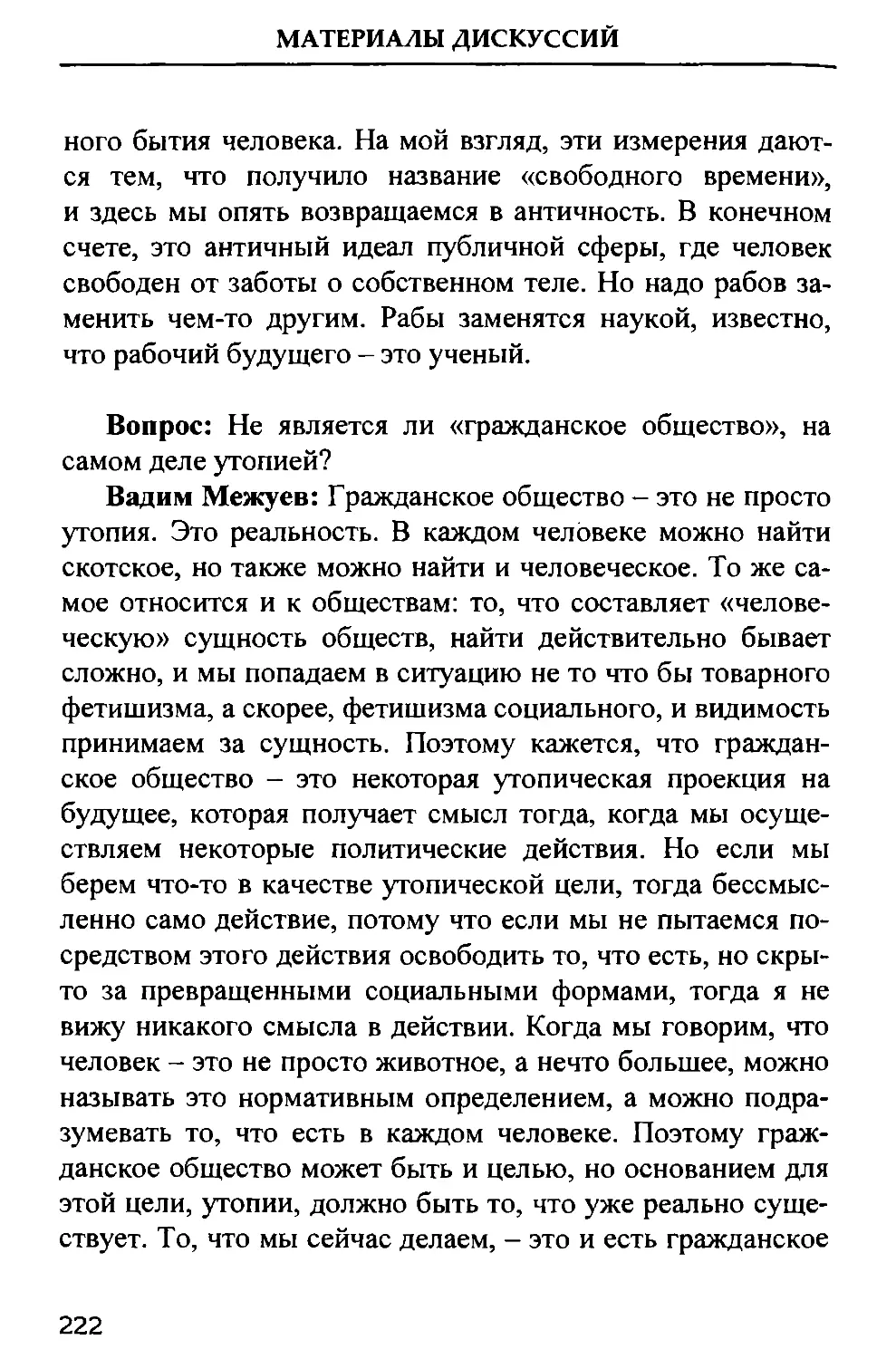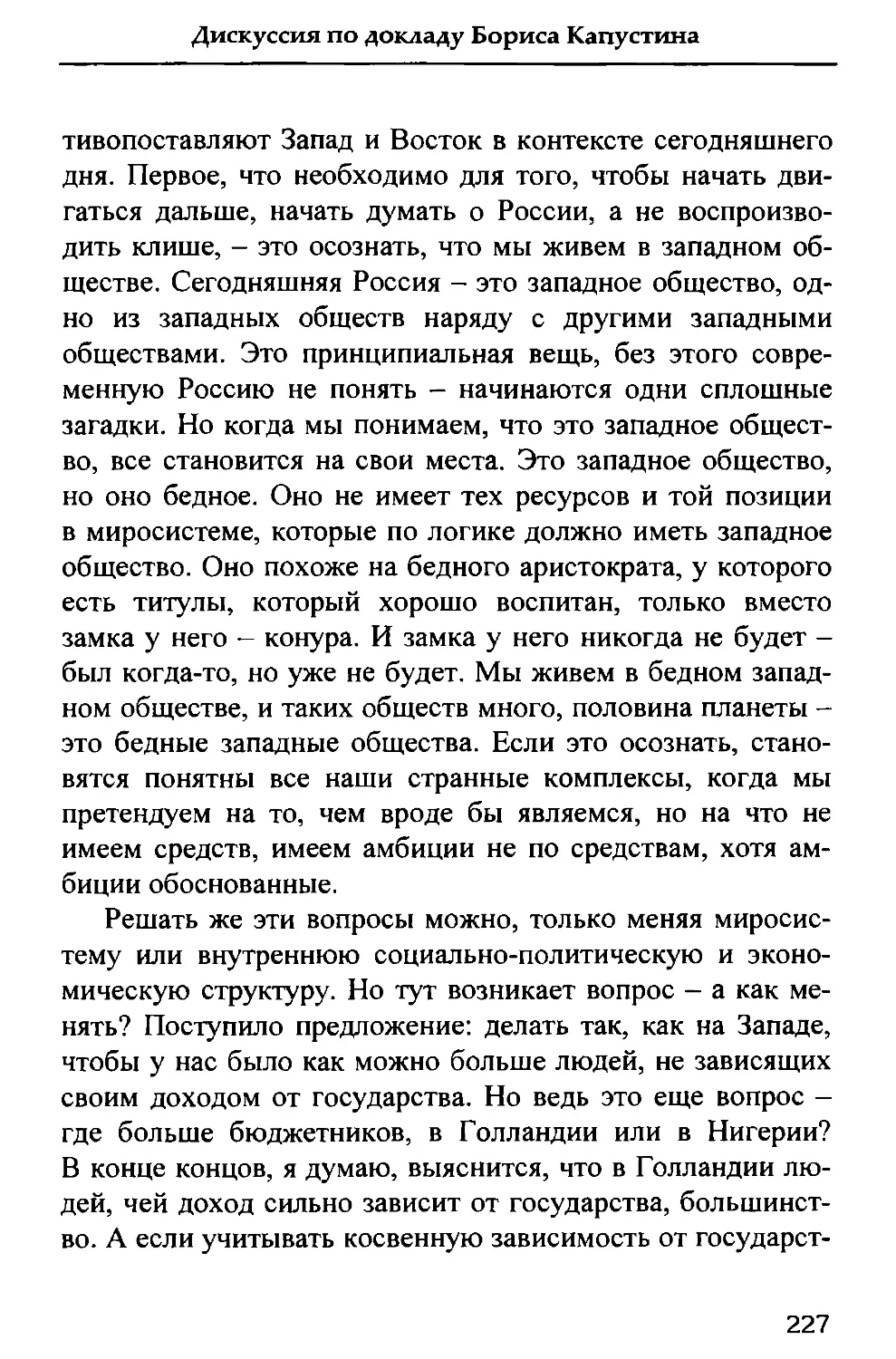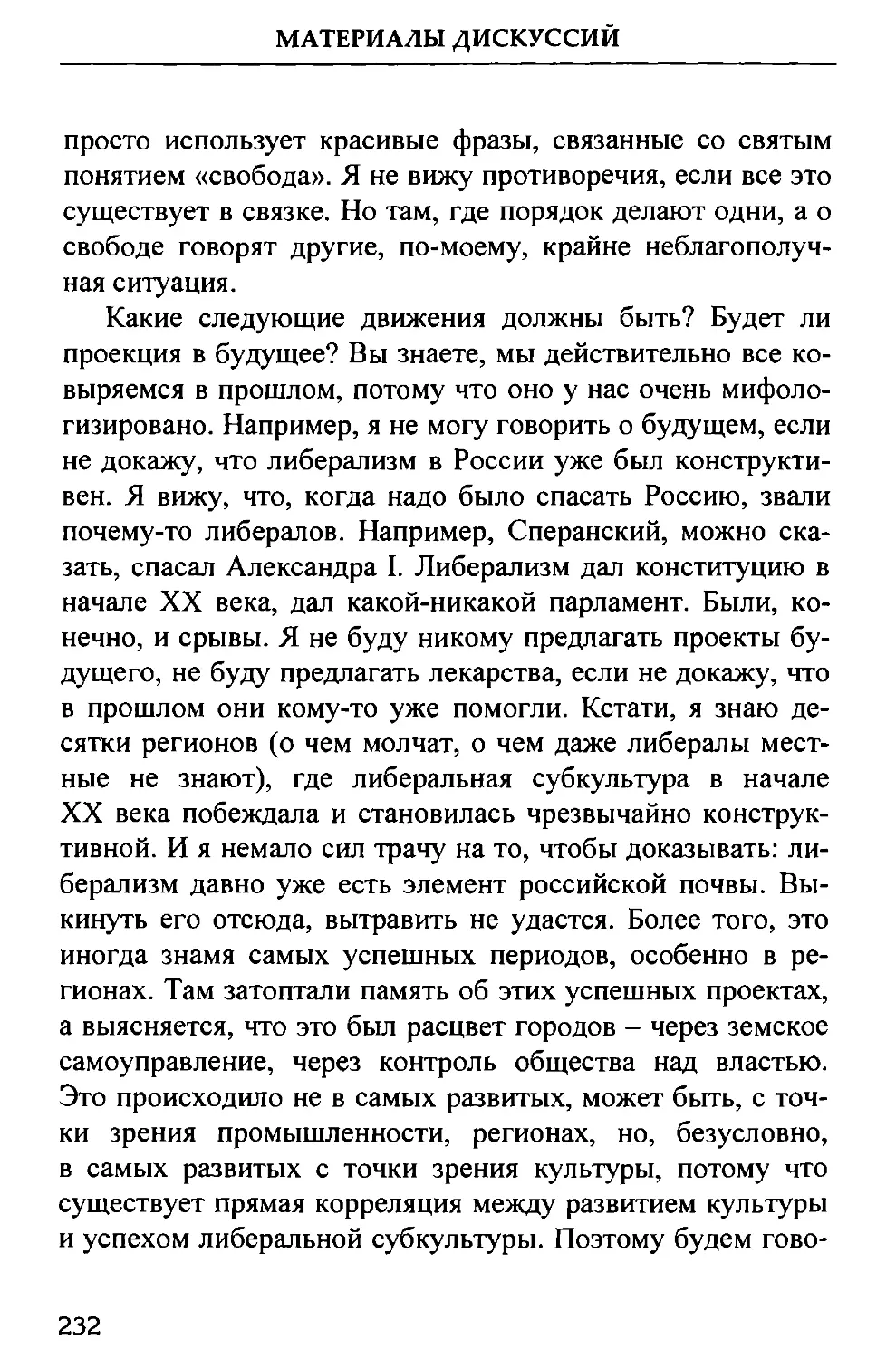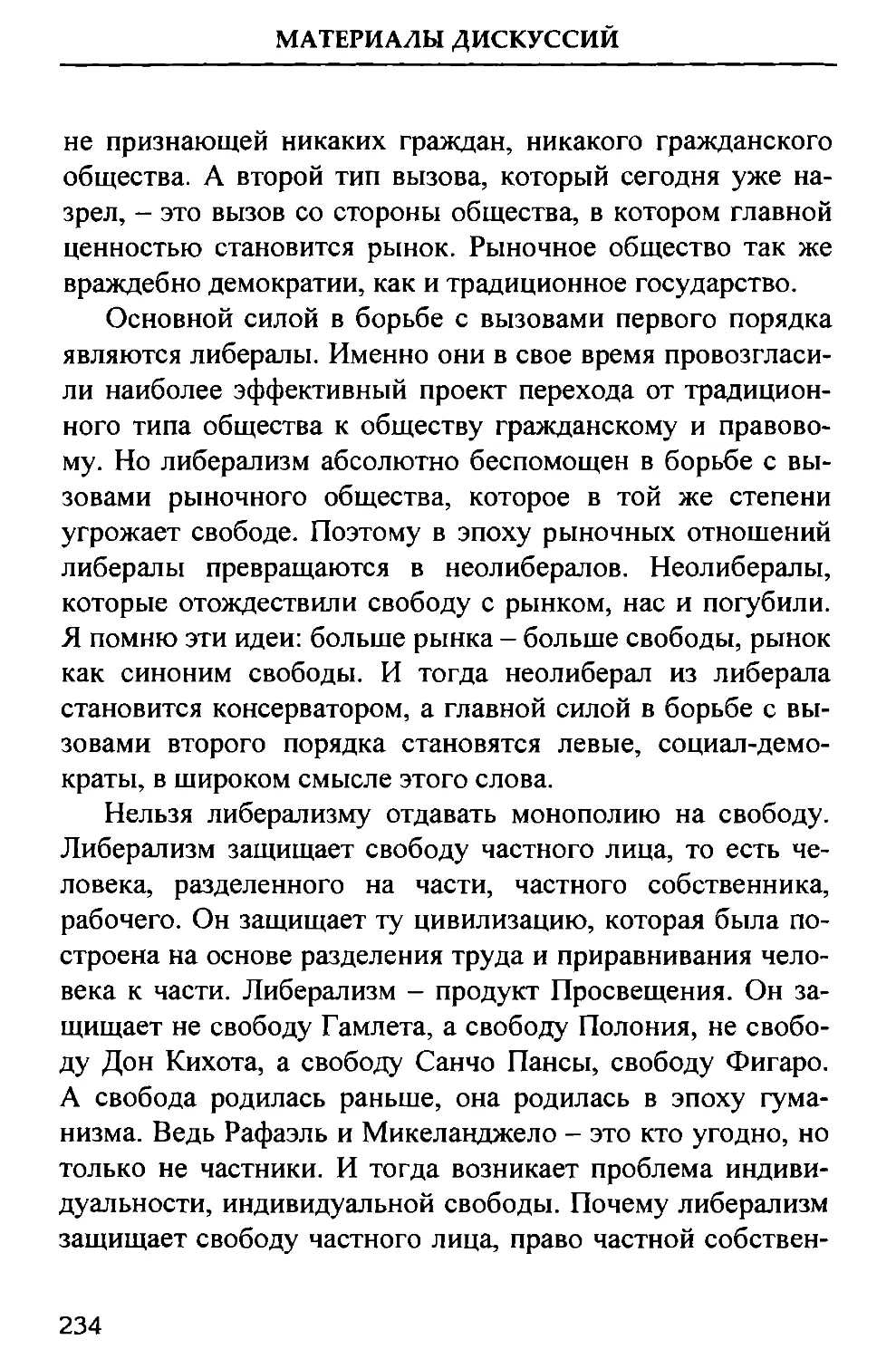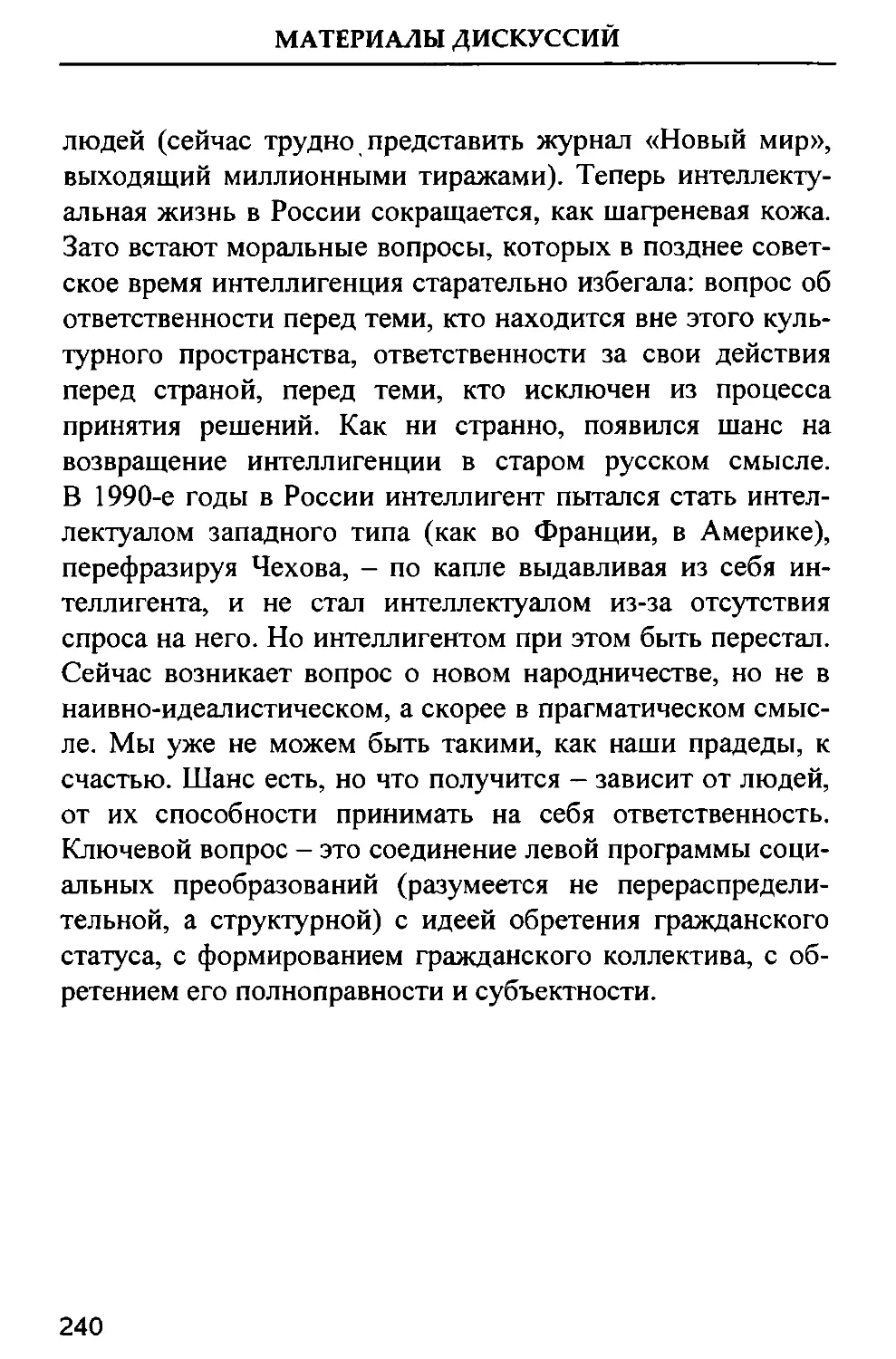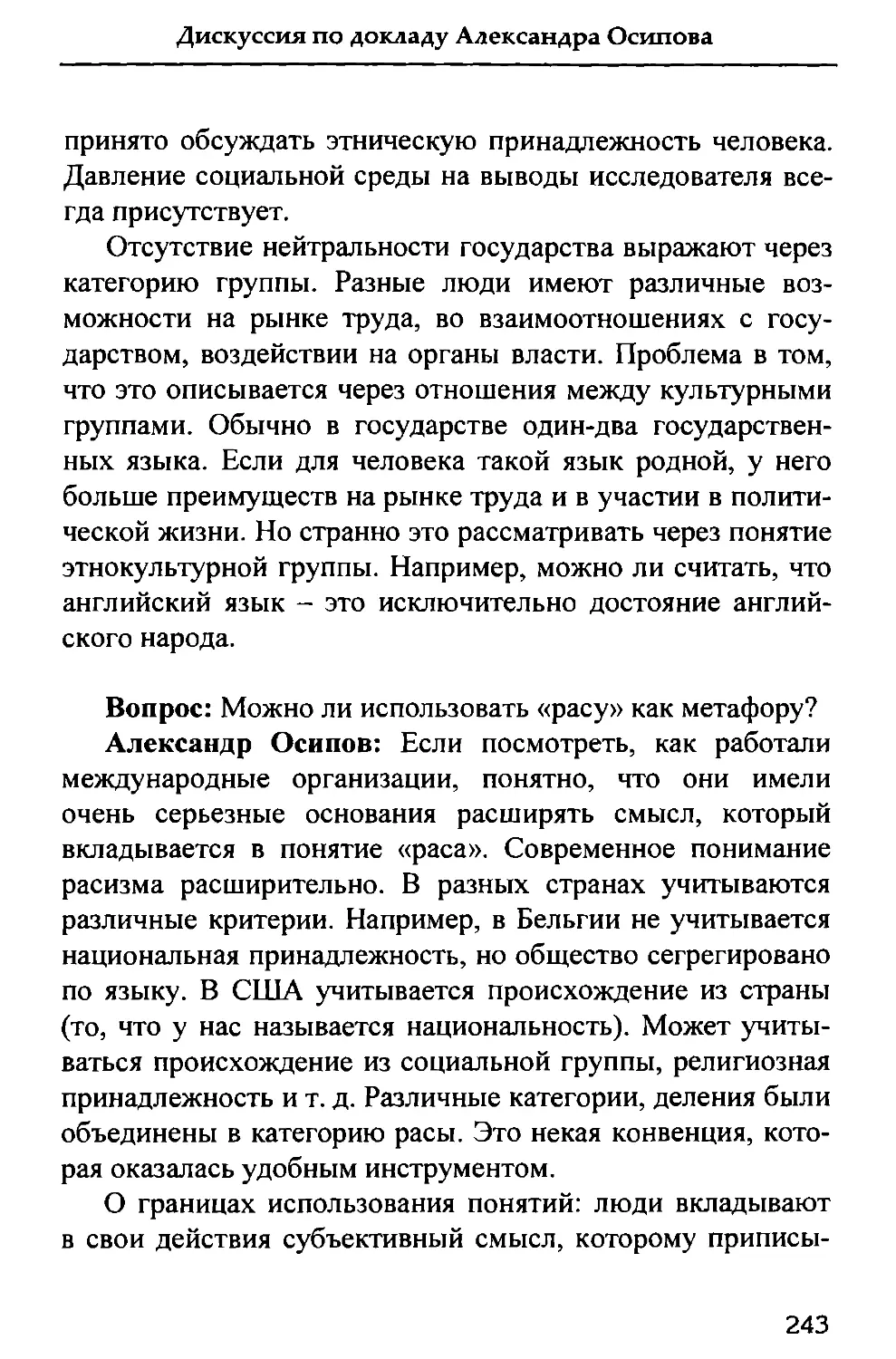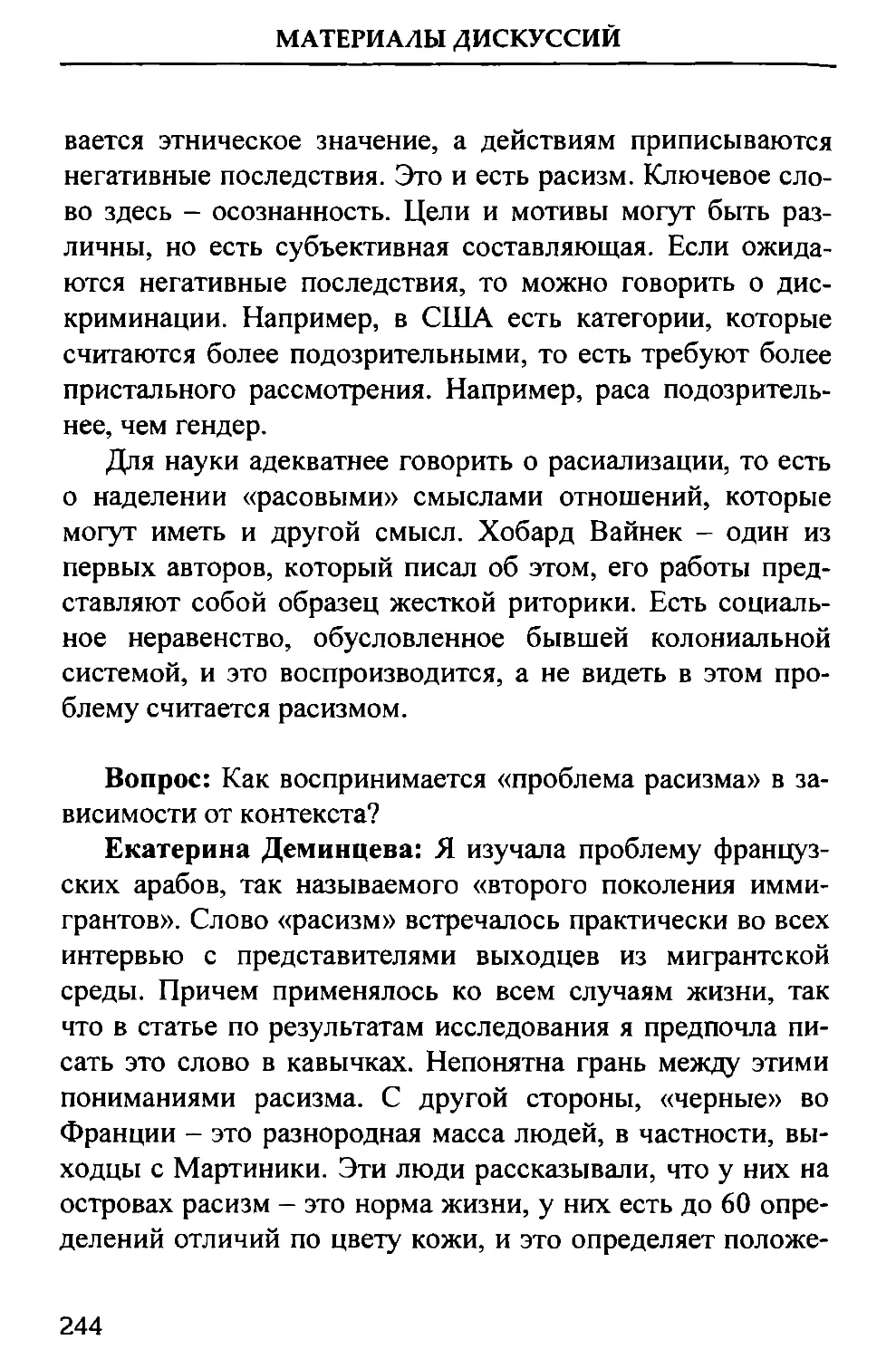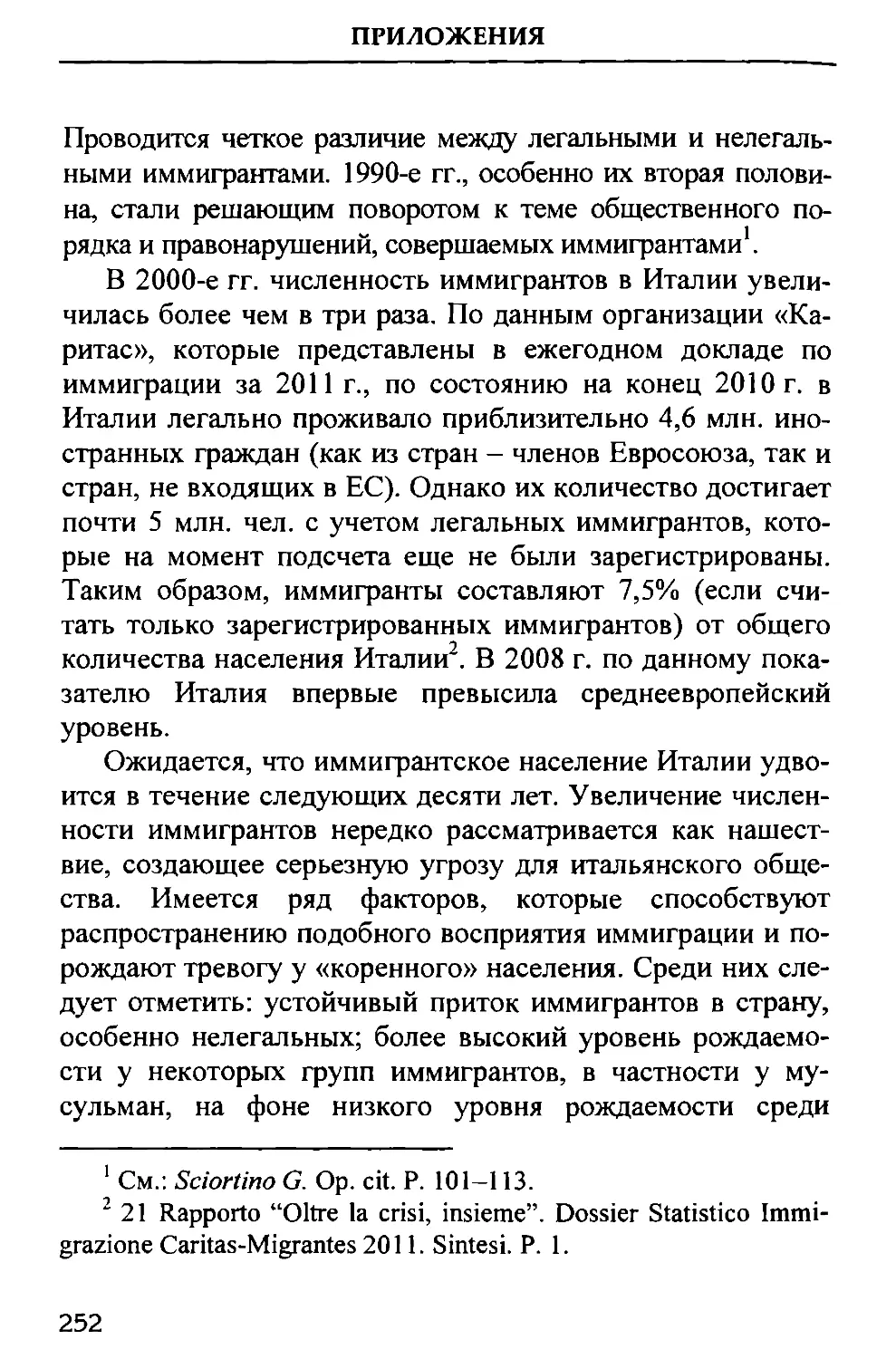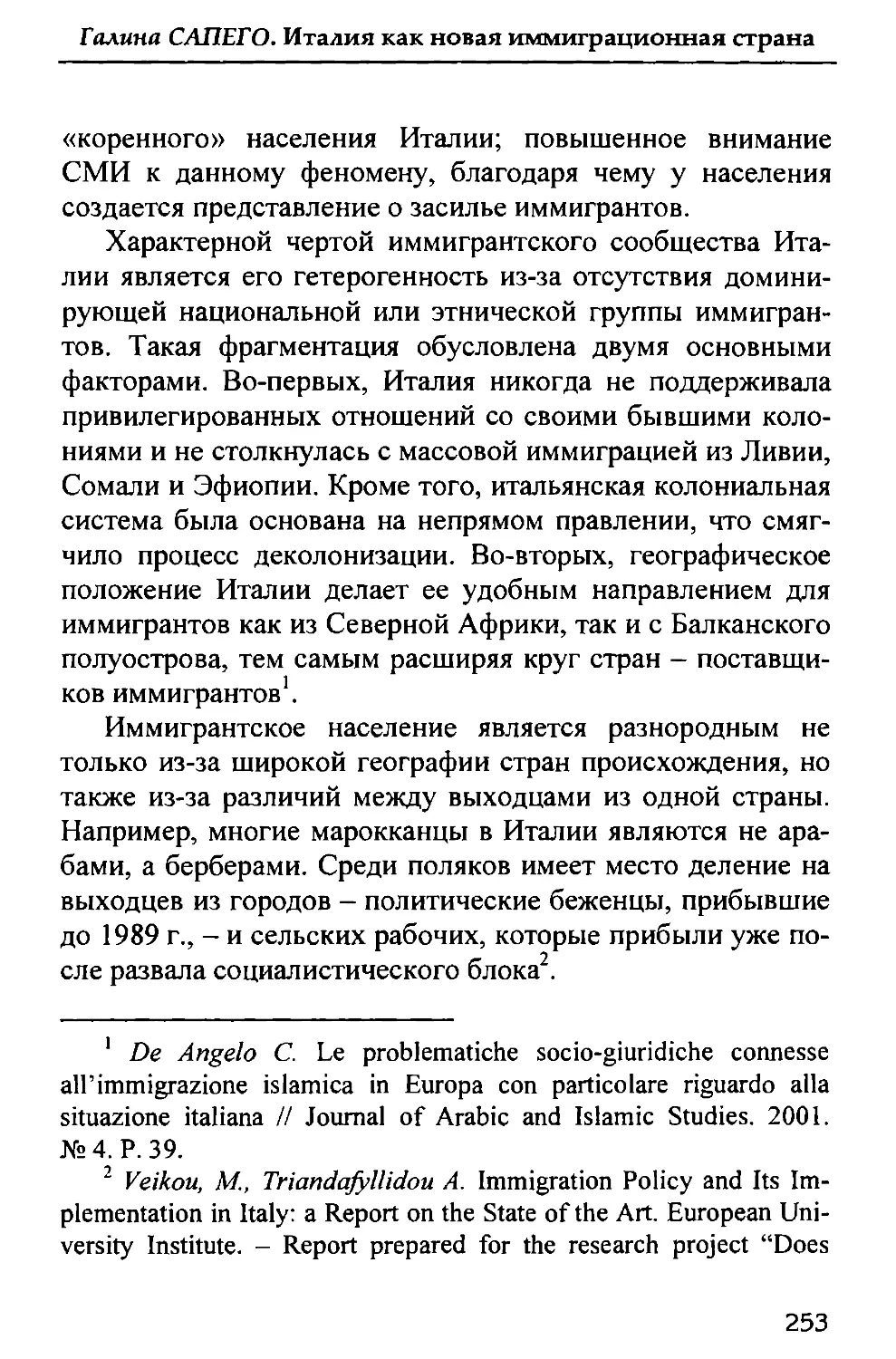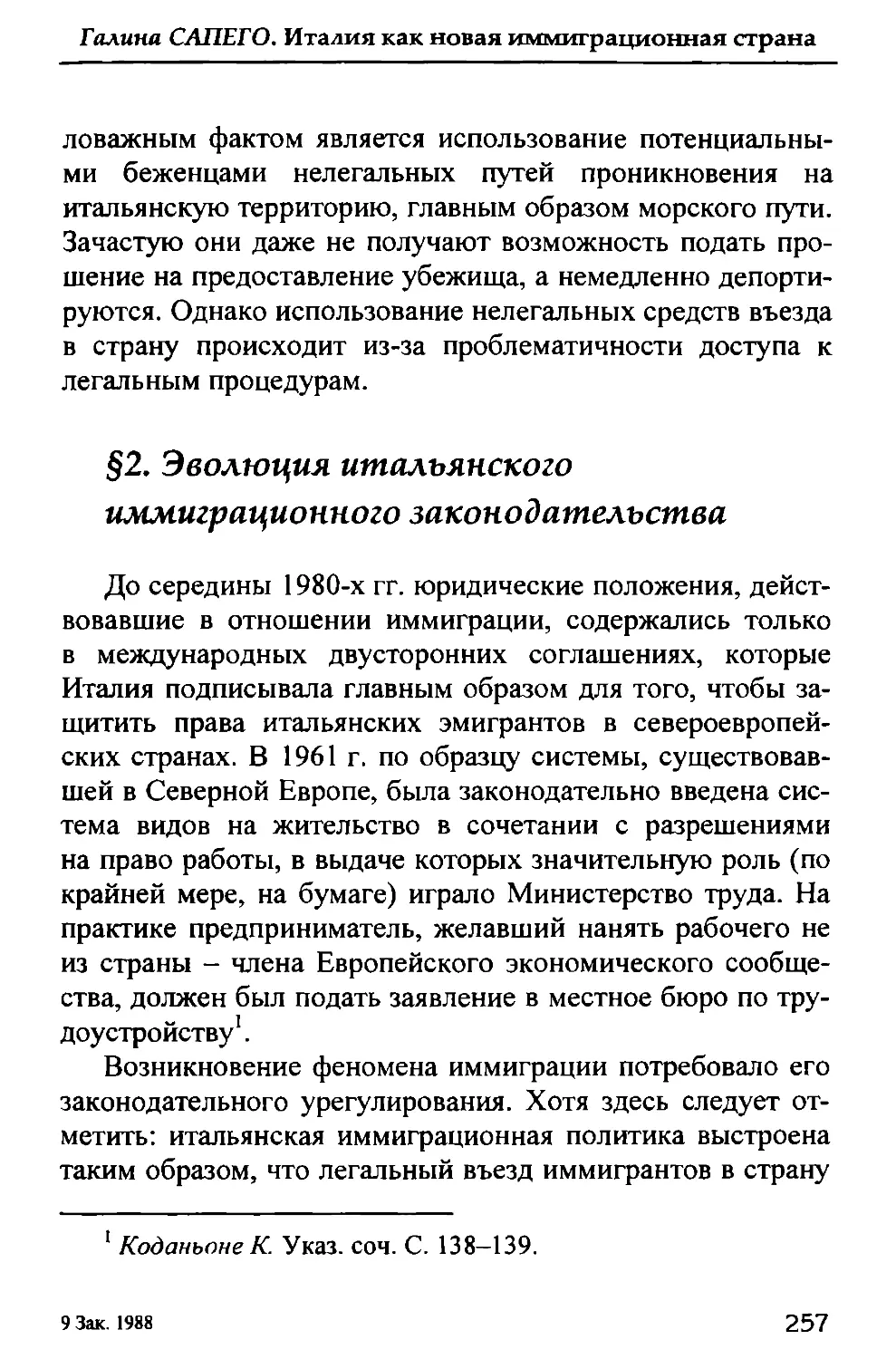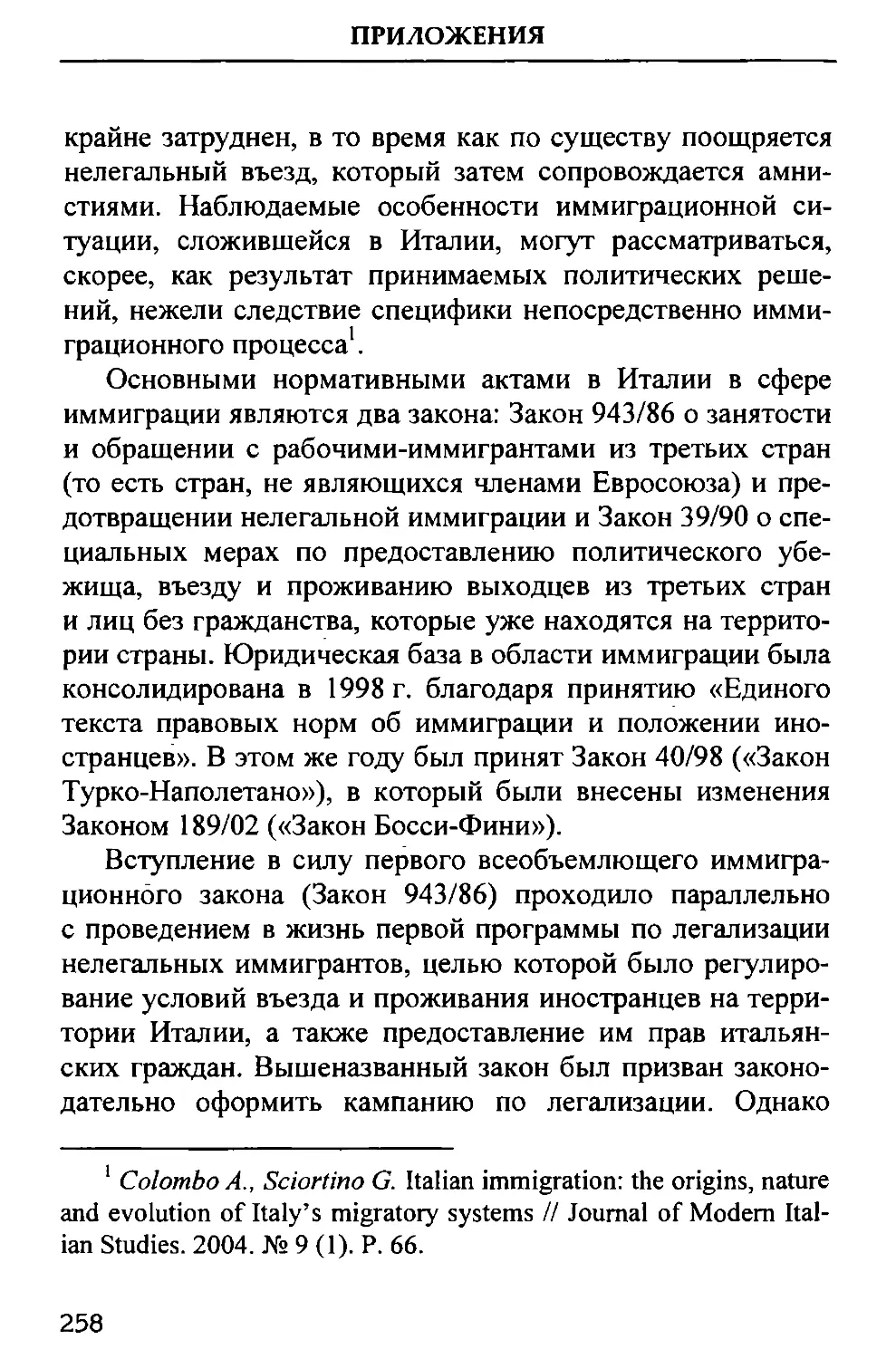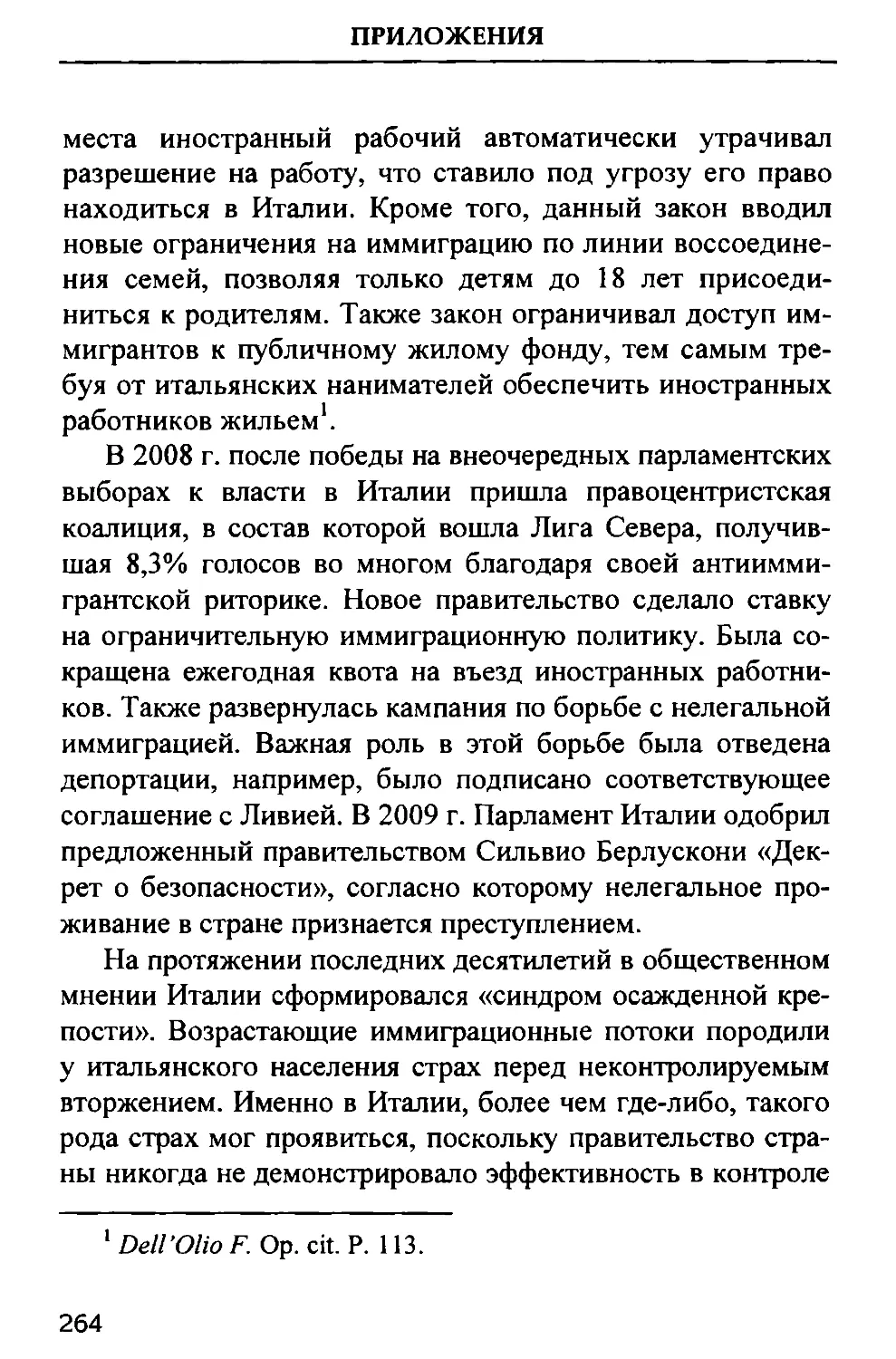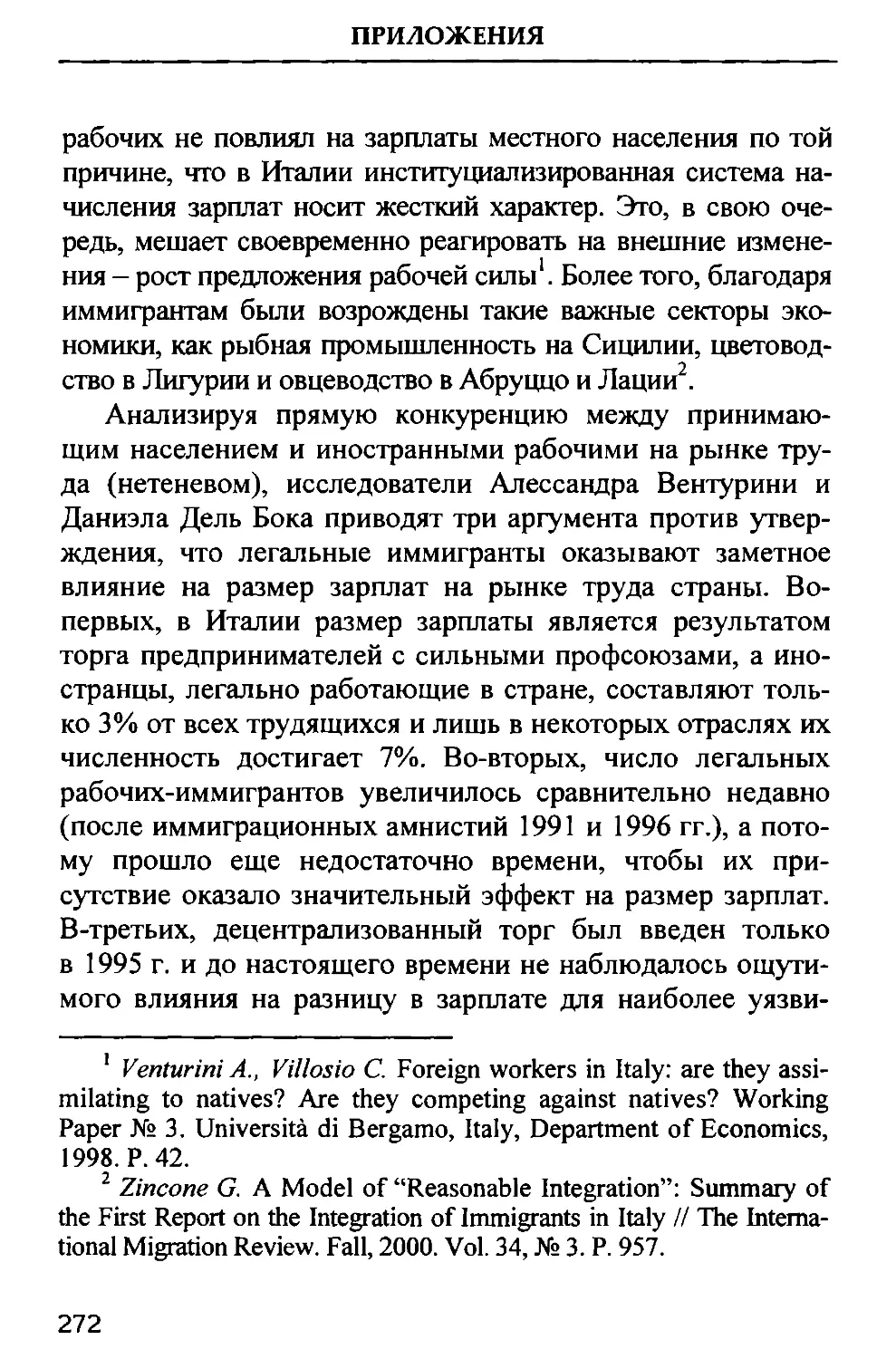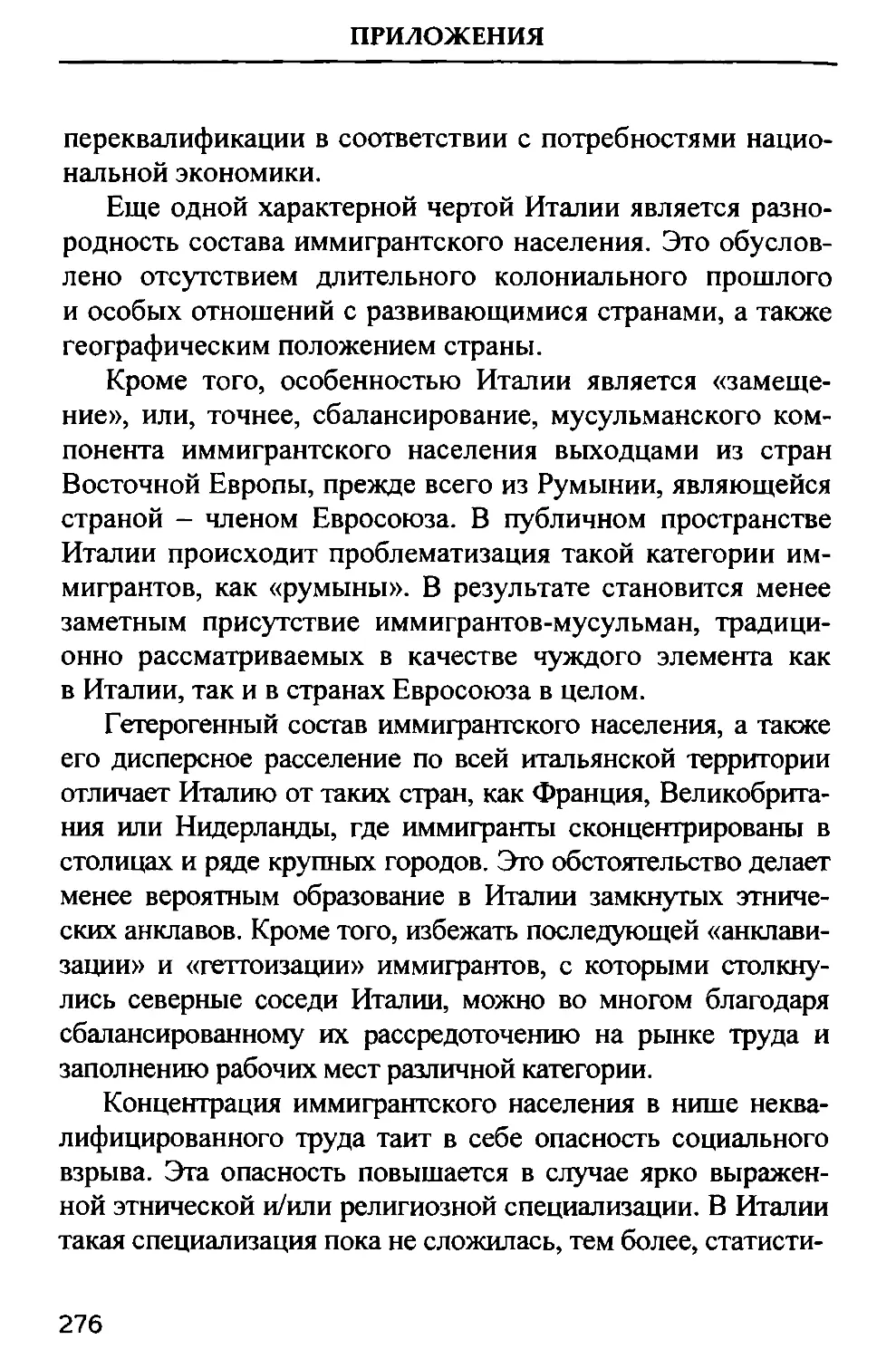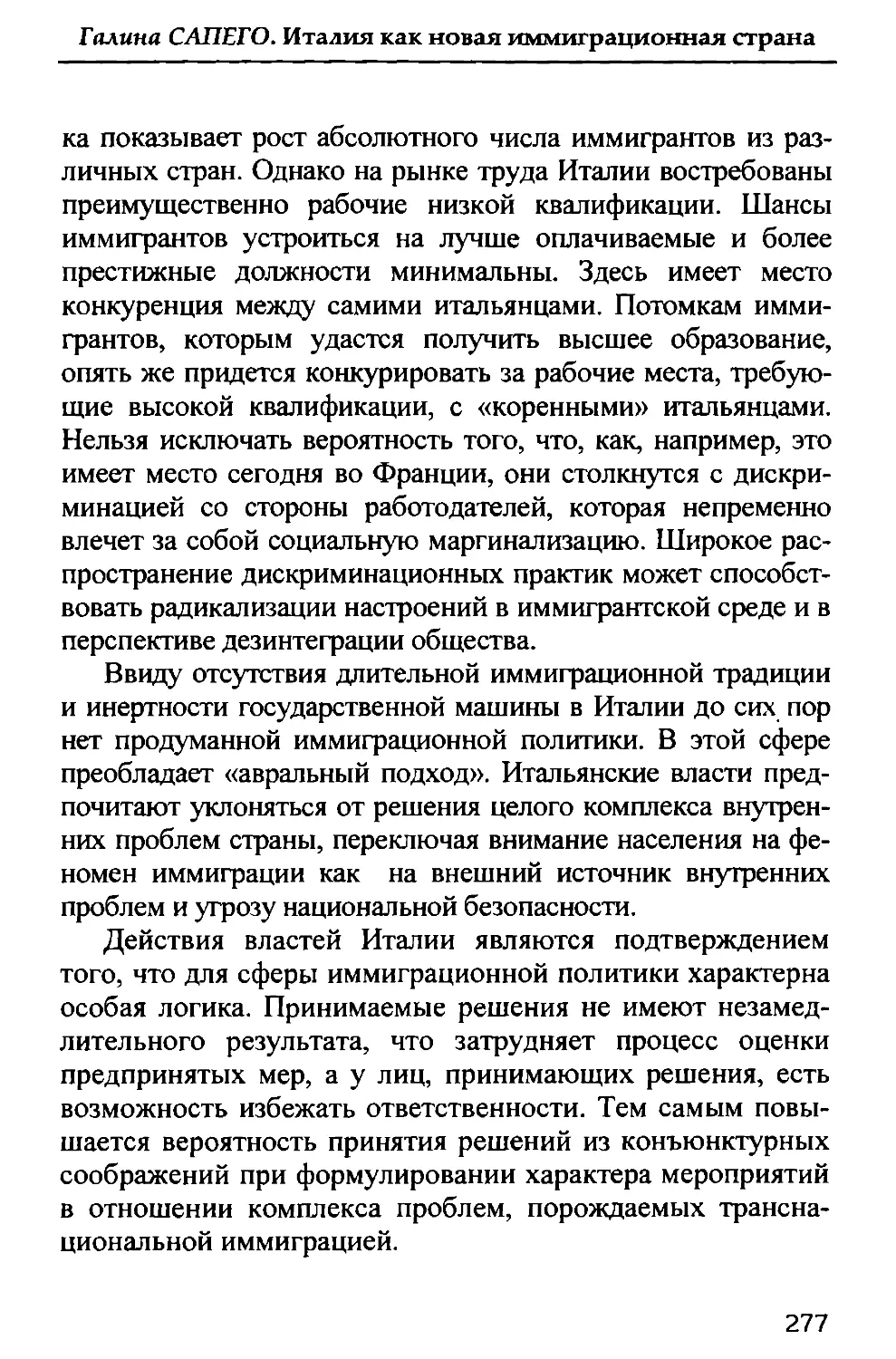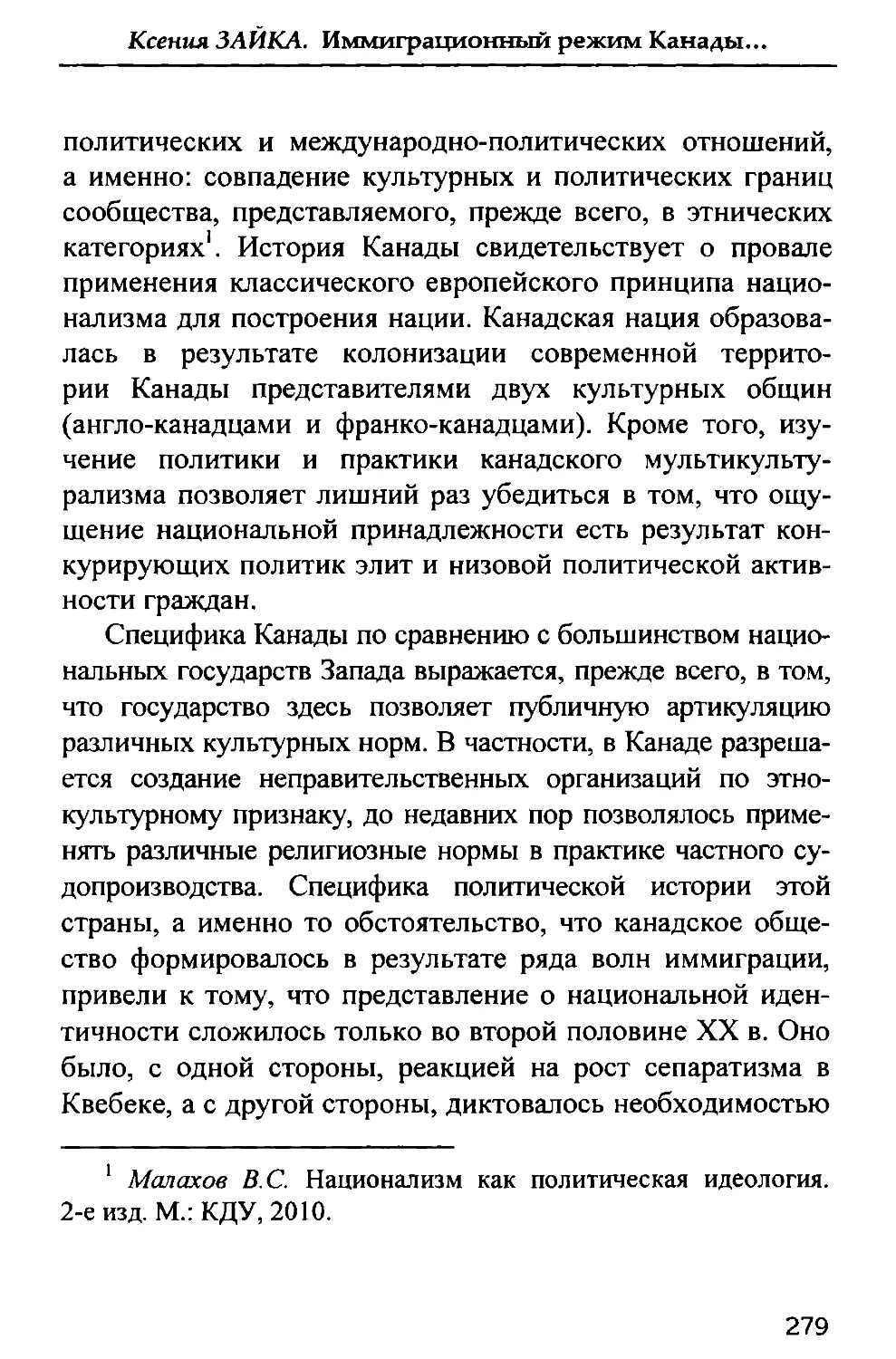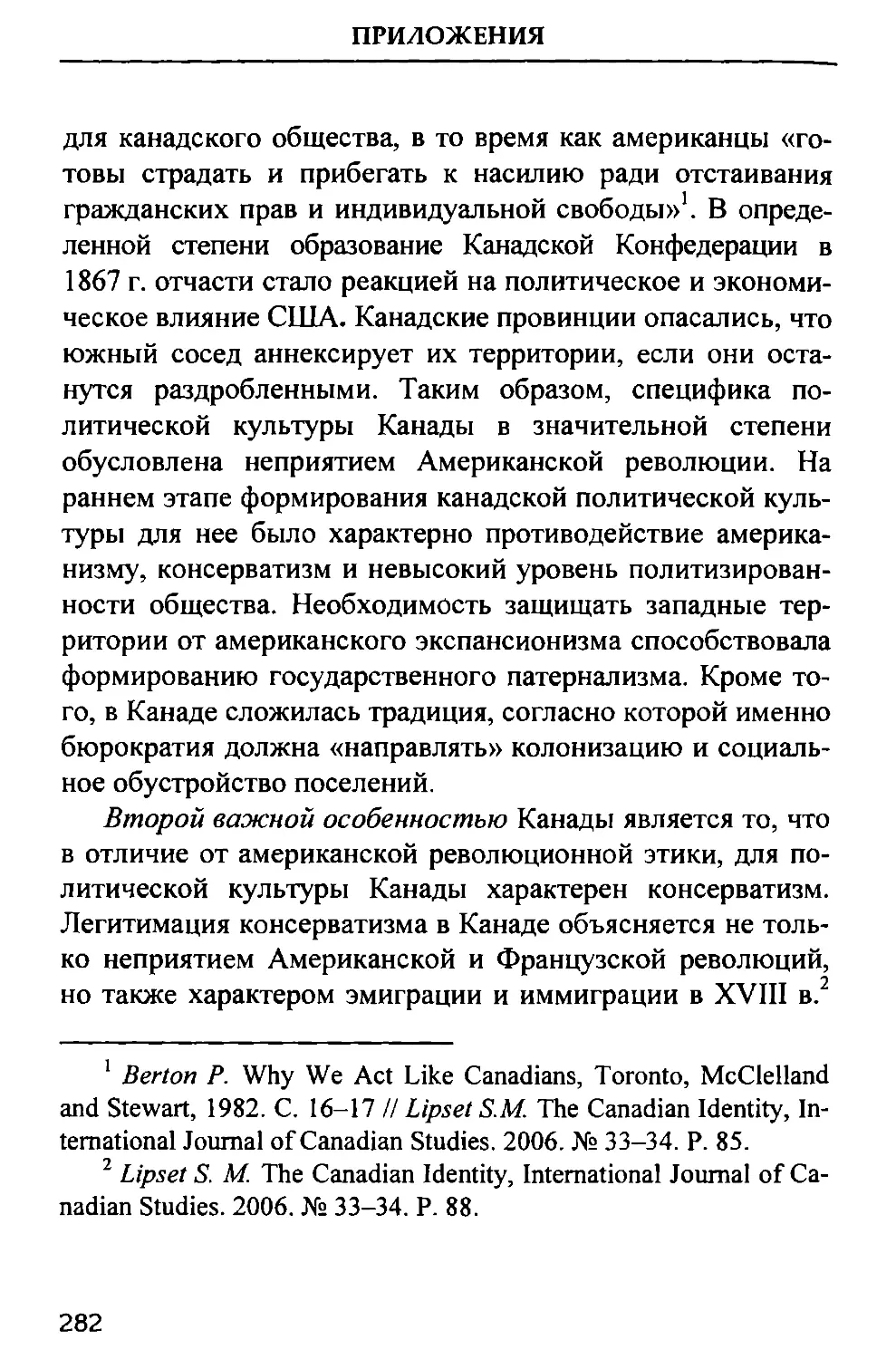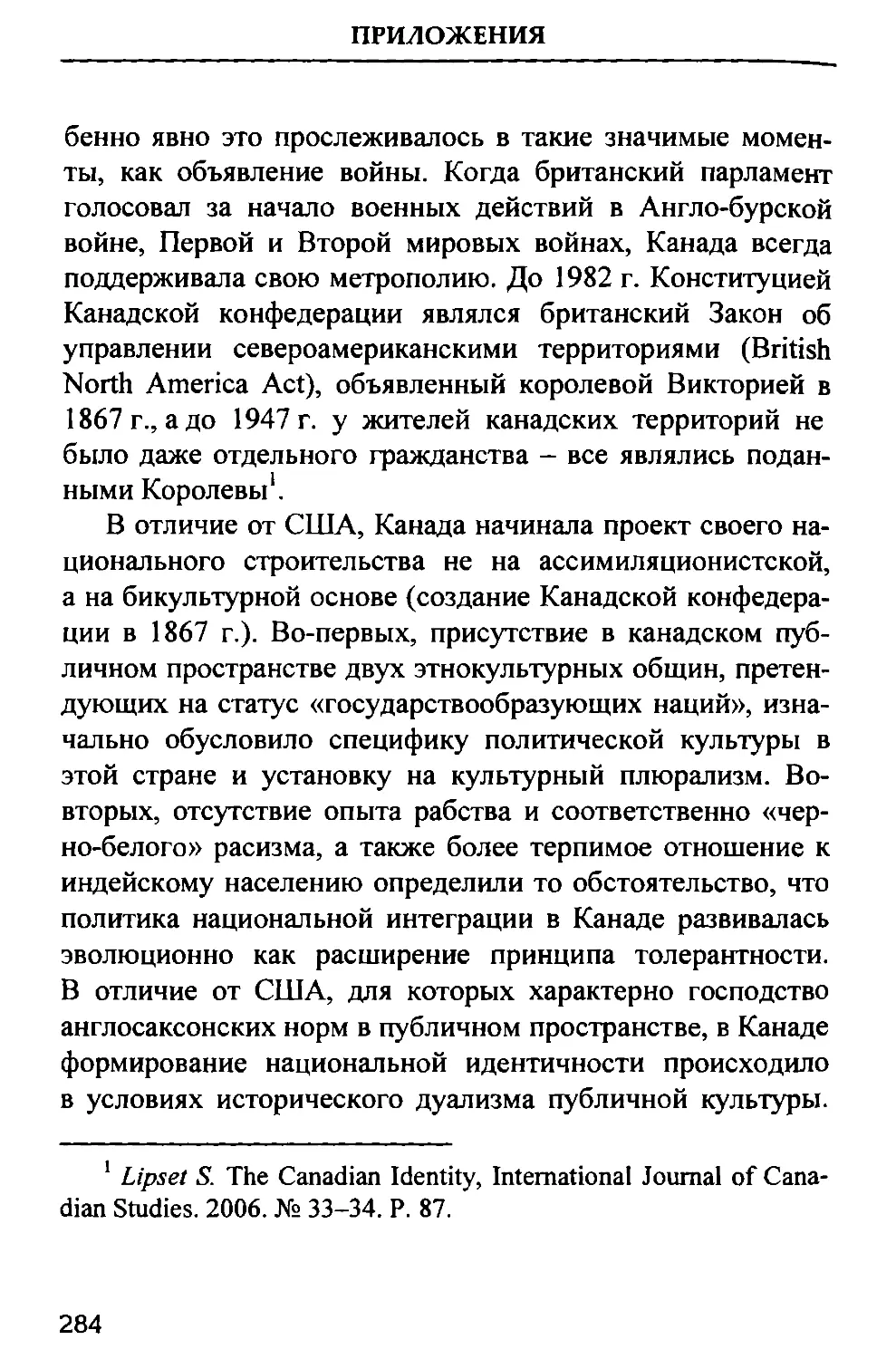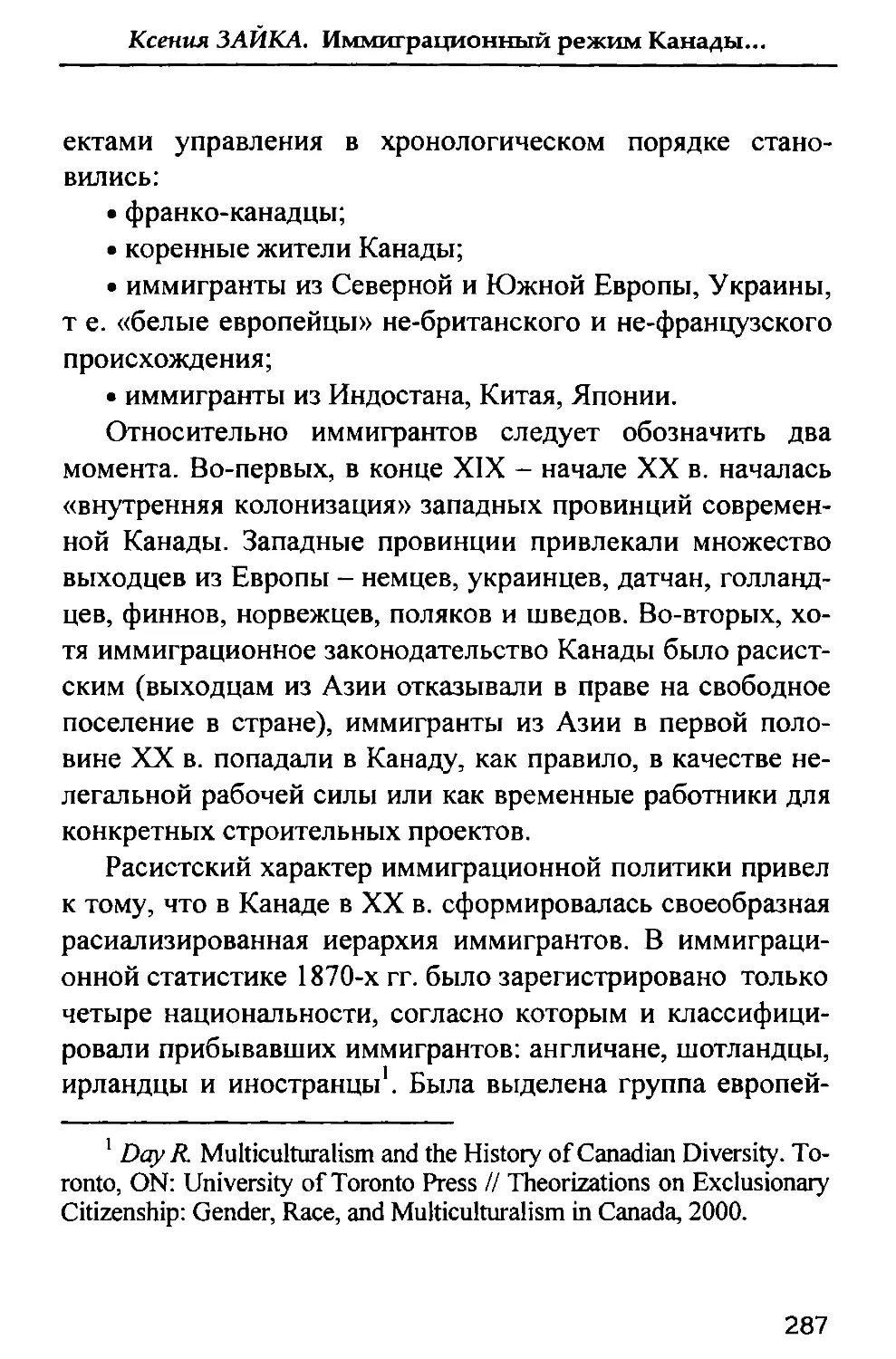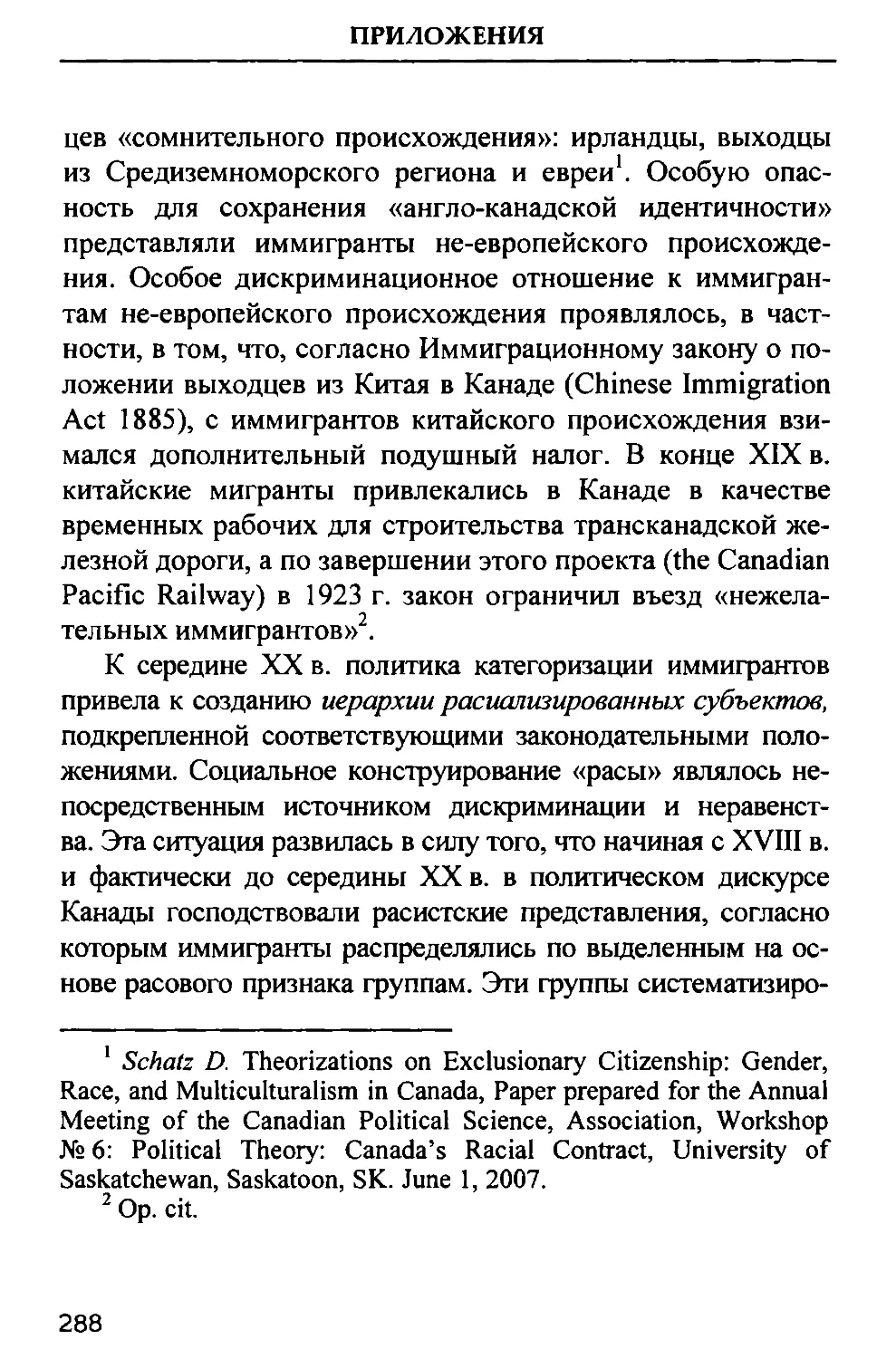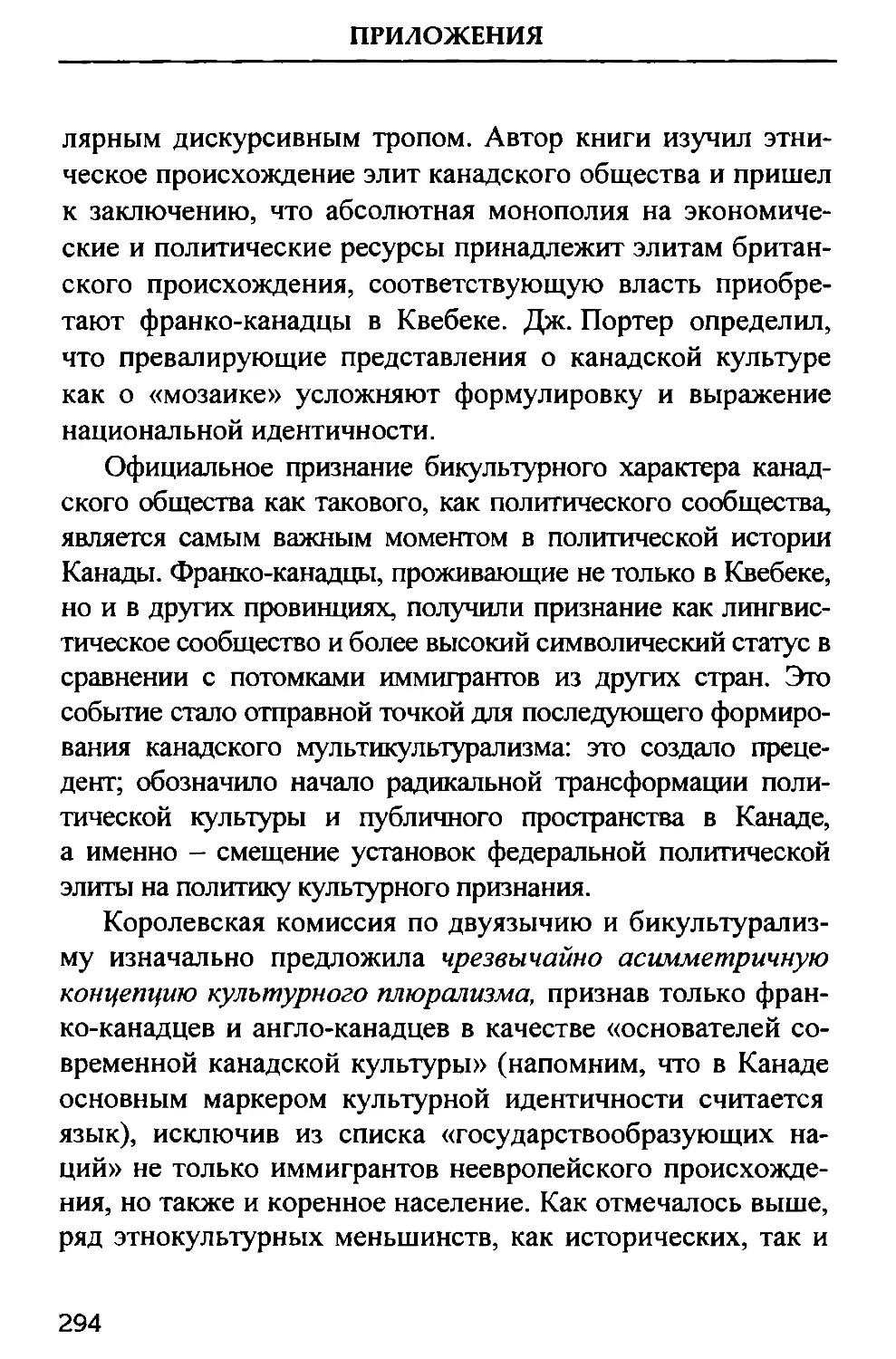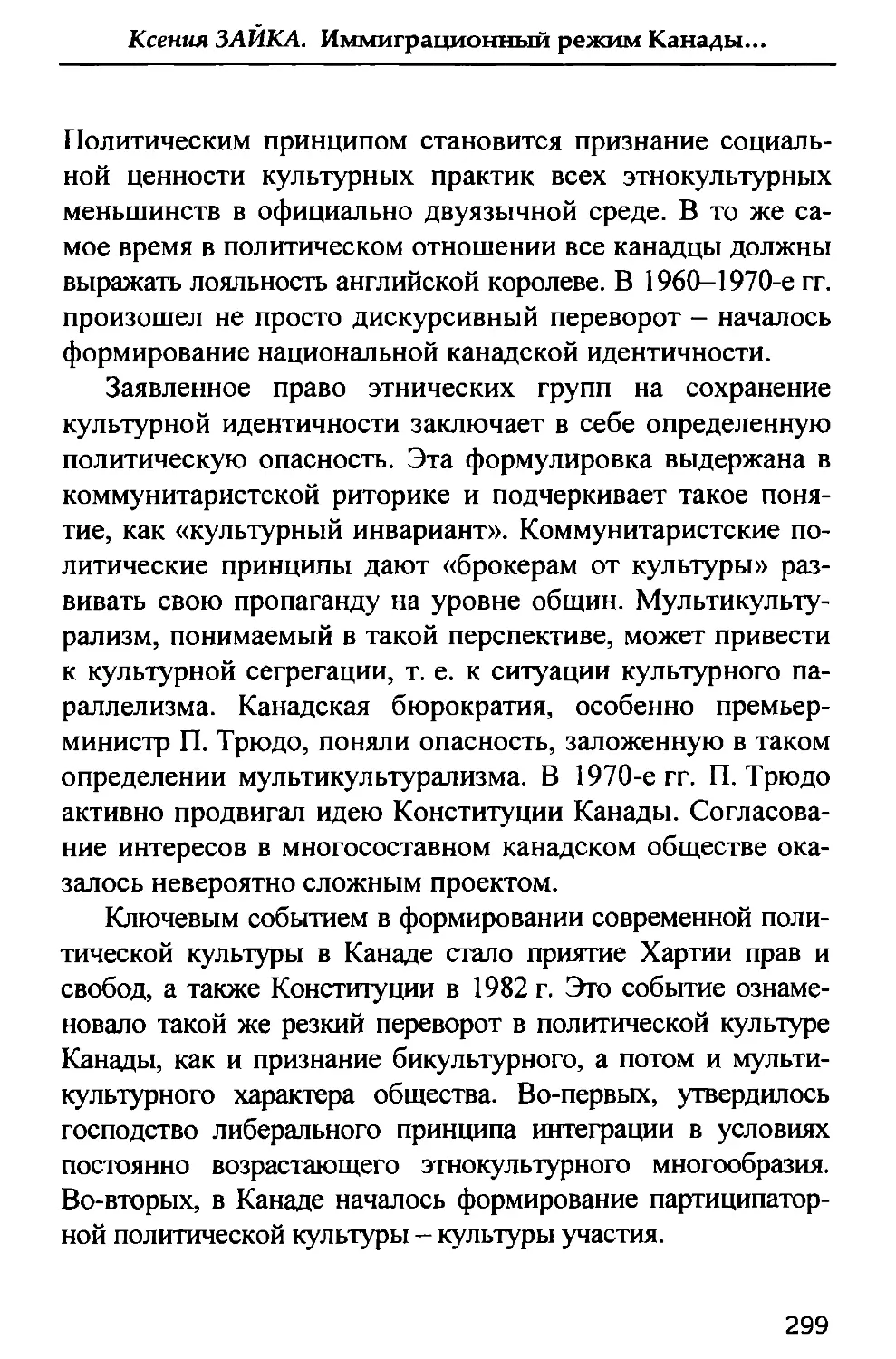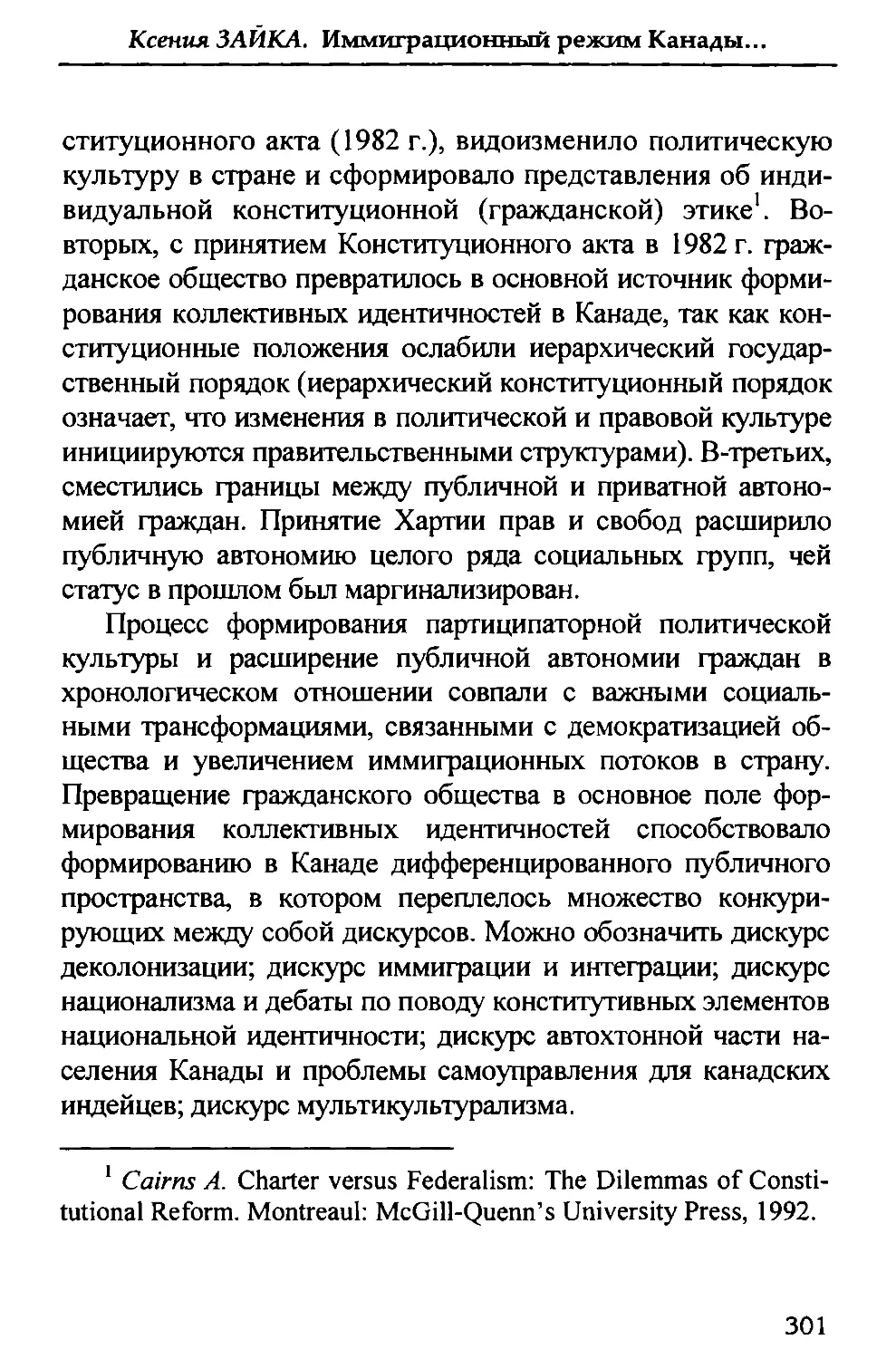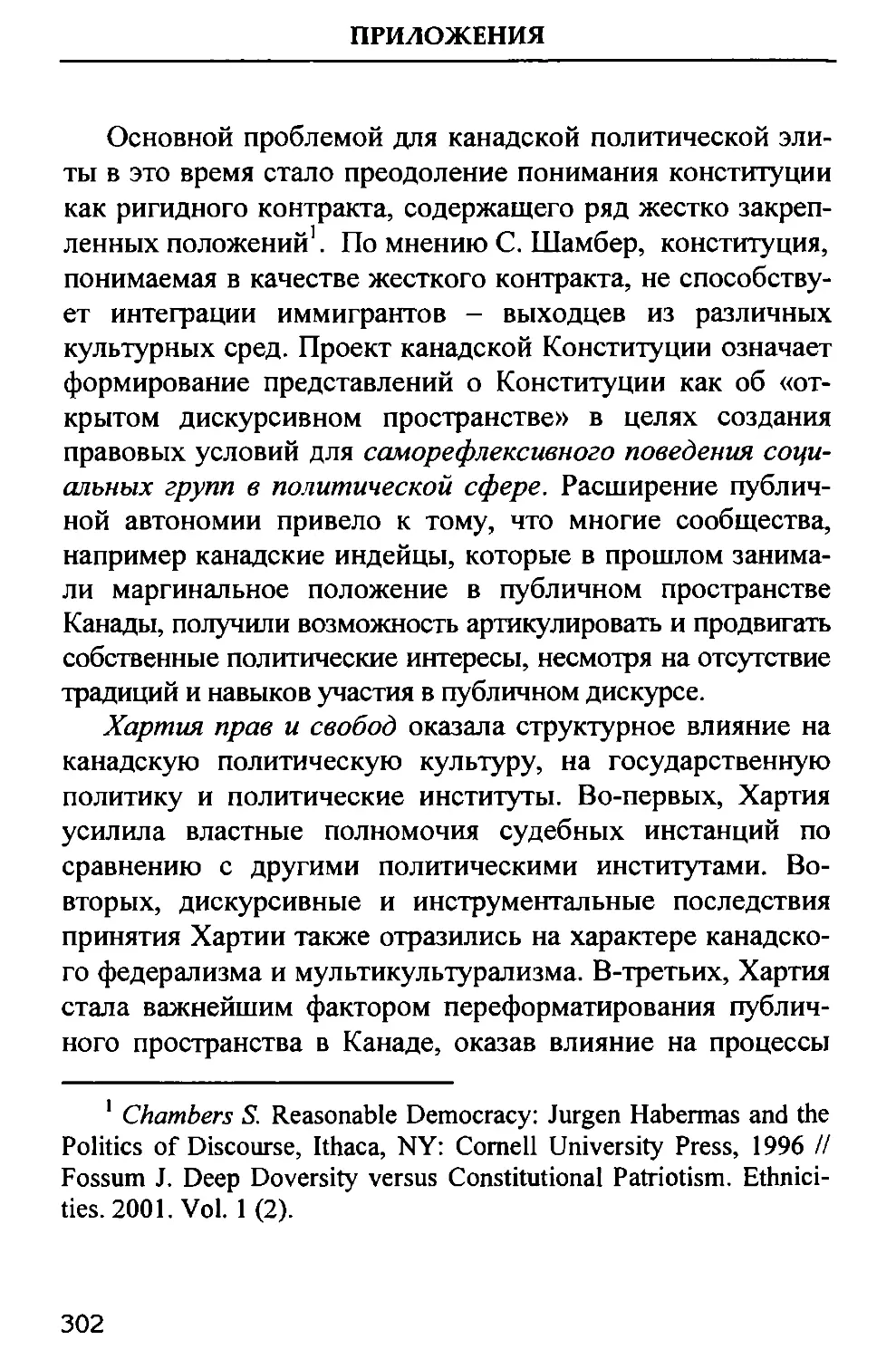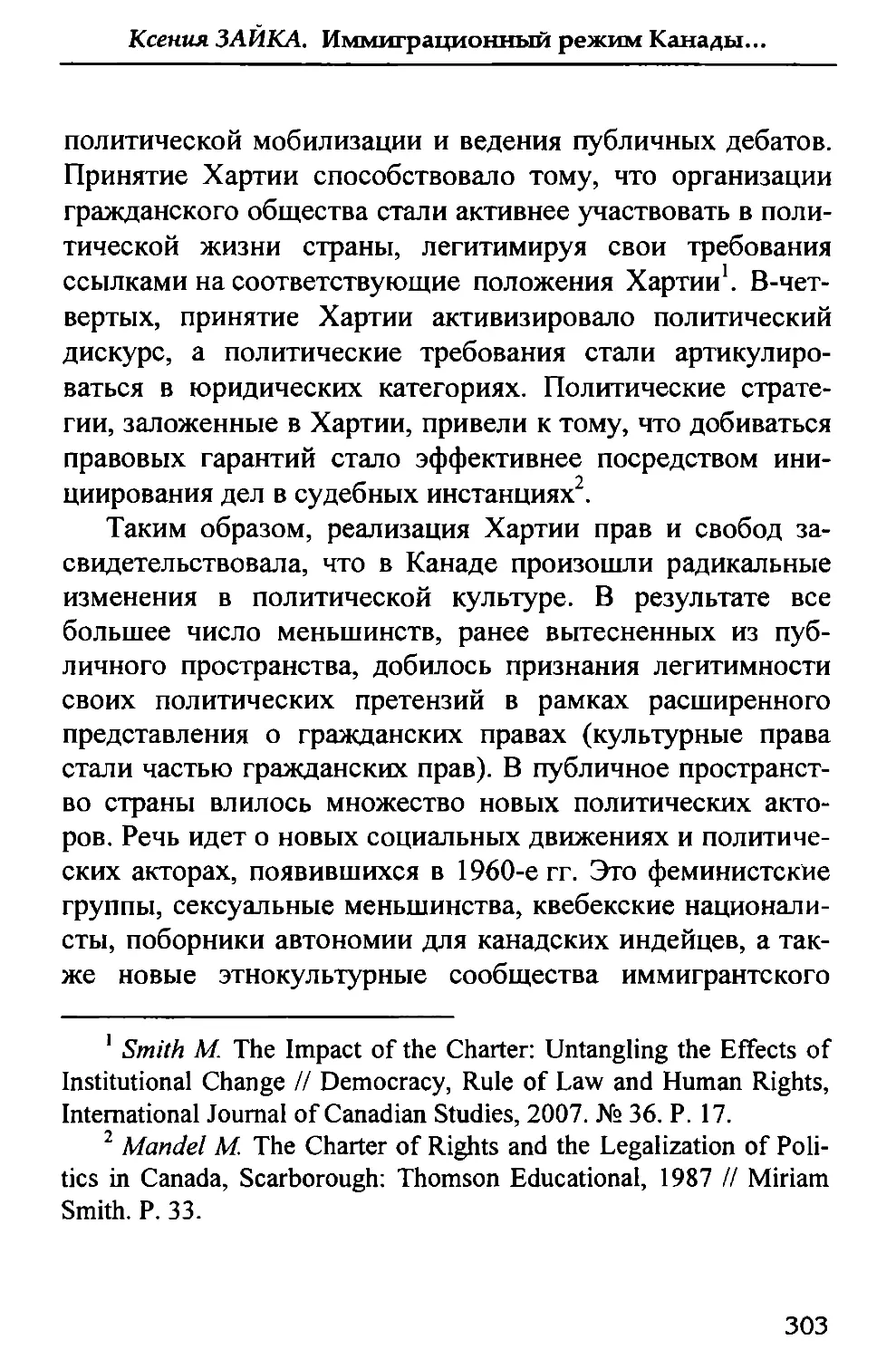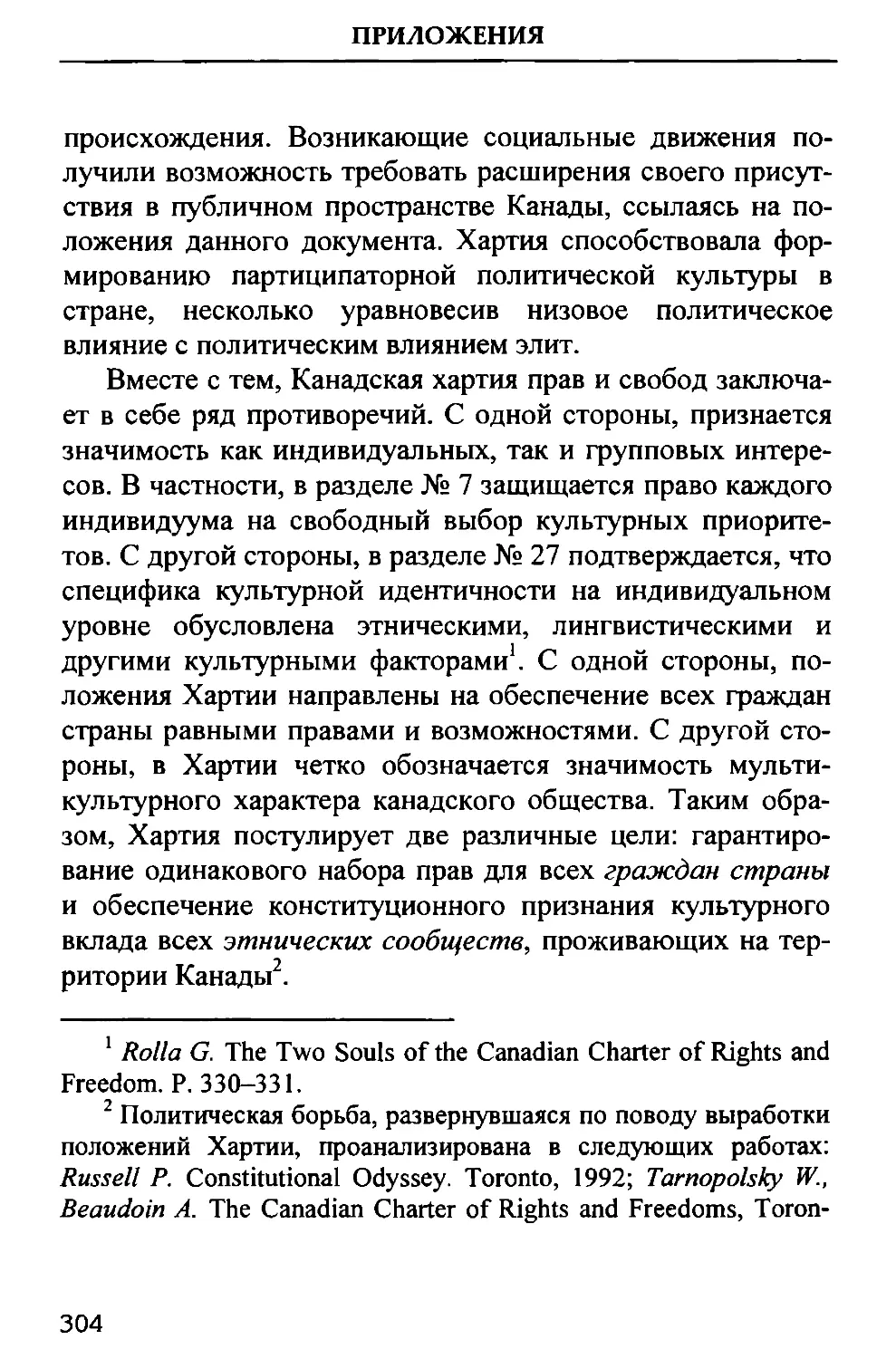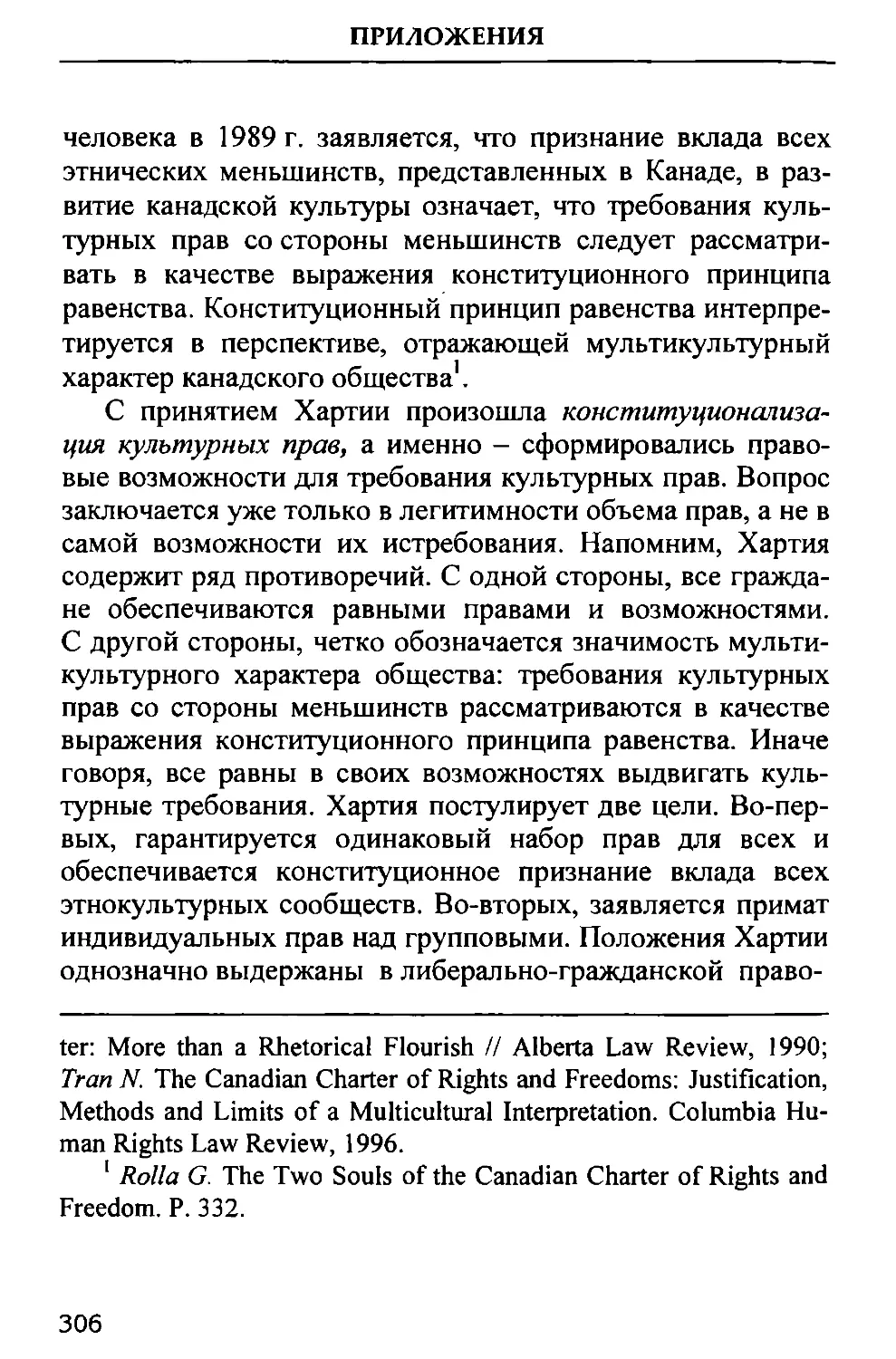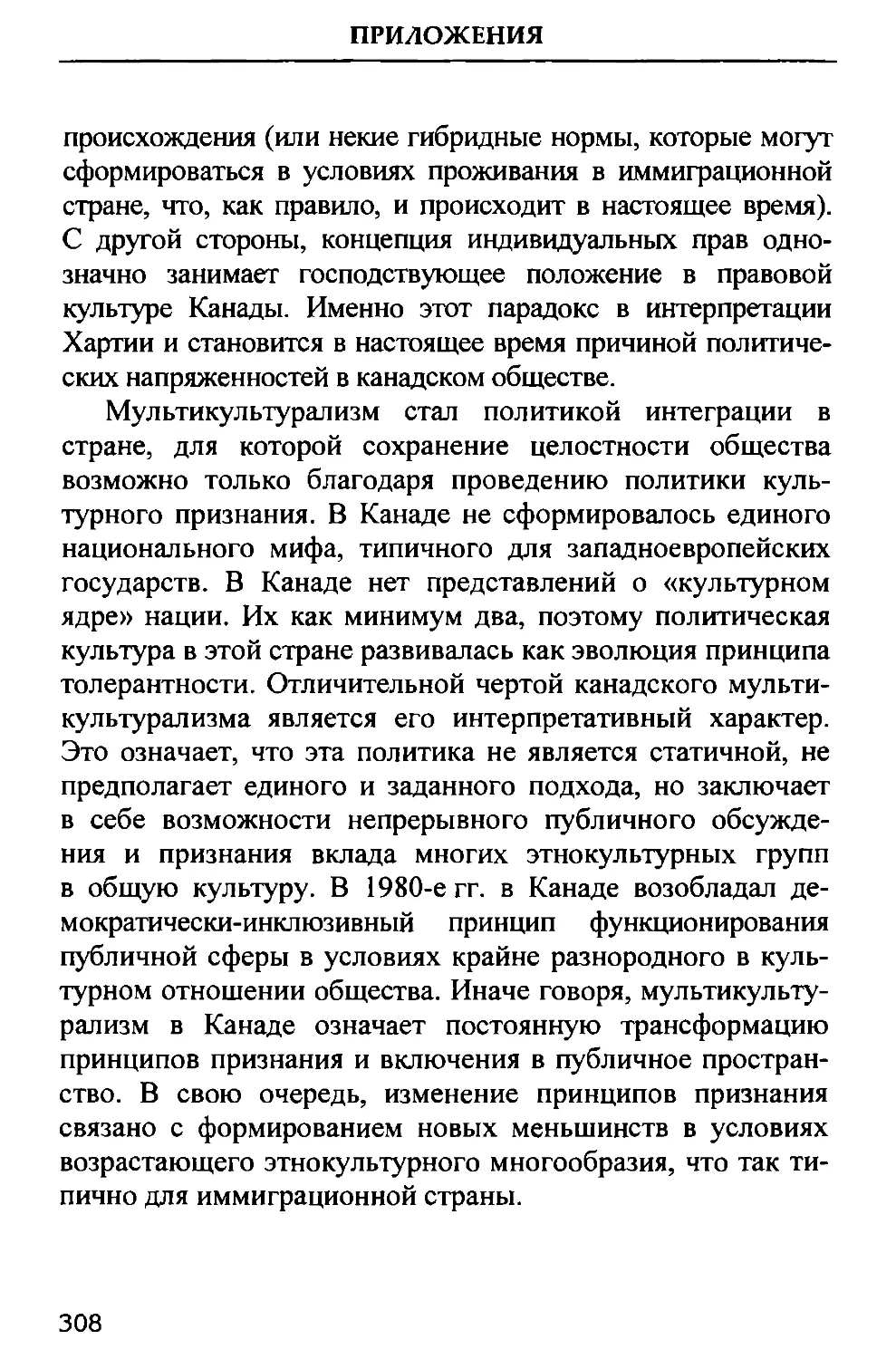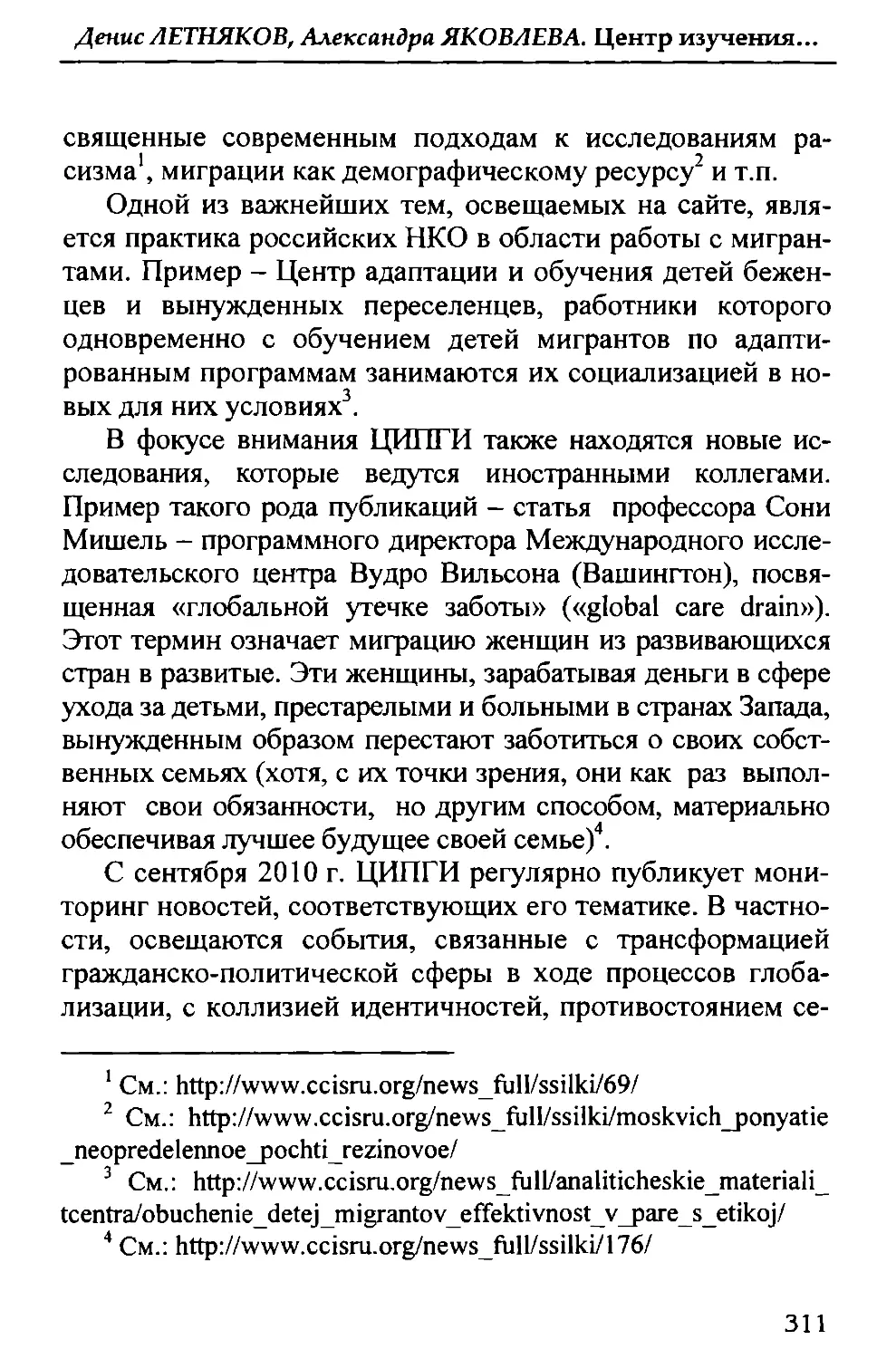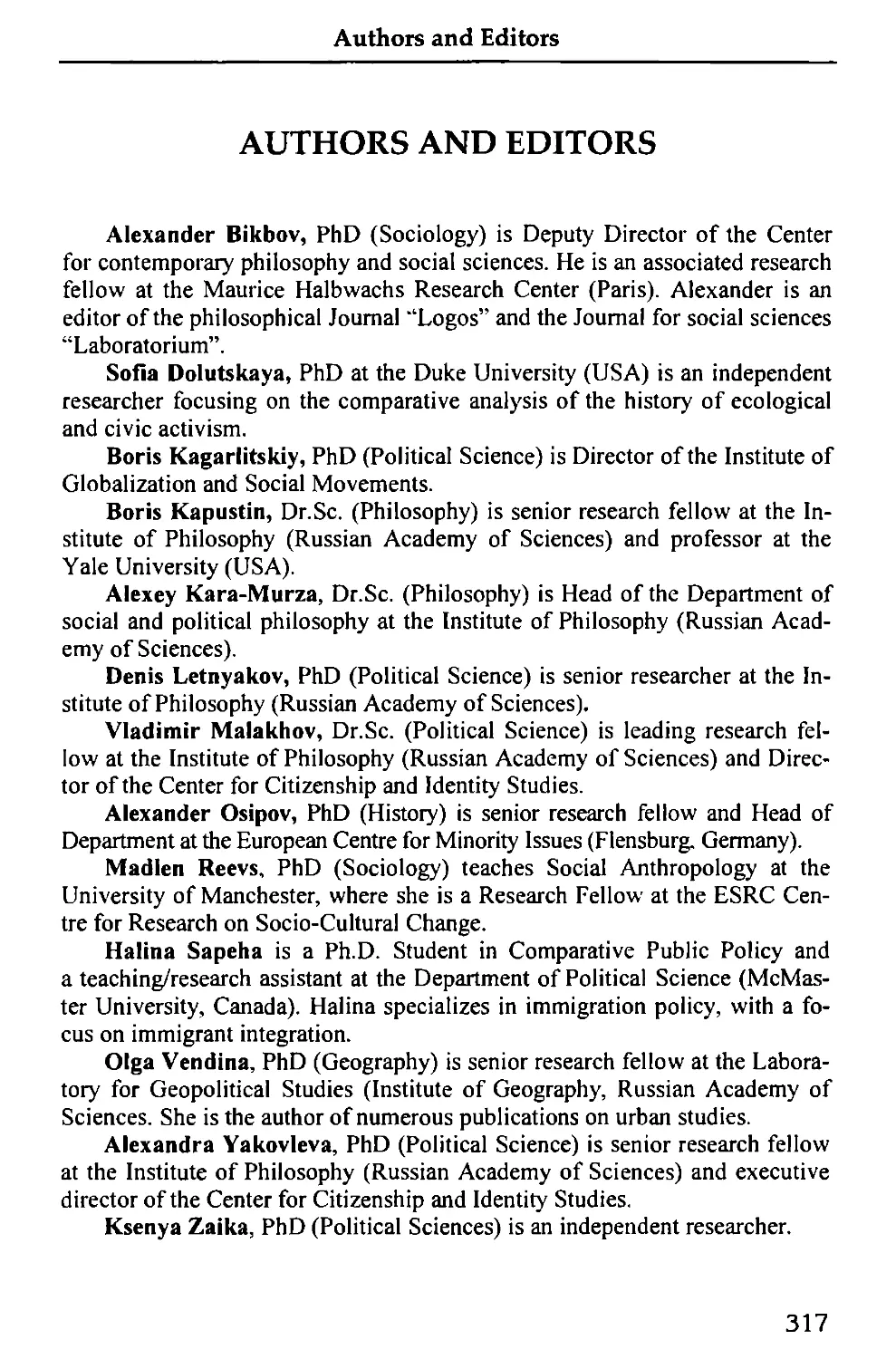Автор: Малахов В.С. Яковлева А.Ф.
Теги: внутренняя политика демография социология иммиграция политология
ISBN: 978-5-88373-320-7
Год: 2013
Текст
социология
(Я
и политология
Серия
СОЦИОЛОГИЯ и политология
Редколлегия:
Афанасьев В. В. - отв. ред. Божко Ю.В. - ученый секретарь Гречихин В.Г. Староверов В. И. Ананишнев В.М. Бельский В.Ю.
Капицын В.М.
Филитов А.М.
Панарин И.Н.
Пантин И.К.
ОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
ГРАЖДАНСТВО И ИММИГРАЦИЯ:
концептуальное, историческое и институциональное измерение
МОСКВА
УДК 323 ББК60.7 Г75
Г75 Гражданство и иммиграция: концептуальное, историческое и институциональное измерение: Сборник статей / Под ред. В.С. Малахова, А.Ф. Яковлевой. Редактор А.С. Кулева. — М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2013.-320 с.
КВЫ 978-5-88373-320-7
Книга посвящена теме, которая долгое время оставалась на периферии отечественного обществознания. По форме она представляет собой сборник материалов семинаров, проходивших с осени 2009 по декабрь 2011 г. в Центре изучения проблем гражданства и идентичности при Институте философии РАН. Частично - это тексты звучавших докладов, частично - статьи, сделанные на основе устных выступлений. Кроме того, в книгу включены избранные фрагменты дискуссии, два аналитических материала, посвященных политике в сфере иммиграции и гражданства в Канаде и Италии, а также аналитический обзор интернет-сайта Центра.
Охраняется законом об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части запрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.
УДК 323 ББК 60.7
КВИ 978-5-88373-320-7 © Коллектив авторов, 2013
© Издательство «Канон"*"» РООИ «Реабилитация», 2013
I. ПОЛИТИКО-ФИЛОСОФСКИЕ И ТЕОРЕТИКО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Владимир МАЛАХОВ
ГРАЖДАНСТВО КАК КОНЦЕПТ И ИНСТИТУТ: ЧТО, КАК И ЗАЧЕМ ИЗУЧАТЬ1
«Гражданство», в том смысле, в котором мы сегодня употребляем этот термин, есть феномен Модерна. (Я сознательно отвлекаюсь здесь от явления, которое обозначалось тем же словом в античности2.) Гражданство - это специфический способ связи между государством и населением. Специфический, присущий Модерну (и не присущий домодерновому периоду) способ взаимодействия между государством и населяющими его людьми. Такой способ взаимодействия вытекает из характерного для Модерна понимания суверенитета и, соответственно, легитимности власти. Если в домодерновый период сувереном (т.е. источником власти и авторитета) является монарх, то с наступлением Модерна сувереном является «народ».
1 Данная статья в целом воспроизводит текст доклада, прочитанного автором на первом заседании регулярного семинара ЦИПГИ (27 октября 2009 г.). Добавлен лишь справочный аппарат.
2 См. разъяснения автора в материалах дискуссии (С. 207; 213-214 настоящего издания).
6
Владимир МАЛАХОВ. Гражданство как концепт и институт...
(Речь, разумеется, идет о базовых политических фикциях, а не об эмпирической реальности). И если в домодерновый период легитимация власти осуществляется через апелляцию к ее сакральному происхождению (монарх как помазанное Божий), то с Модерном такая легитимация возможна только через апелляцию к «воле народа», т.е. граждан.
Поэтому Руссо поступал вполне логично, когда вводил в оборот метафору «гражданской религии», religion civile.
Далее. Гражданство - это такой способ взаимодействия между властью и индивидами, при котором последние рассматриваются как равные (друг другу). Население - в идеале - не делится на категории (когда представители разных категорий обладают различным объемом прав, обязанностей и привилегий), а представляется как относящееся к одной категории, и эта категория - «граждане». Граждана- ми - опять-таки, в идеале - являются все индивиды, проживающие на территории данного государства. Еще раз подчеркну, что такой способ видения (и основанное на таком видении общественное устройство) получает распространение относительно недавно.
Две перспективы рассмотрения гражданства
Существуют две основные перспективы, из которых принято рассматривать феномен гражданства. Это перспектива солидарности и перспектива конфликта.
7
I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты
В первой из этих перспектив делается упор на принадлежности индивидов некоей (политической) общности. В результате основными понятиями рассуждения на тему гражданства становятся «консолидация», «интеграция» (часто — с предикатом «национальная»), «принадлежность», «идентичность», «обязательства».
Во второй из упомянутых перспектив акцент смещается с солидарности на неравенство. На процедуры, в результате которых определенным группам отказывают в доступе к социальным благам (или ограничивают такой доступ). Гражданство в рамках такого подхода - это инструмент, позволяющий сгладить социальный протест.
Власть имущие, или высшие классы, - обладатели экономических и политических ресурсов, т.е. собственности на средства производства и средства принуждения - делятся с низшими классами неким объемом социальных благ, рассчитывая получить взамен согласие с существующим порядком вещей.
Назовем (с изрядной долей условности) первую из этих перспектив либеральной, а вторую - марксистской.
Сразу скажу, что вторая из этих двух мне симпатичнее. Не потому что я твердокаменный марксист. А потому, прежде всего, что перспектива солидарности чревата морализмом.
Она имплицитно - а иногда и эксплицитно - содержит в себе некий прогрессистский эволюционизм (или эволюционистский прогрессизм).
Вдохновенные разговоры о «гражданине» (который совсем не «подданный»), о «гражданском сознании», противопоставление активных «граждан» пассивному «населению», а также (хорошей) «гражданской нации» - (плохой)
8
Владимир МАЛАХОВ. Гражданство как концепт и институт...
«этнической нации» и т.д. - за всем этим, как правило, не скрывается ничего, кроме моралистических тривиальностей. Более того, рассуждения о политических культурах в духе вульгаризированных Альмонда и Вербы (civic culture в противовес «подданнической» и «приходской» культурам) таит в себе европоцентричные коннотации.
Мысля е$ таких категориях, мы молчаливо предполагаем, что «золотой миллиард», состоящий из европейцев и североамериканцев, сформировал «гражданскую культуру» (и потому материально процветает), тогда как остальные 5/6 человечества все никак не могут дорасти до этой стадии (и, наверное, потому и прозябают в нищете).
Иными словами, мой выбор в пользу перспективы конфликта обусловлен тем, что эта перспектива, как мне кажется, лучше позволяет анализировать механизмы включения и исключения, лежащие в основе феномена гражданства.
Проблематика гражданства - это, прежде всего, проблематика исключения. Ибо условием возможности самого этого института является наличие, наряду с гражданами, неграждан. Наряду с обладателями прав - тех, кто их лишен.
Гражданство как «идея» и как принцип организации политического пространства
Согласно классической типологии Томаса Маршалла, существуют три типа прав, которым соответствуют три типа гражданства.
9
I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты
1. «Цивильные» права (civil rights)'. Это право на неприкосновенность личности (habeas corpus), предусматривающее, что человек не может быть лишен свободы без решения суда1 2, право на справедливое судебное разбирательство, свобода совести (т.е. свобода вероисповедания), свобода слова и т.д. Этот корпус прав начинает формироваться с последней трети XVII ст. (В частности, habeas corpus впервые вводится в Англии в 1679 г.) Поначалу эти права распространялись только на имущих, но со временем были распространены на всех (в этом смысле все стали «гражданами»).
2. Политические права {political rights). Это право избирать и быть избранным в органы власти, а также право создавать политические партии. Данный корпус прав складывается с конца XVIII в. Обладание политическими правами, опять-таки, поначалу ограничено. Существует жесткий имущественный и образовательный ценз, который постепенно смягчается.
3. Социальные права {social rights). Это 8-часовой рабочий день и оплачиваемый отпуск, т.е. право на отдых, минимальная оплата труда, право на пособие в случае утраты трудоспособности и т.д. Этот корпус прав формируется, начиная с последней трети XIX ст.
1 Об этом несколько искусственном переводе понятия «civil rights» см.: Малахов В.С. Гражданство как объект социальной и политической теории: критическое введение // Капустин Б.К. Гражданство и гражданское общество. М.: ИД «Высшая школа экономики», 2010. С. 9.
2 На практике это означает, что никто не может быть взят под стражу без предъявления обвинения; срок задержания подозреваемого без предъявления обвинения регулируется законом (обычно он не превышает 48-72 часов).
10
Владимир МАЛАХОВ. Гражданство как концепт и институт...
Подход Т. Маршалла, однако, имеет существенные ограничения. Дело в том, что три типа «гражданства» в том виде, как они представлены английским социологом, выглядят как три этапа постепенной гуманизации человеческого общества, поступательного шествия от низшего к высшему. Так сказать, восхождения - от ситуации, в которой^! объем прав, и количество тех, кто ими наделен, ограниченны, к ситуации, когда их обладателями являются все члены определенного общества, а сами эти права затрагивают не только политико-юридическую, но и социальную сферу. Иными словами, типология Маршалла выдержана в просвещенческой логике. Тем самым затушевывается то обстоятельство, что права не столько предоставлялись обладателями власти, сколько добывались в борьбе теми, кто был их лишен. Предоставление прав было не результатом морального прозрения общества (этакого «прогресса в сознании свободы», говоря гегелевским языком), а результатом изменений в соотношении политических сил1. В известном смысле права не «даются», а «берутся». Не следует рассматривать правовую сферу как полностью автономную от политической сферы.
1 См.: Tilly Ch. The Emergence of Citizenship in France and Elsewhere // Citizenship, identity and Social History, ed. by Ch. Tilly. Cambridge: Press Syndicate of the University of Cambridge, 1995. (International Review of Social History, 40, Supplement 3). P. 223- 237; Тилли Ч. Борьба и демократия в Европе, 1650-2000 гг. М.: ИД ГУ ВШЭ, 2010.
11
I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты
Идея гражданства в марксистской перспективе
Глядя из марксистской перспективы, история идеи гражданства выглядит следующим образом1.
1789-1830-е - буржуазия начинает и выигрывает.
Я имею в виду политическую и идеологическую победу «третьего сословия», которую оно одержало сначала во Франции (Французская революция), а затем в Англии (отмена ограничений на свободную куплю-продажу рабочей силы в середине 1830-х гг.). При этом на условное «четвертое сословие» гражданство не распространяется. Ни крестьяне, ни промышленные рабочие в число граждан не входят.
1840-1870-е - борьба социальных низов за пересмотр отношений господства.
Это и чартизм, и первые профсоюзы рабочих, и революционные события 1848 г., и борьба за право на забастовку. В результате на рубеже 1870-1880-х гг. в ряде стран Европы правящие классы меняют модель управления. Они переходят к постепенному расширению числа включенных, постепенно распространяя гражданские права на «низшие классы».
1880-1930-е - формирование элементов welfare state (государства всеобщего благосостояния). В этот период
1 Нижеследующее изложение представляет собой компиляцию из источника: Rueschemeyer D, Huber S.E., Stephens J.D. Capitalist Development and Democracy. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
12
Владимир МАЛАХОВ. Гражданство как концепт и институт...
происходит наделение трудящихся классов политическими правами, а также постепенное распространение политических прав на женщин (к 1920-м гг. женщины получили политические права в большинстве западных стран)1.
1949-1979 гг. - «золотой век» welfare state. Три десятилетия после Второй мировой войны принято так называть потому, что в этот период в странах мирового капиталистического «ядра» имел место экономический рост (хотя и приостановленный кризисом 1973 г. На фоне этого роста произошли расширение и укрепление социальных прав, завоеванных в прежнее время.
1980-2008 гг. - неолиберальный поворот. В течение последних двух десятилетий XX в. происходит откат от welfare state, причем не только на институциональном, но и на идеологическом уровне. А именно институты, ассоциируемые с «государством всеобщего благосостояния» (в частности, разветвленная система социальной защиты) не просто сворачиваются, но само это свертывание происходит отчасти при поддержке общества. Ведь адептов идеологии, которую позже назовут «неолиберализмом», приводят к власти избиратели. Подозрительное отношение к слишком большому государству и соответственно идеи «саморегулирующегося рынка» и «минимального государства» становятся доминирующими в общественном сознании2.
1 Здесь мы не затрагиваем гендерный аспект проблематики гражданства, о котором - огромная масса литературы на английском и очень немного работ на русском. См.: Арутюнян М., Здра- вомыслова О., Курильски-Ожвен III. Образ и опыт права. Правовая социализация в изменяющейся России. М.: Весь мир, 2008.
2 Речь, разумеется, идет в первую очередь об общественном сознании стран Западной Европы и Северной Америки. Однако,
13
I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты
Не исключено, что после 2008 г. наступил некий новый этап. Идеология саморегулирующегося рынка утратила былую привлекательность. Она перестала казаться безальтернативной. Даже главы западных государств заигрывают с риторикой «солидарной свободы» - не говоря уже об оппозиционных политиках лево-социалистической ориентации.
Быть может, предложенная здесь хронология кому-то покажется искусственной. Но, как бы то ни было, она позволяет отойти от имплицитного прогрессизма в рассуждениях о гражданстве. А для того чтобы в отказе от прогрессизма сохранить последовательность, уместно - вслед за Майклом Манном - вести речь не об (абстрактной) идее гражданства, а об (исторически и политически конкретных) режимах гражданства.
Режимы гражданства в типологии М. Манна
В исследовании, ставшем хрестоматийным1, Майкл Манн выделил следующие «режимы гражданства» применительно к индустриально развитому миру (сразу огово¬
как известно, эти страны занимали господствующие позиции в мировой политико-экономической системе, а в той мере, в какой идеология господствующих групп является господствующей идеологией, можно считать, что неолиберальный поворот в конце XX - начале XXI в. был характерен для мира в целом. Во всяком случае, в неолиберальный тренд охотно вписались и страны Восточной Европы, и государства, образовавшиеся после распада СССР, и большинство стран Латинской Америки, и Китай.
1 Mann М. Ruling Class Strategies and Citizenship // Sociology, Vol. 21. No. 3. P. 339-354 (1987).
14
Владимир МАЛАХОВ. Гражданство как концепт и институт...
римся, что временные рамки исследования ограничены периодом с 1800 г. по конец 1980-х гг.).
• либеральный;
• реформистский;
• фашистский;
• авторитарно-социалистический;
• авторитарно-монархический.
При этом от последнего из перечисленных режимов позволительно отвлечься, т.к. он, строго говоря, не предусматривал универсального гражданства - население было поделено на сословия, каждое со своим объемом прав; кроме того, этот режим ушел с исторической сцены после Первой мировой войны вместе с - не пережившими этой войны - Российской и Австро-Венгерской империями.
Устройство либерального режима гражданства таково:
• полнота «цивильных» прав;
• полнота политических прав;
• минимальные (если вообще существующие) социальные права.
Или, в другой терминологии, данный режим предусматривает:
• полное цивильное гражданство (civil citizenship);
• полное политическое гражданство (political citizenship);
• минимальное социальное гражданство (social citizenship).
В 1990-е гг., после того как потерпел крах советский
эксперимент, либеральный режим гражданства сделался доминирующим. Идеологически он стал казаться едва ли не безальтернативным. Не случайно в российском публичном поле того времени все, кто критически относился к либеральному режиму гражданства, были маргинализированы. Их шельмовали либо как адептов коммунистической идеи, либо как сторонников ультранационализма и едва ли
15
I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты
не фашизма. В начале 1990-х для их стигматизации даже был изобретен термин - «красно-коричневые». В правозащитных кругах в России сама постановка вопроса о социальном гражданстве воспринималась как недоразумение1.
Между тем либеральный режим никоим образом не является единственно возможным (и в этом смысле «естественным»).
На протяжении XX ст. существовало несколько альтернатив этому режиму. Покажем их в виде табл. 1.
Таблица 1
Альтернативные режимы гражданства с 1920-х по 1980-е
Тип гражданства
В чем состоит
Где и когда имел место
Реформистский2
ский2
Расширение социальных прав без сужения цивильных и политических, или, в другой терминологии:
максимизация социального гражданства без ущерба для цивильного и политического
Страны Западной Европы в период расцвета welfare state 1949-1979 гг.
1 «Права человека», которые защищают профессиональные правозащитники, обычно понимаются ими исключительно как цивильные права (плюс политические права). Что же касается права на труд, на жилище, на достойную оплату труда, на охрану здоровья и т.д., то работники правозащитных НПО имеют обыкновение смотреть на них свысока. От них нередко приходится слышать, что подобные вещи - предмет сугубо материальных интересов, а потому не входят в корпус «прав человека».
2 О реформистском режиме гражданства см.: Turner B.S. Citizenship and Capitalism: the Debate over Reformism. London: Allen and Unwin, 1986.
16
Владимир МАЛАХОВ. Гражданство как концепт и институт...
Окончание табл. 1
Тип гражданства
В чем состоит
Где и когда имел место
Фашистский
Предоставление социального гражданства определенным группам населения за счет исключения других групп как из политического, так и из цивильного гражданства
Италия 1922-1944 гг.
Германия 1933-1945 гг.
Япония 1930-1945 гг.
Авторитарно-со¬
циалистический
Широкие социальные права при минимизации цивильных и отсутствии политических прав.
В другой терминологии:
предоставление социального гражданства за счет редукции цивильного и упразднения политического гражданства
СССР и его сателлиты
После 1991 г. - Куба
Развивая типологию М. Манна, можно выделить другие альтернативы либеральному режиму гражданства, появившиеся за последние тридцать лет. Их можно типологизиро- вать следующим образом (табл. 2):
• патримониальный;
• авторитарно-капиталистический;
• неолиберальный;
• этноцентристский.
Примером патримониального режима могут служить Венесуэла У го Чавеса, Белоруссия Александра Лукашенко, а также ряд ближневосточных стран - Ирак и Сирия в эпо¬
17
I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты
ху правления баасистов (партий арабского социалистического возрождения), Ливия времен «Джамахирии».
Таблица 2
Режим
Характеристика
Патримониальный
Расширение социального гражданства при сужении цивильного и политического
Авторитарно- капитал истический
Сужение социального гражданства при негарантированном цивильном и отсутствующем политическом
Неолиберальный
Сужение социального гражданства при сохранении цивильного и политического
Этноцентристский
Ограниченное социальное гражданство при исключении определенных групп (по этническому признаку) из политического гражданства и ограничении для них цивильного гражданства
Авторитарно-капиталистический режим гражданства складывается в Китае, начиная с реформ Дэн Сяопина.
Неолиберальный режим в наиболее «чистом» виде формируется в странах Восточной Европы после 1989 г.
Что касается стран Западной Европы и Северной Америки, то здесь происходят процессы двоякого рода. Во- первых, наблюдается демонтаж реформистского режима, наметившийся в результате идеологической победы неолиберализма в 1990-е. Сегодня - задним числом - эту победу датируют рубежом 1970-1980-х гг. (когда в Великобритании утвердился «тетчеризм», а в США - «рейганизм»). Однако в те годы об идеологическом господстве «не-
18
Владимир МАЛАХОВ. Гражданство как концепт и институт...
оконов»1 речи не шло. Настоящий триумф неолиберализма случился после распада советского блока и самого Советского Союза. Во-вторых, в странах классической либеральной демократии после событий 11 сентября 2001 г. происходит определенное сужение цивильного гражданства. Этот процесс описывается в литературе как «формирование государства национальной безопасности».
Отдельного обсуждения заслуживает случай Эстонии и Латвии после 1992 г. Эти два балтийских государства преподнесли Европе невиданный ею доселе режим гражданства. Мы назвали его этноцентристским потому, что в условиях данного режима значительная часть населения страны из гражданства вообще исключена, причем основанием исключения является, по сути, этническое происхождение2. Абсурдность ситуации, как будто, очевидна. Во- первых, речь идет об отказе в статусе граждан (и соответственно о поражении в правах) огромной части постоянного населения страны. В результате в Европе в конце XX в. возникла правовая диковинка по имени «неграждане» (официальный статус, выражающийся, среди прочего, в особых паспортах). Во-вторых, тем самым нарушается один из базовых принципов организации политии эпохи
1 Так называемый неоконсерватизм, будучи на риторическом уровне критичным по отношению к либерализму, на уровне экономической политики полностью совпадает с программой «неолиберализма».
2 Хотя формально-юридически дело выглядит как возвращение к ситуации до 1940 г. (потомки тех, кто были гражданами этих государств до их аннексии Советским Союзом, считаются гражданами, независимо от этнического происхождения), на деле в положении исключенных из гражданства оказалось именно «этнически чуждое» (русскоязычное) население.
19
I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты
Модерна, согласно которому высшим источником власти в государстве (субъектом суверенитета) является народ, понимаемый как «демос» (т.е. территориальное сообщество). В случае же Эстонии и Латвии таким субъектом объявлен «этнос». Несмотря на всю скандальность этих двух обстоятельств, официальные представители Евросоюза на протяжении двух десятилетий предпочитали, в лучшем случае, лишь слегка пожурить латвийское и эстонское руководство.
Разумеется, я не питаю иллюзий относительно все- охватности приведенной здесь типологии. Пожалуй, единственное достоинство, на котором я бы решился настаивать, заключается в попытке выйти за рамки европоцентризма1.
Между прочим, одна из целей нашего проекта - преодолеть европоцентристскую ограниченность (и методологически, и эмпирически). Методологически - опираясь на работы теоретиков миросистемы - причем не только в вал- лерстайновской ее версии, но и в версии Анре Гундера Фрэнка и Самира Амина, которые русскому академическому сообществу известны меньше, чем И. Ваплерстайн2. Эмпирически - делая предметом изучения режимы гражданства, формирующиеся в незападном мире.
1 У самого М. Манна европоцентристский уклон совершенно оправдан. Он оговаривается, что его предмет - индустриально развитый мир. А сюда на протяжении всего XIX в. и вплоть до последней трети ХХ-го относился, по сути, только Запад (к которому в определенный период присоединилась Япония).
2 См. Frank A.G. Re-Orient: Global Economy in the Asian Age. NY.: University of California Press, 1998; Amin S. Obsolescent Capitalism: Contemporary Politics and Global Disorder. London: Zed Books, 2003.
20
Владимир МАЛАХОВ. Гражданство как концепт и институт...
Гражданство как концепт
Брайан Тернер, один из самых плодовитых авторов, пишущих на темы гражданства, выделил три традиции в осмыслении этого феномена1.
Он связывает различия в характере обсуждения проблематики гражданства с различиями в политических и интеллектуальных традициях. Это британская, американская и европейско-континентальная традиции.
Ядро британской традиции - либеральное институциональное устройство, которое должно защитить индивидов от неравенства и жестокости рыночной системы. Ключевые темы обсуждения: социальный класс и капитализм, а ключевой автор - уже упомянутый нами Томас Маршалл.
Американская традиция формировалась в ходе борьбы с британской имперской системой, а потому неслучайно, что ее идейное ядро - радикальный эгалитаризм. Эта традиция осмысления гражданства определена напряжением следующего свойства. С одной стороны (на уровне теоретических и идеологических деклараций) - приверженность принципу Равенства (эгалитаризм). С другой стороны (на уровне социальных и политических практик - вопиющее неравенство, прежде всего по отношению к двум группам: (а) чернокожим и (б) новым иммигрантам (прибывшим в Америку во время иммиграционных волн 1880-х и 1920-х гг.). Отсюда «этническое разнообразие» и «плюрализм» в качестве ключевых тем обсуждения в данной традиции. Что касается ключевых авторов, то это, конечно, Алексис де Токвиль2.
1 См.: Turner B.S. Outline of a Theory of Citizenship // Citizenship: Critical Concepts / Ed. by B. S. Turner and P. Hamilton. Vol. 1. London and New York: Routledge, 1994. P. 199-226.
2 См. Токвиль А. Демократия в Америке: Пер. с фр. М.: Прогресс, 1992.
21
I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты
И, наконец, европейско-континентальная - прежде всего германская - традиция.
Она сформировалась под влиянием трех событий: (а) Французской революции 1789 г., революционных событий в Европе 1848 г. и объединения Германии 1871 г. В основе данной традиции - коллизия приватной и публичной сфер (уровня индивидов и их семей, с одной стороны, и уровня государства, с другой). Ключевая тема немецкого дискурса о гражданстве: государство как гарант свободы индивидов. Что до ключевых авторов, то это (не считая Гегеля) - Макс Вебер и Карл Шмитт.
Итак, как выглядит «идея гражданства» в каждом из перечисленных случаев?
В британском случае это, в первую очередь, идея равного доступа к социальным благам (вернее, устранения препятствий к такому доступу для классов, находящихся внизу социальной лестницы), в американском случае идея гражданства - это идея равных возможностей (которые ничем не гарантированы), а в немецком случае идея гражданства - это, прежде всего, идея гарантий (идущих от государства).
Откуда произошли эти различия?
Чтобы ответить на этот вопрос сколько-нибудь вразумительно, нам не обойтись без обращения к различиям в социально-классовой структуре.
В Англии к середине XIX в. сложилась, с одной стороны, сильная буржуазия, а с другой стороны - достаточно сильный, организованный рабочий класс. Буржуазия продуцировала идеи либерализма (как политического, так и экономического), а рабочий класс был источником идей тред-юнионизма и социализма. Именно поэтому с идеей гражданства в Англии и в Великобритании вообще связан поиск классового компромисса^. И именно поэтому в бри- 11 См.: Тилли Ч. Борьба и демократия в Европе. С. 5-8.
22
Владимир МАЛАХОВ. Гражданство как концепт и институт...
танских политических дискуссиях тема citizenship - это, прежде всего, тема равного доступа к социальным ресурсам. Совсем не случайно, что маршалловская типология прав (civic, political, social), родилась именно в Англии.
В Германии того же периода была совсем иная социально-классовая структура и соответственно иная идеология. Здесь сложилась сильная земельная аристократия (юнкерство), тогда как буржуазия была слаба, а рабочий класс разрознен и лишен политического представительства1. В этих условиях немецкий «средний класс» (чиновничество, профессура, журналисты, мелкие торговцы, гимназические учителя и т.д.) вырабатывает своеобразную идеологию. (Ту самую «немецкую идеологию», истоки которой проанализированы в одной известной книге.)
Государство рассматривается в этой идеологии как патрон (опекун, заботливый хозяин) и вместе с тем как гарант индивидуальных прав и свобод. Государство выступает здесь не в качестве арбитра (в споре нескольких политических субъектов), а в качестве опекуна (лишенных политической субъектности индивидов).
В немецком контексте свобода граждан предстает не как результат борьбы, а как результат вмешательства государства. Свобода, таким образом, не есть нечто, что дости- 11 Весьма примечательно, что в 1880 г. немецкие рабочие получили возможность иметь своих представителей в парламенте. Если смотреть на дело с нормативной точки зрения, это был явный прогресс на пути построения более справедливого общества. Однако, по сути, данное нововведение было тактической уловкой, поскольку рабочие депутаты не могли ни на что повлиять. В 1889 г. тот же парламент принял ряд антисоциалистических законов. Последние, вкупе с неясностями в законодательстве, позволяли властям произвольно вводить запреты (на забастовки, собрания, митинги, рабочую прессу и т.д.).
23
I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты
гается в процессе противостояния различных агентов действия. Она есть нечто, что обеспечивается сверху.
Отсюда проистекает и типичное для немецких образованных классов подозрительное отношение к идеям рабочей демократии (working class democracy1). Они воспринимаются в Германии не иначе как вредное англо-саксонское изобретение и, к тому же, как вызов (немецкой) культуре и угроза национальному началу в общественно-политической жизни.
В Соединенных Штатах, опять-таки, своя специфика. В американской идеологии (она же - американская мечта и американский миф) общество воображается как совокупность свободных предпринимателей, действующих в условиях «равных возможностей». Этот миф сохраняет поразительную устойчивость. Он не утрачивает притягательности вопреки бесконечному количеству его эмпирических опровержений. Почему? Прежде всего, потому, что в Америке, в отличие от Европы, никогда не существовало сословных привилегий. Индивиды могли стартовать в конкуренции в равных условиях (разумеется, речь идет о формальном равенстве).
Но это не единственная и не главная причина веры Америки в индивидуальное усилие и вытекающего из этой веры недоверия к коллективистским идеям (таким как социализм). Главная причина - в особенностях диспозиции сил на политико-экономическом поле.
Кто совершал Американскую революцию, т.е. воевал за независимость Америки от Англии? Землевладельцы, торговцы, мелкие фермеры, ремесленники. Все они - белые мужчины. Их, в отличие от небелых мужчин и от женщин, не так-то просто было исключить из гражданства, т.е. лишить цивильных и политических прав.
1 Об этом явлении см.: Collier R.B. Paths Toward Democracy: The Working Class and Elites in Western Europe and South America. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
24
Владимир МАЛАХОВ. Гражданство как концепт и институт...
В Северной Америке белые трудящиеся (мужского пола) получили политические права к 1840 г. (на 50 лет раньше, чем в Европе!). За счет кого это произошло? За счет (а) «цветных» (чернокожих), (2) новых иммигрантов и (3) женщин.
Как показывает М. Манн, уникальность данного случая состоит в том, что американские рабочие включены в политическую систему не на классовой, а на корпоративной основе - не в качестве класса, а в качестве одной из «групп давления». Эта группа участвует в торге за привилегии наряду с другими. Американские профсоюзы, сложившиеся в тот период, — это не выразители интересов людей труда как таковых, т.е. классовых интересов, а выразители интересов определенной группы внутри трудящихся классов1. Иными словами, американские рабочие - это не столько социальный класс, сколько группа интересов, или корпоративное сообщество, которое торгуется с другими группами интересов на политическом рынке. Для увеличения своих рыночных преимуществ они используют свой ресурс (а именно, этничностъ и квалификацию) против других - иноэт- ничных и низкоквалифицированных - слоев трудящихся.
Таким образом, белый рабочий класс в Америке инкорпорирован в либеральный режим гражданства. Поэтому совершенно неудивительно, что идеи класса и классовой солидарности (т.е. идеи социализма) не могли стать в Америке организующим принципом борьбы за власть. Они и сегодня совершенно маргинальны в американском контексте.
1 Mann M. Ruling Class Strategies and Citizenship // Citizenship: Critical Concepts / Ed. by B. S. Turner and P. Hamilton. Vol. 1. London and New York: Routledge, 1994. P. 67-68.
25
I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты
За пределами марксистской перспективы
У перспективы анализа, которую мы обозначили как марксистскую, множество достоинств. Но она уязвима, по крайней мере, в одном отношении. Это ее равнодушие к «культурным» аспектам общественной жизни, к проблематике «идентичности».
Между тем, проблематика гражданства - это не только проблематика прав (т.е. доступа к коллективным благам), это еще и проблематика участия индивида в политической общности, именуемой нацией. А значит, переживания ими своей принадлежности нации, а также добровольно взятых на себя обязательств, обусловленных этой принадлежностью.
Иными словами, есть целый ряд вопросов (и они связаны с «идентичностью»), которые в марксистской парадигме просто не обсуждаются.
Например, как и почему случилось так, что одни политические общности конституированы по индивидуалистическому образцу (гомогенное правовое пространство, признающее исключительно индивидуальных граждан как субъектов права), а другие - по коллективистскому образцу (гетерогенное правовое пространство, допускающее групповые права). К числу последних относится, например, Ливан, где доступ представителей различных религиозных общин к власти жестко квотируется, причем эти квоты закреплены Конституцией. Другой случай коллективистской организации политии - Канада, где у франкоязычных жителей Квебека целый ряд законодательно предусмотренных привилегий.
Одним из первых, кто систематически стал изучать эту проблематику, был Аренд Лейпхарт. Его исследование о специфике и вариативности политического устройства в так называемых «многосоставных сообществах» давно
26
Владимир МАЛАХОВ. Гражданство как концепт и институт...
стало классическим1. Во всех случаях, о которых писал Лейпхарт (и которые сегодня составляют предмет «сравнительной политики»), дело идет о конфликтах и противоречиях, обусловленных культурной принадлежностью2. Кластеры, на которые разделено общество в целом ряде стран, — это, прежде всего, сообщества идентичности. Люди группируются, консолидируются (и, напротив, отграничивают себя от других) по признаку веры, языка, или происхождения, а не по признаку разного отношения к собственности на средства производства. Они видят себя (и действуют сообразно этому видению) в качестве суннитов и алевитов, шиитов и курдов, а не в качестве бедных и богатых, эксплуатируемых и эксплуататоров, собственников и несобственников.
Другой вопрос: почему тезис о секуляризации оказался фальсифицированным? Почему, несмотря на прогрессирующую «модернизацию», в целом ряде регионов современного мира — причем не только в странах исламского
1 См.: Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: Сравнительное исследование. М.: Аспект-Пресс, 1997.
2 Весьма любопытно, что к числу оснований, по которым общество может быть разделено на сегменты, относится идеология. Так, США вплоть до 1950-х гг. могут рассматриваться как общество, состоящее из «республикански» (консервативно) и «демократически» (либерально) ориентированных сообществ. Идеология лежала в основе раскола общества в Уругвае (где две соперничающие партии некоторое время пытались поддерживать паритет). В Нидерландах до 1970-х гг. третьим сегментом общества, наряду с католиками и протестантами, были секулярные силы. В Израиле, помимо деления населения на этническом основании (евреи и арабы), принципиальное значение имеет деление еврейского сегмента на религиозных ортодоксов и секуляр- ных евреев.
27
I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты
ареала - приверженность той или иной конфессии определяет социальное поведение?1
И как объяснить различие в понимании природы политического сообщества, в «кодах общности», распространенных в той или иной стране? Почему в одних случаях наблюдается весьма широкая терпимость к культурноэтническому разнообразию, а в других - одержимость ассимиляцией (причем как со стороны публики, так и со стороны бюрократии)? Почему, например, французы вводят законодательный запрет на ношение хиджаба ученицами государственных школ, в то время как в Великобритании министр внутренних дел просит приходящих к нему на прием мусульманок приоткрывать скрытое паранджой лицо?
О современных трансформациях в сфере гражданства
Что происходит в наши дни в интересующей нас сфере (как на институциональном, так и на концептуальном уровне)?
Фундаментальное изменение, как мне представляется, заключается в несовпадении границ государства и границ гражданства.
Коль скоро гражданство характеризует не только юридическую принадлежность, но и принадлежность социально-культурную (а именно членство индивида в определен¬
1 Пожалуй, самым авторитетным автором, ставящим под сомнение утверждение, будто модернизация с необходимостью влечет за собой секуляризацию, является Питер Бергер. См.: The desecularization of the world: resurgent religion and world politics. Ed. by Peter L. Berger. Washington, D.C.: Ethics and Public Policy Center; Grand Rapids, Mich., 1999.
28
Владимир МАЛАХОВ. Гражданство как концепт и институт...
ном сообществе), то нельзя не заметить, что в наши дни эти два измерения гражданства все дальше расходятся. Гражданство, взятое как «членство», перестает совпадать с территорией государств, на которой граждане проживают. Это обстоятельство обсуждается в политической философии и политической теории в таких терминах, как «сверхнациональное гражданство» и «транснационализм», а также в таких, как «экономическое гражданство», «гендерное гражданство», «культурное гражданство» и т.д.
Начнем с примера, иллюстрирующего наложение друг на друга различных «членств». (Этим примером я обязан австрийскому социологу и правоведу Райнеру Баубёку.) Представим себе выходца из Турции курдского происхождения, иммигрировавшего сначала во Францию, получившего там гражданство в результате натурализации, а затем переехавшего на постоянное жительство в Германию. Как обладатель турецкого и французского паспортов он является гражданином двух государств одновременно (двойное гражданство во Франции разрешено). Это значит, что он участвует в выборах в национальные парламенты Франции и Турции, а также в выборах муниципального уровня в Германии. Кроме того, будучи гражданином ЕС, он участвует также в выборах в Европейский парламент. И, наконец, будучи членом воображаемой курдской нации, он может участвовать в политической и социальной поддержке курдских проектов в Европе или в Турции.
Другой характерный пример трансформаций гражданства в современном мире - самосознание работников транснациональных корпораций. Мы привыкли связывать гражданство с идентичностью и лояльностью. Индивиды, являющиеся гражданами определенного государства, пользуются правовыми гарантиями, предоставляемыми этим государством, платя ему тем, что несут перед ним определенные обязательства. Г осу-
29
I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты
дарство обеспечивает их право на труд, социальные выплаты, пенсионное обеспечение и проч., а граждане проявляют свою принадлежность данному государству, демонстрируя патриотические чувства, а также проходя службу в вооруженных силах (если, конечно, воинская повинность в этом государстве не отменена). Однако в случае, если источником упомянутых гарантий выступает определенная транснациональная корпорация, то и лояльность индивидов переадресуется с государства этой ТНК. Сегодня немало граждан бедных и неблагополучных, с точки зрения социальной защиты государств, мечтают о том, чтобы стать «гражданами» Microsoft, Sony или какой-либо иной им подобной организации. Между прочим, такие организации в наши дни предлагают и символическое сопровождение членства (логотип, функционирующий как герб, канцтовары, рубашки и сумки с корпоративной символикой, флаг, совместное отмечание корпоративных праздников и т.д.)'. Чем не эрзац гражданства?
Итак, налицо разрыв связи между гражданством как статусом и гражданством как членством. Форсируя это обстоятельство, ряд авторов ведут речь, например, о «гендерном» или «экологическом» гражданстве. (Первое основано на лояльности феминистским идеям, второе - на лояльности идеям экологизма). Разумеется, это не гражданство в юридическом смысле слова. Но, если рассматривать этот феномен сквозь призму участия, то приходится констатировать, что участие индивида в том или ином «сообществе идентичности» не нуждается в посредничестве государства1 2.
1 См.: Маяцкий М. Демократия как судьба // Логос: философско-литературный журнал. 2004. № 2 (42). С. 3-14.
2 См.: Кастельс М. Могущество самобытности // Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология / Под ред. В.Л. Иноземцева. М.: Академия, 1999. С. 296-308.
30
Владимир МАЛАХОВ. Гражданство как концепт и институт...
Некоторые авторы идут при этом еще дальше, выдвигая тезис о «постнационализме». У истоков этого тезиса стоит британско-американский социолог Йасемин Сойсал1. Исследовательница подкрепляет свой тезис следующими аргументами.
В послевоенный период, особенно после 1970-х, произошли существенные сдвиги на правовом, институциональном и нормативном уровнях (начиная от Хельсинского соглашения 1975 г. и заканчивая многочисленными конвенциями о защите меньшинств, подписанными большинством государств).
В результате «права человека» стали гегемониальным принципом мирового уровня. Но бенефициаром «прав человека» является не гражданин, а человеческий индивид (human being). Отсюда вытекают два следствия. Первое: стирается грань между гражданином и негражданином. Неграждане, постоянно проживающие на территории демократических стран, обладают практически тем же объемом прав, что и граждане. Второе: государство перестает выступать не только единственной, но и решающей инстанцией соблюдения таких прав. Гарантии соблюдения прав человека предоставляются инстанциями международного уровня (например, Европейским судом по правам человека). Национальные государства признают приоритет международного права над национальным. Это означает, что в случае нарушения своих прав гражданин получает возможность добиваться их восстановления вопреки нежеланию властей государства, гражданином которого он является.
1 Soysal, Y. Limits of citizenship: migrants and postnational membership in Europe. Chicago: University of Chicago, 1994.
31
I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты
Кроме того, Я. Сойсал и ее единомышленники обращают внимание на возрастающую легитимность «права на сохранение культуры» (оно же - право на идентичность). Документы ООН, ЮНЕСКО и Совета Европы кодифицировали это право.
В результате «право на идентичность» превратилось в инструмент организации солидарностей и мобилизации ресурсов. Причем это касается как исторических меньшинств (будь то баски в Испании или татары в России), так и меньшинств, образуемых иммигрантами. Яркая иллюстрация такой эволюции - институциализация ислама в Западной Европе и Северной Америке1.
И хотя тезис о наступлении эры постнационализма выглядит, по меньшей мере, преждевременным, несомненным остается одно. Феномен гражданства в глобализирующемся мире претерпевает глубокие трансформации. И наша задача - фиксировать и анализировать эти изменения.
1 Так, в ряде государств (например, в Бельгии) практикуется государственная поддержка всех конфессий, а ислам признан в качестве одной из «официальных» конфессий. В ряде других стран (например, в США) государство не только демонстрирует «равноудаленность» от всех конфессий, но и заботится о символических мерах, демонстрирующих равенство всех религий в публичной сфере. Среди таких мер - возведение исламского культурного центра в Манхэттене в непосредственной близости от разрушенных 11 сентября 2001 г. башен-близнецов. Много полезнейшей информации о роли ислама в общественной жизни США содержится в книге «Мусульмане в публичном пространстве Америки: Надежды, опасения и устремления». М.: Идея- Пресс, 2005.
32
Борис КАПУСТИН
«ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО» КАК ИСЧЕЗАЮЩЕЕ ПОНЯТИЕ
Явление гражданского общества имеет разнообразные толкования в теоретической социологии, в политической философии, в политологии, в моральной философии. Мне кажется бесполезным и бессмысленным делом искать однозначное определение предмета гражданского общества: все те явления, которые Рейнхард Козеллек относит к основным историческим понятиям (такие как демократия, равенство, свобода, либерализм, а также гражданское общество) принципиально поливалентны в философском и политическом дискурсе. Более того, можно сказать, что они являются основными понятиями до тех пор, пока о них спорят. Мне кажется, говорить о понятии в данном случае можно, лишь очерчивая параметры теоретического поля, в котором данная дискуссия происходит. Отмечу, что разночтения, конечно же, возникают в разных политикоидеологических перспективах. Насколько наличие разных перспектив неустранимо, настолько же неустранима и сама дискуссия.
Я хочу предложить свою собственную трактовку понятия «гражданское общество». Несомненно, она также включена в некую политико-идеологическую перспективу, и эту перспективу я сразу готов обозначить как левую, если 22 Зак. 1988
33
I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты
угодно - как леворадикальную: как перспективу, которая сознательно бросает вызов статус-кво глобального капитализма, того мира, которому якобы нет альтернатив. Сделаю уточнение: нет альтернатив не потому что мы их не можем найти в структуре бытия, а потому, что нет тех сил, которые бы ее отстаивали. Предлагаемая леворадикальная перспектива - это попытка, направленная на формирование этой альтернативы, естественно, в той мере, в какой теоретический дискурс может этому способствовать.
Итак, по каким основным параметрам идет дискуссия о гражданском обществе и какие элементы дискуссионного поля формируют бесконечное многообразие трактовок понятия гражданского общества в современной политической философии и теоретической социологии?
Первый вопрос: является ли гражданское общество евроцентричным понятием? Приложимо ли оно к миру за рамками североатлантического ареала? Существует большая литература, содержащая те или иные точки зрения на данную проблему. Сам дискурс, является ли понятие гражданского общества евроцентричным (или западноцентрич- ным), вытекает из определенного понимания современности, и поэтому является вторичным по отношению к теме «Гражданское общество и современность». Этот дискурс вытекает из такого понимания современности, которое предполагает, что лишь определенный тип обществ, обладающих определенными характеристиками, квалифицируется как современный. Такое отожествление современности с определенным типом обществ мне кажется не только теоретически неверным, но и выражающим определенные политические гегемонистские интенции. В отожествлении современности с обществами североатлантического ареала содержится идеологический гегемонизм. Для меня современность - это не тип обществ, а некая глобальная пробле¬
34
Вормс КАПУСТИН. «Гражданское общество» как исчезающее...
ма, в которую вовлечены как бенефициарии, так и жертвы того институционального образования, которое мы называем современным глобальным миром.
Во-вторых, важно, с какими историческими контекстами сопрягается тема гражданского общества, а точнее, рефлексией каких исторических контекстов и ситуаций является эта тема.
В-третьих, рассмотрим соотношение дескрипции и пре- скрипции в понятии гражданского общества. Если пользоваться клишированным вокабуляром, можно поставить вопрос так: в какой мере гражданское общество является социологическим понятием, предназначенным для описания неких структур, и в какой мере гражданское общество является, если воспользоваться лексикой Юргена Хабермаса, нормативной утопией, которая некоторым образом ориентирует наши практики. Проблема заключается в том, как сочетаются дескриптивные и прескригтгивные, нормативные и описательные элементы в описании гражданского общества.
Обратимся к истории понятия гражданского общества через историю философии, прежде всего западной политической философии. Глядя на историю с периода ранней современности (конца XVII - начала XVIII в.), мы видим, что в какие-то периоды времени тема гражданского общества обладает колоссальной популярностью и действительно становится стержневой, причем не для какой-то специфической философской тенденции, а для всей эпохи, становится основным «историческим понятием» данной эпохи.
Несомненно, пик популярности темы гражданского общества приходится на раннюю современность, вспомним труды Гоббса, Локка, а с другой стороны - Пуффендорфа и шотландское Просвещение, Смита, Адама Фергюсона и Других. Гражданское общество в известном смысле становится неким лозунгом Просвещения, причем разных его
35
I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты
версий. Потом эта тема поднимается у Канта и достигает кульминации у Гегеля и раннего Маркса, то есть в начале
XIX в. А затем она вообще исчезает из философского и социального научного дискурса, и исчезает надолго. Например, ни в одной работе Алексиса де Токвиля, который является одним из основоположников плюралистической версии гражданского общества, вы не найдете упоминания о гражданском обществе, это понятие ему просто не нужно. Не нужно оно и Джону Стюарту Миллю, который разрабатывал тему политического и социального плюрализма параллельно, но в известной мере во взаимодействии с То- квилем. Нет этого понятия у более поздних авторов: ни у Вебера, ни у Зиммеля, ни у Дюркгейма. Тема абсолютно выпадает из политико-философского и социологического дискурса вплоть до коммуниста Антонио Грамши, который первый возрождает дискурс, находясь в тюрьме фашистской Италии. Через Грамши тема гражданского общества, естественно, не столь широко, как в период Просвещения, входит, по крайней мере, в коммунистический, марксистский теоретический дискурс. Но это всего лишь вспышка, после которой опять наступает полное забвение. Вспышка антифашистской борьбы прошла, и опять тема гражданского общества выброшена, забыта - вплоть до начала антикоммунистического сопротивления в Центральной и Восточной Европе. В 1980-е гг. возрождение понятия гражданского общества связано с деятельностью диссидентов- интеллектуалов в Польше, Венгрии, Чехословакии. Потом оно волной пошло по Западу - и это новое явление гражданского общества, явление, относящееся уже к концу
XX в. Эту логику истории гражданского общества было бы очень полезно осмыслить.
Отметим, что гражданское общество становится популярным только в ситуациях глубоких социально-полити¬
36
Борис КАПУСТИН. «Гражданское общество» как исчезающее...
ческих кризисов. Кризис Европы, вызванный бонапартистскими войнами и волной колонизации, Великой Французской Революцией, который, например, рефлектирует Гегель. Крах либеральной демократии и установление фашистских режимов, который рефлектирует Антонио Грамши. Такого же рода кризис коммунизма в Восточной Европе. Каждый из трех великих кризисов порождает теоретический расцвет, активную рефлексию над понятием гражданского общества. В условиях стабильности это понятие почему-то никому не нужно и никто им не пользуется: ни левые, ни правые, ни консерваторы, ни либералы.
В отечественной и в значительной части западной литературы гражданское общество как раз связывается с чем-то противоположным - не с кризисом, не с активной политической борьбой, а с некоей стабильностью, институциональной отлаженностью, с контекстом устоявшейся либеральной демократии. Где мы можем сейчас найти гражданское общество? Например, в США, в Великобритании, в Германии. Но никак не в Латинской Америке, не в Индии, тем более, не на наших горестных евразийских просторах. Для мейнстрима историческим контекстом в изучении гражданского общества предлагается отождествление явления гражданского общества с состоянием социального покоя, и прежде всего с тем покоем, который обеспечивают более или менее устойчиво функционирующие режимы либеральной демократии. При этом возникает вопрос: почему буквально повсеместно, включая те же Соединенные Штаты, Великобританию, много говорится о закате гражданского общества? Многочисленные работы, в частности в США, написаны об активном и, возможно, необратимом увядании гражданского общества. Как это объяснить?
Здесь можно увидеть явление, которое я бы обозначил как «улыбку чеширского кота». Получается, что вроде бы
37
I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты
гражданское общество есть везде, из всех западных обществ прелестями свободы, равенства, автономии, солидарности, демократии оно сияет, как «улыбка чеширского кота», у которого тела-то и нет. Тело то ли увядает, то ли уже увяло.
Таким образом, первый вывод, который я делаю (пока чисто исторический, а не теоретический, но очень важный) заключается в том, что гражданское общество функционально, теоретически и политически нужно лишь в контексте острой политической борьбы. Это понятие, рефлектирующее кризис, причем не частный кризис, а кризис трансформации базовых элементов социальных структур.
Этимологически (это тоже очень часто встречается в западной литературе) понятие гражданского общества возводится к греческому полису, к латинскому «civitas». Понятие гражданского общества транспонируется на европейскую античность, а иногда и не только на нее. С моей точки зрения, если говорить о содержании, понятие гражданского общества является специфически современным. Я готов утверждать, что это понятие, по крайней мере, в том смысле, в котором оно складывается у великих философов ранней современности, специально строится как вызов античности, как отрицание античности, как фиксация совершенно новой проблематики, о которой античные общества даже не могли подозревать.
Античная мысль практически во всех ее проявлениях исходила из предпосылки (очень четко зафиксированной Аристотелем в самом понятии «гражданина», которое дано в первой книге «Политики», а также в первой главе «Ни- комаховой этики», где определяется добродетель и счастье), что благо общее, благо полиса в данном случае, и благо индивида как члена полиса совпадают. То есть утверждалось непосредственное тождество между общим
38
Борис КАПУСТИН. «Гражданское общество» как исчезающее...
благом и индивидуальным благом, и это было нормой. Понятно, что от нормы отступали неоднократно. Но если говорить о норме, причем не только как о ценности, но и о некоторой поведенческой норме, то античные полисные образования воспроизводились в той мере, в какой сохранялось это тождество, поэтому и не было особой проблемы в воспроизведении гражданственности.
Что значит быть гражданином в античном понимании, кроме того социологического описания, которое мы найдем у Аристотеля? Это значит «правильное воспитание в добродетели». Полис есть огромная воспитательная машина. Первая черта античных государств, если их можно назвать государствами, - образовательные институции.
Новое время фиксирует, что этого тождества больше нет. И это великая проблема. Величие Гоббса в том, что он стал инициатором всего политико-философского дискурса современности. Сама искусственность Левиафана, так настойчиво подчеркиваемая Гоббсом, есть искусственность образования, которое каким-то образом предназначено решить проблему коллапса тождества, из которого античность исходила как из своей общей предпосылки и самоочевидности. Гегель полемизировал с Платоном: для Платона государство есть гармония, есть прекрасное, в то время как современное государство не гармония, а хитрость, которая должна быть способна выдержать любую подлость, предательство, низость. То есть должны быть созданы какие-то хитрые устройства, которые могут неким образом вновь свести распавшиеся ипостаси, распавшиеся элементы индивидуального интереса и общего блага.
Это и есть та проблематика, которую язык Великой Французской революции кристально ясно выражает в оппозиции человека и гражданина, или буржуа и гражданина. Все революции нового времени, удачно или неудачно, тем
39
I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты
или иным образом решали эту проблему. Эта проблема фиксируется уже в «Декларации прав человека и гражданина», поэтому она так и называется. В черновиках Руссо есть фрагмент о народе, по-моему, предельный манифест трагизма, которого у Руссо не найти больше нигде. Он пишет: «Сделайте меня человеком. Или сделайте меня гражданином. Быть и тем и тем - невыносимо». Вот это есть настоящая фиксация данной проблемы, это практически квадратура круга.
Об этом гениально писал Маркс в «Еврейском вопросе»: естественным для современных обществ человеком, который постоянно воспроизводится данным обществом, выступает частное лицо, горизонтом которого является свой частный интерес, никоим образом не соотнесенный с необходимостью общего блага. А общее благо по сути превращается в ничто, поэтому Маркс и пишет, что политическое образование, то есть сфера гражданской жизни, есть не что иное, как фиктивная ассоциация. Потрясающе сильное выражение. Западная политическая мысль (я имею в виду традицию, идущую, прежде всего, от Вебера, от Йозефа Шумпетера) исходит из этого: гражданин есть фикция. Значит, как-то надо все-таки достичь этого соединения, сколь бы оно ни было неокончательным, сколь бы оно ни было временным, сколь бы оно ни было улетучивающимся. На каких-то переломных этапах истории, когда действительно нужно менять общество, без воссоединения ипостасей буржуа и гражданина не получается ничего - даже учитывая то, что потом это воссоединение распадется и люди вернутся к своему частному существованию. Точно так же у Гоббса индивиды, заключившие общественный договор, а это и есть реализация служения общему благу, превращаются в частных лиц. Поэтому Левиафан может быть только таким автократическим образованием, какое и описано у Г оббса.
40
'Борис КАПУСТИН. «Гражданское общество» как исчезающее...
Отсюда и современность гражданского общества - в проблеме пусть временного и мимолетного, но воссоединения человека и гражданина. И я позволю себе дать первое (но не окончательное) определение понятия гражданского общества: гражданское общество - это способность современных обществ в определенных исторических ситуациях осуществлять воссоединение буржуа и гражданина для достижения целей, трактуемых данным обществом как общее благо. Из этого определения вытекает несколько следствий, на которые я хотел бы обратить ваше внимание и которые, я подчеркну, полемически направлены против определений гражданского общества в отечественной и в западной литературе.
Следствием подобного определения является то, что гражданское общество - это не какая-то сфера общественной жизни, а виды практики. Конечно, как и любые виды практики, они осуществляются в определенных зонах политического или социального пространства, но эти зоны могут быть разными. Это могут быть городские собрания в Америке в период войны за независимость. Это могут быть структуры типа народных фронтов 1930-х гг. Это может быть движение Ганди. Итак, гражданское общество - это не какая-то фиксированная структура, это практики.
Второй вывод, который можно сделать, заключается в том, что гражданское общество вовсе не является атрибутом современных обществ, их неотъемлемым признаком. Современное общество прекрасно существует без гражданского общества. Но в каких-то ситуациях гражданское общество может возникнуть, поскольку есть такая возможность. А возможность в данном случае - это нерешенная проблема: она может быть реализована, и не реализована, реализована удачно или нет.
Третье следствие, которое вытекает из определения, заключается в том, что формы гражданского общества, ор¬
41
I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты
ганизационные и иные, могут быть бесконечно многообразны. Здесь нет никакого шаблона, никакого стандарта. Современное либеральное отожествление гражданского общества с некоммерческими, негосударственными организациями в теоретическом плане мне кажется несостоятельным. По-моему, такое отожествление само по себе является признаком деградации гражданского общества на Западе, признаком отсутствия того гражданского общества, которое может совершить какие-либо трансформации общества. Функции, которые, помимо чисто практических, осуществляют такие организации - это поддержание статус-кво.
И последнее. Проблема связи буржуа и гражданина никогда не может быть решена окончательно, это одна из нерешаемых проблем. Позвольте напомнить великолепное выражение Макса Вебера: политические проблемы - это те проблемы, которые не могут быть решены рационально, которые в принципе нельзя решить. С этими проблемами можно «обращаться» в определенных контекстах, минимизируя их взрывоопасность, но окончательное решение политических проблем невозможно. Если мы можем дать рациональное, научное, техническое, административное решение проблемы, это означает только то, что проблема не является политической. Поскольку проблема связи буржуа и гражданина нерешаема, тема гражданского общества всегда будет стоять на повестке дня современных обществ в тех кризисных ситуациях, в которых эти общества неизбежно будут оказываться, хотя содержательно кризисы будут разные.
И наконец, о том, как связаны дескрипция и прескрип- ция в определениях гражданского общества. Я постарался найти некий общий знаменатель более конвенциональных определений гражданского общества, по крайней мере либеральных, и за образец взял сочинение известного анг¬
42
Борис КАПУСТИН. «Гражданское общество» как исчезающее...
лийского автора Джона Кина. В работе 1988 г. он определяет гражданское общество примерно следующим образом: гражданское общество есть сфера независимой социальной жизни, которую образуют добровольные ассоциации. В этом определении, во-первых, утверждается, что гражданское общество независимо от государства. Вроде бы это дескриптивное социологическое определение - обозначается некая структура, независимая от государства. В то же время в это определение включен нормативный элемент, элемент прескрипции: добровольные ассоциации. То есть в одном базисном определении мы имеем совмещение нормативных (прескриптивных) и описательных (дескриптивных) элементов. Данное определение, на мой взгляд, теоретически абсолютно несостоятельно в обоих аспектах: и как дескрипция, и как прескрипция. Определять гражданское общество как сферу, независимую от государства, - это очередная либеральная иллюзия. Ничего независимого от государства в современном обществе быть не может в принципе. Я сейчас не буду говорить о том, как государства или надгосударственные структуры финансируют структуры, относимые к гражданскому обществу, не буду говорить о том, как формируется бюджет международных некоммерческих организаций. Более важно, что то, что называется гражданским обществом, может существовать только в том правовом пространстве, которое обеспечивается силой государства. Без базового государственного обеспечения норм права никакого гражданского общества существовать не может. Государство выступает как общее условие по отношению к структурам гражданского общества, поэтому подчеркивать независимость нелепо. Нелепо еще и потому, что любая независимость есть отношение, о чем писал и Гегель, и его предшественники. Быть независимым от чего-либо - значит
43
I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты
находиться в определенном отношении, и значит, первым делом необходимо описывать это отношение. Любая независимость всегда чего-либо стоит, и стоит достаточно много, поэтому при утверждении, что гражданское общество является независимым, необходимо показывать отношение власти, и объяснять, как гражданское общество может быть сильнее государства, которое всегда будет стремиться инструментализировать гражданское общество, превратить его в свое орудие. Теперь о том, что касается нормативного понятия добровольности с его элементами свободы, равенства и т. д. Являются ли на самом деле те структуры, которые обычно причисляют к гражданскому обществу (например, профсоюзы, или ассоциации работодателей, или церковь), носителями свободы и равенства? Разве мы не знаем, что институт церкви является командно-административной машиной со строжайшими схемами субординации? Что собой представляют партии, хотя бы по описанию Острогорского или любого другого серьезного теоретика? Не знаем, как устроены профсоюзы? Разве мы не знаем того общего вывода, к которому приходит наука, изучающая теории организаций: любая организация есть субординация, и иных организаций нет. Более того, любая сетевая структура в той мере, в которой она способна действовать, тоже есть некая организация, пусть специфическая, но все же организация, и она по определению не может иметь идеального равенства, не говоря уже о свободе, и тем более об автономии. Значит, мы должны прийти к выводу, что если гражданское общество состоит из тех элементов, которые есть в любом социологическом перечне, то оно никак не может быть воплощением, а тем более носителем ни свободы, ни равенства, ни солидарности, ни автономии. Поэтому любые последовательно мыслящие теоретики (например, Хабермас) признают общую проблему, которая заключа-
44
Борис КАПУСТИН. «Гражданское общество» как исчезающее...
егся в том, что если мы хотим гражданское общество трактовать действительно как общество свободы и автономии, нам нужно его найти «на доорганизационном уровне». Отсюда идет определение гражданского общества как сенсора общественных проблем, которые потом транслируются на уровень принятия решений. Сенсор - вот эвфемизм, который здесь используется. Если говорить серьезно, найдите хоть что-то, существующее в обществе на доорганизационном уровне, кроме толпы. И первый вопрос, который Хабермасу направляет Майкл Уолцер: разве толпа не есть прямая противоположность свободе, равенству и т. д.? Толпа - самый деструктивный элемент.
Возникает вопрос: можно ли неким образом достичь сопряжения дескриптивных и нормативных элементов. Без достижения сопряжения дескриптивных и нормативных элементов у нас не будет теории гражданского общества. Только нормативные элементы нужно, в отличие от традиционной моральной теории, понимать не как некие ценности, мерки, которые мы внешним образом прикладываем к тем или иным практикам, оценивая их как свободные или как несвободные. Нормативные элементы должны присутствовать как некие нормативные цели, производящие реальную историческую работу - работу политической мобилизации, воодушевления, интеграции неких сил - в той мере, в какой нормативные элементы присутствуют в социальной жизни как утопия. Я умышленно пользуюсь этим термином, и в том смысле, в каком его определял Карл Манхейм: утопия - это то, что указывает по ту сторону статус-кво, и то, что толкает нас на трансценденцию настоящего, толкает не в мыслях, а в практиках. Это следующий элемент, который я бы добавил к данному выше определению гражданского общества.
Итак: гражданское общество — это и есть те практические движения, как бы они ни были организованы
45
I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты
(а некоторые из них организованы очень авторитарно), те социальные движения, которые преследуют некие утопические цели, в которых формируется идея общего блага. Общее благо в данном случае присутствует не как некая моральная оценка, а как реальная движущая цель, как аристотелевская телеология. Таких движений было много, и они действительно творили в истории чудеса. Правда, мы должны иметь в виду, что ни одна утопия на практике не реализуется. Функция утопии вовсе не в том, чтобы служить политической программой, которая реализуется или не реализуется и которую надо оценивать по тому, насколько она реализовалась. Функция утопии заключается в мобилизации. Или, как писал Макс Вебер, функция утопии в том, чтобы указать на нечто недостижимое, для того чтобы достичь достижимого в истории. Без этого стремления к недостижимому достижимое не будет достигнуто. Таким образом, на мой взгляд, дескриптивное и прескриптивное в понятии гражданского общества возможно соединить.
Остановимся на понятии «общего блага». В античности «общее благо» - это нечто аксиоматически данное. Самым простым пониманием общего блага является независимость полиса, ассоциативная свободная жизнь, хотя понятно, что в ней участвовали только свободные, а не все. Эта аксиоматическая самоочевидность общего блага рушится в современности. Об общественном благе начинают спорить - и это становится нормой его существования. Поэтому, если мы включаем понятие общего блага (точнее, утопическое стремление к общему благу) в определение гражданского общества, давайте скажем и следующее: на основе разных интерпретаций общего блага формируются разные гражданские общества. И даже говоря об одном социальном организме, наверное, имеет смысл «гражданское общество» употреблять во множественном числе.
46
Борис КАГАРЛИЦКИМ
ГОСУДАРСТВО
И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ПОСЛЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Нынешняя глобализация является далеко не первой и далеко не оригинальной, а представляет собой одну из характерных циклических тенденций, которые присущи капитализму и сопровождают его развитие и всю его историю (могу сослаться на Валлерстайна и многих других авторов).
Начну с примера. В 1790-е гг. английский судовладелец спустил на воду новый торговый корабль и решил его назвать Liberty, то есть «Свобода». Но акционеры возмутились (и это - я подчеркиваю - в либеральной, свободной Англии): что это за якобинство такое, как можно называть торговый корабль такими провокационными словами? Предложили назвать корабль Freedom, что тоже значит «свобода», но не в гражданском, не в революционном смысле, а в значении, связанном со свободой торговли, движения товаров, капитала. В русском языке повторять подобного рода экзерсисы довольно трудно. Это, кстати, наводит на мысль, что русский язык для либеральной пропаганды приспособлен лучше английского, поскольку
47
I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты
в нем нет различия между понятиями гражданской свободы и свободы коммерческой. Таким образом, если язык задает некоторую структуру мышления, то российская культура и российская традиция, конечно, гораздо в большей степени пронизаны либеральным смыслом, чем, скажем, британская.
Здесь мы сталкиваемся с тем, что я для себя обозначил «политическая дилемма капитала». В работах Вебера о русской революции 1905 г. сказана очень важная вещь: представление о том, будто бы политическая свобода органически связана с капитализмом, рынком, со свободой коммерческой, является представлением идеологическим. Никакой органической необходимости соединения первого со вторым не существует. По словам Вебера, их связывают не потому, что существует органическая связь явлений, а потому что существовали некоторые историко-политические условия, в которых формировался капитализм. Европейский капитализм, преодолевая феодальные социально-политические ограничения, мог для себя решить свои социально-экономические проблемы, преодолеть феодальные барьеры только за счет политической революции, которая могла быть совершена только под лозунгами свободы уже политической, лозунгами гражданского общества, гражданского полноправия. Это есть некий исторический феномен, который, с точки зрения Вебера, уже является некоторым грузом для капитала в условиях индустриального общества. Капитализм не может отказаться от этого исторического, идеологического и политического багажа, который не только не необходим в условиях индустриального капитализма, но и оказывается ограничителем свободы капитала в новых условиях. И поэтому российский капитализм, формирующийся позднее, на индустриальной основе, уже изначально не будет демократическим,
48
Борис КАГАРЛИЦКИЙ. Государство и гражданское общество...
поскольку сможет избавиться от этого самого груза демократии, для капитализма избыточного и ненужного. Этот тезис особенно интересен тем, что он высказан Вебером, а не кем-то другим: если бы это утверждалось Марксом, Розой Люксембург, не говоря уже о Ленине, все бы сказали, что это красная пропаганда. Более того, любопытно, что никому из марксистов и в голову не пришло в такой форме ставить вопрос о связи политической системы с капиталистической экономикой. На самом деле, вопреки первому представлению, классический марксизм шел именно за либерализмом, просто включал в себя либеральное представление о формировании политической системы капитализма, давая ему несколько другую интерпретацию и пытаясь дальше развивать эту же систему идей, выходя за рамки первоначальных либеральных ограничений.
Приходим к тому, что я назвал дилеммой капитала: политическая свобода, политическое и гражданское полноправие населения для капитализма являются как минимум не обязательными, а в определенных ситуациях вредными, поскольку могут включать в себя трудовые права, определенные формы гражданского суверенитета, что распространяется на права собственности и ведет к ограничению прав собственности вплоть до национализации и т. д. С точки зрения капитализма, приоритета прав собственности, либерального мышления, это нарушение фундаментальных основ цивилизованного бытия. Но это отнюдь не нарушение принципа демократии в том виде, как он сформулирован еще в античной традиции.
Демократия вроде бы необязательна и избыточна, но при этом капитализм, безусловно, нуждается в определенной мере свободы, поскольку капитализму нужна не только свобода передвижения товаров и капиталов, но и опреде¬
49
I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты
ленная мера личной свободы субъектов, действующих на рынке, и их правоспособность. Капитализм, полностью лишенный каких-либо форм гражданского существования, я думаю, в принципе невозможен. Более того, даже если мы берем царскую Россию или азиатские диктатуры, где капитализм в XX в. развивался довольно успешно, то видим, что, отрицая гражданское общество в европейском смысле слова, они тут же начинали создавать некие квазиграждан- ские структуры или некие аналоги гражданских структур, которые должны были заменить несуществующее гражданское общество, а может быть, даже предотвратить его возникновение, делая гражданское общество как бы ненужным.
Можно представить себе капитализм без политической свободы, более того, сплошь и рядом именно такой капитализм мы и видим. А вот капитализм, основанный на тотальном неуважении к праву, представить себе довольно трудно. Это не значит, что уважение к праву при капитализме соответствует либеральной идеологии, тут надо понимать разницу. Либеральная идеология играет роль некой идеализированной модели, где почему-то все базовые правовые позиции как бы неизменны. Либеральная утопия предполагает неизменное базовое право, которое в сущностных характеристиках, в основных своих понятиях является неизменным и в этом смысле внеисторичным. В действительности право меняется, правовые нормы корректируются. Например, в римском праве, которое было фундаментом современного буржуазного права, право собственности распространялось и на людей, там было возможно рабство. А в современном либеральном буржуазном праве, основанном на тех же принципах, право собственности распространяется только на неодушевленные предметы. И это принципиальнейшее различие, которое удиви¬
50
Борис КАГАРЛИЦКИЙ. Государство и гражданское общество...
тельным образом уходит из поля внимания правоведов, сравнивающих римское право с британским, французским и т. Д. Такое уважение некоего безусловного неизменного права невозможно, немыслимо и не нужно нигде. Всевозможное нарушение права, включая право собственности, не говоря уже о других правах, - это тоже повседневная практика капиталистического общества, но при этом трудно представить себе капиталистическое общество, которое бы в принципе не имело никакой правовой системы и в котором правовая система, если бы она была, в принципе бы игнорировалась всеми участниками процесса. Говорят, что в России игнорируют право, все нарушают правовые нормы - это так называемый правовой нигилизм. Возможно, в российском обществе не уважаются законы, но все-таки есть и некоторая градация такого неуважения. В этом плане очень важно сознавать, что какая-то степень уважения к праву и личной свободе является необходимым условием функционирования капиталистического общества, но это нельзя назвать чем-то абсолютным и священным для капитализма.
Переходя собственно к теме глобализации, хочу сказать, что нынешняя глобализация представляет собой одну из попыток капитала и соответствующих социальных слоев, политических групп, связанных с капиталом, решить политическую дилемму: сохранение индивидуальных свобод и сохранение настоящего полноценного правового режима, предполагающего уважение к правовым нормам, существование суда, арбитража и т. п., при постепенном преодолении демократии как фактора, который мешает свободному движению капитала, свободному развитию и свободной игре рыночных сил, и преодоление именно в той мере, в какой он является ограничителем. Речь идет о ликвидации демократии, о частичном и постепенном
51
I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты
преодолении ее, и это осуществляется на уровне экономическом и политико-экономическом через постоянное сокращение роли государства, государственных структур и государственного регулирования в сфере экономики.
Таким образом, из сферы политического и соответственно из сферы гражданского выводится все большее количество видов деятельности и сфер общественной жизни. Это хорошо описано в книге финского исследователя Тэй- во Тэйвьянена {Teivo Teivanen) «Enter Economy, Exit Politics»: как только что-то из сферы государственной собственности выводится в сферу частной собственности, меняется не только режим собственности, а полностью весь политический режим, в котором функционирует общество этих регионов. Многие вопросы перестают быть политическими, они становятся вопросами частных отношений, частного права, в лучшем случае - гражданского права в чисто судебном понимании этого термина: они регулируются не законами, а контрактами, не нормами, а соглашениями, и выходят из сферы политической, из сферы гражданской. Так, если расширение государства в рамках демократического процесса сопровождалось расширением сферы гражданского и расширением гражданских прав, наряду с тем, что действительно происходило разрастание бюрократии (причем одно с другим очень часто тесно связано), то «схлопывание» этой сферы идет в прямо обратном направлении, то есть происходит деградация гражданского. Кстати, здесь есть очень интересный момент: что понимают под бюрократией. Есть две трактовки: с точки зрения одной бюрократ - это государственный служащий, это чиновник, находящийся на содержании государства; согласно другой трактовке, это управленцы, потому что, строго говоря, специфика управленческого труда в госсекторе и в частном
52
Борис КАГАРЛ ИЦКИ Й. Государство и гражданское общество...
секторе не сильно отличается. Больше того, история приватизации, в том числе российской приватизации, очень наглядно показывает, что не только управленческие задачи и управленческий труд радикально не меняются, но даже те же самые люди остаются на тех же местах и в тех же кабинетах. Принципиально то, что, как только вы сменили вывеску, вы по статистике этого человека из раздела «бюрократия» перевели в раздел управленцев, в «менеджмент». При этом предполагается, что бюрократия - это нечто заведомо неэффективное, косное, консервативное, медлительное, а частный менеджмент - это по определению нечто динамичное, современное, эффективное, передовое, хотя ничего не изменилось: это те же люди, которые занимаются той же деятельностью по тем же правилам. Об этом писал и Джон Гэлбрейт в «Новом индустриальном обществе». Когда мы берем совокупное понятие бюрократии, государственной и частной, мы обнаруживаем, что управленческий бюрократический аппарат в процессе приватизации в условиях глобализации разрастается, а численность управленцев-бюрократов совокупно растет, причем в некоторых обществах растет экспоненциально. А если мы к этому добавим еще и частную бюрократию, то мы увидим уже не экспоненциальный, а просто взрывной рост бюрократического управленческого аппарата, что достаточно закономерно, потому что зачастую происходит дублирование и дробление функций, перераспределение обязанностей. Но беда в том, что между государственным бюрократом и частным управленцем в условиях демократии (но не в условиях авторитарного режима) есть принципиальная разница. Государственный бюрократ, хотя бы потенциально, в принципе, идеологически, подлежит гражданскому контролю (такие механизмы могут быть созданы или, во
53
I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты
всяком случае, их можно потребовать). Частный бюрократ или управленец, менеджер официально, законно находится в авторитарной системе, вне гражданского контроля, хотя бы до тех пор, пока его деятельность не нарушает соответствующей статьи уголовного или гражданского кодекса, то есть до тех пор, пока не совершается преступление. Все остальное находится вне сферы гражданского, публичного контроля - в сферах частного интереса. Хотя в сфере частного интереса оказываются мощные иерархические структуры, по своему характеру не отличающиеся от государственных. В лучшем случае бюрократ отвечает перед акционерами и перед собственниками, но не перед гражданским обществом и гражданами вообще. В процессе глобализации происходили передача собственности в частные руки и создание мощных транснациональных корпораций, которые приобретали черты авторитарных квазигосударствен- ных структур или структур олигархических.
Возвращаясь к эрозии демократии или ее преодолению, хочу обратить внимание на два очень важных обстоятельства. Первое: как происходит эрозия демократии на низовом, социальном уровне. Для традиционной демократической теории и идеологии понятия «население страны» и «граждане страны» являются квазитождественными. Разница только в правоспособности: граждане — это часть населения, достигшая совершеннолетия. В условиях массовой миграции, которая имела место начиная с 1960-х гг. и приняла совершенно другой характер в 1990-е гг., в период глобализации (т. е. когда миграция стала приобретать не сезонный характер, а характер формирования социальнокультурных и социально-этнических анклавов в обществе), происходило разделение между населением страны и гражданами страны. Единственная страна Европы, которая в
Борис КАГАРЛИЦКИЙ. Государство и гражданское общество...
полной мере обозначила на публичном уровне, на уровне открытых дебатов, что эта проблема существует, - это Германия, поставившая турецкий вопрос, когда выяснилось, что уже есть третье поколение турецких по происхождению немцев, которые не являются гражданами. Они зачастую не имеют никакого отношения к Турции, но не могут стать гражданами в силу специфики германского законодательства. Как ни парадоксально, жесткость и некоторая архаичность немецкого законодательства сыграли добрую службу, по крайней мере, немецким туркам. Этот абсурд стал настолько очевиден, и невозможность индивидуального решения проблемы стала настолько ясной, что пришлось решать проблему коллективно, на уровне турецкого сообщества, то есть создать правовые условия для того, чтобы Предоставить гражданскую правоспособность турецкому сообществу в Германии. В странах с более либеральным законодательством эта проблема может игнорироваться, потому что всегда дается возможность ее решать в индивидуальном порядке, то есть мы опять выходим именно за пределы гражданского. Во Франции, например, каждый отдельный араб может предпринять какие-то действия, чтобы стать французским гражданином - это не запрещено, не заблокировано. Итак, гражданское - это те индивидуальные действия, которые совершаются в рамках неких коллективных вопросов, коллективной ответственности, если угодно - общих для данной страны проблем. Как гражданин я действую индивидуально, но постановка вопроса и оценка моих действий, логика моих действий связаны с определенными коллективными нормами. Вопрос, насколько араб является французом, превращается в частный, личный вопрос каждого отдельного араба, живущего во Франции. Сходная тенденция сущест¬
55
I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты
вует в Великобритании. И вообще в большей части Европы этот вопрос выведен за пределы гражданской дискуссии. Другое дело, что он туда вернулся, когда обнаружились целые общины людей, живущих во Франции, зачастую имеющих французские паспорта, но не являющихся по своему самосознанию гражданами Франции, не воспринимающих себя как французов, как граждан Франции, но зачастую и не воспринимающих себя арабами. Они являются именно мигрантами, но не мигрантами в классическом смысле слова, которые приезжают из одной страны в другую зарабатывать деньги, а потом возвращаются обратно. Мы имеем целый социум «метеков» (в древнегреческом полисе это люди, которые живут в нем в нескольких поколениях, но не имеют прав граждан). Создание новых метеков - это характерное явление для современной Западной Европы. Но есть и другой вариант: это Эстония и Латвия, где также целые группы населения не получают права гражданства, целые общины (социально, этнически русскоязычные, не обязательно русские - это могут быть евреи, армяне) автоматически исключаются из гражданского бытия. Когда Западная Европа начинает предъявлять претензии к балтийским странам, те идут на уступки, но предлагают решать вопрос в индивидуальном порядке, то есть исключение происходит как коллективное, а включение переносится в сферу индивидуальных личных действий, личных решений, личных взаимоотношений с государством. До сих пор существует отрытая дискуссия: значительная часть латвийских русских не хочет натурализоваться в индивидуальном порядке, так как это означало бы признание правоты государства по отношению к ним в исходной позиции, когда их лишили гражданства.
Таким образом, еще один элемент эрозии гражданской системы - это эрозия снизу через миграционные процессы
56
форис КАГАРЛИЦКИЙ. Государство и гражданское общество...
и исключение части населения из гражданского сообщества, подрыв того самого принципиального тождества, которое лежало в основе, скажем, Французской революции, провозглашавшей права человека и гражданина как тождественные. Это тождество разорвано, потому что современное либеральное западноевропейское общество уважает права человека, включая, безусловно, и права мигрантов, но не в качестве гражданских прав.
Третий элемент эрозии демократии - это эрозия или преодоление суверенитета, когда суверенитет государства передается наднациональным или межнациональным структурам, или вообще как бы испаряется. Классический пример - это Европейский союз и его институты: европейский парламент, европейские комиссии и т. п. Формально происходит делегирование прав, но есть один нюанс: эти права делегирует исполнительная власть, и те бюрократические органы, которые в итоге создаются, оказываются самодостаточными, не находящимися под непосредственным контролем единого гражданского сообщества, каковое существует в каждой отдельной суверенной стране. Есть европейский парламент, но мы видим, что его права очень слабы, и главное, в чем парадокс, не только в отношении национальных государств. Они особенно слабы в отношении той самой европейской бюрократии, которую как раз труднее всего контролировать, так как формально, с одной стороны, ее контролирует делегирующая ее политическая элита разных стран, т. е. политические классы, политические институты суверенных национальных государств, а с другой стороны, европейский парламент. Но эта двойственность системы делегирования и якобы ответственность перед политическими структурами национальных государств - важный инструмент, чтобы создать неконтро¬
57
I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты
лируемую ситуацию, когда вы имеете органы власти, которые непонятно кем контролируются, а на самом деле работают по олигархическому принципу, это контроль на основе олигархического сговора политических классов и бизнес-элит ведущих стран. При этом одновременно на всех уровнях происходит эрозия демократических прав. Как писала Сьюзен Джордж, гражданский суверенитет существует в пределах национальных государств, за их пределами сегодня нет институтов, которые обеспечивают соблюдение гражданского суверенитета. А ссылки на межнациональные органы власти становятся своего рода алиби для местных политических элит, местной олигархии, для того чтобы выйти из-под гражданского контроля даже на этой самой суверенной территории, то есть эта бесконтрольность не только поднимается вверх, она опрокидывается вниз. Происходит эрозия гражданского сообщества через наднациональные и межнациональные структуры: Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирную торговую организацию, которые (подчеркиваю: с согласия национальных государств, национальных элит, а не вопреки им) получают все более и более серьезные функции, ранее относившиеся к сфере национального суверенитета. И в итоге происходит передача ряда функций, прежде находившихся под контролем гражданского сообщества, в институты, которые напрямую не делегированы какими-либо структурами, прямо ответственными перед гражданским сообществом. И в итоге возникает любопытная вещь: передача функций этим межнациональным структурам для тех национальных структур, которые в этом задействованы, оказывается уходом от полного контроля на своей собственной территории, уходом в некий политический оффшор, и в рамках этого политического оффшора они неподконтрольны.
58
Борис КАГАРЛИЦКИЙ. Государство и гражданское общество.
И наконец, третий процесс: испарение функций. Когда целый ряд контрольных функций уходит из сферы воздействия гражданского сообщества, они иногда не приходят в сосредоточенном виде в какое-то одно место. Происходит перераспределение власти и ответственности, в ходе которых отдельные элементы ответственности, элементы контроля просто исчезают. Это не означает, что реально никто не принимает решения, но точки принятия решений смещаются, смещаются разнонаправлено, где-то, зачастую действительно сетевым образом, происходит перераспределение власти и ответственности так, что вы не сможете понять, где конкретно та точка, где принято то или иное решение. У вас есть Евросоюз, МВФ, Всемирный банк и еще какие-то структуры, есть частные корпорации, взявшие себе часть полномочий, но точка принятия конкретного решения, с которым приходится иметь дело, зачастую вам просто не известна и находится вне досягаемости. И в конечном итоге получается явление, которое очень похоже на то, с чем мы имеем дело в Греции, когда, отказавшись от финансового суверенитета, Греция отказалась в значительной степени от политического и гражданского суверенитета. Казалось бы, вы всего-навсего заменили национальную драхму на евро - казалось бы, какое это имеет отношение к гражданскому суверенитету? На самом деле, самое прямое, потому что вы лишили свое правительство права принимать ключевые финансовые решения и соответственно ключевые социальные решения, а в конечном счете и ключевые экономические решения. С евро изначально была известная проблема, которая справа была описана Милтоном Фридменом, а слева - рядом других авторов. Критика была почти одинакова со стороны монетаристов и со стороны того же С. Амина (это редкий случай
59
I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты
почти полного совпадения анализа монетаристами и марксистами). При создании единой валюты главная цель - создание новой резервной валюты, нового фактора мировой финансовой системы. Для этого единая валюта должна контролировать как можно большую территорию, быть максимально распространенной и иметь за своей спиной как можно большую экономику по своему масштабу. Это означает одновременное включение в единую валютную систему ряда стран разного экономического типа, разного экономического развития и, что особенно важно, - разного уровня инфляции. Тут как раз и начинается проблема, потому что монетаристы склонны думать, что инфляция порождена исключительно политикой государства, и если государство будет вести правильную финансовую политику, то вы удержите тот уровень инфляции, который нужен. С точки зрения марксистов, картина выглядит иначе, потому что, по их мнению, разный уровень инфляции будет предопределен не только политикой государства, но всей совокупностью экономических и социальных институтов, которые включены в процесс воспроизводства. Если процесс социально-экономического воспроизводства в Греции отлажен иначе, чем, скажем, в Финляндии, а это очевидный факт, то соответственно генерироваться будет разный уровень инфляции. Соответственно мы и получили диспропорцию, которая выразилась в том, что грекам разрешали поддерживать свою экономическую жизнь в традиционной форме, но за счет кредита. Это явление, которое еще Роберт Бреннер применительно к монетаризму в США назвал частным кейнсианством, показав, что социальные расходы государства в расчете на одно домовладение снижаются, а задолженность домовладений повышается пропорционально этому. То, что недополучили по социальным
60
Борис КАГАРЛИЦКИЙ.
Государство и гражданское общество...
программам, получают в виде кредита. Но кредит надо возвращать, а социальные программы - нет. Это проходила Аргентина, привязав песо к американскому доллару. И то же самое с некоторыми отличиями прошла Россия в период валютного коридора в 1996-1998 гг. И тут мы упираемся в принципиальную разницу между Аргентиной, Грецией и Россией. В Аргентине правительство объявляет дефолт и девальвирует собственную валюту, отвязываясь от доллара. После этого начинается стремительный экономический рост в Аргентине, потому что соотношение курсов валют становится крайне выгодным для аргентинской экономики. Греция не может совершить ту же самую операцию по политическим причинам, поскольку она лишилась суверенитета в финансовой области и вопрос о дефолте в Греции не в ведении греческого правительства. Вместо этого Греции дается кредит от основных европейских стран (Германии, Франции), которые обязывают греческое правительство проводить ряд мер, не одобряемых подавляющим большинством населения страны. Мы имеем потерю управляемости, толпы людей, бастующих и дерущихся на улицах, пожары и прочее. Это не просто бунт, а бунт, вызванный отсутствием правового гражданского механизма воздействия на власть. Когда мы видим стремительный рост числа бунтов, уличных волнений и других типов фактически асоциального поведения в демократических странах (в Англии, Франции, Греции), это связано с тем, что общество в такой форме реагирует на нарастающий разрыв между формально существующими гражданскими институтами, которые вроде бы в нем есть, и неспособностью гражданского коллектива реализовать свои цели, намерения и приоритеты через эти гражданские институты. Нарастает фрустрация, а дальше социальные группы реагируют в соот¬
61
I. Политико-философские и теоретико-политические аспекты
ветствии со своими возможностями и желаниями, готовностью бунтовать или терпеть.
Таким образом, глобализация в совокупности тех мер и мероприятий, которые проводились в последние 20 лет, оказалась в политическом плане - а я не беру экономический аспект - способом частичного преодоления демократии в интересах крупного капитала. Но беда в том, что этот механизм породил новые противоречия и в том числе уперся в реальное существование гражданских коллективов в ряде обществ, будь то западноевропейские или латиноамериканские, он уперся в проблему трансформации гражданского коллектива, что мы видим во Франции (бунты детей эмигрантов, которые являются формальными гражданами Франции).
Это проблема, с одной стороны, сопротивления гражданского коллектива тому, что можно назвать лишением власти, лишением влияния, контроля, и, с другой стороны, внутренней потребности гражданского коллектива в трансформации, социальной, культурной, этнической, когда самоопределение гражданского коллектива тоже ставится под вопрос. В этом смысле то, что мы сейчас переживаем как неадекватность современного гражданского коллектива, может быть, на самом деле, переходным этапом в формировании гражданских коллективов нового типа, по крайней мере, в Западной Европе, а возможно, в России, Украине, не говоря уже о Прибалтике. Мы находимся на пороге нового этапа политической истории, когда понятия гражданства и гражданского коллектива становятся абсолютно принципиальными. Это та новая общность, которая может быть противопоставлена не только корпоративному капиталу, но и государству в его авторитарной бюрократической функции. Мы находимся на пороге череды гражданских революций, которые, на мой взгляд, будут иметь очень сильный социальный оттенок. Кризис глобализации открывает очень богатые возможности для эпохи новых гражданских революций.
62
II. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Алексей КАРА-МУРЗА
ПРОБЛЕМА ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В РУССКОМ ЛИБЕРАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ Х1Х-ХХ ВВ.
Общегражданский дискурс, который конституирует нацию с особой общегражданской идентичностью, кристаллизуется в ходе взаимодействия и взаимопроникновения частных дискурсов и основанных на них идентичностей. Очевидно, что существуют социумы (и Россия здесь - ярчайший представитель), где результирующий вектор эволюции дискурсивных практик совсем иной, иногда - противоположный. Сосуществование различных дискурсов не создает общегражданский язык, а, напротив, ведет ко все большей идеологической сегментации и герметизации различных дискурсов, их острой конфронтации, игры на взаимное уничтожение и в итоге - к их общей деградации и взаимной аннигиляции. Периоды идейной деградации сменяются периодами репрессивной сборки как дискурса, так и социальности в целом: своим или классово близким считается тот, кто правильно заучивает и повторяет слова власти. Потом этот дискурсивный официоз деградирует и разваливается, потом разваливается данный
64
Алексей КАРА-МУРЗА. Проблема гражданской идентичности...
социум. Именно в этой последовательности: все начинается с сомнений, иронии (вспомним роль анекдотов), с создания альтернативного дискурса, а потом идеократи- ческое государство рушится. При этом старые дискурсивные практики и после краха прежнего режима продолжают функционировать.
Отсутствие общегражданского языка ведет к тому, что на развалинах старой идентичности у нас не создается новой, в силу чего у нас нет общегражданской нации.
Цена вопроса, как мы видим, очень велика: казалось бы, мы занимаемся только «языком», дискурсивными практиками, а выясняется, что в них вся соль. Именно в языке сначала происходит столкновение сторонников порядка и сторонников изменений. В России это приводит к тому, что консервативный лагерь вырождается в охранительство, а сторонники изменений вырождаются в радикалов. Петр Струве хорошо сказал о ситуации в России времен первой русской революции: «Реакция и революция стоят друг друга. Они равно бескомпромиссны в своем тупом упоре». Сейчас мы имеем в России очередной период «дискурсивной смуты», но уже в полном разгаре попытки репрессивной дискурсивной сборки. Вспоминается гениальная фраза славянофила-либерала Ивана Аксакова о подобных межеумочных временах: «Нет у нас ни западного динамизма, ни восточной стоячести, а есть - толчея!» Были времена как речевой репрессии, так и абсолютного речевого разброда, когда под разговоры о свободе самовыражения все перестают друг друга слушать и читать и каждый самовыражается, как может. Хабермас, напомню, назвал эти времена эпохой «гласности без слышимости». Вот эта дискурсивная какофония, эта аксаковская «толчея» не развивающихся, а, напротив, деградирующих дискурсов, толчея идентичностей, толчея фиктивных партий, не борьба научных и идейных школ, а толчея их опошленных идейных суррога¬
Зз«к. 1988
65
II. Культурно-исторические аспекты
тов - это и есть главная проблема, которая меня интересует. Интересует в двух аспектах: почему это происходит в России и можно ли сделать по-иному? То есть: «кто виноват» и «что делать»? Эти вопросы я хочу рассмотреть на примере истории русского либерализма, русского либерального дискурса. Я вовсе не намерен выступать исключительно в жанре апологии либерализма, но скорее как демистификатор многих мифов, связанных с либерализмом, и в малораспространенном, но абсолютно необходимом жанре самокритики отечественного либерального дискурса.
Проблематика причин и механизмов деградации идейно-политических дискурсивных практик в России, возможностей преодоления этого кризиса исследована в русской политической культурологии, в либеральной политологии XX в. Назову лишь три имени: Георгий Петрович Федотов, Федор Августович Степун, Владимир Васильевич Вейдле. Уже в эмиграции они стали носителями традиций русской классики, Серебряного века и попытались ответить на вопрос: как в России случились и оказались возможны большевизм и сталинизм?
Федотов, Степун и Вейдле считали общей причиной деградации частичных (в этом смысле, бесспорно, «партийных») дискурсов опасный процесс - процесс постепенного, но неуклонного пожирания культуры политикой. В какой- то момент идеи начинают, упрощаясь, отвердевать и превращаться в партийные идеологии. Замена идей идеологиями - вот беда, которой надо противостоять, считает, например, Степун. Деградируют и акторы - те фигуры, которые публично воспроизводят тот или иной дискурс. Когда-то либеральный дискурс в России производили Новиков, Грановский, даже Иван Тургенев (которого считали неформальным лидером либерально-западнической партии - об этом открыто говорили в дни открытия памятника Пушкину; замечу, лидером партии консерваторов-самобыт-
66
Алексей КАРА-МУРЗА. Проблема гражданской идентичности...
ников был Федор Достоевский). И даже Павел Милюков, лидер кадетов, был выдающимся историком и культурологом, а рядом с ним были другие историки: Кизеветтер и Александр Корнилов; представители влиятельнейших семей: князья Долгоруковы, князь Шаховской, князь Оболенский; выдающиеся юристы: Муромцев, Набоков, Петра- жицкий, Новгородцев, Кистяковский. Но они проиграли.
В годы смут и революций, когда партийные мнения быстро конвертируются в решения и эти мнения попадают не в доклад в Университете, а в передовицу или даже листовку, процесс упрощения дискурсов идет особенно быстро. Даже высочайшие интеллектуалы почувствовали это на себе. Тот же Степун исследовал этот процесс не просто как сторонний аналитик, а с болью и известной долей самокритики. Многие из нас заметили: вступая в разговор даже с друзьями, с презумпцией дружества и товарищества, мы часто заканчиваем разговор руганью. В нашем споре не рождается истина, а происходит взаимное оглупление и общая деградация оппонентов. Мыслители с особой идейной позицией превращаются в идеологов, потом в партийных демагогов, партии вместо все большей открытости вырождаются в партийные секты. Кто бы что ни говорил, в конечном итоге все заканчивается азартной игрой в «Кто виноват?». Добавлю, что Степун, по-видимому, первым отчеканил общий вывод относительно всех тоталитариз- мов: их общей основой является «отсутствие чувства вины», а сверхзадачей - перенос вины на внешнего врага, будь то враг этнический или классовый.
Возникает вопрос: а может ли быть иначе? Здесь повод Для некоторого оптимизма мне дает Франция, политическую культуру которой довелось изучать. Возьму только одну линию напряжения во французской политической культуре: столкновение двух эмансипаторских дискурсов - Демократического и либерального, то, что принято назы¬
67
II. Культурно-исторические аспекты
вать «линией Руссо» и «линией Вольтера». Напомню: при жизни Руссо и Вольтер ненавидели друг друга - сейчас их саркофаги рядом стоят в Пантеоне. Либерал Вольтер называл демократа Руссо «бандитом с большой дороги». Младший по возрасту Руссо старался отвечать тем же, и понять его можно. Как Руссо мог отнестись, например, к такому известному либеральному утверждению Вольтера: «Мы - легион доблестных рыцарей, защитников правды, которые допускают в свою среду только хорошо воспитанных людей»? По словам Монтескье, просвещенные люди «чувствуют старое зло, видят средства к его исправлению, но вместе с тем видят и новое зло, проистекающее из этого исправления. Они сохраняют дурное из боязни худшего и довольствуются существующим благом, если сомневаются в возможности лучшего». Монтескье, бесспорный классик либерализма, считал псевдолиберальный, не ведающий сомнений активизм, раздувающий антисоциальные вожделения индивидов, показателем предельного невежества.
В современной Франции мы наблюдаем уже иную картину. Разумеется, партийные дискурсы и соответственно две конкурирующие идентичности не слились воедино, но они сравнительно мирно сосуществуют в общей гражданской рамке. За иронической маской либерал-консерваторов Ширака или Саркози с их элитарным снобизмом я так и вижу вольтеровский прищур. За социальным максимализмом левых (например, у Жоспена или Сеголен Руаяль) я вижу отголоски неистового Жан-Жака Руссо, гражданина свободной Женевы. И оба дискурса весьма респектабельны, ибо отсекли крайности. Компартия Франции (в духе еврокоммунизма Марше, а не радикализма Тореза) маргинализировалась, хотя здравые элементы левого дискурса абсорбированы социалистами. Правый радикализм Ле Пена, было активизировавшийся, в итоге все-таки вошел частью в умеренно-правый дискурс де-голлевского типа.
68
Алексей КАРА-МУРЗА. Проблема гражданской идентичности...
Как произошел переход от эпохи взаимной ненависти Вольтера и Руссо к эпохе, когда острая политикоидеологическая конфронтация разрешается на конкурентных выборах внутри уважающей единую Конституцию французской нации?
французский пример в данном случае - это не уход от российской проблематики хотя бы потому, что архетипические рассуждения на тему «что такое нация» и «что такое гражданин» исходят во многом из французской дискурсивной и политической практики. Итак, почему во франции непримиримость «партий» Руссо и Вольтера обернулась Конституцией и нацией, а у нас нет? Отвечу на этот вопрос по возможности кратко и выделю аспекты, связанные с проблематикой гражданской идентичности.
Выход был найден (где-то спонтанно, где-то сознательно) в «перекоммутации» частичных (отсюда и слово «партийных») дискурсов, в поиске и нахождении в них общего и взаимоприемлемого. При сохранении базовых идентичностей образовалось поле для плодотворного диалога. Не буду в духе Мишеля Фуко говорить о дисциплинирующих практиках государства, о Наполеоне, о нескольких революциях, о пяти республиках. Сосредоточусь на более близкой нам теме: о роли философов, интеллектуалов вообще, которые провели сначала интеллектуальную деконструкцию партийных дискурсов, их «разминирование», а затем предъявили эти «разминированные» частные дискурсы к участию в общенациональном диалоге. Так родилась общегражданская французская нация, не лишенная серьезных идентификационных напряжений, но вполне жизнеспособная.
Приведу пример такой интеллектуальной деконструкции, «разминирования» и нового конструирования. Кто главный враг для Вольтера в строительстве искомой им идеальной Франции? (Замечу, Вольтер хотел реформиро¬
69
II. Культурно-исторические аспекты
вать Францию по английским образцам, был французским «западником», прямым учеником Локка и Болинброка, шли разговоры о том, что он агент влияния, чуть ли не шпион, но эти разговоры со временем стихли.) Главный враг для Вольтера, либерала и просветителя, - «фанатизм», а идеал - «веротерпимость». Главный враг для демократа Руссо - «праздность», а идеал - «общество равных в труде». Либе- рал-элитист Вольтер причислял Руссо именно к «фанатикам», считал его вожаком непросвещенной толпы. Руссо, в свою очередь, считал Вольтера человеком «праздным», а его умствования - праздным занятием (барской причудой), в то время как историю, по его мнению, должен делать народ. Но постепенно выяснилось, что идеал труда не противостоит идеалу веротерпимости, а праздность и фанатизм - это действительно две проблемы, равно требующие преодоления силами как либералов, так и демократов.
Сегодня правые и левые обладают хотя и разными, но синтетическими дискурсами (условно говоря, либерал-кон- сервативным и социал-либеральным) и борются за умы и голоса хорошо образованного среднего класса, у которого есть реальный выбор.
У нас все иначе. В санации, окультуривании наших дискурсивных практик особую роль должен сыграть либерализм, концептуально претендующий на роль умиротворителя, согласователя, центриста, призванного провести социум между Сциллой реакции и Харибдой революции. Очевидно, что если эта задача исторически не выполнена и плохо выполняется сейчас, значит, есть серьезные проблемы с самим отечественным либерализмом. Необходима его концептуальная «инвентаризация», потом «перезагрузка», и на основе этого надо существенно скорректировать его дискурсивные проявления, сверхзадачей которых должна стать не вечная стилизация под оппозиционность,
70
Алексей КАРА-МУРЗА. Проблема гражданской идентичности...
и не холопство перед властью, не установка на захват ’власти, чтобы насильно навязать либерализм подданным, а нечто принципиально иное - «перезагрузка» либерализма с целью плодотворного участия в общенациональном диалоге и строительстве гражданской власти. Строительство нации - это работа кооперативная и синтетическая, но только в либерализме есть некоторые необходимые детали для успеха этой работы, для выработки общегражданской идентичности.
Моей методологической презумпцией является одна гениальная русская формула, предложенная русским философом Иваном Киреевским - о бессмысленности рассуждений на тему, какая из двух тенденций — к «русской исключительности» или к «западной универсальности» - более полезна и имеет больше шансов на реализацию в России. «Сколько бы мы ни желали возвращения Русского или введения Западного быта, - писал Киреевский в «Ответе А.С. Хомякову» (1838), - но ни того, ни другого исключительно ожидать не можем, а поневоле должны предполагать что-то третье, долженствующее возникнуть из взаимной борьбы двух враждующих начал. Следовательно, и этот вид вопроса — который из двух элементов исключительно полезен теперь? - также предложен неправильно. Не в том дело: который из двух? но в том: какое оба они должны получить направление, чтобы действовать благодетельно? Чего от взаимного их действия должны мы надеяться, или чего бояться?» Я далек от того, чтобы причислять Киреевского к либералам, его мудрая формула основана просто на здравом смысле. Но она органична просвещенному либерализму и конструктивна для искомого гражданского синтеза. Это девиз развитой нации.
Но если говорить о «либеральной перезагрузке», то что же такое «либеральный дискурс»? И какие интеллектуальные завоевания может предъявить отечественный либера¬
71
II. Культурно-исторические аспекты
лизм к кооперативному участию в актуальном общегражданском синтезе?
Концептуальной основой либерального дискурса является максима: свобода как лучший порядок. Вспомним полемику Аристотеля с государственнической утопией Платона. Собственно исток либерального рассуждения - это возражения Джона Локка против Роберта Филмера (его трактатов «Необходимость неограниченной королевской власти», «Патриарх: защита естественной власти королей против неестественной власти народа», его «Замечания» на «Политику» Аристотеля и «Левиафана» Гоббса). Вот слова Локка из начала первого «Трактата о политическом правлении»: «В последнее время среди нас появилась порода людей, которые готовы льстить монархам, утверждая, что <...> монархи обладают божественным правом на абсолютную власть. Чтобы проложить путь для этого учения, они отняли у людей право на естественную свободу и тем самым <...> ввергли всех подданных в страшную пучину бедствий, которые несут с собой тирания и угнетение <...> как будто они, чтобы достичь этой своей цели, замыслили вести войну против всякого правления и подорвать сами основы человеческого общества».
В этом возвращении к истокам и есть либеральная «перезагрузка». Свобода, по Локку, онтологична, но только как божественный дар. Свобода еще и инструментальна, ибо лучше обеспечивает порядок, то есть бытие как таковое. Не только свобода имманентна либеральному умонастроению, ему имманентен и порядок.
Есть ли в русской либеральной традиции элементы, которые актуальны для кооперативного решения общегражданских проблем? Для меня совершенно очевидно, что есть.
Первый элемент может показаться архаичным, действительно, он один из самых хронологически ранних в ли¬
72
Алексей КАРА-МУРЗА. Проблема гражданской идентичности...
берализме. «Государь (лидер)» - это не эманация бога, но это и не один из нас. Должен быть контроль над первым лицом, но не лесть первому лицу, и не изничтожение первого лица (как моральное, так и физическое). Отсюда конституционные проекты Панина, Воронцова, Сперанского, воспитательные усилия Жуковского и Чичерина, опыт конституционного ограничения монархии. Либеральная максима: «Государь (лидер) - это первый гражданин, и он должен быть первым подвержен четкой ответственности». Звучит, возможно, не очень современно, и с виду недемократично, но перескочить этот этап невозможно.
Второй элемент - этика взаимоотношений с властью (граф Петр Александрович Гейден, а внутри кадетизма - Василий Маклаков, «Власть и общественность на закате старой России»). У оппозиции есть своя функция, но нельзя и отрицать особой функции власти. Выход в том, чтобы ставить себя на место власти. Требует интеллектуальной реабилитации позиция Павла Николаевича Милюкова. Культура выше политики, выше любой политики, в том числе либеральной. Политика - это часть культуры. Для этого требуется формировать политическую культуру - только она объединяет нацию. Не голая политика, и не абстрактная культура, а именно политическая культура - через свободную конкуренцию, демократическое народное представительство. Такая политическая культура делает социум и государство естественными образованиями, а не искусственными, и потому репрессивными или мифологическими.
Третий элемент - внимание либералов к проблематике русской самобытности. Русские реформы сделали во многом либеральные славянофилы. Их готовила философия Хомякова, публицистика Аксакова (кстати, великий либерал и в целом западник Струве воспитывался на либераль¬
73
II. Культурно-исторические аспекты
ной публицистике славянофила Аксакова). В практике успешных либеральных реформ активное участие приняли Самарин и В. Черкасский. Вспоминается Иван Тургенев, лидер западников, который, наблюдая за ситуацией в России (вместо плодотворных реформ началась партийная травля: западники травят славянофилов, считая, что пришло их время, накушались самобытности при Николае), пишет статью в европейскую прессу в защиту славянофилов: во-первых, травля несправедлива (славянофилы настрадались от Николая не меньше), кроме того, потенциал славянофилов пригодится для успешных реформ, требующих укоренения.
Далее. Внимание к культуре и духовности, внимание либералов к высшим, религиозным и квазирелигиозным смыслам. Пренебрежение этим ведет к тому, что духовный вакуум заполняют другие. Степун считал, что большевизм - это религиозное явление: пусть большевики плюнули в лицо Вечности, но они хотя бы с ней встретились. Приведу пример. Выдающийся правовед Сергей Андреевич Котляревский, напомню, был по базовой специализации историком религии, хотя потом возглавлял юридические кафедры в университете. Его первая крупная работа «Ламеннэ и французский католицизм» была посвящена очень важному и до сих пор актуальному вопросу: как новый порядок обретает легитимность или, выражаясь словами самого Котляревского, как создается религия изменений или религия нового порядка? Мировоззренческая, религиозно-философская легитимация нового порядка - это классическая тема философии права, на которую надо сегодня обратить очень пристальное внимание. Еще один пример. Известно, что такой жесткий цивилист, как Сергей Андреевич Муромцев, отбывая срок по выборгскому делу в Таганской тюрьме, во время совместных прогулок во дворе тюрьмы читал товарищам по
74
Алексей КАРА-МУРЗА. Проблема гражданской идентичности...
заключению (среди которых были не только кадеты- интеллектуалы, но и люди попроще, например, из трудовой фракции) общий курс социологии, построенный на материале Библии, а также других мировых священных текстах. Муромцева как юриста и политика, конечно, любили и уважали, но мало кто подозревал в нем специалиста по части сравнительного религиоведения. Есть ли сегодня среди лидеров и теоретиков либерализма такие просвещенные люди?
Можно в большой степени согласиться, что многие отечественные теоретики права не находили достаточной мировоззренческой опоры даже не в христианской этике (они в этом смысле были убежденными христианами), а именно в русском православии. Это была более серьезная проблема, но и здесь намечались пути синтетического решения, творческого совмещения в русской философии права правовых принципов и национальной православной традиции.
Сошлюсь в заключение на опыт малоизвестного мыслителя и правоведа Василия Андреевича Караулова, человека удивительной судьбы. Это человек, который сумел в русском православии (безусловно, по его мнению, требующем реформации) найти мировоззренческую опору для глубоких философско-правовых оснований развития русского конституционализма. Опыт его - депутата Государственной Думы, кстати, председательствовавшего во многих комиссиях по делам свободы совести религиозных организаций, - еще требует осмысления.
Либерализм — это не столичная «тусовка», а субкультура, которая должна прорасти не только из столичных университетов и массмедиа, но и из опыта повседневной социальной жизни русской провинции. Можно указать на огромные либеральные достижения в регионах: Тверь, Воронеж, Томск.
75
II. Культурно-исторические аспекты
Важен синтез с социальной проблематикой. Глубочайшее социальное чувство было у левых либералов: братьев Петра и Павла Долгоруких, князя Шаховского и других.
Петр Бернгардович Струве выдвигал идею «личной годности». Как известно, Струве разочаровался в радикализме, потом в бюрократии, в «общественности», которую обозвал «отщепенческой». Но он не перестал при этом быть либералом: критерием полезности может быть критерий личностный, индивидуальный. Нельзя прятаться за идею, которая тебя якобы исторически оправдает. Нельзя прятаться за власть, которая тебя, если что, прикроет. Нельзя прятаться за класс или партию, которая возьмет на себя и тонко размажет твою ответственность. Единственный критерий: личная годность. Личностная ответственность - это и есть фундамент и залог личных прав.
Еще одна фигура - Владимир Васильевич Вейдле. Для современного российского строительства нации, для формирования новой российской идентичности крайне важно снятие противоречий между Западом, Европой и русской самобытностью. Вслушайтесь в слова Вейдле: «Только в Европе Россия обретает свою самобытность». Только в симфоническом звучании европейского оркестра можно понять, каков самобытный голос России.
Я думаю, примеров достаточно, чтобы оценить либеральное первородство этих идей. Но я далек от идей созерцательности, меня волнует и практика. Поэтому я призываю не только либералов, но и представителей всех других уважаемых направлений: давайте вместе избавляться от тех недостатков, на которые нам правильно указали Вольтер и Руссо - от фанатизма и праздности.
76
Денис ЛЕТНЯКОВ
ИСТОКИ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ В РОССИИ
-1-
Исходным пунктом дискуссий о проблеме построения демократии и гражданского общества в России часто выступает пресловутый тезис о «тысячелетнем рабстве», якобы составляющем суть российской политической традиции. Для историков, политологов и социальных философов он является самоочевидной истиной, не требующей доказательств. Дискутируя по поводу частностей, отечественные (и тем более - зарубежные1) интеллектуалы практически едины в главном: в России взаимоотношения между властью и обществом на протяжении веков носили патерналистский, авторитарный характер.
Восприятие русской политической традиции как исключительно «негражданской» доминирует ровно с тех
1 Достаточно упомянуть Ричарда Пайпса с его концепцией России как «патримониального государства». См.: Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 2004.
77
II. Культурно-исторические аспекты
пор, как в нашей стране стали предприниматься первые попытки серьезного анализа ее социально-политического и исторического бытия, т. е. со времен полемики между западниками и славянофилами. Интересно, что, несмотря на яростные споры между собой, и те, и другие сходились на том, что культурная и политическая традиция России не совместима с гражданским, демократическим вектором общественного развития. С той лишь разницей, что западники видели ситуацию в исключительно негативном свете, пеняя на рабскую психологию, покорность и косность русского народа, не сумевшего сформировать политические институты, подобные европейским. (Можно вспомнить хотя бы уничижительную характеристику Земских соборов, которую дал Б.Н. Чичерин: «Царь совещался с подданными как помещик со своими крепостными»1.) В славянофильском лагере, напротив, всячески воспевали авторитарный тип русской власти, утверждая, что в России отношения между государством и народом имеют особую бесконфликтную, «отеческую» природу, а сильная власть, доминирующая над обществом, - это залог нашей самобытности, или, говоря современным языком, одна из основ русской идентичности. Например, Константин Сергеевич Аксаков писал, что призвание варягов в 862 г. заложило основы двух начал, существующих на Руси почти независимо друг от друга: народа, который живет по своей внутренней правде, предоставляет всю полноту власти правящей элите и не касается вопросов управления страной, и государства, обладающего абсолютной властью в сфере
1 Чичерин Б.Н. О народном представительстве // Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений. М., 2000. С. 331.
78
Денис ЛЕТНЯКОВ. Истоки гражданской политической...
политики, но при этом не вмешивающегося в жизнь народа Согласно К. Аксакову, вопросы политики и власти всегда имели для русского человека второстепенное значение, т. к. его подлинные интересы лежат в сфере духовнорелигиозной. Поэтому наилучшая форма политического устройства для России - это абсолютная монархия. Только она позволяет народу полностью сосредоточиться на столь любимой им жизни духа.
Таким образом, славянофилы и западники, подходя к проблеме с разных сторон, выдвигали, по сути, идентичный тезис о том, что патерналистский тип взаимоотношений между властью и обществом имманентен для России.
Пожалуй, первым крупным мыслителем, попытавшимся выйти за рамки патерналистской мифологемы, был А.И. Герцен. Его заслуга состоит в том, что он начал искать внутри русского общества социальные институты, которые могли бы стать альтернативой авторитарному пути развития страны. С одной стороны, Герцен в отличие от «самобытников» отказывался идеализировать самовластие, с другой стороны, в противоположность западникам он стремился показать наличие собственно русских прото- гражданских, демократических традиций. Демократическую альтернативу русскому авторитаризму Герцен усматривал в трех институтах: крестьянской общине, рабочей артели и казачьем самоуправлении. Именно на их основе, по его мнению, в России могли бы развиваться структуры самоорганизации общества.
Сама по себе герценовская концепция общины как прообраза будущего политического строя весьма спорна, но, повторим, привлекательность ее состоит в том, что она впервые преодолела дихотомию западничества и «само-
79
II. Культурно-исторические аспекты
бытничества», подняв вопрос об аутентичных традициях демократии в России. Хотя, заметим, задолго до Герцена на способность русского народа к республиканскому правлению указывал другой известный русский вольнодумец А.Н. Радищев. Последний приводил в пример средневековый Новгород, где «народ в собрании своем на вече был истинный Государь»1. Однако у Радищева эта мысль проходит «вскользь», не получая развернутого обоснования.
К сожалению, данный аспект идейного наследия Герце- на не был должным образом развит и переосмыслен. Русские авторы, которые идеологически были наиболее близки Герцену, - социалисты, народники - больше занимались вопросами революционной стратегии, непосредственной политической борьбой. В русском социализме победила радикально-революционная, а не демократическая линия. Для другой же части русской интеллигенции, либералов- западников, значимым представлялся лишь европейский опыт. Все, что рождала русская почва, априори воспринималось многими из них как нечто косное и «недоцивилизо- ванное». Что же касается русских мыслителей из консервативного лагеря, то большинство из них мировоззренчески было не готово выйти за рамки уваровской триады «православие, самодержавие, народность». Сама мысль о наличии гражданских традиций в России показалась бы им едва ли не кощунственной.
Тем не менее, представление о том, что в русской истории была внятная альтернатива деспотизму и «азиатчине», все-таки не погибло и периодически возникало в трудах тех или иных авторов. Так, Г.П. Федотов писал о сущест¬
1 Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву. Paris, 1994. С. 43
80
Денис ЛЕТНЯКОВ. Истоки гражданской политической...
вовании на протяжении многих веков России «европейской» (конечно же, не в географическом, а в культурном смысле), которая в допетровское время наиболее явственно проявилась на русском Севере, в псковско-новгородской земле, в том числе и в форме вечевой традиции1. Из современных авторов, работающих в этом направлении, мы бы отметили А.Я. Янова с его концепцией постоянной борьбы между двумя российскими политическими традициями - «европейской» и «патерналистской»2 3; А.Г. Глинчикову - она рассматривает события XVII в., связанные со Смутой и церковным расколом, как попытку осуществить трансформацию российской социально-политической системы из патерналистской в гражданскую . Нельзя не сказать о коллективе трех историков в составе Ирины Карацубы, Игоря Курукина и Никиты Соколова. Несколько лет назад они написали любопытную монографию, призванную показать многочисленные «развилки» русской истории, когда наша страна имела шанс изменить вектор своего политического развития4.
Есть и другие примеры, но в целом приходится констатировать, что интеллектуальный мейнстрим в исследовании русской политической истории по-прежнему формиру¬
1 Федотов Г.П. Трагедия интеллигенции. Электронный ресурс: http://aleho.narod.ru/metodolog/Fedotov.html
2 См. Янов А.Л. Россия: у истоков трагедии. 1462-1584. Заметки о природе и происхождении русской государственности. М., 2001.
3 Глинчикова А.Г. Раскол или срыв «русской Реформации»? М., 2008.
4 Карацуба И.В., Курукин И.П., Соколов Н.П. Выбирая свою историю. «Развилки» на пути России: от Рюриковичей до олигархов. М., 2006.
81
II. Культурно-исторические аспекты
ется «неозападниками» и «неосамобытниками», считающими, что демократия противоречит русским политическим и культурным традициям. И это не может не беспокоить, ведь культивирование идеологемы о «тысячелетнем рабстве» - явление крайне вредное, хотя бы потому, что позволяет оправдывать авторитаризм и любой произвол властей словами «так было всегда». Не говоря уже о том, что это просто неправда. На наш взгляд, исторически проблема России заключалась вовсе не в отсутствии гражданских тенденций, не в равнодушии русского народа к ценностям свободы, а в том, что в России, в отличие от Запада, процессы гражданской трансформации общества были сорваны, так и не получив своего завершения.
Под гражданской трансформацией мы понимаем выстраивание такого типа отношений между властью и обществом, в рамках которого власть не опекает общество, не доминирует над ним, но выступает скорее как равная сторона. При этом общество формирует демократические институты участия и контроля над правящей элитой. Как мы покажем ниже, подобные тенденции были присущи России на разных этапах ее истории.
-2-
Разговор об истоках демократии в России вряд ли возможен без упоминания о вечевой традиции. В домонгольской Руси развитие городов и усиление городских общин привело к серьезной эволюции отношений между народом и князьями. С середины XI в. в летописных источниках все чаще встречаются указания на участие горожан в общественной и политической жизни через институт вечевых соб¬
82
Денис ЛЕТНЯКОВ. Истоки гражданской политической...
раний. В догосударственный период вече было племенной сходкой у восточных славян, теперь же, по мере разложения родоплеменного строя и складывания новых социальных связей, вече превращается в важный политический институт. Постоянно действующим органом вечевые собрания так и не стали, тем не менее, они имели довольно широкие полномочия, вплоть до возможности изгнания неугодного князя и призвания нового.
Первый известный случай подобного рода произошел в Киеве в 1068 г. Согласно Ипатьевской летописи, после поражения от половцев на реке Альте киевского князя Изя- слава киевляне «створивше вече на торговищи [торговой площади], и реше, пославшеся ко князю: “Се Половци ро- сулися по земли, да вдаи, княже, оружье и кони, и еще бьемся с ними”. Изяслав же сего не послуша»1. Раздосадованные нежеланием князя вооружить городское ополчение, киевляне прогоняют его и сажают на престол Всеслава Полоцкого. Начиная с 1113 г., когда на княжение был приглашен Владимир Мономах, практика призвания и изгнания князей на вече становится в Киеве регулярной. Несколько позже она утверждается и в других крупных городах Древней Руси.
Известно, что в межкняжеской среде утвердился принцип старейшинства, согласно которому престол должен был занимать старший в роду, однако на практике этот принцип мог и не соблюдаться. Скажем, приглашение Мо- номаха в Киев явно не соответствовало решению Любеч- ского съезда «каждый да держит отчину свою», ведь «отчиной» Мономаха был Переяславль. Несколькими годами
1 Полное собрание русских летописей (ПСРЛ). М., 1962. Т. 2, стб. 160.
83
И. Культурно-исторические аспекты
раньше тот же Мономах, будучи еще переяславским князем, договорился со Святополком Киевским, что отзовет с новгородского княжения своего сына и посадит на его место сына Святополка. Узнав об этом, новгородцы прислали в Киев послов с изящно сформулированной угрозой: «Не хощем Святополка, ни сына его; аще ли две голове имеет сын твой, то поели [его]».1 В этой ситуации князьям пришлось подчиниться воле новгородского веча.
Городские общины ясно осознавали свою силу и влияние и при случае напоминали об этом князьям. Так, киевляне, приглашая на престол князя Изяслава Мстиславича в 1146 г., предупреждают его: «Не хоцем быти акы в задни- чи»2. В древнерусском языке слово «заднича» обозначало наследство, собственность. Иными словами, горожане объявили, что не желают, чтобы князь относился к ним как к своей собственности, а значит, старое патерналистское восприятие власти переживало серьезный кризис. На Руси постепенно утверждался иной, общественный тип легитимации власти, когда для ее завоевания и удержания князья уже не могли рассчитывать исключительно на военную силу, теперь необходимо было и согласие со стороны общества.
То, что взаимоотношения князей с народом не укладываются в чисто феодальную логику господства и подчинения, заметно и по некоторым другим летописным фрагментам. Вот, например, рассказ о прибытии нового князя в Переяславль в начале XIII в. Перед смертью Всеволод Большое Гнездо направляет на княжение в этот город своего сына Ярослава. Приехав туда, Ярослав первым делом
1 ПСРЛ. М., 1962. Т. 2, стб. 251.
2 ПСРЛ. М., 1962. Т. 2, стб. 323.
84
ДенисЛЕТНЯКОВ. Истоки гражданской политической...
собирает вече: «...съзвав вси преяславци, к С[вя]тому Сп[а]су, и рече им: “Братия переяславци, се от[е]ць мои Иде к б[о]гови, а вас удал мне, а мене вдал вам на руце. Да рците ми, братия, аще хощете мя имети собе, яко ж[е] имеете отца моего, и головы свои за мя сложити?”»1. Помимо того, что князь спрашивает согласие горожан на занятие престола, показательно и употребленное Ярославом обращение «братия переяславци», которое на Руси подчеркивало равенство сторон.
Почти в это же время другой князь, Юрий Всеволодович, после поражения от новгородцев в Липицкой битве (1216 г.) прискакал во Владимир, преследуемый неприятелем, и обратился к народу со словами: «Братья Володимер- ци, затворимся в граде, негли [может быть] отбьемся их». В ответ же услышал: «Княже Юрье, с ким ся затворим? Братья наша избита, а инии изимани [взяты в плен], а прок [остаток войска] наш прибегли без оружия, то с кым станем?». Осознав невозможность обороны города, Юрий стал просить: «То аз все ведаю, а не выдайте мя ни брату князю Константину, ни Володимеру, ни Мстиславу, да бых вышел по своей воли из града»2. Комментарии, как говорится, тут излишни. Заметим только, что оба примера взяты из истории Северо-Восточной Руси, где, согласно распространенному мнению, княжеская власть была наиболее сильной.
Важным моментом в дальнейшем развитии гражданских тенденций на Руси стала практика заключения договоров между князем и пригласившими его горожанами.
1 Летописец Переславля Суздальского (Летописец русских Царей) // ПСРЛ. М., 1995. Т. 41. С. 130.
2 ПСРЛ., М., 1962. Т. 1, стб. 499-500.
85
II. Культурно-исторические аспекты
Примерно со второй половины XII в., утверждаясь на престоле, князь все чаще должен был заключать с городской общиной договор. В источниках он обозначается как «ряд», «наряд» или «поряд». В нем оговаривались некоторые условия занятия престола, размеры княжеских кормлений и т. д. Все это ставило князя в определенные, строго очерченные рамки. К сожалению, не сохранилось подробных указаний на то, как проходила процедура заключения «ряда», как правило, летописец просто упоминает, что народ и князь целовали друг другу крест или что тот или иной князь «взма ряд» с горожанами. Например, в 1169 г. киевляне пригласили на княжение Мстислава Изяславича, прибывший князь «възма ряд с братьею, и с дружиною, и с кияны»1.
Сегодня, при ограниченном объеме дошедших до нас древнерусских источников, трудно однозначно сказать, насколько обязательной была процедура заключения «ряда», однако то, что в какой-то момент это стало вполне устоявшимся обычаем, видно из Ипатьевской летописи, рассказывающей о том, как в 1154 г. только что избранный киевский князь Ростислав ушел в военный поход на Чернигов. Во время похода на совете со своей дружиной Ростислав слышит упреки в легкомысленном поведении: «Мужи же бороняхуть ему поити Чернигову [критикуют за поход на Чернигов], рекучи ему: “Се Бог поял стрыя твоего Вы- чеслава [Бог забрал твоего дядю Вячеслава], а ты ся еси еще с людми Киеве неутвердил; а поеди лепле в Киев, же с людми утвердися, да аче стрый придеть на тя, Дюрги...” (здесь и далее во всех цитатах курсив мой. - Д.Л.)»2.
1 ПСРЛ. М., 1962. Т. 2, стб. 534.
2 ПСРЛ. М., 1962. Т. 2, стб. 473-474.
86
Денис ЛЕТНЯКОВ. Истоки гражданской политической...
То есть бояре Ростислава настаивают на том, что князю для удержания киевского престола необходимо сначала поехать в Киев и заключить «ряд», а потом уже думать о войне, иначе власть в городе может захватить другой князь - дядя Ростислава, Юрий.
Необходимо также отметить, что, несмотря на существование определенной местной специфики, политическое устройство древнерусских земель вплоть до татаро-монгольского нашествия не имело принципиальных различий. Вечевые институты, вопреки расхожему мнению, не были уникальной чертой Новгорода и Пскова. По крайней мере, современники никак не выделяли политическое устройство северо-западной Руси среди остальных территорий, об этом говорит примечательный фрагмент Лаврентьевской летописи, датируемый 1176 г.: «Новгородци бо изначала и Смоляне и Кыяне и Полочане и вся власти [т. е. все волости - древнерусские земли] яко на думу на вече сходятся»1. Формы политического участия и социальной интеграции, которые складывались в русских городах, вообще были характерны для европейского города того времени. Между становлением вечевых институтов на Руси и образованием европейских коммун довольно много общего. Именно города были очагами средневековой демократии среди ие- рархичного и авторитарного феодального мира. В городах появлялись принципиально иные формы объединения людей - выстроенные «снизу вверх», на основе принципа выборности; в городах впервые формировались значительные слои свободного населения. И важно подчеркнуть, что русские города домонгольской эпохи не представляли собой исключения из этого общеевропейского правила.
1 ПСРЛ. М., 1962. Т. 1, стб. 377-378.
87
II. Культурно-исторические аспекты
Вечевая Русь погибает в середине XIII в. вследствие ряда причин, главной из которых стало монгольское нашествие и последующее установление татаро-монгольского ига. И хотя вечевая традиция никогда больше не возродится, домонгольский период крайне важен для нас, ибо он показывает, что никакого «гена» авторитаризма в русском обществе не существует. При наличии соответствующих экономических, политических и социальных условий русское общество демонстрирует свою готовность к выработке гражданских взаимоотношений с властью. В Киевскую эпоху такими условиями стало развитие транзитной торговли через восточнославянские земли, расцвет городов как центров ремесла и торговли, а также отсутствие сильной центральной власти, которая бы распространялась на все древнерусские земли.
-3-
Пришедшая на смену Киевской Руси эпоха Московского государства - это время установления в России царского единовластия и самодержавия. И в этом смысле Россия до определенного времени развивается как типичная европейская страна, ведь в Европе к концу XV - началу XVI в. также возникает сильная королевская власть, которая постепенно объединяет разрозненные территории, последовательно наступает на феодальные привилегии и городские вольности. При этом в Московии, как и во многих западноевропейских государствах, существует довольно развитое местное самоуправление, права и полномочия которого были закреплены в специальных грамотах и Судебниках1.
1 По Судебнику 1497 г. царским наместникам было предписано осуществлять суд с участием представителей местного на¬
88
ДенисЛЕТНЯКОВ. Истоки гражданской политической...
В середине XVI в. в Москве был созван первый Земский собор, тем самым дано начало сословно-представительной монархии. Однако в определенный период траектории движения России и Запада принципиально разошлись - в Европе начиная с Нидерландской и Английской революций идут процессы социальной эмансипации и становления гражданского общества, у нас же аналогичные процессы, связанные со Смутным временем начала XVII в., завершились неудачей. К сожалению, данный аспект событий Смуты практически не изучен, между тем это был один из узловых эпизодов всей русской истории.
Повествуя о Смутном времени, традиционная историография рисовала этот период исключительно в черном цвете (что видно уже из закрепившегося за ним названия), делая акцент на иностранной интервенции, народных волнениях, эскалации социальных конфликтов и пр. В свою очередь, политические итоги Смуты, как правило, интерпретировались в чисто консервативной логике: народ, устав от анархии и хаоса, опомнился, освободил столицу от врагов и вернул на престол самодержавного царя, чье отсутствие было для России полной катастрофой. Приведем характерную цитату на этот счет из И.Л. Солоневича: «Посадские мужики пришли в Москву, разогнали поляков, бродяг и воров, восстановили самодержавие и ушли домой на свои промыслы и пожни, погрозив своим кулачищем
селения: сотских, а также т. н. «добрых людей». При Елене Глинской в Московском государстве проходит «губная» реформа, суть которой заключалась в создании особого выборного органа самоуправления («губной избы») для охраны общественного порядка. В 1551 г. на Руси была проведена еще одна реформа местного самоуправления: жителям было дано право совсем отказаться от царских наместников в уездах и городах, заменив их выборными земскими властями.
89
И. Культурно-исторические аспекты
будущим кандидатам в олигархию и диктаторы»1. Солоне- вич восхищается мудростью русского народа, который имел возможность избавиться от самодержавия, но не сделал этого. Более либеральные авторы писали о тех событиях уже без восхищения, а скорее с некоторой досадой, но сходились обычно на том же - Смута кончилась реставрацией прежнего политического порядка.
Действительно, политические традиции - вещь довольно устойчивая, и русское общество начала XVII в. по-прежнему не представляло себя без царя, однако ряд фактов свидетельствует о том, что нормальное политическое устройство после Смуты виделось многим в России уже отнюдь не в простой реанимации старых институтов власти.
Как известно, одной из причин Смутного времени стал кризис легитимации власти. Большую роль здесь сыграла опричнина Грозного, жестоким террором утвердившая в России иосифлянское понимание самодержавия как власти сакральной, стоящей над всеми социальными институтами. Довершили дело три подряд неурожайных года (1601-1603), после которых авторитет нового царя Бориса Годунова оказался полностью подорван и в стране началось серьезное социальное брожение, «война всех против всех», завершившаяся фактическим развалом государства. Но чем сильнее в русском обществе проявлялись анархические тенденции, тем явственнее внутри него вызревали противоположные, гражданские. Как следствие - появление чувства ответственности народа за судьбу своей страны, широкий подъем национального и религиозного самосознания, мощные процессы социальной интеграции.
Первые признаки общественного подъема зарождаются на русском Севере, где с осени 1608 г. начинаются выступления против поляков и отрядов Лжедмитрия II. Население
1 Солоневич И.Л. Народная монархия. Минск, 1998. С. 417.
90
Денис ЛЕТНЯКОВ. Истоки гражданской политической...
организует там собственные ополчения во главе с выборными вождями, повсеместно создаются всесословные городские и уездные советы. Затем эти институты дополняются еще более широкими формами интеграции: города начинают обмениваться между собой грамотами, координируя свою политику, а также образуют общие выборные органы - скажем, в Галиче создается «собранье великое ратных людей», включавшее тяглых и служилых людей из нескольких городков в его окрестностях.
Следующим этапом социальной интеграции стало формирование уже на общенациональном уровне институтов, выстроенных «снизу вверх». В самом начале 1611 г. в Рязани создается Первое земское ополчение, целью которого было освобождение Москвы от поляков. Состав ополчения включал в себя вооруженные отряды из 25 русских городов. Подойдя к столице и осадив ее, ополченцы учреждают собственные органы власти, центральное положение среди которых занимал «Совет всей земли». В него входили выборные от всех городов, участвовавших в земском ополчении, а «воеводами» (руководителями) были избраны рязанский думный дворянин П.П. Ляпунов, князь Д.Т. Трубецкой и казачий атаман И.М. Заруцкий. Отказывая в легитимности правительству «Семибоярщины», ополченцы берут на себя функции национального правительства - от имени «всей земли» они решают различные государственные вопросы, раздают поместья, назначают городовых воевод, рассылают грамоты с просьбой прислать подкрепление в подмосковный лагерь и даже ведут переговоры о приглашении на русский престол шведского принца.
Спустя три месяца после начала осады столицы внутри ополчения произошла серьезная реорганизация властных институтов. Под давлением рядовых участников ополчения, недовольных постоянными разногласиями внутри
91
II. Культурно-исторические аспекты
триумвирата Трубецкого, Ляпунова и Заруцкого, а также частыми случаями произвола со стороны руководителей ополчения, был созван представительный орган - Земский собор. На заседаниях собора был разработан и принят документ, известный как «Приговор» 30 июня 1611 г. Его текст является лучшей иллюстрацией процессов становления новых принципов взаимоотношений между обществом и властью, утверждавшихся в Смутное время.
В частности, «Приговор» вводил существенные ограничения власти выборного земского правительства, члены которого по привычке назывались в тексте «боярами». Статья 19 гласила: «А строить Землю и всяким земским и ратным делом промышлять, бояром, которых избрали всею Землею и по сему всее Земли приговору. А смертною казнью без земскаго, и всей Земли приговору бояром не по вине не казнити»'. Под «всей Землей» в данном случае подразумевался Земский собор, получавший в новых условиях статус высшего властного органа. Это подтверждает и статья 24, посвященная ответственности «бояр» и «воевод» (военачальников) перед «Землей»: «А буде бояря, которых выбрали ныне всей Землей для всяких земских и ратных дел в правительство, о земских делах радети и расправы чинити не учнут во всем в правду, и по сему земскому приговору всяких земских и ратных дел делати не станут... или которые воеводы бояр во всех делах слушати не учнут, и нам всею Землею вольно бояр и воевод переменити, и в то место выбрати иных, поговоря со всею Землею, хто будет болию к земскому делу пригодится»1 2. Гибель Ляпунова меньше чем через
1 Из «Приговора» Первого ополчения 30 июня 1611 г. // Хрестоматия по истории России с древнейших времен до 1618 г. / Под ред. А.Г. Кузьмина. М., 2004. С. 638.
2 Там же.
92
Денис ЛЕТНЯКОВ. Истоки гражданской политической...
месяц после принятия «Приговора» вызвала распад Первого ополчения, и документ фактически не успел вступить в силу, но, несмотря на это, он чрезвычайно важен для нас как показатель политических настроений и мировоззренческих установок, вызревавших в русском обществе в Смутное время.
Идея юридического ограничения верховной власти вообще была одной из центральных в Смуту и неоднократно возникала в связи с различными политическими событиями. Впервые она была реализована при восшествии на престол Василия Шуйского, принявшего «крестоцеловальную запись», в которой он обязался не предавать «всякого человека» смертной казни без «истинного суда» с боярами. В 1610 г. появился проект Михаила Салтыкова, предлагавшего пригласить на русский престол польского королевича Владислава, оговорив его власть рядом принципиальных условий, в числе которых было требование принимать новые законы только совместно с Боярской Думой и Земским собором: «...суду быти... по прежнему обычаю... а буде похотят в чем пополнити для укрепления судов, и государю на то позволити з думою бояр и всей земли...»1. Говоря о проекте Салтыкова, А.Л. Янов сравнивал его со «Славной революцией» 1688 г. в Англии, ведь в обоих случаях русской и английской элитой двигало стремление призвать в качестве гаранта гражданского мира иноземного правителя, власть которому передавалась бы на определенных условиях, закрепленных юридически.
Но в отличие от ситуации с Василием Шуйским и королевичем Владиславом, «Приговор» 1611 г. интересен тем, что он исходил не от аристократии, а от более демократич¬
1 Цит. по: Карацуба И.В., Курукин И.В., Соколов Н.П. Выбирая свою историю. «Развилки» на пути России: от Рюриковичей До олигархов. М., 2006. С. 135.
93
II. Культурно-исторические аспекты
ных слоев населения, значит, задача защиты от властного произвола воспринималась как важная различными социальными группами. Наибольшую роль в этом сыграл опыт опричнины, воочию показавшей русскому обществу, какую опасность представляет собой неуправляемый тиран, возомнивший себя наместником Бога на земле.
Поэтому было вполне логично, что после изгнания поляков из Москвы Вторым земским ополчением К. Минина и Д. Пожарского и возведения на престол Михаила Романова Земский собор, осуществлявший избрание царя, не был распущен. Он проработал еще два года, после чего был сразу же заменен новым Земским собором. И вплоть до 1622 г. соборы заседают в столице без перерыва, выполняя при этом самые разнообразные функции: они устанавливают новые налоги, решают вопросы войны и мира, участвуют в выборе нового патриарха, а также занимаются многими текущими делами государственного управления. При этом Земские соборы посылают в города грамоты, которые по своему значению считаются равносильными царским, имеют собственную печать и дают различные указания от своего имени. В свою очередь, все царские распоряжения обязательно легитимируются ссылкой на соборный приговор. Формулировка «на соборе государь приговорил» становится неотъемлемым атрибутом официальных бумаг Московского государства. Вряд ли будет преувеличением сказать, что в первые годы после Смуты ни один европейский парламент не мог сравниться с Земским собором по степени своего влияния на государственные дела, а Россия по меркам абсолютистского XVII в. была просто ультра-демократической страной, ведь до Английской революции было еще несколько десятилетий!
Помимо этого, существуют серьезные основания полагать, что Михаил Романов вступил на престол отнюдь не
94
ДенисЛЕТНЯКОВ. Истоки гражданской политической...
как самодержавный монарх и был вынужден согласиться с некоторыми ограничениями своей власти. Об этом факте вскользь упоминается в псковском сказании «О бедах, скорбях и напастях». Рассказывая об избрании первого Романова, автор пишет: «Егда его на царьство посадиша и к роте приведоша»1, т. е. «когда его посадили на царство, то привели к присяге». Похожее замечание есть в книге фактического современника тех событий Григория Кото- шихина: «А отец его [Алексея Михайловича], блаженныя памяти царь Михаиле Федорович, хотя “самодержцем” писался, однако без боярского совету не мог делати ничего»2 3. Более подробную информацию об «ограничительной записи» приводит немец И.Г. Фоккеродт, живший в России при Петре I. Он рассказывает, что на Земском соборе 1613 г. было единодушно решено «не выбирать себе в цари никого, кроме того, кто под присягой обещается предоставить полный ход правосудию по старинным земским законам, не судить никого государскою властью, не вводить новых законов без согласия собора, а тем менее отягощать подданных новыми налогами, или решать что бы то ни было в делах войны и мира»1. Вряд ли случайно и то, что до 1625 г. на царской печати отсутствовало слово «самодержец»4.
Таким образом, хотя после Смуты политические формы продолжают во многом оставаться старыми - тот же царь, Боярская Дума, Земские соборы, - но теперь они наполняются совершенно новым содержанием. Это был
1 ПСРЛ. М., 2003. Т. 5. Вып. 1. С. 131.
2 Котошихин Г.К. О России в царствование Алексея Михайловича. М., 2000. С. 150.
3 Цит. по: Кузьмин А.Г. История России с древнейших времен До 1618 г.: В 2 т. М., 2003. Т. 2. С. 384.
4 Соловьев С.М. Сочинения: В 18 кн. М., 1990. Кн. 5. С. 243.
95
II. Культурно-исторические аспекты
действительно революционный момент для русского общества.
Всплеск социальной активности, рожденный Смутой, продолжался еще некоторое время. Соляной бунт 1648 г. в Москве показал, что народ по-прежнему готов и на достаточно радикальные способы отстаивания собственных интересов. Тогда к взрывоопасной ситуации в столице привел произвол царских приближенных - Б. Морозова, Л. Плещеева, П. Траханиотова, раздражавших население взятками и поборами. Последней каплей стало резкое повышение цен на соль. В этой ситуации москвичи быстро самоорганизуются. Немецкий путешественник Олеарий, бывший тогда в Москве, пишет в своих воспоминаниях: «Утром и вечером у церквей происходили сборища, причем совещались, как быть с этою невзгодою»1. Вскоре обстановка в городе стала почти революционной: разъяренным народом был разграблен дворец Морозова, избиты многие из близких к Плещееву бояр, в своем доме убит думный дьяк Н. Чистой, державший в руках торговлю солью в Москве. Не слишком церемонились и с самим царем - во время возвращения Алексея Михайловича с богослужения москвичи, прорвавшись к нему, схватили его лошадь за уздцы и начали выражать свое недовольство. Под давлением народа царь был вынужден выдать разъяренной толпе Плещеева и публично казнить Траханиотова. Царского воспитателя Морозова едва удалось спасти, причем для этого царю пришлось выступить перед москвичами с довольно унизительной речью.
Состояние русского общества в тот момент сильно напоминало английскую ситуацию накануне революции 1640 г. Б.Ю. Кагарлицкий верно замечает, что «требования
1 Олеарий А. Описание путешествия в Московию. М., 1996. С. 262.
96
Денис ЛЕТНИКОВ. Истоки гражданской политической...
бунтовщиков [в России] поразительным образом перекликались с лозунгами, вдохновлявшими народное возмущение в Англии»1, и добавляет наблюдение шведских послов о том, что москвичи хотят «хороших законов и свободы»2. Но если Английская революция закончилась победой парламента и казнью короля, то в России общественный подъем был вскоре подавлен. Укрепившаяся на престоле романовская элита смогла остановить развитие гражданских тенденций в стране, нейтрализовав институты общественного участия и контроля над властью, главными из которых были Земские соборы. Собор 1653 г. стал последним в русской истории. Российское общество не смогло удержать и закрепить завоевания, совершенные в период Смуты. Вот где, по сути, кроются завязка русского авторитаризма и начало движения России от Европы.
Почему же схожие процессы в России и в Европе привели к разным результатам? Причина здесь кроется, в первую очередь, в том, что социальный подъем начала XVII в. был слишком кратковременным для того, чтобы русское общество успело по-настоящему стать субъектом политического участия - тенденции к этому только начали оформляться. Ситуация в стране после Смуты была еще во многом переходной, параллельно сосуществовали старые и новые формы социальной организации, старые и новые формы легитимации власти. За теми же Земскими соборами не было долгой, устоявшейся традиции - в Англии к началу революционных событий история парламентаризма насчитывала почти четыре столетия, наполненных успешной борьбой сословий за свои права и привилегии. Зем¬
1 Кагарлицкий Б.Ю. Периферийная империя: циклы русской истории. М, 2009. С. 215.
2 Там же.
4 Зак. 1988
97
И. Культурно-исторические аспекты
ские соборы до Смутного времени созывались лишь четыре раза.
Свою роль сыграло и то, что в России не оказалось социальной группы, которая бы выступила локомотивом социальных изменений. На Западе такую функцию взяла на себя буржуазия (в Англии она действовала в союзе с джентри - новым дворянством, встроенным в капиталистические отношения). В России самодержавию удалось достаточно легко перетянуть на свою сторону и дворянство, и часть нарождавшейся буржуазии, поскольку в силу формировавшейся у нас периферийной экономики, основанной на вывозе за рубеж сырья и продовольствия (главным образом зерна), эти социальные слои были заинтересованы не в окончательном демонтаже сохранявшихся элементов феодализма, а напротив, в усилении крепостничества и развитии внеэкономических форм принуждения. Поэтому они и объединились в итоге с властью против «низов», а не с «низами» против власти.
Символом завершившейся в России реставрации стал Медный бунт 1662 г. Как известно, волнения 1662 г. в Москве были вызваны обесцениванием медных денег. И показательно, что в ситуации тяжелого финансового кризиса общество пытается еще взаимодействовать с властью в прежней гражданской логике - представители московских тяглых общин обращаются к царю с настойчивой просьбой о созыве Земского собора для обсуждения и разрешения сложившихся проблем: «То дело всего государства, всех городов и всех чинов, и о том у великого государя милости просим, чтобы... указал для того дела взять изо всех чинов на Москве и из городов лучших людей по 5 человек»1. Но царь оставил эту просьбу без ответа, что привело к эскала¬
1 Цит. по: Платонов С.Ф. Собрание сочинений по русской истории: В 2 т. СПб., 1993. Т. 1. С. 372.
98
Денис ЛЕТНЯКОВ. Истоки гражданской политической...
ции напряженности в столице и вылилось в крупное народное выступление, едва не закончившееся плачевно для самого Алексея Михайловича. По словам Г. Котошихина, восставшие, придя к царской резиденции, угрожали царю: «...учали царю говорить сердито и невежливо, з грозами»1 - и едва удержались от рукоприкладства. Котошихин добавляет, что «те люди говорили царю и держали его за платье за пуговицы»2. Но если несколькими годами ранее, во время Соляного бунта, власть фактически капитулировала перед народным напором, то теперь царь ответил на восстание откровенно опричными методами - было казнено более 7000 человек и более 15000 изувечено отсечением конечностей и сослано в «дальние города». Так в Московском государстве закончился период гражданского подъема.
-4-
Итак, на излете Московской эпохи в России оформляется авторитарная политическая система, русское общество было закрепощено и подавлено. В дальнейшем в ходе петровской секуляризации и модернизации патерналистские черты отечественной политической системы были парадоксальным образом сохранены и даже упрочены. И хотя либеральные реформы Александра II привели к колоссальным сдвигам, произошедшим в России, непоследовательность большинства преобразований в социально-политической сфере оставила ее практически без изменений. Не решило проблему патернализма и свержение монархии, ибо вскоре после этого в России устанавливается тоталитарный
1 Котошихин Г.К. О России в царствование Алексея Михайловича. М„ 2000. С. 127.
2 Там же. С. 125.
99
II. Культурно-исторические аспекты
политический режим под контролем коммунистической партии.
Читатель, вероятно, спросит: к чему все эти рассуждения о древнерусском вече, Соляном бунте и Земских соборах, если в России в итоге победила другая, авторитарная линия, если сегодня мы все равно живем в обществе с низкой политической культурой, в обществе, где напрочь отсутствуют механизмы контроля над властью? На наш взгляд, говорить о русских демократических традициях все-таки крайне важно, поскольку это принципиально меняет наше понимание российской политической истории, показывая, что, на самом деле, она была крайне противоречивой, и что характер взаимоотношений между властью и обществом в России мог существенно меняться в разные периоды. Таким образом, борьба за политические свободы не является достоянием исключительно западной цивилизации. Об этом нужно помнить сегодня, когда Россия все еще находится на некотором перепутье и вектор ее дальнейшего развития, в том числе в политическом смысле, не вполне ясен. В таких ситуациях неопределенности часто актуализируются поиски собственной традиции, усиливается желание найти некую историческую и культурную основу, на которую можно будет опереться в будущем. Не случайно в сегодняшней российской публицистике идут столь яростные споры вокруг «правильной» интерпретации тех или иных исторических событий. И очень хотелось бы, чтобы наша общественность, наконец, осознала: демократия имеет в России свои исторические корни.
100
III. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ И ПРАВОЗАЩИТНЫЕ АСПЕКТЫ
Александр ОСИПОВ
ВОЗМОЖНОСТИ И ГРАНИЦЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОНЯТИЙ «РАСИЗМ» И «ДИСКРИМИНАЦИЯ»
Начнем с важного явления, которое Роджерс Брубейкер назвал «группизмом». «Группизм» - это не теория, не мыслительная схема, а скорее нерефлексируемые клише мышления или речи, основанные на приписывании социальной группе, в интересующих нас случаях расово-этнической группе, свойств социального субъекта и структурной единицы общества. «Группизм» не тождествен эссенциализму; чаще всего эссенциалистские допущения и теории являются основой для группистской риторики и группистских построений, но это не всегда обстоит именно так. Скорее, дело в том, что привычный и устоявшийся язык постулирует, даже если говорящий не сознает этого, что общество состоит из групп как существ с волей и сознанием, которые взаимодействуют между собой. И когда мы обращаемся к теме расизма, неизбежно сталкиваемся с продуктами группизма. Когда общество представляется людям и описывается как состоящее из коллективных индивидов, это предопределяет дальнейший ход рассуждений и одновременно выводит из поля зрения многие важные проблемы.
Здесь очень важен вопрос о междисциплинарных границах; в подобном контексте из российских авторов его
102
Александр ОСИПОВ. Возможности и границы использования...
рассматривал, пожалуй, только Сергей Соколовский. Современное знание вообще междисциплинарно; оно предполагает ориентацию на проблему и стирание границ между отраслями знания. Когда такое становится нормой и привычкой, специалист неизбежно выходит за пределы своей компетенции, области своего специального знания. И нередко свое профанное представление, обыденное знание механически переносит в науку, в область научного анализа и научных дебатов. В дополнение к этому мы сталкиваемся с ситуациями, когда социальная приемлемость изложения перевешивает научную достоверность.
Расизм - слово, известное у нас в России всем; при этом оно не играет большой роли в научных дискуссиях и исследованиях. Пока еще мало публикаций, где разбиралось бы это понятие, мало исследований, которые проводились бы с опорой на него, и вообще мало людей, которые этой темой занимаются.
Часто параллельно используются два термина, которые близки по смыслу, но не совпадают: расизм и дискриминация. Так как оба призваны описывать похожие или одинаковые явления, то, говоря об одном из них, приходится говорить и о другом. Термин «дискриминация» введен в широкое обращение из понятийного аппарата юриспруденции, где за ним закреплены более или менее определенные значения, о которых речь ниже. Дискриминация в общем плане есть посягательство на равенство. Справедливость и равенство всегда конвенциональны: и неравное, и равное отношение к людям может быть несправедливым. В первом случае - если с людьми по-разному обращаются из-за их групповых характеристик (пола, возраста, этнич- ности и т. п.). Во втором случае - если общие правила навязываются тем, кто не может их выполнить (в силу здоровья, незнания языка, религиозных ограничений и т. п.). И то, и другое будет дискриминацией. Социальное регули¬
103
III. Социально-культурные и правозащитные аспекты
рование основывается на унификации и типизации, но учитывать различия приходится. А при каких обстоятельствах это допустимо? И как далеко можно зайти в требовании учета различных, например, гендерных или возрастных особенностей людей? Отношение, одинаковое ко всем, или учет всех индивидуальных особенностей равно недостижимы, и значение слова «дискриминация» постоянно определяется и переопределяется.
Слово «раса», от которого происходит «расизм», имеет непростую историю. Если изначально под «расами» подразумевалось деление по каким-либо биологическим или фенотипическим признакам, связанным с цветом кожи, разрезом глаз и т. п., то потом такое представление изменилось, и в современной практике международных организаций (особенно в системе ООН) слово «раса» охватывает множество категоризаций по разным основаниям, в том числе по этническому происхождению, этнической принадлежности, социальному происхождению в смысле происхождения из какой-либо страны. В комментариях к основным конвенциям, устанавливающим запрет дискриминации, можно проследить постоянное стремление расширить значение этого термина. Это оправдано с прагматической точки зрения, для того чтобы охватить все возможные виды и формы дискриминации и социального исключения.
Говорить о том, где лежат истоки расизма, непросто, а здесь, наверное, и не нужно. То ли его правильнее считать продуктом колониальной системы и шире - глобальной капиталистической экономики, то ли в качестве точки отсчета надо принимать рабовладение и работорговлю. Сейчас для нас это не важно. Важно, что была система, в которой существовала жесткая иерархия социальных общностей, эти общности описывались в терминах биологического происхождения. Идеологически это иерархическое устройство обосновывалось неполноценностью одних
104
Александр ОСИПОВ. Возможности и границы использования...
общностей («рас») по отношению к другим; иными словами, выстраивалась система аргументов, объясняющая подчиненность одних, изначально и объективно менее пригодных к социальной жизни и обладающих более ограниченным интеллектом, другим, более «качественным». В XIX в. уже появлялись теории такого рода, которые претендовали на научность, но в XX в., особенно после Второй мировой войны, такие идеи в значительной части уходят в прошлое. Колониальная система распадается, нацизм осужден, новые законы запрещают сегрегацию. Идеологии, которые назывались расизмом, становятся маргинальными, непопулярными, разделять их и одновременно состоять в профессиональных, особенно академических, сообществах становится невозможным, такие люди профессиональной средой и политическим классом отторгаются. На протяжении относительно короткого времени происходят глубокие изменения, и оказывается, что за словом «расизм» стоит уже какая-то иная, ускользающая реальность. Остаются, конечно, некоторые явления, которые похожи на то, что было раньше, в XIX в., но они становятся маргинальными и не влияют на повседневность сколько-нибудь большого числа людей (кроме, например, Южной Африки).
Новые реалии в той части, которая относительно проста и прозрачна, неплохо описываются с помощью концепции «культурного расизма». «Культурным расизмом» обозначают определенную политическую риторику и идеи, которые объясняют социальные различия в терминах культуры. Например, такие: иммигранты в Европе не могут полноценно конкурировать на рынке труда, они беднее, чем «коренные» жители, потому что такова их культура - это другая культура, плохо совместимая с «нашей». Такая риторика была и есть, она пользуется некоторым спросом, и к ней тоже часто приклеивают ярлык расизма. Конечно, в жизни некоторых стран бывают периоды, когда такие
105
III. Социально-культурные и правозащитные аспекты
теории оказываются публикой востребованы и даже когда они влияют на правительственную политику, но то, что чаще всего обсуждается в качестве основных проблем, возникает не как следствие таких идей.
Обсуждаемая проблемная область - это неравенства и производство неравенств. Те вещи, которые попадают в эту проблемную область, очень различны, часто несопоставимы и часто друг с другом не связаны.
Есть ментальные состояния, есть установки людей, диктующие, как относиться к другим и воспринимать других. Есть дискурсы - официальные, медийные, научные и прочие. Есть недискурсивные практики, которые определяют отношения людей на производстве, в быту, в пользовании жильем, в отношении доступа к другим благам. Есть, наконец, результаты: фактическое распределение доходов, распределение людей по отраслям экономики и социальным группам, фактическая возможность пользования благами.
При аккуратном и непредвзятом подходе придется признать, что, как правило, публичные дискурсы, касающиеся расы и этничности, например в массмедиа, открыты для интерпретаций. То, что называется жестким языком вражды: когда каким-либо людям открыто и недвусмысленно приписывают какие-то негативные характеристики, исходя из их расовой принадлежности, и в силу этого оправдывают какие-то репрессивные меры - встречается редко. Если меньшинства и иммигранты упоминаются в негативном контексте (когда, например, криминальная хроника в основном посвящена иммигрантам), следует ли в этом видеть язык вражды, приписывание неполноценности, или нет? Интерпретации зависимы от контекста и возникают сами собой, без внешнего наблюдателя и толкователя.
Социальные практики, предполагающие избирательное отношение к людям в силу приписываемой этим людям этничности, как правило, латентны: если кто-то кого-то не
106
Александр ОСИПОВ. Возможности и границы использования...
берет на работу или отказывает в жилье, то это тоже можно толковать по-разному. У людей есть свобода выбора, есть свобода договора, и мотивы уклонения от взаимодействия с условно «другим» могут быть самыми разными. Исключающее поведение - это, вообще-то, норма современной жизни: всегда кто-то делает выбор в отношении другого лица - принимая на работу, отбирая для зачисления в учебное заведение, сдавая квартиру и т. д.
Этническая и расовая принадлежность в современных обществах в той или иной форме, официально или неофициально, так или иначе определяется, и государство или какие-то другие организованные структуры в потенциале имеют инструментарий, позволяющий делать подсчеты и оценки на основе расовых или этнических делений. Таким образом, распределение социальных благ можно в принципе подсчитать и пересчитать по этнической и расовой шкале.
Но распределение социальных благ всегда неравномерно, и всегда можно сказать, что какие-то группы оказываются в более благоприятном, а какие-то - в менее благоприятном положении. В чем причина различий - всегда непростой вопрос. И возникает большой соблазн старые объяснительные схемы приспособить к новой реальности. Постепенно возникают концепции, называемые институциональным, структурным или системным расизмом. Эти понятия не тождественны, но очень близки друг другу. Их суть в том, что в обществе есть определенные сложившиеся отношения по поводу распределения ресурсов, и эти отношения ставят одни категории людей в более благоприятное положение, другие - в менее благоприятное. Эти структуры отношений устойчивы и постоянно воспроизводятся, в том числе независимо от воли и сознания людей. В результате какие-то большие прослойки населения оказываются на социальном дне - имеют низкий доход, получают плохое образование, живут в плохих условиях, еще
107
III. Социально-культурные и правозащитные аспекты
и оказываются сегрегированы пространственно в бедных районах. Пространственная изоляция означает, что им сложно приезжать в более благополучные районы в поисках работы, потому что у них нет машины или в этих местах плохо работает общественный транспорт, что их дети ходят в переполненные и плохо оборудованные школы и т. п. Если они иммигранты - они говорят на языке большинства плохо и с акцентом, и их дети говорят с акцентом, и это тоже ограничивает их возможности. Таким образом, есть множество структурных явлений, которые останавливают социальную мобильность. Все барьеры, вместе взятые, когда они воспроизводят неравенство между расовыми и этническими категориями, и называют структурным расизмом.
Есть еще выражение colour-blind racism, «расизм, слепой в отношении цвета [кожи]». В современном мире достаточно распространено мнение, что расизмом надо называть стремление объяснить социальные диспропорции не неравенством между расовыми группами как таковыми, а другими, чисто социальными причинами. С точки зрения антирасистов - в среде ученых или гражданских активистов, - отрицание того, что между расовыми группами как таковыми есть отношения доминирования и подчинения, и будет чистой воды расизмом. И вот стремление увидеть в реальности отношения между группами и обвинения в адрес тех, кто этого стремления не разделяет, есть большая проблема. Она в той или иной степени проявляется в любой школе, которая пытается объяснять расизм с точки зрения социологии. Такая же логика обнаруживается и в смежных областях, например в среде тех, кто занимается вопросами меньшинств. Упрощенно говоря, по их мнению, есть группа большинства и группы меньшинств, они взаимодействуют, и между ними существуют отношения доминирования и подчинения (и большинство всегда виновато).
108
Александр ОСИПОВ. Возможности и границы использования...
Есть известные социальные философы, которые занимаются темой мультикультурализма. В этой среде общим местом стало опровержение так называемой этнокультурной нейтральности государства в том смысле, что государство так или иначе устроено для удобства носителей доминирующей культуры и этнического большинства, даже если об этом ничего не говорится в законах. Если вдуматься, то этот тезис является банальностью на грани пошлости. Государство, как и любые публичные институты, никогда не нейтрально ни в каком отношении; всегда кто-то в заданных рамках в силу множества причин имеет большие, а кто- то меньшие возможности. Опровержение нейтральности государства основано на смешении нормативных требований с описательными: как нормативное требование процедурная нейтральность государства в определенных рамках допустима, но признание или отрицание нейтральности как подход к описанию реальности граничит с абсурдом.
За словом «дискриминация» выстраивается определенная практическая логика, причем это в первую очередь не требования политкорректности или классовой борьбы, а соображения, скорее, бюрократического свойства. В географическом отношении эта логика в полной мере проявила себя в Соединенных Штатах Америки. В США расовая дискриминация в смысле разного обращения с людьми из- за приписываемого им «расового» происхождения действительно была очень развита, защищена законом, обоснована научными теориями и через устоявшиеся модели поведения и социального взаимодействия буквально вошла в кровь и плоть общества. Постепенно после Второй мировой войны благодаря судебной системе, благодаря гражданскому активизму (прежде всего цветного населения) эта система была сломана, и решающий удар, конечно, нанесли законы о гражданских правах 1960-х гг. Вся дискриминация, которая раньше существовала на уровне писаных
109
III. Социально-культурные и правозащитные аспекты
правовых норм, актов муниципальной власти, внутренних правил корпораций и предприятий, стала незаконной. Всякая дискриминация и сегрегация, связанные с жильем, трудоустройством, приемом в учебные заведения, доступом к товарам и услугам, были отменены, запрещены и (по крайней мере, в явной форме) ушли в прошлое. Но в скрытом виде все это сохраняется в каком-то масштабе, как в любой другой стране.
Мы сталкиваемся с ситуацией, когда есть социальные диспропорции, есть скрытые практики исключений, и остается непонятным, что с ними делать. Нетрудно отменить закон, который кого-то прямо ограничивает в правах из-за этнической или расовой принадлежности. Любое неравное обращение с людьми из-за их принадлежности называется прямой дискриминацией. Если есть записанное на бумаге правило или требование такого рода, например надпись «только для белых», то это несложно выявить, доказать и запретить. Табличка «только для белых» висит, это факт, который можно привести в суде. Сложнее, когда нет таблички, но есть приказ охраннику - не пускать таких-то и таких-то. В принципе, это тоже доказуемо: можно найти свидетелей, провести какие-то следственные действия, хотя это уже сложнее.
Что делать, если, например, на предприятии работают одни белые, а в городе поровну представлено белое и чернокожее население? Для таких ситуаций придумана концепция, которая в Европе получила название «косвенная дискриминация»: когда есть некие нейтральные практики, которые оказывают неблагоприятные воздействия на определенные группы. При этом возникает необходимость институционализировать принадлежность индивида к группе, и необходим учет, чтобы выяснять, кто есть кто в составе определенных групп и кого взяли на работу, а кого нет. В США существует система учета принадлежности к «расо¬
110
Александр ОСИПОВ. Возможности и границы использования...
вым» категориям; формально этот учет добровольный, но стал рутинным до такой степени, что никто его не избегает.
Когда идет тяжба в суде о дискриминации, возможности сторон не равны: у того, кто пытается привлечь обидчика к ответственности и доказать наличие дискриминации (у работника в тяжбе с корпорацией, жильца - с хозяином, гражданина - с полицией), шансов обычно меньше. Тогда суды или законодатель устанавливают правило переноса бремени доказывания на ответчика, то есть не истец доказывает, что его дискриминировали и ему был причинен вред, а ответчик доказывает, что его действия не носили дискриминационного характера. С правовой точки зрения это вполне нормальный подход, потому что в гражданском процессе действует презумпция вины причинителя вреда.
К чему мы приходим в результате всех этих эволюций? Происходит институционализация расовых или этнических групп, устанавливается система учета индивидуальной принадлежности для борьбы с косвенной дискриминацией и устанавливается перечень уязвимых и потому защищаемых групп. Откуда возникла категория защищенного класса? В американском законодательстве есть запрет на дискриминацию (по ограниченному списку признаков, куда входят «раса» и «национальное происхождение»), но для бюрократической и судебной системы проще иметь дело не с отдельными индивидуальными случаями, а с большими категориями людей и модельными ситуациями. Возникает презумпция дискриминационного обращения: если лицо принадлежит к защищаемой категории, то вся система исходит из того, что заявителю (при предъявлении некоторого первичного минимума доказательств) причинен вред, и он подвергался дискриминации, если не доказано иное.
Несложно предсказать, что индивидуальные иски не могут изменить общую социальную ситуацию эффективно. Решений по индивидуальным делам приходится ждать
111
III. Социально-культурные и правозащитные аспекты
долго, и их результативность для общества в целом не очень велика. Хуже обстоит дело в странах с континентальной системой права, лучше - в странах общего права, где признается прецедент и где решение судов высших инстанций может изменить общую практику в какой-то отрасли. Возникает идея позитивных, или «аффирмативных» (affirmative) действий, которые могли бы сломать сложившуюся рутину социальных отношений, из-за которой какие-то категории населения застревают на социальном дне или в целом не могут подняться выше какого-то уровня, пробив невидимый, «стеклянный» потолок. Как можно менять эту рутину? Предлагались в разных странах разные меры, к которым не совсем корректно приклеивается ярлык «обратной» дискриминации. В рамках «позитивных» мер опять оказывается востребованным формально признанное деление на этнические и расовые группы, потому что оценить какие-то меры и поощрить одни компании и корпорации или наказать другие, которые отказываются эти меры применять, можно только постоянно пересчитывая социальные диспропорции и их изменение в результате проводимой политики.
Таким образом, закрепляется институционализация групп, и группы становятся категориями и инструментами социальной инженерии. Результаты этой инженерии противоречивы, вызывают споры и недовольство и приглашают самых разных активистов и наблюдателей описывать и преодолевать проблемы (или то, что они называют проблемами) именно как неравенство между этническими и расовыми группами как таковыми. Почему нет, тем более что есть правовые возможности оспаривать какие-либо явления, потому что они по-разному воздействуют на разные расовые или этнические группы?
Интересный пример - это споры и судебные тяжбы, которые ведутся уже около двадцати лет вокруг проблемы
112
Александр ОСИПОВ. Возможности и границы использования...
так называемого экологического расизма. Речь идет о том, что даже в развитых странах, которые следят за экологическими нормами, все равно есть свалки и вредные производства, и где-то это все надо размещать. Оказывается, что «цветное» население, по крайней мере в США, непропорционально часто оказывается расселенным в районах экологического риска. Есть простое объяснение: там, где размещаются вредные производства и свалки, падают цены на недвижимость и дешевле аренда жилья, и туда же переселяются бедные люди, среди которых велика доля «цветного» населения и иммигрантов. И действует обратная зависимость: в бедных и социально неблагополучных районах дешевле земля, и там проще разместить вредное производство, тем более что у бедных местных жителей меньше возможность лоббировать защиту своих интересов через местные органы власти. Это простые и логичные объяснения, но они не пользуются популярностью, а для активистов гораздо проще и интереснее говорить об экологическом расизме и пытаться оспорить действия корпораций через суд (как правило, безуспешно).
Другой пример: борьба с системой образования в США, где школы финансируются из налога на имущество. Понятно, что богатые районы будут иметь большие возможности для развития школ, а бедные - меньшие. Возникает диспропорция между возможностями получения образования в богатых и бедных районах, и эта диспропорция имеет четко выраженную расовую составляющую. Эту систему финансирования школ активисты пытались оспорить как дискриминационную, но больших успехов в этом не снискали. Важно в этих и тому подобных примерах то, что людей приглашают именно таким образом описывать и пытаться решать социальные проблемы.
Но социальные диспропорции между значительной частью чернокожих и остальным населением не исчезли, по¬
113
III. Социально-культурные и правозащитные аспекты
тому что сложилась система социальных барьеров, и в том числе пространственная сегрегация, одним из следствий чего остаются неравные возможности получения образования. Эти системы отношений стабильно воспроизводятся до настоящего времени, это приводит к серьезным протестам вплоть до бунтов и вызывает к жизни объяснительные схемы, которые опираются на понятие расизма.
Многим, наверное, приходилось встречать выражение «привилегии белого человека». Это пример одновременно неосознанной подмены понятий и успешной идеологической манипуляции. Слово «привилегия» во многих языках имеет два значения: формально признанные преимущества, эксклюзивные права, и преимущества фактические. При использовании выражения «привилегии белого человека» ситуация как бы переворачивается с ног на голову. Говорится не о том, что есть нормальное буржуазное общество и есть прослойка людей, которые в него по тем или иным причинам не вписываются. Утверждается, по сути, противоположное: есть привилегированные сословия и нормальные люди, которых те угнетают и подавляют. Эта риторика оказывается очень удобной и прилипчивой, и для ее обоснования бывает нетрудно подобрать иллюстрации. Похожая логика рассуждений возникла в США, но она экспортируется и в другие страны, и Европа ее тоже постепенно осваивает.
Насколько это для нас важно и интересно? Я предполагаю, что логика обыденного знания и логика обыденной жизни влияют на тех, кто призван эту реальность изучать и описывать. Тем более что в странах типа США граница между активизмом и университетской средой очень условна и вполне проницаема. Давление активистской среды велико, с другой стороны, велико давление бюрократии, которой удобно создание групп как объекта управления. Также есть логика перенесения мыслительных схем из од¬
114
Александр ОСИПОВ. Возможности и границы использования...
ной дисциплины в другую: из юриспруденции в социальные науки, из социальной философии в политику и т. п.
Прямого отношения к России все это, на первый взгляд, не имеет. То, что называют расизмом в самых простых и изначальных значениях, имеет в России явные, грубые и прямолинейные проявления. Есть масса публикаций, которые развивают идеи иерархии рас и социального значения различий по этническим признакам, возникают радикальные организации, происходят убийства на этнической почве и т. п. Есть примеры, когда государство прямо дискриминировало отдельные группы. Эти явные и зримые проявления заслоняют собой многое другое, то, что актуально для других стран. Потому проблема широких интерпретаций расизма для России пока не стоит на повестке дня - ее просто нет.
Но при более внимательном рассмотрении приходится признать, что не все так просто. Например, риторику структурного расизма осваивают националисты. Многие русские умеренные националисты говорят о проблемах русского народа, считая, что социальные и экономические проблемы страны - это не есть вообще проблемы страны, а это проблемы отдельно русского народа и созданы они искусственно, чтобы угнетать русский народ, и поэтому государство у нас «антирусское», «антинациональное». В период перестройки такие же мыслительные схемы демонстрировали люди, выступавшие от имени меньшинств или «титульных» национальностей республик.
Когда исследователи обращаются к теме дискриминации или вообще этнических отношений, очень часто всплывают простые объяснительные схемы, о которых я говорил выше. У людей есть личный опыт, и на основе каких-то обыденных представлений они пытаются делать обобщения и выводы, может быть, верные, а может быть, и нет. Используя обыденные клише, принятые в своей сре¬
115
III. Социально-культурные и правозащитные аспекты
де, считают, например, что паспортная система дискрими- национна и направлена против «кавказцев». То, что сказал по какому-то поводу губернатор Краснодарского края или мэр Москвы Лужков, мы замечаем, потому что это режет слух, но при этом обычно не задаемся вопросом о связи между этой риторикой и действиями. Причинно-следственные связи здесь сомнительны: то, что люди говорят, и то, что они делают, едва ли имеет одну мотивацию. Риторика - одно, обращение с людьми - другое, а на выходе получается третье. И последствия паспортной системы сами по себе не вытекают из этнических отношений. Но если понятие расизма натягивать на непростые и многоплановые процессы, то мы вполне можем получить простую объяснительную схему: она понятна людям и с ней можно идти в прессу. Беда в том, что при своей простоте она не объясняет суть и причину многих процессов, и особенно логику и мотивы поведения отдельных людей. Объяснения выстраиваются за счет приписывания явлениям лишних смыслов. Такие соблазны возникают достаточно часто, и избежать их бывает сложно. Влияет и давление окружающей социальной среды - академической или активистской.
«Расизм» - слово, которое очень часто маркирует народную популярную объяснительную модель или способ интерпретации социальных проблем. В основе этого способа - деление людей на группы и приписывание разным действиям и интеракциям этнического или расового смысла. Так что это слово стоит в первую очередь рассматривать не как аналитический термин, а как категорию практики. Было бы опрометчиво категории, используемые в обыденном мышлении и обыденном языке, некритически переносить в область академической науки.
116
Александр БИКБОВ
НАЦИОНАЛИЗМ КАК НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА: МИНИСТЕРСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И ИММИГРАЦИИ ФРАНЦИИ (2007-2010)
Создание Министерства национальной идентичности и иммиграции в структуре французского правительства (2007) стало звеном в череде правительственных мер и публичных дебатов, которые восходят по меньшей мере к 1789 г., вписывая вопрос о гражданстве в большую историю Франции. Недавний эпизод приобрел особый смысл, поскольку ознаменовал серьезные изменения в политическом курсе - если не сказать во всем политическом режиме Франции - через изменения в контроле над иностранцами и жителями, получающими гражданство по факту рождения на территории или в результате натурализации. В ходе предвыборной кампании 2007 г. Николя Саркози заявил, что намерен объединить в одном органе компетенции трех министерств, ведавших приемом, оказанием помощи и контролем за иммигрантами, поскольку распыленность функций, по его мнению, делала невозможной миграционную политику как таковую1. Чтобы понять это
1 G as V. Un ministère qui fait polémique // RFI, 13.03.2007 [www.rfi.ff/actuff/articles/087/article_50279.asp]
117
III. Социально-культурные и правозащитные аспекты
заявление в его политическом контексте, следует иметь в виду, что действовавшее разделение было осознанным выбором, который возобновлялся в течение всего послевоенного периода, чтобы исключить риск монопольной власти одного из ведомств над жителями иностранного происхождения, особенно уязвимыми перед лицом институциональной дискриминации.
Иммиграция, объявленная угрозой для безопасности страны (традиционная тема крайне правых), была положена Саркози в основу его предвыборной, а затем и президентской программы. Создание Министерства национальной идентичности, иммиграции, совместного развития и интеграции стало одним из немногих - если не единственным - предвыборных обещаний, которые Саркози выполнил. Претензия бывшего «главного полицейского»1 заключалась в том, чтобы заявить о конце целой эпохи, когда регулярно возобновляемые дебаты о правах неграждан имели столь же регулярным итогом их публичное утверждение, в противовес сегрегации и полицейскому преследованию. Перенос некоторых ведомственных практик МВД в сферу публичной правительственной деятельности, официально закрепляющей различие между «настоящими» и «ненастоящими» французами, ставило под сомнение сам статус «страны-прибежища» («terre d’asile»), этот ключевой элемент «французской исключительности» и предмет гордости во Франции.
Данный эпизод стал важным индикатором не только в отношении меняющихся западноевропейских политик миграции и гражданства. При всех отличиях российского политического контекста от французского, в обоих мы обнаруживаем ряд структурных подобий, имеющих отноше¬
1 До избрания президентом Франции Саркози занимал пост министра внутренних дел (2005-2007).
118
Александр БИКБОВ. Национализм как несостоявшаяся...
ние к механике государственного национализма и расизма. Институциализация националистической установки в отношении неграждан под эгидой Министерства идентичности позволяет увидеть на более контрастном французском материале, какие вызовы и какие ответы на них могут исходить из разных сегментов политического спектра. Именно в этой перспективе и строится дальнейший анализ.
Ведомственная vs. публичная политика в управлении гражданством
Для начала следует определиться с модальностью, в которой мы будем оперировать понятиями гражданства (nationalité)1 и иммиграции. «Чисто» теоретический и даже юридический виды анализа наименее приложимы к реальности, стоящей за этими понятиями, поскольку они зачастую лишь кодифицируют образцы публичных и ведомственных практик, оперирующих различием между гражданами и негражданами. На деле, обе эти категории населения «просто» становятся объектом институциональных манипуляций, официальных и непротоколируемых процедур, экономических возможностей и форм насилия, неодинаково применяемых к каждой из них. В этом смысле институциональные практики, которые универсализируют отношения государства с гражданами и негражданами, не ограничиваются одной только сферой права. Как и иммиграция, гражданство - это опыт властных отношений, ко¬
1 Во французском языке, в том числе в юридической практике, используется понятие не «гражданства» в его буквальном переводе («citoyenneté»), но «национальности» («nationalité»). Чтобы не усложнять язык статьи, я буду переводить французское «nationalité» как более привычное понятие «гражданство».
119
III. Социально-культурные и правозащитные аспекты
торые индивид переживает при найме на работу, посещении учреждений, столкновении с агентами власти и порядка, регламентации его поведения институциональными рутинами. Среди последних оказывается и уплата налогов индивидами и домохозяйствами, и получение въездной визы и вида на жительство, и разрешение на воссоединение с семьей, и доступ к среднему образованию, и получение материальной помощи, и обзаведение медицинской страховкой или возмещение оплаты медицинских услуг, и процедура получения гражданства, и арест на улице или дома без разрешительных документов, и высылка из страны.
Часть этого корпуса рутинных практик носит публичный характер, то есть предполагает осведомленность населения о государственном использовании этих категорий и его информированное согласие. Таков случай уплаты налогов. Другая часть в лучшем случае носит ведомственный характер, то есть не предполагает информированного согласия тех, кто становится их объектом. Таков случай ареста и высылки. Сегодня во Франции последние две практики - такая же плановая рутина, как ежегодный сбор налогов1. Но это все же институциализированная крайность.
В одном и том же режиме управления, который реализует одно и то же ведомство, неизбежно соединяются ведомственные и публичные практики управления населением, а также его двойная категоризация. Это становится дополнительным аргументом против «чисто» юридического подхода к вопросам, связанным с гражданством. Вглядимся в процедуру контроля документов на улице у подозри¬
1 С 2007 г. французское МВД действует согласно так называемым «квотам» (годовым планам) на задержание и высылку иностранцев, не имеющих визы или вида на жительство. Число запланированных к высылке людей колеблется около 25-30 тысяч в год.
120
Александр БИКБОВ. Национализм как несостоявшаяся...
тельных прохожих, которая является частью ведомственной политики МВД. Неафишируемая сторона этой процедуры заключается в преимущественном внимании сотрудников МВД европейских стран, включая Россию, к людям с темной кожей. Эта часть процедуры не регламентирована, классификации, лежащие в ее основании, часто не являются и не могут стать предметом законодательства или публично кодифицированных действий современных государств. Разделение на «белых» и «черных», «русских» и «кавказцев», «французов» и «арабов» в самом смелом варианте может быть предметом письменных ведомственных инструкций, а чаще остается темой устных предписаний. Притом рутинное использование этих практических классификаций скрыто за фасадом публично озвучиваемых универсалистских категорий, таких как «общественная безопасность», «предотвращение рисков», «снижение преступности», которые номинально вообще не дают повода для различения оттенков кожи или гражданской принадлежности. Практическая двойственность классификаций дает основание для критического описания государственных политик, связанных с гражданством и миграцией, в терминах институционального национализма или расизма, при декларативно эгалитаристском законодательстве и официальной риторике1.
1 Критика государственного и, шире, институционального расизма вскрывает дискриминационные эффекты в самых разных областях, от судебных исков до рынка недвижимости, от школьного образования до трудоустройства. См., например: Cain М., Sadigh S. Racism, The Police and Community Policing // Journal of Law and Society. 1982, №1(9); Clark William. Measuring racial discrimination in the housing market // Urban Affairs Quarterly. 1993, №28; Silverman R. The Effects of Racism and Racial Discrimination on Minority Business Development // Journal of Social History. 1998,
121
III. Социально-культурные и правозащитные аспекты
Соединение двух этих режимов классификации, публичного и ведомственного, в пределе тайного, представляет собой крайне интригующий предмет в изучении современного государства. Не менее вызывающими и зовущими к критической работе предстают попытки современных правительств вывести некоторые тайные классификации из ведомственной тени и превратить их в публичные, то есть такие, что предполагают согласие управляемого населения на их использование. Подобные попытки, удавшиеся или не вполне, свидетельствуют о серьезных сдвигах, если не о радикальной трансформации республиканского политического режима с его исходно высокой политической терпимостью к негражданам. Именно это можно наблюдать во Франции последнего десятилетия.
Здесь будет уместно ввести ключевое терминологическое пояснение. Я употребляю понятие «публичной политики» не в ее политологическом (исходно англо-американском) определении как деятельности государства в различных секторах и отраслях1, но в смысле производства современным государством классификаций, или символических инструментов, для такого управления населением, при котором граждане помогают правительству в управлении собой. В большей степени, чем к веберовской легитимности, где сохраняется основополагающая дихотомия между властвующими и подвластными, эта схема публичной политики отсылает к модели правительственности (gouvernementalité), предложенной Мишелем Фуко2. В ос-
№3 (31); Lopez I. Institutional Racism: Judicial Conduct and a New Theory of Racial Discrimination // The Yale Law Journal. 2000, №8 (109). P. 1806-1823; Jones C. Confronting Institutionalized Racism // Phylon. 2002, №1/2 (50).
1 Помимо прочего, такое определение подтверждает оглавление номеров кембриджского журнала Journal of Public Policy.
2 См., в частности: М. Фуко. Правительственность (идея государственного интереса и ее генезис) // Логос, №4-5, 2003.
122
Александр БИКБОВ. Национализм как несостоявшаяся...
лове казуса Министерства национальной идентичности и иммиграции лежит сосуществование двух режимов функционирования институций: ведомственной, тайной практики •и публичных, в том числе дискурсивных, процедур, предполагающих создание инструментов управления населением, когда сами участники этого управления (т. е. само население) согласны с ним и способствуют его под держанию.
Такое понимание окончательно переориентирует проблему гражданства и миграции из юридического русла в русло исследования практических инструментов политического режима. Вопрос о том, предстает ли контроль за границей, отделяющей граждан от неграждан, включая миграцию как «проблему» и мигранта как «опасного» индивида, частью ведомственной или публичной политики, то есть процедур, которые отправляет тот или иной государственный орган (возможно, на неписаных или незаконных основаниях), или частью той системы категорий, которая публично предлагается населению в целях управления им и предполагает его информированное согласие, становится решающим в дебатах о следствиях институциализации «национальной идентичности». Я готов предположить, что именно риски включения контроля за идентичностью в рамки информированного согласия граждан стали источником резкой критики слева, мишенью которой послужило тематическое министерство.
Jus soli, нелегальность, опасность
Основа публичной политики гражданства в послевоенный период во Франции - это подтверждение права на гражданство по факту рождения на французской территории (jus soli, «по праву почвы») и деэтнизация управленческих классификаций. Это также управление миграцией, в том
123
III. Социально-культурные и правозащитные аспекты
числе нелегальной, через следующие показатели: страна про- исхождения, минимально допустимый уровень доходов, наличие родившихся во Франции детей, длительность пребывания на территории страны. Характеризуя миграцию географически и социально, эти показатели существенно затрудняют отделение «настоящих» французов от «ненастоящих» и, следовательно, делают невозможной единую политику применительно к последним. Титульная республиканская модель французской принадлежности такова: французская нация, вне зависимости от этнического происхождения.
Обращение к более длительной исторической перспективе позволяет обнаружить, что за этой формулой скрыта история борьбы, а принципы приобретения гражданства глубоко политизированы. Основное политическое напряжение пролегает по разделительной линии между jus sanguinis («по праву крови») - гражданства, унаследованного от родителей, и jus soli («по праву почвы») - по факту рождения на территории1. Начиная по меньшей мере с 1920-х гг. представители правой и крайне правой части политического спектра настаивают на отмене jus soli, тогда как представители левых позиций требуют, чтобы было законодательно гарантировано не только право на наследование гражданства от родителей, но и право на приобретение гражданства по факту рождения на территории Франции у ро дител ей-иностранцев2.
1 Помимо этих двух способов третьим является натурализация, в частности в связи с браком. Она также становится предметом горячей публичной полемики (в частности, число натурализованных или ограничение их доступа к государственным должностям). Тем не менее, наиболее полно политическую поляризацию по вопросу гражданства отражают первые два принципа.
2 WeilP. La nationalité française (débat sur) // Le dictionnaire historique de la vie politique française (XXème siècle) / Dir. J.-F. Si- rinelli. Paris: PUF, 2003.
124
Александр БИКБОВ. Национализм как несостоявшаяся...
Накал дебатов определяется не только метафизическими характеристиками нации, будто бы страдающей от генетического или культурного «загрязнения», которые склонны приписывать ей почти все крайне правые группы в современных европейских обществах. Позже центральное место в дебатах занимает иная тема - криминальной опасности, которую связывают с присутствием мигрантов на территории и которая в таком виде перестает быть монополией крайне правых. Уже с 1970-х гг. в государственном управлении незаконная миграция во Франции наделяется сразу несколькими негативными коннотациями: неуважение к законам, неуплата налогов, перегрузка социальной системы, потенциальная преступность. Однако между мигрантами (более широко, негражданами) и опасными индивидами/группами еще не установлено тожество на уровне категорий.
Восхождение секуритарной логики, вписанной в «национальную идентичность» и предлагающей рутинные механизмы управления иммигрантами и выходцами из ми- грантской среды как опасным населением, приходится на недавний период. И во Франции, и в России эта логика превращается в господствующую на рубеже 1990-х и 2000-х гг.1. Безусловно, устойчивый сегодня общеевропейский образ «опасного мигранта», со стертыми следами его недавнего изобретения, обязан не только политическим практикам, но и работе средств массовой информации, которые усваивают крайне правую, в целом символическую конструкцию как основу газетных и телевизионных классификаций. Эта работа неизменно обеспечивает политиче¬
1 Rimbert P. Les managers de «l’insécurité». Production et circulation du discours sécuritaire // La machine à punir / Dir. L. Bonelli, G. Sainati. Paris: L’Esprit frappeur, 2004.
125
III. Социально-культурные и правозащитные аспекты
ские практики и дебаты «озабоченным» публичным вниманием. Однако конечные решения по вопросам управления гражданства по-прежнему остаются за ведомствами. Поэтому, обнаруживая в основе деятельности государственных органов мигранта как «проблему» и политики управления рисками, связанными с иммиграцией, важно различать, какие из них являются ведомственными и какие - публичными.
Предельное выражение секуритарная политика получает в статусе иммигранта как лица, противостоящего гражданину. Негражданство на территории во многом превращается в отсутствие возможностей и прав, которыми наделены граждане, и посещение учреждений, прием на работу, запись в школу становится для неграждан эмпирическим доказательством их положения, во многом родственного нелегальности. Точно так же основополагающая нелегальность не-граждан актуализируется в ходе процедур, непосредственно связанных с их статусом и возможностями легализации: от получения туристической визы до приобретения гражданства. В рамках универсальной презумпции, связывающей статус негражданина (от иммигранта до туриста) с опасностью, его гражданская алегальность становится предметом институционального подозрения, полицейской проверки и упреждающих санкций.
В свою очередь, контроль за рисками, связанными с иммиграцией, тяготеет к непубличной политике, поскольку его объектом являются те, кого еще нет на территории страны, или те, кто хуже владеет языком, не получил местного образования или находится в жизненных условиях, затрудняющих информирование. В условиях массовой миграции и сдвига правительств вправо по политической шкале эти обстоятельства превращают миграционную политику в образцовую разновидность государственной политики предотвращения рисков.
126
Александр БИКБОВ. Национализм как несостоявшаяся...
Управление рисками, связанными с гражданством и иммиграцией
Обе политики гражданства и миграции - режим «убежища»1 и режим «подозрения» - разделены относительно зыбкой границей. Приход бывшего министра МВД на пост президента Франции, безусловно, радикализовал сдвиг от первого режима ко второму. Однако, как я уже отмечал, этот сдвиг происходит в насыщенном политическом контексте, где целому ряду институциональных форм уже предпосланы прототипы в виде ведомственных практик и проекты, предложенные противоборствующими сторонами в публичном состязании. Какова новейшая история институциональной модели мигранта как «проблемы», в которую вписывается этот переход?
В целом, для 1970-1990-х гг. был характерен режим относительной терпимости государственных органов к нарушению формальных ограничительных требований, связанных с пребыванием иностранцев на территории. Это включало и возможность для детей нелегальных иммигрантов беспрепятственно получать среднее образование, и возобновление истекшего вида на жительство, и получение бюджетной социальной поддержки при отсутствии гражданства. Одним из немногих факторов политики «на¬
1 К логике убежища по-прежнему отсылают даже российские коммерческие фирмы, предлагающие свои услуги в приобретении виз и гражданства: «Право на иммиграцию, свободный выбор местожительства, на прием политических беженцев и изгнанников традиционно для Франции, и это право на равенство перед законом спасло многих» (сайт «Иммиграция во Францию» [francim.narod.ru]).
127
III. Социально-культурные и правозащитные аспекты
ционального преимущества», носивших публичный характер, выступало право на занятие государственных должностей и ряда профессий исключительно гражданами Франции, получившими образование во Франции. Но и это ограничение имело свои исключения, в частности в сфере образования и исследований, где отдельные институции, такие как Высшая школа социальных наук (EHESS), университет Париж-8 (бывший экспериментальный Венсенский) или Государственный центр научных исследований (CNRS, аналог Академии наук) с достаточной легкостью рекрутировали «атипичных» по этим признакам преподавателей и исследователей.
Очевидно, что режим благоприятствования, традиционно адаптированный к квалифицированным работникам, не распространялся на мигрантов-рабочих или людей без разрешительных документов. В данном отношении за этот период сформировалось подвижное и далеко не всегда юридически регламентированное равновесие между рестриктивными мерами в отношении мигрантов, в частности незаконных (которые усиливались с 1970-х в части доступа на территорию), и разрешающими практиками, создающими «зону толерантности» пребывания неграждан на территории. Такое равновесие обеспечивалось в том числе за счет исключения некоторых инструментов из арсенала государственных классификаций, задействованных в управлении населением, в результате чего государственные органы не могли (и по-прежнему не могут легально) использовать целый спектр ограничительных и карательных мер против неграждан и выходцев из мигрантских сред. Речь об этих инструментах пойдет ниже.
Вместе с тем, в тот же послевоенный период, когда публичные дебаты раз за разом заканчивались утверждением прав для неграждан, полиция во внесудебном порядке помещала незаконных мигрантов в заточение перед вы-
128
Александр Б ИКБ ОБ. Национализм как несостоявшаяся...
сылкой. С 1938 г. у полиции имелось такое право, и им активно пользовалось правительство Виши во время оккупации. С 1945 г. эта практика была признана противозаконной. Однако полиция продолжала отправлять ее, избегая публичности. В 1975 г. скандальную известность получило раскрытие в окрестностях Марселя тайной тюрьмы для мигрантов, которую на протяжении десятилетия контролировала местная полиция. Такая институция была образцом ведомственной и тайной политики контроля рисков, связанных с миграцией, который послужил прототипом для современных «центров административного задержания» (CRA) . Этот тип институции был учрежден в 1981 г. с избранием Франсуа Миттерана (кандидата-социалиста) президентом Франции. Из-под контроля местной полиции такие центры перешли под контроль национальной полиции или жандармерии и стали инспектироваться гражданскими ассоциациями (прежде всего, CIMADE).
Таким образом, проблема ведомственной тайны в миграционной политике была переведена в регистр соблюдения законности, а участие ассоциаций, осуществляющих гражданский контроль, сделало существование таких центров допустимым с формальной точки зрения публичности. Однако проблематичными остались не только процедуры задержания и содержания, но и сам факт принудительной высылки и предшествующего ему ограничения свободы, который оспаривается многими гражданскими ассоциациями (в частности, движениями за права нелегалов [sans papiers], против высылок [anti-expulsion], ассоциация «Образование без границ» [RESF] и других). 1 21 Morice A. Violences expérimentales à l’abri des regards? // Vacarme, №44, 2008.
2 В конце 2000-х через эти центры ежегодно проходили 30- 35 тысяч человек.
5 Зак. 1988
129
III. Социально-культурные и правозащитные аспекты
В противоположность тайной политике в отношении мигрантов, публичная заключалась, в частности, в запрете, наложенном в 1978 г. на сбор любой этнической статистики о населении. В 1974 г. правительство предложило проект SAFARI, который предполагал централизованный сбор социальных данных (включая этнические) о жителях Франции, создание единой базы данных для контроля над населением. Этот проект вызвал жаркие дебаты, и признание его незаконности привело к созданию Комиссии по информационным свободам (CNIL) и изданию закона (1978), содержащего запрет на сбор информации об этническом происхождении граждан Франции и лиц, проживающих на французской территории. С того времени этническая статистика во Франции официально не собирается: ни статистическими и социологическими центрами (в частности, в ходе опросов мнения или переписей), ни государственными ведомствами (МВД, социальными службами и т. д.).
Это наложило достаточно серьезные ограничения на мощь государственного аппарата, производящего классификацию и управление населением, поскольку сделало невозможным возврат к практикам конца 1930-х - начала 1940-х гг. Основанием для резкой критики подобного рода инструментов контроля, которые могло получить в свое распоряжение правительство, служила история периода Второй мировой войны. Проблема данных, находящихся в распоряжении правительства, и проблема учета иностранцев и этнического состава населения однозначно связывалась в публичных дебатах с политикой коллаборационистского правительства Виши, которое по соглашению с нацистской администрацией ввело в 1941 г. различные идентификационные номера, с одной стороны, для коренных французов, с другой - для евреев и иностранцев. На основании этих номеров в дальнейшем осуществлялась
130
Александр БИКБОВ. Национализм как несостоявшаяся...
депортация «не-французов», в частности отправка в лагеря смерти. Помимо того, годом ранее была запущена программа лишения французского гражданства тех, кто получил его по мирному соглашению 1918 г. Это касалось как французов, родившихся в Эльзасе, так и евреев.
Осмысление депортации и уничтожения вишистским правительством евреев и цыган как «неполноценных» обитателей Франции на основании добросовестно и скрупулезно собранной информации о населении имело крайне важное значение для формирования послевоенной публичной политики гражданства. В центре некоторых ключевых дебатов здесь оказывались не «жесткие» практики уличного насилия или институциональной дискриминации отдельных категорий неграждан, но «мягкие», на первый взгляд, инструменты национальной и ведомственной статистики. Их видимая эфемерность, столь явственно (для носителей исторической памяти) увязывающая политику информации с танатополитикой, то есть делающая непростительно легким переход от строгого учета к адресному уничтожению, превратила контроль за возможными рисками в общую модель дебатов и для правительственных, и для оппонирующих им участников. Так, если в рамках восходящей секуритарной логики МВД классифицирует политических активистов, неграждан и выходцев из мигрант- ских сред в терминах контроля за «потенциально опасными» категориями населения; то критика официального секуритаризма также ведется в терминах возможных рисков его использования для республиканского и демократического режима1.
1 Следует отметить, что в поддержании ограничений, налагаемых на мощь государственного аппарата в деле категоризации населения и потенциального использования этих категорий для
131
III. Социально-культурные и правозащитные аспекты
Эту контроверзу ярко иллюстрирует недавний публичный скандал, который был вызван проектом французского МВД «ЕЭУЮЕ» (2008). Проект предполагал создание единой централизованной базы данных на потенциально опасных индивидов начиная с 13-летнего возраста. Такая база предполагала не только сбор данных о мелких правонарушениях, но и создание прогностического инструмента, позволяющего определять, какие социальные категории и слои населения являются наиболее криминогенными. По сути, это был возврат к идеям 1974 г., но с более отчетливыми инструментальными задачами. Проект полностью отвечал идеологии «предотвращения рисков» и был не в последнюю очередь оспорен на том же самом основании. Одним из контраргументов было предвидение того, что в «категорию риска» мгновенно попадали молодые выходцы из мигрантской среды, живущие на окраинах - основные участники французских городских «восстаний» 2005 и 2007 гг. Попытка их упреждающего наказания, которое только усиливало бы эффект социального исключения, была воспринята критиками проекта как очевидный политический риск. Поэтому предложение создать базу данных, которая помогала бы следить за населением, стохастически связывая частоту правонарушений с длительностью периодов безработицы, образованием родителей, частотой обращения за социальной помощью и другими «чувствительными» показателями, было отвергнуто как репрессивная мера.
Следует отметить, что публичный запрет на сбор подобных данных по-прежнему не отменяет их тайное ведом¬
рестриктивных и репрессивных мер, во Франции принимают участие не только гражданские ассоциации и крайне левые непарламентские объединения, но и левые и левоцентристские парламентские партии, такие как Социалистическая партия.
132
Александр БИКБОВ. Национализм как несостоявшаяся...
ственное использование. В частности, есть свидетельства тому, что ведется тайный сбор этнической статистики в отношении мигрантов и «кочующих народов». В 2010 г. разразился скандал, последовавший за массовой высылкой цыган из Франции в Румынию и Болгарию, когда было разрушено несколько их поселений на заброшенных землях. В рамках этого скандала в руки журналистов попали полицейские базы данных, ведущиеся на цыган, то есть использовавшие этнический признак как основание для учета населения. Согласно свидетельствам некоторых по- лицейских-пенсионеров, такие базы данных велись, по меньшей мере, с конца 1980-х гг. В целом в результате запрета на прямое использование этнических категорий в государственном управлении этно-ориентированные или националистические действия государственных органов не исключены полностью. Однако они сохраняют преимущественно ведомственный характер и воспроизводятся в «стертых» для публичного взгляда институциональных рутинах (в частности, в префектурах и в ходе полицейского контроля за миграцией1, в органах социальной поддержки с середины 2000-х), в форме спонтанной этнической дискриминации на рынке труда (предпочтение «коренных» в качестве квалифицированных работников) и так далее.
Риски, приписываемые в рамках репрессивной ведомственной политики свободному пребыванию «ненастоящих» французов в составе нации или на территории, существенно разнятся в случае евреев в 1940-е («политическая неблагонадежность» и «моральное разложение нации»),
1 Чему посвящены, в частности, подробные социо-этнографи- ческие исследования Алексиса Спира, например: Spire А.
Accueillir ou reconduire. Enquête sur les guichets de l’immigration. Paris: Raisons d’agir, 2008.
133
III. Социально-культурные и правозащитные аспекты
алжирцев или марокканцев в 1970-е, неграждан Евросоюза и цыган в 2000-е (бытовая преступность, истощение государственного бюджета). Однако инициативы, направленные на локализацию, подсчет, контроль этнического состава населения и иностранцев, при сдвигах вправо систематически тестируемые французскими правительствами на легальность и публичность, оказываются практически увязаны со следующим шагом: поражением в правах и возможной высылкой. Государственный контроль рисков, связанных с миграцией, таким образом, имеет своей целью просеивание населения на территории, иллегализацию и в пределе изоляцию отдельных его категорий. Эти риски становится главным действующим мотивом публичных дебатов и гражданской критики. Обобщая, можно сказать, что точный государственный учет французов иностранного происхождения и иностранцев, а также производство соответствующих классификаций в целях управления воспринимаются критиками как двойная угроза: попрание республиканской модели (верховенство гражданской нации над частными идентичностями) и угроза правам человека в случае неизбежных злоупотреблений государственными органами этой информацией.
Институциализация этнизир о ванного гражданства и национальной идентичности во Франции
Создание в 2007 г. Министерства иммиграции и национальной идентичности было попыткой положить конец политике частичной толерантности, которая локализовалась
134
Александр БИКБОВ. Национализм как несостоявшаяся...
на границе между незаконным и узаконенным не- гражданством. На левом политическом фланге это было ясно воспринято как шаг на пути к открыто антимигрант- ской политике и способ привлечь на свою сторону электорат крайне правого «Национального фронта». Критику вызывало само титульное обозначение «национальной идентичности» и ассоциация его с иммиграцией. Классификационный сбой при существующей республиканской французской «идентичности» содержался уже в указании на некую иную «национальную идентичность», помимо уже имеющейся. Одно это было воспринято как националистический акт, то есть попытка отделить французов с «правильной» идентичностью от тех, у кого она неполноценная, «достойных» гражданства от «недостойных». Одной из действенных сил в развернувшихся публичных дебатах выступили историки, которые аргументировали параллели с аналогичными мерами правительства Виши.
Помимо того, критике слева подверглись задачи министерства, куда были включены «удаление» мигрантов с французской территории (т. е. высылка), борьба против незаконного получения гражданства и ряд иных репрессивных мер. Учитывая ряд расистских заявлений, сделанных Саркози на посту министра МВД, и в целом его правую политическую программу, эти опасения выглядели обоснованными. А его президентство было отмечено целой серией схожих позиционных инициатив: начиная с курьезной «патриотической» меры, обязывающей школьников петь каждое утро перед занятиями Марсельезу, принятия мер против граждан Франции, наказуемых материально (и вплоть до тюремного заключения) за любую помощь незаконным мигрантам, заканчивая введением упомянутых ранее 25-30-тысячных годовых «квот» на высылку из страны неграждан без разрешительных доку¬
135
III. Социально-культурные и правозащитные аспекты
ментов1, тестом ДНК для воссоединения с семьей, угрозой лишения гражданства за преступления и массовой депортацией цыган. Большинство этих операций совместно координировали МВД и Министерство иммиграции и национальной идентичности.
Помимо соотнесения «национальной идентичности» с этническим происхождением и неявным наступлением на jus soli, Министерство идентичности предлагало опасную централизацию ведомственных практик, упрощающую или прямо производящую институциональную дискриминацию. Наряду с «квотами» на высылку, которые можно сравнить с планированием раскрытия преступлений в российском МВД, за министерством была закреплена плановая высылка мигрантов, совершивших преступления. «Квоты» на высылку сразу же стали темой разоблачительных публикаций в СМИ и победных публичных реляций со стороны министерства. В рамках новой публичной политики предполагалось, что это может стать демонстрацией силы, адресованной даже не столько мигрантам, сколько «коренным» французам - перед лицом «внешней угрозы».
На деле, создание нового министерства не только выводило в публичную сферу некоторые ведомственные практики МВД, но и производило перегруппировку государственных функций. Несколько уже существующих министерств и органов должны были согласовывать свою работу с новым министерством в части управления мигра¬
1 По некоторым данным, в России высылка неграждан без разрешительных документов составляет порядка 4-5 тысяч человек в год, что, при разнице в общей численности населения между Россией и Францией, делает особенно заметным масштаб новой французской политики.
136
Александр БИКБОВ. Национализм как несостоявшаяся...
цией: в сферах здравоохранения, образования, труда1. Новый орган оказывался продуктом той же модели публичной политики, что и упоминавшийся проект EDVIGE. Оба они представляли собой попытку создания единого центра управления «опасным» населением - иммигрантами и выходцами из мигрантской среды - и отсев наиболее опасных из них для наказания и высылки.
Изменившаяся политика закрывала доступ к ряду возможностей и гражданских прав для больших групп населения, проживающих на территории страны и прежде пользовавшихся такими возможностями в «режиме толерантности». В частности, создание нового органа привело к более жесткому контролю над выходцами из мигрантских сред, включая свертывание для них тех возможностей, которые ранее находились вне зоны репрессивных полицейских мер. Так, с середины 2000-х гг. множественные публичные скандалы были вызваны действиями полиции, получившими особый размах с созданием Министерства идентичности. Полицейские проверяли наличие документов и арестовывали неграждан (с последующей высылкой из страны) у школ, куда те приводили своих детей, в префектурах, куда они обращались за продлением вида на жительство, в агентствах по трудоустройству и в социальных службах, даже на приеме у врачей. Прежняя автономия этих служб и государственных ведомств de facto обеспечивала негражданам защиту от прямых санкций за нарушение визового режима. Объединение ряда функций и прямое принуждение работников различных служб к сотрудничеству с полицией в ее охоте на «нелегалов» и выполнении годовых планов высылки из страны увеличивало расстояние, отде¬
1 Valluy J. Introduction. Quelles sont les origines du ministère de l’Identité nationale et de l’Immigration? // Cultures & Conflits. 2008, № 69.
137
III. Социально-культурные и правозащитные аспекты
ляющее неграждан от граждан и делало положение первых еще более уязвимым при поиске работы, нахождении в общественных местах и на улице, взаимодействии с государственными институтами. В рамках той же схемы единой антимигрантской политики были предприняты попытки вменить полицейские функции в обязанность учителям и врачам, чтобы те информировали МВД о посетителях без документов. На низовом уровне эти инициативы были саботированы или жестко опротестованы публично. Но на ведомственном уровне весь этот комплекс мер привел к «схлопыванию» ранее существовавшей зоны допустимых некриминальных нарушений.
Еще одним следствием создания министерства, поставившего в один ряд темы «национальной идентичности», иммиграции, совместного развития и интеграции1, стала культурная и моральная стигматизация, которая сопровождала попытки проверить население на приверженность набору «французских» ценностей. Так, одной из инициатив министерства в 2009 г. стало приглашение к публичной дискуссии: «Что значит быть французом сегодня?» С одной стороны, в ее рамках планировалось обращение к известным французским интеллектуалам и политикам с предложением дебатов о «ценностях французов». С другой — создание дискуссионных площадок на муниципальном уровне, а также поддержание форума на сайте министерства. К обсуждению предлагались вопросы: «Как наилучшим образом позволить/заставить [faire] выходцев из других стран, пребывающих на национальной территории, усвоить ценности национальной идентичности?» и «Как лучше позволить/заставить усвоить национальные ценно¬
1 Полное название министерства включало: identité nationale, immigration, intégration et codéveloppement.
138
Александр БИКБОВ. Национализм как несостоявшаяся...
сти тем выходцам из-за рубежа, кто впоследствии получает доступ к нашему национальному сообществу?»1. Декларируемая задача дебатов, выходящих за рамки репрессивной логики, но при том вполне стигматизирующих, состояла в обсуждении интеграционных мер, которые допускали бы пребывание неграждан в стране в обмен на согласие с французскими ценностями. Планировалось также проведение тематических социологических опросов и включение вопросов о «ценностях французов» в регулярные статистические обследования населения, что было с негодованием отвергнуто исследователями.
Помимо прочего, дебаты адресовались к соискателям гражданства, которые должны были «заключить контракт с нацией», подтвердив его в ходе собеседования по ассимиляции, позволяющей проконтролировать знание языка и ценностей республики, чтобы открыть «новый путь к французскому гражданству тем, кто приложил исключительные усилия по интеграции»2. На деле, за выспренными формулами скрывалось ужесточение требований ко всем пребывающим на территории негражданам. Это касалось и тех, кто даже не собирался просить о предоставлении гражданства, а желал лишь получить вид на жительство, то есть право пребывания на территории более трех месяцев.
В целом перевод ряда ведомственных практик в публичный регистр, в форме Министерства национальной идентичности и иммиграции, имел три ключевых следствия: во-первых, публичная институциализация связи между
1 Эти вопросы к планировавшимся в 2009 г. дебатам по-прежнему доступны на сайте министерства [www.immigration.gouv.fr/ spip.php?page=imprimer&id_article=1894].
2 Сайт Министерства идентичности [www.immigration.gouv.fr/ spip.php?page=:actus&id_rubrique=254&id_article= 1894].
139
III. Социально-культурные и правозащитные аспекты
национальной идентичностью и миграцией, между представлением о «национальных ценностях» и правом на гражданство; во-вторых, централизация или, по меньшей мере, частичная координация учета, с опорой на этническое измерение, контроля и высылки с территории «опасных групп» населения; в-третьих, продвижение новой модели взаимодействия правительства и населения, которая избегала запрета на сбор этнической информации путем переопределения прежде универсального института гражданства и введения дополнительных моральных, культурных и родственных им условий.
В полном объеме все эти меры так и не были реализованы. Также провалились интеллектуальные и общенациональные дебаты. В конечном счете, сотрудники министерства были заняты тем, что удаляли с форума на своем веб-сайте откровенно расистские и ксенофобные высказывания1. И по истечении нескольких месяцев с момента объявления дебатов они были публично признаны провалившимися. Еще некоторое время спустя уже бывший премьер-министр Франции Доминик Вильпен уточнил, что они привлекли больше сторонников крайне правого Национального фронта (Ле Пена), чем центристской правой партии «Движение за народное единство» (Саркози). В целом попытка привлечь крайне правый электорат оказалась несостоятельной именно потому, что существование нового ведомства и введение публичной политики национализма не получило информированного согласия управляемых.
1 Так что под конец не начавшейся официально дискуссии на форуме оставались в основном критические замечания, направленные в том числе против инициативы и самого министерства.
140
Александр БИКБОВ. Национализм как несостоявшаяся...
Продолжающаяся морализация гражданства
Как я уже указывал, попытки ввести культурные и моральные ценности в качестве критерия допуска к гражданству не стали изобретением последних лет. Показательно при этом, что требование моральной социализации неграждан или выходцев из мигрантских сред систематически возобновляется в связи с существенно более конкретными, практическими мерами по ограничению прав на гражданство и пребывание на территории. В частности, один из проектов, систематически продвигаемых правыми и крайне правыми во Франции, - это необходимость ограничить гражданство родственной связью, что будто бы гарантирует моральную социализацию. Из относительно недавних примеров обращения к этому аргументу можно упомянуть бурные публичные дебаты о гражданстве, вызванные законопроектом 1986 г., который предлагал отменить jus soli. Правые и крайне правые участники дебатов, в частности Клуб Орлож, настаивали именно на этой связке: гражданство по рождению - достойное воспитание - национальные ценности1.
Дебаты активно освещались в прессе и транслировались по телевидению. В них приняли участие известные историки, социологи, философы. Иными словами, они предстали основополагающим событием публичной политики гражданства, которое вписывалось в модель публичности как информированного согласия управляемых. По результатам дебатов и работы Комиссии по гражданству при
1 Cm.: Etre français aujourd’hui et demain: Les auditions publiques. Paris: Union Générale d’Éditions, 1988. Vol. 1.
141
III. Социально-культурные и правозащитные аспекты
премьер-министре (1987) законопроект 1986 г. был отозван. А одно из ключевых предложений Комиссии было принято на законодательном уровне в 1993 г.: сами дети, рожденные во Франции родителями-иностранцами, должны подавать заявление на французское гражданство1. В первом приближении это означало предоставление гражданства по самоопределению. Однако эмпирическим барьером к свободному самоопределению становилась бюрократическая процедура, связанная с многократным посещением учреждений, и ее небезусловный исход: от соискателя требовалось отсутствие криминального прошлого и в целом положительное общественное поведение. В 1998 г. последовало новое изменение, которое формально ослабило контроль над условиями соблюдения jus soli. Согласно ему французское гражданство автоматически присваивается жителю Франции в 18 лет, если с 13 до 18 он не выразил иного желания.
Учитывая глубоко политический, а не сугубо юридический характер этих процедур, не покажется удивительным, что тематические дебаты и борьба вокруг границы, отделяющей неграждан от граждан и дифференцирующая социальные возможности, доступные каждой из этих категорий, продолжаются. В конце 2000-х гг. практическая политика предоставления гражданства была снова ужесточена. Так, если с 1970-х гг. срок натурализации по заключении брака составлял 6 месяцев, в настоящее время он увеличен до трех лет и сопровождается скрупулезной проверкой фактического совместного проживания и суровым наказанием за фиктивный брак, вплоть до тюремного заключения. Таким образом, в 1990-е гг. jus soli и сопутствующие ему условия натурализации были в очередной раз утвер¬
1 Weil Р. Op. cit.
142
Александр БИКБОВ. Национализм как несостоявшаяся...
ждены как основа публичной политики гражданства. Но условия получения гражданства «по праву почвы», как и более широкие условия приобретения легального положения негражданами, неизменно находятся в фокусе ведомственной дискриминации и сохраняющегося напряжения между правыми и левыми позициями политического универсума.
Между тем, в 2010 г. попытка окончательного закрытия «зоны толерантности», предпринятая при создании министерства, была молчаливо дезавуирована. Прошедшая без публичных дебатов смена правительства в ноябре 2010 г. упразднила Министерство национальной идентичности и иммиграции, а его бывший министр возглавил МВД. В качестве публичной инициативы этнически маркированный национализм оказался несостоятельным, поскольку принес больше потерь правоцентристской партии Саркози, чем выигрышей по сравнению с крайне правыми. И хотя мало кто из наблюдателей во Франции усомнился, что с упразднением министерства произошла всего лишь смена вывески1, важным итогом этого казуса стало возвращение в ведомственную тень ряда функций, которые были на некоторое время выведены в публичный регистр.
Вместе с тем, продолжился сдвиг правительства вправо, и он оказался настолько осязаем в разных отраслевых политиках, что поставил под сомнение постоянство республиканского режима во Франции. Политика МВД, включая ее публичное измерение, по-прежнему ориентирована на «предотвращение рисков» и ограничение доступа не¬
1 Объединенные функции контроля и репрессий против иммигрантов и неграждан были переданы МВД, которое по- прежнему функционирует на основе ежегодных планов на аресты и высылку из страны.
III. Социально-культурные и правозащитные аспекты
граждан к национальным ресурсам. Об этом свидетельствует, в частности, недавнее постановление (2011) об ужесточении условий для иностранных студентов при получении годичного вида на жительство. На неизменный сдвиг вправо указывает и объединение МВД с ведомством, занимающимся «иммиграцией»1, в результате которого вопросы натурализации, ранее находившиеся в ведении МИДа, стали полицейской прерогативой. В результате секуритар- ной централизации миграция по-прежнему признается зоной опасности - не только символически, но и практически, на уровне рутинного контроля. И если проект Министерства национальной идентичности стал неудачной попыткой перевода антимигрантского национализма в информированное согласие населения, то дальнейшая ведомственная криминализация неграждан остается магистральной линией в реформах европейской демократии.
1 Министерство внутренних дел получило следующее название (и функции): Министерство внутренних дел, территориальных коллективностей и иммиграции (Ministère de l’Intérieur, de rOutre-Mer, des Collectivités Territoriales et de l’Immigration).
144
IV. ГРАЖДАНСТВО И МИГРАЦИЯ
Мадлен РИВЗ
КАК СТАНОВЯТСЯ «ЧЕРНЫМИ» В МОСКВЕ: ПРАКТИКИ ВЛАСТИ И СУЩЕСТВОВАНИЕ МИГРАНТОВ В ТЕНИ ЗАКОНА
С конца 1990-х гг. жизнь сельского населения юга Кыргызстана, как, впрочем, и многих других регионов Центральной Азии, начинает все больше зависеть от тех денег, которые им высылают родственники - сезонные мигранты, работающие на рынках и стройках в Российской Федерации. Эта сравнительно новая волна экономической миграции, в результате которой Россия превратилась во вторую после США принимающую страну (Международная организация по миграции, 2005), часто недооценивается западным академическим сообществом, традиционно отдающим предпочтение двум другим животрепещущим темам, связанным с миграцией: внешней миграции этнических русских из постсоветских государств на так называемую «историческую родину» (Brubaker, 1996: 169-173; Pilkington, 1998) и трафик женщин из РФ и других постсоветских государств в Западную Европу и на Ближний Восток с целью использования их труда в сфере сексуальных услуг (Kligman, 2005).
Миграция, которую я разбираю в данной статье, - это, прежде всего, сезонная миграция молодых мужчин и муж¬
146
Мадлен РИВЗ. Как становятся «черными» в Москве...
чин среднего возраста (и в значительно меньшей мере, молодых женщин) из Центральной Азии, занимающих в крупных городах европейской части России и Восточной Сибири рабочие места, связанные с неквалифицированным, административно нерегулируемым и технически незаконным трудом. Мое исследование опирается на глубинные интервью и данные опроса, полученные мною в период с августа 2004 г. по июль 2005 г. в двух соседних киргизских селениях Ак-Татыр и Юч-Дёбё, расположенных на юге Ферганской долины, где Баткенская область Кыргызстана граничит с Таджикистаном. Около трех четвертей сельских хозяйств в этой области за последние пять лет посылали хотя бы одного члена семьи на заработки в Россию, и доход многих семей напрямую или всецело зависит от поступления денег от родственников-мигрантов. Сравнение данных, которые я и мои коллеги получили в ходе опроса жителей, показывают, что хотя миграция из этих двух сел выше по сравнению с другими селами области, но общий уровень миграции здесь отнюдь не является исключительным для Ферганской долины в целом (В1сЬ5е1 е! а!., 2005, ЯоЬпег, 2006).
Тем не менее, целью настоящего исследования было не столько представить общую картину миграции в этом регионе, сколько попытаться передать живой опыт, накопившийся у опрошенных мною людей. Стратегии жизненного поведения и судьбы жителей Ак-Татыра формировались под воздействием специфических исторических и географических факторов. Так, еще в 1970-е гг. школьные учителя из этих сел традиционно отправлялись в город Горький продавать абрикосы, что зачастую рассматривалось ими как большая привилегия, и воспоминания о таких поездках окрашены особой гордостью. Кроме того, на выезд из этих сел в Россию, несомненно, повлиял резко возросший в се¬
147
IV. Гражданство и миграция
редине 1990-х уровень миграции из соседних сел Исфарского района Таджикистана (Олимова, 2003: 22). В результате семьи из Ак-Татыра и Юч-Дёбё приобрели больший доступ к множеству формальных и неформальных банковских систем по сравнению с жителями более отдаленных селений. А поскольку некоторые семьи имели родственников в Таджикистане, у них было больше возможностей, чем у других жителей долины, получить дополнительно таджикский паспорт. Вот почему опыт жителей этих двух приграничных сел можно экстраполировать на регион или страну в целом только с большой осторожностью. Однако сам тип опыта, о котором идет речь, - опыт трудовой миграции, все разнообразные формы воображаемой реконфигурации постсоветского пространства, связанные с ним, показательны для более масштабных изменений сел Центральной Азии, поставляющих мигрантов.
За свидетельствами материального и идейного воздействия этого типа миграции далеко ходить не надо. Например, в Ак-Татыре распространенное выражение «съездить в город» часто означало «съездить в Москву», а вовсе не в ближайший к этому селу город Баткен и даже не в столицу государства Бишкек. На рынке в Шорку, ближайшем селении на таджикской стороне, валютой для больших объемов груза (а когда речь идет о партии абрикосов, часто единственной валютой) выступал российский рубль. Многие респонденты отмечали, что возросшее за последние годы число автомобилей на улицах села, а также видеоплееров и музыкальных центров напрямую связано с «зелеными деньгами», поступающими из России. Таким образом, в ситуации кризиса сельского хозяйства, вызванного ликвидацией государственных колхозов и совхозов, денежные поступления трудовых мигрантов, работающих в России, дают возможность их семьям «держаться на пла¬
148
Мадлен РИВЗ. Как становятся «черными» в Москве...
ву», а иногда иметь материальный достаток даже выше, чем в «голодные 90-е».
Казалось бы, эти примеры взаимозависимости льют воду на мельницу сторонников официальной концепции трудовой миграции как естественного продолжения сложившихся экономических и культурных связей между «двумя братскими республиками» (Евлашков и Негойца, 2006). На первый взгляд, эти новые типы связей (как, например, тот факт, что крестьяне в Ферганской долине гораздо более чувствительны к политике Москвы, нежели к тому, что происходит в Бишкеке или в Ташкенте) также провоцируют нас истолковывать происходящее в терминах транснационализма, провозглашающего отрыв индивида от предписанного его происхождением географического пространства и высвобождения потенциала надграничных перемещений и транснациональных циркуляций (Rouse, 1991; Glick Schiller et al., 1992; Appadurai, 1996; Ong, 1999).
Однако с точки зрения реального опыта многие ситуации трудовой миграции на бывшем советском пространстве характеризуются не столько непрерывностью миграционного потока и открывающимися возможностями, сколько тем, что Джеймс Фергюсон в ином контексте именует «уничижением». Это процесс, когда человека «не просто вышвыривают, но и втаптывают в грязь, что подразумевает его изгнание из сообщества, обесчещивание и моральное унижение» (Ferguson, 1999: 238). Фергюсон занимался изучением жизни шахтеров на медных рудниках приходящей в экономический упадок Замбии; людей, чей опыт коллапсирующей городской экономики фундаментально противоречил «модерновым определенностям» поколения их родителей. Фергюсон обратил внимание на то обстоятельство, что опыт «социального разъединения» принципиально отличается от простой нехватки социального единения; этот
149
IV. Гражданство и миграция
опыт «подразумевает некое отношение, а не отсутствие отношения» (Ibid: 39). Фергюсон пишет об опыте уничижения, сопровождавшем быструю деградацию прежде социально значимого урбанизированного рабочего класса в странах экваториальной Африки. Я полагаю, что его размышления и, в первую очередь, настаивание на том факте, что уничижение класса происходит посредством конкретных практик и техник (то есть разъединение определенным образом «производится», а не просто имеет место), можно экстраполировать на сферу гражданства. Подобно методам производства граждан, ясно осознающих себя гражданами (на тему создания национальной идентичности есть обширная и богатая литература), существуют инструменты, способы и повседневные практики производства «неграждан», также ясно осознающих себя таковыми. Таким образом, если следовать мысли Фергюсона, «разгражданствовление» предполагает особый, конкретный процесс разъединения.
В Ак-Татыре в 2004-2005 гг. в повседневных разговорах постоянно присутствовало слово, указывающее на такого рода разъединение. Это слово «депортация», а именно депортация с территории Российской Федерации. Угроза депортации в ультимативной и насильственной форме напоминала местным жителям, что Путин для них подобен капризному царю, который своим волеизъявлением может лишить их источников существования или, напротив, гарантировать их. Одним из моих собеседников был Абду- миталь - преподаватель киргизской литературы в Ак- Татырской школе, у которого на тот момент в паспорте стоял штамп о депортации из России сроком на 5 лет, а также запись об уголовном преследовании на территории РФ (во время одного из милицейских рейдов, участившихся после трагедии в Беслане 2004 г., обнаружилось, что
150
Мадлен РИВЗ. Как становятся «черными» в Москве...
у него отсутствует необходимая регистрация). По словам Абдумиталя, именно тогда, когда его обозвали «нелегалом» и «черным», он осознал, что Советский Союз и в самом деле разрушен. Разумеется, амбивалентные чувства, которые трудовые мигранты испытывают по отношению к принимающим странам, в которых они оказываются одновременно эксплуатируемыми и зависимыми, не являются чем-то новым. Однако в случае с мигрантами на постсоветском пространстве особенно поражает особая унизительность статуса «нелегала», остающегося без защиты закона в тех местах, которые когда-то считались городами «нашего» государства. Большинство людей, едущих в Россию, еще помнят времена, когда и они, и те, на чьей территории они оказываются теперь в качестве гастарбайтеров, имели общее гражданство, равные формальные права и сравнительно общие мета-географические представления о «внутреннем» и «внешнем» страны. Здесь, на южной границе Ферганской долины, где в 1970-х и 1980-х гг. многие жители работали в ныне совершенно высохших и разрушающихся шахтерских городках, а в те годы получали специальное «московское обеспечение», чувство разъединения переживается с особой остротой. Все напоминает о том, что с разрушением инкорпорированности в единую политик) были разорваны и многочисленные более тонкие нити (продовольственное обеспечение, транспортные, информационные и, в первую очередь, человеческие связи), которые репрезентировали прямой и особый контакт между данным селением и советским центром.
В настоящей статье я попытаюсь проследить повседневные процессы, лежащие в основе разрушения инкорпорированности, о котором шла речь выше. Академические и журналистские исследования проблем трудовой миграции из стран Центральной Азии в большинстве своем со¬
151
IV. Гражданство и миграция
средоточиваются на отдельных драматичных и вызывающих общественный резонанс эпизодах - жестоком избиении мигрантов хулиганами, выступлениях бритоголовых, на беспочвенных, мотивированных исключительно расовой неприязнью убийствах (Рузанова, 2004; Роткевич, 2004; Verkhovsky, 2000). Эти эпизоды действительно вопиющи. Однако вот что особенно поражает и в нашем анкетировании, и в результатах более длительного, более неформального и открытого интервьюирования, касающегося опыта пребывания мигрантов в России: именно формальные «стражи закона» (милиция, автоинспекция, таможенная, миграционная и пограничные службы) воспринимаются мигрантами как значительно более реальная и серьезная угроза, чем головорезы из газетных сводок. Это угроза, порождаемая не столько криминальными элементами как таковыми, сколько невозможностью жить и работать легально, результатом чего является тотальная выброшенность мигранта из правовой сферы государства. Джорджио Агамбен характеризует это как «состояние исключенно- сти» (Agamben, 2005: 4), имея в виду, что «в той мере, в которой эта ситуация демонстрирует приостановление самого законодательного порядка, она определяет порог закона или границы понятия». Именно радикальная случайность, порожденная этой ситуацией, - по меткому выражению одного крестьянина, отсылающему к образности киргизского языка, связывающего разрушение и поглощение пищи, - источником тревоги был тот факт, что «деньги пожирают закон».
Я собираюсь, в частности, проанализировать три повторяющиеся ассоциации, которые постоянно возникали в рассказах трудовых мигрантов об их поездках в Россию и жизни там. Это ассоциация или связь между так называемой «черной работой», роль случайности в жизни людей «вне закона» и опыт «превращения в черного» в России, на
152
Мадлен РИВЗ. Как становятся «черными» в Москве...
который так часто ссылаются. Таким образом, мое исследование вносит некоторый вклад в дискуссию о расиализи- рованном языке и практике (Малахов, 2002; Карпенко, 2002; Lemon, 2000, 2002). Однако я далека от мысли считать этот язык неизбежным следствием эволюции современного русского национализма, мобилизацией скрытых категорий или же простым усвоением западного расиализированно- го словаря. Скорее я убеждена в том, что необходимо проследить связь между современным расиализированным языком и производством категорий личности, пространства, труда и обмена, которые находятся «вне закона».
Этот тезис вовсе не отрицает исторического прошлого России, где цвет нередко использовался в качестве категории приписывания к определенному социальному слою. Не собираюсь я оспаривать и показательность семантически связанных с цветом категорий, бытовавших в Средней Азии - можно вспомнить, например, иерархическое различение казахов на представителей «белой кости» и «черной кости» наряду с традиционным делением казахского общества во времена Казахского каганата на три жуса (Есенова, 2002). Я хочу показать, что у современного расиализиро- ванного языка иная генеалогия, которая не связана напрямую с этим старым цветовым вокабуляром. У всех понятий есть своя история, и спектр людей, вещей и практик, к которым потенциально отсылает единственное означающее - «черный» - чрезвычайно широк. На данный момент в России, как мне кажется, производство таких категорий приписывания и практики, как «черная работа», «чернорабочие», «черные», можно лучше понять, не возводя их к более раннему цветовому вокабуляру или к идеологии расизма, аналогичной западным. Продуктивнее было бы рассматривать их в контексте существования двух пространств: пространства собственно права и пространства за
153
IV. Гражданство и миграция
его пределами, т. е. «вне закона». В этом контексте, например, можно идентифицировать «черный рынок» как вид обмена, существующий вне поля зрения закона, а «черный вход» - как некоторую точку незаконного пересечения границы. Именно осмысление закона и производства им исключительности, то есть способность закона производить людей и пространства уничижения, позволит нам начать анализ умножающихся на постсоветском пространстве выражений, связанных со словом «черный» по отношению к трудовым мигрантам.
Создание постсоветских документированных жизней
Пока режимы гражданства в постсоветских государствах менялись и множились, продолжала существовать специфическая, исторически обусловленная прикрепленность к документам - не просто как к удостоверениям личности, а как к гарантам полномочий и механизмам производства политической субъективности. В Ак-Татыре динамика получения, сохранения, обновления и подделки паспортов была постоянной темой разговоров. Так, в те несколько месяцев, когда оппозиция президенту Акаеву набирала силу и, наконец, в марте 2005 г. вынудила его уйти со своего поста, одной из наиболее показательных претензий к правительству («правительство не смогло обеспечить то-то и то-то») был тот факт, что выпускники школ предыдущего года так и не получили полагавшихся им паспортов (Бак- тыбекова, 2005). Мне рассказывали, что некоторые юноши-выпускники, не имея возможность покинуть страну с «временными паспортами», которые выдавались им в Кыргызстане, были вынуждены покупать таджикские паспорта
154
Мадлен РИВЗ. Как становятся «черными» в Москве...
(по слухам, за взятку в 200 долларов на чиновника в паспортном столе) просто для того, чтобы выехать в Россию.
В конгломерате необходимых человеку документов выделяется так называемая прописка, вызывающая особое отвращение как нечто, ограничивающее свободу передвижения и порождающее беззаконие. В России с введением закона о свободе передвижения в 1993 г. прописка была формально отменена, по крайней мере перестала существовать терминологически (Моисеенко, 1999: 46). Этот закон заменил прописку системой регистрации, требующей от заявителя всего лишь информировать местные власти о его присутствии в данном населенном пункте. Однако в Москве, а также в некоторых других городах и областях закон 1993 г. встретил открытое противодействие и de facto игнорировался. Так, мэр Москвы Юрий Лужков заявил в Конституционном суде, что, поскольку Москва не столько зависит от федерального бюджета, сколько сама его пополняет, ей нельзя диктовать условия регистрационной политики (там же: 48). Более того, драконовские законы относительно количества квадратных метров, необходимых для каждого зарегистрированного проживающего, и дополнительные расходы, налагаемые на владельца в случае появления дополнительных жильцов, делают официальную регистрацию жильца просто финансово неподъемной как для мигранта, так и для хозяина. Тем более это невозможно в течение трех дней, отпущенных мигранту для того, чтобы принести справку о регистрации в местное отделение милиции (Международная организация по миграции, 2004: 10)1. В результате складывается следующая
1 Согласно поправкам в миграционное законодательство, принятым в 2006 г. и вступившим в действие в 2007 г., установлен облегченный режим регистрации иностранных граждан. Мигранту из СНГ (за исключением государств, в отношении которых установлен визовый режим) достаточно уведомить о своем при¬
155
IV. Гражданство и миграция
ситуация: львиная доля мигрантов из Средней Азии въезжает в Россию легально, однако условия регистрации и поиска жилья в больших городах таковы, что большинство мигрантов становятся нелегалами в течение трех дней, либо полностью отказавшись от легальной регистрации и купив себе фальшивую прописку, либо - что дороже - подкупив соответствующего чиновника, чтобы получить «чистую» прописку по адресу, где они никогда не будут проживать. Для понимания всей тяжести существования человека «вне закона» очень важно осознать, что как раз те, кто формально уполномочен защищать видимость этого закона,- местная милиция, участковые - часто больше всех заинтересованы в том, чтобы держать мигранта в состоянии невидимости по отношению к государству. Именно в этих повседневных взаимодействиях закон самым наглядным образом «пожирается» деньгами, и правилом становится «состояние исключенное™».
«Чистые» подделки: хрупкость законности
Уязвимость этой границы, центральная роль местной милиции в ее размывании самым наглядным образом открылись мне во время интервью и более формальных не¬
бытии органы Федеральной миграционной службы, отправив туда по почте отрывной талон из миграционной карты. Такое уведомление дает право находиться на территории РФ в течение 90 дней. Оно может быть продлено при условии, если заявитель предоставит документы о трудоустройстве. Нахождение в зоне нелегальности начинается именно отсюда. Поскольку большинство работодателей по разным причинам (либо из-за непреодолимых бюрократических препон, либо из нежелания платить налоги) не оформляют таких документов, мигранты работают - а значит, и находятся на территории России - незаконно. (Прим, ред.)
156
Мадлен РИВЗ. Как становятся «черными» в Москве...
следований в Ак-Татыре и соседних деревнях. Мои попытки понять стратегии выживания в больших городах России этих недавних мигрантов и зафиксировать тот момент, когда же из легальных мигрантов они превращались в «нелегалов», постоянно наталкивались на размытость категорий. Границы, прежде казавшиеся мне определенными и фундаментально непроницаемыми, - между взяткой и штрафом, между «чистыми» и поддельными регистрационными документами, между милицией и рэкетирами, которые тоже могли по своему усмотрению потребовать у мигранта документы и соответствующую мзду - в ходе наших бесед постоянно размывались. Постепенно я осознала, что для моих респондентов эти различия были принципиально ир- релевантными. Вне сферы права не слишком важно, одет ли по форме тот, кто требует у тебя показать документы, и есть ли у него официальное разрешение на проверку. Неважно и то, кто продает тебе фальшивую регистрацию, - преступный «авторитет» или милиционер в форме, формальной обязанностью которого является защита закона и порядка на данном участке. Вне nomos различие просто иррелевантно.
Например, Айнагуль, молодая киргизка, работавшая вместе с мужем на строительстве большого коммерческого центра в Москве, описывает свой опыт регистрации крайне противоречиво:
«У меня была “чистая” прописка. Когда они (милиция) пропустили документ через проверяющее устройство, раздался звук р-р-р-р, как если бы это действительно была настоящая прописка. Но на самом деле это была “чистая” фальшивка. Милиционер продал мне ее за полторы тысячи рублей. Он договорился с одной старушкой, владелицей квартиры. Он платит ей за нашу регистрацию в ее квартире, а если милиционеры с другого участка при¬
157
IV. Гражданство и миграция
везут меня в свое отделение и позвонят ей, чтобы проверить, живу ли я по этому адресу, она ответит “да ”. Вот за что он ей платит. Все мы - жильцы-призраки».
Комментарий Айнагуль подтверждают данные аналитического обзора. Из 262 хозяйств Ак-Татыра и близлежащих деревень в 189 (то есть в 72%), по меньшей мере, один член семьи проживал в России за последние 5 лет. Из них 63% имели регистрацию на все время пребывания или на часть его, а у 37% регистрации не было вовсе. Поражает, однако, то, что менее четверти (24,6%) людей, имевших регистрацию, постоянно жили в тех жилищах, куда государство их вписало. Более половины всех респондентов проживали в местах, абсолютно невидимых для государства, столь озабоченного фиксацией их местонахождения и ограничением передвижения: в железнодорожных вагонах (35%) или на стройках, внутри еще недостроенных объектов (21%). Итак, большинство прописок, считавшихся «чистыми» с технической точки зрения, не имели никакого отношения к реальному месту проживания мигрантов.
Точно так же в воспоминаниях мигрантов об их взаимоотношениях с милицией исчезает граница между «взяткой» и «штрафом». Аида, ясно мыслящая русскоязычная активистка НПО в Бишкеке, в те годы продававшая предметы домашней утвари на большом крытом рынке в Омске, описала в нашей беседе один из милицейских рейдов на этот рынок. В конце разговора она попыталась сформулировать, чем грозит человеку отсутствие должной прописки:
«Обычная ставка - от десяти до пятидесяти рублей. Как только они тебя схватят. У тебя нет прописки».
МЯ: «Так что же тогда это было - штраф или взятка?
«Ну (пауза), знаете, в каком-то смысле и то и другое. Да, это одно и то же. У тебя нет прописки. У меня был документ сроком на три дня, а прошел уже месяц. По¬
158
Мадлен РИВЗ. Как становятся «черными» в Москве...
этому приходится давать 50 рублей, если хочешь решить все на месте. А если они отправят тебя в ГОМ (городской отдел милиции) <...> придется заплатить государству в два раза больше»'.
Несмотря на свое обостренное чувство законности, Аида затруднялась определить эту денежную мзду как штраф или как взятку. При пересказе она использовала нейтральное слово «ставка», подразумевая некоторую фиксированную выплату, необходимую для сохранения рабочего места. Формальный статус платы Аиду не интересовал - в ее рассказе нет упоминаний о попытках пожаловаться в правоохранительные органы, да и вообще никаких упоминаний о праве. Она, как и большинство трудовых мигрантов, предпочитала регулярно выплачивать местной милиции небольшую сумму денег за «защиту», дабы избежать выплаты значительно более крупного штрафа или (по ее словам) задержания в милицейском участке «вместе с пьяницами и маньяками».
Поразительно схожий по степени равнодушия к формальным различиям пример из тех, которые меня столь сильно занимали, дает моя беседа с Султанили. Мой собеседник рассказывает о своей поездке через весь Казахстан к брату, работавшему на стройке в Нижнем Новгороде (здесь и далее г. Горький, как в советское время). Недавний школьник из Ак-Татыра, Султанили, расправляет плечи и выпячивает грудь, чтобы показать мне, как выглядели эти странные, полулегальные люди, которые несколько раз проверяли его проездные документы за время его передвижения по территории Казахстана. 11 За годы, прошедшие с момента написания этого текста, цены выросли в несколько раз. Соразмерно им выросли и суммы взяток. (Прим, ред.)
159
IV. Гражданство и миграция
«Они входили в вагон пять или шесть раз, то есть на каждой остановке в Казахстане. Как правило, они были в гражданской одежде, хотя на каждом из них была хорошая кожаная куртка. Здоровенные, выглядели круто. Они входили с противоположных концов поезда, просили пассажиров рассчитаться. Затем они отбирали все паспорта, уносили их в купе проводника и начинали обшаривать наши карманы. Вообще-то мы знали об этой процедуре заранее, поэтому наличными у нас было рублей 50, остальное мы прятали. Они обычно забирали эти деньги, но с непременным напутствием: «Передайте следующему купе, что вы дали 100 рублей».
«Свои документы они показывали?»
«Они махали чем-то, но в купе темно, не разглядеть, да и кто будет спрашивать. Разозлятся и заберут что- нибудь из твоего багажа или тебе что-нибудь подложат. Поэтому, когда идешь в купе к проводнику, надо просто приготовить пятьдесят рублей, а то они скажут, что ты не похож на фото в паспорте или подпись твоя какая-то не такая. Иногда они высовывали руку с твоим паспортом в окно и спрашивали: платить будешь? Так что лучше сдаваться сразу».
Два момента поражают в рассказе Сутанили. Первое: не чувствуется никакого различия между официальными представителями закона (пограничниками, таможенниками и миграционщиками) и «здоровыми парнями» без формы. О, как же часто мои попытки выспросить, кто именно эти люди, наталкивались на милую скептическую улыбку собеседников, у которых был реальный опыт столкновения с этими людьми и которые хорошо знали, какова «ставка»! Только попробуй попросить предъявить документы у того, кто зашел на промежуточной станции в поезд и собирается проверять документы у тебя, и тебя гарантировано будут
160
Мадлен РИВЗ. Как становятся «черными» в Москве...
мучать до конца пути. «Главное, не качать права, пусть возьмет свое, и фиг с ним». Другой мой респондент, также используя метафору полного подчинения, утверждал, что лучше быть «тише овцы», и тогда доедешь до места назначения с минимальным ущербом.
Второй заслуживающий внимания момент в рассказе Сутанили - тревога по поводу возможного несоответствия задокументированной личности его личности физической. Здесь вспоминаются аналогичные наблюдения Тоби Келли за палестинцами, пересекающими «зеленую линию» (Ке11у, 2006: 90). Неубедительное фото в паспорте, неразборчивая подпись или даже слегка грязноватый, чем-то заляпанный паспорт - вот те факторы, когда уязвимость человека, его страх перед представителями закона разгораются с особой силой (тем более, в заведомо внеправовой зоне). Выражение «что-то ты не похож на фотографию в паспорте» воплощает представление о том, что юридическая, подтвержденная наличием соответствующих документов личность, более «всамделишная», аутентичная по сравнению с личностью физической, и последняя нуждается в постоянной проверке на схожесть. И наоборот, если документ «работает на тебя» («прописка», подлинность которой вроде бы удостоверяет электронный аппарат; фальшивый таджикский паспорт, который, несмотря на поддельность, вполне может обеспечить тебе въезд в Россию), тогда этот документ признается «чистым». Подлинное и фальшивое, штраф и взятка как понятия могут работать только в контексте, где закон считается непреложным. В нашем случае работает совершенно иная экономика - отсюда озадачивающие аналитика отсылки не к «взяткам» и «штрафам», а просто к неким «ставкам» и «нормам».
Один из способов преодолеть такой зазор - полностью скрыть себя как субъекта права. Поскольку угроза для «за¬
6 Зак. 1988
161
IV. Гражданство и миграция
документированной» личности (например, штамп о депортации) считается значительно более высокой и ущерб от нее менее поправимым, нежели риск подвергнуться словесному или физическому насилию, стратегия мигрантов, по крайней мере, в Москве, состоит в том, чтобы не носить с собой паспорт и иметь при себе лишь минимальную сумму денег. Эта стратегия является противозаконной и может повлечь задержание в отделение милиции, но такой исход все же предпочтительнее штампу о депортации и крупному штрафу за недействительную регистрацию. Как заявил мне один пожилой бригадир, «я лучше проведу три часа в “обезьяннике”, чем заплачу пять тысяч рублей, чтобы получить свой паспорт обратно»! Логика этой системы находит интересное продолжение в свидетельствах нескольких рабочих, недавно вернувшихся из Москвы. Они рассказывали о том, как местная милиция торговала справками, подтверждавшими, что паспорта этих мигрантов в данный момент «находятся на перерегистрации». И хотя на самом деле человек держал паспорт дома, в случае, если другой наряд милиции его останавливал и просил подтвердить регистрацию, он просто показывал эту справку, где было указано, в каком именно отделении милиции города временно находится его паспорт. Ирония ситуации, при которой сами работники милиции выступали гарантами невидимости мигрантов перед законом, не ускользнула от моих собеседников. Многие отмечали, что одним из последствий драконовского режима прописки было создание целой системы разделения людей на физических лиц и юридические фикции, так чтобы государство было в значительно меньшей мере осведомлено, сколько народу действительно зарегистрировано в данном городе, чем, если бы регистрация была доступна каждому как нечто само собой разумеющееся. Развивая идиому Айнагуль, можно
162
Мадлен РИВЗ. Как становятся «черными» в Москве...
сказать, что речь идет не просто о «жильцах-призраках», но о целых популяциях «жителей-призраков» в мире лиц без документов и документов без персоны.
Как становятся «черными» в Москве
В самом обращении к этой теме ничего особенно нового нет. Мысль о том, что, по выражению Смарт (1999: 99), «незаконность и государство всегда были постоянными партнерами», нашла отражение в обширной литературе о неформальных практиках, связанных с драконовскими режимами иммиграции и регистрации в России и других странах (Heyman, 1999; Kyle, 2000:66; Inda, 2006). Меня же здесь интересует одна характерная повторяющаяся деталь рассказов мигрантов, которая часто дискурсивно вплетается в комментарии относительно режима регистрации, - осознание факта превращения в «черного» в России. Я сознательно использую слова «становление» или «превращение», подчеркивая процессуальный характер происходящего. Киргизы использовали выражение «мы стали черными», а не «мы были черными» или «мы являемся черными». Более того, слово «черный» обычно произносилось по-русски, часто к этому добавлялись слова, подчеркивающие дистанцированность самого говорящего («они говорят: вы черные», «там говорят»). Иначе говоря, этот термин ощущался рассказчиками скорее как аскриптивный, нежели как дескриптивный - как ярлык, нагруженный определенным содержанием, а не как нейтральный знак референции или самоидентификации.
Явление опознания мигранта как черного и соответственно выбор именно его для проверки документов было частым, для работавших в Москве - повсеместным. Это
163
IV. Гражданство и миграция
слово было презрительным отчасти из-за того, что оно имело весьма отдаленное отношение к фенотипу конкретных людей, отчасти, наконец, потому что подводило под один знаменатель этнические группы, которые, в представлении самих рассказчиков, были совершенно отличны друг от друга; и, наконец, отчасти потому, что оно рассматривалось местными правоохранительными органами как синоним нелегальности. Мои киргизские респонденты из Ак- Татыра решительно подчеркивали отличие своего труда (в основном, на стройках) от, по их мнению, морально более сомнительной торговли на рынках, где господствовали таджики из Чорку, и в еще большей степени - от деятельности вызывавших глубокое недоверие кавказцев, «захвативших» московские рынки. Киргизскими мигрантами наименование «черный» воспринималось и как неверное и как морально сомнительное. Дастан, киргиз среднего возраста, работавший на стройке в Нижнем Новгороде, с гневом описывал то, что ему представлялось разделением труда по признаку цвета:
«Нам всегда давали самую тяжелую работу. Как только появлялась отделочная работа внутри помещения, ее тут же отдавали молдаванам или украинцам. Эта работа легкая и платят за нее хорошо. Но нам эту работу не доверяли. Я бы с ней справился. Я ее раньше делал. А мне приходилось все время копать. Всегда канавы, заборы, сверление. Они думали, что нам эта работа больше подходит».
Под некоторым давлением с моей стороны Дастан согласился, что отчасти эта ситуация объяснялась наличием у украинцев и молдаван гораздо более разветвленных и ин- ституциализированных сетей поддержки: если прораб или посредник, помогавший людям найти работу, сам был родом из этих стран, он «помогал своим», предоставляя им
164
Мадлен РИВЗ. Как становятся «черными» в Москве...
более легкую и высокооплачиваемую работу. Киргизские трудовые мигранты из Ак-Татыра часто жаловались, что, по сравнению с другими группами мигрантов, они в массе своей начали работать в России недавно и поэтому не имели доступа к тем же сетям социальной поддержки и неформальным системам трансфера, как другие мигранты. Таким образом, они с меньшей вероятностью могли занять места в более прибыльных нишах (например, стать прорабами или посредниками) и уж тем более в торговле, что потребовало бы значительного стартового капитала. Часто отмечалось, например, что, если несколько лет назад для фермера было по силам отправить один КАМАЗ с абрикосами для продажи в России, то сейчас из-за выросших таможенных пошлин для получения прибыли надо загрузить уже целый поезд. Тем не менее, рассказ Дастана указывает на еще одну причину, почему он был вынужден только рыть канавы и сверлить блоки - ощущение укоренившегося представления о связи между физическим трудом и цветом кожи. Именно потому, что он более смуглый, Дастан был обречен, в буквальном смысле слова, на «черную работу» - на тяжелый, неквалифицированный труд, который больше всего требовал физических затрат.
Когда мы пытаемся понять этот феномен с аналитической точки зрения, то сталкиваемся с двумя проблемами. Первая состоит в том, что, хотя существует множество исследований о том, каким образом Советское государство институциализировало класс и нацию в качестве категорий аскрипции и идентификации (через систему переписей, паспортный режим и официальную реификацию1 культур¬
1 Реификация - овеществление, превращение отношений между людьми в вещи, т. е. в нечто существующее независимо от этих отношений. (Прим, ред.)
165
IV. Гражданство и миграция
ных различий), но довольно мало работ о том, как другие, неофициальные виды классификации и категоризации пересекались с официальными обозначениями и какие изменения ассоциаций они привносили в повседневную жизнь. Например, Алейна Лемон в своем этнографическом исследовании о поведении и воспоминаниях цыган в Москве 1990-х указывает, что ее респонденты очень остро чувствовали, как язык цвета опосредует социальные взаимодействия на улицах советской Москвы. Тем не менее, «расизм» воспринимался ими как «болезнь одних только капиталистических стран» (Lemon, 2000: 63). Второй момент, который препятствует пониманию смысла выражения «превращение в черного» в постсоветской социальной жизни, связан с опасностью навязывания внешней для России генеалогии «расы», т. е. допущения, что язык цвета имеет в России такую же ассоциативную нагруженность, как и на Западе. Именно в силу того что категории, с помощью которых мы дробим человеческий спектр, конституируются через культуру, нам надо быть осторожными при переносе понятий из одного культурно-социального контекста в другой.
Поэтому практики исключения, порождающие концепт «превращение в черного в Москве», нельзя интерпретировать как прямой постсоветский импорт западной онтологии расы и тем более не следует - на детерминистский манер - искать их в «глубоком прошлом» взаимоотношений центра и периферии Российской империи. Их корни, я полагаю, лежат в переплетении бюрократических практик советского высокого модернизма (прежде всего, в драконовской и неработающей системе регистрации, ежедневно плодящей беззаконие и неразбериху) с двумя значительно более новыми явлениями: волной трудовой миграции из южных республик бывшего Советского Союза и глобально опосредованным дискурсом безопасности и угрозы, помогаю¬
166
Мадлен РИВЗ. Как становятся «черными» в Москве...
щим сохранять нетронутым институт прописки вопреки ее неэффективности (и антиконституционности). Не стоит забывать и о том, что роль националистически настроенных политиков и неофашистской молодежи для понимания современной политики цвета в России невелика. Скорее стоит предположить, что в современном анализе расизма в России, сосредоточенном только на этих двух группах, не учтены более прозаические, укорененные бюрократические практики, которые производят и воспроизводят цветовые различения в мелочах повседневной жизни как нечто нормальное и необходимое. Тем самым не учитываются условия возможности, позволяющие этим группам формироваться и выходить на передний план.
Здесь мы снова возвращаемся к прописке и упомянутому мною разрыву между «физической» личностью и личностью «задокументированной». Прописка, как мы видели, формально должна служить механизмом регистрации и соответственно регулирования передвижения неместных жителей в большие города и миграционно активные регионы Российской Федерации (будь то жители других городов России или граждане других стран). Однако на практике фактическая невозможность получить легальную регистрацию в течение трех дней порождает ряд обходных тактик - от проживания в железнодорожных вагонах и редких выходов за пределы стройки до покупки фальшивых регистрационных документов, чтобы стать жильцом-призраком в чьей-нибудь квартире.
Поскольку «нелегалы» потенциально находятся повсюду, нарушения режима регистрации являются самыми простыми «преступлениями», на которые охотно идут низкооплачиваемые сотрудники милиции: риск невелик, прибыль хороша, а действия нарушителей регистрационного режима подтверждают и обосновывают официальный дис¬
167
IV. Гражданство и миграция
курс «безопасности» и «угрозы», исходящей преимущественно со стороны южных соседей России. Подобно пенитенциарному режиму и институту девелоперов, проанализированному Фергюсоном (1994), сама мера неудачи («Посмотрите, сколько людей просачивается сквозь сеть!») используется для оправдания длительного существования системы. По этой причине я утверждаю, что существует не просто система регистрации, а режим регистрации, в котором цвет выступает как самое грубое сокращение для понятия «иностранец» и, следовательно, «незарегистрированный» становится мандатом на беззаконие и его очевидной причиной. Именно потому что «задокументированный» человек находится в вечном плену неопределенности (А этот паспорт не фальшивый? Этот человек действительно проживает по этому адресу? В этой справке написана правда или нет?), физический человек, по иронии судьбы, становится главным локусом истины. Подобно тому как рост количества подделок в обществе в более широком смысле ведет к интенсификации практик, нацеленных на установление подлинности, когда «каждодневный совершаемый выбор зависит от способности быстро отличать сущностную ценность от иллюзорной поверхности» (Lemon, 1998: 24), так же и с людьми. В мире подозрительных документов поверхность человеческого тела становится местом указания истины.
Результатом является классический случай непонимания. Вместо того чтобы видеть в прописке условие производства беззакония, ее начинают воспринимать как последний бастион осаждаемого со всех сторон общественного порядка. Владимир Малахов отмечает в этой связи: «Мы молчаливо одобряем ежедневные унижения людей в метро и на улицах под предлогом “проверки паспортного режима” - ведь те, кого проверяют, как-то неправильно выглядят. В нашем сознании не укладывается, что общест¬
168
Мадлен РИВЗ. Как становятся «черными» в Москве...
венный порядок возможен без института прописки. Мы не видим, как, кроме рестриктивных мер, можно справиться с угрозами, которые несет с собой миграция. Нами движет логика страха, в которой причина и следствие поменялись местами» (Малахов, 2002).
Для иллюстрации этой подмены причин и следствий я хочу обратиться к пространному интервью, которое в сентябре 2004 г. мне дала Назикат, учительница начальных классов в Ак-Татыре, недавно вернувшаяся из Москвы. Ее муж в то время уже работал в Москве охранником турецкой строительной компании, а она на время летних каникул решила поехать к нему, оставив семью под присмотром своей дочери, ученицы 11 -го класса. Во время интервью муж Назикат все еще находился в Москве, и вначале она показала мне несколько привезенных из поездки фотографий его и ее на Красной площади. А в конце интервью выяснилось, что из четырех запланированных месяцев Назикат удалось проработать в Москве меньше двух. Ее рабочий день в большой фирме по поставке продуктов «Солярис» длился около 12 часов, в течение которых она непрерывно нарезала картофель, чистила яйца и сновала между огромными контейнерами с продуктами. За это она ежемесячно получала 7500 рублей - почти в 8 раз больше, чем ее ежемесячная зарплата в Ак-Татыре. Условия труда отличались высокой степенью эксплуатации, произволом (за любую недостачу продуктов мгновенно назначался штраф) и низкой оплатой, что, естественно, порождало текучесть кадров. Но главный фактор, заставивший Назикат в конце концов оставить эту работу был иной - ей и ее коллегам приходилось ежедневно после милицейских рейдов выплачивать определенную мзду. В ее рассказе постоянно мелькала метафора, которую я так часто слышала в других интервью: «Я была дойной коровой», которую
169
IV. Гражданство и миграция
стремились выдоить подчистую через систему ежедневных поборов, преподносимых как некоторая, пусть непрочная, гарантия от депортации. Происходившее символическое слияние цвета и незаконности, жертвой которого она была, воспринималось ею как нечто обыденное:
«Однажды я, как обычно, резала лук, и вошли пять или шесть русских в гражданском. Они вместе с Николаем Ивановичем [директором компании] устроили зачистку: стали ходить по рядам туда-сюда, вверх-вниз, говорили: «Плати», «Ваши документы». Мы были очень напуганы - они ведь забрали у нас паспорта. Мы продолжали резать овощи еще некоторое время, а потом нас всех собрали на третьем этаже для проверки паспортов. Они смотрели на прописку - настоящая она ши нет. Нас там было человек 40, отовсюду - из Казахстана, Узбекистана, Грузии и несколько из Киргизии. Потом они отобрали из общей кучи русские паспорта, отдали их, оставши только паспорта всех черных. Тех, у кого были русские паспорта, отпустили. Потом всех черных посадши в автобус и повезли в штаб. Там в одной большой комнате нас собрали и стали расспрашивать, кто дал нам прописку, сколько мы запла- тши за нее и все такое. Так они допросши 6 ши 7 человек. А потом подозвали нашего директора и сказали, что он превысш норму. Директор приказал, чтобы мы вернулись на работу, нас увезли, но наши паспорта остались у них. Нам было страшно возвращаться, страшно, что паспорта вообще не отдадут. Мы продолжали работать, и только к конг^у смены, около 9 часов вечера, нам га вернули и мы вздохнули с облегчением. Нам сказали, что надо заплатить по 500 рублей и что это еще немного. Но ни у кого из нас не было таких денег. Тогда они собрали нас в группы и взяли по 500 рублей с каждой группы. С тех пор каждое утро и каждый вечер они приходши и поджидали
170
Мадлен РИВЗ. Как становятся «черными» в Москве...
нас перед входом, требуя ставку. Они знали, что черные работают с 9 до 9, вот и сидели в своем ВАЗике, ждали, и они всегда были в гражданской одежде. Они все сидели и сидели, приговаривая: «Сейчас-сейчас, все черные выйдут, заберем документы, получим деньги». Они постоянно ждали нас у входа. В конце концов, нам пришлось платить им по 30 рублей утром и вечером после смены «на обед» и «на сигареты». Но рейдов больше не было».
Рассказ Назикат весьма симптоматичен: он наглядно показывает, как в официальной московской документалистике цвет используется в качестве маркера «нелегальности». Мы видим, что какова бы ни была реальная основа различия, по которой милиция забирала в отделение одних и не брала других, с точки зрения самой Назират, фундаментальным было различие между «черными» и «нечерными». В ее рассказе сажали в автобус, штрафовали, везли в отделение милиции именно черных, а не каких-то там мигрантов, «неграждан», нелегальных рабочих. И, как если бы она хотела подчеркнуть именно эту мысль, сразу после интервью Назират сказала мне то, что явно касалось проблемы не действительного социального статуса личности (так, я, например, для милиционеров Москвы должна была выглядеть большей иностранкой, чем она), а цвета, который «считывается» милицией:
«Они [милиция] и вычисляют, откуда ты. Они стоят и ждут в метро. Мы с тобой разные. Понимаешь, тебя никогда не остановят, потому что они думают, что ты русская. А вот меня задержат, потому я черная».
Все события, связанные с милицейским рейдом, Назикат описывает не так, как это могли бы преподнести СМИ («расистски мотивированное нападение»), а как рутинную бюрократическую процедуру - «зачистку», необходимую потому, что директор компании «перебрал норму» при
171
IV. Гражданство и миграция
найме нелегальных мигрантов. Как раз в этом-то и дело: ежедневно происходит сверка цвета с предполагаемой незаконностью, и именно таким образом из граждан производят неграждан, т. е. «черных». Не нарушение закона, а производство пространства и людей в нем за пределами закона - вот что порождало у Назикат чувство угрозы («кажется, что милиция все время за нами смотрит») даже тогда, когда они с мужем счастливо фотографировались на Красной площади. В России состояние исключенное™ имеет особенное отношение к цветовому языку. «Черный рынок», «черная работа», «черный /теневой/бизнес», «черный вход» - все эти выражения отмечены своим отношением к закону. В этом контексте нетрудно увидеть, как определенные категории людей дискурсивно помещаются в «теневые» пространства и как в повседневной практике цвет кожи становится решающим маркером, через который «обнаруживается» зона беззакония.
Негибкое гражданство1
В заключение хотелось бы поразмышлять о значении приведенных здесь интервью, введя их в рамки более общего контекста - проблематики транснациональной миграции. Как я уже говорила выше, термин «уничижение», связанный с активным механизмом по разрыву связей (а он есть нечто большее, нежели просто «исключение»), обнаруживает продуктивность для понимания опыта киргизских трудовых мигрантов в России, оказавшихся в непредсказуемой, эксплуататорской и зачастую связанной с насилием зоне существования человека вне закона. Исследо-
Автор строит аллюзию на известную работу Айвы Онг «Гибкое гражданство» (Оп§ 1999). (Прим, ред.)
172
Мадлен РИВЗ. Как становятся «черными» в Москве...
ватели транснациональной миграции, обоснованно привлекая внимание к микропроцессам, через которые люди могут прийти к осознанию «общности» и «дома», не связанных пространственно (Rouse, 1991; Click et al, 1992), часто не задаются вопросом, как это движение переживается, и, в частности, какие последствия имеют место тогда, когда пространственное перемещение человека сопровождается его перемещением из зоны действия закона в зону беззакония, от включенности к исключенное™. Рассуждения аналитиков о транснациональных «потоках» и «кругооборотах» с легкостью соблазняют нас, убеждая в том, что миграция воспринимается людьми именно в этих терминах - как «поток», а не разрыв, как кругооборот, а не контрольно-пропускной пункт, как «гибкость», а не хрупкая случайность.
В настоящей статье я попыталась показать, что для киргизских трудовых мигрантов именно новые формы движения порождают ощущение собственной ограниченности и исключенное™, непрочности закона и унижения, связанного с существованием по ту сторону закона. Я вовсе не романтизирую прошлое как время безграничных перемещений и не считаю, что только трудовая миграция на огромном пространстве наиболее ярко подтверждает распад Советского Союза. В конце концов, повседневная жизнь в приграничной зоне, где паспорта, номера машин, денежные знаки отличны от тех, что действуют по другую сторону границы, служит достаточным напоминанием о произошедшем. Речь идет о том, что сегодня миграция, перемещение в пространстве порождает осознание этого факта иначе - как воспроизводящееся «разрывание связи». И хотя в советские времена мало кто из жителей Ак-Татыра имел возможность покинуть пределы региона (учеба, служба в армии, сезонная продажа абрикосов), на уровне вообра¬
173
IV. Гражданство и миграция
жения люди чувствовали свою инкорпорированность в общую страну. Мы находились здесь, но мы были связаны (со страной). Для многих жителей Кыргызстана эта воображаемая связь до сих пор жива, и не случайно даже в 2005 г. на парламентских выборах кандидат от коммунистов шел под лозунгом «Моя Родина - Советский Союз!».
Но для тех, кто «стал черным» в Москве и других городах, такие ностальгические лозунги пронизаны особым пафосом. И это имеет определенные теоретические последствия. В мире существует сравнительно немного мест, где у нелегальных мигрантов были бы те же гражданские права, что и у местных жителей. В этом смысле киргизские трудовые мигранты в Москве, может быть, представляют крайний случай исключения из общего политического тела. Но очевидная нацеленность режимов регистрации и государственной политики в целом на ограничение перемещения и на производство беззакония, подпитка опыта исключения, противоречащего транснациональному опыту «дома», отнюдь не является чертой только постсоветского пространства. Теоретики транснационализма в своем стремлении охватить все новое в глобальной трудовой миграции часто не замечают роли государства и подчиненных ему структур в культивировании сознания уничижения. А между тем для современной миграции во все большей степени характерно именно производство новых зон инкорпорированности и исключенности, жесткое разграничение граждан и неграждан, находящихся в буквальном смысле слова «по ту сторону закона» (Ка)агаш, 2004).
Это обстоятельство позволяет, как мне кажется, увидеть в словах Абдумиталя о том, что в Москве он впервые осознал, что «Советский Союз распался», нечто большее, чем просто риторическую фигуру или ностальгическое нежелание принять настоящее. Скорее они свидетельствуют об
174
Мадлен РИВЗ. Как становятся «черными» в Москве...
осознании того, что его положение - как нелегального иммигранта и, стало быть, человека, преступившего закон, есть случайное следствие режима регистрации, а не неизбежный результат «независимости». Теоретикам транснационализма, склонным преуменьшать роль исключения в пользу суверенности и независимости, следовало бы учесть его опыт.
ЛИТЕРАТУРА
Agamben Giorgio. State of Exception. Chicago and London: University of Chicago Press, 2005.
Baktybekova Nazgul. Passport crisis in Kyrgyzstan // Central Asia - Caucasus Analyst. 2005. March 9*.
Brubaker Rogers. Aftermaths of empire and the unmixing of peoples // Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1196.
Евлашков Д., Негойца FI. Приоритетов не меняю: Президент Киргизии Курзамбек Бакиев отстраивает стратегическое партнерство в России // Российская газета. 2006. 2 янв.
Ferguson James. The Anti-Politics Machine. Development, Depoliticization and Bureaucratic Power in Lesotho. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994.
Ferguson James. Expectations of Modernity: Myths and Meanings of Urban Life on the Zambian Copperbelt. Berkeley: University of California Press, 1999.
Foucault Michel. Discipline and Punish. The Birth of the Prison. Penguin Books, 1977.
Glick Schiller Nina L. Basch and C. Szanton-Blanc. Towards a Transnational Perspective on Migration. New York: New York Academy of Sciences, 1992.
Heyman Josiah. State escalation of force: a Vietnam/US-Mexico border analogy // Josiah Heyman (ed.), States and Illegal Practices. Oxford and New York: Berg, 1999.
175
IV. Гражданство и миграция
Hojdestrand Tova. The Soviet-Russian production of homelessness. Propiska, housing, privatisation. 2003.
Web document: http://www.anthrobase.eom/Txt/H/Hoejdestrand_ TO 1 .htm
Humphrey Caroline. Mythmaking, narratives and the dispossessed in Russia // The Unmaking of Soviet Life: Everday Economies after Socialism. Ithaca: Cornell University Press, 2002.
Inda Jonathan Xavier. Targetting Immigrants: Government, Politics, and Ethics. Malden and Oxford: Blackwell Publishing, 2006.
International Organization for Migration. World Migration // Costs and Benefits of International Migration. Geneva: IOM, 2005.
Kelly Tobias. Documented lives: fear and the uncertainties of law during the second Palestinian intifada // Journal of the Royal Anthropological Institute. 2006. Vol. 12. P. 89-107.
Kligman Gail. Trafficking women after socialism: from, to and through Eastern Europe // Social Politics: International Studies in Gender, State and Society. 2005. Vol. 12 (1): 118-140.
Kyle David. Transnational Peasants: Migrations, Networks, and Ethnicity in Andean Ecuador. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 2000.
Lemon Alaina. Your eyes are green like dollars. Counterfeit cash, national substance and currency apartheid in 1990s Russia // Cultural Anthropology. 1998. Vol. 13 (1). P. 22-55.
Lemon Alaina. Between Two Fires: Gypsy Performance and Romani Memory From Pushkin to Postsocialism. Durham and London: Duke University Press, 2000.
Малахов В. Расизм и мигранты // Неприкосновенный запас, № 25. М., 2002. http://www.nz-online.ru/index.phtml?aid=20010541
Matthews Mervyn. The Passport Society: Controlling Movement in Russia and the USSR. Boulder, CO: Westview Press, 1993.
Правовая памятка мигранту в России // Международная организация по миграции (IQM). М., 2004.
Моисеенко В. и др. Московский регион: миграция и миграционная политика. М.: Московский центр Карнеги, 1999.
Navaro-Yashin Yael. Legal-illegal counterpoints: subjecthood and subjectivity in an unrecognised state //R. Wilson and J. Mitchell (eds.).
176
Мадлен РИВЗ. Как становятся «черными» в Москве...
Human Rights in Global Perspective: Anthropological Studies of Rights, Claims and Entitlements. London: Routledge, 2003.
Олимова Саодат, Боек И. Трудовая миграция из Таджикистана. Душанбе: МОМ, 2003.
Ong Aiwa. Flexible Citizenship: The Cultural Logics of Transnationality. L., Duke University Press, 1999.
Pilkington Hilary. Migration, Displacement and Identity in Post- Soviet Russia London: Routledge, 1998.
Rajaram Prem. Kumar and Carl Grundy-Warr. The Irregular Migrant as Homo Sacre: Migration and Detention in Australia, Malaysia and Thailand // International Migration. 2004. Vol. 42 (1). P. 33-64.
Роткевич E. Сегодняшние скинхеды - это ребята, которые действуют по звонку... // Известия. 2004. 28 февр.
Rouse Roger. Mexican migration and the social space of postmodernism. Diaspora. 1991. Vol. 1 (1). P. 8-23.
Рузанова H. В Новосибирске продолжаются жестокие нападения на уроженцев Таджикистана // Российская газета. 2004. 23 марта.
Scott James. Seeing Like a State. How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. New Haven and London: Yale University Press, 1998.
Smart Alan. Predatory rule and illegal economic practices // Josiah Heyman (ed.). States and Illegal Practices. Oxford and New York: Berg, 1999.
Verkhovsky Alexander. Ultranationalists in Russia at the onset of Putin’s rule //Nationalities Papers. 2000. Vol. 28 (4). P. 707-722.
177
Софья ДОЛУЦКАЯ
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЕ МИГРАНТЫ В СЕВЕРНОЙ КАРОЛИНЕ, США: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ
Статья основана на данных, собранных в 2010 г. за семь месяцев работы в «Испанском центре» - неправительственной организации, оказывающей социальную помощь трудовым мигрантам из Мексики и Центральной Америки в городе Дарем, штат Северная Каролина, США.
Северная Каролина - это не самый большой штат по населению и размерам иммигрантского сообщества. Из 9,5 млн. чел., проживающих в штате, мигранты составляют менее 7%. Здесь сразу возникает принципиальный вопрос: кого называть мигрантом? Возможны такие варианты ответа: 1) тот, кто родился за границей; 2) по самоопределению - выходец из какой-либо страны; 3) только нелегальный иммигрант. В зависимости от выбранного подхода будет меняться и статистика.
Сейчас в Северной Каролине доля испаноязычного населения достигает 6,3%, около половины представителей
178
Софья ДОЛУЦКАЯ. Латиноамериканские мигранты...
этой группы - нелегальные мигранты, что составляет около 275 тыс. чел. В Калифорнии, где таких мигрантов больше всего, их доля 6,9% населения, но численность значительно больше, потому что это штат с большей плотностью населения: только нелегальных иммигрантов там около 2,5 млн., причем это 9% рабочей силы (в Северной Каролине - 4,4%). Всего в США около 5% такого населения, т. е. около 11 млн. чел. Около 60% - это выходцы из Мексики. В Северной Каролине помимо уроженцев Мексики есть иммигранты из Сальвадора, Гондураса, Никарагуа, а также Эквадора, Колумбии и Перу, т. е. в основном уроженцы Центральной Америки. Основной приток испаноязычных мигрантов приходился на 1990-е гг. За 16 лет в городе Дарем количество мигрантов выросло примерно в 10 раз, произошел популяционный взрыв. Если в 1990 г. из 136,5 тыс. чел. населения города Дарем испаноязычное население составляло 1,7 тыс. чел., т. е. 1,25%, то в 2006 г. из 210 тыс. чел. жителей города мигрантов было около 25 тыс. чел. Надо отметить, что особенность такой миграции заключается в том, что за одним переселенцем часто следуют его родные и знакомые. По темпам роста числа мигрантов Северная Каролина в США занимает десятое место. Если первоначально наибольший приток мигрантов наблюдался в Техасе, Калифорнии, Флориде, то в настоящее время самый большой рост миграции отмечается в более северных штатах, таких как Северная и Южная Дакота, Небраска, Миннесота, несмотря на непривычный для латиноамериканцев климат. Мигранты часто заняты в сельском хозяйстве (например, в Миннесоте - на монокультурных плантациях, где выращивают рождественские елки).
Работа в НПО была связана в основном с городским населением, представители которого были заняты на строи¬
179
IV. Гражданство и миграция
тельстве, в секторе обслуживания - там, где предполагается самая низкая квалификация (основные сферы занятости для женщин - это уборка, работа в ресторанах, для мужчин - строительные работы, где квалификация чуть выше). В настоящее время минимальная оплата труда в США составляет 7,25 доллара в час, но при более высокой квалификации работник может получать до 10-15 долларов. Фактически мигранты получают гораздо меньше. Типичный бюджет семьи - 1-2 тысячи долларов в месяц (при двух работающих). Из этих денег около 600 долларов тратится на жилье и почти столько же на электричество, телефон, бензин, телевидение (единственное доступное развлечение). Непременно какие-то деньги мигранты должны посылать домой. Таким образом, от заработка почти ничего не остается. Потеря работы или болезнь становится катастрофой: без медицинской страховки даже непродолжительное лечение в больнице требует 3-5 тыс. долларов. Годовой доход в 10-12 тыс. долларов - это, конечно, уровень бедности: мигранты могут себе позволить только самое дешевое жилье, магазины и т. п. Только немногие, зарабатывая несколько больше, решались на ипотеку, но с началом экономического кризиса иллюзия такого благополучия рухнула: за последние годы из тех, кто планировал купить жилье с помощью ипотеки, каждый десятый все потерял, а остальные постоянно находятся под угрозой.
Основные проблемы, связанные с иммиграцией, таковы: 1) проблема иммиграционного статуса, адаптации к правовым условиям и существующей системе социальных институтов; 2) проблема трудовых отношений; 3) проблема детей-граждан, которые, родившись в семье мигрантов, автоматически становятся гражданами США (сейчас это почти 50% прироста населения).
180
Софья ДОАУЦКАЯ. Латиноамериканские мигранты...
Действительно, есть люди, у которых нет документов: их теряют или выбрасывают при пересечении границы, их крадут или отбирают. Иногда, кроме свидетельства о рождении или карточки избирателя, у человека ничего нет. Часть мигрантов имеет временные документы: так, временный защищенный статус, предоставляемый из гуманитарных соображений, могут получить жители стран, где происходили гражданские войны или природные катаклизмы (например, Гондурас, Сальвадор). Такой статус дается на 18 месяцев, если человек въехал в США до наступления подобного события. Соответствующий документ является видом на жительство и дает разрешение на работу, но впоследствии его надо обновлять, что стоит больших денег, а кроме того, такой статус могут отменить.
Здесь возникает проблема: что считается документом. В настоящее время не признается документом паспорт страны, если в нем нет отметки о легальном въезде в США (например, если паспорт был получен уже в США в консульстве соответствующего государства). Отсюда трудность: эти люди исключаются из зоны формального контроля, государство не может контролировать иммигрантов, пока они не попадут в его поле зрения, то есть пока они не станут правонарушителями. Нелегальных иммигрантов чаще всего обнаруживают, когда они привлекаются за мелкие правонарушения, обычно за вождение машины без прав или в нетрезвом виде. Например, в Северной Каролине так обнаружили около 70% нелегалов. Существует программа сотрудничества полиции с иммиграционной службой.
Еще один документ, которого нет у иммигранта, - это номер свидетельства социального страхования, который нужен для проведения пенсионных и социальных начислений. Это очень важный документ, который отражает эко¬
181
IV. Гражданство и миграция
номическую репутацию человека, позволяет ему устроиться на работу, получить кредит и т. п., он свидетельствует о благонадежности человека. У мигранта может быть номер налогоплательщика, который, однако, не дает права на работу, но позволяет получить кредит, купить машину. Его могут получить, например, члены семьи человека, легально работающего в США. С этими документами (карточками) могут быть связаны различные правовые проблемы: мигранты стараются их раздобыть, чтобы каким-то образом легализоваться. Например, один из источников - это карточки, которые получают дети, родившиеся в США, поскольку они уже являются гражданами. Родители таких детей пользуются этими карточками или продают их, не понимая, на какие трудности они обрекают своего ребенка в дальнейшем, когда выяснится, что кто-то под его именем работал, платил налоги, брал кредиты и т. п. Ребенку в будущем придется доказывать, что это его документ, а все, что по нему сделано, не имеет к его владельцу никакого отношения. Таким образом, проблема заключается в том, что и преступник, и жертва относятся к одному сообществу и зачастую не отдают себе отчета в том, что они делают.
Во многом происходящее связано с тем, что люди приезжают из традиционного общества, из деревни, где каждый всех знает. Люди не понимают, что такое документы, - они неграмотны, не знают даты своего рождения, они просят справедливости, но не осознают, что без документов они не могут обращаться в суд. Они пытаются избежать налогов, не понимая, что уплата налогов вводит их в правовое поле, а это дает им право на обязательное страхование, позволяет им предъявлять претензии к работодателю в случае, например, производственной травмы. Когда работодатель берет людей без документов, возникает обоюдное
182
Софья ДОАУЦКАЯ. Латиноамериканские мигранты...
бесправие: работодатель сам нарушает закон и не может ничего потребовать от работников, и наоборот. Все большее число американцев практически вовлекается во вне- правовую сферу: принимая на работу людей без документов или через посредников, на основе устного контракта, они становятся нарушителями законов. Происходит разрыв социального пространства. Отношение иммигрантов к документам связано не только с тем, что на их родине государство не дошло до их глубинки, они не видят пользы от документа в силу того, что в их стране отсутствовала работающая бюрократия, а в США она есть и может быть полезна для адаптации. Таким образом, важнейшая проблема мигрантов - это правовой инфантилизм: неумение вписаться в жизнь общества и невозможность воспользоваться тем, что государство может им предоставить. Например, развивается такая психология: государство враждебно человеку, и человек государству ничего не должен (если не дают водительских прав, то надо ли соблюдать правила дорожного движения). Такие отношения воспроизводятся: дети копируют поведение своих родителей. Сейчас в США около 4 млн. детей, у которых один или оба родителя - нелегальные иммигранты, которых могут выслать в любой момент. Однако вывезти из страны ребенка, являющегося гражданином США, очень трудно, он может остаться вообще один или на попечении родственников. Такое положение порождает чувство неуверенности - дети живут в постоянном страхе за свою семью.
В связи с этим в обществе звучат предложения о необходимости миграционной реформы, о том, что надо давать возможность узаконить свою жизнь в стране людям, которые к этому стремятся и выполняют ряд требований (знание языка, соблюдение законов, уплата налогов и т. д.).
183
IV. Гражданство и миграция
Есть мнение, что предоставление гражданства должно быть своеобразной наградой людям, которые действительно хотят жить в стране.
Потрясает не разнообразие жизненных ситуаций - они, как правило, стандартны: в каждой стране есть проблемы домашнего насилия, взаимоотношений между группами населения, проблемы меньшинств, нелегальной иммиграции. Но реакция на эти ситуации может быть весьма разнообразна. Например, в Дареме напряженные отношения складываются между чернокожим и испаноязычным населением, очень много криминальных ситуаций: прокатилась волна грабежей, вызванная тем, что бесправных людей, которые держат деньги при себе, легко ограбить, они боятся вызывать полицию, даже если преступление совершено по отношению к ним. Для разрешения ситуации был предпринят ряд мер (например, был открыт банк с упрощенной процедурой открытия счета). Мигранты предпочитают селиться вместе, чаще всего это связано с существующей имущественной сегрегацией - при этом чернокожие и испаноязычные жители оказываются в одних кварталах, где возможны и хорошие отношения, и конфликты, причем отрицательный опыт тиражируется очень быстро: каждое столкновение обостряет взаимную неприязнь. Безусловно, существует взаимное предубеждение, подозрительность, но есть и факты сотрудничества, взаимопомощи.
Отношения с белым и более благополучным населением складываются по-разному: от активного неприятия иммигрантов («все они преступники, всех надо выслать, они отнимают у нас работу») до сочувствия и помощи, иногда перерастающих и в дружбу (иногда такие отношения становятся ресурсом адаптации). Как известно, в США существует установка на сотрудничество с государством. Тем не
184
Софья ДОЛУЦКАЯ. Латиноамериканские мигранты...
менее, на нелегальных иммигрантов, как правило, не доносят. НПО финансируется не из федерального бюджета, а из средств города, графства, из частных фондов - сотрудников не обязывают сообщать в иммиграционную службу, поэтому они имеют возможность помогать любым людям. Часто американцы не доносят, так как знают конкретных людей, заслуживающих симпатии, или считают, что иммигранты не создают конкуренции, полезны для общества и экономики, так как выполняют работу, на которую никто не польстится. Так, когда проводилась кампания «Возьмите наши рабочие места» (был создан сайт, где предлагались рабочие места, обычно занимаемые мигрантами), только на 3% мест поступили заявки и на 1,5% мест реально нашлись претенденты. Чаще всего доносят друг на друга сами иммигранты, как правило, по личным мотивам, иногда угроза доноса используется как оружие, особенно в ситуациях, связанных с домашним насилием.
Как отношения мигрантов с обществом будут складываться, невозможно предсказать. Существует масса вариантов - от полной адаптации до полного конфликта с системой: кто-то берется за оружие, кто-то обращается в суд, кто-то пытается решать свои проблемы через обращение к системе социального обеспечения.
В социальных структурах часто работают выходцы из иммигрантов, которые склонны им симпатизировать, воспринимать как товарищей по борьбе в традиционном левом понимании. Вопрос о том, как таких людей называть, связан с тем, что НПО может для них сделать, но в этом нет единой позиции даже среди сотрудников НПО. В отношении к ним как к клиентам есть определенная опасность: человек, привыкший к патернализму, ждет, чтобы кто-то решил его проблемы за него, а цель социальных служб -
185
IV. Гражданство и миграция
научить людей ответственности за собственную жизнь, помочь им адаптироваться к системе, хотя бы превратить их из клиентов в успешных пользователей системы. НПО предоставляет возможность людям, которые приходят со своими проблемами, стать членами центра (за небольшие деньги). Это позволяет им получить доступ к различным образовательным и социальным программам (детский лагерь, обучение английскому языку, а также родному, так как многие из них просто неграмотны, и т. п.). В конечном счете, цель НПО - организовать людей на коллективные действия (например, в конфликте с домовладельцем), воспитать из них лидеров своего сообщества. С другой стороны, социальные службы налаживают общение с работодателями, государственными структурами, например договариваются с полицией о том, что членская карточка центра считается временным удостоверением личности. Коллективные действия, безусловно, возникают на различных уровнях: люди делятся выстраданным опытом, устанавливаются связи между работниками НПО, работодателями, государственными учреждениями, работниками служб социальной поддержки, иногда удается конфликты перевести в конструктивную плоскость. Кроме НПО работают организации при церквях, университетах, приходят волонтеры, существуют различные курсы по изучению языка, профессиональному обучению, работе с компьютером, занятиям с детьми.
Социальных центров много, они возникают как ответ на вызов жизни. В них работают американцы, которые хотят помочь, имея опыт работы в государственных учреждениях или других НПО, или успешные иммигранты. У организаций разная специализация и возможности. Например, организации, финансируемые из федерального бюджета, не могут предоставлять нелегалам бесплатную правовую по¬
186
Софья ДОЛУЦКАЯ. Латиноамериканские мигранты...
мощь, адвокатов, за исключением случаев домашнего насилия. НПО существует на гранты, деньги частных организаций, города и графства, в «Испанском центре» работают выходцы из стран Латинской Америки. Мотивация работы в НПО различная, но в основном это желание помочь, зарплата в этой области очень небольшая.
Из Северной Каролине в 2009 г. было депортировано 200 тыс. чел., что составляет около трети числа нелегальных мигрантов. Для многих из них это цикличный процесс: они перемещаются между штатами и странами - так что это не количество людей, а оценка потока. Депортируют по-разному: при добровольном отъезде и отказе от слушания в иммиграционном суде они могут ехать куда угодно, принудительно депортируют в страну проживания. За последние два года приток иммигрантов в США значительно снизился: максимальный приток - 12 млн. чел. - был в 2007 г., в 2009 г. - 11,1 млн. чел. Это происходит за счет стабилизации числа мексиканских иммигрантов (на уровне 7 млн.) и уменьшения числа иммигрантов из Центральной Америки, поскольку им стало труднее добраться, пересекая несколько границ: это становится все дороже, а ситуация в Мексике в последние годы значительно ухудшилась, особенно с точки зрения безопасности. Для Северной Каролины очень важный фактор - экономический кризис: если люди не могут найти работу, они уезжают, хотя могут и вернуться. Рабочие места для иммигрантов есть, поскольку минимальная заработная плата и фиксированное рабочее время часто остаются только на бумаге, их легко обойти (неправильный учет рабочего времени при неполной занятости, отказ от уплаты сверхурочных и т. п.). Именно здесь иммигрантам не хватает коллективных действий: они не умеют документировать свои отношения с работодателем,
187
IV. Гражданство и миграция
выдвигать общие требования. Трудовое законодательство штата позволяет решать вопросы только в индивидуальном порядке. Работодатель всегда может избавиться от неугодного работника, зная, что за воротами много других претендентов, а до создания профсоюзов они еще не дозрели. В других странах профсоюзное движение формировалось веками.
Если говорить о законодательстве на уровне штата, то в Калифорнии трудовое законодательство гораздо лучше защищает работников, чем в Северной Каролине, поскольку иммиграция имеет там большую историю, люди имеют больше возможностей влиять на систему в своих интересах. Но там гораздо больше жителей и другие отношения в обществе, поэтому труднее устроиться.
Даже нелегал может вписаться в систему, легализоваться со временем. Задача НПО - показать человеку возможности легальных действий. С другой стороны, целью НПО является сбор и систематизация информации, которая может использоваться для совершенствования законодательства, изменения самого общества. НПО имеет выход на прессу, работает с адвокатами. Выясняется, что многие недостатки системы не связаны с иммигрантами: трудовое законодательство, система медицинского страхования очень невыгодны и для граждан страны. Работа с иммигрантами должна укреплять правовое поле, включая этих людей в систему, а также совершенствуя саму систему (например, с точки зрения прав человека иммиграционные тюрьмы ужасны), иначе сами государственные структуры оказываются вовлечены в неправовые действия.
Принято считать, что иммигранты паразитируют на государстве, но реально многие из них (примерно половина) платят налоги, даже с незаконными карточками люди работают на законных местах, где работодатель соблюдает за¬
188
Софья ДОЛУЦКАЯ. Латиноамериканские мигранты...
конодательство, платит налоги. Уже есть исследования, которые показывают, что вклад этих налогоплательщиков в экономику достаточно серьезен, но эти люди не могут пользоваться всем, что может предоставить государство. Чем-то они пользуются: иммигранты получают пособия на детей-граждан, их дети учатся в школе и получают бесплатную государственную медицинскую страховку. С другой стороны, американцы видят, что иммигранты работают в сферах, где конкуренция отсутствует, включая сельское хозяйство (20 лет назад это были негры). Чтобы решить проблему нелегальной иммиграции, выйти из порочного круга, нужны усилия с двух сторон: иммигранты должны стремиться к адаптации, демонстрировать, что они хотят жить в стране и играть по ее правилам, прежде всего они должны учить язык (плохую услугу здесь оказало государство с переводом многих официальных документов на испанский язык; пока самые бессовестные эксплуататоры - это двуязычные иммигранты). Ключом к решению проблемы могут быть реформы: трудового законодательства, здравоохранения и т. п., поскольку это была бы борьба не за права меньшинств, нелегалов, а за интересы всех граждан страны. На данном этапе существующая система порождает порочную практику: отказываясь выдавать документы, давать возможность легализоваться, государство не имеет достаточной информации и контроля над этой частью населения.
Через несколько лет, когда дети-граждане вырастут и включатся в жизнь общества, это общество может измениться, причем непредсказуемым образом. Но, с другой стороны, есть мнение, что законодательство должно быть изменено, что таким детям нельзя давать гражданство, а это означает, что страна замахивается на те принципы, на которых она создавалась и стоит.
189
Ольга ВЕНДИНА
РОЛЬ МОСКОВСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ИНТЕГРАЦИИ НОВЫХ МОСКВИЧЕЙ
Изучая отношения «москвичи - приезжие», я столкнулась с недостаточностью интерпретаций той объективной картины, которую мы все наблюдаем. Попытка найти ответы в социологии меня не удовлетворила. Постоянно мучил вопрос: почему при использовании тонких методов и тщательном анализе получаются результаты, которые с равным успехом могут быть интерпретированы как в позитивном, так и в негативном ключе. Это заставило меня предположить, что есть что-то неверное в исходных посылах исследований: в том, как мы понимаем те явления, которые анализируем и объясняем. Поэтому я призываю анализировать не только статистику или опросы, но и смыслы, которые мы вкладываем в используемые понятия, например: «этническое меньшинство», «большинство», «коренные москвичи» и прочее.
Первый раз с проблемой многозначности понятий я столкнулась, когда несколько лет назад мы проводили опрос на Северном Кавказе, выясняя отношение людей к проблеме сепаратизма. При составлении анкеты в Москве у нас не возникало сомнений, но когда мы приехали на Кавказ, поняли, что, отвечая на одни и те же вопросы, люди имеют в виду совершенно разные вещи. Скажем, в Ставропольском крае под сепаратизмом, как правило,
190
Ольга ВЕНДИНА. Роль московской идентичности...
подразумевалось стремление северокавказских республик получить независимость и отделиться от России. Когда мы приехали в Карачаево-Черкесию, то обнаружили, что смысл сепаратизма видели в «разводе» между карачаевцами и черкесами, об отделении от России никто и не думал. В Дагестане, говоря о сепаратизме, люди имели в виду лезгин, которые периодически выдвигают требование присоединения к Азербайджану.
Если, употребляя понятие, мы не определяем смысл, который в него вкладываем, то в результате исследования оказываемся в «плену» цифр, которые могут быть использованы кем угодно и для каких угодно целей.
Сейчас в Москве постоянно обсуждается рост нетерпимости и ксенофобии. Существует огромное количество опросов, исследований на эту тему. Я бы хотела обратить внимание на то, что и здесь с терминами надо обращаться достаточно осторожно. Несмотря на то что мы говорим о росте ксенофобии, общая атмосфера в Москве достаточно спокойна. Это не значит, что ксенофобии нет. Но, с моей точки зрения, то состояние общества, которое существует на данный момент, можно скорее определить как состояние «моральной паники», нежели как высокий уровень ксенофобии и нетерпимости.
Например, поражают результаты проводящихся регулярно опросов, в которых москвичей просят назвать основные беспокоящие их проблемы. На третье место москвичи систематически ставят большой наплыв приезжих, особенно из южных республик, кавказцев и др. Меня всегда удивляло, почему такие проблемы, как снижение качества здравоохранения и уровня образования, коррупция в правоохранительных органах, оказываются на десятых местах? Мне кажется, это как раз и отражает состояние существующего в обществе психоза, который находит свое отра¬
191
IV. Гражданство и миграция
жение и в СМИ. Также педалируется в СМИ и фиксируется опросами перекладывание ответственности за все, что происходит в городе, на представителей этнических групп, этнических меньшинств. Примерно 40% москвичей считают, что приезжие нарушают те «традиции и ценности», которые складываются в обществе, не принимают их и не хотят им следовать. Еще около 40% считают, что приезжие признают эти ценности лишь частично. Если и общественное мнение, и многие исследователи, и лица, принимающие решения, бесконечно обращаются к понятиям нормативной культуры, к каким-то поведенческим характеристикам и стандартам, характерным для москвичей, надо, наверное, понять, что же все-таки это такое.
Прежде всего, почему вообще возникает проблема московской соционормативной культуры? Под соционорма- тивной культурой я понимаю формальные и неформальные образцы поведения, которые со временем (одни образцы уходят, другие возникают) становятся общепринятыми и указывают на то, что нам следует делать, а чего не следует. В этом смысле соционормативная культура выполняет функцию внутреннего контроля в обществе. Если люди не следуют общепринятым поведенческим предписаниям, то возникает ощущение, что они «бесконтрольные», а следовательно, опасные. Именно это чувство опасности и вызывает раздражение, а затем и панику.
Кто же является носителем этой соционормативной культуры и какова ее суть? Тут возникает вопрос о «коренных москвичах», которые, казалось бы, и должны представлять лицо Москвы. Примерно пять лет назад проводилось интересное исследование: сравнение отличительных черт москвичей и петербуржцев. Были выделены три категории. Первая - коренные москвичи (или петербуржцы), к которым для простоты относили всех уроженцев этих
192
Ольга ВЕНДИНА. Роль московской идентичности...
городов. Вторая - люди, которые длительное время проживают в этих городах и прошли в них социализацию. И третья категория - это новые жители города, приезжие. В характеристику коренных москвичей попали такие индикаторы, как интеллигентность, образованность, дружелюбие. И в то же время - заносчивость, высокомерие. Если говорить о москвичах-старожилах, то их выделяют: активность, стремление к успеху, образованность, но также раскованность и наглость, привычка ставить себя выше остальных людей. Недавние мигранты в основном аккумулировали негативные характеристики, но все-таки отмечалась их высокая активность, готовность браться за любую работу. Общее мнение - эти люди не останавливаются ни перед чем, то есть им свойственна слабость моральных принципов. Понятно, что всем - и властям, и исследователям, и нам лично - симпатична категория коренных москвичей, которые хотя и заносчивы, но умны, интеллигентны, приветливы, воспитанны и т. д. Однако возникает вопрос: насколько коренные москвичи определяют лицо Москвы?
Когда сегодня говорят о миграционных процессах, то забывают, что вся история Москвы XX в. - это история бурных миграций, характерной особенностью которых было не только то, что огромное количество людей приезжало в Москву, но и то, что шло активное замещение населения.
Коротко назову этапы миграционной истории. До революции 1917 г. в Москве проживало около 2,5 млн. чел. К началу 1920-х гг. население Москвы сократилось вдвое. Это были не только человеческие потери или белая эмиграция, но и огромное количество рабочих из крестьян- отходников, которые вернулись в свои деревни. С 1923 г. Москва начинает получать приток приезжих примерно по 300—400 тыс. чел. в год. Тут и возникают знаменитые московские проблемы, связанные с квартирным вопросом,
7 Зак. 1988
193
IV. Гражданство и миграция
«сильно испортившим» москвичей. В это же время происходит заметное изменение этнического состава населения Москвы. Представители европейских народов (поляки, французы, немцы) уезжали, а в Москву перебирались жители западных губерний, где в результате войн и перемещения границ ситуация была крайне нестабильной. Достаточно сказать, что если до революции доля еврейского населения в Москве составляла примерно полпроцента, то к 1923-1926 гг. она достигла 6,5%. И точно так же, как мы сегодня чувствуем, как меняется разговорная речь в Москве, так и тогда менялась и речь, и вся жизнь в городе. В 1930-е гг. происходили похожие процессы: в 1932 г. вводится паспортный режим и сразу миграция падает, но уже через пару лет люди адаптируются к паспортному режиму и в Москву опять начинает приезжать до 100 тыс. ежегодно. Война: столица отдала мобилизации свыше 850 тыс., включая призванных в армию, народное ополчение, войска ПВО, истребительные и коммунистические батальоны, партизанские отряды. В эвакуацию отправилось порядка 2,2 млн. Население опять сокращается больше чем вдвое. Из эвакуации возвращается фактически миллион с небольшим, остальной прирост дало новое население. В 1950-е гг. люди опять начинают «переезжать» по призыву партии. Уезжавшие осваивать целину или на разные стройки далеко не всегда возвращались в Москву.
Таким образом, мы видим повторяющуюся историю постоянной смены населения Москвы. И если сегодня попытаться оценить, какова же доля в Москве коренных москвичей, выясняется, что тех, кого мы можем назвать потомственными москвичами, тех, кто хотя бы в третьем поколении является москвичом, - просто единицы. Если предположить, что довоенные уроженцы Москвы смогли воспроизвести себя в полном объеме (перед революцией
194
Ольга ВЕНДИНА. Роль московской идентичности...
в Москве было около 25% местных уроженцев, к 1930-м годам эта цифра возросла до 36%, а к 1940-м опять упала примерно до 20%), то у нас получится, что москвичи во втором- третьем поколениях составляют 5-7% населения. Реально эта доля еще меньше, если учесть все демографические потери и суженный режим воспроизводства, свойственный горожанам. Упростим критерий и будем считать «москвичами» тех, кто здесь родился, по переписи 2002 г. - 54% населения. Тогда окажется, что из них 22% - это дети в возрасте до 14 лет, и вряд ли они определяют московскую соционормативную культуру, а среди остальных доля лиц старше 50 лет приближается к 60%. Это значит, что «коренные москвичи» не определяют лица Москвы. Как ни печально, коренной москвич - это фигура, уходящая со сцены, московскую соционормативную культуру определяют москвичи в первом поколении и дети мигрантов. И это четко фиксируется восприятием Москвы жителями других городов, для них Москва - это город активных, успешных, но в то же время меркантильных и эгоистичных людей: это культура, которая в значительной степени свойственна мигрантам и детям мигрантов. Меркантильное сознание свойственно людям, которые что-то резко поменяли в своей жизни, материальные достижения являются зримым показателем успеха, тем, что можно предъявить другим в качестве доказательства правильности совершенного поступка. И если именно эта группа населения определяет соционормативную культуру Москвы, то возникает следующий вопрос: что же делает всех этих москвичей в первом поколении и детей мигрантов единым сообществом? Что заставляет других воспринимать его как большинство? И можем ли мы вообще в своем анализе использовать данную категорию?
Первый важный индикатор выделения большинства, а точнее этнического большинства - это, конечно, стати¬
195
IV. Гражданство и миграция
стические показатели. Но насколько стабильна такая ситуация? Ведь можно сказать, что этническое преобладание - ситуация временная, возможно, даже аномальная. Москва, будучи столицей многонационального государства, остается русским городом, с долей русского населения большей, чем в целом по стране, хотя, казалось бы, должно быть наоборот: столица всегда является культурным перекрестком и притягивает к себе наиболее активных людей, поэтому доля главного этноса должна быть здесь ниже, чем в целом по стране. Если говорить об этническом преобладании, то в России есть множество городов, где, исходя из статистики, нельзя сказать, кто является большинством (яркий пример - Казань). Опираясь исключительно на статистику, мы не можем говорить о большинстве.
Второй важный момент - идентичность. Насколько вообще она развита в Москве и что составляет ее основу? Проблема идентичности затрагивается во многих опросах, но очень по-разному. Например, исследования Института этнологии и антропологии РАН, проводившиеся с 2004 по 2007 г., показали: примерно половина москвичей ощущают свою близость с городом и примерно столько же - со своей этнической группой, с Россией и т. д. Говорилось, что многие москвичи ощущают связь с городом и, следовательно, обладают московской идентичностью. Но у меня эти данные скорее вызывают вопросы, потому что вполне возможно, что люди, обладающие московской идентичностью, противостоят тем, кто обладает этнической идентичностью. Или же это пересекающиеся множества? Может ли вообще московская идентичность нормализовать межэтнические противоречия, поскольку, будучи социально-территориальной, она подчеркивает общие характеристики социума, а не внутренние различия, и в этом смысле противополагается этнической.
196
Ольга ВЕНДИНА. Роль московской идентичности...
В ходе исследования 2001 г., которое проводилось в Москве, мы хотели выяснить, как выстраивается иерархия идентичностей, то есть с кем или с чем люди идентифицируют себя в первую очередь, во вторую, в третью. По этому опросу доминирующей идентичностью в Москве оказалась российская. Московское сообщество выглядит чрезвычайно политизированным и «патриотичным», возможно, это отчасти происходит из-за того, что именно здесь вырабатываются национальные идеи, формируются разного рода патриотические инициативы. Существенное место в сознании людей занимает и советская идентичность, как это ни странно для города, который считается лидером российской модернизации. Советская идентичность чрезвычайно важна не только для москвичей старших поколений, но и для всех иных возрастных групп, особенно в среде мигрантов. Как и российская идентичность, она позволяет ощущать себя «своими» в чужом городе, как бы легитимируя право приезжих на жизнь в столице.
Московскую идентичность поставили на первое место 16,9% москвичей, на второе - 28,8% и на третье - 21,8%. Это означает, что ощущение себя москвичом не первостепенно, чувство общности ослаблено, московская идентичность стерта.
Можно было выбрать и такой ответ: «Я ощущаю себя жителем своего района». Мы исходили из того, что люди обычно «держатся» за свой район, не хотят из него уезжать. И мы предполагали, что привязанность к своему району будет сильнее выражена у жителей исторического центра. Оказалось, что сильнее идентифицируют себя со своим районом жители окраин, районов, привязанных к крупным лесным массивам или предприятиям (Капотня, Измайлово или Битца). И еще одно тревожащее наблюдение: те люди, которые соотносили себя прежде всего со своей этниче¬
197
IV. Гражданство и миграция
ской группой, во вторую очередь идентифицировали себя с районом проживания. Это свидетельствует об определенной самоизоляции представителей некоторой части этнических групп в Москве.
Если говорить о сути московской идентичности, то что составляет ее основу? Конечно, хотелось бы, чтобы это было беспокойство за судьбу города, ответственность и прочие гражданские ценности. Но, как показывает очень интересное исследование Любови Барусяк «Ксенофобия как патриотизм», касающееся восприятия молодыми москвичами мигрантов и представителей этнических меньшинств, основу московской идентичности составляет чувство привилегированности. Москва рассматривается как очень важный, но очень дефицитный ресурс, как исключительное место в стране, где можно нормально жить. То есть людей объединяет не чувство гражданской ответственности за свой город, а то, что они ощущают свое превосходство над всеми другими и требуют от других значительных усилий для того, чтобы заслужить право попасть в этот «клуб избранных». Это, с моей точки зрения, чрезвычайно тревожно, поскольку московская идентичность начинает работать не как включающая, позволяющая людям объединяться и интегрироваться в сообщество, а скорее как исключающая, противопоставляющая сообщество москвичей всем остальным.
Следующий момент - это социальная вовлеченность при принятии решений. Казалось бы, большинство определяет жизнь в городе. Но если рассматривать политическую культуру, оказывается, что «большинство» чрезвычайно пассивно. В политической и в управленческой жизни города гораздо активнее участвуют мигранты, те люди, которые пытаются сделать карьеру, изменить свою жизнь. Я не говорю, хорошо это или плохо, но по многим причинам гораздо более
198
Ольга ВЕНДИНА. Родь московской идентичности...
мотивированы к приятию решений и влиянию на жизнь городского сообщества мигранты в первом поколении.
Наконец, последнее - это отношение к большинству как к принимающему сообществу. Очевидно, что в этом случае приходится отказаться от этнического критерия определения «большинства». Если посмотреть на длительность проживания представителей различных этнических групп в Москве, то окажется, что около половины армян являются местными уроженцами, 60% татар родились в Москве и т. д. Но тогда возникает вопрос: кого называть этническим меньшинством, если представители этнических групп входят в большинство? Скажем, когда проводится перепись населения, то этнические группы определяются на основе самоидентификации. Количество людей, которые идентифицируют себя с определенным этносом, автоматически приравнивается к этническим меньшинствам, что категорически неверно. Это становится еще более неверным, потому что в самих статистических подсчетах кроются серьезные ошибки, связанные с некорректностью проведения переписи.
Следующий важный критерий, который используется для определения этнических меньшинств, - это язык. Здесь происходит то же самое, поскольку для представителей многих этнических групп в Москве давным-давно родным является русский язык, а не язык своей национальности. Более того, процесс утраты своего национального языка происходит достаточно быстро. Скажем, согласно данным Ю.В. Арутюняна, если в поколении родителей на армянском языке говорит около 70% опрошенных, то в поколении детей - уже вдвое меньше. Такие же соотношения видим и у представителей других этнических групп. Таким образом, человек может идентифицировать себя с этнической группой, но при этом не владеть соответствующим языком.
Также важна страна исхода и общность переживаемых проблем. Если мы вспомним, что основной поток приезжаю¬
199
IV. Гражданство и миграция
щих из республик Закавказья и Средней Азии составляли русские, то мы поймем, что этот критерий также не годится для идентификации этнических меньшинств. Если же говорить о разделяемых ценностях, оказывается, что поток этнических мигрантов, который получила Москва, был чрезвычайно поляризованным. В нем были, с одной стороны, представители этнических элит, а с другой стороны, гастарбайтеры. Более того, происходят постоянные изменения: если сначала мы получали городское население, то сейчас мы стали получать население сельское. Понятно, что сама структура потока настолько дифференцирована, что мы не можем всех этих людей рассматривать как некое целое и как определенное меньшинство. Одни мотивированы на то, чтобы остаться в Москве, другие - на то, чтобы здесь заработать денег и уехать. То есть этот критерий также не делает всех представителей этнической группы этническим меньшинством.
Что касается чувства солидарности - опять же существует точка зрения, что представители меньшинств обладают высокой солидарностью, которая заставляет их стремиться к компактному проживанию, формированию этнических анклавов и т. д. Но для Москвы вообще характерен достаточно низкий уровень гражданского участия и солидарности. По оценкам опроса, который мы проводили в 2001 г., всего около 7% москвичей участвуют в деятельности различных общественных организаций, гражданских ассоциаций и т. п. Среди этнических групп показатель гражданской активности вдвое выше (в зависимости от группы - от 15 до 20%).
С моей точки зрения, единственным критерием, который позволяет говорить об этнических меньшинствах, является критерий изолированности, то есть уровень изоляции в московской среде, отсутствие контактов за пределами своей этнической группы, своей семьи. Можно найти целый ряд показателей, чтобы оценить степень изолированности того
200
Ольга ВЕНДИНА. Роль московской идентичности...
или иного индивида, социологические методы позволяют это сделать. Но в Москве таких опросов пока не проводилось.
Из сказанного следует, что большинством и меньшинствами делают нас не собственно этнические характеристики, а скорее социальные, и поэтому решение проблем, связанных с этническими меньшинствами, также должно лежать не в сфере культуры, а в социальной сфере. Когда мы говорим об интеграции этнических меньшинств в московскую среду, то нужно понимать, что и сами меньшинства представляют собой некоторое гетерогенное сообщество, и московское большинство тоже чрезвычайно гетерогенно. Речь должна идти об интеграции двух гетерогенных сообществ, в результате которой нового гомогенного сообщества не возникнет. Поэтому политика должна строиться на поиске общих принципов, таких как общий язык, общие интересы, общие цели. Для того чтобы сработали культурные механизмы, чрезвычайно важно, чтобы сработали механизмы социальные.
Какие на сегодняшний день существуют альтернативные виды этнокультурной политики? Первую я бы назвала асси- миляционизмом. Это политика, которая предусматривает одностороннюю интеграцию представителей иноэтничных меньшинств в московское принимающее сообщество, что понимается как интеграция в русскую культуру, причем сама русская культура понимается как некая неизменная данность.
Другая политика - мультикультурализм. Проблема мультикультурализма состоит в том, что общество, придерживающееся этой идеи, - это сегрегированное общество. Внешне оно бесконфликтно, в нем можно прекрасно жить, есть определенные группы, которые находят способы решения проблем через организацию публичных институтов, через институты гражданского общества и соблюдение прав человека, что позволяет уравновесить негативные последствия сегрегации. Если придерживаться политики муль-
201
IV. Гражданство и миграция
тикультурализма, то необходимо заботиться о его демократической составляющей. Если же в обществе, продуцирующем сегрегацию, подавлять демократию и гражданское участие, то мультикультурализм даст прямо противоположный эффект и окажется дорогой к межэтническим конфликтам.
Наконец, существует политика, которую я назову «ассимиляцией». Слово это чрезвычайно стигматизированное, на него навешено огромное количество ярлыков, тем не менее, оно лучше всего отражает смысл того, что я хочу сказать. Мы привыкли воспринимать ассимиляцию как определенный результат, как достижение определенной цели, когда «одно» превратилось в «другое», утратив свои первоначальные свойства. Но ассимиляция предполагает двустороннее движение, когда меняются представители как одной культуры, так и другой. Это приводит к определенной гибридизации и выработке той самой соционорматив- ной культуры, которая на самом деле чрезвычайно изменчива. Ассимиляция в этом смысле важна не как способ отказа от каких-то своих этнических корней или своей этнической культуры, а в смысле приоритета социального над этническим, в смысле сближения общества на основе общих целей и интересов.
Если смотреть на процессы, которые происходят в Москве, именно с этой точки зрения, то в городе идут достаточно активные процессы ассимиляции, хотя сама политика диктует нам не столько ассимиляцию, сколько ассими- ляционизм. И движутся эти процессы не коренными москвичами, и не москвичами русского происхождения, а скорее этническими меньшинствами. Одной из стратегий интеграции в московское общество является этническая самопрезентация, которая позволяет людям вывести свою этничность за пределы частной жизни, своей квартиры и вписать в общий поток городской жизни.
202
МАТЕРИАЛЫ ДИСКУССИЙ
ДИСКУССИЯ
ПО ДОКЛАДУ ВЛАДИМИРА МАЛАХОВА
Вопрос: «Цивильное гражданство» - это устоявшийся термин?
Владимир Малахов: Нет, этот термин ввожу я, потому что не могу придумать лучших способов перевода понятия «civil citizenship». Ведь «гражданское гражданство» - не скажешь. Вообще-то, проблема конвертации очень интересна сама по себе. У Вадима Волкова была замечательная статья о том, что в русском языке плохо укореняется понятие «гражданское общество», он предлагает более близкое нам понятие - «общественность». Возможно, понятие «цивильное гражданство» и приживется.
Вопрос: Это скорее не вопрос, а ремарка. Мы говорим о категории «инокультурные мигранты». В российской академической среде эта категория популярна. И она, по существу, ведет к культурализации социальных отношений. Но, например, в Канаде такая категория не поощряется, поскольку организация гражданского общества здесь формируется по этнокультурным признакам. Тем не менее, здесь тоже происходит нечто похожее - социальное культурализируется.
Владимир Малахов: Действительно, культурализация социального происходит не только у нас. Программная статья Сэмюэля Хантингтона Who we are?, полностью выдержана в этой - культуралистской - логике. Автор говорит о приезжающих в страну испаноязычных мигрантах, якобы не желающих обучаться американской культуре, и считает это главной проблемой будущего. Он ни слова не говорит о
204
Дискуссия по докладу Владимира Малахова
социальных корнях этой проблемы. «Либо мы их ассимилируем, либо потеряем страну», - такой примерно мессидж у этой статьи. Хантингтон имеет в виду угрозу утраты культурной гегемонии.
Я бы отметил, что в некоторых случаях большой вопрос вызывает приставка «ино». Например, являются ли выходцы из Азербайджана, проживающие в Москве, «инокуль- турными мигрантами»? Представителями мусульманской культуры в христианско-православной среде, как их часто называют? Особенно представители старшего поколения, социализация которых проходила еще в советских институтах? По-моему, между ними и русскими нет больших противоречий по линии разницы конфессий, но есть большая культурная близость, связанная с воспитанием в советском и постсоветском обществе. Насколько велика культурная дистанция и принципиальна ли она - это всякий раз надо обсуждать отдельно. Так что, на мой взгляд, эта категория - «инокультурные мигранты» - достаточно вредная.
Вопрос: Для меня осталась непонятной дифференциация между социальным, цивильным и политическим гражданством. Разве категория гражданства не включает все эти аспекты?
Владимир Малахов: Гражданство в данном случае подразумевает полноправную включенность индивидов в некую общность. Если, например, рабочий в Англии получает в конце XIX века право раз в четыре года прийти к избирательным урнам или образовать политическую партию - он получает политические права. Пример гражданских прав - право не быть арестованным без предъявления обвинения более чем на 48 часов; пример социальных - право на пенсионное обеспечение. Из каждого типа прав
205
МАТЕРИАЛЫ ДИСКУССИЙ
возникает тот или иной тип гражданства. Политическое гражданство - это, когда у всего населения страны без изъятий имеются политические права. В либеральном режиме гражданства политические права обеспечены практически всему населению, никто здесь не изъят. В случае Эстонии и Латвии русскоязычное население, по большей части, было в 1992 году из политического гражданства изъято. И даже отчасти из социального - ведь в той мере, в какой они не являются гражданами, они лишены ряда социальных прав. Совсем необязательно гражданство предусматривает все три аспекта. Например, в либеральном режиме социальное гражданство может быть не предусмотрено вовсе.
Вопрос: Разве из того факта, что гражданин принадлежит государству, не вытекает то, что он наделяется социальными правами?
Владимир Малахов: Совсем необязательно. Граждане находятся в юрисдикции государства, но объем прав, в том наличие числе социальных прав, таких, например, как право на медицинское обслуживание, образование, пенсионное обеспечение, зависит от режима гражданства. В США есть социальное гражданство, но суженное по сравнению с Западной Европой. Объем социальных прав там на порядок меньше, чем в Скандинавских странах, а также во Франции или в Германии.
Вопрос: Не могли бы Вы пояснить Ваше утверждение о том, что гражданство есть атрибут модерна? Для меня осталось неясным, чем же все-таки отличаются отношения социум - государство, которые были в античности, от того типа отношений, которые есть сейчас. То, что отличие существует, - несомненно, но то, что одно есть гражданство, а другое нет, — не вполне убедительно.
206
Дискуссия по докладу Владимира Малахова
Владимир Малахов: Я не утверждаю, что античность не знала гражданства. Я лишь утверждаю, что античность не знала гражданства в современном смысле этого слова. В том смысле, который оно приобрело в эпоху модерна. Только в эту эпоху гражданство начинает мыслиться как феномен универсальный, распространяющийся на все население.
В античных городах-государствах граждане - это свободные индивиды, противопоставленные несвободным и составляющие меньшинство в населении полиса. В Спарте, например, в конце V. в до н.э. было всего 5 тыс. граждан при населении в четверть миллиона человек.
Вопрос: Возможно ли идеальное гражданство, без исключенное™, причем такое, в котором присутствуют все три типа прав?
Владимир Малахов: Исключенность присутствует всегда. По принципу: «Все равны, но некоторые равнее». Другое дело, что некоторые общества в силу экономических причин в определенные периоды времени могут позволить себе такую роскошь, как минимизация исключения.
Реплика Бориса Капустина
Я полностью или почти полностью солидарен с политическим пафосом выступления Владимира Малахова, но по части философской аргументации чувствую довольно большие расхождения. Поэтому сейчас попробую обратить внимание на несколько пунктов, по которым я введу основные различия в нашем понимании гражданства.
Философская методология исследования концентрируется в самом начале доклада, там где определяется понятие гражданства. Именно об этом я буду говорить. В определе¬
207
МАТЕРИАЛЫ ДИСКУССИИ
нии понятия гражданства у меня с докладчиком самые большие расхождения.
Я категорически не согласен с исходной посылкой определения гражданства как отношения индивида и власти. Гражданство есть отношение индивида и индивида. Ни в коем случае, не отношение индивида и власти.
Алла Глинчикова задала хороший вопрос, попросив показать существенные различия между античным и современным гражданством. Что такое гражданство для Аристотеля? В его рассуждениях не упоминается ни государство, ни власть - речь идет об отношениях между гражданами. Эти отношения (отношения между гражданами) характеризуются двумя параметрами, а эти параметры, по сути, и составляют понятие гражданства И я бы настаивал на том, что аристотелевское определение гражданства относится не только к античности, но и к современности. Различия между античным и современным гражданством, безусловно, есть, но они заключаются в другом, не в системе отношений.
Существенная черта определения Аристотеля - симметричность. Гражданство - это отношения симметрии. Способность править и быть управляемым. Управлять, как свободные люди, и подчиняться, как свободные люди. Симметрия здесь является принципиальным моментом, так же как и наличие способности. Способности судить об общем благе, в более широком смысле - способности принимать участие в общественных делах. Таким образом, в качестве ключевых элементов понятия мы имеем: а) симметрию; б) способность. Все теории общественного договора (за исключением, может быть самых ранних) опираются на эти постулаты, и в их основе лежат отношения между гражданами. Власть же утверждается договором - это уже второй акт. А первый - отношения между гражданами.
208
Дискуссия по докладу Владимира Малахова
Гражданство как специфическое отношение между индивидуумами (а не между индивидуумами и властью) есть политико-философское определение гражданства. В отличие от юридического, политико-философское определение гражданства фокусируется на способности, а не на правоспособности. Поэтому нам очень важно четко разделять юридическое и политико-философское измерение явления. На мой взгляд, интеллектуальный дефицит большинства мультикультурных дискуссий происходит из смешения двух этих измерений, а в более радикальных случаях даже из-за откровенной подмены политико-философского измерения юридическим. Способность быть гражданином подменяется обладанием определенными правами, данными гражданину государством.
Определение, данное Владимиром Сергеевичем, появилось, на мой взгляд, в рамках этих тенденций. Оно также подменяет «политико-философское» измерение, где нет власти и государства как объектов «юридическим» — где эти объекты есть.
Второе. О различиях между современностью и античностью в контексте нашей темы. Я согласен с автором доклада в том, что сейчас мы должны определять современное гражданство. Хотя, еще раз подчеркну, что в политико-философском измерении разницы между его античным и современным пониманием нет, эта разница - в другом. Здесь уже упоминалась замечательная статья Этьена Балибара, в которой шла речь о понятии политической субъектности в философии. Эту тему развивают многие, но формулировки Балибара, на мой взгляд, кристально чистые. Он пишет о том, что великое различие между античным и современным гражданством упирается в вопрос соотношения равенства и свободы. Формируя понятие гражданства, античность исходила из первичности свободы. Определялась группа свободных, они полагались равными. В соответствии с классическим определе¬
209
МАТЕРИАЛЫ ДИСКУССИЙ
нием полиса, свободный и равный признавался гражданином полиса. Понятно, что здесь изначально присутствует фундаментальная посылка - свободны не все, и те, кто свободны, заранее определены. Как пишет Балибар, радикальное изменение современного гражданства по отношению к античному наступает тогда, когда равенство становится первичным, а свобода производной. От этой границы (перехода) начинается бесконечный спор о границах гражданства, который никак априорно, никак философски, никак спекулятивно быть решен не может. Мы сейчас исходим из презумпции, что все люди равны. И всем этим равным атрибутируется свобода как возможность участия в ассоциациях, в сообществе, в универсальном человечестве. Как раз примат равенства над свободой и взрывает положенные границы этому обществу свободы в виде полиса. Отсюда происходит постоянная политизация вопроса о «проклятых границах» - они же должны быть. Ведь, по Гегелю, определить значит ограничить. Когда мы говорим о любой универсальности, в том числе универсальности (понятия) гражданства, мы должны проводить границу, за которой всегда будут исключенные. И поэтому не могу согласиться с высказыванием Владимира Сергеевича, о том, что «хотя бы на уровне политической фикции - все граждане». Нет, не все граждане, даже на уровне политической фикции. Если же немного отвлечься и поговорить о фикции — я скажу так: фикции есть везде - это классика, об этом писали многие. Политика по природе фиктивна. Фикция есть нечто конституирующее политическую реальность.
Греческое понятие гражданства тоже было универсальным, и на этом настаивает Аристотель. В каком смысле? Гражданин - каждый человек, обладающий разумом. У него различается высшая и низшая способности разума. Высшая - это способность к законодательной деятельности, низшая - способность раба выполнять команды. Раб
210
Дискуссия по докладу Владимира Малахова
тоже разумен, но в этом низшем качестве. Граждане - это все, обладающие разумными способностями. И это фикция, поскольку рабы все равно остаются рабами.
Другое дело, что определение (понятие) человека разумного имеет совершенно определенную историко-культурную наполненность. И фикция либерализма ничем, ни на йоту не отличается (от этого определения) своей фиктивностью Там тоже граждане - все. Все - люди. Все разумны. Фикция потому, что определение (понятие) человека разумного имеет совершенно определенную историко-культурную наполненность. Определять человека разумного стали по-разному, и это понятие постоянно пересматривается. Например, в американских статьях Конфедерации он определен одним образом - исключены бедняки, те, кто не проходил по цензу оседлости. А, например, у Локка атеисты - люди неразумные, поэтому не должны иметь прав.
В результате получается, что реальная проблема гражданства - это не рассмотрение всех этих политических игр о том, кому сегодня не дали прав, геям, например, или кому-либо еще (это эмпирическая игра, несмотря на то что все это, конечно, интересно). Реальные режимы власти - «дискурсы» Фуко - работают на уровне определения, а кто есть человек и что считается разумом. А это уже позиция власти, и то, что определяется авторитарно. Определив же понятие «человек», мы далее «приклеим» к нему любую универсальность. Вопрос гражданства - это вопрос политической, авторитарной борьбы, за концепцию человека разумного, за то, кого считать человеком разумным. После этого определения ему выдаются все универсальные права.
Третье. Гражданство, понятое как постоянная борьба за границы определения человека разумного, который потом наделяется универсальностью, - есть неустранимый парадокс. И это политическая проблема, если понимать как поли¬
211
МАТЕРИАЛЫ ДИСКУССИИ
тические проблемы, которые не поддаются решению разумом, а разрешаются только политическими средствами. Политическая проблема - это та проблема, которая имеет только политическое решение, через дифференциалы сил, а не через дискурс. О причинах того, почему это так происходит, можно было бы много говорить, но я сейчас делать этого не буду. Гражданство, исходя из античного понятия - это действительно участие в общем деле. На основе тех самых отношений симметрии. Это - отношение к общему благу. По идее, не опосредованное ничем другим. Владимир Сергеевич совершенно правильно сказал, что в гражданстве стираются все остальные определения (статусы) человека - гендерный, социоэкономический и т.д. Это идет от античной идеи непосредственности отношения человека (индивида) как гражданина полиса к общему благу. И либерализм эту идею берет.
В универсальном отношении к благу стираются партикулярные определения человека. Понятно, что партикулярные определения никуда не исчезают, они были, есть и будут. Сама возможность участия в общем благе и отношение к нему как раз и определяются нашими партикулярными формами бытия, тем, кем мы являемся, - бедным крестьянином, или например, олигархом, или, кем-либо еще. Возраст, гендер - все это работает. Поэтому ключевая проблема гражданства, если уйти от уровня политической фикции и говорить о чем- то реальном, это вопрос о том, как неустранимо партикулярное в человеке соотносится с этой универсалией, с этим всеобщим отношением, коим является гражданство.
Владимир Малахов
Я совершенно не согласен с тем, что определение гражданства, которое я предложил, - юридическое. Оно, если хотите, теоретико-социологическое.
212
Дискуссия по докладу Владимира Малахова
Далее, я никак не могу согласиться с пониманием гражданства как отношения между индивидами. Если гражданство - это отношение индивида к индивиду, из него полностью элиминируются отношения власти. Каким образом индивид А может сделать гражданином индивида Б? Никаким.
И, кстати, о правах. Я не говорил о правах как о том, что «дается» государством. Я говорил о правах как о том, что завоевывается в борьбе.
Другое дело, что феномен гражданства не сводится к статусу. Помимо совокупности прав, в нем есть другое измерение - измерение «идентичности». Оно связано с членством индивида в некоей общности, с переживанием принадлежности к общности. Этот аспект гражданства в моей - «социологической» - призме, в самом деле, оказывается в тени.
Теперь о теоретических основаниях того, почему я считаю возможным полностью отвлечься от «гражданства» в античности. Потому, что явление, обозначаемое этим словом во времена Аристотеля, имеет мало общего с гражданством в современном понимании. Слово похожее, а смысл разный. Античность иначе понимает человека, чем его понимает современность. Когда Аристотель определяет человека как «животное политическое», он имеет в виду сущностную связь между свойством быть человеком и его бытием в полисе. В этой призме быть человеком и быть членом полиса (т.е. гражданином) - одно и то же. Гражданин - это свободный человек. Почему? Потому, что он обладает таким качеством как разумность. Почему все прочие - женщины, рабы, дети - неграждане? Потому, что неразумны. Или недостаточно разумны. Им этого качества недостает. Перед нами, таким образом, совсем иной способ мыслить человека, иная антропология, чем та, из которой исходит Модерн.
213
ДИСКУССИЯ
ПО ДОКЛАДУ БОРИСА КАПУСТИНА
Вопрос: Что происходит в истории с политическими проблемами, которые не решаются? И, в частности, с такой не находящей решения проблемой, как «гражданское общество»?
Борис Капустин: Я считаю, что та проблема, с которой возникла современность и с которой она будет существовать, пока существует, а именно попытка создания порядка на основе свободы - проблема, в принципе не решаемая. Но можно найти более или менее работающие модели на конкретный период времени. Была проблема выйти из Великой депрессии - худо-бедно, но вышли. Видимо, надо очень четко отделять те проблемы, которые конституируют современность как таковая, от тех проблем, с которыми общество пытается какими-то путями справиться в той или иной конкретной ситуации.
Вопрос: Деятельность некоммерческих (общественных, международных) организаций свидетельствует о деградации гражданского общества, эти организации не являются его институтами и защищают статус-кво. Но жителей стран с развитыми демократиями статус-кво полностью устраивает. В чем противоречие?
Борис Капустин: Я не говорил, что некоммерческие общественные организации не являются гражданским обществом. Я сказал, что они являются элементами гражданского общества в упадке, такого гражданского общества,
214
Дискуссия по докладу Бориса Капустина
которое не может реализовать ту трансформирующую функцию, которую я считаю определяющей для него. Сейчас существуют какие-то партии, даже в России, не говоря уже о других странах. Но сравнивать их с партиями периода расцвета партийной жизни, например в 40-е годы прошлого века, нельзя. Да, в каком-то виде гражданское общество есть, но оно находится в состоянии упадка.
Вопрос: А что впереди - телега или лошадь? Мы видим зарождающееся гражданское общество и понимаем, что наступил переломный момент. Или, наоборот, присутствие каких-то острых ситуаций предполагает наличие гражданского общества?
Борис Капустин: Сейчас вроде бы финансовый кризис, а гражданского общества не видно. Нет даже субъекта полемики, не говоря уже о субъекте политического действия. Но думать, что в истории есть некоторый автоматизм и что любой кризис приводит к возникновению сил, которые будут с ним справляться, - неправильно. Еще в одной из своих ранних работ, обсуждая судьбы революции 1905 года, В.И. Ленин написал, по-моему, гениальную фразу: общество может гнить бесконечно долго, если нет силы, которая его подтолкнет. Это и есть ответ. Существует некая асимметрия возникновения действенных субъектов в истории и остроты кризиса. Для того чтобы понять, почему в нынешней обстановке глобального кризиса, масштабов которая мы до конца еще не осознали, субъект так и не сложился, нужно смотреть, как работают идеологические механизмы, как работает то, что Теодор Адорно называл культурной индустрией, как работают механизмы перераспределения и выдачи мелких благ. Это должен быть социологический, а не общетеоретический анализ, и тогда мы сможем, на¬
215
МАТЕРИАЛЫ ДИСКУССИИ
верное, это понять. Общетеоретический ответ здесь таков, что нет координации кризиса и агентов.
Вопрос: Общее благо - это всегда утопический проект или все-таки реальность?
Борис Капустин: Общее благо, наверное, есть и то и другое, хотя эти две ипостаси, наверное, никогда не будут совпадать. Я не знаю ни одной крупной общественной трансформации, которая была бы мотивирована некой идеей общего блага. Свобода, равенство, братство - эта триада французской революции, конечно, не была реализована. Но босоногие солдаты шли за Наполеоном в первую Итальянскую кампанию и Альпы переходили, а прекрасно вооруженные австрийцы с ними ничего сделать не могли. Поэтому общественное благо не может не существовать как утопия, если мы говорим о крупных общественных изменениях. Но видимо, общественное благо в то же время есть тот социологический, институциональный формат, который на оперативном пространстве истории разрешает те проблемы, которые общество разрушают. Да, общественное благо в его институциональном проявлении - скромное, и не соответствует великим утопическим проектам.
Вопрос: Как определяется гражданское общество через понятие «гражданин»?
Борис Капустин: Я исхожу из того, что субъект не предшествует событию. Субъект возникает в ходе события. В этом смысле те, кто делал революции, их не сделал. Революции нельзя сделать, революционный субъект был создан самим ходом событий. То же самое я готов сказать и в отношении гражданского общества как другого типа субъекта. Разворачивается ситуация, кризис, например, и на
216
Дискуссия по докладу Бориса Капустина
него начинают реагировать, естественно, по-разному. Но одна из возможных реакций может быть в образовании гражданского общества. У Адама Селигмана (Adam Se- ligman) где-то в 1992-1993 гг. вышла прекрасная работа по гражданскому обществу, где он описывает то, что называет кризисом ранней современности (в Англии это протекторат, реставрация и так далее - все эти метания и попытки найти какую-либо жизнеспособную форму). Он показывает, каким образом кризис через пробы и ошибки (а мы никогда не должны забывать, что история - это не осуществление проектов, а бесконечная череда проб и ошибок, из которых мы, в лучшем случае, можем сделать какие-то выводы) порождает гражданское общество. Хотя там были и другие попытки выйти из кризиса. Это процесс, который сам порождает своих агентов. Сама практика самотранс- формации общества и создает (если это удается) гражданскую ипостась существования, по крайней мере, у каких-то групп людей. Гражданственность - возможность, которую можно реализовать в условиях разворачивающегося кризиса.
Я излагал фундаментально антигегелевскую трактовку гражданского общества. Во-первых, для Гегеля гражданское общество - это сфера. До него ни у кого этого не было - ни у Юма, ни у Локка, ни у Руссо вы не найдете разведения общества и гражданского общества. Гражданское общество покрывало все общество. Гегель первый разводит понятия, и в этом его новация. И второе: для Гегеля гражданское общество - это предполитическая сфера, и она должна быть снята в сфере политики, в самом государстве как этическая ассоциация. То есть для Гегеля гражданское общество это: а) сфера; б) предполитическая сфера. Для меня же гражданское общество - это именно политическая деятельность.
217
МАТЕРИАЛЫ ДИСКУССИЙ
Вопрос: Как согласуются утверждения о леворадикальной позиции и о безальтернативности капитализма?
Борис Капустин: Мне кажется, одно не противоречит другому. Просто левый радикализм обретает чудовищный трагизм, который я готов признать. Не вдаваясь в теоретические рассуждения, позиция левого радикала - это, примерно та позиция, которую Макс Хоркхаймер и Теодор Адорно описали в 1940 г.: мы идем по туннелю и несем факел. Но мы не знаем не только того, где конец туннеля, мы даже не знаем, кому этот факел нужен, кроме нас. Тем не менее, нести факел нужно и нужно не соглашаться с тем, что этот мир по определению безальтернативен, даже когда нет зримого агента изменения мира. Я считаю, в данном случае леворадикальная позиция настаивает на необходимости искать альтернативу, когда ее нет. Ведь, когда поиск прекратится, мир в самом деле станет безальтернативным. Альтернатива, я повторяю, делается, а не находится.
Вопрос: Что такое в данном случает «civil»? Когда говорят о гражданском обществе, это понятие может иметь разные значения.
Борис Капустин: Буквально «civil» у нас переводится как «цивильный». Быть «цивильным» значит соблюдать определенные нормы. Есть достаточно мощное течение в теориях гражданского общества, особенно американских, которые акцентируют значение такого цивильного поведения в отличие от насильственного и грубого. Любое понятие имеет свою историю, и лучше Козеллека, наверное, никто об этом не писал. Сегодня мы смотрим назад с наших сегодняшних идеологических и классовых позиций и конструируем историю. Так что «правые» действительно
218
Дискуссия по докладу Бориса Капустина
будут слово «civil» переводить как «цивильный» - ненасильственный, культурный и так далее. Генетически, этимологически или исторически это понятие восходит к английской революции. Этим «civil» называли, прежде всего, тех, кто боролся за commonwealth, что также можно перевести по-разному. У нас переводят как «республика», хотя ясно, что республиканцев во время английской революции не было. Commonwealth - это общее дело. Быть цивильным, культурным, значит, определенным образом относиться к общему делу, общему благу, служить ему. Те, кто этого не делал, уходил от политической борьбы в частную жизнь, этим свойством не обладали. В английском языке слово «civil», начиная с его непосредственного вхождения в политический дискурс, имеет разные значения. Это и «цивильное» поведение по меркам того времени, и активное участие в революции (при том что революция понималась по-разному различными группировками). Поэтому уже там мы видим слитность смыслов «цивильного» и «гражданственного». Соответственно разные авторы будут так или иначе трактовать этот термин, либо акцентируя «цивильность» как ненасильственность, либо наоборот, как «гражданственность». Поэтому давайте к любому понятию подходить так, как предлагает это делать Козеллек, - учитывать историю и способы использования понятия разными эпохами и разными силами.
Вопрос: Почему возрождается интерес к проблематике «гражданского общества»?
Вадим Межуев: Действительно, примерно на 150 лет понятие гражданского общества вышло из политического лексикона на Западе и возродилось в связи с критикой тоталитарных режимов. Но мне кажется, что концепт граж¬
219
МАТЕРИАЛЫ ДИСКУССИЙ
данского общества возродился в конце XX века еще и в связи с критикой того, что произошло на самом Западе, который не переживал тоталитарного периода своей истории. Почему возник импульс к вторичной жизни этого понятия? Я тоже сошлюсь на «Диагноз нашего времени» Мангейма. Он прямо говорит, что мы переживаем сейчас переход от политического идеала Просвещения гражданского общества к массовому обществу, и это главное, что происходит сейчас. Это объясняет мне то, что случилось с гражданским обществом на Западе. Западное общество сегодня - это просто массовое общество, появление которого было зафиксировано уже где-то в середине XIX века. На базе этого возникает совершенно новый цикл наук. Скажем, социология — это наука о массовом обществе, а не о гражданском обществе, и естественно, что гражданское общество не могло утвердиться как социологическое понятие. Социология - это наука о поведении людей в институтах или в организациях, об институциональных формах поведения людей. В это же время возникает и социальная психология.
Действительно, идеал гражданского общества строился на идеале автономии индивида. Первый шаг к гражданскому обществу - обеспечение независимости дохода, которое может быть достигнуто только рыночным путем, на базе частной собственности, которая в конечном итоге приведет к опровержению того же гражданского общества. Но этот первый этап, который можно назвать буржуазным обществом, - путь к гражданскому обществу. А дальше происходит следующее: выясняется, что рынок всех одинаково прокормить не может. Есть конкуренция, кто-то имеет частную собственность, кто-то вынужден торговать своей рабочей силой и становится наемным работником. Тут воз¬
220
Дискуссия по докладу Бориса Капустина
никают новые проблемы, но факт независимости от государства налицо. Государство не может лишить меня работы, собственности и средств к существованию, если я ему не нравлюсь.
Массовое общество - продукт капитализма и рынка. Главной ценностью массового общества становится не ценность индивидуальной личной автономии и свободы, а ценность власти, потому что массовое общество не может организовываться самостоятельно, оно требует внешнего управления. Но только власти не традиционной, не тиранов и деспотов, не персонализированной власти, а власти столь же безличной, как само массовое общество. Это, как правило, власть финансов, власть финансовых корпораций или власть СМИ. Те, кто владеет каналами информации, кто владеет деньгами, те и имеют власть.
Все мы существуем в массовом обществе на уровне статистических единиц, потребительской массы, производственной массы, электоральной массы, читательской массы, индивидуальность наша никак не учитывается. Массовое общество стирает с человека всякую индивидуальность, всякую личность. Против этого и направлена новая концепция гражданского общества: каким образом сохранить человеческую индивидуальность, сохранить в человеке человека, а не буржуа, поскольку только индивидуальность способна встать на уровень гражданских задач, на уровень общего дела, не пожертвовав своим «я». Частное лицо, частный собственник этого сделать не может.
Вывод для «левых» здесь очевиден. До тех пор, пока время человеческой жизни будет измеряться рабочим временем, достичь этого невозможно. И с этой точки зрения гражданское общество действительно пребывает в кризисе. Значит, должны быть какие-то другие измерения социаль¬
221
МАТЕРИАЛЫ ДИСКУССИЙ
ного бытия человека. На мой взгляд, эти измерения даются тем, что получило название «свободного времени», и здесь мы опять возвращаемся в античность. В конечном счете, это античный идеал публичной сферы, где человек свободен от заботы о собственном теле. Но надо рабов заменить чем-то другим. Рабы заменятся наукой, известно, что рабочий будущего - это ученый.
Вопрос: Не является ли «гражданское общество», на самом деле утопией?
Вадим Межуев: Гражданское общество - это не просто утопия. Это реальность. В каждом человеке можно найти скотское, но также можно найти и человеческое. То же самое относится и к обществам: то, что составляет «человеческую» сущность обществ, найти действительно бывает сложно, и мы попадаем в ситуацию не то что бы товарного фетишизма, а скорее, фетишизма социального, и видимость принимаем за сущность. Поэтому кажется, что гражданское общество - это некоторая утопическая проекция на будущее, которая получает смысл тогда, когда мы осуществляем некоторые политические действия. Но если мы берем что-то в качестве утопической цели, тогда бессмысленно само действие, потому что если мы не пытаемся посредством этого действия освободить то, что есть, но скрыто за превращенными социальными формами, тогда я не вижу никакого смысла в действии. Когда мы говорим, что человек - это не просто животное, а нечто большее, можно называть это нормативным определением, а можно подразумевать то, что есть в каждом человеке. Поэтому гражданское общество может быть и целью, но основанием для этой цели, утопии, должно быть то, что уже реально существует. То, что мы сейчас делаем, - это и есть гражданское
222
Дискуссия по докладу Бориса Капустина
общество, и никто нас к этому не обязывает. Цель гражданского общества - освободить людей от необходимости революционных изменений, сделать так, чтобы они могли решать все проблемы в процессе общения.
Вопрос: Как трактовки «гражданского общества» зависят от идеологической позиции тех, кто это понятие употребляет?
Борис Кагарлицкий: Я бы хотел подчеркнуть, что выражение «гражданское общество» вошло в современный публичный дискурс через работы Антонио Грамши. А Грамши, как известно, - марксист, т.е. мыслитель, далекий от либерализма.
Тем не менее, в конце «холодной» войны этот термин трактовался совершенно иным образом, чем у Грамши, и трактовался в основном либералами. И любопытно, что «левые», которые сами передали термин через Грамши в публичный обиход, с радостью подхватили именно либеральное объяснение, либеральную дефиницию гражданского общества, а не ту, которая есть у Грамши. У Грамши дана не очень жесткая дефиниция, но в ней совершенно четко видно, что гражданское общество есть не нечто независимое и отдельное от государства, а нечто промежуточное между государством и обществом. В этом смысле гражданское общество именно потому и является гражданским обществом, что оно тесно и неотделимо связано с государством. В этом заключается основа понимания гражданского общества у Грамши. Иначе все не имеет никакого смысла.
Вопрос: Является ли «гражданское общество» западным изобретением?
223
МАТЕРИАЛЫ ДИСКУССИИ
Борис Кагарлицкий: Когда говорят о гражданском обществе на Западе, обычно имеют в виду систему негосударственных объединений. Что это - аномалия или норма? На уровне дискурса здесь опять возникает парадокс. А именно: Запад - это некоторая аномалия, которая мыслит себя как норму для всех, но при этом подчеркивает и отстаивает свою анормальность - показывает всем, что он особенный и поэтому не тождествен остальному миру. Но при этом Запад является все-таки нормой для всего остального мира. Следовательно, в конечном историческом перспективном смысле он является все-таки тождеством по отношению к остальному миру. Здесь есть некое противоречие. Но вопрос, тем не менее, объективно существует.
Тут возникает социологическая проблема. Если взять привычное нам обиходное понимание гражданского общества (я подчеркиваю - обиходное) как системы неправительственных организаций, общественных ассоциаций и объединений, то оказывается, что все это (все то, что мы называем публичной сферой или гражданским обществом) есть и на Западе, и в России, и в Индии, и в Боливии, и даже в Африке. Но в западных странах система этих организаций, хотя бы в какие-то исторические периоды, совпадает с самоорганизацией самого общества, совпадает, если не на все 100, то хотя бы на 60-70%. Общество себя через них выражает. В других же странах, странах незападной культуры, мы все чаще и чаще видим совсем иную картину: общество само по себе, а «гражданское общество» - само по себе. Таким образом, гражданское общество не просто отклоняется от того, чем оно должно быть в идеале, в теории, оно становится, как это ни парадоксально прозвучит, антидемократичным, оно противостоит обществу как таковому, противостоит населению и становится в базисном
224
Дискуссия по докладу Бориса Капустина
отношении антидемократичным и даже авторитарным. Авторитарность же гражданского общества совершенно, на мой взгляд, очевидна (в случае, если мы говорим, например, о тех же неправительственных организациях).
Кстати, к вопросу о массовых обществах. На мой взгляд, происходит как раз отход от массового общества, по крайней мере, на уровне гражданского объединения. Происходит ровно обратный процесс: вместо гражданских движений, вместо массовых общественных объединений, мы видим профессиональные, специализированные организации, работающие от бюджетов. И в целом не важно, кто оплачивает их работу - государство, бизнес или еще кто-то. Важно, что это бюджетные по своей структуре организации. Конечно, они не демократичны по своему повседневному функционированию, но из этого не следует, что любые организации недемократичны. Меня очень смущают разговоры о железном законе олигархии и тому подобных вещах, потому что в конечном итоге это инструменты дискредитации демократических институтов. По большому счету, при всей иерархичности и «олигар- хичности» профсоюзных ли, партийных ли организаций, но при условии того, что они работают в демократическом контексте, они, несомненно, более демократичны, чем НПО. То, что мы видим ослабление политических партий, ослабление массовых политических движений, ослабление профсоюзов при росте НПО, NGO и так далее, - это, безусловно, симптом или результат упадка гражданского общества.
Если мы видим, что гражданское общество сплошь состоит из авторитарных структур, партии и профсоюзы сплошь олигархичны, то возникает вопрос: где в этом случае существует демократия. Из доклада возникает ощуще¬
8 Зак. 1988
225
МАТЕРИАЛЫ ДИСКУССИИ
ние, что она существует там, где разрушены все структуры, где их нет, где все возникает в логике самоорганизующейся толпы, когда толпа пытается перестать быть толпой, пытается действовать как коллектив. И в этот момент, в точке бифуркации, когда толпа преодолевает первичную стадию просто дикой толпы, мы видим гражданское общество в наивысшем расцвете. На самом деле, есть другое понимание и другой возможный вариант: демократическое пространство есть система отношений между — как сейчас модно говорить, хотя я и не люблю это слово, - акторами. Община Новой Англии, каждая внутри себя, была тоталитарна. Об этом много написано в рамках того, что писалось об американской демократии. Ничего более чудовищного, чем протестантская община XVII века, невозможно придумать - тут любые модели тоталитаризма просто меркнут. Это абсолютно тоталитарное образование, исключающее малейшую возможность свободы индивидуума. Откуда тогда взялась американская демократия? Ведь, как бы мы ни относились к Америке, мы не можем отрицать факт, что в американской истории на определенных этапах времени существовала достаточно продвинутая демократия. Где эта демократия? Между этими структурами. Это пространство, где они, сами по себе тоталитарные, должны взаимодействовать по определенным правилам. Это не только правила, устанавливаемые государством, это, в том числе, правила, которые они сами вынуждены стихийно устанавливать, для того чтобы просто мгновенно не передушить друг друга. Это к вопросу о Гоббсе - может быть, не только Левиафан, на какие-то другие формы общественного договора.
Есть некоторые формулировки, которые вызывают у меня желание схватиться за голову. Например, когда про¬
226
Дискуссия по докладу Бориса Капустина
тивопоставляют Запад и Восток в контексте сегодняшнего дня. Первое, что необходимо для того, чтобы начать двигаться дальше, начать думать о России, а не воспроизводить клише, - это осознать, что мы живем в западном обществе. Сегодняшняя Россия - это западное общество, одно из западных обществ наряду с другими западными обществами. Это принципиальная вещь, без этого современную Россию не понять - начинаются одни сплошные загадки. Но когда мы понимаем, что это западное общество, все становится на свои места. Это западное общество, но оно бедное. Оно не имеет тех ресурсов и той позиции в миросистеме, которые по логике должно иметь западное общество. Оно похоже на бедного аристократа, у которого есть титулы, который хорошо воспитан, только вместо замка у него — конура. И замка у него никогда не будет - был когда-то, но уже не будет. Мы живем в бедном западном обществе, и таких обществ много, половина планеты - это бедные западные общества. Если это осознать, становятся понятны все наши странные комплексы, когда мы претендуем на то, чем вроде бы являемся, но на что не имеем средств, имеем амбиции не по средствам, хотя амбиции обоснованные.
Решать же эти вопросы можно, только меняя миросис- тему или внутреннюю социально-политическую и экономическую структуру. Но тут возникает вопрос - а как менять? Поступило предложение: делать так, как на Западе, чтобы у нас было как можно больше людей, не зависящих своим доходом от государства. Но ведь это еще вопрос - где больше бюджетников, в Голландии или в Нигерии? В конце концов, я думаю, выяснится, что в Голландии людей, чей доход сильно зависит от государства, большинство. А если учитывать косвенную зависимость от государст¬
227
МАТЕРИАЛЫ ДИСКУССИЙ
ва - то подавляющее большинство. В Швеции - тоже. Даже во Франции их будет изрядное количество, хотя это более либеральная экономика. В Норвегии бюджетников будет, наверное, процентов 80. Но с демократией, свободой и гражданскими правами там все более-менее в порядке. А вот в Нигерии большая часть населения - самозанятые, их доходы, по большей части, к государству никакого отношения не имеют - они выживают сами. Но почему-то там дела со свободой и гражданским обществом обстоят не лучшим образом.
Если возвратиться к западному обществу, трагедия заключается в том, что представления о гражданском обществе как об идеально функционирующей силе, влияющей на государство, воздействующей и трансформирующей, относятся уже, к сожалению, к прошлому, потому что неолиберализм - это, по сути, демонтаж связи государства и гражданина. А в рамках идеальной модели, идеального образца западного гражданского общества, который относился, может быть, к 1960-м гг., связь гражданина и государства предполагает, прежде всего, независимость гражданина от государства и зависимость государства от гражданина, а также каналы воздействия гражданина на государство. Вот эти каналы как раз и разрушены неолиберализмом.
Вопрос: Есть ли перспективы появления гражданского общества в России?
Борис Кагарлицкий: Вы можете со мной не согласиться, но я считаю, что в России гражданское общество есть, но нет гражданского коллектива. Понятие гражданского общества гораздо уже, чем понятие гражданского коллектива. Гражданское общество может быть даже эли¬
228
Дискуссия по докладу Бориса Капустина
тарным. В России драма и абсурд состоят в том, что гражданского коллектива нет, а гражданское общество существует: есть неправительственные организации, политические группы, движения, профсоюзы - это не всё симуля- кры. Существует диспропорция между этим гражданским обществом и обществом как таковым, которое в этом гражданском обществе никак не представлено, более того, есть ощущение, что российское гражданское общество формировалось как сугубо элитарное, в определенном смысле - антидемократическое, настаивающее на привилегированном статусе, особом отношении к власти, пытающееся обратиться к власти с какими-то претензиями, но оно не представляет широкие массы, это группы, претендующие на эксклюзивность. Российское гражданское общество не оказалось инструментом формирования гражданского коллектива. Напротив, оно фактически препятствовало возникновению гражданских коллективов в обществе. Когда в Междуреченске три тысячи шахтеров собираются на площади, они ведут себя как гражданский коллектив. Другой вопрос, какой это коллектив. В этих условиях гражданские коллективы возникают, но отличные от того, как их себе представляет интеллигенция. Но это не бунт, бунт - это иррациональное действие.
229
ДИСКУССИЯ
ПО ДОКЛАДУ АЛЕКСЕЯ КАРА-МУРЗЫ
Вопрос: Каковы, на Ваш взгляд, перспективы либеральной идеи?
Алексей Кара-Мурза: Согласно удачной формулировке Семена Португейса, тоталитаризм - это «демократизация реакции», т.е. тоталитаризм есть болезнь демократии, ее вырождение. Но какой демократии? Нелиберальной демократии. Лечение болезней демократии - в насыщении демократии либеральным содержанием.
Ведь как преодолевался руссоизм во Франции? В современной Франции существует очень серьезное идейное напряжение, связанное, в том числе, и с идентичностью. И с этим идейным напряжением Саркози сейчас приходится работать. Ширак с этой проблемой не справился. Во Франции живет масса людей, мигрантов, которые не вполне укоренены во французской культуре (особенно мусульманское население северной Африки). Это люди со своей идентичностью. Нотр-Дам для них - это ничто, а Сен-Дени, усыпальница французских королей, превратился в арабский город. Постоянный приток людей, которые формально получают гражданство, является серьезной проблемой. Об этом постоянно твердил Ле Пен, а Саркози сумел абсорбировать эту проблему так, что за него в первом туре голосовали многие лепеновцы: они знали, что этот министр внутренних дел все делает правильно, поступает достаточно жестко. При этом казалось, что смещаться в этой ситуации в сторону Ле Пена, - самоубийственный
230
Дискуссия по докладу Алексея Кара-Мурзы
шаг, но Саркози на этом выиграл. А Сеголен не сумела поднять эти демократические массы, хотя сложившаяся ситуация абсолютно в духе Руссо. Руссо выступал за дикаря, вот все дикари и пришли в Париж. А Сеголен не хватило сил собрать коалицию из «инородцев» и из бедных, и общий здравый смысл все же удержался на правоцентристских позициях. Это значит, что французская идентичность пока устояла, но остается вопрос, как надолго. Напряжение, конечно, существует, и перезагрузка именно с этим связана. Это проблема не только Франции. То есть речь идет действительно о перезагрузке демократии. Если народ всегда прав, то кто народ? «Они» тоже народ, они граждане.
Следующий вопрос: либерализм - это метафора или все-таки операциональное понятие и знание, которое может структурировать социум? Конечно, и то и другое. Здесь спрашивали, из какого слова. Конечно, из слова «свобода». Но я думаю, что уже Локк снял этот вопрос - для него свобода абсолютно онтологична, это божественная данность, но она же, условно говоря, и конструктивна. Поэтому возвращаю к Локку, к тому самому Локку, который создал не только английскую либеральную демократию, очень специфическую, но и через трансляцию Вольтером и Руссо, французскую. Кроме того, во многом англосаксонская традиция победила в Америке. Это проверенный тип мышления, проверенный дискурс, которым не надо пренебрегать. Я как раз борюсь против того, чтобы разъединяли понятия. «Я либерал, а там уж сами разбирайтесь, я свое дело прокукарекал, а там, хоть не рассветай», - мне кажется, так рассуждает не либерал, но шарлатан. Настоящий профессиональный либерал сколько угодно может сыпать метафорами, но в нем локковская интенция о том, что свобода - это залог порядка, сидит очень жестко, он не
231
МАТЕРИАЛЫ ДИСКУССИИ
просто использует красивые фразы, связанные со святым понятием «свобода». Я не вижу противоречия, если все это существует в связке. Но там, где порядок делают одни, а о свободе говорят другие, по-моему, крайне неблагополучная ситуация.
Какие следующие движения должны быть? Будет ли проекция в будущее? Вы знаете, мы действительно все ковыряемся в прошлом, потому что оно у нас очень мифологизировано. Например, я не могу говорить о будущем, если не докажу, что либерализм в России уже был конструктивен. Я вижу, что, когда надо было спасать Россию, звали почему-то либералов. Например, Сперанский, можно сказать, спасал Александра I. Либерализм дал конституцию в начале XX века, дал какой-никакой парламент. Были, конечно, и срывы. Я не буду никому предлагать проекты будущего, не буду предлагать лекарства, если не докажу, что в прошлом они кому-то уже помогли. Кстати, я знаю десятки регионов (о чем молчат, о чем даже либералы местные не знают), где либеральная субкультура в начале XX века побеждала и становилась чрезвычайно конструктивной. И я немало сил трачу на то, чтобы доказывать: либерализм давно уже есть элемент российской почвы. Выкинуть его отсюда, вытравить не удастся. Более того, это иногда знамя самых успешных периодов, особенно в регионах. Там затоптали память об этих успешных проектах, а выясняется, что это был расцвет городов - через земское самоуправление, через контроль общества над властью. Это происходило не в самых развитых, может быть, с точки зрения промышленности, регионах, но, безусловно, в самых развитых с точки зрения культуры, потому что существует прямая корреляция между развитием культуры и успехом либеральной субкультуры. Поэтому будем гово¬
232
Дискуссия по докладу Алексея Кара-Мурзы
рить о проектах будущего, но сначала надо реабилитировать сам проект, насытить историческими фактами успешности. Тогда будет не страшно передать власть либералам.
Вопрос: Как соотносятся либерализм и демократия?
Алла Глинчикова: Говорилось о том, что главная базовая определяющая черта либерализма - это защита принципов свободы. Но есть и другая очень важная черта либерализма - это защита принципа универсальности человеческой природы. Мне кажется, перед современным либерализмом стоит большая опасность. Я очень сомневаюсь, что возможен либерализм, в основе которого лежит принцип эксклюзивности, поскольку либерализм всегда предполагает принцип универсальности гражданской природы того общества, в котором ты живешь.
Я не склонна считать, что путь некоторой сегрегации, движения вправо - путь спасения французского либерализма. И варваризация идет сегодня в Европе не только от тех слоев, которые вторгаются на ее территорию, но она же в качестве реакции развивается и во французах, и в итальянцах, которые голосуют за правых, голосуют за расистов. С этой точки зрения либерализм и демократию нельзя отрывать друг от друга.
Вопрос: Как сегодня выглядит взаимодействие либералов и демократов?
Вадим Межуев: Что разделяет левых демократов и правых демократов, либералов и социалистов? Мы никак не можем понять, что демократы в России стоят перед двумя типами исторических вызовов. Первый тип вызова - это вызов со стороны традиционного общества, со стороны традиционной власти, патерналистской, самодержавной,
233
МАТЕРИАЛЫ ДИСКУССИИ
не признающей никаких граждан, никакого гражданского общества. А второй тип вызова, который сегодня уже назрел, - это вызов со стороны общества, в котором главной ценностью становится рынок. Рыночное общество так же враждебно демократии, как и традиционное государство.
Основной силой в борьбе с вызовами первого порядка являются либералы. Именно они в свое время провозгласили наиболее эффективный проект перехода от традиционного типа общества к обществу гражданскому и правовому. Но либерализм абсолютно беспомощен в борьбе с вызовами рыночного общества, которое в той же степени угрожает свободе. Поэтому в эпоху рыночных отношений либералы превращаются в неолибералов. Неолибералы, которые отождествили свободу с рынком, нас и погубили. Я помню эти идеи: больше рынка - больше свободы, рынок как синоним свободы. И тогда неолиберал из либерала становится консерватором, а главной силой в борьбе с вызовами второго порядка становятся левые, социал-демократы, в широком смысле этого слова.
Нельзя либерализму отдавать монополию на свободу. Либерализм защищает свободу частного лица, то есть человека, разделенного на части, частного собственника, рабочего. Он защищает ту цивилизацию, которая была построена на основе разделения труда и приравнивания человека к части. Либерализм - продукт Просвещения. Он защищает не свободу Гамлета, а свободу Полония, не свободу Дон Кихота, а свободу Санчо Пансы, свободу Фигаро. А свобода родилась раньше, она родилась в эпоху гуманизма. Ведь Рафаэль и Микеланджело - это кто угодно, но только не частники. И тогда возникает проблема индивидуальности, индивидуальной свободы. Почему либерализм защищает свободу частного лица, право частной собствен¬
234
Дискуссия по докладу Алексея Кара-Мурзы
ности? Потому что он обращен к праву. Либерализм защищает идею правового, конституционного порядка. Но никакое право не защитит свободу индивидуального лица, не даст вам свободу творить по меркам свободной творческой индивидуальности. Свобода индивидуальная ограничивается рыночными отношениями, потому что на рынке свободен только тот, кто выиграл, у кого больше денег в кармане. Когда либералы говорят о том, что они за свободу, а все остальные непонятно за что, то это лукавство, потому что свобода в либеральном исполнении - это правовая свобода. Но, извините, кроме свободы правовой и свободы рыночной, есть еще и свобода креативная. Пустите рынок в некоторые области, и при любом либерализме со свободой будет покончено.
235
ДИСКУССИЯ
ПО ДОКЛАДУ БОРИСА КАГАРЛИЦКОГО
Вопрос: Кризис 2008 года был большим шагом в преодолении демократии или этот вопрос еще не решен?
Борис Кагарлицкий: Я думаю, что, как это ни странно, кризис может стать важным механизмом возвращения к демократии. Кризис показал внутренние противоречия в рамках той модели, в которой происходило преодоление или эрозия демократии. Я понимаю кризис как позитивное явление, как некий шанс. Не надо путать кризис с тем, что называют модным словом «рецессия», то есть с экономическим спадом. Из рецессии мировая экономика уже вышла, по крайней мере, в настоящее время, другое дело, что она может упасть обратно. А кризис совершенно не преодолен. Он будет продолжаться долго, и это представляет большую угрозу, но и открывает богатые возможности.
Вопрос: Каковы возможности новой социальной революции с точки зрения философии анархизма, а также с позиции двух ударов: по финансовой составляющей и государственной составляющей общества вообще?
Борис Кагарлицкий: Есть любопытная тенденция, которая наблюдается с конца 1990-х гг. прошлого века: возвращение анархизма, если не как влиятельного направления мысли, то как некоего культурного феномена и идеологического тренда в рамках молодежного бунта. С другой стороны, современный анархизм не такой, как сто лет назад, нет того жесткого водораздела между анархистской и
236
Дискуссия по докладу Бориса Кагарлицкого
марксистской традициями. Информационная революция создала новые условия для анархических утопий, хотя, может быть, это и не такие утопии. Пресловутое сетевое общество, сама идея горизонтального кооперирования, неиерархической структуры принятия решений, целый ряд вещей, которые выглядели утопией к началу XX века, сейчас выглядят даже банально. Но они лишены революционного социального содержания. Происходит определенная деформация иерархий, попытка иерархий подчинить себе сетевые структуры, иногда иерархии симулируют сетевые структуры. Тема самоуправления из левого дискурса ушла к началу 1990-х гг., сейчас она возвращается в связи с проблемами национализации, потери управляемости и контроля сверху, но это проблемный вопрос. Имеющийся до сих пор опыт самоуправления не был удачным.
Вопрос: Говоря о гражданском коллективе нового типа, какова эволюция от старого к новому, чем определяется эта общность, какова ее конфигурация?
Борис Кагарлицкий: Во-первых, гражданский коллектив нового типа, по всей видимости, будет отличаться элементом мультикультурности, хотя я не поклонник мульти- культурализма. Так или иначе, мультикультурность может быть преодолена неким совместным гражданским действием за счет постмультикультурной ассимиляции разных культурных обществ в единую гражданскую общность. Конечно, это не механический процесс и вопрос открытый. Есть, например, традиционное французское гражданское общество, которое работает все хуже, но оно работает. И дети иммигрантов, которые находятся вне гражданского общества, хотя формально они граждане Франции. Это не культурный бунт, тем более - не мусульманский, а бунт
237
МАТЕРИАЛЫ ДИСКУССИИ
против авторитарного давления. Когда эти люди станут французами, то само понятие француза будет другим.
Вопрос: Что питает вашу уверенность или надежду на то, что этот «постмультикультурный» синтез будет происходить на гражданской основе? А не на основе трайбалистской, неофеодальной?
Борис Кагарлицкий: Надежда - это субъективная вещь, можно надеяться и быть неправым. Уверенности как раз нет. Я исхожу из того, что наше будущее определено в том числе и нашими действиями, что в Западной Европе, а также в России есть некоторое количество людей, сил, некоторые культурные тенденции, которые работают в этом направлении, и это дает основания для надежды. Есть и более объективные факторы: большая часть развитых и среднеразвитых стран мира давно переросла тот уровень развития и социальной интеграции, который позволяет успешный регресс к кланово-трайбалистскому типу организации.
Вопрос: Вы видите самоорганизацию этого нового сообщества преимущественно по левому сценарию, то есть этот кризис есть бунт или что-то вроде эволюционных вихрей?
Борис Кагарлицкий: Это зависит от того, что Вы понимаете под левым сценарием. Есть теория революции Ленина, как она изложена в советской интерпретации, крайне упрощенной и вульгаризированной: политический процесс предполагает восстание масс на классовой основе, формирование политической силы в рамках этого движения и приход ее к власти. Но есть и Грамши, у которого более сложная конфигурация социально-политических блоков,
238
Дискуссия по докладу Бориса Кагарлицкого
понятие постепенного сдвига, накапливание изменений и резкий прорыв, есть понятие пассивной революции, когда восстание не удалось, не состоялось или потерпело поражение, но оказало влияние на часть политических элит, которые начинают брать на себя частично революционную функцию. Есть много промежуточных вариантов. На мой взгляд, многие революции снизу начинались как неудав- шиеся революции сверху: революция начиналась как пассивная, а потом проваливалась и начиналась революция в классическом смысле. Но революция не обязательна, возможен и реформистский вариант. Если говорить о глобальном процессе, он вообще никогда не может быть чистым. Могут быть включены и революционные, и реформистские элементы. В одной стране это может быть революция, в другой - реформы, реформы в одной стране могу подталкивать и провоцировать революцию в другой, происходит взаимное влияние. Процесс сложный и противоречивый. Классический пример - проведение реформ в Швеции под воздействием событий 1917 года в России: изменение закона об избирательном праве (в том числе отмена имущественного ценза для крестьян, введение всеобщего избирательного права) привело в дальнейшем к усилению социал- демократии, приходу социал-демократов к власти и возникновению шведского реформизма.
Вопрос: Возможно ли развитие событий, как это предполагала либеральная интеллигенция, не катастрофическим путем?
Борис Кагарлицкий: Дело в том, что интеллигенция, советская интеллектуальная элита себя в значительной степени скомпрометировала своими действиями в 1990-е годы. Она имела большой авторитет и влияние на миллионы
239
МАТЕРИАЛЫ ДИСКУССИИ
людей (сейчас трудно представить журнал «Новый мир», выходящий миллионными тиражами). Теперь интеллектуальная жизнь в России сокращается, как шагреневая кожа. Зато встают моральные вопросы, которых в позднее советское время интеллигенция старательно избегала: вопрос об ответственности перед теми, кто находится вне этого культурного пространства, ответственности за свои действия перед страной, перед теми, кто исключен из процесса принятия решений. Как ни странно, появился шанс на возвращение интеллигенции в старом русском смысле. В 1990-е годы в России интеллигент пытался стать интеллектуалом западного типа (как во Франции, в Америке), перефразируя Чехова, - по капле выдавливая из себя интеллигента, и не стал интеллектуалом из-за отсутствия спроса на него. Но интеллигентом при этом быть перестал. Сейчас возникает вопрос о новом народничестве, но не в наивно-идеалистическом, а скорее в прагматическом смысле. Мы уже не можем быть такими, как наши прадеды, к счастью. Шанс есть, но что получится - зависит от людей, от их способности принимать на себя ответственность. Ключевой вопрос - это соединение левой программы социальных преобразований (разумеется не перераспределительной, а структурной) с идеей обретения гражданского статуса, с формированием гражданского коллектива, с обретением его полноправности и субъектности.
240
ДИСКУССИЯ
ПО ДОКЛАДУ АЛЕКСАНДРА ОСИПОВА
Вопрос: Что такое «социальная приемлемость» в приложении к проблеме расизма?
Владимир Малахов: Важен тезис социальной приемлемости знания и его научной достоверности, только контексты приемлемости совершенно различны. То, что в странах победившей либеральной демократии социально приемлемо, - это политкорректное, либеральное, сенситивное к различиям, дискриминации говорение, и соответственно это признается научно достоверным. А у нас совершенно иные стандарты социальной приемлемости. Так же обстоит дело с антирасизмом. В тех странах, где либерализм стал гегемониальным дискурсом, т. е. не имеет альтернативы, антирасизм становится политическим оружием. Практикующий антирасист, бросив упрек в расизме противнику по дебатам, ослабляет его позицию, обезоруживает. В России антирасистов в публичном поле практически не видно.
Еще одна ассоциация, которую стоит развивать в нашем обсуждении, - это раса как метафора. Обратимся к концепции дифференциалистского расизма, культуралистского расизма, когда под расизм подводятся социальные исключения, мотивированные не биологическим происхождением исключаемых групп, а аргументами культуры. В этом случае мы обязаны расизмом назвать любое исключение, мотивированное, например, религиозной принадлежностью тех, кого исключают, и т.д. Это стоит обсудить. Также ва¬
241
МАТЕРИАЛЫ ДИСКУССИЙ
жен тезис о культурной не-нейтральности государства; может быть, это избитая тема в англоязычной литературе, но здесь есть, что обсуждать. Я имею в виду тезис о том, что государство на самом деле поддерживает какую-то этнокультурную группу, а значит, не является культурно нейтральным, - это довольно популярный тезис. Если мы утверждаем, что государство либеральное, оно обязано быть нейтральным. Единственное, что ему позволено, - это создать такое законодательное, правовое пространство, чтобы внутри него все этнокультурные группы конкурировали, и следить за отсутствием дискриминации.
Политический антирасизм предполагает отрицание непреднамеренности любого неравенства, любых социальноструктурных диспропорций. В эпоху колониализма неравенство было преднамеренным, оно легитимировалось расизмом. После колониализма это стало невозможным, и характер неравенства изменился. А антирасисты продолжают утверждать, что ничего не изменилось, что неравенство по-прежнему «преднамеренное».
Обсуждение этой темы в подобных терминах уводит в дурную бесконечность. Антирасизм лишь переворачивает «плюс» и «минус», но мыслит теми же категориями. И последний вопрос, наиважнейший: какой способ борьбы более продуктивен - не замечать различий или их фиксировать?
Александр Осипов: Социальная приемлемость в различных государствах разная. Это тема для большого обсуждения. К сожалению, в России эта проблема мало изучена. Преобладает черно-белое видение. Мейнстрим - медийный, в искусстве, в политике - несет черты советской политкорректности, табуированности определенных тем. Например, в так называемой интеллигентской среде не
242
Дискуссия по докладу Александра Осипова
принято обсуждать этническую принадлежность человека. Давление социальной среды на выводы исследователя всегда присутствует.
Отсутствие нейтральности государства выражают через категорию группы. Разные люди имеют различные возможности на рынке труда, во взаимоотношениях с государством, воздействии на органы власти. Проблема в том, что это описывается через отношения между культурными группами. Обычно в государстве один-два государственных языка. Если для человека такой язык родной, у него больше преимуществ на рынке труда и в участии в политической жизни. Но странно это рассматривать через понятие этнокультурной группы. Например, можно ли считать, что английский язык - это исключительно достояние английского народа.
Вопрос: Можно ли использовать «расу» как метафору?
Александр Осипов: Если посмотреть, как работали международные организации, понятно, что они имели очень серьезные основания расширять смысл, который вкладывается в понятие «раса». Современное понимание расизма расширительно. В разных странах учитываются различные критерии. Например, в Бельгии не учитывается национальная принадлежность, но общество сегрегировано по языку. В США учитывается происхождение из страны (то, что у нас называется национальность). Может учитываться происхождение из социальной группы, религиозная принадлежность и т. д. Различные категории, деления были объединены в категорию расы. Это некая конвенция, которая оказалась удобным инструментом.
О границах использования понятий: люди вкладывают в свои действия субъективный смысл, которому приписы¬
243
МАТЕРИАЛЫ ДИСКУССИИ
вается этническое значение, а действиям приписываются негативные последствия. Это и есть расизм. Ключевое слово здесь - осознанность. Цели и мотивы могут быть различны, но есть субъективная составляющая. Если ожидаются негативные последствия, то можно говорить о дискриминации. Например, в США есть категории, которые считаются более подозрительными, то есть требуют более пристального рассмотрения. Например, раса подозрительнее, чем гендер.
Для науки адекватнее говорить о расиализации, то есть о наделении «расовыми» смыслами отношений, которые могут иметь и другой смысл. Хобард Вайнек - один из первых авторов, который писал об этом, его работы представляют собой образец жесткой риторики. Есть социальное неравенство, обусловленное бывшей колониальной системой, и это воспроизводится, а не видеть в этом проблему считается расизмом.
Вопрос: Как воспринимается «проблема расизма» в зависимости от контекста?
Екатерина Деминцева: Я изучала проблему французских арабов, так называемого «второго поколения иммигрантов». Слово «расизм» встречалось практически во всех интервью с представителями выходцев из мигранте кой среды. Причем применялось ко всем случаям жизни, так что в статье по результатам исследования я предпочла писать это слово в кавычках. Непонятна грань между этими пониманиями расизма. С другой стороны, «черные» во Франции - это разнородная масса людей, в частности, выходцы с Мартиники. Эти люди рассказывали, что у них на островах расизм — это норма жизни, у них есть до 60 определений отличий по цвету кожи, и это определяет положе¬
244
Дискуссия по докладу Александра Осипова
ние людей. Ребенка с более светлой кожей скорее отправят в школу, найдут соответствующую пару в браке, работу и т. д. Эти люди были рады приехать во Францию, потому что для них там расизма меньше.
Вопрос: Существует ли в наши дни институциализиро- ванный расизм?
Александр Осипов: Государств, которые используют расизм как инструмент, практически нет. Есть спорные случаи, например страны Балтии. Существует мистифицирующая риторика: западные страны придумали расизм, чтобы всеми править, это инструмент правящего класса, который помогает эксплуатировать обездоленных. Обвинение других в расизме - очень сильная демагогия. Очень трудно решать реальные проблемы. Есть мнение, что проблема цыган в Европе - это проблема не расы, а бедности. Европейский союз давал деньги, но пользы это не принесло. В США очень много смешанных браков, за исключением потомков черных рабов, которые редко вступают в брак с другими (1-2%), но в элиту из них никто не выходит (кроме Кондолизы Райз). Это проблема более сложная, чем просто отсутствие доступа к ресурсам. Критическая расовая теория утверждает, что раса - это социально сконструированная система, то есть возникли группы, отношения между ними, все это структурировалось, и мы с этим живем, это реальность. Как это преодолеть? Нужны инструментальные решения, желательно - более простые. Важно, чтобы пространство диалога, поле дискуссии расширялось.
Вопрос: В СМИ есть две противоречащие тенденции. Одна предполагает, что нельзя приглашать в эфир ради¬
245
МАТЕРИАЛЫ ДИСКУССИЙ
кальных националистов, а другая говорит, что обязательно надо, потому что в СМИ существует свобода слова. Какая точка зрения вам кажется более правильной?
Владимир Малахов: Такое саморегулирование связано с политической культурой, имеет, так сказать, национальный характер. Например, в Британии представителя нежелательной идеи, например отрицателя холокоста, обязательно пригласят в эфир, но подвергнут сокрушительной интеллектуальной атаке, чтобы изобличить в некомпетентности, а в Германии или Австрии это запрещено законодательно, его просто посадят. Другой пример: в Нидерландах один политик организовал антиисламский ролик. В самой Голландии этот ролик в эфир выпустить отказались, но он был доступен на видео. А вот в США он вообще не был доступен для публичного просмотра. Там его не пустили на уровне хозяев серверов, объяснив, что он оскорбляет чувства граждан с исламской идентичностью, нарушает равновесие в гражданском обществе. Есть разные подходы к свободе слова. Широкое допущение свободы предполагает и готовность быть оскорбленным. А есть и другое понимание: свобода слова для большинства уравновешивается правом меньшинства на защиту от оскорблений.
246
ПРИЛОЖЕНИЯ
Галина СЛПЕГО
ИТАЛИЯ КАК НОВАЯ ИММИГРАЦИОННАЯ СТРАНА
Иммиграционный режим Италии находится в процессе становления вследствие относительной новизны феномена иммиграции. Италия даже после Второй мировой войны продолжала оставаться страной исхода иммигрантов. Это государство столкнулось с масштабными иммиграционными потоками, когда его северные соседи уже имели определенный опыт решения проблем, порождаемых иммиграцией, который, правда, нельзя назвать успешным. Итальянские власти не стали учиться на ошибках других и изначально не уделяли должного внимания вопросам регулирования иммиграционных процессов, предпочитая реагировать на проблемы в данной сфере по мере их возникновения. Вследствие этого иммиграционная политика Италии характеризуется спонтанностью и сильно подвержена конъюнктурным соображениям.
§1. Становление Италии как иммиграционной страны
По сравнению с другими индустриально развитыми странами Запада, такими как Великобритания, Франция и Германия, Италия стала иммиграционной страной срав¬
248
Галина САПЕГО. Италия как новая иммиграционная страна
нительно недавно. В 50-70-е гг. XX в. Италия сама являлась поставщиком иммигрантов - наравне со странами «третьего мира» - в более развитые страны Европы. На переход страны от эмиграционного статуса к иммиграционному повлияли два основных фактора: прекращение привлечения иммигрантов западноевропейскими странами (северными соседями Италии) в связи с экономическим кризисом, а также рост благосостояния в самой Италии. И если изначально многие иммигранты рассматривали Италию как транзитную территорию, откуда они устремлялись на север, то со временем все большее их число принимало решение обосноваться на итальянской территории.
Италия относится к группе «новых европейских стран иммиграции»1 и к «средиземноморской иммиграционной модели», к которой относят все южные государства Евросоюза, где иммиграция, начиная с 1970-х гг., постепенно заместила эмиграцию. В качестве характеристик средиземноморской иммиграционной модели называют:
• постоянное использование иммигрантов на низкоквалифицированных работах: в сельском хозяйстве (сезонная занятость) и сфере услуг, особенно в работе по дому и уходу за людьми;
• сильно сегментированный рынок труда;
• высокий удельный вес нелегальных иммигрантов;
• изначальное отсутствие иммиграционного регулирования и последующее принятие несовершенных иммиграционных мер;
1 Коданъоне К. Опыт иммиграционной политики Италии и некоторые уроки для России // Иммиграционная политика западных стран: альтернативы для России / под ред. Г. Витковской; Между нар. орг. по миграции. Моек, исслед. программа по миграции. М.: Гендальф, 2002. С. 134.
249
ПРИЛОЖЕНИЯ
• ограниченный доступ иммигрантов к мерам по социальной интеграции, даже в том случае, когда это предусмотрено законодательством;
• негативная демографическая тенденция и растущая потребность в рабочей силе1.
Первая иммиграционная волна в Италии отмечается в 70-е гг. XX в., а в последующие десятилетия иммиграция становится еще более заметным явлением. В 1970 г. в Италии легально проживало приблизительно 144 тысячи иммигрантов (61,3% - из европейских стран; 3,3% - из Африки; 7,8% - из Азии; 25,7% - из Америки и 1,9% - из Океании). В течение следующего десятилетия это число удвоилось, достигнув приблизительно 300 тысяч в 1980 г. Большинство иммигрантов являлись выходцами из европейских стран, на которые приходилось 53,2% от общей численности иммигрантов. По сравнению с 1970 г., имело место значительное увеличение доли иммигрантов из Африки (10%) и Азии (14%)2.
Уже в 1970-е гг. феномен иммиграции находит отражение в итальянской прессе. В то время как термин «иностранец» резервируется за иностранными гражданами, принадлежащими к высшему среднему классу (актеры, певцы, дипломаты, секретные агенты и т. п.), в прессе выделялась категория иностранных рабочих, в отношении которых в настоящее время применяется термин «иммигранты». Это, например, рабочие из Туниса на Сицилии, домработницы из Кабо-Верде в Риме. Как правило, в данных статьях речь шла об условиях рынка труда, ситуации
1 The Impact of Immigration on Italy’s Society / ed. by IDOS - Italian National Contact Point within EMN (European Migration Network). Rome, 2004. P. 9.
2 Ibid. P. 20.
250
Галина САПЕГО. Италия как новая иммиграционная страна
в стране происхождения иммигрантов, актах расизма. Основной вопрос, возникший в связи с присутствием данной категории населения на территории Италии, касался того, как возможно присутствие иностранных рабочих в стране с высокой безработицей. Присутствие иммигрантов рассматривалось как сигнал о наличии проблем в Италии (отсутствие адекватного сектора социальных услуг; неадекватная оплата труда рабочих, из-за чего итальянцы не идут на определенные позиции; антипрофсоюзные стратегии некоторых итальянских работодателей), а не как их возможное решение. В этой связи ставился вопрос о том, как избежать дальнейшей иммиграции1. Однако, несмотря на постановку такого вопроса, на практике не было предпринято никаких мер по управлению миграционными потоками, которые продолжали расти.
В 1990 г. число иммигрантов с видом на жительство удвоилось, составив 781 тысячу. В дальнейшем потоки иммигрантов постоянно росли, хотя и не так значительно. В 1996 г. в Италии насчитывалось почти 1,1 млн. иммигрантов2.
Основным отличием периода конца 1980-х - начала 1990-х гг. от двух предыдущих десятилетий является политизация иммиграции и переход ее в сферу социального конфликта. В это десятилетие закрепилась разница между термином «иностранец» (экономически состоятельный гражданин иностранного государства) и «иммигрант». Также вошел в широкое употребление термин extraco- munitario (выходец из стран, не являющихся членами ЕС).
1 См. подробнее: Sciortino G., Colombo A. The flows and the flood: the public discourse on immigration in Italy, 1969-2001 // Journal of Modem Italian Studies. 2004. №9 (1). P. 96-101.
2 The Impact of Immigration on Italy’s Society. P. 20.
251
ПРИЛОЖЕНИЯ
Проводится четкое различие между легальными и нелегальными иммигрантами. 1990-е гг., особенно их вторая половина, стали решающим поворотом к теме общественного порядка и правонарушений, совершаемых иммигрантами1.
В 2000-е гг. численность иммигрантов в Италии увеличилась более чем в три раза. По данным организации «Ка- ритас», которые представлены в ежегодном докладе по иммиграции за 2011 г., по состоянию на конец 2010 г. в Италии легально проживало приблизительно 4,6 млн. иностранных граждан (как из стран - членов Евросоюза, так и стран, не входящих в ЕС). Однако их количество достигает почти 5 млн. чел. с учетом легальных иммигрантов, которые на момент подсчета еще не были зарегистрированы. Таким образом, иммигранты составляют 7,5% (если считать только зарегистрированных иммигрантов) от общего количества населения Италии2. В 2008 г. по данному показателю Италия впервые превысила среднеевропейский уровень.
Ожидается, что иммигрантское население Италии удвоится в течение следующих десяти лет. Увеличение численности иммигрантов нередко рассматривается как нашествие, создающее серьезную угрозу для итальянского общества. Имеется ряд факторов, которые способствуют распространению подобного восприятия иммиграции и порождают тревогу у «коренного» населения. Среди них следует отметить: устойчивый приток иммигрантов в страну, особенно нелегальных; более высокий уровень рождаемости у некоторых групп иммигрантов, в частности у мусульман, на фоне низкого уровня рождаемости среди
1 См.: БсюгИпо & Ор. ей. Р. 101-113.
2 21 ЯарроПо “ОЙге 1а спей ¡тшете”. Оо851ег 81аП5Йсо 1тпи- grazione Сагйа5-М1§га1йе8 2011. ЗаИевь Р. 1.
252
Галина САПЕГО. Италия как новая иммиграционная страна
«коренного» населения Италии; повышенное внимание СМИ к данному феномену, благодаря чему у населения создается представление о засилье иммигрантов.
Характерной чертой иммигрантского сообщества Италии является его гетерогенность из-за отсутствия доминирующей национальной или этнической группы иммигрантов. Такая фрагментация обусловлена двумя основными факторами. Во-первых, Италия никогда не поддерживала привилегированных отношений со своими бывшими колониями и не столкнулась с массовой иммиграцией из Ливии, Сомали и Эфиопии. Кроме того, итальянская колониальная система была основана на непрямом правлении, что смягчило процесс деколонизации. Во-вторых, географическое положение Италии делает ее удобным направлением для иммигрантов как из Северной Африки, так и с Балканского полуострова, тем самым расширяя круг стран - поставщиков иммигрантов1.
Иммигрантское население является разнородным не только из-за широкой географии стран происхождения, но также из-за различий между выходцами из одной страны. Например, многие марокканцы в Италии являются не арабами, а берберами. Среди поляков имеет место деление на выходцев из городов - политические беженцы, прибывшие до 1989 г., - и сельских рабочих, которые прибыли уже после развала социалистического блока2.
1 De Angelo C. Le problematiche socio-giuridiche connesse airimmigrazione islamica in Europa con particolare riguardo alia situazione italiana // Journal of Arabic and Islamic Studies. 2001. № 4. P. 39.
2 Veikou, M., Triandajyllidou A. Immigration Policy and Its Implementation in Italy: a Report on the State of the Art. European University Institute. - Report prepared for the research project “Does
253
ПРИЛОЖЕНИЯ
Можно выделить два региона-поставщика наибольшего количества иммигрантов в Италию: страны Магриба и Восточной Европы. Приток иммигрантов из стран Магриба, в особенности нелегальных, облегчает географический фактор. Во-первых, эти страны находятся недалеко от Италии (в частности, Ливия, которая выполняет важную транзитную роль для африканских иммигрантов); а во-вторых, контролировать морское пространство между Северной Африкой и Италией, через которое пролегают маршруты иммигрантов, и береговую линию весьма сложно. Что касается иммигрантов из Восточной Европы, то они устремились в Италию после распада социалистического блока. Здесь тоже не последнюю роль сыграла география. Так, одну из наиболее представленных иммиграционных групп составляют албанцы, родину которых отделяют от Италии Адриатическое и Ионическое моря. Выходцев из Румынии, занимающих первое место по количеству поставляемых иммигрантов, не в последнюю очередь привлекает лингвистическое родство (итальянский и румынский относятся к романской группе языков).
В 2002 г. 52,7% иммигрантского населения Италии составляли европейцы (из которых 42,5% были выходцами из стран, не являющихся членами ЕС), 26,5% имели африканское происхождение, 18,5% - выходцы из Америки (преимущественно Латинской), 0,2% - из Океании. В конце 2003 г. наблюдались изменения в списке стран происхождения иммигрантов со значительным увеличением выходцев из стран Восточной Европы. В 2004 г. Румыния вышла на первое место (240 тысяч), за ней следовали
implementation matter? Informal administration practices and shifting immigrant strategies in four member states” (IAPASIS), funded by the European Commission, Research DG (2000-2004). P. 12.
254
Галина САПЕГО. Италия как новая иммиграционная страна
Марокко (233 тысячи), Албания (227 тысяч), Украина (112 тысяч), Китай (100 тысяч) и Филиппины (74 тысячи)1.
Данные Национального института статистики Италии на конец 2010 г. показывают, что «пятерка» стран - лидеров по количеству поставляемых иммигрантов в страну не изменилась. В Италии проживают почти 970 тыс. румын. Несмотря на то что с 2007 г. Румыния является членом Евросоюза и формально граждане этой страны уже не относятся к категории выходцев из третьих стран (стран, не входящих в состав ЕС), в итальянских средствах массовой информации румынская иммиграция продолжает рассматриваться как основная проблема. Главным образом негативное отношение связано со значительным числом румынских цыган, находящихся на территории Италии и занимающихся противозаконной деятельностью различной степени тяжести. Ситуация обострилась после громкого убийства Джованны Реджани в Риме в конце 2007 г., вызвавшего погромы румын со стороны итальянского населения.
Второе и третье места удерживают Албания и Марокко (соответственно 480 и 450 тысяч иммигрантов). Далее следуют китайцы и украинцы (210 и 200 тысяч)2.
Приблизительно 1,5 млн. иммигрантов, проживающих в Италии, являются выходцами из мусульманских стран3. Подавляющее большинство мусульман в Италию прибыло из Марокко, Албании, Сомали, Египта, Сенегала, Нигерии
1 Ibid. Р. 23.
2 Cittadini Stranieri. Popolazione residente per sesso e cittadi- nanza al 31 Dicembre 2010 / Istat. [Electronic resource] - Mode access: http://demo.istat.it/str2010/index.html (18.01.2012)
3 21 Rapporto “Oltre la crisi, insieme”. P. 4.
255
ПРИЛОЖЕНИЯ
и Пакистана. Иммигранты-мусульмане являются наиболее быстрорастущей группой в Италии1. Это связано не только с тем, что ряд мусульманских стран находится в числе постоянных лидеров по количеству прибывающих в Италию иммигрантов, но также и с более высоким уровнем рождаемости среди данной категории населения.
Основным мотивом для въезда и пребывания иностранцев на итальянской территории является работа, в отличие от западноевропейских стран с более продолжительной иммиграционной традицией (например, Франции, Нидерландов, Швеции). Более половины иммигрантов в Италии являются трудовыми. Семейная иммиграция находится на втором месте.
Что касается беженцев и лиц, ищущих убежище, Италия вовсе не заинтересована в их приеме, поскольку это влечет за собой дополнительную нагрузку на бюджет, а потому руководство страны не стремится к кардинальному реформированию существующей системы предоставления убежища, предпочитая закрывать глаза на нарушения международного и европейского законодательства в данной сфере. Италия принимает незначительное количество беженцев, что обусловлено сложностью процедуры получения убежища. Более того, в отличие от стран Северной Европы, в частности Швеции, известной своей политикой благоприятствования беженцам, итальянское государство предоставляет менее благоприятные социальные условия для беженцев, особенно в течение периода ожидания принятия решения о предоставлении статуса беженца. Нема-
1 Jasch H.-C. State-Dialogue with Muslim Communities in Italy and Germany - The Political Context and the Legal Frameworks for Dialogue with Islamic Faith Communities in Both Countries // German Law Journal. 2007. Vol. 08, № 04. P. 355-356.
256
Галина САПЕГО. Италия как новая иммиграционная страна
ловажным фактом является использование потенциальными беженцами нелегальных путей проникновения на итальянскую территорию, главным образом морского пути. Зачастую они даже не получают возможность подать прошение на предоставление убежища, а немедленно депортируются. Однако использование нелегальных средств въезда в страну происходит из-за проблематичности доступа к легальным процедурам.
§2, Эволюция итальянского иммиграционного законодательства
До середины 1980-х гг. юридические положения, действовавшие в отношении иммиграции, содержались только в международных двусторонних соглашениях, которые Италия подписывала главным образом для того, чтобы защитить права итальянских эмигрантов в североевропейских странах. В 1961 г. по образцу системы, существовавшей в Северной Европе, была законодательно введена система видов на жительство в сочетании с разрешениями на право работы, в выдаче которых значительную роль (по крайней мере, на бумаге) играло Министерство труда. На практике предприниматель, желавший нанять рабочего не из страны - члена Европейского экономического сообщества, должен был подать заявление в местное бюро по трудоустройству1.
Возникновение феномена иммиграции потребовало его законодательного урегулирования. Хотя здесь следует отметить: итальянская иммиграционная политика выстроена таким образом, что легальный въезд иммигрантов в страну
1 Коданьоне К. Указ. соч. С. 138-139.
9 Зак. 1988
257
ПРИЛОЖЕНИЯ
крайне затруднен, в то время как по существу поощряется нелегальный въезд, который затем сопровождается амнистиями. Наблюдаемые особенности иммиграционной ситуации, сложившейся в Италии, могут рассматриваться, скорее, как результат принимаемых политических решений, нежели следствие специфики непосредственно иммиграционного процесса1.
Основными нормативными актами в Италии в сфере иммиграции являются два закона: Закон 943/86 о занятости и обращении с рабочими-иммигрантами из третьих стран (то есть стран, не являющихся членами Евросоюза) и предотвращении нелегальной иммиграции и Закон 39/90 о специальных мерах по предоставлению политического убежища, въезду и проживанию выходцев из третьих стран и лиц без гражданства, которые уже находятся на территории страны. Юридическая база в области иммиграции была консолидирована в 1998 г. благодаря принятию «Единого текста правовых норм об иммиграции и положении иностранцев». В этом же году был принят Закон 40/98 («Закон Турко-Наполетано»), в который были внесены изменения Законом 189/02 («Закон Босси-Фини»).
Вступление в силу первого всеобъемлющего иммиграционного закона (Закон 943/86) проходило параллельно с проведением в жизнь первой программы по легализации нелегальных иммигрантов, целью которой было регулирование условий въезда и проживания иностранцев на территории Италии, а также предоставление им прав итальянских граждан. Вышеназванный закон был призван законодательно оформить кампанию по легализации. Однако
1 Colombo A., Sciortino G. Italian immigration: the origins, nature and evolution of Italy’s migratory systems // Journal of Modem Italian Studies. 2004. № 9 (1). P. 66.
258
Галина САПЕГО. Италия как новая иммиграционная страна
условия, предъявляемые для легализации статуса, было слишком трудно соблюсти, из-за чего результат программы был незначителен: ею смогли воспользоваться только немногим более 105 тысяч нелегальных иммигрантов. Кроме того, закон игнорировал такую категорию иммигрантов, как беженцы1. «Ахиллесовой пятой» закона стало отделение срока действия вида на жительство от срока действия трудового соглашения, а также предоставление возможности иммигрантам иметь вид на жительство, будучи безработными. Зарегистрированные в качестве безработных, иммигранты могли продолжать пользоваться видом на жительство и работать нелегально. Более того, из-за увеличения числа безработных иммигрантов сокращалось количество разрешений на легальный въезд в страну, что способствовало росту нелегальной иммиграции2.
Таким образом, закон 1986 г. не достиг своей цели. Иммиграцию не удалось перевести в законодательно регулируемое русло, а приток нелегальных иммигрантов только увеличился. Итальянские власти не учли, что иммигрантский труд в стране был востребован главным образом в «теневом секторе», отсюда и рост числа официальных безработных среди иммигрантов, которые могли легально находиться на территории Италии, но этот статус вовсе не способствовал получению ими доступа к легальной занятости.
Закон 39/90 (так называемый «закон Мартелли») был принят в условиях неустойчивого коалиционного правительства и считается компромиссом между либеральными и ограничительными мерами. Итальянский профессор Кри- стиано Коданьоне к либеральным чертам закона относит
1 УеИсои М. Ор. ей. Р. 5.
2 Коданьоне К. Указ. соч. С. 140-141.
259
ПРИЛОЖЕНИЯ
«распространение на всех права на убежище (ранее действовавшего лишь в отношении тех, кто прибывал из стран советского блока) и начало новой программы амнистии, на этот раз открытой для любого иммигранта независимо от того, есть ли у него работа». К ограничительным мерам относится «установление ежегодного потолка численности вновь прибывающих легальных иммигрантов и введение виз для значительного числа стран». Кроме того, закон относил иммиграцию к вопросам общественного порядка, а также ставил своей целью «создание эффективной системы высылки из страны в качестве краеугольного камня внутренней системы контроля: изгнание стало обязательной мерой в ответ на самые различные нарушения»1.
Впоследствии итальянское правительство издало множество декретов и поправок к Закону 39/90, которые в дальнейшем регулировали как потоки новых иммигрантов, так и условия для тех, кто уже проживает в стране. Регулярно издавались общие и специальные положения в сфере иммиграционной политики, включая ежегодное планирование миграционных потоков, положения о сезонной занятости рабочих-иммигрантов, чрезвычайные меры по притоку албанских иммигрантов2.
Более того, в середине 1990-х гг. итальянское правительство стало предпринимать попытки по содействию интеграции иммигрантов. Значительное количество мер было реализовано в сфере образования (профессиональная подготовка и языковые курсы), а также в сфере социальных услуг (главным образом, жилищные субсидии и забота о детях)3.
‘Там же. С. 141-142.
2 УеИсои, М. Ор. ск. Р. 5.
3 йе1 Воса £>., УепШпт А. каНап М1^айоп. - 1п5НйЛе Аог Ше 8Шс1у of ЬаЬоиг (КА). >Уогкк^ Рарег. 2003. № 938. ЫоуетЬег Р. 34.
260
Галина САПЕГО. Италия как новая иммиграционная страна
Внимание к мерам по включению иммигрантского населения в принимающее национальное сообщество было обусловлено тем, что в 1990-е гг. власти Италии уже осознавали: иммиграция вовсе не временное явление, иммигранты приехали, чтобы остаться. Следовательно, возникла необходимость в том, чтобы помочь иммигрантам и их потомкам стать полноценными членами итальянского общества.
С 1990-х гг. в связи с созданием Шенгенской зоны перед итальянским руководством встала проблема систематизации правовых норм в сфере иммиграции с целью внести ясность и прозрачность в данную сферу. В 1998 г. Парламент Италии упорядочил иммиграционное законодательство страны посредством создания объединенного свода норм «Единого текста правовых норм об иммиграции и положении иностранцев». В документе были прописаны права и обязанности иностранцев в Италии, условия их пребывания и работы, а также другие вопросы относительно воссоединения семей, социальной интеграции и культурной жизни в Италии. В этом же году был принят Закон 40/98 («Закон Турко-Наполетано»), призванный преодолеть «авральный подход» к управлению иммиграцией.
«Закон Турко-Наполетано» ставил перед собой три основные цели: создание более эффективного процесса регулирования и управления организацией притока иностранных граждан, находящихся в состоянии поиска работы; эффективное предотвращение нелегальной иммиграции; интеграция иммигрантов, которые легально проживают в стране. В соответствии с данными целями выделяются следующие основные нововведения закона:
• в законе предусматривается возможность содержания нелегальных иммигрантов в специальных «центрах проживания и помощи», чтобы контролировать нелегальный
261
ПРИЛОЖЕНИЯ
въезд в страну. Управление этими центрами было отдано волонтерским организациям;
• закон предписывает принятие строгих мер в отношении иммигрантов, у которых отсутствуют надлежащие документы. Эти меры применяются в связи с твердой убежденностью в том, что нелегальная иммиграция и криминальное поведение тесно взаимосвязаны;
• был принят трехлетний план иммиграционных потоков. Определение ежегодных квот, отражающих потребности итальянского рынка труда, было отнесено к ведению Президента Совета Министров (то есть премьер-министра страны) и Парламента;
• в законе более четко определены условия, которые должны выполнить иммигранты, чтобы считаться легально проживающими на территории Италии. Иностранные рабочие могут въезжать и проживать в Италии в соответствии со следующими процедурами: национальными сезонными квотами, трудовыми контрактами с итальянскими работодателями и спонсорством со стороны итальянского резидента. Этим иммигрантам временное разрешение на проживание в стране может быть выдано в рамках запланированной квоты;
• закон устанавливал возможность для иностранцев претендовать на получение постоянного вида на жительство в Италии после пяти лет легального пребывания в стране (ст. 7)1.
Благодаря введению постоянного вида на жительство появился промежуточный статус между иностранцами с нестабильным временным разрешением на проживание и полноценными членами итальянского общества - гражданами. Однако жесткие условия для получения статуса
1 Уе1кои М. Ор. сД. Р. 7-8.
262
Галина САПЕГО. Италия как новая иммиграционная страна
постоянного резидента практически свели на нет его значимость. Так, в соответствии с положениями «Закона Турко-Наполетано» итальянские власти имели возможность по своему усмотрению отзывать разрешение на постоянное проживание1.
Не привел закон и к решению проблем в экономической сфере. Легализованные иммигранты потеряли всякую привлекательность для работодателей, не заинтересованных в выплате официальной заработной платы и соблюдении надлежащих условий труда. Кроме того, в обществе стали нарастать ксенофобские настроения, хотя ранее итальянцы проявляли терпимость в отношении иммигрантов2.
В 2002 г. находившееся у власти правоцентристское правительство издало Закон 189/02 («Закон Босси-Фи- ни»), ужесточивший условия для иммиграции в Италию. Одним из требований, предусмотренных данным законом, стало обязательное снятие отпечатков пальцев у всех иностранцев из третьих стран. Также закон разрешал использовать морские суда для патрулирования итальянского побережья с целью перехвата контрабандных судов, занимающихся перевозкой нелегальных иммигрантов в Италию. «Закон Босси-Фини» предусматривал, что иммигранты должны получать контракты от итальянских работодателей до прибытия на территорию страны, а также напрямую увязывал легальное проживание в Италии с наличием разрешения на работу. В случае утраты рабочего
1 Dell'Olio F. Immigration and Immigrant Policy in Italy and the UK: Is Housing Policy a Barrier to a Common Approach Towards Immigration in the EU? // Journal of Ethnic and Migration Studies. January 2004. Vol. 30, № 1. P. 113.
2 Veikou, M. Op. cit. P. 8-9.
263
ПРИЛОЖЕНИЯ
места иностранный рабочий автоматически утрачивал разрешение на работу, что ставило под угрозу его право находиться в Италии. Кроме того, данный закон вводил новые ограничения на иммиграцию по линии воссоединения семей, позволяя только детям до 18 лет присоединиться к родителям. Также закон ограничивал доступ иммигрантов к публичному жилому фонду, тем самым требуя от итальянских нанимателей обеспечить иностранных работников жильем1.
В 2008 г. после победы на внеочередных парламентских выборах к власти в Италии пришла правоцентристская коалиция, в состав которой вошла Лига Севера, получившая 8,3% голосов во многом благодаря своей антиимми- грантской риторике. Новое правительство сделало ставку на ограничительную иммиграционную политику. Была сокращена ежегодная квота на въезд иностранных работников. Также развернулась кампания по борьбе с нелегальной иммиграцией. Важная роль в этой борьбе была отведена депортации, например, было подписано соответствующее соглашение с Ливией. В 2009 г. Парламент Италии одобрил предложенный правительством Сильвио Берлускони «Декрет о безопасности», согласно которому нелегальное проживание в стране признается преступлением.
На протяжении последних десятилетий в общественном мнении Италии сформировался «синдром осажденной крепости». Возрастающие иммиграционные потоки породили у итальянского населения страх перед неконтролируемым вторжением. Именно в Италии, более чем где-либо, такого рода страх мог проявиться, поскольку правительство страны никогда не демонстрировало эффективность в контроле
1 Dell ’Olio F. Ор. cit. P. 113.
264
Галина САПЕГО. Италия как новая иммиграционная страна
границ, а также проживающего на территории страны иммигрантского населения1.
В этой связи декларируемые жесткие меры итальянского руководства по контролю за иммиграционными процессами встречают позитивный отклик у значительной части населения страны. В свою очередь, итальянские власти стремятся показать избирателям, что проблема иммиграции не остается без внимания и предпринимаются конкретные меры, приносящие результат.
Относительно недавно возникший феномен иммиграции поставил перед итальянской политической системой задачу адаптации к новым условиям. Одним из побочных эффектов этого феномена является возникновение местных вариаций исполнения законодательства. Многие иммигранты в Италии сталкиваются с практикой противоречивого и двусмысленного правоприменения со стороны местных органов власти. Существуют значительные различия между способами, с помощью которых государственные органы на местах реагируют на проблемы занятости, образования и жилищные потребности иммигрантов2. Отсутствие единообразной практики на территории страны лишает иммигрантов определенности в отношении своих прав, а также свидетельствует об отсутствии на национальном уровне эффективной политики по интеграции иммигрантов как таковой.
1 Zanotti A. Undercurrents of Racism in Italy // International Journal of Politics, Culture and Society. 1993. Vol. 7, № 2. P. 175.
2 Veikou M. Op. cit. P. 21-22.
265
ПРИЛОЖЕНИЯ
§3. Иммигранты в социально- экономической структуре Италии
Место иммигрантов на рынке труда принимающей страны является одним из решающих факторов их интеграции в принимающее общество. Наиболее неблагоприятной и потенциально взрывоопасной ситуацией является концентрация иммигрантов в отдельных секторах экономики, считающихся наименее престижными и низкооплачиваемых. Италия, преимущественно привлекающая иммигрантов как раз на такие рабочие места, может оказаться перед лицом проблем, которые характерны для ее северных соседей, столкнувшихся с иммиграционными потоками значительно раньше: геттоиза- ция, социальные бунты и нарастание экстремистских настроений. В то же время иммиграция в Италию имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при рассмотрении итальянского иммиграционного опыта.
Анализируя проблему включения новоприбывших в итальянское общество, особое внимание стоит обратить на широко распространенный феномен нелегальной иммиграции. Нелегальные иммигранты находятся на периферии общественной жизни, и перед ними стоит угроза полной маргинализации. Интеграция лиц, находящихся на территории Италии нелегально и работающих в «теневом» секторе экономики, невозможна уже в силу отсутствия у них права легально проживать на территории страны. Они автоматически выводятся из правового поля, хотя фактически составляют часть итальянского общества.
Кампании по легализации, проводимые итальянским правительством, так и не привели к значительному сокращению количества нелегальных иммигрантов. К основным причинам, по которым нелегальные иммигранты не смогли
266
Галина САПЕГО. Италия как новая иммиграционная страна
воспользоваться данной возможностью, относятся как сложность самой процедуры легализации, так и боязнь нелегалов заявить о себе. В любом случае, кампании по легализации были обречены на неэффективность уже потому, что в Италии, особенно на юге страны, труд иммигрантов востребован как раз в «теневом» секторе. В результате легализованные иммигранты столкнулись с нежеланием работодателей продолжать сотрудничество, принимая во внимание их новый статус, предоставляющий иммигрантам возможность претендовать на условия труда, аналогичные тем, которыми пользуются итальянские граждане. Итальянские наниматели заинтересованы в нелегалах, благодаря которым они экономят на заработной плате, налогах и социальных выплатах. Отсутствие у работников необходимых документов повышает их уязвимость в новом окружении и способствует повышению их зависимости и подконтрольности своим работодателям. Столкнувшись с безработицей, многие иммигранты были вынуждены вернуться на «теневой» рынок труда, в то время как официально они числились безработными.
Таким образом, проводимые кампании по легализации не способствовали ни борьбе правительства против нелегальной иммиграции, ни улучшению положения самих нелегальных иммигрантов. Важной причиной неэффективности усилий итальянских властей является односторонний подход к борьбе с феноменом нелегальной иммиграции. Проблему использования нелегального иммигрантского труда нельзя решить без принятия мер, направленных на сокращение «теневого» сектора экономики, а также преодоление коррупционной составляющей в политической и экономической жизни Италии.
В Италии уже обозначилась проблема несоответствия уровня образования иммигрантов и позиций, которые они
267
ПРИЛОЖЕНИЯ
занимают на рынке труда. В странах Северной и Центральной Европы с многолетней иммиграционной историей данная проблема остро обозначилась только во «втором поколении» иммигрантов. В Италии, напротив, дискриминация стала очевидной с самого возникновения феномена иммиграции. Правда, во многих случаях применение дискриминационных практик оправдывало плохое знание иммигрантами итальянского языка1.
Даже в случае успешного прохождения процедуры официального признания дипломов об образовании, полученных за рубежом (особенно это касается стран, не входящих в состав Евросоюза), иностранные рабочие не смогут на равных конкурировать с местным населением. Сами итальянцы сталкиваются со сложностями при поиске работы, требующей квалификации. Особенно остро данная проблема стоит перед итальянской образованной молодежью.
В последнее время наблюдается тенденция, когда молодые иммигранты приезжают в Италию с «романтической» целью найти работу, соответствующую их квалификации, хотя в стране востребован, главным образом, неквалифицированный труд2. В результате такие молодые люди пополняют ряды безработных. Примечательно, что данная категория иммигрантов потенциально способна к быстрой интеграции в принимающее общество, поскольку фактором, подталкивающим этих людей к иммиграции, стала привлекательность итальянского (западного) образа жизни, в отличие от первого поколения иммигрантов, например во
1 Reyneri E. Education and the Occupational Pathways of Migrants in Italy // Journal of Ethnic and Migration Studies. November 2004. Vol. 30, №6. P. 1160.
2 Cm.: Reyneri E. Op. cit. P. 1145-1162.
268
Галина САПЕГО. Италия как новая иммиграционная страна
Франции или Германии, для которых экономический мотив был основным при принятии решения об иммиграции. В большинстве своем такие иммигранты секулярны и, что касается выходцев из так называемых мусульманских стран, побудительной силой для эмиграции стало их стремление порвать с традиционализмом. Однако безработица, влекущая за собой маргинализацию, оставляет возможность для пополнения ими рядов радикальных исламистских организаций.
Как и в других европейских странах, в Италии иммигранты заполняют ниши на рынке труда, не востребованные гражданами страны: непрестижные, трудоемкие и низкооплачиваемые позиции. Так, на юге Италии сосуществуют иммиграция и безработица. Поскольку местное население, особенно образованная молодежь, отказывается выполнять отдельные виды работ, предпочитая, например, оставаться на попечении у родителей, работодатели заполняют пустующие ниши на рынке труда иностранцами.
Официальная система поиска вакансий на итальянском рынке труда плохо структурирована. Поэтому иммигранты часто узнают о вакансиях от знакомых внутри «этнических сетей». Однако в Италии не сложились четко определенные этнические ниши. Скорее, можно говорить о трудовых сообществах, сформированных по этническому признаку. Причиной тому служит многоэтничность иммиграционных потоков (в стране проживают иммигранты 191 национальности). Например, сектор помощи по дому в Италии, который часто считается этнической нишей, при более внимательном рассмотрении является многоэтничным, поскольку там задействовано несколько сообществ (женщины из Эритреи, Филиппин, Албании и Польши). То же самое применимо к работе в гостиничном и ресторанном секторе (услуги носильщиков, уборщиков и т. д.), где в прошлом были заняты иммигранты
269
ПРИЛОЖЕНИЯ
из Северной Африки, а сейчас работают выходцы из Польши, Словении, Чехии, Румынии и Албании1.
Несмотря на то что в Италии еще не сложилась жесткая «этническая» специализация труда, нельзя исключать подобного развития события в дальнейшем, принимая во внимание рост численности иммигрантов из Восточной Европы, как из стран-членов Евросоюза, особенно из Румынии, так и государств, находящихся за пределами Евросоюза, в частности Украины и Молдовы. Хотя в данном конкретном случае все же более уместным было бы вести речь о формировании региональной специализации, например: восточноевропейские иммигранты-женщины, работающие в сфере ухода за пожилыми людьми.
В отличие от других промышленно развитых стран Европы для Италии характерно присутствие иммигрантов на всей территории страны. Если, например, во Франции 40% иммигрантов сосредоточены в Париже, а в Великобритании треть иммигрантов - в Лондоне, то в Италии в районе Милана и Рима проживает только пятая часть от общего числа иммигрантов. Подобное положение дел можно объяснить, во- первых, востребованностью иммигрантского труда в домашнем хозяйстве (следовательно, этот вид деятельности не привязан к мегаполисам, где сконцентрированы промышленные предприятия); во-вторых, занятостью иммигрантов в различных отраслях (в сельском хозяйстве, промышленности и сфере услуг); в-третьих, распространением нелегальной занятости (которая опять-таки относительно равномерно распространена по всей территории Италии).
Исследовательские работы 1990-х гг., посвященные роли иммигрантов на итальянском рынке труда, во многом основывались на следующих положениях:
1 ТЬе шзра^ оГнпгш{»гайоп оп Йа1у’5 50с1е1у. Р. 30-34.
270
Галина САПЕГО. Италия как новая иммиграционная страна
1. Из-за труда иммигрантов растет «традиционный» тип производства (сельское хозяйство, традиционная промышленность, семейные услуги и др.) и последовательно снижаются мотивы для модернизации структуры экономики Италии.
2. Экономическая роль, которую играют иммигранты, зависит от региональной трудовой специфики. В регионах, где превалирует официальная занятость иммигрантов, большинство из них легализуются, и наоборот, там, где подавляющее большинство иммигрантов является нелегальными, они заняты в «теневом» секторе.
3. Иммигранты играют дополняющую роль на севере Италии, где безработица является низкой и спрос на виды работ, которые выполняют иммигранты, все еще высок. На юге иммигранты составляют конкуренцию местному населению, особенно на «теневом» рынке труда и в сельском хозяйстве. Однако исследователи отмечают наличие «косвенной конкуренции» и на севере страны. Традиционный тезис, что коренные жители не претендуют на позиции, занимаемые иммигрантами, не исключает существования конкуренции. Напротив, она может быть результатом обескураживания, вызванного уменьшением заработной платы и низким престижем работ, где задействованы иммигранты, то есть имеет место «косвенная конкуренция»1.
В то же время ряд исследователей указывают на такую особенность Италии, как факт, что трудовые иммигранты не привнесли изменений в способ организации производства в стране, а скорее способствовали поддержанию существующих способов производства. Рост числа иностранных
1 Venturini A. Extent of Competition between and Complementary among National and Third World Migrant Workers in the Labour Market: an Exploration of the Italian case // International Migration Papers, № 11. Geneva, 1996. P. 41.
271
ПРИЛОЖЕНИЯ
рабочих не повлиял на зарплаты местного населения по той причине, что в Италии институциализированная система начисления зарплат носит жесткий характер. Это, в свою очередь, мешает своевременно реагировать на внешние изменения - рост предложения рабочей силы1. Более того, благодаря иммигрантам были возрождены такие важные секторы экономики, как рыбная промышленность на Сицилии, цветоводство в Лигурии и овцеводство в Абруццо и Лации2.
Анализируя прямую конкуренцию между принимающим населением и иностранными рабочими на рынке труда (нетеневом), исследователи Алессандра Вентурини и Даниэла Дель Бока приводят три аргумента против утверждения, что легальные иммигранты оказывают заметное влияние на размер зарплат на рынке труда страны. Во- первых, в Италии размер зарплаты является результатом торга предпринимателей с сильными профсоюзами, а иностранцы, легально работающие в стране, составляют только 3% от всех трудящихся и лишь в некоторых отраслях их численность достигает 7%. Во-вторых, число легальных рабочих-иммигрантов увеличилось сравнительно недавно (после иммиграционных амнистий 1991 и 1996 гг.), а потому прошло еще недостаточно времени, чтобы их присутствие оказало значительный эффект на размер зарплат. В-третьих, децентрализованный торг был введен только в 1995 г. и до настоящего времени не наблюдалось ощутимого влияния на разницу в зарплате для наиболее уязви¬
1 Venturini A., Villosio С. Foreign workers in Italy: are they assimilating to natives? Are they competing against natives? Working Paper № 3. Université di Bergamo, Italy, Department of Economics, 1998. P. 42.
2 Zincone G. A Model of “Reasonable Integration”: Summary of the First Report on the Integration of Immigrants in Italy // The International Migration Review. Fall, 2000. Vol. 34, № 3. P. 957.
272
Галина САПЕГО. Италия как новая иммиграционная страна
мых категорий работников - молодежи и женщин - из-за присутствия иностранных рабочих1.
Одной из основных причин негативного отношения населения принимающей страны к иммигрантам является убеждение, что последние пользуются социальными благами государства, хотя сами никакого вклада в общественное благосостояние не вносят. Между тем, ответ на вопрос о позитивном или негативном влиянии притока иммигрантов на социальную сферу Италии вовсе не однозначен.
С одной стороны, Италии необходим приток рабочей силы, особенно молодежи. Как и в других западноевропейских странах, в Италии происходит старение населения из- за низкого уровня рождаемости и увеличения продолжительности жизни. Тем самым возникает дисбаланс между количеством пенсионеров и работающего населения. Вклад иммигрантов в решение данной проблемы является, скорее, положительным, причем не только с точки зрения притока трудовых ресурсов, но и в связи с более высоким уровнем рождаемости среди них. Наибольший «вклад» в решение демографических проблем вносят такие традиционалистские сообщества, как марокканское, пакистанское, индийское и бангладешское. В то же время для иммигрантов из Восточной Европы характерен низкий уровень рождаемости, как это имеет место в странах их происхождения.
Корректируют ситуацию характерная для Италии нелегальная иммиграция и занятость. Иммигранты, работающие нелегально, не производят отчислений в бюджет итальянского государства со своих заработных плат. Кроме того, их работодатели не отягощены социальными выплатами.
Сами иммигранты также находятся в неблагоприятных условиях с точки зрения социального обеспечения. Нелега¬
1 Ое1 Боса О. Ор. ей. Р. 25-26.
273
ПРИЛОЖЕНИЯ
лы уже в силу своего статуса не могут претендовать на социальные блага наравне с итальянскими гражданами. А иммигранты, работающие официально, как правило, заняты на низкооплачиваемых рабочих местах, а потому в будущем размеры их пенсий будут гораздо ниже по сравнению с пенсиями «коренных» итальянцев.
Заключение
Иммиграционный режим Италии находится в процессе формирования, главным образом, по причине сравнительно недавнего превращения данной страны из эмиграционной в иммиграционную. Тем не менее, для Италии в полной мере характерны две общеевропейские тенденции последнего времени: меры по повышению контроля и ограничению въезда, а также курс на ассимиляцию иммигрантов.
Как и большинство индустриально развитых стран, Италия сталкивается с проблемой нежелания местного населения работать в ряде сфер на рынке труда, характеризующихся тяжелыми условиями, неудобным графиком работы, низкой заработной платой. Поэтому, несмотря на наличие в стране безработицы, наблюдается постоянный приток трудовых иммигрантов, готовых занять невостребованные рабочие места.
Спецификой Италии является широкое распространение коррупции, «теневой» экономики и нелегальной иммиграции. Эти три явления тесно связаны между собой. Коррупция и «теневая» экономика одновременно и подпитываются нелегальной иммиграцией, и поощряют таковую. В этой ситуации попытки победить нелегальную иммиграцию, опираясь на меры чисто административного характера, не могут увенчаться успехом.
Проводившиеся кампании по легализации иммигрантов (в частности, миграционные амнистии) также не смогли по¬
274
Галина САПЕГО. Италия как новая иммиграционная страна
бороть феномен нелегальной иммиграции. Его искоренение в значительной степени зависит от искоренения коррупции в Италии, реструктуризации системы трудовых отношений и сокращения удельного веса «теневой» экономики.
Значительный по объемам сектор использования нелегального иммигрантского труда является одним из наиболее серьезных препятствий на пути включения иммигрантов в итальянское национальное сообщество. В этом секторе могут быть задействованы как лица, проживающие на территории страны без надлежащих документов, так и те, кто обладает разрешением на проживание, но по причине безработицы соглашается на неформальные трудовые отношения.
Вывод иммигрантов из «тени» может способствовать улучшению статуса самих иммигрантов, которые станут более защищенными как на рынке труда, так и в социальной сфере, а в дальнейшем смогут претендовать на статус полноправных членов итальянского общества. Кроме того, это будет способствовать повышению наполняемости государственного бюджета за счет налогов и социальных выплат. Тем самым иммигранты смогли бы стать полноценными членами системы социальной защиты, и с помощью грамотной информационной кампании можно было бы преодолеть негативное отношение местного населения к иммигрантам как к социальному бремени и правонарушителям.
В то же время, как показывает практика, легализация приводит к безработице среди иммигрантов. С одной стороны, работая в «теневом» секторе, они зачастую находятся в положении полурабов. С другой стороны, само предложение их труда способствует функционированию и распространению «теневого» сектора. Таким образом, меры по борьбе с нелегальной занятостью иммигрантов должны быть дополнены гарантиями относительно их дальнейшего трудоустройства в легальном секторе или возможностью
275
ПРИЛОЖЕНИЯ
переквалификации в соответствии с потребностями национальной экономики.
Еще одной характерной чертой Италии является разнородность состава иммигрантского населения. Это обусловлено отсутствием длительного колониального прошлого и особых отношений с развивающимися странами, а также географическим положением страны.
Кроме того, особенностью Италии является «замещение», или, точнее, сбалансирование, мусульманского компонента иммигрантского населения выходцами из стран Восточной Европы, прежде всего из Румынии, являющейся страной - членом Евросоюза. В публичном пространстве Италии происходит проблематизация такой категории иммигрантов, как «румыны». В результате становится менее заметным присутствие иммигрантов-мусульман, традиционно рассматриваемых в качестве чуждого элемента как в Италии, так и в странах Евросоюза в целом.
Гетерогенный состав иммигрантского населения, а также его дисперсное расселение по всей итальянской территории отличает Италию от таких стран, как Франция, Великобритания или Нидерланды, где иммигранты сконцентрированы в столицах и ряде крупных городов. Это обстоятельство делает менее вероятным образование в Италии замкнутых этнических анклавов. Кроме того, избежать последующей «анклави- зации» и «гетгоизации» иммигрантов, с которыми столкнулись северные соседи Италии, можно во многом благодаря сбалансированному их рассредоточению на рынке труда и заполнению рабочих мест различной категории.
Концентрация иммигрантского населения в нише неквалифицированного труда таит в себе опасность социального взрыва. Эта опасность повышается в случае ярко выраженной этнической и/или религиозной специализации. В Италии такая специализация пока не сложилась, тем более, статисти¬
276
Галина САПЕГО. Италия как новая иммиграционная страна
ка показывает рост абсолютного числа иммигрантов из различных стран. Однако на рынке труда Италии востребованы преимущественно рабочие низкой квалификации. Шансы иммигрантов устроиться на лучше оплачиваемые и более престижные должности минимальны. Здесь имеет место конкуренция между самими итальянцами. Потомкам иммигрантов, которым удастся получить высшее образование, опять же придется конкурировать за рабочие места, требующие высокой квалификации, с «коренными» итальянцами. Нельзя исключать вероятность того, что, как, например, это имеет место сегодня во Франции, они столкнутся с дискриминацией со стороны работодателей, которая непременно влечет за собой социальную маргинализацию. Широкое распространение дискриминационных практик может способствовать радикализации настроений в иммигрантской среде и в перспективе дезинтеграции общества.
Ввиду отсутствия длительной иммиграционной традиции и инертности государственной машины в Италии до сих пор нет продуманной иммиграционной политики. В этой сфере преобладает «авральный подход». Итальянские власти предпочитают уклоняться от решения целого комплекса внутренних проблем страны, переключая внимание населения на феномен иммиграции как на внешний источник внутренних проблем и угрозу национальной безопасности.
Действия властей Италии являются подтверждением того, что для сферы иммиграционной политики характерна особая логика. Принимаемые решения не имеют незамедлительного результата, что затрудняет процесс оценки предпринятых мер, а у лиц, принимающих решения, есть возможность избежать ответственности. Тем самым повышается вероятность принятия решений из конъюнктурных соображений при формулировании характера мероприятий в отношении комплекса проблем, порождаемых транснациональной иммиграцией.
277
Ксения ЗАИКА
ИММИГРАЦИОННЫЙ РЕЖИМ КАНАДЫ: СТАНОВЛЕНИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Из множества подходов, существующих в мигрантове- дении, для рассмотрения канадского случая мы выбрали культурцентричный подход, согласно которому бюрократия принимающей страны строит иммиграционную политику и политику интеграции иммигрантов исходя из политической культуры данного государства1.
Специфика политической истории и политической культуры Канады
Канада является иммиграционным государством с либерально-демократической политической культурой. В иммигрантских обществах не работает основной принцип национализма, являющийся основой современных внутри¬
1 Brubaker R. Citizenship and Nationhood in France and Germany, Cambridge, Mass. 1992; Малахов B.C. Иммиграционные режимы в государствах Запада и в России: теоретико-политический аспект // Полис. 2010. №3. С. 60-68; № 4. С. 151-158.
278
Ксения ЗАЙКА. Иммиграционный режим Канады...
политических и международно-политических отношений, а именно: совпадение культурных и политических границ сообщества, представляемого, прежде всего, в этнических категориях1. История Канады свидетельствует о провале применения классического европейского принципа национализма для построения нации. Канадская нация образовалась в результате колонизации современной территории Канады представителями двух культурных общин (англо-канадцами и франко-канадцами). Кроме того, изучение политики и практики канадского мультикульту- рализма позволяет лишний раз убедиться в том, что ощущение национальной принадлежности есть результат конкурирующих политик элит и низовой политической активности граждан.
Специфика Канады по сравнению с большинством национальных государств Запада выражается, прежде всего, в том, что государство здесь позволяет публичную артикуляцию различных культурных норм. В частности, в Канаде разрешается создание неправительственных организаций по этнокультурному признаку, до недавних пор позволялось применять различные религиозные нормы в практике частного судопроизводства. Специфика политической истории этой страны, а именно то обстоятельство, что канадское общество формировалось в результате ряда волн иммиграции, привели к тому, что представление о национальной идентичности сложилось только во второй половине XX в. Оно было, с одной стороны, реакцией на рост сепаратизма в Квебеке, а с другой стороны, диктовалось необходимостью
1 Малахов В С. Национализм как политическая идеология. 2-е изд. М.: КДУ, 2010.
279
ПРИЛОЖЕНИЯ
проведения максимально гибкой политики в отношении интеграции иммигрантов из стран «третьего мира». Задача интегрирования этнокультурных меньшинств (как исторических, так и иммигрантских) определила обращение канадского государства к идее мулътикулътурализма.
Провозглашение политики мультикультурализма в Канаде было обусловлено рядом обстоятельств. Это, во- первых, необходимость выработки национальной идентичности - необходимость представить культурно-гетерогенное общество в качестве единого политического сообщества. Во-вторых, это необходимость преодоления институционализированного расизма. В-третьих, это отказ от англоцентричной иммиграционной политики и, наконец, в-четвертых, преодоление последствий принудительной сегрегации индейцев.
Для исследования эволюции идеологии и практики мультикультурализма в Канаде представляется важным изучение формирования представлений о «коренном населении» в этой стране. В отличие от западноевропейских государств, в Канаде понятие «коренное население» относится к дискриминируемому в прошлом автохтонному меньшинству, вытесненному из процессов формирования основ современной канадской правовой и политической культуры, которую согласно официальной риторике «обогащают» ежегодно прибывающие в Канаду иммигранты из различных стран мира. Вышеуказанные факторы обусловили специфику политической и правовой культуры Канады и специфику канадского мультикультурализма.
Если в западноевропейских странах доминирующим тропом в дискурсе мультикультурализма является представление сообществ иммигрантов и этнокультурных меньшинств в качестве «проблемы», то в Канаде официально
280
Ксения ЗАЙКА. Иммиграционный режим Канады...
признается вклад всех этнокультурных групп, в том числе и иммигрантского происхождения, в формирование общей канадской культуры. В этой стране мультикультурализм понимается скорее как политический принцип организации общежития в условиях крайне разнородного общества. В такой ситуации эффективным механизмом сохранения целостности общества стало создание правовых возможностей для всех этнокультурных групп выдвигать требования расширения культурных прав. Следует отметить, что, несмотря на признание культурных различий, политика муль- тикультурализма, проводимая канадской бюрократией, не поощряет институциализированную консолидацию культурных идентичностей. В Канаде мультикультурализм работает как интерпретативный принцип, признающий вероятность переформатирования культурных идентичностей иммигрантов различного этнического происхождения и формирования ими временных организаций/инициативных групп для отстаивания своих культурных требований через судебные инстанции. Иначе говоря, иммигранты не обязаны становиться членами диаспорных институтов для выдвижения и отстаивания своих групповых прав. Тем не менее, признание мультикультурного характера канадского общества является конституционной нормой и основой национальной идентичности в этой стране.
Важным фактором в формировании канадской политической культуры стало противопоставление США. Во- первых, в отличие от «отцов-основателей» США, канадские политические элиты придерживались «монархического принципа», и вопрос о суверенитете для них не был актуальным. Приверженность установленному порядку, допущение достаточно высокого правительственного контроля и либерально-консервативные умонастроения характерны
281
ПРИЛОЖЕНИЯ
для канадского общества, в то время как американцы «готовы страдать и прибегать к насилию ради отстаивания гражданских прав и индивидуальной свободы»1. В определенной степени образование Канадской Конфедерации в 1867 г. отчасти стало реакцией на политическое и экономическое влияние США. Канадские провинции опасались, что южный сосед аннексирует их территории, если они останутся раздробленными. Таким образом, специфика политической культуры Канады в значительной степени обусловлена неприятием Американской революции. На раннем этапе формирования канадской политической культуры для нее было характерно противодействие американизму, консерватизм и невысокий уровень политизированности общества. Необходимость защищать западные территории от американского экспансионизма способствовала формированию государственного патернализма. Кроме того, в Канаде сложилась традиция, согласно которой именно бюрократия должна «направлять» колонизацию и социальное обустройство поселений.
Второй важной особенностью Канады является то, что в отличие от американской революционной этики, для политической культуры Канады характерен консерватизм. Легитимация консерватизма в Канаде объясняется не только неприятием Американской и Французской революций, но также характером эмиграции и иммиграции в XVIII в.2
1 Berton Р. Why We Act Like Canadians, Toronto, McClelland and Stewart, 1982. C. 16-17 // Upset S.M. The Canadian Identity, International Journal of Canadian Studies. 2006. № 33-34. P. 85.
2 Upset S. M. The Canadian Identity, International Journal of Canadian Studies. 2006. № 33-34. P. 88.
282
Ксения ЗАЙКА. Иммиграционный режим Канады...
Во-первых, во второй трети XVIII в. после британского завоевания территорию Квебека покинули многие представители буржуазии и «новой» интеллигенции. А после свершения Французской революции в 1789 г. в Квебек, населенный выходцами из Франции, приехали многие консервативно настроенные католические священники из Франции. Они оказали огромное влияние на содержание образования, основывая приходские школы и классические коллежи. Во-вторых, во время Американской войны за независимость большинство прореволюционного духовенства (конгрегационалисты, сторонники независимости местных церковных приходов от церковной иерархии, пуритане) переехало на территорию Новой Англии, тогда как около 50 000 лоялистов (сторонников сохранения суверенитета английской короны в североамериканских колониях), в том числе и англиканские священники, перебрались в Канаду. На протяжении XIX в. и в начале XX в. США оставались образцовым либеральным государством в стиле Дж. Локка. Американцы отвергали монархические принципы, представления об исключительно социальном происхождении элит, аристократию, общинные принципы социального обустройства. Канада на фоне США заметно отличается меньшей индивидуализацией идентичностей и большим уровнем бюрократического контроля. Однако в канадском обществе, в отличие от британского, все-таки не воспроизводился сословный социальный слой, характерный для западноевропейских обществ и восходящий к феодализму.
Третьим фактором, обусловившим специфику канадской политической культуры, стал тот факт, что вплоть до 1960-х гг. существовала политическая взаимосвязь между Канадой и бывшей метрополией - Великобританией. Осо¬
283
ПРИЛОЖЕНИЯ
бенно явно это прослеживалось в такие значимые моменты, как объявление войны. Когда британский парламент голосовал за начало военных действий в Англо-бурской войне, Первой и Второй мировых войнах, Канада всегда поддерживала свою метрополию. До 1982 г. Конституцией Канадской конфедерации являлся британский Закон об управлении североамериканскими территориями (British North America Act), объявленный королевой Викторией в 1867 г., а до 1947 г. у жителей канадских территорий не было даже отдельного гражданства - все являлись поданными Королевы1.
В отличие от США, Канада начинала проект своего национального строительства не на ассимиляционистской, а на бикультурной основе (создание Канадской конфедерации в 1867 г.). Во-первых, присутствие в канадском публичном пространстве двух этнокультурных общин, претендующих на статус «государствообразующих наций», изначально обусловило специфику политической культуры в этой стране и установку на культурный плюрализм. Во- вторых, отсутствие опыта рабства и соответственно «черно-белого» расизма, а также более терпимое отношение к индейскому населению определили то обстоятельство, что политика национальной интеграции в Канаде развивалась эволюционно как расширение принципа толерантности. В отличие от США, для которых характерно господство англосаксонских норм в публичном пространстве, в Канаде формирование национальной идентичности происходило в условиях исторического дуализма публичной культуры.
1 Upset S. The Canadian Identity, International Journal of Canadian Studies. 2006. № 33-34. P. 87.
284
Ксения ЗАЙКА. Иммиграционный режим Канады...
В силу этого обстоятельства в Канаде культурализация политического поля (основные политические проблемы в обществе связаны с требованиями культурного признания) происходит гораздо интенсивнее по сравнению с США. Если в США реализация культурно-дифференцированных прав осуществляется в рамках политики «утвердительного действия», то в Канаде с принятием Хартии прав и свобод в 1982 г. произошла институционализация культурных прав иммигрантов и признание вклада всех этнокультурных групп в развитие общей канадской культуры. Принцип мультикультурализма стал принципом формирования и выражения национальной идентичности в Канаде.
Возникновение и развитие мультикультурализма в Канаде стало возможным также благодаря специфике политической истории КанадЫу которая заключается в следующих положениях. Во-первых, Канада как современное общество возникла из поселений европейских колонистов. Уже особенности колонизации территории Канады - сначала французами, а потом британцами - определили историческую специфику и заложили дуализм в политической культуре страны. Изначальный дуализм канадской политической культуры означает, с одной стороны, вынужденное сосуществование двух этнокультурных общин, каждая из которых считала себя «государствообразующей нацией». С другой стороны, происходила постоянная борьба франко-канадцев за культурно-политическое признание вплоть до Мирной революции в Квебеке в 60-е гг. XX в.
Во-вторых, Канада является иммиграционным государством. Страна произошла из поселений европейских колонистов. На протяжении всей истории канадские элиты всегда обозначали иммиграцию как ведущий фактор социально-экономического, а сейчас и культурного, развития
285
ПРИЛОЖЕНИЯ
страны. Вопрос об индейском населении выносится автором за скобки, так как до 60-х гг. XX в. индейцы не считались «государствообразующей нацией». Они были исключены из процессов формирования современного канадского общества.
Третья специфическая черта политической истории и культуры Канады заключается в том, что политическое подчинение Британии, которая на протяжении нескольких веков господствовала на международно-политической арене, привело и к культурному подчинению в самом начале истории Канады. Политическая история Канады как иммиграционного государства, в котором навязывались англосаксонские нормы как для исторических меньшинств, так и для иммигрантов, является поэтапным развертыванием политики культурного признания. Но признание одновременно является признанием культурной отличительности от некой нормы, в данном случае - от англо-канадских норм. Признание означает признание «других». И в условиях иммиграционного характера канадского государства такими другими становились не только исторические меньшинства (франко-канадцы, индейцы), но и этнокультурные сообщества иммигрантского происхождения, культурные установки которых не соответствовали англо-канадским образцам в плане языка, религии, общественных институтов. Иначе говоря, на раннем этапе истории Канады политика национального строительства основывалась на ассимиляторских подходах. Она была направлена на управление и контроль над различными этническими сообществами, культурные установки которых не соответствовали англо-канадской социально-политической и экономической модели и англо-канадскому наследию в плане языка, религии и общественных институтов. Такими объ¬
286
Ксения ЗАЙКА. Иммиграционный режим Канады...
ектами управления в хронологическом порядке становились:
• франко-канадцы;
• коренные жители Канады;
• иммигранты из Северной и Южной Европы, Украины, т е. «белые европейцы» не-британского и не-французского происхождения;
• иммигранты из Индостана, Китая, Японии.
Относительно иммигрантов следует обозначить два
момента. Во-первых, в конце XIX - начале XX в. началась «внутренняя колонизация» западных провинций современной Канады. Западные провинции привлекали множество выходцев из Европы - немцев, украинцев, датчан, голландцев, финнов, норвежцев, поляков и шведов. Во-вторых, хотя иммиграционное законодательство Канады было расистским (выходцам из Азии отказывали в праве на свободное поселение в стране), иммигранты из Азии в первой половине XX в. попадали в Канаду, как правило, в качестве нелегальной рабочей силы или как временные работники для конкретных строительных проектов.
Расистский характер иммиграционной политики привел к тому, что в Канаде в XX в. сформировалась своеобразная расиализированная иерархия иммигрантов. В иммиграционной статистике 1870-х гг. было зарегистрировано только четыре национальности, согласно которым и классифицировали прибывавших иммигрантов: англичане, шотландцы, ирландцы и иностранцы1. Была выделена группа европей¬
1 Day К Multiculturalism and the History of Canadian Diversity. Toronto, ON: University of Toronto Press // Theorizations on Exclusionary Citizenship: Gender, Race, and Multiculturalism in Canada, 2000.
287
ПРИЛОЖЕНИЯ
цев «сомнительного происхождения»: ирландцы, выходцы из Средиземноморского региона и евреи1. Особую опасность для сохранения «англо-канадской идентичности» представляли иммигранты не-европейского происхождения. Особое дискриминационное отношение к иммигрантам не-европейского происхождения проявлялось, в частности, в том, что, согласно Иммиграционному закону о положении выходцев из Китая в Канаде (Chinese Immigration Act 1885), с иммигрантов китайского происхождения взимался дополнительный подушный налог. В конце XIX в. китайские мигранты привлекались в Канаде в качестве временных рабочих для строительства трансканадской железной дороги, а по завершении этого проекта (the Canadian Pacific Railway) в 1923 г. закон ограничил въезд «нежелательных иммигрантов»2.
К середине XX в. политика категоризации иммигрантов привела к созданию иерархии расиализированных субъектов, подкрепленной соответствующими законодательными положениями. Социальное конструирование «расы» являлось непосредственным источником дискриминации и неравенства. Эта ситуация развилась в силу того, что начиная с XVIII в. и фактически до середины XX в. в политическом дискурсе Канады господствовали расистские представления, согласно которым иммигранты распределялись по выделенным на основе расового признака группам. Эти группы систематизиро-
1 Schatz D. Theorizations on Exclusionary Citizenship: Gender, Race, and Multiculturalism in Canada, Paper prepared for the Annual Meeting of the Canadian Political Science, Association, Workshop № 6: Political Theory: Canada’s Racial Contract, University of Saskatchewan, Saskatoon, SK. June 1, 2007.
2 Op. cit.
288
Ксения ЗАЙКА. Иммиграционный режим Канады...
вались в иерархическом порядке в зависимости от того, насколько они отличались от англо-канадской (англосаксонской) культурной нормы. Отдельные группы иммигрантов выделялись в качестве «проблематичных» или «нежелательных». Интеграционная политика формировалась на основании ассимиляционистских подходов. Проблема заключалась в том, что все большее количество иммигрантов не соответствовало англо-саксонским культурным характеристикам.
Исследуя канадскую политическую культуру, следует учитывать, что в этой стране практически до 1970-х гг. господство англосаксонских норм в публичном пространстве было безусловным1. До 1982 г. конституционный порядок в Канаде определялся Британским Актом по Североамериканским территориям, провозглашенным еще королевой Викторией в 1867 г. До 1947 г. не существовало отдельного канадского гражданства: все жители Канады являлись поданными английской королевы. Тайный совет Великобритании до 1949 г. являлся Высшим апелляционным судом, в который могли обращаться жители Канады. Адвокаты были вынуждены обосновывать конституции- онные судебные прецеденты, происходившие в Канаде, в Лондоне. До 1975 г. британские граждане, проживающие в Канаде, могли участвовать во всеобщих выборах, даже не подавая заявлений на получение канадского гражданства, а до принятия в 1978 г. Закона об иммиграции они могли свободно въезжать на территорию Канады. Кленовый лист стал национальной символикой только в 1965 г., и только в 1967 г. был одобрен национальный гимн Канады «О Сапа-
1 Upset S. The Canadian Identity // International Journal of Canadian Studies. 2006. 33-34. P. 87.
10 Зак. 1988
289
ПРИЛОЖЕНИЯ
с!а» вместо английского гимна «Боже, храни королеву». Канада является молодым национальным государством, только строящим свое единство и национальную идентичность. Только в 1960-1970-е гг., в период, когда мировые политические процессы характеризовались беспрецедентной демократизацией, политические элиты Канады отказались от идеи навязывания англосаксонских норм для иммигрантов и провели конституционные реформы. В результате проведенных реформ были признаны права меньшинств различного этнокультурного происхождения и сформировалась современная политическая культура Канады, отличительной чертой которой является установка на культурный плюрализм.
Политическая культура Канады характеризуется историческим дуализмом. Франко-канадцы изначально были первыми европейскими поселенцами на территории Канады, но впоследствии их самих колонизовали. Они стали «внутренними другими» и даже превратились в объекты ассимиляторской политики, пока не добились признания со стороны англо-канадцев Акта о создании Квебека в 1774 г.1 Это событие обусловило дуализм канадского публичного пространства и политической культуры. В Квебеке были восстановлены привилегии галликанской церкви, утвержден гражданский кодекс Наполеона и феодальная система землевладения. Некоторые авторы полагают, что Акт о создании Квебека стал первой попыткой на основе концеп¬
1 Schatz D. Theorizations on Exclusionary Citizenship: Gender, Race, and Multiculturalism in Canada, Paper prepared for the Annual Meeting of the Canadian Political Science, Association, Workshop № 6 - Political Theory: Canada’s Racial Contract, University of Saskatchewan, Saskatoon, SK. June 1, 2007.
290
Ксения ЗАЙКА. Иммиграционный режим Канады...
ции культурного плюрализма интегрировать ту часть населения Канады, которую невозможно было ассимилировать, и создало прецедент, приведший впоследствии к формированию современной политики мультикультурализма1. В массовом сознании франко-канадцев начало формироваться представление о двух «государствообразующих нациях» (two founding races). Акт о создании Квебека можно считать первым шагом в политике культурного признания. Но до 1960-х гг. практика культурного плюрализма в Канаде носила исключительно сегрегационистский характер. Англо-канадская и франко-канадская культура развивались отдельно друг от друга, они не считались версиями единой канадской культуры, как это принято считать сейчас. Проект бикультурализма, предложенный канадскими элитами в начале 1960-х гг. и который в кратчайшие сроки был преобразован в мультикультурализм, задумывался именно как средство разрешения культурной и политической напряженности между англо-канадцами и франко-канадцами, возникшей еще в XVIII в. и откликнувшейся появлением националистического движения в Квебеке в первые десятилетия после окончания Второй мировой войны. Националистическое движение в Квебеке стало одной из основных причин, поспособствовавших переходу к политике культурного признания в общенациональных масштабах в Канаде.
В 1963 г. премьер-министр Лестер Пирсон принял идею «двух наций» как политическое руководство на федеральном
1 Day R. Multiculturalism and the History of Canadian Diversity. Toronto, ON: University of Toronto Press//in Theorizations on Exclusionary Citizenship: Gender, Race, and Multiculturalism in Canada, 2000.
291
ПРИЛОЖЕНИЯ
уровне и учредил Королевскую комиссию для выработки не формальной, а действенной политики билингвизма в стране. Речь шла о признании бикультурного характера канадского общества. В 1969 г. Закон о государственных языках в Канаде подтвердил лингвистический дуализм в федеральных органах власти и агентствах, а также расширил его на коммерческую сферу. В 1976 г. французский язык стал единственным государственным языком в Квебеке.
Национализм и опасность отделения Квебека вынудили федеральное правительство «изобрести» идею би- кулыпурализма и сформировать Королевскую комиссию по двуязычию и бикультурализму и усовершенствовать интеграционную политику. Впоследствии эволюция бикульту- рализма привела к формированию современного варианта канадского мультикультурализма. Комиссия стала общенациональной платформой для ведения публичных дебатов о создании единых политических принципов для сохранения политической целостности общества, отличающегося, с одной стороны, историческим дуализмом, с другой стороны, культурный ландшафт которого постоянно изменяется в результате иммиграционных притоков.
Концепция бикультурализма сводилась к тому положению, что в самой своей основе (имеется ввиду формирование Канады как современного общества в эпоху активной колонизации) общество является бикультурным, т. е. признаются две господствующие культуры - британская и французская. Культурные вклады, сделанные представителями других этнических сообществ, не должны игнорироваться, так как канадское общество является полиэтничным, несмотря на официальное признание только двух языковых сообществ. В докладе Комиссии понятие «культура» определялось исключительно в смысле общего исто¬
292
Ксения ЗАЙКА. Иммиграционный режим Канады...
рического опыта и общности языка. Кроме того, целью работы Комиссии стала разработка политической программы, содействующей интеграции постоянно прибывающих иммигрантов из неевропейских стран в бикультурное принимающее общество. Иммиграция рассматривалась в качестве средства обогащения «обеих или одной из господствующих культур». «Однако, как только иммигранты интегрируются в канадское общество, они должны иметь все права и возможности для сохранения собственных культурных традиций»1. Целью государственной политики в конечном счете является интеграция иммигрантов, и только непрерывный процесс интеграции может сформировать общество, отличительной характеристикой которого является культурный плюрализм. Бикультурализм означал признание культурных прав франко-канадского меньшинства в рамках единого политического пространства. Специальными культурными правами могли обладать только представители двух учреждающих наций, которые стояли у истоков формирования современной канадской политической культуры - и только в сфере языковой политики, так как именно язык стал основополагающим параметром для определения канадской бюрократией понятия «культурное сообщество».
Столь же значительное влияние на массовое сознание канадцев, как и рекомендации, предоставленные Королевской комиссией по двуязычию и билингвизму, оказала книга канадского социолога Джона Портера Vertical Mosaic, опубликованная в 1965 г. Идея «мозаики», а не «плавильного котла», для описания канадской культуры стала попу¬
1 Report of the Royal Commission on Bilingualism and Bicultu- ralism. Ottawa: Queen's Printer, 1967. Six Volumes. P. 12.
293
ПРИЛОЖЕНИЯ
лярным дискурсивным тропом. Автор книги изучил этническое происхождение элит канадского общества и пришел к заключению, что абсолютная монополия на экономические и политические ресурсы принадлежит элитам британского происхождения, соответствующую власть приобретают франко-канадцы в Квебеке. Дж. Портер определил, что превалирующие представления о канадской культуре как о «мозаике» усложняют формулировку и выражение национальной идентичности.
Официальное признание бикультурного характера канадского общества как такового, как политического сообщества, является самым важным моментом в политической истории Канады. Франко-канадцы, проживающие не только в Квебеке, но и в других провинциях, получили признание как лингвистическое сообщество и более высокий символический статус в сравнении с потомками иммигрантов из других стран. Это событие стало отправной точкой для последующего формирования канадского мультикулыурализма: это создало прецедент; обозначило начало радикальной трансформации политической культуры и публичного пространства в Канаде, а именно - смещение установок федеральной политической элиты на политику культурного признания.
Королевская комиссия по двуязычию и бикультурализ- му изначально предложила чрезвычайно асимметричную концепцию культурного плюрализма, признав только франко-канадцев и англо-канадцев в качестве «основателей современной канадской культуры» (напомним, что в Канаде основным маркером культурной идентичности считается язык), исключив из списка «государствообразующих наций» не только иммигрантов неевропейского происхождения, но также и коренное население. Как отмечалось выше, ряд этнокультурных меньшинств, как исторических, так и
294
Ксения ЗАЙКА. Иммиграционный режим Канады...
иммигрантских, на протяжении XVIII - середины XX в., т. е. по мере устойчивого обоснования в Канаде, становились «внутренними другими», так как их стиль жизни отличался от господствующих англо-канадских стандартов. В 1960-е гг. сразу же после официального признания бикультурного характера канадского общества практически в таком же порядке началась борьба меньшинств за признание. Наделение франко-канадцев широкой культурной автономией в 1960-е гг. в условиях, когда их «ареал расселения» охватывал не только Квебек, но также центральные и западные провинции (в частности, многочисленные общины франко-канадцев проживают в Манитобе), вызвало протесты иммигрантов иного этнического происхождения в западных провинциях страны. Протесты в рамках борьбы за культурное признание вынудили правительство признать мультикуль- турный характер канадского общества. Практически одновременно выступили индейцы и потомки иммигрантов из континентальной Европы. Индейское население получило право на самоуправление, но практика вытеснения и сегрегации очень негативно сказалась на возможностях интеграции этой группы населения в канадское общество - и до сих пор сохраняется добровольная сегрегация индейцев в Канаде.
Канадцы европейского происхождения потребовали от федерального правительства объяснить, почему языку и культуре франко-канадцев приписано более высокое «символическое значение», несмотря на тот факт, что иные культурные сообщества превосходят по своей численности франко-канадскую общину в западных провинциях (Манитобе, Альберте, Саскачеване)1. Наиболее активно эта идея
1 Forging Our Legacy: Canadian Citizenship and Immigration, 1900-1977. Chapter 6, Trail-Blazing Initiatives.
295
ПРИЛОЖЕНИЯ
была артикулирована потомками иммигрантов из Украины, которые подчеркнули собственную интегрированность в политическую, экономическую и культурную жизнь Канады, несмотря на то обстоятельство, что им удалось сохранить самобытные украинские традиции1. В 1964 г. Поль Юзик, критикуя деятельность Королевской комиссии, обратил внимание на интересы «третьей категории канадских иммигрантов», состоящей из иммигрантов не-француз- ского происхождения и не являющихся представителями коренного населения. П. Юзик утверждал, что Канада является мультикультурным, а не бикультурным обществом. Соответственно этнокультурное многообразие Канады должно найти адекватное выражение на уровне федерального и местного правительств: «Современная Канада является сообществом сообществ (меньшинств), и этот факт невозможно игнорировать»2. Канадские украинцы выдвинули специфические требования, заключающиеся в следующих положениях:
• признание за собой статуса исторического меньшинства;
• придание украинскому языку статуса регионального в тех провинциях, в структуре населения которых они составляют не менее 10% от общего числа;
• признание значимости культурного вклада украинцев в развитие общей канадской культуры.
Таким образом, в 1960-1970-е гг. возникли представления о т. н. «третьей силе» в канадском обществе. Члены Королевской комиссии, назначенной федеральным прави¬
1 Roy P. The Fifth Force: Multiculturalism and the English Canadian Identity// ANNALS, AAPSS, 538, March, 1995.
2 Yuzyk P. Speech on multiculturalism. Senate of Canada Debates, 1964. P. 50-58 // Schatz D.
296
Ксения ЗАЙКА. Иммиграционный режим Канады...
тельством для урегулирования «культурных взаимоотношений» между англо-канадцами и франко-канадцами, оказались под давлением представителей различных этнических групп, которые не были удовлетворены своим культурным статусом. Развернувшиеся политические дебаты заложили основы для последующей трансформации би- культурализма в идеологию и практику мультикультура- лизма в Канаде.
Правительство П. Трюдо отреагировало на политические претензии «третьей силы», одобрив рекомендации, выработанные Королевской комиссией, согласно которым официально признавался культурный вклад всех этнических групп, представленных в Канаде, в национальную культуру. Королевская комиссия признала значимость идеи «культурного плюрализма» для формирования национальной канадской идентичности. Был найден новый способ классификации и дифференциации населения, основанный на принципе существования двух «государствообразующих наций» и на определении этнического происхождения иммигрантов. «Этничность» (в политическом лексиконе канадской бюрократии иногда смешиваемая с национальным происхождением иммигрантов) стала определяющей категорией для различения групп населения, позволяющая избежать дифференциации по «расовому признаку». Термин «видимое меньшинство» («visible minority», один из популярных тропов в мультикультуралистской риторике в Северной Америке) стал применяться для классификации иммигрантов неевропейского происхождения, автохтонного населения и потомков рабов, вывезенных из Африки. Со временем «этничность» стала связываться с возможностью индивидуального культурного выбора (иначе говоря, за индивидуумом стали признавать право «этническо¬
297
ПРИЛОЖЕНИЯ
го самоопределения»). Сформировались представления о «символической этничности», а ведь в свое время даже выходцы из Украины в Канаде подпадали под категорию «черные»1. Как заявила Мирна Коташ в Globe and Mail: «В 1908 г. украинцы в Канаде не были “белыми”. Они стали “белыми” через два поколения. Как такое могло произойти? Мои родители, рожденные в Канаде, получили статус “поданных Британии” - основной фактор принадлежности к “белой расе”. В 1950-1960 гг. украинские канадцы стали частью “канадской мозаики”, “цветной крупицей”, украсившей тандем “основных наций”»2. В 1970— 1980-е гг. в канадском обществе закрепились представления о том, что этническая принадлежность есть результат «культурного выбора» индивида.
Официально политика мультикультурализма была провозглашена в Канаде в 1971 г. - и с тех пор «за каждой этнической группой признается право на сохранение и развитие культурной идентичности в канадском социальном контексте». Культурный плюрализм стал национальной идентичностью канадцев. Мало того что прежде обособленно развивающиеся культуры, англоязычная и франкоязычная, стали интерпретироваться в качестве двух вариаций общей канадской культуры. К ним еще присоединился целый каскад иммигрантских культур. В Канаде произошло не просто признание полиэтничного характера общества - подчеркивается именно мультикультурный характер.
1 Gunew S. Longley K. (eds.) Striking Chords: Multicultural Literary Interpretations, Allen & Unwin: Sydney, 1992 // Gunew, S. Postcolonialism and Multiculturalism.
2 Kostash M. You check your colour at the door'// Globe & Mail. 1994. May 9. P. A19.
298
Ксения ЗАЙКА. Иммиграционный режим Канады...
Политическим принципом становится признание социальной ценности культурных практик всех этнокультурных меньшинств в официально двуязычной среде. В то же самое время в политическом отношении все канадцы должны выражать лояльность английской королеве. В 1960-1970-е гг. произошел не просто дискурсивный переворот - началось формирование национальной канадской идентичности.
Заявленное право этнических групп на сохранение культурной идентичности заключает в себе определенную политическую опасность. Эта формулировка выдержана в коммунитаристской риторике и подчеркивает такое понятие, как «культурный инвариант». Коммунитаристские политические принципы дают «брокерам от культуры» развивать свою пропаганду на уровне общин. Мультикульту- рализм, понимаемый в такой перспективе, может привести к культурной сегрегации, т. е. к ситуации культурного параллелизма. Канадская бюрократия, особенно премьер- министр П. Трюдо, поняли опасность, заложенную в таком определении мультикультурализма. В 1970-е гг. П. Трюдо активно продвигал идею Конституции Канады. Согласование интересов в многосоставном канадском обществе оказалось невероятно сложным проектом.
Ключевым событием в формировании современной политической культуры в Канаде стало приятие Хартии прав и свобод, а также Конституции в 1982 г. Это событие ознаменовало такой же резкий переворот в политической культуре Канады, как и признание бикультурного, а потом и мульти- культурного характера общества. Во-первых, утвердилось господство либерального принципа интеграции в условиях постоянно возрастающего этнокультурного многообразия. Во-вторых, в Канаде началось формирование партиципаторной политической культуры - культуры участия.
299
ПРИЛОЖЕНИЯ
Либеральный принцип социального включения в условиях культурного плюрализма в конечном итоге подразумевает радикальное переосмысление и реконструкцию публичной сферы - именно в данном контексте следует рассматривать предпринятые канадским правительством законодательные меры, способствующие «наделению» иммигрантских и этнокультурных сообществ символическими ресурсами в Хартии прав и свобод, принятой в 1982 г. Согласно современным либеральным принципам, требования расширения культурных прав могут быть обоснованы при соблюдении следующих требований. Во-первых, если они предоставят больше возможностей для публичного выражения интересов. Во-вторых, если они будут способствовать осознанию собственной ценности как гражданина. Общеизвестно, что правовая культура и система права как таковая зависит от социального контекста и отражает культурную композицию общества. Изменения этнокультурного состава населения с течением времени проявляются в изменении системы правоприменения в силу того, что измененный этнический состав населения изменяет саморефлексивное поведение групп. Изменение этнокультурного состава общества, в частности в результате иммиграции, изменяет представления социальных групп о должном для них статусе. Кроме того, с изменением этнокультурного состава в обществе могут изменяться представления о социальной справедливости. Все новые культурные категории используются различными группами населения для формулирования политических требований.
Принятие политики мультикультурализма в Канаде в 1971 г. и рост иммиграционных потоков в 1960-1970-е гг. создали предпосылки для формирования партиципаторной политической культуры в стране. Во-первых, принятие Хартии прав и свобод в 1982 г., ставшей частью Кон¬
300
Ксения ЗАЙКА. Иммиграционный режим Канады...
ституционного акта (1982 г.), видоизменило политическую культуру в стране и сформировало представления об индивидуальной конституционной (гражданской) этике1. Во- вторых, с принятием Конституционного акта в 1982 г. гражданское общество превратилось в основной источник формирования коллективных идентичностей в Канаде, так как конституционные положения ослабили иерархический государственный порядок (иерархический конституционный порядок означает, что изменения в политической и правовой культуре инициируются правительственными структурами). В-третьих, сместились границы между публичной и приватной автономией граждан. Принятие Хартии прав и свобод расширило публичную автономию целого ряда социальных групп, чей статус в прошлом был маргинализирован.
Процесс формирования партиципаторной политической культуры и расширение публичной автономии граждан в хронологическом отношении совпали с важными социальными трансформациями, связанными с демократизацией общества и увеличением иммиграционных потоков в страну. Превращение гражданского общества в основное поле формирования коллективных идентичностей способствовало формированию в Канаде дифференцированного публичного пространства, в котором переплелось множество конкурирующих между собой дискурсов. Можно обозначить дискурс деколонизации; дискурс иммиграции и интеграции; дискурс национализма и дебаты по поводу конститутивных элементов национальной идентичности; дискурс автохтонной части населения Канады и проблемы самоуправления для канадских индейцев; дискурс мультикультурализма.
1 Cairns A. Charter versus Federalism: The Dilemmas of Constitutional Reform. Montreaul: McGill-Quenn’s University Press, 1992.
301
ПРИЛОЖЕНИЯ
Основной проблемой для канадской политической элиты в это время стало преодоление понимания конституции как ригидного контракта, содержащего ряд жестко закрепленных положений1. По мнению С. Шамбер, конституция, понимаемая в качестве жесткого контракта, не способствует интеграции иммигрантов - выходцев из различных культурных сред. Проект канадской Конституции означает формирование представлений о Конституции как об «открытом дискурсивном пространстве» в целях создания правовых условий для саморефлексивного поведения социальных групп в политической сфере. Расширение публичной автономии привело к тому, что многие сообщества, например канадские индейцы, которые в прошлом занимали маргинальное положение в публичном пространстве Канады, получили возможность артикулировать и продвигать собственные политические интересы, несмотря на отсутствие традиций и навыков участия в публичном дискурсе.
Хартия прав и свобод оказала структурное влияние на канадскую политическую культуру, на государственную политику и политические институты. Во-первых, Хартия усилила властные полномочия судебных инстанций по сравнению с другими политическими институтами. Во- вторых, дискурсивные и инструментальные последствия принятия Хартии также отразились на характере канадского федерализма и мультикультурализма. В-третьих, Хартия стала важнейшим фактором переформатирования публичного пространства в Канаде, оказав влияние на процессы
1 Chambers S. Reasonable Democracy: Jurgen Habermas and the Politics of Discourse, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1996 // Fossum J. Deep Doversity versus Constitutional Patriotism. Ethnicities. 2001. Vol. 1 (2).
302
Ксения ЗАЙКА. Иммиграционный режим Канады...
политической мобилизации и ведения публичных дебатов. Принятие Хартии способствовало тому, что организации гражданского общества стали активнее участвовать в политической жизни страны, легитимируя свои требования ссылками на соответствующие положения Хартии1. В-четвертых, принятие Хартии активизировало политический дискурс, а политические требования стали артикулироваться в юридических категориях. Политические стратегии, заложенные в Хартии, привели к тому, что добиваться правовых гарантий стало эффективнее посредством инициирования дел в судебных инстанциях2.
Таким образом, реализация Хартии прав и свобод засвидетельствовала, что в Канаде произошли радикальные изменения в политической культуре. В результате все большее число меньшинств, ранее вытесненных из публичного пространства, добилось признания легитимности своих политических претензий в рамках расширенного представления о гражданских правах (культурные права стали частью гражданских прав). В публичное пространство страны влилось множество новых политических акторов. Речь идет о новых социальных движениях и политических акторах, появившихся в 1960-е гг. Это феминистские группы, сексуальные меньшинства, квебекские националисты, поборники автономии для канадских индейцев, а также новые этнокультурные сообщества иммигрантского
1 Smith M. The Impact of the Charter: Untangling the Effects of Institutional Change // Democracy, Rule of Law and Human Rights, International Journal of Canadian Studies, 2007. № 36. P. 17.
2 Mandel M. The Charter of Rights and the Legalization of Politics in Canada, Scarborough: Thomson Educational, 1987 // Miriam Smith. P. 33.
303
ПРИЛОЖЕНИЯ
происхождения. Возникающие социальные движения получили возможность требовать расширения своего присутствия в публичном пространстве Канады, ссылаясь на положения данного документа. Хартия способствовала формированию партиципаторной политической культуры в стране, несколько уравновесив низовое политическое влияние с политическим влиянием элит.
Вместе с тем, Канадская хартия прав и свобод заключает в себе ряд противоречий. С одной стороны, признается значимость как индивидуальных, так и групповых интересов. В частности, в разделе № 7 защищается право каждого индивидуума на свободный выбор культурных приоритетов. С другой стороны, в разделе № 27 подтверждается, что специфика культурной идентичности на индивидуальном уровне обусловлена этническими, лингвистическими и другими культурными факторами1. С одной стороны, положения Хартии направлены на обеспечение всех граждан страны равными правами и возможностями. С другой стороны, в Хартии четко обозначается значимость мульти- культурного характера канадского общества. Таким образом, Хартия постулирует две различные цели: гарантирование одинакового набора прав для всех граждан страны и обеспечение конституционного признания культурного вклада всех этнических сообществ, проживающих на территории Канады2.
1 Rolla G. The Two Souls of the Canadian Charter of Rights and Freedom. P. 330-331.
2 Политическая борьба, развернувшаяся по поводу выработки положений Хартии, проанализирована в следующих работах: Russell Р. Constitutional Odyssey. Toronto, 1992; Tarnopolsky W., Beaudoin A. The Canadian Charter of Rights and Freedoms, Toron-
304
Ксения ЗАЙКА. Иммиграционный режим Канады...
В разделах № 2 и № 12 перечисляются такие права личности как свобода совести, свобода самовыражения, право на личную неприкосновенность и надлежащие правовые процедуры. Кроме того, в разделе № 15 постулируется принцип недискриминационного отношения в соответствии с законом. Во втором параграфе раздела № 15 признается законность утвердительного действия для устранения структурной дискриминации в отношении этнических, религиозных, сексуальных меньшинств, а также в отношении социально-демографических групп, выделяемых на основании таких факторов, как возраст, физическая или ментально-психическая нетрудоспособность.
Однако ряд других разделов Хартии содержат положения, уравновешивающие соотношение между индивидуальными и групповыми правами. В основе идей о легитимности групповых прав лежит идея о том, что представители одного и того же культурного меньшинства могут разделять общую идентичность. В разделе № 27 утверждается, что «интерпретации положений Хартии должны способствовать сохранению и обогащению мультикультурного наследия Канады»1. В отчете Канадской комиссии по правам
to, 1982; Сложный процесс формирования канадского конституционного порядка изучен следующими авторами: Cairns A., Constitutional Struggle from the Charter to Meech Lake. Toronto, 1991; Monahan P. The Inside History. Toronto, 1991; Russell P. Constitutional Odyssey. Toronto, 1992; McRoberts K., Monahan P. The Charlottetown Accord, the Referendum and the Future of Canada. Toronto, 1993.
1 Противоречивость положений Канадской хартии прав и свобод исследовали следующие авторы: Beckton С. Section 27 and Section 15 of the Charter // Multiculturalism and the Charter. Toronto, 1987; Bottos D. Multiculturalism: Section 27’s Application in Charter // Alberta Journal, 1977; Gibson D. Section 27 of the Char-
305
ПРИЛОЖЕНИЯ
человека в 1989 г. заявляется, что признание вклада всех этнических меньшинств, представленных в Канаде, в развитие канадской культуры означает, что требования культурных прав со стороны меньшинств следует рассматривать в качестве выражения конституционного принципа равенства. Конституционный принцип равенства интерпретируется в перспективе, отражающей мультикультурный характер канадского общества1.
С принятием Хартии произошла конституционализация культурных прав, а именно - сформировались правовые возможности для требования культурных прав. Вопрос заключается уже только в легитимности объема прав, а не в самой возможности их истребования. Напомним, Хартия содержит ряд противоречий. С одной стороны, все граждане обеспечиваются равными правами и возможностями. С другой стороны, четко обозначается значимость мульти- культурного характера общества: требования культурных прав со стороны меньшинств рассматриваются в качестве выражения конституционного принципа равенства. Иначе говоря, все равны в своих возможностях выдвигать культурные требования. Хартия постулирует две цели. Во-первых, гарантируется одинаковый набор прав для всех и обеспечивается конституционное признание вклада всех этнокультурных сообществ. Во-вторых, заявляется примат индивидуальных прав над групповыми. Положения Хартии однозначно выдержаны в либерально-гражданской право¬
ter: More than a Rhetorical Flourish // Alberta Law Review, 1990; Tran N. The Canadian Charter of Rights and Freedoms: Justification, Methods and Limits of a Multicultural Interpretation. Columbia Human Rights Law Review, 1996.
1 Rolla G. The Two Souls of the Canadian Charter of Rights and Freedom. P. 332.
306
Ксения ЗАЙКА. Иммиграционный режим Канады...
вой логике. Культурные права не закрепляются, за исключением языковой автономии франко-канадцев, но создаются возможности для меньшинств для требования и расширения культурных прав. Иначе говоря, культурные права не приписываются - они обретаются этнокультурными меньшинствами в результате процедурных мероприятий. С принятием Хартии политическая культура в Канаде приняла более легалистский характер, что повлекло за собой повышение значимости правовых процедур для решения споров, связанных с практикой мультикультурализма. Таким образом, в Канаде предпринята попытка реализовать мультикультурализм в либерально-процедурной перспективе, а не в коммунитаристской сегрегационной.
То обстоятельство, что положения Хартии, с одной стороны, выдержаны в либерально-гражданской правовой логике, а с другой стороны, создают условия для публичного выражения групповых прав, закладывает источник конфликтов в обществе. Противоречивыми интерпретациями положений Хартии всегда могут воспользоваться «брокеры от этничности» - лидеры этнокультурных меньшинств, практикующие так называемый «реакционный мультикультурализм», стремящиеся укрепить собственную власть внутри общины. В то же время Хартия прав и свобод стала основным инструментом национальной интеграции в силу того, что общепризнанные права человека являются основной идеологической составляющей этого документа, несмотря на то что население Канады является крайне разнородным в языковом и культурном аспектах.
Канадский мультикультурализм, основным механизмом реализации которого стала Хартия, - это попытка соединить либерально-универсалистские принципы с принципами культурного плюрализма. С одной стороны, за меньшинствами признается право воспроизводить культурные нормы страны
307
ПРИЛОЖЕНИЯ
происхождения (или некие гибридные нормы, которые могут сформироваться в условиях проживания в иммиграционной стране, что, как правило, и происходит в настоящее время). С другой стороны, концепция индивидуальных прав однозначно занимает господствующее положение в правовой культуре Канады. Именно этот парадокс в интерпретации Хартии и становится в настоящее время причиной политических напряженностей в канадском обществе.
Мультикультурализм стал политикой интеграции в стране, для которой сохранение целостности общества возможно только благодаря проведению политики культурного признания. В Канаде не сформировалось единого национального мифа, типичного для западноевропейских государств. В Канаде нет представлений о «культурном ядре» нации. Их как минимум два, поэтому политическая культура в этой стране развивалась как эволюция принципа толерантности. Отличительной чертой канадского мульти- культурализма является его интерпретативный характер. Это означает, что эта политика не является статичной, не предполагает единого и заданного подхода, но заключает в себе возможности непрерывного публичного обсуждения и признания вклада многих этнокультурных групп в общую культуру. В 1980-е гг. в Канаде возобладал де- мократически-инклюзивный принцип функционирования публичной сферы в условиях крайне разнородного в культурном отношении общества. Иначе говоря, мультикультурализм в Канаде означает постоянную трансформацию принципов признания и включения в публичное пространство. В свою очередь, изменение принципов признания связано с формированием новых меньшинств в условиях возрастающего этнокультурного многообразия, что так типично для иммиграционной страны.
308
Денис ЛЕТНЯКОВ, Александра ЯКОВЛЕВА
ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМ ГРАЖДАНСТВА И ИДЕНТИЧНОСТИ КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС1
Центр изучения проблем гражданства и идентичности (ЦИПГИ) оформился на базе Института философии РАН как коллектив научных сотрудников, объединенных общими идеями, еще в 2009 г., под руководством д-ра полит, наук, ведущего научного сотрудника Института философии Владимира Малахова. С 2010 г. начал функционировать сайт ЦИПГИ www.ccisru.org, основной целью которого стало распространение знаний о поликультурном мире и трансформациях социально-культурного пространства различных стран, происходящих в результате иммиграции.
Сайт стал своего рода библиотекой документов, статей, аналитических материалов по таким темам, как культурный плюрализм, национальное государство в условиях «постнационализма», космополитическое сознание, множественные идентичности. Особое внимание исследователи центра уделяют изучению вклада иммиграции в изменение социально-культурного пространства России.
На сайте создана электронная база российских и международно-правовых документов по трем верхним уровням
1 Материал подготовлен в рамках реализации проекта информационных систем РГНФ 11-03-12010.
309
ПРИЛОЖЕНИЯ
классификации: российские правовые акты, международные нормативные правовые документы, правоприменительная практика, связанная с миграцией. В первых двух разделах содержатся такие документы, как Федеральный закон «О гражданстве» РФ, Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств, Резолюция ООН 60/167 «Права человека и культурное разнообразие», Доклад ООН о международной миграции, Международные пакты об экономических, социальных и культурных правах и о гражданских и политических правах, Конвенция о злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении работникам-мигрантам равенства возможностей и обращения и др. В третьем разделе в основном собраны не нормативные документы, а комментарии, разъяснения, судебная практика, конкретные ситуации. Например, на сайте есть книга «Правоприменительная практика в области регулирования внешней трудовой миграции» (материалы Бюро Международной организации по миграции), в которой сделан очень подробный разбор конкретных правовых ситуаций.
С 2011 г. на сайте регулярно обновляется рубрика «Экспертная оценка». Ее составляют актуальные аналитические материалы, авторами которых выступают ведущие специалисты различных научных и аналитических организаций. Среди авторов материалов, размещенных в этой рубрике, - Жанна Зайончковская (Центр миграционных исследований), Ольга Вендина (Институт географии РАН), Ирина Гаврилова (Институт социологии РАН), Светлана Творогова (НИУ ВШЭ) и др., а также аналитики ЦИПГИ. Часть материалов раздела посвящена мифам, существующим в сознании наших сограждан по вопросу миграции и мигрантов. В их числе материал координатора организации «Интернациональной России» по вопросам миграции и национальных диаспор Юрия Московского1, статьи, по¬
1 См.: http://www.ccisru.org/news_full/analiticheskie_materiali ^сепЦа/ппАоп^гаШаЬ/
310
Денис ЛЕТНЯКОВ, Александра ЯКОВЛЕВА. Центр изучения...
священные современным подходам к исследованиям расизма1, миграции как демографическому ресурсу2 и т.п.
Одной из важнейших тем, освещаемых на сайте, является практика российских НКО в области работы с мигрантами. Пример - Центр адаптации и обучения детей беженцев и вынужденных переселенцев, работники которого одновременно с обучением детей мигрантов по адаптированным программам занимаются их социализацией в новых для них условиях3.
В фокусе внимания ЦИПГИ также находятся новые исследования, которые ведутся иностранными коллегами. Пример такого рода публикаций - статья профессора Сони Мишель - программного директора Международного исследовательского центра Вудро Вильсона (Вашингтон), посвященная «глобальной утечке заботы» («global care drain»). Этот термин означает миграцию женщин из развивающихся стран в развитые. Эти женщины, зарабатывая деньги в сфере ухода за детьми, престарелыми и больными в странах Запада, вынужденным образом перестают заботиться о своих собственных семьях (хотя, с их точки зрения, они как раз выполняют свои обязанности, но другим способом, материально обеспечивая лучшее будущее своей семье)4.
С сентября 2010 г. ЦИПГИ регулярно публикует мониторинг новостей, соответствующих его тематике. В частности, освещаются события, связанные с трансформацией гражданско-политической сферы в ходе процессов глобализации, с коллизией идентичностей, противостоянием се-
1 См.: http://www.ccisru.org/news_full/ssilki/69/
2 См.: http://www.ccisru.org/news_full/ssilki/moskvich_ponyatie _neopredelennoe_pochti_rezinovoe/
3 См.: http://www.ccisru.org/news_full/analiticheskie_materiali_ tcentra/obuchenie_detej_migrantov_effektivnost_v_pare_s_etikoj/
4 См.: http://www.ccisru.org/news_full/ssilki/176/
311
ПРИЛОЖЕНИЯ
кулярных и фундаменталистских сил в современных обществах (в частности, на Ближнем Востоке). Специальное внимание уделяется проблемам миграции. Результаты мониторинга позволяют заключить, что на фоне других индустриально развитых государств российский случай типичен, то есть Россия является иммиграционной страной.
В ходе мониторинга нам удалось отследить, по крайней мере, три важные тенденции.
Во-первых, происходящие события демонстрируют несостоятельность концепции «войны культур» (или, в другой редакции, «столкновения цивилизаций»). Данная концепция с легкой руки американского политолога С. Хантингтона приобрела огромную популярность вскоре после окончания «холодной войны». Вероятно, одна из причин этой популярности состоит в том, что в годы противостояния двух блоков конфронтационный подход к международным проблемам стал наиболее привычным для экспертов и для общественного мнения. Этот подход теперь воспроизводится в новой форме: если раньше враждующих центров было два (капиталистическая и социалистическая система), то теперь их стало несколько (западный мир, исламский, православный, африканский, конфуцианский и т. д.). Порой политики сознательно прибегают к объяснению конфликтов в религиозной или этнической логике для мобилизации электората. Отсюда проистекают попытки истолковать террористические акты, совершаемые исламскими экстремистами в странах Запада, в качестве проявления конфликта мусульманской цивилизации с западной цивилизацией, а столкновения между воинствующими исламистами и коптами в Египте или бомбардировка натовской авиацией территории Ливии - как очередной этап войны Креста и Полумесяца.
Однако при внимательном рассмотрении видно, что такой подход искажает реальность. Зачастую за конфликтами, осмысливаемыми в цивилизационных терминах, скрыва¬
312
Денис ЛЕТНЯКОВ, Александра ЯКОВЛЕВА. Центр изучения...
ются конфликты экономических и политических интересов, в ходе которых определенные группы присваивают себе право говорить от имени определенной общности («европейцев», «христиан», «мусульман», «православных», и т. д.). Вот почему, сообщая, например, об уже упомянутой коптской проблеме в Египте, мы показывали, что данный конфликт во многом искусственно раздувается политическими радикалами, стремящимися к власти. ЦИНГИ публиковали материалы, свидетельствовавшие о солидарности мусульман с коптами, об отсутствии каких-либо фундаментальных противоречий между конфессиональными группами (достаточно вспомнить о многочисленных случаях взаимопомощи коптов и мусульман в период свержения режима X. Мубарака).
Сюда же можно отнести сюжет (январь 2011 г.) о крупной демонстрации в Тель-Авиве, которая была организована левыми израильскими партиями. Ее участники протестовали против оккупации Израилем палестинских территорий, захваченных во время Шестидневной войны и против анти- арабских законов, инициированных правыми в кнессете. Когда в израильской столице 25000 человек выходят с лозунгами «Евреи и арабы отказываются быть врагами», это несколько меняет сложившиеся стереотипы об отношениях между этими народами и показывает, что внутри самого Израиля существуют разные понимания «палестинского вопроса» и того, какой должна быть политика правительства в отношении арабов. Наконец, в этом же контексте следует рассматривать события, бездумно квалифицируемые как «бесчинства мигрантов» и «бунт цветного населения» против принимающего государства. (Пример - беспорядки в Лондоне в августе 2011 г.). Публикуемые нами материалы показывают, что в основе подобного рода событий лежат социальные, а не «расовые» или «этнические» причины.
Во-вторых, это тенденция роста демократических, эмансипаторских настроений в мире, в том числе в исламских ареалах.
313
ПРИЛОЖЕНИЯ
В западных и российских СМИ мусульманские общества часто представляются как архаичные, фундаменталистские и деспотические. Материалы ЦИПГИ демонстрируют, что, как и в случае с концепцией «столкновения цивилизаций», такой подход крайне поверхностен. Так, на Ближнем Востоке можно найти множество примеров борьбы женщин за гендерное равенство. В Саудовской Аравии действует движение женщин, выступающих за отмену запрета на самостоятельное вождение автомобиля; многие арабские женщины противостоят практике ношения бурки и никаба (мы рассказывали о египетской девушке, которая ведет в Интернете страницу под названием «Мужчины должны надеть хиджаб»). Кстати, в противоположность существующим стереотипам, весьма неоднозначно отношение к этой форме облачения и среди исламских духовных лидеров. ЦИПГИ неоднократно публиковал мнения авторитетных представителей мусульманского духовенства, заявлявших о том, что бурка не имеет никакого отношения к исламской идентичности и что это архаичный «инструмент доминирования над женщинами».
В-третьих, это тенденции, связанные с развитием миграционных потоков, культурной толерантности, с адаптацией новоприбывшего населения к принимающему сообществу. Здесь тоже существует множество стереотипов, которым мы противостоим. Скажем, в российских СМИ освещение проблематики иммиграции, как правило, носит негативный оттенок. Журналисты рассказывают в основном о преступлениях, совершенных мигрантами, о выдворении из страны очередной партии «нелегалов» и пр. В результате в обществе складывается соответствующий образ «приезжего» - преступника, «нелегала», асоциального элемента и пр. Публикуемые нами материалы дают возможность составить более объемный образ реальности.
Кроме этого, в наших мониторингах регулярно поднимается тема гражданского противостояния расистским,
314
Денис ЛЕТНЯКОВ, Александра ЯКОВЛЕВА. Центр изучения...
ультраправым силам в Европе и мире, а также проявлений толерантности. В этой связи в обзор событий периодически включаются новости из жизни ЛГТБ-сообщества.
Важной задачей новостной ленты ЦИПГИ является также борьба с некорректной подачей материала о европейских делах. Дело в том, что в отечественных СМИ периодически появляется информация, нацеленная на демонстрацию расхожего тезиса о «провале политики мультикультурализма». В качестве последних казусов такого рода можно назвать появление в феврале 2012 г. сразу в нескольких российских интернет-изданиях сообщений о том, что «голландские мусульмане хотят запретить в стране собак», поскольку в исламе собака считается «нечистым» животным (см. статью В.С. Малахова «Мусульмане и собаки, или Как бытовые проблемы превращаются в политические»1), или новость о том, что немецкие полицейские якобы получили право задерживать всех «подозрительных» граждан, основываясь только на цвете их кожи (в результате под категорию «подозрительных» попадало все «небелое» население Германии). В действительности же решение суда г. Кобленца, принятое в марте 2012 г., касалось только работников погран- служб и полицейских, работающих на границе, и относилось к тем, кто подозревался в незаконном пересечении границы.
Составители сайта систематически противостоят обсуждению проблем миграции и культурного разнообразия в этническом и конфликтном контексте, а также игнорированию фактов, показывающих значительный вклад мигрантов в социально-экономическую и культурную жизнь современных государств. Все это делает сайт ЦИПГИ альтернативой большинству существующих российских информационных и аналитических порталов.
1 http://www.ccisru.org/news_ftill/analiticheskie_materiali_tcent- га/ти8и1тапе_1_8оЬак1_Ш_как_Ькоу1е_ргоЫегш_ргеуга811ауи1/
315
АВТОРЫ И РЕДАКТОРЫ
Бикбов Александр Тахирович - кандидат социологических наук, зам. директора Центра современной философии и социальных наук, ассоциированный сотрудник исследовательского Центра Мориса Хальб- вакса (Париж), редактор философско-литературного журнала «Логос» и журнала социальных наук «Laboratorium».
Вендина Ольга Ивановна - кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории геополитических исследований Института географии РАН, автор многочисленных публикаций по урбанистике.
Долуцкая Софья Игоревна - PhD Университета Дьюка (Duke University), независимый исследователь. Основные научные интересы сосредоточены в области сравнительного изучения истории экологического и гражданского активизма (Россия, Мексика, Бразилия, Испания).
Зайка Ксения Валерьевна - кандидат политических наук, независимый исследователь
Кагарлицкий Борис Юльевич - кандидат политических наук, директор Института глобализации и социальных движений.
Капустин Борис Гурьевич - доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии РАН, профессор Йельского университета.
Кара-Мурза Алексей Алексеевич - доктор философских наук, заведующий отделом социальной и политической философии Института философии РАН.
Малахов Владимир Сергеевич - доктор политических наук, ведущий научный сотрудник Института философии РАН, директор Центра изучения проблем гражданства и идентичности.
Летняков Денис Эдуардович - кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института философии РАН.
Осипов Александр Геннадьевич - кандидат исторических наук, заведующий отделом Европейского центра по делам меньшинств (г. Фленсбург, Германия).
Ривз Мадлен - PhD, научный сотрудник Университета Манчестера, специалист в области социально-культурной антропологии.
Сапего Галина Павловна - кандидат политических наук, докторант и ассистент факультета политологии Университета МакМастер (Канада). Область научных интересов: иммиграционная политика либеральных демократий, административные и социальные аспекты интеграции мигрантов.
Яковлева Александра Федоровна - кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института философии РАН.
316
Authors and Editors
AUTHORS AND EDITORS
Alexander Bikbov, PhD (Sociology) is Deputy Director of the Center for contemporary philosophy and social sciences. He is an associated research fellow at the Maurice Halbwachs Research Center (Paris). Alexander is an editor of the philosophical Journal ‘‘Logos” and the Journal for social sciences “Laboratorium”.
Sofia Dolutskaya, PhD at the Duke University (USA) is an independent researcher focusing on the comparative analysis of the history of ecological and civic activism.
Boris Kagarlitskiy, PhD (Political Science) is Director of the Institute of Globalization and Social Movements.
Boris Kapustin, Dr.Sc. (Philosophy) is senior research fellow at the Institute of Philosophy (Russian Academy of Sciences) and professor at the Yale University (USA).
Alexey Kara-Murza, Dr.Sc. (Philosophy) is Head of the Department of social and political philosophy at the Institute of Philosophy (Russian Academy of Sciences).
Denis Letnyakov, PhD (Political Science) is senior researcher at the Institute of Philosophy (Russian Academy of Sciences).
Vladimir Malakhov, Dr.Sc. (Political Science) is leading research fellow at the Institute of Philosophy (Russian Academy of Sciences) and Director of the Center for Citizenship and Identity Studies.
Alexander Osipov, PhD (History) is senior research fellow and Head of Department at the European Centre for Minority Issues (Flensburg. Germany).
Madlen Reevs, PhD (Sociology) teaches Social Anthropology at the University of Manchester, where she is a Research Fellow' at the ESRC Centre for Research on Socio-Cultural Change.
Halina Sapeha is a Ph.D. Student in Comparative Public Policy and a teaching/research assistant at the Department of Political Science (McMas- ter University, Canada). Halina specializes in immigration policy, with a focus on immigrant integration.
Olga Vendina, PhD (Geography) is senior research fellow at the Laboratory for Geopolitical Studies (Institute of Geography, Russian Academy of Sciences. She is the author of numerous publications on urban studies.
Alexandra Yakovleva, PhD (Political Science) is senior research fellow at the Institute of Philosophy (Russian Academy of Sciences) and executive director of the Center for Citizenship and Identity Studies.
Ksenya Zaika, PhD (Political Sciences) is an independent researcher.
317
СОДЕРЖАНИЕ
I. ПОЛИТИКО-ФИЛОСОФСКИЕ И ТЕОРЕТИКО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ Владимир Малахов. Гражданство как концепт и институт:
что, как и зачем изучать? 4
Борис Капустин. «Гражданское общество»
как исчезающее понятие 31
Борис Кагарлицкий. Государство и гражданское общество
после глобализации 45
II. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ Алексей Кара-Мурза. Проблема гражданской идентичности
в русском либеральном дискурсе Х1Х-ХХ вв 62
Денис Летняков. Истоки гражданской политической традиции
в России 76
III. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ И ПРАВОЗАЩИТНЫЕ АСПЕКТЫ Александр Осипов. Возможности и границы использования
понятий «расизм» и «дискриминация» 102
Александр Бикбов. Национализм как несостоявшаяся публичная политика: Министерство национальной идентичности и иммиграции Франции (2007-2010) 117
IV. ГРАЖДАНСТВО И МИГРАЦИЯ Мадлен Ривз. Как становятся «черными» в Москве:
практики власти и существование мигрантов в тени закона.... 146
Софья Долуцкая. Латиноамериканские мигранты
в Северной Каролине, США: социально-экономическое
положение и проблемы адаптации 178
Ольга Вендина. Роль московской идентичности
в интеграции новых москвичей 190
МАТЕРИАЛЫ ДИСКУССИЙ
Дискуссия по докладу
Владимира Малахова 204
Дискуссия по докладу
Бориса Капустина 214
Дискуссия по докладу 230
318
Алексея Кара-Мурэы
Дискуссия по докладу
Бориса Кагарлицкого 236
Дискуссия по докладу
Александра Осипова 241
ПРИЛОЖЕНИЯ
Галина Сапего. Италия как новая иммиграционная страна 248
Ксения Зайка. Иммиграционный режим Канады: становление
и современное состояние 278
Денис Летняков, Александра Яковлева. Центр изучения проблем гражданства и идентичности
как информационный ресурс 309
Авторы и редакторы 316
Authors and Editors 317
Аннотированный список книг издательства «Канон+» РООИ «Реабилитация» вы можете найти на сайте iph.ras.ru/kanon или http://joumal.iph.ras.ru/verlag.html Заказать книги можно, отправив заявку по электронному адресу: kanonplus@mail.ru
Научное издание
ГРАЖДАНСТВО И ИММИГРАЦИЯ: концептуальное, историческое и институциональное измерение
Под общей редакцией В.С. Малахова, А.Ф. Яковлевой Редактор А. С. Кулева
Директор — Божко Ю. В.
Ответственный за выпуск — Божко Ю. В. Компьютерная верстка — Липницкая Е. Е. Корректор — Колупаева Л. П.
Подписано в печать с готовых диапозитивов 10.06.2012. Формат 84Х108У32. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Уел. печ. л. 16,8. Уч.-иэд. л. 11,2. Тираж 1000 экз. Заказ 1988.
Издательство «Канон+» РООИ «Реабилитация».
111672, Москва, ул. Городецкая, д. 8, корп. 3, кв. 28. Тел./факс 702-04-57.
E-mail: kanonplus@mail.ru
Сайт: iph.ras.ru/kanon или http://joumal.iph.ras.ru/verlag.html
Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009.
Пр. Независимости, 79, 220013, Минск, Республика Беларусь.