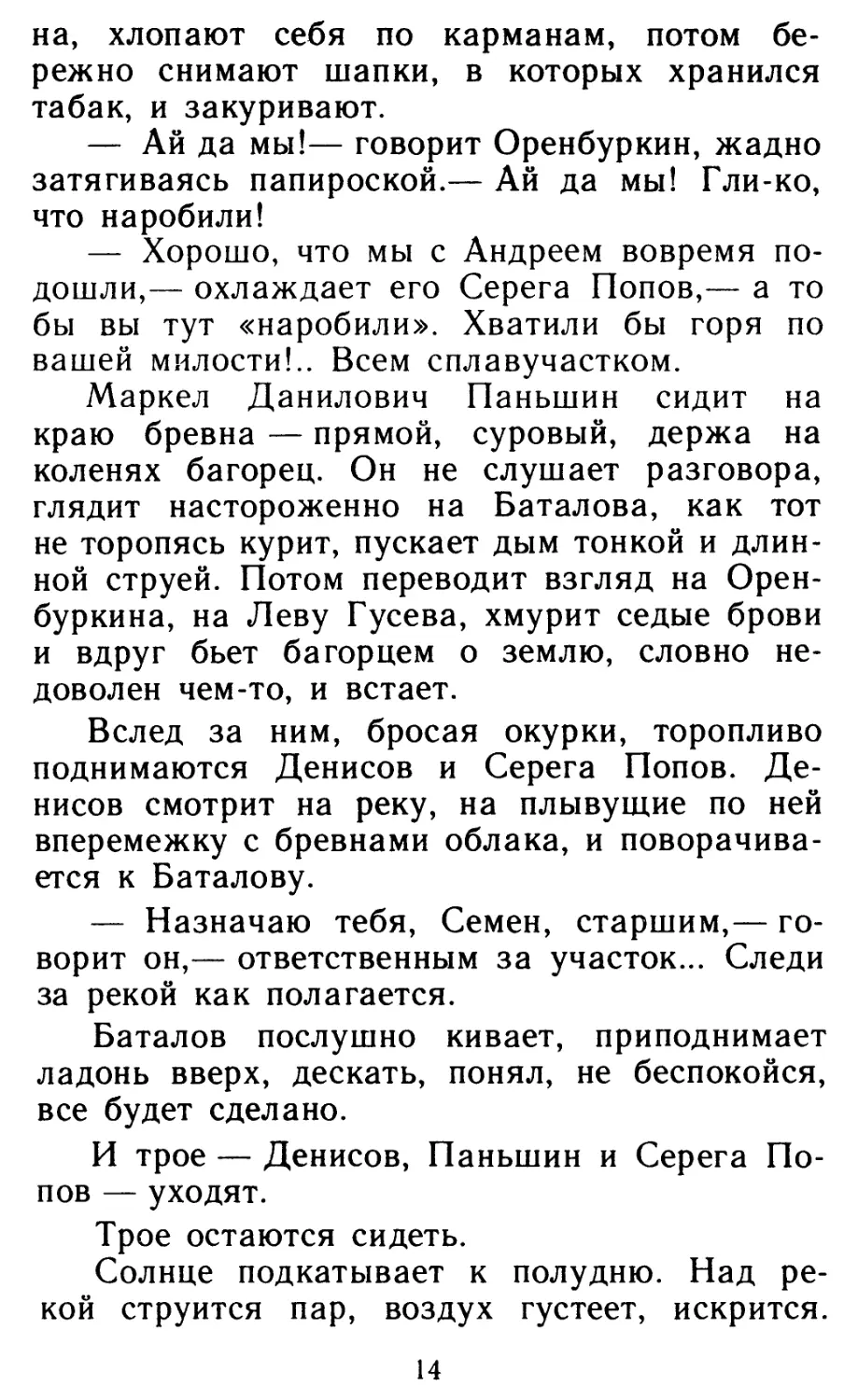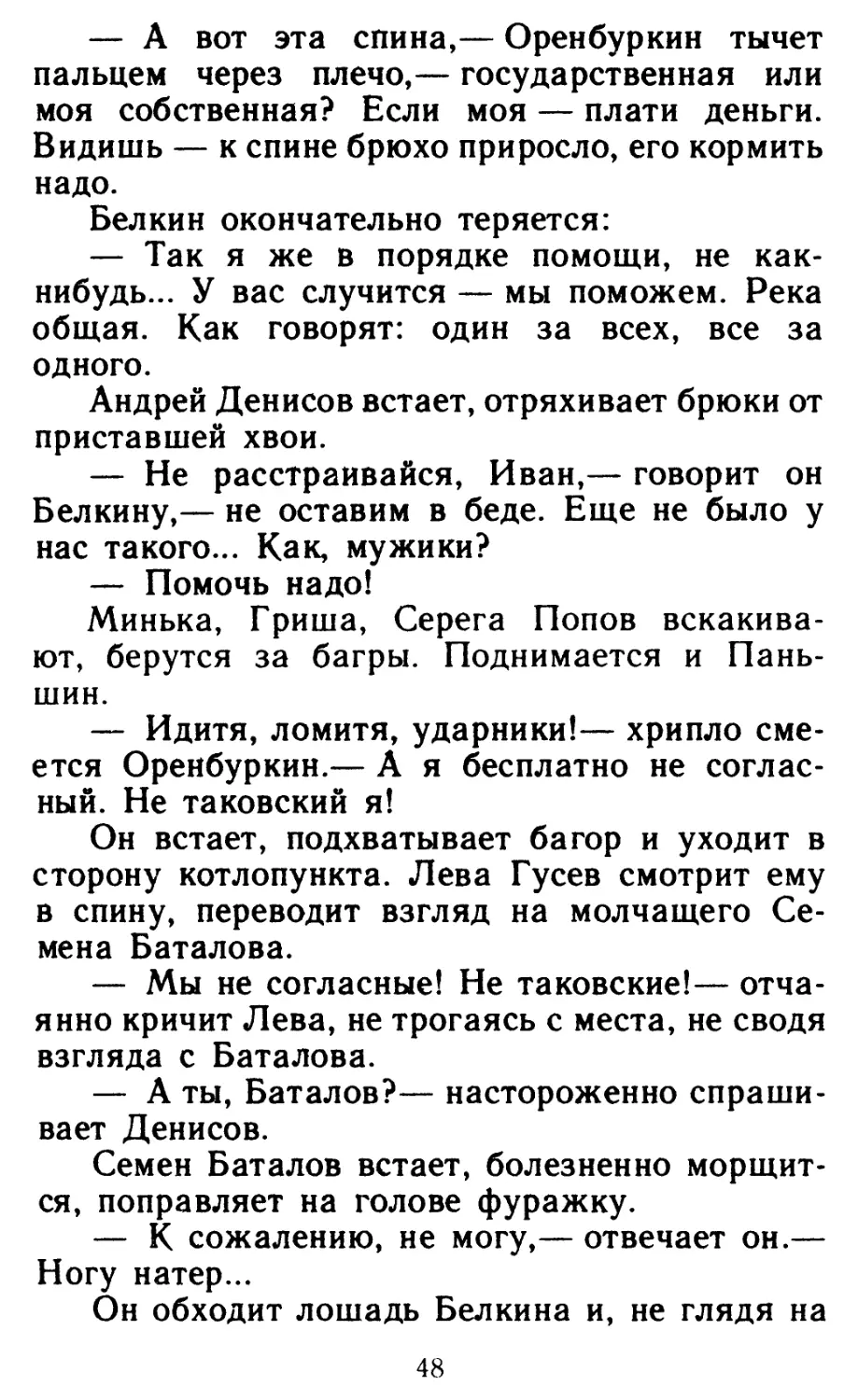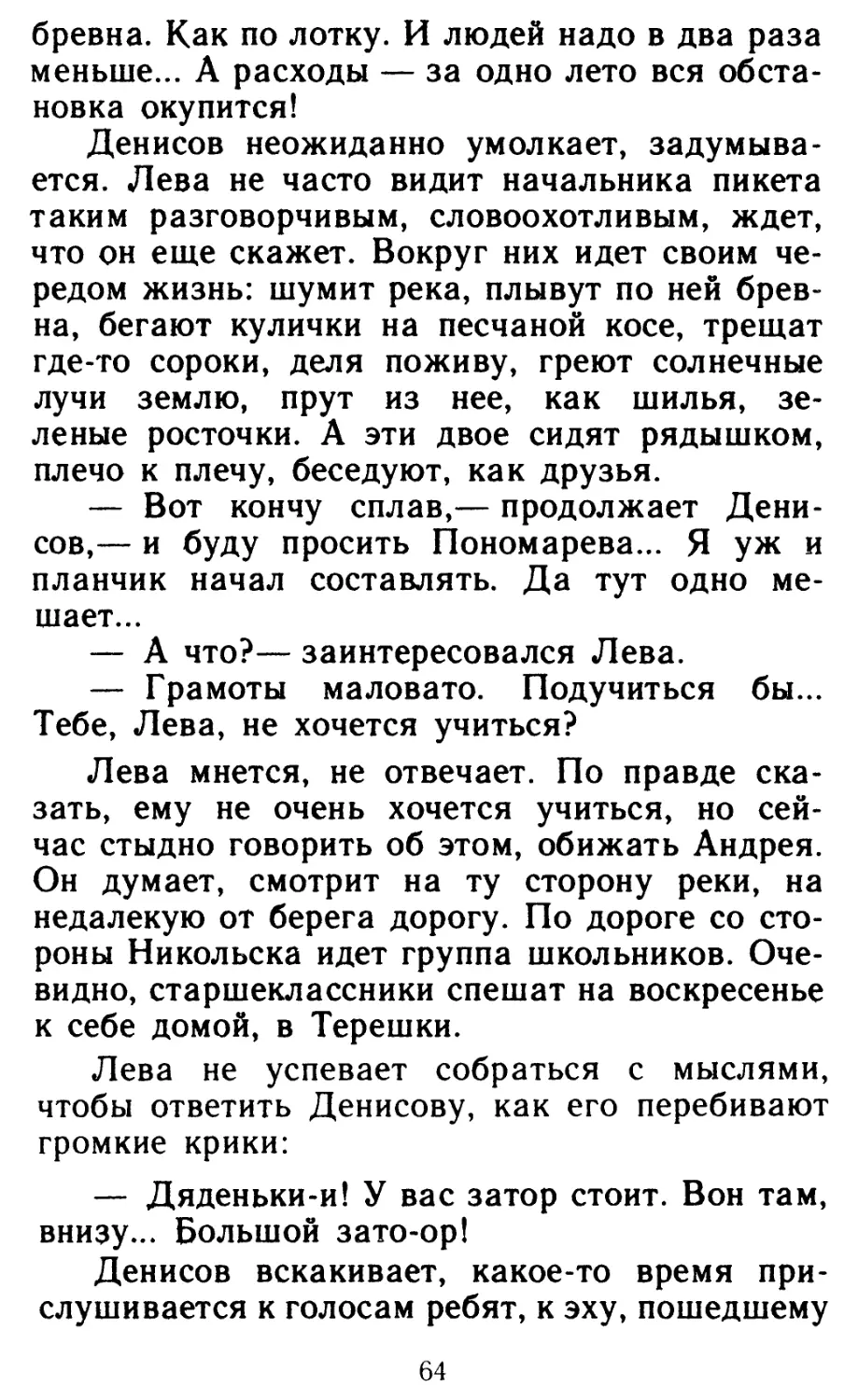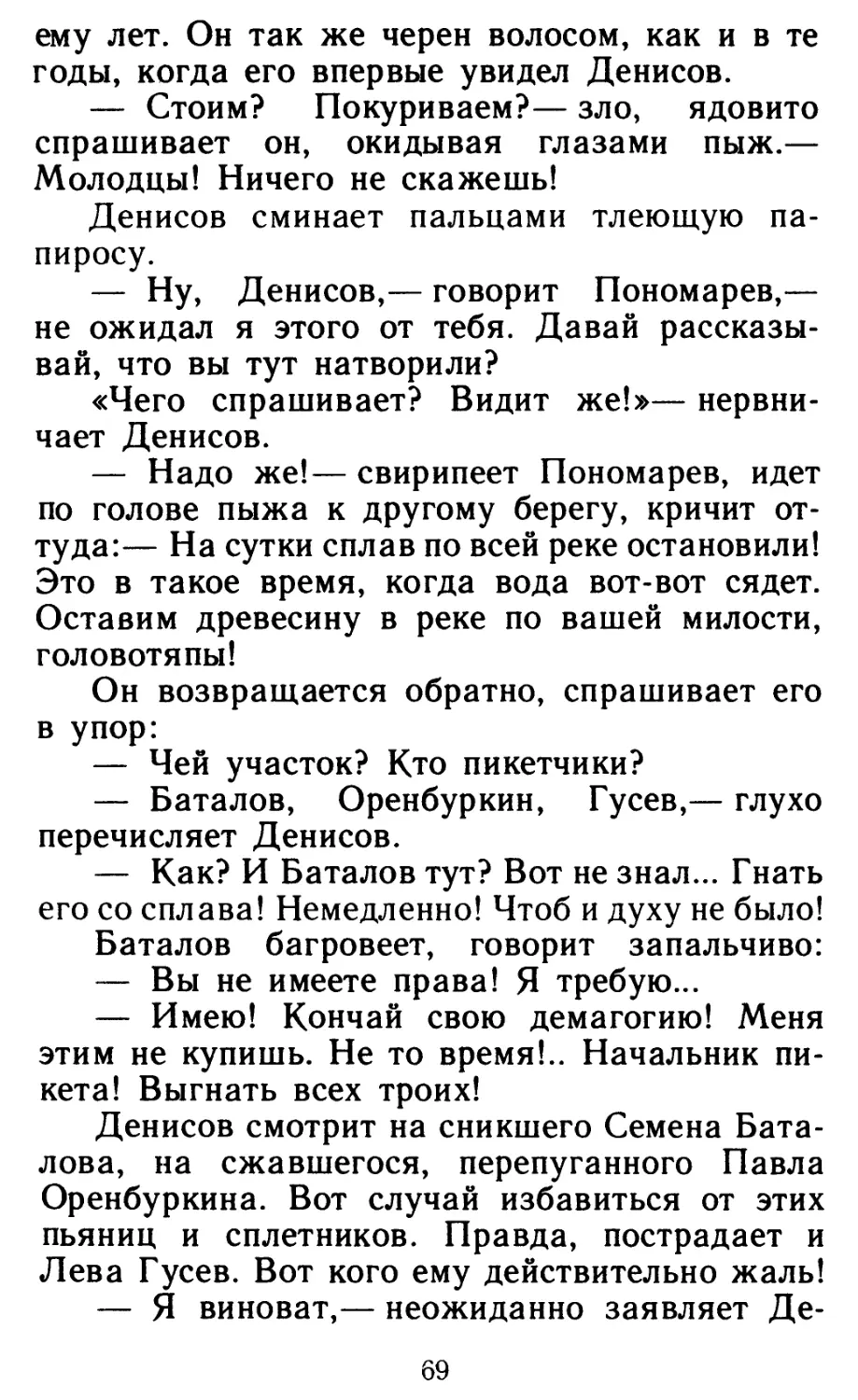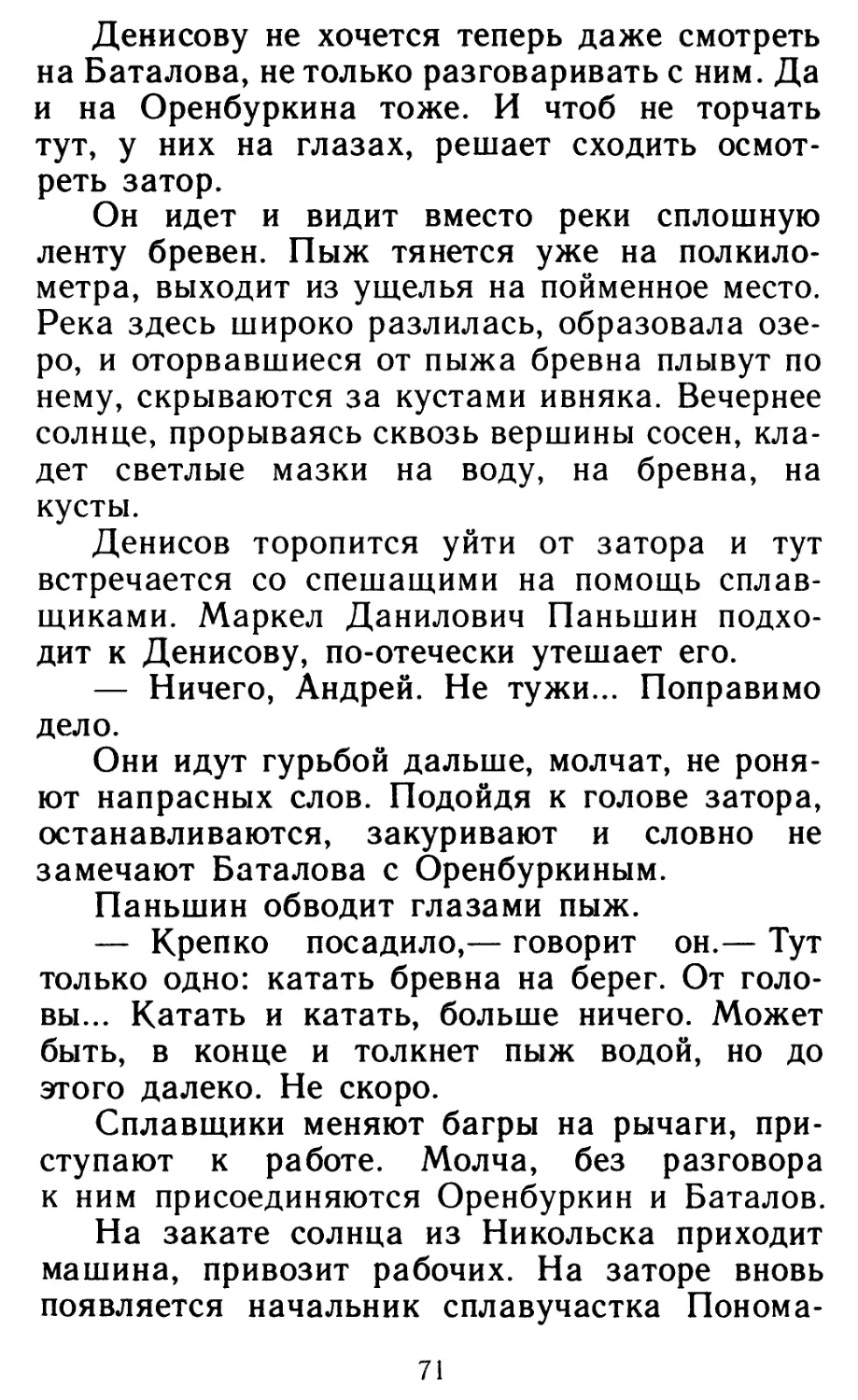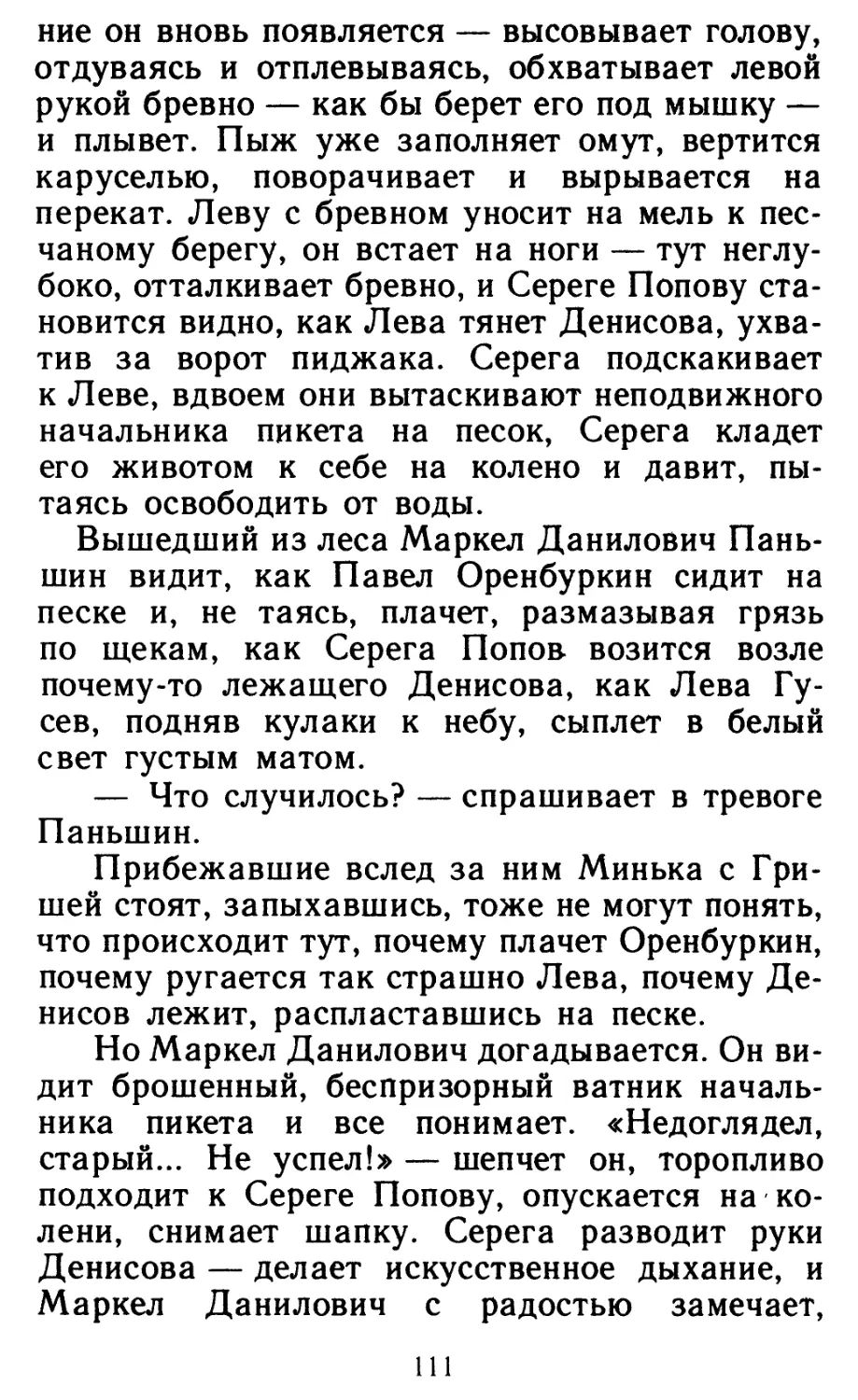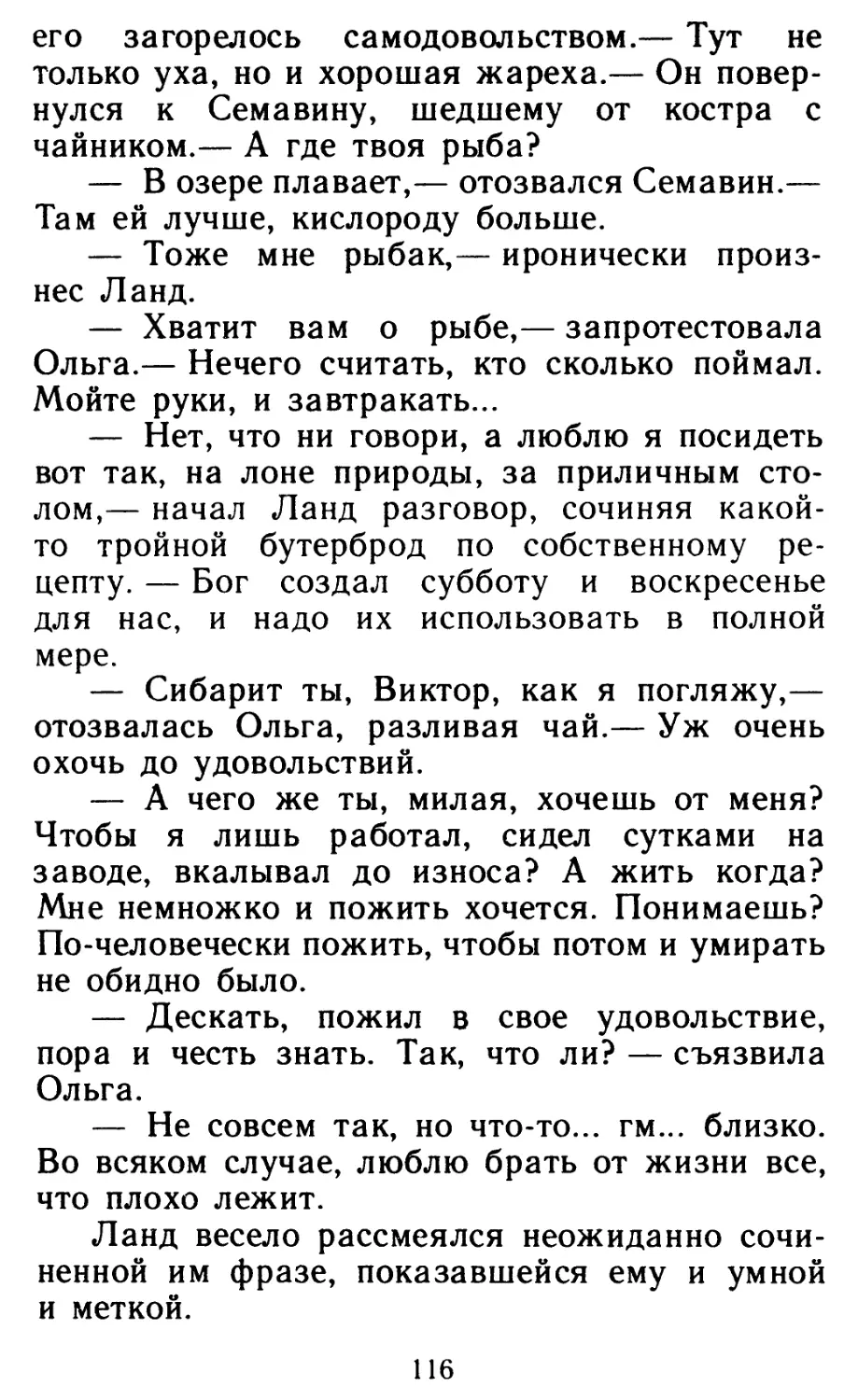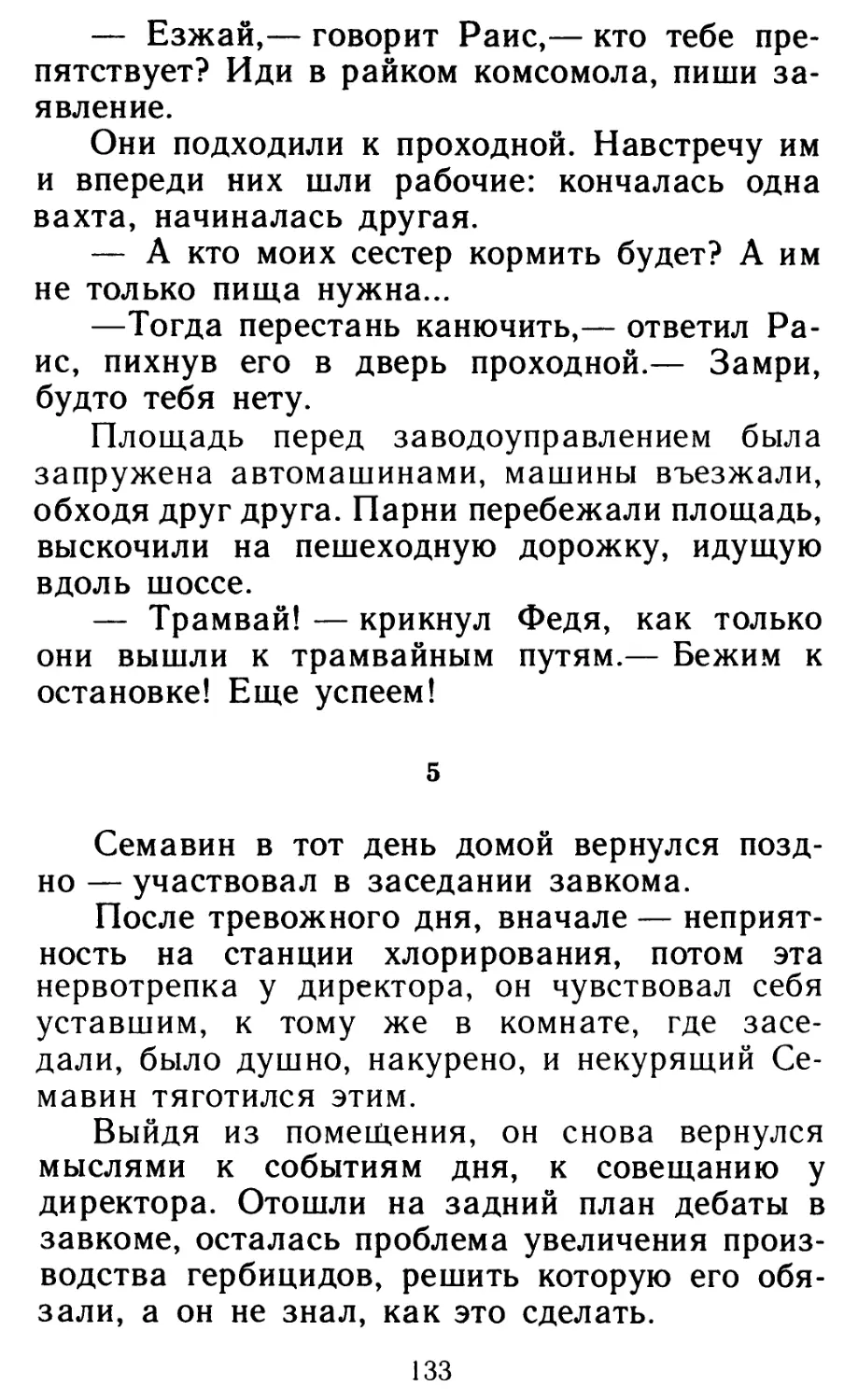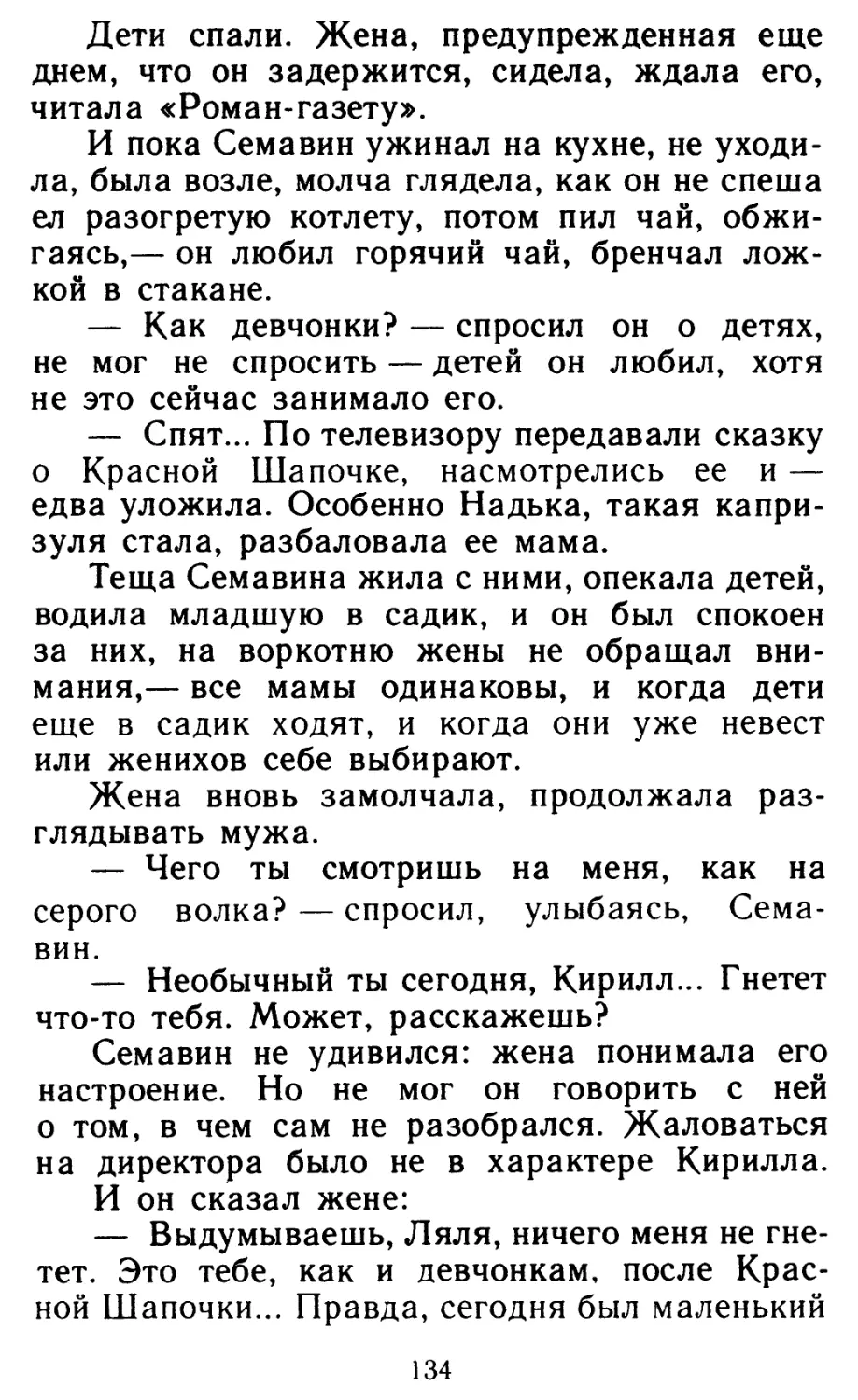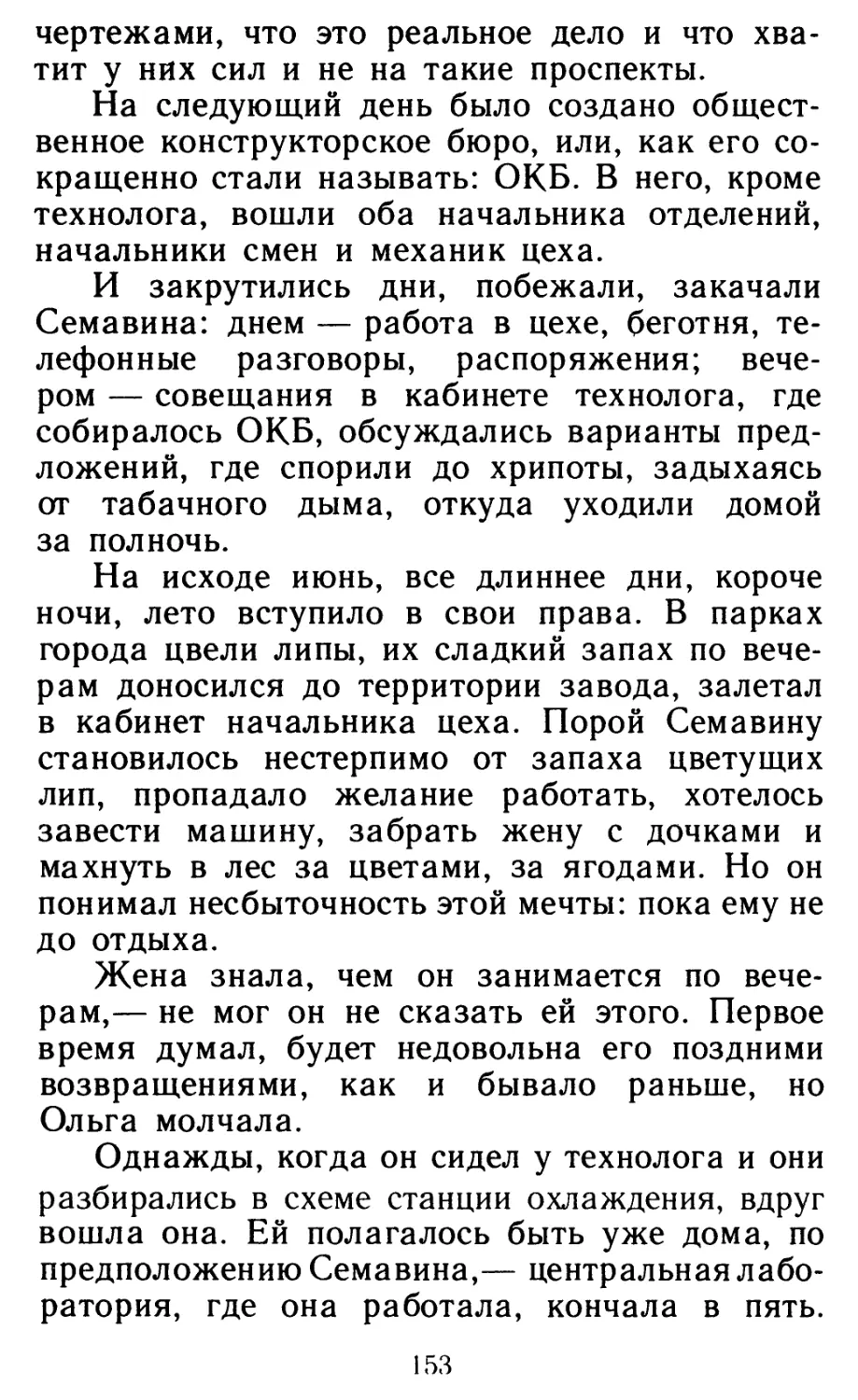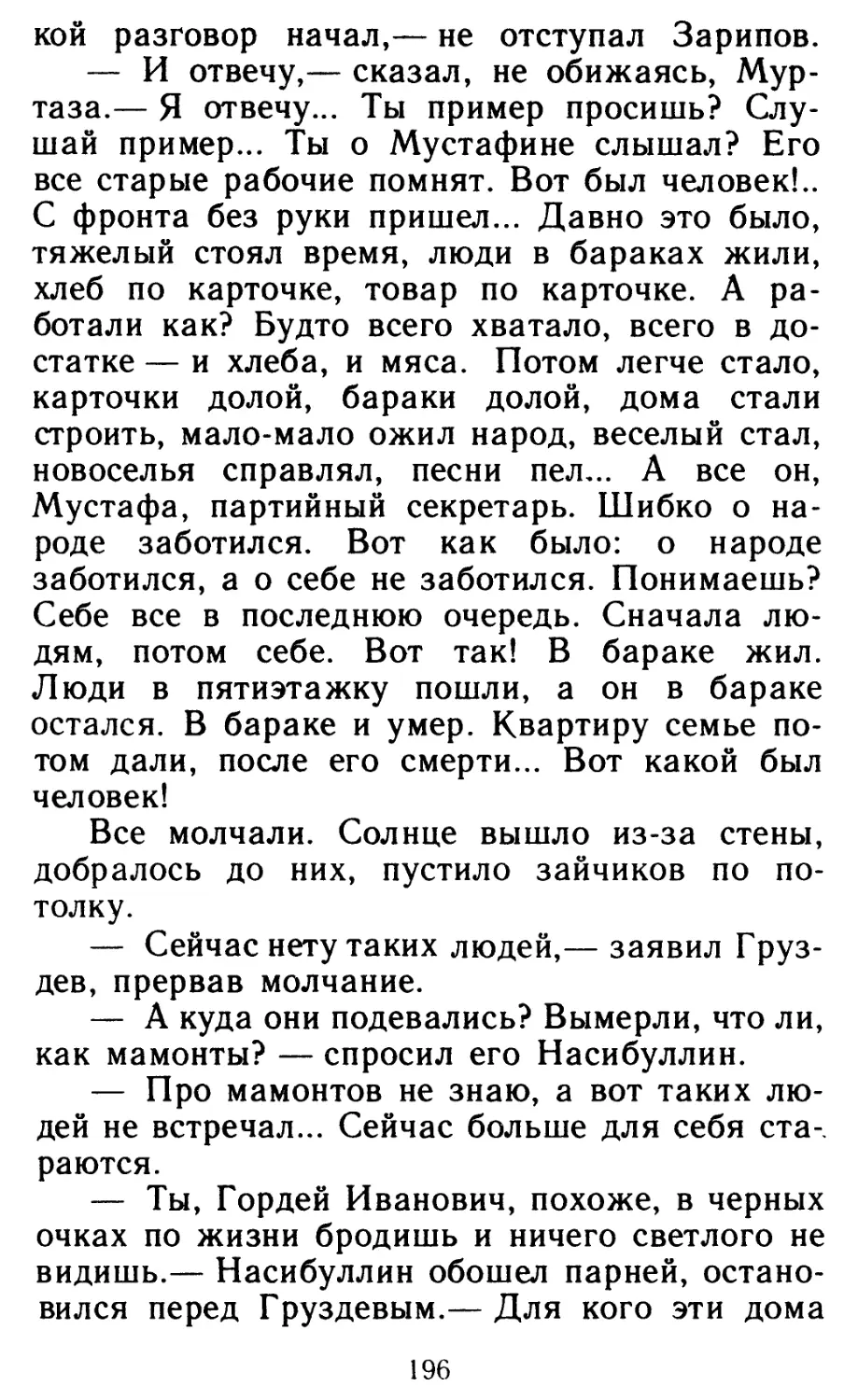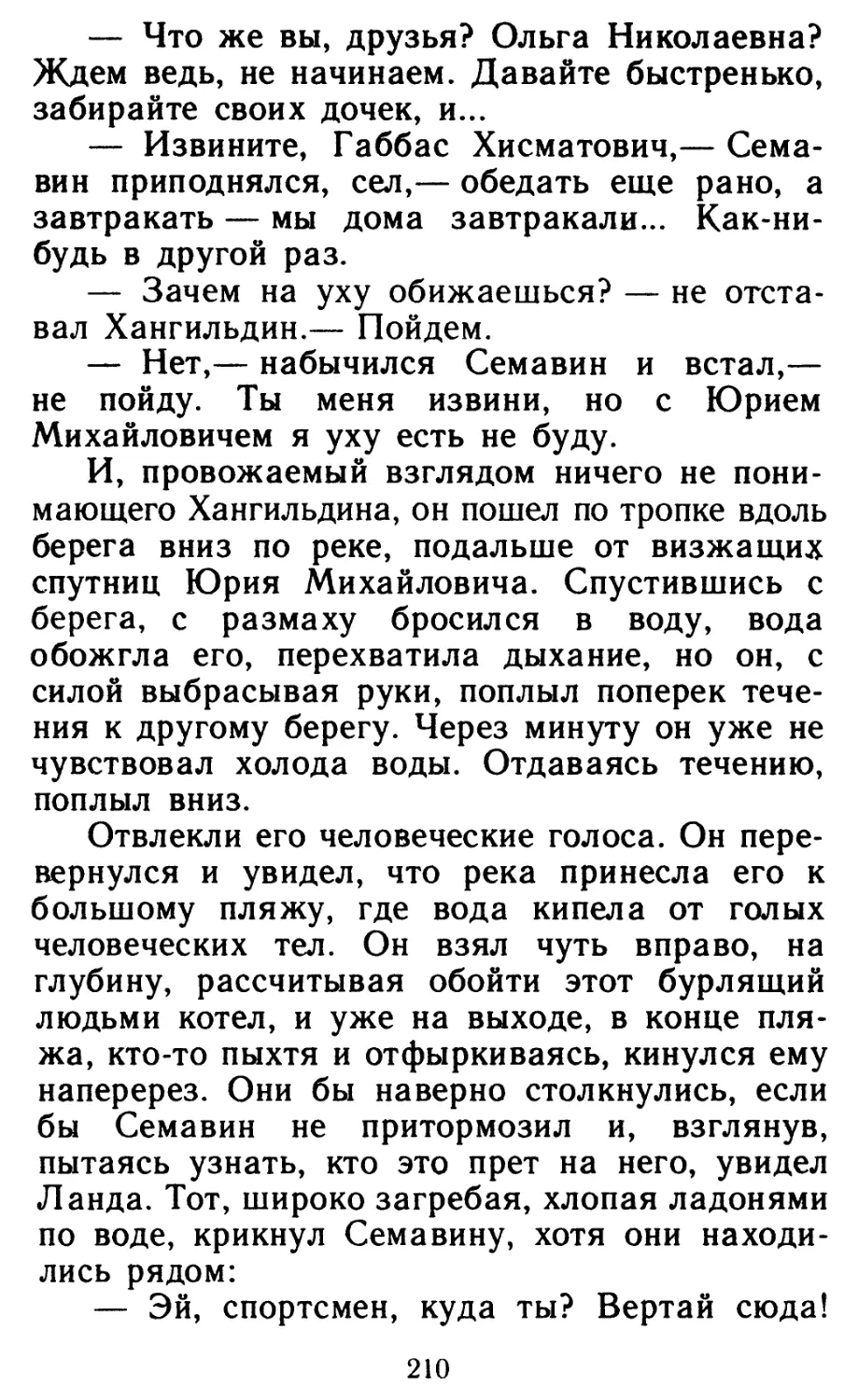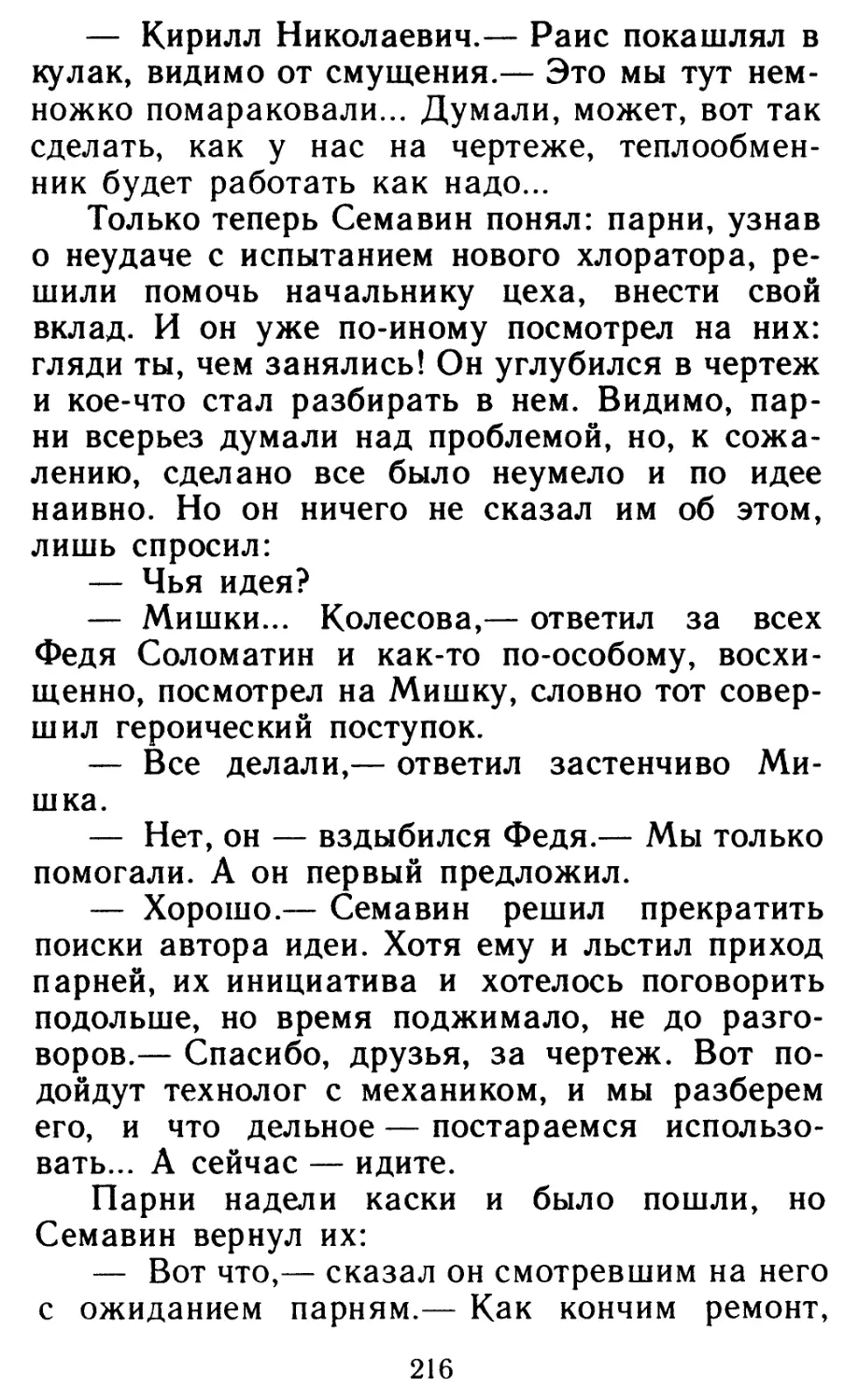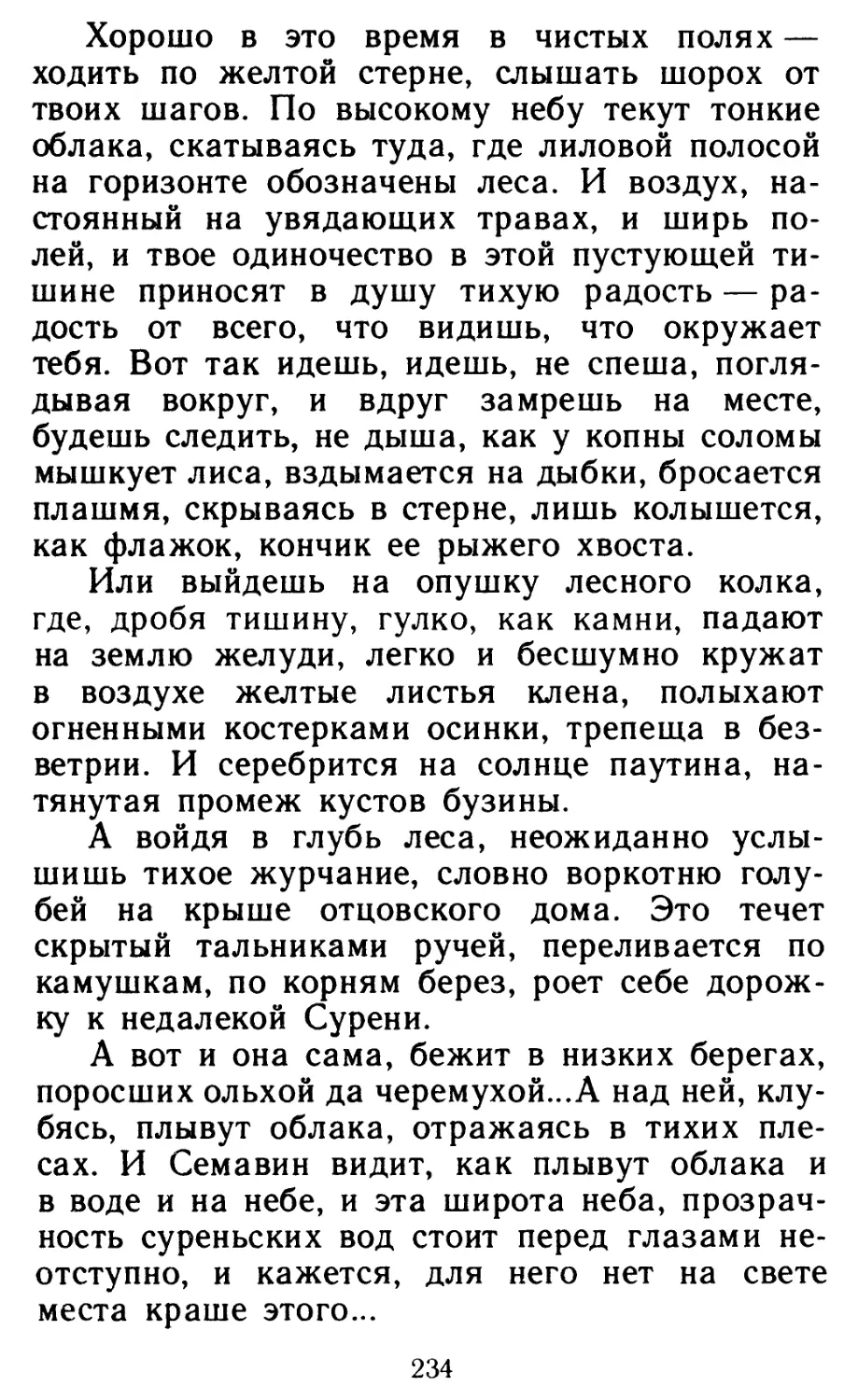Текст
Иван
Слободчиков
ПОВЕСТИ
Москва «Современник» 1988
Р2
С48
Рецензент
Э. ПРОСЕЦКИЙ
4702010200 — 036
М106 (03)— 88
90 — 88
© Издательство «Современник», 1988
КАНСКИЕ ПЕРЕКАТЫ
Жаркий воскресный полдень.
В клубе Никольска открыты настежь все окна и двери, но это не спасает от духоты рабочих леспромхоза и сплавконторы, заполнивших все скамьи от входной двери до высокой сцены. Они обмахиваются платками и газетами, но не уходят: идет суд. Судят рабочего-сплавщика Леву Гусева, тридцати лет, ранее судимого, за зверское избиение известного всем Семена Петровича Баталова, работавшего с Гусевым в одной бригаде.
Как и положено, на сцене — стол под красным кумачом, за столом судья — молодая женщина в строгом черном костюме, заседатели и секретарь. Заседатели — двое пожилых мужчин, одетых по такому случаю в выходные пиджаки,— чувствуют себя несколько смущенно от выпавшей на их долю ответственности, вытирают лбы клетчатыми платками.
Слева от сцены у самой рампы примостился прокурор, справа, на свободном от людей пятачке — адвокат, рядом с ним на короткой скамеечке — герой, зачинщик нашумевшего на все село дела Лева Гусев. За спиной Левы стоит усатый милиционер. Гусев сложил руки на коленях, уставился в щелястый пол и, кажется, не слушает секретаря, читающего обвинительное заключение. Гусев толстоморд, широкоплеч, на нем рубашка без пуговиц, короткие, чуть пониже колен, брюки и большие желтые штиблеты.
з
Потерпевший Баталов сидит на передней скамье прямо против судейского стола. Голова у Баталова перевязана белым бинтом, левая рука лежит на черной перевязи, он тих, приветливо-скромен с соседями по скамье и, кажется, немножко рисуется положением пострадавшего.
— Подсудимый Гусев, встаньте,— говорит судья.
Гусев медленно поднимается, настороженно смотрит на судью.
— Вы признаете себя виновным?
Гусев переступает ногами, как застоявшаяся лошадь, чуть поворачивает голову, смотрит исподлобья, зверовато на Баталова, губы его кривятся в чуть заметной усмешке; наконец, отвечает:
— Не признаю.
За спиной Гусева возникает невнятный гул, ему кажется, будто через шлюз Никольской плотины проходит тяжелое бревно.
— Как же так, подсудимый?— спрашивает судья без тени удивления.— На предварительном следствии вы признались в том, что двадцать седьмого апреля, догнав в лесу Баталова, шедшего в Никольск, избили его до потери им сознания и избитого, окровавленного оставили там на произвол судьбы, а сами вернулись на котлопункт. Было это или нет?
— Было,— отвечает с готовностью Гусев.
— Значит, признаете свою вину?
— Нет, не признаю,— говорит Гусев и отводит от судьи глаза.
В зале слышится смех, веселое оживление. Особенно шумно ведут себя женщины.
4
Кто-то громко шикает, и все умолкают.
— Ну хорошо,— говорит судья.— Тогда расскажите суду, как было дело? Что произошло между вами и потерпевшим Баталовым? Говорите спокойно, не торопясь... Суду необходимо знать правду.
Гусев снова искоса взглядывает на Баталова, видит его скорбную фигуру, перевязанную бинтом голову и злорадно смеется. Но тут же спохватывается, смущенно смотрит на судей, лезет пятерней в волосы, но вместо обычных всегдашних вихров на голове его короткая милицейская стрижка, и это выводит Гусева из себя:
— Чего еще рассказывать?— говорит он ожесточаясь.— Там,— он тычет рукой, указывая на пухлую папку, лежащую перед судьей,— там все написано...
1
На высоком берегу Каны, на самом солнцепеке, лежат трое. Внизу на перекате клокочет вода, высоко в небе несутся облака, мечется ветер над вершинами деревьев, а тут — на маленькой полянке — тепло, тихо, пахнет согревшейся землей, прошлогодним палым листом.
Семен Баталов лежит на спине, закинув руки за голову, надвинув фуражку на глаза. Из-под лакированного козырька он видит голые ветви краснотала, качающихся на них трясогузок, лесистый косогор на той стороне Каны и одинокого беркута, парящего над косогором.
Баталов следит одним глазом за берку
5
том. Тот плавно, не тряхнув крыльями, делает круг за кругом, высматривая что-то в лесной чащобе. Он завидует беркуту: «Высоко летает,— думает Баталов.— Царь птиц!» Вот бы ему так — быть таким же вольным, независимым. Расправил бы крылья, взмыл, полетел навстречу солнцу. «Ничего, ничего,— успокаивает себя Баталов.— Все обойдется».
Он не видит, он чувствует рядом с собой Павла Оренбуркина. Тот никак не уляжется — пыхтит, сучит короткими ногами, недовольно бубнит, выбрасывая из-под себя сосновые шишки. Баталов представляет сердитым смешливое, курносое лицо Оренбуркина и снисходительно улыбается.
По другую сторону Баталова, упираясь лбом в землю, громко всхрапывает Лева Гусев. Черная лохматая собачка, приткнувшись к нему, простуженно чихает и щелкает зубами. «Вот человек!— думает Баталов про Гусева и не знает, что еще можно сказать о нем.— Темный человек»,— наконец заключает он и зажмуривает глаза.
Оренбуркин, кажется, устроился, он облегченно вздыхает, чмокает губами.
— А что? Неплохо!— говорит Оренбуркин и как-то шумно смеется, словно сыплет горох на землю.— Солдат спит — служба идет.
Баталов недоверчиво слушает его. «Подожди,— думает он.— Вот скоро бревна сверху пойдут; посмотрю, как в воду полезешь».
— Где-то теперича наш дорогой начальник пикета товарищ Денисов,— притворноскорбно вздыхает Оренбуркин.— Поди, уже начальству докладывает, что, мол, так и так,
6
не сумлевайтесь, вверенные ему рабочие выполнят и перевыполнят. Одним словом — го-рять огнем!..
Оренбуркин громко хохочет, потом накрывает лицо шапкой и долго приглушенно стонет.
«Да, Денисов...» Баталов невольно открывает глаза. Вчера Денисов ушел в Никольск, в контору сплавучастка. Но Баталову не хочется сейчас думать о Денисове — своем непосредственном начальстве.
Он ищет глазами беркута. Тот, делая широкие круги, все выше и выше поднимается над косогором; вот он уже чуть видимой точкой мелькает подле самых облаков. Баталов ревниво следит за ним. «Ничего, ничего,— вновь успокаивает он себя.— Поработаем...»
Он закрывает глаза и видит себя с багром в руках на том, другом — низком берегу Каны. Мимо мчится поток воды, в нем, как чудовищные рыбы, плавают бревна, тычутся в берега, топят друг друга, глухо стучат о камни на перекатах, цепляются за песчаные косы. Баталов отталкивает их от берега, не дает задерживаться, иначе к одному бревну пристанет второе, потом третье, и узенькая Кана враз будет перегружена, возникнет затор.
Баталов бегает вдоль плёса, зорко посматривает по сторонам. Он не перестает удивляться, как у него все легко получается, как бревна послушно убегают от него, лишь он прикасается к ним багром. Баталов жалеет, что никто не видит его сейчас, что нет с ним рядом секретаря парткома Пантелеева.
И тут он обнаруживает бревно, застрявшее на мели. Баталов понимает, что следует
7
немедленно броситься в воду, столкнуть бревно с места. Но вода зловеще поблескивает, к берегу — под ноги Баталова — прибиваются коричневые хлопья пены, сосновая кора. Он смотрит на свои начищенные сапоги, переводит взгляд на злосчастное бревно, до которого добрых пять метров, и цепенеет от страха...
Просыпается он от крика и собачьего лая. Колченогая собачка Левы стоит у откоса, тявкает на реку. Оттуда — из-под берега — кто-то нудно, надоедливо кричит:
— Бата-алов! Оренбу-урки-ин!
Баталов не поймет спросонья — что происходит, кто его зовет? Маленький, шустрый Оренбуркин поднимается, суетливо натягивает шапку, бежит к берегу, потом поворачивает к Баталову испуганное лицо.
— Влопались! Затор, братцы!— произносит он, взмахивает руками и кубарем скатывается в реку.
Чуть повыше того места, где спускается Оренбуркин, Кана бьет в высокий берег, образуя яр. Под яром, в глубоком омуте, вода завихряется, ходит каруселью, кружит бревна. Потом река поворачивает, огибает песчаный мысок и врывается в узкий длинный перекат. И вот тут, у мыска, река сейчас неподвижна, забита бревнами,— образовался «пыж», перекрывший воду.
Возле затора возятся два человека, одетые в одинаковые ватники и серые шапки. Это — начальник пикета Андрей Денисов и рабочий Сергей Попов. Они пытаются разобрать затор, но бревна не поддаются, сидят крепко.
8
Денисов выпрямляется, сдвигает рукой шапку на затылок, с тревогой смотрит на высокий берег. Денисов узкоплеч, сухощав, у него обветренное лицо в крупных темных конопатинах.
— Батало-ов!— кричит он, приставив рупором ладони ко рту.
— Здеся мы,— отзывается тонкоголосо Оренбуркин. Он бредет через перекат, подняв над головой багор, словно решил посушить его на весеннем солнышке. Воды тут всего, до колен, но идет она сильно, рябит по каменистому руслу, и маленькому Оренбур-кину заливается в сапоги, мочит брюки.
Вслед за Оренбуркиным на высоком берегу появляются Баталов и Гусев. Они не торопясь спускаются и входят в воду. На руках у Гусева лежит собачка, он бережно прижимает ее к груди.
Высокий, быстроглазый Серега Попов показывает на них пальцем, говорит презрительно:
— Вот они, курортники!
Денисов смотрит на шагающего по воде Павла Оренбуркина. Тот явно торопится, чуть не падает, оскользаясь на камнях, а Денисову кажется, что он идет медленно, едва переставляет ноги. Оренбуркину нет еще и пятидесяти, он крепкий, подвижный, а Денисов видит в нем старика, которого взял он в бригаду лишь за его большой опыт на сплаве.
— В чем дело, Павел Кузьмич?
Оренбуркин виновато улыбается, прячет глаза, идет боком возле злого Сереги Попова.
9
— Понимаешь, обмишулились... Стороной прошли,— говорит он торопливо и начинает хрипеть, как старинные часы перед боем,— готовится рассмеяться, но неожиданно обрывает себя.— Извиняйте, коли что.
Серега Попов отворачивается от Оренбуркина, взмахивает багром, с выдыхом вонзает его в бревно.
— Гнать надо за такие дела!— кричит он. — Это немыслимое дело — спать на пикете!
Лева Гусев подходит к Сереге. У него кудлатые, давно не стриженные волосы на непокрытой голове.
— Чего разоряешься?— спрашивает он осипшим баском Серегу и опускает бережно собачку на песок.— Нельзя ли без этого?.. Без грубык слов, товарищи начальники?
Серега быстро оборачивается. Они оказываются лицом к лицу, оглядывают друг друга.
— Человек ты или кто? — срывающимся от гнева голосом спрашивает Серега.— Понимаешь хоть, где находишься? Свою ответственность?
— Плевал я на твою агитацию,— отвечает беззлобно Лева.— Нужна она мне, как петуху загс.
— Так затор же!— загорается Серега.— Среди бела дня. Работнички!..
— Плевал я на это дело! Понял? — упрямо повторяет Лева.— И на тебя! Понял?
— Хватит пререкаться!— останавливает его Баталов. Он входит в воду, начинает помогать Денисову и Оренбуркину выдирать
ю
бревна из пыжа.— Мы виноваты!.. Мы прошляпили!
Лева Гусев послушно умолкает, берется за багор. Он уважает Баталова за строгость, за прямоту, с которой тот разговаривает с людьми. Он и сейчас с восхищением глядит на него. Баталов стройный, подтянутый, лицо у него белое, чуть пухлое, с маленькими рыжеватыми усиками. Одет он щеголевато, не для работы на сплаве: галифе, яловые сапоги, кожаная куртка, пропитанная рыбьим жиром, на голове фуражка с бордовым кантом и пятном от значка. Лева Гусев очень уважает Баталова и потому не смеет ослушаться. Потоптавшись, он прыгает на бревна и включается в работу.
Сплавщики работают молча, изредка перекидываясь двумя-тремя словами. Сейчас некогда разговаривать да глазеть по сторонам — сверху все подплывают и подплывают бревна, усложняя положение. Надо успеть разобрать затор, пока бревна по реке идут негусто — день только начался.
Баталов видит хмурое, недовольное лицо Денисова, старается быть поближе к начальнику пикета.
— Не сердись, Андрей,— говорит он ему, беря на багор другой конец бревна.— Понимаю, некрасиво получилось... Сели покурить и уснули... Извини, пожалуйства.
— Ладно,— отвечает глухо Денисов.— Учти на будущее. Это тебе не в конторе сидеть.
Денисову некогда разбираться в переживаниях Баталова, он торопится разделаться с затором. Их пикет — один из длинных и трудных в верховьях Каны: пять километ
ров извилистых берегов, километры постоянной неизвестности, где в любую минуту может быть беда, если недоглядеть. Вот они возятся тут, а где-то, возможно, назревает авария.
Он бросает багор, берется за рычаг. Тут все дело в том, чтобы убрать бревна, которыми пыж цепляется за берег, и тогда, под напором воды, он пойдет сам.
Хотя начальнику пикета не до Баталова, он изредка поглядывает на него. Тот сбросил кожанку, пиджак, остался в одной косоворотке, работает так, что пот течет со лба, заливает ему глаза. Баталов смахивает пот рукавом и опять тянется багром к бревну, кричит сердито Оренбуркину:
— Подхвати! Не видишь?
И Денисов удовлетворенно улыбается: нет, не зря он взял Баталова в бригаду, крепко может работать, не позабылась еще сплавщицкая сноровка, пока в начальниках ходил.
На тропке вдоль берега появляется еще сплавщик: опираясь на коротенький багорец, идет высокий старик с небольшой круглой бородкой. Денисов первым замечает старика, еще сильнее налегает на рычаг.
— Паньшин идет,— таинственной скороговоркой сообщает Оренбуркин.— Комиссар Каны и ее окрестностей.
Он заговорщицки оглядывает сплавщиков, но те молчат, словно не слышат Павла Орен-буркина.
Тогда он переводит взгляд на степенно вышагивающего старика, заискивающе приподымает шапку:
12
— Здравствуйте, Маркел Данилович!
Паньшин не отвечает на приветствие Орен-буркина. Он смотрит на пыж, оценивает обстановку, потом плюет в ладони, берет багорец на изготовку, заходит в воду.
— Правильно делаешь,— говорит он Денисову.— Правильно. Катай на берег, освобождай голову.
И теперь вшестером они ворочают бревна, спешат, покрикивают друг другу: «Берегись!» А то недолго и под бревно угодить, поломает ноги — других не дадут. Бревна с глухим стуком падают на берега, лежат мертво, распластавшись на песке.
— Но вот Паньшин как-то особо резко рвет бревно из-под низа пыжа, и сразу вся масса древесины приходит в движение.
— Пошла! Пошла!
Сплавщики выскакивают на берег, смотрят, как мимо них несется лавина из бревен. Левина собачка визжит и в страхе жмется к ногам людей. Пыж огибает мысок и, выплескивая воду из русла, врывается на перекат. Бревна, как живые, прыгают, бьются о камни. Скрипит песок, трещит кора, пенится вода, а сплавщики стоят, смотрят не отрываясь, будто видят такую картину впервые.
Но вот проходит минута, и все кончается: хвост пыжа исчезает за поворотом, река очищается, входит в берега. Лишь оставшиеся на берегу костры из бревен — лапы напоминают о заторе.
Сплавщики облегченно вздыхают, весело переглядываются. Они мокрые, усталые, но у них гордые лица. Они садятся на брев
13
на, хлопают себя по карманам, потом бережно снимают шапки, в которых хранился табак, и закуривают.
— Ай да мы!— говорит Оренбуркин, жадно затягиваясь папироской.— Ай да мы! Гли-ко, что наробили!
— Хорошо, что мы с Андреем вовремя подошли,— охлаждает его Серега Попов,— а то бы вы тут «наробили». Хватили бы горя по вашей милости!.. Всем сплавучастком.
Маркел Данилович Паньшин сидит на краю бревна — прямой, суровый, держа на коленях багорец. Он не слушает разговора, глядит настороженно на Баталова, как тот не торопясь курит, пускает дым тонкой и длинной струей. Потом переводит взгляд на Орен-буркина, на Леву Гусева, хмурит седые брови и вдруг бьет багорцем о землю, словно недоволен чем-то, и встает.
Вслед за ним, бросая окурки, торопливо поднимаются Денисов и Серега Попов. Денисов смотрит на реку, на плывущие по ней вперемежку с бревнами облака, и поворачивается к Баталову.
— Назначаю тебя, Семен, старшим,— говорит он,— ответственным за участок... Следи за рекой как полагается.
Баталов послушно кивает, приподнимает ладонь вверх, дескать, понял, не беспокойся, все будет сделано.
И трое — Денисов, Паньшин и Серега Попов — уходят.
Трое остаются сидеть.
Солнце подкатывает к полудню. Над рекой струится пар, воздух густеет, искрится.
14
Где-то рядом невидимая в сучьях кукушка без устали отсчитывает годы. За мыском, в протоке, стоят ивнячки — притихшие, умиленные, в праздничных светло-желтых барашках. Весна!
Невдалеке на песок опускается длинноносый голенастый кулик; он резко свистит и возбужденно бегает у кромки берега. Левина собачка с лаем кидается к нему, но кулик легко срывается и летит над самой водой, чуть подрагивает крыльями.
— Мальчик! Назад!— вопит Лева.
Собачка бежит обратно, подняв к Леве заросшую шерстью морду, где, как две бусинки, угадываются глаза.
— Не пымал,— посмеивается Оренбуркин, сокрушенно качая головой. Он снимает резиновые сапоги, выжимает портянки, расстилает их на бревнах. Ноги у него белые, рубчатые — следы от портянок.— Так оно... Близок локоток, да не укусишь. Не-ет, не укусишь, брат!
Баталов сидит не шевелясь, уставившись на реку. Оренбуркин искоса поглядывает на него.
— Я вот тоже хотел нынче на сплаву подзаработать. Бросил все дела, пошел... Да тут, видно, шиш заработаешь. Вот как!
Баталов отрывает взгляд от реки, поворачивается к Оренбуркину.
— Ав чем дело?— спрашивает он.
Оренбуркин словно ждет такого вопроса, срывается с бревна, прыгает босыми ногами на песок.
— А ты слепой, Семен Петрович? Или прикидываешься? Уж кому-кому, а тебе на
15
сквозь должно быть все видно. Тебя не обманешь!
Что-то вспыхивает в глазах Баталова и тут же гаснет.
— В чем все-таки дело?— вновь спрашивает он.
— Ав том, что зря работаем... Сплошные заторы, а цены? Цена какая? Может, Оренбуркин виноват, что воды нынче в реке нет?
Баталов хмурит лоб, трогает пальцем усы. «Это верно, заторы...» И неожиданно задумывается. Оренбуркин застывает на месте, ждет, не торопит его.
— Что же ты предлагаешь?— поднимает голову Баталов.
— Да, что предлагаешь?— встревает Лева.— Выкладывай! Не таись!
Оренбуркин немеет от вопросов, смотрит на того, на другого, потом как-то сипло и тихо смеется.
— Деньги!— кричит он.— Деньги за заторы! Чего еще больше, как не деньги?.. Как затор, так плати, раскошеливайся! Больше затор — большие деньги, маленький — поменьше. Вот тогда и заработки будут.
Оренбуркин торопится, давится словами и неожиданно умолкает. Баталов и Лева с интересом разглядывают его, он ласково жмурится.
— Не будут платить,— сомневается Лева.— Жмоты! У них возьмешь!
— Должны!— возбуждается вновь Оренбуркин.— Должны, едрит твою кость! Затор встанет — что будешь делать? Не разберешь вовремя — вся река встанет. И заплатишь, никуда не денешься!.. Э-э! Бывало, сплав
16
проведешь и денег шапка,— гуляй всю зиму!.. Которые сплавщики только на заторах и работали. Чуть что — за ними. Тыщу запросят — торопись, отдавай, через час и две будет мало. Спецы!
Оренбуркин размахивает руками, рассказывает, как умело раньше зарабатывали денежки на сплаве, как гуляли в чайных Никольска.
К берегу прибивается бревно. Баталов видит его, но ему не хочется вставать, он думает над словами Оренбуркина об оплате за заторы.
— Как же так, Павел Кузьмич?— наконец спрашивает он.— Почему до сих пор молчал, терпел такую несправедливость. Может, боялся начальника пикета?
И Баталов внимательно вглядывается в круглое, бабье лицо Оренбуркина.
— Я? Андрюшки? Хо-хо!— всхохатывает Оренбуркин, пренебрежительно машет рукой.— Сопляк он супротив меня. Мелкая пташка!
— Почему же тогда мирился? Не ставил вопроса перед начальником пикета? — допытывается Баталов.
— Да, почему не ставил вопроса?— подхватывает Лева Гусев.
Оренбуркин мнется, пятится назад, к бревну.
— И поставлю!— вдруг заявляет он.— Не сумлевайтесь! Сегодня же поставлю. Я ему докажу... До самого Пономарева дойду!
Услышав такое заявление Оренбуркина, Баталов переводит взгляд на бревно, при
17
ставшее к берегу, следит за тем, как к нему со стуком подваливает второе, а потом, покачавшись, тычется в песок третье. Он еще медлит какое-то время, вспоминает Андрея Денисова, его лицо, негромкий глуховатый голос, потом говорит Леве:
— Гусев! Наведи порядок!
Лева сбрасывает с колен собачку, вскакивает и бежит к реке.
2
На небольшой поляне, у пологого спуска к воде, стоит потемневшая тесовая будка. Вблизи ее топорщится палатка — принадлежность всех котлопунктов от верховьев Каны до ее устья. Ярко пылает костер, хотя еще светло — солнце только что зашло за Мак-симычеву гору.
За дощатым столом на двух длинных скамьях сидят сплавщики, ужинают.
Хорошо едят сплавщики, аппетитно. Не слышно разговоров, шуточек, лишь бойко стучат ложки о край мисок. От вкусного борща лоснятся лбы, краснеют щеки. По сплав-щицкой традиции ужин без стопки после работы в воде — не ужин, а дурохлеб. В былые времена даже в договор вписывали пункт относительно нее. Теперь пункта нет, но водку на котлопунктах держат. Без этого нельзя! И выдают ее стряпухи лишь по разрешению начальников пикетов. Без этого тоже нельзя!
Вот уже по второй миске борща опоражнивают сплавщики. Бойкая, краснощекая стряпуха Степанида,— ей нет еще и сорока лет,
18
поднатужившись, ставит перед ними огромный противень с кусками мяса.
— Ешьте, работнички!— говорит она певучим голосом.— Кушайте на здоровьице!
Сплавщики принимаются за мясо. Едят они обстоятельно, неторопливо. Когда на столе мясо, торопиться не принято, сплавщики не уважают этого. Да и спешить некуда: вода спала, древесина лежит в русле. Утром дадут вал, древесину подымет, понесет по реке — вот тогда и нужна спешка!
Впереди всех — поближе к костру, к теплу — сидит Маркел Данилович Паньшин. Ест он тихо, степенно, подбирает со стола в ладонь упавшие крошки, отправляет их в рот. Рядом — начальник пикета Андрей Денисов — жует сосредоточенно, не поднимая головы. Видимо, думает о завтрашнем дне. А может, о сегодняшнем заторе? Беспокойное дело быть начальником пикета!
Энергично работает челюстями Серега Попов. Не отстает от него и Семен Баталов. Он сидит напротив Денисова, накинув на плечи пиджак, поглядывает на хмурого начальника пикета.
Павел Оренбуркин — красный, вспотевший — усердно мнет мясо остатками зубов, подолгу катает его во рту. Зато Лева Гусев управляется за двоих. «Порубать — это вещь!»— как бы говорит он, смачно высасывает мозг из косточек, с хрустом обгладывает их и бросает под стол собачке.
В конце стола сидят два парня. Это — Гриша и Минька. Они не обращают внимания на других, сидят сами по себе, поглядывают друг на друга, улыбаются чему-то, известному
19
им одним. Минька невысокий, коренастый, у него круглая голова, короткий щетинистый ежик. Держится он строго, улыбается редко, скупо. Гриша повыше, потоньше, лицо у него нежное, улыбчивое, голова в мелких темно-русых кудрях. Гриша красивый парень, и даже большие оттопыренные уши не портят его.
Но вот Паньшин вытирает руки о тряпицу, учтиво поданную стряпухой, очищает от крошек бороду и принимается за чай. Чай — это тоже традиция. При работе на холодной, ветреной реке кружка крепкого, горячего чая — очень стоящее дело.
— Кушайте, работнички!— поет Степанида.— Не стесняйтеся. Пейте внакладку!
Сплавщики негромко переговариваются, разбирают кружки с чаем, кладут в них большие комья сахара и, обжигаясь, пьют. Лишь Минька с Гришей пренебрегают чаем, встают из-за стола, подходят к бачку и дуют по очереди холодную воду.
Наступает вечер, лес темнеет, свет от костра падает желтыми пятнами на будку, на ближние деревья. Над рекой белым покрывалом висит туман, она тихо под ним плещется, ворчит.
— Стенюха!— кричит Оренбуркин.— Таракан в чаю! С усами!
— Господи!— испуганно ойкает Степанида и бежит торопливо к столу.— Чего молотишь? Какие тут тараканы?
Но Оренбуркин, напугав стряпуху, громко хохочет, поглядывая на сплавщиков. Те сдержанно улыбаются и, кончив пить чай, выходят из-за стола, идут к костру, рассаживаются, вынимают сигареты, жестяные коробочки с махоркой.
20
— Балабон ты, балабон и есть,— обиженно говорит стряпуха хохочущему Оренбуркину и начинает убирать посуду.— Ему соврать — как с горы сбежать.
Оренбуркин — сытый, довольный — встает, опасливо обходит Степаниду, подсаживается к сплавщикам.
— Эй, молодежь!— кричит он.— Ну-ка, подкинь дровец. А то темно... Как у Сте-нюхи за пазухой!
— А ты у меня там был?— с вызовом спрашивает Степанида, перестав греметь посудой.— Скажи, был?
— Нужна ты мне!— опять хохочет Оренбуркин.— Добра-то! Своя есть!
— Перестань!— строго говорит Паньшин, и Оренбуркин скисает.
Минька с Гришей подваливают дров в костер, он ярко вспыхивает, трещит, сыплет искрами.
Серега Попов встает, бросает в огонь окурок.
— Ну, я пошел,— говорит он, ни к кому не обращаясь, надевает шапку, ватник, пересекает поляну и исчезает в темноте.
Сплавщики молча, понимающе глядят ему вслед. Лишь Оренбуркин хрипло дышит, готовясь рассмеяться, но Паньшин осуждающе смотрит на него, и тот умолкает.
Каждый вечер Серега уходит в Никольск. Двенадцать километров туда, двенадцать обратно. Сплавщики сочувствуют: парень недавно женился. Хоть до кого довелись!..
Что ни говори, а приятно после сытного ужина посидеть вот так у костра и, закурив, глядеть на огонь, ни о чем не думая, следить,
21
как пляшет пламя, как яростно лижет поленья. Тепло, покойно, потрескивают дрова, домовито бренчит мисками стряпуха. Сплавщики сидят задумавшись, молчат.
Тишину нарушает громкий хлопок. Это Баталов, кончив курить, выбивает из мундштука окурок сигареты. Очистив мундштук, он прячет его в нагрудный карман, глядит со значением на Оренбуркина. Но тот сидит, распахнув ватник, вытянув руки к огню, и не обращает на него внимания. Баталов недовольно отворачивается от Оренбуркина и пристально смотрит на Денисова, сидящего поодаль, в стороне от костра. Денисов поднимает голову:
— Ты что, Семен?
Но Баталов молчит, не торопится начинать разговора.
— Говори, если что,— разрешает Денисов.
— Хорошо,— соглашается Баталов.— Поговорить нам следует.
— О чем?— спрашивает Денисов.
— Есть о чем.— Баталов оглядывает сплавщиков, прислушивающихся к разговору.— Заторы каждый день, рабочие выбиваются из сил на разборке. Разве тебя это не беспокоит?
— А цена?— спохватившись, хрипло, с присвистом, подает голос Оренбуркин.— Цена какая? Пусть скажет!
— Эксплуатация!— кричит Лева Гусев и обводит всех страшными глазами.
— Конечно, беспокоит, но при чем тут я?— удивляется Денисов.— Все виноваты... Заторы по нашей вине происходят. Не следим как следует за рекой, вот и заторы.
22
Оренбуркин неожиданно вскакивает, подбегает к Денисову.
— А вода какая? Тебе это неизвестно? По такой воде без заторов не обойдешься... И за рекой следи, и заторы устраняй, и лапы разбирай. Где же тут успеть? Кабы вода, как в прошлом году!
Денисов знает, как было в прошлом году. Кана хорошо играла, за десять дней пропустили всю древесину с верховьев. А нынче зимой снега мало было, весна тянулась долго, когда лед прошел — воды в реке не осталось. Хорошо, что вверху, выше лесных складов, есть небольшая плотинка,— ее перекрыли, копят воду и раз в сутки, по утрам, дают вал. Но вал катится пять-шесть часов, потом вода уходит, река мелеет, древесина оседает в русле. Вот такими скачками уже неделю и передвигается древесина к Никольску. Трудно, конечно, Денисов понимает это, но не получается иначе. Нельзя же оставить сорок тысяч кубометров бревен на берегах реки!
— Мне все это известно, Павел Кузьмич,— говорит Денисов.— Если со вниманием работать, следить за рекой, и при этой воде заторов можно избежать. И разбирать тогда будет нечего... Вот возьми сегодняшний случай...
— Подожди, не в этом дело.— Баталов нервно шарит по пиджаку, ищет карман, достает из него сигарету, сует в мундштук.— Сегодняшний случай — особая статья, тут есть виноватые. А ты скажи: кто виноват, что воды в реке нынче мало? Разве пикетчики... Павел Кузьмич правильно говорит: работы прибавилось, а цена прежняя. Это несправедливо!
23
И рабочие правы, поднимая этот вопрос перед тобой как перед начальником пикета.
Баталов мельком взглядывает на Паньшина, но Паньшин молчит. Он сидит, облокотившись на колени, слушает, но в разговор не ввязывается.
— Обошли нас!— кричит Оренбуркин, вертясь перед сплавщиками, размахивая рукавами ватника.— Обманули по неопытности начальника пикета! У Белкина одиннадцать человек, а у нас восемь. А зарплата одинаковая. Обошли!
— Правильно!—ревет Лева Гусев.— Обошли!
— Чего кричат?— отзывается Минька.— У Белкина пикет семь километров, а у нас пять. Потому у них и людей больше.
— Не в этом дело!— кричит Оренбуркин.— Ты не понимаешь! Не встревай! Молод!
Минька недовольно свистит, подымается и отходит к будке. Вслед за ним уходит и Гриша.
— Вот что, Пашка.— Паньшин манит пальцем Оренбуркина, тот нерешительно подходит к нему.— Зря орешь... Вот они, парни, в пример тебе будут. На ихнем участке ни одного затора... Глядеть надо зорче, и всех тут делов.
— Так вода же!— выходит из себя Оренбуркин.— Вода-а! На такой воде что заработаешь, ежели заторы бесплатно разбирать? Тебе легко говорить, у тебя одна старуха. Она и на груздях прокормится. Наберет корзинку — и на базар. А у меня семья! Мне заработать надо!
Парни приглушенно хохочут. Даже Денисов не может удержаться от улыбки. Все знают, что семья Павла Оренбуркина давно обходится
24
без него. И сам он там редкий гость, все семейные дела вершит жена — умная и строгая Любовь Евдокимовна, кладовщица Терешкинского лесопункта.
— Хитрый ты, Пашка! Знаю я тебя вот с этаких пор.— Паньшин поднимает руку на полметра от земли.— Привык на шермачка. Так и тянет тебя к легкой жизни! Раньше такие вот, как ты, нарочно заторы устраивали, чтобы дурные деньги зашибать... Не то время, Оренбуркин!.. Да садись ты! Не стой чучелом!
Оренбуркин нехотя садится, отворачивается от Паньшина.
И тут разражается бранью Лева Гусев. Он сидит на свернутой валиком телогрейке, поджав под себя ноги, и, не глядя ни на кого, кроет матом всех святых угодничков, всех дерьмовых начальничков, которые не понимают душу человека, портят ему жизнь законами, вечными придирками.
— К черту! Плюю я на это дело!— кричит Лева.— Грабьте! Берите последнюю рубаху!.. Нету правды на свете!
Озабоченная Степанида появляется у костра, подходит к Леве, трогает его за плечо.
— Ой, Лева! Зачем это ты так-то. Не нужен нам этот шум!
Лева неожиданно умолкает, зверовато оглядывается вокруг и опускает на грудь голову. Все молчат, обескураженные его выходкой.
Первым приходит в себя Семен Баталов.
— Давайте вернемся к разговору,— говорит он нетерпеливо.— Не будем отвлекаться... Думается, вопрос этот поднят своевременно. И начальнику пикета надо его решать по-государственному, а не отделываться общими фра
25
зами. Ты, Андрей, молодой еще руководитель, и я хотел тебе по-дружески посоветовать... Раз заторы по такой воде неизбежны, ставь вопрос перед начальником сплавучастка, требуй отдельной оплаты за них или дополнительную рабочую силу на разборку. Нельзя выезжать на одном голом энтузиазме! Надо тебе позаботиться, чтобы рабочие не зависели от стихии, зарабатывали хорошо. Вот что требуется от тебя на сегодняшний день!
И Баталов, закончив речь, пытливо поглядывает на сплавщиков, ждет, как они отнесутся к его советам.
— Правильно, Семен Петрович!— вскрикивает Оренбуркин и тянется к Баталову.— В корень смотришь! В самую точку! Вот кого надо было назначить начальником пикета!
У Денисова на лице недоумение. Он смотрит по очереди то на Баталова, то на Паньшина. Ему кажется удивительным, что именно Баталов поддерживает рваческие настроения Орен-буркина, вносит раскол в бригаду.
— Не ожидал я такого от тебя,— наконец говорит он Баталову.— Это Павлу Кузьмичу простительно, он человек... пожилой, малограмотный. А ты... Такие должности занимал. А говоришь, как... как...
— Договаривай. Не стесняйся,— поощряет Баталов.
— ...как последний шкурник!
Баталов бледнеет, но берет себя в руки, пытается снисходительной улыбкой смягчить невыдержанность начальника пикета.
— Вот! Видал?— взвизгивает Оренбуркин, подскакивая к Баталову.— Оскорбляет он тебя, Семен Петрович! А почему? Не может забыть
26
старого, ревнует к своей жене, к своей распрекрасной Шурочке!
Оренбуркин оборачивается к сплавщикам, говорит, задыхаясь:
— Вот ведь как получается, граждане,— затаил злобу на одного, а мы все виноватые.
Денисов на какое-то время немеет, сидит неподвижно, потом с силой швыряет на землю дымящуюся папироску, тяжело поднимается, не сводя глаз с Оренбуркина, но его опережает Баталов:
— Не надо, Павел Кузьмич, не в этом дело... Просто Андрей меня не понял и погорячился.
Постояв, Денисов вновь усаживается, достает папиросы. Внешне он спокоен, но Паньшин с тревогой следит за ним, видит, как ломаются у него в руках спички, как он долго не может прикурить.
— Трепло ты, Пашка!— с горечью говорит Паньшин.— Как есть трепло! Лезет из тебя всякая дрянь... Ну, чего ты наплел! Спроси — сам не знаешь. Какая такая ревность? Живут они с Шурой хорошо, полюбовно, счастливо живут. Как говорится, дай бог всякому. А ты тут...
И он досадливо машет рукой.
— Счастье не нож, в руки не возьмешь,—. как-то печально и задумчиво, про себя, говорит Степанида. Она все еще стоит возле Левы Гусева, сунув руки под фартук.
— Счастье?!— переспрашивает ее Оренбуркин и ядовито смеется.— Эх ты, Стенюха! А в чем оно, знаешь? При таких вот порядках, как у нас на сплаву, никакого счастья не видать. Останемся нынче всяк при своих ин
27
тересах: сплавучасток премию за ударную работу получит, а мы — грыжу. Вот тебе и счастье! Вот тебе — и уря, уря!.. Нет! Счастье, когда есть в кармане кое-что. Тогда я — самый счастливый человек на свете! Хочу — работаю, хочу — на мягком диване лежу. Тогда я все могу!
— Эх, Пашка!— тяжко вздыхает Паньшин.— Недаром тебя балабоном зовут. Счастье не в этом, не в деньгах... Оно... в человеке...
Оренбуркин не отвечает, хрипло посмеивается.
— Мы не закончили разговора, товарищи,— вновь говорит Баталов, поглядывая с неудовольствием на Оренбуркина.— Не понимаю, что обидного Андрей нашел в моих словах? Я не о себе забочусь, а вот о них,— и он широким жестом обводит рабочих.— Мне что, я на время послан, не сегодня-завтра могут отозвать... Но если Денисов затрудняется, может, вы Маркел Данилович, подскажете, где следует... Считаю, что вопрос серьезный, не решать его нельзя.
— Тут и решать нечего,— вновь не сдерживается Минька. Видимо, ребятам наскучили споры.— Работать — пока вал идет, за проплав плата известная. За заторы ничего не платят, поэтому их не допускать. Вот и все!
— Пускай выскажется,— сухо говорит Паньшин.— Пускай... Послушаем.
Гриша идет в будку, появляется с транзисторным приемником, включает его, и в ночную темноту врывается девичий голос. Он плывет над лесом, над речным туманом, до чуть видимой на звездном небе Максимычевой горы, и там замирает:
28
Ох, не растет трава зимой, Хоть поливай, не поливай!
Костер неровно, вспышками освещает замолчавших сплавщиков, выхватывает из темноты то ствол дерева, то угол стола, деревянную скамью.
Неожиданно Баталов поднимается, уходит в будку. Но вскоре возвращается уже одетым в кожанку, с планшеткой через плечо.
— Куда это вы на ночь глядя, Семен Петрович?— спрашивает его от палатки невидимая сплавщикам Степанида.
— Схожу к соседям, на пикет Белкина. Узнаю, как у них с этим вопросом. И вообще поинтересуюсь делами. Имею поручение от парткома.
— Сходи, Семен Петрович,— подает голос Оренбуркин.— Сходи, разберись. Если тут не пробьем, до Пономарева дойдем.
— Дойдем!— рявкает Лева.
Баталов еще какое-то время стоит, роется в планшетке, шуршит бумажками. Никто его не отговаривает, и он уходит.
3
Крепко спят уставшие за день сплавщики. Посапывают Минька с Гришей, сердито, неразборчиво, как индюк, бормочет во сне Лева Гусев. Оренбуркин тоненько, насмешливо свистит носом, время от времени громко всхрапывает, как напугавшаяся лошадь. В будке темно, душно. Отблеск потухающего костра играет на стеклах маленького оконца, падает на пустую койку Баталова.
Андрей Денисов не спит, ворочается. Собы
29
тия вечера не дают ему уснуть. Он морщится, жмурит глаза, поворачивается на бок, восстанавливает все, как было. Вспоминает, кто где сидел, что делал, как заговорил Баталов, как нахмурился Паньшин и как он — Денисов — не смог сдержать своего возмущения. И вот тут, словно помои на голову, эти грязные намеки Оренбуркина!
Он опять ворочается, вытягивается на койке, смотрит в темноту, хотя ничего там не видит,— ночь плотно стоит в будке. Кажется, ночь сейчас всюду, над всем необъятным миром.
Окидывая мысленно окрестности, Денисов видит бесконечные леса, невысокие южноуральские горы и между ними узкую ленточку Каны. Если пойти вверх по реке, в пятнадцати километрах отсюда стоит хуторок Терешки, теперь поселок, центр лесозаготовок в верховьях Каны. Там вот и родились они с Семеном Баталовым, росли, учились в школе. Еще мальчишками крепко сдружились, сидели за одной партой; летом пропадали на Кане, купались, ловили бреднем рыбу, осенью ходили с отцовскими ружьями на охоту, били рябчиков, тетеревов.
Окончив семилетку, пошли работать в лес, в делянку. Работали на пару, еще больше подружились, друг без друга не появлялись ни в клубе, ни на вечеринках у девчат.
Отношения их порядком охладели, когда они оба, уже взрослыми парнями, влюбились в одну девушку — в Шуру Корневу, и та отдала предпочтение Семену. Но и тогда Андрей не порвал дружбы с Семеном, лишь по вечерам избегал его, чтобы не видеть рядом с ним Шуру.
зо
Так продолжалось около года, пока Семен неожиданно не исчез из поселка. В поселке недоумевали, поражались его поступку, не находили ему объяснения, переживали за Шуру.
Два месяца от Баталова не было вестей. Наконец мать получила письмо: сын жил в Орске, работал в милиции. Мать уехала к нему, и о Семене в Терешках стали забывать.
Вскоре Андрей женился на Шуре...
Десять лет ничего не знали в родных краях о Семене Баталове: где он, что он? Ходили слухи, что кто-то его видел, даже разговаривал, будто Семен стал большим начальником, но все это было зыбко, недостоверно.
Объявился он неожиданно — год назад, когда у Денисова родилась вторая дочка. Баталов не вернулся в Терешки, устроился работать в Никольске начальником пожарной охраны леспромхоза.
Андрею не приходилось встречаться с ним, да, собственно, у Денисова и не было никакого желания видеть Баталова. Наоборот, появление Семена обеспокоило Денисова. Он присматривался к жене, хотел знать, как она поведет себя, услышав о Баталове, может, вспыхнет, смешается, покажет, что не забыла прошлого. Но Шура приняла известие о Баталове спокойно, и Денисову стыдно стало за свои подозрения. Он вскоре успокоился, перестал думать о Баталове, жизнь его пошла по-прежнему, своей привычной дорогой.
Но вот в конце нынешней зимы они наконец неожиданно столкнулись.
Тот день особо памятен Денисову: его пригласили на заседание парткома — принимали в партию.
31
Он приехал в Никольск рано, задолго до назначенного часа, и с какой-то тревогой ждал начала заседания. Но все обошлось благополучно. Лишь секретарь парткома Пантелеев Иван Алексеевич, поздравив его со званием коммуниста, предупредил:
— Помни, Андрей, это звание ко многому обязывает. Большую ношу ты на себя взял... Смотри не споткнись, иди твердо.
Денисов вспоминает и улыбается. Он ответил тогда Пантелееву четко, по-военному:
— Есть идти твердо!
И вот тут, выходя из кабинета, увидел в приемной Семена Баталова.
Они поздоровались, оглядели друг друга. Оказалось, что кроме: «Ну как? Да вот так...»— им и говорить не о чем. Встреча получилась натянутой, сухой. К тому же Баталов сидел и хмурился, прятал лицо в воротник старенького полушубка. На вопрос Денисова неохотно пробурчал, что у него неприятности по службе, сегодня на парткоме разбирается персональное дело. Денисов хотел для приличия спросить, что за дело, и не спросил, поторопился уйти,— не интересовали его дела Баталова.
Во второй раз они встретились снова в Никольске, незадолго до сплава. Денисов приехал в контору сплавучастка — надо было получить снасти — и вновь столкнулся с Баталовым, когда тот выходил из кабинета Пономарева. Они поздоровались уже без прежней неловкости, отошли в сторону.
Баталов на этот раз выглядел солидно, даже внушительно, словно приезжий уполномоченный. Он был в дорогом костюме, чисто выбрит, от него пахло одеколоном. Лишь вместо
32
портфеля на плече новенькая офицерская планшетка. Но был снова хмурым, чем-то недовольным.
— Как живется в родных местах?— спросил его Денисов.— Не раскаиваешься, что вернулся?
Баталов ответил не сразу. Посмотрев на дверь кабинета начальника сплавучастка, он для чего-то открыл планшетку и, щелкнув кнопкой, закрыл ее.
— Как тебе сказать? Живу вроде нормально... Вот получил направление парткома на сплав.
— На какую должность?— поинтересовался Денисов.
— При чем тут должность?— поморщился Баталов.— Чтобы вести массово-политическую работу среди рабочих, не обязательно занимать должность. Буду работать рядовым, как и все... Временно, конечно, на период сплава.
— Вон как! — удивился Денисов: Семен Баталов — и рядовым рабочим? Но ничего не сказал, спросил только, куда тот пойдет, на сброску или на проплав?
Баталов вновь посмотрел на дверь кабинета.
— Не решил еще... Может, к себе на пикет возьмешь? По старой дружбе.
Денисов недоверчиво взглянул на Баталова — не шутит ли тот, но Баталов оставался серьезным, и лицо у него было строгое, без какого-либо намека на улыбку, лишь веко на левом глазу мелко-мелко подрагивало.
— Бери, не подведу,— успокоил Баталов, видя замешательство Денисова.— Поработаем вместе, как раньше. Можешь на меня положиться. Помнишь, как работали?
«А что?— подумал Денисов.— Пусть! Человек он здоровый, силенка есть бревна ворочать». Правда, в душе шевельнулось чувство протеста, вспомнилось счастливое лицо Шуры рядом с надменной улыбкой Семена, но он тут же подавил непрошеную мысль. «Это дело прошлое... Не вправе я ворошить его. Виноватых там нету...»
И он по-другому, дружелюбнее посмотрел на Баталова.
— Ну что ж? Давай... Давай поработаем.
Баталов подал Денисову руку, и они, смеясь, обменялись рукопожатием, словно печатью скрепили возобновление прежней дружбы...
Денисов лежит, перебирает все это в памяти. «А может, Баталов прав?— думает он.— Не о себе разговор завел, о деле... Может, следовало прислушаться, поднять вопрос перед начальником сплавучастка об оплате разборки заторов?»
Но сколько он ни думает, не может согласиться с доводами Баталова. Если согласиться, значит снять с пикетчиков всякую ответственность за проплав древесины. Тогда заторов не оберешься, сорвут они сплав.
Нет, прав он, так и надо было ответить Баталову! И совсем тут дело не в Шуре.
Думая о Шуре, он не может удержаться от волнения, встает, набрасывает на себя ватник и тихонько, стараясь не скрипнуть дверью, выходит из будки.
На котлопункте темно, ветрено. Беспокойно шумит лес, небо хмурится, обещая непогодь. Ветер разогнал туман, река мертво, оловянно блестит. Денисов, поеживаясь от холода, пьет
34
из бачка воду, садится на чурбак у костра, закуривает...
Не одному начальнику не спится. Маркел Данилович Паньшин тоже проснулся. Он слышит, как ворочается Денисов, как разговаривает сам с собой. Когда тот выходит из будки, Паньшин приподнимает голову, прислушивается с тревогой.
Он понимает Андрея, разделяет его беспокойство. Маркел Данилович сам до ухода на пенсию тридцать лет, с перерывом на войну, гонял моль по Кане. Был и рабочим, и начальником пикета, знает, как нелегко работать в нынешних условиях.
Паньшин вспоминает: перед сплавом Денисов зашел к нему посоветоваться. Они посидели, поговорили о весне, о воде. Паньшин присматривался к Андрею, видел, что тот побаивается: весна обещала быть трудной, а начальником пикета он первый год, до этого был рабочим. И он вызвался сам пойти на пикет, помочь на первых порах.
Маркел Данилович тяжело вздыхал, лежа на койке. «Молод еще,— думает он о Денисове,— не умеет командовать. Где надо крикнуть — просит, уговаривает... Да и где было научиться? Простой мужик».
Не дождавшись Денисова, Паньшин встает, выходит из будки, оглядывается по сторонам, видит огонек папироски. Сходив за будку, он подходит к Андрею, опускается рядом.
— Чего не спишь?— спрашивает он строго.
Денисов молчит, затягивается папироской. Ему страшно признаться, что не спит из-за ссоры с Баталовым, из-за глупой сплетни Орен-буркина.
35
— Зря расстраиваешься,— доброжелательно, понимающе говорит Паньшин.— Не стоят они того. Особенно этот... Баталов.
— Черт его знает! Ведь он говорит, что за рабочих болеет, о них заботится,— отвечает Денисов.
— Будя!— прерывает, его Паньшин.— Не переживай! Не оправдывай! Если ты ослеп, я все вижу... Планжетку купил! Зачем ему план-жетка?
— Не в планшетке дело, дядя Маркел.
— Нет, в ей! Хочет показать, что он понимающий, а мы — лесные пеньки... Ишь, выскочил, советы начал давать, как сплав вести. Без него не знали!
— Коммунист же он, дядя Маркел,— сопротивляется Денисов.— Хочется верить... Если не верить людям, как тогда жить?
— Людям надо верить,— перебивает Паньшин,— да вот не каждому можно доверять... А твоего Баталова я насквозь вижу. Он и Оренбуркина приспособил. Пашка жадный на деньги, вот он и пользуется.
Нет, тут Маркел Данилович не прав. Вернее всего, не Баталов приспособил Оренбуркина, а наоборот, Оренбуркин воспользовался неопытностью Баталова в своих шкурных интересах. Вот Баталов и полез с советами к начальнику пикета. Но Денисов не говорит этого Маркелу Даниловичу, не хочет обижать старика.
— Не надо было его брать,— упрекает Паньшин.
— Как ему откажешь?.. Просился крепко.
— Мало что просился!.. Разбираться в людях следует,— поучает Паньшин.— Мы не все
36
одинаковые... Из одного теста, да закваска у нас разная. Вот что надо тебе понять!
Паньшин говорит тихо, с паузами. Шумят сосны, тревожно кричит козодой — ночная птица, на той стороне реки по дороге идет машина — видно, как прыгает, мечется по деревьям свет фар. Денисов опять закуривает, слушает неровную речь Маркела Даниловича, не перебивает.
— Река у нас маленькая, и работа у нас маленькая, невидная... А вот из таких бригад, как наша, сплавуча^ток состоит. А из сплав-участков сплавконтора, леспромхоз, а из них — трест. А там и весь Советский Союз... Вот какое дело! Вот какая ответственность лежит на нас!
Денисов понимает, Маркел Данилович не зря сидит с ним ночью у потухшего костра. Он смотрит с благодарностью на него, видит спутанные волосы, белеющий лоб.
— Что там в Никольске?— после недолгого молчания спрашивает Паньшин.— Зачем вызывали?
— Торопят, дядя Маркел. Неделю сплав ведем, а в пруд к Никольску пришло только десять тысяч... И ниже пруда вся Кана забита лесом,— нет воды. Вся надежда на вал, а пруд мелеет и мелеет.
— Дела-а,— изумляется Паньшин.— Давно так не было... Может, дождичек дело поправит, воды даст.
Он смотрит на небо, но ничего там не видит: ни туч, ни звезд.
— Ну и дела!— повторяет он.
Из-под будки тявкает Левина собачка, слышатся шаги,— кто-то спешит, пересекая поляну. Денисов с Паньшиным ждут, вглядываются в
37
темноту. Шаги становятся явственней, ближе, и на котлопункте появляется Баталов. Он осматривается по сторонам, но не видит сплавщиков, быстро идет к будке, скрывается за дверью.
4
Утром рано, чуть свет, Андрей Денисов поднимает бригаду и ведет ее на двадцать пятый километр: надо успеть до подхода вала разобрать лапы, оставшиеся от вчерашнего затора.
Стоит тихое звонкое утро; небо чистое с белым ломотком луны. С ветвей срываются на тропу холодные капли осевшего тумана. Сплавщики идут по тропке гуськом, положив багры на плечи.
Впереди всех шагает Маркел Данилович Паньшин: он без шапки, она лежит у него за широкой пазухой. У Паньшина суровое, сосредоточенное лицо, на непокрытой голове венок седых волос. Он идет торжественно, словно на подвиг, смотрит зорко вперед на синий горизонт, на поблескивающую меж деревьев Кану.
Сзади него шагает Андрей Денисов. Смутное, неопределенное настроение у начальника пикета. То он нахмурится, потемнеет, идет, не отрывая глаз от выбитой ногами сплавщиков тропки. То вдруг распрямится, подымет голову, окинет взглядом березы, медностволые сосны.
Следом за ним идет Павел Оренбуркин. Он торопится, старается не отстать от Денисова, впопыхах наступает ему на пятки, виновато улыбается, морщит лицо. Зато Семен Баталов не спешит, идет независимо, одиноко.
Позади Баталова, впритык к нему, широко
38
вышагивает, крепко ставит ногу Лева Гусев. Баталову неприятна эта близость Левы, он тяготится ею, но тот не замечает этого, идет, выпячивая грудь, словно хочет прикрыть своим телом дорогого товарища Баталова от грозящей опасности.
Минька с Гришей идут сзади всех, дурачатся, бьют баграми по стволам олыпин и, гогоча, разбегаются в стороны, когда сверху начинает сыпаться, как дробь, холодная капель. Серега Попов ежеминутно оборачивается, поглядывает на разыгравшихся парней; ему хочется бросится к ним, ввязаться в игру, но он сдерживает себя: несолидно,— что подумает дядя Маркел?
Цепочку сплавщиков замыкает лохматая собачка Левы.
Вот и место вчерашнего затора. Сплавщики останавливаются подле первого костра бревен, смотрят, оценивают — сколько тут потребуется времени, чтобы сбросить древесину в русло.
— Зряшная работка,— говорит Серега Попов и пренебрежительно сплевывает.— Кто-то напортачил, а мы гни спину.
Денисов сбивает шапку на затылок, поворачивается к сплавщикам. Он старается не глядеть на Баталова, стоящего впереди всех.
— Вот что, товарищи,— начинает он официально.— В сплавучастке меня предупредили, что за допущенные заторы отвечает вся бригада.
— Правильно!— взрывается Оренбуркин, сдергивает с себя шапку, обнажая реденькие спутавшиеся волосы, и театрально машет рукой.— Правильно, Андрей Степанов! Ты, оказывается, вразумительный человек!
39
Паньшин с недоумением глядит на Денисова, на восторженного Оренбуркина, на сурового, замкнутого Баталова, недовольно качает головой, взмахивает багорцем, с силой бьет по бревну.
— Подожди, не все сказал,— обрывает Денисов Оренбуркина.— А я вас предупреждаю: в бригаде будет отвечать тот, кто допустит затор. Из своего заработка... Кто не согласен с этим, может хоть сегодня уходить с пикета. Не держу!
— Вот теперь будет правильно!— хохочет Серега и нахлобучивает онемевшему Орен-буркину шапку на глаза.— За твой счет будем сегодня лапы разбирать.
Минька с Гришей тоже смеются, глядя на Оренбуркина. Но молчит Баталов. Молчит и Лева, лишь ворочает белками глаз.
— И давайте условимся,— повышает голос Денисов,— кончать с разговорами, жаловаться на воду... Этот затор пусть будет первым и последним.
Он мельком взглядывает на притихшего Баталова, поправляет шапку, поднимает с земли рычаг и идет к Паньшину.
Сплавщики приступают к работе.
Работают они слаженно: раскатывают лапы, сбрасывают бревна в воду, выталкивают на струю, где поглубже, посильнее течение.
— Раз-два, взяли! Раз-два, взяли!
Бревна глухо стучат, падают с плеском в воду, раскалывая реку, летят от них во все стороны брызги. Над рекой, как суматошные чайки, носятся крики сплавщиков, отражаются от леса, от горных увалов, скатываются под крутые берега Каны.
40
Вот уже одна кучка бревен сброшена в воду, вторая... Солнце пробивается сквозь ветви, пускает по воде зайчиков, красит в желтый цвет бревна, песок, прибрежные кусты. Сплавщики рады солнцу, серебряной реке, доброму утру, еще звонче кричат, веселее налегают на рычаги. Уже сброшены, валяются на песке шапки, ватники, сплавщики работают в одних рубашках, не ощущая знобкого весеннего холодка.
Денисов видит, как маленький, цепкий Минька бросается в реку вслед за бревном. Он бросается в воду, как в драку. За ним, напружинив тело, выставив пикой багор, спешит Гриша. Оба мокрые, веселые, работают наперегонки.
Длинный, нескладный Серега Попов шумит больше всех, горячится, подает команды. Левина собачка носится вокруг него, заливается лаем.
— Не крутись под ногами! Наступлю на хвост!— кричит Серега, подхватывает конец бревна и с выдохом бросает в реку.
Лева Гусев — кудлатый, толстощекий Лева вдохновенно работает, басовито гремит:
— Жмем, братцы!
Ко*гда бревно падает в воду, Лева радуется этому, смеется, кричит на всю реку:
— Пошла!
Чаще, чем на других, Денисов посматривает на Семена Баталова. Тот работает в полную силу, у него деловитое выражение лица. Нет и тени неловкости или замешательства в поведении Баталова, будто не было вчерашнего спора, не было сегодняшнего строгого предупреждения начальника пикета.
Но вот разобрана последняя лапа, сплавщи
41
ки смотрят на берег, усыпанный желтой сосновой корой, на реку, где плывут бревна, и удовлетворенно переглядываются.
Паньшин тяжело разгибается, трогает поясницу рукой.
— Пойдет большая вода, тут надо постоять, последить,— говорит он Денисову.— А то не ровен час...
Сплавщики умываются, утираются подолами рубах. Серега Попов и Гриша с Минькой валятся на песок, сбрасывают сапоги, выливают из них грязную воду. Глядя на мокрых парней, Паньшин сочувственно произносит:
— Эх, теперь бы чайку... Для сугреву.
И тут, как будто в сказке, как будто по щучьему велению, по его хотению, меж деревьев появляется Степанида. Она идет по тропке, переваливается с боку на бок, согнувшись под коромыслом с тяжелой кладью.
Первым замечает стряпуху Серега Попов. Он радостно вопит:
— Ура-а! Тетке Степаниде физкульт-ура!
Сплавщики шумно встречают приход Степаниды. Минька с Гришей бегут ей навстречу, снимают с коромысла ведро с варевом, термос с чаем, корзинку с посудой.
Павел Оренбуркин, в предчувствии еды, отдыха, говорит назидательно Сереге:
— Не так, неправильно, парень. Тут не ура кричать, а наблаголепно, вот так.
И он поет дребезжащим фальцетом:
— Слава! Слава! Слава тебе, Степани-душка!
— Ай да Степанида Ивановна!— говорит ласково Маркел Данилович.— Надоумилась, молодица!
42
Степанида — розовая, сияющая, довольная встречей, смотрит смело, беззастенчиво на мужиков.
— Я такая,— говорит она.— Я бядовая!
— Оказывается, гуляш сегодня,— объявляет Серега, заглядывая в ведро.
— О!— выдыхают восторженно парни.— Качать ее! Качать!
Лева Гусев и Серега Попов подбегают к Степаниде, подхватывают ее, но щекотливая стряпуха отбивается от них, визжит на всю реку.
— Жениха я тебе желаю, Степанида,— говорит тенорком, покровительственно Оренбуркин.— Жениха желаю!.. Чай, в годах, а ни девка, ни баба. Замужем еще не была, все так прохлаждаешься.
— А что нам? Живем!—весело отвечает Степанида, стелет скатерть прямо на песок, выкладывает хлеб, ложки, берет поварешку в руки.
Все это время Денисов молчит, не вмешивается, радуется приходу стряпухи, веселой возне парней.
Молчит и Семен Баталов, стоит, курит".
Но вот он выбивает хлопком окурок, кладет мундштук в карман и подходит к Денисову. Тот настороженно следит за ним.
— Ты, похоже, обижаешься на меня за вчерашний разговор? — спрашивает Баталов.— Вижу, не подойдешь, не поговоришь... Может, в самом деле ждешь, что уйду из бригады?
Денисов хмурится, говорит сурово:
— Да, Баталов, лучше тебе уйти. Видишь, какая обстановка сложилась... какие разговоры.
Он хочет сказать, что начались сплетни, кое-кто пытается воспользоваться этим во
43
вред делу. Но у него не поворачивается язык повторить все, что было вчера сказано Орен-буркиным.
— Напрасно обижаешься,— отвечает Баталов.— Это право каждого: вносить предложения, ставить вопросы. Ты можешь их не принять, но обижаться — это не по-партий-ному... А уйти с пикета я не могу, не хозяин себе: партком послал, партком и отзовет, когда будет надо... А насчет некоторых разговоров — не стоит на них обращать внимания. Надо выше их быть, Андрей.
Тут он придвигается вплотную к Денисову, осторожно снимает с его ватника приставшую хвоинку, поправляет выбившийся воротник рубахи. Денисов на миг теряется от такого неожиданного дружеского жеста.
— Давай будем работать,— говорит Баталов.— Работать по совести, в контакте. Друзья мы с тобой или нет?.. Что касается вопроса о заработках по такой воде, так это общий интерес, всей бригады. Я, как коммунист, не мог так оставить, не имел права, раз вопрос поднят.
— А кто его поднял?— насмешливо спрашивает Денисов.— Не ты ли?
— Ну хорошо, хорошо,— понимающе, предупредительно отвечает Баталов.— Если ты боишься поставить вопрос перед Пономаревым, не настаиваю,— я сам напишу в партком. Пусть разберутся.
— Тут и разбираться нечего,— не сдается Денисов.— Все и так ясно.
— А если решат положительно? Не из твоего кармана платить будут, чего ты противишься? Пусть люди зарабатывают.
— Ладно, пиши, переводи бумагу... Но я
44
тебя предупреждаю, если ты снова пойдешь на поводу у Оренбуркина, я не посмотрю на то, что прислан парткомом, выгоню к чертовой матери!
— Согласен,— отвечает Баталов,— не возражаю.
— Эй, где вы там?— кричит стряпуха.— Идитя! Все готово!
— Идем!— отзывается Баталов и тянет за рукав Денисова.
Но Денисов отстраняется от него, и Баталов отходит.
Денисов еще стоит, пытается обдумать то, что произошло. Пока ему ясно одно: Баталов остается на пикете.
5
Три дня сплавщики работают без происшествий. Утром встают, завтракают, расходятся по своим местам. Минька с Гришей идут вверх, на двадцать второй километр, Семен Баталов, Павел Оренбуркин и Лева Гусев — вниз, к двадцать пятому и двадцать шестому километрам; Маркел Данилович Паньшин и Серега Попов остаются на среднем участке, недалеко от котлопункта.
Все эти три дня Андрея Денисова не покидает тревожное настроение, хотя все идет как надо: бревна проходят пикет без заминок, пикетчики не зевают, не засиживаются, заторов нет...
Паньшин все ждал, что не сегодня-завтра Баталов уйдет из бригады. Но время шло, а Баталов не уходил, продолжал работать.
45
Однажды, улучив момент, Маркел Данилович спросил Денисова:
— Баталов-то вроде остается? Договорились, или как?
Денисов кисло улыбнулся:
— Написал, говорит, в партком. Ждет решения.
— Какого решения?— удивляется Паньшин.
— Ну, на другую работу, что ли,— покривил душой Денисов, не захотел признаться, что согласился с доводами Баталова, оставил его на пикете.
— Это правда, что написал?
— Сам говорил... Может, врет, не знаю.
Маркел Данилович задумался, но переспрашивать не стал.
К концу третьего дня, перед тем как стихнуть валу, Денисов решает пройти с бригадой по всему пикету, очистить реку от осевших толстых бревен — их на мелях и у берегов реки скопилось много.
Когда сплавщики добираются до конца пикета, они так выматываются, что валятся на землю и лежат, не в состоянии свернуть цигарки, чтобы затянуться разок-другой. Павел Оренбуркин — злой, недовольный— лежит, поджав губы. Молчит и Семен Баталов. Молчат молодые сплавщики. Лишь Лева Гусев время от времени сопит, отплевывается.
Солнце садится, исчезают тени, в лесу становится сумрачно, холодновато. Сплавщики, отдышавшись, закуривают, негромко переговариваются, поглядывают на часы, вспоминают Степаниду с ее гуляшами, разносолами.
Неожиданно на тропе появляется верховой.
46
Он гонит на рысях, пристально вглядывается в реку, словно ищет кого-то. Увидев сплавщиков, подворачивает к ним, спрыгивает с потного коня.
— Здорово ночевали!
Сплавщики узнают начальника соседнего пикета Белкина, нестройно здороваются. Белкин, невысокий, широкоплечий мужичок, валится на колени, подсаживается к ним.
— Помогите, товарищи,— торопливо говорит он.— Затор встал, никак не справимся.
Оказывается, рядом — полкилометра выше, образовался затор. Вот уже три часа пикетчики бьются, а конца работы не видать.
— То-то я гляжу — не плывет древесина по реке,— замечает Паньшин и скребет в бороде.— Хой-хой, думаю, вода на убыль пошла. Вот где беда-то! А тут затор... Это еще ничего! Это еще поправимо!
— Как ничего, дядя Маркел? Не разберем за ночь — вся река встанет... Помогите, товарищи! Тут рядом,— просит Белкин.— Я и наверх к соседям послал. Навалимся все, быстро разберем.
Сплавщики смотрят на давно не бритое, встревоженное лицо Белкина, собираются с мыслями.
— А сколько дашь?— вдруг резко, недружелюбно спрашивает его Павел Оренбуркин.
— Да, сколько дашь!— кричит Лева Гусев и рисуется, поглядывает свысока на всех.
Белкин встает, глядит недоуменно на Оренбуркина, перебирает в пальцах повод узды.
— Не понимаю вас, Павел Кузьмич,— говорит он, растерявшись.— Разве древесина моя собственная? Она же государственная.
47
— А вот эта спина,— Оренбуркин тычет пальцем через плечо,— государственная или моя собственная? Если моя — плати деньги. Видишь — к спине брюхо приросло, его кормить надо.
Белкин окончательно теряется:
— Так я же в порядке помощи, не как-нибудь... У вас случится — мы поможем. Река общая. Как говорят: один за всех, все за одного.
Андрей Денисов встает, отряхивает брюки от приставшей хвои.
— Не расстраивайся, Иван,— говорит он Белкину,— не оставим в беде. Еще не было у нас такого... Как, мужики?
— Помочь надо!
Минька, Гриша, Серега Попов вскакивают, берутся за багры. Поднимается и Паньшин.
— Идитя, ломитя, ударники!— хрипло смеется Оренбуркин.— А я бесплатно не согласный. Не таковский я!
Он встает, подхватывает багор и уходит в сторону котлопункта. Лева Гусев смотрит ему в спину, переводит взгляд на молчащего Семена Баталова.
— Мы не согласные! Не таковские!— отчаянно кричит Лева, не трогаясь с места, не сводя взгляда с Баталова.
— А ты, Баталов?— настороженно спрашивает Денисов.
Семен Баталов встает, болезненно морщится, поправляет на голове фуражку.
— К сожалению, не могу,— отвечает он.— Ногу натер...
Он обходит лошадь Белкина и, не глядя на
48
сплавщиков, идет к тропе, заметно прихрамывая. Вслед за ним уходит и Лева.
Денисов смотрит недолго, как вышагивает Баталов, как за его спиной тенью торчит Лева Гусев, и без сожаления отворачивается.
— Может, лошадь ему дать?— беспокоится Белкин, глядя вслед Баталову.— Как-никак уполномоченный.
— Кто уполномоченный?— спрашивает Серега.
— Как кто? Баталов же!.. На днях у нас был, рекомендовался уполномоченным парткома.
Парни гогочут, навалившись на багры.
— Ну и что он, этот уполномоченный? Поднимал вас на борьбу? Ставил вопросы?— спрашивает Серега Попов.
— Что-то говорил,— отвечает Белкин.— Мы его так толком и не поняли, легли спать.
Парни опять гогочут. Паньшин смотрит на посуровевшего Андрея Денисова, говорит как бы про себя:
— Плакать бы не пришлось нам с этим уполномоченным!
Сумрак виснет на голых ветвях берез, скрадывает тропинку, по которой возвращаются на котлопункт Павел Оренбуркин и догнавшие его Семен Баталов с Левой Гусевым. Вокруг удивительно хорошо: тепло, тихо, небо синее, река синяя, берега в опавшей хвое, как в рыжем бархате, стоят потные неподвижные деревья, истомившиеся по весне, а трое сплавщиков идут хмурые, недовольные, не видят вечерней красоты.
На котлопункте их встречают шумная, при
49
наряженная Степанида и повизгивающая собачка.
— А у нас гости,— радостно, полушепотом, сообщает стряпуха.
На поляне еще достаточно светло, чтобы разглядеть сидящего за столом пожилого человека. У него бритые дряблые щеки, толстый нос, узкие припухшие глаза, нижняя губа оттопырена и висит, как у старой лошади. Перед гостем стоит тарелка с закуской.
Семен Баталов где-то уже видел этого высокого, сутулого человека.
— Так это же Питель! Инженер сплавкон-торы!— изумляется Павел Оренбуркин, приглядываясь к гостю.— Здравствуйте, Сидор По-тапович! Какими судьбами?
Оказывается, Оренбуркин знает гостя. Он бежит к столу, заискивающе улыбается, кланяется:
— Вашу ручку, Сидор Потапович!
Питель отрывает глаза от тарелки, подает Оренбуркину широкую, как лопата, ладонь, которую тот жмет обеими руками. Потом Питель молча приглашает за стол, указывая место напротив себя.
— Это мы сейчас! Один момент!— расцветает Павел Оренбуркин, быстро раздевается, бежит к умывальнику, где уже топчутся Лева Гусев и Баталов.
Умывшись, он спешит к палатке стряпухи, просит пол-литра водки. Но тут его постигает неудача.
— Не могу,— говорит Степанида — не
имею правов без начальника пикета.
Оренбуркин обескуражен. Он унижается,
50
клянчит, бьет себя в грудь, говорит негромко, чтоб не услышал Питель:
— Стенюха! Ты ведь как дочь мне... Суседи. Я тебя всегда уважал... Дай полбаночки, неудобно перед Сидором Потаповичем с пустыми руками.
Но стряпуха непреклонна. Они спорят, пререкаются, когда к ним подходит Семен Баталов — умытый, причесанный.
— В чем дело, Оренбуркин?
— Не даёть,— жмется Оренбуркин.— Характер показываить.
— Отойди!
Семен Баталов отстраняет Оренбуркина, подходит к стряпухе, берет ее под руку, отводит в сторону, что-то шепчет на ухо. Степанида кивает головой, уходит в палатку, выносит пол-литра.
— Орел!— кричит Оренбуркин и крутит восторженно головой.— Химик!
— Химик!— подхватывает баском подошедший Лева Гусев.
Они идут к столу, неторопливо усаживаются. Стряпуха приносит граненые стаканы, соленых огурцов, нарезанного ломтями хлеба. Баталов не спеша, умело разливает по стаканам водку.
— С приездом вас!— глядя на Пителя, почтительно произносит Павел Оренбуркин и берется за стакан.
— С приездом!— повторяет за ним Лева.
Питель скучно, неохотно оглядывает сплавщиков, неторопливо шлепает губой:
— Будем знакомы!
Стряпуха разжигает костер, на стол ложится красноватый отсвет.
51
От сытного ужина, от яркого костра Павлу Оренбуркину становится легко, приятно. Он улыбается, жмурится, как сытый кот.
— Изволили нас посетить?— умиляясь, спрашивает он Пителя.— Проверить дела наши?
Питель неохотно отрывается от тарелки с огурцом, залитым подсолнечным маслом, отвечает, не переставая жевать:
— Да... Надо... Полагается.
— Давно пора,— оживляется Оренбуркин.— Давно-о пора! Дела наши хреновски!
— Дерьмовые дела!— поддерживает Лева Гусев и смотрит выжидательно на Семена Баталова.
На румяного, вальяжного Семена Баталова смотрит и инженер сплавконторы Питель. Он щурит глаза, задумывается, словно вспоминает, наконец спрашивает:
— Где-то я вас видел... Знакомое лицо.
Баталов приосанивается, хочет ответить Пи-телю, но его опережает Оренбуркин.
— Семен Петров Баталов! Начальник пожарной охраны. Орел!
— Был,— мучительно морщась, сознается Семен Баталов.— Был орел.
Питель жует губами, нюхает корочку.
— Погорели, значит?
Павел Оренбуркин сипло хохочет, запрокидывает голову:
— Ловко сказали, Сидор Потапович! Начальник пожаров... погорел! Ха-ха!.. Действительно погорел. Вот от этой!
Оренбуркин ударяет стаканом о бутылку, опять хохочет,— он уже пьян, говорит, что лезет на язык.
52
— Точно! Пострадал!— выкрикивает Оренбуркин.— Оно как... Ха-ха! Оно как получилось, Сидор Потапович? Выпил Сенька... то есть Семен Петрович. Значит, выпили Семен Петрович утром натощак швырок и пошли на работу. И деть по Никольску, а швырок-то у него в брюхе туда-сюда мечется, тоскует, скучно ему одному, другого требоваить... Ну, взял он другой, выпил, а они там, швырки-те, разодрались! Хе-хе! Ты подумай, тесно стало! Пришлось Семену Петровичу третий покупать, к ним посылать, мирить тех двух. А они втроем-то, слышь, сговорилися и повел и товарища Баталова через весь Никольск, по всем главным улицам. Вели, вели, довели до пожарной части и положили у самых ворот на все четыре лопатки. Вот как! Хо-хо!.. Тут и взяли нашего Семена Петровича дежурные с красными повязками.
Павел Оренбуркин хохочет, повизгивая, утирая слезы, и замолкает, увидев злое, пунцовое лицо Семена Баталова.
— Басни!— выкрикивает Баталов.— На-
говоры!
— Правильно, басни, наговоры,— соглашается Оренбуркин, виновато моргает глазами.— А я что? Я что говорю?
— А за что же, если не секрет, вас... отстранили?— спрашивает Питель.
— Стиль работы, видите ли, не понравился,— отвечает Баталов.— Им надо, чтобы я целовался с каждым, а я не могу... Не умею!
Питель не спеша переводил взгляд с надувшегося Баталова на потускневшего Оренбуркина, потом на осоловевшего Леву Гусева. Лева сидит в одной майке, прижав к груди собачку.
53
У него на руке, повыше локтя, нарисовано сердце, пронзенное стрелой. Поверх сердца синяя надпись: «не тронь его», а ниже — «оно разбито». Питель смотрит на рисунок, жует губами, поднимает глаза на Баталова:
— Будем знакомы!
Вновь устанавливается мир. Лева Гусев пытается что-то запеть, но его никто не поддерживает, и он умолкает, кладет отяжелевшую голову на стол.
Захмелевший Баталов пересаживается к Пителю.
— Вижу, вы человек умный, понимающий. Могу я с вами по душам поговорить? Как интеллигентный человек с интеллигентным человеком?
Питель подбирает отвисшую губу, изображает на лице глубокомыслие, заинтересованность.
— Слушаю вас, товарищ.
Баталов показывает на Леву, на его разрисованную руку, лежащую на столе, говорит приглушенно:
— Замечаете, в каких условиях я нахожусь? При моем опыте руководящей работы разве мне тут место? Среди этих?.. Я какими делами раньше ворочал? А теперь вот гну спину наравне...
Но тут он смолкает, спохватывается — не сказал ли чего такого, что не надо знать Пителю. Но Питель молчит, лишь изредка кивает головой.
— Конечно, работаю, стараюсь,— поправляется Баталов,— навожу порядок... Вкладываю свою силу, весь свой опыт.
54
Питель по-прежнему молчит, внимательно слушает.
— А дела на пикете,— Баталов машет безнадежно рукой.— Скажу вам откровенно, если бы не я...
— Если бы не Семен Петрович, хана бы нам! Крышка!— вставляет прислушавшийся Оренбуркин.— Замучил нас Андрюшка своими порядками. Выслуживается!.. А Семен Петрович...
Баталов не перебивает, ждет, что скажет Оренбуркин. Может, напомнит Пителю, что Семен Баталов борется за интересы рабочих, защищает их от посягательств начальника пикета. Но Оренбуркин неожиданно умолкает, прикусывает язык,— видимо, боится опять сболтнуть лишнее.
— Вы подскажите, где полагается,— просит Баталов Пителя.— Обрисуйте обстановку. Мое отношение к делу... И так далее.
— Это можно,— обещает Питель.— Это можно.
Баталов улыбается. Он очень доволен своим разговором с инженером сплавконторы Пите-лем.
Павел Оренбуркин видит успокоившегося, повеселевшего Семена Баталова, смелеет, гремит пустыми бутылками, кричит стряпухе, сиротливо сидящей у палатки:
— Стенюха! Потчуй гостя! Сидор Потапо-вич скучают.
Степанида будто ждет этих слов, появляется с бутылкой.
— Мощная баба!— подымая голову, изрекает Лева Гусев.
Питель ухмыляется, глядит вожделенно
55
на водку, на пышущую румянцем стряпуху.
— Только с вами,— говорит он почтительно, прижимая руки к сердцу.— А так... Тороплюсь, пора ехать.
— Все дела, дела!— говорит певуче стряпуха, рисуется перед инженером.— Вот так всю жизнь. И посидеть с людьми некогда! Как говорится, всю жизнь торопимся, всю жизнь опаздываем... Здравствуйте, Сидор Потапович! С приездом вас!
Степанида кланяется, берет с тарелки огурец, похрустывает им и садится за стол...
— Мощная баба!— восхищенно гудит Лева Гусев и придвигается к стряпухе.
Когда мокрые, уставшие сплавщики возвращаются от соседей на котлопункт, их встречают крики, пьяные голоса, они видят ярко пылающий костер и пляшущую перед ним стряпуху.
— Вот божья старушка!— говорит восхищенно Гриша.
Увидев начальника пикета, Степанида перестает плясать, валится на скамью, утирает фартуком лицо.
— Кто тебе разрешил водку выдавать?— спрашивает ее строго Денисов.
— Так ведь тут Сидор Потапович,— крикливо оправдывается стряпуха.— Вот они!
Денисов не глядит туда, куда показывает стряпуха, где сидят тесным кружком инженер Питель, раскрасневшийся Семен Баталов, присмиревший, втянувший голову в плечи Павел Оренбуркин и совсем пьяный Лева Гусев.
— Сидор Потапович мне не указ, — по
56
вышает голос Денисов.— Ты обязана соблюдать порядок или нет?
Павел Оренбуркин не может снести оскорбления, нанесенного их другу Сидору Потапови-чу Пителю.
— Андрюшка!— взвизгивает он.— Как ты смеешь? Про Сидора Потаповича?
— Да! Как ты смеешь?— вдруг подымает от стола лохматую голову Лева Гусев, скрипит зубами, рвет у себя на груди майку.— Как ты смеешь, гад!
Он кидается на Денисова, но парни перехватывают его, ловко крутят руки и волокут упирающегося, орущего Леву в будку.
Денисов отходит от стряпухи, идет к Баталову. Тот встает, хочет что-то сказать, но, увидев злое лицо Денисова, перешагивает через скамью и неожиданно скрывается во тьме.
А Питель невозмутимо сидит, жует губами, ухмыляется, поглядывая на сплавщиков.
К нему подходит встревоженный Паньшин.
— Нехорошо, Сидор Потапович, нехорошо себя ведешь. Плохой пример подаешь молодежи.
Питель встает, чуть покачиваясь, прислушивается к чему-то.
— Ладно, Маркел... Извини, брат.
Он идет за будку, выводит оттуда высокую поджарую лошадь, взбирается с помощью Сереги Попова в седло и трогает поводья.
— Орел! Сила!— кричит ему вслед Оренбуркин.— Семь стопок выпил, еще верхом поехал! Казак!
Денисов не обращает внимания на пьяного Павла Оренбуркина, на притихшую Степаниду,
57
не слышит поредевших выкриков еще не утихомирившегося Левы Гусева. Он смотрит туда, куда скрылся Баталов. Потом подходит к столу и смахивает с него остатки ужина. Пустые бутылки и стаканы, звеня, сыплются на землю.
6
Его будит голос матери. Она стоит над ним в изголовье, говорит ласково: «Вставай, Левушка, вставай, сынок... Пора в школу».
Лева Гусев просыпается, продирает глаза. Он садится, озирается вокруг, видит пустые койки, бьющее в окно солнце. Спросонья не поймет, почему лежит один в будке, куда девались сплавщики.
И вдруг Лева вспоминает все вчерашнее: как напился, как кричал, как лез драться с начальником пикета. Он покрывается испариной, тихо стонет, смотрит с ужасом на порванную майку, на бессильные, все в синяках руки. «Как же так? Как же так?» — спрашивает он себя.
Ему кажется, что сплавщики его бросили, отвернулись, ушли. Может, сообщили в Никольск, и вот уже идут два милиционера, чтобы арестовать его, Леву Гусева, препроводить в тюрьму.
Он с треском распахивает дверь, выскакивает из будки, видит чуть дымящий костер, желтое солнце на вымытых досках стола, спокойно сидящую Степаниду. На котлопункте все тихо, мирно, стоят вокруг березы с набрякшими почками, трещат дрозды в кустах, трепыхаются в воздухе разноцветные бабочки.
58
— Где народ?— задохнувшись, спрашивает Лева стряпуху.
— На работе, где... Ох, Лева! Боязно что-то мне за тебя, Лева! Натворил ты вчера делов.
Степанида встает, идет неторопливо к палатке. Лева смотрит осатанело на стряпуху — большой, нечесаный, опухший. Собачка бегает вокруг него, ластится, он со злостью пинает ее, и та, повизгивая от обиды, забирается под будку.
Лева щупает руками свою голову — она страшно болит, разламывается на части. Он идет к умывальнику, подставляет голову под сосок; вода приятно холодит, становится легче, но боль не исчезает.
— Иди,— зовет стряпуха.— Покушай как следует... Дурь-то и пройдет.
Не веря счастью, Лева срывает с себя майку, вытирает ею лицо и бежит к стряпухе. На столе стоит чашка с капустой, тарелка с жареной картошкой и кружка горячего чая.
Через минуту Леве уже легче дышится, голова свежеет, тело становится упругим. Он смотрит на свои руки, сжимает кулаки, любуется появившейся в них силой, задорно смеется. Он снова чувствует себя человеком — сильным, умным, красивым.
«Славная женщина эта Степанида! Понимающая,— заключает он.— Позаботилась обо мне. Как мать».
Упоминание о матери, которая живет где-то на хуторе, мучится, горюет о непутевом сыне, волнует Леву. Он теплеет, подзывает к себе обиженную им собачку, берет ее на руки, ласкает, кормит хлебом, жареной картошкой.
Степанида глядит на Леву, на собачку, ка
59
чает головой. Она сидит в сторонке, чинит майку Левы.
— Ох, Лева!— говорит Степанида.— Боязно мне за тебя! Никто тебя не любит, одна собачка... Как жить дальше будешь? Ведь не молодой уж. А ты...
Лева хорохорится, дескать, стоит ли ему печалиться о будущем! И тут вспоминает, как он кинулся вчера на Андрея Денисова, как связывали ему парни руки. Леве враз становится скучно. Ему уже не хочется ни хорохориться, ни, тем более, встречаться с начальником пикета. «Еще пришьют дело»,— думает он.
— Плевал я,— говорит упрямо Лева.— Видел в гробу... Вот уеду куда-нибудь, устроюсь на хорошее место. В Салават, химкомбинат строить... Или в экспедицию с геологами.
Неожиданно Лева загорается, убеждает себя, что, и в самом деле, хватит ему тут сидеть, надо ехать на новостройку. «А что? И поеду!»
Степанида улыбается, глядя на взбудораженного Леву, спрашивает его, как маленького:
— Когда же ты собираешься ехать?
— Когда? Да хоть сейчас!
Лева поспешно встает, озирается вокруг, словно выбирает, в которую сторону ехать, и тут замечает у себя на руках собачку, смотрит на нее с недоумением, опускает бережно на землю.
— Ох, Лева!— вздыхает Степанида.— Образованья твоя небольшая, низкая. Куда тебе этим геолохом. Ты держись за Андрея, он добрый, справедливый человек. Не посмотрел, что ты в тюрьме сидел, взял... Сейчас ты на
60
хорошей работе. Сплав кончишь — в делянку пойдешь, на бензопилу... А то и на тракториста выучишься.
Лева слушает стряпуху, вспоминает удивленные глаза начальника пикета, когда замахнулся на того, и сникает.
— Нет... Уеду!
— А мать опять бросишь? Она о тебе все глаза выревела, бессовестный!
Лева представляет себе мать — старенькую, сухонькую, с заплаканными глазами, сердце у него сжимается от жалости.
Степанида перекусывает нитку, встряхивает майку, бросает ее Леве.
— Одевайся. Да иди-ка на работу, гео-лох.
Лева молчит. Ему бы крикнуть на стряпуху, возмутиться, а он почему-то молчит, робко натягивает сухую, теплую от рук Степаниды майку, надевает пиджак, берет багор, идет к реке.
Он идет тропкой вдоль берега, вскоре сходит на песок, шагает по хрусткой речной гальке. Бревна торопливо плывут по воде, обгоняют Леву. Ему не хочется идти, но он идет, словно кто подталкивает его в спину.
Вдруг он видит: повыше короткого гулкого переката лежит в воде толстое сучковатое бревно. В него, как в забор, перегородивший реку, тычутся бревна помельче; подрожав на воде, они поворачиваются, ложатся рядом, образуя начало затора.
Лева машинально входит в воду, расталкивает багром бревна, их течением уносит на перекат. Остается только одно толстое бревно. Лева втыкает в него крюк багра, пробует катить
61
туда, где поглубже, но оно не трогается с места* Тогда он поворачивает багор и верхним концом, как рычагом, поддевает бревно, пытаясь развернуть его, подбить к течению. Багор трещит, но сдвинуть бревно Леве не удается.
А сверху подплывают новые бревна, опять присаживаются, образуют пыж. Рассерженный Лева мечется, нервничает, фыркает, как медведь.
На берегу, за спиной Левы, появляется Денисов. Он берет рычаг, идет к бревну, и вдвоем с Левой они быстро сталкивают его на стрежень,— бревно, бренча и подпрыгивая, скатывается с переката.
Денисов выходит из воды, садится на кромку размытого берега, достает папиросы. Лева идет следом, бычится, воротит лицо в сторону, не глядит на начальника пикета. Он уже подбирает слова, чтобы дать отпор этому конопатому начальнику, послать его куда полагается. «Плевал я на это дело!»— говорят глаза, выпяченные губы, угрюмая фигура Левы.
— Закури, Лева, моих,— предлагает Денисов, раскрывает коробку с папиросами.— Из Никольска принес.
Лева несмело берет папироску, прикуривает. Сладкий, пьянящий дымок наполняет его легкие, кружит голову. Лева с нескрываемым любопытством смотрит на Андрея Денисова. Вместо того чтобы кричать, ругаться, тот угощает его дорогими папиросами. И Лева теплеет, подсаживается к Денисову. Неожиданно ему становится стыдно за свой вчерашний поступок.
— Я вчера психанул маленько,— говорит он, отводя глаза.— Так вы...
— Не надо, Лева... Ты не виноватый.
62
Лева немеет от удивления, он не ожидал такого ответа. У него сваливается тяжесть с души. «А Семен Петрович убежал вчера... Испугался»,— вспоминает Лева и поражается, что ни разу еще сегодня не подумал о Баталове: где он, что с ним.
Андрей Денисов видит, как веселеет Лева Гусев. «Неплохой парень,— думает он о нем.— Издерганный только... Поломала парня жизнь». Денисов глядит на Леву, и кажется ему, что он, как то толстое сучковатое бревно, сидит у самого переката. Стоит лишь помочь, подтолкнуть на струю, и поплывет он, перейдет перекат, дойдет до запани.
До сих пор Денисову не удавалось вот так, один на один, побыть с Левой. И ему захотелось поговорить с ним, узнать, о чем он думает.
— Сплав кончим, чем, Лева, хочешь заниматься?— спрашивает он его.
Лева улыбается, неопределенно пожимает плечами. Похоже, он уже забыл, что собирался удрать к геологам.
— Задумка у меня одна есть... Может, подключишься, поможешь?
Лева не знает, что ответить.
Денисов окидывает взглядом реку, плывущие по ней бревна, нависшие над водой кусты.
— Вот видишь, как бревно бежит? Ударится в один берег, постоит маленько и заворачивается поперек реки. А потом — в другой берег. Так вот и тычется от берега к берегу, да еще застрянет ненароком где-нибудь. Река-то узенькая. А время идет, вода не ждет... Вот изучить бы реку, сколотить бригадку да пойти наставить отбоев на поворотах, на мысах да на мелях. Понимаешь, что будет? В два раза быстрее пойдут
63
бревна. Как по лотку. И людей надо в два раза меньше... А расходы — за одно лето вся обстановка окупится!
Денисов неожиданно умолкает, задумывается. Лева не часто видит начальника пикета таким разговорчивым, словоохотливым, ждет, что он еще скажет. Вокруг них идет своим чередом жизнь: шумит река, плывут по ней бревна, бегают кулички на песчаной косе, трещат где-то сороки, деля поживу, греют солнечные лучи землю, прут из нее, как шилья, зеленые росточки. А эти двое сидят рядышком, плечо к плечу, беседуют, как друзья.
— Вот кончу сплав,— продолжает Денисов,— и буду просить Пономарева... Я уж и планчик начал составлять. Да тут одно мешает...
— А что?— заинтересовался Лева.
— Грамоты маловато. Подучиться бы... Тебе, Лева, не хочется учиться?
Лева мнется, не отвечает. По правде сказать, ему не очень хочется учиться, но сейчас стыдно говорить об этом, обижать Андрея. Он думает, смотрит на ту сторону реки, на недалекую от берега дорогу. По дороге со стороны Никольска идет группа школьников. Очевидно, старшеклассники спешат на воскресенье к себе домой, в Терешки.
Лева не успевает собраться с мыслями, чтобы ответить Денисову, как его перебивают громкие крики:
— Дяденьки-и! У вас затор стоит. Вон там, внизу... Большой зато-ор!
Денисов вскакивает, какое-то время прислушивается к голосам ребят, к эху, пошедшему
64
по лесу, хватает багор и пускается что есть мочи бежать вниз по реке.
Лева Гусев сидит, растерявшись, глядит Денисову вслед. И вдруг тоже срывается, припускается за ним.
7
Так они — задыхаясь, обгоняя друг друга, добегают до двадцать пятого километра и останавливаются в удивлении.
На том же самом месте, где неделю назад сплавщики разбирали затор, река метров на триста туго забита бревнами. Пыж, обогнув песчаный мыс, дошел до омута. Бревна все плывут и плывут, набиваясь в омут, как пескари в вершу.
— Где же пикетчики?— недоумевает запыхавшийся Денисов.
Но ни Семена Баталова, ни Павла Оренбуркина нет, хотя они обязаны быть тут.
Денисов бросается к омуту, бежит через пыж на другой берег. Он прыгает с бревна на бревно, бревна под ним крутятся, тонут,— тут нужно уменье, сплавщицкая сноровка, чтобы перебежать реку по плывущим бревнам и не сорваться в воду. Лева Гусев цепенеет, глядя со страхом на скачущего начальника пикета,— он бы так не смог, не умеет.
Но вот Денисов выбегает на косу, бежит по ней к голове затора. Спрыгнув в воду,— воды тут до колен, река обмелела, оголила перекат,— он пробует багром растащить бревна, но сразу убеждается в бесполезности своей затеи. Он взбирается на пыж, кричит, подняв лицо к небу:
— Эй-й!
65
Лева Гусев также добегает до головы затора, тоже сует багор в бревна. Потом взбегает на высокий берег:
— Бата-алов! Оренбу-уркин!— вопит Лева.
И тут же скатывается с берега, говорит поспешно:
— Идут!
Но Денисов не радуется, еще больше хмурится, приказывает Леве:
— Вот что, Гусев! Беги обратно на скорой ноге, собирай пикетчиков, веди сюда!
Лева бросает багор на песок и убегает.
С берега прямо на бревна пыжа торопливо спускаются Семен Баталов и Павел Оренбуркин. У них припухшие, заспанные лица. Спустившись, они останавливаются, стоят, ждут, что скажет им начальник пикета. Павел Оренбуркин глядит то на пыж, то на Денисова растерянно, виновато. Семен Баталов, наоборот — отводит глаза в сторону, надувает щеки.
— В чем дело?— спрашивает их Денисов.— Почему допустили пыжа?
Оренбуркин снимает шапку, разводит руками, робко улыбается:
— Виноваты, Андрей Степанович. Обми-шулка вышла... Недоглядели.
Баталов отстраняет Оренбуркина, выходит вперед.
— А ты не знаешь, в чем дело?— спрашивает он Денисова.— Кто тебя неоднократно предупреждал, что по такой воде нет возможности справиться? Неужели забыл? Так вот Оренбуркин не откажется, подтвердит.
Павел Оренбуркин настороженно глядит на Семена Баталова. Что-то хитрое, насмешливое
66
появляется в его узких глазах. Он с силой бьет шапкой по ладони, натягивает ее на голову.
— Подтверждаю,— говорит он.— Предупреждали.
— Вот тебе результат!— заключает Баталов, показывая на пуж бревен, уже вышедший за омут.— Пока мы с Оренбуркиным разбирали затор на двадцать шестом километре, здесь образовался второй.
— Подтверждаю! — кричит Оренбуркин, хрипло смеясь.— Разбирали!
Андрей Денисов с изумлением слушает их. Его удивляет не столько ложь Оренбуркина, сколько хитрость Семена Баталова, его желание свалить вину с себя на начальника пикета.
— Перестань выдумывать! — говорит он, ожесточаясь.— Какой может быть затор на двадцать шестом километре, когда древесина с утра здесь стоит, не движется! Теперь и в Никольске знают, что где-то затор... Скажи, что проспали по пьянке. Честнее будет!
Оренбуркин даже подпрыгивает от возмущения, хватает за рукав Баталова.
— Видал, как он тебя, Семен Петрович! Ни в грош не ставит! Ни тебя, ни твоих заслуг!
Баталов в огорчении качает головой, спрашивает спокойно Денисова:
— Значит, ты не веришь мне?
— Хватит с меня! Верил!— резко, не сдерживаясь, отвечает Денисов.— За такие дела...
— Под суд отдашь?— вдруг взвизгивает Оренбуркин.— Семена Петровича под суд? Значит, мстишь? Не забываешь?..
67
— Перестань кричать,— бледнеет Денисов.— Не о том разговор.
— Нет, о том,— упорствует Оренбуркин.— Утопить хочешь Семена Петровича? Отца твоей дочери?
— Какой дочери?— не поняв, переспрашивает Денисов.
— Такой! — кричит Оренбуркин.— Все знают, весь хутор, что первая дочка у твоей Шурочки от Баталова. Теперь вымещаешь?
Денисов еще больше бледнеет, у него заостряется нос, резко проступают скулы; он медленно идет к Оренбуркину. Тот в страхе пятится назад.
— Ну-ка, повтори, что ты сказал,— говорит Денисов, тихо, нервно, сдерживаясь от желания закричать.
— И повторю!— орет Оренбуркин, прячась за Баталова.— И ты сам это знаешь! Не отрицай!
— Какая же ты свинья, однако, Павел Кузьмич!
Денисов дрожит от негодования. Ему хотелось броситься на Оренбуркина, смять его, уничтожить вместе с выдуманной им сплетней, но неожиданно на берегу, верхом на взмыленной лошади, появляется сам начальник сплавучастка, Яков Свиридович Пономарев.
И Денисов пересиливает себя, вынимает свои дорогие папиросы, закуривает, смотрит, как начальник сплавучастка спрыгивает с лошади, привязывает к олыпинке, идет к ним. Пономарев среднего роста, коренаст, жилист, у него грубое, задубелое от постоянной жизни на ветру, на солнце лицо. Трудно сказать, сколько
68
ему лет. Он так же черен волосом, как и в те годы, когда его впервые увидел Денисов.
— Стоим? Покуриваем?— зло, ядовито спрашивает он, окидывая глазами пыж.— Молодцы! Ничего не скажешь!
Денисов сминает пальцами тлеющую папиросу.
— Ну, Денисов,— говорит Пономарев,— не ожидал я этого от тебя. Давай рассказывай, что вы тут натворили?
«Чего спрашивает? Видит же!»— нервничает Денисов.
— Надо же!— свирипеет Пономарев, идет по голове пыжа к другому берегу, кричит оттуда:— На сутки сплав по всей реке остановили! Это в такое время, когда вода вот-вот сядет. Оставим древесину в реке по вашей милости, головотяпы!
Он возвращается обратно, спрашивает его в упор:
— Чей участок? Кто пикетчики?
— Баталов, Оренбуркин, Гусев,— глухо перечисляет Денисов.
— Как? И Баталов тут? Вот не знал... Гнать его со сплава! Немедленно! Чтоб и духу не было!
Баталов багровеет, говорит запальчиво: — Вы не имеете права! Я требую...
— Имею! Кончай свою демагогию! Меня этим не купишь. Не то время!.. Начальник пикета! Выгнать всех троих!
Денисов смотрит на сникшего Семена Баталова, на сжавшегося, перепуганного Павла Оренбуркина. Вот случай избавиться от этих пьяниц и сплетников. Правда, пострадает и Лева Гусев. Вот кого ему действительно жаль!
— Я виноват,— неожиданно заявляет Де
69
нисов.— Начальник пикета за все в ответе, меня и наказывайте.
— Что-о?— удивляется Пономарев, даже отступает на шаг от Денисова.— Да ты скажи, кого защищаешь? Павла Кузьмича? Или Баталова? Хочешь знать, этот Баталов у меня перед сплавом был, просился на твое место начальником пикета. Понял? Целый час убеждал, что тебе эта должность не по плечу, не справишься ты с ней.
— А разве я был не прав?— надменно спрашивает Баталов.— Денисов действительно не справляется со своими обязанностями. Не умеет руководить.
— Правильно!— поддерживает его Оренбуркин.— Не умеет. За заторы не платит!
Андрей Денисов смотрит на Баталова, на его опухшее лицо, вспоминает свою встречу с ним в конторе сплавучастка. «Так вот он для чего тогда планшетку на плечо повесил!»
И перед Денисовым, как на экране, проносятся картины двух недель жизни на сплаве, уже в ином виде рисуется поведение Баталова, его придирки к начальнику пикета...
— Все равно — я виноват! — говорит он Пономареву.— Меня наказывайте. А с рабочими я сам разберусь.
Пономарев с любопытством разглядывает упрямого, сбычившегося начальника пикета.
— Ну что же,— говорит он.— Выговор тебе обеспечен. Обещаю... А ликвидация затора — счет бригады. Понял? Вот так!
Он идет к лошади, садится и уезжает в Никольск, чтобы прислать рабочих для разборки пыжа.
Пикетчики остаются одни.
70
Денисову не хочется теперь даже смотреть на Баталова, не только разговаривать с ним. Да и на Оренбуркина тоже. И чтоб не торчать тут, у них на глазах, решает сходить осмотреть затор.
Он идет и видит вместо реки сплошную ленту бревен. Пыж тянется уже на полкилометра, выходит из ущелья на пойменное место. Река здесь широко разлилась, образовала озеро, и оторвавшиеся от пыжа бревна плывут по нему, скрываются за кустами ивняка. Вечернее солнце, прорываясь сквозь вершины сосен, кладет светлые мазки на воду, на бревна, на кусты.
Денисов торопится уйти от затора и тут встречается со спешащими на помощь сплавщиками. Маркел Данилович Паньшин подходит к Денисову, по-отечески утешает его.
— Ничего, Андрей. Не тужи... Поправимо дело.
Они идут гурьбой дальше, молчат, не роняют напрасных слов. Подойдя к голове затора, останавливаются, закуривают и словно не замечают Баталова с Оренбуркиным.
Паньшин обводит глазами пыж.
— Крепко посадило,— говорит он.— Тут только одно: катать бревна на берег. От головы... Катать и катать, больше ничего. Может быть, в конце и толкнет пыж водой, но до этого далеко. Не скоро.
Сплавщики меняют багры на рычаги, приступают к работе. Молча, без разговора к ним присоединяются Оренбуркин и Баталов.
На закате солнца из Никольска приходит машина, привозит рабочих. На заторе вновь появляется начальник сплавучастка Понома
71
рев. Чуть позднее, звеня и погромыхивая гусеницами, приходит с верховьев реки бульдозер.
8
Всю ночь на заторе жгут костры. В неровном их свете мечутся по крутояру человеческие тени, слышится торопливая речь, глухой перебряк бревен, треск мотора. Над рекой тяжело, настороженно виснут черные сосны, непроглядное черное небо.
К утру работы заканчиваются, лишь в омуте да в кустах по пойме остается сотни три бревен. Остальная древесина вся на берегу в бунтах. Уставшие за ночь рабочие ложатся спать, чтобы подняться, когда пойдет вал, сбросить древесину в воду.
Неожиданно для пикетчиков на заторе отличилась их стряпуха Степанида. Она пришла еще с вечера, всю ночь возилась у костра, варила, жарила, бегала по жуткому ночному лесу с затора на котлопункт, с котлопункта на затор, таскала продукты, посуду, кормила мокрых, уставших рабочих лапшой с мясом, жареной картошкой, согревала им чай.
И все время не переставала шутить, смеяться, как будто ничего не случилось,— нет ни пыжа в реке, ни этой опасной ночной работы, словно люди выехали на пикник, решив провести ночь у костра на берегу красивой речки.
Ее певучий голос раздавался то тут, то там, и Денисов видел, что люди рады приходу Степаниды, дружно смеются, слыша ее соленые шутки. Мужики еще азартнее наваливаются на работу и после ухода Степани
72
ды долго похохатывают, сдвинув шапки на затылки.
— Вот дает! — не то осуждая, не то восхищаясь, проговорил Гриша.— Что твой цирк.
Маркел Данилович посмотрел ему в лицо,— в свете костра были видны широкие уши, словно приклеенные к обтянутой кепкой голове.
— Она, парень, молодец,— сказал он про Степаниду.— Любовь у ей есть к людям. Это надо понимать!
На рассвете из Никольска пришла машина — приехала буфетчица столовой, привезла свежий хлеб, продукты. Но и тогда Степанида не ушла спать, а осталась готовить завтрак рабочим.
Вот и сейчас она звенит посудой, о чем-то негромко разговаривает с буфетчицей, тихо посмеивается.
«И верно — хороший к людям человек Степанида»,— думает Андрей Денисов.
Он лежит возле толстой сосны, положив голову на бугорок корневища, и не спит. Все спят, а он не спит, лежит с открытыми глазами, смотрит в побледневшее утреннее небо. По небу рассыпана темно-сиреневая облачная рябь, к северу она переходит в сплошное фиолетовое море, нависает над землей. Легкий ветерок пробегает по деревьям, они тревожно шумят, качают тонкими вершинами.
Всю ночь Денисов работал наравне со всеми, •не выделяясь как начальник пикета. Иногда он распрямлялся, искал взглядом Баталова — тот был невдалеке. Баталов вел себя как ни в чем не бывало, работал, лез на глаза Пономареву, старался привлечь его внимание к своей работе. Тут же в свете костров мелькала
73
и короткая фигурка Павла Оренбуркина.
Оренбуркин быстро успокоился, забыл о своем испуге. Он шатался по берегу, курил, балагурил, требовал от Степаниды водки, привязывался ко всем.
— Эх, Оренбуркин! — со вздохом говорил Паньшин.— Нетужилка тебя мать родила! Пора бы тебе остепениться, за ум взяться. А у тебя все какая-то легкость в голове.
— Не виноватые мы,— откуда-то из-за бревен слышится насмешливый, трескучий голос Оренбуркина.— Живем на Кане, подружи-лися с волками.
— Уж не ты ли придумал поговорку, что лес — дело темное, а сплав — дело пьяное? — спрашивает его Пономарев.— А?
Но Оренбуркин не отвечает, исчезает куда-то...
После сброски древесины в воду Денисов отправляет бригаду на отдых, а сам еще задерживается, обходит кругом площадь бывшего затора, смотрит на обсохшие в пойме бревна, подсчитывает убытки. Потом идет вверх по реке, проверяет русло, состояние бонов. Он идет прямиком, по кромке воды, перебредая заливы. Иногда проходит лесом по высокому берегу, распугивая ящериц, вылезших погреться на пни; ящерицы падают и стремительно разбегаются, шурша листьями. Сверху несется неумолчный птичий гомон, где-то вскрикивает, как пьяная, кукушка и от радости захлебывается.
Так он доходит до конца пикета, до двадцать первого километра, взбирается на скалу, нависшую над Каной, садится и задумывается.
Он думает об ответственности, которую взял
74
он на себя, став начальником пикета. Нет, раньше, когда стал коммунистом. Недаром Пантелеев требовал от него не спотыкаться, идти твердо. Он так и шел. И все же оступился, допустил ошибку, взяв Баталова, но он исправит ее... Внизу бежит река, у ног его гаснут тени от заходящего солнца, а он сидит, думает. Думает о жизни, о работе и совсем не вспоминает о Семене Баталове. Он считает вопрос с ним решенным: сегодня он выгонит его и Оренбуркина из бригады.
9
На котлопункт Денисов возвращается в поздних сумерках.
За рекой висит запутавшаяся в сучьях луна, беспокойно шумит река, стоят черные, словно окаменевшие, деревья, горит костер на поляне, освещая будку, палатку стряпухи, ужинающих сплавщиков.
Разомлевшая, пышущая жаром Степанида, увидев Денисова, говорит с ласковой укоризной:
— Где ты пропадаешь, полуночник? Поди, не наработался за день-то! Пожалел бы себя. И так одна кожа да кости.
Сплавщики освобождают начальнику пикета место за столом. Они осторожно смотрят на него, словно хотят узнать, что у него на душе.
Особенно тревожится Паньшин, вглядывается в осунувшееся, побледневшее лицо Денисова.
Так они молча заканчивают ужин, идут гурьбой к костру, усаживаются покурить.
75
Прикуривая от уголька, Денисов боковым зрением видит, как Серега Попов берет под руки Миньку с Гришей, отводит в сторону. Они о чем-то шепчутся, возвращаются к костру.
— Есть разговор к начальнику пикета,— начинает Серега Попов. Он усаживается на чурбак, вынимает папиросу.— Скажи, Андрей Степанович, сколько должны заплатить рабочим за разборку залома?
— И за чей счет,— добавляет Минька.
— Да, и за чей счет,— подчеркивает Серега.
Денисов не успевает раскрыть рот, как Павел Оренбуркин вскакивает, начинает горячиться, махать руками:
— Какие такие разговоры? Дурак ты, Серега! Жердь, телеграфный столб!.. Не слушайте его, он не в курсе, не смыслит... Если хочешь знать, это общее дело, эти заторы, вода такая, мелководная. Тут виноватых нету.
— Нету виноватых,— подтверждает Лева Гусев. Он сидит, как обычно, с собачкой на руках, склонив к ней голову.
— Нет есть,— горячится Серега.— Есть виновные!
— Кто же это такие выдающие? — спрашивает его с усмешкой Оренбуркин.— Которые за всех отвечают, за всю бригаду?.. Эх, ты, Минька-Гринька! Мы тут все одинаковые и все ответственные.
Паньшин недовольно морщит лоб, слушая Оренбуркина.
— Врешь, Пашка! — не сдерживается он.— Разные мы... Души у нас разные! А вот у
76
кого она какая, теперича видать. Как на рент-генте.
— У Павла Кузьмича она вся в саже. Как вот этот чугунок,— отзывается Степанида от стола, где она моет над тазом посуду.
— Правильно, Степанида Ивановна,— говорит Паньшин и негромко смеется.— В точку попала!.. Черная душа у тебя, Пашка!
Павел Оренбуркин с наигранным сожалением смотрит на стряпуху.
— Что с нее взять? Женщина! — говорит он снисходительно, разводит руками, садится на чурбак.— Платок я ей новый еще купил бы, а новую голову не купишь! Пусть живет с энтой.
Парни негромко фыркают, не удерживается от улыбки и сам Оренбуркин.
— Покупатель! — Степанида еще яростнее трет посуду, бросает ее со звоном на стол.— Я бы тебе сказала два слова, да ладно уж... Воздержуся.
— Воздержись, воздержись,— поддразнивает ее Оренбуркин.
Пока Оренбуркин спорит с Серегой, препирается со стряпухой, Семен Баталов сидит, накинув пиджак на плечи, и молчит, словно его не касается, что происходит на котлопунк-те. Денисов поражается выдержке, невозмутимости Баталова.
— Заявляем тебе, Андрей Степанович,— поднимается Серега,— мы за других отвечать не согласны. Ты сам говорил, кто допустит затор, тот и отвечает, вот теперь и накажи виновников, пусть оплатят убытки.
— Вот они, виновники! — выскакивает вперед Минька и показывает на Баталова, Оренбуркина, Гусева.— Вот! Вот! Вот!
77
Но тут Семен Баталов встает, подходит к Сереге, спрашивает его в упор:
— В чем дело, Попов? Почему шумишь, надрываешь свой красивый голос?
Серега тушуется, отступает под грозным взглядом Баталова.
— Ты хочешь найти виновника затора? Пожалуйста! Виновник есть... Вот он!
Баталов выкидывает руку в сторону Левы Гусева, словно пригвождает того к позорному столбу. Лева растерянно смотрит на сплавщиков, ерзает на чурбаке.
— Плевал я на это дело! — наконец говорит он и поплотнее усаживается.
Сплавщики в изумлении переглядываются, смотрят на стройного, подтянутого Баталова, на его уверенные жесты.
— Вот он, пожалуйста! Нечего искать,— говорит Баталов.— Я его разбудил, предупредил: Гусев, останься на двадцать пятом километре, мы с Оренбуркиным пойдем дальше, на двадцать шестой... Мы там работаем, надеемся на него, а он, оказывается, спал, манкировал моим указанием. И вот результат: затор!
— Правильно! Надеялись! — подтверждает повеселевший Оренбуркин.— Надеялись на этого... Леву. А он подвел нас. Подвел под монастырь!
— Да, подвел,— констатирует Баталов.— Я давно наблюдаю за ним... за гражданином Гусевым.
К костру на свет выскакивает встревоженная Степанида, в руках у нее мочалка, рукава кофты закатаны до локтей.
— Люди! Что вы делаете? Лева невино
78
ватый, он в будке спал. Сама видела, чаем поила.
Павел Оренбуркин хрипло, удовлетворенно смеется:
— Вот непонятливая баба! Так об этом и говорим: проспал, затор допустил.
— Какой затор? — беспокоится Степанида.— Чего ты цепляешься к человеку? Он хороший, Лева... трудолюбивый. Спал в будке, никто его не будил, сам встал. Я ведь тут была!
— Степанида! — громко, со сталью в голосе прерывает ее Баталов.— Отойди, не вмешивайся. Это не твоего ума дело!
Степанида сникает, мнет в руках мочалку:
— Конечно, я баба. Разве мне поверите? Была бы у меня на голове мужичья шапка, а то бабья тряпка.
Она так же неожиданно исчезает, как и появляется.
Лева Гусев сидит, ворочает, как сыч, лохматой головой, словно не поймет, что спор идет о нем. Наконец какая-то мысль, что-то вроде испуга или удивления, мелькает в его широко раскрытых глазах. Он встает на ноги, не отпуская собачки.
— Как же так, Семен Петрович? — спрашивает Лева.— Вы с Оренбуркиным сами у затора спали, а говорите на меня.
Серега Попов переглядывается с парнями, с Маркелом Даниловичем.
— Расскажи, Гусев, как было дело,— вмешивается Паньшин.— Расскажи, не стесняйся.
Лева смотрит на Маркела Даниловича
79
Паньшина, и ему хочется рассказать все, как было.
— Я вылез на берег,— начинает Лева,— смотрю, а они под кустом спят. Крикнул им, вижу — подымаются. Ну, я обратно... Хотел Андрею сказать, да... Что я — легавый на своих стучать?
На котлопункте становится тихо. Семен Баталов нервно озирается на стоящих вокруг него сплавщиков.
— Как понимать, товарищи? — спрашивает он их.— Вы не верите мне, а верите этому уголовнику?
Когда Баталов называет Леву уголовником, парни шумно протестуют, кричат:
— Еще неизвестно, кто тут уголовник!
У Левы выпадает из рук собачка. Он неторопливо подходит к Баталову, останавливается.
— Ты гад, Баталов! Ты ползучий гад! — говорит Лева рвущимся от обиды голосом.
Он стоит с Баталовым лицом к лицу, видит его белесые брови, какие-то пустые глаза, перекошенные злостью губы. «Неужели я уважал этого человека?» — удивляется Лева.
— Дерьмо! — кричит он в исступлении.
Паньшин берет Леву за рукав, уводит на прежнее место.
— Не надо ругаться, Гусев. Этим дела не поправишь... А ты, Баталов, делай вывод... Делай, говорю, вывод сейчас, а то поздно будет!
Баталов молча отходит к будке, садится там на приступочек.
— Чего же еще резину тянуть? — горячится
80
Серега.— Решай начальник, кто должен платить за убытки? Я или Баталов?
— Все расходы по затору пойдут за счет Баталова, Оренбуркина и Гусева,— объявляет Денисов.— Они виноваты, они и будут платить.
— Правильно! — заключает Серега.— Надо рублем учить этих курортников.
Молчит Баталов, молчит Гусев. Лишь Оренбуркин недоуменно разводит руками:
— Как же так, Андрей? Не по закону поступаешь. Пономарев ведь говорил: убытки на всю бригаду, а ты на троих лепишь. Неладно это... не по-товарищески. Как говорится, один за всех, все за одного.
— Ага, не нравится? И заповедь вспомнил, знает ее, оказывается,— смеется Серега.— Ничего, меньше будешь на шабашку рассчитывать.
Маркел Данилович Паньшин подходит к Оренбуркину, тычет его пальцем в плечо.
— Это наука тебе, Пашка! Сколько я говорил: относись к делу как следует, чтобы все было по-товарищески да по-хорошему, чтобы тебя люди уважали,— сам их уважай. Тогда не будет такого конфуза.
Паньшин говорит это не столько для Оренбуркина, сколько для Баталова. Но тот сидит, чуть видимый в темноте, ничем не выдавая себя.
Андрею Денисову кажется, сейчас самое подходящее время объявить, что Семена Баталова и Павла Оренбуркина он увольняет из бригады как виновников двух заторов. Он поднимает руку, просит внимания.
— Что касается Баталова...— начинает Денисов, но его вдруг перебивает сам Баталов, вышедший к костру.
81
— Что касается меня,— говорит он и смотрит на Паньшина,— то я сделал вывод, как предлагал Маркел Данилович. Я — подчиняюсь. Да, подчиняюсь решению начальника пикета. И впредь обещаю честным трудом оправдать доверие, приму все меры, чтобы сплав провести в срок.
Баталов умолкает. Он спокоен, нетороплив, рассудителен. Все смотрят на него, словно видят Баталова впервые. Кто-то, кажется Гриша, произносит не то с удивлением, не то с восхищением:
— Вот это ход!
Особенно поражен поступком Баталова Денисов. Он глядит на него изумленно, даже с растерянностью. Наконец берет себя в руки:
— Нет, Баталов, я тебя уже предупреждал. Теперь тебе придется уйти.
Баталов делает шаг вперед. Он словно не видит и не слышит Денисова, глядит на Паньшина.
— Еще раз подтверждаю: мы принимаем условия начальника пикета, оплатим расходы по затору. И впредь не допустим никакого нарушения... Как, товарищ Оренбуркин?
— Принимаем! Не допустим! — сипло, отрешенно кричит Оренбуркин.
— Я очень признателен Маркелу Даниловичу как старшему товарищу,— Баталов прикладывает руку к груди,— он правильно оценил обстановку. Мы виноваты, мы и несем ответственность...
Баталов стоит, рисуется, смотрит свысока на сплавщиков, на их помрачневшие лица, ждет, что скажет начальник пикета.
— Не верю я больше твоим обещаниям,—
82
говорит глухо Денисов.— Уходите оба — ты и Оренбуркин.
— Уйти нам недолго.— Баталов снимает фуражку, осматривает ее, щелчком выбивает из тульи пыль, потом осторожно, как хрупкую вещь, надевает фуражку на голову.— А ты подумал, как оставить пикет без рабочих в такое время?
Денисов молчит. Действительно, он об этом не подумал, вшестером им будет трудно управляться с пикетом. Но пусть трудно, лишь бы не мешали больше эти двое.
И он говорит Баталову:
— Справимся и без вас. Уходи! И ты, Оренбуркин... Чтоб завтра утром вас обоих на котлопункте не было!
— Ну что, курортнички? — смеется Серега Попов.— Взяли деньгу? Пошабашничали?
Денисов идет к будке — пора спать, дело сделано, проходит возле сникшего Баталова, но, не дойдя до будки, останавливается: он видит, как из лесной тьмы на неширокую полянку, освещенную костром, выезжает верховой.
«Кто бы это мог быть?» — думает Денисов. Верховой трусцой пересекает полянку, останавливается невдалеке от костра и медленно спешивается.
Первым узнает верхового Павел Оренбуркин:
— Сидор Потапыч припожаловали!
Он бросается к Пителю, бережно берет из его рук повод и ведет лошадь за будку.
Питель, тяжело переступая затекшими от верховой езды ногами, подходит к костру, протягивает к огню руки, сладко жмурится, кря
83
кает от удовольствия. Он всматривается в Баталова, стоящего по другую сторону костра, словно вспоминает что-то, потом говорит тепло, снисходител ьно:
— А, товарищ Баталов... Помню, помню.
Денисову очень хочется узнать, зачем так поздно приехал на пикет инженер сплавкон-торы,— может, привез приказ о снятии его с работы за допущенный затор, но он не торопит события, стоит, ждет.
— Вот что, начальник пикета,— наконец говорит Питель, подзывая его к себе.— Завтра большой вал воды будет. Сутки сброски не было по вашей милости,
— И по вашей,— подсказывает негромко Минька.
Питель спотыкается на полуслове, жует губами, но, видимо, не считает нужным отвечать парню, вновь обращается к Денисову:
— Так вот, все рабочие утром должны быть на реке, на своих местах,— за день пройдет вдвое больше бревен, чем обычно. Решили покрыть сегодняшний простой реки. Так что придется крепко всем поработать.
— Всем не придется, Сидор Потапыч,— подает голос Оренбуркин.— Увольняет нас с пикета Денисов... Меня и Семена Петровича.
— Никаких увольнений! — предупреждает Питель.— Пока не кончим сплав — никого никуда! День и ночь на реке... Слышишь, Денисов? И предупреждаю: не самовольничай.
— Я не самовольничаю,— возмущается Денисов вмешательством Пителя в дела пикета.— Я действую по указанию начальника сплав-участка Пономарева...
— Повторяю,— перебивает его Питель,—
84
никаких увольнений! Сегодня я за реку отвечаю, я несу за пропуск древесины ответственность. Понял?.. А с Пономаревым я всегда договорюсь... Стряпуха! — кричит он в сторону палатки.— Где ты там? Плесни-ка мне чего-нибудь, чтобы червячка заморить. Надо дальше ехать, предупреждать людей.
Денисов обескуражен, сбит с толку указаниями Пителя. Он смотрит на Маркела Даниловича — может, тот подскажет, что теперь делать, но Паньшин сам, похоже, растерялся, стоит, покачивает головой.
Лева Гусев не торопится идти на работу. Позавтракав, он усаживается у гаснущего костра и сидит угрюмый, взъерошенный, зажав между колен собачку, мечет грозные взгляды на одевающихся сплавщиков.
Обеспокоенный Денисов подходит к нему: — Ты что, Гусев? Почему не собираешься? Лева отворачивается от него, не отвечает. — Чего молчишь? Языка нет? — сердится начальник пикета.
Лева вскакивает, Денисов видит перекошенное лицо, раздутые ноздри маленького, пуговочкой носа.
— Начальник! — рычит Лева.— Я не пойду с этими... с Баталовым! Давай другое место... Или увольняй, к такой-то матери!
— Зачем ты так! Не надо выражаться... Иди с Серегой. Попов! — зовет Денисов.
Подошедший Серега быстро находит общий язык с Левой:
— Пойдем, покажем класс работы!
И Лева Гусев, все еще сердито поглядывая вокруг, уходит с ним на средний участок. За ними уходят и Минька с Гришей.
85
Еще раньше уходят на свой двадцать пятый километр Баталов с Оренбуркиным. Последними оставляют котлопункт Паньшин и Денисов,— они идут на ремонт обоновки реки после вчерашнего затора.
Так они доходят до басмы — неширокого бревенчатого перехода с одного берега реки на другой — и садятся отдохнуть.
С утра сегодня пасмурно, но тепло. Над рекой проносятся стайки чирков, в лесу стучат деловито дятлы, где-то в делянке урчит трактор.
Денисов закуривает, осторожно поглядывает на нахмуренного молчаливого Паньшина. Маркел Данилович сидит на бережке, опершись на багорец, и смотрит задумчиво в воду. В темной воде неясно отражаются неровные берега, басма, повисшая над рекой, островерхие высокие деревья.
— И кто его сотворил такого? — громко, с изумлением, спрашивает Маркел Данилович.
Денисов догадывается, что Паньшин думает о Баталове.
Он вспоминает, как остолбенел вчера Маркел Данилович, когда услышал заявление Баталова. И потом, после отъезда Пителя, когда все легли спать, он так и не сдвинулся с места, все стоял у потухшего костра и, похоже, сейчас не успокоился, сидит, переживает.
Денисову становится жалко старика.
— Черт с ними, с Баталовым и Оренбуркиным,— говорит он, чтобы успокоить Марке-ла Даниловича. — Пусть работают, выполняют свое обещание.
— Да, упустил ты время,— сокрушается Паньшин.— Надо было выгнать, не смотреть на
86
Пителя, не подчиняться ему... На худой конец, пусть бы Пашка остался, он балабонит, да дело знает, а этого, Баталова, зачем оставлять?
— Ничего, потребуется — выгоню.
Паньшин смотрит недоверчиво на Денисова.
— Хитрый он больно,— говорит Паньшин.— Остерегаться его надо.
— А что он может сделать? Теперь он весь на виду. Чуть что — и под зад коленом.
— Смотри,— предупреждает Паньшин.
Он тяжело поднимается, Денисов бросает папироску, встает следом.
К вечеру начинается дождь, первый дождь за весну. Он идет медленно, неторопливо, омывая деревья, падая частой дробью в реку.
Дождь идет всю ночь, не перестает и утром. Сплавщики недовольно смотрят на небо, наглухо затянутое мутной пеленой, одеваются в брезентовые плащи и куртки.
Маркел Данилович Паньшин пренебрегает плащом. Весело покрякивая, он натягивает на голову крапивный мешок из-под картошки; мешок плотно прикрывает голову и плечи, оставляя свободными для работы руки.
— Праздник сегодня, мужики,— радостно сообщает он.— Земля умывается!
Дождь льет трое суток. Воды в реке заметно прибывает, бревна плывут гуще, стремительней. Сплавщики возвращаются теперь на котло-пункт поздно — мокрые, усталые, но по их лицам Денисов угадывает, что они довольны.
Все эти трое суток Денисов зорко следит за Баталовым, держит его под постоянным контролем, по три, по четыре раза за день появляется на нижнем участке. Но никаких нарушений не видит: Баталов с Оренбуркиным
87
работают, как и все, выполняют беспрекословно указания начальника пикета. Встречаясь, Денисов с Баталовым не разговаривают, молча проходят мимо.
Не один Денисов, все сплавщики, кроме Павла Оренбуркина, не разговаривают теперь с Баталовым, не замечают его, словно нет его в бригаде.
И вечерами на котлопункте теперь непривычно тихо: не собираются, как прежде, сплавщики у костра с веселыми разговорами, покурят и молча разойдутся. Разве Минька с Гришей, проводив Серегу в Никольск, уйдут на бережок с транзистором и «выкобенивают» там, по словам Маркела Даниловича, какие-то твисты. Не слышно и Оренбуркина, его перепалок со стряпухой. Возле Степаниды Денисов все чаще и чаще видит Леву...
Ю
После дождей устанавливается хорошая погода.
Сегодня с утра солнечно, тепло, тихо. От воды, от земли поднимается пар. С ветвей деревьев срываются крупные капли и, вспыхивая, падают на тропу.
По тропе идут двое. Это Семен Баталов и Павел Оренбуркин следуют к себе на участок.
Они идут неторопливо, нога в ногу,— впереди Баталов, за ним Оренбуркин. Баталов о чем-то думает, недовольно гмыкает. Оренбуркин видит плохое настроение напарника, молчит, не беспокоит его разговорами.
Вдруг Баталов останавливается, замирает на месте. Оренбуркин тычется головой ему в
88
спину и от страха приседает. Но Семен Баталов не обращает на него внимания, стоит неподвижно, смотрит куда-то за реку.
Оренбуркин вытягивается, осторожно выглядывает из-за плеча Баталова, видит басму, женщину на том берегу. Оренбуркин вглядывается, угадывает в женщине Шуру, жену начальника пикета. Он отскакивает от окаменевшего Семена Баталова, хрипло смеется.
Услышав смех, Баталов свирепеет, гневно машет рукой:
— Уходи! Не мешай!
Оренбуркин послушно идет, но не уходит совсем. Отойдя метров сорок, он пригибается, заворачивает за кусты, снимает шапку и преспокойно усаживается,— отсюда видна басма, идущая по ней Шура, стоящий среди белых берез Баталов.
Но вот Баталов выходит к реке. По-видимому, Шура сразу узнает его,— она негромко ойкает, беспомощно озирается. Потом, наклонив голову, не глядя на Баталова, пытается пройти мимо, но он загораживает ей путь.
— Обожди... На одну минутку.
Шура останавливается, глядит настороженно. У нее смуглое узкое лицо, густые черные брови. Она в пальто, голова повязана красивой серебристой шалью, в руке узел.
— Дай посмотрю на тебя, какая ты стала,— неожиданно волнуясь, просит Баталов.
— Смотри,— осмелев, говорит она.
Баталов видит, что перед ним иная Шура, не та — худенькая, востроносая Шурка Корнева, от которой он удрал двенадцать лет назад, а другая — статная, красивая, совсем не похожая на прежнюю.
89
«А она ничего... Выровнялась»,— ревниво думает он. На какое-то время у него сжимается сердце от безвозвратной потери того, что могло навсегда принадлежать ему.
— Небось забыла меня? — невольно спрашивает он.
Шура опускает глаза, отворачивается.
— Вспоминала...
В этом тихом полупризнании Баталову слышится что-то невысказанное, сокровенное, что-то похожее на придушенный крик. Он жадно глядит на Шуру, видит ее дрожащие ресницы, мягкие губы. Ему кажется, что она все еще любит его.
Баталов оглядывается по сторонам,— вокруг пусто, они одни.
— Я тебя тоже никак забыть не мог,— говорит он жарким полушепотом и придвигается к Шуре.— Стоишь у меня в глазах, как... Стоишь, и все!
Шура недоверчиво смотрит на него:
— Что же тогда убежал?
— Вынужден был... Обстоятельства! Бывает так, любишь, а долг, обстановка требуют временных жертв... Я думал вернуться. Или тебя вызвать... Разве я мог без тебя жить?
Он говорит тихо, убежденно. Шура теряется, краснеет. Баталов радуется своему успеху, вспоминает Андрея Денисова. «Вот так, дорогой начальник! Семен Баталов свое возьмет. Что ты можешь против Семена Баталова?»
Он осторожно берет Шуру за руку.
— Да, не смог забыть,— приглушенно, нежно говорит Баталов.— Как я мучился, если бы ты знала!.. Потом услышал — за Андрюшку
90
вышла, не дождалась меня... Что ты в нем нашла?
Неожиданно Шура вырывает руку, говорит с беспокойством:
— Мне надо идти.
— Подожди! Я тебе не все сказал...
Он хватает Шуру за плечи, видит в ее глазах страх.
— Пусти! Закричу! — задыхается она, вырывается и быстро идет, почти бежит по тропке, скрывается за деревьями.
Баталов стоит, раскрыв рот, сбив фуражку на затылок, и с досадой смотрит ей вслед.
Оренбуркин видит обескураженного Семена Баталова, беззвучно смеется: не удалось! Но вдруг зажимает рот шапкой и, боязливо посмотрев на Баталова, припускается бежать...
Денисов возвращается на котлопункт поздно, когда уже все сплавщики в сборе — сидят, ждут его ужинать.
Завидев мужа, Шура бежит ему навстречу, нервно обнимает и, уткнувшись в грудь, всхлипывает.
— Что ты? Что ты? — с тревогой спрашивает Денисов.— Случилось что-нибудь?
Она отрицательно трясет головой, не отрываясь от его груди.
Сплавщики с любопытством смотрят на них, лишь Баталов отворачивается, начинает переобуваться.
Потом все садятся ужинать.
Шура сидит рядом с Андреем. Тот подкладывает ей в миску кусочки получше, она благодарно улыбается ему, но ничего не ест.
91
Иногда ненароком взглядывает на угрюмого, молчаливого Баталова и тут же отводит глаза.
— Как там в Терешках? — спрашивает ее Паньшин.
— Ничего... Живут.
— Насчет сброски что слышно?
— Говорили, дня через три закончат.
Парни одобрительно гудят, радуются. Паньшин тоже улыбается: хорошая новость!
— Старуху мою не видела? — спрашивает он, помедлив.
— Видела. Поклон наказывала передать... В баню ждет.
Маркел Данилович задумывается, выразительно чмокает губами:
— В баньку — это неплохо, в баньку — это да!.. Вот уж закончат сброску, пойдет зачистка хвостов, тогда... Тогда будет можно.
Павел Оренбуркин тоже включается в разговор, не переставая жевать, давясь пирогом:
— На хвостах возьмут мужики деньгу! Подзаработают детишкам на молочишко.
Никто не поддерживает его, и он умолкает. Спать Шура идет в палатку к Степаниде. Сплавщики еще долго не ложатся, сидят у костра, курят, слушают песню, льющуюся из транзистора Гриши.
Шура тоже слышит песню. Она чем-то встревожена, торопливо раздевается. На ящике с макаронами стоит трехлинейная лампа, скупо освещая немудреное хозяйство стряпухи.
Входит Степанида. Смотрит на гостью, двусмысленно улыбается:
— Слышь, Шура! Может, кликну Андрея?
Шура краснеет, падает в постель:
— Не надо... Что ты!
92
Степанида беззвучно смеется, лишь тело ее колышется, потом гасит лампу.
11
У стряпухи завтрак давно готов, но сплавщики не садятся за стол, поглядывают нетерпеливо в сторону леса. Оказывается, вчера после ужина в Никольск ушел не один Серега Попов. Вместе с ним ушли и Минька с Гришей, в надежде, что если не застанут последнего сеанса в кино, то хоть потанцуют с девчатами.
И вот пора идти на работу, а всех троих нет.
Денисов обеспокоен. Его не утешает даже то, что рядом с ним Шура.
Парни приходят к концу завтрака.
— Почему опаздываете? Что за распущенность? — спрашивает Денисов строго, как и полагается начальнику пикета.
— Не сердись, Андрей Степанович,— отвечает за всех Серега.
Выясняется, что парни так и не были в Никольске, всю ночь разбирали затор на соседнем пикете.
— У Волкова? — интересуется Денисов.
— У Волкова,— говорит Серега.— Вчера идем, смотрим: костры горят; народ галдит. Ну мы и...
Денисов удовлетворен ответом.
Зато Павел Оренбуркин ерзал по скамье. Ему хочется спросить ребят, ради чего они разбирали чужой затор? Он уже открывает рот для вопроса, но, увидев их, усердно работающих ложками — строгих, сосредоточен
93
ных,— вдруг немеет. Кажется, он догадывается, что тут бесполезно задавать такие вопросы. Догадавшись, недовольно сопит.
Позавтракав, сплавщики расходятся по своим местам. Денисов идет провожать Шуру.
Со стороны могло показаться, что Семен Баталов занят только собой, что он и не смотрит ни на кого. Но это не так. Он все прекрасно видит. Видит, как Денисов не отходит от Шуры ни на шаг, как Лева неумело помогает стряпухе, как сник Оренбуркин, спасовав перед парнями. От его внимания не ускользает и то, что Шура не сводит с мужа своих черных глаз. И ни разу, ни одного разу она не взглянула на Баталова, как будто нет его здесь.
Когда Денисов уходит с Шурой, Баталов под каким-то предлогом еще задерживается, невольно смотрит им вслед, видит, как Андрей, зайдя за первые же деревья, обнимает жену. И у Баталова поднимается, бурлит в груди зависть к счастливчику Денисову.
Он идет по берегу Каны и со злости не замечает, что за ночь все вокруг изменилось: березы покрылись паутинной зеленью, цветут подснежники, лиловые медуницы, терпко, щекотно пахнет ожившими муравейниками. Ему не до этого, не до земных красот!
Придя на место, на двадцать пятый километр, Баталов видит ту же картину, что и вчера: узенькую реку, плывущие по ней бревна, крутящиеся воронки в омуте под яром, ребристый перекат...— все ему так надоело, обрыдло, что не только работать, не хочется смотреть на это.
Пересиливая себя, он говорит Оренбуркину:
94
— Иди вниз, подежурь на двадцать шестом... А я тут побуду.
— Чего тут сидеть? — удивляется Оренбуркин.— Тут спокойно.
— Оренбуркин! — не повышая голоса, сквозь зубы говорит Баталов.— Не препирайся! Выполняй!
Павел Оренбуркин смотрит на надувшегося Баталова. «Тоже мне, командир! Натянула тебе нос бывшая милашка, ты и злишься... Вот расскажу Андрюшке, как ты приставал к ней»,— усмехается Оренбуркин, но боится произнести это вслух, поворачивается и уходит.
Баталов остается один.
Он идет к крутояру, садится над омутом. Отсюда открывается широкий обзор: влево виден длинный плес, упирающийся в высокий заросший лесом берег, прямо — песчаный мыс, кусты ивняка, вправо — шумящий перекат. Баталов усаживается поплотнее и задумывается.
Он вспоминает день за днем эти три недели, проведенные на сплаве, свои отношения с Денисовым. По правде сказать, он давно бы ушел со сплава, если бы не предупреждение, сделанное ему на парткоме при разборе персонального дела.
— Смотри, Баталов,— пригрозил Пантелеев,— даем тебе последнюю возможность оправдать звание коммуниста. Если и тут, на рядовой работе, подведешь,— пеняй на себя. Скидок на заслуги делать не будем.
«Вот как с Семеном Баталовым стали разговаривать!.. Могут из партии попросить».
Ему хотелось сразу же после того, первого, злосчастного затора уйти из бригады, да нель-
95
зя было этого делать, можно партийным билетом поплатиться. Как же: допустил затор, да еще убежал! Пантелеев этого не простил бы. Пришлось унижаться перед Денисовым, играть в дружбу, давать обещания... А теперь не грех и уйти, время прошло, страсти улеглись, нечего выжидать, опасаться. Спасибо Пителю, спас от позора.
Баталов надвигает на лоб фуражку, прячет глаза от солнца. Он думает о том, как все скверно сложилось для него с последним затором, как ожесточились на него пикетчики. И этот тряпичный комиссар Паньшин со своими поучениями: «Делай вывод»,— передразнивает Баталов. Старый дурак! Показал бы он этому комиссару кузькину мать, если бы власть была в его руках.
И он вспоминает, что еще недавно имел эту власть, представляет, как по утрам входил в свой кабинет — строгий, подтянутый, в новом кителе, в хромовых сапожках,— как почтительно встречали его подчиненные, заискивающе улыбались... Хорошее было время!
Баталову хочется его вернуть, опять пользоваться почетом, уважением... Но вот, оказывается, для этого надо гонять бревна на сплаве, чтобы заслужить доверие секретаря парткома... Длинная история! Баталов хотел ее сделать покороче, да постигла неудача.
И тут вновь вспоминает Шуру, ее красивое, испуганное лицо при встрече с ним и скрипит зубами. «Нет, хватит! Надо выбираться из Никольска».
Он отрывает взгляд от берега, смотрит на песчаный мыс, на полыхающую зеленью лесную чащу. В солнечном небе появляется черная
96
точка. Точка скользит, движется по небу, подплывает ближе, растет. Вот она разворачивается, взмахивает крыльями, превращается в огромного беркута. Баталов догадывается, что это тот самый беркут, которого он видел в первые дни сплава. Беркут плавно летит, делает круг за кругом. Вот он уже над Баталовым, реет бесшумно, смотрит зорко с недосягаемой высоты. Делая круги все шире и шире, он забирает вправо, уходит в сторону, за реку, и, наконец, скрывается за лесом.
С появлением беркута к Семену Баталову приходит спокойствие. Он следит за беркутом, за его царственным полетом, и в нем крепнет, утверждается уверенность в своих силах. Он уже без страха, без волнения думает о Пантелееве, о Паньшине, о Денисове.
«Решено: ухожу сейчас же!.. А парткому — найду что сказать. Оправдаюсь, подберу факты».
Он облегченно вздыхает, сбивает фуражку на затылок. Бросив взгляд на реку, обнаруживает непорядок: чуть повыше омута к берегу пристало толстое бревно.
Баталов берется за багор, поднимается, идет по берегу, спускается к воде. Бревно крепко лежит в речной гальке, омываемое мутным потоком воды. Баталов стоит над ним, о чем-то раздумывает, вместо того чтобы оттолкнуть его от берега; потом поднимает голову, внимательно оглядывается по сторонам. Но вокруг никого нет, лишь трясогузки бегают по песку, качая полосатыми хвостами.
Тогда он быстро входит в воду, цепляет багром плывущее мимо бревно и тянет его к берегу, подводит к тому, что сидит на мели.
97
Потом идет за вторым бревном, за третьим... Спустя пять минут Баталов, взмокший, взъерошенный, вылезает на кручу, осматривается. Там, где он только что был, пыжатся свыше десятка бревен, перегородив полреки.
Удовлетворенно улыбнувшись, он идет вблизи берега, прикрываясь кустами, толстыми деревьями, доходит до полянки, где они постоянно отдыхали и где он недавно расстался с Оренбуркиным. Там достает из планшетки блокнот, что-то пишет, вырывает листок, вешает на сучок куста на самом видном месте и рядом с ним втыкает багор в землю. После этого торопливо уходит в лес, пропадает среди деревьев.
А Павел Оренбуркин в это время не спеша бредет вдоль Каны.
К каждому человеку весна приходит по-разному. К Павлу Оренбуркину она пришла злой мачехой. Еще никогда он не чувствовал себя так плохо, одиноко и неустроенно, как в нынешнюю весну.
Началось с того, что перед сплавом поссорился с женой. Любовь Евдокимовна уговаривала его остаться дома,— на лесопункте была хорошая свободная должность пилоправа.
— Куда тебе таскаться? — говорила она.— Поживи дома... Ребята большие, им отец нужен. Нинке скоро замуж...
Но как ни убеждала, Павел Оренбуркин был непреклонен: разве можно такие заработки отпускать от себя? Деньги сами в руки просятся, надо уметь только взять их.
— На весь год обеспечимся. Не тужи! Со
98
мной не пропадешь,— хвастливо заявил он.
И вот итог: сплав к концу, а у него никаких заработков. Что и причиталось, так теперь удержат. Явится домой без копейки денег. «Обеспечился»,— досадует Оренбуркин.
Он идет, перебирает в памяти все события, происшедшие с ним нынче, кисло морщится. Не удалось ему сорвать денежки за заторы, наоборот — с него сорвали. Как говорится: пошел по шерсть, а пришел стриженым... И все считают, что так и надо, что Денисов поступил правильно...
Так он доходит до конца пикета, садится у столбика. Светит ласково солнце, разгорается весна на Кане, а сердце Павла Оренбуркина глухо ко всему. Где-то в сознании робко, как цыпленок из яйца, начинает проклевываться мысль, что жена была права, следовало остаться дома, работать на пилоправке. Кажется, и впрямь время легких заработков прошло. «Кончится сплав, пойду домой... На оседлость»,— заключает Оренбуркин.
Додумавшись до этого, он успокаивается, снимает шапку, подставляя голову солнцу. Тепло приятно обволакивает его, клонит в сон, путает мысли. Он сладко щурится, закрывает глаза.
Но тут же открывает их,— какое-то беспокойство входит в него, словно он увидел что-то необычное. Он осматривается, но не видит ничего подозрительного. Вокруг тишина, небо чисто, бескрайне, темно-зеленая тайга чуть дышит под легким ветром, на том берегу по вырубке томится молодой сосняк; река... Но, взглянув на реку, Оренбуркин испуганно вскакивает: река пуста, на ней нет бревен.
99
— Затор!
Он не знает, что ему теперь делать: оставаться тут или бежать вверх, к месту затора. Он стоит в нерешительности, крутит головой, зыркает глазами по сторонам. Лучше бы оставаться тут, черт с ним с затором,— он где-то там, далеко от него. Оренбуркин еще какое-то время медлит, раздумывает и вдруг неожиданно для себя срывается с места и бросается бежать вдоль реки. Он бежит по кустам, через промоины, через заливы, бежит с одним желанием — обнаружить затор, успеть разобрать, пока он мал, не допустить на реке аварии
«Только бы успеть... успеть... успеть»,— шепчет он пересохшими губами.
Когда река прижимается к лесистому берегу, он взбегает на косогор, вытягивает шею, нетерпеливо смотрит вперед и ищет затор, но впереди пустое плесо, оно блестит, переливается солнечной рябью. Он снова бежит, ноги скользят по косогору, разъезжаются, он падает, сползает на животе под уклон и опять бежит кустами поймы. Сучья больно стегают его, но он не замечает их.
Он и сам как следует не понимал, что заставляет его так бежать. Не деньги же! Денег ему за это не дадут. И все-таки бежит. Он промок с ног до головы — где-то искупался в промоине, потерял шапку, багор, не дышит, а хрипит, как загнанная лошадь, судорожно хватает ртом воздух, но все-таки бежит в надежде успеть устранить беду, нависшую над бригадой.
Вот он добегает до полянки, где они обычно отдыхают, и отсюда, с высокого берега, ви
100
дит: за омутом река метров на тридцать забита бревнами.
«Здесь же должен быть Баталов»,— недоумевает Оренбуркин.
Он вглядывается в берега, но у затора Баталова нет. Он осматривается по сторонам, но Баталова нет нигде.
— Баталов! Бата-алов!
Оренбуркин надсадно кричит, лес подхватывает его голос, уносит к дальним увалам. Он напрягается в надежде услышать Баталова, но лес молчит.
Павла Оренбуркина берет оторопь. Что теперь: бежать, звать на помощь пикетчиков или искать Баталова? А вдруг Баталов утонул?
И Оренбуркин волнуется, мечется по поляне. «Не может быть,— сомневается он.— Не тот человек».
Но тут он видит — на одном из кустов белеет бумажка, рядом стоит воткнутый в землю багор Баталова. Оренбуркин спешит к кусту, срывает бумажку, подносит к глазам, читает торопливые карандашные строчки:
«т. Денисову А. С. Я неожиданно заболел. Вынужден покинуть работу и идти в больницу. Всю ответственность за участок возлагаю на т. Оренбуркина. С.Баталов».
Павел Оренбуркин не верит своим глазам. Он снова перечитывает записку Баталова, доходит до слов «ответственность за участок возлагаю на т. Оренбуркина» и стонет от горя — только теперь до него доходит смысл написанного.
Он выбегает на тропку, бежит вверх по реке, кричит, как сумасшедший:
— Сюда-а! Ко мне-е!
101
12
Андрей Денисов идет с Шурой по дороге, ведущей из Никольска в Терешки. Уже давно позади басма, ему пора возвращаться, а он идет и идет.
Шура удивленно смотрит на мужа:
— Тебе же на работу надо.
— Ничего... Дойду до конца пикета.
Они сворачивают с дороги на узкую тележную тропу, усыпанную потемневшими прошлогодними листьями. Тропа бежит невысоким березнячком, сенокосными полянами, пересекает звонкие ключи.
День сегодня по-настоящему весенний, солнечный. В березнячке сварливо верещат сороки, пинькают синицы, одуряюще пахнет лопнувшими почками, зеленым березовым листом.
От весны, от яркого солнца, от этого клейкого запаха у Шуры кружится голова. Упасть бы ей сейчас на землю, на мягкие листья, и лежать, разбросав руки, закрыв глаза!
Денисову передается настроение Шуры. Он смотрит на жену, видит ее хмельные глаза, полураскрытые губы. Он останавливается, обнимает Шуру и с жадностью начинает целовать.
— Ты что? — испуганно шепчет Шура.— Не надо... Увидят.
Она с трудом отрывает его руки, оглядывается по сторонам, поправляет сбившуюся шаль.
И опять идут они рядышком по весеннему лесу. Под их ногами шуршат листья, в березняке громко токуют тетерева.
Так доходят до конца пикета, выходят к
102
реке, опять останавливаются, берутся за руки. Шура заметно волнуется, говорит мужу: — Ты не ссорься с Семеном... Не надо! Денисов отводит глаза.
— Я и не ссорюсь. С чего ты взяла?
— Вижу. Не разговариваете... Даже не глядите друг на друга.
— Чего мне на него смотреть? Он не картина.
— Не надо, Андрей! Ты же знаешь, что все давно забыто... Чужой он мне!
Денисов стискивает зубы, суровеет.
— Ты тут ни при чем.
Она глянула на него с тревогой:
— Что-то не хочется мне нынче уходить. Не хочется расставаться с тобой.
Она приподнимается на носках, целует его, отстраняется и идет по тропке, мягко покачиваясь. Дойдя до поворота, приостанавливается, машет рукой. Денисов отвечает ей и после того, как она исчезает за деревьями, поворачивает обратно.
Он идет вдоль реки, обходит осыпи камней, спускается к воде, переходит реку вброд, смотрит, нет ли где заторов, неисправных бонов. Но все обстоит хорошо: бревна плывут ровно, заторов нет.
Первыми на пути ему встречаются Минька с Гришей. Они стоят, опершись на багры, отдыхают, курят, негромко разговаривают.
— Как дела? — спрашивает их Денисов.
— На пятерку! — кричит Гриша.
Лес гулко отзывается: «...тёрку!» Гриша смеется, опять кричит, слушает, как перекатывается волнами, бежит по увалам, замирает вдали эхо.
103
Денисов уходит от них, идет дальше. «Ре-бята-то! — думает он о парнях, оставшихся на песочном берегу.— Золото... Настоящие сплавщики!»
День тоже радует Денисова теплом, яркой зеленью, одевшей берега Каны. Река тихо плещется, над ней струится тонкое марево, течет вверх к небу. Там высоко-высоко парит беркут, делает широкие круги. Денисов какое-то время следит за беркутом и забывает о нем сразу, как только тот отдаляется в сторону.
Так он доходит до среднего участка.
Серега Попов и Лева Гусев возятся с бревном на той стороне реки. Большой косматый Лева топает по воде, как лошадь, волны кольцами ходят вокруг него. Серега деловито покрикивает ему, выгибается дугой под тяжестью бревна.
«Хорошо работают,— думает о них Денисов.— Серегу хоть сегодня ставь начальником пикета. Грамотный, рассудительный...» Он ласково глядит на длинную фигуру Сереги Попова. «Да и Лева Гусев... Нет, не плохой человек Лева!»
И он весело кричит им:
— Эй! Пикетчики!
Они оборачиваются на крик, обрадованно отзываются. Закончив с бревнами, переходят реку, усаживаются рядом с Денисовым на теплые речные камни, закуривают.
— А где твоя собачка? — спрашивает Денисов у Левы.
— Не взял... На стану осталась,— почему-то смутившись, отвечает Лева.
— Степаниду караулит его собачка,— хо
104
хочет Серега.— Боится, чтобы Степаниду воры не увели.
Лева отворачивается от него, молчит. Денисов смотрит ему в заросший волосами затылок, невольно улыбается.
— Дня через три пойдем на зачистку берегов,— говорит он.— Дойдем до Никольска, а там... Может, махнем до Белой? Как, Сергей?
— А что? Махнем! За мной дело не станет,— отвечает Серега.
— А молодую жену как? Одну оставишь? — смеется Денисов.— Смотри, оттуда не прибежишь. Не ближнее место.
— Ничего,— хохочет Серега.— Пусть отдохнет маленько.
— Тогда, считай, договорились. Еще прихватим Миньку с Гришей.
Каждый год после сплава древесины с верховьев уходил он на зачистку берегов Каны, иногда с Каны перебирался на Белую и оставался там до осени.
И Денисов представляет себе, как пойдет нынче с ребятами вниз по реке, очищая берега от бревен, ночуя на котлопунктах, а то и прямо у костра под чистым небом; как по утрам будет первым пробуждаться, слушать тревожащее душу пощелкивание соловья, вдыхать всей грудью дурманящий запах цветущей черемухи, любоваться красотами весенней Каны.
— А меня возьмешь, Андрей Степанович? — с тревогой спрашивает Лева.
— Обязательно,— успокаивает его Денисов.
Он уходит от Сереги Попова и Левы Гу
105
сева с твердым намерением идти на зачистку до устья Каны.
Вскоре он встречает Маркела Даниловича. Тот возится с разорванным боном, и Денисов спешит помочь ему.
Закончив связывать бон, они вылезают из воды, останавливаются на прибрежной гальке.
— Смотри, опять вода садится,— показывает на обнажившиеся берега реки Паньшин.— Видать, немного воды от прошедшего дождя прибавилось.
«Пускай,— беззаботно думает Денисов.— Все равно через три дня конец. Как-нибудь дотянем».
— Говорил с парнями,— сообщает он Паньшину.— Пойдем на зачистку до Белой.
— Идите,— одобряет тот.— Только меня уволь... Устал я ноне что-то.
— И за это спасибо, дядя Маркел.— Денисов волнуется от чувства признательности к Маркелу Даниловичу.— Если бы не ты... Не справился бы!
— Полно, полно тебе! Хватит! — Паньшин тоже волнуется, строго стучит багорцем о гальку.— Смотри, Баталова не вздумай взять. Предупреждаю.
— Что ты, дядя Маркел! Ни Баталова, ни Оренбуркина.
Паньшин задумывается, играет багорцем.
— Ну ничего,— наконец говорит он.— Скоро с ним развяжешься...
И тут до них доносится крик. Кто-то далеко-далеко ниже по реке отчаянно кричит. Денисов снимает шапку, прислушивается, но кто кричит, о чем — никак не разберет. Пань
106
шин тоже слушает, подставив ладонь к уху. Они с тревогой глядят друг на друга.
Вот крик становится слышней, явственней,— очевидно, человек бежит к ним. Вот уже слышно, как он кричит: сюда! сюда!
— Оренбуркин! — догадывается Денисов.
Он прислушивается еще, потом сам кричит: Э-ге-гей! — и кидается ему навстречу.
Он бежит что есть духу по тропке среди сплошного частокола деревьев. «Неужели затор? — теряется в догадках Денисов.— Или, может, поранился кто?..»
Он чуть не сбивает с ног Оренбуркина, вынырнувшего из чащи, и пятится от него. Тот, грязный, мокрый, без шапки и без ватника, стоит, дико ворочает глазами.
— Что случилось?
— За... за... тор! — с трудом произносит Оренбуркин и садится в изнеможении на землю.
«Опять!» — шепчет Денисов и чувствует, как у него холодеет затылок.
— А где Баталов?
Оренбуркин разжимает ладонь, подает ему мокрую, скомканную бумажку.
— Вот!
Денисов разворачивает ее, пытается прочесть, но строчки прыгают у него перед глазами, в мозгу же неотступно стучит: затор, опять допустил затор! Он нервничает, разглаживает пальцами записку, та рвется на куски, расползается, он со злостью швыряет ее под ноги.
— Убежал наш Баталов! — кричит ему Оренбуркин.— Скрылся.
— Как скрылся? — недоумевает Денисов.
107
Оренбуркин не отвечает, машет в отчаянии рукой.
— Где затор? — спрашивает Денисов.
— На двадцать пятом.
Денисов снимает с себя ватник, бросает на руки Оренбуркину:
— Зови остальных!
И опять бежит, не чувствуя под собой ног, вглядывается в реку, в ее плесы, перекаты. Он слышит позади топот — кто-то догоняет его, прибавляет шагу, бежит еще прытче.
К месту затора Денисов выбегает почти одновременно с Серегой Поповым и Левой Гусевым,— они, перекликаясь, останавливаются, дышат ему в затылок.
— Надо же! — удивляется Лева.— Опять затор!
Но Денисов не обращает внимания на слова Левы, видит, что затор небольшой, нет и сотни метров. Он быстро осматривается, оценивает обстановку.
Пыж стоит над самым омутом, подпрудив воду в реке. Если расшатать голову затора, подпруженная река нажмет на пыж, и он сорвется с места. А дальше — омут, поворот, перекат. На гребне вала пыж проскочит их, как это уже было однажды.
— Пошли!
Денисов берет из рук Левы багор, спускается по крутому берегу к воде, бежит по бревнам пыжа на другую сторону, к песчаной косе.
Добежав до головы затора, он заходит в обмелевшую реку, ищет слабое место в костре бревен. Серега Попов подключается к нему. Они цепляются баграми за одно бревно, рас
108
шатывают его, вытаскивают его из пыжа, берутся за другое.
Лева Гусев подбирает здоровенный рычаг, взбирается на верх пыжа, помогает им выворачивать бревна. Они работают, спешат, изредка перекидываются словами.
— Раз-два, взяли!
Бревна шлепаются в воду, катятся на песок. Пыж гудит от напора воды, от подплывающих сверху, торкающихся в него бревен.
Появляется Павел Оренбуркин. Он бросает ватник Денисова на камень-валун, идет на косу, где от прошлого затора оставались рычаги, лезет на пыж к Леве Гусеву. Он суетится, тычет рычагом, но в руках уже нет сил от сегодняшней беготни, и он беспомощно опускается на бревна.
В это время пыж начинает трещать, шевелиться. Сплавщики кричат, предупреждают друг друга, бросаются к берегу.
Денисов тоже кричит: «Пошел! Пошел!» Он выбегает на песок шумно дыша, радуясь, что все так легко обошлось. Но тут же обмирает от неудачи: пыж, чуть двинувшись, останавливается.
Денисов сразу видит, в чем тут дело. Оказывается, на той стороне реки в крутой берег уперлось бревно, а поперек к нему встали другие бревна, перепутались и держат правую часть пыжа: левая сторона, где находятся сплавщики, свободна, она выдвинулась к омуту, загнулась дугой, от нее отрываются отдельные бревна, уплывают. Стоит лишь выбить это толстое бревно, и весь пыж пойдет, не задержится.
Не раздумывая, Денисов бросает багор, вы
109
хватывает рычаг из рук сгорбившегося Оренбуркина, прыгает на бревна, бежит к другому берегу. Он не видит ничего, кроме бревна, которое ему следует во что бы то ни стало убрать, выбить, сдвинуть пыж с места, ликвидировать аварию. «Врешь! Пойдешь!»
Он засовывает рычаг в щель между бревнами, делает сильный рывок,— бревна сразу же оседают под ним, со стуком расползаются в стороны — пыж идет.
— Берегись! — кричит ему Серега Попов.
Денисов слышит предостерегающий крик Сереги, грохот двинувшегося пыжа. Он поворачивается, бежит обратно к берегу. Но не успевает добежать до косы, как голову пыжа выносит в омут,— бревна ныряют, налезают одно на другое. Денисов торопится, напрягается весь, прыгает с бревна на бревно, бревна тонут под его тяжестью. Он прыгает еще, еще и вдруг срывается, падает без крика в воду,— бревна тут же смыкаются над ним.
Сплавщики испуганно вопят, бегут вдоль берега по песчаной косе за рокочущими бревнами, видят, как Денисов высовывается из воды, пытается ухватиться за бревно, но бревно крутится, ускользает из рук, и он вновь исчезает под лавиной бревен.
— Все! Пропал наш Андрей! — кричит Оренбуркин и с горя валится на песок.
И тут неожиданно для Оренбуркина, для Сереги Попова Лева Гусев прыгает на плывущие бревна, торопится, балансируя и осколь-заясь, к месту, где показывался Денисов, и там, упав плашмя на бревна, шарит руками в воде и вдруг сваливается и тоже исчезает под бревнами. Но через какое-то мгнове
но
ние он вновь появляется — высовывает голову, отдуваясь и отплевываясь, обхватывает левой рукой бревно — как бы берет его под мышку — и плывет. Пыж уже заполняет омут, вертится каруселью, поворачивает и вырывается на перекат. Леву с бревном уносит на мель к песчаному берегу, он встает на ноги — тут неглубоко, отталкивает бревно, и Сереге Попову становится видно, как Лева тянет Денисова, ухватив за ворот пиджака. Серега подскакивает к Леве, вдвоем они вытаскивают неподвижного начальника пикета на песок, Серега кладет его животом к себе на колено и давит, пытаясь освободить от воды.
Вышедший из леса Маркел Данилович Паньшин видит, как Павел Оренбуркин сидит на песке и, не таясь, плачет, размазывая грязь по щекам, как Серега Попов возится возле почему-то лежащего Денисова, как Лева Гусев, подняв кулаки к небу, сыплет в белый свет густым матом.
— Что случилось? — спрашивает в тревоге Паньшин.
Прибежавшие вслед за ним Минька с Гришей стоят, запыхавшись, тоже не могут понять, что происходит тут, почему плачет Оренбуркин, почему ругается так страшно Лева, почему Денисов лежит, распластавшись на песке.
Но Маркел Данилович догадывается. Он видит брошенный, беспризорный ватник начальника пикета и все понимает. «Недоглядел, старый... Не успел!» — шепчет он, торопливо подходит к Сереге Попову, опускается на колени, снимает шапку. Серега разводит руки Денисова — делает искусственное дыхание, и Маркел Данилович с радостью замечает,
ill
как алеют щеки Андрея, как тихо, чуть заметно дрожат веки.
— Живой! — облегченно вздыхает Маркел Данилович.— Слава богу, живой!
Подбежавшие парни берут Денисова на руки, переносят на травянистую полянку, кладут на расстеленные ватники.
Маркел Данилович поднимается с колен, смотрит вслед пыжу, грохочущему вдали на перекатах, на темный омут, весь в пенистых воронках, поднимает глаза на лес, над которым висят пухлые серые облака, потом туда, где стоял пыж, и видит Леву Гусева, торопливо переходящего вброд обмелевшую реку.
— Ты куда? — кричит он Леве.
Но Лева не отвечает, перейдя реку, легко взбирается на крутой берег, пересекает полянку и бежит в ту сторону, куда ушел Баталов...
А бревна плывут и плывут, ныряют в омутах, играют на перекатах. Шумит Кана, блестит волной на солнце.
ОБЛАКА НАД СУРЕНЬЮ
1
Озерко покойно в пойме реки. Узкое, длинное, заросшее ряской и камышом, оно словно спряталось от реки за густыми, широкими кустами. От воды поднимался теплый пар, стояла тишина, и в этой тишине громко всплескивалась рыба, словно кто бросал в воду камешки, и круги расходились по воде.
Семавин выгреб на пятачок глубокой, темной воды, свободной от ряски, привязал лодку к камышам и выбросил леску. Ланда он не видел,— тот сидел, заслоненный от него камышами,— лишь слышал его возню в лодке да частое бульканье грузил удочки, иногда негромкое чертыханье.
Время тянулось медленно. На другом берегу за кустами обозначилось солнышко, вылезло на бугор и покатилось между белых облаков. Семавин сидел расслабленно в лодке, поддавшись объявшему его покою. Все действовало умиротворяюще: и тихое озерко с неподвижными камышами, и всплеск рыб, и негромкое щебетание в кустах встречавших солнце птичек, и теплое солнышко, осветившее озерко. За все утро он вытянул пару подъязков да окунька — его не захватил азарт рыболова, просто хотелось сидеть, ни о чем не думая, наслаждаясь покоем, тишиной.
— Ушел, мерзавец! — услышал он взволнованный голос Ланда.
— Кто ушел? — спросил Семавин, очнувшись от забытья.
из
— Лещ. Ох и здоровый!.. Вот такой!
Семавин представляет себе, как Ланд отмеривает на руке, какого он упустил леща, как жадно теперь смотрит на воду, не покажется ли где сорвавшаяся с крючка рыбина, и улыбается:
— А ты нырни, нырни, он тут, возле лодки,— говорит он Ланду со смешком.
— A-а, поди ты!..
Семавин чувствует, как раздражен Ланд неудачей, и замолкает, приваливается к мягкому, резиновому боку лодки и блаженно жмурится: хорошо! Хорошо вот так полежать после недельной беготни по цеху, директорских оперативок, заседаний, совещаний. Начальник цеха у всех на виду, всем нужен, и, кажется, исчезни вдруг, что-то испортится в отлаженном механизме завода.
Солнце уже висит над кустами, по озерку тянутся солнечные блики.
— Эй-и! — разнесся по озерку женский голос.— Где вы там? Завтракать!
Это кричала Вера, жена Ланда. Она и Ольга остались у машин, им было наказано спать, а они, видимо, побродили по лесу, побывали у реки и решили обрадовать мужей завтраком.
— Едем? — крикнул Ланду Семавин, усаживаясь поудобнее в лодке, сматывая удочку.
— Эх, не ко времени этот завтрак! — отвечает с досадой Ланд.— Только начала по-настоящему клевать. Посидели бы еще...
— Потом, после, день длинный... Давай, поехали,— настаивал Семавин, берясь за весло.— Надо уважать труд своих спутниц.
114
Ланд ничего не ответил, и Семавин, объезжая камыши, поплыл к берегу.
На небольшой полянке, примыкавшей к озерку, дымил костер, Вера с Ольгой хлопотали над раскинутым под кустами ковриком. Из подлеска высовывались зеленые морды «москвичей».
— А где Виктор? — спросила Вера подходившего Семавина.
Тот обернулся, увидел, как Ланд тащил за веревку лодку, обходя кусты и деревья.
— Идет твой Виктор,— ответил Семавин.— Разве он пропустит завтрак?
— Ты моего мужа не трожь,— сказала, притворно сердясь, Вера.— А то подскажу ему, чтобы на работе тебя прищучил. Он хоть и друг, а все же начальник твой. А говорят, начальство критиковать...
— ...как в колодец плевать? — досказал, смеясь, Семавин.— А если колодца-то нет, одна лужа?
— Это кто лужа? — грозно спросила Вера.
— Да перестаньте вы! — вмешалась Ольга.— Успеете еще попикироваться, показать свои возможности. Как сойдутся, так и начинают... Кирилл, неси чайник. Осторожно, смотри, не ошпарься.
Появился Ланд. Он, подняв садок с рыбой, словно победный флаг, торжественно пошел к женщинам. Его стройная, высокая фигура в джинсах, ухоженные бачки и усики, копна волос чуть не до плеч, неторопливая вальяжная походка — говорили о том, что этот человек знает цену себе, умеет показаться.
— Видали? — спросил он женщин, и лицо
115
его загорелось самодовольством.— Тут не только уха, но и хорошая жареха.— Он повернулся к Семавину, шедшему от костра с чайником.— А где твоя рыба?
— В озере плавает,— отозвался Семавин.— Там ей лучше, кислороду больше.
— Тоже мне рыбак,— иронически произнес Ланд.
— Хватит вам о рыбе,— запротестовала Ольга.— Нечего считать, кто сколько поймал. Мойте руки, и завтракать...
— Нет, что ни говори, а люблю я посидеть вот так, на лоне природы, за приличным столом,— начал Ланд разговор, сочиняя какой-то тройной бутерброд по собственному рецепту. — Бог создал субботу и воскресенье для нас, и надо их использовать в полной мере.
— Сибарит ты, Виктор, как я погляжу,— отозвалась Ольга, разливая чай.— Уж очень охочь до удовольствий.
— А чего же ты, милая, хочешь от меня? Чтобы я лишь работал, сидел сутками на заводе, вкалывал до износа? А жить когда? Мне немножко и пожить хочется. Понимаешь? По-человечески пожить, чтобы потом и умирать не обидно было.
— Дескать, пожил в свое удовольствие, пора и честь знать. Так, что ли? — съязвила Ольга.
— Не совсем так, но что-то... гм... близко. Во всяком случае, люблю брать от жизни все, что плохо лежит.
Ланд весело рассмеялся неожиданно сочиненной им фразе, показавшейся ему и умной и меткой.
116
— Например? — спросила Ольга.
— А ты не знаешь? Смотри сюда.— И Ланд стал перечислять, загибая пальцы: — Служба у меня есть, и, похоже, не плохая; машина есть; жена есть...
— Жена у тебя в одной ведомости с машиной? — ехидно спросила Ольга.
Ланд на какое-то время растерялся, потом захохотал:
— Ладно тебе, не придирайся к моим словам. Так вот, жена есть...
— Одна? Может, мало одной?
— По положению можно бы и две,— посмеялся Ланд,— но...
— Ах, тебе надо вторую? — громко спрашивает Вера и, не дожидаясь ответа, бьет Ланда салфеткой по щеке.
— Не надо, не надо! — вопит притворно Ланд.— Хватит одной!
Всем становится весело, посмеявшись, вновь принимаются за еду.
— А твой Кирюша,— после недолгого молчания Вера спрашивает Ольгу,— он что? Безгрешен, как апостол?
— Мой тоже не без недостатков,— ответила Ольга.— И самый главный — от жены ни на шаг.
— А тебе это и впрямь не нравится?
— А что в этом хорошего? Быть всегда под присмотром...
— Слышишь, Кирилл, что говорит твоя жена? — спросила Семавина Вера.— Когда ты кончишь свой домострой?
Семавин лишь покрутил головой и ничего ей не ответил, продолжал есть. Он слушал разговоры, но не вмешивался в них, наперед
117
зная все, что скажет Ланд,— любит тот порисоваться; водится это за Ландом с давних времен, когда вместе учились в Нефтяном институте. Еще лучше знал он жену свою Ольгу,— ее привычку в кругу близких друзей сказать ненароком о любви к ней мужа. Семавина вначале шокировала такая откровенность, но постепенно он привык к этому и перестал обращать внимание.
Солнце уже поднялось, ушло вправо на тот, дальний угол озерка. Там летали какие-то птицы — Семавин не мог за дальностью определить, какие именно, они кувыркались над кустами, кусты просвечивали, открывая заросли таволги и борца.
— Все! Мы с Ольгой пошли к реке,— заявила, вставая, Вера.— Окунемся после сытного завтрака, присмотрели там местечко... А мужчинам — все убрать, почистить рыбу, и только тогда разрешается присоединиться к нам.
— Слушаюсь и повинуюсь,— ответил Ланд.— Все будет в аккурате.
Женщины ушли. Семавин посмотрел на неторопливо жующего Ланда, поднялся, забрал его садок с рыбой и пошел к озерку выполнять поручение женщин.
2
Кабинет Семавина находился на четвертом этаже цеха. Измученный и злой, он поднимался к себе по узким и крутым лестницам, не замечая их крутизны. Душило желание сорвать на ком-то злость за неполадки
118
на станции хлорирования, облегчить себя, вывести наружу нервное перенапряжение. Но понимал, что злится зря, виноватых на станции нет. Оставалось винить себя за беспомощность перед грудой железа, созданной из реакторов и переплетений труб.
Но он не чувствовал и за собой вины: оборудование не им придумано, оно дано ему в готовом виде, как и сама схема получения гербицидов.
Кабинет дохнул теплом, застойным воздухом, едва он открыл дверь. Обойдя стол, на котором ничего не было, кроме телефона да графина с водой, он подошел к окну, открыл створки. В окно потянуло холодком с чуть ощутимым, привычным запахом фенола.
Казалось, ничто не предвещало сегодня неприятности. И спал он крепко, без снов, после вчерашней рыбалки, и проснулся рано, еще не звонил будильник; лежать не хотелось, подмывало встать — жажда деятельности вдруг нашла на него. Он осторожно поднялся, боясь разбудить жену,— она так сладко спала, положив по-детски ладонь под щеку. Спящая жена и в самом деле напоминала девочку, такую маленькую, беззащитную, с пухленькими полураскрытыми губками, что ему неудержимо захотелось ее приласкать, но он сдержал желание, тихонько вышел из спальни. Он по-прежнему был влюблен в жену, как и десять лет назад, когда они поженились, а появление детей, кажется, еще больше укрепило это чувство.
И после, в трамвае, когда они ехали на завод, не переставал ощущать присутствие
119
жены. Он стоял, оттертый от нее, в конце вагона, разговаривал с инженером отдела оборудования и не терял из вида жену, сидевшую у окна.
И погода радовала Семавина. Начало июня, а дни стоят теплые, солнечные, как в июле. Скоро ему в отпуск, уже обговорено с женой, что, как и в прошлом году, они поедут к отцу в деревню.
Придя на работу, узнал о загазованности станции хлорирования. И сразу слетело сентиментальное настроение.
Вахта работала в противогазах, когда он спустился на станцию. Шипели, как змеи, реакторы, глаза щипало, щекотало в носу от присутствия хлора. Начальник первого отделения Габитов, увидев Семавина, махнул рукой — не то поприветствовал начальника цеха, не то таким образом выразил свое огорчение происшедшим и исчез за одним из реакторов. Аппаратчики лазали по системе, проверяли насосы, газопроводы, искали причину утечки хлора. Семавин, облачившись в куртку, сам включился в поиски, но все было напрасно. И он, полазив по реакторам, измучившись, приказал выключить установку, вызвать слесарей для ремонта. Торчать на станции было бесполезно, и он ушел к себе.
Утром он легко позавтракал, хотелось есть, но в столовую не тянуло, вернее — было не до борщей: предстояло спасать суточный план выпуска гербицидов. Станция хлорирования давно сидела у него в печенках. Дело тут не только в загазованности, загазованность — явление неприятное, но и не частое. Дело в другом... Да и не одна эта станция, в цехе —
120
их пятнадцать, цепочка, по которой идет весь процесс...
В дверь постучали. Семавин отошел от окна, глянул выжидательно,— обычно к нему входили без стука. «Кто это такой вежливый?» — подумал он.
В дверь снова постучали.
— Входите же! Не закрыто! — крикнул он.
Дверь медленно открылась, и в комнату не спеша вошли три парня.
Семавин с изумлением переводил взгляд с одного на другого. Были они в одинаковых голубых куртках, с одинаково длинными, отращенными до плеч волосами. Парни независимо, с любопытством посматривали на начальника цеха.
Он вначале подумал, не братья ли близнецы перед ним, но, присмотревшись, отбросил эту мысль: лицом не похожи. Один — белобрысый, веснушчатый, с волосами цвета ржаной соломы. Второй с пушком на верхней губе; темные курчавые волосы красивой волной спускались на плечи. Третий чуть пониже первых, курносый и с таким плутовским лицом, что, глядя на него, невольно ожидалась какая-то каверза.
— Что скажете? — спросил Семавин.
— Вот,— ответил курчавый, видимо старший из парней, и подал сложенную вдвое бумажку.
Семавин развернул ее — бумажка оказалась из отдела кадров: три выпускника ГПТУ направлялись в цех на работу.
«Вот она наша смена...» — подумал он, с неприязнью оглядывая парней, садясь за стол.
— Кто из вас Раис Ишмухаметов?
121
Курчавый шагнул вперед.
— Отец где работает?
— Здесь, в цехе... На станции охлаждения. Семавин внимательно всмотрелся в парня. — Сын Ризвана? Хороший рабочий твой отец. Посмотрим, какого сына вырастил... Соломатин Федор?
— Это я,— ответил хрипловато белобрысый.
— Кто родители?
— Мать... в колхозе.
— Кем работает в колхозе?
— Дояркой.
— Что же ты из деревни уехал, мать бросил?
— Все едут...
— Разве в городе лучше?
— А то... И кино, и танцы в парке, куда хошь иди.
— Значит, на танцы в город приехал? Соломатин смущенно отвернулся.
Семавин посмотрел на него, не нравился он ему, какой-то несобранный. Интересно, каков будет работник?
— А ты, значит, Колесов? — спросил он курносого.
— Значит, я — Колесов. Отец-мать есть, работают, живут в здешнем городе, в благоустроенной квартире, есть телефон, телевизор, пес Барбос,— выпалил он скороговоркой, не переводя дыхания.— Вопросы еще будут?
Белобрысый Соломатин хохотнул, будто покатал камешки во рту. Второй, Раис Ишму-хаметов, даже не улыбнулся, стоял невозмутимо, словно не слышал Колесова.
Семавин почувствовал, что бледнеет.
122
— Будут,— сказал он, с трудом удерживая голос от дрожи. Встал, подошел вплотную к парню. Тот хитро улыбался, смотрел на начальника цеха.— Только не вопросы, а совет... Как придешь домой, спроси отца, когда он последний раз тебя ремнем драл? Если давно и ты позабыл вкус ремешка, передай мою просьбу, пусть напомнит... Может, тогда научишься, как надо вести себя, когда первый раз приходишь на завод поступать на высокую должность рабочего. Понял, Михаил Колесов?
— Спрошу,— по-прежнему улыбаясь, ответил Колесов.— Только у нас теперь приняты другие меры воспитания.
— Пусть начнет с этого. Для тебя это полезнее.
Дверь открылась, вошел Габитов.
— Ну, как там? — Семавин нетерпеливо кивнул головой в сторону злополучной станции. — Нашли причину утечки газа?
— Негерметичность третьего аппарата... Через час закончат.
— Сальники проверьте. Сальники могут пропускать.
— Все проверим.
Семавин отошел от парней.
— Забери этих ребят,— сказал он Габитову, и в голосе его послышалось пренебрежение к парням,— поставь на станцию хлорирования помощниками аппаратчиков. Пусть поучатся...
— Ладно, заберу,— сказал Габитов, но и в его голосе Семавин не уловил особой радости.
— Лохмы свои пусть укоротят,— предупре
123
дил Семавин.— Здесь работать придется, не с гитарой в подъезде балдеж устраивать.
Зазвонил телефон: начальника цеха вызывали к директору завода.
з
Директор стоял за столом, словно памятник на площади, скрестив на груди руки, рассматривал входивших в кабинет. Круглое, скуластое лицо его ничего не выражало: ни скуки, ни радости. И нельзя было понять, чего он так вглядывался в своих подчиненных: может, оценивал, чего стоят? Увидев Ланда, начальника производственного отдела, он на миг оживился, кивнул ему, потом широким жестом попросил всех к столу.
Узкий, крытый зеленым сукном стол заседаний стоял в стороне от директорского, подле окна. Люди молча рассаживались, не торопясь вынимали блокноты, авторучки.
Директор подождал, пока не усядутся, подошел к столу.
— Кажется, все,— сказал он.
В стороне, спиной к окну, стоял Август Петрович Бекетов, главный инженер завода. Невысокий, светловолосый, внешне ничем не отличался от входивших в кабинет работников завода. И одет был, в противоположность щеголеватому директору, в простую коричневую куртку.
Семавин сел рядом с Хангильдиным, начальником цеха монохлоруксусной кислоты, тиснул ему руку повыше локтя. Хангильдин, сухой, жилистый, с постоянной, застывшей строгостью на морщинистом лице, был вообще-то
124
добродушным человеком, и показная строгость не мешала ему иногда весело, рассыпчато смеяться. Цех монохлоруксусной кислоты представлял сырьевую базу цеха гербицидов, и Семавин, как лицо зависимое, не забывал оказывать внимание исполнительному, пожившему на свете Хангильдину.
— Не знаешь, почему нас с тобой «на ковер» к директору? — шепнул он Хангильдину в ухо.
Тот, выпятив губы, отрицательно мотнул головой.
Из начальников цехов были приглашены только они, и это удивило Семавина,— остальные приглашенные являлись работниками заводоуправления. «Неужели разгон?» Но цех план выполнял, а слух о сегодняшнем случае на станции хлорирования до директора вряд ли успел дойти.
— Мы с Августом Петровичем,— и директор кивнул на присевшего сбоку от него главного инженера,— пригласили вас, чтобы обсудить одну техническую проблему. Получен план по выпуску гербицидов. Нам предложено удвоить их производство к концу пятилетки. Повторяю: уд-во-ить! — директор признес это слово по слогам.— Вы понимаете, конечно, что это правительственное задание и не выполнить его мы не имеем права, да наш коллектив не приучен к тому, чтобы не выполнять заданий.
Директор прервал речь, нервно погмыкал, не раскрывая рта, покрутил головой, высвобождая шею из тугого воротничка рубашки. Семавин отметил про себя, что директор просто взволновался, говоря об успехах завода.
— Значит,— продолжал директор,— сле
125
дует каждый год поднимать производительность на двадцать процентов. Вот и давайте обсудим, как, какими путями можем достичь этого, какие у нас существуют резервы... Первое слово товарищу Семавину, начальнику цеха гербицидов.
Семавин медленно поднялся: вот, оказывается, в чем дело, а он ожидал невесть чего! То, что сообщил директор, Семавина не удивило — потребность села в гербицидах большая, они не удовлетворяют эти потребности. Удивило другое: предложение заставить работать оборудование цеха в два раза производительнее.
— Цех работает на пределе, Зия Гильмано-вич,— ответил он директору.— Из оборудования больше того, что сейчас берем, выжать нельзя.
— Так уж и нельзя! — возразил директор. Он по-прежнему стоял, опираясь кончиками пальцев о стол, но теперь лицо его стало неузнаваемым: исчезла апатия, оно оживилось, ноздри небольшого носа вздрагивали, словно принюхивались к чему-то.— Оборудование сравнительно новое, оно, по-моему, еще таит в себе резервы.
— Может быть, два-три процента в год еще и натянем, и то за счет строгого соблюдения технологического режима, но двадцать процентов — это, простите, миф, а мы — реалисты, в мифы не верим... И эти небольшие проценты можно дать при одном условии, если не подведет Хангильдин, будет в достатке монохлорка.
Директор, не глядя на стол, нащупал коробку папирос, закурил.
126
— Вот ты как встречаешь, реалист, требование правительства... Как у тебя с резервами, товарищ Хангильдин? — обратился он к соседу Семавина.
Тот встал, беспомощно развел руками:
— Так нету... Какие резервы? Ну, процентов пять-шесть от силы, и то...
Директор поморщился, словно папироса, которую он курил, была горьковатой, пустил дым уголком рта.
— Значит, никаких? Никаких резервов ни у того, ни у другого?
— Очень мало,— ответил Семавин за себя и за Хангильдина.— Только за счет технологической дисциплины.
— Садитесь,— сказал директор.— А как смотрит на это производственный отдел?
Ланд чуть приподнялся, похоже, хотел встать, но раздумал, лишь повернул к директору голову,— Семавин видел лишь его затылок, аккуратный бачок на щеке.
— Кирилл Николаевич прав: цех гербицидов исчерпал свои возможности, надеяться на «большой скачок» там нельзя.
— Ну, Виктор Иванович, на тебя я рассчитывал, думал, ты вытащишь нас из этой игры в кошки-мышки, а ты мне о «скачке». Следовательно, и ты?..
— То же и с цехом монохлоруксусной кислоты,— как бы не слушая директора, продолжал Ланд.— И там предел.
— Так что же вы можете предложить нам? Вы, специалисты? Подскажите, как выполнить задание правительства?
— Думается, только путем строительства новых цехов,— ответил Ланд.
127
У Семавина оттаяло в груди, он вновь взглянул в затылок Ланда, в душе шевельнулась благодарность к нему.
— Это понятно, без строительства новых цехов нам не обойтись. И министерство запланировало нам их строительство. Но сейчас разговор о другом. Товарищ Швецов, сколько потребуется времени, чтобы построить два цеха?
В конце стола поднялся начальник отдела капитального строительства, потер ладонью лысую голову.
— Старые цеха строили три года. Техника теперь совершеннее, опыта больше, думаю, за два года трест «Химстрой» с этой работой справится.
— Слышите? — спросил директор присутствующих, перевел взгляд на Ланда, потом на Семавина.— Новые цеха будем строить два года, а уже в этом году надо дать гербицидов на двадцать процентов больше, чем в прошлом году. Как этого достичь, как добиться — вот о чем должен идти разговор!
— Нельзя этого добиться на нашем оборудовании! — не утерпев, прервал директора Семавин.— Еще раз повторяю, не надо строить иллюзий на этот счет, надо реальнее смотреть на вещи.
Лицо директора побагровело от возмущения:
— Слышите, Август Петрович? И это позиция начальника цеха?!
Главный инженер чуть поморщился, видимо, его огорчил насмешливый тон директора.
— Причин для паники не вижу,— сказал он.— Действительно, резервов у нас мало, но
128
резервы все же есть, и они не исчерпываются соблюдением технологического режима, как говорили здесь. Думаю, и в цехе гербицидов, и в цехе монохлорки можно изыскать ту «золотую жилу», которая обеспечит нужный нам прирост выпуска гербицидов.
— Но двадцать процентов! — вновь не утерпел, вскочил Семавин.— А на будущий год — сорок!
— Ты что же предлагаешь? — спросил директор.— Оставить на эти два года вашим цехам прежний план, пока мы строим новые цеха? Легко жить хочешь, товарищ Семавин!.. Объявляю решение: начальнику производственного отдела Ланду привлечь Семавина и Хан-гильдина и в пятнадцатидневный срок представить главному инженеру план организационнотехнических мероприятий по изысканию резервов в этих цехах... Все! Можете идти.
Семавин поднялся, подождал Ланда,— ему хотелось поговорить с ним, но Ланд подошел к главному инженеру, и Семавин, с какой-то тяжестью на душе, пошел к себе в цех.
«Ну и денек сегодня!» — подумал он.
А вообще-то — обычный заводской день, даже не день — полдня, на часах лишь время обеда.
4
Выйдя из цеха, парни остановились, посмотрели на здание, где им предстояло работать. Громадная коробка из стекла и бетона, высотой в девятиэтажку, была опутана толстенными трубами-газопроводами. Эти трубы шли
129
во всех направлениях — и по верху и по низу коробки, уходили внутрь здания.
— Махина! — сказал восторженно Федя Соломатин, задрав голову.— До неба!
— Ну хоть не до неба, маленько пониже,— охладил его Раис Ишмухаметов,— но впечатляет. Ничего не скажешь!
— Коробка по нас,— заключил Миша Колесов.— Тут, Федя, есть где тебе разгуляться, будешь удивлять мир своими трудовыми показателями.
Соломатин хмыкнул, ничего не ответил. Постояв, они пошли к проходной.
Светило солнце, било в окна цехов, сушило асфальт. Воздух над ним колыхался, исходил испарениями, смешивался с волнами запахов, шедших из цехов. И пока они шли по заводу, эти запахи преследовали их. Из одного цеха несло чесноком, из другого — карболкой, из третьего на них хлынул удивительный аромат цветущей черемухи, из четвертого нанесло таким аппетитным уксусом, таким крепким, что Мишка, облизнувшись, произнес мечтательно:
— Эх, пельмешков бы сюда, да порции по три!
Федю Соломатина даже передернуло от слов Мишки, он прохрипел: «Бр-р-р», словно и впрямь хлебнул неразведенного уксуса.
— Ты чего перед начальником цеха дрова ломал? — спросил Мишку Раис.
— А чего он анкету мне сует? Зачем да почему, да кем я был до семнадцатого года? Вот он я, весь тут, в наличности, хоть снимай с меня кино, а он — кто родители.
Федя вдруг захохотал, захрипел, как просту
130
женный, да так громко, трескуче, что Раис остановился, посмотрел на него с испугом:
— Чего ты?
— Предста... предста... представляю,— заходился в смехе Федя,— как отец Мишку будет драть... А ремень с пряжкой!
— Перестань,— Раис шлепнул его по спине, и Федя ужал голову в плечи, поиграл лопатками.— Нету у него отца.
— Есть,— ответил Федя.— Он сам говорил, отец — инженер, мать — учительница музыки.
— Трёп... Ты что, не знаешь нашего Мишу Колесова? — Он обхватил за шею вдруг присмиревшего Мишку.— Мать у него дворником работает... И живут они в комнатке, в одной: Мишка, мать и двое сестренок. Стыдится, дурак, что мать — дворник. Вот и выдает себя чуть ли не за графского отпрыска.
Мишка шел, , вскинув голову, и улыбался, как будто не о нем говорилось, не его обвиняли во вранье, и нос его расплылся, торчал чуть видимой пуговицей меж толстых щек.
— А где у него отец? Надо полагать, был все же отец, раз Мишка существует? — допытывался Федя.
— Где у тебя отец, трепач? — Раис ткнул Мишку в бок, тот отскочил от него.— Отвечай, как замполиту на исповеди!
— Бросьте! — Мишка поморщился.— К чему эти вопросы? Опять анкета!
— Ты отвечай, не делай виражи, если друзья спрашивают,— не отставал Раис.
— Ну, шаландается где-то... Не хочу я о нем говорить, ребята.
Они посторонились — пробежал трактор
131
«Беларусь», таща на прицепе тележку, наполненную железными бочками.
— Ты завтра в первую смену? — спросил Раис Мишку.— Кто аппаратчик?
— Какой-то Муртаза... Да,— оживился Мишка,— этот любитель анкет заметили как нас встретил?
— Ты про начальника цеха?
— А про кого еще? Прически ему, видите ли, наши не нравятся... Зануда старорежимный!
— Расслабь пружину, Миша.— Раис попридержал рукой взъерошенного, как воробей у лужи, Колесова.— Мой отец говорил, что начальник цеха — современный инженер, с большим опытом работы.
— Современный? Этот «современный» нарочно нас загнал на станцию хлорирования, в эту газокамеру... Слышали про сегодняшнюю вахту в противогазах? Хорошо, все обошлось благополучно...
— Перестань, Миша, не пужай, мы же химики, знаем, что к чему. Вот и Федя просит: перестань, не трепись. Ты ведь просишь, Федя?
Соломатин потряс своими лохмами.
— Не нравится мне эта работенка. Нудная работенка! — не унимался Мишка.— Сиди да на приборы поглядывай. Скука! Мне бы, знаешь, куда-нибудь, где горка покруче, чтобы рубашка в поту, соляные копи на спине... На БАМ бы, вот там — да, делают историю! Простор! Лес и небо! Противогазов не надо.
— Ха-ха! Там тоже... сетки от гнуса,— охлаждает Мишку Федя.
132
— Езжай,— говорит Раис,— кто тебе препятствует? Иди в райком комсомола, пиши заявление.
Они подходили к проходной. Навстречу им и впереди них шли рабочие: кончалась одна вахта, начиналась другая.
— А кто моих сестер кормить будет? А им не только пища нужна...
—Тогда перестань канючить,— ответил Раис, пихнув его в дверь проходной.— Замри, будто тебя нету.
Площадь перед заводоуправлением была запружена автомашинами, машины въезжали, обходя друг друга. Парни перебежали площадь, выскочили на пешеходную дорожку, идущую вдоль шоссе.
— Трамвай! — крикнул Федя, как только они вышли к трамвайным путям.— Бежим к остановке! Еще успеем!
5
Семавин в тот день домой вернулся поздно — участвовал в заседании завкома.
После тревожного дня, вначале — неприятность на станции хлорирования, потом эта нервотрепка у директора, он чувствовал себя уставшим, к тому же в комнате, где заседали, было душно, накурено, и некурящий Семавин тяготился этим.
Выйдя из помещения, он снова вернулся мыслями к событиям дня, к совещанию у директора. Отошли на задний план дебаты в завкоме, осталась проблема увеличения производства гербицидов, решить которую его обязали, а он не знал, как это сделать.
133
Дети спали. Жена, предупрежденная еще днем, что он задержится, сидела, ждала его, читала «Роман-газету».
И пока Семавин ужинал на кухне, не уходила, была возле, молча глядела, как он не спеша ел разогретую котлету, потом пил чай, обжигаясь,— он любил горячий чай, бренчал ложкой в стакане.
— Как девчонки? — спросил он о детях, не мог не спросить — детей он любил, хотя не это сейчас занимало его.
— Спят... По телевизору передавали сказку о Красной Шапочке, насмотрелись ее и — едва уложила. Особенно Надька, такая капризуля стала, разбаловала ее мама.
Теща Семавина жила с ними, опекала детей, водила младшую в садик, и он был спокоен за них, на воркотню жены не обращал внимания,— все мамы одинаковы, и когда дети еще в садик ходят, и когда они уже невест или женихов себе выбирают.
Жена вновь замолчала, продолжала разглядывать мужа.
— Чего ты смотришь на меня, как на серого волка? — спросил, улыбаясь, Семавин.
— Необычный ты сегодня, Кирилл... Гнетет что-то тебя. Может, расскажешь?
Семавин не удивился: жена понимала его настроение. Но не мог он говорить с ней о том, в чем сам не разобрался. Жаловаться на директора было не в характере Кирилла.
И он сказал жене:
— Выдумываешь, Ляля, ничего меня не гнетет. Это тебе, как и девчонкам, после Красной Шапочки... Правда, сегодня был маленький
134
аврал на станции хлорирования, но все обошлось... Пойдем спать.
Уже лежа в постели, он вспомнил разговор в кабинете директора. Решение администрации увеличить выпуск гербицидов в этом году на двадцать процентов — пустой разговор, свой цех он знает лучше. И оргмероприятия, что требует директор, дадут те же два-три процента, о которых говорилось на совещании.
Хотя он и противился этому решению, одновременно понимал, что директор прав, требуя увеличить выпуск гербицидов,— колхозы и совхозы ждут их, чтобы добиться повышения урожайности на полях. А вот когда еще построят эти новые цеха, когда еще они начнут давать продукцию?
В памяти всплыла прошлогодняя поездка в деревню к отцу в дни отпуска.
...Это было в конце июля. С женой и девчонками он ехал на своем «Москвиче», направляясь в дальний район, туда, где кончались степи и начинались леса, уходившие в горы. Там, на реке Сурень, находилось село, где он родился и где сейчас председателем колхоза его отец.
Семавин с давно неиспытываемым удовольствием вел машину по степным дорогам, прислушиваясь к ровному гулу мотора. Дорога бежала под колеса машины, пропадала сзади за бурунчиками пыли. И день стоял прекрасный, дети радовались каждому кусточку, каждому лесному колонку, просили остановиться, набирали пригоршни ягод. Семавин видел, и Ольга рада поездке, хоть неохотно собиралась — дома столько дел, когда ими заниматься, как не во время отпуска. Но теща, Лю
135
бовь Андреевна, поддержала Кирилла, настояла на поездке, обещав сделать по дому все, что в ее силах.
В полях шла косовица гороха, жатки ходили широкими кругами, и Семавин с любопытством озирался вокруг, отмечал про себя достоинства полей, прикидывал урожайность и заключил, что год нынче выдался хлебный.
Он вспоминает первые минуты встречи с отцом.
Отец был при всех своих орденах — и боевых, и мирных. Он степенно похаживал по горнице, готовя застолье. И на вопрос сына, что это за праздник, что он при всех регалиях, отец с достоинством ответил:
— А разве не праздник — сын с женой да с внучками приехал в родные края? Не каждый день такое выпадает... Это как солнышко после ненастья.
Отцу — шестьдесят, но он еще крепкий, по-солдатски бравый мужик, лишь на висках да усах высыпала проседь. А мать — постарела, крепко сдала... и вот сейчас, суетясь вокруг стола, хлопала ладонями по широкой юбке: ох, забыла свежей морковки внучкам надергать...
На следующий день, позавтракав, отец собрался в поле.
— А можно нам с тобой? — попросился Кирилл; ему хотелось посмотреть на поля, где и он когда-то, до поступления в институт, работал в летнюю пору — и сеял, и пахал, и сено косил. И на уборке отличался — был непременным помощником знатного в районе комбайнера Степана Ивановича Косоротова.
— Не с руки мне по полям вас возить,—
136
запротестовал отец,— не на прогулку еду... Да ладно уж, довезу вас до Митькиного колка... Малины там ноне — подолом греби. Пособираете, на травке полежите, а к обеду забегу за вами.
Отец обходился без шофера, и Кирилл с завистью наблюдал, как легко он вел машину. Но вскоре другое стало занимать Кирилла: не мог оторвать глаз от знакомых с детства мест. Каждый ложок, каждая полянка или даже дерево на этой полянке напоминало ему что-нибудь, связанное с этими местами.
И ему расхотелось собирать ягоды, когда они остановились у веселого лесного колка.
— Ну, поедем со мной,— сказал отец.— Забыл, как хлеб растет?
Машина шла узкой полевой дорожкой. По обе стороны ее стояла пшеница,— густая, колосистая, уже прихваченная июльским солнцем. Поле было огромное, оно колыхалось под ветром, перекатывалось волнами. И от этих хлебных волн, этого колыхания колосьев вдруг защемило душу Семавина. Он с уважением посмотрел на отца, подумав: дорогой ценой дается крестьянину эта красота, когда колосья по грудь мужику.
Они проехали поле цветущего донника, за ним Кирилл увидел еще поле, но так и не понял, что тут росло: оно было покрыто желтыми и оранжевыми цветами, даже рябило в глазах от этого многоцветья.
— Что за культура? — спросил он отца.— Что тут растет?
— Гибриды... Суреньские гибриды,— ответил отец, посмеявшись в усы.
— Какие гибриды? Гороха, что ли?
137
— А ты выйди, присмотрись.
Отец остановил машину, Кирилл вышел, подошел к полю. Теперь он разглядел, что тут был посеян овес — топорщились его зеленые метелки. Но по всему полю, глуша овес, вымахали осот и молочай. Это они так пышно цвели.
— Что? Красиво? — крикнул отец.— Эта красота у меня глаза выела...
— Прополоть надо было вовремя. Прошляпил, хозяин?
Кирилл подошел к машине, лукаво посмотрел на отца.
— Рук, рабочих рук не хватает... Это тебе не старая крестьянская полоска,— пришел да сорняк повыдергал. Тут тысячи гектар... Химию надо, без нее зарез... И перестань улыбаться, за это поле ты тоже в ответе. Ты даже больше виноват, чем я.
— Я виноват? — удивился Кирилл.
— Ты, ты, сынок... Кто гербициды выпускает? Почему их не хватало для этого поля?
Кирилл понял, к чему клонит отец.
— Это не только от меня зависит...
Отец не дал ему договорить:
— Я приставлен к полю, а ты — к химии, всяк за свое дело отвечает. Если вы требуете от нас больше хлеба, и мяса, и молока, давайте и нам больше, поднатужьтесь.
— Согласен... Только учти, не все одобряют гербициды, говорят, вреда от них много природе: птице, зверью...
— С умом надо делать, и вреда не будет,— ответил отец.— Умные вещи к себе умного отношения требуют...
Кирилл сел в машину. Отец продолжал
138
говорить, но он уже не слушал его, весь ушел в мысли о своей работе.
И то поле, усеянное цветами осота и молочая, и после часто стояло у него перед глазами...
...Сон не приходил. На белой подушке угадывалось лицо жены. Она спала опять с ладонью под щекой. Стояла тишина, лишь с улицы иногда доносился приглушенный стеклами шум пробегавших машин.
Он повернулся на бок, закрыл глаза, стал считать до тысячи. Надо уснуть, завтра опять предстоял нелегкий день.
6
Спал он тревожно и проснулся от того, что какая-то мысль, едва возникнув, сразу же ускользнула, оставив гнетущее чувство чего-то потерянного, но так необходимого ему.
В комнате еще стоял полусумрак. Семавин посмотрел на бледные окна и начал одеваться: непонятное возбуждение необычно рано гнало его в цех. Кажется, что-то стало вырисовываться, что-то складываться — пока неясно, неокончательно, наподобие контура.
Не заходя к себе, он прошел на станцию хлорирования. Шесть эмалированных реакторов, как рогатые быки с раздутыми боками, разлеглись на цементном полу. Он уперся взглядом в них, потом обошел вокруг, не сводя с реакторов глаз, прислонился спиной к стене.
Эта станция всегда заботила его. И не потому, что тут происходили события вроде вчерашнего. Она стояла в начале производственного цикла и лимитировала работу всего цеха,
139
всех пятнадцати стадий превращения химических реагентов в гербициды. И если бы станция чуть увеличила свою мощность, это позволило бы цеху дать больше продукции.
Мысли об увеличении мощности станции приходили ему и раньше, но не очень долго задерживались: план цехом выполнялся и нужды в этом не было. А вот сейчас эта нужда пришла.
Он смотрел на реакторы, но видел не их — в голове стоял такой ералаш от догадок, предположений, что было не до разглядывания маслянистых боков. Мысленно он проходил по всей технологии станции, от узла к узлу, искал в ней изъяны, узкие места.
Станция, как и весь цех, работала по периодической схеме. В реакторах станции хлорирования, в этих вот пятикубовых шарах, идет реакция хлора и фенола. Для ускорения реакции происходит механическое перемешивание смеси специальными мешалками, и тем не менее реакция идет медленно — целых двенадцать часов. Потом процесс приостанавливается, смесь — дихлорфенол передается на станцию приготовления растворов. После снова запуск в реакторы хлора и фенола, снова полусуточное перемешивание.
А что, если заставить реакторы работать непрерывно — без остановок на заправку и перекачку смеси? Что же тогда произойдет? Мощность станции увеличится вдвое, вот что произойдет!
А если все станции, весь процесс, всю нитку образования гербицидов перевести на непрерывку?
140
Он не знал еще, как это осуществить, как добиться непрерывной работы оборудования цеха, но понимал, что в этом, только в этом может быть выход из положения.
Он был так возбужден, так взбудоражен перспективой работы станции по-новому, что не заметил, как отошел от стены, опустился на какой-то ящик и обхватил руками голову, задумавшись.
Вывел его из оцепенения Муртаза, аппаратчик станции. Подошел, тронул за рукав:
— Заболел, что ли?
— Да нет, все в порядке,— ответил Семавин, вставая.— Здравствуй, Муртаза Хайдарович.
— Здравствуй... Смотрю, как вроде чумной сидит. Думаю, больной наверно, а пришел... Ничего, станция сегодня хорошо идет, не газует, чего тревожишься? Вчера все аккуратно сделали.
Муртаза работал на станции со дня пуска цеха, до этого трудился в третьем цехе. «Старый кадр», как он говорит сам про себя. И по возрасту он близок к пенсии, но держится молодцом. Семавин знает — когда Муртаза на вахте, можно не беспокоиться за работу станции.
Семавин только сейчас заметил, что Муртаза не один: у приборов стоял парень в спецовке, голову прикрывала лихо надетая кепка, из-под кепки топорщились волосы, обрезанные полукружьем, открывавшие тонкую бледную шею. Начальник цеха вначале не признал Мишку Колесова — тот стоял к нему спиной, и уже хотел спросить Муртазу о новичке, как Мишка повернулся, и его кур
141
носое лицо напомнило Семавину вчерашнюю встречу.
— Как помощник? — спросил он Муртазу.
— Хороший парень... послушный,— ответил Муртаза.— Ну, я пойду, ты не беспокойся, хорошо идет станция.
Муртаза отошел за реактор. Семавин еще постоял, посмотрел на Мишку. «Ишь ты, балабон, постригся, на человека стал походить... Посмотрим, какой ты хороший парень».
7
В кабинете его ждали начальник первого отделения Габитов и начальник первой смены Данилко.
— A-а, и парторг, и профорг? Что-нибудь случилось? — спросил Семавин, здороваясь с ними.
— Да нет, ничего,— успокоил его Габитов.— Пришли насчет премии. Месяц кончается, а мы никак не поделим... Семен Семенович, покажи список Кириллу Николаевичу.
Данилко живо поднялся, раскрыл принесенную с собой папочку, вынул сколотые листочки бумаги, подал начальнику цеха. Данилко невысокого роста, у него крупная голова, лоб с залысинами. Трудно сказать, сколько ему лет,— круглое лицо не изборождено морщинами, но ежик на голове отливает сединой, как мех у старого лиса.
Семавин взял список, сказал: «Присаживайтесь», сел за стол и стал разглядывать строчку за строчкой бисерный почерк Данилко. Цеху, занявшему в соцсоревновании второе место по заводу, присуждена премия в пятьсот рублей.
142
Вот эту премию и распределил Данилко по рабочим. Так и раньше делали, когда выпадала премия, и Семавин не возражал против заведенного порядка, но сегодня что-то «нашло» на него, как говорила теща, когда Кирилк бывал чем-то увлечен и домой заявлялся к полуночи.
— Почему так: Хайретдинову — рубль, а Иванову — десять. А Слепкову, Шамсутдинову и совсем ничего? Работали вместе, в одной смене, план жали общий, а премия разная.
Данилко хмыкнул:
— Так ведь это глядя, как человек относится... Есть у нас ударники, а есть и такие — кое по чему по другому ударяют. Надо их как-то различать.
— Различать надо, но...— Семавин отодвинул списки, взглянул на Данилко, и что-то насмешливое, вызывающее было в этом взгляде.— Вот представь себе такое положение: эстафету бежали четверо, а медали дали только двоим. Как бы они поступили по-твоему? Смирились бы? Нет, они либо отказались от медалей, либо распилили их на четыре половинки, каждому по одной... Так и у нас в цехе: работа общая, налажена технологическая цепочка, где все зависят друг от друга, как в эстафете. Рабочие это понимают лучше нас...
Данилко нетерпеливо поерзал на стуле: не нравилось ему начало разговора.
— Всегда же так делали! — сказал он с упреком.— Вижу, сегодня вы не в настроении. Тогда отложим на денек-другой.— Он встал.
— Не торопись,— задержал его Сема-
143
вин.— Вопрос надо сейчас решать, не откладывать... Ты в театре бываешь?
— В театре? Когда? — Данилко сел, положил папку на колени.
— Ав кино?
— Когда, спрашиваю? Смену отстоишь, а потом то заседание завкома, то какие-нибудь комиссии, профмероприятия в цехе... Когда тут?.. — И он махнул рукой, недосказав.
— Плохо, Семен Семенович... Начальник смены, тем более председатель цехового комитета, не должен стоять в стороне от культурной жизни, иначе захиреешь, мохом обрастешь, вон как Ефремов, начальник второй смены... Кстати, Нури Ахметович, что у него на станции конденсации? Что за чехарда с аппаратчиками?
— Ромашкин третий день не является на работу,— ответил Габитов.
— Что с ним?
— Кто знает? Ходили на квартиру — дома нет... Загулял, наверно. Ему не впервой.
Семавин с минуту помолчал.
— Как появится в цехе, пусть зайдет вместе с Ефремовым... Так вот о театре. Давайте эту премию пустим вот на что: сходим коллективно, сменами, в оперу, на спектакль, в цирк — какая смена куда пожелает. Тогда никому не будет обидно, что обошли его, не дали премию. Как вы?
— Я согласен,— ответил Габитов.— Тут и время с пользой пройдет, и пьянства будет меньше.
— А ты как, цеховой комитет? — спросил Семавин Данилко, глядя на его кислую улыбку.
144
— Ладно, попробуем. Посмотрим, что выйдет,— сдался Данилко, не стал больше спорить.
— Теперь у меня к вам разговор... Одну минутку.
Семавин потянулся к телефону, поднял трубку, набрал номер.
— Флюр Ганеевич? Зайди, пожалуйста... Да, сейчас.
Технолог цеха Ганеев появился тут же — кабинет его находился рядом. Он одних лет с начальником цеха, но повыше, повнушительнее. Пышные волосы, которым завидовал Семавин — Семавин стал лысеть, делал начес на лысину,— были аккуратно острижены и, словно меховая шапка, плотно покрывала голову.
— Вот какой разговор, товарищи.
Семавин посмотрел на Ганеева, сидевшего в независимой позе, положив ногу на ногу; на строгого, немного сумрачного Габитова, глядевшего на начальника цеха из-под разлапистых бровей; на смирно сидящего, чуть понурого, но улыбающегося Данилко с папкой на коленях.
— Вот какой разговор,— повторил Семавин.— Распоряжением директора цех обязан увеличить к концу года выпуск гербицидов на двадцать процентов.
— О! — только и сказал Данилко и помотал головой не то в осуждении, не то в восхищении. Габитов остался в той же позе, а Ганеев, покачнувшись, лишь переменил положение ног.
— Директор предупредил, что это задание правительства. Предложено подумать и доло
145
жить, какие у цеха есть возможности к этому.
— Никаких! — выпалил Данилко.— И вы это сами прекрасно знаете. Спрашивать не надо!
Семавин и не ожидал иного ответа — Данилко был прав, он и сам вчера дал директору такой же ответ. И не стал больше испытывать терпение своих помощников, решил раскрыть карты.
— Флюр Ганеевич, что будет, если станцию хлорирования перевести на непрерывную схему?
Ганеев посмотрел куда-то вверх, поверх очков, словно там был написан ответ на вопрос начальника цеха.
— Что будет? — переспросил он.— Арифметика простая: перевод станции на непрерывную схему дал бы в два раза больше дихлорфенола.
— А мощность цеха? Как увеличится после этого мощность цеха? — добивался Семавин.
— На двадцать — двадцать пять процентов... Другие станции, хотя и с периодическим процессом, все же имеют в запасе некоторые мощности. Ну, кое-где можно будет усилить, что-то подправить, улучшить. Во всяком случае, если станцию хлорирования перевести на непрерывную работу, предложение директора можно осуществить. Вы это имели в виду?
Семавину хотелось встать и походить по кабинету, чтобы успокоиться, но он сдержал себя, лишь вздохнул глубоко, как после быстрого бега.
— Но вопрос — как перевести,— Ганеев пригнулся, развел руками — пока не представ
146
ляю... Тут должна быть другая технологическая схема, да и оборудование, очевидно, другое. Где-то читал, что в ГДР на подобных предприятиях внедрена непрерывная схема получения продукта, но — как и что, при каком оборудовании — не видел ни схем, ни описаний.
Пока Ганеев говорил, Данилко недовольно покряхтывал, перекладывал папку из одной руки в другую.
— Пусть разговор,— заявил Данилко, как только Ганеев замолчал.— Переделывать схему станции — не насос отрегулировать. Этим проектные институты занимаются, профессора сидят. Вот им и предложить, пусть проектируют, а у нас свои дела, план выполнять.
— Напрасно ты так, Семен Семенович. Начальник цеха правильно предлагает, пора и вперед посмотреть, не топтаться на месте,— заметил Габитов.
— Это я каждый день в газетах читаю,— ответил Данилко.
— Правильно, Нури Ахметович! — поддержал Габитова Семавин.— А товарищу Данилко следует не только читать газеты, но и следовать их призывам. Думаю, основной наш вклад в перестройку — повышение эффективности, интенсификация производства. Вот и надо нам тут, у себя в цехе, искать резервы этой интенсификации.
— Не хватит у нас ума на такое дело,— опять огрызнулся Данилко.
— Не хватит? А скажи, сколько по проекту цех должен был выпускать продукции?
— Ну, двадцать тысяч тонн...
— А выпускаем двадцать две!
147
Семавин быстро прошелся взад-вперед за столом, будто проплясал, хотел унять себя, не волноваться зря, хотя не волноваться было невозможно: споря с Данилко, он как бы проверял себя, свою правоту.
— А что, это пришло само собой? — продолжал он.— Нет, не само... Флюр Ганеевич, сколько было рацпредложений за время освоения цеха?
— Что-то около ста пятидесяти,— ответил Ганеев.
— Слышал? А это предложения рабочих и специалистов нашего цеха, которым ты отказываешь в уме. Вроде бы незначительные улучшения, но и они смотри к чему привели: увеличили мощность цеха на десять процентов. А вот теперь следует иначе посмотреть на нашу технологию, взглянуть как бы в корень: а нельзя ли так повернуть, чтобы та же техника дала вдвое больше продукции... Говоришь, ума не хватит? А если к этому пристегнуть весь коллектив цеха? Триста умов — чем не институт?
Семавин закашлялся от возбуждения, налил воды из графина в стакан, выпил.
— Идея, конечно, интересная, Кирилл Николаевич,— сказал Ганеев. Он знал своего начальника цеха, его горячность, и потому спокойно ждал, когда тот выговорится, протирал носовым платком стекла очков.— Следует о ней с начальством поговорить. С главным инженером.
— Да, да,— поддержал Габитов.— Надо поговорить с Августом Петровичем. Он подскажет, что и как...
Семавин посмотрел на молчавшего Да
148
нилко, глядевшего куда-то вбок, но уже не счел нужным спрашивать его мнения.
— Договорились,— заключил он.— Так и сделаем.
Все ушли.
Семавин долго стоял, глядел на телефон, думал о чем-то, кусал губы. Потом рывком снял трубку, набрал номер главного инженера, послушал и разочарованно опустил руку: телефон не отвечал.
8
Малый зал столовой, куда забежал Семавин в надежде пообедать пораньше, до начала обеденного перерыва, когда в столовую нагрянет масса людей, был еще полупустой.
И первым, кого он увидел, оказался главный инженер. Бекетов сидел в конце зала, подле окна, и, пригнувшись к столу, что-то с аппетитом ел. Он сидел к нему спиной, и Семавин видел только спину да ежик волос.
«Вот он где!» — обрадовался Семавин. Два дня он пытался попасть к главному инженеру, и все неудачно; тот был или занят, или отсутствовал. «Удобно ли будет? Вдруг испорчу начальству аппетит?» Обычно главного инженера не беспокоили, когда он обедал. Его уважали на заводе, и это уважение — тем более — переносилось на те минуты, когда он был вне службы.
Но Семавину не терпелось поговорить с ним, за эти дни он еще более проникся убеждением, что только перевод станции хлорирования на непрерывку разрешит проблему.
149
И он, махнув рукой на все условности, подошел к Бекетову.
— Здравствуйте, Август Петрович! Можно за ваш столик?
Бекетов оторвался от еды, поднял голову, чтобы узнать, кто ломится к нему в неурочный час, но, увидев Семавина, приветливо сказал:
— А, Кирилл Николаевич... Здравствуйте! Садитесь.
— Спасибо,— ответил Семавин, присаживаясь.
Он немножко волновался: предстоял такой ответственный разговор, а он не знал, как его начать.
— Как у вас с оргтехмероприятиями? Что-нибудь вырисовывается? — спросил Бекетов.
Вот момент, которого так ждал Семавин!
— Вырисовывается, Август Петрович! Вырисовывается кое-что,— сказал он обрадованно и даже придвинулся чуть ближе со своим стулом к Бекетову.
— Что именно?
— Есть идея перевести станцию хлорирования на непрерывный процесс,— ответил Семавин, стараясь говорить спокойно, хотя самого так и подмывало прокричать это.
Бекетов отодвинул от себя пустую тарелку, взял из стаканчика бумажную салфетку.
— Слушаю, слушаю. Продолжайте.
— Если переведем — увеличим мощность цеха на двадцать процентов. То, что требовал от нас директор.
— Если переведем...— усмехнувшись, повторил Бекетов, побарабанив пальцами по столу.
150
У него вид довольного, хорошо пообедавшего человека.— Предположим, переведем станцию на непрерывку,— хотя это не такое уж простое дело,— получим нынче продукции больше на двадцать процентов. А на будущий год? Ведь потребуются новые двадцать процентов?
— Тогда весь цех перевести на непрерывку,— ответил Семавин хрипловато,— у него перехватило горло.— Весь цех,— повторил он громче, прокашлявшись.
— А монохлоруксусная кислота? Она же будет лимитировать вас...
— Говорил я с Хангильдиным... Надо и у него основательно покопаться в технологии, думается, и там можно линию реконструировать, увеличить выпуск кислоты.
— Так-так,— уж с некоторым оживлением произнес Бекетов. И пропало, исчезло с лица безразличие, с каким он встретил вначале идею Семавина.
— Выходит, тогда и новые цеха строить не надо?
— Выходит, не надо,— подтвердил Семавин.
Бекетов молчал, мял в пальцах бумажную салфетку. Остывал суп, принесенный Се-мавину, но он не начинал есть, ждал, что скажет главный инженер.
— Следовательно, прав был я, говоря, что надо искать и находить... Но вы, Кирилл Николаевич, превзошли мои предположения, какие я отводил оргтехмероприятиям. И то, что предложили, еще раз повторяю: дело не простое, но заманчивое... Обождите, я доложу директору о нашем разговоре, вот тогда и поговорим подробнее.
151
Он встал, кивнул Семавину и неторопливо пошел из зала...
К концу дня, когда Семавин записывал к себе в блокнот завтрашние заботы, зазвонил телефон. Он поднял трубку, из трубки послышался голос главного инженера:
— Кирилл Николаевич, это я... Говорил с директором, похоже, не увлекла его ваша идея. Отнесся без нужного нам интереса. Говорит, что такие попытки уже были в третьем цехе и не удались...
— Вот как! — не сдержался Семавин, перебив главного инженера.— Август Петрович, растолкуйте ему, что дело это стоящее, которое решит все трудности с планом. Надо попробовать, не пожалеть ни сил, ни средств.
Бекетов молчал. Видимо, не понравилась ему бестактность, несдержанность Семавина.
— Успокойтесь, Кирилл Николаевич,— главный не мог не понять начальника цеха.— Успокойтесь и не отчаивайтесь. Со временем все встанет на свои места... Договоримся так: создайте у себя в цехе общественное конструкторское бюро, пусть его возглавит технолог цеха, и поработайте над проектом реконструкции. Покажите, как идея непрерывного процесса увяжется по стадиям, пойдет по цепочке. А там — посмотрим...
Семавин покатал трубку в руках, как горячую картошину, когда услышал в ней гудки отбоя, потом положил на рычаг и задумался, переживая свой разговор с главным инженером.
Правильно сказал Бекетов, не надо отчаиваться, надо драться за идею, идти до конца. Сейчас главное доказать — расчетами,
152
чертежами, что это реальное дело и что хватит у них сил и не на такие проспекты.
На следующий день было создано общественное конструкторское бюро, или, как его сокращенно стали называть: ОКБ. В него, кроме технолога, вошли оба начальника отделений, начальники смен и механик цеха.
И закрутились дни, побежали, закачали Семавина: днем — работа в цехе, беготня, телефонные разговоры, распоряжения; вечером — совещания в кабинете технолога, где собиралось ОКБ, обсуждались варианты предложений, где спорили до хрипоты, задыхаясь от табачного дыма, откуда уходили домой за полночь.
На исходе июнь, все длиннее дни, короче ночи, лето вступило в свои права. В парках города цвели липы, их сладкий запах по вечерам доносился до территории завода, залетал в кабинет начальника цеха. Порой Семавину становилось нестерпимо от запаха цветущих лип, пропадало желание работать, хотелось завести машину, забрать жену с дочками и махнуть в лес за цветами, за ягодами. Но он понимал несбыточность этой мечты: пока ему не до отдыха.
Жена знала, чем он занимается по вечерам,— не мог он не сказать ей этого. Первое время думал, будет недовольна его поздними возвращениями, как и бывало раньше, но Ольга молчала.
Однажды, когда он сидел у технолога и они разбирались в схеме станции охлаждения, вдруг вошла она. Ей полагалось быть уже дома, по предположению Семавина,— центральная лаборатория, где она работала, кончала в пять.
153
Почему-то напугал ее приход, он подумал, не случилось ли чего дома. Встал, подошел к ней, взял за руки:
— Ты что, маленькая?
— Можно, я посижу у вас?
— Хм... Неинтересно у нас. Соскучишься.
— Соскучусь —уйду... А может, мне понравится? В лаборатории все уши прожужжали: Семавин с Ганеевым на заводе научно-техническую революцию готовят. Вот и хочется посмотреть на революционеров. Я их только в кино видела.
Улыбнувшись, она отстранилась от Семавина, прошла в глубь комнатки, села в деревянное кресло, взяла с этажерки газеты.
— Я здесь не помешаю?
— Сиди... не помешаешь.
Она просидела весь вечер, чутко прислушиваясь к тому, о чем говорили Семавин с Ганеевым. Как инженер, она уловила суть их разговора, и если раньше, в тайне от мужа, была все же недовольна его ночными бдениями, сейчас убедилась: не зря по заводу заговорили о начинаниях в цехе гербицидов.
Возвращались вместе, чего давно не было. Дома безглазно возвышались над ними, когда они не спеша шли по узкому тротуару. Чуть светили уличные фонари, бросая тени от деревьев. Дул легкий ветерок, деревья тихо шумели, тени шевелились, ползли по тротуару.
— Как с отпуском, Кирилл. Июль вот-вот...
— Придется обождать, Ляля. Перенесем на осень, ты видела, нельзя мне сейчас... Осень — тоже не плохое время, даже лучше:
154
и лес в багрянце, и не так жарко, фрукты, овощи... Ну как?
Жена не ответила, промолчала, лишь прижалась к его рукаву. И это сказало ему больше слов. Он погладил ее руку, вспыхнула нежность к жене, как бывало не раз. Вспомнил, как познакомился с Ольгой, сколько она доставила ему тогда тревожных минут — нет, не минут — дней, недель, месяцев, и вместе с тем сколько радости.
...Это случилось на последнем курсе института. Шло комсомольское собрание факультета, он сидел на одном из последних рядов, поближе к выходу, слушал равнодушно доклад — о чем, он сейчас не помнит, и сбоку от себя, чуть впереди, увидел девушку. Светлые, опущенные на плечи волосы, смуглое, тронутое ранним загаром лицо, на котором выделялись синие, как недозрелые сливы, глаза, чуть припухшие губки — все в девушке было таким неожиданно привлекательным, что Семавин задохнулся от волнения.
Почувствовав его взгляд, девушка повернула голову, посмотрела — в первый раз с каким-то скучающим видом, во второй — с любопытством: что за парень так уставился на нее; у девушки даже порозовели щеки. Больше она не оглядывалась, но когда вставала после объявления конца собрания, исподтишка, как бы украдкой, взглянула на Кирилла и тут же отвела глаза.
Он выскочил на улицу, дождался ее. Маленькая, до плеча ему, она вспыхнула, заметив, что он ждет ее, и о чем-то звонко защебетала с подругами, направляясь в сторону общежитий. Семавин пошел за ней.
155
И так ходил по пятам две недели, пока не осмелился познакомиться. Оказалось, студентка третьего курса, живет, как и он, в общежитии.
В первый вечер знакомства они долго гуляли — ходили по городу из улицы в улицу. Был теплый вечер, такой, как и сегодня, Кирилл шел, молчал, не знал, о чем говорить,— до этого он не увлекался, не ухаживал за девушками. И она молчала, лишь дойдя до общежития, вдруг расхохоталась и убежала к себе. А он еще постоял под окнами, ругал себя за нерешительность и думал о том, что скажет ей завтра.
Но завтра повторилось то же, что и накануне,— Кирилл опять молчал, опять терзался этим, но преодолеть робости не мог.
Вскоре он достал два билета в театр на оперетту «Голубой Дунай». В обеденный перерыв разыскал Олю, отдал ей один билет, чтобы шла, не дожидалась его — он задержится на заседании редколлегии многотиражки, но к началу подбежит.
Случилось худшее: к началу он не поспел, в партер, где были их места, его не пустили, и он забрался на галерку.
На второй день Оля прошла мимо него, сторожившего ее у общежития, не взглянув, не поздоровавшись. Это была их первая ссора, и Семавин вспоминает, как долго он добивался примирения после злополучного похода в театр.
Была еще одна ссора, но это случилось позднее, когда они уже не расставались друг с другом. В городе гастролировал московский театр, и Оле хотелось сходить на один из спектаклей, посмотреть игру прославлен
156
ной актрисы, но Кириллу было не до спектакля — готовился к защите диплома и все откладывал и откладывал посещение театра. Наконец время было выбрано, он купил билеты, пришел за ней, и к его удивлению — нет, не к удивлению, а известие это поразило его,— Оля ушла в театр с его другом, однокурсником Виктором Ландом. Он порвал билеты, не пошел никуда, пролежал весь вечер в общежитии на койке.
На следующий день, встретив Олю, кисло ей улыбнулся улыбкой страдающего человека и после старался избегать ее, не попадаться на глаза, пока она однажды не схватила его за руку, не затащила в пустующую аудиторию и, смеясь, не сказала ему, глядя в его обиженную физиономию: «Дурачок! Отелло! Разве мне кто-нибудь нужен, кроме тебя?»
Семавин прячет улыбку, поглядывает на жену. Та идет молча, не догадываясь, о чем думает Кирилл.
9
Поздний вечер.
В кабинете начальника цеха горит настольная лампа, освещая сидящих вокруг небольшого стола. Окна распахнуты настежь, но в кабинете душно, жарко. Семавин в одной рубашке, ворот раскрыт, сидит, обложившись чертежами.
— Продолжим, товарищи... Данилко, как со станцией выделения?
— Почему Данилко? — Данилко роется в бумагах, раскиданных по столу.— Вот,— и он показывает бумажку,— Володину это поручено.
— Тебе и мне,— говорит Володин, начальник второго отделения, пожилой, темноусый
157
мужчина.— Сколько я тебе говорил: давай подумаем вместе, но ты не берешься, сторонишься этого дела.
— А что я? Эдисон? Ломоносов? И так приходишь домой — чуть ноги волочишь.
— Пей женьшень. Он мужикам силы прибавляет,— посоветовал Насибуллин, механик цеха.
— Ему нельзя пить женьшень. Жена, говорят, женщина слабая,— вставил Зарипов, начальник третьей смены.
Насибуллин и Зарипов тихонько похихикали, прикрывая рты ладонями, боязливо поглядывая на строгого начальника цеха.
— Что с тобой, Семен Семенович? — спросил Семавин, уступая желанию не обострять отношений с председателем цехкома.— Откуда это у тебя? Вот эта неожиданная усталость?
— Тут дело в другом,— подсказал, посмеиваясь Зарипов.— «Жигули» приобрел, машиной обзавелся.
— «Жигули»? — переспросил Семавин.— «Жигули» купил?
— С зятем... С зятем на двоих,— ответил Данилко, засмущавшись.
«Выходит, и у него теперь времени в обрез, как у Ефремова»,— подумал Семавин.
Начальник второй смены Ефремов был на хорошем счету, пока не приобрел машину. Купив «Жигули», он словно переродился, забросил общественные дела, все свободное время отдавал машине, копался в ней, гонял по городу. Но Ефремов — молодой, а откуда это увлечение у Данилко? Ему через год на пенсию.
158
— Значит, времени не хватает, машину осваиваешь, не до реконструкции цеха,— заключил Семавин.
— Да что вы: «машина, машина». Там зять шоферит, я только пассажир, в выходной день в лес съездить, воздухом подышать...
— Значит, не машиной болеешь, просто не веришь в наше дело? — спросил Семавин, глядя в круглое, ничего не выражающее лицо Данилко.— Не веришь в реконструкцию цеха?
Данилко оживился, глаза забегали по сторонам в каком-то смятении, но скоро он успокоился, невозмутимо глянул на начальника цеха.
— Не верю,— твердо выговорил он.— Зря сидим, лишь себя мучим, а толку от этого...— Он махнул рукой, недоговорив.— Тут бы отдохнуть после работы или чем полезным заняться, а мы... Чьим-то прихотям потакаем.
Этого Семавин уже снести не мог: назвать его стремление улучшить работу цеха прихотью мог человек, которому не дорога честь их коллектива. Он встал:
— Я отстраняю Данилко от работы в ОКБ. Довожу до вашего сведения...
— Может, и от должности начальника смены отстранишь? — перебив его, спросил Данилко, не скрывая иронии.
— Зачем вы так, Кирилл Николаевич? — с укором сказал Габитов.— Не надо! Поговорить следует, но по-хорошему.
— Пущай свои принципы покажет,— вставил Данилко, и в голосе его послышалась явная неприязнь к начальнику цеха.— Пущай покажет...
— А я без принципов не могу,— отрезал
159
Семавин.— Мы все должны быть принципиальными, когда дело касается самого для нас дорогого, того, что доверено нам, за что мы отвечаем перед людьми, перед государством. Ясно?.. Можешь идти отдыхать, товарищ Данилко.
Данилко ничего не ответил на это, лишь усмехнулся, скривив губы. Семавин сел, осмотрелся.
— А Ефремова опять нет? — спросил он.
— Он где-нибудь в цехе. Его вахта,— ответил за всех Володин.
— А Ромашкин?
— Вышел на смену.
— Пройди в цех, Иван Петрович, приведи обоих,— попросил он Володина.
— Теперь о станции хлорирования,— вновь начал Семавин.— Схема ее усовершенствования представляется так... Нет, пусть лучше Флюр Ганеевич.— Он все еще не успокоился после стычки с Данилко.
Ганеев, поправив очки и взяв чертеж из рук Семавина, стал подробно рассказывать. Все склонились над столом, следили за авторучкой, которой Ганеев, как указкой, водил по чертежу.
Приход Ефремова и Ромашкина отвлек их от рассказа Ганеева.
— Рюмашкин прибыл,— весело сообщил Зарипов.
Аппаратчик Ромашкин — высокий, худой и какой-то серый: и лицо, и глаза, и куртка. Войдя, он снял кепку, встал позади Ефремова, укрылся за спиной начальника смены.
— Выйди поближе, на свет, Ромашкин,— попросил Семавин. Он тоже, вслед за Зарипо
160
вым, чуть не сказал: Рюмашкин.— Сколько дней не выходил на работу?
Ромашкин выдвинулся из-за Ефремова, взглянул исподтишка на начальника цеха.
— Пятнадцать,— невнятно проговорил он.
— Где ж ты пропадал?
Семавин знал, что Ромашкин за дебоширство в пьяном виде отбывал наказание, но хотелось послушать, что он скажет, увидеть на лице его что-нибудь похожее на раскаяние.
— Отбывал... по закону.
Ромашкин переступил с ноги на ногу, вновь коротко взглянул на начальника цеха, похоже, пытался узнать, как тот воспринял его ответ. И во взгляде его не было и тени смущения, только любопытство.
— Сколько у него прогулов по пьянке? — спросил Семавин Ефремова.
— Этот третий.
— Пусть будет последний! Последний раз ты гулял у нас, Ромашкин. Увольняем мы тебя. Понял? Увольняем за прогул, за пьянку... Нам пьяницы в цехе не нужны.
Ромашкин, видимо, не ожидал такого оборота. Он побагровел, поискал глазами защиты у сидящих работников цеха, но все молчали, никто не вступился за него.
— Простите, товарищи... Кирилл Николаевич... В последний раз, больше не повторится. Даю слово,— пообещал Ромашкин. Дрожал голос, дрожали губы, Ромашкин стал жалким, заискивающим, ничем не похожим на того, что пришел сюда десять минут назад.
— Никаких прощений! Хватит нянчиться с тобой... Иди, смену отстоишь, а завтра...
161
И Семавин махнул рукой, выпроваживая Ромашкина. Не успела закрыться за ним дверь, как взорвался Данилко:
— Неправильно поступаете! И без согласования с цеховым комитетом.
— Как же так, товарищ Данилко? Ты же сидел тут, когда я увольнял Ромашкина, и ни слова против не сказал. Я полагал, ты не возражаешь. Как говорится, молчание — знак согласия.
— Я не шучу, я требую соблюдать установленный законом порядок.
Данилко вытянул из кармана платок, вытер им вспотевшее лицо.
— Ну хорошо,— согласился Семавин.— Давайте перейдем на установленный законом порядок, устроим с тобой заседание... Ты за или против увольнения пьяницы и прогульщика Ромашкина с производства?
Данилко на миг замешкался с ответом, убрал платок в карман, стал поправлять воротник рубашки, вытягивая шею. Семавин ждал.
— Да, против,— ответил он наконец.
— Почему?
— Разобраться надо. Нельзя так, с бухты-барахты... Куда он пойдет с такой характеристикой? Не скоро найдет работу. А у него семья, дети. Кто их будет содержать?
— Это ты напрасно, Семен Семенович. На работу его возьмут, везде нужда в людях. Вот только надолго ли? — сказал Габитов.
— И повозиться с человеком не грех, повоспитывать,— не унимался Данилко.— И только тогда, если не исправится... Только тогда! — и он многозначительно поднял палец.
162
Семавину надоело слушать рассуждения Данилко о воспитании пьяницы Ромашкина. Он сжал руки в кулаки, оперся ими о стол.
— Так и запишем: председатель цехового комитета защищает пьяницу и прогульщика. Под каким предлогом? У того, видите ли, семья... У нас у всех семьи, и все мы ответственны за них, каждый за свою. Почему я должен нести эту ношу и за семью пьяницы, сняв с него всякую ответственность? Скажи? Он будет пить, а я его семью кормить? Нет, это должно касаться только их самих, пусть и семья ополчится на пьяницу, а не> ублажает его опохмелками... На практике что получается? Такое либеральное отношение, какое ты проповедуешь, и породило пьяниц да лодырей.
— У нас не капиталистическое государство, чтобы чуть что — и за ворота,— не соглашался Данилко.
— Вот-вот, так и знал, что ты это скажешь,— рассмеялся Семавин.— Капиталисты таких рабочих не стали бы держать, выгнали, а у нас, выходит, можно валять «ваньку», работать вполсилы, кое-как, прогуливать, приходить на работу выпивши, и только потому, что мы не капиталисты? Словно у капиталиста производство, а у нас — шарашкина контора. Нет, Данилко, пьяницу не уговоришь, лодыря не воспитаешь такими средствами, кои у тебя в запасе, к ним следует другие меры применять: изгонять с производства! И чтобы профсоюз не плакал на груди у таких людей.
— А куда их? Помирать с голоду? — не унимался Данилко.
— Если не поумнеют — принудительный труд, по конституции: кто не работает, тот
163
не ест... И воздух будет чище, и преступлений меньше.
— Если всех будем увольнять, без рабочих останемся.
— Ну, таких не так уж много, думаю, справимся и без них. А если где и не хватит, пусть прибавится хлопот у руководителей: вот поработают мозгой над технологией, и — где было два, там будет справляться один.
— Я согласен с Кириллом Николаевичем,— сказал Габитов.— Полностью согласен. Уж очень много мы нянькаемся с этими лодырями да пьяницами — воспитываем, воспитываем, все боимся остаться без рабочих. А их горстка! Только мешают, одна обуза. А исправлять...
— Не всегда есть время ими заниматься, надо план выполнять,— подхватил Семавин.
Желающих продолжать разговор не оказалось: давали себя знать и долгий рабочий день, и это ночное бдение.
— Все равно не утвердит завком увольнения Ромашкина,— прервал молчание Данилко.— Против закона...
— Это мы еще посмотрим: утвердит — не утвердит... Ладно, хватит дискуссии, давайте продолжим работу... Флюр Ганеевич!
Ганеев подошел к столу, вновь взял чертеж в руки.
ю
Июль начался дождями. Дожди шли всю первую пятидневку, изредка прекращались на малое время, захлебнувшись в лужах, в ливневых потоках по улицам, и снова шли,
164
обложив город зловеще-черными тучами, из которых высекались белые молнии и катался гром из края в край.
Как помнил Семавин, начало июля — начало сенокосов — всегда было мокрым в его родной стороне, но это не пугало мужиков: после дождей долго стоит жаркая погода — жаркая пора сенокосной страды, а пока — пусть льет, пусть набирают травы силу и цвет.
В один из вечеров, когда еще не угас день, а сумрак уже полз по стенам нижних этажей, Семавин возвращался после работы домой. Настроение Кирилла было приподнятое: шла к завершению работа по схеме реконструкции цеха.
В вагоне трамвая загорелся свет, и Семавин увидел впереди себя стоящего начальника производственного отдела завода Ланда. И, когда Ланд обернулся, Семавин обрадованно махнул ему. Вот уже месяц, как они не виделись,— все свободное время у Кирилла отнимала реконструкция. Правда, когда истекли пятнадцать дней, данных директором на том памятном совещании, Ланд позвонил, спросил, как дела с поручением начальства. Кирилл ответил: «Сидим, готовим»,— и Ланд отстал, больше не звонил, словно забыл об ответственности, лежавшей на нем как на кураторе цеха.
На остановке, где Семавин обычно выходил, скопилось много народа. Пробираясь через толпу, он вновь увидел Ланда, тот поджидал его — поднял руку, приглашая к себе.
Они сошлись, поздоровались. Семавин не мог не заметить, что Ланд чем-то удручен: хмурое, какое-то блеклое лицо, стеклянные глаза, которыми он посматривал вокруг, и по
165
хоже, ничего не видел. «Что с ним?» — подумал Кирилл. Вообще-то Ланд — веселый мужик, певун, гитарист, в свое время был заводилой во всех студенческих играх и забавах. Семавин дружил с Виктором — четыре года жили в одной комнате институтского общежития, и дружба эта не прекращалась до сих пор. И даже маленькая размолвка, когда Ланд в студенческие времена поухаживал за Ольгой — Ляля тоже нравилась ему, не повлияла на их отношения. Семавин всегда отдавал должное своему другу в деловых отношениях, считая, что Ланд талантлив,— не зря он дослужился до высокого поста начальника ведущего отдела завода.
— Ты не болен, случаем? — спросил Кирилл.
— Случаем не болен,— ответил Ланд, не приняв его сочувствия,— Болен, но не случаем.
Семавин поморщился от этой ненужной, как ему казалось, игры слов.
— Я тебя серьезно спрашиваю.
— А я тебе серьезно и отвечаю.
— Что это значит?
— Только то, что говорю.
Они стояли на середине прохода от остановки трамвая к тротуару, мешая спешащим людям. Семавин взял за локоть Ланда, отвел в сторону, выбрав чистое от грязи местечко. Дождь перестал, но обещал вот-вот опять пролиться — все небо было заволочено легкими, быстро текущими тучами.
— Виктор, перестань говорить загадками, отвечай начистоту: что случилось? Почему вышел на моей остановке?
166
— Тебя хотел видеть.
— Выходит, соскучился? — Семавин скривился в усмешке. Он не верил словам Ланда, знал, что тот без нужды не будет его ловить на улице.— Тоска парня одолела?
— Поговорить нам надо,— сказал Ланд, не обращая внимания на ехидный тон Семавина.— И поговорить серьезно.
— В таких случаях, как говорится в романах, полагается идти в ресторан или в кафе, создать интимную обстановку за рюмкой кальвадоса. Но у меня, к сожалению, в кармане только рубль.
Ланд тяжело и долго смотрел на скоморошничающего Кирилла, затем перевел взгляд на сквер, расположенный вблизи остановки.
— Пойдем вон туда.
Они пересекли улицу, вошли в пахнущий сыростью большой, заросший кустами сквер, прошли возле молчавшего фонтана. Дойдя до скамьи, Ланд потрогал сиденье ладонями — оно было сырое.
— Ладно, постоим. Насиделись за день.
Семавин огляделся. Ночь поднималась от земли, но еще можно было различить и серые клумбы, и потемневшие кусты, и траву под ногами. Трава пожухла, истоптанная сотнями ног, и, глядя на ее пожелтевшие стебли, Семавину вспоминалась далекая Сурень — такая своя, домашняя, и луга по ней — росные, с травами по пояс; поутру идешь по ним, как по воде бредешь: и тяжело, и мокро. И это вот сравнение истоптанной в сквере травы с суреньскими лугами тревожно отозвалось в нем, словно прикоснулся он к чему-то болезненному, глубоко сидящему внутри.
167
— Так о чем ты хотел со мной говорить? — спросил Семавин.
Ланд помолчал, вновь тяжело посмотрел на Семавина. Внешне он был спокоен, лишь брезгливая складка у рта да подрагивающие желваки выдавали его напряженное состояние, и это не могло укрыться от Семавина.
— Что за проектный институт ты открыл у себя в цехе? — спросил Ланд.
«Вот, оказывается, в чем дело!» — подумал Семавин. Выходит, Виктор обиделся, что не пригласили его в ОКБ. И Семавин почувствовал себя виноватым: как он мог так опростоволоситься, не поговорить раньше с Ландом?
— Не институт, а общественное конструкторское бюро. Хотим технологическую схему пересмотреть, поднять призводительность цеха... Извини, я тебя не предупредил заранее. Может, желаешь подключиться? Давай, еще не поздно, работы хватит... Не возражаю, если возглавишь бюро. Думаю, Ганеев не будет в претензии.
— Нет! — резко ответил Ланд.— И сам не хочу, и тебе не советую: брось заниматься несвойственным тебе делом.
— То есть как несвойственным? — удивился Семавин и даже немножко растерялся,— он не ожидал такого разговора.— Это мое дело...
— Твое дело,— перебил его Ланд,— эксплуатация установок цеха, борьба за план. А ты ослабил эту борьбу, увлекся не тем, чем следует увлекаться тебе по должности... Сорвали план июня? Сорвали. А почему?
168
Действительно, июньский план они недовыполнили на полпроцента, но совсем по другой причине: из-за перебоев с арматурой, материалами для текущего ремонта, чего не мог не знать начальник производственного отдела,— туго на заводе с заменой изношенного или вышедшего из строя оборудования: нет запасов.
— Я тебя не узнаю, Виктор. Думал, поймешь, что мы в цехе искренне хотим помочь себе и заводу.
— Прожектерство! Ничего из этой затеи не получится, только время у себя отнимаете да план выпуска гербицидов завалите.
— Но мы же не без разрешения. Бекетов посоветовал, он нас на это благословил.— Семавин решил защититься от нападок Ланда авторитетом главного инженера.
Бекетов! Не мог же Ланд рассказать Се-мавину, что главный инженер сегодня вызвал его к себе. Не пригласив сесть — он и сам стоял, Бекетов стал расхваливать инициативу начальника цеха гербицидов, просил Ланда приобщиться к группе Семавина, помочь — дело там идет к завершению, и его знания, опыт придутся ко времени. Ланд выслушал Бекетова, поклонился и ушел, дрожа от обиды: забыли посоветоваться с Ландом, прежде чем создавать группу, а вот теперь суют под начало Семавина. Конечно, он слышал о цеховом ОКБ, но не верил — и сейчас не верит, что там можно что-то сделать силами цеховых специалистов. Было и обидно, что обошли, и жалко Кирилла: провалится. Хотя, говоря по совести, он не очень-то волновался за Семавина: пусть провалится. Это убедит кое-кого,
169
что мнение Ланда нельзя игнорировать в технических вопросах. Но лучше уговорить Кирилла отказаться от дальнейшей разработки схемы: так будет спокойнее. Спокойнее для него, Ланда.
— По-дружески советую, оставь эту затею.— Ланд взял Семавина за борт пиджака, притянул к себе.— Откажись. Скажи Бекетову, что это отвлекает тебя и твоих специалистов от основной работы. Пусть передаст проектирование в заводское конструкторское бюро.
— Нет, не могу, уволь,— Семавин отвел руки Ланда, отодвинулся.— Будет предательством отступиться от того, что мы проделали.
— Забот себе ищешь? — не проговорил, а прошипел Ланд.— Надоела спокойная жизнь? Надоело ежемесячно прогрессивку получать?.. Ну, смотри, под собой сук рубишь: план сорвешь — вниз покатишься, на своих прожектах не удержишься. И так за июнь прогрессивки лишился. Сам лишился и рабочих цеха подвел.
Темнота сгущалась, в сквере на столбах зажигались лампочки.
Семавину очень хотелось убедить Ланда в необходимости того, что они делали в ОКБ. Еще вначале, после совещания у директора, он заходил в отдел капитального строительства завода и там ознакомился с подсчетами экономистов. Оказывается, строительство нового цеха гербицидов обойдется в девять миллионов рублей. Но цеху гербицидов нужен исходный материал — монохлоруксусная кислота, еще девять миллионов рублей. Но и это не все: для работы в цехах нужны будут рабочие,
170
профессионально подготовленные, а для новых рабочих потребуется и жилье, и детсад, и школа. Но Семавин не стал говорить о том, что Ланд и сам должен знать не хуже его.
— Не верю я, Кирилл, в твою затею. Повторяю: не верю. Ведь провалишься! Тогда сраму не оберешься! Пальцами в тебя тыкать будут, выскочкой звать... Зря за славой погнался!
— А мы не ради славы,— ответил Семавин.— Мы — по долгу инженеров.
— Долг инженера... Тебе как инженеру было поручено продумать и подготовить оргтехмероприятия по цеху, вот ты их и давай, выполняй свой долг, а не садись не в свои сани.
— Наш проект реконструкции цеха и будет этим планом. Другого пути я не вижу.
— Новое строительство цехов — другой путь.
— Ты понимаешь, в какую это копеечку государству обойдется?
— А реконструкция цеха по вашим проектам, если она осуществится, в чем я сомневаюсь, произойдет бесплатно? — усмехнулся в первый раз за все время разговора Ланд.— Притом ни оборудования, ни материалов...
— Не бесплатно, но не такой ценой. Подумай, сколько средств сэкономим. К тому же учти, время — время мы экономим, а время — самый дорогой фактор в нашем деле. Новые цеха войдут в строй года через три-четыре, а мы, в случае реконструкции всего цеха, уже в текущем году будем давать в два раза больше продукта. Поэтому идея строительст
171
ва новых цехов, которую ты защищаешь, это порочная идея.
Сема вину надоел весь этот разговор ; мысленно он желал Ланду убираться к черту!..
Ночь текла глухо и немотно. Смутно проглядывала сквозь рваные тучи круглая луна, темнели кусты, разбросанные по скверу, как стога в лугах. За дальними кустами, то вспыхивая, то гасясь, появлялся огонек: кто-то курил на своем балконе, посматривал, наверное, сверху вниз, в плотный сумрак, не различая уже ни клумб, ни фонтана.
И Ланд, кажется, понял, что ими сказано все, пора уходить.
— И учти,— не удержался напоследок, пригрозил он,— если не послушаешь меня, сам неси ответственность за свои причуды — я буду в стороне от твоего позора, и защиты у меня не найдешь. А за провал плана — взыщу, не посмотрю на дружбу.
И ушел, не простясь. Семавин остался один.
В теплом летнем воздухе носился чуть слышимый звон, казалось, издавали его кусты, сама тишина, окружавшая Семавина, и в этой тишине он стоял, по-прежнему глядя в небо, словно видел там разгадку своего спора с Ландом. И что-то невысказанно-ясное, покойное сошло на него, захватило, отошло назад все, что говорил ему Ланд, осталась вот эта тишина и эта ясность, переполнявшая его.
Он спокойно смотрел на луну, и казалось ему, она плыла, тихонько покачиваясь, от одной тучки к другой, как лодка по весенней Сурени.
172
Уходил Ланд из парка донельзя расстроенным: не удалось ему убедить Семавина. А тут еще примешалась обида на главного инженера: Бекетов не предложил ему возглавить группу Семавина, а только «приобщиться» к ней, как рядовому инженеру. Хотя Ланд, откровенно сказать, не взялся бы за это — не верит он в потуги Семавина.
А вдруг сделают, изменят технологию? Чем черт не шутит, когда бог спит! Как тогда ему, Ланду, быть? Как смотреть в глаза директору, которого он убеждал на совещании, что цех гербицидов исчерпал свои возможности, что только строительство новых цехов обеспечит двойной выпуск продукции... Надо добиться, чтобы идея Семавина заглохла в самом начале, придушить ее, как котенка! Только в этом случае Ланд может уйти от беды. Иначе ему не избежать неприятностей, и карьера преуспевающего специалиста может рухнуть, как подгнившее дерево.
И утром он пошел к директору.
Зия Гильманович радушно встретил его, предложил сесть.
— Ты что такой хмурый? — спросил он Ланда.— Неприятности с планом?
— Да нет, с планом все в порядке,— ответил Ланд, вглядываясь в спокойное лицо директора.— План июня мы вытянули на сто с лишним. Только один цех, цех гербицидов, завалил, недовыполнил план месяца.
— А что там? — Директор нахмурился.— Ты поинтересовался, в чем причины?
— Интересовался, Зия Гильманович,— ответил Ланд.— Начальник цеха Семавин вместо того, чтобы контролировать произвол-
173
ство, создал из специалистов цеха какое-то конструкторское бюро и сидит с ними над переводом цеха на непрерывный цикл. По моему мнению, это бестолковая затея, ненужная потеря рабочего времени.
— Так ты же начальник производства, почему не прекратишь это безобразие?
Ланд видел, что директор вспылил, лицо его покраснело, нахмурилось. Такой реакции и ожидал Ланд.
— Говорят, Семавину разрешил главный инженер. Как мне тут вмешиваться? — нарочито смущенно ответил Ланд.
— Бекетов?
Директор поднял трубку внутреннего телефона:
— Август Петрович, что за конструкторское бюро создано в цехе гербицидов? — Директор долго слушал.— Говорите, самодеятельность. А нужна ли нам эта самодеятельность? Приведет ли она к чему-либо? — Положив трубку, он сказал Ланду: — Главный говорит, что они самодельничают в нерабочее время, дескать, на производстве это не отражается.
— Не отражается, а план сорвали,— подсказал Ланд.
Директор помолчал, поморщился, словно хлебнул кислого кумыса, о чем-то подумал и сказал Ланду:
— Ладно, иди... Я разберусь с этим сам.
И Ланд вышел из кабинета. Правда, не все сложилось так, как ему хотелось, но в душу директора он смятение вложил, а это уже кое-что значит.
174
11
Завод выполнил план первого полугодия. Кумачовые полотнища на фасаде заводоуправления ярко, крупными буквами извещали об этом.
Семавин и Ольга остановились посмотреть, как колышутся флаги на ветру, как горят еще не погашенные с ночи гирлянды из разноцветных лампочек. У проходной на большой доске висел рапорт руководства завода и поздравление городских властей, транспарант с призывами не сбавлять темпов.
— А ты чего радуешься? — спросила Ольга, глядя на довольное, улыбающееся лицо Кирилла.— Провалил июньский план — и ему еще весело!
Семавин посмеялся над вопросом жены.
— За коллектив завода радуюсь, маленькая! — ответил он, обнимая ее за плечи.— Разве этого недостаточно для патриота?.. Ну и за свой цех: мы тоже полугодовой план выполнили.
— А июнь? — спросила она, сняв его руки с плеч и оглянувшись: не видел ли кто этого не ко времени вольного жеста мужа.
— Июнь провалили, а полугодовой выполнили. Даже перевыполнили: на два процента.
— Ну тогда... Поздравляю, Кирилл.
— Спасибо. Первое поздравление, да к тому же от жены, самое радостное.— И он опять посмеялся.— Жди, когда на оперативке похвалят, там больше поругивают.
А бывает и иначе. Позавчера Семавина и Ганеева вызывал к себе с проектом — вернее, с тем, что они успели сделать — главный ин
175
женер. И Семавин и Ганеев волновались, неся на суд Бекетова свое детище. Но главный инженер встретил их весело и непринужденно:
— Давайте, показывайте, что вы там натворили?
Почти весь день продержал их у себя Бекетов, вникал в каждую деталь, вносил поправки, указывал, что еще следует предусмотреть. Ушли они в конце рабочего дня, пусть с новыми заботами, но с верой в себя: Бекетов одобрил их работу...
Семавины, дойдя до центральной лаборатории, расстались. Помахав жене, Семавин пошел в свой цех. Вчера был выходной, и он не был в цехе, сидел дома над чертежами. Он знал, что ничего такого, с чем бы не смогли справиться его помощники, не должно быть, но беспокойство за цех не оставляло его. Он не забыл предупреждения Ланда, и хотя не принимал всерьез его угроз, все же где-то внутри червоточил страх за свой цех: вдруг на его беду, на радость Ланда и случится что-нибудь непредвиденное, вроде загазованности станции хлорирования, когда пришлось на два часа останавливать цех. Конечно, такое происшествие мимо Ланда не пройдет, и он постарается из него извлечь выгоду, доложить директору, что мол, так и так, увлеклись в цехе прожектами, недоглядели.
В цехе пахло смоченными полами, было, как всегда, душно от испарений, от газов, пропитавших воздух. Семавин обошел станции, поговорил с аппаратчиками, с Зариповым — сегодня его вахта; все шло нормально, напрасно тревожился.
Не успел он появиться в кабинете, как за
176
звонил телефон. Семавин снял трубку, услышал голос главного инженера:
— Звоню я вам вот по какому поводу. Сегодня докладывал о вашей разработке директору, и, кажется, он заинтересовался. Короче: я убедил его послушать вас, так что вам придется держать экзамен перед Зией Гильма-новичем... Я надеюсь на вас, надеюсь, что все будет хорошо. Приходите ко мне к трем часам, зайдем к директору вместе.
Положив трубку, Семавин машинально, словно устал стоять, опустился на стул. «Вот оно... наконец-то!» — подумал он. Следовало радоваться, что директор пошел навстречу — и он радовался этому, но радость сидела глубоко, затаилась там, боялась показаться наружу, больше тревожился, предвидя новое испытание, экзамен — как назвал его Бекетов. Сейчас ему трудно было разобраться в своих чувствах: пришел такой момент, когда, наконец, решится все, чем он жил полтора месяца...
В кабинете директора, неожиданно для себя, Семавин увидел представителя главка Полозова и Ланда. Он слышал о «начальнике» из Москвы — тот неделю, как находился на заводе, но видеть — не видел, и сейчас с тайным любопытством посмотрел на него, и в этом взгляде таилась надежда: кому-кому, а москвичу, представителю такой высокой инстанции, будет интересна и понятна идея реконструкции цеха. Но присутствие Ланда поколебало эту надежду, обеспокоило Семавина: он помнил встречу в сквере и знал, что Ланд постарается повлиять на директора.
— Вот он, наш возмутитель спокойствия! — воскликнул директор, увидев Семавина, входив
177
шего в кабинет вместе с главным инженером.— Знакомьтесь.
Сидевший в кресле возле стола директора Полозов повернулся и как-то надменно, как показалось Семавину, осмотрел его с ног до головы. Это был моложавый, импозантный человек. Матовое лицо, обрамленное ухоженной черной бородкой и баками, дорогой темный костюм, сорочка в полоску, яркий галстук, золотое кольцо с крупной печаткой — ничего, что могло бы произвести впечатление, упущено не было. К тому же на отвороте пиджака был приколот значок — не то знак лауреата, не то просто жетончик, но значок внушительно золотился, заставляя всматриваться в него с почтением, и это почтение переходило на хозяина значка.
Семавин подошел к представителю главка, переложил папку, с которой пришел, из правой руки в левую. Полозов поднялся, подал ему руку с золотым кольцом, и на Семавина пахнуло ароматом нездешних сигарет.
— Садитесь,— пригласил директор, и Семавин, придвинув стул, присел к Бекетову, уже сидевшему в кресле против Полозова.
— Как настроение, Кирилл Николаевич? — спросил директор. Он навалился грудью на свой широкий стол, спрятав за столешницу руки, и не то с уважением, не то с сочувствием — Семавин не смог различить — смотрел на него.
— Да ничего вроде... Нормальное настроение,— ответил он, удивившись вопросу.
Директор распрямился, положил руки на стол, лицо его построжело, стало деловым, официальным.
178
— Мы тут, дожидаясь вашего прихода, обсуждали с Сергеем Сергеевичем,— он слегка повернул голову в сторону представителя главка,— предложение о реконструкции цеха гербицидов. Хотелось бы послушать самого зачинщика, начальника цеха. Давай, Кирилл Николаевич... Сиди, сиди.
Семавин было встал, но вновь опустился на стул, пытливо посмотрел на спокойно курившего Полозова — Ланда он не видел, тот сидел за его спиной — и начал рассказывать, обращаясь непосредственно к Полозову, как бы ища его сочувствия. Он говорил то же, что и Ланду, и главному инженеру, а еще раньше — своим помощникам по цеху. Все, кроме Ланда, были увлечены этой идеей, и сейчас он надеялся убедить — и не просто убедить, а заразить этим — московского представителя. И потому говорил горячо, даже с подъемом, подтверждая слова наметками их проекта реконструкции.
— Все? — спросил директор, когда Семавин замолчал.
— Пока все. Если будут вопросы, тогда...— ответил Семавин, еще не отойдя от возбуждения, вызванного рассказом.
— Итак, через год, Кирилл Николаевич, ты обещаешь дать в два раза больше продукции? — спросил директор.
— Да, после реконструкции всего цеха...
— Хорошо,— сказал директор.— Если я правильно тебя понял, на реконструкцию цеха потребуется около миллиона. А из каких средств?
— Из фонда развития.
— А этот фонд у нас есть? Ты точно знаешь?
179
— Все знают, что есть... Можно из фонда капитального ремонта,— подумав, ответил Семавин.
Директор молчал.Семавин не мог понять, простое это любопытство директора или за этим кроется что-то другое, далекое от любопытства: кому-кому, как не директору, знать, из каких средств оплачивается реконструкция цеха.
— Ну хорошо,— продолжил директор и посмотрел на Полозова, видимо, желая узнать, как тот относится к его вопросам. Но лицо представителя главка ничего не выражало.— Согласимся, что ты убедил нас в необходимости реконструкции и что ваш проект отвечает всем требованиям конструкторской мысли. А кто будет заниматься этим? Где рабочая сила? Где оборудование?
Вот чего Семавин боялся больше всего, вот о чем подумал, когда увидел Ланда,— это его вопросы задает директор.
— Можем сами, своими силами, в процессе ежегодных капитальных ремонтов, но это затянет окончание работ. Желательно получить помощь людьми — ну слесарей там, электросварщиков,— тогда все будет закончено за год, как и обещал... А оборудование и материалы надеемся получить от вас, из заводских резервов.
— Вот теперь — все,— сказал почему-то довольный директор,— все стало на свои места... Какое ваше мнение, Сергей Сергеевич?
Пока Семавин докладывал, Полозов молчал, ничем не выдавал своего отношения к докладу, изредка поглядывал на начальника цеха, покуривал, развалясь в кресле, вытянув
180
ноги в замшевых ботинках. После обращения к нему директора Полозов сказал:
— Зря теряем время, Зия Гильманович. Как мы уже и говорили, вам следует подготовиться к строительству новых цехов. Постараюсь ускорить их проектирование в Москве... А эту цеховую самодеятельность... Ну что ж, она похвальна, но...
И Полозов развел руками, давая этим понять, что все, о чем докладывал здесь начальник цеха, несерьезное дело — детская забава, не больше.
— Послушайте! Вы! — Семавин встал, торопливо раскрыл папку, вытащил стопку чертежей и расчетов, взмахнул ими.— Посмотрите вот это, прежде чем делать свое заключение.
Но Полозов не стал его слушать, поднялся, сказал, обращаясь к директору:
— Извините, мне пора... Буду в производственном отделе, у Виктора Ивановича.
И ушел. Вместе с ним ушел и Ланд.
После их ухода Семавин растерянно посмотрел на главного инженера. Тот сидел молча и, казалось, не проявлял ко всему, что происходило в кабинете, ни малейшего интереса.
— Идите в цех,— сказал Бекетов Семавину, сказал строго, недовольно, и Семавин, сложив бумаги в папку, вышел в смятении из кабинета.
Когда за Семавиным закрылась дверь, директор глянул на главного инженера, очевидно дожидаясь возражений. И действительно, Бекетов, несколько рассерженно, сказал директору:
— Удивляюсь вам, Зия Гильманович. Мож
181
но ли так, не разобравшись, не получив заключения ведущих специалистов...
— А Ланд? А Полозов? — прервал его директор.— Разве они не специалисты высокой квалификации? Причем Ланд, как он сам мне говорил, детально знакомился с проектом.
— Я не знаю, что руководит действиями Ланда, и не хочу предполагать, но вы верите мне? Как, по-вашему, разбираюсь я немножко в таких вещах?
— Ну что вы, Август Петрович! Конечно, я вам верю. Ваши знания, ваш опыт...
— Тогда послушайтесь меня и разрешите Семавину осуществить то, что они задумали. Нельзя сдерживать их инициативу. Я позавчера посмотрел их проект...
— Простите, Август Петрович, но при вас же все происходило, вы видели и слышали, как представитель главка отнесся к докладу Семавина. Как же я могу отменить заказы на проект новых цехов и начать — вопреки запрету главка — реконструкцию цеха?
— Отменять заказы не надо,— ответил Бекетов,— пусть все идет своим чередом, но и проект Семавина — не весь, пока по частям,— следует начать осуществлять. Вы только подумайте, что будет значить, если они добьются своего, переведут цех на непрерывку? Да им памятник надо будет возле цеха поставить!
— А если не удастся? — директор встал, заходил по комнате.— А если не удастся, Август Петрович? Как это воспримут там, в верхах? Да и здесь? Что скажут про меня?
— Беру ответственность на себя.— Бекетов
182
приложил руку к груди, слегка наклонившись в сторону директора. — А уж я как-нибудь сумею себя отстоять... Я верю в эту реконструкцию!
Директор остановился, посмотрел внимательно на хмурого Бекетова. Он уважал главного инженера, не первый год с ним работал, и ему не хотелось обижать его.
— Пусть так, пусть будет по-вашему. Разрешим Семавину помудрить над станцией хлорирования...
— Позвоните ему сами об этом,— попросил Бекетов, поднимаясь с кресла.
— Хорошо, позвоню,— согласился директор.
Семавин пришел к себе расстроенным. Не мог даже представить, как сообщит своим помощникам о решении директора, наперед зная их реакцию на крушение надежд, с которыми они сжились за время работы над проектом... И все это — проделки Ланда! Нет, рано Ланду торжествовать, Семавин не смирится с решением директора, пойдет в партком, если потребуется — в горком, но добьется своего.
Зазвонил телефон, он поднял трубку.
— Когда у вас по графику остановка цеха на капитальный ремонт? — спросила трубка голосом директора.
— В августе,— ответил коротко Семавин, в его тоне прозвучала еще не потухшая неприязнь к директору.
— Так вот, разрешаю в период капремонта перевести станцию хлорирования по вашему проекту на непрерывный цикл.
183
— Зия Гильманович!—только и смог вымолвить Семавин.
— Только своими силами! Понял? Своими силами...
12
Время торопило Семавина: осталась неделя до остановки цеха на капитальный ремонт, а у него не закончен подбор и завоз оборудования и арматуры на замену изношенным. Все дни — с механиком цеха Насибуллиным, с начальниками отделений — он проводил на установках, уточнял, что подлежит замене и какие нужны дополнения для улучшения работы той или иной станции. За год, после прошлого капитального ремонта, накопилось много замечаний и предложений от рабочих, от начальников смен, и следует не упустить, реализовать их во время ремонта, когда цех как бы обновляется, готовится к новому годичному циклу.
И все это время Семавина занимала мысль о полученном разрешении на перевод станции хлорирования на непрерывный процесс. Тут было все обдумано и в уме тысячу раз взвешено, но все же точил червь сомнения, все ли на практике произойдет так удачно, как задумано, как сложилось в чертежах и расчетах.
Беспокоили его и последние слова директора, сказанные по телефону — Семавин только понял их значение, когда столкнулся с поиском нового оборудования для станции. Кое-что из арматуры, материалов он смог набрать из завозимого для ремонта, из свободного
184
оборудования других цехов — начальники этих цехов делились с ним. Но главное — достать новые реакторы? Старые не годились для создания непрерывного процесса. К директору он считал обращаться бесполезным.
Вот это и не давало покоя Семавину, когда он утром, накануне остановки цеха на ремонт, шел к себе.
Только начался день, а солнце уже пекло, нагретый воздух стоял неподвижно, как бы запертый каменными коробками цехов. Асфальт заводских дорог полыхал жаром, и медленно движущаяся по нему поливочная машина оставляла за собой облако пара.
Придя к себе, он посидел за столом, собираясь с мыслями. Не веря особо в удачу, решил позвонить все же в отдел оборудования завода. Заранее знал — будет отказ, но начальник отдела всегда хорошо относился к нему, и Семавин надеялся получить хотя бы совет, где можно достать нужное оборудование.
— А, Кирилл Николаевич! — услышал он в трубке веселый, переливающийся голос начальника отдела, когда набрал номер.— Сколько лет, сколько зим... Как гербициды твои поживают?
— Спасибо, живут, — ответил он в тон ему.— Я к тебе с просьбой, Юрий Михайлович. Помоги... Поможешь — в ножки поклонюсь, свечку поставлю, чтобы жил ты полтораста лет...
Семавин, хотя и противился внутренне, решил вести разговор в шутливой форме, к которой питал слабость начальник отдела. Сообщил о разрешении директора реконструировать станцию хлорирования и о том, что для
185
этого нужны новые реакторы — теплообменники.
— Эта станция у тебя в плане?
— Пока не в плане... Только-только разрешена... На днях.
— Ах, не в плане... Что же ты, милый мой, тогда просишь?. Внеплановую работу я не обеспечиваю, и ты это прекрасно знаешь. Вот как в плане будет, приходи, что-нибудь и отыщем.
— Юрий Михайлович, я же говорил тебе, есть разрешение директора.
— Вот и прекрасно, вот и прекрасно. Когда я от директора получу указание обеспечить оборудованием вашу станцию, вот тогда мы с тобой и поговорим.
Как и предполагал Семавин, разговор шел впустую.
— Может, где-то есть лишнее, неустановленное оборудование?
— Ах, если бы эти излишки! А у нас одни нехватки и недостатки,— ответил начальник отдела.— Ты в пульку, случаем, не играешь? Может, составишь в выходной компанию? А? На лоне природы?
— Нет, не играю. Да и не до пульки мне сейчас.
— Жаль, жаль,— вздохнула трубка.— Еще какие просьбы?
— Хватит и этого. Спасибо,— ответил Семавин с нескрываемым раздражением в голосе и положил трубку.
Посидев еще, но так ничего и не придумав, пошел к Ганееву.
Технолог цеха был не один, в его кабинете находился Габитов. Что-то горячо дока
186
зывая Ганееву, Габитов даже размахивал руками, что было, как знал Семавин, несвойственно всегда спокойному, уравновешенному парторгу. Увидев входившего начальника цеха, Габитов умолк.
— Продолжай, продолжай. Чего замолчал? — Семавин взял стул, сел рядом.
— Спор между нами,— ответил, улыбаясь, Ганеев.— Нури Ахметович предлагает бригадиром на реконструкцию станции хлорирования поставить Зарипова, а я считаю, Данилко — он более опытный техник и принесет больше пользы. К тому же давнишний рационализатор.
— Нет, только не Данилко.— Семавин потряс недовольно головой, вспомнив, как отнесся Данилко к их идее реконструкции.— Тут я поддержу Нури Ахметовича. Пусть у Зарипова опыта поменьше, зато инициативы, напористости ему не занимать. А там придется крутиться: на голом месте, все вновь... И многого недостает еще. Нет пока самого основного — реакторов.
— Отдел оборудования должен дать, это на его ответственности,— сказал Ганеев.
Семавин лишь поморщился: не знает Ганеев о его разговоре с начальником отдела. Туда им путь закрыт: неплановый объект.
— А не подойдут вот те холодильники, что стоят на откосе? — Габитов ткнул рукой в сторону соседнего цеха. — Промышленные холодильники, двенадцать штук.
— А чьи они? — спросил Семавин.
— Не знаю, наверно, Хангильдина. А может, и отдела оборудования. Больше года стоят там.
— Интересно,— произнес сквозь зубы Се-
187
мавин. Сообщение Габитова заинтриговало его.— Очень интересно... Ну-ка, пошли посмотрим.
И действительно, двенадцать пластинчатых холодильников— графитовых коробок — стояли за свалкой старого оборудования. По тому, как они надежно укрыты сверху листами толя, можно было понять, стоят они тут не без хозяйского глаза.
При осмотре Семавин понял, что нашел то, что искал, и теперь не отступится. С него свалилось напряжение последних дней, он даже расслабился, обмяк весь, будто после тяжелой, изнурительной работы.
— Кирилл Николаевич,— позвал его Ганеев.— Эти холодильники вполне можно переоборудовать на реакторы, они подойдут к нашей схеме. Дело за одним: кому принадлежат?
— Это мы сейчас,— успокоил его Семавин.
Вернувшись в кабинет Ганеева, Семавин позвонил Хангильдину. Тот ответил, что холодильники не его, ему не нужны, а кто их завез и для какой цели — он не знает.
Звонить в отдел оборудования, милейшему Юрию Михайловичу,Семавин по понятным причинам не стал. И решил не искать хозяина.
— Вот что, Нури Ахметович,— сказал он Габитову.— Сегодня же, в пересменку, возьми автокран, свободных от вахты рабочих и перетаскайте эти холодильники в цех... к подсобке. Пусть там постоят, пока не пустим в дело... И не ищите хозяина. Они теперь наши!
Ганеев поднял голову, с любопытством уставился на начальника цеха. А Габитов,
188
сдвинув кепку на затылок, весело ответил: — Понял, Кирилл Николаевич! Понял!
Деловито шла работа по перемещению холодильников с откоса на площадку перед подсобным помещением цеха.
В самый разгар работ, когда у стены подсобки уже стояло восемь холодильников, со стороны проходной появился инженер отдела оборудования Обруч. Он порой останавливался, рассматривая лежащее вдоль стены цеха оборудование, приготовленное к капитальному ремонту.
Подойдя к рабочим, Обруч оглядел холодильники, перевел взгляд на откос.
— Кто разрешил? — спросил он сердито, пнув сапогом бок ближайшего холодильника.
— Разрешает начальство, у него надо спрашивать,— ответил Медведев, аппаратчик станции конденсации.
— Кто старший? — спросил Обруч.
— Старшой есть. Он там, наверху.
— Позовите,— приказал Обруч.
Кто-то побежал за Габитовым, рабочие стали закуривать, пользуясь передышкой. Обруч пошел вдоль ряда холодильников, внимательно разглядывая их, иногда пиная в их черные бока, как это делают шоферы, проверяя баллоны у автомашин.
Торопливо пришел Габитов.
— Вы здесь старший? — обратился к нему Обруч.— Все унести обратно и поставить, как стояло.
— Ав чем дело? — спросил Габитов, хотя
189
прекрасно понимал, чем вызвано требование инженера отдела оборудования.
— Он еще спрашивает! — усмехнулся Обруч и, обращаясь к рабочим, показал пальцем на Габитова.— Нет, он меня еще спрашивает! Оказывается, он не знает, что такое государственное имущество и что оно выдается только по накладным!
— У начальника цеха, очевидно, есть накладная или разрешение. Вам надо к нему...
— Нет у вашего начальника ничего! — отрезал Обруч.— А за самовольство вам с Семавиным крепко не поздоровится... Все поставить обратно! Завтра приду проверю.
Габитов с огорчением посмотрел в спину Обруча, потом повернулся к рабочим:
— Идите по своим местам,— сказал он.
Проводив рабочих, Габитов хотел идти к начальнику цеха, доложить о визите Обруча, но, вспомнив вчерашнее состояние Семавина, понял: не надо, только расстроишь Кирилла Николаевича. Следует самому что-то предпринять.
И он пошел в партком.
Секретарь парткома, когда Габитов, приоткрыв дверь, заглянул к нему в кабинет, весело крикнул:
— Заходи, заходи, парторг. Заходи смелее.
Он встал из-за стола, поздоровался с Габитовым, усадил на диван, сел рядом.
— Рассказывай, что нового в цехе?
— Новостей много, Павел Матвеевич. Только до дела их никак не доведем.
И Габитов, торопясь, стал рассказывать об их идее реконструкции цеха, начав с того
190
момента, как она зародилась, и кончая приходом в цех инженера Обруча.
— Слушай, парторг,— заговорил секретарь парткома, выслушав Габитов.— То, что вы делаете, это партийное дело, понимаешь? А партком узнает о нем последним. Но тут вы, пожалуй, ни при чем, это мой отпуск пришелся не ко времени.
— Узнавать-то пока нечего,— сказал Габитов.— Да и неизвестно еще, получится ли?
— Получится! Не может не получиться, когда рабочие и цеховые специалисты поднимают такие вопросы... Нет, похоже, вы еще там сами не сознаете, какое большое дело начали!
Секретарь парткома заходил по кабинету.
— Так, говоришь, есть разрешение директора? — приостановившись, спросил он Габитова.
— Разрешение есть, а вот оборудования нет.
Секретарь парткома подошел к телефону, поднял трубку.
— Зия Гильманович? Приветствую вас... Спасибо, все хорошо... Вчера вернулся... И дома все благополучно... Зия Гильманович, вы что же от парткома скрываете, что в цехе гербицидов происходит?.. Как — что происходит? Реконструкция!.. Я не сомневаюсь, вы знаете об этом, но почему им отказано в оборудовании?.. В каком? — секретарь парткома переложил трубку к другому уху, поманил пальцем Габитова. Тот подошел поближе.— Они раскопали у себя на задах...— он подставил ухо Габитова, тот шепнул «коробоно-
191
вые холодильники» — ...коробоновые холодильники... Да, да, полтора года стоят без движения, а отдел оборудования уцепился и не дает... Пусть берут! Ну, спасибо, Зия Гильманович!.. Нет, не Семавин, парторг цеха у меня. Всего хорошего!.. Зайду, зайду обязательно.
Секретарь парткома положил трубку.
— Слышал разговор? — спросил он улыбающегося Габитова.— Иди. И держи меня в курсе цеховых дел, понял?
13
В запыленную стеклянную стену цеха билось солнце. Проникнув внутрь, оно освещало нагромождения металлических труб, ящиков, каких-то аппаратов... Лампы дневного света помогали солнцу высветить мельчайшие детали этого хаоса: молотки, гаечные ключи, шайбы, прокладки, лежащие всюду в кажущемся беспорядке.
Но опытный глаз увидел бы тут определенную систему. Он обнаружил бы островки упорядоченности, восстановления. Сняты, отодвинуты в сторону бывшие реакторы станции, и на их месте, на вновь сооруженной площадке поставлены новые — коробоновые холодильники, за которые цех воевал с отделом оборудования.
В этот полуденный час в помещении станции тихо: обеденный перерыв. В тени западной стороны, у холодной батареи отопления сидят двое: Муртаза и Груздев, вернувшиеся из столовой, отдыхают в тишине.
— Гляжу, наворочали мы тут.— Груздев по
192
вел глазами вокруг.— Наворочали подходяще, а вот сколько дадут за это, не знаю.
— Чего дадут? — спросил Муртаза.
— Денег, чего еще.
— Среднюю ставку,— ответил Муртаза. Он снял кепку, пригладил ладонью седеющие волосы.
— Вот-вот... Одно дело за реакторами следить, на приборы глядеть, другое — ворочать, надрываться... Так и знал, шиша тут заработаешь, на этом ремонте.
— Зачем мне говоришь? — недовольно отозвался Муртаза.— К начальству иди, ему жалуйся.
— Начальству? — переспросил Груздев.— Ему жаловаться без пользы. Оно по кабинетам сидит, в мягких креслах...
Говорил Груздев без злости, просто так, как обычно привык говорить обо всем, с чем соприкасался.
Муртаза удрученно поглядел на Груздева, покачал головой:
— Хой, хой! Сколько зла у человека в нутре сидит!.. Твое имя Гордей, ты не Гордей, ты слабый. На деньги слабый, на чужой слава слабый.
Муртаза опять покачал головой, хотел что-то еще сказать, но тут вошел аппаратчик Абдулхак Байбурин и с ним еще трое парней.
— Возьми вот его,— Груздев ткнул в сторону Абдулхака,— два года ждет квартиру. Жена живет в одном общежитии, а он в другом. Ребенок скоро будет, а квартиры им нет и нет... Молодой, охота с женой побаловаться и друзей в гостишки пригласить, а где, куда?
193
В общежитии не развернешься, не попляшешь, музыку не заведешь.
Он встал, размял ноги, стал закуривать. Парни с любопытством прислушивались к словам Груздева, еще не понимая, к чему клонится разговор.
— Поздно пожалел меня, Гордей Иванович,— ответил, смеясь, Абдулхак. Он черный, большеглазый, больше похож на цыгана, чем на башкира.— Поздно... вчера получил ордер на квартиру.
— Да ну? — теряется Груздев, застывает на какой-то миг, не доносит спичку до папироски, торчащей изо рта, спичка обжигает ему пальцы.— Тогда с тебя причитается,— спохватывается он, потирая обожженный палец, перекатывая папироску из одного угла рта в другой.— Вот настоял, и дали... И вам надо так поступать,— обращается он к парням,— так же настаивать.
— Да не настаивал я! — говорит ему Абдулхак.— Зря ты, Гордей Иванович... Ждал, как и все, своей очереди, не метался и жалоб не писал.
Груздев недовольно отворачивается, чиркает спичкой. Парни перемигиваются, кивают на замолчавшего Груздева, потом смотрят на часы: еще рано, перерыв не кончился, рассаживаются подле Муртазы.
— Вот так, вот так,— говорит Муртаза, как бы подытоживая разговор между Абдулхаком и Груздевым.— У нас на заводе теперь какой рабочий? Разный рабочий. Который ветеран, с начала завода тут, который из деревни, мужик... Мужик — он тоже разный. Есть хороший, настоящий рабочий, а есть такой,—
194
тут он взглядывает на Груздева,— сам тут, а души нету, душа в навозе сидит.
— А молодежь? — спрашивает Раис.
— Молодежь тоже народ разный, неодинаковый... Вот вы, пришли на завод, цех готовый, сырье готовый, беспокоиться не надо — работа есть, зарплата есть, живи — не думай! Нет, ты думай! О жизни думай, о работе думай...
Федя вдруг тихо начинает смеяться:
— Муртаза-агай, ты еще про коммунизм нам расскажи. Про коммунизм.
Раис ткнул его в бок, Федя отпрянул в сторону, виновато скосил глаза.
— Можно и про коммунизм,— спокойно ответил Муртаза, не обращая внимания на тон Феди.
Вошли начальник смены Зарипов и механик Насибуллин. Увлеченные веселым разговором, смеясь и перебивая друг друга, они еще постояли около дверей, довели разговор до конца, лишь тогда подошли к сидевшим рабочим.
— О чем беседуем? — спросил Зарипов, еще не остывший от разговора с Насибуллиным.
— О жизни,— ответил за всех Муртаза.— О жизни беседуем.
— О чем именно?
— О том, как живем.
— А как мы живем, Муртаза-агай?
— Разные люди, разно живем,— ответил Муртаза.
— А как надо жить? Приведи пример.
— Перестань! — одернул Зарипова Насибуллин.— Чего ты к старику привязался?
— Нет, пусть Муртаза-агай ответит, раз та
195
кой разговор начал,— не отступал Зарипов.
— И отвечу,— сказал, не обижаясь, Муртаза.— Я отвечу... Ты пример просишь? Слушай пример... Ты о Мустафине слышал? Его все старые рабочие помнят. Вот был человек!.. С фронта без руки пришел... Давно это было, тяжелый стоял время, люди в бараках жили, хлеб по карточке, товар по карточке. А работали как? Будто всего хватало, всего в достатке — и хлеба, и мяса. Потом легче стало, карточки долой, бараки долой, дома стали строить, мало-мало ожил народ, веселый стал, новоселья справлял, песни пел... А все он, Мустафа, партийный секретарь. Шибко о народе заботился. Вот как было: о народе заботился, а о себе не заботился. Понимаешь? Себе все в последнюю очередь. Сначала людям, потом себе. Вот так! В бараке жил. Люди в пятиэтажку пошли, а он в бараке остался. В бараке и умер. Квартиру семье потом дали, после его смерти... Вот какой был человек!
Все молчали. Солнце вышло из-за стены, добралось до них, пустило зайчиков по потолку.
— Сейчас нету таких людей,— заявил Груздев, прервав молчание.
— А куда они подевались? Вымерли, что ли, как мамонты? — спросил его Насибуллин.
— Про мамонтов не знаю, а вот таких людей не встречал... Сейчас больше для себя стараются.
— Ты, Гордей Иванович, похоже, в черных очках по жизни бродишь и ничего светлого не видишь.— Насибуллин обошел парней, остановился перед Груздевым.— Для кого эти дома
196
в городе, магазины, детсады? Не для нас? Кто-то и о нас с тобой заботится, не только о себе.
— Я все вижу,— отвечает угрюмо Груздев.— И дома вижу, и магазины вижу. Только в магазинах не всегда вижу, чего мне надо.
— Чего тебе не хватило?
— Мяса вот нет...
— Чего же ты деревню бросил? Там и мясо свое, и молоко свое. Сам бы ел и нас кормил.
— В магазине нет, на рынок иди. На рынке есть,— вставил Муртаза.
Зарипов, с улыбкой слушавший спор, решил вмешаться:
— Ну-ка, кто сегодня мяса не ел? Поднимите руки.
Груздев быстро оглядел всех — никто рук не поднимал, и он отвернулся, сделав безразличное лицо. И вновь поднял голову, услышав удивленный возглас Зарипова:
— А ты чего руку тянешь? Ведь только что из столовой!
Насибуллин стоял с поднятой рукой. Все в изумлении смотрели на него. Смотрел и Груздев, и, наконец, улыбка поползла по его лицу.
— Брюхо берегу,— ответил Насибуллин, опуская руку.— Теща на пельмени позвала, пойду после работы. Вот и пощусь.
Смеялись все, кроме Груздева. Он глядел в пол.
За стеной, в соседнем помещении зашипела электросварка. Муртаза поднял руку, посмотрел на часы, надел кепку, стал подниматься: перерыв кончился.
197
14
Всю ночь Семавину снились странные сны: он летал. Раскинет руки и летит — вначале не высоко, подошвы ног еще чуют землю, потом все выше, выше, и вот уже реет, как орел, над полями, над лесами, и у него замирает сердце, кружится голова от высоты, от счастья полета. Он не удивляется тому, что может летать, опускаться на землю, вновь подниматься, носиться над изумленными прохожими, считает это естественным, присущим ему, Кириллу Семавину, и чувство неизъяснимого восторга, превосходства над теми, что внизу, переполняет его.
Он просыпался, ворочался в постели — в спальне было жарко, несмотря на раскрытое окно, вновь засыпал и вновь видел, что летает, опять у него захватывало дух от высоты полета, и радость, какая-то детская восторженность не оставляла его.
Проснувшись окончательно, он полежал с закрытыми глазами — ощущение полета еще жило в нем, улыбнулся странному сну: давно он таких не видел, с детских лет, и, взглянув на будильник, сбросив прикрывавшую его простыню, осторожно, стараясь не разбудить жену, стал подниматься.
Но как ни старался вести себя тихо, жена проснулась.
— Ты чего? Рано еще.
— Спи, спи,— он прикрыл ее сползшей простыней.— Мне надо пораньше быть в цехе.
— Что-нибудь случилось? — спросила жена еще полусонным голосом.
198
— Ничего не случилось...— Но чтобы избежать лишних вопросов, он сказал ей:— Тебе по секрету: хотим опробовать один из агрегатов... Новый реактор. Посмотрим, что получается из нашей идеи.
— Зачем ехать раньше времени? Сейчас в цехе никого нет.
— Понимаешь, маленькая...
Он не мог сказать ей, как ждал этого дня, как жил предстоящим опробыванием, торопил слесарей, аппаратчиков закончить монтаж полностью хотя бы одного аппарата.
— Перестань икру метать, как говорит наш заведующий.— Жена села на кровати.— Успеешь опробовать... Дождись меня, вместе поедем.
Кириллу ничего не оставалось, как подчиниться жене,— он и сам понимал, напрасна его ранняя поездка. Но это долгое ожидание предстоящего испытания их схемы истомило его, становилось невтерпеж от дальнейших ожиданий. И он спешил, едва проснувшись, на завод, в цех, к завладевшей его умом станции хлорирования.
Он вспомнил свой сон. Какое-то чувство, вроде чувства полета, еще теснилось в нем, не остывало, будоражило его.
С этим ощущением он провел все утро — завтракал, шел к остановке трамвая, ехал в переполненном вагоне. Приснившийся сон.— ему в это верилось,— обещал удачный день, когда осуществляется, чего ждешь. Он был убежден, сегодня все сложится хорошо: и само испытание, и результаты его.
В конце вагона стоял Ланд. Ухватившись за поручень, он смотрел в окно на пробегав
199
шие мимо дома. На Ланде цветная рубашка с короткими рукавами, черный короткий галстук. За лето он успел хорошо загореть, словно побывал в Крыму.
У Семавина шевельнулась зависть к загоревшему Ланду: он вот так и не удосужился за весь июль выбраться хотя бы на денек к реке. Но Семавин не долго этим огорчался, загореть он еще успеет. Вот проведут сегодня испытания, и в следующее воскресенье заберет в машину всю семью — Лялю, девчонок, тещу,— махнет куда-нибудь подальше — в лес, к реке, где вода, и грибы, и красота приближающейся осени.
Жена тоже заметила Ланда.
— Смотри, Виктор,— подтолкнула она Кирилла.— Давно я не видала его Веру. Что-то не заходит ко мне... Пригласи их как-нибудь, пусть придут.
Семавин промолчал, никак не среагировал на просьбу жены. Черта с два он будет приглашать Ланда! Он вспомнил разговор с ним в сквере, поведение его в кабинете директора, к тому же в присутствии представителя главка, и стиснул зубы. Ух, привести бы их в цех — Ланда и этого московского щеголя, показать рабочим: «Вот кто мешает нам работать!»
По пути от трамвая к заводу Ольга спросила Кирилла:
— Ты не против, если я приду к вам в цех на опробование?
— А ты зачем?
Она прижалась к его рукаву:
— Не могу... Хочу быть с тобой в эти минуты.
200
— Поддержать, если упаду? — усмехнулся Кирилл, взглянув в ее озабоченное лицо.
— Ты не упадешь, я знаю.
— Тогда зачем?
— А разве твои интересы — не мои? Думаешь, они меня не касаются? Все эти дни и недели, что ты пропадал в цехе, считаешь, для меня прошли бесследно?
Семавин привлек жену к себе, и ничего не сказал. Он понимал ее, знал, как нелегко ей было жить, мучиться заботами мужа, слышать иногда не очень лестные отзывы в его адрес,— на заводе о начинаниях Семавина судили по-разному.
— Нет, маленькая, не надо тебе приходить. Мы это делаем как бы в секрете. Знают только Ганеев да два аппаратчика... Причем испытание рабочее, в порядке обкатки реактора.
— Хорошо, не приду,— ответила, помолчав, Ольга.— Только ты обещай мне, что позвонишь, скажешь о результатах.
— Обещаю,— сказал Кирилл.
У заводоуправления их настигла машина директора. Они посторонились, машина притормозила, открылась дверь, и директор сказал Семавину:
— Зайди ко мне.
Семавин удивился приглашению. Он не ожидал его, просто не думал о нем, улыбнулся ласково оторопевшей Ольге и пошел за директором, заранее решив не говорить тому ни слова о сегодняшнем испытании.
— Как обстоят дела с капремонтом? — спросил директор, войдя в кабинет.
Он снял с себя пиджак, повесил на спин
201
ку стула, потом расстегнул пуговицу воротника рубашки, ослабил галстук, покрутил головой, освобождая шею, и все это время пристально, как бы испытующе вглядывался в стоящего посредине кабинета начальника цеха.
Семавин рассказал, что капремонт идет по графику, но приходится много менять изношенного оборудования, особенно арматуры, а нового на замену дали мало, вынуждены латать старое и вновь ставить.
— Что же не расскажешь о станции хлорирования? — спросил директор, когда Семавин замолчал.— Или ничего не вытанцовывается? Не получается непрерывка?
Семавин сразу, как только директор стал расспрашивать о капремонте, понял, не капремонт интересует его, а станция хл9рирова-ния, капремонт лишь затравка для разговора.
— Почему не получается? Может, рано об этом говорить, работы не закончены, но думаю, получится! И несмотря на противодействие, если говорить правду...
— Это ты обо мне? — спросил, улыбнувшись, директор и пыхнул дымом папироски.
— Хотя бы и о вас,— осмелев сказал Семавин. Он не мог не сказать, директор сам хотел откровенности.— Помните, как вы и представитель главка встретили идею реконструкции цеха?
— Ух, какой ты злой, оказывается! — усмехнулся директор.— Меня винить не надо. Не ты первый заражен идеей непрерывки. И я в свое время переболел этим... Короче: на заводе такие опыты были и не удались. Но если ты добьешься цели, перехитришь
202
своих предшественников, ну что ж, воздадим по заслугам.
— А помощь? Какая была помощь?
— Помощь тебе была оказана, напрасно скромничаешь. Теплообменники дали, монтажников выделили. Чего еще? По-моему, все дали, что требовалось. Теперь от тебя будем ждать, что ты нам дашь.
Семавин хотел сказать директору, как эта «помощь» ему доставалась, но счел за лучшее промолчать,— время торопило. Он встал, давая понять директору, что ему пора уходить.
— Иди, не задерживаю,— сказал директор.— Только имей в виду, подведешь меня, сорвешь график пуска цеха, вот тогда и поговорим обстоятельно.
— Буду иметь в виду,— ответил Семавин.
Он так и не позвонил жене, хотя Ольга весь день ждала. К концу дня она сама позвонила Кириллу, но никто ей не ответил: кабинет Семавина пустовал.
Удивляясь его неаккуратности, она поехала домой, не стала его разыскивать по заводу...
Семавин вернулся в сумерках. В квартире горел свет, семья сидела за столом, ужинала, когда он вошел. Ольга тревожно посмотрела на него, он улыбнулся ей какой-то покорной, виноватой улыбкой, и она поняла: случилось что-то непредвиденное.
Но ничего не спросила, ничем не выдала себя, и пока ужинали, занималась только детьми, словно за столом не сидел вяло евший муж.
И лишь после, когда дети и Любовь Ан
203
дреевна ушли в свою комнату, она спросила Кирилла, страшась услышать от него самое худшее, что она могла предположить:
— Неудача, Кирилл?
— Да... Представь себе!
Он встал из-за стола, отошел к окну, постоял, посмотрел в темноту. В стекле отразилась его поникшая голова, вздернутые плечи.
— И, кажется, сделали все,— он повернулся к ней,— а результат — как в старых реакторах, хотя реакция идет теперь непрерывно, но медленно, с малой теплоотдачей... Сенсация не состоялась!
Он усмехнулся, похоже, над собой, над своими надеждами, над тем, во что так верил. И надо же, только сегодня уверял директора, что непрерывка получится! Он вспомнил свой сон, вспомнил, как летал... Да, так высоко летать можно лишь во сне, а тут на яву, в цехе, его «полет» не состоялся. Захотелось рассказать Ольге о своем сне, как-то отвлечь ее от неудачи, но побоялся, что вместо успокоения еще больше расстроит.
— С Бекетовым не говорил? — спросила жена.
— Он в Москве, уехал по вызову главка.
— Ах, Кирилл! — сказала сокрушенно, качнув головой, Ольга — И надо было тебе выскочить с этой идеей непрерывки!
— Кому-то надо было начинать... Идея сама стучалась в дверь.
— Но почему ты? — воскликнула Ольга.
Семавин помолчал, походил по комнате, потом остановился перед женой.
— Кто-то должен быть первым. Так вот я из этих, кто первый... Дай сюда поднос.
204
И готовься: завтра с утра заберем девчонок, махнем на речку. Хватит ишачить, и отдохнуть не грех.
Он взял поднос и пошел на кухню. Ольга смотрела ему вслед с растерянностью: вот так всегда, словно неудача не у него, а у кого-то другого. Что за человек!
15
Как ни торопился Семавин выехать пораньше, до солнца, пока день не начался, но все что-нибудь да задерживало: то младшая дочка со сна раскапризничалась, надо было ее уговаривать, утешать, собирать куклы, без которых она не хотела ехать; то теща раскудахталась: «Куда вы без завтрака!», и пришлось подчиниться, выпить стакан чуть теплого чая, который попахивал банным веником.
Наконец, сборы закончены, и Семавин, тайно злясь на задержку, повел машину по городским улицам на предельно допустимой скорости, сторожко поглядывая по сторонам на появление вездесущих инспекторов ГАИ. И лишь за городом он дал волю своему «Москвичу».
Ночь медленно уходила, отступая перед машиной, где-то в стороне, в заречье, сбивалась в темную завесу, закрывшую горизонт. Но вот впереди из-за лесистых бугров появилось солнце — красное, лохматое, оно выкатилось на дорогу, и машина, казалось, полетела на солнце, в его бушующее пламя. Девчонки визжали, жмурились, закрывали глаза ладошками, Ольга кричала: «Кирилл!.. Кирилл!», но он не снимал ноги с акселератора. И тут поворот на
205
проселок, к реке, и сразу исчезла эта торжественность полета в огонь, стало обычно — светло и тихо, зеленели вблизи деревья, лениво шевеля листвой, курчавилась травка по бокам дороги, пробегали полянки в белых цветах поповника.
Но как ни спешил Семавин, на облюбованном прежде им месте уже стоял чей-то «Запорожец», у речки под осокорями дымился костерок. Терзаясь неприязнью к опередившему его владельцу машины, он все же свернул к берегу и, подъехав ближе, опознал «Запорожца»: это был известный всему заводу полосатый тихоходик Хангильдина, начальника цеха монохлоруксусной кислоты. И у Семавина слетела тяжесть с души,— если тут Хангильдин, отдых состоится, это мужик свойский.
Хангильдин сидел на корточках возле костра, над которым был подвешен котелок на треноге, и колдовал над котелком. Был босой, в майке и трусах, с такой блаженной улыбкой на раскрасневшемся от огня лице, и казался таким домашним, таким далеким от того, заводского, каким знал его Семавин, что Кирилл вначале не поверил, что видит Хангильдина. Но в стороне, в тени осокорей, на серой кошме, подставив голые плечи ветерку, сидела жена Хангильдина — Семавин знал ее и никак не мог спутать с другими женщинами из-за волос, окрашенных в ярко-бран-жевый цвет. Как и «Запорожец» Хангильдина, волосы его жены были заводской примечательностью.
Остановив машину, предоставив Ольге с детьми устраивать «табор», он спустился с берега к костру.
206
— Привет, Габбас Хисматович! — крикнул он Хангильдину.
Тот оглянулся. Узнав Семавина, поднялся на ноги, отступил от костра.
— A-а, Кирилл Николаевич! — заулыбался радостно Хангильдин.— Добро пожаловать! Везет тебе, как раз к ухе! Уха, я тебе доложу, преотличная обещает быть.
И, довольно потирая руки, осторожно ступая босыми ногами по колкой травке, он подошел к Семавину, поздоровался.
— Откуда рыба? — спросил Семавин.— Из пятого магазина?
— Что ты! Какая из той уха?.. Сам наловил! Во-о каких.— И он показал руками, какая большая попадалась ему рыба.— Язьки, один к одному.
Семавин подошел к костру, заглянул в котелок. Там в бурлящей, пенящейся щербе появлялись и исчезали белоглазые головы рыб. От котелка несло ароматом перца, лаврового листа, еще чего-то неизъяснимо вкусного, и Семавину враз захотелось есть. Он с завистью посмотрел на Хангильдина.
— Когда ты успел? — только и спросил он.
— Спать надо меньше,— хохотнул Хангильдин, переступая босыми ногами.— Я с вечера тут, а на зорьке и надергал... Кажется, готово.— Он подошел к котелку, помешал в нем ложкой.— Иди, зови своих, будем уху хлебать, чай пить... Эй, Магида! — крикнул он жене.— Собирай на стол!
Семавин, в предвкушении предстоящей ухи, поспешил к своей машине, где Ольга, раскинув одеяло на солнечном припеке, раздевала девочек, готовясь позагорать.
207
— Габбас приглашает на уху. Пойдем? — спросил он.
— Неудобно как-то... Вроде бы напросились.
— А что неудобного-то? — возразил Кирилл.— Приложим кое-что из своих запасов и —на равных правах... Давай, что у тебя там.
Ольга, оставив детей, пошла к машине. Семавин следил, как она перебирала свертки, распаковывала, вновь свертывала... Он не выдержал, перевел взгляд туда, где сидела жена Хангильдина. Там на кошме уже была расстелена скатерть, стоял котелок с ухой, и Хангильдин, усевшись по-восточному, нарезал буханку хлеба, прижав ее к груди.
— Скоро ты? — спросил нетерпеливо Семавин Ольгу.
— Сейчас,— ответила она.
И тут его внимание привлекла «Волга», свернувшая в их сторону. Машина, встряхиваясь на колдобинах, обошла «Москвич» Семавина, подошла почти впритык к «Запорожцу» Хангильдина и остановилась. Из машины высыпали с веселым щебетаньем три женщины в коротких цветных сарафанчиках и вприпрыжку, с визгом и хохотом, побежали под откос к реке, на ходу сбрасывая с себя одежду.
«Чьи это бабочки?» — едва успел подумать Семавин, как из машины вышел тот, кого он меньше всего ожидал увидеть здесь: начальник отдела оборудования завода. Юрий Михайлович поглядел вокруг и, заложив руки за голову, широко потянулся.
— Красотища-то какая! И лес, и река, и солнышко!.. Здравствуй, Габбас Хисматович! —
208
крикнул он, подошел к вставшему Хангильдину, поздоровался за руку.— Чем это у тебя так вкусно пахнет? О, уха? На полянке? Да у воды? Об этом сто лет мечтать можно!.. Не возражаешь, если присоединюсь, присовокуплю из своего кое-что?
— Пожалуйста, милости просим,— уважительно ответил Хангильдин.— Ухи всем хватит.
Юрий Михайлович вернулся к машине. Семавин против желания наблюдал за ним — он находился в нерешительности, появление этого «милейшего» человека выбило его из того душевного состояния, которое настраивало на отдых, на уху в товарищеской близости с Хан-гильдиным.
— Держи,— толкнула его Ольга, подавая сверток.
— Обожди,— ответил он, глядя, как Юрий Михайлович нес в вытянутой руке бутылку и еще что-то, зажатое под мышкой.
— То торопил, теперь — обожди,— недовольно проворчала Ольга.— Что случилось?
— Отстань! Ничего не случилось,— огрызнулся Семавин и стал раздеваться, опустился на одеяло, где сидели дочери, разглядывая картинки в книжке.
Ольга в недоумении пожала плечами, не понимая, что происходит с мужем, бросила сверток в открытую дверку машины.
— Кирилл Николаевич! — донесся до них голос Хангильдина.— Где ты? Уха стынет.
Семавин не ответил, растянулся на одеяле, слушал, как Ольга, присев рядом, укладывала девочек.
Но Хангильдин, не дождавшись ответа, сам пришел за ними:
209
— Что же вы, друзья? Ольга Николаевна? Ждем ведь, не начинаем. Давайте быстренько, забирайте своих дочек, и...
— Извините, Габбас Хисматович,— Семавин приподнялся, сел,— обедать еще рано, а завтракать — мы дома завтракали... Как-нибудь в другой раз.
— Зачем на уху обижаешься? — не отставал Хангильдин.— Пойдем.
— Нет,— набычился Семавин и встал,— не пойду. Ты меня извини, но с Юрием Михайловичем я уху есть не буду.
И, провожаемый взглядом ничего не понимающего Хангильдина, он пошел по тропке вдоль берега вниз по реке, подальше от визжащих спутниц Юрия Михайловича. Спустившись с берега, с размаху бросился в воду, вода обожгла его, перехватила дыхание, но он, с силой выбрасывая руки, поплыл поперек течения к другому берегу. Через минуту он уже не чувствовал холода воды. Отдаваясь течению, поплыл вниз.
Отвлекли его человеческие голоса. Он перевернулся и увидел, что река принесла его к большому пляжу, где вода кипела от голых человеческих тел. Он взял чуть вправо, на глубину, рассчитывая обойти этот бурлящий людьми котел, и уже на выходе, в конце пляжа, кто-то пыхтя и отфыркиваясь, кинулся ему наперерез. Они бы наверно столкнулись, если бы Семавин не притормозил и, взглянув, пытаясь узнать, кто это прет на него, увидел Ланда. Тот, широко загребая, хлопая ладонями по воде, крикнул Семавину, хотя они находились рядом:
— Эй, спортсмен, куда ты? Вертай сюда!
210
Семавин хотел не отзываться и плыть дальше, но что-то вдруг расслабило его, может, эта спокойно текущая река и неуемно жаркое солнце, а может, раскаяние в пренебрежении ухой Хангильдина, и он повернул к берегу, поплыл в ряд с Ландом.
Не доплыв до берега, нащупав ногами дно, они встали. Семавин стер воду ладонями с лица, посмотрел на улыбающегося Ланда. Ему показалось, Ланд улыбается как-то хитро, загадочно.
— Ну как? — спросил Ланд.— Нахлебался воды?
— Да нет,— ответил Семавин,— все в порядке.
Похоже, говорить им было не о чем, они не находили темы для разговора. У Семавина еще не выветрилось из памяти отношение Ланда к его идее реконструкции цеха, было не до дружеских разговоров, к тому же он видел что-то насмешливое в глазах Ланда и ждал — не дошла ли до него новость о неудаче с опробованием?
Вблизи них барахтались ребятишки, прыгали, смеялись, а они молча стояли по грудь в воде друг против друга на расстоянии вытянутой руки и, казалось, не замечали того, что происходит вокруг.
— Что же ты не расскажешь, как у тебя дела с реконструкцией? — наконец, прервав молчание, спросил Ланд.
«Так и есть,— подумал Семавин,— заводское информационное бюро уже сработало». Он принял беспечный вид, глянул, прищу-рясь, на солнце, похлопал себя по голой груди.
211
— Дела в порядке, Виктор Иванович. Все идет по плану.
Ланд бесцеремонно захохотал:
— Чего ты пыжишься? Чего ты пыжишься? Боишься признаться, что лопнула твоя затея? Так об этом уже ползавода знает... Даже директор знает о твоем лопнувшем мыльном пузыре.
— Может, ты ему и доложил? — спросил Семавин, сдерживая дрожь в голосе.
— Может, и я... Эх, Кирилл, предупредил же я тебя, по-дружески предупредил, не лезь ты в эту кашу, так нет, не послушался. Теперь вот выкручивайся... Обидно! Обидно за тебя.
Слова Ланда по форме были соболезнующими, но по лицу его Семавин видел, Ланд от души рад провалу. И Семавину было страшно от того, что непосредственный начальник радуется неудаче подчиненного, к тому же друга по студенческой скамье.
— Думаешь старые реакторы на свое место возвращать?— спросил, улыбаясь, Ланд.— Холодильники выбрасывать?
— Нет, зачем же? — Семавин не счел нужным обращать внимание на иронию Ланда.— Нас устраивают и холодильники.
— Не раскаиваешься, что не послушался меня, занялся этой самодеятельностью? — Ланд решил добить Семавина.— Скажи, только откровенно.
— Да нет, вроде совесть не мучает. Как говорится, делал по зову сердца. А если отвечать придется — отвечу, значит, переоценил себя.
— Вот-вот, переоценил. Умное слово сказал, Кирилл, действительно, переоценил ты себя,
212
переоценил свои способности.— Ланд придвинулся к нему, положил по-приятельски руку на плечо.— Но не поздно еще и поправить твою неосмотрительность. В понедельник зайди к директору, объясни ему все, он поймет, и все обойдется. Да признайся ему, что я предупреждал тебя... А потом соберемся и подумаем, что можно сделать, чтобы умилостивить директора, пусть не двадцать, хотя бы десять процентов сверх плана натянуть. У меня есть кое-какие соображения...
— Спасибо за совет,— проговорил Семавин.— Я так и сделаю.
Он снял руку Ланда с плеча, кивнул ему, сказав: «Всего!», и пошел к берегу.
К своей машине он вернулся, обойдя кустами «Волгу» Юрия Михайловича, возле которой тесным кружком сидели в пестрых купальниках женщины. Подле них выделялся своей могучей фигурой Юрий Михайлович. Тут же были видны и оранжевые волосы жены Хангильдина. Самого Габбаса не было, видно, отправился с удочкой по реке. Слышался веселый разговор, звон посуды, ласковый, мурлыкающий басок Юрия Михайловича.
Ольга перенесла одеяло в тень и лежала там с девчонками. И как ни тихо подходил Семавин, она услышала, подняла голову.
— Где ты был? — спросила она.
Он не ответил, лег рядом, в глазах вновь поплыли берега с высокими осокорями. Захотелось забыться, может, уснуть, но не давала покоя громкая песня соседей.
«Надо уезжать отсюда,— подумал он.— Уезжать...»
213
16
Ночь с воскресенья на понедельник прошла у него в беспокойном сне. Перед глазами часто возникала станция хлорирования. Он видел ее настолько отчетливо, до малейшего болтика, словно находился в цехе, и, обходя ее, мысленно демонтируя деталь за деталью, он вдруг нашел, кажется, обнаружил ту ошибку, которую они допустили при монтаже реактора. Нет, рано стал радоваться Ланд его неудаче, он еще постоит за себя, покажет, чего он стоит.
Придя в кабинет, он послал за Ганеевым и механиком Насибуллиным, которые находились где-то в цехе, а сам, вытащив из стола чертежи, стал в который раз внимательно просматривать их, прикидывать, как можно исправить допущенную ошибку. И постепенно, минута за минутой, начало складываться в голове, вырисовываться что-то другое, новое. Вот это новое и следует опробовать, испытать, лишь бы хватило времени — до конца капремонта осталось четыре дня.
Это новое рисовалось так: поставить под нагрузку не один теплообменник, а два, соединив их между собой. Проще говоря, создать систему, где реакция происходила бы на большей площади, а значит, более бурно, с большим выделением тепла и потому быстрее по времени.
Нет, он не пал духом от неудачи, уверен — добьется своего. Тут многое поставлено на карту, не только самолюбие его, как инженера,— а у кого этого самолюбия нет? Поставлена на карту сама идея реконструкции, вера в нее рабочих и специалистов цеха.
Он так понимал назначение инженера: от
214
дать людям максимум того, на что способен. Значит, отдать себя всего, отдать без остатка свои знания, свой опыт. Если не отдавать, для чего он тогда учился, получал государственную стипендию? Могу, но не хочу, как Ланд? Или — моя хата с краю, как Данилко? Мол, все в порядке, есть деньги, квартира, машина, живи себе спокойно, не лезь, не суйся, куда тебя не просят?
В дверь постучали.
— Да-да! — крикнул он.
И к его удивлению, вместо ожидаемых Ганеева и Насибуллина, появились те же парни, что и три месяца назад. На этот раз они были в касках и спецовках. Все трое, как и в прошлый раз, встали в ряд, сняли с себя каски.
— Слушаю,— проговорил Семавин, разглядывая парней. Он отметил, что-то изменилось в них — не только во внешнем виде, но и в том, как они держались — смотрели на начальника цеха спокойно, без тени смущения, но и без того нахального любопытства, которое проявили в первый день знакомства.
На этот раз вперед шагнул Мишка Колесов, положил на стол Семавину свернутый в трубку лист бумаги.
— Что это? — спросил Семавин, разворачивая бумагу, разглаживая рукой. На листе был какой-то чертеж, выполненный цветными карандашами.
— Это новый реактор...,— сказал Мишка и отступил назад.
— Ничего не понимаю! Какой новый реактор? — недоумевал Семавин, разглядывая на чертеже перевивы линий, непонятные условные знаки.
215
— Кирилл Николаевич.— Раис покашлял в кулак, видимо от смущения.— Это мы тут немножко помараковали... Думали, может, вот так сделать, как у нас на чертеже, теплообменник будет работать как надо...
Только теперь Семавин понял: парни, узнав о неудаче с испытанием нового хлоратора, решили помочь начальнику цеха, внести свой вклад. И он уже по-иному посмотрел на них: гляди ты, чем занялись! Он углубился в чертеж и кое-что стал разбирать в нем. Видимо, парни всерьез думали над проблемой, но, к сожалению, сделано все было неумело и по идее наивно. Но он ничего не сказал им об этом, лишь спросил:
— Чья идея?
— Мишки... Колесова,— ответил за всех Федя Соломатин и как-то по-особому, восхищенно, посмотрел на Мишку, словно тот совершил героический поступок.
— Все делали,— ответил застенчиво Мишка.
— Нет, он — вздыбился Федя.— Мы только помогали. А он первый предложил.
— Хорошо.— Семавин решил прекратить поиски автора идеи. Хотя ему и льстил приход парней, их инициатива и хотелось поговорить подольше, но время поджимало, не до разговоров.— Спасибо, друзья, за чертеж. Вот подойдут технолог с механиком, и мы разберем его, и что дельное — постараемся использовать... А сейчас — идите.
Парни надели каски и было пошли, но Семавин вернул их:
— Вот что,— сказал он смотревшим на него с ожиданием парням.— Как кончим ремонт,
216
переведу вас аппаратчиками во второе отделение.
— О! — вскинулся Федя, закрутил головой.— Самостоятельными?
— Конечно, наравне со всеми. Надеюсь, справитесь?
...От мысли о парнях отвлек его телефонный звонок: вызывали к директору. «Что случилось? — обеспокоенно подумал он.— Неужели неудача с реактором действительно стала известна директору... Но кто мог, кроме Ланда, сказать ему об этом?» И еще подумал: как все это некстати. Вселилась тревога, и пока он выкладывал свои мысли пришедшим Ганееву и Насибуллину, демонстрируя эти мысли на чертежах, и потом, пока шел в заводоуправление, тревога не покидала его.
Директор с кем-то громко и весело разговаривал по телефону, когда он вошел в кабинет. Зыркнув на Семавина недовольно глазами, директор отвернулся, прикрыл ладонью трубку и перешел почти на полушепот. Семавин понял — вошел не вовремя — и остался стоять возле двери.
— Ну как, изобретатель? — обратился к нему директор, кладя трубку, вытаскивая сигарету из пачки.— Провалилась твоя идея непрерывки?
— Почему провалилась? — попытался было воспротивиться такому началу разговора Семавин.
— Знаю, все знаю, нечего оправдываться,— прервал его директор.— Ведь предупреждал я тебя, предупреждал, Семавин, что были такие
217
попытки, причем у людей не твоего ума... Конечно, приятно было бы создать такую технологическую систему, но...
Директор чиркнул спичкой, прикурил.
— Зия Гильманович, напрасно вы так,— осмелел Семавин.— Еще рано похороны устраивать, будет система работать.
—Перестань! — сказал директор и строго посмотрел на него, как на нашкодившего пацана.— Мне хоть не говори, не старайся успокаивать. Я-то знаю производство не хуже тебя.
Семавин понял: напрасно возражать, директор удостоверился в провале и теперь его не переубедишь,— видимо, получил «авторитет-ную> информацию. Его убедят только результаты испытаний систем, над которыми сейчас работают Ганеев и Насибуллин. И он покорно стоял, следил за директором, как тот, выйдя из-за стола, прошелся по кабинету, дымя сигаретой.
— Угробил оборудование, материалы, сорвал пуск цеха.— И директор, остановившись перед Семавиным, долго перечислял все, по его мнению, недостатки в цехе гербицидов, винил себя за то, что пошел на поводу у главного инженера, послушался его, разрешил перестройку технологии станции.— Что теперь с тобой делать, ума не приложу!
Он вызвал секретаршу, спросил, когда вернется главный инженер, та ответила, что послезавтра. Отпустив ее, опять заходил по кабинету.
— Понимаешь ли ты, что натворил? — спросил он, вновь останавливаясь перед Семавиным.— Как мне теперь отчитываться за все
218
это перед...— и он показал сигаретой куда-то под потолок.— Там ведь знают о наших проектах... Нет, вижу по глазам: не понимаешь... Ну что же, чего искал, то и получи: с сегодняшнего дня отстраняю тебя от руководства цехом. Понял? Передай все дела пока Ганееву. А приедет Бекетов, тогда и решим, что с тобой делать дальше... Можешь идти.
И Семавин пошел, ничем не выдав своего возмущения. Выйдя в коридор, он постоял в каком-то безразличии ко всему, что с ним сейчас произошло, потом подошел к висевшему тут телефону, позвонил Ганееву.
— Флюр Ганеевич, очевидно, меня эти дни перед пуском в цехе не будет. Так ты...
— А что случилось? — прервал его Ганеев.
— Потом, потом... Так вот, слушай, монтируйте системы по последней нашей договоренности, и никаких отступлений. Никаких! — повторил он громче.— Жми, чтобы вовремя пустить цех. И кто бы тебе ни давал советов, даже приказов, вплоть до директора, делай так, как мы договорились.
— Хорошо, Кирилл Николаевич, так и будем. Но в чем дело? Что с вами?
— Все, все... Желаю успеха!
Семавин поспешно повесил трубку и пошел к выходу.
17
Ольга удивилась, увидев Семавина дома,— он сидел в кресле, обложившись газетами.
— Ты уже здесь? — спросила она.— Что-то сегодня рановато... А я звоню, звоню.
Он боялся ее прихода, больше всего
219
боялся сказать ей правду. Если сказать Ольге истинную причину его раннего прихода домой, она будет мучиться не меньше, чем он. Семавин закрылся газетой, чтобы жена не видела его лица и по нему не догадалась о его переживаниях. Конечно, не завтра — послезавтра весть об его отстранении все же дойдет до нее, но это будет потом, а сейчас он просто не придумал, что ей сказать, вернее, как выкрутиться, не сказав правды.
— Может, заболел? — спросила Ольга.
— Да, да, заболел,— поспешил он согласиться, и впервые, после прихода жены, посмотрел на нее с облегчением.— Понимаешь, что-то с печенью...
— Надо грелку поставить. Ты что, маленький? Маму ждешь?
Она прошла в ванну, он слышал, как наполняла горячей водой грелку.
— В здравпункт заходил? — крикнула она из ванной.
— Заходил,— соврал он. Подумал и добавил: — Освобождение дали на три дня.
Он врал и сам страдал от вранья.
— Надо же! — сказала Ольга, передавая ему грелку.— В самые последние дни капремонта... Как там без тебя?
— Ничего, справятся. Мужики у меня в цехе умные... В случае чего — вот телефон, позвонят.
Утром жена уехала на работу. И сразу после ее отъезда стал звонить телефон, но Семавин не снимал трубки, хотя звонок казался ему громче пожарного набата. Он уходил в другую комнату, чтобы не слышать звонка, но телефон продолжал греметь в ушах
220
колокольным звоном, и он возвращался. Теща дважды заглядывала к нему, удивлялась, что он не берет трубки, наконец сама вошла, сняла трубку, послушала, взглянула выжидающе на зятя, но он помахал ей отрицательно рукой, и она сказала громко: «Нет его дома» — и, как ему показалось, недовольно насупившись, вышла.
Вот и тещу он вовлек в обман! И чтобы не слышать больше телефонных звонков, не думать о том, что происходит в цехе, он пригнал своего «Москвича», забрал девчонок и — к их радости и визгу — уехал на весь день в лес, к реке.
Наконец-то он мог, как и Ланд, которому он недавно так завидовал, купаться до озноба, загорать на прибрежном песке, играть с девчонками в прятки, собирать цветы в букетики, просто валяться на траве, благо конец августа стоял на удивление теплый, днем даже жаркий — и солнышко, и небо без туч, и воздух такой густой, что на какое-то время от Семавина и впрямь отошли и цеховые заботы, и то несчастье, что приключилось с ним.
Вернулись они поздно, жена была уже дома, и по ее веселому виду, по тому, как она встречала дочек, вела их в столовую ужинать, он понял: еще ничего не знает. И чувство облегчения вновь пришло к нему.
И на следующий день он ездил с девочками в лес, и опять вечер кончился благополучно, если не считать загадочных взглядов и недомолвок тещи,— видимо, в его отсутствие та не раз снимала телефонную трубку и что-то, какие-то слухи, донеслись до нее.
Утром — в последний день перед пуском
221
цеха,— он ездил по поручению тещи на рынок за цветами,— завтра начало занятий в школах и по традиции девочки должны идти в школу с цветами: младшая — в первый класс, а старшая — в третий. Потом он ходил в магазины за продуктами и после, освободившись, сидел опять за газетами, слушал возню дочерей и тещи, еще раз примеривавшей им школьные формы, наставлявшей их, как вести себя в школе.
Телефон сегодня не звонил, по-видимому, в цехе смирились с отсутствием Семавина, и ему было обидно и огорчительно. Газеты не читались, он то и дело поглядывал на телефон, все ждал звонка. В самом деле, завтра должно все решиться, должна решиться и его судьба, а он сидит дома, как посторонний цеху человек. Пожалуй, зря он провалял дурака эти дни, лучше бы остаться в цехе, на станции хлорирования, взять слесарный инструмент в руки и вкалывать наравне с рабочими, доводить свою идею до конца.
Он не выдержал напряжения, подошел к телефону, набрал номер Ганеева. Того на месте не оказалось, и он позвонил в первое отделение. Ответил начальник смены Зарипов.
СЕМАВИН. Ну как дела, Зарипов? Как монтаж систем идет?
ЗАРИПОВ. Так делаем... Не стоим.
СЕМАВИН. Не об этом спрашиваю. Знаю, что не стоите. Сколько смонтировали?
ЗАРИПОВ. Шестую систему заканчиваем. К утру пустим.
СЕМАВИН. Ну и как думаешь? Пойдут системы? Не подведут нас?
ЗАРИПОВ. Должны, вроде...
222
СЕМАВИН. Ты чего такой неуверенный? Может, что-то не ладится?
ЗАРИПОВ. Да нет, все ладится... Вас нет. Вас не хватает. «Знают, черти, что отстранили меня от дела»,— подумал со злостью Семавин.
СЕМАВИН. Меня нет, Ганеев на месте. Кстати, где он?
ЗАРИПОВ. Во втором отделении... Вы придете на пуск?
СЕМАВИН. Приду. Обязательно приду! Жми давай, чтобы без переделок.
Ожидание момента, когда он пойдет на завод, заранее стало томить его. А если вновь неудача? Что тогда? Он снова изругал себя, что не остался в цехе: вдруг что-нибудь сделают не так, как он предполагал. И это томление, кара себе продолжалась, пока не пришла с работы Ольга.
На этот раз она без обычной улыбки подошла к нему, отняла газету, села рядом.
— Болтают на заводе, тебя не то уволили, не то...
— Кто болтает? — встревожился Семавин тем, что наконец-то новость дошла до жены.
— У нас в лаборатории говорят, будто с директором в чем-то не поладили.
— Чепуха какая! Завтра выхожу на работу. Так и скажи своим трепачам: муж болел, вышел на работу, приступил к своим обязанностям.
18
Муртаза прошелся вдоль помещения — все было, как и вчера, когда он уходил отсюда
223
домой. Так же темнели боками шесть новых теплообменников, девственно чистых, не тронутых еще жаром реакций. И переплетения труб — толстых и тонких, что опоясывали помещение, связывали новые системы теплообменников в узел,— так же поражали своей кажущейся беспорядочностью.
И не было того нагромождения металла, завалы которого лишь неделю назад перегораживали помещение. Всюду просматривалась чистота, как в необжитом доме.
И воздух чистый, не тронутый запахом фенола, и утренние лучи солнца, красившие в золотистый цвет полы и стены, как и предстоящая работа, радовали Муртазу.
Он ходил от системы к системе, похлопывая их по темным бокам, как в молодости хлопал коней по крутым холкам.
Стукнула дверь — вошел помощник Мишка Колесов и с ним его два друга.
— Хорошо пришел, время знаешь... А этих зачем привел? — показал Муртаза на Федю и Раиса.
— Цыплята! — хохотнул Мишка.— Куда я, туда и они... Не могут без меня!
— Мы смотреть, дядя Муртаза,— сказал Федя.
— А чего смотреть? — Муртаза вскинул сердито брови.— Не насмотрелся, когда монтаж делал?
— А как она робить будет, дядя Муртаза, как робить... Интересно!
Муртаза скупо улыбнулся словам Феди, но ничего не сказал, отошел к линии подачи продукта, занялся осмотром — проверкой вентилей, навешанных, как баранки, на трубах. Он
224
понимал парней, ах, как он понимал! Первый в их жизни монтаж, где они работали наравне с опытными рабочими, и вот теперь не терпится посмотреть, а что получилось? И если получилось хорошо, покрасоваться, порадоваться вместе со всеми и, радуясь, сознавать, что и твоя доля есть в этом и ты становишься как бы вровень с теми, кто старше, кто учил тебя первому в жизни мастерству.
Муртаза и сам немножно волновался. Это волнение всегда приходило к нему, когда цех начинал работу после капитального ремонта. И волновался не потому, что где-то обнаружатся «ляпы», как говорит механик Насибуллин, которые надо на ходу латать, а потому, что каждый раз испытывал чувство радостного ожидания того, что должно вот-вот произойти.
И когда в помещении станции появились Груздев, Абдулхак и слесари, участвовавшие в ремонте, Муртаза уже не удивился,— не он один сегодня рад пуску цеха.
— Принимай помощников, Муртаза-агай! — крикнул Абдулхак, проходя к нему, подавая руку.— Исянмесез! — поприветствовал он его по-башкирски.
— Исянме! — ответил Муртаза.— Такой помощник радоваться буду.
— С почином, Муртаза Хайдарович! — присоединился к Абдулхаку Груздев.— Что не так — помогать будем.
— А, Гордей... Спасибо тебе. Хорошие слова хорошо слушать.
— Ну, как там? — И Груздев кивнул головой на стоявшие в ряд системы.
— Смотри сам,— ответил Муртаза.
И все пришедшие на станцию обступили
225
теплообменники, стали оглядывать, ощупывать, будто видели в первый раз.
Вошли технолог, механик Насибуллин, начальник смены Зарипов, одетые в темные суконные куртки — рабочую одежду аппаратчиков.
У Ганеева серое, похудевшее лицо, тени под глазами — видимо, не легко ему жилось в эти дни. Он поздоровался с рабочими, загнув рукав куртки, посмотрел на часы.
— Муртаза Хайдарович! Пора... Включай в работу первую систему.
Муртаза исчез за стенкой теплообменников.
— Пошли к пульту.
Не один Ганеев — все пошли в комнату, где размещался пульт обслуживания сразу трех станций: хлорирования, абсорбации и приготовления растворов. Это слесари и мастера цеха контрольно-измерительных приборов осуществили мечту ОКБ об улучшении условий работы аппаратчиков: ни пыли, ни запаха, светло, чисто, ничего лишнего — только щиты приборов, расставленные вдоль стен.
Возле щитов стоял, вытягивая шею, Мишка Колесов, вглядывался в циферблаты приборов, в ленты самописцев, водил носом по графикам.
— Как реакция? — спросил его Ганеев.— Какова теплоотдача?
— Понимаете, все время поднимается,— торопясь, сообщил Мишка.— Уже сто... нет, сто двадцать градусов... Сто сорок!
Насибуллин быстро глянул на Ганеева, слышал ли тот, что сказал аппаратчик?
Ганеев слышал. Поправив очки, утвердив
226
их покрепче на носу, он произнес спокойно, обыденно:
— Порядок... Как и предполагалось... Включите еще две системы.
Зарипов бросился выполнять приказание. Все придвинулись, обступили пульт управления, следили, как качались стрелки приборов. Стояла тишина, ни разговоров, ни смешков.
— Ну как там? — спросил Ганеев вошедшего Муртазу.
— Нормально,— ответил Муртаза.— Очень нормально.
Вдруг толпа, обступившая пульт, пришла в движение: «Пошел! Пошел!» Приборы показывали: из теплообменников по трубам шел готовый продукт, дихлорфенол,— на станцию приготовления растворов. Продукт шел непрерывно, как идет вода из открытого крана.
И тут в помещении появился Семавин. Он сразу стал центром внимания рабочих, заполнивших помещение, они, толпясь, подходили к нему, и он не успевал пожимать им руки. Лучше всяких слов эти пожатия сказали ему, что все, к чему они стремились, наконец-то свершилось! Он поднял голову, посмотрел вокруг. Ему показалось — нет, он хорошо разглядел,— около дверей стояла Ольга. Чувство признательности к жене заполнило сердце: вот кого хотел он видеть в эту торжественную минуту рядом с собой!
— Ай да мы! Ай да мы! — Семавину послышался голос Груздева — веселый, даже ликующий. Он увидел и самого Груздева, тот пробирался к начальнику цеха, расталкивая рабочих.— За это нам что-то должно причи
227
таться,— пел он.— Что-то должно перепасть.
— На памятник ты рано напрашиваешься, Гордей Иванович, не поставят его тебе! — крикнул Мишка.
— Чего-чего? — недопонял Груздев.— На памятник? Ха! Сказал тоже. Нам бы чего полегче, чтобы в руке удержать.
— Ежа тебе колючего,— ответил Мишка под смех рабочих.
Мишка стоял возле пульта — серьезный, без обычной улыбки на лице. Рядом друзья его, Федя и Раис, озабоченно глядевшие на приборы.
Но вот рабочие стали расходиться. Первыми ушли Насибуллин и Зарипов — им предстояло проверить работу всех станций цеха. Ушли слесари, ушли и аппаратчики станции хлорирования— Абдулхак и Груздев, и с ними их помощники — Раис с Федей: сегодня им на смену. В помещении остались трое: Мишка, Ганеев и Семавин.
Семавину следовало удалиться — он теперь не начальник цеха, делать ему тут больше нечего. Но он следил, как Ганеев, переходя от прибора к прибору, всматривался в показания, записывал в блокнот, подсчитывал, посматривал на часы.
— Ну, как Флюр Ганеевич?—спросил Семавин.— Да не тяни ты, не мучь меня!
Ганеев оторвался от приборов, посмотрел на Семавина, улыбнулся его нетерпению.
— Сию минуту,— успокоил он Семавина, разглядывая записи в блокноте.— Так вот, пятьсот литров дихлорфенола дает в час система, Кирилл Николаевич. Слышите? Пятьсот!
228
— Значит, что же получается? — спросил Семавин.
— А то и получается, в два раза больше, чем старые реакторы... Так что поздравляю, Кирилл Николаевич!
И Ганеев, широко улыбаясь, пряча блокнот в карман, шагнул к Семавину.
— И тебя, Флюр Ганеевич! И тебя! — серьезно, без тени улыбки, сказал Семавин, пожимая руку Ганееву.
Мишка Колесов околдованно стоял, растянув в улыбке рот до ушей, смотрел, как начальник цеха и технолог трясут друг другу руки, как светятся их лица радостью. Нестерпимо захотелось заявить о себе, сказать, что и он участник взволновавшего их события, и пожать руки начальнику цеха и технологу! Он тоже шагнул к Семавину, но вовремя одумался, отвернулся к приборам.
Неожиданно в помещение вошел главный инженер завода Август Петрович Бекетов.
«Не выдержал, приехал»,— обрадовался Семавин. Он заметил, что Бекетов, как и все работники цеха, в суконной робе аппаратчика, видимо, намерен побыть у них в цехе, но не это занимало сейчас Семавина: как главный инженер воспримет их успех.
Бекетов, войдя, оглядел помещение, остановив взгляд на щитах, увешанных приборами, лишь после этого произнес: «Здравствуйте» и, подойдя к инженерам, пожал руки; потом подошел к вспыхнувшему, покрасневшему Мишке и ему пожал руку.
— Ну-с, как ваши дела? Начинайте рассказывать,— попросил он.— Сколько систем в работе?
229
— Три,— ответил Ганеев.
— А остальные три?
— Будут ждать полной реконструкции цеха.
И тут Бекетов ничего не сказал, постоял, сжав губы, словно обдумывая что-то, посмотрел внимательно на Ганеева, и в этом взгляде Семавину почудилось глубоко запрятанное удовлетворение.
— Пройдемте в цех,— предложил он Семавину.
— Но я, — виновато улыбаясь, смутился Семавин,— теперь не начальник цеха... Вот, Ганеев,— кивнул он на технолога.
— Ничего не знаю. Приказа не видел, не читал,— сурово проговорил Бекетов.— Идите, показывайте свой цех. Посмотрим, как он выглядит после капитального ремонта.
Пока ходили с Бекетовым от станции к станции, Семавин, тяготясь положением гида, торопливо отвечая на вопросы главного, который интересовался каждой мелочью, сам больше присматривался к тому, что происходило на станциях. Цех еще лихорадило, и его неудержимо тянуло передать Бекетова в чьи-то руки и заняться неполадками. Но он сдерживал себя, покорно шел за главным инженером.
И лишь проводив его, кинулся назад, вызвал начальников отделений и — закружилась, завертелась карусель,— забегали механики, застучали инструментом слесари,— наступило время неизбежных авральных работ...
В обеденный перерыв раздался телефонный звонок.
Семавин поднял трубку.
— Кирилл Николаевич,— услышал он голос
230
главного инженера.— Спешу обрадовать. Руководством завода принято решение включить в план реконструкцию всего вашего цеха и цеха монохлоруксусной кислоты.
— Наконец-то! — Семавин не удержался, даже засмеялся от удовольствия, от вдруг нахлынувшего чувства ощутимой победы.— А новые цеха? Будут строить?
— Пока нет... Пошла телеграмма в Москву о ликвидации заказа на проектирование.
— Август Петрович, а как Зия Гильманович воспринял наш опыт?
— Благосклонно... Благосклонно,— повторил Бекетов, услышав в трубке недоверчивый мык Семавина.— Во всяком случае, телеграмму в Москву подписал тут же, как только я доложил о работе ваших новых теплообменников. Кстати, он вам позвонит, поздравит с успехом.
— Спасибо за приятную весть,— ответил Семавин, волнуясь.
— Обяжите Ганеева завтра же сдать все ваши расчеты по реконструкции цеха заводскому конструкторскому бюро. Оно займется разработкой рабочих чертежей.
— Хорошо.
Положив трубку, Семавин посидел какое-то время, с лица его так и не сходила улыбка, появившаяся в начале разговора с Бекетовым.
Размышления его прервал телефонный звонок.
«Директор»,— подумал он, поспешно снимая трубку.
Но звонил секретарь парткома. Оказывается, в парткоме уже знали о пуске станции
231
хлорирования. И секретарь парткома, поздравив Семавина, сказал:
— Так вот, готовьтесь к заседанию парткома. Хотим послушать вас о реконструкции.
— Хорошо, Павел Матвеевич,— ответил Семавин.— Только я не один, нас много. Все принимали участие...
— Знаю, что не один... А вас послушаем как инициатора, чтобы перенять опыт. Думаю, он будет полезен, когда перейдем к реконструкции всех цехов завода. К этому, к этому идем, Кирилл Николаевич. По себе, по своему цеху должны знать...
Домой Семавин возвращался вместе с женой. Ольга дожидалась его за проходной и, как он понял по ее нахмуренному лицу, устала уже ждать. Хотя он и обещал ей по телефону не задерживаться, даже говорил, что выходит, уже вышел, сейчас придет, но разве уйдешь так скоро из цеха, особенно в первый день его работы после месячной остановки? Сиди тут сутки — и всегда найдется чем заняться.
— Извини, маленькая, немножко задержался,— сказал он виновато Ольге, беря ее под РУКУ-
— Немножко... На целый час! — упрекнула она, стараясь идти с ним в ногу.— Прощаю тебе только ради сегодняшнего события в вашем цехе. Все же, что ни говори, а ты сегодня — герой!
— Перестань! — Он сердито тряхнул головой, не желая слушать.— Никакой я не герой... Если хочешь знать, просто уставший, к тому же голодный человек...
232
Он прервал себя на полуслове, остановился, повернул жену к себе лицом:
— Ты была сегодня в нашем цехе?
— Забегала на минутку.
Значит, не обознался, это действительно была она.
— Спасибо тебе,— сказал он ласково. И, прижав ее к себе, нежно погладил по щеке.— Спасибо, маленькая.
Она поняла его, не оттолкнула, хотя шли они уже по дороге к трамваю, где много людей, ненужных свидетелей этого доверчивого жеста мужа.
День близился к вечеру. Легкие, крутобокие облака, подожженные заходящим солнцем, стояли в небе, как стога сена в низовьях Сурени в страдные дни лета. Воздух искрился, наполнялся запахом трав, цветов, росших в скверах, по обочинам тротуаров.
Сели в трамвай.Семавин лишь теперь по-настоящему почувствовал, как устал. Он привалился к сиденью, закрыл глаза — и понесло его, закружило, отлетело все, чем болел последние дни, ушел куда-то и сегодняшний тревожный и вместе с тем такой радостный день, осталось ощущение покоя, умиротворенности. Он не слышал ни людского гомона, ни стука колес вагона — они не доходили до него. Чувство безразличия ко всему овладело им, осталось одно — сидеть вот так, не вставая, сидеть бездумно, безмятежно, забыть, как спешил, как торопился всегда, боясь опоздать, не успеть ко времени.
«В отпуск... Отдохнуть надо»,— пронеслось в голове. Вот выведет цех на режим — ив отпуск... На Сурень, к отцу.
233
Хорошо в это время в чистых полях — ходить по желтой стерне, слышать шорох от твоих шагов. По высокому небу текут тонкие облака, скатываясь туда, где лиловой полосой на горизонте обозначены леса. И воздух, настоянный на увядающих травах, и ширь полей, и твое одиночество в этой пустующей тишине приносят в душу тихую радость — радость от всего, что видишь, что окружает тебя. Вот так идешь, идешь, не спеша, поглядывая вокруг, и вдруг замрешь на месте, будешь следить, не дыша, как у копны соломы мышкует лиса, вздымается на дыбки, бросается плашмя, скрываясь в стерне, лишь колышется, как флажок, кончик ее рыжего хвоста.
Или выйдешь на опушку лесного колка, где, дробя тишину, гулко, как камни, падают на землю желуди, легко и бесшумно кружат в воздухе желтые листья клена, полыхают огненными костерками осинки, трепеща в безветрии. И серебрится на солнце паутина, натянутая промеж кустов бузины.
А войдя в глубь леса, неожиданно услышишь тихое журчание, словно воркотню голубей на крыше отцовского дома. Это течет скрытый тальниками ручей, переливается по камушкам, по корням берез, роет себе дорожку к недалекой Сурени.
А вот и она сама, бежит в низких берегах, поросших ольхой да черемухой...А над ней, клубясь, плывут облака, отражаясь в тихих плесах. И Семавин видит, как плывут облака и в воде и на небе, и эта широта неба, прозрачность суреньских вод стоит перед глазами неотступно, и кажется, для него нет на свете места краше этого...
234
— Наша остановка. Пошли,— толкнула его Ольга, прервав забытье.
У выхода из вагона опять, как и в прошлый раз, он увидел Ланда. Тот стоял в углу между окном вагона и стенкой кабины водителя, отрешенно смотрел в спины толпящихся подле дверей пассажиров. Был он в той же цветной рубашке с короткими рукавами, так же тщательно причесан, белел пробором.
— Здравствуй, Виктор! — окликнула его обрадовавшаяся встрече Ольга.— Ты где пропадаешь, не показываешься?
Семавину показалось, что Ланд растерялся, увидев их, видимо не ожидал. Он натянуто улыбнулся Ольге.
— Да так вот... все некогда. Дела!
Семавин заметил, что Ланд ни разу не взглянул на него, будто его тут не было.
Вагон стал притормаживать перед остановкой.
— Приходите с Верой в субботу на пирог,— торопливо приглашала Ланда Ольга, подталкиваемая толпой к выходу.— Приходите, мы будем ждать вас.
— Спасибо. Постараемся,— ответил Ланд.
«Не придет... И стараться не будет»,— подумал Семавин.
И еще подумал: подвел Ланд директора, не простит ему тот такого провала. Но почему-то не хотелось больше думать о судьбе бывшего друга, он исчез из его памяти, как только Семавин, взяв жену под руку, сошел на тротуар.
Ночи еще не было, но небо уже возвысилось, потеплело, зажглось звездами. С каж
235
дой минутой звезд становилось больше, они разгорались, перемигивались, заполняя собой небосвод.
И в той стороне, куда шли Семавины, край неба вдруг посветлел, раздался вширь, и над высокими домами, над деревьями сквера выкатилась луна — полная, румяная, как каравай свежеиспеченного деревенского хлеба.
содержание
Канские перекаты................................ 3
Облака над Суренью.............................113
237
Слободчиков Иван Федорович
ОБЛАКА НАД СУРЕНЬЮ
Повести
Редактор М. Подзорова Художник Б. Дольников
Художественный редактор А. Дианов Технический редактор В. Тушева Корректоры Т. Воротникова, И. Попова
ИБ 4613
Сдано в набор 28.08.87. Подписано к печати 10.12.87 А07672. Формат 70Х90‘/з2- Гарнитура литер. Печать офсетная. Бумага офсет. № 2. Усл. печ. л. 8,78. Усл. краск.-отт. 17,56. Уч.-изд. л. 8,69. Тираж 30 000 экз. Заказ 567. Цена 70 коп.
Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР. 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62
Полиграфическое предприятие «Современник» Росполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30
Слободчиков И. Ф.
С48 Облака над Суренью: Повести.—М.: Современник, 1988.— 237 с.— (Новинки «Современника»).
Произведения И. Слободчикова, русского прозаика, живущего в Башкирии, привлекают глубокой достоверностью изображаемых событий. Написанная в лаконичной манере повесть <Канские перекаты» знакомит с жизнью и бытом, тяжелой работой лесо-сплавщиков, часто остающихся один на один со слепыми силами природы. В основе заглавной повести — нравственный конфликт между энтузиастами и противниками идеи рационализации производства.
4702010200 — 036
С М106 (03)— 88
90 — 88
ББК84Р7
Р2