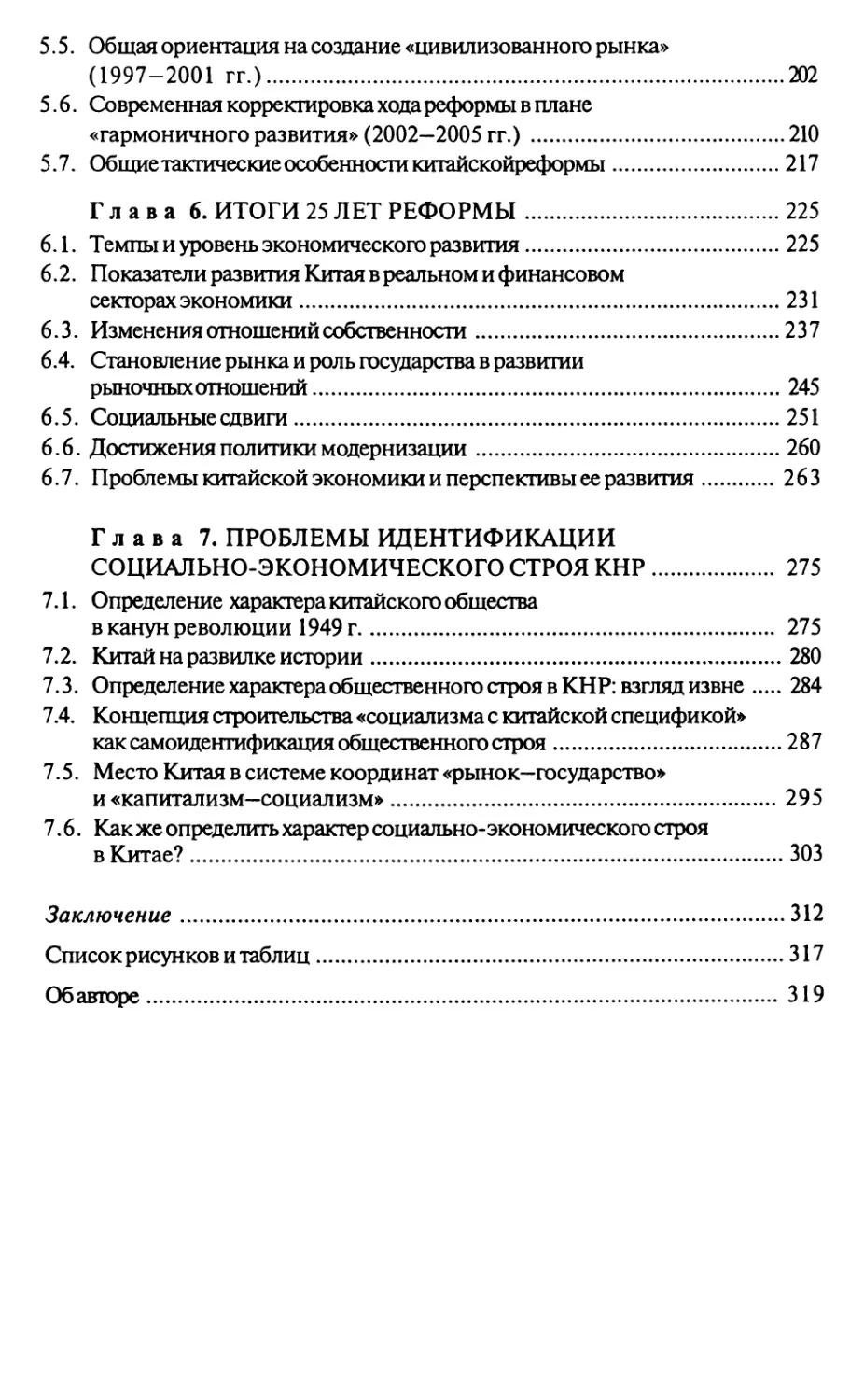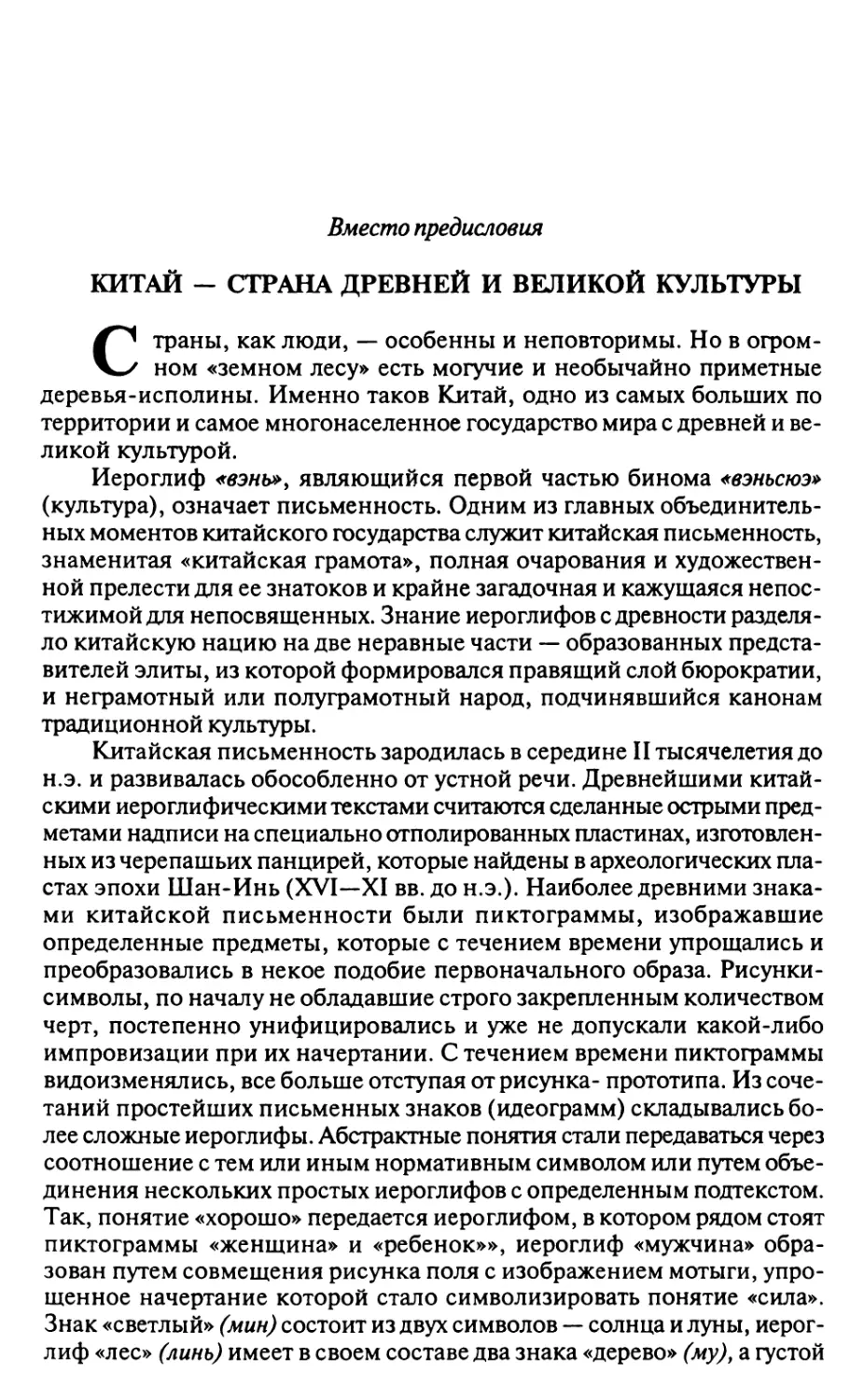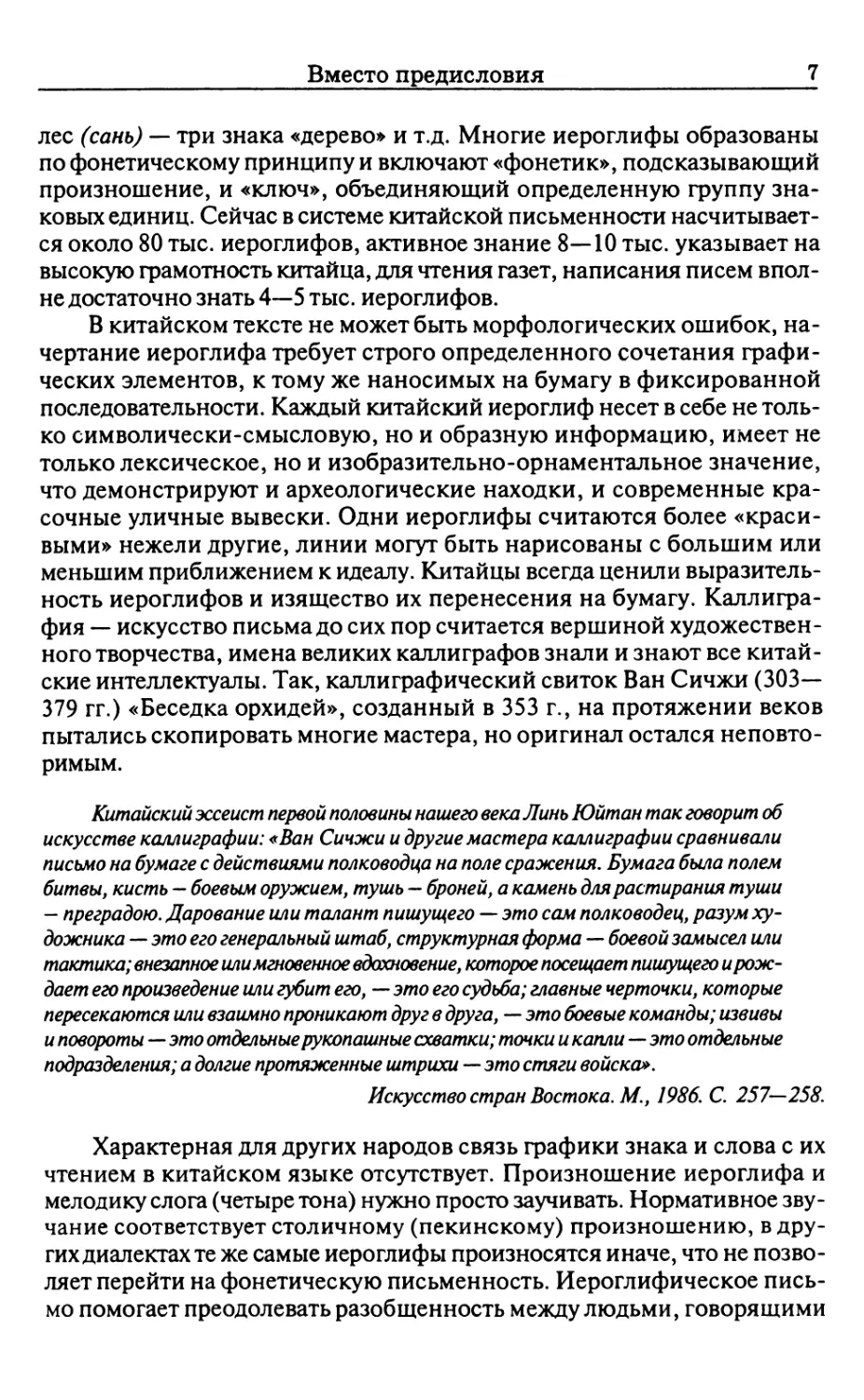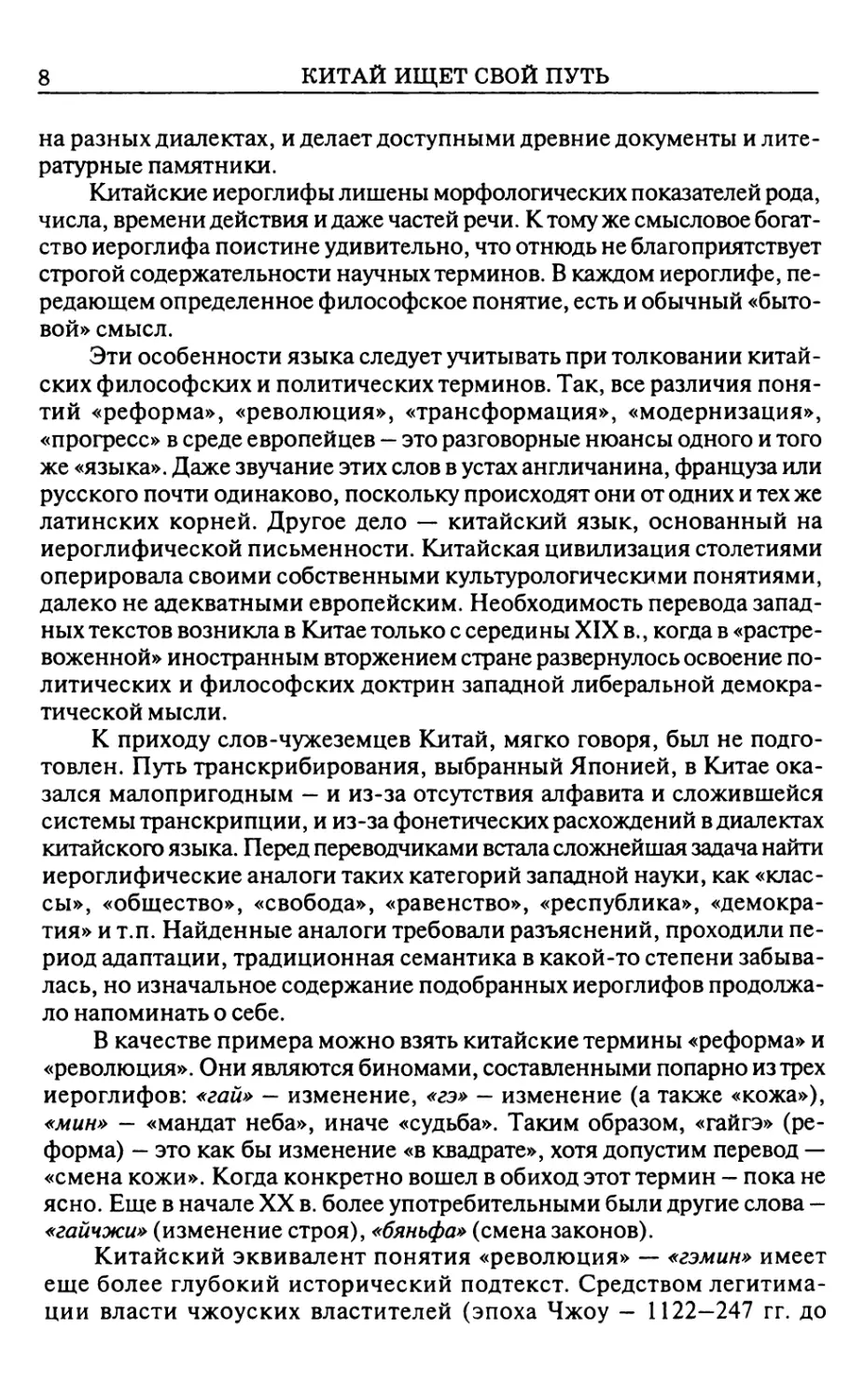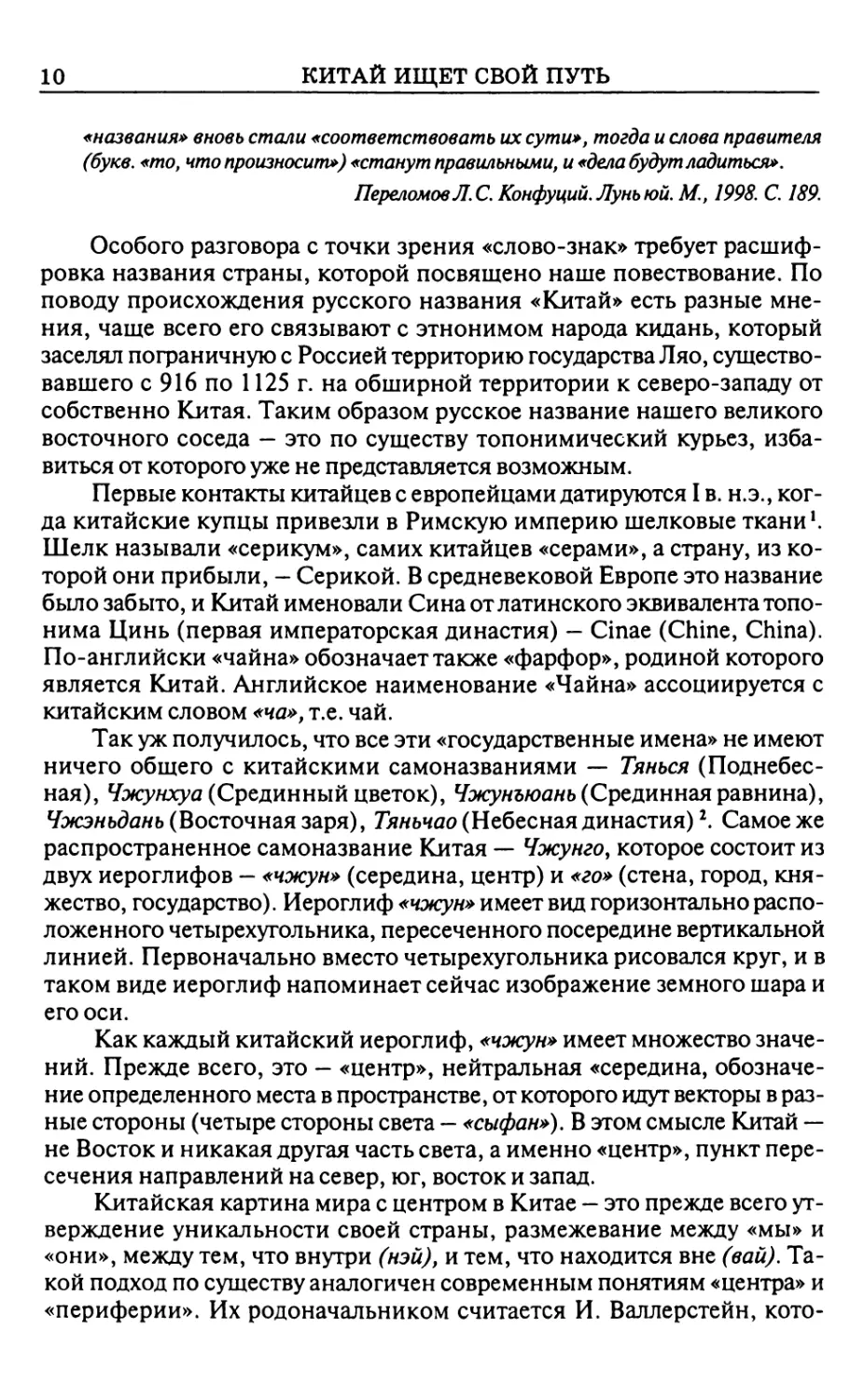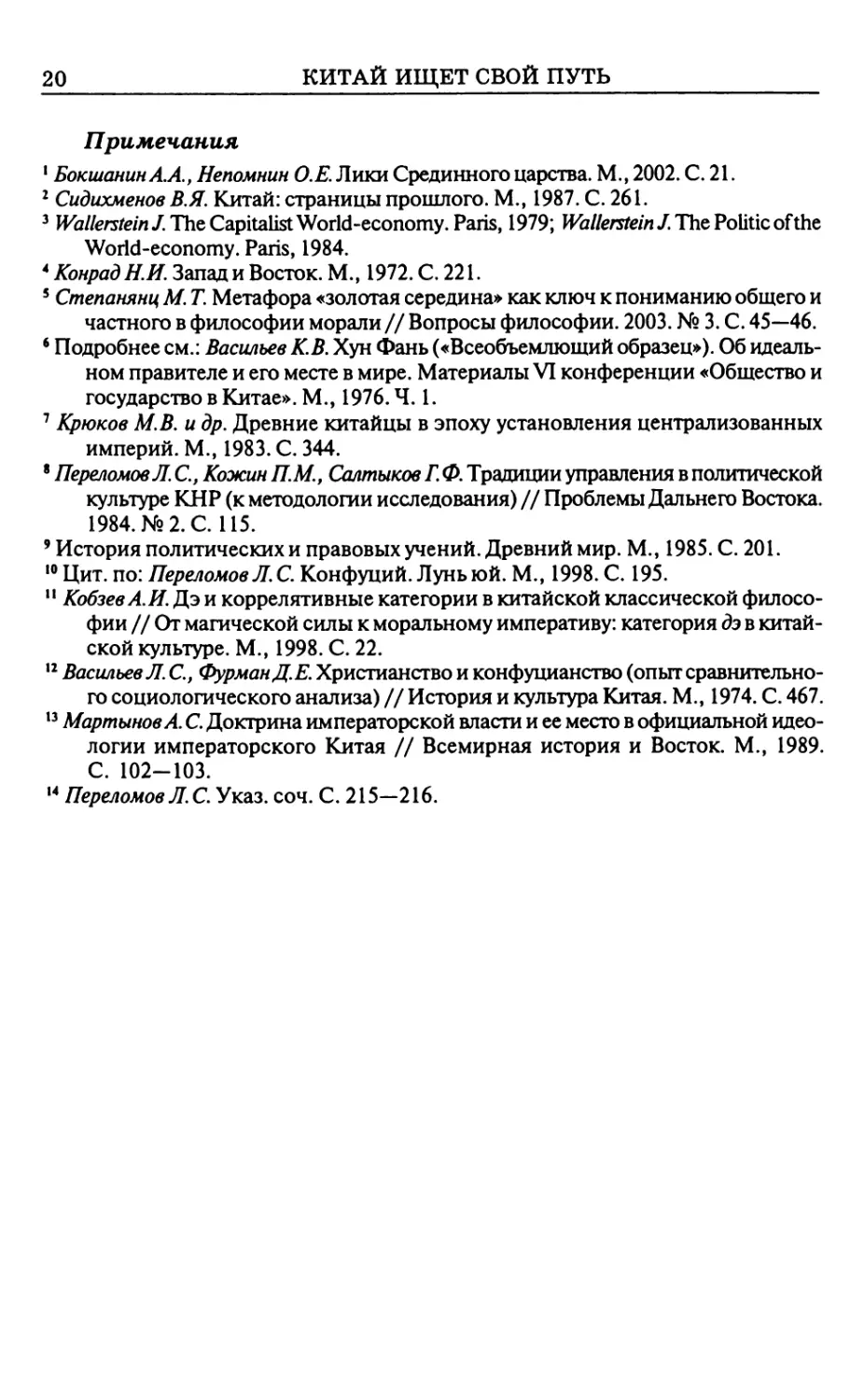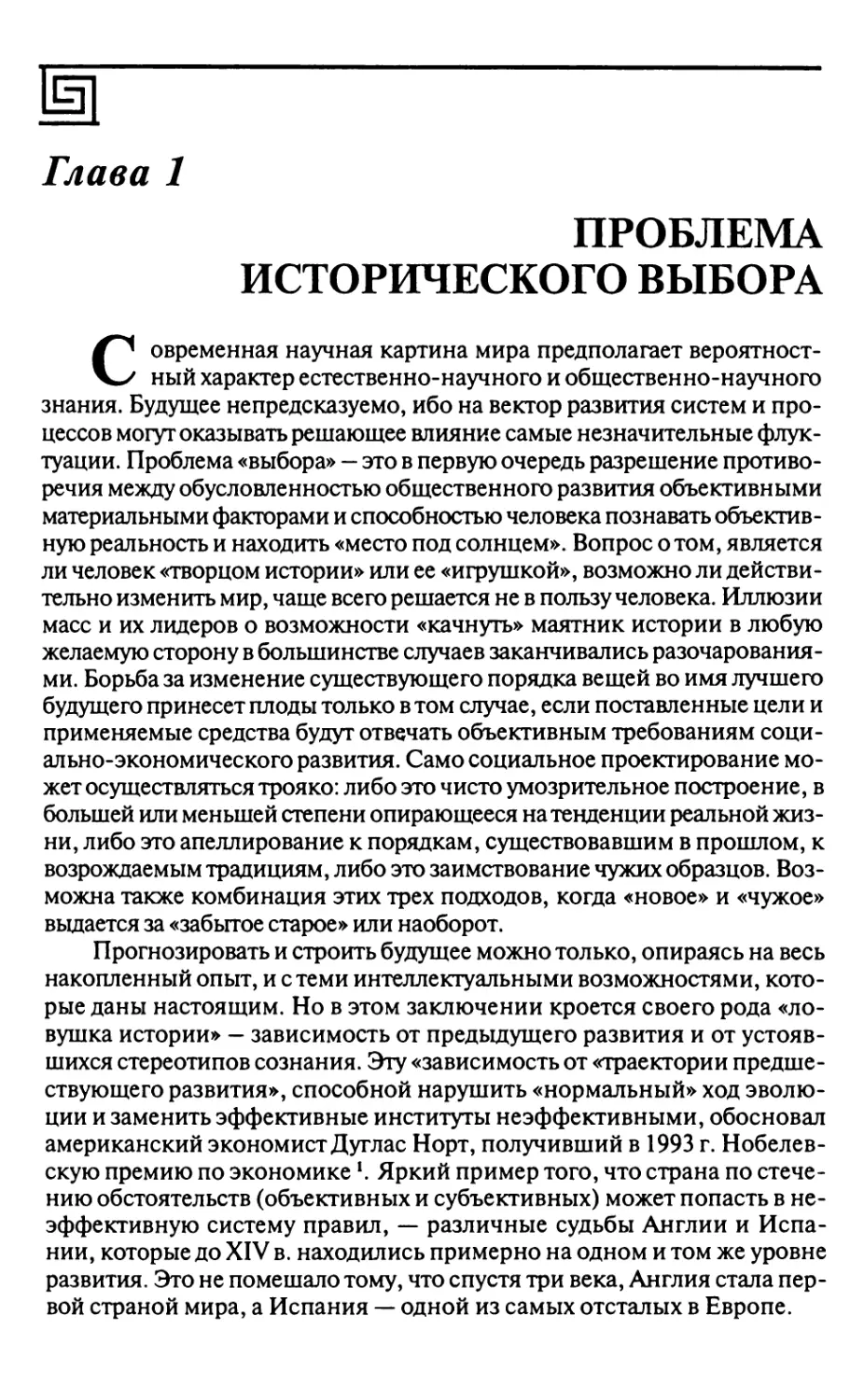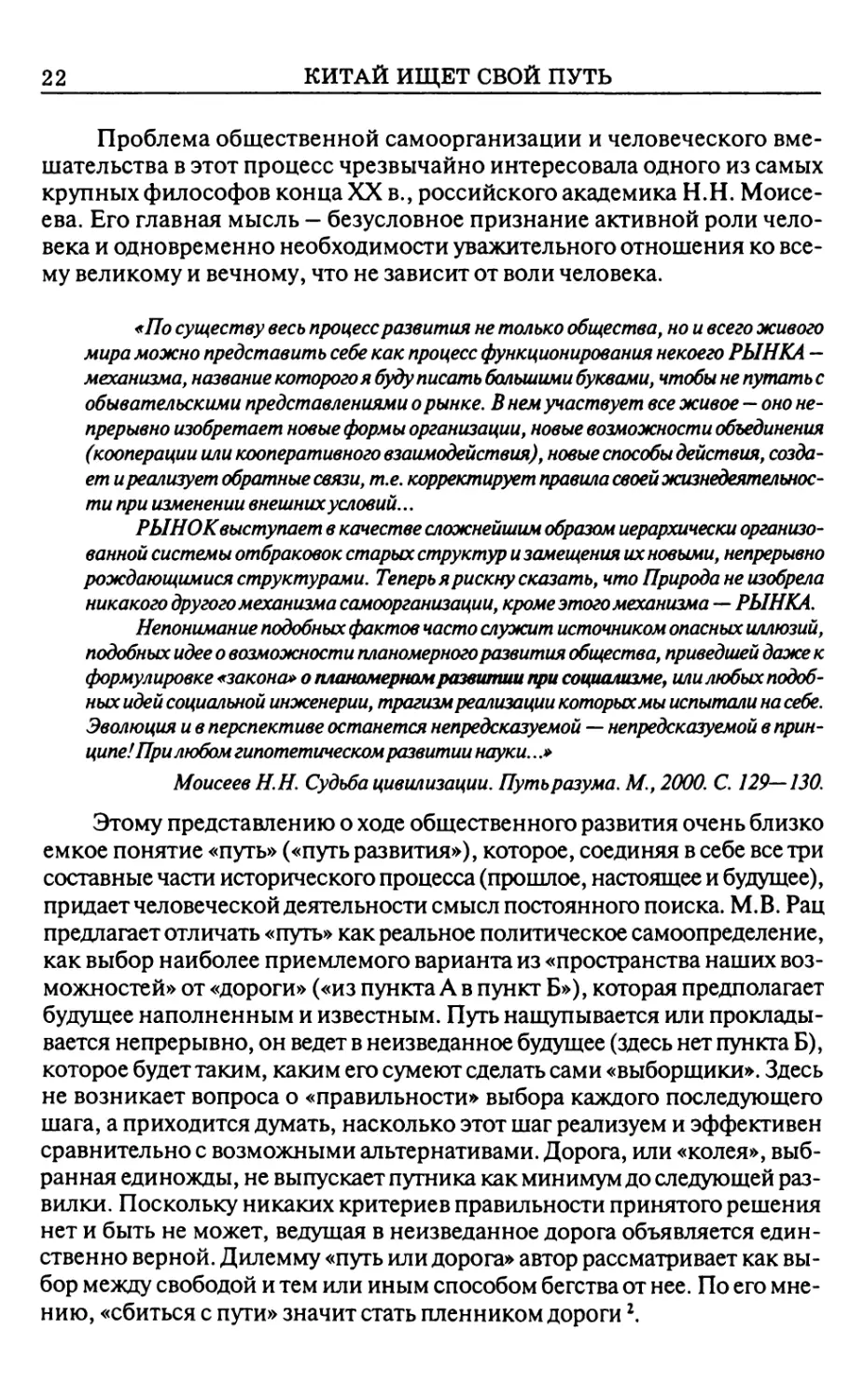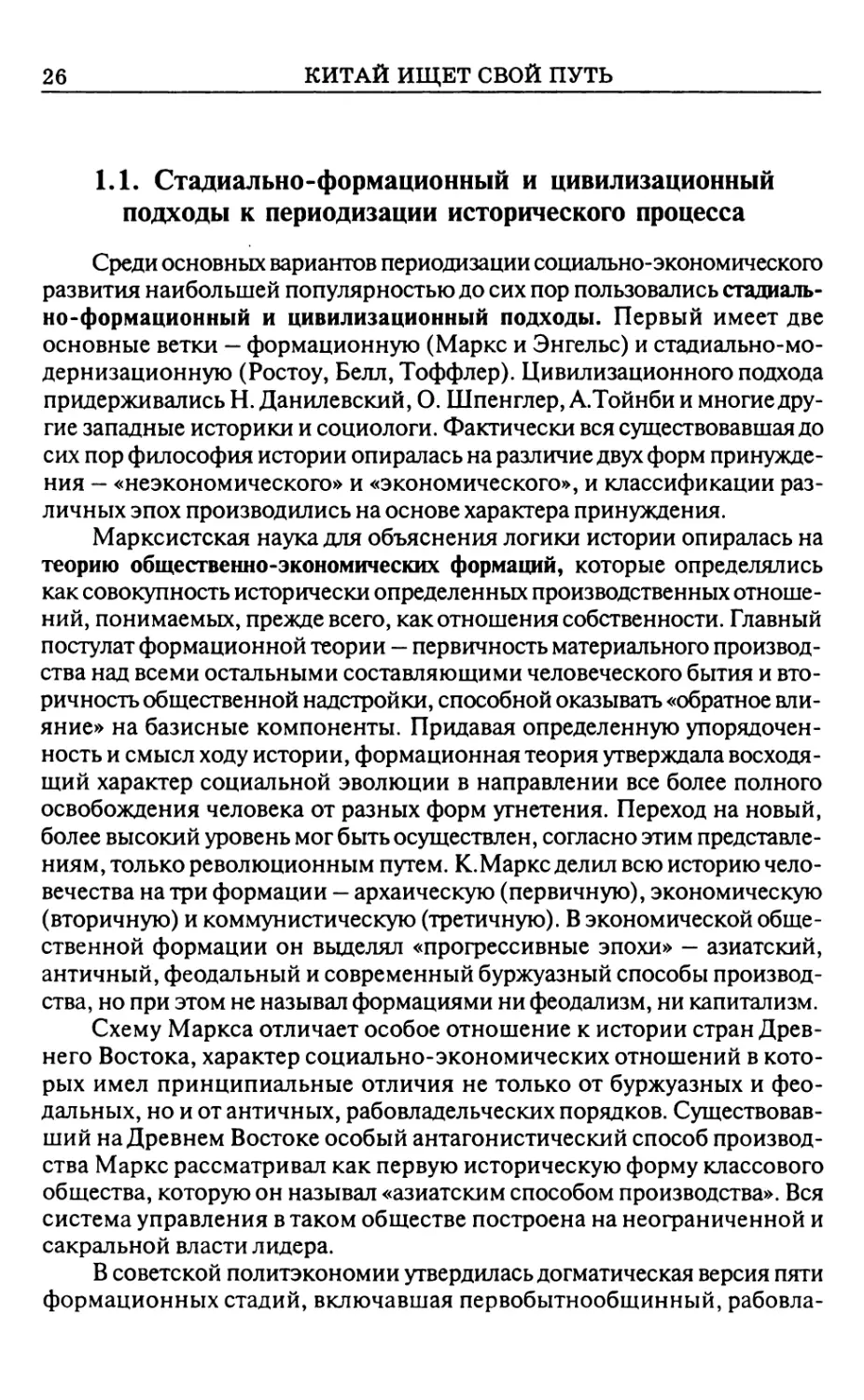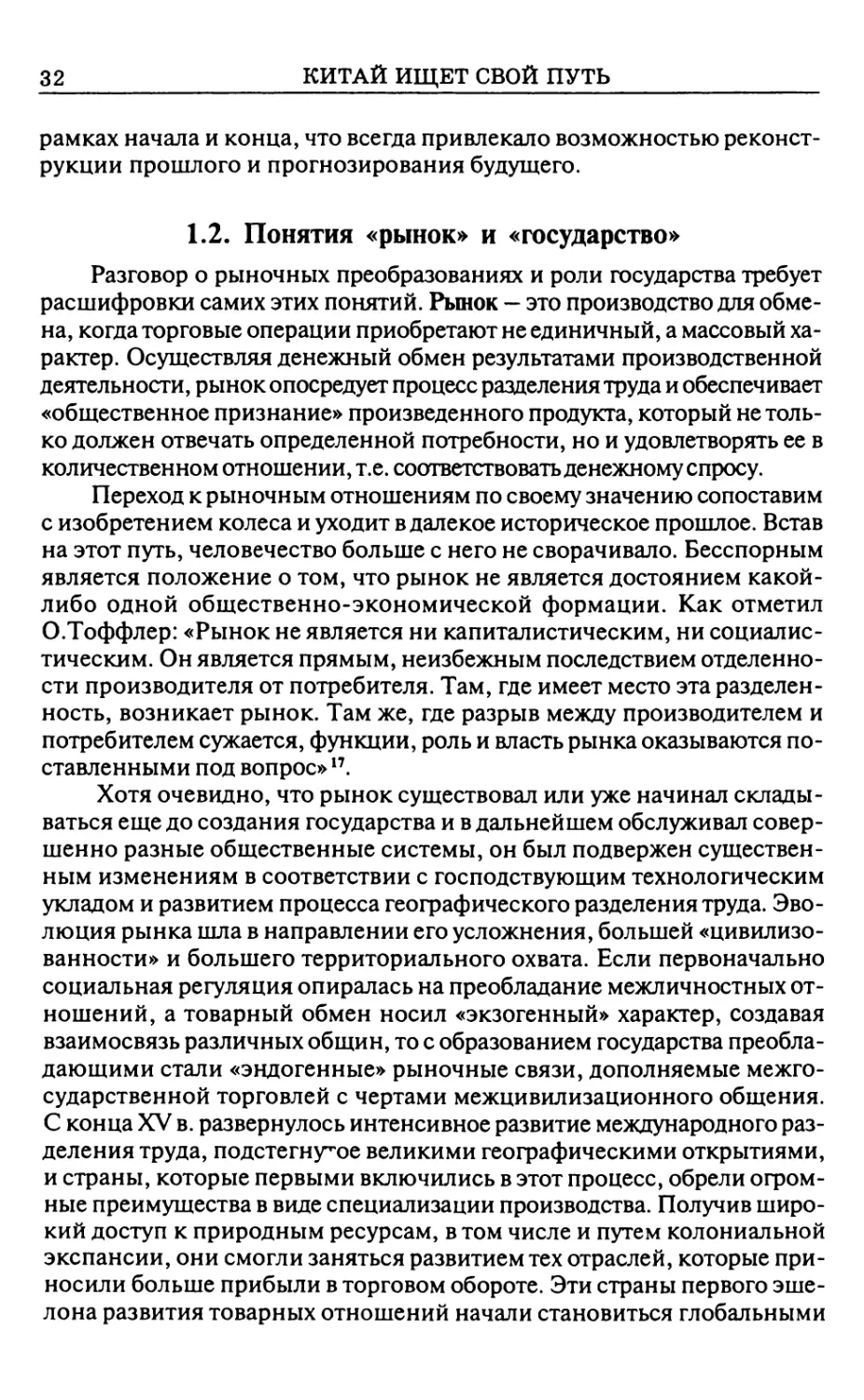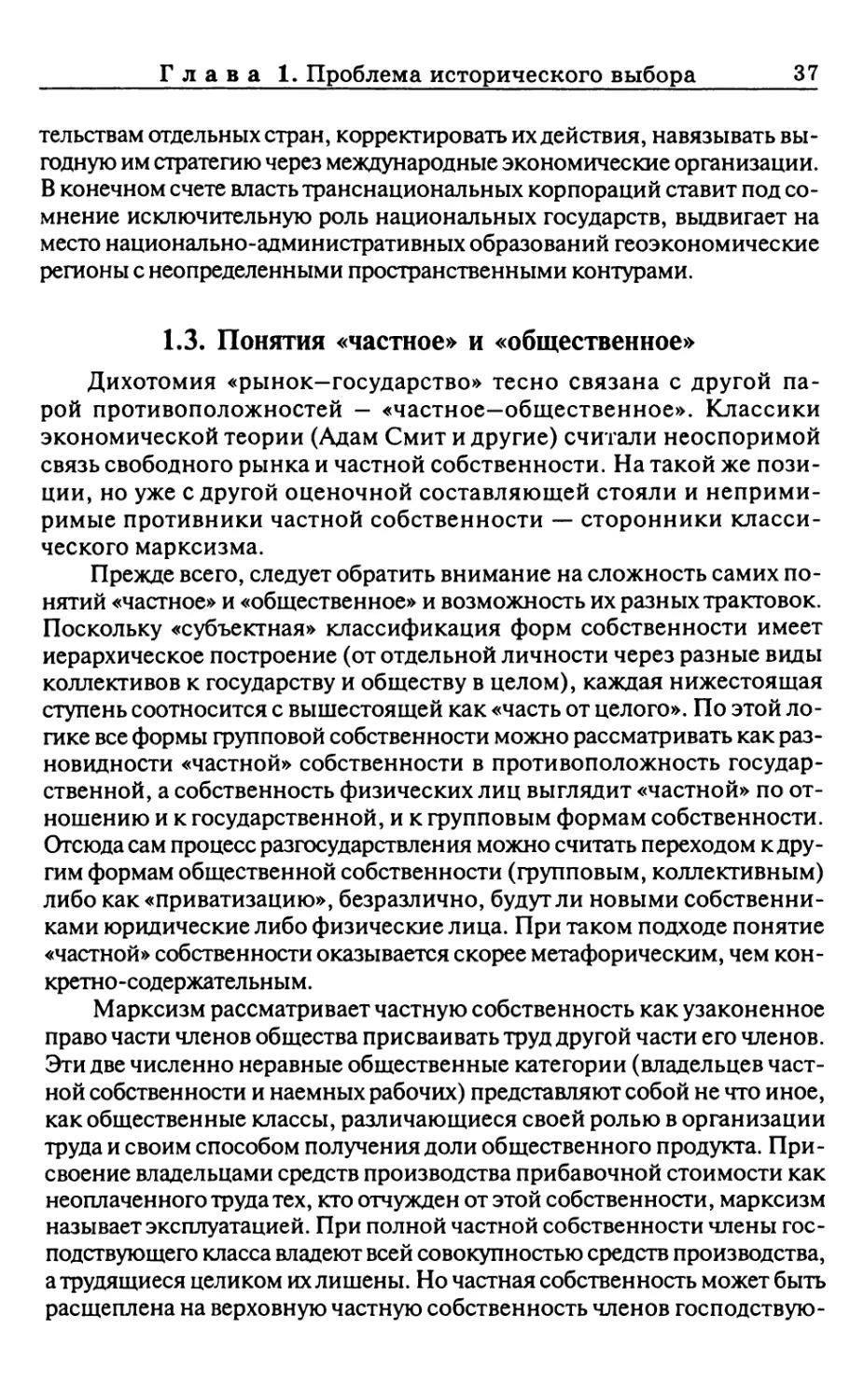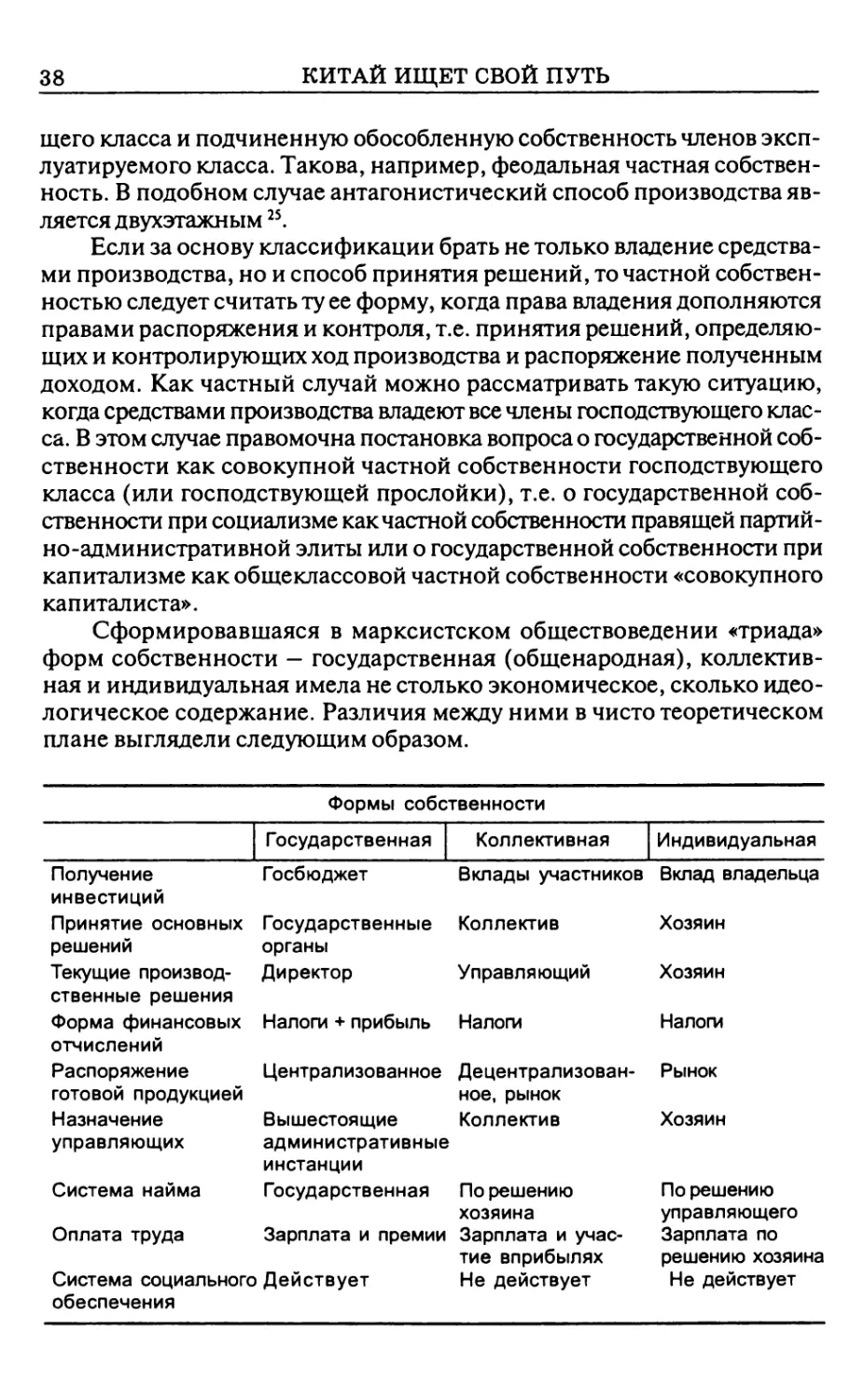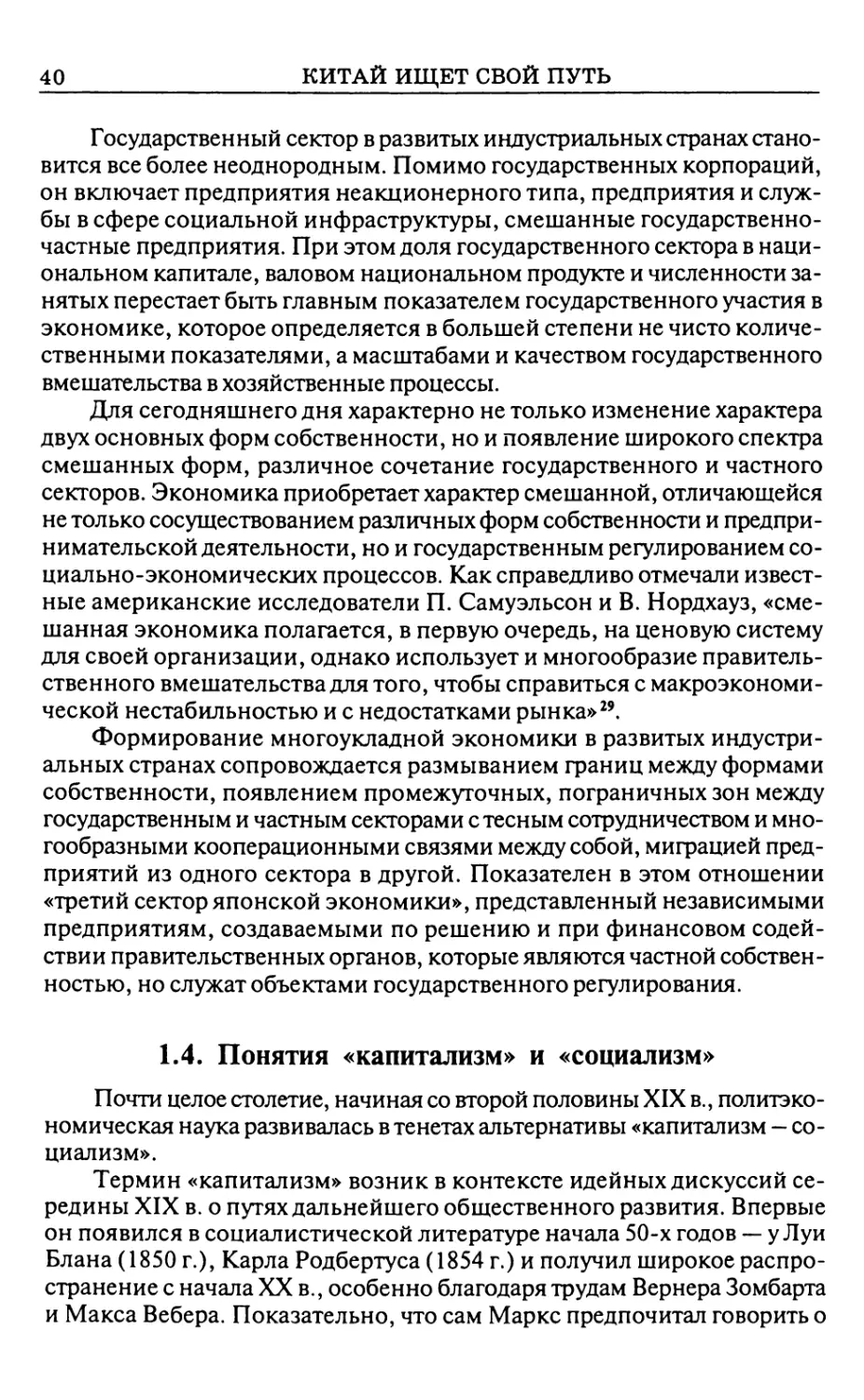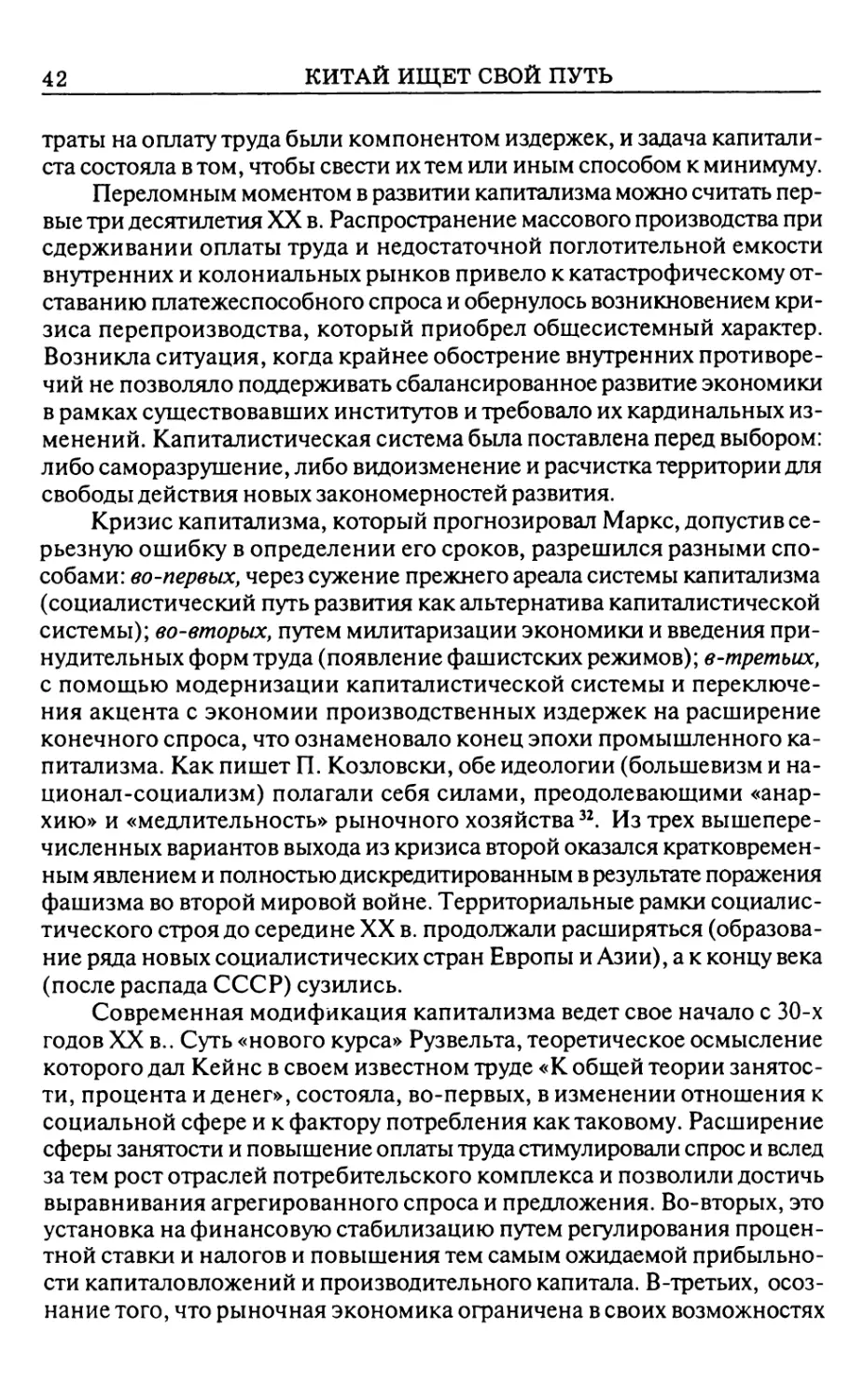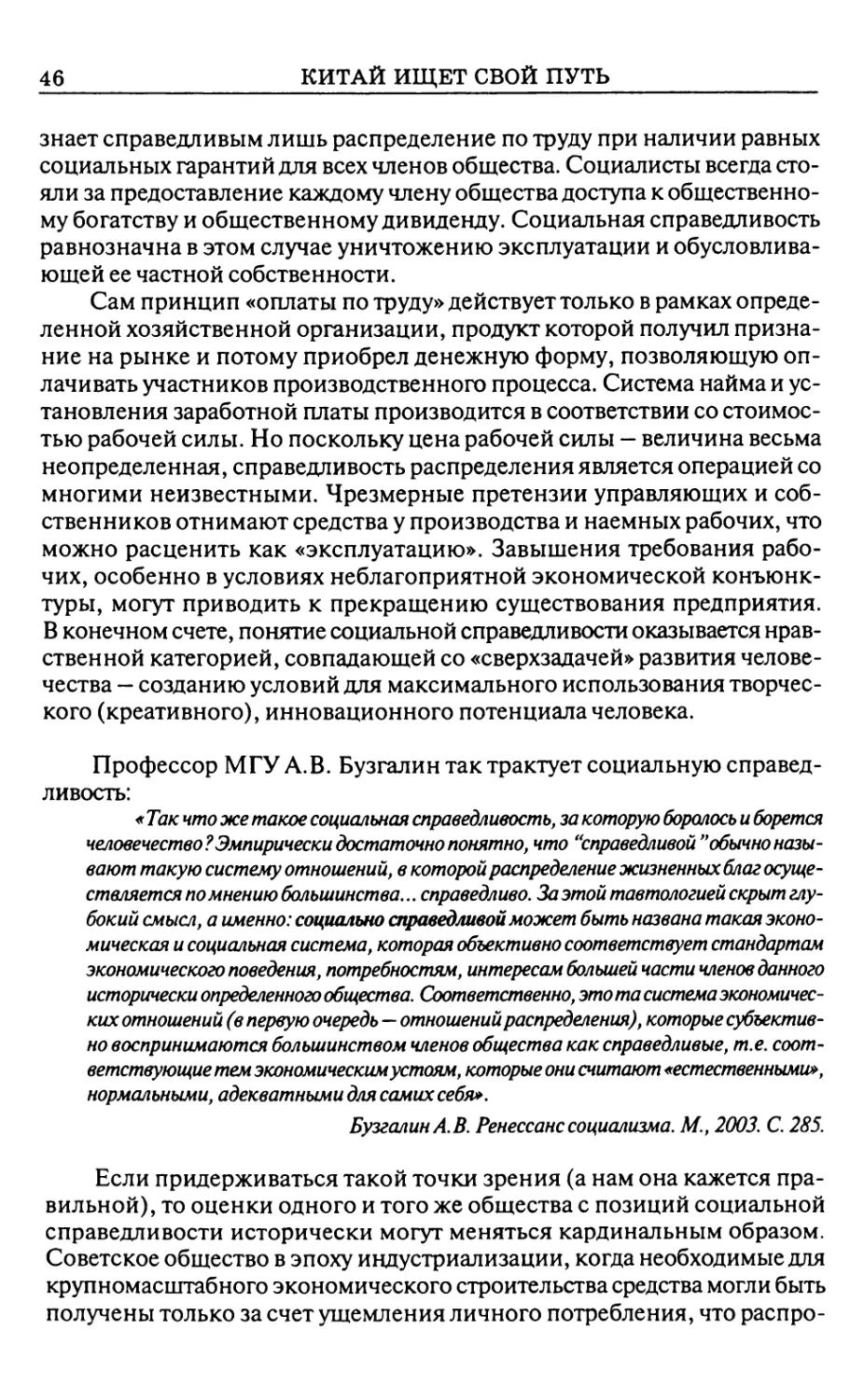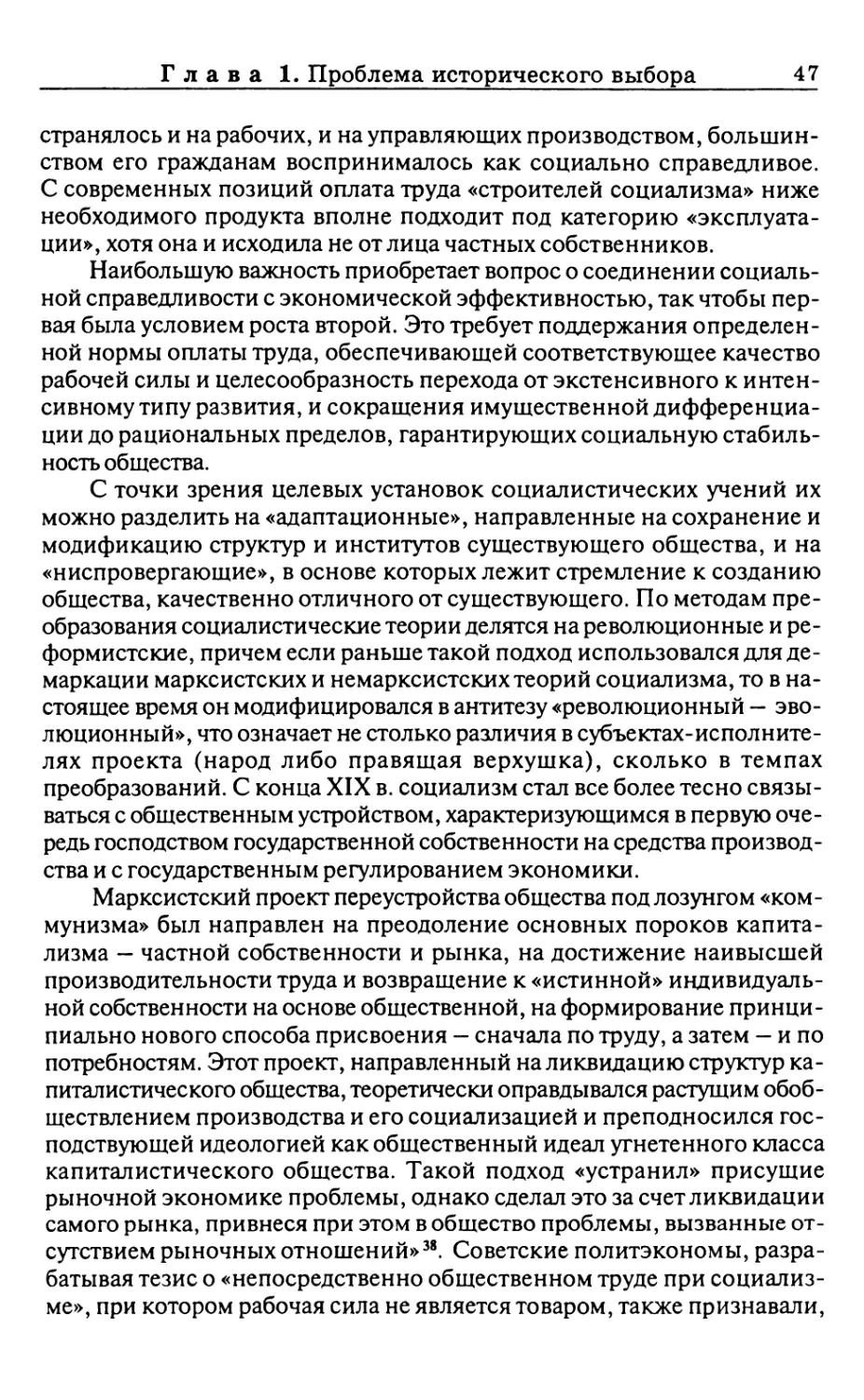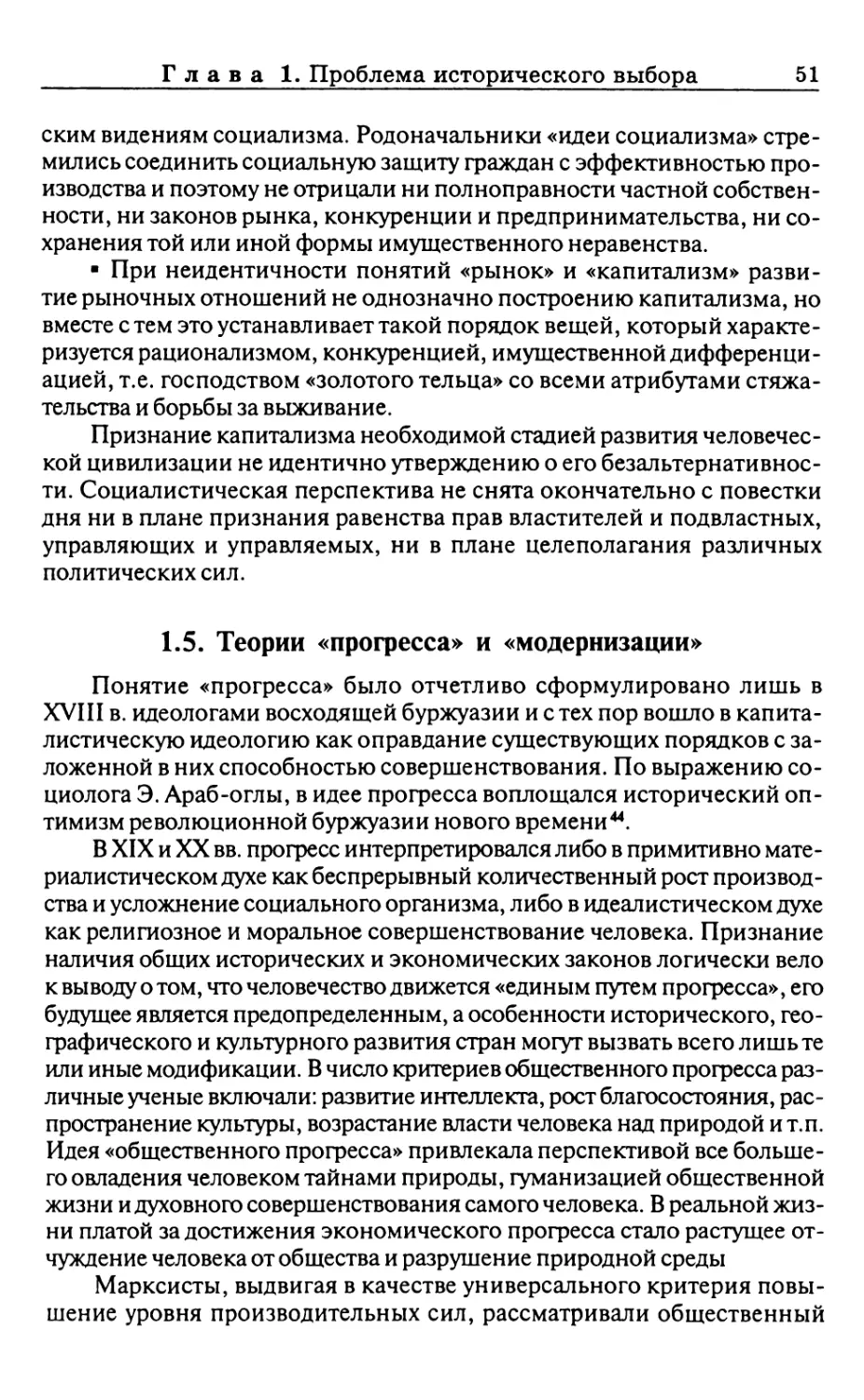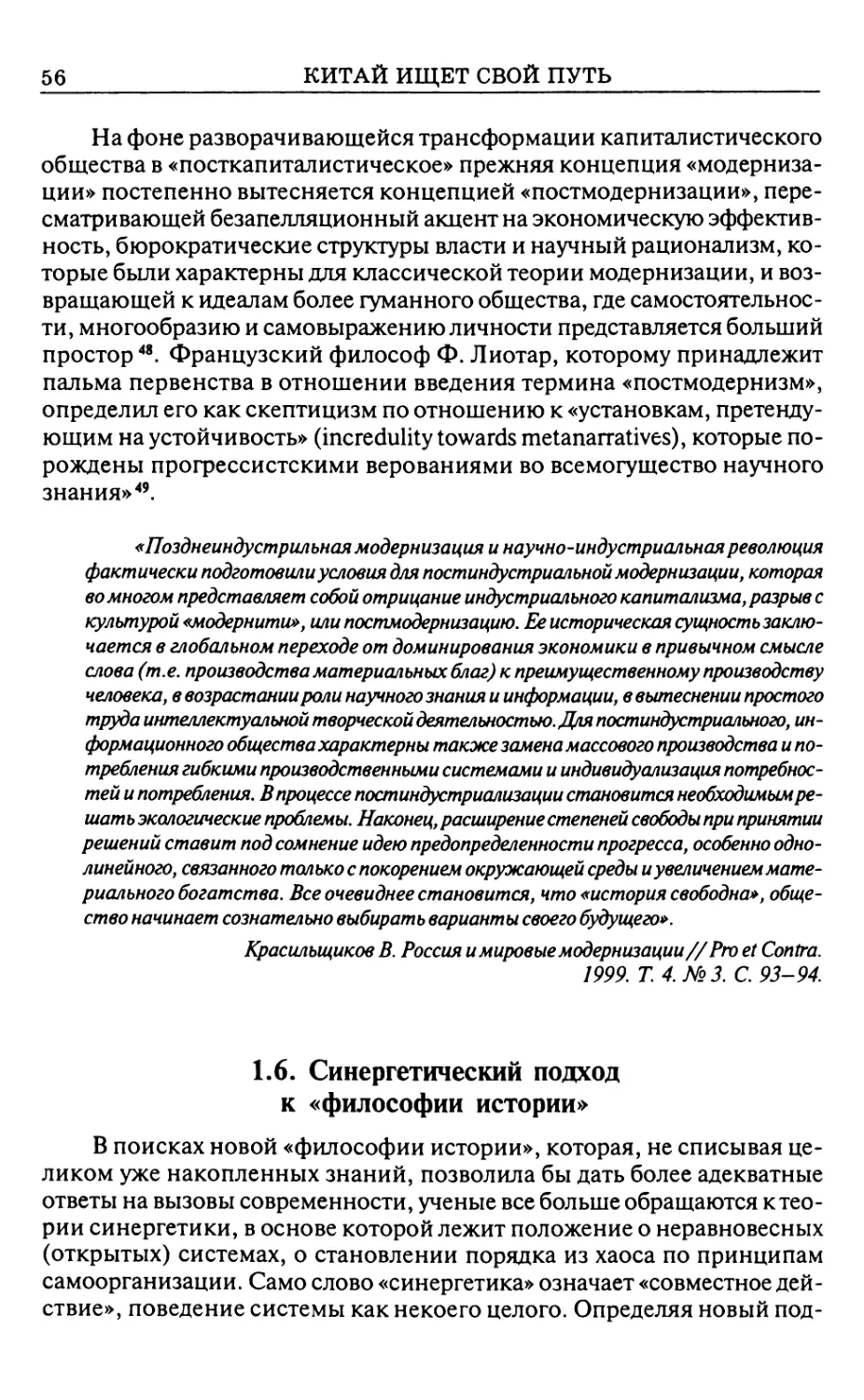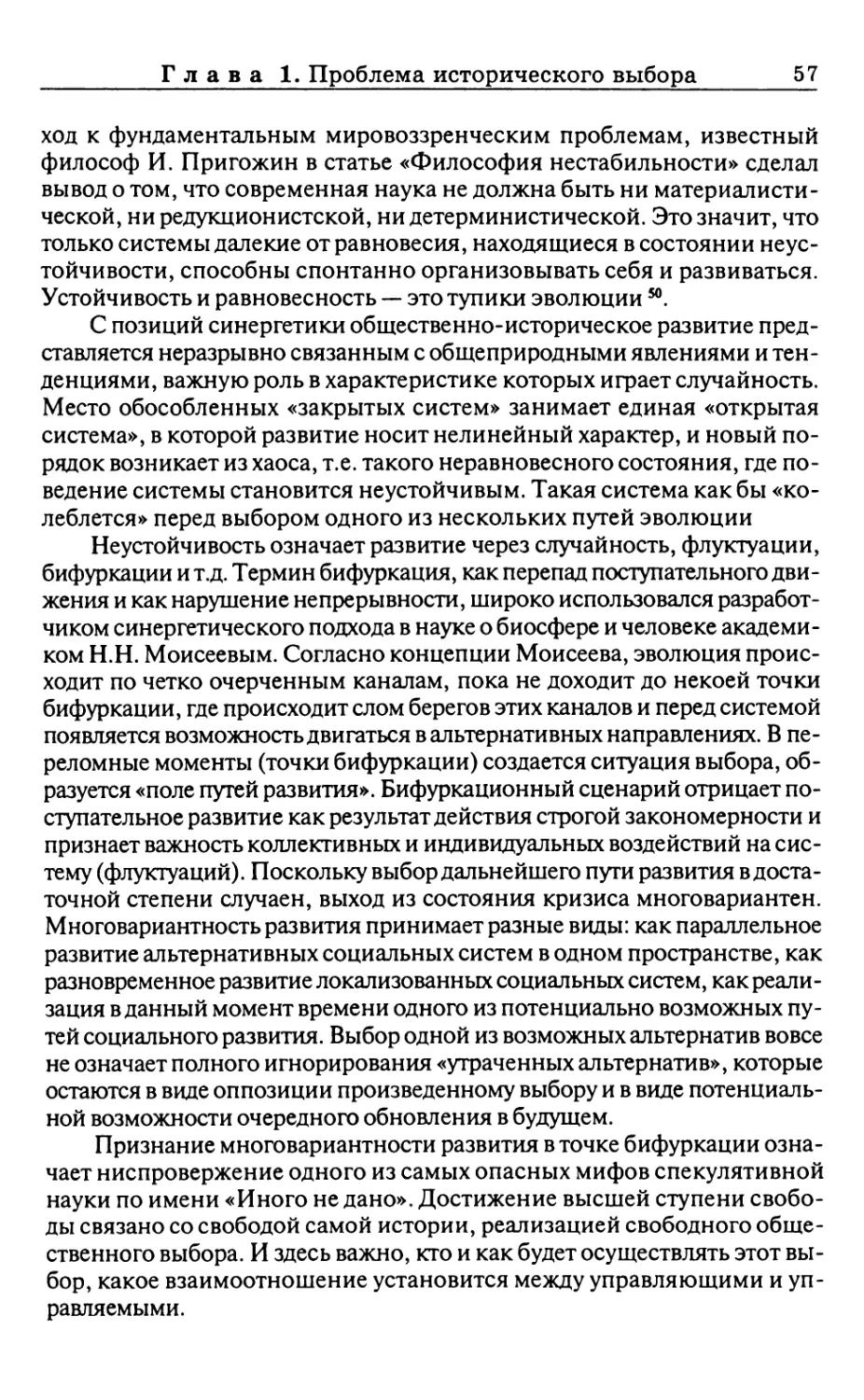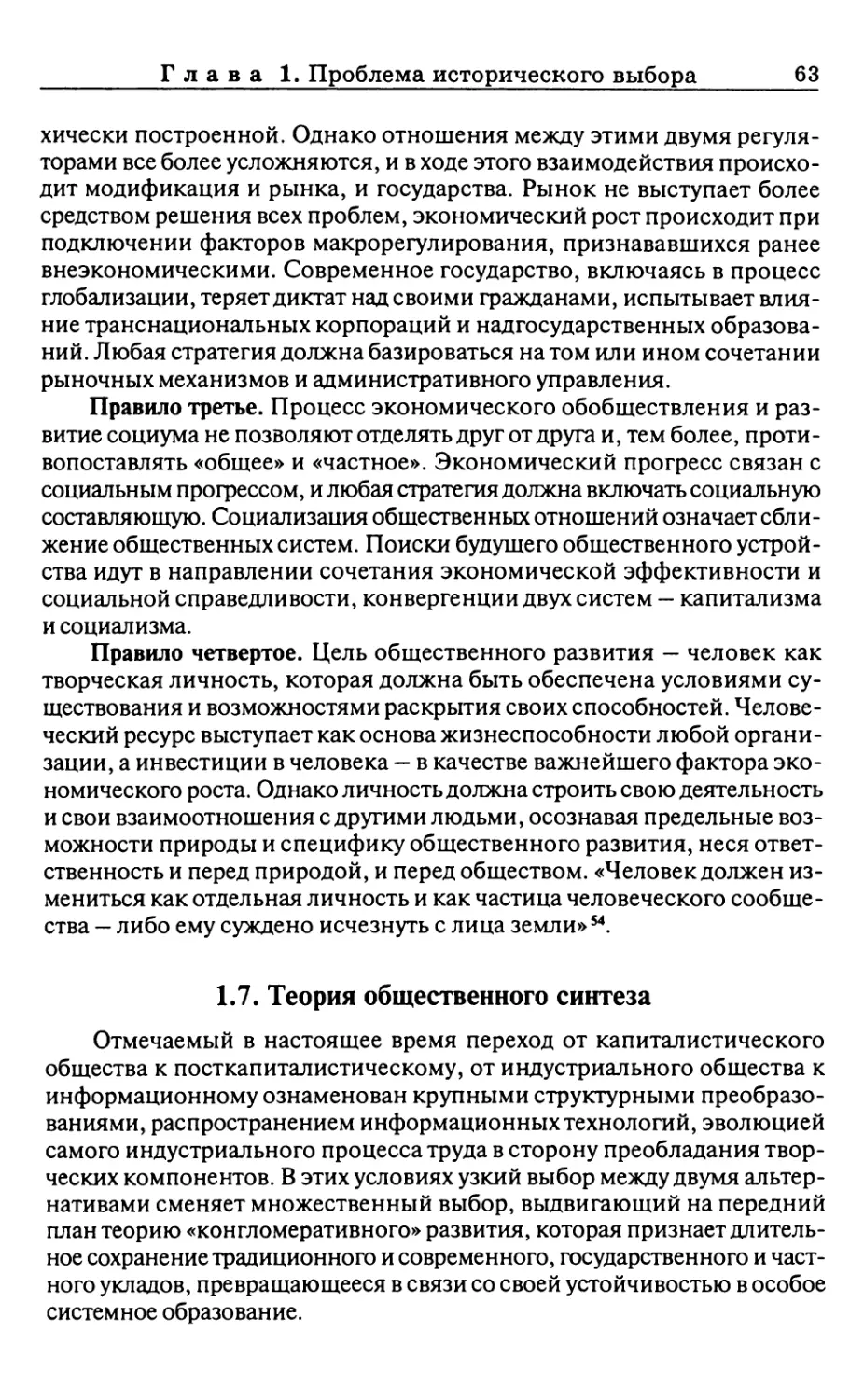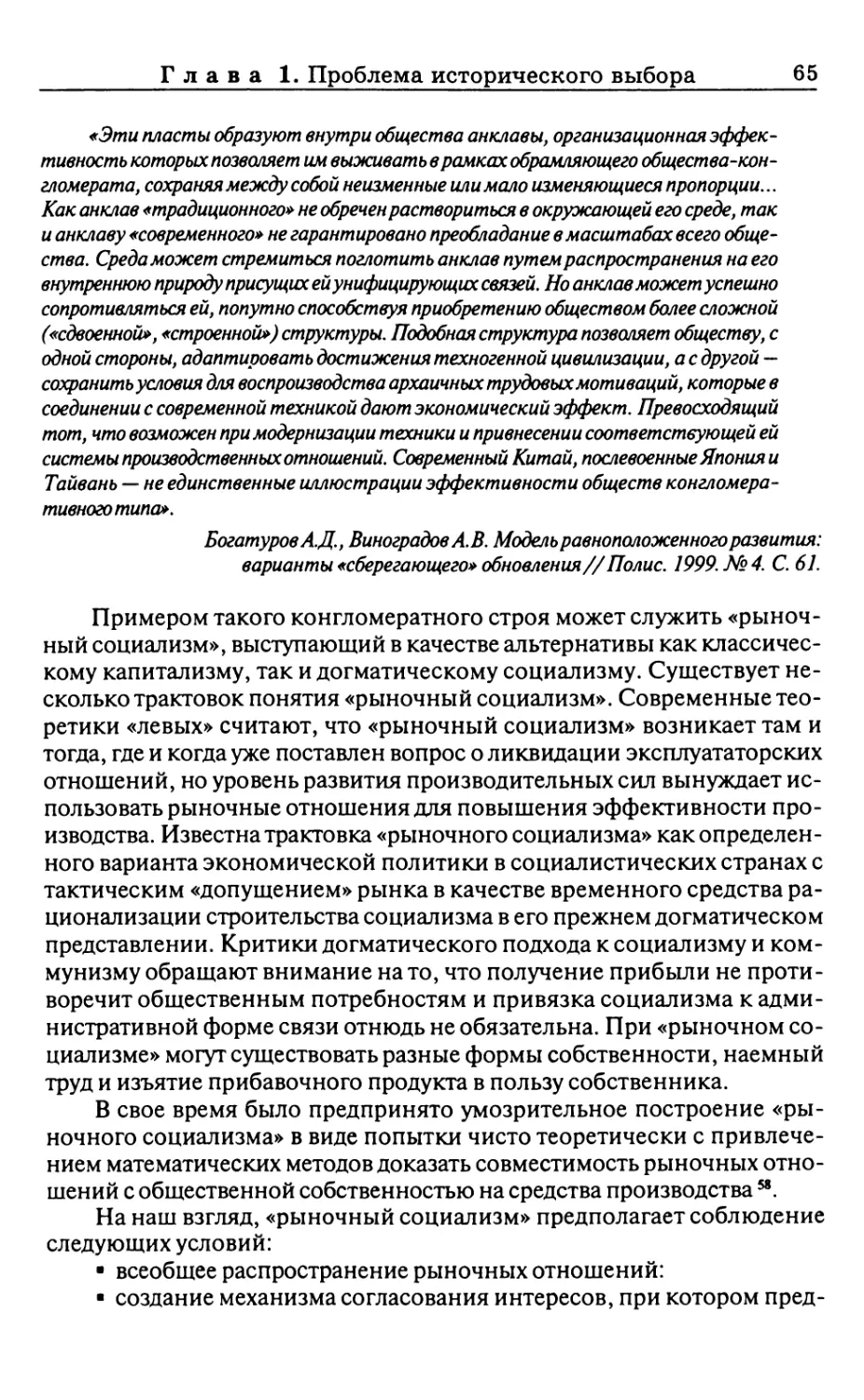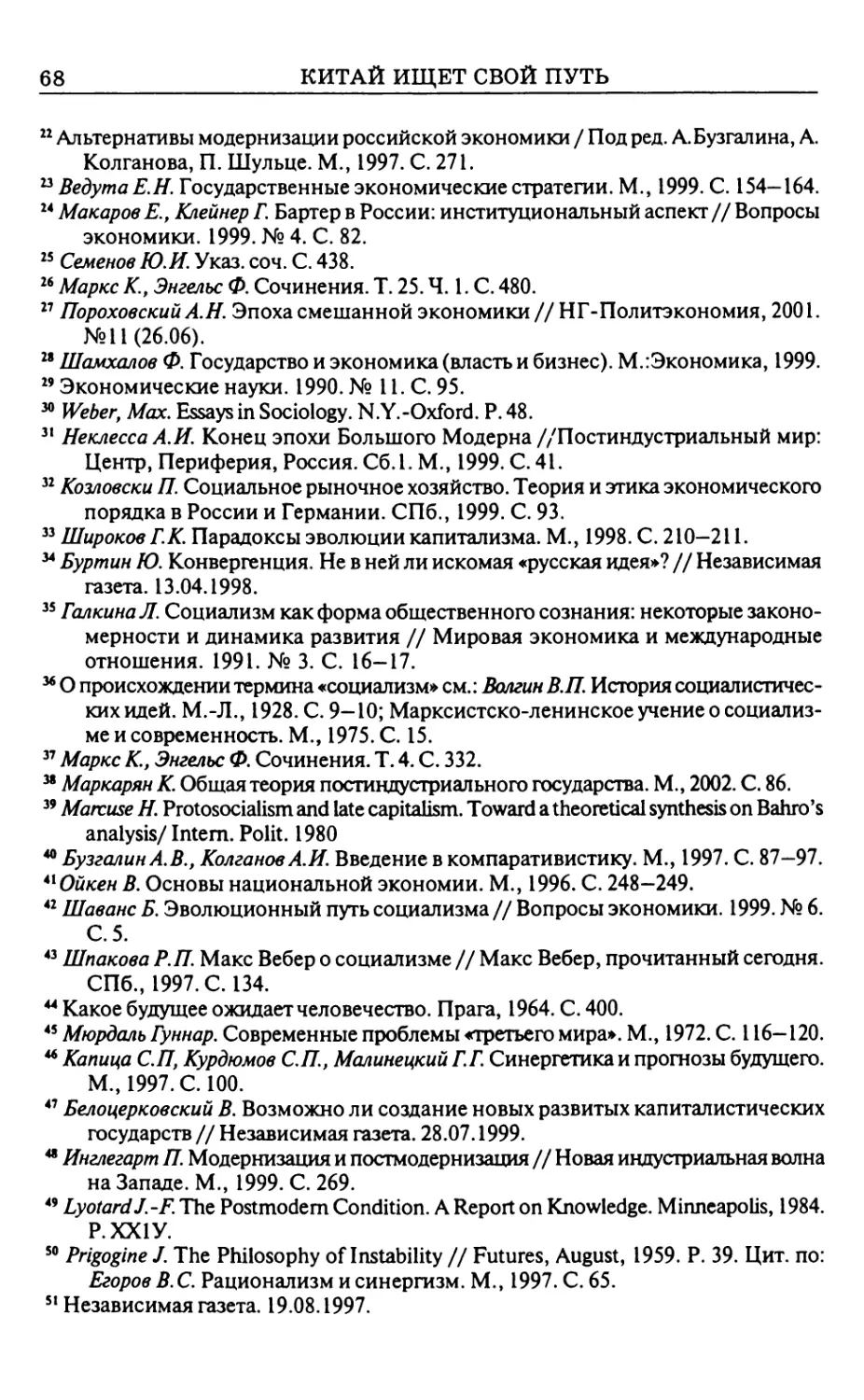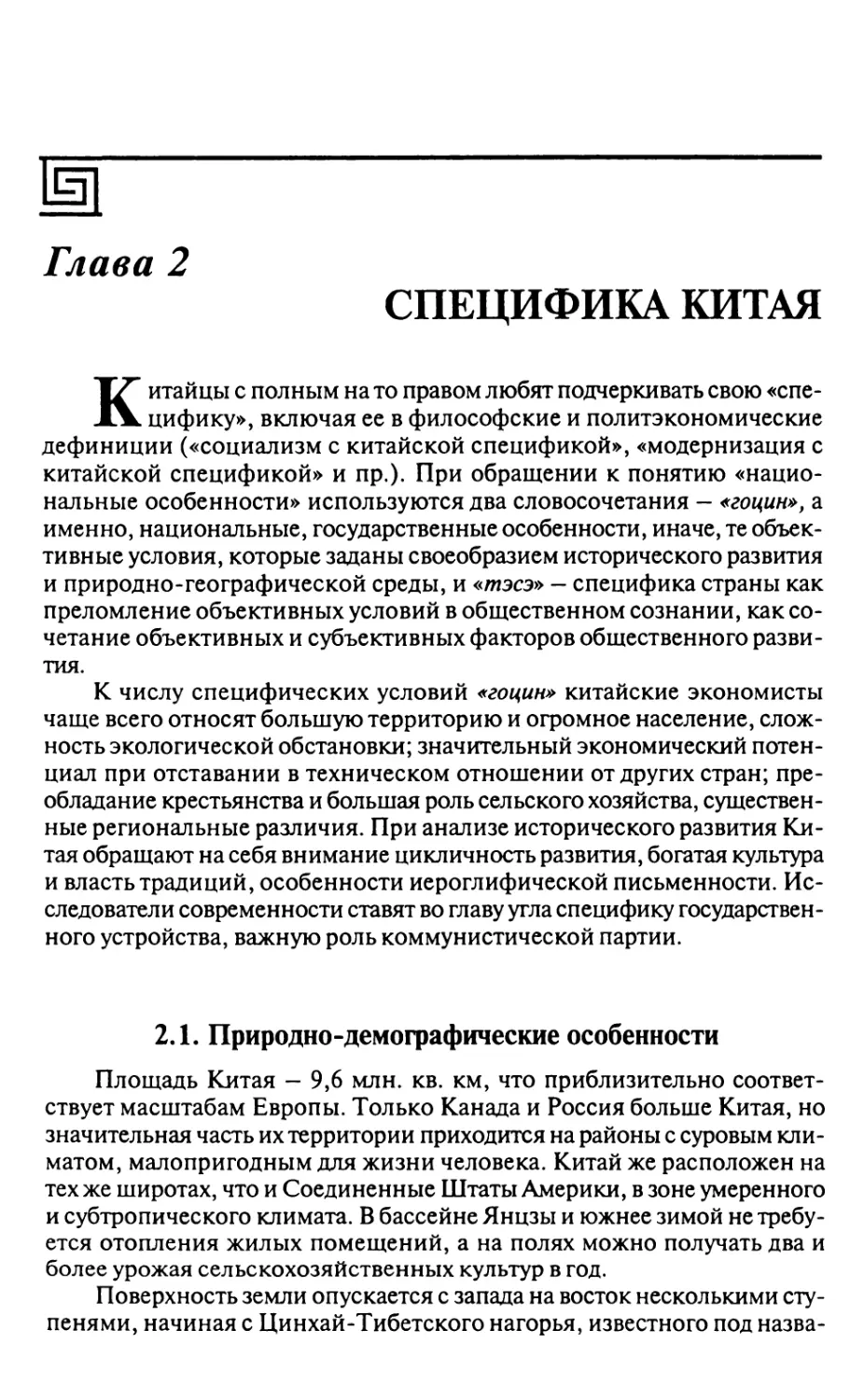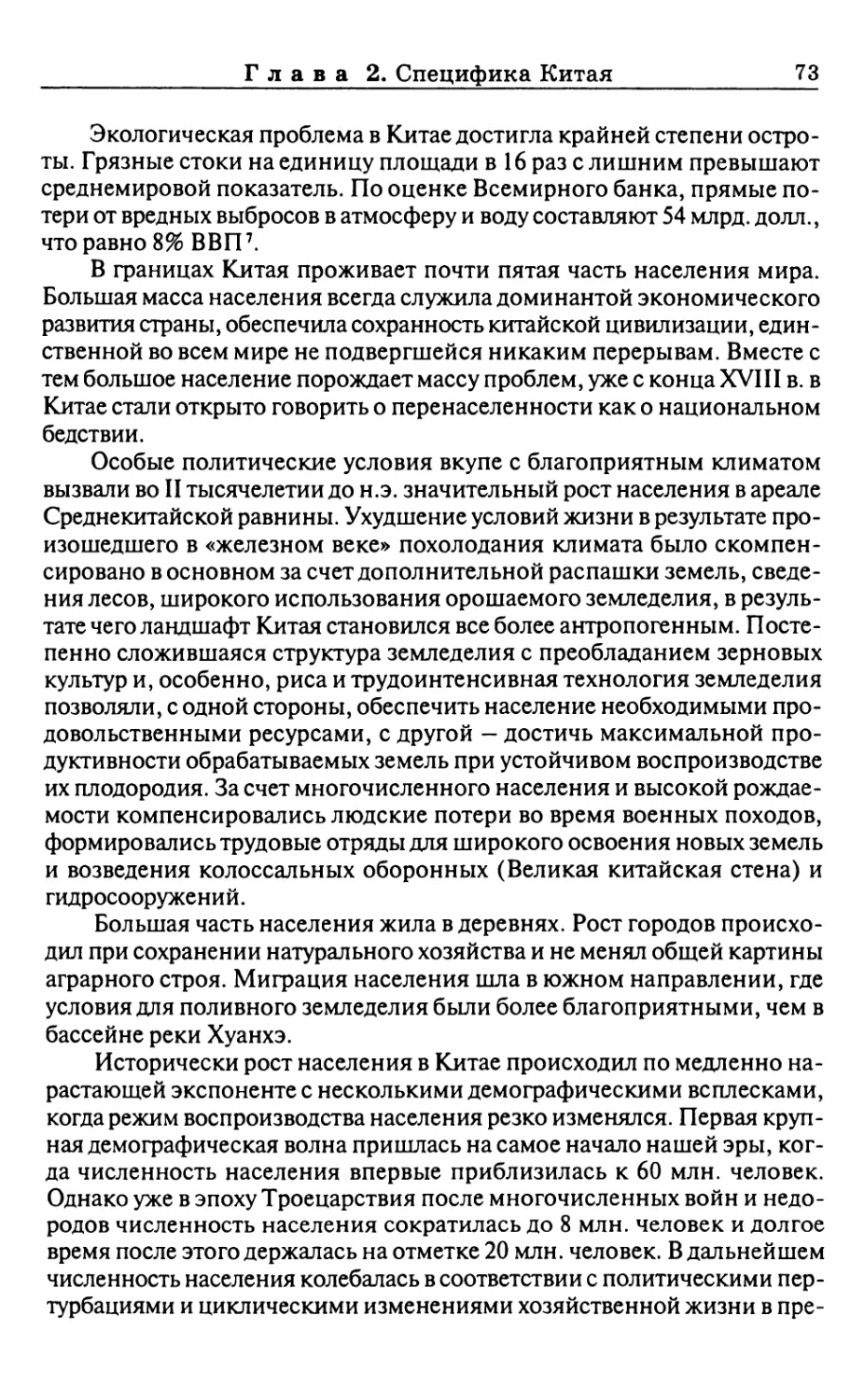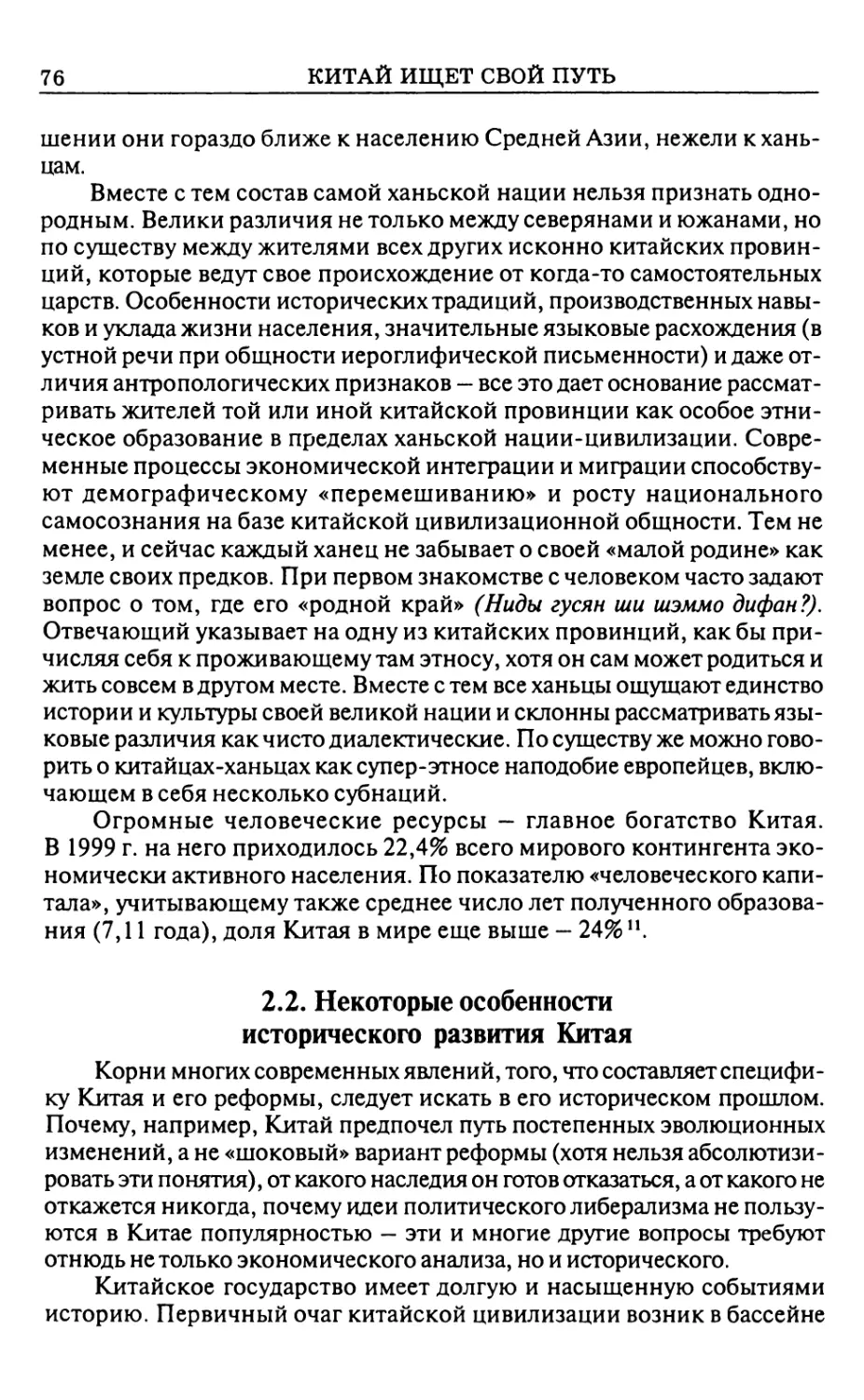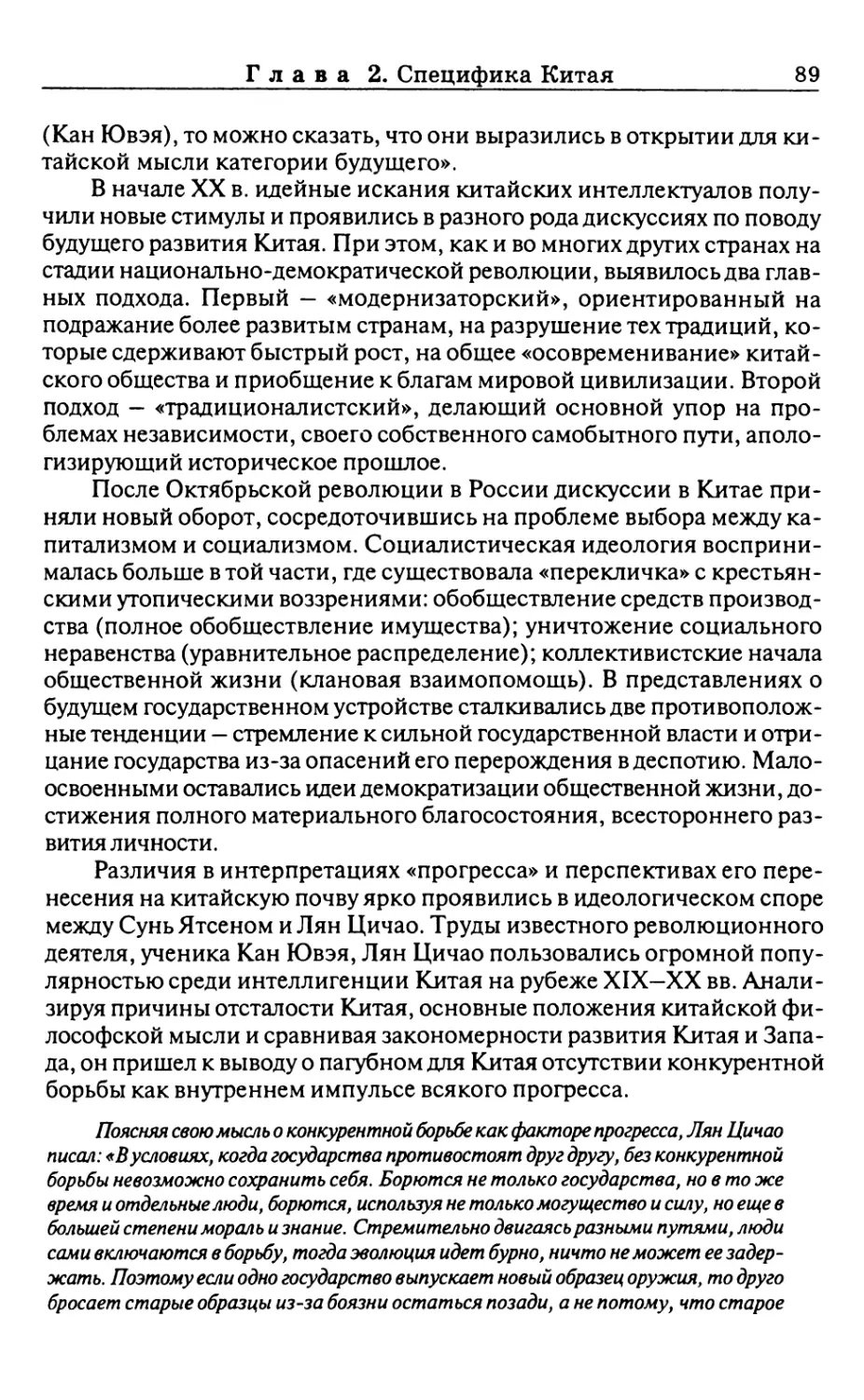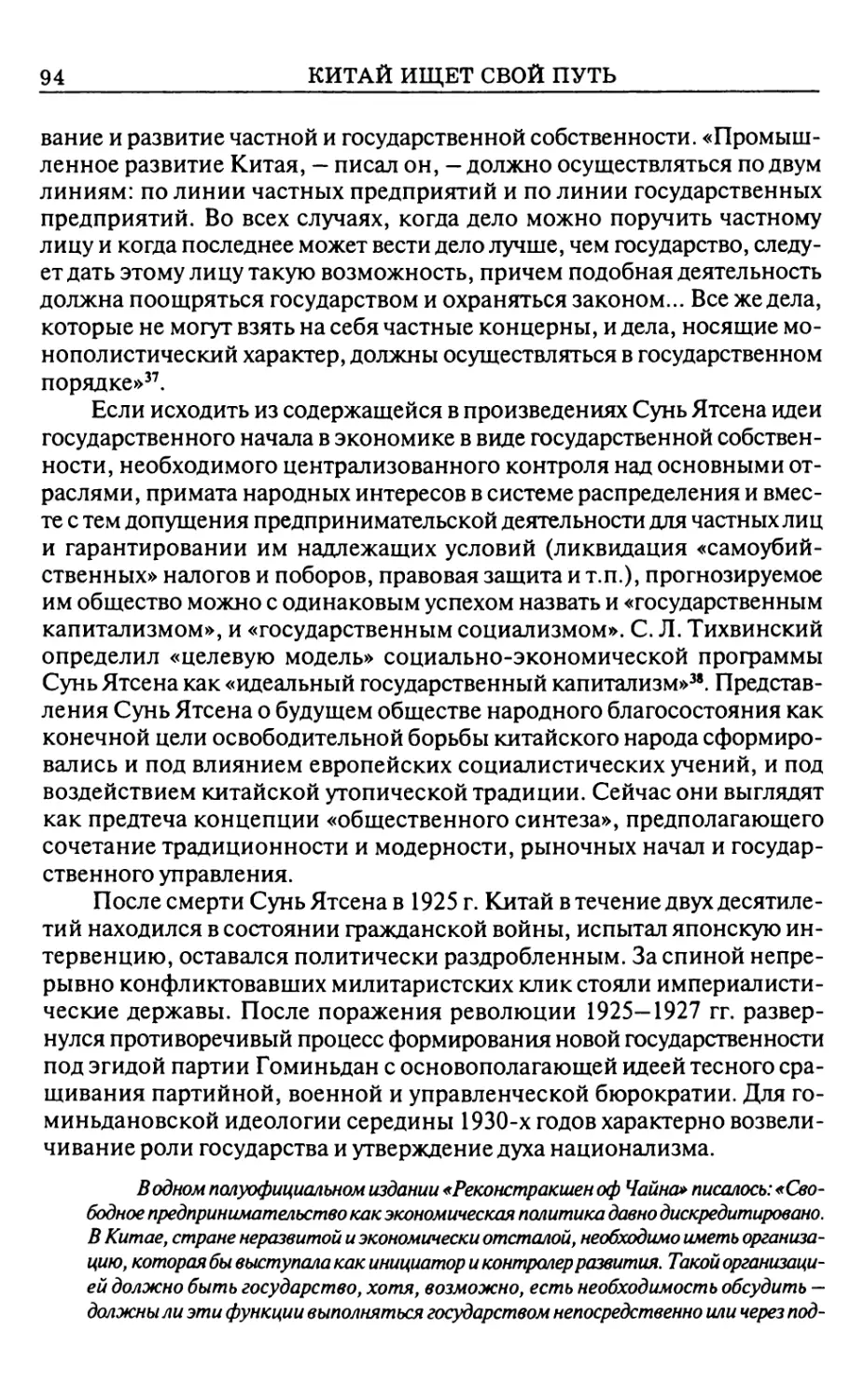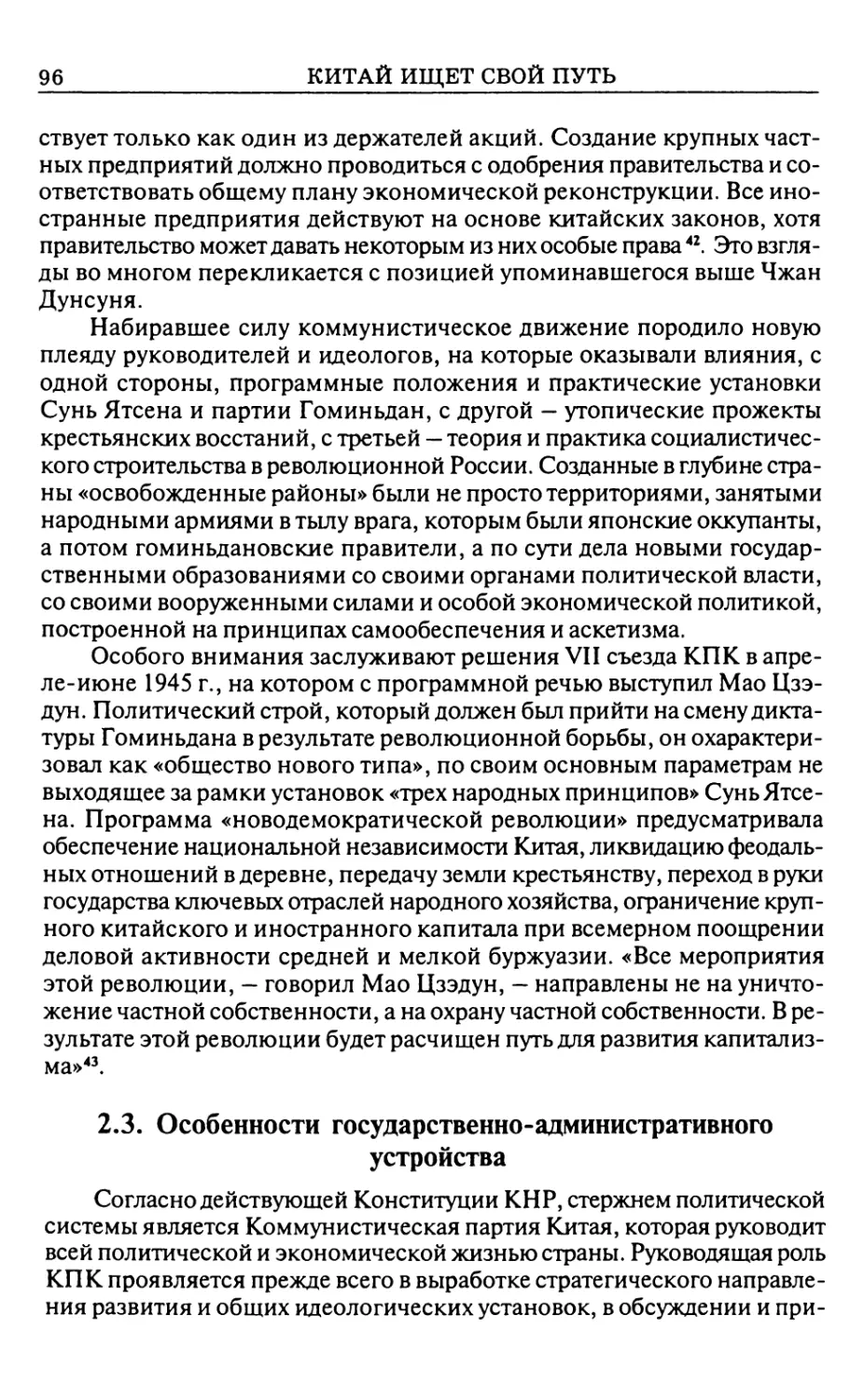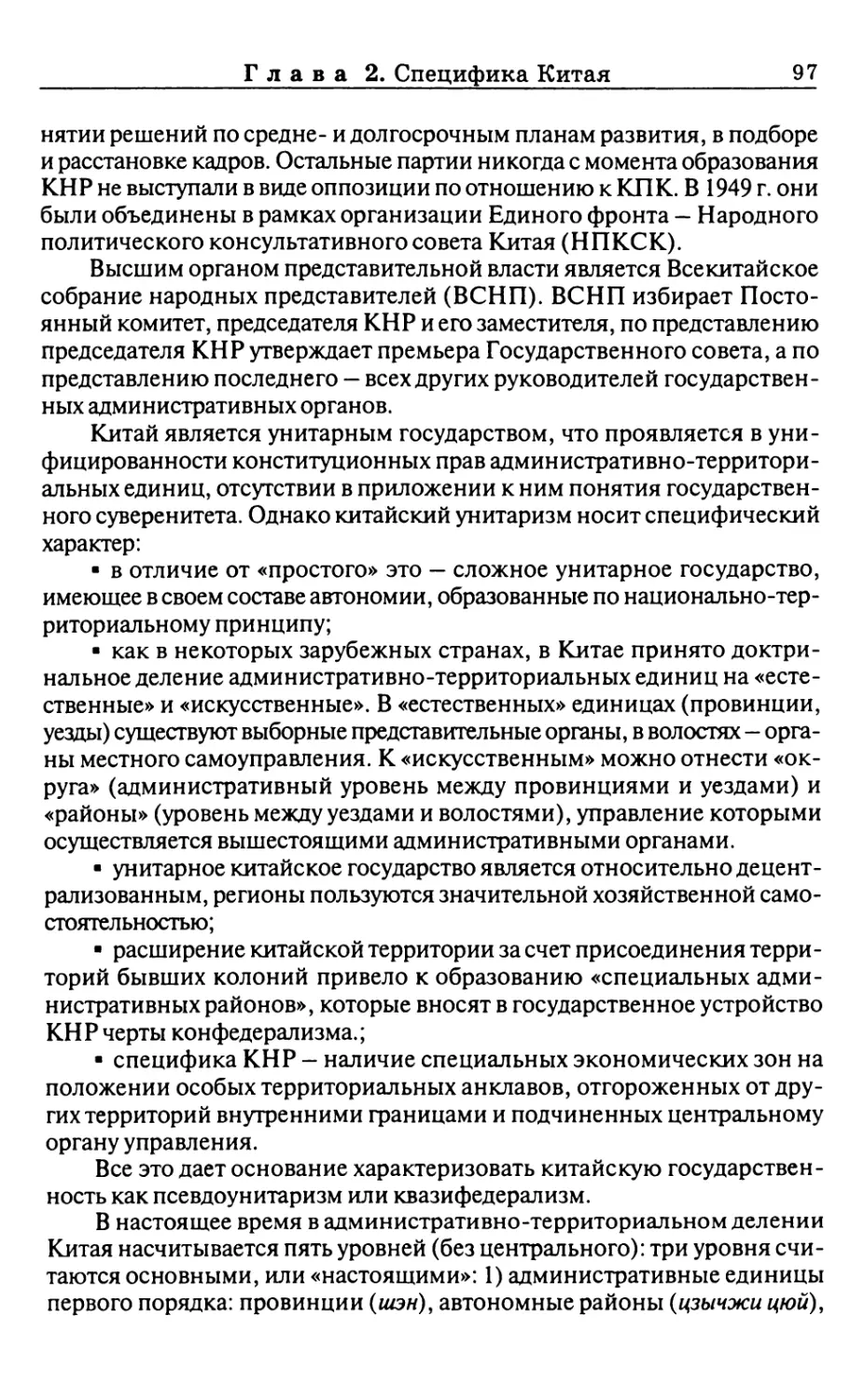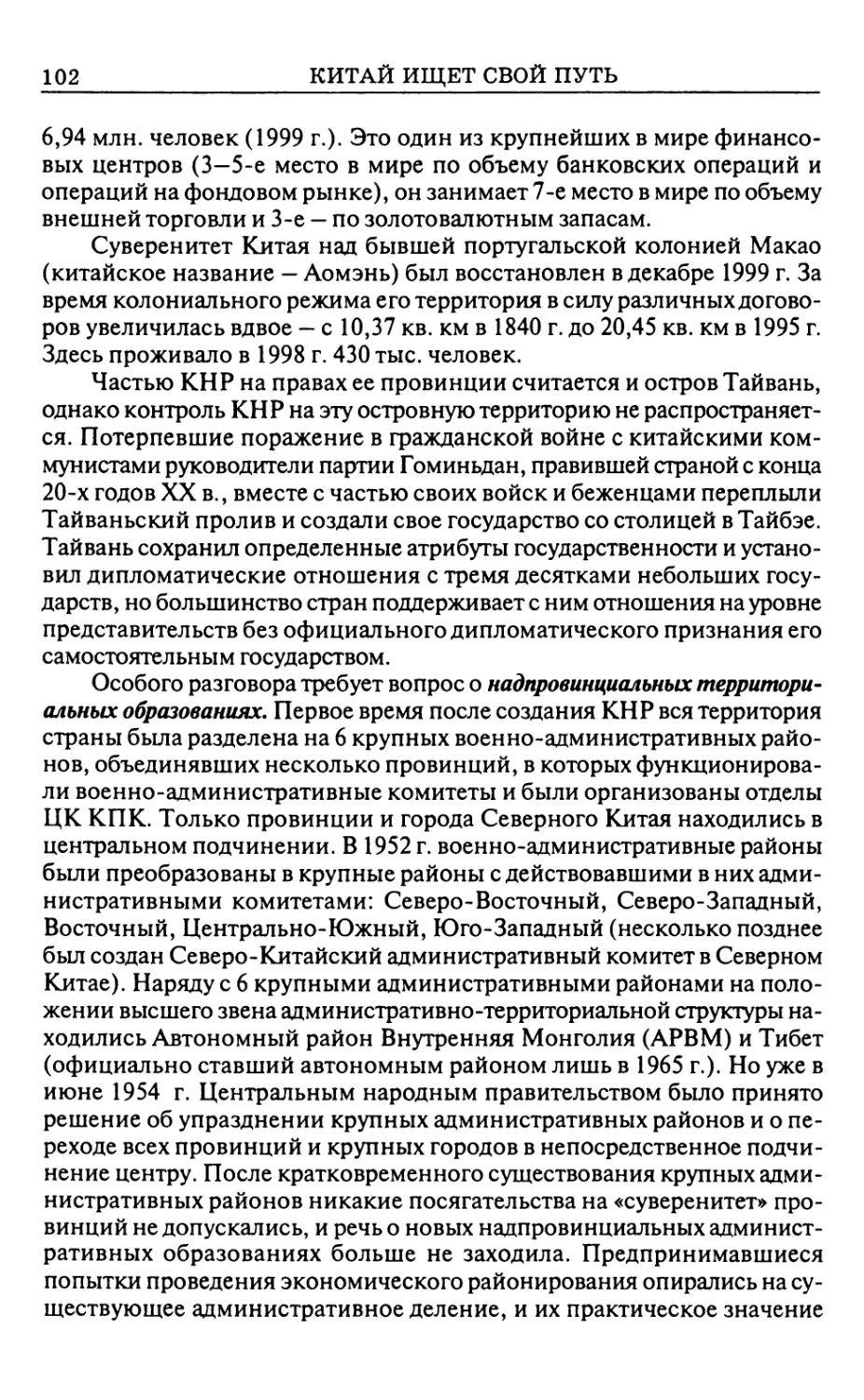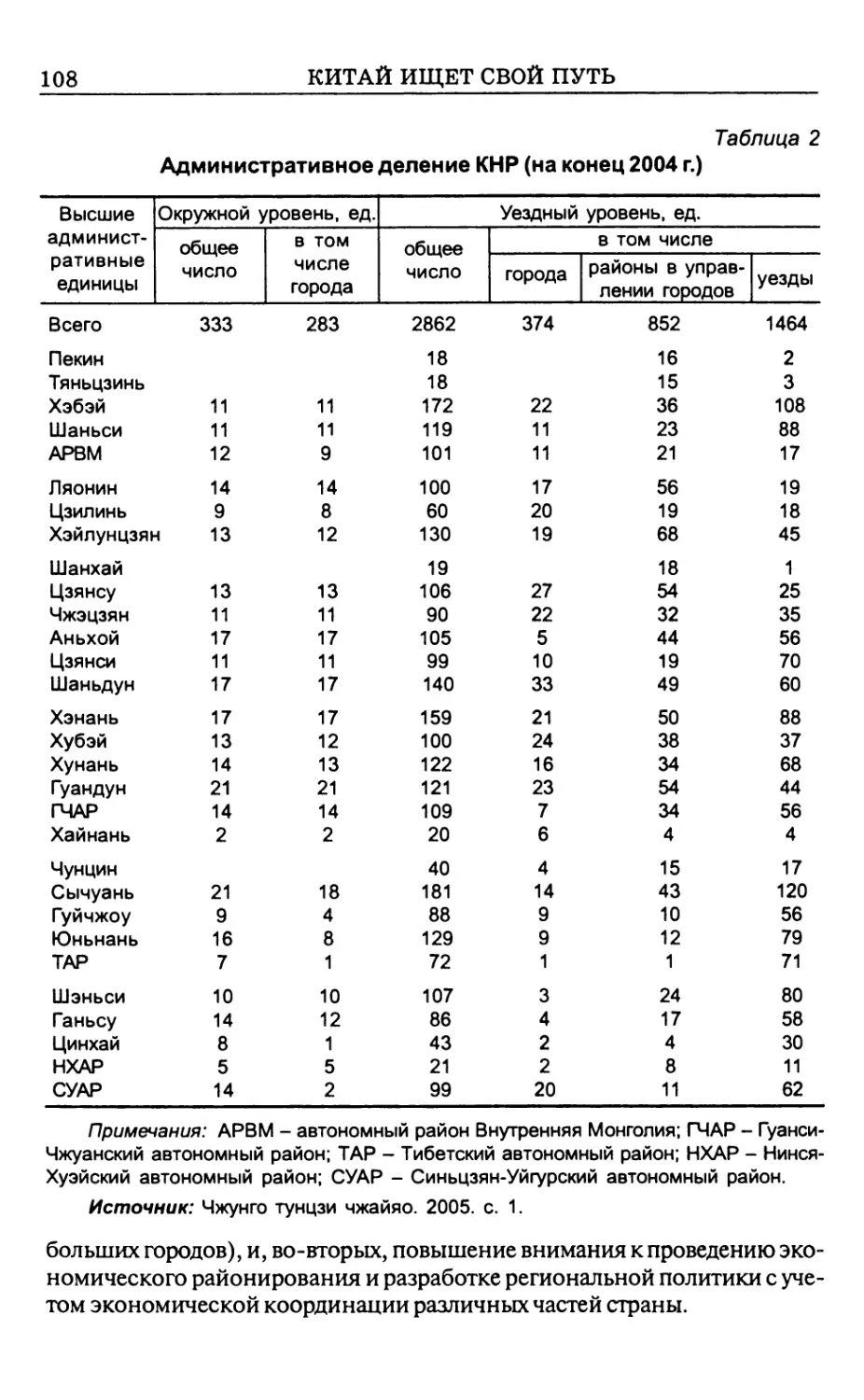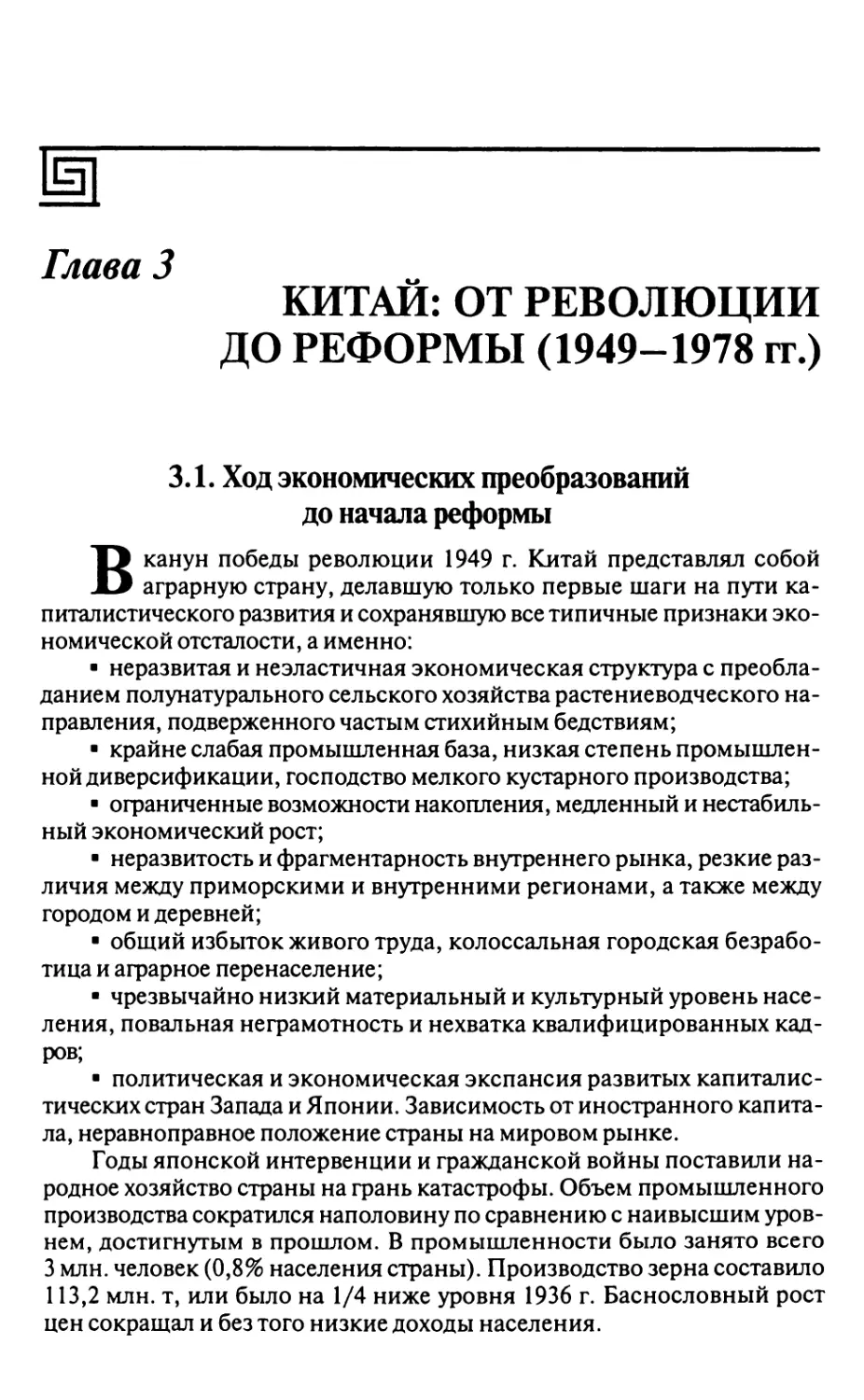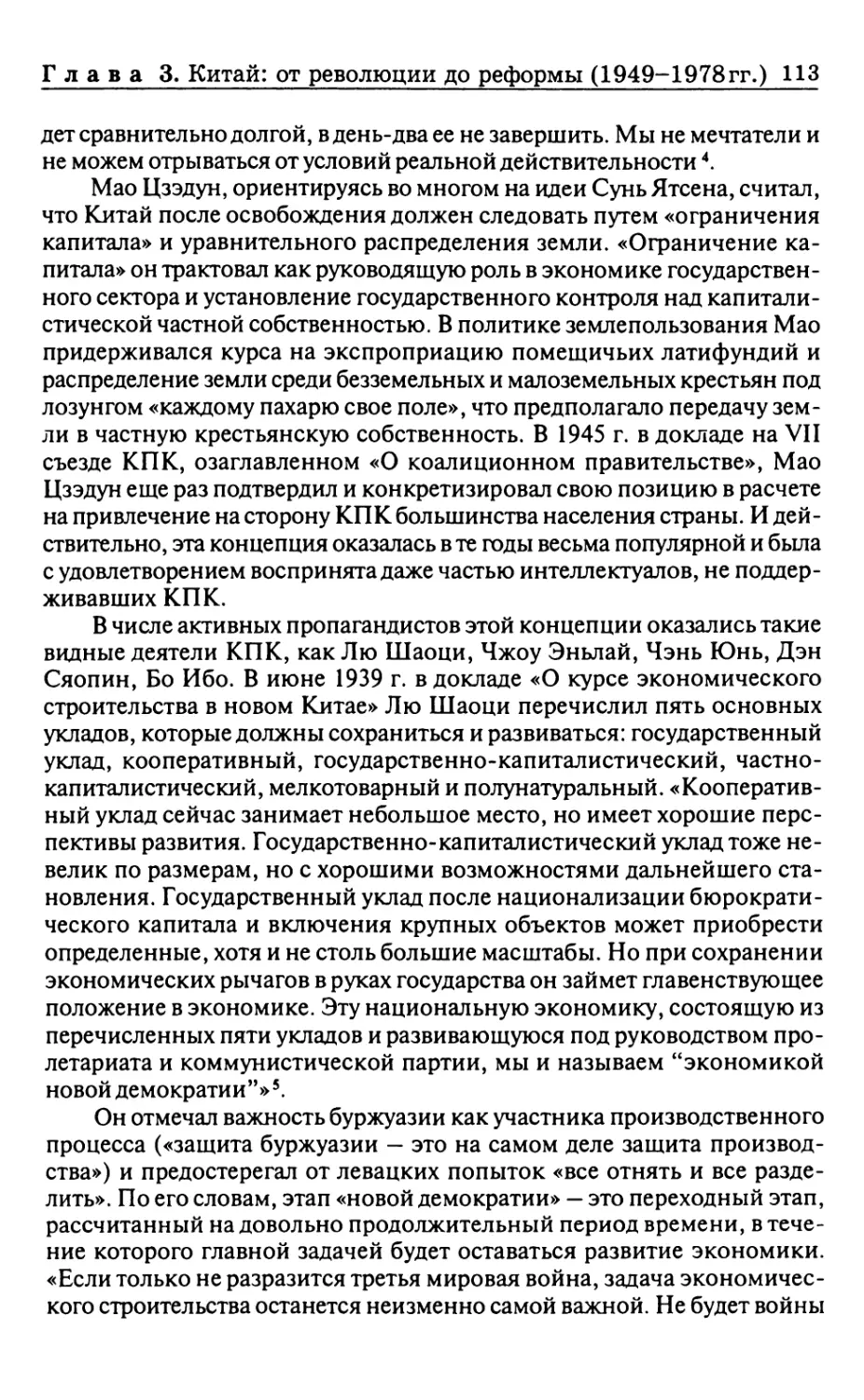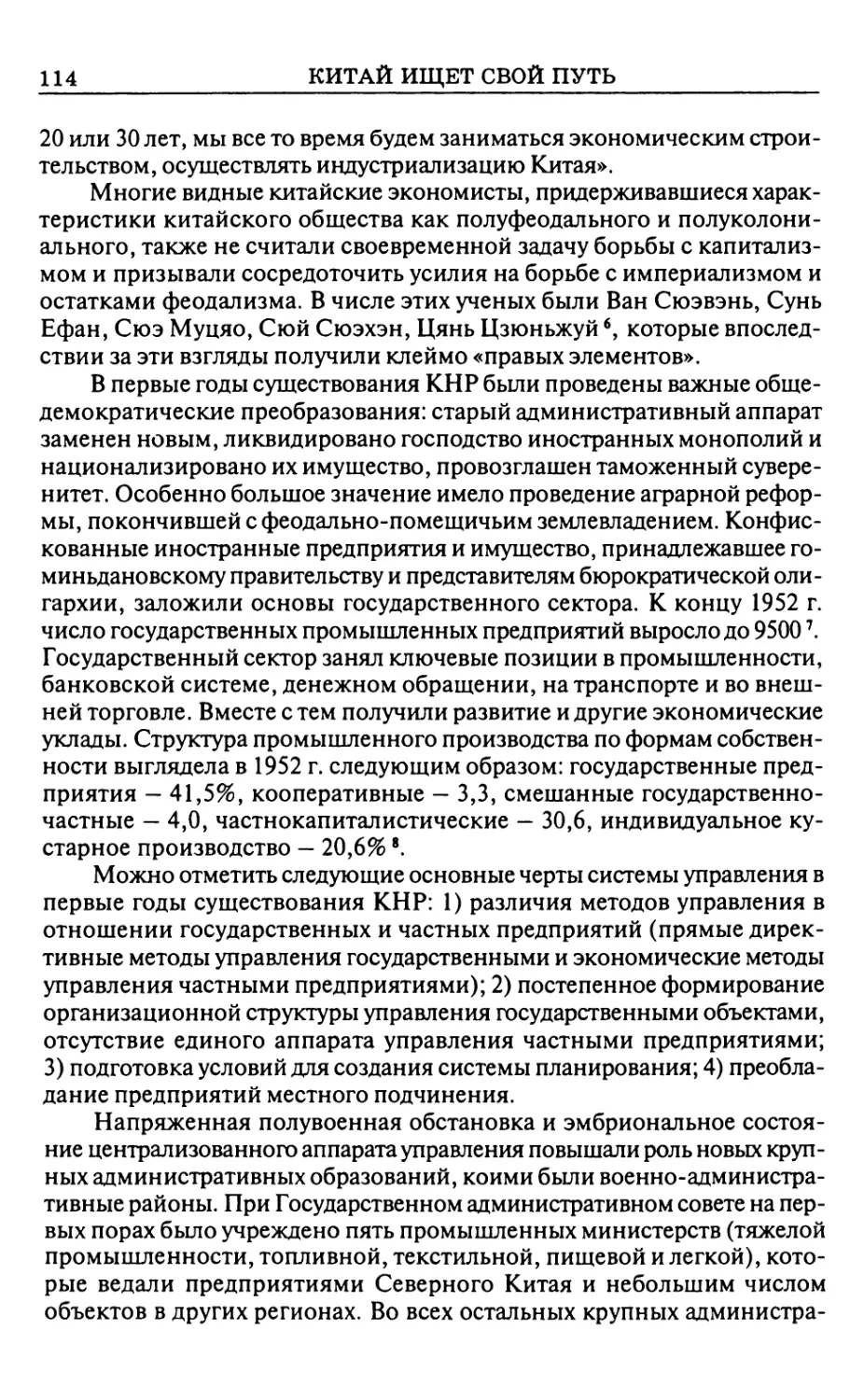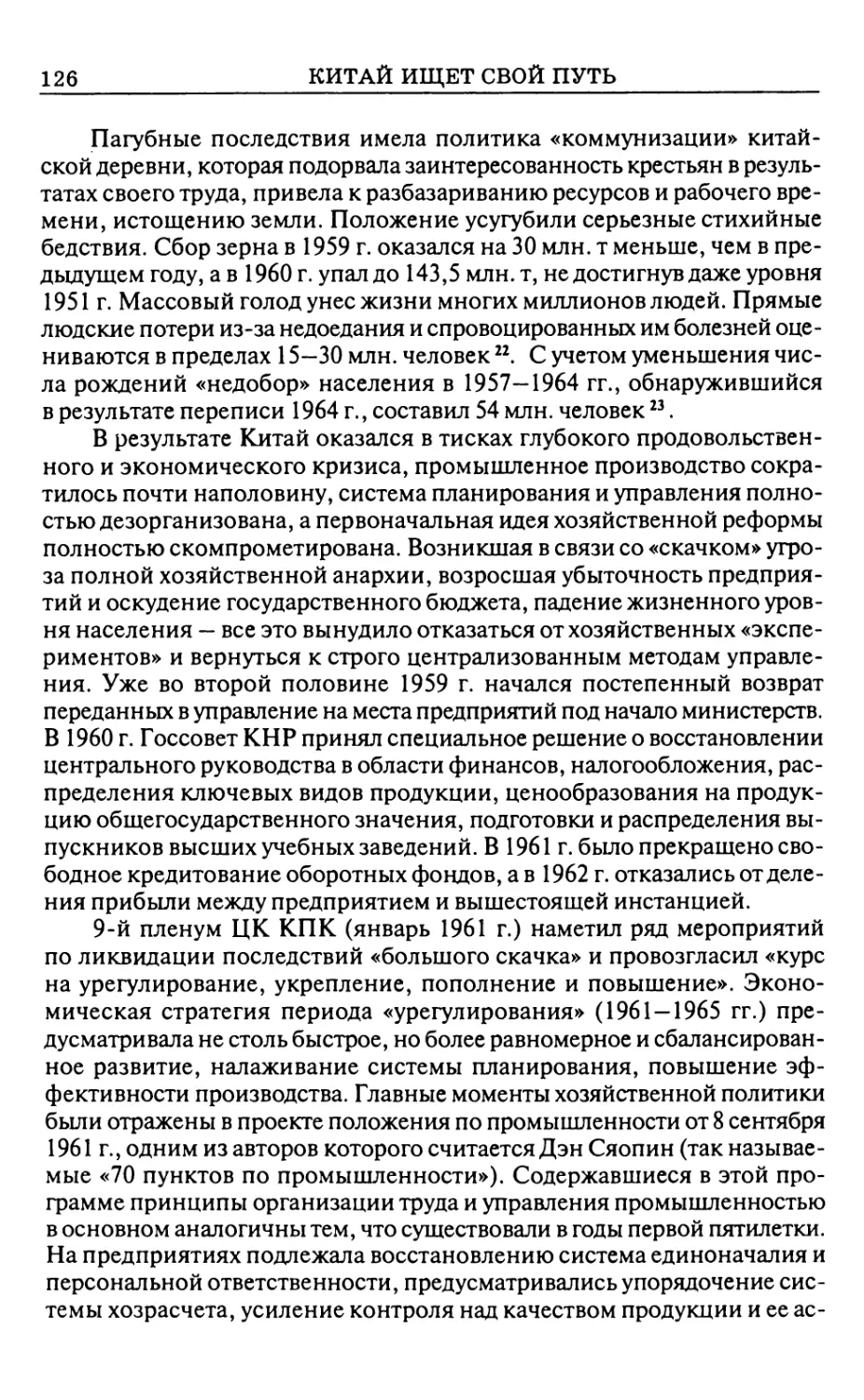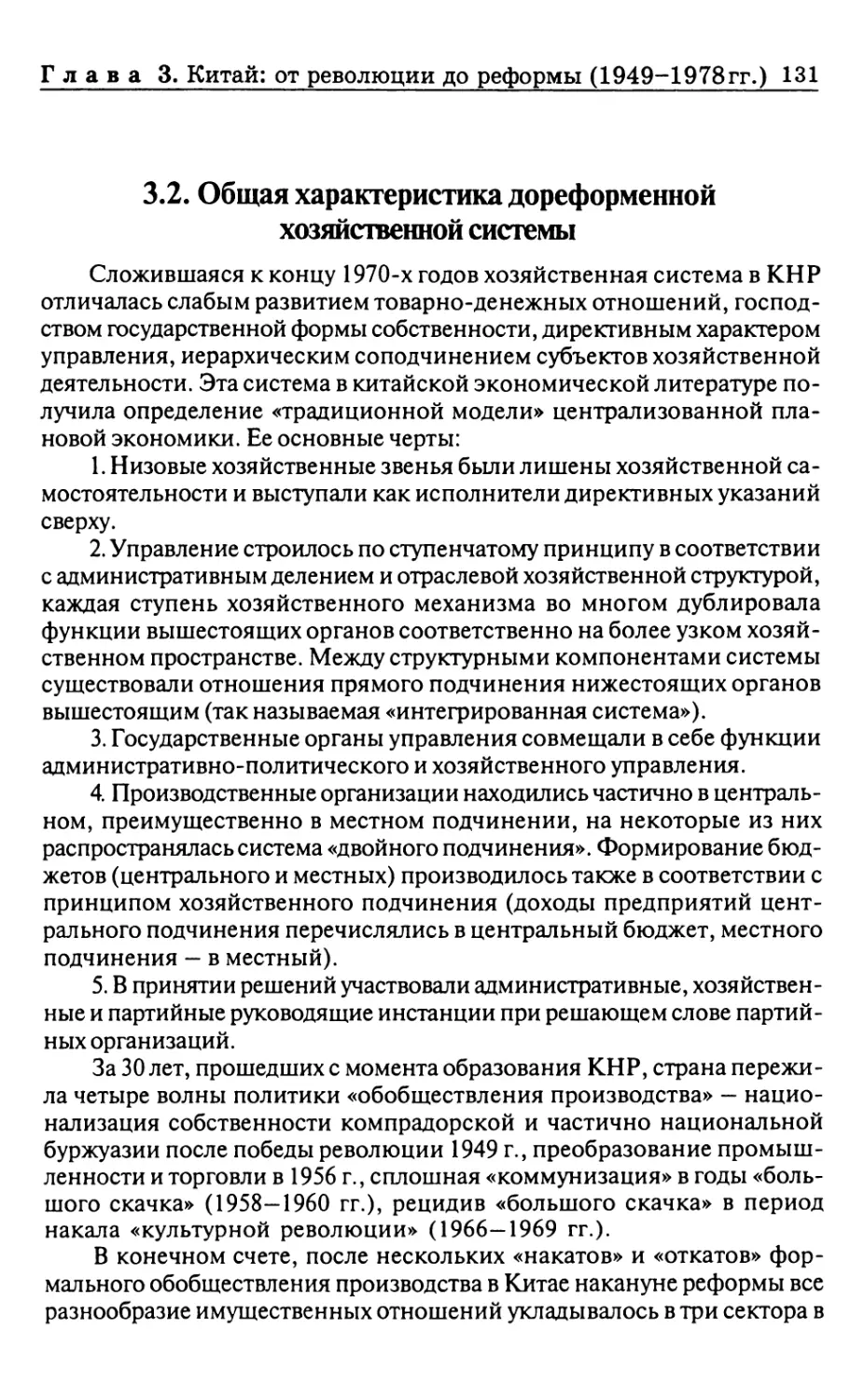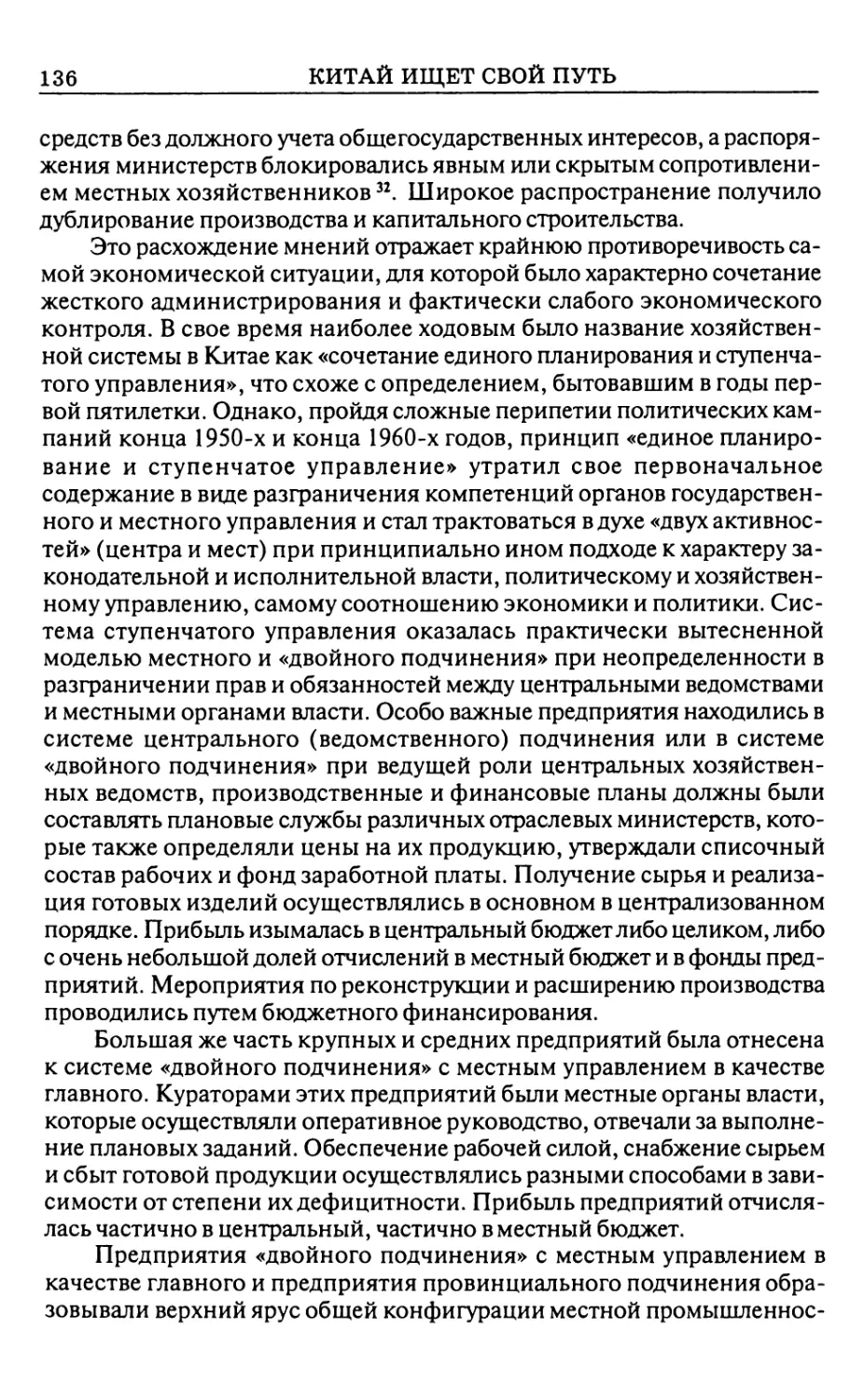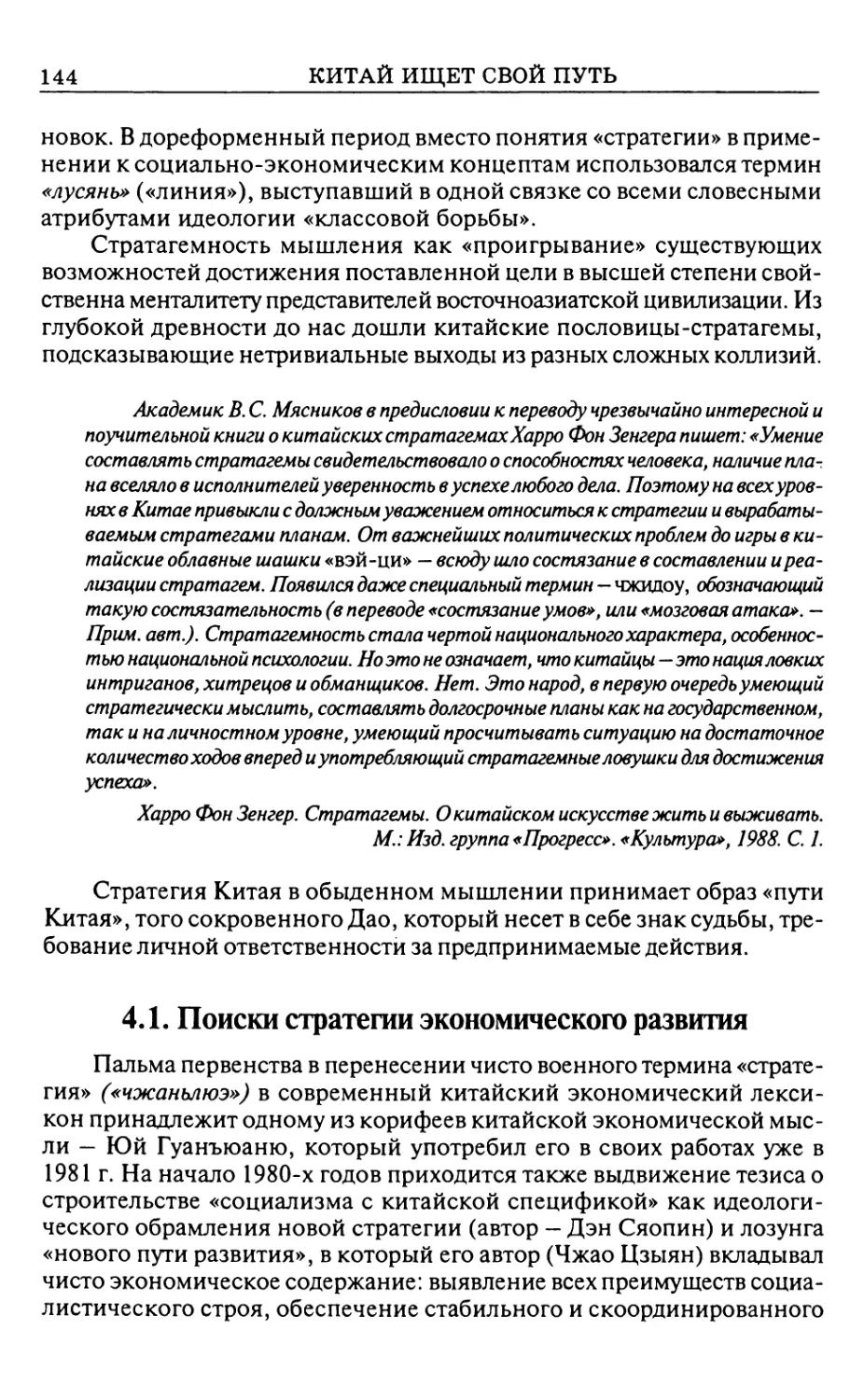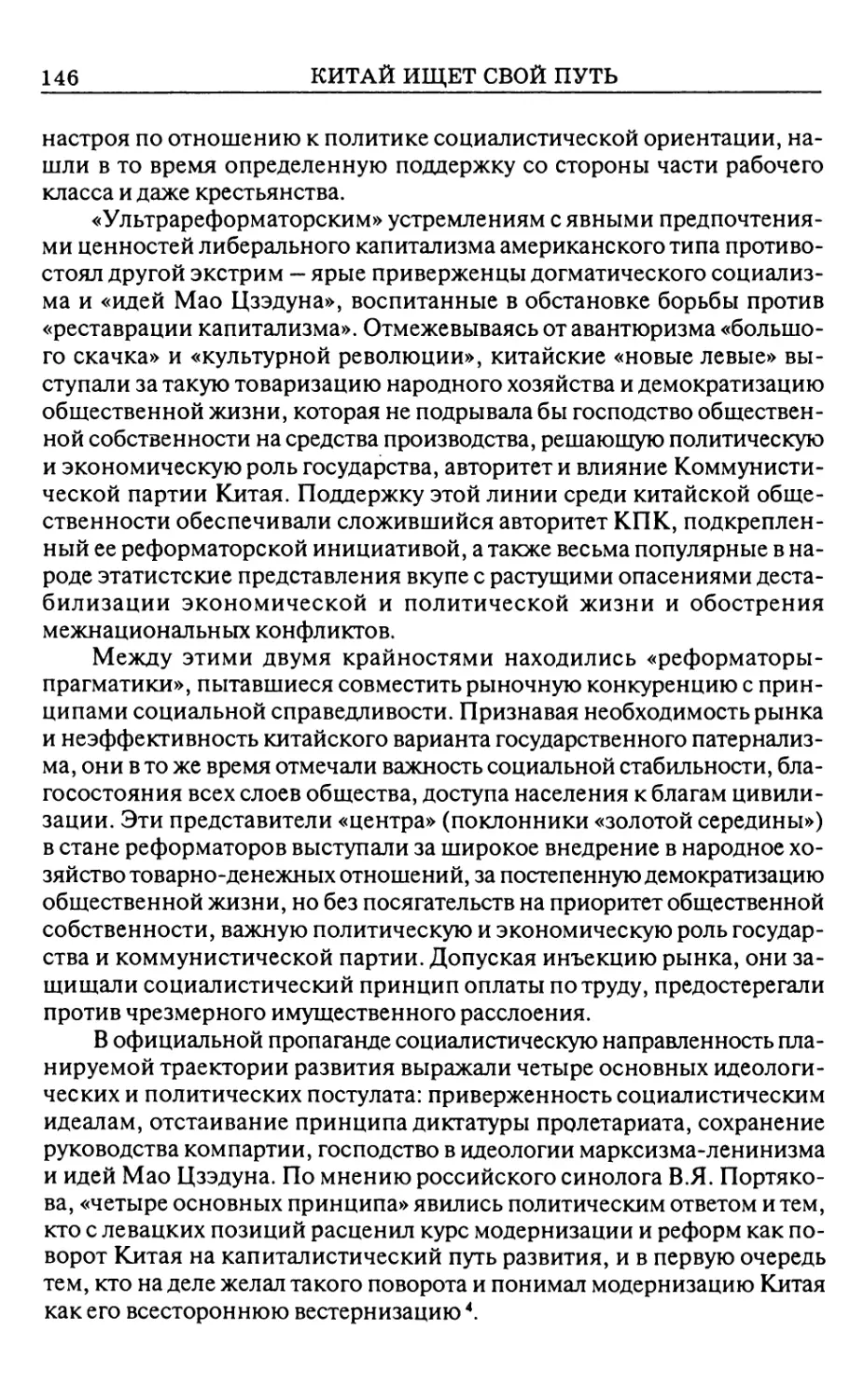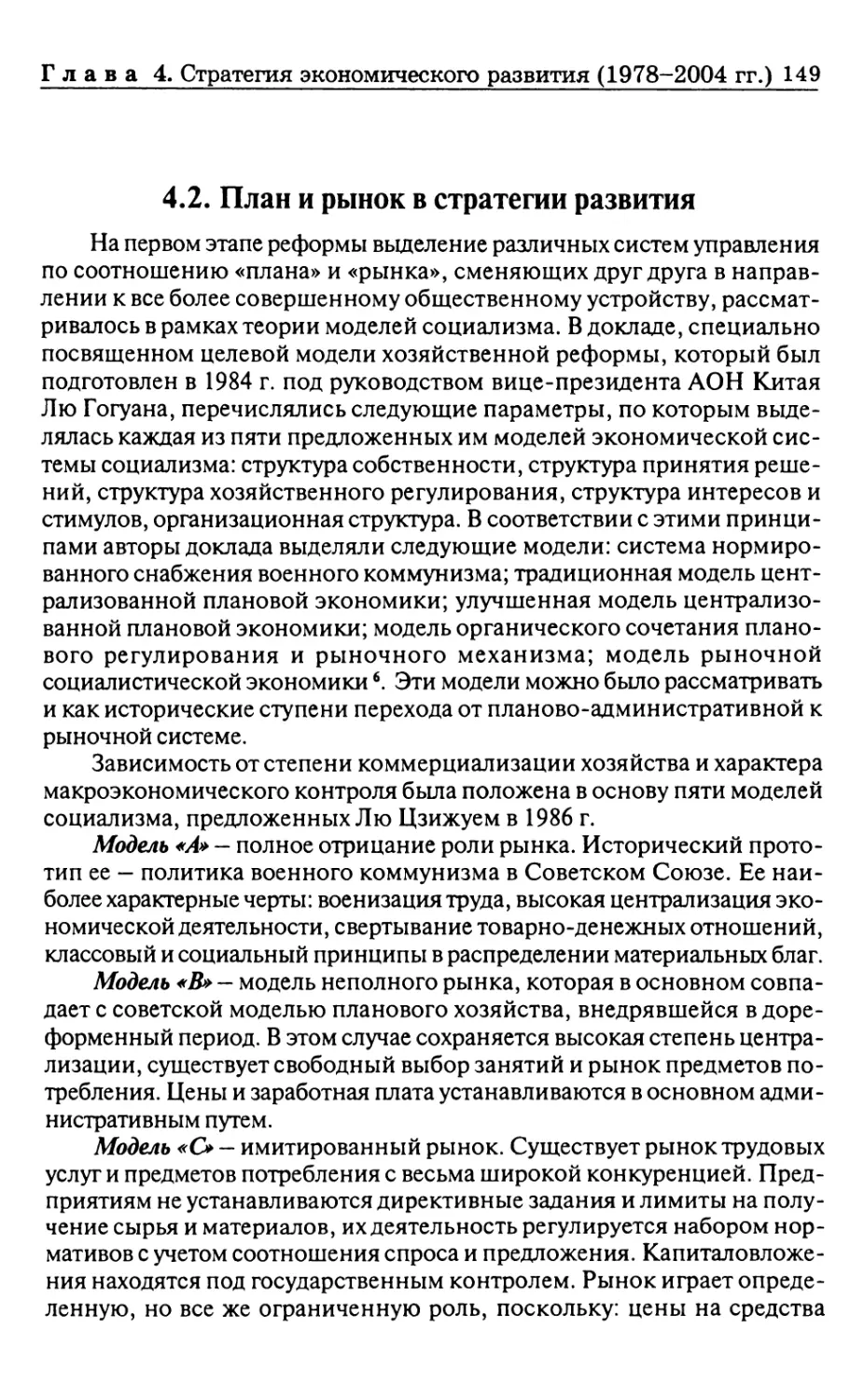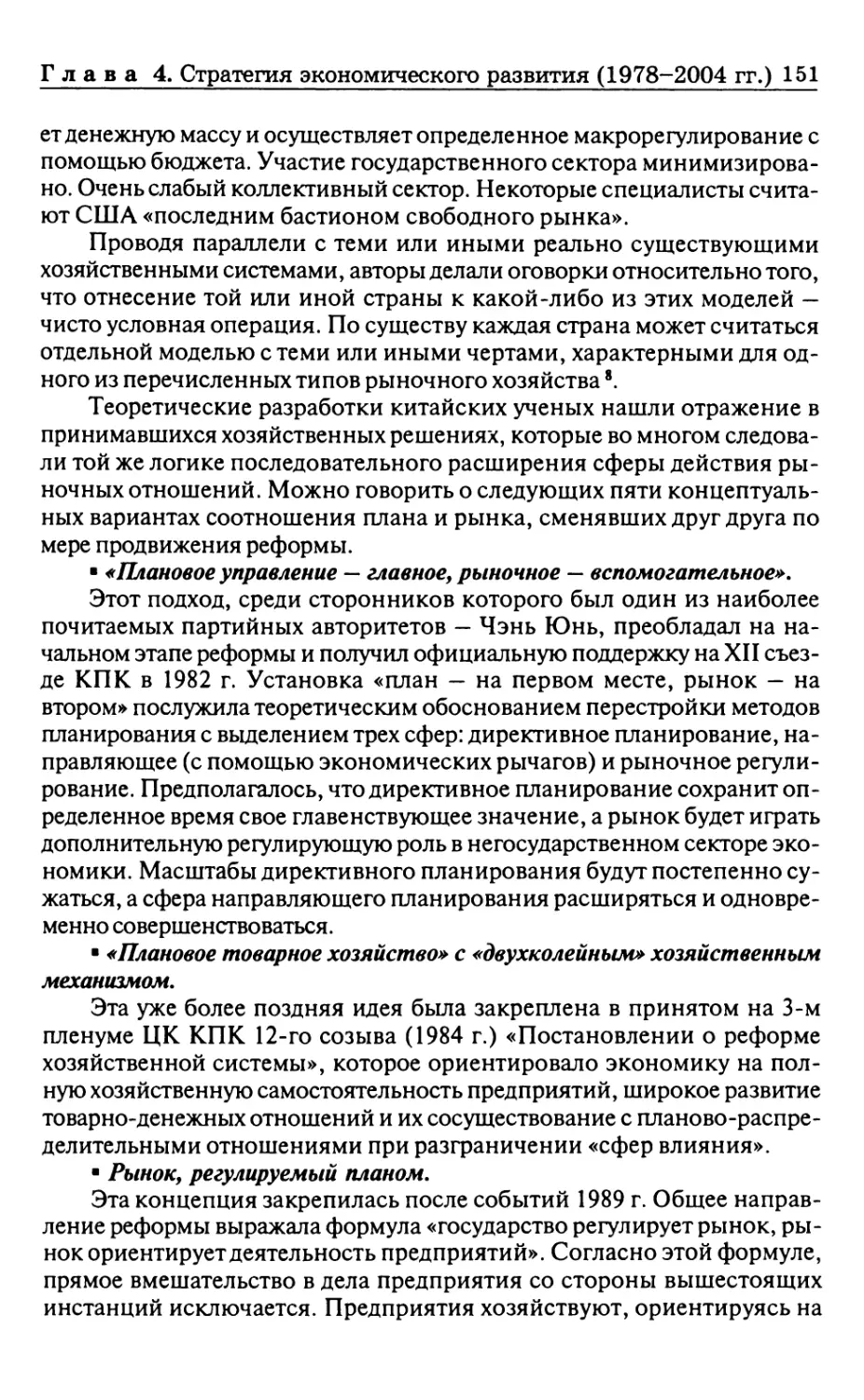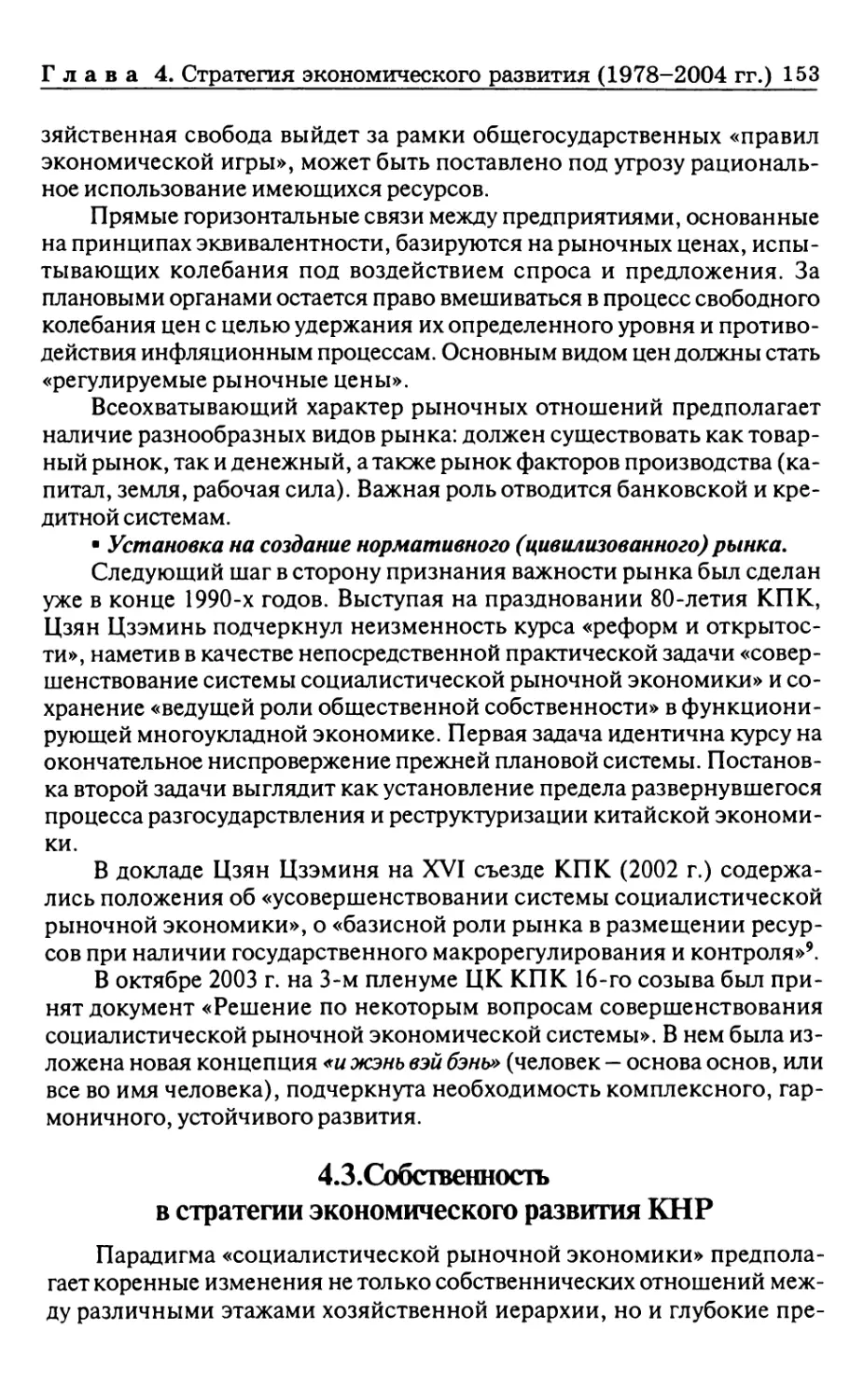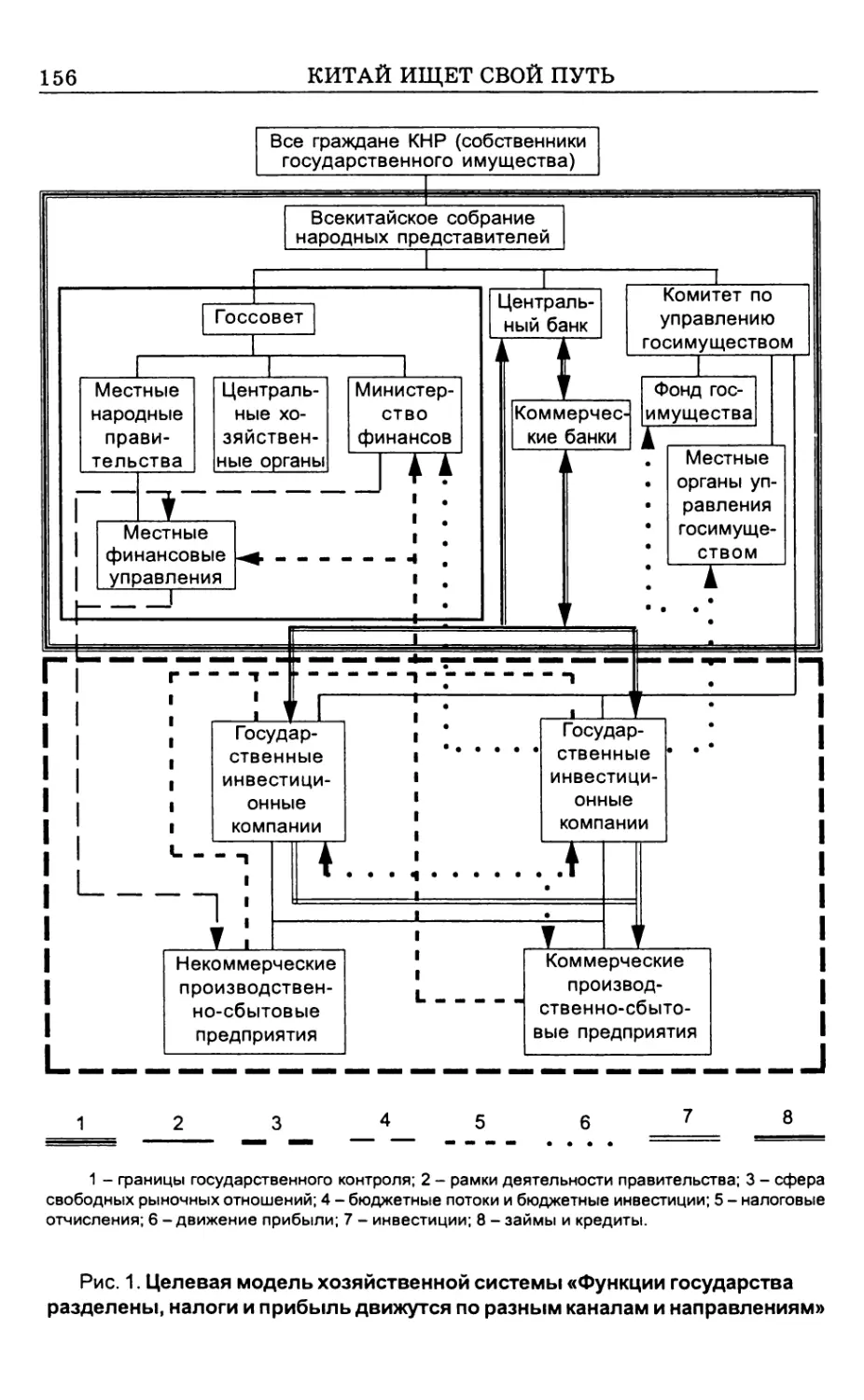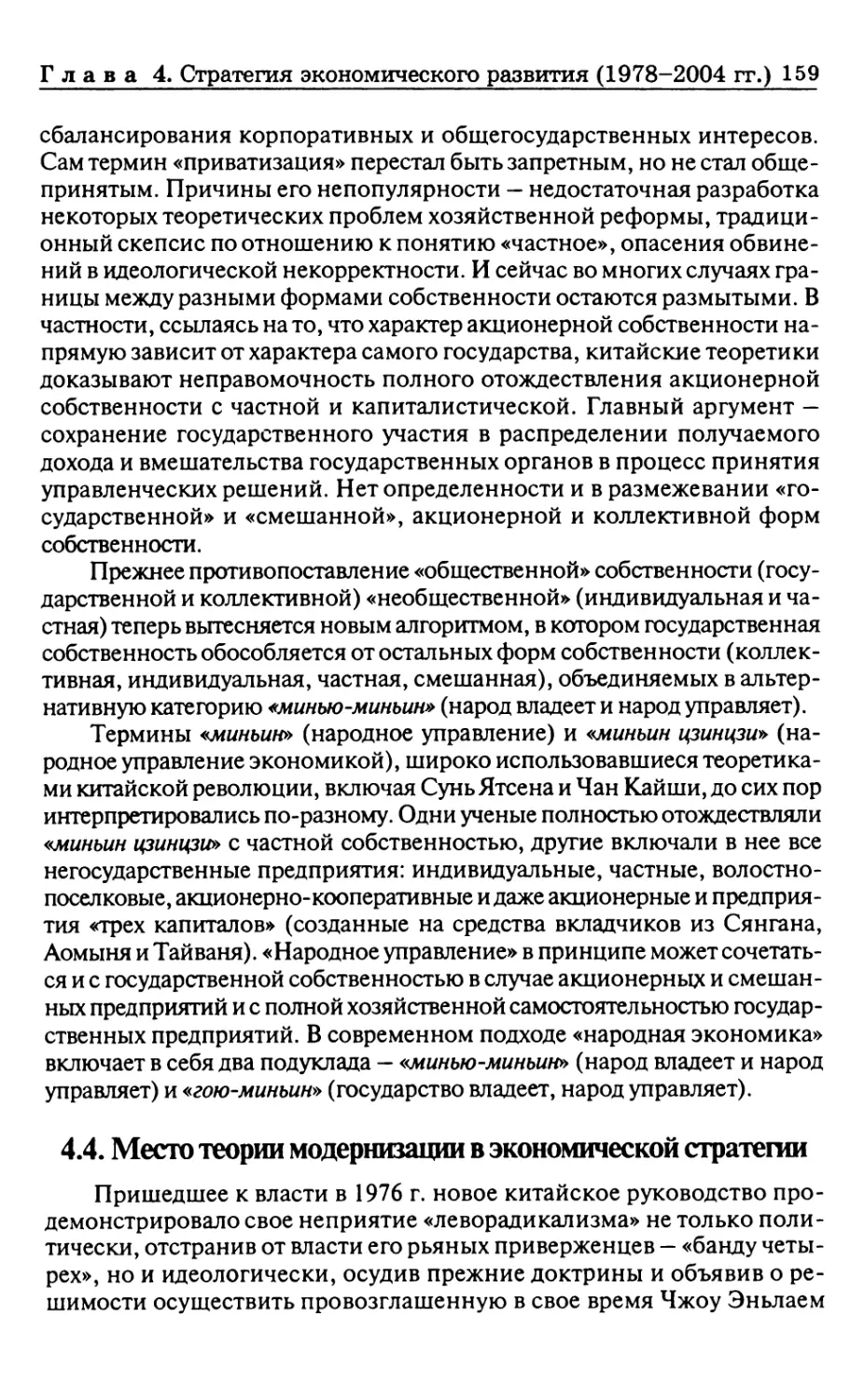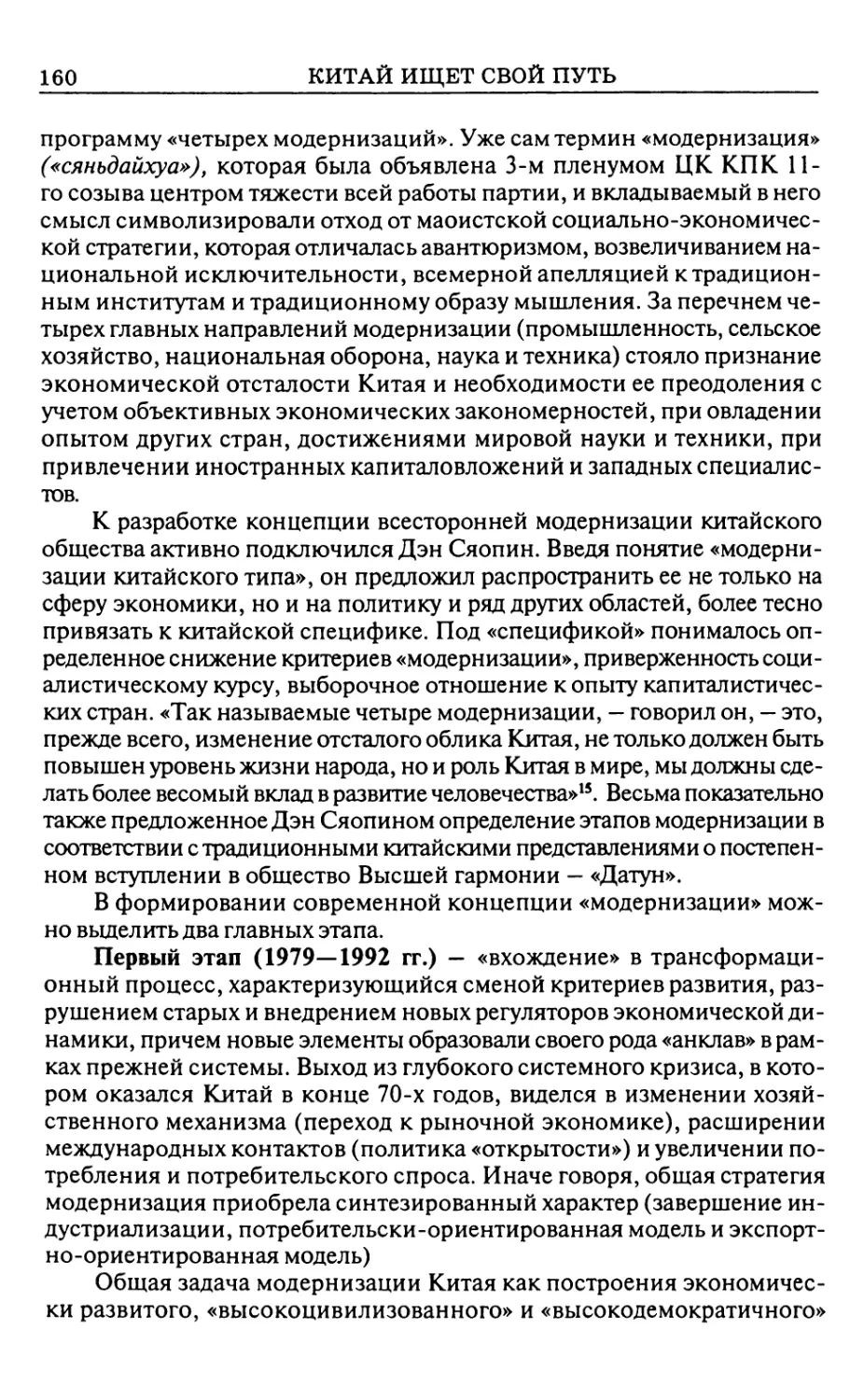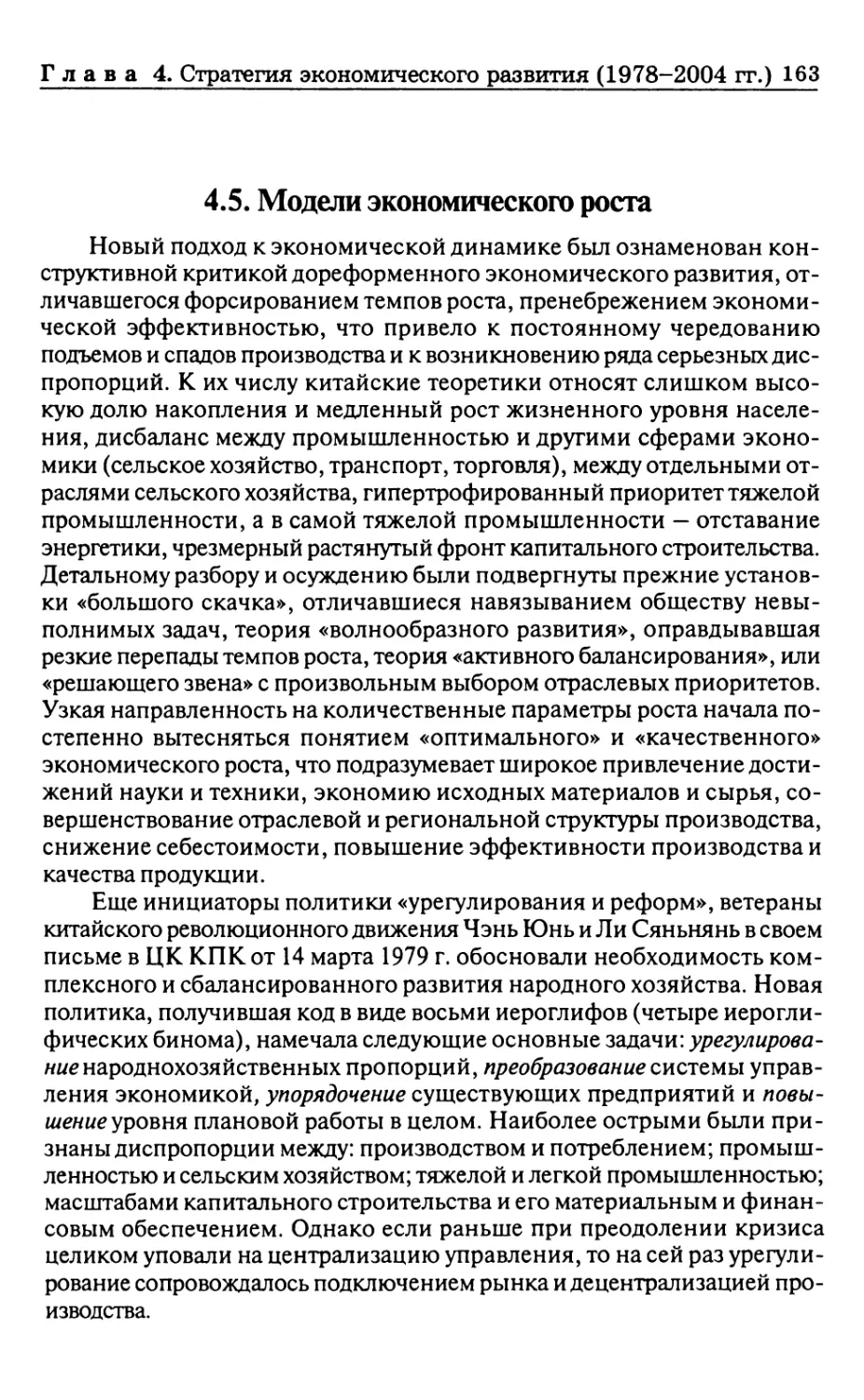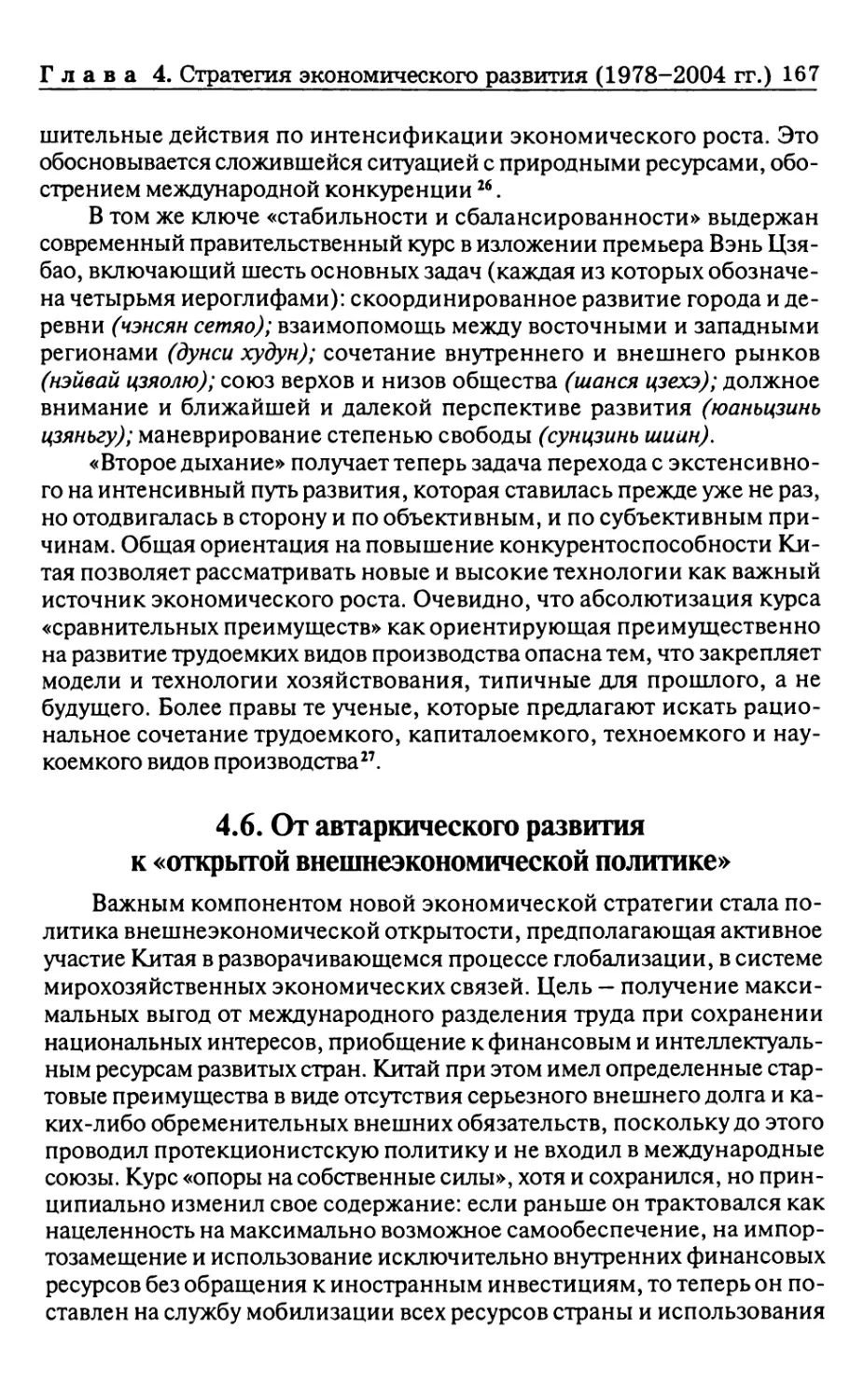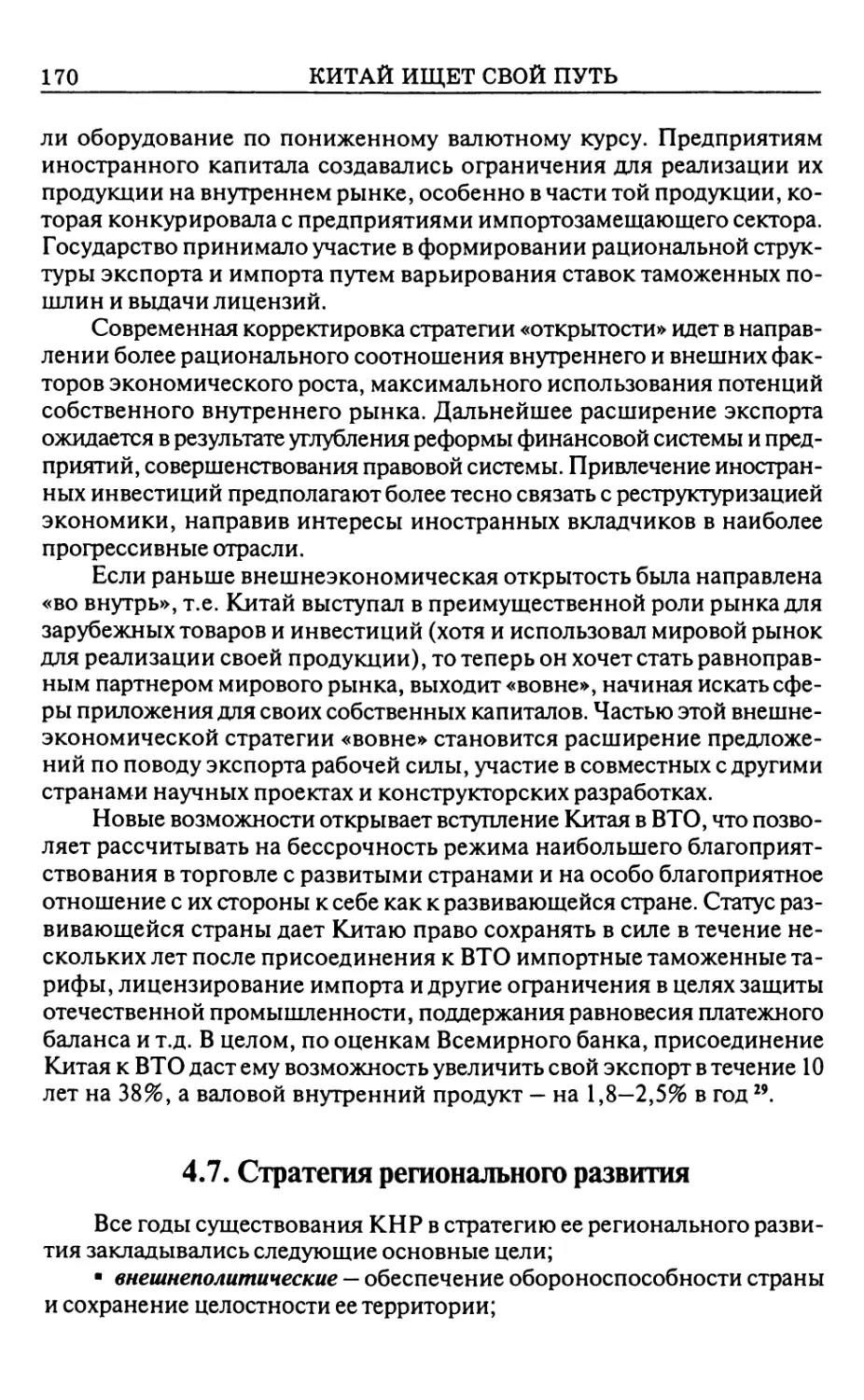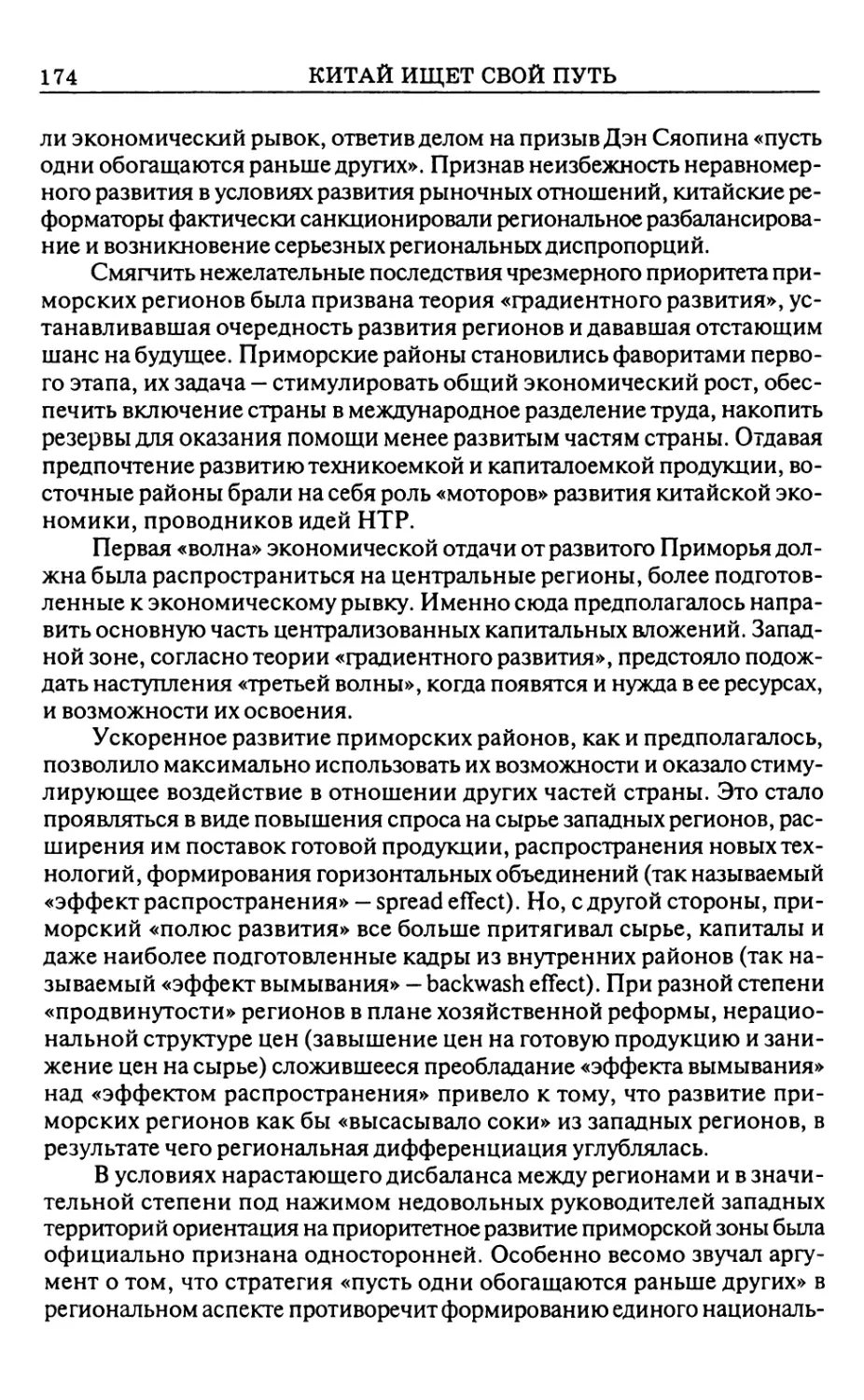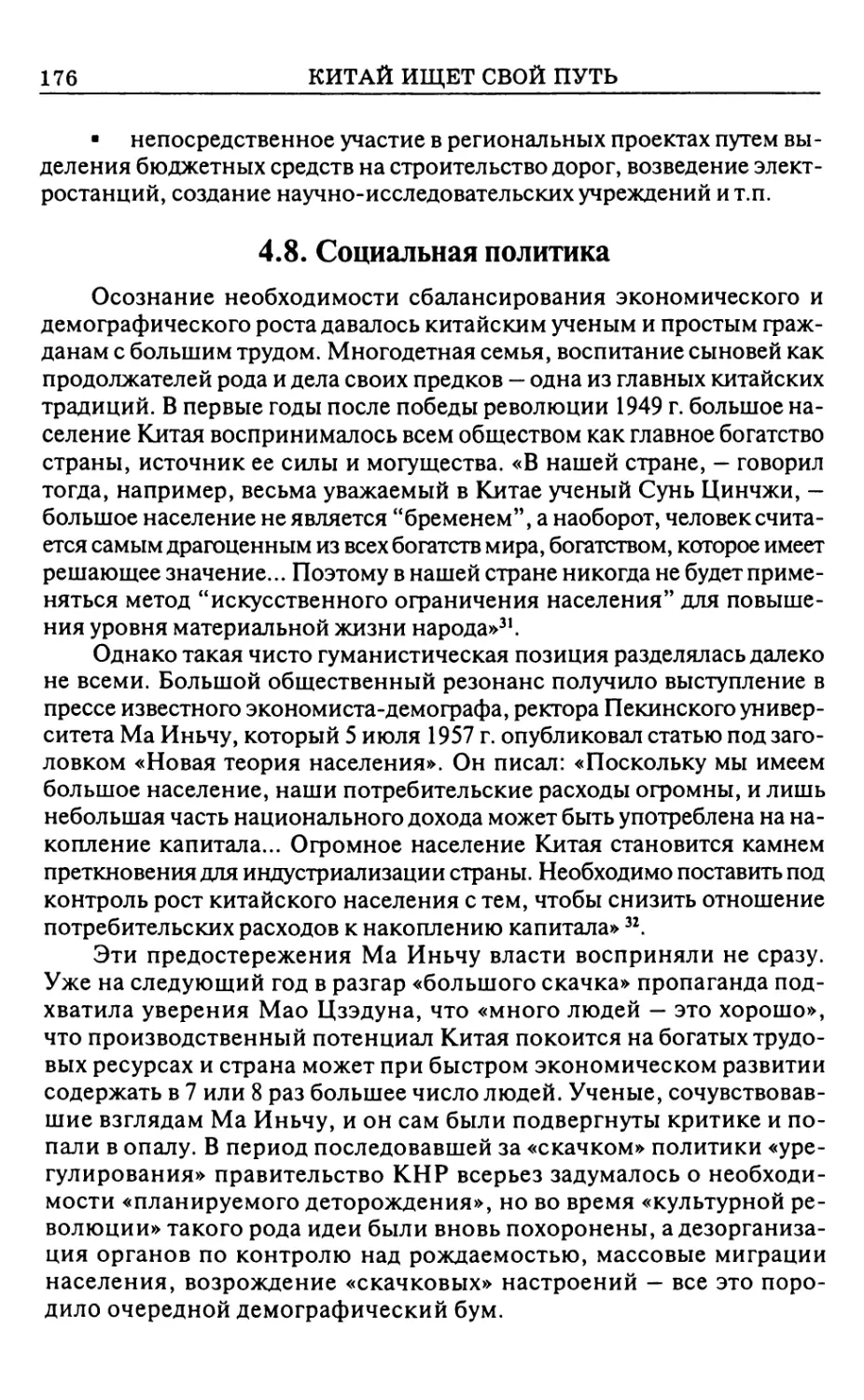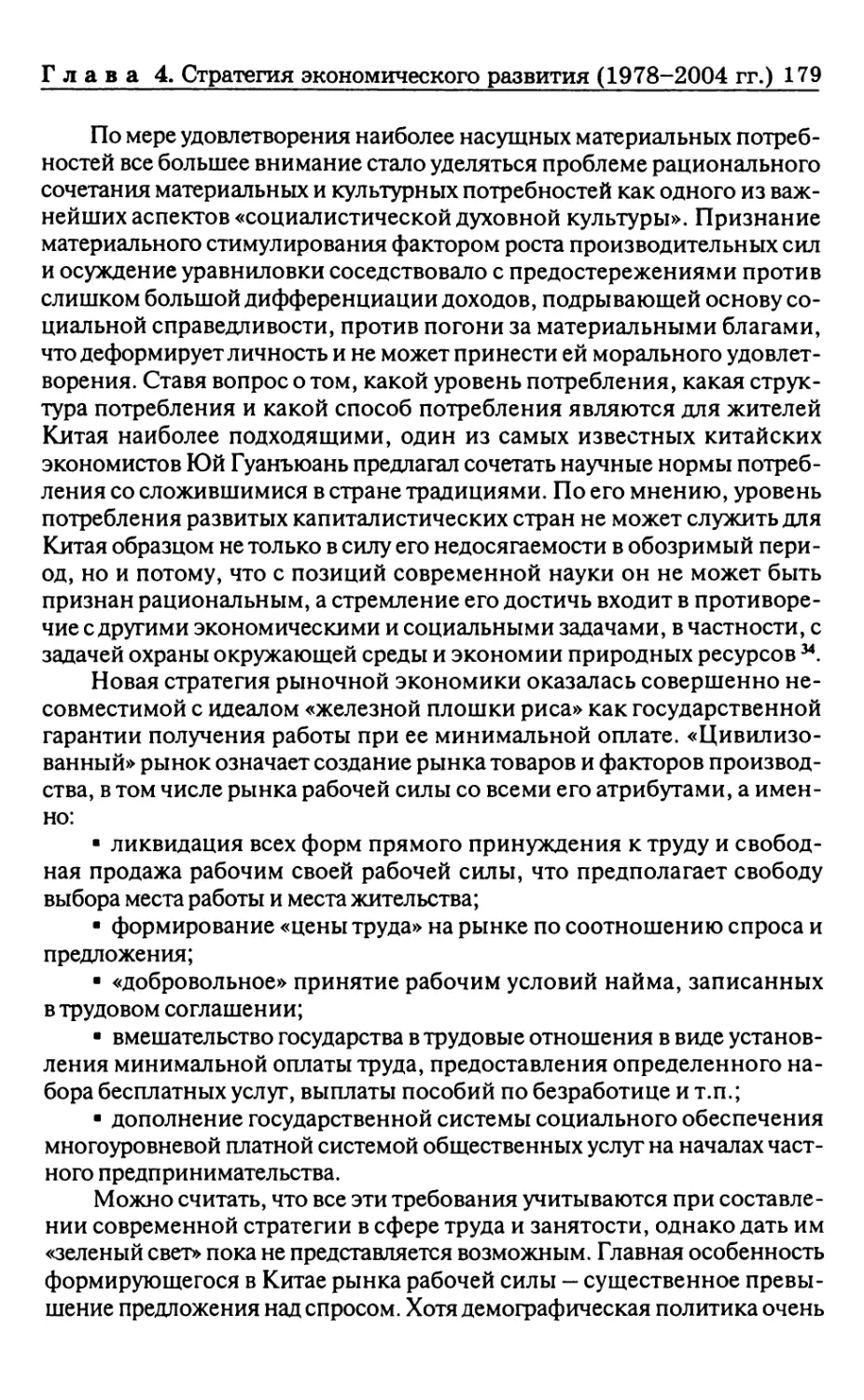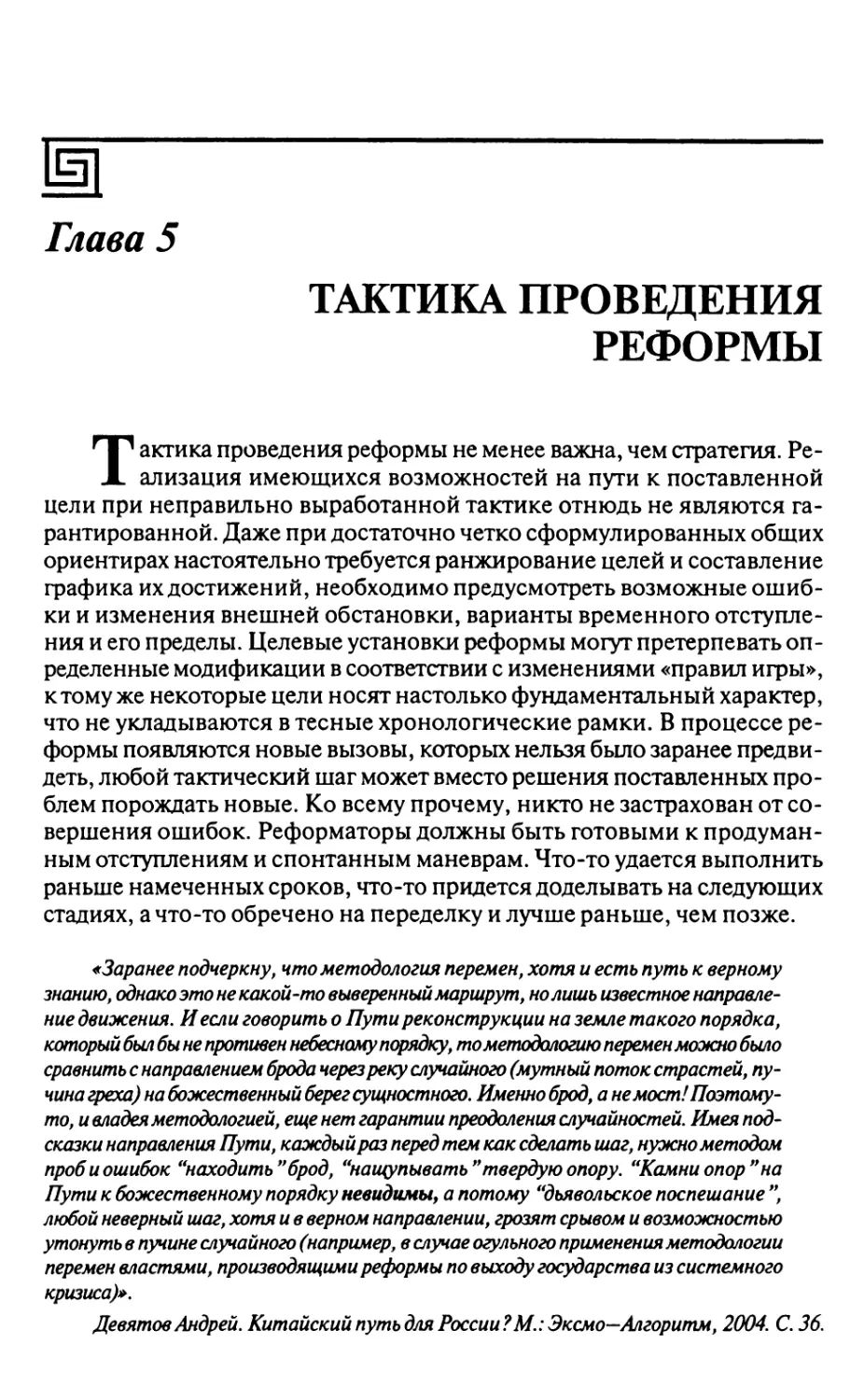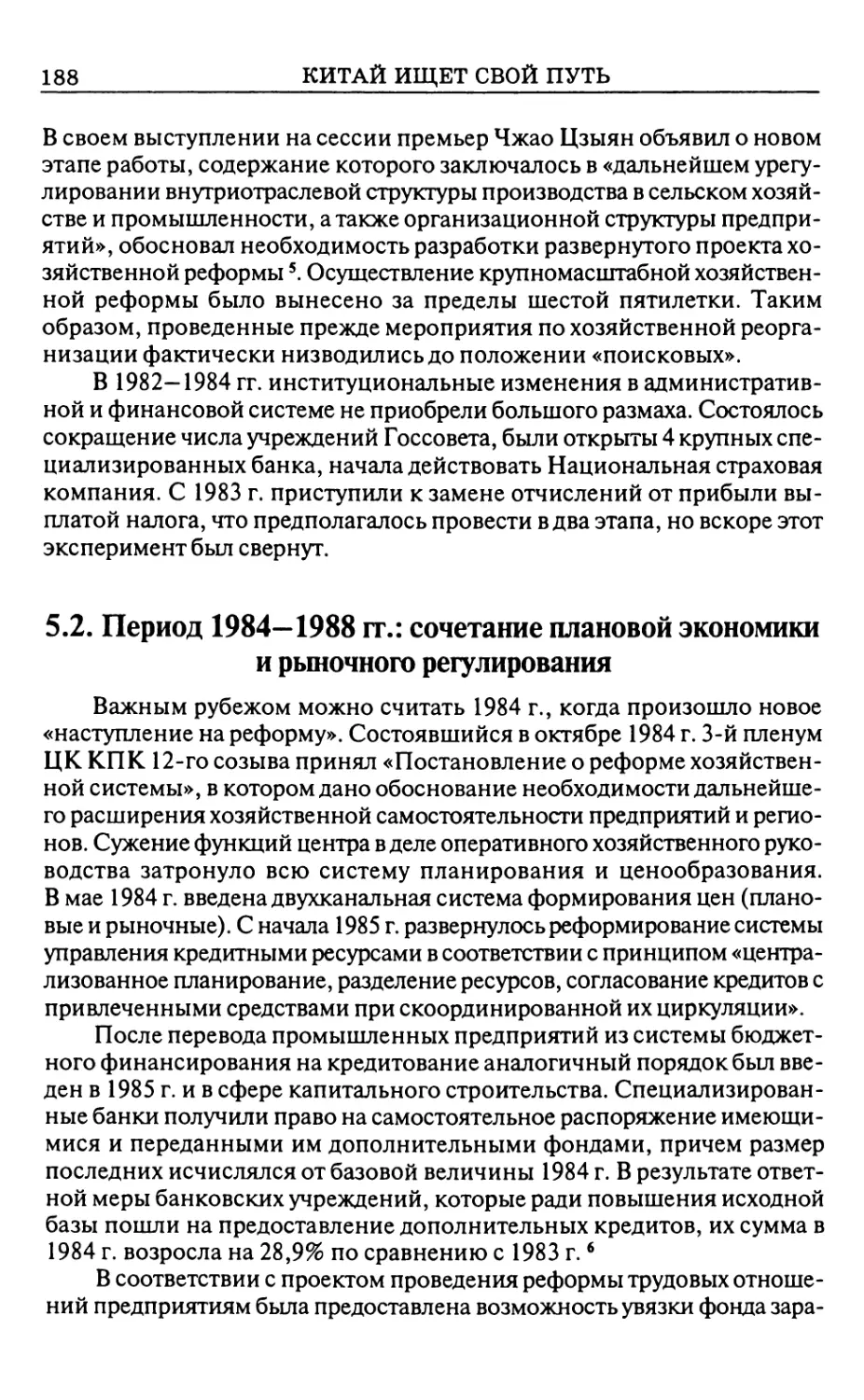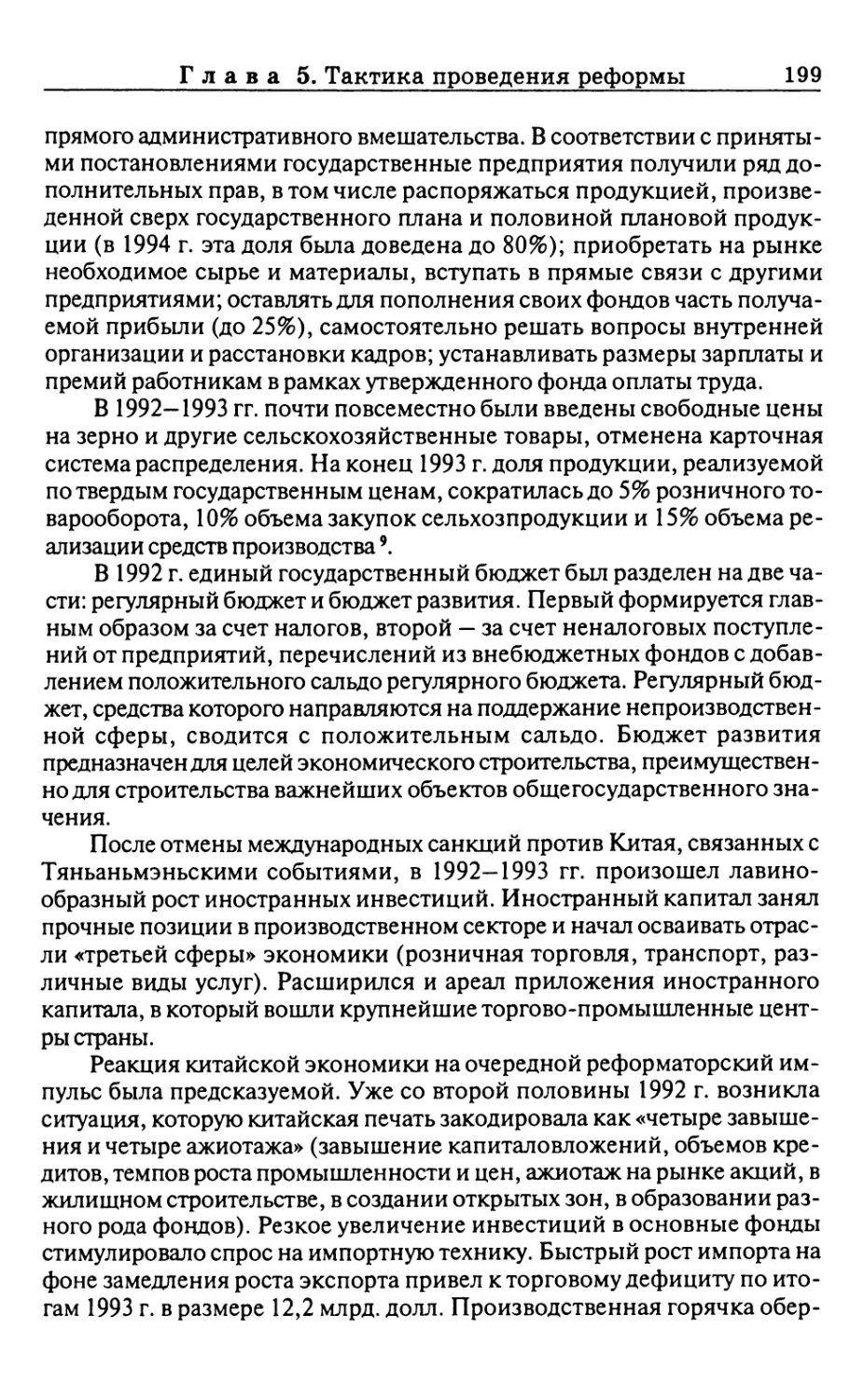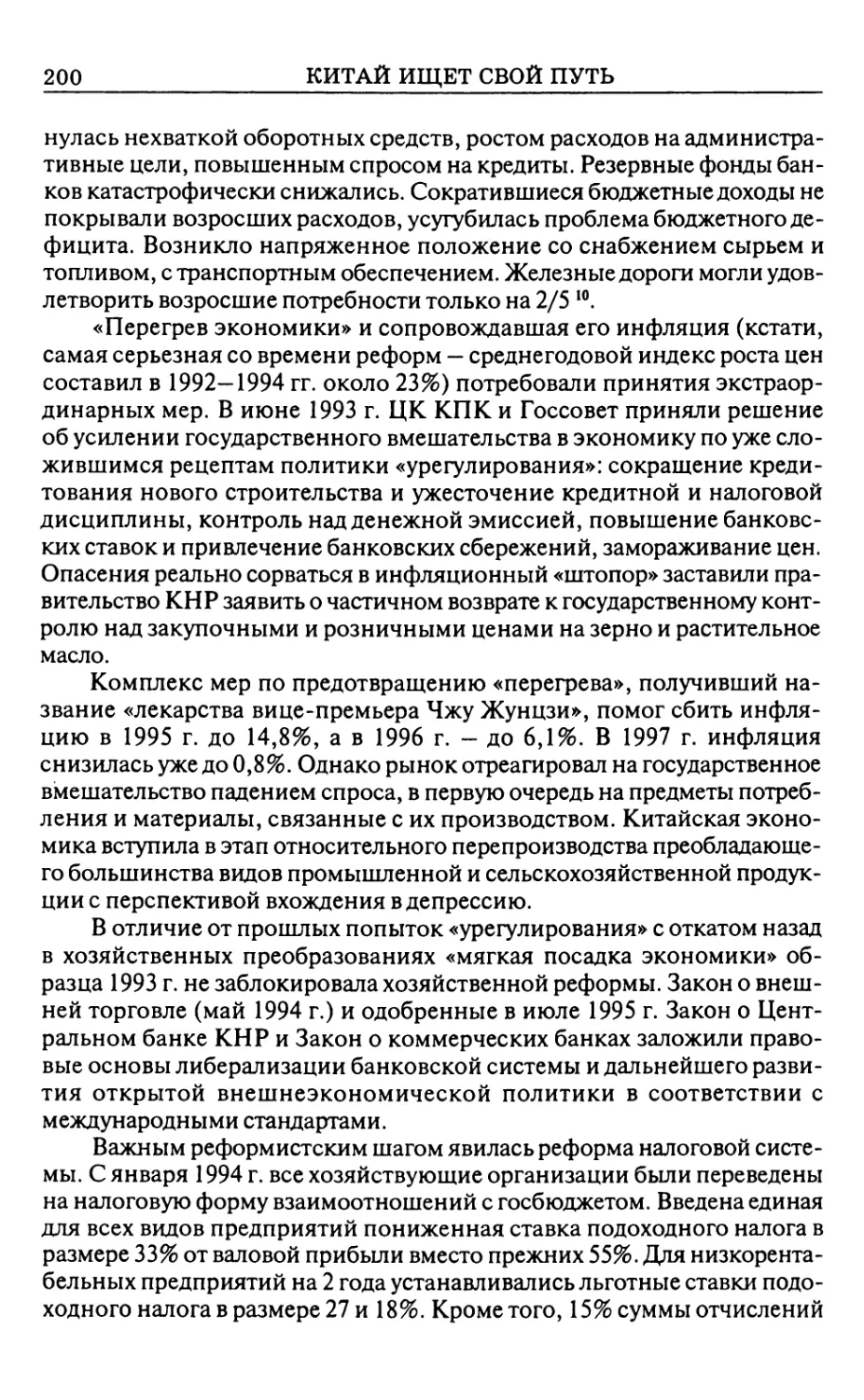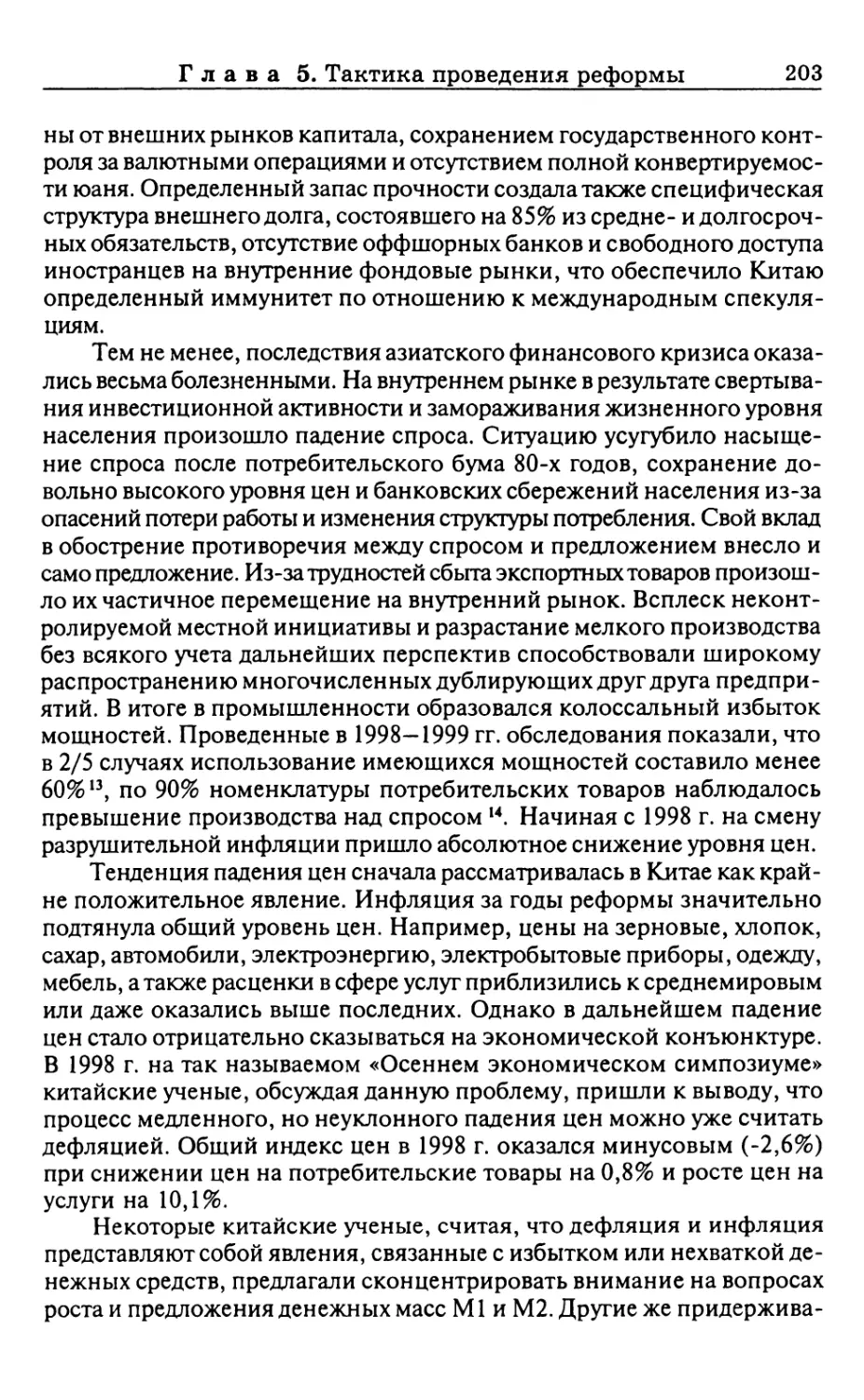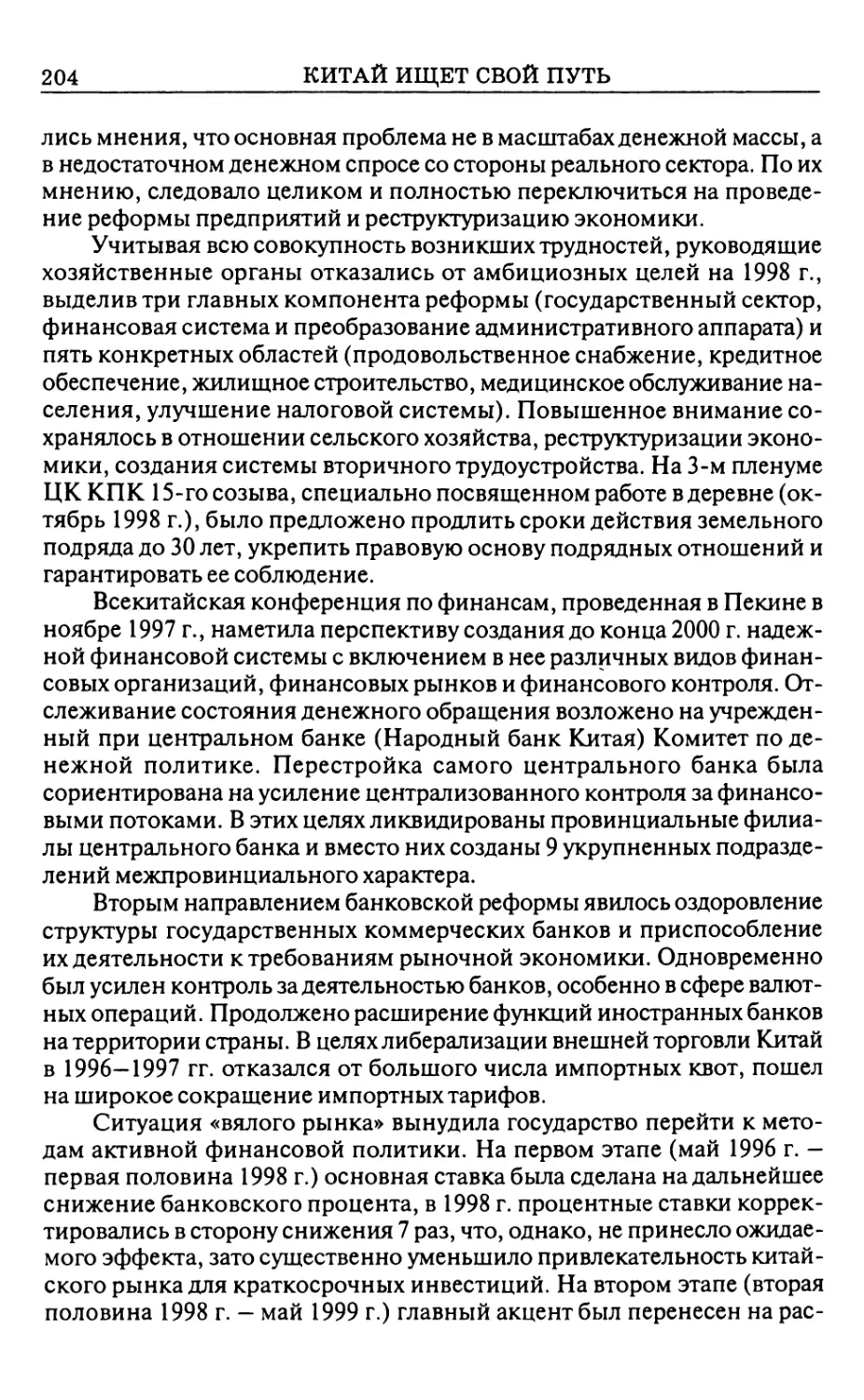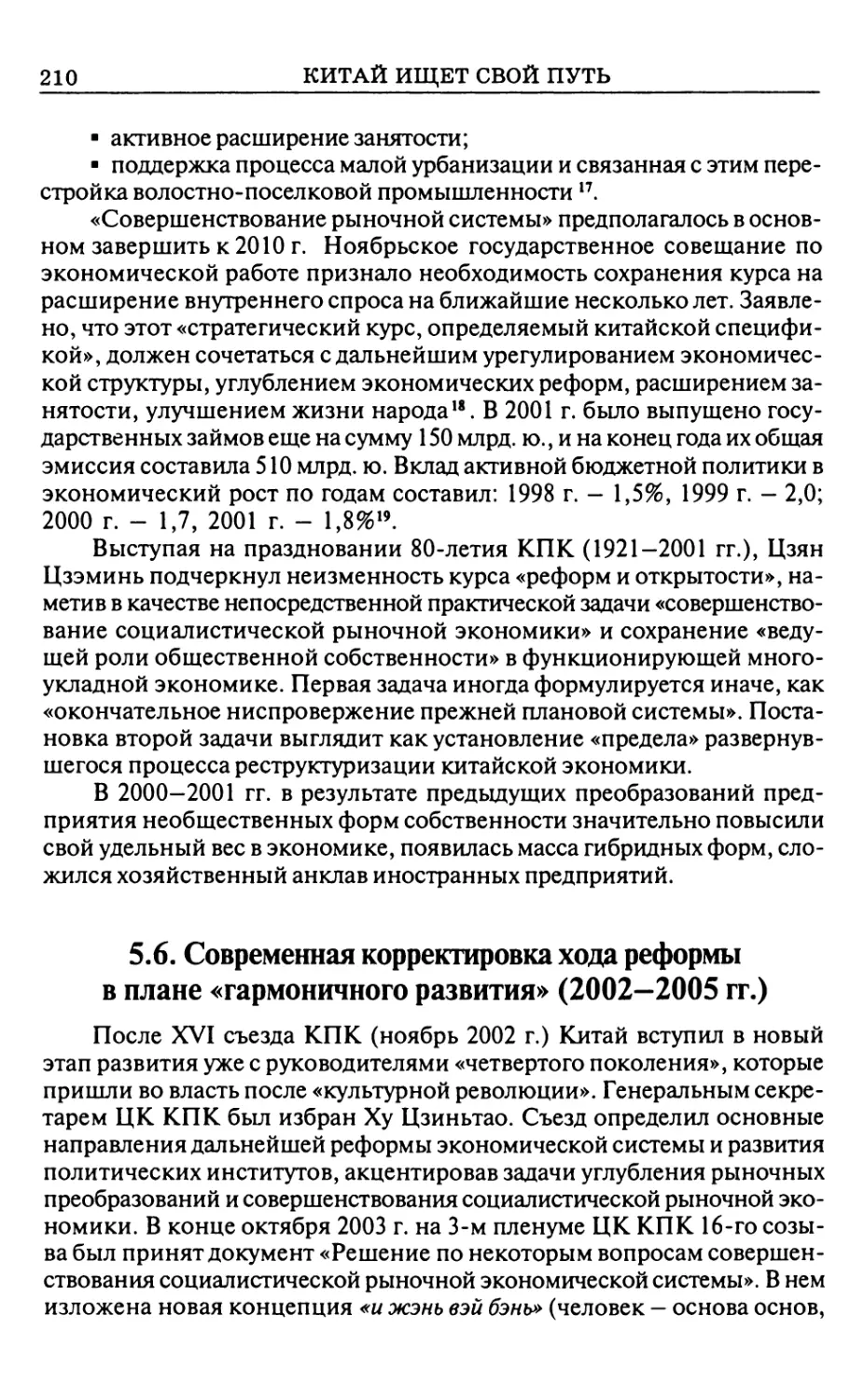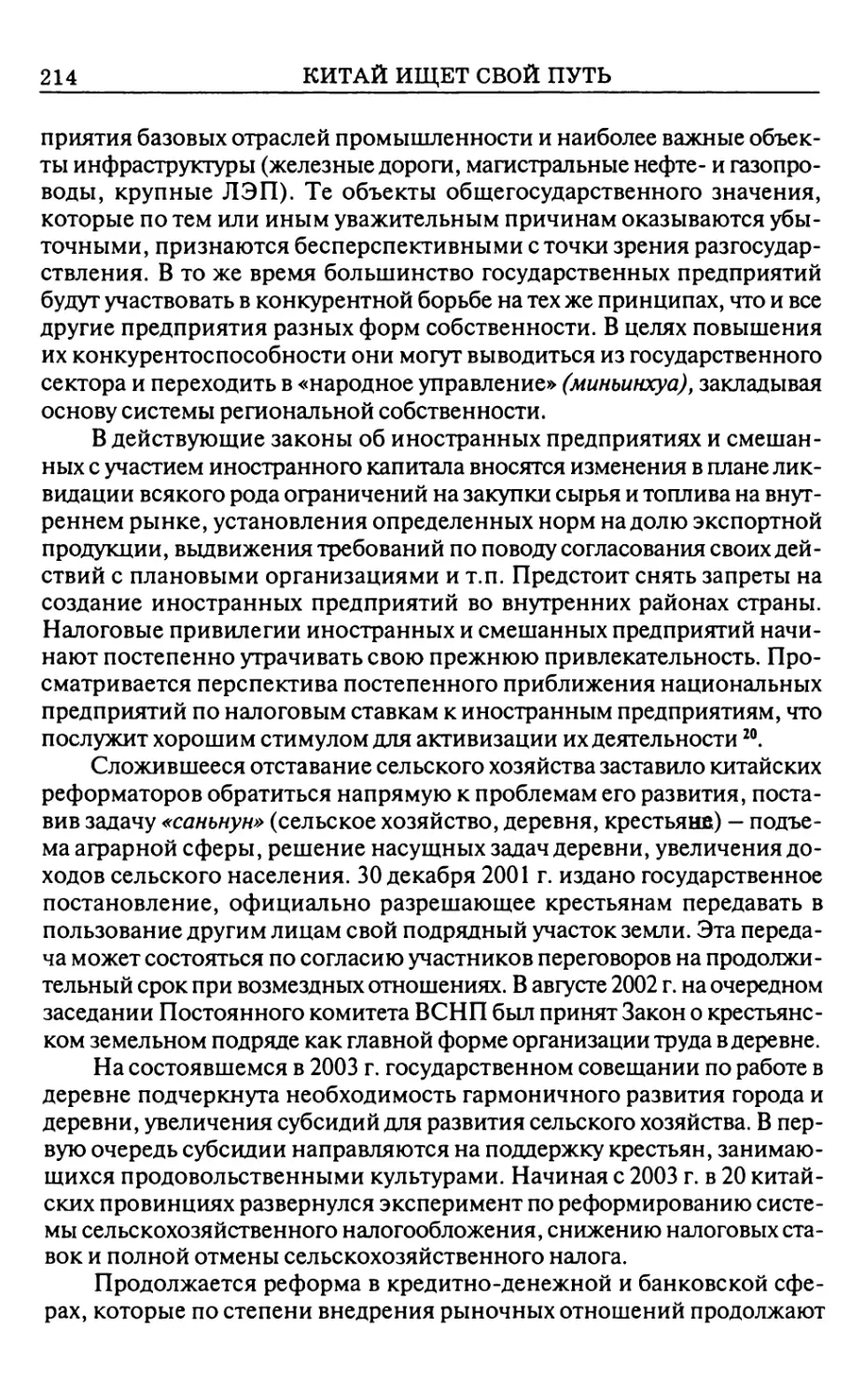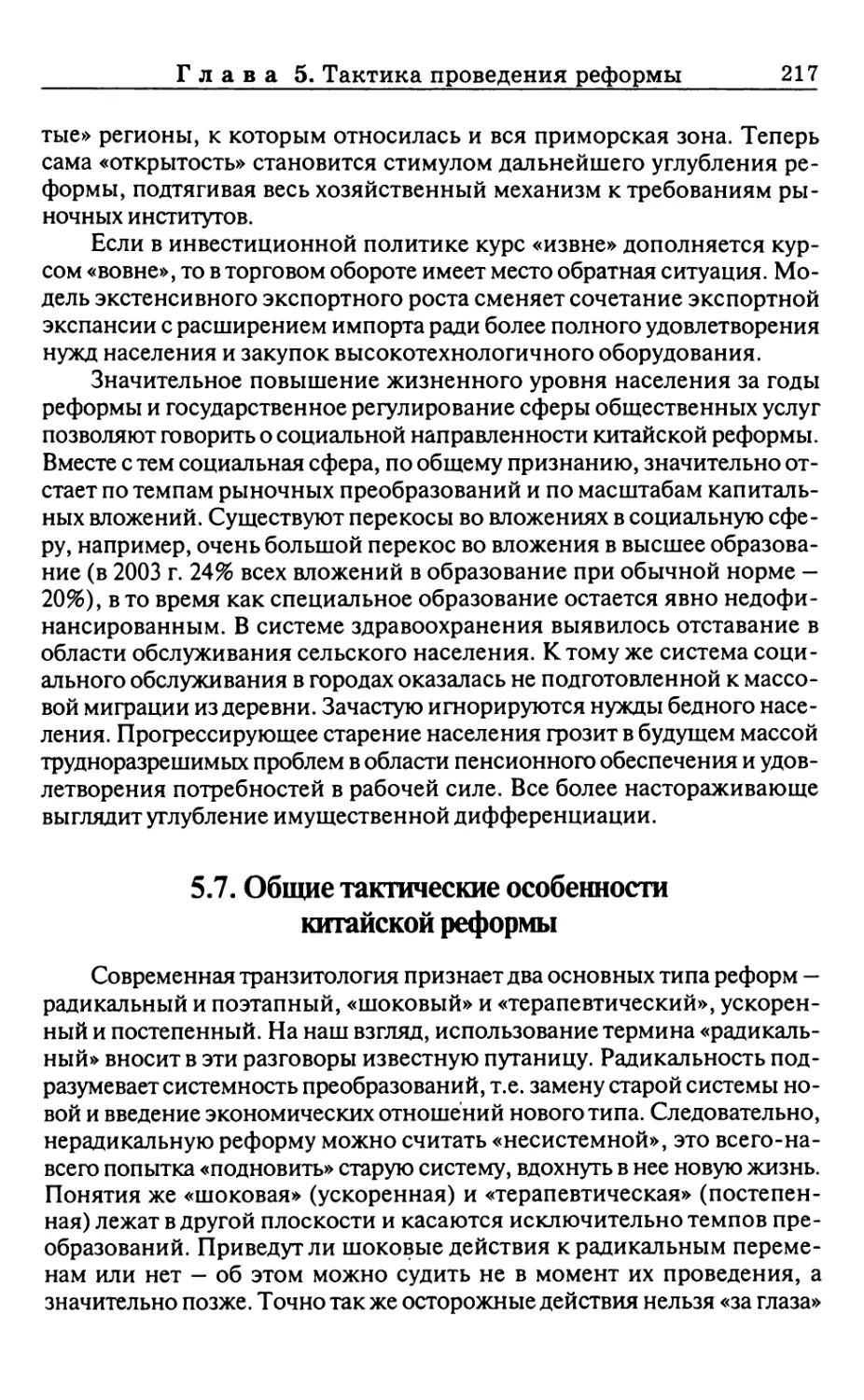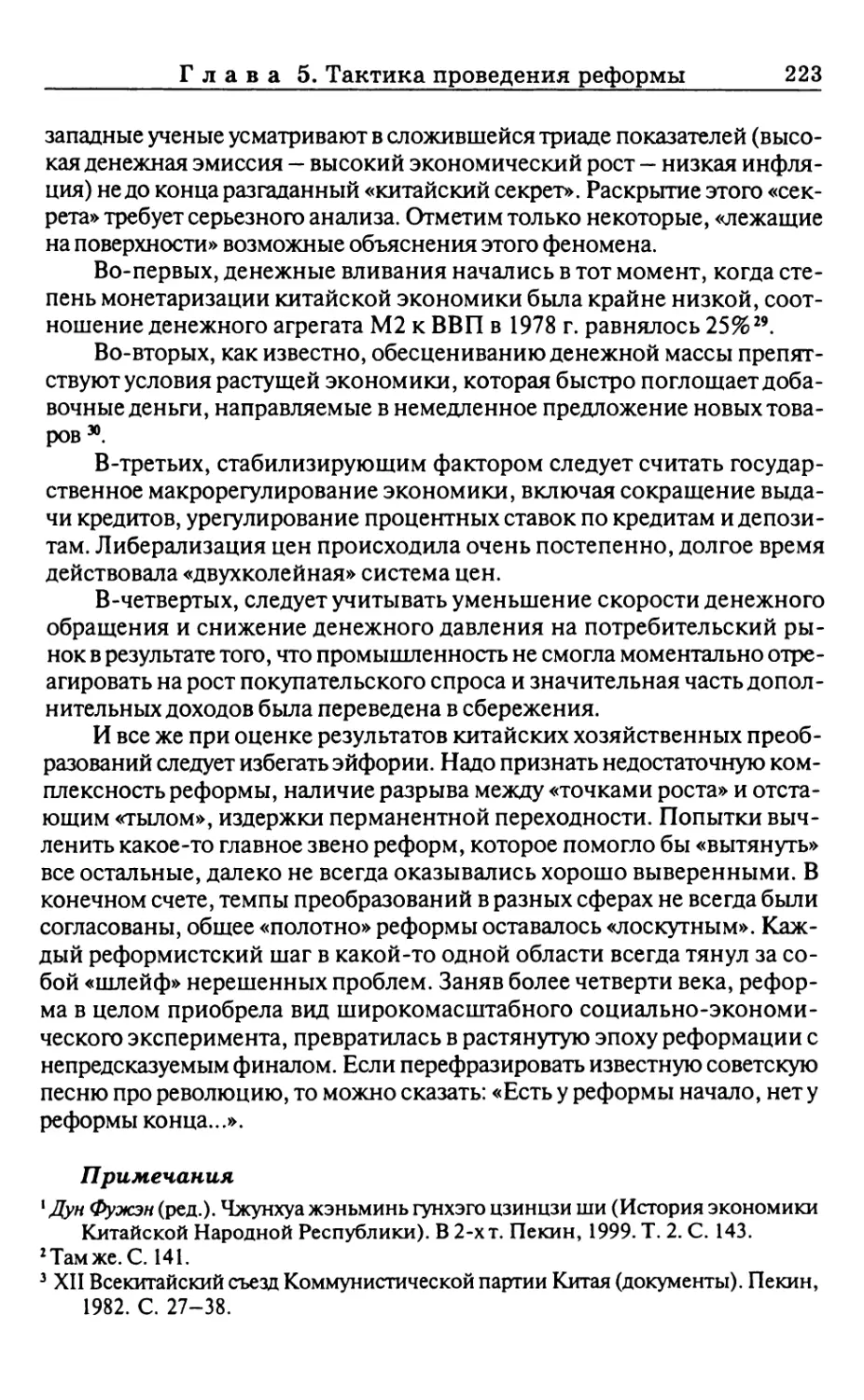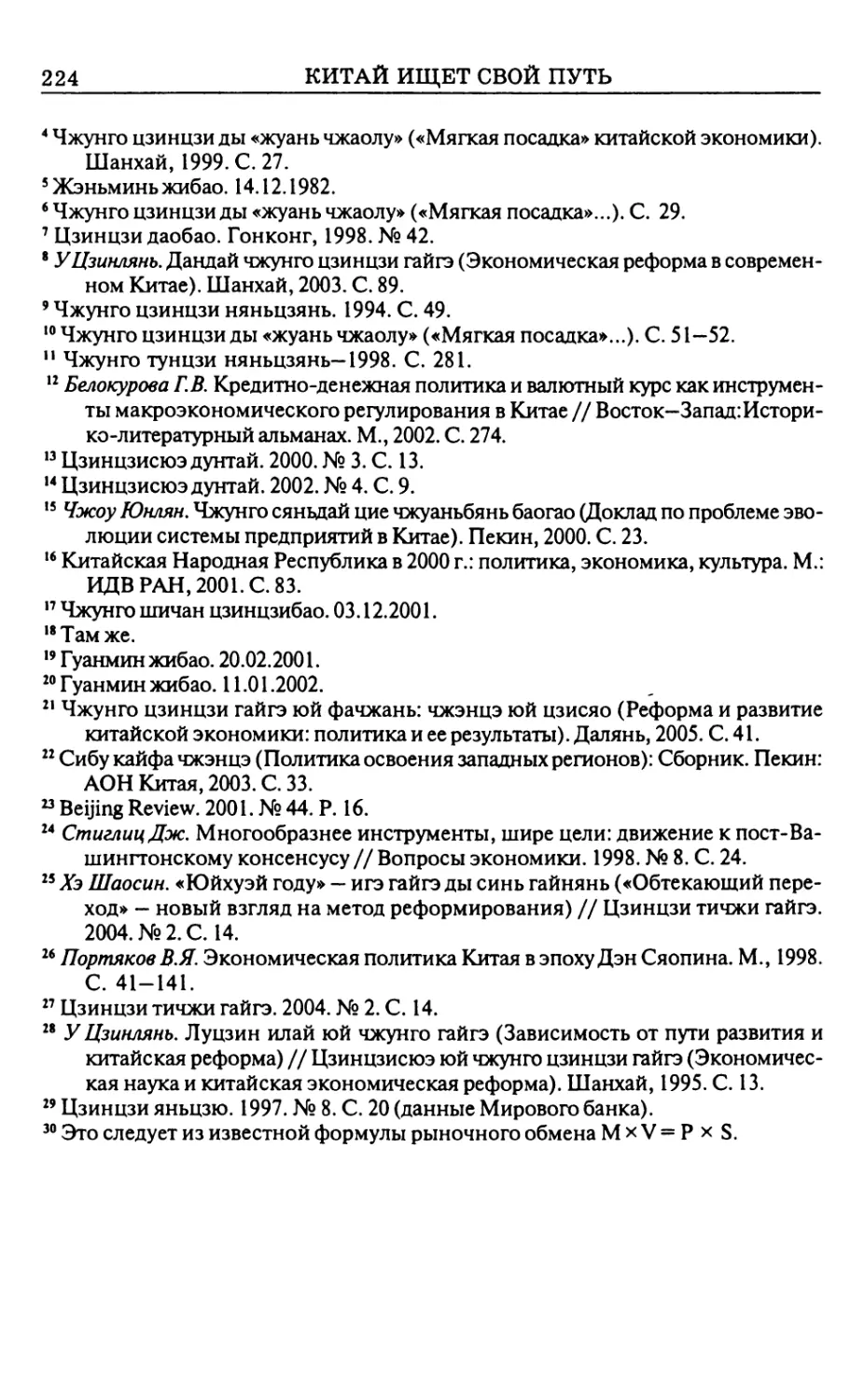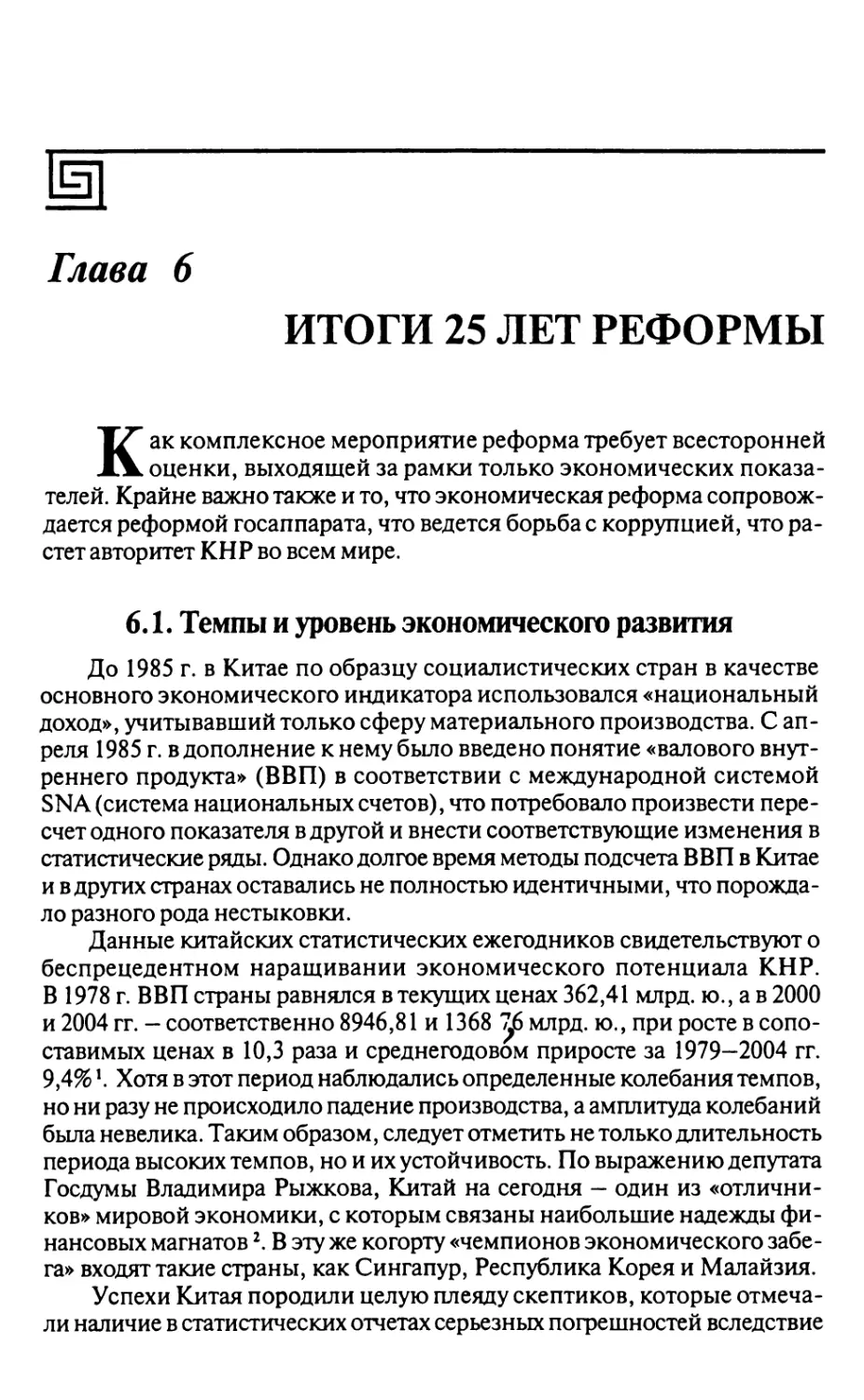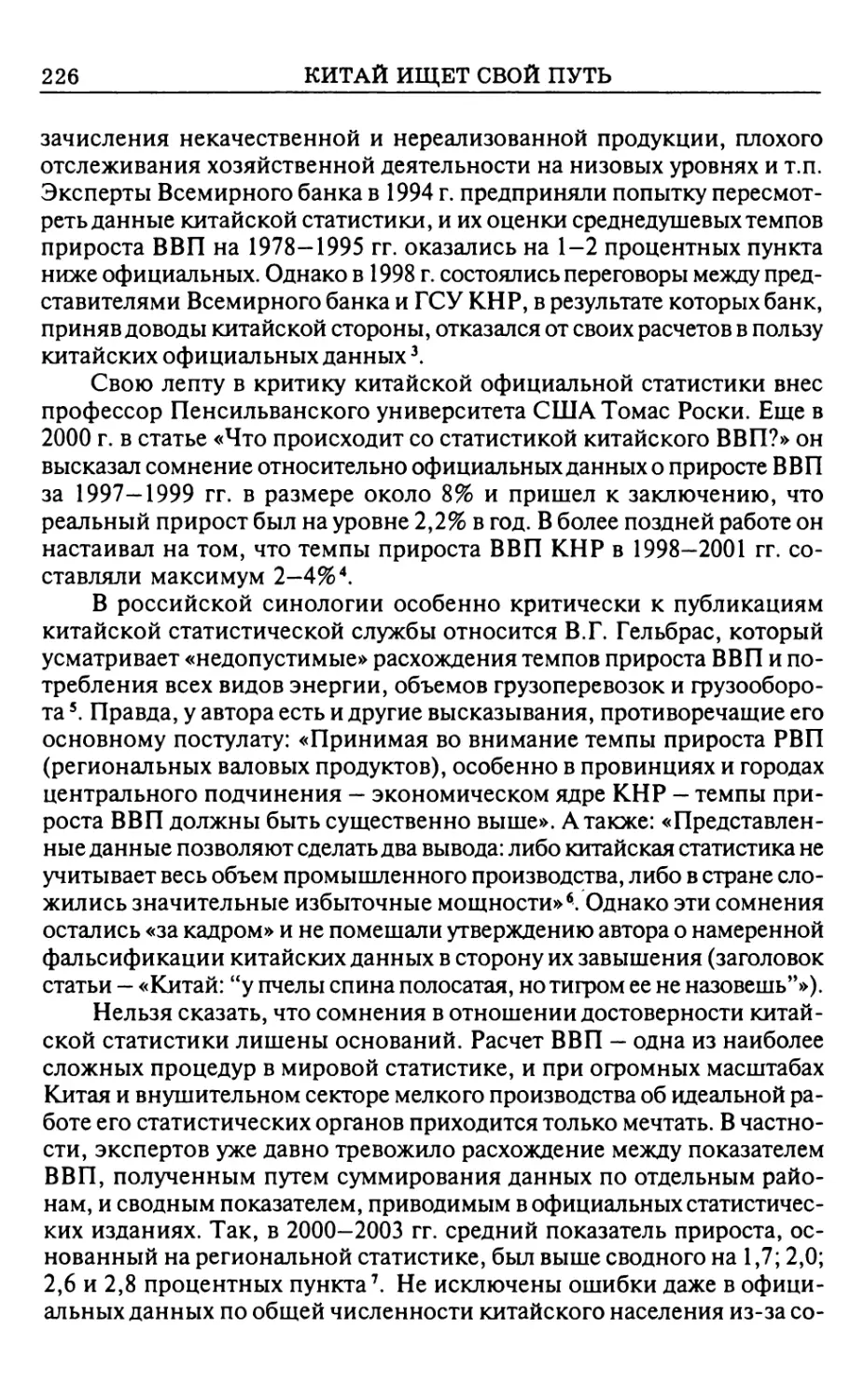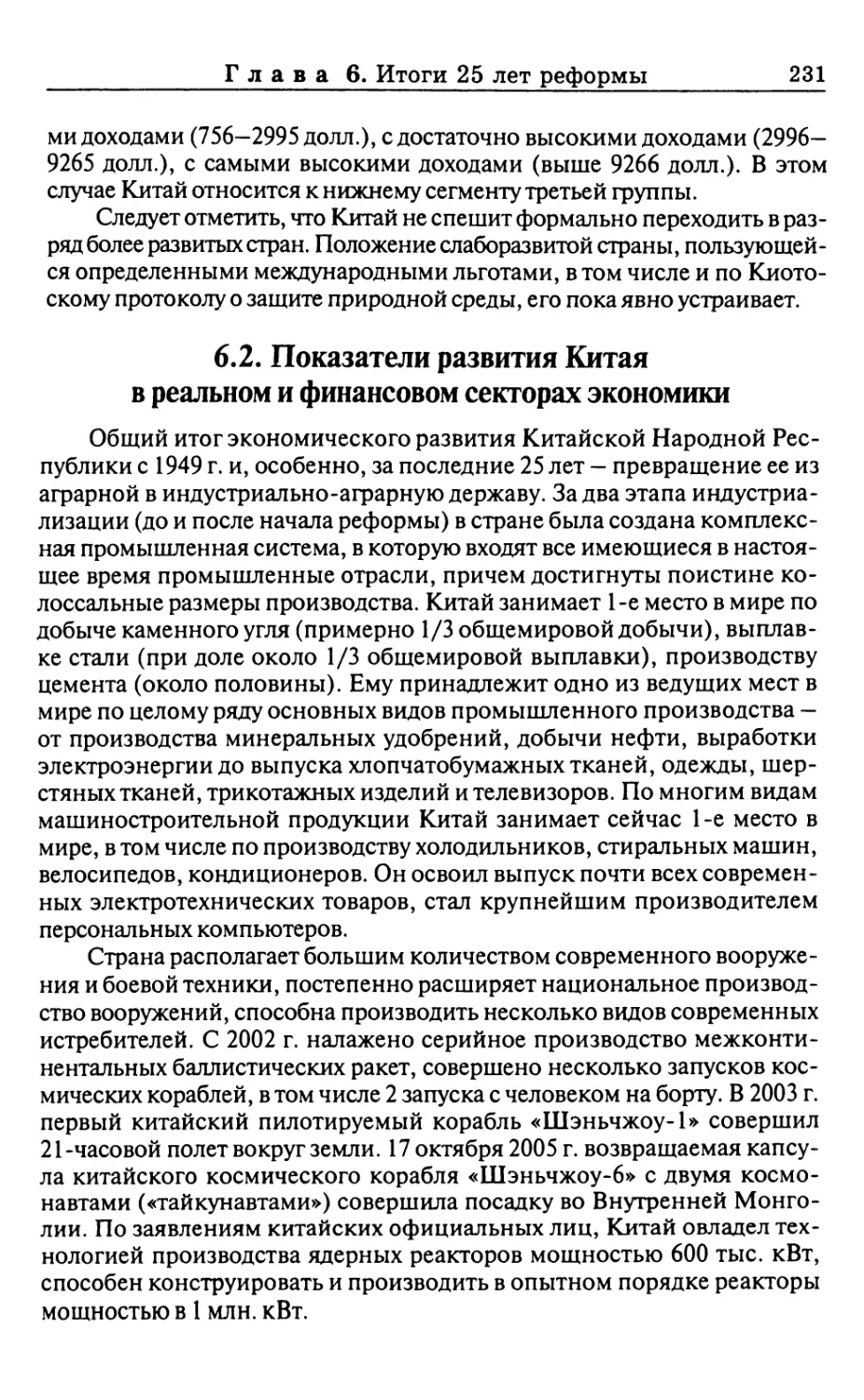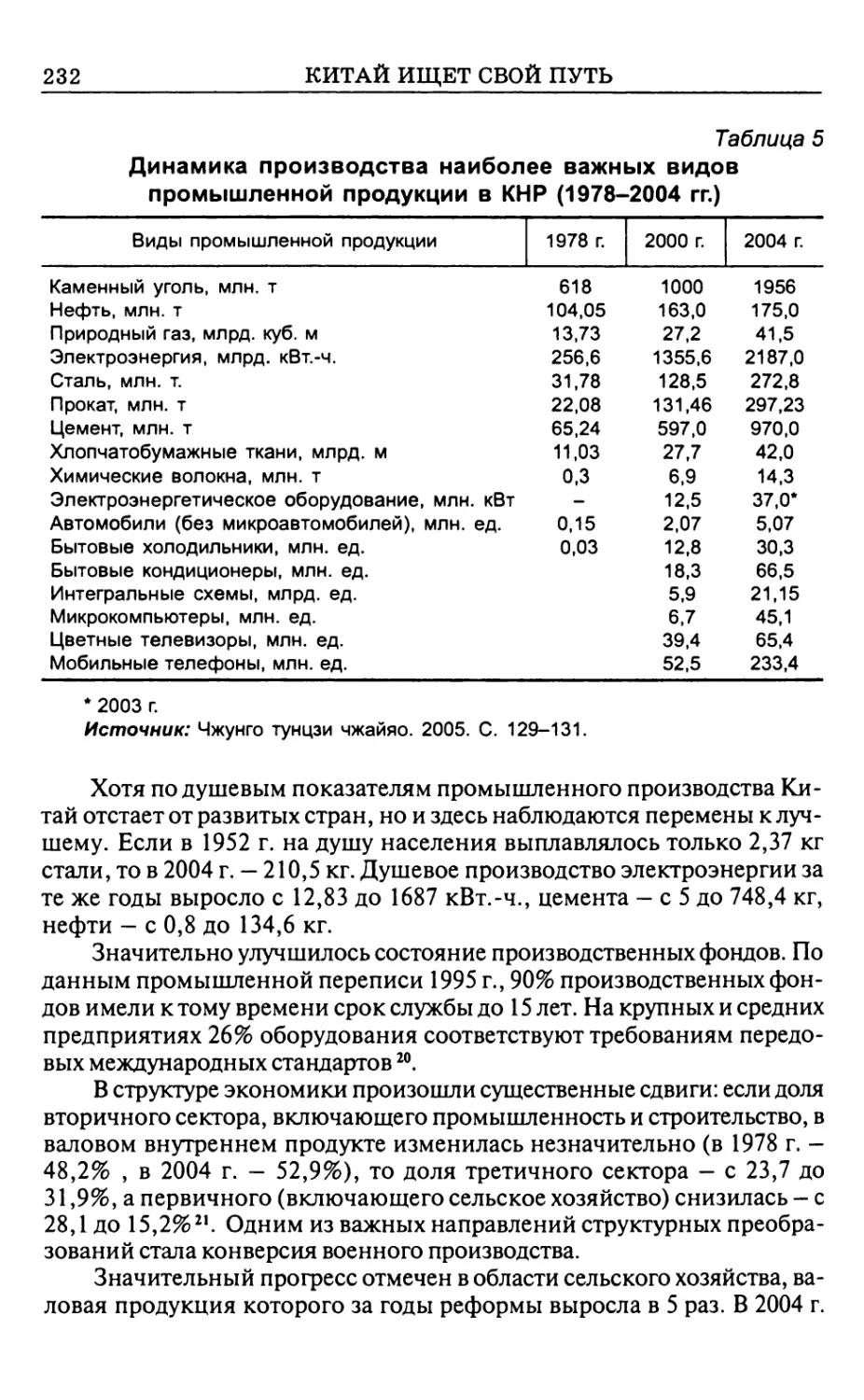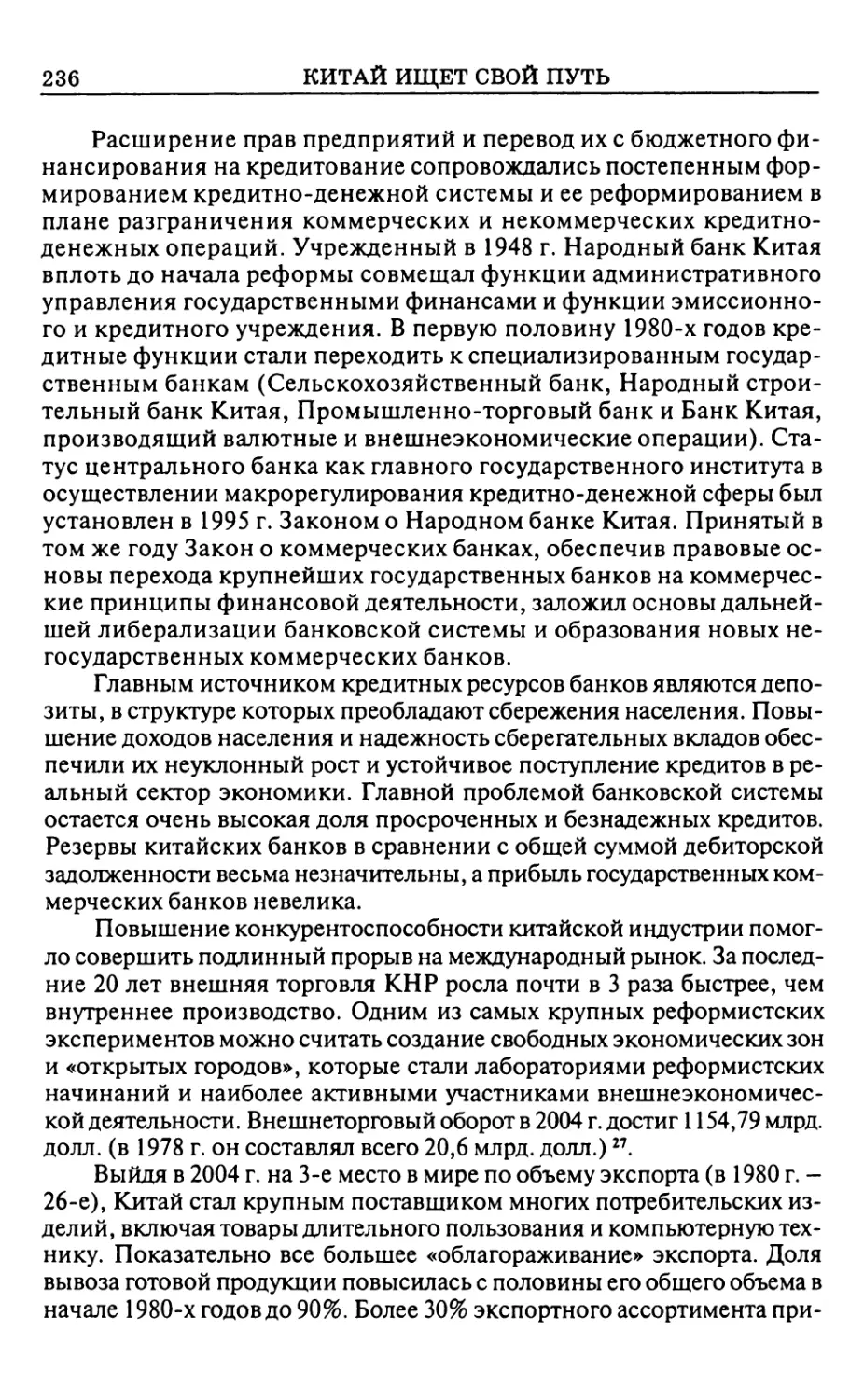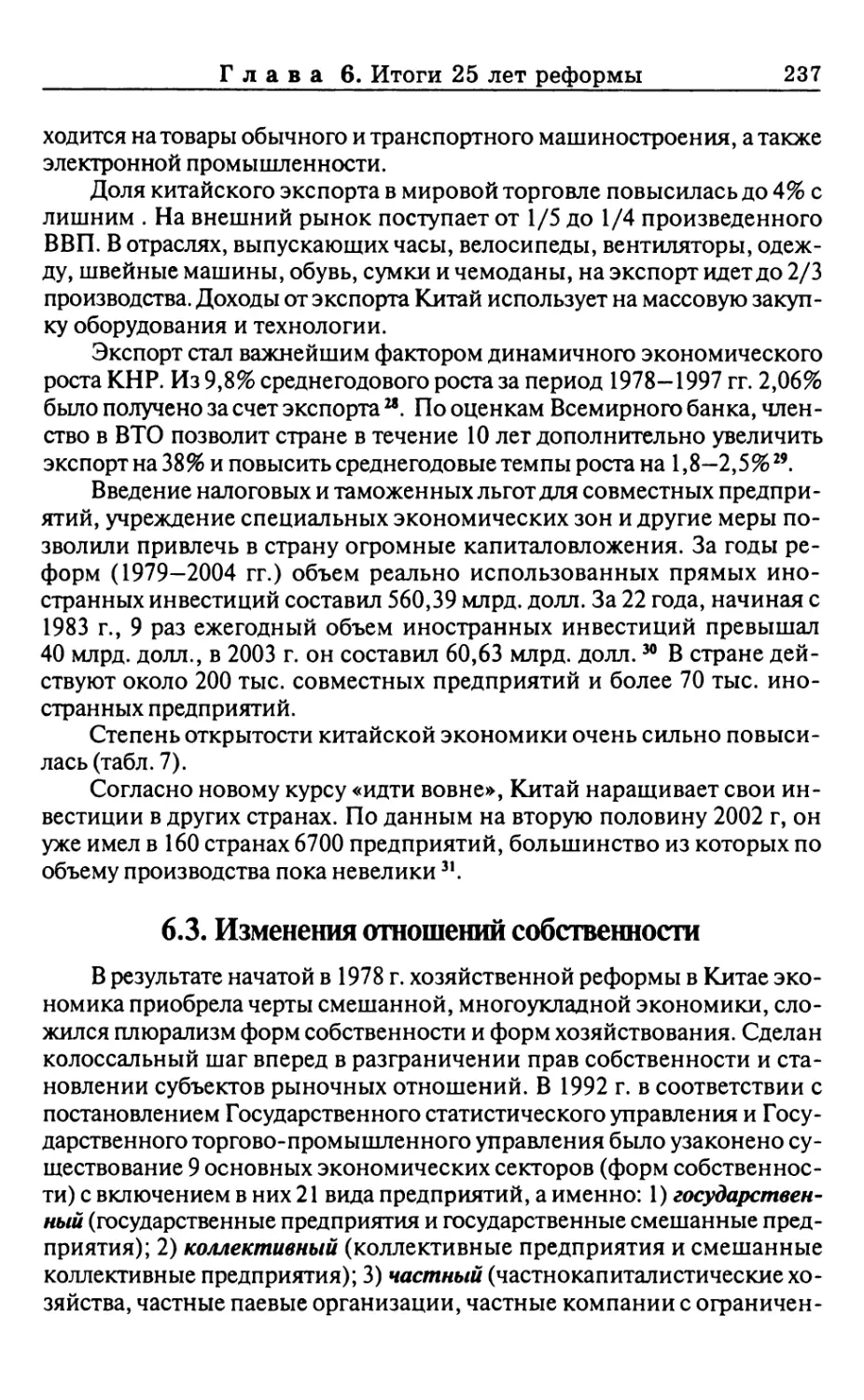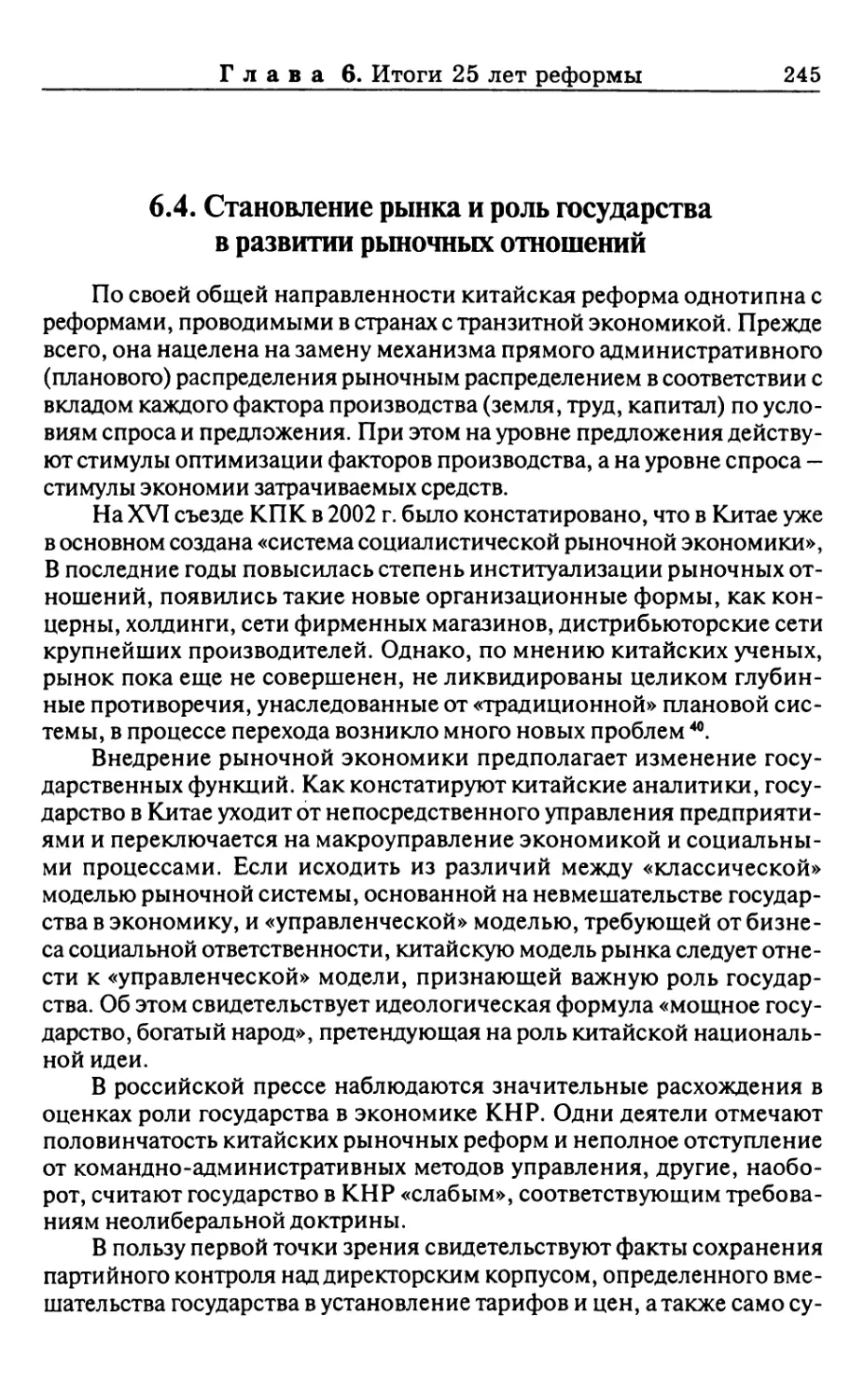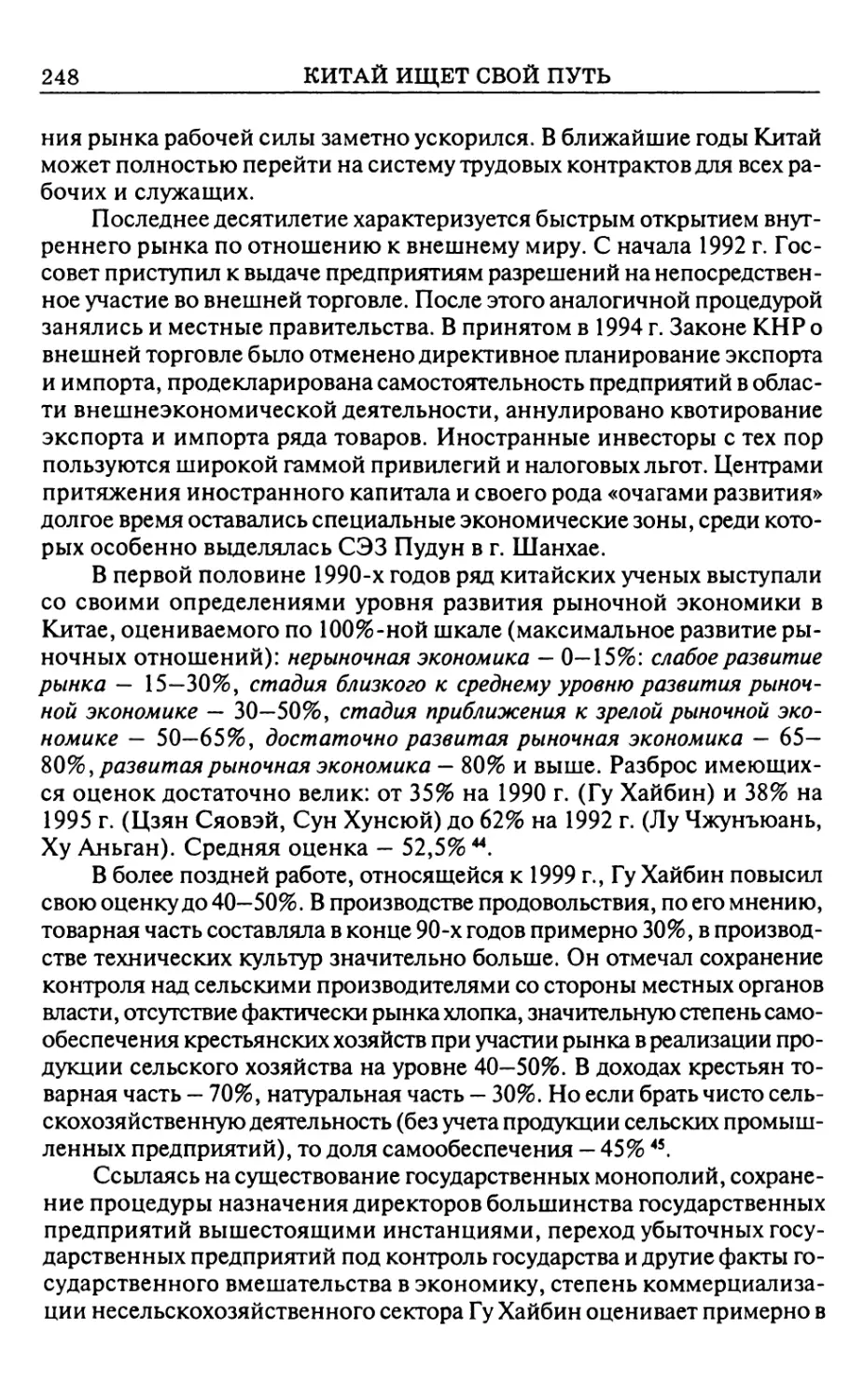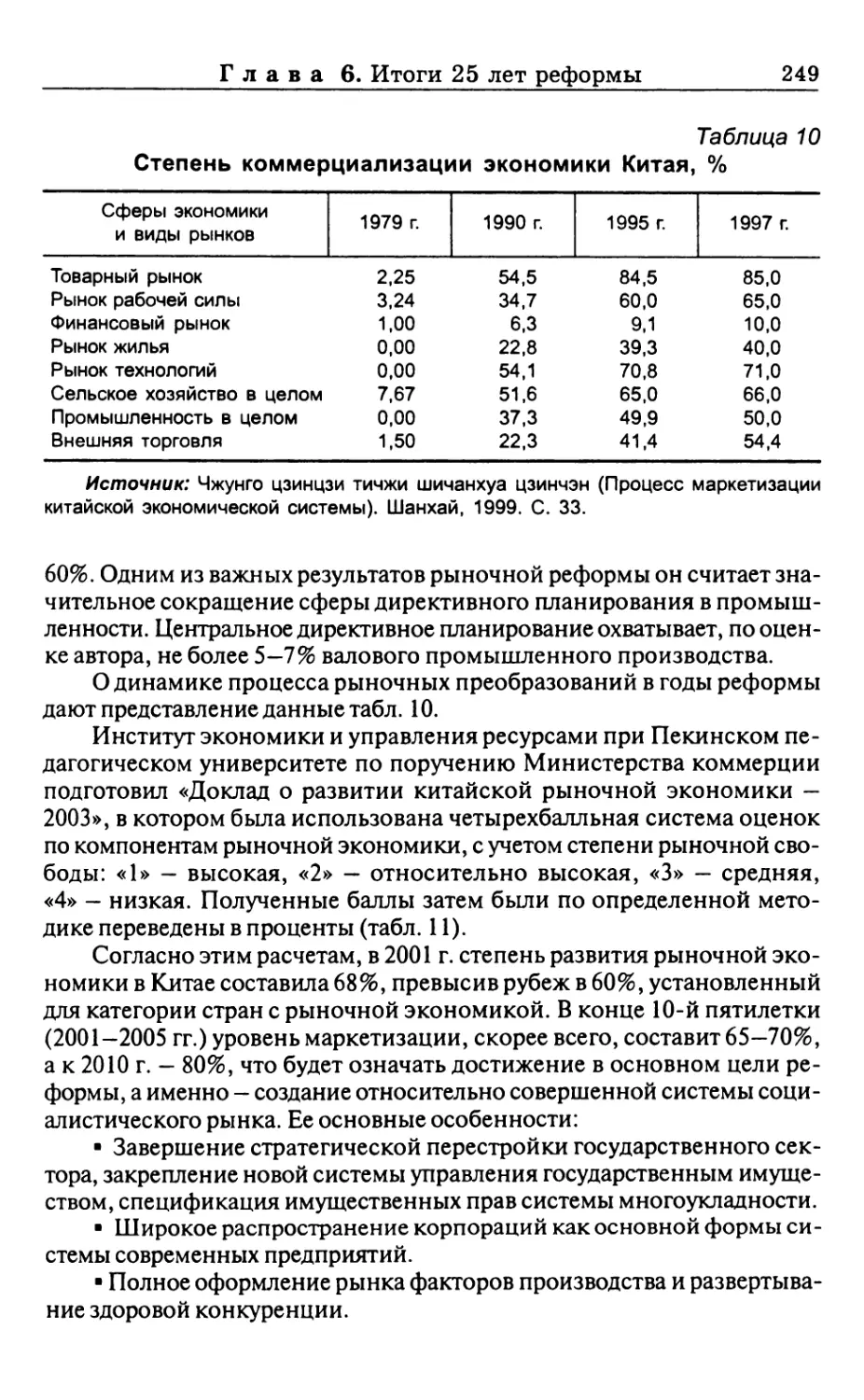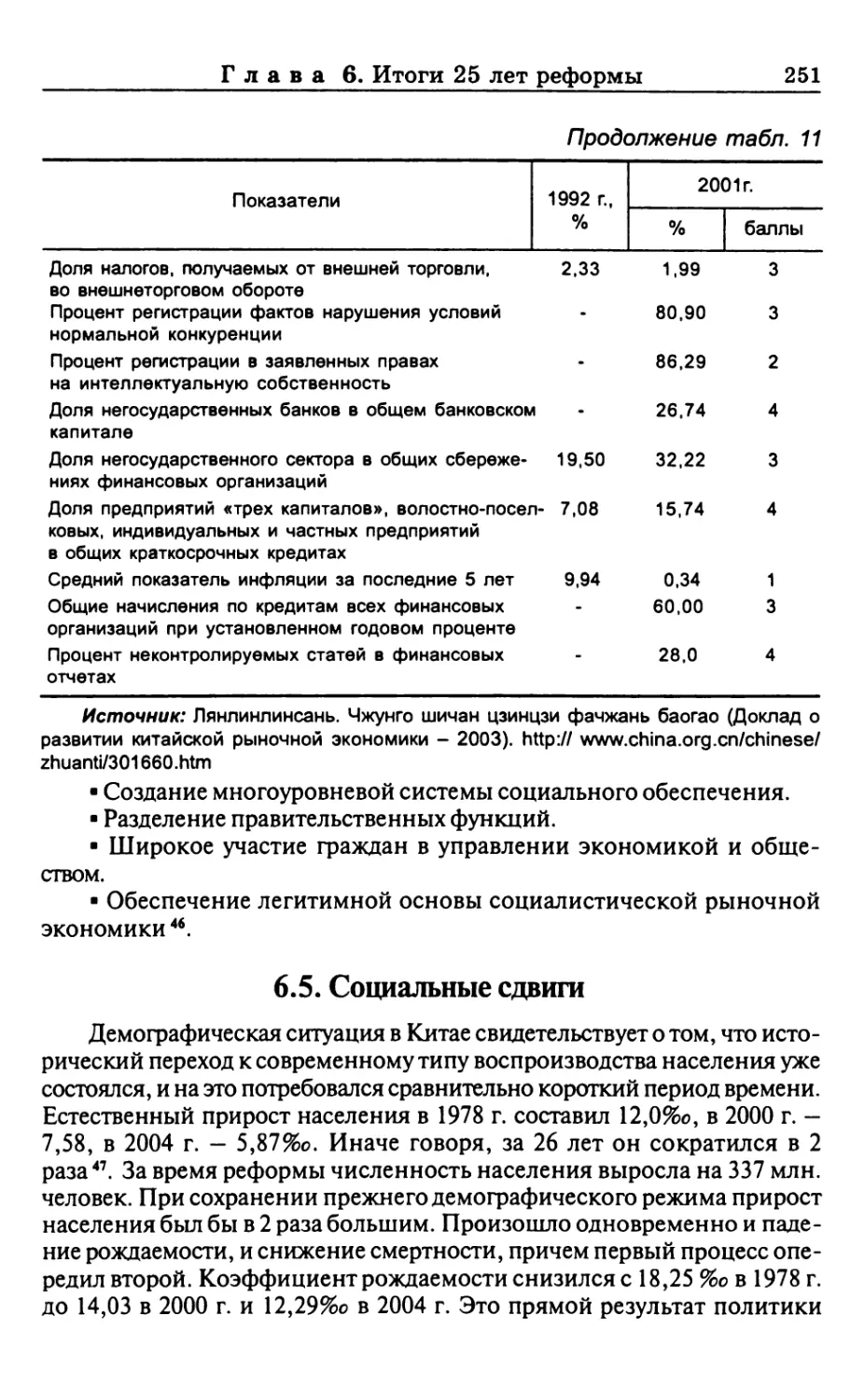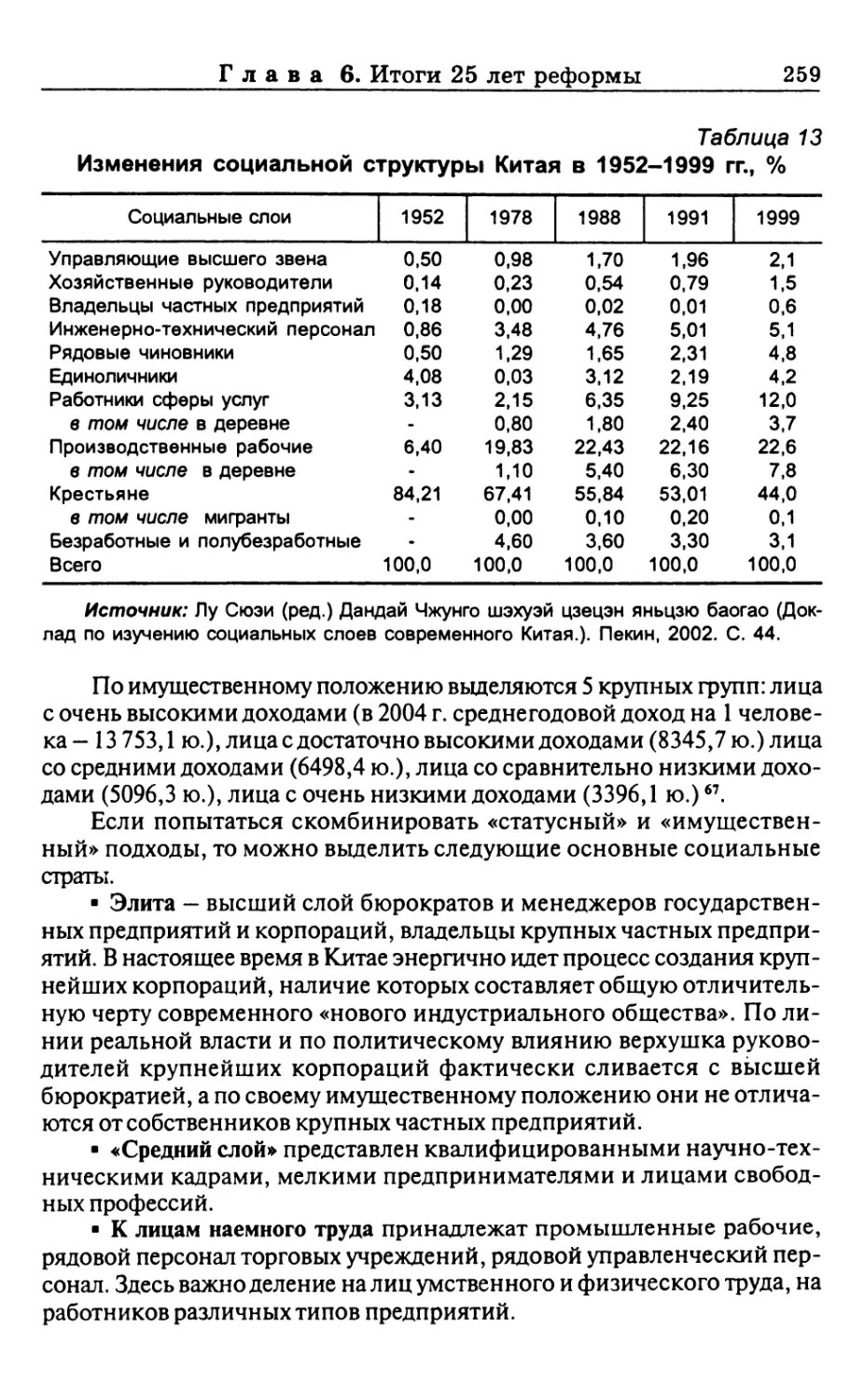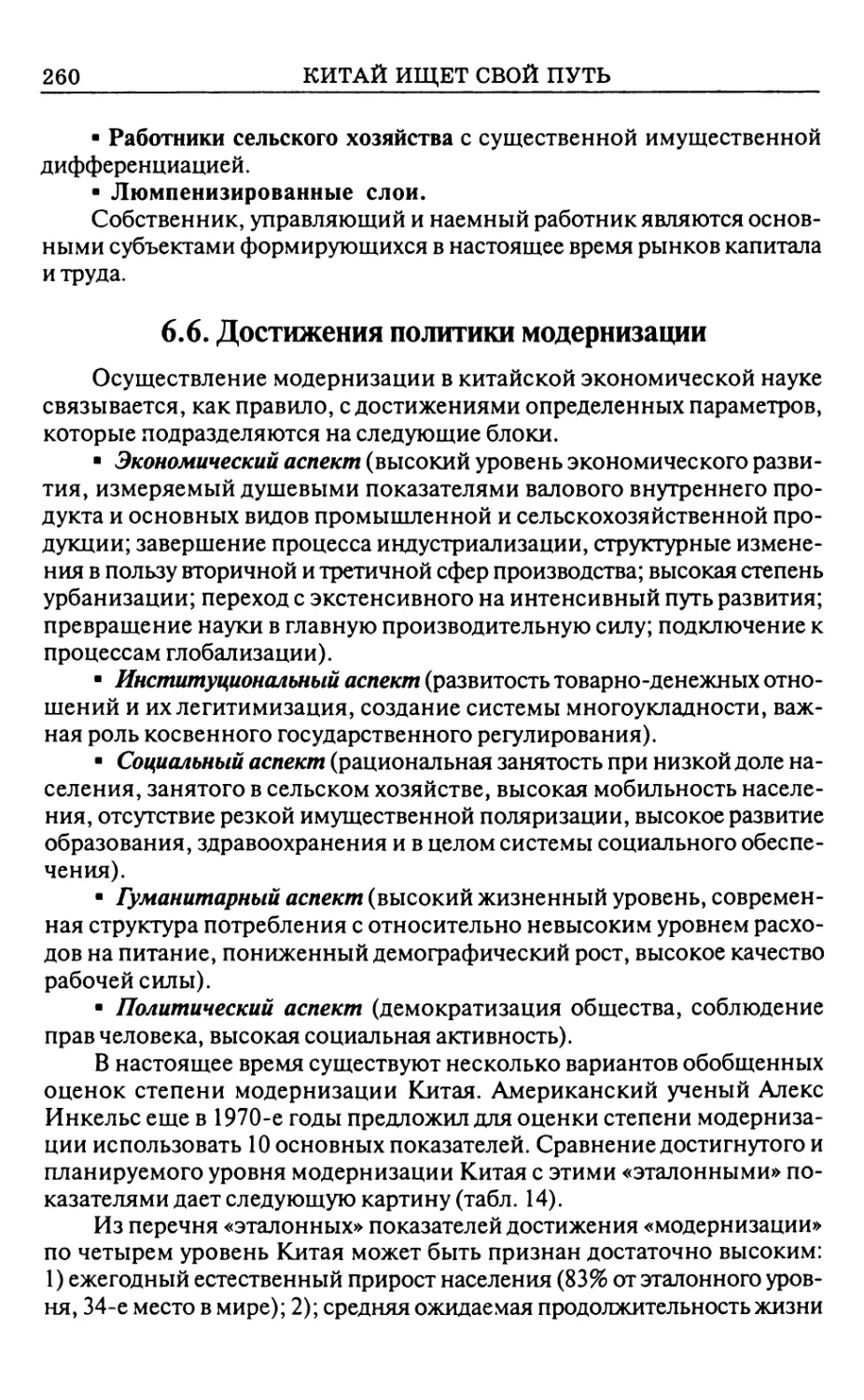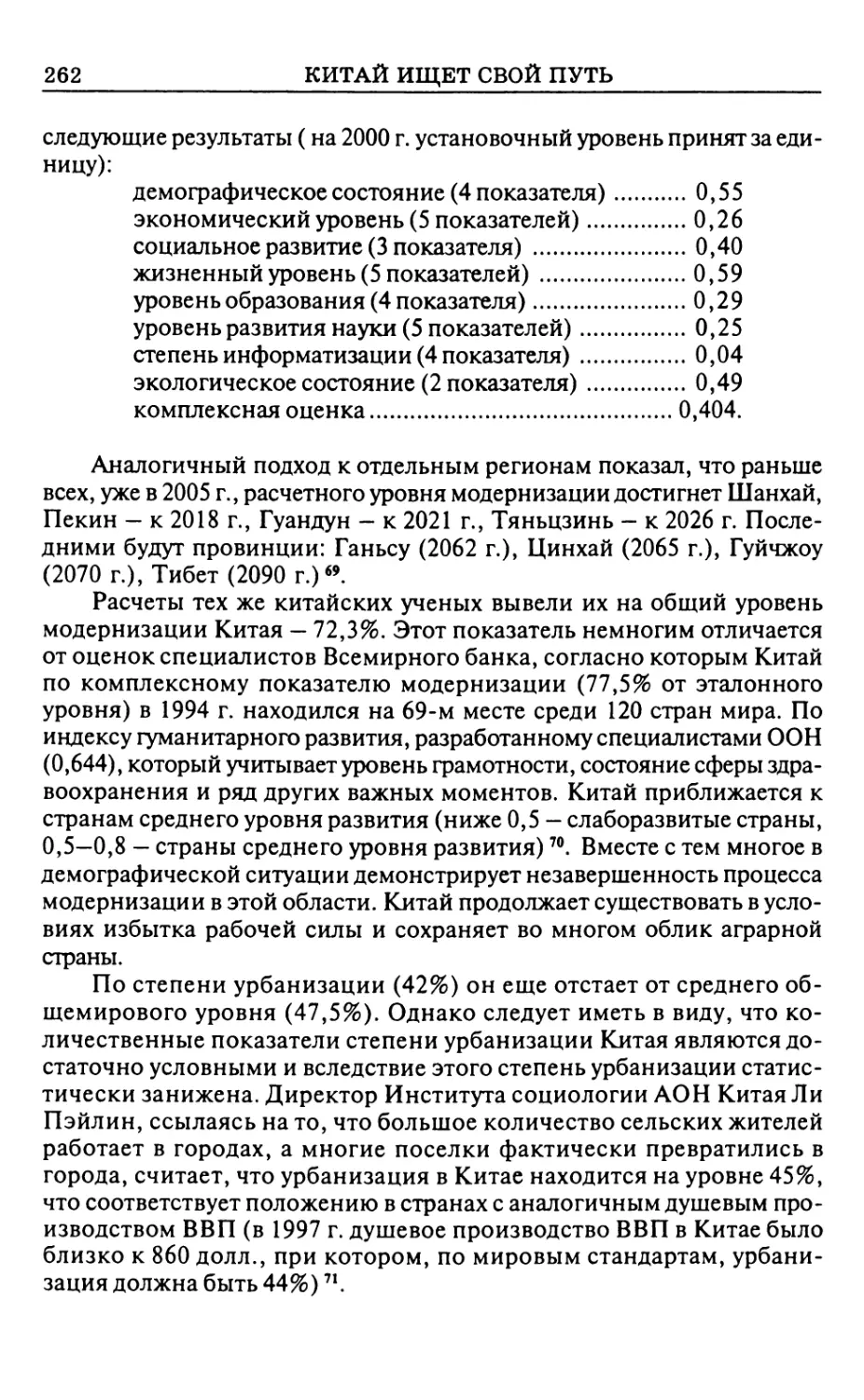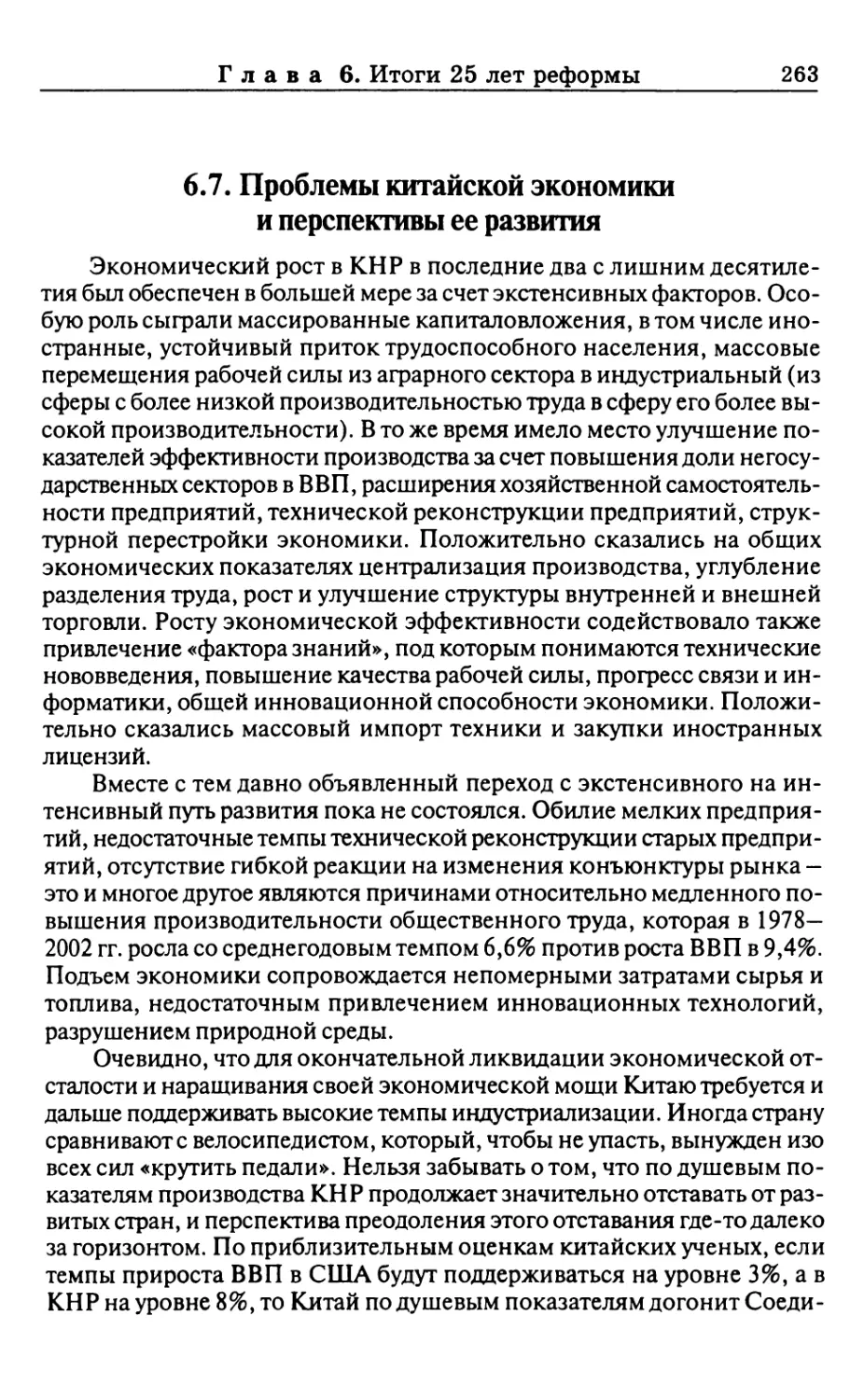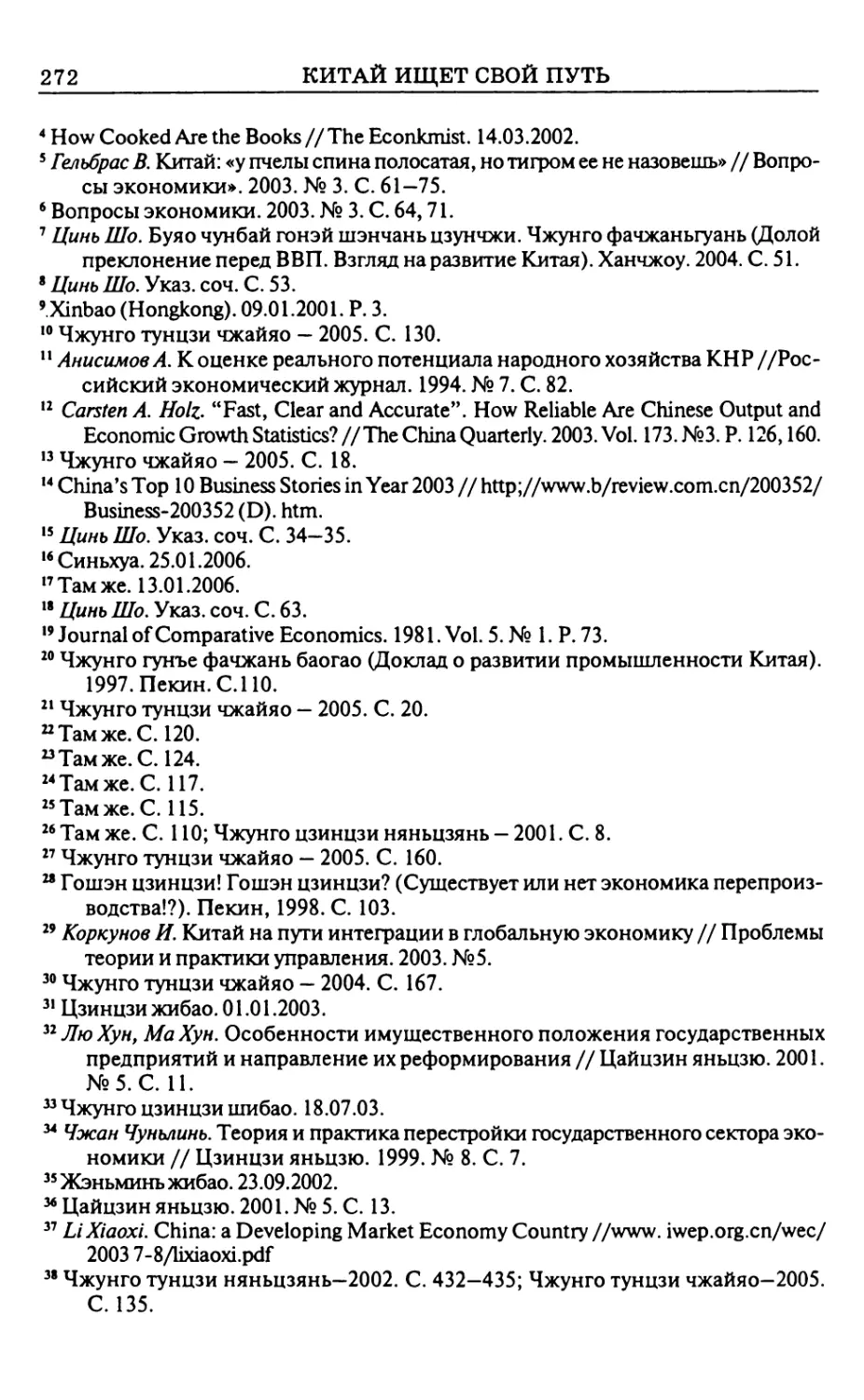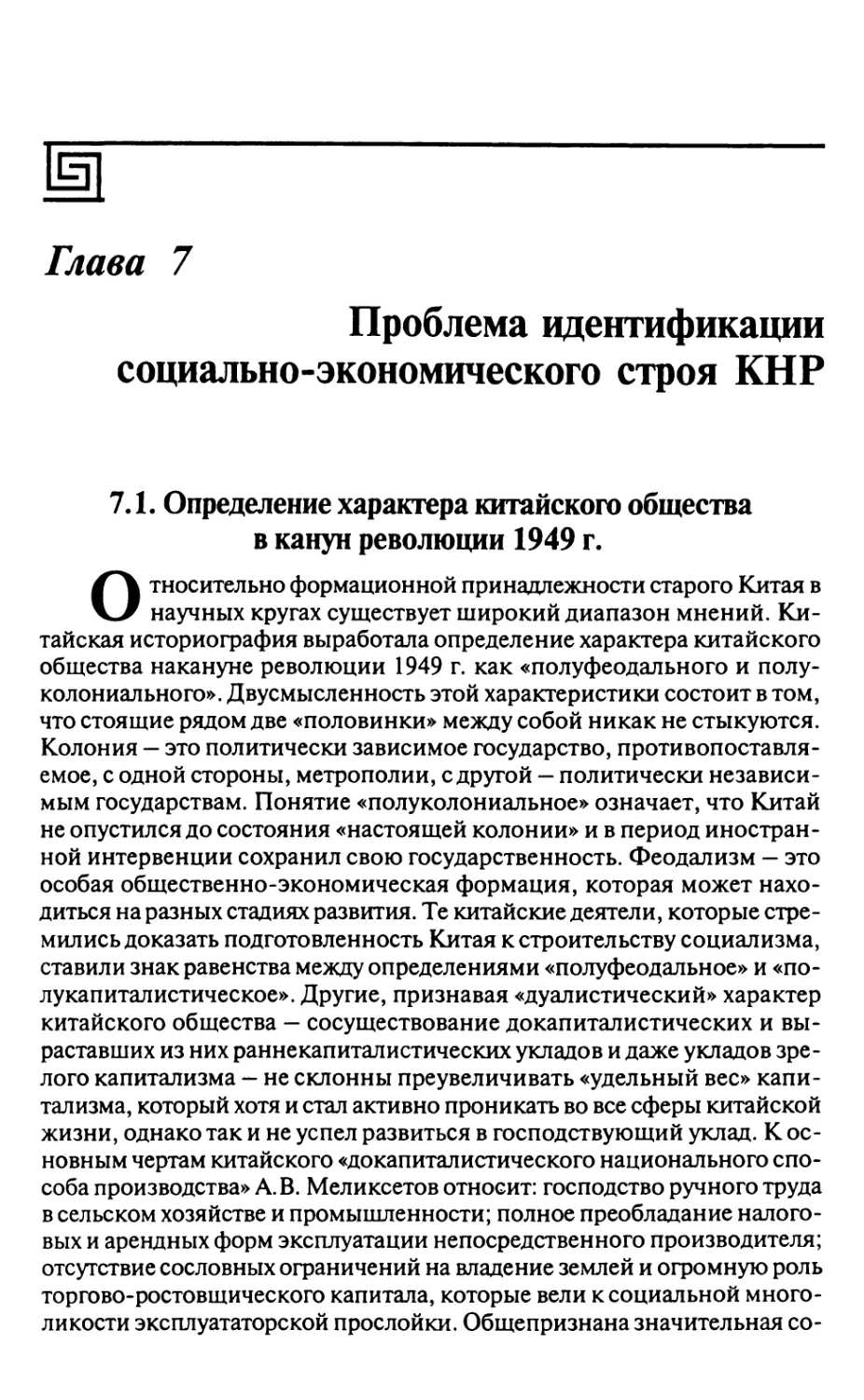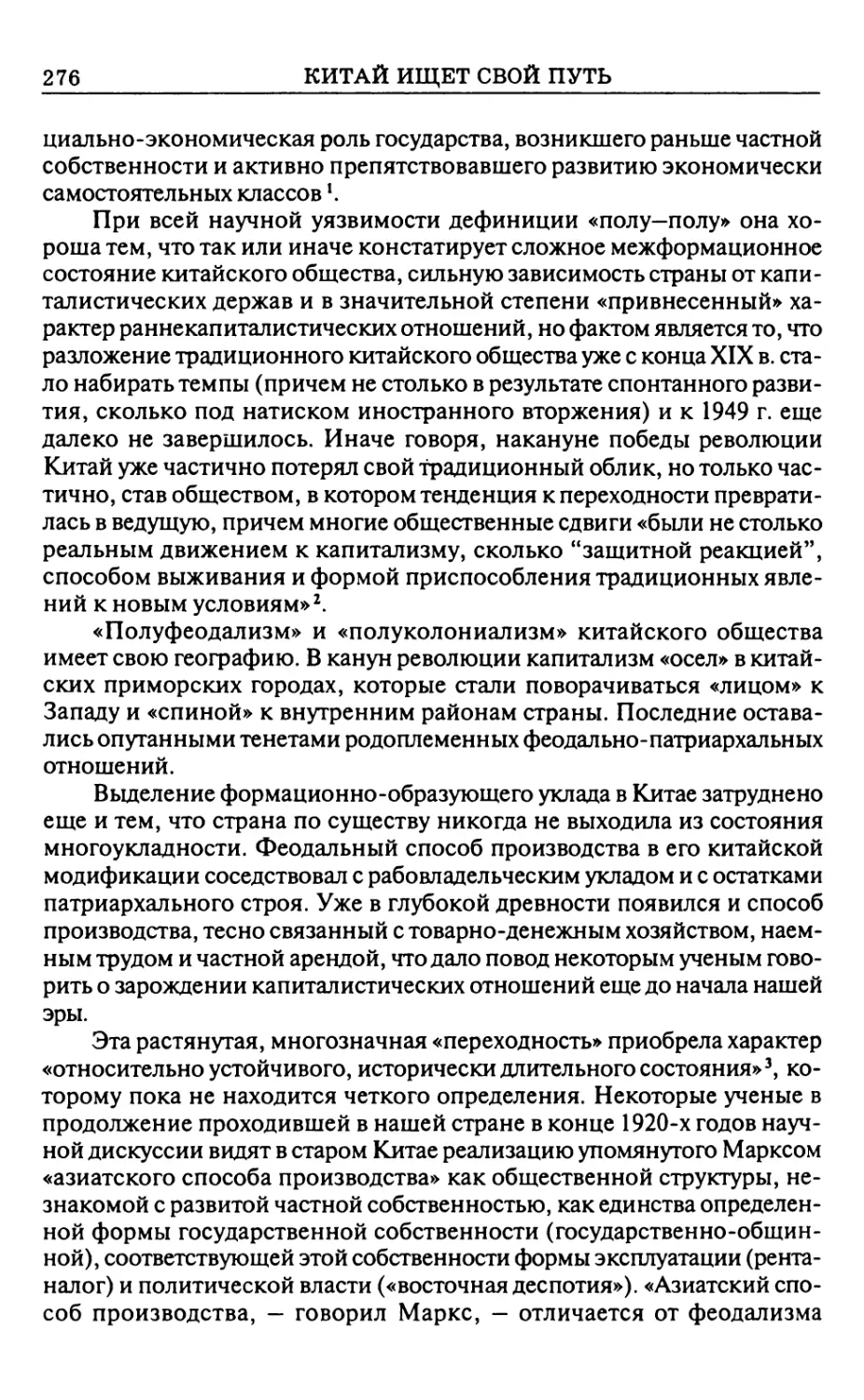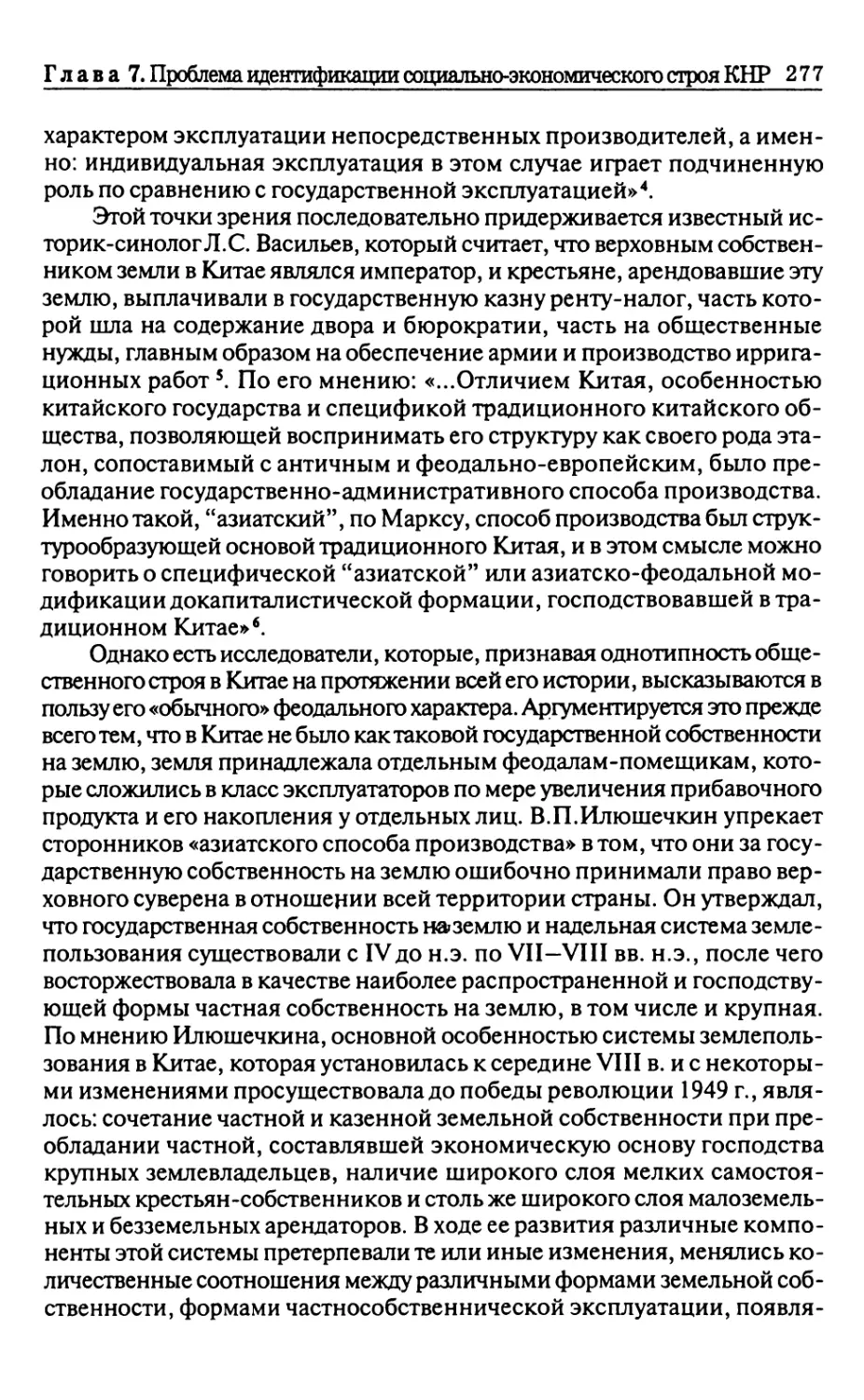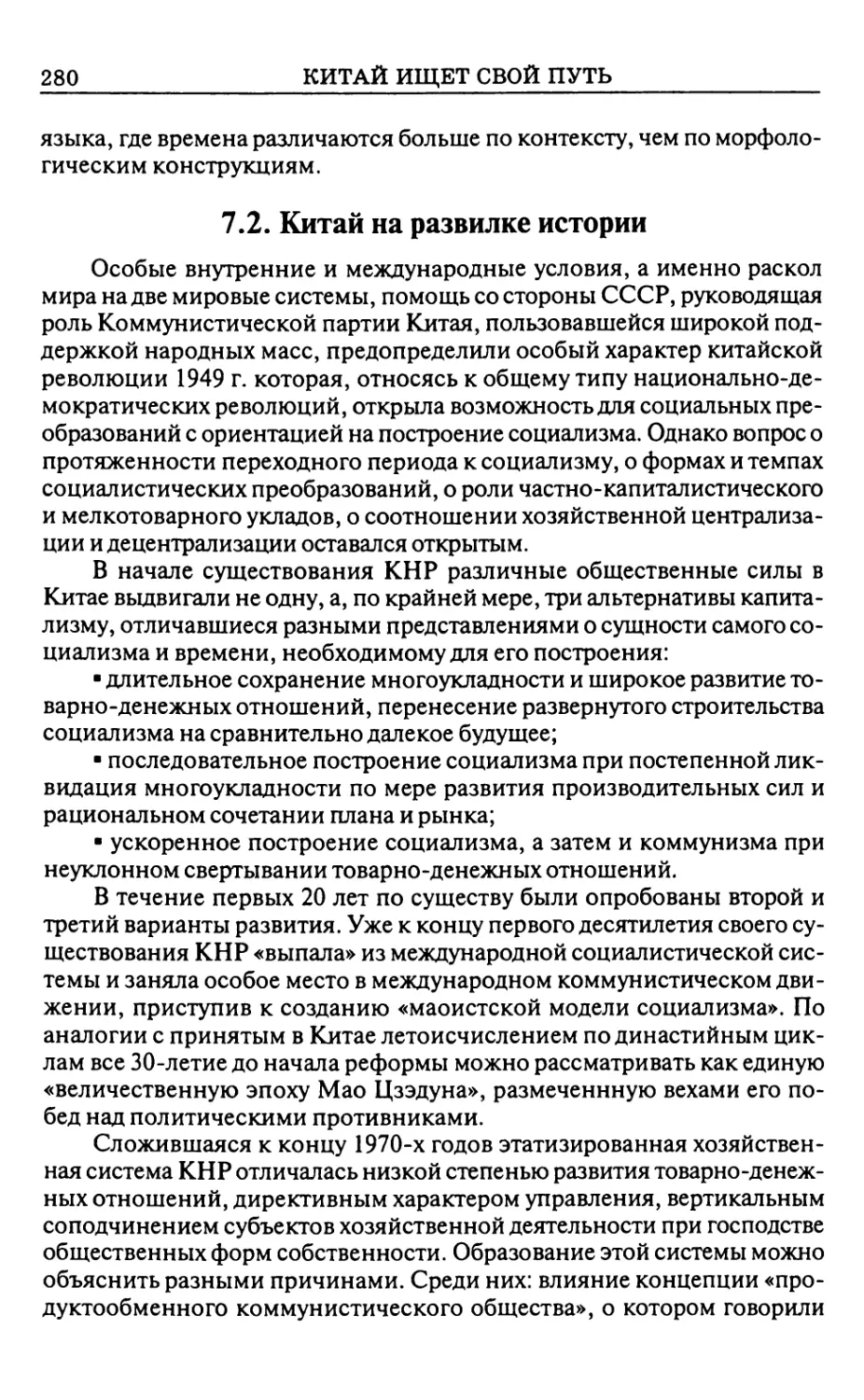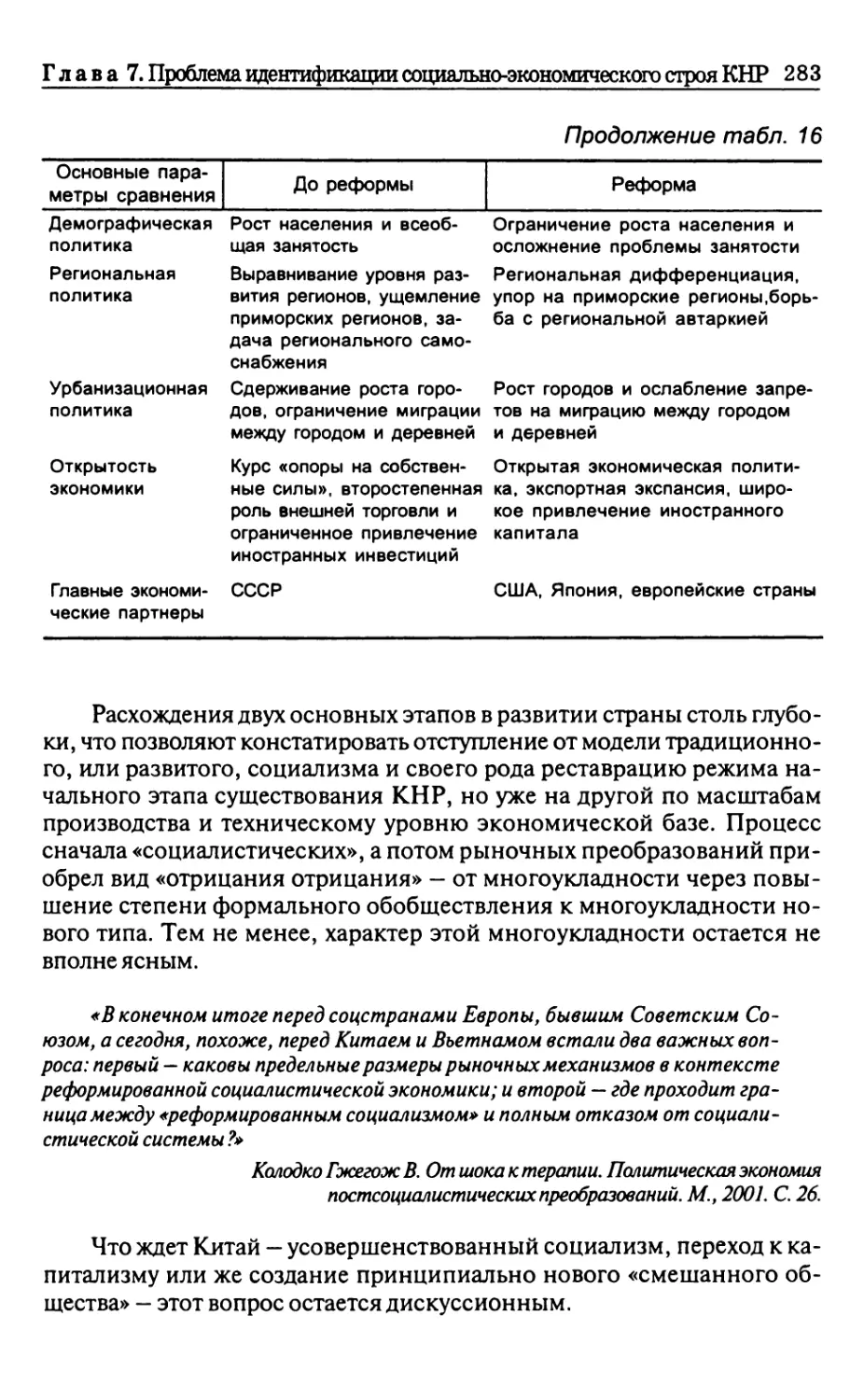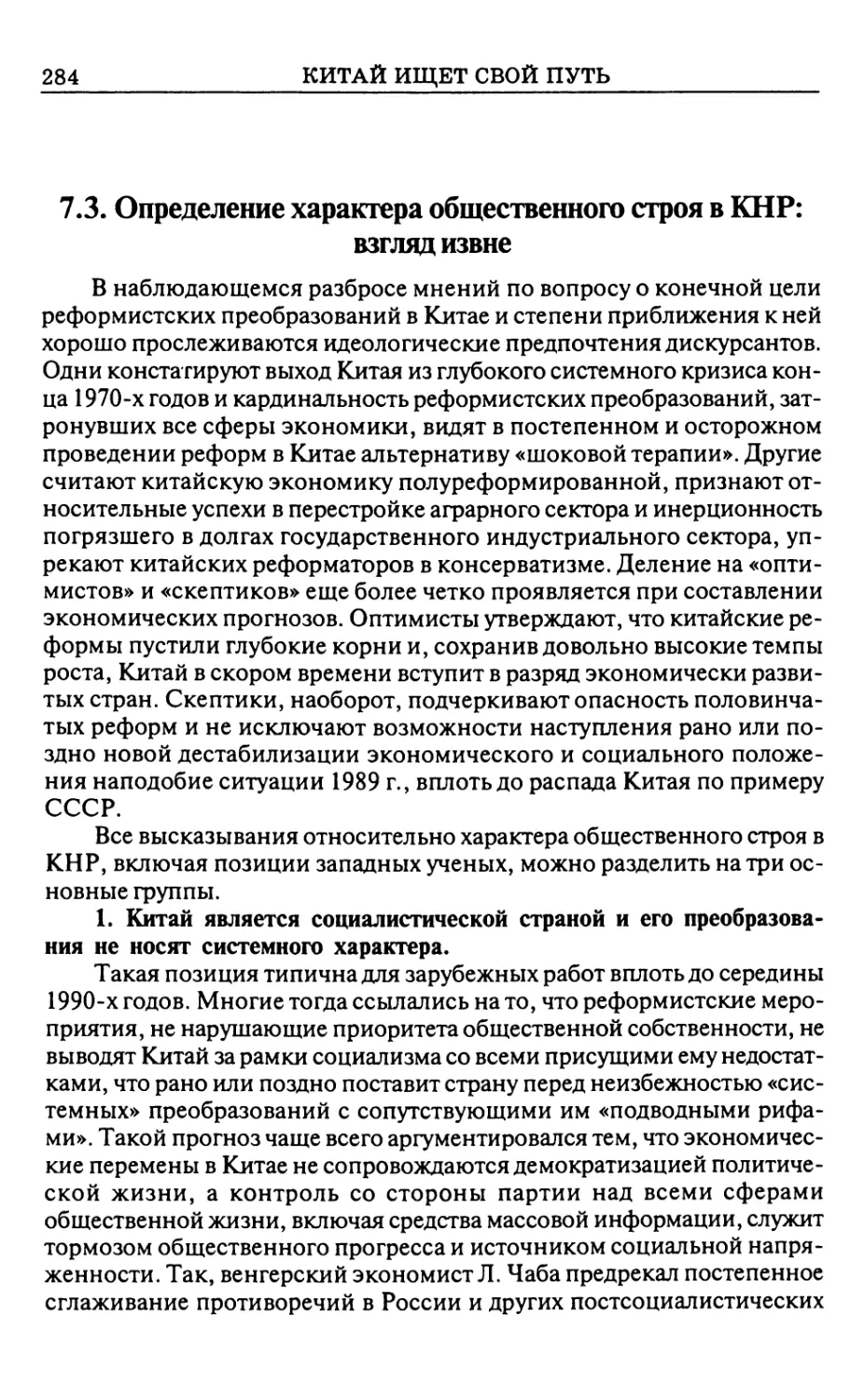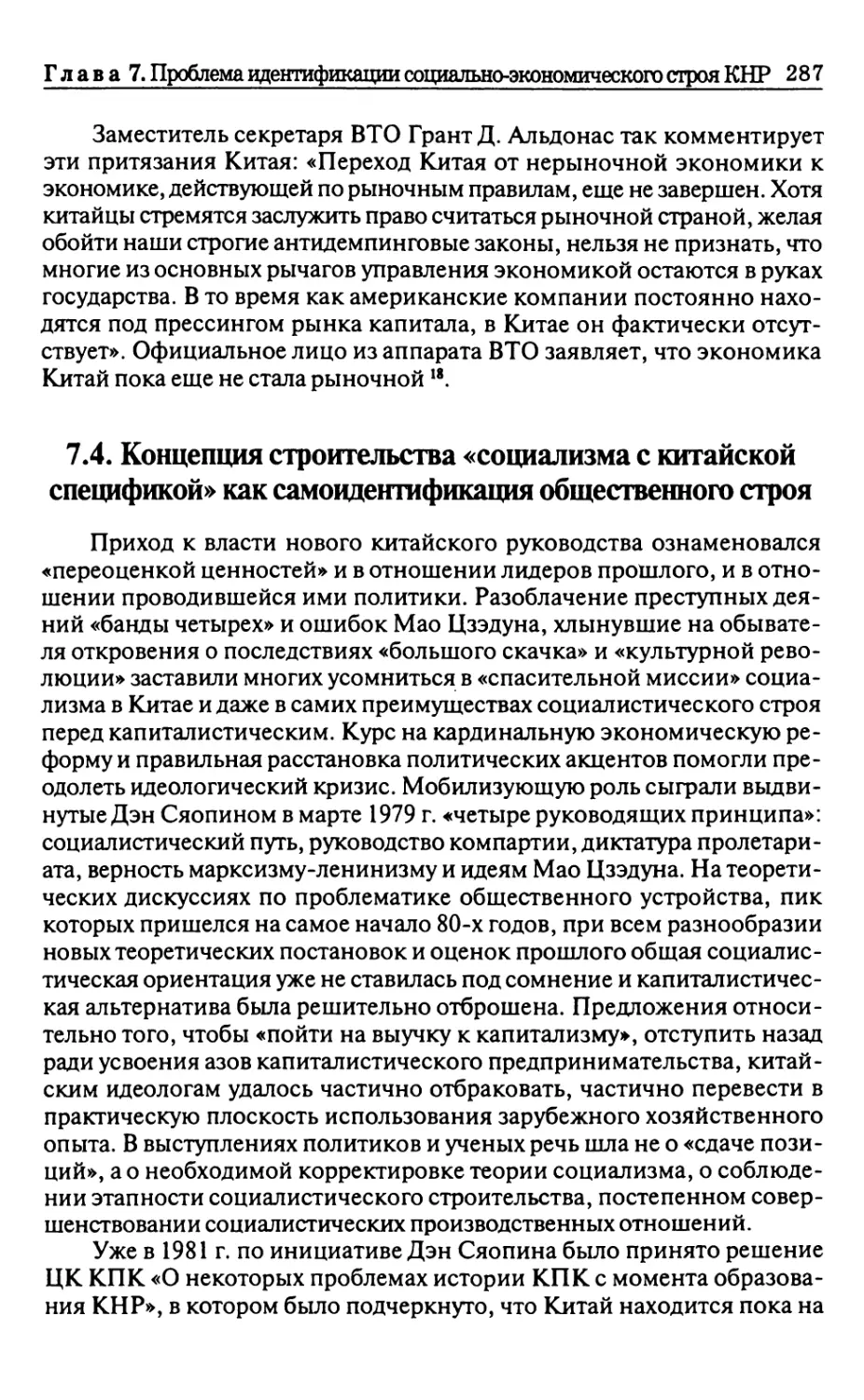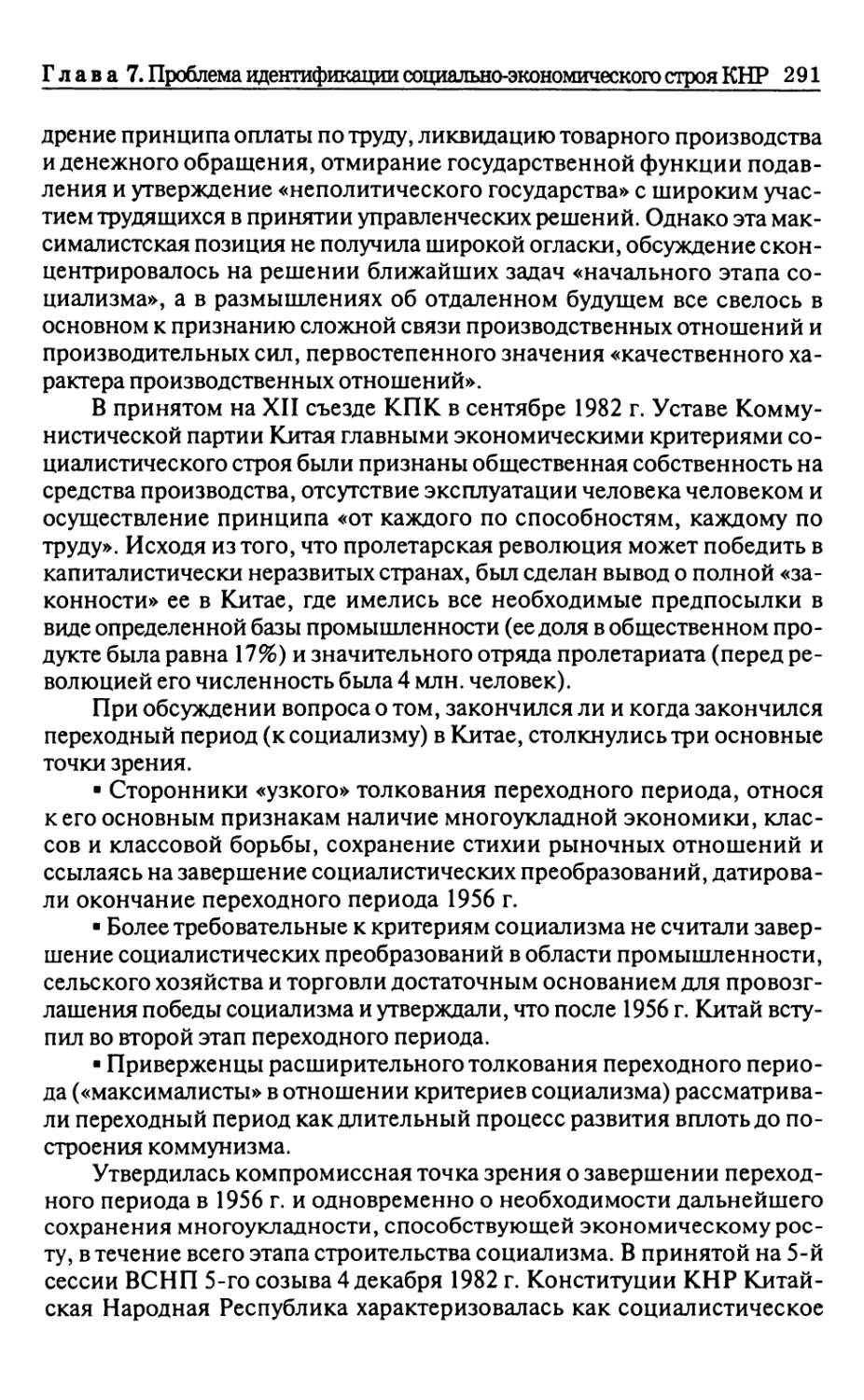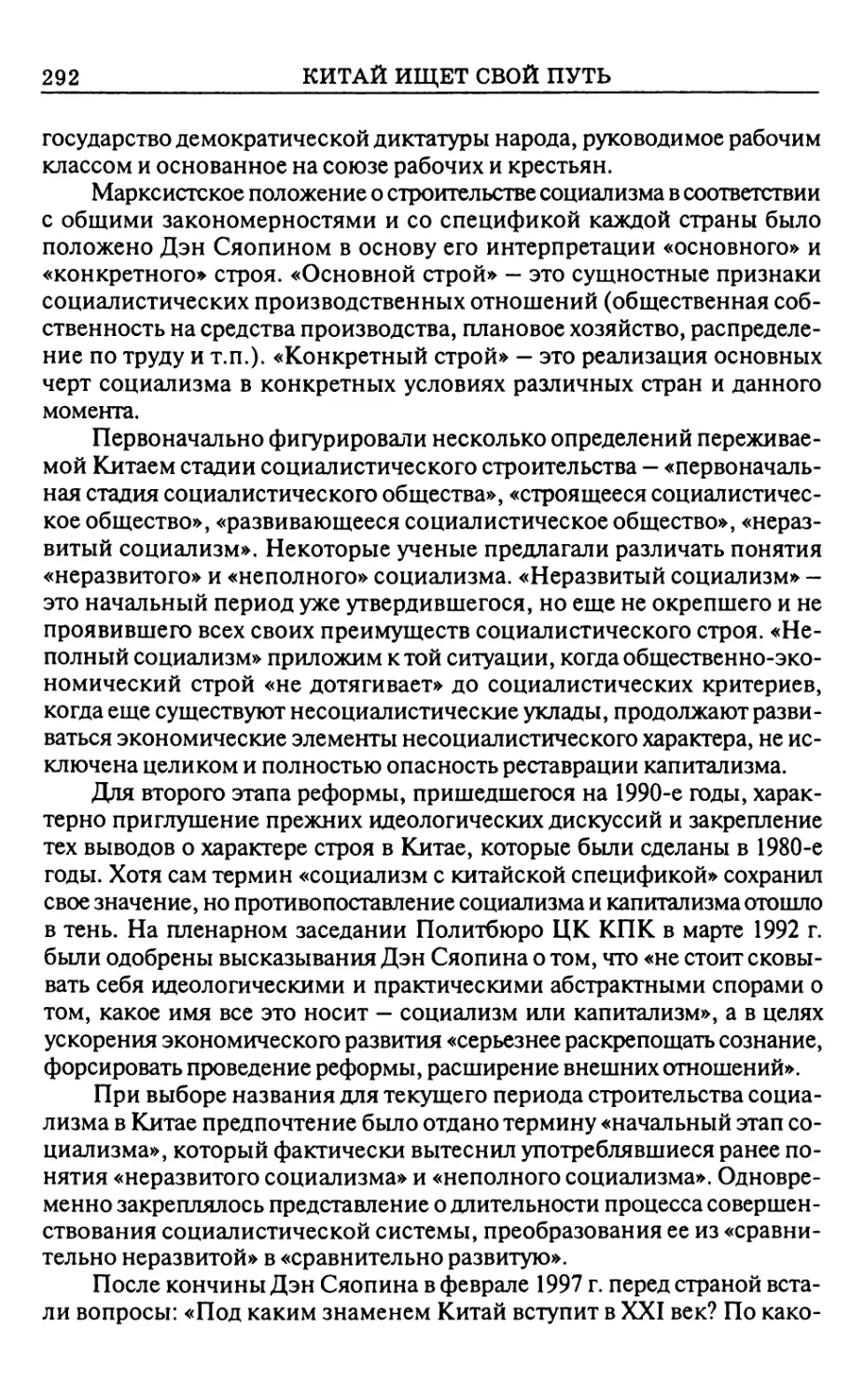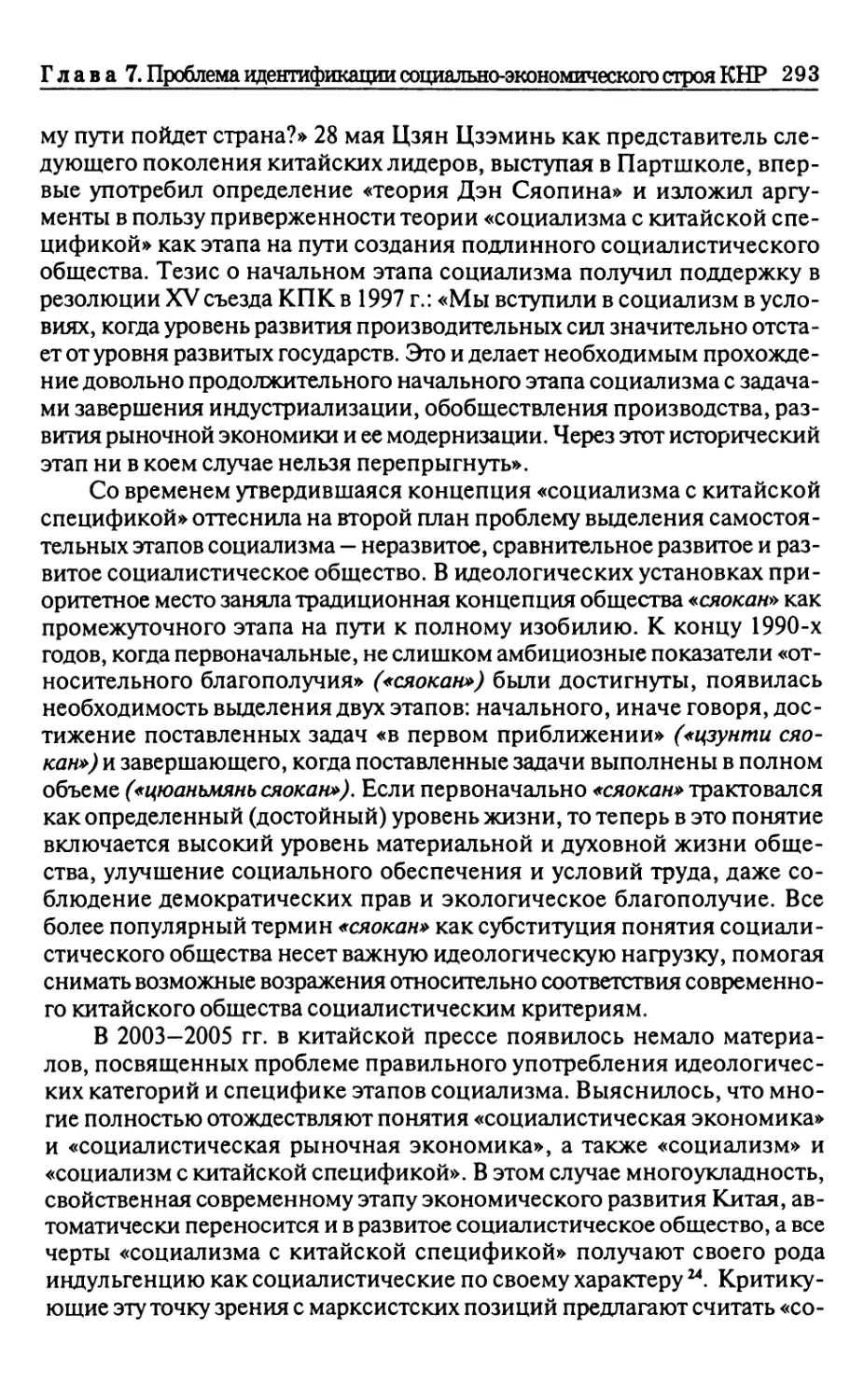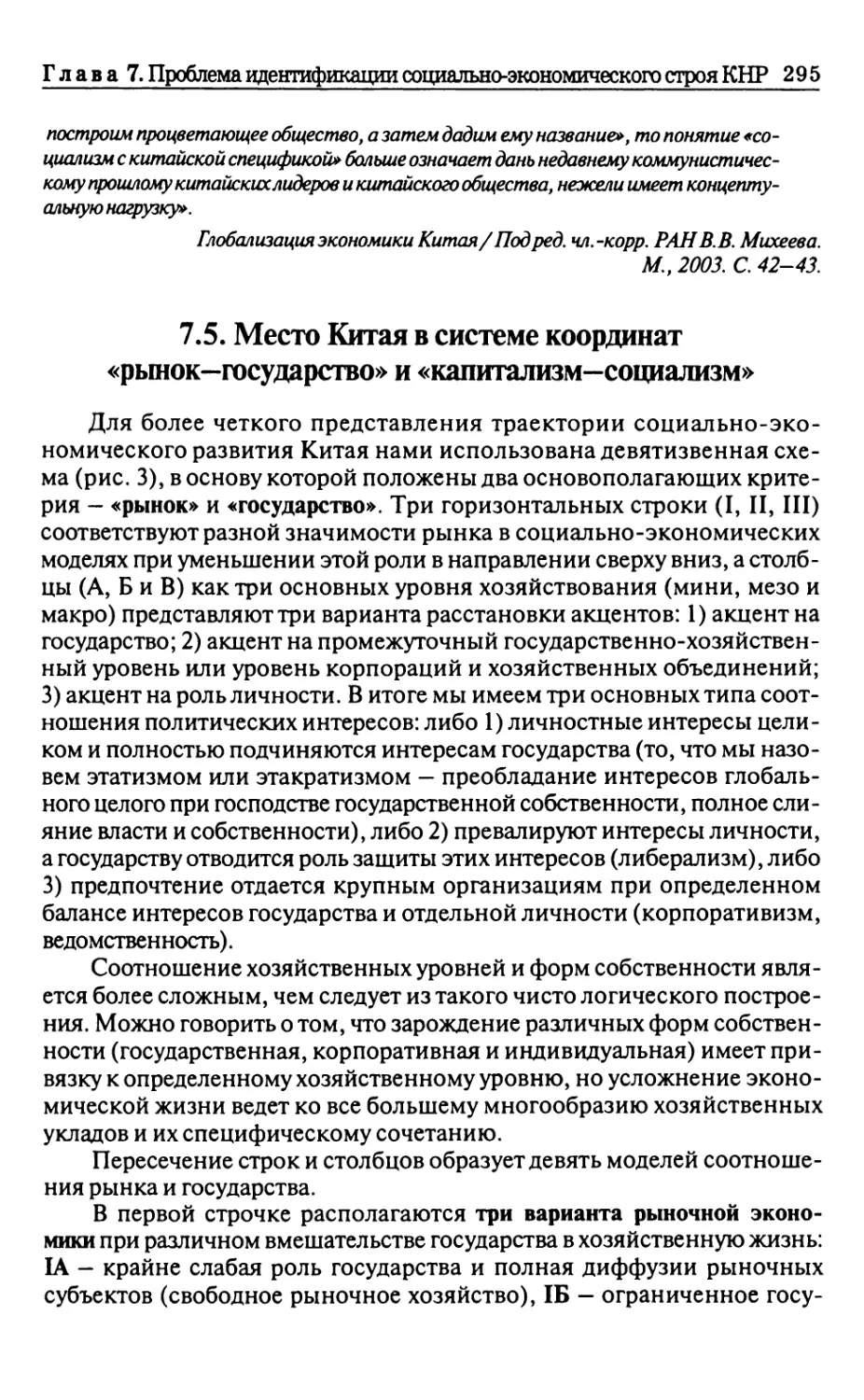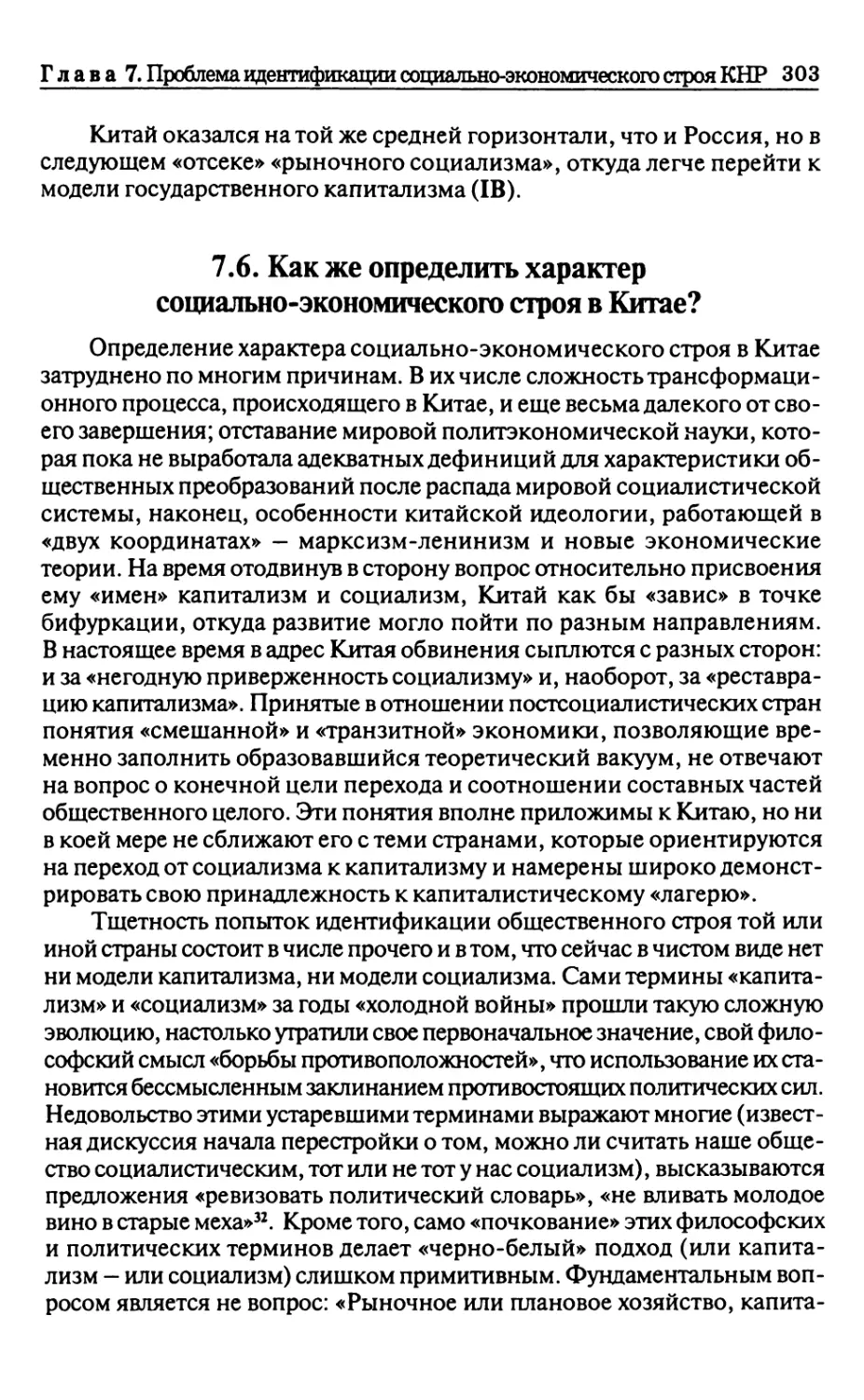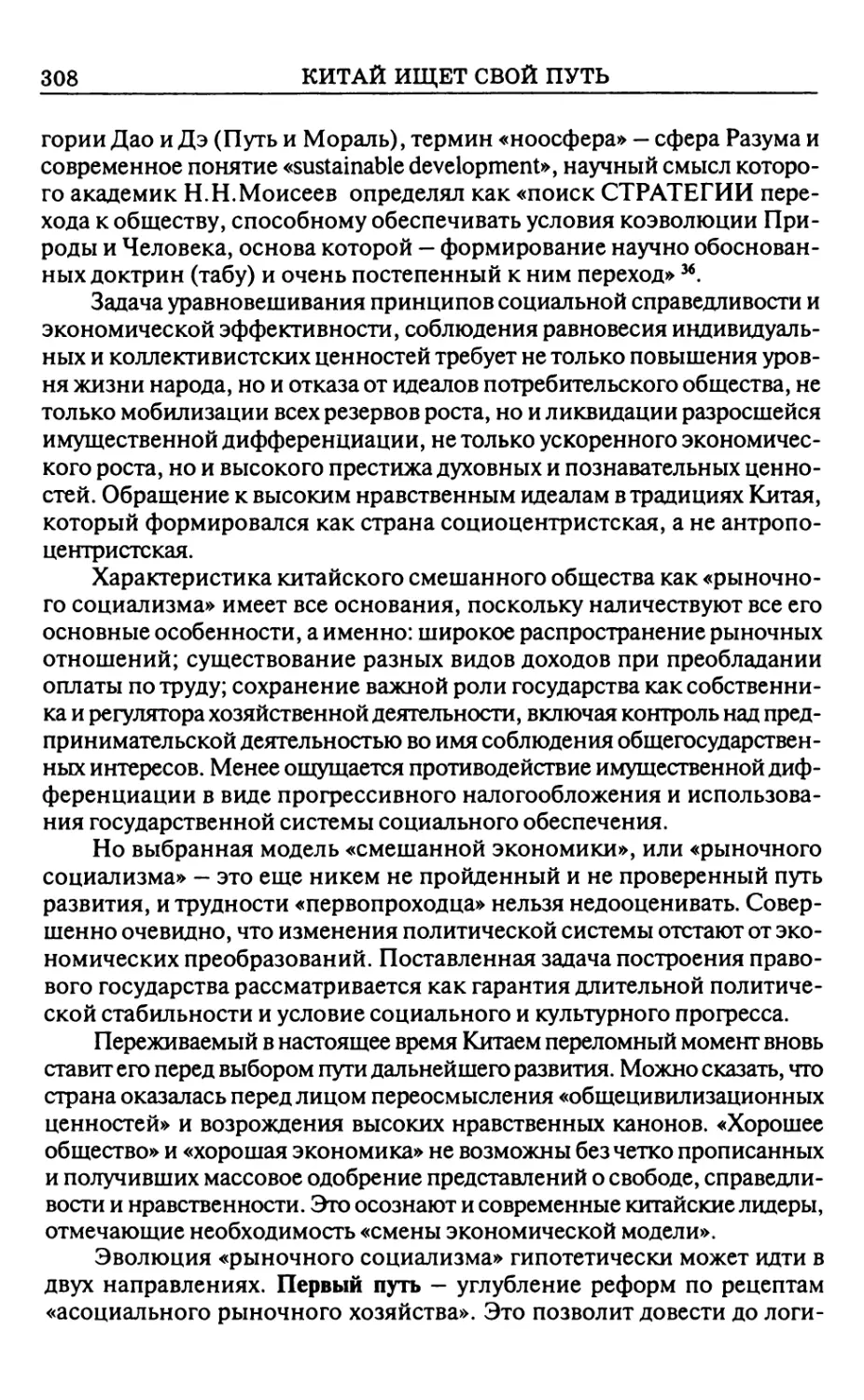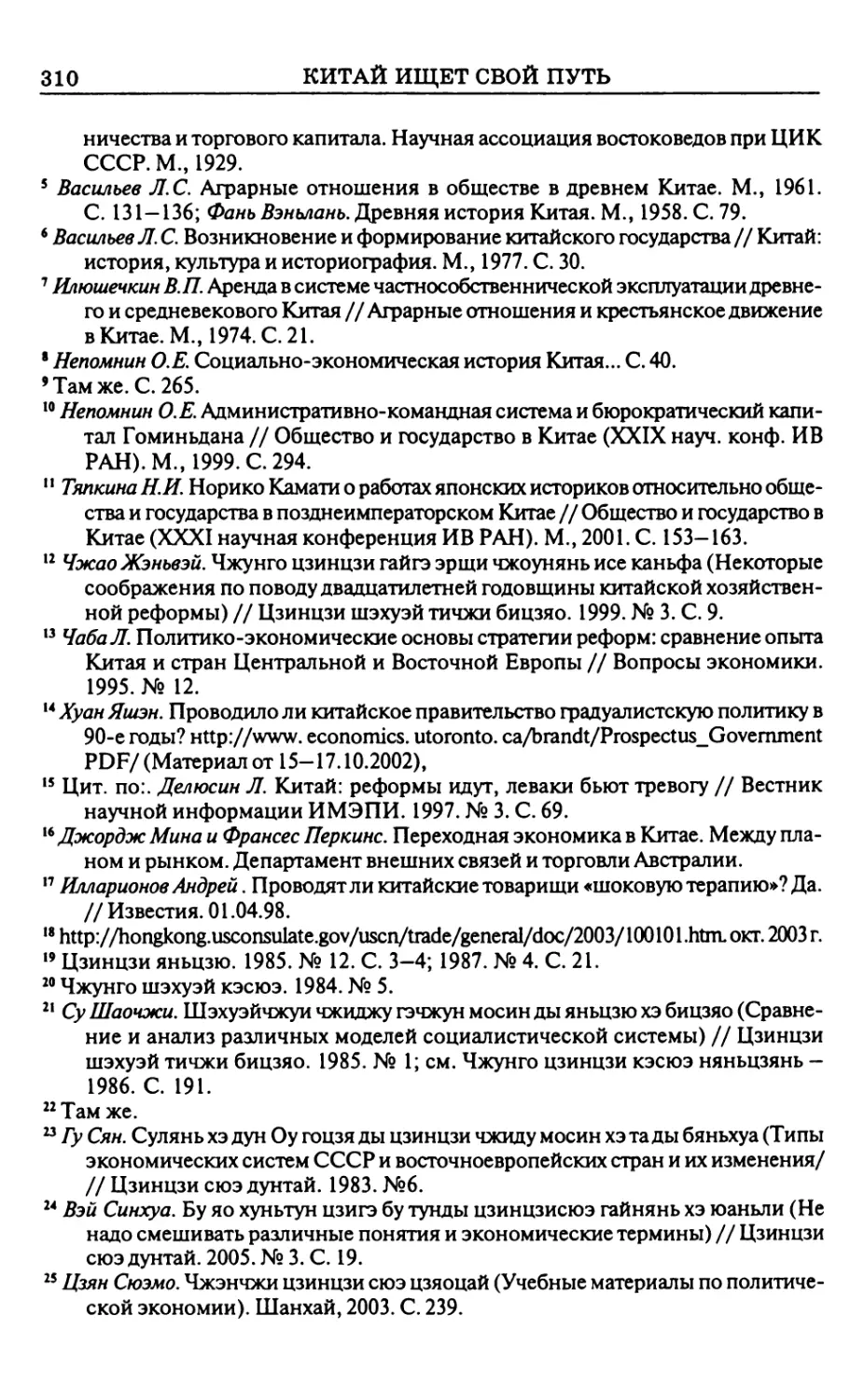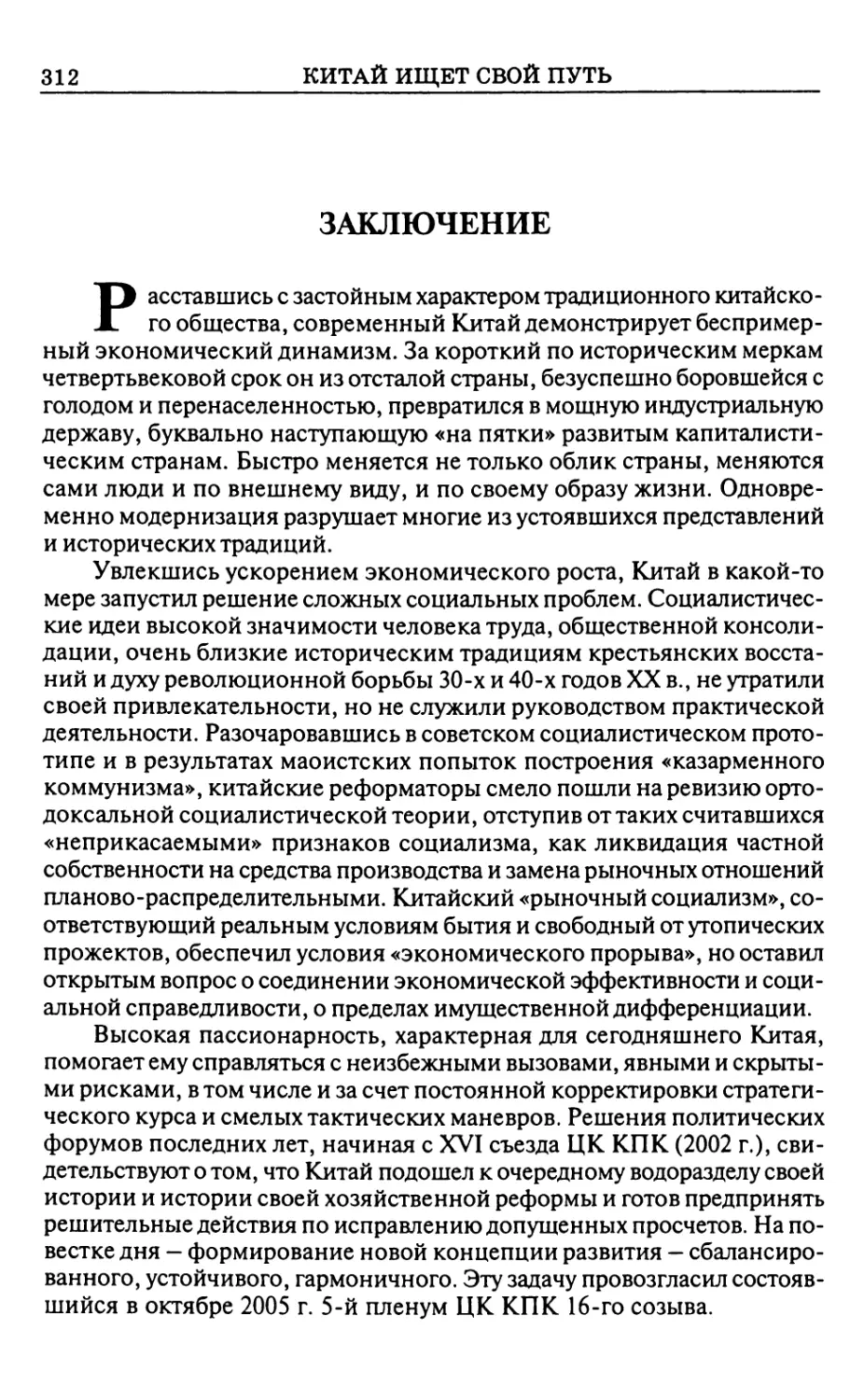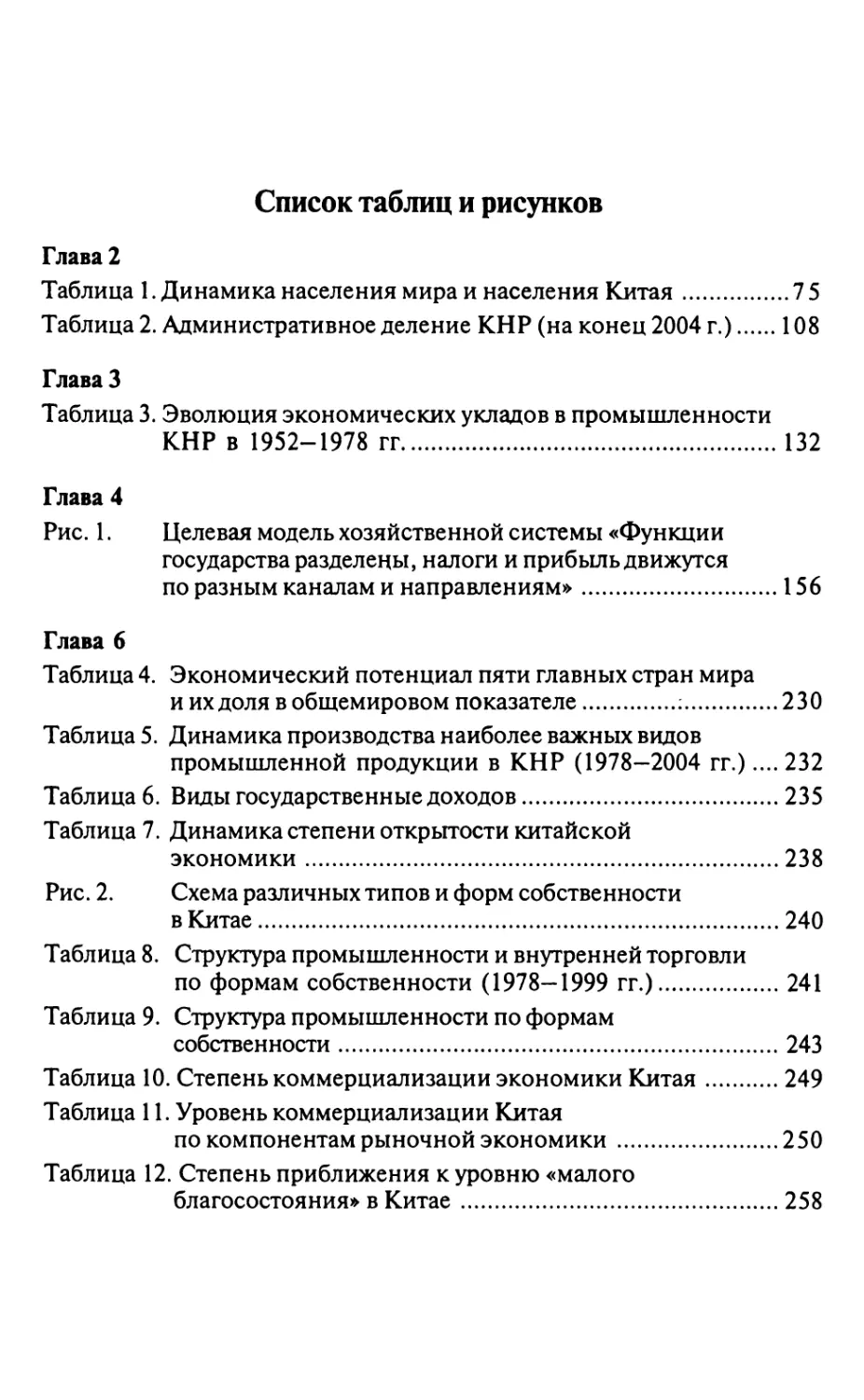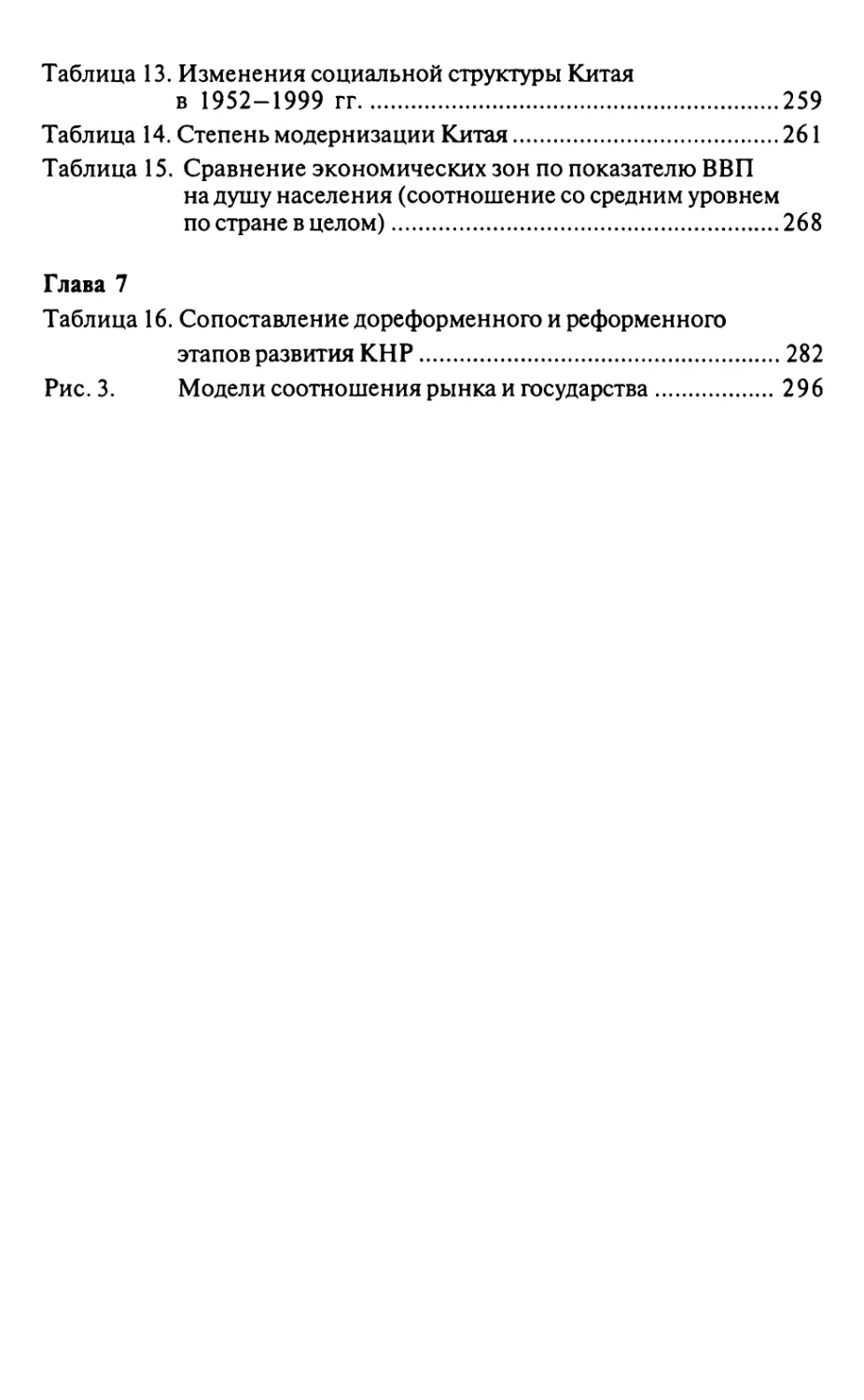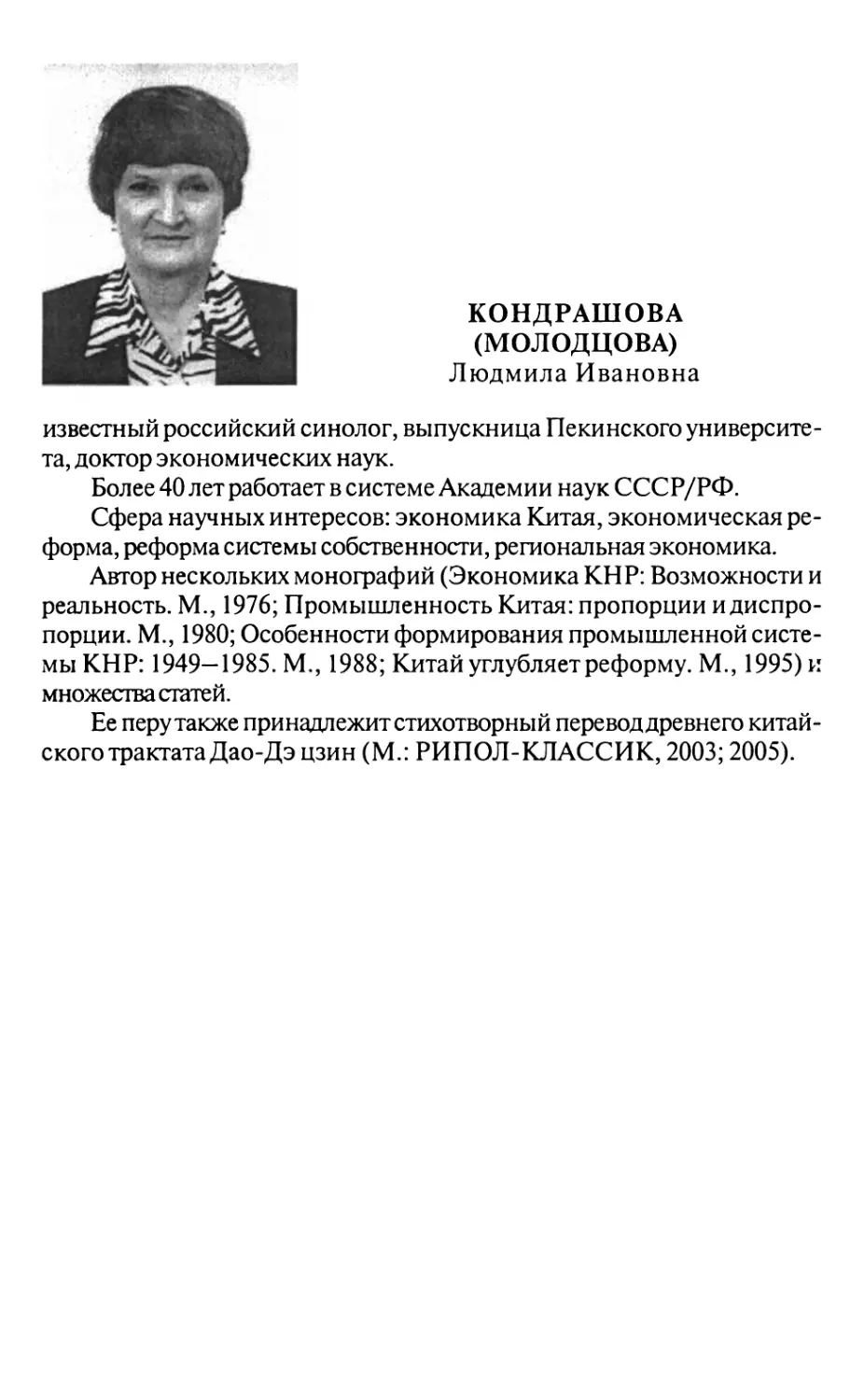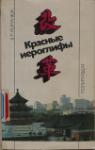Автор: Кондрашова Л.И.
Теги: экономическая политика управление и планирование в экономике мировая экономика история история китая издательство москва институт дальнего востока
ISBN: 5-8381-0104-0
Год: 2006
Текст
УДК 338.2
ББК 65.5 (5 кит)
К 64
Рекомендовано к публикации Ученым советом Института Дальнего Востока РАН
Научные редакторы:
д.э.н. А.В.Островский, д.э.н. В.И.Шабалин
Кондрашова Л.И.
Китай ищет свой путь. М.:Институт Дальнего Востока РАН, 2006.320 с.
Китай, или, как называют свою родину сами китайцы, Чжунго («срединное государство») — великая азиатская держава, самая многонаселенная страна в мире. Начав хозяйственную реформу в 1978 г., раньше других социалистических стран, Китай за прошедшие четверть века добился колоссальных успехов, но еще далеко не решил многие сложные проблемы экономической отсталости.
В чем специфика китайской реформы и каковы ее перспективы — на эти вопросы пытается дать ответ автор монографии. Сейчас в Китае берется на вооружение модель «гармоничного развития», нацеленная на совмещение динамичного роста и политической стабильности, экономической эффективности и социальной справедливости, традиций и модернизации, свободы человека и нравственных ценностей. Не в этом ли поиске «золотой середины» суть китайского «третьего пути»?
Книга рассчитана на экономистов, специалистов-международников, а также будет интересна широкому кругу читателей.
ББК 65.5 (5 кит)
ISBN 5-8381-0104-0
© Кондрашова Л.И., 2006
© Институт Дальнего Востока РАН, 2006
Оглавление
Вместо предисловия. Китай — страна древней и великой культуры 6
Глава 1. ПРОБЛЕМА ИСТОРИЧЕСКОГО ВЫБОРА 21
1.1. Стадиально-формационный и цивилизационный подходы
к периодизации исторического процесса 26
1.2. Понятия «рынок» и государство» 32
1.3. Понятия «частное» и «общественное» 37
1.4. Понятия «капитализм» и «социализм» 40
1.5. Теории «прогресса» и «модернизации» 51
1.6. Синергетический подход к «философии истории» 56
1.7. Теория «общественного синтеза» 63
Глава 2. СПЕЦИФИКА КИТАЯ 70
2.1. Природно-демографические особенности 70
2.2. Некоторые особенности исторического развития Китая 76
2.3. Особенности государственно-административного устройства 96
Глава 3. КИТАЙ: ОТ РЕВОЛЮЦИИ ДО РЕФОРМЫ (1949—1978 гг.) 111
3.1. Ход экономических преобразований до начала реформы 111
3.2. Общая характеристика дореформенной хозяйственной системы 131
Г л а в а 4. СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
(1978-2004 гг.) 143
4.1. Поиски стратегии экономического развития 144
4.2. План и рынок в стратегии развития 149
4.3. Собственность в стратегии экономического развития КНР 153
4.4. Место теории модернизации в экономической стратегии 159
4.5. Модели экономического роста 163
4.6. От автаркического развития к «открытой внешнеэкономической
политике» 167
4.7. Стратегия регионального развития 170
4.8. Социальная политика 176
Глава 5. ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ РЕФОРМЫ 183
5.1. Период 1979-1983 гг.: «плановое хозяйство - главное,
рыночное регулирование — вспомогательное» 184
5.2. Период 1984—1988 гг.: сочетание плановой экономики
и рыночного регулирования 188
5.3. Пауза в реформе (1989—1991 гг.) 192
5.4. Принятие курса на построение «социалистической
рыночной экономики» (1992—1996 гг.) 197
5.5. Общая ориентация на создание «цивилизованного рынка»
(1997-2001 гг.) 202
5.6. Современная корректировка хода реформы в плане
«гармоничного развития» (2002—2005 гг.) 210
5.7. Общие тактические особенности китайскойреформы 217
Глава 6. ИТОГИ 25 ЛЕТ РЕФОРМЫ 225
6.1. Темпы и уровень экономического развития 225
6.2. Показатели развития Китая в реальном и финансовом
секторах экономики 231
6.3. Изменения отношений собственности 237
6.4. Становление рынка и роль государства в развитии
рыночных отношений 245
6.5. Социальные сдвиги 251
6.6. Достижения политики модернизации 260
6.7. Проблемы китайской экономики и перспективы ее развития 263
Глава 7. ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТРОЯ КНР 275
7.1. Определение характера китайского общества
в канун революции 1949 г 275
7.2. Китай на развилке истории 280
7.3. Определение характера общественного строя в КНР: взгляд извне 284
7.4. Концепция строительства «социализма с китайской спецификой»
как самоидентификация общественного строя 287
7.5. Место Китая в системе координат «рынок-государство»
и «капитализм—социализм» 295
7.6. Как же определить характер социально-экономического строя
в Китае? 303
Заключение 312
Список рисунков и таблиц 317
Обавторе 319
pJCocSsau^emcfL кКонурашову ^Jkempy ^квммофеевччу, главному человеку вмоей экизни
Вместо предисловия
КИТАЙ - СТРАНА ДРЕВНЕЙ И ВЕЛИКОЙ КУЛЬТУРЫ
Страны, как люди, — особенны и неповторимы. Но в огромном «земном лесу» есть могучие и необычайно приметные деревья-исполины. Именно таков Китай, одно из самых больших по территории и самое многонаселенное государство мира с древней и великой культурой.
Иероглиф «вэнъ», являющийся первой частью бинома «вэнъсюэ» (культура), означает письменность. Одним из главных объединительных моментов китайского государства служит китайская письменность, знаменитая «китайская грамота», полная очарования и художественной прелести для ее знатоков и крайне загадочная и кажущаяся непостижимой для непосвященных. Знание иероглифов с древности разделяло китайскую нацию на две неравные части — образованных представителей элиты, из которой формировался правящий слой бюрократии, и неграмотный или полуграмотный народ, подчинявшийся канонам традиционной культуры.
Китайская письменность зародилась в середине II тысячелетия до н.э. и развивалась обособленно от устной речи. Древнейшими китайскими иероглифическими текстами считаются сделанные острыми предметами надписи на специально отполированных пластинах, изготовленных из черепашьих панцирей, которые найдены в археологических пластах эпохи Шан-Инь (XVI—XI вв. до н.э.). Наиболее древними знаками китайской письменности были пиктограммы, изображавшие определенные предметы, которые с течением времени упрощались и преобразовались в некое подобие первоначального образа. Рисунки- символы, по началу не обладавшие строго закрепленным количеством черт, постепенно унифицировались и уже не допускали какой-либо импровизации при их начертании. С течением времени пиктограммы видоизменялись, все больше отступая от рисунка- прототипа. Из сочетаний простейших письменных знаков (идеограмм) складывались более сложные иероглифы. Абстрактные понятия стали передаваться через соотношение с тем или иным нормативным символом или путем объединения нескольких простых иероглифов с определенным подтекстом. Так, понятие «хорошо» передается иероглифом, в котором рядом стоят пиктограммы «женщина» и «ребенок»», иероглиф «мужчина» образован путем совмещения рисунка поля с изображением мотыги, упрощенное начертание которой стало символизировать понятие «сила». Знак «светлый» (мин) состоит из двух символов — солнца и луны, иероглиф «лес» (линь) имеет в своем составе два знака «дерево» (му), а густой
Вместо предисловия
7
лес (сань) — три знака «дерево» и т.д. Многие иероглифы образованы по фонетическому принципу и включают «фонетик», подсказывающий произношение, и «ключ», объединяющий определенную группу знаковых единиц. Сейчас в системе китайской письменности насчитывается около 80 тыс. иероглифов, активное знание 8—10 тыс. указывает на высокую грамотность китайца, для чтения газет, написания писем вполне достаточно знать 4—5 тыс. иероглифов.
В китайском тексте не может быть морфологических ошибок, начертание иероглифа требует строго определенного сочетания графических элементов, к тому же наносимых на бумагу в фиксированной последовательности. Каждый китайский иероглиф несет в себе не только символически-смысловую, но и образную информацию, имеет не только лексическое, но и изобразительно-орнаментальное значение, что демонстрируют и археологические находки, и современные красочные уличные вывески. Одни иероглифы считаются более «красивыми» нежели другие, линии могут быть нарисованы с большим или меньшим приближением к идеалу. Китайцы всегда ценили выразительность иероглифов и изящество их перенесения на бумагу. Каллиграфия — искусство письма до сих пор считается вершиной художественного творчества, имена великих каллиграфов знали и знают все китайские интеллектуалы. Так, каллиграфический свиток Ван Сичжи (303— 379 гг.) «Беседка орхидей», созданный в 353 г., на протяжении веков пытались скопировать многие мастера, но оригинал остался неповторимым.
Китайский эссеист первой половины нашего века Линь Юйтан так говорит об искусстве каллиграфии: «Ван Сичжи и другие мастера каллиграфии сравнивали письмо на бумаге с действиями полководца на поле сражения. Бумага была полем битвы, кисть — боевым оружием, тушь — броней, а камень для растирания туши - преградою. Дарование или талант пишущего — это сам полководец, разум художника — это его генеральный штаб, структурная форма — боевой замысел или тактика; внезапное или мгновенное вдохновение, которое посещает пишущего и рождает его произведение или губит его, — это его судьба; главные черточки, которые пересекаются или взаимно проникают друг в друга, — это боевые команды; извивы и повороты—это отдельные рукопашные схватки; точки и капли—это отдельные подразделения; а долгие протяженные штрихи—это стяги войска».
Искусство стран Востока. М., 1986. С. 257—258.
Характерная для других народов связь графики знака и слова с их чтением в китайском языке отсутствует. Произношение иероглифа и мелодику слога (четыре тона) нужно просто заучивать. Нормативное звучание соответствует столичному (пекинскому) произношению, в других диалектах те же самые иероглифы произносятся иначе, что не позволяет перейти на фонетическую письменность. Иероглифическое письмо помогает преодолевать разобщенность между людьми, говорящими
8
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
на разных диалектах, и делает доступными древние документы и литературные памятники.
Китайские иероглифы лишены морфологических показателей рода, числа, времени действия и даже частей речи. К тому же смысловое богатство иероглифа поистине удивительно, что отнюдь не благоприятствует строгой содержательности научных терминов. В каждом иероглифе, передающем определенное философское понятие, есть и обычный «бытовой» смысл.
Эти особенности языка следует учитывать при толковании китайских философских и политических терминов. Так, все различия понятий «реформа», «революция», «трансформация», «модернизация», «прогресс» в среде европейцев — это разговорные нюансы одного и того же «языка». Даже звучание этих слов в устах англичанина, француза или русского почти одинаково, поскольку происходят они от одних и тех же латинских корней. Другое дело — китайский язык, основанный на иероглифической письменности. Китайская цивилизация столетиями оперировала своими собственными культурологическими понятиями, далеко не адекватными европейским. Необходимость перевода западных текстов возникла в Китае только с середины XIX в., когда в «растревоженной» иностранным вторжением стране развернулось освоение политических и философских доктрин западной либеральной демократической мысли.
К приходу слов-чужеземцев Китай, мягко говоря, был не подготовлен. Путь транскрибирования, выбранный Японией, в Китае оказался малопригодным — и из-за отсутствия алфавита и сложившейся системы транскрипции, и из-за фонетических расхождений в диалектах китайского языка. Перед переводчиками встала сложнейшая задача найти иероглифические аналоги таких категорий западной науки, как «классы», «общество», «свобода», «равенство», «республика», «демократия» и т.п. Найденные аналоги требовали разъяснений, проходили период адаптации, традиционная семантика в какой-то степени забывалась, но изначальное содержание подобранных иероглифов продолжало напоминать о себе.
В качестве примера можно взять китайские термины «реформа» и «революция». Они являются биномами, составленными попарно из трех иероглифов: «гай» — изменение, «гэ» — изменение (а также «кожа»), «мин» — «мандат неба», иначе «судьба». Таким образом, «гайгэ» (реформа) — это как бы изменение «в квадрате», хотя допустим перевод — «смена кожи». Когда конкретно вошел в обиход этот термин - пока не ясно. Еще в начале XX в. более употребительными были другие слова — «гайчжи» (изменение строя), «бяньфа» (смена законов).
Китайский эквивалент понятия «революция» — «гэмин» имеет еще более глубокий исторический подтекст. Средством легитимации власти чжоуских властителей (эпоха Чжоу - 1122-247 гг. до
Вместо предисловия
9
н.э.) служила идея «небесного мандата» (тянъмин), вручаемого Небом наиболее достойному правителю. Согласно этому представлению, в случае массовых недовольств, порочности правителей, их пренебрежения нуждами народа Небо (с большой буквы) имеет право сменить своего наместника на Земле, передать власть более достойному преемнику. Этот акт «передачи власти» по воле Неба (фактически смены династии в результате восстания низов) и получил название «гэмин». Конфуцианская идея «передачи небесного мандата» сыграла огромную роль в истории Китая. Она основана на представлении о небесном происхождении императорской власти, о предназначении «сына Неба» служить «отцом» всех жителей Поднебесной, способствовать ее процветанию. Если же он перестает быть таким «отцом-патроном», то как бы утрачивает «небесный мандат», который переходит к основателю новой династии. Долг народа — повиноваться императору, уполномоченному небесным правителем, и свергнуть его, если он не оправдал высокого «доверия». Через эту периодическую передачу «мандата» и происходит историческое движение, которое нельзя трактовать как неуклонное продвижение вперед, а только как бесконечное чередование династийных циклов.
Термины «рынок» и «государство» целиком порвали свои связи с прошлым, хотя и здесь история дает о себе знать. «Рынок» (шичан) — это городская площадь, где собирались торговцы и покупатели, а «государство» (гоцзя) — это государство-семья, древнее представление об основополагающем значении семейных связей, об устройстве государства как совокупности отдельных семей.
В китайской философии, истории и в обыденном сознании всегда особое значение придавалось «имени», обозначению предмета и явлений, которое позволяет их распознавать и соответствующим образом ранжировать. Это касается и личных имен, которые выбираются родителями с определенным пожеланием своему чаду, и обозначений династий. В Китае издревле считалось, что кардинальное изменение существующего порядка вещей связано с «изменением имен», переименованием. Эта традиция ведет свое начало от Конфуция. В суждении XIII «Лунь юя» приводится такая притча: «Цзы Л у спросил: “Вэйский правитель намерен привлечь Вас к управлению государством. С чего Вы начнете?”» Учитель ответил: «Начать необходимо с упорядочения названий (чжэнмин), которые не соответствуют сути!»
Исследователь жизни и философии Конфуция Л. С. Переломов пишет: «Царство Вэй являло собой классический, с точки зрения Конфуция, образец государства, где «названия» («правитель», «чиновник», «отец», «сын») «не соответствовали сути», а потому там и со словами, их передающими, «неблагополучно». Далее он рисует картину всеобщей государственной разрухи и нравственного опустошения, порожденных тем, что основа государственного устройства нарушена. Для такого царства возможен лишь один выход — необходима коренная перестройка, дабы
10
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
«названия» вновь стали «соответствовать их сути», тогда и слова правителя (букв, «то, что произносит») «станут правильными, и «дела будут ладиться».
Переломов Л. С. Конфуций. Лунь юй. М., 1998. С. 189.
Особого разговора с точки зрения «слово-знак» требует расшифровка названия страны, которой посвящено наше повествование. По поводу происхождения русского названия «Китай» есть разные мнения, чаще всего его связывают с этнонимом народа кидань, который заселял пограничную с Россией территорию государства Ляо, существовавшего с 916 по 1125 г. на обширной территории к северо-западу от собственно Китая. Таким образом русское название нашего великого восточного соседа — это по существу топонимический курьез, избавиться от которого уже не представляется возможным.
Первые контакты китайцев с европейцами датируются I в. н.э., когда китайские купцы привезли в Римскую империю шелковые ткани1. Шелк называли «серикум», самих китайцев «серами», а страну, из которой они прибыли, - Серикой. В средневековой Европе это название было забыто, и Китай именовали Сина от латинского эквивалента топонима Цинь (первая императорская династия) — Cinae (Chine, China). По-английски «чайна» обозначает также «фарфор», родиной которого является Китай. Английское наименование «Чайна» ассоциируется с китайским словом «ча», т.е. чай.
Так уж получилось, что все эти «государственные имена» не имеют ничего общего с китайскими самоназваниями — Тянъся (Поднебесная), Чжунхуа (Срединный цветок), Чжунъюанъ (Срединная равнина), Чжэньданъ (Восточная заря), Тяньчао (Небесная династия)2. Самое же распространенное самоназвание Китая — Чжунго, которое состоит из двух иероглифов — «чжун» (середина, центр) и «го» (стена, город, княжество, государство). Иероглиф «чжун» имеет вид горизонтально расположенного четырехугольника, пересеченного посередине вертикальной линией. Первоначально вместо четырехугольника рисовался круг, и в таком виде иероглиф напоминает сейчас изображение земного шара и его оси.
Как каждый китайский иероглиф, «чжун» имеет множество значений. Прежде всего, это — «центр», нейтральная «середина, обозначение определенного места в пространстве, от которого идут векторы в разные стороны (четыре стороны света — «сыфан»). В этом смысле Китай — не Восток и никакая другая часть света, а именно «центр», пункт пересечения направлений на север, юг, восток и запад.
Китайская картина мира с центром в Китае - это прежде всего утверждение уникальности своей страны, размежевание между «мы» и «они», между тем, что внутри (нэй), и тем, что находится вне (вай). Такой подход по существу аналогичен современным понятиям «центра» и «периферии». Их родоначальником считается И. Валлерстейн, кото¬
Вместо предисловия
11
рый при изложении своей теории мировых систем предложил рассматривать мировое устройство сквозь призму отношений между ядром (центром), полупериферией и периферией по принципу прежде всего экономических взаимоотношений и социокультурной близости государств3. В таком случае «Срединное государство» — это отношение коренных жителей к своей стране как центру мироздания, своего рода признание высшей значимости данного места и неповторимости данного мгновения («здесь и сейчас»), а также осознание общемировой значимости своей цивилизации. Если понятие «Тянъся» (Поднебесная) относится по существу ко всей ойкумене, то «Чжунго» — только часть этой ойкумены, хотя, может быть, и самая важная часть («пуп земли» с точки зрения ее властителей). Зто представление в чем-то сродни формуле «все дороги ведут в Рим», только в другом цивилизационном контексте. «Срединное» положение можно рассматривать и как нахождение в среднем течении р. Хуанхэ, и как совокупность территорий, заселенных в древности китайцами (впоследствии собственно Китай), картографическое изображение которых также близко к форме круга.
Смысл понятия «середина» может интерпретироваться как в более приземленном, так и в более возвышенном смысле, поскольку соотносится и с посредственностью, и с кульминационным моментом. Например, полдень — середина или высший пик суток (чжунъу). С этим значением «серединности», промежуточности перекликается понятие «золотой середины» как важной и ценной «умеренности», взвешенности, соблюдения должной меры. Как писал академик Н.И. Конрад, «середина на языке сунских философов (эпоха Сун) — то, что не склоняется ни в одну какую-либо сторону, не однобокое, а всестороннее, т.е. полноценное»4.
Иероглиф «чжун» своим начертанием также напоминает весы с двумя чашами на одном уровне. Его «стержень» символизирует нечто «третье», что уравновешивает крайности, сопрягает два начала — «темное» (инъ) и «светлое» (ян), устанавливает связь между «землей» и «небом». Конфуцианская идеология особенно ценила уменье правителя примирить противоборствующие стороны, обеспечить стабильность и порядок. Как пишет специалист по восточной философии М.Т. Степанянц, принцип «золотой середины» приобрел поистине всеобъемлющую значимость в китайской традиции. Он определяет специфику «стратегии смысла», своеобразие китайского пути к цели не напрямик, как это типично для Греции, а в обход. Соблюдение «золотой середины», необходимой умеренности как хрупкого баланса между «избытком» и «недостатком» выводит на конфуцианский принцип регуляции как контекстуальное «приведение в соответствие»5. При таком подходе размывается грань между стратегией и тактикой, движение не как приближение к какой-то цели, а как постоянная перестройка в соответствии с неуклонно совершенствующимся представлением об идеальном.
12
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
С такого рода трактовкой смысла значения «срединности» перекликается положение Б.С. Ерасова о духовной системе цивилизации, рассчитанной на охват всего населения, который происходит на основе «усредненных» норм и ценностей, создающих значимое единство и целостность всей духовной жизни.
«Как мы видели, духовная система цивилизации рассчитана на охват всего населения, объединяемого под “крышей ”общепринятых принципов, верований и норм. В зрелом состоянии расширение этого охвата происходит на основе “усредненных ”норм и ценностей, создающих значимое единство и целостность его духовной жизни. Эта совокупность формирует ту “срединную"культуру общества в целом, которая снимает напряженность оппозиционныхценностей, устраняет угрозу раскола и радикальной инверсии в его динамике... Именно в рамках “срединной "культуры формируетсяус- тойчивый нравственный идеал, приемлемый для широких масс населения на длительный период времени. В ее рамках снимаются крайности ценностных ориентаций: аскетизм-гедонизм, покорность—воля, свое—чужое, священное-бесовское, народное- антинародное, национальное—антинациональное, пролетарское—буржуазное и т.д. — и складывается устойчивый образ жизни, обеспечивающий умеренное благосостояние для широких слоев населения, доступные цели и средства реализации этих целей
Формирование “срединной ”культуры происходит параллельно с отторжением радикальных направлений в культуре. Борьбой против крайностей характеризуется ранняя история каждой цивилизации. “Срединная культура "проникает, не сливаясь с ней, в культуру повседневности, или обыденную культуру, формируемую прежде всего обычаями и нормами. Конечно, повседневная жизнь не лишена ценностных ориентаций, но прежде всего это витальные ценности — физическое благосостояние и комфорт, умеренная приверженность к таким социальным ценностям, как стабильность и порядок, нормативная активность и практицизм, групповая солидарность и т.д. Сама по себе культура этого уровня не обеспечивает значимых конечных ориентиров и способности общества к развитию илиуправлению сложными ситуациями».
Ерасов Б. С. Цивилизации. Универсалии и самобытность. М., 2001. С. 144—145.
Это промежуточное пространственное звено «чжун» выступало в свое время в виде сакрально-политического фокуса мирового пространства, персонифицированного мудрого правителя Поднебесной, олицетворяющего непосредственную связь с волей Неба6.
В древней китайской полумифической системе землепользования, получившей название «колодезной системы» от иероглифа «колодец», напоминающего вид сверху на колодезный сруб, среднее поле обрабатывалось всеми землепашцами сообща и символизировало государственное, «всеобщее» начало, принадлежность правителю «гуну». Одно из значений иероглифа «чжун» — беспристрастный, справедливый. Он входит в бином «чжунли», что можно перевести как «нейтралитет», но не в значении устраненное™ или отрешенности, а в смысле беспристрастной справедливости.
Понятие «центра» несет в себе также глубокое политическое содержание централизации, объединения разрозненных территорий в еди¬
Вместо предисловия
13
ное целое. Сочетание иероглифов «чжун» и «го» обозначало в эпоху Чжоу «срединные», т.е. расположенные в центре ойкумены удельные владения, принимающие власть правителя-вана7. Вся символика древних китайских сооружений (гробница Цинь Шихуанди, императорский дворец Гугун, Великая китайская стена) подчеркивала величие Центра, его структурной автономности от остального общества.
Сами же древние китайские империи называли себя по символам правящей династии — Хань, Тан, Сун, Ляо, Цзинь, Юань, Мин. Последняя китайская империя носила название Цин, а ее правители в договорах с иностранцами именовали ее Дацин — т.е. Великая Цин. После революции 1911г., положившей конец многовековому существованию императорского Китая, государство приняло в качестве официального более развернутое название — Чжунхуа миньго, что дословно можно перевести следующим образом — Центральное (или Срединное) цветущее народное государство. В 1949 г. была образована Китайская Народная Республика, что звучит как Чжунхуа жэнъминъ гунхэго, а дословно переводится как Срединное цветущее народное государство всеобщего согласия.
Современные интерпретаторы обращают внимание на еще одно значение «чжун» — попасть в цель, добиться успеха, что служит ориентиром правильного государственного управления (сам иероглиф при определенной доле фантазии напоминает мишень со стрелой, попавшей в «десятку»).
Проблемы государственного управления занимали крайне важное место в трех главных китайских идеологических течениях, соперничество которых достигло крайних форм в эпоху Чжаньго. Специалисты называют период VI—V вв. до н.э. «золотым веком китайской философии», который на многие века оплодотворил китайскую культуру и фактически определил главное направление ее дальнейшего развития, формирование социального, в частности, управленческого идеала8.
В основу конфуцианского учения был положен принцип этического управления, т.е. управления на основе сложившихся традиций и этических норм при соблюдении установившейся социальной иерархии «государство — правитель — подданный» и перенесением норм родственных отношений на все государственное устройство глава клана (государство) — глава семьи - (правитель) — члены семьи (население).
Учение Конфуция было направлено на активное претворение в жизнь определенного социального идеала, взятого из мифологизированного исторического прошлого. Таким идеалом для Конфуция, а затем в течение многих веков для его последователей был «коллективистский» принцип социальной структуры и государство, построенное по типу патриархальной семьи и имеющее прямые контакты с «мини-коллективом» (семья, клан, городская корпорация), но не с отдельной личностью. Каждый человек включался в низовую корпоративную организацию и через нее приобщался к высшей («всеобщей») коллективное-
14
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
ти, олицетворяемой «сыном Неба». Истинно человеческие отношения, по учению Конфуция, строятся на чувстве долга индивида перед малыми и большими социальными образованиями в виде семьи, клана и государства, что означает беспрекословное следование всех живущих заветам предков и покорное выполнение своего предназначения каждым индивидуумом.
В конфуцианском понятии ритуала (ли) была заложена идея саморегулирования общества в соответствии с определенными принципами, превалирование вертикальных связей (административной иерархии) над горизонтальными (предтеча современного институционального подхода). Правитель, следуя традиционным нравственным установкам, должен был заботиться о благе своего народа. Члены государства-семьи (простолюдины) обязаны были служить сохранению целостности государства и соблюдать установленный порядок. Чиновники как главная опора государства должны были выполнять волю правителя, ориентируясь на поведение «благородного мужа» (цзюньцзы), В бюрократическом аппарате Срединной империи главная роль отводилась императору, который наделялся сверхъестественными способностями, непререкаемым авторитетом и колоссальной властью. «Каков правитель, таково и государство; от степени его мудрости зависит как состояние дел в стране, так и высшая санкция Неба. Поэтому налаживание умелой и эффективной администрации всегда считалось делом первейшей социально-политической важности — да оно и было таковым в условиях, когда от мудрого либо дурного правления зависело столь многое»9.
Конфуций выделял три типа государства, когда критерием являются профессионализм и нравственность управляющих, ответственных за благосостояние народа:
■ хорошо управляемое государство («государство, где царит Дао- путь»);
■ плохо управляемое государство («государство, лишенное Дао- пути»);
■ лишенное всякого управления государство («государство, где царит хаос»).
В государстве первого типа перед каждым открываются нравственно обусловленные возможности реализации «естественных устремлений» — все зависит от самого человека; нищим может оказаться только бездельник. В государстве второго типа, лишенном нравственных основ, процветать могут лишь аморальные люди (сяожэнь), а честные, знающие и трудолюбивые оказываются невостребованными. Что же касается третьего типа, то Конфуций говорит о невозможности длительного проживания в таком государстве, подразумевая, что люди сами должны навести там порядок: «В государстве, где царит Дао-Путь, стыдно быть бедным и незнатным. В государстве, лишенном Дао-Пути, стыдно быть богатым и знатным»10.
Вместо предисловия
15
Среди китайских философских течений конфуцианство было одним из самых консервативных, выступавших против отступлений от канонических начал и освященных традиций. Одно из известнейших изречений Конфуция: «Зачем непременно нужно менять, не лучше ли оставить все как есть?» Тем не менее, конфуцианская традиция признавала поступательность общественного развития и необходимость реформ как профилактических мер, предназначенных периодически оздоравливать общественный организм и ставить заслон хаосу и беспорядку.
Последователь Конфуция Мэнцзы считается ярым приверженцем права народа свергать правителя, не оправдывающего надежд простых людей («гэмин»), ему также принадлежит одно из первых описаний системы «и^интянъ» («колодезных полей») — наделения всех земледельцев равновеликими пахотными полями («Если есть постоянное имущество, то есть постоянство).
Легизм, опиравшийся на понятие закона — «фа» как жесткой юридической нормы, отстаивал рациональные основы общественной жизни, что связывалось с сознательным воздействием на нее умелых правителей. В отличие от конфуцианцев легисты предлагали поставить бюрократию под власть Закона, организовать систему жесткого контроля, пресекающего коррупцию, взяточничество, произвол и т.п. Их идеалом было сильное государство и твердый порядок, а достичь цели предполагалось методами всеобщего нормативного регулирования. Эта управленческая модель оказалась в наибольшей мере соответствующей требованиям «первоначального накопления» финансовой и военной силы и способствовала победе государства Цинь над своими конкурентами и образованию первой китайской империи, но ее дальнейшее усиленное проталкивание вызвало серьезные волнения и в конечном счете способствовало падению циньской династии.
Принципиально иная политическая культура, отличавшаяся и от конфуцианства, и отлегизма, характерна д ля трактата «Дао-Дэ цзин», авторство которого приписывается Лаоцзы. Учение о Дао (Пути) и Дэ (Нравственности) легло в основу всей китайской культуры. Перевод этих иероглифов на русский язык в силу многозначности их смысла очень сложен. Как высшая ступень мироздания Дао выступает в образе Космоса, в этом смысле оно близко к понятию самой природы, где все вещи и явления находятся в тесной взаимосвязи и в процессе постоянного изменения. Эта движущаяся материальная субстанция подчиняется закону самоорганизации, выражая тем самым творческое, созидательное начало мироздания. Если перевести это слово как «путь», то это высшая, не подверженная тлению и распаду вечная жизнь, само течение Времени. По существу идея Дао идентична философской концепции Абсолюта.
С позиций современной науки своего рода индифферентность концепции Дао и всей китайской классической философии по отношению к разделительным понятиям «материализм» и «идеализм» является не
16
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
отступлением от общего правила, а гениальным прозрением в отношении единства мироздания, его физического и идеального начал. Сам китайский термин Природа (цзыжань), который упоминается в трактате, т.е. самоорганизация, перекликается с современным понятием «синергетика» (согласованность, взаимодействие).
«Дао, — писал выдающийся российский китаевед В.М. Алексеев, — есть сущность, есть нечто статически абсолютное, есть центр круга, вечная точка вне познаваний и измерений, нечто единственно правое и истинное. Оно — самопроизвольная самоестественностъ. Оно для мира вещей, человека, поэта и наития есть Истинный Владыка... Небесный станок, лепящий формы... Высшая Гармония, Магнит, притягивающий к себе не противящуюся ему человеческую душу... Таково Дао как высшая субстанция, инертный центр всех идей и всех вещей».
Алексеев В.М. Китайская поэма о поэте. Стансы Сыкун Ту. Пб., 1916. С. 17.
Русский китаевед С. Георгиевский в 1885г. писал:«.. .ПоучениюЛаоцзы, многообразие видимого мира есть не что иное, как выражение жизни дао, вечного, единого, абсолютного. Дао является и мировой материей, и мировой силой, и мировым разумом».
Георгиевский С. Первый период китайской истории. СПб., 1885. С. 300.
Одна из самых глубоких трактовок Дао принадлежит профессору Московской духовной академии С. С. Глаголеву. «Слово... дао собственно значит дорога, путь. Книга даосизм определяет его образно и многообразно. Трактуя эти определения, под ними хотели понимать мировой разум, неоплатонический логос, откровением которого является вселенная. Но, по-видимому, понятие дао и шире, и уже понятия неопла- тоновскогологоса. Логос неоплатоников есть божество, представляет собой действительную реальность. Дао Лао-цзы не бог, да Лао-цзы в своей системе и не отводит места божеству. Таким образом, дао как будто уже логоса. Дао только потенция бытия. Но, с другой стороны, дао есть и само бытие, все существующее, и тогда понятие его становится несравненно шире понятия логос. Дао больше, чем путь. Это путь и путник вместе. Это — вечная дорога, которую проходят существа и предметы. Его не создавало никакое существо, так как оно само есть сущее. Оно есть и ничто, причина и следствие... Дао — это естественные законы бытия и осуществление их в бытии...».
Глаголев С. С. Религии Китая. М., 1904. С. 33.
В паре с Дао выступает другое важнейшее понятие китайской философии —- Дэ. Эта категория не имеет терминологического эквивалента в западных языках. Наиболее распространены следующие его переводы: рус. — закономерность, манифестация, (постоянные) свойства, (хорошие) качества, дарование, добродетель, достоинство, достижение, достояние, доблесть, энергия, сила; англ. — virtus, character, (moral) power, moral force, particular focus; франц. — bienfaisance, efficience; нем. LeBenskraft11. Если «Дао» — это природное самоорганизующееся начало, высшая гармония мира, то «Дэ» — это высшая мораль как осозна¬
Вместо предисловия
17
ние этой гармонии и ответственность человека за ее сохранение. Слово «даодэ» в современном китайском языке означает мораль, нравственность.
Идеи Лаоцзы созвучны основополагающим представлениям «экологической этики», современного направления философских исследований как реакции на деградацию Природы вокруг нас и в нас самих. Особая миссия в Трактате возлагается на «священномудрых» (цзюньцзы), которые являются посредниками между Дао и человечеством, а также между правителями и народом («книжники», философы, интеллигенция в современном понятии). Эти лица являются носителями «знания», которое по сути своей не может быть всеобщим (в полном соответствии с сакральностью знаний в эпоху зарождения науки) и «излишним» (т.е. не помогающим людям, но мешающим им). Мудрые наставники и мудрые правители сами живут по «канонам Дао» и учат на своем примере других, не прибегая ни к какому насилию. Если придерживаться тезиса Канта о различии между «разумом» и «рассудком», то отношение к науке (знаниям, учебе) в Трактате — это приоритет «разума» над «рассудком», философии как науки разума над узко понимаемой рациональностью.
В противоположность конфуцианству и легизму, делавшим ставку на ту или иную форму организации — через «ли» (нравственные установки) или через «фа» (закон), в учении Лаоцзы (философский даосизм) на первое место ставилась самоорганизация как всего миропорядка, так и человеческого сообщества. Учение Лаоцзы — это модель «ненасилия» («не навреди!»), т.е. «слабого государства», в котором задача управляющих — минимальное вмешательство в естественный ход вещей. Однако «свобода по Лаоцзы» предполагает наличие нравственной личности, которая живет по «внутренним ограничениям», и нравственного правителя, который действует в интересах общества и его просвещения (приобщения к Дао). По своему отношению к природе Лаоцзы альтернативен техногенной цивилизации, а по своему отношению к свободе личности и роли власти — он альтернативен традиционной цивилизации и бюрократическому государству. Такой «либерализа- ционный» проект в ту переломную эпоху, какой была середина первого тысячелетия до нашей эры, реально мог бы означать свободу развития рыночных отношений, поворот к инновационной цивилизации, т.е. по существу на путь развития, аналогичный западному.
В долгих баталиях с конфуцианством и даосизм, и легизм потерпели поражение, что означало победу «государственного» начала над «частным», победу «традиционной» цивилизации, «азиатского способа производства», который стихийным путем не мог перерасти в капитализм. При династии Хань (206 г. до н.э. — 220 г. н.э.) конфуцианство утвердилось на положении господствующей религии и слилось с государством в единую государственно-церковную, административно¬
18
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
идеологическую и светско-духовную организацию12, включив в себя в измененном виде некоторые важные позиции легизма. Правовой основой империи стали конфуцианские каноны, а не законы-фа, хотя именно с Хань в Китае начал свое существование кодифицированный закон. Однако право закона — точнее, система наказаний — вступало в силу только тогда, когда этические нормы по какой-то причине «не срабатывали». Чиновники-шэныпи, прошедшие строгий конкурсный отбор на знание конфуцианских догматов как преемники древнекитайских жрецов-чиновников были одновременно и администраторами, и идеологами.
Утвердившееся на многие века господство конфуцианства в официальной идеологии императорского Китая не было монопольным, и ле- гизм, и даосизм сохранили глубокие корни в мировоззрении китайского общества, а в дальнейшем к ним присоединилась проникшая из Индии буддийская религия. После разрыва императоров с буддийской церковью в IX в. широкой идеологической базой общественного строя стало синкретическое объединение трех религий («санъ цзяо») — буддизма, конфуцианства и даосизма. Роль этического регулятора (прави- ла-ли) оставалась ведущей, что свидетельствует о сохранении конфуцианского «ядра»13.
Вместе с тем первоначальное учение Конфуция оказалось существенно откорректированным. Как пишет Л.С. Переломов, «сохранив чисто внешне гуманистическую направленность, необходимую для контактов с обществом, бюрократия полностью приспособила его для себя, став полновластным официальным интерпретатором учения... Паразитируя на особом статусе цзюньцзы в учении и негативном отношении Конфуция к закону, бюрократия умело использовала эту легальную возможность для собственного возвышения над законом»14.
Древнекитайскую философскую мысль отличало причудливое сочетание реализма, граничащего с жестким практицизмом, и утопии, поисков морального совершенства, семейной гармонии, личного счастья. Китайские мыслители стремились не столько объяснить мир людей, сколько изменить его, найти пути усовершенствования общественной и личной жизни. Идеалы, заложенные древними, остались в исторической памяти китайского народа, став неотъемлемой частью его политической культуры. Среди этих идеалов — принципиальное равенство всех людей, право каждого приобщиться к знаниям и в соответствии со своими способностями занять подобающее место в обществе, включая высокий бюрократический пост, осуждение корысти, стяжательства, эгоизма. Правители и бюрократы свои действия обычно облекали в одежды «этического правления». Даоские секты всегда выступали под лозунгами «всеобщего равенства», «общности имуществ», отмены привилегий чиновникам, уничтожения роскоши.
Вместо предисловия
19
В 53-м чжане «Дао-Дэ цзина» говорится:
Не сомневаюсь ни на йоту, Что к истине ведет великий Дао-Путь, И у меня теперь одна забота, Чтоб с этого пути случайно не свернуть. Но люди выбрали окольную дорогу, Что привела династию к печальному итогу.. Поля приходят в запустенье, По закромам гуляет ветер, А богачи в шелка одеты, Оружье носят вместо украшенья. Их прихотям не ставится запрет, Вся жизнь посвящена корыстным устремленьям. Но в царстве нищеты богатство — преступленье. Безнравственность — вот корень наших бед.
Лаоцзы. Дао-Дэ цзин, или трактат о пути и морали. М.: РИПОЛ-КЛАССИК, 2005. С. 139. (переводЛИ. Кондрашовой).
К идеям Лаоцзы примыкает социальная утопия Моцзы (480— 397 гг. до н.э.). В трактате «Ли цзи» впервые были изложены две главные китайские утопии — «датун» и «сяокан».
Общество датун: «Когда шли по великому пути, Поднебесная принадлежала всем, /для управления/избирали мудрых и способных, учили верности, совершенствовались в дружелюбии. Поэтому родными человеку были не только его родственники, а детьми — не только его дети. Старцы имели призрение, зрелые люди — применение, юные — воспитание. Все бобыли, вдовы, сироты, одинокие, убогие и больные были присмотрены. Своя доля была у мужчины, свое прибежище—у женщины. Нетерпимым /считалось/ тогда оставлять добро на земле, но и не должно было копить его у себя, нестерпимо было не дать силам выхода, но и полагалось/ работать/только для себя. По этой причине не возникали /злые/умыслы, не чинились кражи и грабежи, мятежи и смуты, а люди, выходя из дому, не запирали дверей. Это называлось великим единением».
Общество сяокан: «Путеводными нитями стали ритуал и долг. С их помощью упорядочивают/отношения/государя и подданных. Связывают родственными чувствами отцов и детей, дружелюбием братьев, согласием супругов. С их помощью устанавливают порядок, намечают границы полей и общин, возвеличивают мужественных и разумных, наделяют человека заслугами. Их используют в своих замыслах, ради них подъемлют оружие. В соответствии с ними избирались/на царство/ Юйи Тан, Вэнь-ван и У-ван, Чэн-ван и Чжоу-гун. Среди этих шестерых благородных мужей не было ни одного, кто бы ни почитал ритуала. С ним сверяли они свою справедливость, на нем строили свою верность, проверяли вину, узаконивали человеколюбие, учили уступчивости, являя тем самым народу свое постоянство. Если кто не следовал ему, он потерял бы свой престол, ибо люди почли бы его сущим бедствием. Все это и называется малым умиротворением (благоденствием)».
Древнекитайская философия. М., 1973. Т. 2. С. 100—101.
20
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
Примечания
1 Бокшанин А. А., Непомнин О.Е. Лики Срединного царства. М., 2002. С. 21.
2 Сидихменов В.Я. Китай: страницы прошлого. М.» 1987. С. 261.
3 WallersteinJ. The Capitalist World-economy. Paris, 1979; Wallerstein J. The Politic of the
World-economy. Paris, 1984.
4 Конрад Н.И. Запад и Восток. М., 1972. С. 221.
5 Степанянц М. Т. Метафора «золотая середина» как ключ к пониманию общего и
частного в философии морали // Вопросы философии. 2003. № 3. С. 45—46.
6 Подробнее см.: Васильев КВ. Хун Фань («Всеобъемлющий образец»). Об идеаль¬
ном правителе и его месте в мире. Материалы VI конференции «Общество и государство в Китае». М., 1976. Ч. 1.
7 Крюков М.В. и др. Древние китайцы в эпоху установления централизованных
империй. М., 1983. С. 344.
8 Переломов Л. С., Кожин П.М., Салтыков Г. Ф. Традиции управления в политической
культуре КНР (к методологии исследования) // Проблемы Дальнего Востока. 1984. №2. С. 115.
9 История политических и правовых учений. Древний мир. М., 1985. С. 201.
10 Цит. по: Переломов Л. С. Конфуций. Лунь юй. М., 1998. С. 195.
11 Кобзев А. И. Дэ и коррелятивные категории в китайской классической филосо¬
фии И От магической силы к моральному императиву: категория дэ в китайской культуре. М., 1998. С. 22.
12 Васильев Л. С., Фурман Д.Е. Христианство и конфуцианство (опыт сравнительно¬
го социологического анализа) // История и культура Китая. М., 1974. С. 467.
13 Мартынов А. С. Доктрина императорской власти и ее место в официальной идео¬
логии императорского Китая // Всемирная история и Восток. М., 1989. С. 102-103.
14 Переломов Л. С. Указ. соч. С. 215—216.
Глава 1
ПРОБЛЕМА ИСТОРИЧЕСКОГО ВЫБОРА
Современная научная картина мира предполагает вероятностный характер естественно-научного и общественно-научного знания. Будущее непредсказуемо, ибо на вектор развития систем и процессов могут оказывать решающее влияние самые незначительные флуктуации. Проблема «выбора» — это в первую очередь разрешение противоречия между обусловленностью общественного развития объективными материальными факторами и способностью человека познавать объективную реальность и находить «место под солнцем». Вопрос о том, является ли человек «творцом истории» или ее «игрушкой», возможно ли действительно изменить мир, чаще всего решается не в пользу человека. Иллюзии масс и их лидеров о возможности «качнуть» маятник истории в любую желаемую сторону в большинстве случаев заканчивались разочарованиями. Борьба за изменение существующего порядка вещей во имя лучшего будущего принесет плоды только в том случае, если поставленные цели и применяемые средства будут отвечать объективным требованиям социально-экономического развития. Само социальное проектирование может осуществляться трояко: либо это чисто умозрительное построение, в большей или меньшей степени опирающееся на тенденции реальной жизни, либо это апеллирование к порядкам, существовавшим в прошлом, к возрождаемым традициям, либо это заимствование чужих образцов. Возможна также комбинация этих трех подходов, когда «новое» и «чужое» выдается за «забытое старое» или наоборот.
Прогнозировать и строить будущее можно только, опираясь на весь накопленный опыт, и с теми интеллектуальными возможностями, которые даны настоящим. Но в этом заключении кроется своего рода «ловушка истории» - зависимость от предыдущего развития и от устоявшихся стереотипов сознания. Эту «зависимость от «траектории предшествующего развития», способной нарушить «нормальный» ход эволюции и заменить эффективные институты неэффективными, обосновал американский экономист Дуглас Норт, получивший в 1993 г. Нобелевскую премию по экономике!. Яркий пример того, что страна по стечению обстоятельств (объективных и субъективных) может попасть в неэффективную систему правил, — различные судьбы Англии и Испании, которые до XIV в. находились примерно на одном и том же уровне развития. Это не помешало тому, что спустя три века, Англия стала первой страной мира, а Испания — одной из самых отсталых в Европе.
22
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
Проблема общественной самоорганизации и человеческого вмешательства в этот процесс чрезвычайно интересовала одного из самых крупных философов конца XX в., российского академика Н.Н. Моисеева. Его главная мысль — безусловное признание активной роли человека и одновременно необходимости уважительного отношения ко всему великому и вечному, что не зависит от воли человека.
«По существу весь процесс развития не только общества, но и всего живого мира можно представить себе как процесс функционирования некоего РЫНКА — механизма, название которого я буду писать большими буквами, чтобы не путать с обывательскими представлениями о рынке. В нем участвует все живое — оно непрерывно изобретает новые формы организации, новые возможности объединения (кооперации или кооперативного взаимодействия), новые способы действия, создает и реализует обратные связи, т.е. корректирует правила своей жизнедеятельности при изменении внешних условий...
РЫНОК выступает в качестве сложнейшим образом иерархически организованной системы отбраковок старых структур и замещения их новыми, непрерывно рождающимися структурами. Теперь я рискну сказать, что Природа не изобрела никакого другого механизма самоорганизации, кроме этого механизма — РЫНКА.
Непонимание подобных фактов часто служит источником опасных иллюзий, подобных идее о возможности планомерного развития общества, приведшей даже к формулировке «закона» о планомерном развитии при социализме, или любых подобных идей социальной инженерии, трагизм реализации которых мы испытали на себе. Эволюция и в перспективе останется непредсказуемой — непредсказуемой в принципе! При любом гипотетическом развитии науки...»
Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь разума. М., 2000. С. 129—130.
Этому представлению о ходе общественного развития очень близко емкое понятие «путь» («путь развития»), которое, соединяя в себе все три составные части исторического процесса (прошлое, настоящее и будущее), придает человеческой деятельности смысл постоянного поиска. М.В. Рац предлагает отличать «путь» как реальное политическое самоопределение, как выбор наиболее приемлемого варианта из «пространства наших возможностей» от «дороги» («из пункта А в пункт Б»), которая предполагает будущее наполненным и известным. Путь нащупывается или прокладывается непрерывно, он ведет в неизведанное будущее (здесь нет пункта Б), которое будет таким, каким его сумеют сделать сами «выборщики». Здесь не возникает вопроса о «правильности» выбора каждого последующего шага, а приходится думать, насколько этот шаг реализуем и эффективен сравнительно с возможными альтернативами. Дорога, или «колея», выбранная единожды, не выпускает путника как минимум до следующей развилки. Поскольку никаких критериев правильности принятого решения нет и быть не может, ведущая в неизведанное дорога объявляется единственно верной. Дилемму «путь или дорога» автор рассматривает как выбор между свободой и тем или иным способом бегства от нее. По его мнению, «сбиться с пути» значит стать пленником дороги2.
Глава 1. Проблема исторического выбора
23
В итоге мы имеем два взаимоисключающих постулата:
Постулат первый — «выбора нет». Выбора нет, поскольку сила обстоятельств намного превышает индивидуальные возможности человека и познавательные, и созидательные. Развитие человечества происходит в некоем едином русле природной самоорганизации, и выскочить из этой «колеи» человек не в состоянии. Этот общий эволюционный процесс, объединяющий все страны и народы, сближающий их самих и ориентиры их развития. Формируется единая, действительно мировая цивилизация (современное общество). Все люди ориентируются на одни и те же ценности — мир, благополучие, уверенность в завтрашнем дне, желание любви и продолжение своего рода, полнокровной жизни, насыщенной разными впечатлениями и наслаждениями.
Выбора нет, поскольку всегда будет противоречие между желаемым и возможным, поскольку велика зависимость человека от социальных процессов и своей собственной природы. Нельзя изменить природу человека, уничтожить низменные инстинкты, соперничество и вражду. Человек в первую очередь решает конкретные вопросы своего самосохранения и в большинстве случаев движется по инерции, подчиняясь требованиям социума. Вечно неравенство людей, их физических и умственных способностей, их нравственных критериев.
Постулат второй - выбор есть. Он есть, поскольку человек способен активно вмешиваться в окружающую жизнь и может принимать разумные и обоснованные решения. В мире нет ничего заранее предопределенного, и многовариантность заложена в код общественного развития. Никакие глобализационные процессы не могут уничтожить разнообразия ландшафтов, культурного облика различных этносов, неповторимой индивидуальности каждого отдельного человека. Основной лозунг «антиглобалистов», критикующих своих оппонентов за преклонение перед капиталистическими порядками в приложении к отдельной стране и миру в целом — «Иной мир возможен!» Унификация враждебна общественному прогрессу, исключение многообразия обрекает сложную систему на разложение и распад. Перед каждым человеком стоит свой моральный выбор, и он решает его в соответствии со своим пониманием нравственности, чести и достоинства.
Как же примирить эти два противоречащих друг другу вывода? На этот вопрос Н.Н. Моисеев ответил следующим образом: «И, тем не менее, значение разума человека, а тем более Колллективного Интеллекта человечества в его судьбах никак не следует преуменьшать. Человеку действительно не дано предугадать ход событий, детали истории, не говоря уже об оптимальном пути развития. Но он способен предвидеть опасности, которые могут ожидать его в ближайшем будущем. Этого уже достаточно, чтобы сформулировать некую систему запретов, способную уменьшить негативную роль возможных трудностей, а порой и
24
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
избежать их»3. Противопоставляя «управление» с жестко поставленными целями возможности «направления» естественных процессов самоорганизации в желаемое русло развития и апеллируя к законам кибернетики, он сформулировал «принцип кормчего»'. «Стремясь достичь желаемой гавани, кормчий не должен рассчитывать только на свои силы. Он в максимальной степени должен уметь использовать могучие силы Природы — силу течений и ветра. И уж во всяком случае, не направлять свой корабль наперекор потоку. Так и в общественной жизни; главное - понять естественные тенденции развития, стремления людей. И только с помощью такого знания стремиться преодолеть трудности развития» 4.
Выбор предполагает использование опыта других стран, что следует рассматривать как получение и переработку информации. Внешне добровольный акт изучения иностранного опыта на самом деле выступает как императив разработки научной стратегии развития. Из той же теории информации следует, что механическое копирование каких-либо образцов в принципе невозможно, как невозможно и какое-либо «возвращение назад». По определению И. Куна, переход от старой парадигмы к новой «представляет собой процесс далеко не такой, который мог бы быть осуществлен посредством более четкой разработки или расширения старой парадигмы. Этот процесс скорее напоминает реконструкцию области на новых основаниях»5.
Согласно, например, марксизму, человек творит свою историю через реформы и революции. В марксистском обществоведении утвердилось представление о кардинальном различии «реформы» и «революции» как внутриформационных нововведениях без больших социальных потрясений (реформа) и межформационного болезненного перелома, сопряженного с кардинальными системными преобразованиями (революция). С этим было связано противопоставление эволюционных и революционных общественных изменений (изменениях формы и содержания), что хорошо вписывалось в идеологические конструкции общественно-экономического развития. Однако в реальной жизни «развести» эти понятия намного сложнее: не только революция, но и реформа может привести к смене социально-экономического строя, не только реформа, но и революция может протекать относительно мирно. Как реформа, так и революции могут повлечь за собой не только прогрессивные, но и регрессивные изменения, ввергнуть общество в полосу дестабилизации и кризиса. Собственно говоря, за скачкообразным переходом от существовавшей ранее парадигмы к принципиально новой (революция) следует реформа как конкретные действия по возведению новых общественных отношений.
Если исходить из реального содержания двух рассматриваемых категорий (реформа и революция), то это переломные моменты истории общества, сгустки исторической материи, своего рода «хронологичес¬
Глава 1. Проблема исторического выбора
25
кие разломы». Однако в общественной жизни нет перерыва постепенности, невозможно ни тотальное нововведение, ни бесконечное повторение одного и того же. Отличия между «реформой» и «революцией» следует, вероятно, искать в субъективном факторе. Реформу проводят сами правители, власть предержащие, которые ищут пути закрепления своего господствующего положения или стремятся предотвратить нежелательный ход событий. На них и возлагается прямая ответственность за результативность предпринимаемых действий. Революция — это инициатива «низов», не управляющих, а управляемых, которые хотят изменить сложившийся порядок вещей и следуют за лидерами оппозиции. Последние берут на себя ответственность и готовы во имя осуществления поставленных целей подставить свои головы под «нож истории». Социальный кризис может в принципе разрешаться и революционным способом при наличии решимости масс и выражающих их интерес когорты революционеров-профессионалов, и реформистским путем при содействии решительных реформаторов, обеспечивших себе поддержку населения. Если пользоваться когда-то популярными изречениями и считать, что «революция» - это когда низы не хотят, а верхи под их нажимом расстаются с жизнью по-старому, то «реформа» — это когда верхи по тем или иным причинам отходят от жизни по-старому, а низы смиряются с навязываемыми им переменами. Успех самой операции и в том и в другом случае отнюдь не запрограммирован и во многом зависит от продуманности программы действий и ее соответствии объективным условиям.
Авторы монографии «Третья мировая (информационно-психологическая) война» В.А. Лисичкин и Л.А. Шелепин выделяют четыре основные фазы революции: 1) принятие решения, когда весь спектр мнений сводится в дилемме: «да — нет», кто за революцию, кто против; 2) сама революционная борьба, которая может быть как короткой (переворот), так и длительной (кровопролитная гражданская война); 3) борьба после победы; 4) фаза стабилизации, это возвращение общества к своим корням, но на новой основе.
Для нашего последующего изложения крайне интересен следующий вывод авторов: «Вследствие неоднородности конгломератов, сражавшихся сил неизбежны разборки между бывшими соратниками, но главное здесь две линии: одна «революционная», направленная на углубление революции, на непримиримую борьбу с прошлым злом, вторая—линия «реалистов», направленная на приведение ситуации в стране в соответствие с существующими реалиями и даже, если это полезно, на реставрацию эффективно работавших учреждений прошлого. Первая линия исторически обречена, она может лишь продлить время нестабильности. В этом смысле правильно изречение «революция пожирает своих детей». Победу в фазе стабилизации одерживают реалисты.
Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. Третья мировая (информационно-психологическая) война. М., 2000. С. 31.
26
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
1.1. Стадиально-формационный и цивилизационный подходы к периодизации исторического процесса
Среди основных вариантов периодизации социально-экономического развития наибольшей популярностью до сих пор пользовались стадиально-формационный и цивилизационный подходы. Первый имеет две основные ветки — формационную (Маркс и Энгельс) и стадиально-модернизационную (Ростоу, Белл, Тоффлер). Цивилизационного подхода придерживались Н. Данилевский, О. Шпенглер, А.Тойнби и многие другие западные историки и социологи. Фактически вся существовавшая до сих пор философия истории опиралась на различие двух форм принуждения - «неэкономического» и «экономического», и классификации различных эпох производились на основе характера принуждения.
Марксистская наука для объяснения логики истории опиралась на теорию общественно-экономических формаций, которые определялись как совокупность исторически определенных производственных отношений, понимаемых, прежде всего, как отношения собственности. Главный постулат формационной теории — первичность материального производства над всеми остальными составляющими человеческого бытия и вто- ричность общественной надстройки, способной оказывать «обратное влияние» на базисные компоненты. Придавая определенную упорядоченность и смысл ходу истории, формационная теория утверждала восходящий характер социальной эволюции в направлении все более полного освобождения человека от разных форм угнетения. Переход на новый, более высокий уровень мог быть осуществлен, согласно этим представлениям, только революционным путем. К. Маркс делил всю историю человечества натри формации — архаическую (первичную), экономическую (вторичную) и коммунистическую (третичную). В экономической общественной формации он выделял «прогрессивные эпохи» — азиатский, античный, феодальный и современный буржуазный способы производства, но при этом не называл формациями ни феодализм, ни капитализм.
Схему Маркса отличает особое отношение к истории стран Древнего Востока, характер социально-экономических отношений в которых имел принципиальные отличия не только от буржуазных и феодальных, но и от античных, рабовладельческих порядков. Существовавший на Древнем Востоке особый антагонистический способ производства Маркс рассматривал как первую историческую форму классового общества, которую он называл «азиатским способом производства». Вся система управления в таком обществе построена на неограниченной и сакральной власти лидера.
В советской политэкономии утвердилась догматическая версия пяти формационных стадий, включавшая первобытнообщинный, рабовла¬
Глава 1. Проблема исторического выбора
27
дельческий, феодальный, буржуазный и коммунистический способы производства. Азиатский способ производства выпадал из этого перечня и долгое время оставался одной из самых дискуссионных проблем исторической науки.
Первый крупный дискуссионный форум по этой тематике был проведен в конце 20-х — начале 30-х годов прошлого века, второй состоялся во второй половине 60-х — начале 70-х годов. Официальную поддержку получила позиция считать общества Древнего Востока рабовладельческими 6. Некоторые ученые, не согласные с тезисом о формационной идентичности древневосточного и античного общества, выдвинули положение, что от первобытного общества тянутся не две, а три равноправные линии развития, одна из которых ведет к азиатскому, другая — к античному, третья — к феодальному обществу. Не отвергая сам формационный подход, они считали, что азиатское, античное и феодальное общества являются не самостоятельными формациями, а последовательно сменяющимися стадиями всемирно-исторического процесса, равноправными модификациями одной и той же вторичной формации, основанной на частной собственности и внеэкономическом принуждении 7.
Ссылаясь на безуспешность попыток обнаружить в развитии стран Востока в период от VIII в. до н.э. до середины XIX в. н.э. античную, феодальную и капиталистическую стадии, некоторые ученые выдвигали концепцию единой докапиталистической формации. Ю.М. Коби- щанов считал феодализм и капитализм «единственными известными в истории классовыми формациями» 8. По мнению В.П. Илюшечкина, между доклассовой и постклассовой эпохами общественного развития существует относительно непродолжительная по историческим меркам промежуточная стадия, в которой различаются две фазы — сословноклассовая и капиталистическая9.
Из специфичности развития восточных обществ рядом ученых был сделан вывод, что закономерная смена рабовладения феодализмом, а последнего капитализмом характерна лишь для западноевропейской линии эволюции, что развитие человечества не однолинейно, а многолинейно ,0.
Современные сторонники формационной периодизации исторического процесса отдают предпочтение не формализованной «пятичлен- ке», а марксистской трехчленной схеме. Согласно марксистской теории, человечество прошло через первобытный строй, который был распространен повсюду на земле, проходит этап всеобщности товарного обмена и эксплуатации посредством такого обмена и непременно вступит в такое состояние, когда человек выйдет за пределы собственно материального производства и целью развития окажутся творческие способности каждого индивидуума. Для каждой их трех эпох характерен специфический способ общественного разделения и кооперации труда
28
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
(замкнутый производственный цикл, преобладание натурального производства; развитое разделение труда с господством товарно-денежных отношений; широкое включение во всемирное разделение труда и всемирную систему информации). Переход от одной фазы к другой, от зрелой формы одной общественной формации к зрелой форме другой общественной формации не является унифицированным и однолинейным, а может быть многовариантным и импульсным.
Этой трехчленной схемы придерживаются и ученые немарксистского направления, вводя иногда иные названия эпох. Сторонники структурного подхода рассматривают историю как последовательную смену аграрной, индустриальной и постиндустриальной стадий. Тоффлер говорит о трех волнах цивилизации (первая, вторая и третья)и. Если брать за основу современную капиталистическую стадию, то ей предшествовала: докапиталистическая эпоха, капиталистическая, а за ней последует посткапиталистическая.
У. Ростоу, отрицавший марксистскую идею смены формаций, противопоставлял ей свою схему «исторических стадий». Первоначально У. Ростоу выделял три стадии роста, затем он увеличил их число до пяти, а еще позже — до шести: 1) традиционное общество; 2) переходный период создания предпосылок для «взлета»; 3) сам «взлет»; 4) движение к «зрелости»; 5) общество высокого материального благосостояния; 6) стадия «поиска качества жизни» с выдвижением на первый план духовных ценностей 12. Критерием выделения стадий служили преимущественно технико-экономические характеристики: темпы роста, структура хозяйства и потребления, доля производственного накопления в национальном доходе.
Современные критики формационной теории, не всегда придерживаясь корректного отношения к своим оппонентам, указывают на следующие ее недостатки:
■ Упрощение исторического процесса, использование чрезмерно абстрактных понятий, оторванных от конкретных условий. В результате формации оказались умозрительными конструкциями, в чистом виде нигде и никогда не существовавшими. Гетерогенность социальных систем в древности и в средние века настолько велика, что подведение всех известных нам древних обществ под однозначное определение рабовладельческого общества либо отнесение всех средневековых обществ к феодальному типу сопряжено с подтасовкой исторических фактов и примитивизацией теоретических конструкций. Многие исторические явления просто-напросто не вписываются в парадигму формационной линейности, включая упомянутый в свое время Марксом «азиатский способ производства». Любая периодизация, которая берет за основу материальное производство и экономические отношения, осуществляется по единому трафарету и грешит недооценкой человеческого начала и его активной роли в истории.
Глава 1. Проблема исторического выбора
29
■ Схематизм самого деления структуры общества на производительные силы и производственные отношения, базис и надстройку. Придание решающей роли развитию производительных сил и производственных отношений сделало исторический процесс жестко детерминированным. Исходя из строгой последовательности «формаций» или «стадий», всякое ее нарушение выглядит «ненормальным», исключением из общего правила. Принцип «восходящего» развития делал весьма затруднительным объяснение циклических движений, застойных состояний, отступлений вспять и тому подобных явлений общественной жизни.
■ Мистификация вопроса о будущем глобального общественного прогресса, который решается исключительно под углом зрения классовых отношений и противоречий между частными и общественными интересами.
■ Недостаточный учет того, что в мировой истории имеет место смена не только стадий всемирного развития, но и конкретных компонентов исторического развития — социоисторических организмов (то, что Ю.Т. Семенов называет «межсоциарными» связями»)13.
«Прежняя теория формаций не годится по меньшей мере по трем соображениям. Во-первых, у современного человечества нет гарантий закономерного восходящего развития — опыт заката прежних цивилизаций говорит о возможности срыва, гибели. Вместо гарантированной истории современного человека встретила история, не готовая к покровительству. Возможно, вера в гарантированный прогресс в свое время явилась заменой Бога в обезбоженном мире. По крайней мере некоторые из ролей, прежде осуществлявшихся Богом, прогресс восполнял — он избавлял от чувства брошенности в абсурдную историю, не имеющую обеспеченного светлого финала.
Во-вторых, обнаруживается, что единство мировой истории является проблемой. История государств, в особенности принадлежащих к разным цивилизациям, не имеет единого кода. Понятие прогресса заменяет понятие индивидуальной исторической биографии, судьбы.
В третьих, единство мира выступает как предопределенный, заранее предсказуемый итог столкновения, диалога различных стран, культур, континентов. Единая история, обретаемая в поле взаимодействия, ко многому обязывает. Неверный шаг, пассивность, не вовремя поданная реплика могут резко ухудшить позиции страны в рамках мирового целого.
Словом, мир выступает как драма, не имеющая режиссера и развивающаяся исключительно как непредугаданный итог взаимных реплик участвующих персонажей.
Ильин В. В. и др. Реформы и контрреформы в России. Циклы модернизационного процесса. М., 1996. С. 302.
В настоящее время российские политологи все чаще апеллируют к понятию «постэкономического общества», теоретической разработкой которого активно занимается В. Л .Иноземцев. По его словам, «рождающаяся социальная система противостоит не только индустриальному
30
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
строю, но и всем историческим эпохам, которые были основаны на самостоятельном существовании частного материального интереса. Такой подход восходит как к идее К. Маркса о существовании трех общественных формаций, центральная из которых именуется им экономической, так и к его трактовке будущего общества — скорее общества свободной индивидуальности, чем невиданного развития услуг и информатики»,4.
Цивилизационный подход, раскрывающий своеобразие и общие закономерности развития цивилизаций как суперэтнических образований, возникших в определенном вмещающем ландшафте, можно считать господствующим в западной науке об обществе на протяжении всего XX в. По своей привязке к таким культурологическим феноменам, как поведенческие стереотипы, религиозные предпочтения и др., цивилизационный подход сродни институционализму, отводящему важную роль в развитии экономики взаимодействию между институтами и организациями, когда первые определяют «правила игры», а вторые оказываются в положении «игроков». «Институты» понимаются какдейству- ющие в обществе ограничения: формальные (разработанные людьми законы, конституции) и неформальные (договоры и принятые кодексы поведения).
Разные ученые использовали весьма несхожие термины для обозначения локальных социокультурных образований: «культурно-исторические типы», обладающие «формативным принципом» (Н. Данилевский), «высокие культуры» со своей «душой» и «стилем» (О. Шпенглер), «великие культуры» (Н. Бердяев), «цивилизации» (А. Тойнби), «модели культуры, основанные на высших ценностях» (А. Кребер), большие культурные суперсистемы, обладающие «центральным смыслом» или «ментальностью» (П. Сорокин). По мнению Питирима Сорокина, каждая цивилизация строится на определенном философском принципе, или конечной ценности, который реализует на протяжении своего жизненного пути во всех своих сферах. Каждая из культурных суперсистем сохраняет свою самобытность вопреки изменениям в составляющих ее компонентах. Перемены носят внутренний, имманентный характер, а внешние воздействия ускоряют или замедляют их. Жизненный путь суперсистем осуществляется не линейно, а циклически, ритмически. Все теоретики выделяют фазы жизненного цикла цивилизаций. Однако каждая цивилизация следует собственным курсом, проходя по этапам генезиса: рост, расцвет, увязание, упадок и возрождение15.
Прижился же термин «цивилизация» во многом, несомненно, под впечатлением от трудов Тойнби, посвятившего истории цивилизаций 12 томов «Постижения истории». Понимая под цивилизацией «наименьший блок исторического материала», он предлагал «рассматривать историю в понятиях цивилизации, а не в понятиях государства, а государство считать неким подчиненным и эфемерным политическим феноменом в жизни цивилизаций, в лоне которых они появляются и исчезают»,6.
Глава 1. Проблема исторического выбора
31
В настоящее время главенствует представление о двух типах цивилизаций — «техногенной» и «традиционной». Техногенная (инновационная) цивилизация настроена на развитие, на поиски инноваций и переход от более низкого состояния к более высокому («прогресс»). Традиционная цивилизация подвержена саморегуляции без четкого целеполагания. Этим двум типам цивилизаций свойственно разное отношение к природе: либо как к материально-ресурсному пространству, «предмету» человеческой деятельности, не создающему для него никаких ограничений. Либо — как к вместилищу ограниченных ресурсов, обеспечивающему человека необходимым в пределах разумного и дозволенного. Они различаются также отношением к идеалу человеческой личности: в первом случае — свободная индивидуальность, добровольно включенная в ту или иную социальную общность при условии соблюдения ее прав, во втором случае — воплощение коллективности, когда личность обязана соблюдать интеграционные интересы построенных иерархически человеческих сообществ (семья, клан, государство).
В итоге мы имеем две альтернативные модели взаимоотношений «природа—человек»:
■ Активное воздействие на природу при минимальном (в идеале) воздействии на человека. В современном философском плане — это модель либеральной демократии, «свободного рынка».
■ Воздействие на природу через человека, жестко контролируемого со стороны интегральных общественных структур — мифологизированная модель тоталитарного государства, нерыночной экономики.
Обычно «техногенный» тип цивилизации ассоциируется с Западом, а «традиционный» тип - с Востоком, Запад преподносится как носитель рационального технократического начала, а Восток — морально-этических ценностей, духа, идеи. Зачастую Запад выдается за синоним прогресса и свободы, а Восток - отсталости и тоталитаризма. Почти шаблоном стало противопоставление азиатского политического устройства по типу «империи» европейскому государству-нации как более высокой ступени исторического развития. Такого рода научные экскурсы грешат примитивизмом, но подчеркивают важные различия исторического и культурного плана между этими двумя условными «полушариями» Земли, в частности, широкое проникновение рынка в жизнь западного общества и сильное государственное начало, характерное для цивилизации Востока.
В целом и формационный, и цивилизационный подходы имеют слабые и сильные стороны, высвечивают разные аспекты единой, сложной исторической реальности. Объединяет их рассмотрение исторического процесса с точки зрения «закрытых систем» и «линейного времени», они обращены к отдельным цивилизациям и государствам, которые ограничены известными пространственными и временными рамками и подвластны объективным законам. В ход истории закладываются жесткий детерминизм, связь причины и следствия, развитие по экспоненте в
32
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
рамках начала и конца, что всегда привлекало возможностью реконструкции прошлого и прогнозирования будущего.
1.2. Понятия «рынок» и «государство»
Разговор о рыночных преобразованиях и роли государства требует расшифровки самих этих понятий. Рынок - это производство для обмена, когда торговые операции приобретают не единичный, а массовый характер. Осуществляя денежный обмен результатами производственной деятельности, рынок опосредует процесс разделения труда и обеспечивает «общественное признание» произведенного продукта, который не только должен отвечать определенной потребности, но и удовлетворять ее в количественном отношении, т.е. соответствовать денежному спросу.
Переход к рыночным отношениям по своему значению сопоставим с изобретением колеса и уходит в далекое историческое прошлое. Встав на этот путь, человечество больше с него не сворачивало. Бесспорным является положение о том, что рынок не является достоянием какой- либо одной общественно-экономической формации. Как отметил О.Тоффлер: «Рынок не является ни капиталистическим, ни социалистическим. Он является прямым, неизбежным последствием отделенности производителя от потребителя. Там, где имеет место эта разделенность, возникает рынок. Там же, где разрыв между производителем и потребителем сужается, функции, роль и власть рынка оказываются поставленными под вопрос»17.
Хотя очевидно, что рынок существовал или уже начинал складываться еще до создания государства и в дальнейшем обслуживал совершенно разные общественные системы, он был подвержен существенным изменениям в соответствии с господствующим технологическим укладом и развитием процесса географического разделения труда. Эволюция рынка шла в направлении его усложнения, большей «цивилизованности» и большего территориального охвата. Если первоначально социальная регуляция опиралась на преобладание межличностных отношений, а товарный обмен носил «экзогенный» характер, создавая взаимосвязь различных общин, то с образованием государства преобладающими стали «эндогенные» рыночные связи, дополняемые межгосударственной торговлей с чертами межцивилизационного общения. С конца XV в. развернулось интенсивное развитие международного разделения труда, подстегнутое великими географическими открытиями, и страны, которые первыми включились в этот процесс, обрели огромные преимущества в виде специализации производства. Получив широкий доступ к природным ресурсам, в том числе и путем колониальной экспансии, они смогли заняться развитием тех отраслей, которые приносили больше прибыли в торговом обороте. Эти страны первого эшелона развития товарных отношений начали становиться глобальными
Глава 1. Проблема исторического выбора
33
экономическими субъектами сначала в пределах разных сегментов мирового рынка, а затем взяли под свою опеку формирование всемирного (мондиального) рынка.
Именно развитие специализации и образование масштабного спроса стимулировали технический прогресс и развертывание процесса индустриализации. Хотя очевидно, что рынок нельзя считать «изобретением» капитализма, однако свое подлинное «лицо» он обрел с началом эры промышленной революции и зарождения капиталистических отношений, когда развернулось массовое производство с сильным социальным, политическим и культурным стремлением к единообразию (массофикация). Развитие специализации и образование масштабного спроса стимулировали становление крупного машинного производства, которое стало базироваться на наемном труде.
Особо следует подчеркнуть, что рынок — не просто набор экономических рычагов, которые обеспечивают саморегулирование, учет затрат и их соразмерность с результатами. Рынок — это система экономического принуждения, где над человеком властвует товарный и денежный фетишизм, где спекулятивная стихия и конкуренции ломают традиционные отношения взаимопомощи и сотрудничества между людьми. Рыночная экономика, утверждая формальное равенство возможностей, не терпит равенства результатов, предпринимательский импульс способствует развитию производства, но одновременно алчности, эгоизма, стяжательства, душевной черствости.
Современный рынок, расширяя границы платежеспособного спроса, «взрывает» границы национальных государств и готов наращивать свою территориальную экспансию вплоть до исчерпания пределов планеты. Мир приближается к кульминационной точке поступательного развития капитализма как всемирного хозяйства и рынка как глобальной паутины товарных связей.
Что касается понятия «государство», то в социологическом плане оно представляет собой территориальное оформление того или иного человеческого сообщества с его определенной стратификацией (власть — подчиненные) и правовыми нормами. Можно сказать, что государство — это территориальная и политическая идентификация отдельного человеческого сообщества. Граждане отдельно взятого государства погружены в определенную правовую и культурную среду, ассоциируя государственное начало с верховной административной и законодательной властью.
Общее усложнение общественной жизни и углубляющееся разделение общества на управляющих и управляемых выливается в господство группы людей над социумом в целом. М. Вебер называл государство «человеческим сообществом, которое (с успехом) претендует на монополию законного использования физической силы внутри заданной территории»18. Он же выделял три типа господства: традиционное с патриархальной структурой управления на исторически сложившихся нор¬
34
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
мах, харизматическое, базирующееся на преданности лидеру (пророку, полководцу, партийному вождю, главе государства) и легальное, где наличествует законодательно оформленное право бюрократа или государственного служащего.
Классикам марксизма-ленинизма принадлежит определение государства как «орудия подавления угнетенных классов», как «машины для поддержания господства одного класса над другим»19. Этой идеологизации роли государства противостоит его трактовка как основного регулятора общественной жизни, объединяющего элиту с простым народом. Его можно рассматривать и как «аппарат насилия», и как «гаранта порядка», который сдерживает острые конфликты и насилие, хотя нередко через монополизацию функции насилия и подавления всякого проявления недовольства. Современные теоретики называют государство «главным инструментом, изобретенным человечеством для обеспечения устойчивого развития нации, общества, семьи и личности»20.
Государственная хозяйственная система имеет иерархическое построение: государство (верховная власть и власть регионов) — промежуточный уровень укрупненных хозяйственных структур (ведомство, крупная корпорация или хозяйственное объединение) - низовой хозяйственный уровень (непосредственные производители и самостоятельно хозяйствующие субъекты). Каждая управленческая ступень отличается определенным имущественным обособлением и правовым оформлением при специфическом сочетании вещественных и личностных факторов производства.
Таким образом, в настоящее время существуют два главных регулятора всей человеческой деятельности — экономический (рынок) и административный (государство), два вида принуждения к труду (экономическое и прямое), две формы власти (политическая, олицетворяемая государственным аппаратом, и экономическая в лице владельцев собственности). Между этими двумя регуляторами существуют сложные и противоречивые связи. В то время как в сфере рынка господствуют личные, материальные интересы, спрос на товары и услуги формируется на основе расходования личных доходов, государство оказывает общественные «услуги», которые покрываются налоговыми поступлениями, и пользователи этих услуг могут получать выгоды, оплачиваемые «не из их кармана». Субъекты рыночных отношений ради максимизации прибыли готовы идти на сокращение оплаты труда и социальных услуг, требуют уменьшения налогового бремени. «Эталонная» модель свободного рынка предполагает: во-первых, полную диффузию рыночных субъектов, т.е. обмен между равноправными субъектами рынка, являющимися частными собственниками, во-вторых, отсутствие всякого государственного контроля, т.е. целиком и полностью спонтанный характер рыночных связей. Государство же в целях своего самосохранения, поддержания политической стабильности и сбалансирования общественных интересов заинтересовано в устойчивом по¬
Глава 1. Проблема исторического выбора
35
ступлении налогов и в предотвращении рыночной анархии. Крайней степенью государственной экспансии служит хозяйственная система с исключением частной собственности и всеохватывающим государственным контролем над хозяйственными процессами.
В экономической литературе часто встречается противопоставление «рынка», с одной стороны, «плану», «государству», «иерархической структуре» - с другой. В таком случае под рынком понимаются спонтанные действия обособленных производителей, а под его альтернативой - производственные связи, устанавливаемые посредством директив и административных решений. Постулатам советской политэкономии социализма либеральная философия противопоставила принцип «слабого» государства и полной свободы рынка, который способен якобы регулировать всю хозяйственную деятельность. Согласно этой логике, государство должно свести к минимуму регулирование экономики и оплату социальных услуг. Разработчики теории так нзываемого «Вашингтонского консенсуса» исходили из представления об «экономическом человеке» (Homo economicus), единственной мотиваций действий которого служит стремление к максимизации личной выгоды.
Доводы этой теории весьма сомнительны. В своей функции обеспечения безопасности и жизнедеятельности конкретного общественного устройства государство должно быть «сильным». «Слабое» государство обречено на разрастание социальных конфликтов, распад или полное исчезновение. Предпочтения «слабого» государства следует понимать исключительно как пропаганду полной предпринимательской свободы, реализация которой требует, тем не менее, соблюдения определенных «правил игры» (устанавливаемых тем же государством). По сути же понятия «рынок» и «государство» не являются антонимичными. «Планирование рынку не противопоказано, можно сказать что рынки и иерархии играют взаимодополняющие роли в осуществлении экономической координации»21. Провалы рынка может скорректировать только государство, а государство в своей деятельности не может не опираться на механизм самоорганизации общества в виде рыночных связей. Причем «провалы» государства как принятие правительственных решений, не адекватных реальной ситуации, — столь же закономерное явление, что и «провалы» рынка, но их гораздо труднее ликвидировать, поскольку не существует института более высокого порядка, чем государство.
Государство испокон веков вмешивалось в товарные отношения, стремясь к унификации норм и правил на всей своей территории и к установлению контроля над торговым сословием. Каждая развитая страна разрабатывает стратегию своих действий в существующих рыночных условиях, иначе говоря, планирует свои действия. «В современном мире мы можем наблюдать весьма диалектический процесс симбиоза рынка и планирования. Там и тогда, где рынок отступает, эти ниши заполняют определенные формы планирования (например, военное производство,
36
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
космические программы, природоохранные мероприятия и т.д.). Но в производстве, ориентированном на массового потребителя, полностью господствует рынок, планирование здесь может выполнять всего лишь косвенную роль. Так или иначе, но планирование и рынок в современном мире совмещаются, хотя и не без проблем»22.
Альтернативой рынка следует считать отсутствие обмена как такового (натуральное производство) либо безденежный обмен (продуктообменное хозяйство). К последнему с определенными оговорками можно отнести прямое административное распределение (соответствующее понятию плана) и бартерные связи (обычно непланового характера). Но следует оговориться, что и в этих случаях деньги сохраняют свою роль всеобщего эквивалента и используются как расчетные средства, что дало основание некоторым ученым говорить о политике «плановых денег» в СССР23, о «денежном» и «безденежном рынке»24. Таким образом, «не- рынок» — это хозяйственное устройство, которое зиждется на неценовых (или «планово-ценовых») обменных операциях или где производимые блага носят не массовый характер, а ориентированы на строго определенного потребителя. Рынок кончается там, где исчезает массовое производство на неперсонифицированного потребителя и всеобщее распространение получают индивидуализированные заказы. В этом случае любой вид производства становится «услугой», а товаропроизводящее хозяйство сменяется сервисной экономикой.
Модификации капиталистического рынка отличаются в первую очередь по степени вмешательства государства в рыночные отношения, что проявляется двояким образом: как введение государственного контроля над частными товаропроизводителями и как установление государственной собственности в том или ином секторе экономики.
В 70-х годах XX в. в советской науке развернулась дискуссия по проблемам этатизма, участники которой сошлись на признании самостоятельной роли государства как властного начала, как фактора, влияющего на все стороны жизни общества, в том числе и на развитие экономики, что выводит само понятие «государство» за рамки чисто надстроечного явления. Включение государства в понятие производительных сил позволяет по-иному оценивать «азиатский способ производства», в котором государство в статусе базисного компонента соединяет в себе воедино власть и собственность.
Развернувшаяся глобализация мирового хозяйства выдвинула на авансцену нового хозяйственного субъекта — транснациональные корпорации. Сегодня в мире насчитывается 35 тыс. ТНК, из которых, например, 5 крупнейших контролируют более половины мирового производства машинного оборудования. Особенно значительна степень концентрации в отраслях, связанных с информационными технологиями. Экономическая мощь крупных и сверхкрупных ТНК сравнима с экономическим потенциалом средних государств. Они пытаются диктовать свою волю прави¬
Глава 1. Проблема исторического выбора
37
тельствам отдельных стран, корректировать их действия, навязывать выгодную им стратегию через международные экономические организации. В конечном счете власть транснациональных корпораций ставит под сомнение исключительную роль национальных государств, выдвигает на место национально-административных образований геоэкономические регионы с неопределенными пространственными контурами.
1.3. Понятия «частное» и «общественное»
Дихотомия «рынок-государство» тесно связана с другой парой противоположностей - «частное—общественное». Классики экономической теории (Адам Смит и другие) считали неоспоримой связь свободного рынка и частной собственности. На такой же позиции, но уже с другой оценочной составляющей стояли и непримиримые противники частной собственности — сторонники классического марксизма.
Прежде всего, следует обратить внимание на сложность самих понятий «частное» и «общественное» и возможность их разных трактовок. Поскольку «субъектная» классификация форм собственности имеет иерархическое построение (от отдельной личности через разные виды коллективов к государству и обществу в целом), каждая нижестоящая ступень соотносится с вышестоящей как «часть от целого». По этой логике все формы групповой собственности можно рассматривать как разновидности «частной» собственности в противоположность государственной, а собственность физических лиц выглядит «частной» по отношению и к государственной, и к групповым формам собственности. Отсюда сам процесс разгосударствления можно считать переходом к другим формам общественной собственности (групповым, коллективным) либо как «приватизацию», безразлично, будут ли новыми собственниками юридические либо физические лица. При таком подходе понятие «частной» собственности оказывается скорее метафорическим, чем конкретно-содержательным.
Марксизм рассматривает частную собственность как узаконенное право части членов общества присваивать труд другой части его членов. Эти две численно неравные общественные категории (владельцев частной собственности и наемных рабочих) представляют собой не что иное, как общественные классы, различающиеся своей ролью в организации труда и своим способом получения доли общественного продукта. Присвоение владельцами средств производства прибавочной стоимости как неоплаченного труда тех, кто отчужден от этой собственности, марксизм называет эксплуатацией. При полной частной собственности члены господствующего класса владеют всей совокупностью средств производства, а трудящиеся целиком их лишены. Но частная собственность может быть расщеплена на верховную частную собственность членов господствую¬
38
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
щего класса и подчиненную обособленную собственность членов эксплуатируемого класса. Такова, например, феодальная частная собственность. В подобном случае антагонистический способ производства является двухэтажным 25.
Если за основу классификации брать не только владение средствами производства, но и способ принятия решений, то частной собственностью следует считать ту ее форму, когда права владения дополняются правами распоряжения и контроля, т.е. принятия решений, определяющих и контролирующих ход производства и распоряжение полученным доходом. Как частный случай можно рассматривать такую ситуацию, когда средствами производства владеют все члены господствующего класса. В этом случае правомочна постановка вопроса о государственной собственности как совокупной частной собственности господствующего класса (или господствующей прослойки), т.е. о государственной собственности при социализме как частной собственности правящей партийно-административной элиты или о государственной собственности при капитализме как общеклассовой частной собственности «совокупного капиталиста».
Сформировавшаяся в марксистском обществоведении «триада» форм собственности — государственная (общенародная), коллективная и индивидуальная имела не столько экономическое, сколько идеологическое содержание. Различия между ними в чисто теоретическом плане выглядели следующим образом.
Формы собственности
Государственная
Коллективная
Индивидуальная
Получение инвестиций
Госбюджет
Вклады участников
Вклад владельца
Принятие основных решений
Государственные органы
Коллектив
Хозяин
Текущие производственные решения
Директор
Управляющий
Хозяин
Форма финансовых отчислений
Налоги + прибыль
Налоги
Налоги
Распоряжение готовой продукцией
Централизованное
Децентрализованное, рынок
Рынок
Назначение
Вышестоящие
Коллектив
Хозяин
управляющих
административные инстанции
Система найма
Государственная
По решению хозяина
По решению управляющего
Оплата труда
Зарплата и премии
Зарплата и участие вприбылях
Зарплата по решению хозяина
Система социального Действует обеспечения
Не действует
Не действует
Глава 1. Проблема исторического выбора
39
Пронизывающая все сферы жизнедеятельности капиталистического общества плюрализация видоизменяет содержание частной собственности. Следует отметить несколько наиболее важных моментов.
Во-первых, персональная индивидуальная собственность по своей общественной значимости отступает на второй план, а преобладающими оказываются коллективные формы капиталистической собственности. Такой коллективно-частной собственностью является акционерная собственность. К. Маркс писал о том, что акционерные общества — результат высшего развития капиталистического производства, необходимый переходный пункт к обратному превращению капиталов в собственность производителей, но уже не в частную собственность, а в собственность ассоциированных производителей, в непосредственную общественную собственность26.
Во-вторых, из права частной собственности стала уходить ее «абсолютность» как использование вещи при полном игнорировании публичных интересов. В современных трактовках частной собственности подчеркивается присутствие некоей «социальной функции», т.е. вводятся некоторые социальные ограничения права собственности (налоговые, плановые, обусловленные нормами охраны окружающей среды). История показала, что даже в периоды максимальной либерализации имущественных прав государство довольно часто вмешивалось в отношения собственности. Экономическая роль государства все больше проявляет себя как выражение общественных интересов, а потому дальнейшее развитие рыночной экономики в значительной мере становится зависимым не столько от удовлетворения частных интересов, сколько от оптимального для каждого отрезка времени сочетания общественных и частных интересов27.
В-третьих, высокая степень централизации капитала и значительная роль в общественном производстве отраслей национальной экономической и социальной инфраструктуры способствуют сохранению естественных монополий, в том числе государственного характера.
Хотя в современной капиталистической экономике подавляющее большинство составляют мелкие и средние фирмы, находящиеся в частном владении, однако по удельному весу в объеме торговых операций главная роль принадлежит корпоративной (акционерной) и монополистической формам собственности, что, в частности, и зафиксировано в американской конституции, где понятие «частная собственность» отсутствует. В США корпорации составляют 20% численности предприятий, но на них приходится 90% всего объема торговых операций. Несколько крупных корпораций, находящихся в государственном владении, обеспечивают работой около 25% самодеятельного населения, осуществляя при этом 50% всех инвестиций. Они концентрируются в основном в стратегически важных областях: банковском деле, страховании, транспорте, энергетике, телекоммуникациях и т.д. На них приходится 33% всей производимой в стране продукции28.
40
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
Государственный сектор в развитых индустриальных странах становится все более неоднородным. Помимо государственных корпораций, он включает предприятия неакционерного типа, предприятия и службы в сфере социальной инфраструктуры, смешанные государственночастные предприятия. При этом доля государственного сектора в национальном капитале, валовом национальном продукте и численности занятых перестает быть главным показателем государственного участия в экономике, которое определяется в большей степени не чисто количественными показателями, а масштабами и качеством государственного вмешательства в хозяйственные процессы.
Для сегодняшнего дня характерно не только изменение характера двух основных форм собственности, но и появление широкого спектра смешанных форм, различное сочетание государственного и частного секторов. Экономика приобретает характер смешанной, отличающейся не только сосуществованием различных форм собственности и предпринимательской деятельности, но и государственным регулированием социально-экономических процессов. Как справедливо отмечали известные американские исследователи П. Самуэльсон и В. Нордхауз, «смешанная экономика полагается, в первую очередь, на ценовую систему для своей организации, однако использует и многообразие правительственного вмешательства для того, чтобы справиться с макроэкономической нестабильностью и с недостатками рынка»29.
Формирование многоукладной экономики в развитых индустриальных странах сопровождается размыванием границ между формами собственности, появлением промежуточных, пограничных зон между государственным и частным секторами с тесным сотрудничеством и многообразными кооперационными связями между собой, миграцией предприятий из одного сектора в другой. Показателен в этом отношении «третий сектор японской экономики», представленный независимыми предприятиям, создаваемыми по решению и при финансовом содействии правительственных органов, которые являются частной собственностью, но служат объектами государственного регулирования.
1.4. Понятия «капитализм» и «социализм»
Почти целое столетие, начиная со второй половины XIX в., политэко- номическая наука развивалась в тенетах альтернативы «капитализм — социализм».
Термин «капитализм» возник в контексте идейных дискуссий середины XIX в. о путях дальнейшего общественного развития. Впервые он появился в социалистической литературе начала 50-х годов — у Луи Блана (1850 г.), Карла Родбертуса (1854 г.) и получил широкое распространение с начала XX в., особенно благодаря трудам Вернера Зомбарта и Макса Вебера. Показательно, что сам Маркс предпочитал говорить о
Глава 1. Проблема исторического выбора
41
капитале, капиталистическом способе производства, обычно не используя суффикс «изм».
Максу Веберу принадлежит следующее определение капитализма. «Капиталистическим, — писал Вебер, — мы будем называть такое ведение хозяйства, которое основано на ожидании прибыли посредством обмена, то есть мирного (формально) приобретательства»30. Это емкое определение грешит полным отождествлением рыночных и капиталистических отношений. Если называть капитализмом любую деятельность, приносящую доход или связанную с товарным обменом, то понятие это становится безбрежным и утрачивает какую-то историческую определенность. Сам Вебер, будучи исключительно последовательным в своих изысканиях, придерживался именно такого расширительного толкования капитализма. В работе «Протестантская этика и дух капитализма» он отмечал, что капитализм существовал в Китае, Индии, в Вавилоне, в древности и в средние века.
Современная историческая наука выделяет три фазы исторического продвижения капитализма: торгово-финансовую (XV—XVIII вв.), индустриальную (XVIII—XX вв.) и современную «геоэкономическую»31. Эти стадиальные изменения связаны со сменой технологических укладов и сопровождались кардинальными структурными перестройками. Классическим капитализмом можно считать экономический строй, сложившийся в ведущих странах Западной Европы к середине XIX в.
Как способ производства, сущностью которого является самовоз- растание стоимости, т.е. накопление капитала в результате эксплуатации наемного труда, капитализм включает в себя следующие признаки:
■ господство частной собственности на средства производства и особого класса собственников (буржуазии);
■ отчуждение основных производителей от средств производства и всеобщее распространение наемного труда;
■ наличие прибавочной стоимости как неоплаченного труда наемных работников, поступающей в распоряжение класса буржуазии;
■ всеобщее распространение рыночных отношений, превращение в товар как произведенных продуктов, так и факторов производства (включая рабочую силу).
Отталкиваясь от этих критериев, капитализм можно определить как способ производства, отражающий высшую точку развития экономической общественной формации, который характеризуется полным отделением непосредственного производителя от средств производства, господством наемного труда, высоким уровнем развития производительных сил при установке на максимизацию прибавочной стоимости, рыночном механизме регулирования пропорций общественного производства и при наличии поляризированной классовой структуры. На всем трехвековом временном отрезке суть капитализма оставалась неизменной, а именно - производство ради прибыли и ее капитализации. За¬
42
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
траты на оплату труда были компонентом издержек, и задача капиталиста состояла в том, чтобы свести их тем или иным способом к минимуму.
Переломным моментом в развитии капитализма можно считать первые три десятилетия XX в. Распространение массового производства при сдерживании оплаты труда и недостаточной поглотительной емкости внутренних и колониальных рынков привело к катастрофическому отставанию платежеспособного спроса и обернулось возникновением кризиса перепроизводства, который приобрел общесистемный характер. Возникла ситуация, когда крайнее обострение внутренних противоречий не позволяло поддерживать сбалансированное развитие экономики в рамках существовавших институтов и требовало их кардинальных изменений. Капиталистическая система была поставлена перед выбором: либо саморазрушение, либо видоизменение и расчистка территории для свободы действия новых закономерностей развития.
Кризис капитализма, который прогнозировал Маркс, допустив серьезную ошибку в определении его сроков, разрешился разными способами: во-первых, через сужение прежнего ареала системы капитализма (социалистический путь развития как альтернатива капиталистической системы); во-вторых, путем милитаризации экономики и введения принудительных форм труда (появление фашистских режимов); в-третьих, с помощью модернизации капиталистической системы и переключения акцента с экономии производственных издержек на расширение конечного спроса, что ознаменовало конец эпохи промышленного капитализма. Как пишет П. Козловски, обе идеологии (большевизм и национал-социализм) полагали себя силами, преодолевающими «анархию» и «медлительность» рыночного хозяйства32. Из трех вышеперечисленных вариантов выхода из кризиса второй оказался кратковременным явлением и полностью дискредитированным в результате поражения фашизма во второй мировой войне. Территориальные рамки социалистического строя до середине XX в. продолжали расширяться (образование ряда новых социалистических стран Европы и Азии), а к концу века (после распада СССР) сузились.
Современная модификация капитализма ведет свое начало с ЗО-х годов XX в.. Суть «нового курса» Рузвельта, теоретическое осмысление которого дал Кейнс в своем известном труде «К общей теории занятости, процента и денег», состояла, во-первых, в изменении отношения к социальной сфере и к фактору потребления как таковому. Расширение сферы занятости и повышение оплаты труда стимулировали спрос и вслед за тем рост отраслей потребительского комплекса и позволили достичь выравнивания агрегированного спроса и предложения. Во-вторых, это установка на финансовую стабилизацию путем регулирования процентной ставки и налогов и повышения тем самым ожидаемой прибыльности капиталовложений и производительного капитала. В-третьих, осознание того, что рыночная экономика ограничена в своих возможностях
Глава 1. Проблема исторического выбора
43
самокоррекции, а предотвращение кризисов и безработицы требует вмешательства государства в макроэкономические процессы. Принцип фритредерства был заменен лозунгом государственного регулирования.
Проведенные реформы существенно изменили характер капиталистического общества, обеспечив его выживание и избавление от резких циклических колебаний. Структурные изменения, выразившиеся в опережающем росте инфраструктурных отраслей, сферы обслуживания и финансовой сферы, совместились с кардинальными институциональными реформами, «чистая» частная собственность стала все больше вытесняться разными формами совместной собственности (акционерная, кооперативная, групповая, муниципальная и т.д.).
«Монополизация капитала создавала стратегические факторы роста, что обусловливало ориентацию производства не на максимум массы прибыли от реализации (это - функция частной, немонополизированной капиталистической собственности), а на глобальную эффективность капитала — на его так называемую предельную эффективность, что заставляет охватывать адекватным критерием эффективности (отношение прибыли к капиталу) общественное воспроизводство как целостность, как взятое в единстве всех его фаз... Рыночная экономика превращается в макроэкономику и поддается макрорегулированию на базе стоимостного подхода к управлению такими ведущими пропорциями хозяйства, как, например, нормы накопления, возмещения и амортизации, предельная и средняя эффективность капитала, соотношение между капиталом, продуктом и доходом и и.д.».
Евстигнеева Л., Перламутров В. Эволюция социализма: конец XXвека//Вопросы экономики. 1991. №7. С. 130.
Научно-техническая революция потребовала другого качества рабочей силы и даже вовлечения рабочего в управленческий процесс, что сопровождалось созданием механизма выравнивания доходов и социальной защиты трудящихся. Известный востоковед Г.К. Широков писал: «Таким образом, основные закономерности капиталистического способа производства — товарное производство, рынки, частная собственность, система эксплуатации, мотивация производства — претерпели существенные изменения. По моим представлениям, это означает, что капитализм эволюционным путем был замещен новым социально-экономическим строем, отличающимся иными закономерностями воспроизводства»33.
Существует несколько определений модифицированного капитализма, или «неокапитализма»: «государство благосостояния», «социальная рыночная экономика», «общенациональное корпоративное государство» и даже «конвергентный капитализм», т.е. капитализм, заимствовавший некоторые черты социализма 34. По классификации типов капитализма, предложенной видным экономистом «фрайбургской» школы В. Ойкеном, это третий тип капитализма после свободной конкуренции и образования концернов, трестов и картелей с установлением власти предпринимателей над потребителями.
44
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
Модификация капитализма сопряжена также с дифференциацией его видов. Общепризнанными стали две основные модели капитализма - американская и рейнская. Американская модель капитализма нацелена на максимальное освобождение рынка от распределительных и политических ограничений. Рейнская модель — это модель встроенное™ рынка в социальную и политическую структуру при сдерживании процессов монополизации и поляризации доходов. Японские теоретаки подчеркивают особую важность культурно-религиозных традиций, сказывающихся в дуализме христианского и конфуцианского капитализма.
Как индустриальный этап развития с подключением интенсивных факторов роста и освобождением личности от всех форм внеэкономического принуждения капитализм является «общецивилизационным путем развития», который нельзя миновать, но как каждый этап развития человечества капитализм не означает конца человеческой истории. В настоящее время в странах-лидерах капитализма созревают условия для дальнейшей эволюции капитализма. Наступает новая эра постиндустриального общества, которая понимается как переход от товаропроизводящего хозяйства к сервисной экономике, повышение роли образования, изменение структуры занятости и ориентиров человека, становление новой мотивации деятельности, развитие принципов демократии, формирование новой политической системы общества, внедрение элементов планирования и нерыночного регулирования.
Социализм следует рассматривать в двух ипостасях: как специфическую форму общественного сознания и как определенную форму общественного устройства. Понятие «социализм» берет свое начало от латинского «socialis» и французского «socialsme», что означает «общественный», и впервые было употреблено в 1827 г. в английском журнале «Кооператив мэгэзин» для обозначения взглядов последователей Роберта Оуэна. В течение последующих нескольких лет термин разошелся по Европе, проник в Америку и уже к началу 40-х годов XIX в. стал повсеместно использоваться в приложении к различного рода теоретическим построениям, ориентированным на создание нового справедливого социального порядка, который предполагал кооперативные формы организации общественных отношений. Первоначально этам термином обозначались не все построения подобного рода — наиболее радикальные из них назывались «коммунистическими» (от латинского слова «communis», что означает «общий»). Разделение на социализм и коммунизм как на качественно отличные формы идеологии сохранялось, однако, недолго. Уже в последние десятилетия XIX в. коммунизм стал рассматриваться как одно из течений в рамках социализма, один из типов социалистаческой системы взглядов35.
Сами классики марксизма считали социализм второй стадией, а коммунизм — первой стадией следующей за капитализмом более высокой общественной формации. Название «социализм» для определения
Глава 1. Проблема исторического выбора
45
первой фазы коммунистической формации получило распространение уже после К. Маркса и Ф. Энгельса. В работах Ленина в этом смысле понятие социализм появляется в 1917 г.36
Идея социализма, его интерпретация как системы человеческих ценностей высшего порядка является интеллектуальной и моральной реакцией на две крайности: этатизма как полного отрицания свободы личности и индивидуализма, доводящего лозунг свободы личности до отрицания нравственности. Родоначальники «идеи социализма» стремились соединить социальную защиту граждан с эффективностью производства и поэтому не отрицали ни полноправности частной собственности, ни законов рынка, конкуренции и предпринимательства, ни сохранения той или иной формы имущественного неравенства.
Одной из главных аксиом марксизма было утверждение об обреченности частной собственности и ее неизбежной замене общественной собственностью на средства производства. Лежащее в основе марксизма представление об истории как о последовательной смене социальных систем (общественных экономических формаций), каждая из которых обладает присущим только ей специфическим способом производства, исключает сосуществование в произвольных пропорциях плановой (государственной) и рыночной экономики. Отсюда пошли представления о социалистичности полного обобществления средств производства, уничтожения частной собственности и классов, утверждения плановой организации труда. В отличие от «капитализма» целью социалистического общества в такой трактовке является не возрастание прибыли, а удовлетворение общественных потребностей. Правда, классики марксизма-ленинизма, связывая построение будущего общества с уничтожением частной собственности и концом товарного производства, не принимали «подстегивания» эволюционного процесса. «Надвигающаяся по всем признакам революция пролетариата сможет только постепенно преобразовать нынешнее общество и только тогда уничтожит частную собственность, когда будет создана необходимая для этого масса средств производства»37.
В этические представления о социализме входит сочетание интересов индивидуальных, коллективных и общегосударственных, исключающее паразитический образ жизни и эксплуатацию как таковую. Конечными целями идеализированного социализма считаются достижение социальной справедливости, преодоление резкого имущественного неравенства и создание условий для полной реализации человеческих потенций.
Социалистическая трактовка социальной справедливости отличается от ее рыночного образца, согласно которому единственно приемлемым объявляется распределение доходов по факторам производства, свобода обогащения, не ограниченная никаким государственным вмешательством («пусть неудачник плачет»). Социалистическое учение при¬
46
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
знает справедливым лишь распределение по труду при наличии равных социальных гарантий для всех членов общества. Социалисты всегда стояли за предоставление каждому члену общества доступа к общественному богатству и общественному дивиденду. Социальная справедливость равнозначна в этом случае уничтожению эксплуатации и обусловливающей ее частной собственности.
Сам принцип «оплаты по труду» действует только в рамках определенной хозяйственной организации, продукт которой получил признание на рынке и потому приобрел денежную форму, позволяющую оплачивать участников производственного процесса. Система найма и установления заработной платы производится в соответствии со стоимостью рабочей силы. Но поскольку цена рабочей силы - величина весьма неопределенная, справедливость распределения является операцией со многими неизвестными. Чрезмерные претензии управляющих и собственников отнимают средства у производства и наемных рабочих, что можно расценить как «эксплуатацию». Завышения требования рабочих, особенно в условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры, могут приводить к прекращению существования предприятия. В конечном счете, понятие социальной справедливости оказывается нравственной категорией, совпадающей со «сверхзадачей» развития человечества — созданию условий для максимального использования творческого (креативного), инновационного потенциала человека.
Профессор МГУ А. В. Бузгалин так трактует социальную справедливость:
« Так что же такое социальная справедливость, за которую боролось и борется человечество? Эмпирически достаточно понятно, что “справедливой ” обычно называют такую систему отношений, в которой распределение жизненных благ осуществляется по мнению большинства... справедливо. За этой тавтологией скрыт глубокий смысл, а именно: социально справедливой может быть названа такая экономическая и социальная система, которая объективно соответствует стандартам экономического поведения, потребностям, интересам большей части членов данного исторически определенного общества. Соответственно, это та система экономических отношений (в первую очередь — отношений распределения), которые субъективно воспринимаются большинством членов общества как справедливые, т.е. соответствующие тем экономическим устоям, которые они считают «естественными», нормальными, адекватными для самих себя».
Бузгалин А. В. Ренессанс социализма. М., 2003. С. 285.
Если придерживаться такой точки зрения (а нам она кажется правильной), то оценки одного и того же общества с позиций социальной справедливости исторически могут меняться кардинальным образом. Советское общество в эпоху индустриализации, когда необходимые для крупномасштабного экономического строительства средства могли быть получены только за счет ущемления личного потребления, что распро¬
Глава 1. Проблема исторического выбора
47
странялось и на рабочих, и на управляющих производством, большинством его гражданам воспринималось как социально справедливое. С современных позиций оплата труда «строителей социализма» ниже необходимого продукта вполне подходит под категорию «эксплуатации», хотя она и исходила не от лица частных собственников.
Наибольшую важность приобретает вопрос о соединении социальной справедливости с экономической эффективностью, так чтобы первая была условием роста второй. Это требует поддержания определенной нормы оплаты труда, обеспечивающей соответствующее качество рабочей силы и целесообразность перехода от экстенсивного к интенсивному типу развития, и сокращения имущественной дифференциации до рациональных пределов, гарантирующих социальную стабильность общества.
С точки зрения целевых установок социалистических учений их можно разделить на «адаптационные», направленные на сохранение и модификацию структур и институтов существующего общества, и на «ниспровергающие», в основе которых лежит стремление к созданию общества, качественно отличного от существующего. По методам преобразования социалистические теории делятся на революционные и реформистские, причем если раньше такой подход использовался для демаркации марксистских и немарксистских теорий социализма, то в настоящее время он модифицировался в антитезу «революционный — эволюционный», что означает не столько различия в субъектах-исполнителях проекта (народ либо правящая верхушка), сколько в темпах преобразований. С конца XIX в. социализм стал все более тесно связываться с общественным устройством, характеризующимся в первую очередь господством государственной собственности на средства производства и с государственным регулированием экономики.
Марксистский проект переустройства общества под лозунгом «коммунизма» был направлен на преодоление основных пороков капитализма - частной собственности и рынка, на достижение наивысшей производительности труда и возвращение к «истинной» индивидуальной собственности на основе общественной, на формирование принципиально нового способа присвоения - сначала по труду, а затем — и по потребностям. Этот проект, направленный на ликвидацию структур капиталистического общества, теоретически оправдывался растущим обобществлением производства и его социализацией и преподносился господствующей идеологией как общественный идеал угнетенного класса капиталистического общества. Такой подход «устранил» присущие рыночной экономике проблемы, однако сделал это за счет ликвидации самого рынка, привнеся при этом в общество проблемы, вызванные отсутствием рыночных отношений»38. Советские политэкономы, разрабатывая тезис о «непосредственно общественном труде при социализме», при котором рабочая сила не является товаром, также признавали,
48
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
что «социалистическое производство по существу не является товарным производством», хотя и не отрицали его ограниченного использования. Наложение социалистического проекта на условия послереволюционной России, оказавшейся одинокой в своем социальном эксперименте, привело к образованию «реального» («неидеального») социализма. Еще Маркузе упоминал о споре относительно «двух социализ- мов», один из которых существовал на практике, а другой «еще не существовал»39. «Реальный социализм» - это, конечно, «не тот социализм», который был конечной или даже промежуточной целью коммунистической утопии, его можно считать «социализмом в известном смысле слова», соответствующим определению «государственный социализм» или «квази-социализм» (есть предложения называть его конвергентным или даже «мутантным социализмом»40)
«Реальный» социализм, значительно отличавшийся от социалистического проекта, обладал следующими основными чертами:
■ приоритет общественных форм собственности (государственная и коллективная) и ограниченная роль частной собственности (при ее идеологическом осуждении);
■ сохранение наемного труда в преобладающей форме найма у государства, фактическое отчуждение производителей от средств производства;
■ распоряжение прибавочной стоимостью через систему государственного бюджета и государственных капиталовложений;
■ суженная роль товарно-денежных отношений, отсутствие рынка факторов производства и рыночной системы цен — «централизованная система хозяйствования», при которой предприниматели становятся исполнителями государственных планов с некоторой хозяйственной самостоятельностью и бременем риска из-за элементов рыночного хозяйствования. При этом значение рынков снижается и изменяется роль денег41.
Как форма общественного устройства «эталонный социализм» вовсе не идентичен «реальному социализму», существовавшему в условиях СССР. Уничтожение частной собственности вовсе не было ее «преодолением», а созданная государственная собственность не подходит под определение «общенародная», поскольку она не ликвидировала отчуждение работников от средств производства и сам наемный труд. Вместо частных нанимателей появился один «совокупный работодатель» — государство как верховный владелец средств производства.
Отказ от рынка тоже не вытекал из предшествующего исторического развития, а служил подспорьем мобилизационной экономики: рыночные отношения явно препятствовали концентрации имеющихся средств и направлению их в капиталоемкие и низкоприбыльные отрасли тяжелой индустрии. В условиях чрезвычайного положения централизованное распределение всегда более эффективно, нежели рыночное, что доказывает история военного времени всех без исключения стран.
Глава 1, Проблема исторического выбора
49
«Рассматривать неудачу советского опыта как свидетельство марксистского прогноза явно неправомерно, поскольку так называемое “строительство социализма” в СССР и других странах велось вовсе не по Марксу. Те “планомерность” и “общенародная собственность ”, которые существовали в СССР, были прекрасным образчиком “казарменного социализма ”, против которого ожесточенно воевали Маркс и Энгельс. Виновен ли архитектор в том, что рухнуло здание, построенное не по его проекту, из неподходящих материалов и на непригодном грунте (даже если на фасаде, не спросясь, выбили его имя) ?»
Бузгалин А., Колганов А. Нужен ли нам либеральный марксизм?//Вопросы экономики. 2004. №7. С. 132.
Тем не менее, построенное общество имело принципиальные отличия от капитализма в виде ущербности частной собственности по сравнению с государственной и слабости стоимостных рычагов управления по сравнению с планово-административными мерами. При внешнем сходстве с «идеей социализма» эти элементы социально-экономической стратегии в нашей стране имели совершенно другое содержание. Возникновение в СССР этатизированной хозяйственной системы можно объяснить разными причинами, но на первое место следует поставить именно ускоренную индустриализацию как способ стимулирования экономического роста и обеспечения экономической безопасности страны в условиях противостояния двух мировых систем.
Планирование и жесткое администрирование обеспечило возможность «прорыва» в некоторых сферах производства, выбранных как приоритетные, подготовило страну к военному противостоянию с фашизмом, но в то же время значительно снизило значение мотивационного механизма и обернулось нерациональной структурой производства с большими материальными потерями. Место максимизации прибыли заняли максимизация объема совокупного общественного продукта и максимизация затрат труда, что сдерживало научно-технический прогресс. Мобилизация инвестиций для форсирования экстенсивного роста сопровождалась урезанием потребления. При низком уровне оплаты труда поддержание необходимого прожиточного минимума могло быть достигнуто только за счет сохранения низких цен, уравнительных методов распределения и разного рода государственных субсидий. Идеологическая пропаганда превозносила скромный образ жизни и отсутствие имущественного расслоения как «преимущества социализма».
Социалистическая индустриализация, обеспечившая рост тяжелой промышленности, оказалась паллиативом, позволившим временно оттянуть решение тех проблем, которые связаны с системным кризисом капитализма. С течением времени модель «производство ради производства», принявшая гипертрофированные формы в годы войны, а затем законсервированная условиями «холодной войны», стала сдерживать структурные преобразования. Отставание легкой промышленности при небольших масштабах импорта обернулось повальным дефицитом по¬
50
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
требительских товаров. Нарастание экономических и социальных противоречий вылилось в серию кризисов: политической системы, натурально-распределительной системы, политики протекционизма. Выход из «общего кризиса социализма» мог быть осуществлен только путем аналогичным тому, что помог преодолеть системный кризис капитализма, а именно, через рост потребления и потребительского спроса. Только высокая оплата труда создает предпосылки функционирования современной рыночной экономики, базирующейся на высоких личных сбережениях, высоком подоходном налоге, высоком потребительском спросе и, в конечном счете, высоком качестве рабочей силы.
Из вышеприведенного анализа понятий «капитализм» и «социализм» следуют такие выводы:
■ Исторический спор между капитализмом и социализмом нельзя считать однозначно решенным, а само их противопоставление безусловным. Есть все основания констатировать совместимость этих идеологических крайностей в рамках политэкономической модели, свойственной этапу индустриализации. Поскольку и в капиталистической, и в социалистической системах наличествуют обмен, деньги, цены и заработная плата, они принадлежат к одной «экономической», или «монетарной» системе, которую французский экономист Б.Шаванс называет системой «деньги — наемный труд»: «По аналогии с классификацией растений и животных К. Линнея такая система могла бы быть определена как класс, а капитализм и социализм — как два семейства внутри данного класса»42. Сохранение при социализме «отчуждения труда» позволяет говорить о государственной собственности при социализме как «всеобщей частной собственности», а не подлинной общественной собственности. По мнению М. Вебера, социализм и капитализм имеют аналогичные доминанты: современный капитализм и современный социализм равно оказываются жертвами механического бюрократического катка, наступающего на человека и лишающего его возможности быть свободным и многосторонним. Независимо оттого, в условиях социализма или капитализма пребывает человек, он оказывается втянутым в систему безличных отношений, не этических и не антиэтических, в вне- этических, противостоящих любой этике отношений.43
■ Нет оснований полностью противопоставлять «рынок» и «социализм». Это противопоставление сложилось в определенных исторических условиях и не было доведено до своего логического завершения. «Нерыночность» социализма относительна, рыночные реформы в социалистических и бывших социалистических странах означают не становление рыночных отношений «с нуля», а расширение сферы рыночных отношений, переход к «цивилизованному» рынку и вступление в мировой рынок.
■ Совмещение рынка и социализма выглядит как отступление от марксистской теории и одновременно как возвращение к домарксист¬
Глава 1. Проблема исторического выбора
51
ским видениям социализма. Родоначальники «идеи социализма» стремились соединить социальную защиту граждан с эффективностью производства и поэтому не отрицали ни полноправности частной собственности, ни законов рынка, конкуренции и предпринимательства, ни сохранения той или иной формы имущественного неравенства.
■ При неидентичности понятий «рынок» и «капитализм» развитие рыночных отношений не однозначно построению капитализма, но вместе с тем это устанавливает такой порядок вещей, который характеризуется рационализмом, конкуренцией, имущественной дифференциацией, т.е. господством «золотого тельца» со всеми атрибутами стяжательства и борьбы за выживание.
Признание капитализма необходимой стадией развития человеческой цивилизации не идентично утверждению о его безальтернативности. Социалистическая перспектива не снята окончательно с повестки дня ни в плане признания равенства прав властителей и подвластных, управляющих и управляемых, ни в плане целеполагания различных политических сил.
1.5. Теории «прогресса» и «модернизации»
Понятие «прогресса» было отчетливо сформулировано лишь в XVIII в. идеологами восходящей буржуазии и с тех пор вошло в капиталистическую идеологию как оправдание существующих порядков с заложенной в них способностью совершенствования. По выражению социолога Э. Араб-оглы, в идее прогресса воплощался исторический оптимизм революционной буржуазии нового времени44.
В XIX и XX вв. прогресс интерпретировался либо в примитивно материалистическом духе как беспрерывный количественный рост производства и усложнение социального организма, либо в идеалистическом духе как религиозное и моральное совершенствование человека. Признание наличия общих исторических и экономических законов логически вело к выводу о том, что человечество движется «единым путем прогресса», его будущее является предопределенным, а особенности исторического, географического и культурного развития стран могут вызвать всего лишь те или иные модификации. В число критериев общественного прогресса различные ученые включали: развитие интеллекта, рост благосостояния, распространение культуры, возрастание власти человека над природой и т.п. Идея «общественного прогресса» привлекала перспективой все большего овладения человеком тайнами природы, гуманизацией общественной жизни и духовного совершенствования самого человека. В реальной жизни платой за достижения экономического прогресса стало растущее отчуждение человека от общества и разрушение природной среды
Марксисты, выдвигая в качестве универсального критерия повышение уровня производительных сил, рассматривали общественный
52
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
прогресс как неизбежную смену капитализма социализмом. Суровые события XX в. с его катаклизмами и кровавыми войнами сначала разрушили иллюзии в отношении «прогрессивности» капитализма, а затем подорвали привлекательность социалистической идеи, оставив в концепции прогресса один безусловный императив — неуклонное развитие производительных сил, техники и науки. Выбор между капитализмом и социализмом стал производиться не столько в результате научной аргументации, сколько под давлением идеологических канонов.
С середины XX в. в странах Запада начала активно разрабатываться теория «модернизации» в приложении к общественному развитию стран «третьего мира», и разные экономические школы давали свою трактовку этого понятия и того «ядра», который определяет суть модернизационного проекта. В число «идеалов модернизации» известный исследователь проблем слаборазвитых стран Гуннар Мюрдаль включал: 1) рациональность как выбор средств и методов, способствующих достижению научно обоснованных целей; 2) развитие и его планирование как поиск скоординированной системы политических мероприятий, которые могут содействовать экономическому росту; 3) повышение производительности труда в первую очередь путем более высокой технической оснащенности и высокой эффективности капиталовложений; 4) подъем жизненного уровня в качестве предварительного условия увеличения занятости и роста производительности труда; 5) выравнивание социальных и экономических условий, иначе, ликвидация чрезмерной поляризации общества; 6) усовершенствование общественных институтов и взглядов с установкой на создание «нового», или «современного» человека; 7) национальная консолидация', 8) национальная независимость**.
В самом общем виде термин «модернизация», или «осовременивание», означает приведение какой-либо системы в соответствие с ее наиболее рациональным устройством в принятом на данный момент значении этого слова. Процесс модернизации направлен на вытеснение «старого» «новым», прежней «традиционной» системы другой, принципиально от нее отличной. Недаром понятие «модернизации» вплотную примыкает к понятию «научно-технической революции», а сейчас и «информационной революции». Как и теория формаций и стадий, классическая теория «модернизации» базируется на представлениях об однолинейности общественного прогресса и о прогнозируемости и тесной взаимосвязи экономических и социальных преобразований, но делает больший акцент на роль личности и меняет общественный ориентир.
Можно выделить три основных типа модернизации в приложении к слаборазвитым странам:
■ потребительски ориентированная модель. Реализация этой модели предполагает создание условий для повышения товарности сельского хозяйства, рост реальных доходов населения, формирующих потребительский спрос, расширение внутреннего рынка;
Глава 1. Проблема исторического выбора
53
■ экспорто-ориентированная модель. Через расширение экспорта преодолевается узость внутреннего рынка, стимулируется диверсификация промышленного производства и внедрение более высоких технико-технологических стандартов;
■ модернизация, ориентированная на проведение индустриализации. Такая модель является капиталоемкой, возникает дефицит капиталовложений, который преодолевается за счет следующих источников: традиционных секторов экономики (сельское хозяйство), традиционного (сырьевого) экспорта, снижения реальных доходов населения, иностранных инвестиций и кредитов.
При различной восприимчивости экономики к инновациям и различных затратах на образование и науку страна может стать государством первого эшелона модернизации (где основные ресурсы — минеральное сырье, энергоносители и территория, и акцент делается на тяжелой индустрии и экстенсивном развитии сельского хозяйства), второго эшелона (ресурсы — психологические установки и трудовые навыки населения, ведущие отрасли — электроника, биотехнология, малотоннажная химия и др.) или третьего (ресурсы — творческий потенциал общества, акцент на создании новых идей и технологий)46.
Процесс «модернизации» во многом перекликается с историческим прогрессом, что позволяет говорить о нескольких социально-технологических стадиях мировой модернизации: доиндустриальная, раннеиндустриальная, позднеиндустриальная. Последней, непосредственно связанной с «новым курсом» Рузвельта и «кейнсианской революцией» в экономической науке, соответствуют структурные сдвиги в экономике в направлении ускоренного развития потребительских секторов и высокотехнологичных видов производства, которые обеспечивают общее повышение эффективности производства. Экономический рост фактически ставится в зависимость отличного потребления, от инвестиций в социальную сферу и инфраструктуру. Повышение статуса членов гражданского общества как потребителей и частичных собственников некоторыми учеными интерпретируется как своеобразная «са- момодернизация» и «гуманизация» капитализма.
С самого начала «выхода в свет» термин «модернизация» носил совершенно определенный оттенок альтернативы социализму. В приложении к странам, отставшим в своем экономическом развитии, концепция «модернизации» превратилась в обоснование необходимости быстрого экономического и социального развития при ориентации на принципы капиталистического рыночного хозяйства и культурологические стереотипы капиталистически развитых стран. В числе этих принципов: высокая степень индустриализации и урбанизации, развитое рыночное хозяйство, наличие гражданского общества и демократической политической системы и, соответственно, составляющих такое общество «автономно-суверенных» индивидов, секуляризация, свободная миграция
54
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
населения, в том числе межгосударственная, развитие образования и широкое распространение средств массовой информации. Первым вступив в то особое состояние, которое характеризуется понятием «модер- ность», Запад стал эталоном формально-рационального начала, полная реализация которого, согласно Веберу, происходит в рамках капиталистического рыночного хозяйства. В приложении к странам, где вообще не было собственных предпосылок капиталистического развития, концепция модернизации превратилась в аналог требования экономического и социального развития по образцу стран-лидеров.
Концепции капиталистической модернизации противостояла теория «некапиталистического пути развития», или «социалистической ориентации», обосновывавшая необходимость индустриализации с подключением государственного сектора и плановой системы по образцу социалистических стран. Однако задачу немедленной ликвидации частного сектора ставили только догматики социалистического учения с явными утопическими иллюзиями ускоренного преодоления экономической отсталости. Путь «некапиталистического развития» не смог доказать своей эффективности, и «подопытные» страны, не получив необходимой материальной поддержки со стороны слабеющего Советского Союза, вступили в полосу острых экономических и политических кризисов.
Окончание «холодной войны», завершившееся распадом Советского Союза, ликвидировало закрытые до того зоны вторжения капитала, подтолкнуло развитие процессов глобализации, укрепило позиции сторонников однополярного мирового устройства. Поражение «реального социализма» все больше склоняло чашу весов в пользу построенной на материальном благополучии и конкуренции западной системы ценностей, которые квалифицируются как «общечеловеческие цивилизационные ценности» в полном соответствии со специфическим видением западных политиков будущего мирового порядка. Уничтожение политической биполярности теперь переводится в плоскость философского «снятия» традиционных противоречий между индивидуализмом и коллективизмом, либерализмом и этатизмом, капитализмом и социализмом и дает основание прогнозам относительно полной унификации общемирового развития по индивидуально-либерально-капиталистическим канонам.
Однако сама задача подтягивания уровня менее развитых стран становится в этих условиях все более проблематичной. Есть все основания полагать, что сегодня формирование где-либо развитого капиталистического уклада, подобного существующему в странах «золотого миллиарда», практически уже невозможно47. Страны «второй волны» могут в лучшем случае рассчитывать на существенное повышение своего экономического и жизненного уровня, но догнать развитые страны по всем параметрам и подняться на верхний этаж мировой экономической системы им
Глава 1. Проблема исторического выбора
55
уже вряд ли удастся. Для преодоления экономического отставания требуется два главных условия: 1) мобилизация всех ресурсов и увеличение доли накопления и 2) защита своего внутреннего рынка от конкуренции иностранных товаров. Но в современных условиях демонстрационного влияния «общества потребления» и все большей глобализации экономики выполнение этих условий нереально. К тому же при наличии диктата мощных капиталистических стран с их агрессивной конкуренцией и заинтересованностью в сохранении менее развитых стран в качестве своих сырьевых придатков и резервуаров дешевой рабочей силы «выскочить» из тенет экономической неполноценности и зависимости могут только отдельные счастливчики, которым будет выдан на то карт-бланш.
В итоге процесс глобализации обеспечил неоспоримые преимущества тем странам, которые ранее других вступили в технологическо-информационную революцию, и в значительной степени лишил надежды всех остальных на успех в «гонке за лидером».
«Нельзя согласиться с теми, кто считает, что глобализация — продолжение модернизации. Дело обстоит наоборот. Глобальная экономика — клуб уже модернизированных. Прежде господствовала идея прогресса (эвфемизмразвития по западному образцу). Именно модернизация была глобальной тенденцией. Теперь клуб избранных отставил идею подталкивать к развитию менее удачливых. Глобализация оказалась противоположной модернизации, ибо догонять и имитировать—значит обрекать себя на прогрессирующее отставание. Быть похожим на других сегодня не годится. Сегодня надо быть лучшим или уникальным. Поэтому в настоящее время чрезвычайно обострена критика модернизации и в особенности догоняющей модернизации, уже давно обнаружившей свою ограниченность».
Федотова В. Россия в глобальном и внутреннем мире// Независимая газета. 21.02.2001.
Как более емкое понятие, относящееся к перестройке и сферы базиса, и сферы надстройки, «модернизация» ближе к содержанию «реформы», нежели «революции». Она не может осуществляться путем слома или полного уничтожения существующих производительных сил, всего уклада жизни. В отличие от процесса развития, который может быть как направляемым, так и спонтанным, проведение модернизации предполагает целенаправленные усилия по улучшению существующей ситуации (в том числе создание более благоприятных условий для развития), что составляет также суть реформистских акций. Но если под реформой чаще всего имеется в виду совершенствование экономической и политической системы, то модернизация выходит за рамки чисто институциональных преобразований и охватывает широкий комплекс мероприятий, затрагивающих все основные стороны жизнедеятельности общества. Поэтому вряд ли можно согласиться с трактовкой модернизации как просто обновления, трансформации существующего порядка без перехода к чему-то принципиально новому.
56
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
На фоне разворачивающейся трансформации капиталистического общества в «посткапиталистическое» прежняя концепция «модернизации» постепенно вытесняется концепцией «постмодернизации», пересматривающей безапелляционный акцент на экономическую эффективность, бюрократические структуры власти и научный рационализм, которые были характерны для классической теории модернизации, и возвращающей к идеалам более гуманного общества, где самостоятельности, многообразию и самовыражению личности представляется больший простор48. Французский философ Ф. Лиотар, которому принадлежит пальма первенства в отношении введения термина «постмодернизм», определил его как скептицизм по отношению к «установкам, претендующим на устойчивость» (incredulity towards metanarratives), которые порождены прогрессистскими верованиями во всемогущество научного знания»49.
«Позднеиндустрилъная модернизация и научно-индустриальная революция фактически подготовили условия для постиндустриальной модернизации, которая во многом представляет собой отрицание индустриального капитализма, разрыв с культурой «модернити», или постмодернизацию. Ее историческая сущность заключается в глобальном переходе от доминирования экономики в привычном смысле слова (т.е. производства материальных благ) к преимущественному производству человека, в возрастании роли научного знания и информации, в вытеснении простого труда интеллектуальной творческой деятельностью. Для постиндустриального, информационного общества характерны также замена массового производства и потребления гибкими производственными системами и индивидуализация потребностей и потребления. В процессе пост индустриализации становится необходимым решать экологические проблемы. Наконец, расширение степеней свободы при принятии решений ставит под сомнение идею предопределенности прогресса, особенно однолинейного, связанного только с покорением окружающей среды и увеличением материального богатства. Все очевиднее становится, что «история свободна», общество начинает сознательно выбирать варианты своего будущего».
Красильщиков В. Россия и мировые модернизации//Pro et Contra. 1999. Т.4.№3. С. 93-94.
1.6. Синергетический подход к «философии истории»
В поисках новой «философии истории», которая, не списывая целиком уже накопленных знаний, позволила бы дать более адекватные ответы на вызовы современности, ученые все больше обращаются к теории синергетики, в основе которой лежит положение о неравновесных (открытых) системах, о становлении порядка из хаоса по принципам самоорганизации. Само слово «синергетика» означает «совместное действие», поведение системы как некоего целого. Определяя новый под¬
Глава 1. Проблема исторического выбора
57
ход к фундаментальным мировоззренческим проблемам, известный философ И. Пригожин в статье «Философия нестабильности» сделал вывод о том, что современная наука не должна быть ни материалистической, ни редукционистской, ни детерминистической. Это значит, что только системы далекие от равновесия, находящиеся в состоянии неустойчивости, способны спонтанно организовывать себя и развиваться. Устойчивость и равновесность — это тупики эволюции50.
С позиций синергетики общественно-историческое развитие представляется неразрывно связанным с общеприродными явлениями и тенденциями, важную роль в характеристике которых играет случайность. Место обособленных «закрытых систем» занимает единая «открытая система», в которой развитие носит нелинейный характер, и новый порядок возникает из хаоса, т.е. такого неравновесного состояния, где поведение системы становится неустойчивым. Такая система как бы «колеблется» перед выбором одного из нескольких путей эволюции
Неустойчивость означает развитие через случайность, флуктуации, бифуркации и т.д. Термин бифуркация, как перепад поступательного движения и как нарушение непрерывности, широко использовался разработчиком синергетического подхода в науке о биосфере и человеке академиком Н.Н. Моисеевым. Согласно концепции Моисеева, эволюция происходит по четко очерченным каналам, пока не доходит до некоей точки бифуркации, где происходит слом берегов этих каналов и перед системой появляется возможность двигаться в альтернативных направлениях. В переломные моменты (точки бифуркации) создается ситуация выбора, образуется «поле путей развития». Бифуркационный сценарий отрицает поступательное развитие как результат действия строгой закономерности и признает важность коллективных и индивидуальных воздействий на систему (флуктуаций). Поскольку выбор дальнейшего пути развития в достаточной степени случаен, выход из состояния кризиса многовариантен. Многовариантность развития принимает разные виды: как параллельное развитие альтернативных социальных систем в одном пространстве, как разновременное развитие локализованных социальных систем, как реализация в данный момент времени одного из потенциально возможных путей социального развития. Выбор одной из возможных альтернатив вовсе не означает полного игнорирования «утраченных альтернатив», которые остаются в виде оппозиции произведенному выбору и в виде потенциальной возможности очередного обновления в будущем.
Признание многовариантности развития в точке бифуркации означает ниспровержение одного из самых опасных мифов спекулятивной науки по имени «Иного не дано». Достижение высшей ступени свободы связано со свободой самой истории, реализацией свободного общественного выбора. И здесь важно, кто и как будет осуществлять этот выбор, какое взаимоотношение установится между управляющими и управляемыми.
58
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
«Среди опасностей, которые подстерегают общество, особое место занимают бифуркационные состояния, поскольку выход из них непредсказуем и не может конт - ролироваться Разумом. В этих состояниях значительно большее влияние на дальнейшее развитие оказывают случайности, а не предыстория. Шутка биологов о том, что первая птица, к удивлению Бога, вылетела из яйца динозавра, имеет глубокий смысл. Особое место в истории общества имеют те бифуркации, которые мы именуем революциями. И разворот событий здесь всегда непредсказуем!»
Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь Разума. М., 2000. С. 135.
Одним из важнейших принципов синергетики является принцип комплементарное™ (дополнительности), сформулированный Н. Бором, согласно которому противоположности сосуществуют, будучи взаимозависимы друг от друга. В первую очередь это относится к основополагающей противоположности духовного и материального, получившего философское преломление в борьбе идеализма и материализма. В основе мироздания, начиная с исходного уровня, материальное начало неотделимо от идеального, находится с ним в неразрывном единстве.
Синергетический принцип «дополнительности» заставляет полностью пересмотреть положения о «классовой борьбе» и «эксплуатации». Понятия «частное» и «общественное», «личное» и «коллективное», рассматриваемые марксистами как взаимоисключающие начала, на самом деле являются взаимодополняющими с маятниковым переносом акцентов в ту и другую сторону. Эксплуатация состоит не столько в самом присвоении прибавочного продукта, сколько в его произвольном использовании без учета нужд общества и его граждан и присуща, таким образом, одновременно сфере производства и сфере распределения. Эффективное™ производства препятствуют как чрезмерное имущественное неравенство, так и эгалитаризм.
Принадлежность к социальным стратам не должна быть строго фиксируемой и наследуемой, не должна сопровождаться закреплением привилегий, в числе которых находится и бесконтрольность власти. Проблема состоит не в том, чтобы «уничтожить классы» или поменять их своими местами, а в том, чтобы классовая принадлежность индивида не мешала удовлетворению его материальных и духовных потребностей. Непродуктивна сама постановка задачи бесконфликтного развития или, наоборот, достижения победы одной из конфликтующих сторон за счет уничтожения другой.
Отход от принципа однолинейности времени исключает прежние представления о едином временном массиве (стечением времени исторический процесс как бы ускоряется и уплотняется) и о строгой последовательности перехода от одного этапа к другому. Отсюда иное толкование самого прогресса, поступательности общественного движения, цикличности общественного развития. Нелинейность времени предполагает и возможность «возврата» (иногда частичного) к точке перелома (ветвления). Осознание нелинейности развития подводит к необходи¬
Глава 1. Проблема исторического выбора
59
мости соединения цивилизационного и формационного подходов. Первый подход оказывается главенствующим на стадии, предшествующей масштабной глобализации. При периодизации исторического процесса по правилам синергетики исходная позиция — выделение «точек бифуркации», главных этапов «перелома». Протяженность этих «пограничных зон» может составлять не одно столетие, эти переходные эпохи заполнены сложными проблемами общественного выбора, совершаемого и спонтанным, и сознательным, и революционным, и реформистским путем. Вынужденное вступление в эту «турбулентную зону» непредсказуемо по своим последствиям. «Поле выбора» прорисовано объективными условиями, однако предпочтение того или иного варианта развития — чисто субъективное действо. К тому же осуществление задуманного не менее проблематично.
Целесообразно также рассматривать глобальный исторический процесс как «разнотемповое развитие» Запада и Востока. «Восток, — пишет В.В. Крапивин — это иное время. И не в том дело, что ведется оно не от рождества Христова. Оно другое по сути, иначе выстраивается, не линия, не спираль, ввинченная в заоблачную высь, а что-то шарообразное, когда прошлое от будущего не отличить, то, что было вчера, забегает вперед, а присмотревшись, с изумлением понимаешь, что бег этот сродни неподвижности»51.
Более сложным представляется с позиций синергетики и противопоставление «традиционного» и «современного». Любое докапиталистическое общество, которое вышло из стадии первобытного строя, отличается переплетением традиционных и архаических укладов с вновь складывающимися отношениями, является фактически не моно-, а многоукладным, основанным на той или иной форме внеэкономического принуждения в сочетании с определенными элементами товарного хозяйства.
Традиционная методологии истории базировалась на отношении к природе как внешней среде деятельности человека, как «географическому фактору», влияющему, но не определяющему жизнь общества. Классическая наука ограничивала глобальный эволюционный процесс появлением человека, который рассматривался как самодостаточная сущность по отношению к Природе. В понятие цивилизации как «закрытой» системы изначально закладывалась конфронтация по линии Природа - Общество - Человек. Человек познает закономерности развития природы и в соответствии с этим подчиняет ее своим нуждам и потребностям, т.е. покоряет ее. В современной синергетической трактовке «открытой» системы природа и общество представляют собой единое целое, и в исследовании исторического процесса акцент должен делаться на уяснение взаимосвязи, взаимозависимости природных и социально-экономических процессов. Это требует объединения методологии естественных, технических и гуманитарных наук.
60
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
Констатация человеческой субъективности как «осваивающей природу» человеческой деятельности, воплощающей в себе единство материального и идеального начал, исключает использование в качестве критерия общественно-исторического прогресса понимаемый сугубо технически уровень развития производительных сил, от которого напрямую зависят «производственные отношения». На первый план выдвигаются достигнутые в результате всего предшествующего исторического процесса «качество» человека, прежде всего его познавательная способность, и «качество» общества, степень удовлетворения материальных и духовных потребностей человека. Примат производительных сил в историческом развитии расшифровывается как сочетание природных, технологических и личностных факторов производства, установление такого сожительства природы и человека, которое было бы на пользу и тому, и другому.
Отрицание жесткой «сетки» формаций вовсе не означает полного отрицания формационной методологии. Выделение различных «способов производства», или «укладов» — один из главных методологических приемов анализа исторического процесса. Каждый из «способов производства», набор которых зависит не только от объективных факторов, но и фигуры самого исследователя, следует рассматривать как самостоятельную институциональную систему, переживающую свою собственную эволюцию, но вовсе не обреченную на «вымирание». Любая стадия исторического развития характеризуется многоукладностью и специфическим сочетанием укладов разной степени зрелости. Важнейшей закономерностью истории является процесс социальной гибридизации, который состоит в сознательном, стихийном или полустихийном взаимном обмене опытом. В пределах отдельных цивилизаций могут быть выделены различные формации как смешанные системы с той или иной иерархией социально-экономических укладов. Формации разных цивилизаций не могут быть идентичными, что не исключает возможности проведения разного рода параллелей.
Ученые-востоковеды пришли к выводу, что в условиях деспотических политических режимов вообще не могут существовать общественные формации в их устоявшемся понимании и поэтому требуется вводить дополнительные термины. «Азиатский способ производства» в ракурсе синергетики можно рассматривать как господство «государственного уклада» и его превращение в стойкую структуру, способную к саморегулированию в меняющихся обстоятельствах. Главенство этого уклада вовсе не означает невозможности стадиального рассмотрения динамики восточного общества, в развитии которого прослеживаются свои «формации», схожие в чем-то с европейскими. И наоборот, такого рода господствующий «государственный уклад» может существовать не только в восточных обществах, что показывает история социализма XX в.
Глава 1. Проблема исторического выбора 61
В конечном счете, периодизация истории не сводится к вычленению нескольких сменяющих друг друга стадий, а предполагает проведение сложного поэтапного анализа, за основу которого следует взять главные точки перелома исторического процесса, где первую ступень занимает периодизация по линии Природа — Общество, вторую — по линии глобализации исторического процесса, третью — выделение этапов внутри этих стадий с учетом цивилизационных особенностей, формационных признаков и стадий развития и только четвертую—дробная периодизация истории каждой отдельной страны или крупных регионов.
Исторические эпохи, расположенные между двумя точками бифуркации, отличает определенная стабильность общественного развития, происходящего со значительной долей инерции. Каждой их них присущи:
■ свое соотношение по линии Природа — Человек и своя структура производства с преобладанием одной из трех основных производственных сфер: первичная (сельское хозяйство), вторичная (промышленность) и третичная (сфера услуг, включая информатику);
■ свой набор «способов производства», или производственных укладов как определенных форм собственности и методов принуждения к труду;
■ свое соотношение «частного» и «государственного» начал в системах собственности и управления;
■ свое соотношение «рыночных» (экономических) и «административных» (неэкономических) методов управления.
Что касается использования методологии способов производства, то здесь просматриваются две точки зрения. Одна — подход с позиции единой «первичной» формации, предполагающей господство натурального производства и насилия как способа аллокации ресурсов (войны, иерархическое перераспределение), внеэкономического принуждения (рабство, азиатский деспотизм, крепостничество). Другой — выделение различных способов производства (патриархального, рабовладельческого и феодального), накладываемых на цивилизационный массив (обобщенно Восток — Запад или по отдельным формациям). Тогда можно говорить о «восточном рабовладении», «восточном феодализме».
Еще более важно, что новая историческая реальность и новые теоретические подходы освобождают от однозначного выбора между двумя общественными системами. XXI век будет связан со становлением информационного общества, которое отрицает силовую основу предшествующих общественных устройств, в том числе капитализма и социализма. Питирим Сорокин еще три десятилетия тому назад доказывал неизбежность становления интегрального общества, которое последует за капитализмом и социализмом и будет принципиально отличаться от обоих. Он также считал одной из главных тенденций нашего времени перемещение центра творческого лидерства с Запада на Восток52. Сей¬
62
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
час многие ученые пытаются определить идеальные формы организации экономической жизни на основе «согласования» идей капитализма и социализма. Профессор Кембриджского университета Д. Мид, разрабатывая макроэкономические проблемы, назвал будущее общество, в котором рыночная экономика будет преобразована на принципах солидарности, равенства и коллективизма, Агатотопией (что означает «хорошее место»)53.
Выбор между «традицией» и «модернизацией» тоже не должен производиться по методу «или — или». Вопрос не в том, нужна ли модернизация как таковая, а в том, какая модернизация предпочтительнее. Навязывание глобалистских представлений о безальтернативности стандартов более развитых стран, с одной стороны, и закрепляющееся деление мира на «богатых» и «бедных», с другой, обостряет проблему выбора между двумя основными моделями социально-экономического развития: «имитационная» модернизация какдостаточно последовательное подражание более развитым странам (экзогенный тип модернизации, близкий к «вестернизации») и «модернизация с национальной спецификой», ориентированная на внутренние движущие силы развития, «осовременивание» с учетом собственной способности к саморазвитию (эндогенный тип). Эти две концепции по-разному решают проблему соотношения «современности» и «традиций». Если первый тип модернизации строится на максимально полном отторжении существующих традиций, то второй тип исходит из необходимости органического развития страны при вмонтировании некоторых традиционных основ. В этом случае модернизируемая страна, не игнорируя импульсы от более развитых стран, продолжает следовать по собственному пути со своими темпами, подходами и своими ответами на вызовы эпохи.
Сбалансирование составных частей триады Природа - Общество — Человек позволяет сформулировать несколько основных правил разработки общей стратегии развития.
Правило первое. Чтобы сохранить себя и обеспечить всем людям средства существования, необходимо бережное отношение к природе, соблюдение природного баланса. «Устойчивое развитие» с точки зрения синергетики следует понимать как стремление к синтезу экономики и экологии (в полном виде никогда не достижимому), как развитие общества, «согласованное с состоянием Природы и ее законами» (слова Н.Н. Моисеева). Особая миссия должна возлагаться на развитые страны, в первую очередь ответственные за загрязнение окружающей среды. Природа — это вовсе не неисчерпаемый кладезь, из которого можно брать всегда сколько угодно, ее поддержание само требует инвестиций.
Правило второе. Поскольку есть только два регулятора .общественной жизни и экономической деятельности — рынок и государство, от них нельзя отказаться. Любая общественная система (в том числе и посткапиталистическое общество) останется самоорганизующейся и иерар¬
Глава 1. Проблема исторического выбора
63
хически построенной. Однако отношения между этими двумя регуляторами все более усложняются, и в ходе этого взаимодействия происходит модификация и рынка, и государства. Рынок не выступает более средством решения всех проблем, экономический рост происходит при подключении факторов макрорегулирования, признававшихся ранее внеэкономическими. Современное государство, включаясь в процесс глобализации, теряет диктат над своими гражданами, испытывает влияние транснациональных корпораций и надгосударственных образований. Любая стратегия должна базироваться на том или ином сочетании рыночных механизмов и административного управления.
Правило третье. Процесс экономического обобществления и развитие социума не позволяют отделять друг от друга и, тем более, противопоставлять «общее» и «частное». Экономический прогресс связан с социальным прогрессом, и любая стратегия должна включать социальную составляющую. Социализация общественных отношений означает сближение общественных систем. Поиски будущего общественного устройства идут в направлении сочетания экономической эффективности и социальной справедливости, конвергенции двух систем — капитализма и социализма.
Правило четвертое. Цель общественного развития — человек как творческая личность, которая должна быть обеспечена условиями существования и возможностями раскрытия своих способностей. Человеческий ресурс выступает как основа жизнеспособности любой организации, а инвестиции в человека — в качестве важнейшего фактора экономического роста. Однако личность должна строить свою деятельность и свои взаимоотношения с другими людьми, осознавая предельные возможности природы и специфику общественного развития, неся ответственность и перед природой, и перед обществом. «Человек должен измениться как отдельная личность и как частица человеческого сообщества — либо ему суждено исчезнуть с лица земли»54.
1.7. Теория общественного синтеза
Отмечаемый в настоящее время переход от капиталистического общества к посткапиталистическому, от индустриального общества к информационному ознаменован крупными структурными преобразованиями, распространением информационных технологий, эволюцией самого индустриального процесса труда в сторону преобладания творческих компонентов. В этих условиях узкий выбор между двумя альтернативами сменяет множественный выбор, выдвигающий на передний план теорию «конгломеративного» развития, которая признает длительное сохранение традиционного и современного, государственного и частного укладов, превращающееся в связи со своей устойчивостью в особое системное образование.
64
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
Разработчики современной модели постиндустриального общества подчеркивают особую важность несилового характера информационных связей в отличие от силового взаимодействия, характерного для вещественно-энергетической парадигмы мироздания. «Новая идеология» утверждает путь общественного развития, исходящий из приоритета человека при высоком уровне его сознания. Концепция социального рыночного хозяйства предусматривает приведение с помощью государства в равновесие потребностей человека, требований охраны окружающей среды и условий действия конкурентного рынка.
Следование общецивилизационной тенденции социализации и гуманизации экономической жизни приводит фактически к констатации синтеза либеральной и социалистической тенденций, причем «синтез» не означает механическое сочетание элементов разных социально- экономических и идеологических систем, а создание принципиально новой системы ценностей, сочетающей право каждого на благополучную и достойную жизнь с моральной ответственностью и с соответствующей общественной «отдачей». Как пишет известный исследователь постэкономического общества В.Л. Иноземцев, человечество вступает в качественно новую эпоху. «Субъектом этого периода прогресса цивилизации становится уже не социум как таковой, не общность людей, тесно связанных материальными интересами и совершающих набор простых действий в силу необходимости удовлетворить свои насущные потребности, а совокупность индивидов, каждый из которых неповторим не только в своих действиях, но и в мотивах, способах осуществления»55.
Авторы книги «Мегатенденции. Год 2000» Джон Нэсбит и Патриция Абурден так обрисовывают тенденции будущего развития: от индустриального общества к информационному, от форсированного технологического развития — к передовым технологиям, от национальных экономик — к мировой экономике, от краткосрочных тенденций - к долгосрочным, от централизации — к децентрализации, от институциональной помощи — к помощи своими силами, от представительной демократии — к демократии соучастия, от иерархических структур — к сетевым структурам, от безусловного примата Севера — к выравниванию Севера и Юга, от узкого выбора из двух возможностей (или - или) - к множественному выбору56.
Авторство теории «синтеза традиционного и современного» в советской науке принадлежит известным востоковедам Л.И. Рейснеру и Н.А. Симония, которые ввели понятие «смешанного типа» образований и термин «синтетическое общество», понимая под «синтезом» «соединение», «единство» в согласии с содержанием данного понятия в древнегреческом языке57. Эта идея «общественного синтеза» перекликается с представлением о «равноположенном развитии», обоснование которого дали А.Д. Богатуров и А. В. Виноградов.
Глава 1. Проблема исторического выбора
65
«Эти пласты образуют внутри общества анклавы, организационная эффективность которых позволяет им выживать в рамках обрамляющего общества-конгломерата, сохраняя между собой неизменные или мало изменяющиеся пропорции... Как анклав «традиционного» не обречен раствориться в окружающей его среде, так и анклаву «современного» не гарантировано преобладание в масштабах всего общества. Среда может стремиться поглотить анклав путем распространения на его внутреннюю природу присущих ей унифицирующих связей. Но анклав может успешно сопротивляться ей, попутно способствуя приобретению обществом более сложной («сдвоенной», «строенной») структуры. Подобная структура позволяет обществу, с одной стороны, адаптировать достижения техногенной цивилизации, а с другой — сохранить условия для воспроизводства архаичных трудовых мотиваций, которые в соединении с современной техникой дают экономический эффект. Превосходящий тот, что возможен при модернизации техники и привнесении соответствующей ей системы производственных отношений. Современный Китай, послевоенные Япония и Тайвань — не единственные иллюстрации эффективности обществ конгломера- тивноготипа».
БогатуровА.Д., Виноградов А. В. Модель равноположенного развития: варианты «сберегающего» обновления//Полис. 1999. №4. С. 61.
Примером такого конгломератного строя может служить «рыночный социализм», выступающий в качестве альтернативы как классическому капитализму, так и догматическому социализму. Существует несколько трактовок понятия «рыночный социализм». Современные теоретики «левых» считают, что «рыночный социализм» возникает там и тогда, где и когда уже поставлен вопрос о ликвидации эксплуататорских отношений, но уровень развития производительных сил вынуждает использовать рыночные отношения для повышения эффективности производства. Известна трактовка «рыночного социализма» как определенного варианта экономической политики в социалистических странах с тактическим «допущением» рынка в качестве временного средства рационализации строительства социализма в его прежнем догматическом представлении. Критики догматического подхода к социализму и коммунизму обращают внимание на то, что получение прибыли не противоречит общественным потребностям и привязка социализма к административной форме связи отнюдь не обязательна. При «рыночном социализме» могут существовать разные формы собственности, наемный труд и изъятие прибавочного продукта в пользу собственника.
В свое время было предпринято умозрительное построение «рыночного социализма» в виде попытки чисто теоретически с привлечением математических методов доказать совместимость рыночных отношений с общественной собственностью на средства производства58.
На наш взгляд, «рыночный социализм» предполагает соблюдение следующих условий:
■ всеобщее распространение рыночных отношений:
■ создание механизма согласования интересов, при котором пред¬
66
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
приниматели в своей деятельности ориентируются на соблюдение общегосударственных интересов;
■ сохранение важной роли государства как собственника и регулятора хозяйственной деятельности;
■ существование разных видов доходов при преобладании оплаты по труду;
■ противодействие имущественной дифференциации в виде прогрессивного налогообложения и использования государственной системы социального обеспечения.
«Рыночному социализму» в наибольшей мере присущи черты конвергентное™, и потому критика его ведется с двух разных сторон. Критики «справа» видят, прежде всего, половинчатость преобразований в рамках «рыночного социализма», их «несистемный характер» и утверждают недолговечность этой модели, которая тормозит переход к «цивилизованному» рынку. Критики «слева» убеждены в том, что рыночный социализм будет воспроизводить многие беды, свойственные капитализму, а именно:
■ неравенство в доходах и благосостоянии;
■ негативные эффекты, связанные с разрушением окружающей среды;
■ коммерциализацию общества и стремление к беспрестанному наращиванию индивидуального потребления;
■ макроэкономическую нестабильность, включая безработицу и инфляцию;
■ недопроизводство общественных благ.
«Рыночному социализму» как модификации социализма противостоит теория «социального рыночного хозяйства» как усовершенствование капитализма. Термин «социальное рыночное хозяйство» впервые выдвинул в 1946 г. А. Мюллер-Армак, который считал неприемлемыми как «капитализм laissez-faire», так и «социализм-коллективизм». Теория социального рыночного хозяйства, которая разрабатывалась как реакция на критику капитализма марксизмом и другими теоретическими направлениями, признает необходимость «уравновешивания» рыночного процесса с целью его более эффективного функционирования и укрепления капиталистического порядка, основанного на частной собственности, максимизации прибыли и координации посредством рынка. Рассматривая рыночное хозяйство как исключительно инструментальное средство согласования спроса и предложения, концепция социального рыночного хозяйства выдвигает в качестве конечной цели производства улучшение потребления индивидуальных потребителей. Мюллер-Армак многократно указывал на тот факт, что в рыночном хозяйстве именно потребление управляет процессами производства, выражая посредством цен потребительские оценки благ59. «Социальное рыночное хозяйство не только включает в себя экономический порядок,
Глава 1. Проблема исторического выбора
67
координируемый рынком; прилагательное «социальное» указывает также на то, что эта система преследует социальные цели». В эти социальные цели включались: установление правового порядка рыночной конкуренции, антимонопольная политика, политика стабилизации экономического цикла, политика развития городов, передача капитала малым и средним фирмам, обеспечение социальной безопасности и социального «уравновешивания», понимаемых как гарантия минимальной заработной платы и выравнивание разницы в доходах посредством налогообложения и безвозмездных социальных выплат нуждающимся семьям60.
Примечания
1 Норт Дуглас. Институты, институциональные изменения и функционирование
экономики. М., 1997. С. 119-134.
2 Раи, М.В. К концепции открытого общества в современной России //Вопросы
философии. 1999. № 2. С. 25.
3 Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь разума. М., 2000. С. 135.
4 Там же. С. 192.
5 Кун Т. Структура научных революций. М., 1977. С. 120.
6 Никифоров В.Н. Восток и всемирная история. М., 1975. С. 35.
7 Васильев Л. С., Стучевский И.А. Три модели возникновения и эволюции докапи¬
талистических обществ И Вопросы истории. 1966. № 5. С. 90.
• Кобищанов Ю.М. Феодализм, рабство и азиатский способ производства // Общее и особенное в историческом развитии стран Востока. М., 1966. С. 46.
9 ИлюшечкинВ. А. Сословно-классовое общество в истории Китая. М., 1986. С. 135.
10 Данилова Л. В. Дискуссионные проблемы докапиталистических обществ // Про¬
блемы истории докапиталистических обществ. Кн. 1. М., 1968.
11 TofflerA. The Third Wave. N-Y. 1980; см.: Егоров В. С. Философия открытого мира.
Москва-Воронеж. 2002. С. 252.
12 Rostov W. W. The stages of Economic Growth. ANon-communist Manifesto. Cambridge,
1960; idem. The Process of Economic Growth. The 2nd ed. Oxford, 1960. P. 307- 331; idem. Politics and the Stages of Growth. Cambridge: The University Press, 1971. P.230.
13 Семенов Ю.И. Философия истории // Современные тетради. М., 2003. С. 250—
251.
14 Иноземцев В.Л. За десять лет. К концепции постэкономического общества. М.,
1998. С. XIII (введение).
15 Ерасов Б. С. Сравнительное изучение цивилизаций. М., 1998. С. 47-49.
16 Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. СПб., 1995. С. 134.
17 TofflerA. Указ. соч. Р. 276.
18 Weber, Max. Essays in Sociology. N.Y. Р. 78.
19 Ленин В. И. О государстве. М. 1979, с. 12
20 Подберезкин А.И. Русский путь. М., 1999. С. 131.
21 Долан Эдвин Дж., Линдсей Дэйвид Е. Рынок: макроэкономическая модель. СПб.,
1992. С. 20.
68
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙПУТЬ
22 Альтернативы модернизации российской экономики / Под ред. АБузгалина, А.
Колганова, П. Шульце. М., 1997. С. 271.
23 ВедутаЕ.Н. Государственные экономические стратегии. М., 1999. С. 154—164.
24 Макаров Е., Клейнер Г. Бартер в России: институциональный аспект// Вопросы
экономики. 1999. № 4. С. 82.
25 Семенов Ю.И. Указ. соч. С. 438.
26 Маркс К, Энгельс Ф. Сочинения. Т. 25. Ч. 1. С. 480.
27 Пороховский А.Н. Эпоха смешанной экономики // НГ-Политэкономия, 2001.
№11(26.06).
28 Шамхалов Ф. Государство и экономика (власть и бизнес). М.:Экономика, 1999.
29 Экономические науки. 1990. № 11. С. 95.
30 Weber, Max. Essays in Sociology. N.Y.-Oxford. P. 48.
31 Неклесса А.И. Конец эпохи Большого Модерна //Постиндустриальный мир:
Центр, Периферия, Россия. Сб.1. М., 1999. С. 41.
32 Козловски П. Социальное рыночное хозяйство. Теория и этика экономического
порядка в России и Германии. СПб., 1999. С. 93.
33 Широков Г.К Парадоксы эволюции капитализма. М., 1998. С. 210—211.
34 Буртин Ю. Конвергенция. Не в ней ли искомая «русская идея*? // Независимая
газета. 13.04.1998.
35 Галкина Л. Социализм как форма общественного сознания: некоторые законо¬
мерности и динамика развития // Мировая экономика и международные отношения. 1991. № 3. С. 16-17.
36 О происхождении термина «социализм* см.: Волгин В.П. История социалистичес¬
ких идей. М.-Л., 1928. С. 9-10; Марксистско-ленинское учение о социализме и современность. М., 1975. С. 15.
37 Маркс К, Энгельс Ф. Сочинения. Т. 4. С. 332.
38 Маркарян К. Общая теория постиндустриального государства. М., 2002. С. 86.
39 Marcuse Н. Protosocialism and late capitalism. Toward a theoretical synthesis on Bahro’s
analysis/ Intern. Polit. 1980
40 БузгалинА.В., Колганов А.И. Введение в компаративистику. М., 1997. С. 87—97.
41 Ойкен В. Основы национальной экономии. М., 1996. С. 248—249.
42 Шаванс Б. Эволюционный путь социализма// Вопросы экономики. 1999. № 6.
С. 5.
43 Шпакова Р.П. Макс Вебер о социализме // Макс Вебер, прочитанный сегодня.
СПб., 1997. С. 134.
44 Какое будущее ожидает человечество. Прага, 1964. С. 400.
45 Мюрдаль Гуннар. Современные проблемы «третьего мира*. М., 1972. С. 116-120.
46 Капица С.П, Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего.
М., 1997. С. 100.
47 Белоцерковский В. Возможно ли создание новых развитых капиталистических
государств Ц Независимая газета. 28.07.1999.
48 Инглегарт П. Модернизация и постмодернизация // Новая индустриальная волна
на Западе. М., 1999. С. 269.
49 Lyotard J.-F. The Postmodem Condition. A Report on Knowledge. Minneapolis, 1984.
Р.ХХ1У.
50 Prigogine J. The Philosophy of Instability // Futures, August, 1959. P. 39. Цит. no:
Егоров B.C. Рационализм и синергизм. M., 1997. С. 65.
51 Независимая газета. 19.08.1997.
Глава 1. Проблема исторического выбора
69
52 Цит. по: Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. М., 2003.
С. 24.
53 Москвин ДД и др. Проблемы социальной справедливости в зеркале современной
экономической теории. М., 2002. С. 137.
54 ПеччеиА. Человеческие качества. М.» 1980. С. 190.
55 Иноземцев ВЛ. Указ. соч. 1998. С. 251.
56 По итогам встречи с известными футурологами в редакции газеты «Правда» //
Правда. 29.11.1990.
57 Эволюция восточных обществ. Синтез традиционного и современного» / Под
ред. Л.И. Рейснер, Н.А. Симония. М., 1984.
58 Китай: плюсы и минусы эволюционного перехода к рынку. М., 1996. С. 76—77
(выступление А.П.Бутенко на «круглом столе» в ИМЭПИ РАН).
59 Muller-FrmakA. Wirtschaftslenkung und Markwirtschaft. 1946, S. 105. Цит. по: Со¬
циальное рыночное хозяйство. Теория и этика экономического порядка в России и Германии. СПб., 1999. С. 83.
60 Социальное рыночное хозяйство. Указ. соч. С. 89—90.
Глава 2
СПЕЦИФИКА КИТАЯ
Китайцы с полным на то правом любят подчеркивать свою «специфику», включая ее в философские и политэкономические дефиниции («социализм с китайской спецификой», «модернизация с китайской спецификой» и пр.). При обращении к понятию «национальные особенности» используются два словосочетания - «гоцин», а именно, национальные, государственные особенности, иначе, те объективные условия, которые заданы своеобразием исторического развития и природно-географической среды, и «тэсэ» — специфика страны как преломление объективных условий в общественном сознании, как сочетание объективных и субъективных факторов общественного развития.
К числу специфических условий «гоцин» китайские экономисты чаще всего относят большую территорию и огромное население, сложность экологической обстановки; значительный экономический потенциал при отставании в техническом отношении от других стран; преобладание крестьянства и большая роль сельского хозяйства, существенные региональные различия. При анализе исторического развития Китая обращают на себя внимание цикличность развития, богатая культура и власть традиций, особенности иероглифической письменности. Исследователи современности ставят во главу угла специфику государственного устройства, важную роль коммунистической партии.
2.1. Природно-демографические особенности
Площадь Китая — 9,6 млн. кв. км, что приблизительно соответствует масштабам Европы. Только Канада и Россия больше Китая, но значительная часть их территории приходится на районы с суровым климатом, малопригодным для жизни человека. Китай же расположен на тех же широтах, что и Соединенные Штаты Америки, в зоне умеренного и субтропического климата. В бассейне Янцзы и южнее зимой не требуется отопления жилых помещений, а на полях можно получать два и более урожая сельскохозяйственных культур в год.
Поверхность земли опускается с запада на восток несколькими ступенями, начиная с Цинхай-Тибетского нагорья, известного под назва¬
Глава 2. Специфика Китая
71
нием «крыши мира». Рельеф местности с преобладанием гор, плато, холмов и возвышенностей создает немало трудностей для проживания людей и прокладки транспортных магистралей. Равнинные территории составляют только 1% всей площади, и с незапамятных времен жители бассейнов Хуанхэ, Янцзы и других рек осваивали склоны холмов, безжалостно уничтожая леса, превращая в поля степи и луга. В настоящее время, согласно официальным статистическим данным, пашней занято 13,5% всей площади страны, лесами — 18,2, внутренними водоемами —
I, 8, степями - 4,17, пустынями — 11,2% Встречаются и несколько иные данные: доля пахотных угодий - 9,9%, лесов — 13,9, степей, пригодных для выпаса скота - 32,6%2.
Природные условия страны отличаются большим разнообразием. Физико-географы обычно делят Китай на три природных региона: Восточный муссонный с влажным и полувлажным климатом, широкими равнинами, высокой сельскохозяйственной освоенностью (45% общей площади и 95% всего населения), Северо-Западный аридный район с сухим континентальным климатом, обилием пустынь и полупустынь, многочисленными впадинами и возвышенностями (30% территории и 4% населения) и холодно-альпийское Цинхай-Тибетское нагорье, расположенное на высоте 4000 м над уровнем моря, где находятся необычайно высокие горы, покрытые снегами и ледниками, и зарождаются крупнейшие реки мира (25% территории и 0,8% населения). Около половины территории занимают области с влажным и полувлажным климатом, где широко распространено поливное земледелие с его главной культурой - рисом. Из примерно 130 млн. га обрабатываемых земель 1/4 — это заливные поля, а 3/4 — богарные земли. Дающий высокие урожаи и ценное зерно, но крайне трудоемкий для выращивания рис испокон веков кормит китайское население. В результате промышленного и транспортного строительства площадь пахотных земель неуклонно уменьшается, с 1952 по 2000 г. пахотный клин сократился на
II, 7 млн. га3. Недостаток пригодных для обработки полей и высокая плотность населения создали крайне неблагоприятное соотношение между сельскохозяйственными ресурсами и численностью населения в Китае. По оценке видного китайского экономиста Сюй Дисиня, в расчете надушу населения в Китае приходится от среднемирового уровня: пахотных угодий — 27, лесных — 12%, степей — не менее 50, поверхностного стока - 25%4.
Нехватка воды — еще более серьезная проблема, чем даже недостаток сельскохозяйственных угодий. Годовой сток рек Китая равен 2600 млрд. куб. м, а общие водные ресурсы, включая подземные воды, составляют 5,8% от мировых5. Однако объем воды в расчете на душу населения (2500 куб. м) равен лишь 1/4 от среднемирового показателя. Почти 2/5 речного стока приходится на главную речную артерию страны — реку Янцзы (по-китайски — Чанцзян, или Длинная река), бас¬
72
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
сейн которой занимает почти 1/5 часть всей территории страны. Острота проблемы снабжения водой порождена многими причинами, в том числе недостаточно экономным ее использованием, большими расходами воды для полива полей, низким качеством воды. С трудом верится в то, что когда-то Янцзы действительно была «Голубой рекой», как ее иногда называют. Сейчас вода в Янцзы, как и в других китайских реках, бурого цвета. Другая главная река Китая — Хуанхэ - испокон веков величалась «Желтой рекой» и в настоящее время по размерам твердого стока бьет все мировые рекорды.
Пересеченность местности и значительные перепады высот создают благоприятные возможности для сооружения гидростанций. По гидроэнергетическим ресурсам Китай занимает одно из первых мест в мире с теоретическими запасами энергии в 680 млн. кВт. Но сложности рельефа, повышенное содержание взвесей, необходимость переселения массы людей из затопляемых территорий - все это значительно затрудняет и удорожает гидротехническое строительство.
Геологическое устройство китайской территории обеспечивает богатство разного рода полезными ископаемыми. По наличию месторождений вольфрама, сурьмы, цинка, олова, молибдена, свинца и ртути Китай занимает одно из первых мест в мире. Запасы вольфрама, например, составляют более половины мировых. Он также опережает все другие страны мира по запасам редкоземельных металлов. Однако, как показывают оценки запасов полезных ископаемых по международным классификационным стандартам, объем экономически выгодных запасов не превышает 1 /3 от общего объема запасов полезных ископаемых. Среди 148 их видов доля разведанных составляет лишь 10,63%. По среднедушевому объему запасов полезных ископаемых Китай занимает в мире только 53-е место. Уже довольно длительное время наблюдается сокращение запасов нефти, угля, меди и других полезных ископаемых. Нынешние запасы страны по 24 из 45 главных видов минералов смогут удовлетворить внутренний спрос только до 2010 г., а к 2020 г. самообеспечение сохранится только по 6 видам минералов6. По оценкам экспертов, в ближайшие три десятилетия потребности промышленности и населения в полезных ископаемых и нефти превысят внутреннее производство в 2-5 раз.
Основным источником энергии в Китае служил и служит каменный уголь, запасы которого равны почти трети от мировых. Однако хорошо известно, что добыча угля сопряжена с большими затратами труда и потерями сельскохозяйственных угодий, к тому же использование угля сопровождается значительными выбросами вредных веществ в атмосферу. Что же касается углеводородных энергоресурсов, то здесь Китай вынужден все больше и больше полагаться на импорт. Геологоразведочные работы, активно ведущиеся с 50-х годов XX в., позволили открыть 300 с лишним районов залегания нефти и газа, что с точки зрения современных потребностей производства и потребления явно недостаточно.
Глава 2. Специфика Китая
73
Экологическая проблема в Китае достигла крайней степени остроты. Грязные стоки на единицу площади в 16 раз с лишним превышают среднемировой показатель. По оценке Всемирного банка, прямые потери от вредных выбросов в атмосферу и воду составляют 54 млрд, долл., что равно 8% ВВП7.
В границах Китая проживает почти пятая часть населения мира. Большая масса населения всегда служила доминантой экономического развития страны, обеспечила сохранность китайской цивилизации, единственной во всем мире не подвергшейся никаким перерывам. Вместе с тем большое население порождает массу проблем, уже с конца XVIII в. в Китае стали открыто говорить о перенаселенности как о национальном бедствии.
Особые политические условия вкупе с благоприятным климатом вызвали во II тысячелетии до н.э. значительный рост населения в ареале Среднекитайской равнины. Ухудшение условий жизни в результате произошедшего в «железном веке» похолодания климата было скомпенсировано в основном за счет дополнительной распашки земель, сведения лесов, широкого использования орошаемого земледелия, в результате чего ландшафт Китая становился все более антропогенным. Постепенно сложившаяся структура земледелия с преобладанием зерновых культур и, особенно, риса и трудоинтенсивная технология земледелия позволяли, с одной стороны, обеспечить население необходимыми продовольственными ресурсами, с другой — достичь максимальной продуктивности обрабатываемых земель при устойчивом воспроизводстве их плодородия. За счет многочисленного населения и высокой рождаемости компенсировались людские потери во время военных походов, формировались трудовые отряды для широкого освоения новых земель и возведения колоссальных оборонных (Великая китайская стена) и гидросооружений.
Большая часть населения жила в деревнях. Рост городов происходил при сохранении натурального хозяйства и не менял общей картины аграрного строя. Миграция населения шла в южном направлении, где условия для поливного земледелия были более благоприятными, чем в бассейне реки Хуанхэ.
Исторически рост населения в Китае происходил по медленно нарастающей экспоненте с несколькими демографическими всплесками, когда режим воспроизводства населения резко изменялся. Первая крупная демографическая волна пришлась на самое начало нашей эры, когда численность населения впервые приблизилась к 60 млн. человек. Однако уже в эпоху Троецарствия после многочисленных войн и недородов численность населения сократилась до 8 млн. человек и долгое время после этого держалась на отметке 20 млн. человек. В дальнейшем численность населения колебалась в соответствии с политическими пертурбациями и циклическими изменениями хозяйственной жизни в пре¬
74
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
делах от нескольких десятков до сотни миллионов человек Как писал известный синолог-демограф Я.Н. Гузеватый, обычно начальный период господства каждой династии отличался установлением мира и порядка, что вызывало ускорение роста населения, а кризисы династий с неизбежными смутами сопровождались сокращением роста населения8. Крупный демографический подъем отмечен в эпоху Тан (618—907 гг.), когда численность населения выросла до 50 млн. человек. Затем демографическая волна снова пошла вниз, и только в эпоху Сун число жителей вышло за пределы 100 млн. человек. Очередной спад наступил в конце династии Мин — начале династии Цин, когда в результате внешней интервенции и внутренних смут население сократилось до 20 млн. человек (на 1661 г. — 21,1 млн.). Затухание демографического роста продолжалось до середины XVIII в., после чего в годы правления императора Цяньлуна наступил мощный демографический взрыв. С 1736 по 1757 г. население возросло с 25 до 190 млн. человек, а к 1786 г. - до 390 млн. человек. Этому бурному росту населения способствовал целый ряд факторов — географического, культурного, религиозного и идеологического характера. Определенно сказалось «исправление» статистических погрешностей, в том числе включение в число податных маньчжур, до того на правах победителей избегавших всякой регистрации. Одни исследователи усматривают в этом демографическом всплеске влияние отмены подушного налога, другие отказываются давать какое-либо объяснение этому загадочному феномену. Затем рост населения стабилизировался, и в конце цинской династии в Китае проживало, согласно официальным данным, 410 млн. человек9. За первую половину XX в. рост населения составил более 100 млн. человек. Следует особо подчеркнуть, что большое население и высокую рождаемость, традиционно связанную с нравственными установками на раннее вступление в брак и многодетность семьи, нельзя считать следствием благополучия общества. Многодетность при высокой младенческой смертности служила своего рода гарантией от необеспеченной старости. Один из самых внимательных исследователей социально-экономической истории Китая Е.Е. Яшнов писал: «Пора сдать в архив и до сих пор находящее себе кое-где место суеверие, что рождаемость всегда объясняется наличием средств существования. Его можно было высказывать, пока бесспорные данные статистики не доказали быстрый прирост населения именно в бедных земледельческих странах»10.
Следующий демографический взрыв произошел уже после народно-освободительной революции 1949 г. В результате осуществления массовых противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий, улучшения системы здравоохранения и материального положения трудящихся снизился уровень смертности, а рождаемость изменилась мало. Перепись 1954 г. показала, что число жителей Китая возросло до 582,6 млн. человек. В конце 50-х годов рост населения за-
Глава 2. Специфика Китая
75
Таблица 1
Динамика населения мира и населения Китая
Время
Население мира, млн. человек
Население Китая, млн. человек
Доля китайского, населения в мире, %
3 тыс. лет до н.э.
30
10
33
Начало нашей эры
200
60
30
1750 г.
730
190
26
1800 г.
910
280
31
1860 г.
1180
290
25
1900 г.
1620
430
27
1950 г.
2520
550
22
Источник: Цзян Чжэнхуа, Чжан Лингуан. Доклад по населению Китая (Чжунго жэнькоу баогао). Шэньян, 1997. с. 27.
медлился из-за последствий «большого скачка», но затем снова возобновился. В результате с 1949 по 1979 г. население Китая возросло до 970,9 млн. человек, т.е. среднегодовой прирост составил 2%.
В период реформы были предприняты беспрецедентные действия по ограничению рождаемости, что позволило снизить рост населения до отметки ниже 1%. Активная демографическая политика на фоне постепенного улучшения жизни населения уменьшила мощное демографическое давление и привела к существенным сдвигам в структуре населения и характере семьи, традиционной ячейки китайского общества. Расчеты показывают, что при сохранении дореформенной динамики роста населения душевые показатели ВВП в конце 90-х годов оказались бы примерно на 1/3 ниже (табл. 1).
Одной из особенностей Китая является пестрый национальный состав населения при почти полном доминировании титульной нации, какой являются ханьцы (90% всего населения). Главный район проживания ханьцев - Собственно Китай, восточные и центральные регионы страны, где и зародилась китайская цивилизация. Кроме ханьцев, в Китае насчитывается более 50 других национальностей, которые живут преимущественно в окраинных регионах: маньчжуры — на северо-востоке, монголы — на севере, уйгуры - на северо-западе, тибетцы — на юго-западе, чжуаны, мяо и другие национальности — на юге и юго- западе. Наиболее многочисленная из неханьских национальностей - чжуаны, численность которых сейчас достигла 16 млн. человек, в наибольшей степени ассимилированы китайцами. Настоящий этнографический калейдоскоп можно наблюдать в пров. Юньнань, где обитает до трех десятков разных народностей. Свою ни с чем не сравнимую самобытность сохраняет Тибет с его 3-миллионных населением, из которого значительная часть исповедует ламаизм. Коренные жители Синьцзяна — уйгуры составляют более половину жителей Синьцзян- Уйгурского автономного района, в культурном и религиозном отно¬
76
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
шении они гораздо ближе к населению Средней Азии, нежели к ханьцам.
Вместе с тем состав самой ханьской нации нельзя признать однородным. Велики различия не только между северянами и южанами, но по существу между жителями всех других исконно китайских провинций, которые ведут свое происхождение от когда-то самостоятельных царств. Особенности исторических традиций, производственных навыков и уклада жизни населения, значительные языковые расхождения (в устной речи при общности иероглифической письменности) и даже отличия антропологических признаков — все это дает основание рассматривать жителей той или иной китайской провинции как особое этническое образование в пределах ханьской нации-цивилизации. Современные процессы экономической интеграции и миграции способствуют демографическому «перемешиванию» и росту национального самосознания на базе китайской цивилизационной общности. Тем не менее, и сейчас каждый ханец не забывает о своей «малой родине» как земле своих предков. При первом знакомстве с человеком часто задают вопрос о том, где его «родной край» (Ниды гусян ши шэммо дифан?). Отвечающий указывает на одну из китайских провинций, как бы причисляя себя к проживающему там этносу, хотя он сам может родиться и жить совсем в другом месте. Вместе с тем все ханьцы ощущают единство истории и культуры своей великой нации и склонны рассматривать языковые различия как чисто диалектические. По существу же можно говорить о китайцах-ханьцах как супер-этносе наподобие европейцев, включающем в себя несколько субнаций.
Огромные человеческие ресурсы — главное богатство Китая. В 1999 г. на него приходилось 22,4% всего мирового контингента экономически активного населения. По показателю «человеческого капитала», учитывающему также среднее число лет полученного образования (7,11 года), доля Китая в мире еще выше — 24% н.
2.2. Некоторые особенности исторического развития Китая
Корни многих современных явлений, того, что составляет специфику Китая и его реформы, следует искать в его историческом прошлом. Почему, например, Китай предпочел путь постепенных эволюционных изменений, а не «шоковый» вариант реформы (хотя нельзя абсолютизировать эти понятия), от какого наследия он готов отказаться, а от какого не откажется никогда, почему идеи политического либерализма не пользуются в Китае популярностью — эти и многие другие вопросы требуют отнюдь не только экономического анализа, но и исторического.
Китайское государство имеет долгую и насыщенную событиями историю. Первичный очаг китайской цивилизации возник в бассейне
Глава 2. Специфика Китая
77
реки Хуанхэ примерно в XIV—XIII вв. до н.э. Общество Инь представляло собой разросшийся родо-племенной коллектив, совершивший переход от кочевого к оседлому земледельческому образу жизни при достаточно развитом разделении труда и заметной социальной дифференциации. Правитель иньцев, ван, обладавший неограниченной властью, обожествлялся как посредник между живыми потомками и умершими предками во главе с великим первопредком Шанди. В 1027 г. до н.э. иньцы, достигшие довольно высокого уровня социального развития, были разгромлены племенем чжоусцев, которые создали военно-политическое объединение завоеванных уделов. На базе этих уделов в течение нескольких веков сложилась группа относительно небольших государств, пытавшихся закрепить свою самостоятельность от чжоуского вана.
Развивающимся производительным силам сильно мешали войны, которые несли с собой смерть и разрушения, препятствовали установлению торговых связей. В условиях жесточайшего социально-экологического кризиса, пришедшегося на середину первого тысячелетия до н.э., и беспрестанного напора со стороны кочевников только сильное централизованное государство могло стать условием выживания древнекитайского общества. Культура поливного земледелия и разветвленная система ирригации могли функционировать лишь при наличии тесного взаимодействия отдельных земледельческих хозяйств. Основателем единой китайской империи стал правитель наиболее сильного в военном отношении царства Цинь, которому удалось поодиночке разгромить противостоящие ему государства, объединить их в рамках единого централизованного государства и основать в 246 г. до н.э. династию Цинь. Новый властелин присвоил себе титул «хуанди» и стал именоваться Цинь Ши- хуанди, что значит Первый император династии Цинь. Китайская империя просуществовала более 2000 лет, за которые сменились несколько династий, и завершилась провозглашением страны республикой после революции 1911 г. За время существования империи границы ее то сужались, то расширялись, сохраняя очертания, близкие к современным. Кое-кто видит в картографических контурах Китая силуэт петуха, кому-то он напоминает большой кленовый лист.
Согласно позиции Е.Е. Яшнова, история Китая знает два революционных сдвига в развитии производительных сил и производственных отношений. Первый - исчерпание потенций передельно-общинного землепользования и переход к трудоинтенсивному хозяйству (1 тыс. до н.э.). Второй — исчерпание возможностей трудоинтенсивного земледелия и переход к рыночной экономике, поиск нового типа хозяйствования (XX в.) Остановка технического прогресса, дефицит земли и вечная угроза быстрого роста населения — вот три фактора, которые объясняют все главнейшие особенности китайской истории. Все богатство социально-экономических событий за два тысячелетия господства трудоин¬
78
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
тенсивного типа хозяйствования ученый объясняет непрерывной повторяемостью циклов, содержащих три периода: спад — подъем — стагнация12.
В.Н. Никифоров перечисляет следующие поворотные пункты в экономической истории Китая: перераспределение собственности после покорения государства Шан чжоусцами в XI в. до н.э.; реформы, узаконившие рост частной собственности и постепенный распад общины в VI—IV вв. до н.э.; мероприятия центральной власти, направленные на новое перераспределение как общинных, так и частных земель в период надельной системы (III—VII вв. н.э.); распад надельной системы и торжество крупного землевладения (VIII в.); изменения в сфере собственности — новые расширения фонда государственных земель - в результате чужеземных завоеваний, в особенности монгольского в XIII в.; появление частной собственности и развитие товарно-денежных отношений в XVI—XVIII вв. С его точки зрения, эти подэтапы объединяются в два больших цикла, в начале каждого из которых роль государства (скорее как верховного распорядителя, чем верховного собственника средств производства) чрезвычайно велика, но постепенно уменьшается, как бы уступая прогрессирующему давлению частнособственнических отношений. Потом наступает длительная полоса более или менее явного преобладания частной собственности, сменяющаяся к началу следующего цикла кризисом и новым укреплением государственного сектора13. Как констатирует Никифоров, главный разрыв в развитии китайского общества пришелся на I-VI вв. н.э. с центром где-то около III в. Между началом I тысячелетия до н.э. и III в. до н.э. — первый большой период стабильности внутреннего строя; между IX и XIII вв. н.э. - второй такой период14.
Китайские ученые выделяют 5 исторических моментов до образования КНР, когда были упущены возможности проведения модернизации, иначе говоря, выхода из циклического развития «стабильность- нестабильность». Первый раз, по их мнению, это случилось при Сун- ской династии, особенно при Южных Сунах в XI—XI11 вв. В то время по уровню развития товарного хозяйства Китай далеко обогнал Европу, но государственная власть подавила товарное хозяйство и зачатки капитализма. Второй шанс представился в средней фазе Минской династии — около 1500 г. В третий раз это произошло в ранней стадии правления династии Цин — с 1662 по 1795 г. Четвертая возможность появилась в середине XIX в. и еще одна — в первой половине XX в.15
Качественный скачок в развитии китайской государственности многие историки видят в эпохе Чуньцю-Чжаньго-Цинь (VII—III вв. до н.э.). К этому времени в результате распространения железных орудий труда, развития ирригации произошло значительное повышение производительности труда земледельцев, что дает право говорить о развертывавшейся в эти века революции в производительных силах, сопровождавшейся отделени¬
Глава 2. Специфика Китая
79
ем города от деревни, развитием промышленных промыслов и все более широким внедрением товарно-денежных отношений. Распространение железных орудий труда, развитие ирригации дали мощный толчок повышению производительности труда в сельском хозяйстве.
Рост избыточного продукта имел целый ряд последствий, среди которых демографический скачок, освоение пустовавших земель, оживление торговли, миграция населения в города, которые превращались в торговые и ремесленные центры. Ремесло разделилось на казенное, обслуживавшее нужды верховных правителей, и частное, работавшее главным образом на горожан. Возникли такие новые формы хозяйствования, как наемный труд, ростовщичество и предоставление денежных ссуд под залог, частнособственническая аренда. Власти поощряли изобретательство и разного рода технические усовершенствования. Наряду с мелкой городской стала развиваться и межобластная торговля, которой занимались крупные купцы. Они работали не под надсмотром владетельного аристократа, как это было прежде, а по нормам рыночного хозяйства. Стало углубляться отделение умственного труда от физического, управленческих функций от исполнительских, правящей знати и других привилегированных прослоек от массы рядового населения. Что же касается крестьян, то их хозяйство носило натуральный и полунатуральный характер, они сами изготовляли для себя несложный сельскохозяйственный инвентарь и самые необходимые в быту предметы. Появление зачатков частной собственности на землю знаменовало переход к сословно-классовому обществу.
В «точке бифуркации», которая пришлась на середину I тысячелетия до н.э., развитие могло пойти по одному из трех сценариев: с преобладанием либо государственно-административного, либо феодальноудельного, либо торгово-рабовладельческого начала. Рост народонаселения, необходимость поддержания в надлежащем состоянии разветвленных ирригационных сооружений и содержания разрастающегося бюрократического аппарата, общее усложнение всей хозяйственной жизни - все это выдвигало на первый план государственные интересы и предъявляло новые повышенные требования к государственному управлению. Государство нуждалось в ресурсах для ведения войн, для проведения строительных работ и содержания разрастающегося бюрократического аппарата. Необходимые средства могли быть получены либо за счет покорения соседних государств, либо за счет усиления налогового бремени крестьянства, либо за счет развития несельскохозяйственных видов деятельности и дополнительного налогового обложения ремесленников и крестьян. Своего рода «первоначальное накопление» и пополнения государственной казны могли осуществиться одним из трех различных способов (при учете интересов народа, при компромиссе народных и государственных интересов и в пользу государства), что связано со следующими вариантами государственной политики:
80
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
■ развитие с учетом интересов непосредственных производителей при минимальном вмешательстве государства в хозяйственную жизнь, сдерживании роста аппарата государственного управления и справедливом распределении прибавочного продукта между общественными и личными потребностями, управляющими и управляемыми (традиционное государство по классификации Вебера);
■ развитие при определенном «балансе сил» между представителями власти и народом при значительном обложении традиционного производителя — земледельца, что частично компенсируется выполнением государством возложенных на него функций заботы о населении (патерналистское государство близкое к харизматическому веберовскому типу);
■ развитие при приоритете роли государства, что требует жестких форм контроля и управления (деспотическое государство, легальное государство по схеме Вебера).
Комбинация социальных и политических подходов дает три варианта преодоления кризиса и дальнейшего развития: модель государство- деспотия («азиатский способ производства»), модель феодально-самодержавного государства, модель протолиберального государства с широким развитием торгово-денежных отношений. История Китая по существу шла по пути компромисса между первым и вторым вариантами. Бурный процесс развития частной инициативы, отмеченный еще в середине I тысячелетия до н.э., натолкнулся на уже сложившуюся жесткую государственную структуру, не допускавшую «утечки» потенциальных доходов казны в третьи руки. Поиски оптимальной формы нормального функционирования хозяйства и всей социальной структуры шли в направлении ослабления системы феодальных уделов и ограничения роли товарно-денежных отношений. Развитие китайской государственности, завершившееся установлением централизованно-бюрократической империи Цинь-Хань, разворачивалось на фоне энергичного вытеснения родовой знати из сферы управления и притеснения частных торговцев и ремесленников. При совершении торговых сделок требовались заключение контракта и уплата определенной пошлины. Все продавцы докладывали о своих сделках специальному чиновнику.
Вплоть до конца XIX в. Китай жил по «матрице» смены династийных циклов, каждый из которых включал фазы подъема, расцвета и упадка общества и государственной власти. Борьба шла между двумя моделями общественного поведения — «рационалистической» как стремление к росту благосостояния при готовности к радикальным изменениям и «консервативной» как предпочтение порядка и стабильности даже за счет определенных материальных потерь. За сменой акцентов (государственное начало — частное начало — снова государственное — снова частное) стояло стремление китайской бюрократии к упрочению традиций государственного регулирования экономической жизни об¬
Глава 2. Специфика Китая
81
щества и сохранения своего благосостояния в рамках сложившейся социальной структуры. Новая историческая династия начиналась обычно с перестройки системы управления по реформистскому сценарию. Однако попытки крупномасштабной «социальной инженерии» в императорском исполнении через какое-то время сменялись возвращением на круги своя. После периода неустойчивости каждый раз побеждала линия на стабильность и равновесность, отторгающая радикальные преобразования. На стадии стабильности в общественной морали господствовали образы преданного правителю чиновника и покорного и трудолюбивого крестьянина. Их зеркальными отражениями в эпоху нестабильности становились чиновник-мздоимец и крестьянин-бунтарь. Этическое обоснование роли государства и всей хозяйственной политики в конфуцианстве включало четкое антипредпринимательское начало, возвеличивание долга и осуждение корыстолюбивой погони за «ли» (выгода, прибыль, доход). «Гун» (общественное) как нечто положительное противопоставлялось «сы» (частному) как безусловно отрицательному.
Государственный контроль над экономикой обосновывался необходимостью поддержания мира и порядка и опирался в основном на следующие меры: передел земли, борьба с ростовщической задолженностью, регулирование рыночных цен. Согласно выводам Л.С. Васильева, именно борьба с собственником способствовала вызреванию таких важнейших институтов (писаный закон; принуждение; специализированная и строго упорядоченная административная система, дополненная хорошо продуманной системой социальных рычагов, поощрений, выдвижений и т.п.; наконец, четкое административно-территориальное членение страны со стоящими во главе подразделений сменяемыми и ответственными перед центром чиновниками), благодаря которым развитое древнекитайское государство не только устояло под натиском поначалу энергично расцветавших и постепенно набиравших немалую силу «стяжателей» (т.е. частных собственников. — Прим, авт.), но и сумело в конечном счете выработать такую формулу власти, которая без существенных изменений, несмотря на спорадические социальные и политические катаклизмы, потрясавшие страну до основания, а то и ставившие ее на грань гибели, просуществовать до XX в.16
Идея регулирования правительством всего народного хозяйства была выражена с предельной ясностью уже в трактате «Гуаньцзы», относящемся к VII в. до н.э. Знаменитый реформатор Шан Ян, правитель одной из областей княжества Цинь (390—338 гг. до н.э.), считая верховную власть неприкосновенной, сформулировал заповедь «могущественное государство и слабый народ». В приписываемой ему «Книге правителя области Шан» четко прослеживается стремление использовать частнособственническую активность, установив жесткие рамки государственного контроля над основными сферами хозяйственной деятельности и имущественной дифференциацией. Шан Ян рекомендовал
82
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
лишить частных собственников права продажи земли и зерна, свободного найма рабочей силы, оставив эти права только за государством. Делая ставку на мелких самостоятельных аграрных производителей, он предлагал решить проблему нехватки пахотной земли путем приглашения колонистов и освоения целинных земель17.
Реформатор I в. н.э. Ван Ман пытался реализовать рекомендации авторов «Гуаньцзы» и Шан Яна. Он создал специальный аппарат для регулирования рыночных цен и пытался регламентировать ссудный процент, изъяв кредитные операции из частных рук. Большое внимание он уделял укреплению государственной монополии на производство и продажу железа и соли и литье монеты.
В XI в. сложилось учение об управлении государством, обозначаемое иероглифическим биномом «цзинцзи», что в настоящее время переводится как «экономика». Именно это словосочетание входит в термин «экономическая реформа» (цзинцзи гайгэ). Как пишет первоисследователь этого китайского учения и переводчик трактата средневекового мыслителя Ли Гоу (1009-1059 гг.) профессор З.Г. Лапина, главная цель этого учения («цзинцзи») — «стремление пресечь “мятеж”, обеспечить моническое равновесие в обществе, венчавшееся социальным спокойствием в стране»,8. Бином «цзинцзи» является, по словам Лапиной, «стяжением» двух иероглифов из четырехиероглифичного сочетания «цзин ши цзиминь», т.е. «управление миром и вспомоществование народу». Но исследователь не отрицает возможности комбинации указанных двух иероглифов из другого аналогичного сочетания «цзин ши цзиу», т.е. «управление миром и упорядочение вещей».
Деятельность правителя, утверждал Ли Гоу, должна быть направлена на достижение некоего баланса в распределении «выгоды» («ли»), которая служит в первую очередь обеспечению «казенных», или «общественных» интересов («гун») и лишь затем интересов населения, «частных» («сы»).
Став в 1069 г. первым министром Сунской империи Ван Аньши, отталкиваясь от учения «цзинцзи» пытался провести серию реформ, направленных на укрепление государственной казны и улучшение жизни народа. Он надеялся достичь этих целей широким вторжением в сферу обращения путем поддержания стабильных рыночных цен и использования государственного кредита.
В целом, «традиционный» (средневековый) строй Китая характеризовался следующими особенностями: хроническим избыточным народонаселением; существованием системы рента — налог как экономической основы государственности; политическим, экономическим, а также идеологическим господством государственной системы над обществом 19.
На вершине пирамиды власти китайского государства стояли чи- новники-шэнъши, вступление в должность которых происходило через
Глава 2. Специфика Китая
83
процедуру государственных экзаменов. Бюрократия китайского деспотического государства эксплуатировала крестьянство и коллективно — путем ренты — налога, и индивидуально — в качестве частных землевладельцев через систему кабальной земельной аренды.
Опиравшееся на разветвленную административную иерархию «бюрократическое государство» выступало как ультраконсервативная сила, использовавшая в целях сохранения статус-кво различные методы внеэкономического принуждения. Однако каждая ступень иерархической лестницы имела определенный «резерв» свободы, создававший экономическую заинтересованность в результатах труда (и управления). Чи- новник-шэныии управлял своим уделом на правах «кормления» и при условии выполнения государственных обязательств мог облагать население дополнительными поборами в свою пользу. Господствовавшая система аренды тоже препятствовала полному закабалению непосредственного производителя.
Дихотомия «государственное—частное» имела ясно выраженные региональные нюансы. Как пишет профессор О.Е. Непомнин: «... на Севере и в Маньчжурии местный феодализм был по преимуществу “государственным”, “бюрократическим” с основным противопоставлением “казна — крестьянин-собственник”, с повышенной ролью налогов, чиновников и т.д. Вместе с тем на Юге и в Центральном Китае феодализм был по преимуществу “частным”, “помещичьим”, “арендным” с основным противопоставлением “крупный землевладелец — зависимый держатель земли”, с особой ролью земельной ренты, помещиков, долговой кабалы и т.д. При этом надстройка вместе с сословием шэныии обеспечивали целостность и единство обоих регионов»20.
В политической и в хозяйственной жизни наблюдалось сложное сочетание централизации и децентрализации. Крупные административные единицы («шэны», или провинции) вели свое происхождение от образовавшихся в глубокой древности самостоятельных государств, и в пору существования единой китайской империи сохраняли значительную хозяйственную самостоятельность и склонность к сепаратизму. Столица страны была резиденцией императорского двора и символом нации, но по численности населения и по своему хозяйственному значению все провинциальные центры могли составить ей конкуренцию.
Государственно-бюрократическая система Китая функционировала достаточно успешно, чему есть множество свидетельств. Уже в середине I тысячелетия до н.э. китайское общество отличало достаточно эффективное использование земли и освоение высокоурожайных сельскохозяйственных культур. Производительность труда в сельском хозяйстве была по тем временам очень высокой. По современным оценкам, урожайность зерновых культур в Китае за 2 тыс. лет поднялась только в 2,2 раза21. Собираемые урожаи обеспечивали сносный прожиточный минимум для растущего населения.
84
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
Признано, что в области технических нововведений древний и средневековый Китай опережал Европу на целую эпоху. Речь идет о значительно более раннем по сравнению с Европой применении в Китае не только бумаги, компаса, фарфора, книгопечатания и пороха, но и, например, водяных двигателей в металлургическом и текстильном производствах, каменного угля в быту и при выплавке металла, многоверетенной самопрялки, горизонтального ткацкого станка. Даже такие изобретения, как удобная упряжь для лошадей, зонт, тачка, веялка и ряд других, появились в Китае значительно раньше, чем в Европе.
На рубеже первого и второго тысячелетий Китай был не только крупнейшей, но и динамично развивающейся страной.
По расчетам В.А. Мельянцева, в танско-сунское время в Китае наблюдался значительный экономический рост: среднегодовые темпы прироста валового внутреннего продукта равнялись 0,35—0,45% в год, а подушевые — 0,15—0,25%. Причем этот феномен был обусловлен не только вовлечением в производство новых ресурсов (экстенсивноеразвитие), но и в немалой мере (примерно на 25—30%) действиями интенсивных факторов. Это означало, что в сунское время ВВП в расчете на душу населения в Китае мог достигать 600— 700долл., что выше, чем в других наиболее развитых афро-азиатских странах (Египет — 470—530, Индия — 550— 650долл.) и, по крайней мере, в 2раза выше, чем в Западной Европе того времени (300—350долл.).
Превосходство Китая в рассматриваемое время имело место не только в сфере производства. Так, по уровню грамотности (20—30% населения) Китай по меньшей мере на порядок опережал Западную Европу. Отметим также, что именно в сунское время доля занятых в сельском хозяйстве снизилась до 2/3 (повторно такие цифры будут достигнут только в конце XX в.!), что свидетельствовало об успехах урбанизации, о культурной и социально-экономической зрелости китайского социума. Этот подъем в духовной и материальной сферах — так называемый «сунский феномен» — стал выражением значительных потенций развития традиционного общества, высокого взлета его культуры.
История Китая/Подред. А. В. Меликсетова. М. : Изд-во Московского университета, 1998. С. 216.
Многие исследователи считают, что вплоть до 1800 г. Китай сохранял свое преимущественное положение в мире по уровню развития производительных сил и масштабам торговли, в том числе в нем концентрировалась половина всего мирового объема серебра (выполнявшего в то время функцию денег). Есть оценки, что в 1800 г. ВНП надушу населения во всех ныне развитых капиталистических странах составлял 198 долл, (в ценах США 1960 г.), а в Китае — 210 долл.22 Расчеты, произведенные Энгусом Мэдцисоном, показали, что доля Китая в мировом ВВП в 1700-1820 гг. поднялась с 23,1 до 32,4% при годовом приросте 0,85%. За то же время доля Европы снизилась с 26,6 до 23,3%. Хотя эти высказывания, как пишут сами китайцы, требуют осторожного отношения,
Глава 2. Специфика Китая
85
они, тем не менее, опровергают сложившееся представление о «вечном отставании Китая от Запада»23.
Экономическое отставание Китая стало очевидным лишь в эпоху промышленной революции, что было вызвано как внутренними, так и внешними причинами, а именно:
■ растущее перенаселение и высокая степень эксплуатации труда;
■ сдерживание частнособственической инициативы и всесилие бюрократии;
■ отсутствие в силу дешевизны труда необходимости в технических нововведениях и пренебрежение прикладными науками;
■ продолжающийся крен в сторону земледелия и недооценка необходимости индустриализации;
■ ставка на изоляцию и игнорирование международных связей.
Застойный характер китайского общества объяснялся не тем, что у него не было никаких внутренних потенций развития, а тем, что эти потенции политического и экономического либерализма сдерживались могущественной государственной властью, отдававшей предпочтение «стабильности и централизации» перед «динамизмом и расколом».
С 40-х годов XIX в. Китай стал объектом колониальной экспансии европейских государств, которые навязали ему систему неравноправных договоров, разделили страну на «сферы влияния», основали в приморских городах концессии и сеттльменты. С этого времени страна вступила в мучительный процесс распада докапиталистического национального способа производства и становления зависимого капитализма.
Насильственное «открытие» Китая имело очень противоречивые последствия. Основным противоречием китайского общества стало противоречие между экономической отсталостью, унаследованной от традиционного прошлого, и потребностью быстрого экономического, социального и духовного развития страны. Вторжение иностранного капитала ускорило разложение традиционных социальных связей, создало более широкие предпосылки для развития капиталистических отношений на национальной основе. Рядом с количественно преобладавшими традиционными укладами стал разрастаться капиталистический уклад, состоящий из двух подукладов — иностранного и национального и двух типов производства — крупного и мелкого. Капитализм насаждался извне и сверху, поощрялся государством, державшим в своих руках основные отрасли хозяйства страны и тесно контактировавшим с иностранным капиталом. На долю частного предпринимательства оставались мелкие предприятия и второстепенные сферы экономики. Вместо одного господствующего уклада реально установилась бинарная, дуалистическая структура с компромиссным сосуществованием двух начал — современного и традиционного. Капиталистическое предпринимательство сосредоточилось в восточных районах, обходя стороной глубинные районы страны. Одновременно усилились элементы экономической и по¬
86
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
литической раздробленности, всегда существовавшие в китайской империи.
Как писал в 1928г. один из корифеев советской синологии Л. Мадьяр, «империализм и развитие капиталистических элементов в экономике Китая наряду с разложением государства вызвали к жизни, с одной стороны, факторы, действующие в направлении объединения замкнутых местных рынков, а с другой — тенденции к разъединению рынка. В этих противоречиях задыхается страна. Попытка буржуазии вырваться из заколдованного круга, создать единый национальный рынок рухнула. Очевидно, разрешение этой чисто буржуазной задачи выпадет на долю пролетариата и крестьянства».
МадьярЛ. Экономика сельского хозяйства Китая. М.-Л, 1928. С. 261.
Стремление сохранить незыблемым установившийся общественный порядок и свое господство в Китае объясняет двухвековую приверженность правителей последней императорской династии Цин (1644- 1911 гг.) политике изоляции Китая от западного мира. Имея своей экономической основой самообеспечивающееся натуральное хозяйство и ремесленное производство, эта политика «закрытых дверей» превратилась в дополнительный тормоз экономического роста. Законсервировав свой общественный строй, Китай оказался к середине XIX в. на положении «больного человека Азии», страны, не способной обеспечить необходимыми жизненными благами свое население и оказать сопротивление иностранной агрессии (поражение в «опиумной войне» 1840-1842 гг.).
Оказавшись лицом к лицу с превосходством западной машинной техники и преимуществами развитого товарного производства, Китай был поставлен перед необходимостью «модернизации». Она усилилась в результате крестьянского восстания, переросшего в крупномасштабную и продолжительную крестьянскую войну — восстание тайпинов (1850—1864 гг.). Как все крестьянские восстания, движение тайпинов проходило под лозунгами создания нового, справедливого общественного строя по образцу идеального общества «всеобщего единения» («Датун»). Это же содержание вкладывалось лидерами движения в его название «тайпин», как и первое заимствованное из древней китайской философии, которое на русский язык можно перевести как «великое благоденствие», «всеохватывающее спокойствие» (мир), «полное равенство». Будущее общество должно было основываться на общности имущества, всеобщем равенстве людей, равноправии полов. Но, обращаясь к древнекитайским учениям, тайпинские идеологи уже не могли не учитывать требований современности. На более позднем этапе тай- пинского движения идеологии «крестьянского коммунизма», провозглашавшей уравнительность в производстве и потреблении и жесткий аскетизм, был противопоставлен план «усовершенствования государственного правления». Его автор Хун Жэньган направил главе тайпинов «небесному князю» Хун Сюцюаню докладную записку с програм¬
Глава 2. Специфика Китая
87
мой буржуазных реформ, которая предусматривала создание частных предприятий, торговых компаний, частных банков, строительство транспортной сети, поощрение технических нововведений при одновременном укреплении центральной власти и некоторых традиционных институтов в виде экзаменов на должность. Примечательно, что Хун Жэнь- ган настаивал на том, чтобы Китай не отгораживался искусственно от внешнего мира, изучал положение в различных государствах, налаживал с ними торговлю и перенимал у них технические новшества и полезные учреждения и. Утопичность этого плана традиционно-современного синтеза в тогдашних китайских условиях не позволила даже приступить к его осуществлению.
В отличие от тайпинского проекта, так и оставшегося на бумаге, цинская правительственная программа модернизации приобрела практический характер в виде некоторого заимствования западной военной техники и строительства военных и гражданских промышленных объектов под лозунгами «самоусиления». Однако сторонники этой политики, обращавшиеся к правителям с разного рода «меморандумами», как правило, были за освоение западной техники, но против заимствования каких-либо буржуазных общественно-политических идей. Как пишут О.Е. Непомнин и В.Б. Меньшиков, «в итоге принципиально реакционная направленность — всемерное сохранение старого — подмяла под себя прогрессивную задачу модернизации»25.
В числе патриотически настроенных интеллектуалов конца XIX в., болезненно воспринимавших отставание Китая, был и гуандунец Кан Ювэй (1858—1927), во взглядах которого переплелись элементы социальной утопии и обоснование необходимости кардинальной перестройки общественно-политического устройства страны. В обществе будущего, по Кан Ювэю, все имущество должно быть обобществлено и распределено среди населения. Он указывал, что в этом обществе люди не будут делиться на «ученых» и «рабочих», так как все они будут получать знания и трудиться. Вместе с тем, по-своему трактуя учение Конфуция и приписав последнему теорию о реформах государственного строя, Кан Ювэй обосновывал неотложность заимствования форм политического управления у стран Запада, где, по его словам, существовал «новый мир»26. Его компромиссность проявилась в том, что, осуждая несправедливость буржуазного строя, он вместе с тем видел в США идеальный «мир всеобщего равенства». Ему удалось убедить молодого императора Гуансюя приступить к серии политических и экономических мер, направленных на усиление Китая с целью его противостояния вторжению империалистических держав. Эта попытка реформирования была пресечена дворцовым переворотом, продлившим существование Цинской династии и династийного Китая как такового до 1911 г. Со «стадией» реформ 1898 г. можно вести отсчет истории реформаторского движения в Китае современной эпохи.
88
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
Подобно тайпинским утопистам, Кан Ювэй одновременно придерживался двух в известной мере взаимоисключающих программ. «Программа-минимум» была изложена в серии докладов императору с целью убедить его в необходимости принятия экстраординарных мер. Так, в 1898 г. в шестой по счету докладной записке он включал в число первоочередных и неотложных мероприятий следующие: изменение системы государственных экзаменов, создание департамента финансов, выкуп бумажных денег, учреждение государственного банка, введение поземельного и других налогов для увеличения доходов казны, перевод иностранных книг, пропаганду западных наук, увеличение окладов чиновникам (в качестве превентивной меры по борьбе с коррупцией) и т.д. По мнению академика С.Л. Тихвинского, эти предложения «должны были объективно расчистить путь для капиталистического развития Китая и открыть доступ представителям буржуазии и либеральных помещиков к государственному управлению в столице и на местах»27.
Подтверждением этой капиталистической ориентации и особых симпатий Кан Ювэя может служить и его апелляция к опыту России и Японии: «Демократический республиканский строй Америки и Франции и конституционное политическое управление Англии и Германии для нас неприемлемы по причине отдаленности этих стран от Китая и различия народных обычаев; к тому же реформы в этих государствах проведены давно, и от них уже не осталось и следов. Я прошу поэтому Ваше Императорское Величество взять пример с России и Японии, заимствовать идеи Петра Великого и принять за образец реформы, проведенные японским императором Мэйдзи»28.
Тот же Кан Ювэй был автором распространявшейся в рукописи книги «Датун шу» («Книга о Великом Единении»), в которой он изложил свою программу-максимум, проект идеального общества будущего, в котором, опираясь на цитаты из канонической книги «Ли цзи», развивал тезис о необходимости упразднить семью, государство и частную собственность. В ряде работ конца 1930-х годов в ходе так называемой китаизации марксизма была сделана попытка представить эту теорию «Датун» как исконно китайскую версию социализма и коммунизма. В 1949 г. Мао Цзэдун в работе «О демократической диктатуре народа» фактически поставил знак равенства между «миром Датун» Кан Ювэя и коммунизмом в марксистской трактовке.
Немецкий исследователь учения Кан Ювэя Р.Фельбер считал, что «выдвинув программу реформ, носившую преимущественно консервативный характер, Кан Ювэй проявил себя в равной степени противником как буржуазно-революционного, так и пролетарского движения»29. Согласно Фельберу, Кан Ювэя можно также рассматривать как зачинателя подлинно реформаторского движения в Китае, обращенного в будущее: «Если сжато суммировать результаты этого титанического труда
Глава 2. Специфика Китая
89
(Кан Ювэя), то можно сказать, что они выразились в открытии для китайской мысли категории будущего».
В начале XX в. идейные искания китайских интеллектуалов получили новые стимулы и проявились в разного рода дискуссиях по поводу будущего развития Китая. При этом, как и во многих других странах на стадии национально-демократической революции, выявилось два главных подхода. Первый - «модернизаторский», ориентированный на подражание более развитым странам, на разрушение тех традиций, которые сдерживают быстрый рост, на общее «осовременивание» китайского общества и приобщение к благам мировой цивилизации. Второй подход - «традиционалистский», делающий основной упор на проблемах независимости, своего собственного самобытного пути, аполо- гизирующий историческое прошлое.
После Октябрьской революции в России дискуссии в Китае приняли новый оборот, сосредоточившись на проблеме выбора между капитализмом и социализмом. Социалистическая идеология воспринималась больше в той части, где существовала «перекличка» с крестьянскими утопическими воззрениями: обобществление средств производства (полное обобществление имущества); уничтожение социального неравенства (уравнительное распределение); коллективистские начала общественной жизни (клановая взаимопомощь). В представлениях о будущем государственном устройстве сталкивались две противоположные тенденции — стремление к сильной государственной власти и отрицание государства из-за опасений его перерождения в деспотию. Малоосвоенными оставались идеи демократизации общественной жизни, достижения полного материального благосостояния, всестороннего развития личности.
Различия в интерпретациях «прогресса» и перспективах его перенесения на китайскую почву ярко проявились в идеологическом споре между Сунь Ятсеном и Лян Цичао. Труды известного революционного деятеля, ученика Кан Ювэя, Лян Цичао пользовались огромной популярностью среди интеллигенции Китая на рубеже XIX-XX вв. Анализируя причины отсталости Китая, основные положения китайской философской мысли и сравнивая закономерности развития Китая и Запада, он пришел к выводу о пагубном для Китая отсутствии конкурентной борьбы как внутреннем импульсе всякого прогресса.
Поясняя свою мысль о конкурентной борьбе как факторе прогресса, Лян Цичао писал: «Вусловиях, когда государства противостоят друг другу, без конкурентной борьбы невозможно сохранить себя. Борются не только государства, но в то же время и отдельные люди, борются, используя не только могущество и силу, но еще в большей степени мораль и знание. Стремительно двигаясь разными путями, люди сами включаются в борьбу, тогда эволюция идет бурно, ничто не может ее задержать. Поэтому если одно государство выпускает новый образец оружия, то друго бросает старые образцы из-за боязни остаться позади, а не потому, что старое
90
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
оружие не годится для защиты границ. Если один завод выпускает новую модель машин, то другие заводы бросают старую, опасаясь остаться позади, а не потому, что старая модель уже не годится для получения прибыли на рынке. При таком положении дел каждый не только боится отстать от других, но всегда стремится превзойти других. Вчера А превзошел В, сегодня Г обскакал В, завтра Д опередит Г. Все друг с другом соперничают, все друг другу завидуют, все друг у друга учатся. Это подобно скачкам, подобно состязаниям в беге, подобно сплаву по реке. Если передний преграждает путь, то идущий сзади не может не напрягать усилий. Если идущий сзади наступает на пятки, то переднему также не будет покоя. Поистине это и есть источник движущей силы, порождающей прогресс».
Цит. по: БорохЛ. Н. Теории прогресса в китайской мысли начала XXв. //Китай поиски путей социального развития.
М.: Наука, 1979. С. 16-17.
Выдающийся китайский революционер Сунь Ятсен (1866-1925) начинал свою политическую карьеру как реформатор и как последователь Кан Ювэя, разделяя, в частности, его точку зрения о недопустимости конкурентной борьбы, которая, являясь выражением эгоистических свойств человека, ведет к конфликтам и нарушениям общественной морали. Апеллируя к традиционным «высшим принципам» (гун ли), он призывал придерживаться высокой общественной морали (шэху- эй даодэ), строить отношения между людьми на основе взаимопомощи и сотрудничества.
Как истинный патриот и знаток своей страны Сунь Ятсен был целиком и полностью за преодоление экономической отсталости Китая с использованием опыта и помощи других стран, но при сохранении самобытности. Капиталистический мир привлекал его техническими достижениями и отталкивал пороками в виде имущественного неравенства, безнравственности и растущей преступности. Отдавая должное классикам марксизма, он не воспринимал их возвеличивания классовой борьбы, противопоставлял этому тезису особое значение взаимопомощи и ассоциации.
Еще в 1894 г., участвуя в общей кампании китайских интеллектуалов за возрождение нации, Сунь Ятсен обратился к видному китайскому сановнику Ли Хунчжану с посланием, в котором писал: «После глубоких размышлений я пришел к выводу, что основа богатства и могущества Европы заключена не только в том, что ее корабли крепки, а пушки метки, форты неприступны, а войска сильны, но и в том, что люли там имеют возможность полностью проявить свои таланты, земля может приносить наибольшую пользу, вещи могут находить исчерпывающее применение, а товары беспрепятственно обращаться. Эти четыре условия суть первопричина богатства и могущества, основа управления государством»30. Используя современную терминологию, можно сказать, что Сунь Ятсен стоял за максимальную эффективность всех факторов производства и широкое развитие рыночных отношений.
Глава 2. Специфика Китая
91
Программа-максимум Сунь Ятсена — построение в Китае индустриально развитого общества, составляющего часть мировой цивилизации, демократически управляемого и обеспечивающего всеобщее благосостояние («три народных принципа» — государство-нация, народовластие и народное благосостояние. Смысл наших «трех народных принципов», писал он, — народ имеет, народ управляет, народ пользуется - как раз и состоит в том, что государство является общей собственностью народа, политика — общим делом народа, выгода — тем, что народ использует сообща. Согласно этой формуле, не только отношения между государством и народом представляют собой выражение общей собственности, но все права и обязанности являются принадлежностью всех. Это и есть подлинный коммунизм или Великое Согласие Конфуция31. Находя сходство между обществом «миныиэн» (народное благосостояние), социальными построениями Датун и «коммунизмом», Сунь Ятсен, тем не менее, считал термин «миныиэн» более точным и более ясным. В общественном сознании «три народных принципа» Сунь Ятсена32 воспринимались как синтез китайской и западной культур.
После Синьхайской революции (1911 г.), покончившей с цинской империей, выявились три основных политических течения, по-разному решавших проблему соотношения «государства» и «народа». «Этатисты» на первое место ставили роль государства. По их мнению, отлаженная государственная машина, как некогда император, должна служить гарантом благополучия народа. Другое течение, которое можно условно назвать «демократическим», отстаивало первичность интересов народа. Водораздел между этими течениями определялся следующим образом: либо «от богатства государства к благополучию народа», либо «без благополучия народа нет богатого государства». «Центристы» стояли за максимальное преодоление разрыва между «государством» и «народом» (обществом), возлагая ответственность за соблюдение общественного единства прежде всего на государство. Оно должно строить свою политику, исходя не только из соображений государственной целесообразности, но и из интересов народа.
Особенности исторического развития Китая объясняют такую характерную черту революционного процесса начала XX в., как неприятие капитализма и массовые симпатии к социализму при крайне нечетких представлениях о его подлинном содержании. По существу двум главным течениям освободительного движения в Китае — революционно-радикальному (во главе с компартией) и консервативно-реформистскому (во главе с Гоминьданом) была свойственна общая устремленность к построению некоего идеального государства, причем ни для лидера революционного крыла Гоминьдана Сунь Ятсена, ни для лидера его правого крыла - Чан Кайши капитализм не был социальным ориентиром. В дальнейшем противостояние коммунистов и членов партии
92
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
Гоминьдан выявило их действительные классовые и внешнеполитические предпочтения.
«Непопулярность» перспективы капиталистического развития была связана как с зачаточным состоянием этой новой для Китая общественной формации, исторически сложившейся настороженностью в отношении частной инициативы, так и с тем неприглядным обликом капитализма, который был продемонстрирован в ходе агрессии западных стран и проникновения в Китай иностранного капитала. Многие китайские революционеры, ознакомившись с трудами классиков марксизма, пытались связать идеи социализма с традиционными философско-религиозными представлениями о «лучшем, справедливом обществе». Такую параллель между марксистской концепцией социализма и высказываниями Мэнцзы о национализации земли и «колодезной системой» провел в свое время Лян Цичао в статье «Китайский социализм» (1903 г.).
В развернувшейся в начале 20-х годов XX в. дискуссии о возможных путях дальнейшего социально-экономического развития страны столкнулись две точки зрения относительно готовности Китая к социалистическому строительству. Известный китайский философ, главный редактор журнала «Гайцзао» Чжан Дунсунь в своих публикациях предостерегал от стремления перескочить через необходимые этапы развития и совершить прямой переход к социализму ввиду отсутствия объективных условий — достаточного уровня экономического развития и развитой классовой структуры общества. Будущее страны он связывал с всемерным развитием промышленности, созданием частных и кооперативных предприятий.
Автор ряда работ о китайской дискуссии по поводу социализма в начале XXв., профессор Л.П. Делюсин в статье «Полемика о путях развития Китая» писал: «Особенность антисоциалистической позиции ЧжанДунсуня состояла в том, что он не отвергал идей социализма и возможности их применения в Китае в принципе. Он писал о своих симпатиях к идеалам социализма, признавал их превосходство над принципами капитализма. Более того, он надеялся, что в далеком будущем социализм одержит верх над капитализмом и это будет благом и для китайского народа, и для всего человечества. Но он категорически протестовал против усилий по пропаганде социалистических идей и организации социалистического движения в настоящее время, считая это бесполезным и вредным. К тому же по своему национальному характеру, повторял он, китайский народ не способен воспринять и осуществить на практике идею диктатуры рабочих и крестьян в ее истинном виде. Излечить Китай от его внутренних болезней, избавить от угрозы закабаления иностранными силами способны лишь активная предпринимательская деятельность «третьего сословия» и культурно-просветительская работа.
Китай: поиски путей социального развития. М. : Наука, 1979. С. 116.
Вместе с тем в Китае находились и защитники идей скорейшего перехода Китая на путь социализма. Ученик Сунь Ятсена Фэн Цзыю в
Глава 2. Специфика Китая
93
1920 г. издал в Сянгане брошюру «Социализм и Китай», где выступил с резкой критикой утверждения о том, что социализм в Китае бесперспективен из-за отсутствия объективных предпосылок «Если Китай, — писал он, — не введет социалистической системы до того, как разовьется бюрократическо-капиталистический строй, весь народ потонет в пучине бедствий, и тогда слишком поздно будет думать о его спасении»33. Общая тенденция мирового развития характеризуется, по словам Фэн Цзыю, движением к социализму, и Китай не только не может остаться в стороне, но просто обязан стать образцом социалистического государства для всех стран мира.
Какое содержание вкладывал сам Сунь Ятсен в понятие «социализм» можно видеть из следующих его слов: «Я воистину приветствую социализм, поскольку для него священна выгода («ли») государства и богатство («фу») народа, поскольку подлинный закон данного общества состоит в том, чтобы собрать продукцию разного рода производств, передать его в общее владение («гун ю») и получать от этого выгоду. В тот день, когда осуществится социализм у нашего народа, юные смогут получать образование, старые иметь содержание, все будут трудиться, разделившись по профессиям, каждый получит свое место, государство нашей Китайской республики сразу превратится в государство социализма»34.
С этим «государственным социализмом» у Сунь Ятсена соседствовал «популистский социализм», идеалы которого — полное равенство, аскетизм, самопожертвование во имя общего дела — были заимствованы из лозунгов крестьянских восстаний, прежде всего тайпинского восстания. Методом построения этого идеального общества Сунь Ятсен считал использование капитала без капиталистов, т.е. он отделял силу капитала от класса капиталистов, от самого капиталистического строя35. Он не отрицал выгод частной собственности, но настаивал на одновременном широком создании государственных предприятий, особенно в отраслях тяжелой промышленности, не отвергал частное земельное владение, но при наличии государственной системы поземельного налогообложения, активно выступал за привлечение иностранного капитала в целях создания собственной мощной индустрии. «Моя идея, — писал Сунь Ятсен, — состоит в желании использовать иностранный капитализм для создания социализма в Китае, так чтобы гармонично сочетая эти две экономические силы, двигающие человечество вперед, заставить их действовать вместе и тем самым ускорить развитие будущей мировой цивилизации»36. Как непримиримый противник «экономической силы меньшинства, монополизирующего богатства общества», Сунь Ятсен стоял за активную роль государства, что было в традициях китайской нации, но государства «нового типа», а именно управляемого народом и служащего интересам народа (т.е. за подлинную демократию). Будущее экономическое развитие Сунь Ятсен представлял как сосущество¬
94
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
вание и развитие частной и государственной собственности. «Промышленное развитие Китая, — писал он, - должно осуществляться по двум линиям: по линии частных предприятий и по линии государственных предприятий. Во всех случаях, когда дело можно поручить частному лицу и когда последнее может вести дело лучше, чем государство, следует дать этому лицу такую возможность, причем подобная деятельность должна поощряться государством и охраняться законом... Все же дела, которые не могут взять на себя частные концерны, и дела, носящие монополистический характер, должны осуществляться в государственном порядке»37.
Если исходить из содержащейся в произведениях Сунь Ятсена идеи государственного начала в экономике в виде государственной собственности, необходимого централизованного контроля над основными отраслями, примата народных интересов в системе распределения и вместе с тем допущения предпринимательской деятельности для частных лиц и гарантировании им надлежащих условий (ликвидация «самоубийственных» налогов и поборов, правовая защита и т.п.), прогнозируемое им общество можно с одинаковым успехом назвать и «государственным капитализмом», и «государственным социализмом». С. Л. Тихвинский определил «целевую модель» социально-экономической программы Сунь Ятсена как «идеальный государственный капитализм»38. Представления Сунь Ятсена о будущем обществе народного благосостояния как конечной цели освободительной борьбы китайского народа сформировались и под влиянием европейских социалистических учений, и под воздействием китайской утопической традиции. Сейчас они выглядят как предтеча концепции «общественного синтеза», предполагающего сочетание традиционности и модерности, рыночных начал и государственного управления.
После смерти Сунь Ятсена в 1925 г. Китай в течение двух десятилетий находился в состоянии гражданской войны, испытал японскую интервенцию, оставался политически раздробленным. За спиной непрерывно конфликтовавших милитаристских клик стояли империалистические державы. После поражения революции 1925—1927 гг. развернулся противоречивый процесс формирования новой государственности под эгидой партии Гоминьдан с основополагающей идеей тесного сращивания партийной, военной и управленческой бюрократии. Для гоминьдановской идеологии середины 1930-х годов характерно возвеличивание роли государства и утверждение духа национализма.
Водном полуофициальном издании «Реконстракшен оф Чайна» писалось: «Свободное предпринимательство как экономическая политика давно дискредитировано. В Китае, стране неразвитой и экономически отсталой, необходимо иметь организацию, которая бы выступала как инициатор и контролер развития. Такой организацией должно быть государство, хотя, возможно, есть необходимость обсудить — должны ли эти функции выполняться государством непосредственно или через под¬
Глава 2. Специфика Китая
95
чиненные ему организации с большой свободой деятельности, как это имеет место в Англии в отношении транспорта; должно ли государство само стать коммерческим концерном, как в СССР, или же взять на себя роль стимулятора, советника и регулятора деятельности получастных концернов»39.
В августе 1935 г. Чан Кайши выдвинул программу из восьми пунктов, которая ставила своей целью «добиться общими усилиями частного и государственного секторов превращения отсталого государства с низким жизненным уровнем в современную индустриальную державу». Программа предусматривала повышение технического уровня сельского хозяйства, освоение новых земель, расширение добычи полезных ископаемых и промышленного строительства, развитие торговли и транспорта, реформирование денежной системы и т.д. Главное содержание начатой кампании Чан Кайши видел в максимально широком использовании огромных трудовых ресурсов страны путем развития местной промышленности 40. В отличие от временной Конституции 1931 г. в проект гоминьдановской Конституции 1936 г. вошло положение о ведущей экономической роли государства.
В наиболее полном виде социально-экономические взгляды Чан Кайши были изложены в опубликованной в 1943 г. книге «Судьбы Китая». В ней он обосновал принцип главенства политики над экономикой, а в экономике — осуществление стратегии индустриализации страны. Понятие «экономика» Чан Кайши трактовал в чисто традиционном стиле как «изучение управления людьми и наведение порядка в вещах». «Проще говоря, экономика — это изучение того, как сделать нацию богатой и сильной, или как создать богатое, могущественное и удовлетворенное своим положением государство. По сути дела, она есть изучение национального развития. А это значит, что экономика в китайском понимании шире, чем в западном»41.
Видный экономист Хэ Лянь в бытность заместителем генерального секретаря Комитета планирования при правительстве Гоминьдана в 1944 г. разрабатывал общие принципы послевоенной реконструкции, которые он сам характеризовал как «планируемое развитие смешанной экономики». Основное содержание этого плана из шести пунктов сводилось к следующему. Промышленное развитие в соответствии с известной суньятсеновской формулой должно идти по двум линиям — государственное и частное предпринимательство. Государственное предпринимательство может принимать различные формы, в том числе и государственных монополий, сфера действия которых должна быть по возможности узкой — почта и связь, арсеналы, монетные дворы, главные железные дороги, крупные гидростанции. Вся же основная часть хозяйства должна стать сферой приложения прежде всего частного капитала. Условием действия государственного капитала он считал обязательное сотрудничество с национальным и иностранным частным капиталом в форме корпораций, в руководстве которых правительство уча-
96
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
ствует только как один из держателей акций. Создание крупных частных предприятий должно проводиться с одобрения правительства и соответствовать общему плану экономической реконструкции. Все иностранные предприятия действуют на основе китайских законов, хотя правительство может давать некоторым из них особые права42. Это взгляды во многом перекликается с позицией упоминавшегося выше Чжан Дунсуня.
Набиравшее силу коммунистическое движение породило новую плеяду руководителей и идеологов, на которые оказывали влияния, с одной стороны, программные положения и практические установки Сунь Ятсена и партии Гоминьдан, с другой - утопические прожекты крестьянских восстаний, с третьей — теория и практика социалистического строительства в революционной России. Созданные в глубине страны «освобожденные районы» были не просто территориями, занятыми народными армиями в тылу врага, которым были японские оккупанты, а потом гоминьдановские правители, а по сути дела новыми государственными образованиями со своими органами политической власти, со своими вооруженными силами и особой экономической политикой, построенной на принципах самообеспечения и аскетизма.
Особого внимания заслуживают решения VII съезда КПК в апреле-июне 1945 г., на котором с программной речью выступил Мао Цзэдун. Политический строй, который должен был прийти на смену диктатуры Гоминьдана в результате революционной борьбы, он охарактеризовал как «общество нового типа», по своим основным параметрам не выходящее за рамки установок «трех народных принципов» Сунь Ятсена. Программа «новодемократической революции» предусматривала обеспечение национальной независимости Китая, ликвидацию феодальных отношений в деревне, передачу земли крестьянству, переход в руки государства ключевых отраслей народного хозяйства, ограничение крупного китайского и иностранного капитала при всемерном поощрении деловой активности средней и мелкой буржуазии. «Все мероприятия этой революции, — говорил Мао Цзэдун, — направлены не на уничтожение частной собственности, а на охрану частной собственности. В результате этой революции будет расчищен путь для развития капитализма»43.
2.3. Особенности государственно-административного устройства
Согласно действующей Конституции КНР, стержнем политической системы является Коммунистическая партия Китая, которая руководит всей политической и экономической жизнью страны. Руководящая роль КПК проявляется прежде всего в выработке стратегического направления развития и общих идеологических установок, в обсуждении и при¬
Глава 2. Специфика Китая
97
нятии решений по средне- и долгосрочным планам развития, в подборе и расстановке кадров. Остальные партии никогда с момента образования КНР не выступали в виде оппозиции по отношению к КПК. В 1949 г. они были объединены в рамках организации Единого фронта — Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК).
Высшим органом представительной власти является Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП). ВСНП избирает Постоянный комитет, председателя КНР и его заместителя, по представлению председателя КНР утверждает премьера Государственного совета, а по представлению последнего — всех других руководителей государственных административных органов.
Китай является унитарным государством, что проявляется в унифицированности конституционных прав административно-территориальных единиц, отсутствии в приложении к ним понятия государственного суверенитета. Однако китайский унитаризм носит специфический характер:
■ в отличие от «простого» это — сложное унитарное государство, имеющее в своем составе автономии, образованные по национально-территориальному принципу;
■ как в некоторых зарубежных странах, в Китае принято доктринальное деление административно-территориальных единиц на «естественные» и «искусственные». В «естественных» единицах (провинции, уезды) существуют выборные представительные органы, в волостях—органы местного самоуправления. К «искусственным» можно отнести «округа» (административный уровень между провинциями и уездами) и «районы» (уровень между уездами и волостями), управление которыми осуществляется вышестоящими административными органами.
■ унитарное китайское государство является относительно децентрализованным, регионы пользуются значительной хозяйственной самостоятельностью;
■ расширение китайской территории за счет присоединения территорий бывших колоний привело к образованию «специальных административных районов», которые вносят в государственное устройство КНР черты конфедерализма.;
■ специфика КНР - наличие специальных экономических зон на положении особых территориальных анклавов, отгороженных от других территорий внутренними границами и подчиненных центральному органу управления.
Все это дает основание характеризовать китайскую государственность как псевдоунитаризм или квазифедерализм.
В настоящее время в административно-территориальном делении Китая насчитывается пять уровней (без центрального): три уровня считаются основными, или «настоящими»: 1) административные единицы первого порядка: провинции (шэя), автономные районы (цзычжи цюй),
98
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
города центрального подчинения (чжися ши); 2) уезды (сянь), автономные уезды (цзычжи сянъ), города уровня уездов и 3) волость (сян), национальные волости и поселки (чжэнъ). В административных единицах действуют местные собрания народных представителей, причем депутаты собраний народных представителей (СНП) уездов и волостей избираются прямым голосованием, состав СНП высших административных районов формируется за счет депутатов уездного уровня. В районах национальной автономии — автономных районах и автономных уездах — органы власти называются органами самоуправления. Собрания народных представителей всех ступеней наделены полномочиями по формированию государственных органов. На этих уровнях действуют местные народные правительства, которые формируются собраниями народных представителей. Кроме трех основных, существуют два промежуточных административных уровня. Это — «округа», занимающее положение между региональным и уездным таксономическим уровнями, и «регионы» («цюй», или «чжуаньцюй») между уездом и волостью и городские микрорайоны. Эти два уровня не предусмотрены действующей Конституцией, но зафиксированы в законе, регулирующем организацию местных органов самоуправления. В них не созываются собрания народных представителей, а органы их управления, именуемые «делегированными органами», комплектуются вышестоящими народными правительствами. В соответствии с «Установками Госсовета КНР по управлению административными районами» от 15 января 1985 г., волости и волостные центры создаются по решениям провинциальных правительств, изменения на уездном уровне требуют санкции Госсовета44.
В административно-территориальном делении Китая учитывается национально-политический принцип. Существует различие в правовом положении регионов концентрации ханьского населения (той части территории страны, которая прежде рассматривалась как «Собственно Китай», или «Внутренний Китай», и районов компактного проживания национальных меньшинств, за которыми закреплен статут автономий. Теоретически права самоуправления районов национальной автономии всегда были шире полномочий «рядовых» административных единиц, поскольку первым предоставлялось, в частности, большая самостоятельность в управлении финансами, разработке местных законов и т.д. Однако на практике эти права слабо реализуются, а в прошлом зачастую просто игнорировались. В целях преодоления этих недостатков в Конституции 1982 г. было подтверждено право районов национальной автономии разрабатывать положение об автономии и отдельно действующие положения и введен ряд дополнительных пунктов. В частности, допускалась корректировка государственных законоположений с учетом реальной обстановки в данной автономной единице.
Вместе с тем Конституция и Закон о национальной районной автономии, устанавливая компетенции собрания народных представителей
Глава 2. Специфика Китая
99
и народных правительств в автономных районах, не расширяют их вплоть до признания права наций на самоопределение. Это подчеркивает конституционное определение Китая как «единого многонационального государства».
Первый таксономический уровень административного деления представлен сейчас 31 единицей (без Сянгана, Аомэня и острова Тайвань). Это — 22 провинции (шэн), 5 автономных районов и 4 города центрального подчинения. Интересно, что в отечественной топонимике принято заменять китайские административные термины их русскими аналогами (провинция, уезд, волость). На наш взгляд, более правильно было бы обойтись без перевода, как это имеет место в отношении американских «штатов». Точно так же было бы правильнее использовать слова «сянь» вместо «уезд» и «сян» вместо «волость». Однако консерватизм языка не позволяет отступать от общепринятых норм, тем более, что небольшие отличия в звучаниях «сянь» и «сян» (наличие либо отсутствие мягкого знака) могли бы внести определенную путаницу.
Деление на административные уровни начало складываться в Китае со времени образования централизованной империи Цинь, т.е. уже более 2 тыс. лет, при этом обозначение высшего административного уровня со временем менялось, а название «уезд» оказалось крайне устойчивым. При ханьском императоре Уди (140 г. до н.э.) территория была разделена на «цзюни» (высшая административная единица) и «сяни» (низшая). После Уди был добавлен уровень «чжоу», но сначала в качестве не полноправных административных единиц, а только дополнительных объектов территориального управления. В эпохи Вэй и Цзинь (III—V вв. н. э.) «чжоу» стали высшими административными единицами, а в эпохи Суй и Тан (VI—X вв.) это название было перенесено на второй таксономический уровень между «дао» и «сянь». В годы монгольской династии Юань административные регионы разных уровней стали называться «шэн», «фу» и «сянь».
Современные «провинции» («шэн») как высшие административные единицы в основном сложились в эпоху Мин (XIV—XVII вв.), и их история насчитывает, таким образом, более 600 лет45. Можно проследить их связь с административными единицами доминской эпохи и с еще более древними государствами, существовавшими в периоды феодальной раздробленности страны. Подобной устойчивости провинций способствовали не только их длительное историческое существование, тяготение к издревле сложившемуся столичному центру, но и определенная географическая целостность, частично отражающаяся в названиях провинций, в которых присутствуют иероглифы частей света и слова гора (шань), река (цзян и хэ), озеро (ху).
Перепланировкой провинций занимались по преимуществу правящие иноземные династии (Юань и Цин), а также японцы, которые захватили в годы второй мировой войны территорию Маньчжурии, уп¬
100
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
разднили ее прежнее административное деление и установили новое, более дробное из 19 административных районов. Внутренняя Монголия после оккупации японцами была разделена на две части - Мэн- цзян под «управлением» так называемого «монгольского объединенного автономного правительства» и Синань, отошедшую к Маньчжоу- го. После капитуляции Японии в 1945 г. в Маньчжурии было пересмотрено административное деление и осталось 9 административных единиц, которые вновь стали называться «провинциями». После того, как в восточную часть Внутренней Монголии, прежде занятой японскими войсками, вступили части НОАК, в январе 1946 г. была провозглашена ее автономия в составе 5 мэнов. На западе и юге Внутренней Монголии сохранились на время провинции Чахар, Суйюань, Нинся и Жэхэ. Таким образом, перед победой революции в 1949 г. в Китае было 35 провинций и территорий: 18 провинций «Собственно Китая», 4 провинции на землях прежней Внутренней Монголии, 9 в составе Маньчжурии, две западных провинции, примыкающих к Тибету (Цинхай и Сикан), а также возвращенный Китаю после многих лет оккупации японцами Тайвань и северо-западная провинция Синьцзян.
В первые годы после образования КНР провинциальный состав страны испытал довольно серьезные метаморфозы. Это коснулось прежде всего Северо-Востока (территории бывшего марионеточного государства Маньчжоу-го). В 1952—1954 гг. были упразднены пров. Пинъюань (созданная до того на основе бывшего пограничного района Хэбэй - Шаньдун — Хэнань), Чахар, Ляодун и Ляоси были объединены в одну провинцию — Ляонин, пров. Сунцзян слилась с Хэйлунцзяном. На Северо-Западе пров. Нинся была присоединена к Ганьсу, а Суйюань включена в состав Внутренней Монголии. В 1955 г. последняя из четырех ликвидированных монгольских провинций была присоединена к пров. Хэбэй. Кроме того, произошло разделение, а потом возвращение к прежним границам провинций Цзянсу, Аньхой и Сычуань. В состав последней после восстания тибетских феодалов вошла тибетская пров. Сикан. После этого провинциальный состав стабилизировался, по существу вернувшись к состоянию середины 30-х годов XX в. За последующие годы существования КНР число провинций пополнилось всего лишь пров. Хайнань на базе выделенного из пров. Гуандун островного административного района с особым статусом.
На правах высших административных единиц наравне с провинциями выступают автономные районы. Ко времени образования КНР в стране уже существовал один автономный район — Внутренняя Монголия. В последующие два десятилетия были созданы Синьцзян-Уйгурский (СУАР, 1955 г.), Нинся-Хуэйский (НХАР, 1957 г.) и Гуанси- Чжуанский автономные районы (ГЧАР, 1958 г.) и в сентябре 1965 г., спустя 9 лет после создания соответствующего подготовительного комитета, — Тибетский автономный район (ТАР), в который вошла «осо¬
Глава 2. Специфика Китая
101
бая местность» Чамдо. Во время «культурной революции» произошел «раздел» Внутренней Монголии. В августе 1969 г. три из семи составлявших район аймаков были переданы северо-восточным провинциям: аймак Хулун-Буир отошел к пров. Хэйлунцзян, аймак Джирим - к Цзилиню, аймак Чжоуда - к Ляонину. В 1970 г. большая часть четвертого аймака Чжаян-Буир была поделена между провинцией Ганьсу и Нинся-Хуэйским автономных районом. Внутренняя Монголия после такой «операции» потеряла более половины своей прежней территории. В июле 1979 г. было принято решение о восстановлении АРВМ в границах, существовавших до 1969 г.
Сейчас, спустя 50 лет с лишним после образования КНР провинции Китая по численности своего населения и общему экономическому потенциалу вполне сопоставимы с крупными самостоятельными государствами.
Специфика китайской системы административного деления состоит в легализации особого административного положения отдельных районов, что касается прежде всего существования «специальных административных районов». Идея образования «специальных административных районов» была выдвинута китайским руководством впервые в 1981 г. в расчете на мирное воссоединение с бывшими колониями и Тайванем через предоставление им особого статуса, допускающего симбиоз в рамках одного государства двух различных общественных систем. Конституция 1982 г. позволила этим тогда только перспективным «особым административным районам» утвердить свой особый режим «с учетом конкретной обстановки» (таким режимом пользовался некоторое время остров Хайнань).
4 апреля 1999 г. был специально принят и обнародован «Основной закон особого административного района Сянган КНР», согласно которому Сянгану (современная транскрипция географического названия Гонконг) в отличие от провинций, автономных районов и городов центрального подчинения разрешалось иметь свои флаг и герб, самостоятельно поддерживать и развивать отношения с разными странами, районами и международными организациями, открывать за рубежом торгово-экономические представительства. Были оговорены сохранение существовавшего в Сянгане капиталистического социально-экономического строя, высокая степень автономности, внешнеполитические и финансовые компетенции, неизменность образа жизни в течение 50 лет после возвращения Сянгана Китаю. Сянган также получил право толкования статей Основного закона, касающихся автономии Сянгана во время судебных разбирательств. Но в отношении статей, трактующих полномочия и отношения между Центром и Сянганом, суд О АР Сянган должен запрашивать мнение Постоянного Комитета ВСНП. С I июля 1997 г. после присоединения Гонконга к КНР Основной закон по Сянгану вступил в силу. Территория Сянгана — 1092 кв. км, население —
102
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
6,94 млн. человек (1999 г.). Это один из крупнейших в мире финансовых центров (3—5-е место в мире по объему банковских операций и операций на фондовом рынке), он занимает 7-е место в мире по объему внешней торговли и 3-е — по золотовалютным запасам.
Суверенитет Китая над бывшей португальской колонией Макао (китайское название — Аомэнь) был восстановлен в декабре 1999 г. За время колониального режима его территория в силу различных договоров увеличилась вдвое — с 10,37 кв. км в 1840 г. до 20,45 кв. км в 1995 г. Здесь проживало в 1998 г. 430 тыс. человек.
Частью КНР на правах ее провинции считается и остров Тайвань, однако контроль КНР на эту островную территорию не распространяется. Потерпевшие поражение в гражданской войне с китайскими коммунистами руководители партии Гоминьдан, правившей страной с конца 20-х годов XX в., вместе с частью своих войск и беженцами переплыли Тайваньский пролив и создали свое государство со столицей в Тайбэе. Тайвань сохранил определенные атрибуты государственности и установил дипломатические отношения с тремя десятками небольших государств, но большинство стран поддерживает с ним отношения на уровне представительств без официального дипломатического признания его самостоятельным государством.
Особого разговора требует вопрос о надпровинциальных территориальных образованиях. Первое время после создания КНР вся территория страны была разделена на 6 крупных военно-административных районов, объединявших несколько провинций, в которых функционировали военно-административные комитеты и были организованы отделы ЦК КПК. Только провинции и города Северного Китая находились в центральном подчинении. В 1952 г. военно-административные районы были преобразованы в крупные районы с действовавшими в них административными комитетами: Северо-Восточный, Северо-Западный, Восточный, Центрально-Южный, Юго-Западный (несколько позднее был создан Северо-Китайский административный комитет в Северном Китае). Наряду с 6 крупными административными районами на положении высшего звена административно-территориальной структуры находились Автономный район Внутренняя Монголия (АРВМ) и Тибет (официально ставший автономным районом лишь в 1965 г.). Но уже в июне 1954 г. Центральным народным правительством было принято решение об упразднении крупных административных районов и о переходе всех провинций и крупных городов в непосредственное подчинение центру. После кратковременного существования крупных административных районов никакие посягательства на «суверенитет» провинций не допускались, и речь о новых надпровинциальных административных образованиях больше не заходила. Предпринимавшиеся попытки проведения экономического районирования опирались на существующее административное деление, и их практическое значение
Глава 2. Специфика Китая
103
было ограниченным. Исключением можно считать выделение «трех линий обороны» в целях развернувшейся в 1970-е годы кампании «подготовки к войне» и концентрации капитального строительства в наиболее безопасных внутренних районах.
17 марта 1996 г. на 4-й сессии ВСНП 8-го созыва был принят проект нового экономического районирования, в котором попытались совместить принципы административного подчинения и экономического тяготения. Территория страны была разбита на 7 экономических районов: 1) дельта реки Янцзы и часть приморской зоны; 2) район залива Бохай; 3) Юго-Восточный приморский район; 4) Юго-Западный район; 5) Северо-Восточный район; 6) 5 провинций Центрального Китая; 7) Северо-Западный район. В виде подрегионов выступают территории, непосредственно прилегающие к среднему течению реки Янцзы и провинция Ляонин4б.
Как уже отмечалось, провинции и автономные районы делятся на уезды (“сянъ ”), и низшие административные единицы — волости («сян»). В 1958 г. во время «большцого скачка» в сельской местности были организованы «народные коммуны», которые задумывались как первичные ячейки новой организации общественной жизни на принципах объединения административной и хозяйственной власти. «Народная коммуна» рассматривалась как низовой экономический район, первичная клеточка производственного комплекса страны. Каждая из 26 тыс. «коммун» создавалась на территории двух или более волостей. После «большого скачка» было произведено разукрупнение «народных коммун», и к 1964 г. их число составило 74 тыс. В течение 25 лет в административном делении Китая волости отсутствовали, и низовые представительные органы были ликвидированы. Конституция 1982 г. восстановила волости и национальные волости, работа по воссозданию, а затем снова укрупнению которых в основном завершилась к концу 1984 г.
К высшим административным единицам приравнены по своему положению также города центрального подчинения (в Китае приходилось сталкиваться с мнением, что эти города-муниципии имеют даже более высокий статус, нежели провинции). После создания КНР в стране насчитывалось 14 городов центрального подчинения, но к середине 1950-х годов таких городов-провинций осталось только 3 — столица Пекин, Тяньцзинь и Шанхай. Тяньцзинь в 1958 г. был выведен из этого «триумвирата» и понижен до положения административного центра пров. Хэбэй. Свой прежний статус он восстановил только в 1967 г. В 1997 г. к этим «трем избранным» присоединился крупный город пров. Сычуань — Чунцин, который в период войны с японскими захватчиками выполнял функцию столицы неоккупированной территории страны, но после образования КНР уступил Чэнду роль главного города пров. Сычуань. Поскольку при оформлении современного статута города центрального подчинения к Чунцину отошла значительная часть
104
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
территории Сычуани, этот акт фактически можно рассматривать как раздел самой многонаселенной провинции Китая.
На следующем уровне административной иерархии находятся города окружного ранга, или ранга префектур (дицзиши). До 1983 г., когда была введена эта категория, города делились по уровням административного подчинения, из которых высшим было подчинение провинции и окружному (районному) административному уровню. В категорию городов уровня округов входят столицы провинций и административные центры округов. Главные города провинций — это города-миллионеры, важные политические центры (а теперь и экономические), прежде соперничавшие между собой за первое место в китайской империи и на какое-то время его отвоевывавшие. Столицами Китая (или части его территории) были Лоян, Сиань, Нанкин, Гуанчжоу. Сейчас они принадлежат к наиболее «почетной» когорте китайских городов вместе с такими исполинами, как Ухань, Харбин, Шэньян, Чэнду, Сиань.
К середине 1980-х годов наиболее крупным китайским городам (включая часть вышеперечисленных) со стоимостью валовой продукции промышленности более 10 млрд. ю. стал присваиваться ранг «самостоятельных плановых единиц» с хозяйственно управленческими функциями, близкими к провинциальным. Расширились и их финансовые права. Оставаясь административными центрами провинций, эти города в финансовых и плановых вопросах выходят непосредственно на центральные органы как Пекин, Шанхай и Тяньцзинь. Все это можно расценить как завуалированный возврат к прежнему более широкому кругу городов центрального подчинения. Из 9 таких городов, в определенной мере обособленных от провинций, чьими центрами они являются, Чунцин уже переведен в ранг «города центрального подчинения». В статистическом справочнике «Чжунго тунцзи няньцзянь-2003» приведены сведения по пяти городам, находящимся на положении «самостоятельных плановых единиц» — Далянь, Сямынь, Циндао, Нинбо, Шэньчжэнь. Это все крупные портовые города.
Города центрального подчинения (города-провинции) и окружного ранга — это «высшая прослойка» всех городских поселений Китая, «собственно города», так называемые города-«ши». Система городов-«ши» как городских агломераций современного типа начала складываться в середине 20-х годов прошлого века. В 1925—1934 гг. этот титул был присвоен 26 городам, наиболее крупным политическим и транспортным центрам общекитайского значения. Первыми официальными городами стали Гуанчжоу и Шимынь (сейчас Шицзячжуан). Пекин, Шанхай и Тяньцзинь вошли в этот разряд в 1928 г. В 1936—1944 гг. категория «ши» была присвоена еще 25 городам, а затем в 1945—1947 гг. еще 9 городам на северо-западе и юго-западе Китая, что было связано с военной обстановкой.
Глава 2. Специфика Китая
105
По своим масштабам города-шм делятся на следующие категории: 1) сверхкрупные города — с населением более 1 млн. человек, 2) крупные города с населением 0,5—1 млн. человек, 3) средние города — 200— 500 тыс. человек, 4) малые города с населением менее 200 тыс. человек. Урбанизационная политика КНР строилась многие годы на ограничении развития крупных и на поддержку малых городов. В 1980 г. на общекитайской конференции по развитию городов было заявлено: «Ограничивать развитие крупных городов, рационально развивать средние города, активно содействовать развитию малых городов». Этот курс был по существу повторен в постановлении по городскому планированию от 1990 г.47
Вторая категория городских поселений - это поселки-«чжэнь», занимающие ту же ступень административной иерархии, что и волости. Если категория «ши» является довольно устоявшейся и пополняется медленно, то с категорией «чжэнь» проводились разного рода манипуляции, прямо отразившиеся на суммарной численности городского населения и общих представлениях о степени урбанизации Китая.
Сами критерии отнесения к городским поселениям менялись по мере роста населения страны и в зависимости от общего отношения к процессу урбанизации. В те периоды, когда господствовала концепция «сельское хозяйство — основа», предпочтительно выглядели более низкие цифры городского населения и производились соответствующие статистические манипуляции. Наоборот, когда более престижными становились более высокие показатели степени урбанизации, правила зачисления в разряд городских населенных пунктов заметно смягчались.
Первое постановление в КНР относительно содержания понятий «город» и «поселок» с соответствующими политическими и административными последствиями было принято в 1955 г. К городам-муниципиям (ши) были отнесены тогда только те, в которых проживало более 100 тыс. человек. Поселками (чжэнь) могли становиться населенные пункты с числом жителей более 2 тыс. человек, из которых более половины (включая население городской области) было охвачено несельскохозяйственными занятиями. В исключительных случаях статут поселка мог присваиваться тем населенным пунктам, в которых проживало от 1 до 2 тыс. человек в случае несельскохозяйственной занятости более 75%48. В декабре 1963 г. было принято совместное постановление ЦК КПК и Госсовета КНР относительно нового содержания категорий «город» и «поселок» и урезания территории городских областей. Правила присвоения статута «города-w/w» остались прежними (более 100 тыс. жителей с некоторыми исключениями для особо важных промышленных, торговых и пограничных центров, административных центров провинций). Понятие же «чжэнь» было пересмотрено в
106
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
сторону ужесточения критериев, и этот титул стал присваиваться населенным пунктам, в которых проживало не менее 3000 жителей, из которых свыше 70% были заняты вне сферы сельского хозяйства, либо 2500—3000 человек при 85%-ной несельскохозяйственной занятости, причем при учете лиц, занятых вне сферы сельского хозяйства, требовалась постоянная городская прописка. Центры «народных коммун» оставались за пределами городского «массива» даже если они соответствовали принятым критериям. Правда, перепись населения 1964 г. (вторая перепись, долгое время остававшаяся засекреченной) проводилась не по новым правилам 1963 г., и к «поселкам городского типа» (чжэнь) относились, как было принято ранее, только поселения с числом жителей более 2000 человек, из которых более 50% были заняты вне сферы сельского хозяйства. Эти «традиционные» критерии» (без нововведений 1963 г.) действовали и во время переписи 1982 г. (третьей по счету), но городские территории к тому времени значительно расширились за счет прилегающих уездов. Следование принципу административной принадлежности привело к тому, что в разряд «горожан» попало значительное число крестьян и дислоцированных на данной территории военных.
С 1984 г. стали действовать правила ГСУ КНР, согласно которым на статут «города-чжэнь» могли претендовать: 1) уездные центры; 2) административные центры волостей с населением свыше 20 тыс. человек, в которых не менее 10% населения заняты вне сферы сельского хозяйства; 3) административные центры волостей с населением менее 20 тыс. человек, но несельскохозяйственной занятостью более 10%; 4) поселения особого значения (промышленные, транспортные и туристические центры ), в которых занятость вне сферы сельского хозяйства составляет не менее 2000 человек49. Согласно новым правилам, в городское население не зачислялись жители управляемых ими уездов, а только близлежащих территорий на правах городской области. Поскольку эти установки ГСУ не обладали характером строгой директивы, в статистических справочниках 1980-х годов образовался большой разнобой в данных.
В апреле 1986 г. появилось новое государственное постановление, значительно снизившее критерии перевода населенных пунктов в разряд городских. Было дано разрешение на присваивание титула «поселка» центрам волостей с несельскохозяйственным населением более 60 тыс. человек и стоимостью валовой продукции свыше 200 млн. ю.50 Введение новых правил резко повысило численность городского населения.
В 1993 г. вышло постановление Госсовета КНР о корректировке критериев города. Был сформулирован комплексный подход по целому набору критериев в зависимости от плотности населения и уровня экономического развития региона.
Глава 2. Специфика Китая
107
В декабре 1999 г. ГСУ КНР выпустило еще одно специальное постановление по поводу разграничения городского и сельского населения, в котором были записаны следующие положения: «решения о создании городов принимаются Госсоветом», «поселки создаются по решениям соответствующих уполномоченных органов», «жители волостей и деревень рассчитываются по исключению из общей численности населения городских жителей»51. Соответственно были сделаны пересчеты уровней урбанизации на 1985—1989 гг., в результате чего образовались два ряда сильно расходящихся между собой цифр.
Манипуляции с критериями городского статуса, остающимися в целом гораздо более высокими, чем в других странах мира, сложность самой процедуры подсчета населения и числа занятых - все это приводит к значительной степени условности в оценке общего уровня урбанизации Китая. Не говоря о самой завышенной «городской планке», признано, что от 1/8 до 1/4 имеющихся населенных пунктов, соответствующих установленным стандартам, по тем или иным причинам этот статус не получают52.
Современное деление всех административных единиц КНР на более мелкие ранги представлено в табл. 2.
Такое огромное по территории и обладающее таким многообразием природных и демографических условий государство, как Китай, неизбежно будет развиваться в сторону федерализма. Однако китайские власти, имеющие перед собой опыт СССР и СФРЮ, не без оснований опасаются, что переход к федеративной модели содержит потенциальную угрозу раскола страны. Основанием для такого рода опасений служит наличие автономий с серьезными сепаратистскими устремлениями некоторых из них, а также сами масштабы китайских провинций, которые по величине территории и масштабам населения вполне сопоставимы с крупными государствами. Переход к федерализму может состояться только после серьезной административной реформы с переходом на новое административное деление с разукрупнением провинций и отказом от национальных автономий. Условия для того и другого не созрели, и сами такие реформы будут весьма болезненными.
На этапе ускоренного экономического роста авторитарное и унитарное государство оказывается более подходящей формой территориального устройства, что не исключает ее частичных модификаций. Переход от административной децентрализации к экономической децентрализации и создание единого общекитайского рынка лучше и легче осуществить в условиях сильной государственной власти, проводящей реформистскую политику.
Попытками «вторжения» в существующее административно-территориальное деление можно считать, во-первых, «городскую реформу» как замену округов группами уездов, подчиняющихся городам (хинтерланды
108
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
Таблица 2
Административное деление КНР (на конец 2004 г.)
Высшие административные единицы
Окружной уровень, ед.
Уездный уровень, ед.
общее число
в том числе города
общее число
в том числе
города
районы в управлении городов
уезды
Всего
333
283
2862
374
852
1464
Пекин
18
16
2
Тяньцзинь
18
15
3
Хэбэй
11
11
172
22
36
108
Шаньси
11
11
119
11
23
88
АРВМ
12
9
101
11
21
17
Ляонин
14
14
100
17
56
19
Цзилинь
9
8
60
20
19
18
Хэйлунцзян 13
12
130
19
68
45
Шанхай
19
18
1
Цзянсу
13
13
106
27
54
25
Чжэцзян
11
11
90
22
32
35
Аньхой
17
17
105
5
44
56
Цзянси
11
11
99
10
19
70
Шаньдун
17
17
140
33
49
60
Хэнань
17
17
159
21
50
88
Хубэй
13
12
100
24
38
37
Хунань
14
13
122
16
34
68
Гуандун
21
21
121
23
54
44
ГЧАР
14
14
109
7
34
56
Хайнань
2
2
20
6
4
4
Чунцин
40
4
15
17
Сычуань
21
18
181
14
43
120
Гуйчжоу
9
4
88
9
10
56
Юньнань
16
8
129
9
12
79
ТАР
7
1
72
1
1
71
Шэньси
10
10
107
3
24
80
Ганьсу
14
12
86
4
17
58
Цинхай
8
1
43
2
4
30
НХАР
5
5
21
2
8
11
СУАР
14
2
99
20
11
62
Примечания: АРВМ - автономный район Внутренняя Монголия; ГЧАР - Гуанси- Чжуанский автономный район; ТАР - Тибетский автономный район; НХАР - Нинся- Хуэйский автономный район; СУАР - Синьцзян-Уйгурский автономный район.
Источник: Чжунго тунцзи чжайяо. 2005. с. 1.
больших городов), и, во-вторых, повышение внимания к проведению экономического районирования и разработке региональной политики с учетом экономической координации различных частей страны.
Глава 2. Специфика Китая
109
Примечания
1 Чжунго тунцзи чжайяо-2005. С. 3.
2 Чжунго цзинцзи шибао. 16.03.2004.
3 Хун Минъюн и др. Чжунго цзинцзи фачжань чжаньлюэ яньцзю (Исследование
экономической стратегии Китая). Гуйчжоу, 2003. С. 40.
4 СюйДисинь. Экологические проблемы Китая. М., 1990. С. 89.
5 Чжунго да чжаньлюэ (Большая стратегия Китая) / Под ред. ХуАнъгана. Ханьчжоу,
2003. С. 50.
6 Синьхуа, webmaster@xinhua.org 11.07.2003.
7 Цзян Чжэнхуа, ЧжанЛингуан. Доклад о населении Китая (Чжунго жэнькоу баогао).
Шэньян, 1997. С. 13-18.
• ГузеватыйЯ.Н. Демографо-экономические проблемы Азии. М.; 1980. С. 44.
9 Цзчян Чжэнхуа, ЧжанЛингуан. Указ. соч. С. 18.
10 Яшнов Е.Е. Особенности истории и хозяйства Китая. Харбин, 1933. С. 66.
11 Ху Аньган, Мэнь Хунхуа. Чжун Мэй Жи Э Инь цзунхэ голи ды гоцзи бицзяо
(Сравнительный анализ комплексной государственной мощи Китая, США, Японии, России и Индии) // Большая стратегия Китая/ Под ред. Ху Аньгана. Ханчжоу, 2003. С. 65.
12 Яшнов Е. Е. Указ. соч. С. 47—48.
13 Никифоров В.Н. Восток и всемирная история. М., 1975. С. 211.
14 Там же. С. 215.
15 Ван Дун. Создание новой теории особой модернизации Китая и идейное насле¬
дие Сунь Ятсена, Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина // Бэйцзин дасюэ сюэбао. Серия: Чжэсюэ шэхуэй кэсюэ бань. Пекин, 1994. № 4. С. 11—21.
16 ВасильевЛ.С. Проблемы генезиса китайского государства. М., 1983. С. 285.
17 ПереломовЛ.С. Книга правителя области Шан. М., 1968. С. 143—144.
18 Лапина З.Г. Учение об управлении государством в средневековом Китае. М.,
1985. С. 234.
19 Мугрузин А. С. Роль природного и демографического факторов в динамике аг¬
рарного сектора средневекового Китая // Исторические факторы общественного воспроизводства в странах Востока. М., 1986. С. 11—44.
20 Указ. соч. С. 41.
21 Гуанминжибао. 10.04.1979.
22 Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и современного. М., 1984.
С. 80.
23 Гуанмин жибао. 01.09.2000.
24 Илюшечкин В.П. Крестьянская войнатайпинов. М., 1967. С. 240—241.
25 Непомнин О.Е., Меньшиков В. Б. Китай: синтез традиционного и современного //
Исторические факторы общественного воспроизводства в странах Востока. М., 1986. С. 56-57.
26 Тихвинский С.Л. Движение за реформы в Китае в конце XIX в. М., 1989. С. 74.
27 Там же. С. 150.
28 Цит. по: Тихвинский С.Л. Указ. соч. С. 155.
29 Фельбер Р. Учение Кан Ювэя о мире Датун — теория утопического коммунизма
или положительный идеал либеральных реформаторов? // Общественно-политическая мысль в Китае. М., 1988. С. 39.
30 Сунь Ятсен. Избранные произведения. М., 1964. С. 44.
110
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
31 Сунь Чжуншань (Сунь Ятсен). Саньминьчжуи Гофу цюаныиу (Полное собрание
сочинений Отца нации). Тайбэй, 1963. С. 147-148.
32 Вместо принятого перевода китайского термина «саньминьчжуи» как «три на¬
родных принципа» можно предложить следующие варианты: «тройственная демократия», «трехликий демократизм», «демократическая триада».
33 Цит. по: Делюсин Л. П. Полемика о путях развития Китая // Китай поиски путей
социального развития. М., 1979. С. 116.
34 Сун Чжуншань. Сюаныну (Сунь Ятсен. Избранные произведения). Пекин, 1956.
Т. 2. С. 636.
35 Сухарчук ГД. Социально-экономические взгляды политических лидеров Китая
первой половины XX в. М., 1983. С. 48.
36 Сунь Ятсен. Программа строительства страны. Избранные произведения. С. 321.
37 Сунь Ятсен. Избранные произведения. М., 1964. С. 291—292.
38 Тихвинский С.Л. Вступительная статья//Сунь Ятсен. Избранные произведения.
М., 1964. С. 15.
39 Цит по: Меликсетов А.В. Бюрократический капитал в Китае. М., 1972. С. 77.
40 Экономика Китая в период антияпонской войны 1936-1945. Сянган, 1968.
Т. 1. Цит. по: Меликсетов А.В. Указ. соч. С. 78.
41 Цит. по: Сухарчук ГД. Социально-экономические взгляды Чан Кайши // Китай:
поиски путей социального развития. М., 1979. С. 232.
42 Цит. по: Меликсетов А.В. Социально-экономическая политика Гоминьдана.
1927-1949 гг. М., 1977. С. 176.
43 Мао Цзэдун. Избранные произведения. Харбин, 1948. С. 333 (на кит. яз.).
44 Е Юйминь. Чжунго чэншихуа даолу (Китайский путь урбанизации). Пекин,
2001. С. 180-181.
45 Ху Чжаолян. Чжунго цюйюй фачжань даолунь (Пособие по региональному раз¬
витию Китая). Пекин, 2000. С. 40.
46 Ли Пэн. Цзюу шэхуэй цзинцзи фачжань юй эрлинилин юйцэ ганлин ды баогао
(Доклад о девятом пятилетнем плане социально-экономического развития и перспективной программе на 2010 г.). Пекин, 1996. С. 99-101.
47 Ху Чжаолян. Указ. соч. С. 202.
48 Данные по критериям отнесения того или иного населенного пункта к катего¬
рии городов см.: Кондрашова Л., Островский А. Урбанизация в Китае // Проблемы Дальнего Востока, 2000. № 2. С. 84—85.
49 Чжунго тунцзи няньцзянь—1997 (Статистический ежегодник - 1997). Пе¬
кин, 1997. С. 85-86.
50 Дандай Чжунгоды чэнши цзяньшэ (Городское строительство в современном
Китае). Пекин, 1990. С. 16.
51 ЕЮйминь. Указ. соч. С. 145.
52 Ду Цимин. Синьчжэнцюй юй чэнши ды гуаньси (О связи административных
районов и городов) //Дили яньцзю юй кайфа. 1998. Т. 17. № 1. С. 6.
Глава 3
КИТАИ: ОТ РЕВОЛЮЦИИ ДО РЕФОРМЫ (1949-1978 гг.)
3.1. Ход экономических преобразований до начала реформы
В канун победы революции 1949 г. Китай представлял собой аграрную страну, делавшую только первые шаги на пути капиталистического развития и сохранявшую все типичные признаки экономической отсталости, а именно:
■ неразвитая и неэластичная экономическая структура с преобладанием полунатурального сельского хозяйства растениеводческого направления, подверженного частым стихийным бедствиям;
■ крайне слабая промышленная база, низкая степень промышленной диверсификации, господство мелкого кустарного производства;
■ ограниченные возможности накопления, медленный и нестабильный экономический рост;
■ неразвитость и фрагментарность внутреннего рынка, резкие различия между приморскими и внутренними регионами, а также между городом и деревней;
■ общий избыток живого труда, колоссальная городская безработица и аграрное перенаселение;
■ чрезвычайно низкий материальный и культурный уровень населения, повальная неграмотность и нехватка квалифицированных кадров;
■ политическая и экономическая экспансия развитых капиталистических стран Запада и Японии. Зависимость от иностранного капитала, неравноправное положение страны на мировом рынке.
Годы японской интервенции и гражданской войны поставили народное хозяйство страны на грань катастрофы. Объем промышленного производства сократился наполовину по сравнению с наивысшим уровнем, достигнутым в прошлом. В промышленности было занято всего 3 млн. человек (0,8% населения страны). Производство зерна составило 113,2 млн. т, или было на 1/4 ниже уровня 1936 г. Баснословный рост цен сокращал и без того низкие доходы населения.
112
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
Первый послереволюционный этап связан с проведением политики «новой демократии» как особого начального этапа некапиталистического развития при участии национальной буржуазии. В экономически отсталых странах, при сохранении пережитков феодализма привлечение частного сектора, поставленного под контроль государства, может принести немалые экономические выгоды. Немедленная же и полная экспроприация национальной и мелкой буржуазии чревата материальными потерями и угрозой гражданской войны. Именно эта аргументация лежала в основе генеральной линии VII конгресса Коммунистического Интернационала, которая предполагала строительство социализма в слаборазвитых странах после довольно продолжительного переходного периода. Новые архивные материалы свидетельствуют о том, что в первые годы после образования КНР Сталин также придерживался позиции Коминтерна и настаивал на осуществлении Компартией Китая курса на новую демократию *.
Избранный путь не предусматривал немедленной полной ликвидации капиталистического уклада. Программа Народного политического консультативного совета, принятая в 1949 г. и выполнявшая на первых порах роль Конституции, провозгласила КНР «государством новой демократии» и объявила о создании «демократической диктатуры», которая является государственной властью единого фронта рабочего класса, крестьян, мелкой буржуазии и прочих патриотических демократических элементов, основанной на союзе рабочих и крестьян и руководимой рабочим классом. Программа содержала положения о немедленной конфискации собственности бюрократической буржуазии и одновременно о защите прав и частной собственности крестьянства и национальной буржуазии наравне с защитой прав трудового народа и укреплением основ государственной и кооперативной собственности2.
Формирование концепции «новой демократии» до 1949 г. происходило под патронатом Мао Цзэдуна, который, приняв коминтерновскую линию строительства социализма в экономически отсталых странах, подверг ее существенной корректировке. Это проявилось, во-первых, в особом акцентировании роли крестьянства и, во-вторых, в перенесении сроков перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую на отдаленное будущее. Мао Цзэдун начал разрабатывать отдельные положения концепции «новой демократии» еще в 1935—1938 гг., впервые употребив сам термин в докладе «Задачи Коммунистической партии Китая в период антияпонской войны»» (1937 г.)3. Наиболее развернутое изложение эта концепция получила в работе Мао Цзэдуна «О новой демократии» 1940 г., где он писал: «Сегодняшняя задача революции в Китае — борьба против империализма и против феодализма. Пока эта задача не выполнена, о социализме говорить не приходится. Китайская революция должна пройти две фазы: фазу новой демократии и только затем - фазу социализма. При этом первая фаза бу-
Глава 3. Китай: от революции до реформы (1949-1978гг.) 113 дет сравнительно долгой, в день-два ее не завершить. Мы не мечтатели и не можем отрываться от условий реальной действительности4.
Мао Цзэдун, ориентируясь во многом на идеи Сунь Ятсена, считал, что Китай после освобождения должен следовать путем «ограничения капитала» и уравнительного распределения земли. «Ограничение капитала» он трактовал как руководящую роль в экономике государственного сектора и установление государственного контроля над капиталистической частной собственностью. В политике землепользования Мао придерживался курса на экспроприацию помещичьих латифундий и распределение земли среди безземельных и малоземельных крестьян под лозунгом «каждому пахарю свое поле», что предполагало передачу земли в частную крестьянскую собственность. В 1945 г. в докладе на VII съезде КПК, озаглавленном «О коалиционном правительстве», Мао Цзэдун еще раз подтвердил и конкретизировал свою позицию в расчете на привлечение на сторону КПК большинства населения страны. И действительно, эта концепция оказалась в те годы весьма популярной и была с удовлетворением воспринята даже частью интеллектуалов, не поддерживавших КПК.
В числе активных пропагандистов этой концепции оказались такие видные деятели КПК, как Лю Шаоци, Чжоу Эньлай, Чэнь Юнь, Дэн Сяопин, Во Ибо. В июне 1939 г. в докладе «О курсе экономического строительства в новом Китае» Лю Шаоци перечислил пять основных укладов, которые должны сохраниться и развиваться: государственный уклад, кооперативный, государственно-капиталистический, частнокапиталистический, мелкотоварный и полунатуральный. «Кооперативный уклад сейчас занимает небольшое место, но имеет хорошие перспективы развития. Государственно-капиталистический уклад тоже невелик по размерам, но с хорошими возможностями дальнейшего становления. Государственный уклад после национализации бюрократического капитала и включения крупных объектов может приобрести определенные, хотя и не столь большие масштабы. Но при сохранении экономических рычагов в руках государства он займет главенствующее положение в экономике. Эту национальную экономику, состоящую из перечисленных пяти укладов и развивающуюся под руководством пролетариата и коммунистической партии, мы и называем “экономикой новой демократии”»5.
Он отмечал важность буржуазии как участника производственного процесса («защита буржуазии — это на самом деле защита производства») и предостерегал от левацких попыток «все отнять и все разделить». По его словам, этап «новой демократии» — это переходный этап, рассчитанный на довольно продолжительный период времени, в течение которого главной задачей будет оставаться развитие экономики. «Если только не разразится третья мировая война, задача экономического строительства останется неизменно самой важной. Не будет войны
114
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
20 или 30 лет, мы все то время будем заниматься экономическим строительством, осуществлять индустриализацию Китая».
Многие видные китайские экономисты, придерживавшиеся характеристики китайского общества как полуфеодального и полуколониального, также не считали своевременной задачу борьбы с капитализмом и призывали сосредоточить усилия на борьбе с империализмом и остатками феодализма. В числе этих ученых были Ван Сюэвэнь, Сунь Ефан, Сюэ Муцяо, Сюй Сюэхэн, Цянь Цзюньжуйб, которые впоследствии за эти взгляды получили клеймо «правых элементов».
В первые годы существования КНР были проведены важные общедемократические преобразования: старый административный аппарат заменен новым, ликвидировано господство иностранных монополий и национализировано их имущество, провозглашен таможенный суверенитет. Особенно большое значение имело проведение аграрной реформы, покончившей с феодально-помещичьим землевладением. Конфискованные иностранные предприятия и имущество, принадлежавшее гоминьдановскому правительству и представителям бюрократической олигархии, заложили основы государственного сектора. К концу 1952 г. число государственных промышленных предприятий выросло до 95007. Государственный сектор занял ключевые позиции в промышленности, банковской системе, денежном обращении, на транспорте и во внешней торговле. Вместе с тем получили развитие и другие экономические уклады. Структура промышленного производства по формам собственности выглядела в 1952 г. следующим образом: государственные предприятия — 41,5%, кооперативные — 3,3, смешанные государственночастные — 4,0, частнокапиталистические — 30,6, индивидуальное кустарное производство — 20,6%8.
Можно отметить следующие основные черты системы управления в первые годы существования КНР: 1) различия методов управления в отношении государственных и частных предприятий (прямые директивные методы управления государственными и экономические методы управления частными предприятиями); 2) постепенное формирование организационной структуры управления государственными объектами, отсутствие единого аппарата управления частными предприятиями;
3) подготовка условий для создания системы планирования; 4) преобладание предприятий местного подчинения.
Напряженная полувоенная обстановка и эмбриональное состояние централизованного аппарата управления повышали роль новых крупных административных образований, коими были военно-административные районы. При Государственном административном совете на первых порах было учреждено пять промышленных министерств (тяжелой промышленности, топливной, текстильной, пищевой и легкой), которые ведали предприятиями Северного Китая и небольшим числом объектов в других регионах. Во всех остальных крупных администра-
Глава 3. Китай: от революции до реформы (1949-1978гг.) 115 тивных районах хозяйственными вопросами занимались созданные при местных народных правительствах промышленные министерства. В конце 1952 г. децентрализованная система управления промышленностью была изменена, промышленные министерства в крупных административных районах (заменивших военно-административные районы) ликвидированы, и управление предприятиями центрального подчинения сосредоточилось в отраслевых министерствах Центрального народного правительства. Деление промышленности на две системы — центральную и местную - стало более определенным. Налаживание координации деятельности между различными районами возлагалось на Финансово-экономическую комиссию при Государственном административном совете. С 1954 г. после упразднения крупных административных районов стала все четче обозначаться тенденция к централизации хозяйственной жизни и внедрению вертикального принципа хозяйственного управления. В 1952—1955 гг. в центральном подчинении находились примерно 80% государственных предприятий. Они давали 2/3 средств производства и около 1/3 предметов потребления. Механизм связи центра с локальными производственными ячейками еще не был четко отработан.
До 1951 г. все государственные предприятия находились на полном государственном обеспечении сырьем, основными и оборотными фондами и отчисляли в казну всю полученную прибыль. В 1951 г. предприятия получили право оставлять у себя часть плановой (2,5-5%) и сверхплановой (12—20%) прибыли, стал формироваться премиальный фонд, который не должен был превышать 15% фонда заработной платы9.
В первые годы существования КНР первоочередными были задачи организации власти и поддержания общественного порядка, восстановления разрушенного войной хозяйства. Этому способствовало укрепление дружбы с Советским Союзом, который стал военным союзником, экономическим помощником, образцом социалистического строительства, нового стиля жизни и новой морали. Потребовалось всего три года, чтобы восстановить максимальный уровень дореволюционного производства.
Конец периода «восстановления» оказался завершающим и для политики «новой демократии». Сам Мао Цзэдун из глашатая режима «новой демократии» и якобы приверженца медленных и постепенных преобразований превратился буквально на глазах в сторонника форсированных социальных перестроек, борца с консерваторами, продолжающими отстаивать рациональность «новодемократических порядков», ярого противника буржуазии. Введение в 1952 г. новой налоговой системы, основанной на формальном равенстве государственных и частных предприятий, встретило резкое осуждение со стороны Мао Цзэдуна. Такие положения, как «закрепить новодемократический общественный порядок», «переходить к социализму через этап новой демокра-
116
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
тии», «всемерно охранять частную собственность», стали классифицироваться партийной пропагандой как «правый уклон».
О решении задач, поставленных новодемократической революцией, было официально объявлено уже в середине 1953 г., когда в основном закончилось проведение аграрной реформы, и сделано это было не без нажима Мао Цзэдуна. По-видимому, в этом проявилось общее желание покончить с экономической отсталостью, граничившее с нетерпением. На волне революционного энтузиазма побеждала идея социалистической индустриализации, что требовало создания экономики мобилизационного типа. Какую-то роль могла сыграть возникшая после смерти Сталина новая международная обстановка, стимулировавшая амбициозные планы китайского лидера. Можно предположить, что Мао Цзэдун, никогда не симпатизировавший частной собственности, использовал концепцию «новой демократии» в интересах своей политической игры, пытаясь расширить число своих сторонников, и успехи периода «восстановления» подвигли его на более решительные и бескомпромиссные действия. По мнению американского синолога Яна Прибы- лы, маоисты рассматривали переходный период, во время которого сохраняется частное землевладение и кулачество (этап «новой демократии») как короткую, не очень устраивавшую их прелюдию, которую следовало преодолеть как можно быстрее 10.
Так или иначе, но китайский нэп оказался столь же недолговременным, что и советский, а те деятели КПК, которые когда-то отдавали предпочтение этому пути развития, оказались на положении подозреваемых в оппортунизме, даже если они никогда не выступали открыто против официального курса. Позже, во время «культурной революции» хунвэйбины обвиняли Лю Шаоци в защите кулацких хозяйств, в поддержке частного предпринимательства в промышленности.
В конце 1953 г. была официально принята «генеральная линия переходного периода», наметившая поворот в сторону от политики классового союза с национальной буржуазией, взят курс на постепенное осуществление социалистической индустриализации и поэтапное проведение преобразований сельского хозяйства, кустарной промышленности и капиталистической промышленности и торговли. Понятия «классового врага», «сторонников капиталистического пути» ассоциировались теперь непосредственно с представителями национальной и мелкой буржуазии, деятельность которых подлежала постепенному ограничению вплоть до полного прекращения. Принятая 20 сентября 1954 г. на сессии ВСНП Конституция провозгласила задачу последовательного перехода страны к социализму при постепенном осуществлении социалистических преобразований и неуклонном наращивании экономического потенциала.
Сначала окончание переходного периода к социализму связывалось с одновременным выполнением двух задач - создание материаль-
Глава 3. Китай: от революции до реформы (1949-1978гг.) 117 но-технической базы социализма и ликвидация частной собственности, на выполнение которых отводился 15-летний срок. Таким образом, многоукладный характер экономики должен был сохраниться как минимум три пятилетних срока при дифференциации политики в отношении государственного, частно-капиталистического и государственнокапиталистического укладов. Но в скором времени две поставленные задачи были разведены в разные стороны, и критерий зрелости социалистических производственных отношений перенесен в плоскость формального юридического обобществления. Отвечая на вопрос, «что такое социализм?», Чжоу Эньлай на одном из заседаний Политического консультативного совета 9 сентября 1953 г сказал: «Основным признаком социализма можно считать осуществление социалистических преобразований, а именно уничтожение капиталистической частной собственности на средства производства, возвращение их в государственную собственность, коллективизация сельского хозяйства и кустарной промышленности»11.
По мере становления государственного сектора складывались предпосылки организации системы планирования. Первым государственным органом планирования стал плановый отдел Финансово-экономической комиссии. В конце 1952 г. было организовано Статистическое бюро и учреждена Государственная плановая комиссия, которая и занялась разработкой первого пятилетнего плана на 1953—1957 гг. Составление и уточнение плана продолжалось вплоть до середины 1955 г. Таким образом, осуществление плана происходило одновременно с его доработкой и правовым оформлением. Окончательное утверждение его показателей состоялось лишь в 1956 г. на VIII съезде КПК, когда основные установки плана были уже выполнены.
Съезд поставил задачу индустриализации Китая, раскрыв следующим образом ее содержание:
1) создание в основном в течение примерно трех пятилеток целостной промышленной системы, включающей все отрасли современного промышленного производства, с соблюдением определенных пропорций в соответствии с требованиями технологии и перспективами дальнейшего роста;
2) преимущественное развитие тяжелой промышленности при должном внимании к легкой промышленности с учетом имеющихся средств, сырья и рынка;
3) упор на строительство крупных предприятий и одновременно планомерное строительство и реконструкция средних и мелких предприятий;
4) поддержание высоких темпов промышленного роста при повышении качества выпускаемой продукции;
5) организация системы управления промышленным производством, сочетающей централизацию и децентрализацию производства;
118
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
6) развитие специализации и кооперации промышленного производства;
7) координация развития сельского хозяйства и промышленности и совершенствование структуры народного хозяйства в целом;
8) использование в основном внутренних источников капиталовложений и творческих сил народа при широком привлечении внешней помощи и расширении экономических, технических и культурных связей с другими странами п.
Приоритет промышленности и производства средств производства в годы первой пятилетки особенно наглядно демонстрируют данные о распределении капиталовложений. За пятилетие (1953—1957) в промышленное строительство была направлена почти половина всех капиталовложений в народное хозяйство, львиную долю которых (85%) получила тяжелая промышленность. При широкой поддержке Советского Союза и других социалистических стран в Китае были построены сотни новых промышленных предприятий, созданы целые отрасли промышленности, такие, как металлургическая, энергетическая, автомобильная, авиационная, станкостроительная и др. Объем промышленного производства за пятилетие более чем удвоился.
Провозглашенная в 1953 г. «генеральная линия переходного периода», ориентировавшая на постепенное проведение социальных преобразований по мере наращивания общего экономического потенциала и технического перевооружения всех отраслей народного хозяйства, в свою очередь, оказалась недолговечной. Трехлетние дискуссии и столкновения между радикалами и консерваторами завершились победой представителей крайне левых взглядов. В течение всего двух лет (1955— 1956 гг.) все частные капиталистические предприятия были реорганизованы в государственно-частные, индивидуальные кустари и торговцы объединены в кооперативы. Коллективизация сельского хозяйства также осуществлена в те же сжатые сроки, «обогнав» осуществление социалистической индустриализации и создание базы для механизации и электрификации сельского хозяйства.
После ряда организационных преобразований общее число промышленных объектов государственной собственности выросло к 1957 г. до 49,6 тыс. Коллективных предприятий насчитывалось 119,9 тыс., смешанных государственно-частных - 50—60 тыс.13 Структура промышленности по формам собственности в 1957 г. выглядела следующим образом: на государственные предприятия приходилось 53,8% валовой промышленной продукции, кооперативные — 19,0, смешанные государственно-частные — 26,3, частные — 0,1, на индивидуальные (кустарные) — 0,8% 14.
Преобразования в промышленности, торговле и сельском хозяйстве вылились в ликвидацию частной собственности не только крупной, но и мелкой буржуазии, мелких ремесленников и крестьянства, что дало
Глава 3. Китай: от революции до реформы (1949-1978гг.) 119 основание Лю Шаоци заявить на VIII съезде КПК в 1956 г. о полной победе социализма. VIII съезд КПК констатировал окончание переходного периода, отметив, что в стране вопрос «кто—кого» решен в пользу социализма, «в основном разрешено противоречие между пролетариатом и буржуазией, положен конец системе классовой эксплуатации, существовавшей в течение нескольких тысячелетий, создан социалистический общественный строй»15. Эта оценка аналогична той, какую дал Сталин положению в Советском Союзе в 1936 г., провозгласив создание социалистического строя в СССР. Такое кампанейское утверждение общественной собственности на средства производства в условиях низкого уровня развития производительных сил, немногочисленности и недостаточной политической зрелости рабочего класса создало колоссальный разрыв между реальным и формальным обобществлением, что открыло дорогу распространению разного рода утопических и авантюрных проектов.
В период первой пятилетки в Китае начали закладываться основы социалистической системы хозяйствования, базирующейся на двух формах общественной собственности. Методы хозяйственного управления были в основном заимствованы из опыта Советского Союза. Была проведена серия мероприятий по организации системы планирования, оформлению аппарата министерств и хозяйственных органов на местах, внедрению организационных принципов управления социалистической экономикой — демократического централизма, системы хозрасчета и единоначалия. Китайским вариантом принципа демократического централизма в экономике стал лозунг — «единое планирование, ступенчатое управление», сменивший прежнюю установку на «единое планирование, централизованное руководство». Под «единым планированием» понималась выработка общей экономической политики, составление общегосударственных производственного и финансового планов и контроль за их выполнением. «Ступенчатое управление» строилось на сочетании отраслевых и территориальных методов управления с определенным разделением функций между центральными ведомствами и административно-хозяйственными органами разных уровней. Предусматривались два типа директивных показателей (устанавливаемых центральными и местными органами управления) и индикативные показатели, которые контролировались государством косвенным путем через систему цен, регулирование между снабжением и сбытом и другими методами.
В 1950-е годы в масштабах всей страны была проведена инвентаризация наличных ресурсов, осуществлены важные мероприятия по комплектации центральных органов и органов управления на местах, начальному освоению организационных принципов управления социалистическим производством. За каждым предприятием закреплен определенный объем основных фондов, установлены нормативы пользования
120
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
оборотными средствами, разработан инструментарий единой по всей стране системы бухгалтерской отчетности, внедрены методы калькуляции себестоимости, исчисления прибыли и нормы амортизации. Ограниченная самостоятельность предприятий выражалась в большом количестве директивных заданий. Каждое предприятие вело отчетность по 12 показателям, включая объем производства в натуре и по стоимости, себестоимость, производительность труда, прибыль, списочный состав рабочих и фонд заработной платы, располагало 30% сверхплановой прибыли (к концу первой пятилетки эта доля была увеличена до 40%) и директорским фондом (отчисления от прибыли в пропорции к фонду заработной платы при условии выполнения государственного плана). Остальная часть прибыли, амортизационный фонд, излишки оборотных средств должны были вноситься в государственный бюджет. Средства для расширения производства (капитальные вложения и пополнение оборотных фондов) финансировались из государственного бюджета. Такая упрощенная форма хозрасчета была обусловлена недостаточно высоким уровнем планирования и слабостью руководства финансовой деятельностью.
В процессе адаптации экономических методов управления к условиям Китая выявилось немало сложностей объективного и субъективного порядка, связанных с чрезвычайно низким уровнем развития производительных сил, товарным дефицитом, существованием безработицы и аграрного перенаселения, низкой степенью товарности хозяйства, обилием мелких предприятий, нехваткой квалифицированных специалистов и управляющих. Система статистической отчетности только-только начинала налаживаться, принципы ценообразования не были как следует прописаны и широко апробированы, в условиях неудовлетворенного спроса роль предприятия определялась не столько степенью его рентабельности, сколько общественной необходимостью в его продукции, потребности централизации накоплений сужали возможности поощрения успешно действующих хозяйственных организаций. Мелкие хозяйства вообще не могли обеспечить действенного хозяйственного расчета и создать необходимые фонды для развития производства и материального стимулирования работников. Для выработки экономической политики, адекватной наличному уровню развития производительных сил, для постепенной модернизации хозяйственного механизма и более широкого распространения экономических методов руководства требовались время, научные поиски и терпение. Включение в государственный сектор нескольких десятков тысяч прежде частных объектов поставило сложную задачу их внутренней реорганизации, встраивания в общегосударственную систему планирования, взаимодействия с центральными и местными органами.
Будущее страны отнюдь не выглядело ясным и определенным. Шла жесткая борьба между двумя политическими силами, которые суще-
Глава 3. Китай: от революции до реформы (1949-1978гг.) 121 ственно расходились по вопросам социально-экономического развития страны и социалистического строительства. С точки зрения темпов развития можно говорить о столкновении двух моделей — «эволюционной» и «скачкообразной», с точки зрения характера хозяйственного механизма их можно обозначить как «планово-рыночная» и «антиры- ночная».
Первая модель предполагала децентрализацию управления на базе развитой системы разделения труда. Общий сценарий намечаемой реформы был примерно таким. Все «ключевые предприятия» (прежде всего тяжелой промышленности) сохраняются в ведении центральных министерств, которые несут ответственность за весь комплекс вопросов снабжения и сбыта, доводят до непосредственных исполнителей производственные задания директивного характера. Основные средства производства, капитальные вложения в этом секторе экономики распределяются централизованно, и государство сохраняет полную монополию на внешнюю торговлю. В то же время все предприятия негосударственного значения передаются в подчинение местным органам власти, что сопровождается предоставлением местам больших хозяйственных и финансовых прав. Одновременно расширяется самостоятельность предприятий, осуществляется частичное кредитование оборотных средств и капитальных вложений, создаются производственные объединения, налаживаются специализация и кооперирование производства. Для повышения производительности труда привлекаются меры экономического стимулирования. Предпочтение отдается умеренно высоким темпам индустриального роста при большом внимании к сбалансированности производства и развитию легкой промышленности и сельского хозяйства. На формирование этих проектов преобразований определенное влияние оказывали новые веяния в социалистических странах, в частности, югославские эксперименты по созданию системы самоуправления на промышленных предприятиях.
Согласно альтернативной модели реформы, план действий предполагался иным. В управлении центра сохранялась в этом случае только небольшая часть самых важных объектов и самых важных сфер деятельности, например, железнодорожного транспорта, почты, телеграфа и т.п. Все остальные предприятия предполагалось передать в управление на места. Провинции должны были целиком отвечать за планирование и добиваться максимального самообеспечения всеми необходимыми видами сельскохозяйственной и промышленной продукции, обмениваясь с другими районами только излишками своего производства. Абсолютный приоритет отдавался территориальным принципам управления. Несельскохозяйственные и сельскохозяйственные организации, получив статут «народных коммун», должны были перерасти в комплексные производственно-социальные ячейки, нацеленные на перспективу слияния города и деревни, хозяйственную самодостаточность, мини-
122
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
мальное использование товарно-денежных отношений. Эти планы подкреплялись ускоренной индустриализацией с привлечением мелкого и «традиционного» типов производства и с упором на тяжелую промышленность (прежде всего металлургию). Общий ориентир — переход к единой общенародной форме собственности, отказ от материального стимулирования, равенство в потреблении и добровольность труда. Достижению поставленных целей призвана была служить теория «волнообразного развития» как узаконивание диспропорциональности и колебания темпов роста в целях «высвобождения» всех потенциальных возможностей развития общества и инициативы трудящихся.
Уже в конце 1950-х годов зародилась идея реформы как создания «хозяйственного механизма китайского типа», имеющего определенные отличия от советского прототипа. Первоначально реформу системы управления намеревались проводить по первому варианту на основе соединения плана и рынка. В докладе Мао Цзэдуна «О десяти важнейших взаимоотношениях (апрель 1956 г.) и в докладе Чжоу Эньлая на VIII съезде КПК шла речь о признании более широких административно-хозяйственных полномочий местных органов управления, не нарушающих работы механизма централизованного руководства, об укреплении роли единого государственного плана и об ужесточении финансовой дисциплины. В выступлении члена Политбюро ЦК КПК Чэнь Юня был сформулирован тезис «три главных и три вспомогательных»: главное - государственные и кооперативные предприятия, индивидуальное производство является их дополнением; главное — плановое хозяйство, его дополнение — производство вне рамок плана в соответствии с рыночной конъюнктурой; главное — государственный рынок, дополнение государственного рынка — свободный рынок, контролируемый государством1б.
14 ноября 1957 г. Государственный совет КНР принял постановление о реформе управления, которое должно было вступить в силу с 1 января 1958 г. (т.е. с момента начала действия второй пятилетки). Реформа предусматривала расширение прав мест (через передачу части предприятий в управление на места), увеличение местных бюджетов при одновременном повышении роли центра в принятии общегосударственных решений (в области планирования, стандартизации, ценообразования, крупного капитального строительства и т.п.). Одновременно предполагалось усилить хозяйственную самостоятельность предприятий при широком использовании хозрасчетных отношений и подключении экономических рычагов регулирования производства. Первоначально в новую пятилетку закладывались менее высокие, чем в предыдущие годы, темпы индустриализации при ориентации на подтягивание отстающих звеньев — легкой промышленности и сельского хозяйства.
Но в конце первой пятилетки внутриполитическая ситуация в стране сильно изменилась. Разоблачение культа личности Хрущевым, расцененное как ревизионистское перерождение СССР, усилило позиции
Глава 3. Китай: от революции до реформы (1949-1978гг.) 123 противников экономического «раскрепощения». Скрывавшиеся какое- то время от китайской общественности концептуальные разногласия по поводу дальнейшего развития страны вышли на линию открытого противостояния, приняв форму противоборства «преданных делу социализму» с «предателями социализма», которых окрестили «правыми элементами». На новой волне левого экстремизма возобладало мнение о возможности резкого ускорения темпов экономического роста и обобществления производства, превращения Китая в главный форпост социализма в мире. Состоявшаяся в мае 1958 г. 2-я сессия VIII съезда КПК поддержала выдвинутый Мао Цзэдуном в марте того же года курс «напрягая все силы, идти против течения, строить социализм по принципу “больше, быстрее, лучше, экономнее”» и провозгласила лозунг «большого скачка». Согласно прожектам «большого скачка», опиравшимся на идеи Мао Цзэдуна, Китай должен был в течение трех лет по уровню развития производительных сил догнать Англию, а за 10 лет перегнать США, осуществив при этом переход к единой общенародной собственности и унифицированной первичной хозяйственной организации — «народной коммуне». Целям достижения сверхвысокого промышленного роста были призваны служить следующие факторы:
■ резкое увеличение капиталовложений в промышленность;
■ массированное вовлечение в сферу промышленности дополнительной рабочей силы (выходцев из деревни);
■ широкое использование мелкого, «традиционного» производства (в том числе в металлургии);
■ увеличение продолжительности рабочего дня и усиление интенсивности труда при одновременном замораживании заработной платы;
■ стимулирование «технического новаторства масс» в промышленности и разного рода экспериментов по повышению урожайности сельскохозяйственных культур;
■ закупки комплектного оборудования из зарубежных стран.
Радикальным средством решения всех проблем призвана была стать установка «идти на двух ногах» - «одновременное развитие» промышленности и сельского хозяйства, мелкой и крупной промышленности, предприятий центрального и местного подчинения, традиционной и современной технологии, города и деревни.
На расширенном заседании Политбюро, состоявшемся в августе 1958 г. в курортном городе Бэйдайхэ, Мао Цзэдун изложил свои взгляды на «собственный путь» Китая. Согласно глобальной задаче превращения всей страны в одну большую военизированную коммуну, каждый регион и каждая отдельная производственная единица ориентировались на комплексное использование местного сырья и удовлетворение своих основных потребностей путем сбалансирования производства и потребления, что должно было обеспечить их «самодостаточность» и значительную хозяйственную самостоятельность.
124
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
После совещания в Бэйдайхэ в течение нескольких месяцев 740 тыс. прежних кооперативов были преобразованы в 26 тыс. «народных коммун». Земля, все средства производства кооперативов, а также приусадебные участки крестьян перешли в собственность коммун. Объявление коммуны низовой административной единицей рассматривалось как первый шаг к ликвидации различий между государственной и кооперативной собственностью в деревне, а в перспективе—ликвидации различий между городом и деревней. 6-й пленум ЦК КПК (Лушаньский), состоявшийся в ноябре-декабре 1958 г., внес некоторые коррективы в курс «большого скачка», отметив, в частности, преждевременность и ошибочность попыток полностью отказаться от товарного производства. Однако в решении пленума по-прежнему говорилось о «народной коммуне» как наиболее целесообразной форме перехода от социализма к коммунизму, а о введенной в коммунах системе бесплатного питания и уравнительного распределения как о «ростках коммунистического принципа “каждому по потребностям”»17. Член Политбюро ЦК КПК Кан Шэн в своем письменном обращении к участникам пленума заявил, что он не видит препятствий для переименования КНР в Китайскую коммуну.
Политика «большого скачка», обращаясь к тезису «передачи прав на места», придала ему расширенное толкование, по существу перечеркнувшее первоначальные замыслы. Задача децентрализации производства, вырванная из контекста углубления разделения труда, приобрела ярко выраженный антирыночный настрой. Под ударом оказались все основополагающие принципы разделения труда, в качестве альтернативы которым преподносились: новый вид «комплексных» производственных организаций, новый метод размещения производства с целью полного самообеспечения каждого региона, новый тип работника, совмещающего занятия сельскохозяйственным и промышленным, умственным и физическим трудом. Универсализация и автаркия производства, прямой продуктообмен должны были вытеснить товарные отношения. Идея самообеспечения распространялась и на взаимоотношения с внешним миром.
Произведенное «делегирование прав вниз» резко сузило масштабы системы центрального подчинения. В соответствии с дополнительно принятым 11 апреля 1958 г. постановлением ЦК КПК и Госсовета КНР в систему территориального подчинения переводились предприятия не только легкой, но и тяжелой промышленности. В итоге к концу 1958 г. под началом министерств осталось всего 12% подведомственных им прежде предприятий, доля которых в валовой продукции промышленности снизилась с 39,7 до 13,8% 18. Права центра в области планирования, контроля и распоряжения финансами оказались сильно урезанными. В ходе налоговой реформы местным бюджетам были переданы 7 видов налогов, а остальные стали делиться в определенной пропорции
Глава 3. Китай: от революции до реформы (1949-1978гг.) 125 между центром и местами. 20% прибыли предприятий центрального подчинения также стали поступать в местные бюджеты. В июле 1958 г. в сфере капитального строительства была введена система подряда, предполагавшая полную свободу регионов в отношении использования выделяемых им государственных инвестиций. Число фондируемых видов изделий сократилось на 75% - с 532 в 1957 г. до 132 в 1959 г. По существу на центральные планирующие органы возлагалась только увязка районных балансов, но в условиях развернувшейся погони за темпами, бесконечного пересмотра плановых показателей в сторону их повышения, дезорганизации органов управления и статистической отчетности ни о каком балансировании в общепринятом смысле этого слова не могло быть и речи. Центральные органы были бессильны проследить направления торговых потоков внутри провинций и между ними. Число директивных показателей, спускаемых предприятиям, сокращалось с 12 до 4, по сути дела предприятия получили право манипулировать плановыми заданиями, самостоятельно осуществлять внутренние кадровые перестановки и некоторые организационные преобразования19.
После ликвидации системы вертикального руководства капитальным строительством и введения системы «строительного подряда», а затем передачи летом 1958 г. строительным организациям права изменения первоначальных проектов и проектных смет центр утратил всякий контроль над капитальным строительством. За три года «скачка» общий объем капиталовложений достиг 100,74 млрд, ю., что на 71% превысило капитальные затраты за весь период первой пятилетки.
В обстановке экономического ажиотажа и хозяйственной неразберихи осуществленная широкая децентрализация управления вылилась в дезорганизацию материально-технического снабжения и большие материальные потери. Наладить процедуру контроля над прибылью предприятий через систему цен и налогов не удалось. Дополнительные средства, полученные за счет самовольного присвоения прибыли и несанкционированных кредитов, предприятия направляли на расширение производства. Неимоверно разбухшее капитальное строительство не могло быть обеспечено необходимыми строительными материалами и оборудованием, бремя новых заказов оказалось непосильным для существовавших проектных и строительных организаций. С каждым днем нарастали объем незавершенного строительства и материальные потери. Финансовые возможности Центра оказались также сильно урезанными. Удельный вес центрального бюджета в общегосударственных расходах снизился до 56%, а в доходах - даже до 23% 20.
Рост производства было призвано обеспечить в первую очередь массовое вовлечение в промышленность новых рабочих и служащих. За один 1958 г. число рабочих и служащих увеличилось вдвое (с 24,51 до 45,32 млн. человек), а в 1959 г. уже достигло 59,69 млн. человек. Из деревни в город было перемещено почти 30 млн. человек21.
126
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
Пагубные последствия имела политика «коммунизации» китайской деревни, которая подорвала заинтересованность крестьян в результатах своего труда, привела к разбазариванию ресурсов и рабочего времени, истощению земли. Положение усугубили серьезные стихийные бедствия. Сбор зерна в 1959 г. оказался на 30 млн. т меньше, чем в предыдущем году, а в 1960 г. упал до 143,5 млн. т, не достигнув даже уровня 1951 г. Массовый голод унес жизни многих миллионов людей. Прямые людские потери из-за недоедания и спровоцированных им болезней оцениваются в пределах 15—30 млн. человек22. С учетом уменьшения числа рождений «недобор» населения в 1957—1964 гг., обнаружившийся в результате переписи 1964 г., составил 54 млн. человек23.
В результате Китай оказался в тисках глубокого продовольственного и экономического кризиса, промышленное производство сократилось почти наполовину, система планирования и управления полностью дезорганизована, а первоначальная идея хозяйственной реформы полностью скомпрометирована. Возникшая в связи со «скачком» угроза полной хозяйственной анархии, возросшая убыточность предприятий и оскудение государственного бюджета, падение жизненного уровня населения — все это вынудило отказаться от хозяйственных «экспериментов» и вернуться к строго централизованным методам управления. Уже во второй половине 1959 г. начался постепенный возврат переданных в управление на места предприятий под начало министерств. В 1960 г. Госсовет КНР принял специальное решение о восстановлении центрального руководства в области финансов, налогообложения, распределения ключевых видов продукции, ценообразования на продукцию общегосударственного значения, подготовки и распределения выпускников высших учебных заведений. В 1961 г. было прекращено свободное кредитование оборотных фондов, а в 1962 г. отказались отделения прибыли между предприятием и вышестоящей инстанцией.
9-й пленум ЦК КПК (январь 1961 г.) наметил ряд мероприятий по ликвидации последствий «большого скачка» и провозгласил «курс на урегулирование, укрепление, пополнение и повышение». Экономическая стратегия периода «урегулирования» (1961 — 1965 гг.) предусматривала не столь быстрое, но более равномерное и сбалансированное развитие, налаживание системы планирования, повышение эффективности производства. Главные моменты хозяйственной политики были отражены в проекте положения по промышленности от 8 сентября 1961 г., одним из авторов которого считается Дэн Сяопин (так называемые «70 пунктов по промышленности»). Содержавшиеся в этой программе принципы организации труда и управления промышленностью в основном аналогичны тем, что существовали в годы первой пятилетки. На предприятиях подлежала восстановлению система единоначалия и персональной ответственности, предусматривались упорядочение системы хозрасчета, усиление контроля над качеством продукции и ее ас-
Глава 3. Китай: от революции до реформы (1949-1978гг.) 127 сортиментом. Расширялись права директоров предприятий и одновременно повышалось значение выборных собраний представителей рабочих и служащих, которым передавались частично контрольные функции. Антикризисный проект включал положения о восстановлении деятельности кустарных кооперативов и закрытии нерентабельных мелких предприятий. В целях улучшения условий труда подтверждались права работников на 8-часовой рабочий день и однодневный отдых в неделю, ограничивалось принудительное перемещение рабочей силы. Предприятия общегосударственного и провинциального значения, которые в ходе реформы 1958 г. были переданы в местное управление (округов, уездов и городов) стали возвращаться в ведение министерств и крупных административных единиц. В 1963 г. под прямым контролем Центра оказалось уже около 60% промышленного, 70% сельскохозяйственного производства и 70% розничного товарооборота24.
Такого рода «реставрация» стиля первой пятилетки устраивала далеко не всех, хотя по совершенно разным мотивам. Возврат к хозяйственной централизации уже не отвечал нуждам ни текущего момента, ни перспективным. Обилие мелких предприятий, повышение требований к эффективности производства требовало введения более гибких методов управления, расширения хозяйственной самостоятельности предприятий и регионов. Не могли не оказывать влияния и новые веяния в социалистических странах, где в 60-е годы с большей настойчивостью заговорили о хозяйственных перестройках. На страницах китайских экономических изданий развернулась дискуссия по поводу показателей прибыли, цены производства при социализме, преимуществ и недостатков показателей валовой и чистой продукции, методов калькуляции себестоимости и формирования собственных фондов предприятий. В то же время экономическая атмосфера оставалась наэлектризованной прошедшей грозой «большого скачка», леворадикальные установки типа «политика — командная сила», «линия масс» и т. п. были у всех на слуху и имели своих приверженцев.
В 1964 г. вновь была предпринята попытка некоторого ослабления административного контроля и повышения местной инициативы. Миниреформа 1964 г. предусматривала меры по расширению прав мест в капитальном строительстве и в 19 других неиндустриальных видах деятельности (3-я сфера производства — транспорт, ирригация, торговля и т.п.), а также в части распоряжения прибылью предприятий местной промышленности и снабжения их необходимым сырьем и материалами. Проведенные в том же году мероприятия в области цен подготовили почву для очередных хозяйственных маневров. В экспериментальном порядке началось создание производственных объединений типа трестов (гунсы) как промежуточных звеньев между министерствами и предприятиями, которые наделялись правами самостоятельных хозрасчетных организаций, оказывающих услуги в области планирования, снабжения и сбыта.
128
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
Намерение всерьез заняться совершенствованием хозяйственного механизма прозвучало с новой силой на всекитайском совещании по промышленности и транспорту в начале 1965 г. В целях, как тогда говорилось, «осуществления революции во всех звеньях работы по экономическому управлению» предлагались такие мероприятия, как совершенствование структуры заводоуправлений, сокращение численности управленческого персонала, проведение реорганизации оплаты труда. В стиле первоначального варианта реформы 1957 г. намечалось расширение прав провинций в отношении предприятий местного значения при одновременном укреплении руководства крупными предприятиями и закреплении важных хозяйственных функций за центральным аппаратом управления.
Новые попытки налаживания специализации и кооперации производства, совершенствования системы планирования с использованием экономических рычагов вновь встретили сильную оппозицию. Уже на 10-м пленуме ЦК КПК 1964 г. прозвучали голоса против «опасного» привлечения рыночных сил в экономику, слишком большого внимания к материальным стимулам, что квалифицировалось как «капиталистический путь». После пленума стал широкого пропагандироваться выдвинутый Мао Цзэдуном лозунг «сельское хозяйство учится у Дач - жая, промышленность — у Дацина, весь народ учится у Народно-освободительной армии». Принципы организации широко рекламируемых «образцовых предприятий» перекликались с теми, что лежали в основе «большого скачка» — «опора на собственные силы», удовлетворение всех потребностей без обращения за помощью к государству, сочетание промышленной и сельскохозяйственной деятельности, привлечение кадровых работников к производительному труду, отказ от сдельной оплаты труда и премий.
Реформа 1964—1965 гг. повторила судьбу своей предшественницы и была похоронена новой маоистской кампанией под громким названием «великой пролетарской культурной революции», которая реанимировала порочные постулаты «казарменного коммунизма». Экономическая политика тех лет включала следующие основные направления:
■ создание «комплексных» органов («революционные комитеты»), на которые возлагались функции одновременно хозяйственного, административного, политического и военного контроля;
■ организация обособленных хозяйственных ячеек, построенных на началах самообеспечения себя продовольствием и основными средствами производства, в рамках которых создаются условия для ликвидации различий между промышленностью и сельским хозяйством, рабочими и крестьянами;
■ равномерное размещение производительных сил и создание автономных региональных хозяйственных систем, способных к самовыжи- ванию в условиях военного нападения;
Глава 3. Китай: от революции до реформы (1949-1978гг.) 129
■ замена экономических методов хозяйствования и материального стимулирования идеологической пропагандой аскетизма и трудового энтузиазма;
■ военизация всей общественной жизни.
Сразу же после провозглашения победы «культурной революции» была предпринята еще одна попытка подстегнуть темпы экономического роста и навязать стране неосуществимые идеалы коммунизма. В хозяйственной практике проявилось резко негативное отношение к экономическим методам управления, учитывающим действие закона стоимости. К «ревизионистским» установкам, рассчитанным на осуществление диктатуры буржуазии», помимо материального стимулирования, были причислены рентабельность производства, руководящая роль на производстве технических специалистов, ведение системы единоначалия на предприятиях. Так, директору Института экономики АН Китая Сунь Ефану было «поставлено на вид» его требование наиболее полного учета объективных экономических закономерностей, изучение потребительского спроса, акцент на прибыль как концентрированное выражение результатов экономической деятельности. Широко пропагандировавшийся тезис об «особом пути» индустриализации Китая исключал всякую возможность привлечения иностранных капиталовложений, изучения зарубежного опыта управления, существования индивидуального сектора.
За рекламируемым лозунгом «опоры на собственные силы», понимаемой как создание самообеспечивающихся агропромышленных ячеек, стояло намерение затормозить развитие разделения труда, внедрить районную автаркию, обеспечить равномерное размещение производительных сил. По существу, речь шла о ликвидации товарно-денежных отношений и создании новых, «неденежных» форм хозяйственных связей.
«Стремление найти “особый путь "общественногоразвития “в обход "не только капитализма, но и социализма, вело к насаждению режима, который должен был обеспечить создание некоего идеального государства по образцу древнекитайских утопий. «Проектировщики» нового типа государства хотели, не меняя фундамента полутрадиционного-полусовременного производства, сохранить каркас общественной собственности и подвести его под крышу военно-бюрократической диктатуры, сцементировав это непрочное социальное построение слепой верой в вождя, беспрекословной дисциплиной и военной муштрой.
В условиях фактической раздробленности производства система общественной собственности стала представлять собой иерархическую структуру, составленную из относительно обособленных хозяйственных ячеек, различавшихся по степени технической оснащенности и государственной значимости, ограниченных при этом в своей самостоятельности и лишенных права выбора хозяйственных партнеров. Первичные производственные ячейки, в которые внедрялись принципы соединения промышленности и сельского хозяйства, города и деревни по образцу Дачжая и Дацина, при экономической отсталости страны представляли собой шаг не вперед, а назад —
130
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
к традиционным общинам и феодальным полисам. Возникла реальная угроза социальной деградации».
Л. И. Молодцова. Особенности формирования промышленной системы КНР(1949— 1985гг.). М., 1988. С. 60.
Сходство двух «скачков», разделенных интервалом в 12 лет, обнаруживает также политика децентрализации хозяйственной деятельности. В марте 1970 г. было принято решение Госсовета КНР о передаче предприятий центрального подчинения в управление на места. Из 3082 предприятий, находившихся в прямом подчинении 9 промышленных и транспортных министерств, к концу сентября того же года в местное управление было передано 2237 объектов (73%)25. Доля предприятий прямого подчинения в валовой продукции промышленности снизилась с 46,9% в 1965 г. до 8% в 1970 г.26
Перенесение акцента с ведомственной системы подчинения на территориальную сопровождалось значительным расширением полномочий местных властей в области финансов и капиталовложений. В итоге доля прямых централизованных доходов государства понизилась с 30% в 1970 г. до 13,8% в 1972 г.27 Центральные органы сохранили контроль только над 40% капитальных вложений.
Всю первую половину 70-х годов деятели прагматического толка старались предотвратить хаос в экономике и восстановить общегосударственную систему планирования и управления. В 1972 г. была проведена серия совещаний, в том числе по восстановлению хозрасчета на предприятиях. Распространенный среди кадровых работников документ «10 пунктов по промышленности» акцентировал внимание на мерах по усилению экономического руководства. В 1975 г. хозяйственники были ознакомлены с другим установочным документом — «20 пунктов по промышленности» («Несколько вопросов ускорения промышленного развития»), которому левая пропаганда приписала попытку «восстановления диктатуры ведомств», «копирования методов экономических реформ советских ревизионистов». Существенного влияния на методы управления этот документ, который официальная китайская пропаганда заклеймила как «ядовитую траву», не оказал. Управление промышленностью оставалось сильно децентрализованным. Производственные связи между предприятиями налаживались с большим трудом. При отсутствии устойчивой кооперации планы поставок и реализации продукции часто не выполнялись, поэтому многие хозяйственники отдавали предпочтение универсализации перед специализацией. Продолжалось обособление друг от друга систем центрального и местного подчинения, что препятствовало процессу расширенного воспроизводства в общегосударственном масштабе. Мелкосерий- ность производства, его дублирование, накопление излишних складских запасов стали повсеместным явлением. Система планирования оставалась в рудиментарном состоянии.
Глава 3. Китай: от революции до реформы (1949~1978гг.) 131
3.2. Общая характеристика дореформенной хозяйственной системы
Сложившаяся к концу 1970-х годов хозяйственная система в КНР отличалась слабым развитием товарно-денежных отношений, господством государственной формы собственности, директивным характером управления, иерархическим соподчинением субъектов хозяйственной деятельности. Эта система в китайской экономической литературе получила определение «традиционной модели» централизованной плановой экономики. Ее основные черты:
1. Низовые хозяйственные звенья были лишены хозяйственной самостоятельности и выступали как исполнители директивных указаний сверху.
2. Управление строилось по ступенчатому принципу в соответствии с административным делением и отраслевой хозяйственной структурой, каждая ступень хозяйственного механизма во многом дублировала функции вышестоящих органов соответственно на более узком хозяйственном пространстве. Между структурными компонентами системы существовали отношения прямого подчинения нижестоящих органов вышестоящим (так называемая «интегрированная система»).
3. Государственные органы управления совмещали в себе функции административно-политического и хозяйственного управления.
4. Производственные организации находились частично в центральном, преимущественно в местном подчинении, на некоторые из них распространялась система «двойного подчинения». Формирование бюджетов (центрального и местных) производилось также в соответствии с принципом хозяйственного подчинения (доходы предприятий центрального подчинения перечислялись в центральный бюджет, местного подчинения - в местный).
5. В принятии решений участвовали административные, хозяйственные и партийные руководящие инстанции при решающем слове партийных организаций.
За 30 лет, прошедших с момента образования КНР, страна пережила четыре волны политики «обобществления производства» — национализация собственности компрадорской и частично национальной буржуазии после победы революции 1949 г., преобразование промышленности и торговли в 1956 г., сплошная «коммунизация» в годы «большого скачка» (1958—1960 гг.), рецидив «большого скачка» в период накала «культурной революции» (1966—1969 гг.).
В конечном счете, после нескольких «накатов» и «откатов» формального обобществления производства в Китае накануне реформы все разнообразие имущественных отношений укладывалось в три сектора в
132
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
Таблица 3
Эволюция экономических укладов в промышленности КНР
в 1952-1978 гг., %
Экономические
Доля в валовой продукции промышленности
Доля
в численности занятых
уклады
1952 г.
1957 г.
1978 г.
1952 г.
1957 г.
1978 г.
Государственный
41,5
53,6
77,6
63,5
76,5
78,3
Частный и смешанный государственно-частный
34,6
26,4
0
0
0
0
Индивидуальный
20,6
0,8
0,5
35,5
3,20
0,2
Коллективный
3,3
19,0
21,8
0,01
20,3
21,5
Источник: Чжунго тунцзи няньцзянь-1981. С. 107.
полном соответствии с марксистской «триадой» форм собственности при социализме — государственная (общенародная), коллективная и индивидуальная. Официальная пропаганда тех лет признавала социалистический характер только за двумя формами общественной собственности — государственной и коллективной. Третья форма собственности — индивидуальные хозяйства — рассматривалась как «пережиток капитализма», обреченная на постепенное отмирание. Частная собственность вообще «выносилась за скобки» нового общественного устройства как форма производственных отношений, основанная на эксплуатации, т.е. присвоении собственником средств производства неоплаченного труда непосредственных производителей.
Дореформенная структура системы собственности в несельскохозяйственной сфере показана в табл. 3.
Как свидетельствует опыт социалистических стран, директивнораспределительная система не отделима от государственного вмешательства и в собственнические отношения, и в управленческий процесс. Опорой экономики в этом случае становятся создаваемые на государственные средства и жестко привязанные к государственному бюджету предприятия, Народное хозяйство и спонтанно, и целенаправленно движется в сторону все большего формального обобществления при ведущей роли государственных предприятий и псевдоколлективных предприятий.
Андрей Аникин так описывает советскую хозяйственную систему: «Командно- административная экономика (ООН в своих материалах, начиная с 40-х годов вежливо называет ее центрально планируемой) имела корни в марксистско-ленинской теории; ведь и Ленин считал нэп только временным отступлением, хотя и не предвидел, что его начнут свертывать уже через 5—6 дет. Экономическая политика,
Глава 3. Китай: от революции до реформы (1949-1978гг.) 133
которую навязал стране и партии Сталин, не могла опираться ни на какую другую систему, кроме командно-административной.
Финансы не играли в планировании почти никакой роли. Грубо говоря, утверждалась директива, согласно которой к концу пятилетки страна должна производить столько-то стали, угля, нефти, автомобилей, тракторов и т.д.; эти цифры разбрасывались по годам. Госплан определял, какие предприятия должны быть для этого построены и в какие сроки, сколько и каких стройматериалов, оборудования и рабочей силы им потребуется. Объем всех межотраслевых потоков товаров устанавливался в натуре; каждое предприятие и каждая отрасль должны были поставлять туда-то в такие-то сроки свою продукцию. Товары имели свои установленные Госпланом цены, и предприятия производили через Госбанк платежи своим поставщикам. Предприятия должны были покрывать выручкой свои издержки; это называлось хозрасчетом. Но расчета тут было мало. Поскольку предприятия не могли менять цены, поставщиков и покупателей.
Вообще все ценностные, денежные показатели были второстепенными по сравнению с выполнением плана в тоннах, метрах, единицах машин и т.п. Для выполнения первоочередных задач, особенно в тяжелой и оборонной промышленности, деньги всегда находились в виде бюджетных дотаций или кредитов Госбанка.
Непомерно завышенные планы хронически не выполнялись, сроки срывались. Чтобы любой ценой выполнить планы, предприятия гнали в производство сырье и промежуточные продукты, не считаясь с их ценностью, с затратами. Для всех главная проблема состояла не в том, чтобы иметь деньги и на эти деньги что-то купить или заказать, а в том, чтобы получить и “выбрать ”фонды. Это была экономика дефицита науровне предприятий.
На уровне населения дело обстояло не лучше. Каждый пятилетний план закладывал стабильные цены и превышение роста производительности труда над денежной заработной платой. Ничего подобного не было в действительности. Ради выполнения плана предприятия набирали больше рабочих, чем диктовалось требованиями эффективности, и завышали заработки. Фонды заработной платы хронически перерасходовались. Эти доходы обрушивались на убогие ресурсы потребительских товаров, которые могло всеми правдами и неправдами мобилизовать государство. Хронический дефицит потребительских товаров стал необходимой чертой экономики.
Планирование и нерыночное распределение ресурсов порождало бездну бюрократизма, путаницы, потерь. И над всем этим постоянно царило насилие. Насильно забирали продукты у крестьян и сгоняли их в колхозы, насильно отбирали землю под строительство и с применением разных форм и степеней насилия мобилизовали на стройки рабочих».
Аникин Андрей. История финансовых потрясений. М., 2000. С. 218—219.
Китайская дореформенная конструкция напоминает советскую хозяйственную систему, хотя отнюдь ее не повторяет. Ориентация на опыт Советского Союза объясняется как общей социалистической программой, так и опытом социалистической индустриализации, позволившей СССР существовать в условиях экономической блокады и выдержать многолетнюю войну. К тому же СССР готов был предоставить Китаю материальную и техническую помощь в пределах своих возможностей. В целом китайскую дореформенную систему можно рассматривать
134
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
как сочетание продуктообменного хозяйства с элементами планирования и унаследованными от прошлого остатками натурального хозяйства. Марксистские тезисы о бестоварном коммунистическом хозяйстве и равенстве в потреблении фактически привлекались в виде «дымовой завесы» сознательно культивируемого внеэкономического принуждения и грубой уравниловки.
Сами китайские исследователи объясняют происхождение планово-хозяйственной системы у себя в стране комплексом причин, среди которых: живучесть феодальных традиций и наследие натурального производства, догматическое толкование «продуктообменного коммунистического общества» и приверженность «славному революционному прошлому» с его идеями «опоры на собственные силы» и равенства в потреблении, копирование опыта Советского Союза, к тому же недостаточно хорошо изученного, приверженность политике «подготовки к войне» с ее ориентацией на дублирование производства.
Нелишне поставить вопрос о том, в какой мере к китайской экономической системе, сложившейся в конце 1970-х годов, подходят такие относящиеся к советской экономике определения, как «планово-распределительная», «административно-командная», высокоцентрализованная, «традиционно-социалистическая» хозяйственная система.
Назвать китайскую дореформенную систему «плановой» можно только с большой долей условности. Плановая система переживала процесс становления и испытала на себе разрушительное воздействие маоистских социальных экспериментов. Китайские пятилетки никогда не были глубоко проработанными и выполнялись со значительными отклонениями в ту и другую стороны, государственные планы носили ориентировочный характер и не обсуждались на общегосударственных форумах. Из четырех (до 1975 г.) китайских пятилетних планов разработанным и выполненным оказался только первый, но и то его составление шло параллельно с осуществлением, а досрочное выполнение можно рассматривать как значительное расхождение между прогнозами и реальностью вследствие недостаточной информированности и подготовленности плановиков. Второй пятилетний план был сорван «большим скачком», а третий — дезорганизован «культурной революцией». Четвертый пятилетний план тоже оказался в значительной степени декларативным.
Что касается территориального планирования, то хотя в период существования «ревкомов» при них имелись плановые комиссии, которые вырабатывали приблизительные планы развития данного региона, но поток «встречных обязательств», особенно в периоды «погони за высокими темпами» (сбор предложений от хозяйственных организаций и корректировка предварительного проекта), обычно нарушал все предварительные наметки. Недостаток статистических данных мешал правильному обоснованию плановых показателей, а их выполнение посто-
Глава 3. Китай: от революции до реформы (1949-1978гг.) 135 янно сталкивалось с отсутствием необходимого материального обеспечения. Вышеперечисленное дает все основания сделать заключение о «полуплановости» экономики Китая и наличии периодов по сути дела хозяйственной анархии м.
Китайская плановая система существовала больше «в потенции», чем в реальности, что отличало ее от советской системы и облегчило впоследствии задачу ее рыночного реформирования. Авторы фундаментальной работы «Реформа экономической системы в Китае» в свое время писали: «Что касается планирования сельского хозяйства, финансовой деятельности, денежного обращения, цен и т.п., то в этих областях плановая система строилась на базе опыта, накопленного во время финансово-экономической работы в освобожденных районах, т.е. это было наше собственное творчество... Что же касается промышленности, капитального строительства, материально-технического снабжения, заработной платы, то здесь мы в основном заимствовали методы Советского Союза 1950-х годов. В этой сфере влияние Советского Союза было очень сильным, но это тоже не было полным копированием»29.
Весьма проблематична характеристика китайской хозяйственной системы как «зацентрализованной». Мнения китайских экономистов относительно степени централизации дореформенной системы управления диаметрально расходятся. Одни из них констатируют ее чрезмерную централизацию, отмечая, что предприятия являлись, по сути, придатками административных органов управления, которые ущемляли их самостоятельность, что управление экономикой осуществлялось административными методами и по административным районам при слабости горизонтальных межрегиональных связей, что сверху спускалось слишком большое число директивных показателей, а централизация бюджетных доходов и расходов вела к уравниловке и иждивенчеству. Бывший одно время президентом Академии общественных наук Китая, видный экономист Ма Хун, отмечая существование «чрезмерной централизации», связывал ее с порочными представлениями о социализме как о натуральном и полунатуральном хозяйстве, где все хозяйственные решения должен принимать Центр30.
Другие ученые считали главной проблемой Китая не чрезмерную централизацию экономики, а недостаточную централизацию31. Чаще всего в этом случае они ссылались на то, что большинство предприятий оказалось в местном подчинении и было лишено необходимого государственного контроля, система макрорегулирования находилась в зачаточном состоянии, центральный хозяйственный аппарат не справлялся с потоком оперативных задач и сбором необходимой информации, контроль над выполнением планов, регулирование народнохозяйственных пропорций не был налажен, и попытки его установления зачастую квалифицировались как «зажим инициативы снизу». Места распоряжались непозволительно большой долей финансовых и материальных
136
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
средств без должного учета общегосударственных интересов, а распоряжения министерств блокировались явным или скрытым сопротивлением местных хозяйственников32. Широкое распространение получило дублирование производства и капитального строительства.
Это расхождение мнений отражает крайнюю противоречивость самой экономической ситуации, для которой было характерно сочетание жесткого администрирования и фактически слабого экономического контроля. В свое время наиболее ходовым было название хозяйственной системы в Китае как «сочетание единого планирования и ступенчатого управления», что схоже с определением, бытовавшим в годы первой пятилетки. Однако, пройдя сложные перипетии политических кампаний конца 1950-х и конца 1960-х годов, принцип «единое планирование и ступенчатое управление» утратил свое первоначальное содержание в виде разграничения компетенций органов государственного и местного управления и стал трактоваться в духе «двух активностей» (центра и мест) при принципиально ином подходе к характеру законодательной и исполнительной власти, политическому и хозяйственному управлению, самому соотношению экономики и политики. Система ступенчатого управления оказалась практически вытесненной моделью местного и «двойного подчинения» при неопределенности в разграничении прав и обязанностей между центральными ведомствами и местными органами власти. Особо важные предприятия находились в системе центрального (ведомственного) подчинения или в системе «двойного подчинения» при ведущей роли центральных хозяйственных ведомств, производственные и финансовые планы должны были составлять плановые службы различных отраслевых министерств, которые также определяли цены на их продукцию, утверждали списочный состав рабочих и фонд заработной платы. Получение сырья и реализация готовых изделий осуществлялись в основном в централизованном порядке. Прибыль изымалась в центральный бюджет либо целиком, либо с очень небольшой долей отчислений в местный бюджет и в фонды предприятий. Мероприятия по реконструкции и расширению производства проводились путем бюджетного финансирования.
Большая же часть крупных и средних предприятий была отнесена к системе «двойного подчинения» с местным управлением в качестве главного. Кураторами этих предприятий были местные органы власти, которые осуществляли оперативное руководство, отвечали за выполнение плановых заданий. Обеспечение рабочей силой, снабжение сырьем и сбыт готовой продукции осуществлялись разными способами в зависимости от степени их дефицитности. Прибыль предприятий отчислялась частично в центральный, частично в местный бюджет.
Предприятия «двойного подчинения» с местным управлением в качестве главного и предприятия провинциального подчинения образовывали верхний ярус общей конфигурации местной промышленное-
Глава 3. Китай: от революции до реформы (1949-1978гг.) 137
ти. На среднем ярусе находились предприятия, подчиненные округам, уездам и городам окружного подчинения. Нижний ярус представляли предприятия «народных коммун» и производственных бригад. Это были мелкие государственные предприятия, кустарные кооперативы и так называемые «кооперативные фабрики», занимавшие промежуточное положение между государственной и коллективной собственностью. Что касается предприятий «народных коммун», то они не включались в систему государственного планирования и предоставляли весьма примитивную статистическую отчетность. Регулирование снабжения и сбыта осуществлял уезд, который контролировал расход денежных средств. Эти объекты почти целиком функционировали по методу «опоры на собственные силы», создавались на средства самих крестьян и были предназначены в первую очередь для удовлетворения их нужд. Через цены, налоги и проценты на кредиты государство изымало часть доходов «народных коммун» от их несельскохозяйственных предприятий. Таким образом, директивное планирование проводилось в жизнь только в отношении предприятий государственного сектора, причем достаточно детальным оно было лишь в отношении объектов центрального подчинения, а для объектов местного подчинения — значительно более упрощенным и схематичным.
Для характеристики такого положения в современной экономической науке Китая используется термин «административная децентрализация». Его разработчиками явились видный китайский экономист У Цзинлянь33 и сотрудники Института экономики АОН Китая (Чжан Шугун, Ян Чжунвэй и др.)34. Сама идея выделения двух типов децентрализации в социалистических странах принадлежит Шурманну, выдвинувшему ее еще в 1966 г. «Децентрализацию-1» он рассматривал как передачу хозяйственных полномочий первичным хозяйственным организациям, а «децентрализацию-2» - как передачу прав от высших органов управления к местным органам власти35. Моррис Борнштейн в 1977 г. в своем выступлении в Конгрессе США по поводу реформ в социалистических странах использовал уже понятия «экономическая децентрализация» (аналог «децентрализации-1» Шурманна) и «административная децентрализация» («децентрализация-2»)37.
В 1987 г. сотрудниками Института экономики АОН Китая было выдвинуто предложение об общих принципах реформы системы финансов и макроуправления при разделении трех основных государственных функций (административно-политического управления, макроэкономического регулирования и выполнения роли собственника государственного имущества) и при переходе от административных форм централизации и децентрализации к экономическим формам. Исходя из разграничения прав и обязанностей между тремя уровнями хозяйственного управления (центральные власти, местные власти и предприятие), авторы выделили четыре «универсальных структуры», или моде-
138
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
ли управления: сочетание административной и экономической централизации; сочетание административной децентрализации и экономической централизации; сочетание административной централизации и экономической децентрализации; сочетание административной и экономической децентрализации.
При первой и второй модели государство выступает и как представитель политической власти, и как собственник. Как орган власти оно осуществляет административную функцию и взимает налоги, а как собственник государственного имущества оно получает прибыль. Налоги и прибыль вместе вливаются в государственные финансы и расходуются по единообразным правилам. Правительство, осуществляющее административное управление, занимается также и инвестициями. Что же касается третьей и четвертой моделей, то в этом случае двойственный статус государства и его двойственные функции разделены. Налоги и прибыль имеют разные кругообороты. Прибыль не поступает в общегосударственные финансы в качестве «дани» государству за то, что оно реализует предоставленную ему власть, а распределяется и обращается за пределами системы государственных финансов.
По мнению авторов, дореформенную систему управления в Китае можно отнести ко второй модели — «сочетание административной децентрализации и экономической централизации» Они характеризуют ее следующим образом: «Вторая модель представляет местным правительствам определенные реальные права, в том числе в области финансовой деятельности, наделяет их ответственностью и правомочиями для строительства и развития различных местных объектов. Однако пока в экономике по-прежнему осуществляется непосредственное управление, независимо оттого, сосредоточены ли права в руках центрального правительства или ими наделены местные правительства, предприятия не могут превратиться в самостоятельных товаропроизводителей и субъектов хозяйственной деятельности, обрести подлинную самостоятельность и жизнеспособность. Такой экономике, как и прежде, не хватает жизнедеятельности и эффективности, что находит подтверждение в современной практике»37.
В этой модели отделение налога от прибыли носило формальный характер. Наделе же эти финансовые отчисления не имели «раздельного движения» и вместе поступали в государственную казну, что было результатом неразграниченности прав и обязанностей органов власти и предприятий.
Один из главных недостатков дореформенной системы — игнорирование общественного разделения труда и рыночных отношений. Местные власти были нацелены на создание в своих регионах «относительно целостной хозяйственной системы», ставили на первый план интересы своего региона, зачастую игнорируя общественные интересы, оказывались в значительной степени предоставленными самим себе. В то же вре-
Глава 3. Китай: от революции до реформы (1949-1978гг.) 139 мл они не располагали полномочиями на установление хозяйственных связей с другими предприятиями и регионами, обладали ограниченными техническими возможностями, вынуждены были консультироваться с центральными ведомствами по ряду даже мелких вопросов и выступали по отношению к подведомственным им хозяйственным организациям с тех же позиций административного диктата, который испытывали на самих себе. В наиболее невыгодном положении в этом противостоянии центра и мест оказывались низовые хозяйственные организации, которые не имели ни необходимой самостоятельности, ни четких производственных ориентиров.
Современные китайские экономисты нередко называют дорефор- меннную экономическую политику «неудачной», возлагают на нее ответственность за недостаточно высокие темпы роста, низкую эффективность экономики и медленные сдвиги в жизненном уровне населения38. На самом деле, управление планового (или полупланового) типа в какой-то мере себя оправдало, позволив сконцентрировать скудные материальные и финансовые ресурсы и начать ускоренную индустриализацию.
Вся дореформенная экономическая стратегия, которую современные китайские экономисты предпочитают называть «стратегией догоняющего развития», была подстроена под задачу ликвидации отсталости, и цель не могла быть иной. Китай подгоняли вопиющая бедность широких слоев населения, чувство ущемленного национального достоинства, нависшая над всем миром опасность третьей мировой войны. Страна оказалась вовлеченной в войну на Корейском полуострове, вступила в чреватое военным столкновением противостояние с укрепившимся на Тайване чанкайшистским режимом. Курс на преимущественное развитие тяжелой промышленности был продиктован и экономической, и военной необходимостью. Ктому же руководители Компартии Китая полагали, что выбор легкой промышленности и производства товаров массового спроса в качестве приоритетных отраслей развития оказался бы связанным с проблемой узости рынка и недостаточного потребительского спроса, в связи с чем невозможно было бы получить необходимые для ускоренного экономического роста накопления капитала.
Курс преимущественного развития тяжелой промышленности, требующий мобилизации колоссальных внутренних накоплений, «перепрыгивания» через ряд этапов исторического развития, по существу не совместим с «нормальной» рыночной экономикой, регулируемой личными интересами и конкуренцией. Частный капитал в неконкурентоспособную тяжелую промышленность ни в коем случае не пошел бы. Значит, нужно было создать механизм централизации ресурсов и искусственным образом избежать убыточности тяжелой индустрии. Средством достижения поставленных целей мог быть только отказ от рыночных цен и их установление в директивном порядке, а именно: занижение цен на
140
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙПУТЬ
сельскохозяйственную продукцию и создание «ножниц цен» в пользу промышленности и в ущерб сельскому хозяйству; занижение цен на инвестиционные товары, на сырье и топливо для понижения себестоимости продукции в отраслях тяжелой индустрии; занижение «цены труда», иначе говоря, замораживание заработной платы; сдерживание роста цен на потребительские товары для обеспечения прожиточного минимума и платежеспособности населения. Эта деформация ценовой и денежной системы дополнялась понижением процентных ставок ради привлечения кредитов к финансированию капитального строительства, а также контролем над экспортными и импортными ценами при фиксированном валютном курсе.
Введение заниженного валютного обменного курса подавляло экспортную активность и стимулировало импортный спрос. Низкие цены на энергию и сырьевые товары препятствовали энерго- и ресурсосбережению. Введение низких процентных ставок привело, с одной стороны, к снижению заинтересованности в сбережениях, с другой - к повышению спроса предприятий на финансовые средства. В итоге нарастал товарный и финансовый дефицит, возникла скрытая инфляция, принявшая форму карточной системы и льготного распределения.
Сами же критики дореформенной системы вынуждены признать, что в период 1952-1978 гг. темпы экономического роста были сравнительно высокими39. Статистические данные показывают, что в этот период среднегодовые темпы совокупного общественного продукта, валовой продукции промышленности и сельского хозяйства и национального дохода составили соответственно 7,9, 8,2 и 6,0%. Эти показатели были не только выше среднемирового уровня, но и не намного уступали достижениям быстро развивающихся стран, таких, как Республика Корея и Тайвань. Благодаря высоким темпам экономического роста Китай почти за 30 лет из чисто аграрной страны превратился в аграрноиндустриальную державу с многоотраслевой промышленной системой. К середине 1970-х годов Китай уже обладал определенной базой тяжелой индустрии, мог самостоятельно проектировать и выпускать оборудование для металлургических заводов в расчете на 1,5 млн. т стали в год, угольных шахт мощностью угледобычи 2,2 млн. т, нефтеперегонных заводов, способных ежегодно перерабатывать 2,5 млн. т сырой нефти40. За период 1949—1978 гг. в национальном доходе удельный вес промышленности увеличился с 12,6 до 46,8%, а удельный вес машиностроения в промышленном производстве поднялся почти до 30%. Значительный рост был отмечен в автомобилестроении, транспортном и сельскохозяйственном машиностроении, даже в таких современных отраслях, обслуживающих военные нужды, как электроника и вычислительная техника.
Вопрос, который поставили авторы работы «Китайское чудо», а именно: почему реальный душевой ВВП в Китае рос медленно, и цель «догнать и перегнать Англию и Америку» не была достигнута41, мы
Глава 3. Китай: от революции до реформы (1949-1978гг.) 141 считаем некорректным. Такая цель не могла быть достигнута в силу огромной экономической отсталости Китая и низкого жизненного уровня его колоссального населения. Более того, саму постановку такой цели следует считать неправомочной.
Другое дело, что по мере экономического развития, разрастания числа хозяйственных единиц, появления все более сложных структурных и технических задач недостаточная маневренность принятия управленческих решений, свойственная плановой экономике, стала ощущаться все более болезненно. Дело не в недостаточном динамизме китайской экономики, а в лихорадившей экономику цикличности развития, что сопровождалось значительной деформацией экономической структуры. Виновны не плановая система и стратегия преимущественного роста тяжелой индустрии как таковые, а негибкость управленческого аппарата, задержка с проведением реформы, навязывание стране утопических и по сути варварских экспериментов. В итоге за достигнутый прогресс была заплачена слишком высокая цена в виде лишений населения и растрат ресурсов.
Примечания
1 MeliksetovA. V., PantsovA. V. Stalin, Мао and the New Democracy in China // Вестник
Московского университета. Серия 13. Востоковедение. № 2. С. 27—30.
2 Программа Народного политического консультативного совета Китая. М., 1950.
3 Мао Цзэдун. Задачи Коммунистической партии Китая в период антияпонской
войны// Мао Цзэдун. Избр. произв. в4-хт. М., 1953. Т. 3. С. 17—18.
4 Мао Цзэдун. О новой демократии // Мао Цзэдун. Избр. произв. в 4-хт. М., 1953.
Т. 3. С. 232-233.
5 Лю Шаоци. О курсе экономического строительства нового Китая //Лю Шаоци.
Избр. произв. Пекин, 1981. Т. 1. С. 426—427.
6 Чжэнлунь юй фачжань: Чжунго цзинцзи лилунь 50 нянь (Дискуссии и развитие:
50 лет китайской экономической мысли). Куньмин, 1999. С. 55.
7 Дандай Чжунго ды цзинцзи тичжи гайгэ ( Реформа экономической системы в
современном Китае). Пекин, 1985. С. 27.
8 Чжунго тунцзи няньцзян-1984. Пекин, 1984. С. 194.
9 Реформа экономической системы в современном Китае. С. 216.
10 Prybyla Jan S. The Political Economy of Communist China. Scranton, 1970. P. 41.
11 Чжоу Эньлай. Генеральная линия переходного периода // Чжоу Энълай. Избр.
произв. Пекин, 1984. Т. 2. С. 105.
12 Материалы VIII Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая. М.,
1956. С. 32-36, 132-133, 142.
13 Ванин В.И. Государственный капитализм в КНР. М., 1974. С. 233.
14 Чжунго тунцзи няньцзянь-1985. С. 308.
15 Материалы VIII Всекитайского съезда КПК... С. 471.
16 Там же. С. 400.
17 Материалы 6-го пленума Центрального комитета Коммунистической партии
Китая 8-го созыва. Пекин, 1959. С. 24—27.
142
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
” Реформа экономической системы в современном Китае. С. 70.
19УЦзинлянь. Дандай Чжунго цзинцзи гайгэ (Экономическая реформа в современном Китае). Шанхай, 2003. С. 47—48.
20 Цайчжэн. 1958. № 10. С. 1.
21 У Цзинлянь. Указ. соч. С. 49.
22 Там же. С. 50.
23 Молодцова Л.И. О численности населения КНР //Народы Азии и Африки. 1975.
№4. С. 84.
24 Дандай Чжунго ды цзинцзи гуаньли (Экономическое управление в современ¬
ном Китае). Пекин, 1985. С. 97.
25 Чжунго шэхуэйчжуи цзинцзи цзяныпи. 1949-1983 гг. ( Краткая история со¬
циалистической экономики Китая. 1949-1983). Харбин, 1985. С. 372.
26 Экономическое управление в современном Китае... С. 137.
27Тамже. С. 131.
“ Жэньминь жибао. 06.10.1978.
29 Реформа экономической системы в современном Китае. С. 216.
30 Цзинцзи яньцзю. 1981. N97. С. 12.
31 Жэньминь жибао. 25.10.1979.
32 Гуанмин жибао. 24.10. 1979.
33 УЦзинлянь. Гуаньюй гайгэ чжаньлюэ сюаньцзэ ды жогань вэньти (Некоторые
проблемы выбора стратегии реформы) // Цзинцзи яньцзю. 1987. N9 2. С. 8.
34 Цзяньчи шиду фэньцюань фансян чунсянь гоцзя гуаньли гэцзюй (Перестроить
государственное управление в соответствии с курсом на рациональную децентрализацию // Цзинцзи яньцзю. 1987. N9 6. С. 16-25.
35 Schumann Н. F. Ideology and Oiganization in Communist China. University of California
Press. 1966. Цит. по: УЦзинлянь. Экономическая реформа в современном Китае. С. 53.
36 Bomstein, Morris. Economic Reform in Eastern Europe // Eastern-European Economies
Post-Helsinki. Washington D.C. 1977. P. 102-134.
37 Отстаивать курс на умеренную децентрализацию, перекомпоновать структуру
управления государством: о проводившейся в последние годы реформе финансовой системы и макроуправления // КНР на путях реформ (пер. с кит.). М., 1989. С. 196 .
**Линь Ифу, Цай Фан, Ли Чжоу. Китайское чудо. Стратегия развития и экономическая реформа (пер. с кит.). М., 2001. С. 113.
39 Там же. С. 90.
40 Bejing Review. 1978. N9 5. Р. 13.
41 Линь Ифу и др. Указ. соч. С. 92.
Глава 4
СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ (1978-2004 гг.)
тратегия развития» — это наиболее употребительный термин для обозначения выбранного направления обществен¬
ной эволюции, долгосрочных целей и желаемых результатов. Происхождение этого слова: «стратос» - войско + «адо» — веду (грен.). В политологической литературе, рассчитанной на массового читателя, аналогом стратегии служит выражение «путь развития». В научных работах примерно то же содержание вкладывается в понятия «модель развития» и «парадигма».
Стратегия подразумевает аналйз ситуации и существующих вызовов, постановку цели и оценку ресурсов, выбор исполнителей и составление программы их действий. Стратегию социально-экономического развития можно рассматривать в двух аспектах: перечень общих целевых установок (целевая модель) и рекомендация способов их достижения (содержание перехода). По степени кардинальности намеченных перемен можно говорить о трансформации существующей системы (реформа как таковая) или же о замене существующей системы принципиальной иной (курс на системные преобразования).
Китайские реформаторы, и теоретики, и практики, постоянно уделяли большое внимание разработке стратегии развития. Этой тематике посвящено огромное количество работ монографического и журнального характера, каждый политический форум останавливается на тех или иных стратегических проблемах, давая свои оценки и рекомендации. Под социально-экономической стратегией в Китае в настоящее время понимается выбор перспективного направления развития, постановка конечных целей и изложение комплекса мер для их достижения1. «Это, - как говорят китайские ученые, — план и программа действий, определяющая общий вектор экономического развития в долгосрочной перспективе»2. Есть определенная перекличка между понятиями «экономическая стратегия» и «экономическая политика», но последняя теперь трактуется более узко как совокупность конкретных экономических мероприятий, рассчитанных на относительно короткий отрезок времени и подчиненных реализации общих стратегических уста¬
144
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
новок. В дореформенный период вместо понятия «стратегии» в применении к социально-экономическим концептам использовался термин «лусянъ» («линия»), выступавший в одной связке со всеми словесными атрибутами идеологии «классовой борьбы».
Стратагемность мышления как «проигрывание» существующих возможностей достижения поставленной цели в высшей степени свойственна менталитету представителей восточноазиатской цивилизации. Из глубокой древности до нас дошли китайские пословицы-стратагемы, подсказывающие нетривиальные выходы из разных сложных коллизий.
Академик В. С. Мясников в предисловии к переводу чрезвычайно интересной и поучительной книги о китайских стратагемахХарро Фон Зенгера пишет: «Умение составлять стратагемы свидетельствовало о способностях человека, наличие плана вселяло в исполнителей уверенность в успехе любого дела. Поэтому на всех уровнях в Китае привыкли с должным уважением относиться к стратегии и вырабатываемым стратегами планам. От важнейших политических проблем до игры в китайские облавные шашки «вэй-ци» — всюду шло состязание в составлении и реализации стратагем. Появился даже специальный термин — чжидоу, обозначающий такую состязательность (в переводе «состязание умов», или «мозговая атака». — Прим. авт.). Стратагемность стала чертой национального характера, особенностью национальной психологии. Но это не означает, что китайцы—это нация ловких интриганов, хитрецов и обманщиков. Нет. Это народ, в первую очередь умеющий стратегически мыслить, составлять долгосрочные планы как на государственном, так и на личностном уровне, умеющий просчитывать ситуацию на достаточное количество ходов вперед и употребляющий стратагемные ловушки для достижения успеха».
Харро Фон Зенгер. Стратагемы. О китайском искусстве жить и выживать. М.: Изд. группа «Прогресс». «Культура», 1988. С. 1.
Стратегия Китая в обыденном мышлении принимает образ «пути Китая», того сокровенного Дао, который несет в себе знак судьбы, требование личной ответственности за предпринимаемые действия.
4.1. Поиски стратегии экономического развития
Пальма первенства в перенесении чисто военного термина «стратегия» («чжаньлюэ») в современный китайский экономический лексикон принадлежит одному из корифеев китайской экономической мысли — Юй Гуанъюаню, который употребил его в своих работах уже в 1981 г. На начало 1980-х годов приходится также выдвижение тезиса о строительстве «социализма с китайской спецификой» как идеологического обрамления новой стратегии (автор — Дэн Сяопин) и лозунга «нового пути развития», в который его автор (Чжао Цзыян) вкладывал чисто экономическое содержание: выявление всех преимуществ социалистического строя, обеспечение стабильного и скоординированного
Глава 4. Стратегия экономического развития (1978-2004 гг.) 145 роста при относительно небольших капиталовложениях, не слишком высокой доле накоплений и сравнительно высокой эффективности производства при получении народом большей массы реальных благ3.
Первое десятилетие реформы ознаменовалось широким обсуждением проблемы выбора целей и путей их достижения при общем сохранении социалистической ориентации и социалистической риторики. Волна развернувшихся дискуссий по проблемам стратегии развития захватила почти все 80-е годы. Начиная с февраля 1981 г. в Пекине каждые два месяца устраивались специальные совещания по этой проблематике с привлечением видных ученых и политических деятелей. К марту 1989 г. состоялось 49 таких расширенных совещаний.
С самого начала обозначилось направление реформы как отказ от прежней «плановой системы» и неприятие печально известных социальных экспериментов «большого скачка» и «культурной революции». В основу новой стратегии закладывались следующие установки: широкое внедрение рыночных отношений и сама трактовка социализма как «планового товарного хозяйства», использование многообразных форм собственности и форм хозяйствования, отступление от автаркического развития. В качестве предварительных мер, призванных преодолеть кризисные явления и обеспечить экономический рост, намечалось ликвидировать чрезмерную централизацию и административный зажим, шире использовать возможности коллективных и индивидуальных мелких предприятий, привлечь методы материального стимулирования работников. Перенесенный из прошлого принцип «делегирования прав вниз» расшифровывался как расширение хозяйственной самостоятельности предприятий и регионов без кардинальных изменений в системе собственности.
В ходе научных и политических дебатов, только частично отражавшихся в официальной прессе, выделилась когорта «реформаторов-либералов», среди которых было немало приверженцев абсолютного господства рынка, «нормальных» частнособственнических отношений, широкого развития экономической и политической демократии с соответствующими изменениями в государственном и политическом устройстве страны. Усвоив азы западной экономической мысли и стремясь поскорее сбросить путы авторитарного режима, китайские неолибералы стояли за полный и решительный отказ не только от утопических прожектов маоистского прошлого, но и от какого-либо «усовершенствования» традиционного социализма, за снятие всех преград на пути скорейшей реализации полнокровной рыночной модели и режима политического плюрализма. Социальной базой таких устремлений являлся нарождавшийся слой мелких предпринимателей, оппозиционно настроенная часть научной и творческой интеллигенции, радикально мыслящее студенчество. Требования кардинальных перемен, направленных на приобщение Китая к «общецивилизационным ценностям» в условиях деградации мировой социалистической системы и критического
146
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
настроя по отношению к политике социалистической ориентации, нашли в то время определенную поддержку со стороны части рабочего класса и даже крестьянства.
«Ультрареформаторским» устремлениям с явными предпочтениями ценностей либерального капитализма американского типа противостоял другой экстрим — ярые приверженцы догматического социализма и «идей Мао Цзэдуна», воспитанные в обстановке борьбы против «реставрации капитализма». Отмежевываясь от авантюризма «большого скачка» и «культурной революции», китайские «новые левые» выступали за такую товаризацию народного хозяйства и демократизацию общественной жизни, которая не подрывала бы господство общественной собственности на средства производства, решающую политическую и экономическую роль государства, авторитет и влияние Коммунистической партии Китая. Поддержку этой линии среди китайской общественности обеспечивали сложившийся авторитет КПК, подкрепленный ее реформаторской инициативой, а также весьма популярные в народе этатистские представления вкупе с растущими опасениями дестабилизации экономической и политической жизни и обострения межнациональных конфликтов.
Между этими двумя крайностями находились «реформаторы- прагматики», пытавшиеся совместить рыночную конкуренцию с принципами социальной справедливости. Признавая необходимость рынка и неэффективность китайского варианта государственного патернализма, они в то же время отмечали важность социальной стабильности, благосостояния всех слоев общества, доступа населения к благам цивилизации. Эти представители «центра» (поклонники «золотой середины») в стане реформаторов выступали за широкое внедрение в народное хозяйство товарно-денежных отношений, за постепенную демократизацию общественной жизни, но без посягательств на приоритет общественной собственности, важную политическую и экономическую роль государства и коммунистической партии. Допуская инъекцию рынка, они защищали социалистический принцип оплаты по труду, предостерегали против чрезмерного имущественного расслоения.
В официальной пропаганде социалистическую направленность планируемой траектории развития выражали четыре основных идеологических и политических постулата: приверженность социалистическим идеалам, отстаивание принципа диктатуры пролетариата, сохранение руководства компартии, господство в идеологии марксизма-ленинизма и идей Мао Цзэдуна. По мнению российского синолога В.Я. Портяко- ва, «четыре основных принципа» явились политическим ответом и тем, кто с левацких позиций расценил курс модернизации и реформ как поворот Китая на капиталистический путь развития, и в первую очередь тем, кто на деле желал такого поворота и понимал модернизацию Китая как его всестороннюю вестернизацию4.
Глава 4. Стратегия экономического развития (1978-2004 гг.) 147
События весны и лета 1989 г., кульминацией которых явился сопровождавшийся многочисленными жертвами разгон студенческих манифестаций на площади Тяньаньмэнь в Пекине, завершились поражением политической оппозиции и послужили поводом для ужесточения административного контроля и чистки госаппарата. Премьер Чжао Цзы- ян был подвергнут критике и лишился своего поста. Видные ученые Чэнь Ицзы, Су Шаочжи, входившие в «мозговой центр» Чжао Цзыяна, были вынуждены покинуть страну.
Двухгодичная пауза в проведении реформы и внутрипартийная борьба проходили на фоне фактически военного положения в стране и свертывания открытых дискуссий. Очевидно, что путь назад, в «традиционный социализм» был дискредитирован и не только по внутренним причинам (неприятие бюрократического произвола и левацкого авантюризма), но и по внешним (распад мировой социалистической системы). Путь «вправо» был прерван Тяньаньмэньскими событиями, расцененными как реальная угроза авторитету партии и территориальной целостности страны.
В ситуации послекризисной растерянности и неясности относительно общего содержания предстоящих реформистских преобразований большую роль сыграл авторитет Дэн Сяопина. В 1989 г. он занял бескомпромиссную позицию подавления студенческих волнений, но вскоре после этого продемонстрировал полную поддержку курсу продолжения реформ, отметив нетождественность рыночной экономики капиталистическим порядкам. После инспекционной поездки Дэна по стране в 1992 г. и его одобрения рыночной экономики чаша весов окончательно склонилась в пользу центристского курса без «правого» уклона в сторону капитализма и полной рыночной свободы и без еще более опасного «левого» уклона с его отторжением частной собственности и товарно-денежных отношений. Вместе с тем, анализируя положение после распада СССР и капиталистической реставрации в восточноевропейских странах, китайские руководители отдавали себе отчет в том, что продолжение рыночных преобразований без надлежащего государственного контроля может вывести их за пределы «усовершенствования социализма», создать угрозу стабильности общества, единству государства и авторитету правящей партии. Эти опасения усиливали крен в сторону постепенности и «надлежащей централизации», а также притормаживания политической реформы. Выдвинутые Дэн Сяопином три задачи экономической реформы, а именно: общее наращивание производительных сил страны, ее комплексной экономической и политической мощи и повышение жизненного уровня народа — были с тех пор возведены в ранг общенациональной мобилизующей идеи.
Новый тур хозяйственных реформ, пришедшийся на 90-е годы, отличает приглушение социалистической риторики и поиски новых теоретических парадигм. Вместо идеологически выдержанной концепции
148
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
«социализма с китайской спецификой» главными стратегическими ориентирами стали теория «модернизации» и задача построения общества «сяокан». Очередной подъем волны «стратегических» дискуссий пришелся на середину 90-х годов, когда на 5-м пленуме ЦК КПК 14-го созыва была выдвинута концепция перехода к социалистической рыночной экономике, конкретизированная затем в перспективном плане развития страны на 1996-2010 гг. К достижению поставленных целей была привлечена так называемая «стратегия сравнительных преимуществ», обыгрывавшая наличие громадных ресурсов дешевой рабочей силы и обосновывавшая всестороннее развитие рыночных отношений, использование самых разнообразных форм собственности, приемлемость известной несбалансированности развития. Прежний лозунг «план - главное, рынок - вспомогательное» сменился более определенным ориентиром - создание «социалистической рыночной экономики», а затем и «цивилизованного рынка».
Участники экономических дискуссий на втором этапе реформы, аргументируя необходимость дальнейшего углубления рыночных преобразований, старались избегать идеологических штампов. В современных экономических работах, подытоживающих многолетнюю практику китайской реформы и сопутствующие ей многочисленные теоретические изыскания, стратегия развития формулируется почти в страта- гемном стиле — «могучее государство и зажиточный народ», что предполагает ориентацию на 5 основных целевых установок: поддержание политической и социальной стабильности; обеспечение устойчивого экономического роста; соблюдение принципа социальной справедливости; удовлетворение основных потребностей населения, повышение его благосостояния; охрана окружающей среды и создание здоровой экологической обстановки5.
В канун XVI съезда КПК на роль главной идеологической установки стал претендовать тезис о «трех представительствах», который впервые прозвучал в докладе Цзян Цзэминя, посвященном 80-й годовщине создания КПК в 2001 г. В изложении тогдашнего лидера, КПК «должна представлять требования развития передовых производительных сил Китая, постоянно представлять прогрессивное направление передовой китайской культуры, постоянно представлять коренные интересы самых широких слоев китайского народа». В программных документах съезда была поставлена задача всестороннего строительства общества «сяокан» как определенного этапа социализма с китайской спецификой.
В дальнейшем от пленума к пленуму наблюдалось все большее акцентирование социальной составляющей экономической стратегии. В коммюнике 5-го пленума ЦК КПК 16-го созыва была особо выделена задача «перевода социально-экономического развития на рельсы всестороннего устойчивого развития, обеспечивающего существенное улучшение благосостояния народа.
Глава 4. Стратегия экономического развития (1978-2004 гг.) 149
4.2. План и рынок в стратегии развития
На первом этапе реформы выделение различных систем управления по соотношению «плана» и «рынка», сменяющих друг друга в направлении к все более совершенному общественному устройству, рассматривалось в рамках теории моделей социализма. В докладе, специально посвященном целевой модели хозяйственной реформы, который был подготовлен в 1984 г. под руководством вице-президента АОН Китая Лю Гогуана, перечислялись следующие параметры, по которым выделялась каждая из пяти предложенных им моделей экономической системы социализма: структура собственности, структура принятия решений, структура хозяйственного регулирования, структура интересов и стимулов, организационная структура. В соответствии с этими принципами авторы доклада выделяли следующие модели: система нормированного снабжения военного коммунизма; традиционная модель централизованной плановой экономики; улучшенная модель централизованной плановой экономики; модель органического сочетания планового регулирования и рыночного механизма; модель рыночной социалистической экономики6. Эти модели можно было рассматривать и как исторические ступени перехода от планово-административной к рыночной системе.
Зависимость от степени коммерциализации хозяйства и характера макроэкономического контроля была положена в основу пяти моделей социализма, предложенных Лю Цзижуем в 1986 г.
Модель «А» — полное отрицание роли рынка. Исторический прототип ее — политика военного коммунизма в Советском Союзе. Ее наиболее характерные черты: военизация труда, высокая централизация экономической деятельности, свертывание товарно-денежных отношений, классовый и социальный принципы в распределении материальных благ.
Модель «В» - модель неполного рынка, которая в основном совпадает с советской моделью планового хозяйства, внедрявшейся в дореформенный период. В этом случае сохраняется высокая степень централизации, существует свободный выбор занятий и рынок предметов потребления. Цены и заработная плата устанавливаются в основном административным путем.
Модель «С» — имитированный рынок. Существует рынок трудовых услуг и предметов потребления с весьма широкой конкуренцией. Предприятиям не устанавливаются директивные задания и лимиты на получение сырья и материалов, их деятельность регулируется набором нормативов с учетом соотношения спроса и предложения. Капиталовложения находятся под государственным контролем. Рынок играет определенную, но все же ограниченную роль, поскольку: цены на средства
150
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
производства остаются под государственным контролем; нет горизонтального перемещения финансовых средств; предприятия находятся не в одинаковых условиях хозяйствования; правительственные органы выступают в роли учредителей предприятий.
Модель «О» — рыночное хозяйство под макроэкономическим контролем. Существует развернутый рынок и горизонтальный перелив капиталов.
Модель «Е» — рыночное хозяйство без макроэкономического контроля.
Процесс рыночной трансформации в условиях Китая рассматривался как поступательное движение от модели «В» к модели «С» и далее к модели D7.
На втором этапе реформы моделирование хозяйственных систем приобрело более четкую прагматическую окраску. Классификация типов рыночной экономики, осуществленная специалистами по проблемам социалистического рынка Института экономики ДОН Китая в 1996 г., была выдержана в том же ключе соотношения «плана» и «рынка», но уже с привязкой к конкретным историческим примерам. В представленный перечень вошли следующие рыночные модели.
Система административного рынка, или «рыночная экономика в рамках планового управления». Ее отличает активное вмешательство государства в хозяйственные процессы, которое административными мерами «подправляет» рыночное распределение ресурсов, наличие государственного направляющего плана и большая доля государственного сектора. К этому типу была близка Франция после второй мировой войны, а сейчас — Тайвань.
Рыночная экономика с правовым регулированием. По этой схеме все гражданские и экономические споры разрешаются в судебном порядке. Пример — Сингапур после второй мировой войны, элементы такого подхода находим в современной ФРГ.
Рыночная экономика с сильным государственным сектором, близкая к понятию «социалистическойрыночной экономики». У этой модели нет устойчивой формы. Типичный образец — Югославия в 60—80-е годы XX в.
Рыночная экономика коллективного контроля. Руководители производства включаются в рыночный обмен, согласовывая свои действия с коллективом производителей. Пример — Япония и Таиланд после второй мировой войны.
Рыночная экономика государства благосостояния. В этом случае широко применяется бюджетное регулирование с целью выравнивания доходов. Такими государствами после второй мировой войны стали: Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия. К ним примыкают Австрия и Великобритания.
Свободная рыночная экономика. Вмешательство государства в распределение ресурсов и доходов отсутствует, но государство контролиру-
Глава 4. Стратегия экономического развития (1978-2004 гг.) 151 ет денежную массу и осуществляет определенное макрорегулирование с помощью бюджета. Участие государственного сектора минимизировано. Очень слабый коллективный сектор. Некоторые специалисты считают США «последним бастионом свободного рынка».
Проводя параллели с теми или иными реально существующими хозяйственными системами, авторы делали оговорки относительно того, что отнесение той или иной страны к какой-либо из этих моделей - чисто условная операция. По существу каждая страна может считаться отдельной моделью с теми или иными чертами, характерными для одного из перечисленных типов рыночного хозяйства8.
Теоретические разработки китайских ученых нашли отражение в принимавшихся хозяйственных решениях, которые во многом следовали той же логике последовательного расширения сферы действия рыночных отношений. Можно говорить о следующих пяти концептуальных вариантах соотношения плана и рынка, сменявших друг друга по мере продвижения реформы.
■ «Плановое управление — главное, рыночное — вспомогательное».
Этот подход, среди сторонников которого был один из наиболее почитаемых партийных авторитетов — Чэнь Юнь, преобладал на начальном этапе реформы и получил официальную поддержку на XII съезде КПК в 1982 г. Установка «план — на первом месте, рынок — на втором» послужила теоретическим обоснованием перестройки методов планирования с выделением трех сфер: директивное планирование, направляющее (с помощью экономических рычагов) и рыночное регулирование. Предполагалось, что директивное планирование сохранит определенное время свое главенствующее значение, а рынок будет играть дополнительную регулирующую роль в негосударственном секторе экономики. Масштабы директивного планирования будут постепенно сужаться, а сфера направляющего планирования расширяться и одновременно совершенствоваться.
■ «Плановое товарное хозяйство» с «двухколейным» хозяйственным механизмом.
Эта уже более поздняя идея была закреплена в принятом на 3-м пленуме ЦК КПК 12-го созыва (1984 г.) «Постановлении о реформе хозяйственной системы», которое ориентировало экономику на полную хозяйственную самостоятельность предприятий, широкое развитие товарно-денежных отношений и их сосуществование с планово-распределительными отношениями при разграничении «сфер влияния».
■ Рынок, регулируемый планом.
Эта концепция закрепилась после событий 1989 г. Общее направление реформы выражала формула «государство регулирует рынок, рынок ориентирует деятельность предприятий». Согласно этой формуле, прямое вмешательство в дела предприятия со стороны вышестоящих инстанций исключается. Предприятия хозяйствуют, ориентируясь на
152
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
сигналы с рынка, но сами рыночные отношения контролируются государством и регулируются им с помощью различных экономических рычагов. Таким образом, меняется как область планового воздействия (макроэкономические процессы, а не микроэкономика), так и его характер (не натуральные, а стоимостные показатели). Директивное планирование сохраняется только в отношении наиболее важных и дефицитных видов продукции, и постепенно оно должно быть вытеснено направляющим планированием, устанавливающим главные ориентиры дальнейшего развития и определенные нормы хозяйственного поведения.
я Концепция социалистической рыночной экономики.
Она представляет собой дальнейшее развитие предыдущей концепции и была закреплена в решениях XIV съезда КПК (1992 г.). Неукоснительный приоритет рынка (без прежних идеологических опасений применения этого термина) не означал полного отказа от макрорегулирования экономических процессов. Предполагалось, что берущее на себя эту функцию государство будет контролировать пропорции между фондом потребления и фондом накопления в национальном доходе, между доходами и расходами государственного бюджета, следить за кредитной деятельностью и общим объемом кредитов и капитальных вложений, устанавливать рациональное соотношение между экспортом и импортом. Главная задача центральных органов — поддержание баланса между спросом и предложением.
Согласно такому подходу, низовые хозяйственные звенья пользуются широкой самостоятельностью, но в рамках установленных юридических норм. Под либерализацией внешних условий их деятельности понимались следующие «четыре размежевания»:
1) «чжэн» от «ци» — административного руководства от хозяйственной деятельности (иначе говоря, всех видов бизнеса от власти);
2) «чжэн» от «цзы» — административного управления от инвестиционной деятельности, самостоятельность инвестиционных органов;
3) «щуй» от «ли» — налогов от дивидендов на вложенный капитал, выступающих как часть прибыли;
4) «то» от «дай» - бюджетной сферы от кредитной.
Предприятия в этом случае оказываются одновременно и объектами, и субъектами процесса экономического регулирования. Как объекты макрорегулирования они руководствуются установкам государственного плана и приспосабливаются к требованиям рынка. Как самостоятельные товаропроизводители они настроены на саморазвитие, подчиняясь механизму самоконтроля и самоограничений. Оттого, насколько будет задействован этот механизм, зависит эффективность всего аппарата макрорегулирования. При пассивном восприятии действующих экономических регуляторов, предприятия не смогут в полной мере реализовать заложенные в них потенциальные возможности. Если же их хо-
Глава 4. Стратегия экономического развития (1978-2004 гг.) 153 зяйственная свобода выйдет за рамки общегосударственных «правил экономической игры», может быть поставлено под угрозу рациональное использование имеющихся ресурсов.
Прямые горизонтальные связи между предприятиями, основанные на принципах эквивалентности, базируются на рыночных ценах, испытывающих колебания под воздействием спроса и предложения. За плановыми органами остается право вмешиваться в процесс свободного колебания цен с целью удержания их определенного уровня и противодействия инфляционным процессам. Основным видом цен должны стать «регулируемые рыночные цены».
Всеохватывающий характер рыночных отношений предполагает наличие разнообразных видов рынка: должен существовать как товарный рынок, так и денежный, а также рынок факторов производства (капитал, земля, рабочая сила). Важная роль отводится банковской и кредитной системам.
■ Установка на создание нормативного (цивилизованного) рынка.
Следующий шаг в сторону признания важности рынка был сделан уже в конце 1990-х годов. Выступая на праздновании 80-летия КПК, Цзян Цзэминь подчеркнул неизменность курса «реформ и открытости», наметив в качестве непосредственной практической задачи «совершенствование системы социалистической рыночной экономики» и сохранение «ведущей роли общественной собственности» в функционирующей многоукладной экономике. Первая задача идентична курсу на окончательное ниспровержение прежней плановой системы. Постановка второй задачи выглядит как установление предела развернувшегося процесса разгосударствления и реструктуризации китайской экономики.
В докладе Цзян Цзэминя на XVI съезде КПК (2002 г.) содержались положения об «усовершенствовании системы социалистической рыночной экономики», о «базисной роли рынка в размещении ресурсов при наличии государственного макрорегулирования и контроля»9.
В октябре 2003 г. на 3-м пленуме ЦК КПК 16-го созыва был принят документ «Решение по некоторым вопросам совершенствования социалистической рыночной экономической системы». В нем была изложена новая концепция «и жэнь вэй бэнъ» (человек — основа основ, или все во имя человека), подчеркнута необходимость комплексного, гармоничного, устойчивого развития.
4.3.Собственность в стратегии экономического развития КНР
Парадигма «социалистической рыночной экономики» предполагает коренные изменения не только собственнических отношений между различными этажами хозяйственной иерархии, но и глубокие пре-
154
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
образования самих субъектов этих отношений. Общая линия — создание многоукладной экономики при сохранении господства общественной собственности, прежде всего в форме государственной собственности. Появившиеся уже с самого начала реформы высказывания относительно того, что государственные предприятия вообще неэффективны и должны быть преобразованы в другие формы собственности, что общественная собственность должна сохраниться только в тех видах деятельности, куда частный капитал «не идет»10, официальной поддержки не получили. Вместе с тем единодушному осуждению была подвергнута господствовавшая в прошлом теория «перехода в условиях бедности» как ускоренного, без учета уровня развития производительных сил повышения степени формального обобществления. По мнению китайских ученых, в результате социалистических преобразований состоялась подмена общественной собственности в подлинном значении этого слова неэффективной государственной (бюрократической) собственностью с многоуровневой структурой и со снижением от уровня к уровню степени централизации производственных решений и государственного патернализма.
Выступивший в числе первых с критикой политики формального обобществления (квазиобобществления) корифей китайской экономической мысли Дун Фужэн отмечал такие его недостатки, как всевластие государственных административных органов, бесправие первичных хозяйственных ячеек, лишенных экономической заинтересованности в результатах своей деятельности и стимулов совершенствования своей организации, преобладание административных методов управления, возникновение особой касты управляющих предприятиями, отсутствие прямого «соединения» трудящихся со средствами производства, оттеснение их от хозяйственного управления п.
В отличие от прежних догматов марксистского учения реформа собственности строилась на отрицании особого монополистического статуса государственной собственности и на признании правомочности всех форм негосударственной собственности. Прежняя установка на ликвидацию частной собственности как критерий построения социализма сменилась толерантным отношением ко всем формам собственности, способным обеспечить выполнение поставленных экономических задач. Многоукладное™, считавшаяся некогда атрибутом переходного этапа к социализму и своего рода показателем низкого экономического уровня (как это было в концепции «новой демократии»), обрела права гражданства на все обозримое будущее.
В экономических дискуссиях, а затем и в практических действиях важное место отводилось тезису «разделения двух прав» — права собственности и права хозяйствования, явно перекликавшемуся с постулатами западных экономических теорий. Впервые о таком подходе заговорили уже в 1981 г. на совещании, посвященном проблемам реформы
Глава 4. Стратегия экономического развития (1978-2004 гг.) 155 системы собственности, когда было предложено выделить следующие группы предприятий внутри государственного сектора: государственно-управляемые госпредприятия (гою-гоин/рыночно управляемые госпредприятия (гою-шиин); самоуправляющиеся госпредприятия (гою- циин — государство владеет, предприятие управляет); государственные предприятия в частном пользовании (гою-сыин — сданные в аренду частным лицам). В ст. 7 Конституции КНР в 1993 г. термин «гоин», прежде употреблявшийся для обозначения «государственной собственности» (государственное управление) был заменен другим — «гою цзинцзи» (т.е. государственная экономика), что вывело управление из числа признаков права собственности.
В вышеупомянутой работе сотрудников Института экономики АОН КНР 1987 г., касающейся различных моделей макроуправления, общий принцип целевой модели («сочетание административной и экономической децентрализации») был сформулирован следующим образом: «разграничение функций государства, каналов и потоков движения налогов и прибыли», что предусматривало:
■ Создание Комитета государственного имущества, который в качестве представителя собственника государственных активов должен подчиняться непосредственно Всекитайскому собранию народных представителей и отчитываться перед ним за состояние и прирост государственных активов.
■ Создание по инициативе Комитета кредитно-денежных организаций, отвечающих за состояние государственных активов, но без непосредственного управления распределением прибыли и капиталовложениями.
■ Налоговый принцип формирования государственного бюджета с разделением его на центральный бюджет и местные бюджеты при том, что оба бюджетных уровня получает свои собственные налоговые источники формирования. Для всех налогоплательщиков устанавливаются единые нормы налогообложения,
■ Отношение к прибыли как доходу собственника имущества, который направляется на расширенное воспроизводство и выплату дивидендов по каналам банковской системы либо через посредство государственных инвестиционных компаний. Правительство не вмешивается непосредственно в процесс распределения и использования прибыли, но может применять косвенные методы регулирования и в особых случаях прибегать к административным мерам дня пресечения правовых нарушений12.
Соотношение различных уровней управления государственным имуществом и характер связи между ними представлены на рис. 1.
Провозглашенный в начале 90-х годов курс на «углубление реформы» отводил важное место преобразованиям системы собственности. В решениях XIV съезда КПК (1992 г.) были сформулированы следующие задачи:
156
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
Все граждане КНР (собственники государственного имущества)
Всекитайское собрание народных представителей
Местные народные правительства
Госсовет"] ' 1 * * Г" , Центральные хо- зяйствен- ные органы
Местные органы управления госимуще- ством
Некоммерческие производственно-сбытовые предприятия
Коммерческие производственно-сбытовые предприятия
ZZ1 Министерство финансов
Центральный банк □Е
Коммерческие банки
1
Комитет по управлению преимуществом
I ,
Фонд гос-
имущества
I Местные
I финансовые
I управления
I
| : L—.
Государ¬
1
1
1 1 1
Государ¬
ственные
1
ственные •
инвестици¬
1
инвестици¬
онные
1
онные
компании
1
1
компании
1 2
3 4 5 6 7 8
1 - границы государственного контроля; 2 - рамки деятельности правительства; 3 - сфера свободных рыночных отношений; 4 - бюджетные потоки и бюджетные инвестиции; 5 - налоговые отчисления; 6 - движение прибыли; 7 - инвестиции; 8 - займы и кредиты.
Рис. 1. Целевая модель хозяйственной системы «Функции государства разделены, налоги и прибыль движутся по разным каналам и направлениям»
Глава 4. Стратегия экономического развития (1978-2004 гг.) 157
■ развитие частного и индивидуального предпринимательства как важных участников «социалистического рынка», которые вносят существенный вклад в рост производства и обеспечение занятости населения;
■ реформирование государственного сектора в соответствии с принципом «удерживать крупные и отпускать мелкие предприятия» с перспективой полного разделения «чжэн» и «ци», т.е. административных инстанций от хозяйствующих организаций, превращения последних в самостоятельных товаропроизводителей;
■ привлечение иностранных партнеров в сферу производства на территории Китая.
Предлагались разные формы разгосударствления: перевод государственных предприятий в статут коллективных; передача госпредприятий частным лицам; акционирование госпредприятий; частичная продажа госпредприятий иностранным вкладчикам. Обсуждался, но не получил поддержки способ массовой приватизации через бесплатное распределение акций среди отдельных граждан.
В конце 90-х годов была поставлена задача масштабной корпоративизации государственных объектов, и роль общественной собственности при социализме стала интерпретироваться более гибко. С тех пор речь идет не о том, чтобы непременно сохранить количественное преобладание государственного сектора, а о его рациональных размерах и повышении конкурентоспособности государственных предприятий, которые целесообразно сохранить в тех сферах, где присутствие государства необходимо с точки зрения поддержания стабильности рынка и соблюдения эволюционного хода реформ. Предлагалось, например, обособить понятия общественной собственности как таковой и социалистической общественной собственности, государственной собственности и социалистической государственной собственности. В частности, Дун Фу- жэн выдвинул концепцию разделения общественной собственности на две формы: «гунгун» и «гунчжун», что можно было бы перевести как «государственно-общественная» и «подлинно общественная собственность». Коллективная собственность, по его мнению, — это огосударствленная форма общественной собственности («гунгун сою»), а кооперативная — подлинная общественная собственность («гунчжун сою»)13.
На XV съезде партии (1997 г.) было выдвинуто положение об экономической контролирующей роли государственных предприятий («кунчжили»), которое в дальнейшем было расшифровано следующим образом:
■ доминирование государственной экономики осуществляется через государственные унитарные предприятия и через государственный пай акционерных предприятий;
■ переход самых важных государственных предприятий в акционерные осуществляется через выход на фондовый рынок, привлечение иностранного капитала и покупки части акций другими предприятиями;
158
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
■ государственный сектор является важным, если не главным объектом государственного макрорегулирования;
■ масштабы госсектора и его доля в общем производстве могут варьировать по времени и по сферам экономики.
Программа XV съезда КПК по модернизации государственного сектора включала: создание крупных корпораций, широкую техническую реорганизацию и введение научных методов управления. Весь процесс «осовременивания» предприятий рассматривался как двухэтапный.
Начальный этап — предприятия переходят на начала самохозяй- ствования, выступают в роли «юридических лиц» с широкой хозяйственной самостоятельностью и собственническими правами на часть своих фондов, созданных за счет реинвестирования прибыли, остающейся на предприятии после расчетов с госбюджетом. Как собственник части имущества предприятий (государственный пай) государство имеет право на часть дохода от его функционирования; как высший орган государственной власти оно облагает предприятия налогом на пользование фондами (его собственными и государственными). Финансирование предприятий осуществляется не через бюджет, а через государственные инвестиционные компании, которые на правах кредиторов следят за сохранностью и приумножением государственного имущества. Инвестиционные компании действуют как самостоятельные хозяйственные организации со своими долгосрочными интересами.
Завершающий этап — в государственной собственности остаются только наиболее важные объекты инфраструктуры (железные дороги, телефонная и телеграфная связь, электро- и водоснабжение и т.п.), а также предприятия, построенные на новые государственные капиталовложения (из прибыли государственных кредитно-денежных учреждений). Все остальные предприятия выступают в роли полноправных собственников своего имущества, созданного за счет своих средств и выкупа у государства его паевой доли. Предприятия преобразуются в акционерные общества, в роли вкладчиков которого могут выступать и государственные, и общественные организации, и отдельные физические лица.
Стратегическая перестройка государственных предприятий учитывает их деление на 4 вида: монопольно управляемые государством; перспективные предприятия конкурентного типа, требующие определенной поддержки; малоперспективные предприятия конкурентного типа, подлежащие реструктуризации; неперспективные, технически отсталые государственные и негосударственные предприятия как кандидаты на банкротство14.
Теоретические поиски своей особой модели отношений собственности, в конечном счете, увенчались принятием концепции «модернизация вместо приватизации» с ориентацией на формы и характер деятельности хозяйствующих организаций как полноправных рыночных субъектов, но при установлении государством «правил игры» с целью
Глава 4, Стратегия экономического развития (1978-2004 гг.) 159 сбалансирования корпоративных и общегосударственных интересов. Сам термин «приватизация» перестал быть запретным, но не стал общепринятым. Причины его непопулярности — недостаточная разработка некоторых теоретических проблем хозяйственной реформы, традиционный скепсис по отношению к понятию «частное», опасения обвинений в идеологической некорректности. И сейчас во многих случаях границы между разными формами собственности остаются размытыми. В частности, ссылаясь на то, что характер акционерной собственности напрямую зависит от характера самого государства, китайские теоретики доказывают неправомочность полного отождествления акционерной собственности с частной и капиталистической. Главный аргумент — сохранение государственного участия в распределении получаемого дохода и вмешательства государственных органов в процесс принятия управленческих решений. Нет определенности и в размежевании «государственной» и «смешанной», акционерной и коллективной форм собственности.
Прежнее противопоставление «общественной» собственности (государственной и коллективной) «необщественной» (индивидуальная и частная) теперь вытесняется новым алгоритмом, в котором государственная собственность обособляется от остальных форм собственности (коллективная, индивидуальная, частная, смешанная), объединяемых в альтернативную категорию «минъю-миньин» (народ владеет и народ управляет).
Термины «миньин» (народное управление) и «минъин цзинцзи» (народное управление экономикой), широко использовавшиеся теоретиками китайской революции, включая Сунь Ятсена и Чан Кайши, до сих пор интерпретировались по-разному. Одни ученые полностью отождествляли «миньин цзинцзи» с частной собственностью, другие включали в нее все негосударственные предприятия: индивидуальные, частные, волостнопоселковые, акционерно-кооперативные и даже акционерные и предприятия «трех капиталов» (созданные на средства вкладчиков из Сянгана, Аомыня и Тайваня). «Народное управление» в принципе может сочетаться и с государственной собственностью в случае акционерных и смешанных предприятий и с полной хозяйственной самостоятельностью государственных предприятий. В современном подходе «народная экономика» включает в себя два подуклада — «минью-минъин» (народ владеет и народ управляет) и «гою-минъин» (государство владеет, народ управляет).
4.4. Место теории модернизации в экономической стратегии
Пришедшее к власти в 1976 г. новое китайское руководство продемонстрировало свое неприятие «леворадикализма» не только политически, отстранив от власти его рьяных приверженцев — «банду четырех», но и идеологически, осудив прежние доктрины и объявив о решимости осуществить провозглашенную в свое время Чжоу Эньлаем
160
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
программу «четырех модернизаций». Уже сам термин «модернизация» («сяньдайхуа»)f которая была объявлена 3-м пленумом ЦК КПК 11- го созыва центром тяжести всей работы партии, и вкладываемый в него смысл символизировали отход от маоистской социально-экономической стратегии, которая отличалась авантюризмом, возвеличиванием национальной исключительности, всемерной апелляцией к традиционным институтам и традиционному образу мышления. За перечнем четырех главных направлений модернизации (промышленность, сельское хозяйство, национальная оборона, наука и техника) стояло признание экономической отсталости Китая и необходимости ее преодоления с учетом объективных экономических закономерностей, при овладении опытом других стран, достижениями мировой науки и техники, при привлечении иностранных капиталовложений и западных специалистов.
К разработке концепции всесторонней модернизации китайского общества активно подключился Дэн Сяопин. Введя понятие «модернизации китайского типа», он предложил распространить ее не только на сферу экономики, но и на политику и ряд других областей, более тесно привязать к китайской специфике. Под «спецификой» понималось определенное снижение критериев «модернизации», приверженность социалистическому курсу, выборочное отношение к опыту капиталистических стран. «Так называемые четыре модернизации, - говорил он, - это, прежде всего, изменение отсталого облика Китая, не только должен быть повышен уровень жизни народа, но и роль Китая в мире, мы должны сделать более весомый вклад в развитие человечества»15. Весьма показательно также предложенное Дэн Сяопином определение этапов модернизации в соответствии с традиционными китайскими представлениями о постепенном вступлении в общество Высшей гармонии — «Датун».
В формировании современной концепции «модернизации» можно выделить два главных этапа.
Первый этап (1979—1992 гг.) — «вхождение» в трансформационный процесс, характеризующийся сменой критериев развития, разрушением старых и внедрением новых регуляторов экономической динамики, причем новые элементы образовали своего рода «анклав» в рамках прежней системы. Выход из глубокого системного кризиса, в котором оказался Китай в конце 70-х годов, виделся в изменении хозяйственного механизма (переход к рыночной экономике), расширении международных контактов (политика «открытости») и увеличении потребления и потребительского спроса. Иначе говоря, общая стратегия модернизация приобрела синтезированный характер (завершение индустриализации, потребительски-ориентированная модель и экспортно-ориентированная модель)
Общая задача модернизации Китая как построения экономически развитого, «высокоцивилизованного» и «высокодемократичного»
Глава 4. Стратегия экономического развития (1978-2004 гг.) 161 государства с социалистической общественной системой и высоким материальным и культурным уровнем населения вошла в текст принятой в декабре 1982 г. Конституции КНР и в дальнейшем получила конкретизацию в следующих целевых установках: завершение процесса индустриализации, создание целостной рыночной системы, высокая степень включенности в мировое хозяйство, повышение жизненного уровня населения и рационализация структуры потребления, сокращение региональной дифференциации, создание и совершенствование демократической политической системы, развитие науки, культуры и образования, значительное улучшение экологической обстановки.
Второй этап (1992—2000 гг.) - ориентация на преодоление дуалистической системы, вытеснение элементов старой системы как «пережитков» и создание условий для устойчивого воспроизводства новой системы. При сохранении социалистической направленности модернизации в идеологии ее реальное наполнение стало приближаться к вес- тернизаторскому варианту. По мере все большего ослабления позиций «леворадикалов» и закрепления взятого курса на первый план выдвинулись противоречия между двумя группировками сторонников модернизации Китая: по варианту «смешанного» развития Китая со значительными уступками в плане «обучения» у капиталистов и по варианту «ограниченного допущения капитализма» в целях активизации всех факторов экономического роста при неприкосновенности общей социалистической ориентации.
При дальнейшей разработке концепции «модернизации с китайской спецификой» выбор шел между двумя моделями «продвинутой модернизации»: инвестиционно-ориентированной, используемой в странах форсированной индустриализации, и потребительски-ориентиро- ванной модели, характерной для стран с достаточно высоким уровнем удовлетворения первичных потребностей и повышенными потребительскими стандартами.
В целом основными аспектами курса «модернизации» можно считать:
■ преодоление экономической отсталости и достижение более высокого экономического уровня — сначала уровня среднеразвитых стран, а затем и высокоразвитых;
■ вступление Китая в эру научно-технического прогресса, постепенный переход с экстенсивного на интенсивный путь развития;
■ реструктуризация народного хозяйства в процессе завершения индустриализации и перехода к информационно-инновационным технологиям, изменение соотношения как внутри производственного сектора, так и в особенности между производственными отраслями и отраслями сферы услуг;
■ усовершенствование системы управления народным хозяйством как на макро-, так и на микроуровнях;
162
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
■ повышение жизненного уровня населения, уровня образования и здравоохранения, вступление в общество «скромного достатка» («сяокан»).
Количественные параметры модернизации были определены в самом начале реформы. В конце 1981 г. на 4-й сессии ВСНП 5-го созыва премьер Госсовета КНР Чжао Цзыян впервые официально сформулировал задачу увеличить годовой объем совокупной продукции промышленности и сельского хозяйства за 20 лет в 4 раза и достичь уровня «сяокан» в народном потреблении. Дэн Сяопин провозгласил: «Наша новая точка зрения — учетверение производства, построение общества «сяо- кан», модернизация китайского типа»16. Эта общая задача в дальнейшем была конкретизирована в ряде долгосрочных программ развития науки и техники на 1986-2000 гг. XIII съезд КПК (1987 г.) сделал особый акцент на роль науки и техники в модернизации страны и наметил осуществление «трех шагов модернизации»: первое удвоение производства и построение общества «вэньбао» («тепла и сытости») — к концу 80-х годов, второе удвоение, доведение душевого производства валового внутреннего продукта до 800-1000 долл, и построение общества «сяокан» — к концу XX в., завершение «социалистической модернизации» — середина XXI в. В программе, принятой на XV съезде КПК, окончательное построение общества «сяокан» было сдвинуто на 2010 г. На следующее десятилетие (к 100-летнему юбилею КПК) планировалось создание целостной рыночной системы17.
Концептуальные задачи модернизации были изложены в документах состоявшегося в 1997 г. XV съезда КПК:
■ переход от аграрной страны, в которой большинство населения проживает в сельской местности и занимается сельским хозяйством с преобладанием ручного труда, к индустриальному государству, в котором несельскохозяйственное население составляет большинство, имеется современное механизированное сельское хозяйство и современные отрасли обслуживания населения;
■ постепенное создание развитого рыночного хозяйства, призванного заменить натуральную и полунатуральную экономику;
■ ликвидация неграмотности и отставания в области науки и техники;
■ превращение Китая из страны с относительно низким жизненным уровнем населения и большой численностью бедных, в страну, где население живет в условиях относительной зажиточности;
■ постепенное сокращение региональной дифференциации;
■ приближение к уровню экономически развитых стран;
■ развитие духовной культуры на базе экономических достижений и достижений в области образования;
■ создание и усовершенствование социалистической рыночной экономики, демократического политического устройства и других сфер общественной жизни18.
Глава 4. Стратегия экономического развития (1978-2004 гг.) 163
4.5. Модели экономического роста
Новый подход к экономической динамике был ознаменован конструктивной критикой дореформенного экономического развития, отличавшегося форсированием темпов роста, пренебрежением экономической эффективностью, что привело к постоянному чередованию подъемов и спадов производства и к возникновению ряда серьезных диспропорций. К их числу китайские теоретики относят слишком высокую долю накопления и медленный рост жизненного уровня населения, дисбаланс между промышленностью и другими сферами экономики (сельское хозяйство, транспорт, торговля), между отдельными отраслями сельского хозяйства, гипертрофированный приоритет тяжелой промышленности, а в самой тяжелой промышленности — отставание энергетики, чрезмерный растянутый фронт капитального строительства. Детальному разбору и осуждению были подвергнуты прежние установки «большого скачка», отличавшиеся навязыванием обществу невыполнимых задач, теория «волнообразного развития», оправдывавшая резкие перепады темпов роста, теория «активного балансирования», или «решающего звена» с произвольным выбором отраслевых приоритетов. Узкая направленность на количественные параметры роста начала постепенно вытесняться понятием «оптимального» и «качественного» экономического роста, что подразумевает широкое привлечение достижений науки и техники, экономию исходных материалов и сырья, совершенствование отраслевой и региональной структуры производства, снижение себестоимости, повышение эффективности производства и качества продукции.
Еще инициаторы политики «урегулирования и реформ», ветераны китайского революционного движения Чэнь Юнь и Ли Сяньнянь в своем письме в ЦК КПК от 14 марта 1979 г. обосновали необходимость комплексного и сбалансированного развития народного хозяйства. Новая политика, получившая код в виде восьми иероглифов (четыре иероглифических бинома), намечала следующие основные задачи: урегулирование народнохозяйственных пропорций, преобразование системы управления экономикой, упорядочение существующих предприятий и повы- шение уровня плановой работы в целом. Наиболее острыми были признаны диспропорции между: производством и потреблением; промышленностью и сельским хозяйством; тяжелой и легкой промышленностью; масштабами капитального строительства и его материальным и финансовым обеспечением. Однако если раньше при преодолении кризиса целиком уповали на централизацию управления, то на сей раз урегулирование сопровождалось подключением рынка и децентрализацией производства.
164
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
К числу активных пропагандистов «оптимального роста» принадлежал признанный авторитет китайской экономической науки Лю Го- гуан, который уже в 1981 г. писал: «Если говорить о социалистическом производстве, то его целью не могут быть темпы роста как таковые, а только повышение материального и культурного уровня жизни населения. Темпы роста экономики не должны быть слишком высокими, потому что это требует непосильной нормы накопления и отвлекает средства и массы людей на новое капитальное строительство, затрудняя решение текущих задач производства и потребления. Но такие темпы, которые только позволяют сводить концы с концами, тоже не годятся. Рост должен быть оптимальным, чтобы наилучшим образом увязать потребности и возможности, производство и распределение, накопление и потребление, текущие и перспективные задачи, обеспечить в обозримом будущем значительный подъем жизненного уровня населения»19.
Его поддерживали и другие видные китайские экономисты. «При имеющейся структуре, - говорил в 1984 г. Чжан Чжоюань, - воспроизводственный процесс протекает таким образом, что доля промежуточного продукта чрезмерно высока (именно поэтому велик объем валовой продукции), а доля конечного продукта, который может быть использован непосредственно для удовлетворения жизненных потребностей народа, очень низка, велико производственное потребление (большая часть промежуточного продукта идет на производственные нужды, потребляется самим производством), велики затраты, низка эффективность. Различные отрасли экономики развивались до сих пор неравномерно, зигзагами, со спадами и подъемами, потенциальные производственные возможности не реализовывались, экономическая эффективность оставалась очень низкой, все это затрудняло нормальное течение воспроизводственного процесса»20.
Один из главных разработчиков новой стратегии развития Дун Фужэн рассматривал ее как переход: 1) от стратегии развития с упором на темпы роста к стратегии развития, главной целью которой является удовлетворение основных потребностей населения; 2) от стратегии совершения «ударного прорыва» к стратегии сбалансированного роста; 3) от стратегии протекционизма к внешнеэкономической открытости; 4) от стратегии использования главным образом экстенсивных факторов роста к стратегии интенсификации экономического роста21.
Тем не менее, концепция сбалансированного развития и оптимальной экономической структуры утвердилась далеко не сразу, многим куда более импонировала установка на создание «очагов» и «точек роста». Своего рода ренессанс популярной в годы «большого скачка» теории «активной несбалансированности» спровоцировал сам Дэн Сяопин, призвавший к тому, чтобы «одни обогащались раньше других» (и отдельные люди, и отдельные регионы).
Глава 4. Стратегия экономического развития (1978-2004 гг.) 165
Общее направление структурных преобразований также оставалось неясным. Некоторые китайские экономисты, ссылаясь на избыток людских ресурсов, нехватку финансовых средств и квалифицированных кадров и находясь под влиянием западных рекомендаций для слаборазвитых стран, стали отдавать предпочтение стратегии «сравнительных преимуществ», делающей ставку на трудоемкие виды производства и реализацию дешевых потребительских изделий на мировом рынке. Эта позиция нашла свое полное выражение в вышедшей на русском языке книге «Китайское чудо»: «Никто, — пишут ее авторы Линь Ифу, Цай Фан и Ли Чжоу, — ни Япония, ни “четыре азиатских малых дракона” — не объявлял четко о том, какую стратегию они осуществляют в процессе своего экономического развития. Нужно отметить, однако, что все эти страны, за исключением Гонконга, на ранней стадии своего развития пробовали практиковать импортозамещающую политику, или, по-иному, политику приоритетного развития тяжелой промышленности на этапе импортозамещения. Используя свои запасы ресурсов, они приступили к активному развитию трудоемких отраслей производства и на этой основе увеличили экспорт — повысили степень ориентации экономики, что дало возможность в полной мере использовать свои сравнительные преимущества. Мы называем эту стратегию, первоначально четко не названную, “стратегией сравнительных преимуществ”, с учетом той ее особенности, что на каждом этапе развития ведущие отрасли производства соответствовали принятому в экономической науке названию “принцип сравнительных преимуществ”»22.
Осуждая направленность на ликвидацию экономической отсталости любой ценой и в максимально сжатые сроки как «стратегию догоняющего развития» и не проводя различий между политикой первой пятилетки и «большого скачка», авторы книги считают главными «виновниками» допущенных экономических провалов «дискриминационные и протекционистские меры в отношении определенных отраслей»,23 т.е. прежний курс на ускоренное создание базы тяжелой промышленности, который лежал в основе социалистической индустриализации.
Такую точку зрения разделяют далеко не все. Ссылаясь на незавершенность этапа индустриализации, многие китайские экономисты не торопятся хоронить присущий политэкономии социализма закон преимущественного роста производства средств производства. Так, специалисты по комплексному народнохозяйственному балансу Ян Цзяньбай и Ли Сюэцзэн еще в 1984 г. отмечали: «Если придерживаться узкого понимания принципа преимущественного роста тяжелой промышленности, обрекающего эту отрасль на обслуживание самой себя, что отрицательно сказывается на развитии легкой промышленности и блокирует повышение жизненного уровня населения, то не будет ли это означать возрождения пороков капитализма и не исказит ли это сам смысл соци¬
166
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
алистического пути развития? Однако нужно опасаться и другой крайности — полного отрицания объективного закона преимущественного роста производства средств производства. Исходя из уровня технического развития страны, весь период — от начала социалистической индустриализации до проведения в жизнь социалистической модернизации народного хозяйства — следует рассматривать как этап замены ручного труда машинным. Курс на преимущественный рост тяжелой промышленности и раньше не был сплошной ошибкой и в будущем сохранит свою значимость, но приоритетность тяжелой промышленности не стоит гиперболизировать. Недопустимо такое положение, когда тяжелая промышленность существует ради тяжелой промышленности, а развитие сельского хозяйства и легкой промышленности отступает на второй план»24.
Общий реформистский настрой на поддержание высоких темпов экономического роста, который видный китайский экономист Ху Ань- ган называет «стратегией первого поколения»25, действительно подстегнул экономику, но привел к серьезным негативным последствиям - отставанию сельского хозяйства и социальной сферы, серьезной имущественной дифференциации, углубляющемуся разрыву между приморскими и остальными районами по уровню экономического развития. Высокий рост ВВП сопровождался замедленным ростом потребления, колоссальный объем капиталовложений происходил на фоне обострения проблемы занятости.
Точкой отсчета «стратегии второго поколения» Ху Аньган считает 1995 г., когда на 5-м пленуме ЦК КПК 14-го созыва Цзян Цзэминь провозгласил 12 ключевых моментов скоординированного развития. К концу 90-х годов требование комплексного подхода к экономическим проблемам, не допускающего чрезмерных перекосов между отраслями и регионами, соблюдающего необходимые макропропорции между крупными сферами производства и пропорции внутри сельского хозяйства и промышленности, стало главенствующим. Оно легло в основу провозглашенной в 1999 г. политики «освоения западных регионов».
Утверждение «нового подхода к развитию» состоялось на XVI съезде КПК и особенно на 3-м пленуме 16-го созыва в октябре 2003 г. В резолюцию пленума вошла сформулированная новым генеральным секретарем ЦК КПК Ху Цзиньтао на Всекитайском рабочем совещании по борьбе с атипичной пневмонией 28 июля 2003 г. концепция сбалансированного (сетяо), всестороннего (цюанъмянъ) и устойчивого (кэчисюй) развития. В резолюции пленума эта концепция была конкретизирована в виде пяти необходимых «упорядочиваний» (тунчоу) — между экономическим и социальным развитием, между городом и деревней, между различными регионами, между человеком и природой, между внутренним развитием и внешней «открытостью». Выдвинутое на пленуме понятие «новой модели развития» нацеливает на более ре-
Глава 4. Стратегия экономического развития (1978-2004 гг.) 167 тигельные действия по интенсификации экономического роста. Это обосновывается сложившейся ситуацией с природными ресурсами, обострением международной конкуренции26.
В том же ключе «стабильности и сбалансированности» выдержан современный правительственный курс в изложении премьера Вэнь Цзябао, включающий шесть основных задач (каждая из которых обозначена четырьмя иероглифами): скоординированное развитие города и деревни (чэнсян сетяо); взаимопомощь между восточными и западными регионами (дунси худун); сочетание внутреннего и внешнего рынков (нэйвай цзяолю); союз верхов и низов общества (шанся цзехэ); должное внимание и ближайшей и далекой перспективе развития (юанъцзинь цзяньгу); маневрирование степенью свободы (сунцзинъ шиин).
«Второе дыхание» получает теперь задача перехода с экстенсивного на интенсивный путь развития, которая ставилась прежде уже не раз, но отодвигалась в сторону и по объективным, и по субъективным причинам. Общая ориентация на повышение конкурентоспособности Китая позволяет рассматривать новые и высокие технологии как важный источник экономического роста. Очевидно, что абсолютизация курса «сравнительных преимуществ» как ориентирующая преимущественно на развитие трудоемких видов производства опасна тем, что закрепляет модели и технологии хозяйствования, типичные для прошлого, а не будущего. Более правы те ученые, которые предлагают искать рациональное сочетание трудоемкого, капиталоемкого, техноемкого и наукоемкого видов производства27.
4.6. От автаркического развития к «открытой внешнеэкономической политике»
Важным компонентом новой экономической стратегии стала политика внешнеэкономической открытости, предполагающая активное участие Китая в разворачивающемся процессе глобализации, в системе мирохозяйственных экономических связей. Цель — получение максимальных выгод от международного разделения труда при сохранении национальных интересов, приобщение к финансовым и интеллектуальным ресурсам развитых стран. Китай при этом имел определенные стартовые преимущества в виде отсутствия серьезного внешнего долга и каких-либо обременительных внешних обязательств, поскольку до этого проводил протекционистскую политику и не входил в международные союзы. Курс «опоры на собственные силы», хотя и сохранился, но принципиально изменил свое содержание: если раньше он трактовался как нацеленность на максимально возможное самообеспечение, на импор- тозамещение и использование исключительно внутренних финансовых ресурсов без обращения к иностранным инвестициям, то теперь он поставлен на службу мобилизации всех ресурсов страны и использования
168
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
всех преимуществ международного разделения труда. Политика внешнеэкономической открытости включает в себя следующие компоненты: включение в процесс глобализации и по линии производства, и по линии потребления; либерализация внешнеторговой и инвестиционной деятельности; вмонтирование внешних связей в общую систему рыночной экономики28.
Провозглашению политики «открытости» благоприятствовали как внешние, так и внутренние обстоятельства. В условиях развернувшейся глобализации развитые страны расширили поиски новых рынков для товаров и капиталов, и Китай оказался в сфере их интересов. Значительного экономического прогресса достигли Япония и другие восточноазиатские страны, крайне заинтересованные в создании прочных экономических плацдармов на азиатском материке. После окончания «культурной революции» и дистанцирования Китая от социалистических стран его отношения с Западом стали нормализовываться. Своего рода «окном во внешний мир» стал для Китая Гонконг — штаб-квартира и средоточие филиалов крупнейших иностранных банков.
Провозглашенная «внешнеэкономическая открытость», как непременное условие становления рыночной экономики Китая, предполагала:
■ расширение экспорта и финансовых поступлений в свободно конвертируемой валюте для нужд развития;
■ широкое привлечение импорта для приобретения новейшего оборудования, заимствования передовой технологии и пополнения ресурсов топлива и сырья;
■ активное использование иностранного предпринимательского капитала для создания новых предприятий, увеличения занятости и наращивания экспорта;
■ снятие запретов в отношении объемов иностранных займов;
■ изучение хозяйственного опыта других стран, установление широких контактов с зарубежными учеными, обмен студентами, аспирантами и учеными.
Политика «открытости» сделала акцент на диверсификацию иностранных партнеров, свободный выбор наиболее выгодного варианта внешнеторговых связей. При этом китайские стратеги сумели в полной мере использовать специфическое преимущество Китая в виде мировой китайской диаспоры. Китайские мигранты конца XIX - начала XX вв., чаще всего вынужденно покинувшие родину, сохранили глубокую привязанность к ней и передали это чувство своим потомкам, не исключая тех, кто сумел накопить немалый капитал. Эти люди первыми откликнулись на призыв вкладывать деньги в разного рода проекты на китайской территории, как бы оправдывая свое название «хуацяо» (мосты Китая с другими странами).
Быстрый рост китайской экономики при незавершенности в целом процесса индустриализации обусловил специфический ракурс страте-
Глава 4. Стратегия экономического развития (1978-2004 гг.) 169 гии внешнеэкономической открытости как «сочетание импортозаме- щения с экспортной ориентацией». В первую очередь была сделана ставка на привлечение иностранного капитала в целях развития экспортоориентированных видов производства и продвижения товаров, выпущенных предприятиями с участием иностранных инвестиций, на внешние рынки. Особую роль были призваны сыграть специальные экономические зоны (СЭЗ). Они создавались с целью привлечения иностранных инвесторов к хозяйственной деятельности на той или иной специально выделенной территории путем селективной либерализации инвестиционного климата. Принципы создания таких зон были заимствованы из рекомендаций ученых развитых стран, касавшихся оживления мелкого и среднего бизнеса в депрессивных районах, и из практики многих развивающихся стран 1960-х годов, когда возникла необходимость стимулирования притока иностранных капиталов для расширения промышленного экспорта и занятости населения. Иностранным вкладчикам были предоставлены многочисленные льготы, включая снижение таможенных пошлин, налоговые «каникулы» и т.п.
Успеху провозглашенной политики «открытости» способствовали высокая репутация страны за рубежом, стабильная обстановка в стране, о чем зарубежные партнеры судят по уровню внешнего долга, размерам валютных запасов, по положительному сальдо внешнеторгового оборота, устойчивости национальной валюты. Росту товарооборота способствовала и реформа системы управления внешней торговлей, которая началась с предоставления права выхода на внешний рынок всем провинциям, городам центрального подчинения и автономным районам, а также целому ряду крупных и средних промышленных предприятий. Утвердившаяся система регионального подряда устанавливала неизменность показателей валютных отчислений провинций в центральный бюджет. Три подотрасли легкой промышленности были переведены на режим самоокупаемости с правом полного распоряжения валютной выручкой при отмене дотаций.
В целях стимулирования экспорта поэтапно девальвировался юань, его среднегодовой курс снизился с 1,7 ю. за 1 долл. США в 1981 г. до 8,6 в 1994 г., а с 1996 г. стабилизировался на уровне 8,3 ю. за 1 долл. Только в 2005 г. жесткая привязка юаня к доллару была аннулирована, и юань был ревальвирован на 2,1 %.
Учитывая недостаточную конкурентоспособность отечественной промышленности, китайское руководство не отказалось полностью от политики протекционизма. Государство постоянно шло на покрытие убытков от экспортных операций за счет госбюджета, стимулировало повышение качества экспортной продукции. Большинство вывозимых из Китая товаров было освобождено от налогов. Рынок охранялся достаточно высокими таможенными пошлинами. До 1994 г., покуда сохранялся двойной обменный курс, отрасли, замещающие импорт, закупа-
170
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
ли оборудование по пониженному валютному курсу. Предприятиям иностранного капитала создавались ограничения для реализации их продукции на внутреннем рынке, особенно в части той продукции, которая конкурировала с предприятиями импортозамещающего сектора. Государство принимало участие в формировании рациональной структуры экспорта и импорта путем варьирования ставок таможенных пошлин и выдачи лицензий.
Современная корректировка стратегии «открытости» идет в направлении более рационального соотношения внутреннего и внешних факторов экономического роста, максимального использования потенций собственного внутреннего рынка. Дальнейшее расширение экспорта ожидается в результате углубления реформы финансовой системы и предприятий, совершенствования правовой системы. Привлечение иностранных инвестиций предполагают более тесно связать с реструктуризацией экономики, направив интересы иностранных вкладчиков в наиболее прогрессивные отрасли.
Если раньше внешнеэкономическая открытость была направлена «во внутрь», т.е. Китай выступал в преимущественной роли рынка для зарубежных товаров и инвестиций (хотя и использовал мировой рынок для реализации своей продукции), то теперь он хочет стать равноправным партнером мирового рынка, выходит «вовне», начиная искать сферы приложения для своих собственных капиталов. Частью этой внешнеэкономической стратегии «вовне» становится расширение предложений по поводу экспорта рабочей силы, участие в совместных с другими странами научных проектах и конструкторских разработках.
Новые возможности открывает вступление Китая в ВТО, что позволяет рассчитывать на бессрочность режима наибольшего благоприятствования в торговле с развитыми странами и на особо благоприятное отношение с их стороны к себе как к развивающейся стране. Статус развивающейся страны дает Китаю право сохранять в силе в течение нескольких лет после присоединения к ВТО импортные таможенные тарифы, лицензирование импорта и другие ограничения в целях защиты отечественной промышленности, поддержания равновесия платежного баланса и т.д. В целом, по оценкам Всемирного банка, присоединение Китая к ВТО даст ему возможность увеличить свой экспорт в течение 10 лет на 38%, а валовой внутренний продукт — на 1,8—2,5% в год29.
4.7. Стратегия регионального развития
Все годы существования КНР в стратегию ее регионального развития закладывались следующие основные цели;
■ внешнеполитические — обеспечение обороноспособности страны и сохранение целостности ее территории;
Глава 4. Стратегия экономического развития (1978-2004 гг.) 171
■ внутриполитические — поддержание политической стабильности и предотвращение сепаратистских устремлений;
■ экономические — ускорение экономического роста за счет наиболее полного использования природных, финансовых и людских ресурсов;
• социальные — выравнивание жизненных условий и обеспечение социальной справедливости.
До реформы, в условиях командно-административной системы особое внимание уделялось повышению обороноспособности страны и проведению политики индустриализации мобилизационными методами. При всем значении помощи Советского Союза и самого факта его существования угроза внешней экспансии оставалась реальной, а контакты со странами социалистического лагеря не меняли общей картины протекционистской политики. Жесткая политическая и финансовая централизация позволяла концентрировать имеющиеся ресурсы и направлять их на строительство ключевых объектов тяжелой индустрии в районах, считавшихся наиболее безопасными, а именно, во внутренних районах, к тому же располагавших запасами относительно разведанных полезных ископаемых. Установка на повышение обороноспособности страны при общем антирыночном настрое и господстве курса «опоры на собственные силы» вылилась в требование максимального самообеспечения всех регионов и дублирования производства. Это обосновывалось необходимостью выживания регионов в условиях возможных военных действий и особенно оккупации части территории страны противником и подкреплялось доводами в пользу сокращения транспортных издержек и максимального использования внутренних возможностей каждого региона.
Курс на развитие рыночных отношений в контексте экономической реформы оказался совершенно несовместимым с прежними постулатами самообеспечения регионов, создания «замкнутых территориальных экономических систем». Господствовавшие в прошлом «левацкие» взгляды стали осуждаться за игнорирование природно-географических условий отдельных регионов, принципов специализации и кооперирования производства, что сдерживало интеграционные процессы в экономике и провоцировало автаркические и сепаратистские тенденции. Повороту в сторону развития районной специализации помогло также отступление в силу внутренних и внешних обстоятельств от прежнего лозунга «подготовки к войне».
Требование развития рыночной экономики предопределило выдвижение следующих целей региональной стратегии:
■ снятие по возможности всех запретов на свободное перемещение товаров, финансовых потоков и рабочей силы;
■ развитие территориального разделения труда при использовании сравнительных преимуществ регионов;
172
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
■ выравнивание условий рыночной конкуренции и предоставление равного доступа к материальным и финансовым ресурсам и внешним рынкам;
■ отказ от «коммунального» принципа территориальной организации и общая линия на модернизацию и урбанизацию.
Однако такого рода целевая модель регионального развития могла осуществляться только по мере становления рыночных отношений. «Стратегия перехода» имела свою логику и свои промежуточные результаты. На первом этапе реформы, примерно до 1994 г., развитие шло с сохранением многих элементов «административной децентрализации». Ставка на максимальное ускорение темпов роста в условиях дуалистической системы с явным перевесом «плана» над «рынком» объясняет предпочтение, отданное еще при дореформенных перестройках системы хозяйственного управления принципу «делегирования прав вниз». Развернувшееся регулирование взаимоотношений центра и мест по схеме «расширения прав мест» было нацелено на формирование ступенчатой системы макроуправления, существенное расширение прав провинций по линии финансов, планирования, материального снабжения, капиталовложений и внешнеэкономических связей, стимулирование активности регионов с использованием экономических рычагов, налаживание горизонтальных связей.
Эту политику сопровождали: передача значительной части государственных предприятий в управление на места; расширение финансовой самостоятельности регионов с переходом на систему «регионального финансового подряда»; широкое привлечение иностранных инвестиций, в том числе через предоставление налоговых льгот иностранным вкладчикам в специальных экономических зонах. Новый договорный порядок взаимоотношений регионов с центральным бюджетом предполагал фиксированные отчисления в госбюджет и сохранение за регионом части дополнительных доходов.
Образовавшаяся дуалистическая модель «плана и рынка» оказалась сопряженной со следующими негативными последствиями:
■ снижение поступлений в госбюджет и падение доли центрального бюджета;
■ развитие автаркических тенденций и создание препятствий образованию единого общегосударственного рынка;
■ дальнейшее распространение дублирования производства, провоцировавшее «перегрев» экономики;
■ медленные темпы реформирования местной промышленности из- за противодействия местных властей;
■ перелив ресурсов из отсталых районов в передовые.
Предвидя негативные грядущие трудности формирования рационального территориального разделения труда, видные китайские экономисты уже в середине 1980-х годов аргументировали необходимость
Глава 4, Стратегия экономического развития (1978-2004 гг.) 173 перехода от «административной» к «экономической децентрализации» с упором натри звена: 1) макроэкономический контроль и обеспечение рационального соотношения между центральным и местными бюджетами; 2) создание общегосударственного рынка, ломающего все ведомственные и региональные барьеры; 3) широкая самостоятельность низовых хозяйственных звеньев, выступающих как самостоятельные товаропроизводители и свободных от опеки как центральных, так и местных властей *.
Эта аргументация лежала в основе концепции использования «региональных сравнительных преимуществ» Сопоставление ситуации в трех основных экономических зонах (Восток, Центр и Запад) происходило по следующим параметрам:
■ приморские районы отличаются наиболее высоким уровнем экономического развития и в наилучшей степени обеспечены квалифицированными кадрами и инфраструктурой;
■ центральные районы имеют определенный промышленный потенциал и располагают ценными видами сырья, но в отношении экономической эффективности значительно уступают восточным регионам;
■ западные районы богаты полезными ископаемыми, но отстают от двух других зон по уровню экономического развития, транспортному обеспечению и наличию квалифицированных кадров.
Несмотря на некоторые предложения в пользу центральных регионов («прорыв в центр массива») и западных («бросок в глубь территории»), вопрос о региональных приоритетах был по существу предрешен. На том этапе, когда во главу угла были поставлены темпы экономического роста, преимущества восточных районов выглядели неоспоримыми. Основную роль, конечно, сыграл довод относительно лучших возможностей повышения эффективности общественного производства, однако были и другие весьма весомые аргументы.
Один из них - расчет на дополнительный приток капиталов вследствие взятого курса на финансовую децентрализацию, расширение финансовой самостоятельности отдельных провинций (об этом подробнее в следующих разделах). Часть средств, которые раньше отбирали у него в общую казну, Приморье могло направить на нужды своего развития. Другое, не менее важное соображение, - расчет на широкое привлечение иностранных инвестиций, чему благоприятствовала экономическая ситуация восточных регионов, их удобное транспортное положение, тесные «кровнородственные» связи с китайскими «хуацяо», являвшимися в своем большинстве выходцами из провинций Гуандун и Фуцзянь. По этой причине и было принято решение о создании именно в этих провинциях первых специальных экономических зон, которым были предоставлены существенные налоговые льготы.
Получив ряд налоговых привилегий и опираясь на свои «сравнительные преимущества», приморские регионы довольно быстро соверши-
174
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
ли экономический рывок, ответив делом на призыв Дэн Сяопина «пусть одни обогащаются раньше других». Признав неизбежность неравномерного развития в условиях развития рыночных отношений, китайские реформаторы фактически санкционировали региональное разбалансирование и возникновение серьезных региональных диспропорций.
Смягчить нежелательные последствия чрезмерного приоритета приморских регионов была призвана теория «градиентного развития», устанавливавшая очередность развития регионов и дававшая отстающим шанс на будущее. Приморские районы становились фаворитами первого этапа, их задача — стимулировать общий экономический рост, обеспечить включение страны в международное разделение труда, накопить резервы для оказания помощи менее развитым частям страны. Отдавая предпочтение развитию техникоемкой и капиталоемкой продукции, восточные районы брали на себя роль «моторов» развития китайской экономики, проводников идей НТР.
Первая «волна» экономической отдачи от развитого Приморья должна была распространиться на центральные регионы, более подготовленные к экономическому рывку. Именно сюда предполагалось направить основную часть централизованных капитальных вложений. Западной зоне, согласно теории «градиентного развития», предстояло подождать наступления «третьей волны», когда появятся и нужда в ее ресурсах, и возможности их освоения.
Ускоренное развитие приморских районов, как и предполагалось, позволило максимально использовать их возможности и оказало стимулирующее воздействие в отношении других частей страны. Это стало проявляться в виде повышения спроса на сырье западных регионов, расширения им поставок готовой продукции, распространения новых технологий, формирования горизонтальных объединений (так называемый «эффект распространения» — spread effect). Но, с другой стороны, приморский «полюс развития» все больше притягивал сырье, капиталы и даже наиболее подготовленные кадры из внутренних районов (так называемый «эффект вымывания» — backwash effect). При разной степени «продвинутое™» регионов в плане хозяйственной реформы, нерациональной структуре цен (завышение цен на готовую продукцию и занижение цен на сырье) сложившееся преобладание «эффекта вымывания» над «эффектом распространения» привело к тому, что развитие приморских регионов как бы «высасывало соки» из западных регионов, в результате чего региональная дифференциация углублялась.
В условиях нарастающего дисбаланса между регионами и в значительной степени под нажимом недовольных руководителей западных территорий ориентация на приоритетное развитие приморской зоны была официально признана односторонней. Особенно весомо звучал аргумент о том, что стратегия «пусть одни обогащаются раньше других» в региональном аспекте противоречит формированию единого националь-
Глава 4. Стратегия экономического развития (1978-2004 гг.) 175 ного рынка. Следствием «административной децентрализации» в начале 1990-х годов стало усиление провинциального протекционизма, который был характерен для отстающих внутренних провинций, испытывавших экономический натиск приморских провинций, что все более препятствовало рациональному разделению труда и создавало определенную угрозу для экономической целостности страны.
Стратегическая задача «освоения западных регионов» была выдвинута в марте 2000 г на 3-й сессии ВСНП 9-го созыва, в самом начале 10- й пятилетки. Это - «детище» Цзян Цзэминя, который в своем докладе на XIV съезде КПК (1992 г.) подчеркивал, что экономический подъем западных и центральных территорий является «масштабной проблемой, определяющей всю архитектонику стратегии экономического развития Китая». Ликвидация разрыва в экономическом и культурном развитии приморских и внутренних районов стала рассматриваться не только как важное условие более полного и рационального использования природных богатств страны, создания общенационального экономического пространства, но и как важный фактор укрепления территориальной целостности государства и даже соблюдения принципа социальной спра- веддивости.
План экономического подъема западных регионов включает следующие основные направления:
■ геологическое изучение имеющихся и перспективных месторождений полезных ископаемых, строительство ряда крупных объектов в области энергетики, горного дела, металлообрабатывающей и легкой промышленности;
■ освоение сельскохозяйственных ресурсов на базе расширения ирригационного строительства. В Синьцзяне планируется создать главную хлопководческую базу Китая, расширить производство сахароносов;
■ осуществление широкомасштабного инфраструктурного строительства;
■ проведение серии работ по охране окружающей среды.
Китайские специалисты подчеркивают, что при реализации этой программы нельзя копировать старые подходы и модели развития, следует активизировать использование рыночных механизмов, смелее привлекать инвестиции из восточных регионов.
Нацеленность на осуществление в исторически сжатые сроки коренной перестройки сложившейся нерациональной региональной структуры хозяйства требовала изменения государственных функций. В целом за государством как субъектом региональной политики закреплялись следующие функции:
■ делегирование полномочий вниз, распределение функций между различными уровнями регионального управления;
■ стимулирование регионального развития через установление различных льгот и предоставление финансовых дотаций;
176
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
■ непосредственное участие в региональных проектах путем выделения бюджетных средств на строительство дорог, возведение электростанций, создание научно-исследовательских учреждений и т.п.
4.8. Социальная политика
Осознание необходимости сбалансирования экономического и демографического роста давалось китайским ученым и простым гражданам с большим трудом. Многодетная семья, воспитание сыновей как продолжателей рода и дела своих предков — одна из главных китайских традиций. В первые годы после победы революции 1949 г. большое население Китая воспринималось всем обществом как главное богатство страны, источник ее силы и могущества. «В нашей стране, - говорил тогда, например, весьма уважаемый в Китае ученый Сунь Цинчжи, - большое население не является “бременем”, а наоборот, человек считается самым драгоценным из всех богатств мира, богатством, которое имеет решающее значение... Поэтому в нашей стране никогда не будет применяться метод “искусственного ограничения населения” для повышения уровня материальной жизни народа»31.
Однако такая чисто гуманистическая позиция разделялась далеко не всеми. Большой общественный резонанс получило выступление в прессе известного экономиста-демографа, ректора Пекинского университета Ма Иньчу, который 5 июля 1957 г. опубликовал статью под заголовком «Новая теория населения». Он писал: «Поскольку мы имеем большое население, наши потребительские расходы огромны, и лишь небольшая часть национального дохода может быть употреблена на накопление капитала... Огромное население Китая становится камнем преткновения для индустриализации страны. Необходимо поставить под контроль рост китайского населения с тем, чтобы снизить отношение потребительских расходов к накоплению капитала»32.
Эти предостережения Ма Иньчу власти восприняли не сразу. Уже на следующий год в разгар «большого скачка» пропаганда подхватила уверения Мао Цзэдуна, что «много людей - это хорошо», что производственный потенциал Китая покоится на богатых трудовых ресурсах и страна может при быстром экономическом развитии содержать в 7 или 8 раз большее число людей. Ученые, сочувствовавшие взглядам Ма Иньчу, и он сам были подвергнуты критике и попали в опалу. В период последовавшей за «скачком» политики «урегулирования» правительство КНР всерьез задумалось о необходимости «планируемого деторождения», но во время «культурной революции» такого рода идеи были вновь похоронены, а дезорганизация органов по контролю над рождаемостью, массовые миграции населения, возрождение «скачковых» настроений — все это породило очередной демографический бум.
Глава 4. Стратегия экономического развития (1978-2004 гг.) 177
В 70-х годах в условиях нараставшего экономического кризиса и продолжавшегося быстрого роста населения правительство КНР в очередной раз принимает решение о проведении политики «семейного контроля». Однако ее словесное оформление еще долго выдерживалось в стиле «чем больше, тем лучше». В идеологической борьбе по вопросам народонаселения, которая проявилась, в частности, на Всемирной конференции по народонаселению в Бухаресте в 1974 г., где столкнулись мальтузианцы и «дивелопменталисты», китайская делегация заняла компромиссную позицию, признав одновременно и необходимость сокращения рождаемости, и отсутствие перенаселенности Китая. Глава делегации КНР заявил, что быстрый рост населения — «это дело не плохое, а весьма хорошее» и что «большое население третьего мира составляет важное условие для дальнейшего усиления борьбы против империализма и гегемонизма и для ускорения социального и экономического развития»33.
Зачинатели современной китайской реформы быстро положили конец этой двусмысленности, провозгласив новый демографический курс на однодетную семью с целью смягчения проблемы перенаселенности Китая и удержания приемлемой численности населения (к 2000 г. на уровне 1,2 млрд, человек). Для выполнения этой задачи была мобилизована вся мощь административного ресурса. В отношении родителей, нарушающих установленную норму плановой рождаемости, стали применяться самые различные санкции, включая ограничения по трудовому страхованию, медицинскому и бытовому обслуживанию, на предоставление жилья и даже на выдачу продовольственных карточек. «Любители» детей могли быть наказаны не только сокращением заработной платы, но и увольнением со службы. Особо ретивые местные чиновники, поставленные в условия жестких официальных директив, прибегали даже к таким варварским методам, как заключение нарушителей демографической дисциплины под стражу.
Ужесточению регламентации в этой весьма чувствительной сфере человеческих взаимоотношений способствовало принятие в апреле 1984 г. специального документа ЦК КПК по ограничению рождаемости. С тех пор в многочисленных статьях в китайской печати планирование семьи стали называть важнейшей стратегической задачей в ходе реализации программы «четырех модернизаций». В результате принятых принудительных мер, а затем и успехов здравоохранения Китай, еще не вступив в когорту высокоразвитых стран, приблизился к ним по типу воспроизводства населения, характеризующемуся низкой рождаемостью, низкой смертностью, небольшим естественным приростом.
Последние годы все большее внимание уделяется повышению «качества населения» в плане здоровья, увеличения продолжительности жизни, уровня образования и культуры. К трем прежним положениям в области планирования рождаемости — «позже, реже, меньше» было присоединено еще одно — «лучше», что призвано способствовать под-
178
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
держанию престижа малодетной семьи в качестве образца современного демографического поведения людей и перехода к более высокому уровню потребления.
Социальная политика реформы с самого начала была ориентирована на сохранение социальной стабильности, повышение жизненного уровня населения, использование материальных стимулов и предпринимательской инициативы. Реформа началась с повышения оплаты труда, и эта сверхзадача постоянно оставалась в центре внимания китайского руководства. Включенное в контекст политики формирования высокого платежеспособного спроса, повышения качества рабочей силы и предпринимательского сообщества потребление стало мощным стимулом экономического роста.
В этой связи весьма интересно замечание академика Д. С. Львова об альтернативе стратегии российской реформы. В 1997г. в интервью с журналистом Владимиром Санько он сказал: «А имелось ли у научного сообщества с самого начала экономических преобразований альтернативное видение целей и задач реформ ? На этот вопрос есть четкий ответ. Такая идея была. Она сформировалась в 70-80-е годы в крупномасштабных исследованиях по КПНТП(Комплексная программа научно-технического прогресса), в которых участвовали все ведущие специалисты страны. Суть ее заключалась в том, что основной диспропорцией советской экономики была названа низкая оплата труда. Поднять оплату труда, поддержав ее крупномасштабным структурным маневром по переориентации экономики на потребительский сектор и институциональными преобразованиями — в этом состоял главный замысел реформы, вытекавший из наших исследований. Подъем оплаты труда рассматривался тогда не как отдаленное следствие, а как ключевая предпосылка успеха реформ. С него нужно было начинать... Только на этой базе сыграли бы позитивную роль меры по либерализации экономики и преобразованию в отношениях собственности».
Независимая газета. 13.03.97.
Проблема повышения уровня жизни населения и рационализации соотношения фонда накопления и фонда потребления была идеологически оформлена призывами к построению общества «сяокан». При конкретизации этого конфуцианского понятия в него стало вкладываться следующее содержание: нормальное питание с удовлетворением рациональных физиологических потребностей человека; улучшение окружающей среды и экологическая чистота потребляемых продуктов, обеспеченность одеждой на все сезоны; достижение уровня обеспеченности жильем в 8 кв. м на 1 городского жителя, а в деревне — несколько выше; доступность услуг здравоохранения и повышение средней продолжительности жизни; наличие средств для приобретения необходимых товаров длительного пользования и культурного назначения; повышение уровня образования, науки и техники; совершенствование сети услуг в городах; безопасность граждан и укрепление моральных принципов.
Глава 4. Стратегия экономического развития (1978-2004 гг.) 179
По мере удовлетворения наиболее насущных материальных потребностей все большее внимание стало уделяться проблеме рационального сочетания материальных и культурных потребностей как одного из важнейших аспектов «социалистической духовной культуры». Признание материального стимулирования фактором роста производительных сил и осуждение уравниловки соседствовало с предостережениями против слишком большой дифференциации доходов, подрывающей основу социальной справедливости, против погони за материальными благами, что деформирует личность и не может принести ей морального удовлетворения. Ставя вопрос о том, какой уровень потребления, какая структура потребления и какой способ потребления являются для жителей Китая наиболее подходящими, один из самых известных китайских экономистов Юй Гуанъюань предлагал сочетать научные нормы потребления со сложившимися в стране традициями. По его мнению, уровень потребления развитых капиталистических стран не может служить для Китая образцом не только в силу его недосягаемости в обозримый период, но и потому, что с позиций современной науки он не может быть признан рациональным, а стремление его достичь входит в противоречие с другими экономическими и социальными задачами, в частности, с задачей охраны окружающей среды и экономии природных ресурсов34.
Новая стратегия рыночной экономики оказалась совершенно несовместимой с идеалом «железной плошки риса» как государственной гарантии получения работы при ее минимальной оплате. «Цивилизованный» рынок означает создание рынка товаров и факторов производства, в том числе рынка рабочей силы со всеми его атрибутами, а именно:
■ ликвидация всех форм прямого принуждения к труду и свободная продажа рабочим своей рабочей силы, что предполагает свободу выбора места работы и места жительства;
■ формирование «цены труда» на рынке по соотношению спроса и предложения;
■ «добровольное» принятие рабочим условий найма, записанных в трудовом соглашении;
■ вмешательство государства в трудовые отношения в виде установления минимальной оплаты труда, предоставления определенного набора бесплатных услуг, выплаты пособий по безработице и т.п.;
■ дополнение государственной системы социального обеспечения многоуровневой платной системой общественных услуг на началах частного предпринимательства.
Можно считать, что все эти требования учитываются при составлении современной стратегии в сфере труда и занятости, однако дать им «зеленый свет» пока не представляется возможным. Главная особенность формирующегося в Китае рынка рабочей силы — существенное превышение предложения над спросом. Хотя демографическая политика очень
180
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
существенно снизила темпы роста населения на общем массиве предложения труда она явно не сказалась.
Разрыв между предложением труда и спросом на него создает перманентную городскую безработицу и неблагоприятную среду для сельских мигрантов. Отсюда вынужденное сохранение паспортных барьеров, что препятствует выравниванию правового положения городских и сельских жителей.
Стратегические задачи на этапе смены планового и рыночного трудоустройства формулируются следующим образом:
■ ускорение процесса урбанизации, в первую очередь «малой урбанизации», под чем понимается широкое создание средних и мелких городов и поселков;
■ постепенные послабления в сфере паспортного режима, в первую очередь в отношении переселенцев в малые города и поселки;
■ дальнейшее распространение контрактной системы найма вместо государственной и организационные усовершенствования в виде налаживания информации, создания контор по трудоустройству и т.п.;
■ создание государственной системы социального обеспечения и ликвидация прежней системы обслуживания «по месту работы» и связанных с ней остаточных явлений;
■ обеспечение благоприятных условий для создания новых рабочих мест и отсюда стимулирование создания негосударственных мелких предприятий, особенно в легкой промышленности и сфере услуг.
За государством остается сфера борьбы с бедностью и имущественным расслоением.
♦ * ♦
Как показывает теория и практика китайской реформы, с 1978 г. до настоящего времени произошло три стратегических поворота, причем последний еще не завершен. Отсюда можно говорить о трех модификациях общей стратегии рыночных преобразований. Альтернативность целевой модели новой экономической системы прежней модели плановой экономики выявилась с самого начала реформы, но на первом ее этапе (до конца 1980-х годов) просматривается намерение «реформировать социализм» без кардинальных изменений в системе собственности, т.е. создать «дуалистическую систему», построенную на паритете «плана» и «рынка». Речь шла о совмещении экономической эффективности с социальной справедливостью, государственного и рыночного механизмов регулирования хозяйственной жизни. С течением времени первоначальный «рамочный проект» наполнялся конкретным содержанием и подвергся существенной корректировке. На втором этапе (с начала 1990-х годов) был сделан решительный поворот в сторону рынка, и революционная по своей сущности «стратегия перехода» явно взяла верх над чисто реформистской «стратегией развития». Современный
Глава 4. Стратегия экономического развития (1978-2004 гг.) 181 «третий акт» китайской реформы характеризуется появлением первых признаков отхода от «догоняющей» стратегии к стратегии «сбалансированного устойчивого развития».
Как бы в доказательство того, что «история идет галсами, пробуя и отрабатывая, как правило, крайние варианты своего движения»35, с момента образования КНР были проиграны и отброшены сначала вариант «казарменного коммунизма», потом модель «дуализма плана и рынка» и в процессе строительства «цивилизованного рынка» проявляются разочарования в его вестернизаторской версии. В ходе реформы Китай проявил свою высокую способность к инновациям, готовность заимствовать все полезное из зарубежного опыта. Вместе с тем он еще раз продемонстрировал свой высокий консерватизм, сохранив руководящую роль КПК и преданность социалистическим идеалам.
Примечания
1 Чжунго гунъе фачжань чжаньлюэ вэньти (Проблема стратегии промышленного
развития Китая)/ Предисловие МаХуна. Пекин, 1999.
2 Чжунго гоцзя чжаньлюэ баогао (Доклад о проблемах государственной стратегии
Китая)/Предисловие Чэнь Ли. Пекин, 2002. С. 1.
3 Ляован. 1981. № 3. С. 5.
4 Портяков В.Я. Экономическая политика Китая в эпоху Дэн Сяопина. М., 1998.
С. 45.
5 Чжунго да чжаньлюэ (Большая стратегия Китая) / Под ред. ХуАнъгана. Ханчжоу,
2003. С. 4-5.
6 Чжунго шэхуэй кэсюэ. 1984. № 5.
7 Лю Цзижуй. Экономические модели социализма и рынок // Цзинцзи лилунь юй
цзинцзи гуаньли. 1986. № 3. С. 41.
• Сяньдай шичан цзинцзи гэчжун мосин хэ вого шэхуэйчжуи шичан цзинцзие (Различные модели современного рыночного хозяйства и социалистическая рыночная экономика в нашей стране) // Цзинцзи яньцзю. 1996. № 6. С. 10—11.
9 Жэньминь жибао. 04.12.2002.
10 Цзинцзи яньцзю. 1988. № 3. С. 21; № 8. С. 19-20.
11 Дун Фужэн. К вопросу о формах социалистической собственности в Китае //
Цзинцзи яньцзю. 1979. № 1.
12 КНР на путях реформ (теория и практика экономической реформы). М., 1989.
С. 200-201.
13 Чжэнлунь фачжань. Чжунго цзинцзи лилунь 50 нянь (Дискуссии и развитие. 50
лет китайской экономической мысли). Куньминь, 1999. С. 165.
14 Цзинцзи яньцзю. 1999. № 19. С. 3-4.
Дэн Сяопин. Избранное (1975—1982). Пекин, 1985. С. 232.
16 Там же. С. 54.
17 Жэньминь жибао. 07.09.1980.
11 Дискуссии и развитие: 50 лет... С. 68.
19 Лю Гогуан. Несколько важных вопросов комплексного развития народного хозяйства // Гоминь цзинцзи цзунхэ фачжань лилунь вэньти (Теоретические проблемы комплексного развития народного хозяйства). Пекин, 1981. С. 7.
182
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
20 Структура экономики Китая. М., 1984. G. 68.
21 Дун Фужэн. Цзинцзи фачжань чжаньлюэ яньцзю (Исследование стратегии эко¬
номического развития). Пекин, 1988. С. 454.
22 Там же. С. 132-133.
23 Китайское чудо. Стратегия развития и экономическая реформа. М., 2001.
С. 120-121.
24 Структура экономики Китая... С. 113.
25 ХуАньган. Чжунго цзай хэсе дицюй фачжань ды даолу (Китай на пути к скоор¬
динированному региональному развитию) // Чжунго цзинцзи шибао. 22.03.2004.
26 Лю Гогуан, Ли Цзинвэнъ. Чжунго цзинцзи фачжуаньбянь цзичжан фанши чжуань-
бяньды цзунхэ яньцзю (Теоретические проблемы экстенсивной и интенсивной моделей экономического роста). Гуанчжоу. 2001.
27 Лю Гогуан. Вопрос об урегулировании экономической структуры Китая // Новые
экономические теории в КНР. Взаимодействие теории и практики // Экспресс-информация М.: ИДВ РАН, 2002. С. 48.
28 Большая стратегия Китая... С. 123.
29 Глобализация экономики Китая. М., 2003. С. 63.
30 УЦзинлянь. Цзинцзи цзисе хэ цзунхэ гайгэ (Хозяйственный механизм и комп¬
лексная реформа) // Хунци. 1986. № 5.
31 Сунь Цзинчжи. К вопросу об источниках продовольствия и роста населения //
Дружба. Пекин. 11.04.1956.
32 Жэньминь жибао. 05.08.1957.
33 Цит. по: Гузеватый Я.Н. Демографо-экономические проблемы Азии. М., 1980.
С. 24.
34 Юй Гуанъюань. Чжунго шэхуэй цзинцзи фачжань чжаньлюэ (Стратегия социаль¬
но-экономического развития Китая). Пекин, 1982. С. 23.
35 Высказывание Б.Ф. Славина на заседании «круглого стола» «Модернизацион¬
ный вызов современности и российские альтернативы» в апреле 2001 г. // О стратегии рооссийского развития. Аналитический доклад. М., 2003. С. 211.
Глава 5
ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ РЕФОРМЫ
Тактика проведения реформы не менее важна, чем стратегия. Реализация имеющихся возможностей на пути к поставленной цели при неправильно выработанной тактике отнюдь не являются гарантированной. Даже при достаточно четко сформулированных общих ориентирах настоятельно требуется ранжирование целей и составление графика их достижений, необходимо предусмотреть возможные ошибки и изменения внешней обстановки, варианты временного отступления и его пределы. Целевые установки реформы могут претерпевать определенные модификации в соответствии с изменениями «правил игры», к тому же некоторые цели носят настолько фундаментальный характер, что не укладываются в тесные хронологические рамки. В процессе реформы появляются новые вызовы, которых нельзя было заранее предвидеть, любой тактический шаг может вместо решения поставленных проблем порождать новые. Ко всему прочему, никто не застрахован от совершения ошибок. Реформаторы должны быть готовыми к продуманным отступлениям и спонтанным маневрам. Что-то удается выполнить раньше намеченных сроков, что-то придется доделывать на следующих стадиях, а что-то обречено на переделку и лучше раньше, чем позже.
«Заранее подчеркну, что методология перемен, хотя и есть путь к верному знанию, однако это не какой-то выверенный маршрут, но лишь известное направление движения. И если говорить о Пути реконструкции на земле такого порядка, который был бы не противен небесному порядку, то методологию перемен можно было сравнить с направлением брода через реку случайного (мутный поток страстей, пучина греха) на божественный берег сущностного. Именно брод, а немост!Поэтому- то, и владея методологией, еще нет гарантии преодоления случайностей. Имея подсказки направления Пути, каждый раз перед тем как сделать шаг, нужно методом проб и ошибок “находить” брод, “нащупывать” твердую опору. “Камни опор” на Пути к божественному порядку невидимы, а потому “дьявольское поспешание ”, любой неверный шаг, хотя и в верном направлении, грозят срывом и возможностью утонуть в пучине случайного (например, в случае огульного применения методологии перемен властями, производящими реформы по выходу государства из системного кризиса)».
Девятов Андрей. Китайский путь для России?М.: Эксмо—Алгоритм, 2004. С. 36.
184
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
Решения последних политических форумов, включая XVI съезд КПК и его пленумы, позволяют говорить о том, что Китай подошел к очередному водоразделу своей эпохи реформации. Примерно с 2002 г. можно вести отсчет третьего этапа китайской реформы, который официально обозначается как этап совершенствования «социалистической рыночной экономики» и должен завершиться примерно к 2020 г.
При нашем последующем изложении мы придерживаемся более дробной периодизации периода реформы, выделяя в пределах двух крупных этапов подэтапы с учетом все большего подключения рыночных механизмов и соответствующей модификации установок в отношении сочетания плана и рынка.
5.1. Период 1979-1983 гг.: «плановое хозяйство — главное, рыночное регулирование — вспомогательное»
Принятию решения о проведении хозяйственной реформы предшествовала острая политическая борьба, в которой леворадикальные силы пытались отстоять свои позиции, втянув экономику в очередной виток форсированной индустриализации. Обстановка 1978 г. во многом напоминала «скачковую» ситуацию конца 50-х годов: чрезмерное увеличение фонда накопления, разбухание капитального строительства, гипертрофированный приоритет тяжелой промышленности, отставание легкой промышленности и сельского хозяйства, осложнение продовольственного положения. На 1 -й сессии ВСНП 5-го созыва (26 февраля - 5 марта 1978 г.), которая одобрила трехступенчатое выполнение программы «четырех модернизаций», звучали призывы «догнать и перегнать Англию и Америку», а в принятом на сессии проекте 10-летнего плана на 1976— 1985 гг. констатировалось «наступление эры нового большого скачка».
В 1978 г. капиталовложения в народное хозяйство выросли в лучших «скачковых» традициях почти на треть. К концу года в процессе строительства находились 65 тыс. объектов государственной собственности, в том числе 1624 крупных и средних, что сопровождалось массовыми закупками оборудования за рубежом (за один год были заключены контракты на импорт комплектного оборудования на сумму 60 млрд, ю., к тому же на невыгодных для Китая условиях). Эта новая ситуация «обращения к загранице» была определена патриархом китайской экономической науки Сунь Ефаном как «скачок зарубежного стиля» («ян яоцзинъ») в отличие от «скачка традиционного типа» 1958—1960 гг., когда наблюдалась ориентация на отечественное мелкое производство и на протекционистскую политику.
18—22 декабря 1978 г. в Пекине состоялось заседание 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва. По своему критическому настрою к про¬
Глава 5. Тактика проведения реформы
185
шлым ошибкам, включая некоторые действия самого Мао Цзэдуна, по принятым решениям относительно реабилитации видных партийных деятелей, пострадавших в ходе «культурной революции», данный пленум сопоставим с XX съездом КПСС 1956 г. Принятое на пленуме решение о переносе центра тяжести всей работы на экономическое строительство и проведении политики «урегулирования» выглядит как контрмера против рецидива «большого скачка». Инициаторами политики «урегулирования» выступили ветераны китайского революционного движения Чэнь Юнь и Ли Сяньнянь, обосновавшие в своем вышеупоми- навшемся письме в ЦК КПК от 14 марта 1979 г. необходимость комплексного и сбалансированного развития народного хозяйства.
В отличие от устоявшегося мнения, что «китайская реформа началась с сельского хозяйства», первой на старт реформы вышла промышленность, где начались преобразования системы собственности и появились индивидуальные, частные и смешанные предприятия. В обоснование этой частичной либерализации экономики легло положение о разделении права собственности (носителем которого остается государство), и права владения, распоряжения собственностью (которое передается первичным хозяйственным организациям). Преодоление пороков прежней системы директивного планирования виделось в первую очередь в расширении хозяйственной самостоятельности предприятий, что предполагало замену прежних универсализированных «производственных» предприятий, выполняющих государственные задания и находящихся на государственном обеспечении, «воспроизводственными» предприятиями, которые располагают собственными ресурсами и правами их использования.
«Упрощение административного аппарата и делегирование прав вниз» началось с перевода предприятий с системы бюджетного финансирования на кредитование. В ходе экспериментов опробовались различные методы распределения прибыли между государственным бюджетом и предприятиями, последние получили определенные права в области планирования и реализации продукции, формирования собственных фондов, комплектации своих штатов. Часть продукции предприятий стала реализовываться по договорным и свободным, рыночным ценам. Решением Госсовета КНР 1980 г. ряд крупных и средних государственных предприятий получили возможность выхода на внешний рынок.
Однако не подкрепленная реформами в других сферах экономики либерализация деятельности промышленных предприятий оказалась малорезультативной. Если в 1979 г. экономические показатели экспериментирующих объектов были достаточно хорошими, то в 1980 г. уже куда более скромными, а в дальнейшем эффект эксперимента продолжал снижаться. На более решительные действия в плане разгосударствления производства в то время не пошли.
186
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
По-иному складывалась судьба реформы сельского хозяйства. Учтя пожелания крестьян, китайские руководители пошли, хотя и не без колебаний, на ликвидацию коммун и введение системы подряда с раздачей земли крестьянам и частичным использованием рыночных отношений. Даже без кардинальных изменений традиционных методов обработки земли отдача от этих мер в пользу крестьян проявилась почти немедленно, общее продовольственное положение в стране заметно улучшилось. Успех реформы в сельском хозяйстве послужил хорошей базой и мощным стимулом для преобразований в других сферах экономики.
Одной из самых главных особенностей нового экономического курса следует считать обращение к социальным проблемам под лозунгом «возмещения долга населению». Постоянно откладывавшийся на далекую перспективу подъем жизненного уровня населения был наконец-то поставлен в повестку дня и оказался предпосылкой проведения реформы. После упорядочения в 1977 г. тарифных ставок, введения разного рода надбавок и премий средняя заработная плата рабочих за 1978—1984 гг. повысилась почти на 60% (с 614 до 974 ю. в год)Своего рода «потребительским допингом» стало также увеличение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию при одновременном снижении налогов. Сокращение «ножниц цен» на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, некоторый рост капиталовложений в аграрную сферу, а затем и организационные преобразования способствовали подъему сельского хозяйства. В итоге денежные доходы крестьян увеличились в 1978—1984 гг. в 2,7 раза, опередив рост доходов горожан 2.
Патерналистские действия правительства не могли не сказаться на положении государственных финансов. Повышение закупочных цен в сельском хозяйстве и заработной платы рабочих потребовало дополнительных бюджетных расходов, перераспределение прибыли в пользу промышленных предприятий уменьшило поступления от них в госбюджет примерно на четверть. Много средств ушло на капитальное строительство, которое не удалось сократить до намеченного уровня. В итоге в 1979 г. возник невиданный прежде дефицит бюджета (в размере 30 млрд, ю.). Однако расширение потребительского спроса и рост сбережений населения позволили избежать гиперинфляции.
В дальнейшем свою роль в сокращении доходов центрального бюджета сыграло введение с 1980 г. «регионального хозяйственного подряда». (так называемая финансовая система «питания порознь у своих очагов»). Главное содержание этой системы: фиксирование госбюджетных отчислений региона, определение базовой величины местных расходов, которые покрываются в основном за счет местных доходов, установление пределов госбюджетных дотаций. Поступления в бюджет начали расти только с 1983 г., но при этом всего один раз (в 1985 г.) незначительно превысили бюджетные расходы.
Глава 5. Тактика проведения реформы
187
Декабрьское рабочее совещание ЦК КПК 1980 г., на котором с докладами выступили Чэнь Юнь, Чжао Цзыян и Дэн Сяопин, проходило под лейтмотив предостережений об «опасности сползания к рыночной стихии». На нем были осуждены попытки форсирования темпов экономического роста и слишком поспешного проведения некоторых хозяйственных преобразований, официально выдвинут курс «дальнейшего здорового и трезвого урегулирования» при более осторожном проведении реформ. Намечено сокращение капитальных вложений и ужесточение централизованного контроля над капитальным строительством. Замораживались активы предприятий и приостанавливалась выдача новых кратко- и среднесрочных кредитов на приобретение оборудования. Притормаживание реформы проявилось в нескольких аспектах: было отменено прежнее решение сессии ВСНП об увеличении числа экспериментирующих предприятий, отодвигалось на будущее проведение реформы цен, пересмотрено положение о расширении прав мест, большее значение стало придаваться отрасли для проведения единой технической политики.
Главным событием 1982 г. стал XII съезд КПК. С политическим докладом «Создать новую обстановку на всех фронтах социалистической модернизации» выступил тогдашний генеральный секретарь партии Ху Яобан. Он обосновал «четыре основных ориентира» экономической работы на будущее: концентрация средств для строительства важнейших объектов и дальнейшее улучшение жизни народа; развитие многообразных форм хозяйствования при сохранении ведущего положения за государственным сектором экономики; проведение в жизнь принципа «план — главное, рынок — вспомогательное» (инициатором этого принципа считается Чэнь Юнь); расширение технико-экономического обмена с зарубежными странами без отмены курса «опоры на собственные силы»3.
Несмотря на известную непоследовательность политики «урегулирования» начала 80-х годов, свою миссию она успешно выполнила: были улучшены макроэкономические пропорции, включая соотношение между накоплением и потреблением, сократились масштабы капитального строительства и изменена его структура в пользу непроизводственной сферы. Соотношение валовой продукции сельского хозяйства и промышленности изменилось в 1978—1983 гг. с 43,1 : 72,2 до 33,9 : 66,1; тяжелой и легкой промышленности — с 43,1 : 56,9 до 48,5 : 51,54.
В принятом 5-й сессией ВСНП 5-го созыва (ноябрь—декабрь 1982 г.) шестом пятилетием плане экономического и социального развития страны с особой силой прозвучала идея «сочетания темпов и эффективности производства». В задачи пятилетки включались ликвидация острых народнохозяйственных диспропорций, широкая техническая реконструкция предприятий, усиление централизации капитального строительства и улучшение материального положения трудящихся.
188
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
В своем выступлении на сессии премьер Чжао Цзыян объявил о новом этапе работы, содержание которого заключалось в «дальнейшем урегулировании внутриотраслевой структуры производства в сельском хозяйстве и промышленности, а также организационной структуры предприятий», обосновал необходимость разработки развернутого проекта хозяйственной реформы5. Осуществление крупномасштабной хозяйственной реформы было вынесено за пределы шестой пятилетки. Таким образом, проведенные прежде мероприятия по хозяйственной реорганизации фактически низводились до положении «поисковых».
В 1982-1984 гг. институциональные изменения в административной и финансовой системе не приобрели большого размаха. Состоялось сокращение числа учреждений Госсовета, были открыты 4 крупных специализированных банка, начала действовать Национальная страховая компания. С 1983 г. приступили к замене отчислений от прибыли выплатой налога, что предполагалось провести в два этапа, но вскоре этот эксперимент был свернут.
5.2. Период 1984—1988 гг.: сочетание плановой экономики и рыночного регулирования
Важным рубежом можно считать 1984 г., когда произошло новое «наступление на реформу». Состоявшийся в октябре 1984 г. 3-й пленум ЦК КПК 12-го созыва принял «Постановление о реформе хозяйственной системы», в котором дано обоснование необходимости дальнейшего расширения хозяйственной самостоятельности предприятий и регионов. Сужение функций центра в деле оперативного хозяйственного руководства затронуло всю систему планирования и ценообразования. В мае 1984 г. введена двухканальная система формирования цен (плановые и рыночные). С начала 1985 г. развернулось реформирование системы управления кредитными ресурсами в соответствии с принципом «централизованное планирование, разделение ресурсов, согласование кредитов с привлеченными средствами при скоординированной их циркуляции».
После перевода промышленных предприятий из системы бюджетного финансирования на кредитование аналогичный порядок был введен в 1985 г. и в сфере капитального строительства. Специализированные банки получили право на самостоятельное распоряжение имеющимися и переданными им дополнительными фондами, причем размер последних исчислялся от базовой величины 1984 г. В результате ответной меры банковских учреждений, которые ради повышения исходной базы пошли на предоставление дополнительных кредитов, их сумма в 1984 г. возросла на 28,9% по сравнению с 1983 г.6
В соответствии с проектом проведения реформы трудовых отношений предприятиям была предоставлена возможность увязки фонда зара¬
Глава 5. Тактика проведения реформы
189
ботной платы с достигнутой эффективностью производства, причем базой расчетов опять-таки был взят 1984 год. В четвертом квартале 1984 г. фонд заработной платы подскочил на 38% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, выплаты премий увеличились сразу в 2 раза.
С 1984 г. в целях стимулирования внешней торговли был взят курс на дальнейшее расширение самостоятельности внешнеторговых компаний и ограничение государственного вмешательства во внешнеторговые операции. Местным органам власти была делегирована часть функций центра по выдаче экспортных и импортных лицензий. Государственные закупки экспортных товаров сохранились только в отношении наиболее важных стратегических товаров, экспорт остальных товаров подлежал регулированию методами индикативного планирования на основе заявок предприятий. Сначала важная роль отводилась местным властям, заключавшим с центральными организациями подряд на определенную величину сдаваемой валюты. Сверхподрядные валютные доходы большей частью оставались в распоряжении мест. Затем стал расширяться круг специализированных внешнеторговых организаций, выступавших в качестве посредников между производителями экспортной продукции и зарубежными заказчиками, а также между иностранными фирмами и потребителями импортной продукции в стране. Изменилась система планирования внешнеторговых операций. С 1985 г. центральные органы отказались от директивных ограничений на внешнеторговые операции, оставив за собой контроль над крайне ограниченным кругом особо важных видов товаров (прежде всего продовольствие и нефть).
Рыночный «энтузиазм, но не во всем продуманное проведение реформы в 1984—1985 гг. вновь спровоцировали экономический «перегрев», со всеми признаками инвестиционного и потребительского бума. Произошло резкое ускорение темпов экономического роста, которое сопровождалось распылением капитальных вложений, углублением разного рода диспропорций, ухудшением качества продукции. Превышение спроса над предложением вкупе с полученными предприятиями правами в отношении установления цен и значительной денежной эмиссией подтолкнуло инфляцию. Ослабление государственного регулирования внешней торговли вызвало всплеск спекулятивных операций, что вместе с ухудшением условий внешней торговли на мировом рынке привело к рекордному внешнеторговому дефициту.
В попытках сдержать неблагоприятные тенденции государственные органы уже в конце 1985 г. вновь заговорили о целесообразности очередного «урегулирования», введя в обращение установку на «укрепление, пополнение и совершенствование». Была проведена серия мероприятий по ужесточению централизованного контроля над экономикой с использованием методов прямого административного вмешательства в производственную деятельность, включая урезание лимитов
190
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
капитальных вложений, сокращение всех видов банковского кредитования. Обеспечение дефицитными видами сырья и топлива средних и крупных предприятий было почти целиком переведено на систему фондирования. Последовали постановления о приостановке реформы цен и реформы заработной платы, введены дополнительные ограничения на перемещения рабочей силы.
Принятые меры привели к существенному падению темпов прироста и сократили совокупный общественный спрос. Однако уже во втором квартале 1986 г. государственный контроль стал ослабевать, а кривая экономического роста вновь поползла вверх, что сопровождалось расстройством денежного обращения, обострением дефицита, углублением структурных диспропорций и нарастанием инфляционных тенденций. Годовая инфляции в 1985—1987 гг. вышла на дотоле невиданный уровень в 21,5%. Правительство фактически расписалось в своей неспособности противостоять очередному экономическому ажиотажу.
Состоявшийся в конце октября 1987 г. XIII съезд КПК, обозначив реформу как совершенствование социалистического строя при комплексном преобразовании всей плановой и бюджетно-финансовой системы, указал на необходимость налаживания макроэкономического управления и предложил новую модель взаимоотношений государства и рынка — «государство регулирует рынок, рынок направляет деятельность предприятий». В 1987 г. региональный финансовый подряд был усовершенствован, но его основной принцип «прямой договоренности» (между центром и регионом) сохранился, а именно: «расширение прав плюс стимулирование за счет дополнительных отчислений от прибыли», особый подход в каждом конкретном случае. С 1988 г. система «регионального подряда» была распространена и на порядок валютных отчислений в центр, размеры которых в течение трех лет оставались неизменными.
После кратковременной попытки введения налогообложения вместо полного изъятия прибыли с 1987 г. развернулся перевод государственных предприятий на подрядную форму хозяйствования, которая предусматривала заключение договора с вышестоящей инстанцией на определенный объем производства и сумму отчислений в государственный бюджет. Это заложило фундамент нормативной основы финансовых отношений предприятий с госбюджетом. В принятом в апреле 1988 г. Законе о промышленных предприятиях общенародной собственности было прописано положение о разделении права собственности и права хозяйствования, что узаконило поиски новых методов управления (акционирование, аренда, рыночные сделки с акциями предприятий). Легализация частного предпринимательства и официальное определение частного предприятия содержались в принятых Госсоветом КНР в 1988 г. «Временных положениях о частных предприятиях».
Мероприятия, проводившиеся до середины 80-х годов в отношении государственных предприятий, содействовали расширению их хо¬
Глава 5. Тактика проведения реформы
191
зяйственной самостоятельности. Распределение имущественных прав между центром и административными единицами разных уровней начало определяться принципом «владеет тот, кто вкладывает средства». Собственником основных фондов, созданных на средства центрального бюджета, оставалось общество в целом, а на средства местных бюджетов — соответствующие органы местной власти. Однако четкого разделения собственнических функций между центральными и местными хозяйственными органами не произошло, и традиционная «ничейность» государственного имущества не была преодолена. Не поднявшись до уровня полноправных собственников, предприятия оставались в значительной степени индифферентными по отношению к рыночным стимулам.
Введение с 1987 г. системы подрядной хозяйственной ответственности обосновывалось целесообразностью размежевания права собственности и права хозяйствования. Новые правила предполагали перевод отношений между государством и предприятием на договорную основу с соблюдением прав и обязанностей в принципе равноправных контрагентов договора: государство в этом случае берет на себя обязательство не претендовать на весь произведенный доход и всю произведенную продукцию, т.е. должно делиться с пользователем средствами производства; в ответ предприятие лишается безвозмездного пользования предоставленными ему средствами производства и обязано отчислять собственнику его долю дохода. В перспективе носителем права собственности (в государственном секторе) оставалось бы по-прежнему государство, а права владения, распоряжения и пользования все в большей мере передавались бы низовым хозяйственным организациям.
Однако наделе хозяйственный подряд в промышленности, не подкрепленный изменениями в системе собственности, вылился в модификацию системы директивного планирования, а индивидуализированный порядок установления подрядных обязательств вступил в противоречие с требованием унификации экономических нормативов в условиях свободной конкуренции. Местные хозяйственные органы перехватили у центра инициативу оперативного управления производством, в результате чего многие из декларированных прав остались на бумаге. Фактически доля оставляемой в распоряжении предприятий прибыли в большинстве случаев не превышала 10%. Известный китайский экономист Сюэ Муцяо считает подрядную систему, действовавшую в 1987—1992 гг., «отклонением от магистрального пути реформ»7.
Система подрядной хозяйственной ответственности как явно паллиативная мера привела к фактическому контролю над предприятиями «инсайдеров» (управляющих и рабочих), но сделать предприятия полностью самостоятельными товаропроизводителями, повысить их экономическую эффективность и избавить от хронической убыточности не удалось. При всем том, что сфера директивного планирования существенно сузилась, снабжение сырьем и оборудованием, а также реализа-
192
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
ция продукции предприятий стали все больше переключаться на рынок, административный контроль отнюдь не был ликвидирован, а лишь видоизменил свою форму. Так называемая «административная децентрализация» как следствие курса «делегирования прав вниз» перенесла административный контроль с центрального уровня министерств и комитетов на провинциальный уровень, местные органы власти узурпировали многие из прав, переданных предприятиям.
Кардинальные изменения в системе собственности китайскому руководству не импонировали по разным причинам. Проведению приватизации мешали не только сохранявшиеся стереотипы относительно неоспоримого господства общественной формы собственности при социализме, но и организационная неготовность к такой масштабной операции из-за отсутствия средств у потенциальных покупателей, недостаточного уровня подготовки управляющих, несовершенства существующего законодательства и незавершенности перестройки органов управления в центре и на местах.
Сложившаяся ситуация активизировала поиски по созданию эффективной системы управления госимуществом, адаптированной крыночным условиям и основанной на принципе разделения административных функций государства от собственнических. Был поставлен вопрос о создании специального органа — Комитета государственного имущества, участвующего в распоряжении государственными дивидендами и в принятии стратегически важных решений, координирующего свои действия с держателями государственного пая (компании по управлению госимуществом, государственные холдинги или другие организации, которым передоверено это право - инвестиционные фонды, крупные производственные объединения).
К практическому осуществлению этого плана приступили уже в 1988 г., когда был учрежден Комитет по управлению государственным имуществом и стали создаваться его региональные подразделения, а в дальнейшем по решению Госсовета КНР были созданы компании по управлению государственным имуществом, которые вышли за рамки прежних отраслевых и региональных хозяйственных управлений и оформлялись как самостоятельные юридические лица. Так были созданы объединения по нефти, металлургии, авиационные и судоходные компании, которые выступали в роли управляющих государственным имуществом.
5.3. Пауза в реформе (1989—1991 гг.)
В результате компромиссного подхода «и план, и рынок», т.е. совмещения административных и рыночных регуляторов экономики, к концу 80-х годов сложился своеобразный «дуалистический» хозяйственный механизм, основанный на своего рода «нормативном плюрализме»
Глава 5. Тактика проведения реформы
193
и договорно-подрядных отношениях: в деревне был введен семейный подряд с закреплением за крестьянскими дворами определенных земельных наделов; почти на всех государственных промышленных предприятиях установлен порядок «подрядной хозяйственной ответственности», расширивший их хозяйственную самостоятельность; отношения между центром и регионами стали регулироваться в соответствии с «региональным хозяйственным подрядом», предусматривавшим фиксированные отчисления с мест в государственный бюджет; внешнеторговые организации тоже руководствовались подрядными обязательствами; прежняя система административного трудоустройства постепенно вытеснялась подписанием трудовых контрактов. Предприятия стали получать сигналы из двух разных источников: от административных органов управления и с рынка, втягивались в игру на разнице договорных и рыночных цен. Действуя привычными административными методами, местные власти превратились в новых «опекунов» предприятий, продолжали вмешиваться в составление планов развития производства, в оплату труда, в организационные перестройки и кадровые перемещения. В то же время центральное правительство оказалось не в состоянии раздельно управлять общими и дополнительными ресурсами через два механизма — распределительный и рыночный, его регулирующая способность с каждым днем ослабевала.
Комментируя итоги первого десятилетия реформы, некоторые китайские экономисты отмечали, что проведенные мероприятия не вышли за рамки «поверхностных» и «поисковых», на место прежней административно-плановой системы пришла родственная ей система «административной децентрализации». Ускорение темпов экономического роста было достигнуто за счет экстенсивных факторов, сопровождалось распылением капиталовложений, углублением различного рода диспропорций, ухудшением качества продукции и ее затовариванием. Становление общегосударственного рынка натолкнулось на межрегиональные «войны» за сырье и другие материально-технические ресурсы.
В ходе развернувшихся в конце 80-х годов экономических дискуссий выявилось два разных подхода в отношении тактики дальнейших реформистских преобразований. Представители «школы комплексных реформ» стояли за приоритет реформы цен, сторонники «школы реформы системы собственности» выдвигали на передний план реформу предприятий. Наиболее ярким пропагандистом либерализации цен был У Цзинлянь, сотрудник Канцелярии Госсовета. За приоритет институциональных преобразований (приватизацию) выступал профессор Пекинского университета Ли Инин. Он утверждал, что рынок в Китае будет задействован только тогда, когда появятся субъекты рынка — предприятия как полностью самостоятельные товаропроизводители, и настаивал на проведении реформы системы собственности как предварительном условии всесторонней реформы системы цен и заработной платы.
194
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
Предложения Канцелярии Госсовета по составлению проекта реформы относительно широкой либерализации цен и финансовой деятельности в целом какое-то время пользовались поддержкой в правительственных кругах, включая одобрение самого Дэн Сяопина. Известно, что аналогичного мнения придерживался и генеральный секретарь ЦК КПК Чжао Цзыян. На рабочем совещании ЦК КПК в Бэйдайхэ в августе 1988 г. велись разговоры о том, что нельзя откладывать проведение финансовой реформы. Однако оппонентам Чжао Цзыяна, в числе которых находились глава Постоянного комитета ВСНП Яо Илинь и премьер Ли Пэн, удалось отстоять позицию поэтапного вступления в рыночную систему, начиная с реформы государственного сектора экономики.
Между тем экономическая ситуация в 1988 г. резко осложнилась. Объем капиталовложений вырос на 23,5%, объем розничного товарооборота — на 27,8, уровень инфляции составил 18,5%, заработная плата быстро обесценивалась. Ухудшение экономического положения выразилось в нарастании напряженности с оборотными средствами, росте взаимной задолженности предприятий, продолжающемся разбухании конечного спроса. Падение курса юаня и слухи о готовящейся либерализации цен вызвали панику среди населения. Летом наблюдалось массовое изъятие вкладов из сберегательных касс и взрыв ажиотажного спроса. Пышным цветом расцвели коррупция и другие экономические преступления, развернулись межрегиональные «войны» за сырье и другие материально-технические ресурсы.
Экономическая дестабилизация начала переходить в политическую. Группа китайских интеллигентов выдвинула программу радикализации политических реформ. Предлагалось пересмотреть Конституцию, исключив из нее упоминания о руководящей роли КПК, передать реальную власть всенародно выбранному парламенту, провозгласить разделение властей, снять ограничения на создание политических партий, подтвердить приверженность Всеобщей декларации прав человека. Об общем «состоянии умов» свидетельствует показ по центральному телевидению летом 1988 г. 6-серийного документального фильма «Элегия о Желтой реке», призывавшего отбросить тысячелетнее наследие и социалистические догматы и поддержать многопартийность и свободу слова. На переднем фронте «борьбы с консерватизмом» оказалось китайское студенчество, в рядах которых были такие оппозиционеры, как Фан Личжи (ныне — один из лидеров антипекинской эмиграции), открыто симпатизировавший демократизации по западному образцу.
Реальная угроза политической и экономической дестабилизации еще раз поставила китайских руководителей перед необходимостью «нажать на тормоза», заняться урегулированием народного хозяйства. 3-й пленум ЦК КПК 13-го созыва (сентябрь 1988 г.) выразил официальную поддержку «надлежащему усилению централизации» и провоз¬
Глава 5. Тактика проведения реформы
195
гласил задачу «оздоровления экономической среды, установления порядка в народном хозяйстве и углубления хозяйственной реформы». Намеченный комплекс мер включал воздействие на общественный спрос, борьбу с инфляцией, наведение порядка в сфере обращения, установление жесткого контроля над капиталовложениями, ростом заработной платы и цен. В проведении реформы сохранялся прежний курс на сочетание плана и рынка, причем акцент был переведен на введение пяти видов подряда (подряд предприятий, отраслевой, региональный, во внешней торговле и в кредитно-заемной области).
Принятые решения, тем не менее, уже не могли сдержать общественного недовольства, вылившегося в серию студенческих манифестаций, которые поддержали некоторые слои населения. После тяньань- мэньских событий лета 1989 г, сопровождавшихся многочисленными человеческими жертвами, во всех сферах общественной жизни был усилен крен в сторону «порядка» и «стабилизации». Прямое административное воздействие на экономические процессы признано хотя и временной, но абсолютно необходимой антикризисной мерой. Такую подоплеку имели усиление контроля над ценами, сокращение капитального строительства, ужесточение контроля над деятельностью объединений и фирм, установление строгой налоговой дисциплины и т.п. 5-й пленум ЦК КПК 13-го созыва в ноябре 1989 г. продлил срок урегулирования с двух до трех лет и наметил шесть основных задач: снижение уровня инфляции до 10%; сокращение масштабов эмиссии до экономически обоснованных; преодоление бюджетного дефицита; удержание темпов роста в разумных пределах 5—6%; преодоление наиболее острых структурных диспропорций; упорядочение реформы и налаживание макроэкономического регулирования. Эти консервативные тенденции, по мнению У Цзинляна привели к «сбою» реформы в 1988- 1989 гг.8
Поражение «рыночников-либералов» и консолидация «рыночников-социалистов» были сопряжены с известной дискредитацией самой идеи реформы как кардинальных преобразований, повлекших за собой анархию и беспорядки. Под разными благовидными предлогами были приостановлены эксперименты по введению аренды и акционерных форм хозяйствования на промышленных предприятиях, усилился прессинг на частное предпринимательство и на мелкие сельские предприятия, что вызвало волну их банкротств. Зашатался и столь популярный до тех пор лозунг хозяйственной самостоятельности регионов. В 1989-1990 гг. появились симптомы свертывания процесса реформ во внешней торговле, были установлены запреты на «нерациональный» импорт ряда потребительских товаров, проведены обследование и ликвидация части предприятий внешней торговли.
Крупный стратегический маневр с денежной эмиссией, проведенный на первом этапе реформы, сопровождался жестким контролем над
196
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
ценами, затем постепенное освобождение цен привело к своего рода паритету директивных и рыночных цен («двухколейная» система цен). В 1990 г. рыночные цены распространялись только на половину розничного товарооборота, 30% его осуществлялось на основе твердых государственных цен, а около 20% товарооборота контролировалось по верхнему пределу цен.
Рестрикционные меры, сдержав процесс реформ, помогли довольно быстро сбить волну инфляции (темпы инфляции снизились с 17,8% в 1989 г. до 2,1% в 1990 г.), стабилизировать потребительский рынок, ограничить инвестиционный спрос. Сократились масштабы денежной эмиссии, заметно улучшилось положение в области сырьевого и энергетического снабжения, был наведен порядок во внешнеэкономической деятельности. Но такая политика имела и свои издержки в виде падения деловой активности и прогрессирующей рецессии рынка. Прирост товарных запасов на промышленных предприятиях обернулся взаимными неплатежами, стала ощущаться нехватка оборотных средств.
Двухгодичная пауза в проведении реформы и внутрипартийная борьба проходили на фоне фактически военного положения в стране и свертывания открытых дискуссий. Дискредитированными оказались как «традиционный социализм», так и либерализм западного толка. Те коррективы, которые стали вноситься в экономическую политику с конца 1989 г., а еще больше в 1990 г., свидетельствовали об отказе от жесткого варианта курса «урегулирования» и о поисках приемлемого варианта хозяйственной реформы. Правительство пошло на активизацию инвестиционной политики, расширение кредитования предприятий с целью преодоления взаимной задолженности, поддержку волостных и поселковых предприятий, стимулирование потребительского спроса через понижение процента по сберегательным вкладам, понижение цен на товары длительного пользования, рост заработной платы. Это позволило преодолеть промышленную стагнацию, обеспечить некоторое наращивание капитальных вложений, добиться заметного оживления потребительского спроса. Тем не менее, с ситуацией «вялого рынка» справиться не удалось.
Дальнейшая судьба «урегулирования» широко обсуждалась на теоретических форумах и в печати 1990 г. Раздавались голоса, что политика «урегулирования» дала половинчатые результаты, поставленных целей не достигла, поэтому приступать к широкомасштабной реформе рано, необходимы дальнейшие усилия по кардинальной структурной перестройке экономики и предупреждению повторного разбухания совокупного спроса. Их оппоненты настаивали на незамедлительном свертывании «урегулирования», ослаблении административного зажима, стимулировании рыночных отношений. Ссылаясь на то, что переход с экстенсивного на интенсивный путь развития невозможен без дальнейшего улучшения системы управления экономикой на макро- и микро¬
Глава 5. Тактика проведения реформы
197
уровнях, они предлагали как можно скорее вернуться к активному проведению хозяйственной реформы.
Судя по некоторым официальным заявлениям, в октябре 1990 г. самый трудный участок «урегулирования» был пройден. Вместе с тем признавалось, что не все проекты «урегулирования» доведены до конца, не все сделанное заслуживает положительной оценки. Особую озабоченность вызывала неэффективность борьбы с бюджетным дефицитом и с убыточностью госпредприятий. Центристская позиция, которой придерживались и правительственные органы, заключалась в том, чтобы, продолжая еще какое-то время курс на «урегулирование», постепенно увеличивать дозировку реформистских преобразований, добиваться тесного сочетания всех трех компонентов экономической политики - урегулирование, реформа и развитие.
1991 год оказался на «стыке» «урегулирования» и «углубления реформы». Рестрикционная политика к тому времени уже себя исчерпала, а серьезные структурные преобразования требовали более решительных действий. После мартовского 1991 г. рабочего совещания по экономической реформе были предприняты новые шаги по совершенствованию форм управления крупными и средними предприятиями. Определенные изменения внесены в господствовавшую с 1987 г. подрядную систему ответственности в промышленности, расширилась свобода деятельности директоров предприятий, сняты «три табу» (на изменение системы собственности, системы подчинения предприятий и систему их финансовых взаимоотношений с вышестоящими инстанциями). Госсовет санкционировал проведение нового эксперимента по организации производственных объединений и акционированию предприятий. На 2000 предприятий введен новый порядок раздельного канализирования налогов и прибыли.
5.4. Принятие курса на построение «социалистической рыночной экономики» (1992—1996 гг.)
Важным переломным моментом китайской реформы стал 1992 год. Черту под политикой «урегулирования» фактически подвело принятое в конце марта постановление Госсовета, в котором констатировалось достижение стабилизации политической и экономической обстановки и полнокровного экономического роста, наличие условий для «углубления» реформы. Дальнейшая радикализации реформы была санкционирована Дэн Сяопином. После своей поездки по южным районам Китая в январе—феврале 1992 г. он предложил отказаться от разного рода идеологических фетишей, смелее экспериментировать, не путать рыночную экономику с капитализмом, не бояться широкого привлечения иностранных капиталов и использования иностранного опыта. Первым
198
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
официальным откликом на призыв лидера явилось решение 5-й сессии ВСНП (март 1992 г.) о начале нового этапа экономической реформы. Доклад Цзян Цзэминя на состоявшемся в ноябре 1992 г. XIV съезде КПК содержал мобилизующие ориентиры - ускорить процесс реформы, т.е. рыночных преобразований, смелее проводить политику внешнеэкономической открытости, форсировать осуществление модернизации.
Общие установки реформирования системы собственности сформулированы на съезде следующим образом:
■ легитимизация частного и индивидуального предпринимательства как важных участников «социалистического рынка», которые вносят существенный вклад в рост производства и обеспечение занятости населения;
■ реформирование государственного сектора в соответствии с принципом «не выпускать из рук крупные и отпустить мелкие (предприятия)» («чжуада, фансяо») с перспективой полного разделения «чжэн» и «ци», т.е. административных инстанций от хозяйствующих организаций, превращения последних в самостоятельных товаропроизводителей со статутом юридических лиц;
■ привлечение иностранных инвесторов в экономику Китая, создание частных иностранных и смешанных предприятий с участием иностранного капитала. Приток частного и иностранного капитала должен был постепенно диверсифицировать систему собственности без разрушения ее «ядра» в виде крупных государственных предприятий.
3-й пленум ЦК КПК 14-го созыва (ноябрь 1993 г.) принял «Решение по некоторым вопросам создания системы социалистической рыночной экономики», которое нацеливало на формирование полноценной рыночной системы, превращение промышленных предприятий в субъектов рыночных отношений (реформа государственных предприятий) и совершенствование макроэкономического регулирования в соответствии с рыночными требованиями (реформа налоговой и кредитно-денежной системы).
Утвердившаяся концепция «модернизация вместо приватизации» определяла характер хозяйствующих предприятий как полноправных рыночных субъектов, действующих согласно установленным государством «правилам игры», что требовало сбалансирования корпоративных и общегосударственных интересов. Принятый в 1992—1994 гг. пакет государственных постановлений, в том числе «Установки по изменению механизма управления предприятиями общенародной собственности» (так называемые «14 положений») и Закон о корпорациях, нацеливали на превращение большей части государственных объектов в «современные предприятия», иначе говоря, корпорации, функционирующие в условиях рынка и жесткой конкуренции при использовании научных методов управления и освободившиеся в значительной мере от
Глава 5. Тактика проведения реформы
199
прямого административного вмешательства. В соответствии с принятыми постановлениями государственные предприятия получили ряд дополнительных прав, в том числе распоряжаться продукцией, произведенной сверх государственного плана и половиной плановой продукции (в 1994 г. эта доля была доведена до 80%); приобретать на рынке необходимое сырье и материалы, вступать в прямые связи с другими предприятиями; оставлять для пополнения своих фондов часть получаемой прибыли (до 25%), самостоятельно решать вопросы внутренней организации и расстановки кадров; устанавливать размеры зарплаты и премий работникам в рамках утвержденного фонда оплаты труда.
В 1992-1993 гг. почти повсеместно были введены свободные цены на зерно и другие сельскохозяйственные товары, отменена карточная система распределения. На конец 1993 г. доля продукции, реализуемой по твердым государственным ценам, сократилась до 5% розничного товарооборота, 10% объема закупок сельхозпродукции и 15% объема реализации средств производства9.
В 1992 г. единый государственный бюджет был разделен на две части: регулярный бюджет и бюджет развития. Первый формируется главным образом за счет налогов, второй — за счет неналоговых поступлений от предприятий, перечислений из внебюджетных фондов с добавлением положительного сальдо регулярного бюджета. Регулярный бюджет, средства которого направляются на поддержание непроизводственной сферы, сводится с положительным сальдо. Бюджет развития предназначен для целей экономического строительства, преимущественно для строительства важнейших объектов общегосударственного значения.
После отмены международных санкций против Китая, связанных с Тяньаньмэньскими событиями, в 1992—1993 гг. произошел лавинообразный рост иностранных инвестиций. Иностранный капитал занял прочные позиции в производственном секторе и начал осваивать отрасли «третьей сферы» экономики (розничная торговля, транспорт, различные виды услуг). Расширился и ареал приложения иностранного капитала, в который вошли крупнейшие торгово-промышленные центры страны.
Реакция китайской экономики на очередной реформаторский импульс была предсказуемой. Уже со второй половины 1992 г. возникла ситуация, которую китайская печать закодировала как «четыре завышения и четыре ажиотажа» (завышение капиталовложений, объемов кредитов, темпов роста промышленности и цен, ажиотаж на рынке акций, в жилищном строительстве, в создании открытых зон, в образовании разного рода фондов). Резкое увеличение инвестиций в основные фонды стимулировало спрос на импортную технику. Быстрый рост импорта на фоне замедления роста экспорта привел к торговому дефициту по итогам 1993 г. в размере 12,2 млрд. долл. Производственная горячка обер¬
200
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
нулась нехваткой оборотных средств, ростом расходов на административные цели, повышенным спросом на кредиты. Резервные фонды банков катастрофически снижались. Сократившиеся бюджетные доходы не покрывали возросших расходов, усугубилась проблема бюджетного дефицита. Возникло напряженное положение со снабжением сырьем и топливом, с транспортным обеспечением. Железные дороги могли удовлетворить возросшие потребности только на 2/5 10.
«Перегрев экономики» и сопровождавшая его инфляция (кстати, самая серьезная со времени реформ — среднегодовой индекс роста цен составил в 1992—1994 гг. около 23%) потребовали принятия экстраординарных мер. В июне 1993 г. ЦК КПК и Госсовет приняли решение об усилении государственного вмешательства в экономику по уже сложившимся рецептам политики «урегулирования»: сокращение кредитования нового строительства и ужесточение кредитной и налоговой дисциплины, контроль над денежной эмиссией, повышение банковских ставок и привлечение банковских сбережений, замораживание цен. Опасения реально сорваться в инфляционный «штопор» заставили правительство КНР заявить о частичном возврате к государственному контролю над закупочными и розничными ценами на зерно и растительное масло.
Комплекс мер по предотвращению «перегрева», получивший название «лекарства вице-премьера Чжу Жунцзи», помог сбить инфляцию в 1995 г. до 14,8%, а в 1996 г. - до 6,1%. В 1997 г. инфляция снизилась уже до 0,8%. Однако рынок отреагировал на государственное вмешательство падением спроса, в первую очередь на предметы потребления и материалы, связанные с их производством. Китайская экономика вступила в этап относительного перепроизводства преобладающего большинства видов промышленной и сельскохозяйственной продукции с перспективой вхождения в депрессию.
В отличие от прошлых попыток «урегулирования» с откатом назад в хозяйственных преобразованиях «мягкая посадка экономики» образца 1993 г. не заблокировала хозяйственной реформы. Закон о внешней торговле (май 1994 г.) и одобренные в июле 1995 г. Закон о Центральном банке КНР и Закон о коммерческих банках заложили правовые основы либерализации банковской системы и дальнейшего развития открытой внешнеэкономической политики в соответствии с международными стандартами.
Важным реформистским шагом явилась реформа налоговой системы. С января 1994 г. все хозяйствующие организации были переведены на налоговую форму взаимоотношений с госбюджетом. Введена единая для всех видов предприятий пониженная ставка подоходного налога в размере 33% от валовой прибыли вместо прежних 55%. Для низкорентабельных предприятий на 2 года устанавливались льготные ставки подоходного налога в размере 27 и 18%. Кроме того, 15% суммы отчислений
Глава 5. Тактика проведения реформы
201
по подоходному налогу стали возвращать предприятиям для пополнения их оборотных фондов. Вместо пестрой гаммы налогов с оборота введен единый налог на добавленную стоимость с двумя видами ставок: общая — 17 и льготная — 13% (для поставщиков товаров для сельского хозяйства). Был пересмотрен также ряд других налоговых установок.
Еще одно важное направление налоговой реформы — замена «регионального финансового подряда» системой деления налогов между центральным и местными бюджетами. К центральным налогам отнесены таможенные пошлины, подоходный налог с государственных предприятий и на определенные виды хозяйственной деятельности (включая банковские и страховые услуги). К местным налогам причислены подоходный налог с предприятий местного подчинения, личный подоходный налог и др. Часть налогов продолжала распределяться в определенной пропорции между центром и регионами. Введение новой системы было рассчитано на 5 лет с сохранением в течение этого срока компенсации регионам потерь от нового порядка налогообложения. После налоговой реформы 1994 г. доля центрального бюджета в консолидированном бюджете по доходам повысилась с 22% в 1993 г. до 48,9% в 1997 г., но по расходам (в результате трансфертов из центрального в местные бюджеты) даже снизилась — с 28,2 до 27,4% п. Рост финансовых доходов государства стал значительно отставать от роста ВВП. В результате к 1994 г. ВВП вырос на 147,7% с 1990 г., а финансовые доходы государства — на 76,6%, их доля в ВВП снизилась с 16,6% в 1990 г. до 11,8% в 1994 г.
Уже в начале 90-х годов наметилась корректировка стратегии территориальной открытости. Объявлено о том, что число СЭЗ в будущем не будет увеличиваться и акцент будет перенесен с налоговых привилегий на преимущества хозяйственного механизма, совершенствование производственной структуры, повышение технологического уровня производства, расширение сферы услуг. После того, как с января 1994 г. валютные сертификаты стали выводиться из обращения, юань был фактически девальвирован (примерно на 1/3) и жестко привязан к доллару (по типу currency board)12. Это способствовало дальнейшему росту внешней торговли с опережающим увеличением экспорта по сравнению с импортом. Заметное воздействие на оживление внешней торговли оказали благоприятная конъюнктура мирового рынка, повышение привлекательности Китая как торгового партнера и места приложения капиталов. С апреля 1996 г. перестали действовать таможенные льготы в отношении предприятий, находящихся в СЭЗ, что отвечало требованиям вступления в ВТО. При этом сохранялись льготная процентная ставка подоходного налога для совместных предприятий, беспошлинный (до 2000 г.) ввоз оборудования и материалов для объектов инфраструктуры, особые права в утверждении инвестиционных проектов, определенная юридическая автономия властей зон и ряд других льгот.
202
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
В марте 1996 г. в одной провинции и трех городах начался эксперимент по интегрированию предприятий с иностранным капиталом в общенациональную систему валютных операций. Это означало переход к фактической конвертируемости юаня по текущим операциям, о чем официально было объявлено в декабре 1996 г. За исключением ряда крупных предприятий вся валютная выручка, полученная от реализации продукции за рубежом, обменивалась уполномоченными государственными банками на национальную валюту. Физические лица были лишены возможности свободно продавать и покупать иностранную валюту.
Утвержденные в 1996 г. 9-й пятилетний план экономического и социального развития Китая на 1996—2000 гг. и долгосрочная Программа развития до 2010 г. были построены на поддержании высоких (порядка 8% в год) темпов роста ВВП.
5.5. Общая ориентация на создание «цивилизованного рынка» (1997—2001 гг.)
Проводившаяся в 1993—1997 гг. жесткая кредитно-денежная политика, призванная обеспечить «мягкую посадку» экономики (в отличие от «жесткой посадки» в 1989—1991 гг.), дала определенные положительные результаты: преодолена опасность экономического перегрева, улучшился качественный состав внутреннего рынка, произошли структурные изменения экспорта в пользу товаров более глубокой степени переработки, усовершенствовались методы макроэкономического регулирования, введен более строгий контроль над кредитами, значительно снизилась инфляция. Экономический рост удалось притормозить, но ряд непредвиденных обстоятельств, особенно развернувшийся с конца 1997 г. азиатский финансовый кризис, а также постигшие страну в 1998—1999 гг. крупномасштабные стихийные бедствия, вывели ситуацию за рамки приемлемой рецессии. В результате обесценивания на 30-40% национальных валют совокупный спрос ряда азиатских стран резко упал, что крайне отрицательно сказалось на экспорте Китая в эти страны и на общей конкурентоспособности китайских товаров.
Противостояние угрозе депрессии потребовало больших усилий. Принятое решение не девальвировать свою валюту позволило Китаю сдержать эскалацию финансового кризиса. Основным фактором, обеспечившим достаточную устойчивость китайской национальной валюты, следует считать солидные золотовалютные резервы страны, которые в результате значительного положительного сальдо торгового и платежного баланса и притока иностранных капиталов выросли в 1993—1998 гг. в 6,6 раза и составили 140 млрд. долл. Влияние кризиса на Китай было также ослаблено относительной закрытостью финансовой системы стра¬
Глава 5. Тактика проведения реформы
203
ны от внешних рынков капитала, сохранением государственного контроля за валютными операциями и отсутствием полной конвертируемости юаня. Определенный запас прочности создала также специфическая структура внешнего долга, состоявшего на 85% из средне- и долгосрочных обязательств, отсутствие оффшорных банков и свободного доступа иностранцев на внутренние фондовые рынки, что обеспечило Китаю определенный иммунитет по отношению к международным спекуляциям.
Тем не менее, последствия азиатского финансового кризиса оказались весьма болезненными. На внутреннем рынке в результате свертывания инвестиционной активности и замораживания жизненного уровня населения произошло падение спроса. Ситуацию усугубило насыщение спроса после потребительского бума 80-х годов, сохранение довольно высокого уровня цен и банковских сбережений населения из-за опасений потери работы и изменения структуры потребления. Свой вклад в обострение противоречия между спросом и предложением внесло и само предложение. Из-за трудностей сбыта экспортных товаров произошло их частичное перемещение на внутренний рынок. Всплеск неконтролируемой местной инициативы и разрастание мелкого производства без всякого учета дальнейших перспектив способствовали широкому распространению многочисленных дублирующих друг друга предприятий. В итоге в промышленности образовался колоссальный избыток мощностей. Проведенные в 1998—1999 гг. обследования показали, что в 2/5 случаях использование имеющихся мощностей составило менее 60%13, по 90% номенклатуры потребительских товаров наблюдалось превышение производства над спросом14. Начиная с 1998 г. на смену разрушительной инфляции пришло абсолютное снижение уровня цен.
Тенденция падения цен сначала рассматривалась в Китае как крайне положительное явление. Инфляция за годы реформы значительно подтянула общий уровень цен. Например, цены на зерновые, хлопок, сахар, автомобили, электроэнергию, электробытовые приборы, одежду, мебель, а также расценки в сфере услуг приблизились к среднемировым или даже оказались выше последних. Однако в дальнейшем падение цен стало отрицательно сказываться на экономической конъюнктуре. В 1998 г. на так называемом «Осеннем экономическом симпозиуме» китайские ученые, обсуждая данную проблему, пришли к выводу, что процесс медленного, но неуклонного падения цен можно уже считать дефляцией. Общий индекс цен в 1998 г. оказался минусовым (-2,6%) при снижении цен на потребительские товары на 0,8% и росте цен на услуги на 10,1%.
Некоторые китайские ученые, считая, что дефляция и инфляция представляют собой явления, связанные с избытком или нехваткой денежных средств, предлагали сконцентрировать внимание на вопросах роста и предложения денежных масс Ml и М2. Другие же придержива¬
204
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
лись мнения, что основная проблема не в масштабах денежной массы, а в недостаточном денежном спросе со стороны реального сектора. По их мнению, следовало целиком и полностью переключиться на проведение реформы предприятий и реструктуризацию экономики.
Учитывая всю совокупность возникших трудностей, руководящие хозяйственные органы отказались от амбициозных целей на 1998 г., выделив три главных компонента реформы (государственный сектор, финансовая система и преобразование административного аппарата) и пять конкретных областей (продовольственное снабжение, кредитное обеспечение, жилищное строительство, медицинское обслуживание населения, улучшение налоговой системы). Повышенное внимание сохранялось в отношении сельского хозяйства, реструктуризации экономики, создания системы вторичного трудоустройства. На 3-м пленуме ЦК КПК 15-го созыва, специально посвященном работе в деревне (октябрь 1998 г.), было предложено продлить сроки действия земельного подряда до 30 лет, укрепить правовую основу подрядных отношений и гарантировать ее соблюдение.
Всекитайская конференция по финансам, проведенная в Пекине в ноябре 1997 г., наметила перспективу создания до конца 2000 г. надежной финансовой системы с включением в нее различных видов финансовых организаций, финансовых рынков и финансового контроля. Отслеживание состояния денежного обращения возложено на учрежденный при центральном банке (Народный банк Китая) Комитет по денежной политике. Перестройка самого центрального банка была сориентирована на усиление централизованного контроля за финансовыми потоками. В этих целях ликвидированы провинциальные филиалы центрального банка и вместо них созданы 9 укрупненных подразделений межпровинциального характера.
Вторым направлением банковской реформы явилось оздоровление структуры государственных коммерческих банков и приспособление их деятельности к требованиям рыночной экономики. Одновременно был усилен контроль за деятельностью банков, особенно в сфере валютных операций. Продолжено расширение функций иностранных банков на территории страны. В целях либерализации внешней торговли Китай в 1996—1997 гг. отказался от большого числа импортных квот, пошел на широкое сокращение импортных тарифов.
Ситуация «вялого рынка» вынудила государство перейти к методам активной финансовой политики. На первом этапе (май 1996 г. — первая половина 1998 г.) основная ставка была сделана на дальнейшее снижение банковского процента, в 1998 г. процентные ставки корректировались в сторону снижения 7 раз, что, однако, не принесло ожидаемого эффекта, зато существенно уменьшило привлекательность китайского рынка для краткосрочных инвестиций. На втором этапе (вторая половина 1998 г. — май 1999 г.) главный акцент был перенесен на рас¬
Глава 5. Тактика проведения реформы
205
ширение государственных капиталовложений и выпуск государственных долговых облигаций.
В июле 1998 г. Госсовет КНР распространил «Постановление об углублении реформы жилищной системы и ускорении жилищного строительства в городах и поселках». В нем говорилось о необходимости форсирования жилищного строительства в качестве важного стимула экономического роста, претворения в жизнь программы обеспечения жильем на коммерческой основе. Согласно этому постановлению, в Китае уже к концу 1998 г. было намечено прекратить в основном административное распределение жилья и развернуть продажу квартир с учетом финансовых возможностей населения. В 1998 г. банки предоставили жилищных кредитов на сумму 250 млрд. ю.
На поддержание экономического роста были направлены мероприятия в области совершенствования налоговой системы. Основная идея развернувшейся налоговой реформы — «усиление центра в области налоговых поступлений и регионов в области бюджетных расходов». Установлены следующие этапы прохождения реформы: до 2000 г. — главенство налога с оборота при вспомогательной роли подоходного налога, в 2000—2005 гг. выравнивание значения двух видов налогов, в 2006-2010 гг. — переход приоритета к подоходному налогу. С 1 января 1998 г. сокращены налоги на 1014 видов товаров. Особое внимание уделено поддержке развития мелкого бизнеса. Произведена некоторая корректировка системы деления налогов между центром и регионами.
В результате этих мер стало ощутимым оживление инвестиционного климата, рост объема капиталовложений за 1998 г. практически вдвое обгонял рост ВВП. Тем не менее, снижение эффективности производства продолжилось. Все без исключения государственные предприятия — будь то крупные, средние или мелкие — оказались по итогам 1998 г. убыточными (общие убытки возросли на 30%).
На сессии ВСНП 1998 г. был принят проект реформы структуры Госсовета, предусматривавший передачу значительного числа полномочий местным органам власти, сокращение числа канцелярий и администраций в прямом подчинении Госсовета. Сессия назначила на пост премьера Чжу Жунцзи, авторитетного хозяйственника, инициатора политики «мягкой посадки». Произошли определенные изменения в структуре правительственных органов экономического профиля.
Реформирование госсектора шло в соответствии с выдвинутой на XV съезде КПК в 1997 г. программой модернизации государственного сектора, которая включала в себя создание крупных корпораций, широкую техническую реорганизацию и освоение научных методов управления. 1 тыс. наиболее крупных и важных государственных предприятий вошли в число претендентов на статут корпораций с предоставлением им самой широкой хозяйственной самостоятельности. Однако осуществление программы продвигалось с большим трудом. На фоне
206
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
успешно действующих государственных корпораций, таких, как Китайская нефтегазовая корпорация, Китайская нефтехимическая компания, Шанхайская металлургическая компания «Баошань» и др., продолжали существовать многочисленные предприятия с низкой экономической эффективностью
Под давлением растущей убыточности государственного сектора китайское правительство становилось все более решительным в своих действиях по преобразованию системы собственности. Мелкие и средние предприятия получили право выбора модели разгосударствления: акционирование, перевод в арендную форму либо на положение коллективной организации, продажа в частные руки или иностранным вкладчикам. На конец 1998 г. 80% мелких и средних промышленных государственных предприятий на самостоятельном балансе прошли реорганизацию, из них на акционерно-кооперативную форму перешли 22,6% общего числа этих объектов 15.
В 1999 г. был обнародован Закон о предприятиях, основанных исключительно наличных инвестициях, а в сентябре 1999 г. 4-й пленум ЦК КПК 15-го созыва принял «Решение по наиболее важным вопросам реформирования и развития государственных предприятий», подтвердившее прежнее направление на углубление преобразований и их завершение в основном к 2010 г. Дальнейшая реструктуризация госсектора включала создание рынка ценных бумаг, более широкое проведение процедуры банкротств.
В области промышленности при следовании курсу на создание «современных предприятий» основное внимание было уделено финансовому положению низовых хозяйственных звеньев, ликвидации убыточности, упорядочению и усилению руководящего состава предприятий. Что же касается организационного оформления системы управления государственным имуществом, то в этой сфере нарастало разочарование. После 10 лет своего существования Комитет по управлению госимуще- ством остался бюрократической организацией, выполняющей функции регистрации госучреждений, и не представлял интересов собственников, к тому же явно дублировал Государственную плановую комиссию. В 1998 г. в ходе административной реформы аппарат Комитета был сокращен, а он сам переброшен сначала под управление Комитета по экономике и торговле, а потом Министерства финансов, что значительно снизило его авторитет и завершилось его ликвидацией. Фактически право собственности продолжало оставаться раздробленным, и государственные дивиденды не получили своего собственного финансового оборота. Созданные государственные холдинги сохраняли в значительной мере прежний характер административный организаций.
Особое положение сложилось в Шанхае и Шэньчжэне, где в виде эксперимента были установлены трехступенчатые системы управления госимуществом, а именно: государственное управление — органы уп¬
Глава 5. Тактика проведения реформы
207
равления госимуществом (управления или холдинги) — государственные предприятия. Правительственные органы были устранены от управления предприятиями, а могли выступать только в роли обычных инвесторов.
При структурной перестройке промышленности в число лидеров вошли 5 отраслей: общее машиностроение, автомобилестроение, нефтяная промышленность, производство электронного оборудования, строительная индустрия.
Важным положительным итогом 1998 г. следует считать удержание экономического роста на уровне близком к запланированному, тем не менее, темп промышленного роста оказался самым низким с 1991 г. (8,9%) при очень небольшом превышении роста по легкой промышленности по сравнению с тяжелой. Розничный товарооборот вырос только на 6,8%, что на 10 с лишним процентных пунктов ниже среднего показателя за 1985—1997 гг. (17,7%). Внешнеторговый оборот в 1998 г. в противоположность установившейся традиции неуклонного роста остался на уровне предыдущего года. Пострадала и сфера привлечения иностранных инвестиций. Банкротство или тяжелое финансовое положение целого ряда японских, южнокорейских и тайваньских компаний привело к отказу от планируемых инвестиций в КНР.
Серьезное экономическое положение страны стало главной темой докладов китайских лидеров на 2-й сессии ВСНП 9-го созыва в марте 1999 г. Председатель КНР Цзян Цзэминь назвал три главные задачи экономической политики руководства: во-первых, стабилизация и подъем сельского хозяйства, во-вторых, углубление реформы госпредприятий и, в-третьих, активизация усилий в области финансовой реформы. В выступлениях членов правительства были обозначены и другие «болевые точки», требующие государственного внимания: сельская инфраструктура, личное потребление, развитие частного сектора.
Из официальных документов мартовской сессии ВСНП следовало, что китайское правительство пересмотрело свои взгляды на экспорт как на локомотив экономики и сосредоточилось на развитии внутреннего спроса путем кредитно-денежных стимулов и изменения структуры потребления в сторону предметов длительного пользования и жилищного строительства. С марта 1999 г. НБК дал разрешение всем коммерческим банкам страны на выдачу потребительских кредитов населению.
С 1 июля 1999 г. государство намного увеличило денежные субсидии лицам со средними и низкими доходами. В частности, размеры пособий высвободившемуся персоналу госпредприятий, страховые пособия по безработице и пособия по обеспечению прожиточного минимума, предусмотренные для городского населения, возросли на 30%. На эти цели, а также на дополнительные выплаты пенсий и других пособий гражданам государство ассигновало 54 млрд, ю., свыше 84 млн. человек получили ощутимую выгоду. Однако из-за сокращения сельскохозяй¬
208
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
ственного производства и падения цен на сельскохозяйственную продукцию доходы крестьян росли медленно. Соотношение доходов городского и сельского населения составило 2,65 : 1.
Правительство также всячески старалось изменить ситуацию в области соотношения потребления и сбережений. Помимо неоднократного снижения процентных ставок по вкладам, с 1 ноября 1999 г. введен налог на прирост банковских вкладов населения, значительно выросли объемы «накопительных страховых вкладов». В середине 1999 г. в стране сложилась специфическая ситуация, когда объем банковских вкладов (физических и юридических лиц) практически в 3 раза превышал объем выданных кредитов, что не свойственно нормальной рыночной экономике. В августе было принято решение НБК снизить норму обязательных резервов коммерческих банков, что приостановило сокращение капитального строительства.
Одним из главных компонентов активизации финансовой политики стало дальнейшее увеличение государственного долга. В начале 1999 г. было принято решение о выпуске облигаций на общую сумму 25 млрд. ю. для капиталовложений в объекты в области инфраструктуры и облигаций на аналогичную сумму для инвестиций в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и строительстве водохранилищ. По оценкам, общая сумма правительственного долгового инвестирования составила к концу года примерно 200 млрд, ю., что помогло увеличить темпы экономического роста примерно на 2 процентных пункта. В общей сложности в 1998—2000 гг. были выпущены 3 долгосрочных строительных займа на сумму 360 млрд, ю., банки предоставили дополнительные кредиты на общую сумму 750 млрд. ю.16
В конечном счете, в 1999 г. Китаю удалось избежать последствий азиатского финансового кризиса, столь больно ударившего по его соседям, и удержать темп экономического роста на уровне выше 7%. Однако противоречивость ситуации, дальнейшее замедление роста розничного товарооборота и притока иностранного капитала, рост дефицита бюджета и многое другое дали повод говорить о вступлении страны в зону «повышенного риска», а пессимистам даже о кризисе перепроизводства. Значительно ухудшилась социальная обстановка, обострилась проблема занятости, мощными дестабилизирующими факторами стали имущественное расслоение население и региональная дифференциация. Угрожающие масштабы приняла коррупция. Китай оказался в нижней точке экономического цикла («ложбине») волнообразного развития.
Ожидалось, что 1999 год окажется «годом стабилизации» для сельскохозяйственного производства, серьезно пострадавшего в результате стихийных бедствий 1998 г. Производство основных сельскохозяйственных культур (кроме масличных) сократилось. В 1999 г. было собрано 508 млн. т зерна, что на 3,97 млн. т меньше уровня предыдущего года, т.е. на 0,8%. Особенно пострадало производство хлопка и сахара, что во мно¬
Глава 5. Тактика проведения реформы
209
гом объясняется проблемами со сбытом произведенной в предыдущие годы продукции и санкционированным государственными органами сокращением посевных площадей. К тому же падение цен на сельскохозяйственную продукцию в 1999 г. было самым глубоким за все 90-е годы.
В 2000 г. были подведены итоги 9-й китайской пятилетки, завершивший «второй шаг» разработанной Дэн Сяопином программы «социалистической модернизации». На проходившем в октябре 2000 г. 5-м пленуме ЦК КПК 15-го созыва были отмечены такие достижения пятилетки, как сохранение высоких экономических темпов, эффективность борьбы с инфляцией и сдерживанием дефляционных тенденций, обеспечение стабильности финансовой системы в нелегких условиях азиатского финансового кризиса и падения внутреннего спроса. Были рассмотрены и одобрены основные установки на следующую десятую пятилетку (2001-2005 гг.) с тремя главными направлениями работы центрального правительства на ближайшие годы: наращивание инвестиций, рост потребления, всемерное расширение экспорта.
Экономическая ситуация 2001 г. складывалась при определенном балансе положительных и отрицательных факторов. К благоприятным моментам следует отнести улучшение обстановки после трех лет проведения активной бюджетной политики. Были получены неплохие результаты в части ликвидации убыточности государственных промышленных предприятий, в проведении жилищной и других реформ в социальной сфере. Положительные сдвиги произошли в правовом оформлении реформ. Стимулирующее воздействие оказали принятие государственной программы по освоению западных регионов и активная подготовка к вступлению КНР в ВТО.
К числу отрицательных факторов можно отнести слабость внутренних стимулов экономического роста, прежде всего недостаточный потребительский спрос. Уменьшения убыточности государственных предприятий удалось достичь с помощью целого ряда особых мер в виде снижения банковского процента и перевода части долгов в акции, организация же производства на предприятиях улучшалась крайне медленно.
Состоявшееся в конце ноября 2001 г. государственное совещание по экономической работе наметило следующие главные направления экономической деятельности в текущем и в следующем годах:
■ продолжение активной бюджетной политики с целью расширения внутреннего спроса;
■ углубление реформы в сельском хозяйстве и совершенствование его структуры;
■ развитие комплекса отраслей новой технологии;
■ углубление реформы государственных предприятий с целью повышения их эффективности и конкурентоспособности;
■ проведение соответствующих мероприятий в связи со вступлением в ВТО;
210
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
■ активное расширение занятости;
■ поддержка процесса малой урбанизации и связанная с этим перестройка волостно-поселковой промышленности17.
«Совершенствование рыночной системы» предполагалось в основном завершить к 2010 г. Ноябрьское государственное совещание по экономической работе признало необходимость сохранения курса на расширение внутреннего спроса на ближайшие несколько лет. Заявлено, что этот «стратегический курс, определяемый китайской спецификой», должен сочетаться с дальнейшим урегулированием экономической структуры, углублением экономических реформ, расширением занятости, улучшением жизни народа18. В 2001 г. было выпущено государственных займов еще на сумму 150 млрд. ю., и на конец года их общая эмиссия составила 510 млрд. ю. Вклад активной бюджетной политики в экономический рост по годам составил: 1998 г. - 1,5%, 1999 г. - 2,0; 2000 г. - 1,7, 2001 г. - 1,8%19.
Выступая на праздновании 80-летия КПК (1921-2001 гг.), Цзян Цзэминь подчеркнул неизменность курса «реформ и открытости», наметив в качестве непосредственной практической задачи «совершенствование социалистической рыночной экономики» и сохранение «ведущей роли общественной собственности» в функционирующей многоукладной экономике. Первая задача иногда формулируется иначе, как «окончательное ниспровержение прежней плановой системы». Постановка второй задачи выглядит как установление «предела» развернувшегося процесса реструктуризации китайской экономики.
В 2000—2001 гг. в результате предыдущих преобразований предприятия необщественных форм собственности значительно повысили свой удельный вес в экономике, появилась масса гибридных форм, сложился хозяйственный анклав иностранных предприятий.
5.6. Современная корректировка хода реформы в плане «гармоничного развития» (2002—2005 гг.)
После XVI съезда КПК (ноябрь 2002 г.) Китай вступил в новый этап развития уже с руководителями «четвертого поколения», которые пришли во власть после «культурной революции». Генеральным секретарем ЦК КПК был избран Ху Цзиньтао. Съезд определил основные направления дальнейшей реформы экономической системы и развития политических институтов, акцентировав задачи углубления рыночных преобразований и совершенствования социалистической рыночной экономики. В конце октября 2003 г. на 3-м пленуме ЦК КПК 16-го созыва был принят документ «Решение по некоторым вопросам совершенствования социалистической рыночной экономической системы». В нем изложена новая концепция «и жэнь вэй бэнъ» (человек — основа основ,
Глава 5. Тактика проведения реформы
211
или все во имя человека), подчеркнута необходимость комплексного, гармоничного, устойчивого развития.
15 апреля 2004 г. Государственный комитет по реформе и развитию объявил о 7 главных направлений реформы:
■дальнейшее проведение и совершенствование реформы собственности, включая нормативное акционирование госпредприятий;
■ ускорение реформы сельскохозяйственного налогообложения, реформа системы продовольственного снабжения, пользования землей, сферы услуг на селе, создание механизма перемещения избыточной рабочей силы в несельскохозяйственные отрасли и в города;
■ углубление реформы денежной, банковской системы, капиталовложений, цен, всей финансовой системы, реформа коммерческих банков;
■ углубление преобразований системы административного управления, функций государства;
■ продолжение «открытой политики», развитие рынка капиталов;
■ снятие всех заслонов для осуществления рациональной трудовой миграции, легитимизация рынка рабочей силы;
■ выдвижение на первый план реформы социальной сферы.
Реформа системы собственности после 2000 г. была направлена в первую очередь на повышение эффективности государственных предприятий. В 1999—2001 гг. в целях ликвидации убыточности производства часть банковских долгов переведена в акции. Списание долгов значительно улучшило финансовое положение предприятий, привело к росту банковского уставного капитала. Массовая распродажа государственных активов мелких предприятий зачастую стала проводиться по инициативе местных правительств, которые намеревались тем самым полностью освободиться от опеки центральных органов и повысить свои шансы в конкурентной борьбе за рынки сбыта. В первой половине 2001 г. выпущено указание Госсовета «О сокращении государственного пая в целях пополнения фондов социального страхования» и принято решение о продаже акций убыточных предприятий иностранным инвесторам. Однако в 2002 г. это решение было аннулировано под предлогом необходимости более взвешенного подхода к оценке государственного имущества. В ноябре 2002 г. опубликовано «Временное положение по реструктуризации государственных предприятий с использованием иностранного капитала», которое вступило в силу с 1 января 2003 г. До этого вышло постановление, касающееся государственного пая и пая юридического лица при вложении иностранного капитала в компании, выходящие на фондовый рынок. Региональное звено системы управления государственным имуществом не было целиком разрушено, допускались разные конкурирующие между собой варианты управления государственным имуществом.
Особого внимания заслуживает Шаншэньская модель (Шанхай и Шэньчжэнь), к которой присоединились Сямэнь и Гуанчжоу. Это круп¬
212
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
ные индустриальные центры самой развитой восточной и юго-восточной части страны, где реформы проводились с наибольшей активностью и эффектом. Шанхай и Шэньчжэнь — два города, где работают фондовые биржи. Эти города отличались высокой степенью внешнеэкономической открытости (СЭЗ Шэньчжэнь и Сямэнь, СЭЗ Пудун в Шанхае), быстрым развитием негосударственных форм собственности. Модель сохранила трехуровневую организационную структуру, заложенную в первоначальный проект Института экономики: Комитет управления государственной собственностью (региональный) - холдинговые компании - государственные предприятия как самостоятельные юридические лица. Правительственные органы устранены от управления предприятиями и могут выступать только в роли обычных инвесторов. Учрежденные Комитетом холдинговые компании являются держателями государственного пая на предприятиях, преобразованных в акционерные компании. Каждый государственный пакет акций имеет в лице той или иной холдинговой компании четко определенного владельца, наделенного всеми правами собственности. Два главных вида держательских организаций — на базе сверхкрупных производственных объединений и специально созданные инвестиционные компании. Они частично сохраняют функции административных организаций, участвуя в приеме экзаменов соискателей на должности высших руководителей крупных предприятий и в самой процедуре акционирования. Холдинговые компании концентрируют прибыль предприятий, остающуюся после выплаты налогов и отчислений в собственные фонды предприятий.
К числу недостатков данной модели, в целом достаточно хорошо приспособленной к условиям рыночной экономики, можно отнести не вполне определенный статут комитетов, совмещавших собственнические и контрольно-административные функции, что не ограждало предприятия от прямого административного вмешательства в их дела. Обнаружилось рассогласование в работе учреждений системы и других государственных инстанций.
Свою специфику имел эксперимент, проводившийся пров. Цзилинь (Северо-Восточный Китай). Высшим звеном модели управления в этом случае являлись «советы», разрабатывавшие основы политики в отношении государственного капитала. Они представляли интересы провинциального правительства как титульного собственника государственного имущества в данной провинции, курировали работу инвестиционных компаний (среднее звено системы управления). Последние устанавливали связи с определенным кругом предприятий схожего профиля на чисто рыночных основах (кредитор-заемщик).
После 5 лет экспериментирования в 2003 г. был разработан Закон об управлении государственным имуществом и обновлен Закон о банкротстве. В марте 2003 г. Госсовет принял документ о создании нового
Глава 5. Тактика проведения реформы
213
Комитета по контролю и управлению государственным имуществом. В отличие от своего предшественника образца 1988 г. новый Комитет является самостоятельным управленческим органом в общей структуре органов Государственного совета, к которому перешли функции Государственного комитета по экономике и торговле, Министерства финансов и других государственных органов, касающиеся организации управления государственными предприятиями. Все эти до того разбросанные по разным ведомствам управленческие функции теперь вновь сосредоточены в одних руках. Комплексный орган, каким является Комитет по контролю и управлению госимуществом призван решать масштабные задачи управления как материальным компонентом государственной собственности, включая сохранение и использование государственного имущества, так и людским компонентом. Он включает 21 департамент, из которых 3 занимаются внутренними делами. Главное назначение Комитета состоит в том, чтобы не допустить разбазаривания государственного имущества, следить за его сохранением и приумножением.
Одновременно были внесены важные изменения в систему управления госимуществом в соответствии с принципом «двухступенчатая государственная собственность, самостоятельность хозяйствующих субъектов под государственным контролем». До этого единственным субъектом государственной собственности признавалось общество в целом, представленное центральным правительством. Местные органы власти собственническими правами на государственные объекты не располагали (за исключением особо оговоренных случаев, касающихся в первую очередь предприятий коммунального обслуживания). Теперь было санкционировано разделение собственнических прав между центральным правительством и местными органами власти, что положило конец существовавшей многие годы системе «единая собственность, ступенчатое управление»» и одновременно бесконечным «переброскам» предприятий из системы центрального подчинения в систему местного подчинения и обратно. Если раньше региональные органы власти выступали в роли управляющих части государственных объектов, то теперь они наделяются в отношении предприятий местного подчинения собственническими правами.
Установлено, что не все объекты общегосударственного значения обязаны обладать достаточной конкурентоспособностью и приносить прибыль. Объекты, представляющие особую важность с точки зрения обеспечения государственной безопасности и функционирования экономики в целом, остаются в сфере государственной собственности, иначе говоря, в данном случае приоритет отдается не экономической выгодности того или иного вида деятельности, а его социальной значимости. За системой общегосударственной собственности закрепляются предприятия оборонного характера, естественные монополии, пред¬
214
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
приятия базовых отраслей промышленности и наиболее важные объекты инфраструктуры (железные дороги, магистральные нефте- и газопроводы, крупные ЛЭП). Те объекты общегосударственного значения, которые по тем или иным уважительным причинам оказываются убыточными, признаются бесперспективными с точки зрения разгосударствления. В то же время большинство государственных предприятий будут участвовать в конкурентной борьбе на тех же принципах, что и все другие предприятия разных форм собственности. В целях повышения их конкурентоспособности они могут выводиться из государственного сектора и переходить в «народное управление» (минъинхуа), закладывая основу системы региональной собственности.
В действующие законы об иностранных предприятиях и смешанных с участием иностранного капитала вносятся изменения в плане ликвидации всякого рода ограничений на закупки сырья и топлива на внутреннем рынке, установления определенных норм на долю экспортной продукции, выдвижения требований по поводу согласования своих действий с плановыми организациями и т.п. Предстоит снять запреты на создание иностранных предприятий во внутренних районах страны. Налоговые привилегии иностранных и смешанных предприятий начинают постепенно утрачивать свою прежнюю привлекательность. Просматривается перспектива постепенного приближения национальных предприятий по налоговым ставкам к иностранным предприятиям, что послужит хорошим стимулом для активизации их деятельности20.
Сложившееся отставание сельского хозяйства заставило китайских реформаторов обратиться напрямую к проблемам его развития, поставив задачу «санънун» (сельское хозяйство, деревня, крестьяне) — подъема аграрной сферы, решение насущных задач деревни, увеличения доходов сельского населения. 30 декабря 2001 г. издано государственное постановление, официально разрешающее крестьянам передавать в пользование другим лицам свой подрядный участок земли. Эта передача может состояться по согласию участников переговоров на продолжительный срок при возмездных отношениях. В августе 2002 г. на очередном заседании Постоянного комитета ВСНП был принят Закон о крестьянском земельном подряде как главной форме организации труда в деревне.
На состоявшемся в 2003 г. государственном совещании по работе в деревне подчеркнута необходимость гармоничного развития города и деревни, увеличения субсидий для развития сельского хозяйства. В первую очередь субсидии направляются на поддержку крестьян, занимающихся продовольственными культурами. Начиная с 2003 г. в 20 китайских провинциях развернулся эксперимент по реформированию системы сельскохозяйственного налогообложения, снижению налоговых ставок и полной отмены сельскохозяйственного налога.
Продолжается реформа в кредитно-денежной и банковской сферах, которые по степени внедрения рыночных отношений продолжают
Глава 5. Тактика проведения реформы
215
значительно отставать от сферы производства. В 2003 г. был представлен проект изменений в тексте Закона КНР о банках и утвержден Закон КНР о контроле над банковской сферой. В апреле 2003 г. официально создан Государственный комитет по контролю и управлению банковской сферой, которому были переданы соответствующие управленческие функции Китайского народного банка. На поддержку центрального и государственных коммерческих банков выделено 4,5 млрд. долл, из государственных валютных запасов21.
Дальнейшему продвижению реформы в области капиталовложений призваны служить принятые в июле 2004 г. документы: «Постановление Госсовета КНР о реформе системы капиталовложений» и «Правительственный перечень разрешенных инвестиционных объектов». Борясь с чрезмерным разбуханием капитального строительства и его распылением, правительство приняло решение о постепенном взятии внебюджетных средств под бюджетный контроль. Финансовые фонды теперь могут учреждаться только с санкции центрального правительства. В виде пользователей выступают центральные и региональные власти. Фонды уездных и волостных правительств упразднены. В результате если в 1980-е годы и начале 1990-х годов внебюджетные средства составляли примерно половину от бюджетных, то после 2000 г. только 1/4. Требование «замены фондовых отчислений налоговыми» («фэйгайшуй») стало важным направлением финансовой реформы. В 2002 г. по 5 центральным министерствам (включая Министерство госбезопасности) внебюджетные средства целиком переведены в бюджетные. По 28 министерствам проведена операция перевода внебюджетных доходов в специальные статьи бюджета, расходы по которой соответствуют специальным сметам. Еще в 8 министерствах приступили к подготовке аналогичной реформы22.
В 2003 г. проведена пятая с начала реформы реорганизация системы административного управления, общее количество министерств сокращено до 28 (против 100 в период до 1982 г. и 86 в 1992 г.). Кроме этого, в состав правительства входят 18 учреждений прямого подчинения, 4 канцелярии, 14 институтов, советов и информационных агентств, 12 разного рода управлений.
Важным шагом вперед в становлении «внешнеэкономической открытости» можно считать официальное вступление КНР в ВТО в конце 2001 г. Этот акт был подготовлен всей предыдущей практикой расширения контактов с зарубежными партнерами. Вступление Китая в ВТО, сопровождаемое отказом от таможенных и других налоговых привилегий, означает расширение сферы «открытости» и усиление внешнего давления на процесс китайских реформ. В соответствии с правилами ВТО КНР взяла на себя 6 главных видов обязательств, в том числе:
■ работать в одном режиме со всеми странами-членами ВТО, не создавая ни для кого условий особого благоприятствования;
216
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
■ исключить практику двойных цен и ценовых различий в отношении товаров национального производства и импортируемых из-за рубежа;
■ при установлении ценового контроля избегать протекционизма в отношении отечественных товаров;
■ произвести модификацию своей юридической системы в соответствии с установками ВТО;
■ спустя три года после вступления в ВТО предоставить всем предприятиям право на самостоятельное ведение импортных и экспортных операций;
■ отказаться от любых форм экспортных дотаций в отношении продукции сельского хозяйства23.
Само толкование политики внешнеэкономической открытости расширяется и дополняется. До недавнего времени Китай проводил стратегию «привлекать извне» и делал ставку на использование иностранных инвестиций, освоение западных технологий и западного управленческого опыта. За годы реформы Китай привлек 550 млрд. долл, иностранных инвестиций., при том что китайские вложения за рубежом составили только 40 млрд. долл. Сейчас происходит переход к стратегии, совмещающей два важных направления — «привлекать извне» и «идти вовне». Если стратегия «привлекать извне» опиралась на транснациональные компании, которые не только вышли на китайский рынок, но и в значительной степени его монополизировали, то стратегия «идти вовне» призвана повысить конкурентоспособность китайских компаний и через их участие в мировой торговле и через китайские инвестиции за рубежом расширить доступ к всемирным финансовым, техническим и сырьевым ресурсам, укрепить позиции страны в глобализирующемся мире. При этом расширяются возможности в конкурентной борьбе на мировом рынке, взращиваются собственные корпорации транснационального характера. Китай в настоящее время уже подписал со 100 государствами договоры о гарантии инвестиций.
В последние годы основными факторами экономического роста были массированные внутренние капиталовложения, дополняемые иностранными инвестициями. В дальнейшем намечается переход к стратегии экономического развития при опоре на внутренний спрос, что предполагает более рациональное соотношение между накоплением и потреблением. Заканчивается эпоха массового использования относительно дешевой рабочей силы и ставится задача улучшения использования рабочей силы при повышении ее качества, что вызывается тенденциями новой информационной эпохи.
До сих пор постепенное «открытие» китайской экономики привело к образованию территориальных анклавов с наиболее активным участием во внешнеторговых операциях и с наибольшей продвинутостью в плане хозяйственных реформ. Реформа шла в первую очередь в «откры¬
Глава 5. Тактика проведения реформы
217
тые» регионы, к которым относилась и вся приморская зона. Теперь сама «открытость» становится стимулом дальнейшего углубления реформы, подтягивая весь хозяйственный механизм к требованиям рыночных институтов.
Если в инвестиционной политике курс «извне» дополняется курсом «вовне», то в торговом обороте имеет место обратная ситуация. Модель экстенсивного экспортного роста сменяет сочетание экспортной экспансии с расширением импорта ради более полного удовлетворения нужд населения и закупок высокотехнологичного оборудования.
Значительное повышение жизненного уровня населения за годы реформы и государственное регулирование сферы общественных услуг позволяют говорить о социальной направленности китайской реформы. Вместе с тем социальная сфера, по общему признанию, значительно отстает по темпам рыночных преобразований и по масштабам капитальных вложений. Существуют перекосы во вложениях в социальную сферу, например, очень большой перекос во вложения в высшее образование (в 2003 г. 24% всех вложений в образование при обычной норме — 20%), в то время как специальное образование остается явно недофинансированным. В системе здравоохранения выявилось отставание в области обслуживания сельского населения. К тому же система социального обслуживания в городах оказалась не подготовленной к массовой миграции из деревни. Зачастую игнорируются нужды бедного населения. Прогрессирующее старение населения грозит в будущем массой трудноразрешимых проблем в области пенсионного обеспечения и удовлетворения потребностей в рабочей силе. Все более настораживающе выглядит углубление имущественной дифференциации.
5.7. Общие тактические особенности китайской реформы
Современная транзитология признает два основных типа реформ - радикальный и поэтапный, «шоковый» и «терапевтический», ускоренный и постепенный. На наш взгляд, использование термина «радикальный» вносит в эти разговоры известную путаницу. Радикальность подразумевает системность преобразований, т.е. замену старой системы новой и введение экономических отношений нового типа. Следовательно, нерадикальную реформу можно считать «несистемной», это всего-навсего попытка «подновить» старую систему, вдохнуть в нее новую жизнь. Понятия же «шоковая» (ускоренная) и «терапевтическая» (постепенная) лежат в другой плоскости и касаются исключительно темпов преобразований. Приведут ли шоковые действия к радикальным переменам или нет — об этом можно судить не в момент их проведения, а значительно позже. Точно так же осторожные действия нельзя «за глаза»
218
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
отождествлять с несистемными преобразованиями. Правы те, кто говорят, что критерием может служить только конечный результат.
Наблюдая неспешный (по меркам европейских стран с транзитной экономикой) ход китайских реформ и явное нежелание лидеров Китая форсировать политические реформы, распроститься с государственным регулированием экономики и социалистической ориентацией, многие исследователи за рубежом, да и в нашей стране делали заключение о некардинальном, «несистемном» характере китайских хозяйственных преобразований. Прогнозы на будущее строились по методу «или-или» — или Китай отважится, в конце концов, на коренные преобразования в стиле неолиберальных доктрин или он неизбежно столкнется с серьезнейшим кризисом, который сведет на нет все его колоссальные достижения. До сих пор Китай обманывал ожидания алармистов, сохраняя в течение четверти века реформ быстрое развитие и одновременно руководящую роль КПК.
Другое дело, что «врачеватели экономики» по методам европейской медицины с самого начала реформ громогласно объявили о своей готовности воспринять стандарты капиталистического рынка немедленно и в целостном виде, а «целители экономики» по рецептам китайской медицины предпринимали аналогичные шаги осторожно, без излишнего пафоса, не расшаркиваясь перед капитализмом. Однако и в том, и в другом случае, т.е. при кардинальном переходе от одной общественной системы к другой либо при попытках примирить «противоположные системы», конечные результаты не очевидны и скорость перемен может существенно отставать от желаемой. Строго говоря, ускоренными темпами могут быть проведены только отдельные организационные мероприятия, но не преобразования в целом, требующие комплексного подхода и значительного резерва времени.
« Однако ситуация эта довольно сложная, и нельзя просто заявить, что существует четкая альтернатива: или поэтапный переход, или шоковая терапия. С уверенностью можно сказать лишь то, что так называемая “шоковая терапия "совершенно неприемлема для комплексного процесса перехода. Радикальный подход приемлем для либерализации и макроэкономической стабилизации. Некоторые аспекты структурных реформ могут быть решены радикальным способом, если это позволяют политические и финансовые условия. В остальном для этого требуется много времени. Революционный толчок к переменам может создать необходимые условия для начала поэтапного перехода, но ни в коем случае не способен заменить сам переход».
Колодко Гжегож В. От шока к терапии. Политическая экономия постсоциалистических преобразований. М., 2001. С. 45.
При сравнении китайской реформы с переходными процессами в России и восточноевропейских странах многие исследователи заостряют внимание на ее «неторопливости», последовательности решения поставленных задач, дозированном введении тех или иных инноваций, что
Глава 5. Тактика проведения реформы
219
позволило обойтись без насилия над экономикой и, соответственно, без падения производства. Китайская реформа «не по правилам» дает основание для пересмотра многих устоявшихся концепций в отношении темпов преобразований, соотношения приватизации и конкуренции, рынка и государственного макрорегулирования. Известный американский экономист Джозеф Стиглиц писал: «Масштабы и успешность развития китайской экономики в последние 20 лет также представляют собой загадку для стандартной теории. Руководство страны не только отказалось от стратегии быстрой приватизации, оно не использовало и многие другие элементы Вашингтонского консенсуса. Тем не менее, Китай добился беспримерных экономических успехов»24.
Однако постепенность реформистских преобразований в Китае не стоит преувеличивать. Многие мероприятия, в частности такие, как введение семейного подряда в сельском хозяйстве (фактически за два года), массовое строительство мелких сельских предприятий, организация специальных экономических зон, перевод промышленных предприятий на контрактную систему, осуществлялись в сжатые сроки. Некоторые западные аналитики считают, что китайские реформы в действительности начались с «шока» в виде приватизации и либерализации в сельском хозяйстве, а весь процесс реформ выглядит как серия «минишоков» и их исправлений. Это признают и сами китайские ученые, которые называют, например, реформу цен «антишоковой ускоренной реформой», а китайскую реформу в целом — даже «малым взрывом»25.
Если и об «эволюционности» китайской реформы следует говорить с определенной оговоркой, то тем более не подходит к ней определение «градуалистская», которое иногда встречается в синологических работах2б. «Градуализм», понимаемый как последовательная смена одного этапа другим, низшей фазе высшей без резких перепадов, китайской реформе не приложим. Реформа в Китае не похожа на подъем вверх по пологой лестнице. Имели место и определенные «забегания вперед», и возвращения назад, были и периода «накала страстей», и реформистские паузы.
Если попытаться нарисовать траекторию китайской реформы, то получится не плавно восходящая прямая, а зигзагообразная кривая. Реформа, как и экономика в целом, прошла несколько циклов со сменой следующих фаз: оживление и ослабление макроэкономического контроля со стороны государства — резкий взлет деловой активности и реформистских начинаний — инвестиционный бум и «перегрев экономики» — ужесточение государственного контроля и сдерживание реформистских инициатив — снижение, а часто и падение темпов экономического роста. Реформистские атаки, сопровождавшиеся, как правило, «перегревом экономики», чередовались с периодами «урегулирования», когда происходил пересмотр уже сделанного, вводились те или иные корректировки, глубокие организационные инновации несколь¬
220
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
ко притормаживались. Чередование приемов «перестройки» и «урегулирования» как китайских вариантов политики либерализации и макроэкономической стабилизации позволяло Китаю поддерживать постоянный экономический рост без существенных его перепадов и избегать чрезмерного обострения противоречий.
Асинхронность преобразований в разных областях экономики, политики и социальной жизни постоянно создавала опасность «сбоев» и требовала подключения механизма партийно-государственного контроля. Государство оказалось важным агентом модернизации и инициатором реформистских действий. Основные параметры экономического развития и сам ход реформы все время оставались под государственным контролем. Не полагаясь на регулирующую роль рынка, каждый раз, когда дополнительные денежные вливания создавали ситуацию «перегрева» с опасностью инфляционного взрыва, власти немедленно подключали рычаги макроэкономической стабилизации в виде кредитно- денежной рестрикции, реструктуризации неэффективно работающих предприятий, ужесточения контроля за импортом, урегулирования части розничных цен и т.п. Преимущества такого государственного вмешательства налицо, поскольку удалось поддержать высокие темпы роста и сохранить социальную стабильность. И наоборот, когда затянулся период дефляции, власти без промедления прибегли к активной финансовой политике.
Тем не менее, реформистский процесс отнюдь не выглядит лишенным всякой спонтанности. Запреты на расширение капитального строительства и на рост оплаты труда удерживали экономику от нежелательного перенапряжения только на непродолжительное время и быстро забывались с наступлением очередного оживления. Реформистские лидеры далеко не всегда адекватно оценивали ситуацию и немедленно приходили к единому мнению, к рекомендациям ученых тоже прислушивались отнюдь не всегда. Известную непоследовательность в проведении реформы можно усмотреть в том, что некоторые цели декларировались чуть ли не с самого начала, когда условия для их выполнения еще не созрели. Потом к ним возвращались вновь и вновь, а приступить к реализации смогли только спустя много лет. Это касается в первую очередь таких основополагающих задач, как переход с экстенсивного на интенсивный путь развития, от несбалансированного развития к сбалансированному.
Успешному проведению реформы во многом помогло хозяйственное экспериментирование, исключавшее безапелляционное навязывание амбициозных установок. Прежде чем вводить ту или иную норму, китайские реформаторы стремились смоделировать ее последствия, опробовав на определенных, строго локализованных объектах. Так проводилась и налоговая реформа, и реформа государственных предприятий. Эксперимент мог предшествовать принятию решению, но мог быть во¬
Глава 5. Тактика проведения реформы
221
стребован и задним числом, если постфактум обнаруживались недочеты и непредвиденные последствия.
Осторожность и предусмотрительность позволили китайским реформаторам обойтись без огульной либерализации экономики и обвальной приватизации с их нежелательными последствиями. В этом суть столь примечательного отличия Китая от стран «шоковой терапии», где либерализация и приватизация, значительно обгонявшие процесс создания рыночных структур, сопровождались разным по глубине и продолжительности сокращением производства. Вместе с тем китайская реформа отнюдь не уникальна. Рыночные преобразования имеют свою жесткую логику, которой нельзя избежать. Не остались проигнорированными такие рекомендации МВФ в стиле «Вашингтонского консенсуса», как необходимость строгой финансовой дисциплины, расширение налогооблагаемой базы и снижение налоговых ставок, расширение частного производства, снятие всех барьеров для деятельности иностранных фирм. Институциональная структура в Китае все более приближается к рыночным требованиям и включает, в частности, все типичные для рыночных стран финансовые учреждения в виде инвестиционных банков и фондовых бирж. Многие конкретные меры — контролирование масштабов и структуры инвестиций, ужесточение кредитно-денежной политики, борьба с бюджетным дефицитом — напоминают монетаристские рецепты борьбы с кризисной ситуацией в экономике. Приходившие им на смену мероприятия по стимулированию совокупного спроса (и производственного, и потребительского), дозированному вмешательству государства в производственные процессы можно считать заимствованными из арсенала кейнсианских рекомендаций.
Если говорить о сугубо специфических чертах китайской реформы как проявлениях ее национальной особенности, то, прежде всего, заслуживает внимание тактика движения не напролом, а в обход, не разрушение существующих структур, а их дополнение новыми, не «вместо», а «вместе». Китайские экономисты ищут специальные термины для обозначения этой специфики. Хэ Шаосин называет такой тактический прием «обтекающим переходом» (юйхуэй году), Фань Ган — «реформой путем приращения» (цзэнлян гайгэ). Фань Гану принадлежат также определения «частичная» и «всеохватывающая» реформа, «насильственная» и «естественная», «реформа по убеждению» и «по принуждению»27.
Самым показательным примером может служить проведение реформы собственности. Как свидетельствует опыт стран с переходной экономикой, изменение системы собственности может происходить двумя путями: через подключение частного сектора к существующему производственному аппарату и реформирование существующего государственного сектора (1) и через передачу собственности от государства частным владельцам, т.е. приватизацию по методам, предлагаемым ортодоксаль¬
222
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
ной либеральной экономической теорией (2). В России и большинстве европейских постсоциалистических стран акцент был сделан на ускоренную приватизацию. В Китае реформирование государственной собственности достаточно продолжительное время осуществлялось в паллиативном режиме «делегирования прав вниз» при освобождении низовых хозяйственных звеньев от административной опеки, но без посягательств на кардинальные изменения в сложившейся структуре собственности. Общая линия на диверсификацию форм собственности предусматривала подключение негосударственных форм собственности к государственным объектам без денационализации последних. Процесс разгосударствления проявился в предоставлении свободы коллективному и индивидуальному предпринимательству, в привлечении иностранных партнеров в сферу производства на территории Китая, а также в расширении хозяйственной самостоятельности государственных предприятий с перспективой их превращения в самостоятельных товаропроизводителей и включения «на равных» в конкурентную борьбу. Создание негосударственного сектора проходило при поддержке государства, которое, сохраняя прочный тыл в виде государственного сектора, допускало проведение приватизации «окольным путем», исходя из потребности насыщения потребительского рынка и трудоустройства избыточного населения. Только сейчас в тактике реформы госсектора наблюдается переход от «осады» к «атаке».
Точно так же «открытая политика» долгое время совмещала внешнеторговую либерализацию с необходимым протекционизмом. Китай приступил к ликвидации торговых барьеров только с началом процесса вступления в ВТО, после того, как повысилась конкурентоспособность его экономики и был накоплен богатый опыт рыночных преобразований.
Еще одно важное отличие китайской «нешоковой» реформы от «шокового» варианта в том, что она оказалась гораздо менее болезненной для населения, жизненный уровень которого не снизился, а, наоборот, значительно повысился. Задача повышения жизненного уровня населения была поставлена в повестку дня с самых первых шагов реформы, что «задало тон» всем последующим мероприятиям. Известный китайский экономист У Цзинлянь считает принципиально важным для понимания современной китайской ситуации сформулированный под воздействием взглядов институционалиста Д.Норта тезис о том, что «тенденции, наметившиеся на ранней стадии преобразований, определяют рамки последующих реформ»28.
Единовременное повышение жизненного уровня населения произошло за счет дополнительных бюджетных расходов. На всем протяжении реформы экономический рост в Китае происходил при постоянном бюджетном дефиците, покрываемом денежной эмиссией и выпуском государственных ценных бумаг. Вместе с тем бюджетный дефицит и умеренная эмиссия не приобрели опасного инфляционного характера. Некоторые
Глава 5. Тактика проведения реформы
223
западные ученые усматривают в сложившейся триаде показателей (высокая денежная эмиссия — высокий экономический рост — низкая инфляция) не до конца разгаданный «китайский секрет». Раскрытие этого «секрета» требует серьезного анализа. Отметим только некоторые, «лежащие на поверхности» возможные объяснения этого феномена.
Во-первых, денежные вливания начались в тот момент, когда степень монетаризации китайской экономики была крайне низкой, соотношение денежного агрегата М2 к ВВП в 1978 г. равнялось 25%19.
Во-вторых, как известно, обесцениванию денежной массы препятствуют условия растущей экономики, которая быстро поглощает добавочные деньги, направляемые в немедленное предложение новых товаров *
В-третьих, стабилизирующим фактором следует считать государственное макрорегулирование экономики, включая сокращение выдачи кредитов, урегулирование процентных ставок по кредитам и депозитам. Либерализация цен происходила очень постепенно, долгое время действовала «двухколейная» система цен.
В-четвертых, следует учитывать уменьшение скорости денежного обращения и снижение денежного давления на потребительский рынок в результате того, что промышленность не смогла моментально отреагировать на рост покупательского спроса и значительная часть дополнительных доходов была переведена в сбережения.
И все же при оценке результатов китайских хозяйственных преобразований следует избегать эйфории. Надо признать недостаточную комплексность реформы, наличие разрыва между «точками роста» и отстающим «тылом», издержки перманентной переходности. Попытки вычленить какое-то главное звено реформ, которое помогло бы «вытянуть» все остальные, далеко не всегда оказывались хорошо выверенными. В конечном счете, темпы преобразований в разных сферах не всегда были согласованы, общее «полотно» реформы оставалось «лоскутным». Каждый реформистский шаг в какой-то одной области всегда тянул за собой «шлейф» нерешенных проблем. Заняв более четверти века, реформа в целом приобрела вид широкомасштабного социально-экономического эксперимента, превратилась в растянутую эпоху реформации с непредсказуемым финалом. Если перефразировать известную советскую песню про революцию, то можно сказать: «Есть у реформы начало, нет у реформы конца...».
Примечания
1 Дун Фужэн (ред.). Чжунхуа жэньминь гунхэго цзинцзи ши (История экономики
Китайской Народной Республики). В 2-хт. Пекин, 1999. Т. 2. С. 143.
2 Там же. С. 141.
3 XII Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая (документы). Пекин,
1982. С. 27-38.
224
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
4 Чжунго цзинцзи ды «жуань чжаолу» («Мягкая посадка» китайской экономики).
Шанхай, 1999. С. 27.
5 Жэньминь жибао. 14.12.1982.
6Чжунго цзинцзиды «жуаньчжаолу» («Мягкая посадка»...). С. 29.
7 Цзинцзи даобао. Гонконг, 1998. № 42.
8 У Цзинлянь. Дандай чжунго цзинцзи гайгэ (Экономическая реформа в современ¬
ном Китае). Шанхай, 2003. С. 89.
9 Чжунго цзинцзи няньцзянь. 1994. С. 49.
10 Чжунго цзинцзи ды «жуань чжаолу» («Мягкая посадка»...). С. 51—52.
11 Чжунго тунцзи няньцзянь—1998. С. 281.
12 Белокурова Г. В. Кредитно-денежная политика и валютный курс как инструмен¬
ты макроэкономического регулирования в Китае // Восток-Запад:Историко-литературный альманах. М., 2002. С. 274.
13 Цзинцзисюэ дунтай. 2000. № 3. С. 13.
14 Цзинцзисюэ дунтай. 2002. № 4. С. 9.
15 Чжоу Юнлян. Чжунго сяньдай цие чжуаньбянь баогао (Доклад по проблеме эво¬
люции системы предприятий в Китае). Пекин, 2000. С. 23.
16 Китайская Народная Республика в 2000 г.: политика, экономика, культура. М.:
ИДВ РАН, 2001. С. 83.
17 Чжунго шичан цзинцзибао. 03.12.2001.
18 Там же.
19 Гуанмин жибао. 20.02.2001.
20 Гуанмин жибао. 11.01.2002.
21 Чжунго цзинцзи гайгэ юй фачжань: чжэнцэ юй цзисяо (Реформа и развитие
китайской экономики: политика и ее результаты). Далянь, 2005. С. 41.
22 Сибу кайфа чжэнцэ (Политика освоения западных регионов): Сборник. Пекин:
АОН Китая, 2003. С. 33.
23 Beijing Review. 2001. № 44. Р. 16.
24 Стиглиц Дж. Многообразнее инструменты, шире цели: движение к пост-Ва-
шингтонскому консенсусу// Вопросы экономики. 1998. № 8. С. 24.
25 Хэ Шаосин. «Юйхуэй году» — игэ гайгэ ды синь гайнянь («Обтекающий пере¬
ход» — новый взгляд на метод реформирования) // Цзинцзи тичжи гайгэ. 2004. №2. С. 14.
26 Портяков В.Я. Экономическая политика Китая в эпоху Дэн Сяопина. М., 1998.
С. 41-141.
27 Цзинцзи тичжи гайгэ. 2004. № 2. С. 14.
28 У Цзинлянь. Луцзин илай юй чжунго гайгэ (Зависимость от пути развития и
китайская реформа) // Цзинцзисюэ юй чжунго цзинцзи гайгэ (Экономическая наука и китайская экономическая реформа). Шанхай, 1995. С. 13.
29 Цзинцзи яньцзю. 1997. № 8. С. 20 (данные Мирового банка).
30 Это следует из известной формулы рыночного обмена М х V = Р х S.
Глава 6
ИТОГИ 25 ЛЕТ РЕФОРМЫ
Как комплексное мероприятие реформа требует всесторонней оценки, выходящей за рамки только экономических показателей. Крайне важно также и то, что экономическая реформа сопровождается реформой госаппарата, что ведется борьба с коррупцией, что растет авторитет КНР во всем мире.
6.1. Темпы и уровень экономического развития
До 1985 г. в Китае по образцу социалистических стран в качестве основного экономического индикатора использовался «национальный доход», учитывавший только сферу материального производства. С апреля 1985 г. в дополнение к нему было введено понятие «валового внутреннего продукта» (ВВП) в соответствии с международной системой SNA (система национальных счетов), что потребовало произвести пересчет одного показателя в другой и внести соответствующие изменения в статистические ряды. Однако долгое время методы подсчета ВВП в Китае и в других странах оставались не полностью идентичными, что порождало разного рода нестыковки.
Данные китайских статистических ежегодников свидетельствуют о беспрецедентном наращивании экономического потенциала КНР. В 1978 г. ВВП страны равнялся в текущих ценах 362,41 млрд, ю., а в 2000 и 2004 гг. — соответственно 8946,81 и 1368 ^6 млрд, ю., при росте в сопоставимых ценах в 10,3 раза и среднегодовом приросте за 1979—2004 гг. 9,4%!. Хотя в этот период наблюдались определенные колебания темпов, но ни разу не происходило падение производства, а амплитуда колебаний была невелика. Таким образом, следует отметить не только длительность периода высоких темпов, но и их устойчивость. По выражению депутата Госдумы Владимира Рыжкова, Китай на сегодня — один из «отличников» мировой экономики, с которым связаны наибольшие надежды финансовых магнатов2. В эту же когорту «чемпионов экономического забега» входят такие страны, как Сингапур, Республика Корея и Малайзия.
Успехи Китая породили целую плеяду скептиков, которые отмечали наличие в статистических отчетах серьезных погрешностей вследствие
226
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
зачисления некачественной и нереализованной продукции, плохого отслеживания хозяйственной деятельности на низовых уровнях и т.п. Эксперты Всемирного банка в 1994 г. предприняли попытку пересмотреть данные китайской статистики, и их оценки среднедушевых темпов прироста ВВП на 1978—1995 гг. оказались на 1-2 процентных пункта ниже официальных. Однако в 1998 г. состоялись переговоры между представителями Всемирного банка и ГСУ КНР, в результате которых банк, приняв доводы китайской стороны, отказался от своих расчетов в пользу китайских официальных данных3.
Свою лепту в критику китайской официальной статистики внес профессор Пенсильванского университета США Томас Роски. Еще в 2000 г. в статье «Что происходит со статистикой китайского ВВП?» он высказал сомнение относительно официальных данных о приросте ВВП за 1997—1999 гг. в размере около 8% и пришел к заключению, что реальный прирост был на уровне 2,2% в год. В более поздней работе он настаивал на том, что темпы прироста ВВП КНР в 1998-2001 гг. составляли максимум 2-4%4.
В российской синологии особенно критически к публикациям китайской статистической службы относится В.Г. Гельбрас, который усматривает «недопустимые» расхождения темпов прироста ВВП и потребления всех видов энергии, объемов грузоперевозок и грузооборота 5. Правда, у автора есть и другие высказывания, противоречащие его основному постулату: «Принимая во внимание темпы прироста РВП (региональных валовых продуктов), особенно в провинциях и городах центрального подчинения — экономическом ядре КНР — темпы прироста ВВП должны быть существенно выше». А также: «Представленные данные позволяют сделать два вывода: либо китайская статистика не учитывает весь объем промышленного производства, либо в стране сложились значительные избыточные мощности»6. Однако эти сомнения остались «за кадром» и не помешали утверждению автора о намеренной фальсификации китайских данных в сторону их завышения (заголовок статьи - «Китай: “у пчелы спина полосатая, но тигром ее не назовешь”»).
Нельзя сказать, что сомнения в отношении достоверности китайской статистики лишены оснований. Расчет ВВП — одна из наиболее сложных процедур в мировой статистике, и при огромных масштабах Китая и внушительном секторе мелкого производства об идеальной работе его статистических органов приходится только мечтать. В частности, экспертов уже давно тревожило расхождение между показателем ВВП, полученным путем суммирования данных по отдельным районам, и сводным показателем, приводимым в официальных статистических изданиях. Так, в 2000-2003 гг. средний показатель прироста, основанный на региональной статистике, был выше сводного на 1,7; 2,0; 2,6 и 2,8 процентных пункта7. Не исключены ошибки даже в официальных данных по общей численности китайского населения из-за со¬
Глава 6. Итоги 25 лет реформы
227
крытия нарушений установленной нормы демографического контроля: «одна семья — один ребенок». Есть предположения, что темпы инфляции в Китае зачастую недооценивались, и отсюда уровень реальных доходов населения ниже реляций официальной статистики. По признанию главы ГСУ КНР Ли Дэшуя, самым большим недостатком подсчета ВВП является корректировка цифр по мере получения более полных материалов при нарушении согласования абсолютных и относительных данных8.
Спор экономистов-профессионалов по поводу качества китайской статистики продолжается многие годы, но если раньше тон задавали эксперты, усматривавшие в китайских статистических отчетах наличие «воды», то стечением времени стали все более громко звучать доводы в пользу того, что общий экономический потенциал ВВП выше официально публикуемого. В январе 2002 г. известный китайский экономист Фань Ган признал, что есть основания говорить о фактах занижения общего производства, к чему склонны руководители как сильных, так и слабых регионов, хотя и по разным мотивам. Если богатые районы «скромничают» ради сокращения налоговых отчислений, то бедные, поступая аналогично, рассчитывают получить более внушительные государственные дотации 9.
Повод для весьма серьезных претензий к качеству официальных статистических данных дали материалы статистического ежегодника за 2004 г., свидетельствующие о нечто большем, чем очередной «перегрев» китайской экономики. По опубликованным сведениям, в 2000— 2004 гг. производство в Китае выросло: стали — на 112% (со 128,5 до 272,8 млн. т), проката — на 126%; угля — в 2 раза, цемента — на 62% (с 597 до 970 млн. т), химических волокон — в 2,1 раза; электроэнергии — на 61%10.
Поскольку этот рост нельзя считать компенсационным или стартовым (от низкого начального уровня), следует остановиться на одном из следующих объяснений этой неординарной ситуации:
■ опубликованные данные отражают реальность, а бурный рост производства следует отнести за счет нового строительства и лучшего использования имеющихся мощностей и признать существенным «перегревом» экономики;
■ достижение таких сверхвысоких темпов роста абсолютно нереально, что подрывает доверие к китайской статистике и может быть расценено как свидетельство преувеличения успехов экономического развития;
■ очевидно, что прежде статистика Китая «работала на понижение» (сознательно или по объективным причинам), и теперь эта «подводная часть» «айсберга экономики» обнажилась для всеобщего обозрения, создав эффект колоссального «экономического рывка».
Что касается первого объяснения, то оно выглядит мало убедительным. По мнению специалистов, наращивание производства проката по
228
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
40—50 млн. т практически нереально, и оно не подкрепляется сведениями о масштабах нового строительства.
Предположение о намеренном завышении показателей производства тоже безосновательно. По мнению многих аналитиков, китайское руководство не заинтересовано в фальсификации данных, что трудно выполнимо, легко обнаруживаемо и, по большому счету, бесполезно. Налицо постоянное внимание, уделяемое статистической работе и определенные достижения в этой области. Начиная с конца 80-х годов были проведены несколько крупномасштабных обследований статистической службы. В 1997 г. ГСУ совместно с дисциплинарной комиссией и организационным отделом ЦК КПК разработали серию мер, направленных против статистических фальсификаций, в 1999 г. был принят соответствующий циркуляр. После вступления Китая в ВТО требования к качеству статистической отчетности еще более ужесточились. Были приняты во внимание рекомендации ООН, стала лучше учитываться нематериальная сфера, сводные данные были скорректированы с учетом проведенных переписей сельского хозяйства, промышленности и сферы услуг. В настоящее время статистические органы все больше переходят на прямые информационные связи с отдельными объектами, отказываясь от иерархического построения сводных показателей (снизу вверх).
Из всех возможных объяснений более резонно выглядит гипотеза о том, что до сих пор китайская статистическая служба, будучи не в состоянии охватить всю колоссальную массу производителей, основывалась на суженной отчетной базе. Такое мнение в российской научной прессе уже не раз высказывал. А. Н. Анисимов. По его расчетам, для китайской системы статистических публикаций характерно сосуществование данных с различным уровнем репрезентативности, и немалая часть объема производства вообще статистически не фиксируется11. На Западе аналогичного мнения придерживался Карстен А. Хольц. Сравнивая данные разных статистических изданий, он пришел к выводу, что сведения по промышленному производству относятся только к предприятиям с самостоятельной («прямой») бухгалтерской отчетностью. По его наблюдениям, в 1998 г. в Китае сократили базу учета сразу на 2/3, ограничившись включением в нее только промышленных предприятий с самостоятельным финансовым балансом и при наличии определенных масштабов производства,2.
Теперь эти «тайны» китайской статистики выносятся на «суд» общественности, повергая в шок зарубежных исследователей экономики КНР. 20 декабря 2005 г. начальник ГСУ КНР выступил с сенсационным заявлением о том, что величина ВВП за 2004 г. после проведенной редакции «оказалась» выше на 16,8%, т.е. не 13 689,8 млн., а 15 987,8 млн. ю. (это уже, очевидно, вторая корректировка, поскольку в статистическом ежегоднике была указана цифра 13 658,43 млн. ю.13 При пересчете в долла¬
Глава 6. Итоги 25 лет реформы
229
ры по официальному курсу Китай вышел на 6-е место в мире по объему ВВП, перегнав Италию.
Как стало очевидным, эти исправления — результат двухлетней общеэкономической переписи в Китае, в которой участвовали 1 млн. переписчиков. Решение о проведении с 2004 г. первой всекитайской экономической переписи при одновременном переходе на международные стандарты расчетов ВВП было принято на заседании Госсовета 12 ноября 2003 г. Попутно развернулась работа по усилению контроля над публикуемыми статистическими данными и введению системы «барьерного контроля». По новым правилам, ежегодный показатель ВВП должен до своего обнародования проходить трехступенчатую процедуру «просева»: сначала предварительная калькуляция, затем первичный контроль и, наконец, окончательное обсуждение и утверждение14. Душевые показатели ВВП по регионам будут теперь рассчитываться по числу постоянно проживающих на данной территории, а не по количеству граждан, имеющих прописку, как практиковалось ранее15. 26 февраля 2004 г. в опубликованном ГСУ докладе об экономическом и социальном положении в стране были добавлены разделы о состоянии природной среды, водных и минеральных ресурсов.
Пересмотр итогов 2004 г. неизбежно влечет за собой корректировку всего ретроспективного динамического ряда (по крайней мере, за 1990-е годы), структурных показателей и разного рода соотношений. Значительные изменения претерпела, например, доля третичного сектора, которая в 2004 г. вместо предварительно рассчитанных 31,9% оказалась равной 40,7%1б. Говорится о том, что именно недооценка сферы услуг послужила главной причиной занижения показателя ВВП. В прессу поступают сведения об уточнениях региональных показателей ВВП. Особо впечатляет повышение данных по Пекину сразу на 40% (за 2004 г.), что подняло его рейтинг на 5 позиций (с 15-го места в стране на 10-е)17.
Есть все основания предполагать, что статистические пертурбации на этом не закончатся, тем более что осваиваются новые статистические показатели. В частности, рассматривается вопрос о подсчете «зеленого ВВП». По оценке китайского профессора Ню Вэньюаня (Центр по устойчивому развитию при Академии наук Китая), при учете вреда, наносимого природной среде, ВВП надо уменьшить примерно на 1/5. По альтернативным подсчетам сотрудника факультета управления Пекинского университета Лэй Мина, в 1990-х годах от 3 до 7% ВВП было получено за счет ухудшения состояния природной среды18.
Сложности подсчета китайского ВВП в национальной валюте дополняются еще большими трудностями его международных сопоставлений. Для этих целей, помимо метода валютных паритетов, используется паритет покупательной способности юаня к доллару. Такая работа по альтернативной оценке экономического потенциала КНР была начата в
230
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
Таблица 4 Экономический потенциал пяти главных стран мира и их доля в общемировом показателе, млрд. межд. долл.*
Страны
1975
1980
1985
1990
1995
1998
2000
Китай
212
414
821
1520
3080
3850
4966
(2.78)
(3.16)
(4.57)
(5.63)
(8.87)
(10,23)
(11,16)
Индия
266
441
683
1170
1740
2030
2432
(3.49)
(3,36)
(3.80)
(5.02)
(5,02)
(5.41)
(5,46)
Япония
598
1050
1490
2350
2910
2940
3354
(7.85)
(8,04)
(8.27)
(8,73)
(8.38)
(7,82)
(7.54)
Россия
-
-
-
1460
(5.43)
1050 (3,02)
948
(2,52)
1168 (2,62)
США
1730
2880
3880
5620
7200
8000
9646
(22,71)
(21,96)
(21.60)
(20,85)
(20,73)
(21,29)
(21,64)
5 стран вместе
-
-
-
(44,99)
(46,02)
(47,27)
(48,42)
Мир в целом
7623
13115
17955
26967
34730
37595
44506
* Для оценки экономического потенциала использован показатель ВВП, рассчитанный по покупательной способности валют. На 2000 г. - данные по валовому национальному доходу (Gross National Income). Цифры в скобках - доля в мировом показателе.
Международный доллар - условная расчетная единица, используемая при международных экономических сопоставлениях.
Источник: Ху Аньган. Большая стратегия Китая. Ханчжоу, 2003. С. 45. Автор ссылается на данные Мирового банка: World Bank, World Development Report 2001. New York: Oxford University Press, 2001.
США уже в конце 1970-х годов. Руководителем соответствующего проекта был Ирвин Б. Крэвис. По его оценке, ВВП на душу населения в Китае в 1980 г. достиг 700 долл., что при тогдашней численности населении 987,05 млн. человек выводило Китай на общую величину ВВП в 853,4 млрд, долл.19 От этой исходной базы при официально зарегистрированном росте в 1980—2003 гг. в 6,4 раза, ВВП в 2000 г. должен составить 5461,8 млрд. долл. Эта цифра хорошо корреспондирует с результатом последних расчетов китайских экономистов, опирающихся на выполненные в 1993 г. международные сравнения ВВП по 118 странам (расхождение в 10%).
По прогнозам с использованием данной методики, ВВП США и Китая могут сравняться уже в ближайшие годы. Душевые показатели Китая выглядят куда более скромно. Размер ВВП (по покупательной способности валют) в расчете надушу населения в 2000 г. оказывается равным 3918 долл. В 1999 г. Всемирный банк ввел следующие градации стран по уровню экономического развития: страны с самыми низкими доходами (ВВП ниже 755 долл, надушу населения), страны с относительно низки¬
Глава 6. Итоги 25 лет реформы
231
ми доходами (756-2995 долл.), с достаточно высокими доходами (2996— 9265 долл.), с самыми высокими доходами (выше 9266 долл.). В этом случае Китай относится к нижнему сегменту третьей группы.
Следует отметить, что Китай не спешит формально переходить в разряд более развитых стран. Положение слаборазвитой страны, пользующейся определенными международными льготами, в том числе и по Киото- скому протоколу о защите природной среды, его пока явно устраивает.
6.2. Показатели развития Китая в реальном и финансовом секторах экономики
Общий итог экономического развития Китайской Народной Республики с 1949 г. и, особенно, за последние 25 лет — превращение ее из аграрной в индустриально-аграрную державу. За два этапа индустриализации (до и после начала реформы) в стране была создана комплексная промышленная система, в которую входят все имеющиеся в настоящее время промышленные отрасли, причем достигнуты поистине колоссальные размеры производства. Китай занимает 1-е место в мире по добыче каменного угля (примерно 1/3 общемировой добычи), выплавке стали (при доле около 1/3 общемировой выплавки), производству цемента (около половины). Ему принадлежит одно из ведущих мест в мире по целому ряду основных видов промышленного производства — от производства минеральных удобрений, добычи нефти, выработки электроэнергии до выпуска хлопчатобумажных тканей, одежды, шерстяных тканей, трикотажных изделий и телевизоров. По многим видам машиностроительной продукции Китай занимает сейчас 1-е место в мире, в том числе по производству холодильников, стиральных машин, велосипедов, кондиционеров. Он освоил выпуск почти всех современных электротехнических товаров, стал крупнейшим производителем персональных компьютеров.
Страна располагает большим количеством современного вооружения и боевой техники, постепенно расширяет национальное производство вооружений, способна производить несколько видов современных истребителей. С 2002 г. налажено серийное производство межконтинентальных баллистических ракет, совершено несколько запусков космических кораблей, в том числе 2 запуска с человеком на борту. В 2003 г. первый китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-1» совершил 21-часовой полет вокруг земли. 17 октября 2005 г. возвращаемая капсула китайского космического корабля «Шэньчжоу-6» с двумя космонавтами («тайкунавтами») совершила посадку во Внутренней Монголии. По заявлениям китайских официальных лиц, Китай овладел технологией производства ядерных реакторов мощностью 600 тыс. кВт, способен конструировать и производить в опытном порядке реакторы мощностью в 1 млн. кВт.
232
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
Таблица 5
Динамика производства наиболее важных видов промышленной продукции в КНР (1978-2004 гг.)
Виды промышленной продукции
1978 г.
2000 г.
2004 г.
Каменный уголь, млн. т
618
1000
1956
Нефть, млн. т
104,05
163,0
175,0
Природный газ, млрд. куб. м
13,73
27,2
41,5
Электроэнергия, млрд. кВт.-ч.
256,6
1355,6
2187,0
Сталь, млн. т.
31,78
128,5
272,8
Прокат, млн. т
22,08
131,46
297,23
Цемент, млн. т
65,24
597,0
970,0
Хлопчатобумажные ткани, млрд, м
11,03
27,7
42,0
Химические волокна, млн. т
0,3
6,9
14,3
Электроэнергетическое оборудование, млн. кВт
-
12,5
37,0*
Автомобили (без микроавтомобилей), млн. ед.
0,15
2,07
5,07
Бытовые холодильники, млн. ед.
0,03
12,8
30,3
Бытовые кондиционеры, млн. ед.
18,3
66,5
Интегральные схемы, млрд. ед.
5,9
21,15
Микрокомпьютеры, млн. ед.
6,7
45,1
Цветные телевизоры, млн. ед.
39,4
65,4
Мобильные телефоны, млн. ед.
52,5
233,4
* 2003 г.
Источник: Чжунго тунцзи чжайяо. 2005. С. 129-131.
Хотя подушевым показателям промышленного производства Китай отстает от развитых стран, но и здесь наблюдаются перемены к лучшему. Если в 1952 г. на душу населения выплавлялось только 2,37 кг стали, то в 2004 г. — 210,5 кг. Душевое производство электроэнергии за те же годы выросло с 12,83 до 1687 кВт.-ч., цемента - с 5 до 748,4 кг, нефти — с 0,8 до 134,6 кг.
Значительно улучшилось состояние производственных фондов. По данным промышленной переписи 1995 г., 90% производственных фондов имели к тому времени срок службы до 15 лет. На крупных и средних предприятиях 26% оборудования соответствуют требованиям передовых международных стандартов20.
В структуре экономики произошли существенные сдвиги: если доля вторичного сектора, включающего промышленность и строительство, в валовом внутреннем продукте изменилась незначительно (в 1978 г. - 48,2% , в 2004 г. — 52,9%), то доля третичного сектора — с 23,7 до 31,9%, а первичного (включающего сельское хозяйство) снизилась - с 28,1 до 15,2%21. Одним из важных направлений структурных преобразований стала конверсия военного производства.
Значительный прогресс отмечен в области сельского хозяйства, валовая продукция которого за годы реформы выросла в 5 раз. В 2004 г.
Глава 6. Итоги 25 лет реформы
233
было получено 469,5 млн. т продовольственных культур, что на 165 млн. т больше, чем в 1978 г. Максимальный уровень за годы реформы отмечен в 1998 г. — 512, 3 млн. т. 22 Достигнутый объем производства в 400—500 млн. т гарантирует продовольственную безопасность страны. Сегодняшнее душевое производство продовольственных культур в размере 400 кг всегда считалось обязательной планкой для обеспечения нормального питания населения и создания необходимых запасов. Устранен дефицит зерна и другой сельскохозяйственной продукции, население избавилось от постоянного страха голода. Недостаток продуктов питания испытывает только небольшая часть крестьян (примерно 5%).
Значительно выросла производительность труда в сельском хозяйстве. Производство зерна на одного занятого в сельском хозяйстве увеличилось в 1,5 раза (с 1089 кг в 1980 г. до 1518 кг в 2004 г.)23. Продуктивность пашни поднялась в 3 раза.
Серьезные изменения претерпела структура сельского хозяйства. Осуществлен переход от монокультурной системы земледелия, базирующегося на выращивании зерновых культур, к многоотраслевому растениеводству (зерно, технические, кормовые, масличные, плодоовощные культуры), дополненному животноводством, лесным и рыбным хозяйством. Доля растениеводства в валовой продукции сельского хозяйства упала с 80% в 1978 г. до 50% в 2004 г Доля животноводства за те же годывырослас 15 до 33,6%, доля водных промыслов —с 1,6до9,9%м. Лишь удельный вес лесного хозяйства остался практически неизменным (3-4%). Уже сформировалось «большое» сельское хозяйство, составной частью которого стали несельскохозяйственные отрасли — промышленность, строительство, торговля, транспорт, услуги. Эти отрасли заняли ведущее место в структуре всей сельской экономики (более 3/4 объема ВВП деревни), способствуя повышению занятости сельского населения, росту его доходов.
Появление новой категории сельских тружеников — «и рабочий, и крестьянин» - внесло большие изменения в социальную структуру деревни. На земле постоянно работает только примерно половина сельского населения, другая половина приходится на работников несельскохозяйственной сферы, часть которых уже целиком оторваны от земли. Рядом с сельской интеллигенцией и управленцами стоят теперь владельцы индивидуальных и частных хозяйств.
Рыночная экономика изменила во многом характер деятельности работников агросферы и их менталитет. Крестьяне стали самостоятельными товаропроизводителями, целиком отвечают за результаты своего труда и жизнеобеспечение своих семей, все больше ориентируясь на рыночный спрос. Расширяются кругозор крестьянина, уровень его квалификации.
Идет укрепление материальной базы сельского хозяйства. За годы реформы многократно увеличилось потребление электроэнергии и ми¬
234
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
неральных удобрений, улучшилась агротехника, повысился уровень механизации, особенно пахотных работ. В 2004 г. на полях работало 1,12 млн. крупных и средних тракторов и 13,85 млн. мини-тракторов25. Китайский крестьянин теперь справляется и с трактором, и с мотоциклом или грузовиком, знаком со счетоводством, пользуется мобильной телефонной связью.
Доходы от сельскохозяйственных занятий растут не очень быстро, но все же крестьяне стали зажиточнее, строят свои дома, покупают бытовую технику, во всех домах имеются телевизоры. Чистый душевой доход крестьян вырос со 133,6 юа. в 1978 г. до 2936,4 ю. в 2004 г.26 С учетом роста цен душевые доходы крестьян растут примерно на 6% в год.
Успешно развивается транспортная система страны. Хотя первые скоростные автомагистрали начали строить только в 1988 г., сейчас Китай уже вышел по их общей протяженности (более 20 тыс. км) на 2-е место в мире. Дороги с твердым покрытием соединяют все населенные пункты.
Страна покрылась сетью железных дорог, на которые ложится огромная работа по перевозке грузов и населения. Протянута автомагистраль Цинхай—Тибет на высоте более 4000 м по Тибетскому нагорью. Внушительны успехи водного и авиационного видов транспорта.
Важным достижением реформы следует считать создание и поддержание накопительно-инвестиционной системы, обеспечившей массированный приток капиталовложений во все сферы экономики. До реформы существовавшая система бюджетного финансирования предполагала отчисление почти всей прибыли хозяйствующих субъектов в бюджет и получение через него необходимых средств для простого и расширенного воспроизводства. Денежные потоки двигались исключительно по бюджетным каналам. Теперь финансовая система диверсифицирована, удельный вес бюджетных расходов в ВВП снизился настолько, что дает повод говорить о «слабом» бюджете и «мощной» денежной системе.
Если судить только по доле государственного бюджета в ВВП, китайское государство действительно можно посчитать «слабым». Однако в действительности государство располагает гораздо большими финансовыми средствами, нежели те, которые относятся к категории государственного бюджета. Прежде всего, следует учесть так называемые «внебюджетные средства» и дополнительные (внесистемные) средства, которых относят соответственно ко «второму» и «третьему» бюджетам. В конце 1980-х годов в Китае образовалось большое количество специализированных финансовых фондов, управление которыми взяли на себя различные министерства и ведомства. Отчисления в эти фонды по существу носили характер налоговых платежей. Борясь с чрезмерным разбуханием капитального строительства и его распылением, правительство приняло решение о постепенном взятии этих средств под бюджетный
Глава 6, Итоги 25 лет реформы
235
Таблица 6
Виды государственные доходов
Годы
ВВП
Бюджетные доходы
Внебюджетные ДОХОДЫ
Государственные займы
млрд. ю.
% к ВВП
млрд. ю.
% к ВВП
млрд. ю.
% к ВВП
1978
362,41
113,23
31,2
34,71
9,6
1980
451,78
115,99
25,7
55,74
12,3
4.3
1,0
1985
898,91
200,48
22,3
153,00
17,0
8,99
1,0
1990
1859,84
293,71
15,8
270,86
14,6
37,55
2,0
1995
5749,49
624,22
10,9
240,65
4,2
154,98
2,7
2000
8825,40
1339,52
15,2
382,64
4,3
418,0
4,7
2003
11674,12
2171,53
18,6
456,68
3,9
615,35
5,2
Источники: Чжунго тунцзи чжайяо-2005. С. 16, 68, 70, 71.
контроль, что и было осуществлено в 2002 г. В последние годы значительно повысилась роль государственных займов, значительно расширяющих возможности государственных инвестиций.
О современной величине государственных средств дают представление данные табл. 6.
Согласно вышеприведенным данным, бюджетные средства по расширенной учетной базе (с включением внебюджетных средств) составляют более 20% от ВВП, а с учетом государственных займов государство имеет в своем распоряжении суммы, составляющие около 30% от ВВП, что весьма близко к соответствующему показателю развитых стран.
За исключением 1985 г. китайский бюджет постоянно сводился с дефицитом, его сумма выросла: с 10 млрд. ю. в 80-е годы до 249,13 млрд, в 2000 г. и 291,59 млрд. ю. в 2003 г. В течение более 20 лет этот долг покрывался за счет заимствований у государственных банков в форме инвестиций в инфраструктуру либо субсидирования убыточных государственных предприятий. В последние годы примерно наполовину расходы центрального бюджета (первого уровня) восполняются за счет государственных займов.
В целом можно констатировать, что бюджетная система Китая позволяет осуществлять важнейшие государственные функции. Но при наличии в значительной степени децентрализованной системы возможности масштабных структурных преобразований через привлечение государственных средств не слишком велики. Вынужденное сдерживание бюджетных расходов сказывается на темпах реформы государственного социального обеспечения. Доля государственных социальных расходов, включая медицинское обслуживание, пенсионное обеспечение, выплату пособий и дотаций, компенсацию потерь от стихийных бедствий, равна в Китае всего 1% от ВВП.
236
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙПУТЬ
Расширение прав предприятий и перевод их с бюджетного финансирования на кредитование сопровождались постепенным формированием кредитно-денежной системы и ее реформированием в плане разграничения коммерческих и некоммерческих кредитно- денежных операций. Учрежденный в 1948 г. Народный банк Китая вплоть до начала реформы совмещал функции административного управления государственными финансами и функции эмиссионного и кредитного учреждения. В первую половину 1980-х годов кредитные функции стали переходить к специализированным государственным банкам (Сельскохозяйственный банк, Народный строительный банк Китая, Промышленно-торговый банк и Банк Китая, производящий валютные и внешнеэкономические операции). Статус центрального банка как главного государственного института в осуществлении макрорегулирования кредитно-денежной сферы был установлен в 1995 г. Законом о Народном банке Китая. Принятый в том же году Закон о коммерческих банках, обеспечив правовые основы перехода крупнейших государственных банков на коммерческие принципы финансовой деятельности, заложил основы дальнейшей либерализации банковской системы и образования новых негосударственных коммерческих банков.
Главным источником кредитных ресурсов банков являются депозиты, в структуре которых преобладают сбережения населения. Повышение доходов населения и надежность сберегательных вкладов обеспечили их неуклонный рост и устойчивое поступление кредитов в реальный сектор экономики. Главной проблемой банковской системы остается очень высокая доля просроченных и безнадежных кредитов. Резервы китайских банков в сравнении с общей суммой дебиторской задолженности весьма незначительны, а прибыль государственных коммерческих банков невелика.
Повышение конкурентоспособности китайской индустрии помогло совершить подлинный прорыв на международный рынок. За последние 20 лет внешняя торговля КНР росла почти в 3 раза быстрее, чем внутреннее производство. Одним из самых крупных реформистских экспериментов можно считать создание свободных экономических зон и «открытых городов», которые стали лабораториями реформистских начинаний и наиболее активными участниками внешнеэкономической деятельности. Внешнеторговый оборот в 2004 г. достиг 1154,79 млрд, долл, (в 1978 г. он составлял всего 20,6 млрд, долл.)27.
Выйдя в 2004 г. на 3-е место в мире по объему экспорта (в 1980 г. - 26-е), Китай стал крупным поставщиком многих потребительских изделий, включая товары длительного пользования и компьютерную технику. Показательно все большее «облагораживание» экспорта. Доля вывоза готовой продукции повысилась с половины его общего объема в начале 1980-х годов до 90%. Более 30% экспортного ассортимента при¬
Глава 6. Итоги 25 лет реформы
237
ходится на товары обычного и транспортного машиностроения, а также электронной промышленности.
Доля китайского экспорта в мировой торговле повысилась до 4% с лишним . На внешний рынок поступает от 1/5 до 1/4 произведенного ВВП. В отраслях, выпускающих часы, велосипеды, вентиляторы, одежду, швейные машины, обувь, сумки и чемоданы, на экспорт идет до 2/3 производства. Доходы от экспорта Китай использует на массовую закупку оборудования и технологии.
Экспорт стал важнейшим фактором динамичного экономического роста КНР. Из 9,8% среднегодового роста за период 1978—1997 гг. 2,06% было получено за счет экспорта м. По оценкам Всемирного банка, членство в ВТО позволит стране в течение 10 лет дополнительно увеличить экспорт на 38% и повысить среднегодовые темпы роста на 1,8—2,5%29.
Введение налоговых и таможенных льгот для совместных предприятий, учреждение специальных экономических зон и другие меры позволили привлечь в страну огромные капиталовложения. За годы реформ (1979-2004 гг.) объем реально использованных прямых иностранных инвестиций составил 560,39 млрд. долл. За 22 года, начиная с 1983 г., 9 раз ежегодный объем иностранных инвестиций превышал 40 млрд, долл., в 2003 г. он составил 60,63 млрд. долл.30 В стране действуют около 200 тыс. совместных предприятий и более 70 тыс. иностранных предприятий.
Степень открытости китайской экономики очень сильно повысилась (табл. 7).
Согласно новому курсу «идти вовне», Китай наращивает свои инвестиции в других странах. По данным на вторую половину 2002 г, он уже имел в 160 странах 6700 предприятий, большинство из которых по объему производства пока невелики31.
6.3. Изменения отношений собственности
В результате начатой в 1978 г. хозяйственной реформы в Китае экономика приобрела черты смешанной, многоукладной экономики, сложился плюрализм форм собственности и форм хозяйствования. Сделан колоссальный шаг вперед в разграничении прав собственности и становлении субъектов рыночных отношений. В 1992 г. в соответствии с постановлением Государственного статистического управления и Государственного торгово-промышленного управления было узаконено существование 9 основных экономических секторов (форм собственности) с включением в них 21 вида предприятий, а именно: 1) государственный (государственные предприятия и государственные смешанные предприятия); 2) коллективный (коллективные предприятия и смешанные коллективные предприятия); 3) частный (частнокапиталистические хозяйства, частные паевые организации, частные компании с ограничен-
238
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
Динамика степени о
Таблица 7
ткрытости китайской экономики, %
Годы
Открытость по внешнеторговому обороту (1)*
Открытость по прямым инвестициям (2)‘*
Общая экономическая открытость (1+2)
1982
16,25
0,21
16,46
1985
24,10
0,54
24,64
1990
31,85
0,98
32,83
1991
35,52
1,16
36,68
1992
37,46
2,67
40,13
1993
35,67
6,37
42,04
1994
48,77
6,23
55,00
1995
45,69
5,12
50,80
1996
39,90
4,92
44,82
1997
41,38
4,92
46,30
1998
39,21
4,62
43,83
1999
41,49
3,91
45,40
2000
49,10
3,56
52,66
2001
49,24
3,82
53,06
* Открытость по внешнеторговому обороту рассчитана по сумме объема экспорта товаров и услуг плюс импорт товаров и услуг в соотношении с ВВП в долларах
** Открытость по прямым инвестициям равна сумме прямых иностранных инвестиций плюс прямые китайские инвестиции за рубежом в соотношении с ВВП в долларах
Источник: Чжан Ювзнь, Сюй Минци и др. Цянго цзинцзи (Экономика мощного государства. Стратегия и процесс мирного возвышения Китая). Пекин, 2004. С. 101. (Расчеты по данным Всемирного банка.)
ной ответственностью); 4) индивидуальный (индивидуальные предприятия и товарищества); 5) сектор смешанной экономики (государственноколлективные, государственно-частные, коллективно-частные, государственно-коллективно-частные предприятия); 6) акционерный (акционерные компании с ограниченной ответственностью и компании с ограниченной ответственностью); 7) сектор иностранных предприятий (китайско-иностранные смешанные предприятия и предприятия, целиком принадлежащие иностранному капиталу); 8) предприятия с участием капиталов из Тайваня, Гонконга и Макао (предприятия смешанного капитала на китайской территории, предприятия смешанного управления, иностранные предприятия «трех капиталов»); 9) прочие виды предприятий. Согласно Закону о корпорациях, компании с ограниченной ответственностью — это общества закрытого типа с числом пайщиков от 2 до 50 юридических или физических лиц; акционерные компании с ограниченной ответственностью могут быть открытого и закрытого типа с числом пайщиков не менее 5. Примечательно особое положе¬
Глава 6. Итоги 25 лет реформы
239
ние «предприятий трех капиталов» (Гонконг, Макао и Тайвань), что соответствует концепции «одна страна - две системы» и в перспективе (близкой по отношению к предприятиям Гонконга и Макао и несколько более отдаленной по отношению к тайваньским) облегчит их перевод в категорию объектов «отечественного капитала».
В настоящее время к государственным предприятиям китайская статистика относит: 1) находящиеся в государственной собственности предприятия не акционерного типа (т.е. унитарные), к которым принадлежат так называемые «естественные монополии» в отраслях производственной инфраструктуры; 2) государственные корпорации (акционерные общества, в которых капитал целиком принадлежит государству и которые действуют на рыночных началах); 3) акционерные предприятия с государственным контрольным пакетом акций и 4) смешанные государственно-частные предприятия с преобладанием государственного пая.
Китайские авторы отмечают следующие особенности государственных объектов: имущественные права принадлежат государству; управление осуществляется государственными чиновниками или лицами, уполномоченными государственными органами; общие производственные установки формируются под контролем государства; действие законов рынка контролируется государством32.
Идентификация коллективного сектора все годы реформы сталкивалась со значительными трудностями. В ходе реформы многие коллективные предприятия начали утрачивать характер общественной собственности, мало чем отличаясь от множившихся мелких частных предприятий. Все более очевидной становилась размытость граней между коллективным и частным секторами.
В середине 1980-х годов по инициативе самих крестьян стали создаваться акционерно-кооперативные хозяйства. С 1990-х годов, когда началось массовое акционирование коллективных предприятий, на предприятиях «крупной коллективной собственности» (принадлежавших прежде «народным коммунам») регистрировались разные виды долевой собственности: коллективный пай, индивидуальные паи работников и индивидуальные паи других вкладчиков. Отдельные лица получили разрешение на владение контрольным пакетом акций и на выкуп всего коллективного пая, что означало фактическую приватизацию предприятия. В некоторых случаях предприятия передавались в аренду частным лицам. В результате в 2001 г. более 95% так называемых волостнопоселковых предприятий оказались акционированными, проданными или переданными в аренду частным лицам. Самые крупные подвергались реорганизации с прицелом на превращение в «современные предприятия» наравне с государственными.
Согласно материалам специальной экспертизы, в 2002 г. в городах действовали 2,43 млн. частных предприятий с числом работай-
240
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
ков 34,09 млн. человек и 23,77 млн. индивидуальных хозяйств с числом занятых47,42 млн. человек33. На конец 2001 г. лицензию получили 389 549 иностранных предприятий из 180 стран с лишним против 90 791 в 1992 г. На них было занято более 10% рабочей силы городского сектора экономики, т.е. порядка 20 млн. человек. Предприятия с участием иностранного капитала играют важную роль во внешней торговле (примерно половина от общего объема импорта и экспорта страны), в устойчивом увеличении инвалютных резервов государства, в знакомстве с передовыми технологиями, опытом управления, в обеспечении квалифицированными специалистами, что служит стимулом экономического развития Китая.
Помимо двух основных форм собственности (общественная и частная), юридически признается смешанная собственность как объединение различных субъектов присвоения (общества, коллективов и частных лиц) в основном на паевых договорных отношениях. Эти паевые начала могут действовать в пределах отдельных производственных коллективов (коллективно-паевая и акционерная собственность) или в отношениях между отдельными частными собственниками (смешанные предприятия), либо между субъектами разных форм собственности (индивидуальная, коллективная и государственная). Смешанной форме собственности свойственны известная эклектичность и неустойчивость, отсутствие четко выраженной принадлежности, значительные расхождения интересов различных собственников, необходимость компромиссного решения возникающих проблем.
В ходе реформы прежнее противопоставление «общественной» собственности (государственной и коллективной) «необщественной» (ин-
Рис. 2. Схема различных типов и форм собственности в Китае
Глава 6. Итоги 25 лет реформы
241
дивидуальная и частная) постепенно вытесняется новым алгоритмом, в котором государственная собственность обособляется от остальных форм собственности (коллективная, индивидуальная, частная, смешанная), объединяемых в альтернативную категорию «минъю-миньин» (народ владеет и народ управляет).
Понятия «миньин» (народное управление) и «миньин цзинцзи» (экономика в народном управлении) вошли в употребление еще в 1980-е годы. Одни ученые полностью отождествляли «миньин цзинцзи» с частной собственностью, другие включали в нее все негосударственные предприятия: индивидуальные, частные, волостно-поселковые, акционерно-кооперативные и даже акционерные и предприятия «трех капиталов». «Народное управление» в принципе может сочетаться и с государственной собственностью в случае полной хозяйственной самостоятельности государственных предприятий или при наличии государственного пая на акционерных и смешанных предприятиях. Таким образом «народная экономика» включает в себя два подуклада — «минъю-миньин» (народ владеет и народ управляет) и «гою-минъин» (государство владеет, народ управляет).
Официальная статистика до 1999 г. пыталась, как могла, фиксировать происходящие сдвиги в структуре системы собственности, следуя в основном традиционной социалистической методологии укрупненных секторов (табл. 8).
После 1999 г. прежняя классификация производства по формам собственности оказалась малопригодной. Главная причина — размытость границ между секторами, изменение самого содержания устоявшихся категорий собственнических отношений. Вместо прежней «государственной собственности» в абстрактном смысле этого слова по-
Таблица 8
Структура промышленности и внутренней торговли по формам собственности (1978-1999 гг.)
Годы
Государственные предприятия
Коллективные предприятия
Прочие предприятия
промышленность
внутренняя торговля
промышленность
внутренняя торговля
промышленность
внутренняя торговля
1978
77,6
54,6
22,2
43,3
0,2
2,1
1985
65,0
41,0
32,0
37,0
3,0
22,0
1990
54,6
39,5
35,6
31,7
9,8
28,8
1999
28,5
24,3
38,5
18,2
33,0
57,5
Примечание. Расчет по валовой продукции промышленности и по объему розничного товарооборота.
Источник: Чжунго тунцзи няньцзянь - 2000.
242
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
явилась «собственность государства как юридического лица». В категорию «государственные предприятия» стали включать акционерные предприятия с государственным контрольным пакетом акций. К «сверхлимитным» предприятиям (с объемом продукции более 5 млн. ю. в год) отнесли как государственные, так и негосударственные предприятия. Поскольку собственность и форма управления акционерных предприятий с тем или иным государственным паем, включая контрольный пакет, является смешанной, само название «государственное предприятие» оказывается условным. Однако происходит размежевание аналогичных в прошлом понятий «государственный сектор» и «государственное имущество». Масштабы «государственного сектора» в его современной интерпретации преувеличены, поскольку в него попадает негосударственное имущество тех акционерных предприятий, которые отнесены к разряду «государственных». Если же оценивать размеры собственно государственного имущества, то надо учитывать государственные пакеты акций, не являющихся контрольными. На убыточных предприятиях право собственности государства сохраняется номинально, только из-за несовершенства процедуры банкротства, иначе говоря, одновременно с декапитализацией происходит и разгосударствление34.
Выступая в сентябре 2003 г. на очередном семинаре предпринимателей Северного Китая, заместитель заведующего Центром по исследованию вопросов развития при Госсовете КНР Чэнь Цинтай в этой связи отметил, что реформа государственных предприятий, вступившая в ключевой этап, все еще сталкивается с серьезными проблемами. Множество из них так или иначе сопряжены с отсутствием четкого определения прав собственности35. Разделение коллективного и частного секторов остается весьма произвольным. Представители малого бизнеса могут выбирать «секторскую нишу» по собственному усмотрению, порою частные владельцы предпочитают сохранять за собой вывеску (как говорят в Китае, «шапку») коллективного предприятия и, наоборот, объекты, зачисленные в частный сектор, продолжают управляться коллективно. Поскольку процедура официальной регистрации требует времени и денег, многие предприниматели вообще стараются от нее уклониться. Поэтому сами китайские авторы вынуждены констатировать, что «легитимная собственность не всегда совпадает с реальной»36.
Процесс разгосударствления, захвативший все 1990-е годы, привел к тому, что в 2001 г. доля государственного сектора в ВВП снизилась до 36,6%, в общих капиталовложениях она составила 47,3, в общем числе занятых — 31,1, в налоговых поступлениях — 35,6, во внешнеторговом обороте — 45% 37.
О современной структуре промышленности по формам собственности можно судить по данным табл. 9.
Сдав главенствующие позиции в объеме производства, госсектор промышленности продолжает держать приоритет по другим показате-
Глава 6. Итоги 25 лет реформы
243
Таблица 9
Структура промышленности по формам собственности*
Виды Доля в ВВП, %
предприятии
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
Государственные 47,3 (включая акционерные с государственным контрольным пакетом)
44,4
40,8
37,5
35,2
Коллективные
13,9
10,5
8,7
6,6
5,6
Акционернокооперативные
3.4
3,1
2,9
2,3
2,1
Акционерные
27,6
35,2
38,6
41,6
43,2
Иностранного капитала**
27,4
28,5
29,3
31,2
31,4
Частные
6,1
9,2
11.7
14,7
16,5
* Поскольку нельзя произвести полного размежевания секторов, в число государственных предприятий попадают акционерные и наоборот, не представляется возможным выйти на общий 100%-ный итог.
** Включая предприятия «трех капиталов» (Сянган, Аомэнь, Тайвань). Источник: Расчет по: Чжунго тунцзи чжайяо-2005. С. 127.
лям, в частности, по общему объему капиталовложений (около половины всех промышленных инвестиций), по величине основных фондов. Хотя государственный контроль в производственной сфере значительно сократился, он сохраняется в таких жизненно важных отраслях, как железные дороги, трубопроводный и авиационный транспорт, водо- и электроснабжение, связь, автомобиле-, самолето-, судостроение, табачная промышленность, соляная, фармацевтическая, библиотечное дело. Более половины производства энергии дают государственные предприятия.
В настоящее время государственный сектор почти «очищен» от мелких предприятий, которые были реструктурированы (проданы, акционированы, сданы в аренду), перешли в акционерно-кооперативную и смешанную формы собственности. Блок крупных государственных предприятий (превышающих установленные лимиты), включая унитарные и акционерные предприятия с государственным контрольным пакетом акций, с 1989 по 2004 г. сократился втрое — с 102,3 до 31,75 тыс., причем только за один 2001 г. их стало меньше почти на 1/4 м. Сокращение числа государственных промышленных предприятий сопровождалось наращиванием их общего производственного потенциала. В 2001 г. из 1772 крупных производственных объединений 503 были государственными унитарными предприятиями, а 801 — государственными корпора¬
244
КИТАЙ ИЩЕТСВОЙ ПУТЬ
циями (со 100%-ным государственным капиталом)39. Почти все из 520 ведущих государственных предприятий преобразованы в корпорации.
К 2010 г. планируется завершить в основном стратегическую перестройку государственного сектора, создать систему «современных предприятий» высокой конкурентоспособности и эффективности. От дореформенного типа предприятий так называемые «современные» отличаются следующими моментами:
■ государственная собственность преобразуется в акционерную, в роли собственников выступают инвесторы, которые могут претендовать на часть доходов компании, но не на ее имущество, акции могут меняться в цене и переходить от одного владельца к другому;
■ предприятие получает статут юридического лица и на этом основании владеет и распоряжается всем имуществом, отвечает этим имуществом по всем обязательствам;
■ управление компанией осуществляется собранием акционеров и управленческим аппаратом, комплектуемым из наемных работников.
В отношении различных видов госпредприятий политика «осовременивания» дифференцируется. Первая группа — примерно 2000 предприятий, являющихся монополистами (нефть, атомная энергетика, военно-промышленный комплекс, авиастроение), подлежат корпоративизации при сохранении 100%-ной государственной собственности. Вторая группа — крупные предприятия, подлежащие акционированию с сохранением «государственного пая». Третья — мелкие государственные предприятия, которые могут быть проданы, слиты с крупными, реорганизованы с введением кооперативных начал и т.д.
Начатый переход на корпоративную форму организации производства предусматривает следующие изменения на экономическом микроуровне:
■ предприятия полностью освобождаются от какого-либо вмешательства административных органов в свою текущую деятельность и становятся самостоятельными юридическими лицами, полностью ответственными за результаты своей деятельности. В случае убытков они не могут рассчитывать на какую-либо помощь со стороны административных органов и выбирают один из трех путей выхода из ситуации неплатежеспособности: либо берут новый заем под залог своего имущества, либо выпускают дополнительные акции, либо объявляют себя банкротами;
■ государство как верховный административный орган освобождается от материальной ответственности за результаты деятельности корпораций, но сохраняет право собственности на часть их имущества, полученного за счет бюджетных инвестиций. Из «внешнего» собственника оно превращается в собственника «внутреннего»;
■ предприятие несет ответственность перед государством (выплачивая налоги) и перед своими акционерами, в числе которых может быть и государство (выплачивая дивиденды).
Глава 6. Итоги 25 лет реформы
245
6.4. Становление рынка и роль государства в развитии рыночных отношений
По своей общей направленности китайская реформа однотипна с реформами, проводимыми в странах с транзитной экономикой. Прежде всего, она нацелена на замену механизма прямого административного (планового) распределения рыночным распределением в соответствии с вкладом каждого фактора производства (земля, труд, капитал) по условиям спроса и предложения. При этом на уровне предложения действуют стимулы оптимизации факторов производства, а на уровне спроса — стимулы экономии затрачиваемых средств.
На XVI съезде КПК в 2002 г. было констатировано, что в Китае уже в основном создана «система социалистической рыночной экономики», В последние годы повысилась степень институализации рыночных отношений, появились такие новые организационные формы, как концерны, холдинги, сети фирменных магазинов, дистрибьюторские сети крупнейших производителей. Однако, по мнению китайских ученых, рынок пока еще не совершенен, не ликвидированы целиком глубинные противоречия, унаследованные от «традиционной» плановой системы, в процессе перехода возникло много новых проблем40.
Внедрение рыночной экономики предполагает изменение государственных функций. Как констатируют китайские аналитики, государство в Китае уходит от непосредственного управления предприятиями и переключается на макроуправление экономикой и социальными процессами. Если исходить из различий между «классической» моделью рыночной системы, основанной на невмешательстве государства в экономику, и «управленческой» моделью, требующей от бизнеса социальной ответственности, китайскую модель рынка следует отнести к «управленческой» модели, признающей важную роль государства. Об этом свидетельствует идеологическая формула «мощное государство, богатый народ», претендующая на роль китайской национальной идеи.
В российской прессе наблюдаются значительные расхождения в оценках роли государства в экономике КНР. Одни деятели отмечают половинчатость китайских рыночных реформ и неполное отступление от командно-административных методов управления, другие, наоборот, считают государство в КНР «слабым», соответствующим требованиям неолиберальной доктрины.
В пользу первой точки зрения свидетельствуют факты сохранения партийного контроля над директорским корпусом, определенного вмешательства государства в установление тарифов и цен, а также само су¬
246
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
ществование долгосрочных программ развития и поддержание важной роли государственной собственности.
Сторонники второй точки зрения ссылаются на данные о снижении участия государства в экономической деятельности. Доля государственных расходов в ВВП уменьшилась с 42,02% в 1992 г. до 25,78% в 2001 г., а государственных субсидий - с 2,88 до 1,08%. Число работников госаппарата от общего числа служащих сократилось соответственно с 5,16 до 4,56%41. Цены уже в значительной степени отпущены. В 1992 г. каталог фиксированных цен включал 141 наименование товаров и услуг, а в 2001 г. этот перечень был сокращен до 13 позиций. За государством сохраняется определенный контроль: над ценами на зерно и хлопок, на нефть и нефтепродукты, на золото, на лекарства, на услуги коммунальных служб и образовательных учреждений, над тарифами на железнодорожные и авиационные перевозки. В 2001 г. фиксированные цены распространялись лишь на 2,7% розничного товарооборота (в 1992 г. — 5,6%), на 2,7% продаж сельскохозяйственной продукции (в 1992 г. — 10,3%), на 9,5% объема реализации средств производства (в 1992 г. — 19,8%)42. Динамика цен напрямую связана с балансом спроса и предложения.
О прогрессе рыночных отношений свидетельствует превращение хозяйствующих субъектов в самостоятельных товаропроизводителей. Это касается не только частных и смешанных, но и государственных предприятий, подчинявшихся прежде ведомствам и местным административным органам. Последние контролировали организацию материально-технического снабжения, сбыт готовой продукции (включая цены), капитальное строительство, кадровые вопросы.
В настоящее время предприятия в сфере снабжения сырьем и топливом в основном полагаются на прямые связи с поставщиками, а при реализации продукции — на новые формы рыночной торговли, какими являются торговые центры и товарные биржи. К концу 1990-х годов около половины объектов капитального строительства финансировались за счет собственных фондов предприятий и внебюджетных ассигнований местных органов власти. Уже сложилась разветвленная система товарных рынков. Полностью ликвидирован товарный дефицит, в основном создан рынок потребителя при значительном превышении предложения над спросом, отмечаемом в отношении примерно 2/3 номенклатуры потребительских товаров.
Вслед за образованием товарного рынка идет формирование рынка факторов производства. Можно считать, что финансовые потоки осуществляются в рыночном режиме примерно на 40%. 20—25% капитального строительства производится за счет банковских кредитов при определенном государственном контроле. Общая коммерциализация кредитов в целом по стране ориентировочно оценивается в 60%. В негосударственных банках доля коммерческих кредитов превышает 70%.
Глава 6. Итоги 25 лет реформы
247
Проценты по кредитам устанавливаются в централизованном порядке, но при значительных колебаниях согласно договоренности. В настоящее время расширяется допуск на китайский рынок иностранных финансовых институтов.
Реструктуризация госсектора предполагает открытую продажу акций, которые смогут приобретать как китайские резиденты (в первую очередь работники акционерных предприятий), так и зарубежные инвесторы. Хотя первые попытки эмиссии акций относятся еще к началу 1980-х годов, а с 1986 г. начались эксперименты по их рыночной реализации, состояние фондового рынка в Китае остается противоречивым. Бум первичного акционирования завершился в первом полугодии 2001 г. В 2001 г. общая капитализация фондового рынка страны достигла 600 млрд, долл., что сделало его вторым по объему в Азии после японского43. В дальнейшем этот процесс затормозился и начал вновь наращивать темпы только с лета 2003 г. Число компаний, акции которых котировались, на биржах городов Шанхай и Шэньчжэнь, выросло к концу 2003 г. до 1278 против 745 в 1998 г. Сложилось ядро крупных компаний, отличающихся высокой прибыльностью благодаря протекционистским мерам правительства. Отмечена диверсификация видов эмитированных акций. Вырос объем выпуска государственных облигаций, а также появилось большое число видов облигаций, различающихся по видам выплаты процентов. Крупным фирмам разрешен выход на рынок корпоративных облигаций. Оживился приток иностранных инвестиций на фондовый рынок.
Сохранение паспортной системы с двумя видами паспортов — для городских и сельских жителей — долгое время сдерживало формирование рынка рабочей силы. Рыноктруда в 1978 г. фактически полностью отсутствовал, к концу 1990-х годов свободная система найма охватывала примерно 2/5 рабочей силы. В рыночные отношения в деревне в наибольшей степени вовлечены волостно-поселковые предприятия, на которых занято 35% сельской рабочей силы. В самом сельскохозяйственном производстве при существующей системе производственной ответственности свободный найм не развит, миграция рабочей силы все еще сдерживается государством.
В городской экономике рабочие госпредприятий прежде не могли свободно менять место работы и место жительства, до недавнего времени на контрактников приходилось не более 30% персонала. Провозглашенное «углубление реформы» на государственных предприятиях сопровождается предоставлением им возможности самостоятельно определять потребность в рабочей силе, сроки и условия найма, в результате чего грани между «постоянными» работниками и «контрактными» постепенно размываются. На негосударственных предприятиях уже преобладают лица свободного (добровольного) найма (примерно 70% занятых). С вступлением в силу Закона КНР о труде процесс формирова¬
248
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
ния рынка рабочей силы заметно ускорился. В ближайшие годы Китай может полностью перейти на систему трудовых контрактов для всех рабочих и служащих.
Последнее десятилетие характеризуется быстрым открытием внутреннего рынка по отношению к внешнему миру. С начала 1992 г. Госсовет приступил к выдаче предприятиям разрешений на непосредственное участие во внешней торговле. После этого аналогичной процедурой занялись и местные правительства. В принятом в 1994 г. Законе КНР о внешней торговле было отменено директивное планирование экспорта и импорта, продекларирована самостоятельность предприятий в области внешнеэкономической деятельности, аннулировано квотирование экспорта и импорта ряда товаров. Иностранные инвесторы с тех пор пользуются широкой гаммой привилегий и налоговых льгот. Центрами притяжения иностранного капитала и своего рода «очагами развития» долгое время оставались специальные экономические зоны, среди которых особенно выделялась СЭЗ Пудун в г. Шанхае.
В первой половине 1990-х годов ряд китайских ученых выступали со своими определениями уровня развития рыночной экономики в Китае, оцениваемого по 100%-ной шкале (максимальное развитие рыночных отношений): нерыночная экономика — 0—15%: слабое развитие рынка — 15—30%, стадия близкого к среднему уровню развития рыночной экономике — 30—50%, стадия приближения к зрелой рыночной экономике — 50—65%, достаточно развитая рыночная экономика — 65— 80%, развитая рыночная экономика — 80% и выше. Разброс имеющихся оценок достаточно велик: от 35% на 1990 г. (Гу Хайбин) и 38% на 1995 г. (Цзян Сяовэй, Сун Хунсюй) до 62% на 1992 г. (Лу Чжунъюань, Ху Аньган). Средняя оценка - 52,5%
В более поздней работе, относящейся к 1999 г., Гу Хайбин повысил свою оценку до 40—50%. В производстве продовольствия, по его мнению, товарная часть составляла в конце 90-х годов примерно 30%, в производстве технических культур значительно больше. Он отмечал сохранение контроля над сельскими производителями со стороны местных органов власти, отсутствие фактически рынка хлопка, значительную степень самообеспечения крестьянских хозяйств при участии рынка в реализации продукции сельского хозяйства на уровне 40-50%. В доходах крестьян товарная часть — 70%, натуральная часть — 30%. Но если брать чисто сельскохозяйственную деятельность (без учета продукции сельских промышленных предприятий), то доля самообеспечения — 45%45.
Ссылаясь на существование государственных монополий, сохранение процедуры назначения директоров большинства государственных предприятий вышестоящими инстанциями, переход убыточных государственных предприятий под контроль государства и другие факты государственного вмешательства в экономику, степень коммерциализации несельскохозяйственного сектора Гу Хайбин оценивает примерно в
Глава 6. Итоги 25 лет реформы
249
Таблица 10
Степень коммерциализации экономики Китая, %
Сферы экономики и виды рынков
1979 г.
1990 г.
1995 г.
1997 г.
Товарный рынок
2,25
54,5
84,5
85,0
Рынок рабочей силы
3,24
34,7
60,0
65,0
Финансовый рынок
1,00
6,3
9,1
10,0
Рынок жилья
0,00
22,8
39,3
40,0
Рынок технологий
0,00
54,1
70,8
71,0
Сельское хозяйство в целом
7,67
51,6
65,0
66,0
Промышленность в целом
0,00
37,3
49,9
50,0
Внешняя торговля
1,50
22,3
41,4
54,4
Источник: Чжунго цзинцзи тичжи шичанхуа цзинчэн (Процесс маркетизации китайской экономической системы). Шанхай, 1999. С. 33.
60%. Одним из важных результатов рыночной реформы он считает значительное сокращение сферы директивного планирования в промышленности. Центральное директивное планирование охватывает, по оценке автора, не более 5—7% валового промышленного производства.
О динамике процесса рыночных преобразований в годы реформы дают представление данные табл. 10.
Институт экономики и управления ресурсами при Пекинском педагогическом университете по поручению Министерства коммерции подготовил «Доклад о развитии китайской рыночной экономики — 2003», в котором была использована четырехбалльная система оценок по компонентам рыночной экономики, с учетом степени рыночной свободы: «1» — высокая, «2» — относительно высокая, «3» — средняя, «4» - низкая. Полученные баллы затем были по определенной методике переведены в проценты (табл. 11).
Согласно этим расчетам, в 2001 г. степень развития рыночной экономики в Китае составила 68%, превысив рубеж в 60%, установленный для категории стран с рыночной экономикой. В конце 10-й пятилетки (2001—2005 гг.) уровень маркетизации, скорее всего, составит 65—70%, а к 2010 г. — 80%, что будет означать достижение в основном цели реформы, а именно - создание относительно совершенной системы социалистического рынка. Ее основные особенности:
■ Завершение стратегической перестройки государственного сектора, закрепление новой системы управления государственным имуществом, спецификация имущественных прав системы многоукладное™.
■ Широкое распространение корпораций как основной формы системы современных предприятий.
■ Полное оформление рынка факторов производства и развертывание здоровой конкуренции.
250
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
Таблица 11
Уровень коммерциализации Китая по компонентам рыночной экономики
Показатели
1992 г., %
2001г.
%
баллы
Доля правительственных расходов в ВВП
13,11
13,58
2
Средняя ставка подоходного налога предприятий
37,35
30,92
3
Доля государственных капиталовложений в ВВП
2,24
3,90
3
Доля государственных дотаций в ВВП (включая трансакции регионам)
Доля госслужащих в общем количестве занятых
5,12
7,36
3
в городах
17,86
13,9
3
Доля негосударственного сектора в общих капитало вложениях
- 31,95
52,69
3
Доля негосударственного сектора в общем числе занятых в городах и поселках
39,03
68,09
2
Доля негосударственного сектора в ВВП Доля негосударственного сектора в налоговых
53,57
63,37
2
поступлениях
33,0
64,42
2
Доля негосударственного сектора во внешнеторговом обороте
27,45
55,04
3
Бюджетные дотации убыточным госпредприятиям в соотношении с ВВП
1,67
0,31
2
Процент предприятий с контрактными управляющими 7,90 (1993)
89,22
2
Доля предприятий, располагающих хозяйственной самостоятельностью
54,90 (1993)
93,14
2
Превышение числа постоянных жителей над лицами, 1,39 имеющими паспорта
2,57
3
Межотраслевые перемещения работников
2,14
4,96
3
Доля предприятий с договорной формой установления зарплаты
70,20 (1993)
81,35
2
Вклад самих предприятий, иностранных и частных вкладчиков в фонды предприятий
57,27
75,28
1
Доля иностранного участия в общем капитале смешанных предприятий
59,75
79,11
1
Доля аукционных продаж в общей площади городской застройки
5,70
12,00
3
Объем продаж по рыночным ценам в общем розничном товарообороте
94,10
97,30
1
Доля сельскохозяйственных закупок по рыночным ценам
87,50
97,30
1
Доля средств производства, реализуемых по рыночным ценам
81,30
90,50
2
Средняя величина таможенного тарифа
43,20
15,30
4
Глава 6. Итоги 25 лет реформы
251
Продолжение табл. 11
Показатели
1992 г., %
2001г.
%
баллы
Доля налогов, получаемых от внешней торговли,
2,33
1,99
3
во внешнеторговом обороте
Процент регистрации фактов нарушения условий нормальной конкуренции
-
80,90
3
Процент регистрации в заявленных правах на интеллектуальную собственность
•
86,29
2
Доля негосударственных банков в общем банковском
26,74
4
капитале
Доля негосударственного сектора в общих сбережениях финансовых организаций
19,50
32,22
3
Доля предприятий «трех капиталов», волостно-посел- 7,08
15,74
4
ковых, индивидуальных и частных предприятий в общих краткосрочных кредитах
Средний показатель инфляции за последние 5 лет
9,94
0,34
1
Общие начисления по кредитам всех финансовых организаций при установленном годовом проценте
•
60,00
3
Процент неконтролируемых статей в финансовых
-
28,0
4
отчетах
Источник: Лянлинлинсань. Чжунго шичан цзинцзи фамжань баогао (Доклад о развитии китайской рыночной экономики - 2003). http:// www.china.org.cn/chinese/ zhuanti/301660.htm
■ Создание многоуровневой системы социального обеспечения.
■ Разделение правительственных функций.
■ Широкое участие граждан в управлении экономикой и обществом.
■ Обеспечение легитимной основы социалистической рыночной экономики46.
6.5. Социальные сдвиги
Демографическая ситуация в Китае свидетельствует о том, что исторический переход к современному типу воспроизводства населения уже состоялся, и на это потребовался сравнительно короткий период времени. Естественный прирост населения в 1978 г. составил 12,0%о, в 2000 г. — 7,58, в 2004 г. — 5,87%о. Иначе говоря, за 26 лет он сократился в 2 раза47. За время реформы численность населения выросла на 337 млн. человек. При сохранении прежнего демографического режима прирост населения был бы в 2 раза большим. Произошло одновременно и падение рождаемости, и снижение смертности, причем первый процесс опередил второй. Коэффициент рождаемости снизился с 18,25 %о в 1978 г. до 14,03 в 2000 г. и 12,29%о в 2004 г. Это прямой результат политики
252
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
планирования семьи и следствие улучшения жизненных условий, включая изменение стереотипов поведения людей в сторону роста потребления и получения образования. Естественно, что некоторое ослабление демографического давления на ресурсы и природную среду в чем-то облегчило решение социальных проблем, в частности уменьшило государственные расходы на материальное обеспечение растущего населения и создание новых рабочих мест. Вместе с тем снижение смертности в результате лучшего питания и успехов здравоохранения неуклонно ведет к старению населения, утяжелению иждивенческой нагрузки на работающих. На 1 пенсионера в настоящее время приходится 6 занятых, в то время как еще в 1978 г. — 25—3048. Перспектива абсолютного и относительного сокращения численности населения в трудоспособном возрасте требует подключения сложных компенсаторных механизмов в виде развернутой системы пенсионного обеспечения.
За годы реформы общее число занятых возросло на 350 млн. человек (401, 52 млн. в 1978 г., 752,0 млн. в 2001 г). Число занятых в городском секторе увеличилось с 95,1 до 264,8 млн. человек, в сельском хозяйстве — с 306,4 млн. до 487,2 млн. человек49. В настоящее время в несельскохозяйственном производстве ежегодно дополнительно создается около 10 млн. рабочих мест, однако потребность в трудоустройстве, включая естественный прирост численности рабочей силы, уволенных с госпредприятий работников, временно потерявших работу, в 2,5 раза выше. На каждые 100 человек, вышедших на пенсию, появляется в среднем 280—300 новых претендентов на получение работы.
Доля городского населения увеличилась с 18% в 1978 г. до 42% в 2004 г. Были ликвидированы многие из административных запретов, ограничивающих миграцию, и масштабы ее возросли многократно: если в 1985 г. мигранты составляли 20 млн. (около 2% всего населения), то в 2000 г., по данным 5-й всекитайской переписи населения, — 140 млн. человек (11 %)50. Однако контроль над миграцией сохраняется, и переезд крестьян в города обставляется определенными условиями (обычно наличием предварительной договоренности с работодателями).
Рост доходов населения в годы реформы оказался весьма существенным, хотя и значительно отставал от экономического роста. При общем росте ВВП в 1978—2004 гг. в 10,3 раза доходы городского населения номинально выросли с 316 до 9422 ю., а с учетом роста цен — в 5,5 раза. Доходы сельского населения за те же годы увеличились с 133,6 ю. до 2936 ю., а в реальном исчислении — в 5,9 раза51. Судя по многочисленным обследованиям в городах и сельских районах, почти 70% жителей страны считают, что они не только не пострадали в ходе экономических реформ, но и получили определенные улучшения в своей жизни52. Итоги кампании по искоренению нищеты в Китае признаются беспрецедентными в мировой практике. Число людей, живущих в абсолютной бедности, сократилось в 1978—2004 гг. с 250 до 26,1 млн. человек53.
Глава 6. Итоги 25 лет реформы
253
При этом необходимо заметить, что определение бедности в Китае происходит по своим, более низким критериям, чем в развитых странах: в 1978 г. — 100 ю. доходов на человека в год, в 2004 г. — 668 ю. Хотя рабочая сила в Китае остается достаточно дешевой, заработная плата постоянно растет, а условия разворачивающейся рыночной конкуренции и большой задолженности госпредприятий подталкивают к экономии на трудовых затратах.
В структуре потребления произошли трехэтапные изменения. В начале реформы в деревне превалировало натуральное хозяйство, в городе - распределение по талонам и карточкам. С середины 80-х годов в городе произошел сдвиг в структуре потребления в сторону продуктов питания и предметов длительного пользования, в деревне — питания и жилья, причем уже с подключением рыночного обмена. Быстро забыв о продовольственном дефиците и продуктовых карточках, китайцы стали регулярно и достаточно хорошо питаться, зачастую предпочитая домашнему приготовлению пищи услуги искусных поваров многочисленных закусочных и ресторанчиков. С начала 90-х годов в структуре потребления снижается доля питания, повышается доля расходов на жилье, транспорт и медицинские услуги. Доля питания в структуре потребления городского населения (коэффициент Энгеля) составила в 2004 г. 37,7% против 57,5% в 1978 г. В потреблении сельского населения доля питания в 1978—2004 гг. снизилась с 67,7 до 47,2%, т.е. на 20 процентных пунктов м.
Зерноовощной тип питания с недостатком белков, минералов и витаминов сменился более разнообразным пищевым рационом, в котором присутствуют ранее не доступные мясо, рыба, молоко, сахар и дорогостоящие морепродукты. Потребление зерна надушу населения сократилось почти вдвое (130,7 кг в 1990 г. и 78,5 кг в 2002 г.), зато потребление мяса всех видов выросло за те же годы с 25,2 до 32,5 кг, растительного масла — с 6,4 до 8,5 кг, морепродуктов — с 7,7 до 13,2 кг.55
Китайцы стали не только лучше питаться, но и добротно и разнообразно одеваться, покупать различные вещи домашнего обихода, по наличию которых судят о зажиточности того или иного человека. В начале реформы считалось необходимым иметь термос и авторучку и престижным - ручные часы, велосипед и швейную машинку. Для покупки такого «набора благополучия» ценою около 100 ю. деньги копились в течение 5-6 лет. В 1980-е годы, когда началась электрификация быта, китайцы стали обзаводиться стиральными машинами, холодильниками и черно-белыми телевизорами. Чтобы накопить примерно 1000 ю. для покупки одного из этих предметов длительного пользования требовался уже только год работы. В начале 90-х годов интересы потребителей переключились на цветные телевизоры, кондиционеры, видеотехнику и даже компьютеры, что обходилось ориентировочно в 5000 ю., Обеспеченность предметами длительного пользования достигла довольно вы¬
254
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
сокой степени, а сотовые телефоны из предмета роскоши быстро превратились в предмет необходимости. Уже в 1985 г. Китай в отношении насыщенности предметами длительного пользования приблизился к Японии 1970 г., когда в ней доход на душу населения измерялся величиной 1600 долл.56 В 2004 г. в городе на 100 семей приходилось 95,9 стиральных машины, 133,4 цветных телевизоров, 33,1 компьютеров, 111,4 мобильных телефонов, 2,2 автомашины и 24,8 мотоциклов и мопедов57. Сегодня в Китае насчитывается 350 млн. пользователей мобильных телефонов, больше, чем где-либо в мире, а обеспечение интеллигенции крупных городов компьютерами достигло примерно 70%я.
После более чем десятилетнего потребительского бума спрос населения на многие виды товаров длительного пользования оказался удовлетворенным. Современная, четвертая по счету, «потребительская революция» сделала объектами обывательских вожделений хорошую квартиру, личный автомобиль, зарубежный тур или даже получение образования в престижных зарубежных университетах. Хотя количество личных автомашин пока остается низким, но спрос и предложение на авторынке растут очень быстро. По подсчетам концерна «Форд», который в 2003 г. открыл свой первый китайский филиал, всего через 5 лет Китай станет даже более емким автомобильным рынком, чем Япония. Лидер среди иностранных производителей автомобилей в стране, немецкий «Фольксваген» считает для себя Китай самым крупным рынком за пределами Германии59.
У городского населения второй по важности статьей расходов стали расходы на образование (14,96% в 2002 г.). Образование в Китае всегда было элементом престижа, но доступным только состоятельным людям, огромная часть населения оставалась неграмотной. Даже в 1978 г., т.е. накануне реформы, примерно четверть населения страны не умели читать и писать, к 2004 г. неграмотность среди лиц старше 15 лет снизилась до 8,3%60. Большая часть неграмотных сосредоточена в сельских районах. Сейчас поставлена цель ликвидировать к 2010 г. неграмотность среди сельской молодежи и людей среднего возраста.
В 1985 г. перешли к системе обязательного девятилетнего образования, которое в конце 90-х годов XX в. уже охватывало 2/3 населения страны. Почти все дети, оканчивающие начальную школу, переходят в первую ступень средней школы, и 60% переходят с первой во вторую ступень средней школы. Для содержания сельских школ привлекаются не только государственные средства, но и добровольные пожертвования.
Значительные успехи демонстрирует система высшего образования. В 1978 г. в вузах страны проходили обучение 856 тыс. человек. В 2003 г. студентов уже насчитывалось более 9 млн. человек. В первые годы реформы ежегодно на обучение в различные страны мира выезжало несколько десятков тысяч человек, а с 2000 г. эта цифра перевалила за 100 тыс. Высшее образование за рубежом в 1986—2002 гг. получили 700 тыс. человек,
Глава 6. Итоги 25 лет реформы
255
из которых около 100 тыс. вернулись на родину. Если сначала «возвращенцем» оказывался только каждый десятый из получивших дипломы за рубежом, то в последние годы — каждый пятый. В 2002 г. за рубежом обучалась 501 тыс. китайских студентов61.
Более 10% потребительской корзины составляют расходы на транспорт и на жилье. Наиболее серьезным следует считать повышение доли расходов на жилье у сельского населения - с 3% в 1981 г. до 16,4% в 2002 г.w Жилищная проблема еще далека от своего решения, но обеспеченность жильем значительно повысилась: с 8,1 кв. м надушу сельского и 3,6 кв. м на душу городского населения в 1978 г. до соответственно 27,2 и 23,7 кв. м в 2003 г.63 Заметно улучшилось качество жилья. Раньше во многих жилых домах не было элементарных санитарных удобств, теперь все городские квартиры, а нередко и сельские дома обустроены ванными и санузлами, все чаще жильцы пользуются обогревателями и кондиционерами. К расширению сферы услуг и жилищному строительству все более привлекаются средства самого населения. Жилье обычно выкупается предприятиями, которые перепродают их своим работникам по льготным ценам или в рассрочку. Постепенно расширяется свободный рынок жилья
Вследствие новой экономической стратегии потребление стало важным фактором, обеспечивающим экономический рост и формирование рыночной экономики. По оценкам китайских экономистов, вклад потребления как главной составной части конечного спроса в экономический рост с 1978 г. был примерно 60%м. Дальнейший переход к новой структуре потребления с упором на жилье и более дорогостоящие товары задерживается из-за сохранения достаточно высоких цен и недостаточно высокой зарплаты. Растущая дифференциация в доходах городского и сельского населения не позволила мобилизовать возможности сельского рынка. К тому же сохраняются некоторые ценовые перекосы, в частности более высокая цена на электроэнергию в деревне по сравнению с городом. Использование в сельских домах электроэнергии остается невысоким, что также является одним из существенных ограничений расширения сельского потребительского спроса.
Качественные изменения структуры потребления сделали поведение потенциальных покупателей крайне осторожным, породили явление отложенного спроса. Значительная часть доходов населения уходит в сбережения «на черный день», на оплату обучения детей, на покупку квартиры. Традиционный для Китая стереотип поведения, согласно которому расходы никоим образом не должны превышать доходов, укрепляет неуверенность населения в будущем. Так население реагирует на намерения правительства покончить с прежней системой полной или частичной государственной гарантии в области жилья, медицинского обслуживания, образования, а также на угрозу массовых увольнений в ходе реформы государственных предприятий и введения новой контракт-
256
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
ной системы найма рабочей силы. Сбережения городского и сельского населения выросли за годы реформы более чем в 400 раз65 и стали важной компонентой фонда накопления, важнейшим источником финансирования капитального строительства и формирования банковских капиталов (примерно на 80%). В 2003 г. остаток сберегательных вкладов населения превысил 10 трлн, ю., что почти равно размерам годового ВВП. Составляя примерно 25% семейного дохода, высокая норма сбережений имеет и отрицательные последствия, провоцируя дешевые кредиты и избыточные инвестиции.
Неуклонно дифференцируются источники доходов. До реформы 90% заработной платы были фиксированными, зависящими от тарифной сетки или условий сдельной оплаты. На начальном этапе реформы увеличились премиальные добавки, которые определялись в зависимости от размеров оставляемой на предприятии прибыли. В ходе проводимой в 1992—1993 гг. реформы заработной платы наметился отход от оплаты труда по разрядной тарифной сетке, зарплата более 40 млн. рабочих и служащих была увязана с результатами хозяйственной деятельности предприятия и конкретно с результатами работы данного человека. Это расширило возможности повышения оплаты труда, но одновременно отрицательно сказалось на материальном положении работников убыточных или недостаточно эффективно работающих предприятий.
Новым веянием стало широкое распространение совместительства, привлечение дополнительных источников получения доходов, которые зачастую выше основных, особенно у категории квалифицированных и научных работников. Диверсификация доходов происходит также за счет подключения таких источников, как доходы от распоряжения имуществом (в том числе арендная плата за сдаваемое в наем жилье), предпринимательская прибыль, проценты на банковские вклады, доходы от ценных бумаг, включая акции, выпущенные предприятиями для рабочих и служащих.
В прошлом при низких доходах населения и общей экономии на фонде потребления политика в области социального обеспечения была крайне избирательной. Пенсионным обеспечением была охвачена небольшая часть населения, фактически не более 1/4 лиц старше 60 лет, в число которых входили работники государственных предприятий и учреждений. Ограниченность фонда социального обеспечения в какой-то мере компенсировалась разного рода государственными субсидиями.
В 1986 г. после двух лет экспериментов было принято решение в постепенном внедрении централизованной системы пенсионного обеспечения. Предприятия в соответствии с установленными местными органами социального страхования нормативами стали отчислять средства в городские и провинциальные пенсионные фонды. В 1993 г. более 500 тыс. предприятий с числом занятых около 100 млн. человек подключились к формированию общегородских пенсионных фондов, а в 10 провинциях эти
Глава 6. Итоги 25 лет реформы
257
фонды объединяются в рамках провинциальных пенсионных фондов. Система пенсионного обеспечения централизованного типа действует в городах Пекин, Тяньцзинь, Шанхай. Но и сейчас находящаяся в стадии формирования система социального обеспечения распространяется только на часть населения.
Медицинское страхование внедряется медленно и с большими трудностями. Охват этой системой к 2000 г. составлял около 33% рабочих и служащих, в 2001 г. едва достигал 50%. В сельских районах бесплатные медицинские услуги практически отсутствуют. Положение спасает система трудового страхования и кооперативное здравоохранение. Первая финансируется из бюджета и предназначена в основном для обслуживания государственных и партийных учреждений, вторая существует за счет отчислений предприятий в фонд социального страхования. Кооперативные больницы и поликлиники опираются на добровольные взносы крестьян.
Китайским аналогом «общества благосостояния» является понятие «сяокан», расшифровке и количественному определению которого придается очень большое значение. Китайскими статистиками в канун XXI в. были разработаны «Сводные усредненные показатели уровня “сяокан”» и две дополнительные группы показателей отдельно для городского и сельского населения. Уровень жизни определяется по 16 показателям, разбитым на 5 групп. По основным показателям степень их реализации на конец XX в. выглядела следующим образом (табл. 12).
На конец 1999 г. 615,6 млн. человек проживали в условиях «относительного благосостояния», что составило ровно половину населения страны. В городах соответствие эталонному уровню достигло 94%. В сельской местности из 16 показателей 100%-ный результат зафиксирован по 9 показателям. В региональном аспекте 15 провинций и городов центрального подчинения выполнили поставленные задачи на 90%, 9 административных единиц — на 80—90% и 7 — примерно на 80%. Эти успехи расцениваются официальной прессой как достижение в сельской местности так называемого уровня «тепла и сытости», а в городе приближение к уровню «среднего достатка», или «малого благосостояния».
О современном качестве жизни в Китае можно в полной мере судить по таким синтетическим показателям, как продолжительность жизни и индекс гуманитарного развития, который учитывает уровень грамотности, состояние сферы здравоохранения и ряд других важных моментов. По продолжительности жизни (68 лет для мужчин и 71 год для женщин) уровень младенческой и детской смертности Китай уже приближается к странам со средними и высокими доходами населения.
По индексу гуманитарного развития, разработанному специалистами ООН (0,644), он соответствует параметрам стран среднего уровня развития (ниже 0,5 — слаборазвитые страны, 0,5—0,8 — страны среднего уровня развития)бб.
258
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
Таблица 12 Степень приближения к уровню «малого благосостояния» в Китае
Показатели
Единица измерения
Эталонный уровень
Абсолютные величины
% от эталонного уровня
1980 г.
1999 г.
1980 г.
1999 г.
ВВП на душу населения
юани
2500
778
3591
31,1
143,6
Средняя ожидаемая продолжительность жизни
годы
70
68
более 70
97,0
100,0
Коэффициент детской смертности
%0
31
34,7
32,5
94,6
97,8
Доходы на душу населения в год
юани
2400
974
2749
38,5
114,5
Доля расходов на культуру %
и образование в потреблении
11
3
11,59
27,3
100
Доля грамотных среди населения старше 15 лет
%
85
77,7
87,6
91,4
103,1
Жилая площадь на душу населения
кв.м
15
4,5
18,7
22,2
124,7
Количество телевизоров на 100 семейств
ед.
100
11.9
100
11.9
100
Обобщенный индекс «сяо
%
-
-
-
-
94,6
кан» по 16 показателям
Примечание. Стоимостные показатели в ценах 1990 г. Источник: Цзинцзи жибао. 04.10.2000.
В стране складывается новая социальная структура. Двумя главными классами становятся работодатели и наемные работники. Крупные государственные предприятия переходят в корпоративное управление, а именно под начало управленческих структур и директорского корпуса. Мелкие государственные предприятия оказываются в частных руках. В сельской местности главными фигурами стали арендатор с пока неопределенной перспективой превращения в земельного собственника и хозяин сельского предприятия.
В настоящее время на основании обследований на местах китайские ученые по социальному положению в обществе выделяют 10 слоев: населения: 1) управленческие кадры высших звеньев административного и партийного аппарата; 2) хозяйственные руководители; 3) владельцы частных предприятий; 4) инженерно-технический персонал; 5) рядовые чиновники; 6) единоличники; 7) работники сферы услуг (отдельно - работающие в сельской местности); 8) производственные рабочие; 9) крестьяне (отдельно — мигранты из других регионов); 10) безработные и полубезработные. О динамике этих 10 социальных слоев можно судить по данным табл. 13.
Глава 6. Итоги 25 лет реформы
259
Таблица 13
Изменения социальной структуры Китая в 1952-1999 гг., %
Социальные слои
1952
1978
1988
1991
1999
Управляющие высшего звена
0,50
0,98
1.70
1,96
2,1
Хозяйственные руководители
0,14
0,23
0,54
0,79
1,5
Владельцы частных предприятий
0,18
0,00
0,02
0,01
0,6
Инженерно-технический персонал
0,86
3,48
4,76
5,01
5,1
Рядовые чиновники
0,50
1,29
1,65
2,31
4,8
Единоличники
4,08
0,03
3,12
2,19
4,2
Работники сферы услуг
3,13
2,15
6,35
9,25
12,0
в том числе в деревне
-
0,80
1,80
2,40
3,7
Производственные рабочие
6,40
19,83
22,43
22,16
22,6
в том числе в деревне
-
1,10
5,40
6,30
7,8
Крестьяне
84,21
67,41
55,84
53,01
44,0
в том числе мигранты
-
0,00
0,10
0,20
0,1
Безработные и полубезработные
-
4,60
3,60
3,30
3,1
Всего
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Источник: Л у Сюзи (ред.) Дандай Чжунго шэхуэй цзецэн яньцзю баогао (Доклад по изучению социальных слоев современного Китая.). Пекин, 2002. С. 44.
По имущественному положению выделяются 5 крупных групп: лица с очень высокими доходами (в 2004 г. среднегодовой доход на 1 человека- 13753,1 ю.), лица с достаточно высокими доходами (8345,7 ю.) лица со средними доходами (6498,4 ю.), лица со сравнительно низкими доходами (5096,3 ю.), лица с очень низкими доходами (3396,1 ю.)67.
Если попытаться скомбинировать «статусный» и «имущественный» подходы, то можно выделить следующие основные социальные страты.
■ Элита — высший слой бюрократов и менеджеров государственных предприятий и корпораций, владельцы крупных частных предприятий. В настоящее время в Китае энергично идет процесс создания крупнейших корпораций, наличие которых составляет общую отличительную черту современного «нового индустриального общества». По линии реальной власти и по политическому влиянию верхушка руководителей крупнейших корпораций фактически сливается с высшей бюрократией, а по своему имущественному положению они не отличаются от собственников крупных частных предприятий.
■ «Средний слой» представлен квалифицированными научно-техническими кадрами, мелкими предпринимателями и лицами свободных профессий.
■ К лицам наемного труда принадлежат промышленные рабочие, рядовой персонал торговых учреждений, рядовой управленческий персонал. Здесь важно деление на лиц умственного и физического труда, на работников различных типов предприятий.
260
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
■ Работники сельского хозяйства с существенной имущественной дифференциацией.
■ Люмпенизированные слои.
Собственник, управляющий и наемный работник являются основными субъектами формирующихся в настоящее время рынков капитала и труда.
6.6. Достижения политики модернизации
Осуществление модернизации в китайской экономической науке связывается, как правило, с достижениями определенных параметров, которые подразделяются на следующие блоки.
■ Экономический аспект (высокий уровень экономического развития, измеряемый душевыми показателями валового внутреннего продукта и основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; завершение процесса индустриализации, структурные изменения в пользу вторичной и третичной сфер производства; высокая степень урбанизации; переход с экстенсивного на интенсивный путь развития; превращение науки в главную производительную силу; подключение к процессам глобализации).
■ Институциональный аспект (развитость товарно-денежных отношений и их легитимизация, создание системы многоукладное™, важная роль косвенного государственного регулирования).
■ Социальный аспект (рациональная занятость при низкой доле населения, занятого в сельском хозяйстве, высокая мобильность населения, отсутствие резкой имущественной поляризации, высокое развитие образования, здравоохранения и в целом системы социального обеспечения).
■ Гуманитарный аспект (высокий жизненный уровень, современная структура потребления с относительно невысоким уровнем расходов на питание, пониженный демографический рост, высокое качество рабочей силы).
■ Политический аспект (демократизация общества, соблюдение прав человека, высокая социальная активность).
В настоящее время существуют несколько вариантов обобщенных оценок степени модернизации Китая. Американский ученый Алекс Инкельс еще в 1970-е годы предложил для оценки степени модернизации использовать 10 основных показателей. Сравнение достигнутого и планируемого уровня модернизации Китая с этими «эталонными» показателями дает следующую картину (табл. 14).
Из перечня «эталонных» показателей достижения «модернизации» по четырем уровень Китая может быть признан достаточно высоким: 1) ежегодный естественный прирост населения (83% от эталонного уровня, 34-е место в мире); 2); средняя ожидаемая продолжительность жизни
Глава 6. Итоги 25 лет реформы
261
Таблица 14
Степень модернизации Китая
Показатели
Стандартный уровень модернизации
Современное состояние Китая (1998 г.)
Планируемый уровень модернизации к середине XXI в.
Душевой уровень ВВП, долл.
более 3000
800 (1999 г.)
9000
Доля сельского хозяйства в ВВП, %
12-15
18,0
ниже 10
Доля сферы услуг в ВВП, %
более 45
32,8
выше 60
Доля занятых вне сферы сельского хозяйства, %
более 70
50,1
80
Городское население, %
более 50
30,4
75
Естественный прирост населения, %о
менее 10
9,53
7.0
Доля грамотных во взрослом населении, %
более 80
около 80
90
Доля студентов среди молодежи, %
10-15
4
20
Число пациентов на 1 врача, человек
менее 1000
645
500
Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет
более 70
70
75
Источник: Синьхуа вэньчжай. 2000. № 7. С. 41-43.
(46-е место в мире); 3) число пациентов, обслуживаемых 1 врачом (на 55% выше стандартного уровня, 33-е место в мире); 4) грамотность взрослого населения (61-е место).
По четырем показателям Китай сильно отстает от нормативного уровня модернизации: 1) по среднедушевому показателю валового внутреннего продукта, которого придерживается официальная китайская статистика; 2) подоле сферы услуг в структуре ВВП отставание от норматива на 39% (111-е место в мире); 2) по доле студентов среди молодежи (всего 4%, что на 1 процентный пункт ниже уровня слаборазвитых стран и всего 32% от модернизационного норматива); 3) по степени урбанизации (31%), которая ставит Китай на 91-е место в мире (средний общемировой уровень — 47,5%).
Китайскими учеными была предпринята попытка оценки степени модернизации по 8 группам наиболее представительных показателей на основе данных по 21 развитой капиталистической странеб8, которая дала
262
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
следующие результаты (на 2000 г. установочный уровень принят за еди¬
ницу):
демографическое состояние (4 показателя) 0,55
экономический уровень (5 показателей) 0,26
социальное развитие (3 показателя) 0,40
жизненный уровень (5 показателей) 0,59
уровень образования (4 показателя) 0,29
уровень развития науки (5 показателей) 0,25
степень информатизации (4 показателя) 0,04
экологическое состояние (2 показателя) 0,49
комплексная оценка 0,404.
Аналогичный подход к отдельным регионам показал, что раньше всех, уже в 2005 г., расчетного уровня модернизации достигнет Шанхай, Пекин — к 2018 г., Гуандун — к 2021 г., Тяньцзинь - к 2026 г. Последними будут провинции: Ганьсу (2062 г.), Цинхай (2065 г.), Гуйчжоу (2070 г.), Тибет (2090 г.)69.
Расчеты тех же китайских ученых вывели их на общий уровень модернизации Китая — 72,3%. Этот показатель немногим отличается от оценок специалистов Всемирного банка, согласно которым Китай по комплексному показателю модернизации (77,5% от эталонного уровня) в 1994 г. находился на 69-м месте среди 120 стран мира. По индексу гуманитарного развития, разработанному специалистами ООН (0,644), который учитывает уровень грамотности, состояние сферы здравоохранения и ряд других важных моментов. Китай приближается к странам среднего уровня развития (ниже 0,5 — слаборазвитые страны, 0,5—0,8 — страны среднего уровня развития)70. Вместе с тем многое в демографической ситуации демонстрирует незавершенность процесса модернизации в этой области. Китай продолжает существовать в условиях избытка рабочей силы и сохраняет во многом облик аграрной страны.
По степени урбанизации (42%) он еще отстает от среднего общемирового уровня (47,5%). Однако следует иметь в виду, что количественные показатели степени урбанизации Китая являются достаточно условными и вследствие этого степень урбанизации статистически занижена. Директор Института социологии АОН Китая Ли Пэйлин, ссылаясь на то, что большое количество сельских жителей работает в городах, а многие поселки фактически превратились в города, считает, что урбанизация в Китае находится на уровне 45%, что соответствует положению в странах с аналогичным душевым производством ВВП (в 1997 г. душевое производство ВВП в Китае было близко к 860 долл., при котором, по мировым стандартам, урбанизация должна быть 44%)71.
Глава 6. Итоги 25 лет реформы
263
6.7. Проблемы китайской экономики и перспективы ее развития
Экономический рост в КНР в последние два с лишним десятилетия был обеспечен в большей мере за счет экстенсивных факторов. Особую роль сыграли массированные капиталовложения, в том числе иностранные, устойчивый приток трудоспособного населения, массовые перемещения рабочей силы из аграрного сектора в индустриальный (из сферы с более низкой производительностью труда в сферу его более высокой производительности). В то же время имело место улучшение показателей эффективности производства за счет повышения доли негосударственных секторов в ВВП, расширения хозяйственной самостоятельности предприятий, технической реконструкции предприятий, структурной перестройки экономики. Положительно сказались на общих экономических показателях централизация производства, углубление разделения труда, рост и улучшение структуры внутренней и внешней торговли. Росту экономической эффективности содействовало также привлечение «фактора знаний», под которым понимаются технические нововведения, повышение качества рабочей силы, прогресс связи и информатики, общей инновационной способности экономики. Положительно сказались массовый импорт техники и закупки иностранных лицензий.
Вместе с тем давно объявленный переход с экстенсивного на интенсивный путь развития пока не состоялся. Обилие мелких предприятий, недостаточные темпы технической реконструкции старых предприятий, отсутствие гибкой реакции на изменения конъюнктуры рынка — это и многое другое являются причинами относительно медленного повышения производительности общественного труда, которая в 1978— 2002 гг. росла со среднегодовым темпом 6,6% против роста ВВП в 9,4%. Подъем экономики сопровождается непомерными затратами сырья и топлива, недостаточным привлечением инновационных технологий, разрушением природной среды.
Очевидно, что для окончательной ликвидации экономической отсталости и наращивания своей экономической мощи Китаю требуется и дальше поддерживать высокие темпы индустриализации. Иногда страну сравнивают с велосипедистом, который, чтобы не упасть, вынужден изо всех сил «крутить педали». Нельзя забывать о том, что по душевым показателям производства КНР продолжает значительно отставать от развитых стран, и перспектива преодоления этого отставания где-то далеко за горизонтом. По приблизительным оценкам китайских ученых, если темпы прироста ВВП в США будут поддерживаться на уровне 3%, а в КНР на уровне 8%, то Китай по душевым показателям догонит Соеди¬
264
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
ненные Штаты только через 68 лет. Если же темпы будут составлять соответственно 4% и 7%, то эта «гонка» растянется аж на 118 лет72. Крайне важно и поддержание стабильности экономического роста. Хотя импульсивное экономическое развитие с постоянной сменой фаз «перестройки» и «урегулирования» обошлось без существенных «сбоев», однако сопровождалось немалыми издержками, периодическими нарушениями баланса между спросом и предложением, растратой дефицитных ресурсов.
Нет никаких сомнений в том, что в будущем Китай не может себе позволить сложившегося расточительного потребления сырья, топлива и исходных материалов. Положение начало несколько улучшаться в годы 9-й пятилетки, когда произошло снижение потребления энергии на 7% (расходы угля сократились на 14%, что позволило снизить плановые наметки на 10-ю пятилетку). Тем не менее, в последние годы проблема ресурсообеспечения обострилась, удельные затраты топлива и сырья снижаются медленно. В 2003 г. потребление от общемирового составило: по нефти — 7,4%, по каменному углю — 31, по железной руде - 30, прокату — 37, алюминию — 25 и цементу - 40%, что на порядок выше доли Китая в мировом ВВП. Зависимость страны от импорта сырья угрожает перейти за черту экономической безопасности. В 2003 г. зависимость от импорта была по железной руде и бокситам — 50%, по меди - 60, по нефти — 34%. Имеются прогнозы, что, если не переломить складывающуюся тенденцию, в ближайшие 30 лет сырьевые и топливные потребности в несколько раз превысят возможности собственного производства, и уже в недалеком будущем значительная часть мирового сырьевого рынка должна будет обслуживать Китай, что мало привлекательно для него самого и непосильно для его торговых партнеров. Это особенно касается нефти, природного газа, меди и алюминия, импортные потребности в которых возрастают с каждым годом. Остро стоит задача усиления разведки полезных ископаемых, улучшения технологии добычи руды.
Ресурсозатратный тип производства крайне отрицательно отражается на состоянии природной среды. Ежегодно из-за истощения природных ресурсов, загрязнения природной среды экономические потери составляют по крайней мере 400 млрд. ю.73 По оценке специалистов, если Китай намерен к 2020 г. осуществить очередное учетверение ВВП при современной интенсивности использования природных ресурсов, давление на природную среду увеличится в 4—5 раз. Чтобы сохранить современное состояние природной среды, эффективность использования природных ресурсов должна быть больше в 4-5 раз. Если же поставить задачу улучшения экологической обстановки, то показатели эффективности использования природных ресурсов надо поднять в 8—10 раз.
Китаю никуда не уйти от общемировой тенденции падения роли живого труда в производстве в результате технологического прогресса. Все меры по повышению производительности труда и совершенствова¬
Глава 6. Итоги 25 лет реформы
265
нию экономической структуры ведут к высвобождению из производства значительных контингентов рабочей силы, что на фоне существенного ежегодного пополнения армии трудоспособных чревато осложнением проблемы занятости. По разным оценкам, аграрное перенаселение в Китае равно 100-150 млн. человек, в промышленности на положении «лишних» находятся по крайней мере 10% рабочих, а на государственных предприятиях при переходе на систему государственного социального обеспечения число работников можно сократить на треть. За последние годы на государственных и коллективных предприятиях число занятых уменьшилось на 60 млн. человек, еще миллионы людей ждут своей очереди на увольнение. Масштабы безработицы из года в год растут и абсолютно, и относительно, особенно со второй половины 1990-х годов. В 2001 г. она составила, по официальным данным, 3,6%, в 2003 г. — 4,3%. По некоторым оценкам, фактическая безработица в городах составляет около 7% и в скором будущем грозит приблизиться к опасному порогу 9-10%, а с учетом скрытой безработицы на государственных предприятиях - возможно, даже 15%. По сведениям, опубликованным газетой «Чжунго цзинцзи шибао», общая численность фактически безработных в городах Китая на сентябрь 2003 г. приблизилась к 20 млн. человек, включая 7,95 млн. официально зарегистрированных безработных, 6,32 млн. уволенных с государственных промышленных предприятий (так называемых «сяган») и 7 млн. незарегистрированных безработных74.
До недавнего времени проблема занятости решалась с подключением мелкого производства при широком распространении полупро- мышленных-полукустарных предприятий в сельской местности. Волостно-поселковые предприятия за годы реформы обеспечили работой почти 140 млн. человек (более 1/4 работоспособного сельского населения). Однако этот путь в значительной мере себя исчерпал, новая стратегия диктует необходимость отказа от таких малорентабельных и ресурсоемких предприятий, к тому же сильно загрязняющих природную среду.
Модель экстенсивного пути развития не предъявляла до сих пор слишком высоких требований к качеству рабочей силы. Сейчас эта проблема выходит на первый план, и ее решение упирается в неразвитость системы образования и недостаточное ее финансирование. Расходы на образование в государственном бюджете невелики, а попытка переложить финансирование этой важной сферы на население меняет структуру потребления и сдерживает текущий потребительский спрос, что грозит превратиться в тормоз экономического роста. Но если даже значительно расширить ассигнования на цели образования, немедленного улучшения ситуации ждать не приходится. Необходимы и создание соответствующей инфраструктуры, и подготовка квалифицированных кадров, и улучшение всей нормативной базы системы образования.
Что касается повышения общего жизненного уровня населения, то этот процесс в последние годы существенно замедлился. Причину надо
266
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
искать в первую очередь в аграрном секторе, замораживании роста доходов крестьян. Дальнейшему прогрессу сельского хозяйства препятствуют нехватка земли, огромное аграрное перенаселение, низкий уровень механизации сельского хозяйства, раздробленность земельных участков. Доля сельского хозяйства в общих капиталовложениях остается низкой. Китай продолжает жить как бы «в двух измерениях», направляя огромные средства на развитие городов и вытягивая из деревни «все соки» на нужды индустриализации. Относительное благополучие городов поддерживалось до сих пор строгим паспортным режимом, не позволявшим деревенским жителям покидать свои дома. Сейчас рыночная экономика, предполагающая наличие рынка рабочей силы, открывает шлюзы притоку мигрантов в города, но одновременно на улицах городов появляются толпы пришельцев, томящихся в ожидании нанимателя. Сохраняется и их полулегальное положение.
Сам рост потребительского спроса, который претендует на роль главного мотора развития экономики, в такой многонаселенной и экологически неблагополучной стране, как Китай, создает массу проблем. «Государство благосостояния» в китайских условиях не должно копировать стандарты западного «потребительского общества». Развернувшаяся автомобилизация уже привела к транспортным пробкам в городах, нехватке бензина, все большему загрязнению атмосферы. Трудно представить себе ситуацию, вернее, ее последствия, когда каждая китайская семья обзаведется собственным автомобилем.
Решить проблему перенаселенности крупных городов и регулирования потоков миграции собираются с помощью широкого строительства мелких городов и поселков. По общемировым меркам степень урбанизации Китая пока невелика, и сдерживают ее высокие затраты на жилищное строительство и благоустройство городских поселений, чувствительные для сельского хозяйства потери пахотных земель из-за расширения площади городской застройки.
Все прогнозы экономического развития КНР строятся на презумпции дальнейшего продолжения реформ. Однако рыночные реформы, вытеснение государства из системы распределения способствуют обострению имущественного расслоения. Дифференциация доходов в масштабах страны прослеживается в следующих аспектах: между руководителями и подчиненными; между жителями городов и сел; между работниками разных отраслей; между занятыми в государственном и негосударственном секторах экономики; между жителями различных регионов.
Доходы верхнего 20%-ного слоя населения превышают доходы нижних 20% в среднем по стране в 4 раза, но по предельным показателям в городе в 8—9 раз, в деревне — в 6—7 раз. По данным обследований, проведенных в 2004 г., разница между доходами руководителей и рядовых работников государственных предприятий чаще всего колеб¬
Глава 6. Итоги 25 лет реформы
267
лется от 3- до 15-кратной, но нередко встречается превышение в 50 раз и более.
Китай, еще недавно числившийся образцом «всеобщего равенства» (равенства в бедности), за годы реформы превратился в страну социальных контрастов. Индекс Джини, который до реформы был ниже, чем в Индии, в 2000 г. приблизился к американскому уровню, достигнув 45,8%, на 7,6 процентных пунктов выше 1988 г. и значительно выше планки в 30%, с которой начинается имущественная поляризация; образовался слой очень богатых людей. 2% населения владеют 49% всех банковских вкладов. Общий размер состояния 50 самых богатых людей Китая, включенных в список журнала «Форбс» за 2000 г., соответствует чистому суммарному годовому доходу 50 млн. крестьян, проживающих в шести бедных провинциях страны (Шэньси, Нинся, Цинхай, Юньнань, Ганьсу и Гуйчжоу). А 3 млн. китайских миллионеров обладают состоянием, равным двухлетнему чистому доходу 900 млн. китайских крестьян75. Образовался слой «новых китайцев», которым по карману и приобретение автомобиля, и туристические поездки за рубеж. Покупки квартир за десятки миллионов юаней уже мало кого удивляют. В Шанхае известен случай продажи квартиры за 120 млн. ю. (14 млн. долл, по официальному курсу).
Разрыв потребительских доходов между деревней и городом, по официальным данным, достиг в 2003 г. 3,4 раза, поданным НИИ Госсовета - 4 раза с лишним , по некоторым экспертным оценкам - 6 раз7б. Если сравнивать семейные доходы самых богатых в городе с семейными доходами бедных в деревне, разница составит 27 раз, причем в последнее время процесс сокращения бедности замедлился. Если в 1985-1990 гг. число бедных сократилось на 18%, то в 1995—2001 гг. — только на 10% 77. В городе же бедность не уменьшается, а возрастает, пособия по бедности уже получают до 20 млн. человек.
Разрыв между приморскими и внутренними регионами по уровню развития продолжает нарастать, несмотря на провозглашенную программу «освоения Запада». В 2003 г. самым богатым районом страны (по среднедушевому доходу населения) был Шанхай, а самым бедным — пров. Гуйчжоу, разрыв между которыми составил 4,25 раза78. В самых бедных провинциях Гуйчжоу, Ганьсу, Шэньси годовые доходы крестьян составляют несколько сотен или 1—2 тыс. ю.79
Масштабное освоение западных регионов — это долгосрочная и трудная задача, решение которой потребует колоссальных финансовых затрат и усилий нескольких поколений. На первом этапе — до 2005 г. предполагается заложить первоначальную базу, провести детальную подготовительную работу. Основные крупные проекты будут в основном введены в строй до 2015 г. Сближение уровней экономического развития восточных и западных регионов страны проектировщики относят к 2050 г.
268
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
Таблица 15
Сравнение экономических зон по показателю ВВП на душу населения (соотношение со средним уровнем по стране в целом)
Регионы
1980 г.
1990 г.
2000 г.
2001 г.
Восток
1,34
1,37
1.47
1,53
Центр
0,88
0,83
0,78
0,75
Запад
0,70
0,71
0,61
0,59
Источник. Чжунго цзинцзи шибао. 16.03.2004.
Созданную рыночную систему отнюдь нельзя признать совершенной. Повсеместное распространение получили сельскохозяйственные рынки, но отсутствует до сих пор рынок земли, частично компенсируемый ротацией подрядных прав на пользование землей. Формирование рынков медицинских и образовательных услуг, рынка жилья находится в начальной стадии. Государственные и рыночные цены на жилье сильно отличаются.
Еще далеко не сложился рынок рабочей силы. Пока еще на предприятиях сосуществуют две системы найма и организации труда: «старые кадры — старая система», «новые кадры — новая система». Возможности конкурсной комплектации административного и банковского аппарата сильно ограничены, и прежде всего из-за зачисления на должность через фильтры партийных рекомендаций. Несколько десятков миллионов кадровых работников вообще не обладают правом свободного выбора места работы.
Переход от «рынка продавца» к «рынку покупателя» осуществляется на фоне серьезного перепроизводства. До конца 1990-х годов экономический рост в целом был инфляционным, хотя инфляция оставалась контролируемой и не превышала двух с лишним десятков процентов за год. После азиатского кризиса 1998 г. предпринятые рестрикционные меры вкупе с общим падением спроса привели к дефляционным явлениям, преодоление которых потребовало серьезных мер, не в полной мере себя оправдавших.
Существующая трехзвенная система (государственный бюджет, государственные банки и самофинансирование государственных предприятий) признается несоответствующей рыночной экономике. Многие формально числящиеся негосударственными финансовые организации на самом деле находятся под достаточно жестким государственным контролем. Процесс обращения иностранной валюты до сих пор не подлежал либерализации, существует обязательная продажа всей валютной выручки от внешнеторговых операций уполномоченным банкам. Ва¬
Глава 6. Итоги 25 лет реформы
269
лютный курс также контролируется правительством, большинство акций не выходит на рынок.
Китай крайне озабочен созданием системы имущественных прав рыночного образца. Своей очереди ждут такие проблемы, как: легитимизация имущественных прав физических лиц, защита мелких акционеров, создание правовых основ взаимоотношений юридических и физических лиц с государством и многие другие. Нуждается в совершенствовании правовая система частной собственности. Классификация предприятий с выделением «частных» и «индивидуальных» производится по весьма условному критерию количества наемных работников (более 8 человек) и в некоторых случаях объема основных фондов. Выше уже говорилось о том, что акционерные предприятия выделяются в самостоятельную категорию и к частным не относятся. Таким образом, по размерам современного «официального» частного сектора (в узком понимании) нельзя судить о реальном разграничении блоков частной и общественной собственности. «Общественными» считаются, как и прежде, государственная и коллективная формы собственности, однако если государственная собственность сохранила свое содержание (хотя и со значительными модификациями), то коллективная собственность сейчас ближе к смешанной и даже частной форме собственности.
Особенно сложной оказалась реформа государственного сектора, предусматривавшая организацию крупных корпораций, акционирование, широкую техническую реконструкцию предприятий и введение на них научных методов управления. Проблема убыточности госпредприятий и их огромной банковской задолженности, несмотря на предпринимаемые меры, по-прежнему сохраняет свою остроту. Новая налоговая система не устанавливает правильного взаимоотношения общего роста и роста госбюджета. К тому же нет необходимой дисциплины налоговых отчислений, в этой сфере существуют разные правонарушения, укрытие налогов ежегодно достигает десятков миллиардов юаней. Общие потери из-за недобора налогов, «утечки» госимущества и коррупции ориентировочно составляют 10—20% ВВП.
Есть определенные издержки в «открытой» внешнеэкономической политике. Значительная часть китайского внутреннего рынка контролируется иностранными и смешанными предприятиями с участием иностранного капитала, создающими мощную конкуренцию государственным предприятиям. Такого рода предприятия дают, например, половину объема производства моющих средств, а их участие в реализации этой продукции на внутреннем рынке оценивается в 1/3. Им также принадлежит 2/5 внутреннего рынка косметических товаров, 1/5 рынка пищевых продуктов, треть рынка электронных товаров (предприятия Тяньцзиня, принадлежащие американской компании «Дженерал моторе», дают 80-90% всего объема производства мобильных средств связи), около 50% рынка медикаментов80. Почти весь экспорт в Восточном
270
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
Китае комплектуется за счет продукции иностранных и смешанных предприятий. Существуют прогнозы относительно отрицательного воздействия членства Китая в ВТО уже в недалеком будущем. Наибольше воздействие должна испытать на себе банковская система. Поскольку иностранные банки получают право вести операции в местной валюте с юридическими лицами спустя 2 года после подписания соглашения Китая с ВТО, а еще через 3 года и с физическими лицами, национальные банки могут потерять значительное число клиентов. Вполне возможна и утечка квалифицированных кадров. Существуют большие опасения и у сельскохозяйственных, и у промышленных производителей, поскольку в ближайшем будущем тарифы на импортируемую сельскохозяйственную продукцию будут понижены до 15%, а на промышленные изделия — до 8,9% 8I.
Нельзя сбрасывать со счетов угрозу продовольственной безопасности по причине сокращения пахотных угодий. По некоторым западным оценкам, в 2030 г. дефицит продовольствия может составить более 200 млн. т82 В соответствии с официально провозглашенным курсом на максимальное самообеспечение зерном, объемы его импорта не должны превышать 5% внутреннего потребления. Но и эта ситуация чревата потерей устойчивости мирового рынка. Так, в 1995-1996 гг. Китай за 18 месяцев импортировал 30 млн. т пшеницы, что привело к повышению мировых цен на пшеницу почти вдвое ю. Опасения «перейти черту» обусловливает сохранение жестких протекционистских мер в отношении ряда важнейших импортируемых товаров (нефть, нефтепродукты, стальной прокат и др.).
Стоит упомянуть такую «ловушку модернизации», как утрата традиционных моральных устоев. Растущий разрыв между бедностью и богатством, между привилегированными слоями населения и «простым людом» резко контрастирует с традиционными представлениями о социальной справедливости. Налицо господство денежных отношений над морально-личностными, идеалов материального благополучия, денежной выгоды над отношениями коллективизма и солидарности. Прежняя этика самопожертвования во имя общих интересов канула в прошлое. Журналистка и экономист Хэ Цилянь в вышедшей в 1998 г. и получившей широкий общественный резонанс Книге «Ловушки модернизации» писала о том, что на смену скромности и невзыскательности, презрительному отношению к богатству приходит культ денег. В виде доказательства этих перемен Хэ Цилянь ссылается на бытующие в народе поговорки. В начале 80-х годов говорили, что «на деньгине все купишь, но без денег ничего не купишь». В середине 80-х годов появилась новая присказка: «куда ни глянь, всюду нужны деньги». В конце 80-х и в начале 90-х заговорили еще откровеннее: «ради больших денег надо идти на большое преступление, ради небольших денег — на небольшое преступление, а кто боится переступить закон, не может и мечтать о богатстве» м.
Глава 6. Итоги 25 лет реформы
271
Хэ Цинлянь особо отмечает рост коррупции и распространение теневой экономики. Она выделяет три сегмента теневой экономики — незаконную экономическую деятельность, неформальную и не включаемую в статистическую отчетность. К числу незаконных видов деятельности относятся: присвоение государственной собственности, торговля наркотиками, проституция и сутяжничество и т.п.
Наконец, один из самых острых вопросов для Китая — отставание политической реформы. Появление новых хозяйственных субъектов, самостоятельных рыночных производителей неизбежно ведет к формированию гражданского общества и новой роли «демоса» независимого от политической власти. Однако демократизация общества по западному образцу Китаю мало подходит, особенно, что касается ослабления роли государства и перехода к многопартийной системе. Чем более богатым будет становиться Китай, тем большую опасность будут приобретать центробежные тенденции, угрожающие единству страны.
Все разноплановые проблемы, стоящие перед страной, можно объединить в три группы: 1) специфические экономические проблемы, связанные с некоторыми особенностями исторического развития, которые достались в наследство от прошлого, включая демографические и экологические; 2) проблемы, однотипные для всех стран, осуществляющих рыночные преобразования (например, рост безработицы и имущественного неравенства); 3) проблемы, проистекающие из эволюционного курса реформ и асинхронности проводимых мероприятий. В интервью к корреспондентом популярной газеты «Чжунго цзинцзи шибао» (Китайский экономический вестник) председатель научного общества по изучению китайской реформы известный экономист Гао Шанцюань прежде всего отметил недостаточную сбалансированность отдельных направлений реформы: реформа хозяйственного механизма отстала от темпов проведения открытой внешнеэкономической политики, реформирование системы макрорегулирования — от реформирования микрорегулирования, реформа административного аппарата—от реформы предприятий м. Нельзя считать, что за несколько лет можно кардинальным образом решить все застарелые проблемы экономической неразвитости. 25 лет — это только первый этап марафонской дистанции к заветной цели превращения Китая в могучую и процветающую державу. Предстоящий путь труден, извилист и далеко не во всем предсказуем.
Примечания
1 Чжунго тунцзи чжайяо (Краткий статистический ежегодник) — 2004. Пекин.
С. 18,22.
2 Московские новости. 28.03. —03.02.2003.
3 Сюй Сяньчунь.Чжупго гонэй шэнчань цзунчжи хэсуань чжун цунцзай ды жогань
вэньти яньцзю (Некоторые проблемы подсчета китайского ВВП) // Цзинцзи яньцзю. 2000. № 2. С. 10.
272
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
4 How Cooked Аге the Books //The Econkmist. 14.03.2002.
5 Гелъбрас В. Китай: «у пчелы спина полосатая, но тигром ее не назовешь» // Вопро¬
сы экономики». 2003. № 3. С. 61-75.
6 Вопросы экономики. 2003. № 3. С. 64,71.
7 Цинь Шо. Буяо чунбай гонэй шэнчань цзунчжи. Чжунго фачжаньгуань (Долой
преклонение перед ВВП. Взгляд на развитие Китая). Ханчжоу. 2004. С. 51.
8 Цинь Шо. Указ. соч. С. 53.
9 Xinbao (Hongkong). 09.01.2001. Р. 3.
10 Чжунго тунцзи чжайяо — 2005. С. 130.
11 Анисимов А. К оценке реального потенциала народного хозяйства КНР //Рос¬
сийский экономический журнал. 1994. № 7. С. 82.
12 Carsten A. Holz. “Fast, Clear and Accurate”. How Reliable Are Chinese Output and
Economic Growth Statistics? //The China Quarterly. 2003. Vol. 173. №3. P. 126,160.
13 Чжунго чжайяо - 2005. С. 18.
14 China’s Top 10 Business Stories in Year 2003 // http;//www.b/review.com.cn/200352/
Business-200352 (D). htm.
15 Цинь Шо. Указ. соч. С. 34-35.
16 Синьхуа. 25.01.2006.
17 Там же. 13.01.2006.
18 Цинь Шо. Указ. соч. С. 63.
19 Journal of Comparative Economics. 1981. Vol. 5. № 1. P. 73.
20 Чжунго гунъе фачжань баогао (Доклад о развитии промышленности Китая).
1997. Пекин. С. 110.
21 Чжунго тунцзи чжайяо — 2005. С. 20.
22 Там же. С. 120.
23 Там же. С. 124.
24 Там же. С. 117.
25 Там же. С. 115.
26 Там же. С. 110; Чжунго цзинцзи няньцзянь — 2001. С. 8.
27 Чжунго тунцзи чжайяо — 2005. С. 160.
28 Гошэн цзинцзи! Гошэн цзинцзи? (Существует или нет экономика перепроиз¬
водства!?). Пекин, 1998. С. 103.
29 Коркунов И. Китай на пути интеграции в глобальную экономику// Проблемы
теории и практики управления. 2003. №5.
30 Чжунго тунцзи чжайяо — 2004. С. 167.
31 Цзинцзи жибао. 01.01.2003.
32 ЛюХун, МаХун. Особенности имущественного положения государственных
предприятий и направление их реформирования // Цайцзин яньцзю. 2001. №5. С. 11.
33 Чжунго цзинцзи шибао. 18.07.03.
34 Чжан Чуньлинь. Теория и практика перестройки государственного сектора эко¬
номики // Цзинцзи яньцзю. 1999. № 8. С. 7.
35 Жэньминь жибао. 23.09.2002.
36 Цайцзин яньцзю. 2001. № 5. С. 13.
37 LiXiaoxi. China: a Developing Market Economy Country//www. iwep.org.cn/wec/
2003 7-8/lixiaoxi.pdf
38 Чжунго тунцзи няньцзянь—2002. С. 432—435; Чжунго тунцзи чжайяо-2005.
С. 135.
Глава 6. Итоги 25 лет реформы
273
39 http: //www/ china, org. cn/chinese/zhuati/306645.htm
40 Ваныпань шэхуэйчжуи шичан цзинцзи тичжи: мубяо хэ чжундянь (Совершен¬
ствование системы социалистической рыночной экономики: цели и основные акценты). Материал НИИ развития при Госсовете КНР //Чжунго цзинцзи шибао. 16.07.2003.
41 LiXiaoxi. China: a Developing Market...
42 Там же.
43 Китай: угрозы, риски, вызовы развитию. М.: Московский центр Карнеги, 2005.
С. 239,244.
44 Ван Цюанъбинь. Чжунго шычанхуа шуйпин яньцзю (По поводу динамики степе¬
ни маркетизации Китая) // Чжунго цзинцзи шибао. 20.07.02.
45 ГуХайбин. Чжунго шичанхуа шуйпин: цзюу цинкхуан хэ шиу цзихуа (Степень
маркетизации Китая: оценка 9-й пятилетки и прогноз на 10-ю пятилетку) // Цзинцзисюэ дунтай. 1999. № 4. С. 14.
46 Чжунго цзинцзи шибао. 16.07.2003.
47 Чжунго тунцзи чжайяо - 2005. С. 41.
48 Цзинцзи жибао. 28.02.2001.
49 Чжунго тунцзи чжайяо — 2005. С. 46; Чжунго тунцзи няньцзянь — 2002. С. 118.
50 Чжунго тунцзи няньцзянь — 2002. С. 93.
51 Чжунго тунцзи няньцзянь — 2003. С. 58, 344; Чжунго тунцзи чжайяо — 2005.
С. 101.
52 2001 нянь. Чжунго шэхуэй синьши фэньси юй юйцэ. Шэхуэй ланьпишу (2001 год:
анализ и прогноз социальной обстановки в Китае. Синяя книга по социальным вопросам). Пекин, 2001. С. 157.
53 Российская газета. 02.03.04.
54 Чжунго тунцзи чжайяо — 2005. С. 103.
55 Чжунго тунцзи няньцзянь - 2003. С. 352.
56 УЦзинлянь. Экономическая реформа в КНР. М., 1990. С. 360.
57 Чжунго тунцзи чжайяо — 2005. С. 107.
58 2001 год: анализ и прогноз... С. 156.
59 Овчинников В. Четвертая революция - на колесах//Российская газета. 23.05.2003.
40 Чжунго тунцзи чжайяо — 2005. С. 39.
41 Чжунго тунцзи няньцзянь - 2003. С. 720,721.
42 Там же. С. 344,371.
43 Чжунго тунцзи чжайяо — 2005. С. 101.
44 Цзинцзи яньцзю. 1998. №10. С. 18.
45 Чжунго тунцзи няньцзянь — 2003. С. 344.
44 Цзинцзи яньцзю. 1997. № 8. С. 5.
47 Чжунго тунцзи чжайяо — 2005. С. 107.
48 ЯнДогуй, Чэнь Шаофэн, Ню Вэньюань. Чжунго гэдицюй сяньдайхуа ды чжаньван
(Прогнозы осуществления модернизации в разных регионах Китая) // Шанхай цзинцзи яньцзю. 2001. № 5. С. 6.
49 Там же.
70 Цзинцзи яньцзю. 1997. № 8. С. 5.
71 Экономика КНР на переломе веков. М., 2001. С. 76.
72 ЦиньШо. Указ. соч. С. 33.
73 Там же. С. 63.
74 Чжунго цзинцзи шибао. 02.03.2004.
274
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
75 Чжунго цзинцзи шибао. 08.01.2003.
76 Чжунго цзинцзи шибао. 16.09.2003.
77 Ху Инъган. Чжэн Цзинхай. Чжунго уюань яосу шэнчаньлюй вэйхэ минсянь (1995—
2001) [Почему в Китае явно снижается общая производительность факторов производства (1995-2001)] //Чжунго цзинцзи шибао. 26.03.2004.
78 Расчет по данным: Чжунго тунцзи чжайяо - 2004. С. 110.
79 Чжан Цзянъхуа. Чаоюэ GDP (Преодолеть мистику ВВП). Пекин, 2004. С. 18.
80 Го Кэсо. Гунъе цзэнчжан чжилян яньцю (Исследование качества промышленно¬
го роста). Пекин, 1998. С. 173.
81 Beijing Review. 2001. № 44. Р. 16.
82 Чжан Цзянъхуа. Указ. соч. С. 5.
83 ЦинъШо. Указ. соч. С. 33.
84 Хэ Цинлянъ. Сяньдайхуа ды сяньцзин. Дандай Чжунго ды цзинцзи шэхуэй вэньти
(Ловышки модернизации. Экономические и социальные проблемы современного Китая). Пекин, 1998. С. 205.
85 Чжунго цзинцзи шибао. 28.10.2003.
Глава 7
Проблема идентификации социально-экономического строя КНР
7.1. Определение характера китайского общества в канун революции 1949 г.
Относительно формационной принадлежности старого Китая в научных кругах существует широкий диапазон мнений. Китайская историография выработала определение характера китайского общества накануне революции 1949 г. как «полуфеодального и полуколониального». Двусмысленность этой характеристики состоит в том, что стоящие рядом две «половинки» между собой никак не стыкуются. Колония - это политически зависимое государство, противопоставляемое, с одной стороны, метрополии, с другой — политически независимым государствам. Понятие «полуколониальное» означает, что Китай не опустился до состояния «настоящей колонии» и в период иностранной интервенции сохранил свою государственность. Феодализм — это особая общественно-экономическая формация, которая может находиться на разных стадиях развития. Те китайские деятели, которые стремились доказать подготовленность Китая к строительству социализма, ставили знак равенства между определениями «полуфеодальное» и «по- лукапиталистическое». Другие, признавая «дуалистический» характер китайского общества - сосуществование докапиталистических и выраставших из них раннекапиталистических укладов и даже укладов зрелого капитализма — не склонны преувеличивать «удельный вес» капитализма, который хотя и стал активно проникать во все сферы китайской жизни, однако так и не успел развиться в господствующий уклад. К основным чертам китайского «докапиталистического национального способа производства» А. В. Меликсетов относит: господство ручного труда в сельском хозяйстве и промышленности; полное преобладание налоговых и арендных форм эксплуатации непосредственного производителя; отсутствие сословных ограничений на владение землей и огромную роль торгово-ростовщического капитала, которые вели к социальной много- ликости эксплуататорской прослойки. Общепризнана значительная со¬
276
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
циально-экономическая роль государства, возникшего раньше частной собственности и активно препятствовавшего развитию экономически самостоятельных классов
При всей научной уязвимости дефиниции «полу—полу» она хороша тем, что так или иначе констатирует сложное межформационное состояние китайского общества, сильную зависимость страны от капиталистических держав и в значительной степени «привнесенный» характер раннекапиталистических отношений, но фактом является то, что разложение традиционного китайского общества уже с конца XIX в. стало набирать темпы (причем не столько в результате спонтанного развития, сколько под натиском иностранного вторжения) и к 1949 г. еще далеко не завершилось. Иначе говоря, накануне победы революции Китай уже частично потерял свой традиционный облик, но только частично, став обществом, в котором тенденция к переходности превратилась в ведущую, причем многие общественные сдвиги «были не столько реальным движением к капитализму, сколько “защитной реакцией”, способом выживания и формой приспособления традиционных явлений к новым условиям»2.
«Полуфеодализм» и «полуколониализм» китайского общества имеет свою географию. В канун революции капитализм «осел» в китайских приморских городах, которые стали поворачиваться «лицом» к Западу и «спиной» к внутренним районам страны. Последние оставались опутанными тенетами родоплеменных феодально-патриархальных отношений.
Выделение формационно-образующего уклада в Китае затруднено еще и тем, что страна по существу никогда не выходила из состояния многоукладное™. Феодальный способ производства в его китайской модификации соседствовал с рабовладельческим укладом и с остатками патриархального строя. Уже в глубокой древности появился и способ производства, тесно связанный с товарно-денежным хозяйством, наемным трудом и частной арендой, что дало повод некоторым ученым говорить о зарождении капиталистических отношений еще до начала нашей эры.
Эта растянутая, многозначная «переходность» приобрела характер «относительно устойчивого, исторически длительного состояния»3, которому пока не находится четкого определения. Некоторые ученые в продолжение проходившей в нашей стране в конце 1920-х годов научной дискуссии видят в старом Китае реализацию упомянутого Марксом «азиатского способа производства» как общественной структуры, незнакомой с развитой частной собственностью, как единства определенной формы государственной собственности (государственно-общинной), соответствующей этой собственности формы эксплуатации (рента- налог) и политической власти («восточная деспотия»). «Азиатский способ производства, — говорил Маркс, — отличается от феодализма
Г л а в а 7. Проблема идентификации социально-экономического строя КНР 277 характером эксплуатации непосредственных производителей, а именно: индивидуальная эксплуатация в этом случае играет подчиненную роль по сравнению с государственной эксплуатацией»4.
Этой точки зрения последовательно придерживается известный историк-синолог Л .С. Васильев, который считает, что верховным собственником земли в Китае являлся император, и крестьяне, арендовавшие эту землю, выплачивали в государственную казну ренту-налог, часть которой шла на содержание двора и бюрократии, часть на общественные нужды, главным образом на обеспечение армии и производство ирригационных работ5. По его мнению: «...Отличием Китая, особенностью китайского государства и спецификой традиционного китайского общества, позволяющей воспринимать его структуру как своего рода эталон, сопоставимый с античным и феодально-европейским, было преобладание государственно-административного способа производства. Именно такой, “азиатский”, по Марксу, способ производства был структурообразующей основой традиционного Китая, и в этом смысле можно говорить о специфической “азиатской” или азиатско-феодальной модификации докапиталистической формации, господствовавшей в традиционном Китае»6.
Однако есть исследователи, которые, признавая однотипность общественного строя в Китае на протяжении всей его истории, высказываются в пользу его «обычного» феодального характера. Аргументируется это прежде всего тем, что в Китае не было как таковой государственной собственности на землю, земля принадлежала отдельным феодалам-помещикам, которые сложились в класс эксплуататоров по мере увеличения прибавочного продукта и его накопления у отдельных лиц. В.П.Илюшечкин упрекает сторонников «азиатского способа производства» в том, что они за государственную собственность на землю ошибочно принимали право верховного суверена в отношении всей территории страны. Он утверждал, что государственная собственность на землю и надельная система землепользования существовали с IV до н.э. по VII—VIII вв. н.э., после чего восторжествовала в качестве наиболее распространенной и господствующей формы частная собственность на землю, в том числе и крупная. По мнению Илюшечкина, основной особенностью системы землепользования в Китае, которая установилась к середине VIII в. и с некоторыми изменениями просуществовала до победы революции 1949 г., являлось: сочетание частной и казенной земельной собственности при преобладании частной, составлявшей экономическую основу господства крупных землевладельцев, наличие широкого слоя мелких самостоятельных крестьян-собствен ни ков и столь же широкого слоя малоземельных и безземельных арендаторов. В ходе ее развития различные компоненты этой системы претерпевали те или иные изменения, менялись количественные соотношения между различными формами земельной собственности, формами частнособственнической эксплуатации, появля-
278
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
лись и получали распространение новые виды аренды, изменялось в той или иной мере положение арендаторов в различные периоды7.
Поиски других, более адекватных характеристик китайского предреволюционного общества продолжаются. О.Е. Непомнин в своем фундаментальном труде «Социально-экономическая история Китая (1894— 1914 гг.)» доказывает, что традиционное китайское общество XIX в. представляло собой бинарную синтезированную систему с двумя главными компонентами: «чиновно-крестьянским подукладом», т.е. государственно-феодальным, и «аграрно-помещичьим», т.е. частно-феодальным, отсюда сама постановка вопроса о том, какому из подукладов принадлежала в то время формационно-образующая функция, вообще неправомерна 8. Указанием на двуединую основу феодализма в Китае служит употребляемое автором определение его как «арендо-бюрократического». В конце упомянутой работы О.Е. Непомнин предлагает рассматривать цинскую империю начала XX в. как в известном смысле «постфеодальное» общество9.
Перенося эту логику на первую половину XX в., Непомнин считает, что «В этом общественном синтезе старого и нового традиционный компонент был слишком силен, а капитал все еше слабым. Перед нами не собственно госкапитализм (с бюрократическим капиталом и бюрократической буржуазией), а переходное промежуточное явление, где “чистому” госкапитализму еще не оставалось места. Вместо него существовало некое ограниченное «количество» капитализма, “встроенного” в полутрадиционную распределительную систему, организованную чиновниками и руководимую азиатской деспотией в лице “нанкинского Гоминьдана”»10. « ;-
Вопросам о специфике китайского общества и периодизации китайской истории большое внимание уделяется в Японии. Долгое время в японской синологии и историографии господствовала точка зрения о феодальном характере предреволюционного китайского общества с двумя немаловажными нюансами. Представители так называемой «школы Токио», придерживавшиеся марксистского определения феодализма, интерпретировали китайский феодализм как господство крупных землевладельцев над крестьянским большинством населения и считали эту социально-экономическую систему доминирующей в китайской истории и окончательно утвердившейся в конце эпохи Тан - начале эпохи Сун.
Историки «школы Киото» придерживались обычного для немарксистского обществоведения определения феодализма как системы управления аграрными обществами, основанной на отношениях вассалитета. Они считали особенностью эпохи Сун (960—1279 гг.) превращение китайского императора в абсолютного монарха, что знаменовало окончание феодального средневековья и начало современной истории.
Ситуация в академических кругах Японии изменилась только после выхода в свет исследования Кэйдзи Адати (университет Киото), кото-
Г л а в а 7. Проблема идентификации социально-экономического строя КНР 279 рый поставил под сомнение сам тезис о «феодальном Китае». Наиболее характерной чертой общественно-экономического строя Китая он считает широкое распространение мелкокрестьянского хозяйства, служившего основой экономики огромной империи на протяжении более 2 тыс. лет. Одно из главных положений Адати — необходимость строго различать публичную власть (осуществление государством административного, военного и судебного контроля) и частную, базирующуюся на неравенстве статуса и социально-экономического положения арендаторов и арендодателей (дополнительное обложение арендаторов различными трудовыми повинностями, лишение их свободы передвижения, право землевладельцев на продажу земли вместе с арендаторами).
Еще один представитель «школы Киото» Танигава предлагает вообще отказаться от использования концепции феодализма при изучении китайского общества. По мнению Танигавы, история Китая не знала как таковой социально-экономической системы, подобной европейскому феодализму п.
Трудности определения характера общественного строя древнего и средневекового Китая связаны не только с «упрямством» объекта исследования, но и с недостатками самой формационной методологии, о чем говорилось ранее. С позиций исторической науки, имеющей дело с линейным временем, со сменой господствующих укладов и общим развитием от менее сложного к более сложному, что можно трактовать как «прогресс», приходится признать своего рода «общественную аморфность» Китая, нерасчлененность его исторического существования. Китайская цивилизация переживала этапы подъема и кризиса, расширяла и сужала ареал влияния, но в своих основных параметрах оставалась неизменной.
Если придерживаться более «толерантного» по отношению к научным категориям синергетического подхода, всю китайскую историю можно расчленить на две крупные метаформации (докапиталистический и капиталистический способы производства), признав особую важность «переломных моментов» и общественного синтеза как устойчивого состояния многоукладное™. Неприемлемость анализа китайской истории с точки зрения «линейного времени» подтверждает и традиционная китайская философия, которой чуждо понятие развития как перехода от низшего к высшему, а в центре внимания оказываются понятийные пары: равновесность—неравновесность, стабильность—нестабильность, устойчивость—неустойчивость. Китай как глобальное пространственно-временное образование рассматривался китайской философией в образе самоорганизующейся «открытой системы», переходящей от состояния хаоса к состоянию упорядоченности. Интересно, что в понимании времени в старом Китае отсутствовало будущее как самостоятельное измерение. Настоящее, прошедшее и будущее были как бы слиты воедино. Это отразилось даже в грамматике китайского
280
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
языка, где времена различаются больше по контексту, чем по морфологическим конструкциям.
7.2. Китай на развилке истории
Особые внутренние и международные условия, а именно раскол мира на две мировые системы, помощь со стороны СССР, руководящая роль Коммунистической партии Китая, пользовавшейся широкой поддержкой народных масс, предопределили особый характер китайской революции 1949 г. которая, относясь к общему типу национально-демократических революций, открыла возможность для социальных преобразований с ориентацией на построение социализма. Однако вопрос о протяженности переходного периода к социализму, о формах и темпах социалистических преобразований, о роли частно-капиталистического и мелкотоварного укладов, о соотношении хозяйственной централизации и децентрализации оставался открытым.
В начале существования КНР различные общественные силы в Китае выдвигали не одну, а, по крайней мере, три альтернативы капитализму, отличавшиеся разными представлениями о сущности самого социализма и времени, необходимому для его построения:
■ длительное сохранение многоукладное™ и широкое развитие товарно-денежных отношений, перенесение развернутого строительства социализма на сравнительно далекое будущее;
■ последовательное построение социализма при постепенной ликвидация многоукладное™ по мере развития производительных сил и рациональном сочетании плана и рынка;
■ ускоренное построение социализма, а затем и коммунизма при неуклонном свертывании товарно-денежных отношений.
В течение первых 20 лет по существу были опробованы второй и третий варианты развития. Уже к концу первого десятилетия своего существования КНР «выпала» из международной социалистической системы и заняла особое место в международном коммунистическом движении, приступив к созданию «маоистской модели социализма». По аналогии с принятым в Китае летоисчислением по династийным циклам все 30-летие до начала реформы можно рассматривать как единую «величественную эпоху Мао Цзэдуна», размеченнную вехами его побед над политическими противниками.
Сложившаяся к концу 1970-х годов этатизированная хозяйственная система КНР отличалась низкой степенью развития товарно-денежных отношений, директивным характером управления, вертикальным соподчинением субъектов хозяйственной деятельности при господстве общественных форм собственности. Образование этой системы можно объяснить разными причинами. Среди них: влияние концепции «продуктообменного коммунистического общества», о котором говорили
Г л а в а 7. Проблема идентификации социально-экономического строя КНР 281 классики марксизма-ленинизма, подражание опыту Советского Союза с его плановой социалистической экономикой, непреодоленные феодальные традиции и унаследованные от революционного прошлого установки на самообеспечение и уравнительность в распределении, выработанный как реакция на международное противостояние двух мировых систем курс «подготовки к войне». Жесткая директивная политика сопутствовала индустриализации, предназначенной разомкнуть «порочный круг нищеты».
Этот ныне широко критикуемый «мобилизационный» путь развития в такой слаборазвитой стране, как Китай, имел свое историческое оправдание: он позволил заложить базу тяжелой промышленности, обеспечить экономическую самостоятельность и повысить обороноспособность страны, но исключительно за счет «затягивания поясов». При фактическом замораживании заработной платы поддержание необходимого прожиточного минимума могло быть достигнуто только путем сохранения низких цен, уравнительных методов распределения и разного рода государственных субсидий. Идеологическая пропаганда превозносила аскетизм и бескорыстие, отсутствие имущественного расслоения, что выдавалось за «преимущества социализма». По мере наращивания экономического потенциала, появления все более сложных структурных и технических задач прямое административное управление и низкий жизненный уровень стали препятствовать росту экономической эффективности и снижению ресурсоемкости и капиталоемкости производства.
Дореформенная хозяйственная система в Китае с ее типичными административно-командными атрибутами была во многом аналогична той, что внедрялась в других социалистических странах. Некоторые считают, что Китаю «повезло» в том смысле, что административно-командная система не успела пустить таких глубоких корней, как в СССР, и потому китайцам оказалось намного проще воспринять рыночные нормы. С этим трудно согласиться. Система планового хозяйства в Китае при всей своей «незрелости» оказалась куда более «административной» и куда более «командной», чем советская. Выше была и степень натурализации производства. Нигде в социалистическом мире «левацкие загибы» не принимали таких гипертрофированных форм, нигде идеологическая зашоренность не доходила до таких степеней абсурдности, как в Китае. Китайские экономисты с полным на то основанием считают дореформенную экономическую систему в Китае весьма близкой к системе военного коммунизма с чертами продуктообменного хозяйства12.
После ухода из жизни вождей китайской революции и основателей КНР Мао Цзэдуна и Чжоу Эньлая и прихода к власти патриотически и прагматически настроенных коммунистов, во главе которых встал Дэн Сяопин, страна вступила в эпоху реформации. Новые лидеры, не охай-
282
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
вая прошлого, повернули огромный китайский корабль в сторону от утопических социальных экспериментов и взяли курс на создание современного экономически развитого и процветающего общества. По существу в 1978 г., спустя ЗОлет после создания КНР, в Китае произошла вторая революция со всеми признаками смены власти и характера строя.
О различии двух основных этапов развития КНР — дореформенного и реформенного — дает представление табл. 16.
Таблица 16 Сопоставление дореформенного и реформенного этапов развития КНР
Основные параметры сравнения
До реформы
Реформа
Общая националь- Преодоление экономиче- ная цель ской отсталости и полити¬
ческой зависимости
Создание сильного государства и обеспечение благосостояния народа
Общая идеологиче- Построение социализма и
ская задача
коммунизма
Идеологическая
Марксизм-ленинизм, идеи
ориентация
Мао Цзэдуна
Хозяйственная
Централизованная плано¬
система
вая экономика
Система
Полный и неоспоримый
собственности
приоритет общественных форм собственности
Тип экономического роста
Экстенсивный
Характер экономи- Циклическое развитие ческой динамики с большими перепадами
Построение «социализма с китайской спецификой», создание обще* ства «сяокан»
Идеи Дэн Сяопина; откорректированный марксизм- ленинизм
Социалистическое рыночное хозяйство
Многоукладная экономика с ведущей ролью общественной собственности
Подключение интенсивных факторов роста
Высокие и относительно стабильные темпы роста
Структурная политика
темпов роста Преимущественное развитие тяжелой промышленности и продовольственная направленность сельского хозяйства
Сбалансирование развитие тяжелой и легкой промышленности, отраслей третьей сферы, реструктуризация сельского хозяйства в пользу непродовольственных отраслей
Система распределения
Социальная политика
Производство ради произвол- Сбалансирование спроса и пред-
ства, упор на расширение капитальных вложений
ложения, производственного и индивидуального потребления
Аскетизм и уравнительное распределение
Повышение жизненного уровня и имущественная дифференциация
Соотношение спро-Дефицитная экономика са и предложения
Переход от рынка производителя к рынку потребителя, ликвидация товарного дефицита
Г л а в а 7. Проблема идентификации социально-экономического строя КНР 283
Продолжение табл. 16
Основные параметры сравнения Демографическая политика Региональная политика
Урбанизационная политика
Открытость экономики
До реформы
Реформа
Рост населения и всеобщая занятость Выравнивание уровня развития регионов, ущемление приморских регионов, задача регионального самоснабжения Сдерживание роста городов, ограничение миграции между городом и деревней Курс «опоры на собственные силы», второстепенная роль внешней торговли и ограниченное привлечение иностранных инвестиций
Ограничение роста населения и осложнение проблемы занятости Региональная дифференциация, упор на приморские регионы,борьба с региональной автаркией
Рост городов и ослабление запретов на миграцию между городом и деревней
Открытая экономическая политика, экспортная экспансия, широкое привлечение иностранного капитала
Главные экономи- СССР ческие партнеры
США, Япония, европейские страны
Расхождения двух основных этапов в развитии страны столь глубоки, что позволяют констатировать отступление от модели традиционного, или развитого, социализма и своего рода реставрацию режима начального этапа существования КНР, но уже на другой по масштабам производства и техническому уровню экономической базе. Процесс сначала «социалистических», а потом рыночных преобразований приобрел вид «отрицания отрицания» — от многоукладное™ через повышение степени формального обобществления к многоукладное™ нового типа. Тем не менее, характер этой многоукладное™ остается не вполне ясным.
«В конечном итоге перед соцстранами Европы, бывшим Советским Союзом, а сегодня, похоже, перед Китаем и Вьетнамом встали два важных вопроса: первый — каковы предельные размеры рыночных механизмов в контексте реформированной социалистической экономики; и второй — где проходит граница между «реформированным социализмом» и полным отказом от социалистической системы ?»
Колодко Гжегож В. От шока к терапии. Политическая экономия постсоциалистических преобразований. М., 2001. С. 26.
Что ждет Китай — усовершенствованный социализм, переход к капитализму или же создание принципиально нового «смешанного общества» - этот вопрос остается дискуссионным.
284
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
7.3. Определение характера общественного строя в КНР: взгляд извне
В наблюдающемся разбросе мнений по вопросу о конечной цели реформистских преобразований в Китае и степени приближения к ней хорошо прослеживаются идеологические предпочтения дискурсантов. Одни констатируют выход Китая из глубокого системного кризиса конца 1970-х годов и кардинальность реформистских преобразований, затронувших все сферы экономики, видят в постепенном и осторожном проведении реформ в Китае альтернативу «шоковой терапии». Другие считают китайскую экономику полуреформированной, признают относительные успехи в перестройке аграрного сектора и инерционность погрязшего в долгах государственного индустриального сектора, упрекают китайских реформаторов в консерватизме. Деление на «оптимистов» и «скептиков» еще более четко проявляется при составлении экономических прогнозов. Оптимисты утверждают, что китайские реформы пустили глубокие корни и, сохранив довольно высокие темпы роста, Китай в скором времени вступит в разряд экономически развитых стран. Скептики, наоборот, подчеркивают опасность половинчатых реформ и не исключают возможности наступления рано или поздно новой дестабилизации экономического и социального положения наподобие ситуации 1989 г., вплоть до распада Китая по примеру СССР.
Все высказывания относительно характера общественного строя в КНР, включая позиции западных ученых, можно разделить на три основные группы.
1. Китай является социалистической страной и его преобразования не носят системного характера.
Такая позиция типична для зарубежных работ вплоть до середины 1990-х годов. Многие тогда ссылались на то, что реформистские мероприятия, не нарушающие приоритета общественной собственности, не выводят Китай за рамки социализма со всеми присущими ему недостатками, что рано или поздно поставит страну перед неизбежностью «системных» преобразований с сопутствующими им «подводными рифами». Такой прогноз чаще всего аргументировался тем, что экономические перемены в Китае не сопровождаются демократизацией политической жизни, а контроль со стороны партии над всеми сферами общественной жизни, включая средства массовой информации, служит тормозом общественного прогресса и источником социальной напряженности. Так, венгерский экономист Л. Чаба предрекал постепенное сглаживание противоречий в России и других постсоциалистических
Г л а в а 7. Проблема идентификации социально-экономического строя КНР 285 странах и их объективное нарастание в Китае по мере его вступления в полосу «системных реформ»13.
Разговоры о «несистемном» характере реформ в Китае вместе с упреками в его «тяготении к прошлому» значительно приутихли во второй половине 1990-х годов, когда стало ясно, что Китай намерен покончить с «дуалистической» системой. Однако противопоставление КНР другим постсоциалистическим странам себя не изжило.
Профессор Гарвардской школы бизнеса Хуан Яшэн писал: «Я глубоко убежден в том, что китайское государство является заидеологизированным и останется таким и впредь. Фундаментальное различие между Китаем и другими транзитными экономиками в том, что он верен социализму, в то время как другие страны настроены на максимально скорый переход к капитализму. Тактика реформ — будь-то градуализм или «шоковая терапия» — это, скорее, функция поставленных целей, нежели следствие специфических экономических и политических условий. Дальнейшая реформа госпредприятий потребует идеологического пересмотра роли и природы КПК и повышение преданности рынку и частной инициативе. Без идеологических изменений новый виток реформ не гарантирован»2.
2. Китай идет по пути капитализма.
Среди тех, кто разделяют эту точку зрения, есть представители и «левых», и «правых». Критики реформы «слева» утверждают, что, приняв за аксиому развитие товарно-денежных отношений, современный Китай сначала робко, а потом все решительнее «пошел на выучку к капитализму», и реставрация капиталистического строя неизбежна. Сторонников такой позиции можно найти и в самом Китае. В направленном осенью 1995 г. в адрес ЦК КПК меморандуме китайские «левые» пугали себя и других сгущающимися на горизонте мрачными тучами капитализма. По их словам, если срочно не принять кардинальных контрмер, красный Китай потеряет свой цвет, сойдет с пути социализма, капитулирует перед враждебными силами, диктатура пролетариата уступит место диктатуре буржуазии, буржуазные идеи станут господствующими м.
Капиталистическую перспективу предрекают Китаю все те ученые, которые придерживаются мнения о «безальтернативности» капитализма. Вывод о «новом китайском капитализме» хорошо воспринимается предпринимательскими кругами Запада. Известный синолог Франсес Перкинс и его коллега Джордж Мина признают, что аллокация ресурсов в Китае происходит теперь преимущественно через рынок. Хотя элементы централизованного планирования кое-где сохранились, но государство уже отошло от прямого распределения ресурсов и сохраняет свою роль только в отдельных сферах экономики, как-то: макроэкономическое управление, обеспечение энергетической и продовольственной бе-
286
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
зопасности, помощь ущербным предприятиям. Избегая термина «капитализм», они констатируют, что «Китай уже не может больше считаться страной с централизованной плановой экономикой»,б.
С явно эпатирующей оценкой выступил в 1998 г. тогдашний советник президента РФ, директор Института экономического анализа Андрей Илларионов, который на страницах газеты «Известия», а потом и в других публикациях неожиданно для многих стал утверждать продви- нутость Китая в плане либеральных реформ: «Существует широко распространенное мнение, будто, в отличие от радикальных, “шоковых” реформ в России реформы в Китае носили постепенный, градуалистский характер, причем китайское государство сохранило, если даже не усилило, контроль за экономикой. На самом деле все обстояло наоборот. Китайские реформы оказались не просто либеральными, они оказались, возможно, самыми либеральными, самыми радикальными, самыми шоковыми в современной мировой практике. Китайские реформы нацелены на максимальное сокращение роли государства в экономической жизни»17.
3. Для Китая характерна своего рода «симбиозная система», смешанная экономика либо как промежуточная стадия развития, либо как устойчивое состояние.
Этот вывод связан с незавершенностью трансформационных процессов в Китае и со свойственным для старого Китая переходным характером общества. Очень многим явлениям до сих пор свойственны черты промежуточности, незаконченности. Проще всего, отбросив термины «социализм» и «капитализм», определить Китай по аналогии с другими социалистическими странами, вставшими на путь реформ, как страну с «переходной экономикой». В этом случае все «встает на свои места». То, что Китай «переходит» (как говорят в Китае, «речку по камушкам») — совершенно очевидно, а «куда» — этот ответ можно отложить до лучших времен, поскольку, как известно, «большое видится на расстоянии».
Возможность обойтись без идеологизированных штампов предоставляет определение «рыночная экономика» (или квазирыночная, по- лурыночная). Вопрос о присуждении Китаю «почетного титула» рыночной державы из чисто теоретической плоскости теперь перешел в сугубо практическую. После вступления КНР в ВТО, когда присвоение статуса «рыночной экономики» меняет во многом условия ведения внешнеторговых операций, Пекин проявляет свою заинтересованность как можно скорее присоединиться к когорте «рыночных стран», а сами эти страны демонстрируют известную осторожность. Чаще всего Китай признают страной с рыночно-ориентированной экономикой, подверженной ускоренной и массивной трансформации. В США пока не отказываются от квалификации экономики Китая как «нерыночной».
Г л а в а 7. Проблема идентификации социально-экономического строя КНР 287
Заместитель секретаря ВТО Грант Д. Альдонас так комментирует эти притязания Китая: «Переход Китая от нерыночной экономики к экономике, действующей по рыночным правилам, еще не завершен. Хотя китайцы стремятся заслужить право считаться рыночной страной, желая обойти наши строгие антидемпинговые законы, нельзя не признать, что многие из основных рычагов управления экономикой остаются в руках государства. В то время как американские компании постоянно находятся под прессингом рынка капитала, в Китае он фактически отсутствует». Официальное лицо из аппарата ВТО заявляет, что экономика Китай пока еще не стала рыночной18.
7.4. Концепция строительства «социализма с китайской спецификой» как самоидентификация общественного строя
Приход к власти нового китайского руководства ознаменовался «переоценкой ценностей» и в отношении лидеров прошлого, и в отношении проводившейся ими политики. Разоблачение преступных деяний «банды четырех» и ошибок Мао Цзэдуна, хлынувшие на обывателя откровения о последствиях «большого скачка» и «культурной революции» заставили многих усомниться в «спасительной миссии» социализма в Китае и даже в самих преимуществах социалистического строя перед капиталистическим. Курс на кардинальную экономическую реформу и правильная расстановка политических акцентов помогли преодолеть идеологический кризис. Мобилизующую роль сыграли выдвинутые Дэн Сяопином в марте 1979 г. «четыре руководящих принципа»: социалистический путь, руководство компартии, диктатура пролетариата, верность марксизму-ленинизму и идеям Мао Цзэдуна. На теоретических дискуссиях по проблематике общественного устройства, пик которых пришелся на самое начало 80-х годов, при всем разнообразии новых теоретических постановок и оценок прошлого общая социалистическая ориентация уже не ставилась под сомнение и капиталистическая альтернатива была решительно отброшена. Предложения относительно того, чтобы «пойти на выучку к капитализму», отступить назад ради усвоения азов капиталистического предпринимательства, китайским идеологам удалось частично отбраковать, частично перевести в практическую плоскость использования зарубежного хозяйственного опыта. В выступлениях политиков и ученых речь шла не о «сдаче позиций», а о необходимой корректировке теории социализма, о соблюдении этапности социалистического строительства, постепенном совершенствовании социалистических производственных отношений.
Уже в 1981 г. по инициативе Дэн Сяопина было принято решение ЦК КПК «О некоторых проблемах истории КПК с момента образования КНР», в котором было подчеркнуто, что Китай находится пока на
288
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
начальной стадии построения социализма. Выдвинутый на XII съезде КПК в 1982 г. тезис о «строительстве социализма с китайской спецификой» существенно модифицировал марксистскую трактовку социализма, введя в число его сущностных признаков товарный характер социалистической экономики.
В скором времени были внесены важные изменения и в социалистический принцип господства общественной собственности на средства производства. В решении 6-го пленума ЦК КПК 12-го созыва записано: «Мы все еще находимся на начальном этапе социализма, мы не только должны следовать закону распределения по труду и требования социалистической рыночной экономики, но в течение довольно продолжительного периода времени должны развивать многоукладное хозяйство при опоре на общественные формы собственности, ставя своей целью достижение всеобщего благосостояния, должны содействовать процессу обогащения одних людей раньше других».
Эти теоретические новации получили поддержку на XIII съезде КПК в 1987 г. Выступая на его открытии, Дэн Сяопин заявил: «Наш съезд должен четко определить, на каком этапе социализма мы находимся, а именно на начальном этапе, на начальном этапе социализма. Сам социализм — это начальный этап коммунизма, а Китай сейчас проходит начальный этап социализма, этап неразвитого социализма. Мы во всем должны исходить из этого положения, придерживаться его при составлении наших планов».
Переосмысление пройденного пути привело к выделению двух основных этапов дореформенного периода: новодемократический этап революции (до 1957 г.) и социалистический этап, подразделяемый на два временных отрезка — до «культурной революции» и «десятилетие смуты» («культурная революция»). Наиболее успешным был признан этап до 1957 г., давший массу примеров «творческого соединения всеобщей истины марксизма-ленинизма с конкретной практикой Китая». В их числе — сама победа демократической революции, социалистические преобразования, успешное проведение индустриализации в годы первой пятилетки. Осуждению подверглись такие моменты, как явное «забегание вперед», слепое копирование методов социалистического строительства в СССР. Однако этому нашлось оправдание в виде недостатка собственного опыта, трудностей классовой борьбы. При анализе второго этапа в центре критики оказался не «большой скачок», последствия которого были относительно быстро ликвидированы, а «культурная революция» как массовая кампания, принесшая неисчислимые бедствия китайскому народу.
К числу причин допущенных в прошлом стратегических просчетов были отнесены следующие:
■ широкое распространение в общественной жизни страны идеологии и привычек старого классового общества (укоренившаяся феодаль-
Г л а в а 7. Проблема идентификации социально-экономического строя КНР 289 ная идеология и стереотипы поведения мелких товаропроизводителей, недостаток демократических традиций, опыта организации крупного обобществленного производства, отсутствие научно-технической базы);
■ перенесение в процессе изучения иностранного опыта строительства социализма некоторых черт системы управления, не соответствующих специфике Китая;
■ догматическое следование в условиях экономического строительства методам, соответствующим революционной военной обстановке;
■ влияние «левого уклона» и «перепрыгивание» через необходимые этапы развития (искусственное повышение степени обобществления производства, свертывание товарно-денежных отношений).
Знаменательна сама постановка вопроса о преимуществах и недостатках того или иного общественного строя с точки зрения его содействия развитию производительных сил. В этом ключе выдержано относящееся к 1984 г. следующее высказывание Дэн Сяопина: «Что такое социализм? Что такое марксизм? Насчет этого у нас раньше было не совсем ясное представление. Марксизм придает наибольшее значение развитию производительных сил. Что означает коммунизм, о котором мы говорим? Он означает осуществление принципа “от каждого — по способностям, каждому — по потребностям”. А для этого требуется, чтобы общественные производительные силы развивались высокими темпами, чтобы было изобилие материальных общественных благ. Поэтому самая коренная задача в период социализма - развитие производительных сил. Преимущества социалистического строя выражаются как раз в том, что производительные силы при нем развиваются более быстрыми, более высокими, чем при капитализме, темпами. Если говорить о наших недостатках в годы после образования КНР, то они сводятся к некоторой недооценке важности развития производительных сил. Социализм призван покончить с бедностью. Бедность — не социализм и тем более не коммунизм. Преимущества социализма именно в том и состоят, что он постепенно развивает производительные силы, постепенно улучшает материальную и культурную жизнь народа».
Философской основой нового стратегического подхода стало «моделирование» социализма, выделение различных систем управления социалистического типа, сменяющих друг друга в направлении все более сложного и более совершенного общественного устройства. Отправной базой таких теоретических построений послужили труды венгерского экономиста Я.Корнай. В своем выступлении в сентябре 1985 г. на организованном в Китае международном симпозиуме по макроэкономическому управлению, он, комбинируя два основных механизма управления (административный и рыночный) и две формы воздействия на экономику (прямое и косвенное), выделил четыре основных образца управления экономикой: 1) прямое административное управление;
290
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
2) косвенное административное управление; 3) неуправляемый рынок и 4) рынок с макроэкономическим управлением19. Первая модель предполагает прямой административный контроль, а третья отвергает всякий контроль. Модели вторая и четвертая базируются на косвенных методах контроля, в том и другом случае действует система налогообложения, но при косвенном административном управлении налог устанавливается дифференцированным путем по договоренности между вышестоящими органами и предприятиями, при наличии же рынка с макроэкономическим управлением налоговая ставка унифицирована и закреплена правовыми установками. В обоих случаях предприятия переводятся на самофинансирование, но во второй модели государство субсидирует убыточные виды производства, в случае четвертой модели дотирование убыточных предприятий производится только в порядке исключения.
Теория «моделей социализма» стала активно разрабатываться в Китае с середины 80-х годов. Выше уже упоминался доклад, подготовленный в 1984 г. под руководством вице-президента АОН Китая Лю Гогуана, в котором рассматривались пять основных моделей: 1) система нормированного снабжения военного коммунизма; 2) традиционная модель централизованной плановой экономики; 3) улучшенная модель централизованной плановой экономики; 4) модель органического сочетания планового регулирования и рыночного механизма; 5) модель рыночной социалистической экономики20. Разработчики четырехзвенной классификации апеллировали к историческому опыту строительства социализма. В предлагавшийся перечень вошли: 1) модель военного коммунизма; 2) модель высокой централизации (сталинская модель);
3) модель демократического централизма (реформы в социалистических странах); 4) модель рабочего самоуправления21.
Существовало предложение остановиться на трех главных моделях: 1) модель высокой централизации; 2) модель высокой децентрализации; 3) «гибридная» модель сочетания централизации и децентрализации22. Другой «трехмодельный» вариант: 1) экономическая модель прямого планового управления; 2) экономическая модель косвенного экономического планового управления; 3) экономическая модель автономных хозяйств23. Представления о множественности «моделей социализма», различающихся уровнем развития производительных сил, тем или иным соотношением централизации и децентрализации, планового и рыночного регулирования, заняли прочное место в китайской теории.
В ходе научных дискуссий 1980-х годов по проблематике «начального этапа социализма» и «социализма с китайской спецификой» твердые сторонники марксизма-ленинизма предлагали считать полной победой социализма достижение более высокой, чем при капитализме, производительности труда и уничтожение всех классовых различий, в том числе и между рабочим классом и крестьянством, а также обеспечение равных прав в отношении владения средствами производства, вне-
Г л а в а 7. Проблема идентификации социально-экономического строя КНР 291 дрение принципа оплаты по труду, ликвидацию товарного производства и денежного обращения, отмирание государственной функции подавления и утверждение «неполитического государства» с широким участием трудящихся в принятии управленческих решений. Однако эта максималистская позиция не получила широкой огласки, обсуждение сконцентрировалось на решении ближайших задач «начального этапа социализма», а в размышлениях об отдаленном будущем все свелось в основном к признанию сложной связи производственных отношений и производительных сил, первостепенного значения «качественного характера производственных отношений».
В принятом на XII съезде КПК в сентябре 1982 г. Уставе Коммунистической партии Китая главными экономическими критериями социалистического строя были признаны общественная собственность на средства производства, отсутствие эксплуатации человека человеком и осуществление принципа «от каждого по способностям, каждому по труду». Исходя из того, что пролетарская революция может победить в капиталистически неразвитых странах, был сделан вывод о полной «законности» ее в Китае, где имелись все необходимые предпосылки в виде определенной базы промышленности (ее доля в общественном продукте была равна 17%) и значительного отряда пролетариата (перед революцией его численность была 4 млн. человек).
При обсуждении вопроса о том, закончился ли и когда закончился переходный период (к социализму) в Китае, столкнулись три основные точки зрения.
■ Сторонники «узкого» толкования переходного периода, относя к его основным признакам наличие многоукладной экономики, классов и классовой борьбы, сохранение стихии рыночных отношений и ссылаясь на завершение социалистических преобразований, датировали окончание переходного периода 1956 г.
■ Более требовательные к критериям социализма не считали завершение социалистических преобразований в области промышленности, сельского хозяйства и торговли достаточным основанием для провозглашения победы социализма и утверждали, что после 1956 г. Китай вступил во второй этап переходного периода.
■ Приверженцы расширительного толкования переходного периода («максималисты» в отношении критериев социализма) рассматривали переходный период как длительный процесс развития вплоть до построения коммунизма.
Утвердилась компромиссная точка зрения о завершении переходного периода в 1956 г. и одновременно о необходимости дальнейшего сохранения многоукладное™, способствующей экономическому росту, в течение всего этапа строительства социализма. В принятой на 5-й сессии ВСНП 5-го созыва 4 декабря 1982 г. Конституции КНР Китайская Народная Республика характеризовалась как социалистическое
292
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
государство демократической диктатуры народа, руководимое рабочим классом и основанное на союзе рабочих и крестьян.
Марксистское положение о строительстве социализма в соответствии с общими закономерностями и со спецификой каждой страны было положено Дэн Сяопином в основу его интерпретации «основного» и «конкретного» строя. «Основной строй» — это сущностные признаки социалистических производственных отношений (общественная собственность на средства производства, плановое хозяйство, распределение по труду и т.п.). «Конкретный строй» — это реализация основных черт социализма в конкретных условиях различных стран и данного момента.
Первоначально фигурировали несколько определений переживаемой Китаем стадии социалистического строительства — «первоначальная стадия социалистического общества», «строящееся социалистическое общество», «развивающееся социалистическое общество», «неразвитый социализм». Некоторые ученые предлагали различать понятия «неразвитого» и «неполного» социализма. «Неразвитый социализм» - это начальный период уже утвердившегося, но еще не окрепшего и не проявившего всех своих преимуществ социалистического строя. «Неполный социализм» приложим к той ситуации, когда общественно-экономический строй «не дотягивает» до социалистических критериев, когда еще существуют несоциалистические уклады, продолжают развиваться экономические элементы несоциалистического характера, не исключена целиком и полностью опасность реставрации капитализма.
Для второго этапа реформы, пришедшегося на 1990-е годы, характерно приглушение прежних идеологических дискуссий и закрепление тех выводов о характере строя в Китае, которые были сделаны в 1980-е годы. Хотя сам термин «социализм с китайской спецификой» сохранил свое значение, но противопоставление социализма и капитализма отошло в тень. На пленарном заседании Политбюро ЦК КПК в марте 1992 г. были одобрены высказывания Дэн Сяопина о том, что «не стоит сковывать себя идеологическими и практическими абстрактными спорами о том, какое имя все это носит — социализм или капитализм», а в целях ускорения экономического развития «серьезнее раскрепощать сознание, форсировать проведение реформы, расширение внешних отношений».
При выборе названия для текущего периода строительства социализма в Китае предпочтение было отдано термину «начальный этап социализма», который фактически вытеснил употреблявшиеся ранее понятия «неразвитого социализма» и «неполного социализма». Одновременно закреплялось представление о длительности процесса совершенствования социалистической системы, преобразования ее из «сравнительно неразвитой» в «сравнительно развитую».
После кончины Дэн Сяопина в феврале 1997 г. перед страной встали вопросы: «Под каким знаменем Китай вступит в XXI век? По како-
Г л а в а 7. Проблема идентификации социально-экономического строя КНР 293 му пути пойдет страна?» 28 мая Цзян Цзэминь как представитель следующего поколения китайских лидеров, выступая в Партшколе, впервые употребил определение «теория Дэн Сяопина» и изложил аргументы в пользу приверженности теории «социализма с китайской спецификой» как этапа на пути создания подлинного социалистического общества. Тезис о начальном этапа социализма получил поддержку в резолюции XV съезда КПК в 1997 г.: «Мы вступили в социализм в условиях, когда уровень развития производительных сил значительно отстает от уровня развитых государств. Это и делает необходимым прохождение довольно продолжительного начального этапа социализма с задачами завершения индустриализации, обобществления производства, развития рыночной экономики и ее модернизации. Через этот исторический этап ни в коем случае нельзя перепрыгнуть».
Со временем утвердившаяся концепция «социализма с китайской спецификой» оттеснила на второй план проблему выделения самостоятельных этапов социализма — неразвитое, сравнительное развитое и развитое социалистическое общество. В идеологических установках приоритетное место заняла традиционная концепция общества «сяокан» как промежуточного этапа на пути к полному изобилию. К концу 1990-х годов, когда первоначальные, не слишком амбициозные показатели «относительного благополучия» («сяокан») были достигнуты, появилась необходимость выделения двух этапов: начального, иначе говоря, достижение поставленных задач «в первом приближении» («цзунти сяокан») и завершающего, когда поставленные задачи выполнены в полном объеме («цюанъмянь сяокан»). Если первоначально «сяокан» трактовался как определенный (достойный) уровень жизни, то теперь в это понятие включается высокий уровень материальной и духовной жизни общества, улучшение социального обеспечения и условий труда, даже соблюдение демократических прав и экологическое благополучие. Все более популярный термин «сяокан» как субституция понятия социалистического общества несет важную идеологическую нагрузку, помогая снимать возможные возражения относительно соответствия современного китайского общества социалистическим критериям.
В 2003—2005 гг. в китайской прессе появилось немало материалов, посвященных проблеме правильного употребления идеологических категорий и специфике этапов социализма. Выяснилось, что многие полностью отождествляют понятия «социалистическая экономика» и «социалистическая рыночная экономика», а также «социализм» и «социализм с китайской спецификой». В этом случае многоукладность, свойственная современному этапу экономического развития Китая, автоматически переносится и в развитое социалистическое общество, а все черты «социализма с китайской спецификой» получают своего рода индульгенцию как социалистические по своему характеру24. Критикующие эту точку зрения с марксистских позиций предлагают считать «со-
294
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
циалистической рыночной экономикой» такую экономику, в которой при наличии «социалистических условий» рынок играет ключевую роль в сфере распределения ресурсов и существуют разные формы собственности при господстве общественной собственности. Известный китайский экономист старшего поколения Цзян Сюэмо в работе «Материалы по политэкономии» пишет: «Нельзя путать общественную собственность с необщественной, несоциалистическую экономику с социалистической. Так можно отойти от “социализма с китайской спецификой” и бездумно пойти по пути частной рыночной экономики, по существу предать дело социализма. В итоге можно запросто потерять и саму голову» 25.
Российские ученые в большинстве признают сохранение социалистического облика Китая, но подчеркивают иной характер китайского социализма в сравнении с недавним прошлым. Довольно распространенной является трактовка термина «социализм с китайской спецификой» как создание рыночной экономики, интегрированной в мировые хозяйственные связи и мировой научно-технический прогресс, при сохранении политической власти в руках Коммунистической партии Китая.
Член-корреспондент РАНВ.В. Михеев в этой связи пишет: «Споры о том, что представляет собой социализм с китайской спецификой продолжаются в нашей стране примерно столько, сколько идут китайские реформы. Ответ на этот вопрос зависит от того, что вкладывается в понятие «социализм». Если исходить из трактовки социализма как общества всеобщего благоденствия, приходящего на смену современной капиталистической экономике, как общества постиндустриального типа, то социализм с китайской спецификой означает лишь то, что Китай находится от такого рода социализма на гораздо большем расстоянии, чем Западная Европа и США. Тогда социализм с китайской спецификой есть догоняющий вариант развития конкретной страны под названием Китай, идущей по стопам мировых лидеров.
Если понимать под социализмом, как это было принято в классической политэкономии социализма, общество без частной собственности или общество бывшего советского типа, то «китайская специфика» означает, скорее всего, то, что Китай еще находится на начальной, незрелой стадии построения такого рода «классического», «государственного» социализма, на которой (стадии) частная собственность еще может играть позитивную роль в развитии производительных сил страны.
Если понимать под социализмом сегодня реально существующие западноевропейские рыночные демократии, уделяющие большое внимание вопросам защищенности личности от превратностей экономической судьбы, то специфика Китая опять же в его отсталости, в отсутствии ресурсов для осуществления широкомасштабных социальных программ, а также, если в словосочетании “рыночная демократия "выделить термин “демократия ”, в монополии компартии на политическую власть.
Если ориентироваться на весьма популярные среди китайских реформаторов тезисы о том, что «не важно, какая кошка, лишь бы ловила мышей» или «сначала
Г лава 7. Проблема идентификациисоциально-экономическогострояКНР 295 построим процветающее общество, а затем дадим ему название», то понятие «социализм с китайской спецификой» больше означает дань недавнему коммунистическому прошлому китайскихлидеров и китайского общества, нежели имеет концептуальную нагрузку».
Глобализация экономики Китая/Подред. чл.-корр. РАН В. В. Михеева. М., 2003. С. 42—43.
7.5. Место Китая в системе координат
«рынок—государство» и «капитализм—социализм»
Для более четкого представления траектории социально-экономического развития Китая нами использована девятизвенная схема (рис. 3), в основу которой положены два основополагающих критерия — «рынок» и «государство». Три горизонтальных строки (I, II, III) соответствуют разной значимости рынка в социально-экономических моделях при уменьшении этой роли в направлении сверху вниз, а столбцы (А, Б и В) как три основных уровня хозяйствования (мини, мезо и макро) представляют три варианта расстановки акцентов: 1) акцент на государство; 2) акцент на промежуточный государственно-хозяйственный уровень или уровень корпораций и хозяйственных объединений; 3) акцент на роль личности. В итоге мы имеем три основных типа соотношения политических интересов: либо 1) личностные интересы целиком и полностью подчиняются интересам государства (то, что мы назовем этатизмом или этакратизмом — преобладание интересов глобального целого при господстве государственной собственности, полное слияние власти и собственности), либо 2) превалируют интересы личности, а государству отводится роль защиты этих интересов (либерализм), либо 3) предпочтение отдается крупным организациям при определенном балансе интересов государства и отдельной личности (корпоративизм, ведомственность).
Соотношение хозяйственных уровней и форм собственности является более сложным, чем следует из такого чисто логического построения. Можно говорить о том, что зарождение различных форм собственности (государственная, корпоративная и индивидуальная) имеет привязку к определенному хозяйственному уровню, но усложнение экономической жизни ведет ко все большему многообразию хозяйственных укладов и их специфическому сочетанию.
Пересечение строк и столбцов образует девять моделей соотношения рынка и государства.
В первой строчке располагаются три варианта рыночной экономики при различном вмешательстве государства в хозяйственную жизнь: IA — крайне слабая роль государства и полная диффузии рыночных субъектов (свободное рыночное хозяйство), 1Б — ограниченное госу-
296
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
РЫНОК
1 А
Либеральный капитализм
1Б
Корпоративный (государственно- монополистический) капитализм
IB Государственный капитализм
г О с У д А Р С т в О
НА Колониальный капитализм
11Б \ Зависимый \ капитализм \ 1 \
X \ X
НВ Рыночный социализм
IIIA Либеральный социализм (посткапиталистическое общество)
III Б Развитый социализм
Х,„в
Госуд а^спаен н ы й (неразвитый) социализм
СССР/Россия
► Китай
Рис. 3. Модели соотношения рынка и государства
дарственное регулирование и значительная роль крупных хозяйственных структур (корпоративный капитализм); IB - важная роль государства и государственной собственности при наличии «цивилизационного рынка» (государственно-монополистический капитализм).
Вторую строчку занимают три варианта полурыночной (ква- зирыночной) экономики при различной степени и формах вмешательства государства в хозяйственную жизнь: IIA - неразвитый рынок при преобладании собственности физических лиц; ПБ - многоукладная экономика «дикого» рынка; ИВ — многоукладная экономика со значительной ролью государственной собственности, развитыми рыночными отношениями и наличием государственного регулирования.
На третьей строчке размещаются три модели нерыночной экономики: П1А — отсутствие рынка и отсутствие государственного вмешательства; ШБ — слабое развитие рыночных отношений (потребительский рынок) при преобладании ведомственной собственности; ШВ —
Г л а в а 7. Проблема идентификации социально-экономического строя КНР 297 преобладание прямого распределения при полной этатизации хозяйственной жизни и отсутствии частной собственности.
Первая горизонталь идентична капиталистическим отношениям. По нашей схеме эволюция капиталистических отношений и общее повышение экономического уровня шли в направлении «слева направо». Модель 1А характеризует состояние капиталистического общества примерно до конца XIX в. Становление капитализма происходило под флагом либерализма, который защищал право частной собственности и ее реализации через свободные рыночные отношения, причем под свободой понималась свобода экономической личности, т.е. субъекта экономических отношений. Квинтэссенция этого учения - право частной собственности и ее реализации через свободные рыночные отношения и свободный рынок.
Для следующей модели 1Б «корпоративного капитализма», или «государственно-монополистического капитализма» характерно установление третьего технологического уклада с доминированием универсальной технологии обработки конструктивных материалов, станочного машиностроения, железных дорог в качестве базовой инфраструктуры и использования таких энергоносителей, как уголь, и таких конструкционных материалов, как сталь26. Оформление этой модели пришлось на первую четверть XX в., когда процесс широкомасштабной индустриализации, концентрации и централизации капитала завершился созданием корпоративной структуры. В годы первой мировой войны экономические функции государства возросли и установилось его сотрудничество с монополиями при соблюдении взаимных интересов корпоративных и административных структур. Распространение монополий и олигополий, располагающих огромными экономическими возможностями и государственной поддержкой, что в марксистской литературе получило определение «государственно-монополитического капитализма», привело к возникновению в рамках капитализма «планирующей системы»27. Под «планирующей системой» следует понимать не только особый порядок, устанавливаемый внутри частных и государственных корпораций, но и специфику выхода их на рынок. Корпорации не подстраиваются к рынку, а сами создают рыночную среду, где господствуют монопольные цены и осуществляется диктат производителя.
В период первой и второй мировых войн и между ними произошло существенное расширение экономических и социальных функций государства за счет ограничения действия рыночного механизма. Послевоенный капитализм и неолиберализм вынуждены были на какое-то время примириться с дальнейшим возрастанием государственного присутствия в экономике в связи с обострением экологических проблем, усилением взаимозависимости национальных хозяйств, ослаблением жесткой связи между экономическим ростом и занятостью. Стремитель-
298
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
ное усложнение экономического развития стало все теснее связываться с чисто социальными, организационными и психологическими факторами м. Сохранению важной роли государства способствовала атмосфера «холодной войны». В 1950—1970-е годы государственные обязательства и государственные расходы практически во всех капиталистических странах стремительно росли и в абсолютных величинах, и в долях ВВП. Разрабатывались государственные программы по борьбе с безработицей и бедностью, по охране природной среды.
Во второй половине XX в. в главных капиталистических странах в основном завершилось формирование четвертого технологического уклада. Его отличают развертывание промышленности органического синтеза, перестройка машиностроения на основе применения двигателей внутреннего сгорания, распространение нефти в качестве базового энергоносителя. В 1980-е и 1990-е годы отношение к роли государства в развитых капиталистических странах начинает меняться. Толчком к этому послужили глобализация производства и интернационализация капитала. Национальная экономика оказалась в полной зависимости от транснациональных финансовых организаций, и внутренние корректировки рыночного механизма уже были бессильны перед проникновением внешнего влияния. Государственное вмешательство в экономику стало гораздо менее продуктивным. Достижение определенного уровня качества рабочей силы и покупательной способности населения при политической стабилизации позволило перенести акцент с увеличения заработной платы на увеличение предпринимательских доходов. Неолиберальные правительства Тэтчер в Англии и Рейгана в США, сформулировавшие свои программы на принципах обеспечения государством условий функционирования свободной конкуренции, «уверенно принесли социальную справедливость в жертву роста доходов транснационального капитала»29. По нашей схеме, произошло отступление от модели IB к модели 1Б, но уже на новом витке развития производительных сил и начального этапа становления постиндустриального строя.
Третья горизонталь — это линия некапиталистического, или социалистического («в обход» исторической логики развития) и посткапиталистического развития.
Если бы социализм победил в наиболее развитых странах, как предрекал Маркс, то «нулевая» модель (без рынка и без государства) могла бы оказаться исходной площадкой «неэкономического» развития. Этой «идеальной» модели социализма-коммунизма в нашей схеме соответствует поле ША.
Но поскольку социализм победил в экономически неразвитых странах, вектор развития приобрел направление «справа налево»: от модели «неразвитого социализма» (ШВ — осуществление индустриализации при отсутствии рынка средств производства, рабочей силы и капитала и полной этатизации хозяйственной жизни), которая выглядит как анти-
Г л а в а 7. Проблема идентификации социально-экономического строя КНР 299 под модели IA, «эталонной модели» свободного рынка, к модели «развитого социализма» (поле ШБ — слабое развитие рыночных отношений при преобладании ведомственной собственности, более высоком уровне экономического развития (на уровне третьего и четвертого технологических укладов) и большей децентрализации, далее к построению бесклассового и одновременно нерыночного общества.
Система «развитого социализма» была основана на преимущественно индустриальном базисе, характеризующемся чрезмерной концентрацией и централизацией производства и наличием постиндустриальных «вкраплений» (в сфере ВПК и в сфере образования), в которых противоречиво сочетались элементы натурального хозяйства и плановой системы, ассоциированной общественной и господствовавшей государственно-бюрократической собственности, а в сфере трудовых отношений господствовали идеологизированные внеэкономические меры принуждения. «Развитому социализму» (модель ШБ) была присуща большая зрелость корпоративных структур, ведомственная децентрализация, разочарование народа в сложившемся типе «квази-социализма» и его полный отрыв от элиты, осознавшей свои частные интересы и получившей в результате ослабления центральной власти возможности их реализации. Все более разворачивавшийся процесс демократизации обернулся расползанием сети коррумпированных группировок, неформальных лоббистских организацией, которые парализовали функционирование «большой» и к тому же «больной» государственной организации.
В результате происшедшего замедления темпов экономического роста и отставания в области эффективности производства переход к «коммунизму» оказался заблокированным, а сама идея коммунизма глубоко скомпрометированной. Система социализма вступила в полосу глубокого кризиса «недопотребления», который при всех отличиях от кризиса перепроизводства должен был разрешиться примерно по тем же рецептам (рост потребления, финансовая стабилизация, рынок при государственном регулировании). Современные разговоры о «нерефор- мируемости социализма» и его изначальной «тупиковости» носят явно заказной характер. Как пишет датский профессор Клаус Нильсен: «...Нельзя забывать, что социалистическая модель накопления, считающаяся сейчас затратной и неэффективной, несколько десятилетий назад воспринималась на Западе как реальная экономическая угроза и что в 60-е годы мир был ошеломлен прорывами стран централизованной экономики в уровне производства, масштабах изобретений и инноваций»30.
Промежуточная горизонталь — это линия «смешанной экономики», которой свойственны многоукладная собственность и неразвитый рынок и органично присущи черты переходности (сочетание индустриальной и доиндустриальной системы, различных укладов, рыночной и натуральной экономики). Здесь помещаются страны «второй волны»
300
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙПУТЬ
капиталистического развития, в которых многоукладное™ приобрела системный, но при этом нестабильный характер. Прогресс «смешанной экономики» протекает в направлении индустриализации и подключения отраслей современной технологии.
Первая клетка второй горизонтали ПА — это экономика колониального типа с зарождающейся собственной буржуазией и господством иностранного капитала. Территориальный раздел мира завершился образованием колониальной системы как своего рода придатка более развитых стран.
Поле ПБ — экономика развивающихся стран с достаточно сформировавшимся государственным сектором (его сращивание с иностранным капиталом породило явление компрадорства) и довольно динамичным частным сектором. После распада колониальной системы бывшие колонии остались в экономической и политической зависимости от развитых стран и несамостоятельными в принятии стратегических решений. Со второй половины 1960-х годов развернулась экспансия транснациональных корпораций и банков в развивающиеся страны. В условиях биполярного мира в отсеке ПБ помещались страны различной социально-экономической ориентации: зависимого капитализма и социалистической ориентации, которые примыкали к разным политическим лагерям (капиталистическому и социалистическому).
Завершает промежуточную горизонталь модель ПВ, которую можно квалифицировать как «рыночный социализм» (полурынок при государственном регулировании).
В угловых клетках представленной схемы расположены модели- экстремумы, которые можно было бы назвать «либеральный капитализм» (IA) — «государственный социализм» (ШВ); «государственный капитализм» (IB) — «либеральный социализм» (IIIA).
Переход от одной модели к другой в пределах одной горизонтали - это эволюционный путь развития (включающий проведение внутрисистемных реформ). Полностью пройденным и потому в известной мере исчерпанным оказался «путь» по первой «капиталистической» горизонтали, и сейчас капиталистические системы вступают в эпоху самоотрицания своего системного качества. В рамках этих систем развиваются четвертый технологический уклад, сфера услуг, регулируемый рынок, корпоративно-капиталистическая собственность при сильном социальном ограничении рынка и капитала. Начиная переход к постиндустриальному обществу, развитые страны сейчас находятся в неустойчивом положении, и их экономическая политика может испытывать колебания между моделями 1Б и IB.
Движение по диагонали, тем более с «перепрыгиванием» через промежуточную горизонталь — это революционный (или контрреволюционный) путь, связанный с глубокими институциональными преобразованиями в виде революций и реформ. Его прошли социалистичес-
Г л а в а 7. Проблема идентификации социально-экономического строя КНР 301 кие страны и предстоит пройти (уже в другом направлении) развитым странам при переходе к постиндустриальному обществу.
Перемещение по второй и третьей горизонтали оказалось прерванным в результате провала социалистического эксперимента в СССР.
Экономические системы второй горизонтали, где постепенно утверждаются индустриальные технологии, рыночные начала и капиталистическая (в том числе — раннекапиталистическая) собственность, в некотором смысле воспроизводят эволюцию классического капиталистического способа производства. Подъем этих стран с промежуточной на верхнюю горизонталь согласуется с концепцией модернизации.
Вне пределов вышеприведенных 9 общественно-экономических систем находятся архаичные системы, где до сих пор господствуют до- индустриальные технологии, натурально-хозяйственная замкнутость, докапиталистические формы зависимости и собственности, традиционная культура. Эти системы в настоящее время — исключения и являются чем-то вроде анклавов в пределах систем раннекапиталистического развития. Можно также предположить временную деградацию (вследствие войн, межнациональных конфликтов или иных глобальных катастроф) более развитых систем к этому состоянию.
Сравнение опыта реформ в России и Китае свидетельствует о расхождении их траекторий общественного развития. Из-за более высокого экономического уровня и далеко зашедшего кризиса социалистической системы Россия оказалась более склонной к трансформации по капиталистическому варианту с ориентиром на создание развитого, цивилизованного капитализма при полном отторжении варианта рыночного реформирования социализма. Инициаторы реформы, которые настояли на полном отречении от лозунга социализма, фактически идентифицировали с социализмом «реальный социализм», а именно тоталитарный сталинский режим. Жертвой такого выбора оказалась идея социализма, беззащитная перед своими интерпретаторами.
В виде «целевой модели» реформы наиболее приемлемым при таком капиталистическом настрое мог бы быть вариант «государственного капитализма» (IB). При таком векторе перехода требовалось следующее:
■ дальнейшее повышение экономического уровня, т.е. обеспечение высоких темпов экономического роста с акцентом на развитие отраслей высокой технологии;
■ переход к потребительски-ориентированной модели экономического роста, позволяющей преодолеть системный кризис социализма (и капитализма);
■ повышение роли государства в процедурах макрорегулирования;
■ становление «цивилизованного» рынка.
Однако российские реформаторы фактически взяли на вооружение идеи не «государственного капитализма», а «государственно-мо-
302
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
нополистического капитализма», не кейнсианства, а монетаризма с его главным требованием «слабого государства». Желая следовать последнему слову западной науки, они стали переносить в российские реалии модель, приемлемую для тех, кто уже израсходовал ресурс государственного регулирования.
В конечном счете в силу разных объективных и субъективных причин российская реформа не «дотянула» до верхней «капиталистической горизонтали», оказавшись в поле ПБ (ШБ-ПБ).
Характеристика российской «модели зависания» между капитализмом и социализмом дана в работе Бузгалина и Колганова, которые, называя ее «государственно-корпоративной» моделью буржуазной трансформации (на наш взгляд, лучше подходит название «корпоративная модель псевдорынка»), перечисляют следующие ее черты:
■ слабость государственной власти, перераспределение контроля и собственности от центральных государственных структур к отдельным получастным корпорациям;
■ доминирование локального монополистического контроля и предельная степень развития корпоративной конкуренции (столкновение кланов, элит и т.п.);
■ ярко выраженная асоциальность (социальные цели реализуются только как минимальные подачки трудящимся и населению с целью сдерживания социальной напряженности или для массовой поддержки того или иного из кланов)31.
На наш взгляд, этот перечень следовало бы дополнить пунктом об образовании «полурынка» в виде широчайшего распространения бартерных отношений и незаконных операций.
В итоге после слома характерной для планово-распорядительной системы отраслевой управленческой вертикали Россия не поднялась до современной государственно-рыночной организации производства, добавив к своей технологической неконкурентоспособное™ организационно-управленческую.
Бывшие социалистические страны Восточной и Центральной Европы оказались «более продвинутыми» в направлении капиталистической трансформации и более интегрированными в капиталистическую систему. Им свойственны:
■ большая нормативность рыночных отношений, которые не подавлены полностью корпоративным контролем;
■ более четкое оформление частной собственности, ее концентрация в руках частных корпораций и предпринимателей при определенной дисперсии прав собственности среди населения;
■ большая социальная направленность.
Эти страны преодолели или преодолевают трансформационный «шок», но подняться до «ядра» капиталистической системы им могут помешать многие внутренние и внешние обстоятельства.
Г л а в а 7. Проблема идентификации социально-экономического строя КНР 303
Китай оказался на той же средней горизонтали, что и Россия, но в следующем «отсеке» «рыночного социализма», откуда легче перейти к модели государственного капитализма (IB).
7.6. Как же определить характер социально-экономического строя в Китае?
Определение характера социально-экономического строя в Китае затруднено по многим причинам. В их числе сложность трансформационного процесса, происходящего в Китае, и еще весьма далекого от своего завершения; отставание мировой политэкономической науки, которая пока не выработала адекватных дефиниций для характеристики общественных преобразований после распада мировой социалистической системы, наконец, особенности китайской идеологии, работающей в «двух координатах» — марксизм-ленинизм и новые экономические теории. На время отодвинув в сторону вопрос относительно присвоения ему «имен» капитализм и социализм, Китай как бы «завис» в точке бифуркации, откуда развитие могло пойти по разным направлениям. В настоящее время в адрес Китая обвинения сыплются с разных сторон: и за «негодную приверженность социализму» и, наоборот, за «реставрацию капитализма». Принятые в отношении постсоциалистических стран понятия «смешанной» и «транзитной» экономики, позволяющие временно заполнить образовавшийся теоретический вакуум, не отвечают на вопрос о конечной цели перехода и соотношении составных частей общественного целого. Эти понятия вполне приложимы к Китаю, но ни в коей мере не сближают его с теми странами, которые ориентируются на переход от социализма к капитализму и намерены широко демонстрировать свою принадлежность к капиталистическому «лагерю».
Тщетность попыток идентификации общественного строя той или иной страны состоит в числе прочего и в том, что сейчас в чистом виде нет ни модели капитализма, ни модели социализма. Сами термины «капитализм» и «социализм» за годы «холодной войны» прошли такую сложную эволюцию, настолько утратили свое первоначальное значение, свой философский смысл «борьбы противоположностей», что использование их становится бессмысленным заклинанием противостоящих политических сил. Недовольство этими устаревшими терминами выражают многие (известная дискуссия начала перестройки о том, можно ли считать наше общество социалистическим, тот или не тот у нас социализм), высказываются предложения «ревизовать политический словарь», «не вливать молодое вино в старые меха»32. Кроме того, само «почкование» этих философских и политических терминов делает «черно-белый» подход (или капитализм - или социализм) слишком примитивным. Фундаментальным вопросом является не вопрос: «Рыночное или плановое хозяйство, капита-
304
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
лизм или социализм?», а вопрос «Какой капитализм?» или «Какой социализм», «Что от капитализма, что от социализма?».
Китайская реформа по аналогии с реформами, проводимыми в странах с транзитной экономикой, предназначена заменить механизм прямого административного (планового) распределения механизмом рыночного типа при повышении экономической эффективности и обеспечении социальной стабильности. Процесс становления рыночной экономики в Китае и процесс разгосударствления специфичны, но не уникальны. Цифры говорят о снижении доли государственных и коллективных предприятий, об определенных масштабах частного сектора и акционерного сектора, а также о весьма внушительных размерах иностранного сектора (предприятий, созданных целиком на средства иностранных инвесторов или со значительным участием иностранного капитала, включая капиталы предпринимателей из Гонконга, Макао и Тайваня). Однако эта пестрая «статистическая картина» не дает адекватного представления о динамике процесса разгосударствления и о перспективах симбиоза «частного» и «общественного». Наблюдающееся сходство всех стран с транзитной экономикой не должно вводить в заблуждение.
В отличие от других стран, взявших курс на капитализм, пожелания китайских реформаторов выглядят иначе: да, не социализм, прописанный в советских учебниках и воплощавшийся в своеобразной форме в Китае в период «большого скачка», но и не капитализм в образе жесткой и безжалостной конкуренции. Китайские руководители, испытавшие все ужасы «культурной революции» и желавшие как можно скорее вывести страну в число наиболее развитых стран мира, с самого начала реформ были настроены на кардинальные преобразования, но без смены общественного строя. Не столь длительная история КНР позволяла удержать в памяти все «прелести» колониального капитализма, включая нищету и национальное унижение. В силу отсутствия необходимого «запаса прочности» Китаю просто «противопоказано» разрастание имущественной дифференциации, обострение национальных и социальных конфликтов. Сохранение компартии и авторитарных порядков, само по себе не являющееся чем-то исключительным для азиатских стран, всегда рассматривалось как гарантия управляемости страны, политической стабильности.
Ориентация на западную модель капитализма и либерализма обрекает страны, вступившие на путь реформ, на подражание уже отживающим канонам и на потерю своей национальной идентичности. «Догоняющее развитие» утрачивает свой имитационный смысл. Наши ведущие экономисты уже в конце 1990-х годов пришли к весьма поучительным выводам: «В части долгосрочной стратегии мы, пожалуй, можем успеть создать нечто похожее на сегодняшнюю западную рыночную модель ко времени, когда цивилизованный капитализм будет именовать свою экономику, не используя термин «рынок» (например, постиндустриальная, кооперационно-социальная, рациональная, общественно
Г л а в а 7. Проблема идентификации социально-экономического строя КНР 305 регулируемая, интегрированная и т.д.). Можно привязать характеристику нового понятия экономики к терминологии современных экономических теорий: синергетическая, эволюционная, институциональная и тд.»33.
Говоря о Китае, нельзя отрицать, что определенные шаги в сторону либерализации и демократизации уже сделаны. По сравнению с прошлыми временами заметна либерализация и в экономике, и в области идеологии. Пересматриваются некоторые марксистские догматы, свободнее дискутируются в печати вопросы теории. Несколько расширены права ВСНП. Его постоянные комитеты получили полномочия давать согласие на назначения в правительстве, рассматривать бюджеты различных ведомств. Прямые выборы Всекитайского и провинциальных собраний народных представителей еще не практикуются, но на более низких административных уровнях они вводятся. Более современными стали процедуры смены руководящих кадров, которые уже больше не пользуются привилегией пожизненного занятия своих постов.
Однако многие признают, что в том огромном человеческом конгломерате, который представляет собой Китай, при невысоком пока еще уровне образования и самодисциплины либерализация экономики имеет свои пределы, а внедрение демократических институтов западного толка на сегодняшний день вряд ли целесообразно. К тому же практика показала, что между демократизацией общества и рыночной либерализацией прямого тождества нет, а порой они сильно расходятся м. Партия играет роль той жесткой конструкции, которая скрепляет общественный каркас и сдерживает тенденцию кдецентрализации. Показательно, что инициатива политической перестройки также исходит от самой партии, которая стала важным институтом саморегулирования общественного развития.
Причину отторжения вестернизации с ее индивидуалистическими ценностями и приватизации как закономерного главенства частных интересов следует искать и в самом менталитете китайского народа. В понятия «гун» (общественное) и «сы» (частое) издревле были заложены этические начала, их можно рассматривать не только как альтернативу «общественного» и «частного», но также «солидарности» и «разобщенности», «справедливости» и «корыстности». Справедливость, представление о которой заложено в термине «гун», в социальном плане понималась как сохранение целостности Поднебесной, установление рационального единоначалия и утверждение такого порядка, при котором социальное начало превалирует над индивидуальными интересами, сохранение «рода» (человеческое общество, государство) имеет приоритет над сохранением «вида» (отдельная семья), отсутствуют какие-либо бесконтрольные проявления частных интересов («сы»). В конфуцианском понимании справедливости государство должно существовать для блага отдельной семьи, каждая семья должна помогать процветанию государства.
«Свой путь», которому следует Китай, означает такое «усовершенствование» социализма, которое приближает его к капитализму в дета-
306
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
лях рыночного механизма, но сохраняет отличия от капитализма в виде иного характера субъектов товарных отношений и иной увязки интересов между работодателями и наемными работниками. Несмотря на то, что сам термин «приватизация» начинает входить в научный обиход, акционерная собственность по-прежнему не отождествляется с частной, поскольку сохраняется государственное участие в распределении получаемого дохода и государственные органы имеют право вмешиваться в процесс принятия управленческих решений. Сами корпорации многими в Китае рассматриваются не только как субъекты рыночных отношений с определенным юридическим оформлением, но и как устойчивые общности людей, выполняющих определенные производственные и социальные функции в соответствии с общегосударственными интересами, иначе говоря, как разновидность совместной (общественной) собственности. Появление такой группы государственно-частных предприятий свидетельствует о начале формирования в Китае системы национального имущества наподобие «третьего сектора» японской экономики. Вопрос о «ведущей роли» государственной собственности ставится иначе, чем раньше. Чисто количественный подход сменяется качественным, оценкой значения государственных предприятий в экономике и их воздействием на всю остальную сферу хозяйственных отношений.
Прежняя антитеза общественное—частное получает иную окраску в связи с обращением к понятию «народ» в контексте «государство» и «общество». Появление новой дефиниции с элементом «минь» («народ») нельзя рассматривать как чисто терминологический прием. По существу речь идет о серьезном идеологическом нововведении с важной исторической подоплекой, которое «перекидывает мостик» между «социализмом с китайской спецификой» и «народным капитализмом», а заодно между материковым Китаем и Тайванем. Термин «минъинхуа» имеет широкое хождение на Тайване, где он выступает в роли полного аналога понятия «приватизация». На Тайване есть немало сторонников точки зрения, что «минъинхуа» (приватизация) является «возвращением экономической власти народу», восстановлением «народного суверенитета» в сфере хозяйственного управления35.
В своей программе экономических и социальных преобразований, нацеленной на оптимальное сочетание частных и общественных интересов, что напоминает японскую теорию «государственно-частной гармонии», Китай идет «своим путем», отличным и от этатистской, и от неолиберальной модели. Сохранение социалистической понятийной атрибутики в идеологических программах нельзя расценивать как явление «социальной мимикрии». Страну нельзя назвать постсоциалистической (или посткоммунистической), поскольку признается регулирующая роль государства и социальная направленность всей экономической политики, культивируется идея совершенствования социалистического строя и его жизнеспособности.
Г л а в а 7. Проблема идентификации социально-экономического строя КНР 307
Место прежнего критерия «социалистичности» как высокой степени обобществления производства (формального) и ликвидации частной собственности занял здоровый прагматизм, принимающий все варианты форм собственности, способные обеспечить рост эффективности производства. Совместимость «социализма с китайской спецификой» с частной собственностью, рыночными отношениями и имущественным неравенством приближает его к обществу «всеобщего благосостояния», где одним живется лучше, чем другим, но при обеспечении всем гражданам достойного образа жизни и равных стартовых условий (близко к понятиям «плюрализм благосостояния», «хорошее общество»).
Набирающие силу системные преобразования при смягчении постулированной ранее альтернативности социализма и капитализма свидетельствуют о том, что «китайская «социалистическая смешанная экономика» с присущей ей институциональной и организационной спецификой в праве претендовать на статус особого общественного строя, конвергентного по своей сущности. Желая противостоять идеологической агрессии Запада и отойти от повторения пути, уже пройденного другими странами, Китай активизирует поиски новой стратегии развития экономики и общества, подчиненной задаче самореализации личности и гармонизации межличностных отношений. Проблема состоит в том, что в действительности наиболее радикальной качественной ломкой прежней системы (экономики «реального социализма») нужно считать не изменение одной (государственно-бюрократической) формы отчуждения граждан от управления экономическими процессами, а работников — от средств производства на другую (корпоративно-капиталистическую), а преодоление всякого отчуждения в виде лишения непосредственных производителей средств производства и доступа к рычагам управления.. Сейчас, когда традиционная цивилизация переживает кризис модернизации, а техногенная цивилизация, исчерпав свои возможности, продолжает навязывать себя всему миру под призывами к «глобализации», только возвращение к высоким моральным принципам может помочь поискам альтернативного социального устройства с принципиально иными взаимоотношениями между Природой и Человеком и между человеческими ассоциациями. Современная «глубинная экология» зиждется на постулате, что каждый из нас создан в единстве с миром природы и что защита природного мира есть защита самого себя. Об опасности «своеволия» как выхода человека из-под материнского контроля и руководства Природы и Разума говорил в свое время Толстой, которому были очень близки мысли китайского философа Лаоцзы. Повышение роли человека в общественном развитии предполагает «становление человека», его развитие, переход к определяющей роли духовно-познавательных ценностей, стоящих на вершине пирамиды потребностей человека, возникновение чувства ответственности за все происходящее. В одном философском «отсеке» находятся китайские кате-
308
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
горни Дао и Дэ (Путь и Мораль), термин «ноосфера» — сфера Разума и современное понятие «sustainable development», научный смысл которого академик Н.Н.Моисеев определял как «поиск СТРАТЕГИИ перехода к обществу, способному обеспечивать условия коэволюции Природы и Человека, основа которой — формирование научно обоснованных доктрин (табу) и очень постепенный к ним переход»36.
Задача уравновешивания принципов социальной справедливости и экономической эффективности, соблюдения равновесия индивидуальных и коллективистских ценностей требует не только повышения уровня жизни народа, но и отказа от идеалов потребительского общества, не только мобилизации всех резервов роста, но и ликвидации разросшейся имущественной дифференциации, не только ускоренного экономического роста, но и высокого престижа духовных и познавательных ценностей. Обращение к высоким нравственным идеалам в традициях Китая, который формировался как страна социоцентристская, а не антропо- центристская.
Характеристика китайского смешанного общества как «рыночного социализма» имеет все основания, поскольку наличествуют все его основные особенности, а именно: широкое распространение рыночных отношений; существование разных видов доходов при преобладании оплаты по труду; сохранение важной роли государства как собственника и регулятора хозяйственной деятельности, включая контроль над предпринимательской деятельностью во имя соблюдения общегосударственных интересов. Менее ощущается противодействие имущественной дифференциации в виде прогрессивного налогообложения и использования государственной системы социального обеспечения.
Но выбранная модель «смешанной экономики», или «рыночного социализма» — это еще никем не пройденный и не проверенный путь развития, и трудности «первопроходца» нельзя недооценивать. Совершенно очевидно, что изменения политической системы отстают от экономических преобразований. Поставленная задача построения правового государства рассматривается как гарантия длительной политической стабильности и условие социального и культурного прогресса.
Переживаемый в настоящее время Китаем переломный момент вновь ставит его перед выбором пути дальнейшего развития. Можно сказать, что страна оказалась перед лицом переосмысления «общецивилизационных ценностей» и возрождения высоких нравственных канонов. «Хорошее общество» и «хорошая экономика» не возможны без четко прописанных и получивших массовое одобрение представлений о свободе, справедливости и нравственности. Это осознают и современные китайские лидеры, отмечающие необходимость «смены экономической модели».
Эволюция «рыночного социализма» гипотетически может идти в двух направлениях. Первый путь - углубление реформ по рецептам «асоциального рыночного хозяйства». Это позволит довести до логи-
Г л а в а 7. Проблема идентификации социально-экономического строя КНР 309 ческого конца уже начатые преобразования (приватизация государственных предприятий, реформа банковской системы), сэкономить на социальных издержках, использовать все потенции стратегии «сравнительных преимуществ», несбалансированного развития и политики внешнеэкономической «открытости». Сущностные дефекты такого курса: закрепление трудоинтенсивных технологий и экстенсивного пути развития, дальнейший рост имущественного неравенства и обострение социальной напряженности, углубление экологического кризиса. Такой путь развития с либеральным и вестернизаторским уклоном стимулирует развитие политической демократии, но одновременно провоцирует рост оппозиционных и сепаратистских настроений.
Второй путь - поиски такого варианта «социального рыночного хозяйства», который позволит связать модернизацию как ответ на глобальные трансформационные вызовы с соблюдением принципов социальной справедливости и солидарности. Рост оплаты труда, увеличение числа рабочих мест, развитие здравоохранения, науки и образования — главный способ повышения качества рабочей силы и перехода с экстенсивного на интенсивный путь развития. Эта модель предполагает сохранение государственного контроля, удержание в определенных пределах имущественного неравенства, сокращение региональных диспропорций и ослабление зависимости экономического роста от экспорта. Дополнение требований «смешанной экономики» набором моральных норм, включая принципы коллективности и соблюдения социальной справедливости, позволяет сохранить социалистическую идеологию.
Первый путь - акцент на экономический рост как предпосылку решения социальных проблем. Второй путь - решение социальных проблем как условие сбалансированного и устойчивого экономического роста.
Главный завет Дэн Сяопина, скончавшегося 19 февраля 1997 г., — построение экономически мощного, процветающего китайского государства при изучении и заимствовании опыта других стран и полном учете национальных особенностей, укрепление сотрудничества с другими странами при соблюдении принципов независимости, самостоятельности и опоры на собственные силы. Есть все основания полагать, что это завещание патриарха китайских реформ будет претворено в жизнь.
Примечания
1 Меликсетов А.В. Социально-экономическая политика Гоминьдана. 1927—
1949 гг. М., 1977. С. 7-8.
2 Там же. С. 278.
3 Непомнин О.Е. Социально-экономическая история Китая. 1894—1914 гг. М.,
1980. С. 266.
4 К вопросу о сущности «азиатского способа производства», феодализма, крепост-
310
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
ничества и торгового капитала. Научная ассоциация востоковедов при ЦИК СССР.М., 1929.
5 Васильев Л. С. Аграрные отношения в обществе в древнем Китае. М., 1961.
С. 131—136; Фань Вэнълань. Древняя история Китая. М., 1958. С. 79.
6 Васильев Л. С. Возникновение и формирование китайского государства// Китай:
история, культура и историография. М., 1977. С. 30.
7 Илюшечкин В.П. Аренда в системе частнособственнической эксплуатации древне¬
го и средневекового Китая //Аграрные отношения и крестьянское движение в Китае. М., 1974. С. 21.
* Непомнин О.Е. Социально-экономическая история Китая... С. 40. ’Там же. С. 265.
10 Непомнин О.Е. Административно-командная система и бюрократический капи¬
тал Гоминьдана // Общество и государство в Китае (XXIX науч. конф. ИВ РАН).М., 1999. С. 294.
11 Тяпкина Н.И. Норико Камати о работах японских историков относительно обще¬
ства и государства в позднеимператорском Китае // Общество и государство в Китае (XXXI научная конференция ИВ РАН). М., 2001. С. 153-163.
12 Чжао Жэньвэй. Чжунго цзинцзи гайгэ эрщи чжоунянь исе каньфа (Некоторые
соображения по поводу двадцатилетней годовщины китайской хозяйственной реформы) // Цзинцзи шэхуэй тичжи бицзяо. 1999. № 3. С. 9.
13 ЧабаЛ. Политико-экономические основы стратегии реформ: сравнение опыта
Китая и стран Центральной и Восточной Европы // Вопросы экономики. 1995. № 12.
14 Хуан Яшэн. Проводило ли китайское правительство градуалистскую политику в
90-е годы? Http://www. economics, utoronto. ca/brandt/Prospectus_Govemment PDF/(Материал от 15-17.10.2002),
15 Цит. по:. Делюсин Л. Китай: реформы идут, леваки бьют тревогу // Вестник
научной информации ИМЭПИ. 1997. № 3. С. 69.
16 Джордж Мина и Франсес Перкинс. Переходная экономика в Китае. Между пла¬
ном и рынком. Департамент внешних связей и торговли Австралии.
17 Илларионов Андрей. Проводят ли китайские товарищи «шоковую терапию»? Да.
// Известия. 01.04.98.
18 http://hongkong.usconsulate.gov/uscn/trade/general/doc/2003/100101.htnL окт. 2003 г.
19 Цзинцзи яньцзю. 1985. № 12. С. 3-4; 1987. № 4. С. 21.
20 Чжунго шэхуэй кэсюэ. 1984. № 5.
21 Су Шаочжи. Шэхуэйчжуи чжиджу гэчжун мосин ды яньцзю хэ бицзяо (Сравне¬
ние и анализ различных моделей социалистической системы) // Цзинцзи шэхуэй тичжи бицзяо. 1985. № 1; см. Чжунго цзинцзи кэсюэ няньцзянь — 1986. С. 191.
22 Там же.
23 Гу Сян. Сулянь хэ дун Оу гоцзя ды цзинцзи чжиду мосин хэ та ды бяньхуа (Типы
экономических систем СССР и восточноевропейских стран и их изменения/ // Цзинцзи сюэ дунтай. 1983. №6.
24 Вэй Синхуа. Бу яо хуньтун цзигэ бу тунды цзинцзисюэ гайнянь хэ юаньли (Не
надо смешивать различные понятия и экономические термины) // Цзинцзи сюэ дунтай. 2005. № 3. С. 19.
25 Цзян Сюэмо. Чжэнчжи цзинцзи сюэ цзяоцай (Учебные материалы по политиче¬
ской экономии). Шанхай, 2003. С. 239.
Г л а в а 7. Проблема идентификации социально-экономического строя КНР 311
26 Глазьева С. Экономика и политика: эпизоды борьбы. М., 1994. С. 251—250.
11 Это понятие в применении к капитализму ввел Гэлбрейт. См.: Джон К. Гэлбрейт. Экономические теории и цели общества. М., 1979. С. 67—81.
и Гринберг Р. С. и Рубинштейн А.Я. К общей теории социальной экономики. Научный доклад. М., 1998. С. 4.
29 ВедутаЕ.Н. Государственные экономические стратегии. М.» 1998. С. 252.
30 Клаус Нильсен. Промышленная политика и реструктуризация в странах Цент¬
ральной и Восточной Европы // Проблемы теории и практики управления. 1995. № 6. С. 23.
31 БузгалинЛ.В., Колганов А.И. Введение в компаративистику. М., 1997. С. 326.
32 Сулейменов Олжас//Независимая. НГ-сценарии. 10.03.1999.
33 Иванченко В. Экономическая наука в поисках разумных компромиссов // Воп¬
росы экономики. 1999. № 6. С. 158.
34 О стратегии российского развития: Аналитический доклад. М., 2003. С. 75.
35 Гуанхуа (Sinorama). Chinese-english bilingual monthly. Vol. 22.1997. No. 11. P. 11.
36 Моисеев H.H. Судьба цивилизации. Путь разума. М., 2000. С. 81.
312
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Расставшись с застойным характером традиционного китайского общества, современный Китай демонстрирует беспримерный экономический динамизм. За короткий по историческим меркам четвертьвековой срок он из отсталой страны, безуспешно боровшейся с голодом и перенаселенностью, превратился в мощную индустриальную державу, буквально наступающую «на пятки» развитым капиталистическим странам. Быстро меняется не только облик страны, меняются сами люди и по внешнему виду, и по своему образу жизни. Одновременно модернизация разрушает многие из устоявшихся представлений и исторических традиций.
Увлекшись ускорением экономического роста, Китай в какой-то мере запустил решение сложных социальных проблем. Социалистические идеи высокой значимости человека труда, общественной консолидации, очень близкие историческим традициям крестьянских восстаний и духу революционной борьбы 30-х и 40-х годов XX в., не утратили своей привлекательности, но не служили руководством практической деятельности. Разочаровавшись в советском социалистическом прототипе и в результатах маоистских попыток построения «казарменного коммунизма», китайские реформаторы смело пошли на ревизию ортодоксальной социалистической теории, отступив от таких считавшихся «неприкасаемыми» признаков социализма, как ликвидация частной собственности на средства производства и замена рыночных отношений планово-распределительными. Китайский «рыночный социализм», соответствующий реальным условиям бытия и свободный от утопических прожектов, обеспечил условия «экономического прорыва», но оставил открытым вопрос о соединении экономической эффективности и социальной справедливости, о пределах имущественной дифференциации.
Высокая пассионарность, характерная для сегодняшнего Китая, помогает ему справляться с неизбежными вызовами, явными и скрытыми рисками, в том числе и за счет постоянной корректировки стратегического курса и смелых тактических маневров. Решения политических форумов последних лет, начиная с XVI съезда ЦК КПК (2002 г.), свидетельствуют о том, что Китай подошел к очередному водоразделу своей истории и истории своей хозяйственной реформы и готов предпринять решительные действия по исправлению допущенных просчетов. На повестке дня - формирование новой концепции развития - сбалансированного, устойчивого, гармоничного. Эту задачу провозгласил состоявшийся в октябре 2005 г. 5-й пленум ЦК КПК 16-го созыва.
Заключение
313
Углубление рыночных реформ теперь понимается как создание социально ориентированной рыночной экономики, если использовать западную терминологию, или как полное построение общества «сяо- кан»вдухе известной идеологемы традиционного Китая, начавшей сейчас вторую жизнь. Воплощая в себе конфуцианский принцип «человечности» и одновременно новое понимание роли творческой личности в общественной жизни, «сяокан» (малое благосостояние) означает ликвидацию бедности, доступность для каждого благ цивилизации, наполнение жизни богатым духовным содержанием. Это требует другой расстановки акцентов в экономической политике, отказа от остаточного принципа при финансировании образования, здравоохранения и культуры, изменения структуры национального дохода в пользу потребления. Прежний лозунг «пусть одни обогащаются раньше других» уступает дорогу задаче постепенного роста всеобщего благосостояния, ликвидации разрыва между городом и деревней, развитыми и неразвитыми регионами.
Новый постулат «человек — основа основ» («и жэнь вэй бэнъ») меняет главную цель экономического развития — не достижение понимаемого сугубо технически более высокого уровня развития производительных сил, а обеспечение социальной стабильности и безопасности всех граждан, спокойствия и блага каждого отдельного человека. В духе современной теории модернизации и постмодернизации критерием социально-экономического прогресса становится «качество» человека как развитой и полноценной личности и «качество» общества, способного обеспечить удовлетворение высоких материальных и духовных потребностей человека. В перспективе инвестиции в человека должны получить приоритет перед инвестициями в экономику.
Прежняя экономическая модель «догоняющего развития» уступает место модели сбалансированного и устойчивого развития с переносом внимания от экстенсивных к интенсивным факторам экономического роста. Путь преимущественно экстенсивного развития, которого до сих пор придерживался Китай, основывался на формуле: высокие темпы роста - высокая капиталоемкость и материалоемкость производства - серьезное загрязнение природной среды — невысокая производительность труда - сравнительно низкая оплата труда. Такой тип экономического развития, обусловленный во многом нехваткой капитала и избытком дешевой рабочей силы, отвечал задачам форсированной индустриализации, но обрекал страну на огромные перерасходы сырья и топлива и сдерживание потребительского спроса. Продолжение такого затратного варианта развития невозможно ни по степени обеспеченности собственными природными ресурсами, ни по финансовым возможностям страны, ни по общим резервам мирового рынка, не говоря уже об обострении социальных проблем. К тому же необходимость повышения заработной платы лишает страну ее преимуществ в виде низ¬
314
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
кооплачиваемого труда. Однако переход на интенсивный путь развития сам по себе тоже является весьма дорогостоящим, поскольку требует иного качества науки и образования, серьезной реструктуризации экономики, совершенно новых подходов к развитию социальной сферы, к охране природы и здоровья человека. Сдержать массовую миграцию, угрожающую перенаселением городов, можно только путем «малой урбанизации», а именно превращением сельских ландшафтов в агро-урбанизационные, созданием в волостных центрах городской инфраструктуры.
Грандиозна по своей задумке и последствиям задача гармонизации отношений человека и природы, осуществления такого «зеленого роста», который не наносит вреда окружающей среде, обеспечивает необходимый природный кругооборот, не лишает человека общения с живой природой. Сторонники устойчивого развития обосновывают необходимость «рециркулярной экономики», предполагающей вторичное использование возобновляемых ресурсов.
В новых условиях складывается иное понимание самого «труда», который рассматривается в первую очередь как процесс познания, осмысления мира и только во вторую очередь как приложение определенных (осмысленных) усилий по отношению к предметам труда с целью достижения того или иного результата (материальное производство). В структуре потребления на первый план также выдвигается удовлетворение духовных потребностей. При этом совершенно очевидно, что идеалы «потребительского общества» не переносимы с территории США на территорию КНР.
На пьедестал возводится «наука» как новый элемент производительных сил, призванный в перспективе придать всей деятельности человека творческий характер. В этом возвеличивании науки перекрещиваются требования современной эпохи и исторические традиции Китая. В полном соответствии с задачами модернизации наука рассматривается в качестве деятельности по получению, систематизации и анализу получаемой информации, установлению «обратной» информационной связи, т.е. практическому использованию полученных знаний и их передаче следующему поколению. Этот принцип прямой и обратной информационной связи был сформулирован почти три тысячи лет тому назад китайским мудрецом Конфуцием в виде его известного изречения - «Не в том ли состоит радость жизни, чтобы осмыслить прошлый опыт и затем передать свои знания другим?».
В области естественных наук ставится задача создания собственной инновационной базы, значительного расширения фронта как фундаментальных, так и прикладных наук. Общественные науки подключаются к разработке концепции «научного развития», означающей урегулирование взаимосвязи экономического строительства, демографического роста, качества жизни человека, состояния окружающей среды.
Заключение
315
Новая экономическая модель призвана обеспечить «мирное возвышение» Китая, понимаемое как рост национального самосознания, расширение экономического и политического влияния в мире на основе принципов международного сотрудничества и соразвития, конструктивного диалога с другими странами и цивилизациями.
Однако наращивание экономической мощи Китая, упрочение его международных позиций вызывают в мире неоднозначную реакцию. Многих страшит рыночная экспансия Китая, перспектива массовой китайской миграции, грядущий передел мира в соответствии с новой расстановкой политических сил. Хочется надеяться, что для этих опасений нет оснований. Чем более развитым будет становиться Китай, тем более позитивным будет его вклад в мировую цивилизацию. Угрозу мог бы представлять бедный Китай, чье полуголодное и малограмотное население беспрекословно берет на веру все призывы своего вождя. Именно таким был Китай в годы «культурной революции». Богатой и цивилизованной стране не нужны аннексии территории и исход своего «лишнего» населения. Развитая страна сама привлекательна для мигрантов и нуждается в стабильной внутренней и международной обстановке. Вместе с тем появление новых крупных силовых центров создает потенциальную угрозу странам, взявшим на себя роль мировых гегемонов, тем более, если экономический успех их конкурентов сопровождается претензиями на новый вид государственного и мироустройства.
Анализируя ход китайской реформы, с полным правом можно сказать, что свою основную миссию она успешно выполняет. Современный могучий Китай не похож на ту охваченную энтузиазмом страну, руководители которой хотели «идти по пути русских». Теперь КНР идет своим путем, сохраняя знамя социализма, но решительно отказываясь от всяческих догм в отношении сущности этого общественного строя. Нельзя сказать, что Китай уже выработал свою идеальную модель, но очевидно, что идут интенсивные поиски неких усредненных параметров, при которых общество будет устойчивым, «хорошим», более справедливым.
Следует признать, что при всех успехах Китая пройдена только часть пути к заветной цели превращения его в процветающую державу, обеспечивающую всем своим гражданам достойный образ жизни. За два с лишним десятилетия далеко не все проблемы удалось решить, на смену одним проблемам пришли новые. Многие из поставленных целей пока кажутся благими пожеланиями, осуществление которых потребует в лучшем случае колоссальных усилий, а в худшем — породит разочарования. Китайская попытка прорыва в принципиально новый тип общества не лишена элементов утопизма и идеологического маневрирования, требует научного осмысления и принятия новой серии неординарных подходов с непредсказуемыми последствиями. Судьба «социализма с китайской спецификой» зависит от того, как будут решаться вопросы
316
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
соотношения власти и бизнеса, власти и народа, будет ли преодолено «отчуждение личности» как отстранение работников от функции управления.
Противоречивость сложившейся ситуации породила различные прогнозы относительно будущего Китая. Те, кто верят в общественный прогресс и симпатизируют Китаю, надеются на долговременный характер китайского экономического «чуда», его положительное влияние на все происходящее в мире. Те, кто вершиной человеческой истории считают развитые капиталистические страны, рассматривают китайскую ситуацию сквозь черные очки «вызовов» и «рисков», осуждают Китай за отставание политической реформы, склоняют на все лады тезисы о «китайском тупике» и «китайской угрозе». «Существует достаточно света для тех, кто хочет видеть, и достаточно мрака для тех, кто не хочет», - писал в свое время Б. Паскаль.
Хотя возможность экономического срыва в результате природных катаклизмов или политических авантюр полностью исключать нельзя, большинство аналитиков не видит серьезных препятствий, которые помешали бы Китаю продолжать наращивать экономический потенциал. Вполне возможно, что в силу разного рода причин, включая определенную «экономическую усталость», темпы роста снизятся. Да и не столь важно, к какому году удастся ему догнать Соединенные Штаты Америки. Куда важнее сохранить социальную стабильность, избежать раскола страны, улучшить жизнь населения и совершить мирный переход к демократической политической системе. До сих пор Китаю удавалось посрамить всех скептиков, предсказывавших провал его начинаний. Когда в середине 1980-х годов вышла подготовленная китайскими учеными серия работ «Китай в 2000-м году», где обосновывалась поставленная руководством страны задача «учетверения» годового объема ВВП за последнее 20-летие XX в., критиков было хоть отбавляй. Однако Китай доказал обоснованность своих прогнозов. В 2000 г. ВВП КНР в сопоставимых ценах вырос по сравнению с 1980 г. не в 4, а в 6,4 раза.
Эпохальное событие XX в. — создание Китайской Народной Республики (1949 г.) — приближается к своей 60-й годовщине. Конфуцианское учение считает 60-летие главным рубежом человеческой жизни, когда подводятся ее итоги, выросли дети и появляются внуки. Празднование 60-летия пройдет на следующий год после проведения в Китае Олимпийских игр и, безусловно, будет не менее красочным зрелищем. Вероятно, к тому времени появится множество глубоких исследований различных сторон жизни китайского общества, затрагивающих в той или иной мере вопрос о прошлом и будущем китайского социализма.
Список таблиц и рисунков
Глава 2
Таблица 1. Динамика населения мира и населения Китая 75
Таблица 2. Административное деление КНР (на конец 2004 г.) 108
Глава 3
Таблица 3. Эволюция экономических укладов в промышленности КНР в 1952-1978 гг 132
Глава 4
Рис. 1. Целевая модель хозяйственной системы «Функции государства разделены, налоги и прибыль движутся по разным каналам и направлениям» 156
Глава 6
Таблица 4. Экономический потенциал пяти главных стран мира и их доля в общемировом показателе 230
Таблица 5. Динамика производства наиболее важных видов промышленной продукции в КНР (1978-2004 гг.).... 232
Таблица 6. Виды государственные доходов 235
Таблица 7. Динамика степени открытости китайской экономики 238
Рис. 2. Схема различных типов и форм собственности
в Китае 240
Таблица 8. Структура промышленности и внутренней торговли по формам собственности (1978—1999 гг.) 241
Таблица 9. Структура промышленности по формам собственности 243
Таблица 10. Степень коммерциализации экономики Китая 249
Таблица 11. Уровень коммерциализации Китая по компонентам рыночной экономики 250
Таблица 12. Степень приближения к уровню «малого благосостояния» в Китае 258
Таблица 13. Изменения социальной структуры Китая в 1952-1999 гг 259
Таблица 14. Степень модернизации Китая 261
Таблица 15. Сравнение экономических зон по показателю ВВП
надушу населения (соотношение со средним уровнем по стране в целом) 268
Глава 7
Таблица 16. Сопоставление дореформенного и реформенного
этапов развития КНР 282
Рис. 3. Модели соотношения рынка и государства 296
КОНДРАШОВА (МОЛОДЦОВА) Людмила Ивановна
известный российский синолог, выпускница Пекинского университета, доктор экономических наук.
Более 40 лет работает в системе Академии наук СССР/РФ.
Сфера научных интересов: экономика Китая, экономическая реформа, реформа системы собственности, региональная экономика.
Автор нескольких монографий (Экономика КНР: Возможности и реальность. М., 1976; Промышленность Китая: пропорции идиспро- порции. М., 1980; Особенности формирования промышленной системы КНР: 1949—1985. М., 1988; Китай углубляет реформу. М., 1995) и множества статей.
Ее перу также принадлежит стихотворный перевод древнего китайского трактата Дао-Дэ цзин (М.: РИПОЛ-КЛАССИК, 2003; 2005).
Научное издание
КОНДРАШОВА
Людмила Ивановна
КИТАЙ ИЩЕТ СВОЙ ПУТЬ
CHINA IS LOOKING FOR ITS OWN PATH
Утверждено к печати Институтом Дальнего Востока РАН
Редактор ИВ.Ушаков
Корректор Н.Б.Потапова
Оригинал-макет и обложка С.А. Суднищиковой
Институт Дальнего Востока РАН, 117218, Москва, Нахимовский проспект, 32.
Подписано в печать 10.05.2006. Печать офсетная. Бумага офсетная № 1. Формат 60x90/16. Печ. л. 20. Тираж 300 экз. Заказ 5376.
Отпечатано в ФГУП «Производственно-издательский комбинат ВИНИТИ», 140010, г. Люберцы Московской обл., Октябрьский пр-т, 403. Тел. 554-21-86