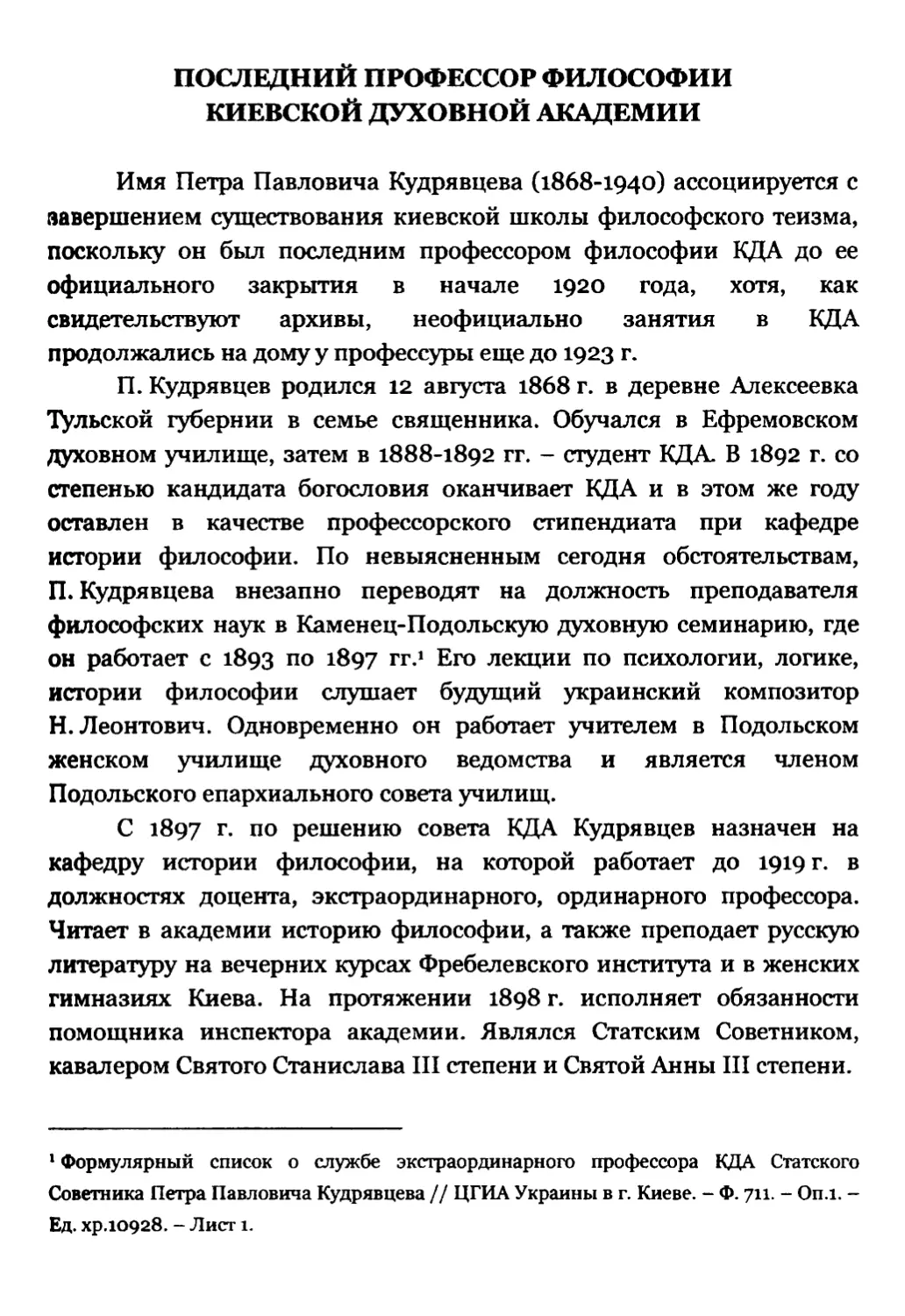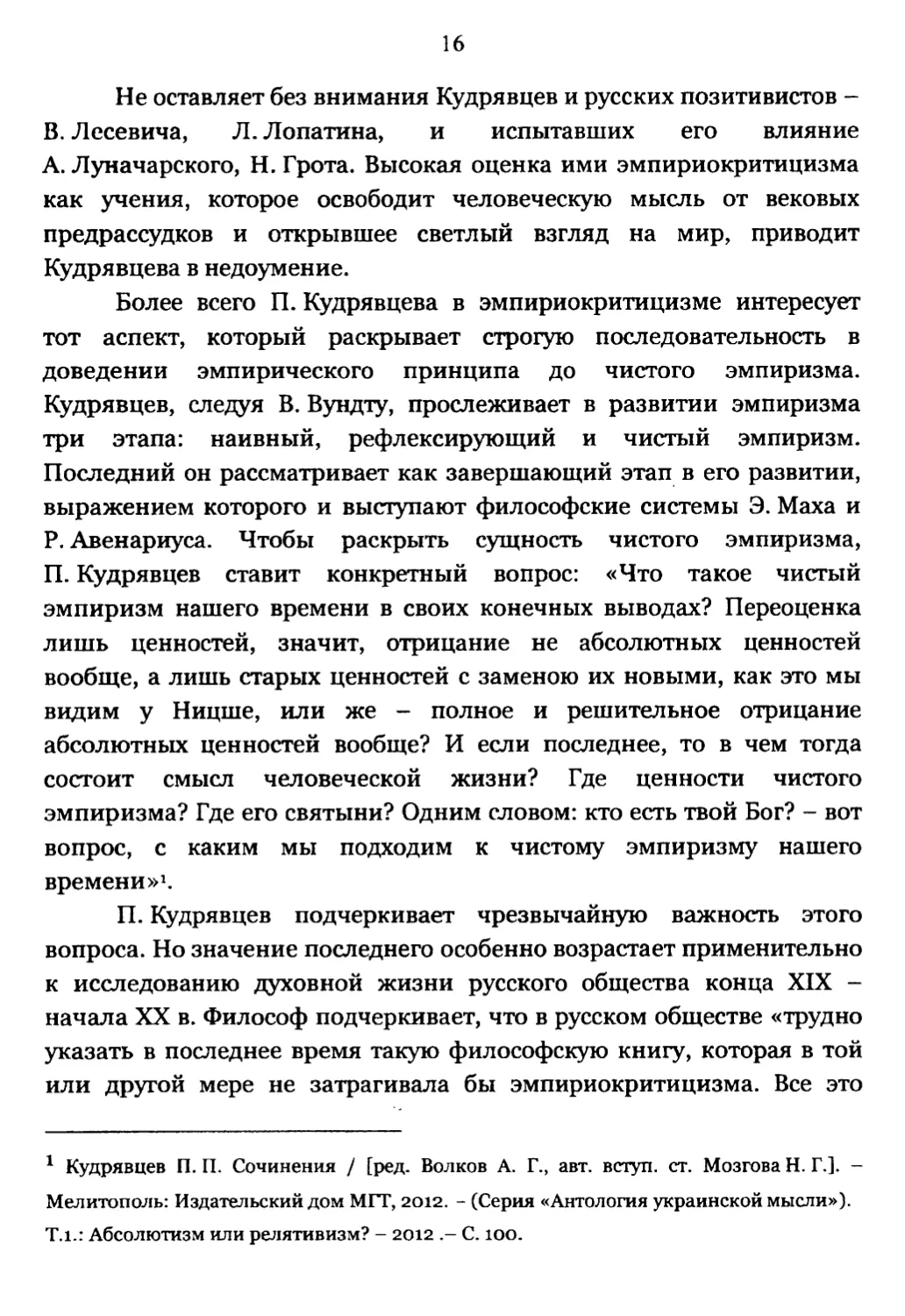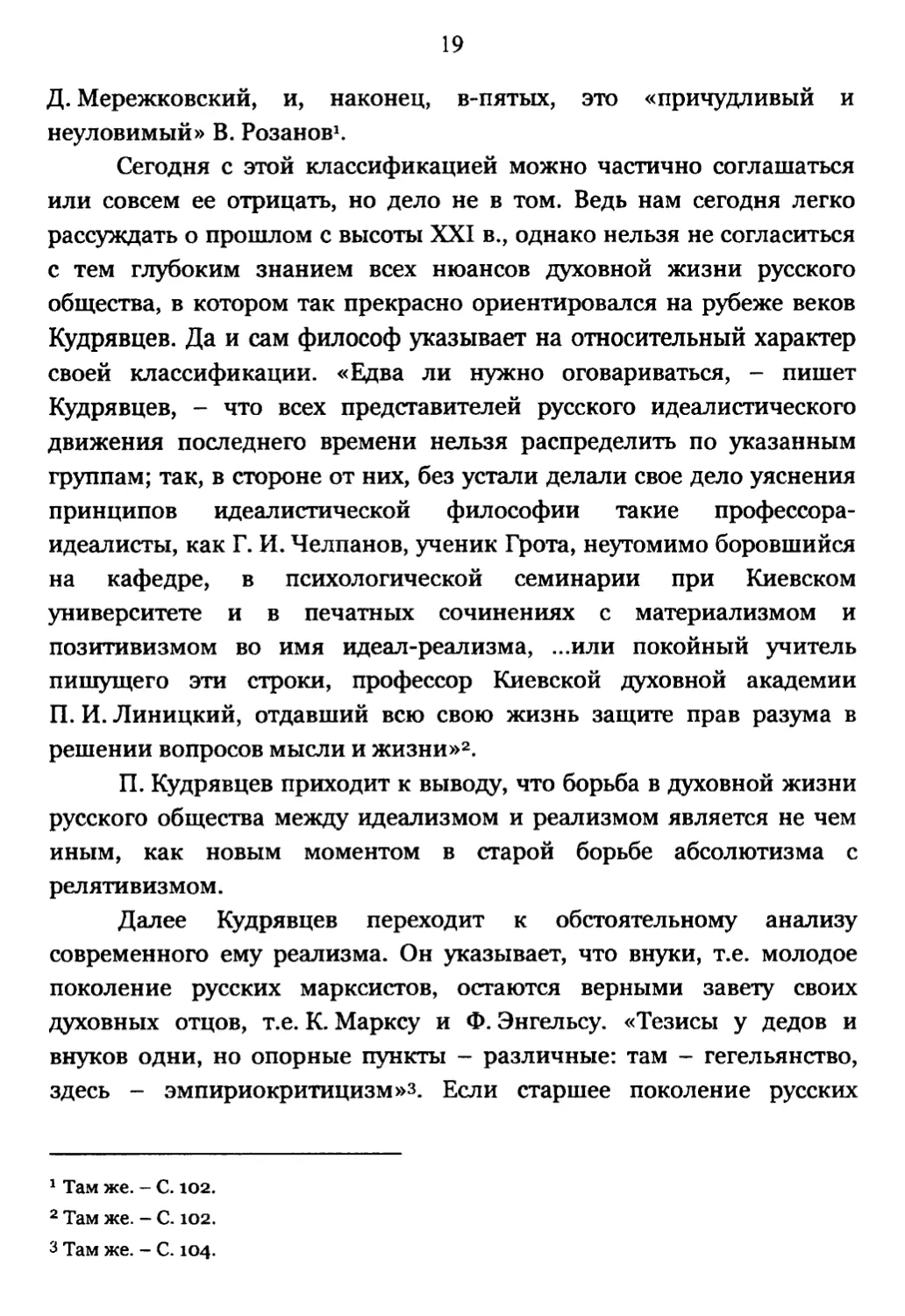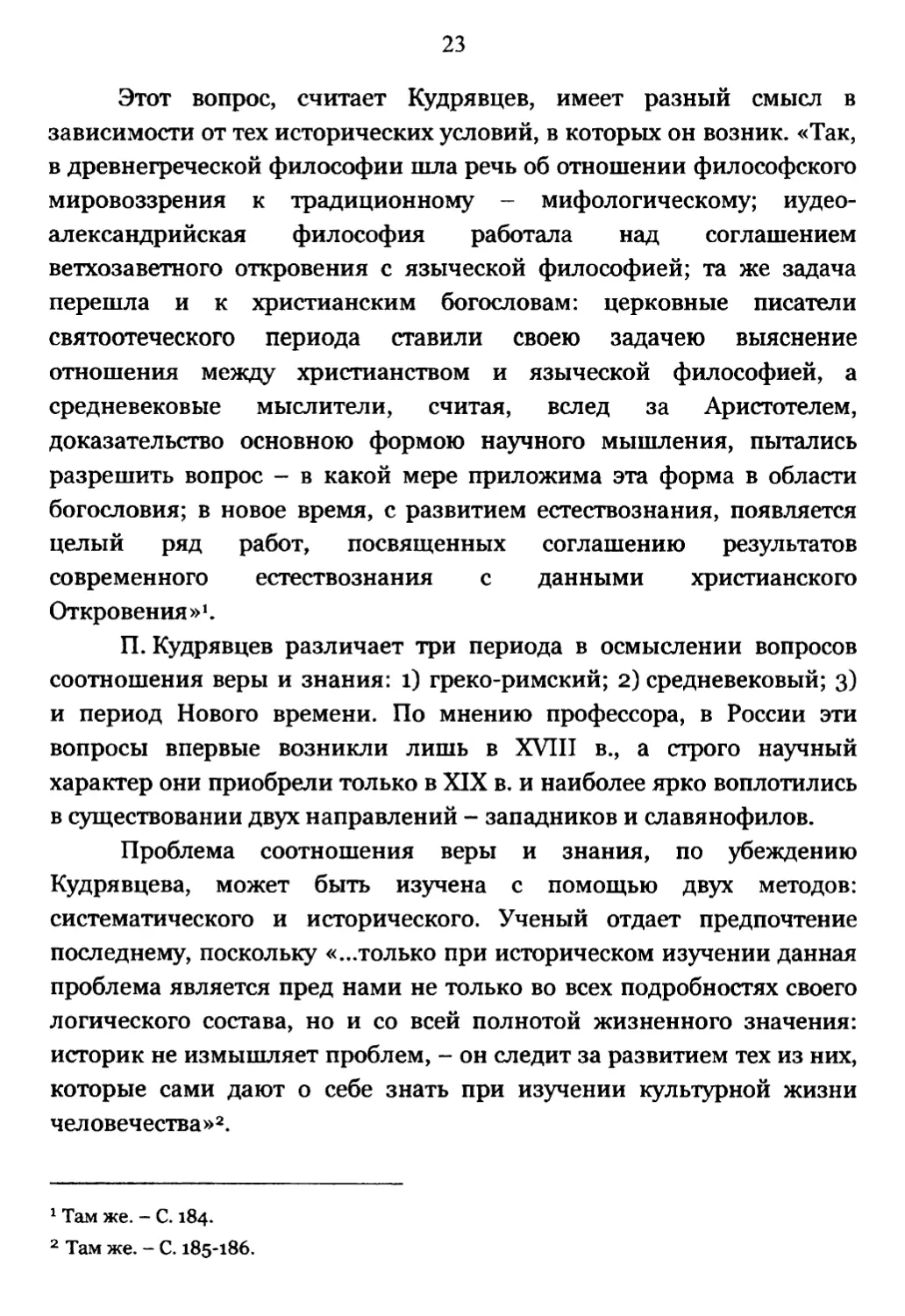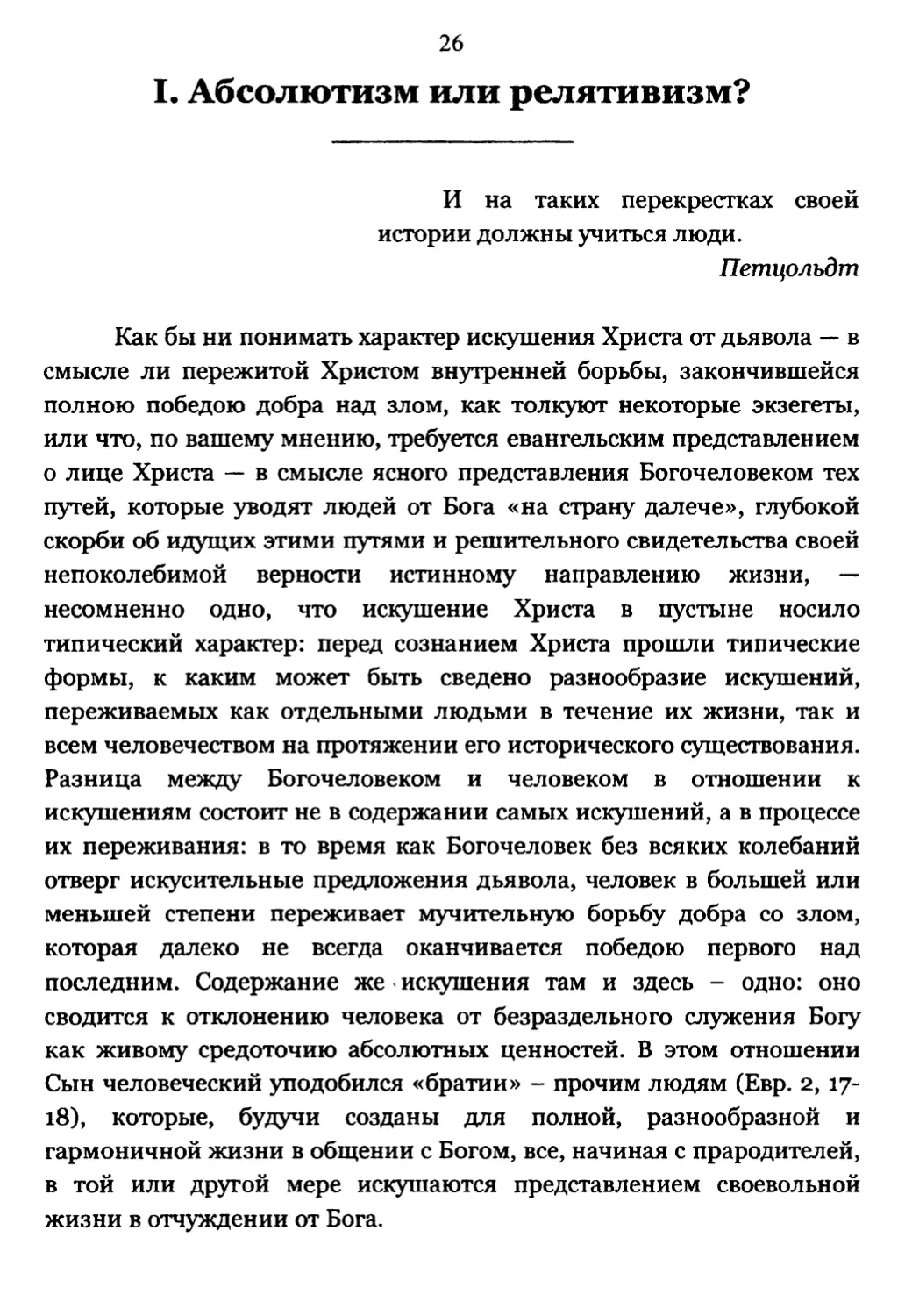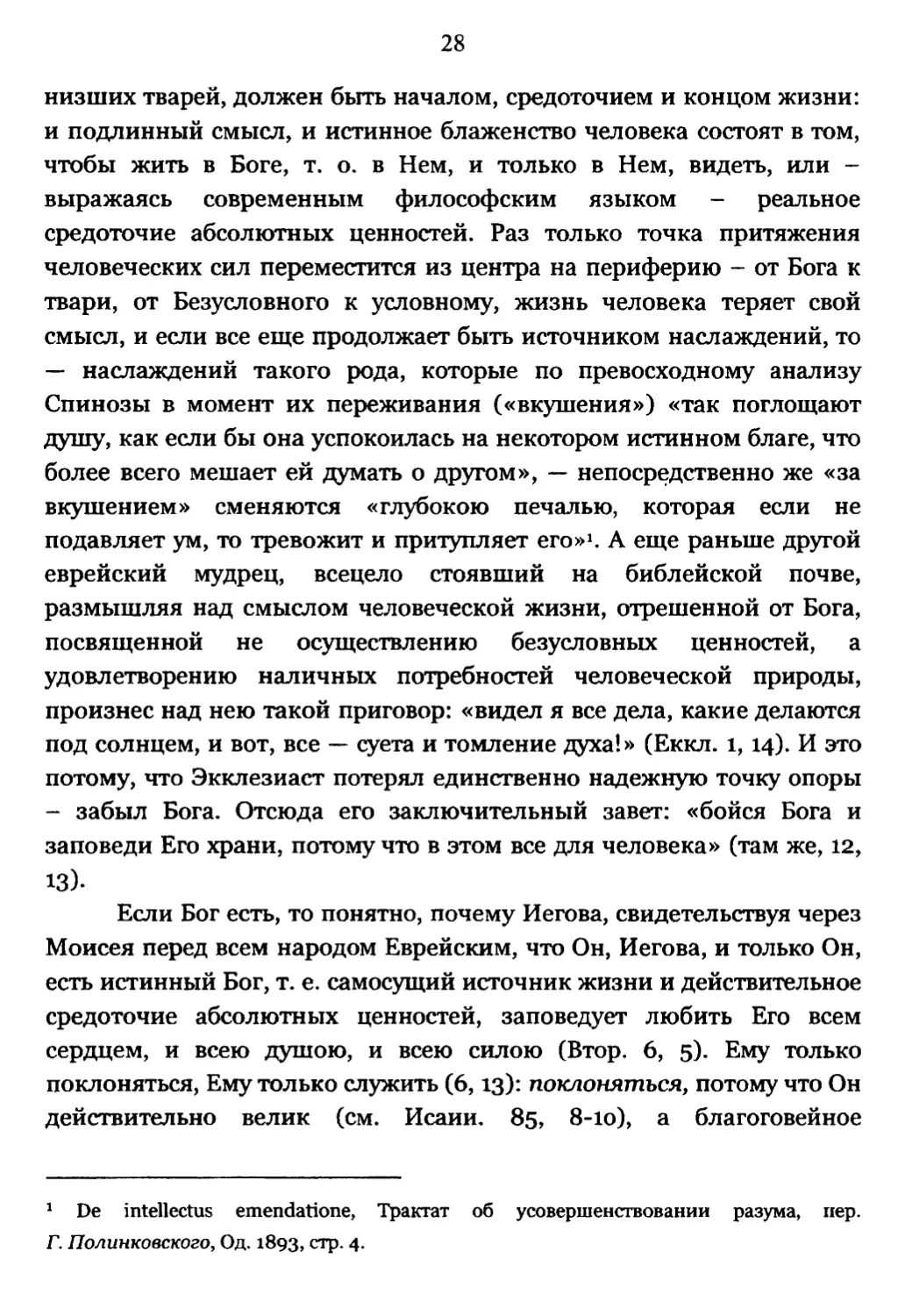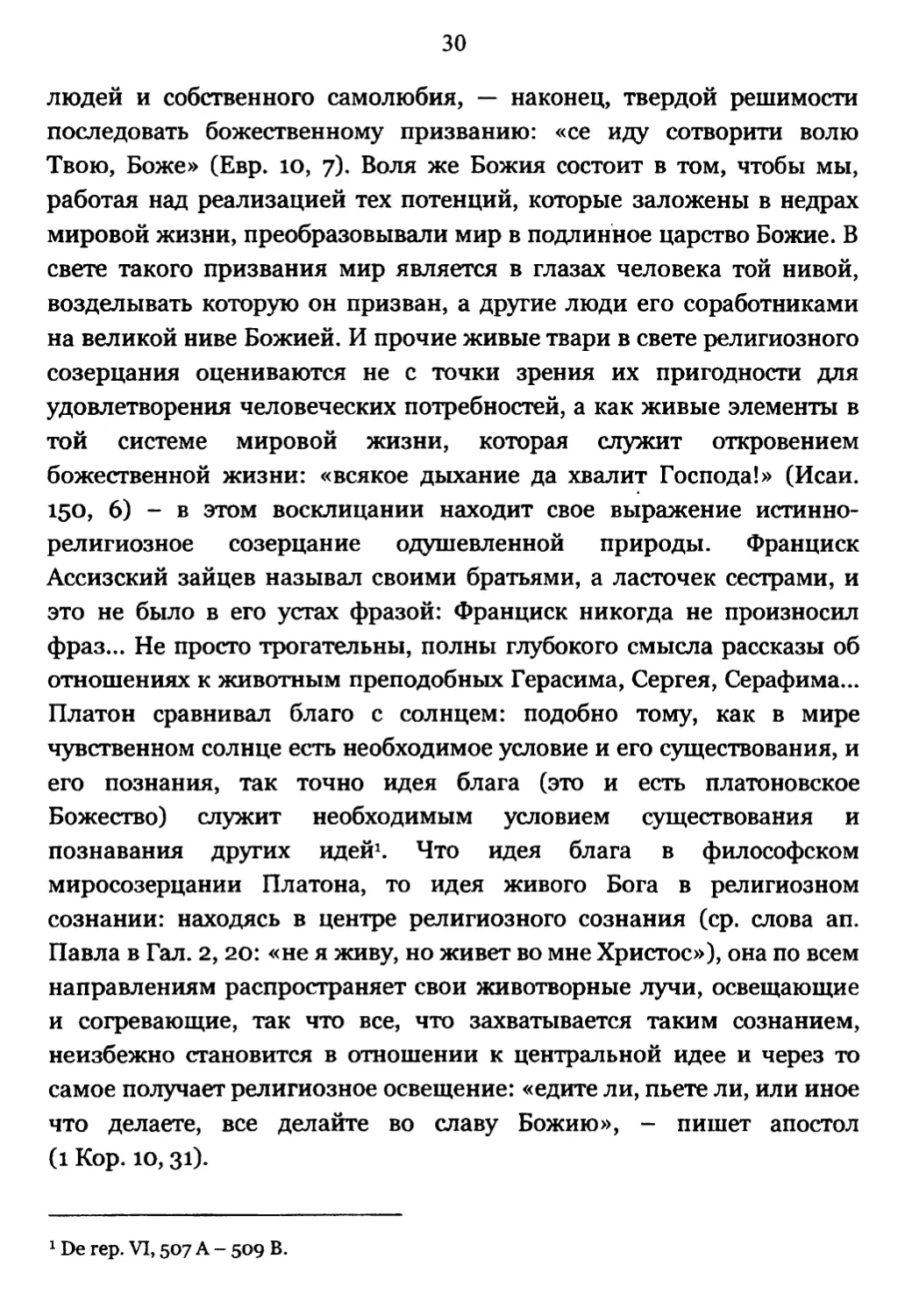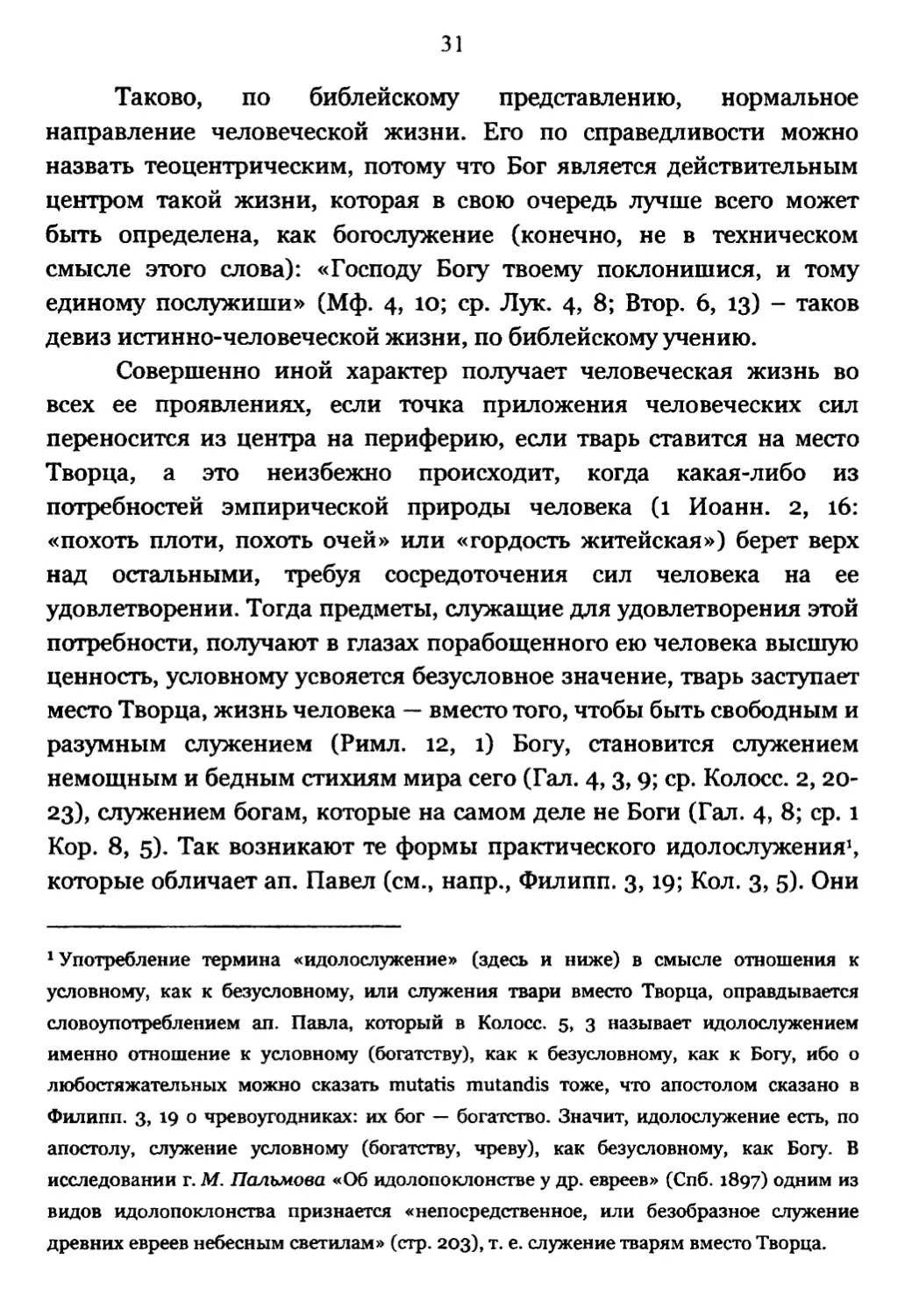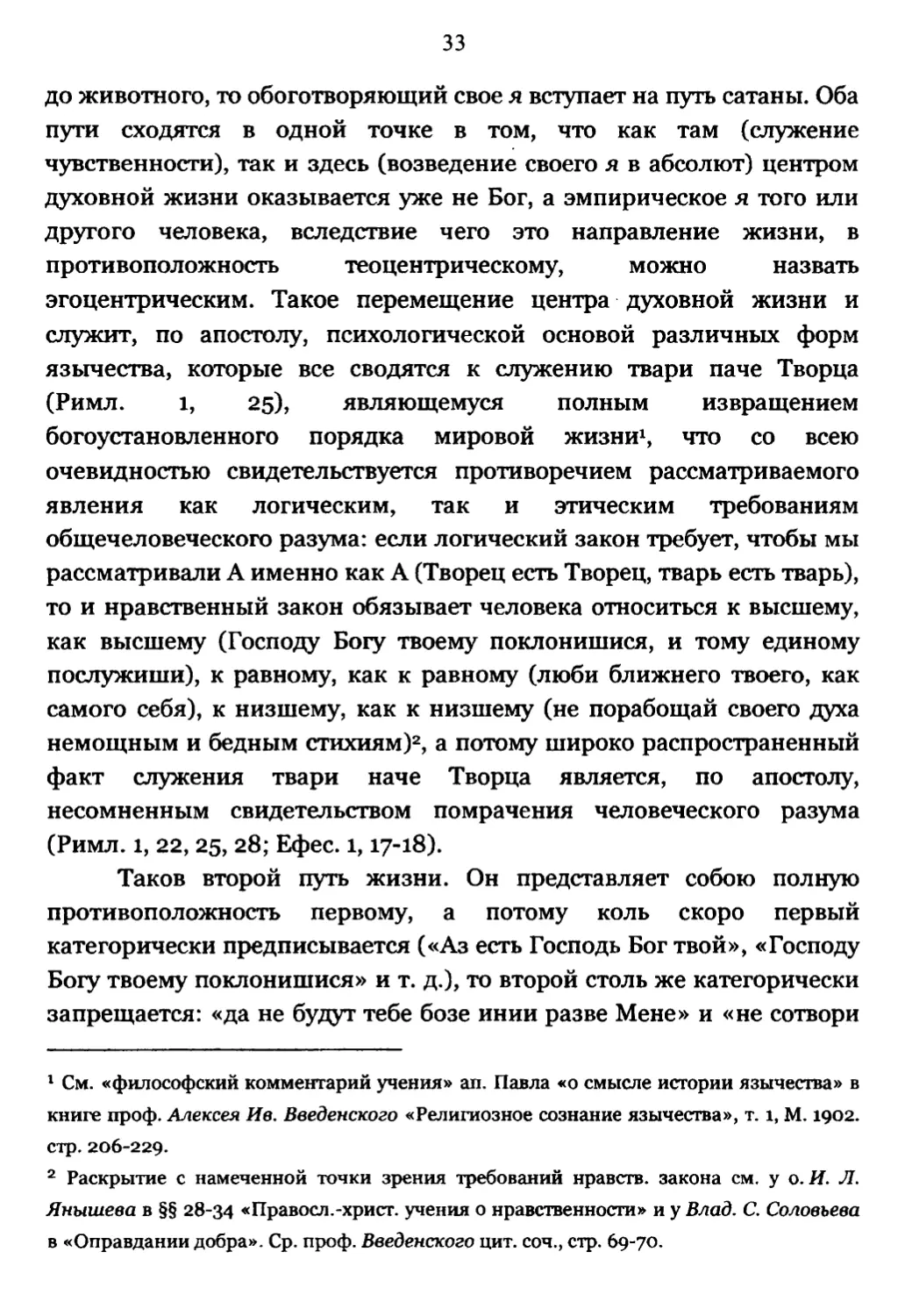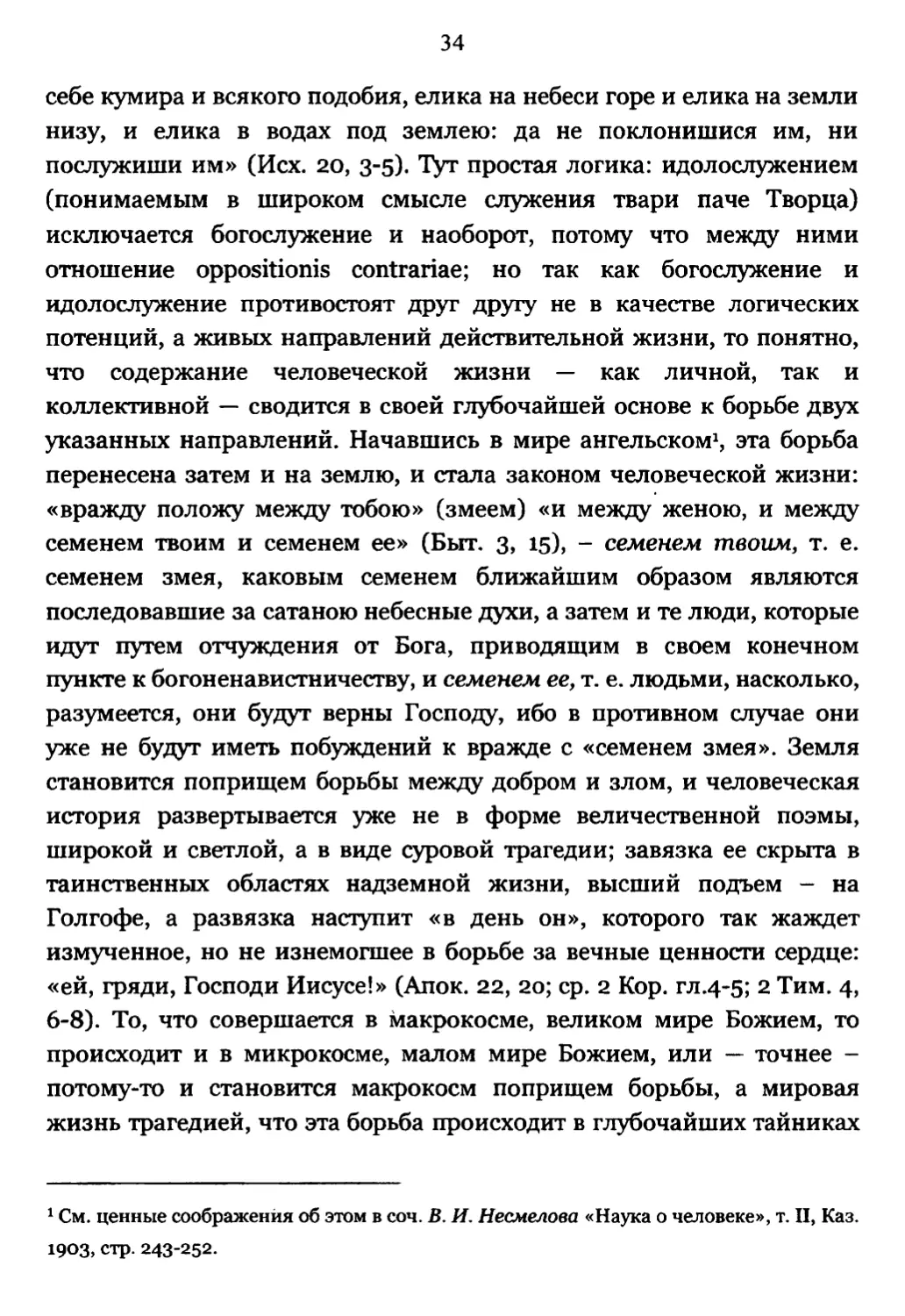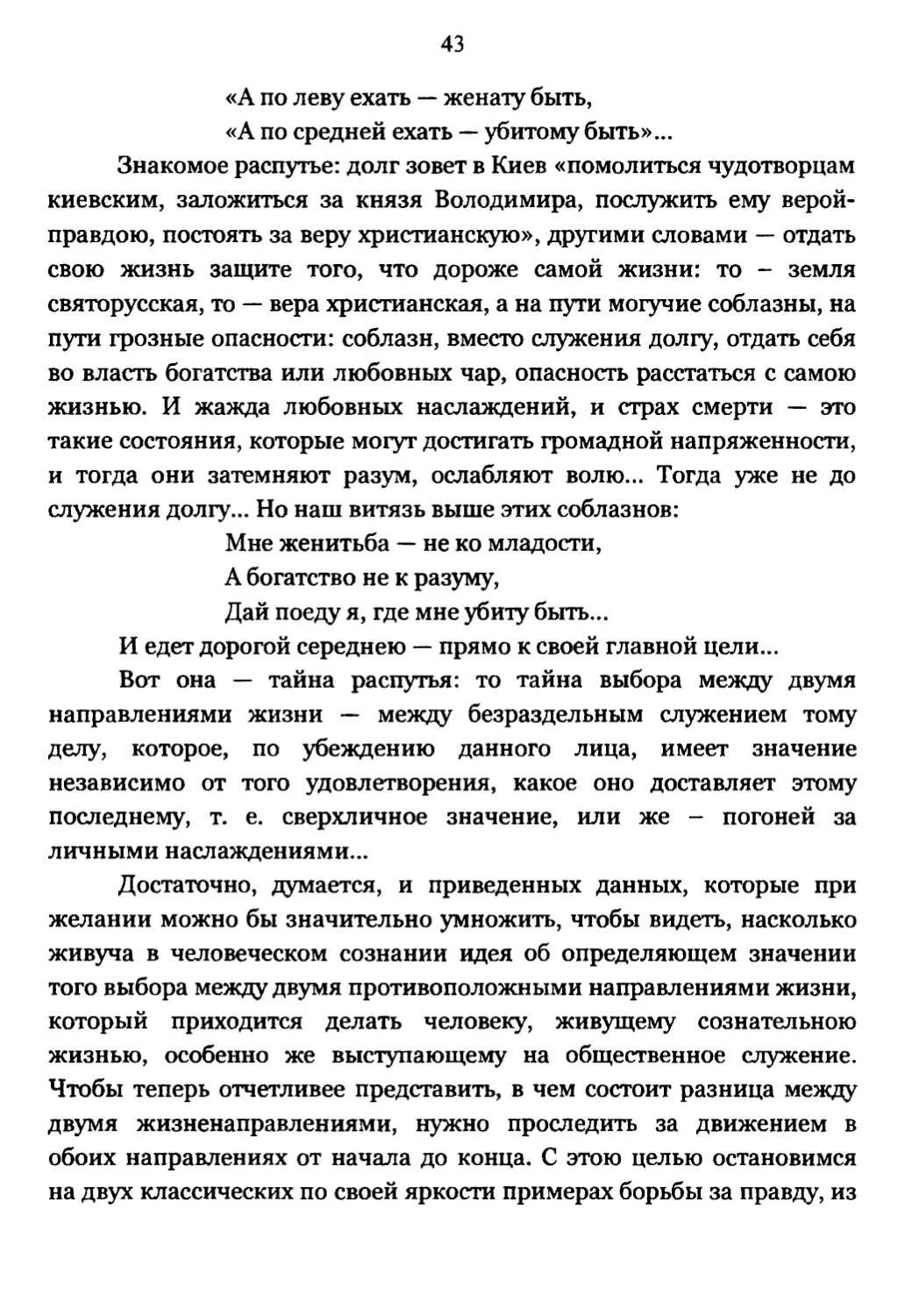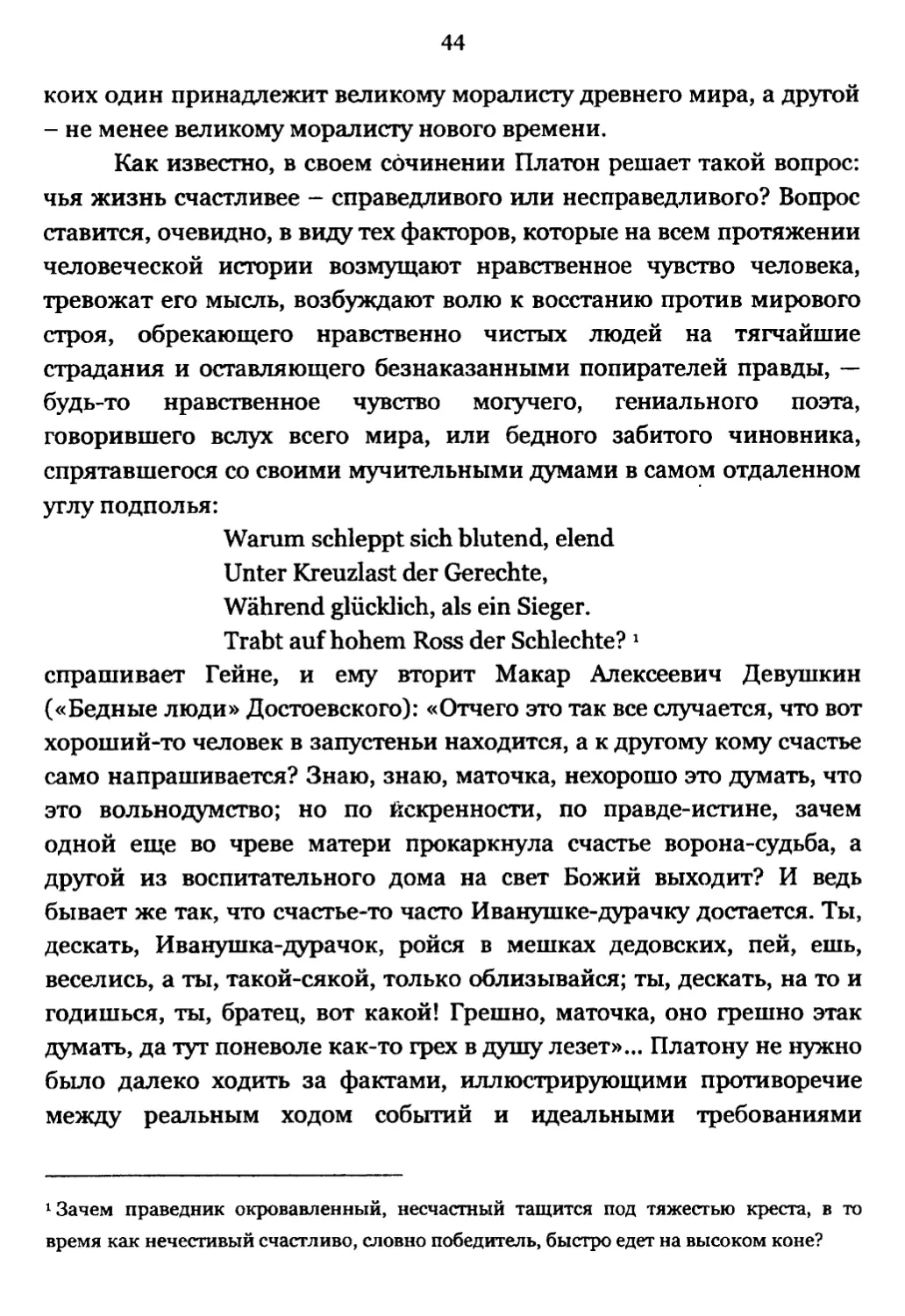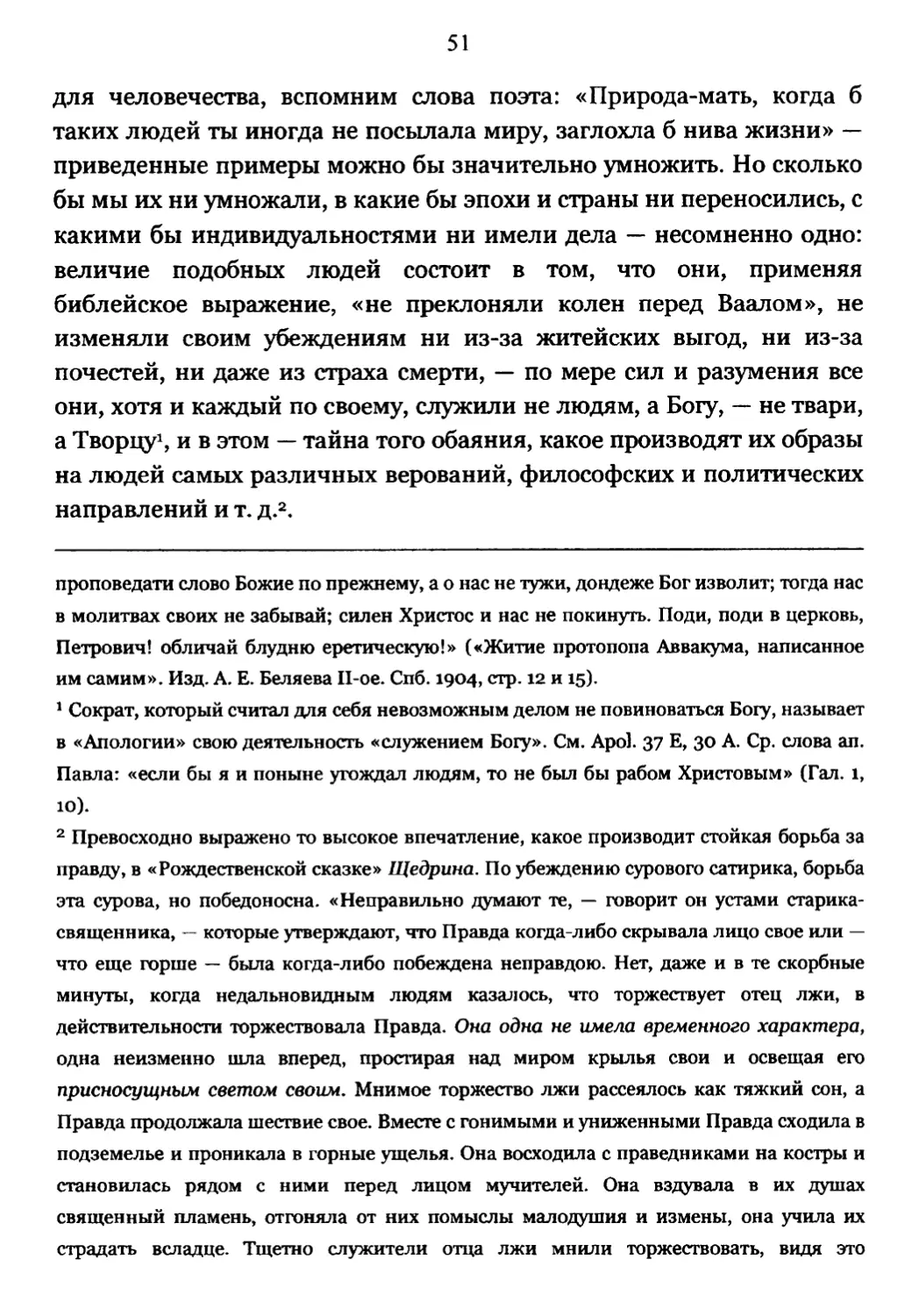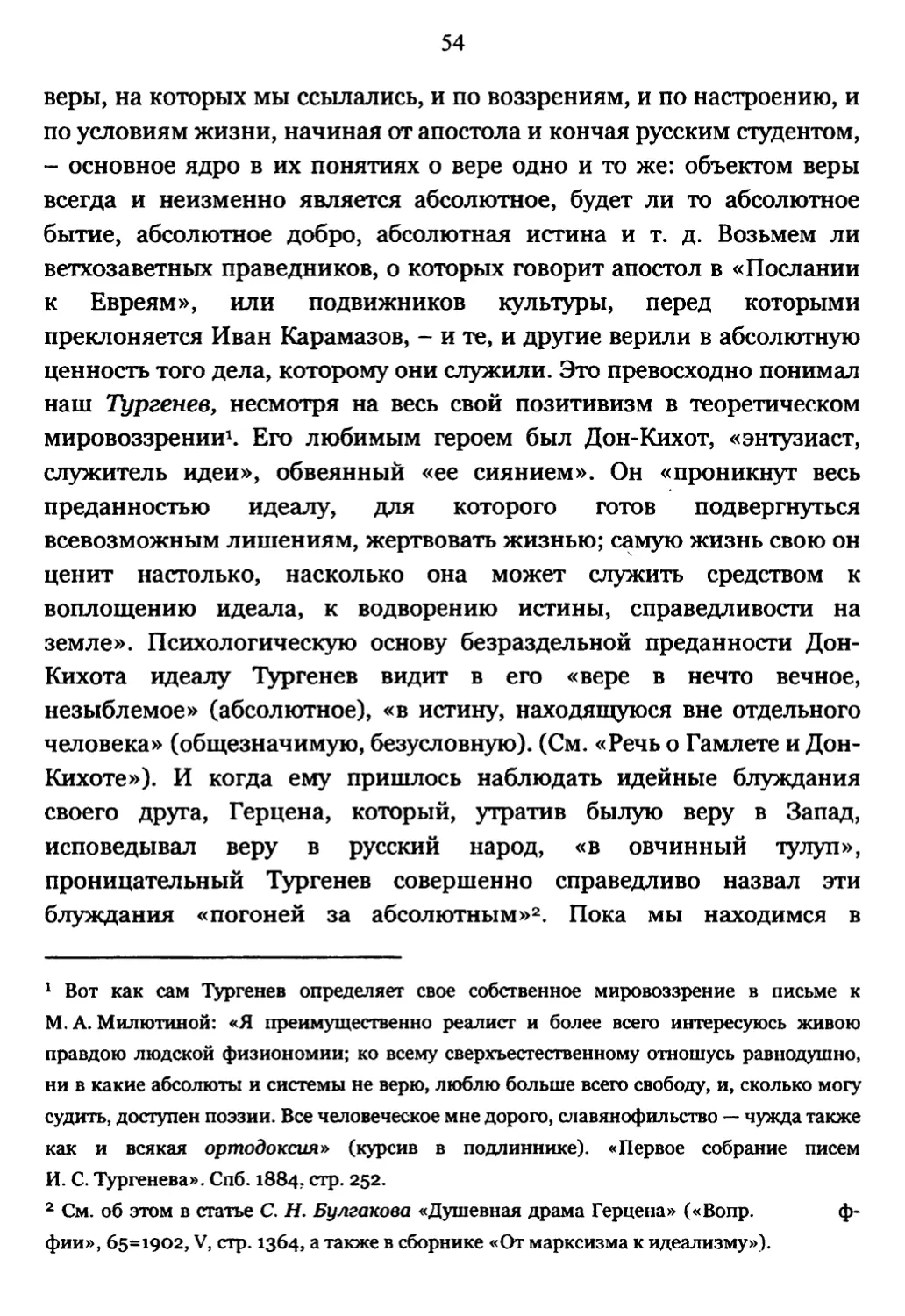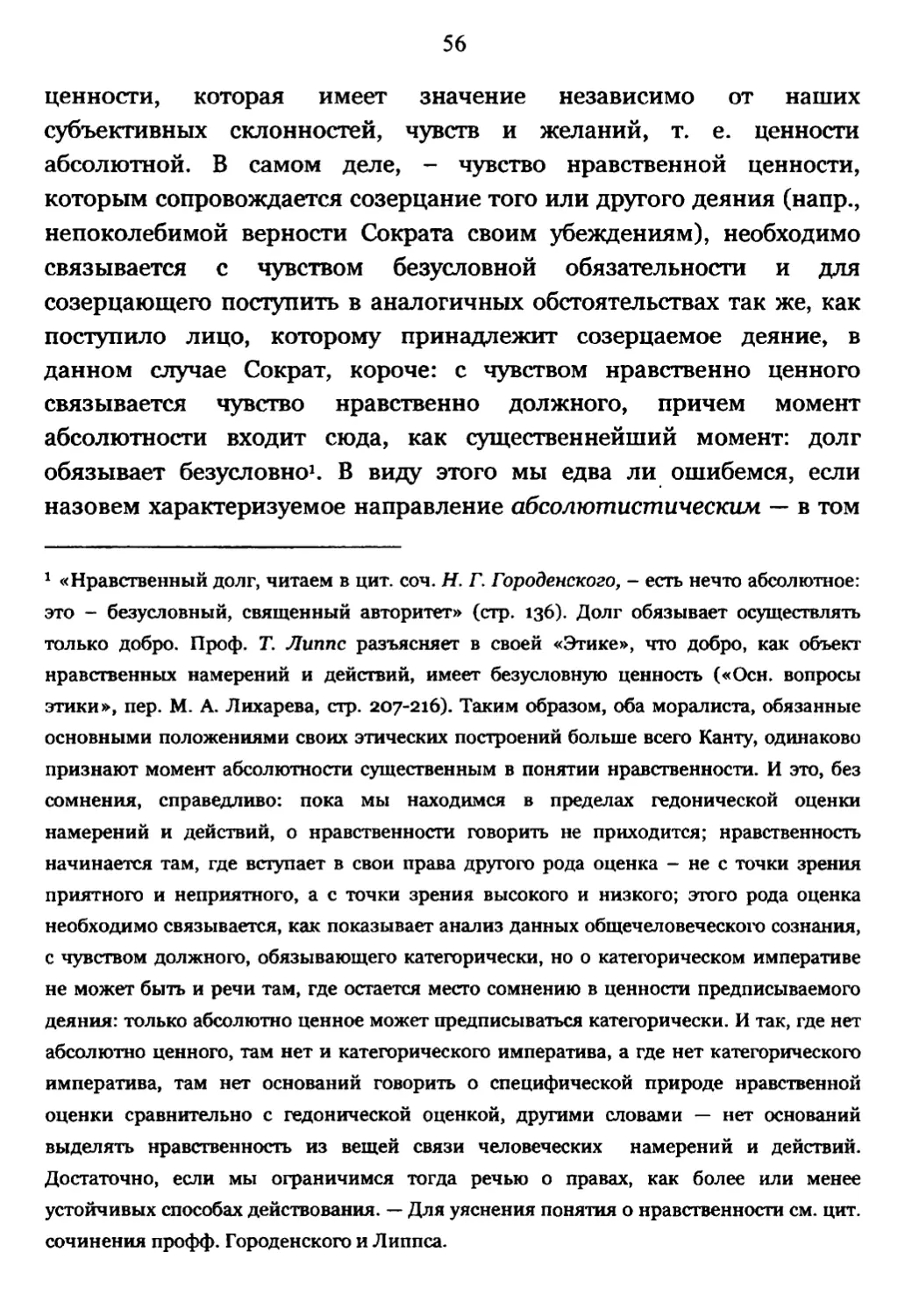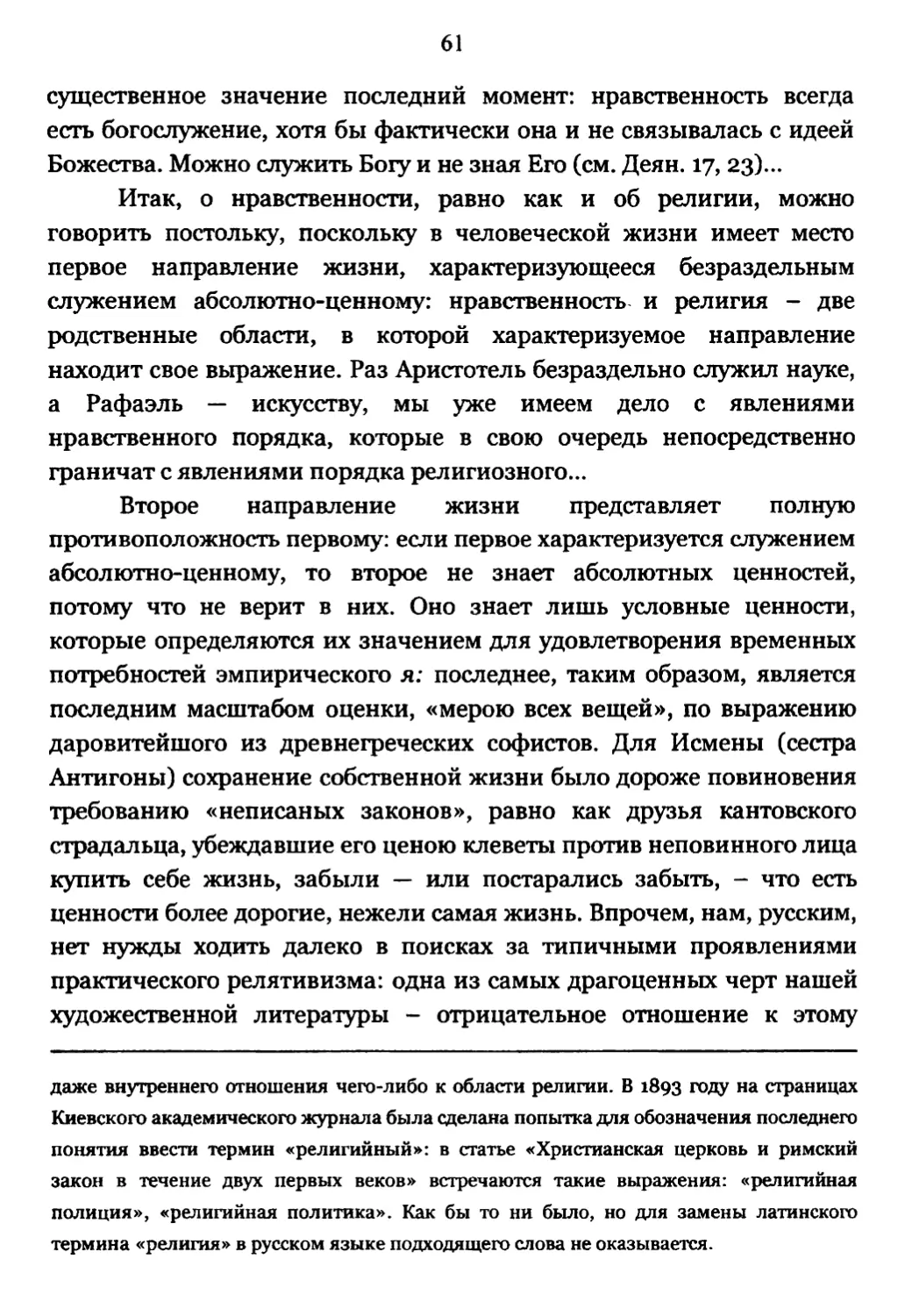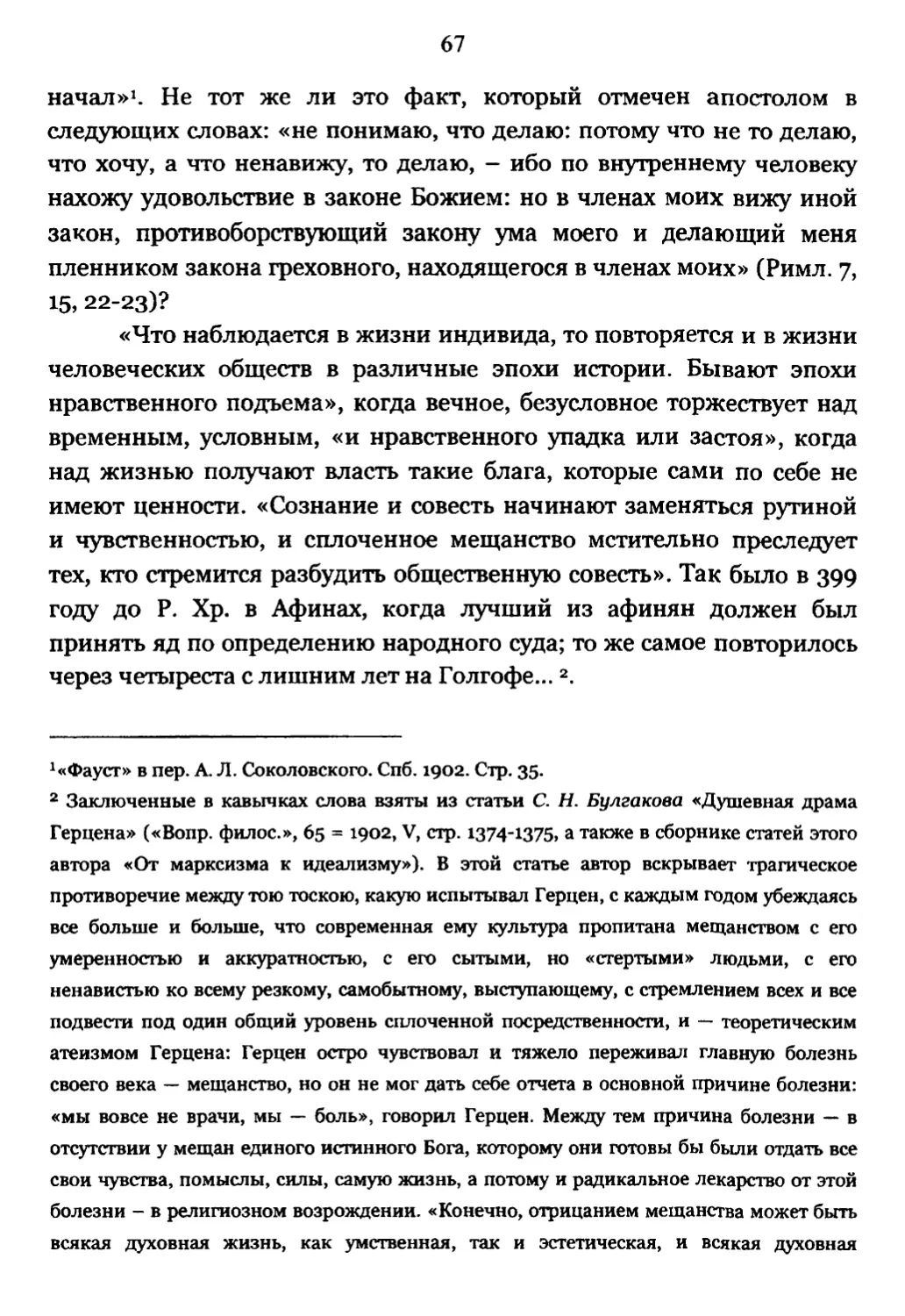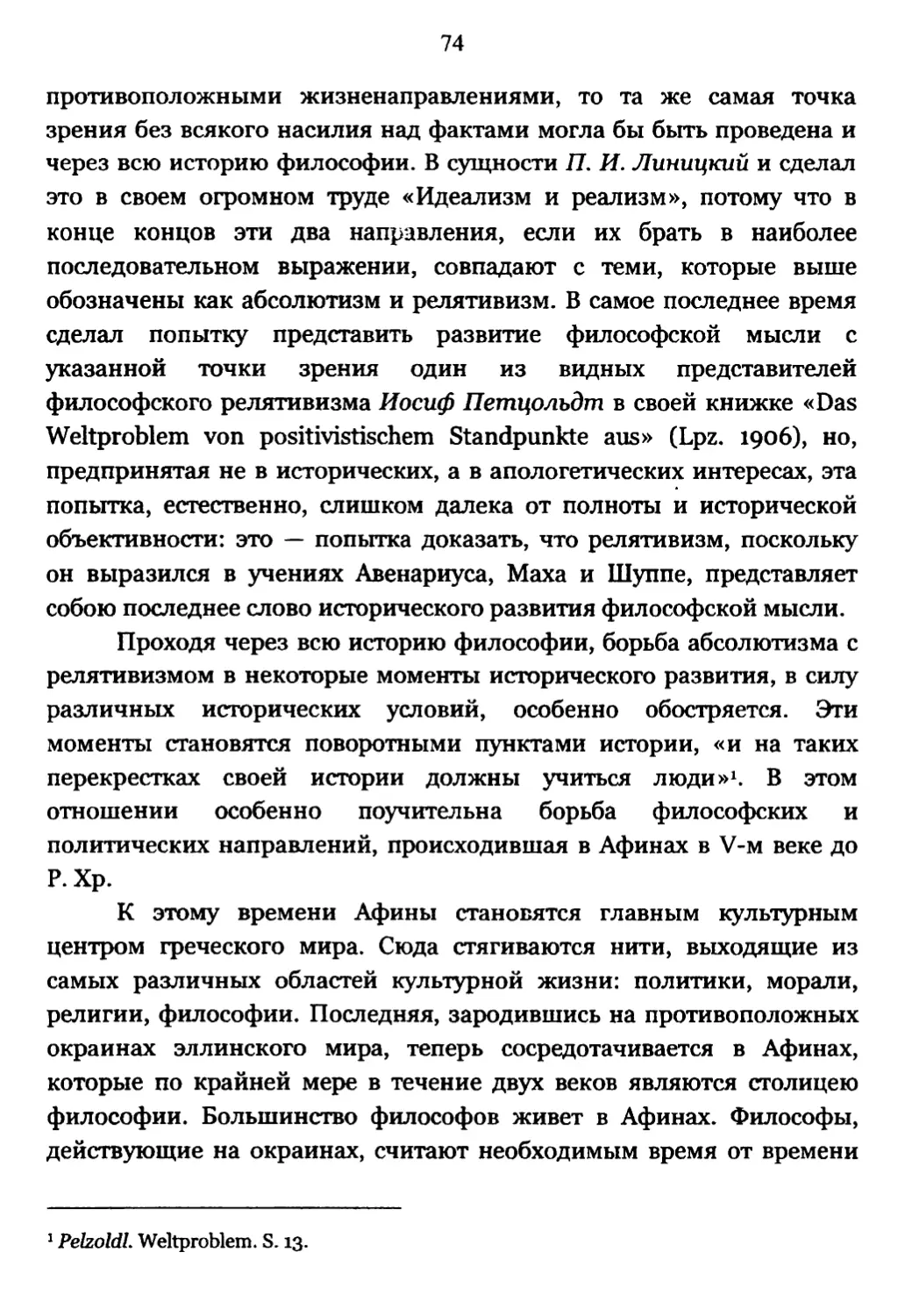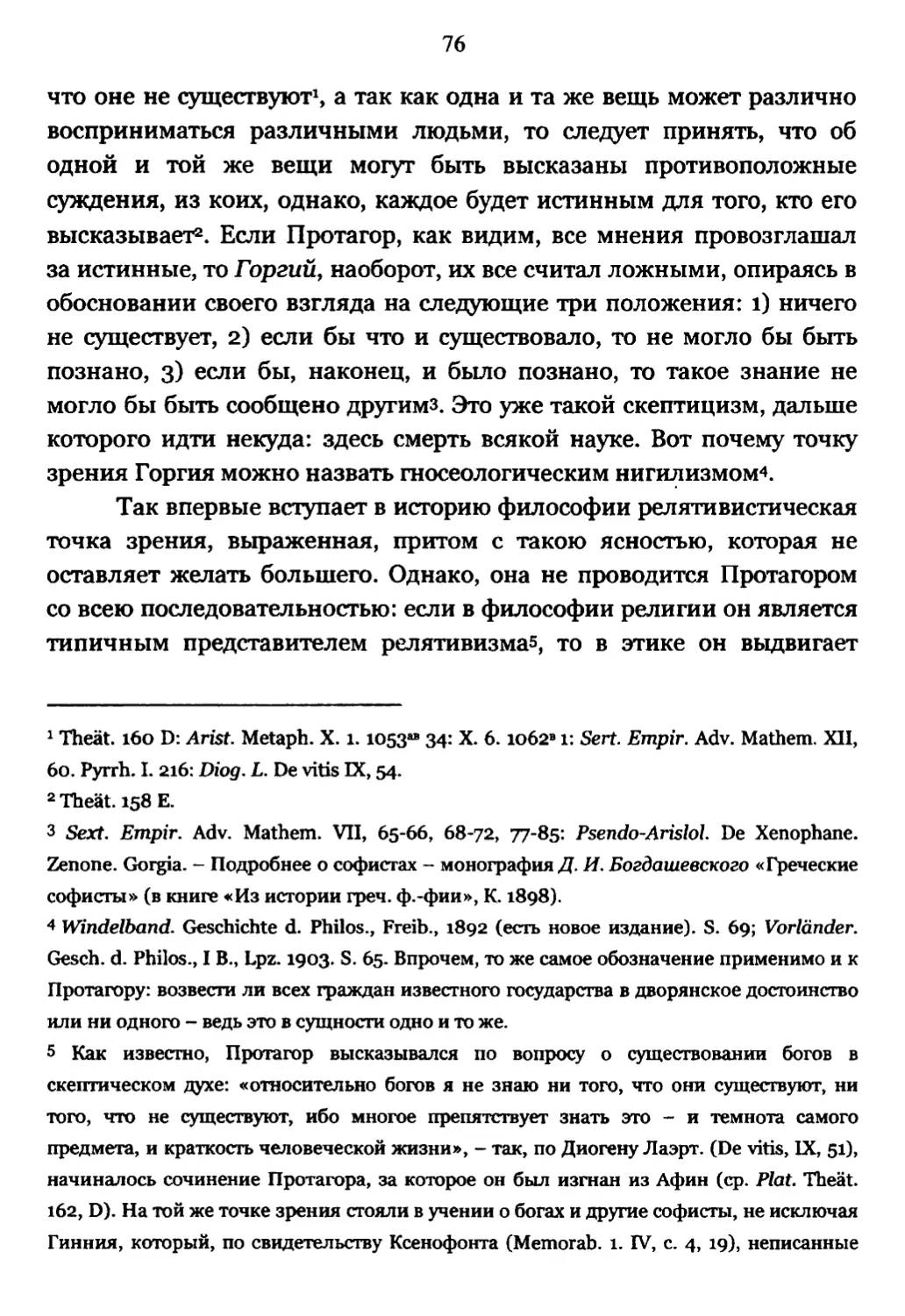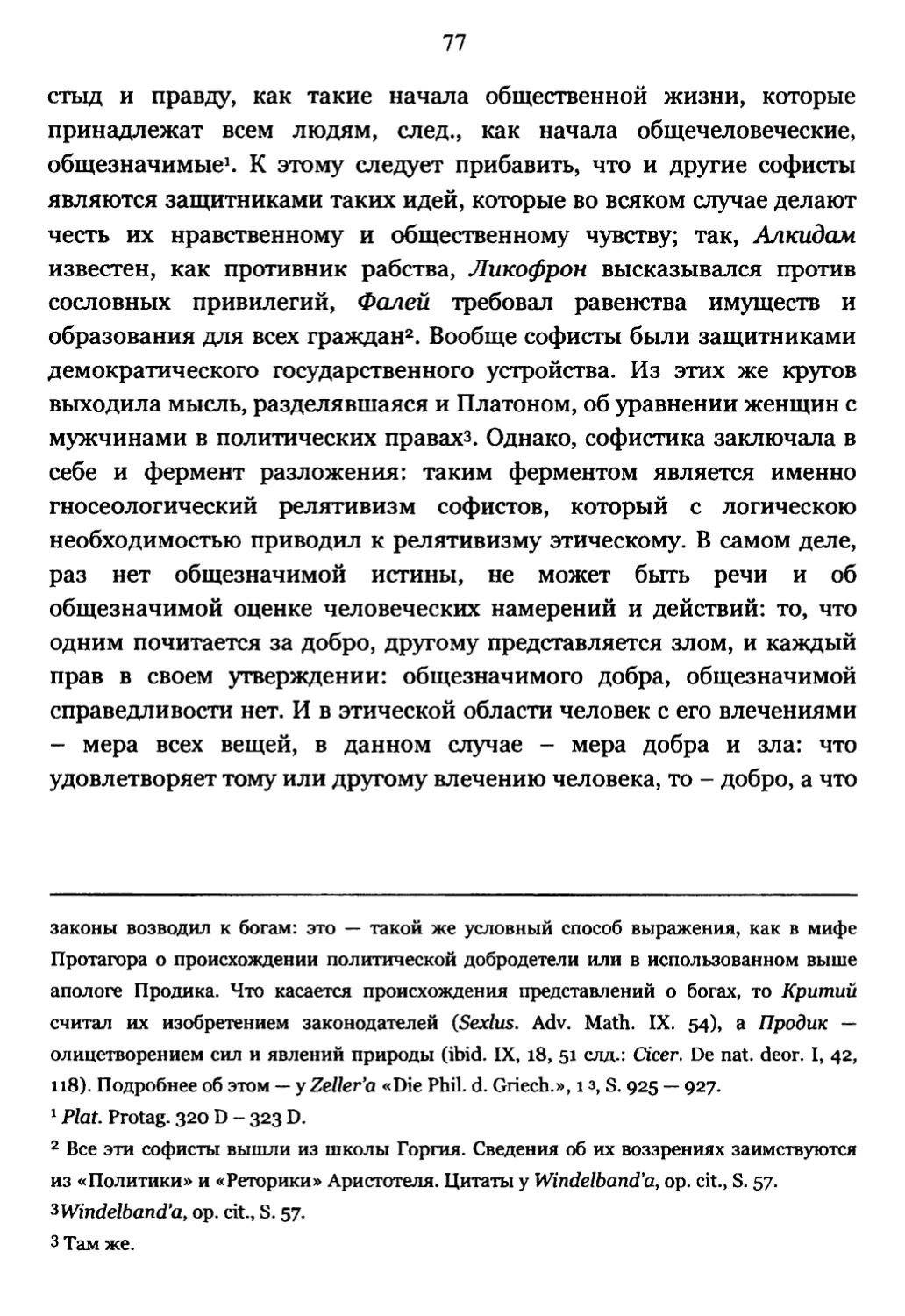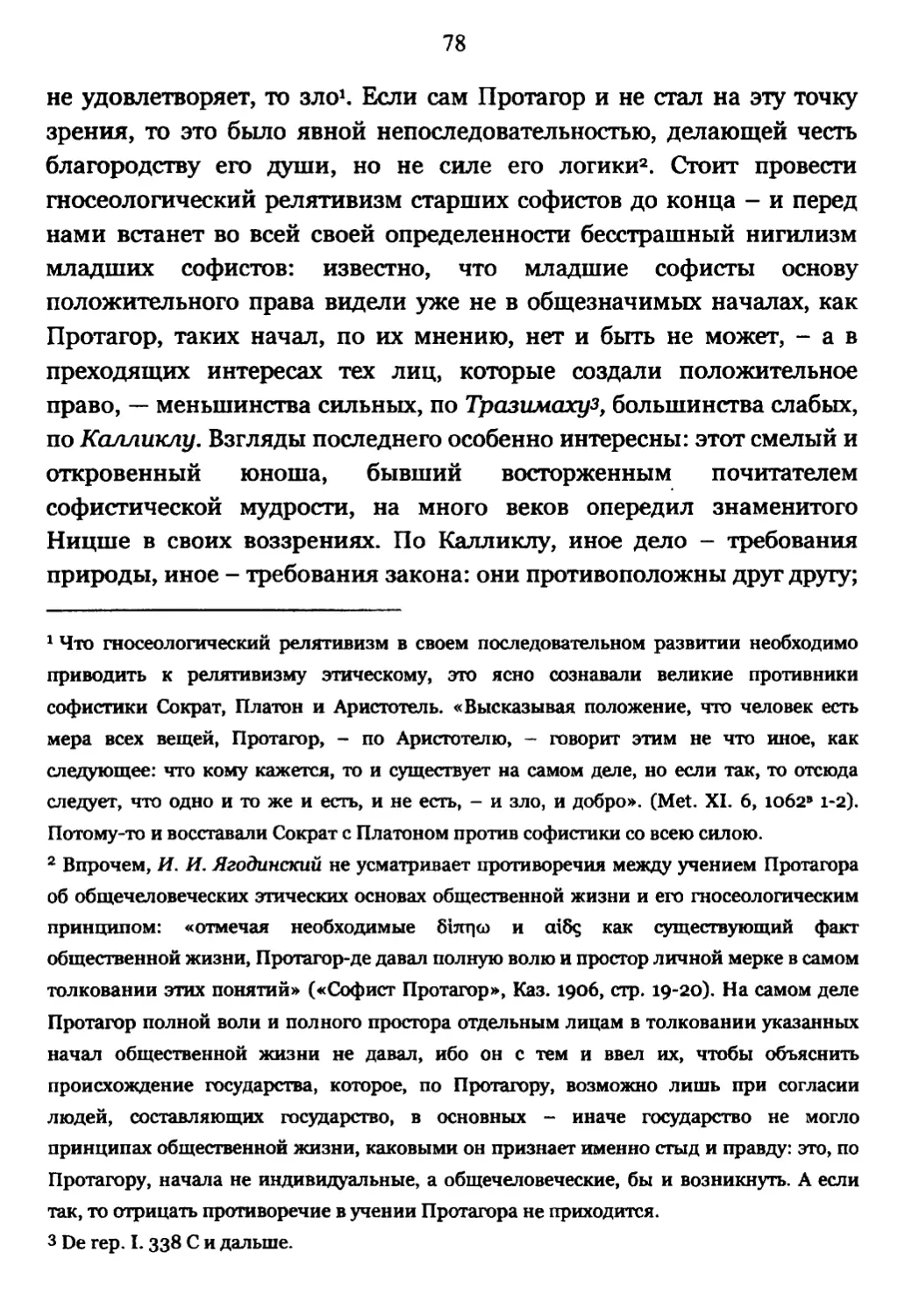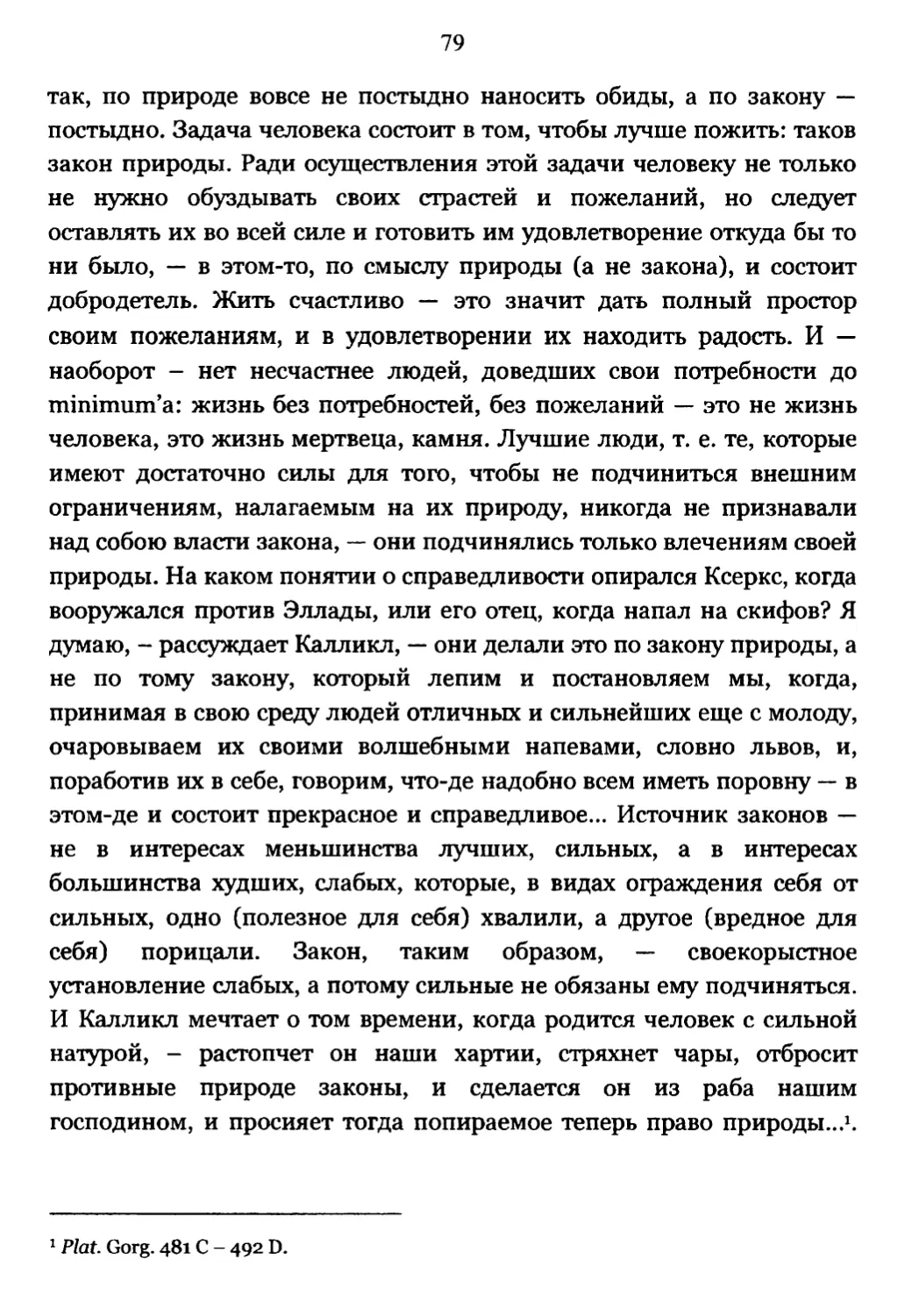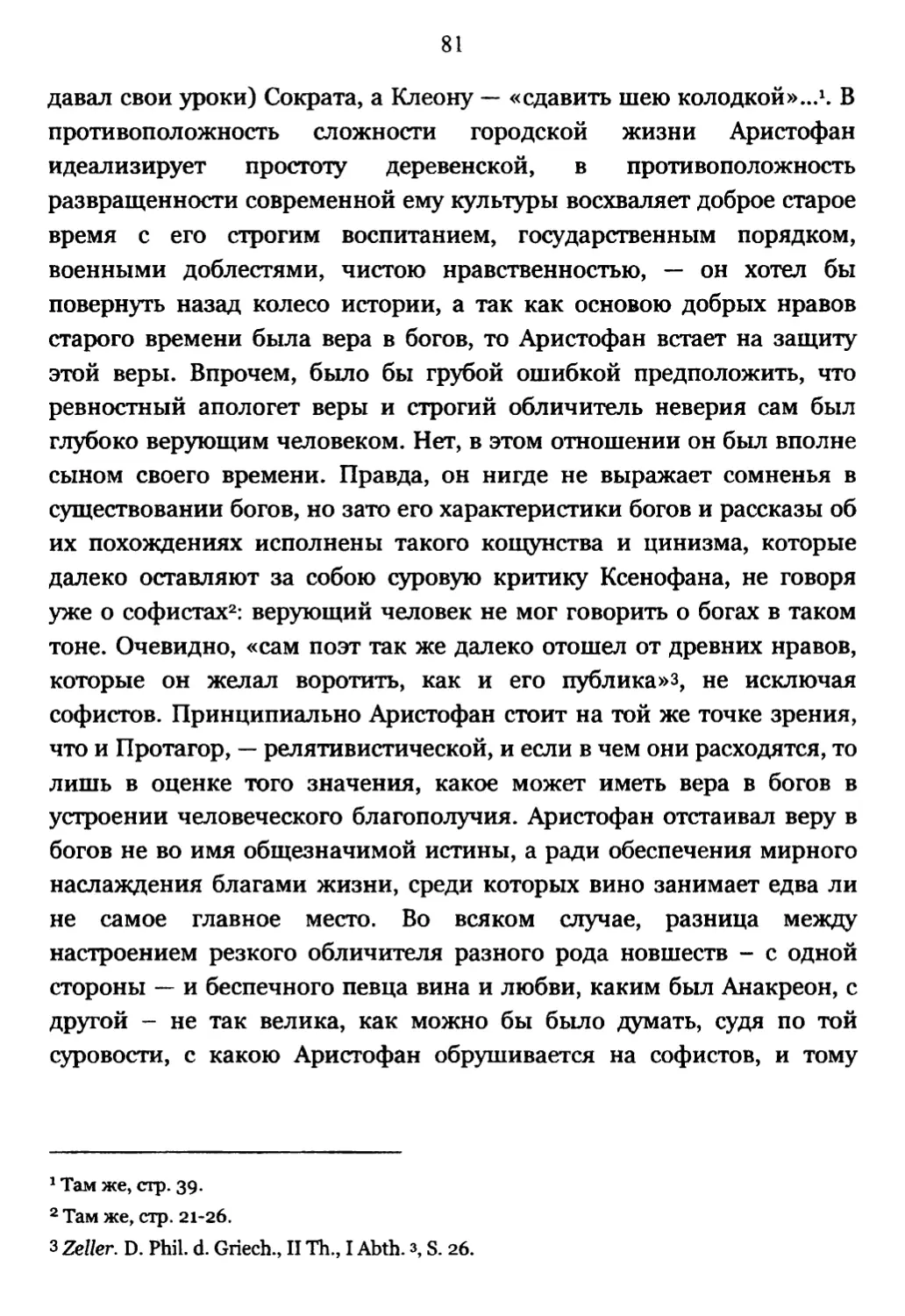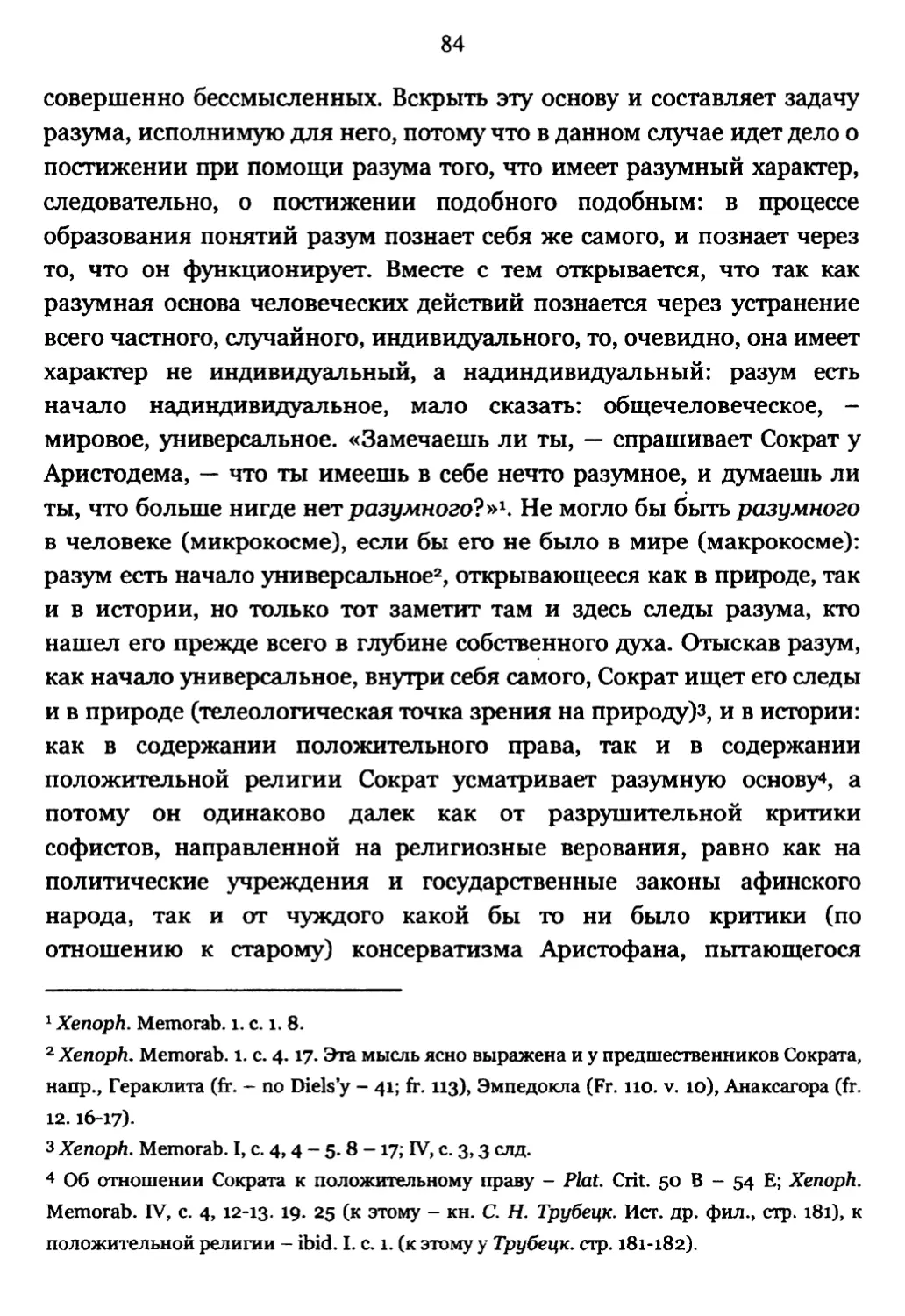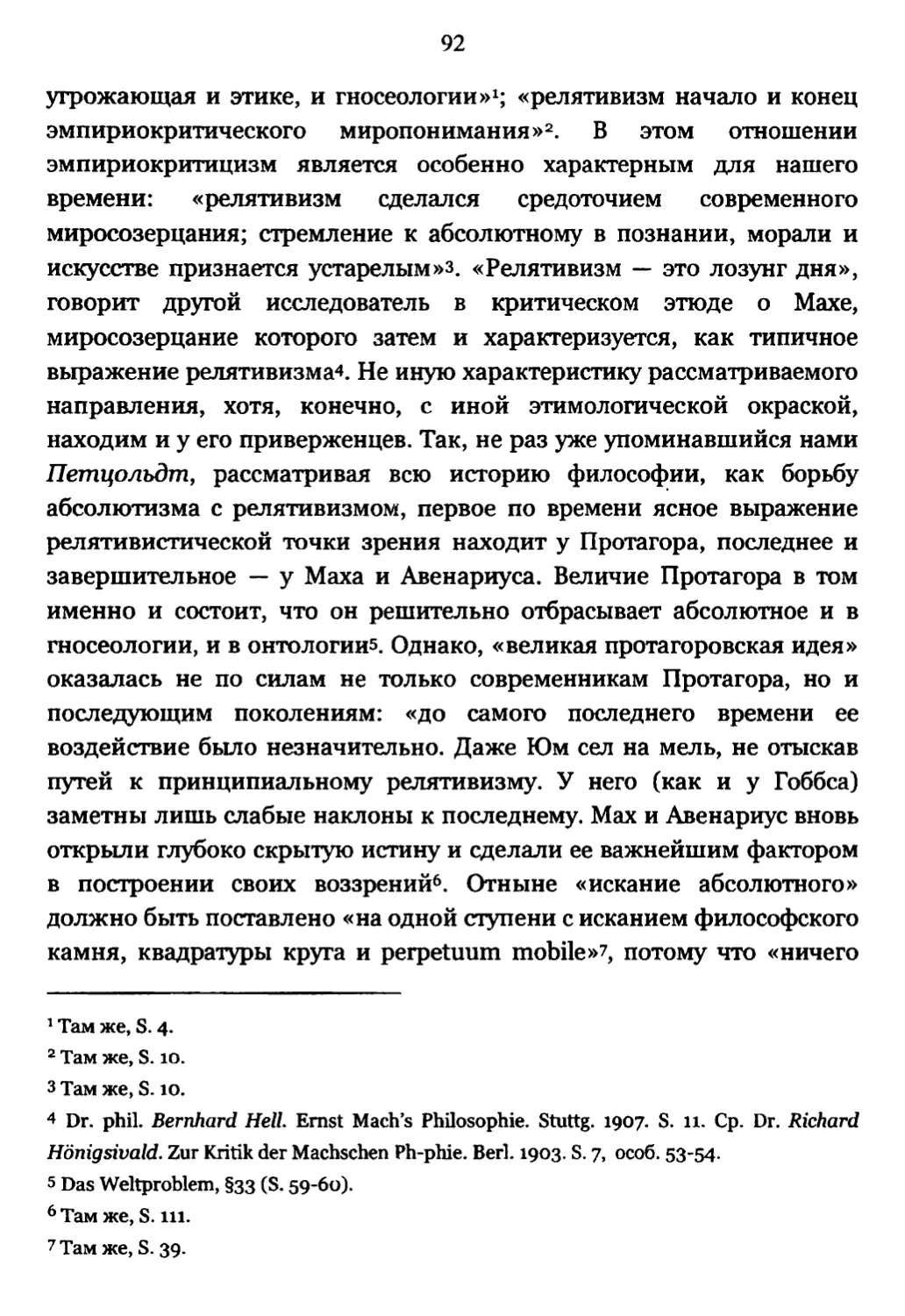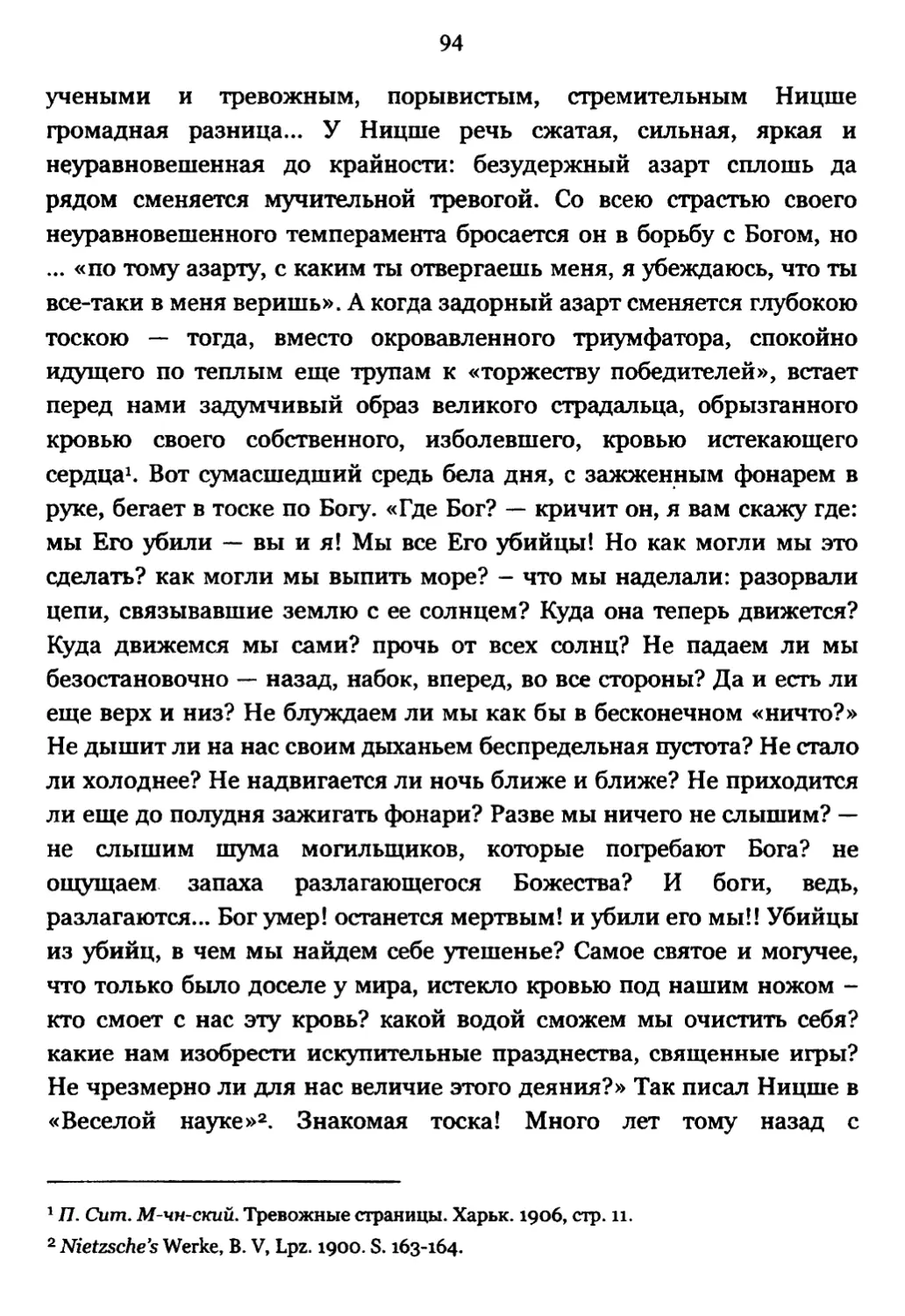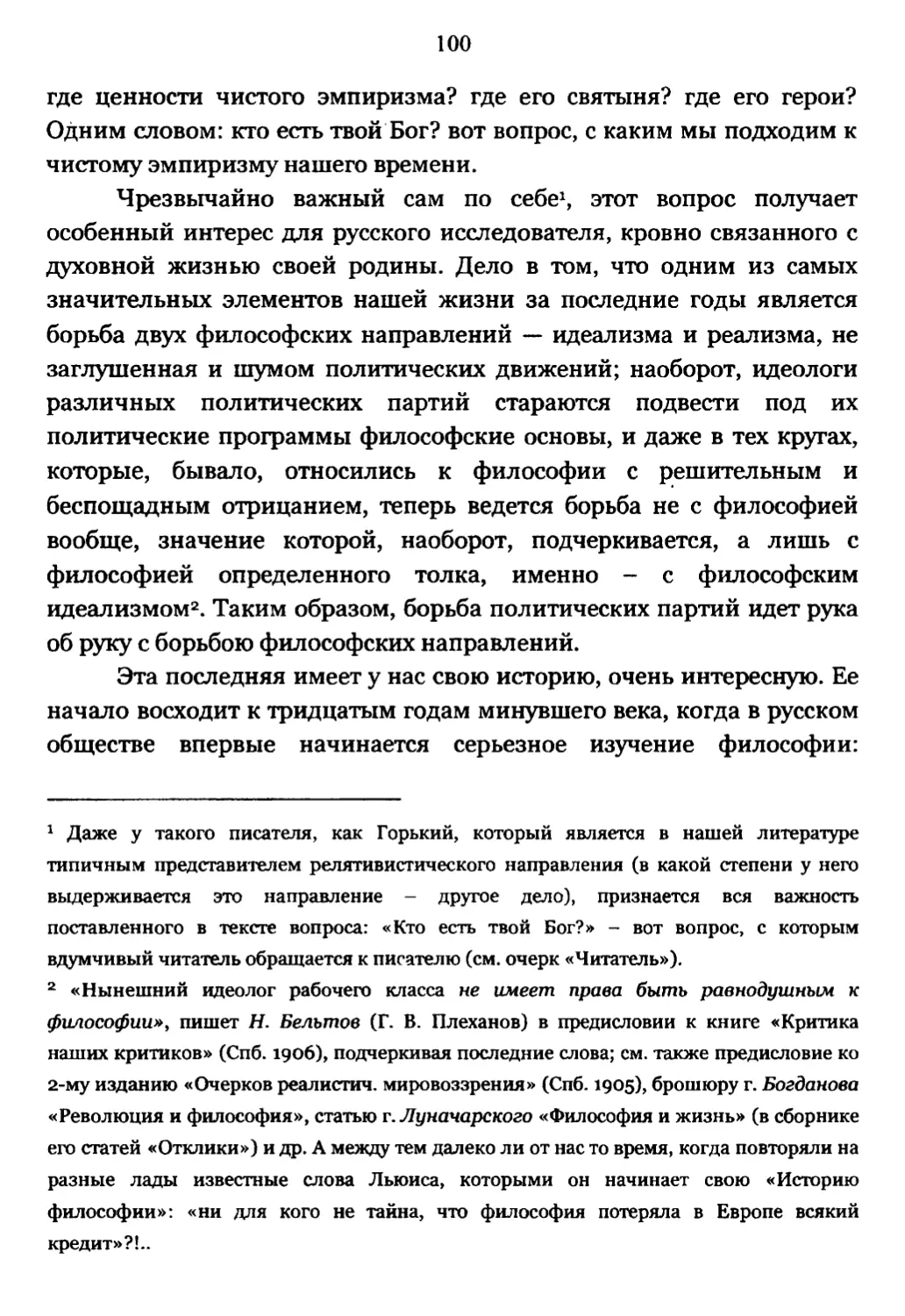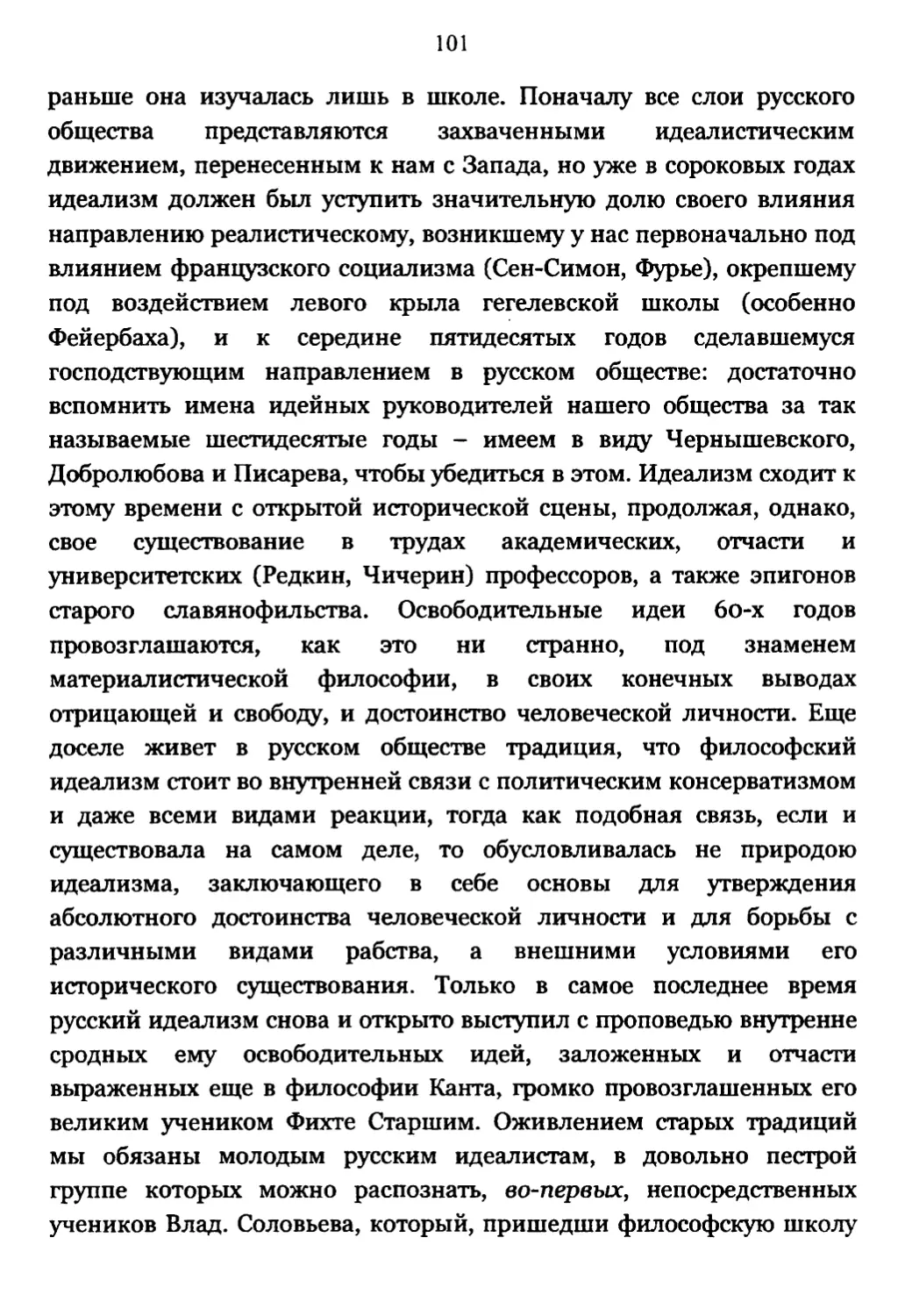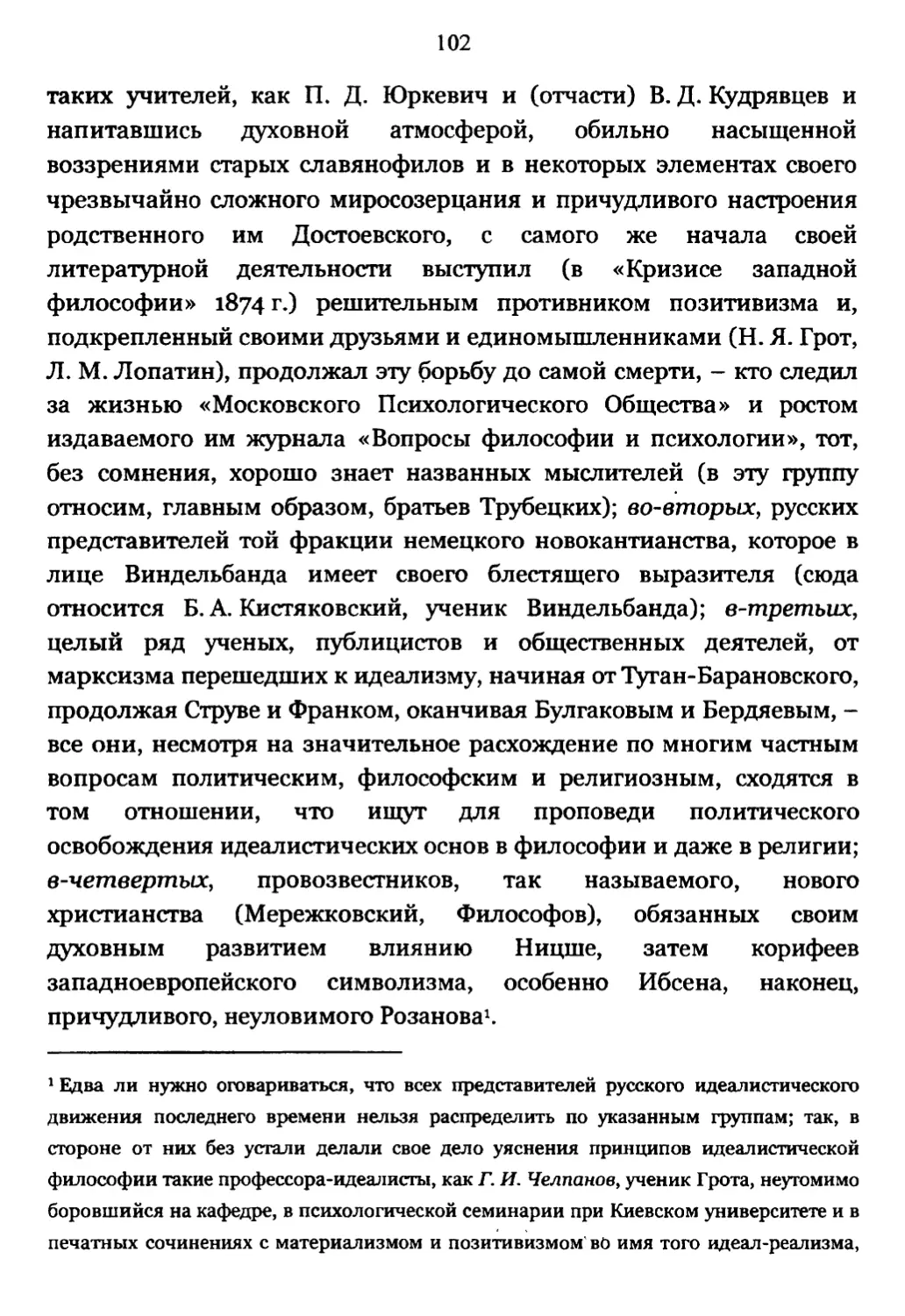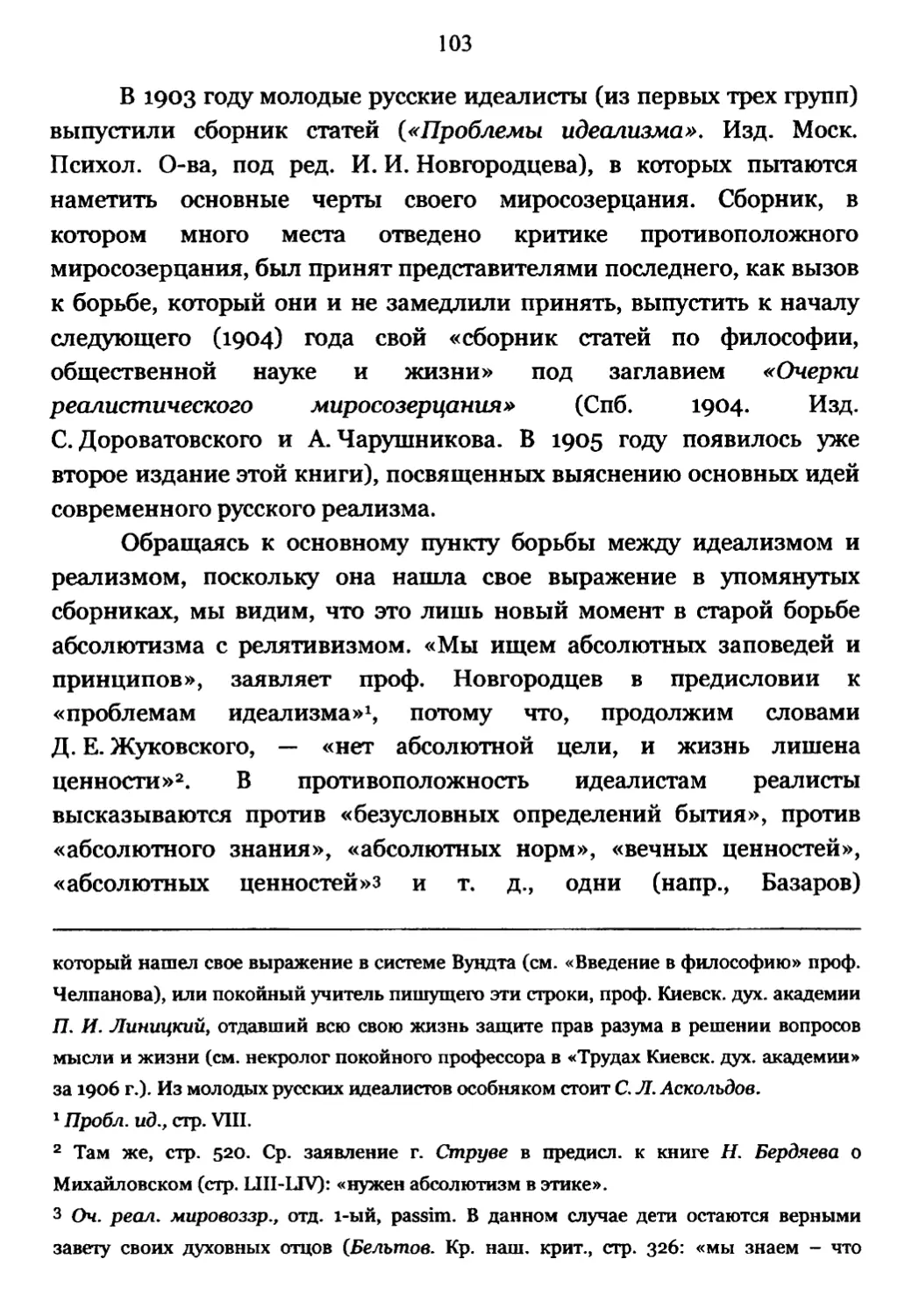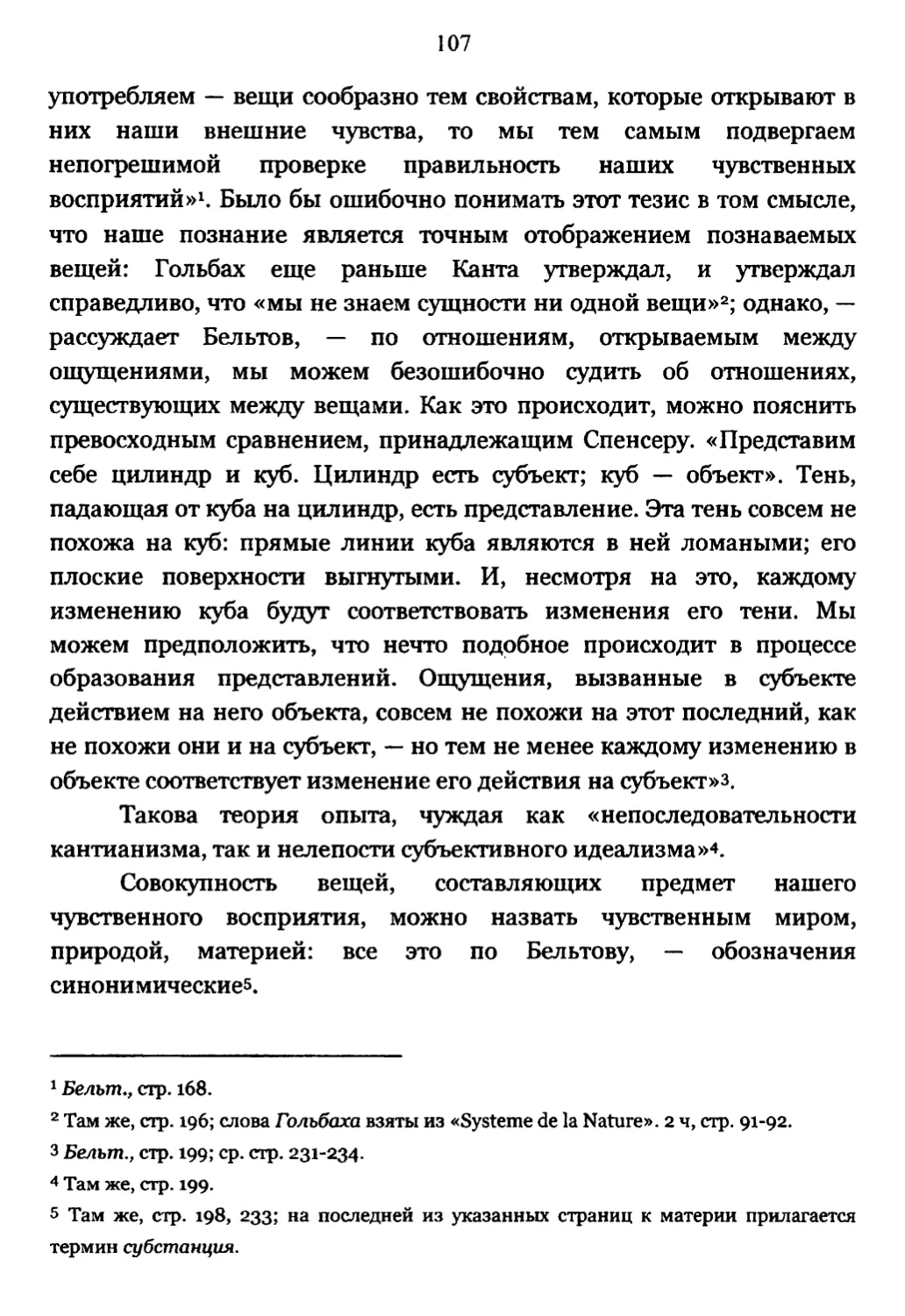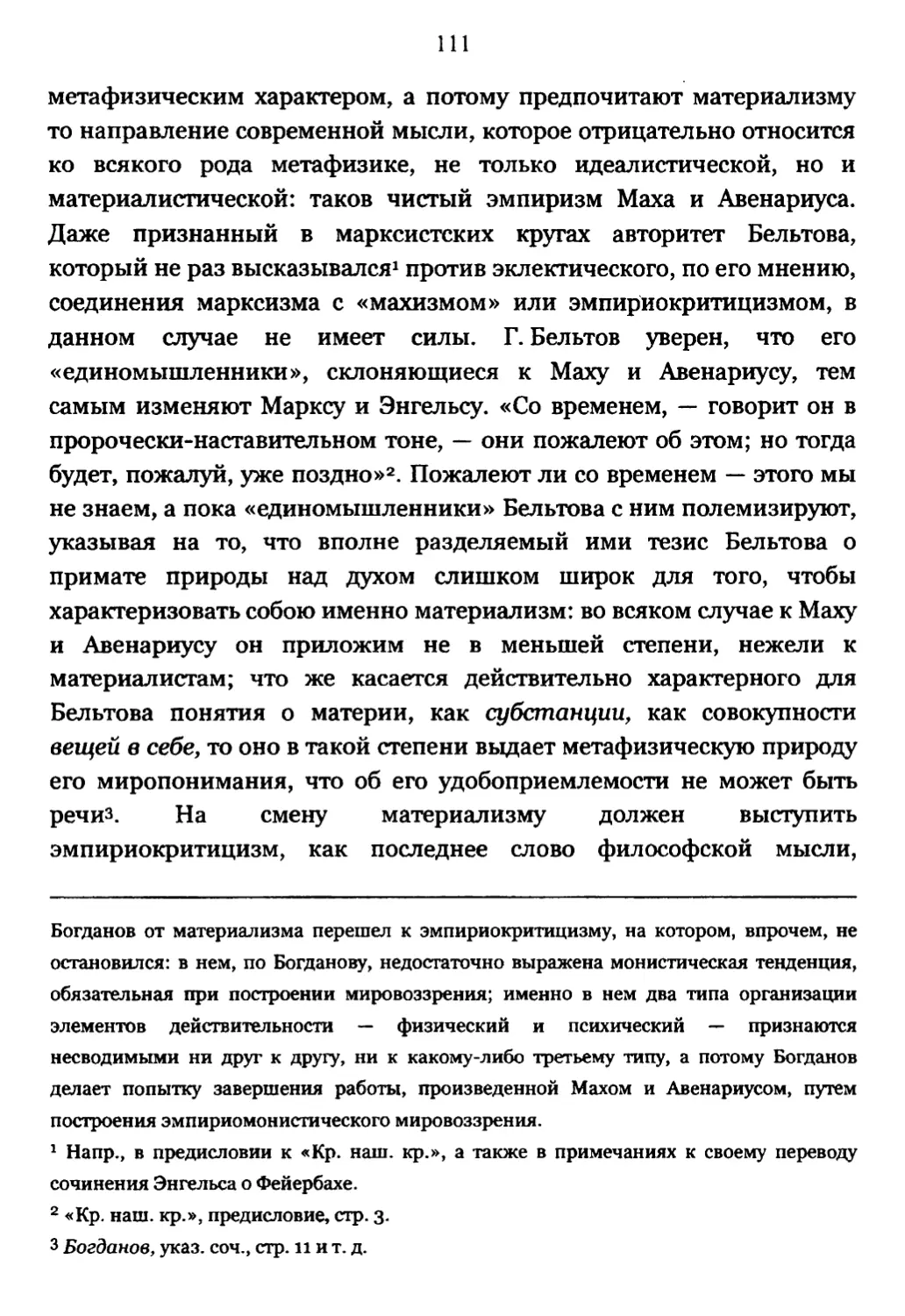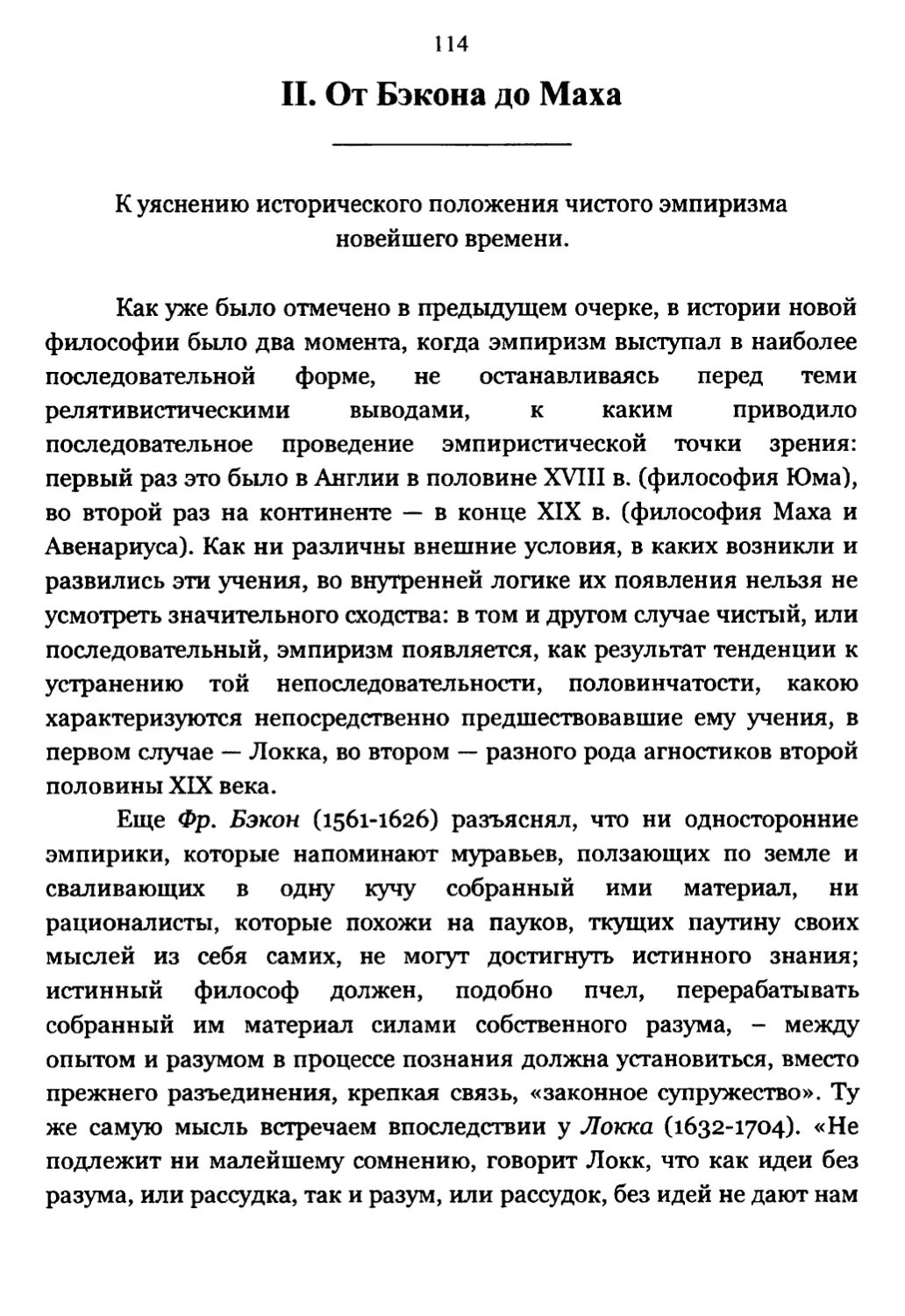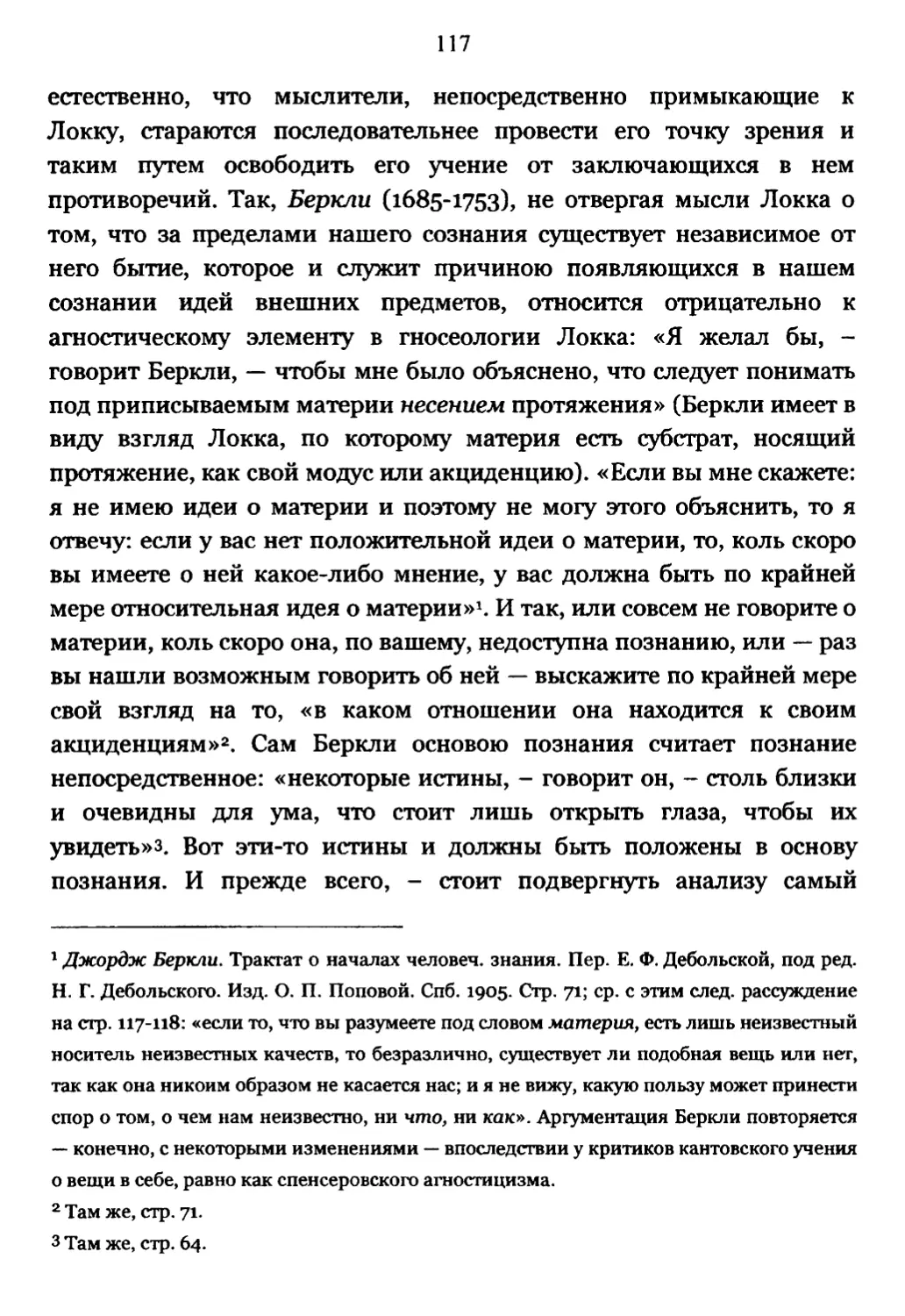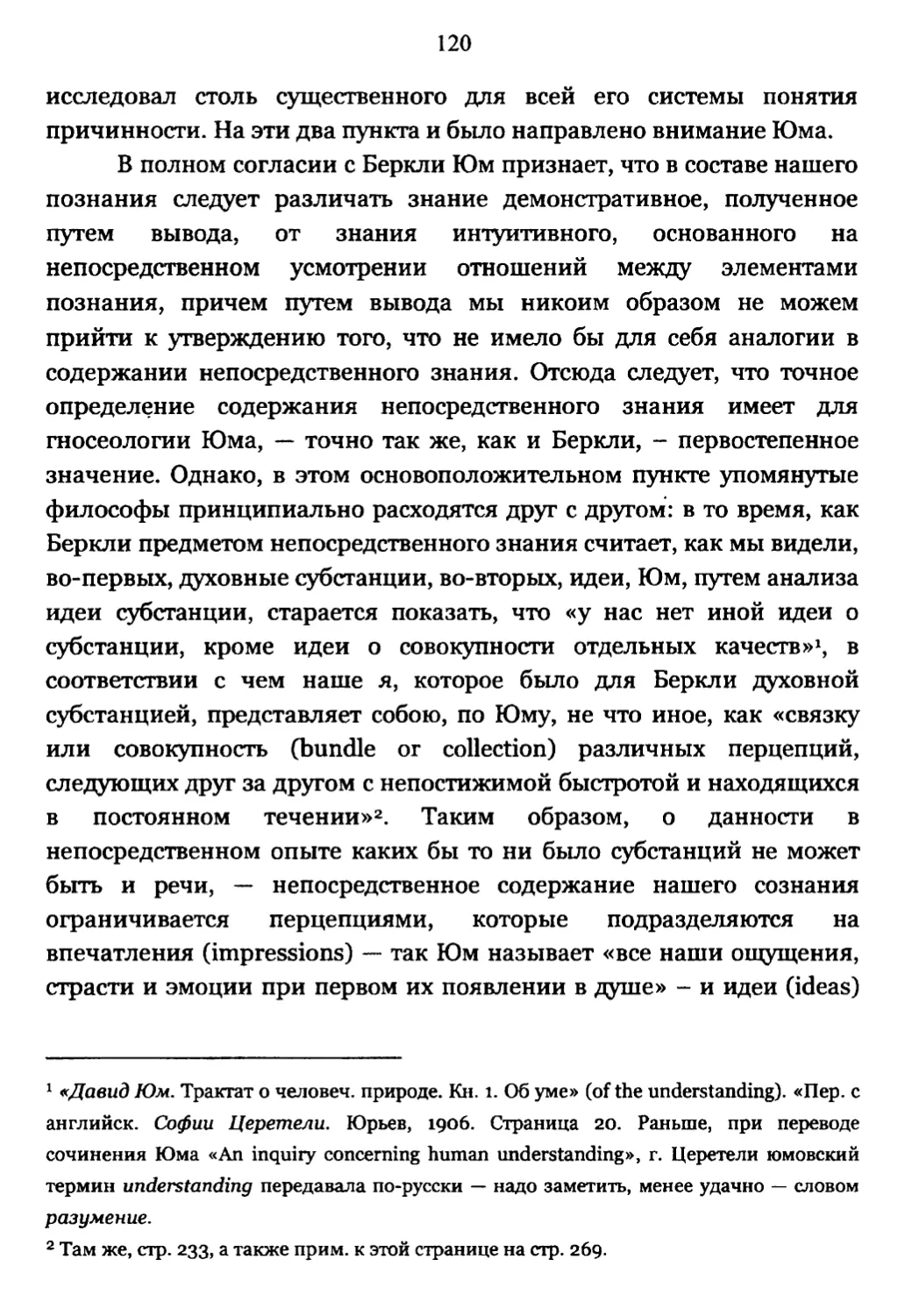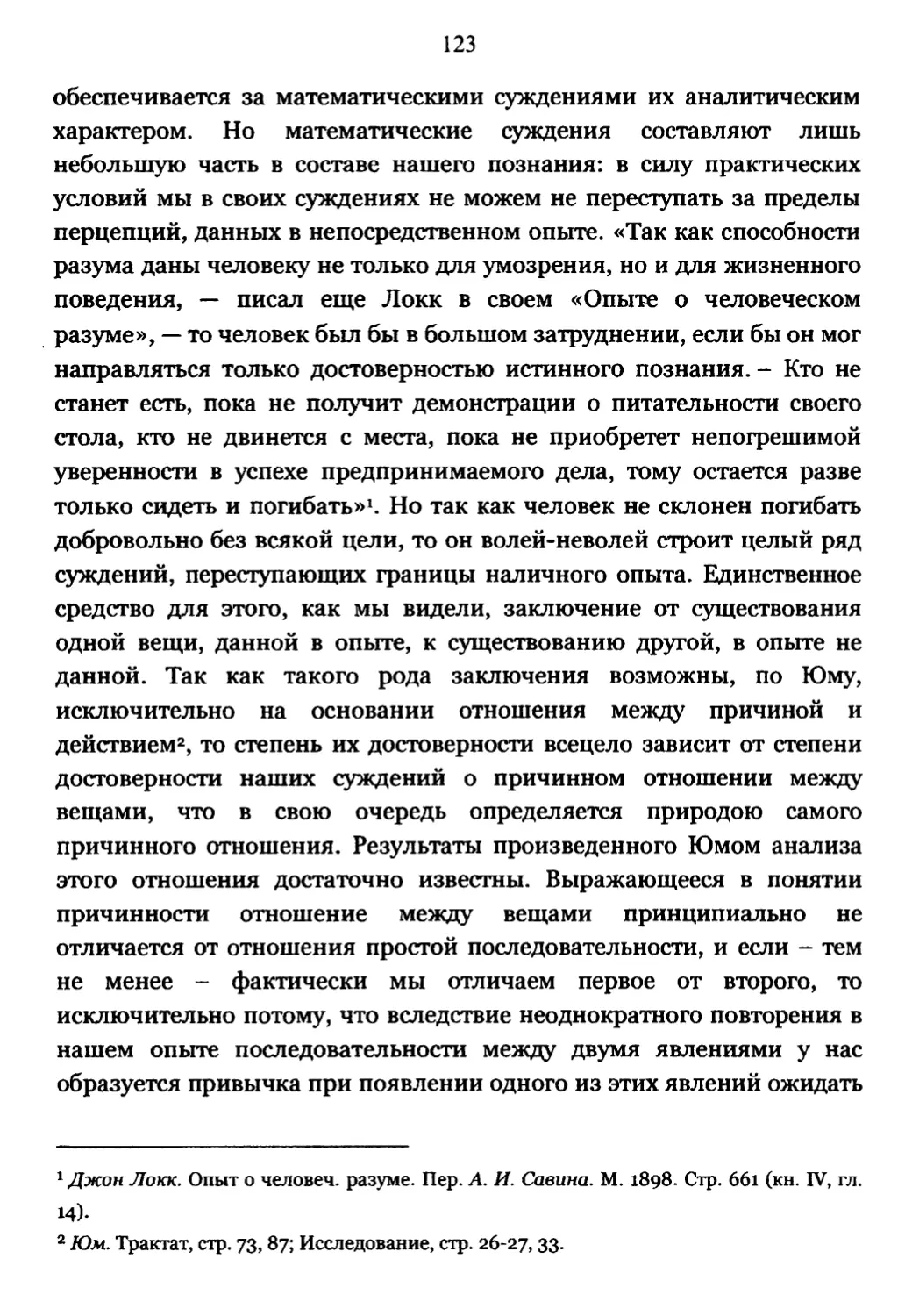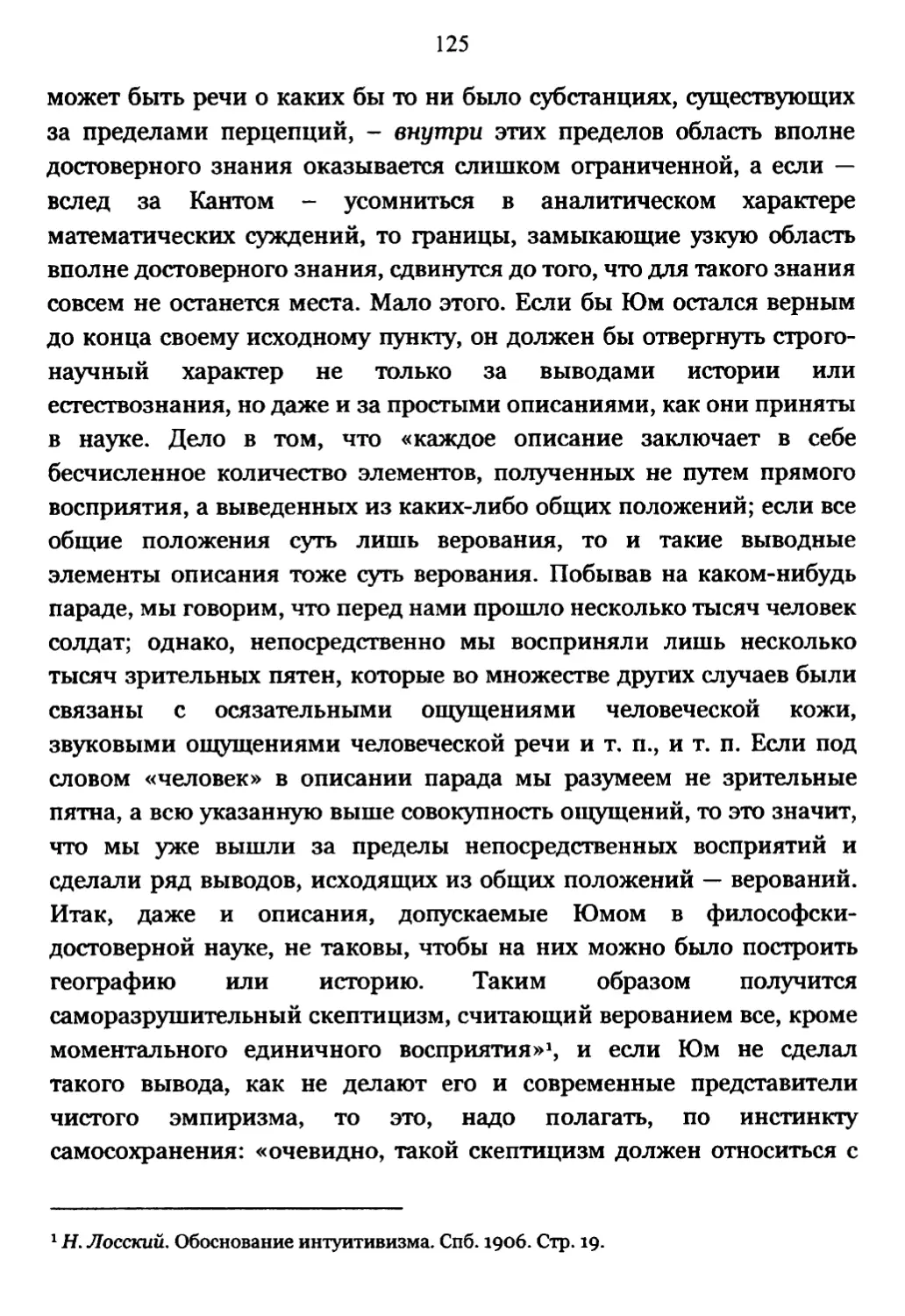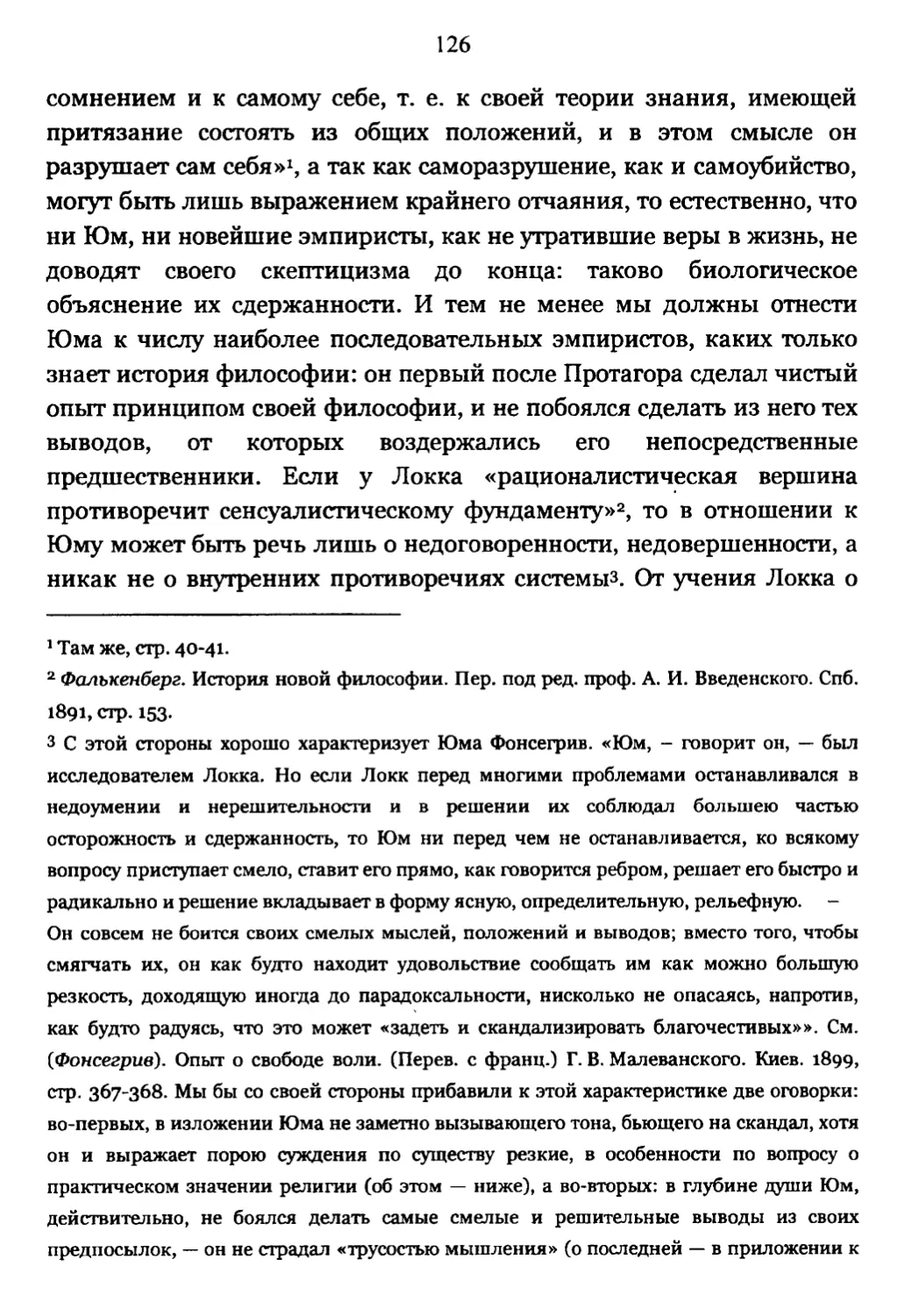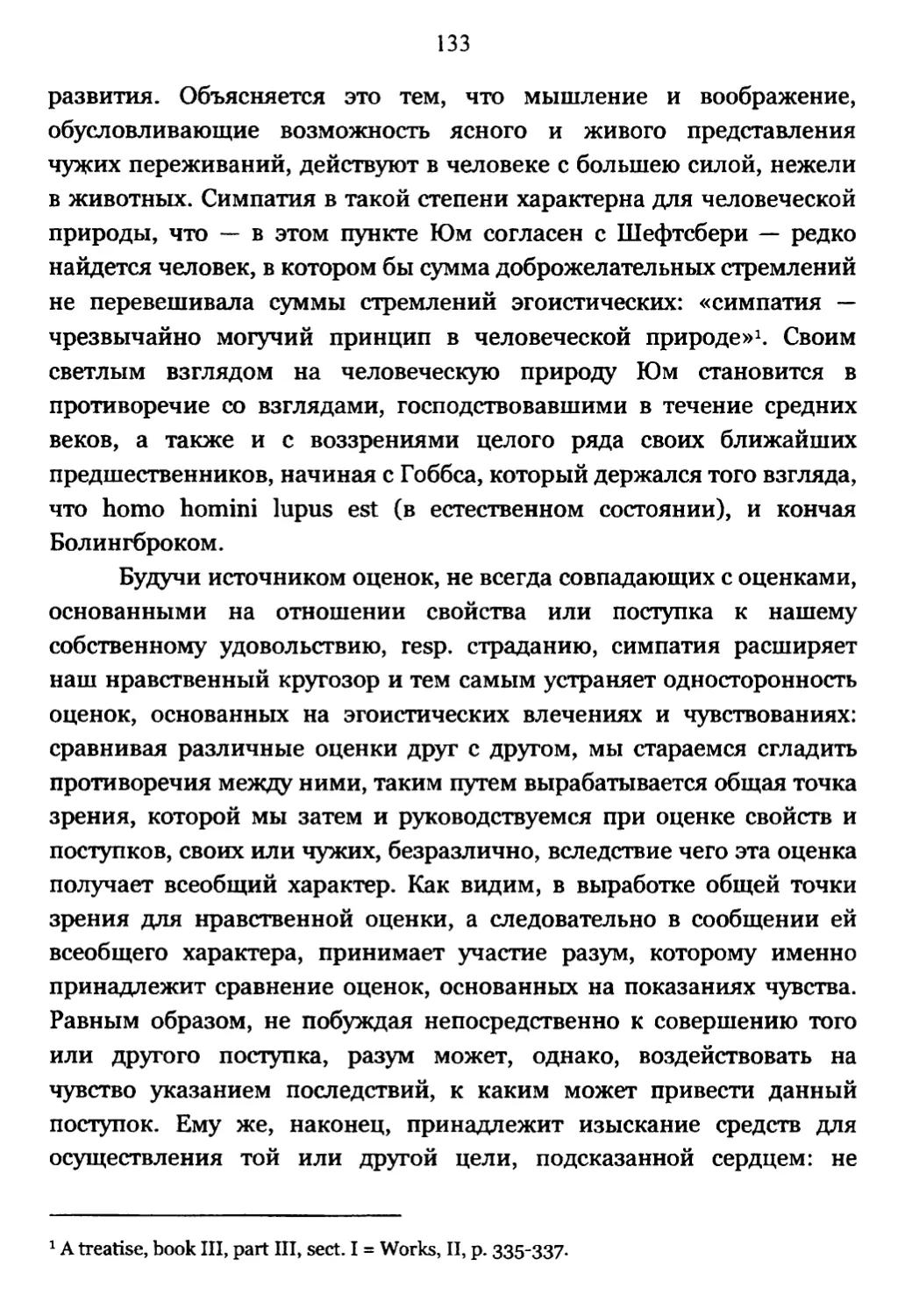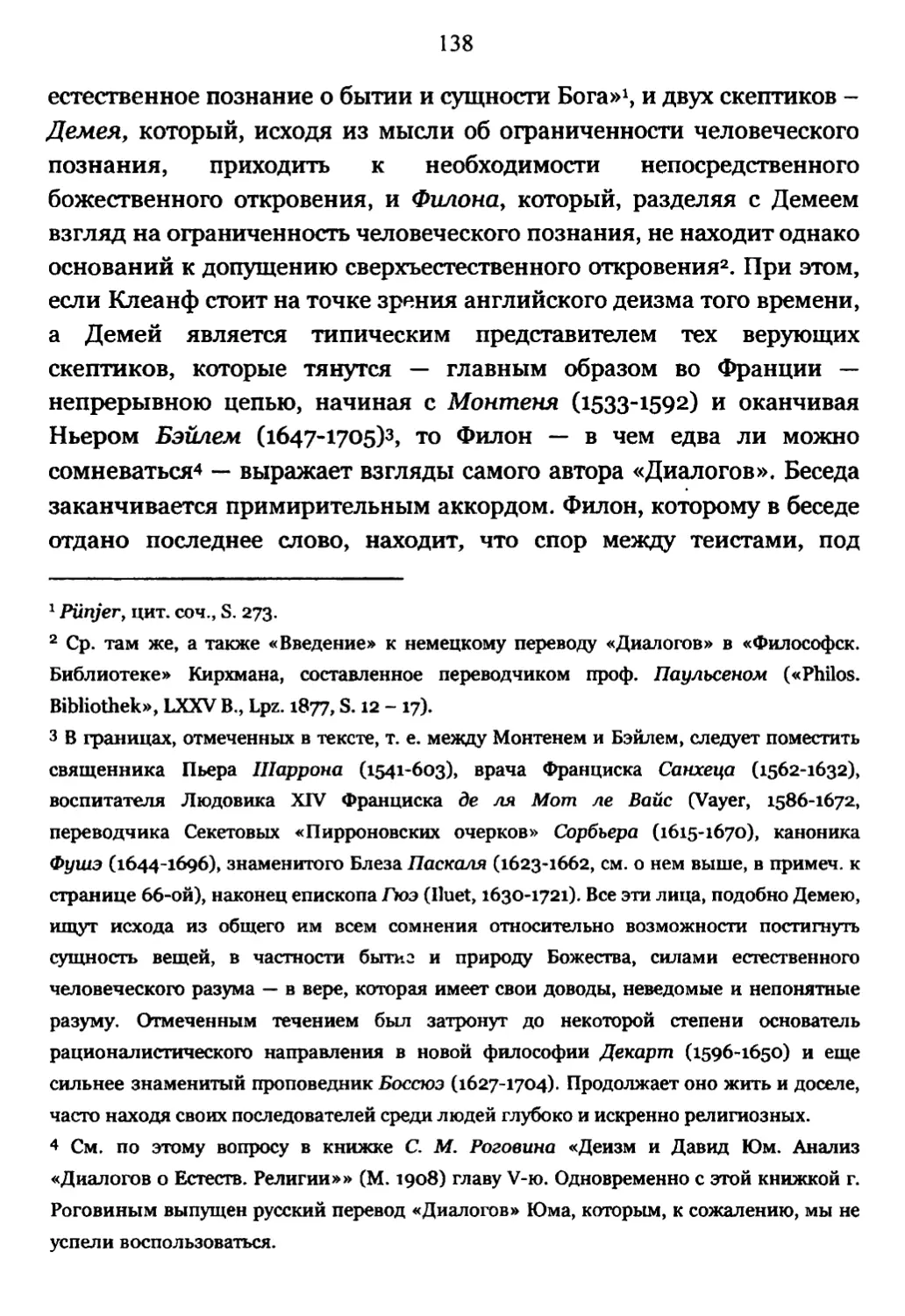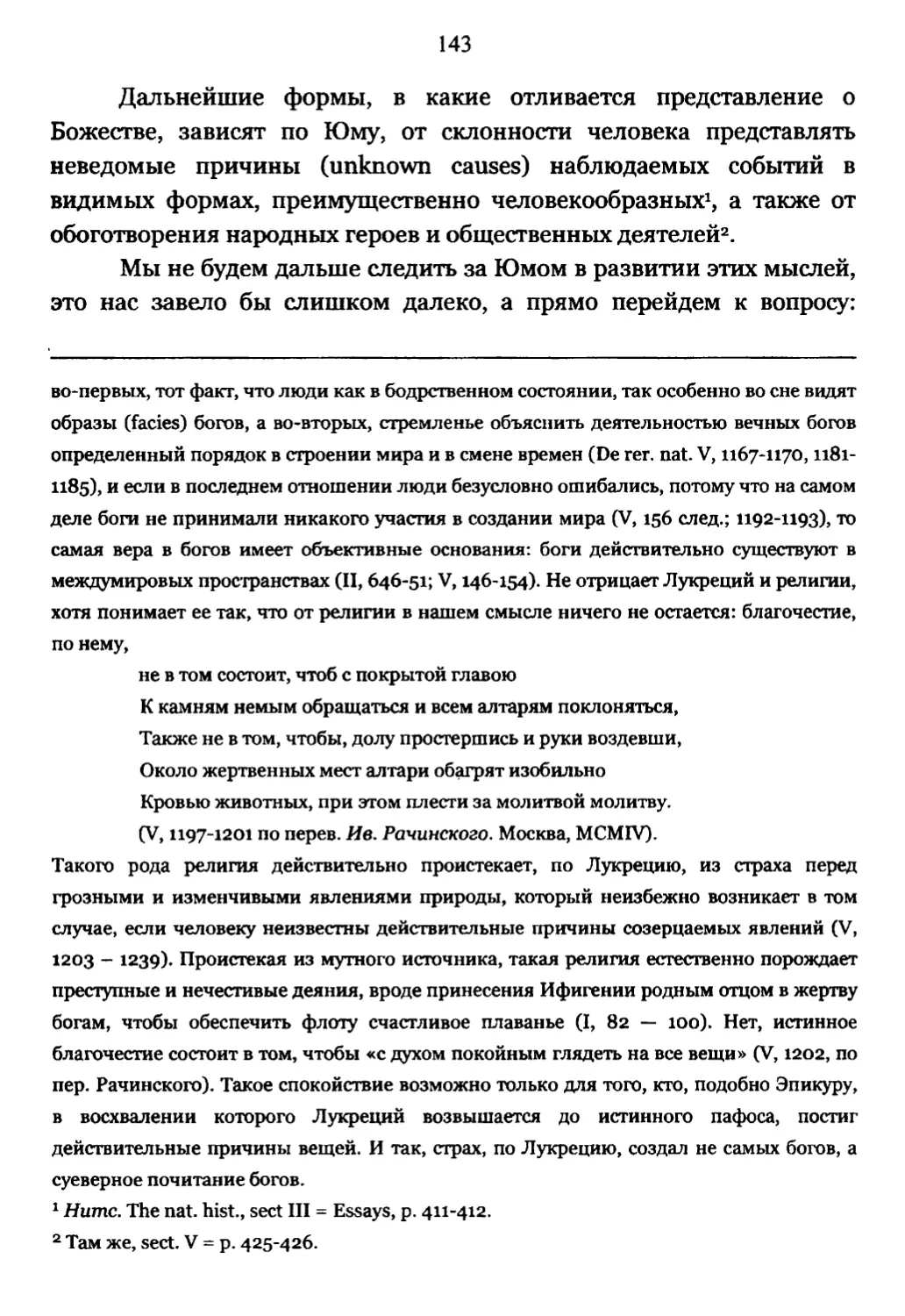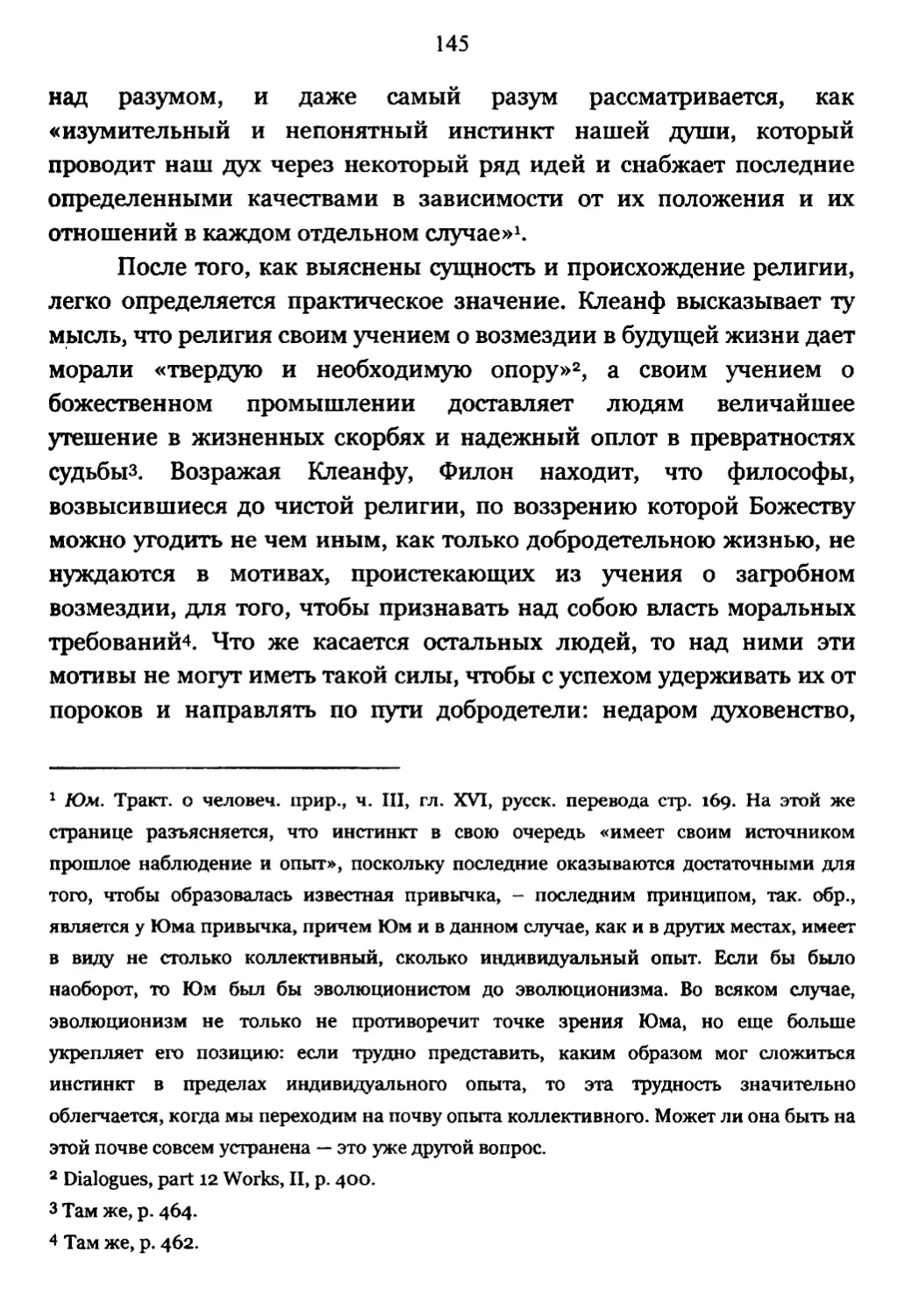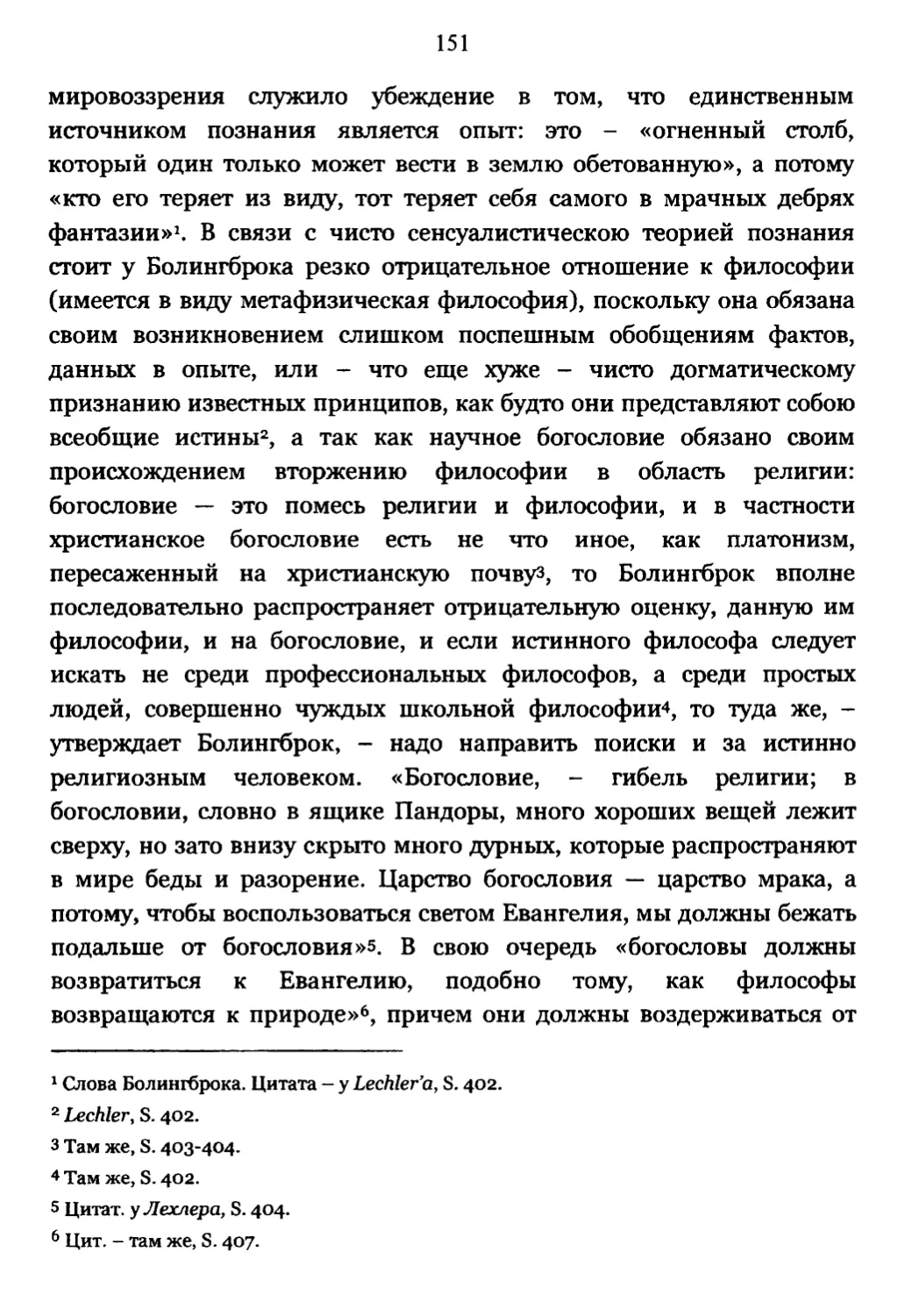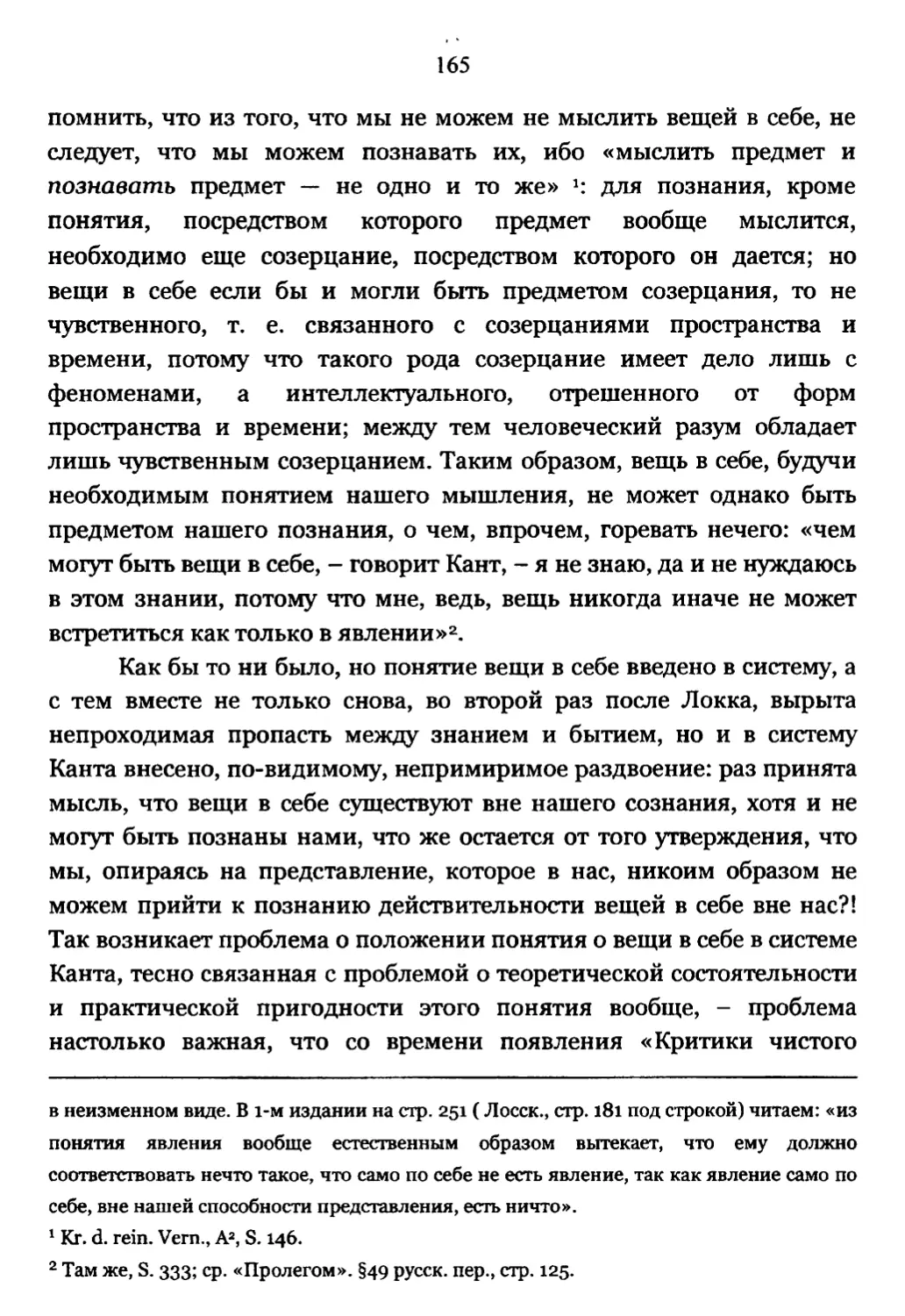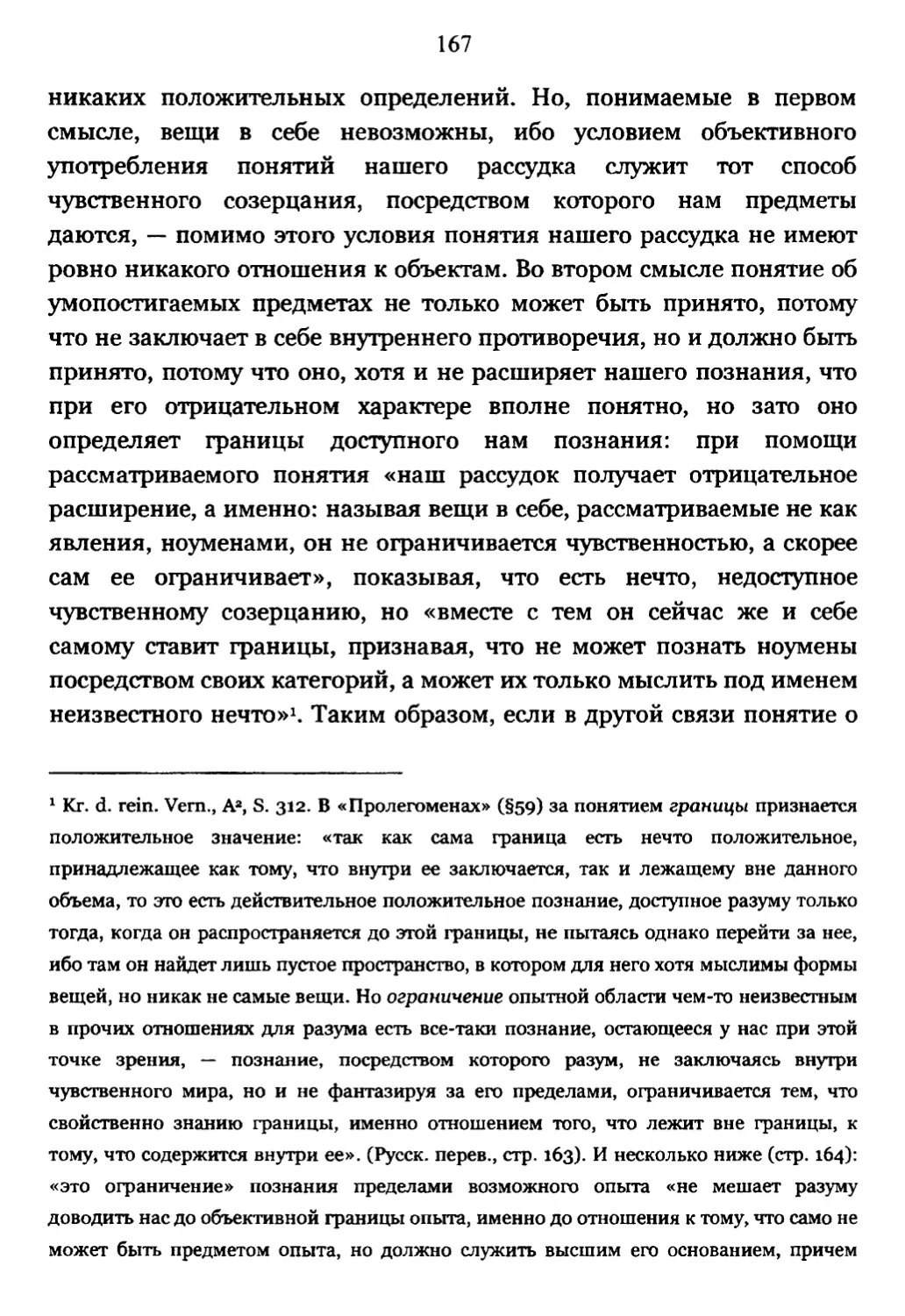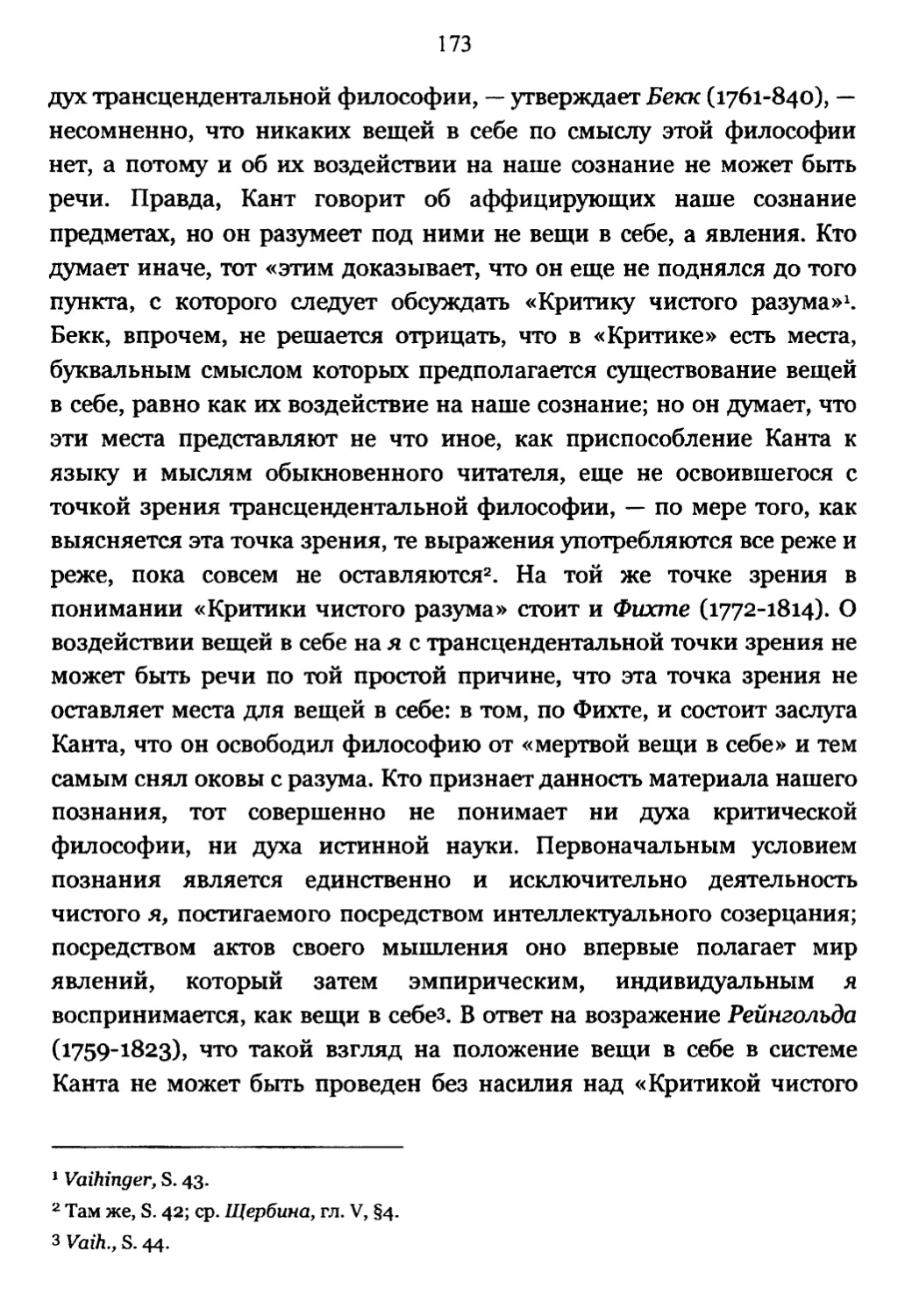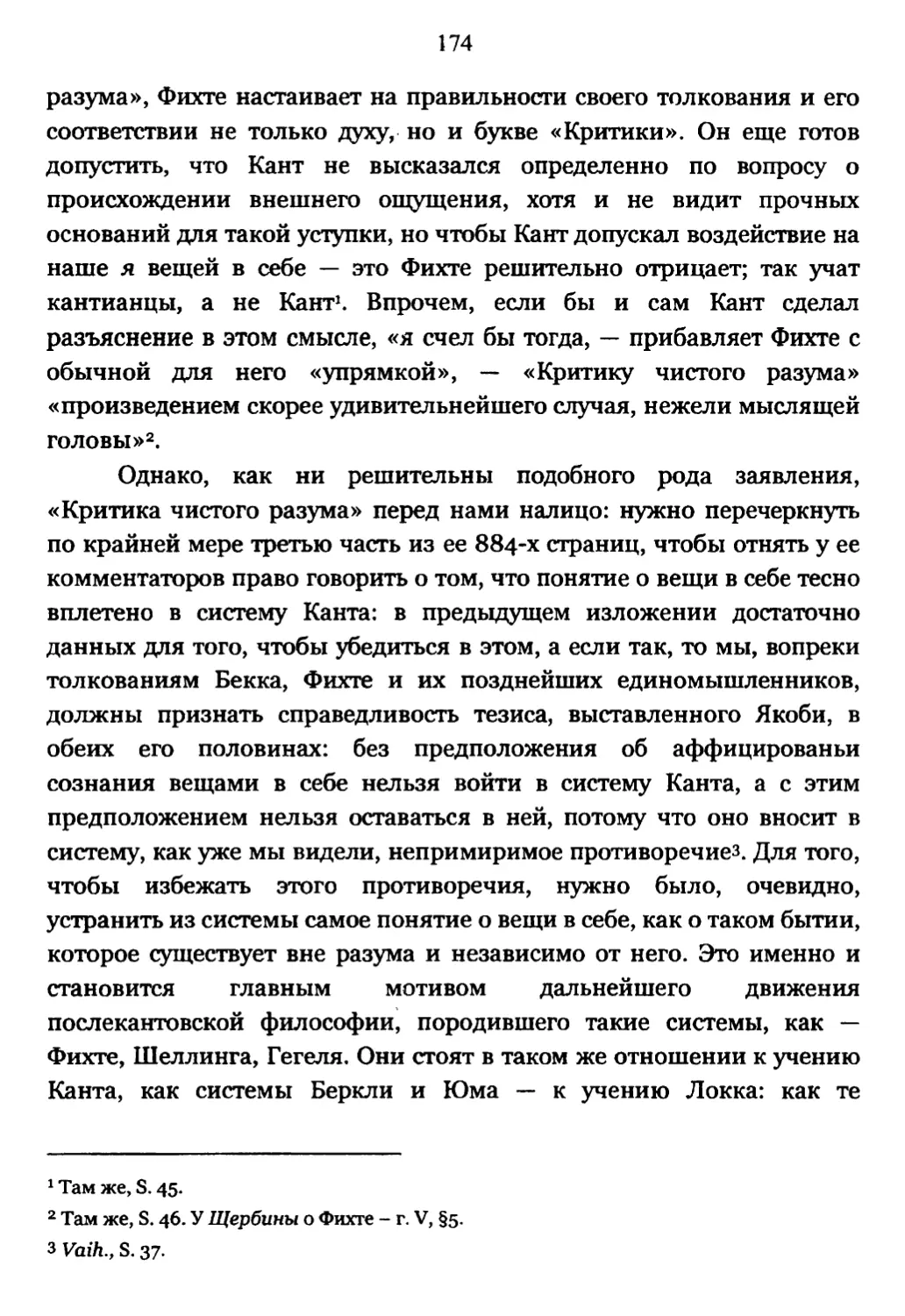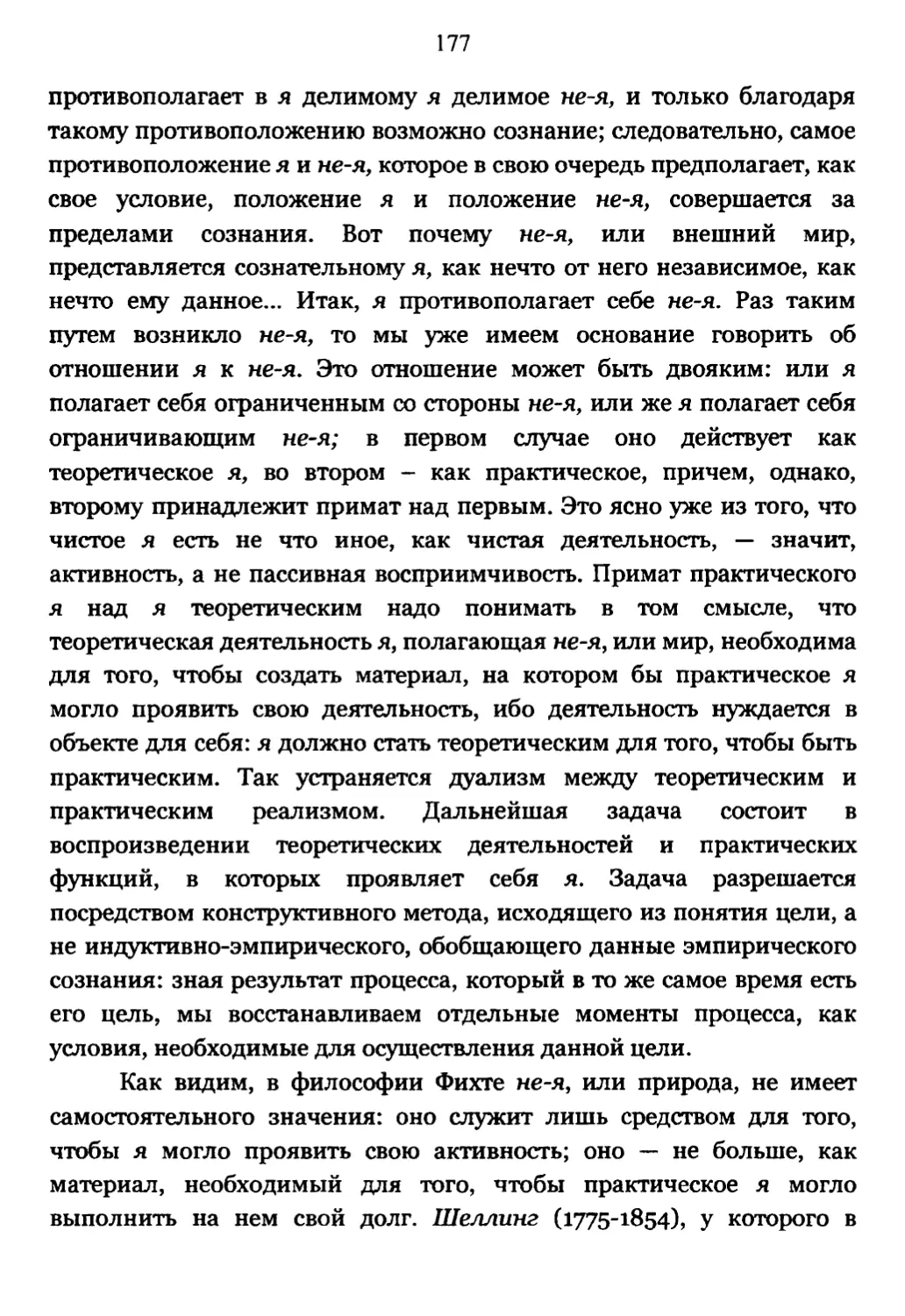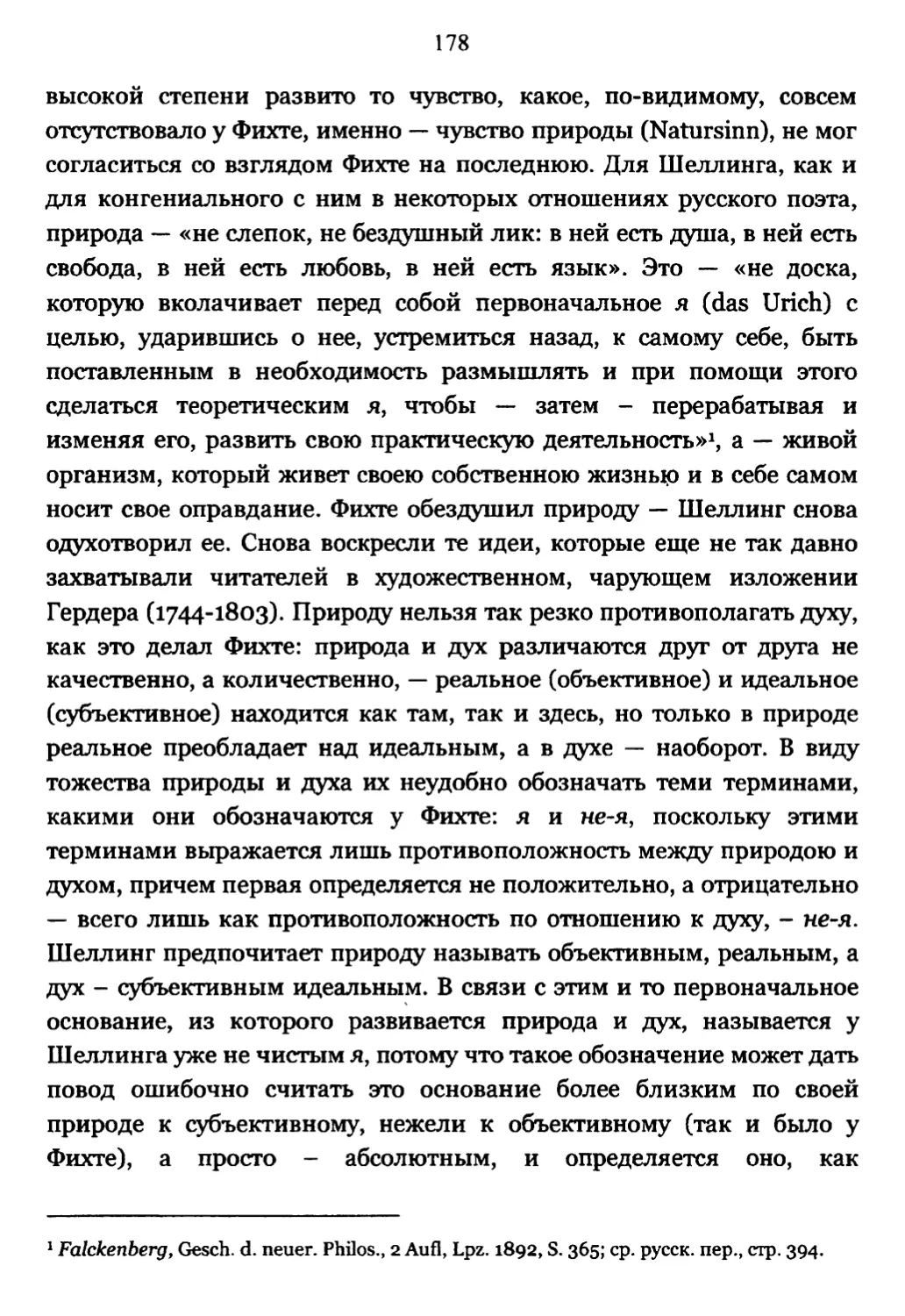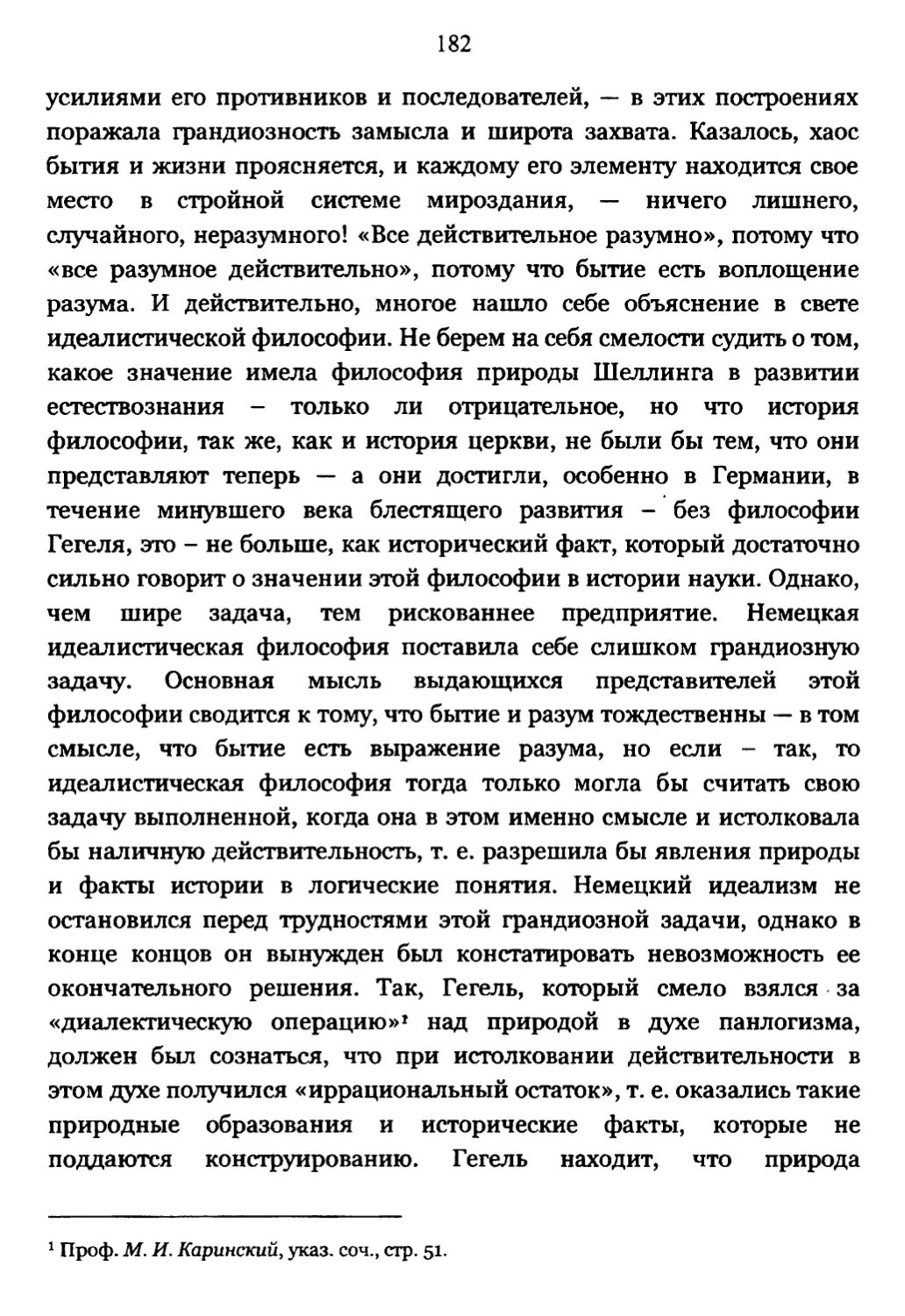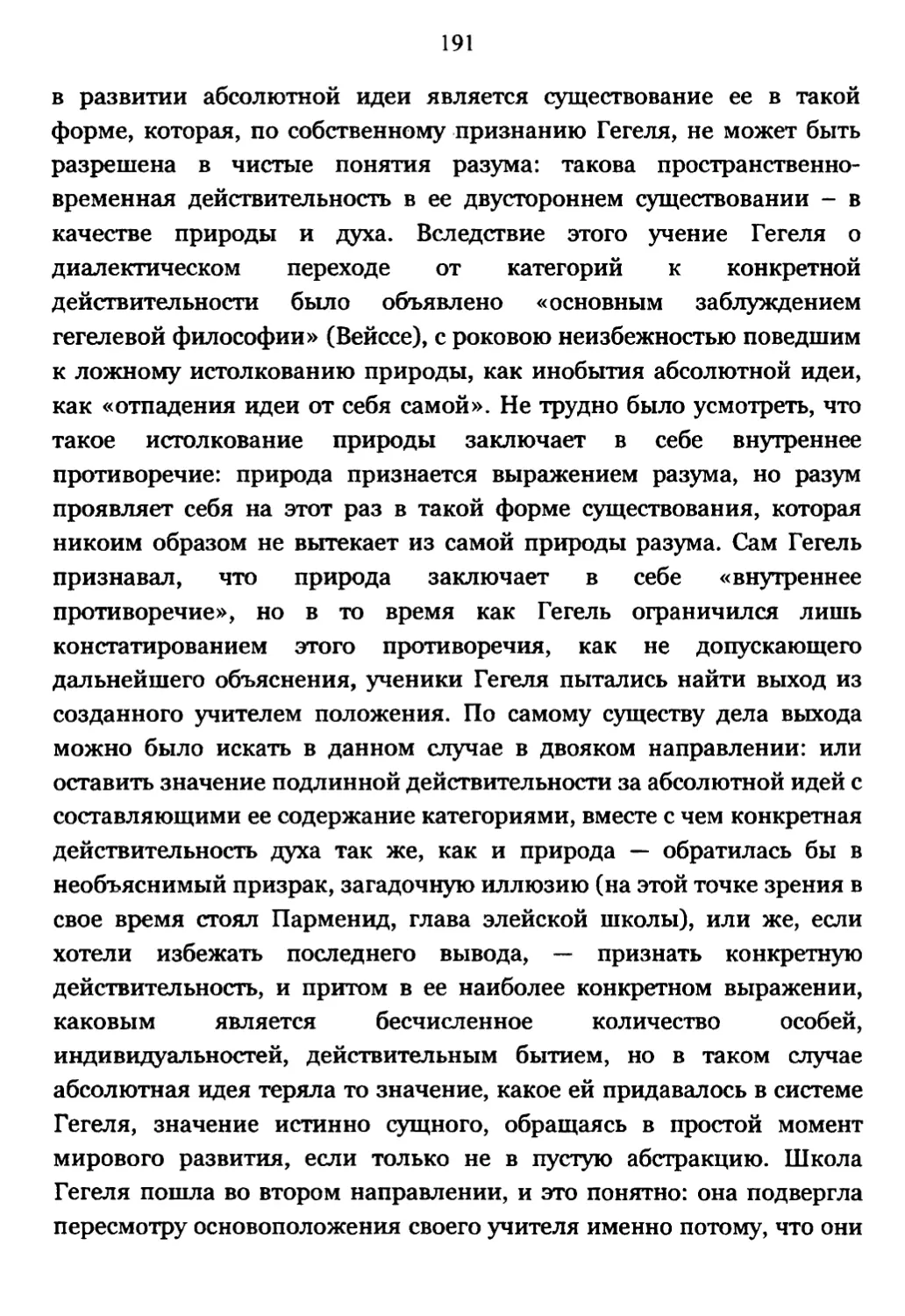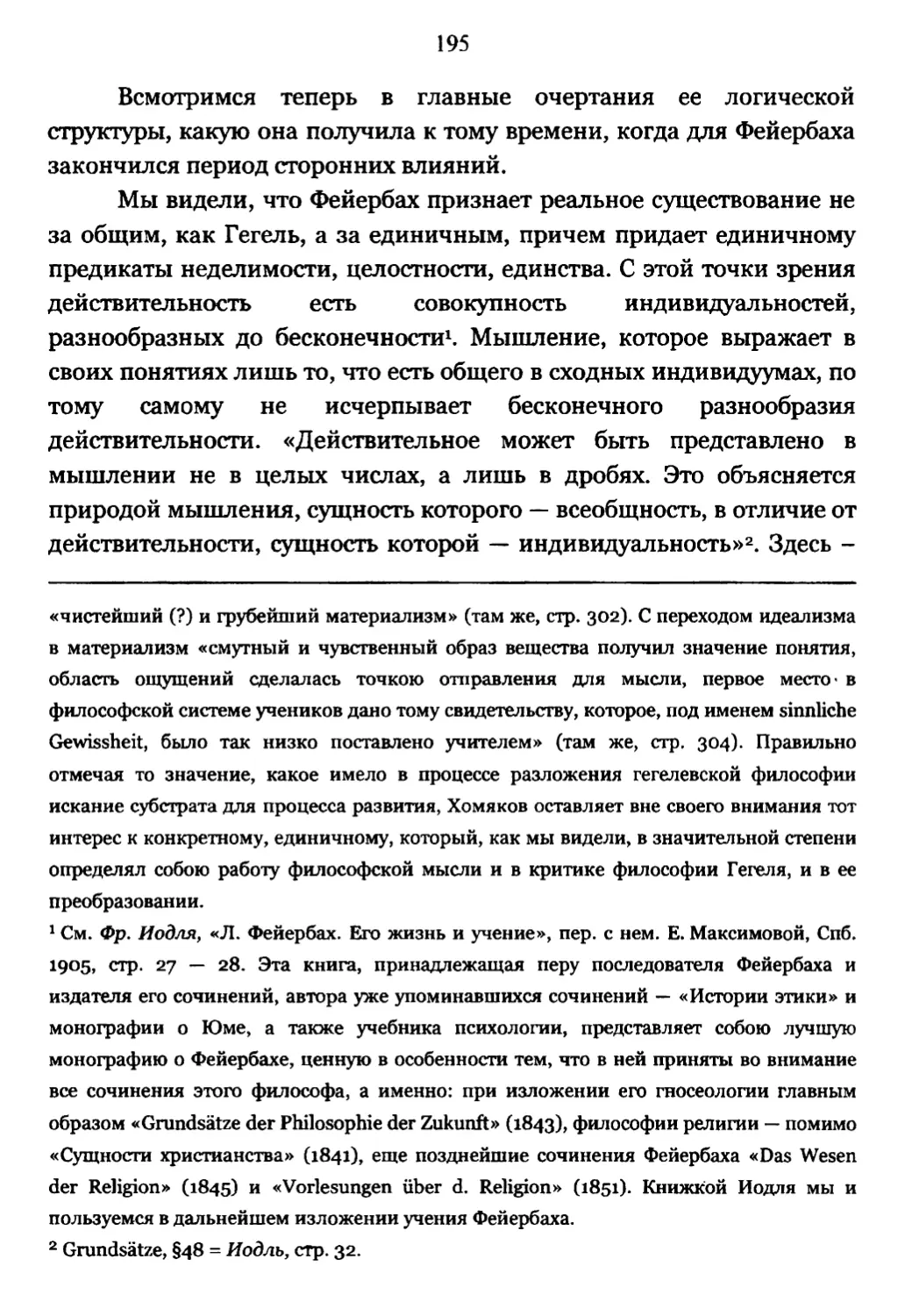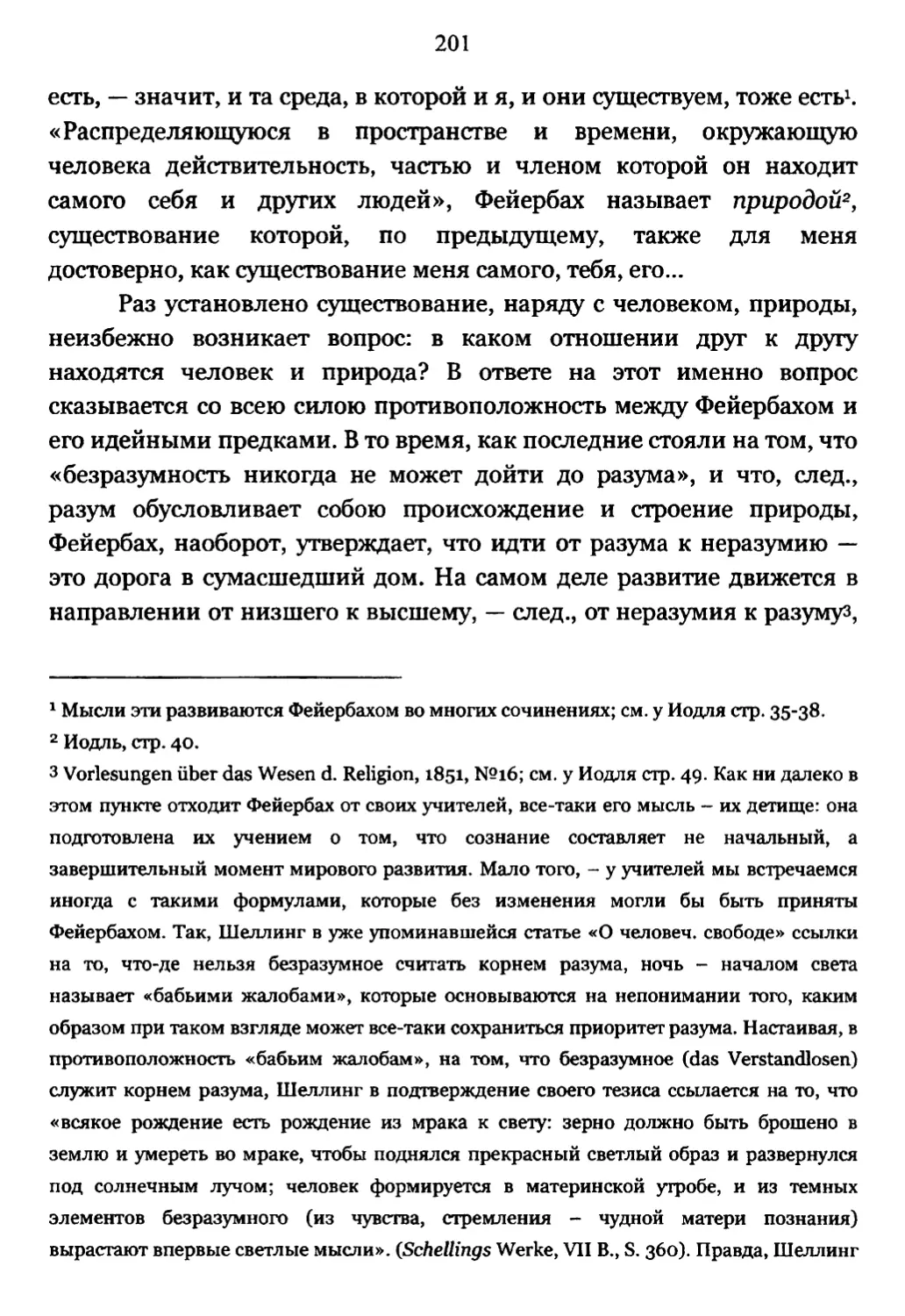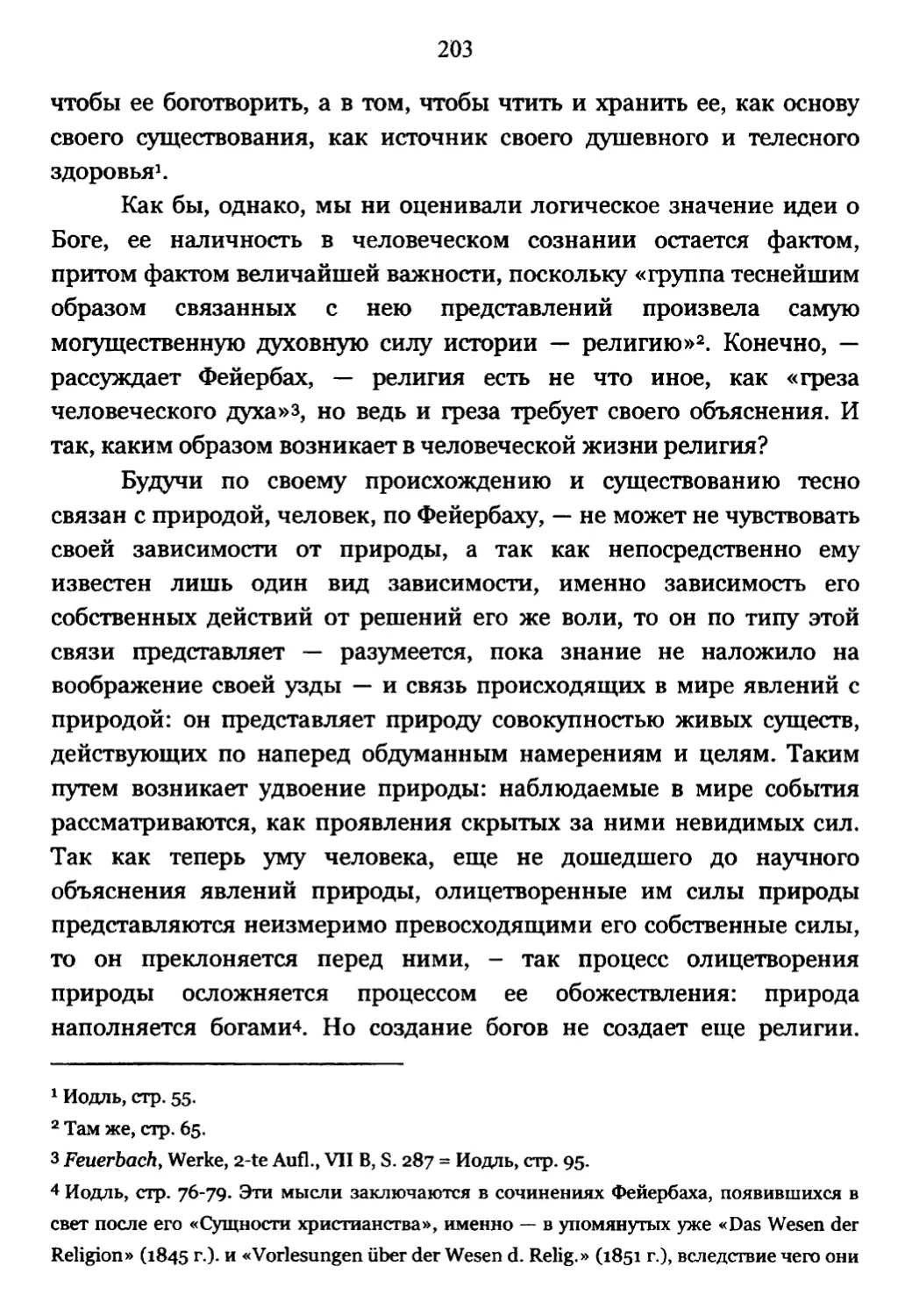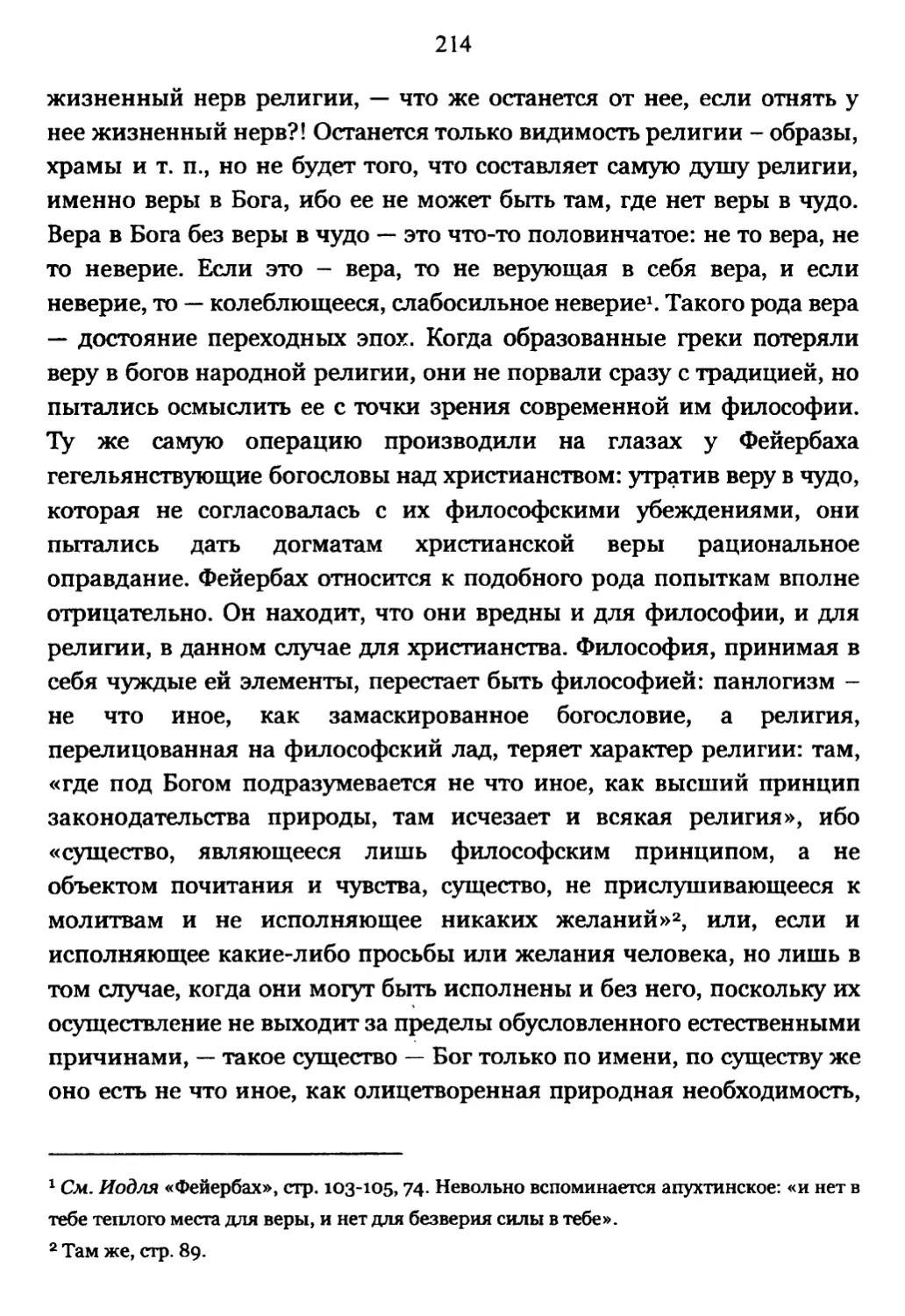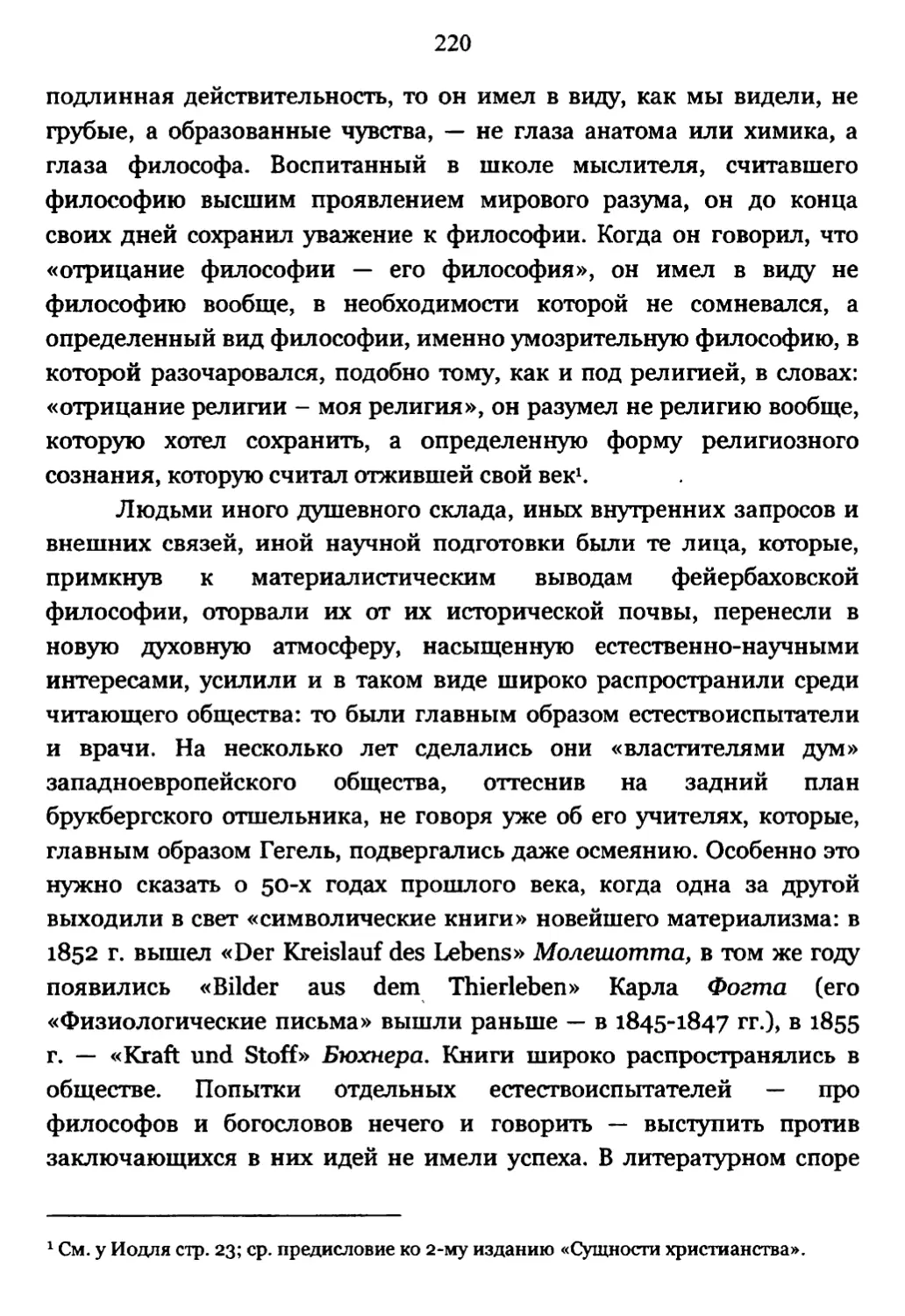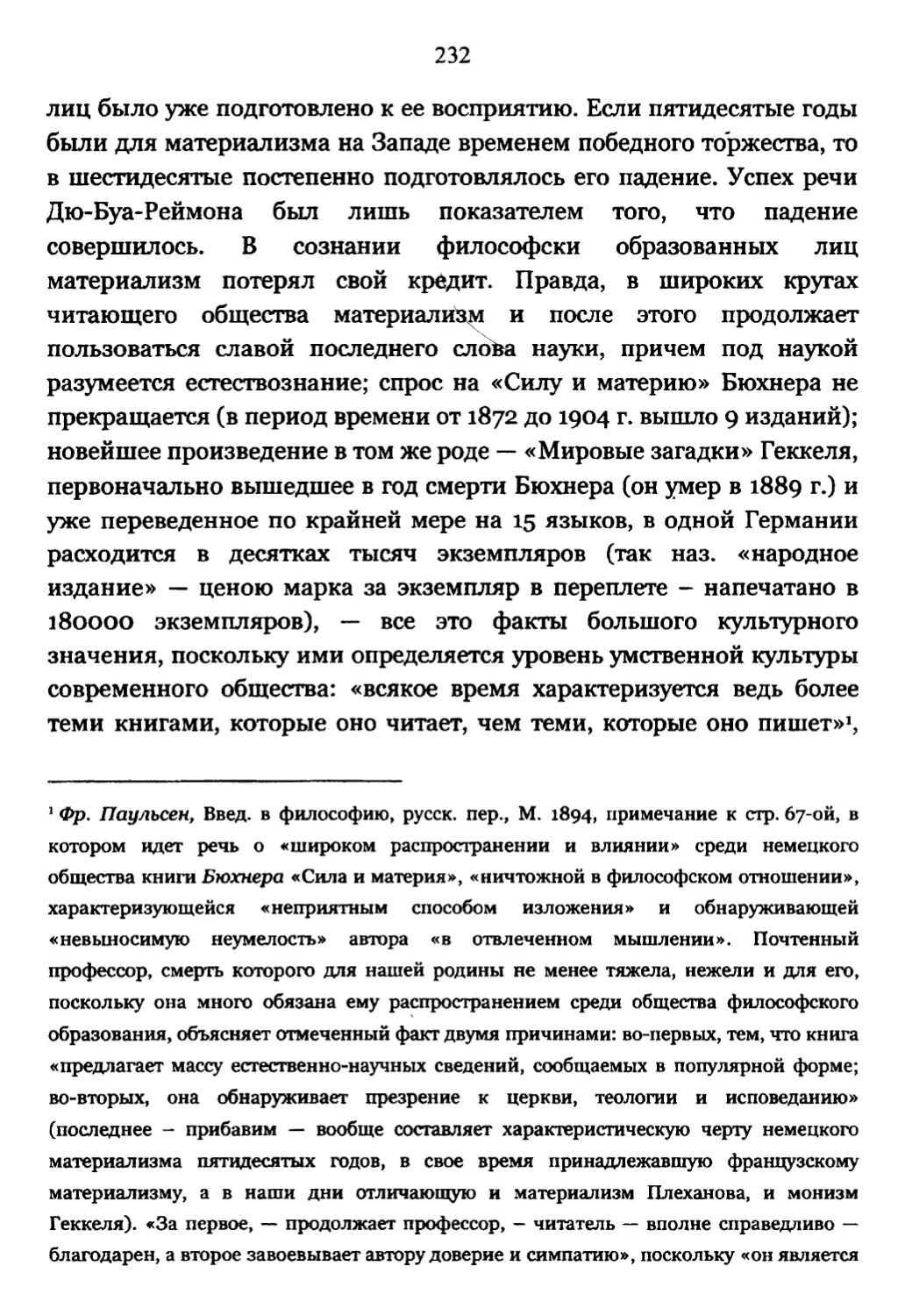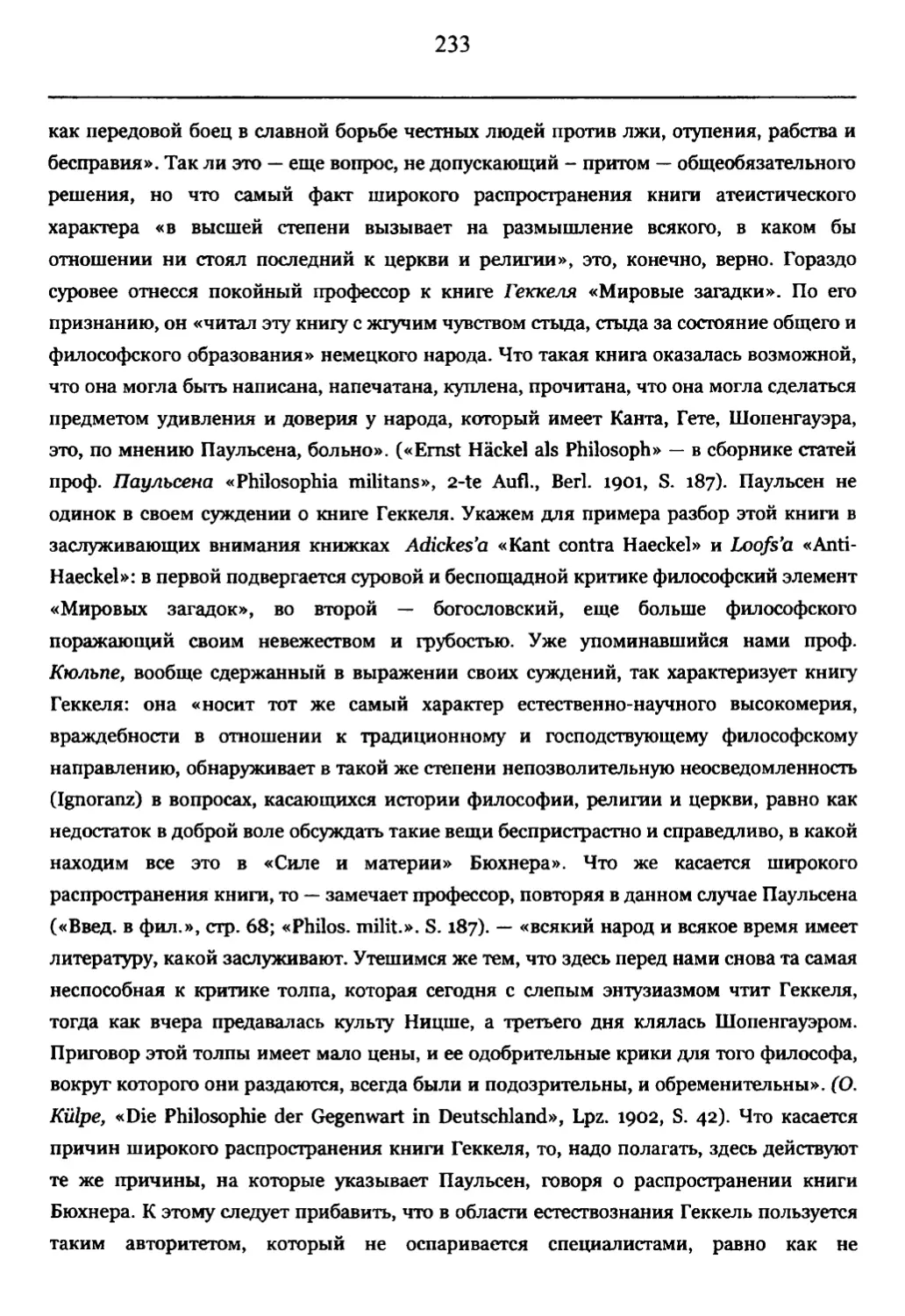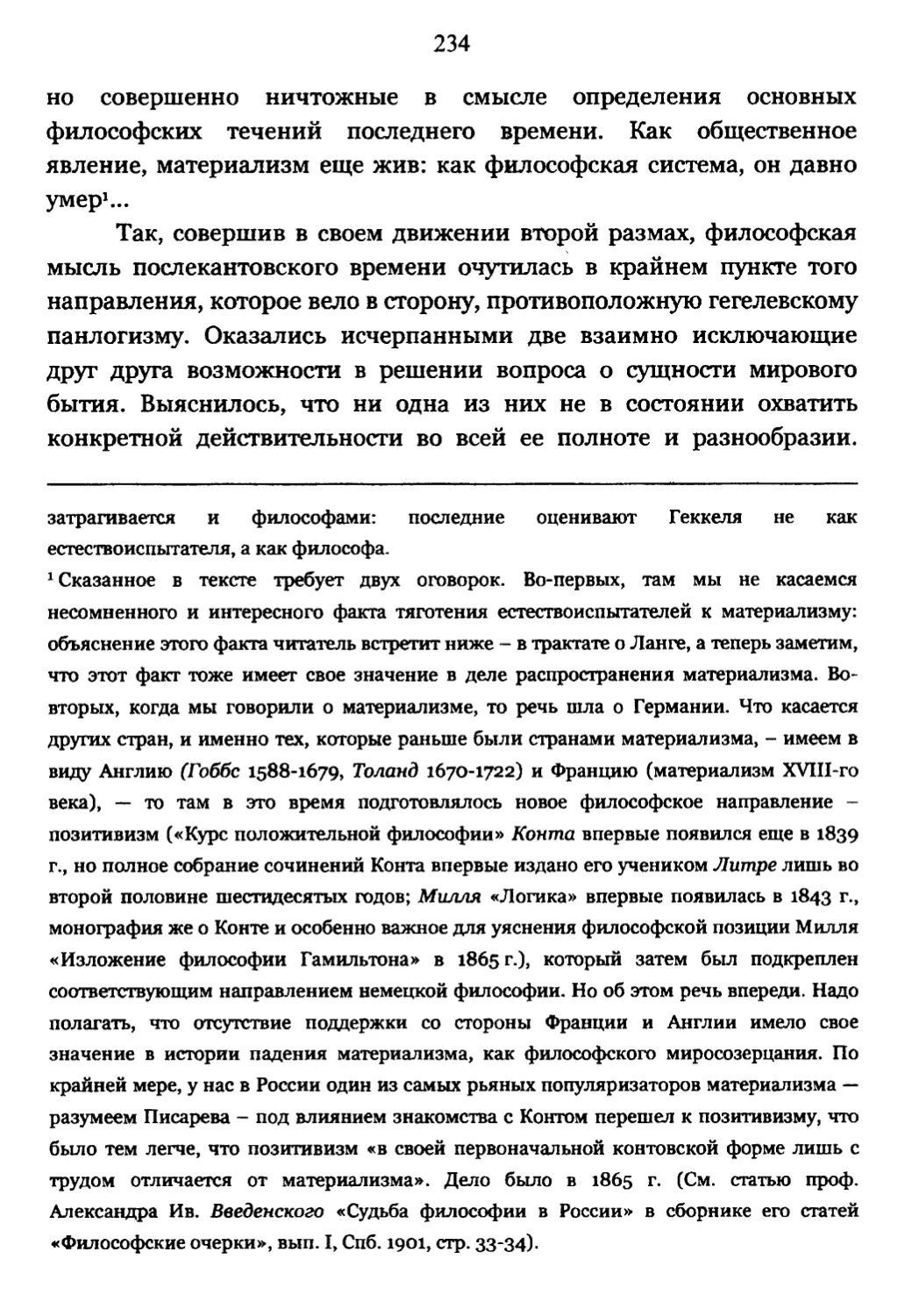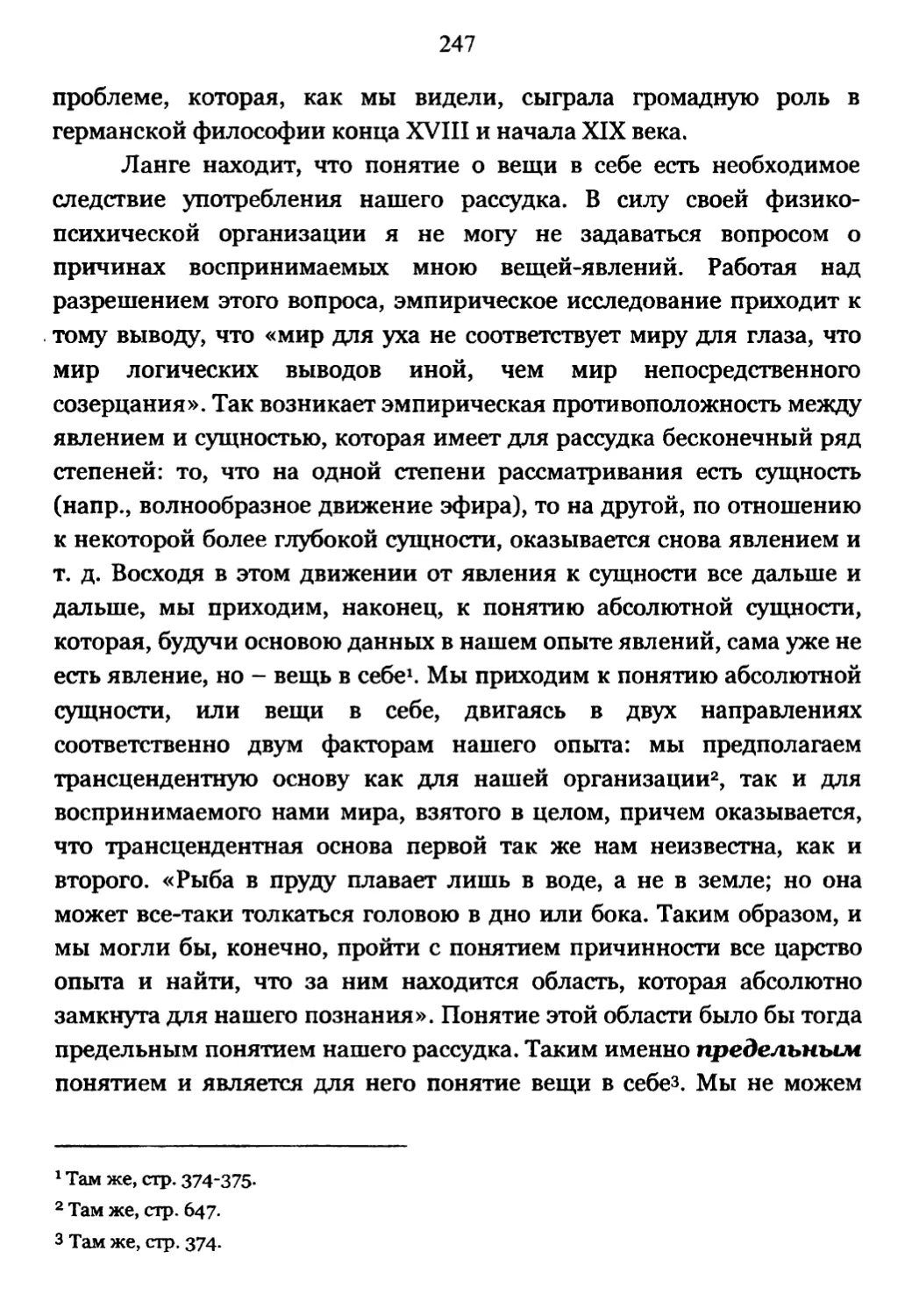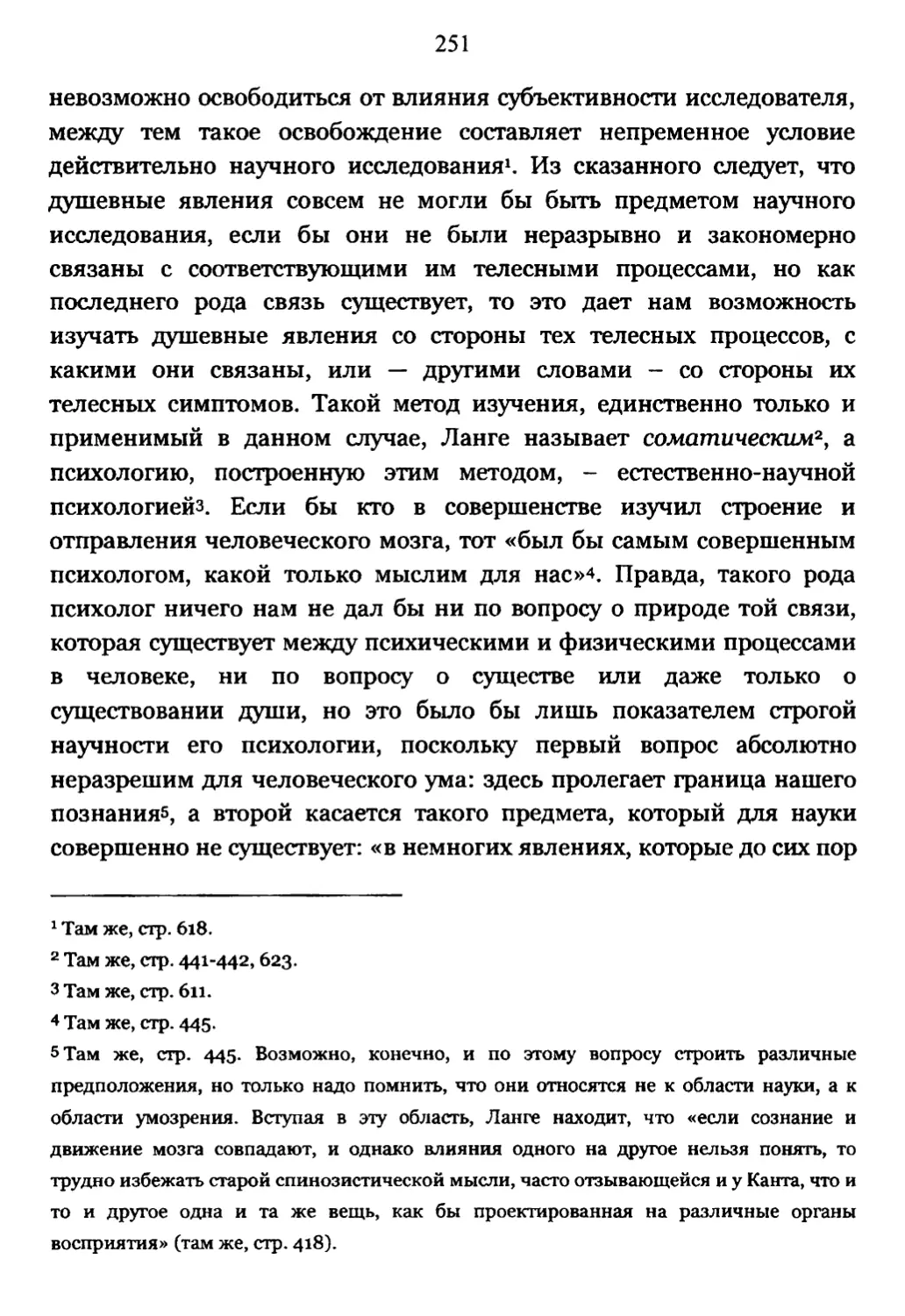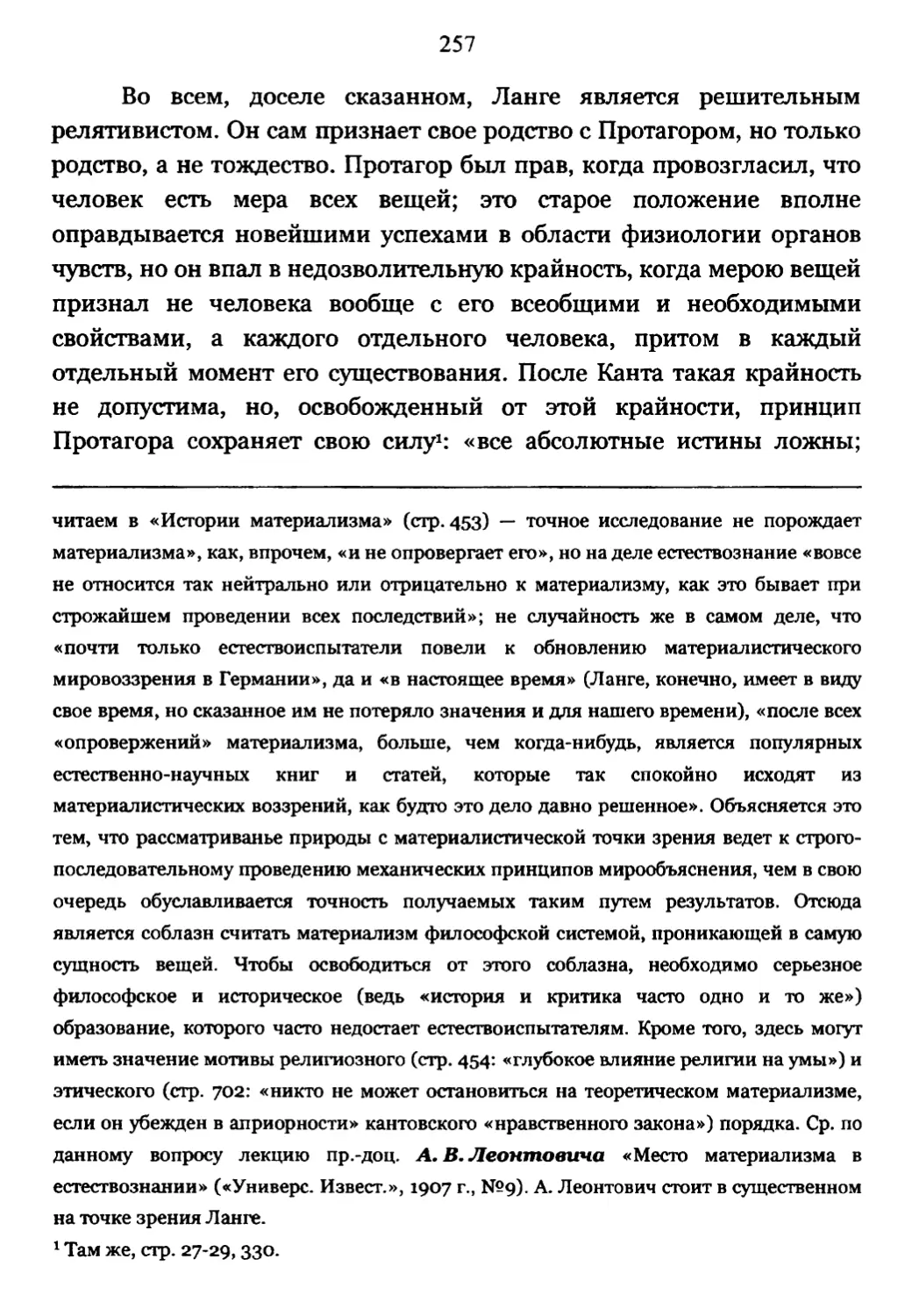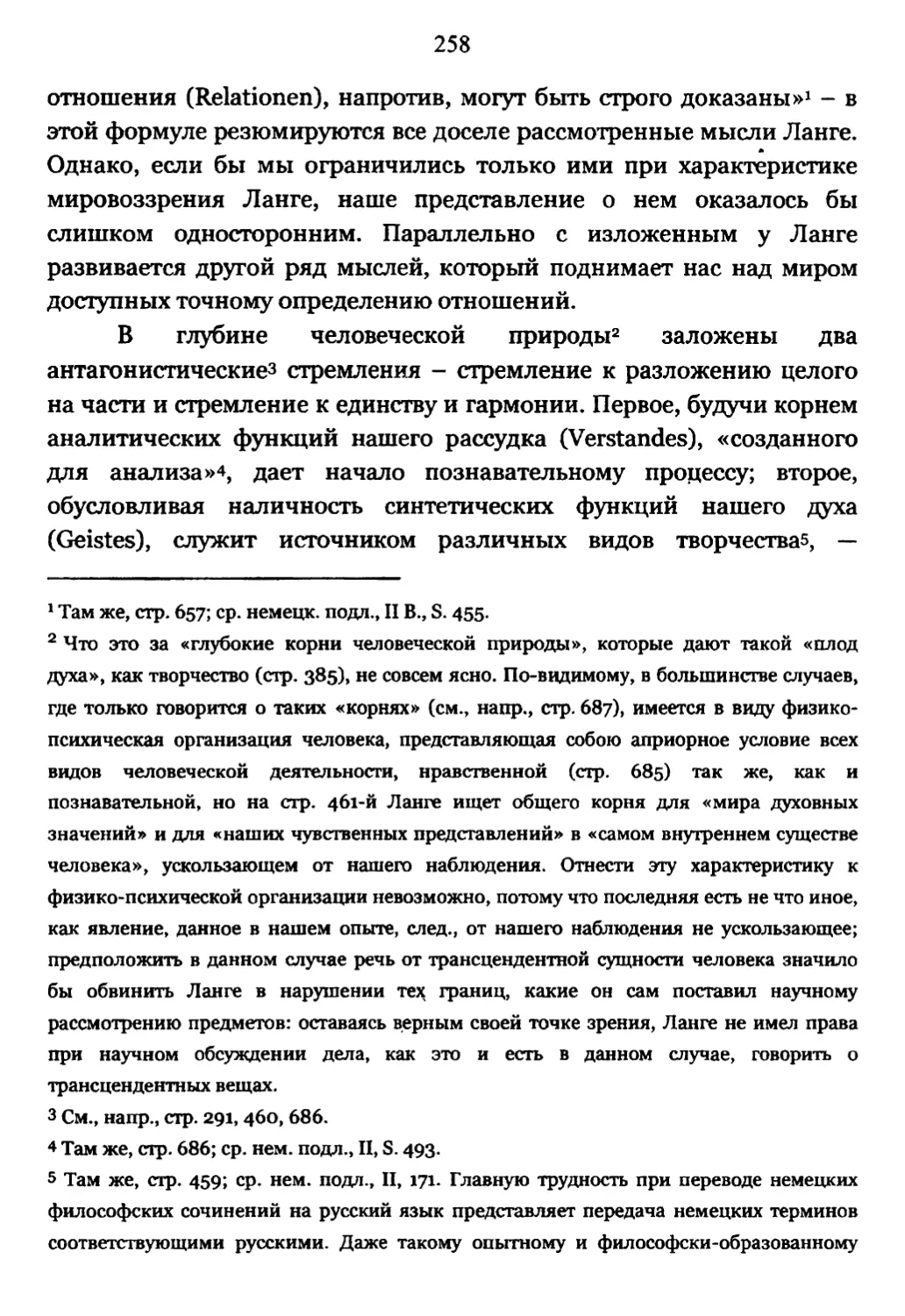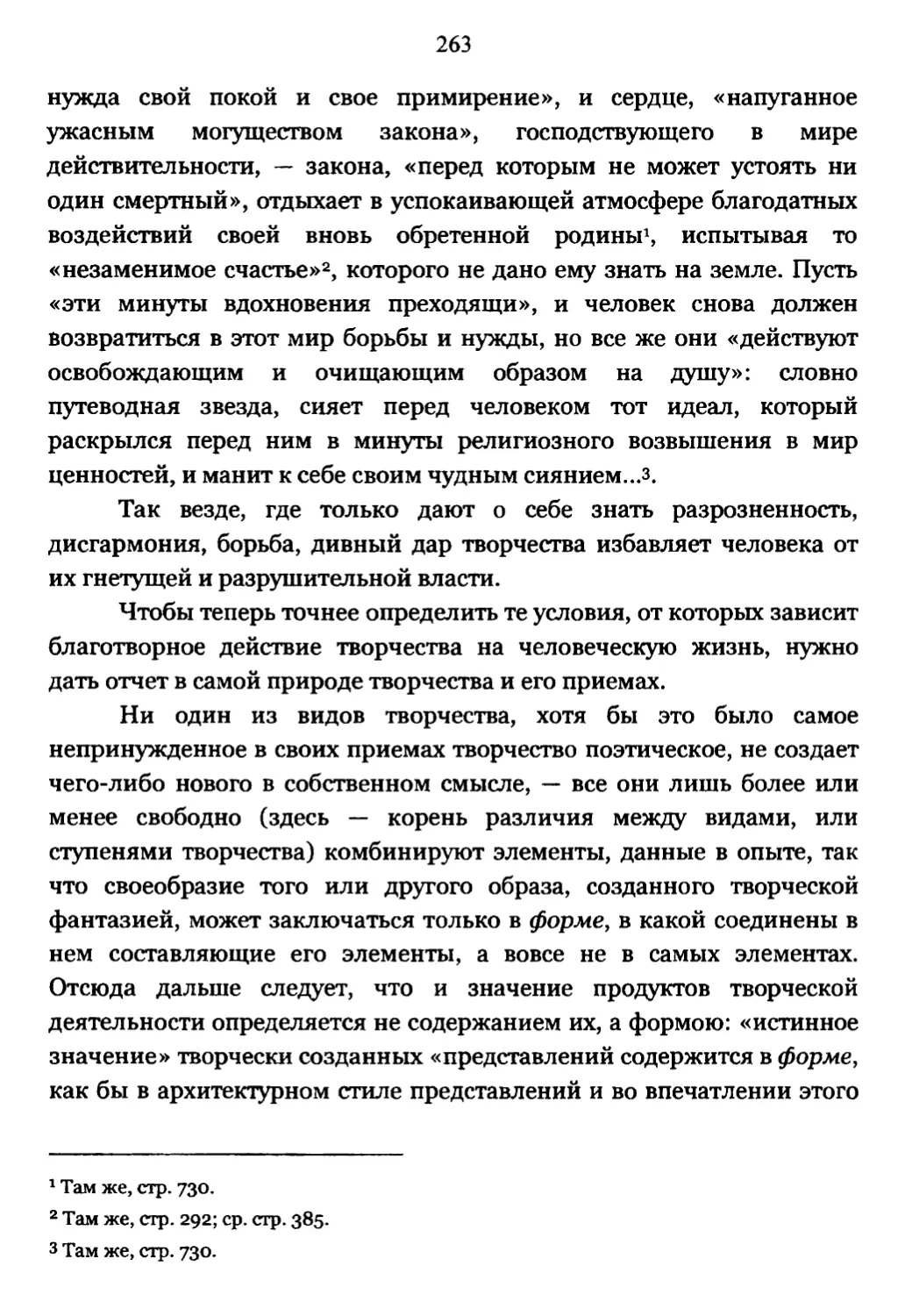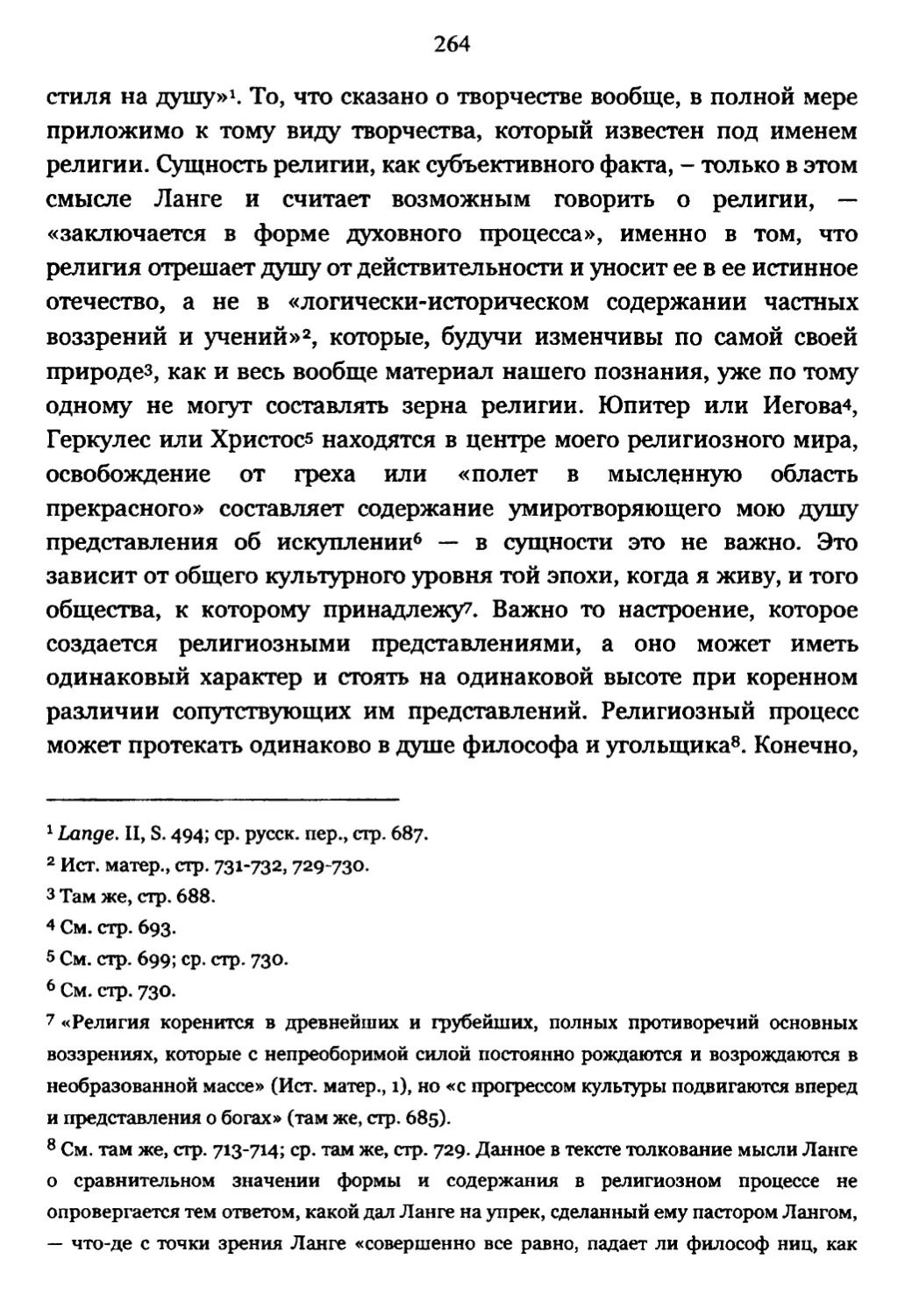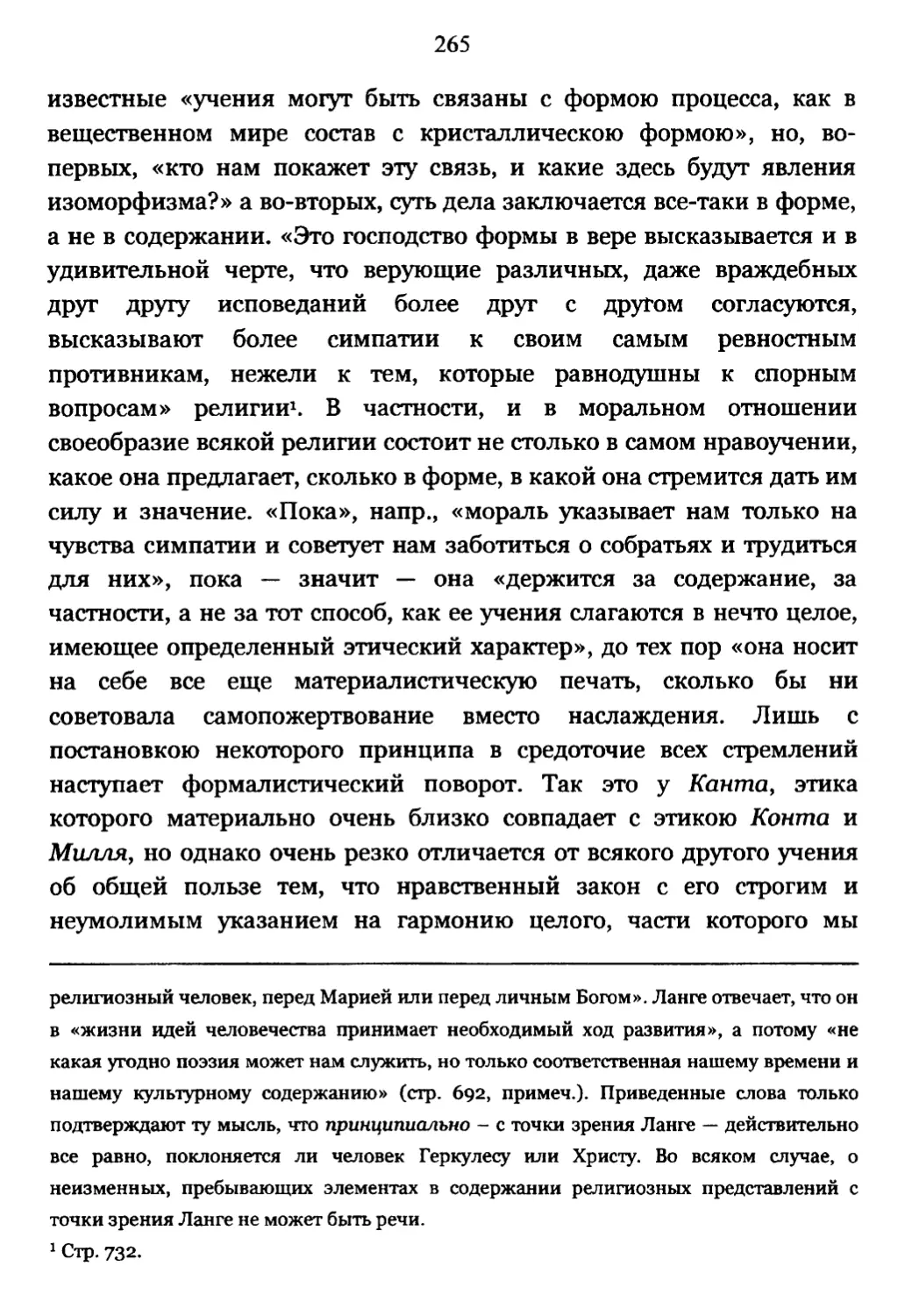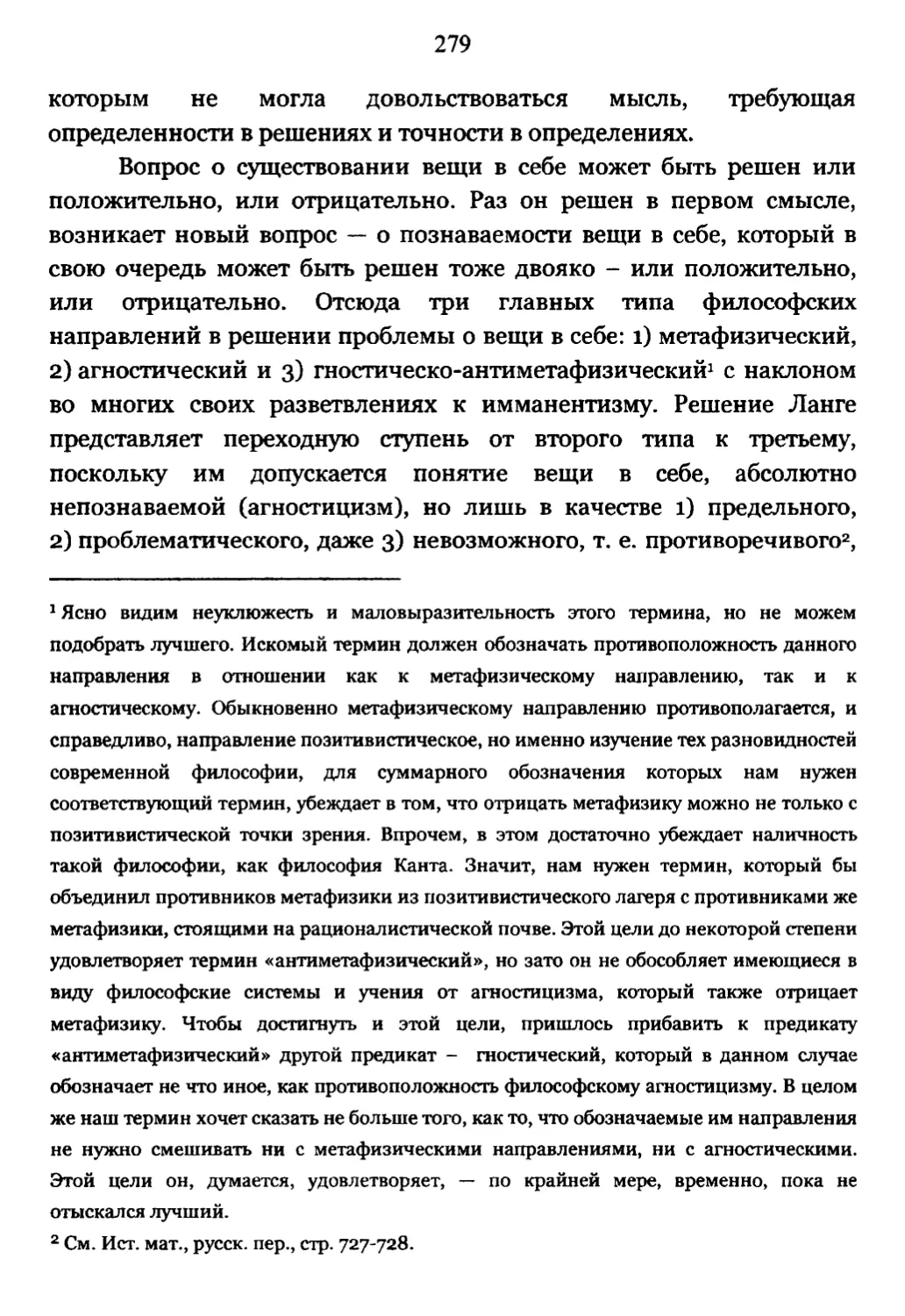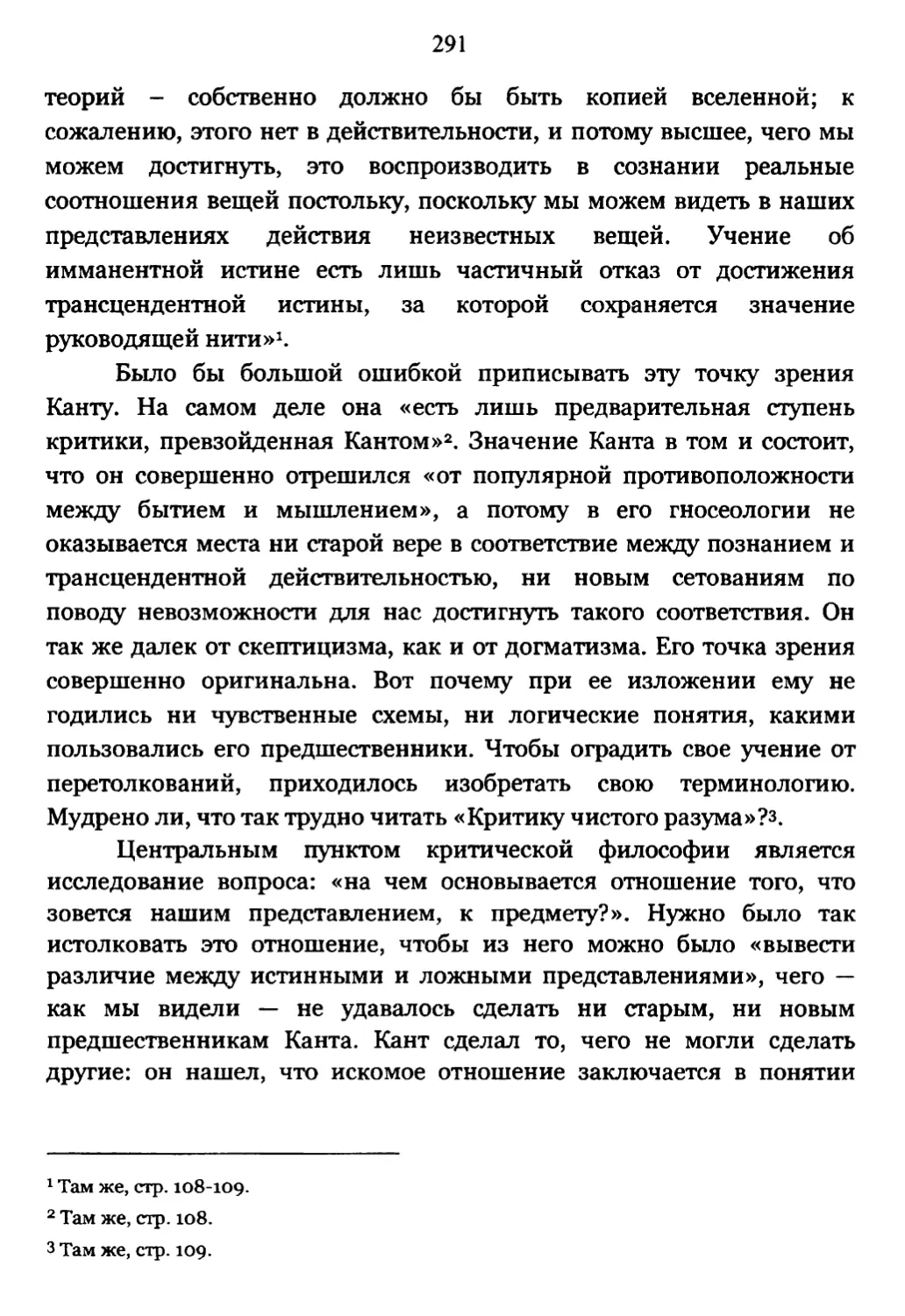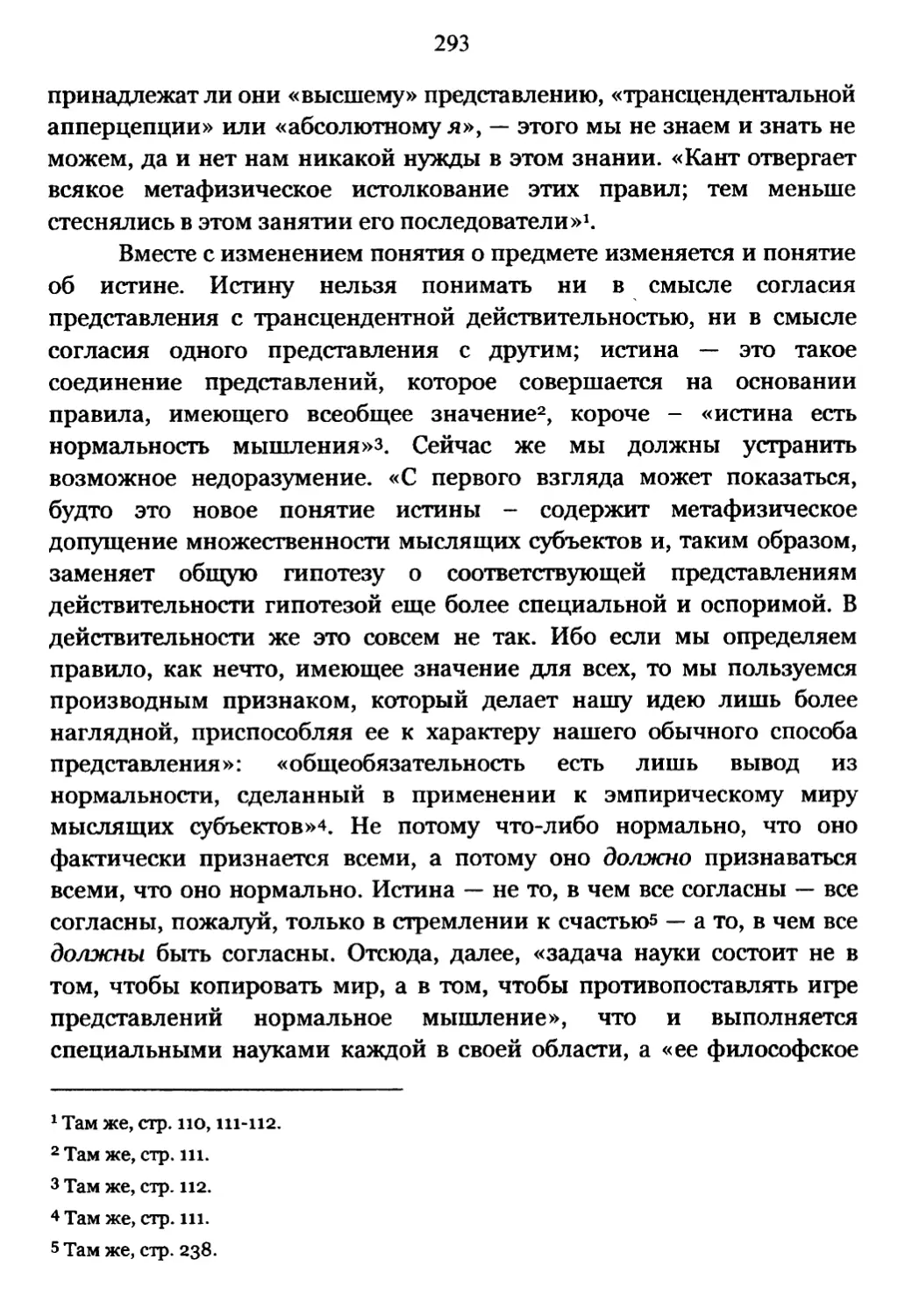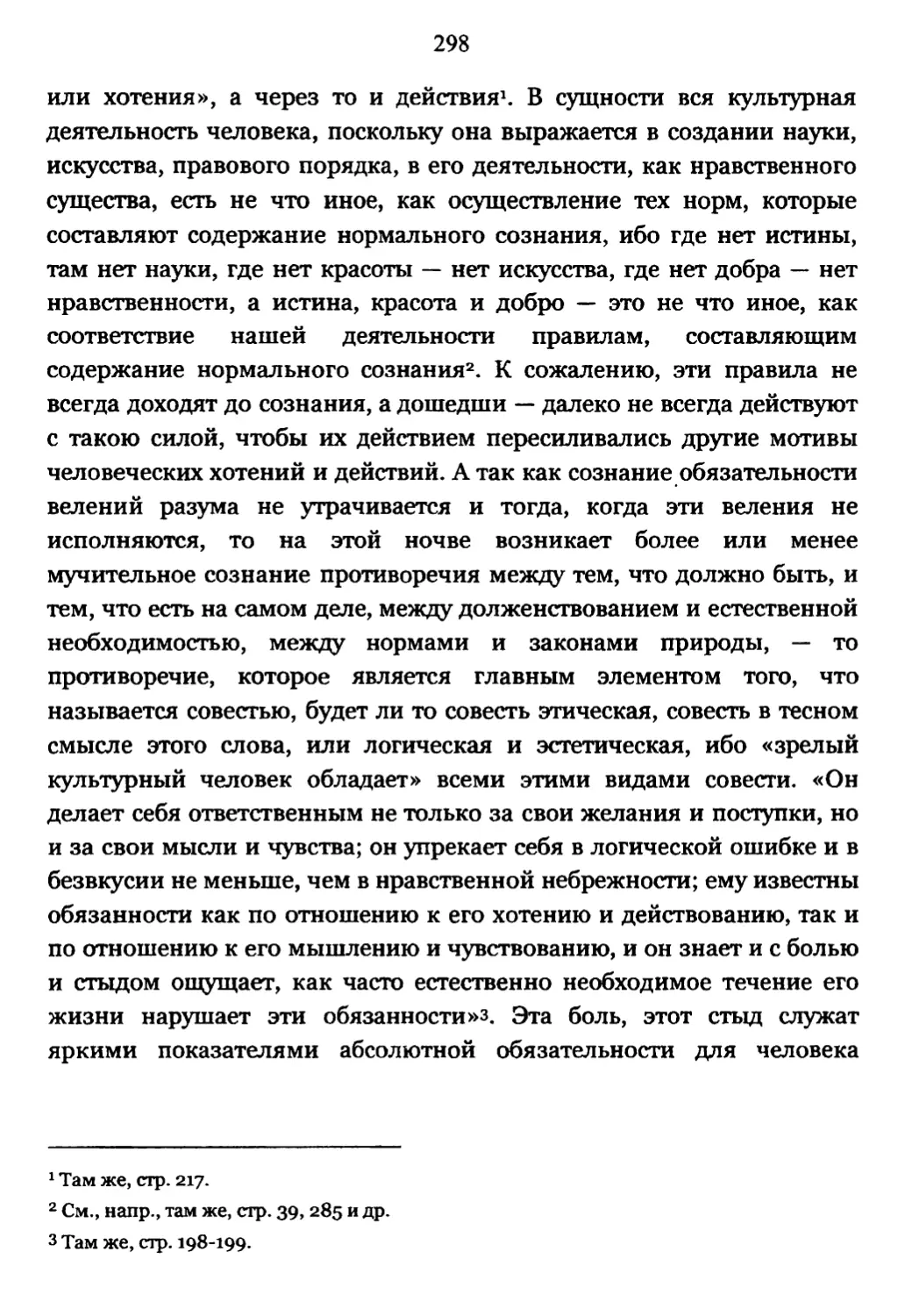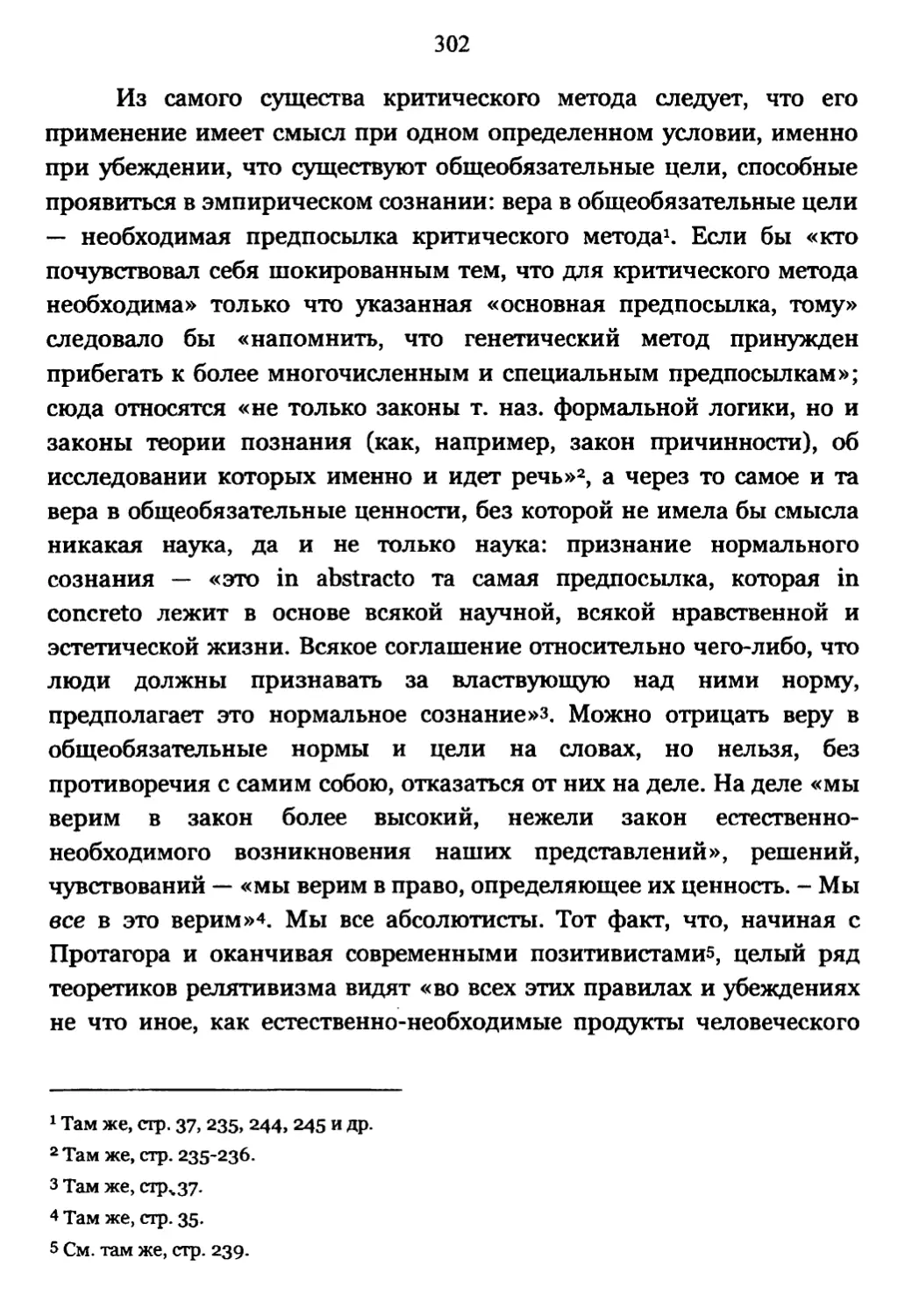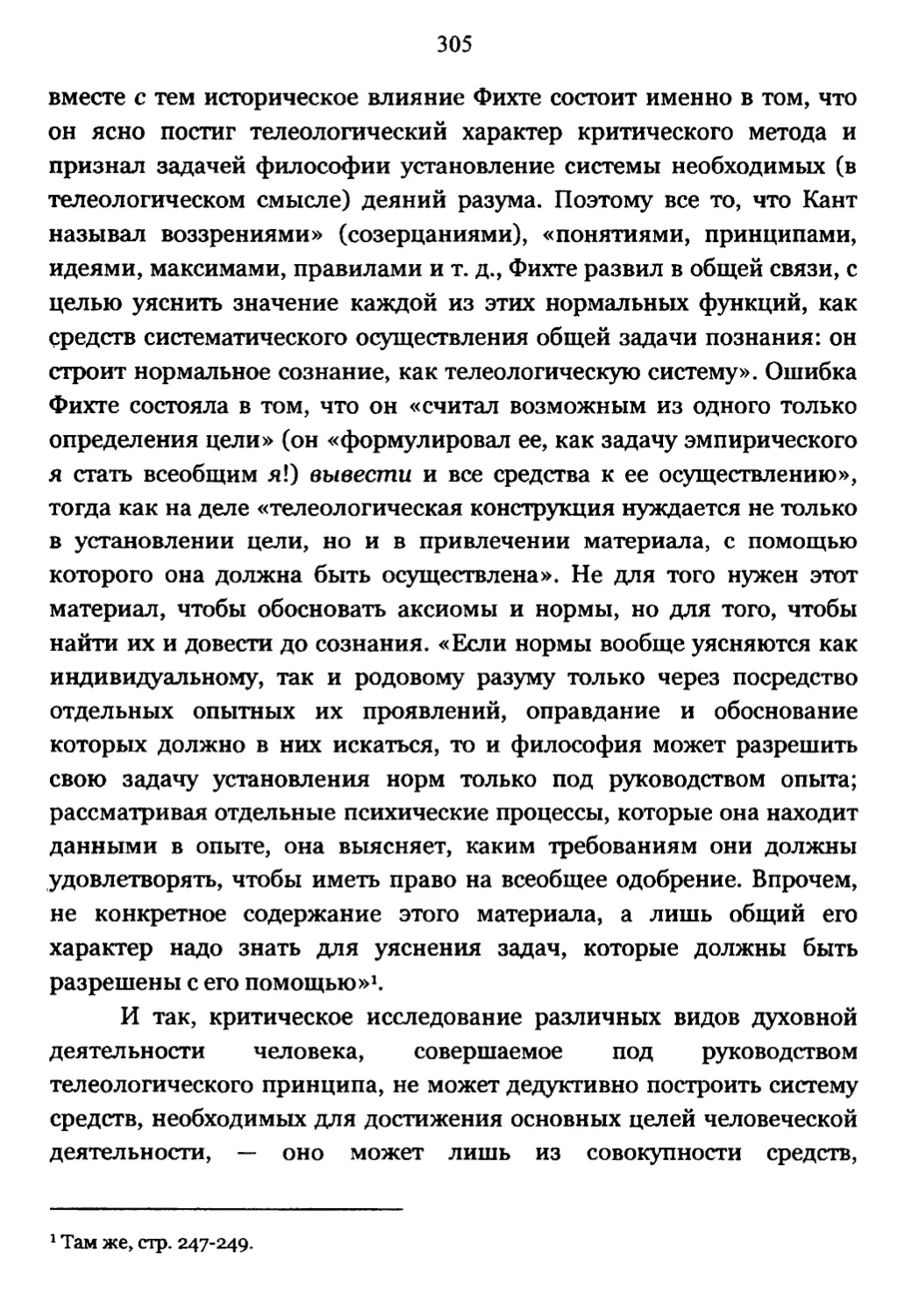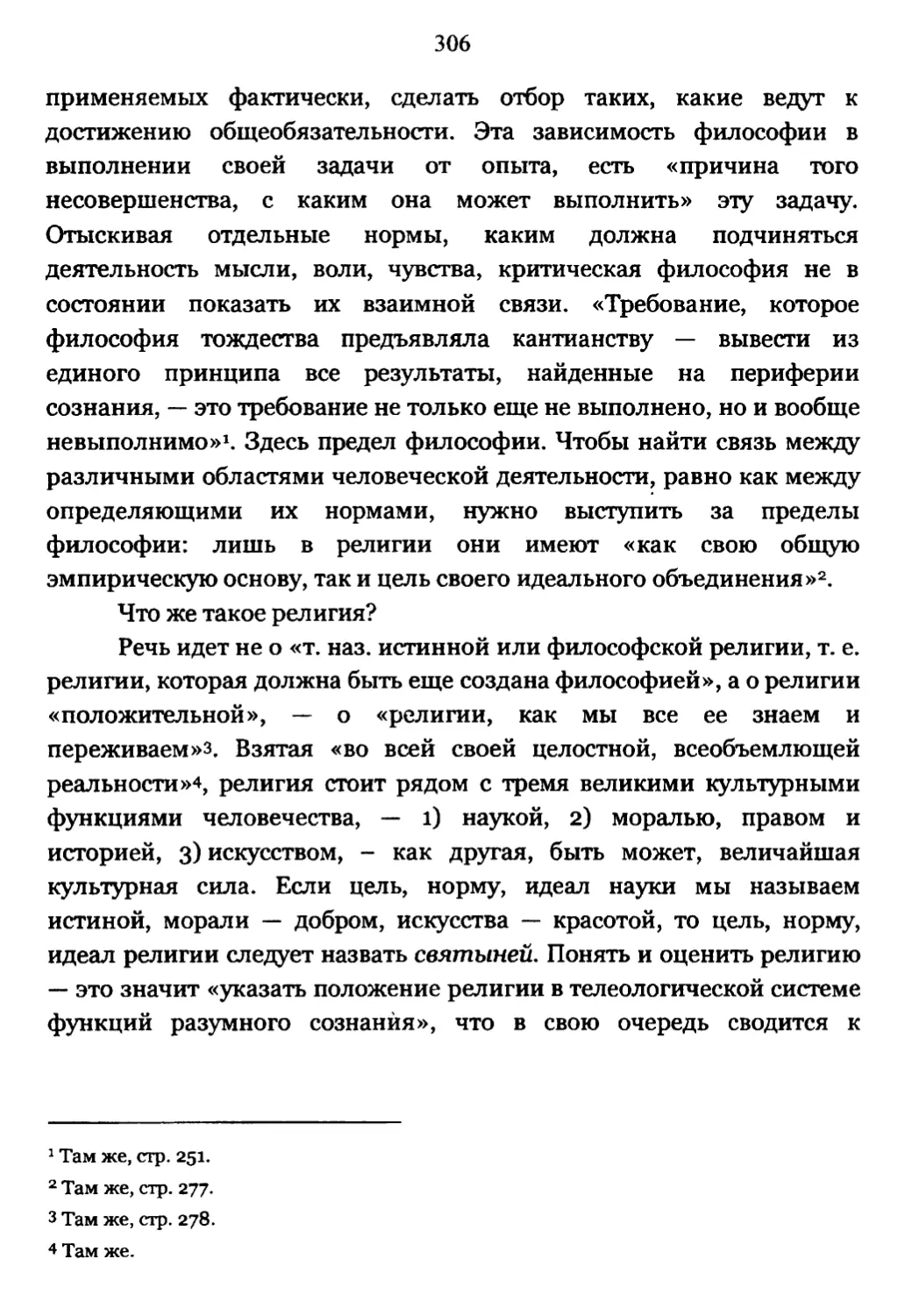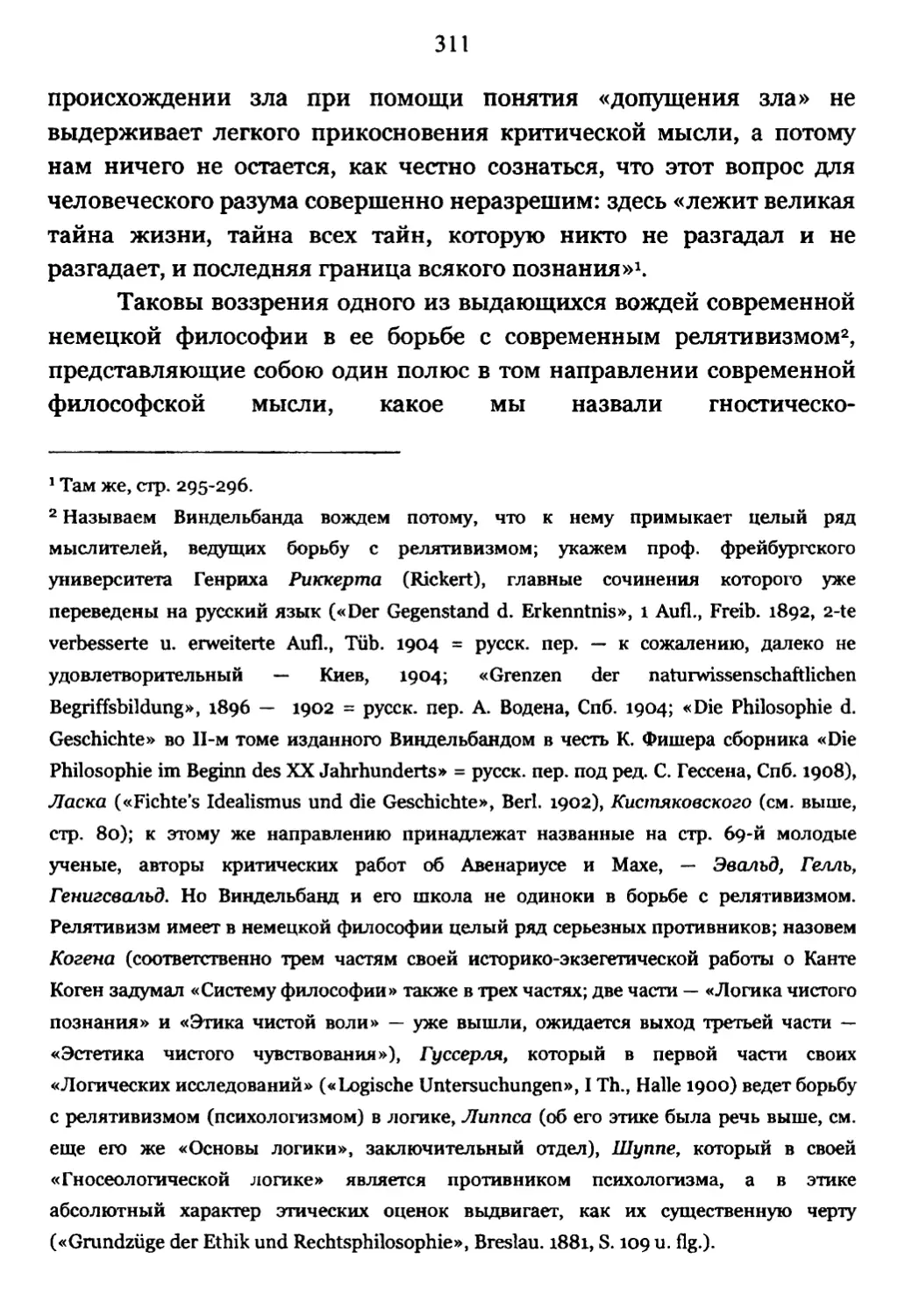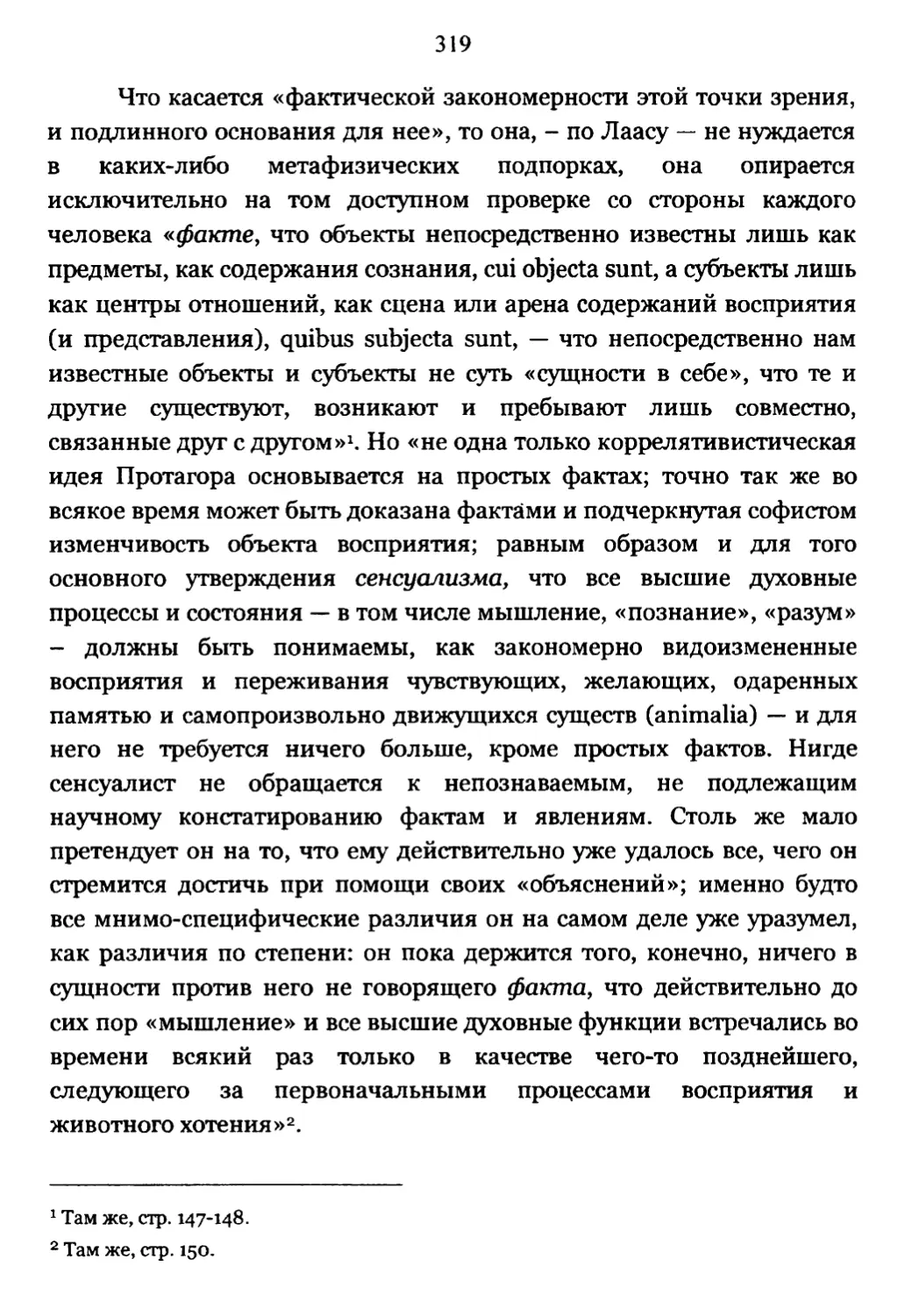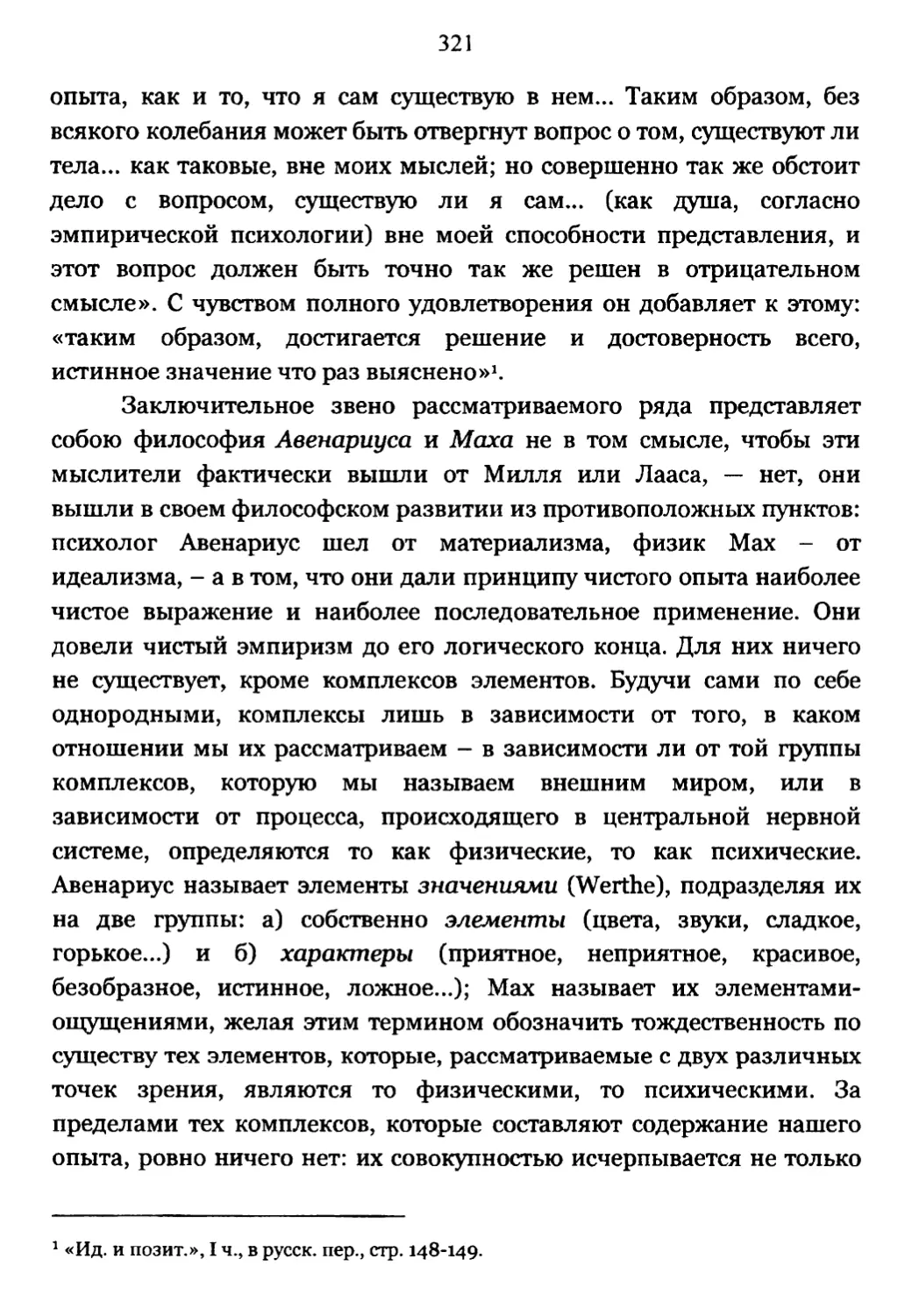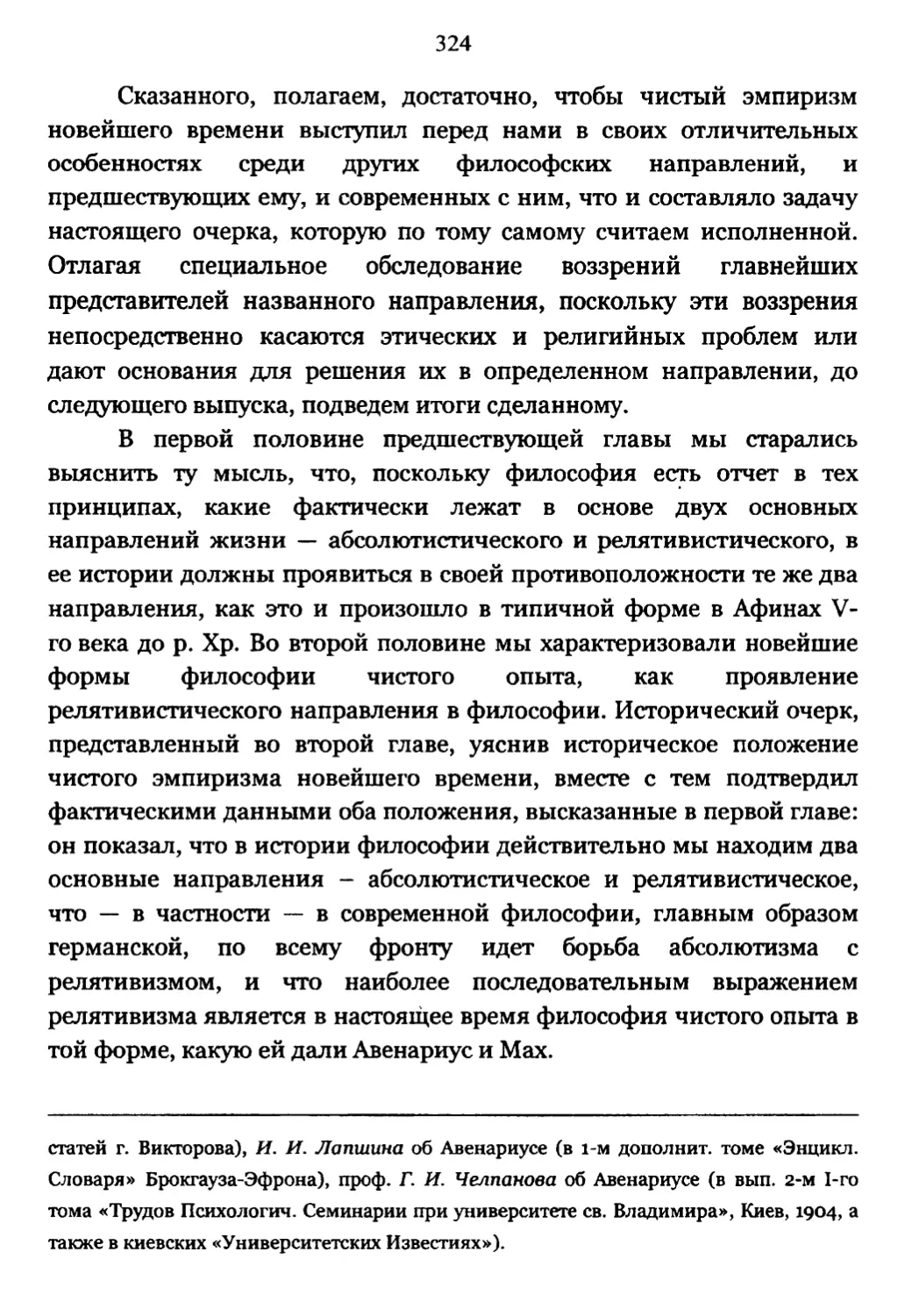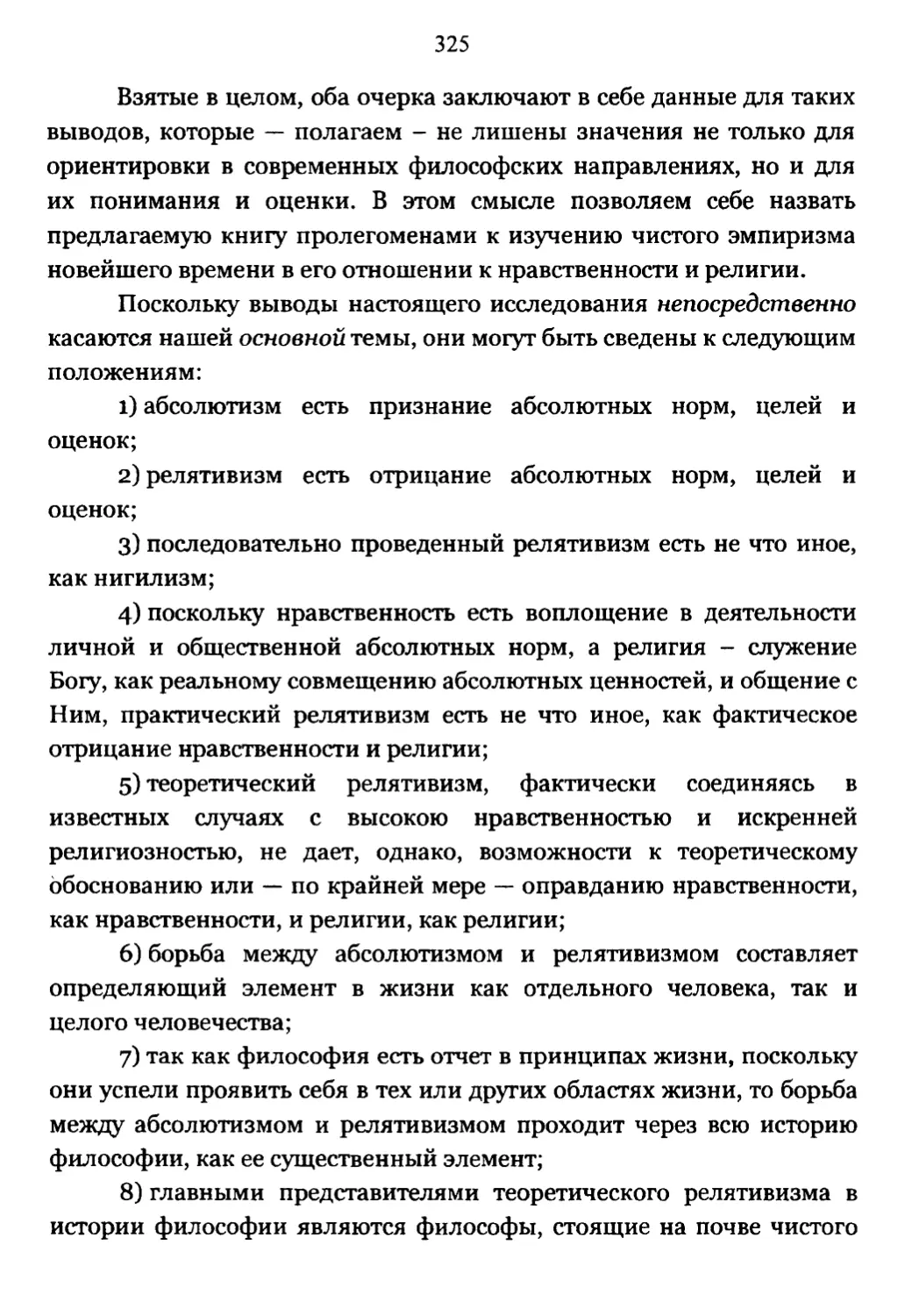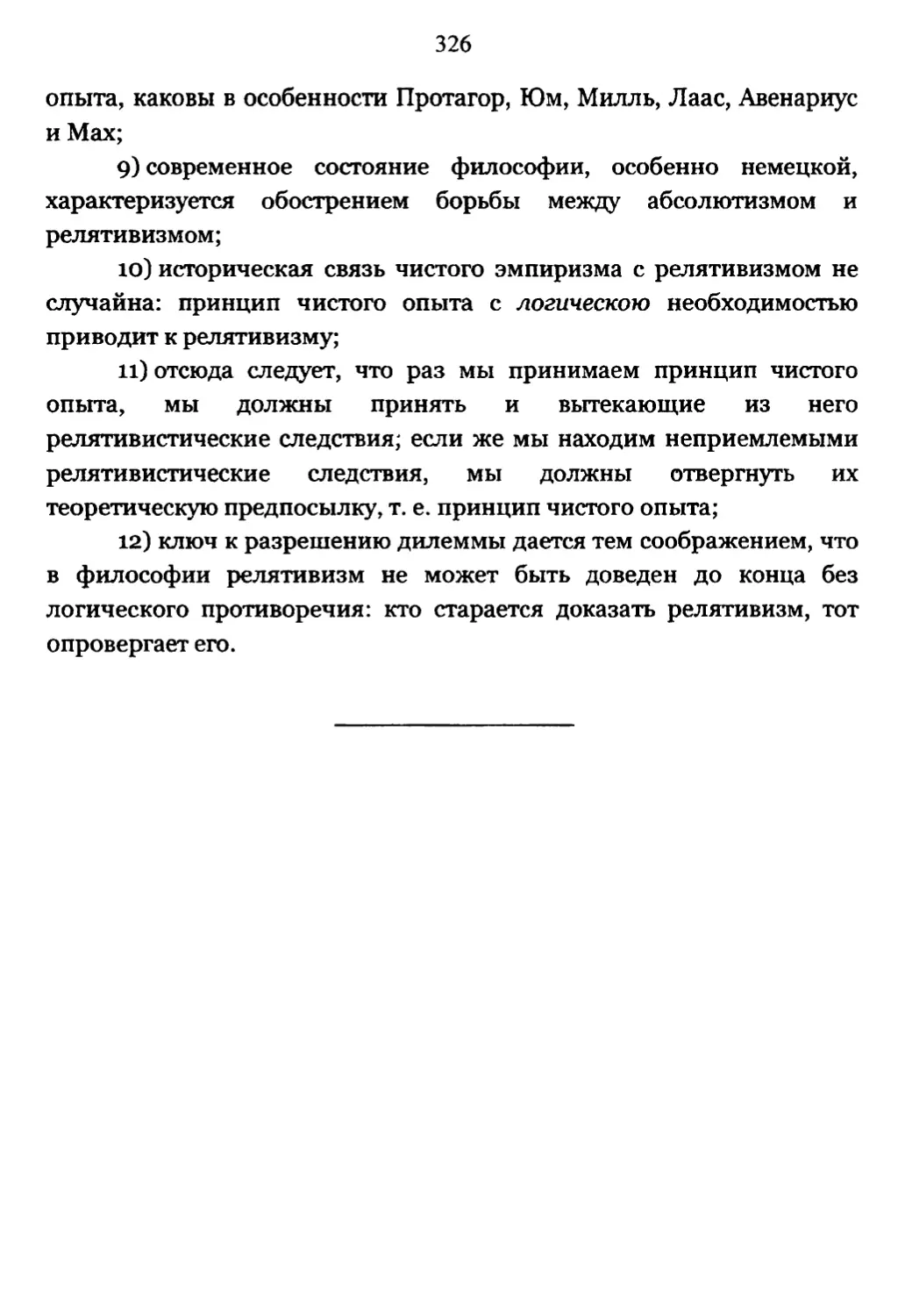Автор: Кудрявцев П.П.
Теги: философские системы и концепции философия сочинения
ISBN: 978-966-197-187-4
Год: 2012
Текст
П. П. Кудрявцев
АБСОЛЮТИЗМ
ИЛИ РЕЛЯТИВИЗМ?
П. Кудрявцевъ
АБСОЛЮТИЗМЪ ИЛИ РЕЛЯТИВИЗМЪ?
опытъ
историко-критическаго изучешя чистаго эмпиризма новъйшаго времени въ его отношенш къ нравственности и релипи.
Prolegomena
КХЕВЪ
Типо-литограф1я И. И. Чоколова, Фундуклеевская ул., д. №22 1908
Серия «Антология украинской мысли»
П. П. Кудрявцев
Сочинения
В двух томах
т.1
АБСОЛЮТИЗМ ИЛИ РЕЛЯТИВИЗМ?
Опыт историко-критического изучения чистого эмпиризма новейшего времени в его отношении к нравственности и религии.
Prolegomena
Мелитополь
Издательский дом МГТ
2012
УДК 141.(477)
ББК 8з-3(4Укр)
К88
Серия «Антология украинской мысли» Основана в 2007 г.
Редколлегия серии «Антология украинской мысли»
Лазарев Ф. В. (председатель), д-р. филос. наук;
Кри вега Л. Д. (заместитель), д-р филос. наук;
Мозговая Н. Г., д-р филос. наук;
Сиднев Л. Н., д-р филос. наук;
Шкода В. В., д-р филос. наук;
Суходуб Т. Д., к. филос. наук;
Волков А. Г., к. филос. наук.
Редактор издания А. Г. Волков, автор вступительной статьи Н. Г. Мозговая.
К88 Кудрявцев П. П. Сочинения: в 2 т. / под ред. Волкова А. Г. -Мелитополь: Издательский дом МГТ, 2012. - (Серия «Антология украинской мысли»).
ISBN 978-966-197-187-4
Т.1.: Абсолютизм или релятивизм? / авт. вступ. ст. Мозговая Н. Г.-
2012. - 332 с.
ISBN 978-966-197-188-1
В первую книгу сочинений украинского философа, профессора кафедры истории философии Киевской духовной академии, члена Киевского религиозно-философского общества Петра Павловича Кудрявцева включено одно из самых известных его сочинений. Первая книга содержит в себе отстаивание этических оснований христианской веры и критику положений философии эмпиризма, марксизма, эмпириокритицизма и позитивизма.
Издание предназначено для специалистов в сфере гуманитарных наук, а также всех, кто интересуется историей философии.
УДК 141.(477)
ББК 8з.з(4Укр)
ISBN 978-966-197-187-4 ©Кудрявцев П. П., 2012.
ISBN 978-966-197-188-1 (т. 1) ©Мозговая Н. Г.,
вступительная статья, 2012.
ПОСЛЕДНИЙ ПРОФЕССОР ФИЛОСОФИИ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ
Имя Петра Павловича Кудрявцева (1868-1940) ассоциируется с завершением существования киевской школы философского теизма, поскольку он был последним профессором философии КДА до ее официального закрытия в начале 1920 года, хотя, как свидетельствуют архивы, неофициально занятия в КДА продолжались на дому у профессуры еще до 1923 г.
П. Кудрявцев родился 12 августа 1868 г. в деревне Алексеевка Тульской губернии в семье священника. Обучался в Ефремовском духовном училище, затем в 1888-1892 гг. - студент КДА. В 1892 г. со степенью кандидата богословия оканчивает КДА и в этом же году оставлен в качестве профессорского стипендиата при кафедре истории философии. По невыясненным сегодня обстоятельствам, П. Кудрявцева внезапно переводят на должность преподавателя философских наук в Каменец-Подольскую духовную семинарию, где он работает с 1893 по 1897 гг.1 Его лекции по психологии, логике, истории философии слушает будущий украинский композитор Н. Леонтович. Одновременно он работает учителем в Подольском женском училище духовного ведомства и является членом Подольского епархиального совета училищ.
С 1897 г. по решению совета КДА Кудрявцев назначен на кафедру истории философии, на которой работает до 1919 г. в должностях доцента, экстраординарного, ординарного профессора. Читает в академии историю философии, а также преподает русскую литературу на вечерних курсах Фребелевского института и в женских гимназиях Киева. На протяжении 1898 г. исполняет обязанности помощника инспектора академии. Являлся Статским Советником, кавалером Святого Станислава III степени и Святой Анны III степени.
1 Формулярный список о службе экстраординарного профессора КДА Статского Советника Петра Павловича Кудрявцева // ЦГИА Украины в г. Киеве. - Ф. 711. - Оп.1. -Ед. хр.10928. - Лист 1.
6
Ярким периодом в академической деятельности Кудрявцева стал 1905 год, когда он возглавил реформаторское* движение в профессорской среде. Вместе с профессорами 11. Дроздовым, В. Завитневичем, Ф. Титовым, В. Рыбинским и доцентом В. Экземплярским Кудрявцев стал автором «Проекта о наиболее необходимых временных изменениях Устава православных духовных академий». В официальном отчете о деятельности либералов из духовного ведомства указывалось, что «наибольшее одобрение в среде студентов в смысле освободительном внесено было совещаниями преосвященного В. Рыбинского и Кудрявцева с кн. Трубецким и кадетами. Рыбинский и Кудрявцев тайно ездили на Рождество в Петербург и целые дни и ночи проводили над составлением проекта отделения церкви от государства, об автономии академий и превращении их в свободные богословские курсы по образцу германских протестантских...»1.
В 1908 г. во время ревизии КДА архиепископ Волынский Антоний назвал П. Кудрявцева за его вольнодумство «русским Вольтером». В ответ на ревизию КДА группа «левых» профессоров написала и издала книгу «Правда о Киевской духовной академии», среди авторов был и Кудрявцев.
П. Кудрявцев был также одним из основателей, а позже и председателем Киевского религиозно-философского общества (1907-1912), членом Киевского научно-философского общества.
В своих воспоминаниях «Мои встречи с выдающимися людьми» В. Зеньковский следующим образом охарактеризовал П. Кудрявцева как личность: «Основное дарование Кудрявцева лежало не в научной или философской сфере, а в сфере моральной, в вопросах совести он был глубок, остро правдив, неуступчив. В профессорской коллегии Киевской Духовной Академии он был ее совестью, и это сильнее и резче всего выражалось в его социально-политическом радикализме. Радикализм этот по существу был лишь
1 Цит. по: Шленский Д., Браславец А. Андреевский спуск. - К.: Изд-во дом «Амадей», 1998. - С. 146-147.
7
умеренным либерализмом, но на фоне мрачно консервативных профессоров Духовной Академии он был «радикалом»1.
В 1910 г. политическая ситуация резко меняется, и в академии начинает господствовать «правая профессура». Из академии увольняют В. Экземплярского (ближайшего коллегу Кудрявцева), после введения нового устава из курса академии исключается ряд общеобразовательных предметов, а история философии и педагогика низведена до уровня групповых факультативов.
В 1914 г. профессор П. Кудрявцев анонимно выпускает в издательстве Киевского религиозно-философского общества популярную хрестоматию «Волны вечности в русской поэзии», где собрал лучшие образцы философской русской и мировой лирики. В предисловии к этой книге он пишет: «Потоком времени не увлекается бесследно лишь тот, кто, живя во времени, имеет опорную точку за пределом времени, куда уходят последние корни бытия и жизни, и где даны непреходящие нормы и критерии для оценки протекающего во времени. Через эту связь с вечным временное приобщается к миру вечного бытия и непреходящих ценностей, и чья жизнь пронизана ею (связью с вечным - Н. М.) - будет ли то жизнь отдельного лица, или коллективного целого - тот живет уже не во времени только, но и в вечности, и не для себя только, но и для Бога. Тогда к берегам времени приливают волны вечности, и в них слышится присутствие Бога...»1 2.
В 1917 г. Кудрявцев - делегат Киевского епархиального съезда, а в 1918 г. - делегат Всеукраинского Православного Церковного Собора. Кудрявцев, движимый стремлением помочь церкви, становится председателем ученого комитета при министерстве исповеданий (министром в то время был В. Зеньковский) в правительстве гетмана П. Скоропадского.
1 Зеньковский В. Мои встречи с выдающимися людьми // Записки русской академической группы в США. - Нью-Йорк. - 1994. - Том XXVI. - С. 47.
2 Волны вечности в художественной литературе. - К.: Типография Т-ва И.Н. Кушнерев иК°, 1914.-С. VHI.
8
Выехав в 1919 г. из Киева в Крым, Кудрявцев до 1921 г. работает в Таврическом университете ординарным профессором философии, где в это же время ректором был В. Вернадский. Возвратившись в 1921 г. в Киев, Кудрявцев становится сотрудником историко-филологического отдела ВУАН по отдельным научным поручениям. Он тесно сотрудничает с М. Грушевским, В. Вернадским, В. Зеньковским, А. Крымским.
Позже Кудрявцев входит в состав Комиссии по составлению биографического словаря выдающихся деятелей Украины, в состав Комиссий по делам изучения истории Киева, по изучению еврейской и византийской истории, также являлся членом Всеукраинской научной ассоциации востоковедов. Проекту биографического словаря так и не суждено было увидеть свет: с 1929 г. ВУАН оказывается под контролем тоталитарного режима и полностью утрачивает свою автономность. Правительство вводит цензуру на издания ВУАН, одна за другой закрываются ее секции, разворачивается жестокая борьба с «буржуазным национализмом». Но Кудрявцев успел до этого написать много очерков о жизни и творчестве киевских духовноакадемических мыслителей XIX в., в частности, об А. Амфитеатрове, П. Авсеневе, Ор. Новицком, П. Линицком, М. Олесницком.
Вместе с Кудрявцевым в ВУАН работал уже нами упоминавшийся его ближайший друг и коллега по академии В. Рыбинский (1867-1944) - последний мемуарист Киевской духовной академии, тайно передавший Кудрявцеву в конце 30-х годов из Баку в Киев свои мемуары1.
В своих воспоминаниях дочь П. Кудрявцева Екатерина писала: «С Владимиром Петровичем Рыбинским отца связывало еще и положение в духовной академии, как принадлежащих к одному и тому же прогрессивному направлению («левой профессуре»). Отец был одним из лидеров этого направления и в лице Владимира Петровича находил всегда и единомышленника, и мудрого
1 См. об этом: Шльонський Д., Шльонська О. Остантй мемуарист Ки'шсько! духовно! академп //Хрошка. - 2000. - №17-18. ('. 152-153.
9
советчика... По характеру и по темпераменту эти два человека были полной противоположностью: отец - легко возбудимый, нервный, горячий, а Владимир Петрович - всегда абсолютно спокойный рассудительный и мудрый...»1. Аналогичные мысли мы находим и в воспоминаниях В. Зеньковского: «Кудрявцев говорил обычно желчно, остро, всегда волнуясь, точно его только что обидели, но душа у него была полна лиризма, поэтической грусти. В нем я всегда чувствовал жертву того угнетения свободной христианской мысли, которое царило в Духовных Академиях - особенно Киевской»1 2.
Из воспоминаний близких известно, что на протяжении 20-30-х гг. Кудрявцев также подрабатывал в трудовых школах г. Киева, преподавая там русский язык и литературу.
В августе 1938 г. 70-летний ученый был арестован и находился под следствием ОГПУ до апреля 1939 г. После освобождения из заключения силы пожилого человека были окончательно подорваны и в июне 1940 г. он умирает. Нелегкая судьба выпала и его дочерям: Бландине и Екатерине. Вскоре после смерти отца им довелось отбыть 5-летнюю ссылку в Сибири.
Кудрявцев - автор более 250 научных работ по историко-философской, богословской, религиозно-публицистической, литературоведческой проблематике. Такие работы автора, как «Связь с Отцами в сердце и мысли Владимира Соловьева» (1916) или «Идея Святой Софии» (1916) еще ждут своих дальнейших философских исследований.
Время творчества П. Кудрявцева - это время (конец XIX -начало XX в.) тотального заражения русской интеллигенции идеями атеизма, социализма и позитивизма, проистекающими, по мнению Ф. Достоевского, из единого источника - попытки человечества устроиться без Бога, по собственному разумению. П. Кудрявцев первым среди представителей киевской школы философского теизма
1 Кудрявцева Е. П. Воспоминания // 1з рукописно! колекцй Музею Одше! Вулиць - С. 3.
2 Зеньковский В. Мои встречи с выдающимися людьми // Записки русской академической группы в США. - Нью-Йорк. - 1994. - Том. XXVI. - С. 47-48.
10
подверг критике мировоззренческую парадигму так называемого второго позитивизма, или эмпириокритицизма. Все предыдущие представители киевской духовно-академической философии, такие как Ор. Новицкий, С. Гогоцкий, П. Юркевич, П. Линицкий, сосредотачивали свою критику на методологических основах первого, или контовского, позитивизма, поскольку их научная деятельность пришлась на вторую половину XIX века, то есть на период первоначального осмысления мировоззренческих принципов О. Конта, Дж. Милля, Г. Спенсера. В работах киевских представителей духовной философии мы также находим обстоятельную критику взглядов русских мыслителей, испытавших влитяние позитивистов: Н. Чернышевского в работах П. Юркевича1 и Ор. Новицкого1 2 3 4, М. Троицкого в работах С. Гогоцкогоз, Н. Грота в работах П. Линицкого*.
Как известно, возникновение позитивизма было обусловлено всем ходом развития науки XIX в., спецификой классической картины мира, построенной усилиями Ньютона и его последователей. Обусловлен он был и тем, что в европейском общественном мнении тогда сложилась своеобразная эйфория в отношении науки, безграничная вера в нее.
1 См.: Юркевич П. Сердце и его значение в духовной жизни человека, по учению слова Божия // Философские произведения. - M.: Правда, 1990- - С. 69-103.
2 Новицкий Ор. Несколько слов в ответ на рецензию сочинения: «Постепенное развитие древних философских учений и пр.», помещенную в «Современнике»// Постепенное развитие древних философских учений в связи с развитием языческих верований. - К.: В университетской типографии, 1861. - 4.IV. -С. I-XX.
3 Гогоцкий С. Несколько мыслей по поводу сочинения: Немецкая психология в текущем столетии, историческое и критическое исследование, с предварительным очерком успехов психологии со времен Бэкона и Локка. М. Троицкого, М, 1867. - К.: В типографии Е. Федорова, 1867. - 83 с.
4 Линицкий П. Слова и речи на разные дни и случаи, как учебные работы студентов, лекции по логике, читанные профессором П.И. Линицким в записи студента П. Кудрявцева. - Институт рукописей НБУ. - Ф.160. - №815. - Листы 159-238.
II
Позитивизм стал радикальным теоретическим гимном науке. Именно с ним связано становление особого раздела философского знания и широкого направления в мировой философской мысли -философии науки. Так называемый первый (контовский) позитивизм можно считать утопическим учением о науке как альтернативе всему тому, что признавалось отжившим (включая классическую -гегелевскую философию) учением о науке, которая явилась инструментом действительного прогресса общества. Учение О. Конта было ориентировано в большей мере на просветительство и обоснование путей совершенствования общества на основе науки, чем на осмысление собственно феномена науки. Потому его следует в первую очередь относить к разряду идеологических и социальнореформаторских.
Неизбежна была востребованность этих идей и в пореформенной России. Импонировал российским шестидесятникам, да и семидесятникам XIX в., не в последнюю очередь идеал коллективизма, просматривавшийся как в модели науки, построенной О. Контом, так и в более поздней его модели позитивной религии.
Другое дело, что одновременно с этим происходило становление самой русской философии как аутентичного культурного феномена. Антиметафизический пафос позитивизма представлял для последнего действительную угрозу. Это прозорливо уловил Вл. Соловьев, ставший, по сути, создателем первой русской оригинальной философской доктрины.
Но и Соловьеву при этом не удалось избежать влияния многих позитивистских установок. Свидетельствует об этом хотя бы то, что русский мыслитель отождествлял науку с эмпирически ориентированным естествознанием.
Как известно, позитивизм формирует так называемую стандартную модель науки. Параметры ее следующие: открытие явлений, добыча фактов - главное дело науки; факты должны подводиться под законы; законы носят дескриптивный характер; в иерархии наук выражен принцип редукционизма; история науки есть
12
кумулятивный процесс. Из такой науки, естественно, исключалась любая метафизика, умозрение как таковое. Задача положительной философии, т.е., той, которая опосредована наукой, по представлению О. Конта, состоит в том, что она может постепенно привести к достижению великого интеллектуального согласия («истинно человеческой ассоциации»). Философия, таким образом, призвана была с помощью позитивизма обеспечить организацию научного знания в единую систему, унифицировать его, привести в соответствие со здравым смыслом.
Обособление науки от других родов знания - теологии и философии - рассматривалось с позиций позитивизма как значимый, прогрессивный, а главное, необратимый факт истории. Прежняя классическая философия, предварив автономизацию и возвышение науки, по мнению О. Конта, достигла своего пункта насыщения, исчерпала свои резервы как система познания.
В этой обстановке с позиций философского теизма П. Кудрявцев поддает беспощадной критике теоретические основания таких мэтров эмпириокритицизма, как Э. Мах, Р. Авенариус, Э. Литтре. Этому вопросу философ посвящает ряд таких работ, как «Главные моменты в истории вопроса об отношении веры к знанию» (1901)1, «К вопросу об отношении христианства к язычеству» (1903)1 2 3, «Очерки современного эмпиризма» (1907)3. В основу последней была положена актовая речь П. Кудрявцева в КДА, произнесенная по окончании 1902/1903 учебного года. Итогом многолетней работы П. Кудрявцева послужила его магистерская диссертация «Абсолютизм или релятивизм? Опыт историко-критического изучения чистого эмпиризма в его отношении к нравственности и
1 Кудрявцев П. Главные моменты в истории вопроса об отношении веры к знанию. // Труды КДА. - 1901. - Т. III. - С.176-201.
2 Кудрявцев П. К вопросу об отношении христианства к язычеству. - К.: Типография И. И. Горбунова, 1903- - 94 с.
3 Кудрявцев П. Очерки современного эмпиризма. - К.: Типография И. И. Горбунова, 1907- - 88 с.
13
религии. Prolegomena»1, которую он успешно защитил в 1908 г. Оппонентами на защите выступили о. Константин Агеев, В. Свенцицкий и П. Струве1 2 3.
Работа состояла из двух частей. Первая - «Абсолютизм или релятивизм?» - была посвящена обстоятельному анализу борьбы между абсолютизмом и релятивизмом в истории философской мысли, а вторая - «От Бэкона до Маха. К уяснению исторического положения чистого эмпиризма новейшего времени» - посвящена анализу абсолютизма и релятивизма в философии XIX в. Особое внимание было уделено автором завершающему этапу в развитии эмпирически-релятивистского направления в философии.
Главную задачу своей работы П. Кудрявцев видит в «определении отличительных особенностей и сравнительного значения изучаемого направления (эмпиризма - Н. М.) в ряду других философских направлений, в особенности как последовательного выражения релятивистской точки зрения, и для отыскания наиболее надежных путей и приемов в борьбе с релятивизмом»з.
Какой же смысл философ вкладывает в понятия «абсолютизм» и «релятивизм»? «Абсолютизм, - указывает Кудрявцев, - это есть признание абсолютных норм, целей и оценок»*, а, следовательно, релятивизм - есть их отрицание. Последовательно проведенный релятивизм, по мнению Кудрявцева, с неизбежностью приводит к нигилизму.
Далее философ разделяет релятивизм на релятивизм практический и теоретический. Для практического является
1 Кудрявцев П. Абсолютизм или релятивизм? Опыт историко-критического изучения чистого эмпиризма в его отношении к нравственности и религии. Prolegomena. - К.: Типо-литография И. И. Чоколова. 1908. - 330 с.
2 См. об этом: Киевская мысль. - 1908 - № 284. - 13 октября.
3 Кудрявцев П. П. Сочинения / [ред. Волков А. Г., авт. вступ. ст. Мозгова Н. Г.]. -Мелитополь: Издательский дом MIT, 2012. - (Серия «Антология украинской мысли»). Т.1.: Абсолютизм или релятивизм? - 2012 С. 25.
4 Там же. - С. 325.
14
xiipiiктгрным фактическое отрицание нравственности и религии. Для теоретического «фактическое соединениясь в известных случаях с высокой нравственностью и искренней религиозностью не дает, однако (теоретический релятивизм - Н. М.), возможности к теоретическому обоснованию или - по крайней мере - оправданию нравственности, как нравственности, и религии, как религии»1. По глубокому убеждению П. Кудрявцева, борьба между абсолютизмом и релятивизмом проходит красной нитью через всю жизнь, как отдельного человека, так и общества в целом. Эта борьба проходит и через всю историю философии как ее наиболее существенный момент. Главными представителями теоретического релятивизма в истории философской мысли Кудрявцев считает Протагора, Д. Юма, Дж. Милля, Э. Лааса, Р. Авенариуса и Э. Маха. По глубокому убеждению философа, с последней четверти XIX в. средоточием и эпицентром эмпиризма является уже не Англия, а Германия (П. Ланге, Э. Лаас, Р. Авенариус, Э. Мах). Таким образом, П. Кудрявцев делает вывод, что «историческая связь эмпиризма с релятивизмом не случайна: принцип чистого опыта с логической -(выделено П. Кудрявцевым - Н. М.) необходимостью приводит к релятивизму. Отсюда следует, что раз мы принимаем принцип чистого опыта, мы должны принять и вытекающие из него релятивистские следствия; если же мы находим неприемлемыми релятивистские следствия, мы должны отвергнуть их теоретическую предпосылку, т. е. принцип чистого опыта. Ключ к разрешению дилеммы дается тем соображением, что в философии релятивизм не может быть доведен до конца без логического противоречия: кто старается доказать релятивизм, тот опровергает его»1 2. Таким образом, последовательно проведенный релятивизм не оставляет места ни для метафизики, ни для религии.
В этом контексте особый интерес для нас представляет та идейная параллель, которую П. Кудрявцев проводит между
1 Там же. С. 325.
2 Там же. С. 326.
15
Р. Авенариусом (а также читай - Э. Махом) и Ф. Ницше. Философ утверждает, что и у Ф. Ницше, и у Р. Авенариуса прослеживается «релятивизм в его нигилистической форме, как скрытая возможность, которая угрожает и этике, и гносеологии»1. И далее, «все они (представители релятивизма и нигилизма - Н. М.) одинаково хотят освободить человечество от якобы сковывающего его влияния метафизических теорий и религиозных верований, хотя в способе осуществления этого предприятия между спокойными, осторожными, методическими учеными и тревожным, порывистым, стремительным Ницше существует громадная разница. У Ницше речь сжатая, сильная, яркая и неуравновешенная до крайности: безудержный азарт сплошь да рядом сменяется мучительной тревогой. Со всей страстью своего неуравновешенного темперамента бросается он в борьбу с Богом, но по тому азарту, с каким Ницше отвергает Бога, приходит убежденность, что он все- таки верит в Бога»1 2.
Вывод П. Кудрявцева относительно эмпиризма Маха и Авенариуса носит резко отрицательный характер. Причем релятивизм последних, с его точки зрения, является более последовательным, чем релятивизм и нигилизм Ницше. Философ характеризует эмпириокритицизм как направление, «разрушительное по отношению к тем философским теориям и религиозным верованиям, в каких находит свое выражение абсолютистское направление мысли и жизни, потому что эмпиризм Маха и Авенариуса характеризуется последовательным проведением релятивистской точки зрения, равно неблагоприятной как для философского, так и для религиозного абсолютизма»з.
1 Кудрявцев П. П. Сочинения / [ред. Волков А. Г., авт. вступ. ст. Мозгова Н. Г.]. -Мелитополь: Издательский дом МГТ, 2012. - (Серия «Антология украинской мысли»). Т.1.: Абсолютизм или релятивизм? - 2012 .- С. 91.
2 Там же. - С. 94.
3 Там же. - С. 91.
16
Не оставляет без внимания Кудрявцев и русских позитивистов -В. Лесевича, Л. Лопатина, и испытавших его влияние А. Луначарского, Н. Грота. Высокая оценка ими эмпириокритицизма как учения, которое освободит человеческую мысль от вековых предрассудков и открывшее светлый взгляд на мир, приводит Кудрявцева в недоумение.
Более всего П. Кудрявцева в эмпириокритицизме интересует тот аспект, который раскрывает строгую последовательность в доведении эмпирического принципа до чистого эмпиризма. Кудрявцев, следуя В. Вундту, прослеживает в развитии эмпиризма три этапа: наивный, рефлексирующий и чистый эмпиризм. Последний он рассматривает как завершающий этап в его развитии, выражением которого и выступают философские системы Э. Маха и Р. Авенариуса. Чтобы раскрыть сущность чистого эмпиризма, П. Кудрявцев ставит конкретный вопрос: «Что такое чистый эмпиризм нашего времени в своих конечных выводах? Переоценка лишь ценностей, значит, отрицание не абсолютных ценностей вообще, а лишь старых ценностей с заменою их новыми, как это мы видим у Ницше, или же - полное и решительное отрицание абсолютных ценностей вообще? И если последнее, то в чем тогда состоит смысл человеческой жизни? Где ценности чистого эмпиризма? Где его святыни? Одним словом: кто есть твой Бог? - вот вопрос, с каким мы подходим к чистому эмпиризму нашего времени»1.
П. Кудрявцев подчеркивает чрезвычайную важность этого вопроса. Но значение последнего особенно возрастает применительно к исследованию духовной жизни русского общества конца XIX -начала XX в. Философ подчеркивает, что в русском обществе «трудно указать в последнее время такую философскую книгу, которая в той или другой мере не затрагивала бы эмпириокритицизма. Все это
1 Кудрявцев П. П. Сочинения / [ред. Волков А. Г., авт. вступ. ст. Мозгова Н. Г.]. -Мелитополь: Издательский дом МГТ, 2012. - (Серия «Антология украинской мысли»). Т.1.: Абсолютизм или релятивизм? - 2012 .- С. 100.
17
показывает, что данное направление представляет в ряду современных философских направлений величину весьма значительную, с которой необходимо считаться»1. Подтверждением слов Кудрявцева явился выход в 1908 г. книги «Материализм и эмпириокритицизм» такого знаменитого «победителя» второго позитивизма, как В. Ульянов (Ленин).
Подробнейший анализ П. Кудрявцевым духовной жизни русского общества конца XIX - начала XX в. поражает своей глубиной. В частности, философ знакомит читателя со всеми существующими в то время разновидностями двух философских направлений - идеализма и реализма. Он подчеркивает, что «борьба политических партий идет рука об руку с борьбой философских направлений. Ведется борьба не с философией вообще, значение которой, наоборот, подчеркивается, а лишь с философией определенного толка, именно - с философским идеализмом»2.
Кудрявцев дает обстоятельный анализ борьбы двух философских направлений в русском обществе XIX в. Впервые в России, считает мыслитель, серьезное изучение философии относится к 30-м годам XIX в., до этого философия изучалась только в духовних школах. Вначале господствует идеализм, и все слои общества захвачены идеалистическим движением, которое было перенесено в Россию с Запада. Но уже к средине 40-х годов ситуация диаметрально меняется в пользу материализма (реализма), который первоначально возникает под воздействием французского просвещения, а затем укрепляется под влиянием антропологического материализма Л. Фейербаха. Далее, в средине 50-х годов XIX в., реализм становится господствующим направлением в русском обществе, а идеализм к этому времени практически полностью сходит с исторической арены. Единственное место, где продолжает еще теплиться идеалистическое направление в духовной жизни русского общества, - это в трудах профессоров духовных академий и отчасти университетов.
1 Там же. - С. 98.
2 Там же. - С. юо.
18
Самым удивительным обстоятельством для Кудрявцева является тот факт, что освободительные идеи бо-х годов XIX в. провозглашались под эгидой материалистической философии, которая в своих конечных выводах отрицает и свободу, и достоинство человеческой личности. «Еще доселе, - пишет Кудрявцев, - живет в русском обществе традиция, что философский идеализм состоит во внутренней связи с политическим консерватизмом и даже всеми видами реакции, тогда как подобная связь, если и существовала на самом деле, то обуславливалась не природою идеализма, заключающего в себе основы для утверждения абсолютного достоинства человеческой личности и для борьбы с различными видами рабства, а внешними условиями его исторического существования »1.
По глубокому убеждению Кудрявцева, в конце XIX - начале XX в. четко прослеживается оживление и возрождение идеалистической традиции в среде молодых русских философов. Кудрявцев подает следующую классификацию всех разновидностей философского идеализма. Во-первых, это непосредственные ученики Вл. Соловьева, прежде всего к ним он относит братьев Е. и С. Трубецких; во-вторых, отечественных представителей той фракции неокантианства, которое в лице Вильденбанда имеет своим учеником Б. Кистяковского; в-третьих, целый ряд ученых, публицистов и общественных деятелей, которые перешли от марксизма к идеализму, сюда относит автор М. Туган-Барановского, П. Струве, С. Франка, С. Булгакова, Н. Бердяева. Несмотря на их философские, политические и религиозные расхождения, сходятся они в основном -идеалистических основаниях своей философии. В-четвертых, это «провозвестник, так называемого нового христианства» --
1 См.: Кудрявцев П. П. Сочинения / [ред. Волков А. Г., авт. вступ. ст. Мозгова Н. Г.]. -Мелитополь: Издательский дом МГТ, 2012. - (Серия «Антология украинской мысли»). Т.1.: Абсолютизм или релятивизм? - 2012С. 101.
19
Д. Мережковский, и, наконец, в-пятых, это «причудливый и неуловимый» В. Розанов1.
Сегодня с этой классификацией можно частично соглашаться или совсем ее отрицать, но дело не в том. Ведь нам сегодня легко рассуждать о прошлом с высоты XXI в., однако нельзя не согласиться с тем глубоким знанием всех нюансов духовной жизни русского общества, в котором так прекрасно ориентировался на рубеже веков Кудрявцев. Да и сам философ указывает на относительный характер своей классификации. «Едва ли нужно оговариваться, - пишет Кудрявцев, - что всех представителей русского идеалистического движения последнего времени нельзя распределить по указанным группам; так, в стороне от них, без устали делали свое дело уяснения принципов идеалистической философии такие профессора-идеалисты, как Г. И. Челпанов, ученик Грота, неутомимо боровшийся на кафедре, в психологической семинарии при Киевском университете и в печатных сочинениях с материализмом и позитивизмом во имя идеал-реализма, ...или покойный учитель пишущего эти строки, профессор Киевской духовной академии П. И. Линицкий, отдавший всю свою жизнь защите прав разума в решении вопросов мысли и жизни»1 2 3.
П. Кудрявцев приходит к выводу, что борьба в духовной жизни русского общества между идеализмом и реализмом является не чем иным, как новым моментом в старой борьбе абсолютизма с релятивизмом.
Далее Кудрявцев переходит к обстоятельному анализу современного ему реализма. Он указывает, что внуки, т.е. молодое поколение русских марксистов, остаются верными завету своих духовных отцов, т.е. К. Марксу и Ф. Энгельсу. «Тезисы у дедов и внуков одни, но опорные пункты - различные: там - гегельянство, здесь - эмпириокритицизм »з. Если старшее поколение русских
1 Там же. - С. 102.
2 Там же. - С. 102.
3 Там же. - С. 104.
20
марксистов во главе с Н. Бельтовым (псевдоним Г. Плеханова - Н. М.) считало экономический материализм логическим продолжением философского материализма, то молодое поколение русских марксистов (реалистов), разделяя миропонимание своих учителей (экономический материализм), не считало возможным принимать его философской основы - материализма. Даже в самой смягченной форме материализм для них является неприемлемым, поскольку молодые марксисты решительно не могут примириться с его метафизическим характером. Именно поэтому они отдают предпочтение не материализму, а тому направлению современной мысли, которое отрицательно относится как к идеалистической, так и к материалистической метафизике, воплощением которой и является чистый эмпиризм Э. Маха и Р. Авенариуса. Для подтверждения своих мыслей П. Кудрявцев цитирует целые абзацы из работ Н. Бельтова (Г. Плеханова), А. Богданова и др. марксистов, не говоря уже о работах К. Маркса и Ф. Энгельса. Вывод П. Кудрявцева однозначен: на смену материализму должен прийти эмпириокритицизм как последнее слово современной философской мысли. Следовательно, произойдет своеобразный альянс марксизма с махизмом (эмпириокритицизмом).
Из размышлений П. Кудрявцева становится очевидной характер его критики марксизма извне, т. е. с позиций философского идеализма, критику же изнутри, т. е. с позиций философского материализма (ортодоксального марксизма), мы находим в работе В. Ульянова (Ленина) «Материализм и эмпириокритицизм». И Кудрявцев, и Ленин видят глубокий раскол в марксизме, но первый рассматривает его как следствие внутренней непоследовательности, противоречивости, а, следовательно, несостоятельности и ограниченности материализма, а второй - только как результат увлеченности молодых марксистов новым модным философским течением.
Свои раздумья по поводу того умственного напряжения, которое русская интеллигенция переживала на рубеже веков, П. Кудрявцев выразил в следующей оценке: «Переживаемая нами
21
эпоха больше всего напоминает из прошлого нашей родины бо-е годы. Тогда передовые вожди русского общества выступали под знаменем материализма. В настоящее время материализм потерял свой кредит: его место занял эмпириокритицизм. Изучать это направление - значит, изучать один из главных элементов в содержании нашей духовной жизни»1.
Следует подчеркнуть, что В. Зеньковский довольно нелестно отзывался о Кудрявцеве как о философе, но при этом восхищался его дарованиями в области богословия и русской словесности. «В Кудрявцеве, - писал Зеньковский, - философское дарование было невелико, его единственный труд по философии (о новейшем эмпиризме) хорош, но в нем не было и намека на собственные какие-либо идеи автора. Однако в религиозно-философских беседах Кудрявцев был сильным диалектиком и острым мыслителем. Его творческая сила (по моему личному впечатлению, весьма немалая) вся ушла в работы по истории русской литературы (это была вторая специальность Кудрявцева), ему принадлежали большие и ценные работы о Пушкине и Гоголе (может быть, еще и другие работы, но я их не знаю)»1 2.
Этот аспект творческой деятельности раскрывает работа П. Кудрявцева «Главные моменты в истории вопроса об отношении веры к знанию» (1901), где автор изучает вопрос о соотношении веры и знания представителями метафизического идеализма и чистого эмпиризма (эмпириокритицизма). Понятно, что позиции этих двух направлений философской мысли являются диаметрально противоположными. Но автор прежде всего указывает, что «если бы человек мог одним актом сознания охватить все разнообразие бытия в его целости и единстве, тогда не могло бы быть и речи о каких-либо
1 Кудрявцев П. П. Сочинения / [ред. Волков А. Г., авт. вступ. ст. Мозгова Н. Г.]. -Мелитополь: Издательский дом МГТ, 2012. - (Серия «Антология украинской мысли»). Т.1.: Абсолютизм или релятивизм? - 2012 С. 112.
2 Зеньковский В. Мои встречи с выдающимися людьми // Записки русской академической группы в США. - Нью-Йорк. - 1994- - Том. XXVI. - С. 47.
22
различиях в области знания, в частности - о различии между верой и знанием; тогда человек был бы не человеком, а Богом: только божественному уму наша мысль усвояет способность постигать все бытие одним актом интеллектуального созерцания»1. Поскольку человек не может одновременно постигать все разнообразие бытия в его единстве и целостности, то вопрос о соотношении веры и знания возникает с самого начала существования человеческого общества. В первобытном обществе существовало единство веры и знания, поскольку все знания первобытного человека о внешнем мире одновременно были и предметом его веры. Но уже в древнегреческом обществе происходит постепенное размежевание веры и знания. «Для древнего грека не было ничего, безусловно непознаваемого, и если можно говорить о вере в ее отличии от знания по отношению к той эпохе, то лишь в смысле доверия к авторитету предания, - о существенном же различии между верой и знанием не может быть и речи на этой ступени культурного развития»1 2 3.
Различие между верой и знанием, по убеждению Кудрявцева, начинает проявляться тогда, когда начинает расслаиваться содержание самого знания: одни знания начинают рассматриваться как истинные, другие - как ложные, а третьи - как вероятностные. Когда же христианство указало на веру как на основу истинной жизни, появилась потребность указать на соотношение христианского понятия веры и философского понятия знания. «Центральным пунктом исследования послужило выяснение психологической природы и гносеологической ценности веры и знания: следует ли признать их двумя различными и независимыми областями духовной жизни или же - наоборот - сходными по существу сторонами или моментами одного и того же познавательного процесса? »з.
1 Кудрявцев П. Главные моменты в истории вопроса об отношении веры к знанию. // Труды КДА. -1901. - Т. III. - С. 176.
2 Там же. - С. 180.
3 Там же. - С. 181.
23
Этот вопрос, считает Кудрявцев, имеет разный смысл в зависимости от тех исторических условий, в которых он возник. «Так, в древнегреческой философии шла речь об отношении философского мировоззрения к традиционному - мифологическому; иудео-александрийская философия работала над соглашением ветхозаветного откровения с языческой философией; та же задача перешла и к христианским богословам: церковные писатели святоотеческого периода ставили своею задачею выяснение отношения между христианством и языческой философией, а средневековые мыслители, считая, вслед за Аристотелем, доказательство основною формою научного мышления, пытались разрешить вопрос - в какой мере приложима эта форма в области богословия; в новое время, с развитием естествознания, появляется целый ряд работ, посвященных соглашению результатов современного естествознания с данными христианского Откровения»1.
П. Кудрявцев различает три периода в осмыслении вопросов соотношения веры и знания: 1) греко-римский; 2) средневековый; з) и период Нового времени. По мнению профессора, в России эти вопросы впервые возникли лишь в XVIII в., а строго научный характер они приобрели только в XIX в. и наиболее ярко воплотились в существовании двух направлений - западников и славянофилов.
Проблема соотношения веры и знания, по убеждению Кудрявцева, может быть изучена с помощью двух методов: систематического и исторического. Ученый отдает предпочтение последнему, поскольку «...только при историческом изучении данная проблема является пред нами не только во всех подробностях своего логического состава, но и со всей полнотой жизненного значения: историк не измышляет проблем, - он следит за развитием тех из них, которые сами дают о себе знать при изучении культурной жизни человечества»1 2.
1 Там же. - С. 184.
2 Там же. - С. 185-186.
24
Несмотря на радикальные политические взгляды в сфере общественной жизни, в философии Кудрявцев оставался сторонником духовно-академической традиции, отстаивая позиции философского теизма, и одним из первых в России начал разрабатывать методологические принципы критики эмпириокритицизма с позиций православия. Даже сквозь десятилетия крушений и потрясений минувшего века духовноакадемическая традиция, определившая своеобразие русской культуры в целом и философии в частности, бесследно не исчезла. В наше время, когда наблюдается попытка устранения самих духовных и нравственных оснований существования общества, обращение к наследию П. Кудрявцева актуально как никогда.
Мозговая Н. Г.
25
Предисловие
Предлагаемая книга представляет собою лишь часть труда, посвященного автором историко-критическому изучению чистого эмпиризма новейшего времени в его отношении к нравственности и религии. Конечно, лишь при рассмотрении целого каждая частность может выступить в должном освещении и получить полное оправдание, но и в отдельном виде предлагаемая часть труда, автор смеет так думать, — не лишена значения для уяснения той точки зрения, которая представляется автору наиболее существенной при оценке одинаково как жизни, так и философии, для определения отличительных особенностей и сравнительного значения изучаемого направления в ряду других философских направлений, в особенности как последовательного выражения релятивистической точки зрения, и для отыскания наиболее надежных путей и приемов в борьбе с релятивизмом, а потому автор склонен несколько умерить свои сетования по поводу того, что в силу различных обстоятельств, о которых здесь не место и не время распространяться, первой части его труда суждено увидеть свет раньше, чем вторая попала на типографский станок, а третья даже на бумагу. Поскольку тот или другой исход борьбы между абсолютизмом и релятивизмом в философии имеет решающее значение для положительного или отрицательного отношения к самой возможности теоретического оправдания нравственности, как явления, отличного от фактически сложившихся нравов, и религии, как явления, по существу не допускающего координирования с различными формами практически неизбежного и практически же выгодного приспособления к данным условиям существования, как они понимаются тем или другим лицом, автор надеется, что его книга если не по исполнению, о качествах которого он судить не берется, то по замыслу, в значительности которого не сомневается - идет навстречу существеннейшим интересам таких дисциплин, как этика и философия религии, исследующих наиболее глубокие стороны в жизни и деятельности человеческого духа.
П. Кудрявцев.
26
I. Абсолютизм или релятивизм?
И на таких перекрестках своей истории должны учиться люди.
Петцольдт
Как бы ни понимать характер искушения Христа от дьявола — в смысле ли пережитой Христом внутренней борьбы, закончившейся полною победою добра над злом, как толкуют некоторые экзегеты, или что, по вашему мнению, требуется евангельским представлением о лице Христа — в смысле ясного представления Богочеловеком тех путей, которые уводят людей от Бога «на страну далече», глубокой скорби об идущих этими путями и решительного свидетельства своей непоколебимой верности истинному направлению жизни, — несомненно одно, что искушение Христа в пустыне носило типический характер: перед сознанием Христа прошли типические формы, к каким может быть сведено разнообразие искушений, переживаемых как отдельными людьми в течение их жизни, так и всем человечеством на протяжении его исторического существования. Разница между Богочеловеком и человеком в отношении к искушениям состоит не в содержании самых искушений, а в процессе их переживания: в то время как Богочеловек без всяких колебаний отверг искусительные предложения дьявола, человек в большей или меньшей степени переживает мучительную борьбу добра со злом, которая далеко не всегда оканчивается победою первого над последним. Содержание же искушения там и здесь - одно: оно сводится к отклонению человека от безраздельного служения Богу как живому средоточию абсолютных ценностей. В этом отношении Сын человеческий уподобился «братии» - прочим людям (Евр. 2, 17-18), которые, будучи созданы для полной, разнообразной и гармоничной жизни в общении с Богом, все, начиная с прародителей, в той или другой мере искушаются представлением своевольной жизни в отчуждении от Бога.
27
По библейскому представлению, Бог есть существо самосущее (Исх. з, 13-14), обладающее полнотою совершенств, — по средневековой терминологии, перешедшей через Декарта и в новую философию, не только ens realissimum, но и ens perfectissimum: Он -единый сильный (1 Тим., 6,15), единый бессмертный (там же, ст. 16), единый святой (1 Цар. 2, 5), единый благой (Мрк. ю, 18), единый премудрый (1 Тим. 6, 17); Он есть, по выражению св. Григория Нисского1, или, по словам церковной песни. Будучи полнотою самобытной и совершенной жизни, Бог является «источником бытия для всего существующего, источником жизни для всего живущего, источником разума для имеющих разум, для всех причиною всех благ»1 2 (см. Быт. 1,1; Исая. 35, 9-10; Иоан. 5, 26; Деян. 17, 25; Притч. 2, 6 и мн. др.). Имея в Боге источник своего бытия, тварное бытие (мир) в процессе своего существования осуществляет премудрый план, от века существовавший в Божественном Разуме, в этом смысле мировой жизни. Поскольку течение мировой жизни оказывается соответствующим предначертанием Божественного Разума, оно является для объективного созерцания откровением славы Божьей (Исая. 18, 1; Исая. 6, 3; Римл. 1, 20), а для субъективного ощущения сознательно участвующих в созидании мировой жизни существ высоким блаженством. Бог, таким образом, есть начало, средоточие и конец мировой жизни: Он - «Альфа и Омега, начало и конец» (Апок. 21, 6), ибо все произошло из Него, Им существует и к Нему, как образу полной и совершенной жизни, направляется (Римл. 11, 36). В частности, человек, в самой природе своей заключающий потенциально образ Божий, призван к активной и разумной работе над реализацией этого образа в своей жизни и деятельности, в этом смысле человеческого существования: уподобляясь Богу, человек тем самым прославляет Бога (ср. 1 Кор. 6, 20) и в этом же находит высшее блаженство (см. учение Спасителя о блаженствах). Для человека, как существа разумно-сознательного, Бог в большей степени, нежели для
1 В трактате Пери (Об устроении человека). См. Migue, s. gr., t. 44, с. 181.
2 И. Дамаскин. Точн. излож. пр. веры, кн. 1, гл. 8.
28
низших тварей, должен быть началом, средоточием и концом жизни: и подлинный смысл, и истинное блаженство человека состоят в том, чтобы жить в Боге, т. о. в Нем, и только в Нем, видеть, или -выражаясь современным философским языком - реальное средоточие абсолютных ценностей. Раз только точка притяжения человеческих сил переместится из центра на периферию - от Бога к твари, от Безусловного к условному, жизнь человека теряет свой смысл, и если все еще продолжает быть источником наслаждений, то — наслаждений такого рода, которые по превосходному анализу Спинозы в момент их переживания («вкушения») «так поглощают душу, как если бы она успокоилась на некотором истинном благе, что более всего мешает ей думать о другом», — непосредственно же «за вкушением» сменяются «глубокою печалью, которая если не подавляет ум, то тревожит и притупляет его»1. А еще раньше другой еврейский мудрец, всецело стоявший на библейской почве, размышляя над смыслом человеческой жизни, отрешенной от Бога, посвященной не осуществлению безусловных ценностей, а удовлетворению наличных потребностей человеческой природы, произнес над нею такой приговор: «видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все — суета и томление духа!» (Еккл. 1, 14). И это потому, что Экклезиаст потерял единственно надежную точку опоры - забыл Бога. Отсюда его заключительный завет: «бойся Бога и заповеди Его храни, потому что в этом все для человека» (там же, 12, 13).
Если Бог есть, то понятно, почему Иегова, свидетельствуя через Моисея перед всем народом Еврейским, что Он, Иегова, и только Он, есть истинный Бог, т. е. самосущий источник жизни и действительное средоточие абсолютных ценностей, заповедует любить Его всем сердцем, и всею душою, и всею силою (Втор. 6, 5). Ему только поклоняться, Ему только служить (6,13): поклоняться, потому что Он действительно велик (см. Исаии. 85, 8-ю), а благоговейное
1 De intellectus emendatione, Трактат об усовершенствовании разума, пер. Г. Полинковского, Од. 1893, стр. 4.
29
поклонение есть естественное выражение отношения к великому, -любить, потому что Он — сокровище всех благ, а, ведь, где сокровище наше - там и сердце наше (ср. Мф. 6, 21), - служить, потому что Он -не только высочайшая сила, но и высочайшее добро, а истинное -свободное и бескорыстное — служение есть выражение отношения к такому предмету, который, вызывая своим величием трепетное благоговение в человеческом сердце, в то же время неудержимо влечет его к себе; 2) любить всем существом («всем сердцем, и всею душою, и всею волею»; еще выразительнее у Лук. ю, 27: «всем сердцем твоим, - и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим», т. е. всеми силами твоего духа), поклоняться и служить безраздельно («Тому единому»...) именно потому, что Бог есть абсолютное бытие, обладающее абсолютной ценностью, а абсолютное требует безраздельной преданности (ср. Лук. 14, 26: «если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, мало того и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником») и бесповоротного служения (ср. Лук. 9, 62: «кто, возложив руку свою на плуг, озирается назад, тот не приспособлен для царства Божия»). Если в момент преклонения перед Абсолютным человек как бы теряет свою личность, сознавая себя слишком ничтожным в сравнении с необъятным величием Божества (Исаии. 8, 4-5: «когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?»; Исаии 6, 5: «горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, - и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа»; Лук. 5, 8: «Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! ибо я человек грешный»), то в процессе служения Абсолютному он снова обретает себя, потому что это служение требует напряжения всех сил его духа, и прежде всего -сосредоточенного внимания, чтобы расслышать божественный призыв: иди! (см., напр., Исх. 3, ю; Исаии 6, 9; Лук. 9, 6о), ясного сознания, чтобы не смешать божественного голоса, звучащего чаще всего в тайниках человеческой души, со внушением злого духа, других
30
людей и собственного самолюбия, — наконец, твердой решимости последовать божественному призванию: «се иду сотворити волю Твою, Боже» (Евр. ю, 7). Воля же Божия состоит в том, чтобы мы, работая над реализацией тех потенций, которые заложены в недрах мировой жизни, преобразовывали мир в подлинное царство Божие. В свете такого призвания мир является в глазах человека той нивой, возделывать которую он призван, а другие люди его соработниками на великой ниве Божией. И прочие живые твари в свете религиозного созерцания оцениваются не с точки зрения их пригодности для удовлетворения человеческих потребностей, а как живые элементы в той системе мировой жизни, которая служит откровением божественной жизни: «всякое дыхание да хвалит Господа!» (Исаи. 150, 6) - в этом восклицании находит свое выражение истиннорелигиозное созерцание одушевленной природы. Франциск Ассизский зайцев называл своими братьями, а ласточек сестрами, и это не было в его устах фразой: Франциск никогда не произносил фраз... Не просто трогательны, полны глубокого смысла рассказы об отношениях к животным преподобных Герасима, Сергея, Серафима... Платон сравнивал благо с солнцем: подобно тому, как в мире чувственном солнце есть необходимое условие и его существования, и его познания, так точно идея блага (это и есть платоновское Божество) служит необходимым условием существования и познавания других идей1. Что идея блага в философском миросозерцании Платона, то идея живого Бога в религиозном сознании: находясь в центре религиозного сознания (ср. слова ап. Павла в Гал. 2, 20: «не я живу, но живет во мне Христос»), она по всем направлениям распространяет свои животворные лучи, освещающие и согревающие, так что все, что захватывается таким сознанием, неизбежно становится в отношении к центральной идее и через то самое получает религиозное освещение: «едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте во славу Божию», - пишет апостол (1 Кор. ю, 31).
1 De rep. VI, 507 А - 509 В.
31
Таково, по библейскому представлению, нормальное направление человеческой жизни. Его по справедливости можно назвать геоцентрическим, потому что Бог является действительным центром такой жизни, которая в свою очередь лучше всего может быть определена, как богослужение (конечно, не в техническом смысле этого слова): «Господу Богу твоему поклонишися, и тому единому послужиши» (Мф. 4, ю; ср. Лук. 4, 8; Втор. 6, 13) - таков девиз истинно-человеческой жизни, по библейскому учению.
Совершенно иной характер получает человеческая жизнь во всех ее проявлениях, если точка приложения человеческих сил переносится из центра на периферию, если тварь ставится на место Творца, а это неизбежно происходит, когда какая-либо из потребностей эмпирической природы человека (1 Иоанн. 2, 16: «похоть плоти, похоть очей» или «гордость житейская») берет верх над остальными, требуя сосредоточения сил человека на ее удовлетворении. Тогда предметы, служащие для удовлетворения этой потребности, получают в глазах порабощенного ею человека высшую ценность, условному усвояется безусловное значение, тварь заступает место Творца, жизнь человека — вместо того, чтобы быть свободным и разумным служением (Римл. 12, 1) Богу, становится служением немощным и бедным стихиям мира сего (Гал. 4,3,9; ср. Колосс. 2, 20-23), служением богам, которые на самом деле не Боги (Гал. 4, 8; ср. 1 Кор. 8, 5). Так возникают те формы практического идолослужения1, которые обличает ап. Павел (см., напр., Филипп. 3,19; Кол. 3, 5). Они
1 Употребление термина «идолослужение» (здесь и ниже) в смысле отношения к условному, как к безусловному, или служения твари вместо Творца, оправдывается словоупотреблением ап. Павла, который в Колосс. 5, 3 называет идолослужением именно отношение к условному (богатству), как к безусловному, как к Богу, ибо о любостяжательных можно сказать mutatis mutandis тоже, что апостолом сказано в Филипп, з, 19 о чревоугодниках: их бог — богатство. Значит, идолослужение есть, по апостолу, служение условному (богатству, чреву), как безусловному, как Богу. В исследовании г. М. Пальмова «Об идолопоклонстве у др. евреев» (Спб. 1897) одним из видов идолопоклонства признается «непосредственное, или безобразное служение древних евреев небесным светилам» (стр. 203), т. е. служение тварям вместо Творца.
32
сводятся к служению чувственным потребностям человеческой природы, которые берут верх над идеальными требованиями разума, а потому унижают человека, низводя его на степень неразумных животных (Исаии. 48, 43, 21): «слава их в сраме» (Филипп. 3, 18), говорит апостол о людях, преданных этим формам идолослужения; они мыслят о земном, а не о небесном, — о временном, а не о вечном, — об условном, а не о безусловном (чит. тот же стих). В конце концов, так как при указанных условиях все предметы (в том числе и люди, и даже само Божество, если только не утрачена вера в Него) и события оцениваются с точки зрения их значения для удовлетворения чувственных потребностей эмпирического я, охарактеризованные формы идолослужения являются в сущности видоизменениями эгоизма, но только это эгоизм практический, не возведенный в принцип. Когда выступает это последнее условие, когда человек сознательно и решительно возводит в абсолют свое эмпирическое я, принципиально отрицая какие бы то ни было общезначимые нормы, тогда осуществляется новая форма идолослужения, — может быть, менее унизительна, нежели служение чувственности, но, как носящая принципиальный характер, еще более страшная, потому что она в своем последовательном развитии приводит к богоненавистничеству (см. Римл. 1, зо): гордость - начало этого страшного пути, богоненавистничество — его конец1. В свое время, - может быть, еще прежде сложения видимого мира — этим ужасным путем прошел до конца «первый светоносец»1 2 (см. 1 Тим. 3, 6); в конце веков «откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2 Фессал. 2, 3-4). И если служащий своей чувственности принижает себя
1 Вот как у прор. Исаии изображается крайнее проявление гордости: «как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы» (царь вавилонский). «А говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера: взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему» (14,11-14).
2 Так называет сатану Григорий Богослов. (Твор., русск. пер., т. IV, изд. 1, стр. 237-238).
33
до животного, то обоготворяющий свое я вступает на путь сатаны. Оба пути сходятся в одной точке в том, что как там (служение чувственности), так и здесь (возведение своего я в абсолют) центром духовной жизни оказывается уже не Бог, а эмпирическое я того или другого человека, вследствие чего это направление жизни, в противоположность теоцентрическому, можно назвать эгоцентрическим. Такое перемещение центра духовной жизни и служит, по апостолу, психологической основой различных форм язычества, которые все сводятся к служению твари паче Творца (Римл. 1, 25), являющемуся полным извращением
богоустановленного порядка мировой жизни1, что со всею очевидностью свидетельствуется противоречием рассматриваемого явления как логическим, так и этическим требованиям общечеловеческого разума: если логический закон требует, чтобы мы рассматривали А именно как А (Творец есть Творец, тварь есть тварь), то и нравственный закон обязывает человека относиться к высшему, как высшему (Господу Богу твоему поклонишися, и тому единому послужиши), к равному, как к равному (люби ближнего твоего, как самого себя), к низшему, как к низшему (не порабощай своего духа немощным и бедным стихиям)1 2, а потому широко распространенный факт служения твари наче Творца является, по апостолу, несомненным свидетельством помрачения человеческого разума (Римл. 1, 22, 25, 28; Ефес. 1,17-18).
Таков второй путь жизни. Он представляет собою полную противоположность первому, а потому коль скоро первый категорически предписывается («Аз есть Господь Бог твой», «Господу Богу твоему поклонишися» и т. д.), то второй столь же категорически запрещается: «да не будут тебе бозе инии разве Мене» и «не сотвори
1 См. «философский комментарий учения» ап. Павла «о смысле истории язычества» в книге проф. Алексея Ив. Введенского «Религиозное сознание язычества», т. i, М. 1902. стр. 206-229.
2 Раскрытие с намеченной точки зрения требований нравств. закона см. у о. И. Л. Янышева в §§ 28-34 «Правосл.-христ. учения о нравственности» и у Влад. С. Соловьева в «Оправдании добра». Ср. проф. Введенского цит. соч., стр. 69-70.
34
себе кумира и всякого подобия, елика на небеси горе и елика на земли низу, и елика в водах под землею: да не поклонишися им, ни послужиши им» (Исх. 20, 3-5). Тут простая логика: идолослужением (понимаемым в широком смысле служения твари паче Творца) исключается богослужение и наоборот, потому что между ними отношение oppositionis contrariae; но так как богослужение и идолослужение противостоят друг другу не в качестве логических потенций, а живых направлений действительной жизни, то понятно, что содержание человеческой жизни — как личной, так и коллективной — сводится в своей глубочайшей основе к борьбе двух указанных направлений. Начавшись в мире ангельском1, эта борьба перенесена затем и на землю, и стала законом человеческой жизни: «вражду положу между тобою» (змеем) «и между женою, и между семенем твоим и семенем ее» (Быт. з, 15), - семенем твоим, т. е. семенем змея, каковым семенем ближайшим образом являются последовавшие за сатаною небесные духи, а затем и те люди, которые идут путем отчуждения от Бога, приводящим в своем конечном пункте к богоненавистничеству, и семенем ее, т. е. людьми, насколько, разумеется, они будут верны Господу, ибо в противном случае они уже не будут иметь побуждений к вражде с «семенем змея». Земля становится поприщем борьбы между добром и злом, и человеческая история развертывается уже не в форме величественной поэмы, широкой и светлой, а в виде суровой трагедии; завязка ее скрыта в таинственных областях надземной жизни, высший подъем - на Голгофе, а развязка наступит «в день он», которого так жаждет измученное, но не изнемогшее в борьбе за вечные ценности сердце: «ей, гряди, Господи Иисусе!» (Апок. 22, 20; ср. 2 Кор. гл.4-5; 2 Тим. 4, 6-8). То, что совершается в макрокосме, великом мире Божием, то происходит и в микрокосме, малом мире Божием, или — точнее -потому-то и становится макрокосм поприщем борьбы, а мировая жизнь трагедией, что эта борьба происходит в глубочайших тайниках
1 См. ценные соображения об этом в соч. В. И. Несмелова «Наука о человеке», т. II, Каз.
1903, стр. 243-252.
35
микрокосма (см., напр., Римл. гл. 7), и чем вдумчивее мысль, чем восприимчивее совесть, тем решительнее борьба, тем мучительнее Голгофа... Только те, что, связанные железным кольцом материальной нужды, работают изо дня в день, словно вечные животные, из-за куска хлеба, или - наоборот огражденные судьбой от тяжелой необходимости в поте лица своего есть хлеб свой, самодовольные и беспечные, отдаются влечениям своей чувственной природы, будто sit venia verbo - откормленные свиньи в грязи1, — только они не подозревают тех высот, с которых видно роковое распутье жизни, и не знают тех мук, которые переживаются на Голгофе. Зато, конечно, не знают и радостей победы...
Христос Спаситель есть воплотившийся Сын Божий. Основной характер Его земной жизни определяется относящимся к Его домерному бытию актом добровольного решения исполнить волю Отца о спасении человечества смертью воплотившегося Сына Божия (Евр. ю, 5-40; ср. Иоанн. 3,16; 1 Иоанн. 4, 9): «се иду сотворити волю твою, Боже» (Евр. ю, 7, 9) — таково решение Его воли, бесповоротно определившее направление Его земной жизни, как безраздельное служение Богу. Однако, прежде чем фактически выступить на общественное служение, Христу надлежало стать на том распутье, на котором искушается его братия по плоти, - чтобы, опытно дознав всю силу этих искушений, претерпеваемых нами, грешными, сострадать нам в немощах наших (Евр. 4, 15), деятельно помогать в искушениях (2, 18), быть милостивым и верным первосвященником перед Богом, во еже очистити грехи людские (2, 17). И вот, приступает к Нему дьявол, и развертывает перед Его взором картину того направления жизни, которое характеризуется: 1) скорым и легким удовлетворением материальных потребностей (Мф. 4, 3), 2), услаждением исключительностью своего положения (ст. 6), 3) внешним обладанием всеми царствами мира и всею славою их (ст. 8), и все это - без труда и подвига, без креста и Голгофы, лишь ценою
1 Ср. слова Милля: «Лучше быть недовольным человеком, чем довольною свиньей» («Утилитарианизм». Пер. А. Н. Неведомского. Спб. 1882, стр. 24).
36
отступления от Того, Кто некогда сказал о Себе: «Аз есть Господь Бог твой, да не будут тебе бози инии, разве Мене», - «все это, — говорит дьявол дам Тебе, если, падши, поклонишься мне» (ст. 9). Если... Но ведь в этом если все: стоит только забыть о Боге, как полноте абсолютных ценностей, — и сейчас же вырастают в своем значении «немощные и бедные стихии», которые тогда легко овладевают опустошенною душою человека. Так, отвергши свободное служение Творцу, он становится рабом твари или — если иметь в виду психологическую основу такого рабства - рабом низших потребностей своей природы, и тогда ему уже не до того, чтобы внимать «глаголу, исходящему из уст Божиих»: «и когда он сеял, — иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его» (Мф. 13,4-7; сп. ст. 22)... Правда, заполнение пустоты может произойти и в другом направлении: раз Бог забывается или отвергается, начинает расти собственное я человека и вырастает до таких размеров, что становится на место Бога1, - так происходит безграничное самоутверждение личности, которое представляется поверхностному взору показателем ее внутреннего богатства и высокого достоинства1 2. Однако, это самый ужасный самообман: «если» у меня «нет Бога, как всеединого, полного и гармонического бытия, если Бог не есть моя последняя любовь, последняя цель, объект всех моих стремлений, не есть мое, тогда нет и моей личности, она лишается бесконечного содержания, пуста в своих стремлениях, бедна в своем одиночестве. Иметь Бога значит быть бесконечно богатым, считать себя богом, значит сделаться бесконечно бедным. Я ничего не имею, я пуст и
1 «Если нет Бога, то я бог», рассуждает один из героев Достоевского (Кириллов в «Бесах»). «Если Бог есть, - рассуждает он далее, — то вся воля Его, и из воли Его я не могу. Если нет, то вся воля моя»... («Бесы», ч. III. гл. VI).
2 «Сознать, что нет Бога, и не сознать в тот же раз, что сам богом стал — есть нелепость, иначе непременно убьешь себя сам. Если сознаешь — ты царь и уже не убьешь себя сам, а будешь жить в самой главной славе» (там же), — так задолго до Ницше рассуждает Кириллов у Достоевского.
37
бессодержателен, если свое конечное, ограниченное, временное обоготворяю, если возлюбил превыше всего свое человеческое»... Ч
Без сомнения, Христос глубоко страдал, когда перед его взором развертывалась картина отчуждения от Бога, но не за Себя, потому что, кроме решительного отвращения, эта картина ничего не могла вызвать в Его душе, а за тех из своих «братьев», которые идут по ужасному пути богоотчуждения, богоотрицания, богоненавистничества (основание Евр. 2,18; 4,15). Но Он не упал под бременем этой скорби. Он твердо и решительно сказал дьяволу: «Отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи» (Мф. 1, ю). После ясного и решительного свидетельства Христа Спасителя об избранном Им пути жизни дьявол оставляет Его, - впрочем, только до времени (Лук. 4, 13), а вождь нашего спасения (см. Евр. 2, ю), отразивший нападение дьявола и тем положивший начало окончательной победе над ним, «возвращается в силе духа в Галилею» (Лук. 4, 14), чтобы, начав от Галилеи великое дело спасения людей от погибели на скользком пути богоотступничества, весь ужас которого открылся Его взору в пустыне, до конца пройти, несмотря на новые и, может быть, тягчайшие (вспомним Гефсиманскую ночь) искушения1 2, по крестному пути безраздельного служения Богу и, одержав в Своем воскресении решительную победу над смертью, показать братьям Своим, что истинная жизнь сокрыта со Христом в Боге (Кол. 3, 3), а потому кто хочет жить совершенною и непреходящею жизнью, тот должен теснейшим образом соединиться с «начальником жизни»...
Таково, в свете библейского учения о двух направлениях жизни, безусловно исключающих друг друга, содержание подвига Христова в пустыне: это - ясное и отчетливое созерцание ложного пути жизни, связанное с не менее ясным и отчетливым сознанием его пагубности,
1 Николай Бердяев «Великий инквизитор» «Вопр. филос.», 86 (1907,1), стр. 33.
2 В обильном глубокими мыслями исследованиями М. М. Тареева об «Искушениях Богочеловека» (М. 1892) вся земная жизнь Христа Спасителя рассматривается как «Его единый искусительный подвиг».
38
с глубокою скорбью обо всех, идущих по этому пути, и с непоколебимою решимостью идти по крестному пути безраздельного служения Богу, как живому средоточию безусловных ценностей. Если, теперь, искушение Христа имеет типическое значение, то, конечно, в том смысле, что каждому человеку, возвысившемуся над непосредственностью животной жизни и не затянутому тиной пошлого существования, приходится остановиться на том распутье, где перекрещиваются, расходясь в противоположные стороны, два направления, чтобы сделать решительный выбор между ними, имеющий определяющее значение для всей последующей жизни избирающего. В самом процессе переживания искушений между Христом и простыми людьми может быть, как и действительно есть, большая разница: картины, развернувшиеся перед сознанием Христа, не проникли в глубину его души, не прельстили, хотя бы только на один момент, его сердца, не вызвали колебаний Его воли. Другое дело обыкновенные люди: живые и яркие образы устроения человеческой жизни помимо какого бы то ни было отношения к Богу завладевают сознанием человека, прельщают, даже увлекают его сердце (в этом и состоит «похоть», о которой говорит апостол в 1ак. 1, 14), и тогда происходит одно из двух: или прельщение доходит до такой степени, что завладевает всем существом человека, порабощает и мысль, и волю, и он бесповоротно вступает на путь «идолослужения», или же в нем начинается тяжелая борьба между двумя направлениями, которая, в свою очередь, может окончиться двояко... Однако, во всех этих случаях содержание искушений остается одним и тем же: оно сводится к выбору между двумя противоположными направлениями жизни. Мы убедимся в этом, если обратимся к данным общечеловеческого сознания, касающимся рассматриваемого предмета.
Остановимся на некоторых из этих данных.
От греческой древности дошел до нас рассказ о том, как Геркулес, «переходя из детского возраста в юношеский, в тот возраст, в котором юноша становится самостоятельным и дает заметить, пойдет ли в своей жизни по пути добродетели или по пути порока, —
39
отправится в уединение и здесь задумался, по которой дороге отправиться. Тогда к нему подошли две женщины высокого роста. Одна из них была красивой наружности и благородного происхождения: на теле чистота, в глазах скромность, во всей внешности приличие; в белой одежде. Другая была несколько тучна и изнежена, с нарумяненным лицом», с широко открытыми глазами: «она была в таком костюме, который особенно выказывать ее красоту. Она постоянно осматривала себя, и замечала, не смотрит ли кто на нее, — нередко оглядывалась на собственную тень. Когда они начали приближаться к Геркулесу, первая шла тем же шагом, но вторая, желая предупредить» ее, «подбежала к Геркулесу и сказала: «Геркулес, я вижу, — ты недоумеваешь, по какой дороге направиться в жизни. Если ты сделаешь меня своей подругой, я поведу тебя по дороге самой приятной и самой удобной. Ты испытаешь все удовольствия и проживешь, не зная огорчений. — Не думай, что за доставлением телесных и душевных удовольствий я поведу тебя путем труда и бедствий. Нет, ты будешь пользоваться трудами других, не получая отказа ни в чем, где только можно извлечь какую-либо прибыль». — Геркулес, выслушав это, спросил: «Женщина, как твое имя?» — «Мои друзья, — ответила она, - называют меня Счастьем, а ненавистники, по клевете — Пороком». В это время подошла другая женщина и сказала: «И я прибыла к тебе, Геркулес, потому что знаю твоих родителей, а твои дарования знала еще во время твоего воспитания. Поэтому надеюсь, что если ты направишься по дороге, ведущей ко мне, то, наверное, сделаешься ревностным тружеником прекрасного. Не стану обманывать тебя указаниями на удовольствия, но опишу тебе жизнь так, как ее боги устроили. Из того, что есть доброго и хорошего, боги ничего не дают человеку без труда и забот. Таким образом, если ты хочешь, чтобы боги были к тебе милостивы, ты должен почитать их; если желаешь, чтобы тебя любили друзья, ты должен делать им добро; если стремишься к уважению со стороны известного города, ты должен приносить пользу этому городу, и если добиваешься удивления по отношению к своей деятельности со стороны всей Эллады, ты должен благодетельствовать всей Элладе. -
40
Я причастна богам, причастна и честным людям. Без меня не совершается хорошее дело, ни божеское, ни человеческое; более всего мне воздаются подобающие почести у богов и у людей. Я желанная помощница художникам, верный страж хозяевам, благосклонная помощница мирных занятий, крепкая союзница в войне и лучший товарищ в дружбе. Мои друзья испытывают всегда приятное и невынужденное наслаждение пищею и питьем, потому что они воздерживаются до того времени, пока пожелают пищи и питья. Сон у них приятнее, чем у людей не трудившихся, и они не приходят в негодование, когда лишаются его, а с другой стороны из-за сна не упускают обязанностей. Юноши рады похвалам старших, а старшие довольные почтением юношей. Они с удовольствием вспоминают о прошлой деятельности и с удовольствием исполняют настоящую, потому что посредством меня они любезны богам, дороги друзьям и чтимы отечеством. Когда же наступает предопределенная кончина, они не покоятся забытые и не оцененные, но, прославляемые в песнях, вечно живут в воспоминаниях. Вот над чем следует тебе потрудиться, Геркулес, — чтобы достигнуть возможного счастья»«. Вот что говорила Геркулесу другая женщина. Имя ее - Добродетель Ч
Приведенный диалог не может, конечно, по высоте заключающейся в нем морали идти в сравнение с евангельским рассказом об искушении Христа: там, в Евангелии, ясно и громко звучит голос категорического императива, требующего от человека бескорыстного и безраздельного служения Тому, Кто один обладает абсолютно-ценным бытием; здесь, в диалоге, к основному тону, достаточно высокому для того, чтобы поставить Продика в ряд выдающихся моралистов древнего мира, примешивается дополнительный тон, который значительно ослабляет общее впечатление, производимое апологом: раскрывая ценность добродетели, Продик с особенною силою подчеркивает, что только
1 Xenoph. Memorabil, I. II, с. 1, 21 - 33 (ср. «Поли. собр. соч.» Ксенофонта, пер. Г. Янчевецкого, ч. II; Спб. 1887, стр- 44“48> а также в книге Д. И. Богдашевского, «Из истории греч. ф-фии». Киев, 1808, стр. 134-136).
41
добродетель может быть основой прочного счастья; выходит, что добродетель ценится не сама по себе, а в ее отношении к счастью, точка зрения релятивистическая. Однако, она не проводится последовательно: Продик отмечает, что самые высокие почести и у богов, и у людей воздаются добродетели; след., она признается и у богов, и у людей имеющею высшую — значит, безусловную ценность, и если добродетель служит единственно надежной основой прочного счастья, то такая связь не должна рассматриваться как случайная; нет, она определяется самою природою добродетели, заключающею в себе условия истинного счастья: боги так устроили жизнь, что только добродетелью обуславливается счастье, другими словами, более соответствующими образу мыслей Продика, таков объективный закон мировой жизни. Во всяком случае мораль, заключающаяся в диалоге Продика, уступая в своей чистоте кантовской морали долга, может быть поставлена на одной высоте с этическим учением Сократа, который также любил раскрывать в своих беседах мысль о необходимой связи между добродетелью и счастьем. Недаром к Продику относились с уважением даже принципиальные противники софистики, начиная с самого Сократа. Если к тому присоединить, что первоначальное возникновение сюжета, разработанного в диалоге, теряется в глубокой древности, и что аполог Продика продолжает свое литературное существование на всем протяжении древнегреческой литературы1, то идея диалога расширяется в своем значении: она становится выражением воззрений целой эпохи на то, где пролегает пограничная линия между двумя направлениями
1 Не имея оснований сомневаться в принадлежности приведенного аполога Продику, которая достаточно твердо удостоверяется как Ксенофонтом (II, 1, 21), так и Платоном (Sympos., 177, В), мы полагаем, что в основу его легло греческое народное сказание. Целлер считает этот рассказ выражением в новой форме тех идей, которые изложил еще Гезиод в известном месте «Е. х.» II. — о пути добродетели и порока (D. Philos, d. Griech., В. 1. Abth. 1 з, s. 920, Anmerk, 1). Из последующих писателей, которые любили приводить в своих сочинениях аполог Продика, Д. И. Богдашевский называет Фемистия, Дио Хризостома, Лукиана, а проф. Т. Гомперц присоединяет сюда еще Эрма сего «Пастырем» (см. «Griechische Denker», 1 В., Lpz. 1896, S. 315).
42
жизни. В то время как одна женщина (Порок) указывает «легкий и краткий путь к счастью» - путь наслаждения, какою бы ценою оно не покупалось, другая единственным путем к прочному счастью считает добродетель, которой принадлежит высшая ценность не только у людей, но и у богов, которая, следовательно, обладает общезначимою ценностью. Если в первом случае все предметы оцениваются по степени наслаждения, доставляемого ими данному лицу, то во втором — самые наслаждения допускаются настолько, насколько они обуславливаются добродетелью. Таким образом, и древнему греку приходилось выбирать между благом объективным (в смысле его общезначимости) и благом субъективным (в смысле его определяемости лишь ощущением данного момента): или объективное, общезначимое, вечное или субъективное, личнозначимое, временное...
Русская народная поэзия тоже знает тайну распутья. Кто бывал в Сибургском музее Императора Александра III, тот, без сомнения, навсегда унес с собою то настроение, какое переживается при созерцании картины Васнецова «Витязь на распутье». Перед нами ~ пустынная степь, заросшая высокой травой; трава не помята: видно, давно никто не ездил этою степью; только разбросанные по полю кости, человечьи и лошадиные, говорят о том, что когда-то здесь была жестокая битва, и немало добрых витязей сложили здесь свои буйные головы; и вороны каркают о том же, а может, чуют добычу: среди поля камень, а на нем надпись: «Как пряму ехати, живу не бывати: нет пути ни проезжему, ни прохожему, ни пролетному». Другие камни показывают, в каком направлении лежит роковая дорога. Перед камнем остановился витязь - всматривается в надпись. Мы легко в нем узнаем нашего народного героя - Илью Муромца.
Он и ехал путем-дороженькой, Он подъехал к трем дороженькам, И начал себе думу думати, Думу думати, думу крепкую: «По которой мне будет ехать дороженьке: «Ежели по праву ехать — богатому быть,
43
«А по леву ехать — женату быть, «А по средней ехать — убитому быть»...
Знакомое распутье: долг зовет в Киев «помолиться чудотворцам киевским, заложиться за князя Володимира, послужить ему верой-правдою, постоять за веру христианскую», другими словами — отдать свою жизнь защите того, что дороже самой жизни: то - земля святорусская, то — вера христианская, а на пути могучие соблазны, на пути грозные опасности: соблазн, вместо служения долгу, отдать себя во власть богатства или любовных чар, опасность расстаться с самою жизнью. И жажда любовных наслаждений, и страх смерти — это такие состояния, которые могут достигать громадной напряженности, и тогда они затемняют разум, ослабляют волю... Тогда уже не до служения долгу... Но наш витязь выше этих соблазнов:
Мне женитьба — не ко младости, А богатство не к разуму, Дай поеду я, где мне убиту быть...
И едет дорогой середнею — прямо к своей главной цели...
Вот она — тайна распутья: то тайна выбора между двумя направлениями жизни — между безраздельным служением тому делу, которое, по убеждению данного лица, имеет значение независимо от того удовлетворения, какое оно доставляет этому последнему, т. е. сверхличное значение, или же - погоней за личными наслаждениями...
Достаточно, думается, и приведенных данных, которые при желании можно бы значительно умножить, чтобы видеть, насколько живуча в человеческом сознании идея об определяющем значении того выбора между двумя противоположными направлениями жизни, который приходится делать человеку, живущему сознательною жизнью, особенно же выступающему на общественное служение. Чтобы теперь отчетливее представить, в чем состоит разница между двумя жизненаправлениями, нужно проследить за движением в обоих направлениях от начала до конца. С этою целью остановимся на двух классических по своей яркости примерах борьбы за правду, из
44
коих один принадлежит великому моралисту древнего мира, а другой - не менее великому моралисту нового времени.
Как известно, в своем сочинении Платон решает такой вопрос: чья жизнь счастливее - справедливого или несправедливого? Вопрос ставится, очевидно, в виду тех факторов, которые на всем протяжении человеческой истории возмущают нравственное чувство человека, тревожат его мысль, возбуждают волю к восстанию против мирового строя, обрекающего нравственно чистых людей на тягчайшие страдания и оставляющего безнаказанными попирателей правды, — будь-то нравственное чувство могучего, гениального поэта, говорившего вслух всего мира, или бедного забитого чиновника, спрятавшегося со своими мучительными думами в самом отдаленном углу подполья:
Warum schleppt sich blutend, elend
Unter Kreuzlast der Gerechte,
Wahrend gliicklich, als ein Sieger.
Trabt auf hohem Ross der Schlechte? 1 спрашивает Гейне, и ему вторит Макар Алексеевич Девушкин («Бедные люди» Достоевского): «Отчего это так все случается, что вот хороший-то человек в запустеньи находится, а к другому кому счастье само напрашивается? Знаю, знаю, маточка, нехорошо это думать, что это вольнодумство; но по йскренности, по правде-истине, зачем одной еще во чреве матери прокаркнула счастье ворона-судьба, а другой из воспитательного дома на свет Божий выходит? И ведь бывает же так, что счастье-то часто Иванушке-дурачку достается. Ты, дескать, Иванушка-дурачок, ройся в мешках дедовских, пей, ешь, веселись, а ты, такой-сякой, только облизывайся; ты, дескать, на то и годишься, ты, братец, вот какой! Грешно, маточка, оно грешно этак думать, да тут поневоле как-то грех в душу лезет»... Платону не нужно было далеко ходить за фактами, иллюстрирующими противоречие между реальным ходом событий и идеальными требованиями
1 Зачем праведник окровавленный, несчастный тащится под тяжестью креста, в то время как нечестивый счастливо, словно победитель, быстро едет на высоком коне?
45
нравственного сознания: впечатление смерти Сократа слишком живо было в его душе. Не оно ли заставило его отказаться от своего первоначального взгляда (см. диалог «Протагор») на наслаждение, как существенный элемент блага1, чтобы в исполненном трагического величия «Горгии» утверждать полную противоположность между благом и наслаждением?1 2 3 И чем меньше ценится наслаждение, тем больше возвышается справедливость: здесь именно, устами Сократа, Платон высказывает мысль, что «лучше терпеть обиду, чем обижать»з, другими словами: лучше быть на месте Сократа, нежели — его обвинителей. Итак, справедливость лучше несправедливости; значит, и справедливый лучше несправедливого, но — счастливее ли? Этот последний вопрос и разрешается в «Государстве», взятый в той острой постановке, какую сообщает ему нарисованная с замечательною силой и яркостью антитеза между идеальными представителями двух противоположных направлений жизни, из коих каждый отполирован, словно статуя.
Постановка вопроса принадлежит собеседнику Сократа Главкону. «Что касается до суждения о жизни» в отношении к счастью, «то мы, — говорит Главкон, — будем правильно судить о ней, если противопоставим самого справедливого самому несправедливому», — тогда и посмотрим, кто из них счастливее.
1 Протагор, 345 В: «Эти действия» (телесные упражнения, воинские подвиги, врачевание посредством выжиганий и т. п., см. 351 А) «суть блага не по другой какой причине, а только потому, что они оканчиваются удовольствиями, что ими прекращаются и отвращаются страдания? Или вы разумеете другую цель, кроме удовольствий и страданий, по отношению к которой называете их добрыми? Я» (Сократ от лица которого ведется беседа) «не думаю, чтобы они» (люди) «подтвердили последнее».
2 См., напр., 500 А-В.
3 469 В. — В вопросе о происхождении и взаимоотношении диалогов Платона «Протагор» и «Горгий» мы примыкаем ко взгляду С. Н. Трубецкого (см. «Рассуждение о Протагоре» и «Протагор Платона в связи с развитием его нравственного учения» во П-м томе «Творений Платона» в переводе с греч. Влад Соловьева, М. С. Соловьева и кн. С. И. Трубецкого, изд. К. Т. Солдатенкова).
46
«Пусть сперва действует несправедливый», и именно — «совершенно несправедливый». «Крайняя несправедливость состоит в том, что несправедливый кажется справедливым»; поэтому и наш несправедливый пусть кажется справедливым, — позволим ему «величайшими неправдами приобрести величайшую славу справедливости». Представив себе таким образом несправедливого, противопоставим ему мысленно справедливого, т. е. человека простосердечного и благородного, который — хочет не казаться, а быть добрым. Назидание надобно отвлечь от него: ведь, если бы он казался справедливым, то ему», именно потому, что он «казался бы справедливым», воздавали бы почести и награды, а тогда было бы неизвестно, ради ли справедливости он таков, или ради наград и почестей. И так, надобно отнять у него все, кроме справедливости, и поставить его в состояние, противоположное состоянию первого, т. е., не делая никакой неправды, пусть он прослывет в высшей степени неправедным; пусть он будет испытываем в своей справедливости» всеми следствиями худой молвы; «пусть он останется неизменен до смерти, проводя, по-видимому, жизнь несправедливую, а в самом деле будучи справедливым, чтобы, когда оба они дойдут, один — до последней степени справедливости, а другой — несправедливости, можно было судить, который из них счастливее». Теперь посмотрим, «как должна проходить жизнь того и другого». «Праведника будут сечь, пытать и держать в оковах; ему выжгут и выколют глаза; наконец, испытав все роды мучений, он будет пригвожден ко кресту»... Наоборот, его антипод, «представляясь справедливым, получит правительственную должность в городе, потом женится, где будет угодно, выдаст» своих дочерей замуж за кого захочет, будет «входить в связи и сношения, с кем вздумается, и, кроме всего этого, с приобретаемыми выгодами соединять еще пользу спокойствия при нанесении обид; вступая в споры, преодолевать честно и публично своих неприятелей и брать над ними верх; взявши же верх, богатеть и благодетельствовать друзьям, а врагам вредить; с довольством и пышностью приносить богам жертвы и возлагать на жертвенник дары, вообще чтить богов и кого захочется из людей гораздо лучше,
47
чем чтить справедливый, так что и богам-то он, по-видимому, должен быть гораздо приятнее справедливого»... Ч
Прежде чем обратиться к анализу — поскольку это нужно для нашей цели — приведенного отрывка, напомним аналогичную картину из «Критики практического разума» Канта1 2.
В конце этого сочинения, отвечая на вопрос, «в чем собственно заключается та чистая нравственность, на которой, как на пробном металле, надо испытывать моральное значение каждого поступка», Кант говорит, что «только философы могут считать сомнительным решение этого вопроса, ибо во всеобщем человеческом разуме это уже давно решено, хотя не путем отвлеченных общих формул, но установлено обычною практикою, как различие между правою и левою рукою». Чтобы убедиться в этом, Кант предлагает читателям произвести такой умственный эксперимент. «Представим себе, что» наш вопрос «предлагается для обсуждения десятилетнему ребенку, и посмотрим, не станет ли он судить именно так сам собою, без всяких указаний со стороны учителя. Рассказывают историю честного человека, которого хотят заставить выступить клеветником и обвинителем невинного, но не влиятельного лица (как Анна Болейн по обвинению Генриха VIII Английского). Ему предлагают выгоды, т. е. большие подарки или высокое положение, но он их отвергает. -Тогда прибегают к угрозам и лишениям. Среди этих клеветников есть его лучшие друзья, которые иначе откажут ему в дружбе, есть близкие родственники, которые (а он человек бедный) грозят ему лишить его наследства, вельможи, которые могут преследовать и оскорблять его на каждом месте и в каждом положении, повелитель страны, который грозит ему утратою свободы и даже жизни. Наконец, чтобы мера его страдания была полна, заставляют его испытать и то горе, которое глубоко может почувствовать только нравственное сердце: его семья,
1 De republica, II, 360 D-365 С (Соч. Платона в пер. проф. Карпова, изд. 2, ч. III, стр. 102-104).
2 На мысль о сопоставлении проводимых отрывков автор был наведен книгой Н. Г. Городенского «Нравств. сознание человечества», стр. 121-122.
48
которой грозят величайшие лишения и нищета, умоляет его об уступчивости, - его, человека честного, но именно поэтому не твердого и чувствительного как к состраданию, так и к собственной нужде; но в тот момент, когда он желал бы, чтобы никогда не было того дня, который подверг его такому несказанному горю, он остается без всяких колебаний и сомнений верным своему решению быть честным»1.
Итак, мы уже не на перекрестке, откуда расходятся в разные стороны противоположные направления жизни; мы мысленно проследили за этими направлениями на всем их протяжении, от начала до конца; мы видели перед собою, словно высеченных из мрамора, «идеальных» представителей того и другого направления, и, кажется, двух мнений о сравнительном достоинстве направлений, равно как их представителей, быть не может. Кант уверяет, что уже в самом начале рассказа о честном человеке, который ни за какие выгоды не соглашается «выступить клеветником и обвинителем невинного, но не влиятельного лица», «в душе юного слушателя» пробуждается «одобрение и сочувствие» по отношению к стойкому в своей честности человеку; по мере же того, как рассказ будет идти дальше, приближаясь к трагическому концу, «юный слушатель постепенно от простого одобрения будет подыматься к удивлению, от удивления к изумлению и, наконец, к величайшему уважению и к желанию и самому быть таким же человеком (хотя, конечно, и не при таких обстоятельствах)»1 2. Не иное, конечно, впечатление произвела бы на юного слушателя и история того праведника, о котором рассказывает Платон. Спрашивается: что же именно в настроении и деятельности этих лиц служит основою такого возвышенного и возвышающего впечатления? Кант так отвечает на этот вопрос: «Здесь добродетель имеет такое высокое достоинство потому, что она дорого стоит, а не потому, что она что-либо дает. Удивление и даже стремление к сходству с таким характером здесь целиком покоится на
1 «Крит, практ. раз.», пер. Н. М. Соколова, Спб. 1897, стр. 183-184.
2 Там же, стр. 184.
49
чистоте нравственного основоположения, которое можно представить себе с полною ясностью только потому, что здесь все, что только люди могут причислять к счастью, перестает быть побуждением к поступку». Итак, дело в том, что кантовский страдалец, равно как платоновский праведник, побуждались к поступкам не исканьем того, «что только люди могут причислять к счастью», будь-то материальное довольство, почести, добрые отношения с окружающими людьми и т. п., но страхом изменить вековечной правде, которая была в их глазах дороже самой жизни, ибо сама жизнь имеет ценность постольку, поскольку она является служением правде. Для них дело стояло так: или жизнь, купленная ценою измены безусловным требованиям нравственного сознания, или же верность этим требованиям «даже до смерти». Они избрали второе — и мы преклоняемся перед высотою их подвига...
Человеческое сознание, несмотря на все его уклоны в сторону от прямого пути в определении абсолютных ценностей, свято хранить высокие образы тех лиц, которые до конца остались верны безусловным требованиям своего нравственного сознания, будет ли то обаятельная в своей внутренней красоте Антигона, которая предпочла лучше «умереть до срока», нежели «преступить «веления божественных законов, не писанных, но вечных, и не вчера рожденных, не сегодня, но правящих всегда»1, или не менее обаятельная в своем скромном героизме христианская мученица, юная служанка Блондина, «это тщедушное, робкое существо», истомившее целое полчище палачей, которая среди страшных пыток думала не о том, как бы спасти свою жизнь, а о том, как бы пятнадцатилетний подросток-христианин, по имени Понтик, не поколебался в вере среди жестоких мучений,1 2 — Сократ, который, не задумываясь, предпочел с достойным уважающего себя человека
1 Софокл Антигона. Пер. Д. С. Мережковского. Спб. 1902., стр. 23.
2 См. послание Лионской и Бьенской церкви у Евсев. Церк. ист., кн. V, I-IV, а также Ренана «Марк Аврелий и конец античного мира», пер. Л. Я. Гуревич, Спб. 1906, гл. XIX, особ. стр. 188-189,195-196,201-203.
50
оправданием умереть, нежели с рабским оправданием жить (что такое смерть — «не есть ли она величайшее из благ» — этого, — говорил он, — я достоверно не знаю, «а что поступать беззаконно и не повиноваться лучшему, — человеку-то или Богу, — есть худое и постыдное, — это я знаю»1), или другой мученик свободной мысли Джордано Бруно, мужественно взошедший на костер, приготовленный ему инквизицией («кто еще боится за свое тело, — говорил он, — тот еще не чувствует себя единым с Божеством»1 2 3), — мужественный и стойкий в борьбе за попираемую правду митрополит Филипп, не побоявшийся обличать царя Ивана Грозного и заплативший мученическою смертью за свои обличения («только молчи, говорил царь, едва сдерживаясь от гнева: одно тебе говорю -молчи, отец святой, молчи и благослови нас», — «наше молчание, отвечал Филипп, грех на душу твою налагает и смерть наносит»з), или суровый фанатик своих убеждений, знаменитый протопоп Аввакум, соперничавший со своей женой в мужественной стойкости при перенесении выпавших на их долю невзгод*, и т. д., и т. д.: к счастью
1 Plat. Apol. 38 Е. 29 АВ. О том, в какой мере платонова «Апология Сократа» отражает действительный образ великого мудреца, см. «Рассуждение об Апологии» кн. С. Трубецкого во П-м томе солдатенковского издания «Твороций Платона» в русск. пер.
2 А. Риль. Дж. Бруно. Русск. пер. Спб. 1903, стр. 17.
3 «Курс русск. истор.» проф. В. Ключевского, ч. II, стр. 210.
* Протопоп рассказывает о своем вынужденном путешествии по Даурской земле. «Страна варварская, иноземцы не мирные; отстать от людей не смеем и за лошадьми идти не поспеем; голодные и томные люди; протопопица бедная бредет, бредет да и повалится. - На меня бедная пеняет, говоря: «долго ли муки сея, протопоп, будет?» И я говорю: «Марковна! да самыя смерти». Она, вздохня, отвечала: «Добро, Петрович; ино еще побредем». В другом месте: «Таже в русски грады приплыл и уразумел о церкви, яко ничтоже успевает, но паче молва бывает. Опечалясь, сидя, рассуждаю: что створю? проповедую ли слово Божие, или скрыюся? Жена и дети связали меня. И видя меня печальна, протопопица моя приступи ко мне со опрятством и рече ми: «Что, господине, опечалился оси?» Аз же подробну известих: «Жена! что сотворю? зима еретическая на дворе; говорить ли мне или молчать? связали вы меня!» Она же мне говорит: «Господи помилуй! Что ты, Петрович, говоришь? - аз тя и с детьми благословляю, дерзай
51
для человечества, вспомним слова поэта: «Природа-мать, когда б таких людей ты иногда не посылала миру, заглохла б нива жизни» — приведенные примеры можно бы значительно умножить. Но сколько бы мы их ни умножали, в какие бы эпохи и страны ни переносились, с какими бы индивидуальностями ни имели дела — несомненно одно: величие подобных людей состоит в том, что они, применяя библейское выражение, «не преклоняли колен перед Ваалом», не изменяли своим убеждениям ни из-за житейских выгод, ни из-за почестей, ни даже из страха смерти, — по мере сил и разумения все они, хотя и каждый по своему, служили не людям, а Богу, — не твари, а Творцу1, и в этом — тайна того обаяния, какое производят их образы на людей самых различных верований, философских и политических направлений и т. д.* 1 2.
проповедати слово Божие по прежнему, а о нас не тужи, дондеже Бог изволит; тогда нас в молитвах своих не забывай; силен Христос и нас не покинуть. Поди, поди в церковь, Петрович! обличай блудню еретическую!» («Житие протопопа Аввакума, написанное им самим». Изд. А. Е. Беляева П-ое. Спб. 1904, стр. 12 и 15).
1 Сократ, который считал для себя невозможным делом не повиноваться Богу, называет в «Апологии» свою деятельность «служением Богу». См. Аро]. 37 Е, 30 А. Ср. слова ап. Павла: «если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым» (Гал. 1, ю).
2 Превосходно выражено то высокое впечатление, какое производит стойкая борьба за правду, в «Рождественской сказке» Щедрина. По убеждению сурового сатирика, борьба эта сурова, но победоносна. «Неправильно думают те, — говорит он устами старика-священника, — которые утверждают, что Правда когда-либо скрывала лицо свое или — что еще горше — была когда-либо побеждена неправдою. Нет, даже и в те скорбные минуты, когда недальновидным людям казалось, что торжествует отец лжи, в действительности торжествовала Правда. Она одна не имела временного характера, одна неизменно шла вперед, простирая над миром крылья свои и освещая его присносущным светом своим. Мнимое торжество лжи рассеялось как тяжкий сон, а Правда продолжала шествие свое. Вместе с гонимыми и униженными Правда сходила в подземелье и проникала в горные ущелья. Она восходила с праведниками на костры и становилась рядом с ними перед лицом мучителей. Она вздувала в их душах священный пламень, отгоняла от них помыслы малодушия и измены, она учила их страдать всладце. Тщетно служители отца лжи мнили торжествовать, видя это
52
Где же та сила, которая сообщала всем этим людям несокрушимую энергию для того, чтобы, несмотря на все препятствия, неуклонно идти через горы и овраги все вперед и вперед, per aspera ad astra к той горе, где, «весь пламенеющий победными огнями», стоит в своем дивном величии их «заветный храм», храм единого истинного Бога, Бога вековечной правды, безусловного добра и неизреченной красоты. Если бы они поколебались в своей вере в абсолютную ценность той правды, которой они неуклонно служили, ради которой отказывались от земных благ, терпели тягчайшие страдания, шли на смерть, тогда, конечно, не хватило бы у них силы пройти до конца по их крестному пути. В «Послании к Евреям» дивными чертами изображена могучая сила веры. Апостол говорит о тех, которые «верою побеждали царства, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись в немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих; другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу; были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке; умирали от меча; скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли»... И все они «умерли по вере, не получив обетований, а только издали видели оныя, и радовались, и говорили о себе, что они странники и
торжество в тех вещественных признаках, которые представляли собой казни и смерть. Самые лютые казни были бессильны сломить Правду, а — напротив — сообщали ей вяпцпую притягивающую силу. При виде этих казней загорались простые сердца, и в них Правда обрела новую благодатную почву для сеяния. Костры пылали и пожирали тела праведников, но от пламени этих костров возжигалось бесчисленное множество светочей, подобно тому, как в светлую утреню от пламени одной возженной свечи внезапно освещается весь храм тысячами свечей». Подчеркнутые нами места характеризуют Правду, как начало вековечное, «присносущное», и конечно, только вера в абсолютную ценность правды могла вдохновлять младшего сподвижника Щедрина, Михайловского, в борьбе за правду - истину и правду - справедливость. Это — для последующего.
53
пришельцы на земле» (Евр. 11, 33 34.36 38.13)* И все, кто только вдумывался в движущие силы человеческого творчества, отмечали громадное значение веры, как творческой силы. «Творят жизнь люди веры», говорит Влад. Соловьев1. «Вся история человечества есть не что иное, как вера, воплощенная в действиях и событиях», читаем в трактате проф. П. П. Соколова о «Вере»1 2 з. Иван Карамазов говорит в беседе со своим братом Алешей: «Хочу, Алеша, в Европу съездить; и ведь знаю я, что поеду лишь на кладбище, но на самое дорогое кладбище, вот что!.. Дорогие там лежат покойники!.. Каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, - такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, - знаю заранее, - паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними...»з.
Приводя все эти выдержки, мы нисколько не боимся упрека в petitio principii, потому что как ни различны те свидетели могущества
1 Вторая речь в память Достоевского. См. собр. соч. Влад С. Соловьева, т. III, стр. 185.
2 «Вера и Разум», 1902, №4, стр. 181. То же самое в более подробном и обстоятельном изложении — «Вопр. ф.-фии» за 1902 г.
з «Бр. Карамазовы» Достоевского, ч. I, кн. V, гл. III. У западных писателей тоже можно найти чрезвычайно сильные места относительно значения веры. Так, Паульсен в своей «Этике» приводит след, место из Гете: «Истинной, единственной и глубочайшей темой всемирной истории останется конфликт между верой и неверием. Все эпохи, в которые господствует вера, в той или иной форме отличаются блеском, могучим подъемом духа и плодотворною деятельностью на пользу современников и потомков. Напротив, все эпохи, когда неверие в какой бы то ни было форме, одерживает печальную победу, хотя бы и гордились некоторое время обманчивым блеском, исчезают для потомства, потому что никому нет охоты мучить себя изучением бесплодного». Сам Паульсен разделяет эти мысли великого поэта, и для иллюстрации мысли о влиянии веры на жизнь ссылается на Лютера, который «один» шел «против целого мира, один, но с Богом»: глубока вера в Бога - вот что давало ему силы для такого дела. (Фр. Паульсен. Основы этики. Пер. под ред. Вл. И. Ивановского. М. 1907, стр. 423-424). У Виктора Гюго есть такие слова: «Все вы, кто бы вы ни были, если хотите иметь великие мысли и творить великие дела, — верьте! Живите верой! Имейте веру религиозную, веру патриотическую, веру литературную». (См. «Мирный Труд», 1904, №1, отд. 2, стр. 34-35)-
54
веры, на которых мы ссылались, и по воззрениям, и по настроению, и по условиям жизни, начиная от апостола и кончая русским студентом, - основное ядро в их понятиях о вере одно и то же: объектом веры всегда и неизменно является абсолютное, будет ли то абсолютное бытие, абсолютное добро, абсолютная истина и т. д. Возьмем ли ветхозаветных праведников, о которых говорит апостол в «Послании к Евреям», или подвижников культуры, перед которыми преклоняется Иван Карамазов, - и те, и другие верили в абсолютную ценность того дела, которому они служили. Это превосходно понимал наш Тургенев, несмотря на весь свой позитивизм в теоретическом мировоззрении1. Его любимым героем был Дон-Кихот, «энтузиаст, служитель идеи», обвеянный «ее сиянием». Он «проникнут весь преданностью идеалу, для которого готов подвергнуться всевозможным лишениям, жертвовать жизнью; самую жизнь свою он ценит настолько, насколько она может служить средством к воплощению идеала, к водворению истины, справедливости на земле». Психологическую основу безраздельной преданности Дон-Кихота идеалу Тургенев видит в его «вере в нечто вечное, незыблемое» (абсолютное), «в истину, находящуюся вне отдельного человека» (общезначимую, безусловную). (См. «Речь о Гамлете и Дон-Кихоте»). И когда ему пришлось наблюдать идейные блуждания своего друга, Герцена, который, утратив былую веру в Запад, исповедывал веру в русский народ, «в овчинный тулуп», проницательный Тургенев совершенно справедливо назвал эти блуждания «погоней за абсолютным»1 2. Пока мы находимся в
1 Вот как сам Тургенев определяет свое собственное мировоззрение в письме к M. А. Милютиной: «Я преимущественно реалист и более всего интересуюсь живою правдою людской физиономии; ко всему сверхъестественному отношусь равнодушно, ни в какие абсолюты и системы не верю, люблю больше всего свободу, и, сколько могу судить, доступен поэзии. Все человеческое мне дорого, славянофильство — чужда также как и всякая ортодоксия» (курсив в подлиннике). «Первое собрание писем И. С. Тургенева». Спб. 1884. стр. 252.
2 См. об этом в статье С. Н. Булгакова «Душевная драма Герцена» («Вопр. ф-
фии», 65=1902, V, стр. 1364, а также в сборнике «От марксизма к идеализму»).
55
пределах того, что можно доказать фактами или соображениями разума, нет места для веры: тут могут быть суждения различной степени достоверности, начиная с более или менее вероятного мнения и кончая строго проверенными научными положениями, но мнение - не то же, что вера. Относясь к той же области, что и научное знание, мнение отличается от последнего лишь меньшею степенью достоверности; это предположительное знание, которое при дальнейшем расширении опыта или углублении во взаимоотношения понятий может или перейти на степень вполне достоверного знания, или же потерять всякое значение; таково, напр., мнение об игумене Сильвестре, как составителе «Повести временных лет»1. Между тем вера и в своем субъективном моменте, и в объективном характеризуется безусловностью, или абсолютностью: вера -безусловное достоверное, исключающее всякое сомнение, убеждение (момент субъективный) в абсолютной ценности того или другого предмета, будет ли то бытие или познание (момент объективный): объектом веры служит нечто абсолютно ценное. Только такая вера может двигать горами...
Теперь мы имеем достаточно данных для того, чтобы подвести итоги относительно характеристических особенностей того направления жизни, которое оценивается общечеловеческим сознанием, как направление возвышенное, возвышающее тех лиц, которые ему следуют, и возвышающим же образом действующее на душу тех, которые его созерцают (реально или идеально — в данном случае это не имеет значения). Особенности же следующие: а) непоколебимая вера в существование абсолютных ценностей, связанная с б) благоговейным преклонением перед абсолютноценным и в) неустанною деятельностью, направленною к реализации абсолютных ценностей в жизни, все это такие черты, которыми характеризуется явление, известное под именем нравственность, ибо нравственность состоит в осуществлении добра, как такой
1 Термин «мнение» употребляем в смысле Локка («Опыт о человеч. разуме», кн. IV, гл.
14) или Вундта («Logic», В. 1, Aufl. 2, S. 412 if.).
56
ценности, которая имеет значение независимо от наших субъективных склонностей, чувств и желаний, т. е. ценности абсолютной. В самом деле, - чувство нравственной ценности, которым сопровождается созерцание того или другого деяния (напр., непоколебимой верности Сократа своим убеждениям), необходимо связывается с чувством безусловной обязательности и для созерцающего поступить в аналогичных обстоятельствах так же, как поступило лицо, которому принадлежит созерцаемое деяние, в данном случае Сократ, короче: с чувством нравственно ценного связывается чувство нравственно должного, причем момент абсолютности входит сюда, как существеннейший момент: долг обязывает безусловно1. В виду этого мы едва ли ошибемся, если назовем характеризуемое направление абсолютистическим — в том
1 «Нравственный долг, читаем в цит. соч. Н. Г. Городенского, - есть нечто абсолютное: это - безусловный, священный авторитет» (стр. 136). Долг обязывает осуществлять только добро. Проф. Т. Липпе разъясняет в своей «Этике», что добро, как объект нравственных намерений и действий, имеет безусловную ценность («Осн. вопросы этики», пер. М. А. Лихарева, стр. 207-216). Таким образом, оба моралиста, обязанные основными положениями своих этических построений больше всего Канту, одинаково признают момент абсолютности существенным в понятии нравственности. И это, без сомнения, справедливо: пока мы находимся в пределах гедонической оценки намерений и действий, о нравственности говорить не приходится; нравственность начинается там, где вступает в свои права другого рода оценка - не с точки зрения приятного и неприятного, а с точки зрения высокого и низкого; этого рода оценка необходимо связывается, как показывает анализ данных общечеловеческого сознания, с чувством должного, обязывающего категорически, но о категорическом императиве не может быть и речи там, где остается место сомнению в ценности предписываемого деяния: только абсолютно ценное может предписываться категорически. И так, где нет абсолютно ценного, там нет и категорического императива, а где нет категорического императива, там нет оснований говорить о специфической природе нравственной оценки сравнительно с гедонической оценкой, другими словами — нет оснований выделять нравственность из вещей связи человеческих намерений и действий. Достаточно, если мы ограничимся тогда речью о правах, как более или менее устойчивых способах действования. — Для уяснения понятия о нравственности см. цит. сочинения профф. Городенского и Липпса.
57
смысле, что оно определяется в своих особенностях стремлением к осуществлению абсолютных ценностей.
Вместе с идеей абсолютно-ценного, которая составляет существенный момент в понятии о нравственности, мы, можно сказать, вплотную подходим к другому явлению человеческой жизни, известному под именем религии. Нет двух областей, так тесно связанных друг с другом, как — нравственность и религия: и там, и здесь преклонение перед абсолютно-ценным, равно как деятельное служение ему, составляют существенно необходимые моменты, но если для нравственного сознания добро, как высшая ценность, может в известных случаях иметь лишь идеальное существование, как бесконечно-высокий идеал, долженствующий быть реализованным, и реализующийся в каждый данный момент, но никогда не реализованный вполне, то для религиозного сознания тот же самый идеал дан, как нечто обладающее реальным существованием, как ens realissimum: Бог - это реальное средоточие абсолютных ценностей, которые, следовательно, прежде чем реализоваться в человеческой жизни, даны от века реализованными в Боге. Отсюда, если пафос этически настроенной личности сводится к благоговению перед нравственным законом - вспомним вдохновенные слова сдержанного Канта: «две вещи наполняют душу всегда новым удивлением и благоговением, которые поднимаются тем выше, чем чаще и настойчивее занимается ими наше размышление, — это звездное небо над нами и моральный закон в нас»1, - то пафос религиознонастроенного человека характеризуется стремлением к живому общению с Божеством, исполняющим душу религиозного человека чувством благоговения: «как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже! жаждет душа моя к Boiy крепкому, живому: когда прийду и явлюсь пред лице Божие!» (Псал. 41, 2-3) — вот голос религиозно-настроенного человека. Сократ, который находил полное удовлетворение в осуществлении этических требований разума, не придавая существенного значения другим способам общения с
1 «Кр. практ. раз.», заключение (пер. Соколова, стр. 191).
58
мировым разумом, вследствие чего для него не имело первостепенной важности то или другое решение вопроса о бессмертии души, или Кант, для которого Бог был лишь постулатом нравственного сознания, смысл же жизни сводился к осуществлению требований нравственного закона, это натуры по преимуществу этического склада, тогда как Платон, жаждавший непосредственного общения с миром абсолютных ценностей и полагавший смысл жизни в том, чтобы умирать и умереть1, или конгениальный Платону Влад. Соловьев представляют собою натуры склада религиозного. При всем том сходство между натурами того и другого склада, resp. между теми явлениями, которые являются для них определяющими, существенные, нежели различие: и нравственность, и религия являются в конце концов служением абсолютно-ценному, или богослужением в широком смысле этого слова. Вспомним, что как Платон, так и Соловьев, одинаково жаждавшие непосредственного общения с Абсолютным Добром, одинаково энергично стремились и к тому, чтобы служить этому Добру осуществлением его в пространственно-временных условиях человеческой жизни. Из этого стремления выросли самые обширные сочинения обоих мыслителей, очень для них характерные: Платона и «Оправдание добра» Соловьева, сходные по своим основным задачам и существенному содержанию... Таким образом, идея абсолютно-ценного необходимо входит в состав религии: религия есть служение Богу не как всемогущей силе, распоряжающейся по своему произволу судьбами людей, а как живому средоточию абсолютных ценностей. Психологической основой такого служения является не чувство страха перед Богом, как не только созидающей, но и сокрушающей силой, а чувство благоговения перед Ним, как перед безусловно ценным бытием. Там, где отношение человека к Божеству сводится к задабриванию или заклинанию последнего, где следовательно -отсутствует этический момент, там нет оснований говорить о религии.
1 Федон 64 А: «люди, искренно преданные философии, ничего другого не имеют в виду, как только умирать и умереть».
59
Платон в своем «Эвтифроне» неопровержимо доказал, что служение богам, которое сводится к угождению им молитвами и жертвоприношениями ради обеспечения личного и общественного благополучия, представляет нечто в роде торговой сделки между богами и людьми, а потому и не может быть признано выражением благочестия и святости1» Принесение язычником жертвы тому или другому богу ради обеспечения себе безопасности,было бы в такой же мере религиозным деянием, в какой является им устройство громоотвода, если бы можно было доказать, что оно не осложняется мотивами высшего порядка, вытекающими из чувства благоговения перед абсолютно ценным1 2. Таким образом религия, поскольку она действительно есть благочестие или богочестие, является выражением того направления жизни, которое выше названо абсолютистическим, ибо она состоит в общении с абсолютно-ценным, равно как в служении ему. Оба момента — богообщение и
1 Euthyphro, 12 Е-15 А.
2 Равным образом нет оснований присваивать религиозный характер таким
философским системам, в которых понятие о Боге является принципом объяснения; таковы, напр., системы Аристотеля или Декарта: понятие о Боге вводится в эти системы по соображениям того же порядка, какие заставляли других философов прибегать, напр., к понятию атома, а естествоиспытателей нового времени побуждают принять существование эфира, — по соображениям чисто теоретическим, а потому достаточно, если мы назовем указанные системы, следуя терминологии самого Аристотеля (Metaph. VI, 1, 1026 а 19), теологическими, а не религиозными. Характер систем соответствует в данном случае характеру их творцов, для которых имели главный интерес проблемы теоретического характера: как натуры интеллектуального склада, они служили прежде всего истине, — в этом пафос их деятельности и высота их жизненного подвига. Конечно, бескорыстное служение истине было в тоже время служением Богу, Который есть истина, но непосредственной религиозности, в смысле стремления к богообщению, мы у этих мыслителей не замечаем. Системе Аристотеля, — говорит Целлер, — «недостает того теплого религиозного тона, который во все времена так живо звучал из платоновой системы для восприимчивых душ, — та система в сравнении с этой холодна и трезва» (D. Philos, d. Griech., II Th., 2 Abth. 3, s. 788). To же можно сказать о системе Декарта.
60
богослужение (не в техническом смысле этого слова) - одинаково важны в понятии религии1, тогда как в понятии нравственности имеет
1 В русском языке нет слова для обозначения понятия, соответствующего латинскому слову religio и греческо-христианским терминам upi^avncia (Деян. 26, 5; Иак. 1, 26-27), evaepeia (Деян. 3,12; 2 Петр. 1,3; 1 Тим. 2, 2; 3,16; 4,7-8; 6, 3. 5. н; 2 Тим. 3,5; Тит. 1,1), 6eun6aipovia (Деян. 25, 19), ueoo^peta (у Климента Александр., а также в богослужебных книгах; см., напр., ирмос 8-ой песни канона на Сретение, а также ирмос той же песни второго канона на Преображение, где употреблено соответствующее прилагательное). Что же касается только что приведенных иноземных терминов, то греческие выражают главным образом субъективный момент религии - почитание Божества, служение Ему, латинский же, если, следуя Лактанцию, производить его от глагола religare (связывать, соединять), обозначает связь человека с Богом, - значит, момент богообщения. Впрочем, Цицерон производит слово religio от глагола relegere (пересматривать, тщательно обдумывать, перечитывать). Если это словопроизводство верно, то религия будет означать вновь тщательно обдуманный и как бы перечитанный способ богопочитания. Такое толкование, — находит проф. А. И. Садов, — соответствует характеру римского государственного культа, предполагавшего «буквальное знание множества формул и вообще точное знание обрядности и, как условие такого знания, справки с установленными и записанными в богослужебных книгах правилами для возобновления их в памяти». («Значение слова religio у древних римлян» проф. А. И. Садова — Христ. Чт. 1894. кн. VI). Может быть, ассоциациями, связанными с цицероновским словопроизводством и истолкованием слова religio, объясняется нерасположение к нему русских богословов. Так, А. С. Хомяков находит в этом слове выражение латинской, чисто-рассудочной идеи религии, «как обряда государственного, полезного, но вполне условного, - обязательного для граждан, но не имеющего никаких внутренних данных для самобытного существования, или прав на безусловное верование». (Соч., т. IV, изд. 1, стр. 404). Впоследствии, — м. б., не без влияния Хомякова, - относился отрицательно как к термину «религия», так и производному от него прилагательному «религиозный». Влад. С. Соловьев, заменяя, по возможности, первый словом «вера», второе — прилагательными «духовный» и «благочестивый» (так, при третьем издании своего сочинения «Религиозные основы жизни» Вл. С. подчеркнутое слово заменил прилагательным «духовные»). Нам лично пришлось слышать от одного авторитетного богослова-историка суждение если не о полной непригодности термина «религиозный», то о неуместности его употребления для обозначения не душевного настроения, которое, впрочем, выразительно обозначается русскими словами «набожный», «благочестивый», а лишь внешнего или
61
существенное значение последний момент: нравственность всегда есть богослужение, хотя бы фактически она и не связывалась с идеей Божества. Можно служить Богу и не зная Его (см. Деян. 17, 23)...
Итак, о нравственности, равно как и об религии, можно говорить постольку, поскольку в человеческой жизни имеет место первое направление жизни, характеризующееся безраздельным служением абсолютно-ценному: нравственность и религия - две родственные области, в которой характеризуемое направление находит свое выражение. Раз Аристотель безраздельно служил науке, а Рафаэль — искусству, мы уже имеем дело с явлениями нравственного порядка, которые в свою очередь непосредственно граничат с явлениями порядка религиозного...
Второе направление жизни представляет полную противоположность первому: если первое характеризуется служением абсолютно-ценному, то второе не знает абсолютных ценностей, потому что не верит в них. Оно знает лишь условные ценности, которые определяются их значением для удовлетворения временных потребностей эмпирического я: последнее, таким образом, является последним масштабом оценки, «мерою всех вещей», по выражению даровитейшого из древнегреческих софистов. Для Исмены (сестра Антигоны) сохранение собственной жизни было дороже повиновения требованию «неписаных законов», равно как друзья кантовского страдальца, убеждавшие его ценою клеветы против неповинного лица купить себе жизнь, забыли — или постарались забыть, - что есть ценности более дорогие, нежели самая жизнь. Впрочем, нам, русским, нет нужды ходить далеко в поисках за типичными проявлениями практического релятивизма: одна из самых драгоценных черт нашей художественной литературы - отрицательное отношение к этому
даже внутреннего отношения чего-либо к области религии. В 1893 году на страницах Киевского академического журнала была сделана попытка для обозначения последнего понятия ввести термин «религийный»: в статье «Христианская церковь и римский закон в течение двух первых веков» встречаются такие выражения: «религийная полиция», «религийная политика». Как бы то ни было, но для замены латинского термина «религия» в русском языке подходящего слова не оказывается.
62
явлению. Вспомнить только ту по истине лапидарную характеристику, какую Пушкин дает так называемому «свету», задушившему поэта в своих железных тисках: свет «не карает заблуждений, но тайны требует от них; достойны равного презренья его тщеславная любовь и лицемерные гоненья»... Железные стихи Лермонтова, облитые горечью злости, широкие картины светской жизни с ее ложью и лицемерием, нарисованные Толстым, были дальнейшим развитием данной Пушкиным характеристики. А на другой стороне Гоголь с его безысходною скорбью и Чехов с тихою, глубокою грустью, только в самом конце его короткой жизни ставшей уступать место бодрым надеждам на лучшее будущее: основою этой скорби, этой грусти была пошлость, мелочность окружающей жизни... Корень тех недостатков русской жизни, которыми питалось презрение Пушкина, негодование Лермонтова, отвращение Толстого, скорбь Гоголя, грусть Чехова, заключается в том, что у нас не было такой ценности, преклонение перед которой не унижает, а возвышает человеческую личность1, не было святыни, не было Бога, вследствие чего получали над нашей жизнью власть «все так называемые блага, — красота, богатство, крепость тела, сильное родство в обществе и все тому подобное»1 2, и жизнь становилась идолослужением...
Если бы теперь потребовалось терминологическое обозначение для такого направления жизни, то его, по противоположности с первым направлением, которое нашло свое выражение в жизни платоновского праведника и кантовского страдальца, можно бы назвать релятивистическим, и поскольку оно характеризуется с отрицательной стороны - отсутствием веры в безусловно-ценное, благоговения перед ним и служения ему, и с положительной — оценкою вещей, событий и лиц с точки зрения их пригодности для удовлетворения преходящих потребностей эмпирического я и сведением жизни к удовлетворению этих именно потребностей. Взятое в своих крайних обнаружениях, рассматриваемое направление
1 Ср. Городенск., цит. соч., стр. 135.
2 Plalo De rep. VI, 491С (русск. пер. проф. Карпова, ч. III, изд. II, стр. 314).
63
получает название нигилизма, сущность которого именно и состоит в решительном и последовательном проведении релятивистического принципа, т. е. отрицания безусловно-ценного: нигилист — это бесстрашный в своей последовательности релятивист. И хотя это обозначение впервые встречается в русской литературе у Тургенева («Отцы и дети»)1, который в лице Базарова хотел дать художественный тип нигилиста, однако, напрасно мы стали бы искать у него последовательного нигилиста, — во всяком случае Базаров, который напрасно пытался в себе подавить возвышенные проявления романтизма, не был настоящим нигилистом. Не был им и знаменитый панегирист Базарова, Писарев, нигилизм которого мирился с бодрым призывом к разумному труду на общую пользу1 2. Если вы хотите видеть настоящих нигилистов, то обратитесь к произведениям Достоевского, который развертывает перед нами целую галерею лиц, утративших человеческий облик: тут и люди-животные (старик Карамазов), и люди-звери (ростовщица Алена
1В теоретическом значении этот термин употребляется еще у Якоби, который обозначает им философское направление, известное под названием солипсизма (Eisler. Worterbuch d. philosoph. Begriffe. 2-te Aufl„ IB., S. 731).
2 Вот две-три выдержки из Писарева в подтверждение сказанного в тексте «Да, жизнь есть постоянный труд, и только тот понимает ее вполне по-человечески, кто смотрит на нее с этой точки зрения. И любовь к женщине, и искусство, и наука, — все это или вспомогательные средства в общем механизме жизненного труда, или минуты отдыха в антрактах между оконченной работой и началом нового дела». Что же касается «конечной цели всего нашего мышления и всей деятельности каждого честного человека», то она «все-таки состоит в том, чтобы разрешить навсегда неизбежный вопрос о голодных и раздетых людях; вне этого вопроса нет решительно ничего, о чем бы стоило заботиться, размышлять и хлопотать». (Соч., т. IV. Спб. 1894, статья «Реалисты», столб. 123, 109). Это ли нигилисты?! А между тем теоретические основы его миросозерцания носили релятивистический характер. Как часто бывает, здесь мысль расходилась с делом, теория с практикой. Ср. В. 3. Завитневича «Что следует понимать под т.-н. «разрывом» русск. интеллиг. общества с народом» - Труды Киевск. дух. Ак., 1907, кн- VII, стр. 385-386. Впоследствии нам придется считаться с этим обстоятельством.
64
Ивановна), и, наконец, великое множество бесов в человеческом образе (Ставрогин и его копия, скорее, пожалуй, пародия, - Петр Верховенский). «Видите, господа, мне не нравилась его наружность, что-то бесчестное, похвальба и попирание всякой святыни, насмешка и безверие, гадко, гадко!»1 - такими словами выражает один из героев Достоевского, искренний и безудержный Дмитрий Карамазов, то впечатление, какое производит образ действительного нигилиста, и, кажется, не нужно быть богословом, чтобы отнестись к этому образу с решительным отрицанием... 1 2.
1 «Бр. Карамазовы», кн. 9-ая, гл. III О Достоевском принято повторять, с легкой руки его же самого, что он во всяком человеке умел отыскать искру Божию. На самом деле это вовсе не так: ни у одного писателя мы не найдем изображения такой глубины нравственного падения, до какой спускаются многие герои Д-го. Во многих его героях невозможно распознать человеческого облика: это животные, звери, - бесы, наконец, -только нелюди...
2 Ни для кого не тайна, что к нам, богословам, ученые другого лагеря относятся с предубеждением. Достаточно было Освальду дать своему сочинению заглавие, указывающее на его апологетические задачи («Ап appeal to common sense in behalf of religion». London. 1774), чтобы H. Д. Виноградов счел себя в праве даже и не останавливаться на нем (Н.Д. Виноградов. Ф-фия Д. Юма. Ч. 1. М. 1905 Стр. 145); а И. И. Лапшин по одному поводу вспоминает «глубокомысленное замечание Руссо, согласно которому представители самых различных религиозных миросозерцаний могли бы, собравшись вместе, прийти к полюбовному соглашению в вопросах веры, но под одним условием: чтобы среди них не было ни одного богослова». (И. Лапшин Законы мышления и формы познания. Спб. 1906. Прилож. 2-ое, стр. 91). Конечно, если под тенденцией, которая, однако, может иметь не только богословский характер, разуметь от вне навязанную и внешне воспринятую идею, то она представляет большой тормоз в деле научного наследования; но если тенденцию понимать в смысле внутреннего интереса, направляющего научное внимание исследователя на определенную область или проблему, то она_является весьма желательным двигателем научной работы. Не обязана ли философия своим происхождением стремлению дать разумный отчет о вере отцов? Только бы исследование направлялось свободным поворотом внимания в ту или другую сторону. Другими словами — для того, чтобы богослов не был лишним в общей научной работе, нужно, чтобы он был свободным богословом. Тогда — в случае упрека в тенденциозности — он мог бы ответить словами
65
Итак, изучение разнообразных данных общечеловеческого сознания касательно основных направлений жизни приводит нас к тому же самому выводу, какой мы получили путем изучения библейских данных: - третьего пути нет, и быть не может, потому что логически возможны лишь два отношения к безусловно-ценному -утверждение или отрицание: «кто не со Мною, - сказал Христос, — тот против Меня, и кто не собирает, тот расточает» Лук. и, 23). Отсюда совершенная неизбежность непримиримой борьбы между двумя направлениями. Так как при этом дело идет о решении самого важного вопроса человеческой жизни — быть или не быть человеку человеком, то понятно, что эта борьба составляет существеннейший элемент в содержании этой жизни. Правда, ни психология, ни история, — две науки, имеющие своею целью изучение духовной жизни человека, — не раскрывают роковой борьбы во всей ее полноте и напряженности, но это объясняется характером названных наук, а потому нисколько не опровергает нашей мысли о том месте, какое занимает рассматриваемая борьба в человеческой жизни. Дело в том, что как психология, так и история не знакомят нас с жизнью в ее непосредственной цельности, как, например, она осуществляется в отдельных индивидуумах; нет, их задача состоит в том, чтобы, разложив цельность индивидуальной (психология) или коллективной (история) жизни на составные элементы, установить постоянные отношения между этими элементами (законы психической и исторической жизни), и как ни важна эта задача, ее решением вовсе не исчерпывается вся полнота душевной жизни человека, а определяющий характер всей его жизни выбор между двумя направлениями, абсолютизмом и релятивизмом, даже и не затрагивается, потому что он совершается в таких глубинах индивидуальных переживаний, которые недоступны ни психологии,
гр. Ал. Толстого: «тенденция — это я!»... Во всяком случае, от богослова, как и от всякого исследователя, требуется уважение к чужому мнению, хотя бы оно и расходилось с его собственным. Только при этом условии приобретается уменье стать на чужую точку зрения, что совершенно необходимо для понимания чужих воззрений...
66
ни истории. Мы уже говорили о том, что «решительный и решающий выбор между двумя нравственными дорогами» совершается далеко не всеми, по крайней мере, сознательно; но «если сознательный выбор и совершился, то, — по словам Вл. С. Соловьева, снаружи его не заметить: никакой эмпирической определенности и практической определимости принципиальное различие двух путей еще не имеет»1. Если где, то здесь в особенности приложимы слова Ницше: «у каждой души есть свой мир; для каждой души другая душа мир по ту сторону». И если, тем не менее, мы можем до некоторой степени проникнуть в ту душевную глубину, где совершается «решительный и решающий выбор», то благодаря таким документам, которые отражают душевную жизнь в ее цельности и непосредственности, каковы различного рода письма, дневники, наконец, произведения искусства, ибо искусство тем именно и отличается от науки, что воспроизводит жизнь в ее цельности и непосредственности. Едва ли нужно прибавлять, что здесь, как и везде при изучении душевной жизни, все сторонние свидетельства получают смысл и значение лишь при свете собственного внутреннего опыта исследователя. И вот, если мы обратимся к данным, почерпнутым из источников такого рода, то должны будем признать, что борьба между двумя противоположными началами составляет основное содержание человеческой жизни, как она открывается в опыте. В подтверждение этого достаточно припомнить аналогичные свидетельства таких антиподов и по душевному складу, и по воззрениям, и по условиям жизни, как с одной стороны ап. Павел, с другой поэт Гете. «Великий эллин» в своем «Фаусте» подтверждает то, что «великий иудей» сказал много веков тому назад в послании к Римлянам: «А вот у меня, - говорит Фауст, - увы! живут в груди две души, и обе хотят отделиться одна от другой. Одна жаждет прилепиться всеми цепкими органами тела к грубым наслаждениям жизни, другая же бурно стремится оторваться от праха и улететь к источникам первобытных
^Оправдание добра» - Собр. соч., т. VII, стр. 2.
67
начал»1. Не тот же ли это факт, который отмечен апостолом в следующих словах: «не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю, - ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием: но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих» (Римл. 7, 15, 22-23)?
«Что наблюдается в жизни индивида, то повторяется и в жизни человеческих обществ в различные эпохи истории. Бывают эпохи нравственного подъема», когда вечное, безусловное торжествует над временным, условным, «и нравственного упадка или застоя», когда над жизнью получают власть такие блага, которые сами по себе не имеют ценности. «Сознание и совесть начинают заменяться рутиной и чувственностью, и сплоченное мещанство мстительно преследует тех, кто стремится разбудить общественную совесть». Так было в 399 году до Р. Хр. в Афинах, когда лучший из афинян должен был принять яд по определению народного суда; то же самое повторилось через четыреста с лишним лет на Голгофе... 1 2.
1 «Фауст» в пер. А. Л. Соколовского. Спб. 1902. Стр. 35.
2 Заключенные в кавычках слова взяты из статьи С. Н. Булгакова «Душевная драма Герцена» («Вопр. филос.», 65 = 1902, V, стр. 1374“ 1375, а также в сборнике статей этого автора «От марксизма к идеализму»). В этой статье автор вскрывает трагическое противоречие между тою тоскою, какую испытывал Герцен, с каждым годом убеждаясь все больше и больше, что современная ему культура пропитана мещанством с его умеренностью и аккуратностью, с его сытыми, но «стертыми» людьми, с его ненавистью ко всему резкому, самобытному, выступающему, с стремлением всех и все подвести под один общий уровень сплоченной посредственности, и — теоретическим атеизмом Герцена: Герцен остро чувствовал и тяжело переживал главную болезнь своего века — мещанство, но он не мог дать себе отчета в основной причине болезни: «мы вовсе не врачи, мы — боль», говорил Герцен. Между тем причина болезни — в отсутствии у мещан единого истинного Бога, которому они готовы бы были отдать все свои чувства, помыслы, силы, самую жизнь, а потому и радикальное лекарство от этой болезни - в религиозном возрождении. «Конечно, отрицанием мещанства может быть всякая духовная жизнь, как умственная, так и эстетическая, и всякая духовная
68
актуальность; но самым решительным и единственно непримиримым врагом его является религия, истинная основа духовного человека, образующая центр его духовной самособранности» (там же, стр. 1377)- Кто служит Богу, тот не может служить идолам, будет ли то собственное я с его узкими, мелкими интересами («наживайся, умножай свой доход, как песок морской, пользуйся, злоупотребляй своим денежным и нравственным капиталом, не разоряясь, и ты сыто и почетно достигнешь долголетия, женишь своих детей и оставишь по себе хорошую память», так формулирует Герцен практическое евангелие мещанства) или же «самодержавная толпа сплоченной посредственности» (вспомним типично-мещанское: «и у нас, как у людей»)... Статья Булгакова написана в 1902 г. Впоследствии сходные мысли развивал Мережковский в своей блестящей статье «Грядущий хам» (первоначально в №3 «Полярной Звезды» за 1905 г., а потом в сборнике статей под общим заглавием «Гряд. хам»). См. также сочинение Иванова-Разумника «История русской общественной мысли» с подзаглавием: «Индивидуализм и мещанство в русской литературе и жизни XIX в.» (Т. I—II. Спб. 1907)- Вообще, в последние годы понятие мещанства сделалась тем фокусом, в котором обыкновенно концентрируются разнообразные недостатки современной культуры. Произошло это не без влияния марксизма, который, как известно, подверг суровой критике буржуазно-капиталистические основы современного социально-экономического строя; к этому нужно присоединить и литературно-художественную деятельность М. Горького, которая является резким протестом против мещанства современной культуры. Но, верно отмечая язвы современного строя, марксисты, также и Горький, односторонне понимают причину болезни, усматривая ее исключительно в капиталистическом строе производственных отношений, а потому и исцеление видят исключительно в замене капиталистического строя социалистическим, как будто социализм совершенно исключает элементы мещанства (Ср. Булгак. Вопр. филос., 65, стр. 1373’1374; Мережк. Гряд, хам, стр. 9-12; Иван-Разумн., I. стр. 295-296; Философов «Конец Горького» - в Русск. Мысли. 1907, апрель). Как бы то ни было, мещанство теперь уже достаточно опознано, как главный враг истинно-культурной жизни, и если мы примем во внимание, что Пушкин, Гоголь, Герцен... боролись в сущности с тем же самым врагом, то о каком-либо открытии мещанства нашими современниками говорить не приходится: оно открыто давно, — наши современники продолжают то дело, которое начато Пушкиным и Гоголем, Белинским и Герценом... И пусть продолжают!.. Понятое в своей подлинной сущности, духовное мещанство является ярким выражением того направления жизни, которое мы в тексте назвали практическим релятивизмом.
69
Доселе у нас шла речь о различных направлениях жизни. Но человек не просто живет, подобно растению или животному, — при помощи своего разума он дает отчет и в содержании жизни, и в ее направлении. В состав той драмы, которая происходит на роковом распутье, входит не только борьба влечений и чувствований, -размышление составляет существенный элемент этой драмы. Результатом более или менее методического размышления над вопросом о принципах, определяющих то или иное направление жизни, является философия, для которой, поэтому, вопрос об основаниях веры в абсолютно-ценное, равно как об условиях его определения, всегда составлял предмет особенного внимания1. И
ХВ этом смысле мы принимаем известный афоризм: primum vivere, deinde philosophari, который не может встретить возражений и с точки зрения Гегеля, рассматривавшего философию вообще, как завершительный момент в развитии абсолютного, а ту или другую философскую систему — как отчет в существенных чертах известной культурной эпохи: это как бы отметка в дневнике, которая делается вечером, уже по истечении дня (см. Hilfsbuch zur Geschichte d. Philosophic v. prof. Falckenberg, Lpz. 1899, S. 46). «Что касается поучения относительно того, каким должен быть мир, - говорит Гегель в предисловии к «Философии права», - то, помимо всего прочего, она (философия) приходит для этого слишком поздно. Как мировая мысль, она появляется впервые тогда, когда действительность уже закончила процесс своего образования и получила уже законченный вид. — Когда философия начинает рисовать серыми красками по серому фону, жизнь приняла уже старческий облик, и сколько ни рисуй серый по серому — молодости ей уже не вернуть, ее можно только познать; сова Минервы начинает свой полет лишь с наступлением сумерек». (Werke, VII В., Вег]. 1833, S. 20-21. Ср. глубокомысленные замечания Ив. В. Кириевского об отношении философии к культуре и жизни в статье «о характере просвещения Европы»: «в философии сходятся все науки и все житейские отношения, и связываются в один узел общего сознания». См. собр. соч. И. В. Кир., т. II. стр. 233). Связь основных философских направлений с основными направлениями жизни отмечает П. И. Линицкий в «Идеализме и реализме» («Вера и Раз.», 1884, июнь, кн. I, отд. филос., стр. 568, а также отдельн. оттиск, стр. 2: «ни идеализм, ни реализм не составляют чисто теоретических построений, воздвигаемых исключительно на основаниях отвлеченного характера, а являются всегда выражением всего жизненного строя»), а также в «Очерках истории философии, древней и новой» (см., напр., стр. 80-83,П4-И7,146-152,
70
подобно тому, как в жизни мы распознаем два основные течения — абсолютистическое и релятивистическое, так точно и в философии возможны два основные направления в решении вопроса об абсолютно-ценном: положительное, которым утверждается
существование абсолютно-ценного, и отрицательное, которым существование абсолютных ценностей отрицается. Первое направление можно назвать, употребляя уже знакомые нам термины, абсолютистическим, а второе — релятивистическим. Таким образом, двум жизненаправлениям соответствуют два жизнепонимания, и как первые взаимно исключают друг друга, так точно и вторые. Поэтому история философии представляет собою непрерывную борьбу двух направлений - абсолютизма с релятивизмом, которая переплетается с борьбою аналогичных направлений в самой жизни, осложняя ее или
особ. 183-187, 291-293). Ср. проф. Несмелова «Наука о человеке», т. I, изд. 3, стр. 3-13. Замечательно при этом, что при возникновении философии в той или другой стране главным объектом критической мысли является обыкновенно унаследованное от предков религиозное миросозерцание. Недаром Аристотель называл первых философов теологами (Metaph. 1.3, 983 8 9; ср. Plat. Phileb. 16; Tim. 40 D; Plotin. Ennead. IV, lib. 3, 11), а Гегель и Конт, несмотря на все различие своих философских основоположений, одинаково считают религиозное миросозерцание тою почвою, на которой произросла философия (ср. также Bender «Mythologie and Metaphysik», Stuttg. 1899, S. 3; проф. M. А. Остроумов «История ф-фии в отношении к откровению», § 78; кн. С. Трубецкой «Метафизика в древн. Греции», стр. 48; проф. Лопатин «Истор. нов. ф-фии», ч. 1, М. 1905, стр. з, п). Освобожденная от связи с исключающими друг друга предпосылками гегелевской и кантовской философии, мысль эта представляет верное историческое обобщение. Выраженный в нем факт понятен: раз главным предметом философского исследования служит вопрос об абсолютно-ценном, вполне естественно, что философская мысль обращается к критическому обследованию той области человеческой жизни, которая выступает в истории в качестве сферы реального общения между человеком и Божеством, как живым средоточием абсолютных ценностей: такова религия. Поэтому - дальше всякая философская система, хотя бы она в своем составе и не заключала прямой трактации о религии, скрывает в себе то или другое отношение к последней. Здесь — оправдание темы настоящего исследования.
71
- наоборот -- сама осложняясь ею1. И если история духовной жизни
Шри этом естественно предположить, что существует полное соответствие между жизненаправлениями - с одной стороны - и жизнепониманиями всецело зависит от того направления, какое получила жизнь известного лица, так что практический абсолютист с психологическою необходимостью будет теоретическим абсолютистом и -наоборот. Так именно и смотрит на дело Фихте Старший. «Кто какую избирает философию, — говорит он, — зависит от того, что он за человек, ибо философская система не есть домашняя утварь, которую можно бросать или брать по произволу, — нет, она оживотворяется душою того человека, который обладает ею. Характер, от природы вялый или ослабленный и изломанный вследствие духовного рабства, ученой роскоши и суетности, никогда, — прибавляет Фихте, не возвысится до идеализма» (Werke. 1 В., S. 431). С основною мыслью Фихте согласен и Паульсен. Различая «два глубоко противоположных по своим основаниям миросозерцания: идеализм», сущность которого заключается в признании за действительностью разумного смысла, и «материализм», который — наоборот — отрицает отношение действительности в ее происхождении к разумному и благому, Паульсен полагает, что «решение в пользу того или другого из этих противоположных миросозерцаний находится в некоторой связи с направлением воли и образом жизни человека. У человека, жизнь которого сама имеет идейное содержание, будет естественная склонность к идеалистическому мировоззрению; у человека же, жизнь которого пуста и ничтожна, к противоположному, ибо решающим фактом является, конечно, не миросозерцание, а направление воли.— Выбор философии, очень верно говорит Фихте, зависит то того, каков человек». («Осн. этики», русск. пер., стр. 481-482). Из русских мыслителей ту же в сущности мысль раскрывает И. И. Линицкий в «Идеализме и реализме», но только он захватывает предмет шире, не ограничиваясь установлением связи того или другого философского направления с характером духовной жизни отдельного лица. Различая в истории философии два основные направления — идеализм и реализм, в зависимости от того, направляется ли внимание «на объективную действительность, причем дается ей преувеличенное значение в ущерб самостоятельности и свободы субъекта» (реализм), или же сосредоточивается на субъекте, в соответствии с чем «объективная действительность полагается в подчиненное и зависимое от субъекта отношение к нему» (идеализм), И. И. находит, что нельзя «рассматривать эти направления исключительно с точки зрения теоретической, просто как опыт чисто умственного построения известных предположений и выводов; напротив — как в том, так и в другом направлении следует видеть при том выражение известного образа, или характера духовной жизни, будет ли это жизнь отдельного лица или же ценой исторической
72
эпохи, или, наконец, известного исторического народа, смотря по тому, в какой объеме рассматриваются проявления философской мысли. Можно наперед предположить, не боясь впасть в грубую ошибку, на основании сказанного, что идеализм служит признаком или обнаружением духовной самодеятельности, стремления к свободе и независимости духа, вообще признаком преобладания в жизни высших духовных стремлений; наоборот, реализм, в обширном смысле этого слова, следует считать признаком некоторого упадка, или по крайней мере, ослабления энергии чисто духовных высших интересов и преобладания склонность к пассивному наслаждению жизнью, хотя бы такая склонность соединялась с расширением практической деятельности, которая при этом всегда направляется на осуществление ближайших жизненных задач». («Ид. и реал.», стр. 1-2, или вышеуказ. кн. «Веры и Разума», стр. 567-568). — При обсуждении данного пункта не следует забывать, что деятельность той или другой личности в значительной степени определяется факторами сверхличного характера, каковы, с одной стороны, логические и др. требования разума, с другой — разнообразные влияния окружающей среды, а потому никогда невозможно учесть с математическою точностью, что в данной работе следует отнести на счет личности и что на счет сверхличных факторов. В созидании философии участие последних весьма значительно. По справедливому замечанию И. В. Киреевского, «голова философа является как необходимый естественный орган, через который проходит все кругообращение жизненных сил, от внешних событий возвышаясь до внутреннего сознания, и от внутреннего сознания возвращаясь в сферу исторической деятельности» (цит. соч., стр. 233), а потому та или другая философская система не есть создание отдельного мыслителя, а выражение разума целой культурной эпохи (Киреевский говорит о «логическом разуме Европы», см. стр. 234. Ср. с этим след, слова Винделъбанда в его статье: «Geschichte d. Philosophie», помещенной во П-м томе сборника «Die Philosophie im Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts», Heidelb. 1905, S. 186: «в учении великого мыслителя мы видим больше, нежели рефлекс его собственной личности, — мы признаем в нем уплотненное и логически оформленное содержание разума своего века»). Мало того, что ни одна философская система не может быть объяснена, как произведение исключительно индивидуальных факторов, — в каждом отдельном случае мы лишены возможности установить с полной точностью и несомненностью, в какой степени данное лицо проникнуто созданной им системой. Дело в том, что личность человека представляет всегда сложное и нередко причудливое целое: часто она объединяет в себе такие элементы, которые логически решительно непримиримы. «С исповеданием веры, которую могли бы принять ангелы, весьма часто соединяются практические правила, которыми не погнушался бы и дьявол»
73
человечества, поскольку последняя отразилась, напр., в искусстве, могла бы быть представлена с точки зрения борьбы между двумя
(Маудели), и наоборот — с философскими теориями, совершенно исключающими самое понятие об абсолютных ценностях, соединяется самоотверженное служение абсолютно-ценному. Вспомнить только наши шестидесятые годы... Очевидно, в том и другом случае о проникновении соответствующих лиц исповедуемыми ими теориями не может быть речи: определенное жизненаправление избрано в глубочайших тайниках души, теоретическое же миросозерцание не выросло из этих глубин органически, а механически присоединено к данному жизненаправлению, будучи построено на чуждых ему основах из элементов, взятых со стороны. Не всегда, впрочем, дело объясняется так просто. Мы уже знаем, что в глубине человеческой души нередко борются противоположные жизненаправления, и если на практике человек проявляет себя решительным релятивистом, то в своих теоретических построениях он может совершенно искренно проводить абсолютистическую точку зрения. «Иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом Содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом Содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк»... («Бр. Карамазовы» Достоевского, кн. III, гл. III). Что же мудреного, что при такой широте и сложности человеческой личности разнообразные проявления внутренней жизни оказываются не согласованными друг с другом?... В виду сказанного, принципиально не отрицая мысли Фихте об определяющем значении жизненаправления человека в выборе им философии и положительно утверждая внутреннюю связь основных жизнепониманий с основными жизненаправлениями, мы, однако, слишком далеки от того, чтобы в каждом отдельном случае по характеру философского направления судить о характере внутренней жизни известного лица: имея все данные для совершенно определенного суждения о направлениях философии ли то, или жизни, мы оказывается в иных условиях, коль скоро заходит речь о лицах. Давно сказано: «кто вьет от человека, яж в человечецею, точию дух человека, живущий в нем?» (1 Кор. 2, и). И так, у нас будет речь о направлениях, а не о лицах. Если - тем не менее - в дальнейшем изложении и встретятся, как встречались в предыдущем, суждения о лицах, то лишь в тех пределах, в каких на это уполномочивают бесспорные факты. Для нас равно не подлежит сомнению как верность Сократа его убеждениям, запечатленная смертью, так и глубокая преданность Маха делу научного исследования, засвидетельствованная всею его жизнью.
74
противоположными жизненаправлениями, то та же самая точка зрения без всякого насилия над фактами могла бы быть проведена и через всю историю философии. В сущности П. И. Линицкий и сделал это в своем огромном труде «Идеализм и реализм», потому что в конце концов эти два направления, если их брать в наиболее последовательном выражении, совпадают с теми, которые выше обозначены как абсолютизм и релятивизм. В самое последнее время сделал попытку представить развитие философской мысли с указанной точки зрения один из видных представителей философского релятивизма Иосиф Петцольдт в своей книжке «Das Weltproblem von positivistischem Standpunkte aus» (Lpz. 1906), но, предпринятая не в исторических, а в апологетических интересах, эта попытка, естественно, слишком далека от полноты и исторической объективности: это — попытка доказать, что релятивизм, поскольку он выразился в учениях Авенариуса, Маха и Шуппе, представляет собою последнее слово исторического развития философской мысли.
Проходя через всю историю философии, борьба абсолютизма с релятивизмом в некоторые моменты исторического развития, в силу различных исторических условий, особенно обостряется. Эти моменты становятся поворотными пунктами истории, «и на таких перекрестках своей истории должны учиться люди»1. В этом отношении особенно поучительна борьба философских и политических направлений, происходившая в Афинах в V-м веке до Р.Хр.
К этому времени Афины становятся главным культурным центром греческого мира. Сюда стягиваются нити, выходящие из самых различных областей культурной жизни: политики, морали, религии, философии. Последняя, зародившись на противоположных окраинах эллинского мира, теперь сосредотачивается в Афинах, которые по крайней мере в течение двух веков являются столицею философии. Большинство философов живет в Афинах. Философы, действующие на окраинах, считают необходимым время от времени
1 PelzoldL Weltproblem. S. 13.
75
путешествовать в Афины. Таким образом, здесь встречаются самые разнообразные философские направления, и, как результат этой встречи, возникает сложное брожение духовных сил, возбужденных философией. Прежде всего выясняется, что традиционное религиозное миросозерцание в той форме, в какой оно входило в состав местных культов, или в какой было изложено в поэмах Гомера и Гесиода, уже не может отвечать запросам развитого сознания: полтора века напряженной работы философской мысли прошли не даром; критика традиционной мифологии, начатая Ксенофаном, сделала свое дело: в буквальный смысл традиционных мифов уже никто из образованных греков не верил, и если все-таки хотели сохранить веру в содержание мифов, то толковали их аллегорически. Так было в школе Анаксагора1. Но этого мало. Разногласие предшествующих философских направлений в решении вопроса об основном начале бытия породило теперь убеждение, что данный вопрос совершенно неразрешим для человеческого разума. Это убеждение нашло свое выражение в гносеологии софистов. Так, по учению Протагора, об общезначимой истине не может быть речи, потому что знание сводится в конце концов к ощущениям1 2 3, которые выражают не природу воспринимаемой вещи, а состояние воспринимающего органа, являющееся — в свою очередь — результатом соприкосновения двоякого рода движения: активного, исходящего от воспринимаемой вещи, пассивного, происходящего в воспринимающем органез. Отсюда следует, что как кому представляется какая-либо вещь, так она и существует, - конечно, не сама по себе, а для воспринимающего человека: человек есть мера всех вещей, существующих, что оне существуют, и не существующих,
1 По свидетельству Диогена Лаэртского (De vitis, II, 11), Анаксагор первый начал объяснять гомеровские мифы в моральном смысле. Если в отношении к самому Анаксагору это свидетельство представляется сомнительным (Zeller. Die Phil d. Griech., 1 3. S. 831), то об ученике Анаксагора, Метродоре, достоверно известно, что он толковал мифы аллегорически (Plat. Jo С; Tatian. Contr. Graee., cap. 21).
2 Plat. Theat. 160 D; Arislol. Metaph. IX. 3.1017» 4; X. 1,1053й8 34-
3 Theat. 156 A - 157 B.
76
что оне не существуют1, а так как одна и та же вещь может различно восприниматься различными людьми, то следует принять, что об одной и той же вещи могут быть высказаны противоположные суждения, из коих, однако, каждое будет истинным для того, кто его высказывает1 2 3 4 5. Если Протагор, как видим, все мнения провозглашал за истинные, то Горгий, наоборот, их все считал ложными, опираясь в обосновании своего взгляда на следующие три положения: 1) ничего не существует, 2) если бы что и существовало, то не могло бы быть познано, з) если бы, наконец, и было познано, то такое знание не могло бы быть сообщено другимз. Это уже такой скептицизм, дальше которого идти некуда: здесь смерть всякой науке. Вот почему точку зрения Горгия можно назвать гносеологическим нигилизмом-*.
Так впервые вступает в историю философии релятивистическая точка зрения, выраженная, притом с такою ясностью, которая не оставляет желать большего. Однако, она не проводится Протагором со всею последовательностью: если в философии религии он является типичным представителем релятивизмаз, то в этике он выдвигает
1 Theat 16о D: Arist Metaph. X. 1.1053м 34: X. 6. юб2в i: Sert. Empir. Adv. Mathem. XII, 60. Pyrrh. I. 216: Diog. L. De vitis IX, 54.
2 Theat. 158 E.
3 Sext. Empir. Adv. Mathem. VII, 65-66, 68-72, 77-85: Psendo-Arislol. De Xenophane. Zenone. Gorgia. - Подробнее о софистах - монография Д. И. Богдашевского «Греческие софисты» (в книге «Из истории греч. ф.-фии», К. 1898).
4 Windelband. Geschichte d. Philos., Freib., 1892 (есть новое издание). S. 69; Vorlander. Gesch. d. Philos., I B., Lpz. 1903. S. 65. Впрочем, то же самое обозначение применимо и к Протагору: возвести ли всех граждан известного государства в дворянское достоинство или ни одного - ведь это в сущности одно и то же.
5 Как известно, Протагор высказывался по вопросу о существовании богов в скептическом духе: «относительно богов я не знаю ни того, что они существуют, ни того, что не существуют, ибо многое препятствует знать это - и темнота самого предмета, и краткость человеческой жизни», - так, по Диогену Лаэрт. (De vitis, IX, 51), начиналось сочинение Протагора, за которое он был изгнан из Афин (ср. Plat Theat. 162, D). На той же точке зрения стояли в учении о богах и другие софисты, не исключая Гинния, который, по свидетельству Ксенофонта (Memorab. 1. IV, с. 4, 19), неписанные
77
стыд и правду, как такие начала общественной жизни, которые принадлежат всем людям, след., как начала общечеловеческие, общезначимые1. К этому следует прибавить, что и другие софисты являются защитниками таких идей, которые во всяком случае делают честь их нравственному и общественному чувству; так, Алкидам известен, как противник рабства, Ликофрон высказывался против сословных привилегий, Фолей требовал равенства имуществ и образования для всех граждан* 1 2 3. Вообще софисты были защитниками демократического государственного устройства. Из этих же кругов выходила мысль, разделявшаяся и Платоном, об уравнении женщин с мужчинами в политических правахз. Однако, софистика заключала в себе и фермент разложения: таким ферментом является именно гносеологический релятивизм софистов, который с логическою необходимостью приводил к релятивизму этическому. В самом деле, раз нет общезначимой истины, не может быть речи и об общезначимой оценке человеческих намерений и действий: то, что одним почитается за добро, другому представляется злом, и каждый прав в своем утверждении: общезначимого добра, общезначимой справедливости нет. И в этической области человек с его влечениями - мера всех вещей, в данном случае - мера добра и зла: что удовлетворяет тому или другому влечению человека, то - добро, а что
законы возводил к богам: это — такой же условный способ выражения, как в мифе Протагора о происхождении политической добродетели или в использованном выше апологе Продика. Что касается происхождения представлений о богах, то Критий считал их изобретением законодателей (Sexlus. Adv. Math. IX. 54), а Продик — олицетворением сил и явлений природы (ibid. IX, 18, 51 слд.: Cicer. De nat. deor. I, 42, 118). Подробнее об этом — у Zeller’a «Die Phil. d. Griech.», 1 з, S. 925 — 927.
1 Plat Protag. 320 D - 323 D.
2 Все эти софисты вышли из школы Горгия. Сведения об их воззрениях заимствуются из «Политики» и «Реторики» Аристотеля. Цитаты у Windelband’a, op. cit., S. 57.
^Windelband’a, op. cit., S. 57.
3 Там же.
78
не удовлетворяет, то зло1. Если сам Протагор и не стал на эту точку зрения, то это было явной непоследовательностью, делающей честь благородству его души, но не силе его логики1 2 3. Стоит провести гносеологический релятивизм старших софистов до конца - и перед нами встанет во всей своей определенности бесстрашный нигилизм младших софистов: известно, что младшие софисты основу положительного права видели уже не в общезначимых началах, как Протагор, таких начал, по их мнению, нет и быть не может, - а в преходящих интересах тех лиц, которые создали положительное право, — меньшинства сильных, по Тразимахуз, большинства слабых, по Калликлу. Взгляды последнего особенно интересны: этот смелый и откровенный юноша, бывший восторженным почитателем софистической мудрости, на много веков опередил знаменитого Ницше в своих воззрениях. По Калликлу, иное дело - требования природы, иное - требования закона: они противоположны друг другу;
1 Что гносеологический релятивизм в своем последовательном развитии необходимо приводить к релятивизму этическому, это ясно сознавали великие противники софистики Сократ, Платон и Аристотель. «Высказывая положение, что человек есть мера всех вещей, Протагор, - по Аристотелю, - говорит этим не что иное, как следующее; что кому кажется, то и существует на самом деле, но если так, то отсюда следует, что одно и то же и есть, и не есть, - и зло, и добро». (Met. XL 6, юб2в 1-2). Потому-то и восставали Сократ с Платоном против софистики со всею силою.
2 Впрочем, И. И. Ягодинский не усматривает противоречия между учением Протагора об общечеловеческих этических основах общественной жизни и его гносеологическим принципом: «отмечая необходимые бхлцо) и спбд как существующий факт общественной жизни, Протагор-де давал полную волю и простор личной мерке в самом толковании этих понятий» («Софист Протагор», Каз. 1906, стр. 19-20). На самом деле Протагор полной воли и полного простора отдельным лицам в толковании указанных начал общественной жизни не давал, ибо он с тем и ввел их, чтобы объяснить происхождение государства, которое, по Протагору, возможно лишь при согласии людей, составляющих государство, в основных ~ иначе государство не могло принципах общественной жизни, каковыми он признает именно стыд и правду: это, по Протагору, начала не индивидуальные, а общечеловеческие, бы и возникнуть. А если так, то отрицать противоречие в учении Протагора не приходится.
3 De rep. 1.338 С и дальше.
79
так, по природе вовсе не постыдно наносить обиды, а по закону — постыдно. Задача человека состоит в том, чтобы лучше пожить: таков закон природы. Ради осуществления этой задачи человеку не только не нужно обуздывать своих страстей и пожеланий, но следует оставлять их во всей силе и готовить им удовлетворение откуда бы то ни было, — в этом-то, по смыслу природы (а не закона), и состоит добродетель. Жить счастливо — это значит дать полный простор своим пожеланиям, и в удовлетворении их находить радость. И — наоборот - нет несчастнее людей, доведших свои потребности до minimum’a: жизнь без потребностей, без пожеланий — это не жизнь человека, это жизнь мертвеца, камня. Лучшие люди, т. е. те, которые имеют достаточно силы для того, чтобы не подчиниться внешним ограничениям, налагаемым на их природу, никогда не признавали над собою власти закона, — они подчинялись только влечениям своей природы. На каком понятии о справедливости опирался Ксеркс, когда вооружался против Эллады, или его отец, когда напал на скифов? Я думаю, - рассуждает Калликл, — они делали это по закону природы, а не по тому закону, который лепим и постановляем мы, когда, принимая в свою среду людей отличных и сильнейших еще с молоду, очаровываем их своими волшебными напевами, словно львов, и, поработив их в себе, говорим, что-де надобно всем иметь поровну — в этом-де и состоит прекрасное и справедливое... Источник законов — не в интересах меньшинства лучших, сильных, а в интересах большинства худших, слабых, которые, в видах ограждения себя от сильных, одно (полезное для себя) хвалили, а другое (вредное для себя) порицали. Закон, таким образом, — своекорыстное установление слабых, а потому сильные не обязаны ему подчиняться. И Калликл мечтает о том времени, когда родится человек с сильной натурой, - растопчет он наши хартии, стряхнет чары, отбросит противные природе законы, и сделается он из раба нашим господином, и просияет тогда попираемое теперь право природы...1.
1 Plat. Gorg. 481С - 492 D.
80
Таков конечный путь, к которому привел релятивизм старших софистов. Дальше идти, кажется, некуда...
Софистика с самого же начала своего появления вызвала против себя сильную оппозицию. Объясняется это тем, что софисты не были только учеными теоретиками, - они представляли собою общественных деятелей, стремившихся упрочить в Афинах демократический строй и внести коренные изменения во все стороны культурной жизни. Кто оставался на стороне старого, — не мог быть другом софистики. Таков прежде всего знаменитый афинский комик Аристофан. Это был человек, жизненный идеал которого не отличался ни высотою, ни сложностью: мирное наслаждение доступными человеку главным образом чувственными благами жизни, особенно среди деревенской природы, ~ вот к чему сводятся идеальные требования Аристофана. «Что может быть приятнее, как провести время с друзьями, после благополучного окончания полевых работ, сидя около огонька, прислушиваясь к треску сухого дерева и попивая из кружки сладкое вино! или смотреть, как начинает зреть виноград, как увеличивается молодая фига, есть ее, когда созреет, и наслаждаться ее приятным вкусом»1. Во имя этого нехитрого идеала Аристофан со всею силою свойственного ему сарказма, порою тонкого, еще чаще грубого, обрушивается на современный ему строй общественной жизни с его демократическими учреждениями, софистическим образованием и непрестанными войнами. С особенною ненавистью относится он к руководителям современного ему общества: софистам - с одной стороны, демагогам — с другой. Первые, во главе с Сократом, подрывают нравственность и разрушают веру в богов, а вторые, во главе с Клеоном, обманывают народ и льстят ему ради личных выгод. Те и другие подрывают самые основы общественной жизни. В своей борьбе с софистами и демагогами Аристофан не останавливается перед призывом — сжечь «мудрилище» (маленький домик, в котором аристофановский Сократ
1 Проф. Н. Родников. Греческий консерватор V-ro века до Р. X. комик Аристофан. Каз. 1906, стр. 46-48.
81
давал свои уроки) Сократа, а Клеону — «сдавить шею колодкой»..?. В противоположность сложности городской жизни Аристофан идеализирует простоту деревенской, в противоположность развращенности современной ему культуры восхваляет доброе старое время с его строгим воспитанием, государственным порядком, военными доблестями, чистою нравственностью, — он хотел бы повернуть назад колесо истории, а так как основою добрых нравов старого времени была вера в богов, то Аристофан встает на защиту этой веры. Впрочем, было бы грубой ошибкой предположить, что ревностный апологет веры и строгий обличитель неверия сам был глубоко верующим человеком. Нет, в этом отношении он был вполне сыном своего времени. Правда, он нигде не выражает сомненья в существовании богов, но зато его характеристики богов и рассказы об их похождениях исполнены такого кощунства и цинизма, которые далеко оставляют за собою суровую критику Ксенофана, не говоря уже о софистах2: верующий человек не мог говорить о богах в таком тоне. Очевидно, «сам поэт так же далеко отошел от древних нравов, которые он желал воротить, как и его публика»з, не исключая софистов. Принципиально Аристофан стоит на той же точке зрения, что и Протагор, — релятивистической, и если в чем они расходятся, то лишь в оценке того значения, какое может иметь вера в богов в устроении человеческого благополучия. Аристофан отстаивал веру в богов не во имя общезначимой истины, а ради обеспечения мирного наслаждения благами жизни, среди которых вино занимает едва ли не самое главное место. Во всяком случае, разница между настроением резкого обличителя разного рода новшеств - с одной стороны — и беспечного певца вина и любви, каким был Анакреон, с другой - не так велика, как можно бы было думать, судя по той суровости, с какою Аристофан обрушивается на софистов, и тому
1 Там же, стр. 39.
2 Там же, стр. 21-26.
3 Zeller. D. Phil. d. Griech., II Th., I Abth. з, S. 26.
82
пафосу, с каким он изображает суровые, чистые и доблестные нравы «доброго старого времени».
Чтобы подрезать релятивизм софистов в самом корне, нужно было сойти с той почвы, на какой стояли знаменитые руководители афинского просвещения, и встать на принципиально иную точку зрения. Это и сделал другой противник софистики, Сократ. В противоположность релятивистам обоих толков - иррелигиозного (софисты) и мнимо-религиозного (Аристофан), Сократ признает возможность достоверного знания, которое а) имеет свой источник не в чувствах, а в разуме, и выражается не в ощущениях, а в понятиях (это против Протагора), и б) имеет своим предметом не дела божественные, т. е. не природу вещей, представляющих произведение божественного разума, а дела человеческие, т. е. природу человеческих поступков, производимых самим человеком (это -против предшествовавших «физиологов», занимавшихся главным образом исследованием дел божественных, т.е. природы)1. Если первое из отмеченных положений имеет прецеденты в до-сократовской философии (как известно, те из представителей этой философии, какие только затрагивали вопрос о познании, разрешали его таким образом, что истинное знание выражается в понятиях)1 2, то второе положение, в высшей степени плодотворное для философской мысли, обязано своей ясной и твердой постановкой философскому
1 Aristot. Metaph. i. 6, 987е 3 (русск. пер. П. Первова и В. Розанова, вып. 1. Спб. 1895, сгр. 35: «а когда Сократ стал заниматься этикой и хотя целой природы вовсе не касался, но в этике все-таки искал всеобщего и впервые направил мышление на определение»...); Xenoph. Memorab. I, с. 1.7-16; ср. IV, с. 7,6; Plat. Apolog. 19 С; 29 А - В.
2 См. Windelband. Gesch. d. Philos., S. 44-47, но не русск. пер, (И. Рудина, Спб. 1898) соответствующих страниц, где во-первых, опущены ссылки на первоисточники, а во-вторых, допущены неточности и даже ошибки в самом переводе; так, слова «der Ausdruck einer Anforderung», где речь идет о требованиях, предваряющих исследование и делающих его возможным, переданы словами «выражение жизненной потребности»; des Beharrens переведено почему-то словами «существования»; закон противоречия (der Satz des Widerspruchs) обратился в «метод противоречия». В дальнейшем встречаются ошибки еще более грубые.
83
гению Сократа, будучи лишь отчасти намечено в учении его предшественников о том, что подобное познается подобным1: предмет познается через то, что он создается, — такова мысль Сократа. С этой точки зрения познание не есть ни отражение предмета в сознании, словно в зеркале, ни построение сознания, совершенно обособленное от того предмета, к которому построение относится: познание есть усмотрение существенного в том, что созидается познающим субъектом. Отсюда — требование Сократа: «познай самого себя», насколько ты выражаешь себя в различного рода действиях (дела человеческие)1 2 3. Значит, познание должно начинаться с рассмотрения дел человеческих, а оканчиваться установлением понятия, выражающего то существенное, что лежит в основе человеческих действий. Это достигается путем устранения из рассматриваемых действий всего частного, случайного, индивидуального, в результате чего остается лишь общее, которое вместе с тем есть и существенное в рассматриваемых действиях. В восхождении от частного к общему, от случайного к общественному и состоит сократовская индукцияз, которая существенным образом отличается от современной индукции, взятой в той разработке, какую она получила в Логике своего знаменитого теоретика; сократовская индукция имеет своею целью усмотрение в частном общего, в случайном существенного, т. е. постижение путем разумного усмотрения сущности вещей, насколько они доступны нашему познанию*, тогда как Милль ограничивает задачу индукции установлением постоянных отношений между фактами. Очевидно, Сократ был убежден, что человеческие действия, при всем своем разнообразии, имеют общечеловеческую разумную основу, которую с первого раза трудно распознать под покровом индивидуальных наслоений, иногда
1 Empedokl., fr. 109 (no Diels у «Die Fragmente d. Vorsokratiker», 2-te Aufl.); русск. пер. в монографии Г. Якубаниса об Эмпедокле (Киев, 1906). Противоположный взгляд — у Анаксагора (Theophr, De sens. 27 слд. = Diels. S. 310, Zeil. 25-28).
2 Plat. Apol. 33 C; Phaedr. 229 E; cp. Xenoph. Memorab. IV. c. 9, 6.
3 Arist. Metaph. XIII, 4.1078® 8.
* Ibid. 4. 6-7.
84
совершенно бессмысленных. Вскрыть эту основу и составляет задачу разума, исполнимую для него, потому что в данном случае идет дело о постижении при помощи разума того, что имеет разумный характер, следовательно, о постижении подобного подобным: в процессе образования понятий разум познает себя же самого, и познает через то, что он функционирует. Вместе с тем открывается, что так как разумная основа человеческих действий познается через устранение всего частного, случайного, индивидуального, то, очевидно, она имеет характер не индивидуальный, а надиндивидуальный: разум есть начало надиндивидуальное, мало сказать: общечеловеческое, -мировое, универсальное. «Замечаешь ли ты, — спрашивает Сократ у Аристодема, — что ты имеешь в себе нечто разумное, и думаешь ли ты, что больше нигде нет разумного?»1. Не могло бы быть разумного в человеке (микрокосме), если бы его не было в мире (макрокосме): разум есть начало универсальное1 2 3, открывающееся как в природе, так и в истории, но только тот заметит там и здесь следы разума, кто нашел его прежде всего в глубине собственного духа. Отыскав разум, как начало универсальное, внутри себя самого, Сократ ищет его следы и в природе (телеологическая точка зрения на природу)з, и в истории: как в содержании положительного права, так и в содержании положительной религии Сократ усматривает разумную основу*, а потому он одинаково далек как от разрушительной критики софистов, направленной на религиозные верования, равно как на политические учреждения и государственные законы афинского народа, так и от чуждого какой бы то ни было критики (по отношению к старому) консерватизма Аристофана, пытающегося
1 Xenoph. Memorab. 1. с. i. 8.
2 Xenoph. Memorab. 1. c. 4.17. Эта мысль ясно выражена и у предшественников Сократа, напр., Гераклита (fr. - no Diels’y - 41; fr. 113), Эмпедокла (Fr. 110. v. 10), Анаксагора (fr. 12.16-17).
3 Xenoph. Memorab. I, c. 4,4 - 5.8 -17; IV, c. 3,3 слд.
* Об отношении Сократа к положительному праву - Plat. Crit. 50 В - 54 Е; Xenoph. Memorab. IV, с. 4, 12-13. 19- 25 (к этому - кн. С. Н. Трубецк. Ист. др. фил., стр. 181), к положительной религии - ibid. I. с. 1. (к этому у Трубецк. стр. 181-182).
85
сохранить во всей неприкосновенности те верования, над которыми он же сам в глубине души, да и не только в глубине души - и на открытой сцене, издевается. Ни там, ни здесь не было веры в общезначимую истину, тогда как для Сократа она была жизненным нервом всей ее деятельности. Одушевленный этой верой, он неутомимо искал истину в любовном общении с теми, кто так же, как он, были одушевлены любовью к истине, и неустанно, со всею силою свойственной ему иронии, боролся разом на два фронта с врагами истины, были ли то софисты или аристофановцы, одинаково чуждый и тем, и другим, одинаково не понятый ими: если аристофанцы считали Сократа главным представителем софистов, подрывавших веру в богов и развращавших юношество, то последователи софистов причисляли Сократа к аристофановцам, и когда, 20 лет спустя после обращенного Аристофаном к афинскому обществу призыва сжечь мудрилище Сократа, последний, по обвинению ревнителей афинской старины, ее преданий и верований, действительно предстал перед судом народа, последний, в лице своих представителей, приговорил великого мудреца к смертной казни. В числе лиц, осудивших Сократа, были, вероятно, наряду с аристофановцами, и последователи софистов: Сократ больно жалил и тех, и других... Протагор погиб на 12 лет раньше по пути в Сицилию, куда он отправился семидесятилетним стариком, спасаясь от смертного приговора по обвинению в атеизме. Аристофан умер в 380 году своею смертью.
Как и всегда бывает, смерть прекратила непосредственную борьбу между противниками, но, конечно, она не могла прекратить борьбы между теми направлениями мысли, которых они были представителями, потому что, как мы видели, эти направления были не случайным порождением тех или других обстоятельств, а необходимым выражением коренной разницы в понимании различными людьми смысла жизни, что в свою очередь находится в связи с наличностью в человеческой жизни двух противоположных жизненаправлений: абсолютистического и релятивистического. Вследствие указанной причины идейная борьба, происходившая в V в. до Р. X. в Афинах, была не столько эпилогом предшествующего
86
движения философской мысли, сколько прологом к ее дальнейшему развитию, мало того — программой этого развития, потому что как ни разнообразны то переплетающиеся друг с другом, то расходящиеся в разные стороны нити этого процесса, все они в конце концов берут свое начало в тех направлениях духовной жизни афинского общества, какие только что рассмотрены.
Сократ в своей защитительной речи говорил, что для него лучше умереть, нежели жить. То, что он говорил о себе самом, в полной мере осуществилось на самом деле: смерть Сократа была не только «блестящим кульминационным пунктом его жизни», но и «величайшим триумфом его дела», - апофеозом не только философа, но и его философии1, которая в лице Платона нашла гениального истолкователя, построившего на заложенных Сократом основах грандиозную философскую систему, гармонически объединившую различные до противоположности тенденции предшествовавшей философии в области гносеологии (сенсуализм Протагора и рационализм Сократа), онтологии (элеаты и Гераклит - с одной стороны, элеаты и до-сократовские плюралисты - с другой) и этики (гедонизм Аристинна и аретизм Антисфена) и вместе с тем заключавшую в себе мотивы дальнейшего развития философии в идеалистическом направлении, так что все последующие идеалистические системы имеют свои корни в учении Платона, и это, конечно, не может быть объяснено случайными причинами, вроде тесной связи этого учения с обаятельной личностью Сократа, гениальности самого Платона, меньшей даровитости и незначительной нравственной высоты многих из его противников и т. п.1 2. Конечно, все эти причины могли иметь, и действительно имели,
1 Целлер. Очерк истор. греч. ф.-фии. Пер. М. Некрасова. Спб. 1886. Стр. 93; его же D. Philos, d. Griech., Н. Th.. 1 Abth з, S. 196.
2 Так не редко представляется дело у исследователей позитивистического направления; см., напр., Laos. Idealismus und Positivismus. 1 Th. Berl. 1879, S. 19-20; Petzoldt. Das Weltproblem, S. 60-62. «Протагор по словам Петцольдта, был прежде всего учителем, — не исследователем. Его больше интересовало распространение идей, за которые он выступал, нежели их основательная, всесторонняя разработка. К тому же Сократ,
87
значение в смысле повышения интереса к философии Платона, но для объяснения живучести ее основных мотивов и главных идей нужно искать причин не в случайных условиях возникновения и распространения философии Платона, а в самом ее существе, которое
мышление которого далеко не достигало широты взгляда и гениальности Протагора, обладал громаднейшей силой личного внушения, вообще был более проникновенной, сильной и приспособленной к борьбе личностью, и вследствие этого легко играл исторически более значительную роль. Протагор разбрасывался, Сократ концентрировал всю свою силу на этической области, на идее изучимости добродетели. Сократ приобрел в высшей степени заинтересованных учеников, Протагор имел только толпы слушателей. Сократ воспитывал, Протагор очаровывал. Сократ действовал вглубь, Протагор - вширь. Слушать блестящего Протагора было наслаждением, исследовать с основательным Сократом — работой. Но исторический результат любит эту серьезность работы. Бриллиантовый фейерверк протагоровского учения вспыхнул почти без следа, как в наши дни — фейерверк Ницше. Оба если и оказали какое воздействие, то главным образом не непосредственное — они лишь побуждали противника к более основательной работе мысли. Из любви к здоровому Сократу развитие философской мысли избрало окольный путь, который больше, чем через 2000 лет, снова вывел на большую дорогу, часть которой — и значительную — прошел Протагор без попутчиков и последователей. Юм - вновь открыл главную ошибку философской мысли. - Какую, однако, плодотворную роль играет исторический случай! Одна — две способных личности, которые правильно поняли бы и заботливо развили основную релятивистическую идею Протагора, могла бы предохранить европейское человечество от духовного ниспаденья в схоластическое средневековье! Или Протагор достаточно не рассмотрел объема своей идеи, или — что мне предоставляется более вероятным — он не имел столько духовной дисциплины, столько умственной выдержки и сосредоточенности, чтобы последовательно распространить ее на единичное и тем самым — рано или поздно — привести к победе. Так как при выдающемся социальном положении, какое он занимал — такие лица, как Перикл и Эвринид, искали общения с ним — результат был бы обеспечен, то едва ли остается другой выбор. Не будь его философский гений связан со столь чуждой сосредоточенности личностью - во сколько светлее могла бы быть история западной мысли, а с тем вместе и мировая история вообще». Так рассуждает Петцольдт. Какую, подумаешь, роль может играть исторический случай! — повторим мы его же слова в ответе на его рассуждения.
88
определяется стремлением к абсолютному («Drang zum Unbedingten = Absoluten», по обозначению Лааса), т. е. как правильно в данном случае разъясняет Лаас, стремлением «все научное познание и всю нравственную деятельность» утвердить на абсолютных принципах или даже на одном и единственном понятии или положении, которого нельзя да и не нужно было бы выводить из дальнейшего основания»1: это — тот самый мотив, который неизменно приводит к построению философской системы абсолютистического характера. Так было раньше, так будет и впредь, потому что мотив этот имеет источник в неискоренимой вере человека в существование абсолютных ценностей.
Однако, и релятивизму, в частности - его эмпиристической основе, нельзя отказать в живучести. Заметно сказавшись в учении так называемых несовершенных сократовцев, которые по теоретическим основам своего миросозерцания стояли гораздо ближе к софистам, чем к Сократу, он был оттеснен на задний план победоносным шествием идеализма, однако не умер совсем: он продолжал свое существование параллельно с развитием основных принципов Сократа в философии Платона и Аристотеля, чтобы затем с новою силою сказаться в философских школах после-аристотелевского времени: имеем в виду логику стоиков и канонику эпикурейцев, одинаково полагающих восприятие единичных предметов в основу познания. Через посредство стоической школы эмпиризм древней философии переходит, с возникновением христианской науки, и в христианскую философию (Тертуллиан), красною нитью проходит через средние века, находя своих последователей главным образом среди английских номиналистов, и на подготовленной ими почве утверждается в Англии, стране эмпиризма, вплоть до настоящего времени поддерживающей свою историческую традицию, завещанную средневековыми эмпириками-номиналистами, из которых достаточно назвать Рожэра Бэкона (XIII в.) или Вильгельма Оккама (XIV в.): Фрэнсис Бэкон, Локк, Беркли,
1 Laas, цит. соч.. S. юо.
89
Юм, Милль, Спенсер — такова непрерывная генеалогия их продолжателей. Оказывая на всем протяжении своего исторического развития более или менее заметное влияние на континентальную философию (особенно следует отметить влияние английского эмпиризма на французскую философию XVIII в., а также пробуждение Канта от догматической дремоты под влиянием знакомства с Юмом), в последние десятилетия минувшего века английский эмпиризм должен был разделить свое влияние с ярко выраженным эмпиризмом немецких мыслителей (разумеем некоторых новокантианцев, напр., Ланге, позитивиста Лааса, представителей имманентной философии, наконец, Авенариуса и Маха), которые разными путями шли к одной цели -последовательному проведению эмпирического принципа, так что в настоящее время средоточием эмпиризма является уже не Англия, а Германия1.
1 Непрерывно продолжает свое существование и мнимо-религиозный релятивизм аристофанского типа, словно ржа разъедая истинную религиозность. Нет недостатка в этого рода произрастаниях и на русской почве: тип Колломейцева, намеченный Тургеневым в его романе «Новь», очень характерен для русской жизни. Достаточно вспомнить ту аргументацию, с какой выступили в свое время против основного тезиса речи г. Стаховича «о свободе совести» некоторые органы русской печати. Так, «Московские Ведомости» раскрывали ту мысль, что союз с церковью выгоден для государства. Ссылаясь в доказательство этой мысли на показания истории, газета прямо и решительно заявляла: «если церковь от этого» (от созидания твердого социально-политического строя) «страдала, то весь народ выигрывал, государство выигрывало», а потому — что за беда, если церковь страдала! Возможен ли такой ход мыслей для верующего в подлинно-религиозное существо Церкви?... Другая газета («Новое время»), тоже опираясь на историческую почву, разъясняла, что «все государства развивались на почве тех или иных религиозных верований», притом каждое - на почве своего исторического верования: Китай — на почве конфуцианства, Германия — протестантизма, Россия - православия. Вывод ясен: в интересах самосохранения государство должно охранять имеющимися в его распоряжении средствами то верование, на почве которого оно окрепло, будь-то конфуцианство или христианство — все равно! дело не в объективной истинности того или другого вероучения, а в его выгодности для государства, — настоящая аристофановщина! Что
90
В смысле последовательного проведения эмпирического принципа особенно замечательны труды основателей и главных представителей, так называемого, эмпириокритицизма - Рихарда Авенариуса, покойного (в 1896 г.) профессора философии в Цюрихском университете, и знаменитого физика Эрнста Маха, заслуженного профессора «истории и теории индуктивных наук» в Венском университете, продолжающего и доселе, несмотря на тяжкую болезнь (в 1898 г. проф. Мах поражен апоплексическим ударом), свою
хуже всего — это ржа проникла туда, где она вреднее всего: мысли «Моск. Ведомостей» и «Нового Времени» были опробованы (прямо названы «справедливыми») в прибавлениях к «Церковным Ведомостям»...
Впрочем, гносеологический релятивизм, последовательно распространенный и на религиозную область, может соединяться с искренней религиозной верой, и тогда у нас получится тип мыслителя, ярким представителем которого был Паскаль (1623-1662), далекий от Сократа по теоретическим основам своего миросозерцания, а от Аристофана — по глубине и искренности своего религиозного настроения. Исходя из того положения, что «сердце имеет свои доводы, которых не знает разум» («1е соеиг а ses raisons, que la raison ne connait pas»), Паскаль религиозную веру всецело относил к области сердца: рассудочно-теоретические доводы могут привести лишь к отвлеченному понятию о Боге, тогда как для религиозно настроенного человека нужен не отвлеченный Бог истины, но живой Бог любви, открывающийся лишь в глубине человеческого сердца (см. «Pensees sur la religion»; полный русск. пер. принадлежит г. Первову). Впоследствии Юм в своих «Dialogues concerning natural religion» выводить подобный тип в лице одного из трех собеседников, Демея, который в противоположность Клеанфу, признающему возможность естественного богопознания, и в согласии с Филоном, представителем гносеологического скептицизма, доказывает невозможность для человека познать Божество естественными средствами человеческого разума, но, в то время как Филон на этом выводе и останавливается, Демей из ограниченности человеческого разума, особенно в области богопознания, заключает к необходимости сверхъестественного откровения, — точка зрения, часто встречающаяся и в русской богословской литературе, особенно в произведениях назидательного характера. Так как Паскаль и Демей ценят религиозную веру саму по себе, независимо от тех выгод, какие она дает людям в устроении их земного благополучия, то их, конечно, нельзя причислять к представителям аристофановского типа.
91
научно-литературную деятельность: в 1905 году он издал громадную книгу, под заглавием: «Erkenntniss und Irrtum», которая в следующем же году была выпущена вторым, пересмотренным, изданием. Вообще оба названные мыслителя являют в своем лице серьезных и неутомимых научных работников, которым в высшей степени дороги интересы научной истины: выработав для себя определенное мировоззрение, освободившее их от подчинения вековым «предрассудкам», то тревожащим, то убаюкивающим человека, и достигнув таким путем той «окончательной ясности относительно связи между вещами и целей своей воли», какой, по Корнелиусу1, характеризуется философское исследование, названные мыслители знакомят и других с результатами своих исследований, чтобы и их привести к той «окончательной ясности», какой достигли сами. Результаты эти оказываются разрушительными по отношению к тем философским теориям и религиозным верованиям, в каких находит свое выражение абсолютистическое направление мысли и жизни, потому что эмпиризм Маха и Авенариуса характеризуется последовательным проведением релятивистической точки зрения, равно неблагоприятной как для философского, так и для религиозного абсолютизма. Только что указанная черта одинаково отмечается в учении Маха и Авенариуса и их противниками, и их последователями. «Разница между Авенариусом и моим обсуждением его мировоззрения, — говорит один из критиков названного мыслителя, — может быть сведена к противоположности между релятивистической теорией и воззрением, имеющим своею целью обоснование абсолютных форм познания»1 2. В этом отношении Авенариус может быть поставлен рядом с Ницше: «и в Ницше, и в Авенариусе повсюду дает о себе знать релятивизм в его нигилистической форме, как скрытая в обоих возможность,
1 Hans Comelins. Einleitung in d. Ph-phie. Lpz. 1903. S. 9.
2 Dr. Oskar Ewald. Richard Avenarius als Begriinder des Empiriokritizismus. Berl. 1905. Vorwort.
92
угрожающая и этике, и гносеологии»1; «релятивизм начало и конец эмпириокритического миропонимания»1 2 з 4 5. В этом отношении эмпириокритицизм является особенно характерным для нашего времени: «релятивизм сделался средоточием современного миросозерцания; стремление к абсолютному в познании, морали и искусстве признается устарелым»з. «Релятивизм — это лозунг дня», говорит другой исследователь в критическом этюде о Махе, миросозерцание которого затем и характеризуется, как типичное выражение релятивизма^. Не иную характеристику рассматриваемого направления, хотя, конечно, с иной этимологической окраской, находим и у его приверженцев. Так, не раз уже упоминавшийся нами Петцольдт, рассматривая всю историю философии, как борьбу абсолютизма с релятивизмом, первое по времени ясное выражение релятивистической точки зрения находит у Протагора, последнее и завершительное — у Маха и Авенариуса. Величие Протагора в том именно и состоит, что он решительно отбрасывает абсолютное и в гносеологии, и в онтологииз. Однако, «великая протагоровская идея» оказалась не по силам не только современникам Протагора, но и последующим поколениям: «до самого последнего времени ее воздействие было незначительно. Даже Юм сел на мель, не отыскав путей к принципиальному релятивизму. У него (как и у Гоббса) заметны лишь слабые наклоны к последнему. Мах и Авенариус вновь открыли глубоко скрытую истину и сделали ее важнейшим фактором в построении своих воззрений6 7. Отныне «искание абсолютного» должно быть поставлено «на одной ступени с исканием философского камня, квадратуры круга и perpetuum mobile»?, потому что «ничего
1 Там же, S. 4.
2 Там же, S. ю.
з Там же, S. 10.
4 Dr. phil. Bernhard HelL Ernst Mach’s Philosophic. Stuttg. 1907. S. 11. Cp. Dr. Richard Honigsivald. Zur Kritik der Machschen Ph-phie. Berl. 1903. S. 7, особ. 53-54.
5 Das Weltproblem, §33 (S. 59-60).
6 Там же, S. 111.
7 Там же, S. 39.
93
абсолютного нет»1, — к этому положению сводится главный результат философских исследований Маха и Авенариуса1 2.
Проведенный последовательно, релятивизм не оставляет места ни для метафизики, ни для религии. В этом отношении параллель между Авенариусом (также, конечно, и Махом) и Ницше, отмечаемая Эвальдом, несомненна: все они одинаково хотят освободить человечество от якобы сковывающего его влияния метафизических теорий и религиозных верований, хотя в способе осуществления этого предприятия между спокойными, осторожными, методическими
1 Там же, S. 38.
2 Ср. с этим след, слова другого современного представителя рассматриваемого направления: «то, что опыт нам везде и всюду ясно показывает, - все это сводится к следующему: ничто из того, что мы воспринимаем или можем мыслить по аналогии с восприятием, не имеет характера неизменного постоянства и «вечного» существования. Все великое и малое, все высокое и низменное, все возвышенное и прекрасное, все сладостное, все светлое, все ужасное, все обманчивое и все истинное, все угнетающее, неприятное, устарелое, непрочное и гнилое, полное сил и плодотворное - все это возникает в один прекрасный день, развивается и растет, изменяется, пребывает более короткое или более продолжительное время в относительно-неизменном виде и снова возвращается. - Форма, в которой проявляется то или иное отношение человека к текучести и изменчивости переживаний, делает его или эмпириокритиком, т.е. чистым человеком природы, либо явным или скрытым метафизиком, т.е. потусторонним человеком. Кто лишь с трудом переносит возникновение и исчезновение, кто бежит от них, кто страстно протягивает руки к неизменному в смысле абсолютного, к «непроходящему» и «бесконечному» или просто «абсолютному», тот верит в возможность путем принципиального отрицания опыта достигнуть чего-то принципиально высшего, чем опыт». Наоборот, кто стоит на почве опыта (таковы представители эмпириокритицизма), для того не существует ничего неизменного, вечного, абсолютного. (R. Willy. Empiriokritizismus, als einzig wissenschaftlicher Scandpunkt. S. 63. 64. Выдержка взята, с исправлением явных опечаток, из статьи г. Бермана «Марксизм или махизм» = Образование, 1906, №11, стр. 71*72)- Таким образом и Вилли признает два основных направления в философии -эмпириокритическое, главною чертою которого является релятивизм, и противоположное ему метафизическое, характеризующееся стремлением к «непреходящему» и «бесконечному», или просто «абсолютному».
94
учеными и тревожным, порывистым, стремительным Ницше громадная разница... У Ницше речь сжатая, сильная, яркая и неуравновешенная до крайности: безудержный азарт сплошь да рядом сменяется мучительной тревогой. Со всею страстью своего неуравновешенного темперамента бросается он в борьбу с Богом, но ... «по тому азарту, с каким ты отвергаешь меня, я убеждаюсь, что ты все-таки в меня веришь». А когда задорный азарт сменяется глубокою тоскою — тогда, вместо окровавленного триумфатора, спокойно идущего по теплым еще трупам к «торжеству победителей», встает перед нами задумчивый образ великого страдальца, обрызганного кровью своего собственного, изболевшего, кровью истекающего сердца1. Вот сумасшедший средь бела дня, с зажженным фонарем в руке, бегает в тоске по Богу. «Где Бог? — кричит он, я вам скажу где: мы Его убили — вы и я! Мы все Его убийцы! Но как могли мы это сделать? как могли мы выпить море? - что мы наделали: разорвали цепи, связывавшие землю с ее солнцем? Куда она теперь движется? Куда движемся мы сами? прочь от всех солнц? Не падаем ли мы безостановочно — назад, набок, вперед, во все стороны? Да и есть ли еще верх и низ? Не блуждаем ли мы как бы в бесконечном «ничто?» Не дышит ли на нас своим дыханьем беспредельная пустота? Не стало ли холоднее? Не надвигается ли ночь ближе и ближе? Не приходится ли еще до полудня зажигать фонари? Разве мы ничего не слышим? — не слышим шума могильщиков, которые погребают Бога? не ощущаем запаха разлагающегося Божества? И боги, ведь, разлагаются... Бог умер! останется мертвым! и убили его мы!! Убийцы из убийц, в чем мы найдем себе утешенье? Самое святое и могучее, что только было доселе у мира, истекло кровью под нашим ножом -кто смоет с нас эту кровь? какой водой сможем мы очистить себя? какие нам изобрести искупительные празднества, священные игры? Не чрезмерно ли для нас величие этого деяния?» Так писал Ницше в «Веселой науке»1 2. Знакомая тоска! Много лет тому назад с
1П. Сит. М-чн-ский. Тревожные страницы. Харьк. 1906, стр. и.
2 Nietzsche’s Werke, В. V, Lpz. 1900. S. 163-164.
95
пронизывающей сердце силой прозвучала она в замечательных «Монологах» Огарева:
И ночь, и мрак! Как все томительно-пустынно! Бессонный дождь стучит в мое окно, Блуждает луч свечи, меняясь с тенью длинной, И на сердце печально и темно.
Белые сны! душе расстаться с вами больно, Еще ловлю я призраки вдали,
Еще желание кипит в груди невольно;
Но жизнь и мысль убили сны мои.
Мысль, мысль! как страшно мне теперь твое движенье, Страшна твоя тяжелая борьба!
Грозней небесных бурь несешь ты разрушенье, Неуловима, как сама судьба.
Ты мир невинности давно в душе моей сломила, Меня навек в броженье вовлекла, За верой веру ты в душе моей сгубила, Вчерашний свет ты тьмою назвала.
От прежних истин я отрекся правды ради, Для светлых снов на ключ я запер дверь, Лист за листом я рвал заветные тетради, И все, и все изорвано теперь.
Я должен над своим бессилием смеяться И видеть вкруг бессилие людей, И трудно в правде мне внутри себя признаться, А правду высказать еще трудней.
Пред истиной нагой исчез и призрак Бога, И личность гордая, и сны любви, И впереди лежит пустынная дорога, Да тщетный жар кипит в крови...
И не замирала эта тоска с тех пор. «Меня Бог всю жизнь мучил», признается Кириллов у Достоевского, и за ним могли бы повторить это мучительное признание и Раскольников, и Иван Карамазов, и... сам Достоевский... Мы не знаем, были ли когда-либо пережиты
96
подобные муки Махом и Авенариусом. Если и были пережиты, то остались далеко позади, потому что в их сочинениях не заметно явных следов такого рода переживаний: ровно, спокойно, деловито, Мах яснее, проще, живее, Авенариус - суше, труднее, излагают они результаты своих исследований, и если чем действуют на читателя, то не скрытою тревогой своих исканий, а ясной и спокойной уверенностью в достоверности найденного. В их сочинениях чувствуется несомненная сила внутреннего убеждения. Она способна действовать покоряющим образом. И мы видим, что у Маха и Авенариуса есть уже целый ряд серьезных и убежденных последователей, частью популяризирующих, частью развивающих дальше взгляды своих учителей; таковы, напр., Карстаньен, Вилли, К. Гауптманн, г-жа Кодис, Петцольдт, Кох, Гольцанфель, Лесевич, Луначарский и др., сходящиеся в чрезвычайно высокой оценке значения того дела, которое выполнено учителями: их точка зрения трактуется, как настоящее откровение, освобождающее человеческую мысль от вековых предрассудков и открывающее светлый взгляд на мир. Так, Г. Беер видит в Махе «оригинального мыслителя первого ранга, гения беспощадного, чуждого каких бы то ни было догматических рамок критицизма» по отношению к чужим мнениям и вместе с тем «железной дисциплины по отношению к собственной мысли», смелого искоренителя отжившего старого, «богато одаренного провозвестника новых ценностей», призванного для того, чтобы «положить конец столь характеристической для XIX века путанице и разрозненности понятий, свести неразрешимые вопросы, словно сфинкс издевающиеся над человеком, к их ложной постановке, в зародыше умертвить проклятое исчадье мнимых проблем»; Мах выполнил «это грандиозное дело в его первой стадии с тою непритязательной веселостью будто играючи, которая служит признаком действительно могучей силы». Вот в чем состоит заслуга Маха, по словам его восторженного поклонника, имеющего в своем распоряжении слова лишь для панегирика Маху, вовсе не для
91
критики1. «Система Авенариуса, говорит один из его последователей, - поразительно оригинальна. Основываясь на совершенно новых точках зрения, она направляет нас к новым путям, открывает новые перспективы и указывает, как пролить совершенно новый свет на старые проблемы, искони вращавшиеся в заколдованном круге. В этом залог ее будущности и причина производимого ею бодрящего действия»1 2 3. «Освобождающее, радостное значение эмпириокритицизма», сравнительно с трансцендентальным идеализмом Канта, подчеркивает Луначарский во введении к изложению «Критики чистого опыта» Авенариуса, «учителя, прокладывающего новые пути»з. Восторженность учеников по отношению к учителям представляется иной раз переступающей чувство меры, обеспечивающее возможность критического отношения хотя бы даже и к авторитетнейшему учителю, будто снова слышится голос древних пифагорейцев. Однако, и в тех кругах, которые находятся вне непосредственного влияния эмпириокритицизма, встречаем весьма высокую оценку философских трудов Маха и Авенариуса. Геффдинг, напр., признает, что Мах, действующий своею работой на мысль возбуждающим и оплодотворяющим образом, дал новую, притом своеобразную постановку гносеологической проблеме, а главное сочинение Авенариуса — «Критику чистого опыта» названный историк философии называет произведением гениальным*. Еще важнее то,
1 Dr. Theodor Beer. Die Weltanschauung cines modernen Naturforschers. Ein nicht-kritisches Referat fiber Mach’s «Analyse der Empfindungen». Dresd. U. Lpz. 1903. S. 21. а также 22-23,109-115-
2 Карстанъен. Рихард Авенариус. Русск. пер. А. К. Шиманского. Киев, 1902.
3 Луначарский. Критика чистого опыта в популярном изложении. Издание С. Дороватовского и А. Чарушникова, поражающее — кстати сказать — обилием невозможнейших опечаток. М. 1905. Стр. 1, VI.
* Hqffding. Modeme Philosophen. Lpz. 1905. S. 110, 104; его же «Философские проблемы», рус. пер. Г. А. Котляра. М. 1904, стр. 19. Не было, впрочем, недостатка и в противоположных отзывах; из них некоторые приведены в статьях об Авенариусе — Д.
В. Викторова («Вопр. филос.» 905, II стр.71) и И. И. Лапшина (I-й дополнительный
98
что принципиальные противники этих мыслителей (Вундт, Гринбаум, Рикксрт, Эвальд, Гелль, Челпанов и др.) находят нужным сводить с ним серьезные счеты. Вообще, трудно указать в последнее время такую философскую книгу, которая в той или другой мере не затрагивала бы эмпириокритицизма. Все это показывает, что данное направление представляет в ряду современных философских направлений величину весьма значительную, с которой необходимо считаться.
Для нас в рассматриваемом направлении особенно важна та сторона, которая была отмечена выше: это строгая последовательность в приведении эмпирического принципа1, которая дает ему полное право на наименование чистым эмпиризмом, в противоположность эмпиризму рефлектирующему, занимающему и логически, и генетически посредствующее положение между наивным эмпиризмом обычного взгляда на отношение между бытием и познанием и чистым, или последовательным эмпиризмом* 1 2. Подобно тому, как естествоиспытатель особенно ценит те случаи, в которых исследуемое явление дано в наиболее чистом виде, потому что при наличности этого условия легче подметить существенные признаки явления, так точно и для исследователя философских направлений особенно важны те системы, в которых известное направление выражено с особенною чистотою и последовательностью, потому что этим значительно облегчается оценка данного направления: ясные, строго определенные очертания объекта оценки исключают возможность смешения его с другими объектами, что легко может случиться при отсутствии в исследуемом миросозерцании ясности и последовательности. Известно, сколько различных толкований и в соответствии с тем оценок вызывает
том Энцикл. Словаря Брокгауза - Ефрона): но чем ближе к нашему времени, тем таких отзывов меньше.
1 Эту черту особенно подчеркивает Эвальд в цит. сочинении.
2 Следуем в данном случае терминологии Вундта (см. его «Введение в философию»), различающего в пределах эмпиризма три указанные в тексте разновидности.
99
учение Локка, колеблющееся между рационализмом и эмпиризмом... Мах и Авенариус не знают таких колебаний. Они последовательнее всех своих предшественников, даже Юма, даже Протагора: недаром они представляют собою для нашего времени завершительный момент в развитии эмпиризма. Отсюда оценка эмпиризма Маха и Авенариуса получает принципиальное значение, превращаясь в оценку самого эмпирического принципа, приведенного последовательно.
К обозрению каждого предмета можно подойти с различных сторон, в зависимости от того, где лежит главный интерес обозревателя: натуралиста интересует одно, художника другое, богослова третье и т. д. Все предыдущее изложение должно было показать, с какой стороны думаем мы подойти к рассмотрению чистого эмпиризма нашего времени. В виду того значения, какое, по предыдущему, имеет в человеческой жизни вера в абсолютно-ценное, для нас имеет первостепенную важность вопрос — как смотреть на эту веру с точки зрения чистого эмпиризма? допустимы ли с этой точки зрения абсолютные ценности? если да, то, во-первых, в чем они состоят, а во-вторых, как примиряется их допущение с релятивистическим характером системы? если нет, то как же смотреть с этой точки зрения на подвиг платоновского праведника и кантовского страдальца, Антигоны и Бландины, Сократа и Бруно с одной стороны, на пошлость и мещанство жизни с другой? как смотреть на смех Гоголя и тоску Чехова? как смотреть на то, что нам представляется превосходящим по ценности самую жизнь? Если далее - нет абсолютных ценностей, то можно ли признать с этой точки зрения какой-либо смысл за религией, имеющей в своей основе веру в возможность общения с Богом, как живым средоточием абсолютных ценностей? Короче: что такое чистый эмпиризм нашего времени в своих конечных выводах - переоценка ли лишь ценностей, значит, отрицание не абсолютных ценностей вообще, а лишь старых ценностей с заменою их новыми, как это мы видим у Ницше, или же -полное и решительное отрицание абсолютных ценностей вообще? и если - последнее, то в чем тогда состоит смысл человеческой жизни?
100
где ценности чистого эмпиризма? где его святыня? где его герои? Одним словом: кто есть твой Бог? вот вопрос, с каким мы подходим к чистому эмпиризму нашего времени.
Чрезвычайно важный сам по себе1, этот вопрос получает особенный интерес для русского исследователя, кровно связанного с духовной жизнью своей родины. Дело в том, что одним из самых значительных элементов нашей жизни за последние годы является борьба двух философских направлений — идеализма и реализма, не заглушенная и шумом политических движений; наоборот, идеологи различных политических партий стараются подвести под их политические программы философские основы, и даже в тех кругах, которые, бывало, относились к философии с решительным и беспощадным отрицанием, теперь ведется борьба не с философией вообще, значение которой, наоборот, подчеркивается, а лишь с философией определенного толка, именно - с философским идеализмом1 2. Таким образом, борьба политических партий идет рука об руку с борьбою философских направлений.
Эта последняя имеет у нас свою историю, очень интересную. Ее начало восходит к тридцатым годам минувшего века, когда в русском обществе впервые начинается серьезное изучение философии:
1 Даже у такого писателя, как Горький, который является в нашей литературе типичным представителем релятивистического направления (в какой степени у него выдерживается это направление - другое дело), признается вся важность поставленного в тексте вопроса: «Кто есть твой Бог?» - вот вопрос, с которым вдумчивый читатель обращается к писателю (см. очерк «Читатель»).
2 «Нынешний идеолог рабочего класса не имеет права быть равнодушным к философии», пишет Н. Бельтов (Г. В. Плеханов) в предисловии к книге «Критика наших критиков» (Спб. 1906), подчеркивая последние слова; см. также предисловие ко 2-му изданию «Очерков реалистич. мировоззрения» (Спб. 1905), брошюру г. Богданова «Революция и философия», статью г. Луначарского «Философия и жизнь» (в сборнике его статей «Отклики») и др. А между тем далеко ли от нас то время, когда повторяли на разные лады известные слова Льюиса, которыми он начинает свою «Историю философии»: «ни для кого не тайна, что философия потеряла в Европе всякий кредит»?!..
101
раньше она изучалась лишь в школе. Поначалу все слои русского общества представляются захваченными идеалистическим движением, перенесенным к нам с Запада, но уже в сороковых годах идеализм должен был уступить значительную долю своего влияния направлению реалистическому, возникшему у нас первоначально под влиянием французского социализма (Сен-Симон, Фурье), окрепшему под воздействием левого крыла гегелевской школы (особенно Фейербаха), и к середине пятидесятых годов сделавшемуся господствующим направлением в русском обществе: достаточно вспомнить имена идейных руководителей нашего общества за так называемые шестидесятые годы - имеем в виду Чернышевского, Добролюбова и Писарева, чтобы убедиться в этом. Идеализм сходит к этому времени с открытой исторической сцены, продолжая, однако, свое существование в трудах академических, отчасти и университетских (Редкин, Чичерин) профессоров, а также эпигонов старого славянофильства. Освободительные идеи бо-х годов провозглашаются, как это ни странно, под знаменем материалистической философии, в своих конечных выводах отрицающей и свободу, и достоинство человеческой личности. Еще доселе живет в русском обществе традиция, что философский идеализм стоит во внутренней связи с политическим консерватизмом и даже всеми видами реакции, тогда как подобная связь, если и существовала на самом деле, то обусловливалась не природою идеализма, заключающего в себе основы для утверждения абсолютного достоинства человеческой личности и для борьбы с различными видами рабства, а внешними условиями его исторического существования. Только в самое последнее время русский идеализм снова и открыто выступил с проповедью внутренне сродных ему освободительных идей, заложенных и отчасти выраженных еще в философии Канта, громко провозглашенных его великим учеником Фихте Старшим. Оживлением старых традиций мы обязаны молодым русским идеалистам, в довольно пестрой группе которых можно распознать, во-первых, непосредственных учеников Влад. Соловьева, который, пришедши философскую школу
102
таких учителей, как П. Д. Юркевич и (отчасти) В. Д. Кудрявцев и напитавшись духовной атмосферой, обильно насыщенной воззрениями старых славянофилов и в некоторых элементах своего чрезвычайно сложного миросозерцания и причудливого настроения родственного им Достоевского, с самого же начала своей литературной деятельности выступил (в «Кризисе западной философии» 1874 г.) решительным противником позитивизма и, подкрепленный своими друзьями и единомышленниками (Н. Я. Грот, Л. М. Лопатин), продолжал эту борьбу до самой смерти, - кто следил за жизнью «Московского Психологического Общества» и ростом издаваемого им журнала «Вопросы философии и психологии», тот, без сомнения, хорошо знает названных мыслителей (в эту группу относим, главным образом, братьев Трубецких); во-вторых, русских представителей той фракции немецкого новокантианства, которое в лице Виндельбанда имеет своего блестящего выразителя (сюда относится Б. А. Кистяковский, ученик Виндельбанда); в-третъих, целый ряд ученых, публицистов и общественных деятелей, от марксизма перешедших к идеализму, начиная от Туган-Барановского, продолжая Струве и Франком, оканчивая Булгаковым и Бердяевым, -все они, несмотря на значительное расхождение по многим частным вопросам политическим, философским и религиозным, сходятся в том отношении, что ищут для проповеди политического освобождения идеалистических основ в философии и даже в религии; в-четвертых, провозвестников, так называемого, нового христианства (Мережковский, Философов), обязанных своим духовным развитием влиянию Ницше, затем корифеев западноевропейского символизма, особенно Ибсена, наконец, причудливого, неуловимого Розанова1.
1 Едва ли нужно оговариваться, что всех представителей русского идеалистического движения последнего времени нельзя распределить по указанным группам; так, в стороне от них без устали делали свое дело уяснения принципов идеалистической философии такие профессора-идеалисты, как Г. И. Челпанов, ученик Грота, неутомимо боровшийся на кафедре, в психологической семинарии при Киевском университете и в печатных сочинениях с материализмом и позитивизмом во имя того идеал-реализма,
103
В 1903 году молодые русские идеалисты (из первых трех групп) выпустили сборник статей («Проблемы идеализма». Изд. Моск. Психол. О-ва, под ред. И. И. Новгородцева), в которых пытаются наметить основные черты своего миросозерцания. Сборник, в котором много места отведено критике противоположного миросозерцания, был принят представителями последнего, как вызов к борьбе, который они и не замедлили принять, выпустить к началу следующего (1904) года свой «сборник статей по философии, общественной науке и жизни» под заглавием «Очерки реалистического миросозерцания» (Спб. 1904- Изд. С. Дороватовского и А. Чарушникова. В 1905 году появилось уже второе издание этой книги), посвященных выяснению основных идей современного русского реализма.
Обращаясь к основному пункту борьбы между идеализмом и реализмом, поскольку она нашла свое выражение в упомянутых сборниках, мы видим, что это лишь новый момент в старой борьбе абсолютизма с релятивизмом. «Мы ищем абсолютных заповедей и принципов», заявляет проф. Новгородцев в предисловии к «проблемам идеализма»1, потому что, продолжим словами Д. Е. Жуковского, — «нет абсолютной цели, и жизнь лишена ценности»* 1 2. В противоположность идеалистам реалисты высказываются против «безусловных определений бытия», против «абсолютного знания», «абсолютных норм», «вечных ценностей», «абсолютных ценностей»3 и т. д., одни (напр., Базаров)
который нашел свое выражение в системе Вундта (см. «Введение в философию» проф. Челпанова), или покойный учитель пишущего эти строки, проф. Киевск. дух. академии П. И. Линицкий, отдавший всю свою жизнь защите прав разума в решении вопросов мысли и жизни (см. некролог покойного профессора в «Трудах Киевск. дух. академии» за 1906 г.). Из молодых русских идеалистов особняком стоит С. Л. Аскольдов.
1 Пробл. ид., стр. VIIL
2 Там же, стр. 520. Ср. заявление г. Струве в предисл. к книге Н. Бердяева о Михайловском (стр. LHI-LJV): «нужен абсолютизм в этике».
3 Оч. реал, мировоззр., отд. 1-ый, passim. В данном случае дети остаются верными завету своих духовных отцов (Бельтов. Кр. наш. крит., стр. 326: «мы знаем - что
104
последовательно проводя релятивистическую точку зрения, другие (наир., Суворов, Луначарский) впадая в невольное противоречие с самим собой, подобно Писареву, которого — заметим кстати — Луначарский очень напоминает своим писательским темпераментом.
Если, теперь, появление двух антагонистических сборников признать, как и следует, лишь наиболее ярким выражением той борьбы между абсолютизмом и релятивизмом, которая непрерывно продолжается в русском обществе со времени его духовного пробуждения, то обостряясь, то ослабевая, тогда можно будет согласиться с Николаем Бердяевым в том, что «русская философская мысль стоит теперь на распутье»* 1, и, конечно, никто из тех, что хотят
абсолютной истины нет, что все относительно, все зависит от обстоятельств места и времени»), которые в свою очередь шли по стопам своих дедов (Фр. Энгельс. Людвиг Фейербах и конец немецк. классич. ф-фии. Пер. под ред. В. В. Святловского. Спб. 1906. Стр. 6: «диалектическая философия» - речь идет о философии Гегеля в том освещении, какое она получила в школе Маркса, - подтачивает «все представления о конечной, абсолютной истине и соответствующие ей абсолютные положения человечества. Для нее нет ничего конечного, абсолютного, священного; она видит во всем печать бренности, непрерывный процесс появления и исчезновения, бесконечное восхождение снизу вверх, отражением которых в мыслящем интеллекте и служит сама :гга философия». Подробнее та же мысль раскрывается Энгельсом в соч. «Философия, Политич. экономия, Социализм», пер. с з~го нем. изд., Спб. 1905, направленном против Дюринга, см. стр. 101-116). Тезисы у дедов и внуков одни, но опорные пункты -различные: там - гегельянство, здесь эмпириокритицизм, как это увидим впоследствии.
1 Николай Бердяев. Sub specie aeternitatis. Опыты философские, социальные и литературные (1900-1906). Спб. 1907. Стр. 197. Выдержка взята из статьи, написанной в июле 1904 г. В 1903-м году, 25 февраля, проф. Г. И. Челпанов, «свидетель смены умственных настроений» у нас, на Руси, за последние годы, говорил в своей речи на торжественном заседании основанной им Психологии. Семинарии при университете св. Владимира: «Такого сильного умственного напряжения, которое переживает в настоящее время русское общество, я, признаюсь, не запомню. Все производит такое впечатление, как если бы русской интеллигенции был поставлен настойчивый вопрос, на который она должна дать немедленно же ответ, вопрос, где истина, в идеализме или в позитивизме». (Отчет о деятельности Псих. Семинарии за 1902-906 гг. в «Университ.
105
жить сознательной жизнью, не вправе пройти мимо открывающегося распутья: настоятельная задача нашего времени - дать отчет в тех путях, по каким движется современная мысль, и в тех конечных пунктах, к каким она приводит в своем поступательном движении, потому что «есть пути уже пройденные и ведущие в пустыню»,.?.
Для нас в данном случае важно то, где молодые русские реалисты ищут теоретических предпосылок для своего мировоззрения. В этом отношении они расходятся со своими непосредственными предшественниками. Известно, что старшее поколение русских реалистов, во главе с Н. Бельтовым (псевдоним Г. В. Плеханова), верное традициям правоверного марксизма, насколько он нашел выражение в трудах своих основоположников, Маркса и Энгельса, считает так называемый экономический материализм органически связанным с философским материализмом, как своей единственно возможной логической основой. Но так как «на материализм, - по словам Н. Бельтова, — клеветали нисколько не менее, чем на социализм»2, то он считает необходимым с особенною выразительностью и настойчивостью подчеркивать то положение, что защищаемый им материализм, будучи верным основоположением французского материализма XVIII в., существенно отличается - Бельтов говорит дальше словами Энгельса — от «той опошленной, вульгарной формы, в которой продолжает существовать в головах естествоиспытателей и врачей материализм XVIII столетия и которую он имел в пятидесятых годах у Бюхнера, Фогта и Молешотта»з: в то время как эти последние все
Известиях», 1907, №3). События последующих годов поставили русскому обществу целый ряд новых вопросов, уже не философского, а политического и социально-экономического характера, однако, и старый вопрос — где истина, в идеализме или в позитивизме, — сохраняет всю свою силу и в настоящее время.
1 Берд., стр. 197.
2 Бельтов, Кр. наш. кр., стр. 194.
3 Н. Бельтов, Кр. наш. кр., стр. 163; ср. Энгельс, цит. соч., стр. 17. Следует помнить, что г. Бельтов, который в своих сочинениях с одной стороны — разъясняет и популяризует учение Маркса и Энгельса, с другой — опровергает неправильные с его точки зрения
106
силы материи сводят к движению1, рассматривая последовательно и мышление, как одну из форм движения* 1 2 3 4 5, Бельтов считает движение лишь одною из функций материиз, подвергая при этом критической обработке самое понятие о материи.
По Бельтову, единственным источником нашего познания служит чувственный опыт, т. е. совокупность ощущений, получаемых человеком при помощи внешних чувств. Ощущения нельзя понимать иначе, как результат воздействия на субъект объекта, или вещей в себе, существующих независимо от познающего субъекта, однако в известной степени доступных познанию*. Что это так, доказывается отрицательно наличностью противоречий, в которые неминуемо впадает всякого рода агностицизм, будет ли то агностицизм Канта или Спенсера, утверждая о непознаваемых вещах в себе, к которым, по взгляду Канта, неприменимы категории нашего мышления, в том числе категория причинности, что они причиняют наши ощущенияь; положительно — возможностью пользоваться вещами в нашей практической деятельности: «мы можем доказать правильность нашего понимания данного явления природы тем, что мы сами его вызываем, порождаем его из его условий и заставляем служить нашим целям. Таким образом кантовской вещи «самой по себе» приходит конец»6. Это — слова Энгельса. Те же самые мысли раскрывает он при критике английского агностицизма: «раз мы
толкования этого учения, в своем понимании материализма старается держаться в пределах, намеченных его учителями, что сам выразительно подчеркивает.
1 Там же, стр. 166.
2 Нужно заметить, что у названных материалистов основная их формула, что мысль есть движение материальных частиц, не выдерживается: наряду с нею у Молешотта и Бюхнера встречается другая формула — мысль есть продукт движения материальных частиц, а Фогт определяет мысль, как функцию мозга. См. проф. Г. Челпанова «Мозг и душа», изд. з, лекция 3.
3 Бельт, стр. 183.
4 Там же, стр. 196,199.
5 Там же, стр. 171 и д.
6 Там же, стр. 167; ср. Энгельс, цит. соч., стр. 15.
107
употребляем — вещи сообразно тем свойствам, которые открывают в них наши внешние чувства, то мы тем самым подвергаем непогрешимой проверке правильность наших чувственных восприятий»1. Было бы ошибочно понимать этот тезис в том смысле, что наше познание является точным отображением познаваемых вещей: Гольбах еще раньше Канта утверждал, и утверждал справедливо, что «мы не знаем сущности ни одной вещи»1 2 3; однако, — рассуждает Бельтов, — по отношениям, открываемым между ощущениями, мы можем безошибочно судить об отношениях, существующих между вещами. Как это происходит, можно пояснить превосходным сравнением, принадлежащим Спенсеру. «Представим себе цилиндр и куб. Цилиндр есть субъект; куб — объект». Тень, падающая от куба на цилиндр, есть представление. Эта тень совсем не похожа на куб: прямые линии куба являются в ней ломаными; его плоские поверхности выгнутыми. И, несмотря на это, каждому изменению куба будут соответствовать изменения его тени. Мы можем предположить, что нечто подобное происходит в процессе образования представлений. Ощущения, вызванные в субъекте действием на него объекта, совсем не похожи на этот последний, как не похожи они и на субъект, — но тем не менее каждому изменению в объекте соответствует изменение его действия на субъект»з.
Такова теория опыта, чуждая как «непоследовательности кантианизма, так и нелепости субъективного идеализма»4.
Совокупность вещей, составляющих предмет нашего чувственного восприятия, можно назвать чувственным миром, природой, материей: все это по Бельтову, — обозначения синонимическиеб.
1 Бельт., стр. 168.
2 Там же, стр. 196; слова Гольбаха взяты из «Systeme de la Nature». 2 ч, стр. 91-92.
3 Белът., стр. 199; ср. стр. 231-234.
4 Там же, стр. 199.
з Там же, стр. 198, 233; на последней из указанных страниц к материи прилагается термин субстанция.
108
Понимаемая в этом смысле природа, или материя, есть нечто первоначальное сравнительно с духом: «человек, говорит Бельтов словами французского материалиста XVIII в., - есть создание природы; он живет в природе; он подчинен ее законам; он не может освободиться от них; он даже в мыслях своих не может выйти за их пределы... Для существа, созданного природой, не существует ничего за пределами того великого целого, часть которого оно составляет... Те существа, о которых говорят, что они выше природы, суть не более, как химеры»1. С этой точки зрения «то, что я называю моим я, есть не более, как организованная материя»1 2 3 4, главною функцией которой является в данном случае сознание, отличное от движения, тоже представляющего функцию материиз. Значит, идеальное (сознание) нельзя отожествлять с материальным: «идеальное, - по словам Маркса, — есть не что иное, как материальное, отраженное и переведенное в человеческой голове», но, ведь, перевод не тождествен с оригиналом, хотя и должен находиться в соответствии с ним. Критерием правильности перевода служит, в данном случае опыт. «Если бы смысл существующего в моей голове «идеального» не соответствовал действительным свойствам «материального», т. е. существующих вне моей головы и независимо от нее вещей, — то я получил бы от этих вещей урок при первом же столкновении с ним, -урок, благодаря которому более или менее быстро устранилось бы несоответствие между идеальным и материальным, разумеется, если б я не погиб раньше жертвой этого несоответствия »«.
Материалистическое объяснение истории (т. наз. экономический материализм), связанное с именами Маркса и Энгельса, представляет, по Бельтову, не что иное, как логически
1 Там же, стр. 181 - 182; приведенные в тексте слова взяты, по указанию г. Бельтова, из П-й главы приписываемого Гельвецио сочинения: Le vrae sens du Systeme de la Nature.
2 Белът., стр. 182.
3 Там же, стр. 183; на стр. 233 г. Бельтов выражается так: сознание есть «атрибут той субстанции, которая действует на мои внешние чувства и которую я называю материей».
4 Там же, стр. 231-232.
109
последовательное распространение принципов материалистической философии на историческую область: раз сознание определяется бытием, а не бытие сознанием, то объяснения различных проявлений человеческого сознания, каковы право, политика, наука, искусство, философия, религия, нужно искать в экономической структуре общества, которая в свою очередь служит выражением производственных отношений1. В связи с этим диалектика Гегеля перевертывается вверх ногами или — как предпочитает выражаться Энгельс — диалектика, стоявшая у Гегеля вверх ногами, снова ставится на ноги: самая идея непрерывного развития действительности путем перехода одной формы бытия в другую, ей противоположную, и объединения противоположностей в третьей, синтетической форме принимается, но только этот процесс не рассматривается, как у Гегеля, в качестве выражения диалектического развития понятия, — наоборот, самая диалектика понятия трактуется теперь лишь как отражение в сознании диалектического движения, происходящего в действительном мире: мысль определяется действительностью, а не действительность мыслью1 2. Для Энгельса, как и для его правоверного последователя Бельтова, особенно важно то, что с этой точки зрения не может быть речи о «завершенных формах человеческого мышления и человеческой деятельности». «История, как и наука, не может прийти к конечному завершению, к идеальному существованию человечества. Совершенное общество, совершенное государство могут существовать только в фантазии. Наоборот, все последовательные исторические положения суть только временные ступени в бесконечной эволюции от низшего к высшему. Каждая ступень нужна, а потому жизнеспособна в свое время и при тех условиях,
1 Как известно, эта мысль формулирована Марксом в предисловии к «Критике некоторых положений политич. экономии» (русск. пер. П. Румянцева под ред. А. Мануйлова. М. 1896). Бельтов раскрывает его в своей книге «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю».
2 Энгельс, цит. соч., стр. 32-33.
110
которые создали ее; но она станет ненужной и нежизнеспособной при новых, высших условиях, которые зародятся и разовьются в ее собственной среде. Тогда она должна будет уступить место высшей ступени, которая также, в свою очередь, станет не нужна и исчезнет». Отсюда следует, что «для диалектической философии нет ничего конечного, абсолютного, священного»1.
Такова точка зрения, на которой стоит старшее поколение русских реалистов. Молодые русские реалисты, всецело разделяя прикладную часть миро- и жизнепонимания своих учителей (экономический материализм), не находят однако возможным принять его философской основы — материализма — даже в той смягченной форме, в какой он защищается г. Бельтовым. Они вполне признают, вслед за Ланге1 2 3 4, методическое значение материализмаз, охотно отдают ему предпочтение перед идеализмом, которому — за немногими исключениями — «в гораздо большей степени, чем материализму», свойственны «авторитарная и религиозная тенденции »4; но решительно не могут помириться с его
1 Там же, стр. 5-6.
2 Ланге. История материализма. Пер. с 3 изд. Н. Н. Страхова. Изд. 2, Спб. 1899. Т. II, отд. 2, гл. I; отд. 4, гл. IV.
3 Очерки реалистич. мировоззрения, стр. 216.
4 А. Богданов. Эмпириомонизм. Кн. III. Спб. 1906. Стр. 147. прим; ср. след, слова из обширного предисловия к книге: «Эта несколько примитивная философия» («материализм естественников») «недаром была когда-то идейным знаменем суровых демократов-«нигилистов»: в ней много своеобразного радикализма, много родственного всем «крайним» идеологиям. Стремясь достигнуть строгого монизма в познании, это мировоззрение строит свою картину мира всецело из одного материала — из «материи», как объекта физических наук. - Неизменные законы ее движения в пространстве и времени — последняя инстанция всех возможных объяснений. К монизму, таким образом, присоединяется строгая тенденция научного объективизма, и отсюда — крайняя вражда этой философии ко всем фетишам религиозных и метафизически-идеалистических мировоззрений. От такой философии, поистине, нелегко отказаться, и даже когда это сделаешь, невольно продолжаешь сохранять к ней особенную симпатию, невольно выделяешь ее среди всех других» (стр. III-IV). Сам
Ill
метафизическим характером, а потому предпочитают материализму то направление современной мысли, которое отрицательно относится ко всякого рода метафизике, не только идеалистической, но и материалистической: таков чистый эмпиризм Маха и Авенариуса. Даже признанный в марксистских кругах авторитет Бельтова, который не раз высказывался1 против эклектического, по его мнению, соединения марксизма с «махизмом» или эмпириокритицизмом, в данном случае не имеет силы. Г. Бельтов уверен, что его «единомышленники», склоняющиеся к Маху и Авенариусу, тем самым изменяют Марксу и Энгельсу. «Со временем, — говорит он в пророчески-наставительном тоне, — они пожалеют об этом; но тогда будет, пожалуй, уже поздно»* 1 2 3. Пожалеют ли со временем — этого мы не знаем, а пока «единомышленники» Бельтова с ним полемизируют, указывая на то, что вполне разделяемый ими тезис Бельтова о примате природы над духом слишком широк для того, чтобы характеризовать собою именно материализм: во всяком случае к Маху и Авенариусу он приложим не в меньшей степени, нежели к материалистам; что же касается действительно характерного для Бельтова понятия о материи, как субстанции, как совокупности вещей в себе, то оно в такой степени выдает метафизическую природу его миропонимания, что об его удобоприемлемости не может быть речиз. На смену материализму должен выступить эмпириокритицизм, как последнее слово философской мысли,
Богданов от материализма перешел к эмпириокритицизму, на котором, впрочем, не остановился: в нем, по Богданову, недостаточно выражена монистическая тенденция, обязательная при построении мировоззрения; именно в нем два типа организации элементов действительности — физический и психический — признаются несводимыми ни друг к другу, ни к какому-либо третьему типу, а потому Богданов делает попытку завершения работы, произведенной Махом и Авенариусом, путем построения эмпириомонистического мировоззрения.
1 Напр., в предисловии к «Кр. наш. кр.», а также в примечаниях к своему переводу сочинения Энгельса о Фейербахе.
2 «Кр. наш. кр.», предисловие, стр. 3.
3 Богданов, указ, соч., стр. и и т. д.
112
обладающее высокою биологическою ценностью в качестве одного из могучих средств приспособления человека к условиям окружающей среды и вполне согласное с основными предпосылками марксизма1.
Переживаемая нами эпоха больше всего напоминает из прошлого нашей родины шестидесятые годы. Тогда передовые вожди русского общества выступали под знаменем материализма. В настоящее время материализм потерял свой кредит: его место занял эмпириокритицизм. Изучать это направление — значит изучать один из главных элементов в содержании нашей духовной жизни.
На основании всего сказанного мы считаем задачею наших дальнейших изучений, во-первых, уяснение общефилософских воззрений школы Маха и Авенариуса и в особенности — ее (теоретического, конечно) отношения к нравственности и религии; во-вторых, посильную критику этих воззрений с принципиальной их стороны, в связи с чем необходимо должно получить свое дальнейшее развитие и обоснование то мировоззрение, основные черты которого намечены в настоящем очерке. А так как уяснение и критика того или другого философского направления значительно облегчаются рассмотрением его в исторической перспективе, то предварительно изложения воззрений интересующего нас направления, необходимо определить его историческое положение; тогда нам легче будет распознать в изучаемом направлении новое, оригинальное среди старого, знакомого и определить его удельный вес, с чем вместе облегчится задача его критического обследования: раз выяснится, что в нем ново и что старо, можно, не тратя энергии на рассмотрение старого, сосредоточить его на новом, если только это новое не есть повторение старого в измененной форме, — в последнем случае история прошлого дает опорные пункты для критики настоящего: «история и критика часто одно и то же» (Ланге). Мало того: история поможет нам в более точной постановке проблем, касающихся
1 См. указанную выше статью г. Бермана: этот автор, заметим, кстати, возвращает Бельтову упрек в эклектизме, обращенный последним к тем из своих единомышленников, которые пытаются объединить Маркса с Махом.
113
интересующей нас области, и облегчит путь к их разрешению, поскольку вскроет наметившиеся в историческом движении философской мысли возможности в разрешении той или другой проблемы.
Следующий очерк будет посвящен выполнению этой исторической задачи.
114
II. От Бэкона до Маха
К уяснению исторического положения чистого эмпиризма новейшего времени.
Как уже было отмечено в предыдущем очерке, в истории новой философии было два момента, когда эмпиризм выступал в наиболее последовательной форме, не останавливаясь перед теми релятивистическими выводами, к каким приводило последовательное проведение эмпиристической точки зрения: первый раз это было в Англии в половине XVIII в. (философия Юма), во второй раз на континенте — в конце XIX в. (философия Маха и Авенариуса). Как ни различны внешние условия, в каких возникли и развились эти учения, во внутренней логике их появления нельзя не усмотреть значительного сходства: в том и другом случае чистый, или последовательный, эмпиризм появляется, как результат тенденции к устранению той непоследовательности, половинчатости, какою характеризуются непосредственно предшествовавшие ему учения, в первом случае — Локка, во втором — разного рода агностиков второй половины XIX века.
Еще Фр. Бэкон (1561-1626) разъяснял, что ни односторонние эмпирики, которые напоминают муравьев, ползающих по земле и сваливающих в одну кучу собранный ими материал, ни рационалисты, которые похожи на пауков, ткущих паутину своих мыслей из себя самих, не могут достигнуть истинного знания; истинный философ должен, подобно пчел, перерабатывать собранный им материал силами собственного разума, - между опытом и разумом в процессе познания должна установиться, вместо прежнего разъединения, крепкая связь, «законное супружество». Ту же самую мысль встречаем впоследствии у Локка (1632-1704). «Не подлежит ни малейшему сомнению, говорит Локк, что как идеи без разума, или рассудка, так и разум, или рассудок, без идей не дают нам
115
знания»1; простые идеи (элементы познания) доставляются нам опытом (ощущением, или способностью внешнего восприятия, и рефлексией, или способностью восприятия актов собственного духа), но доставляются в сыром виде, - обработка этого материала в образ стройного и гармонического мира принадлежит разуму с врожденными ему способностями сравнения, сочетания и отвлечения. Таким образом знание, по Локку, есть результат умственной переработки материала, данного в опыте. Однако, эта точка зрения строго Локком не выдерживается: на счет разума относятся у него не только формальные элементы познавательного процесса. Возьмем данный Локком анализ идей о субстанциях. Как ни разнообразны идеи субстанций (отдельных предметов, существующих самостоятельно), - рассуждает Локк, — в их содержании есть элемент, общий им всем: это — неопределенная идея чего-то такого, что служит в предмете предположением и основою всех его качеств (модусов), — идея субстанции вообще, составляющая главный и неотъемлемый элемент в содержании идеи о какой-либо частной субстанции (отдельном предмете). Идея субстанции вообще есть такой элемент нашего познания, который нельзя получить ни через ощущение, ни через рефлексию. В таком случае, где же источник этой неопределенной идеи? Она есть продукт предположения, делаемого нашим разумом по поводу опыта: душа, замечая, что известное число простых идей встречается всегда вместе, и не будучи в силах вообразить, как эти идеи могут существовать сами по себе, привыкает предполагать некоторый субстрат, в котором они существуют: это и есть субстанция. Где же, теперь, основание самой привычки делать такое предположение? В природе нашего ума: привычка эта основывается на том, что мы не понимаем, как простые идеи (модусы или качества) могут существовать сами по себе, а потому (значит, в силу организации нашего разума) предполагаем, что они существуют
1 Цитаты - в книге проф. В. С. Серебреникова «Учение Локка о прирожд. началах знания и деятельности» (Спб. 1892), которою пользуемся и в дальнейшем изложении учения Локка.
116
и находят себе поддержку в некотором общем субъекте, каковую поддержку мы и обозначаем именем субстанции. Не трудно подметить противоречие (если не в мышлении, то в способе выражения) Локка: он указывает источник идеи субстанции и в привычке, и в организации нашего разума, но если источник идеи - в самой природе разума, тогда при чем же тут привычка? Как бы то ни было, но в силу требований нашего разума мы должны предполагать, что в основе явлений, данных в нашем опыте, лежит субстанция, но о природе этой субстанции мы не можем — за недостатком данных составить ясного представления. «Слово субстанция, - говорит Локк, обозначает лишь неопределенное предположение чего-то такого, что остается для нас неизвестным, т. е. о чем мы не имеем никакой особой, раздельной, положительной идеи... Если бы спросили кого-нибудь: какому предмету принадлежит цвет или тяжесть, то он мог бы только сказать: плотным, протяженным частям; но если бы предложили ему вопрос, чему принадлежит плотность и протяжение, то он оказался бы в таком же положении, в каком находился индийский философ. Последний говорил: мир поддерживается великим слоном; когда его спросили: чем поддерживается слон, он ответил: великою черепахой; а когда ему предложили вопрос, что служит поддержкой широкой черепахи, он отвечал: нечто, чего он не знает»1. И так, между знанием и бытием находится, по Локку, непереходимая пропасть: в силу требований разума мы вынуждаемся предполагать, что за пределами нашего сознания существуют субстанции, которые, воздействуя на наше сознание, дают нам идеи различных свойств, не выражающих подлинной природы субстанций: мы знаем, что субстанции существуют, но что они представляют по своей природе - этого мы не знаем и знать не можем, — точка зрения, которая с некоторыми видоизменениями повторяется у агностиков XIX века.
Позиция, занятая Локком, не отличается определенностью: выходит, что подлинное бытие мы и знаем, и не знаем, а потому
1 Цит. у проф. Серебреникова.
117
естественно, что мыслители, непосредственно примыкающие к Локку, стараются последовательнее провести его точку зрения и таким путем освободить его учение от заключающихся в нем противоречий. Так, Беркли (1685-1753), не отвергая мысли Локка о том, что за пределами нашего сознания существует независимое от него бытие, которое и служит причиною появляющихся в нашем сознании идей внешних предметов, относится отрицательно к агностическому элементу в гносеологии Локка: «Я желал бы, -говорит Беркли, — чтобы мне было объяснено, что следует понимать под приписываемым материи несением протяжения» (Беркли имеет в виду взгляд Локка, по которому материя есть субстрат, носящий протяжение, как свой модус или акциденцию). «Если вы мне скажете: я не имею идеи о материи и поэтому не могу этого объяснить, то я отвечу: если у вас нет положительной идеи о материи, то, коль скоро вы имеете о ней какое-либо мнение, у вас должна быть по крайней мере относительная идея о материи»1. И так, или совсем не говорите о материи, коль скоро она, по вашему, недоступна познанию, или — раз вы нашли возможным говорить об ней — выскажите по крайней мере свой взгляд на то, «в каком отношении она находится к своим акциденциям»1 2 3. Сам Беркли основою познания считает познание непосредственное: «некоторые истины, - говорит он, - столь близки и очевидны для ума, что стоит лишь открыть глаза, чтобы их увидеть»з. Вот эти-то истины и должны быть положены в основу познания. И прежде всего, - стоит подвергнуть анализу самый
1 Джордж Беркли. Трактат о началах человеч. знания. Пер. Е. Ф. Дебольской, под ред. Н. Г. Дебольского. Изд. О. П. Поповой. Спб. 1905- Стр. 71; ср. с этим след, рассуждение на стр. 117-118: «если то, что вы разумеете под словом материя, есть лишь неизвестный носитель неизвестных качеств, то безразлично, существует ли подобная вещь или нет, так как она никоим образом не касается нас; и я не вижу, какую пользу может принести спор о том, о чем нам неизвестно, ни что, ни как». Аргументация Беркли повторяется — конечно, с некоторыми изменениями — впоследствии у критиков кантовского учения о вещи в себе, равно как спенсеровского агностицизма.
2 Там же, стр. 71.
3 Там же, стр. 64.
118
процесс познания, чтобы стало для нас очевидным, что в состав этого процесса входят, с одной стороны, «бесконечное разнообразие -предметов знания», с другой — «нечто познающее или воспринимающее их и производящее различные действия, как-то: хотения, воображения, воспоминания»1. Предметы знания (напр., цвет, вкус, запах, камень, дерево, книга) я называю идеями1 2 3 4 5, которые в свою очередь подразделяются на две группы: «идеи, запечатленные в ощущениях, называются действительными вещами; вызываемые же в воображении, поскольку он не столь правильны, живы и постоянны», как первые, называются идеями в тесном смысле этого слова, или «образами вещей, копии которых они собою представляют»з; познающее же деятельное существо я называю умом, духом, душою или мною самим*. Дух есть простое, нераздельное, деятельное существо; как воспринимающее идеи, оно именуется умом: как производящее их или иным способом действующее над ними - волею5. При этом нужно строго помнить, что дух не есть одна из идей: дух не имеет с идеями ровно ничего общего, кроме разве названия; именно, и дух, и идеи подходят под одно родовое название вещи. По существу же дух представляет нечто совершенно иное сравнительно с идеями: дух — деятельная субстанция, идеи — пассивные состояния; дух существует сам по себе, идеи существуют лишь в духе, который их воспринимает6. «Каждый может непосредственно убедиться в этом, если обратит внимание на то, что подразумевается под термином существует в его применении к ощущаемым вещам. Я говорю: стол, на котором я пишу, существует, это значит, что я вижу и осязаю его; если бы я находился вне моего кабинета, то также бы сказал, что стол существует, разумея тем самым, что, находясь в моем кабинете, я мог бы воспринять его, или
1 Там же, стр. 61.
2 Там же, стр. 6о-61.
3 Там же, стр. 83.
4 Там же, стр. 61.
5 Там же, стр. 79.
6 Там же, стр. 126-127.
119
же, что какой-либо другой дух действительно воспринимает его. - Это все, что я могу разуметь под такими или подобными выражениями. Ибо то, что говорится о безусловном существовании немыслящих вещей без какого-либо отношения к их воспринимаемости, для меня совершенно непонятно. Их esse есть их percipi»1.
Как дух, так и идеи познаются непосредственно (интуитивно). Кроме непосредственного (интуитивного) знания, существует знание посредственное (демонстративное), которое есть результат умозаключающей деятельности разума. Так как наш разум исходит в своих заключениях от данных непосредственного сознания, то и в своих выводах он может приходить лишь к тому, что по существу не отличается от этих данных, т. е. к заключению о существовании духов или идей, не данных в непосредственном опыте. Так оно и есть на самом деле: путем заключения от действий к причине мы приходим к мысли о существовании, во-первых, других людей, во-вторых, Абсолютного Духа, причиняющего нам ощущения, которые мы не можем считать продуктами собственной воли1 2. Но никоим образом мы не можем прийти путем умозаключения к тому, что не имеет никакой аналогии в нашем опыте: такова, напр., материя.
Итак, существуют только духи и имманентные им идеи, -такова основная мысль философии Беркли. Если Локк наряду с мыслящими субстанциями признавал и немыслящие, то в системе Беркли для последних нет места. Юм (1711-1776) пошел дальше. Дело в том, что хотя Беркли и признал существование, помимо идей, еще духов, причем бытие и природу собственного духа человек познает, по Беркли, непосредственно, а о бытии и природе других духов, в том числе и Абсолютного, заключает по аналогии с собственным духом, побуждаемый к тому требованием закона причинности, однако, Беркли, во-первых, не выяснил, каким образом человек познает собственный дух, равно как и то, в каком смысле и на каком основании прилагается к нему понятие субстанции, а во-вторых, не
1 Там же, стр. 61-62.
2 См. проф. А. Смирнова «Философия Беркли» (Варшава, 1873), стр. 68-70.
120
исследовал столь существенного для всей его системы понятия причинности. На эти два пункта и было направлено внимание Юма.
В полном согласии с Беркли Юм признает, что в составе нашего познания следует различать знание демонстративное, полученное путем вывода, от знания интуитивного, основанного на непосредственном усмотрении отношений между элементами познания, причем путем вывода мы никоим образом не можем прийти к утверждению того, что не имело бы для себя аналогии в содержании непосредственного знания. Отсюда следует, что точное определение содержания непосредственного знания имеет для гносеологии Юма, — точно так же, как и Беркли, - первостепенное значение. Однако, в этом основоположительном пункте упомянутые философы принципиально расходятся друг с другом: в то время, как Беркли предметом непосредственного знания считает, как мы видели, во-первых, духовные субстанции, во-вторых, идеи, Юм, путем анализа идеи субстанции, старается показать, что «у нас нет иной идеи о субстанции, кроме идеи о совокупности отдельных качеств»1, в соответствии с чем наше я, которое было для Беркли духовной субстанцией, представляет собою, по Юму, не что иное, как «связку или совокупность (bundle or collection) различных перцепций, следующих друг за другом с непостижимой быстротой и находящихся в постоянном течении»1 2. Таким образом, о данности в непосредственном опыте каких бы то ни было субстанций не может быть и речи, — непосредственное содержание нашего сознания ограничивается перцепциями, которые подразделяются на впечатления (impressions) — так Юм называет «все наши ощущения, страсти и эмоции при первом их появлении в душе» - и идеи (ideas)
1 «Давид Юм. Трактат о человеч. природе. Кн. 1. Об уме» (of the understanding). «Пер. с английск. Софии Церетели. Юрьев, 1906. Страница 20. Раньше, при переводе сочинения Юма «Ап inquiry concerning human understanding», г. Церетели юмовский термин understanding передавала по-русски — надо заметить, менее удачно — словом разумение.
2 Там же, стр. 233, а также прим, к этой странице на стр. 269.
121
— под идеями Юм разумеет «слабые образы этих впечатлений»1, причем первые обуславливают происхождение последних: «все наши простые идеи при первом своем появлении происходят от простых впечатлений, которые им соответствуют и в точности ими воспроизводятся»1 2 3 4 5, так что идеи суть ослабленные копии впечатлений, отличающиеся от них лишь меньшею степенью силы и живостиз. Что же касается того, откуда возникают в нашей душе самые впечатления, то на это можно дать только один ответ: «от неизвестных причин (from unknown causes) »< Как видим, момент агностический, который впоследствии нашел для себя столь яркое выражение у Спенсера, имеет место и в философии Юма.
«Если, - по предыдущему, — дух наш никогда ничего не сознает, кроме перцепций, и если все идеи происходят от чего-нибудь предшествовавшего им в духе, то отсюда следует, что мы не можем представить себе, или образовать идею чего-нибудь специфически отличного от идей и впечатлений»5. Как бы ни была сложна сеть наших умозаключений, она не может нас вывести за пределы перцепций. В самом деле, если мы и можем заключать, то лишь от существования вещи, данной в нашем сознании, к существованию другой, подобно ей, а так как перцепции — единственные сущности, в реальности которых мы уверены на основании их данности в нашем сознании, то и заключать мы можем лишь от существования одной перцепции, непосредственно данной в сознании в данный момент, к существованию другой, непосредственно в нем не данной. Таким образом, заключения Локка от существования модусов к существованию субстанций, как их носителей, дают в выводе больше,
1 Там же, стр. 7. Ср, Давид Юм. Исследование человеч. разумения (An Inquiry concerning human understanding). Пер. с англ. С. И. Церетели. Спб. 1902. Стр. 16-17.
2 Трактат, стр. 9-10.
3 Исследов., стр. 18.
4 Трактат, стр. 12 = The philosophical works of D. Hume, ed. Green and Grose, vol. I, Lond. 1886, p. 317. Ср. там же, p. 308-309 (русск. пер. «Трактата», стр. 4 - 5), р. 321 ( русск. пер., стр. 17), а также «Исследование», русск. пер., стр. 31-32,46-47, 6о, 8о и др.
5 Трактат, русск. пер., стр. 67.
122
чем заключается в посылках, тогда как учение Беркли о существовании мыслящих субстанций, в том числе Бесконечного Духа, погрешает в исходном пункте, потому что он исходит из утверждения непосредственной данности в нашем сознании не только идей, но и духовной субстанции, которой принадлежат эти идеи. На самом деле никаких субстанций, ни мыслящих, ни не мыслящих, за пределами перцепций, данных в сознании, не существует. Конечно, мы не можем отделаться от уверенности (belief) в существовании внешнего мира, но эта уверенность, находящая свое психологическое объяснение в особенной силе и живости впечатлений, составляющих т. наз. внешний мир, не может быть оправдана логически. Что же касается тех субстанций, с которыми имеет дело метафизика, то это — пустые слова, - не более, а потому самое лучшее употребление, какое только можно сделать из книги теологического или строгометафизического содержания, это — бросить их в огонь, ибо «в них не может быть ничего, кроме софистики и заблуждений»1. Только то знание, которое сводится к установлению или - лучше - к констатированию отношений между перцепциями, может претендовать на достоверность, которая, впрочем, в различных случаях не одинакова. Сузив пределы познания до констатирования отношений между перцепциями, Юм затем и в этих пределах проводит резкую грань между суждениями, не одинаковыми по степени своей достоверности, - за количественным ограничением в области познания следует ограничение качественное. Только математика может претендовать на аподиктическую достоверность своих суждений, потому что, устанавливая эти суждения, мы не выходим за пределы перцепций, отношения между которыми устанавливаем: чтобы убедиться в истинности суждения, что 3 х 5 = 30/2, достаточно «одной только деятельности мышления, без отношения к тому, что существует где бы то ни было во вселенной»1 2. Другими словами, аподиктическая степень достоверности
1 Исследование, стр. 193.
2 Там же, стр. 25.
123
обеспечивается за математическими суждениями их аналитическим характером. Но математические суждения составляют лишь небольшую часть в составе нашего познания: в силу практических условий мы в своих суждениях не можем не переступать за пределы перцепций, данных в непосредственном опыте. «Так как способности разума даны человеку не только для умозрения, но и для жизненного поведения, — писал еще Локк в своем «Опыте о человеческом разуме», — то человек был бы в большом затруднении, если бы он мог направляться только достоверностью истинного познания. - Кто не станет есть, пока не получит демонстрации о питательности своего стола, кто не двинется с места, пока не приобретет непогрешимой уверенности в успехе предпринимаемого дела, тому остается разве только сидеть и погибать»1. Но так как человек не склонен погибать добровольно без всякой цели, то он волей-неволей строит целый ряд суждений, переступающих границы наличного опыта. Единственное средство для этого, как мы видели, заключение от существования одной вещи, данной в опыте, к существованию другой, в опыте не данной. Так как такого рода заключения возможны, по Юму, исключительно на основании отношения между причиной и действием1 2, то степень их достоверности всецело зависит от степени достоверности наших суждений о причинном отношении между вещами, что в свою очередь определяется природою самого причинного отношения. Результаты произведенного Юмом анализа этого отношения достаточно известны. Выражающееся в понятии причинности отношение между вещами принципиально не отличается от отношения простой последовательности, и если - тем не менее - фактически мы отличаем первое от второго, то исключительно потому, что вследствие неоднократного повторения в нашем опыте последовательности между двумя явлениями у нас образуется привычка при появлении одного из этих явлений ожидать
1 Джон Локк. Опыт о человеч. разуме. Пер. А. И. Савина. M. 1898. Стр. 661 (кн. IV, гл. и)-
2 Юм. Трактат, стр. 73, 87; Исследование, стр. 26-27, 33.
124
другого, которое его раньше сопровождало в нашем опыте, причем, опять-таки в силу привычки, ожидание сопровождается верой (belief) в существование необходимой связи между известными явлениями: «если мы заметили, что во многих случаях два рода объектов, огонь и тепло, снег и холод, всегда были связаны друг с другом, и если огонь или снег снова воспринимается чувствами, ум по привычке ожидает тепла или холода и верит, что то или другое из этих качеств действительно существует и проявится, если мы приблизимся к объекту»1. Вот эта-то вера, сопровождающая восприятие известного явления, и заставляет нас выделять отношение причинности, или необходимой последовательности, из отношений простой последовательности. Так как, теперь, наша вера в существование необходимой связи между явлениями основывается в конце концов на привычке, то суждениям о причинных отношениях между явлениями мы можем придать лишь известную степень вероятности, достаточную для того, чтобы на них опираться в практической деятельности без риска потерпеть серьезный ущерб, но слишком слабую для того, чтобы устранить возможность теоретического сомнения в их достоверности. Между тем на такого рода суждения опираются не только наши практически-житейские соображения, но и научные выводы, переступающие границы непосредственно данного в опыте, каковы, напр., выводы естествознания. Очевидно, этим выводам, в противоположность математическим суждениям, можно придать лишь проблематическую достоверность2. Выходит, таким образом, что если в составе нашего знания и есть суждения вполне достоверные, то они не расширяют нашего знания, потому что имеют аналитический характер; что же касается суждений, расширяющих наше знание, то за ними может быть признана лишь низшая степень достоверности. Такой скептический вывод, к какому пришел Юм при качественной оценке доступного нам знания: мало того, что с его точки зрения, верной принципу чистого опыта, не
1 Исследование, стр. 50.
2 Там же, стр. 191-192.
125
может быть речи о каких бы то ни было субстанциях, существующих за пределами перцепций, - внутри этих пределов область вполне достоверного знания оказывается слишком ограниченной, а если — вслед за Кантом - усомниться в аналитическом характере математических суждений, то границы, замыкающие узкую область вполне достоверного знания, сдвинутся до того, что для такого знания совсем не останется места. Мало этого. Если бы Юм остался верным до конца своему исходному пункту, он должен бы отвергнуть строгонаучный характер не только за выводами истории или естествознания, но даже и за простыми описаниями, как они приняты в науке. Дело в том, что «каждое описание заключает в себе бесчисленное количество элементов, полученных не путем прямого восприятия, а выведенных из каких-либо общих положений; если все общие положения суть лишь верования, то и такие выводные элементы описания тоже суть верования. Побывав на каком-нибудь параде, мы говорим, что перед нами прошло несколько тысяч человек солдат; однако, непосредственно мы восприняли лишь несколько тысяч зрительных пятен, которые во множестве других случаев были связаны с осязательными ощущениями человеческой кожи, звуковыми ощущениями человеческой речи и т. п., и т. п. Если под словом «человек» в описании парада мы разумеем не зрительные пятна, а всю указанную выше совокупность ощущений, то это значит, что мы уже вышли за пределы непосредственных восприятий и сделали ряд выводов, исходящих из общих положений — верований. Итак, даже и описания, допускаемые Юмом в философски-достоверной науке, не таковы, чтобы на них можно было построить географию или историю. Таким образом получится саморазрушительный скептицизм, считающий верованием все, кроме моментального единичного восприятия»1, и если Юм не сделал такого вывода, как не делают его и современные представители чистого эмпиризма, то это, надо полагать, по инстинкту самосохранения: «очевидно, такой скептицизм должен относиться с
Н. Лосский. Обоснование интуитивизма. Спб. 1906. Стр. 19.
126
сомнением и к самому себе, т. е. к своей теории знания, имеющей притязание состоять из общих положений, и в этом смысле он разрушает сам себя»1, а так как саморазрушение, как и самоубийство, могут быть лишь выражением крайнего отчаяния, то естественно, что ни Юм, ни новейшие эмпиристы, как не утратившие веры в жизнь, не доводят своего скептицизма до конца: таково биологическое объяснение их сдержанности. И тем не менее мы должны отнести Юма к числу наиболее последовательных эмпиристов, каких только знает история философии: он первый после Протагора сделал чистый опыт принципом своей философии, и не побоялся сделать из него тех выводов, от которых воздержались его непосредственные предшественники. Если у Локка «рационалистическая вершина противоречит сенсуалистическому фундаменту»1 2 3, то в отношении к Юму может быть речь лишь о недоговоренности, недовершенности, а никак не о внутренних противоречиях системы^. От учения Локка о
1 Там же, стр. 40-41.
2 Фалькенберг. История новой философии. Пер. под ред. проф. А. И. Введенского. Спб. 1891, стр. 153.
3 С этой стороны хорошо характеризует Юма Фонсегрив. «Юм, - говорит он, — был исследователем Локка. Но если Локк перед многими проблемами останавливался в недоумении и нерешительности и в решении их соблюдал большею частью осторожность и сдержанность, то Юм ни перед чем не останавливается, ко всякому вопросу приступает смело, ставит его прямо, как говорится ребром, решает его быстро и радикально и решение вкладывает в форму ясную, определительную, рельефную. -Он совсем не боится своих смелых мыслей, положений и выводов; вместо того, чтобы смягчать их, он как будто находит удовольствие сообщать им как можно большую резкость, доходящую иногда до парадоксальности, нисколько не опасаясь, напротив, как будто радуясь, что это может «задеть и скандализировать благочестивых»». См. (Фонсегрив). Опыт о свободе воли. (Перев. с франц.) Г. В. Малеванского. Киев. 1899, стр. 367-368. Мы бы со своей стороны прибавили к этой характеристике две оговорки: во-первых, в изложении Юма не заметно вызывающего тона, бьющего на скандал, хотя он и выражает порою суждения по существу резкие, в особенности по вопросу о практическом значении религии (об этом — ниже), а во-вторых: в глубине души Юм, действительно, не боялся делать самые смелые и решительные выводы из своих предпосылок, — он не страдал «трусостью мышления» (о последней — в приложении к
127
потустороннем для нашего непосредственного сознания мире субстанций, не то познаваемых, не то непознаваемых1, у Юма не осталось и следа. Взамен непознаваемых субстанций, фигурирующих у Локка, мы находим у Юма не подлежащие дальнейшему объяснению последние принципы знания и жизни, которые, будучи крайними пределами человеческого разума, не могут иметь для себя иного обоснования, кроме того, что «мы знаем их реальность из опыта»* 1 2 3; таков, напр., принцип непосредственной данности в нашем опыте перцепций: мы можем лишь констатировать их наличность, как последний факт опыта, но так или иначе объяснить их первоначальное появление в нашем сознании мы не в состоянии: здесь — граница познания. «Ведь хотя мы и должны стремиться к тому, чтобы сделать свои принципы по возможности всеобщими, путем доведения своих опытов до крайних пределов и путем объяснения всех действий из самых простых и немногочисленных причин, однако все же несомненно, что мы не можем преступить границ опыта, и всякая гипотеза, претендующая на открытие последних, первичных качеств человеческой природы, сразу же должна быть отвергнута, как тщеславная и сумасбродная »з. Только в этом смысле и можно говорить об агностицизме Юма, который, значит, существенным образом отличается как от предшествующего ему агностицизма Локка, так и от последующего агностицизма Спенсера: в то время, как Локк и Спенсер признают за пределами нашего сознания существование непознаваемого бытия, с точки зрения Юма, наша мысль, безусловно, не может двигаться дальше последних принципов знания и жизни, данных в опыте, а потому о существовании чего бы то ни было за пределами опыта и речи быть не может. Если агностицизм Локка и Спенсера состоит в признании
книге И. И. Лапшина О «законах мышления и формах познания»), но в выражении своих мыслей и он соблюдал осторожность, которая в значительной степени объясняется холодным приемом, оказанным его «Трактату о человеческой природе».
1 См. выше, стр. 94.
2 Трактат, стр. 5; ср. стр. 12 (цитированную раньше).
3 Там же, стр. 4.
128
за пределами нашего сознания непознаваемого бытия, то агностицизм Юма сводится к признанию иррациональных элементов не за пределами опыта, а как раз в этих пределах. Как и всякий эмпирист, верный своему принципу, Юм не мог признать познаваемого бытия насквозь рациональным: ему был безусловно чужд панлогизм последовательных рационалистов вроде Гегеля или даже Декарта.
Для нас, ввиду нашей специальной задачи, особенно важно выяснить отношение юмовского эмпиризма к нравственности и религии, - тем более, что сам Юм отводит этому вопросу весьма видное место в своей философии: для него, вообще чуткого к показаниям психологического и исторического опыта, нравственность и религия являются настолько значительными фактами человеческой жизни, что он посвящает их обследованию ряд специальных сочинений.
Остановимся прежде всего на главных пунктах юмовской этики1. Здесь Юм, во-первых, устанавливает, на основании показаний общечеловеческого опыта, фактический состав нравственности, а во-вторых, выясняет его психологический генезис. В генетическом объяснении фактического состава нравственности мы, по Юму, не можем не выйти за пределы перцепций, данных в непосредственном опыте, а потому и не можем рассчитывать на установление в этой области суждений всеобщего и необходимого значения, как это имеет место в математике, но зато имеем все основания думать, что наши
1 Свои эстетические воззрения Юм излагает главным образом в двух сочинениях — в III книге «Трактата о человеч. природе», вышедшей в 1740 г., и в «Исследовании о принципах морали» (An inquiry concerning the principles of morals, вышедшем в 1751 г. У нас под руками первое сочинение — в цитированном изд. Green’a и Grose’a (vol. II), а второе — в эдинбургском издании опытов и трактатов Юма (Essays and treatises by D. Hume, vol. II, Edinburgh, 1801). При изложении этики Юма, кроме курсов по истории философии, пользуемся «Историей этики в нов. ф-фии» проф. Иодля (о Юме - в I томе), а также его монографией об Юме (Д. Юм, его жизнь и философия. Перевод с немец. А. А. Мейера, — не полный: отдел о взглядах Юма на религию отсутствует. М. 1901).
129
обобщения не уступят в своем научном значении обобщениям физики. В самом деле, если хотения и действования человека, с которыми имеет дело этика, следуют за предшествующими им состояниями с такою же правильностью, как и физические явления за своими прецедентами, то, очевидно, нет оснований сомневаться, что этика может установить законы хотений и действований точно так же, как физика устанавливает законы движения и света1. Конечно, при таком взгляде на характер психической жизни о свободе воли не может быть и речи, и мы действительно видим, что вопрос о свободе воли решается Юмом отрицательно1 2 з 4 5. Иначе и быть не могло в системе, которая всю душевную жизнь сводит к механическому соединению и разделению ее элементов (перцепций).
Фактический состав нравственности сводится, по Юму, к тому, что мы подвергаем человеческие характеры и поступки не только свои, но и чужие — своеобразной оценкез, которая не совпадает с оценкою их с точки зрения индивидуальной пользы оценивающего. Так, мы одобряем намерения и действия, resp. свойства и склонности людей давно умерших или живущих далеко от нас*, даже вовсе не существовавших (при созерцании драмы на театральной сцене)з, наконец, находящихся с нами во враждебных отношениях6, - значит, такие свойства и действия, которые по меньшей мере лично для нас бесполезны, иногда же, как, напр., в последнем случае, могут быть и вредны. При этом своим суждениям о нравственной ценности тех или
1 Исслед. о человеч. разумении, русск. пер., стр. 92 - 96, 99,1O1; Трактат о челов. прир., введение; ср. Ремке: Очерки истории ф-фии (очерк дельный очерк!), пер. с нем. Н. Лосского под ред.Я. Колубовского, Спб. 1898, стр. 201.
2 См. в «Исслед. о человеч. раз.» отд. VIII, а также «А treatise of human nature», book III, part III, sect. IV, особ. след, место: «свобода воли не имеет места по отношению к поступкам человека в такой же степени, как и по отношению к его свойствам» (Works, И. Р-364).
з См. An inquiry cone, the prine. of. morals, sect. I =Essays. II, p. 215.
4 Там же, sect. V, part I = p. 264.
5 Там же, sect. V, part II = p. 270.
6 См. страницу, указанную в примеч. з-м.
130
других свойств и склонностей, resp. намерений и действий, мы придаем обыкновенно не индивидуальное только, а общечеловеческое значение, полагая, что и другие люди на нашем месте должны высказывать те же самые суждения1. Так как факт нравственной оценки повторяется многократно, то у нас образуется привычка обсуждать свои намерения и действия с точки зрения их нравственной ценности (здесь — психологический корень того явления, которое известно под именем совести)1 2 3, а также желание обладать такими свойствами и совершать такие действия, которые сопровождаются в нашем сознании одобрительной оценкой (здесь корень т. наз. чувства долга)*.
Таков, по Юму, фактический состав нравственности. Расходясь в его определении с Гоббсом (1588-1679), Мандевилем (1670-1733) и Болингброком (1698-1751), которые выводили нравственнопрактическую деятельность всецело и исключительно из эгоистических влечений, Юм сходится в этом отношении с теми из своих английских предшественников, которые, отмечая в нравственной деятельности, как ее существенную черту, момент бескорыстности, ищут ее объяснения в условиях, противоположных эгоизму, будут ли они заключаться в природе объекта, с которою сообразуется человеческий разум, высказывая нравственные суждения {Кларк, 1675-729, и Волластон, 1659-1724), или же в анти-эгоистических склонностях и влечениях самого субъекта (Кумберленд, 1632-1718, Шефтсбери, 1671-1713, а также его последователи Гетчесон, 1694-1747, и Бетлер, 1692-1750). В частности, с Шефтсбери Юм сходится в том, что, подобно ему, в свою очередь следовавшему по стопам выдающихся представителей классической этики, считает подлежащими нравственной оценке не
1 В цитированном уже первом отделе «Исследования о принципах морали» речь идет о всеобщих (general) принципах морали; особенно же см. в этом сочинении sect. IX, part I = Р- 323-324.
2 Там же, р. 327; ср. Фалъкенб., стр. 207.
3 An inquiry с. the princ. of mor., sect. IX, part. II.
131
только проистекающие, по обычному взгляду, из свободных определений воли намерения и действия человека, но и те его свойства и склонности, которыми он обязан не своей воле, а своей природе. «Тут именно, — по замечанию проф. Иодля, — находится ядро юмовского понимания нравственного, - решающий пункт, который, будучи обусловлен всем предшествующим развитием английской этики, выступает у него с особенною резкостью»1, освобождая его этику от того характера императивности, каким запечатлена христианская этика, и мешая ему показать, чем же в конце концов отличается нравственное от просто природного. Юм игнорирует это различие, между тем оно настойчиво выдвигается тем самым опытом, данные которого имели для Юма решающее значение в определении фактического состава нравственности1 2.
За установкой факта должно следовать его объяснение. Отсюда вторая, после определения фактического состава нравственности, задача этики должна состоять в объяснении этого состава: чем объяснить, что одни свойства и действия мы одобряем, считая их хорошими, а другие — порицаем, признавая дурными? Объяснение и в данном случае, как в других, должно сводиться к отысканию тех элементов душевной жизни (перцепций), которые, комбинируясь, создают сложное явление, в нашем случае факт нравственной оценки.
В то время, как одни из предшествовавших Юму английских моралистов (Волластон и Кларк), считая факт нравственной оценки производным, искали его источника в деятельности разума, который определяет, соответствует ли известный поступок истинной природе вещей, и соответственно этому его расценивает, другие (уже упоминавшиеся Шефтсбери и его последователи) видели корень нравственности в присущем человеческой природе нравственном чувстве (moral sense), которое непосредственно определяет нравственную ценность свойства или поступка и таким путем ведет человека к добру, как гармонии между социальными и
1 Фр. Иодль. История этики в новой философии. Пер. с нем. Т. i. M. 1896. Стр. 178.
2 Ср. там же, стр. 178-179.
132
эгоистическими склонностями. Так - по Шефтсбери. По Бетлеру, нравственное чувство, или совесть, будучи врожденно человеку, а priori одобряет или порицает намерения и действия, не принимая во внимание их возможных последствий. Соглашаясь с моралистами последнего направления в том, что корень нравственности не в разуме, а в чувстве, Юм однако не находит возможным признать за этим чувством непроизводный характер, а потому и ставит своей задачей вывести его из самых элементарных чувствований, каковыми, по Юму, являются удовольствие (pleasure) и неудовольствие (pain), параллельные ощущениям праэлементы нравственно-практической деятельности (вместе с ощущениями и страстями они составляют ту группу перцепций, которая носит у Юма название впечатлений). Непосредственным действием этих праэлементов вызываются основные страсти, или душевные движения, — желание (desire), которое всегда и неизменно состоит в стремлении к удовольствию, и отвращение (aversion) от страдания, связанное с стремлением избежать последнего1. Здесь — корень нравственной оценки: то, что ведет к удовольствию, мы называем добродетелью, а то, что причиняет страдание, — пороком1 2 3. Однако, отсюда еще не видно, почему мы считаем добром не только или даже не столько то, что приятно нам лично, но и то, что приятно другим людям, короче: еще не объяснен альтруистический характер нравственной оценки. По Юму, он находит свое объяснение в присущей человеческой природе способности как бы переселяться, при помощи воображения, в душу другого человека и таким путем переживать его удовольствия и страдания, как свои собственные: имя этой способности — симпатия. Проявления симпатии мы находим уже у животныхз, но только у человека она достигает полноты своего
1A treatise, book I, part I, sect. II (= Works, vol. I, p. 317 = русск. пер., стр. 13), а также book II, part Ш, sect. IX = Works. II, p. 211-215.
2 ibid., b. II, p. I, s. II = Works, II, p. 246; An inquiry cone, the princ. of. morals, appendix I = Essays, II, p. 341.
3 An inquiry, append. II = Essays, П, p. 354.
133
развития. Объясняется это тем, что мышление и воображение, обусловливающие возможность ясного и живого представления чужих переживаний, действуют в человеке с большею силой, нежели в животных. Симпатия в такой степени характерна для человеческой природы, что ~ в этом пункте Юм согласен с Шефтсбери — редко найдется человек, в котором бы сумма доброжелательных стремлений не перевешивала суммы стремлений эгоистических: «симпатия — чрезвычайно могучий принцип в человеческой природе»1. Своим светлым взглядом на человеческую природу Юм становится в противоречие со взглядами, господствовавшими в течение средних веков, а также и с воззрениями целого ряда своих ближайших предшественников, начиная с Гоббса, который держался того взгляда, что homo homini lupus est (в естественном состоянии), и кончая Болингброком.
Будучи источником оценок, не всегда совпадающих с оценками, основанными на отношении свойства или поступка к нашему собственному удовольствию, resp. страданию, симпатия расширяет наш нравственный кругозор и тем самым устраняет односторонность оценок, основанных на эгоистических влечениях и чувствованиях: сравнивая различные оценки друг с другом, мы стараемся сгладить противоречия между ними, таким путем вырабатывается общая точка зрения, которой мы затем и руководствуемся при оценке свойств и поступков, своих или чужих, безразлично, вследствие чего эта оценка получает всеобщий характер. Как видим, в выработке общей точки зрения для нравственной оценки, а следовательно в сообщении ей всеобщего характера, принимает участие разум, которому именно принадлежит сравнение оценок, основанных на показаниях чувства. Равным образом, не побуждая непосредственно к совершению того или другого поступка, разум может, однако, воздействовать на чувство указанием последствий, к каким может привести данный поступок. Ему же, наконец, принадлежит изыскание средств для осуществления той или другой цели, подсказанной сердцем: не
1A treatise, book III, part III, sect. I = Works, II, p. 335-337.
134
будучи господином в области нравственно-практической деятельности, разум, однако, выполняет в этой области весьма важную служебную роль1.
Такова - в существенных чертах - этика Юма. Верный своему основному принципу, Юм в своей этике не предписывает правил нравственности, а лишь описывает самый факт нравственности, как он открывается в индивидуальном (психологическом) и коллективном (историческом) опыте: его этика не императивная, а описательная, или констатирующая. К ней в полной мере приложима та характеристика, которую один историк философии дает этике Спинозы: это не этика, а «физика нравов»1 2. Об абсолютно ценном, как и об абсолютно обязательном в такой этике не может быть речи, и ее нет в этике Юма. Если - тем не менее - она производит впечатление, то с формальной стороны поразительной ясностью и строгой последовательностью, — качествами, которые делают ее насквозь прозрачною для читателя, а с материальной — проникающею ее верою в человека, светлым взглядом на его природные задатки и предрасположения.
Мы уже видели, что этический абсолютизм служит главным, хотя и не единственным, опорным пунктом для религии, ибо религия есть общение с Богом, как живым совмещением абсолютных ценностей, а потому естественно ожидать, что раз в данной философской системе нет места для этического абсолютизма, то не найдется в ней места и для теоретического оправдания религии. Так именно и обстоит дело в нашем случае. Юм имел слишком много исторического чутья и исторических знаний для того, чтобы оставить религию вне своего научного внимания, но с другой стороны в своих философских основоположениях он не находил ничего, что бы заставляло его признать за религией абсолютное значение.
Исследование религии должно сосредоточиваться, по Юму, около двух главных вопросов - о возможности рационального
1 Об этом - An inquiry cone, the princ. of mor., sect. I и append. I.
2 Фалькенберг. Истор. нов. филос., стр. 125.
135
обоснования религии (its fundation in reason) и об условиях ее происхождения, заключающихся в человеческой природе (its origin in human nature), причем важнейшее значение признается за первым вопросом1, рассмотрению которого Юм посвятил свое главное сочинение по философии религии: «Диалоги об естественной религии» («Dialogues concerning natural religion», закончены — после 20 летней работы - в 1751 г., а изданы впервые после смерти Юма в 1779 г.). Вопрос о происхождении религии и главных моментах ее исторического развития рассматривается в другом сочинении «Естественная история религии» («The natural history of religion», издана впервые в 1757 г.). Применяя в данном случае терминологию Канта, мы можем сказать, что первое из названных сочинений представляет в отношении к религии quaestio juris, второе — quaestio facti. И там, и здесь Юм развивает свои взгляды в противоположность «воззрениям, так называемого, английского деизма, достигшим к тому времени значительного распространения в Англии и бывшим как бы показателем того свободомыслия (of freethinking)1 2 в области религии, которое с такой энергией было только что завоевано английским народом в политической и религиозной борьбе 17-го века. Как известно, английские деисты, исходя из рационалистического взгляда на разум, как критерий достоверности во всех областях знания, распространяли этот критерий и на религию: последняя может быть признана истинной постольку, поскольку ее содержание оправдывается разумом, что в свою очередь имеет место в отношении к вере в бытие Бога, как Творца, Судии и Мздовоздаятеля, и в обязательность для нас требований нравственного закона, которые в конечном счете суть выражение воли Божией. Таково содержание истинной религии, которая может быть названа и естественной, поскольку она имеет свой источник и находит свое оправдание в естественном человеческом разуме. Что касается
1 The natur. hist. of. relig., introduct. = Essays, II, p. 401.
2 «Discours of Freethinking» - так озаглавливается сочинение Колланса, одного из английских деистов, вышедшее в 1713 году.
136
положительных религий, то они могут быть признаны истинными лишь в той мере, в какой совпадают в своем содержании с основоположениями естественной религии, подобно тому, как, с точки зрения юристов, принадлежащих к школе естественного права, критерием состоятельности требований положительного права служит их согласие с нормами естественного права, коренящегося в разуме. В истории человечества было два момента, когда религия выступала в своем чистом виде: первый раз - на заре человечества, второй - на заре христианства, но в обоих случаях вслед за чистыми проявлениями религии следовало ее искажение, имеющее свой корень в своекорыстных расчетах законодателей и жрецов: религия Адама нашла свое извращение в язычестве, религия Христа - в церковном христианстве, опирающемся на слепую веру в авторитет. Как видим, в воззрениях английских деистов воскресла, — конечно, в своеобразном применении, — точка зрения древнегреческого софиста Крития.
Юм разошелся с деистайи по обоим пунктам — и во взгляде на возможность религии, оправдываемой разумом, и в учении о происхождении и сравнительной ценности положительных религий. В первом отношении, не отрицая прямо бытия Божия, Юм решительно высказывается против состоятельности доказательств этой истины, которым деисты придавали большое значение в смысле надежного средства к уяснению природы Божества, — будет ли то доказательство a priori (космологическое) или a posteriori (физикотелеологическое)1. Что касается первого, то оно в самой постановке задачи заключает явную нелепость (an evident absurdity): доказывать a priori можно только то, противоположное чему заключает внутреннее противоречие, но так как все, что мы представляем себе существующим, мы можем без внутреннего противоречия
1 Об онтологическом доказательстве у Юма даже не упоминается, и это, — говорит Пиньер, — «вполне естественно: такой гносеологии, как гносеология Юма, с утверждением, что из понятия Бога следует Его бытие, просто-напросто делать нечего» (Piinjer. Geschichte d. christl. Religionsphilosophie. IB., Braunschw., 1888, S. 274).
137
представлять и не существующим, то нет такого бытия (being), существование (existence) которого было бы доказуемо a priori1. Тезис этот в полной мере относится и к бытию Божию, а потому, если и можно говорить о доказательстве бытия Божия, то лишь о доказательстве a posteriori: таково доказательство физикотелеологическое. Однако, и оно не выдерживает критики. Прежде всего, самая аналогия между миром и произведением человеческого искусства, лежащая в основе этого доказательства, не состоятельна: если уж говорить об аналогиях, то мир скорее похож на животный или растительный организм, нежели на произведение человеческого искусства, вследствие чего его происхождение правдоподобнее можно объяснить посредством рождения или произрастания, нежели посредством преднамеренного творения1 2. Но если и признать вышеприведенную аналогию состоятельной, и тогда она слишком недостаточна для того, чтобы обосновать бесконечность, совершенство и единство Творца, ибо мир — мало того, что не бесконечен, но и не свободен от таких недостатков, которые никоим образом не могут быть примирены с идеей Бога, как существа всесовершенного. Достаточно вспомнить торжество грубой силы над добродетелью, столь часто нарушающее спокойное течение человеческой жизни, — чтобы убедиться в этомз... Нет, если уже искать принципа для объяснения происхождения мира, то для этого вполне достаточно допустить вечный и принадлежащий самой сущности мира (= имманентный ей) принцип порядка*.
Изложенные взгляды раскрываются Юмом, как известно, в форме беседы трех лиц - догматически (в философском смысле) настроенного рационалиста Клеанфа, который, относясь с доверием к силам человеческого разума, надеется при его помощи «не только подвергнуть критике мнимое откровение, но и приобрести
1 Dialogues, part IX = Works, II, р. 432.
2 Там же, sect. VII.
ЗТам же, sect. V, X, XI.
* Там же, sect. IV (= Works, II. р. 408).
138
естественное познание о бытии и сущности Бога»1, и двух скептиков -Демея, который, исходя из мысли об ограниченности человеческого познания, приходить к необходимости непосредственного божественного откровения, и Филона, который, разделяя с Демеем взгляд на ограниченность человеческого познания, не находит однако оснований к допущению сверхъестественного откровения1 2 з 4. При этом, если Клеанф стоит на точке зрения английского деизма того времени, а Демей является типическим представителем тех верующих скептиков, которые тянутся — главным образом во Франции — непрерывною цепью, начиная с Монтеня (1533*1592) и оканчивая Ньером Бэйлем (1647-1705)3, то Филон — в чем едва ли можно сомневаться^ — выражает взгляды самого автора «Диалогов». Беседа заканчивается примирительным аккордом. Филон, которому в беседе отдано последнее слово, находит, что спор между теистами, под
1 Piinjer, цит. соч., S. 273.
2 Ср. там же, а также «Введение» к немецкому переводу «Диалогов» в «Философск. Библиотеке» Кирхмана, составленное переводчиком проф. Паулъсеном («Philos. Bibliothek», LXXV В., Lpz. 1877, S. 12 - 17).
з В границах, отмеченных в тексте, т. е. между Монтенем и Бэйлем, следует поместить священника Пьера Шаррона (1541-603), врача Франциска Санхеца (1562-1632), воспитателя Людовика XIV Франциска де ля Мот ле Вайс (Vayer, 1586-1672, переводчика Секетовых «Пирроновских очерков» Сорбьера (1615-1670), каноника Фушэ (1644-1696), знаменитого Блеза Паскаля (1623-1662, см. о нем выше, в примеч. к странице 66-ой), наконец епископа Гюэ (Iluet, 1630-1721). Все эти лица, подобно Демею, ищут исхода из общего им всем сомнения относительно возможности постигнуть сущность вещей, в частности бытие и природу Божества, силами естественного человеческого разума — в вере, которая имеет свои доводы, неведомые и непонятные разуму. Отмеченным течением был затронут до некоторой степени основатель рационалистического направления в новой философии Декарт (1596-1650) и еще сильнее знаменитый проповедник Боссюэ (1627-1704). Продолжает оно жить и доселе, часто находя своих последователей среди людей глубоко и искренно религиозных.
4 См. по этому вопросу в книжке С. М. Роговина «Деизм и Давид Юм. Анализ «Диалогов о Естеств. Религии»» (М. 1908) главу V-ю. Одновременно с этой книжкой г. Рогозиным выпущен русский перевод «Диалогов» Юма, которым, к сожалению, мы не успели воспользоваться.
139
которыми, очевидно, разумеются, мыслители, стоящие на точке зрения Клеанфа, и атеистами, — в том смысле этого термина, в каком атеистом можно назвать самого Филона, спор этот сводится в конце концов к спору о словах. В самом деле, если теист признает, что первоначальная интеллигенция весьма отлична от человеческого разума, то атеист — в свою очередь — находит, что первоначальный принцип порядка имеет некоторую отдаленную аналогию с человеческим разумом, а если так, то о чем же им спорить?!...1 Как видим, соглашение достигается ценою сведения результатов естественного богословия к предположению отдаленного сходства между принципом мирового порядка и человеческим разумом1 2 з, в связи с чем из содержания религии выветривается все, за исключением чисто теоретического согласия с указанным предположением, опирающегося на веру в то, что возражения, направленные против него, пересиливаются аргументами, на которых оно утверждается, и осложненного некоторой долей а) изумления, естественно проистекающего из величия предмета, б) меланхолии, навеваемой его темнотою, наконец, в) смиренного сознания человеческим разумом, который не в силах дать удовлетворительное решение столь значительному вопросу, своей слабостиз. Этим исчерпывается, по Юму, содержание истинной религии: слишком сузив — даже сравнительно с деистами — ее теоретическое содержание, он тем охотнее подчеркнул, верный общему характеру своих воззрений на нравственность и религию, те эмоциональные элементы, которыми, по нему, характеризуется религиозное настроение.
Как бы то ни было, но те рациональные основы, на которых думал деизм обосновать свою религию разума, подкапываются Юмом в самом корне. Можно бы ожидать, что, раз эти основы признаны у Юма шаткими, он с тем большей энергией присоединится к мысли
1 Dialogues, sect. XII = Works, II, р. 459.
2 Там же, р. 467.
з Там же.
140
деистов об искусственном происхождении многих элементов в содержании религии, отнесши к области более или менее случайных человеческих измышлений не только язычество и церковное христианство, как это делали деисты, но и то, что они относили к основоположениям разумной религии. Однако историческое чутье удержало Юма от такого шага. Подобно тому, как в своей философии права он признает государство, вопреки высказанной Гоббсом теории общественного договора, не искусственным измышлением заинтересованных в нем людей, но естественным, органически выросшим продуктом известных условий, среди которых, наряду с природными склонностями человека и внешними условиями его жизни, отводится свое место и рефлексии1, так точно и в своей философии религии он ищет для объяснения ее происхождения, и притом в той ее форме, которая признавалась у деистов вторичной (имеем в виду язычество), соответствующих условий в природе человека, тем самым решительно отклоняя поверхностную теорию Крития, воскрешенную деистами. В то время как последние первичной формой религиозного сознания считали монотеизм, как единственно оправдываемый доводами разума, Юм, наоборот, утверждает, что «политеизм, или идолопоклонство, было, и необходимо должно было быть, первой и самой древней религией человечества»1 2: помимо «ясного свидетельства истории», за это говорят показания «современного опыта относительно принципов и мнений варварских народов», которые убеждают нас в том, что
1 Против сказанного в тексте не говорит то обстоятельство, что Юм относит справедливость, которая служит основою правовых норм и — следовательно -государственной жизни, к категории искусственных (а не естественных, как, напр., доброжелательность) свойств. В данном случае термин «искусственных» употреблен в том смысле, что в создании справедливости принимает участие размышление, учитывающее выгоды ограничения эгоистических склонностей, но в этом смысле, — по справедливому замечанию Иодля, — «все нравственное по сравнению с непосредственной естественностью аффектов должно быть обозначено, как искусственное». (Истор. этики, т. I, стр. 185).
2 The natural history of religion, sect. I = Essays, II, p. 402.
141
невежество и варварство всегда соединяются с политеизмом1, а также общие соображения о том, что «разум развивается постепенно, переходя от низшего к высшему», а не наоборот1 2 3 4 5. Если допустить противоположное - что люди с самого начала через размышление над устройством природы были приведены к вере в Высшее Существо, то невозможно будет объяснить, каким образом они потом потеряли эту веру: «первоначальное открытие и обоснование какой-либо доктрины гораздо труднее, нежели ее поддерживание и сохранение»з. Итак, первоначальной формой религиозного сознания является политеизм, а если так, то вопрос о происхождении религии сводится, очевидно, к вопросу о происхождении политеизма. Но политеизм не мог бы быть первоначальной формой религиозного сознания, если бы люди приходили к понятию невидимой, разумной силы через рассматривание произведений природы, ибо такое рассмотрение могло бы привести лишь «к представлению о едином существе, которое сообщает существование и порядок этой огромной машине и согласует все ее части сообразно с определенным планом или связной системой »4. Иное дело, если мы будем отправляться от наблюдения человеческой жизни: в ней столько разнообразия и непостоянства, что объяснять ее действием единой силы возможно лишь при допущении взаимно исключающих друг друга проявлений этой силы, а так как такое допущение было слишком странно даже и для первобытного ума, то не оставалось ничего больше, как признать целый ряд ограниченных и несовершенных богов, воздействующих на человеческую жизнь далеко не всегда в согласии друг с другом. Таким образом, первые религиозные идеи возникли не из рассматривания произведений природы, а из живого интереса к событиям человеческой жизни5, который, в свою очередь, имел свой
1 Там же, р. 403.
2 Там же, р. 404.
3 Там же, р. 405.
4 Там же, sect. II = р. 407.
5 Там же, р. 408.
142
изначальный источник, как это всегда у Юма, не в интеллектуальной, а в эмоциональной стороне человеческой природы, не в соображениях разума, а в движениях сердца. В данном случае таким движением (passion) не могла быть спекулятивная любознательность, или чистая любовь к истине — побуждение, слишком тонкое для того, чтобы иметь силу по отношению к варварам. Да если бы оно и могло оказать на них воздействие, то привело бы их к исследованиям относительно устройства природы, а не к тем грубым воззрениям, которые составляют содержание первобытного политеизма1. Нет, мы должны искать психологический источник последнего в менее тонких, но зато более обычных аффектах человеческой жизни, каковы, напр., опасение за свое благополучие, боязнь грядущего бедствия, страх смерти и т. д. Волнуемые такого рода аффектами, «люди с пугливым любопытством всматриваются в причины грядущих событий и исследуют разнообразные до противоположности случаи человеческой жизни. И на этой тревожной (disordered) сцене, глазами еще более тревожными (disordered) и изумленными, они подмечают первые смутные следы Божества»1 2 3.
Так учит Юм о происхождении религии, resp. политеизма. Если деисты в своих воззрениях по этому вопросу воскрешали учение софиста Крития, то учение Юма напоминает точку зрения Петрония, по взгляду которого «primus in orbe deos fecit timor»3.
1 Там же, p. 409.
2 Там же, p. 409-410. Ср. Dialogues, part XII = Works. П. P. 165-466, особ. след, слова: «terror is the primary principle of religion».
3 Statius. Thebais, III, 661. Cm. «Worterbuch» Eisler’a, 2 Aufl., II B. S. 256. О Стацие и Петроние - проф. В. И. Модестов «Лекции по ист. римск. литер.», Спб. 1888, стр. 689 -695, 652 - 66о. - Покойный проф. В. Д. Кудрявцев изречение «timor primos fecit deos», столь сходное с вышеприведенными словами Петрония, неоднократно вторит Лукрецию, воздерживаясь при этом от точной цитации (см., напр., соч. В. Д. Кудрявцева, т II, вып I, Серг. Пос, 1892, стр. 6, а также примеч. к стр. юо-ой); между тем в поэме Лукреция «De rerum natura» мы не встречаем ни самого изречения, ни прочных для него оснований. По Лукрецию, источником веры людей в богов служит,
143
Дальнейшие формы, в какие отливается представление о Божестве, зависят по Юму, от склонности человека представлять неведомые причины (unknown causes) наблюдаемых событий в видимых формах, преимущественно человекообразных1, а также от обоготворения народных героев и общественных деятелей2.
Мы не будем дальше следить за Юмом в развитии этих мыслей, это нас завело бы слишком далеко, а прямо перейдем к вопросу:
во-первых, тот факт, что люди как в бодрственном состоянии, так особенно во сне видят образы (facies) богов, а во-вторых, стремленье объяснить деятельностью вечных богов определенный порядок в строении мира и в смене времен (De гег. nat. V, 1167-1170,1181-1185), и если в последнем отношении люди безусловно ошибались, потому что на самом деле боги не принимали никакого участия в создании мира (V, 156 след.; 1192-1193), то самая вера в богов имеет объективные основания: боги действительно существуют в междумировых пространствах (II, 646-51; V, 146-154). Не отрицает Лукреций и религии, хотя понимает ее так, что от религии в нашем смысле ничего не остается: благочестие, по нему, не в том состоит, чтоб с покрытой главою К камням немым обращаться и всем алтарям поклоняться, Также не в том, чтобы, долу простершись и руки воздевши, Около жертвенных мест алтари обагрят изобильно Кровью животных, при этом плести за молитвой молитву.
(V, 1197-1201 по перев. Ив. Рачинского. Москва, MCMIV).
Такого рода религия действительно проистекает, по Лукрецию, из страха перед грозными и изменчивыми явлениями природы, который неизбежно возникает в том случае, если человеку неизвестны действительные причины созерцаемых явлений (V, 1203 - 1239). Проистекая из мутного источника, такая религия естественно порождает преступные и нечестивые деяния, вроде принесения Ифигении родным отцом в жертву богам, чтобы обеспечить флоту счастливое плаванье (I, 82 — юо). Нет, истинное благочестие состоит в том, чтобы «с духом покойным глядеть на все вещи» (V, 1202, по пер. Рачинского). Такое спокойствие возможно только для того, кто, подобно Эпикуру, в восхвалении которого Лукреций возвышается до истинного пафоса, постиг действительные причины вещей. И так, страх, по Лукрецию, создал не самых богов, а суеверное почитание богов.
1 Ните. The nat. hist., sect III = Essays, p. 411-412.
2 Там же, sect. V = p. 425-426.
144
каким образом политеизм преобразуется в монотеизм? И здесь главное значение принадлежит, по Юму, не теоретическим запросам мысли, а иррациональным движениям человеческой природы, и прежде всего стремлению возвеличить над другими богами того бога, которому отдельный человек или целый народ считают себя особенно обязанными или которого они особенно боятся. В конце концов, этот бог становится богом над богами, единым истинным Богом; все это -результат далеко не возвышенных чувств страха и угодливости, какие человек испытывает по отношению к своему богу, и если тем не менее продукт этих чувств - идея единого Бога, Творца и Правителя вселенной — оказывается отвечающим требованиям теоретической мысли, направленной на объяснение мирового порядка, то это не более, как результат случайного совпадения. Конечно, в дальнейшем развитии монотеизма могут иметь некоторое значение и теоретические соображения разума, подобно тому, как рефлексия не остается без влияния на создание нравственных суждений и правовых норм, но не этим соображениям принадлежит решающее значение в процессе преобразования политеизма в монотеизм1. Так через всю философию Юма последовательно проходит одна и та же тенденция, диаметрально противоположная основной тенденции континентальной философии XVH-XVIII в.в.: если там в определении познавательной ценности суждений и нравственной намерений и действий за разумом признавалось значение высшей и окончательной инстанции, то здесь в качестве такой инстанции выступает инстинкт, который является могучею силою и в теоретической, и в практической области: возьмем ли мы каузальные заключения или альтруистические склонности — и те, и другие имеют, по Юму инстинктивный характер; разуму же в этой системе отводится подчиненное, служебное, положение. Там провозглашается непогрешимость ясного разума (вспомним спинозовское «ясный разум непогрешим»1 2); здесь признается примат темного инстинкта
1 Там же, sect. VI.
2 Спиноза. Этика, 1,15, схолия.
145
над разумом, и даже самый разум рассматривается, как «изумительный и непонятный инстинкт нашей души, который проводит наш дух через некоторый ряд идей и снабжает последние определенными качествами в зависимости от их положения и их отношений в каждом отдельном случае»1.
После того, как выяснены сущность и происхождение религии, легко определяется практическое значение. Клеанф высказывает ту мысль, что религия своим учением о возмездии в будущей жизни дает морали «твердую и необходимую опору»1 2 3 4, а своим учением о божественном промышлении доставляет людям величайшее утешение в жизненных скорбях и надежный оплот в превратностях судьбыз. Возражая Клеанфу, Филон находит, что философы, возвысившиеся до чистой религии, по воззрению которой Божеству можно угодить не чем иным, как только добродетельною жизнью, не нуждаются в мотивах, проистекающих из учения о загробном возмездии, для того, чтобы признавать над собою власть моральных требований2*. Что же касается остальных людей, то над ними эти мотивы не могут иметь такой силы, чтобы с успехом удерживать их от пороков и направлять по пути добродетели: недаром духовенство,
1 Юм. Тракт, о человеч. прир., ч. III, гл. XVI, русск. перевода стр. 169. На этой же странице разъясняется, что инстинкт в свою очередь «имеет своим источником прошлое наблюдение и опыт», поскольку последние оказываются достаточными для того, чтобы образовалась известная привычка, - последним принципом, так. обр., является у Юма привычка, причем Юм и в данном случае, как и в других местах, имеет в виду не столько коллективный, сколько индивидуальный опыт. Если бы было наоборот, то Юм был бы эволюционистом до эволюционизма. Во всяком случае, эволюционизм не только не противоречит точке зрения Юма, но еще больше укрепляет его позицию: если трудно представить, каким образом мог сложиться инстинкт в пределах индивидуального опыта, то эта трудность значительно облегчается, когда мы переходим на почву опыта коллективного. Может ли она быть на этой почве совсем устранена — это уже другой вопрос.
2 Dialogues, part 12 Works, II, р. 400.
3 Там же, р. 464.
4 Там же, р. 462.
146
которое так настаивает на значении указанных мотивов, постоянно жалуется, в явном противоречии с собой, на низкий уровень религиозности. На самом деле, — говорит Филон, — «маленькое зернышко природной честности и доброжелательности имеет гораздо больше влияния на поведение людей, нежели самые пышные перспективы, внушаемые теологическими теориями и системами»1. Оно и понятно: в то время, как религиозные мотивы действуют на человека, — если только они вообще действуют, — скачками и порывами, естественная склонность действует на него непрерывно, вплетаясь в каждое его воззрение, в каждое убеждение1 2 3 4... Если, тем не менее, религиозные мотивы оказывают какое-либо влияние на человеческую жизнь, то лишь отрицательное. Иначе, по Филону, и быть не может. Уже «постоянное сосредоточение внимания на столь значительном интересе, как вечное спасение, в состоянии погасить доброжелательные эффекты и вызвать узкое ограниченное себялюбие»з. К этому следует прибавить, что так как погоня за вечными наградами и страх вечных мучений не принадлежат к обычным мотивам человеческой деятельности, то они действуют на душу спорадически и могут поддерживаться в своем действии лишь продолжительным напряжением. Здесь — психологическая разгадка того явления, что наружная религиозная ревность часто соединяется с холодностью и вялостью чувства. Так постепенно воспитывается в людях лицемерие, которое не останавливается ни перед какими средствами ради осуществления того дела, какое признано спасательным*. Мудрено ли теперь, что вся история полна известиями о гибельных последствиях суеверия - так Филон называет всякую историческую религию, не отвечающую идеалу чистой религии — для общественной жизни, каковы напр., заговоры, гражданские войны, преследование, низвержение правительства,
1 Там же, р. 461.
2 Там же, р. 461.
3 Там же, р. 462-463.
4 Там же, р. 462.
147
притеснение, рабство1... Общий вывод из всего сказанного по вопросу о значении религии для нравственности таков: «мотивы вульгарного суеверия не имеют большого влияния на общественную жизнь; в тех же случаях, когда они получают преобладание, их действие неблагоприятно для нравственности»1 2 з * 5.
Напрасно также ждать от религии утешения и опоры в несчастиях. Так как первичным принципом религии служит, как мы видели, ужас, то естественно, что страшные образы во всех религиях оказываются преобладающим^, а потому страхи религии преобладают над ее утешениями*. Правда, по временам религия доставляет человеку «короткие промежутки радости», но не надо забывать и того, что «пароксизмы чрезмерного, восторженного счастья пролагают дорогу столь же сильным пароксизмам суеверного страха и уныния»5... В рассматриваемом пункте Юм вполне примыкает к хорошо ему знакомому Лукрецию, который, как мы видели, считал суеверное почитание богов, вышедшее из страха перед грозными явлениями природы и превратностями человеческой жизни, величайшим несчастьем человеческого рода, и если к кому, то прежде всего к Юму должны мы отнести тот эпитет, которым Воббермин наделяет Маха6: в учении о значении религии в человеческой жизни Юм поистине был Лукрецием своего века...
В «Естественной истории религии» Юм сравнивает политеизм с монотеизмом в отношении их к их влиянию на жизнь. По-видимому, двух ответов на этот вопрос и быть не может: раз монотеизм в теоретическом отношении выше политеизма, то и влияние его на жизнь должно бы быть благотворенье. Действительно, монотеизм, по Юму, имеет то преимущество перед политеизмом, что, утверждая
1 Там же, р. 460.
2 Там же, р. 463.
з Там же, р. 465.
* Там же, р. 464.
5 Там же, р. 466.
6 Wobbermin в своем сочинении «Theologie und Metaphysik» (Berl. 1901) называет Маха «новым Лукрецием» (S. 70).
148
бытие единого Божества, соединяющего в Себе совершеннейший разум с совершеннейшею благостью, указывает своим последователям в лице Божества живой пример справедливости и благожелательности, который бы должен был их удерживать от всего пустого и неразумного1. К сожалению, это преимущество значительно ослабляется двумя обстоятельствами: во-первых, по самой своей природе монотеизм не может обнаруживать той терпимости к другим религиозным верованиям и обрядам, какую обнаруживает политеизм, допускающий одновременное существование многих богов и многих культов1 2 3, а во-вторых, своим учением о бесконечном превосходстве Бога перед человеком монотеизм воспитывает в последнем дух смирения и приниженности, который в свою очередь находит свое выражение в монашеских добродетелях умерщвления плоти, покаяния, самоуничижения, пассивного страдания, тогда как политеизм, по воззрениям которого боги лишь несколько выше людей, становится источником активности, бодрости, отваги, великодушия, любви к свободе, — вообще таких добродетелей, которые возвышают народз. В конечном итоге оказывается, что политеизм в жизни гораздо «удобнее», нежели монотеизм.
Такова, в существенных чертах, философия Юма, которая, будучи последним этапом в историческом развитии английского эмпиризма до-кантовского времени, представляет собою замечательное явление не только в ряду английских философских систем XVII - XVIII вв.: едва ли в истории эмпиризма, от Протагора и до наших дней, найдется другая система, которая могла бы поспорить с юмовской по широте захвата и по строгости в проведении основного принципа. Если мы оглянемся назад, то должны будем искать в далекой Греции такого философа-эмпириста, какого по праву можно поставить на одну доску с Юмом: это был Протагор; но Протагора мы знаем лишь в сторонних свидетельствах, тогда как Юм стоит перед
1 The nat. hist, of rel., sect. IX = Essays, П, p. 436.
2 Там же, p. 437 - 440.
3 Там же, sect. X=p. 440.
149
нами во весь свой рост в своих собственных сочинениях. Во всяком случае, Юм первый после Протагора сделал чистый опыт принципом своей философии, которому был верен настолько, насколько только можно быть ему верным. О последующих эмпиристах речь впереди; однако и теперь позволительно отметить, что если кого из них можно сравнивать с Юмом, то лишь Спенсера — с одной стороны, Маха и Авенариуса — с другой: Спенсера роднит с Юмом, помимо общей национальности, широта захвата, какою отличается его «синтетическая философия», Маха и Авенариуса — строгость в проведении принципа чистого опыта, но зато Спенсеру недостает той последовательности, а Маху с Авенариусом — той широты, какие отличают философию Юма: Спенсер, как увидим, старается занять примирительную позицию между эмпиризмом и рационализмом, а Мах с Авенариусом, будучи строгими эмпиристами, дают лишь основы для построения цельной философской системы, - во всяком случае ни этика, ни философия религии не получили в их сочинениях такой обстоятельной разработки, какую они нашли у Юма, остающегося и доселе величайшим представителем эмпиризма. Впрочем, и величие не застраховывает философа, равно как поэта или общественного деятеля, от тех ограничений, какие налагаются на их деятельность связью с определенной культурной эпохой: каждый человек — дитя своего времени. В известной степени приложимо это и к Юму. Воспользовавшись в широком объеме тем психологическим методом, который был введен в философию Локком, Юм, однако в приложении этого метода почти не переступал тех границ, какие были отмежеваны для него Локком: границы эти совпадали с пределами индивидуального сознания. Только в своей философии религии Юм широко пользуется данными коллективного опыта, в других же частях своей системы он ограничивается в большинстве случаев показателями опыта индивидуального. Правда, ему близка мысль о том, что отдельная личность тесно связана в своем развитии с жизнью окружающей природы, и он охотно отмечает черты сходства в душевной жизни человека и животных, у которых, находит, напр., как мы видели, зачатки симпатии; но он еще далеко от того, чтобы
150
онтогенетическое развитие связать с развитием филогенетическим: эта задача впервые была поставлена в XIX веке, который, в лице панлогиста Гегеля - с одной стороны, английских эволюционистов с другой, сделал идею развития принципом объяснения во всех областях научного знания. Юм, несомненно, прокладывал путь эволюционизму, но сам он не был эволюционистом, потому что -ив этом именно он был сыном своей эпохи — держался почти исключительно на почве индивидуального опыта. Здесь находит свое объяснение то обстоятельство, что ему не удалось выяснить с полною определенностью взаимное отношение между привычкою и инстинктом. Но в пределах тех данных, какие представляла в его распоряжение эпоха, великий шотландский философ сделал все, что только можно было сделать, последовательно идя в том направлении, в каком еще Бэкон, верный уже определившимся к тому времени традициям своего народа, повел английскую философию...
Если в философии Юма мы находим строгое применение того принципа, который был выдвинут впервые еще Протагором, то и другое направление религиозно-общественной мысли древней Греции, представителем которого был в свое время Аристофан, нашло своего выразителя среди современников Юма: имеем в виду его старшего современника, известного политического деятеля, блестящего оратора и выдающегося писателя Болингброка (1672-1751). Психологической основой его мировоззрения было аристократически-пренебрежительное отношение к человеку с его обычными интересами и волнениями1, нашедшее для себя соответствующее выражение в том своеобразном скепсисе, который отнюдь не служит источником тяжких душевных мучений: для этого ему недостает глубины, - скорее наоборот, освобождая от мучительной тревоги и напряженного труда, связанных с устремлением внимания на «вечные вопросы», тем самым сберегает энергию, необходимую для того, чтобы в полной мере взять от жизни ее наслаждения; гносеологической же предпосылкой этого
1 Lechler. Geschichte des englischen Deismus. Stuttg u. Tubing. 1841. S. 399.
151
мировоззрения служило убеждение в том, что единственным источником познания является опыт: это - «огненный столб, который один только может вести в землю обетованную», а потому «кто его теряет из виду, тот теряет себя самого в мрачных дебрях фантазии»1. В связи с чисто сенсуалистическою теорией познания стоит у Болингброка резко отрицательное отношение к философии (имеется в виду метафизическая философия), поскольку она обязана своим возникновением слишком поспешным обобщениям фактов, данных в опыте, или - что еще хуже - чисто догматическому признанию известных принципов, как будто они представляют собою всеобщие истины1 2 3 4 5, а так как научное богословие обязано своим происхождением вторжению философии в область религии: богословие — это помесь религии и философии, и в частности христианское богословие есть не что иное, как платонизм, пересаженный на христианскую почвуз, то Болингброк вполне последовательно распространяет отрицательную оценку, данную им философии, и на богословие, и если истинного философа следует искать не среди профессиональных философов, а среди простых людей, совершенно чуждых школьной философии*, то туда же, -утверждает Болингброк, - надо направить поиски и за истинно религиозным человеком. «Богословие, - гибель религии; в богословии, словно в ящике Пандоры, много хороших вещей лежит сверху, но зато внизу скрыто много дурных, которые распространяют в мире беды и разорение. Царство богословия — царство мрака, а потому, чтобы воспользоваться светом Евангелия, мы должны бежать подальше от богословия»5. В свою очередь «богословы должны возвратиться к Евангелию, подобно тому, как философы возвращаются к природе»6, причем они должны воздерживаться от
1 Слова Болингброка. Цитата - у Lechler’a, S. 402.
2 Lechler, S. 402.
3 Там же, S. 403-404.
4 Там же, S. 402.
5 Цитат, у Лехлера, S. 404.
6 Цит. - там же, S. 407.
152
какого бы то ни было перетолкования Библии: те вещи, которые в Библии представляются темными и двусмысленными, такими же должны оставаться и в богословии1. «Предоставьте нам, — говорит Болингброк, - верить в то, что стоит в Библии, потому что это там стоит, - не потому, что это невозможно или абсурдно, как выражался Тертуллиан, а несмотря на то, что это недоказуемо или нелепо»1 2 з * 5. Вера в божественное происхождение Библии опирается не на рациональные доводы, а на внешние доказательстваз. Однако, если такого рода доказательства и могут привести к убеждению в божественном происхождении Откровения, то они не могут, конечно, породить самой веры в Бога, — спрашивается: где же источник этой веры? Этот вопрос имеет громадное значение в ходе мыслей Болингброка. К сожалению, мы лишены возможности представить в настоящий раз документальные данные относительно решения поставленного вопроса, потому что знакомы с этим мыслителем лишь из вторых рук; насколько, однако, позволяют судить имеющиеся в нашем распоряжении пособия, Болингброк мало думал над указанным вопросом, да и едва ли у него были особенные побуждения для этого. Дело в том, что в оценке религии он стоял на чисто внешней по отношению к ней, политической точке зрения: религия, христианство, церковь сами по себе не имеют у него никакой цены, они только средство для того, чтобы держать человека в узде*. В связи с этим вопрос о происхождении национальных и государственных религий решается в том смысле, что он — изобретение законодателейз. Удивительно ли, что при таком взгляде на сущность и происхождение религии Болингброк, подобно Аристофану, «не
1 Lechler, S. 407.
2 Цит. у Лехлера, S. 404.
з Lechler, S. 404.
* Там же, S. 399-400.
5 Там же, S. 400. Мысль эта не была новой для того времени: ее мы находим у многих представителей английского деизма; назовем Герберта Чербери (1581-1646), Гоббса (1588-1679), Блаунта (1654-1643), Тиндаля (1656-1733). См. об этом у Лехлера, S. 50-51, 85,119, 338.
153
отступает перед самыми беззастенчивыми насмешками» по адресу положительной религии?!1 И сколько бы ни делалось попыток оградить самого Болингброка от подозрений в пренебрежительном отношении к религии, в частности к христианству1 2 3 4, едва ли можно смягчить беззастенчивость его взгляда на природу человека и значение религии: человек — животное, а религия — узда для этого животного, — точка зрения, которую лучше всего можно назвать полицейской точкой зренияз. Она в самом корне подтачивает религию, и если что можно сказать в оправдание Болингброка, то не больше того, что сказано у Виндельбанда: «в сущности Болингброк только имел достаточно смелости, чтобы высказать тайну высшего общества своего времени, тайну, существование которой даже не ограничивается одной этой эпохой»*. К сожалению, последнее замечание верно...
Таков был в своих воззрениях английский Аристофан XVIII-ro века.
В свое время в Афинах, как мы видели, нашелся могучий мыслитель, который со всею силою нравственного убеждения и диалектического дарования выступил против релятивизма своего времени. Англия XVIII-ro века тоже выдвинула мыслителя, около которого долгое время группировались все те, кто не мирился с релятивистическими следствиями исконного английского эмпиризма: разумеем главу т. наз. шотландской школы, Томаса Рида (1710 - 1796). К сожалению, шотландскому Сократу недоставало той глубины и критической проницательности, какими отличалась мысль его великого афинского прототипа, а потому философия шотландской
1 Виндельбанд. Истор. нов. филос., т. 1. Русск. пер. Спб. 1902. Стр. 232.
2 Франц Форлендер, напр., говорит о Болингброке: «Он собственно нигде не борется против христианского учения, как такового, как оно содержится в Евангелиях, но только против извращения его посредством метафизики и богословия». (Geschichte der philosoph. Moral, Rechts - und Staats - Lehre der Englander und Franzosen. Marburg, 1855.
S. 434.
3 Ср. Виндельбанда, стр. 231.
4 Там же.
154
школы и не оставила в истории философской мысли слишком заметного следа.
Рид не считал даже нужным доказывать нелепость тех выводов, к каким пришли Беркли и Юм в своей философии, т. е. отрицание материальных и духовных субстанций: достаточно того, что эти выводы противоречат здравому смыслу среднего человека, а так как они представляют логически последовательный результат той формулированной Локком предпосылки английского эмпиризма, что душа человека — tabula rasa, на которой опыт впервые чертит свои письмена — простые идеи, представляющие собою первичные и основные элементы нашего познания, то вместе с отрицанием конечных выводов должна быть отвергнута, по Риду, и обосновывающая их предпосылка. На самом деле первичными и основными элементами познания служат не простые идеи, на какие разлагается познание при психологическом анализе, а те самодостоверные суждения, на которых опираются затем суждения выводные. Задача философии — отыскать самодостоверные суждения. В осуществлении этой задачи Рид пошел тем путем, какой подсказывался ему всем ходом английской философии, — путем психологического анализа. Результат был тот, что задача, превосходно поставленная, получила слишком поверхностное решение: Рид просто-напросто собрал те суждения, достоверность которых обыкновенно не подвергается сомнению средним человеком, и объявил их, в качестве содержания здравого человеческого смысла, основою познания. Ему даже и в голову не приходил вопрос, не представляют ли эти суждения предрассудков, а потому он и не считал себя обязанным позаботиться об их логическом оправдании. Если шотландская школа, обращаясь к внутреннему опыту в поисках самодостоверных суждений, несомненно содействовала успехам интроспективной психологии, то своею ссылкой на здравый человеческий смысл, как на решающую инстанцию, она не могла будить критической мысли, — скорее даже усыпляла ее. Однако простым, хотя и решительным призывом выбросить за борт все движение английской философии, от Локка до Юма, нельзя было
155
бороться с ее результатами: для этого нужна была критическая работа философской мысли, направленная на оценку не только последних выводов английской философии, но и самых познавательных способностей. Чтобы разрешить такую задачу, нужен был ум достаточно решительный для того, чтобы снести всю башню до основания ради удостоверения в надежности ее фундамента, раз только в этом явилось сомнение1, и в то же время достаточно осторожный для того, чтобы не выплеснуть из ванны вместе с водой и ребенка. С таким именно умом мы встречаемся в лице Канта (1724-1804). В своей личности он совмещал все черты, необходимые для того, чтобы явиться спокойным и беспристрастным третейским судьей между двумя противоположными направлениями философской мысли — эмпиризмом и рационализмом, нашедшими для себя к тому времени достаточно яркое выражение в системах
1 Ср. Канта «Пролегомены ко всякой будущей метафизике», предисловие (русск. пер. Влад. Соловьева, М. 1889, стр. 5). Здесь же находим суровый приговор над философской работой шотландской школы: вместо того, чтобы «глубоко проникнуть в природу чистого разума», Рид и его последователи «выдумали более удобное средство сопротивляться (Юму) «безо всякого понимания — именно апелляцию к общему человеческому рассудку или здравому смыслу. Правда, это великий дар неба - обладать прямым (или, как недавно стали говорить, простым) человеческим рассудком. Но его должно доказывать на деле рассудительностью своих мыслей и слов, а не тем, что ссылаться на него как на оракул, когда не умеешь ничего разумного скачать в пользу своего мнения. Когда понимание и знание приходят к концу — тогда, и не раньше — сослаться на здравый человеческий смысл — это одно из тех остроумных изобретений новейших времен, благодаря которым пустейший болтун может безопасно начинать и выдерживать спор против человека с самым основательным умом. Но пока есть еще малейший остаток понимания, всякий остережется прибегнуть к этому крайнему средству. Если рассмотреть хорошенько, эта апелляция к здравому смыслу есть не что иное, как ссылка на суждение толпы, от одобрений которой философ краснеет, а популярный болтун торжествует и делается дерзким». Чтобы бороться с Юмом, нужно, по Канту, обладать «критическим разумом», который «держит в границах обыкновенный рассудок, чтобы он не забирался в умозрения и не желал бы давать о них своего решения, но будучи сам в состоянии оправдать свои положения; только в таких границах остается он здравым рассудком» (стр. 9-10).
156
Локка, Беркли и Юма — с одной стороны, Декарта, Спинозы и Лейбница — с другой, а в своем философском развитии он встретил достаточно поводов для того, чтобы основательно познакомиться с указанными направлениями и системами и много подумать над ними: известно, что Кант прошел в своем философском развитии через те самые стадии, какие уже были пройдены до него европейскою мыслью в лице ее наиболее замечательных представителей. Сначала (приблизительно до начала шестидесятых годов) Кант стоял на почве лейбнице-вольфовской философии, считая, вслед за философами-рационалистами, основным источником познания разум и допуская соответствие (предустановленную гармонию) между правильно построенною системою понятий и системою вещей, существующих вне и независимо от человеческого разума, потому что и та, и другая, в конце концов, имеют один общий источник в Божественном Разуме. Колебание этой точки зрения замечается еще в начале бо-х годов, но только знакомство с философией Юма, особенно с его выяснением «важного понятия метафизики, именно понятия о связи причины и действия», заставило Канта решительно отказаться от догматически-рационалистической точки зрения и дало его «изысканиям в области умозрительной философии совершенно иное направление»1, нашедшее для себя наиболее яркое выражение в известной сатире «Грезы духовидца, поясненные грезами метафизика» (1766 г.), где «неустойчивым понятиям полуфантазирующего, полурассуждающего ума» противополагаются понятия, опирающиеся на твердую почву опыта1 2 3. Однако Кант, по его собственным словам, «далеко не последовал за Юмом в его заключениях»з: Кант слишком верил, с одной стороны, в ценность науки, особенно математики, которую
1 Там же, стр. 6, ю.
2 «Грезы духовидца», пер. Б. И. Бурдес под ред. А. А. Волынского, Спб. 1904, стр. 67, а также 24, 27,41,59-60,73,91-92,95,105, ш, И5-
3 «Пролегомены», предисл., рус. пер., стр. ю.
157
считал «гордостью человеческого разума»1, с другой стороны — в безусловную обязательность требований нравственного закона, на величие которого он не мог насмотреться1 2 3, — слишком верил для того, чтобы всецело и окончательно встать на сторону философии, которая в своих конечных выводах приводит к релятивному во взгляде как на достоверность знания, так и на обязательность требований нравственного закона. Философия Юма послужила лишь толчком к критической работе собственной мысли Канта, направленной не на «критику книг и систем», а на «критику способности разума вообще»з. Таким путем возникла критическая философия.
Для того, чтобы избежать крайнего релятивизма, к которому пришел Юм в результате своих исследований, и через то самое спасти науку и нравственность от подтачивающего их в самом корне скептицизма, нужно было допустить, что суждения, лежащие в основе нашего знания, и предписания нравственного закона имеют свой источник, равно как и ручательство своей достоверности, не в опыте, который, как это совершенно правильно разъяснил Юм, может дать лишь проблематическое по степени своей достоверности знание, а в независимом от опыта, или чистом разуме. Что-нибудь одно: или разум есть продукт опыта, как полагал Юм, но тогда уже не может быть речи ни об аподиктическом характере научного знания, ни о
1 «Кг. d. rein. Vernunft», А2(=2 Aufl.), S. 492. При ссылках на «Кр. чист, разума» указываются страницы изданий, вышедших при жизни Канта, 1-го — 1781 г., 2-го — 1787 г. Они проставлены на полях новейшего издания «Критики», данного в Ш и IV тт. полного собрания сочинений Канта, издаваемого Прусск. Академ. Наук (см. сообщение об этом издании в янв. кн. «Трудов Киевск. Дух. Акад.» за 1908 г.), а также — новейшего русского перевода «Критики», выполненного Н. О. Лосским по тексту академического издания сочинений Канта: указывая страницы вышедших при жизни Канта изданий «Кр. чист, раз», мы тем самым даем возможность легко навести соответствующую справку и по академии, изданию «Критики», и по ее русскому переводу, сделанному Лосским.
2 См. «Крит, практ. раз.», русск. пер. Н. М. Соколова, стр. 94; ср. стр. 191.
3 Кг. d. rein. Vem.» А (1 Aufl.), Vorrede, S. XII. пер. Лосского, стр. 5.
158
безусловной обязательности требований нравственного закона, или аподиктический характер научного знания, равно как безусловная обязательность требований нравственного закона не подлежат сомнению, но в таком случае разум нужно признать независимым от опыта источником познания. Как известно, Кант принял вторую часть дилеммы, примкнув в этом существеннейшем пункте своего учения к рационалистическому направлению предшествовавшей философии. Зато он решительно разошелся с представителями этого направления в решении вопроса об отношении между знанием и бытием: теория предустановленной гармонии между знанием и бытием, ясно формулированная Лейбницем, но молчаливо предполагавшаяся и другими рационалистами докантовского времени, представляется Канту совершенно произвольным, чисто догматическим предположением, которое не может быть оправдано разумом, а потому должно быть отклонено, как лишенное всякого научного значения. Кант становится на ту точку зрения в решении вопроса об отношении между знанием и бытием, которая, как мы видели, была намечена еще Сократом: разум знает только то, что сам он творит1. Кант разъясняет, что природа, которая служит, по нему, единственным объектом научного познания, не есть совокупность вещей, совершенно независимых от нашего разума, или вещей в себе; нет, природа есть построение нашего разума. Правда, материал для этого построения не создается самим разумом, а дается ему как результат аффекций (воздействий) на него со стороны внешних предметов1 2, но дается в хаотическом виде: взятый сам по себе, он
1 Эта мысль не была совершенно чужда и докантовской философии; так, уже упоминавшийся нами (стр. 116, прим. 1) Санхец опирается в своих рассуждениях на ту «основную мысль, что можно знать только то, что произвел сам» (Винделъб. Ист. нов. фил., т. I, русск. пер., стр. 18); но, выдвигавшаяся случайно, — может быть, без ясного сознания всей ее принципиальной важности, — она пропадала среди других мыслей, словно река в песчаной степи, не оказав определяющего влияния на ход философского развития. Такое значение она впервые получила у Канта.
2 «Кг. d. rein. Vem.», А2, 33: die Anschammg «findet - nur statt, sofern uns der Gegenstand gegeben wird; dieses aber ist wiedenim uns Menschen wenigstens nur dadurch moglich, dass
159
представляет собою многообразие разрозненных созерцаний (Anschauungen), и только благодаря деятельности разума, которая состоит в объединении того, что дано в разрозненном виде, в этот хаос вносится порядок, а вместе с тем и хаос чисто субъективных созерцаний преобразуется в совокупность предметов, или в то, что мы называем природой. Таким образом, предмет есть не что иное, как единство созерцаний, устанавливаемое нашим разумом. В этом именно смысле, как отдельный предмет, так и совокупность предметов, или природа, есть не что иное, как построение нашего разума, — не моего или вашего, а нашего, - не индивидуального, определяющегося в своей деятельности индивидуальными особенностями известного лица, равно как теми пространственно-временными отношениями, в которых это лицо действует, а надындивидуального, общечеловеческого, который, как бы воплощаясь в той или другой личности, подчиняется в своей деятельности лишь своим собственным законам.
Если природа, как совокупность познаваемых нами предметов, построяется деятельностью нашего разума, то изучить те функции, благодаря которым многообразие разрозненных созерцаний преобразуются в предмет, значит в сущности изучить те законы, которым подчиняется природа в своем существовании, потому что в процессе построения природы именно разуму принадлежит внесение в разрозненный хаос разнообразных созерцаний единства и закономерности. Кант нашел путь к изучению названных функций. Так как «работа, которую наше мышление необходимо, но, конечно, бессознательно совершает над нашими интуициями» (созерцаниями), в результате чего «мы имеем в нашем опыте определенные предметы, производится тем же рассудком, которым мы сознательно пользуемся в так называемом логическом мышлении», обрабатывающем, впрочем, не интуиции, а понятия и потому дающем в результате не
er das Gemiith auf gewisse Weise afficire». Слов «uns Menschen wenigstens» в I-м издании не было.
160
предметы, а суждения1, то мы, изучая функции рассудка, поскольку он проявляется в построении суждений, тем самым изучаем и те функции рассудка, посредством которых разрозненный материал созерцаний перерабатывается в природу, как систему определенных предметов, находящихся во взаимодействии друг с другом. Таким путем Кант открывает те понятия, которые служат выражением синтетических функций нашего рассудка, имеющих место при упорядочении созерцаний, или так называемые категории1 2. Применяя их к созерцаниям, данным в опыте, мы получим ряд суждений, которые, имея свой источник в организации нашего разума, в то же время являются законами природы, ибо природа-то, как мы видели, есть не что иное, как построение разума, - мудрено ли, что особенности постройки, с формальной стороны, определяются особенностями архитектора?!... Таким образом, не природа предписывает законы разуму, а — наоборот, — разум предписывает законы природе, как он же предписывает законы и нашей воле. Так как только что отмеченная законодательная функция принадлежит разуму надындивидуальному, то понятно, что как закон природы, так и закон свободы воспринимаются индивидуальным сознанием, как нечто для него принудительное (законы природы) или безусловно обязательное (законы свободы).
Итак, лишь разум вносит единство в многообразие разрозненных созерцаний, данных в опыте, но он не мог бы этого делать, если бы сам не обладал единством: только то, что само есть
1 Ремке. Ист фил, стр. 261; ср. Винделъб. Ист. нов, фил., т. II, русск. пер., стр. 55-63.
2 Нужно иметь в виду, что как упорядочивающая созерцания и через то построяющая природу деятельность надындивидуального разума, совершающаяся в подсознательных глубинах, не тождественна с логическими операциями разума, выполняемыми в сфере ясного сознания, хотя по существу и сходна с ними, так и категории, как выражение синтетических функций надындивидуального разума, не следует отождествлять с чисто-логическими формами рассудочной деятельности: в противоположность последним категории можно назвать гносеологическими, или — применяя терминологию самого Канта — трансцендентальными формами познания. Ср. Винделъб., указ, соч., стр. 55-56.
161
единство, может сообщать единство тому, что само по себе им не обладает. Значит, первоначальное, основное единство, без которого бы нигде не было единства, мы должны искать в разуме, а так как эмпирическое сознание не отличается безусловным единством: его единство имеет совершенно случайный характер, то мы должны предположить, помимо эмпирического сознания (или эмпирической апперцепции), сознание трансцендентальное (или апперцепцию трансцендентальную), по терминологии «Пролегомен» — «сознание вообще»1, которое, обладая первоначальным единством, только и в состоянии объяснить возможность объединяющих функций разума (точнее рассудка). В самом деле, «многоразличные представления, которые даны в известном созерцании, не были бы все вместе моими представлениями, если бы они все вместе не принадлежали к одному самосознанию»1 2 з. Мало того, единство эмпирического сознания возможно лишь благодаря единству трансцендентального сознания: «лишь благодаря тому, что я могу многоразличие данных представлений связать в одном сознании, возможно то, что я представляю себе тождество сознания в самих этих представлениях»^. Если к сказанному присоединить, что «объект есть то, в понятии чего объединено многоразличие данного созерцания», а необходимым условием какого бы то ни было объединения служит первоначальное единство трансцендентального сознания, то для нас откроется во всей широте значения этого единства: только оно делает возможным отношение представлений к предмету, а вместе с тем и их объективную значимость, — значит, и то, что делает их знаниями, ибо «знания состоят в определенном отношении данных представлений к объекту». А если, теперь,
1 В 2О-м §-е «Пролегомен» Кант различает 1) «сознание моего состояния», или «эмпирическое сознание», в котором осуществляются «суждения восприятия» (die Wahmehmungsurtheile), т. е. суждения «субъективные», или «эмпирические», и 2) «сознание вообще» (das Bewusstseir uberhaupt), в котором осуществляются «суждения опыта» (die Erfahrungs urtheile), т. е. суждения «всеобщие, — след., объективные».
2 Кг. d. rein. Vem., A2, S. 132; ср. S. 134.
з Там же, S. 133.
162
припомнить, что функции рассудка сводятся к объединению и через то самое к объективированию данных в опыте элементов, то не будет преувеличением сказать, что на первоначальном единстве трансцендентального сознания или трансцендентальной апперцепции, «покоится возможность самого рассудка»1. При этом необходимо помнить, что первоначальное единство сознания не есть реальный факт, открывающийся во внутреннем опыте (этого не может быть по той причине, что оно служит условием всякого опыта), а логически необходимо предположение, без которого невозможно было бы понять ни природы, ни знания, ни самого рассудка. «Единство сознания устанавливается Кантом, — комментирует Коген, — исключительно в качестве основоположения», а никак «не в качестве абсолютного субъекта»1 2. Применяясь к терминологии Канта, мы должны сказать, что первоначальное единство апперцепции есть единство трансцендентальное, т. е. представляющее собою априорное условие опыта, а не эмпирическое, т. е. данное в опыте. Если, теперь, единство сознания мы будем называть я, то мы должны различать двоякого рода я: я эмпирическое и я трансцендентальное. Последнее от первого отличается, по предыдущему, тремя чертами: во-первых, оно никогда не бывает воспринимаемым объектом, а лишь — воспринимающим субъектом; во-вторых, оно неизменно в своем содержании, тогда как эмпирическое я постоянно изменяется; в-третьих, оно не индивидуально, а надындивидуально.
Будучи трансцендентальным условием самой возможности познания, первоначальное единство апперцепции отнюдь не является чем-то трансцендентным по отношению к познанию, — наоборот, оно так же тесно связано с прочими элементами нашего познания, как центр с периферией: как центр не может существовать без
1 Там же, S. 137.
2 «Kommentar zu J. Kants Krit. d. rein. Vem.» v. H. Kohen (= Philosoph. Bibliothek, B. 113), Lpz. 1907, S. 56: «die Einheit des Bewusstseins lediglich als Grundsatz aufgestellt wird, und nicht etwa als ein absolutes Subjekt. Nur in seiner Betatigung hat der Grundsatz seinen Bestand».
163
периферии, а периферия без центра, так точно трансцендентальное единство апперцепции, взятое отдельно от остальных элементов познания, есть простой абстракт, — не более: только «in seiner Betatigung» получает оно «seinen Bestand», равно как и те элементы познания без отношения к трансцендентальному единству апперцепции не имеют значения знания. Другими словами: нет субъекта без объекта, и нет объекта без субъекта, — трансцендентальный субъект познания и его объект имманентны друг другу. С этой точки зрения если и можно вести речи о внешних предметах, то не в смысле вещей в себе, которые существуют вне и независимо от нашего сознания, а в смысле представлений, построяемых нашим сознанием. Они «могут непосредственно сознаваться нами, как и всякое другое представление», и если «называются внешними», то «потому, что они связаны с тем чувством, которое мы называем внешним». Так как общею и неотъемлемою формою внешнего чувства служит созерцание пространства, то все представления, связанные с этим чувством, необходимо располагаются в пространстве, вследствие чего и получаются в нашем сознании предметы внешние по отношению друг к другу. В свою очередь пространство, связью с которым обусловливается вне — и подле — положение предметов нашего сознания, есть не что иное, как «один из внутренних способов представления, при помощи которого известные восприятия связываются друг с другом. Если считать внешние предметы вещами в себе, то решительно невозможно понять, каким образом мы можем прийти к познанию их действительности вне нас, раз мы опираемся на представление, которое находится в нас. В самом деле, ощущать можно только в себе самом, а не вне себя, и потому самосознание, взятое в целом, доставляет нам не что иное, как только наши собственные определения»1.
Казалось бы, мысль выражена настолько ясно и определенно, что сами собою отпадают всякого рода ограничения ее или
1 Кг. d. rein. Vern., A. S. 278.
164
перетолкования: в процессе нашего познания мы не можем выйти за границы нашего разума, а потому о действительном существовании каких бы то ни было предметов за этими границами и речи быть не может, — строго имманентная точка зрения. Однако, как ни ясно и определенно она выражена в приведенном месте «Критики чистого разума», она не проводится последовательно через всю «Критику». Достаточно вспомнить, что все рассуждения Канта — в «трансцендентальной эстетике» — о том, что мы познаем не вещи в себе, а явления, не только не отрицают существования вещей в себе, но — скорее — предполагают это существование: Кант там ни одним словом не обмолвился о том, что мы не имеем права говорить о действительности вещей в себе вне нашего сознания, — он лишь с утомительною настойчивостью повторяет, что для нас эти вещи непознаваемы, и только в этом смысле он говорит в другом месте «Критики», что это X для нас — ничто1, не само по себе ничто, а для нас ничто. Но мало того, что Кант во многих своих рассуждениях предполагает существование вещей в себе, — в его «Критике чистого разума», и не во втором только издании, где смягчена идеалистическая точка зрения, но и в первом, и притом — там, где Кант держится на почве теоретического разума, пока еще не считаясь с требованиями нравственного сознания, мы встречаемся с утверждением, что понятие о вещах в себе, как реально существующих вне и независимо от нашего разума, есть необходимое понятие последнего. Раз мы допускаем, - рассуждает Кант, — существование явлений, мы должны допустить и существование вещей в себе, которые лежат в основе явлений: «в противном случае мы пришли бы к бессмысленному утверждению, будто явление существует без чего бы то ни было, что является»1 2. Нужно только
1 Кг. d. rein. Vem., А, 105.
2 Кг. d. rein. Vem., A2, Vorrede, S. XXVI-XXVII; cp. S. 565: «так как явления не суть вещи в себе, то в основе их должен лежать трансцендентальный предмет, определяющий их, как лишь представления» (по пер. Лосск. стр. 319-320); S. 568: «мы должны мысленно полагать в основу явлений трансцендентальный предмет, но мы вовсе не знаем, что такое он сам по себе» (по Лосск. стр. 320). Эти места перенесены из 1-го издания во 2-ое
165
помнить, что из того, что мы не можем не мыслить вещей в себе, не следует, что мы можем познавать их, ибо «мыслить предмет и познавать предмет — не одно и то же» для познания, кроме понятия, посредством которого предмет вообще мыслится, необходимо еще созерцание, посредством которого он дается; но вещи в себе если бы и могли быть предметом созерцания, то не чувственного, т. е. связанного с созерцаниями пространства и времени, потому что такого рода созерцание имеет дело лишь с феноменами, а интеллектуального, отрешенного от форм пространства и времени; между тем человеческий разум обладает лишь чувственным созерцанием. Таким образом, вещь в себе, будучи необходимым понятием нашего мышления, не может однако быть предметом нашего познания, о чем, впрочем, горевать нечего: «чем могут быть вещи в себе, - говорит Кант, - я не знаю, да и не нуждаюсь в этом знании, потому что мне, ведь, вещь никогда иначе не может встретиться как только в явлении»2.
Как бы то ни было, но понятие вещи в себе введено в систему, а с тем вместе не только снова, во второй раз после Локка, вырыта непроходимая пропасть между знанием и бытием, но и в систему Канта внесено, по-видимому, непримиримое раздвоение: раз принята мысль, что вещи в себе существуют вне нашего сознания, хотя и не могут быть познаны нами, что же остается от того утверждения, что мы, опираясь на представление, которое в нас, никоим образом не можем прийти к познанию действительности вещей в себе вне нас?! Так возникает проблема о положении понятия о вещи в себе в системе Канта, тесно связанная с проблемой о теоретической состоятельности и практической пригодности этого понятия вообще, - проблема настолько важная, что со времени появления «Критики чистого
в неизменном виде. В i-м издании на стр. 251 (Лосск., стр. 181 под строкой) читаем: «из понятия явления вообще естественным образом вытекает, что ему должно соответствовать нечто такое, что само по себе не есть явление, так как явление само по себе, вне нашей способности представления, есть ничто».
1 Кг. d. rein. Vern., A2, S. 146.
2 Там же, S. 333; ср. «Пролетом». §49 русск. пер., стр. 125.
166
разума» и вплоть до наших дней она продолжает сосредоточивать около себя, хотя, может быть, и не всегда с одинаковою силой, внимание философской мысли, причем тем положением, какое занимает в решении данной проблемы та или иная философская система, определяется ее общий характер и соответствующее место среди других систем. Непрерывная вековая работа над разрешением проблемы о вещи в себе составляет поэтому весьма заметную и чрезвычайно важную полосу в философском движении целого века. Достаточно сказать, что в атмосфере этой работы выросли великие идеалистические системы первой половины XIX-го века, равно как она же захватила широкие философские круги, включая сюда и представителей чистого эмпиризма, в конце века, так что мы не можем не остановиться на существенных моментах этой работы в очерке, посвященном уяснению исторического положения чистого эмпиризма новейшего времени. И прежде всего, конечно, мы должны остановиться на том комментарии, какой дает сам Кант своему учению о вещи в себе. Такой комментарий мы находим в III главе «трансцендентального учения о способности суждения».
Так как вещи в себе не даны в созерцании - они лишь мыслятся нашим разумом, то Кант называет их, в противоположность эмпирическим предметам, или феноменам, умопостигаемыми (intelligibele) предметами. Что касается, теперь, этих последних, то под ними можно разуметь или 1) такие вещи, которые мыслятся посредством категорий без какой бы то ни было чувственной схемы, или же 2) предметы нечувственного созерцания, к которым наши категории не применимы, и о которых, значит, мы не можем иметь ровно никакого познания — ни созерцания, ни понятия. В первом случае к вещам в себе прилагались бы некоторые положительные определения, хотя чисто формального характера, именно те, которые мыслятся в категориях; во втором — понятие об умопостигаемых предметах имело бы чисто отрицательный характер: оно обозначало бы то неизвестное нечто, то X, которое не может быть дано в чувственном созерцании, и к которому не могут применяться категории нашего рассудка, вследствие чего оно не может иметь
167
никаких положительных определений. Но, понимаемые в первом смысле, вещи в себе невозможны, ибо условием объективного употребления понятий нашего рассудка служит тот способ чувственного созерцания, посредством которого нам предметы даются, — помимо этого условия понятия нашего рассудка не имеют ровно никакого отношения к объектам. Во втором смысле понятие об умопостигаемых предметах не только может быть принято, потому что не заключает в себе внутреннего противоречия, но и должно быть принято, потому что оно, хотя и не расширяет нашего познания, что при его отрицательном характере вполне понятно, но зато оно определяет границы доступного нам познания: при помощи рассматриваемого понятия «наш рассудок получает отрицательное расширение, а именно: называя вещи в себе, рассматриваемые не как явления, ноуменами, он не ограничивается чувственностью, а скорее сам ее ограничивает», показывая, что есть нечто, недоступное чувственному созерцанию, но «вместе с тем он сейчас же и себе самому ставит границы, признавая, что не может познать ноумены посредством своих категорий, а может их только мыслить под именем неизвестного нечто»1. Таким образом, если в другой связи понятие о
1 Кг. d. rein. Vem., A2, S. 312. В «Пролегоменах» (§59) за понятием границы признается положительное значение: «так как сама граница есть нечто положительное, принадлежащее как тому, что внутри ее заключается, так и лежащему вне данного объема, то это есть действительное положительное познание, доступное разуму только тогда, когда он распространяется до этой границы, не пытаясь однако перейти за нее, ибо там он найдет лишь пустое пространство, в котором для него хотя мыслимы формы вещей, но никак не самые вещи. Но ограничение опытной области чем-то неизвестным в прочих отношениях для разума есть все-таки познание, остающееся у нас при этой точке зрения, — познание, посредством которого разум, не заключаясь внутри чувственного мира, но и не фантазируя за его пределами, ограничивается тем, что свойственно знанию границы, именно отношением того, что лежит вне границы, к тому, что содержится внутри ее». (Русск. перев., стр. 163). И несколько ниже (стр. 164): «это ограничение» познания пределами возможного опыта «не мешает разуму доводить нас до объективной границы опыта, именно до отношения к тому, что само не может быть предметом опыта, но должно служить высшим его основанием, причем
168
вещи в себе было необходимым в качестве коррелята для понятия о явлении, то теперь оно оказывается необходимым в качестве пограничного понятия нашего разума: отбросить это понятие — значило бы «отрицать существование вещи в себе, а это» значило бы в свою очередь «считать явления единственной действительностью. Но тогда вышло бы, что, несмотря на непознаваемость вещей в себе, мы установили бы относительно них некоторое учение (именно, что вещи в себе не существуют), а подобное учение было бы метафизикой», на которую «мы не имеем права. Поэтому понятие вещи в себе полезно, как указывающее границы или пределы всех тех утверждений или отрицаний, на которые мы имеем право. Оно напоминает нам, что они должны относиться только к явлениям, но что явления мы не в праве считать единственной действительностью, хотя и не в состоянии доказать, что есть еще другая действительность»1. Взятое в этом смысле, понятие о вещах в себе, или ноуменах, имеет, по Канту, лишь проблематический характер: это — «представление о вещи, относительно которой мы не знаем ни того, что она возможна, ни того, что она невозможна», — опять-таки потому, что помимо чувственного созерцания мы не знаем никакого другого созерцания и помимо наших категорий — никаких других понятий, между тем ни наше созерцание, ни наши понятия ко внечувственному предмету, каковы вещи в себе, или ноумены, не применимы* 1 2. Другими словами: понятие ноумена — не решение вопроса о существовании предметов, совершенно отрешенных от нашего созерцания, а только постановка вопроса, на который может быть дан лишь неопределенный ответ: «так как чувственное созерцание не простирается на все вещи без различия, то место для других предметов остается, — значит, они не отрицаются безусловно,
разум познает это необходимое нечто не в нем самом, а лишь в его отношении к собственному полному и направленному к высшим целям употреблению разума в области возможного опыта».
1 Проф. Александр И. Введенский. Лекции по истор. новейш. ф-фии. Ч. II. Спб. высш, женск. курсы. 1900 - 1901 г. (литографир. изд.) Стр. 74'75-
2 Кг. d. rein. Vem., A2, S. 343; ср. S. 310.
169
но так как для них недостает определенного понятия (категории, ведь, к ним неприложимы), то они не могут быть и утверждаемы в качестве предметов для нашего рассудка»1.
Прежде чем идти дальше, подведем предварительные итоги относительно положения вещи в себе в системе Канта. С одной стороны мы, по Канту, не можем выйти за пределы нашего разума в своих утверждениях относительно реального существования той или другой вещи, с другой — мы не можем не допускать реального существования вещей в себе, раз только допускаем существование явлений. И дальше: существование вещей в себе то представляется в такой же степени достоверным, как и существование явлений, то становится проблематическим. Так обстоит дело с вещью в себе, пока мы находимся в пределах теоретического разума, но оно принимает другой оборот, как только мы, вслед за Кантом, становимся на почву практического разума: если там положение вещи в себе было шатким и неопределенным, то здесь оно крепнет и уясняется. Уже в «Критике чистого разума» заметны просветы в эту область, достаточно яркие для того, чтобы осветить положение вещей в себе на почве практического разума. Всмотримся в эти просветы.
При практическом применении разум, по мнению Канта, имеет право принимать нечто такое, чего он не в праве допускать без достаточных оснований в пределах чистой спекуляции без риска повредить ее совершенству, до которого нет дела практическому интересу1 2 3. В чем же состоит практический интерес разума, заставляющий его идти дальше тех допущений, на какие уполномочивают теоретические доводы? Тот самый разум, который, при теоретическом применении, предписывает законы природе, при своем практическом применении предписывает законы нашей воле, от которых, по Канту мы не можем отказаться, не сделавшись презренными в собственных глазахз. В свою очередь предписания
1 Там же, S. 344.
2 Там же, S. 804.
3 Кг. d. rein. Vem., A2, S. 856.
170
нравственного закона сохраняют свой смысл лишь при допущении свободы воли - с одной стороны, бытия Божия и бессмертия души — с другой, а так как ни для свободы воли, ни для Бога и бессмертной души нет места в пределах эмпирических предметов, или явлений, то мы вынуждаемся допустить, во имя практического интереса разума, иной мир, мир вещей в себе, где бы нашлось место и для «причинности посредством свободы», и для бессмертной души, и для «абсолютно необходимого существа», — иначе нам пришлось бы признать бессмысленными те требования нравственного закона, от которых, как уже сказано, мы не можем отказаться, не сделавшись презренными в собственных глазах. Таким образом, признание безусловной обязательности для нас требований нравственного закона (а Кант полагал, что нет такого человека, который бы не признавал над собою власть этих требований, хотя многие, быть может, и затруднились бы их формулировать) приводит нас к непоколебимому убеждению в существовании вещей в себе; и если для теоретического разума вещь в себе была лишь проблематическим понятием, весь смысл которого сводился там к тому, что оно полагает границы нашему познанию, то здесь, в пределах практического разума, оно становится «безусловно необходимым предположением», неразрывно связанным с «существеннейшими целями разума»1. И по мере того, как крепнет положение вещей в себе в системе Канта, ослабляется мысль об их непознаваемости. Впрочем, и там где еще нет помину о практических интересах разума, мысль о непознаваемости вещей в себе строго не выдерживается. Раз вещи в себе суть X, то, казалось бы, об них нельзя утверждать ни того, что к ним приложимы формы человеческого познания, будут ли то формы созерцания (пространство и время), или формы рассудка (категории), ни того, что они к ним неприложимы, — только тогда и можно было бы говорить о непознаваемости вещей в себе. Между тем Кант положительно утверждает, что формы человеческого познания к вещам в себе неприложимы, и что, след., они совершенно разнородны
1 Там же, S. 846.
171
с эмпирическими предметами. А когда он вступает в сферу практических интересов разума, то вещи в себе рассматриваются уже как умопостигаемые существа, составляющие в своей совокупности тот духовный мир, существование которого требуется практическими интересами разума1, причем допускается возможность мыслить об этих существах, и прежде всего об «абсолютно необходимом существе», по аналогии с предметами опыта1 2 з. Правда, таким путем вопрос о том, каковы умопостигаемые существа сами по себе, не решается, а потому и знание наше не расширяется за пределы возможного опытаз; однако нельзя сказать, чтобы после всех сделанных Кантом, разъяснений мир вещей в себе оставался для нас абсолютно неизвестным миром: во всяком случае, нам известно, что мир вещей в себе, будучи разнородным сравнительно с миром явлений, лежит однако в основе последнего, а с тем вместе известно и то, что по своей природе он вполне соответствует практическим интересам разума.
Если бы положение вещи в себе в системе Канта было только неопределенным, это было бы с полбеды, — беда в том, что понятие о вещи в себе вносит в систему непримиримое противоречие. Дело в том, что, сообразуясь с общим ходом мыслей в «Критике чистого разума», мы должны видеть причину тех аффекций, которые обогащают наше сознание многообразием созерцаний, составляющих материал познания, не в эмпирических предметах, которые являются, по Канту, лишь в результате переработки данного в опыте материала, — след., не могут быть причиною его данности, а в вещах в себе. Правда, Кант говорит и об аффицированьи сознания эмпирическими предметами, но в этих речах, очевидно, имеется в виду не трансцендентальное сознание, а эмпирическое, которое, конечно, аффицируется эмпирическими предметами, будет ли то дождь или
1 Кг. d. rein. Vem., A2, S. 808.
2 Там же, S. 724.
з Там же, S. 725-726.
172
радуга1; но в отношении к трансцендентальному сознанию значение аффицирующих предметов могут иметь лишь вещи в себе, и мы находим у Канта прямое заявление о том, что вещи в себе аффицируют нас1 2 3. Но, допустив воздействие вещей в себе на наше сознание, Кант, несомненно, впал в противоречие с основными положениями собственной системы, именно: утверждая, что категории нашего рассудка, имеющие приложение лишь в пределах возможного опыта, к вещам в себе неприложимы, он в то же время прилагает их, и прежде всего - категорию причинности, к вещам в себе, рассматривая их, как причины аффекций, - противоречие настолько яркое, что оно вскоре же по выходе «Критики чистого разума» было вскрыто с беспощадной строгостью самыми суровыми критиками кантовской «Критики» - известным представителем философии веры или чувства Якоби (1743-1819) и скептиков Шульце Энезидемом (1761-1823), критика которых оказалась в отношении к рассматриваемому пункту настолько исчерпывающей, что последующие критики кантовского понятия о вещи в себе обречены были на повторение аргументации Якоби и Шульцез.
Другую позицию в данном вопросе заняли приверженцы Канта: желая спасти систему учителя от коренного противоречия, вскрытого Якоби и Шульце, они решились утверждать, что в системе Канта, правильно понятой, нет и не может быть места действительно противоречивому понятию о вещи в себе, а потому все противоречия, усвояемые критиками Канту, нужно отнести исключительно на счет непонимания ими критической философии. Для того, кто проник в
1 Там же, S. 274-79 («Опровержение идеализма»), 45, 59-63. По этому вопросу см. Н, Vaihinger’s, «Commentar zu Kants Кг. d. rein. Vem.», II. B, 1892. S. 51-55.
2 Вот это важное место в подлиннике: «Wir baben es docb nur mit unsem Vorstellungen zu thun: wie Dinge an sich selbst (ohne Riicksicht auf Vorstellungen, dadurch sie uns qfficireri) sein mogen, ist ganzlich ausser Erkenntniszsphare» (Kr. d. rein. Vem., A2, S. 235 = A, S. 190).
3 См. об этом в комментарии Vaihinger’a S. 36-40, а также в сочинении A. M. Щербины «Учение Канта о вещи в себе» (Киев. 1904), заключающем в себе богатый материал по данному вопросу, §§1 и 2 пятой главы, в которых исчерпано содержание указанных страниц комментария Файгингера.
173
дух трансцендентальной философии, — утверждает Бекк (1761-840), — несомненно, что никаких вещей в себе по смыслу этой философии нет, а потому и об их воздействии на наше сознание не может быть речи. Правда, Кант говорит об аффицирующих наше сознание предметах, но он разумеет под ними не вещи в себе, а явления. Кто думает иначе, тот «этим доказывает, что он еще не поднялся до того пункта, с которого следует обсуждать «Критику чистого разума»1. Бекк, впрочем, не решается отрицать, что в «Критике» есть места, буквальным смыслом которых предполагается существование вещей в себе, равно как их воздействие на наше сознание; но он думает, что эти места представляют не что иное, как приспособление Канта к языку и мыслям обыкновенного читателя, еще не освоившегося с точкой зрения трансцендентальной философии, — по мере того, как выясняется эта точка зрения, те выражения употребляются все реже и реже, пока совсем не оставляются1 2 з. На той же точке зрения в понимании «Критики чистого разума» стоит и Фихте (1772-1814). О воздействии вещей в себе на я с трансцендентальной точки зрения не может быть речи по той простой причине, что эта точка зрения не оставляет места для вещей в себе: в том, по Фихте, и состоит заслуга Канта, что он освободил философию от «мертвой вещи в себе» и тем самым снял оковы с разума. Кто признает данность материала нашего познания, тот совершенно не понимает ни духа критической философии, ни духа истинной науки. Первоначальным условием познания является единственно и исключительно деятельность чистого я, постигаемого посредством интеллектуального созерцания; посредством актов своего мышления оно впервые полагает мир явлений, который затем эмпирическим, индивидуальным я воспринимается, как вещи в себез. В ответ на возражение Рейнгольда (1759-1823), что такой взгляд на положение вещи в себе в системе Канта не может быть проведен без насилия над «Критикой чистого
1 Vaihinger, S. 43.
2 Там же, S. 42; ср. Щербина, гл. V, §4.
з Vaih., S. 44.
174
разума», Фихте настаивает на правильности своего толкования и его соответствии не только духу, но и букве «Критики». Он еще готов допустить, что Кант не высказался определенно по вопросу о происхождении внешнего ощущения, хотя и не видит прочных оснований для такой уступки, но чтобы Кант допускал воздействие на наше я вещей в себе — это Фихте решительно отрицает; так учат кантианцы, а не Кант1. Впрочем, если бы и сам Кант сделал разъяснение в этом смысле, «я счел бы тогда, — прибавляет Фихте с обычной для него «упрямкой», — «Критику чистого разума» «произведением скорее удивительнейшего случая, нежели мыслящей головы»1 2 3.
Однако, как ни решительны подобного рода заявления, «Критика чистого разума» перед нами налицо: нужно перечеркнуть по крайней мере третью часть из ее 884-х страниц, чтобы отнять у ее комментаторов право говорить о том, что понятие о вещи в себе тесно вплетено в систему Канта: в предыдущем изложении достаточно данных для того, чтобы убедиться в этом, а если так, то мы, вопреки толкованиям Бекка, Фихте и их позднейших единомышленников, должны признать справедливость тезиса, выставленного Якоби, в обеих его половинах: без предположения об аффицированьи сознания вещами в себе нельзя войти в систему Канта, а с этим предположением нельзя оставаться в ней, потому что оно вносит в систему, как уже мы видели, непримиримое противоречиез. Для того, чтобы избежать этого противоречия, нужно было, очевидно, устранить из системы самое понятие о вещи в себе, как о таком бытии, которое существует вне разума и независимо от него. Это именно и становится главным мотивом дальнейшего движения послекантовской философии, породившего такие системы, как — Фихте, Шеллинга, Гегеля. Они стоят в таком же отношении к учению Канта, как системы Беркли и Юма — к учению Локка: как те
1 Там же, S. 45.
2 Там же, S. 46. У Щербины о Фихте - г. V, §5.
3 Vaih., S. 37.
175
стремились устранить из учения Локка его колебания и противоречия, принципиально оставаясь на локковой точке зрения, так эти стремились очистить систему Канта от противоречий и сгладить проходящий через нее дуализм между чувственностью и разумом, а в пределах последнего - между разумом теоретическим и практическим, удержав основную мысль Канта, что разум познает то, что сам же он созидает, и как там движение шло в направлении от трансцендентности к имманентности, то же самое наблюдаем и здесь. Замечательное явление: как только резко обозначается понятие о потустороннем для нашего познания бытии, так сейчас же начинается энергичная работа мысли, направленная к тому, чтобы устранить такого рода понятие с поля зрения философии. Так было в XVIII веке в Англии на почве эмпирической философии; то же самое повторилось теперь, в начале XIX века, но уже на почве кантовской философии. Там хотели дать последовательное применение эмпиристическому принципу, здесь движение шло в направлении к самому крайнему выражению рационалистической точки зрения, что и произошло в системе Гегеля. Уже Бекк показал направление, в каком нужно было преобразовать учение Канта, чтобы на его основе построить строго идеалистическую систему, совершенно свободную от понятия о вещи в себе и связанных с его применением противоречий, но только Фихте до конца прошел этим путем и на деле построил такую систему, которую проектировал Бекк, так что последнему ничего не оставалось, как примкнуть в конце концов к Фихте.
Если критика кантовского понятия о вещи в себе была исходным пунктом философии Фихте, то ее опорной точкой послужило учение Канта же о трансцендентальном единстве апперцепции, или трансцендентальном я, как необходимом и вместе с тем основном условии познания. Кант не мог использовать в полной мере своего учения о трансцендентальном я, чему мешало стоявшее в его системе рядом с этим учением понятие о вещи в себе, как бытии независимом от я. В связи с этим противопоставлением познающему я вещи в себе стоит у Канта дуалистическое истолкование происхождения нашего познания: если с формальной стороны
176
возможность познания обусловливается трансцендентальным единством апперцепции, то по своей материальной стороне оно должно рассматриваться, как результат аффекции на наше (надындивидуальное) сознание со стороны вещей в себе. Мы видели, в каких противоречиях должно было запутаться учение об аффицированьи сознания вещами в себе. Избежать этих противоречий, какие Фихте ставил в счет не самому Канту, а кантианцам, извратившим точку зрения своего учителя, можно, по Фихте, не иначе, как допустивши, что познание имеет в трансцендентальном я свой источник по обеим своим сторонам — не только формальной, но и материальной, что, след., познаваемые предметы всецело создаются этим я, которое по тому самому уже нельзя рассматривать, как предмет, или субстанциальное бытие, а исключительно как деятельность и притом чистую деятельность, никоим образом не предполагающую, в качестве своего условия, наличность субъекта этой деятельности, ибо оно само есть необходимое условие всякого бытия, будет ли то субъект или объект: трансцендентальное, или, как обыкновенно выражается Фихте, чистое я есть чистая деятельность. «Im Anfang war das Wort», так начинается 4-ое Евангелие; im Anfang war die That, так начинается философия Фихте. В свое время Кант высказал предположение, что, быть может, два ствола человеческого познания, чувственность и рассудок, имеют один общий корень, нам неизвестный1. Фихте нашел этот корень: им оказалось чистое я. Деятельность чистого я состоит не в чем ином, как в том, что оно полагает себя само, - таков первый акт деятельности чистого я, а так как я может полагать себя, как я, лишь отличая себя от не-я, то, след., первым актом деятельности чистого я необходимо предполагается второй: чистое я противополагает себе, как я, — не-я. Но сколь скоро, теперь, в чистом я противополагаются друг другу я и не-я, они не могут не ограничивать друг друга, или -что то же — не могут противополагаться друг другу иначе, как делимые; отсюда — третье основоположение Фихте: я
1 Кг. d. rein. Vern., A2, Einleitung, S. 29.
177
противополагает в я делимому я делимое не-я, и только благодаря такому противоположению возможно сознание; следовательно, самое противоположение я и не-я, которое в свою очередь предполагает, как свое условие, положение я и положение не-я, совершается за пределами сознания. Вот почему не-я, или внешний мир, представляется сознательному я, как нечто от него независимое, как нечто ему данное... Итак, я противополагает себе не-я. Раз таким путем возникло не-я, то мы уже имеем основание говорить об отношении я к не-я. Это отношение может быть двояким: или я полагает себя ограниченным со стороны не-я, или же я полагает себя ограничивающим не-я; в первом случае оно действует как теоретическое я, во втором - как практическое, причем, однако, второму принадлежит примат над первым. Это ясно уже из того, что чистое я есть не что иное, как чистая деятельность, — значит, активность, а не пассивная восприимчивость. Примат практического я над я теоретическим надо понимать в том смысле, что теоретическая деятельность я, полагающая не-я, или мир, необходима для того, чтобы создать материал, на котором бы практическое я могло проявить свою деятельность, ибо деятельность нуждается в объекте для себя: я должно стать теоретическим для того, чтобы быть практическим. Так устраняется дуализм между теоретическим и практическим реализмом. Дальнейшая задача состоит в воспроизведении теоретических деятельностей и практических функций, в которых проявляет себя я. Задача разрешается посредством конструктивного метода, исходящего из понятия цели, а не индуктивно-эмпирического, обобщающего данные эмпирического сознания: зная результат процесса, который в то же самое время есть его цель, мы восстанавливаем отдельные моменты процесса, как условия, необходимые для осуществления данной цели.
Как видим, в философии Фихте не-я, или природа, не имеет самостоятельного значения: оно служит лишь средством для того, чтобы я могло проявить свою активность; оно — не больше, как материал, необходимый для того, чтобы практическое я могло выполнить на нем свой долг. Шеллинг (1775-1854), у которого в
178
высокой степени развито то чувство, какое, по-видимому, совсем отсутствовало у Фихте, именно — чувство природы (Natursinn), не мог согласиться со взглядом Фихте на последнюю. Для Шеллинга, как и для конгениального с ним в некоторых отношениях русского поэта, природа — «не слепок, не бездушный лик: в ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык». Это — «не доска, которую вколачивает перед собой первоначальное я (das Urich) с целью, ударившись о нее, устремиться назад, к самому себе, быть поставленным в необходимость размышлять и при помощи этого сделаться теоретическим я, чтобы — затем - перерабатывая и изменяя его, развить свою практическую деятельность»1, а — живой организм, который живет своею собственною жизнь# и в себе самом носит свое оправдание. Фихте обездушил природу — Шеллинг снова одухотворил ее. Снова воскресли те идеи, которые еще не так давно захватывали читателей в художественном, чарующем изложении Гердера (1744-1803). Природу нельзя так резко противополагать духу, как это делал Фихте: природа и дух различаются друг от друга не качественно, а количественно, — реальное (объективное) и идеальное (субъективное) находится как там, так и здесь, но только в природе реальное преобладает над идеальным, а в духе — наоборот. В виду тожества природы и духа их неудобно обозначать теми терминами, какими они обозначаются у Фихте: я и не-я, поскольку этими терминами выражается лишь противоположность между природою и духом, причем первая определяется не положительно, а отрицательно — всего лишь как противоположность по отношению к духу, - не-я. Шеллинг предпочитает природу называть объективным, реальным, а дух - субъективным идеальным. В связи с этим и то первоначальное основание, из которого развивается природа и дух, называется у Шеллинга уже не чистым я, потому что такое обозначение может дать повод ошибочно считать это основание более близким по своей природе к субъективному, нежели к объективному (так и было у Фихте), а просто - абсолютным, и определяется оно, как
1 Falckenberg, Gesch. d. neuer. Philos., 2 Aufl, Lpz. 1892, S. 365; ср. русск. пер., стр. 394.
179
первоначальное тожество идеального и реального. При этом общим у Шеллинга с Фихте является то, что оба они единственным средством к постижению того единства, которое лежит в основании бытия, признают созерцание (Anschauung), не чувственное, а интеллектуальное, или — как еще выражается Шеллинг — гениальное. Таким образом, интеллектуальное созерцание, возможность которого допускалась Кантом лишь в отношении к существам умопостигаемого мира, но безусловно отрицалась в отношении к человеческому познанию, снова находит для себя место в пределах последнего.
Последнюю, завершающую ступень в развитии послекантовского немецкого идеализма составляет, как известно, философия Гегеля (1770-1831). И у него — так же, как у Фихте и Шеллинга — мы находим учение о природе и духе, как двух областях, развивающихся из одного основания. Подобно Шеллинту, Гегель называет это основание разумом, но, в то время как Шеллинг не раскрыл всей полноты смысла, заключающегося в таком обозначении, Гегель на эту именно сторону обратил особенное внимание. Как природа, так и дух представляют собою необходимые моменты в развитии универсального разума, или логоса, - Гегель был самым последовательным панлогистом, какого только знает история философии, - но в то время как в природе разум является в состоянии инобытия по отношению к себе самому, которое (инобытие) необходимо для того, чтобы разум перешел к самосознанию, в духе он сознает себя самим собою, т. е. разумом: дух — это разум, достигший самосознания. Как видим, в этой системе природа снова низводится с той высоты, на какую ее поставил Шеллинг: смысл ее существования заключается в том, что именно через нее разум приходит к самосознанию, ибо «только тот хорошо знает свою родину, кто был за границей»; разум становится природой, чтобы стать духом; идея (так у Гегеля называется, как сейчас увидим, разум на первой стадии своего развития) выходит сама из себя, чтобы, обогатившись, снова возвратиться к себе. Так как, теперь, разумом называется обыкновенно разум, достигший самосознания, то Гегель
180
перш начальное основание природы и духа, или разум в первой стадии его развития, определяет, «как логическую идею, как идею в абстрактных элементах мысли. Такое определение единственно и оставалось возможным, если не хотели скрываться за неопределенным выражением. Во основе всего должен был лежать разум, мысль; но эта мысль должна быть первоначальным условием (prius) равно природы как и духа, а следовательно она еще не должна быть ни самозванным разумом (духом), ни разумом, воплотившимся во внешней реальности (природой). Для такого разума, для такой мысли только и оставалось бытие логическое, бытие в абстрактных элементах мысли»1. Соответственно с этим и средством к познанию абсолютного разума служит у Гегеля уже не интеллектуальное созерцание, как у Фихте и Шеллинга, а логическое понятие: абсолютное познается посредством связной системы понятий, под которыми, однако, Гегель разумеет не абстрактные понятия рассудка, а конкретные понятия разума, — конкретные в том смысле, что они не отвергают своих противоположностей, но, соединяясь с ними, дают в результате новые понятия2. Такое движение мысли от тезиса через антитезис к синтезису Гегель называет диалектическим развитием понятия. Наука, имеющая своею задачей построить при помощи диалектического метода связную систему понятий, выражающих содержание абсолютной идеи, или универсального разума, называется у Гегеля логикой. Из того, что построяемая логикой система понятий выражает содержание абсолютной идеи, которая воплощается в обеих областях бытия — природе и истории, следует, что логика имеет у Гегеля онтологическое значение: в стройной системе логических понятий она развивает определения бытия. Иначе и не мог учить последовательный пан логист.
1 «Критич. обзор последнего периода германск. ф-фии» М. Карийского. Спб. 1873. Стр. 24-
а См. хорошее выяснение этого пункта философии Гегеля в книге Я. Бермана «/{иалекгика в свете современной теории познания», М. 1908, гл. II.
181
Таковы три великие идеалистические системы, которые выросли на почве кантовской философии. Отрицательно их отношение к Канту определяется тем, что все они отрицательно относятся к понятию о вещи в себе, а потому и не дают ему места в своих построениях; положительно — тем, что все они в своем историческом и логическом генезисе должны быть возведены к учению Канта о трансцендентальном единстве апперцепции, как необходимом условии познания: «гносеологическое положение Канта о трансцендентальном сознании, обусловливающем весь опыт и познание», они «превращают в метафизическое положение о самодеятельном, все обосновывающем разуме и стараются построить природу и дух, как особые явления мира, из деятельности одного этого абсолютного основания мира»1, и как у Канта та деятельность надындивидуального разума, которая выражается в построении природы, совершается в подсознательных глубинах духа, так и в этих системах разум на первой стадии своего развития, будет ли то чистое я Фихте, абсолютное Шеллинга, идея Гегеля, действует бессознательно, достигая сознания лишь в высшем пункте своего развития. Таким образом, из того, что в основе мирового развития лежит разум, не следует, что процесс этого развития носит сознательный характер; разумность, целесообразность не предполагают необходимо сознательности; сознание — не начальный, а завершительный момент в процессе мирового развития. Мы увидим, что этой мысли суждено было иметь большое значение в том движении философской мысли, которое так или иначе примыкает к охарактеризованным нами системам.
Не трудно представить то могучее впечатление, какое произвели на современников философские построения великих немецких идеалистов первой половины XIX века. Не говоря уже о том, что в их построениях устранялись те противоречия, какие были вскрыты в учении Канта, уже успевшем сделаться центром притяжения для философской мысли, совокупными энергичными
1 Ремке, указ, соч., стр. 312-313.
182
усилиями его противников и последователей, — в этих построениях поражала грандиозность замысла и широта захвата. Казалось, хаос бытия и жизни проясняется, и каждому его элементу находится свое место в стройной системе мироздания, — ничего лишнего, случайного, неразумного! «Все действительное разумно», потому что «все разумное действительно», потому что бытие есть воплощение разума. И действительно, многое нашло себе объяснение в свете идеалистической философии. Не берем на себя смелости судить о том, какое значение имела философия природы Шеллинга в развитии естествознания - только ли отрицательное, но что история философии, так же, как и история церкви, не были бы тем, что они представляют теперь — а они достигли, особенно в Германии, в течение минувшего века блестящего развития - без философии Гегеля, это - не больше, как исторический факт, который достаточно сильно говорит о значении этой философии в истории науки. Однако, чем шире задача, тем рискованнее предприятие. Немецкая идеалистическая философия поставила себе слишком грандиозную задачу. Основная мысль выдающихся представителей этой философии сводится к тому, что бытие и разум тождественны — в том смысле, что бытие есть выражение разума, но если - так, то идеалистическая философия тогда только могла бы считать свою задачу выполненной, когда она в этом именно смысле и истолковала бы наличную действительность, т. е. разрешила бы явления природы и факты истории в логические понятия. Немецкий идеализм не остановился перед трудностями этой грандиозной задачи, однако в конце концов он вынужден был констатировать невозможность ее окончательного решения. Так, Гегель, который смело взялся за «диалектическую операцию»1 над природой в духе панлогизма, должен был сознаться, что при истолковании действительности в этом духе получился «иррациональный остаток», т. е. оказались такие природные образования и исторические факты, которые не поддаются конструированию. Гегель находит, что природа
1 Проф. М. И. Каринский, указ, соч.» стр. 51.
183
«бессильна остаться верной определениям понятия и сообразно им определять и поддерживать свои образования», что эти «образования отличаются неопределимою беспорядочностью», что «в природе игра форм имеет свою произвольную, необузданную случайность» и т. п. Вследствие всего этого Гегель должен был признать природу «неразрешимым противоречием», «отпадением разума (идеи) от себя самого»1. Но ведь такой вывод трудно согласить с основоположением немецкого идеализма, по смыслу которого бытие, как выражение разума, насквозь рационально. Приходилось поэтому подвергнуть пересмотру самое основоположение. Сам Гегель не делает этого — несмотря на неудачу своей «диалектической операции», он до конца остается верным своему основоположению, но уже Шеллинг, который вообще отличался более подвижною мыслью, счел себя вынужденным внести в построенную им «систему тождества» такие изменения, которые при ее построении не предполагались и которые, вопреки собственным заверениям Шеллинга, существенным образом изменяют ее первоначальный характер в смысле ослабления проникающего ее рационализма. Имеем в виду ту фазу в развитии философии Шеллинга, которая нашла свое выражение в его сочинении «о сущности человеческой свободы» («Philosophische Untersuchungen iibei das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusamenhangenden Gegenstande»), вышедшем в 1809-м году. Шеллинг с самого начала своей литературно-философской деятельности держался того взгляда, общего ему с другими немецкими идеалистами того времени, что конечное имеет свое основание в Бесконечном (Абсолютном), но он не показал, каким образом первое может вытекать из второго, - каким образом Бог, существо всесовершенное, может быть основою мира с множеством и разнообразием составляющих его отдельных вещей, бесконечно отстоящих от Бога, и — что еще непостижимее — с царящим в нем злом, сущность которого, по Шеллингу, состоит не в недостатке добра,
1 Hegel. Encyklopadie der philosoph. Wissenschafton, §§247, 250; см. указ. соч. проф. Каринского, стр. 50-51.
184
а в прямой противоположности в отношении к добру, связанной с активным противодействием последнему. Трудность вопроса заключается в том, что, с одной стороны, все, что существует, -значит, и зло, — должно иметь основание своего существования в Боге, ибо вне Бога ничего нет и быть не может, — в противном случае пришлось бы стать на дуалистическую точку зрения, несостоятельность которой не требует особых доказательств, с другой стороны - множественность и разнообразие отдельных вещей, бесконечно отстоящих от Бога, и тем более зло, как сила, противодействующая добру, не могут иметь свой источник в Боге, — в противном случае пришлось бы Бога признать виновником зла, что не мирится с понятием о Нем, как существе всесовершенном. Чтобы выпутаться из этого противоречия, безусловно неразрешимого - как думает Шеллинг — с точки зрения традиционного понятия о Боге, нужно изменить самое это понятие, — нужно признать, что в Боге существует нечто такое, что не есть Бог, и затем в этом «нечто» искать основание конечности и зла. Шеллинг так и делает: он различает в Боге основу Его существования от Его действительного существования, рассматривая, в связи с этим, мировую жизнь, как она открывается в природе и истории, в качестве движения от первого полюса ко второму, от альфы к омеге. Абсолютное, взятое до обнаружения в нем указанной противоположности, рассматривается теперь не как абсолютное тождество, а как абсолютное безразличие, — в этом смысле оно может быть названо Urgrund (первоосновой), еще лучше Ungrund (безосновностью), также Abgrund (бездной). Если бы Абсолютное не могло выйти из состояния безосновности, тогда не было бы никакого развития, никакого движения, никакой жизни, а как они есть, то мы должны предположить, что первооснова заключает в своих недрах два одинаково вечные начала, взаимоотношением между которыми и объясняется процесс мирового развития. Так как процесс развития всегда совершается в направлении от несовершенного к совершенному, от мертвого к живому, от мрака к свету, то мы должны характеризовать начальный момент процесса, как абсолютный мрак, абсолютное неразумие: это и
185
есть то, что Шеллинг называет в Боге основою Его существования, также - Deus implicitus, а завершительный момент - как абсолютный разум, абсолютный свет, действительный Бог, Deus explicitus, чуждый какого бы то ни было несовершенства. Что же касается мира конечных вещей и явлений, то это путь от первого полюса ко второму, от альфы к омеге, от Deus implicitus к Deus explicitus. Если, теперь, Deus explicitus обозначается, как дух, то основа Его еуществования, в противоположность этому, может быть названа, — вслед за Беме (1575-1624), немецким мистиком, оказавшим на Шеллинга в рассматриваемую эпоху его развития значительное влияние, — природою в Боге (die Natur in Gott), и если Абсолютный Дух определяется, как Абсолютный Разум, то, в противоположность этому, природу в Боге следует понимать, как начало, лишенное разумности, сознательности, - таким началом может быть только темная, бессознательная воля, которая, следовательно, и составляет первоначальную основу мирового процесса. Но так как завершительным моментом этого процесса является Абсолютный Разум, то основной функцией темной бессознательной воли следует признать не что иное, как стремление к разумности: мировая жизнь возникает из бессознательного стремления мировой воли к разумности. Поскольку, теперь, мировая жизнь порождается темной, бессознательной, неразумной волей, мы в ней находим следы конечности и зла (иррациональная сторона мирового бытия), а поскольку она определяется в своем развитии абсолютным разумом, как конечною целью развития, мы открываем в ней проявления законосообразности, целесообразности и красоты (рациональная сторона мирового бытия)1.
1 Трудно читать статью Шеллинга «о сущности человеческой свободы», не вспоминая в то же время стихов Тютчева о природе, внушенных впечатлениями ночи. Вот, напр., стихотворение «День и ночь»:
На мир таинственный духов, Над этой бездной безымянной, Покров наброшен златотканый Высокой волею богов.
186
День - сей блистательный покров, -День, земнородных оживленье, Души болящей исцеленье, Друг человеков и богов! Но меркнет день, настала ночь; Пришла - и, с мира рокового Ткань благодатную покрова Собрав, отбрасывает прочь... И бездна нам обнажена С своими страхами и мглами, И нет преград меж ей и нами -Вот отчего нам ночь страшна!
Еще: Святая ночь на небосклон взошла, И день отрадный, день любезный, Как золотой ковер, она свила, — Ковер, накинутый над бездной. И, как виденье, внешний мир ушел... И человек, как сирота бездомный, Стоит теперь и немощен, и гол, Лицом к лицу пред этой бездной темной. И чудится давно минувшим сном Теперь ему все светлое, живое, И в чуждом, неразгаданном ночном Он узнает наследье роковое...
И еще: О чем ты воешь, ветр ночной, О чем так сетуешь безумно? Что значит странный голос твой, То глухо-жалобный, то шумный? Понятным сердцу языком Твердишь о непонятной муке. И ноешь, и взрываешь в нем Порой неистовые звуки! О, страшных песен сих не пой Про древний хаос, про родимый!
187
Как жадно мир души ночной Внимает повести любимой! Из смертной рвется он груди И с бесконечным жаждет слиться... О, бурь уснувших не буди: Под ними хаос шевелится!
И там, у философа, и здесь, у поэта, видим отражение того недоуменья, какое испытывает душа, ощущая соприкосновение с внутренней основой мировой жизни — бездной, хаосом, мраком, обычно скрытым под «золотым ковром» дня. И терминология у обоих сходная: у того и другого — бездна, хаос; у того и другого — подчеркиванье противоположности между светом и тьмой (в статье Шеллинга речь идет, между прочим, об «иррациональном, или мрачном принципе творения» в противоположность свету — Werke, VII, S. 379), и если Тютчев говорит про «древний хаос», то у Шеллинга находим речи о «древней природе» (там же, S. 374)- Может быть, здесь не простое совпадение между философом и поэтом, а влияние первого на второго? Известно, что, живя в Мюнхене, Тютчев часто спорил с Шеллингом, и если русский поэт, всегда готовый, среди душевных бурь и волнений, «как Мария, к ногам Христа навек прильнуть», имело много поводов для того, чтобы в спорах с немецким философом доказывать тому «несостоятельность его философского истолкования догматов Христианской веры» (см. «Биографию Ф. И. Тютчева», написанную его зятем И. С. Аксаковым. М. 1889, стр. 42), то дело обстояло иначе в отношении к философской стороне в миросозерцании диспутантов: здесь между ними было много пунктов соприкосновения. Если бы читатель отсюда сделал тот вывод, что, значит, между философской и богословской стороной в миросозерцании Тютчева не было полной гармонии, он был бы близок к правде... В дальнейшем движении русской мысли мы находим отражение отмеченных нами мотивов, общих Шеллингу и Тютчеву, у Влад. Соловьева, который, как известно, в своем духовном развитии испытал влияние и философии Шеллинга, и поэзии Тютчева. Вообще философия Шеллинга была весьма значительным фактором в истории умственной жизни нашей родины. Достаточно вспомнить одно из самых заметных явлений в небогатой такими явлениями истории русской философии - философию старых славянофилов, которая и своим общим характером, и некоторыми частными пунктами напоминает Шеллинга; особенно бросается в глаза сходство между Шеллингом - с одной стороны, Киреевским и Хомяковым — с другой, в критике гегелевского рационализма. Только после сравнительного изучения философии славянофилов и философии немецких идеалистов, особенно Шеллинга, можно произнести окончательное суждение
188
Признав первоначальной основой бытия начало иррациональное, Шеллинг уже не мог удержаться на почве рационалистической гносеологии: если разум — по принципу «подобное познается подобным» - познается разумом, то иррациональная основа бытия не может быть выведена из требований разума, — она может быть лишь констатирована, как первичный факт, непостижимый для разума, а так как факт может открываться лишь в опыте, то Шеллинг в последнем периоде своего философского развития выступает 1) с решительной критикой тех философских систем, которые отождествляют бытие с разумом, как систем односторонних, и - в связи с этим - 2) с требованием восполнить рационалистическое объяснение действительно разумной системы конечных вещей опытным познанием их иррациональной основы. Так как речь идет о постижении мировой основы, открывающейся в мировой жизни, то нужно привлечь к рассмотрению данные не индивидуального, а коллективного сознания, в котором открывается абсолютная мировая основа. Такого рода данные находят место в мифологии и откровении, исследованием которых и заканчивается продолжительная и неугомонная работа философской мысли Шеллинга. Начав защитою исключительных прав разума в деле познания мирового бытия, Шеллинг кончил, как видим, требованием ограничения этих прав в пользу общечеловеческого религиозного опыта.
Если, теперь, мы от Шеллинга обратимся к Шопенгауэру (1788 — i860) с его учением об интеллектуальной интуиции, вскрывающей глубочайшую основу мирового бытия - слепую, бессознательную волю, объективацией которой является мир отдельных вещей, познаваемый разумом, или мир представления, мы должны будем включить блестящего представителя философского пессимизма, вопреки его собственным заявлениям, в тот самый ряд философского развития, к какому принадлежат те «профессора философии», от
относительно первой. Между тем у нас доселе влияние Шеллинга на русскую мысль только отмечалось — не исследовалось. Оно еще ждет своего исследователя.
189
идейного соседства с которыми Шопенгауэр так решительно и вместе с тем так безуспешно открещивается. В самом деле, достаточно простого сопоставления философии Шопенгауэра с «философией свободы» Шеллинга, чтобы подметить сходство между тою и другой не только в мыслях, но и в терминах, и если это свойство нельзя объяснить прямым заимствованием одного у другого (Шопенгауэра у Шеллинга), то оно достаточно объясняется общим корнем их философского развития, каковым надо признать канто-фихтевскую философию. Философия Шопенгауэра - заключительное звено того развития, исходным пунктом которого служит учение Канта о природе, как произведении бессознательных функций общечеловеческого разума. Уже Шеллинг установил то положение, что деятельность, лишенная сознания, есть деятельность не разума, а воли, хотя основную функцию мировой воли видел в стремлении к разуму, предполагающем в свою очередь предчувствие разума. В связи с этим и завершительный момент развития, являющийся вместе с тем его целью и идеалом, определяется у Шеллинга, как Абсолютный Разум. Шопенгауэр освобождает мировую основу от какой бы то ни было примеси рациональности: это - абсолютно бессознательная, абсолютно неразумная воля, которая ничего не хочет, как только хотеть: бесцельное хотение — единственная функция шопенгауэровской воли. Шопенгауэр, как видим, гораздо последовательнее своих предшественников в учении об иррациональном характере мировой основы. Само собою разумеется, что при таком взгляде на мировую основу невозможно было вывести из нее мир вещей с его разумными законами, а потому для Шопенгауэра ничего не оставалось, как трактовать этот мир в качестве простой иллюзии: это - покров, наброшенный над бездною, — не больше. В связи с этим у Шопенгауэра идеалом мирового развития является не просветление мировой основы, как у Шеллинга, а ее полное упразднение (Нирвана), хотя и остается непонятным, каким образом может быть упразднена самая сущность мирового бытия. Не менее непонятным представляется и то, каким образом абсолютно неразумная воля находит свою объективацию в мире,
190
представляющем воплощение идей разума. Сказать, что этот мир есть видимость, не значит разрешить загадку, потому что и видимость есть факт, требующий объяснения. Здесь мы имеем дело с таким пунктом, который является предельным для всякой системы, полагающей в основу бытия начало иррациональное. Как морская волна о гранитную скалу, она разбивается о непоколебимую твердость философской аксиомы, формулированной Фихте Старшим в следующих словах: «из ничего не возникает ничего, и безразумность (die Vernunftlosigkeit) никогда не может дойти до разума»1.
Таков один из тех конечных пунктов, к какому привело в своем историческом разветвлении учение Канта о природе, как продукте бессознательного творчества надындивидуального разума: в философии Шопенгауэра оно нашло свою Немезиду1 2 з. Но еще более суровая Немезида ожидала его в школе Гегеля. И здесь вопрос о том, каким образом возможен переход от абстрактных понятий, составляющих содержание абсолютной идеи, к конкретной действительности, оказался роковым для целой системыз. Невозможно было понять, почему логически необходимым моментом
11. G. Fichte. Die Grundziige des gegenwartigen Zeitalters, 9-te Vorlesung. - Werke, В. VII, S. 133-
2 Небезынтересно отметить, что недавно умерший представитель «философии бессознательного», в общем относившийся к Канту отрицательно, признавал однако за последним ту заслугу, что «он все функции категорий признавал досознателъными синтетическими интеллектуальными функциями и сводил к одной досознательной синтетической функции, из которой они и дифференцировались, как простые только ее видоизменения». (См. об этом в статье проф. И. В. Тихомирова о Гартмане — Вопр. филос., 64 = 1906, IV, стр. ЗЗб). Similis similibus gaudet: Гартман отчетливее всего апперципировал и выше всего оценил тот пункт в учении Канта, который стоит в логической и историко-генетической связи с основами «философии бессознательного», насколько они выразились в воззрениях не только Гартмана, но и — еще раньше — Шопенгауэра.
з В изображении того процесса, посредством которого панлогизм Гегеля перешел в натурализм Фейербаха, следуем уже указанному сочинению проф. М. И. Карийского, куда отсылаем за подробностями и точными цитатами.
191
в развитии абсолютной идеи является существование ее в такой форме, которая, по собственному признанию Гегеля, не может быть разрешена в чистые понятия разума: такова пространственно-временная действительность в ее двустороннем существовании - в качестве природы и духа. Вследствие этого учение Гегеля о диалектическом переходе от категорий к конкретной действительности было объявлено «основным заблуждением гегелевой философии» (Вейссе), с роковою неизбежностью поведшим к ложному истолкованию природы, как инобытия абсолютной идеи, как «отпадения идеи от себя самой». Не трудно было усмотреть, что такое истолкование природы заключает в себе внутреннее противоречие: природа признается выражением разума, но разум проявляет себя на этот раз в такой форме существования, которая никоим образом не вытекает из самой природы разума. Сам Гегель признавал, что природа заключает в себе «внутреннее противоречие», но в то время как Гегель ограничился лишь констатированием этого противоречия, как не допускающего дальнейшего объяснения, ученики Гегеля пытались найти выход из созданного учителем положения. По самому существу дела выхода можно было искать в данном случае в двояком направлении: или оставить значение подлинной действительности за абсолютной идей с составляющими ее содержание категориями, вместе с чем конкретная действительность духа так же, как и природа — обратилась бы в необъяснимый призрак, загадочную иллюзию (на этой точке зрения в свое время стоял Парменид, глава элейской школы), или же, если хотели избежать последнего вывода, — признать конкретную действительность, и притом в ее наиболее конкретном выражении, каковым является бесчисленное количество особей, индивидуальностей, действительным бытием, но в таком случае абсолютная идея теряла то значение, какое ей придавалось в системе Гегеля, значение истинно сущного, обращаясь в простой момент мирового развития, если только не в пустую абстракцию. Школа Гегеля пошла во втором направлении, и это понятно: она подвергла пересмотру основоположения своего учителя именно потому, что они
192
не объясняли конкретной действительности во всей полноте ее проявлений, — могла ли она при таких условиях стать на такую точку зрения, которая не объясняла, а упраздняла конкретную действительность? Сходясь в признании за последней значения истинно сущего, последователи Гегеля расходились до противоположности в дальнейшем раскрытии своих мыслей: в то время как мыслители, примыкавшие к правому крылу школы, верные учению Гегеля о духе, как высшем моменте в развитии абсолютной идеи, признавали значение истинно сущего за духом, и именно за духовною индивидуальностью: «личность, — говорит Фихте Младший, — есть собственная истина действительности»1, левое крыло, во главе с Фейербахом (1804 — 1872), в том же самом значении выдвигало природу, в свою очередь ссылаясь на авторитет Гегеля, по взгляду которого дух развивается в недрах природы, продолжающей и после возникновения духа существовать рядом с последним и независимо от него. С этой точки зрения природа является необходимым предположением духа. Правда, у Гегеля она является в таком качестве постольку, поскольку она все-таки есть идея, только в 1 2
1 См. Каринск., указ, соч., стр. 59. Тот же Фихте так формулирует основную ошибку философских систем своего отца и Гегеля: «оба разделяют наследственную ошибку всякой спекуляции, которая хочет свое содержание и всю истину эвристически вытянуть из себя самой, вместо того, чтобы методически раскрыть и привести к сознанию преднайденное (den vorgefundenen)». Ueber Gegensatz, Wendepunkt und Ziel heutiger Philosophie, 1 Th., Heidelb. 1832, S. 46. Ссылаемся на это место вслед за проф. Каринским, — указ, соч., стр. 34). Отмечая ошибку спекулятивной философии, Фихте Младший, как видим, намечает исходный пункт и для той философии, которая должна стать на место спекулятивной: ее задача — «методически раскрыть и привести к сознанию преднайденное». Эти слова могли бы служить мотто к целому ряду систем последующего времени, характеризующихся, как разновидности «философии действительности». Сюда относятся многие из современных философских направлений, в том числе и чистый эмпиризм. В связи с этим и термин Фихте Младшего «преднаходимое» сплошь да рядом встречается у новейших философов, напр., Авенариуса, Риккерта и др. Ср. также Lange «Geschichte d. Materialismu», II В., 8.
2 Aufl., S. 31.
193
состоянии инобытия, так что дух, имея своим предположением природу, возникает в существе дела из идеи, являясь возвращением идеи к себе самой; но раз за идеей было отвергнуто значение истинно сущего, и ее место заняла природа, как мы это видим у Фейербаха, то «дух, возникающий из природы, природу имеющий своим предположением, должен был оказаться простым продуктом материи, процессом, которого истинною субстанцией была материя»1. Так идеализм Гегеля перешел в материализм Фейербаха. Но коль скоро первоосновою бытия была признана материя, постигаемая при помощи чувств, оказывалось невозможным оставаться при исходном пункте философии Гегеля, каковым является его учение о разуме, как источнике познания, и мы видим, что рационализм Гегеля заменяется у Фейербаха сенсуализмом1 2 3.
Таков исторический генезис философской системы Фейербахаз.
1 Каринск., указ, соч., стр. 62.
2 Там же, стр. 62-63.
3 Вопрос о переходе гегелевского панлогизма в фейербаховский натурализм неоднократно привлекал к себе внимание русских исследователей. Так, Влад. Соловьев в своем «Кризисе западной философии» (1874 г.) объясняет этот переход следующим образом. «Гегель абсолютным началом принимал - понятие само по себе. Но так как немыслимым признано понятие как действительность без понимающего, то настоящим носителем абсолютной идеи является действительный человек. Но нельзя признать человека или конечный дух абсолютным началом, всеобщим подлежащим, ибо он и у Гегеля по самому своему понятию предполагает уже бытие внешней природы, его обуславливающей; следовательно остается признать первым, безусловным началом это внешнее бытие природы. С таким признанием разом все изменяется в свое противоположное: принцип, содержание и первее всего метод познания. Когда за абсолютное первоначало принималось понятие разума — начало внутреннее для познающего, тогда и метод познания был изнутри, априорный, диалектический; когда же безусловным началом стало бытие природы совершенно внешней для познающего, как познающего, и независимой от него, тогда и самое познавание необходимо стало внешним; если действительно сущее есть природа для меня познающего сама по себе внешняя и нисколько моим разумом не определяемая, то настоящим познанием должно, очевидно, считать не то, которое вытекает a priori из моего разума, а то, которое дается мне извне, в опыте, - истинным будет то, что я познаю как явление
194
самой природы, как факт; поэтому источником познания становится внешний опыт и методом — индуктивная эмпирия». (Собр. соч. Влад. Серг. Соловьева, т. 1, стр. 62-63). Как видим, по Соловьеву исходным пунктом в развитии послегегелевской философии, приведшем к материализму и сенсуализму, было признание того, что понятие не может существовать само по себе, что оно предполагает носителя, каковым и признан был человек, в свою очередь предполагающий существование внешней природы, его обуславливающей. Ту же в сущности мысль находим у А, С. Хомякова, который едва ли не первый — по крайней мере, в русской философской литературе — отметил в статье «О современных явлениях в области философии», первоначально напечатанной в 1 кн. «Русск. Беседы» за 1859 г., роковую необходимость перехода крайнего идеализма Гегеля в противоположную крайность материализма, как он же — заметим кстати -еще раньше, в статье «По поводу Гумбольдта», написанной, по предположению (на чем основанному?) новейшего издателя сочинений Хомякова, в 1819 г. (впервые напечатанной когда?), отметил значение в ходе духовного развития Германии чуть не на днях получившей у нас известность (и распространение?) книги Макса Штирнера (Каспара Шмидта) «Der Einzige und sein Eigenthum» (i-e издание вышло в Лейпциге в 1845 г-; Хомяков заглавие книги передает не совсем точно: «Der Einzelne» и т. д.), «нелепой по своей форме, отвратительной по своему нравственному характеру, но неумолимо логичной». (Поли. собр. соч. А. С. Хомякова, изд. 3, т. 1, М. 1900, стр. 150 -151). Что касается перехода гегелевского идеализма в материализм, то он, по Хомякову, находит для себя достаточное объяснение в действии «закона полярности», в силу которого «односторонняя мысль или, лучше сказать, односторонняя ложь мысли заключает в себе или поставляет по необходимости ложь противоположной односторонности» (там же, стр. 303)- Основная ошибка Гегеля, которая - в свою очередь имеет свой корень, «в ошибке всей школы, принявшей рассудок за целость духа» и - в связи с этим — «понятие за единственную основу всего мышления», состояла в том, что Гегель начал развитие, и притом вполне сознательно, с отсутствия субстрата (там же, стр. 299): создать мир без субстрата - в этом-то и состояла задача Гегеля. Когда критика выяснила невозможность осуществления этой задачи, а след, и несостоятельность философии Гегеля, его ученики задумали исправить систему учителя введением в нее недостающего субстрата, а так как дух для этой роли, «очевидно, не годился, во-первых, потому, что самая задача Гегеля прямо выражала себя, как искание процесса, созидающего дух; а во-вторых, и потому, что самый характер Гегелева рационализма, в высшей степени идеалистический, вовсе не был спиритуалистическим», поскольку он ставил рассудок на место цельности духа, пришлось ученикам принять вещество в качестве субстрата. В результате получился
195
Всмотримся теперь в главные очертания ее логической структуры, какую она получила к тому времени, когда для Фейербаха закончился период сторонних влияний.
Мы видели, что Фейербах признает реальное существование не за общим, как Гегель, а за единичным, причем придает единичному предикаты неделимости, целостности, единства. С этой точки зрения действительность есть совокупность индивидуальностей, разнообразных до бесконечности1. Мышление, которое выражает в своих понятиях лишь то, что есть общего в сходных индивидуумах, по тому самому не исчерпывает бесконечного разнообразия действительности. «Действительное может быть представлено в мышлении не в целых числах, а лишь в дробях. Это объясняется природой мышления, сущность которого — всеобщность, в отличие от действительности, сущность которой — индивидуальность»* 1 2. Здесь -
«чистейший (?) и грубейший материализм» (там же, стр. 302). С переходом идеализма в материализм «смутный и чувственный образ вещества получил значение понятия, область ощущений сделалась точкою отправления для мысли, первое место’ в философской системе учеников дано тому свидетельству, которое, под именем sinnliche Gewissheit, было так низко поставлено учителем» (там же, стр. 304). Правильно отмечая то значение, какое имело в процессе разложения гегелевской философии искание субстрата для процесса развития, Хомяков оставляет вне своего внимания тот интерес к конкретному, единичному, который, как мы видели, в значительной степени определял собою работу философской мысли и в критике философии Гегеля, и в ее преобразовании.
1 См. Фр. Иодля, «Л. Фейербах. Его жизнь и учение», пер. с нем. Е. Максимовой, Спб. 1905, стр. 27 — 28. Эта книга, принадлежащая перу последователя Фейербаха и издателя его сочинений, автора уже упоминавшихся сочинений — «Истории этики» и монотрафии о Юме, а также учебника психологии, представляет собою лучшую монографию о Фейербахе, ценную в особенности тем, что в ней приняты во внимание все сочинения этого философа, а именно: при изложении его гносеологии главным образом «Grundsatze der Philosophie der Zukunft» (1843), философии религии — помимо «Сущности христианства» (1841), еще позднейшие сочинения Фейербаха «Das Wesen der Religion» (1845) и «Vorlesungen uber d. Religion» (1851). Книжкой Иодля мы и пользуемся в дальнейшем изложении учения Фейербаха.
2 Grundsatze, §48 = Иодлъ, стр. 32.
196
пункт наибольшего расхождения между Фейербахом и Гегелем и вместе с тем — самый ценный пункт в философии Фейербаха, общий, впрочем, у него с критиками философии Гегеля, примыкающими к правому крылу гегелевской школы. Гегелевская мудрость, мечтавшая постигнуть в своих понятиях самую сущность бытия, на деле, — по выражению Фейербаха, — довольствуется лишь одними костями, -живая действительность от нее ускользает1. Она может открываться лишь в непосредственном переживании путем созерцания (интуиции), — не интеллектуального созерцания, как у Шеллинга: такого созерцания нет, а чувственного, каким только и обладает человек. Таким образом чувственность есть последний источник звания: «только посредством чувств дается предмет в истинном смысле, а не мышлением самим по себе»1 2 з. Значение мышления состоит в том, что оно помогает нам разобраться в разрозненных данных чувственного восприятия. «Обо всем говорят нам чувства, но чтобы понимать их речь, нужно их объединить». Вот эту-то объединяющую функцию и выполняет мышление: «разбирать в связном виде евангелие чувств — значит мыслить»з. В этом пункте Фейербах близко подходит к учению Канта о том, что предмет, как единое целое, не дается в созерцании, а создается разумом из тех элементов, какие даны в созерцании; однако другие замечания
1 Эти мысли высказываются Фейербахом еще в 1830-м году, в пору наибольшего влияния на него Гегеля, в его сатирических двустишиях, напечатанных в приложении к сочинению «Мысли о смерти». Вот два из них (в русск. пер. г. Максимовой): «Сущность только понятие - это значит: скелет человека обладает большей реальностью, нежели живой человек»; «как? высокомерной вам кажется гегелевская мудрость? подобно гиене довольствуется она одними костями». (См. русск. пер. монографии Иодля о Фейербахе, стр. 4; там же — эти двустишия в немецком подлиннике). Впоследствии, когда Фейербах окончательно освободился от влияния Гегеля (это произошло к концу 30-х годов), намеченные здесь мысли были раскрыты подробнее.
2 Grundsatze, §32 = Иодлъ, стр. 26.
з Wider d. Dualismus v. Leib u. Seele, 1846 г.: у Иодля стр. 29; ср. русск. пер. трактата «Против дуализма» в книжке: Л. Фейербах. О дуализме и бессмертии. Пер. Н. А. Алексеева Спб. 1908, стр. 39.
197
Фейербаха сейчас же проводят резкую грань между ним и Кантом; разум, — по Фейербаху, — не вносит от себя какого-либо смысла в природу, - он лишь переводит и истолковывает книгу природы1. «Люди видят вещи сперва такими, какими они им являются, а не такими, каковы они на самом деле; видят в вещах не их самих, но свои представления о них», и только благодаря размышлению научаются отграничивать то, что действительно дано в чувственном восприятии, от того, что примешивается к нему фантазией, — в этом состоит значение разума, к этому сводится и задача философии, которая постольку имеет значение, поскольку не удаляет нас от чувственно воспринимаемых вещей, подобно философии Гегеля, а наоборот -приближает к ним1 2 3 4 5. Такого рода философия — необходимое условие правильного воспринимания действительности. Под чувствами, как органами познания, Фейербах разумеет - по его собственным словам, - не грубые, вульгарные чувства, но чувства, развитые образованием, — не глаза анатома или химика, а глаза философаз. В виду сказанного становится понятным то представляющееся на первый взгляд парадоксальным, утверждение Фейербаха, что «непосредственная, чувственная интуиция» (т. е. точное наблюдение и восприятие доступного чувствам явления) — «скорее позже, нежели представление и фантазия »4.
Как бы то ни было, но основным источником познания и единственно надежным критерием его достоверности является чувственность: «только чувственное ясно, как солнце; только там, где начинается чувственность, прекращаются сомненья и споры»5. Но соприкосновение с подлинной действительностью в чувственном созерцании было бы, конечно, невозможно, если бы сама действительность не носила чувственного характера. Так оно и есть —
1 Там же; Иодль, стр. 30; ср. русск. пер. «Против дуализма», стр. 38.
2 Grundsatze, §43 - Иодль, стр. 32.
3 Grundsatze, §41.
4 Grundsatze, §43.
5 Grundsatze, §38.
198
по Фейербаху — на самом деле. И для Фейербаха, как для Беркли или Фихте, познание есть взаимодействие между субъектом и объектом, но в то время как Беркли под субъектом познания разумеет духовную субстанцию, а Фихте — чистое я, Фейербах и ту, и другое считает пустыми абстракциями. Субъектом познания является, по Фейербаху, не духовная субстанция или чистое я, а настоящий, действительный, целый человек, который имеет глаза и уши, руки и ноги1. Таким образом, тело относится к самой сущности человека, - мало того: тело во всей его целостности и есть самая сущность человека1 2. Однако это «тело» ощущает и размышляет, желает и любит. Спрашивается — в каком же отношении эти процессы находятся к телу? Так возникает вопрос об отношении между физическим и психическим.
Разрешая этот вопрос, Фейербах самым решительным образом настаивает на нераздельном единстве физического и психического. «Думает и ощущает, по нему, не душа - это лишь олицетворенная, или гипостазированная, обращенная в сущность функция ощущения, мышления и хотения, но также и не мозг: как душа является психологической абстракций, точно так же и мозг, выделенный из тела в его целом и утвержденный сам в себе, в качестве органа духа, есть абстракция физиологическая. Ведь мозг лишь до тех пор орган мышления, пока связан с головой и телом человека. Внутреннее и внешнее неотделимы друг от друга. Внешнее уже предполагает внутреннее; но, с другой стороны, только в своем обнаружении осуществляется внутреннее. Кто переступает за границу этой точки зрения целостности, тот из совершенного существа делает несовершенное, усекает, раздробляет действительность. Но элементы действительности, будь-то атомы материалиста, или монады идеалиста, или дух и тело псйхолога-эмпириста, не составляют еще самого существа. Мы гораздо ближе к нему, когда постигаем животное в его целостности, чем когда посредством психологической абстракции вырываем у него из тела душу, или при помощи
1 Grundsatze, §§50, 51 = Иодль, стр. 31.
2 Grundsatze, §36 = Иодль, стр. 38
199
физиологического мучительства раскрываем у него череп и производим над мозгом хитроумные эксперименты». Истина, таким образом, не в материализме или идеализме, не в физиологии или психологии; истина лишь в антропологии; только в ней находим мы индивидуальность и целостность. Но если реальная жизнь реального, живого человека оказывается по существу единой и целостной, то имеет ли какой-либо смысл деление составляющих ее процессов на физические и психические? Имеет, потому что в нем находит свое выражение различие двух точек зрения, с каких можно рассматривать акты человеческой жизни, - субъективной и объективной: «то, что для меня, или субъективно, есть чисто духовный, имматериальный, нечувственный акт, - само по себе, или объективно», оказывается «актом материальным и чувственным». Значит, различая физическое и психическое, мы вовсе не предполагаем двух различных сущностей ~ материальной и духовной, — мы только различаем две точки зрения, с каких рассматривается одна и та же сущность. Соответственно этому физиология отличается от психологии не предметом изучения, а лишь источником, из которого она почерпает свои сведения о предмете, общем у нее с психологией1. В данном пункте Фейербах близко подходит, как это верно отметил Иодль1 2 3, к той точке зрения, которая несколько позже подробно была развита ФехнеромЗ; но дело сейчас же меняется, как только вспомним, что сущностью человека признается у Фейербаха тело: это уже не психофизический монизм, как у Фехнера, а материалистический, хотя и выраженный не совсем определенно, поскольку понятие Фейербаха о теле, взятом во всей его целостности, остается не ясным: если под телом разуметь совокупность протяженных частиц, находящихся в
1 Свои мысли об отношении между физическим и психическим Фейербах излагает главн. образ, в уже упоминавшемся трактате «Против дуализма тела и души»; мы приводим их в изложении Иодля (стр. 57-58, 61-62); ср. русск. пер. трактата, стр. 21-24, 9-п.
2 Иодль, стр. 62-63.
3 О Фехнере - в книге его единомышленника, проф. А. Н. Гилярова «Введение в философию», Киев, 1907 г.
200
движении, то тогда точка зрения Фейербаха представляет чистейший материализм; иное дело, если под телом разуметь субстрат одинаково - физиологических и психических процессов, но в этом последнем случае можно ли признать правомерной терминологию Фейербаха?
К сущности человека относится, далее, то, что он — вопреки Штирнеру — не может быть мыслим, как одинокое существо: я предполагает ты, ego- alter ego. Глубочайший корень нашего убеждения в существовании других людей - общение между полами. Я мыслю, я ощущаю лишь в качестве мужчины или женщины, но я не мог бы мыслить или ощущать себя мужчиной или женщиной без того, чтобы не выйти за пределы себя самого, чтобы с представлением о себе не соединять представления о другом, отличном от меня, но тем не менее соответствующем мне существе. Ощущение общения с лицом другого пола, связанное с чувством любви к этому лицу, — не только, значит, ощущение, но и любовь — вот на чем утверждается мое убеждение в реальном существовании другого человека, ты, alter ego. Но за двумя следуют три, четыре и т. д.: результатом общения между мужчиной и женщиной являются дети, существование которых для меня также несомненно, как и существование моей жены. В конце концов мы не можем мыслить себя иначе, как членами рода, не как абстрактного понятия, а как живого, конкретного множества противостоящих нам других я, других людей. И как я без ты не мог бы произвести на свет третьего человека, так точно не мог бы я без ты проявить себя ни как существо нравственное, ни как существо познающее. Что такое объективное благо? То, что является благом не только для меня, но и для тебя, и для него и т. д. Что такое объективная истина? То, что признается истиной не только мною, но и тобою, и им и т. д. Только как член рода я могу быть нравственным существом; только как член рода я могу познавать истину. Я наделяю объективным существованием то, что и другими воспринимается также, как мной. Значит, не будь других людей — не было бы и объективного бытия. Но другие люди есть, согласие в их восприятиях
201
есть, — значит, и та среда, в которой и я, и они существуем, тоже есть1. «Распределяющуюся в пространстве и времени, окружающую человека действительность, частью и членом которой он находит самого себя и других людей», Фейербах называет природой1 2 3, существование которой, по предыдущему, также для меня достоверно, как существование меня самого, тебя, его...
Раз установлено существование, наряду с человеком, природы, неизбежно возникает вопрос: в каком отношении друг к другу находятся человек и природа? В ответе на этот именно вопрос сказывается со всею силою противоположность между Фейербахом и его идейными предками. В то время, как последние стояли на том, что «безразумность никогда не может дойти до разума», и что, след., разум обусловливает собою происхождение и строение природы, Фейербах, наоборот, утверждает, что идти от разума к неразумию — это дорога в сумасшедший дом. На самом деле развитие движется в направлении от низшего к высшему, — след., от неразумия к разумуз,
1 Мысли эти развиваются Фейербахом во многих сочинениях; см. у Иодля стр. 35-38.
2 Иодль, стр. 40.
3 Vorlesungen fiber das Wesen d. Religion, 1851, №16; см. у Иодля стр. 49. Как ни далеко в этом пункте отходит Фейербах от своих учителей, все-таки его мысль - их детище: она подготовлена их учением о том, что сознание составляет не начальный, а завершительный момент мирового развития. Мало того, - у учителей мы встречаемся иногда с такими формулами, которые без изменения могли бы быть приняты Фейербахом. Так, Шеллинг в уже упоминавшейся статье «О человеч. свободе» ссылки на то, что-де нельзя безразумное считать корнем разума, ночь - началом света называет «бабьими жалобами», которые основываются на непонимании того, каким образом при таком взгляде может все-таки сохраниться приоритет разума. Настаивая, в противоположность «бабьим жалобам», на том, что безразумное (das Verstandlosen) служит корнем разума, Шеллинг в подтверждение своего тезиса ссылается на то, что «всякое рождение есть рождение из мрака к свету: зерно должно быть брошено в землю и умереть во мраке, чтобы поднялся прекрасный светлый образ и развернулся под солнечным лучом; человек формируется в материнской утробе, и из темных элементов безразумного (из чувства, стремления - чудной матери познания) вырастают впервые светлые мысли». (Schellings Werke, VII В., S. 360). Правда, Шеллинг
202
в чем достаточно убеждает нас изучение человека, которое показывает, что в человеке материя предшествует духу, бессознательное — сознательному, бесцельное — цели, чувственность - разуму, страсть — воле1. Идти от неразумия к разуму — это, говорит Фейербах, дорога высочайшей мудрости* 1 2 3. Все, что существует, имеет источник своего существования не в разуме, а в природе, которая сама не может быть выведена из чего-нибудь другого, потому что всякая попытка такого выведения необходимо предполагала бы существование природы, или - что то же - действительности. В частности, нельзя считать природу произведением Бога, потому что от понятия Бога, как сущности совершенной, логически невозможно перейти к понятию природы, как несовершенной сущности: зачем нужна несовершенная сущность, раз существует совершенная? При существовании Бога существование природы излишне. И так, что-нибудь одно: или Бог существует, но тогда существование природы есть пустой призрак, или же существует природа, но тогда уже нет места для Бога. Поскольку для Фейербаха существование природы стоит вне каких бы то ни было сомнений, он решительно становится на сторону второго члена дилеммы: Бог, по Фейербаху, логически невозможенз. Отсюда, однако, не следует, чтобы природу можно было поставить на место Бога. Верно то, что природа — такая сущность, вне которой человек — ничто: человек — дитя природы, но верно и то, что у нее нет сердца, разума, сознания, что все эти свойства она впервые получает от человека, а потому об ее обоготворении не может быть речи. Наша обязанность по отношению к природе состоит не в том,
пытается выраженные в приведенных словах мысли связать с признанием за разумом приоритета в мировом развитии, но выпряденные им для этой цели соединительные волокна оказались настолько тонки, что легко порвались при дальнейшем употреблении, и формулы Шеллинга, выражающие мысль о том, что корень разума в безразумном, пошли в ход вне связи их с мыслью о приоритете разума в бытии.
1 См. Иодля, стр. 42.
2 Цит. в примеч. 1-ом на предшеств. стр.
3 Vorles. iib. Relig., Nr. io, 12,16,18,19; Wesen d. Relig., §24, 25 = у Иодля стр. 44,48-49, a также стр. 54.
203
чтобы ее боготворить, а в том, чтобы чтить и хранить ее, как основу своего существования, как источник своего душевного и телесного здоровья1.
Как бы, однако, мы ни оценивали логическое значение идеи о Боге, ее наличность в человеческом сознании остается фактом, притом фактом величайшей важности, поскольку «группа теснейшим образом связанных с нею представлений произвела самую могущественную духовную силу истории — религию»1 2 3. Конечно, — рассуждает Фейербах, — религия есть не что иное, как «греза человеческого духа»з, но ведь и греза требует своего объяснения. И так, каким образом возникает в человеческой жизни религия?
Будучи по своему происхождению и существованию тесно связан с природой, человек, по Фейербаху, — не может не чувствовать своей зависимости от природы, а так как непосредственно ему известен лишь один вид зависимости, именно зависимость его собственных действий от решений его же воли, то он по типу этой связи представляет — разумеется, пока знание не наложило на воображение своей узды — и связь происходящих в мире явлений с природой: он представляет природу совокупностью живых существ, действующих по наперед обдуманным намерениям и целям. Таким путем возникает удвоение природы: наблюдаемые в мире события рассматриваются, как проявления скрытых за ними невидимых сил. Так как теперь уму человека, еще не дошедшего до научного объяснения явлений природы, олицетворенные им силы природы представляются неизмеримо превосходящими его собственные силы, то он преклоняется перед ними, - так процесс олицетворения природы осложняется процессом ее обожествления: природа наполняется богами*. Но создание богов не создает еще религии.
1 Иодль, стр. 55.
2 Там же, стр. 65.
3 Feuerbach, Werke, 2-te Aufl., VII В, S. 287 = Иодль, стр. 95.
* Иодль, стр. 76-79. Эти мысли заключаются в сочинениях Фейербаха, появившихся в свет после его «Сущности христианства», именно — в упомянутых уже «Das Wesen der Religion» (1845 г.), и «Vorlesungen uber der Wesen d. Relig.» (1851 г.), вследствие чего они
204
Последняя — в этом пункте Фейербах согласен с Юмом - имеет свой источник не в познавательно-теоретической, а в эмоциональноволевой стороне человеческого духа. У обоих глубочайшим источником религии является стремление человека к счастью, но только, в то время как у одного на почве этого стремления вырастает страх перед олицетворенными человеком силами и явлениями природы, который и побуждает человека преклоняться перед последними, у другого на той же почве развивается более сложный и — по входящим в него элементам - более благородный конгломерат душевных переживаний, в связи с которым и возникает религия. Дело в том, что желания человека, вырастающие на почве его стремления к счастью, простираются гораздо дальше, нежели данные в наличной действительности средства их осуществления; отсюда возникает в человеческом сердце чувство неудовлетворенности. Вот тут-то и приходят ему на помощь созданные его фантазией представления о богах: если человек своими собственными силами не в состоянии воздействовать на природу так, чтобы она шла навстречу его желаниям, то не могут ли сделать этого боги, стоящие позади явлений природы и событий человеческой жизни? Конечно, могут: ведь они неизмеримо превосходят человека своими силами. Так на почве страстного желания человека видеть свои замыслы осуществленными возникает вера в то, что боги мохут изменить естественное течение явлений природы, или — что то же — вера в чудо, которая и составляет существеннейший элемент религии. В сущности, верить в Бога и верить в чудо — одно и то же: Бог и чудо отличаются друг от
обыкновенно и не принимаются во внимание излагателями философии Фейербаха, опирающимися гл. обр. на его сочинение «Сущность христианства». Автор новейшей статьи о Фейербахе, С. Н. Булгаков, знает эти мысли основателя «антропологической» философии, но он признает их позднейшей пристройкой, искусственно связанной с первоначальным зданием, а потому и не имеющей значения при уяснении взглядов Фейербаха на религию. («Вопр. жизни», 1905, №10-11, стр. 250-252). Совершенно иначе смотрит на дело Иодль. Как ни существенно отмеченное разногласие для понимания учения Фейербаха о религии, входить в его разбор в настоящий раз мы не имеем ни нужды, ни возможности: это могло бы составить предмет особого трактата.
205
друга в том же смысле, в каком действие отличается от производящей его причины. Конечно, причина и действие не одно и то же, но где причина, там и действие, и — наоборот — где действие, там и причина. Кто верит в Бога, тот верит и в чудо, а кто не верит в чудо, тот не верит и в Бога.
Раз у человека возникла вера в то, что боги могут пойти навстречу его желаниям, к ней присоединяются другие элементы религии ~ молитва и жертва: в молитве человек изливает перед Богом свои сердечные тревоги, исповедуется Ему в самых затаенных мыслях, в самых задушевных желаниях, все это - в уверенности, что желания будут исполнены, а в акте жертвы он отказывается от того, что для него имеет ценность, даже от самой жизни, в надежде, что Бог пошлет ему, ради его самопожертвования, более ценные блага сравнительно с теми, от которых он отказался. Значит, и здесь внутреннею пружиной человеческих действий является стремление человеческого сердца к счастью. «Бог, — говорит Фейербах словами Себастьяна Франка, — это невыразимое томление, заложенное в глубине души». Конечно, здесь речь о Боге не в смысле только теоретического представления, созданного — по Фейербаху — человеческой фантазией, а в смысле объекта религиозного почитания, к которому направляются молитвы, и которому приносятся жертвы.
Такова психологическая основа религии, которая одинакова для всех форм религиозной жизни, начиная от фетишизма и кончая христианством1. Но если это так, то чем объяснить поразительное разнообразие тех форм, в каких проявляется религиозная жизнь человека? Это зависит, по Фейербаху, с одной стороны — от особенностей среды, в какой живет и действует тот или другой народ1 2, с другой - от разнообразия человеческих желаний. Боги так же разнообразны, как и желания, а желания — в свою очередь — так же
1 Точное указание тех мест из сочинений Фейербаха, где излагается им психология религии, - у Иодля на стр. 8о-86.
2 Wesen d Relig., §4 = Иодль, стр. 79.
206
разнообразны, как люди: кто не хочет быть мудрым, у того богиня мудрости не будет объектом религиозного почитания. Отсюда следует, что вместе с изменением человеческих желаний меняются и боги1. История религии представляет поэтому не что иное, как историю человеческих желаний и идеалов, которая, наряду с низменным и бессмысленным, отмечает на своих страницах то грандиозное и высокое, что только свойственно человеческой душе, ибо слишком разнообразны по своему внутреннему достоинству человеческие желания и идеалы. Значит, не прав был Юм, когда видел источник религии лишь в душевных переживаниях низшего порядка, в соответствии с чем и значение религии в человеческой жизни рисовал мрачными красками. Фейербах также признает, что религия, всецело овладевая душою человека, делает его равнодушным к науке и искусству, к семейной и государственной жизни, вообще — к культуре, что в эпоху распространения образования религия выступает обыкновенно защитницей невежества, — по меньшей мере, старины, что человеконенавистнические силы искони пользуются тьмою религии для угнетения людей, откуда происходят человеческие жертвы, преследование еретиков, сожжение ведьм, казнь «бедных грешников» и т. п. явления1 2, но из-за этих темных сторон он не хочет отрицать положительного значения религии: будучи — в классическом периоде своего развития — единственным путем к самоуглублению и самопознанию, она вместе с тем расширяет до крайних пределов поле человеческой деятельности, сообщает стремлениям человека необычайную силу, разрушает встречающиеся на пути к их осуществлению препятствия, утирает слезы, вдыхает бодрость и т. д. Нужно только иметь в виду, что подобное значение религия имеет лишь тогда, когда настроение человека отличается цельностью, когда религиозные верования не успели стать в противоречие с выводами науки, когда сомнение еще не начало своей
1 Vorles. iib. Relig. Nr, 26 и 28 = Иодль, стр. 90.
2 См. у Иодля стр. 105-106.
207
разрушительной работы. Этими именно чертами и характеризуется классический период религии, который не может продолжаться вечно. Религия есть создание воображения. Ее образы до тех пор могут иметь силу над человеком, пока знание не наложило на воображение своей узды. По мере расширения знания суживается область, захватываемая религией. То, что раньше объяснялось действием божественных сил, находит теперь естественное объяснение. Чем дальше, тем меньше становится область, допускающая в своих пределах религиозное объяснение. Там, где окончательно торжествует принцип естественного объяснения, уже не остается места для религии: религиозная греза исчезает, как только всходит солнце научного знания. Но с разрушением религиозной грезы не должно погибнуть заключенное в ней идеальное начало, — оно должно возродиться в новой форме, место религиозного идеала должен занять культурный идеал. Прежде человек жил верою в то, что его заветные чаяния найдут осуществление в загробном мире — теперь, когда греза о потустороннем мире рассеялась, как туман, он будет жить верою в возможность лучшей жизни здесь на земле, верою в то, что общими силами мы сумеем и сможем создать эту жизнь, по крайней мере, устранить те взывающие к небу и раздирающие душу несправедливости и злоупотребления, от которых до сих пор страдало человечество. Отсюда получает свое содержание тот «категорический императив» культурной работы, с каким обращается Фейербах к своим современникам. «Пользуйтесь, — говорить он, — благом жизни и по мере сил и возможности уменьшайте ее зло. Веруйте в то, что на земле может быть лучше, чем теперь, и что будет лучше. Ожидайте лучшего не от смерти, не от грезящегося вам бессмертия, но от себя самих. Изгоняйте из мира не смерть, а всякое зло. То зло, которое может быть устроено, то зло, причина которого лежит в лености, негодности и невежестве человека, именно это зло и есть самое ужасное. Естественная смерть, смерть, как результат завершившегося развития жизни, не есть зло; но злом является смерть, как следствие нужды, порока, преступления, невежества. Эту смерть изгоните из мира, или, по крайней мере, старайтесь по возможности ее
208
устранить». Так в призыве философа повторяется тот мотив, который только что прозвучал в задорных стихах поэта1. Он рассказывает о той песне, которую пела артистка-малютка. Мне пела она, — говорит поэт,
про любовь, про ее
Мучения, жертвы, свиданья —
Там, в выси небесной, в той лучшей стране,
Где все исчезают страданья.
Мне пела она о юдоли земной,
О счастье, всегда скоротечном,
О мире загробном, где дух, просветлен,
В блаженстве купается вечном.
Старая песня! Поэт знает и мелодию, и текст, и авторов песни. Она ему не по душе. Нет, - говорит он, -
новую песнь, о друзья, пропою
Для вас я песнь лучшего склада:
Устроить небесное царство себе
Нам здесь, на земле, уже надо.
Уж здесь, на земле, будем счастливы мы.
Про голод — ни слуху, ни духу!
Того, что добыто прилежной рукой,
Не жрать уж ленивому брюху!...
Не в первый раз прозвучал теперь этот призыв. Он слышался еще на заре новых веков - в эпоху Возрождения, когда на смену средневековому идеалу небесного царства был выдвинут идеал царства земного. Этим именно идеалом воодушевлялся Фр. Бэкон в своей научно-реформаторской деятельности («Instauratio magna scientiarum»): в минувшую эпоху (средние века) — рассуждал он -
1 Трактат Фейербаха «Вопрос о бессмертии с антропологической точки зрения», в котором нашел свое выражение культурный идеал философа, написан в 1846 г., а «зимняя сказка» Гейне «Германия» из которой взяты приведенные в тексте выдержки, - в 1844 г. Выдержка из Фейербаха приведена по русск. пер. книжки Иодля, стр. 113; ср. русск. пер. «Вопроса о бессмертии», стр. 69.
209
занимались созиданием царства Божия; теперь настала пора созидания царства человеческого, т. е. земного благополучия людей, которое обуславливается владычеством человека над природой, что в свою очередь - возможно лишь при знании сил и явлений природы: scientia est potential Единодушный призыв со стороны Фейербаха и Гейне к работе над устроением рая на земле показывает, что культурный идеал эпохи Возрождения, одушевлявший Бэкона, продолжавший жить и крепнуть в сознании нового европейского человечества, вдохновляя культурных работников, воздействуя на жизнь то в согласии, то в антагонизме с средневековым идеалом царства Божия, в течение последующего времени, ~ дожил до Х1Х-го века, когда с новою силою был выдвинуть в качестве знамени, долженствующего объединить около себя культурных работников, и, может быть, никогда еще он не имел такой силы над умами и не оказывал такого влияния на жизнь, как в те десятилетия, который отделяют от нас время расцвета литературно-философской деятельности Фейербаха, являющегося таким образом провозвестником культурного идеала целой эпохи. Если теперь к истории культурного развития позволительно применить схему Гегеля, то эту эпоху, в противоположность средневековью, как тезису, можно назвать антитезисом. Фейербах дал антитезису острое выражение... Можно ли надеяться на то, что вслед за нашей эпохой наступит новая, именно эпоха синтезиса, - об этом каждый может гадать по-своему. Во всяком случае, Фейербах не склонен был смотреть на провозглашенный им идеал, как односторонний и, следовательно, преходящий...
Для того, чтобы не только хотеть, но и на деле достигнуть того идеала, осуществления которого требует формулированный Фейербахом «категорический императив», нужно, по мнению этого философа, — на место любви к Богу поставить любовь к человеку, на место веры в Бога - веру человека в самого себя, в свою силу, веру в то, что судьба человечества зависит не от существа, стоящего вне его и над ним, но от него самого, что единственный дьявол человека - это грубый, суеверный, себялюбивый, злой человек, но и единственный
210
Бог человека — это сам человек. Классическая эпоха религии ~ это эпоха чудес, ибо вера в Бога есть вера в чудо, которая творит чудеса. Чудеса будут и впредь; только прежде творил чудеса Бог — теперь будет творить их сам человек; точнее, прежде творил чудеса человек силою своей веры - теперь он будет творить их силою своего знания, прежде он был тайным чудотворцем - теперь будет явным. Отселе культура должна сделаться провидением человечества, и задача нового времени не в том, чтобы делать людей религиозными, а в том, чтобы делать их образованными1.
Сознательно противопоставляя свое миросозерцание, как атеистическое, теистическому миросозерцанию, Фейербах решительно протестует против того, чтобы первое из них характеризовать, как отрицательное, в отличие от второго, как положительного. Без сомнения, есть такие пункты, в отношении к которым атеизм оказывается учением отрицательным, тогда как теизм — положительным, таков, напр., вопрос об объективном существовании Божества; но зато в других пунктах, и притом, по мнению Фейербаха - более существенных, привилегия положительного учения принадлежит атеизму. «Теизм, вера в Бога на самом деле имеет отрицательный характер; он отрицает природу, мир, человечество. Перед Богом мир и человек ничто; Он может существовать и без них. Ради этого существа, порожденного мыслью и фантазией, теизм жертвует действительной сущностью и жизнью вещей и людей. Атеизм, наоборот, ради действительной жизни и сущности жертвует этим порождением мысли и фантазии. Поэтому он по своей природе положительный и утверждающий; он восстановляет природу и человечество в том их значении и достоинстве, которые отнял у них теизм; он дает жизнь природе и человечеству, у которых теизм высосал лучшие силы»1 2.
Против того упрека, что атеизм, устраняя представление о сверхчеловеческом начале, удовлетворяющее одной из существенных
1 Иодль, Фейерб., стр. 102-103; Истор. этики. II, стр. 236.
2 Vorlesungen iib. Relig.. Nr. 30 = Иодль, стр. 107-108.
211
потребностей человека, именно потребности предположить что-либо выше себя стоящее и поклониться ему, тем самым парализует эту потребность и, возводя самого человека на степень высшего пункта в бытии, делает его эгоистичным и высокомерным, Фейербах ссылается на то, что атеизм устраняет лишь богословское представление о сверхчеловеческом начале, выдвигая на его место представление естественное и нравственное: в первом смысле сверхчеловеческим началом является природа, в особенности те космические силы, от которых зависит наша земля, а вместе с нею и наше существование, во втором — человечество, которое тем более может заступить для человека место Бога, что Бог-то, являющийся в человеческом представлении существом, свободным от недостатков, свойственных индивидууму, есть ни что иное, как образцовый представитель рода. Значит, ставя человечество на место Бога, атеист лишь фантастическое представление о Боге, как образцовом представителе человечества, заменяет реальным представлением о человечестве, которое, слагаясь из индивидуумов, обладающих не только достоинствами, но пороками и недостатками, в целом однако представляет собою, по Фейербаху, нечто совершенное, поскольку люди дополняют друг друга, так что слабости и пороки одного уравновешиваются достоинствами и добродетелями другого, и, если Фейербах предостерегает от обоготворения природы, то — наоборот -человечество он прямо и решительно называет божеством: homo homi ni deus est, повторяет он неоднократно1, разумея под homo в первом случае, в противность индивидуалистическим тенденциям своей философии, не отдельного человека, - ведь, тогда бы пришлось преклониться, наряду с Юлием Цезарем, и перед Цезарем Борджиа, но Фейербах был слишком здоровым человеком, чтобы дойти до такого декаданса, — а целое человечество: «человек сам по себе есть только человек; человек с человеком, единство я и ты есть бог»1 2.
1 См., напр. «Сущность христианства», гл. XXVTII, русск. пер. под ред.
Ю. M. Антоновского, Спб. 1908, стр. 244.
2 Grundsatze, Nr. 60.
212
Однако чувство конкретного и индивидуального было в Фейербахе слишком сильно для того, чтобы он мог удовлетвориться преклонением перед такою отвлеченностью, как человечество: в конце концов, и ему понадобился идеальный представитель человечества, - а так как он не мог принять в таком качестве Бога, как уже пережитую «грезу человечества», то ему ничего не оставалось, как искать такого представителя в конкретной действительности, и Фейербах находит его в лице... главы государства! Истинное государство — это «неограниченный, бесконечный, совершенный, божественный человек», ибо именно «в государстве один заменяет другого, один восполняет другого»: чего не могу, не знаю я, то может, то знает другой, а «глава государства есть представитель универсального человека: в государстве воплощаются в различных сословиях существенные качества или виды деятельности человека, но в лице главы государства снова сводятся к тожеству (Identitat), поскольку глава государства представляет все сословия без различия: перед ним все они равно необходимы и равноправны». Так идея человечества подменяется идеей государства, и рядом с формулой: «homo homini deus est» становится другая формула, ее разъясняющая и заменяющая: «государство есть бог для человека». Философ, начавший освобождением человека от подчинения власти того Абсолюта, иже есть на небесах, кончил подчинением его власти земного абсолюта, ибо «государство, — по словам Фейербаха, - есть человек, сам себя определяющий, к самому себе относящийся, абсолютный человек»1, в противоположность индивидууму, который не может быть признан абсолютной личностью. Вместо «Отче наш, иже еси на небесах» выступает «Ave, Caesar», страх Божий заменяется страхом человеческим, и что остается от дивной красоты того
1 Мысли эти раскрыты Фейербахом в сочинении 1841 года «Nothwendigkeit einer Reform der Philosophie», откуда взяты и напечатанные в тексте выдержки, приводимые нами по вышеупомянутой статье С. И. Булгакова, где рассматриваемый пункт философии Фейербаха изображен во всей его принципиальной важности для оценки того направления мысли и жизни, представителем которого является Фейербах. См. «Вопр. жизни», 1905, №10-11, стр. 256-258.
213
душевного строя, который так просто и вместе так сильно охарактеризован в этих немногих словах: «не боится никого, кроме Бога одного»?!... Так и должно было быть: как только Бог перестает быть центром человеческой жизни, сейчас же на Его месте водворяется тварь, и богослужение заменяется идолослужением...
Не нужно обладать особой проницательностью, чтобы подметить сходство между изложенными воззрениями Фейербаха и учением его старшего современника, о котором, впрочем, он ничего не знал, как и тот о нем: разумеем Ог. Конта. Особенно бросается в глаза сходство в их взгляде на человечество, как начало сверхчеловеческое. Но отмеченным пунктом сходство не ограничивается. Так, по Конту, как известно, человечество проходит в своем культурном развитии через три стадии: теологическую, метафизическую и позитивную. Не трудно подметить, что те полюсы, в пределах которых движется, по Фейербаху, духовное развитие человечества, именно - теизм и атеизм, соответствуют первой и третьей стадиям Конта. Что же касается промежуточной стадии — метафизической, то и для нее найдется в учении Фейербаха соответствующая аналогия. Люди, по Фейербаху, не сразу переходят от теистического миросозерцания к атеистическому. Когда, под влиянием вторжения выводов точного знания в ту область, где раньше царила фантазия, направляемая потребностями и желаниями человеческой души, теистическое миросозерцание начинает разлагаться, его приверженцы напрягают свои усилия к тому, чтобы спасти его от гибели: в то время как одни, не допуская никаких компромиссов между старым и новым, решительно отвергают новое во имя старого (вот в эти-то эпохи и выступает религия врагом образования), другие наоборот, стараются так преобразовать старое, чтобы можно было его примирить с новым, а именно: так как новое состоит в естественном объяснении того, что раньше объяснялось действием факторов сверхъестественных, или — другими словами — при помощи чуда, то они изгоняют из старого веру в чудо, оставляя ему лишь веру в Бога, как будто можно на самом деле разъединить эти два элемента религиозного мировоззрения! Ведь вера в чудо -
214
жизненный нерв религии, — что же останется от нее, если отнять у нее жизненный нерв?! Останется только видимость религии - образы, храмы и т. п., но не будет того, что составляет самую душу религии, именно веры в Бога, ибо ее не может быть там, где нет веры в чудо. Вера в Бога без веры в чудо — это что-то половинчатое: не то вера, не то неверие. Если это - вера, то не верующая в себя вера, и если неверие, то — колеблющееся, слабосильное неверие1. Такого рода вера — достояние переходных эпох. Когда образованные греки потеряли веру в богов народной религии, они не порвали сразу с традицией, но пытались осмыслить ее с точки зрения современной им философии. Ту же самую операцию производили на глазах у Фейербаха гегельянствующие богословы над христианством: утратив веру в чудо, которая не согласовалась с их философскими убеждениями, они пытались дать догматам христианской веры рациональное оправдание. Фейербах относится к подобного рода попыткам вполне отрицательно. Он находит, что они вредны и для философии, и для религии, в данном случае для христианства. Философия, принимая в себя чуждые ей элементы, перестает быть философией: панлогизм -не что иное, как замаскированное богословие, а религия, перелицованная на философский лад, теряет характер религии: там, «где под Богом подразумевается не что иное, как высший принцип законодательства природы, там исчезает и всякая религия», ибо «существо, являющееся лишь философским принципом, а не объектом почитания и чувства, существо, не прислушивающееся к молитвам и не исполняющее никаких желаний»1 2, или, если и исполняющее какие-либо просьбы или желания человека, но лишь в том случае, когда они могут быть исполнены и без него, поскольку их осуществление не выходит за пределы обусловленного естественными причинами, — такое существо — Бог только по имени, по существу же оно есть не что иное, как олицетворенная природная необходимость,
1 См. Иодля «Фейербах», стр. 103-105,74. Невольно вспоминается апухтинское: «и нет в тебе теплого места для веры, и нет для безверия силы в тебе».
2 Там же, стр. 89.
215
лишь прикрытая именем Бога. А поэтому «тот, кто не имеет для своего Бога другого материала, кроме того, какой ему дают естествознание, философия или эмпирическое созерцание вещей, кто мыслит Бога лишь как причину или принцип законов природы, тот пусть лучше воздержится от употребления этого имени, потому что принцип природы есть всегда природная сущность»1, а не то, что разумеет под Богом религиозное сознание. То, что сказано о религии вообще, в полной мере приложимо и к христианству. Кто хочет действительно понять христианство, тот должен брать его во всей его исторической цельности и непосредственности. Процеженное христианство гегельянствующих богословов не есть подлинное христианство: это жалкая подделка под христианство, в такой же степени жалкая, как румяна на сморщенном лице старика. Фейербах не переваривает подрумяненного христианства, созданного современными ему представителями «разжиженного богословия» (Verwasserungstheologie). Чуткий к проявлениям хотя бы наивной, но цельной веры, Фейербах является непримиримым врагом полуверы. Участливо выспрашивая «у наивной веры - религиозно-творческих времен» ее «сердечные печали и художественные фантазии», без сожаления «бросает он к ногам времени, которое все еще требует, чтобы молились старым богам, хотя вся сила и непосредственность веры давно уже им утрачены, разбитые в дребезги скрижали его жалкой веры»1 2.
1 Там же, стр. 103.
2 Там же, стр. 74. В сочинении 1839-го года «Uber Philosophie und Christenthum» Фейербах так говорит о предшествующем богословии: «Всякое посредничество между догматикой и философией - есть ложь против разума и ложь против веры, — игра произвола, в которой вера обманывает разум и в свою очередь обманывается им». (См. у Иодля стр. 13). Как видим, крайности сходятся: посредствующее богословие встретило слева те же самые нападки, что и справа, со стороны ортодоксалов, притом не в менее резкой форме. Так в парламенте центр встречает порою и слева, и справа одинаковые нападки. Не всегда, видно, «medio tutissimus ibis». Однако, помимо дороги, пролегающей посередине между крайностями, нет ли пути, возвышающегося над ними? Над этим вопросом стоит подумать.
216
Достоевский в своих произведениях часто говорит о тех людях, которые хотят на земле устроиться без Бога. Он имеет в виду главным образом социалистов. Фейербах не был социалистом, но он дал такую теорию религии, которая как нельзя лучше гармонирует с практикой тех, кто хочет устроиться без Бога. Поскольку последняя характеристика приложима не к одним социалистам - да и к ним она приложима не без значительных исключений — сфера влияния Фейербаха расширяется. Едва ли можно считать преувеличением утверждение С. Н. Булгакова, что влияние Фейербаха «сказывается во всем новейшем антирелигиозно-гуманитарном движении, во всем атеистическом гуманизме, атеистической религии человечества, которая новое время характеризует. Здесь, — прибавляет тот же писатель, - его влияние сталкивается и сливается с однозначущим влиянием Конта, тоже проповедника религии человечества»1. В частности, влияние Фейербаха, и именно его философия религии, сказывается в тех кругах, которые по своим философским воззрениям примыкают к Маху и Авенариусу. По крайней мере это можно сказать об их русских последователях. Достаточно вспомнить статьи и доклады Луначарского, касающиеся религии, чтобы убедиться, что в своем учении о сущности и происхождении религии он стоит на точке зрения Фейербаха1 2 * * * * * В. Разница между немецким философом и его
1 «Вопр. жизни», 1605, №10-11, стр. 242-243.
2 Имеем в виду его статью «Будущее религии», печатавшуюся в журнале
«Образование» за 1907 г., доклад, читанный недавно в Париже (о нем - в статье И. К.
«Небесный ревизионизм», помещенной в 27-м №-ре «Моск. Еженедельника» за 1908
год), и наконец — только что вышедшую первую часть книги «Религия и социализм»
(Спб. 1908). В последней книге Луначарский прямо говорит о Фейербахе, что «этот человек поистине понял сущность религии», и с особенною горячностью рекомендует
всем интересующимся вопросом о сущности, происхождении и значении религии «углубленное чтение «Сущности христианства»» (стр. 31). Не умер еще у нас Фейербах!
В том же убеждает и последнее произведение Горького «Исповедь», напечатанное в только что вышедшем ХХШ-м сборнике товарищества «Знание» (Спб. 1908). Горький рассказывает здесь о том, как его герой перешел от фантастической веры в Бога, как Творца мира и человека, промышляющего о созданных Им тварях, к тому убеждению,
217
что «неисчислимый мировой народ» есть «отец всех богов бывших и будущих», причем главным этапом в этом мучительном переходе был тот момент, когда в сознании Матвея стал вопрос: «неужели Ты» (Бог) «только сон души человеческой и надежда, созданная отчаянием в темный час бессилия?» И когда пытается Матвей разобраться в этом вопросе — видит, что «у каждого свой Бог, и каждый Бог не многим выше и красивее слуги и носителя своего». В конце концов, расставшись с Богом своей юности, мечтает Матвей о создании «Бога нового», «Бога красоты и разума, справедливости и любви». Было время, когда Бог этот был у людей. Это было тогда, «когда люди единодушно творили Его из вещества своей мысли, дабы осветить тьму бытия, но когда народ разбился на рабов и владык, на части и куски, когда он разорвал свою мысль и волю, — Бог погиб, Бог разрушился!» (Не слышится ли здесь отзвук Ницше? Вспомним его «Веселую науку». См. выше, стр. 71-72)- Чтобы вновь создать Бога, «для этого необходимо нам найти друг друга, открыть в каждом единое со всеми, и это единое — наша неодолимая, скажу - чудотворная сила! У рабов никогда не было Бога, они обоготворяли человеческий закон, извне внушенный им, и во веки не будет Бога у рабов, ибо Он возникает в пламени сладкого сознания духовного родства каждого со всеми»! Заканчивается повесть гимном в честь нового Бога: «Ты еси мой Бог и творец всех богов, соткавший их из красот духа своего в труде и мятеж исканий Твоих! Да не будут миру бози инии разве Тебе, ибо Ты еси един Бог, творяй чудеса!» Не останавливаясь на том, насколько жизненны образы различных лиц, действующих в повести, особенно пророков нового Бога (все они говорят довольно однообразными афоризмами, словно все наслушались речей одного общего учителя), насколько — далее — доказана в ней (разумеется, речь идет о доказывании не теоретическими рассуждениями, а художественными образами) главная мысль — мысль о народе богостроителе, отметим, что не только основная идея повести (не Бог творит человека, а человек — Бога), но и те крайние пункты, в пределах которых движется, от одного к другому, мысль героя повести (Бог творит человека - человек творит Бога), напоминают Фейербаха, чем еще не исключается наличность в повести оригинальных идей: оригинальна та народнически-социалистическая окраска, какую получают здесь идеи, родственные идеям Фейербаха. Можно ли в данном случае говорить о прямом или косвенном влиянии Фейербаха, для нас это вопрос второстепенный, — для нас важно то, что идеи Фейербаха до сих пор сохраняют свою живучесть. И это понятно: Фейербах дал яркое выражение одному из двух логически возможных решений вопроса об отношении между идеей Бога и идеей человека, и если история вопроса состоит в движении от одного решения к другому, причем, разумеется, каждый новый этап движения не есть простое повторение одного из предыдущих, то понятно, что идеи
218
русским последователем касается главным образом учения о той сфере, в которой должна созидаться новая религия: в то время как у Фейербаха такой сферой признается, как мы видели, государство, и именно правовое государство, Луначарский, как истый марксист, подчеркивает особенное значение в этом отношении трудового процесса. Луначарский проповедует «религию труда»* 1.
Фейербаха время от времени снова всплывают на поверхность, — конечно, в видоизмененной и осложненной, сообразно с различными историческими условиями, форме. Отсюда дальше следует, что и работа мысли в этой области должна состоять в обоснованном выборе между двумя противоположными решениями. Горький понял это. Он метко формулировал основную проблему религиозного сознания: «Кто есть Бог, творяй чудеса? Отец ли наш или же сын духа нашего?» другими словами: «с неба ли на землю низшел Господь, или с земли на небеса вознесен силою людей?» Такова проблема, которая, будучи предметом мучительного раздумья для людей, переживающих религиозную драму, должна быть вместе с тем и главным предметом методического обсуждения в философии религии. Не трудно видеть, что она стоит в связи с уже выяснившейся для нас основной космологической проблемой: что из чего — разум из безразумного или безразумное из разума?
1 Разница между Фейербахом и Луначарским в этом пункте находит свое объяснение и в условиях того времени, на которое падает жизнь того и другого, и в характере тех влияний, под какими слагались их воззрения. Фейербах жил и действовал в ту эпоху, когда на Западе уяснялась теоретически и осуществлялась на практике идея правового государства; Луначарский же выступил на литературное поприще в ту эпоху, когда не только на Западе, но и у нас, в России, получила преобладающее значение проблема социально-экономическая. Фейербах вышел из школы Гегеля, который в правовом государстве, как высшем проявлении «объективного духа», видел цель истории; Луначарский — последователь Маркса, который целью истории считал социалистическое государство, а задачей своего времени — объединение пролетариата для борьбы с капиталистическим строем. Прибавим, что высокая оценка государственной формы общественной жизни продолжает и доселе находить для себя место в германской философии. Так, по учению Г. Когена, главы марбургской школы новокантианцев-трансценденталистов, «только в государстве человек может стать действительно человеком и сознавать себя таковым», «только в государстве создается единство человека и даже его самосознание», так что «государство есть кульминационный пункт самосознания» (см. об этом в статье г. Е. Спекторского «Из
219
Как ни далеко отошел Фейербах в своих конечных выводах от того философского направления, из которого вышел, однако по кругу своих интересов и по мотивам своего философствования он был сыном этого именно направления: всю жизнь свою он прожил в сфере религиозно-философских запросов и интересов, хотя, может быть, и не составлявших самого центра духовной жизни немецких идеалистов, но бывших одним из главных пунктов притяжения их философской мысли. Сказать, что Фейербаха подобно Кириллову — всю жизнь Бог мучил, — для этого мы не имеем данных в доступных нам биографических материалах, но что Бог всю жизнь занимал его — это не подлежит сомнению. Сам о себе Фейербах говорил, что Бог был его первой мыслью, разум — второй, человек — третьей и последней мыслью, и если это верно в смысле обозначения особенности тех ответов, которые давал Фейербах в различные эпохи своего философского развития на интересовавший его вопрос, то самый этот вопрос всегда оставался одним и тем же: это — вопрос о Боге, как предмет религии. «Бог был и первой, и второй, и последней мыслью Фейербаха» (Булгаков). Недаром один из современников назвал его «благочестивым атеистом»1. И хотя наш «благочестивый атеист» в конце концов пришел к натурализму, однако он не был по характеру своих научных занятий натуралистом. Он высоко ставил природу и с интересом занимался естествознанием, но еще выше ставил человека и еще внимательнее изучал антропологию. По его собственным словам, он был «духовным естествоиспытателем»* 1 2. Если он и высказывался в том смысле, что только посредством чувств познается
истории чистой этики» = Вопр. филос., 78, стр. 409). Из русских философов мысль о высоком значении государства в деле осуществления нравственного идеала раскрывалась с особенною силою, и кажется, не без влияния Гегеля, Владимиром Соловьевым.
1 См. об этом в статье С. Н. Булгакова - Вопр. жизни, указ, кн., стр- 246, 239; ср. Ланге «Истор. материализма», русск. пер. с 3-го изд. Н. И. Страхова, изд. 2. Спб. 1899, стр. 395-
2 См. предисловие ко 2-му изд. «Сущности христианства» (русск. пер. под ред. Антоновского, стр. XXIV).
220
подлинная действительность, то он имел в виду, как мы видели, не грубые, а образованные чувства, — не глаза анатома или химика, а глаза философа. Воспитанный в школе мыслителя, считавшего философию высшим проявлением мирового разума, он до конца своих дней сохранил уважение к философии. Когда он говорил, что «отрицание философии — его философия», он имел в виду не философию вообще, в необходимости которой не сомневался, а определенный вид философии, именно умозрительную философию, в которой разочаровался, подобно тому, как и под религией, в словах: «отрицание религии - моя религия», он разумел не религию вообще, которую хотел сохранить, а определенную форму религиозного сознания, которую считал отжившей свой век1.
Людьми иного душевного склада, иных внутренних запросов и внешних связей, иной научной подготовки были те лица, которые, примкнув к материалистическим выводам фейербаховской философии, оторвали их от их исторической почвы, перенесли в новую духовную атмосферу, насыщенную естественно-научными интересами, усилили и в таком виде широко распространили среди читающего общества: то были главным образом естествоиспытатели и врачи. На несколько лет сделались они «властителями дум» западноевропейского общества, оттеснив на задний план брукбергского отшельника, не говоря уже об его учителях, которые, главным образом Гегель, подвергались даже осмеянию. Особенно это нужно сказать о 50-х годах прошлого века, когда одна за другой выходили в свет «символические книги» новейшего материализма: в 1852 г. вышел «Der Kreislauf des Lebens» Молешотта, в том же году появились «Bilder aus dem Thierleben» Карла Фогта (его «Физиологические письма» вышли раньше — в 1845-1847 гг.), в 1855 г. — «Kraft und Stoff» Бюхнера, Книги широко распространялись в обществе. Попытки отдельных естествоиспытателей — про философов и богословов нечего и говорить — выступить против заключающихся в них идей не имели успеха. В литературном споре
1 См. у Иодля стр. 23; ср. предисловие ко 2-му изданию «Сущности христианства».
221
между знаменитым химиком Либихом, выступившим против материализма, и молодым физиологом Молешоттом1 внешний успех выпал на долю последнего. В 1854 г. в Геттингене происходил съезд естествоиспытателей. На этом съезде Рудольф Вагнер, проф. физиологии в Геттингене, выступил с докладом «Uber Menschenschopfung und Seelensubstanz», в котором раскрывал ту мысль, что библейское учение о происхождении людей от одной пары и о бессмертии души — а бессмертием души предполагается, по Вагнеру, ее субстанциальность - нисколько не противореча выводам естествознания, которое, впрочем, и не доросло до того, чтобы решать вопросы о природ души, необходимо требуется нравственными интересами, поскольку противоположное учение о душе, как функции мозга, с логическою неизбежностью ведет к тому выводу, что область высочайших идеалов человечества должна ограничиться едой и питьем, и тем самым в корне разрушает нравственные основы общественного порядка. В виду этого те пробелы в учении о человеке, которые оставляет знание, опирающееся на факты, должны быть восполнены верой. В дополнение к докладу Вагнер издал в том же году небольшой трактат «Uber Wissen und Glauben mit besonderer Beziehung auf die Zukunft der Seelen» (Gotiingen, 1854), где он еще резче, чем в докладе, в духе того направления, типичным представителем которого является юмовский Демей, -противополагает друг другу веру и знание. Вера и знание - это два мира, из коих каждый живет по своим собственным законам. Вера имеет своим объектом предметы сверхчувственные, знание -чувственные, вера опирается на божественное откровение, знание -на чувственный опыт. Вера имеет дело с предметами сверхчувственными, которые иначе не могут постигаться, как только путем веры, совершенно отличным от пути знания. Самое большее, что можно получить через рассматривание произведений природы,
1 Молешотт род. в 1822 г. Первое издание его «Круговорота жизни» представляет собою «физиологические ответы на химические письма Либиха»; в последующих изданиях следы полемики сглажены.
222
это — идея Творца. Что же касается самой природы Творца, то она навсегда останется тайной для человеческого разума, и только благодаря Откровению можно до некоторой степени проникнуть в содержание этой тайны. В свою очередь знание имеет дело с такими предметами, которые не имеют ничего общего с предметами веры: их познание опирается в конце концов на чувственный опыт. Вера и знание так же отличаются друг от друга, как, напр., зрение и слух. Можно обладать прекрасным зрением, совершенно не имея слуха, и — наоборот: так точно можно быть ученым человеком, ничего не воспринимая от духа Божия, и — наоборот, а потому в делах веры нужно держаться только веры, как в области знания - руководиться исключительно интересами науки. «В делах веры я, — говорит Вагнер, — люблю больше всего простую, наивную веру угольщика (Kohlerglauben), в научной области я причисляю себя к тем, которые охотно практикуют величайший скепсис»1. Нет ничего хуже, как смешивать эти две области — область веры и область знания, как это бывает, когда, напр., «светские и научные предметы шпигуют христианскими фразами и обливают религиозным соусом» или — наоборот — истины веры начинают обставлять научными доказательствами. «Из такой смеси гетерогенных вещей никогда еще не получалось ничего путного, и ни для религии, ни для науки никогда не было добра»1 2 3. Как бы, впрочем, мы ни ограничивали область веры от области знания, все-таки найдутся пункты, в которых они соприкасаются друг с другом: это, с одной стороны, последние условия явлений природы, с другой — сообщаемые Откровением исторические истины, касающиеся природы, напр., о днях творения, создании первого человека, потопе и т. п.з. Конечно, идеальным положением дела было бы такое, когда между выводами естествознания и церковными догмами установилась бы полная гармония, но как такой гармонии не всегда удается достигнуть, то
1 Rud. Wagner. Uber Wissen und Glauben, S. 10.
2 Там же, S. 19.
3 Там же, S. 18.
223
остается одно - блюсти независимость каждой из соприкасающихся областей, не делая уступок ни с той, ни с другой стороны. В частности, естествоиспытатель должен «без всякой предвзятости продолжать свои исследования на пути чувственного опыта», извлекая отсюда все возможные следствия1, не думая о том, окажутся ли они в согласии с Откровением, или нет. Окажутся — хорошо, не окажутся — ради этого нет нужды отказываться от выводов науки в пользу истин Откровения или - наоборот — от истин Откровения в пользу выводов науки, — нужно спокойно ждать, пока наступит мировая между спорящими сторонами, если только она наступит при жизни данного лица. Таким образом «двойная бухгалтерия» в известных случаях оказывается неизбежной. На земле не может быть полной гармонии между верой и знанием... Во второй части своего трактата проф. Вагнер старается показать, что христианское учение о конце мира и загробном существовании душ не только не противоречит выводам естествознания, но находится в гармонии с ними.
Можно соглашаться или не соглашаться с основными положениями Вагнера — это неотъемлемое право каждого, и мы в частности полагаем, что эти положения подлежат оспариванию, но чтобы они достойны были только иронического к себе отношения — с этим едва ли можно согласиться. Между тем Фогт не нашел нужным употребить в споре с Вагнером иного оружия, кроме иронию, какою преисполнено его сочинение «Kohlerglaube und Wissenschaft» (1854 г.), направленное им специально против Вагнера. Помимо вопроса об отношении веры к знанию, Фогт касается здесь и другого вопроса, который собственно и дал Вагнеру повод заговорить об отношении веры к знанию: это — вопрос о природе душевных явлений. Утверждению Вагнера, что в основе душевных явлений лежит духовная субстанция, — утверждению, к принятию которого Вагнера вынуждала, по его собственным словам, «не физиология, но имманентное ему и неотделимое от него представление морального
1 Там же, S. 19.
224
миропорядка»,1 — Фогт противополагает ту получившую затем в материалистических кругах широкое распространение формулу, что «мысли находятся, пожалуй, в том же отношении к мозгу, как желчь к печени или моча к почкам». Памфлет Фогта имел громадный успех. Общество стало, видимо, на сторону Фогта. Дело Вагнера казалось проигранным, и — что особенно знаменательно — поражение геттингенского физиолога трактовалось в широких кругах, как поражение защищавшегося им с такою горячностью спиритуалистического миросозерцания. Казалось, материализм торжествовал на всех пунктах.
Однако последующие события показали, что торжество это не было прочным. Очевидно, оно обусловливалось причинами временного характера. Помимо общего подъема материальных интересов в социально-экономической жизни Германии того времени, на что указывает Ланге в своей «Истории материализма»,1 2 здесь, без сомнения, имело громадное значение впечатление, произведенное на образованное общество крушением смелых попыток идеалистической философии объяснить действительность, как выражение разума. Мысль, разочарованная в своих ожиданиях, обращенных к идеалистической философии, склонилась в сторону противоположного направления, которое - в противоположность беспочвенным умозрениям немецкого идеализма — выступало, хотя — как увидим — и не по праву, под знаменем естествознания и - в противоположность крайней туманности идеалистических построений — подкупало простотою и ясностью предлагавшегося им объяснения действительности. Не без значения было и то, что -подобно тому, как это было в XVIII-m веке — материализм и теперь выступал — по праву ли, это другой вопрос — в качестве силы, освобождающей человека от разного рода «оков», в особенности налагаемых религией и церковью. Все эти причины, достаточно сильные для того, чтобы объяснить временное торжество
1 Там же, S. 5.
2 Ланге. История материализма, стр. 405-406.
225
материализма, не могли окончательно упрочить за ним победу. Стоило вдумчивой мысли освободиться от впечатления, вызванного шумным крушением идеализма и не менее шумным торжеством сменившего его материализма, чтобы в спокойном, беспристрастном обсуждении дела подметить, что союз материализма с естествознанием незаконен, и что простота и ясность его объяснений обманчивы.
Материализм пользуется славой совершенно определенного в своих основоположениях миросозерцания. На деле это не так. Если древнегреческий материализм — разумеем материализм атомистов и эпикурейцев — оправдывает такую репутацию, поскольку его объяснения действительности сводятся к тому совершенно определенному положению, что все события, происходящие в мире, представляют в сущности не что иное, как разнообразные движения качественно однородных атомов, то этого никак нельзя сказать о материализме последующего времени. Новое время не знает чистого материализма. Стоило только назреть потребности в гносеологическом обосновании онтологических принципов, как материализм оказался не в состоянии жить за свой собственный счет. Материалистическая точка зрения стала осложняться сторонними примесями, вроде тенденции к агностицизму или психофизическому монизму. Среди материалистов нового времени затруднительно указать такого, который был бы до конца материалистом1. Даже самый последовательный из них - разумеем Гоббса — не был вполне последовательным материалистом* 2. Едва ли мы погрешим против истины, если скажем, что история новой философии выдала материализму, как философской системе, testimonium paupertatis: не будь материализм беден собственными средствами, зачем ему
*По авторитетному приговору Ланге (указ, соч., стр. 414), «последовательности и ясности нет у большинства наших материалистов».
2 «Гоббс своим ученьем об относительности всех понятий и своею теориею ощущения», по смыслу которой «все так называемые чувственные качества как таковые не принадлежат вещам, но возникают только в нас самих», в сущности так же выходит за предел материализма, как Протагор шел дальше Демокрита (там же, стр. 190,192).
226
прибегать к займу? Между тем без займа дело не обходится. Так было в XVIII-м веке, то же повторилось и в середине XIX-го. Как ни дружно выступали Фогт, Молешотт и Бюхнер на защиту материализма, однако трудно найти для их взглядов одну общую формулу. Мало того, - у одного и того же автора, иной раз на пространстве одного и того же сочинения, сменяются исключающие друг друга формулы: так трудно быть последовательным материалистом в новое время! Молешотт, напр., находит нужным считаться с точкой зрения Канта. Подобно своим антиподам, и он подвергает критике учение Канта о непознаваемости для нас вещи в себе. Существование вещи сводится к существованию ее свойств, которые суть не что иное, как отношение между познаваемым объектом и познающим субъектом, ближе -чувствами познающего субъекта, — вне этих отношений вещей не существует, а как эти отношения для нас познаваемы — значит, и вещи познаваемы. Путем таких рассуждений устанавливается у Молешотта возможность абсолютно достоверного знания о вещах, что не мешает ему говорить о силе и материи, духе и теле, как двух сторонах, или формах проявления одной и той же сущности, подлинная природа которой остается, очевидно, нам неизвестной. Как видим, абсолютизм уживается в гносеологии Молешотта рядом с агностицизмом. Не лучше обстоит дело с его онтологией. Наряду с приведенным уже утверждением, что дух и тело — различные формы проявления одной и той же субстанции, находим другое, что мысль есть движение, превращение мозгового вещества, что, след., дух и материя не равноправны1. Еще резче выступает путаница понятий у Бюхнера. И у него абсолютистическая мысль о познаваемости бытия соединяется с релятивистическими утверждениями, что последняя загадка жизни неразрешима, что понятие об атоме имеет относительный характер и т. п.; и у него, как у Молешотта, с одной стороны утверждается, что сила и материя, дух и тело — две стороны, или формы проявления одной и той же сущности, нам неизвестной,
1 Ланге, указ, соч., стр. 416; Осв. Кюлъпе, Введение в философию, русск. пер. с 3-го нем. изд. под ред., С. Л. Франка, Спб. 1900, стр. 178.
227
что нет материи без духа, как и духа без материи, что материя обладает не только физическими, но и психическими свойствами, с другой — что материя существовала задолго до духа, что дух мог возникнуть, как и действительно возник, на основе организованной материи, что душа — не что иное, как собирательное понятие для совокупности процессов, происходящих в мозгу, подобно тому, как дыхание - общее понятие для обозначения процессов, происходящих в органах дыхания, а пищеварение — в органах пищеварения. Такова по истине «невообразимая» путаница понятий, характеризующая собою материализм половины прошлого века!1.
Конечно, этого не могло бы быть, если бы его защитники строго держались той почвы, на которую они так охотно становились: разумеем почву естествознания, которое, будучи по предмету своего исследовании близко к материализму, не дает однако оснований для истолкования действительности в материалистическом духе, на что
1 Кюлъпе, стр. 178; Ланге, стр. 411. Ланге, спрашивая Фогта и Молешотта, замечает, что «Фогт чаще противоречит сам себе», а «Молешотт обильнее положениями, которым вообще нельзя приписать никакого определенного смысла» (стр. 407). Не найдем мы чистого материализма и у наших современников. Самыми видными представителями материализма в настоящее время являются Геккель в Германии, Плеханов (Бельтов) — у нас. Мы видели, что представляет собою «материализм» Плеханова (см. выше стр. 85-87). Что касается Геккеля, то, сводя все мировые загадки к одной универсальной загадке, именно к проблеме субстанции, он затем разрешает эту проблему в смысле психофизического монизма: существует одна только субстанция, проявляющая себя одновременно как сила и материя, дух и тело, Бог и природа. Поэтому Геккель чаще называет свою точку зрения монизмом, чем материализмом, не отказываясь совсем и от последнего обозначения, тогда как материалисты пятидесятых годов, напр. Бюхнер, сами себя не причисляли к материалистам. И нет ни оснований, ни надобности настаивать на противоположном: оснований — потому, что они действительно не были строгими материалистами, надобности — потому, что, как выяснено в тексте, ярко обнаружившаяся в истории материализма нового времени невозможность провести материалистическую точку зрения служит лучшим показателям несостоятельности этой точки зрения. Правду сказал Ланге, что «история и критика часто одно и то же» («Ист. мат.», стр. 457). Нет лучшего пути для того, чтобы убедиться в несостоятельности материализма, как изучать его историю.
228
не переставали указывать материалистам не только философы, но и естествоиспытатели. Мы уже знаем отношение к материализму химика Либиха и физиолога Вагнера. Либих и Вагнер не были одиноки в своих нападках на материализм. Материалисты (сначала Молешотт, а потом и Бюхнер) пытались истолковать в своем духе открытый в сороковых годах физиком и врачом Робертом Майером1 закон сохранения силы, однако сам Майер был решительным противником материализма, о чем публично заявил в 1869 г. на съезде естествоиспытателей в Инсбруке. Здесь, между прочим, он высказал убеждение, что «научные истины относятся к христианской религии, как ручьи и реки к морю»1 2 з.
Путаясь в изложении основ своего миросозерцания, материалисты однако твердо стояли на материалистическом объяснении душевной жизниз. Едва ли будет ошибкой сказать, что
1 Статья Майера «Die organische Bewegung in ihrem Zusammenhange mit dem Stoffwechsel», в которой автор формулировал закон сохранения силы, вышла в 1845 г. Почти одновременно с Майером, независимо от него и друг от друга, пришли к тем же результатам, что и Майер, немец Гельмгольц, англичанин Джоуль, датчанин Колдинг, и хотя открытый ими закон мог получить фактическое значение в науке лишь после его экспериментальной проверки, однако происхождением своим он обязан прежде всего априорным соображениям, что как из ничего ничего не происходит, так ничто и не обращается в ничто (см. «Историю новейшей философии» Геффдинга, пер. с нем., Спб. 1900, стр. 432-435), так что если бы мы пожелали отыскать исторические корни чрезвычайно плодотворного закона, прославившего фактом своего открытия и блеском своего приложения XIX-й век, то нам пришлось бы, может быть, дойти в своих поисках до Парменида, впервые формулировавшего философскую аксиому, что бытие не происходит и не уничтожается. — О том, что закон сохранения силы на самом деле не может служить опорою материализма, можно читать у Ланге в «Истории материализма», (стр. 413-414, 493 и др.), Кюльпе (указ, соч., стр. 181-182), проф. Челпанова («Введ. в философию», отд. II, гл. 8, а также «Мозг и душа», лекц. 8-я) и др.
2 Геффдинг, указ, соч., стр. 436.
з «Как ни сильно наши нынешние материалисты, — говорит Ланге, — наклонны к скептическим и релятивистическим уклонениям, как ни охотно они говорят о непостижимости последних оснований всякого бытия или выставляют мир человека миром исследования, оставляя открытым вопрос, может ли существовать еще другое
229
здесь именно они видели главный укрепленный пункт своей философской позиции. В громадном количестве привлекали они факты, которые должны были показать, что психические явления представляют собой функцию нервной системы. Сравнительная анатомия, физическая антропология, физиология, патология — все они несли свою дань торжествовавшему материализму. Однако, как ни обильна была эта дань, она оказалась недостаточной для той цели, для какой собиралась: лица, стоявшие во главе материалистического движения, должны были сознаться, что, при помощи выдвинутых ими принципов и собранных ими фактов, они не в состоянии объяснить, каким образом сознание возникает в мозгу1, хотя сами они и не понимали рокового для всей их системы значения этого признания, — не понимали, что, делая это признание, они тем самым признают непригодность своего принципа для объяснения тех явлений, ради объяснения которых он выдвигался, а потому обязываются от него отказаться. И после рокового признания они продолжали стоять на своем: сознание есть функция мозга. Тем решительнее были нападения на этот именно пункт их противников. Еще Рудольф Вагнер в известном нам трактате «Uber Wissen und Glauben» имел возможность ссылаться на авторитет знаменитого впоследствии физиолога, профессора Фирхова (Virchow), в подтверждение той мысли, что к фактам сознания неприложимы приемы механического объяснения* 1 2. В том же смысле высказался проф. Лотпце в своей «Медицинской психологии». Суждение Лотце в данном случае тем более ценно, что он, будучи врачом по образованию, был убежденнейшим защитником механического объяснения явлений природы. Созданная им философская система
понимание вещей, но непостижимости духовного они никак не допускают, потому что главный подвиг материализма признается именно в том, что и душевная деятельность человека и животных вполне объясняется функциями материи». («Истор. матер.», стр. 440).
1 Такое признание находим и у Фогта и у Бюхнера (см. Кюльпе. указ, соч., стр. 177-178).
2 S. 7-8.
230
тем и замечательна, что она пытается гармонически объединить механизм и телеологию во взгляде на мировое бытие.
Как ни авторитетны были возражения против материализма, шедшие со стороны естествоиспытателей, они не могли сразу поколебать материализма. Мысль о шаткости самих основоположений материалистического миросозерцания слишком медленно входила в общее сознание. А все-таки входила. Как и всегда, время делало свое дело. Причины, вызвавшие торжество материализма, мало-помалу теряли свою остроту. Вместе с тем увеличивалось число лиц, способных беспристрастно отнестись к этому направлению. В 1854 году, на геттингенском съезде естествоиспытателей, внешний успех выпал на долю материализма. Не то мы видим через 18 лет. В 1872 году, на съезде естествоиспытателей и врачей в Лейпциге, знаменитый физиолог Дю-Буа-Реймон, произнес речь «О пределах естествознания». Исходя из того, что естественнонаучное объяснение природы сводится в конце концов к механике атомов, Дю-Буа-Реймон допускает, что «ум, который знал бы положение и движение всех атомов вселенной для данного очень маленького периода времени» (т. наз. лапласовский ум), мог бы, «по правилам механики, вывести из этого все будущее и прошедшее», но и он должен бы был остановиться перед двумя пунктами: во-первых, он не в состоянии понять атомов, во-вторых — объяснить из их движения возникновения сознания, притом не в высших его обнаружениях, а в самых элементарных, каковы, напр., ощущения, общие у человека с животными. Здесь — пределы естествознания. Второй из этих пределов Дю-Буа-Реймон признает безусловно непереходимым для лапласовского ума. На вопрос, каким образом возникает сознание, мы можем дать один ответ: ignaramus et ignarabimus. Не то это значит, чтобы мы не имели права исследовать вопрос об отношениях между духом и материей; нет, естествоиспытатель никому не позволить отнять у себя право составлять, путем индукции, собственное мнение по этому вопросу, не смущаясь мифами, догмами и гордыми своею древностью философемами. Дю-Буа-Реймон в полной мере пользуется этим
231
правом. «Никакое теологическое предубеждение не мешает ему, как Декарту, в душах животных признать родственной человеческой душе, все менее и менее совершенные члены того же ряда развития», а «теория происхождения видов в соединении с учением об естественном подборе внушает ему представление, что душа произошла, как постепенный результат известных материальных комбинаций, и, может быть, подобно другим наследственным, полезным в борьбе за существование дарам, возвысилась и усовершенствовалась в течение бесконечного ряда поколений»; не выходя за пределы естествознания, он готов признать самую полную зависимость духовного от физического, ибо он видит человеческий дух как бы растущим вместе с мозгом; он не видит оснований к порицанию в фогтовской формуле того, что в ней душевная деятельность представлена произведением материальных условий в мозгу, — ошибочно только внушение представления, что душевная деятельность по своей природе так же понятна из строения мозга, как отделения из строения желез1.
Как ни много делает Дю-Буа-Реймон уступок материализму, однако он твердо стоит на том, что невозможно вывести сознание из движения атомов. Мысль эта, губительная для материализма, произвела сильное впечатление и на съезде, и за его пределами, и это, без сомнения, не потому, что она представляла собою нечто новое, дотоле не слыханное: подобные мысли высказывались и раньше, -даже не потому, что она была высказана знаменитым естествоиспытателем, хотя это обстоятельство не осталось без значения: знаменитые естествоиспытатели и раньше говорили в духе Дю-Буа-Реймона, но их не слушали. Дело в том, что Дю-Буа-Реймон высказал свою мысль в добрый час, когда сознание заинтересованных
1 Излагаем содержание речи по Ланге (стр. 437 слд.). Из сказанного в тексте следует, как рискованно богословам ссылаться на Дю-Буа-Реймона, у которого в конце концов больше общего с материалистами, чем с богословами-спиритуалистами (ср. Ланге, стр. 443-444). Иное дело ссылаться не на Дю-Буа-Реймона, даже не на речь Дю-Буа-Реймона «О пределах естествознания», а на строго определенную мысль речи: тут риска нет, лишь бы мысль была передана точно.
232
лиц было уже подготовлено к ее восприятию. Если пятидесятые годы были для материализма на Западе временем победного торжества, то в шестидесятые постепенно подготовлялось его падение. Успех речи Дю-Буа-Реймона был лишь показателем того, что падение совершилось. В сознании философски образованных лиц материализм потерял свой кредит. Правда, в широких кругах читающего общества материализм и после этого продолжает пользоваться славой последнего слова науки, причем под наукой разумеется естествознание; спрос на «Силу и материю» Бюхнера не прекращается (в период времени от 1872 до 1904 г. вышло 9 изданий); новейшее произведение в том же роде — «Мировые загадки» Геккеля, первоначально вышедшее в год смерти Бюхнера (он умер в 1889 г.) и уже переведенное по крайней мере на 15 языков, в одной Германии расходится в десятках тысяч экземпляров (так наз. «народное издание» — ценою марка за экземпляр в переплете - напечатано в 180000 экземпляров), — все это факты большого культурного значения, поскольку ими определяется уровень умственной культуры современного общества: «всякое время характеризуется ведь более теми книгами, которые оно читает, чем теми, которые оно пишет»1,
1 Фр. Паульсен, Введ. в философию, русск. пер., М. 1894, примечание к стр. 67-ой, в котором идет речь о «широком распространении и влиянии» среди немецкого общества книги Бюхнера «Сила и материя», «ничтожной в философском отношении», характеризующейся «неприятным способом изложения» и обнаруживающей «невыносимую неумелость» автора «в отвлеченном мышлении». Почтенный профессор, смерть которого для нашей родины не менее тяжела, нежели и для его, поскольку она много обязана ему распространением среди общества философского образования, объясняет отмеченный факт двумя причинами: во-первых, тем, что книга «предлагает массу естественно-научных сведений, сообщаемых в популярной форме; во-вторых, она обнаруживает презрение к церкви, теологии и исповеданию» (последнее - прибавим — вообще составляет характеристическую черту немецкого материализма пятидесятых годов, в свое время принадлежавшую французскому материализму, а в наши дни отличающую и материализм Плеханова, и монизм Геккеля). «За первое, — продолжает профессор, - читатель — вполне справедливо — благодарен, а второе завоевывает автору доверие и симпатию», поскольку «он является
233
как передовой боец в славной борьбе честных людей против лжи, отупения, рабства и бесправия». Так ли это — еще вопрос, не допускающий - притом — общеобязательного решения, но что самый факт широкого распространения книги атеистического характера «в высшей степени вызывает на размышление всякого, в каком бы отношении ни стоял последний к церкви и религии», это, конечно, верно. Гораздо суровее отнесся покойный профессор к книге Геккеля «Мировые загадки». По его признанию, он «читал эту книгу с жгучим чувством стыда, стыда за состояние общего и философского образования» немецкого народа. Что такая книга оказалась возможной, что она могла быть написана, напечатана, куплена, прочитана, что она могла сделаться предметом удивления и доверия у народа, который имеет Канта, Гете, Шопенгауэра, это, по мнению Паульсена, больно». («Ernst Hackel als Philosoph» — в сборнике статей проф. Паульсена «Philosophia militans», 2-te Aufl., Berl. 1901, S. 187). Паульсен не одинок в своем суждении о книге Геккеля. Укажем для примера разбор этой книги в заслуживающих внимания книжках Adickes’a «Kant contra Haeckel» и Loofs’a «AntiHaeckel»: в первой подвергается суровой и беспощадной критике философский элемент «Мировых загадок», во второй — богословский, еще больше философского поражающий своим невежеством и грубостью. Уже упоминавшийся нами проф. Кюльпе, вообще сдержанный в выражении своих суждений, так характеризует книгу Геккеля: она «носит тот же самый характер естественно-научного высокомерия, враждебности в отношении к традиционному и господствующему философскому направлению, обнаруживает в такой же степени непозволительную неосведомленность (Ignoranz) в вопросах, касающихся истории философии, религии и церкви, равно как недостаток в доброй воле обсуждать такие вещи беспристрастно и справедливо, в какой находим все это в «Силе и материи» Бюхнера». Что же касается широкого распространения книги, то — замечает профессор, повторяя в данном случае Паульсена («Введ. в фил.», стр. 68; «Philos, milit.». S. 187). — «всякий народ и всякое время имеет литературу, какой заслуживают. Утешимся же тем, что здесь перед нами снова та самая неспособная к критике толпа, которая сегодня с слепым энтузиазмом чтит Геккеля, тогда как вчера предавалась культу Ницше, а третьего дня клялась Шопенгауэром. Приговор этой толпы имеет мало цены, и ее одобрительные крики для того философа, вокруг которого они раздаются, всегда были и подозрительны, и обременительны». (О. Kiilpe, «Die Philosophic der Gegenwart in Deutschland», Lpz. 1902, S. 42). Что касается причин широкого распространения книги Геккеля, то, надо полагать, здесь действуют те же причины, на которые указывает Паульсен, говоря о распространении книги Бюхнера. К этому следует прибавить, что в области естествознания Геккель пользуется таким авторитетом, который не оспаривается специалистами, равно как не
234
но совершенно ничтожные в смысле определения основных философских течений последнего времени. Как общественное явление, материализм еще жив: как философская система, он давно умер* 1...
Так, совершив в своем движении второй размах, философская мысль послекантовского времени очутилась в крайнем пункте того направления, которое вело в сторону, противоположную гегелевскому панлогизму. Оказались исчерпанными две взаимно исключающие друг друга возможности в решении вопроса о сущности мирового бытия. Выяснилось, что ни одна из них не в состоянии охватить конкретной действительности во всей ее полноте и разнообразии.
затрагивается и философами: последние оценивают Геккеля не как естествоиспытателя, а как философа.
1 Сказанное в тексте требует двух оговорок. Во-первых, там мы не касаемся несомненного и интересного факта тяготения естествоиспытателей к материализму: объяснение этого факта читатель встретит ниже - в трактате о Ланге, а теперь заметим, что этот факт тоже имеет свое значение в деле распространения материализма. Во-вторых, когда мы говорили о материализме, то речь шла о Германии. Что касается других стран, и именно тех, которые раньше были странами материализма, - имеем в виду Англию (Гоббс 1588-1679, Толанд 1670-1722) и Францию (материализм XVIII-ro века), — то там в это время подготовлялось новое философское направление -позитивизм («Курс положительной философии» Конта впервые появился еще в 1839 г., но полное собрание сочинений Конта впервые издано его учеником Литре лишь во второй половине шестидесятых годов; Милля «Логика» впервые появилась в 1843 г., монография же о Конте и особенно важное для уяснения философской позиции Милля «Изложение философии Гамильтона» в 1865 г.), который затем был подкреплен соответствующим направлением немецкой философии. Но об этом речь впереди. Надо полагать, что отсутствие поддержки со стороны Франции и Англии имело свое значение в истории падения материализма, как философского миросозерцания. По крайней мере, у нас в России один из самых рьяных популяризаторов материализма — разумеем Писарева - под влиянием знакомства с Контом перешел к позитивизму, что было тем легче, что позитивизм «в своей первоначальной контовской форме лишь с трудом отличается от материализма». Дело было в 1865 г. (См. статью проф. Александра Ив. Введенского «Судьба философии в России» в сборнике его статей «Философские очерки», вып. I, Спб. 1901, стр. 33~34)-
235
Если панлогизм Гегеля наткнулся на иррациональный остаток в природе, то материализм встретился с неразрешимыми трудностями при объяснении сознательной жизни в ее самых элементарных формах, каковы ощущения. Для того, кто уяснил это, невозможно было оставаться ни в одном из крайних пунктов предшествующего движения философской мысли. Приходилось искать новых путей. И искали. В то время как одни пытались пройти посередине между крайностями, рассматривая — в духе Лейбница — систему механических причин и действий, как средство для осуществления целей мирового разума (Лотце, Фехнер, Тейхмюллер, у нас Козлов), другие - и здесь именно пролегает магистральная линия философского движения новых времен - хотели стать выше выявившихся крайностей. Рассуждали так: при всей противоположности между идеализмом и материализмом, они сходятся друг с другом в том отношении, что одинаково признают самую сущность бытия доступной нашему познанию, вследствие чего их можно назвать направлениями абсолютистическими, поскольку они признают возможность абсолютно достоверного познания, или объективистическими, поскольку они придают нашему познанию объективный характер. Если, теперь, оба объективистические направления оказались одинаково несостоятельными в истолковании самой сущности бытия, не следует ли отсюда, что она недоступна нашему познанию? Так это или нет - во всяком случае, прежде чем браться за разрешение вопроса о сущности бытия, нужно исследовать вопрос о пределах нашего познания, но таким поворотом дела философская мысль сразу возвращалась на ту позицию, на которую много лет тому назад поставил ее Кант, ибо он именно требовал, чтобы критическое исследование самого разума предшествовало его построительной деятельности. В атмосфере этого настроения и вырос тот клич, который с разных сторон раздается в конце 50-х и в начале бо-х годов: назад к Канту! «Прежние приверженцы Гегеля, как, напр., Эд. Целлер, гербартианцы, как, напр., Дробиш, резкий критик Гегеля Руд. Гайм и примыкающий к Фризу Юрген Бона Мейер (Меуег) объединяются в этом лозунге; естествоиспытатели, как, напр.,
236
Гельмгольц и Целльнер, начинают ссылаться на Канта; Шопенгауэр, который начал теперь входить в славу, указывает на Канта, как на единственно истинного философа среди своих предшественников, и на «Критику чистого разума», как на такой труд, который должен быть прочитан каждым, кто только хочет понять Шопенгауэра; подробное изложение учения Канта в «Истории новой философии» Куно Фишера» (томы о Канте впервые вышли в начале бо-х годов) «могло побудить некоторых читателей возобновить изучение Канта. Отто Либман дал этой философской тенденции своего времени особенно энергичное выражение: каждую главу своей книги «Кант и эпигоны» (Stuttgart, 1865) он заканчивал одним и тем же припевом: «итак, необходимо возвратиться к Канту!»1. В связи с этим призывом начинается ряд работ по изучению Канта, непрерывно продолжающийся до настоящего времени, среди которых главное место занимают, помимо упомянутых сочинений Фишера и Либмана, замечательные труды Г. Когена («Kants Theorie der Erfahnmg», 1871, 2-е, переработанное, изд. 1881 г.; «Kants Begriindung der Ethik», 1877; «Kants Begriindung der Asthetik», 1889) и Г. Файгингера (два тома уже упоминавшегося «Комментария на Критику чистого разума», вышедший в 1881 и 1892 гг.1 2 3, но первым, кто откликнулся на призыв возвратиться к Канту построением цельного философского миросозерцания в духе новых требований, был Альберт Ланге. В 1866 году вышла первым изданием его книга «История материализма и критика его значения в настоящее время», которая, по словам автора, вполне подтверждающимся характером сочинения, имеет своею целью не столько объективно-историческое изложение материалистических учений, хотя и эта цель выполнена блестяще, сколько «уяснение принципов»з. Читатель выносит из книги массу строго проверенных по первоисточникам сведений о материалистах
1 К. Vorlander, Geschichte d. Philos., II. S. 457-458; ср. Ланге. Истор. матер., 327-328.
2 С 1896-го года в Германии издается специальный журнал, посвященный изучению Канта: «Kantstudien». Журнал основан Файгингером.
3 См. предисловие ко 2-му изданию.
237
разных эпох, но больше всего он узнает о самом Ланге. Миросозерцание Ланге настолько характерно для своего переходного времени, что на нем необходимо остановиться: иначе получится перерыв в той цепи философских систем и учений, которая связывает современную нам философию с философией предшественников Ланге.
Исходным пунктом рассуждений Ланге, дающих в результате целое мировоззрение, служит критика материализма, истории и оценке которого посвящено главное сочинение этого интересного мыслителя и увлекательного писателя.
Ланге указывает два критерия, которые, при своем совместном приложении, дают нам возможность выделить материализм из ряда других философских систем: один критерий — формальный, другой -материальный. Формальным критерием материализма служит аксиома понятности мира1, материальным - положение, что все события, происходящие в мире, в том числе и состояния сознания, могут быть выведены из движений вещества1 2 з. Критерии эти безусловно обязательны для материализма: отказаться хотя бы от одного из них значило бы для материализма отказаться от своей первоначальной сущности, или - что то же - покончить с собой. Между тем есть такой пункт, и он издавна указывается материализму, где не находит приложения ни один из указанных критериев. «Сознание не может быть объяснено из вещественных движений. Как ни убедительно доказывается, что оно вполне зависимо от вещественных процессов, но отношение внешнего движения к ощущению остается непонятным и обнаруживает тем более резкое противоречие, чем ближе оно освещается»з. Сами материалисты должны сознаться, что они не могут объяснить, каким образом в мозгу возникает сознание, но, сознаваясь в этом, они не сознают
1 Истор. материализма, пер. с з-го изд. Н. Н. Страхова, изд. 2-ое, Спб. 1899 г., стр. 336, 440. ср. 509,542.
2 Там же, стр. 397,440 и мн. др.
з Там же, стр. 329.
238
рокового значения этого сознания для их точки зрения: раз что-либо оказалось непонятным - материализм перестал существовать, как философская система1.
Однако из того, что материализм оказался несостоятельным, еще не следует, что те «системы, которые выводятся на борьбу против материализма, пусть они называются именами Декарта, Спинозы, Лейбница, Вольфа или древнего Аристотеля», имеют больше права на существование: по Ланге, они «заключают в себе совершенно такое же противоречие и, кроме того, может быть еще дюжину худших». Дело не в том только, чтобы устранить материализм, как философскую систему, и уж во всяком случае не в том, чтобы на очищенное таким путем место поставить другую систему, противоположную материализму по характеру мирообъясняющего принципа, но сходную с ним по отсутствию гносеологического обоснования этого принципа, — нужно указать такой «принцип, против которого материализм безоружен, и который на деле ведет за пределы материализма к рассмотрению вещей с высшей точки зрения»1 2 3 4 5. Чтобы выйти за пределы материализма — нужно только довести материализм до конца: «единственный путь, который выведет нас из односторонностей материализма, проходит через его следствия»з. Итак, постараемся извлечь из материалистического принципа заключающиеся в нем следствия.
Главное положение материализма заключается в том, что все явления, происходящие в мире, вполне объясняются из функций материи, в частности душевная жизнь человека и животных — из функций нервной системы. Но если это верно, то отсюда с логическою необходимостью следует, что качества наших представлений, в том числе и представлений об атомах^, и представления о материиэ,
1 Там же, стр. 332, 336-337-
2 Lange, Geschichte d. Materialismus, II В, 8 Aufl, Lpz. 1908, S. 4; ср. пер. Страхова, стр. 330-
3 Ист. матер., пер. Страхова, стр. 650.
4 Там же, стр. 459 - 460.
5 Там же, стр. 637, а также 464, 614 и др.
239
определяются в той или другой степени (в какой - это пока безразлично) особенностями нервной системы, вследствие чего им нельзя усвоить объективного значения в том наивном смысле, в каком этот термин употребляется материалистами, т. е. в смысле полного соответствия между представлениями и воспринимаемыми предметами: мы воспринимаем не вещи сами в себе, а явления, о соответствии которых вещам мы ничего не знаем и знать не можем. Этого мало. Мы не имеем никаких оснований к тому, чтобы нервную систему с ее органами, посредством которых мы воспринимаем внешний мир, выделять из других предметов этого мира, а потому должны и на нее распространить те следствия, какие вытекают из положения, что мы воспринимаем не вещи в себе, а явления. «Мы будем в своем праве, если для всего, даже и для механизма мышления, станем предполагать физические условия и не успокоимся, пока их не найдем. Но мы не менее правы, если мы не только на являющийся нам внешний мир, но и на органы, которыми мы его воспринимаем, смотрим как на простые образы истинно существующего. Глаз, которым мы думаем видеть, сам только продукт нашего представления, и, если мы находим, что наши зрительные образы вызываются устройством глаза, то мы никогда не должны забывать, что и глаз вместе с его устройством, зрительный нерв вместе с мозгом и всеми структурами, которые мы в нем, положим, надеемся открыть как причины мышления, суть только представления, которые хоть и образуют некоторый цельный и связный мир, но мир, указывающий на то, что за его пределами». Так материалистическая точка зрения, будучи проведена последовательно, переходит в строго идеалистическую1: последовательность материализма - его погибель1 2.
Итак, мы нашли принцип, который выводит нас за пределы материализма: это — мысль, что воспринимаемый нами мир есть
1 Там же, стр. 650; ср. стр. 290,459, 653 и мн. др.
2 Там же, стр. 601. Это - основная мысль Ланге в критике материализма, как философской системы, проходящая через всю книгу.
240
наше представление. Принцип этот, начиная с Протагора, неоднократно выдвигался в истории философии. Следом за выдающимися представителями материализма выступают обыкновенно мыслители, защищающие указанный принцип: за Демокритом — Протагор, за Гоббсом — Беркли, за Ля-Метгри и Гольбахом - д’Аламбер1, но только в философии Канта он нашел для себя строго научное выражение. Значит, выходя по намеченному Ланге пути за пределы материализма, мы тем самым возвращаемся «zuriick auf Kant». Само собою разумеется, что это возвращение не было для Ланге окончательным успокоением на принятых без критики основоположениях и выводах критики познания, выполненной великим критиком. Нет, «прочные приобретения кантовской философии заключаются, — по Ланге, - в «Критике чистого разума», и здесь даже лишь в немногих основных положениях»1 2, послуживших как бы программой к удивительным открытиям в области физиологии органов чувств, которые, представляя в общем блестящее подтверждение кантовской критики познания, требуют однако от нее вместе с тем и некоторых дополнений и исправлений3, а потому задача возвращения к Канту должна состоять не только в освобождении непреходящих элементов кантовской критики от осложняющих наслоений, но и в добавлении и исправлении ее выводов по руководству данных, заключающихся в физиологии органов чувств. Ланге и берет на себя выполнение этой задачи.
Непреходящее значение «Критики чистого разума» Ланге усматривает прежде всего в правильной постановке задачи, которая, по Канту, состоит в том, чтобы отыскать условия, объясняющие возможность опыта, как единственно прочной опоры научного
1 Там же, стр. 330.
2 Там же, стр. 386; ср. стр. 328-329.
3 См. стр. 636: «физиология органов чувств есть развитый или исправленный кантианизм, и система Канта может быть считаема как бы некоторою программою к новейшим открытиям в этой области»; ср. стр. 330.
241
познания. Руководящею нитью при выполнении этой задачи служит вопрос: что я должен предположить, чтобы объяснить себе факт опыта? Ответ заключается в том, что в составе нашего познания «находится фактор, который происходит не от внешнего воздействия, а из сущности познающего субъекта, и который именно поэтому не есть фактор случайный, как внешнее впечатление, но постоянно присущий во всем, что вообще может нам встретиться»1. Этому именно фактору наш опыт обязан своими всеобщими и постоянными чертами, совершенно недоступными индивидуальному произволу, — значит, такими чертами, которыми только и может обусловливаться общеобязательное значение опыта1 2 3. Желая точнее определить априорные элементы опыта, Кант «рассматривает изолированно главные функции духа в познавании, не заботясь об их психологической связи. При этом он принимает два главных ствола человеческого познания — чувственность и рассудок. С глубокой проницательностью он замечает, что, быть может, оба проистекают из общего, неизвестного нам корня»з. К сожалению, Кант не сумел воспользоваться этой мыслью в своей критике. «Он учит, правда, что в познании должны действовать оба фактора вместе; но даже в способе, как он мыслит это совместное действие, обнаруживается еще сильный остаток - платоновского учения о чистом, свободном от всякой чувственности мышлении». Так, наряду с учением, что «всякое мышление должно в конце концов относиться к созерцанию», что «без созерцания вообще не может быть дан нам ни один предмет нашего познания», встречаем у него взгляд, что «простое созерцание, без всякого содействия мышления, не дает равно никакого познания, тогда как простое мышление, свободное от всякого созерцания, все-таки сохраняет еще форму познания». Канту, — заключает отсюда Ланге, - не удалось сохранить равноправия за обоими стволами познания. То, чего не сумел сделать
1 Там же, стр. 358-359-
2 Там же, стр. 357.
3 Gesch. d. Mater., II, S. 31; ср. пер. Страх., стр. 359.
242
Кант, выполнила физиология органов чувств. «Эксперименты», произведенные в этой области, «неопровержимо доказывают, что в по-видимому совершенно непосредственных чувственных впечатлениях участвуют процессы, которые посредством элиминации или дополнения известных логических членов поразительно соответствуют силлогизмам и софизмам сознательного мышления». Если же чувственность может выполнять те операции, которые обыкновенно приписываются только рассудку, то уже нет оснований настаивать на разнородности этих двух стволов человеческого познания: догадка Канта, что они проистекают из одного общего корня, должна почитаться доказанной1.
Таков первый пункт, в котором Ланге считает нужным внести поправку в систему Канта. Делая это, Ланге думает, что он не изменяет системы по существу. Он даже готов считать свои замечания не поправкой, а лишь дальнейшим развитием и обоснованием мыслей Канта. На самом деле это не так. То правда, что Кант высказывает догадку, к которой Ланге примкнул свои разъяснения и дополнения1 2 3, но правда и то, что наличность этой догадки не мешает ему с особенною силой настаивать — вопреки Лейбницу — на разнородности чувственности и рассудказ. Очевидно, мысль о возможности для чувственности и рассудка происходить из одного корня не исключала в сознании Канта мысли об их разнородности, одной из самых кардинальных в системе Канта. Замечательно, что, высказавши свою догадку, Кант не производит никаких исследований в намечавшемся этой догадкой направлении, потому, очевидно, что в границах опыта не находит данных для разрешения вопроса, а за границами опыта всякие поиски считает бесплодными. Становясь на точку зрения Канта, мы должны сказать, что мысль об общем корне чувственности и рассудка так же проблематична, как мысль о вещи в
1 Там же, S. 31-32; ср. русск. пер., стр. 359; по вопросу о «совершенно бессознательных процессах», в своем результате совпадающих с умозаключениями, см. еще стр. 649.
2 Кг. d. rein. Vem.2, S. 29 (Введение, гл. VII).
3 Там же, S. 60-62,326-327.
243
себе, и эксперименты, на которые ссылается Ланге, столь же мало приближают нас к разрешению вопроса о предполагаемом общем корне наших познавательных способностей, как мало дают и для ответа на вопрос, что такое вещь в себе. В данном случае мы имеем дело с предельными понятиями нашего познания, и было бы бесплодной попыткой стараться проникнуть по ту сторону границы с данными, найденными по сю сторону. Такой именно бесплодной попыткой и должна быть признана, с точки зрения Канта, попытка Ланге. Допустим, что он правильно истолковывает те эксперименты, на которые ссылается, т. е. что рассудочные элементы вплетаются в познавательный процесс на самых низших его ступенях. Разве это говорило бы за то, что чувственность и рассудок происходят из одного корня? Для того, чтобы объяснить указанное обстоятельство, достаточно было бы предположить, что чувственность и рассудок на всех ступенях познавательного процесса функционируют совместно, но ведь это и есть одно из основоположений кантовской гносеологии, само по себе не обязывающее предполагать не то что однородности чувственности и рассудка, но даже происхождения их из одного корня. Между тем устранением дуализма между чувственностью и рассудком путем сведения второго на первую, как это мы видим у Ланге, вносится в систему Канта такое изменение, после которого мы уже не можем говорить о рационалистическом характере этой системы: она получает тогда специфически-эмпиристическую окраску, и со стороны Ланге было, конечно, только простою последовательностью, когда он категорию субстанции истолковал в смысле наклонности человека к олицетворению1.
Изменение взгляда Канта в столь существенном пункте неминуемо должно было повлечь за собою дальнейшие, не менее значительные изменения, что мы и видим на самом деле. В своем месте было отмечено, что основным условием синтетической деятельности рассудка Кант признавал трансцендентальное единство апперцепции, или трансцендентальное я, открытое Кантом
1 Ист. матер., русск. пер., стр. 185.
244
посредством не эмпирического метода, анализирующего данное в опыте содержание, а трансцендентального, ищущего ответа на вопрос, при каких условиях возможен опыт: трансцендентальное я, по разъяснению Канта, в опыте не дано. Естественно, что Ланге, раз став в истолковании Канта на эмпиристическую точку зрения, отверг его учение о трансцендентальном единстве апперцепции: эмпиристу с этим учением делать нечего. На место «трудно понимаемого кантовского представления о трансцендентальных предположениях опыта» Ланге выдвигает «очень понятное, соединенное с созерцанием понятие» физико-психической организации, под которой следует разуметь то, что является нашему внешнему чувству, как такая часть физической организации, которая находится в самой непосредственной причинной связи с психологическими функциями. Не было бы грехом назвать эту организацию просто физической, хотя Ланге и воздерживается от такого названия на том основании, что «всякая физическая организация, даже если бы мы и могли видеть ее под микроскопом или показать под ножом, все же только наше представление и не может в своем существе отличаться от того, что мы в других случаях называем духовным», но рискованно называть ее, вслед за О. Либманом, организацией духа, так как это обозначение дает представление о трансцендентном бытии, которое, как трансцендентное, «координируется с другими трансцендентными предположениями»; между тем Ланге, говоря об организации, как условии опыта, имеет в виду не какую-либо вещь в себе, а вещь, данную в опыте, которая по тому самому может быть координирована с другими данными опыта. Вот почему Ланге предпочитает нейтральное обозначение «физико-психическая организация» или даже просто «организация»1. Организация человека и является необходимым условием опыта: самый факт, что мы что-либо испытываем, обусловлен организацией, равно как ею же обусловливаются качества тех элементов, которые входят в содержание опыта, и характер тех связей, в какие вступают эти
1 Там же, стр. 357-358, прим. 25-ое; стр. 637; ср. стр. 353,370, 375,635, 647.
245
элементы: она принуждает нас испытывать то, что мы испытываем, думать так, как мы думаем. Как условие опыта, организация существует прежде опыта: она априорна1. Так кантовское учение о трансцендентальном я, не подлежащем восприятию, заменяется эмпирическим понятием физико-психической организации. Много ли после этого остается от трансцендентального идеализма Канта?1 2 3.
Если априорным условием опыта служит физико-психическая организация, то его апостериорным условием является воздействие на эту организацию со стороны внешних предметов. Таким образом, опыт есть результат взаимодействия двух факторов, откуда следует, что взгляд, по которому мир воспринимаемых нами вещей есть всецело продукт нашей организации, так же ошибочен, как и противоположный ему взгляд (защищавшийся, напр., (zolbe), по которому наши представления являются адекватным отображением внешних предметовз. На самом деле «опыт не есть открытая дверь, через которую внешние вещи входят в нас такими, каковы они есть, но процесс, посредством которого возникает в нас явление вещей». Предположить, «будто при этом процессе все свойства этих «вещей» приходят извне, и человек, который их воспринимает, ничего при
1 Там же, стр. 330, 353~354-
2 Насколько в этом пункте Ланге отклоняется от Канта, можно судить по таким утверждениям Ланге, как следующие: а) «то в нас, — все равно, будем ли понимать это физиологически или психически, — в силу чего колебание струны становится звуком, есть априорное в этом процессе опыта» (стр. 353); б) «ограничение априорного» элемента в созерцании «пространством и временем неубедительно; можно было бы еще спросить, не принадлежит ли сюда еще движение; можно, может быть, доказать, что многие категории суть в сущности не чистые понятия рассудка, но созерцания, как, напр., категория пребывающей субстанции в изменении; даже качества чувственных впечатлений, как цвет, звук и т. д., не заслуживают, может быть, такого полного и совершенного отвержения, как нечто индивидуальное, субъективное, откуда не могут вытекать никакие априорные положения, и на чем, поэтому, не может основываться никакая объективность» (стр. 364); в) категория субстанции в сущности не что иное, как наша наклонность к олицетворению (стр. 485).
3 Там же, стр. 415. ср. стр. 334, 645.
246
этом не делает», было бы противно «всякой аналогии природы при каком бы то ни было возникновении новой вещи из взаимодействия двух других. Что наши вещи» на самом деле «отличны от вещей самих в себе, может показать уже простая противоположность между звуком и колебаниями струны, возбуждающими его. Исследование признает, правда, далее и в этих колебаниях опять явления и в конце концов отодвигает, достигши своей цели, «вещь в себе» в недосягаемую сферу лишь мысленной вещи; но, конечно, вполне можно выяснить право» критики по отношению к вопросу об отношении между знанием и бытием и «смысл ее первого подготовительного шага на этой противоположности между звуком и его внешним возбудителем. Если бы мы не имели никакого чувства, кроме слуха, то весь опыт состоял бы в звуках, и, как бы при этом все остальное познание ни следовало из опыта, все-таки природа этого опыта вполне определялась бы природою нашего слуха, и можно было бы сказать, - не с вероятностью, а с аподиктическою достоверностью, - что все явления должны были бы звучать»1. Расширяя мысль, непосредственно следующую из этого примера, до границ ее действительного значения, мы должны будем признать, что «предметы опыта суть вообще лишь наши предметы», что «вся объективность вовсе не есть абсолютная объективность, но лишь объективность для человека и какого-нибудь подобно ему организованного существа»1 2 3 4, и что существу, организованному иначе, те же самые предметы представились бы в совершенно ином видез. На основании всего сказанного необходимо согласиться с Кантом, что мы воспринимаем не вещи в себе, а явления. Вещи в себе остаются для нас абсолютно неизвестными*. Если так, то какое значение имеет для нас понятие вещей в себе? Так мы снова возвращаемся к той
1 Там же, стр. 352“353-
2 Там же, стр. 329.
3 Там же, стр. 330.
4 Passim. Многие места будут использованы ниже.
247
проблеме, которая, как мы видели, сыграла громадную роль в германской философии конца XVIII и начала XIX века.
Ланге находит, что понятие о вещи в себе есть необходимое следствие употребления нашего рассудка. В силу своей физикопсихической организации я не могу не задаваться вопросом о причинах воспринимаемых мною вещей-явлений. Работая над разрешением этого вопроса, эмпирическое исследование приходит к тому выводу, что «мир для уха не соответствует миру для глаза, что мир логических выводов иной, чем мир непосредственного созерцания». Так возникает эмпирическая противоположность между явлением и сущностью, которая имеет для рассудка бесконечный ряд степеней: то, что на одной степени рассматривания есть сущность (напр., волнообразное движение эфира), то на другой, по отношению к некоторой более глубокой сущности, оказывается снова явлением и т. д. Восходя в этом движении от явления к сущности все дальше и дальше, мы приходим, наконец, к понятию абсолютной сущности, которая, будучи основою данных в нашем опыте явлений, сама уже не есть явление, но - вещь в себе1. Мы приходим к понятию абсолютной сущности, или вещи в себе, двигаясь в двух направлениях соответственно двум факторам нашего опыта: мы предполагаем трансцендентную основу как для нашей организации1 2 3, так и для воспринимаемого нами мира, взятого в целом, причем оказывается, что трансцендентная основа первой так же нам неизвестна, как и второго. «Рыба в пруду плавает лишь в воде, а не в земле; но она может все-таки толкаться головою в дно или бока. Таким образом, и мы могли бы, конечно, пройти с понятием причинности все царство опыта и найти, что за ним находится область, которая абсолютно замкнута для нашего познания». Понятие этой области было бы тогда предельным понятием нашего рассудка. Таким именно предельным понятием и является для него понятие вещи в себез. Мы не можем
1 Там же, стр. 374-375*
2 Там же, стр. 647.
3 Там же, стр. 374.
248
обойтись без этого понятия, мы не можем не предполагать, что в основе воспринимаемых нами явлений - в том числе и нашей организации - лежат «вещи, которые существуют независимо от нас, и которым, следовательно, принадлежит абсолютная действительность»1, и тем не менее понятие вещей в себе, как порождение тех требований нашего рассудка, которые имеют свой источник в нашей физико-психической организации, должно быть признано вполне проблематическим: мы не имеем оснований думать, чтобы понятиям, обусловленным в своем происхождении нашей организацией, принадлежало какое-либо значение вне нашего опыта. Мало того, что мы не знаем о вещи в себе, что она собою представляет, — мы не знаем даже и того, существует ли она1 2 з.
Но «чем более вещь в себе сводится к простому представлению», притом проблематическому, «тем больше реальности приобретает мир явлений», ибо «он охватывает вообще все, что мы можем назвать действительным »з, и — в соответствии с этим — чем меньше ценности можно признать за метафизикой, претендующей на познание абсолютной действительности: такая метафизика отжила свой век, тем больше значения принадлежит точной науке, не выходящей за пределы возможного для нас опыта: подобно Канту, Ланге выступает в своей «Истории материализма» убежденным защитником точной науки, хотя ему было гораздо трудней выступать в этой роли, нежели Канту, поскольку он заменил учение последнего о надындивидуальном разуме учением о физикопсихической организации, обусловливающей субъективный характер нашего познания. Чтобы спасти науку, Кант разорвал с эмпиризмом; Ланге снова сблизился с эмпиризмом, и тем не менее он надеется спасти науку. Наука начинается там, где кончается область субъективного. Можно ли говорить о науке с точки зрения Ланге, если ею исключается возможность объективного познания? Очевидно,
1 Там же, стр. 727 в сопоставлении с 415-ой и 635-ой стр.
2 Там же, стр. 374-375,492.
з Там же, стр. 374.
249
чтобы показать возможность науки, Ланге нужно было точнее уяснить понятия объективного и субъективного в приложении к знанию.
В строгом смысле слова об объективном познании не может быть речи, так как все оно определяется природой физикопсихической организации, но в относительном смысле следует различать между объективным и субъективным познанием: то, в чем, в силу общности своей организации, согласны все люди, что каждому существу, организованному по-человечески, представляется существующим так, а не иначе, это может быть названо в относительном смысле объективным; наоборот, то, относительно чего нет полного и принудительного согласия между всеми существами, организованными по-человечески, должно быть признано субъективным. Относительно объективное — это есть объективное для рода1, что не мешает ему иметь для нас громадное практическое значение: «по возможности неискаженное понимание
действительности составляет настоящую основу обыденной жизни, необходимое условие человеческих сношений; родовое общее в познании есть в то же время закон всякого обмена мыслей; но оно еще более того: оно в то же время единственный путь для подчинения природы и ее сил»1 2. В каждом отдельном случае показателем объективности является та принудительность, с какою объект навязывается субъекту, и — соотносительно — та пассивность, с какою первый воспринимается вторым. В этом смысле объективным может быть признано лишь познание чувств и рассудка, поскольку именно
1 См. там же, стр. 320, 415, 449-450, 461, 724. Как видно из сказанного в тексте, в определении объективного замечается полное словесное совпадение между Фейербахом и Ланге: у того и другого объективным признается то, что имеет такое значение для рода, но именно на сравнении этих мыслителей лучше всего можно видеть, какая перемена произошла в трактовании проблемы об объективном с того момента, как философская мысль возвратилась к Канту: в то время как для Фейербаха объективное для рода было абсолютно объективным, у Ланге оно оказывается объективным относительно.
2 Там же, стр. 725-726; ср. нем. подл., П, S. 512.
250
здесь, и только здесь, может иметь, и действительно имеет, место согласие всех существ, организованных по-человечески1. Нужно только помнить, что рассудок без содействия чувств не дает, по Ланге, ровно никакого познания, — он только разбирается в том, что дано чувствами. Вот почему объективно данная действительность определяется у Ланге, как «совокупность необходимых явлений, данных принуждением чувств»1 2 з 4 5, или — короче - как «мир чувств» (die Sinnenwelt)3. Только этот мир и может быть предметом научного исследования; другими словами: границы науки совпадают с границами чувственного наблюдения. Не то это значит, чтобы за указанными границами не существовало никаких явлений иного порядка. Непосредственное сознание каждого из цас убеждает в противном: каждый из нас переживает богатый и разнообразный мир чувствований и других душевных состояний, но только науке с этим миром делать нечего, потому что в отношении к нему «наш субъект не находится в общем и необходимом согласии со всеми другими чувствующими субъектами »4, при наличности которого только и можно говорить об объективном познании. Мир внутренних переживаний существует только для того, кто его переживает, а потому он не может быть включен в непрерывный ряд явлений, доступных внешнему наблюдению неограниченного числа лиц и потому существующих не для индивидуума, а для рода. Если бы мы включили свои внутренние переживания в ряд явлений природы, то этот ряд потерял бы свою непрерывность, вместе с чем исчезло бы условие, абсолютно необходимое для точного определения отношений между членами данного ряда, именно - его непрерывностьз. Кроме того, при изучении душевных явлений, как известных непосредственно лишь лицу, их переживающему,
1 Там же, стр. 461.
2 Там же, стр. 723.
з Там же, стр. 461; ср. немецк. подл., II В., S. 177.
4 Там же, стр. 450.
5 Там же, стр. 605-606.
251
невозможно освободиться от влияния субъективности исследователя, между тем такое освобождение составляет непременное условие действительно научного исследования1. Из сказанного следует, что душевные явления совсем не могли бы быть предметом научного исследования, если бы они не были неразрывно и закономерно связаны с соответствующими им телесными процессами, но как последнего рода связь существует, то это дает нам возможность изучать душевные явления со стороны тех телесных процессов, с какими они связаны, или — другими словами - со стороны их телесных симптомов. Такой метод изучения, единственно только и применимый в данном случае, Ланге называет соматическим1 2 3 4 5, а психологию, построенную этим методом, - естественно-научной психологиейз. Если бы кто в совершенстве изучил строение и отправления человеческого мозга, тот «был бы самым совершенным психологом, какой только мыслим для нас»< Правда, такого рода психолог ничего нам не дал бы ни по вопросу о природе той связи, которая существует между психическими и физическими процессами в человеке, ни по вопросу о существе или даже только о существовании души, но это было бы лишь показателем строгой научности его психологии, поскольку первый вопрос абсолютно неразрешим для человеческого ума: здесь пролегает граница нашего познанияб, а второй касается такого предмета, который для науки совершенно не существует: «в немногих явлениях, которые до сих пор
1 Там же, стр. 618.
2 Там же, стр. 441-442,623.
3 Там же, стр. 611.
4 Там же, стр. 445.
5 Там же, стр. 445. Возможно, конечно, и по этому вопросу строить различные предположения, но только надо помнить, что они относятся не к области науки, а к области умозрения. Вступая в эту область, Ланге находит, что «если сознание и движение мозга совпадают, и однако влияния одного на другое нельзя понять, то трудно избежать старой спинозистической мысли, часто отзывающейся и у Канта, что и то и другое одна и та же вещь, как бы проектированная на различные органы восприятия» (там же, стр. 418).
252
были доступны более точному наблюдению, не заключается ни малейшего побуждения вообще принимать душу, в каком бы то ни было точнее определенном смысле», и, если тем не менее, она сплошь да рядом принимается, то «скрытое основание к этому предположению заключается собственно всегда только в предании или в тайном стремлении сердца идти против пагубного материализма»1. Зато наш психолог даст нам точное знание о телесных симптомах, которыми сопровождаются психические процессы, а этого — при условии полного соответствия между первыми и вторыми — совершенно достаточно для того, чтобы ориентироваться в последних, хотя по своей природе они и несоизмеримы с телесными процессами. Ландкарта - далеко не та страна, по которой мы мысленно путешествуем, но это не мешает ей служить прекрасным средством для ориентирования среди последней1 2 3...
Такова та психология, которая только и может - по Ланге -рассчитывать на признание за нею научного значения. Мало сказать, что это — «психология без души»; это — психология без душевных явлений, потому что предметом ее изучения служат лишь телесные симптомы последних. Ланге хорошо сознает, что такую «психологию» трудно отграничить от физиологии, но, во-первых, он не видит в этом большой беды: «если те же открытия сделаны будут на двух различных пунктах, то их цена тем больше»з, а во-вторых, иначе и не может быть по самому существу дела: «психология, как наука, всегда будет для нас не чем иным, как отрывком того познания, которым -обладал бы в совершенстве» лапласовский ум, т. е. познания, ограниченного кругом явлений, доступных внешнему наблюдению. Впрочем, «если вглядеться точнее, то то же самое нужно сказать о всех науках без исключения, насколько дело идет не об одном мнимом знании. В известном смысле все есть познание природы, ибо
1 Там же, стр. 611.
2 Там же, стр. 450.
3 Там же, стр. 612.
253
все наше познание направлено к созерцанию (auf Anschauung). Лишь в объекте ориентируется наше познание нахождением твердых законов; из нашего субъекта мы истолковываем и оживляем лишь различные формы, насколько мы относим их к духовному. Непосредственное познание духовного мы имеем только в нашем самосознании; но кто только из него, не руководясь объектом, хочет построить науку, тот впадет неизбежно в самообольщение»1. Науки на этом пути создать невозможно.
Мы воспроизвели ход мыслей, приведших Ланге к тому выводу, что психология, как наука, должна быть отделом естествознания. Однако, делая этот вывод, Ланге хорошо сознает, что есть достаточно данных и для обратного вывода. Астроном Целлънер в своем сочинении «О природе комет» обращает внимание на то, что «феномен ощущения есть гораздо более основной факт наблюдения, нежели подвижность материи, которую мы принуждены приписывать ей, как самое общее свойство и условие для понимания чувственных изменений». Ланге вполне присоединяется к этой мысли. «Действительно, — говорит он,— представление об атомах и их движениях легко выводится из ощущения, а не наоборот, ощущение из движения атомов». Отсюда следует, что «если один из двух предметов (ощущение и движение атомов) должен быть объявлен за действительность, а другой за простую видимость, то было бы гораздо более основания объявить ощущение и сознание за действительность, атомы же и их движения за простую видимость». Если, затем, стать на эту точку зрения, то можно бы «всю естественную науку сделать как бы специальною областью психологии». На деле, однако, не следует становиться на указанную точку зрения. «Ощущение и движение атомов для нас равно «действительны» как явления». Разница между ними в том, что «первое есть непосредственное явление, движение же атомов только посредственное, мыслимое». И лишь «в силу строгой связи, которую создает в наших представлениях признание материи и ее движения, оно заслуживает» быть
1 Lange, II В., S. 16о; ср. русск. пер., стр. 445-446.
254
названным «объективным», потому что только вследствие его разнообразие объектов делается единым, великим и всеобъемлющим «объектом», который мы противопоставляем как пребывающий «предмет» нашего мышления изменяющемуся содержанию нашего Я». Не надо только забывать, что «вся эта действительность есть именно эмпирическая реальность, весьма соединимая с трансцендентальной идеальностью». Но тем же самым основаниям, какие заставляют нас придавать материи с ее движениями относительную объективность, мы делаем психологию отрывком естествознания, а не наоборот. «Тогда лишь, когда мы наши ощущения и представления ощущения в абстракции (Empfindungsvorstellungen in der Abstraction) сведем, на простейшие элементы наполнения пространства, сопротивления и движения, мы получим базис для научных операций», поскольку этим именно «самым отвлеченным представлениям чувственного», как вызывающим в отношении к себе «необходимое согласие у всех людей в силу априорических элементов нашего познания», может быть усвоена — относительная, конечно — объективность, «в противоположность конкретным ощущениям, соединенным с удовольствием и неудовольствием, которые мы называем «субъективными», потому что в них наш субъект не находится в общем и необходимом согласии со всеми другими чувствующими субъектами»1. Отсюда следует, что лишь путем сведения психологии к естествознанию можно придать первой «объективный» характер, поскольку, разумеется, с критической точки зрения может быть речь об объективности. К сказанному следует присоединить, что лишь в области физических процессов, поскольку они сводятся к движению протяженных частиц, находят применение те принципы, которые со времен Ньютона овладели постепенно всем пониманием природы, чем и объясняются блестящие результаты, достигнутые в этой области в новое время: таковы принципы механического
1 Ист. матер., русск. пер., стр. 449-450; ср. немецк. подл., II В., S. 164-165.
255
мирообъяснения1. Только там, где они находят для себя полное применение, может быть речь о действительной науке. Где прекращается их применение, прекращается и наука. Не может поэтому иметь научного значения то миросозерцание, которое объясняет явления природы и факты истории из целей человекообразно действующего разума. На самом деле природа действует не по-человечески1 2 * * 5. Если она и достигает целесообразных образований, то такими средствами, которые по своему логическому содержанию должны быть признаны самыми низшими из тех, какие мы только знаемз. Блестящая попытка проникнуть в тайны того механизма, каким орудует природа, принадлежит Дарвину. Ланге решительно становится на сторону дарвинизма, что, впрочем, не мешает ему критически относиться к частностям этой теории, напр. к объяснению явлений так наз. мимикрии*. Ценность теории определяется тем, что она объясняет происхождение целесообразных образований действием механически действующих причин. Ланге твердо стоит на том, что в науке не должно быть места для причин иного рода (конечных). А так как применение законов механики облегчается при предположении атомистического строения материи, то механическое мирообъяснение соединяется обыкновенно с названным предположением: лапласовский ум — а это и есть ум естествоиспытателя новых времен — ничего не хочет знать, кроме механики атомов. И он нрав: механика атомов должна лежать в основе всякого объяснения явлений природыз, не исключая психических.
Такова теория науки, построенная Ланге. Ей нельзя отказать в цельности: она насквозь проникнута мыслью о совпадении границ науки с границами механического объяснения явлений. Вследствие
1 Ист. матер., русск. пер., стр. 459.
2 Там же, стр. 518 слд.
ЗТам же, стр. 521.
* Там же, стр. 529-532; чит. также всю главу «Дарвинизм и телеология».
5 Там же, стр. 624.
256
этого едва ли найдется в ней хоть один пункт, под которым не подписался бы не то что Дю-Буа-Реймон, а самый завзятый материалист, пусть это будет сам Фогт. Ланге знает это. Мало того, — в этой именно особенности своей теории науки он видит ее достоинство. Если материализм — в чем убежден Ланге — не прав в своих философских построениях, то это еще не значит, что он ошибается в своих методологических приемах и требованиях. Нет, будучи плохой философией, материализм остается «превосходным правилом исследования природы»1. Если вы хотите, чтобы последнее привело вас к точным выводам, которыми только и обуславливается господство человека над природой, изучайте природу так, как будто бы в ней совсем не было душевной жизни, как будто бы она представляет собою совокупность атомов, находящихся в движении, и вы достигнете своей цели. В этом смысле материализм должен быть признан условием всего исследования природы1 2 3. Нужно только помнить, что оставление душевной жизни при исследовании природы в стороне вовсе не означает ее отрицания. Ланге полагает, что, строя свою теорию науки, он всецело стоит на почве кантовской философии. В доказательство он ссылается на следующие слова из «Пролегомен»: «Естествознание никогда не откроет нам внутреннего вещей, т. е. того, что не есть явление, но что может служить высшим основанием объяснения явлений; но естествознание и не нуждается в нем для своих физических объяснений; даже если бы и предлагалось ему откуда-нибудь что-нибудь подобное (напр., влияние нематериальных существ), то естествознание должно отказаться от него и совершенно не вводить в ход своих объяснений, а основывать их всегда лишь на том, что принадлежит как предмет чувства к опыту, и что можно привести в связь с нашими действительными восприятиями по законам опыта»з.
1 Там же, стр. 440.
2 Там же, стр. 459.
3 Там же, стр. 331. После сказанного в тексте для нас должен получить объяснение несомненный факт тяготения естествоиспытателей к материализму. «Строго говоря, —
257
Во всем, доселе сказанном, Ланге является решительным релятивистом. Он сам признает свое родство с Протагором, но только родство, а не тождество. Протагор был прав, когда провозгласил, что человек есть мера всех вещей; это старое положение вполне оправдывается новейшими успехами в области физиологии органов чувств, но он впал в недозволительную крайность, когда мерою вещей признал не человека вообще с его всеобщими и необходимыми свойствами, а каждого отдельного человека, притом в каждый отдельный момент его существования. После Канта такая крайность не допустима, но, освобожденный от этой крайности, принцип Протагора сохраняет свою силу1: «все абсолютные истины ложны;
читаем в «Истории материализма» (стр. 453) — точное исследование не порождает материализма», как, впрочем, «и не опровергает его», но на деле естествознание «вовсе не относится так нейтрально или отрицательно к материализму, как это бывает при строжайшем проведении всех последствий»; не случайность же в самом деле, что «почти только естествоиспытатели повели к обновлению материалистического мировоззрения в Германии», да и «в настоящее время» (Ланге, конечно, имеет в виду свое время, но сказанное им не потеряло значения и для нашего времени), «после всех «опровержений» материализма, больше, чем когда-нибудь, является популярных естественно-научных книг и статей, которые так спокойно исходят из материалистических воззрений, как будто это дело давно решенное». Объясняется это тем, что рассматриванье природы с материалистической точки зрения ведет к строгопоследовательному проведению механических принципов мирообъяснения, чем в свою очередь обуславливается точность получаемых таким путем результатов. Отсюда является соблазн считать материализм философской системой, проникающей в самую сущность вещей. Чтобы освободиться от этого соблазна, необходимо серьезное философское и историческое (ведь «история и критика часто одно и то же») образование, которого часто недостает естествоиспытателям. Кроме того, здесь могут иметь значение мотивы религиозного (стр. 454: «глубокое влияние религии на умы») и этического (стр. 702: «никто не может остановиться на теоретическом материализме, если он убежден в априорности» кантовского «нравственного закона») порядка. Ср. по данному вопросу лекцию пр.-доц. А. В. Леонтовича «Место материализма в естествознании» («Универе. Извест.», 1907 г., №9). А. Леонтович стоит в существенном на точке зрения Ланге.
1 Там же, стр. 27-29,330.
258
отношения (Relationen), напротив, могут быть строго доказаны»1 - в этой формуле резюмируются все доселе рассмотренные мысли Ланге. Однако, если бы мы ограничились только ими при характеристике мировоззрения Ланге, наше представление о нем оказалось бы слишком односторонним. Параллельно с изложенным у Ланге развивается другой ряд мыслей, который поднимает нас над миром доступных точному определению отношений.
В глубине человеческой природы1 2 3 * 5 заложены два антагонистическиез стремления - стремление к разложению целого на части и стремление к единству и гармонии. Первое, будучи корнем аналитических функций нашего рассудка (Verstandes), «созданного для анализа»*, дает начало познавательному процессу; второе, обусловливая наличность синтетических функций нашего духа (Geistes), служит источником различных видов творчества5, —
1 Там же, стр. 657; ср. немецк. подл., II В., S. 455.
2 Что это за «глубокие корни человеческой природы», которые дают такой «плод духа», как творчество (стр. 385), не совсем ясно. По-видимому, в большинстве случаев, где только говорится о таких «корнях» (см., напр., стр. 687), имеется в виду физикопсихическая организация человека, представляющая собою априорное условие всех видов человеческой деятельности, нравственной (стр. 685) так же, как и познавательной, но на стр. 461-й Ланге ищет общего корня для «мира духовных значений» и для «наших чувственных представлений» в «самом внутреннем существе человека», ускользающем от нашего наблюдения. Отнести эту характеристику к физико-психической организации невозможно, потому что последняя есть не что иное, как явление, данное в нашем опыте, след., от нашего наблюдения не ускользающее; предположить в данном случае речь от трансцендентной сущности человека значило бы обвинить Ланге в нарушении тех границ, какие он сам поставил научному рассмотрению предметов: оставаясь верным своей точке зрения, Ланге не имел права при научном обсуждении дела, как это и есть в данном случае, говорить о трансцендентных вещах.
3 См., напр., стр. 291,460, 686.
* Там же, стр. 686; ср. нем. подл., II, S. 493.
5 Там же, стр. 459; ср. нем. подл., II, 171. Главную трудность при переводе немецких философских сочинений на русский язык представляет передача немецких терминов соответствующими русскими. Даже такому опытному и философски-образованному
259
научного, философского, художественного, этического, религиозного. Необходимость творчества вызывается тем, что ни та действительность, которая непосредственно воспринимается данным лицом, ни тем более та, которая раскрывается перед ним научным исследованием, не в состоянии удовлетворить неискоренимому влечению его природы к единству и гармонии. Правда, «так как синтетический творящий фактор нашего познания простирается и на первые впечатления чувств, и на начала логики», то окружающая нас действительность, т. е. «совокупность необходимых явлений, данных принуждением чувств», должна иметь, в наших глазах, как и действительно имеет, до некоторой степени характер единства и цельности1, но и это единство, и эта цельность очень относительны, про гармонию же и говорить нечего: жизнь на каждом шагу дает человеку знать о происходящей в мире борьбе, в которую неминуемо втягивается каждый из нас. Стремление человеческой природы к единству и гармонии не находит, таким образом, удовлетворения в непосредственно воспринимаемой действительности. Не может оно найти удовлетворения и в науке, потому что наука, как произведение рассудка, созданного для анализа, и сама аналитична2. Она стремится объяснить целое из частей, форму — насколько это возможно — из составных элементов вещества. Она знает, что «этот процесс есть processus in infinitum, который никогда не достигает вполне своей цели», но не отступает от своей задачи, ибо отступить от нее значило
переводчику, как покойный Н. И. Страхов, не удалось вполне преодолеть эту трудность; так, он одинаково передает русскими словами ум и немецкое Verstand, и немецкое же Geist, тогда как у Ланге эти понятия различаются: Verstand - анализирующая сторона духа, тогда как Geist (дух, взятый во всей полноте своих обнаружений) рассматривается, как источник синтетических функций; то же самое и Vernunft (II, S. 378). Этот последний термин Страхов передает словом разум. Впрочем, и термин Verstand передается иногда этим словом (см. Lange, II, 176 и русск. пер., стр. 460). Отсюда получается не малая путаница.
1 Ист. матер., стр. 723-724.
2 Там же, стр. 727.
260
бы для науки покончить с собой1. Естественно поэтому, что «в реляциях науки мы имеем» лишь «отрывки истины, которые постоянно умножаются, но всегда остаются дробными частями1 2 3 4 5. Как ни ценны сами по себе эти «отрывки», они не могут вполне удовлетворить человека. «Вселенная, когда мы понимаем ее только естественно-научно, может нас так же мало воодушевлять, как читаемая по складам Илиада»з. Наш разум (die Vernunft) требует единства и гармонии-*, и если наука не идет навстречу этой потребности, ему ничего больше не остается, как творить: «стремление разума к единству всегда ведет к творчеству»5, которое дает о себе знать еще в пределах науки, поскольку последняя не ограничивается простым установлением фактов, .но стремится возвести факты в науку, а науки — в систему. Человек свободен в постановке этой задачи, имеющей свой источник в глубине его творческого духа, по самой своей природе стремящегося к единству, но в осуществлении задачи он связан «необходимыми, независимыми от нашего произвола факторами познания»6. Значит, свобода научного творчества имеет место лишь в начальном моменте творческого процесса; зато его результаты отличаются объективным характером. Чем они объективнее, тем больше их познавательная ценность, но зато тем меньше удовлетворяют они стремлению разума к единству и гармонии?, вследствие чего последний поднимается в
1 Там же, стр. 686.
2 Там же, стр. 686.
3 Там же, стр. 727.
4 Там же, стр. 420; ср. немецк. подл., II, S. 195.
5 Там же, стр. 609.
6 Там же, стр. 723.
? на стр. 726-й Ланге так определяет отношение между аналитической и синтетической функцией в научном исследовании: «метод, который ведет как к познанию природы, так и господству над нею, требует постоянного разрушения синтетических форм, под которыми нам является мир, для устранения всего субъективного. При этом, конечно, новое, лучше подходящее к фактам, познание может получить форму и существование опять лишь путем синтезиса, но исследование необходимо приходило все к более и
261
своей творческой деятельности ступенью выше, где больше свободы, чем в области научного творчества. Так возникает умозрение. Разница между научным и метафизическим творчеством состоит в том, что там влияние субъективных факторов по возможности нейтрализуется, тогда как здесь «именно от субъективной природы отдельного человека зависит каждый раз особая форма умозрения»1; «здесь нас покидает связывающая организация рода; индивидуум творит по своей собственной норме». Однако и на этой ступени творческая деятельность человеческого духа еще не достигает полной свободы. Правда, для умозрения не существует «путеводного принуждения принципов опыта», как это мы видим в области эмпирического исследования, но все же и оно не хочет совершенно отрешиться от данного, — оно лишь стремится дать целостное построение, в котором данное нашло бы свое место. Есть пути более свободного творчества* 1 2 3 * 5.
Человек имеет не только разум, но и сердцез, и если разуму тесно в мире опыта, равно как и в мире науки, то тем более это нужно сказать о человеке, взятом во всей полноте его душевных обнаружений. Чужд и холоден ему, со всеми его душевными движениями, мир атомов и их вечных колебаний*. Его родина — не здесь. Он ищет ее вокруг себя и не находит. Тогда снова приходит ему на помощь способность творчества — он начинает творить. Вот тут-то и обнаруживается во всей полноте богатство и энергия его творческой деятельности. С одной стороны, в свободной игре своего воображения он создает пестрый мир поэтической грезы, в котором отдыхает душойз, с другой — старается воздействовать на окружающую действительность в смысле устранения царящей в ней борьбы, в
более простым воззрениям, пока, наконец, не должно было остановиться на принципах механического мировоззрения».
1 Там же, стр. 618, ср. стр. 460-461.
2 Lange. Gesch. d. Mater., II, S. 539 - 540; ср. русск. пер., стр. 724.
3 О значении сердца в творческом процессе - Ист. матер., 5О9~54О, 299,725,730.
* Там же, стр. 459.
5 Там же, стр. 724.
262
смысле гармонического объединения составляющих ее элементов1. В первом случае он действует, как существо эстетическое, во втором -как существо нравственное. По существу та и другая деятельность одинаковы. «Тот» самый «принцип, который безгранично господствует в области прекрасного», создавая чарующие нас своею гармонией произведения искусства, «является в области действия как истинно этическая норма, лежащая в основании всех других принципов нравственности»: то принцип единства, гармонии, совершенной формы1 2 3 * 5. Быть нравственным — это значит направлять свое внимание не на части, а на целое, — быть не замкнувшимся в себе самом эгоистом, а альтруистом, обнимающим весь мир своею любовыоз. Однако, чем выше идеал, тем труднее его осуществление. На каждом шагу обнаруживается противоречие между идеалом и жизнью*. Здесь — источник разочарования. Кроме того, борьба и нужда, неизменные спутники жизни, утомляют человеказ. Чувствуется потребность выйти за пределы эмпирической действительности6 7, чтобы в том мире, где нет противоречия между идеалом и действительностью, найти то, чего недостает в этом мире: единства, гармонии, примирения. Религия идет навстречу этой потребности. Перед ищущими взорами истомленных путников развертывает она новый мир, созданный творческими силами тех, кто сумел проникнуть вглубь человеческого сердца, чтобы там подслушать его заветные чаяния, — мир ценностей?, истинную родину духа8, где «всякий труд находит свой отдых, всякая борьба и всякая
1 Там же, стр. 684.
2 Там же, стр. 724.
3 Там же, стр. 685, 664-666,674.
* Там же, стр. 384,692 (примечание).
5 Там же, стр. 727,730.
6 Там же, стр. 421.
7 «Миру бытия» (die Welt des Seienden), под которым разумеется эмпирически данная действительность, Ланге противопоставляет «мир ценностей» (die Welt der Werthe). (Lange, II, 546; ср. русск. пер., стр. 728).
8 Ист. матер., русск. пер., стр. 459,729.
263
нужда свой покой и свое примирение», и сердце, «напуганное ужасным могуществом закона», господствующего в мире действительности, — закона, «перед которым не может устоять ни один смертный», отдыхает в успокаивающей атмосфере благодатных воздействий своей вновь обретенной родины1, испытывая то «незаменимое счастье»1 2 з, которого не дано ему знать на земле. Пусть «эти минуты вдохновения преходящи», и человек снова должен возвратиться в этот мир борьбы и нужды, но все же они «действуют освобождающим и очищающим образом на душу»: словно путеводная звезда, сияет перед человеком тот идеал, который раскрылся перед ним в минуты религиозного возвышения в мир ценностей, и манит к себе своим чудным сиянием..А
Так везде, где только дают о себе знать разрозненность, дисгармония, борьба, дивный дар творчества избавляет человека от их гнетущей и разрушительной власти.
Чтобы теперь точнее определить те условия, от которых зависит благотворное действие творчества на человеческую жизнь, нужно дать отчет в самой природе творчества и его приемах.
Ни один из видов творчества, хотя бы это было самое непринужденное в своих приемах творчество поэтическое, не создает чего-либо нового в собственном смысле, — все они лишь более или менее свободно (здесь — корень различия между видами, или ступенями творчества) комбинируют элементы, данные в опыте, так что своеобразие того или другого образа, созданного творческой фантазией, может заключаться только в форме, в какой соединены в нем составляющие его элементы, а вовсе не в самых элементах. Отсюда дальше следует, что и значение продуктов творческой деятельности определяется не содержанием их, а формою: «истинное значение» творчески созданных «представлений содержится в форме, как бы в архитектурном стиле представлений и во впечатлении этого
1 Там же, стр. 730.
2 Там же, стр. 292; ср. стр. 385.
з Там же, стр. 730.
264
стиля на душу»1. То, что сказано о творчестве вообще, в полной мере приложимо к тому виду творчества, который известен под именем религии. Сущность религии, как субъективного факта, - только в этом смысле Ланге и считает возможным говорить о религии, — «заключается в форме духовного процесса», именно в том, что религия отрешает душу от действительности и уносит ее в ее истинное отечество, а не в «логически-историческом содержании частных воззрений и учений»1 2 3 * 5, которые, будучи изменчивы по самой своей природез, как и весь вообще материал нашего познания, уже по тому одному не могут составлять зерна религии. Юпитер или Иегова*, Геркулес или Христося находятся в центре моего религиозного мира, освобождение от греха или «полет в мысленную область прекрасного» составляет содержание умиротворяющего мою душу представления об искуплении6 * — в сущности это не важно. Это зависит от общего культурного уровня той эпохи, когда я живу, и того общества, к которому принадлежу?. Важно то настроение, которое создается религиозными представлениями, а оно может иметь одинаковый характер и стоять на одинаковой высоте при коренном различии сопутствующих им представлений. Религиозный процесс может протекать одинаково в душе философа и угольщика8. Конечно,
1 Lange. II, S. 494; ср. русск. пер., стр. 687.
2 Ист. матер., стр. 731-732, 729~73О-
3 Там же, стр. 688.
* См. стр. 693.
5 См. стр. 699; ср. стр. 730.
6 См. стр. 730.
? «Религия коренится в древнейших и грубейших, полных противоречий основных воззрениях, которые с непреоборимой силой постоянно рождаются и возрождаются в необразованной массе» (Ист. матер., 1), но «с прогрессом культуры подвигаются вперед и представления о богах» (там же, стр. 685).
8 См. там же, стр. 713-714; ср. там же, стр. 729. Данное в тексте толкование мысли Ланге о сравнительном значении формы и содержания в религиозном процессе не опровергается тем ответом, какой дал Ланге на упрек, сделанный ему пастором Лангом, — что-де с точки зрения Ланге «совершенно все равно, падает ли философ ниц, как
265
известные «учения могут быть связаны с формою процесса, как в вещественном мире состав с кристаллическою формою», но, во-первых, «кто нам покажет эту связь, и какие здесь будут явления изоморфизма?» а во-вторых, суть дела заключается все-таки в форме, а не в содержании. «Это господство формы в вере высказывается и в удивительной черте, что верующие различных, даже враждебных друг другу исповеданий более друг с другом согласуются, высказывают более симпатии к своим самым ревностным противникам, нежели к тем, которые равнодушны к спорным вопросам» религии1. В частности, и в моральном отношении своеобразие всякой религии состоит не столько в самом нравоучении, какое она предлагает, сколько в форме, в какой она стремится дать им силу и значение. «Пока», напр., «мораль указывает нам только на чувства симпатии и советует нам заботиться о собратьях и трудиться для них», пока — значит — она «держится за содержание, за частности, а не за тот способ, как ее учения слагаются в нечто целое, имеющее определенный этический характер», до тех пор «она носит на себе все еще материалистическую печать, сколько бы ни советовала самопожертвование вместо наслаждения. Лишь с постановкою некоторого принципа в средоточие всех стремлений наступает формалистический поворот. Так это у Канта, этика которого материально очень близко совпадает с этикою Конта и Милля, но однако очень резко отличается от всякого другого учения об общей пользе тем, что нравственный закон с его строгим и неумолимым указанием на гармонию целого, части которого мы
религиозный человек, перед Марией или перед личным Богом». Ланге отвечает, что он в «жизни идей человечества принимает необходимый ход развития», а потому «не какая угодно поэзия может нам служить, но только соответственная нашему времени и нашему культурному содержанию» (стр. 692, примеч.). Приведенные слова только подтверждают ту мысль, что принципиально - с точки зрения Ланге — действительно все равно, поклоняется ли человек Геркулесу или Христу. Во всяком случае, о неизменных, пребывающих элементах в содержании религиозных представлений с точки зрения Ланге не может быть речи.
1 Стр. 732.
266
составляем, рассматривается как нечто данное a priori»1. Фихте Старший и Шлейермахер, которые энергично настаивали на этическом и идеальном содержании религии, проникли в самую ее сущность1 2 3. Иное дело — Гегель, который рассматривал религию, как ступень познания. Религия никогда не даст нам знания, а потому тот, кто смотрит на религию, как на форму познавания, рискует в конце концов остаться без всякой религии. «Пока искали зерна религии в известных учениях о Боге, человеческой душе, творении и его порядке, неизбежно было, что всякая критика, начинавшая отделять по логическим принципам отруби от пшеницы, в конце концов должна была стать совершенным отрицанием. Просевали до тех пор, пока ничего не осталось»з. Поскольку такой исход не желателен, как неминуемо влекущий за собою «опасность духовного оскудения»4, нужно заботиться о сохранении подлинного зерна религии, не осложняя его и, тем более, не подменяя инородными образованиями.
Из того, что сущность религиозного процесса заключается в его форме, а не содержании, не следует, чтобы содержание не имело никакого значения. «В принципе можно совсем обойтись» без религийных представлений, «поскольку ни из общих свойств человека, ни из другого какого-либо основания нельзя вывести
1 Ист. матер., стр. 684. Для правильного уразумения приведенного места нужно иметь в виду следующее определение «этического материализма», имеющее большое значение при уяснении этических воззрений Ланге. «Под этическим материализмом, — говорит он, - нужно понимать нравственное учение, которое производит нравственные действия человека из отдельных движений его духа, и которое определяет цель действий не безусловно повелевающею идеею, но стремлением к желанному состоянию. Такую этику можно назвать материалистическою, потому что она, как и теоретический материализм, исходит от вещества в противоположность форме; но только здесь не подразумевается ни вещество внешних тел, ни качество ощущений, как вещество теоретического сознания, но элементарное вещество практической деятельности, т. е. стремление и чувство удовольствия и неудовольствия» (стр. 32).
2 Там же, стр. 732.
3 Там же, стр. 729.
4 Там же.
267
доказательства в пользу той мысли, что общество без этих представлений необходимо впадет в безнравственность. Но раз дело идет об определенном обществе, то весьма возможно, что наиболее ценное в этическом отношении сочетание представлений требует гораздо больше идей, нежели Кант хотел положить в основание своей религии разума». Значит, необходим, так сказать, отбор религийных представлений, который и происходит на самом деле. Так как религия есть дело свободного творчества, то, конечно, каждый волен вводить в содержание своего религиозного сознания те представления, которые ему нравятся: это в конце концов «дело вкуса»1, тем более, что содержание не составляет существенной стороны религиозного процесса. В принципе, значит, нельзя не признать полного права в этой области за индивидуализмом. Однако не следует забывать и того, что если мир обособленных друг от друга атомов чужд человеческому духу, в глубине которого заложено стремление к единству и гармонии, то еще невыносимее для него разделение в составе человеческого общества, когда отдельные его члены живут обособленною от других жизнью: Ланге решительный враг общественного атомизма. Раздробленность, или — как сказал бы покойный Н. Н. Неплюев, — «распыленность», ослабляет энергию духовной жизни народа, почему и не желательна. Нужно собирать силы, а не раздроблять. Индивидуализм должен быть ограничен во имя интересов общества. Выходя из этих соображений, Ланге восстает против того умственного аристократизма, который заставляет людей образованных обособляться от народа2. Невозможно, конечно, требовать, чтобы все люди стояли на одном умственном уровне, но нет ничего невозможного в том, чтобы при значительной разнице между ними в этом отношении религиозный процесс протекал у них одинаково, — именно потому, что сущность его заключается не в содержании тех представлений, с какими он связан, а в той форме, в какой он переживается: при всей утонченности своих философских
1 Там же, стр. 689.
2 Там же.
268
идей, философ может жить одною религиозною жизнью с простыми людьми даже тогда, когда перерос их верования, а потому для него выход из общины не обязателен, с точки же зрения интересов общины неодобрителен, потому что «через это у религиозной жизни народа отнимается элемент, по своей природе побуждающий к прогрессу, и масса без защиты предоставляется духовному господству слепых зелотов»1. Но, оставаясь в общине, философ не будет, во имя «просвещения» (die Aufklarung), без разбора ломать старые формы религиозной жизни: он знает, что вследствие необдуманного нападения на формы, хранящие идеальное содержание, народ может потерять больше, чем приобрести с другой стороны через просвещение1 2 з 4 5. Да и не возможно на этом пути достигнуть прочных результатов, потому что решающее значение в определении круга религиозных представлений и форм религиозной жизни имеет, в конце концов, не произвол индивидуума, а «все в совокупности культурное состояние народов, господствующий род ассоциации идей и известное, обусловленное бесконечно многими фактами, основное настроение духа»з. Только тот религиозный реформатор может рассчитывать на успех, который берет провозглашаемые им религиозные идеи прямо из центра культурной жизни своего народа и своего времени*, а потому философски-образованный человек, который желал бы воздействовать на народ, должен поддерживать с ним внутреннюю связь и уметь понимать биение его сердца^.
Во всем сказанном уже заключается implicite ответ на тот вопрос, который является важнейшим для всякого, кто только серьезно задумывался над религией: что же? заключает религия в себе истину или же нет? Ланге понимает всю важность вопроса, и не только общим ходом своего изложения, но и прямыми
1 Там же, стр. 713.
2 Там же, стр. 688.
з Там же, стр. 689.
4 Там же, стр. 691; ср. стр. 724.
5 Там же, стр. 713.
269
разъяснениями идет навстречу его решению. Он различает два смысла слова истина (Wahrheit): прямой, прозаический и переносный, образный. Критерием истины в первом смысле служит принудительное согласие в признании известного положения всех существ, организованных по человечески, во втором — гармоническое удовлетворение души1. Та истина вынуждает согласие с собою; эта «своим очарованием господствует над целыми эпохами и народами»1 2 3 * 5. Если взять слово истина в первом смысле, то нужно решительно сказать, что религия не дает и не может дать истины, как и всякое творчество, художественное ли то или метафизическое, — в этом смысле предикат истинного принадлежит знанию, опирающемуся на свидетельстве чувств и суждениях рассудка: «в свидетельстве чувств все люди согласны; чистые суждения рассудка не колеблются и не ошибаются»з. Но зато, если взять слово истина во втором смысле, то ни к чему оно не может быть отнесено с большим правом, нежели к религии. «Если существуют умы (Gemiither), которые так глубоко живут» в мире религиозных представлений и возбуждений, «что от них поэтому скрывается обыкновенная действительность вещей, то как они живость, постоянство, силу этих событий своего духа могут обозначить иначе, чем словом истина»? И так, «все создания творчества и все откровения просто ложны, как скоро мы станем их измерять в их материальном содержании масштабом точного познания»*, но для тех, кто в них находит удовлетворение своим идеальным стремлениям, — а таких много среди «самых благородных и здравомыслящих людей»5, — они, как «источник всего высокого и святого»6 7, выше, нежели простое познание?, поскольку мир ценностей выше мира бытия1. Мало того -
1 Там же, стр. 460.
2 Там же, стр. 460-461.
3 Там же, стр. 460.
* Там же, стр. 687.
5 Там же, стр. 460.
6 Там же, стр. 385.
7 Там же, стр. 460.
270
для субъективного сознания этих лиц творческие идеи даже и достовернее истин познания: научные истины относительны, тогда как результаты творчества, заповеди внутреннего голоса, откровения религии имеют для верующих характер абсолютных истин2. «У христианина лишь по имени ты можешь вымести логикою из головы ту шелуху, которая осталась у него в памяти от изучения катехизиса, но у верующего ты не можешь никакими аргументами отвоевать ценность его внутренней жизни. И если ты сто раз докажешь ему, что все это — только субъективные ощущения, он пошлет тебя с субъектом и объектом zum Teufel и будет смеяться над твоими наивными попытками опрокинуть дыханием смертного рта стены Сиона, высокие купола которого кажутся ему сияющими блеском Агнца и вечным великолепием Бога»з. Впрочем, не только «масса, бедная логикой»^, но и высоко образованные люди могут ценить творческие образы религии выше простого знания, несмотря на то, что они хорошо знают подлинную природу этих образов. Что это
1 Там же, стр. 688.
2 Там же, стр. 687. Нужно только иметь в виду, что вера в абсолютную достоверность религиозных истин основывается, в конце концов, на их ценности. «Если истины общего церковного учения восхваляются, как «высшие», рядом с которыми всякое другое познание, даже таблица умножения, стоит ниже, то всегда есть, по крайней мере, предчувствие того, что это превознесение основывается не на большей достоверности, но на большей ценности, против которой ни в каком случае не имеет силы ни логика, ни осязающая рука или созерцающий глаз. - Но даже где прямыми словами восхваляется высшая достоверность, большая твердость и положительность религиозных истин, это только переносные выражения или образы экзальтированного духа для обозначения особенно сильного влечения сердца к живому источнику назидания, укрепления, оживления, истекающему из божественного мира идей, в отличие от трезвого познания, обогащающего рассудок мелкою монетою, для которой мы не находим употребления. - Вот откуда и значение, которое истинно благочестивые умы всегда приписывали внутреннему опыту и переживанию, как доказательству веры». {Lange, II, 549-550; ср. русск. пер., стр. 731).
3 Lange, II, S. 495; ср. русск. пер., стр. 688.
4 Там же.
271
возможно, доказательством тому служит философская поэзия Шиллера, которая представляет собою не только «порождение умозрительного стремления», но и «излияние истинно религиозного возвышения духа к чистым и невозмутимым источникам всего того, что человек когда-либо почитал, как божественное и неземное». Относящиеся сюда произведения Шиллера «соединяют с самой благородной строгостью мысли самый высокий подъем над действительностью» и «дают идеалу могущественную силу, относя его открыто и прямо в область фантазии»1.
Выходит, в конце концов, что религия — применяя к ней слова Якова Пасынкова, сказанные о поэзии, — «тоже сон, только райский», или — как в свое время учил Фейербах — «греза души человеческой». Но недаром Ланге возвратился к Канту. Он, правда, отверг учение Канта об истине бытия Божия, как постулате практического разума, признав ее порождением творческой фантазии, хотя и действующей «по вечным законам»1 2 3, или - что то же - продуктом физикопсихической организации, по условиям своего возникновения не отличающимся от других ее продуктовз, но введение в круг своих мыслей кантовского понятия о вещи в себе дало ему возможность сообщить иной оборот решению вопроса об истинности религии, мало, впрочем, плодотворный по своим последствиям.
Если измерять истинность первым из указанных критериев, то невозможно не то что допустить подчинение результатов методического исследования религиозным представлениям, но даже поставить вторые на одну доску с первыми*. Однако не нужно забывать, что та истина, которая доступна научному познанию, носит относительный характер, что воспринимаемая нами действительность не есть абсолютная действительность: это лишь действительность для рода, что мы познаем не вещи в себе, а явления,
1 Там же, стр. 728.
2 Там же, стр. 294.
3 Там же, стр. 404.
* Там же, стр. 687.
272
и что «за миром явлений скрывается в непроницаемой тьме абсолютная сущность вещей, вещь в себе»1, — мы, по крайней мере, не можем думать иначе. Это дает нам основание рассматривать абсолютное, составляющее главное содержание нашего религиозного мира, «как образ, как символ потустороннего абсолютного, которого мы вовсе не можем познать»1 2 3. Так убеждение, что «наша действительность не есть абсолютная действительность, а явление», дает — по Ланге - новую силу идеальному стремлению человеческого духаз, хотя непредубежденному читателю и трудно понять, каким образом это происходит. «Откуда», в самом деле, Ланге «знает, что те идеи, которые выражают для нас наиболее высокое и ценное, суть
1 Там же, стр. 329; остальные относящиеся сюда места указаны выше.
2 Там же, стр. 687; ср. стр. 460: «идеализм в самом корне есть метафизическое творчество, хотя такое, которое нам может казаться» (мало ли что нам может казаться!) «воодушевленным провозвестникам высших, неведомых истин. То обстоятельство, что вообще в нашу грудь вложено творческое стремление, - указывает на то, что и идеализм связан с неизвестной истиной, хотя совершенно иным образом, чем материализм». На стр. 730-й эта мысль уже ослабляется. «Нужно привыкнуть, — читаем там — мир идей рассматривать, как образное замещение полной истины, столь же необходимое для всякого человеческого преуспеяния, как и познание ума, именно сводить большее или меньшее значение всякой идеи к этическим и эстетическим основам. Конечно, многим старо- и нововерующим при этом предположении покажется» (и основательно: см. ниже), «что у них хотят отнять почву из-под ног и при этом требуют, чтобы они продолжали стоять, как будто ничего не случилось; но спрашивается, что такое почва идей; есть ли это их место в целом мире идей, определяемое по их этическим отношениям, или же отношение представлений, в которых выражается идея, к опытной действительности?». Ланге полагает, что вопрос должен быть решен в первом смысле: «если, — говорит он, — религия что-нибудь значит, и если пребывающее значение ее заключается в этическом, а не в логическом содержании, то это, вероятно, и прежде было так, как бы ни считалось необходимым верование в букву». Пусть так, но к чему же тогда речи о том, что идеализм связан с неизвестной истиной, что абсолютное религиозного сознания есть символ потустороннего абсолютного?».
3 Там же, стр. 727; ср. стр. 462.
273
образ или символ»1 да еще такого мира, о котором мы ровно ничего не знаем и знать не можем? Да и что это за сила убеждения, раз она опирается на не допускающее твердого обоснования предположение, что, может быть, наши религиозные представления суть образы или символы потустороннего мира, который, может быть, и существует? Нет, уж коли греза — так греза. Подпорки, построенные на может быть, делу не помогут, а потому едва ли кого удовлетворят. Фейербаховская прямолинейность лучше, чем лангевская половинчатость: там, по крайней мере, дело ясно. Замечательно впрочем, что когда Ланге познакомился с трактатом Милля о теизме, где по вопросу об истинности и значении религии раскрывались мысли, близкие его собственным, он написал следующие строки: «Малая, почти ничтожная вероятность того, чтобы образы нашей фантазии могли быть действительностью, может служить только слабою связью между религией и наукой и в сущности составляет слабый пункт всего этого воззрения; потому что ее перевешивает гораздо большая вероятность противоположного, а в области действительного нравственность мышления требует, чтобы мы не останавливались на неопределенных возможностях, но постоянно давали предпочтение более вероятному. Раз признан принцип, что мы должны созидать нашим духом мир более прекрасный и совершенный, чем мир действительности, тогда должно быть придаваемо значение и мифу как мифу. Гораздо же важнее, чтобы мы возвысились до познания того, что это — та же самая необходимость, тот же самый трансцендентный корень» (выходит, что хоть подняться до трансцендентного мы не в силах, зато спуститься до него можем) «нашего человеческого существа, который дает нам при посредстве чувств образ мира действительности, ведет нас также и к тому, что мы высшей функцией поэтического и творящего синтеза созидаем мир идеала, в который мы можем удаляться от ограниченности наших чувств, и в котором мы находим истинную родину нашего духа»1 2. И
1 Геффдинг, указ, соч., стр. 478.
2 Ист. матер., русск. пер., стр. 326 (из предисловия ко 2-му изданию П-го тома).
274
так мы снова у разбитого корыта: миф нужно и оценивать, как миф! Это говорит сам Ланге. Он предвосхищает работу своих критиков. Он одною рукой разрушает то, что строил другою.
Обобщая все сказанное, мы должны сказать, что на место кантовского дуализма между теоретическим и практическим разумом Ланге поставил «борьбу творящей души с познающею». Нечего и думать о том, чтобы окончательно устранить из человеческой жизни эту борьбу, в которой «нисколько не более неестественного, чем в какой-либо борьбе элементов природы или разрушительной борьбе живых существ» между собою за существование1. Желать устранить дуализм между мышлением и творчеством, ощущением и хотением, восприятием и действованием - это все равно, что ради единства познания желать устранить противоположность дня и ночи: то и другое одинаково нелепо1 2 3 *. Однако можно указать такие точки зрения, с которых можно усмотреть связь между познанием и творчеством, а следовательно и между миром бытия и миром ценностей. Связь эта открывается с двух сторон. Если мы встанем на точку зрения научного познания, то единство идеала и действительности восстанавливается через то, что мир идеала рассматривается, как психологический фактз: ведь «наши идеи суть продукты той же природы, которая производит наши восприятия чувств и суждения рассудка»*; а если сумеем подняться на высоту идеального созерцания вещей, тогда «то, что наука называет процессом природы», можно будет рассматривать, как «некоторое проявление божественного могущества и мудрости»5. На этом пути снова вступает в свои права та телеология, которая была устранена при научном рассмотрении вещей6, но только не в качестве принципа объяснения явлений, а в качестве особого способа их рассмотрения. Таким образом, если при научно-эмпирической точке
1 Там же, стр. 291.
2 Lange, П, S. 566; ср. русск. пер., стр. 692 (примечание).
3 Там же.
* Ист. матер., русск. пер., стр. 461.
5 Там же, стр. 510.
6 Там же, стр. 542.
275
зрения мир ценностей, как психологический факт, координируется с другими фактами того же порядка, то при идеальном рассмотрении вещей он возвышается над ними, и мир бытия подчиняется миру ценностей. Устанавливать связь между двумя мирами с этой точки зрения должно быть задачею метафизики, как задачею религии — поднимать человека в мире идеала, а задачею поэзии — облекать невыразимое в слова, всех же вместе - содействовать этическому прогрессу человечества1. Пусть только метафизика, «воздвигая в архитектуре своих идей храм вечному и божественному», во-первых, не насилует фактов1 2 3, а во-вторых, твердо помнит, что на этом пути она никоим образом не может достигнуть чего-нибудь такого, что бы могло иметь научно-познавательное значениез.
Только теперь, когда получили оценку различные области человеческой жизни и деятельности, может быть произнесен окончательный приговор над материализмом, ибо только теперь ясно видно, в каких отношениях стоит он к той или другой из этих областей. Приговор, объявленный Ланге в окончательной форме лишь в заключительной главе его труда, гласит так: «сравнительно с метафизическими вымыслами, которые присвоили себе право вникать в сущность природы и определять из одних понятий то, что мы можем узнать только из опыта, материализм, как противовес, есть истинное благодеяние; равно и все философемы, имеющие тенденцию давать значение только действительному, необходимо должны тяготеть к материализму; но зато у материализма нет отношений к высшим функциям свободного человеческого духа; он, помимо своей творческой несостоятельности, беден возбуждениями,
1 Там же, стр. 728 и 729. Сам Ланге не прочь пофилософствовать в этом направлении. Раз мы допускаем позади всей природы новый бесконечный мир, как подлинную родину духа, мы должны его мыслить находящимся в самой тесной связи с чувственным миром; быть может, это та же самая вещь, но только рассматриваемая с другой стороны (Lange, II, 175; ср. русск. пер. стр. 459)- Таким образом Ланге представляется наиболее вероятной точка зрения т. наз. психофизического монизма.
2 Там же, стр. 728; ср. стр. 730.
3 Там же, стр. 728; ср. 687 и мн. др.
276
бесплоден для искусства и науки, равнодушен или склонен к эгоизму в отношениях человека к человеку; он едва может замкнуть кольцо своей системы не заимствуясь у идеализма»1.
Закончим свою речь об Ланге тем же, чем ее начали: философия Ланге - типичная философия переходного времени. Чуждая прямолинейности тех философских направлений, которые, отливаясь в совершенно определенные, кристаллические формы, через то самое резко обособляются от пограничных направлений, чтобы сложиться в замкнутую философскую школу с непререкаемым «символом веры» и строго очерченным кругом последователей, философия Ланге богата зато примирительными тенденциями, так свойственными переходному времени. Ланге хочет дать такую философскую концепцию, которая, отдавая должное самым строгим требованиям научного метода, оправданным в своих притязаниях успехами естествознания, не забыла бы в то же время идеальных запросов человеческого духа, с которыми так мало считались материалисты. Осудив материализм как философскую систему, Ланге делает ему, быть может, слишком много уступок, как методу, и, пойдя навстречу призыву — возвратиться к Канту, он пропитывает гносеологию последнего такою крепкой эмпиристической эссенцией, что в Канте, преобразованном Альбертом Ланге, порою трудно узнать подлинного Канта. Судьба философов, руководившихся в своей работе примирительными тенденциями, всегда была такова, что они не столько собирали вокруг себя последователей, сколько, иногда против своей воли, заставляли их идти дальше того пункта, до которого дошли сами. Эго можно сказать о Платоне так же, как о Канте. Лучший ученик Платона еще при жизни учителя принялся за преобразование его системы, а значение «Критики чистого разума» состоит в том, что она, можно сказать, всю последующую философию
1 Там же, стр. 726.
277
сделала критикой «Критики чистого разума»1. У Ланге немало общего и с тем, и с другим. С Платоном его роднит стремление переступить границы данной действительности, чтобы подняться в мир идеала, в подлинное отечество духа; Канту он обязан основною мыслью своей гносеологии — что мы познаем не вещи в себе, а явления. Но ему недоставало ни той глубины и силы веры в реальное существование идеального мира, какая проникает собою систему Платона, ни той тонкости и силы анализа, какими характеризуется критическая работа Канта. Мудрено ли, что мир идеала то расплывается у него в поэтическую грезу, то становится проблематическим образом проблематической, даже невозможной вещи в себе, а на место строго определенных понятий и тяжеловесных определений Канта выступают изящные, но расплывчатые характеристики, из которых иногда трудно извлечь определенное представление о предмете? Если бы, напр., мы вздумали провести определенную грань между такими видами творчества, как поэзия и религия, взятыми в той характеристике, какую они получили у Ланге, — едва ли бы нам удалось это сделать... Кант не собрал школы, в собственном смысле слова, но через все сто с лишком лет, прошедшие со времени издания «Критики чистого разума», идет, хотя и не без перерывов, целый ряд замечательных мыслителей, из которых одни оперируют при помощи критического метода Канта, другие ищут в составе его философии опорных пунктов для своих собственных построений. Философия Ланге не из таких. Его много читали (в текущем году «История материализма» вышла 8-м изданием), но за ним не шли. Если не считать Элиссена, у Ланге не было прямых последователей, да и Элиссен больше известен, как биограф Ланге1 2, а не как философ. Что же касается преемника Ланге по философской кафедре в Марбурге, Германа Когена, которого иногда причисляют к последователям
1 См. Лапшина «Законы мышления», стр. 4: философия XIX века «в сущности критика Критики чистого разума». Ср. Винделъбанд, Прелюдии, русск. пер. со 2-го нем. изд. С. Франка, Спб. 1904, стр. 226.
2 Elissen, F. A. Lange. Eine Lebensbeschreibung. 1891.
278
Ланге1, то для этого нет достаточных оснований: он начал и вел свою работу по изучению Канта совершенно независимо от Ланге, и если кто у кого позаимствовался в этом отношении, то скорее Ланге у Когена, нежели наоборот, что тот и отмечает с присущим ему джентльменством, а во-вторых, — и это самое главное - когеновское истолкование Канта расходится с лангевским истолкованием в самом существенном пункте. В то время как Ланге указывает источник априорных функций познающего и созидающего духа в пределах самого опыта, именно в физико-психической организации человека, Коген стоит на той точке зрения, что ни физико-психическая организация, ни эмпирическое я, как данные опыта, не могут быть вместе с тем и условиями опыта, которые следует рассматривать — вслед за Кантом — как функции не эмпирического, а чистого, или трансцендентального, сознания. Коген старается восстановить во всей чистоте трансцендентализм Канта... При всем том историческое значение Ланге не подлежит спору. Мало того, что он своей «Историей материализма» помог установлению правильного отношения к материализму, — его философия, представляя собою, может быть, самое яркое явление в немецкой философии конца бо-х и начала 70-х годов, весьма характерное для своего времени, была, сверх того, источником многих возбуждений для других философов, которые, задумываясь над проблемами, выдвинутыми Ланге, решали их потом более или менее самостоятельно. В последующей работе философской мысли точки зрения, объединенные в философии Ланге, обособлялись, выступали резче и определеннее, колебания и противоречия вскрывались, одни мысли устранялись, другие получали новое обоснование. Как и следовало ожидать, центральным предметом обсуждения сделалась та проблема, которая каждый раз, как только выступала в истории новой философии, на себе сосредоточивала внимание: это — проблема о вещи в себе. В данном случае тем более поводов было остановиться на этой проблеме, что в философии Ланге она получила слишком неопределенное решение,
1 См., напр., Ueberwegs Grundriss der Gesch. d. Philos., IVTh., 10 Aufl., Berl. 1906, S. 229.
279
которым не могла довольствоваться мысль, требующая определенности в решениях и точности в определениях»
Вопрос о существовании вещи в себе может быть решен или положительно, или отрицательно. Раз он решен в первом смысле, возникает новый вопрос — о познаваемости вещи в себе, который в свою очередь может быть решен тоже двояко - или положительно, или отрицательно. Отсюда три главных типа философских направлений в решении проблемы о вещи в себе: 1) метафизический, 2) агностический и з) гностическо-антиметафизический1 с наклоном во многих своих разветвлениях к имманентизму. Решение Ланге представляет переходную ступень от второго типа к третьему, поскольку им допускается понятие вещи в себе, абсолютно непознаваемой (агностицизм), но лишь в качестве 1) предельного, 2) проблематического, даже з) невозможного, т. е. противоречивого2,
1 Ясно видим неуклюжесть и маловыразительность этого термина, но не можем подобрать лучшего. Искомый термин должен обозначать противоположность данного направления в отношении как к метафизическому направлению, так и к агностическому. Обыкновенно метафизическому направлению противополагается, и справедливо, направление позитивистическое, но именно изучение тех разновидностей современной философии, для суммарного обозначения которых нам нужен соответствующий термин, убеждает в том, что отрицать метафизику можно не только с позитивистической точки зрения. Впрочем, в этом достаточно убеждает наличность такой философии, как философия Канта. Значит, нам нужен термин, который бы объединил противников метафизики из позитивистического лагеря с противниками же метафизики, стоящими на рационалистической почве. Этой цели до некоторой степени удовлетворяет термин «антиметафизический», но зато он не обособляет имеющиеся в виду философские системы и учения от агностицизма, который также отрицает метафизику. Чтобы достигнуть и этой цели, пришлось прибавить к предикату «антиметафизический» другой предикат - гностический, который в данном случае обозначает не что иное, как противоположность философскому агностицизму. В целом же наш термин хочет сказать не больше того, как то, что обозначаемые им направления не нужно смешивать ни с метафизическими направлениями, ни с агностическими. Этой цели он, думается, удовлетворяет, — по крайней мере, временно, пока не отыскался лучший.
2 См. Ист. мат., русск. пер., стр. 727-728.
280
понятия, что не мешает Ланге, как мы видели, прибегнуть к этому именно понятию для того, чтобы дать нам возможность рассматривать данную действительность, как образ или символ абсолютной действительности. Чтобы избежать лангевской эластичности в решении проблемы, нужно было, не занимая промежуточного и тем более колеблющегося положения, определенно высказаться в одном из указанных направлений. Одно из этих направлений — агностическое — нашло для себя ясное и достаточно определенное выражение несколько раньше, чем появилась в свет «История материализма» Ланге, но только не у немцев. В 1861-м году англичанин Герберт Спенсер (1820 — 1903) издал первый, основоположительный том своей «Синтетической философии», через 35 лет благополучно им завершенной, под заглавием: «Основные начала» («First Principles»), в первой части которого автор старается, следуя отечественной традиции (Локк, Юм), определить границы человеческого познания. Гносеология Спенсера очень проста. Она сводится к двум основным положениям. Во-первых, «из самой природы нашей мысли получается вывод, что наше знание относительно»: познавать — значит подмечать через сравнение познаваемых предметов сходство и различие между ними, откуда следует, что нашему познанию доступно только то, что может быть поставлено в то или другое отношение к чему-либо другому; иными словами — мы познаем не вещи сами по себе, но лишь отношения между вещами, а так как «абсолютное, как абсолютное, независимо от всякого отношения», то оно недоступно нашему познанию1. Отсюда, однако, нельзя заключать, что абсолютное не существует. Наоборот, - и это будет вторым основоположением гносеологии Спенсера, — «каждым из доводов, доказывающих относительность нашего знания, ясно постулируется положительное существование чего-то за пределами относительного. Сказать, что мы не можем знать абсолютного, значит, по внутреннему смыслу слов,
1 Спенсер. Основные начала, изд. Пантелеева, Спб. 1897, стр. 68,72-73, 66.
281
сказать, что существует абсолютное»1. И так, абсолютное существует, но оно непознаваемо1 2 3 * 5, - формула более простая и более определенная, нежели та, какую можно извлечь из книги Ланге, но она не могла удовлетворить немецкой мысли. Влад. Соловьев, подвергая в своем «Кризисе западной философии» агностическую точку зрения критике, говорит: «очевидно, нет никакой возможности о безусловно-непознаваемом говорить, как о действительно существующем, т. е. приписывать положительный предикат чистому отрицанию. И в самом деле, позитивисты допускают некоторую познаваемость — странно сказать — безусловно непознаваемого. Так, Герберт Спенсер, говоря, что абсолютное нельзя узнать никаким образом и ни в какой степени, прибавляет в скобках: «в строгом смысле слова знание». Но если таким образом абсолютное в не строгом смысле слова познаваемо, и если это не строгое знание несомненно есть все-таки некоторый образ и некоторая степень знания, то следовательно уже никак нельзя сказать, что абсолютное непознаваемо никаким образом и ни в какой степени »з. Мысль — верная, но для немецкой философии не новая: она была выдвинута еще в конце XVIII-ro века в полемике, вызванной кантовским учением о вещи в себе*, и с тех пор не была забыта. В первом издании своей книги Ланге думал разбить «броню кантовской системы» оружием, выкованным еще во времена Фихтеб. Правда, впоследствии он отказался от этой попытки, но не потому, чтобы оружие оказалось
1 Там же, стр. 74.
2 См. там же, стр. 82.
3 Влад С. Соловьев. Собр. сочин., т. I, стр. 66. Ту же мысль один из представителей «имманентной философии», Шуберт-Золъдерн, выразил образно и в то же время сжато в след, словах: «коль скоро занесли одну ногу в трансцендентное, то нет основания не перебросить туда и другой ноги» (Ueber Transcendenz des Objects und Subjects, S. 41; выдержка взята из статьи г. Борецкой об имманентной философии — «Научн. Обозр.», 1902, №7, стр. 125).
* См. выше, стр. 149.
5 Lange, Gesch. d. Materialismus, Jserlohn 1866, S. 268; cp. 8. 2 Aufl., II B., S. 48-49 (русск. пер., стр. 373-374).
282
негодным, а потому, что броня — как он потом убедился — была тверже, чем он думал. Разумеется, при таких условиях он психологически не мог дать своему учению о вещи в себе такую формулировку, какую оно получило в философской системе его английского современника: ведь это значило бы подставлять голую грудь под им же самим отточенное оружие. Вот почему учение о вещи в себе получило у Ланге несравненно более тонкую и эластичную формулировку, нежели у Спенсера. По той же самой причине гносеологическая формула Спенсера вообще не имела успеха среди немецких философов. Мы затрудняемся указать хотя одного из них, кто бы в решении вопроса о вещи в себе вполне совпал со Спенсером, но зато много знаем таких, которые, встретившись снова со старым понятием о вещи в себе, возобновили против него ту атаку, которая велась в конце XVIII-ro века. Не то это значит, чтобы агностические тенденции совсем были чужды немецкой философии последних десятилетий, — нет, они выступают и здесь, но выступают не в такой прямолинейной формулировке, как у Спенсера, вследствие чего проникнутые ими учения и системы нельзя считать чистыми формами агностического решения проблемы о вещи в себе, а лишь переходными ступенями от второго типа к первому, метафизическому (напр., Паульсен) или к третьему, гностическо-антиметафизическому (напр., Риль).
Итак, немецкая философия последних десятилетий развивается главным образом в двух противоположных направлениях. Метафизическое направление имеет своих представителей в лице мыслителей, примыкающих к Фихте (напр., Юлий Бергман, Эйкен) или Лотце (напр., только что скончавшийся Буссе). К этому же направлению следует отнести и Вундта, «отважившегося, — по его собственным словам, - построить такую систему философии, в которой центральное место отводится метафизике», как «учению о принципах»1. Правда, в своей метафизике Вундт «исходит от гипотетических элементов, доставляемых ей специальными науками»
1 Вундт, Система философии, русск. перев. А. М. Водена. Спб. 1902, стр. 1 и 23.
283
(Einzelwissenschaften)1, но в дальнейших выводах, направляясь стремлением разума к единству1 2 3 * 5 и опираясь на «принцип связывания наших понятий, как оснований и следствий »з, выходит за пределы «эмпирически познаваемой действительности» или путем ее продолжения, или же путем ее дополнения. На первом пути получается количественное расширение опытного познавания, на втором качественное*. Так наш разум вступает в область трансцендентного, где находит идею, связывающую две стороны эмпирически данной действительности - мир физический и мир психический — в одно целое: это — «идея последней мироосновы», о которой «можно сказать только то, что она есть мирооснова», и «что в особенности она рассматривается, как достаточное основание, для представляемого, как ее следствие, нравственного идеала человечества»5. Но так как религиозная вера не удовлетворяется такою бессодержательною идеей, то возникает нужда в заполнении ее содержанием. Руководясь такими соображениями, что а) свое содержание идея мироосновы может заимствовать только от нравственного идеала, что б) основание и следствие, хотя и могут быть друг от друга различны, однако должны друг другу соответствовать, и что в) мировое основание не может мыслиться изолированно от мирового содержания, Вундт определяет мирооснову, «как мировую волю, а мировое развитие - как последовательное обнаружение божественной воли и действования»6. Такова вершина его системы.
Мы не имели в виду излагать системы Вундта, — мы хотели только показать, что один из самых авторитетных представителей немецкой философии должен быть отнесен к представителям метафизического направления, и что последнее действительно
1 Wundt, System d. Philos., Lpz. 1889, S. VI.
2 Сист. филос., русск. пер., стр. 108-109.
3 Там же, стр. 113.
* Там же, стр. 117-118.
5 Там же, стр. 268-269.
6 Там же, стр. 270.
284
должно быть признано характерным для современной философии наших западных соседей. Для нас в настоящий раз важнее остановиться на том направлении немецкой философии, которое мы выше отнесли к третьему типу, потому что чистый эмпиризм новейшего времени представляет собою разновидность именно этого типа, насчитывающего среди немецких философов целый ряд блестящих представителей. Все они, разделяя с агностиками отрицательное отношение к метафизике, поскольку последняя ставит своею задачей постигнуть природу трансцендентного бытия, или вещи в себе, расходятся с ними в обосновании этого отношения: в то время как агностики признают существование вещи в себе, как логически необходимого коррелята эмпирически данной действительности, и если отрицают метафизику, то лишь на том основании, что трансцендентное бытие не может быть познано средствами человеческого разума, — представители третьего направления самое понятие о трансцендентном бытии, или вещи в себе, признают несостоятельным, даже бессмысленным (Ding an sich - Unding), которое по тому самому должно быть выброшено за борт, а вместе с ним должна быть выброшена туда же и метафизика, как имеющая дело с тем, что немцы называют Unding1. В связи с устранением понятия о трансцендентном бытии, или вещи в себе, стоит взгляд на реальную действительность, как имманентную познающему разуму, если не в смысле реального совпадения по объему между первой и вторым, то по крайней мере в смысле принципиальной доступности первой для познания со стороны второго. Когда говорят о тяготении к имманентности (Zug zur Immanenz), как о характеристической черте современной германской философии, то имеют в виду то именно направление, которое мы
1 Один из самых видных представителей рассматриваемого направления, проф. Коген, обобщая результаты своих гносеологических исследований, прямо заявляет, что его точкой зрения исключаются, с одной стороны, агностицизм, с другой — метафизика (Hermann Cohen, System der Philosophic, i Th.: Logik d. reinen Erkenntniss, Berl. 1902, S. 514-517). To же самое можно сказать и о других представителях данного направления, как ни расходятся они друг с другом в иных отношениях.
285
сейчас характеризуем. Доселе - о тех чертах, какими это направление отграничивается от двух других — метафизического и агностического. Если мы теперь всмотримся в отдельные философские учения, отнесенные нами к одному типу на основании вышеуказанных черт, чтобы подметить их видовые признаки, то окажется, что в очерченных нами пределах вмещаются такие разновидности, противоположность между которыми доходит до полярности. Разногласие касается главным образом вопроса об условиях достоверности познания: в то время как одни последнего ручательства его достоверности ищут в разуме, другие исключительное значение в этом отношении придают опыту, и если последние являются типичными представителями чистейшего релятивизма, то первые борьбу с релятивизмом ставят своею задачей. В первую группу следует отнести новокантианцев-нормативистов (во главе с Виндельбандом)1 и новокантианцев-трансценденталистов (во главе с Когеном)1 2 3, во вторую — представителей чистого эмпиризма новейшего времени, начиная Миллем, продолжая Лаосом и оканчивая Авенариусом и Махом. Как и всегда бывает, есть такие разновидности рассматриваемого направления, которые занимают середину между указанными крайностями, приближаясь то к одной из них, то к другой. Из таких серединных разновидностей особенного внимания заслуживает так называемая имманентная философия (консциенциализм), главным представителем которой является Шуппе, и «психологизм» Т.Липпса и К. Штпумпфаз.
1 Профессор гейдельбергского университета, преемник Куно Фишера по кафедре.
2 Профессор марбургского университета, вследствие чего и та школа, во главе которой он стоит и к которой принадлежат Наторп, Штаммлер, Штаудингер, Карл Форлендер и др., называется марбургской школой.
3 Еще явственнее, чем в Германии, выступают два из охарактеризованных в тексте направлений, метафизическое и гностическо-антиметафизическое, в русской философии последних десятилетий, и это, конечно, потому, что у нас нет того богатства рабочих сил, какими располагает Германия в области философии, так что в наших направлениях легче разобраться: они, так сказать, все наперечет перед глазами. Несомненно, что в 70-х годах наибольшим влиянием пользовалась у нас философия
286
Не останавливаясь на характеристике всех намеченных разновидностей, всмотримся в главные очертания тех из них, которые стоят друг к другу в отношении полярности, чтобы через это рельефнее обрисовалась перед нами в своих отличительных особенностях и в своем сравнительном значении разновидность, давшая повод к настоящей работе.
«Все мы, философствующие в 19-м веке, - говорит Винделъбанд, - ученики Канта. Но наш нынешний «возврат» к нему не может быть простым восстановлением той, определенной историческими условиями, формы, в которой он изложил идею критической философии. - Понять Канта значит выйти за его пределы». А понять Виндельбанда, — прибавим, - это .значит понять, как он понимает Канта.
Исходя из того положения, что философия известной эпохи есть отражение культурного состояния этой эпохи, Виндельбанд, в соответствии с различием двух главных культур — древней, греческой и новой, немецкой, различает дна основных типа философских построений. «Если отвлечься от всего второстепенного, - говорит он, - то до сих пор существовали только две философские системы: греческая и немецкая — Сократ и Кант!»1. Кругозор древнего грека был неизмеримо уже нашего, но зато в пределах этого кругозора грек не знал тех внутренних противоречий, какими характеризуется современная культура. Для него не было в мире ничего недоступного,
Спенсера, и хотя она была обязана этим главным образом своему учению о познаваемом, именно применению закона эволюции к различным областям исследования, однако наряду с законом эволюции принималась и агностическая гносеология. Но уже в 8о-х годах стало ясно, что спенсеровский агностицизм оказался у нас, как говорят немцы «превзойденным». Шли от него в двух направлениях: одни (Грот, Козлов) - к метафизике, другие (Лесевич) - к эмпириокритицизму. В самое последнее время стали объявляться у нас последователи и других разновидностей германской антиметафизической философии, как, напр., философии Виндельбанда, Когена, Риккорта, имманентистов, о чем достаточно ясно свидетельствуют «Вопросы философии и психологии» характером своих статей.
1 Прелюдия, русск. пер., стр. 69.
287
а в доступном — ничего непонятного. «Вся греческая философия -опирается на предпосылку, что человеческое знание может дать законченную картину мира, без остатка передающую действительность». Греческий философ понимал истину, как согласие познания с действительностью, и не сомневался в том, что он может овладеть истиной, а раз он сознавал себя находящимся, хотя бы и потенциально, в обладании истиной, — естественно, что и для своей деятельности он не искал иного определяющего начала, кроме истины, открываемой разумом: интеллектуализм насквозь проникал греческую культуру1. Иное дело — наше время. «Помимо общей раздробленности нашей культурной жизни», — раздробленности, вызванной расширением нашего кругозора до бесконечности, «через всю нашу жизнь проходит глубокая трещина», находящая свое объяснение в том, что в нашей культурной жизни действуют два разнородных фактора — греческая философия с ее интеллектуализмом и христианство с его мистицизмом. Напрасно средневековая философия пыталась выразить содержание религиозного сознания в терминах греческой науки: «в конце концов это религиозное сознание все-таки осталось самостоятельным целым, логически несоединимым с наукой». А так как мы не можем отказаться ни от одного из основных элементов нашей культурной жизни, то естественно, что наше сознание представляет собою, «выражаясь словами Гегеля, «разорванное сознание». Оно потеряло гармонию безыскусственной простоты и измучено своими внутренними противоречиями». Особенно ярко выразилось это противоречие нашего культурного сознания в «том учении о двоякой истине, богословской и философской, которое возникло в конце средних веков и затем нашло себе более подходящее к новым понятиям выражение в людях, подобных Бейлю и Якоби, и во многих других представителях философской мысли»2. Но все эти попытки не могли удовлетворить тех, кто мучительно чувствовал боль
1 Там же, стр. 96-97.
2 Там же, стр. 97 99-
288
внутреннего противоречия нашей культуры, потому что они не устраняли его, — мало того: оставляли во всей его силе, так сказать, узаконивали его. Первый, кто нашел действительное разрешение мучительного противоречия, был Кант, и он достиг этого, показав науке ее действительные границы, с чем вместе выяснилось самостоятельное значение, наряду с наукой, других областей нашей культурной жизни — морали, искусства, религии1. Но Кант никогда не достиг бы этой цели, если бы он коренным образом не изменил старого понятия об истине.
Оно было поколеблено еще до Канта. Уже тогда было выяснено, что если истину полагать в согласии познания с действительностью, то она никогда не может быть доказана. В самом деле, доказать сходство между представлением и вещью, копией которой оно, по смыслу старого понятия об истине, является, можно не иначе, как посредством сравнения представления с вещью, но сравнение, как деятельность соотносящего сознания, возможно лишь между двумя содержаниями одного и того же сознания, — значит, между двумя представлениями, а не между представлением — с одной стороны - и вещью — с другой. Только в том случае могло бы иметь место сравнение представления с «вещью», если бы сама «вещь» была не чем иным, как представлением. «Кто сравнивает сохранившийся в его памяти образ друга «с самим другом», тот совершает лишь сравнение между двумя представлениями, из которых одно вызвано воспоминанием, другое — чувственным восприятием». Из сказанного следует, что «нет никакого смысла требовать от науки, чтобы она была копией действительности; понятие истины не может более включать в себя совпадение представлений с вещами; оно сводится к совпадению представлений между собой — именно вторичных представлений с первичными, абстрактных с конкретными, гипотетических с чувственными, «теории» с «фактами»«2.
1 Там же, стр. 99-100.
2 Там же, стр. 102-106.
289
Однако «добытое таким путем» понятие об истине «далеко не настолько свободно от метафизических предпосылок и от допущения определенного отношения между вещами и представлениями, как это часто предполагается странным образом даже в философских исследованиях; оно отнюдь не исчерпывается, как это могло бы казаться с первого взгляда, чисто имманентным отношением между представлениями. Ведь то, что два представления различаются друг от друга и не совпадают между собою, отнюдь не есть само по себе какой-либо недостаток или что-либо нежелательное и неправильное; это видно уже из того, что весь процесс мысли покоится на различении представлений. Поэтому требование, чтобы два представления известным образом совпадали между собою, ставится только при том предположении и правомерно только в том случае, если оба они «относятся» к одному и тому же предмету. Можно, конечно, отвлечься при этом от того популярного мнения, что их задачей является копирование действительности и что потому-то они и должны походить друг на друга; но все же требование совпадения их имеет смысл только постольку, поскольку оба они относятся к некоторому общему неизвестному х, которое они должны представлять в сознании, хотя бы и не в качестве копий. Вне этого отношения к одной и той же реальности нельзя было бы вообще знать, какие именно из бесчисленных представлений должны быть сравнены и найдены совпадающими между собой для достижения имманентной истины. Как бы многообразны ни были различные оттенки и формы этого воззрения, всегда для него истина будет заключаться в известном отношении представлений к абсолютной действительности, причем представление должно быть ее «знаком», «выразителем» или необходимым и постоянным последствием. Вместо чувственного отношения мы имеем логическое, вместо наглядного отношения — абстрактное; вместо «копирования» говорят о причинности. Наши представления суть уже не образы вещей, а лишь необходимые действия последних на нас, и поэтому здесь, как и
290
в других случаях, нет необходимости, чтобы действие было копией причины»1. Это и есть та точка зрения, которая лежит в основе разных видов агностицизма, как оставленная ею позади - в основе разных видов метафизики, и нужно признать, что она «имеет многое за себя». Не нуждаясь «в невозможном сравнении представлений с вещами», она «по-видимому, легко, просто и целиком укладывается в рамки каузального миропонимания», поскольку «представляющее сознание» относится «к системе вещей», а «созидание представлений в сознании путем воздействия других вещей» — «к изменениям в состояниях вещей, закономерно совершающимся в этой системе». Недаром эта именно точка зрения характеризует «миросозерцание огромного большинства людей современной науки». Стоит, однако, вдуматься в нее, чтобы убедиться, что она «сводится к сплошной метафизике». В самом деле, «если мы не знаем о вещах ничего, кроме их действия на наше сознание, то на основании какого понятия истины может быть доказана истинность самого этого воззрения? Где тот поддающийся восприятию факт, с которым должна совпадать эта теория? Ведь утверждаемое этой гипотезой воздействие вещей на деятельность представлений само никогда не может быть воспринято, так как, согласно самой гипотезе, всякое восприятие есть лишь комбинация представлений и никогда не содержит в себе самих вещей. Или, может быть, это воззрение должно быть «истинным» в том смысле, что высказанное в нем каузальное отношение между вещами и нашими представлениями есть мысленное выражение, т. е. копия того отношения, в котором те и другие стоят друг к другу realiter in natura rerum? Но тогда мы опять вернулись к старому представлению о совпадении мышления с бытием. И действительно, в основе этой гипотезы тайно лежит все тот же наивный предрассудок. Все теории английских и французских философов XVIII века, отрицающие за человеком способность познавать «вещи в себе», содержат известный акт отречения и имеют поэтому скептический оттенок. Наше знание — таков общий вывод этих
1 Там же, стр. 107-108.
291
теорий - собственно должно бы быть копией вселенной; к сожалению, этого нет в действительности, и потому высшее, чего мы можем достигнуть, это воспроизводить в сознании реальные соотношения вещей постольку, поскольку мы можем видеть в наших представлениях действия неизвестных вещей. Учение об имманентной истине есть лишь частичный отказ от достижения трансцендентной истины, за которой сохраняется значение руководящей нити»1.
Было бы большой ошибкой приписывать эту точку зрения Канту. На самом деле она «есть лишь предварительная ступень критики, превзойденная Кантом»1 2 3. Значение Канта в том и состоит, что он совершенно отрешился «от популярной противоположности между бытием и мышлением», а потому в его гносеологии не оказывается места ни старой вере в соответствие между познанием и трансцендентной действительностью, ни новым сетованиям по поводу невозможности для нас достигнуть такого соответствия. Он так же далек от скептицизма, как и от догматизма. Его точка зрения совершенно оригинальна. Вот почему при ее изложении ему не годились ни чувственные схемы, ни логические понятия, какими пользовались его предшественники. Чтобы оградить свое учение от перетолкований, приходилось изобретать свою терминологию. Мудрено ли, что так трудно читать «Критику чистого разума»?з.
Центральным пунктом критической философии является исследование вопроса: «на чем основывается отношение того, что зовется нашим представлением, к предмету?». Нужно было так истолковать это отношение, чтобы из него можно было «вывести различие между истинными и ложными представлениями», чего — как мы видели — не удавалось сделать ни старым, ни новым предшественникам Канта. Кант сделал то, чего не могли сделать другие: он нашел, что искомое отношение заключается в понятии
1 Там же, стр. 108-109.
2 Там же, стр. 108.
3 Там же, стр. 109.
292
правила1. Это и было тем открытием, которое разделило историю философии на два периода — до Канта и после Канта. Вдумаемся в смысл великого открытия.
«Элементы познавательной деятельности, т. наз. ощущения, могут в отдельной личности сочетаться в любые комбинации существования и последовательности на основании психологических законов ассоциации; но о «предметном» мышлении речь может идти лишь постольку, поскольку из бесконечного числа этих возможных комбинаций выделяются некоторые сочетания, которые мы должны мыслить. Каждая личность может на свой лад соединять элементы познавательной деятельности, но в каждом отдельном случае лишь одно сочетание последних правильно, т. е. обязательно для всех мыслящих людей. Всякое мышление, стремящееся быть познанием, содержит соединение представлений, которое есть не только продукт индивидуальной ассоциации, но и правило для всех, кому важна истинность мысли. Итак, что для обычного предрассудка есть «предмет», который должен быть скопирован мышлением, то для непредвзятого исследования есть правило соединения представлений», или — подробнее — «правило, сообразно которому должны располагаться в известном порядке определенные элементы представления, чтобы получить общеобязательное значение»2.
Было бы непониманием Канта утверждать, что он своим учением об отношении представлений к предметам уничтожает «предметы». Это было бы лишь в том случае, если бы учение Канта сводилось к утверждению, что «во всем Божьем мире нет ничего, кроме совокупности человеческих представлений», но ведь Кант не отрицает существования того, что мы называем предметами, — он лишь сущность предметности истолковывает иначе, нежели это обыкновенно бывало да и теперь еще бывает. Но что таким истолкованием отрезывается путь к метафизике — это верно: мы знаем, что предметы суть не что иное, как общеобязательные правила соединения представлений, но «что могут означать эти правила в других отношениях», имеют ли они опору в абсолютной, независимой от всякого представления реальности, или «вещи в себе»,
1 Там же, стр. 109-110.
2 Там же, стр. по.
293
принадлежат ли они «высшему» представлению, «трансцендентальной апперцепции» или «абсолютному я», — этого мы не знаем и знать не можем, да и нет нам никакой нужды в этом знании. «Кант отвергает всякое метафизическое истолкование этих правил; тем меньше стеснялись в этом занятии его последователи»1.
Вместе с изменением понятия о предмете изменяется и понятие об истине. Истину нельзя понимать ни в смысле согласия представления с трансцендентной действительностью, ни в смысле согласия одного представления с другим; истина — это такое соединение представлений, которое совершается на основании правила, имеющего всеобщее значение1 2, короче - «истина есть нормальность мышления »з. Сейчас же мы должны устранить возможное недоразумение. «С первого взгляда может показаться, будто это новое понятие истины - содержит метафизическое допущение множественности мыслящих субъектов и, таким образом, заменяет общую гипотезу о соответствующей представлениям действительности гипотезой еще более специальной и оспоримой. В действительности же это совсем не так. Ибо если мы определяем правило, как нечто, имеющее значение для всех, то мы пользуемся производным признаком, который делает нашу идею лишь более наглядной, приспособляя ее к характеру нашего обычного способа представления»: «общеобязательность есть лишь вывод из нормальности, сделанный в применении к эмпирическому миру мыслящих субъектов»4. Не потому что-либо нормально, что оно фактически признается всеми, а потому оно должно признаваться всеми, что оно нормально. Истина — не то, в чем все согласны — все согласны, пожалуй, только в стремлении к счастью3 4 5 — а то, в чем все должны быть согласны. Отсюда, далее, «задача науки состоит не в том, чтобы копировать мир, а в том, чтобы противопоставлять игре представлений нормальное мышление», что и выполняется специальными науками каждой в своей области, а «ее философское
1 Там же, сгр. но, 111-112.
2 Там же, стр. ш.
3 Там же, стр. 112.
4 Там же, стр. ш.
5 Там же, стр. 238.
294
завершение заключается в формулировании последних, обосновывающих все остальное, принципов научного мышления. На место картины мира, которую искала греческая наука, выступает самоуяснение, путем которого разум доводит до своего сознания свой собственный нормальный закон»1.
Сказанного достаточно для того, чтобы понять все значение того переворота, какой произвел Кант в области знания изменением понятия об истине. Но оригинальность Канта и значение совершенного им переворота не ограничиваются рамками теоретического разума. Чтобы вполне оценить значение Канта, нужно понять то новое отношение, в какое он поставил различные области человеческой деятельности с точки зрения открытого им понятия об истине.
«Пока истину принимали за совпадение представления с вещью, до тех пор, конечно, ее можно было искать лишь в мышлении: ведь ничего похожего на такое совпадение нельзя найти ни в нравственном поведении, ни в эстетическом чувствовании. Но если вместе с Кантом понимать истину, как норму разума», то невозможно ограничить область истины пределами истинного знания, ибо «существуют другие области деятельности человеческого духа, в которых, независимо от всякого знания, также обнаруживается нормальное законодательство, сознание того, что всякая ценность отдельных функций обусловлена известными правилами, которым должна быть подчинена индивидуальная жизнь. Наряду с нормальным мышлением стоит нормальная волевая деятельность и нормальное чувствование», и если истина состоит в подчинении норме, то «наряду с теоретической истиной есть истина этическая и эстетическая». Отсюда следует, что если бы Кант ограничился уяснением норм познающего мышления, он не разрешил бы своей задачи в полном объеме. Вот почему «Кант написал, вслед за критикой чистого разума, критику практического и эстетического разума, и лишь все эти три великих труда вместе содержат полную его философию. Нельзя даже сказать: его миросозерцание, ибо он не
1 Там же, стр. 114.
295
может и не хочет дать нам картины мира. Вместо этого он дает нам уяснение нормальных законов сознания, охватывающие весь объем жизненной деятельности человека»1. Не будет ошибкой сказать, что этическое и эстетическое сознание служат, по Канту, дополнением научного познания, которое лишь в связи с первым составляет то, что можно назвать нормальным сознанием, но ставить эту мысль «в аналогию с попытками прежнего скептицизма «дополнить» знание верованиями и чувствами» было бы полным извращением точки зрения Канта. «Вся цель Канта остается непонятой, и все его учение истолковывается совершенно неправильно, если предполагается, что Кант показал, что наука может дать лишь картину мира «явлений» и совершенно не может «познать» вещей в себе, и что для приобретения миросозерцания надо прибегнуть к логически необходимым основам нравственного сознания и к гениальным интуициям искусства. На самом деле Кант вообще разрушил понятие «миросозерцания» в старом смысле; копирование действительности лишено для него всякого смысла, и поэтому он ничего не учил о том, как могут «дополнять» друг друга знание, вера и чувство в созидании этой картины мира. Кант видит задачу философии в уяснении «принципов разума», т. е. абсолютных норм, а эти последние отнюдь не исчерпываются правилами мышления, но объемлют и правила волевой жизни и чувствований. В уяснении высших ценностей нормы науки образуют лишь один отдел; наряду с ними, совершенно самостоятельно и независимо от них, действуют нормы нравственного сознания и эстетического чувства. Так же глубоко, как корни нашего мышления, заложены в нашем разуме и корни нашей нравственности и нашего искусства; лишь из всех трех вместе образуется не картина мира, а нормальное сознание, которое с «необходимостью и общеобязательностью» должно стоять над случайным ходом индивидуальной жизнедеятельности, как ее мера и цель. Так в лице величайшего философа наука признает наряду с собой руководящими силами высшей правды этическое и эстетическое сознание. Она
1 Там же, стр. 114.
296
приветствует этот благородный союз с нравственным сознанием общества и с гением искусства. Именно этим она выражает общее сознание современной культуры и, путем совершаемого ею преобразования понятия познания, приобретает возможность примирить противоречия, содержавшиеся в основах современного сознания»1.
Итак, центральным понятием философии Канта является понятие нормального сознания, или — как выражается Кант — «сознания вообще»1 2 3. Оно же служит центральным понятием и собственной философии Виндельбандаз. Раскрывая это понятие, Виндельбанд отмечает, что законы нормального сознания — это «не законы природы, осуществляющиеся при всяких обстоятельствах и принудительно властвующие над всеми отдельными фактами, а нормы, которые» лишь должны осуществляться, чтобы функции и продукты человеческой деятельности могли получить действительную, т. е. абсолютную ценность, как истинное знание, истинное добро или истинная красота, но которые на самом деле далеко не всегда осуществляются*. Значение норм состоит, таким образом, прежде всего в том, что они являются для нас мерилом тех оценок, каким мы подвергаем различные проявления человеческой деятельности, своей и чужой. «Как бы относительны ни были эти оценки в их эмпирической действительности, они, однако, всегда изъявляют притязание на абсолютное значение и имеют смысл только при допущении возможности такой абсолютной оценки. Это притязание и это допущение именно и отличают» три основные формы оценок, мерилом которых служит нормальное сознание, — оценку логическую, этическую и эстетическую, — «от тех бесконечно
1 Там же, стр. 114-116.
2 Там же, стр. 36.
3 Употребляя для обозначения этого понятия — в качестве основного термина - термин нормальное сознание, Виндельбанд иногда заменяет его другими терминами, как, напр., «целеполагающее сознание» (стр. 214), «разум» (стр. 38, 218), «оценивающий разум» (в отличие от «теоретического разума», см. стр. 202).
* Там же, стр. 37.
297
разнообразных оценок, в которых выражается лишь наше индивидуальное чувство удовольствия или неудовольствия от какого-либо представляемого предмета», т. е. от так называемых гедонических оценок1. В связи с притязанием тех оценок на абсолютность стоит их притязание на общеобязательность и необходимость. Нужно только иметь в виду, что «здесь идет речь не о фактической общеобязательности — для истинности или ложности представления совершенно безразлично, сколько людей ее признают или не признают — а об идеальной, не о той общеобязательности, которая существует в действительности, а о той, которая должна иметь место», равно как не о той необходимости, которая основана на принужденности (Miissen) и невозможности иного (Nichtanderskonnen), — «в причинном смысле безумие необходимо не менее, чем мудрость, грех — не менее, чем добродетель, чувство красоты - не менее, чем его противоположность», — а о той, которая «заключается в долженствовании (Sollen) и непозволительности иного (Nichtandersdiirfen). Это — та высшая необходимость, которая отнюдь не всегда осуществляется естественной необходимостью, управляющей нашим мышлением, чувством и волей: это -необходимость долженствования»1 2 3 4. Значение норм не исчерпывается «ретроспективной оценкой собственной и чужой деятельности и их объектов и продуктов»». Если по отношению к эстетической области это и так4, то никак нельзя сказать того же о двух других областях. Когда логические или этические требования нормального сознания проникают — путем ли самостоятельного размышления, или стороннего влияния — в сознание той или другой личности, они «становятся в этом сознании определяющим основанием мышления
1 Там же, стр. 30-31.
2 Там же, стр. 33-34.
3 Там же, стр. 214.
4 «Сущность эстетического наслаждения, как и художественного творчества, состоит именно в непосредственности и отсутствии рефлексии; художественное творчество и наслаждение должно соответствовать норме, но не вызываться и не определяться ею в сознании» (там же).
298
или хотения», а через то и действия1. В сущности вся культурная деятельность человека, поскольку она выражается в создании науки, искусства, правового порядка, в его деятельности, как нравственного существа, есть не что иное, как осуществление тех норм, которые составляют содержание нормального сознания, ибо где нет истины, там нет науки, где нет красоты — нет искусства, где нет добра — нет нравственности, а истина, красота и добро — это не что иное, как соответствие нашей деятельности правилам, составляющим содержание нормального сознания1 2 з. К сожалению, эти правила не всегда доходят до сознания, а дошедши — далеко не всегда действуют с такою силой, чтобы их действием пересиливались другие мотивы человеческих хотений и действий. А так как сознание обязательности велений разума не утрачивается и тогда, когда эти веления не исполняются, то на этой ночве возникает более или менее мучительное сознание противоречия между тем, что должно быть, и тем, что есть на самом деле, между долженствованием и естественной необходимостью, между нормами и законами природы, — то противоречие, которое является главным элементом того, что называется совестью, будет ли то совесть этическая, совесть в тесном смысле этого слова, или логическая и эстетическая, ибо «зрелый культурный человек обладает» всеми этими видами совести. «Он делает себя ответственным не только за свои желания и поступки, но и за свои мысли и чувства; он упрекает себя в логической ошибке и в безвкусии не меньше, чем в нравственной небрежности; ему известны обязанности как по отношению к его хотению и действованию, так и по отношению к его мышлению и чувствованию, и он знает и с болью и стыдом ощущает, как часто естественно необходимое течение его жизни нарушает эти обязанности»з. Эта боль, этот стыд служат яркими показателями абсолютной обязательности для человека
1 Там же, стр. 217.
2 См., напр., там же, стр. 39, 285 и др.
з Там же, стр. 198-199.
299
велений разума и абсолютного характера тех оценок, мерилом которых служат эти веления.
В связи с сказанным решается у Виндельбанда вопрос о свободе воли. «Свобода, — по нему, — есть не что иное, как сознание того определяющего действия, которое может оказывать на движение мысли и решение воли осознанная и признанная норма. Чувство свободы коренится в совести. Несвободным в мышлении мы называем того, в ком движение представлений настолько подчинено каким-либо впечатлениям, предубеждениям, привычке, лености или личным интересам, что он не может следовать логической норме, даже сознавая ее; свободным бывает мышление, когда оно одушевлено исключительно стремлением к истине и сознательно подчиняется логическому закону. Нравственно несвободным мы называем того, кто, несмотря на знание этической нормы, в своем хотении и действовании в такой мере находится под властью своих отдельных мотивов, страстей и аффектов, что совесть не может стать в его душе решающим двигателем; нравственная свобода есть сознательное подчинение всех влечений познанному нравственному закону. Свобода есть господство совести. То внутреннее явление, которое одно только и заслуживает это имя, есть определение эмпирического сознания нормальным сознанием. Совокупность норм можно, не отступая от обыденного словоупотребления, назвать разумом»; в таком случае свободу можно определить, как «подчинение разуму»1.
Если в специальных науках, в нравственной или художественной деятельности мы действуем по тем нормам, какие предписываются разумом, не подвергая их обследованию, даже не всегда давая себе в них отчет, то задачею философии должно быть именно это обследование: философия — это наука о нормальном сознании2, или — что то же - о принципах абсолютной оценки1,
1 Там же, стр. 218.
2 Там же, стр. 37.
300
причем дело идет не о том, чтобы показать, какие правила фактически пользуются если не всеобщим признанием, то — по крайней мере — признанием большинства, а о том, какие правила заслуживают всеобщего признания2. Из самой постановки задачи явствует, что она никоим образом не может быть разрешена на пути эмпирического исследования, пользующегося генетическим методом. Самое большое, чего мы можем достигнуть на этом пути, это — констатировать и затем объяснить из законов психической жизни то явление, что аксиомы, или нормы фактически пользуются значением, но, во-первых, «если «иметь значение», в смысле известного факта, означает быть признанным или служить реальным определяющим принципом, то фактически аксиомы «имеют значение» только для единичных лиц и в отдельных случаях, а не для всех и постоянно»з, а во-вторых, если бы и был доказан факт признания известной аксиомы большинством современного или доселе существовавшего человечества, то отсюда еще не следует, чтобы она заслуживала всеобщего признания: «преклонение перед грубым фактом» было бы «печальным исходом философских исканий»-*. Итак, эмпирическим путем нельзя доказать общеобязательности. «Кто захотел бы в этом отношении действительно провести точку зрения «чистого опыта»,
1гГам же, стр. 38. Соответственно «трем формам оценки, в которых притязание на всеобщность обнаруживается, как их существенная составная часть, — тем трем формам, которые характеризуются тремя парами понятий истинного и ложного, хорошего и дурного, прекрасного и безобразного», существуют «только три собственно философские дисциплины: логика, этика и эстетика. Психология есть эмпирическая, частью описательная, частью объясняющая наука, метафизика в старом смысле знания о последних основах действительности есть нелепость (Unding), теория познания, натур-философия, философия общества и истории, философия религии и философия искусства правомерны лишь постольку, поскольку они изучаются не в метафизическом, а в критическом направлении, под углом зрения указанных трех основных философских наук, как их разветвления, приложения и завершения» (стр. 32).
2 Там же, стр. 244.
з Там же, стр. 237.
4 Там же, стр. 241.
301
тот должен был бы признать совершенно произвольным самое понятие общеобязательности»: «релятивизм является необходимым выводом из чисто эмпирического понимания основного философского вопроса»1. Не может помочь горю и логическая дедукция, потому что нормы, которые при таком обороте дела требовали бы дедуктивного обоснования, сами лежат в основе обоих видов обоснования - и дедуктивного, и индуктивного1 2 3. При всем том положении дела нельзя признать безысходным. Если обнаружение фактического значения, какое придается нормам, или аксиомам, не может иметь силы в смысле обоснования их действительной ценности, а логическая дедукция по отношению к ним невозможна по самому существу дела, то остается один только путь, на котором может быть «обнаружена - непосредственная очевидность аксиом»: путь этот состоит в том, чтобы показать, что им присуща необходимость не логическая — с логическою необходимостью они не могут быть доказаны - а телеологическая, что «их значение должно быть безусловно признано для возможности достижения известных целей. В этом именно» пункте «расходятся генетическое и критическое понимание философии. Для генетического метода аксиомы суть фактические способы познания, образовавшиеся в развитии человеческих представлений, чувств и волевых решений и достигшие в них известного значения; для критического метода эти аксиомы - совершенно независимо от широты их фактического признания — суть нормы, которые должны иметь значение при условии, что мышление в общеобязательной форме стремится к достижению своей цели — обладанию истиной, воля — к своей цели быть доброй, чувство - к своей цели — овладению красотой: признание аксиом повсюду обусловлено целью, которая предполагается данной в качестве идеала для нашего мышления, хотения и чувствования »з.
1 Там же, стр. 238, 239.
2 Там же, стр. 232-233.
3 Там же, стр. 233-234, 235.
302
Из самого существа критического метода следует, что его применение имеет смысл при одном определенном условии, именно при убеждении, что существуют общеобязательные цели, способные проявиться в эмпирическом сознании: вера в общеобязательные цели — необходимая предпосылка критического метода1. Если бы «кто почувствовал себя шокированным тем, что для критического метода необходима» только что указанная «основная предпосылка, тому» следовало бы «напомнить, что генетический метод принужден прибегать к более многочисленным и специальным предпосылкам»; сюда относятся «не только законы т. наз. формальной логики, но и законы теории познания (как, например, закон причинности), об исследовании которых именно и идет речь»1 2 з * 5, а через то самое и та вера в общеобязательные ценности, без которой не имела бы смысла никакая наука, да и не только наука: признание нормального сознания — «это in abstracto та самая предпосылка, которая in concrete лежит в основе всякой научной, всякой нравственной и эстетической жизни. Всякое соглашение относительно чего-либо, что люди должны признавать за властвующую над ними норму, предполагает это нормальное сознание»з. Можно отрицать веру в общеобязательные нормы и цели на словах, но нельзя, без противоречия с самим собою, отказаться от них на деле. На деле «мы верим в закон более высокий, нежели закон естественнонеобходимого возникновения наших представлений», решений, чувствований — «мы верим в право, определяющее их ценность. - Мы все в это верим»*. Мы все абсолютисты. Тот факт, что, начиная с Протагора и оканчивая современными позитивистамиз, целый ряд теоретиков релятивизма видят «во всех этих правилах и убеждениях не что иное, как естественно-необходимые продукты человеческого
1 Там же, стр. 37, 235, 244, 245 и др.
2 Там же, стр. 235-236.
з Там же, стр%37.
* Там же, стр. 35.
5 См. там же, стр. 239.
303
общества», не колеблет только что высказанного утверждения. «Ведь они, конечно, не просто высказывают свою теорию, как личное свое мнение, но утверждают и пытаются доказать ее. А что значит доказать? Это значит допустить, что над необходимостью каждого возникающего в нас движения представлений стоит та высшая необходимость, которую каждый должен признавать. Кто доказывает релятивизм, тот опровергает его»1. Если тем не менее продолжают существовать люди, которые требуют, чтобы им «доказали» веру в общеобязательные ценности, то критическая философия с ними ничего не может поделать2. «Доказать» эту веру нельзя по той простой причине, что она сама лежит в основе всякого доказательства. «Единственное, что может сделать философия, - это дать возможность нормальному сознанию проявиться в движениях эмпирического сознания и затем довериться той непосредственной
1 Там же, стр. 35. Ср. стр. 239: «релятивизм далеко не так страшен, как это могло бы показаться боязливым умам. Где он выступает в качестве научной теории, он является чудовищным самообманом. Ибо само его желание быть теорией свидетельствует, что он молчаливо признает все предпосылки, без которых нельзя ни отстоять, ни обосновать никакой вообще теории. Если он хочет доказать свое утверждение, то он допускает, что возможно в общеобязательной форме констатировать факты, а также и умозаключать из них к чему-либо, что должны признавать все. Он сам подтверждает то, что он хочет опровергнуть, именно всеобщее значение теоретико-познавательных принципов и логических норм. Если же он этого не делает, то ему остается лишь, подобно некоторым болтунам греческой софистики, объявить, что в сущности вообще ничего нельзя утверждать — что, впрочем, есть мудрейший конец его мудрости. По крайней мере, в теоретической области всякая, даже нигилистическая и релятивистическая теория признает значение аксиом, наличность норм, обязательных для всех. Чем больше доказательств накапливает релятивист, тем смешнее он становится, ибо тем более он опровергает то, что стремится доказать. В действительности и не существует серьезной научной теории релятивизма; мнение, будто каждый признает то, что ему кажется, существует только в форме мало завидного житейского убеждения. Релятивизм есть «философия» разочарованного, который ни во что более не верит, или столичного франта, который, пожимая плечами, нагло острит обо всем и находит для себя удобным сегодня говорить так, а завтра иначе».
2 Там же, стр. 245.
304
очевидности, с которою его нормальность, раз она ясно сознана, обнаруживается в каждой личности с той силой и влиятельностью, какие она должна иметь»1. «Приди и посмотри» - единственный аргумент, который может иметь силу в данном случае. Кто, при шедши, ничего не видит или — вернее — старается уверить себя и других, что он ничего не видит1 2 3 - с тем ничего не поделаешь. Здесь -распутье: встретившись на нем, можно или подать друг другу руки, чтобы затем вместе идти в одном направлении, или же разойтись в разные стороны.
Если вера в общеобязательные ценности лежит, по предыдущему, в основе всей духовной деятельности человека, то критическая философия, выдвигая ее в качестве своей основной предпосылки, с самого же начала впадает в логический круг: кто хочет исследовать нормы, тот наперед должен допустить, что «как он сам, так и люди, к которым он обращается со своим исследованием, по крайней мере в известных пределах, обладают нормальным сознанием». Круг этот в такой же степени несомненен, как и неизбежен, а потому сюда можно применить «слова, некогда сказанные Лотце: так как этот круг неизбежен, то надо допустить его сознательно»з.
Существеннее тот упрек, направленный против критического метода, что при его применении нам грозит опасность смешать «фактически для нас самих обязательное с общеобязательным», или — что то же — «возвести в абсолютную норму точку зрения философствующей личности». Если бы это было действительно так, то критический метод был бы окончательно осужден. К счастью, опасность устраняется правильным применением того принципа, который впервые был введен в критическую философию Фихте: это — принцип телеологической связи*. «Непреходящее значение и
1 Там же, стр. 37; ср. стр. 207,244,253.
2 См. там же, стр. 245.
3 Там же, стр. 245.
* Там же, стр. 245-246.
305
вместе с тем историческое влияние Фихте состоит именно в том, что он ясно постиг телеологический характер критического метода и признал задачей философии установление системы необходимых (в телеологическом смысле) деяний разума. Поэтому все то, что Кант называл воззрениями» (созерцаниями), «понятиями, принципами, идеями, максимами, правилами и т. д., Фихте развил в общей связи, с целью уяснить значение каждой из этих нормальных функций, как средств систематического осуществления общей задачи познания: он строит нормальное сознание, как телеологическую систему». Ошибка Фихте состояла в том, что он «считал возможным из одного только определения цели» (он «формулировал ее, как задачу эмпирического я стать всеобщим я!) вывести и все средства к ее осуществлению», тогда как на деле «телеологическая конструкция нуждается не только в установлении цели, но и в привлечении материала, с помощью которого она должна быть осуществлена». Не для того нужен этот материал, чтобы обосновать аксиомы и нормы, но для того, чтобы найти их и довести до сознания. «Если нормы вообще уясняются как индивидуальному, так и родовому разуму только через посредство отдельных опытных их проявлений, оправдание и обоснование которых должно в них искаться, то и философия может разрешить свою задачу установления норм только под руководством опыта; рассматривая отдельные психические процессы, которые она находит данными в опыте, она выясняет, каким требованиям они должны удовлетворять, чтобы иметь право на всеобщее одобрение. Впрочем, не конкретное содержание этого материала, а лишь общий его характер надо знать для уяснения задач, которые должны быть разрешены с его помощью»1.
И так, критическое исследование различных видов духовной деятельности человека, совершаемое под руководством телеологического принципа, не может дедуктивно построить систему средств, необходимых для достижения основных целей человеческой деятельности, — оно может лишь из совокупности средств,
1 Там же, стр. 247-249.
306
применяемых фактически, сделать отбор таких, какие ведут к достижению общеобязательности. Эта зависимость философии в выполнении своей задачи от опыта, есть «причина того несовершенства, с каким она может выполнить» эту задачу. Отыскивая отдельные нормы, каким должна подчиняться деятельность мысли, воли, чувства, критическая философия не в состоянии показать их взаимной связи. «Требование, которое философия тождества предъявляла кантианству — вывести из единого принципа все результаты, найденные на периферии сознания, — это требование не только еще не выполнено, но и вообще невыполнимо»1. Здесь предел философии. Чтобы найти связь между различными областями человеческой деятельности, равно как между определяющими их нормами, нужно выступить за пределы философии: лишь в религии они имеют «как свою общую эмпирическую основу, так и цель своего идеального объединения»1 2 3 4.
Что же такое религия?
Речь идет не о «т. наз. истинной или философской религии, т. е. религии, которая должна быть еще создана философией», а о религии «положительной», — о «религии, как мы все ее знаем и переживаем»з. Взятая «во всей своей целостной, всеобъемлющей реальности »4, религия стоит рядом с тремя великими культурными функциями человечества, — 1) наукой, 2) моралью, правом и историей, з) искусством, - как другая, быть может, величайшая культурная сила. Если цель, норму, идеал науки мы называем истиной, морали — добром, искусства — красотой, то цель, норму, идеал религии следует назвать святыней. Понять и оценить религию — это значит «указать положение религии в телеологической системе функций разумного сознания», что в свою очередь сводится к
1 Там же, стр. 251.
2 Там же, стр. 277.
3 Там же, стр. 278.
4 Там же.
307
решению вопроса: есть ли святыня нечто самостоятельное наряду с тремя обозначенными выше идеалами?1
«Фактически религия заходит во все три указанные области: она выступает перед нами в качестве истины, нравственной организации, художественного произведения; она есть познавание, жизнь, творчество». И как в различных исторических формах религии эти моменты выступают с неодинаковой полнотой и силой, так и в различных попытках понять и оценить религию сплошь да рядом подчеркивается лишь один из указанных моментов (теоретический — в докантовской философии, практический - у Канта, эстетический — у Шлейермахера), вследствие чего получается «более или менее одностороннее понимание религии», которая на самом деле не исчерпывается указанными моментами, а «есть и нечто большее: в ней содержится момент возвышения над уровнем этих «мирских» культурных функций, которые в историческом развитии первоначально сливаются с нею, затем отделяются от нее в качестве самостоятельных явлений и наконец, опять к ней примыкают; в качестве дополнения к ним, религия требует сверхчеловеческого, сверхмирного содержания; именно последнее она называет святыней», не отожествляя ее ни с истиной, ни с добром, ни с красотой, «и этот момент должен быть понят из внутреннего существа разума, а не из какой-либо одной его функции». Поэтому философия религии не может быть ни отделом логики, ни частью этики или эстетики, хотя и должна многое заимствовать из всех этих дисциплин, поскольку «отдельные функции религии необходимо и по существу дела относятся к сферам логической, этической и эстетической жизни». Все-таки основным вопросом философии религии является вопрос не о том, в чем сходится религия с другими функциями человеческого духа, а о том, чем она от них отличается, другими словами — в чем состоит сущность святого в отличие от истинного, доброго, прекрасного1 2.
1 Там же, стр. 280.
2 Там же, стр. 280-281.
308
Так как «троицей логического, этического и эстетического исчерпывается объем психических функций человека», то содержания святыни приходится искать не «в особой, ему специально предоставленной сфере душевной жизни», а в том «основном отношении, которое обще логическому, этическому и эстетическому сознанию». Таким отношением является антиномическое отношение «между долженствованием и принудительной необходимостью, между нормами и законами природы», которое «сознается нами, прежде всего, как чувство вины, как совесть - в широком смысле этого слова»1, но которое «распространяется далеко за пределы индивидуального сознания вины: логика, этика и эстетика встречаются с ним на всем пространстве деятельности нашего разума»1 2 3 4 5. Поскольку, теперь, оказывается невозможным свести этот антиномизм нашего сознания «к отношению между индивидуальным поведением и общим социальным сознанием, содержащимся, в качестве культурно-исторической основы, в каждом отдельном сознании и обладающим в нем как фактическим, так и нормальным значением»з - если что и можно объяснить на этом пути, то лишь «совесть, как социальное явление, как критику индивидуального поведения общим сознанием», а не «совесть, как выступающее за эти пределы сознание норм»«, — он начинает рассматриваться, как обнаружение «высшей идеальной действительности, которую мы можем сознавать и переживать в себе». Нормальное сознание истинного, доброго и святого, пережитое, как трансцендентная реальность, есть святыня^, а самая трансцендентная жизнь есть религия. Существенное в ней - это «жизнь за пределами опыта, сознание принадлежности к миру духовных ценностей, неудовлетворенность эмпирической реальностью. В этом смысле
1 Там же, стр. 282.
2 Там же, стр. 283.
3 Там же, стр. 284.
4 Там же, стр. 286.
5 Там же.
309
противоположностью религии может считаться позитивизм. Истинный нерв его состоит в том, что он не хочет признать значения сверхэмпирического. Поэтому он теоретически ограничивается представлением чисто эмпирических соотношений, распределением в пространстве и во времени чувственных данных; поэтому также он практически выступает в форме утилитаризма, как ограничения нравственной воли такими же чувственно-определенными ценностями. В этом содержится кажущаяся скромность, которая, однако, в действительности есть высокомерие, - самодовольное самоограничение эмпирическим содержанием жизни, стремление отрицать и уничтожить всякую зависимость от чего-либо высшего, неземного. В противоположность этому, трансцендентная жизнь религии покоится всюду на страстном влечении переступить за эти предустановленные границы, на стремлении в область сверхэмпирического и жизнь в ней»1.
Охватывая всю совокупность психических функций, хотя и не совпадая ни с одною из них в отдельности, религия вызывает своеобразное изменение в проявлении каждой из этих функций. Так, в области сердца религиозный человек с особенной интенсивностью переживает «чувство зависимости, как таковой», - зависимости от чего-то непостижимого, неизъяснимого, дающего однако о себе знать и в природе, и в истории, и в тайниках человеческой совести1 2 3. Самая «сущность благочестивого чувства требует, чтобы этот элемент таинственности и неисповедимое™ всегда в нем сохранялся». Однако в «самой таинственности содержится» и «побуждение уяснить ее», из которого проистекает работа мысли, направленная к разрешению по существу неразрешимой задачи постигнуть непостижимое. Так возникает религиозная метафизиказ. «Метафизическое усиление познавательной деятельности» под влиянием религиозного чувства «возможно в двояком направлении: с одной стороны, как расширение
1 Там же, стр. 287.
2 Там же, стр. 287-289.
3 Там же, стр. 289-291.
310
конечного до бесконечного, с другой - как сужение бесконечного до конечного, — то и другое в той форме, что каждое из них в известном смысле включает в себя другое, но что при этом один из моментов является преобладающим. Первое обнаруживается в формах религиозного представления, второе — в его содержании. Первое развивается главным образом на почве основных конститутивных категорий нашего мышления» (субстанции и причинности)1, второе пользуется знакомыми человеку из опыта оценками1 2 з 4 5. На первом пути мы приходим к понятию о Боге, как «вещи всех вещей», как мировой субстанции — с одной стороны — и как причины, которая есть только причина, а не следствие, — с другойз; на втором — к представлению Абсолютной Личности, содержанием которой является совокупность высших ценностей: «она есть реальное нормальное сознание, та личность, в которой реально все, что должно быть, и нет ничего, что не должно быть, — реальность всех идеалов. В этом состоит святость Бога»*. Так создается в сознании религиозного человека представление о Боге, и его жизнь становится жизнью с Богом и в Боге. Это и есть религиозная жизньб.
Стоит, однако, всмотреться в содержание представления о Боге, чтобы подметить в нем неразрешимую антиномию: «то самое, что должно быть нормой для существующего, вместе с тем есть или создает все, так что противоречащее норме — зло не физическое только, но и нравственное - тоже принадлежит к его проявлениям или созданиям»6. Ни одна попытка разрешить эту антиномию религиозного сознания не может быть признана состоятельной: попытка понять зло, как недостаток добра, как отрицание, разбивается о непререкаемое свидетельство совести, что «зло есть несомненная реальность»; попытка разрешить вопрос о
1 Там же, стр. 291.
2 Тахм же, стр. 293.
з Там же, стр. 291-293.
4 Там же, стр. 294.
5 Там же, стр. 279.
6 Там же, стр. 294.
311
происхождении зла при помощи понятия «допущения зла» не выдерживает легкого прикосновения критической мысли, а потому нам ничего не остается, как честно сознаться, что этот вопрос для человеческого разума совершенно неразрешим: здесь «лежит великая тайна жизни, тайна всех тайн, которую никто не разгадал и не разгадает, и последняя граница всякого познания»1.
Таковы воззрения одного из выдающихся вождей современной немецкой философии в ее борьбе с современным релятивизмом1 2, представляющие собою один полюс в том направлении современной философской мысли, какое мы назвали гностическо-
1 Там же, стр. 295-296.
2 Называем Виндельбанда вождем потому, что к нему примыкает целый ряд мыслителей, ведущих борьбу с релятивизмом; укажем проф. фрейбургского
университета Генриха Риккерта (Rickert), главные сочинения которого уже
переведены на русский язык («Der Gegenstand d. Erkenntnis», 1 Aufl., Freib. 1892, 2-te verbesserte u. erweiterte Aufl., Tub. 1904 = русск. пер. — к сожалению, далеко не
удовлетворительный — Киев, 1904; «Grenzen der naturwissenschaftlichen
Begriffsbildung», 1896 — 1902 = русск. пер. А. Водена, Спб. 1904; «Die Philosophic d. Geschichte» во П-м томе изданного Виндельбандом в честь К. Фишера сборника «Die Philosophic im Beginn des XX Jahrhunderts» = русск. пер. под ред. С. Гессена, Спб. 1908), Ласка («Fichte’s Idealismus und die Geschichte», Bert. 1902), Кистяковского (см. выше, стр. 8о); к этому же направлению принадлежат названные на стр. 69-й молодые ученые, авторы критических работ об Авенариусе и Махе, — Эвальд, Геллъ, Генигсвальд. Но Виндельбанд и его школа не одиноки в борьбе с релятивизмом. Релятивизм имеет в немецкой философии целый ряд серьезных противников; назовем Когена (соответственно трем частям своей историко-экзегетической работы о Канте Коген задумал «Систему философии» также в трех частях; две части — «Логика чистого познания» и «Этика чистой воли» — уже вышли, ожидается выход третьей части — «Эстетика чистого чувствования»), Гуссерля, который в первой части своих «Логических исследований» («Logische Untersuchungen», I Th., Halle 1900) ведет борьбу с релятивизмом (психологизмом) в логике, Липпса (об его этике была речь выше, см. еще его же «Основы логики», заключительный отдел), Шуппе, который в своей «Гносеологической логике» является противником психологизма, а в этике абсолютный характер этических оценок выдвигает, как их существенную черту («Gnmdzuge der Ethik und Rechtsphilosophie», Breslau. 1881, S. 109 u. fig.).
312
антиметафизическим. Виндельбанд является стойким хранителем тех вековечных заветов, какие оставлены двумя величайшими философами древнего и нового мира, и убежденным продолжателем того дела, которому всю свою жизнь служили те мудрецы: один - на площади шумного города, бывшего центром тогдашнего культурного мира, другой - в своем ученом кабинете и в университетской аудитории скромного города, затерявшегося на окраине тогдашней Пруссии. Для Виндельбанда Сократ и Кант ~ не только воспоминание о великих деяниях прошлого, но и напоминание о неотложных задачах настоящего. Если достойная человека жизнь должна быть воплощением абсолютных ценностей, то задача философии состоит в доведении их до сознания, в построении системы тех норм, при помощи которых абсолютно ценное может воплощаться в жизни мысли, чувства и воли, и в ограждении этой системы от тех покушений, какие делаются на нее со стороны релятивизма. Релятивизм - главный враг Виндельбанда. А так как философия чистого опыта с логическою неизбежностью ведет к релятивизму, то Виндельбанд является решительным противником этой философии. В свою очередь философия чистого опыта не останавливается перед релятивистическими следствиями своей точки зрения, - больше того, в этих следствиях она видит ручательство того, что стоит на правильном пути. Она не знает и знать не хочет абсолютных ценностей, и если Виндельбанд сознательно становится под знамя Сократа, то она своим родоначальником охотно называет Протагора. На наших глазах как бы снова происходит та борьба абсолютизма с релятивизмом, какая составляет существенный элемент в культурной жизни Афин V-ro века до р. Хр.
Ряд философов, работавших в течение XIX-го века над созданием философии чистого опыта1, начинается Огюстом Контом
1 Историко-критическому обозрению этого именно ряда философов посвящена книга В. В. Лесевича «Что такое научная философия?» Спб. 1891; дополнением к ней служит статья «От Огюста Конта к Авенариусу» его же, помещенная в книге «Русская Высшая Школа обществ, наук в Париже» (лекции профессоров этой Школы), изд. Г. Ф.
313
(1798 — 1857), У которого мы находим обе черты, характеризующие собою названную философию: и ограничение познания кругом явлений, данных в опыте, и вытекающий отсюда релятивизм в характеристике доступного человеку познания1, хотя ни та, ни другая черта не выступают еще у него в чистом виде. Признавая «абсолютно недоступным и бессмысленным искание первых или последних причин», будут ли то личные силы, непосредственным воздействием которых объясняет ум все явления на теологической стадии своего развития, или абстрактные силы, настоящие сущности, которые полагаются им в основу явлений на второй стадии — метафизической, Конт ограничивает область доступного человеку знания установлением, при помощи правильной комбинации рассуждения и наблюдения, неизменных отношений последовательности и подобия между явлениями, данными в опыте, откуда следует, что доступное человеку знание может носить лишь относительный характер. Стремление к абсолютному познанию, являющееся стимулом умственной деятельности в теологическом состоянии, должно быть признано неосуществимым. Все это, впрочем, не мешает Конту придавать абсолютное значение открытому им закону трех состояний, равно как прибегать к рациональным доказательствам для его обоснования* 1 2.
Львовича. Спб. 1905; кроме того, история позитивизма дельно и интересно изложена в уже упоминавшихся книгах Геффдинга «Истор. новейш. ф-фии» и «Современные философы»; см. также книгу Н. Д. Виноградова «Философия Юма», где, во П-ой главе П-го отдела, с воззрениями Юма сопоставляются воззрения Милля, Конта, Лааса, Авенариуса, Маха.
1 Милль, специально изучавший Конта, резюмирует сущность его философии в следующей формуле: «мы познаем одни только феномены, да и знание наше о феноменах относительно, а не абсолютно». («Ог. Конт и позитивизм» Милля и др., пер. Н. Н. Спиридонова, М. 1897, стр. 8).
2 Ог. Конт. Курс положит, философии, т. 1, русск. пер., Спб. 1900, лекция i-ая. Что сущности непознаваемы, это положение стоит у Конта твердо, но что касается их существования — по этому вопросу мы не находим у Конта определенности. По словам Милля, Конт «поддерживает с большою выразительностью непознаваемость
314
Заключая человеческое познание в определенные границы, Конт не опирается при этом на критическом исследовании наших познавательных способностей - мы не находим у него ни логики, ни гносеологии, великого значения которых он, по-видимому, и не подозревал. Оттого вся его философия носит догматический характер. «Он хоть и угадал, что впредь философия должна строиться на научных основах, но, взявшись за дело, с первого же шага пошел по старой тропе догматизма и вместо системы научной философии дал нам схему наук, в которую едва-едва вкраплены намеки на философский критицизм, и которая слишком часто перегибается в наивный реализм, лишающий ее значительной доли того философского значения, какое она могла бы получить в руках мыслителя, соединяющего в себе с природной силой достодолжную философскую подготовку»1. В несравненно большей степени, нежели Конт, удовлетворял этим требованиям Миллъ (1806-1873), вследствие чего позитивизм, основанный Контом, поднимается в его учении на
ноуменов» для наших способностей, «но его отвращение к метафизике помешало ему заявить какое-либо определенное мнение касательно реального существования вещей в себе», которое, впрочем, как будто подразумевается способом его выражений (см. «Обзор ф-фии Гамильтона» Милля, гл. II, рус. перевод - увы! безобразный — Н. Хмелевского, Спб. 1869, стр. 12): Конт неутомимо твердит о том, что от познания внутренних причин явлений нужно отказаться, что «вопросы о внутренней природе вещей недоступны нашему пониманию», что «те высокие тайны, которые теологическая философия с удивительной легкостью объясняет до малейших мелочей, недоступны для человеческого разума», что «искание первых или последних причин» нужно признать «недоступным и бессмысленным», вопросы о них — «неразрешимыми, выходящими за пределы ведения положительной философии» и т. д., и т. д., но дальше этого он не идет. Во всяком случае, мы не можем найти у него таких выражений, которые позволяли бы нам без всяких колебаний отожествить его точку зрения с агностицизмом Спенсера: Конт прямо нигде не говорит, что «сущности», «вещи в себе», «ноумены» существуют - он лишь твердит, как сказано, об их непознаваемости. Через это он приближается к точке зрения философии чистого опыта (Милля, Лааса, Авенариуса, Маха), чего нельзя сказать о Спенсере.
1 Лесевич, «Что такое научн. ф-фия?» стр. 23.
315
высшую ступень. Милль высоко ценит Конта: в своей книге о Конте, исправляя многие взгляды этого мыслителя, он берет под защиту основные положения его философии; но еще раньше, чем он познакомился с Контом, он уже прошел школу своих отечественных мыслителей, из которых на него особенное влияние, помимо собственного отца Джемса Милля, оказал Юм. Это обстоятельство дало Миллю возможность восполнить самый существенный пробел «положительной философии»: он подвел под нее гносеологический фундамент, вследствие чего должна была измениться до некоторой степени и структура всего здания.
После Юма Милль был первым мыслителем, который твердо держался принципа чистого опыта. В этом отношении он пошел даже дальше Юма, когда утверждал, что и математическое знание, которому Юм приписывал дедуктивный характер, имеет ту же самую природу, что и другие области знания, - индуктивно-эмпирическую1: опыт, по Миллю, служит единственным источником нашего знания, а индукция — единственным средством его расширения. Что касается силлогизма, то он, по Миллю, «обусловливается предшествующим заключением от частного к общему и по существу тожественен с ним», а потому и не может иметь самостоятельного значения. А так как индукция опирается в последней инстанции на ту аксиому, что «строй природы единообразен», — аксиому, которая «сама есть пример индукции, и притом индукции далеко не самой очевидной»1 2, то, значит, все наше знание, не исключая и математического, носит условный или проблематический характер. Так далеко не шел даже и Юм, который придавал математическому знанию (по крайней мере, арифметике и алгебре) аподиктическое значение.
Если единственным источником познания служит опыт, то единственным его объектом являются состояния сознания, или феномены, соединяющиеся друг с другом в группы по законам
1 См. «Систему логики», кн. II, гл. V-VI.
2 Милль, «Сист. логики», кн. III, гл. III, §5, пер. под ред. В. Н. Ивановского, М. 1899, стр.
245-
316
ассоциации: последовательно проведенный эмпиризм ведет к феноменализму* С этой точки зрения для субстанций нет места; их место заступают «нити» или «серии» состояний сознания: возьмем ли мы субъект, или объект — ни там, ни здесь мы не откроем ничего помимо состояний сознания, ассоциировавшихся друг с другом1. Вместе с понятием субстанции дает и понятие о вещи в себе. Ведь, если вещь в себе и допускается, то допускается, как нечто такое, что может быть познано если не нашим, то каким-нибудь умом — в предположении вещи, недоступной какому бы то ни было уму, нет никакого смысла; но если вещь в себе может быть познана каким бы то ни было умом, то она должна быть признана относительной этому уму, т. е. данной в принадлежащих ему состояниях сознания, другими словами - познаваемой. Итак, если вещь в себе существует, то она -по крайней мере, принципиально - познаваема; если же она абсолютно непознаваема, то она не существует1 2.
В первом издании «Обзора философии Гамильтона» феноменалистическая точка зрения проведена Миллем с строгою последовательностью: не только объект, но и субъект признаются там группами, или сериями состояний сознания. Но в третьем издании своей книги Милль делает такие дополнения, которые в корне подрывают его феноменализм, неразрывно связанный с его ассоциационизмом. Раньше нашему я не придавалось никакой самостоятельности сравнительно с составляющими его элементами: я - это сумма состояний сознания и только, - точка зрения чисто феноменалистическая. В третьем издании Милль обращает внимание на то, что психологический факт воспоминания, равно как связанный с ним факт ожидания, невозможно объяснить, не предположивши, наряду с элементами сознания, объединяющего их начала, которое
1 См. «Обзор ф-фии Гамильтона» гл. XI и XII, где содержится также учение Милля о происхождении веры в существование внешнего мира и убеждения в существовании духовной субстанции; см. изложение этого учения в указ, сочинениях Лесевича и Виноградова.
2 «Обзор ф-фии Гамильтона», гл. И, русск. пер., стр. 13.
317
представляет собою не продукт законов мысли без соответствующего ему факта, а такую же реальность, какою обладает каждый из элементов сознания. Без допущения такого начала как объяснить, что я признаю данное состояние тем самым, какое я же имел несколько времени тому назад? Вот это-то объединяющее начало и есть то, чему должно быть дано название я или я сам1. По справедливому замечанию Геффинга, введением в свою систему учения о я, как объединяющем начале для состояний сознания, Милль сам себе поставил западню в своей же собственной философии1 2 з.
В философии Милля принцип чистого опыта нашел столь значительное выражение, что именно в этой форме он оказал влияние на германскую философию. Только что прекратилась, вместе с жизнью, научно-литературная деятельность Милля, как выступил на литературное поприще молодой немецкий ученый, которому основательное знакомство с философией Канта не помешало стать на защиту философии чистого опыта: это был Эрнст Лаас (1837-1885), один из выдающихся представителей чистого эмпиризма нового времени. Его трехтомный труд «Идеализм и позитивизм» появился в свет в течение 1879-1884 гг.з. Лаас был едва ли не первым из новых философов, который открыто провозгласил себя последователем Протагора, главной заслугой которого было, по Лаасу, установление положения о неразрывной связи между субъектом и объектом. Лаас кладет это положение во главу угла своей собственной философии. «Всякое содержание восприятия, — разъясняет он, — существует для воспринимающего его субъекта; в свою очередь, всякий субъект предполагает воспринятое содержание; субъект и объект неразрывные близнецы; они существуют и исчезают вместе. Или — чтобы особенно выдвинуть сторону, противоположную идеализму
1 Там же, стр. 58-62.
2 Геффдинг, указ, соч., стр. 365.
з Лаас, Идеализм и позитивизм, I ч., пер. под ред. С. И. Эверлинга, стр. 151: «Протагор имеет своих предшественников и последователей. Что касается нас, то мы в принципе стоим на точке зрения протагоровского позитивизма».
318
декарто-берклеевского типа — невозможно быть воспринимающим субъектом, не воспринимая чего-либо; или, наконец: сознание, душа, я - суть ничто вне и по ту сторону чувственного восприятия. Эта теория познания уже не «субъективизм», а субъект-объективизм, если только для столь простого и естественного факта не покажется чересчур причудливым такое сложное слово; точнее говоря, она — не релятивизм, а коррелятивизм. Она повторяет старое положение, что природа есть явление, но «повторяет его» не стремясь познать «сущность» или «принцип», лежащий позади явления и в нем обнаруживающийся, и не предполагая, что кажущееся и являющееся указывают, однако же, на нечто такое, что является. Нет, явление совсем не понимается в этом смысле, но потому природа оказывается явлением, что она имеет лишь относительное значение, так как она непременно мыслится только как объект воспринимающего, представляющего я», которое само, «в свою очередь, опять-таки не существует без нее, без объектов восприятия»1.
Декарт думал, что мыслящее я «обладает более достоверною реальностью, нежели не я, т. е. совокупность возможных ощущений». На самом деле об этом и речи быть не может. «Правда, совокупность возможных для меня ощущений не то же самое, что и для других, но все целокупности этого рода мохут быть закономерно определены в своем отношении друг к другу. Все они указывают на идеальный образ, возвышающийся над всеми случайными отношениями, который, применяясь к терминологии Канта, можно бы, кажется, обозначить, как объект сознания вообще. Как бы ни были тусклы, неопределенны, индивидуалистичны восприятия отдельных лиц, он всегда будет стоять перед ними, как общий для них всех предмет восприятия, как мир объективный»1 2. Этими разъяснениями Лаас хочет показать, что протагоровская точка зрения вовсе не ведет к тому крайнему субъективизму, который обыкновенно считается логически неизбежным выводом из основного принципа Протагора.
1 Там же, стр. 146’148.
2 Laas, Idealismus u. Positivismus, III Th. S. 47.
319
Что касается «фактической закономерности этой точки зрения, и подлинного основания для нее», то она, - по Лаасу — не нуждается в каких-либо метафизических подпорках, она опирается исключительно на том доступном проверке со стороны каждого человека «факте, что объекты непосредственно известны лишь как предметы, как содержания сознания, cui objecta sunt, а субъекты лишь как центры отношений, как сцена или арена содержаний восприятия (и представления), quibus subjecta sunt, — что непосредственно нам известные объекты и субъекты не суть «сущности в себе», что те и другие существуют, возникают и пребывают лишь совместно, связанные друг с другом»1. Но «не одна только коррелятивистическая идея Протагора основывается на простых фактах; точно так же во всякое время может быть доказана фактами и подчеркнутая софистом изменчивость объекта восприятия; равным образом и для того основного утверждения сенсуализма, что все высшие духовные процессы и состояния — в том числе мышление, «познание», «разум» - должны быть понимаемы, как закономерно видоизмененные восприятия и переживания чувствующих, желающих, одаренных памятью и самопроизвольно движущихся существ (animalia) — и для него не требуется ничего больше, кроме простых фактов. Нигде сенсуалист не обращается к непознаваемым, не подлежащим научному констатированию фактам и явлениям. Столь же мало претендует он на то, что ему действительно уже удалось все, чего он стремится достичь при помощи своих «объяснений»; именно будто все мнимо-специфические различия он на самом деле уже уразумел, как различия по степени: он пока держится того, конечно, ничего в сущности против него не говорящего факта, что действительно до сих пор «мышление» и все высшие духовные функции встречались во времени всякий раз только в качестве чего-то позднейшего, следующего за первоначальными процессами восприятия и животного хотения»1 2.
1 Там же, стр. 147-148.
2 Там же, стр. 150.
320
Если теперь «ту философию, которая не признает никаких других оснований, помимо положительных фактов, т. е. внешних и внутренних восприятий, которая от всякого положения требует, чтобы приведены были те факты и опыты, которые лежат в его основе», - если такую философию, «согласно господствующей тенденции словоупотребления», обозначить, как позитивизм, то это обозначение ни к какой точке зрения не подходит так, как к той, которая впервые нашла ясное и твердое выражение в учении Протагора. Что касается дальнейшего движения философской мысли, то, - замечает Лаас, — «в истории даже новой философии приходится подняться довольно высоко, чтобы вновь встретить» эту «точку зрения, однако не далее, как до Давида Юма; такова же, в сущности, и точка зрения Джона Стюарта Милля1. Этого, прибавляет Лаас, можно ожидать, - да» это «и достаточно известно. Интереснее и для неспециалистов в высшей степени поразительно то, что Кант при случае защищал эту точку зрения». В подтверждение этого Лаас ссылается на следующее место в критике четвертого «паралогизма чистого разума»: «итак, устраняется всякое сомнение относительно допущения существования как материи, так и меня самого на основании только нашего самосознания... Внешние предметы (тела) суть только явления и, следовательно, не что иное, как некоторый способ моих представлений, предметы которых являются вообще чем-либо лишь благодаря этим представлениям, отдельно же от этих последних они — ничто. Существование внешних предметов, стало быть, настолько же достоверно, как существование меня самого... К действительности внешних предметов я имею столь же мало надобности умозаключать, как и к действительности... моих мыслей, так как и те и другие суть не что иное, как представления, непосредственное восприятие которых (сознание) служит в то же время достаточным доказательством их действительности». Точно так же в параллельном месте Пролегомен мы читаем: «что тела существуют вне нас (в пространстве), это столь же достоверный факт
1 Ср. Id u Posit, III Th., S. 667-668.
321
опыта, как и то, что я сам существую в нем... Таким образом, без всякого колебания может быть отвергнут вопрос о том, существуют ли тела... как таковые, вне моих мыслей; но совершенно так же обстоит дело с вопросом, существую ли я сам... (как душа, согласно эмпирической психологии) вне моей способности представления, и этот вопрос должен быть точно так же решен в отрицательном смысле». С чувством полного удовлетворения он добавляет к этому: «таким образом, достигается решение и достоверность всего, истинное значение что раз выяснено»1.
Заключительное звено рассматриваемого ряда представляет собою философия Авенариуса и Маха не в том смысле, чтобы эти мыслители фактически вышли от Милля или Лааса, — нет, они вышли в своем философском развитии из противоположных пунктов: психолог Авенариус шел от материализма, физик Мах - от идеализма, - а в том, что они дали принципу чистого опыта наиболее чистое выражение и наиболее последовательное применение. Они довели чистый эмпиризм до его логического конца. Для них ничего не существует, кроме комплексов элементов. Будучи сами по себе однородными, комплексы лишь в зависимости от того, в каком отношении мы их рассматриваем - в зависимости ли от той группы комплексов, которую мы называем внешним миром, или в зависимости от процесса, происходящего в центральной нервной системе, определяются то как физические, то как психические. Авенариус называет элементы значениями (Werthe), подразделяя их на две группы: а) собственно элементы (цвета, звуки, сладкое, горькое...) и б) характеры (приятное, неприятное, красивое, безобразное, истинное, ложное...); Мах называет их элементами-ощущениями, желая этим термином обозначить тождественность по существу тех элементов, которые, рассматриваемые с двух различных точек зрения, являются то физическими, то психическими. За пределами тех комплексов, которые составляют содержание нашего опыта, ровно ничего нет: их совокупностью исчерпывается не только
«Ид. и позит.», I ч., в русск. пер., стр. 148-149.
322
содержание опыта, но и содержание самой действительности, потому что иной действительности, кроме той, которая дана в опыте, нет и быть не может, как нет и быть не может другой науки, кроме той, которая занимается изучением отношений между элементами, данными в опыте, или — что то же — элементами действительности. Метафизика не имеет никакого научного значения, потому что она работает над вопросами не то что неразрешимыми, а мнимыми, бессмысленными: она хочет проникнуть в самую сущность вещей, постигнуть вещь в себе; между тем никакой сущности, отличной от явлений, никакой вещи в себе не существует. Поэтому теряет смысл не только вопрос о внутренней природе вещи в себе, но даже и вопрос об ее познаваемости. Пока я верю в существование ~ скажем — ведьм или гномов, для меня имеет смысл спрашивать об их познаваемости, но раз я убедился в полной фантастичности этих образов - может ли для меня иметь какой-либо смысл вопрос об их познаваемости?! От подобного рода вопросов раз и навсегда следует отказаться. Нужно только иметь в виду, что «в отказе отвечать на вопросы, которые признаны бессмысленными, не выражается ровно никакой резиньяции»: если физик не ищет больше perpetuum mobile, а математик не бьется над квадратурой крута, разве в этом есть хоть слабая тень резиньяции? Если бы мы стали на точку зрения Дю-Буа-Реймона, тогда можно бы еще было говорить о резиньяции, но для «элегически или даже благочестиво звучащего ignoramus et ignoralimus» нет места ни в учении, ни в настроении современных представителей чистого эмпиризма, поскольку они многое признают еще непознанным, но ничего — принципиально непознаваемым. Агностицизм для них так же не имеет смысла, как и метафизика. Но с другой стороны, и для абсолютных принципов нет места в их философии, как не было для них места ни у Протагора, ни у Юма, ни у новейших представителей того же самого ряда — Конта, Милля и Лааса. И в этом отношении философия Авенариуса и Маха является завершительным звеном целого ряда. Как нет безусловно устойчивых комплексов, так нет и безусловно устойчивых знаний. Сущность знания как обыденного, так и научного, между которыми нет
323
принципиального различия, состоит в приспособлении представлений к фактам, которое достигается посредством описания фактов, а как факты изменяются — изменяется и знание: одни представления отживают свой век, другие возникают вновь и т. д. без конца: ничего устойчивого! Знание подчинено в своем развитии тем же законам, что и органическая жизнь. Законы эти открыты и сформулированы Дарвином. Значение знания, представляющего теоретическое приспособление к фактам, состоит в том, что оно помогает нам и практически приспособляться к тем же самым фактам. Оно является одним из самых важных средств для осуществления основного стремления человеческой природы -стремления к сохранению и развитию жизни: ценность знания исчерпывается его биологическим значением. Об абсолютных ценностях в области мысли — так же, как и в других областях человеческой деятельности - не может быть речи: чистый эмпиризм сознательно кончает чистым релятивизмом1.
1 За подробностями и цитатами отсылаем к нашей статье (актовой речи) «К характеристике чистого эмпиризма», помещенный в брошюре «Годичный акт в Киевск. Дух. Академии в 1903 году». За исключением последней (IV-ой) главы, статья напечатана также в янв. и март, книжках журнала «Труды Киевск. Дух. Академии» за 1904 г., а впоследствии составила 1-ый выпуск «Очерков современного эмпиризма». Считаем нужным предупредить, что с выходом в свет настоящей книги П-ая глава названной статьи должна считаться утратившей свое значение, а терминология на всем протяжении статьи должна быть изменена в смысле терминологии, принятой в этой книге. К сказанному прибавим, что после напечатания нашей статьи успели появиться в русских переводах «Анализ ощущений» Маха (в двух переводах — г. Филиппова, Спб. 1904, и г. Котляра, М. 1907» на днях этот перевод вышел вторым изданием), одна глава из его последнего сочинения «Erkenntniss und Irrtum» (в «Русск. Мысли», если не ошибаемся, за 1906 г.) и 1-ый том «Критика чистого опыта» Авенариуса (пер. со 2-го изд. г. Федорова). Из статей о философии чистого опыта, появившихся за это время, заслуживают особенного внимания статьи Д. В. Викторова о Махе и Авенариусе, печатавшиеся в «Вопр. философии» (надо полагать, это отрывки из печатающейся монографии о философии чистого опыта, выхода которой в свет ждем с нетерпением, возбуждаемым и подогреваемым живым интересом доселе появившихся в печати
324
Сказанного, полагаем, достаточно, чтобы чистый эмпиризм новейшего времени выступил перед нами в своих отличительных особенностях среди других философских направлений, и предшествующих ему, и современных с ним, что и составляло задачу настоящего очерка, которую по тому самому считаем исполненной. Отлагая специальное обследование воззрений главнейших представителей названного направления, поскольку эти воззрения непосредственно касаются этических и религийных проблем или дают основания для решения их в определенном направлении, до следующего выпуска, подведем итоги сделанному.
В первой половине предшествующей главы мы старались выяснить ту мысль, что, поскольку философия есть отчет в тех принципах, какие фактически лежат в основе двух основных направлений жизни — абсолютистического и релятивистического, в ее истории должны проявиться в своей противоположности те же два направления, как это и произошло в типичной форме в Афинах V-го века до р. Хр. Во второй половине мы характеризовали новейшие формы философии чистого опыта, как проявление релятивистического направления в философии. Исторический очерк, представленный во второй главе, уяснив историческое положение чистого эмпиризма новейшего времени, вместе с тем подтвердил фактическими данными оба положения, высказанные в первой главе: он показал, что в истории философии действительно мы находим два основные направления - абсолютистическое и релятивистическое, что — в частности ~ в современной философии, главным образом германской, по всему фронту идет борьба абсолютизма с релятивизмом, и что наиболее последовательным выражением релятивизма является в настоящее время философия чистого опыта в той форме, какую ей дали Авенариус и Мах.
статей г. Викторова), И. И. Лапшина об Авенариусе (в 1-м дополнит, томе «Энцикл. Словаря» Брокгауза-Эфрона), проф. Г. И. Челпанова об Авенариусе (в вып. 2-м 1-го тома «Трудов Психологии. Семинарии при университете св. Владимира», Киев, 1904, * также в киевских «Университетских Известиях»).
325
Взятые в целом, оба очерка заключают в себе данные для таких выводов, которые — полагаем - не лишены значения не только для ориентировки в современных философских направлениях, но и для их понимания и оценки. В этом смысле позволяем себе назвать предлагаемую книгу пролегоменами к изучению чистого эмпиризма новейшего времени в его отношении к нравственности и религии.
Поскольку выводы настоящего исследования непосредственно касаются нашей основной темы, они могут быть сведены к следующим положениям:
1) абсолютизм есть признание абсолютных норм, целей и оценок;
2) релятивизм есть отрицание абсолютных норм, целей и оценок;
3) последовательно проведенный релятивизм есть не что иное, как нигилизм;
4) поскольку нравственность есть воплощение в деятельности личной и общественной абсолютных норм, а религия - служение Богу, как реальному совмещению абсолютных ценностей, и общение с Ним, практический релятивизм есть не что иное, как фактическое отрицание нравственности и религии;
5) теоретический релятивизм, фактически соединяясь в известных случаях с высокою нравственностью и искренней религиозностью, не дает, однако, возможности к теоретическому обоснованию или — по крайней мере — оправданию нравственности, как нравственности, и религии, как религии;
6) борьба между абсолютизмом и релятивизмом составляет определяющий элемент в жизни как отдельного человека, так и целого человечества;
7) так как философия есть отчет в принципах жизни, поскольку они успели проявить себя в тех или других областях жизни, то борьба между абсолютизмом и релятивизмом проходит через всю историю философии, как ее существенный элемент;
8) главными представителями теоретического релятивизма в истории философии являются философы, стоящие на почве чистого
326
опыта, каковы в особенности Протагор, Юм, Милль, Лаас, Авенариус и Мах;
9) современное состояние философии, особенно немецкой, характеризуется обострением борьбы между абсолютизмом и релятивизмом;
ю) историческая связь чистого эмпиризма с релятивизмом не случайна: принцип чистого опыта с логическою необходимостью приводит к релятивизму;
11) отсюда следует, что раз мы принимаем принцип чистого опыта, мы должны принять и вытекающие из него релятивистические следствия; если же мы находим неприемлемыми релятивистические следствия, мы должны отвергнуть их теоретическую предпосылку, т. е. принцип чистого опыта;
12) ключ к разрешению дилеммы дается тем соображением, что в философии релятивизм не может быть доведен до конца без логического противоречия: кто старается доказать релятивизм, тот опровергает его.
327
Содержание
Последний профессор Киевской духовной академии Предисловие
I. АБСОЛЮТИЗМ ИЛИ РЕЛЯТИВИЗМ?
Борьба абсолютизма с релятивизмом как существеннейший элемент человеческой жизни, по данным библейским и общечеловеческим
Борьба между абсолютизмом и релятивизмом как существеннейший элемент в истории философской мысли
Борьба философских и политических направлений, происходившая в Афинах в V-м веке до р. Хр., как типичнейшее проявление борьбы абсолютизма с релятивизмом
Живучесть обоих направлений философской мысли
Чистый эмпиризм новейшего времени как наиболее последовательное выражение релятивистической точки зрения
Основной вопрос, предъявляемый к чистому эмпиризму новейшего времени исследователем, признающим борьбу абсолютизма с эмпиризмом существеннейшим элементом жизни и мысли
Значение исследования чистого эмпиризма новейшего времени в отношении к указанному вопросу с точки зрения запросов и интересов, выдвигаемых современным состоянием русской жизни и мысли
Основные задачи историко-критического изучения чистого эмпиризма как наиболее последовательного выражения релятивистической точки зрения...
5
25
26
26
69
74
85
90
99
юо
112
328
II. ОТ БЭКОНА ДО МАХА. К уяснению исторического положения чистого эмпиризма новейшего времени
Общее замечание о времени и условиях выступления чистого эмпиризма в новой философии
Фр. Бэкон
Локк
Беркли
Философия Юма как чисто эмпирическая по своим основам и чисто релятивистическая по своим следствиям
Болингброк как представитель релятивизма
аристофановского типа в новой философии
Борьба с релятивизмом Юма в шотландской (Рид)
и немецкой философии (Кант)
Критика кантовского понятия о вещи в себе в немецкой философии конца XVIII века как переходный момент к построению «великих идеалистических систем» немецкой же философии первой половины XIX века
«Великие идеалистические системы» первой половины XIX-го века как крайнее выражение абсолютистического рационализма
Реакция против рационализма:
а) в философии Шеллинга позднейшего периода и в философии Шопенгауэра
114
И4
114
115
117
119
150
153
171
174
182
329
и б) в школе Гегеля 190
Натурализм Фейербаха 195
Материализм врачей и естествоиспытателей 50-х годов 220
Падение материализма 224
Стремление возвыситься над односторонностями идеализма и материализма в немецкой философии 235
шестидесятых годов минувшего века
Возвращение к Канту 236
Философия Ланге как типичная философия переходного времени
Основные направления современной философии, главным образом германской
Борьба между абсолютизмом и релятивизмом в современной философии:
Виндельбанд как типичный представитель абсолютизма 286
Чистый эмпиризм Авенариуса и Маха как завершающий момент в развитии эмпиристически-релятивистического направления в философии XIX-го века (Конт, Милль, Лаас, Авенариус и Мах)
Итоги 324
Содержание 327
Научное издание
Серия «Антология украинской мысли» Основана в 2007 г.
Кудрявцев Петр Павлович
Сочинения
В двух томах
Т.1
Абсолютизм или релятивизм?
Технический редактор Е. В. Буданова Корректор М. И. Кащенко Дизайн обложки А.Ю. Паламарчук
Подписано в печать 15.08.2012. Формат 60x84/16. Бумага офсетная. Печать ризографическая. Уел. печ. лист. 19,30. Тираж юо экз. Заказ № 1249.
ООО «Издательский дом МГТ» Св. ДК №1509 от 26.09.2003 г. 72312, г. Мелитополь, ул. К. Маркса, 21/23. Тел./факс: (06192) 6-74-43
Отпечатано ЧП Гапшенко В.А.