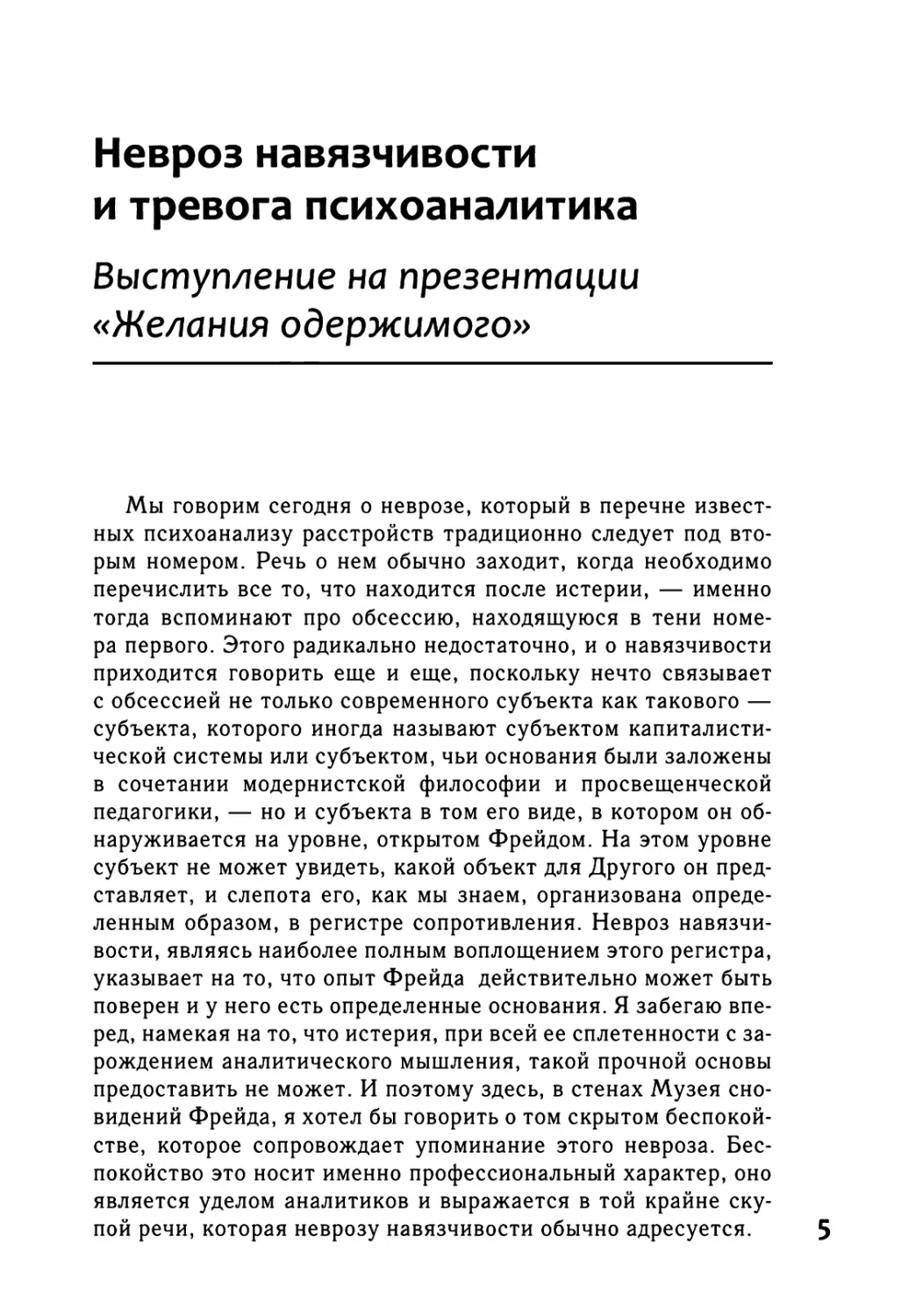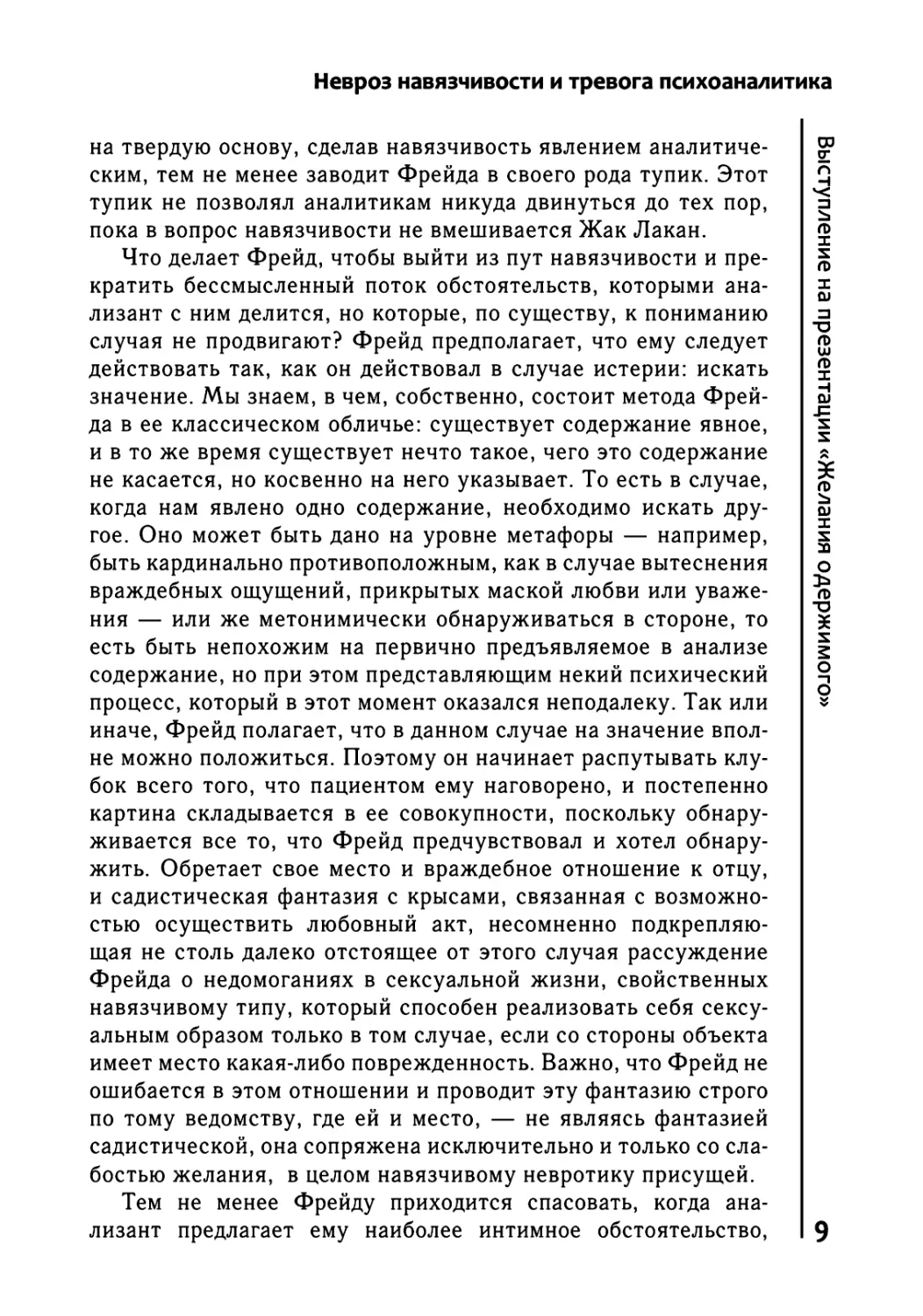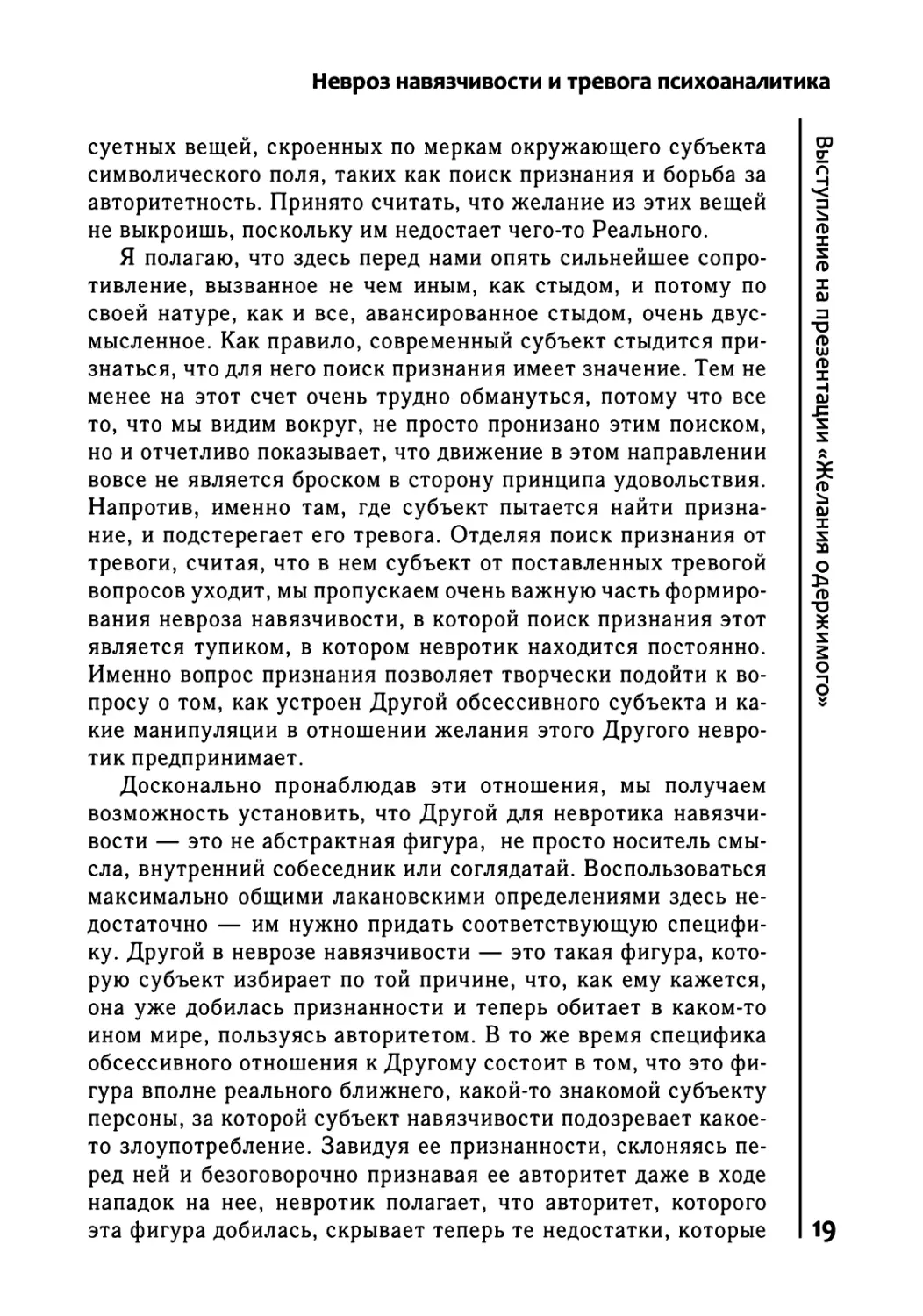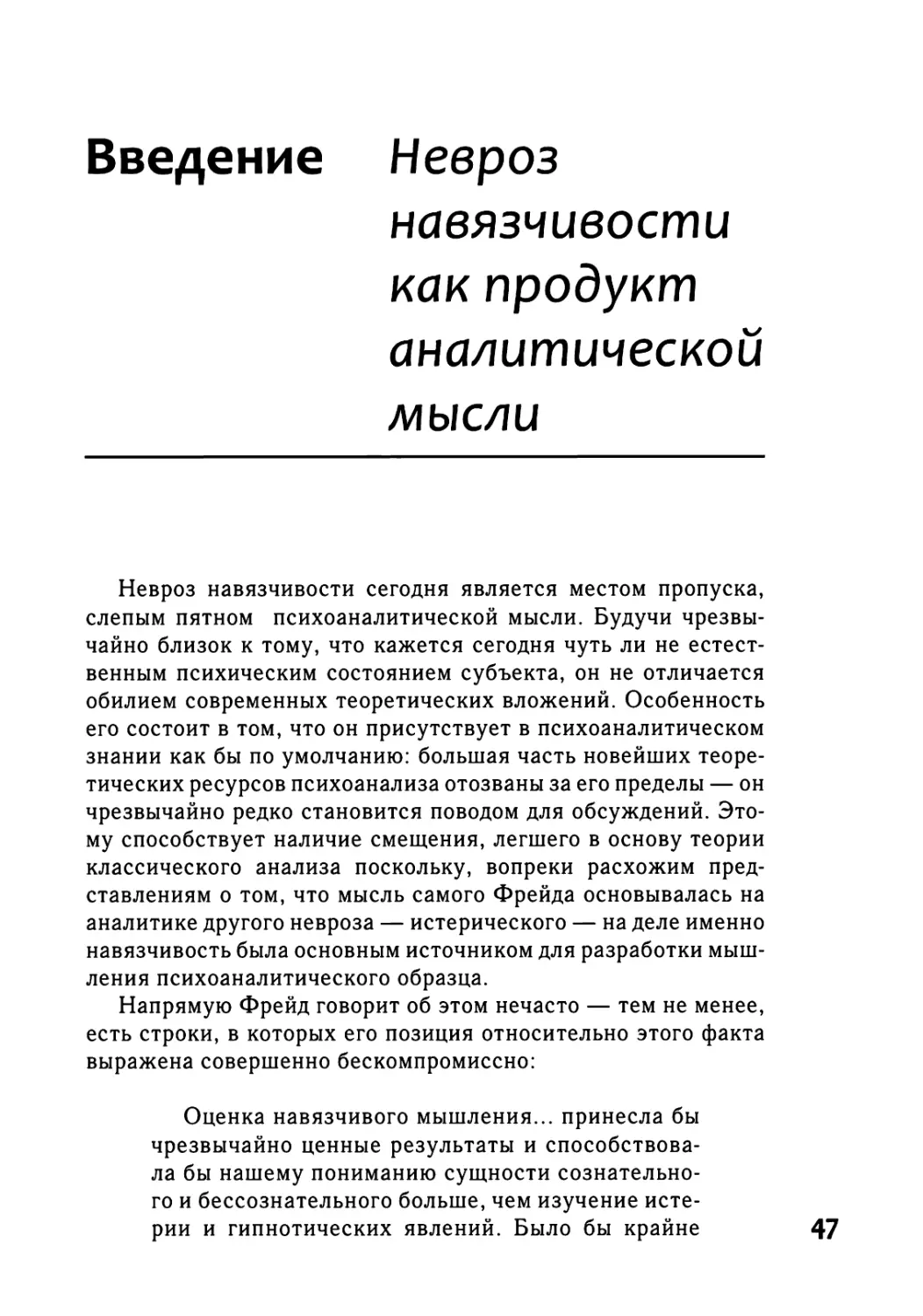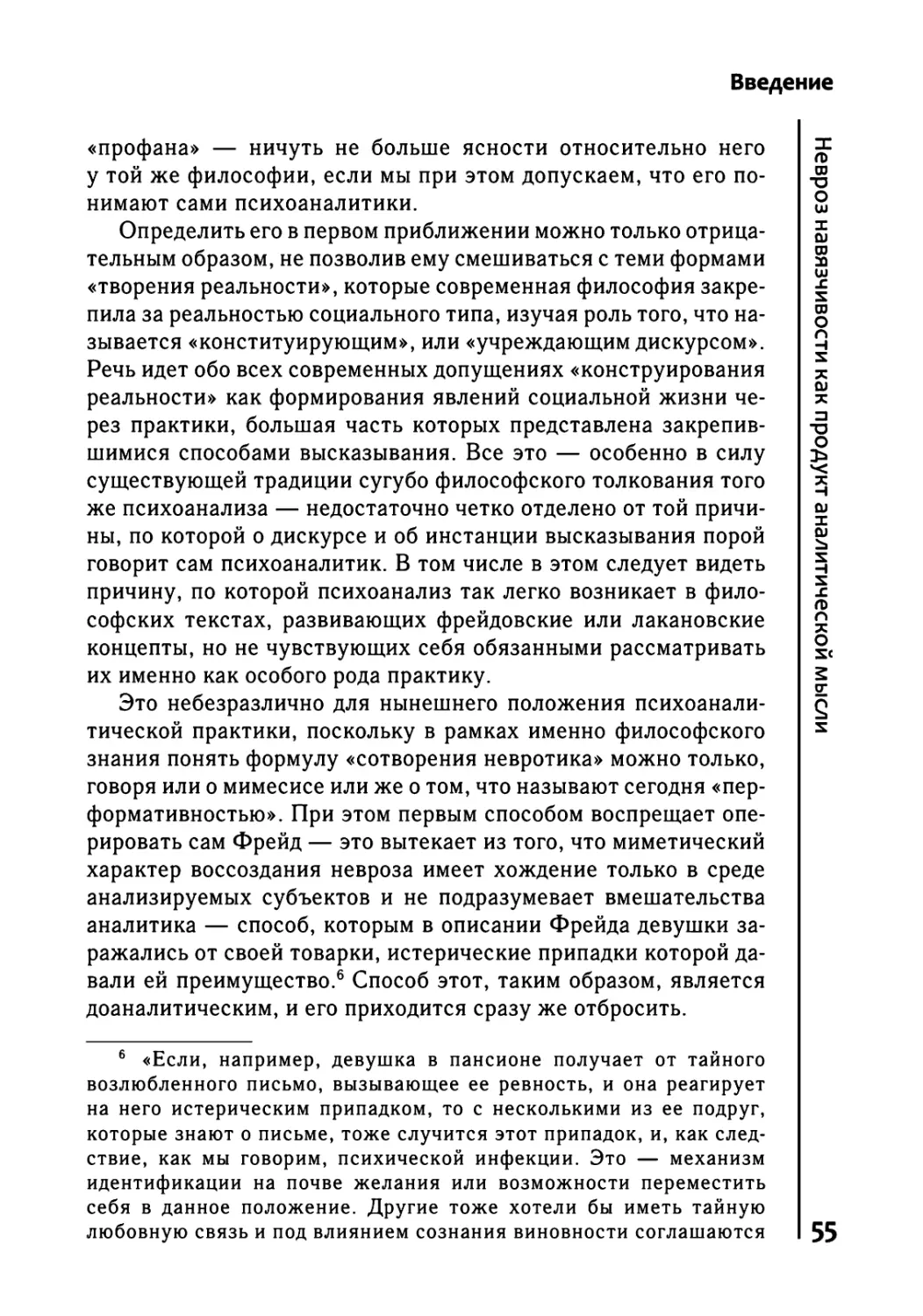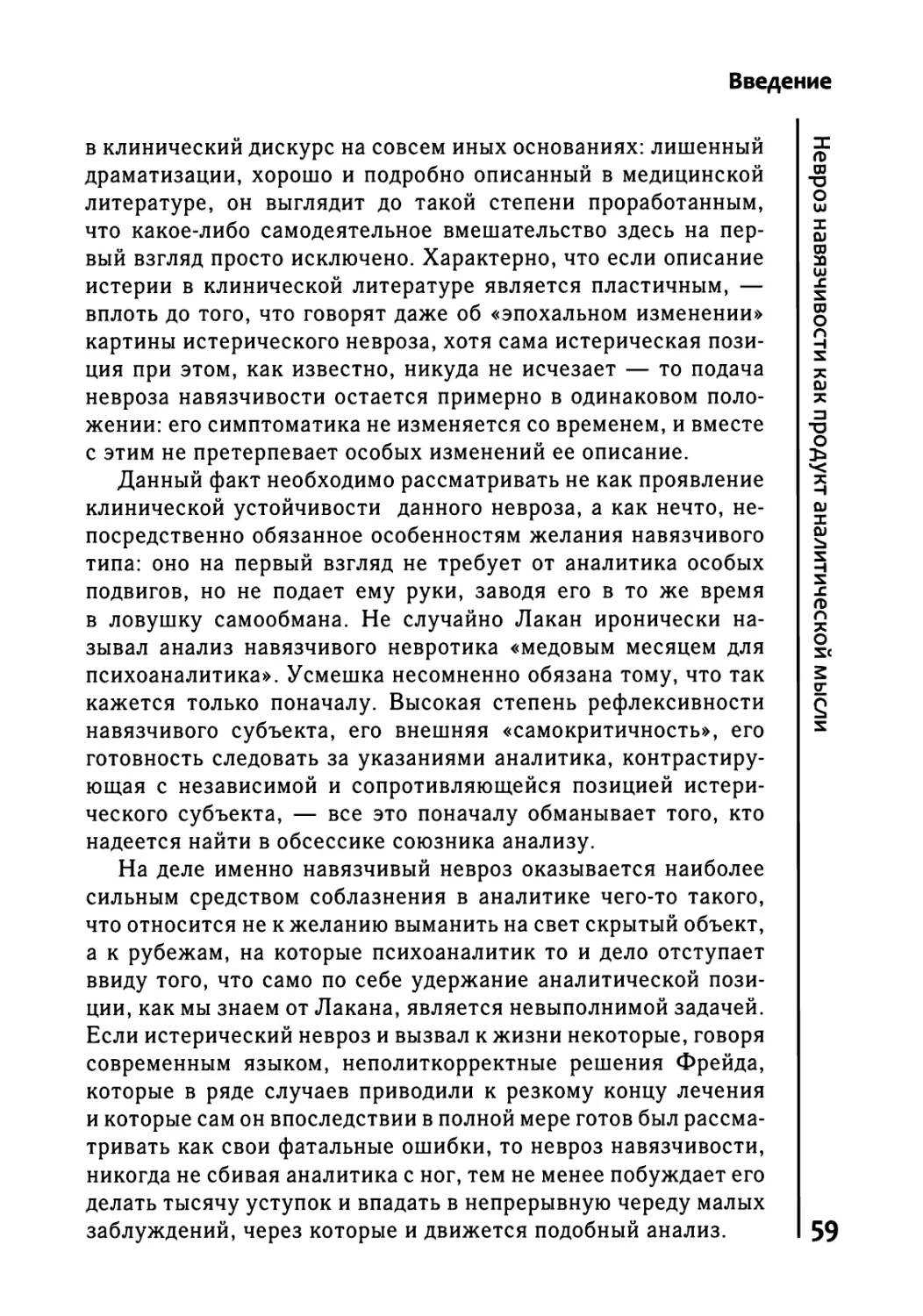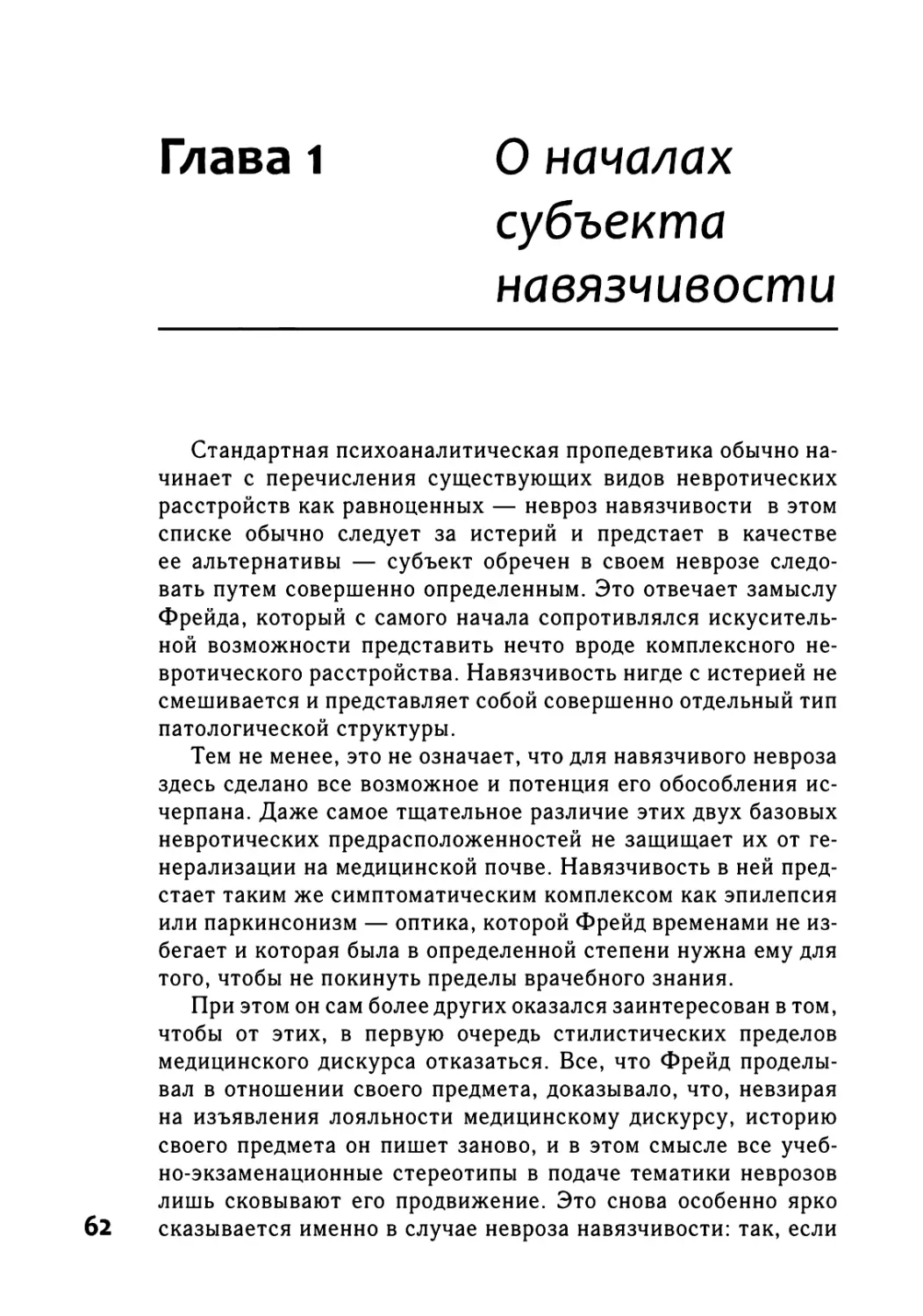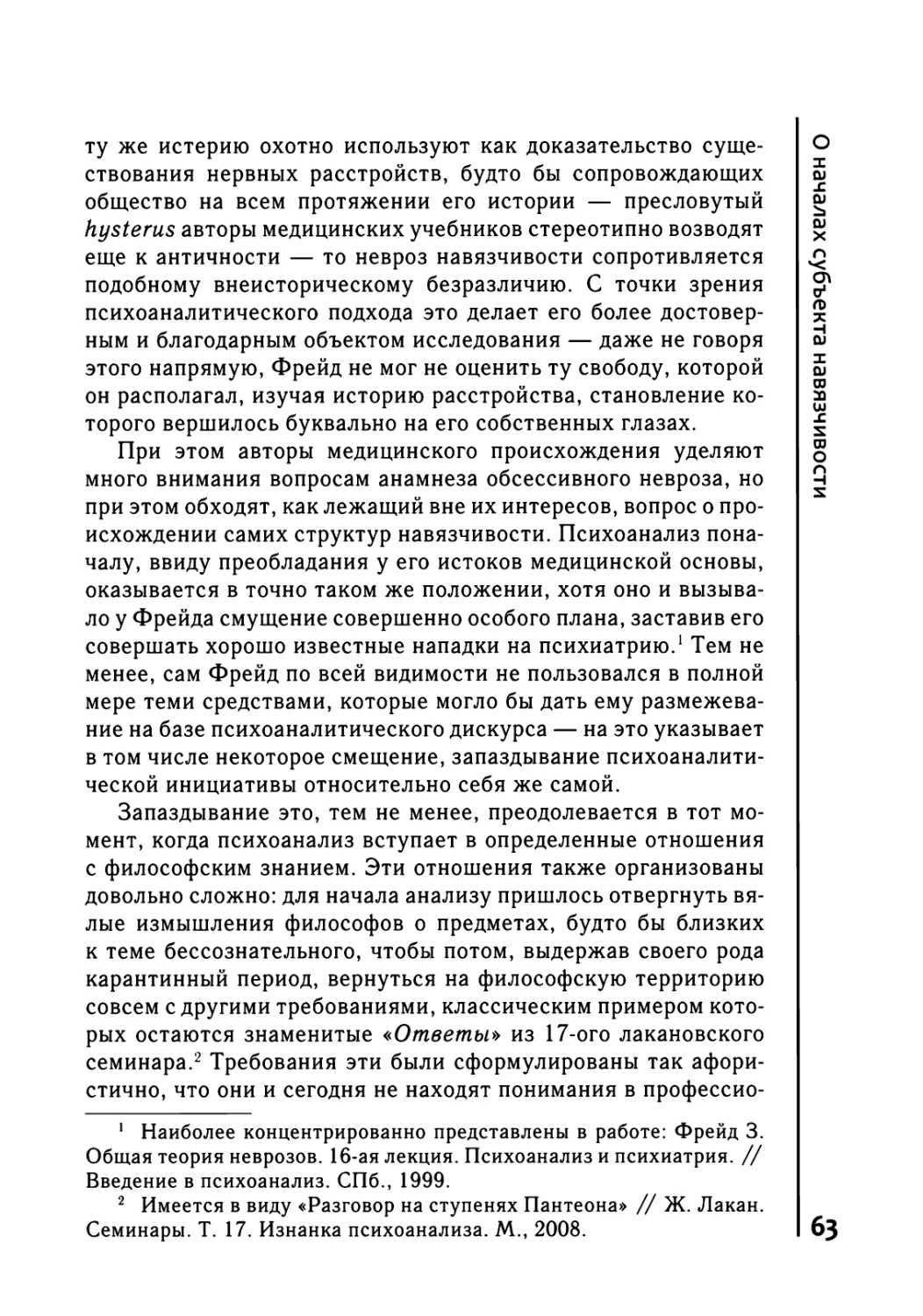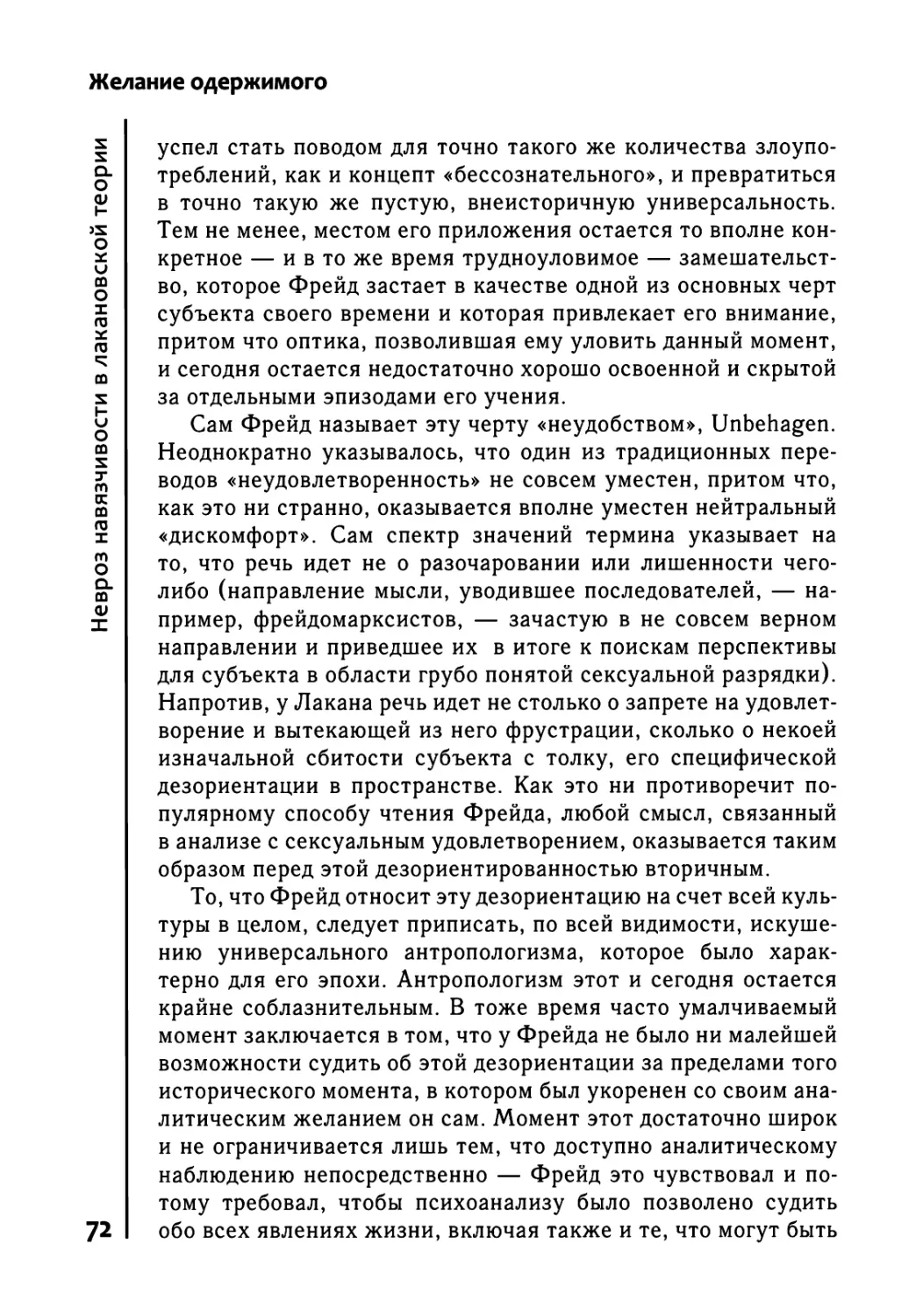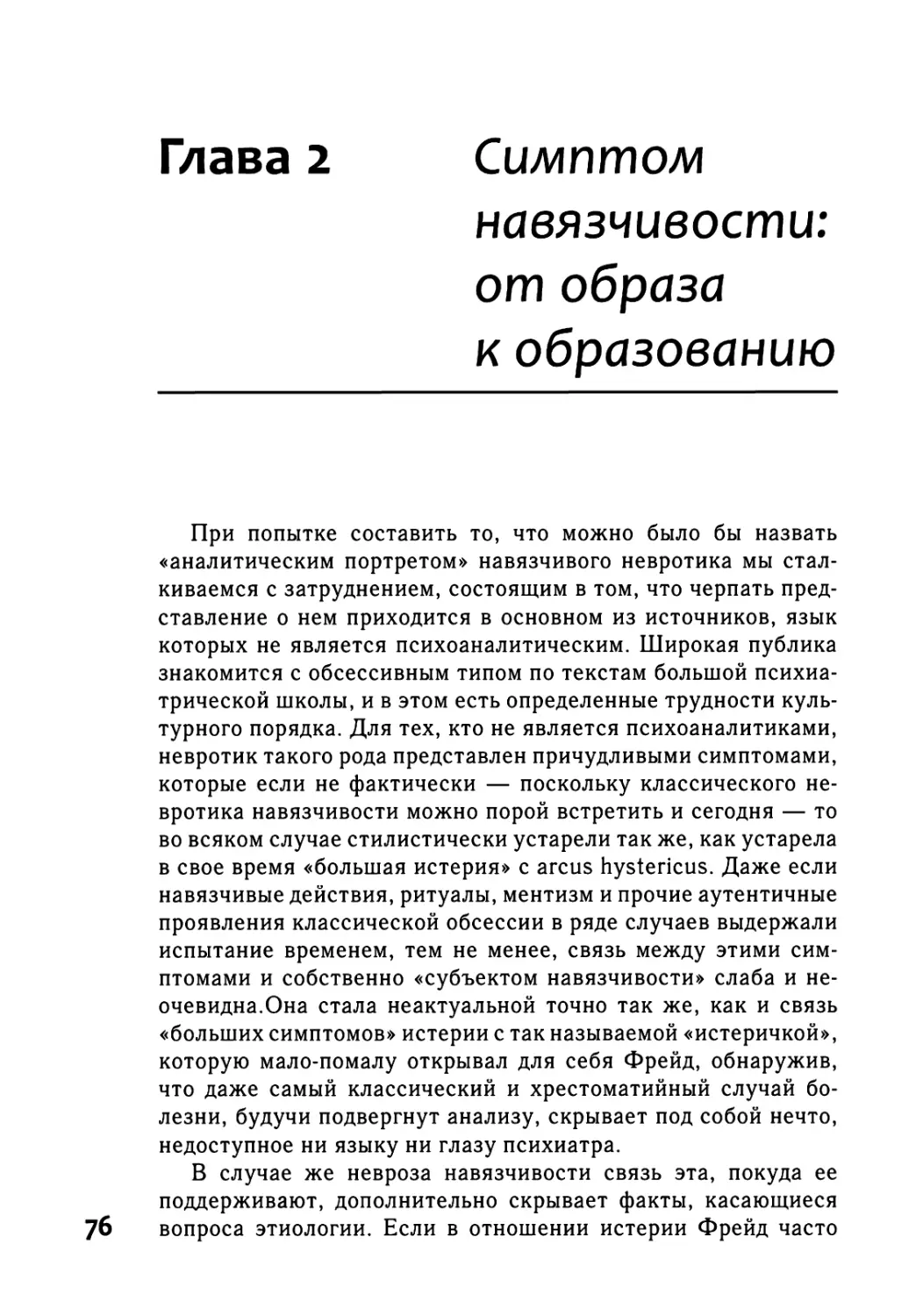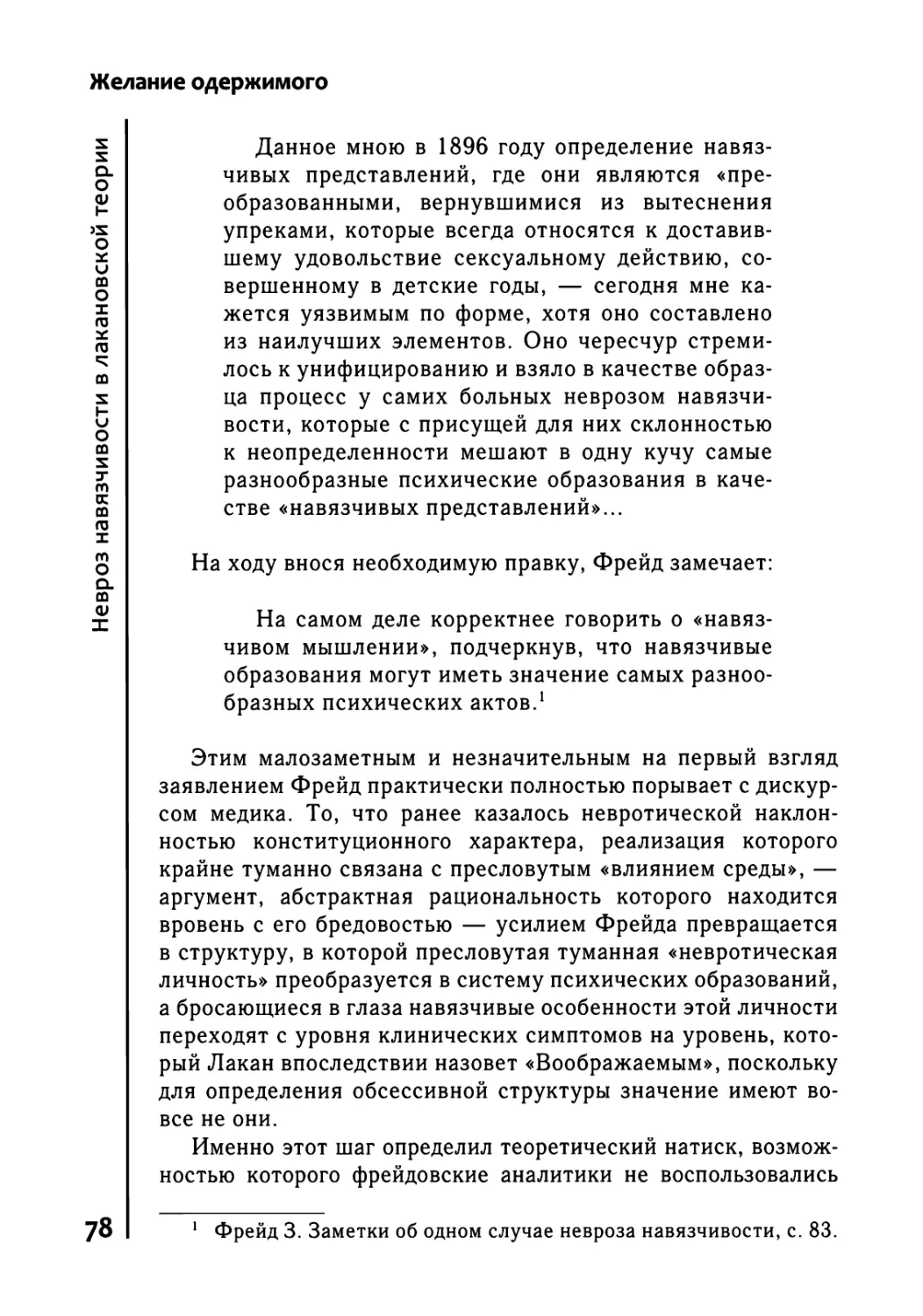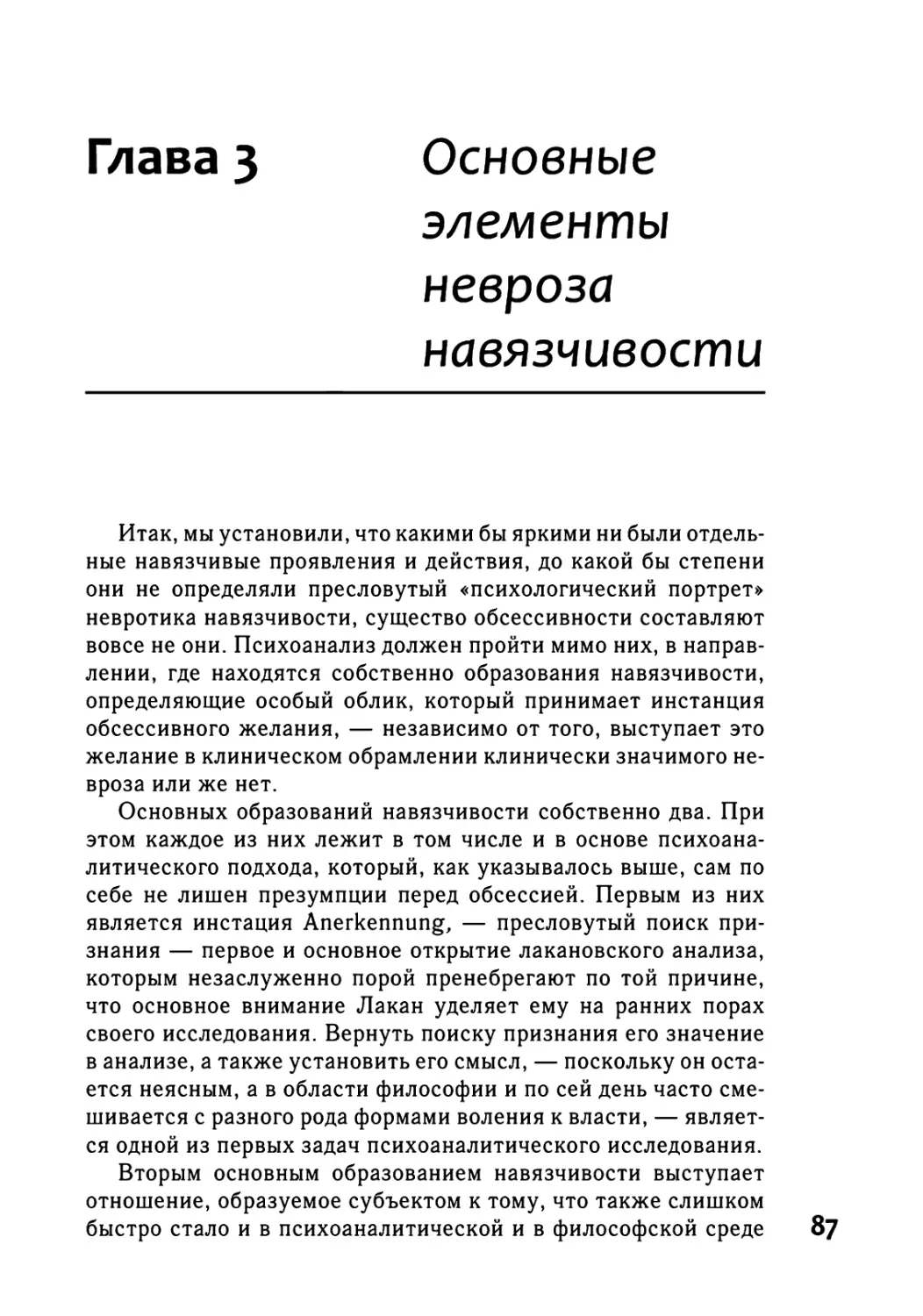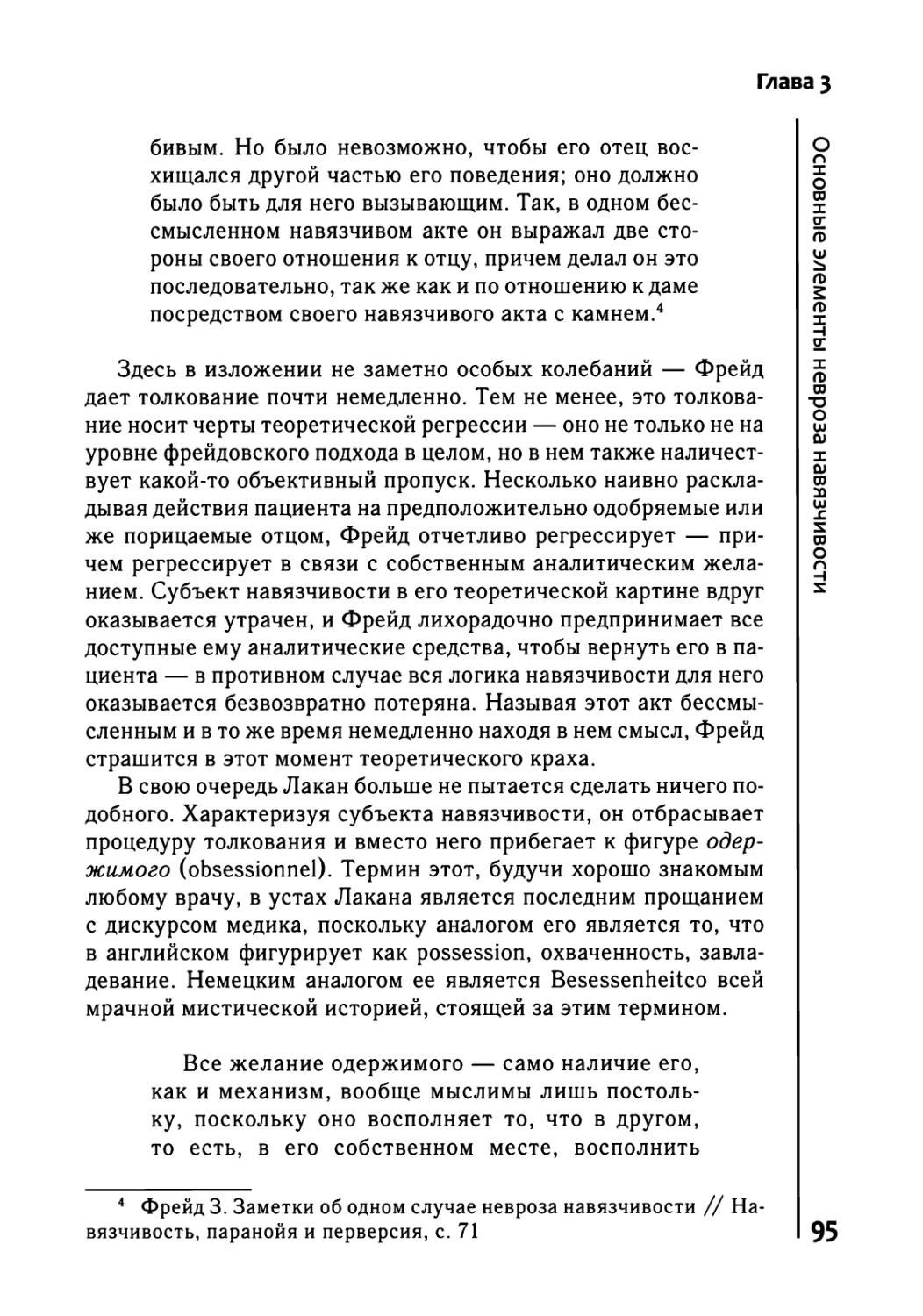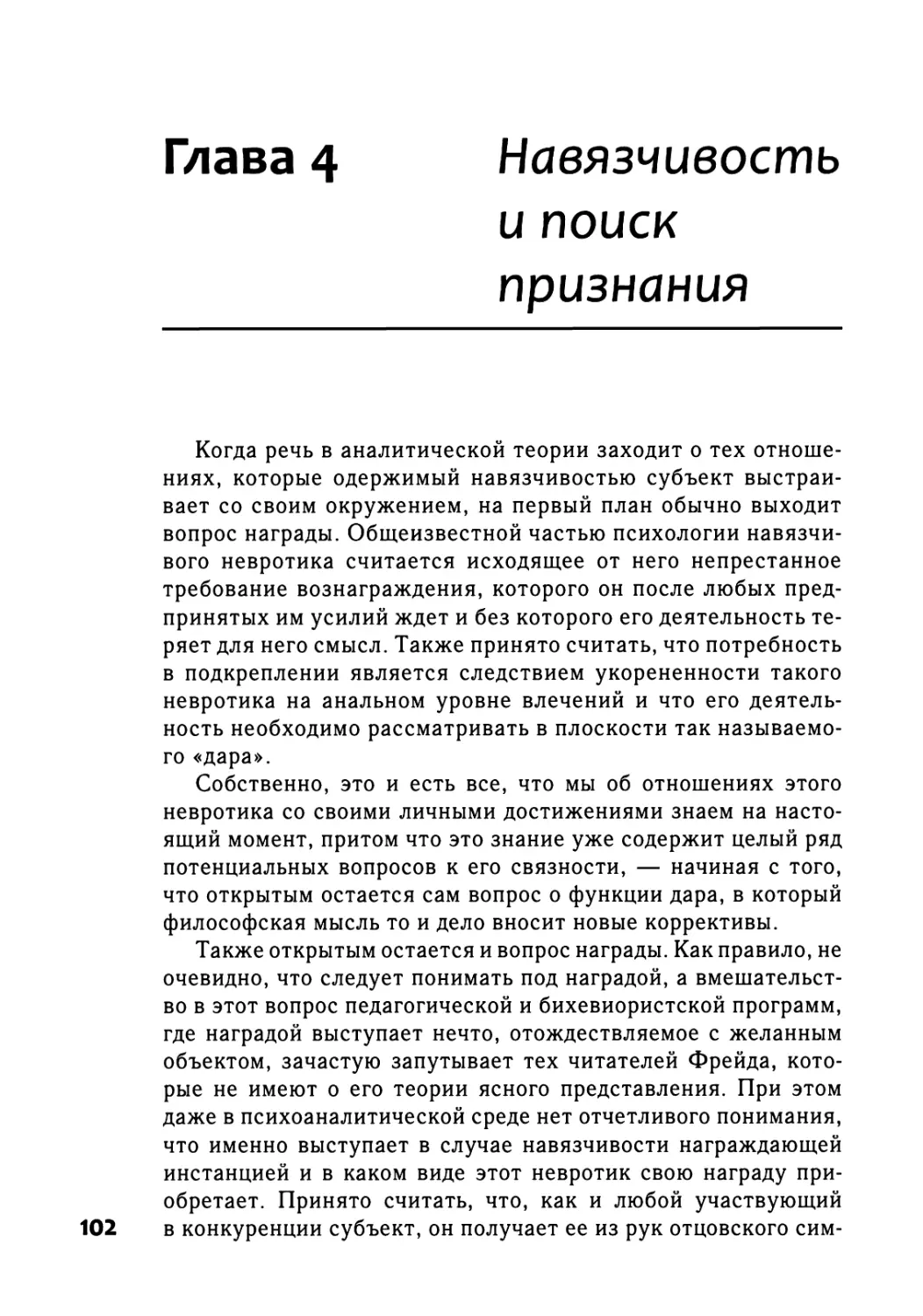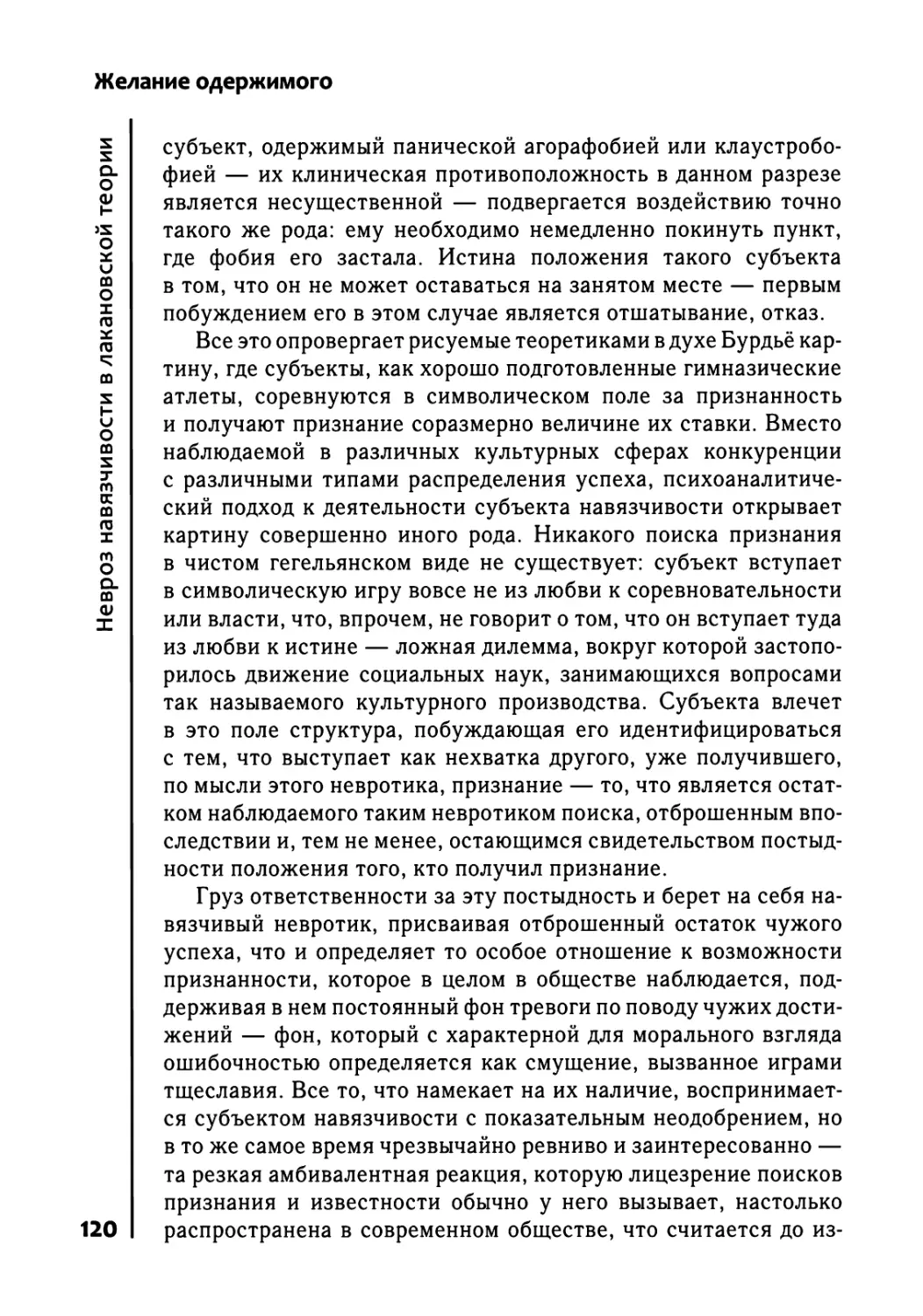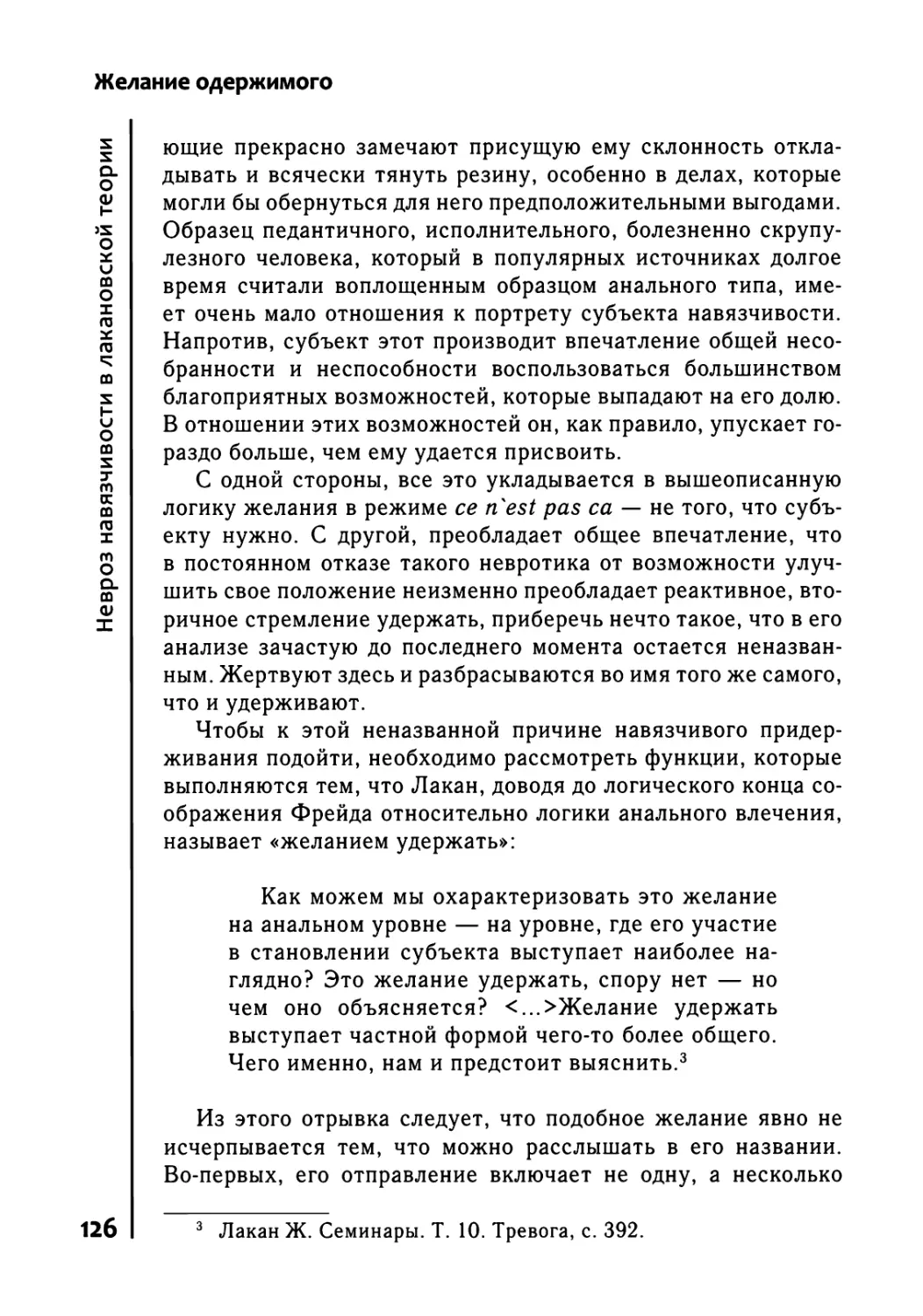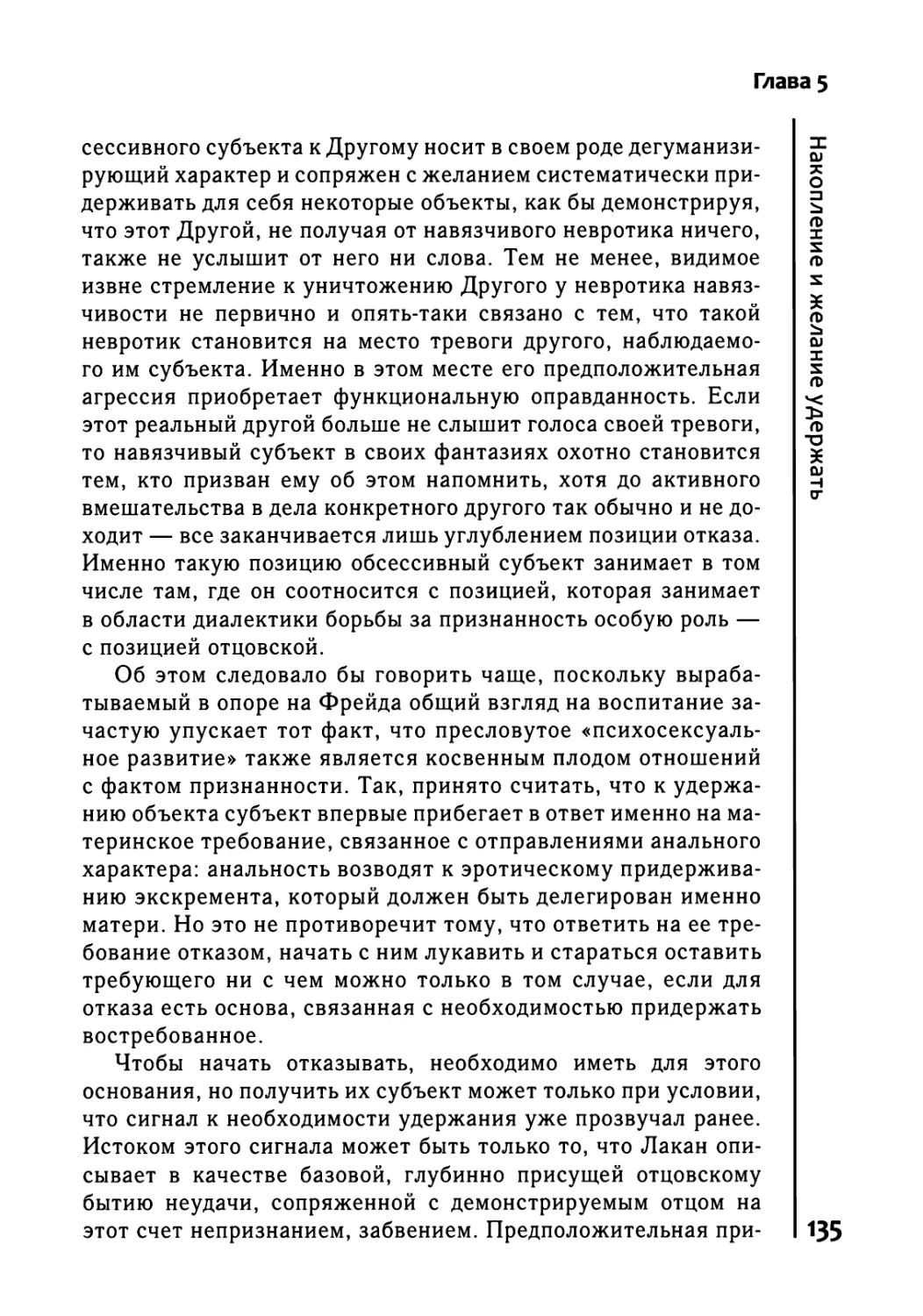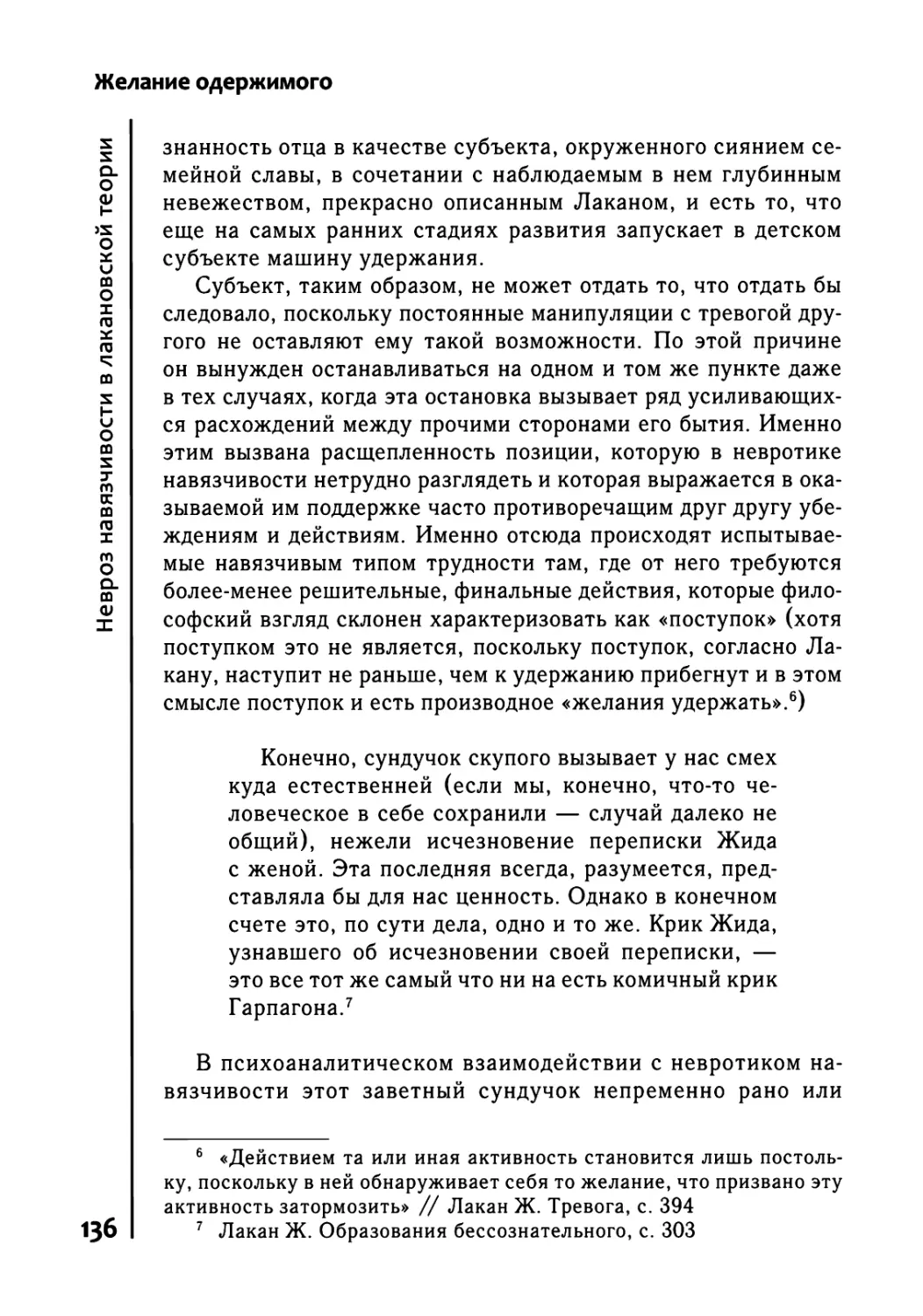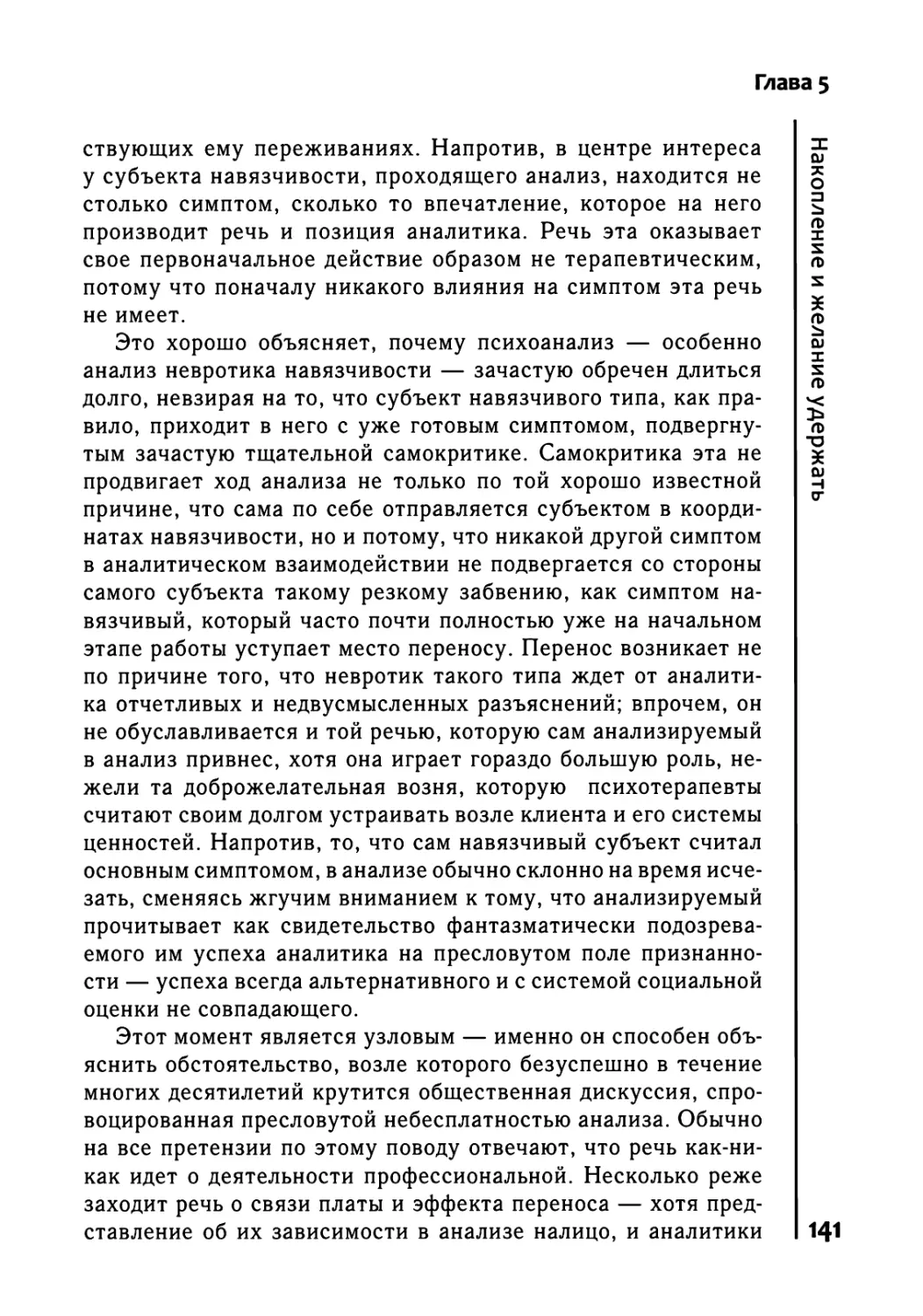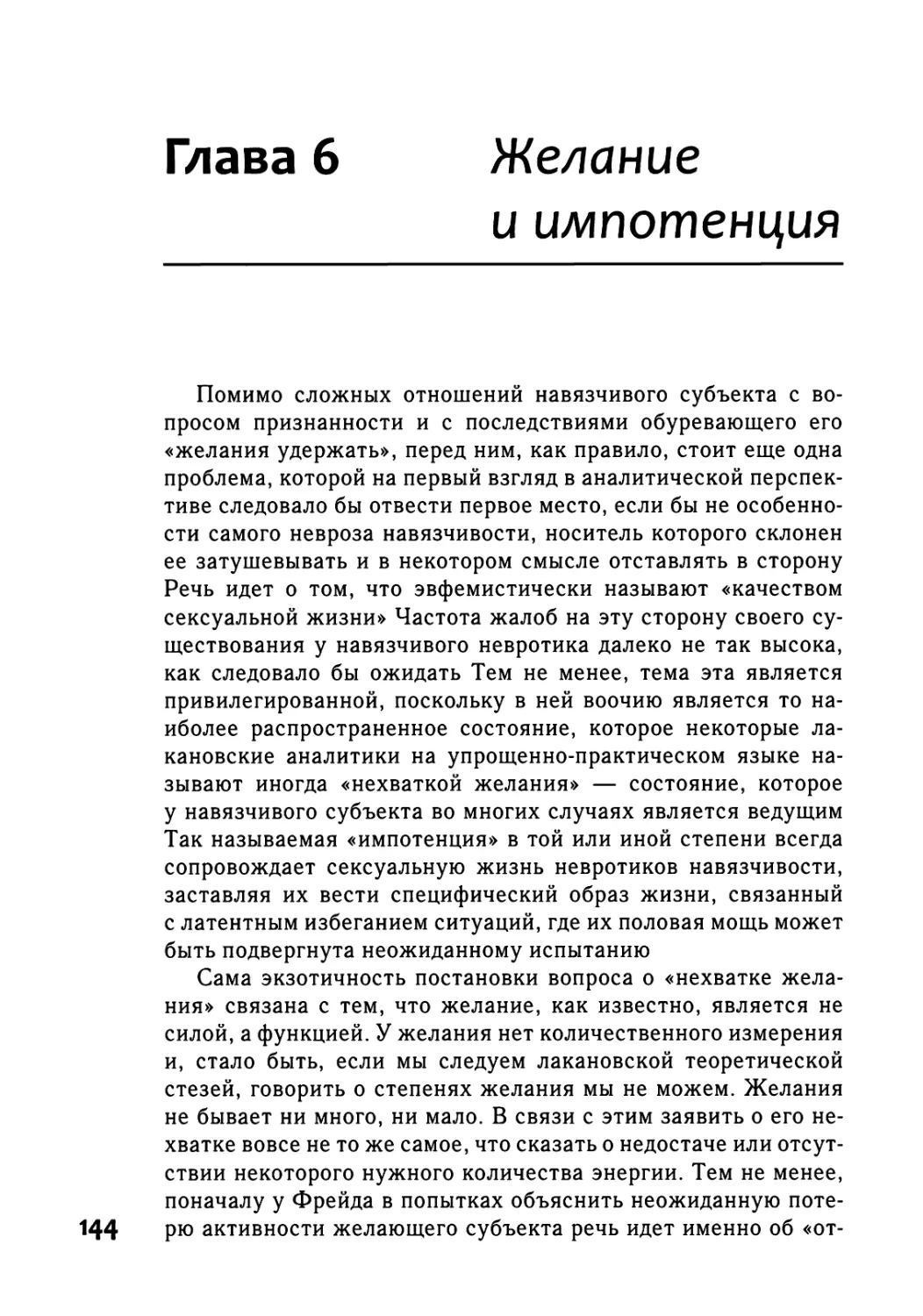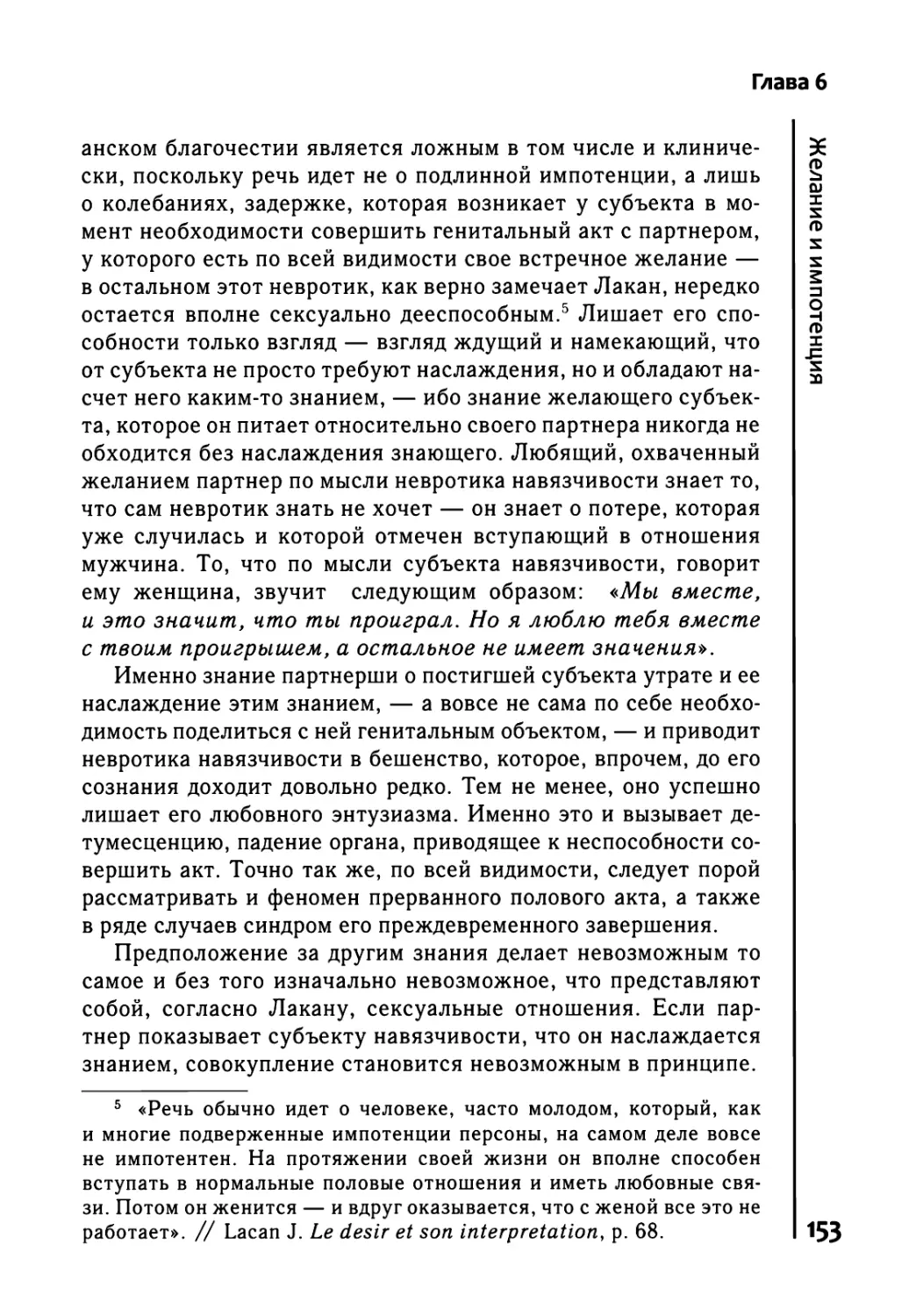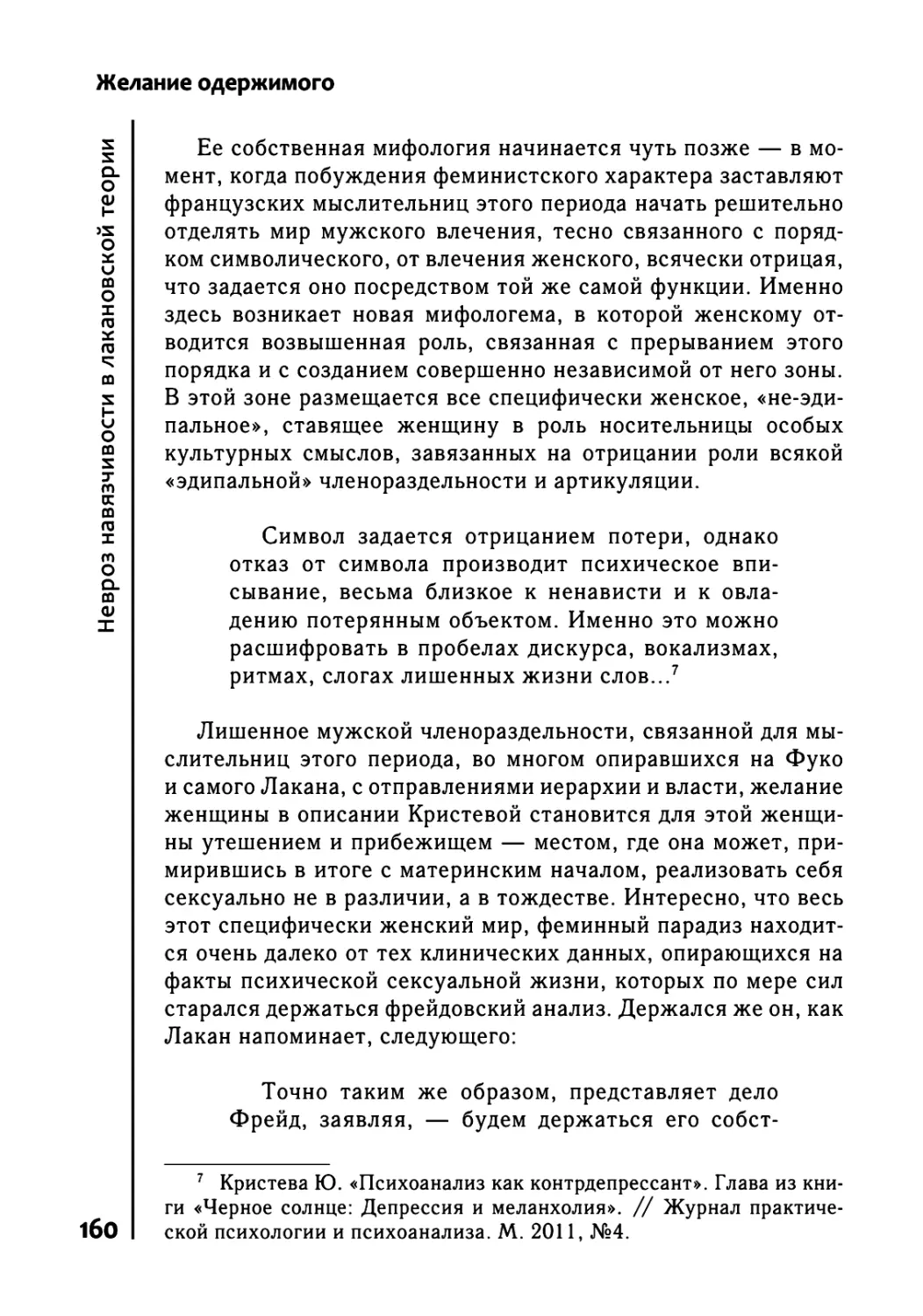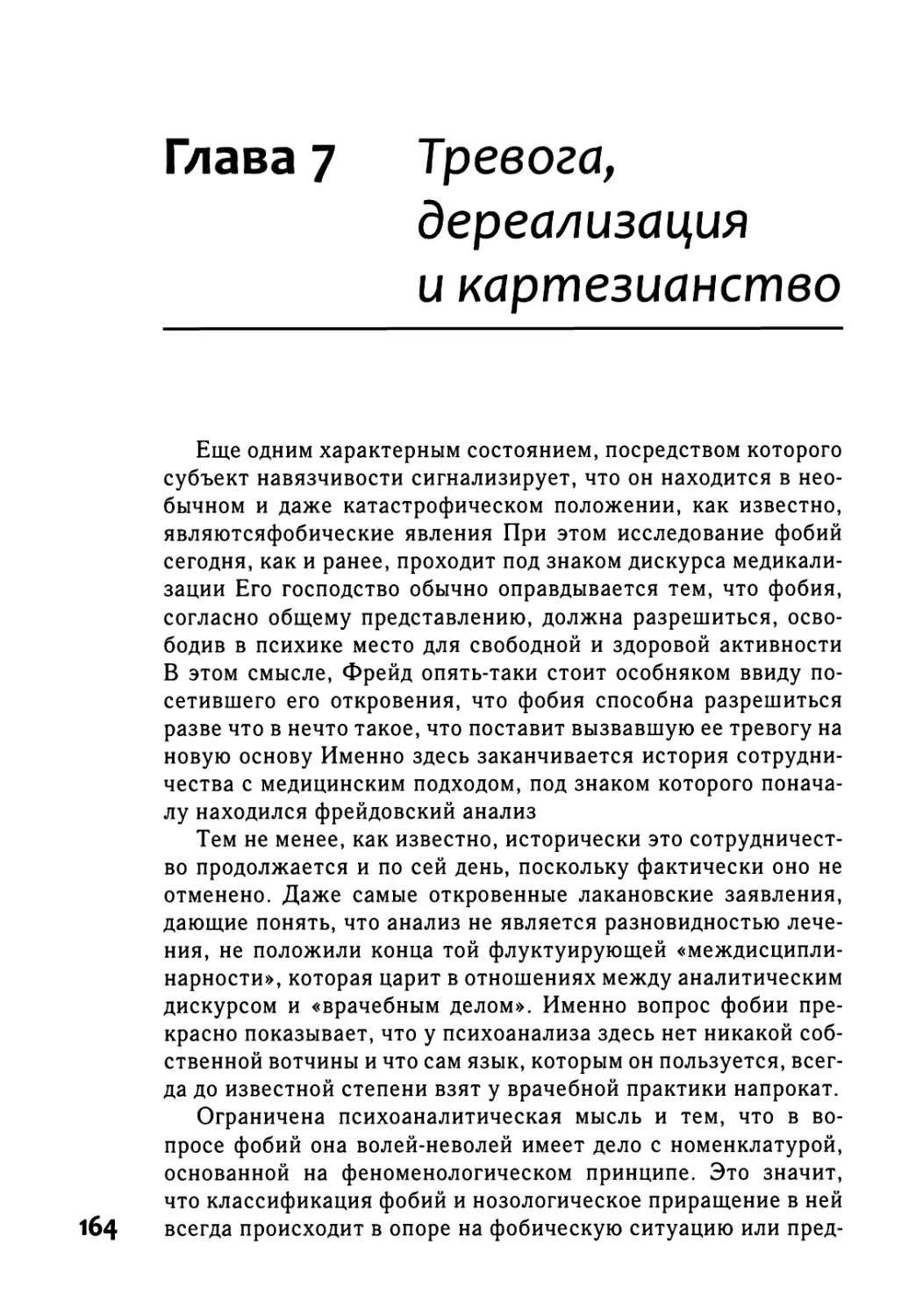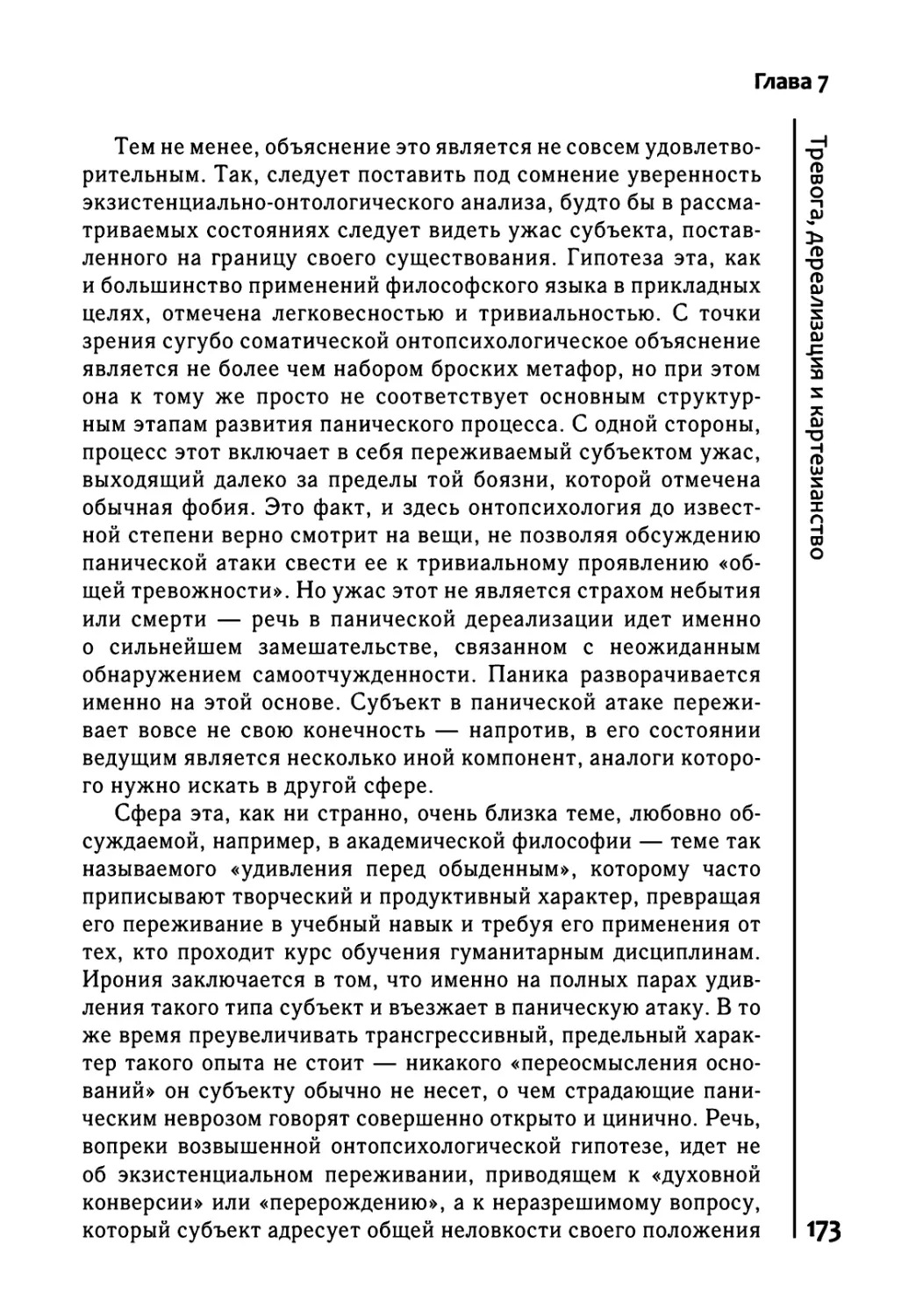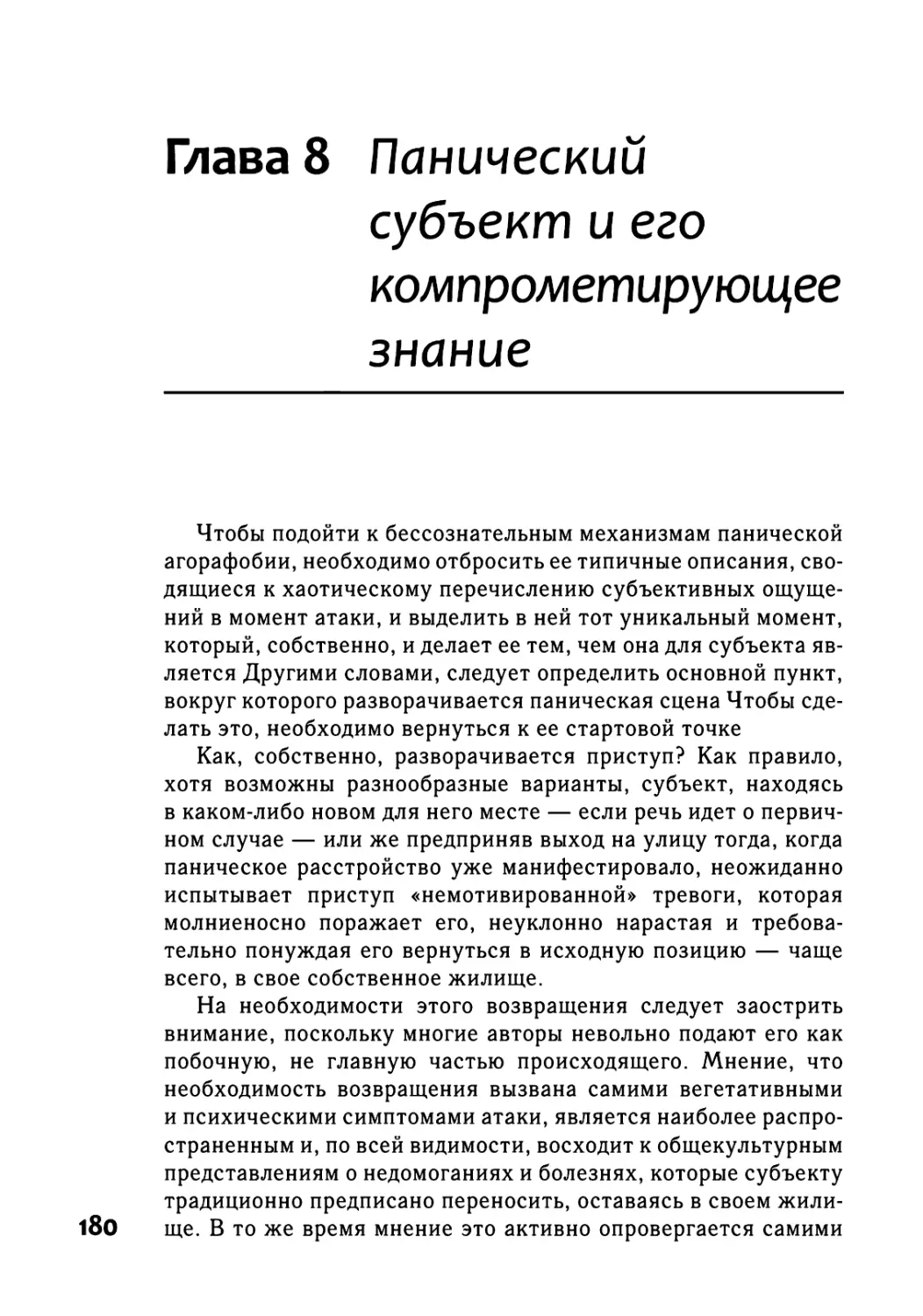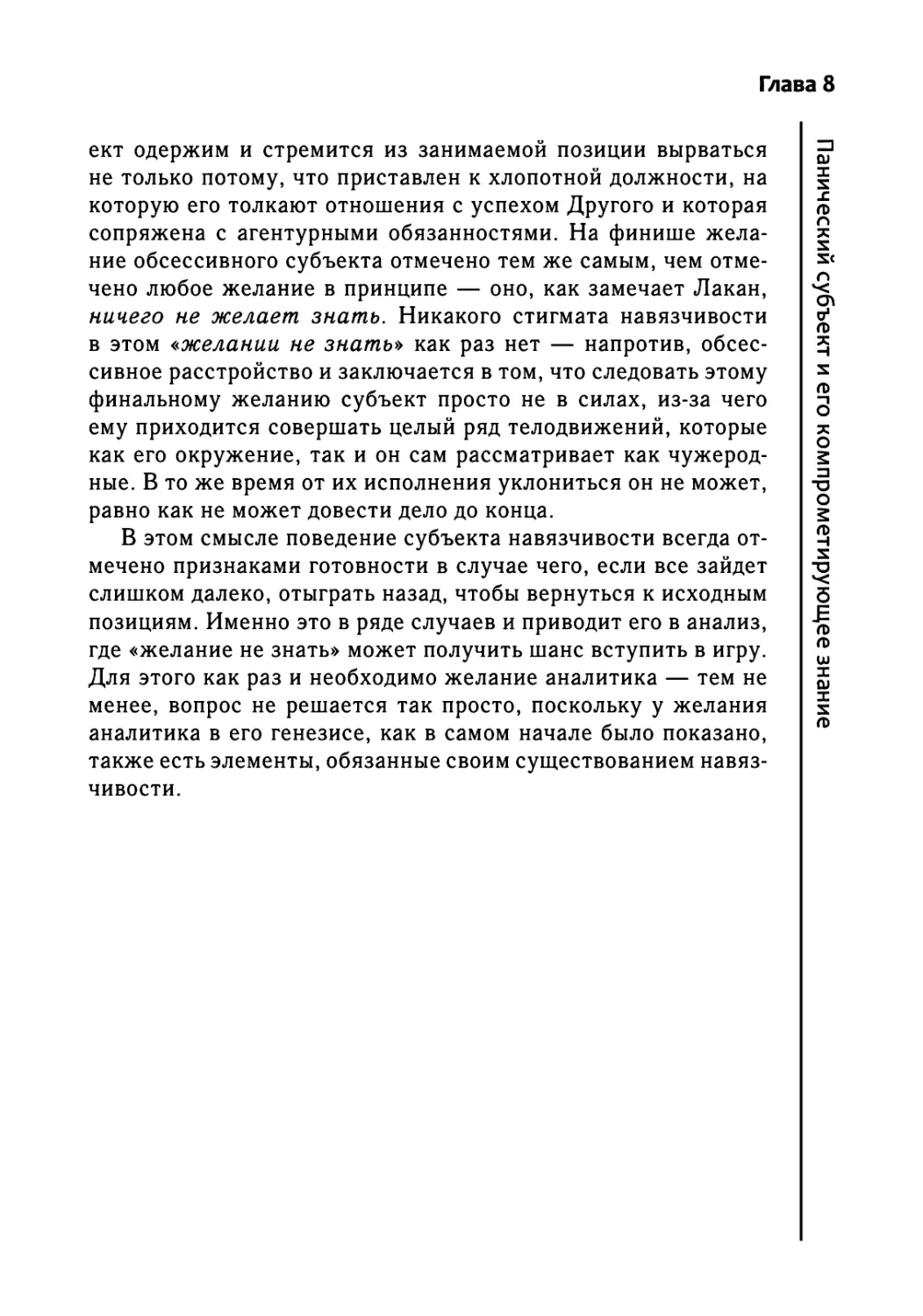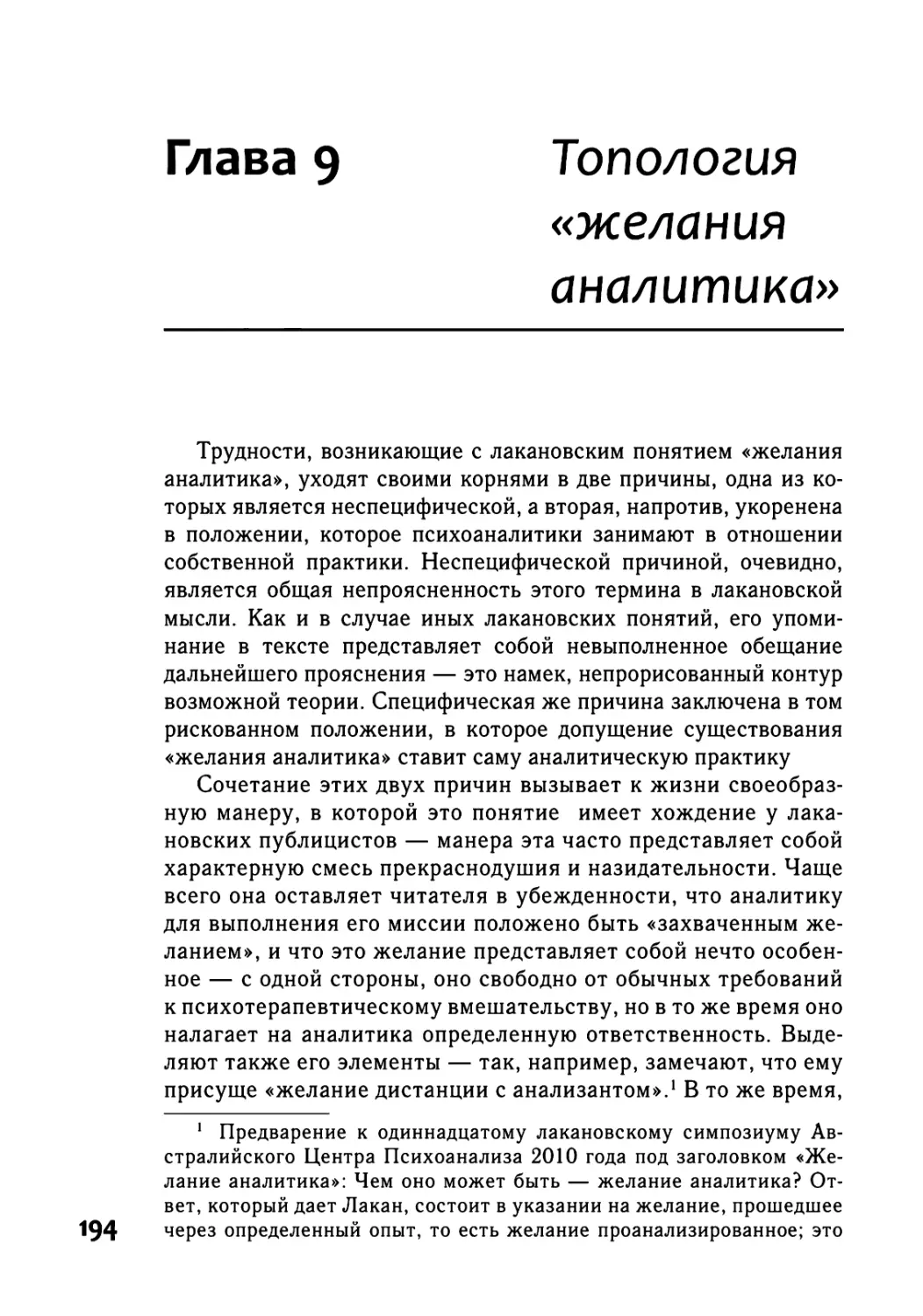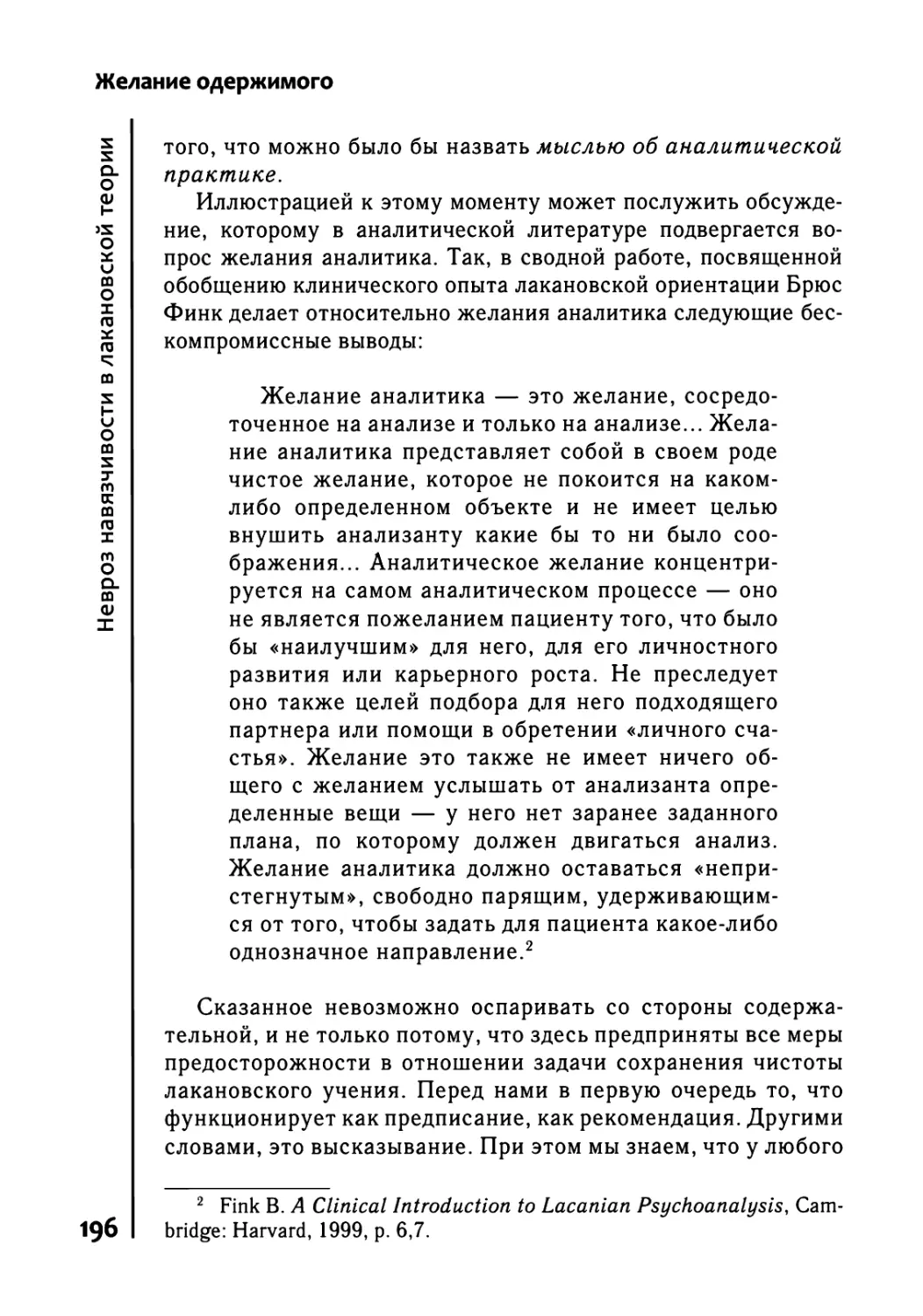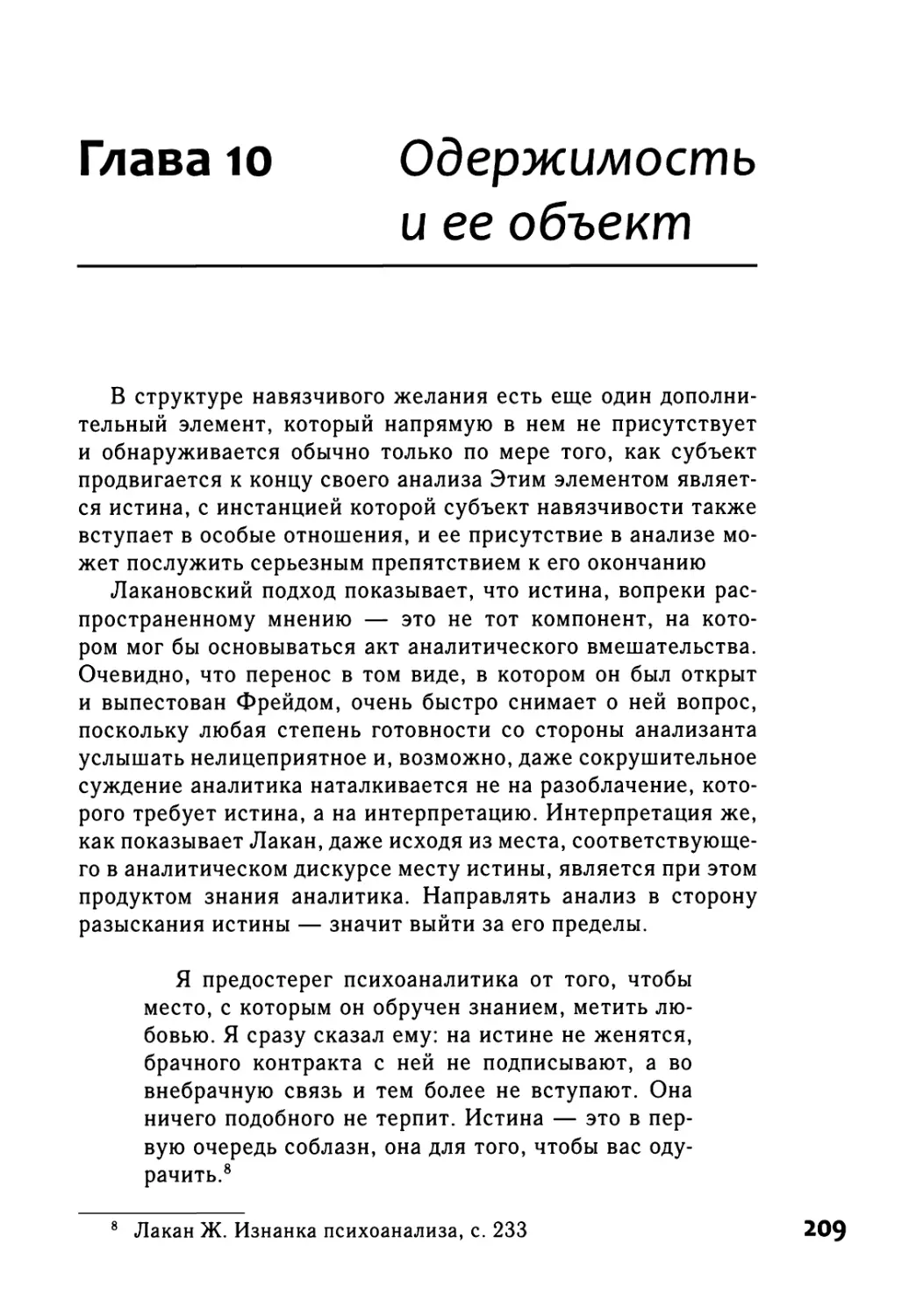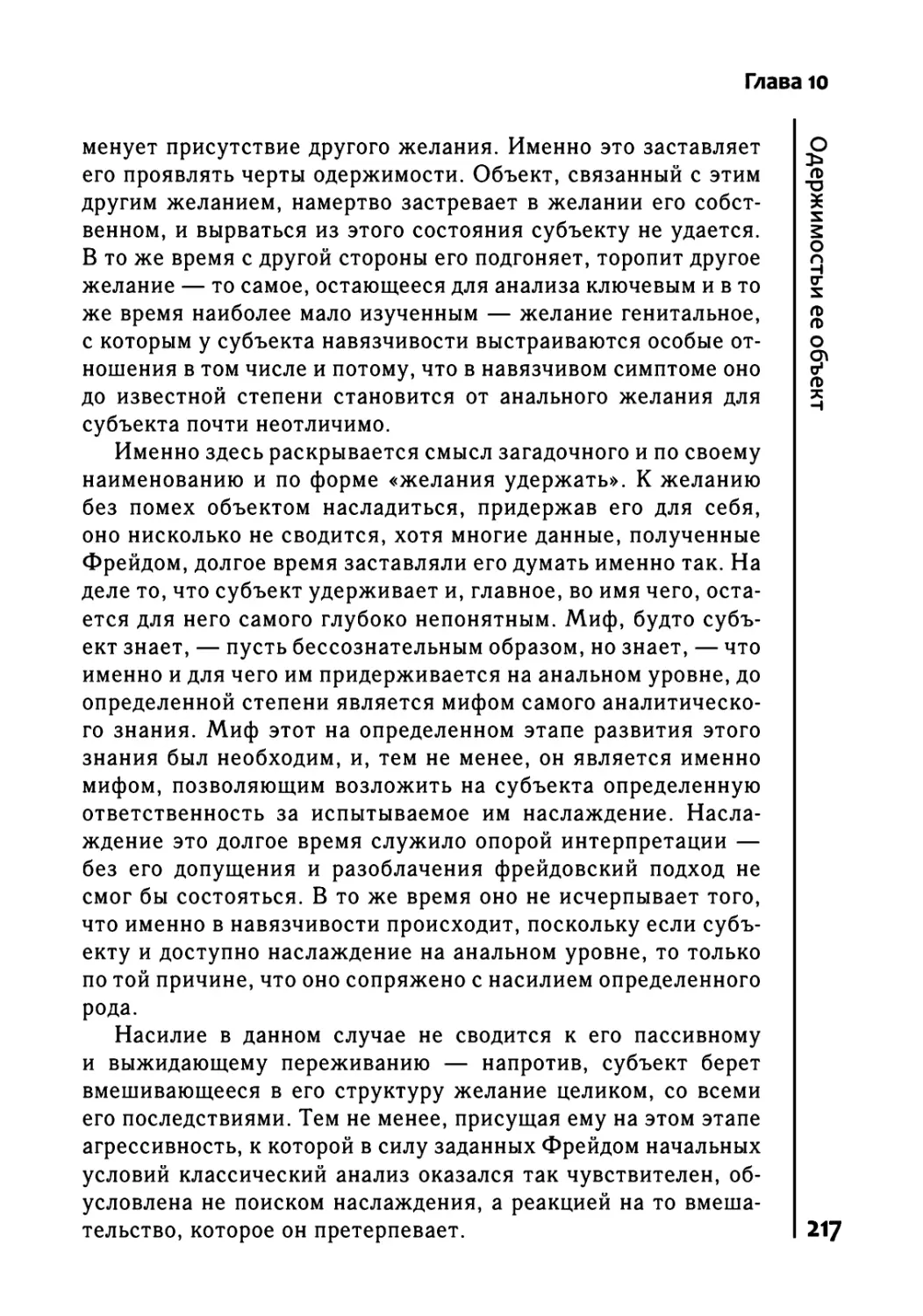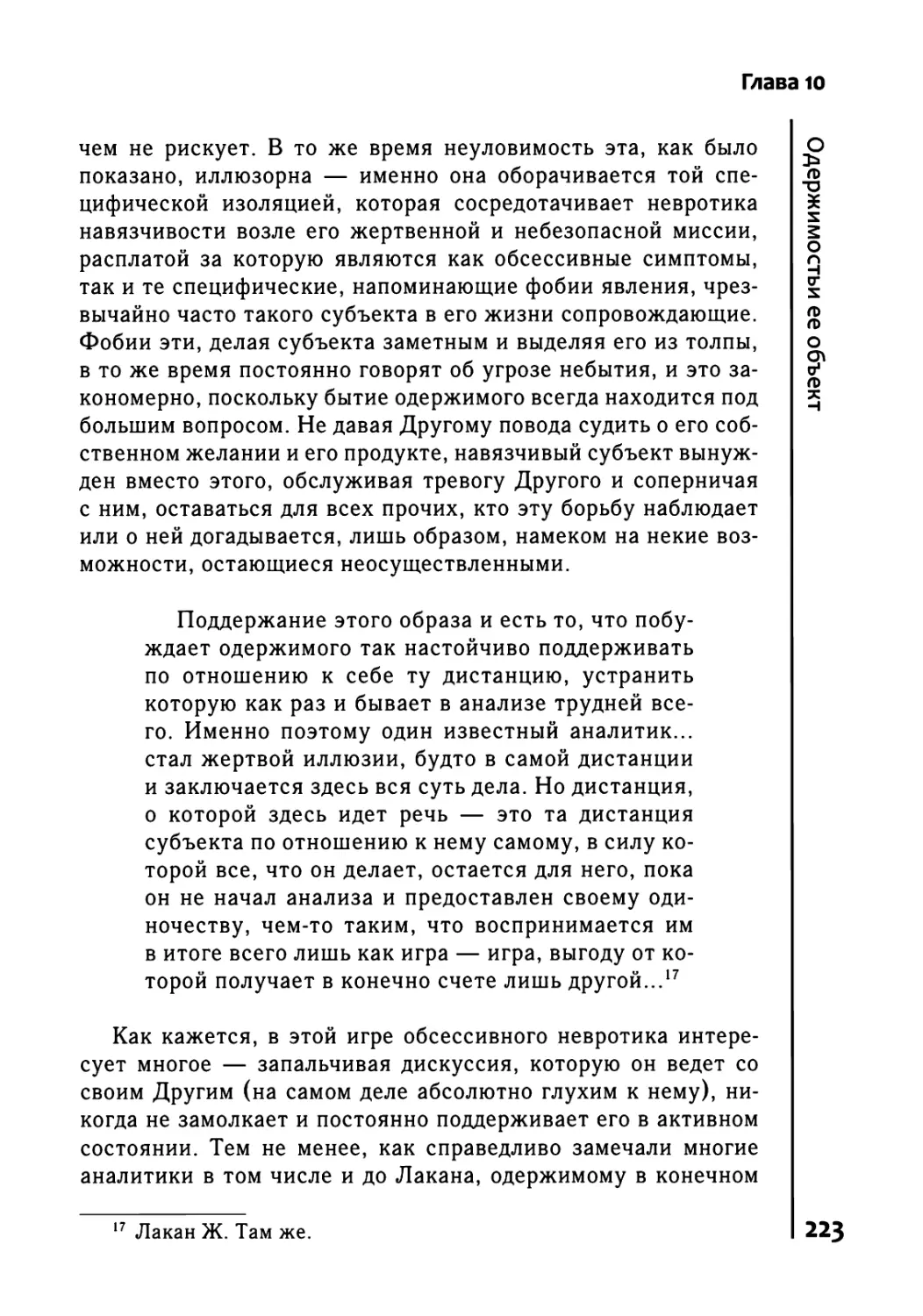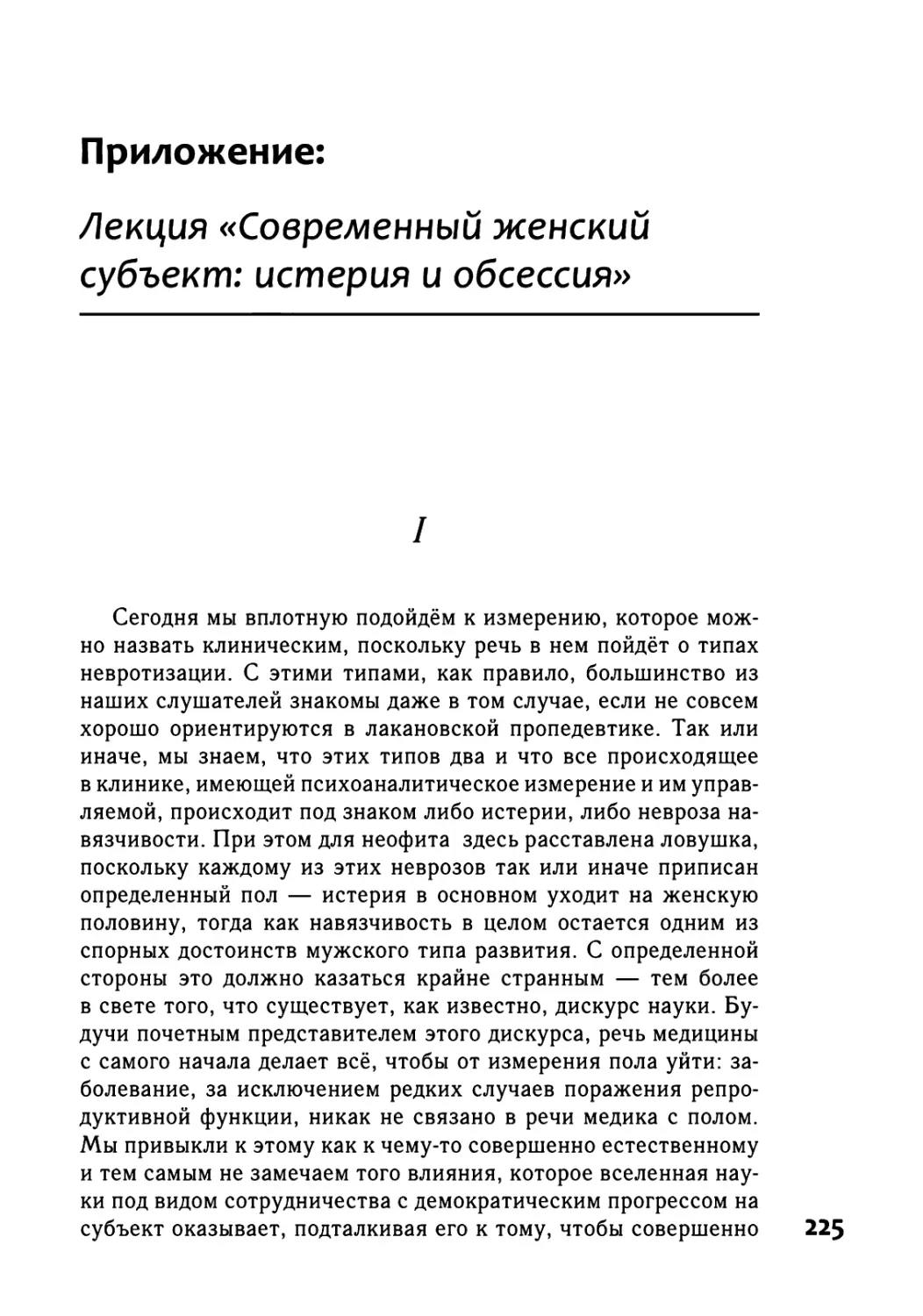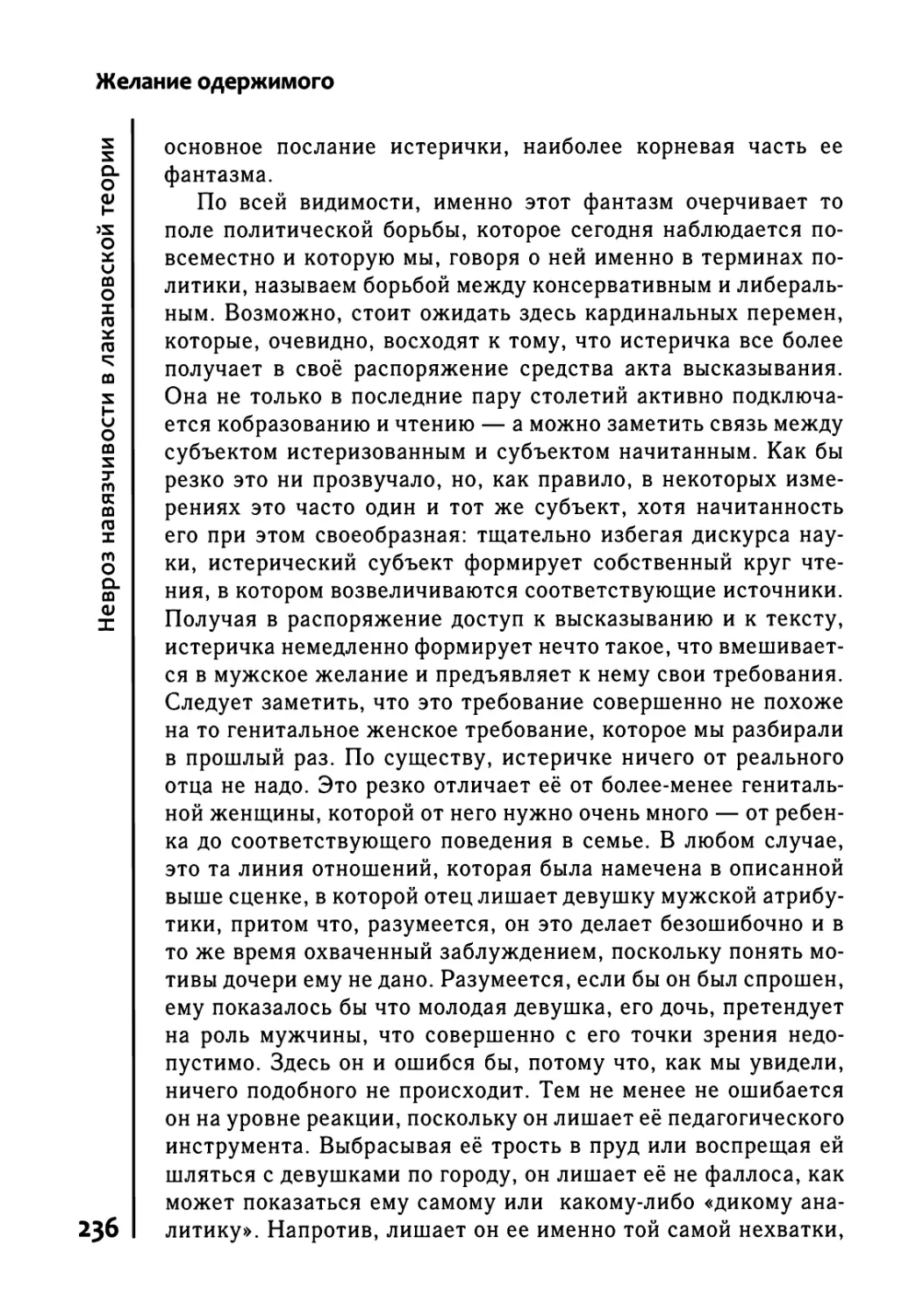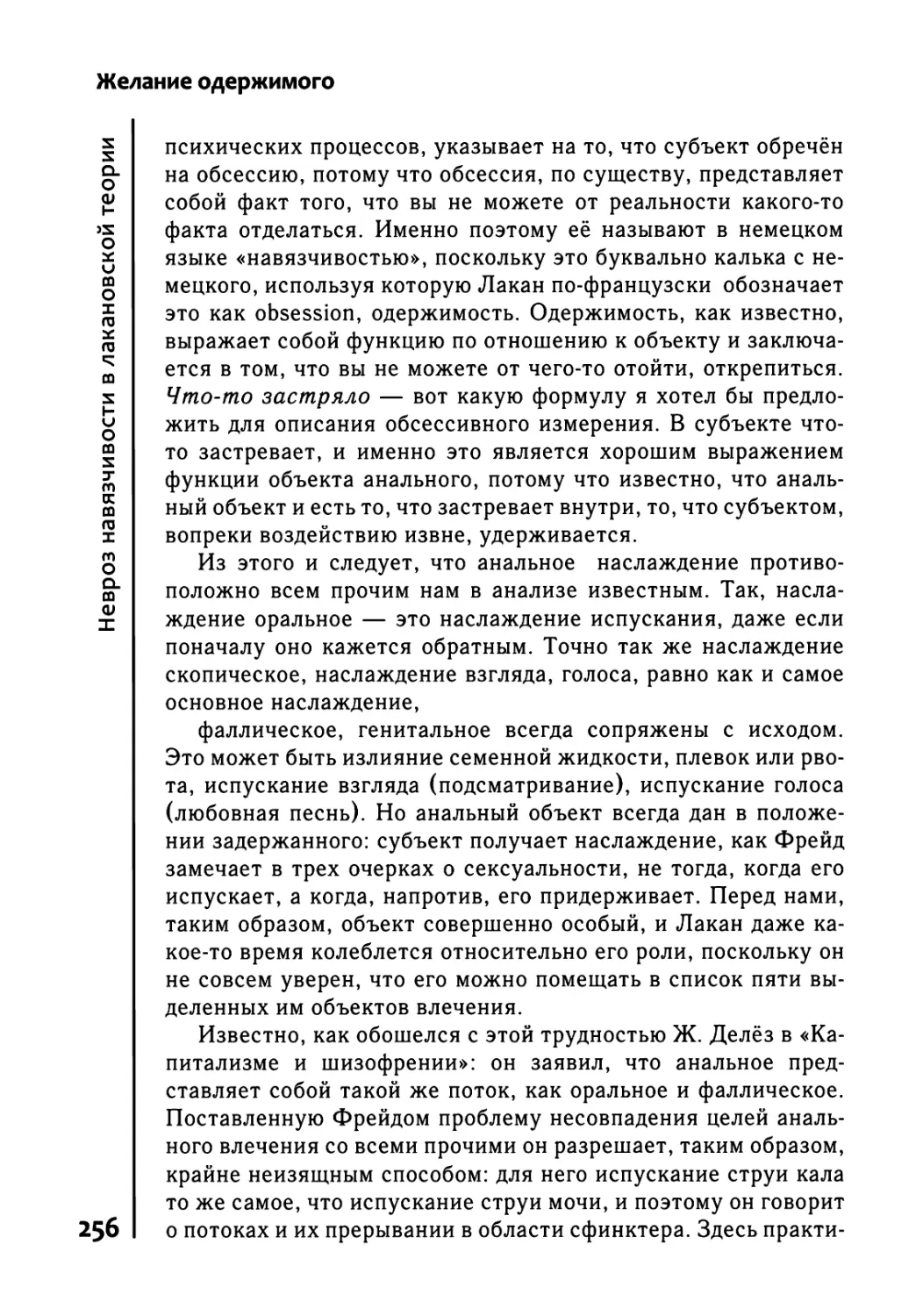Автор: Смулянский А.
Теги: аномалии психики (психопатология) психология личности психология психоанализ
ISBN: 978-5-906860-17-0
Год: 2020
Текст
ИСТОРИЧЕСКАЯ
КНИГА
Александр Смулянскии
ЖЕЛАНИЕ
НЕВРОЗ НАВЯЗЧИВОСТИ
В ЛАКАНОВСКОИ
ТЕОРИИ
2-е издание,
дополненное
Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
УДК 159.972
ББК 88.37
С 520
Рецензенты:
кандидат психологических наук, психоаналитик А, М. Максимов
доктор философских наук, профессор Н.М. Савченкова
(Восточно-Европейский Институт Психоанализа)
Смулянский А.
С 520 Желание одержимого: невроз навязчивости в лакановской
теории. - 2-е изд., доп. - СПб.: Алетейя, 2020. - 280 с.
ISBN 978-5-906860-17-0
Невроз навязчивости, или так называемое обсессивно-компуль-
сивное расстройство, долгое время вслед за Зигмундом Фрейдом
являлось предметом интереса психоаналитиков. Сегодня интерес
этот начал угасать, причиной чего является недостаточное
осмысление посыла, составляющего существо работы Фрейда в области
структур навязчивости. Тексты Жака Лакана, проблематизировав-
шего фрейдовскую мысль, содержат материал, проработка и
развитие которого позволяют вновь вернуть обсессии теоретический
потенциал. В работе подчеркивается, что вклад Лакана позволяет
изучать и анализировать симптоматику навязчивости не как
индивидуальное нарушение, а как структуру, широко обнаруживаемую
в психическом устройстве современного субъекта. Книга освещает
ряд феноменов душевной жизни субъекта навязчивости - таких
как борьба за признание, взаимоотношения со своим симптомом,
любовная жизнь и фобические явления.
Работа адресована психоаналитикам, философам и широкому
кругу лиц, интересующихся фрейдо-лакановским психоанализом
и проблематикой современности.
УДК 159.972
ISBN 978-5-906860-17-0 ^
Hill III IIIIIIIIIIII III IIII III ББК 88.37
im im in min ιιιιι um ® ^. смулянский, 2on
9 П7 8 5 9 0 6 h 6 0 1 7 о И © Издательство «Алетейя» (СПб.), 2017
Невроз навязчивости
и тревога психоаналитика
Выступление на презентации
«Желания одержимого»
Мы говорим сегодня о неврозе, который в перечне
известных психоанализу расстройств традиционно следует под
вторым номером. Речь о нем обычно заходит, когда необходимо
перечислить все то, что находится после истерии, — именно
тогда вспоминают про обсессию, находящуюся в тени
номера первого. Этого радикально недостаточно, и о навязчивости
приходится говорить еще и еще, поскольку нечто связывает
с обсессией не только современного субъекта как такового —
субъекта, которого иногда называют субъектом
капиталистической системы или субъектом, чьи основания были заложены
в сочетании модернистской философии и просвещенческой
педагогики, — но и субъекта в том его виде, в котором он
обнаруживается на уровне, открытом Фрейдом. На этом уровне
субъект не может увидеть, какой объект для Другого он
представляет, и слепота его, как мы знаем, организована
определенным образом, в регистре сопротивления. Невроз
навязчивости, являясь наиболее полным воплощением этого регистра,
указывает на то, что опыт Фрейда действительно может быть
поверен и у него есть определенные основания. Я забегаю
вперед, намекая на то, что истерия, при всей ее сплетенности с
зарождением аналитического мышления, такой прочной основы
предоставить не может. И поэтому здесь, в стенах Музея
сновидений Фрейда, я хотел бы говорить о том скрытом
беспокойстве, которое сопровождает упоминание этого невроза.
Беспокойство это носит именно профессиональный характер, оно
является уделом аналитиков и выражается в той крайне
скупой речи, которая неврозу навязчивости обычно адресуется. 5
Желание одержимого
CL
О
<υ
ь
>x
о
χ.
ω
о
ζ
03
m
О
ω
τ
гп
ce
m
ω
ζ
m
О
О.
m
<υ
Χ
Очень трудно представить себе, чтобы современные
аналитики, поддерживающие определенные исследовательские
стандарты, стали бы неврозом навязчивости специально
заниматься. Дело не только в вопросах моды, хотя последняя
красноречиво говорит о том, что именно сегодня занимает умы
психоаналитического сообщество, объединяющегося возле
наследия Лакана. В нем мы встречаемся с разного рода
штудиями, посвященными психозу. Также анализ все активнее
осваивает территорию детской комнаты — например, в тех формах,
в которых он посвящает себя нейроатипичным субъектам. Но
аналитики никогда не уделяют достаточно времени
навязчивости. Создается впечатление, что обсессия настолько хорошо
исследована, что у них как будто бы нет оснований заниматься
ей специально. Впечатление это ошибочно, и я намереваюсь
показать, что именно в теме невроза навязчивости
наличествует то, что может вызвать у психоаналитика настоящую
тревогу.
Именно по этой причине после Фрейда, буквально
умолявшего обратить на невроз навязчивости особое внимание,
и за исключением Лакана, открыто заявившего, что с теорией,
которая никак не может определить сущность этого невроза,
что-то не в порядке, мы не встречаем в аналитической мысли
каких-либо ярких посвященных ему прозрений. Напротив, все
известное на его счет до сих пор вполне укладывается в
пространство медицинского психиатрического дискурса. Другими
словами, навязчивость, в отличие от истерии, перверсии или
психоза, не стала причиной ни одного из ярких
психоаналитических открытий. За исключением нескольких бесценных
страниц Лакана, проливших совершенно иной свет на
структуру обсессии и неизбежность ее появления в субъектной
структуре, невроз этот долгое время находился в тишине
произносимых о нем тривиальностей.
У этого несомненно должна быть какая-то причина, и
заключаться она может лишь в том, что у аналитика, как я хочу
показать, есть основания поднятия этого вопроса
остерегаться. Основания эти хорошо проявились в ходе семинара,
проведенного Жаком-Аленом Миллером в Барселоне, где ему был
задан вопрос: чем именно симптом навязчивости отличается
от симптома истерического? Миллер в своей характерной
манере отвечает, что симптом истерический очевиден, тогда как
Невроз навязчивости и тревога психоаналитика
о симптоме навязчивости можно сказать лишь то, что он не
явлен. Ответ этот следует понимать в особом режиме, который
идет вразрез с медицинской практикой, считающей, что
именно навязчивый невроз содержит наиболее яркие проявления
сугубо невротической патологии, в частности выражающиеся
в навязчивых мыслях и действиях. Но Миллер делает
совершенно верное замечание, потому что в пространстве
психоанализа действительно не существует узаконенной возможности
говорить о навязчивом симптоме. В его многообразных
проявлениях, распространяющихся на все сферы психической
жизни, перед нами вырисовывается то, что можно назвать
«субъектом как таковым». В этом навязчивость и заключается: не
являя себя прямо, она господствует в той области, где субъект
формируется, и занимает его бытие целиком.
Это несет для аналитика определенную угрозу, потому что
навязчивость в этом виде не позволяет работать с собой так,
как позволяют работать даже такие наиболее изысканные
и сложные явления психической жизни, как психозы. Чем
привлекателен психоз, так это тем, что он напоминает, чем ранее
была привлекательна истерия: у него есть предмет — нечто
в субъекте, что оказывается ему чуждым настолько, что об
этом можно говорить предметно и совершенно открыто. В
психозе мы встречаемся с бредом или с каким-либо
специфическими образованиями в личности, которые позволяют судить
о природе страдания и делать определенные заявления на этот
счет. Здесь, как это ни странно, специалист практически
ничем не рискует. Сколько бы ни говорилось о том, что психоз
бросает аналитику вызов, мы не замечаем, чтобы
предупреждение Лакана имело какой-то смысл и кто-то перед
психозом пасовал, — напротив, специалист в работе с ним всегда
готов проявить отчаянную смелость. Это означает, что психоз
не вызывает в нем никакой тревоги. Даже опасаясь, что ему
не удастся справиться, психоаналитик проявляет готовность
работать с тем, что уже определено и потому придает ему
мужества, поскольку никак не касается его собственной позиции.
Выигрыш или проигрыш аналитика в каждом из подобных
случаев могут быть довольно отчетливыми, но они ничего к его
бытию не добавляют.
С навязчивостью все обстоит наоборот: мы знаем, что
успех в ее анализировании настолько тонок и расплывчат, что
из
jr
η
н
s<
12
Ъ
Π)
л
s
Π)
I
ω
■о
Π>
ω
Π)
Η
Ш
J=
Π)
ω
о
Π)
-о
Желание одержимого
CL
О
<υ
ь
>x
о
χ.
ω
о
ζ
03
m
О
ω
τ
гп
ce
m
ω
ζ
m
О
О.
m
<υ
Χ
8
в отдельных случаях разница между началом и завершением
анализа сказывается лишь в нюансах. Тем не менее именно
в работе с этим неврозом есть нечто такое, что затрагивает
саму позицию психоаналитика. Замечает это именно Фрейд:
работая с Человеком-крысой, наиболее известным и крупным
случаем навязчивости в истории психоанализа, Фрейд ловит
себя на том, что ему приходится говорить о симптоме
навязчивости на том же языке, на котором анализант ему о своих
тревогах и симптомах повествует. Другими словами, он
неожиданно обнаруживает, что лишен почвы, — ощущение, которое
при работе с истерическими пациентами его не посещало. Если
в отношении истерических случаев Фрейд занимает метапози-
цию, поскольку у него есть аналитический язык, который он
может с определенной долей уверенности предложить
истеричке, то в анализе навязчивости Фрейд обнаруживает, что
способен лишь повторять за субъектом. Пациент накидывает
Фрейду массу разрозненных фактов и разнообразных
случившихся с ним происшествий: это и небольшая сумма, которую
он задолжал некоему лейтенанту и которую приходится
отдавать с ухищрениями, это и попытка сойти на станции для того,
чтобы сесть в другой поезд и вернуться в место, куда
возвращаться ему не надо, это и обстоятельства, связанные с его
влечением к даме, ненависть к отцу и масса всего прочего, не
связывающегося в единое целое даже на уровне аналитической
интерпретации. Фрейду приходится заметить, что, по
существу, все психиатрическое знания, на которое он, даже
существенно от него отойдя, продолжал опираться в случае истерии,
ничего здесь не дает именно потому, что в своем дискурсивном
обличий это знание лишь дублирует навязчивость.
Бесчисленное количество раз тавтологично повторяя, что субъект
навязчивости страдает от обсессивного повторения, медицинская
наука становится ничем иным как материалом, который сам
навязчивый субъект прекрасно усваивает еще на первом шаге
своих взаимоотношений с медицинским текстом — не
существует невротика навязчивости, который не был бы в курсе
основных проявлений своего страдания.
Обнаруживая, что его собственная позиция находится
в этом анализе под вопросом, Фрейд предпринимает
решительный шаг, последствия которого я сейчас покажу, указав также
на то, что этот шаг, в какой-то степени снова поставив анализ
Невроз навязчивости и тревога психоаналитика
на твердую основу, сделав навязчивость явлением
аналитическим, тем не менее заводит Фрейда в своего рода тупик. Этот
тупик не позволял аналитикам никуда двинуться до тех пор,
пока в вопрос навязчивости не вмешивается Жак Лакан.
Что делает Фрейд, чтобы выйти из пут навязчивости и
прекратить бессмысленный поток обстоятельств, которыми ана-
лизант с ним делится, но которые, по существу, к пониманию
случая не продвигают? Фрейд предполагает, что ему следует
действовать так, как он действовал в случае истерии: искать
значение. Мы знаем, в чем, собственно, состоит метода
Фрейда в ее классическом обличье: существует содержание явное,
и в то же время существует нечто такое, чего это содержание
не касается, но косвенно на него указывает. То есть в случае,
когда нам явлено одно содержание, необходимо искать
другое. Оно может быть дано на уровне метафоры — например,
быть кардинально противоположным, как в случае вытеснения
враждебных ощущений, прикрытых маской любви или
уважения — или же метонимически обнаруживаться в стороне, то
есть быть непохожим на первично предъявляемое в анализе
содержание, но при этом представляющим некий психический
процесс, который в этот момент оказался неподалеку. Так или
иначе, Фрейд полагает, что в данном случае на значение
вполне можно положиться. Поэтому он начинает распутывать
клубок всего того, что пациентом ему наговорено, и постепенно
картина складывается в ее совокупности, поскольку
обнаруживается все то, что Фрейд предчувствовал и хотел
обнаружить. Обретает свое место и враждебное отношение к отцу,
и садистическая фантазия с крысами, связанная с
возможностью осуществить любовный акт, несомненно
подкрепляющая не столь далеко отстоящее от этого случая рассуждение
Фрейда о недомоганиях в сексуальной жизни, свойственных
навязчивому типу, который способен реализовать себя
сексуальным образом только в том случае, если со стороны объекта
имеет место какая-либо поврежденность. Важно, что Фрейд не
ошибается в этом отношении и проводит эту фантазию строго
по тому ведомству, где ей и место, — не являясь фантазией
садистической, она сопряжена исключительно и только со
слабостью желания, в целом навязчивому невротику присущей.
Тем не менее Фрейду приходится спасовать, когда ана-
лизант предлагает ему наиболее интимное обстоятельство,
из
η
н
I
ш
Ό
Π)
ui
Π)
Ι
Η
Ш
-Ρ
Π)
Ш
Ι
Ο
Π)
■σ
2
о
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
10
сопряженное с его отношением к отцу: эпизод неполной
мастурбации перед зеркалом, которую пациент совершает каждый
вечер, выходя в холл после своих институтских занятий, —
мастурбации, которая была отцу адресована так, как если бы он
мог вернуться в виде призрака, поскольку к тому времени он
был уже мертв. Фрейду приходится искать скрытое значение
и он предполагает, что здесь имеют место два
противоположных импульса. С одной стороны, это импульс любви к отцу и,
с другой стороны, импульс враждебности как доказательство
отцу того, что его мнение больше не имеет значения. Обратив
внимание на совершавшийся, по его мнению, вызов, бросаемый
невротиком отцовской власти, Фрейд в то же время признает,
что в чем-то он заходит в тупик и навязчивая фантазия для него
до конца не ясна. Помимо колебания от враждебности к любви
и уважению, в ней не удается больше ничего усмотреть.
Это показывает, что в ходе поиска значений Фрейду до
известной степени не удалось вырваться за пределы того
Воображаемого, как сказал бы об этом Лакан, которое навязчивость
аналитику предлагает. Можно сказать, что явное содержание
так и осталось явным и разгадки поведения пациента Фрейд не
достигает. Упирая на значение как на существующее
возможное истолкование навязчивого действия — позиция, которую
Фрейд занимал и впоследствии, в чем можно убедиться из его
«Лекций по психоанализу», где он говорит о том, что любое
повторное действие может найти толкование в биографическом
материале, — Фрейд тем самым в какой-то степени
откладывает навязчивость на потом. То, что оказывается годным для
истерии и действует в ней именно потому, что толкование
вызывает у пациента активное неприятие, в случае навязчивости
воздействия не оказывает. Более того, Фрейд наталкивается
на то, что навязчивый субъект в анализе достаточно
подготовлен не только для того, чтобы воспринять толкование, но и
чтобы в должной мере оценить его красоту интеллектуально, что
и означает в его случае сопротивление.
Именно здесь обнаруживается важная вещь, впоследствии
подвергнувшаяся почти полному забвению и восстановленная
лишь Лаканом, а именно логическое соположение навязчивого
симптома и собственно аналитической сцены.
Выяснилось, что невротик навязчивости — это не
истерик, воспринимающий толкование как нападку на то, что
Невроз навязчивости и тревога психоаналитика
ему лично дорого — на желание, которое он холит и лелеет,
оберегая в истерическом молчании. Невротика навязчивости
таким образом с толку не собьешь. Какое бы знание ни давал
ему аналитик, оно для него не оказывается тем, в чем бы он
обнаруживал нечто для себя неизведанное, выходящее за
границы его собственной рационализации. Другими словами, он
не обнаруживает там себя самого, но зато превосходно
способен идентифицироваться с местом, откуда интерпретация
исходит.
В итоге Фрейд блестяще, как он обычно это делал,
продемонстрировал именно пределы анализа в тот исторический
момент, когда анализ впервые с навязчивостью начинает
работать. И когда после более чем сорокалетнего молчания к этой
теме подходит Лакан, он в первую очередь предполагает, что
ключ к толкованию навязчивости искать нужно вовсе не здесь.
Если Фрейд еще видит в ярких симптомах навязчивости, в ком-
пульсивностях, обсессиях, постоянных самопроверках,
которые невротик навязчивости предпринимает, какой-либо след
угасшего, но реального психического процесса, приведшего
к развитию невроза, то Лакан в случае работы с
навязчивостью о ритуальности не говорит вовсе. Многократно описанная
в медицинской литературе внешняя симптоматология обсес-
сии Лакана не интересует; он сразу устремляется в
совершенно другое место, которое позволяет ему обойти ловушки, в
которые обычно попадают терапевты.
Первая из этих ловушек связана с тем, что невротик
навязчивости демонстрирует в анализе послушание. Он настолько
в этом отношении контрастирует с истериком, что есть даже
выражение, описывающее анализ навязчивого субъекта как
«медовый месяц» аналитика. Если в случае истерии аналитик
обречен наталкиваться на враждебность, черпая из той самой
горькой чаши, с которой столкнулся Фрейд, работая с Дорой,
оспаривавшей позицию аналитика, то в случае невротика
навязчивости специалист встречается с безграничным к себе
уважением. Любые интерпретации принимаются, любое
воздействие со стороны аналитика в случае навязчивости встречает
содействие со стороны невротика. В таком анализе, как
может показаться, происходит мощная интеллектуальная
работа — именно она до такой степени восхитила Фрейда в случае
Человека-крысы, что в дальнейшем он отказывал в диагнозе
из
η
н
Ъ
п>
I
ш
Z2
Ό
Π)
ui
Π)
Ι
Η
Ш
л
Π)
Ш
Ι
Ο
Π)
■σ
2
О
11
Желание одержимого
CL
О
<υ
ь
>x
о
χ.
ω
о
ζ
03
m
О
ω
τ
гп
ce
m
ω
ζ
m
О
О.
m
<υ
Χ
12
навязчивости всем, кто, по его мнению, не демонстрировал
достаточного интеллектуального уровня.
Нет сомнений, что на определенном уровне так и есть: в лице
невротика навязчивости перед нами всегда, конечно же, субъект
интеллектуальный. Более того, по сути, то самое
интеллектуальное состояние современности, в котором мы волей-неволей
находимся, пользуясь, хотим мы того или нет, тем, что Лакан
называет «знанием», — вся наша специфическая культурность
и просвещенность, наша включенность в политическую
повестку и в гражданские процессы — по существу, и есть то, что
поддерживает характерный для навязчивости
рационализированный фон. Любой субъект такого просвещенного типа
является неплохим толкователем и даже, если это необходимо,
аналитиком всех тех процессов, с которыми он сталкивается.
Каждый из нас является, например, стихийным философом или
литературным критиком, знающим, как следует встречать ту
или иную публикацию или новость. Здесь недостатка в
образовании нет ни у кого. Именно поэтому вся подкованность,
которую невротик навязчивости демонстрирует — его неустанный
самоанализ, его готовность идти в своем собственном анализе
на сотрудничество со своим аналитиком — на поверку ничего
не стоят, точнее, стоят ровно того, чего стоит любое вхождение
в анализ: перед нами контракт, соглашение на условно мирной
основе. Аналитический альянс в таких случаях может длиться
сколько угодно — анализ навязчивых невротиков длится годы,
в отличие от некоторых анализов истерии, которые склонны
заканчиваться внезапно, как это произошло в случае Доры.
Навязчивый невротик готов ходить в анализ бесконечно, он
принимает все резоны аналитика, он готов учиться и не прочь потом
поучить других тому, что он в анализе узнал. Это в ряде случаев
сбивает аналитика с толку. Так, Фрейд, окрыленный успехами
в случае истеричек, реагировавших на его теоретические
разборы сильной тревогой и психическими изменениями, пытается
использовать те же приемы с Человеком-крысой. Он предлагает
ему аналитическую теорию и немедленно наталкивается на то,
что она ничего в субъекте не производит и никаких новых
воспоминаний не вызывает — субъект готов бесконечно повторять
лишь то, с чем в анализ он уже пришел, так что все попытки
с воспроизводимого им содержания его переключить поначалу
оказываются бесплодными.
Невроз навязчивости и тревога психоаналитика
Таким образом, именно благодаря неврозу навязчивости мы
видим повод для аналитика задуматься о том, чем является его
практика в ее обычном виде. Как правило, считается, что в этой
практике существуют вещи, которые нельзя трогать. Помимо
сеттинга, на который никто со времен Лакана не покушался,
есть еще своего рода пространство взаимного уважения,
сотрудничества, т.н. альянса, которое, как кажется, в анализе
выходит на первый план. Ни в коем случае не призывая ни
к каким революционным изменениям, можно лишь отметить,
что общее мнение, будто бы в анализе, который мы называем
классическим, происходит именно это, в некоторой степени
ошибочно с самого начала. Все эти благолепные вещи
удивительным образом оказываются «мимо». В случае истерички это
не работает потому, что истеричка аналитику ни на грош не
верит и благодушие специалиста лишь подтверждает для нее
реальность той циничной лжи, которой, как ей кажется, она
в своем окружении опутана. В случае же навязчивого невроза
это не работает ровно в той степени, в которой навязчивый
невротик готов идти на сотрудничество и без этих проповедей.
Это ничем ему не угрожает, это не затрагивает ни его симптом,
ни ту навязчивую структуру, на основании которой симптом
произрастает. Именно это Лакан и отмечает в первую очередь.
Именно поэтому большая часть анализов навязчивости,
какой бы респектабельной ни была сама их практика и какие бы
положительные эффекты в отдалении она ни приносила,
сводятся в своем роде к дипломатической войне. Пока не
наступило нечто такое, что Лакан называет «переломной точкой»,
изменений к лучшему не происходит, но ухудшений не
происходит тоже. Именно поэтому Лакан предполагает, что
необходимо что-то еще, но предложить это возможно в том случае,
если сам феномен навязчивости будет пересмотрен. Не в
последнюю очередь именно это подталкивает Лакана не только
к вкладу собственно в теории обсессии, но и стимулирует тот
общий вклад, который Лакан в теорию психоанализа
совершает, поскольку фрейдовский анализ в самом своем фундаменте
был разработан для взаимодействия с истерическим
субъектом и предполагает те способы конфронтации, которые
способны вызвать реакции именно со стороны последнего.
Напротив, как выше было сказано, невротик навязчивости
умудряется аналитика обмануть именно тем, что выше было
η
н
I
ш
■о
Π)
ui
Π)
I
Η
ш
-Ρ
Π)
Ш
I
о
Π)
■о
χ
2
о
13
Желание одержимого
CL
О
<υ
ь
о
ас
ω
о
ζ
ω
m
О
m
y
m
ce
m
ζ
m
О
Cl
m
(U
X
14
названо покорностью, даже сервильностью в анализе. Это
означает, что, по всей видимости, какого-то знания о невротике
навязчивости нам недостает: необходимо более четкое
понимание того, как устроена структура навязчивости. Это
понимание, как было сказано выше, требует шага за пределы того, что
в случае навязчивой симптоматики бросается в глаза в первую
очередь.
Возможно, именно это является причиной, по которой
теория навязчивости так медленно продвигалась в истории
развития анализа. Здесь радикально недостаточно тех средств
осмысления, которые готовы зачастую на обсессию потратить.
Она кажется настолько безопасной, настолько привычной, что
тот фон, который она вносит в анализ укрепляет аналитика
в его уверенности, а не разочаровывает. У навязчивости, как
у беспроблемного ребенка, очень мало шансов попасть в зону
теоретического внимания, стать предметом подлинного
исследовательского интереса. Но
именно тот обман, та череда уступок, которые сам аналитик
невольно совершает, работая с невротиком навязчивости,
потому что к этим уступкам склонен и сам
невротик, та система обмена любезностями, в рамках
которой такой анализ зачастую протекает, и подсказывает нам, что
в данном случае аналитик становится
непосредственной жертвой навязчивости.
Происходит так не в последнюю очередь именно потому, что
до Лакана не существовало представления о том, что именно
в неврозе навязчивости
является своего рода пуповиной, местом прикрепления
симптома. Если в случае с истерией, как правило, фигурирует
пресловутая травма, которую Фрейд пытался в
разные периоды жизни обнаружить, так и не найдя,
впрочем, для нее определенного места, в случае именно
аналитического симптома навязчивости ничего подобного не
обнаруживается. Войти в него с той же самой стороны, что и в случае
с истерией, практически невозможно — и это при том, что, как
уже было сказано, отдельными симптомами этот невроз богат
как никакой другой. Это создает интересную, почти
скандальную ситуацию в его аналитической теории, которая частично
объясняет то самое, адресуемое навязчивости, глухое
молчание, о котором было сказано выше.
Невроз навязчивости и тревога психоаналитика
Что предпринимает Лакан? Первым делом он дает нечто
такое, что можно было бы назвать не диагностикой, а скорее
аналитическим описанием. В его семинарах
невротик навязчивости фигурирует не как невротик с
типичными для него навязчивыми идеями, а как субъект,
который вступает в определенные отношения с объектом и с
наслаждением, которое он может от объекта получить. В действиях
невротика навязчивости обнаруживается стратегия, которой
он не намерен поступаться и которая до конца анализу не
поддается. Это печальная истина, но она является лишь
начальным фактом, отправной точкой, поскольку в анализе для
этой стратегии открываются новые обстоятельства. Другими
словами, невроз навязчивости не прерывается, а развивается,
и анализ способен использовать ход этого развития себе же на
пользу. В анализе невротик навязчивости может продолжать
ту же самую сеть своих маленьких сделок с инстанцией
Блага, к которым он чрезвычайно склонен и в своей повседневной
жизни. Долакановский анализ ему в этом практически не
мешает, если речь идет о классическом анализе, особенно
психотерапевтического характера, нацеленного на стабилизацию
невроза. Поэтому Лакан замечает, что искать слабое место
невротика навязчивости надо именно там, где он выстраивает
свои стратегии наслаждения. Эти стратегии никогда не носят
такого драматического, яркого, даже мучительного характера,
как при истерии. Они напоминают скорее море в спокойную
погоду, где колебания незначительны, но при этом существует
пункт, где невротик навязчивости не готов потерпеть
поражение. Что его интересует в анализе, так это то, что он может
выйти сухим из воды. Именно это зачастую ему и удается.
Анализ он покидает отнюдь не разочарованным, но тем не менее
нечто такое, что характеризует отношения невротика
навязчивости с его удержанным Благом — Благом, которое
он вырывает у того, кого мы называем «Другим», остается
нераспознанным.
Именно поэтому лакановский анализ предоставляет для
анализа навязчивости такую прочную основу. В отличие от
фрейдовского, он по существу является анализом,
адресованным структурам навязчивого образования. Не на это ли
указывает то, что большинство базовых лакановских концептов —
Воображаемое, прибавочное наслаждение, объект а — это
η
н
I
ш
■о
Π)
ui
Π)
I
Η
ш
Π)
Ш
I
о
Π)
■о
Э6
2
о
15
Желание одержимого
CL
О
<υ
ь
о
ас
ω
о
ζ
ω
m
О
m
y
m
ce
m
ζ
m
О
Cl
m
(U
X
16
элементы, которые в первую очередь позволяют истолковать
психический аппарат именно невротика навязчивости и как
будто идеально созданы для того, чтобы внести в работу с ним
какую-то новизну. Это, как правило, остается незамеченным,
потому что мы привыкли работать с текстом Лакана так, как
мы в принципе работаем с теоретическими текстами, где
существует некий аппарат, который необходимо усвоить, перед тем
как найти ему применение. Читателю Лакана, как ему самому
кажется, необходимо узнать, что такое «желание другого»,
Реальное, Воображаемое, отцовская метафора, что такое
тревога, в конце концов. На постановку этого аппарата в мысль — на
то, чтобы в представлении читающего он приобрел какую-то
связность, выступил бы инструментом чего-то более
деятельного, — как правило, уходят годы. Именно из-за этого остается
незатронутой тема того, что аппарат этот спровоцирован
определенной темой — что, конечно, не означает, что использовать
его надо так же узко. У нас, как уже было сказано, не
вызывает сомнений то, что фрейдовский аппарат ориентирован на
истерика — даже если последнее и обнаружило в итоге свои
пределы, например, в работе с психозом. Разрастись в
полноценное учение о началах бессознательной психической жизни
в целом это ему не помешало. Но никогда не говорится о том,
что лакановский аппарат создан для того, чтобы дать обсессии
в своем роде новую жизнь на аналитической сцене и в
клинической практике.
Например, что такое тот самый лакановский большой
Другой, о котором говорят не только аналитики, но к чьей
фигуре прибегают философы, социальные критики, журналисты
и даже кинематографисты? Что это за персонаж? Как
правило, мы склонны мыслить его предельно общо — справедливо
полагая, что этот концепт касается каждого, у нас тем не менее
не возникает ощущения, что у его происхождения есть какая-
то специфика. Речь идет чуть ли не о божественной
инстанции, исполненной смыслами и регулирующей тревогу. Но дело
именно в том, что в зависимости от типа невроза необходимо
говорить о большом Другом отдельно. Он не остается одним
и тем же и в случаях истерии, и в неврозе навязчивости,
соответственно, и взаимодействия тех или иных невротических
процессов в его отношении тоже не остается чем-то
идентичным. Следует сказать, что Другой навязчивого невротика про-
Невроз навязчивости и тревога психоаналитика
сто идеально устроен для того, чтобы описать его в качестве
именно Другого большого, потому что отношения, которые
навязчивый невротик с ним поддерживает, по существу,
раскрывают нам то, чем является большой Другой для того, что
Фрейд называет современной цивилизацией.
Как правило, если кто-то читает издания специалистов
современной лакановской школы, то он может увидеть отдельные
замечания о том, что у невротиков навязчивости с Другим
какие-то проблемы, что он его не знает и знать не хочет в
принципе. В каком-то смысле это справедливо: существует весомое
подозрение, что в неврозе навязчивости наличествует нотка
чего-то, что психологи, не имеющие дела с анализом, называют
шизоидной позицией.
Но и аналитики сплошь и рядом упрекают навязчивого
невротика в черствости: нам говорят, что по существу он не
способен к выстраиванию глубоких отношений с Другим, что
нечто мешает ему вступить с ним во взаимодействие.
Толика истины в этом есть. Но истина эта верна лишь
потому, что существует другая диспозиция Другого и иной к нему
доступ, в котором невротик навязчивости как раз напротив
кровно заинтересован. Это доступ, где Другой является
носителем категории, которой Лакан уделяет очень много
времени, но которой часто незаслуженно пренебрегают, полагая, что
в лакановском тексте можно найти вещи поинтереснее. Я
скажу об этом пару слов, потому что многие считают, что эта
категория не имеет для теории существенного значения, что
характерна она лишь для Лакана незрелого, раннего и что
впоследствии он успешно преодолевает ее, устремляясь к более
интересным предметам. Речь идет о категории «признания».
Много раз можно было услышать о том, что категорию эту
Лакан почерпнул не из оригинального аналитического
развития, а из философского кружка Кожева, который он посещал
еще в довоенный период, и что признанность, играя
определенную роль на уровне символического запроса, не является
тем, что в понимании субъектной структуры было бы
определяющим. Есть, в конце концов, более весомые вещи, к которым
подходит поздний Лакан, — например, желание за пределами
символического или наслаждение телом.
Это мнение заставляет видеть в посвященных
признанию текстах Лакана непроработанные гегелевские остатки,
σο
η
н
I
s
I
ω
■α
л
Η
ω
s
ft
Π)
ω
о
-о
о
17
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
18
которые, как многие считают, гораздо более остроумно были
преодолены уже у Адорно. То есть признанность не кладется
нами в основание анализа и, в частности, в основание анализа
навязчивости (а это, если говорить статистически, бо лыиая
часть анализа в принципе). Здесь также наличествует в своем
роде сопротивление, когда нас не отпускает впечатление, что
признанность — это категория малоинтересная, что она,
скорее, отсылает к каким-то суетным, факультативным предметам,
что это не то, что в анализе должно происходить и чему
стоит уделять внимание. Мы очень сильно ошибаемся, и, по всей
видимости, идем на поводу у того же сопротивления, которое
характерно для аналитиков в случае работы с навязчивостью
в целом. Именно на линии признанности находятся отношения
невротика навязчивости с большим Другим.
Что такое признанность? Как говорить о ней так, чтобы не
впасть в заблуждения типичного этического сорта, которые
заставляет говорить о соискании признания с высокомерностью
как о чем-то суетном и факультативном? Не секрет, что поиск
признания в некоторой довольно заметной части лакановских
последователей считается исключительно утехами
Воображаемого. Существует то, что можно было бы
назвать «правым» или фундаменталистским лакановским
анализом, — я имею в виду тех представителей лакановско-
го анализа, которые склонны полагать, что у Лакана можно
найти нечто такое, о чем писали Святые Отцы. Именно здесь,
как правило, делается большой упор на суетность заигрывания
с мирским, в том числе и с поиском признания, потому что
можно ли представить себе что-то более мирское, более се-
кулярное, нежели попытки добиться авторитетности и славы?
В той части, где из лакановского Реального делают священного
идола, принято полагать, что диалектика признания не имеет
к нему отношения в принципе.
Все это вызвано влиянием на восприятие лакановской
теории вещей, совершенно ей чуждых, — например, тех, что
исходят из областей поиска духовности или экзистенциально-
гуманистической психологии. Именно под ее влиянием
возникают исследователи, эксплуатирующие учение Фрейда о черте
принципа удовольствия, которая якобы отделяет предприятия
по-настоящему экзистенциальные и рискованные —
исполнение этического долга, трансгрессию, радикальную жертву — от
Невроз навязчивости и тревога психоаналитика
суетных вещей, скроенных по меркам окружающего субъекта
символического поля, таких как поиск признания и борьба за
авторитетность. Принято считать, что желание из этих вещей
не выкроишь, поскольку им недостает чего-то Реального.
Я полагаю, что здесь перед нами опять сильнейшее
сопротивление, вызванное не чем иным, как стыдом, и потому по
своей натуре, как и все, авансированное стыдом, очень
двусмысленное. Как правило, современный субъект стыдится
признаться, что для него поиск признания имеет значение. Тем не
менее на этот счет очень трудно обмануться, потому что все
то, что мы видим вокруг, не просто пронизано этим поиском,
но и отчетливо показывает, что движение в этом направлении
вовсе не является броском в сторону принципа удовольствия.
Напротив, именно там, где субъект пытается найти
признание, и подстерегает его тревога. Отделяя поиск признания от
тревоги, считая, что в нем субъект от поставленных тревогой
вопросов уходит, мы пропускаем очень важную часть
формирования невроза навязчивости, в которой поиск признания этот
является тупиком, в котором невротик находится постоянно.
Именно вопрос признания позволяет творчески подойти к
вопросу о том, как устроен Другой обсессивного субъекта и
какие манипуляции в отношении желания этого Другого
невротик предпринимает.
Досконально пронаблюдав эти отношения, мы получаем
возможность установить, что Другой для невротика
навязчивости — это не абстрактная фигура, не просто носитель
смысла, внутренний собеседник или соглядатай. Воспользоваться
максимально общими лакановскими определениями здесь
недостаточно — им нужно придать соответствующую
специфику. Другой в неврозе навязчивости — это такая фигура,
которую субъект избирает по той причине, что, как ему кажется,
она уже добилась признанности и теперь обитает в каком-то
ином мире, пользуясь авторитетом. В то же время специфика
обсессивного отношения к Другому состоит в том, что это
фигура вполне реального ближнего, какой-то знакомой субъекту
персоны, за которой субъект навязчивости подозревает какое-
то злоупотребление. Завидуя ее признанности, склоняясь
перед ней и безоговорочно признавая ее авторитет даже в ходе
нападок на нее, невротик полагает, что авторитет, которого
эта фигура добилась, скрывает теперь те недостатки, которые
η
н
I
ш
Ό
Π)
ui
Π)
Ι
Η
Ш
-Ρ
Π)
Ш
Ι
Ο
Π)
■σ
2
о
19
Желание одержимого
CL
О
eu
о
CÛ
о
ζ
ω
m
u
О
ш
τ
ОС
ffl
Ζ
m
О
CL
ffl
<U
X
20
в деятельности этого Другого имеют место и которые
навязчивый невротик ревниво усматривает.
Другими словами, вопрос признанности для невротика
навязчивости имеет значение не там, где признанности ищет он
сам. Безусловно, он ее желал бы, но добиться ее на этом пути
ему мешает Другой — тот самый, с которым невротик желал
бы разобраться и чьи мелкие прегрешения он намеревается
миру явить. В отношения с Другим обсессик вступает не для
того, чтобы добиться признания для себя — на самом деле,
для него это слишком сложная задача: присущая ему прокра-
стинация зачастую сводит на нет все его усилия. Деятельность
его активизируется там, где он обнаруживает признание,
полученное кем-то другим в области, в которой он смыслит и в
которой сам хотел бы подвизаться. Другой приковывает его
внимание, поскольку именно на него невротик навязчивости
возлагает ответственность за существование института
признания как такового. Незаметным для себя образом обсессик
полагает, что именно это лицо удерживает все символические
стандарты в интересующей его сфере, ведь, с его точки
зрения, именно оно задает тон и диктует в ней правила. Тем не
менее смириться с этим невротик не может, поскольку всегда
обнаруживает, что авторитетная фигура снабжена
недостатками — другими словами, она действует не совсем честно и
допускает промахи, невнимательность окружающих к которым
для невротика подобна острому ножу — ведь если даже эта
влиятельная и всеопределяющая фигура неидеальна, то что
говорить о всей сфере в целом.
Вот где по существу лежит нерв невроза навязчивости, по
отношению к чему все остальные действия невротика, в том
числе собственно навязчивые, являются защитным
образованием. Именно поэтому возникает в нем то, что наблюдал уже
Фрейд: борьба между двумя противоположными душевными
движениями к Другому, уважением и ненавистью.
Любопытно, что Фрейду какое-то время казалось, будто
бы эти душевные движения имеют место лишь потому, что
в субъекте борются противоречивые сексуальные
побуждения и поэтому он склонен то наделять объект возвышенными
значениями, то напротив ниспровергать его в пропасть.
Другими словами, здесь не обходилось без любви. Открытие
Лакана по существу заключается в том, что без любви этот ме-
Невроз навязчивости и тревога психоаналитика
ханизм прекрасно обходится: Другой невротику навязчивости
не интересен ни в каком ином свете, кроме того, в котором
он предстает носителем в своем роде похищенного у
невротика желания — то есть добивается успеха там, где невротик
только-только делает пробные шаги. Поэтому там, где Фрейд
все еще предстает скорее субстанционалистом, кладущим
в основание субъекта бессознательное с его противоречивыми
и конфликтоподобными влечениями, Лакан настаивает на том,
что наличие собственной психической жизни не первично, что
сама она в качестве чего-то уникального представляет собой
скорее теоретический соблазн для психоаналитиков,
поскольку у субъекта на деле нет того, что можно было бы назвать
первичными и укорененными в нем влечениями, совокупностями
катексисов, нагруженностей либидинального характера и т.д.
Другими словами, субъект — это не субстанция, являющаяся
для этих влечений носителем и контейнером, а нечто такое,
что пробуждается к жизни в ту секунду, когда в нем вызывает
возмущение желание другого.
Именно невротик навязчивости красноречиво показывает,
что желание другого — это не абы какое желание, не
направляющая нас надмирная воля или же абстрактная сила рынка,
медиа или капитала, а нечто более чем конкретное. Это желание
кого-то, кто невротика навязчивости опередил и сделал это,
с его точки зрения, не вполне честными средствами. По
существу, невротика интересует только это — он готов посвящать
перипетиям этой истории все свое время, даже если он себе
в этом не отдает отчета или отдает его лишь частично. В его
случае мы видим иллюстрацию того, что желание другого — это
нечто такое, что носит глубоко обманчивый, предательский
характер. По этой причине, как замечает Лакан, невротик
навязчивости и ведет себя так странно — отсюда и берутся разного
рода его сложные душевные побуждения и противоречивые
поступки, которые аналитиками, работающими с
невротиками навязчивости, совершенно верно оцениваются как защита.
Что такое защита? Чтобы ответить на этот вопрос нужно
понимать, что наши аналитические представления о защите
формировались на оси представления о травме в рамках знания об
истерическом неврозе. Защита — это нечто якобы
призванное заслонить субъекта от невыносимого бессознательного
содержания. Содержание это может быть слишком сложным
η
н
I
ш
■о
Π)
ui
Π)
I
Η
ш
Π)
Ш
I
о
Π)
■о
Э6
2
о
21
Желание одержимого
CL
О
eu
ь
О
CÛ
о
ζ
ω
χ:
(Ό
m
u
Ο
m
τ
ce
m
(Ό
ζ
m
Ο
Ο.
m
eu
Χ
22
и неприятным для субъекта, для чего он и предпринимает, как
казалось Фрейду, учитывающему опыт работы с истеричками,
навязчивые действия. Но Лакану удается показать, что все
обстоит не совсем так и что защита, предпринимаемая обсессив-
ным невротиком в виде мыслей и действий — это не защита
от собственного промаха, как опять же предполагает Фрейд
в случае работы с Человеком-крысой, а защита
непосредственно от факта существования желания Другого как такового.
Невротик навязчивости в этом смысле находится на
довольно высоком теоретическом уровне, поскольку он имеет дело
с теми же категориями, что и психоаналитик, и в своем
смятении опирается не на те отдельные аффекты, которые Фрейд
в этом невротике усматривал — вина, страх, тревога, — а на
реальность желания как таковую. Именно с ней он никак не
может справиться и именно ей адресованы все те колебания,
которые он, если вглядеться в его бытие пристальнее,
испытывает каждую секунду. Если истерик не знает, каким
именно объектом он является для Другого и где именно он мог бы
себя — в виде своего пораженного конверсионным симптомом
тела — наслаждению Другого предложить, то невротик
навязчивости накрепко сбит с толку теми усилиями, которые Другой
предпринимает в области соискания признанности — он
ощущает, что от него требуется на эти попытки отреагировать, но
не может избрать никакой тактики, которая ему самому
казалась бы безупречной.
Это означает, что адресованных навязчивости объяснений
Фрейда оказывается не совсем достаточно. Там, где им ищется
скрытое содержание симптома, он, хотя и подготавливает
почву для дальнейших открытий, упускает тот факт, что
невротик навязчивости имеет дело с теоретическими категориями
анализа, поскольку они даны ему в психической реальности
симптома. Именно по этой причине работа с ним в анализе так
осложнена — парадоксальность, которая поначалу Фрейдом
была оценена обратным образом: Фрейд не мог нарадоваться
на то, до какой степени к теоретической стороне анализа эти
невротики восприимчивы (случай человека-крысы). На деле,
аналитику трудно избрать в отношении этого невроза
стандартную теоретическую тактику, поскольку по отношению
к невротику навязчивости он не выступает носителем
метаязыка. Те категории, которые специалист может использовать
Невроз навязчивости и тревога психоаналитика
в анализе, уже являются для невротика навязчивости
историей его симптома и непосредственно составляют предмет его
плачевного положения.
В рамках обращения со своим большим Другим невротик
навязчивости показывает, что, по существу, категория
признания имеет значение именно там, где она лежит в основе
сотворения желания. В нынешнее время мы, не в последнюю
очередь благодаря усилиям таких мыслителей, как Фуко, Батлер
и Бурдье, привыкли мыслить признание
социально-философскими средствами, усматривая за ним агентов, действующих
в конкурентном поле, где они добиваются успеха и меряются
достижениями, в качестве которых представляют более или
менее значимую для сообщества продукцию. Другими
словами, речь идет о деятельности, за которой может стоять сколько
угодно амбиций, но нет желания в том смысле, в котором мы
используем его в психоаналитическом смысле, — желания как
отношения с предположительной нехваткой Другого. В мире,
созданном для нас французскими социологами, есть
множество вещей, но нет собственно того, что побуждает субъекта
принимать Другого в расчет иначе как помеху, препятствие на
пути к собственному успеху. Препятствие это в теории того же
Пьера Бурдье выглядит чисто механическим — его необходимо
преодолеть, как преодолевают лежащее на пути бревно.
Именно здесь существо навязчивости и упускается. С
одной стороны, сам невротик навязчивости то и дело требует
рассматривать его в этом ракурсе — поначалу в анализе его
мир кажется крайне узким и как будто полностью
находящимся на ниве соперничества с Другим, из-за которого его
собственные дела якобы не клеятся. Но обманываться здесь
нельзя — ни теория Бурдье, ни Джудит Батлер, хотя они, казалось
бы, довольно четко объясняют, как устроен поиск признания,
не показывают, где именно находится место тревоги субъекта
навязчивости. Каким бы внешне встревоженным и
беспокойным этот субъект ни был, именно его ажитация не допускает
выхода наружу той тревоги, которая находится в основании
его симптома.
Тревога эта обнаружится не раньше, чем аналитику станет
ясно, что признание, уже полученное Другим, не делает
невротика навязчивости более активным и
конкурентоспособным, а, напротив, его обездвиживает. Он не может сделать ни
η
н
I
ш
■о
Π)
ui
Π)
I
Η
ш
Π)
Ш
I
о
Π)
■о
χ
2
о
23
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
24
шагу, но не потому, что, как полагал еще Фрейд, он одержим
завистью. Когда Фрейд исследует отношения ребенка —
особенно мужского пола — с отцом, он предполагает, что в
какой-то степени тот величием отца подавлен и что именно это,
пробуждая в нем естественное чувство соперничества, в то же
время пробуждает в нем страх кастрации, который его стагни-
рует и не позволяет двинуться вперед, к овладению
собственной генитальностью. То, как позволяет нам на это посмотреть
предварительная часть предпринятых Лаканом исследований
навязчивости, полностью меняет эту картину. Невротик
застывает перед своим более успешным Другим, с которым он себя
тайно сравнивает — не потому, что успех того непревзойден,
а, как раз напротив, по той причине, что невротик
обнаруживает в нем существеннейший изъян: Другой ему кажется
полностью лишенным тревоги.
Опыт этот всем нам без исключения знаком, поскольку
сегодня в доступных оценке и сравнению с нами Других нет
недостатка. Так, всякий раз сталкиваясь с тем, что уважаемое
нами — или же, по крайней мере, формально достойное
уважения лицо: например, преподаватель или чиновник — вдруг
сообщает нечто несусветное и полностью опровергает наши
представления о том профессиональном уровне, которого он
однажды достиг и на котором он должен находиться, чтобы не
вызывать тревоги у нас самих, мы сталкиваемся с тенью того,
с чем каждый день имеет дело сформированный и
выраженный невротик навязчивости. Обнаружив, что однажды взятая
высота почему-то вдруг открывает дорогу для различных
злоупотреблений, мы склонны роль тревоги в этом недооценивать.
Когда мы смотрим на кого-то как на человека, добившегося
признания, славы, почета, мы подозреваем, что никакой
тревоги у него нет — иначе как бы он мог позволять себе столько
очевиднейших промахов? Возмущение обсессивного субъекта
по этому поводу не знает предела.
Именно здесь возникает ситуация, которая в последнее
время в анализе заявляет о себе все громче и описать которую
можно, только показав, как она может поддерживаться в том
случае, когда анализ сопрягается с религиозными ценностями.
Сопряжение это всегда имеет место: мы знаем, что, если
учитывать фрейдовские корни, анализ только и может быть
анализом, если он указывает на желание того, кто стоял в осно-
Невроз навязчивости и тревога психоаналитика
вании собирания народов и установления незыблемых, равных
для всех правил. При этом мы недооцениваем вытекающую из
этого необходимость смирения, поскольку полагаем, что речь
о смирении всегда идет в усмирении желания. Желать не более
и не большего, чем твой ближний, — вот что считается
вытекающей из подлинной религиозности добродетелью. Тем не
менее аналитический опыт и здесь показывает, что пресловутое
смирение основывается на требовании совершенно иного типа:
в нем никто не запрещает желать как угодно и чего угодно, но
тем не менее то, что субъект считает непростительным
грехом, заключается в отсутствии в желании элемента тревоги.
Если чье-то желание кажется от тревоги избавленным, кара
последует незамедлительно и будет выражаться именно в
появлении на свет невротика навязчивости, который,
невольно впадая в грех осуждения, будет это желание настойчиво
и критично преследовать. Другой в его глазах может добиться
царских почестей, оказаться почти что в раю — все это, с
точки зрения обсессивного субъекта, ему простительно. Но чуть
только даже при самом малом наблюдаемом успехе Другого
невротик не обнаружит в нем аффекта тревоги, как механизм
навязчивости в виде требования восстановить справедливость
и поставить Другого на место появится непременно.
Что исходя из этого можно сказать о том, что собой
представляет невротик навязчивости тогда, когда удачливым и
нечестивым Другим он не занят? Прежде всего, это субъект,
который о своей тревоге ничего не знает. Его собственная
тревога не дана ему в принципе, поскольку волнует его только
наблюдаемое им отсутствие равновесия между смелыми
попытками его поднадзорного Другого и скудными эмоциональными
реакциями последнего по поводу этой чрезвычайной смелости.
При этом невротик навязивости, если его невроз в
достаточной степени развит, обычно идет еще дальше. Он может
полагать, что успех Другого в какой-то степени им не
заслужен, но возмущает его не это — волю высших сил и случая
признавать он обычно способен. Главное, что тот Другой, за
которым он наблюдает, реализовал действительно нечто
примечательное и достойное интереса и одобрения — то, что мог
бы и хотел при более благоприятных обстоятельствах
реализовать и сам невротик. Поэтому раздражение невротика
навязчивости находится не там, где он просто возмущен успехом более
η
н
I
ш
■о
Π)
ui
Π)
I
Η
ш
Π)
Ш
I
о
Π)
■о
χ
2
о
25
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
26
удачливого Другого и уверен, что тот успеха не заслуживает,
потому что успех должен был достаться лично ему как более
достойному. Ситуация гораздо сложнее и не укладывается в то,
что можно было можно было бы назвать «культурной
константой», если считать, что сегодня культурная константа — это,
прежде всего, соревнование экспертов в различных областях.
Но эксперт никогда к своей экспертности не сводится — у него
есть какое-то желание, чутко распознаваемое невротиком
навязчивости и сказывающееся не столько в успехах эксперта,
столько в его промахах.
Иногда отношения с этими промахами психологи наивно
называют «перерастанием». Нам объясняют, что всякий раз,
когда мы разочаровываемся в некогда вызывающей наше
восхищение фигуре и готовы искать другую (почему-то это
обозначается наивным эвфемизмом «идти дальше», хотя никакого
движения здесь нет), то происходит это потому, что мы каким-
то волшебным образом переросли ее уровень. Все эти
объяснения не имеют к аналитическому подходу никакого отношения,
поскольку пресловутой категорией «развития» он не
оперирует. Речь идет исключительно об отношениях с Другим в рамках
симптома, и если говорить о симптоме обсессивном,
навязчивом, то на первый план в нем выходят операции с тревогой.
Что происходит тогда, когда фигура, не просто поразившая
нас своей компетенцией, но и как будто обладающая знанием,
задающим этическое измерение — то есть многообещающая
в области всяческой моральной и интеллектуальной
добросовестности — когда эта фигура вдруг обнаруживает изъян на
уровне рефлексии своего продукта? Например, там, где она
рекомендует воздерживаться от какого-либо способа
суждения как наивного или предосудительного, но сама допускает
подобное же суждение в других областях. Или там, где Другой
представляет высочайший стандарт философствования или
успеха в области науки или искусства, он неожиданно
допускает нечто такое, что с его позицией как будто не вяжется, —
например, берет грант, происхождение которого, как мы
считаем, его порочит, или делает заявления, роняющие его с ранее
достигнутой высоты, которую тем не менее потерять он уже не
может, потому что место за ним так или иначе закреплено.
Обнаружение такого рода изъянов всегда является чем-то
тревожащим, но у невротика навязчивости они вызывают настоящее
Невроз навязчивости и тревога психоаналитика
возмущение — он буквально не может с этим смириться. Вся
его дальнейшая деятельность на уровне требования к Другому
строится именно на этом обнаружении. Эволюция, всякий раз
происходящая в отношениях с этим Другим у обсессика,
заключается в том, что поначалу Другой в его глазах занимает
свое авторитетное место по достоинству и только потом это
место начинает казаться невротику занятым в результате
злоупотребления.
Эта подмена лежит как в основании навязчивого фантаз-
ма, так и в основании фантазма современной публичной
среды в целом. Всякий раз наше внимание сфокусировано на
субъекте, который поначалу нам казался образцом этических,
научных, эстетических и тому подобных стандартов, и вдруг
выяснилось, что этим стандартам в части случаев он не
соответствует. Все это, таким образом, происходит на уровне того,
что Лакан называет «Я-идеалом», который подобное
соответствие как раз и призван отрегулировать. Именно возле этого
Я-идеала невротик навязчивости и курсирует с неустанностью
этического комитета с тем лишь отличием от последнего, что
он не имеет ни возможности, ни смелости вынести
окончательный вердикт. В результате он мечется между двумя
побуждениями — с одной стороны, он как будто уверен в фигуре, к
которой прикреплен его взгляд, поскольку ее Я-идеал является
также его Я-идеалом — здесь происходит то, что психология
неизбирательно и неточно называет «идентификацией»,
подразумевая под ней всяческое согласие с позицией и методами
Другого. В то же время невротик навязчивости не может не
видеть, как его кумир, которого он назначает носителем
собственного желания, постоянно привносит в его реализацию
какую-то порчу. То, в чем навязчивый невротик обвиняет своего
кумира, — это предательство, в связи с которым становится
неполноценным и бытие такого невротика, что и вынуждает
его причинять себе ряд психических неудобств, которые
представляют собой типичные компульсивные терзания возле той
или иной случайной задачи. Пройти по определенным
трещинам в тротуаре или же тридцать три раза прочесть молитву
«Отче наш» — все эти типичные испытания, которым невротик
навязчивости себя подвергает, служат лишь тому, чтобы
проверить себя на прочность перед лицом того напряжения,
которому невротика навязчивости подвергает присутствие в его
η
н
I
ш
■о
Π)
ui
Π)
I
Η
ш
Π)
Ш
I
о
Π)
■о
χ
2
о
27
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
28
поле внимания Другого, предположительно со своими
обязанностями не справляющегося.
Тревога этого Другого, которую тот предположительно по
поводу своих огрехов должен испытывать, становится
тревогой самого субъекта навязчивости. Проблема навязчивого
невротика, таким образом, заключается в том, что он тревожится
не своей тревогой — на место, для его собственной тревоги
предназначенное, помещается та несостоявшаяся тревога,
которую этот невротик силится в Другом усмотреть. Вот та
новация, то неожиданное положение, к которому Лакан осторожно
подводит, но прямо так и не озвучивает. Тот плотный текст,
который в конце десятого семинара полностью адресовывается
невротику навязчивости — а это полторы главы , где Лакан
показывает, в чем именно пресловутая одержимость (obsession)
состоит, — является текстом, в котором мы можем
расшифровать те пути, по которым проходят не только формирование
навязчивого симптома, но и функционирование того, что Лакан
называет «тревогой» и «знанием».
Знание навязчивого невротика — это знание о промахах
в целом успешного Другого. Тревога навязчивого невротика —
это та тревога, которую Другой не испытывает (и поэтому в ее
игнорировании повинен, в чем его невротик и упрекает), но
которую он должен бы испытывать, и поэтому невротик
навязчивости приносит ее дань за него. Этим его страдание и
обусловлено. В этом смысле те навязчивые движения, которые
он совершает, те вынужденные выборы между плохим и
худшим, которые он делает, те неверные шаги, которые он
предпринимает, когда спешит совершить действие и понукает себя,
а потом обнаруживает, что торопиться не следовало и его
поспешность вышла ему же боком, целиком и полностью
указывают на присутствие Другого, который свою тревогу презрел
и тем самым вынудил внимательного свидетеля его
деятельности взять удар на себя.
Любопытно, что, не прибегая к помощи типичного
марксистского культурализма, Лакан делает выводы о широком
присутствии навязчивого симптома в современности — в том
числе там, где индивидуальный анализ его обнаруживает лишь
косвенно. Например, наша салонная интеллектуальная
культура в области образования в самом широком смысле этого
слова — что она такое, как не наблюдение за тем Другим,
Невроз навязчивости и тревога психоаналитика
который поначалу выступает педагогом, водителем, гуру, но
потом заставляет нас обнаружить, что высоким стандартам,
о которых он говорит, он соответствует не всецело? То, с чем
мы никак не можем смириться, что вызывает у нас возмущение
и желание раскритиковать его прилюдно, — желание, которое
сегодня немедленно удовлетворяется с помощью тех же соцсе-
тей. Чем является сегодня художественная, журналистская
или, в конце концов, письменная культура, культура академии?
Это всегда культура соревнования на уровне Я-идеала,
базирующаяся на ожидании, что признанный сообществом субъект
на уровне акта высказывания выдержит те стандарты, о
которых он заявляет на уровне содержания высказанного. Перед
нами тревога, связанная с тем, что существует некоторое поле
признанных, которые, как нам кажется, тревоги больше не
испытывают, поскольку их авторитет якобы должен придать им
уверенности. По ту сторону этой уверенности, которая может
показаться заносчивой и оскорбительной, но которая на деле
нас поддерживает и без которой мы сами ни шагу ступить не
можем, существует поле, в котором мы неспособны
действовать, потому что в том месте, где должно располагаться наше
прекрасное творчество, находятся лишь промахи
авторитетного Другого, занимающие наше внимание и вызывающие у нас
тревогу. В чем ни в коем случае нельзя обмануться, так это
во владельце этой тревоги: даже если ее испытываем мы,
принадлежит она все равно Другому. В поле, заданном неврозом
навязчивости, расплачивается всегда не тот.
Это подсказывает нам, почему невротик навязчивости,
невзирая на свою условную неанализабельность, связанную
в первую очередь с тем, что в анализе он руководствуется той
анальной экономикой блага, которой он вообще, как правило,
руководствуется, все же в анализ стремится. С одной
стороны, аналитик, как правило, невольно идет в этой экономике
ему навстречу, поскольку невротик навязчивости всегда
организует поле так, что отказать ему невозможно — ведь он
готов платить и расплачивается, как правило, еще до того, как
об оплате вообще заикнулись. Поэтому анализ навязчивости
и длится так долго: продвигаясь благополучно, он тем не менее
не может состояться — другими словами, как анализ он не
заканчивается. Это первая причина, почему невротик
навязчивости или не приходит в анализ, или, приходя, в него какое-то
η
н
I
ш
Ό
Π)
ui
Π)
Ι
Η
Ш
-Ρ
Π)
Ш
Ι
Ο
Π)
■σ
2
О
29
Желание одержимого
CL
О
eu
о
CÛ
о
X
(T3
(Ό
m
u
О
m
τ
го
ce
m
ζ
m
О
CL
m
(U
X
30
время не вступает, располагаясь поодаль. Аналитик при этом
является для невротика навязчивости фигурой, которой он не
доверяет так же, как и всем прочим, — его сопротивление не
делает для аналитика никаких исключений.
В этом плане все то, что Фрейд, развивая на истерическом
материале свое учение о переносе, преподнес последователям
как величайшую драгоценность, оказывается в случае обсес-
сии заведомо обесцененным. Обсессик не станет делать то,
что делает классический истерический субъект: он не одарит
аналитика тем невозможным и странным доверием, которое,
делая истерического субъекта в анализе внешне столь
несговорчивым, в то же время превращает его в рупор желания
аналитика. Напротив — и это вторая причина затруднительности
анализа навязчивости — невротик навязчивости представляет
собой субъекта, который, как было выше сказано, носит
предчувствие знания аналитика в себе самом. Не имеет значения
то, что он не в курсе тех неожиданных поворотов, которые
в анализе могут произойти: важно то, что он всегда опережает
любого собеседника — и аналитик вовсе не становится
исключением — по меньшей мере, на один шаг. Его симптом
организован не возле каких-то конкретных содержаний или
травматических воспоминаний, а возле структуры субъектности как
таковой. Иначе быть и не может, ведь то, что ему мешает, —
это субъектность Другого, который от невротика ничем, кроме
полученной признанности, не отличается.
Неудивительно, что для аналитиков, строго наследующих
Фрейду даже там, где они его понимают не до конца, далеко
не очевидно, что анализ мог бы как-то разрешить эту
ситуацию. Поскольку аналитики не занимают метапозицию знания
в отношении невроза навязчивости, как это они так или иначе
делают в случае истерии и психоза, приходится признать, что
навязчивый симптом вызывает у них самих сильное
беспокойство. Нет другого такого пациента, который подошел бы
ближе к самим опорам аналитической теории, нежели подобный
невротик.
Именно поэтому данный анализ вызывает у
психоаналитика особенную тревогу. После всех упреков
постструктуралистской философии, потребовавшей признать, что никакого
метаязыка нет и что метапозицию мы, даже обладая знанием,
не занимаем, для этой метапозиции все еще открываются ла-
Невроз навязчивости и тревога психоаналитика
зейки. Так, в случае с психотиком или, например, аутистом
очевидно, что, о каком бы «равноправии» с ними специалист
не заявлял, он в лучшем случае обречен на лукавство. Мета-
позицию он так или иначе займет — и не только потому, что
названные группы пациентов часто лишены речи или, по
крайней мере, чего-то существенного в символическом, но и по той
причине, что ни психотический, ни истерический субъект не
приносят с собой никакого иного знания, кроме того, что
намертво впечатано в их симптом.
Напротив, как уже было сказано, обсессик приносит в
анализ не симптом, а отражение позиции, занимаемой самим
аналитиком — он говорит, пусть и на другом уровне, о тех же
вещах. Последнее неудивительно — ведь его позиция
организована как картезианская. Наивность некоторых биографов
Фрейда, полагавших, что последний эту позицию покинул
ввиду того, что им было «открыто существование
бессознательного», разбивается о тот факт, что картезианство — это не
столько метафизика сознания и Эго, сколько определенным образом
организованное желание. То, что именно это желание лежит
глубоко в основании желания аналитика, было для Лакана
очевидно. Иное дело, что разница между желанием аналитика
и желанием обсессика действительно существует, но далеко
не как между разными желаниями, а как между одним и тем же
желанием, поначалу доаналитическим, а впоследствии тем,
которое до сих пор крайне загадочно вслед за Фрейдом называют
«желанием проанализированным».
Именно это предельное сходство режимов желания толкает
невротика навязчивости в анализ — даже если от своих
симптомов он страдает довольно слабо. Но именно она же мешает
невротику навязчивости в анализ войти: ведь войти в анализ
означает поступиться своей речью. Но речь у обсессика всегда
есть. Она у него в избытке, в отличие от истерички или
психотика. Он переговорит кого угодно.
Будет уместно задаться здесь вопросом, для чего
невротику навязчивости необходим анализ. Стоит отметить при этом,
что все те приведенные выше резоны, которые показывают,
что анализ для него скорее избыточен, могут быть при
малейшем изменении угла зрения обращены в необходимость
анализ ему рекомендовать — ведь невротик навязчивости,
будучи в своем роде аналитиком стихийным, прекрасно заме-
Ό3
η
н
s<
ъ
п>
л
s
п>
I
ω
■о
си
л>
Η
ш
J=
Π)
ω
о
-о
31
Желание одержимого
CL
О
eu
ь
О
CÛ
о
ζ
ω
χ:
(Ό
m
u
Ο
m
τ
ce
m
(Ό
ζ
m
Ο
Ο.
m
eu
Χ
32
чает, что он говорит слишком много. Это вызывает у него
неудобство — даже без каких-либо намеков со стороны
аналитика он чувствует, что его речи чего-то не хватает и что у нее
есть какое-то внешнее измерение, ему самому недоступное,
но сказывающееся на этой речи фатально. В какой-то
степени анализ как практика, по существу, и создан для анализа
навязчивости, и Фрейд это, конечно же, подозревал. Невроз
навязчивости приковывал его особое внимание, он оставлял
в отношении него такие замечания, каких он никогда не
делал по поводу истерических случаев. Сегодня мы, опираясь
на Лакана, видим, что анализ не является чем-то, что должно
было бы симптом невротика навязчивости проанализировать.
Симптом невротика навязчивости еще до всякого анализа
выполняет ту самую функцию, о которой говорил Лакан, требуя
для симптома права преобразоваться и лечь в основу бытия-
с-наслаждением.
Последнее не означает никаких райских кущ и говорит лишь
о том, что разрешение симптома в анализе представляет собой
его переход от страдания особенного, являющегося специально
отработанным доступом к прибавочному наслаждению, к чему-
то, что поставит вопрос наслаждения на всеобщую
символическую основу. Если ранний, открытый в фрейдовском анализе
симптом представляет собой нечто выразительно болезненное,
бросающееся в глаза и не совпадающее с субъектом в целом —
как например, соматическая конверсия у истерички или фобия
у носителя тревожного симптома, — то в случае
навязчивости симптоматология уже расположена на уровне субъектной
структуры. Строго говоря, это и есть определение синтома:
место сращения бытия с наслаждением. Если это бытие-с-на-
слаждением, собственно, и будет разрешением невроза, то
несомненно бросается в глаза то, что навязчивый субъект еще до
входа в анализ обладает по крайней мере карикатурой на нечто
такое, что должно быть из него выходом.
Что, в таком случае, отделяет тот усложненный и в то же
время однотипный способ обхождения с наслаждением,
который невротик навязчивости кропотливо вырабатывает в
течение всей жизни, от того, что должно получиться в результате
анализа? Очевидно, что близость обсессика к позиции
аналитика — близость настолько интимная, что аналитику порой
просто трудно ее вынести, — тем не менее показывает карди-
Невроз навязчивости и тревога психоаналитика
нальное различие в том, к чему идеально подходит в качестве
ключа именно вопрос соискания авторитета и признанности.
Вопрос этот отсылает к возможности посмотреть на анализ
в той оптике, в которой на него смотрит Лакан. Именно эта
оптика подводит его к тому, что анализ не представляет собой
ни сотрудничество с субъектом, ни поддержку здравой части
Я. Напротив, анализ является тем, что представляет субъекту
пример признанности иного типа. По всей видимости, именно
здесь находится место аналитической тревоги, о которой выше
было сказано, что она мешает аналитикам заниматься
невротиками навязчивости — по крайней мере, в теории — и
побуждает их искать другие симптомы, экстравагантность которых
занимает их почти полностью. Невротика навязчивости,
конечно, берут в анализ — не взять его туда просто не
представляется возможным, поскольку он всегда найдет лазейку, — но
с привносимым им в анализ знанием не работают теоретически
и не уделяют его осмыслению достаточно времени.
Навязчивость не кажется специалистам тем, к чему анализ должен
прилагать достаточное количество усилий: осмысление невроза
навязчивости представляет собой для аналитика дисциплину
скорее факультативную, и это при том, что дело обстоит не
так, будто аналитик может им заниматься или не заниматься,
как в случае психоза.
Другим словами, тот же психоз для аналитической
повестки является подлинно факультативным предметом (в точном
смысле латинского происхождения этого слова, означающего
не «необязательность», как привыкли считать, а именно
«возможность»). Как раз потому он так привлекателен для
специалистов и способен как войти в моду, так из нее и выйти.
Напротив, обсессивный невроз, при всей его ненавязчивости
в области практики и внешней нетребовательности
навязчивого субъекта в анализе, не является предметом, который
аналитик мог бы отложить, подождав, не произойдет ли в нем
что-либо само собой. Другими словами, невроз навязчивости
не является всего лишь одним из предметов приложения
психоанализа. Структура навязчивости заходит и на
аналитическую территорию, она касается психоаналитика и его подхода
в целом. В какой-то степени сам психоанализ как
дисциплина представляет собой преобразованный и проработанный
Фрейдом исход того положения, в котором находится субъект
σο
η
н
I
s
I
ω
■α
л
Η
ω
s
ft
Π)
ω
о
-о
о
33
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
34
современности. Субъект этот, как мы знаем, испытывает
неудобство, «неудовлетворенность культурой», и она, как Фрейд
показывает в этой работе, в области сексуальности носит
черты обсессивного расщепления: то любовное томление, в
которое временами субъект впадает, неспособно найти свою
разрядку в подобающем ему сексуальном отправлении.
В этом плане анализ не прилагается к неврозу навязчивости
как одному из предметов его метода, а по существу из него
вырастает и к нему же должен возвратиться. Это не мешает
нам заниматься психозом или аутизмом. Речь лишь идет о том,
что навязчивость находится на уровне анализа в принципе —
она вложена в аналитический дискурс, чего не происходит ни
с истерией, ни с позицией неговорящего аутиста, ни с
позицией бредящего психотика.
В этом отношении вопрос признанности касается
аналитика напрямую, ибо кому как не аналитику надлежит эту
альтернативную признанность невротику навязчивости предложить?
В мирке обсессивного субъекта изначально существует только
один Другой, добившийся признания, но в то же время
допускающий злоупотребления и промахи, по причине чего
навязчивый невротик хотел бы в голос выкрикнуть, что этот Другой
разоблачен, что ему надлежит сойти со своего места или, по
крайней мере, принести извинения, поскольку его
признанность держится, скорее, общими заслугами, заданный
которыми уровень этот Другой не выдерживает. В случае анализа
невротик навязчивости сталкивается с Другим совершенно для
него неожиданным, поскольку аналитик представляет собой
субъекта, который не обязан ни науке, ни академии, ни каким-
либо иным сферам, где борются за признанность в политике
или в медиа. Тем самым в глазах невротика навязчивости он
является фигурой, которая, не будучи авторитета совершенно
лишена, при этом представляет собой то, что можно было бы
назвать субъектностью иного сорта. Эта субъектность также
порождает соответствующую инстанцию признанности,
спорить с реальностью которой невротик навязчивости не может,
но в то же время он не способен указать ни на одно действие,
которое поиск этой признанности и следующую за ней тревогу
бы подтверждало.
Это важный момент, поскольку однозначно говорить, что
аналитик совершенно не ищет признания, совершенно бес-
Невроз навязчивости и тревога психоаналитика
полезно. Известно, что с одной стороны аналитики склонны
держаться инклюзивно, образуя своего рода тайный орден,
в который не так легко пробраться, поскольку анализ нечасто
выходит на публику и не склонен на ее суждения опираться.
Но в то же время невозможно не заметить, что в этой
инклюзивное™ наличествует противоречие с позицией Фрейда,
который выступал на публике постоянно и искал признания
для новоизобретенной им дисциплины именно через открытые
публичные лекции. Известно, что это касается и Лакана: его
семинар до самого конца оставался институцией
совершенно открытой для посещения. И Фрейд, и Лакан, что бы там
ни говорили и как бы ни указывали на их бескорыстие и
погруженность в дело анализа, тем не менее были субъектами
публичной признанности. Они добивались признания, тем
самым вызывая зависть и другие рессентиментные аффекты
современников именно по той причине, что их признание было
всеобщим фактом. Именно по этой причине возникает вопрос,
как это вообще вяжется с аналитической деятельностью.
Лакану даже удачнее, чем Фрейду, — по причинам, которые
можно проследить в его текстах, а также в биографии, —
удалось показать, что аналитик может быть публичной фигурой,
читающей лекции и выходящей на сцену, вызывая тем самым
чувство соперничества и, казалось бы, будоража в
окружающих субъектах их навязчивый симптом, сопряженный с
тревогой по поводу возможности получить признание. Тем не менее
в положении Лакана как аналитика — даже в виде публичного
лица — была важная особенность, которая полностью
видоизменяла обычный сценарий транзита этой тревоги от
признанного лица к его обсессивному наблюдателю. Предъявляя
знание, аналитик не претендует на признанность в той структуре,
где она отмечена символическим знаком экспертности. Будет
ли эта признанность выражена в какой-нибудь диссертации
или благословении каких-либо высших инстанций и
преуспевающих основателей профессии, так или иначе, все это имеет
основу, которая выступает ее «символической меркой».
Другими словами, это означающее.
Как мы знаем, в случае аналитика никакого означающего
нет. На его месте, в том дискурсе, который Лакан предлагает
в семинаре «Изнанка психоанализа», находится объект а. Тем
самым Лакан заостряет то широко известное обстоятельство,
из
η
н
Ъ
п>
I
ш
Z2
Ό
Π)
ui
Π)
Ι
Η
Ш
-Ρ
Π)
Ш
Ι
Ο
Π)
■σ
2
О
35
Желание одержимого
CL
О
eu
о
CÛ
о
X
(T3
(Ό
m
u
О
m
τ
го
ce
m
ζ
m
О
CL
m
(U
X
36
что каждый аналитик является для своего анализанта чем-то
одинаково потусторонним и при этом совершенно
неопределенным, независимо от его светских публичных заслуг. Другими
словами, он признан, но эту признанность не измерить — она
не конвертируется в эквивалент символического. Если любая
признанность ученого, политика, художника или спортсмена,
конвертируется в какие-либо другие символы и находит свое
место во всеобщей иерархии чинов, упразднение которых
в истории нимало их не отменило, то с аналитиком этого не
происходит — на его месте своего рода тупик
символического. В анализ можно прийти только за определенными вещами,
и ни одна из них со всеобщей признанностью не имеет
никакого дела. Бесполезно апеллировать к аналитику как к субъекту
авторитетному, ибо он нигде не авторитетен, кроме разве что
своего крайне узкого сообщества, и то не всегда, как это
произошло в случае Лакана, который, растеряв авторитет в среде
классических аналитиков, приобрел его в совершенно другом
месте, не получавшем никакого определения вплоть до
официального возникновения его собственной школы, объявление
о которой ничего по сути не изменило.
Именно потому, что аналитик не обладает авторитетностью
в пространстве научной или иной экспертной публичности,
он представляет место, где вопрос о признанности ставится
в совершенно иных координатах. По этой причине аналитик
и может представлять для субъекта навязчивости интерес —
более того, никто, кроме субъекта навязчивости, не способен
эту опцию аналитического места оценить в должной степени.
Мы знаем, что обсессика гонит в анализ то, что своими
отношениями с большим Другим он порядком изможден. Даже если
подоплека этих отношений для него неочевидна — а так, как
правило, и случается, — он все равно находится в них каждую
секунду, принимая их при этом за отношения с собственной
субъектностью. Иными словами, не видя Другого, не
осознавая, из какого места тот наделяется могуществом самим же
невротиком, невротик принимает за него самого себя.
Именно это обуславливают ту высочайшую степень
рефлексивности, картину которой этот субъект представляет:
его способность постоянно наблюдать за собой и давать себе
в своих действиях критический самоотчет поразительна и не
раз представлялась со стороны чем-то чудесным. Есть в куль-
Невроз навязчивости и тревога психоаналитика
туре такие области, где этой способностью неплохо можно
воспользоваться и даже сколотить на ней символический
капитал — например, в области литературы, предоставляющей
для рефлексивного повествования очень благодарную почву.
Но, с чисто аналитической точки зрения, данная способность
является не чем иным, как подменой собой Другого в
Воображаемом.
Подмена эта совершается достаточно легко, поскольку
нигде в прибегании к ней невротик навязчивости не
обнаруживает никаких препятствий. Его нагруженный тревогой Другого
Идеал Я, на котором все обсессивные игры с признанностью
и строятся, позволяет ему занимать место
предположительного Другого с той же легкостью, с которой он спекулирует на
функции этого идеала в целом, претендуя на роль
независимого и бесстрастного наблюдателя тех процессов, которые на
деле полностью обусловлены проявляемой им тревогой.
Мерка, которой невротик навязчивости измеряет наблюдаемые им
поступки своих близких, всегда ищет себе подтверждения
извне, но реализуется при этом лишь в воображаемом
самонаблюдении, где все критерии наиболее строги. Судя Другого за их
нарушение и подчеркнуто забывая, что эти критерии именно
от Другого он и почерпнул, невротик навязчивости
воображает, что он способен на роль Другого сам — именно эта
особенность отмечает его симптом характерным и неповторимым
своеобразием, которое замечают все, так или иначе с этими
невротиками сталкивающиеся.
По этой причине не психотерапевт и не врач, признанность
которых вполне конвертируется в другие эквивалентные
символические значения, а именно психоаналитик может быть
для навязчивого невротика фигурой столь же притягательной,
сколь и неподконтрольной. То, что у аналитика нет никакой
признанности, кроме того знания, которым он как аналитик
обладает, ставит субъекта в положение, где его адресованное
Другому требование буквально повисает в воздухе.
Следует оценить мудрость Фрейда, оставившего нам в
наследство то, что обычно называют сеттингом — сводом
формальных правил организационного взаимодействия с анали-
зантами. Поначалу сеттинг сам по себе может казаться сводом
почти что навязчивых, анально скрупулезных предписаний
относительно времени, характера взаимодействий и дистанции,
σο
η
н
I
s
I
ω
■α
л
Η
ω
s
ft
Π)
ω
о
-о
о
37
Желание одержимого
CL
О
eu
о
CÛ
о
X
(T3
(Ό
m
u
О
ω
τ
m
ce
m
ζ
m
О
CL
m
(U
X
38
которую необходимо с анализантом удерживать. До
определенной степени так и есть — собственная навязчивость
Фрейда несомненно наложила на правила ведения практики некий
анальный отпечаток. Но именно здесь — хотя бы в силу того,
что речь как-никак идет о власти аналитика делать из своей
навязчивости закон на уровне аналитического желания —
открывается способ с навязчивостью как раз таки порвать.
Достигается это уже тем, что в анализе невротик навязчивости
вынужденно вступает в совершенно новые для его симптома
отношения со временем. Если, предоставленный сам себе, он
спонтанно и в любое подходящее ему время вступает в
привычную для него роль придирчивого критика, имеющего дело
с промахами Другого в символическом, в анализе ему в
согласии с расписанием приема приходится косвенно признать, что
для критики, как и для ее отсутствия, есть определенные часы.
Поскольку аналитик не представляет собой Другого в том
смысле, в котором невротик навязчивости обычно имеет с ним
дело, столкнувшись с сеттингом, субъект в анализе волей-
неволей уясняет, что его собственное время, отведенное для
счетов с Другим, также может быть нормировано — нередкие
замечания на тему того, что сеттинг представляет собой некое
сообщение со стороны аналитика, верны, но редко
раскрывается, в каком именно смысле.
Все свои предписания Фрейд адресует именно тому, кто
в анализе хотел бы занять позицию, отличную от позиции
специалиста. Перед нами различие не только организационное,
но и структурное. Сама эстетика анализа подсказывает, что
аналитик не является специалистом-профессионалом: тот
комически-почтительный ореол, который часто аналитика
окружает, как раз и является защитой от конвертирования его
действий в анализе в экономику признания — ту самую,
которая является для невротика навязчивости тяжким бременем.
С аналитиком бессмысленно соперничать — даже если у него
есть тревога, для анализанта благодаря сеттингу она остается
недоступной и неусвояемой.
Все это означает изменение в анализе того направления, по
которому в случае невроза навязчивости циркулируют тревога
и знание. Иногда об этом говорят как о «контейнировании»,
понимая под этим способность аналитика выносить исходящий
от анализантов натиск и отказ отвечать на него аналогично,
Невроз навязчивости и тревога психоаналитика
но для описанной Лаканом аналитической ситуации это
совершенно излишний термин. Дело не в том, что способен вынести
и присвоить аналитик, а в том, от чего удается отказаться об-
сессику. Не имея в анализе необходимости собирать о Другом
сведения и присваивать его тревогу, невротик навязчивости
получает возможность совершить другую операцию, которую
Лакан называет «разделением тревоги», возможностью отдать
ее вместо того, чтобы присваивать.
Речь, разумеется, идет не о том, что в анализе можно
поделиться всем тем, что в другой ситуации субъект оставляет
потаенным. Известно, что в большинстве случаев речь идет не
о темнейшей стороне сексуального опыта, не о затаенной
травме, но лишь о том, что окружающим покажется неуместными
и странными пустяками — и тем не менее это именно то, что
невротик навязчивости не может никому, кроме аналитика,
сообщить. Однако, совершая это, к разделению тревоги ана-
лизант не переходит. Более того, пока ему есть что сказать —
пока он находится в той фазе, где ему необходимо аналитика
переубедить, заручиться его взглядом, — операция эта от него
закрыта. Тем не менее по мере того, как анализ все больше
выбивает у субъекта навязчивости почву из-под ног — чем
более обнажается тот способ, которым этот субъект привык со
знанием, украденным у Другого, обходиться, тем более
проясняется его «желание удержать» не только те объекты и
намерения, которые он накапливает и прокрастинирует в больших
количествах, но и собственно тревогу Другого, которой
навязчивый невротик так негуманно себя обременил.
Подобная возможность всегда остается своего рода
обещанием, шансом, чем-то не гарантированным, но тем не менее
если и есть позиция в пространстве, на которой невротик
навязчивости мог бы почувствовать себя не на коне и быть
вынужденным с него спешиться, то это ситуация анализа. Именно
этого в ходе анализа и необходимо добиваться.
Чтобы эта возможность оказалась доступна, необходимо
всегда иметь в виду вышеупомянутую сращенность позиции
аналитика со знанием невротика навязчивости. Дело не только
в том — хотя это важно и часто недооценивается, — что
анализ не до конца свободен от тех пороков и страстей, которые
носят на своих волнах невротика навязчивости. В анализе, на
его профессиональном поле, тоже есть место соперничеству
η
н
Ъ
п>
I
ш
Z2
Ό
Π)
ui
Π)
Ι
Η
Ш
л
Π)
Ш
Ι
Ο
Π)
■σ
2
О
39
Желание одержимого
CL
О
eu
о
OÙ
о
X
03
03
m
u
О
ω
y
DC
m
оз
χ
m
О
CL
m
eu
X
40
и там всегда близки к той же операции, посредством которой
невротик навязчивости прикрепляется к Другому, выискивая
его недостатки. Более того, хорошо известно, что эта черта
свойственна аналитикам в своем кругу гораздо резче, нежели
в кругах иных специалистов, способность которых измерить
признанность друг друга понятными символическими
лекалами до определенной степени держит их тревогу в узде. Тревога
аналитиков по поводу друг друга оказывается в разы сильнее;
соответственно, сильнее и та ревнивость, которая им
свойственна — черта, удивляющая случайно столкнувшегося с ней
независимого наблюдателя, наводящая его на мысли о
недостаточной проанализированности многих заметных в
аналитическом поле известных фигур. На деле, речь идет именно
о тревоге. Полагать, что эта тревога может быть преодолена
повторным анализом или неусыпным контролем супервизоров,
по меньшей мере наивно — ведь такой контроль еще сильнее
прикрепляет аналитика к его месту и, стало быть, может вести
только к усилению связанных с ним эффектов.
Именно поэтому, будучи не в силах эту тревогу выносить,
аналитики, вопреки фрейдовской беспечности в этих вопросах,
стремятся выработать в своей среде нечто такое, что
напоминало бы специальный институт. В анализе имеют место разные
символические статусы, связанные с требованиями к
аналитику, — это может быть соответствующее образование или
формальное членство — все то, чего Фрейд старался по
возможности избегать. Другое дело, что он ничего не предложил
своим адептам взамен, так что инструменты борьбы с тревогой
им пришлось изобретать самостоятельно. По всей видимости,
полностью избежать всего этого невозможно, и требовать
этого не следует. Когда настаивают на чистоте позиции
аналитика как на том, что некоторые последователи Лакана называют
«чистотой аналитического желания» (есть даже специальный
термин, который обозначает нечто такое, что в анализе не
подвержено никаким посторонним наслоениям, ведущим во внеа-
налитическую область), здесь до известной степени лукавят.
На практике так дело не обстоит, поскольку анализ, как и
любая другая публичная деятельность, со своей закулисной
изнанки предстает как предмет неустанной внутренней борьбы:
существуют различные выяснения относительно того, какая
организация является более достойной для вынесения вердик-
Невроз навязчивости и тревога психоаналитика
та о способности аналитика вести анализ. Все эти черты, какое
бы разочарование они нам ни несли, лишь подкрепляют нашу
собственную обсессивную позицию, из которой мы по какой-то
причине считаем, что аналитик должен быть идеальным — то
есть полностью лишенным побуждений такого рода.
Напротив, все то, что желание самого первого аналитика
принесло в образованную им дисциплину, следует считать
неустранимым. Известно — и это вовсе не порочащий его
факт, — что признанности он желал более, чем чего бы то ни
было другого, и уже по этой причине даже не самые
амбициозные психоаналитики в своей среде ведут себя так же, как
навязчивые субъекты. Другое дело, что это не касается того, что
Фрейд называет ситуацией анализа. Поэтому Фрейдом с такой
бережностью и были прописаны соответствующие правила
поведения в аналитической ситуации, хотя сам он, как хорошо
известно, никогда не был образцом ангельской терпимости,
равно как и его ученики, которые благополучно
перессорились, не дожидаясь его смерти.
Именно Фрейд впервые указал на то, что существует
определенное место, которое можно очертить речью аналитика.
Это место того самого соперничества, поиска большого
Другого, который в наших глазах согрешил и поэтому будет вечно
перед нами искупать свою вину. При этом в ситуации анализа
можно найти другой дискурс, другое место для речи. Если
невозможно полностью и навсегда избавиться от этих игр с
изъяном Другого, то возможно по крайней мере начать с другого
места.
Поиск места становится в клинике навязчивости вопросом
кардинальной важности, и происходит это потому, что
невротик навязчивости в момент прихода в анализ всегда
обнаруживает себя уже в соперничестве, которого сам он как будто не
начинал: он не знает, как все случилось. Ему известно лишь то,
что Другой дал своей деятельностью какие-то обещания и не
выполнил их, потому что о них в тот момент даже не
подозревал. Самому невротику он ничего не должен. Тем не менее
от молчаливых претензий со стороны последнего его это не
освобождает.
Именно в анализе возникает шанс вернуться на какой-то
другой уровень, где это соперничество в его символической
значимости инициировано самим невротиком. Чем больше
σο
н
I
s
I
ω
■α
л
Η
ω
s
ft
Π)
ω
о
-о
о
41
Желание одержимого
CL
О
eu
о
CÛ
о
X
(T3
(Ό
m
u
О
ω
τ
m
ce
m
ζ
m
О
CL
m
(U
X
42
исходящий от него соблазн спровоцировать аналитика, тем
ярче высветится то, что история, в которой он как будто бы не
принимал участия и в которой обвинял Другого, адресована не
только ему, но и всем тем, кто как будто занял пассивную
позицию по отношению к творимым Другим бесчинствам. То, чего
невротик навязчивости требует, — это прежде всего огласки
этих бесчинств.
Все это не исключает того, что самым сокровенным
желанием невротика навязчивости является занятие позиции, где он
участия не принимает, — позиции, традиционно называемой
позицией наблюдателя. Позицию эту принято критиковать как,
во-первых, недоступную, а, во-вторых, слишком удобную —
шизофренический характер некоторых образчиков
постструктуралистской критики метафизики здесь становится очевиден.
На деле, адресованный этой позиции этический упрек,
несомненно почерпнутый из декоративного немецкого
экзистенциализма, несправедлив, поскольку эта позиция, само желание ее
занимать, ввергает его обсессика череду невротических
страданий, о которых более или менее подробно написано в этой
книге. В частности, это страдание, связанное с очень
распространенным сегодня паническим синдромом с дереализацией,
которым, как это ни странно, мы обязаны Декарту и той субъ-
ектности, которую он привнес на европейскую сцену.
Это означает, что какой бы драгоценной позиция невротика
навязчивости для него самого ни была — позиция, в которой
он не уступает и хочет уйти неповрежденным, унеся свое
Благо с собой как то, что ему удалось урвать, — он неизбежно
уносит вместе с этим тревогу Другого, потому что Благо без
тревоги взять невозможно. Тем не менее он раз за разом
предпринимает вылазку, потому что она дает ему иллюзию, будто
он является субъектом какой-то активности, где этический
закон исходит от него, а вовсе не от того Другого, на которого он
возлагает ответственность.
Все это должно в анализе подвергаться исследованию и
рассмотрению — как на уровне собственно работы с невротиком
навязчивости, так и на уровне теории анализа. По всей
видимости то, что мы получили в наследство от Фрейда, безусловно
оказывается неисчерпанным и ни в коем случае не
бесполезным. Но при этом оно требует переформирования на базе того,
что предложил Лакан, при том что предложил он это перефор-
Невроз навязчивости и тревога психоаналитика
мирование очень давно и удивительным образом остался
неуслышанным. По существу, в области изучения невроза
навязчивости мы и сегодня по большей части находимся в старых,
еще долакановских координатах — не потому, что сказанного
Лаканом недостаточно, но по той причине, что его конспектно
и по случаю записанная теория символических отношений
невротика навязчивости с его Другим получила внимание
совершенно факультативное. Даже само понятие желания
аналитика, которое развивается носителями лакановской традиции
в примечательном духе чистоты и незатронутости, похоже,
также носит в себе координаты того самого, о чем Фрейд
говорил применительно к истерии, указывая на производимую
в ней операцию отрицания. Чем более на чистоте и
незапятнанности желания аналитика настаивают, тем более на первый
план выходит аналитическая тревога.
Тревога эта несомненно обязана тому, что чистота этого
желания не означает так называемой «нейтральности
аналитика», за призраком которой безуспешно гнались еще
фрейдистские специалисты. Очевидно, что желание аналитика не
безгрешно с точки зрения аффекта: ему тоже присущ соблазн
показать свою позицию в отношении наслаждения, от чего
последователи Лакана почему-то в определенный момент начали
предостерегать — как будто желание аналитика, даже будучи
чем-то особым, не является тем не менее желанием со всеми
присущими ему признаками в виде нехватки. Эта
удивительная ситуация непризнания реальности аналитической
тревоги должна найти какое-то разрешение, потому что она явным
образом заводит психоаналитиков в теоретический тупик.
В ситуации, где неврозу навязчивости Лакан из всего
своего наследия напрямую уделяет совсем немного времени,
существует возможность не только развить его положения, но
и сделать вывод о том, насколько близка ситуация
навязчивости делу анализа в целом. В обсессии заключено содержание,
которое впоследствии может быть плодотворно наложено на
лакановскую систему с тем чтобы показать, каким образом она
предлагает анализ, адресованный субъекту, имеющему не
просто страдание симптоматическое, но страдание, которое Жак-
Ален Миллер правильно определяет как тупик на уровне
структурного устройства субъектности в целом. То есть анализ, по
существу — и Лакан выводит его на эти рубежи — должен
из
н
л>
л
s
л>
I
ω
■α
л
Η
ω
s
ft
Π)
ω
о
-о
о
43
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
44
быть предназначен для работы не с симптомом, а собственно
с позицией субъекта навязчивости в отношении наслаждения
и знания. Для такого рода работы в лакановском тексте
находятся все основания. При этом необходимо произвести
определенную теоретическую работу, которая позволила бы их
выявить и положить в основание анализа в целом. Для такого
рода работы есть все предпосылки, и, если она не
производится, это означает, что в самой аналитической практике здесь
наличествует тревога и сопротивление. Аналитик в целом не
бежит невроза навязчивости, но то, что Альтюссер называл
теоретической практикой, устроено в его работе так, что данный
невроз не выходит в ней на первый план.
Известно, что чем более спорное место профессия
аналитика занимает в современном мире, тем более сильное давление
она претерпевает как со стороны государственных структур,
так и со стороны амбиций самих аналитиков, которые не
могут избежать того, что прочитывается ими как требование.
Именно это является наиболее слабым местом
аналитической практики, поскольку известно, что требование звучит
тем сильнее, чем более поврежденный субъект за ним стоит.
Именно это толкает анализ в работу с субъектами, чье
состояние выступает как наиболее нарушенное: они могут быть
отмечены психозом или аутичны, и само их
предположительное страдание дает специалисту опору, устраняя
аналитическую тревогу, связанную с тем, что аналитик ощущает себя
не занятым делом — другим словами, безработным.
Устранить связанное с этим состоянием напряжение можно только
включившись в проработку наиболее заметных случаев — так
и появляется аналитическое стремление работать на
переднем крае психопатологии, добиваясь успеха или, по крайней
мере, участвуя в разрешении характерных для нее проблем.
При этом невротик навязчивости остается фигурой крайне
скромной, не выдвигающей к аналитику никаких требований
и не предъявляющей никакой означающей стигмы. Бытие
невротика навязчивости не помечено означающим симптома
в принципе. Такого рода невротики не представляют собой
яркую нозологическую группу, как аутичные или, гораздо ранее,
истеричные субъекты — момент, который поначалу
ускользнул от Фрейда, но впоследствии раскрылся для него со
стороны совершенно новой. Навязчивый симптом, даже доставляя
Невроз навязчивости и тревога психоаналитика
разнообразные неудобства невротику, не помечает своего
носителя как субъекта нехватки, требующей специального и
профильного внимания. Именно по данной причине тем
настоятельнее работа с его случаем, поскольку она ставит аналитика
в ту позицию, которая пристала ему со стороны этической —
там, где анализ является деятельностью, не представляющей
для аналитика никакого интереса со стороны ответа на
требование. Если психоанализ как практика начинается с
деятельности, отмеченной сомнительностью особого рода — с работы
с истеричками, которые попали в медицинский оборот из-за
любопытства врачебных, а после и аналитических светил к их
симптому, — то обсессивный невротик приходит в анализ
совершенно добровольно, но в то же самое время не
демонстрируя никакого грубого страдания и довольствуясь
исключительно вниманием со стороны аналитика к своему бытию как
таковому.
Помимо этического выигрыша, приносимого аналитику
подобной работой, несомненен и тот теоретический выигрыш,
который она может сулить. Исходившие от Фрейда просьбы не
оставлять без внимания структуры навязчивости до сих пор не
воспринимаются как нечто серьезное. Тем не менее если
сегодня и возможно продвижение анализа именно в теоретическом
плане, со времен Лакана заметно застопорившееся, то оно
может быть достигнуто исключительно на базе изучения
навязчивой структуры. Именно эта структура является платформой,
на которой можно расставить лакановский инструментарий
и укрепить его в том опыте клинической подготовленности,
который анализ демонстрирует.
Когда мы читаем Лакана, то в первую очередь кажется, что
его теория обширна и из нее можно черпать бесконечно.
Другими словами, невозможно себе представить ситуацию, в
которой лакановский анализ потерял бы свое значение. Но мы
являемся свидетелями тому, как его значение рассеивается,
с одной стороны уходя в прикладную сторону и становясь
обслугой современного искусства, а с другой замыкаясь в
закрытую структуру тех, кто все еще готов этим анализом
заниматься.
Есть ли у невроза навязчивости потенции к такому же
сплачиванию адресованных ему теоретических усилий, как у
психоза? Мы знаем, что в этом плане сегодня функция психоза
η
н
I
ш
Ό
Π)
ui
Π)
Ι
Η
Ш
-Ρ
Π)
Ш
Ι
Ο
Π)
■σ
2
о
45
Желание одержимого
ΩΟ
<υ
О
ω
о
ζ
ω
m
и
о
m
τ
гп
ce
CÛ
ÎD
Ζ
m
О
CL
m
(U
X
несомненна. Тем не менее голоса аналитиков, утверждающих,
что именно на базе психоза ожидается прорыв в изучении
субъектности, в некоторой степени звучат как
рационализация — при всей своей поучительности психоз не представляет
собой сцену, где желание царило бы во всей своей обыденности
и при этом оставалось бы малоизученным, невзирая на
повсеместную распространенность. Невозможность вывести анализ
из истока иного желания, нежели фрейдовского — желания,
которому так и не был поставлен диагноз, поскольку невроз
навязчивости не является заболеванием, но представляет
собой субъектную структуру во всех ее перипетиях — должна
свидетельствовать в пользу необходимости иметь дело с этим
неврозом как с основной материей психоаналитического
исследования.
Введение Невроз
навязчивости
как продукт
аналитической
мысли
Невроз навязчивости сегодня является местом пропуска,
слепым пятном психоаналитической мысли. Будучи
чрезвычайно близок к тому, что кажется сегодня чуть ли не
естественным психическим состоянием субъекта, он не отличается
обилием современных теоретических вложений. Особенность
его состоит в том, что он присутствует в психоаналитическом
знании как бы по умолчанию: большая часть новейших
теоретических ресурсов психоанализа отозваны за его пределы — он
чрезвычайно редко становится поводом для обсуждений.
Этому способствует наличие смещения, легшего в основу теории
классического анализа поскольку, вопреки расхожим
представлениям о том, что мысль самого Фрейда основывалась на
аналитике другого невроза — истерического — на деле именно
навязчивость была основным источником для разработки
мышления психоаналитического образца.
Напрямую Фрейд говорит об этом нечасто — тем не менее,
есть строки, в которых его позиция относительно этого факта
выражена совершенно бескомпромиссно:
Оценка навязчивого мышления... принесла бы
чрезвычайно ценные результаты и
способствовала бы нашему пониманию сущности
сознательного и бессознательного больше, чем изучение
истерии и гипнотических явлений. Было бы крайне
Желание одержимого
CL
О
eu
о
CÛ
о
ζ
ω
m
u
О
ш
τ
ОС
ffl
Ζ
m
О
CL
ffl
<U
X
48
желательно, чтобы философы и психологи,
которые понаслышке или исходя из своих
общепринятых определений развивают остроумные учения
о бессознательном, получили сначала важнейшее
впечатление от явлений навязчивого мышления;
этого можно было бы чуть ли не требовать, не
будь такой способ работы гораздо более
трудоемким, чем тот, что освоен ими.1
Помимо проистекающих из этого отрывка важных
следствий, сказанное в нем звучит так, как будто Фрейд уже
предвидел то невнимание, которого после него будет удостаиваться
навязчивый невроз не только в клинической, но и в более широкой
интеллектуальной среде, включая почти полное отсутствие
интереса к нему и со стороны упомянутого Фрейдом
философского сообщества. Более того, Фрейд как будто предугадывал, до
какой степени после изобретения психоанализа именно
философская мысль вторичным образом будет оказывать влияние на
клинику, возвращая ей то, что сама же почерпнула из нее ранее,
при этом по-своему расставляя акценты. На фоне нынешнего
клинического культа психозов, в который внесли вклад
сначала философствующие литераторы и который после превратился
в чрезвычайно привлекательный пункт и отдушину для
клиницистов, скромная просьба Фрейда для начала уделить внимание
обсессивному неврозу выглядит прозрением в отношении
соблазнов, которым впоследствии будет подвержен психоанализ.
Соблазны эти не так уж многообразны, но интересно в них
то, что все они как будто с умыслом обходят невроз
навязчивости стороной: пик раннего интереса к истерии сменяется в
постфрейдовской истории вспышкой очарованности психозами;
между двумя этими интеллектуальными маниями находит
приют и свою толику внимания перверсия — и только
навязчивость остается рядовым и скромным клиническим феноменом,
пользуясь репутацией самого исследованного и
самоочевидного расстройства.
Все это ведет к тому, что любое упоминание
навязчивости создает ложное впечатление, будто невроз навязчивости
1 Фрейд 3. Заметки об одном случае невроза навязчивости //
Навязчивость, паранойя и перверсия. М., 2006, с. 88.
Введение
представляет собой нечто рутинное и разработанное настоль- . ^
ко хорошо, что в его отношении можно рекомендовать только -§
изучать стандартную матчасть. Это впечатление усиливается, 2
когда лекторы, читающие курс истории психоанализа, неволь- ^
н
-С
2
О"
но представляют дело так, будто бы с самого начала формиро- 3
вания аналитической клиники навязчивый невроз конкурирует ^
с истерическим расстройством, не в силах при этом сравниться §
с ним ни в блеске проявлений, ни в показательности случаев. н
Тем не менее, искать подтверждение тому, что во всем фрей- *
довском предприятии с самого начала укоренена именно обсес- *
сия и что именно она, а не яркая шаль истерии, определяет путь, -σ
по которому начиная с Фрейда движется изучение невротиче- >
ской структуры, можно не только в прямых указаниях Фрейда, *
но и в том характере, который носит любое аналитическое уче- ω
ние при условии, что оно ставит Фрейда в центр. Это становится | §(
заметно в тот момент, когда теорию Фрейда понадобилось
поднимать из обломков, на которые она перманентно распадалась
еще при его жизни. Занявшийся этим Жак Лакан впервые совер- I Q
шил в отношении обсессии прорыв, который во многом остался | §<
незамеченным в том числе и по той причине, что на новационно-
сти сказанного на этот счет Лакан никогда не настаивал.
В то же время последствия лакановского предприятия в
области невроза навязчивости шире, чем обычно считается.
Невзирая на то, что навязчивости в лакановских «Семинарах»
специально посвящены лишь отдельные эпизоды его
высказываний, невозможно не увидеть, что все первичные
гипотезы лакановского анализа выполнены в обсессивном регистре
и именно в нем получают клинический смысл. Вся тщательно
прописанная ранним Лаканом история гегелевского поиска
признания со стороны Другого, которого со всем упорством
и безнадежностью добивается субъект — это, несомненно,
обсессивная история, равно как и знаменитая концепция
прибавочного наслаждения, как будто бы созданная для того,
чтобы объяснить психические приоритеты именно невротика
навязчивости. Все перипетии фантазма, в котором благодаря
работе введенного Лаканом в клиническую теорию объекта
а господствует бухгалтерия навязчивости, и, самое главное,
лакановская модель траектории влечения, рассчитанная на то,
что субъект совершает в отношении объекта набеги с
извлечением косвенной награды, указывают на то, что именно невроз I 49
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
50
навязчивости является распорядителем того, что Фрейд
называл «судьбой влечений» и что субъект обречен на обсессию,
как говорили в эпоху Фрейда, «конституционным образом» —
посредством предрасположенности, которая является в своем
роде трансцендентальной по отношению к прочим вариантам
психического развития.
Фрейд это видел в полной мере и именно поэтому, описывая
клиническую картину обсессивно-компульсивного
расстройства, делает замечания следующего характера:
В начале моих исследований мне пришлось
предположить другое, более общее
происхождение неуверенности у больных неврозом
навязчивости, которое, казалось, ближе прилегает к норме.2
Необходимо понимать эту фразу как можно более
принципиальным образом: дело не только в том, что многие действия,
выполняемые при неврозе навязчивости, представляют собой
заострение обычных поведенческих и психических черт
любого субъекта — хотя это бросается в глаза в первую очередь,
и в свое наблюдение Фрейд вкладывает в том числе и этот
первый и очевидный смысл. Но дальнейшее углубление этого
соображения ведет именно в ту сторону, в которую
впоследствии уходит Лакан: само желание субъекта вместе с его
психическим аппаратом функционирует в экономике, ближайшим
аналогом которой является обсессивность. Последняя
коррелирует с самим устройством субъекта, и в этом смысле
симптоматика невроза навязчивости представляет собой не поломку
изначально свободного от нее состояния, а превращенную
материализацию структурных соотношений в устройстве
бессознательного. Материализация эта сопровождается
усугублениями и сгущениями, которые местами приводят к нарушению
дистанции между отдельными структурами и к искажению
характера их связи, но, тем не менее, даже в этих случаях невроз
навязчивости продолжает указывать на свое происхождение
из базовых психических структур субъекта.
Все это уже само по себе позволяет отвести, наконец,
неврозу навязчивости то место, которого он заслуживает. Вопрос
Фрейд 3. Заметки об одном случае невроза навязчивости, с. 98.
Введение
го
■о
о
лишь в том, достаточным ли будет на этом остановиться. Даже
если последовать за мыслью Фрейда и более пристально
рассматривать обсессивную клинику как своеобразную модель пси- I S
хического аппарата, мы в лучшем случае останемся на уровне 5
психологии, чего фрейдовская теория на деле не заслуживает, | S
хотя бы даже в определенный момент сам Фрейд вполне этим
удовлетворился. По мере того как психоаналитическая мысль | §
отделывалась от метафизики как «науки тела», она постепенно
оставляла иллюзии, привносимые тем позитивистским взглядом χ
на происхождение невроза, в окружении которого она формиро- зс
валась. В то же время может показаться, что именно этот взгляд -о
то и дело прорывается в тексте Фрейда — особенно тогда, когда за
ему приходится заговаривать с публикой напрямую: | *
ω
Проблема, каким образом и почему человек I §J
может заболеть неврозом, несомненно, относит- 5
ся к тем вопросам, на которые должен дать ответ -с
психоанализ. Однако вполне вероятно, что этот Q
ответ можно будет дать только по поводу другой | §е
и более частной проблемы — проблемы, почему
тот или этот человек должен заболеть именно I q
этим определенным неврозом и никаким другим.
В этом состоит проблема выбора невроза. Что мы
знаем в настоящее время об этой проблеме?3
Отрывок этот характеризуется обманчивой понятностью,
поскольку, как мы сегодня знаем, вопрос «происхождения
невроза» является вопросом, в котором меньше всего имеет
смысл полагаться на то, что философы фрейдовской эпохи
называли «психической данностью», глубоко таинственным
образом связанной с чем-то органическим. Речь идет не о
конституционной физиологической или какой-либо иной подобной
предрасположенности. Невроз — это то, что уже в риторике
Фрейда помечается как «судьба», но судьба,
предрасположение к которой укоренено не в тех материях индивидуального
развития, с которыми имеет дело врач. В этом смысле поста-
3 Фрейд 3. Предрасположение к неврозу навязчивости. Проблема
выбора невроза. // Навязчивость, паранойя и перверсия. М., 2006., с.
109. I 51
Желание одержимого
CL
О
eu
ь
О
CÛ
о
ζ
ω
χ:
(Ό
m
u
Ο
m
τ
ce
m
(Ό
ζ
m
Ο
Ο.
m
eu
Χ
52
новка вопроса «о выборе невроза», как безо всяких экивоков
формулирует это Фрейд, при всей внешней прямолинейности
исключительно удачна, поскольку речь по существу идет о
выборе, который совершает сам психоаналитик. Вопрос о том,
что это за выбор, не может быть рассмотрен до тех пор пока акт
этого выбора у специалистов все еще ассоциируется с тесной,
до сих пор не прерванной связью психоанализа с медицинским
подходом — связи, изначально носившей профессионально-
нарциссический характер. Связь эту так и не смогли до конца
разорвать лакановские замечания о шутовском характере, на
который обречен аналитик, если он воспринимает свой
предмет так же, как воспринимает его медик.
В свете исторической реальности этого аналитического
выбора следует спросить: действительно ли невроз навязчивости
был с самого начала обречен на то, чтобы поначалу
соседствовать с истерией, при этом четко удерживаясь на своей
нозологической половине, а после уступить популярную сцену
другим, более интересующим широкую публику расстройствам?
Такая форма вопроса позволяет запросить клиническую
историю психоанализа с позиции, на которую достаточно редко
встают исследователи и которая еще реже становится поводом
для описания взаимодействия аналитика с этими основными
расстройствами, хотя именно эта позиция и является для
психоанализа внутрианалитической, в отличие от подхода, для
которого клинические проявления имеют самостоятельное
нозологическое значение. Позиция эта должна рассматривать
исторический подъем и упадок каждого из больших душевных
расстройств в свете того, что Лакан называет «желанием
аналитика». Речь идет не о «личном бессознательном» того, кто
ведет анализ, а о предрасположенности, в силу которой сама
теория психоанализа является результатом дискурса
определенного типа. В этот дискурс, как и в любой дискурс вообще,
особым образом вписана возможность реализации влечения
через знание — в данном случае, это знание аналитика, большая
часть которого, что характерно для знания вообще в том виде,
в котором его существование застал Фрейд, является
бессознательным.
В этом дискурсе все то, что для специалистов врачебного
профиля является психической данностью, получает
дополнительное значение. Истерия, навязчивый невроз или психоз
Введение
больше не являются фактами нозологической реальности, по I J
отношению к которым анализ предназначен для их изучения -g
и корректировки. Их реальность находится совершенно в ином 2
месте — там, где желание аналитика принимает определенную J
форму, предрекающую ход, который анализ примет. Именно 3
это желание и находится за спиной у той воображаемой фи- ^
гуры психоаналитика, ради которой анализант в свой анализ §
приходит. н
Этому процессу как раз и обязано хорошо известное лака- *
новское наблюдение, согласно которому, невзирая на физиоло- *
гическую зримость того же большого истерического расстрой- -σ
ства, истерический субъект, будучи знаменитым персонажем >
ранней клинической сцены, по сути вызван к жизни эффектом *
переноса.4 При этом Лакан отмахивается от расхожего мне- ω
ния относительно того, что перенос вызван пресловутой
«нейтральностью» анализирующей фигуры, о которую желание
пациента, направленное на врача, разбивается как о мрамор- | -с
η
аналитика лежит аналитическое желание, которое смещает ι §<
фокус аффекта, при этом отнюдь не устраняя его полностью. 2
Именно это подразумевается, когда Фрейд недвусмысленно
заявляет, что истерическому субъекту необходимо «отказывать
в удовлетворении».5 Если такого рода отказ и приписывается
4 «То, что аналитик в качестве аналитического опыта проводит
в жизнь — это истеризация дискурса. Другими словами, это
создание искусственных условий для возникновения дискурса истерика».
Лакан Ж. Семинары. Т. 17. «Изнанка психоанализа». М., 2008, с. 36
5 «Я также уже дал понять, что аналитическая техника
наказывает врачу не давать нуждающейся в любви пациентке требуемого
удовлетворения. Лечение должно проводиться в условиях абстиненции».
То, что Фрейд говорит в дальнейшем,является по всей видимости
его собственной рационализацией теоретического порядка: «Я хочу
выдвинуть принцип, что у больных нужно сохранять потребность
и страстное желание в качестве сил, побуждающих к работе и
изменению, и надо остерегаться успокаивать их суррогатами. Ведь ничего
другого, кроме суррогатов, предложить и нельзя, поскольку больная
вследствие своего состояния, пока не устранены ее вытеснения,
получить настоящее удовлетворение не способна». [Фрейд 3. (1915
[1914]) Заметки о любви-переносе // Фрейд 3. Собрание сочинений
в 10 томах. Дополнительный том. Сочинения по технике лечения. М.,
2008, с. 227.] I 53
Желание одержимого
CL
О
eu
о
CÛ
о
X
(T3
(Ό
m
u
О
m
τ
го
ce
m
ζ
m
О
CL
m
(U
X
54
внешней бесстрастности специалиста, то результаты его
далеки от успокоительного влияния. Отказывать в
удовлетворении — означает дополнительно усиливать и воссоздавать
истеризацию, делая ее таким образом аналитическим и
анализируемым фактом.
Тем не менее, отказ не является мерой, которая
фигурировала бы в речи Фрейда в режиме чистого предписания. С
одной стороны, Фрейд действительно постоянно берет
рекомендательный тон, что заставляло многие поколения аналитиков
думать, будто речь идет об описании приема, об элементах
аналитической техники. При этом упускался из виду тот факт,
что речь также идет о желании аналитика как желании
самого Фрейда — о причине, побуждавшей его отвечать отказом
там, где у анализируемого субъекта заявляли о себе позывы
наслаждения. Фрейд не был в отношении этого полностью
бессознателен — он прекрасно умел объяснить, почему этим
позывам уступать не следует и какими негативными и
разрушительными для того же анализа эффектами это чревато, но сама
эффективность данного приема указывает, что без глубинного
желания отказывать здесь не обошлось.
По этой причине именно в желании аналитика и возникают
факторы, оформляющие невроз и делающие его тем, что он есть.
В этом смысле не будет ни фигурой речи, ни слишком вольным
допущением сказать, что невроз создается в том месте, где
нехватка аналитика, его отношение к проявляемому пациентом
желанию, встречается с неудовлетворенностью субъекта,
создавая то, что соответствует так называемой «психической
реальности невротического конфликта» чисто условно. Если
мы не отказываемся от врачебных именований невротических
расстройств, то лишь по той причине, что и за врачами
неаналитического профиля вполне можно подозревать то же самое
желание, в столкновении с которым самые известные неврозы
обрели свой окончательный исторический облик.
Речь, таким образом, идет о процедуре, которая должна
в наибольшей степени интересовать не врача или психолога,
а скорее критического историка или современного философа,
для которого вопрос «учреждения» или «воспроизводства»
явления сегодня стоит на первом месте. Тем не менее, статус
этого учреждения невроза через инстанцию желания
психоаналитика остается довольно темным не только для условного
Введение
«профана» — ничуть не больше ясности относительно него . ф
у той же философии, если мы при этом допускаем, что его по- -g
нимают сами психоаналитики. 2
Определить его в первом приближении можно только отрица- J
тельным образом, не позволив ему смешиваться с теми формами 3
«творения реальности», которые современная философия закре- ^
пила за реальностью социального типа, изучая роль того, что на- §
зывается «конституирующим», или «учреждающим дискурсом». | н
реальности» как формирования явлений социальной жизни че- I *
рез практики, большая часть которых представлена закрепив- -σ
шимися способами высказывания. Все это — особенно в силу >
существующей традиции сугубо философского толкования того *
же психоанализа — недостаточно четко отделено от той причи- ω
ны, по которой о дискурсе и об инстанции высказывания порой §J
говорит сам психоаналитик. В том числе в этом следует видеть н
причину, по которой психоанализ так легко возникает в фило- -с
софских текстах, развивающих фрейдовские или лакановские Q
концепты, но не чувствующих себя обязанными рассматривать §с
их именно как особого рода практику. 2
Это небезразлично для нынешнего положения психоанали- q
тической практики, поскольку в рамках именно философского
знания понять формулу «сотворения невротика» можно только,
говоря или о мимесисе или же о том, что называют сегодня «пер-
формативностью». При этом первым способом воспрещает
оперировать сам Фрейд — это вытекает из того, что миметический
характер воссоздания невроза имеет хождение только в среде
анализируемых субъектов и не подразумевает вмешательства
аналитика — способ, которым в описании Фрейда девушки
заражались от своей товарки, истерические припадки которой
давали ей преимущество.6 Способ этот, таким образом, является
доаналитическим, и его приходится сразу же отбросить.
s
6 «Если, например, девушка в пансионе получает от тайного
возлюбленного письмо, вызывающее ее ревность, и она реагирует
на него истерическим припадком, то с несколькими из ее подруг,
которые знают о письме, тоже случится этот припадок, и, как
следствие, как мы говорим, психической инфекции. Это — механизм
идентификации на почве желания или возможности переместить
себя в данное положение. Другие тоже хотели бы иметь тайную
любовную связь и под влиянием сознания виновности соглашаются I 55
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
56
При этом все еще сохраняется второй, более изящный метод
объяснения, предлагающий взгляд, настаивавший на
первичности языковых практик в воссоздании того, что иногда условно
называют «миром». Теория, описывающая такую возможность,
появляется на философской сцене в форме переработанной
теории речевых актов в которой господствует процедура так
называемого перформатива. Последний наделяется
способностью назначать и трансформировать символическую
реальность посредством практик обозначения и высказывания. Речь
идет о сотворении, забегающем вперед; именно в этом состоит
позиция активиста, как фигуры, у которой с «реальностью»
всегда свои счеты.
В тоже время опасность мышления посредством перформа-
тивного сотворения заключается в том, что при малейшем
неверном шаге здесь легко сползти на уровень пресловутой
«свободы воли» — этого мусорного со всех точек зрения
метафизического концепта, который тем не менее, отбросить
труднее всего. Постоянное смешение речевого акта с уровнем
волеизъявляющего сознания — пожалуй, самая фатальная
и самая крупная предубежденность, которая проистекает из
любого активизма.
Так или иначе, «символическое конструирование
реальности» кажется удобным решением — оно избавляет философию
от точащей ее вины по поводу необходимости решить
вызывающий тревогу вопрос отношений субъекта с реальностью. Тем
не менее, данное решение, идеально подошедшее, например,
представителям философии современного искусства,
малопригодно для понимания того, что происходит в
психоаналитической плоскости, хотя в ее рамках после Лакана речь также идет
именно об акте. Любые попытки привить аналитический акт
к акционизму любого сорта дезавуируют то, что в
психоаналитическом вмешательстве происходит. Аналитики, как правило,
подозревают об этом, но у них нет политической позиции, с
которой можно было бы осуществить полноценное размежевание
с социально-критической философской мыслью, не говоря уже
и на связанное с этим страдание. Было бы неправильно утверждать,
что они усваивают симптом из сочувствия». Фрейд 3. «Психология
масс и анализ человеческого Я».// 3. Фрейд. «Я и Оно» М., 2002,
с. 545.
Введение
о том, что такого рода отмежевывание было бы политическим . ф
действием, которое — в этом и состоит особенность аналити- -g
ческого дискурса — не будучи психоанализу совсем противо- 2
Подводя итоги в терминах того же философского жаргона,
властного (пере)именования, а соблазнения на уровне
желания Другого, в котором наименование расстройства выявля-
показано, тем не менее не является для психоаналитика мери- ι ^
лом активности как таковой. 3
UI
-С
аналитический дискурс, в котором невроз получает именование ι §
и форму, не миметичен, но в то же время не перформативен. н
Во всяком случае, его продукцией не является то, что можно *
было бы назвать «новой реальностью». Психоаналитику, если *
он придерживается линии Фрейда, в наименьшей мере свойст- -σ
венна солидарность с тем, что претерпевший влияние лаканов- >
ского учения политический активизм называет «субверсией» *
или «перформативным переозначиванием символического».7 ω
Все, что аналитический акт производит в отношении невро- §j
за, лежит в направлении не созидательного производства и не | н
-С
п>
η
эс
ет не реальность невротической или психотической симпто- ι §с
матики, а желание того, кто в анализе находится. Речь идет 2
о моменте, о котором даже лояльные Фрейду аналитики часто q
забывают, как забывают они и о том, что проявленное таким I s
образом желание структурно опережает их собственное и что
не пациент желает желанием аналитика, как часто по ряду
причин полагают, а, напротив, аналитик находится в зоне, где
невротическое желание субъекта само себя благополучно, не
без посредства аналитика, увенчивает успехом.
По существу единственной особенностью, отличающей
позицию аналитика от позиции современного философа или
активиста, состоит отправление этой позиции из того начального
факта, что из данной зоны ему никуда не двинуться. Именно
признание этого факта — а вовсе не его учреждение —
представляет собой то единственное, что хоть сколько-то в
аналитической деятельности напоминает собой т.н. «решение»
или «акт аналитического вмешательства». В этом смысле на
7 Основной работой, закрепившей подобный подход, является
классическое произведение Джудит Батлер «Гендерное беспокойство»:
Butler J. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity.New York:
Routledge, 1990. I 57
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
58
активиста, вступающего с реальностью в отношения,
напоминающие отношения настойчивого рыцаря с прекрасной дамой,
аналитик похож менее всего. Тем не менее, аналитическое
желание участвует в происходящем в области клиники, и
следствием этого как раз и является появление психоаналитической
теории, которая служит не объяснением этого желания, а его
репрезентацией, представлением.
У этого желания есть довольно отчетливые контуры,
которые позволяют говорить о том, что «выбор невроза» в анализе
уже произошел. Так, в случае истерического невроза желание
аналитика заключается в желании знать, что истеричка
скрывает. Именно это и вызывает к жизни ту характерную
механику обращения с истерическим неврозом, в которую с головой
поначалу бросился Фрейд и которая привела в итоге с одной
стороны к бурному развитию его теории, а с другой ко всем тем,
хорошо известным, специфическим злоупотреблениям,
которые были характерны для его выводов о природе
истерического страдания. Сегодня ни у кого нет сомнений, что в ходе этих
выводов Фрейд слишком часто забегал вперед. В то же время
именно его желание наложило отпечаток на характер развития
его размышлений о бессознательном, в котором каждая
большая гипотеза, объясняющая его устройство, в итоге
оказывалась слишком «сильной» и по этой причине должна была быть
позднее скорректирована или заменена. Это забегающее вперед
движение также носило следы истерического желания, которое
побуждает желание аналитика обнаруживать готовность
потерпеть неудачу ценой той или иной яркой гипотезы — желание
в своем роде погибнуть как автор на глазах у строгого читателя.
Каким образом с аналогичной позиции можно рассмотреть
невроз навязчивости? Какой отпечаток желание аналитика,
направленное на невротика этого типа, наложило на развитие
фрейдовской теории в целом?
Ответ на этот вопрос осложнен тем фактом, что
истерическое желание, представляясь — точнее, будучи желаемым
представляться — бурным и драматичным, без труда нашло
выражение в методологии психоаналитического подхода.
Можно заметить, что аналитик лишен в отношении истерии
какого бы то ни было сопротивления на теоретическом уровне: он
заблуждается в своих гипотезах, но делает это вместе с
истерическим субъектом. Невроз навязчивости же допускается
Введение
в клинический дискурс на совсем иных основаниях: лишенный ι J
драматизации, хорошо и подробно описанный в медицинской -g
литературе, он выглядит до такой степени проработанным, S
что какое-либо самодеятельное вмешательство здесь на пер- J
вый взгляд просто исключено. Характерно, что если описание | S
истерии в клинической литературе является пластичным
вплоть до того, что говорят даже об «эпохальном изменении» | §
картины истерического невроза, хотя сама истерическая пози
н
-С
η
Η
ция при этом, как известно, никуда не исчезает — то подача ι *
невроза навязчивости остается примерно в одинаковом поло- χ
жении: его симптоматика не изменяется со временем, и вместе -о
с этим не претерпевает особых изменений ее описание. ι*
Данный факт необходимо рассматривать не как проявление *
клинической устойчивости данного невроза, а как нечто, не- ω
посредственно обязанное особенностям желания навязчивого I ш
типа: оно на первый взгляд не требует от аналитика особых
подвигов, но не подает ему руки, заводя его в то же время
в ловушку самообмана. Не случайно Лакан иронически на- I Q
зывал анализ навязчивого невротика «медовым месяцем для | §с
психоаналитика». Усмешка несомненно обязана тому, что так
кажется только поначалу. Высокая степень рефлексивности I g
навязчивого субъекта, его внешняя «самокритичность», его
готовность следовать за указаниями аналитика,
контрастирующая с независимой и сопротивляющейся позицией
истерического субъекта, — все это поначалу обманывает того, кто
надеется найти в обсессике союзника анализу.
На деле именно навязчивый невроз оказывается наиболее
сильным средством соблазнения в аналитике чего-то такого,
что относится не к желанию выманить на свет скрытый объект,
а к рубежам, на которые психоаналитик то и дело отступает
ввиду того, что само по себе удержание аналитической
позиции, как мы знаем от Лакана, является невыполнимой задачей.
Если истерический невроз и вызвал к жизни некоторые, говоря
современным языком, неполиткорректные решения Фрейда,
которые в ряде случаев приводили к резкому концу лечения
и которые сам он впоследствии в полной мере готов был
рассматривать как свои фатальные ошибки, то невроз навязчивости,
никогда не сбивая аналитика с ног, тем не менее побуждает его
делать тысячу уступок и впадать в непрерывную череду малых
заблуждений, через которые и движется подобный анализ. I 59
Желание одержимого
CL
О
eu
о
CÛ
о
X
(T3
(Ό
m
u
О
ω
τ
m
ce
m
ζ
m
О
CL
m
(U
X
60
Так, зачастую вместо того, чтобы вмешиваться
посредством переноса в отношения навязчивого невротика с его
Благом — в основном, анального характера — аналитик то и дело
невольно начинает эти отношения поддерживать. Уступая
рассудительности такого анализанта, его рационализациям,
его обучаемости и всегдашней готовности увидеть «свой
анализ» со стороны, аналитик то и дело незаметно для себя теряет
нить, и аналитический процесс провисает как бечева
воздушного змея в мертвой зоне. Если в ходе анализа истерического
невроза сообщаемое анализанту часто носит невыносимый для
последнего характер, — что снова указывает на желание
аналитика в свете истерической позиции, в которой истерическое
отрицание вызывает со стороны аналитика подмеченный Лака-
ном андроцентричный, фаллический напор, который призван
запирательство преодолеть — то в случае невроза
навязчивости аналитик всегда искушаем компромиссами, вовлекаясь
в ту экономику, из которой сам навязчивый невроз и вышел —
экономику обменов и выдвижения условий, которая по
существу является основой конструкции обсессивного субъекта.
В сеть этих компромиссов аналитик и попадает в том
случае, если оказывается не подготовлен или подготовлен лишь
со стороны узко клинической. Именно по этой причине невроз
навязчивости является бессознательным самого аналитика
и, шире, бессознательным психоаналитической теории в
целом. Если истерия позволяет сделать вывод о самом наличии
желания аналитика, побуждая его предъявить свое влечение
к объекту, скрываемому истеричкой, напрямую, то невроз
навязчивости играет совершенно иную роль — он говорит о том,
что изначально вытеснено за пределы самого
психоаналитического знания. Именно в этом смысле он является логически
«вторичным» по отношению к истерии. Вторичность эта, таким
образом, носит внутренний для самой позиции аналитика
характер, не связанный ни с частотой распространения данного
типа невроза в популяции ни с историей медицинской науки.
Это является одной из главных причин того
двусмысленного положения, которое навязчивый невроз занимает в
аналитической истории, где ему так и не удается выйти на первый план
в облике, который не содержал бы в себе черты
теоретического формализма. Риторика, в которой о неврозе навязчивости
ведут речь после Фрейда, является не столько психоаналити-
Введение
ческой, сколько нейтрально-врачебной — в ней больше
констатации, чем эвристичности. Эта маргинализация обсессии
Л)
го
резко контрастирует с двумя соседствующими крупными но- | 2
зологическими единицами — истерией и психозом — которые 5
в разное время подверглись активной «философской депато- | S
логизации» и получили культурно-политическую значимость
а вместе с ней и частичку активистской доблести. | §
За честь невроза навязчивости охотников побиться не на
шлось, и это может означать только то, что он затрагивает по- χ
зицию аналитика гораздо глубже и сильнее, нежели соседству- зс
ющие расстройства. Исследованию, таким образом, подлежит -о
сама эта затронутость, поскольку именно она, по всей видимо- за
сти, создает область, которая в желании аналитика соответст- *
вует работе с неврозом навязчивости. | ω
ω
s
н
s
л
η
η
ο
Se
s
Глава 1 О началах
субъекта
навязчивости
Стандартная психоаналитическая пропедевтика обычно
начинает с перечисления существующих видов невротических
расстройств как равноценных — невроз навязчивости в этом
списке обычно следует за истерий и предстает в качестве
ее альтернативы — субъект обречен в своем неврозе
следовать путем совершенно определенным. Это отвечает замыслу
Фрейда, который с самого начала сопротивлялся искуситель-
ной возможности представить нечто вроде комплексного
невротического расстройства. Навязчивость нигде с истерией не
смешивается и представляет собой совершенно отдельный тип
патологической структуры.
Тем не менее, это не означает, что для навязчивого невроза
здесь сделано все возможное и потенция его обособления
исчерпана. Даже самое тщательное различие этих двух базовых
невротических предрасположенностей не защищает их от
генерализации на медицинской почве. Навязчивость в ней
предстает таким же симптоматическим комплексом как эпилепсия
или паркинсонизм — оптика, которой Фрейд временами не
избегает и которая была в определенной степени нужна ему для
того, чтобы не покинуть пределы врачебного знания.
При этом он сам более других оказался заинтересован в том,
чтобы от этих, в первую очередь стилистических пределов
медицинского дискурса отказаться. Все, что Фрейд
проделывал в отношении своего предмета, доказывало, что, невзирая
на изъявления лояльности медицинскому дискурсу, историю
своего предмета он пишет заново, и в этом смысле все
учебно-экзаменационные стереотипы в подаче тематики неврозов
лишь сковывают его продвижение. Это снова особенно ярко
сказывается именно в случае невроза навязчивости: так, если
I
η
ту же истерию охотно используют как доказательство
существования нервных расстройств, будто бы сопровождающих I ш
общество на всем протяжении его истории — пресловутый ÇJ
hysterus авторы медицинских учебников стереотипно возводят | £
еще к античности — то невроз навязчивости сопротивляется
подобному внеисторическому безразличию. С точки зрения I ^
психоаналитического подхода это делает его более достовер- S-
ным и благодарным объектом исследования — даже не говоря ω
этого напрямую, Фрейд не мог не оценить ту свободу, которой ш
он располагал, изучая историю расстройства, становление ко- g
торого вершилось буквально на его собственных глазах.
При этом авторы медицинского происхождения уделяют | §
много внимания вопросам анамнеза обсессивного невроза, но
при этом обходят, как лежащий вне их интересов, вопрос о
происхождении самих структур навязчивости. Психоанализ
поначалу, ввиду преобладания у его истоков медицинской основы,
оказывается в точно таком же положении, хотя оно и
вызывало у Фрейда смущение совершенно особого плана, заставив его
совершать хорошо известные нападки на психиатрию.1 Тем не
менее, сам Фрейд по всей видимости не пользовался в полной
мере теми средствами, которые могло бы дать ему
размежевание на базе психоаналитического дискурса — на это указывает
в том числе некоторое смещение, запаздывание
психоаналитической инициативы относительно себя же самой.
Запаздывание это, тем не менее, преодолевается в тот
момент, когда психоанализ вступает в определенные отношения
с философским знанием. Эти отношения также организованы
довольно сложно: для начала анализу пришлось отвергнуть
вялые измышления философов о предметах, будто бы близких
к теме бессознательного, чтобы потом, выдержав своего рода
карантинный период, вернуться на философскую территорию
совсем с другими требованиями, классическим примером
которых остаются знаменитые «Ответы» из 17-ого лакановского
семинара.2 Требования эти были сформулированы так
афористично, что они и сегодня не находят понимания в профессио-
1 Наиболее концентрированно представлены в работе: Фрейд 3.
Общая теория неврозов. 16-ая лекция. Психоанализ и психиатрия. //
Введение в психоанализ. СПб., 1999.
2 Имеется в виду «Разговор на ступенях Пантеона» // Ж. Лакан.
Семинары. Т. 17. Изнанка психоанализа. М., 2008. I 63
Желание одержимого
CL
О
eu
о
u
CÛ
о
X
ω
(Ό
m
u
О
QÛ
Τ
m
ос
ш
(Ό
χ
m
О
Q.
m
<υ
Χ
64
нальной среде — в те моменты, когда Лакан предъявил их
практически напрямую, его слова не вызвали у читателей ничего,
кроме глубокого шока.
Тем не менее, именно благодаря тому, что эти требования
прозвучали, возникает возможность снова заговорить о
происхождении невротического образования, присутствие которого
в психической жизни субъекта до сих пор вызывает у дискурса
медицинской науки желание говорить о них как о
«расстройствах», хотя, как замечал уже Фрейд, нет ни малейших
оснований использовать в их отношении терминологию,
принадлежащую традиционному спектру здоровья и болезни. Точно так же
склонность преподносить все в рамках псевдодиалектической
системы отношений индивида с окружающей его средой,
обнаруживает все более нарастающую неспособность говорить
о неврозе иначе как о дефекте развития, носящем защитно-
приспособительный характер — в этой двусмысленной
дилемме, где роль здоровья берет на себя сама болезнь, и находятся
медицинские воззрения.
Все это подталкивает к убеждению, что происхождение
невроза навязчивости, который все больше обнаруживает себя
как господствующее невротическое состояние современности,
необходимо искать в сферах, куда, как справедливо замечал
Фрейд, рассуждение врача никогда не заходит. Не заходит
туда, впрочем, и мышление социолога — второй фигуры, к
которой перешло ведомство рассмотрений и оценок после того,
как медик уступил свое место на арене производства знания
социальному критику.
Точно такого же рассмотрения достойны прочие
синдромы и состояния, с которыми субъект столкнулся неожиданно
и сравнительно недавно, будучи не в состоянии в то же время
понять, откуда они взялись. Состояния эти находятся в центре
внимания многочисленных материалов на психологическую
тематику — агорафобии, панические атаки,
деперсонализации и дереализации. У объяснений, которые этим сенсациям
адресуются, есть нечто общее: все они пропитаны стихийным
антропологизмом и подаются не иначе как с глобальным
историческим размахом. Винят при этом, как правило,
«современность», которая таким образом выступает в роли кризиса циви-
лизационного масштаба, своего рода тестирования предельных
психических возможностей субъекта. Гипотеза, будто бы этот
Глава ι
I
кризис предъявляет к ментальной выносливости требования,
выдержать напор которых субъект не в состоянии, отчего I 5
и впадает в невроз, по существу ничем не подтверждена, но ^
при этом остается популярной, а ссылка на современные ме- £
диа и технологии, приводящие человечество в столь плачевное £
состояние, является чуть ли не официальной версией происхо- ^
дящего. £
При этом нет никаких доказательств существования каких- ω
либо нагрузок или скоростей, которые могут оказаться для £
субъекта чрезмерными. У Фрейда, во всяком случае, на это g
нет ни намека — риторика каких-либо «нервных перегрузок», ^
которой уже тогда злоупотребляли отдельные врачи, была §
ему не свойственна; для описания субъекта, столкнувшегося н
с симптомами подобного типа, Фрейду вполне хватало
концепта «тревоги» (Angst). Тем не менее, после Фрейда и его первых
учеников, более-менее твердо державшихся его экономной
риторики, не терпящей лишних понятий, все подобные состояния
полностью перешли под ведомство психотерапии разных
видов, мастей и языков, чему немало способствовало то, что сам
Фрейд, как известно, оставил эту базовую тревогу без объекта.
Восполнить вызывающую, оставленную Фрейдом нишу
можно было только полностью оставив медицинский дискурс
со всеми его смысловыми последствиями — и движение в
сторону от них происходит не ранее, чем для расставания с ними
появились, как выражаются марксистские исследователи,
необходимые предпосылки. Сегодня, после лакановского
вмешательства, прежние ссылки на «темперамент» или «характер»
звучат так же экзотично как и ссылки на «врожденную
конституцию». Тем не менее, медицинская оптика до конца не
преодолена, постольку на ее место так и не заступил до конца другой
способ тематизации невротического. По существу, в
практическом психоанализе постмедикалистская эпоха так и не
наступила — аналитики, даже невзирая на известное лакановское
заявление, что «анализ не лечит», все равно рассматривают
себя попутчиками, сподвижниками врача. Это положение
сохраняется даже там, где работы Лакана являются
приоритетными и где есть все основания для опоры на них.
Начатое Лаканом размежевание на основе обозначенного
им «дискурса психоаналитика», таким образом, не
завершено, и фактически можно утверждать, что для него на текущий I 65
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
66
момент едва ли подготовлены основные пути. Тем не менее,
двусмысленное сотрудничество с дискурсом медицины
становится для психоанализа все более тягостным, а ложность его
положения со временем усиливается.
В то же время это не означает, что, разорвав с «врачебным
делом», психоанализу необходимо вернуться к «философии»
или «философской мысли», поскольку дискурс, который
представляет эту мысль, также не является аналитическим.
Фактически, он не оставляет психоанализу места — и это
происходит даже в тех случаях, когда современные философы пишут
о психоанализе или используют элементы его теории.
Происходит так потому, что философский дискурс — это
высказывание о субъекте, отношения которого с тем, что
психоанализ называет «знанием», организованы как призыв
обратить к этому знанию свое желание. Это не означает, что в этом
он тождественен дискурсу научному — речь в философском
высказывании не идет о «новом знании». Тем не менее,
предполагается, что знание, которое ищет философ, каким-то образом
затерто, отсутствует в кругу публичного высказывания —
например, прикрыто ходом повседневности или потребительской
иллюзией. Требование философии, таким образом,
заключается в призыве освободить для этого знания место в речи.
Именно это делает дискурс философии непсихоаналитич-
ным — а вовсе не то, что он «абстрактен» и не соприкасается
с непосредственным личным опытом субъекта. Психоналити-
ческий дискурс точно так же не имеет к этому опыту
непосредственного отношения — именно здесь разного рода
экзистенциальные психотерапии, сделавшие на психоанализ свою
ставку, сбиваются с пути, настойчиво и бесплодно требуя от
анализа того, что не является его продуктом в принципе.
Психоаналитическое высказывание не предлагает знания
и не создает его. При этом оно имеет тот же предмет, что и
философия — не в том смысле, что оно занимается условиями
постижения действительности или формированием этической
повестки. Для психоаналитического подхода важностью
обладают последствия того, что философия предъявляет в качестве
«знания» — последствия вызванных таким образом
философией изменений в позиции субъекта. Все это имеет значение,
поскольку, как намекает лакановский подход, искать исток не-
вротизации современного типа, сопровождающегося пришест-
Глава ι
вием субъекта навязчивости, психоанализу предстоит именно
здесь. ш
Крупнейшее философское событие, сформировавшее этот Ц
исток, у всех на слуху — это пресловутый картезианский пе- £
реворот. Сказано о нем в разных источниках очень много, но £
эти высказывания, тем не менее, в целом остаются в рамках ^
одного и того же дискурса. Даже в том случае, когда достиже- £
ние Декарта сегодня опровергается в пользу какой-либо «дру- ω
гой субъектности» или ее отсутствия, мы все еще имеем дело ш
с философским мышлением — в текстах такого рода, возмож- | g
няется установка относительно «знания» — то есть, позиция ι §
η
но, меняется содержание и политическая позиция, но не ме-
собственно акта высказывания. По этой причине, невзирая на
общепризнанную масштабность картезианского события,
существует такие его следствия, которые даже и сегодня
остаются недоступны для оценки. Тем не менее, они касаются всех,
и философия всегда об этом подозревала, по умолчанию
предполагая, что после этого переворота существование субъекта
никогда уже не будет прежним.
С точки зрения философии субъект, благодаря этому
перевороту, встает в позицию, где его новоприобретенное
философское Я становится, как верно заметили анархисты, сделавшие
из этого единственно возможные выводы, его
«собственностью». В период, подготовивший возникновение психоанализа,
когда все же выяснилось, что субъект владеет собой не
слишком хорошо и что его Я всей картины происходящего не
исчерпывает, эта убежденность была поколеблена, но лишь как
неудавшееся притязание. Обвинение картезианского субъекта
в слишком большом куше власти, который он вознамерился
сорвать — вот основное настроение периода постколониалист-
ского разочарования, если свести к двум словам его
программу — или, точнее, движущий им аффект. При этом уверенность
в том, что кое-что в этой области субъекту все же удалось
заполучить, остается незыблемой, и ее подтверждением служат
те разнообразные обломки прежнего философского величия,
во взаимоотношениях с которыми субъект сегодня никак не
может определиться.
Так это выглядит со стороны современной философии,
выражающей по поводу картезианского кутежа свое возмущение,
и по этой причине то, что в совокупности она производит в по- I 67
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
68
следнее время, особенно в областях затронутых марксизмом,
не вызвало бы у Фрейда никаких диагностических
затруднений. Более того, еще в дофрейдовский период этот продукт уже
был назван по имени — это рессентимент, вина,
сопровождаемая подавляемым возмущением. Поскольку вина как известно
в психоаналитической перспективе противоречит стыду,
отправление ее закономерно носит бесстыдный характер, о чем
Лакан прямо и в то же время труднопостижимо для
привыкшего к философии читателя и говорит в самом актуальном,
полностью посвященном проблеме современности, единственном
в своем роде семинаре «Изнанка психоанализа».3
При этом еще ранее, шаг за шагом, начиная с самых первых
лекционных циклов Лакан корректирует и заменяет привычное
значение картезианского свершения, одновременно возвращая
тем самым и фрейдовскому начинанию тот смысл, который был
перетолкован и утрачен в пользу представления о Фрейде как
о самом амбициозном картезианце современности. Весь лака-
новский проект — это возражение расхожему мнению,
представившему Фрейда в качестве рыцаря, стоящего на границе
освещенной лучами осознанности территории, отделенной от
мрака неприсвоенной субъектом инстинктивности.
Представление о соотношении сознания и бессознательного как тени
и света, привнесенное именно философами, само по себе увело
в тень реальные последствия картезианского переворота.
По этой причине лакановское вмешательство не сводится,
как порой считают, к снятию акцента с инстанции Я и
переносу внимания на бессознательное, получившее таким
образом статус новой структурированной осмысленности. Смысл
лакановского обращения к Декарту в ином — лакановская
психоаналитическая пропедевтика показывает, что
грамматика картезианского заявления создает в субъекте зону новой
тревоги. Именно картезианская программа ответственна за
появление бессознательного в известном нам сегодня облике.
Картезианское Я, в отличие от того, что о нем думают, само по
себе бессознательно — во всяком случае, бессознательны все
основные последствия его самоутверждения. Тревога, которую
в европейском субъекте пробудило его же собственное, произ-
3 Лакан Ж. Семинары. Т. 17. «Изнанка психоанализа». М., 2008.
Глава XIII «Власть невозможного», с. 228-246.
Глава ι
I
η
несенное устами Декарта, высказывание, пошла на
образование бессознательного, определив его структуру и сделав шаг I 5
в сторону создания предпосылки для того, что в аналитической ^
оптике в дальнейшем получит наименование «симптома». £
Подобный взгляд противоречит воззрениям философской £
современности и позволяет разорвать с представлением, окру- ^
жающим фрейдовский анализ и полагающим, что бессозна- 5-
тельное является чем-то сродни мифу, родовому преданию, ω
пришедшему к нам из досовременных обществ и якобы заглу- ш
шенному самоуверенной картезианской речью. Речь эта у Ла- g
кана перестает выступать неким заблуждением, морок кото- ^
рого необходимо с себя сбросить — мнение, к которому часто | §
склоняются самые разнообразные интеллектуальные
движения ближайшей современности, критикующие картезианство
как историческое недоразумение, которое можно подвергнуть
коррекции в том числе с помощью упора на ту или иную
концепцию бессознательного. Вопреки этому, прибегнув к
каламбуру можно сказать, что Декарт, думая, что создает
сознательного субъекта, создал субъекта бессознательного как субъекта
желания, устроенного совершено особым образом.
Все это резко меняет привычную оптику — в том числе и ту,
с точки зрения которой философы и критики современного
общества рассматривали, использовали и популяризировали
учение о бессознательном. Увидеть ограниченность этого
использования — означает приступить к созданию другого подхода
и другого дискурса, который задействует психоаналитическую
мысль в ее наиболее неразработанных после Фрейда аспектах.
В первую очередь это касается феномена невротизации,
поскольку мысль промарксисткой направленности уже выразила
свое мнение о происхождении этих состояний. Типичное
объяснение у всех на слуху и сводится к повреждающему влиянию
общества капиталистического производства и потребления,
которое приводит к нарастанию изолированности индивида,
росту тревоги и развитию внутреннего конфликта. В этой
оптике психоанализ предстает паллиативным подходом,
который не только ничего не способен поделать в отношении
этого положения, но и со своей стороны усиливает его тем, что
подкрепляет изоляцию посредством индивидуальной работы
и аналитического сеттинга, воспроизводящего отчужденные
отношения меркантильного общества. I 69
Желание одержимого
CL
О
eu
о
CÛ
о
X
(T3
(Ό
m
u
О
m
τ
го
ce
m
ζ
m
О
CL
m
(U
X
70
Слабейший пункт этой рабочей гипотезы, которую, как
правило, рассматривают как нечто аксиоматическое, состоит
в локализации места тревоги. По существу, даваемое
философами объяснение ее происхождения оказывается внепсихоана-
литическим. Приписывать причину тревоги внешним
обстоятельствам, — какими бы могущественными и фатальными они
ни были, — означает выпадать из мира понятий, созданного
Фрейдом, в котором источником тревоги должно являться
нечто внутреннее. При этом, говоря о «внутренних источниках»,
Фрейд не исходил из наивно-метафизического посыла. Тексты
Фрейда нельзя рассматривать и критиковать с точки зрения
деконструкции оппозиции «внутреннего и внешнего» — их
склад задан дискурсивностью иного порядка и должен
получать толкование в соответствии именно с ним. Другими
словами, в этих текстах нет ничего наивного или самоочевидного.
Отсутствие самоочевидности подтверждается тем фактом,
что фрейдовский текст может получить толкование лишь
ретроактивным образом, задним числом. Именно в этом и
состоял смысл лакановского вмешательства: речь не о том, что Лакан
монополизирует Фрейда, поняв его единственно правильным
образом. Обращение Лакана является восполнением Фрейда
там, где происхождение интересующего Фрейда предмета —
бессознательного — уходит корнями в область, о которой сам
Фрейд не мог в то время поставить вопрос, но которая является
оправданием избранной им эвристической стилистики.
Область эта находится в ведомстве философии, но при этом
выскальзывает из ее дисциплинарности, поскольку
философский подход состоит в разыскании, анализе и оценке
различных истинностных способов высказывания о сущем.
Психоанализ же подходит к этому с иной стороны — для него это
область неотвратимых последствий некоторых из сделанных
в философском дискурсе высказываний, само озвучивание
которых необратимо изменило конфигурацию и параметры
субъективности.
С данной точки зрения источник тревоги следует искать
в этом изменении — и именно в этом смысле данный источник
является «внутренним». Говоря о том, что нечто, участвующее
в образовании бессознательного желания, исходит «изнутри»
субъекта, Фрейд метонимическим образом указал на тот факт,
что оно восходит к дискуссиям философов. Дискуссии эти
Глава ι
I
во многих смыслах носили предположительно «внутренний»
характер — здесь речь метафорически может идти об узости I 5
и замкнутости собственно философского сообщества, но она ^
также идет и о внутреннем характере структурных изменений £
в самом субъекте современности, которые опережали актуаль- £
ный экономический и политический контекст. ^
Тем самым вопрос о происхождении невроза — и, в частно- £
сти, невроза навязчивости — ставится Лаканом в совершенно ш
иной плоскости. Ни внутренний душевный конфликт, ни кор- ш
румпированность социального устройства, ни даже само бес- g
сознательное не являются его носителями. Образующая его |
тревога прорывается со стороны высказывания, которое лежит §
у истока учреждения субъекта — высказывания, превратив- °
шегося в его самоутверждение. С этой точки зрения
убежденность, что заявление Декарта было понапрасну упорствующей
в себе неудачей разума, что оно представляло собой выдачу
желаемого за действительное просто отбрасывает тревогу,
ворвавшуюся в мир субъекта вместе со сделанным заявлением.
Точно так же необходимо относиться к постколониалистским
концепциям, увидевшим следствием этого высказывания лишь
репрессивный, «фаллический» эффект, который должен быть
компенсирован на политическом уровне — концепции эти
также скрывают определенную тревогу.
Вопреки им следует настаивать на том, что история с
картезианским высказыванием является незавершенной и что
восприятие ее в качестве устаревшей и активное постколони-
алистское покаяние на ее счет не затрагивают ее следствий,
приведших к появлению фрейдовской науки о
бессознательном. Целью этой науки первоначально являлось указание на
присущее субъекту глубокое замешательство, на момент
внутреннего преткновения, выражавшийся в пресловутых
«нервных расстройствах». Фрейду удается объяснить некоторые
особенности этого замешательства через привлечение
концепта «бессознательного» — рискованный ход, бесспорный
выигрыш которого позднее обернулся возвращением обскурантизма
как в философской, так и психоаналитической областях. При
этом превращение невроза в главный предмет исследования
закрыло собой начальный повод для появления анализа — то
самое, что чувствительный к этой подмене Лакан
впоследствии назовет «тревогой». С тех пор этот лакановский концепт I 71
Желание одержимого
CL
О
eu
ь
О
CÛ
о
ζ
ω
χ:
(Ό
m
u
Ο
m
τ
ce
m
(Ό
ζ
m
Ο
Ο.
m
eu
Χ
72
успел стать поводом для точно такого же количества
злоупотреблений, как и концепт «бессознательного», и превратиться
в точно такую же пустую, внеисторичную универсальность.
Тем не менее, местом его приложения остается то вполне
конкретное — и в то же время трудноуловимое —
замешательство, которое Фрейд застает в качестве одной из основных черт
субъекта своего времени и которая привлекает его внимание,
притом что оптика, позволившая ему уловить данный момент,
и сегодня остается недостаточно хорошо освоенной и скрытой
за отдельными эпизодами его учения.
Сам Фрейд называет эту черту «неудобством», Unbehagen.
Неоднократно указывалось, что один из традиционных
переводов «неудовлетворенность» не совсем уместен, притом что,
как это ни странно, оказывается вполне уместен нейтральный
«дискомфорт». Сам спектр значений термина указывает на
то, что речь идет не о разочаровании или лишенности чего-
либо (направление мысли, уводившее последователей, —
например, фрейдомарксистов, — зачастую в не совсем верном
направлении и приведшее их в итоге к поискам перспективы
для субъекта в области грубо понятой сексуальной разрядки).
Напротив, у Лакана речь идет не столько о запрете на
удовлетворение и вытекающей из него фрустрации, сколько о некоей
изначальной сбитости субъекта с толку, его специфической
дезориентации в пространстве. Как это ни противоречит
популярному способу чтения Фрейда, любой смысл, связанный
в анализе с сексуальным удовлетворением, оказывается таким
образом перед этой дезориентированностью вторичным.
То, что Фрейд относит эту дезориентацию на счет всей
культуры в целом, следует приписать, по всей видимости,
искушению универсального антропологизма, которое было
характерно для его эпохи. Антропологизм этот и сегодня остается
крайне соблазнительным. В тоже время часто умалчиваемый
момент заключается в том, что у Фрейда не было ни малейшей
возможности судить об этой дезориентации за пределами того
исторического момента, в котором был укоренен со своим
аналитическим желанием он сам. Момент этот достаточно широк
и не ограничивается лишь тем, что доступно аналитическому
наблюдению непосредственно — Фрейд это чувствовал и
потому требовал, чтобы психоанализу было позволено судить
обо всех явлениях жизни, включая также и те, что могут быть
Глава ι
л
η
почерпнуты из литературы, искусства, философских
измышлений и прочих источников. Тем не менее, нет никаких осно- Ι ώ
ваний предполагать, что пресловутое Unbehagen характерно ÇJ
для каких-либо еще исторических периодов, кроме преслову- %
той «современности», и что это каким-то образом выходит за Q
пределы так называемых «Gegenwartsprobleme».4 jj*
Принадлежность к этим «Gegenwartsprobleme» не означа- 3·
ет, что современность необходимо понимать как совокупность ω
известных нам явлений «современной жизни» — таких как 5
кризис религиозного сознания, прогресс технологий, развитие g
медиа и т.п. — все те признаки, по которым современность |
опознается чисто феноменологически.Сам тезаурус Фрейда, | §
где всем этим вещам отводится поразительно мало места и где
господствует совершенно иная лексика, указывает на то, что
его мысль имеет своим следствием также иное определение
«современности». Современность для Фрейда — это
пробуждение тревоги по поводу возникновения сознания, которое
имеет своим следствием образование бессознательного.
При этом вместо того чтобы спросить, каким образом
сознание может иметь следствием свою противоположность,
следует скорее спросить, что это за сознание. Поиск ответа на этот
вопрос должен продемонстрировать, что Фрейд заведомо
ставит под удар все настойчивые попытки ученых тематизировать
«сознание», воспринимающих его как некий изначально
данный и универсальный феномен. Часто современные
исследователи сознания наивно указывают, что в своих попытках они
опираются в том числе и на Фрейда и что именно он открыл
для психологии возможность развивать эту тему. Этот довод
рассыпается при более требовательном чтении фрейдовских
работ, поскольку для Фрейда сознание не является ни
универсальной способностью, ни феноменом психики. В
психоаналитической перспективе сознание представляет собой особое
положение, в которое субъект попадает, когда оказывается
перед знанием определенного типа — ив данном случае это
то самое знание, которое оказалось за кадром в тот момент,
когда Декарт предлагает свою систему, где ошибочно выдает
за знание то, что ему удалось сформулировать. Картезианский
акт достигает успеха лишь в одном — он учреждает нечто, но
4 Проблемы современности (нем.) I 73
Желание одержимого
CL
О
eu
о
CÛ
о
X
(T3
(Ό
m
u
О
m
τ
го
ce
m
ζ
m
О
CL
m
(U
X
74
при этом то, что он учреждает, вопреки надеждам Декарта на
«ясность и отчетливость», оказывается непредставимым и для
субъекта неусвояемым.
Момент этот примечателен сегодня тем, что он наносит еще
один удар по рожденной в современной философии концепции
политического активизма, несомненно возникшего в том
числе благодаря тому остаточному доверию, которое
философское размышление все еще к Декарту испытывает. Основной
проблемой этой концепции является то, что она очевидно не
учитывает базового наблюдения Фрейда, согласно которому
любое ясно выраженное намерение, ища воплощения, имеет
в итоге своим следствием отнюдь не то, что помещено в фокус
цели изначально. С этой точки зрения надежда на
политическую силу акта разоблачается, превращаясь в то, чем она по
существу и является — наивным секулярным заклятием,
светской магией современного типа.
Та же ставка на перформатив как на микроакт
символического творения и преодоление вечной, присущей субъекту
социальной немощи, опровергается тем, что в основе
современности лежит изначальная мизкреация, промахнувшаяся
попытка творения. Именно здесь находятся истоки того, что
через ряд складывающихся после Декарта культурных условий
впоследствии опознается как «невроз». Представляя в
расхожем восприятии область чисто индивидуального «неудобства»,
невроз скрывает свое происхождение, заставляя
психологическую науку или философию пускаться по его следу, разыскивая
закономерности в той области, где общность случаев
представлена схожей симптоматикой или же социальными условиями.
При этом социальность всегда предстает в том виде, в котором
в ней нет ничего, что не годилось бы на выделку той же
«индивидуальности», что в итоге уводит вопрос в тупик.
Необходимо вывести вопрос о неврозе из пределов этой
ложной диалектики «индивидуального и общественного»
и предоставить базу для описания обсессии — поскольку
именно она, как предстоит показать, является матрицей невротиза-
ции современного типа. Для начала необходимо рассматривать
как симптоматические те интеллектуальные приемы, которые
размечают поле публичных дискуссий последних двух
столетий — холивары между частным и публичным, теоретическим
и практическим, диегетическим и экзистенциально пережи-
Глава ι
I
тым, обыденным и трансгрессивным. Неустанно
разрабатываемые паллиативные варианты перехода от одного к другому, об Ι ώ
которые постоянно запинается субъект, представляют собой Çj
не что иное, как выражение недоумения по поводу вездесущно- %
сти пресловутого Unbehagen — здесь мысль Фрейда вовсе не £
является каким-то наивным или слишком смелым обобщением. $
Не является эта мысль и чистой психологией, поскольку речь 3·
идет о впечатлениях и опыте, которые субъект не получает ни ω
из своего окружения, ни непосредственно через «историче- ω
ский контекст». Лежащая в основе невроза коллизия не дана g
субъекту ни в памяти, ни даже — необходимо признать это |
с самого начала — в бессознательном. о
В этом смысле вся теория «первичной травмы», оказавшая °
огромное влияние на публицистику середины 20 века,
оказывается устаревшей — она завершила свою историческую миссию
адаптации фрейдовского учения к представлениям прошлого
столетия. Лежащий в основании этих представлений
биографический психологизм принес Фрейду славу, но оценивая по
достоинству некоторые измерения его текстов, традиция их
изучения систематически отбрасывала иные. Обратившись
к ним, можно восстановить значение феномена обсессии,
ответив тем самым на фрейдовское требование отнестись к нему со
всем вниманием, которое необходимо удерживатьдо тех пор,
пока это требование не будет выполнено.
Глава 2 Симптом
навязчивости:
от образа
к образованию
При попытке составить то, что можно было бы назвать
«аналитическим портретом» навязчивого невротика мы
сталкиваемся с затруднением, состоящим в том, что черпать
представление о нем приходится в основном из источников, язык
которых не является психоаналитическим. Широкая публика
знакомится с обсессивным типом по текстам большой
психиатрической школы, и в этом есть определенные трудности
культурного порядка. Для тех, кто не является психоаналитиками,
невротик такого рода представлен причудливыми симптомами,
которые если не фактически — поскольку классического
невротика навязчивости можно порой встретить и сегодня — то
во всяком случае стилистически устарели так же, как устарела
в свое время «большая истерия» с arcus hystericus. Даже если
навязчивые действия, ритуалы, ментизм и прочие аутентичные
проявления классической обсессии в ряде случаев выдержали
испытание временем, тем не менее, связь между этими
симптомами и собственно «субъектом навязчивости» слаба и
неочевидна.Она стала неактуальной точно так же, как и связь
«больших симптомов» истерии с так называемой «истеричкой»,
которую мало-помалу открывал для себя Фрейд, обнаружив,
что даже самый классический и хрестоматийный случай
болезни, будучи подвергнут анализу, скрывает под собой нечто,
недоступное ни языку ни глазу психиатра.
В случае же невроза навязчивости связь эта, покуда ее
поддерживают, дополнительно скрывает факты, касающиеся
вопроса этиологии. Если в отношении истерии Фрейд часто
и почти не шутя говорил об «эпидемиологическим анамнезе», £
то в случае невроза навязчивости речь без преувеличения идет §
о культурно-исторической эндемии — факт, который карика- о
турно вычурная симптоматика навязчивости из медицинского Ε
словаря просто-напросто игнорирует. g
Именно по этой причине Лакан предлагает в своих «Семи- ä
нарах» совершенно иное описание невротика навязчивости, s
призванное не столько дополнить данные медицинского ди- о
скурса, сколько практически с нуля начать работу восстанов- s
ления аналитической структуры субъекта этого типа. Описа- о
ние это на первый взгляд не содержит почти ничего из того, о
что позволило бы нам узнать описываемую фигуру — так, там ■§*
почти нет ни слова о стереотипных компульсивностях и про- ω
чих симптоматических явлениях, известных нам из справоч- *
ной литературы. Лакановский невротик навязчивости — это §\
малознакомый для большинства читателей персонаж. Тем не "S
менее, не так уж неуместно будет спросить, откуда этот пер- о
сонаж взялся.
На самом деле, основы его закладываются уже у Фрейда, ход g
наблюдений которого все дальше уводил его от восприятия
навязчивости как набора симптоматических мероприятий, в
которых субъект упорствует и которые доставляют ему неудобство,
хотя отказаться от них он тоже не в состоянии. При этом
происхождение этих мероприятий в эпоху Фрейда систематически
получало два противоположных объяснения, одно из которых
упирало на причудливый и чуждый самому субъекту характер
навязчивых действий, а другое, напротив, приписывало их
«особому личностному складу». Эта противоположность в то время
не смущала специалистов — оба типа объяснений могли
одновременно фигурировать в рамках одного и того же краткого
справочного описания. Тем не менее, именно Фрейд подметил, что
речь в подобных материалах идет ни о чем ином как о рациона-
лизациях, которые выступают по отношению к навязчивости не
метаязыком независимого типа, а скорее ее жертвой. В
теоретическом разборе Rattenman'a Фрейд и за собой замечает огрех
подобного типа, фиксируя его в формулировке, которая
тогдашним читателям должна была казаться чисто иллюстративным
уходом в сторону, но которая сегодня должна быть расценена
как принципиальное замечание, касающееся уязвимой позиции
аналитика перед лицом обсессии: I 77
Желание одержимого
CL
О
eu
о
CÛ
о
ζ
ω
m
u
О
ш
τ
ОС
ffl
Ζ
m
О
CL
ffl
<U
X
78
Данное мною в 1896 году определение
навязчивых представлений, где они являются
«преобразованными, вернувшимися из вытеснения
упреками, которые всегда относятся к
доставившему удовольствие сексуальному действию,
совершенному в детские годы, — сегодня мне
кажется уязвимым по форме, хотя оно составлено
из наилучших элементов. Оно чересчур
стремилось к унифицированию и взяло в качестве
образца процесс у самих больных неврозом
навязчивости, которые с присущей для них склонностью
к неопределенности мешают в одну кучу самые
разнообразные психические образования в
качестве «навязчивых представлений»...
На ходу внося необходимую правку, Фрейд замечает:
На самом деле корректнее говорить о
«навязчивом мышлении», подчеркнув, что навязчивые
образования могут иметь значение самых
разнообразных психических актов.1
Этим малозаметным и незначительным на первый взгляд
заявлением Фрейд практически полностью порывает с
дискурсом медика. То, что ранее казалось невротической
наклонностью конституционного характера, реализация которого
крайне туманно связана с пресловутым «влиянием среды», —
аргумент, абстрактная рациональность которого находится
вровень с его бредовостью — усилием Фрейда превращается
в структуру, в которой пресловутая туманная «невротическая
личность» преобразуется в систему психических образований,
а бросающиеся в глаза навязчивые особенности этой личности
переходят с уровня клинических симптомов на уровень,
который Лакан впоследствии назовет «Воображаемым», поскольку
для определения обсессивной структуры значение имеют
вовсе не они.
Именно этот шаг определил теоретический натиск,
возможностью которого фрейдовские аналитики не воспользовались
Фрейд 3. Заметки об одном случае невроза навязчивости, с. 83.
Глава 2
в полной мере и который был реализован лишь Лаканом. Тем не | £
менее, уже у Фрейда обнаруживаются практически все его
компоненты. Шаг этот позволяет разорвать с установками, которые | ä
окружают психоанализ и часто оказываются более живучими,
чем предпринимаемое психоаналитиками распространение до- I g
ступного им знания. Так, популярной остается убежденность, ä
-С
будто невротик навязчивости, как и любой невротик вообще, s
го
не в курсе устройства своего страдания и что знание об этом о
ему так или иначе сообщает аналитик. Это предположение
было опровергнуто Лаканом в отношении истерического невро- I о
за, который, как теперь известно, целиком соткан из продукции о
знания, добываемого истериком, но при этом в отношении на- -§*
вязчивости сохраняется своего рода изъян восприятия — навяз- g
чивость все еще изображается в специальной литературе собра- *
нием непреодолимых компульсивностей. Субъект, страдающий §\
обсессиями, оказывается беспомощным свидетелем идущих из "2
его бессознательного упрямых и темных понуждений. о
Исчерпывающее опровержение этого момента уже
присутствует, как и во многих прочих случаях, у самого Фрейда. I |
В описании истории Доры, являющегося богатейшим
собранием разного рода замечаний ad hoc, многие из которых, если
бы их принимали во внимание, сами по себе могли бы закрыть
многолетние споры, Фрейд комментирует состояние матери
Доры, женщины ограниченной, полностью посвятившей себя
домашней работе и не замечающей метаний дочери:
Нельзя не заметить, что это состояние,
признаки которого довольно часто встречаются у
обычных домохозяек, напоминает формы навязчивого
умывания и других видов навязчивости,
связанной с чистоплотностью; однако у таких женщин,
как и у матери нашей пациентки, полностью
отсутствует сознание болезни и тем самым важный
признак «невроза навязчивости».2
Таким образом, по мысли Фрейда, в отличие от истерии,
невроз навязчивости включает в себя уже выработанное субъек-
2 Фрейд 3. Фрагмент анализа одного случая истерии. //
Навязчивость, паранойя и перверсия, с. 98 I 79
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
8ο
том отношение к факту наличия у него невротизации — Фрейд
настаивает на этом моменте как на совершенно
принципиальном, и это волей-неволей привлекает внимание. Нет никакого
смысла обесценивать это заявление, подчеркивая, что
подобная сознательная осведомленность пациента не имеет
значения, поскольку в аналитической ситуации участвует только
бессознательное. Упирать на неудачу подобной рефлексии,
требовать признания незначительности факта этой
осведомленности — вовсе не значит быть правоверным фрейдистом.
Напротив, следовать именно аналитическому подходу
означает поставить здесь кардинальный вопрос: на какого рода
знание опирается невротический субъект в этом случае? В каком
положении оказывается он вместе со знанием о наличии у него
невротизации?
Это немаловажный вопрос, поскольку в широкой
аналитической среде часто сохраняется долакановское — и поэтому доф-
рейдовское — понимание отношений субъекта с материалом,
который тот извлекает не из пресловутой системы
«восприятие-сознание», а из дискурса. Если субъект навязчивости еще
до вхождения в анализ осведомлен о наличии у него невроза,
то его осведомленность, даже являясь продуктом «сознания»,
вовсе не становится от этого пустой. Нигде у Фрейда нельзя
найти подобного обесценивания — и вовсе не по той причине,
что его собственная мысль сохраняет картезианские иллюзии.
Допущение наличия у себя невроза, ощущение невротического
повреждения психики входит в невроз навязчивости в качестве
одного из его метонимических элементов — вот о чем говорит
Фрейд. Невроз навязчивости включает в свой комплекс также
и открытие субъектом факта собственной невротизации. При
этом сам субъект становится метонимией собственной
навязчивости, что и завершает расщепленную картину, заставаемую
в итоге аналитиком.
Все это позволяет совершенно иначе воспринять
фрейдовский подход к невротической структуре. Вместо путаной
и мистифицированной картины, где невроз представляет собой
нагромождение симптомов, образующих в совокупности
состояние, воспринимаемое субъектом с одной стороны как чуждое,
а с другой — как повреждающее его личность в самой ее
основе, Фрейд предлагает более отчетливую, хорошо
структурированную топологию симптома, отправляясь от которой можно
Глава 2
η
I
разобрать устройство навязчивого невроза и, самое главное,
определить место, где входит в него аналитик.
Последнее представляет собой настоящий
психоаналитический Magnum opus — задачу, которую пытаются выполнить все
те, кто настаивает, что вместо картины разрозненных и хаотиче- I g
ски сменяющих друг друга компульсивностей, которым субъект ä
периодически подвержен, необходимо исследовать то, что порой s
торопятся назвать «невротической личностью», — то есть лич- о
ностью, которой не чужды поиски самореализации и исцеления.
На первый взгляд кажется, что задачам описания этой личности
Фрейд следовал и даже добился в этом успеха, настаивая, что I о
любой, даже на первый взгляд случайный и резко отделенный -§*
от характера и склонностей субъекта компульсивный симптом ω
произрастает из чего-то такого, что касается всего многообра- *
зия перипетий «психической жизни». Тем не менее, последст- §\
вия фрейдовского открытия оказались совершенно иными и, "2
будучи помещенными в соответствующий контекст, показыва- о
ют, что искать нужно не только в той области, где навязчивость
оказывает влияние на «глобальные» особенности невротическо- |
го субъекта. Задача гораздо более специфична, поскольку, как
было сказано, навязчивый невроз является не расстройством
отдельных поврежденных душ, а сопричинен обстоятельствам,
при которых субъект, будучи продуктом современности,
исторически обзаводится бессознательным.
Именно по этой причине Фрейд временами заговаривал
о возможности самоанализа. Некоторые аналитики бывают
слегка фраппированы тем, что он опускался до подобной
наивности, другие же видят здесь еще одно доказательство будто
бы присущего его начинанию налета самодеятельности. И те
и другие сходятся в том, что выглядело это несколько странно.
На деле, вместо того, чтобы видеть в этом факте наивную
опору Фрейда на пресловутый рационализм, необходимо
воспринимать его как теоретическое предчувствие того, что сам по
себе анализ формируется на той же почве, где бредет и
оскальзывается невротик, и что последний, даже не будучи в анализе,
наблюдает по сути те же элементы пейзажа, из которых
скроена сама аналитическая практика.
Именно этот пункт и обеспечивает анализабельность
навязчивости. Обсессивного субъекта приводит в анализ не трезвая
позиция, которую он как бы заимствует у аналитика в долг и, I 81
Желание одержимого
CL
О
eu
о
CÛ
о
X
(T3
(Ό
m
u
О
m
τ
го
ce
m
ζ
m
О
CL
m
(U
X
82
пройдя анализ, возвращает с процентами, а обнаружение того,
что теория, которую психоанализ, как кажется, впервые
привносит в мир, уже, выражаясь в духе фрейдовских метафор,
находится у него самого под кожей и скрыта от него не
столько недостатком знания, сколько посредством образа, которым
его собственный невроз дан ему изначально. Именно в поисках
«теории себя самого» он себя и растравляет, ставя перед собой
выдуманные испытания и устраивая самопроверки различного
рода, столь характерные, — как хорошо знают аналитики, —
для обсессивной личности.
Большинство из этих навязчивых самопроверок до
анализа остаются совершенно бесплодными, поскольку, как уже
было сказано, невроз навязчивости, само наличие которого
доступно субъекту в качестве одного из элементов этого
невроза, является реальностью, данной субъекту в
Воображаемом. Дело обстоит так в том числе и потому, что невозможно
установить, до какой степени этот невроз олитературизован,
преподан самому субъекту в готовом виде из соответствующих
медицинских источников, точно так же как была в свое время
поставлена на поток, — правда, посредством другого
дискурса, — большая истерия. При этом, если в соответствующую
эпоху та, с ее громкими припадками, во многом происходила
именно из умолчаний и экивоков врачебного консилиума,
побуждавших больных пытаться внести ясность в
неопределенность, которую из соображений дисциплины и этики
окутывало их болезнь врачебное сообщество, то невроз навязчивости
формируется из тщательного следования букве дискурса,
формулирующего болезнь на уровне ее симптоматики.
Именно поэтому вместо рассуждения, согласно которому
доступ к информации о характере невроза сначала имеет
специалист и лишь потом ее отголоски посредством магии
«дидактических элементов в анализе» доносятся до субъекта, следует
держаться скорее противоположной гипотезы. Если уж
аналитик с самого начала своего существования не может устоять
перед очарованием медицинского дискурса, то о любом другом
субъекте нечего и говорить: сегодня мы то и дело становимся
свидетелями того, до какой степени наиболее
непосредственные, казалось бы, невротические переживания — например,
панические атаки — уже на уровне телесных ощущений
«стилизованы» под ту научную, посвященную им психологическую
Глава 2
литературу, с которой субъект при наличии у него минималь- £
ного любопытства сталкивается на каждом шагу. §
Необходимо заведомо установить, что речь идет не о «ятро- | о
гении» как акте внушения со стороны врачебных источников
или же угодливого мимесиса со стороны пациента. Подозревать I gj
субъекта даже в бессознательном подыгрывании в сторону ä
описанной симптоматики нет никаких оснований — в подавля- s
I го
ющем большинстве случаев та стартует совершенно независи- о
мо и опережает любое возможное знакомство со специальной | s
2
ι
литературой. Тем не менее, факт ее соответствия описаниям, о
доступным из медицинской литературы, не может быть рас- о
ценен как независимый успех профессионалов, добившихся -§*
максимально объективного и точного описания синдромов. ω
Хорошо известно, что субъект, страдающий агорафобией или *
разновидностью социопатии, однажды добравшись до справоч- §\
ных текстов, не просто с большой точностью опознает их как "2
соответствующие собственным проявлениям, но и привносит о
в изложение свои коррективы, связанные с особенностями
реализации описанной патологии в его собственном случае. I |
Другими словами, с его стороны имеет место творческий акт
содействия, падающий на благодатную почву.
Речь, таким образом, должна идти об изначальном
совпадении средств выражения, что позволяет достоверно
предположить, что терапевт и субъект находятся в общем дискурсе,
в рамках которого возможная фактическая осведомленность,
равно как и благоприобретенная квалификация врача,
теряют свое ранее имевшееся у них привилегированное значение,
основанное на знании специалиста. Понимание этого
обстоятельства и побуждало Фрейда максимально уходить от
привилегированности такого знания, делая основы аналитического
метода максимально доступными публике и пациентам. Видеть
в этом следует не жест доброй воли, не протянутую руку
сотрудничества, а доступное Фрейду понимание той роли,
которую играет нахождение субъекта в поле того, что Лакан
впоследствии назовет инстанцией «знания».
Именно в этом отношении анализ призван опрокидывать
первичные ожидания субъекта. Думая поначалу, что анализ
призван помочь ему обрести «трезвый взгляд» на тупики об-
сессивного морока, субъект этот мало-помалу обнаруживает,
что вопрос в анализе ставится иначе, нежели он предполагал, I 83
Желание одержимого
CL
О
eu
I-
О
CÛ
О
X
(T3
*
m
u
О
CÛ
Τ
m
oc
CÛ
(Ό
X
m
О
Q.
m
(U
X
84
и что ход анализа особым образом сообразуется с двумя
ведущими силами, которые лежат в основе невроза навязчивости
и будут описаны ниже, когда речь пойдет о базовых
составляющих этого невроза. Другими словами, навязчивому невротику
анализ небезразличен в том числе на уровне, который можно
назвать «теоретическим», или же «дидактическим». Это
придает особый смысл термину «теоретическое», позволяя вывести
его за пределы дискурса науки и при этом сделать это без тех
экзистенциалистских и персоналистских ухищрений, на
которые систематически пускалась общая психология на
протяжении прошлого столетия.
На деле, именно это небезразличие и является подлинным
основанием для той химеры, которую называют
«дидактическим анализом», недостаточно отчетливо при этом
представляя, что обеспечивает субъекту вход в него. Если бы функции
аналитика сводились бы только к добросовестному изучению
и интерпретации невротических случаев, а также созданию
опоры для качественного переноса, у этого доступа не было бы
ни малейших шансов возникнуть. Но он появляется, — и
происходит это по той причине, что диспозиция навязчивости, как
было показано в предыдущей главе, является характеристикой
не только отдельных, пусть сколько угодно типичных, случаев,
но и самого желания аналитика, становясь превращенной
основой психоаналитической техники взаимодействия с
бессознательным.
Именно это и выступает реальным основанием для той
связи между аналитическим подходом и типичным ходом
развития невроза, которую Фрейд считал доказательством
универсальности аналитического опыта, хотя со временем становится
все понятнее, что ее навряд ли вообще следует рассматривать
с точки зрения какой бы то ни было прагматики.
Прагматические ожидания самого Фрейда, полагавшего ее ключом к
всеобщему исцелению и социальному благу, говорят всего лишь
о том, что в ту эпоху пресловутая невротизация все еще
рассматривалась как повод для широкого насаждения
просветительской врачебной позиции.
Все это указывает разве что на непрозрачность позиций,
с которых исторически вступает в дело сам психоанализ, часто
все еще и сегодня очарованный мифологией подобного
просвещения, желание которого то и дело проскальзывает в стилисти-
Глава 2
ке респектабельных специалистов. Мифология эта ярче всего | £
проявляется в тех случаях, когда анализ совершает действие,
которое в силу его самоообращенности в полной мере могло бы | о
рассматриваться как картезианское — то есть, когда аналитик
посредством своего искусства готовит новых психоаналити- I g{
ков. В отношении данной практики господствует наибольшее ä
количество двусмысленностей, которые не устраняются даже
тогда, когда психоаналитический институт трезво и открыто I о
признает наличие ограничений и препятствий в этом процессе. s
На самом деле, ограничение во всех случаях остается од- о
ним-единственным. Даже в тех случаях, когда повод для входа о
в дидактический анализ очевиден и оправдан самой насущ- -§*
ной необходимостью подготовки психоаналитиков, это обсто- w
ятельство ни в малейшей степени не исключает компонента
навязчивости в подобном анализе. Более того, именно дидак- 8\
тический анализ наиболее отчетливо показывает, что состав- "S
I и»
ляющая навязчивости находится не на уровне индивидуальной о
невротической патологии, а располагается в самом черенке ^
той структуры, из которой произрастает инстанция, называе- |
мая Фрейдом «желанием». В этом смысле реверансы, которые
профессиональные аналитические сообщества совершают
перед публикой в связи с пресловутым «личным неврозом
аналитика», теряют всякий смысл, поскольку обсессивность
расположена в аналитической практике на том уровне, где субъект,
независимо от наличия или отсутствия у него намерения быть
аналитиком, находится в пространстве, где навязчивость
является спутницей любой членораздельной практики.
Наличие этого уровня влечет за собой особое, но при этом
широко распространенное следствие, в силу которого любое
иное расстройство или даже психотический комплекс были
бы лишены доступа в психоаналитическую теорию и
практику, не будь в их подаче чего-то такого, что характерно именно
для обсессивной позиции. Не только сами эти расстройства
обречены пройти в анализе сквозь ворота навязчивости, но
и более того, их вхождение в сферу, где они делаются фактом
публичности, задействует механизм, который может носить
только обсессивные черты. То наслаждение, которое широкая
публика извлекает из сентиментальных историй о
нестандартном устройстве психотика или альтернативной одаренности
аутиста, не может иметь под собой иного основания, кроме как I 85
Желание одержимого
CL
О
<υ
ь
о
ас
ω
о
ζ
ω
m
О
m
y
m
ce
m
ζ
m
О
Cl
m
(U
X
предлежащего этому наслаждению наслаждения терапевта, из
уст которых исходит нарратив, служащий такому
наслаждению опорой. Источником этого наслаждения точно так же
является Воображаемое, привлекательный для желания образ,
что на самом деле представляет собой проблему социального
характера, поскольку именно таким образом психотик или тот
же аутист становятся объектом адресованного им заботливого
общественного активизма.
Итак, если отношение субъекта к характерным симптомам
невроза навязчивости, само выступает как симптоматическая
составляющая, оперирующая образами этого невроза, данная
симптоматика в ее классическом виде оказывается не годна
для вырабатывания представления о существе навязчивости.
В этом представлении необходимо перейти от образа, который
предлагает медицинский дискурс, к психоаналитической
проработке навязчивости и ее основных образований.
Глава з Основные
элементы
невроза
навязчивости
Итак, мы установили, что какими бы яркими ни были
отдельные навязчивые проявления и действия, до какой бы степени
они не определяли пресловутый «психологический портрет»
невротика навязчивости, существо обсессивности составляют
вовсе не они. Психоанализ должен пройти мимо них, в
направлении, где находятся собственно образования навязчивости,
определяющие особый облик, который принимает инстанция
обсессивного желания, — независимо от того, выступает это
желание в клиническом обрамлении клинически значимого
невроза или же нет.
Основных образований навязчивости собственно два. При
этом каждое из них лежит в том числе и в основе
психоаналитического подхода, который, как указывалось выше, сам по
себе не лишен презумпции перед обсессией. Первым из них
является инстация Anerkennung, — пресловутый поиск
признания — первое и основное открытие лакановского анализа,
которым незаслуженно порой пренебрегают по той причине,
что основное внимание Лакан уделяет ему на ранних порах
своего исследования. Вернуть поиску признания его значение
в анализе, а также установить его смысл, — поскольку он
остается неясным, а в области философии и по сей день часто
смешивается с разного рода формами воления к власти, —
является одной из первых задач психоаналитического исследования.
Вторым основным образованием навязчивости выступает
отношение, образуемое субъектом к тому, что также слишком
быстро стало и в психоаналитической и в философской среде
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
88
общим местом — к вопросу отцовской инстанции, связанной
с Я-идеалом. Поскольку этот пункт остается у Лакана одним
из наиболее загадочных, требуется уточнить, что его
прояснению не способствуют те скорые аналогии, которые в попытке
сделать его постижимым проводят между ним и разного рода
фаллическими культами. Глубоко ошибочным было бы
полагать, что речь в нем идет о какого-либо рода могуществе —
допущение тем более соблазнительное, что навязчивый невротик
по профилю своего влечения часто обнаруживает нечто такое,
что аналитики порой склонны расценивать как проявления
первичного садизма.
Для опровержения этих аналогий достаточно указать на то,
что функция, связанная с отцовской инстанцией, была введена
Лаканом в результате теоретической жестикуляции, целью
которой было максимальное размежевание не только с
общеизвестной мифологией отца и отцовства, но и с подходом самого
Фрейда, который не был от этой мифологии полностью
свободен в том числе по причинам, связанным опять-таки с
особенностями желания, лежащего в основании фрейдовского
предприятия.
Для предварительного понимания структур навязчивости
необходимо сразу оговориться, что два эти образования
разделены и не находятся ни в никакой непосредственной связи.
При этом читатели, знакомые с исследованием Лакана,
напротив, обычно склонны полагать, что первое по своим
социальным и политическим последствиям не только стоит второго, но
и находится с ним в тесном отношении, которое сродни
отношениям причинно-следственного характера. Так, «признание»,
с точки зрения многих толкователей, — это то, что
обеспечивается если не самой отцовской инстанцией, то, во всяком
случае, исключительно благодаря инструментам ее
виртуального благословения. В этом случае говорят о «символической
инстанции», как будто это все объясняет. На деле, что-то
объяснять это может лишь в том случае, если мы находимся вне
лакановского аппарата — именно там, невзирая на свои
наилучшие намерения, и находится большинство философских
публицистов, касающихся в своих текстах лакановских
первоисточников.
Вместо этого на данный момент приходится откровенно
признать, что комплекс Anerkennung и пресловутая проблема
Глава з
отца в связи с Я-идеалом находятся в соотношении, все про- О
стые объяснения которого терпят крах. Более того, мы слиш- g
ком мало знаем о них по отдельности, и этому отсутствию χ
понимания зачастую не мешает и даже способствует содей- %
ствие современного гуманитарного знания. Так, в отношении | ^
пресловутой отцовской метафоры мы сегодня практически
ничем не располагаем, кроме философского
социально-критического комплекса, для которого характерны скорее моральные
решения относительно «природы власти» и психологии того, Ι -ξ
кто ей предположительно обладает или желает причаститься -о
ее благам. Решения эти в своем роде исторически оправданы S
и отвечают требованиям политического мышления определен- χ
ного типа, но они ничего не добавляют к психоаналитической го
мысли и вступают с ней в итоге в отношения замещения и вы- ^
теснения — факт, заставляющий иначе посмотреть на тесное ш
сотрудничество философии и психоанализа, столь приветству- | η
емое в последнее время.
В итоге даже в тех случаях, когда философы с критическими
целями задействуют лакановский аппарат, выводы,
проистекающие из его применения, зачастую находятся на
интеллектуальном уровне колонки из злободневной газеты. Нет ничего,
что сильнее тормозило бы изучение структуры субъекта,
нежели осуществляемая при помощи этого аппарата постоянная
критика власти и, самое главное, смешение процесса ее
обретения с поиском признания — отождествление, от которого
предостерегал еще Фрейд. В тех случаях, когда эта критика
подкрепляется лакановскими понятиями отцовского спектра,
положение аналитической мысли становится плачевным —
этическая миссия критически мыслящего интеллектуала
выполняется здесь на фоне абсолютного пренебрежения
изучением структур субъекта, который является при этом основным
участником и персонажем всех без исключения современных
политических дискуссий.
Все эти предварительные уточнения необходимы,
поскольку изучение основных особенностей этого персонажа как раз
и должно стать основанием для выработки представления
о симптоматологии навязчивости. Именно по причине
отсутствия подобной симптоматологии невроз навязчивости долгое
время задерживается на пороге психоаналитического
дискурса, будучи не в состоянии стать его предметом, пока этот ди- I 89
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
90
скурс не оформляется в образование, независимое от дискурса
науки. Ибо то, что обычно в аналитическом дискурсе называют
«симптомом», лишь в силу этой зависимости распознавалось
как видимые и аналитику и пациенту явные навязчивые
действия — те самые, благодаря которым данный невротик и
получает свою широкую известность.
Все это отсылает к перипетиям, в ходе которых Фрейд,
в муках и колебаниях вырабатывал понятие «симптома»,
долгое время после него остававшееся богом психоаналитиков.
В этом положении оно во многом остается и сегодня, хотя
позиции его и были существенно поколеблены лакановской
проработкой истерии, в которой симптом оказался вытеснен
со своих ведущих позиций. Это выталкивание отнюдь не было
искусственным — оно в точности совпало с исторической
утратой истерией того, что позволяло врачам рубежа 19-20 веков
испытывать на истеричке границы своего могущества,
повелевая ее состоянием, в котором видимая тяжесть соматической
симптоматики зачастую вытесняла всю прочую психическую
проблематику. Можно сказать, что именно на этом
переходном моменте и подхватывает таких пациенток Фрейд, что по
меньшей мере позволяет снять с него прозвучавшие в
современности обвинения в том, будто он от этих пациенток по сути
отказался.
С навязчивым неврозом в некоторой степени происходит то
же самое — его видимая симптоматика постепенно отходит от
стартовой линии психоаналитического наблюдения.
Достаточно взглянуть, как описывает эту симптоматику Лакан:
Рассмотрим структуру такого невротика. То,
что называют эффектом сверх-Я — что это здесь,
собственно, такое? Это значит, что этот невротик
возлагает на себя заведомо трудные,
неудобоисполнимые задачи и успешно с ними справляется,
тем более успешно, что именно это-то ему и
нужно. Причем справляется он с ними настолько
блестяще, что считает себя вправе рассчитывать на
небольшой отпуск, когда сможет проводить время
по своему усмотрению, — откуда и берет, кстати,
начало, хорошо известная диалектическая связь
работы и отпуска. Работа играет в жизни такого не-
Глава 3
вротика огромную роль — она призвана освободить О
для него время отпуска, время распустить паруса. g
При этом отпуск, как правило, проходит бездарно. ?
Почему? Да потому, что главным для него было %
получить от Другого его позволение. На самом же ^
деле, другой этот — я говорю теперь о другом фак- ' п
тическом, о другом как о конкретном лице — ни- I 5
как в эту диалектику не включен. Дело в том, что
другой реальный слишком озабочен Другим своим
собственным, чтобы брать на себя совершенно ΠΟ-
π:
л>
го
■о
стороннюю ему миссию и венчать невротика за его ι S
подвиги. А между тем для осуществления своего ι
желания — желания, с областью, в которой он ш
продемонстрировал свои способности, ничего об- ^
щего не имеющего, — невротику, на самом деле, ш
только это и нужно.1 | η
Эти наблюдения сами по себе не новы — многие аналитики
и до Лакана замечали, что пресловутая навязчивая
симптоматика обсессивных действий и ритуалов является лишь наиболее
бросающимися в глаза жалобами, которые зачастую
предлагает такой невротик аналитику, и что за жалобами этими
скрывается целый арсенал психических особенностей, в наличии
которых такой невротик отдает себе отчет лишь фрагментарно.
Более того, сами по себе навязчивые повторения, — обсессии,
ритуалы и прочие поведенческие и ментальные
расстройства, — являются элементами, в которых структура
психического компонента навязчивости представлена в крайне
редуцированном и усеченном виде. Именно в этом обнаруживается
основное различие между подходами Лакана и Фрейда: если
для второго даже по мере того, как он начинал сомневаться
в ведущем клиническом значении основных видимых
симптомов, они все еще носили характер отпечатка, позволяющего
восстановить по крайней мере часть угасшего в них
психического процесса производства навязчивости, то в лакановском
подходе симптомы эти приближаются к отходам производства
навязчивости. Более того, они прямо нацелены на то, чтобы
1 Лакан Ж. Семинары Т. 5. Образования бессознательного. М.,
2005, с. 483-484 Ι 9*
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
92
заслонить базовые структуры навязчивости не только от
аналитика, но и от испытывающего их субъекта.
По всей видимости именно это Фрейду было нелегко
признать — в присущем ему рациональном духе поначалу он все
еще полагал, что у всех видимых обсессивных элементов
непременно обнаруживается значение, которое, даже будучи
порой совершенно неожиданным, тем не менее, вполне способно
выполнять функцию толкования. Перед нами, таким образом,
Фрейд, представляющий собой отпрыска немецкой
герменевтической философии 19 века, традиционно увязывающей
значение и переживание.
Смысл симптома, как мы узнали, кроется в его
связи с переживанием больного. Чем индивиду-
альнее выражен симптом, тем скорее мы можем
ожидать восстановления этой связи. Затем
возникает прямая задача найти для бессмысленной идеи
и бесцельного действия такую ситуацию в
прошлом, в которой эта идея была оправданна, а
действие целесообразно.2
Тем не менее, по мере чтения Фрейда становится ясно,
что основные поступки и действия невротика навязчивости
из области метафоры, где они имели некий связанный с
начальным импульсом смысл, все больше отходят в область
метонимии — то есть не объясняют, а замещают желание.
Тем самым, не обнаруживаясь больше в переживании, они не
обнаруживаются и в области значений. Именно этот момент
необратимо и полностью меняет процедуру клинического
ведения навязчивости, что, впрочем, по причине чрезвычайной
плотности фрейдовского изложения долгое время оставалось
незамеченным.
Перемена мнения самого Фрейда на этот счет
поучительна: так, в своих известных пилотных толкованиях, вошедших
в лекции по психоанализу, он добивается полного, до
мельчайших подробностей, соответствия навязчивых действий какому-
либо смыслу. Именно так появляются составившие всемирную
славу анализа отождествления генитального характера, где
Фрейд 3. Лекции по введению в психоанализ. СПб., 1999, с. 249
Глава з
подушка или цветочный горшок могут символизировать жен- О
щину, а вертикальная спинка кровати — мужчину.3 g
Тем не менее, более разработанные случаи, о которых χ
Фрейд не позволял себе говорить конспективно и мимоходом, %
демонстрировали изменение фрейдовской методы — симво- ^
лизм навязчивых действий из них улетучивался, уступая место g
кропотливому и, на первый взгляд, реалистичному психологи- | £
ческому описанию событий, окружавших формирование и
протекание невроза. При внешней простоте и доступности этих из- Ι -ξ
ложений, — особенно в сравнении с символической каббалой -S
фаллических и генитальных толкований, — они представляют S
для чтения реальную трудность. Именно в них Фрейд подготав-
ш
ливает почву для вопроса о том, с истиной какого типа имеет ι ш
сношение навязчивый субъект, и как эта истина, выражаясь ^
том числе в мишуре хаотических действий, наподобие навяз- ш
чивого подсчета в уме или бесконечных проверок газового кра- | η
на, формирует ту безысходность, в плену которой этот субъект
находится — безысходность, носящую по отношению к самому
субъекту крайне жестокий характер.
Все это по меньше мере означает, что вместо того, чтобы
говорить о влечениях навязчивого субъекта, приписывая им
садизм или же садизм обращенного толка, необходимо
заново определить, кем именно является субъект навязчивости и,
3 «Главный смысл своего церемониала больная угадала в один
прекрасный день, когда вдруг поняла предписание, чтобы подушка не
касалась спинки кровати. Подушка для нее всегда была женщиной,
говорила она, а вертикальная деревянная спинка — мужчиной. Таким
образом, она хотела — магическим способом, смеем добавить — разделить
мужчину и женщину, т. е. разлучить родителей, не допустить их до
супружеского акта. Этой же цели она пыталась добиться раньше, до
введения церемониала, более прямым способом. Она симулировала страх
или пользовалась имевшейся склонностью к страху для того, чтобы не
давать закрывать дверь между спальней родителей и детской. Это
требование еще осталось в ее настоящем церемониале. Таким образом она
создала себе возможность подслушивать за родителями, но,
используя эту возможность, она однажды приобрела бессонницу, длившуюся
месяцы. Не вполне довольная возможностью мешать родителям таким
способом, она иногда добивалась того, что сама спала в супружеской
постели между отцом и матерью. Тогда «подушка» и «спинка кровати»
действительно не могли соединиться». // Фрейд 3. Лекции по
введению в психоанализ, с. 252. I 93
Желание одержимого
CL
О
eu
о
OÙ
о
X
03
03
m
u
О
ω
y
DC
m
оз
χ
m
О
CL
m
eu
X
94
в частности, какой стороной его субъектность повернута к
аналитику.
Именно с этим в полный рост столкнулся Фрейд при работе
с человеком-крысой, который фактически на протяжении
всего анализа уверял аналитика, что все, что он делает, по
существу делает не он. Фрейд, наследник фейербаховской школы,
учащей не сдерживать себя в желании дать пинка
притворщикам, кокетливо приписывающим собственные поступки
посторонним инстанциям, не давал себя одурачить и, несомненно,
питал огромную склонность вернуть пациенту все
старательно отчуждаемые им от себя действия. Так, проявив немалое
терпение, Фрейд связывает воедино нити, которые по одной
вручает ему анализант, рассказывая о капитане, лейтенанте,
очках, деньгах, даме и т.п., хотя его не оставляет ощущение,
что ему до некоторой степени пудрят мозги. Тем не менее,
каждый раз тот или иной смысл навязчивого действия находится,
и субъект демонстрирует аналитическую покорность,
признавая его. По всей видимости, если не переломной точкой, то во
всяком случае моментом серьезного колебания в самом
Фрейде становится сообщение пациента о привычке
демонстрировать мертвому отцу свой орган в действии.
Мы также должны рассмотреть в связи с этим
его любопытное поведение в то время, когда он
готовился к экзаменам и играл со своей любимой
фантазией о том, что его отец все еще жив и может
в любой момент появиться. Он обычно устраивал
свои рабочие часы настолько поздно, насколько
это было возможно. Между двенадцатью и часом
ночи он прерывал свою работу, открывал
парадную дверь своей квартиры, как если бы его отец
стоял за ней; возвращался в холл, извлекал свой
пенис и смотрел на него в зеркало.
Это безумное действие становится понимаемым,
если мы предположим, что он действовал так, как
будто ожидал визита отца в час, когда бродят духи.
Он, в целом, бездельничал, пока отец был жив,
и это часто становилось причиной недовольства
отца. И теперь, возвращаясь в качестве духа, он мог
быть восхищен, находя своего сына таким трудолю-
Глава 3
бивым. Но было невозможно, чтобы его отец вое- О
хищался другой частью его поведения; оно должно g
было быть для него вызывающим. Так, в одном бес- ?
смысленном навязчивом акте он выражал две сто- %
роны своего отношения к отцу, причем делал он это ^
последовательно, так же как и по отношению к даме ' п
посредством своего навязчивого акта с камнем.4 I 5
Здесь в изложении не заметно особых колебаний — Фрейд
дает толкование почти немедленно. Тем не менее, это
толкование носит черты теоретической регрессии — оно не только не на
уровне фрейдовского подхода в целом, но в нем также наличест-
л>
го
-о
ние носит черты теоретической регрессии — оно не только не на | S
ι
вует какой-то объективный пропуск. Несколько наивно раскла- I g
дывая действия пациента на предположительно одобряемые или ^
же порицаемые отцом, Фрейд отчетливо регрессирует — при- S
чем регрессирует в связи с собственным аналитическим жела- | §
нием. Субъект навязчивости в его теоретической картине вдруг
оказывается утрачен, и Фрейд лихорадочно предпринимает все
доступные ему аналитические средства, чтобы вернуть его в
пациента — в противном случае вся логика навязчивости для него
оказывается безвозвратно потеряна. Называя этот акт
бессмысленным и в то же время немедленно находя в нем смысл, Фрейд
страшится в этот момент теоретического краха.
В свою очередь Лакан больше не пытается сделать ничего
подобного. Характеризуя субъекта навязчивости, он отбрасывает
процедуру толкования и вместо него прибегает к фигуре
одержимого (obsessionnel). Термин этот, будучи хорошо знакомым
любому врачу, в устах Лакана является последним прощанием
с дискурсом медика, поскольку аналогом его является то, что
в английском фигурирует как possession, охваченность, завла-
девание. Немецким аналогом ее является Besessenheitco всей
мрачной мистической историей, стоящей за этим термином.
Все желание одержимого — само наличие его,
как и механизм, вообще мыслимы лишь
постольку, поскольку оно восполняет то, что в другом,
то есть, в его собственном месте, восполнить
4 Фрейд 3. Заметки об одном случае невроза навязчивости //
Навязчивость, паранойя и перверсия, с. 71 I 95
Желание одержимого
CL
О
eu
о
CÛ
о
X
(T3
(Ό
m
u
О
ω
τ
m
ce
m
ζ
m
О
CL
m
(U
X
96
нельзя... То, чего одержимый, возобновляя — вы
понимаете, почему я выбрал это слово — тяжбу
желания, ищет, и есть та настоящая причина,
которая весь процесс приводит в движение...5
Здесь от аналитика требуется вся теоретическая смекалка
вкупе с присущей ему осторожностью в делах, касающихся
религии, поскольку одержимость эта в случае навязчивости все
же не означает, что в субъекта вселяется «дух» или что-либо
подобное. Напротив, впечатление, которое производит такой
невротик, демонстрирующий будто его утомительно
повторными действиями руководит какая-то другая воля, является
ошибочным. С аналитической точки зрения навязчивое
действие как никакое другое имеет своей целью утвердить, что
субъект в нем упорно и единолично одерживает победу над
неким вмешательством, предшествующим навязчивому
действию. Другими словами, извне приходит вовсе не навязчивость,
а, напротив, нечто такое, чему навязчивое, компульсивное
действие призвано воспротивиться.
Именно поэтому, характеризуя субъекта навязчивости,
Лакан в итоге выдвигает следующий тезис:
Мы осязательно наблюдаем здесь характерную
черту, чья загадочность лишь в силу привычки
не бросается нам в глаза — желания
одержимого всегда заявляют о себе в измерении, которое
я только что назвал функцией защиты.6
Положение это, будучи темным, не получило широкого
распространения в посвященной Лакану литературе, хотя именно
в нем находится ключ как к понимаю общей структуры
навязчивости, так и к практическому оформлению так называемого
«начала анализа» — тому самому решающему моменту, когда
выясняется вопрос о том, будет ли являться работа с
навязчивостью аналитической или же речь пойдет о психотерапии того
или иного сорта. Узнать последнюю, — даже если она
основана на подходе, являющимся в той или иной степени «фрейдов-
5 Лакан Ж. Семинары Т. 10. Тревога. М. 2010, с. 398, 387
6 Там же, с. 394
2
Π)
Глава 3
ским», можно исходя из того, как именно она понимает «за- О
щиту»: то, против чего защита направлена, непременно будет g
представлено в ней в виде бессознательного переживания того 5
или иного сорта. Пойдет ли речь о «травме» или же о каком- | %
либо препятствии в развитии — в любом случае, в
психотерапевтическом вмешательстве облик, который будет носить
этот предмет, обнаружится в области каких-либо жизненных
обстоятельств, — настоящего или прошлого.
Точно так же — правда, по другой причине — останавли- Ι -ξ
вается и философская мысль, которая, даже усвоив сегодня из -§
фрейдолакановского учения то, что составляет его сердцеви- S
ну — учение о желании — воспринимает последнее в стиле, χ
неопровержимо свидетельствующем о присущей философско- ш
му дискурсу морализаторской сущности. В большинстве фи- ^
лософских прочтений Лакана желание представляется движу- ш
щей силой, побуждающей субъекта к выходу за пределы его | η
ограниченного повседневного существования, а
сопротивление воспринимается как намерение субъекта своему желанию
воспротивиться, оставшись на позициях принципа
удовольствия, ограниченного как с этической так и с онтологической
точки зрения. Понятое таким образом желание по существу
ассоциируется с «полнотой бытия», этим философским
мифом — невроз же в таком случае предстает задержкой
реализации этой полноты, что в наибольшей степени касается как
раз невроза навязчивости с присущими ему с общей точки
зрения оскудением и ригидностью перспективы. Субъект
навязчивости в подобного рода представлениях изображается как тот,
кто с самого начала пасует, не предпринимает действия там,
где следовало бы зову желания отдаться.
Примечательно, что лакановская оценка навязчивости
исходит из совершено другого места, где желание является не
динамическим порывом, а препятствием, — причем препятствие это,
в согласии также с мыслью Фрейда, носит внутренний
характер: желание выступает препятствием ни для чего иного как для
уже имеющего место желания. Сам Фрейд максимально близко
подходит к этому моменту, и лишь отсутствие в период его
деятельности аналитического представления о том, что в случае
невроза не воспоминание и не травма, а сама инстанция желания
является объектом тревоги, помешало ему сделать выводы,
необходимую почву для которых он сам тщательнейшим образом I 97
Желание одержимого
CL
О
eu
I-
О
CÛ
О
X
(T3
*
m
u
О
CÛ
Τ
m
oc
CÛ
(Ό
X
m
О
Q.
m
(U
X
98
подготовил. Субъект сталкивается с тем, что свое желание он
способен поддерживать лишь в том случае, если сам он
находится в состоянии непрестанного сопротивления, направленного не
на внешнюю среду, а на то, на что он реагирует как на
вмешательство в область его влечения. Именно в этот момент
наступает то, что Фрейд называет «торможением», принимающим
разнообразные формы, но в случае навязчивости выступающим
в наиболее явном виде — в облике компульсивного действия,
которое субъект буквально выставляет перед собой как щит,
призванный его от вмешательства желания закрыть.
Почему, в самом деле, заслуживает
вмешательство желания в торможение названия защиты?
Заслуживает оно его лишь постольку, поскольку
заявивший о себе в торможении эффект желания,
вторгается в действие, уже вызванное,
индуцированное другим желанием.7
Здесь возникает вопрос о том, идет ли речь в случае этого
препятствия о содержании желания или же о его функции?
Прочтение Фрейда, предпринятое с опорой на продвижение,
которое анализ совершает благодаря лакановским усилиям,
позволяет ответить однозначно: именно о функции, а не о
содержании разнонаправленных желаний, идет речь как в тех
местах, где Фрейд описывает сексуальное влечение субъекта
навязчивости, так и в тех, где на первый план выходит
состояние навязчивого желания в анализе. Другими словами, все
навязчивые действия представляют собой защиту субъекта
от положения, в котором его позиция обусловлена
навязчивой структурой в недоступной восприятию форме. Предметом
субъективной защиты таким образом является не личное,
возможно неудобное или травматическое желание, а само
положение вещей, при котором навязчивость является
структурной константой бессознательных отправлений.
Другими словами, желание выступает как собственное же
препятствие, и было бы неверным предполагать, что дело
обстоит так только в случаях клинического невроза
навязчивости. Контрвыступление подобного рода является ключевым
Там же, с. 394-395
Глава з
для любого желания. Именно это и делает все зримые, наблю- О
его край и побуждая аналитика через их голову заниматься
устройством желания, структурный и исторический облик ко-
даемые самим невротиком компульсивные симптомы совер- | g
шенно необходимыми и в то же время лишает их эвристич- χ
ности, выкидывая их на обочину невроза, на самый передний | %
ъ
п>
2
торого неустанно приводит анализ к одним и тем же пунктам. | £
Здесь и коренится разрешение загадки дидактического
анализа, равно как и загадки общей анализабельности, подвер- | ^
женности субъекта анализу как таковому. Анализ, как заметил
Фрейд, возможен именно по той причине, что объектом защиты I S
невротика является та же самая структура, которую делает сво- χ
им исследовательским предметом аналитик. Если бы не это об- ш
стоятельство, ни о каком психоанализе не могло бы быть и речи. ^
Анализ возможен потому, что все, происходящее в области так ш
называемой аналитической теории, имеет к субъекту прямое от- | η
ношение. Другими словами, между положением этого субъекта
и тем, что все еще считается достоянием культуры —
академической или интеллектуальной — нет ни малейшего зазора.
Эта общность того, что находится по ту сторону обсессив-
ной защиты, обуславливает с одной стороны доступ субъекта
в анализ — поскольку психоанализ сам по себе не чужд тому
высокому уровню именно интеллектуального соперничества,
которое так часто невротика навязчивости к себе влечет. С
другой все это отделяет от субъекта навязчивости все
происходящее на уровне его собственного желания. Невроз навязчивости
обманчив именно потому, что с самого начала его факт
является для самого невротика практически полностью прозрачным,
притом что прозрачность эта выступает барьером, отделяющим
субъекта от базового характера навязчивой структуры, в
которую он помещен. Таким образом то, что мы называем неврозом
навязчивости в его клинической сформированности —
является, по сути, вторичной реакцией на перманентно обсессивное
положение вещей, в котором субъект находится уже по факту
некоторых обстоятельств современности, к описанию которых
и должен подойти анализ, поскольку для аналитического
исследования вопрос устройства желания первичнее, нежели вопрос
доступной в опыте клинической патологии.
По этой причине все то, что сам обсессивный субъект
опознает в качестве своей собственной «навязчивой симпто- I 99
Желание одержимого
CL
О
CU
I-
о
CÛ
о
X
m
u
О
ш
τ
ΓΠ
OC
CÛ
ω
X
m
О
CL
CÛ
<U
X
100
матики», носит воображаемый характер — при этом именно
он и делает невротическое страдание зримым и аффективно
насыщенным, как и все, что функционирует в воображаемом
регистре. С другой стороны это воображаемое положение
вызывает ряд действий, которые невротик навязчивости
предпринимает и в свете которых от него дополнительно скрывается
существо его положения. Страдающий обсессиями не только
не в состоянии прорваться к объекту защиты, но напротив, он
прилагает все усилия, чтобы наложить на уже совершенный
им акт защиты дополнительное усилие — он борется со
своими навязчивостями, он относится к ним самокритично, они
навязчиво приковывают его внимание. Одержимость тем самым
проходит свой полный цикл. Так возникает состояние, в итоге
приводящее навязчивого субъекта в анализ, но в то же время
мешающее его прохождению, поскольку субъект привносит
с собой в него действия, призванные продемонстрировать то,
что сам он считает определенной работой над собственным
симптомом.
Это ключевой момент, поскольку он опровергает
предрассудок, в оковах которого все еще скрыто функционирует
любая эпистемология, кладущая в свою основу различие между
теорией и так называемым «миром». Различие это
предполагает, что тот, кто занимается «теорией» в том или ином виде,
привносит в «мир» дополнительное измерение. В случае
психоанализа предполагается, что измерение это вносит
психоаналитик, чьи деятельность и знание, таким образом, становятся
вариантом метаязыка, дополнительным нарративным уровнем
толкований и действий, на который он якобы теперь каким-то
образом должен страдающего неврозом вывести.
Предрассудок этот в случае навязчивой структуры
обнаруживает все свое губительное свойство, поскольку все обстоит
ровным счетом наоборот: на уровне метарефлексии и
метаязыка находится сам субъект навязчивости. Выходит он туда
совершенно самостоятельно — для этого аналитик ему не нужен.
Точно так же на поиски истины и самореализации навязчивый
субъект тоже отправляется, повинуясь такой же одержимости.
Это примечательным образом делает бессмысленными все
традиционные моральные жесты, которые философия и вся
культура в целом склонны совершать в отношении субъекта,
постоянно теребя его, расшевеливая и подталкивая, чтобы
Глава з
этот субъект не дай Бог не задремал в саду, не погряз в удо- О
вольствиях общества потребления, не упустил из виду необ- g
ходимость непрестанного поиска «смысла», «экзистирования» 5
и чего-то такого, что выходило бы за рамки его наличного суще- %
ствования. Все это действия столь же бессмысленные, сколько ^
бессмысленной может быть любая агитация подобного сорта. ' ф
Побуждать субъекта навязчивости к дополнительным усили- | £
ям — значит игнорировать тот факт, что субъект и без того
одержим поиском и что именно по этой причине философская Ι -ξ
проповедь не достигает его ушей. -σ
Не являясь случайным нарушением развития, навязчи- S
вость тем самым представляет собой определенным образом χ
рассказанную в ее структурах историю субъективации как ш
таковую — субъективацию, в целом носящую характер заме- ^
шательства и защиты. По этой причине, толкование отдельных ш
видимых симптомов навязчивости не является психоаналити- | η
ческой задачей — субъект не желает с их помощью ничего
продемонстрировать, и даже если некоторые из них
обнаруживают какое-либо частичное биографическое обоснование, они
лишены полнокровной связи с желанием. Именно это
вызывает к жизни проявившееся в толковании поступков человека-
крысы замешательство Фрейда, чувствовавшего, что смысл от
него то и дело ускользает и что к тем детективным деталям,
рассказом о которых анализант окончательно запутал
аналитика, структура его желания не имеет прямого отношения.
Тем не менее, Фрейд сделал все, чтобы смысл за этими
поступками закрепить, для чего ему под конец пришлось
предпринять значительную переоценку некоторых семейных
условностей. Решив, что повторная манипуляция молодого человека
с органом возле зеркала предпринята назло отцу, что она
продолжает имевшую место при жизни тяжбу с ним, Фрейд
подходит к границам аналитического метода. Предпринятый в свою
очередь лакановский заход демонстрирует, что навязчивое
действие нуждается не в «толковании», а в операции, которая
требует задействования структуры навязчивого субъекта в
целом, поскольку само по себе, без этой структуры, навязчивое
действие лишено смысла. Данная структура выстраивается
возле ряда компонентов, в которых отражается устройство
навязчивого желания, и первейшим из этих компонентов
являются отношения субъекта навязчивости с проблемой признания.
Глава 4 Навязчивость
и поиск
признания
Когда речь в аналитической теории заходит о тех
отношениях, которые одержимый навязчивостью субъект
выстраивает со своим окружением, на первый план обычно выходит
вопрос награды. Общеизвестной частью психологии
навязчивого невротика считается исходящее от него непрестанное
требование вознаграждения, которого он после любых
предпринятых им усилий ждет и без которого его деятельность
теряет для него смысл. Также принято считать, что потребность
в подкреплении является следствием укорененности такого
невротика на анальном уровне влечений и что его
деятельность необходимо рассматривать в плоскости так
называемого «дара».
Собственно, это и есть все, что мы об отношениях этого
невротика со своими личными достижениями знаем на
настоящий момент, притом что это знание уже содержит целый ряд
потенциальных вопросов к его связности, — начиная с того,
что открытым остается сам вопрос о функции дара, в который
философская мысль то и дело вносит новые коррективы.
Также открытым остается и вопрос награды. Как правило, не
очевидно, что следует понимать под наградой, а
вмешательство в этот вопрос педагогической и бихевиористской программ,
где наградой выступает нечто, отождествляемое с желанным
объектом, зачастую запутывает тех читателей Фрейда,
которые не имеют о его теории ясного представления. При этом
даже в психоаналитической среде нет отчетливого понимания,
что именно выступает в случае навязчивости награждающей
инстанцией и в каком виде этот невротик свою награду
приобретает. Принято считать, что, как и любой участвующий
102 в конкуренции субъект, он получает ее из рук отцовского сим-
волического заместителя. Сегодня, когда лакановское учение . ω
все еще находится в стадии осваивания и переработки, нет g
недостатка в толкованиях роли отцовской инстанции, которая ï
в итоге стала не столько психоаналитическим, сколько соци- g
ально-культурным фактом. Практически вся социально-фило- Q
софская мысль, начиная с фрейдомарксистских рубежей, осно- ^
вана на критике предположительной зависимости субъекта от =э
властной отцовской фигуры. s
На этом фоне должно казаться удивительным, что доступ- *
ный психоаналитический опыт всей этой фиксации на символи- "о
ческой роли отца на первый взгляд противоречит. Навязчивый £
невротик в том, что касается его личной биографии зачастую χ
интересуется отцом и расточаемыми им благами настолько | 1
мало, насколько это вообще возможно. Это вполне
укладывается в ту специфическую отстраненность, с которой он с
отцом обычно взаимодействует. Хорошо известная болезненная
скрупулезность, беспокойство относительно качества работы,
которые стали визитной карточкой такого невротика в эпоху
соревновательного капитализма, непосредственно ни к какой
склонности получать оценку именно от отцовской фигуры не
отсылают. При этом общие отправления навязчивости, равно
как и проявление того, что называют обсессивным характером,
уже в наблюдениях Фрейда как раз и отличаются от истерии
тем, что роль отца оказывается в них в своего рода опале.
Самые яркие клинические эпизоды детского развития обсес-
сивной личности то и дело указывают на равнодушие и даже
отвращение, с которыми встречается невротиком такого типа
любое, даже самое мягкое отцовское вмешательство.
Это в некоторой степени заставляет усомниться в той
непосредственности, которую обычно приписывают связи между
навязчивым типом и отцовской фигурой и на которой
постоянно спекулируют публицистика и литература, рисующие облик
того самого идеального в своих патерналистских
характеристиках общества, к критике которого за последние десятилетия
был приучен интеллектуал. Вопреки этому, между фантазмом
навязчивого субъекта и отцовской инстанцией наличествует
структурный разрыв, и если навязчивый невротик в итоге
разрыв этот преодолевает и оказывается в той зависимости от
поиска символического признания, в которой застает его анализ,
было бы полезно узнать, как именно это происходит. I 103
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
104
На этом фоне, возможно, несколько в ином свете предстают
достижения свободолюбивой философской мысли, которая уже
много десятилетий только и делает, что разрабатывает
средства освобождения от отцовской инстанции. Поиск этого
освобождения на той же философской территории заходит в тупик не
только всего потому, что каждый мыслитель, читавший Лакана
или же нет, понимает эту инстанцию по своему, но и в еще
большей степени по той причине, что желание субъекта остается
в ней неопределенным. Точнее всех эту неопределенность
выразила Джудит Батлер, сформулировавшая отношение субъекта
к данной инстанции в термине «passionate attachment» —
загадочной и насыщенной глубоким чувством привязанности
субъекта к тому, что его субординирует и подчиняет. Выражение
это иногда переводят как «привязанность к подчинению», хотя
в данном случае уместнее указание на «страсть».
Так ли иначе, если «страсть к подчинению» остается
последним словом критических концепций власти, то следует
признать, что в понимании вызывающих ее причин она нас
продвигает не слишком далеко. Тем не менее, Батлер
предпринимает героические усилия, чтобы доказать, что именно власти
под силу осуществить то, что Лакан называет «признанием».
Человек не просто нуждается в признании
другого, и форма признания не просто даруется
в субординации, но дело скорее в том, что человек
зависим от власти в самом своем формировании,
что это формирование невозможно без
[ситуации] зависимости, и позиция взрослого субъекта
состоит в точности в отрицании и воплощении
заново этой зависимости.1
Существует также ряд других гипотез, в которых поиск
признания обретает вполне прагматическую почву. Так, в широко
известной концепции Пьера Бурдьё, где поиск признания
выступает в качестве альтернативной формы внеэкономического
накопления благ, функция вознаграждения находится на переднем
плане — ходить за ней далеко не нужно и ничего иррациональ-
1 Батлер Дж. Психика власти: теории субъективации. М., 2003,
с. 19
Глава 4
ного на первый взгляд в ней нет. Гипотеза эта предполагает, что . ш
субъект предпринимает ряд усилий, чтобы выбиться в ряды тех, jg
чей выдающийся профессионализм или же значимое положение ï
в области наук, искусств или публичной деятельности обещают g
символическую рентабельность особого рода. При этом то, что Q
побуждает субъекта искать этой рентабельности, представляет- ^
ся очевидным — причина поиска признания кажется настолько =э
естественной, что ее не обсуждают. К этой естественности — s
на деле, мнимой — и привязана дежурная критика капитала *
и власти, какая бы изощренная теория за этой критикой ни сто- "о
яла. Предположение Фрейда, что субъект добивается уважения !£
и известности для того, чтобы «стать любимым», до сих пор сби- χ
вает с толку слишком доверчивых читателей его работ, притом | 1
что Фрейд никакого описания этого особого состояния не
оставил, а о последствиях занимаемой таким образом рискованной
позиции известно еще меньше.
Именно поэтому гипотеза Бурдьё содержит то, что делает ее
гораздо более, нежели батлеровская, перспективной в
отношении исследования вопроса признания в свете структур
навязчивости. До какой степени мы бы ни разделяли батлеровскую
убежденность в том, что поиск признания представляет собой
историю, касающуюся всех и каждого, тем не менее не удается
отделаться от ощущения, что история эта говорит далеко не
о каждом и что есть в институте признания нечто такое, о чем
не боялся говорить уже Фрейд, — о снискании любви или
чего-то очень сходного с ней на привилегированных основаниях,
которые подразумевают исключительность. Другими словами,
назначением реальности субъекта в акте символического
признания со стороны Другого все не ограничивается. Сводить
историю с соисканием признания на уровень чистой онтологии
производства субъекта и объяснять потребность в признании
необходимостью обретения «собственного бытия» — значит
умалчивать о самой пикантной части этой истории, тем самым
нивелируя смысл фрейдовского подхода, никогда от этой
пикантности не уклонявшегося.
На самом деле, как прекрасно понимают даже те, кто очень
далек от философской теории, речь идет ни много ни мало как
об «известности» — не просто о «бытии», но о бытии
знаменитостью любого порядка. Этого факта не бежит Бурдьё, но он
оказывается практически полностью упразднен батлеровским I 105
Желание одержимого
CL
О
CU
I-
о
CÛ
о
X
m
u
О
ш
τ
ΓΠ
OC
CÛ
ω
X
m
О
CL
CÛ
<U
X
106
смягченным подходом. Из-за этого мысль Батлер делается
непригодной для анализа навязчивости, поскольку вопрос
известности, — пусть даже в сколь угодно местечковом и даже
комическом варианте, — так или иначе всегда лежит в центре
обсессии. Невроз навязчивости в той или иной мере непременно
замешан на вопросе известности — этим процессом
управляет метонимия, выражающаяся в проблеме достижения уровня,
на который сам субъект смотрел бы с изумлением и в котором
находил бы признаки манящей его тревоги. Именно поэтому
для невротика навязчивости неприменимы те рецепты, которые
в изобилии предлагает ему стандартная психотерапия, всегда
клонящая к тому, что главным является личностный рост, не
связанный с общественным признанием, и в изобилии
предлагающая прочие успокоительные химеры подобного же рода.
В то же время опереться на бурдьеанскую картину в
анализе навязчивости мы можем лишь отчасти, поскольку ей, как
и теории Батлер, присуща тавтология, из-за которой авторы
уклоняются от необходимости пояснить, для чего субъект
затрачивает столько усилий в области, которая сама по себе
вовсе не является предметом желания, лежащего в основе
сексуального фантазма — факт, о котором временами слащаво
напоминают религиозные адепты подлинности, намекающие,
что плоды славы в конечном итоге не приносят счастья. Если
субъект не желает их слушать и продолжает свои
лихорадочные попытки снискать награду в виде известности, то это
может означать лишь то, что проповедь скромности звучит здесь
впустую и что субъектом в поисках признания движет нечто
совершенно иное, нежели то тщеславие, в котором его
подозревают.
Определению этот фактор в силу инерции, заложенной в весь
вопрос в целом, поддается чрезвычайно плохо. Затруднения
у психоаналитиков, равно как и у людей, пытающихся мыслить
в психоаналитических реалиях, возникают всякий раз, когда
им необходимо вынести насчет пресловутого поиска признания
свое собственное суждение. Так, например, в кругах,
разделяющих лакановскую терминологию, принято считать, что субъект
добивается признания лишь потому, что таким образом он ищет
защиты от своей тревоги — положение, которое снова до такой
степени противоречит данным клинического наблюдения, что
если бы не его расхожий характер, его можно было бы счесть
Глава 4
нонсенсом. Точно так же сомнительной является мысль, будто I J
бы субъект в поисках признания ищет наслаждения. С одной jg
стороны, дело может обстоять именно так — некоторое наела- !с
ждение субъект в ходе обретения публичного успеха бесспорно g
приобретает, но невозможно не заметить, что это наслаждение | О
(Г
s
о
s
η
является продуктом сугубо побочным и что обретя толику
авторитетной известности субъект во всех прочих сферах остается
настолько же потерянным и невротичным, насколько и тот, кто
этого наслаждения лишен. I х
Чего не хватает во всех подобных гипотезах, — как в со- \~о
циально-философских, так и в психоаналитических, — так | 1£
это того, что Лакан называет «диалектикой», понимая под ней
последствия вмешательства желания Другого. Ни в одном из | 1
приведенных объяснений в активности пресловутого Другого
нет ни малейшей необходимости.
С одной стороны, можно возразить, что Другой здесь все
же присутствует и что как раз именно его
предположительная оценка заставляет субъекта прилагать все силы, чтобы
в итоге удостоиться признания своих достижений на
символическом уровне. Тем не менее, перед нами лишь имитация
диалектического отношения, поскольку Другой этот
находится в пассивном положении: концепция признания в том
распространенном виде, в котором она представлена в социально-
критической мысли, не предполагает за этим Другим ничего
такого, что можно было бы прочесть как «желание». Понимать
ли под Другим среду профессионалов или же клан признанных
творцов, в который субъект стремится проникнуть (и которые
в соперничестве с ним по большому счету уже не
заинтересованы), или же саму виртуальную систему символической
оценки конечного творческого продукта — нигде здесь нельзя
обнаружить источник того, что могло бы вызвать к жизни
поиск признания, заставив систему «субъект-желание Другого»
прийти в движение. Пропуск и замалчивание этого момента
указывает лишь на то, что в вопросе «желания признания»
философская мысль находится в том поле, которое она уже давно
должна была покинуть — в области допущения в субъекте
неких изначальных непобедимых страстей.
Ничто другое так ярко не указывает на разрыв,
существующий между инстанцией желания и так называемым
«аффектом», который часто за неимением прочного различительного I 107
Желание одержимого
CL
О
CU
I-
о
CÛ
о
ζ
ω
χ:
(Ό
m
υ
Ο
ш
τ
m
CC
Ш
ω
ζ
m
Ο
Q.
ffl
<U
Χ
108
критерия продолжают путать с желанием. Все силы ада, все
страсти, бушующие в той области, где идет соперничество за
социальное и культурное превосходство, все же неспособны
образовать представление о том, чего ради субъект в эту
историю ввязывается. С одной стороны, как верно замечают
критики Бурдьё, его собственная система описаний этой борьбы
остается сугубо внешней по отношению к творческому
продукту, который возникает в ее результате, хотя само по себе это,
строго говоря, не недостаток, поскольку социология
творческой конкуренции не является ни теорией интеллектуального
или творческого производства ни художественной критикой
произведения. Требовать от нее суждения о продукте, с
помощью которого субъект тщится завоевать признание, просто-
напросто нельзя. Тем не менее, здесь оказывается пропущена
еще одна область, соединяющая возникновение продукта с
одной стороны и, с другой, символические битвы, ведущиеся
вокруг места, которое должен занять субъект, чтобы его продукт
был принят во внимание. Описание этой области по
существу восходит еще к Канту и не случайно мыслилось им самим
в качестве связующего элемента между двумя
основополагающими частями его философской системы, хотя, как известно,
из этой связи в области эстетической мысли так и не удалось
извлечь ничего по-настоящему бесспорного.
Как именно можно подойти к этой области с
психоаналитической точки зрения и что она может о ней сказать? С одной
стороны, именно психоанализ способен обнаружить то, о чем
Кант не говорит как психоаналитик лишь по той причине, что
говорит он об этом как философ-метафизик. Речь идет о том,
что представляет собой переход субъекта в новое качество
в связи с тем, что свой продукт он производит факультативным
образом. Любая его деятельность, в отличие от деятельности
субъекта в этической области, всегда является
дополнительной и даже излишней. Другими словами, в творческом
продукте до его возникновения — а чаще всего и после — нет ни
малейшей необходимости, но именно это и ввергает субъекта
в особое положение, меняя его статус вследствие способности
вынести об этом продукте суждение.
Все это разительно отличается от той картины, которая
начинает вырисовываться несколько позднее, когда на
философскую сцену выходит экзистенциалистская реакция, склонная
Глава 4
ω
шантажировать субъекта необходимостью «этического
выбора». Последователи этой реакции крайне настойчиво заяв- | 2
ляют, что какие-либо существенные изменения в положении
UJ
л
субъекта наступают только в случаях этого принципиального I g
выбора, тогда как эстетическому в лучшем случае отводит- | О
(Г
s
о
s
η
эс
ся роль подготовительного этапа. Как ни странно, вернуться
к Канту в этой области как раз и означает придерживаться
иного взгляда на инстанцию вынесения суждения (вкуса), где
именно этой инстанции надлежит обернуться неведомыми
последствиями для состояния субъекта. I "о
Опасность здесь, как неоднократно замечал Лакан в «Эти- 1£
ке», состоит в том, что последствия эти очень быстро рискуют ^
оказаться в области, где господствует так называемое «бла- | 1
го». После кантовской «Критики способности суждения»
современники быстро распознали это благо как то, что
прекрасно приплюсовывается к предыдущим кантовским критикам
в качестве блага дополнительного вида — прежде всего,
блага, связанного с совокупностью предположительно полезных
воздействий, которые на субъекта оказывает необходимость
вырабатывать суждение о предмете искусств и, шире, о любом
представленном в публичном поле предмете
интеллектуальных суждений.
Именно так появляется великая эстетическая и
литературная педагогика 19 века, которая нисколько, если судить по
современным дискуссиям в области искусства, образования
и журналистики, не сдала с тех пор своих позиций. Дискуссии
эти, взяв от Канта лишь часть его суждений, все еще
придерживаются мнения, что представленный публике продукт сам
по себе гораздо важнее, нежели обстоятельства,
сопутствующие его предъявлению.
Сегодня, благодаря усилиям в том числе социологии мы
знаем, что это неправда и что субъект никогда не судит о предмете,
представленном его суждению, непреднамеренно, в отрыве,
например, от способа, которым этот предмет ему пытаются
разрекламировать или, говоря точнее, впарить — благопристойного
выражения для этого рыночного явления просто не
существует. Там, где романтическая мысль с энтузиазмом выстраивала
программу преображения субъекта под воздействием
необходимости вырабатывать представление о многообразии наук
и искусств, со временем обнаруживается ряд обстоятельств, I 109
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
110
которые восстанавливают неоднозначность кантовскои
критики в полном объеме, распространяясь при этом за ее
собственные пределы. Так, в области, где художественная критика все
еще находится в невинной проблематике кантовского
«благорасположения к предмету вкуса», а философу мнится
стремление к преобразованию и идеалу, психоанализ обнаруживает
только одно — стыд.
Стыд этот находится в той самой промежуточной сфере,
порожденной факультативными, избыточными усилиями, которые
предпринимает создатель любого продукта, предположительно
способного принести его создателю символическое признание.
С одной стороны сфера эта определяется тем обстоятельством,
что эти усилия невольно делают его самого видимым, то есть
объектом похоти очей широкой публики, а с другой граничит
с тем, что продукт свой он представляет ей на суд. В то же время
ни к первому обстоятельству, ни ко второму этот стыд
полностью не сводится, и потому его очень легко пропустить, приняв
за чисто психологические перипетии творческого процесса,
зависимые от обычаев того или иного сообщества.
Те не менее, на уровне субъектной структуры этот стыд
остается константой, и именно он является подлинной
причиной, побуждающей субъекта войти в дело, начав то, что
впоследствии редукционистски сводится или к подражанию
авторитетам или, напротив, прочитывается как совершенно
самостоятельный и независимый вклад в символическую
область творчества.
Чтобы разобраться в этом, следует зафиксировать, что за
любыми успешными поползновениями в области признания
следует базовая тревога, которую нельзя описать с какой бы
то ни было приспособительной или этической точки зрения.
Более того, тревога эта заново возникает в момент обретения
признания, поскольку с аналитических позиций вовсе не она
является причиной, по которой субъект совершает действия,
распознаваемые впоследствии как «символически успешные»
и сулящие ему известность или авторитет.
Этот примечательный момент опровергает популярные
воззрения на проявляемую субъектом «творческую активность»,
которая из-за влиятельности философского бэкграунда
экзистенциального толка обычно связывается со своего рода
«прыжком», «риском», носящим героический характер и вы-
Глава 4
ω
водящим субъекта за пределы принципа удовольствия. Чисто
романтическим образом представляется, что субъекта следует | 5
растревожить, чтобы он начал проявлять деятельную актив-
UJ
л
ность в символической области и предпринял что-то такое, что I £
(Г
s
о
s
η
эс
■о
публика благосклонно воспримет как акт его личной творче- | Q
ской трансгрессии. Вопреки этим представлениям, связанная
с признанием тревога появляется не раньше, нежели субъект
достигнет своего рода опоры в признанности — то есть,
окажется в зоне, которая для персоналистскои, этической точки
зрения представляет как раз довольно мало интереса.
Таким образом, тревога, появляющаяся вследствие дости- | §
жения субъектом по результатам его деятельности некоторой
признанности, представляет собой нечто совершенно особен- | 1
ное — она недостаточно хорошо описана, ее характер редко
становится предметом психоаналитического исследования;
социально-критическая мысль и вовсе не проявляет к ней
внимания, связывая ее с зоной предосудительного с моральной точки
зрения успеха и предполагаемой авторитетной власти,
которую мысль эта склонна скорее разоблачать.
Тем не менее, для психоаналитического взгляда на этапы,
через которые в поисках признания проходит субъект,
данный тип тревоги представляет чрезвычайный интерес. Прежде
всего, подлинно аналитическим предметом ее делает внешняя
немотивированность. Ни страх будущего провала, ни
беспокойство о собственной репутации не являются ее источниками
уже по той причине, что отсутствие подобных угроз не только
ее не устраняет, но зачастую делает ее еще более
выраженной. В то же время — этот момент является для понимания
центральным — сам добившийся признания ничего об этой
тревоге не знает и не только не ощущает ее присутствия, но
даже не выказывает признаков ее наличия в собственной
деятельности. Так происходит по той причине, что тревога эта
целиком и полностью адресована другому — тому, на чьих глазах
вершится пресловутый успех в любой области. Этим «другим»
и является невротик навязчивости. Именно он, зачастую еще
только находящийся у подножия борьбы за признание и не
чувствующий себя в этой области полноправным участником, тем
не менее оказывается в этот процесс живо вовлеченным.
Справиться с этой отброшенной тревогой другого
навязчивый субъект не в состоянии, и именно это впутывает его для I 111
Желание одержимого
CL
О
eu
о
ω
О
χ
ω
χ:
03
m
u
Ο
m
τ
ОС
m
(Ό
χ
m
Ο
CL
m
<υ
Χ
112
начала в ближайшие отношения с поставляемым этим другим
продуктом, следствием чего является то, что его
собственное беспокойство по поводу признанности часто обостряется
до чрезвычайности. Все это расходится с представлениями,
согласно которым участие в соискании признания предстает
в своем роде следствием соблазна, желания войти в долю.
Напротив, то, чего субъект в начале пути невольно ищет в поле
признания, где имеет хождение продукт — это то, что Лакан
называет «причиной»: компонент, который после достижения
успеха оказывается устранен и задвинут за границы видимого.
Обстоятельство это должно закрыть, — по крайней мере,
для психоаналитика, — вопрос на том уровне, на котором он
обычно ставится в современной культурной системе
конкурентных оценок символического продукта, ранжирующих его
согласно его безотносительным «достоинствам». Напротив,
с аналитической точки зрения начальные этапы поиска
признания всегда оформлены как одержимость и подчиняются
механизму навязчивости, который выражается здесь в желании
встать на место предположительной нехватки другого,
прочитывающейся в инициативе этого другого тем сильнее, чем
более бесспорным и выдающимся с общей точки зрения является
его успех. Видимые последствия этого во многих случаях
наскоро считывают как враждебное выступление субъекта
против «символического отца», таким образом приплетая к
происходящему комплекс Эдипа и делая это настолько неловко
с теоретической точки зрения, насколько вообще возможно.
Особенно ярко бессилие подобных методов выступает в тех
случаях, когда имеет место то, что наблюдатели опознают как
соперничество последователей или течений. Только прочно
укорененное в области публичного common sense
представление о чисто гегельянском развитии идей побуждает видеть
подобные происшествия как борьбу независимых агентов,
совершающих с каждой стороны собственных вклад в их
развитие, или же, напротив, распознавать их как борьбу наследника
с господином-отцом — концепции, получившие
распространение в академическом литературоведении, приправленном
популярном психоанализом. На самом деле, каждый из агентов
здесь движим чем-то таким, что оказывается в месте другого
пропущенным, замалчиваемым, делаясь тем самым поводом
для вмешательства желания в область, которая ошибочно рас-
Глава 4
познается со стороны как область чистой конкуренции. Вопре- . ш
ки очевидности, в этой системе нет того самого искомого «пер- jg
вого» места, ради которого соперники прилагали бы усилия. ï
Напротив, каждый из них метит и попадает исключительно на | g
η
ID
о
η
■о
уровень, где находится нераспознаваемое другим смятение,
связанное с обретением признания. Смятение признанного
никогда не является по отношению к продукту чем-то внешним,
поскольку неизменно налагает на него свою печать, которую
аудитория получает вместе с этим продуктом, равно как и со
всеми последующими произведениями признанного автора,
считываясь на уровне акта его высказывания. Именно таким Ι !£
образом возникают отношения с инстанцией признания, ха- Ϊ
рактеризующиеся навязчивостью. | 1
Тревога, порождаемая достигнутым признанием, таким
образом, находится в месте, которое Лакан не случайно определяет
как внеположенное субъекту. Нет даже нужды называть его
«бессознательным», пытаясь тем самым снова его в субъекте
укоренить, поскольку даже анализ уже добившейся
признания личности не находит в ней этой тревоги, да и не должен
ее обнаруживать. Это доказывает, что анализ не является
аналогом христианской проповеди, педагогически стремящейся
поставить успешного по всем меркам субъекта перед шаткостью
и непрочностью его мирского положения — ошибочная
трактовка психоаналитического вмешательства, которая то и дело
распространяется там, где ищут аналог психоаналитическому
акту и находят его в гуманистическом воздействии религии.
Напротив, анализ в данном случае возможен лишь по
отношению к тому, кто является адресатом этой тревоги — то
есть к субъекту из предположительной аудитории,
находящемуся у подножия борьбы за признание и вовлеченному в нее
механизмами навязчивости. Именно по этой причине
психоанализ какой бы то ни было выдающейся личности бессмыслен:
так происходит не потому, что личность эта в каком бы то ни
было смысле является «здоровой и самореализовавшейся» —
психологический миф, расцвет которого приходится на эпоху
наибольшего капиталистического рессентимента — а потому,
что тревога, сопровождающая признание, всегда уже
вынесена за пределы признанного субъекта. По этой причине данная
тревога непоколебима: каким бы шатким на поверку не было
положение признанного субъекта, какие бы безумные химе- I 113
Желание одержимого
CL
О
<v
о
CÛ
о
X
03
оз
m
u
О
ω
τ
OC
m
03
X
m
О
CL
m
<u
X
114
ры ни лежали в основе его успеха, прочность его положения
обеспечивается абсолютной отчужденностью для него
тревоги, которая, даже оставаясь его собственной, становится для
него недоступной, поскольку видима она лишь под
определенным углом навязчивости. Именно это, — а вовсе не
предположительный нарциссизм фигуры, пользующейся известностью
и авторитетом, — поддерживает тот статус кво, в котором
находится обретший признание и снискавший популярность.
В свете этой непроницаемости, содержащей недоступную,
изолированную тревогу, и вынужден выстраивать свою
тактику невротик навязчивости. Хорошо известно, как такой субъект
действует и судит: так, предположительная уверенность
другого в собственном продукте, лавры, которыми бряцает этот
другой у него на глазах, вызывает у него отвращение, сопряженное
с неодолимым желанием немедленно критически высказаться.
Его оценка при этом осуществляется в рамках сугубо
негативной процедуры, которую Лакан определяет как высказывание
«ce η est pas са» — «это не то!» — вопль, который субъект
испускает, в очередной раз обнаружив, что его ожидания
оказались обмануты. Невротик навязчивости — это суровейший
критик: компульсивное, не знающее границ и сдерживаний
отправление «хорошего вкуса». Именно это вызывает к жизни
тот одержимый, скрупулезный образ навязчивого типа, для
которого само свое бытие, будучи в его глазах также постоянным
воспроизводством подлежащего оценке творческого продукта,
никогда не бывает достаточно на высоте.
Деятельность такого рода отнюдь не является
бессмысленной — все акты отвержения и критики, которые навязчивый
невротик совершает, имеют резоны или по крайней мере аналоги
в той области, где происходит вполне легальное ранжирование
достойных объектов признанности — в частности, в области
культурного производства, которая, в отличие от
разнообразных бытовых предпочтений, считается социально значимой.
Известно, как много спекуляций в постфрейдовский период
этой «социальной значимости» было адресовано: то и дело она
полагалась сама собой разумеющейся — царством, в которое
невротик может лишь войти, но в производстве правил
функционирования которого он участия не принимает, тогда как в
самих фрейдовских заметках дело обстоит, по всей видимости,
иным образом. Если обсессия по преимуществу функционирует
ω
ш
Глава 4
как тревога по поводу продукта, становящегося потенциальной -J
причиной признания, то нет такой сферы и такого обществен- | g
ного объединения, которые могли бы, отводя продукту
решающую роль, каким-то образом экономики навязчивости избежать. I g
Лежащая в основе суждения вкуса реакция на тревогу другого Q
редко попадает в поле зрения психоаналитиков, и тем не менее, ^
именно ее процедура является воплощением механизма навяз- =э
чивости, ставшим основой для общественных практик, с кото- s
рыми субъект имеет дело каждый день. *
Именно присущая навязчивому невротику разборчивость | "σ
стоит за то и дело высказываемыми Фрейдом и другими
первыми аналитиками одобрительными заявлениями в его адрес.
Если говорить о его основных качествах, то это как раз и долж- | 1
но выйти в наблюдении за невротиком такого типа на первый
план, заместив собой то, на что часто делает упор
медицинская проблематика, прославившая чисто служебные качества
невротика навязчивости, выражающиеся обыкновенно в
специфическом прилежании и аккуратности.
Действительно, своеобразную сервильность, присущую
такому субъекту, скрыть довольно трудно, но стоящее за ней
намерение угодить не должно вводить в заблуждение, поскольку
в аналитической перспективе за ним опять-таки находится то
самое, что психоанализ опознает, как присущую
навязчивому субъекту страсть самонизведения и намерение выставить
чрезвычайно низкую оценку всему тому, в чем он лично
принимает участие. Принимает же он в этом участие опять-таки
исключительно по той причине, что это позволяет ему вести
образ жизни, который Лакан определяет как иллюзию
сепарации, стирающую акт присвоения той тревоги, которую
другой — тот, кто действительно поставил свой образ и продукт
на кон — непрестанно источает.
Здесь возникает момент теоретического преткновения,
стопор, тормозящий в том числе и аналитиков, поскольку в
скрупулезности и своеобразной презрительности навязчивого
субъекта аналитическое исследование, восходящее к Фрейду,
видит обуславливающее все эти качества желание разрушить,
сравнять объект с землей. С этим желанием по преимуществу
и имеет дело психоанализ навязчивости, и пойти дальше него
тем труднее, чем неочевиднее процедура, лежащая в основе
этого желания. Даже подкованный анализ то и дело не избега- I 115
Желание одержимого
CL
О
<v
I-
о
η:
ω
О
χ
(Ό
m
u
Ο
ω
τ
ОС
m
ω
ζ
m
Ο
CL
m
eu
Χ
116
ет искушения прочитать это желание как знак несостоявшейся
любви, оканчивающейся, — по крайней мере в воображении
субъекта, — кровавой резней и уничтожением ее предмета.
В свете господства подобного толкования становятся более
прозрачным направление, которое принимает философская
критическая мысль в современный период — тогда, когда
достижения психоанализа стали для философского письма
широко доступны. Так, в знаменитой, посвященной Фуко, Аль-
тюссеру и Лакану батлеровской «Психике власти» — работе,
представляющей собой венец всех затруднений социальной
теории власти — разрушение это возведено в принцип и
сопровождает каждое движение субъекта в символическом поле.
Субъект, как это представляет Батлер, включается в
социальные практики посредством их повторения, но включение это
порождает тем большее количество недоразумений, чем более
активно повторение им практикуется:
Возможность повторения не позволяет
объединяться разъединенному единству, субъекту —
она порождает множество эффектов,
ослабляющих силу нормализации...2
Воспроизводство практики, выражающее подчинение и
содействие — это с батлеровской точки зрения малый бунт,
локальный мятеж. Речь, другими словами, идет о том, что
повторение вместо того, чтобы подкреплять и усиливать,
ослабляет повторяемое. Повторять, участвовать в акте
солидаризации — значит наносить воспроизводимому незаметный ущерб,
постепенно подрывающий его незыблемость и ведущий к
ослаблению порядка:
Чтобы понять, как регуляторный режим
способен производить эффекты не только
непредсказуемые, но и формирующие сопротивление, мы,
по-видимому, должны вернуться к вопросу об
упорных привязанностях и, более точно, к месту
такой привязанности в подрыве закона.3
Батлер Дж. Психика власти, с. 82.
Там же, с. 58.
Глава 4
Интересно, что описывая процедуру этого подрыва и
полагая его совершенно независимой операцией, Батлер сама, неза-
ш
го
метным для себя образом, соскальзывает в экономику невроза Ι ï
навязчивости с присущей его носителю страстью удерживать | g
Q
η
дистанцию по отношению ко всем социальным практикам, в
которых он участвует. Дистанция эта поддерживает чрезвычайно
ценную для такого субъекта фантазматическую убежденность, I з
что он сохраняет необходимое для него несогласие с чем-то
таким, что в противном случае от него, как ему кажется,
потребовали бы воспринимать и практиковать совершенно буквально. I "о
Именно этого он вынести не в состоянии: залогом его более- !£
менее удовлетворительного самочувствия как раз и служит χ
компонент, обеспечивающий несовпадение того, что он пред- | 1
принимает с тем, что видится ему как навязанное извне.
Убедиться, что за любым покорным повторением находится
скрытая издевка — вот истинная утопия невротика навязчивости,
впрочем, в полной мере ему все равно недоступная, поскольку
поверить всерьез в ее перспективы сам субъект просто не в
силах — этому препятствует все та же недоверчивость,
которая сопровождает все делаемые им вложения в символическое
поле. По силам ему только одно — вложить незначительную
издевку в собственный повтор, при том, что эта издевка также
едва ли достигает цели, поскольку невротик такого типа
обычно не выдает себя в сообществе ни единым жестом.
Все это делает теорию субверсивной имитации, которую
с воодушевлением развивает Батлер, в известной степени
двусмысленной — если бы текст «Психики власти»
прокомментировал практикующий аналитик, то он, скорее всего, с большим
скепсисом отнесся бы к протестным потенциям повторения
подобного типа. Тем не менее, скепсис не удержал бы его от
признания той точности, с которой Батлер следует
укоренившейся психоаналитической традиции толкования деструкции
в навязчивости — а именно, в том месте, где повторение
подчиняющегося правилам и условностям субъекта в ее теории
оказывается «подпорчено» в самом своем основании. При всей
лояльности субъекта во всей его социальной деятельности
содержится тот самый компонент, который проблематизирует
любую солидарность, превращая ее в косвенное отрицание.
Природу этого компонента и следует как раз поставить под
вопрос. Действительно ли в случае желания невротика навяз- I 117
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
ιι8
чивости речь идет о разрушении? Являются ли посягательства
на подрыв и обесценивание объекта тем наблюдением, на
котором психоанализ может в описании навязчивости
остановиться, перейдя от него к размышлениям о возможности
наилучшего разрешения этого положения в анализе?
Вопреки этому, следует признать, что гипотеза присущих
невротику навязчивости подрывных тенденций в отношении
того, что уже пользуется признанием, не описывает того, что
происходит в тот момент, когда данный субъект пытается
сделать в символическое поле свой вклад. Как бы ни хотели мы
признать за субъектом наличие в этот момент — даже тогда,
когда он повторяет слова молитвы или произносит формальную
речь на собрании — некоего творческого, отклоняющегося
компонента, на который так надеется Батлер, на уровне
бессознательной структуры имеет место совсем иное. Вместо этого там
происходит идентификация с пунктом тревоги другого — и это
далеко не то же самое, что пресловутое «присвоение» власти,
происходящее в повторении символической практики.
Именно по этой причине не так важно, повторяет ли
субъект в точности или же повторяет ли он, привнося в повтор
скрытый клинамен и творческую порчу, или даже
сопротивляется открыто. Необходимо вернуться к лакановскому призыву
обратить внимание на изначальное отсутствие в
психоанализе какой бы то ни было сентиментальности в отношении так
называемых «личных намерений» — то, от чего никак не
может отказаться социальная философия, скованная
этическими предубеждениями на этот счет. В свете этого имеет
значение лишь то, что всякий раз, когда движимый навязчивостью
и присущим ей поиском признания субъект делает какой бы
то ни было шаг в символическом поле, он идентифицируется
с тем, что Другой, уже обретший толику признания, оставляет
в своим продукте в качестве отброшенного элемента. Вопреки
оптимистичной в своем настрое Джудит Батлер, субъект
ничего в этом акте не присваивает. Впрочем, сказать, что он что-то
теряет, тоже нельзя, поскольку до совершения попытки у него
не было ничего и даже меньше того. Тем не менее, ничего,
кроме отброшенной другим тревоги, он не приобретает, оставаясь
таким образом ни с чем, поскольку добившийся признания, как
уже было сказано, с отбросом своей тревоги больше никакого
дела не имеет.
Глава 4
При этом яркая особенность невротика навязчивости, высту- . ш
пающая в наиболее типичных случаях на первый план, заклю- jg
чается в том, что в поисках места, куда толкает его соискание ï
признания, он лишен ориентира. Это особенно бросается в гла- g
за в случае развитой компульсивности — так, если субъект, ху- | Q
отвержения и критики, то клинический невротик навязчивости,
стремясь занять место признания, то и дело встает куда ни попа-
до-бедно со своей изначальной навязчивостью справляющийся,
демонстрирует определенную устойчивость в выборе объекта | =э
η
дя. Именно этим обусловлены хорошо известные колебания, ко- Ι "σ
торые возникают всякий раз, когда такому невротику надлежит !£
сделать выбор даже в самой незначительной области, начиная χ
с покупки в супермаркете. Несколько последовательно сменя- | 1
ющих друг друга актов отвержения с остановкой на наиболее
с его собственной точки зрения неудачном варианте — вот чем
обычно увенчивается акт выбора в этом случае.
Колебания эти, тем не менее, не оставляют субъекта на
одной и той же позиции. Тщась сохранить пресловутую
«дистанцию» со своим окружением и отвергая по этой причине
объект или символический продукт, субъект тем самым как
раз и встает на место тревоги другого, чье желание он с этим
объектом или продуктом связывает. В этом и состоит
психоаналитический смысл того, что обычно со стороны трактуется
как стремление соискателя признания занять в культурном
поле более изощренную позицию и преуспеть в опоре на
отвергнутом, на чем, как представляется, основан пресловутый
прогресс в общественной и теоретической сферах.
При этом весь спектр подобных проявлений — от
процедуры вынесения критического суждения вкуса до
интеллектуальной или политической дискуссии — противоречит подобной
трактовке, поскольку показывает, что субъект, затронутый
навязчивостью, не может больше оставаться на занятых
позициях и вынужден, нагруженный присвоенной тревогой того, кто
занял эти позиции раньше него, немедленно бежать.
Этот наблюдаемый факт открывает широкий спектр
выводов — так, описывая поведение субъекта в любой ситуации,
где предъявляемым ему продуктом или мнением оскорблено его
чувство вкуса, стиля или же нравственности, тактика эта также
объясняет существо многих фобий, часто сопровождающих об-
сессию и в большинстве случае касающихся пространства. Так, I 119
Желание одержимого
CL
О
CU
I-
о
CÛ
О
X
ω
m
u
о
ш
τ
ОС
ш
ω
X
m
О
CL
m
<υ
Χ
120
субъект, одержимый панической агорафобией или клаустробо-
фией — их клиническая противоположность в данном разрезе
является несущественной — подвергается воздействию точно
такого же рода: ему необходимо немедленно покинуть пункт,
где фобия его застала. Истина положения такого субъекта
в том, что он не может оставаться на занятом месте — первым
побуждением его в этом случае является отшатывание, отказ.
Все это опровергает рисуемые теоретиками в духе Бурдьё
картину, где субъекты, как хорошо подготовленные гимназические
атлеты, соревнуются в символическом поле за признанность
и получают признание соразмерно величине их ставки. Вместо
наблюдаемой в различных культурных сферах конкуренции
с различными типами распределения успеха,
психоаналитический подход к деятельности субъекта навязчивости открывает
картину совершенно иного рода. Никакого поиска признания
в чистом гегельянском виде не существует: субъект вступает
в символическую игру вовсе не из любви к соревновательности
или власти, что, впрочем, не говорит о том, что он вступает туда
из любви к истине — ложная дилемма, вокруг которой
застопорилось движение социальных наук, занимающихся вопросами
так называемого культурного производства. Субъекта влечет
в это поле структура, побуждающая его идентифицироваться
с тем, что выступает как нехватка другого, уже получившего,
по мысли этого невротика, признание — то, что является
остатком наблюдаемого таким невротиком поиска, отброшенным
впоследствии и, тем не менее, остающимся свидетельством
постыдности положения того, кто получил признание.
Груз ответственности за эту постыдность и берет на себя
навязчивый невротик, присваивая отброшенный остаток чужого
успеха, что и определяет то особое отношение к возможности
признанности, которое в целом в обществе наблюдается,
поддерживая в нем постоянный фон тревоги по поводу чужих
достижений — фон, который с характерной для морального взгляда
ошибочностью определяется как смущение, вызванное играми
тщеславия. Все то, что намекает на их наличие,
воспринимается субъектом навязчивости с показательным неодобрением, но
в то же самое время чрезвычайно ревниво и заинтересованно —
та резкая амбивалентная реакция, которую лицезрение поисков
признания и известности обычно у него вызывает, настолько
распространена в современном обществе, что считается до из-
О
η
13
Глава 4
вестной степени нормой. Тем не менее, эта реакция остается . ш
проблематичной и недостаточно хорошо исследованной в своем g
происхождении. Еще Фрейд замечал, что если область, где до- !£
биваются признания и где временами достигают славы, вызы- g
вает у большинства свидетелей этого процесса такое сильное | Q
внутреннее неудобство, то смотреть на это следует как на
сигнал о том, что именно здесь находится средоточие тех структур,
посредством которых субъект выказывает свое желания.
Недооценка этого момента и общая привычка
рассматривать движение в области признания как нечто добавочное I "|
и для функционирования субъекта в целом необязательное !£
определили облик постфрейдовской аналитической теории, χ
в которой структуры навязчивости просто обречены были | 1
оставаться недоисследованными. Вместо них в долакановский
период ширится учение о субъектной структуре, не
содержащей в себе ничего специфического и исчерпывающейся
туманными соотношениями между инстанциями личности, которые
сам Фрейд выделял лишь в качестве гипотезы. Субъект,
реконструированный Фрейдом, в своей основе является
субъектом навязчивости, но в этом качестве он так и не смог выйти
на аналитическую сцену, поскольку вопрос поиска признания
на ней так и не был поставлен. Именно специфический
климат, присущий умеренному Просвещению современного типа,
в рамках которого обитал и сам Фрейд, обусловил привычку
ошибочно рассматривать стыд вне области поиска признания,
уводя вопрос о нем в ту сторону, где инстанция стыда получает
нейтрально социальный смысл, регулируя поведение субъекта
в тех сферах, где речь идет о соблюдении пристойности и
общественной пользе.
При этом все возводимые к Фрейду рассуждения про мораль,
стыд и их связь с регулирующей инстанцией Сверх-Я были
призваны скрыть лишь еще более постыдный факт — изначальную
завязанность стыда на проблематике, создаваемой
существованием институтов признания и славы. Ни к проблемам
общественной морали, ни к пресловутой социальной кооперации,
базирующейся на принципах альтруизма, на проблематику которого
социальные исследователи переключились уже после Фрейда,
все это не имеет никакого отношения. Колебания первых
фрейдистов в этом вопросе надолго затормозили развитие
психоаналитической мысли, вынужденной в области исследования I 121
Желание одержимого
CL
О
CU
I-
о
CÛ
О
χ
ω
m
u
Ο
m
τ
ОС
m
ω
ζ
m
Ο
CL
m
<υ
Χ
122
пресловутого Сверх-Я по-неокантиански копаться в проблемах
этики, тесно связанных с представлениями о нормах и
социальном благе. При этом за кадром осталось то, что с областью блага
стыд никоим образом не связан. Функция стыда в ее полном,
связанном с тревогой смысле реализуется там, где субъект
навязчивости обнаруживает, что его действия на символическом
поле признания не заслуживают и в то же время видит то, что
другой, который всегда уже маячит на горизонте, добился
своего признания способом, вынести тревогу по поводу которого
субъект навязчивости не в силах. Все те ограничения и
сдерживания, которые исходят от гипотетически выделенной в анализе
инстанции Сверх-Я, реализуются именно в этой области и
обладают смыслом только в условиях диалектики поиска признания
и спровоцированной этим поиском тревоги.
Всё это представляет собой еще один удар, — в дополнение
к прочим, нанесенным Фрейдом, — по взращенному
гуманизмом мнению современного субъекта о себе самом, ибо ничего
этот субъект так не стыдится, как своего соучастия в поиске
признания и собственной заинтересованности в вопросах
известности и славы.
Тем не менее, даже в самых авантюрных случаях подобного
поиска стыд все еще носит воображаемый характер,
поскольку, как уже было сказано, в том направлении, которое субъект
в достижении цели признания берет изначально, его поиск
неизбежно заводит его в тупик. Другими словами, на пути
идентификации с тревогой другой персоны, уже добившейся
признания в некоей области, навязчивый субъект не претендует
ни на что, что хоть отдаленно походило бы на достигнутый этой
персоной уровень. В лучшем случае обсессик
удовлетворяется ролью суфлера, корректора, проборматывая свою критику
и страшась при этом столкновения с критикуемым материалом
лицом к лицу. Эта специфическая скромность уже получала
описание в философской литературе. Так, прочтение Гегеля,
лишенное обычных гуманитарных предрассудков, трактующих
описанную им борьбу в терминах грядущей тоталитарности,
показывает, что Гегель не был в отношении этого момента
слеп: рабское положение в его диалектике в конечном счете
закрепляется не потому, что субъект однажды проиграл
борьбу, а по той причине, что вступает он в нее уже имея в виду
того, всегда воображаемого, естественно, кто якобы является
4 «Я имею в виду фантазм всемогущего Бога, то есть Бога, чье
могущество проявляется одновременно повсюду... Тот факт что
всемогущество это сопровождается, так сказать, всевидением, ясно дает понять,
что речь идет о том, что вырисовывается в поле, лежащем по ту сторону
могущества. На уровне, где нужно замаскировать тревогу, Идеал Я
принимает форму всемогущего. Именно здесь и ищет навязчивый невротик
то дополнительное, что необходимо ему для становления в качестве
желания — тот фантазм вездесущия, что служит опорой, вокруг которой
желания его, вытесняемые все дальше, кружат многочисленным роем»
Лакан Ж. Семинары. Т. 10. Тревога, с. 381-382.
Глава 4
господином от века и вместе с тем несет на себе печать тре- I J
воги, связанной с самой изнанкой завоевания. Господин в ре- | 2
зультате приобретения господства не получает «всего» (о чем
говорит лакановская формула, гласящая, что могущество не I g
является всемогуществом).4 | Q
Другими словами, господствовать победивший в гонке
признания может только в силу того, что ему удалось затолкать, I э
положить под спуд некоторую часть символического, которая
в итоге изолируется. Именно в направлении этой части на- I *
вязчивый невротик предпринимает свой заход, поскольку по "g
причинам, связанным с устройством своего влечения, он не !£
в состоянии остаться к ней безучастным. Нет нужды говорить, χ
что обрести признание таким способом невозможно, что до- | 1
полнительно поддерживает навязчивый невротический статус.
Тем не менее, добиться некоторого, считающегося в
обществе удовлетворительным уровня признания вполне реально,
и отдельным субъектам это то и дело удается. Данный факт
ставит вопрос о том, какого рода удовлетворения добивается
застигнутый необходимостью поиска признания — поскольку
это удовлетворение остается непрямым и неочевидным, а
ближайшие плоды его соискания, как было показано, приводят
лишь к углублению того затруднения, в котором навязчивый
субъект находится изначально.
Для прояснения этого момента необходимо с новых
позиций рассмотреть отношения навязчивого невротика с его
объектом там, где демонстрируется еще один возможный способ
выразить тревогу по его поводу.
Глава 5 Накопление
и желание
удержать
Если поиск признания не является чертой, которая при
изучении структур навязчивости бросалась бы в глаза
немедленно, то другая базовая особенность этого невроза, напротив,
оказывается до такой степени общеизвестной, что нет ни одного
посвященного навязчивости текста, который упустил бы ее из
виду. Особенность эта, то разрастаясь до гротескных размеров,
то маскируясь под случайные черты характера, всегда, тем не
менее, сопровождает обсессивный тип и обуславливает ту
специфичность, которую нетрудно в этом типе уловить, но
объяснение которой требует некоторого теоретического искусства.
Данную черту предварительно можно определить как
настоятельную склонность субъекта навязчивости удерживать
некоторые из окружающих его объектов. Черта эта, попадая в
соответствующий культурный контекст, чаще всего прочитывается как
обычная скупость. В то же время скупость эта нетривиальна —
в ней есть какой-то преувеличенный элемент, намекающий на
ее трансцендентное происхождение. В этом смысле прочитывать
ее как психическую деятельность в узких рамках принципа
удовольствия было бы неверным — предварительное аналитическое
наблюдение показывает, что она призвана скрыть нечто
по-настоящему для субъекта драгоценное. Как бы навязчивый
невротик ни был прижимист, то, что он стремится с помощью этой
прижимистости сохранить, всегда остается неопределенным.
Эта неопределенность выражается в непрестанно
воспроизводимом самой позицией подобного субъекта высказывании,
которое Лакан в одном месте облекает в реплику:
...несчастный вопль, на сходство которого с
воплем преимущественно комичным, воплем ограб-
ленного скупца, я вам уже указывал: «О мой суп- . ω
дук! Милый мой сундучок!».1 ' *
В целом касательно отношений невротика навязчивости
кроме прообраза пресловутой «анальной личности», мы не
получаем ничего, что позволило бы аналитической теории здесь
в дальнейшем развернуться.2 В области отношений с
пестуемой подобной личностью драгоценностью мы, таким образом,
оказываемся на уровне так называемых «страстей». Все, таким
образом, сводится к феноменологически наблюдаемой
склонности навязчивого субъекта накапливать объекты,
предположительно вызывающие у него вожделение.
Тем не менее, есть признаки, которые из этой картины
выпадают. Так, скупость навязчивого невротика от
одноименного качества характерологического скряги отличает то, что
подлинный скупец, как его представляет литературная молва,
активно пользуется любыми средствами, чтобы свое
благосостояние приумножить. Субъект навязчивости, напротив,
ведет себя, скорее, подобно растениям или кораллам, которые
задерживают то, что проходит через их сплетение, но при этом
сами неспособны предпринять активный захват. Иначе
говоря, функция удержания в случае навязчивости не совпадает со
страстью к приобретению, что подтверждается также фактами
клинического наблюдения за подобным невротиком, который
при всей предположительной анальности обычно упускает
гораздо больше, чем ему доводится приобретать. Даже окружа-
о
Ъ
л
с его объектами встает только один вопрос: почему он так ле- | а>
леет свой сундучок?
При ответе трудно избежать риска упрощения, особенно а>
в тех случаях, когда, опираясь на данные Фрейдом ориентиры, ω
все объясняется ссылками на «анальное наслаждение». Наела- s
ждение это иногда склонны видеть чем-то простым до такой *<
степени, что оно превращается в тавтологию чисто психиче- а>
ской склонности к приобретению и накоплению. В результате, χ
ш
1 Лакан Ж. Семинары. Т. 5. Образования бессознательного. М.,
2002, с. 303
2 Так, порой активно говорят о так называемой «анальной субъ-
ектности» и даже «анальном характере»: яркий пример находим в
работе Геральда Блюма «Структура характера у взрослых» // Блюм Г.
Психоаналитические теории личности. М., 1996. I 125
Желание одержимого
CL
О
CU
I-
о
CÛ
О
X
ω
m
u
о
ш
τ
ОС
ш
ω
X
m
О
CL
m
<υ
Χ
126
ющие прекрасно замечают присущую ему склонность
откладывать и всячески тянуть резину, особенно в делах, которые
могли бы обернуться для него предположительными выгодами.
Образец педантичного, исполнительного, болезненно
скрупулезного человека, который в популярных источниках долгое
время считали воплощенным образцом анального типа,
имеет очень мало отношения к портрету субъекта навязчивости.
Напротив, субъект этот производит впечатление общей
несобранности и неспособности воспользоваться большинством
благоприятных возможностей, которые выпадают на его долю.
В отношении этих возможностей он, как правило, упускает
гораздо больше, чем ему удается присвоить.
С одной стороны, все это укладывается в вышеописанную
логику желания в режиме ce η est pas са — не того, что
субъекту нужно. С другой, преобладает общее впечатление, что
в постоянном отказе такого невротика от возможности
улучшить свое положение неизменно преобладает реактивное,
вторичное стремление удержать, приберечь нечто такое, что в его
анализе зачастую до последнего момента остается
неназванным. Жертвуют здесь и разбрасываются во имя того же самого,
что и удерживают.
Чтобы к этой неназванной причине навязчивого
придерживания подойти, необходимо рассмотреть функции, которые
выполняются тем, что Лакан, доводя до логического конца
соображения Фрейда относительно логики анального влечения,
называет «желанием удержать»:
Как можем мы охарактеризовать это желание
на анальном уровне — на уровне, где его участие
в становлении субъекта выступает наиболее
наглядно? Это желание удержать, спору нет — но
чем оно объясняется? <...>Желание удержать
выступает частной формой чего-то более общего.
Чего именно, нам и предстоит выяснить.3
Из этого отрывка следует, что подобное желание явно не
исчерпывается тем, что можно расслышать в его названии.
Во-первых, его отправление включает не одну, а несколько
Лакан Ж. Семинары. Т. 10. Тревога, с. 392.
Глава 5
Заниматься всем этим психоанализ должен практически
с чистого листа, поскольку бытовое окружение всегда уже пе-
но, есть — характер его отношений с теми фрагментами окру-
операций бессознательного. Во-вторых, требуется выработать . ш
представление о том, какого рода удовлетворение оно сулит. | §
Ъ
п>
ренасыщено готовыми соображениями относительно этого фе- | п>
номена. Исходя из общего смысла обычно предполагают, что
речь идет о желании насыщения и что невротик навязчивости п>
занят тем, чтобы извлечь из объекта максимальное количество ω
наслаждения. Что-то подобное в желании удержать, безуслов- | s
жающего мира, которые оказываются в его фокусе, говорит I п>
"О
ш
о том, что заполучив объект (или чаще вообразив, что оно им | χ
завладело), желание оборачивается некоторым
удовлетворением, выказывающем черты ослабления того, что в терминах
Фрейда предстает как либидинальный напор.
В то же время ослабление это носит довольно краткий
характер, и невозможно сказать, удовлетворяется ли оно объектом или
же использует его лишь как формальный повод для запуска
удовлетворения иного рода, которое в конечном счете сопровождает
не столько обретение объекта, сколько регистрирует нечто,
проходящее в желании субъекта собственными путями. Именно в
неврозе навязчивости в полной мере имеет место удовлетворение
«помимо объекта», которое лишь намечается в случаях, которые
мы за неимением более пристойного именования называем
«нормальными». В то же время известно, что без него не обходится
и в этих случаях, так что навязчивый невроз лишь усиливает это
смещение поиска с объекта на последствия его поиска, придавая
ему характер непреодолимого препятствия.
При этом особенно яркой чертой обсессивного желания, как
известно, является то, что искомый объект, по замечанию
Лакана, откладывается, подлежит уступке и слаганию про запас.
Другими словами, субъект, наложив на него печать овладения,
немедленно лишает себя к нему доступа. Это настолько
заметно, что в анализе навязчивости не возникает даже сомнения
в том, что любое достижение невротика подобного типа, любые
полученные им блага служат в экономике навязчивости лишь
для того, чтобы закрыть для счастливого обладателя всякую
возможность ими воспользоваться.
Тем не менее, это закрытие, даже становясь в клинике
навязчивости основным пунктом наблюдения и оценки хода ана- I 127
Желание одержимого
CL
О
CU
I-
о
CÛ
О
X
ω
m
u
О
ш
τ
ОС
ш
ω
X
m
О
CL
ffl
eu
χ
128
лиза, далеко не всегда получает ясное объяснение. Прежде
всего, остается не очевидной причина, по которой оно
возникает — из-за этого любая предпринимаемая аналитиком
попытка его скомпенсировать и по возможности вывести субъекта
на рубежи, где он от этого удержания начнет по доброй воле
отказываться, носит скорее стихийный характер. В немалом
количестве анализов навязчивости психоаналитик действует
скорее по наитию, руководствуясь представлением о том, что
удерживающего субъекта необходимо каким-то образом из
его раковины выманить. Имеющие порой место попытки
«обучить» невротика навязчивости каким-то образом
превозмогать его предположительную анальность и расставаться с тем,
что застряло на полпути к его удовлетворению, приводят лишь
к тому, что психоаналитик, по выражению Лакана,
«выступает в роли современного героя, стяжавшего славу поистине
смехотворными и в состоянии умопомрачения совершенными
подвигами».4
Характер подобных клинических действий можно
охарактеризовать как панический — как правило, он выдает
тревожащую самих аналитиков недостаточность теоретического
представления о том, что именно на уровне навязчивого желания
происходит. Именно таким образом пытались действовать
некоторые психоаналитики, которых Лакан застает за
смехотворной склонностью приучать невротиков мужского пола, по всей
видимости склонных к импотенции — речь несомненно шла
о навязчивом типе — к сексуальной жертвенности,
посредством которой они могли бы вести себя со своей подругой так как
будто, вступая с ней в сексуальное соитие, они приносят свой
орган в бескорыстную жертву ради ее удовлетворения:
Уместно здесь отметить, что введя лицемерное
понятие «oblativite génitale» (жертвование гени-
тальным), французские аналитики стали на стезю
морализма, и при поддержке хора Армии
спасения этот взгляд распространился теперь всюду.5
4 Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. М.,
1995, с. 14
5 Лакан Ж. Значение фаллоса // Инстанция буквы или судьба
разума после Фрейда. М., 1997, с. 143
Глава 5
Очевидно, что распространение этого взгляда приводит . ш
к тому, что у навязчивого субъекта в ходе лечения просто- §
напросто любыми средствами стараются вырвать то, что он, ^
как кажется со стороны, для себя придерживает. Все это не- χ
избежно ввергает аналитика в игру Воображаемого, которой п>
и без того широко отмечен навязчивый симптом. Вместо этого s
в анализе необходимо брать в расчет более широкую панораму п>
навязчивости, в которой желание удержать будет рассмотрено ω
не столько как требующий специального внимания эффект per- s
рессии не достигшего зрелости желания, сколько как резуль- *<
тат того, что происходит в навязчивой структуре на тех уров- п>
нях, которые как раз не находятся с поиском объекта в прямой χ
связи. В первую очередь это то, что обнаруживается на уже ' ш
рассмотренной территории соискания признания, поскольку
свое призрачное удовлетворение, как мы уже установили,
навязчивый субъект ищет именно там.
Именно в поиске признания — в том его месте, где
навязчивый невротик неизбежно заходит в тупик, связанный
вышеописанным с препятствием в виде тревоги другого, — и
необходимо видеть причины столь странного и часто привлекающего
внимание окружающих поведения в отношения объекта. При
этом все указывает на то, что объект этот нужен субъекту не
сам по себе — он удерживается лишь по той причине, что
субъект не в состоянии найти перспективу, где с ним можно было
бы расстаться. Именно поэтому сколь угодно мягкое
наталкивание его на мысль, что существует какое-то более «зрелое»
поведение, сопряженное с отказом от удержания и умением
совершать то, что слащаво называют «разделением» с
другими, обречено терпеть провал и выказывать слабость
аналитической позиции.
На самом деле, именно в вопросах «желания удержать» от
психоанализа в меньшей степени требуется занимать
моральную позицию и в наибольшей стремиться в направлении,
связанном с вопросами, неизбежно возникающим в культурном
поле опять-таки в связи с поисками признания. Другими
словами, необходимо стремиться к установлению того, где, в каком
контексте и в каких предметах находится то сокровенное, что
связано у субъекта навязчивости с тревогой по поводу
пользующегося признанностью другого, чьи высказывания, чей
продукт имеют для обсессика значение — всегда амбивалентное. I 129
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
130
Признание этого другого, его символическая награда,
источника которой этот субъект не видит, оборачивается для него
смятением по поводу того, чего это признание наблюдаемому
лицу стоило. Именно здесь возникает затор, уже собственное
смятение, выражающееся в единственно доступной для
навязчивого субъекта форме — в удержании объектов,
предположительно имеющих универсальную ценность.
Страсть к накоплению — как, впрочем, и к присущей
навязчивому субъекту прокрастинации, которая есть не что иное,
как накопление времени — это единственный доступный
такому субъекту ответ на вопрос о том, куда уходит вся
постоянно усматриваемая им сложноорганизованная бухгалтерия,
связанная с дарованием или же отъемом символической при-
знанности. Бухгалтерию эту субъект воспринимает через
призму собственной навязчивости и, в целом, не так сильно
ошибается, поскольку устроена она вполне обсессивно, и такие
культурные институты современного порядка, как, скажем,
художественный или литературный процесс, в полной мере
это доказывают. Особенно ярко проявляется это в эпоху
современности, когда именно инстанция вкуса в конечном счете
определяет степень критической искушенности того или иного
оратора в том числе и в политических дискуссиях —
обескураживающее обстоятельство, которое пока ускользает от
внимания исследователей так называемых масс-медиа, по привычке
полагающих, что исследуемое ими является проблемой так
называемой «коммуникации».
Следует сказать, что в любом из исследований феномена
коммуникации одновременно сбивают с толку две на первый
взгляд противоположные установки. С одной стороны это
предполагаемое равноправие агентов, вступающих в
коммуникацию. С другой — предположительная роль коммуникаций
в распределении власти. При этом ни та ни другая гипотеза
при всей их равной и широкой академической популярности не
учитывают возникающей у субъекта тревоги по поводу,
связанному с усматриваемой им шаткой позицией того, кто
удостоился некоторого признания. Гегемония в символическом поле,
влиятельность медиа, их идеологический потенциал — вот
вещи, попадающие в фокус внимания философов и социальных
исследователей. Сама по себе тревога признания оказывает на
его теоретиков особое, скрытое от них самих воздействие, фик-
Глава 5
По этой причине те побуждения, которые у навязчивого
невротика подобное зрелище вызывает, остаются исключительно
сации которого, по всей видимости, мешает та самая тревога, | jj
которая это воздействие и вызвала. | §
ъ
л
его собственным достоянием, а эффекты в какой-то степени I %
куртуазного присвоения чужой тревоги в ходе созерцания при- s
знанной личности остаются за кадром любого социологическо- η
го подхода к этим вопросам. В то же время вслед за наукой ω
описанными эффектами часто пренебрегает и психоанализ — s
сама тема признания, пробуждая у аналитика собственную *<
тревогу, оказывается в аналитической теории не слишком в че- п>
сти и точно так же неуловимо, но прочно сплетается с эффек- χ
тами власти и исходящей от постлакановского психоанализа ' ω
критики власти — маневр, позволяющий поместить эту тему
в ранг чего-то заведомо предосудительного.
Таким образом, вопрос накопления неотделим от
вопроса признания, но отношения между ними далеки от той
схемы, в которой они изображаются в перспективе социальных
наук, где признанность в известной степени равнозначна
накоплению или, по крайней мере, может быть обменена на
иные блага с большей или меньшей степенью ликвидности.
В этой схеме, где признание рассматривается через призму
товарно-денежных отношений, признанность и репутацию
накапливают образом, который просто побуждает к
общеизвестным сравнениям с капиталом, подлежащим накоплению
и расходованию с целью дальнейшего умножения
благосостояния.
Эта стройная картина, на которой прочно стоит
социальная критика общественного устройства, восходящая к
марксистским истокам, способна объяснить происходящее лишь
до известной степени. Хотя она обладает известной
достоверностью, в нее то и дело вмешиваются факты, становящиеся
доступными психоаналитикам в силу того, что они имеют дело
также с иной стороной обсессивных проявлений. Так, образ
жизни навязчивого невротика, даже являясь с общей точки
зрения хорошим поводом для объяснения отдельных сторон
функционирования капиталистической системы, тем не менее
то и дело демонстрирует также стороны, которые
вписываются в эту систему чрезвычайно плохо. Известно, например, как
слабо способны невротики навязчивости, склонные к мелкому I 131
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
132
скупердяйству и отложению средств, воспользоваться
накопленным — факт, то и дело становящийся почвой для
комедийного высмеивания. Субъект такого типа то и дело
демонстрирует слабость и нерешительность в той области, где, казалось
бы, учитывая его запросы, ему надлежало бы заправлять и
распоряжаться. Несмотря на определенные зачатки, навязчивый
невроз не располагает к проявлениям качеств, присущих
дельцу. Накопленное навязчивым субъектом — в денежном или
каком угодно эквиваленте — на уровне символического
является не благом, не полезной, приносящей удовольствие вещью,
а шлаком, мусором. Эта мусорность отчетливо выступает в тех
случаях, когда страсть к накоплению практически
неприкрыто касается всякого барахла. Именно так, например, следует
рассматривать фигуру так называемого коллекционера, о чем
психоаналитики прекрасно со своей стороны осведомлены.
Тем не менее, наблюдения подобного рода, как правило,
остаются достоянием аналитической клиники и не способны
поколебать те умозаключения, к которым приходит
социальный мыслитель, философ и критик. В то же время общая
психоаналитическая теория все еще недостаточно продвинулась
в объяснении отношений обсессивного субъекта с
удержанным и очень слабо сопротивляется толкованиям из области,
где смешиваются бытовой рессентимент и присущее
интеллектуалу моральное высокомерие. Несмотря на секулярный
настрой социального критика, все в его речах, как ни странно,
указывает на то, что в решении вопроса о желании удержать
интеллектуальная общественность остается в области скорее
религиозной, для которой отношения с благами находятся
в спектре уступки плотским искушениям.
Напротив, психоаналитическая оценка «желания
удержать» потому и представляет такую трудность, что все то,
что субъекту удалось скопить, никакого прямого отношения
к соревновательной гонке — в том числе в области искушений
властью — не имеет. Тем не менее верно то, что любое
накопление так или иначе эту гонку сопровождает в качестве не
столько ее цели, сколько ее остаточной функции. Факт этот
мог бы пролить свет на широко известное и раздражающее
избирателей обстоятельство, когда почти всякое избранное
ими политическое лицо так или иначе увенчивает свою победу
попыткой это заветное отложение сделать, сформировав в ито-
Глава 5
ге свою кубышку. При этом, естественно, существует сколько . ш
угодно субъектов навязчивости, которые никаких отложений §
не делают — во всяком случае, не делают их в денежном эк- ^
виваленте. Тем не менее, функция удержания, находящаяся χ
у такого субъекта в сложных отношениях с наблюдаемым им п>
признанием другого, в случае навязчивости всегда так или ина- s
че будет иметь место. п>
Здесь естественным образом встает вопрос о причине. Мы ω
установили, что именно запирает ту систему, которую обра- s
зует «желание удержать». Тем очевиднее, что должно быть *<
и нечто такое, что ее размыкает, что лежит на другом ее кон- п>
це. Как мы уже выяснили, отношения с наблюдаемым при- χ
знанием останавливаются у субъекта навязчивости на том ' ш
рубеже, где он занимает место отброшенной тревоги другого,
беря тяготы этой тревоги на себя и одновременно стремясь
выступить ее предметом. Именно по этой причине
продвинуться далее в этом направлении ему обычно не удается. При
этом смысл его действий в том, что хотя коллекционирует он
вещи или знаки, которые могут выступать как предметы
обмена, но нужно ему при этом совершенно иное — а именно,
знание Другого, которое должно раз и навсегда прекратить
эту циркуляцию. Этого знания он не получает, что и
побуждает его продолжать совершать свои отложения, воспроизводя
в фантазме ситуацию, в которой чаемое им знание получает
в итоге свою награду. В этом истинный смысл любого
отложения и состоит.
Рано или поздно приходится заметить, что именно это
желание вызывает расщепление, которое всегда обнаруживается
в случае навязчивости и которое при ее отправлениях
располагается между получаемой от другого речью и между
отправлениями тревоги по поводу позиции другого в инстанции знания.
Это ведет к тому, что зачастую нападая на изрекаемые этим
другим истины и вынося на его счет суждения, окрашенные
сомнением, — зачастую обоснованным, — субъект
оказывается не в состоянии со своей стороны пустить приобретенное
знание в дело. Нередко обладая в большой степени тем, что
раньше называли «интеллигентностью», глубоко и
проницательно ощущая присущую речи другого легковесность и
некомпетентность, субъект не способен своим знанием
воспользоваться так, чтобы видимую им совершаемую на территории I 133
Желание одержимого
CL
О
<V
I-
о
u
CÛ
о
X
m
u
о
ш
τ
OC
m
ω
χ
m
О
CL
m
<u
X
134
другого потерю возместить, компенсировать своим
собственным взвешенным суждением или творческим продуктом. Это
дополнительно, сверхдетерминирующим образом обрекает
его на то, чтобы оставаться на позициях тревоги другого, не
совершая дальнейших шагов в области соискания признания
и, тем не менее, будучи не в состоянии эту область покинуть.
Именно по этой причине многие субъекты навязчивости,
невзирая на хорошие интеллектуальные данные (несомненно,
как замечал Фрейд, также отчасти выпестованные в ходе их
навязчивой рефлексивной умственной деятельности), тем не
менее, не могут пустить эти данные в дело и добиться того,
чтобы они получили развитое воплощение в
профессиональной деятельности. Субъект оказывается от своего
потенциального продукта отщеплен.
Расщепление это чрезвычайно сходно с тем самым, что
имеет место в сексуальной жизни современного субъекта и уже
у Фрейда получило описание разделения двух психических
течений — придержанного и безудержного — разделения,
препятствующего организации того, что называется
«нормальной» любовной жизнью. До известной степени оба
расщепления эквивалентны структурно, что позволяет прибегнуть
к фрейдовской трактовке нарушений сексуальной жизни как
к чрезвычайно полезному дополнению, позволяющему
выстроить картину навязчивости в ее комплексе. Распространенная
неспособность субъекта навязчивости «сказать свое слово»,
необходимость слишком робко и неуверенно держаться в
области соискания уже своего признания, даже испытывая при
этом раздражение в отношении наблюдаемой им не совсем
заслуженной славы другого, до чрезвычайности напоминают
описанную Фрейдом картину частичной психической
импотенции.
Картина эта вертится возле неспособности субъекта
навязчивости занять позицию, где Другой — с большой буквы, как
тот, с кем навязчивый субъект соотносится и общается в своем
фантазме — не открывался бы ему исключительно со своей
изнанки. В постлакановской аналитической теории принято
считать, что навязчивый невротик Другим в некоторой степени
очарован. Так же принято считать, что Другим он совершенно
не интересуется. Оба эти, на первый взгляд противоположные
мнения совпадают, поскольку сходятся в том, что интерес об-
Глава 5
сессивного субъекта к Другому носит в своем роде дегуманизи-
рующий характер и сопряжен с желанием систематически
придерживать для себя некоторые объекты, как бы демонстрируя,
что этот Другой, не получая от навязчивого невротика ничего,
ω
рующий характер и сопряжен с желанием систематически при- | §
ъ
л
также не услышит от него ни слова. Тем не менее, видимое I п>
извне стремление к уничтожению Другого у невротика навяз- s
чивости не первично и опять-таки связано с тем, что такой п>
невротик становится на место тревоги другого, наблюдаемо- ω
го им субъекта. Именно в этом месте его предположительная s
агрессия приобретает функциональную оправданность. Если *<
этот реальный другой больше не слышит голоса своей тревоги, η
то навязчивый субъект в своих фантазиях охотно становится эе
тем, кто призван ему об этом напомнить, хотя до активного ' ш
вмешательства в дела конкретного другого так обычно и не
доходит — все заканчивается лишь углублением позиции отказа.
Именно такую позицию обсессивный субъект занимает в том
числе там, где он соотносится с позицией, которая занимает
в области диалектики борьбы за признанность особую роль —
с позицией отцовской.
Об этом следовало бы говорить чаще, поскольку
вырабатываемый в опоре на Фрейда общий взгляд на воспитание
зачастую упускает тот факт, что пресловутое
«психосексуальное развитие» также является косвенным плодом отношений
с фактом признанности. Так, принято считать, что к
удержанию объекта субъект впервые прибегает в ответ именно на
материнское требование,связанное с отправлениями анального
характера: анальность возводят к эротическому
придерживанию экскремента, который должен быть делегирован именно
матери. Но это не противоречит тому, что ответить на ее
требование отказом, начать с ним лукавить и стараться оставить
требующего ни с чем можно только в том случае, если для
отказа есть основа, связанная с необходимостью придержать
востребованное.
Чтобы начать отказывать, необходимо иметь для этого
основания, но получить их субъект может только при условии,
что сигнал к необходимости удержания уже прозвучал ранее.
Истоком этого сигнала может быть только то, что Лакан
описывает в качестве базовой, глубинно присущей отцовскому
бытию неудачи, сопряженной с демонстрируемым отцом на
этот счет непризнанием, забвением. Предположительная при- I 135
Желание одержимого
CL
О
eu
о
CÛ
о
ζ
ω
m
u
О
ш
τ
ОС
ffl
Ζ
m
О
CL
ffl
<U
X
136
знанность отца в качестве субъекта, окруженного сиянием
семейной славы, в сочетании с наблюдаемым в нем глубинным
невежеством, прекрасно описанным Лаканом, и есть то, что
еще на самых ранних стадиях развития запускает в детском
субъекте машину удержания.
Субъект, таким образом, не может отдать то, что отдать бы
следовало, поскольку постоянные манипуляции с тревогой
другого не оставляют ему такой возможности. По этой причине
он вынужден останавливаться на одном и том же пункте даже
в тех случаях, когда эта остановка вызывает ряд
усиливающихся расхождений между прочими сторонами его бытия. Именно
этим вызвана расщепленность позиции, которую в невротике
навязчивости нетрудно разглядеть и которая выражается в
оказываемой им поддержке часто противоречащим друг другу
убеждениям и действиям. Именно отсюда происходят
испытываемые навязчивым типом трудности там, где от него требуются
более-менее решительные, финальные действия, которые
философский взгляд склонен характеризовать как «поступок» (хотя
поступком это не является, поскольку поступок, согласно Ла-
кану, наступит не раньше, чем к удержанию прибегнут и в этом
смысле поступок и есть производное «желания удержать».6)
Конечно, сундучок скупого вызывает у нас смех
куда естественней (если мы, конечно, что-то
человеческое в себе сохранили — случай далеко не
общий), нежели исчезновение переписки Жида
с женой. Эта последняя всегда, разумеется,
представляла бы для нас ценность. Однако в конечном
счете это, по сути дела, одно и то же. Крик Жида,
узнавшего об исчезновении своей переписки, —
это все тот же самый что ни на есть комичный крик
Гарпагона.7
В психоаналитическом взаимодействии с невротиком
навязчивости этот заветный сундучок непременно рано или
6 «Действием та или иная активность становится лишь
постольку, поскольку в ней обнаруживает себя то желание, что призвано эту
активность затормозить» // Лакан Ж. Тревога, с. 394
7 Лакан Ж. Образования бессознательного, с. 303
Глава 5
поздно поднимется на поверхность. В какой-то момент субъ-
ш
ш
ект должен захотеть с ним расстаться, и момент этот насту- | §
пает вне всякой зависимости от того, что на этот счет думает ^
аналитик. При этом естественно возникает вопрос — в связи î
с чем это может произойти? Ответ на него мог бы послужить η
превосходным диагностическим инструментом, позволяю- s
щим узнать, до какой степени иногда сами психоаналитики η
не совсем уверены насчет того, что именно в анализе проис- ω
ходит. s
На самом деле, во фрейдовском тексте все до известной »<
степени находится на поверхности — другое дело, что даже п>
наиболее ясно в нем сказанное до такой степени при его пони- | χ
мании требует преображения, что результат может
оказаться неожиданным. Из фрейдовского изложения, посвященного
переносу, следует, что расстаться с удерживаемым субъект,
будучи анальным, может только в обмен — не стоит от него
ожидать большего — обмен на то, что аналитик может ему
предложить. При этом характер этого предложения требует
разъяснения, которое заставляет отдельно спрашивать о том,
что именно субъект желает — не намеревается, а именно фан-
тазматически желает — в анализе получить.
Фрейдовский ответ бескомпромиссен — анализируемый
желает получить от аналитика некоторое знание. В то же
время уяснение этого заявления требует определенной смекалки,
поскольку ничто не говорит о том, что в анализ идут за какими-
либо объяснениями или сведениями. Лишь принято считать,
что субъект приходит к аналитику за знанием, которое что-
то говорило бы о нем самом — то есть, намерен узнать нечто
о собственной персоне. Подобное предположение,
происходящее из области практической психологии, очевидно, является
для психоанализа ошибочным. На самом деле, знание такого
типа может быть только объектом выдвинутого анализан-
том требования. Действительно, на определенном этапе или
в определенных условиях случается, что субъект от
психолога или психотерапевта требует — поскольку психотерапевт
и психолог с самого начала поставлены системой в такое
положение, в котором от них можно требовать — чтобы они
предоставили ему объяснение той трудной ситуации, в которой он
находится. При этом его желание остается с данной стороны
нисколько не затронутым. I 137
Желание одержимого
CL
О
CU
I-
о
CÛ
О
X
ω
m
u
о
ш
τ
ОС
ш
ω
X
m
О
CL
m
<υ
Χ
138
Напротив, психоанализ предполагает, что субъекту знание
такого рода как раз давать не следует. То, что является
аналитическим продуктом — пресловутая интерпретация — так
же далеко от какого бы то ни было объяснения ситуации, как
далек анализ от консультирования по тому или иному
житейскому вопросу. Так или иначе, интерпретация не может быть
объектом ожиданий — в ней самой желанию субъекта ничто
не отвечает. Это вызывает определенную трудность, поскольку
в анализе, таким образом, очевидно расходится то, что в
случае обычной психологической консультации, как правило,
связано воедино: ожидание анализанта и продукт терапии. Но
если субъект анализа не желает интерпретации, то чего же он
желает? Он желает, чтобы аналитик продемонстрировал
знание.
Это вовсе не значит, что анализируемый субъект намерен
это знание получить в собственное пользование. Известный
лакановскии афоризм недвусмысленно говорит о том, что
«желания знания» не бывает. Тем не менее, существует
особое желание, связанное с искушением, похотью очей,
которое знания требует в особой форме — оно желает знания
как зрелища, демонстрации умений, следствием которых
является то, что Лакан называет «сокрушением требования».
Субъект ожидает, что происходящее в анализе, собственно
аналитический метод срежет, отбросит его требование
посредством заложенного в этом методе отказа в
удовлетворении. Другими словами, в речи аналитика должна быть
продемонстрирована модель обретения признанности, поскольку
депривировать, отказывать в удовлетворении с точки зрения
навязчивости может только некто, уже обладающий
признанием. Вот та, по сути единственная причина, по которой
субъект может предпочесть психоанализ прочим методам
психотерапии, тоже основанным на предположительном
обмене высказываниями.
Широко распространенное непризнание этого основного,
базового для психоанализа и несомненно вызывающего
тревогу факта, все попытки каким-то образом его замаскировать,
сделав вид, что требование субъекта, чтобы аналитик
находился в поле признанности якобы не при чем и что анализ
сводится к рутинной и необходимой работе над симптомом, — вот те
жесты, которые время от времени предпринимает психоанали-
Глава 5
тическая среда, вынужденная существовать в условиях своего -J-
рода интеллектуальной депривации. Это оправдывается тем, §
что аналитик с одной стороны согласно общему правилу дол- ^
жен выказывать в анализе как можно меньше так называемых χ
академических знаний — нет ничего более бессмысленного, п>
нежели превращение анализа в философское упражнение s
в университетском стиле. Тем не менее, если речь аналитика п>
не продемонстрирует чего-то такого, что было бы по оказы- ω
ваемой им фрустрации чем-то аналогичным работе остроумия | s
перенос, — даже состоявшийся в силу инерции предваритель- п>
ного ожидания, — не станет тем, что Фрейд выдвигает на пер- χ
ш
и намекало бы на право аналитика подобные жесты совершать,
вый план в качестве «аналитического фактора». Аналитик
становится объектом желания и причиной переноса лишь в той
степени, в которой он предъявляет в анализе нечто
специфическое. Другими словами, он должен продемонстрировать
пресловутый аналитический дискурс — точнее, его речевую
сторону, потому что, как и любой дискурс, полностью к речи
он не сводится.
Именно здесь раскрывается та сторона переноса, которая
недостаточно представлена к обсуждению в стандартной,
умеренно классической психоаналитической пропедевтике. То,
что в основе переноса лежит какое-то знание, становящееся
причиной желания анализанта, признается всеми, но в то же
время остается недоговоренным, как именно это знание
функционирует и какая в нем у субъекта нужда. Образ субъекта,
желающего завладеть знанием как инструментом влияния, все
еще господствует в Воображаемом самого аналитика, так что
неудивительно, что в какой-то момент лакановская критика
знающего Другого, который обладает властью провозвещать
и к которому якобы обращаются как к гуру или гадалке, была
воспринята в сообществе именно так. На самом деле,
перенос — это не желание с аналитиком или его
предположительной властью идентифицироваться, а, напротив, желание,
связанное с ожиданием от аналитика такой речи, которая была
бы с точки зрения невротика поводом для признанности. В
отличие от того, чего обычно ждут от психологической работы
в поддерживающей психотерапии, субъект анализа вовсе не
хочет, чтобы аналитик признавал его самого, считался с его
чувствами и совершал прочие, глубоко сомнительные по своей I 139
Желание одержимого
CL
О
CU
I-
о
CÛ
о
ζ
ω
χ:
(Ό
m
υ
Ο
ш
τ
m
CC
Ш
ω
ζ
m
Ο
Q.
ffl
<U
Χ
140
аналитической ценности жесты. Вместо этого, он —
особенно в случае навязчивости, хотя в истерическом желании этот
момент тоже со счетов сбрасывать не стоит — намерен
убедиться, что у аналитика есть все потенции по крайней мере на
определенном этапе выступить тем, у кого признанность уже
имеется — имеется исключительно по причине той отчасти
воображаемой, отчасти структурной сегрегации, которая
аналитической речью производится.
Убедиться в этом можно только одним способом, о котором
Фрейд был прекрасно осведомлен — именно отчетливое его
понимание вывело его учение за пределы так называемого
авторитетного медицинского сообщества, куда последующие
аналитики так или иначе всегда испытывают некоторое желание
вернуться. Колебание на этот счет вызвано тем, что признание
все еще повсеместно понимается как следствие определенным
образом понятого символического регистра, воспринимаемого
не в психоаналитической, а в социально-культурологической,
опять-таки сугубо бурдьеанской по духу стилистике, где
признание трактуется как сертификация — совокупность
профессиональных достижений, подтвержденных сообществом и
соответствующей символикой.
При том именно навязчивый невроз без лишнего
морализаторства демонстрирует, до какой степени этот момент, часто
формально взыскуемый самим же субъектом навязчивости,
является вторичным, по отношению к тому, что таким
субъектом котируется как знание. Широко известная обсессивная
недоверчивость к любой бесспорно авторитетной фигуре,
которую обычно списывают на невротическое обесценивание,
на деле содержит желание определенного рода, связанное
с пренебрежением условиями легитимации и поисками
такого объекта, который отказывал бы в удовлетворении
символического запроса и тем самым подстрекал субъекта
прикрывать свою тревогу по его поводу неким подобием любви.
Только знание, которое в глазах субъекта навязчивости
обладает этой способностью, может вызвать совокупность
бессознательных процедур, из которых зарождается и развивается
перенос.
Это стоит специально отметить, поскольку популярный
взгляд на анализ навязчивости предлагает облик
анализируемого как скрупулезно сосредоточенного на симптоме и сопут-
Глава 5
ствующих ему переживаниях. Напротив, в центре интереса I J
у субъекта навязчивости, проходящего анализ, находится не §
столько симптом, сколько то впечатление, которое на него ^
производит речь и позиция аналитика. Речь эта оказывает î
свое первоначальное действие образом не терапевтическим, п>
потому что поначалу никакого влияния на симптом эта речь s
не имеет. п>
Это хорошо объясняет, почему психоанализ — особенно ω
анализ невротика навязчивости — зачастую обречен длиться | s
. За
вило, приходит в него с уже готовым симптомом, подвергну- а>
тым зачастую тщательной самокритике. Самокритика эта не χ
ω
долго, невзирая на то, что субъект навязчивого типа, как пра-
продвигает ход анализа не только по той хорошо известной
причине, что сама по себе отправляется субъектом в
координатах навязчивости, но и потому, что никакой другой симптом
в аналитическом взаимодействии не подвергается со стороны
самого субъекта такому резкому забвению, как симптом
навязчивый, который часто почти полностью уже на начальном
этапе работы уступает место переносу. Перенос возникает не
по причине того, что невротик такого типа ждет от
аналитика отчетливых и недвусмысленных разъяснений; впрочем, он
не обуславливается и той речью, которую сам анализируемый
в анализ привнес, хотя она играет гораздо большую роль,
нежели та доброжелательная возня, которую психотерапевты
считают своим долгом устраивать возле клиента и его системы
ценностей. Напротив, то, что сам навязчивый субъект считал
основным симптомом, в анализе обычно склонно на время
исчезать, сменяясь жгучим вниманием к тому, что анализируемый
прочитывает как свидетельство фантазматически
подозреваемого им успеха аналитика на пресловутом поле признанно-
сти — успеха всегда альтернативного и с системой социальной
оценки не совпадающего.
Этот момент является узловым — именно он способен
объяснить обстоятельство, возле которого безуспешно в течение
многих десятилетий крутится общественная дискуссия,
спровоцированная пресловутой небесплатностью анализа. Обычно
на все претензии по этому поводу отвечают, что речь
как-никак идет о деятельности профессиональной. Несколько реже
заходит речь о связи платы и эффекта переноса — хотя
представление об их зависимости в анализе налицо, и аналитики I 141
Желание одержимого
CL
О
CU
I-
о
CÛ
О
X
ω
m
u
О
ш
τ
ОС
ш
ω
X
m
О
CL
ffl
eu
χ
142
активно пользуются им на практике. Тем не менее, даже в этом
случае почти никогда не встает вопрос о том, что же конкретно
в анализе оплачивается субъектом, который до момента входа
в него, как уже было сказано, воспринимает деньги как
отголосок, отброс, символизирующий угасшую борьбу за признан-
ность.
Причина переноса в том, что субъект навязчивости желает
оплачивать только знание — причем такое, которое кажется
ему отмеченным уже описанной признанностью. С одной
стороны может показаться, что анализ в ответ предлагает ему
пустышку — насколько неожиданны речи аналитика бы ни
были, реальной признанностью отмечены они не бывают по
той же причине, по которой не бывает не только публичного,
но и просто коллективного анализа. Последний факт
представляет собой общеизвестный камень преткновения, поскольку
существует сколько угодно специалистов, которые, принимая
все прочие ограничения и запреты фрейдовского метода,
почему-то упорно не видят ничего зазорного в пресловутой
«групповой работе».
Работа эта в то же время абсолютно бессмысленна в
отношении того подавляющего большинства субъектов, которые
в такой коллективный анализ вступают, — субъектов, чья
психическая реальность в той или иной степени замешана на
навязчивом компоненте. То, что в анализ должно войти вместе
с субъектом навязчивости — это все те, еще до анализа
имеющие место отношения, которые он выстроил с отброшенной
тревогой Другого — тревогой, актом присвоения которой
навязчивый невротик оказывается выделен из своей среды — как
по крайней мере ему самому кажется. До какой бы степени это
ощущение избранности не было всего лишь фантазмом,
исключить его искусственным образом нельзя — притом что именно
это пытается сделать пресловутая «групповая работа»,
убивающая перенос субъекта навязчивости в самом зародыше. Как
было сказано, то, что невротик навязчивости намерен
получить от того, кого обманчивым образом принимает за субъекта
признанности — аналитика — это знание. При этом вместе со
знанием в анализе ему предстоит получить нечто такое, что
ни один созерцаемый им общепризнанный успех другого ему
не даст: знание это посредством переноса должно обнаружить
провал возможности рассматривать его как предмет соперни-
Глава 5
чества, возле которого и выстраивается экономика навязчиво- -J-
сти, заканчивающаяся приобретением связанной со знанием | §
Другого тревоги и вины.
Это, очевидно, ставит вопрос о том, как организовано это
Z2
Ъ
п>
знание в анализе, поскольку ни чувства вины, ни тревоги ана- | п>
литик, сам будучи субъектом, очевидно не лишен. Но если
в анализе и возникает какой-то иной горизонт, связанный п>
с приостановкой воспроизводства навязчивого цикла, то для ш
такой приостановки должны быть особые основания. В целом, s
у субъекта навязчивости даже при самом благоприятном пе- *<
реносе всегда будет больше резонов продолжать удерживать, п>
нежели предпринимать какое-то действие, связанное с вложе- χ
нием. Следующий раздел продемонстрирует, какие еще осно- н
вания могут удержать навязчивого субъекта от подобных
вложений.
Глава 6 Желание
и импотенция
Помимо сложных отношений навязчивого субъекта с
вопросом признанности и с последствиями обуревающего его
«желания удержать», перед ним, как правило, стоит еще одна
проблема, которой на первый взгляд в аналитической
перспективе следовало бы отвести первое место, если бы не
особенности самого невроза навязчивости, носитель которого склонен
ее затушевывать и в некотором смысле отставлять в сторону
Речь идет о том, что эвфемистически называют «качеством
сексуальной жизни» Частота жалоб на эту сторону своего
существования у навязчивого невротика далеко не так высока,
как следовало бы ожидать Тем не менее, тема эта является
привилегированной, поскольку в ней воочию является то
наиболее распространенное состояние, которое некоторые ла-
кановские аналитики на упрощенно-практическом языке
называют иногда «нехваткой желания» — состояние, которое
у навязчивого субъекта во многих случаях является ведущим
Так называемая «импотенция» в той или иной степени всегда
сопровождает сексуальную жизнь невротиков навязчивости,
заставляя их вести специфический образ жизни, связанный
с латентным избеганием ситуаций, где их половая мощь может
быть подвергнута неожиданному испытанию
Сама экзотичность постановки вопроса о «нехватке
желания» связана с тем, что желание, как известно, является не
силой, а функцией. У желания нет количественного измерения
и, стало быть, если мы следуем лакановской теоретической
стезей, говорить о степенях желания мы не можем. Желания
не бывает ни много, ни мало. В связи с этим заявить о его
нехватке вовсе не то же самое, что сказать о недостаче или
отсутствии некоторого нужного количества энергии. Тем не менее,
поначалу у Фрейда в попытках объяснить неожиданную поте-
144 рю активности желающего субъекта речь идет именно об «от-
2
О
H
Π)
I
ведении», «отвлечении» некоторой части напора от основного 56
потока влечения. Делает он это опять-таки по причинам, кото- ь
рые становятся понятны лишь задним числом: действительно,
если желание является постоянной функцией, то только лишь I ф
его отведением, утечкой и можно объяснить тот факт, что оно | s
не срабатывает в нужный момент.
Тем не менее, поскольку желание представляет собой не
столько поток энергии, сколько результат более-менее
эффективной реализации фантазма, в случае каждой любовной
неудачи возникает необходимость спрашивать о том, что именно
в нем не сработало на этот раз.
Это не праздный вопрос, поскольку импотента в
буквальном смысле, — как того, кто становится причиной насмешек
женской половины человечества и страхов половины
мужской, — в действительности не существует. Как гласит
английский анекдот, самоуверенный человек однажды узнаёт о своей
импотенции от жены. Другими словами, вопрос всегда стоит
в относительной плоскости.
Об этом же говорит и Фрейд, для которого, в отличие от
некоторых аналитиков, понимающих свой метод чересчур
буквально, вопрос никогда не стоял в плоскости сугубо индивидуальных
обстоятельств. Речь для Фрейда, напротив, всегда идет о
«человеке современности» и о его специфической нехватки в целом:
Если мы не будем расширять понятие о психической
импотенции, а присмотримся к оттенкам ее симптоматологии, то
мы не сможем не согласиться с тем, что любовные проявления
мужчины в нашем современном культурном обществе вообще
носят типичные признаки психической импотенции. Нежное
и чувственное течения только у очень немногих
интеллигентных мужчин в достаточной степени спаяны; мужчина почти
всегда чувствует себя стесненным в проявлениях своей
половой жизни благодаря чувству уважения к женщине и
проявляет свою полную потенцию только тогда, когда имеет дело
с низким половым объектом.1
Здесь, с одной стороны, можно разглядеть присущую Фрейду
широту цивилизационного мышления в шпенглеровском духе,
которая, как стало ясно впоследствии, не всегда представляет
1 Фрейд 3. Об унижении любовной жизни // 3. Фрейд. Полное
собрание сочинений в 10 томах. Т. 5. М., 2006,с. 204 I 145
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
146
собой удачный исследовательский ракурс. Есть в такого рода
постановке вопроса признаки гуманитарной мистификации.
Но у фрейдовского заявления присутствует и другое
измерение: ведь говорит он по существу о субъекте вполне
определенном — субъекте картезианском. Это значит, что мысль Фрейда
максимально близко подходит здесь к лакановской, из
которой в свою очередь следует, что свою навязчивость субъект
современности усваивает из источников не столько
общекультурных, сколько из принадлежащих тому господствующему
дискурсу, в котором этот картезианский человек обитает. Это,
возможно, будет неожиданным для аналитиков, понимающих
свою клиническую задачу традиционно, но речь идет о том, что
свое бессилие в сексуальной сфере субъект приобретает
именно в связи с тем смятением, в которое его погружают эффекты
современного знания, выраженные в речах тех, кто, начиная
с того же Декарта, формулирует публичную
интеллектуальную повестку.
Именно по этой причине субъект может быть импотентен
и в то же время не импотентен — импотенция его носит
характер перемежающейся философской ятрогении — вот о чем по
существу пытается сказать Фрейд в «Недомогании культуры».
Импотенции такого типа в ее связи с навязчивостью Фрейд
посвящает немало времени. Тем не менее, ее механизм он до конца
не раскрывает. По этой причине психоаналитикам приходится,
тасуя фрейдовские соображения на этот счет, выкручиваться
самостоятельно. Так, например, испытывая на прочность
фрейдовские клинические замечания, они нередко говорят об
«инфантильной сексуальности» как о причине, по которой субъект
испытывает сильное тяготение вернуться от предположительно
достигнутой им зрелой генитальности в обращении с женщиной
на рубежи, где женский объект начинает мерцать и через него
проступают черты объекта «материнского».
Любопытно, что Лакан и здесь не оставляет
психоаналитикам выхода. Так, в небольшом замечании, посвященном
Сартру, он меняет местами то, что аналитики склонны видеть
причиной и следствием:
Фигура, которую рисует Сартр, рождает
отклик в бессознательном, но что именно в нем
отзывается? Да не что иное, как поглощение нашего
Глава 6
тела недрами земли-матери — то самое, смысл ко
торого верно определил Фрейд, отметив, что воз- ь
вращение в материнское лоно представляет собой
фантазм импотента.2 | s
s
о
н
(Ь
I
.Ρ
Замечание это выбивает почву из-под привычного
толкования механизма импотенции, поскольку теперь не регрессивное
желание возвращения в утробу становится для импотенции
причиной, а, напротив, само «регерессивное» желание появля- | |
ется в результате невроза навязчивости, сопряженного с уже
готовым комплексом приобретенного бессилия. Точно такая
же путаница происходит и тогда, когда половое бессилие
объясняют фантазмом о предполагаемой «фалличности»
женщины — ведь этот женский фаллос, даже если для допущения его
существования есть весомые основания, тем не менее, не
появляется в фантазме сам по себе. Миф о фаллической женщине,
если миф этот сохраняется у субъекта, давно уже вышедшего
из нежного возраста, когда он мог быть уместен, является не
причиной, а итогом некоторых посещающих субъект
соображений по поводу собственных неудач. Другими словами, по всей
видимости, перед нами миф именно аналитический,
сконструированный даже в том случае, если субъект изобретает его для
себя самостоятельно.
Напротив, лакановский опыт постепенно подводит к
заключению, что импотенция как проявление специфической
мужской слабости является ответом не на могущество женщины,
не на предполагаемую за ней «фалличность», — что бы за этим
смутным термином ни стояло, — а на подозреваемое за ней
знание.
Именно это толкование дает ключ к тем навязчивым
действиям, который совершает человек-крыса со своим пенисом,
имея в виду того, кто в кои-то веки готов на это поглядеть —
своего уже покойного к тому времени отца. Отец этот, как
замечает Лакан, отличается тем, что он лишен знания.
В сновидении, пересказанном Фрейдом в статье,
«Формулировки двух принципов психического
события», произносится — с пафосом, сопутствую-
Лакан Ж. Семинары. Тревога, с. 228 I 147
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
148
щим явлению покойного отца в виде призрака —
фраза: он не знал, что был мертв.3
Незнание, таким образом, оказывается принадлежащим
отцу, который для субъекта, особенно навязчивого, чаще
всего при жизни является слепым пятном, но при этом по
причинам, до сих пор недостаточно исследованным, приобретает свое
подлинное значение после смерти. Значение это связано не со
скорбью, как может предположить психология семейных
отношений, но и не с торжеством по поводу смерти тирана —
чувство, которое, согласно Фрейду, для субъекта в этот момент
просто недоступно, — ас наблюдаемым невежеством отца
относительно собственной смерти. Именно на это невежество
субъект, будучи в этот момент сыном, и взирает со смешанным
чувством, содержащим оторопь и в то же время воодушевление
особого рода. Загадочная роль зеркала в этом действии, —
поскольку пациент в этот момент на себя смотрит, — показывает,
что субъект претендует на жалкую, но значимую в его случае
толику картезианства, которое у любого европейца благодаря
гегелевским философским трюкам именно со знанием и
ассоциируется. Соль его действий и состоит в том, что у отца знания
нет — именно это и намерен субъект ему показать, и если в его
действиях есть какая бы то ни было заподозренная Фрейдом
агрессия, то она сводится исключительно к этому пункту.
По этой причине мастурбация перед зеркалом
подразумевает вызов не в том смысле, в котором субъект рассчитывал отца
раздражить и вызвать его неудовольствие. Показательно, что
обычные толкования этого случая, включая и первичное
фрейдовское, указывают на толику свободолюбия, проявляемого
в этот момент сыном, хотя ничего подобного за ним никогда
не наблюдалось в принципе. Напротив, мастурбировать
невротику позволяет то незнание, которое отец проявляет не в силу
того, что его уже нет на свете, а в силу того, что ему неведомо,
до какой степени он был мертв всегда, мертв, как замечает
Лакан, изначально. Эрекция человека-крысы опирается именно
на отцовское невежество как на этот счет, так и в принципе.
3 Лакан Ж. Ниспровержение субъекта и диалектика желания
в бессознательном у Фрейда. // Инстанция буквы или судьба разума
после Фрейда. М., 1997, с. 156
Глава б
п>
2
о
H
Π)
I
-Ρ
То, что Фрейду в итоге не удалось истолковать этот момент
и что он был заменен толкованием более наивного характера I S
(«папенька при жизни не любил, когда я мастурбирую и
слоняюсь по квартире без дела — так пусть теперь полюбуется»), Ι ω
вызвано по всей видимости тем, что характеризовало отноше- | s
ния Фрейда как с его собственным фантазмом, так и с
лежащей в основе его теории отцовской мифологией в целом. При
этом человек-крыса делает в некотором роде обратное — его
убежденность в том, что на его отражение смотрят, равноценна
убежденности в том, что отец делает то же, что и всегда:
говорит с того света, демонстрируя непонимание того, что
происходит с желанием сына и в то же время видя в этом желании
гарант продолжения чего-то такого, о чем сам отец при жизни
мог только догадываться. Действия навязчивого невротика
говорят о том, что отец ничего о сыне не знал и, по-своему поощряя
в нем субъекта мужского желания, никогда хорошенько не
понимал, что именно в желании им движет. Именно в мертвецах
ему поэтому и надлежит оставаться, довольствуясь лишь
отсветом возвышенного и в то же время демонстративно
упрощенного, сведенного к примитивной мастурбации, влечения сына.
Это и показывает субъект отцу, и в этом смысле взгляд
последнего претерпевает смещение — демонстрируют отцу вовсе
не восставший член, а то, что отец знания о своем положении
лишен, что как раз и позволяет субъекту добиться в
самоудовлетворении некоторого успеха. То, что полуночное действие
повторяется с такой навязчивостью, говорит лишь о том, что
субъект в своем фантазме невежественного отца не совсем
уверен. В этом смысл навязчивости как раз и заключается.
При всей кажущейся самонадеянности, которая часто
характерна для невротика навязчивости — а многим из них, как
известно, в детстве в семье пророчили какую-то особую славу
и всячески подчеркивали их действительно неплохие
способности (причем Фрейд, опираясь в том числе на свой личный
опыт, настаивает, что подобная переоценка нередко исходила
со стороны матери, тогда как отец порой был оскорбительно
слеп на этот счет) — при всей надменности такого субъекта,
его спокойствие легко может быть поколеблено
бессознательными соображениями, согласно которым осведомленность
отца действительно заходит так далеко, что он может знать
о том, до какой степени для субъекта он был мертв с самого I 149
Желание одержимого
CL
О
eu
о
CÛ
о
ζ
ω
m
u
О
ш
τ
ОС
ffl
Ζ
m
О
CL
ffl
<U
X
150
начала. Здесь, в этой точке, у сына и возникают тревога и
запоздалые сожаления. Пресловутая скорбь об отце, о которой
Фрейд говорит с таким чувством и которая в дальнейшем часто
понималась упрощенно-сентиментально, на самом деле
адресована именно этому специфическому моменту, связанному
с предположительным незнанием отца.
Именно так с лакановской точки зрения и нужно толковать
пресловутое «соперничество», сформулированное Фрейдом
в мифологической стилистике Эдипа и желания причинения
отцу смерти, тогда как на деле за ним стоит страх субъекта, —
обыкновенно являющегося субъектом навязчивости, —
относительно того, что отец мог его опередить в области знания
о собственной смерти.
Об этом говорит выделенный Лаканом момент, где подробно
разбирается связь фрейдовского учения о смерти отца и
настигающей вслед за тем субъекта кастрации с теми фантазматиче-
скими позициями, которые занимал в это время сам Фрейд в
отношениях с собственным отцом. Перед тем, как в очередной раз
указать на предвзятость Фрейда и на якобы сомнительный
характер его учения об Эдипе, не лишним будет взять в расчет то,
что отношения эти разворачиваются на фоне продолжающихся
попыток Фрейда сформулировать границы того, что именно отцу
может быть известно и почему это знание в действительности
имеет для субъекта такое решающее значение.
Не лишне в этой связи отметить, что миф об
убийстве отца как основополагающем факте
впервые встретился Фрейду при истолковании
сновидения, и что в нем, сновидении этом, нашло
выражение пожелание смерти. Конрад Стайн в своей
статье подвергает его интересному критическому
разбору, показывая, что эти пожелания смерти
своему отцу усиливаются в тот момент, когда смерть
эта стала реальностью. Само Толкование
сновидений выросло, по словам Фрейда, из смерти его отца.
Фрейд, таким образом, хотел бы видеть себя
виновным в смерти отца.
Не очевиден ли здесь, спрашивает автор
статьи, знак чего-то другого, что за этим
скрывается — пожелания, чтобы отец был бессмертен?
Глава б
Истолкование это соответствует принципам X
аналитического психологизма, основанного на той ^>
Π)
^ ι s
неподвластным смерти. От автора, эту предпосылку | s
О
H
П>
I
si
предпосылке, что сущность позиции ребенка
состоит в представлении о всемогуществе, делающем его
разделяющего, подобной интерпретации, если
хотите, и следует ждать. Напротив, если подойти к
предпосылке относительно позиции ребенка
критически, станет ясно, что к вопросу о пожелании смерти Ι ξ
и тому, что за ним стоит — если за ним, конечно,
что-то стоит — нужно подойти с другой стороны.4
Это чрезвычайно важный момент, которому суждено войти
во все пособия, посвященные психоаналитической практике,
если бы на подобное в отношении лакановских текстов вообще
можно было бы рассчитывать. Отрывок выражает активное
разочарование самого Лакана в том, что долгое время считалось
сутью психоаналитического метода — обнаружение за явным
содержанием (например, содержанием сновидения) импульса,
который ему противоположен. Так, согласно этому базовому
правилу, если отцу желают смерти, то с точки зрения
благожелательного аналитического переворачивания можно добиться
переиначивания этого пожелания и обнаружения за ним
любящего сына — фигуры, которую постфрейдовский анализ, не
в силах перенести суровую бескомпромиссность Фрейда на
этот счет, искал так долго.
По всей видимости, этот слащавый жест раздражает Лакана
не меньше, чем пресловутая «сексуальная жертвенность». Но
дело вовсе не в том, что непременно необходимо настаивать на
неискоренимой ненависти, а в том, что в области пресловутой
«сыновней любви», равно как и ее противоположности, вопрос
в анализе просто не стоит. Фрейд, даже если это не так
очевидно на первый взгляд из его текстов, клонит к тому, что между
отцом и сыном нет никаких непосредственных
взаимоотношений — ни в плоскости эмоциональной ни в какой-либо иной.
Напротив, речь идет о сцене, где отец предстает — особенно
сыну, страдающему навязчивостью — в облике, в котором
смешиваются хорошо известные властные отцовские посягатель-
Лакан Ж. Изнанка психоанализа, с. 152-153 I 151
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
152
ства на проницательность и в то же время стоящее за ними
глубинное невежество, на которое сын в итоге и делает свою
главную ставку. Только невежество, явленное отцом в облике
незнания о собственной смертности, способно дать сыну что-
то такое, что, вовсе не являясь «налаживанием отношений»
с отцом, позволяет сыну более-менее успешно отправлять свое
желание и, по обнадеживающим прогнозам Фрейда, порой
даже становиться отцом самому.
Здесь и преодолевается затруднение, которое навязчивый
субъект испытывает по отношению к своей сексуальности и,
в частности, к ее генитальному аспекту — ее реализацию
делает возможным не насильственная смерть отца, как гласит
фрейдовский миф, а окончательная убежденность субъекта
в том, что отец ничего не смыслит в собственном
существовании и по этой причине упорно не желает знать, находится ли он
на территории жизни или смерти. Именно об этом повествует
восставший член человека-крысы.
Механизм, лежащий в основе этой эротической воодушев-
ленности, носящей здесь необычный, вычурный характер,
многое на деле может объяснить также относительно тех случаев
полового бессилия, которое нередко имеет место в случаях
навязчивости в отношении реального сексуального партнера.
Так, урок, который преподает этот случай и к которому в итоге
подводит Лакан, заключается в том, что знание с
наслаждением несовместимо. Следует ли видеть в этой формуле
переиначенную древнюю мудрость, согласно которой для того, чтобы
мочь любить, — потому что в данной плоскости вопрос стоит
именно о мочь — следует знать о предмете любви как можно
меньше? У самого Фрейда в более-менее шутливой форме речь
об этом идет постоянно, но в данном случае Лакан
подразумевает также иной смысл, поскольку речь идет не о знании
субъекта, силящегося совершить отправление своего
любовного чувства, а о знании того, кто выступает в этом чувстве
объектом. Другими словами, знание, находящееся у того, кого
желают, является для этого желания в момент его сексуальной
реализации сдерживающим механизмом.
Данный момент и лежит в основании той, как говорили
раньше, «половой слабости», которую невротик выказывает в
случаях, когда ему предоставляется возможность проявить себя
сексуально. Термин «половая слабость» при всем его виктори-
Глава 6
анском благочестии является ложным в том числе и клиниче- | Эе
ски, поскольку речь идет не о подлинной импотенции, а лишь ь
о колебаниях, задержке, которая возникает у субъекта в мо- |
мент необходимости совершить генитальный акт с партнером, ' ф
о
н
п>
X
у которого есть по всей видимости свое встречное желание — | s
в остальном этот невротик, как верно замечает Лакан, нередко
остается вполне сексуально дееспособным.5 Лишает его
способности только взгляд — взгляд ждущий и намекающий, что
от субъекта не просто требуют наслаждения, но и обладают
насчет него каким-то знанием, — ибо знание желающего
субъекта, которое он питает относительно своего партнера никогда не
обходится без наслаждения знающего. Любящий, охваченный
желанием партнер по мысли невротика навязчивости знает то,
что сам невротик знать не хочет — он знает о потере, которая
уже случилась и которой отмечен вступающий в отношения
мужчина. То, что по мысли субъекта навязчивости, говорит
ему женщина, звучит следующим образом: «Мы вместе,
и это значит, что ты проиграл. Но я люблю тебя вместе
с твоим проигрышем, а остальное не имеет значения».
Именно знание партнерши о постигшей субъекта утрате и ее
наслаждение этим знанием, — а вовсе не сама по себе
необходимость поделиться с ней генитальным объектом, — и приводит
невротика навязчивости в бешенство, которое, впрочем, до его
сознания доходит довольно редко. Тем не менее, оно успешно
лишает его любовного энтузиазма. Именно это и вызывает де-
тумесценцию, падение органа, приводящее к неспособности
совершить акт. Точно так же, по всей видимости, следует порой
рассматривать и феномен прерванного полового акта, а также
в ряде случаев синдром его преждевременного завершения.
Предположение за другим знания делает невозможным то
самое и без того изначально невозможное, что представляют
собой, согласно Лакану, сексуальные отношения. Если
партнер показывает субъекту навязчивости, что он наслаждается
знанием, совокупление становится невозможным в принципе.
5 «Речь обычно идет о человеке, часто молодом, который, как
и многие подверженные импотенции персоны, на самом деле вовсе
не импотентен. На протяжении своей жизни он вполне способен
вступать в нормальные половые отношения и иметь любовные
связи. Потом он женится — и вдруг оказывается, что с женой все это не
работает». // Lacan J. Le désir et son interpretation, p. 68. I 153
Желание одержимого
CL
О
CU
I-
о
CÛ
О
X
ω
m
u
о
ш
τ
ОС
ш
ω
X
m
О
CL
m
<υ
Χ
154
Именно это объясняет то специфическое отношение,
которое навязчивый субъект питает к такому основополагающему
для мужского желания феномену как феномен проституции.
Социальная наука, как правило, подходит к проституции как
к базовому виду примитивного человеческого обмена. Но
экономика навязчивости и ее обращение со знанием открывает в
проституции нечто совсем иное — с точки зрения обсессивности
в проститутке при всей ее включенности в экономику обмена
есть нечто такое, что не обменивается в принципе. Речь идет
о том, что навязчивый невротик считает знанием, которое
всегда остается при ней, сколько бы мужчин в нее ни входило и ни
привносило то, что они могли бы опрометчиво считать
собственным вкладом желания. Забрать это знание у проститутки
нельзя, и именно это вызывает у навязчивого субъекта своего рода
головокружение, едва прикрытое изумление, сопровождающее
любые, в изобилии исходящие от него характеристики
проституции как явления в целом предосудительного и унизительного.
Здесь и раскрывается мало-помалу то, что в «Унижении
любовной жизни» Фрейдом было зафиксировано в качестве
разрыва между двумя любовными мужскими установками — нежной
или же, напротив, агрессивно-безудержной, отмеченной уже
свершившимся оскорблением предмета влечения. На самом
деле, речь не о том, что слишком нежное отношение к объекту не
позволяет мужчине проявить ту умеренную, присущую его полу
толику садистских наклонностей, которые позволили бы ему не
сплоховать в деле, а о том, что и в первом, и во втором случае
его ограничивает подозреваемое за партнером знание. При этом
расположено данное знание по-разному, и именно это приводит
к неодинаковому результату и к тому, что воспринимается со
стороны либидо как противоположность. Если знание
проститутки вызывает у навязчивого субъекта мужского пола ту
специфическую дистанцию, которую с ее телом он всегда удерживает
и которая как раз и позволяет ему проявить свое влечение в акте
совокупления, то допущение знания за предметом любви
приводит к состоянию, которое Фрейд описывает как невозможность
совершить действие, как торможение. Именно в подозреваемом
невротиком знании, связанном с наслаждением другого, и лежит
причина расхождения между побуждением нежным и
побуждением чувственным, которое подмечает Фрейд, сетуя, что они
никак не находят в современном мужчине примирения.
Глава 6
Π)
ш
Z2
О
Как ни шовинистически это может прозвучать, успех,
которым сопровождается реализация влечения мужчины с
неврозом навязчивости с проституированным, «низким объектом»,
как это называет Фрейд, связана с тем, что взгляд проститут- I ф
ки, как ни старалась бы она это скрыть, никакого желания не | s
выражает. Знание ее, даже при всей ее искушенности
относительно мужских потребностей, не является знанием того, кто
способен своим знанием насладиться. j£
Поэтому дело не только в том, что у навязчивого невроти- *
ка есть свои резоны не давать удовлетворения — то есть,
выражаясь в терминах той же Армии спасения, «не жертвовать
органом ради удовольствия партнера». Срабатывающая в этот
момент функция удержания должна истолковываться так же,
как и в случае механизма накопления — субъект не желает
и не может расстаться с тем, что он готов, как было
показано в предыдущей главе, отдавать только за знание,
отмеченное тревогой другого, — за знание как потенциальный объект
признанности, то есть, знание, которым насладиться как раз
нельзя. Положение субъекта навязчивости в сексуальных
отношениях, таким образом, до известной степени эквивалентно
тому, что обнаруживается в его поиске признанности. Тем не
менее, знание здесь оказывается на ином месте.
Именно это ключевое различие между позициями знания
и управляет желанием субъекта в его сексуальной реализации.
В отношениях любовных, другими словами, субъекту остро не
хватает явленной ему тревоги другого, которую этот другой не
отбрасывал бы с самого начала — именно это выбивает у него
почву из под ног.
Формула импотенции обсессивного невротика, таким
образом, звучит так: импотент уверен, что у его партнера никакой
тревоги нет. При этом в отсутствие видимой им тревоги
другого он ни на что не способен, что подтверждается некоторыми
его сексуальными фантазмами, связанными с желанным для
него уязвимым положением его партнера, охваченного болью
или страхом — фантазмами, очень напоминающими
садистические, с которыми в ряде случаев их путают. На самом деле,
налет садизма появляется здесь лишь по той причине, что
невротику навязчивости необходимо удостовериться в наличии
тревоги, и только после того, как он ее не обнаруживает, он
пускается в фантазии об униженном, жалком объекте желания. I 155
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
156
Здесь нет нужды ограничиваться только мужской
перспективой, поскольку в случае женской навязчивости происходит
то же самое. Женщина, страдающая навязчивостью,
оказывается фригидной и не способной получить наслаждение ровно
по той же причине — ее смущает и отталкивает то, что она
прочитывает в своем партнере как отсутствие у него тревоги.
Именно это явным образом вызывает раздражение женщин,
чьи воззрения сформированы борьбой за половое равноправие:
негодный, неподходящий для них партнер всегда выступает
в облике субъекта, который уверен в своем знании. Факт этой
уверенности начисто лишает женского субъекта его влечения.
Этот момент мог бы заставить по-новому посмотреть на те
амбивалентные чувства, которые вызывает в обществе
существование так называемого феминистского движения. В
некоторых кругах принято считать, что феминистские порывы
являются плодом истерической позиции. Это мнение настолько
прочно укоренилось в культуре, что все замечания Лакана не
сдвинули его ни на дюйм и в некотором смысле даже лишь
укрепили. На самом деле позиция Лакана относительно феминизма
абсолютно недвусмысленна: структурной опорой феминизма,
как и любого программного политактивизма, является вовсе не
истерический, а университетский дискурс. Другими словами,
феминистсткое движение состоит в следовании определенной
дискурсивной позиции, где вопрос наслаждения отставлен на
задний план.
Тем не менее, подозрение, что феминистский персонаж
истерически отвергает предлагаемое ему наслаждение и при
этом тайно жаждет внимания отвергнутого партнера,
постоянно обнаруживается во всех насмешках над феминистским
движением. При этом феминизм в любом своем облике
никогда не скрывал, что им движет соперничество, корни которого
прочно уходят в механизмы борьбы, связанной с тем, что
фигура Другого оказывается от феминистского субъекта
закрыта. В центре этой борьбы находится не столько пресловутая
penisneid, зависть к органу,сколько фигура того, кто по общему
замыслу лишен тревоги — мужчины, который оскорбительно
глух к женской речи, поскольку она никак его не задевает.
Момент этого сопротивления преодолеть невозможно. Чем
более теоретически развитой и современной является версия
феминизма, тем прочнее в ней эта фигура примитивного на-
Глава б
сильника, укрепляется на своих позициях, что хорошо видно
по эволюции феминистских воззрений от интеллектуально- ^
литературного феминизма Вульф и Бовуар до современных |
прямолинейных радфем. В этом можно было бы увидеть пара- ω
доксальность, если бы подобный механизм упрочения фигуры | s
О
H
П>
I
si
s
2
насильника не соответствовал бы логике развития структур
навязчивости. В этой логике подобная конфигурация желания
оказывается для наслаждения полностью закрытой —
женский субъект может точно так же полностью лишиться
влечения, как и мужской. Для истерических колебаний, всегда
связанных с отвергаемой, но остающейся возможностью пойти на
уступки и свое наслаждение все же получить, ни в мужской,
ни в женской навязчивости просто не остается места.
Именно здесь также следует искать истоки того, перед
чем по общему мнению совершенно бессильна так
называемая «нормализация сексуальной жизни» — перед
влечением гомосексуальным. Дипломатически демонстрировать на
счет его структуры и происхождения то незнание, которым
сегодня пронизана вся постколониалистская культурная
среда, психоанализ, как известно, не склонен. Связано это не со
страстью психоаналитика к «репрессивной нормализации»,
в чем его часто обвиняют, а, скорее, с тем, что
аналитический дискурс никогда не находился в пресловутой оппозиции
«нормы/отклонения», вокруг которой колеблются все
общественные дискуссии на эту тему. Постановив, что
психическая жизнь определена так называемой «анатомией», Фрейд
не сузил возможности своего исследования, а, как ни
странно, их расширил: во всяком случае, от диспута по поводу
«врожденности» предпочтения пола любовного объекта — на
деле, поразительно бесперспективного — психоанализ
оказался счастливо избавлен. Точно так же избавлен он был от
необходимости возиться с маловразумительным термином
«сексуальная ориентация». Являясь гетеросексуальными или
же гомосексуальными, влечения остаются влечениями
одного и того же субъекта, и их название зачастую указывает на
их объект так же мало, как название модного блюда
ресторанной кухни — на маленькую провинцию, где по слухам это
блюдо изначально готовили. То, что в субъекте любой
ориентации является специфически гомосексуальным,
представляет собой ответ не на зов объекта, а на определенную трево- I 157
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
158
гу — что, впрочем, совершенно справедливо и для влечения
гетеросексуального, элементы которого также имеют место
во влечении любой ориентации.
Психоаналитические перспективы в анализе этой темы
появляются лишь тогда, когда высвечивается связь
навязчивости с тем, что во влечении субъекта принимает именно
гомосексуальную форму. Характерно это для обоих полов, что
не означает, будто между субъектами, страдающими
навязчивостью, и между теми, кто самодиагностирует собственную
ориентацию как гомосексуальную, есть какая-то корреляция.
Гомосексуальные влечения субъекта, который в целом насчет
своей гетеросексуальной ориентации не колеблется, как раз
и являются предметом, где аналитическое исследование
получает возможность в существовании пресловутой «сексуальной
ориентации» усомниться. Дело не только в том, что «люди
в целом бисексуальны» — умиротворяющая гипотеза,
служащая примирению спорящих на эту тему. Речь идет о том, что
гомосексуальные влечения вписаны в экономику навязчивости
и связаны с ее остальными элементами без посредства прямых
отсылок к полу объекта. Независимо от того, является ли
конечный выбор любовного объекта гетеро- или
гомосексуальным, конфигурация гомосексуальных элементов прежде
всего определяется теми неудачами, которые субъект терпит на
путях своего отношения со знанием другого. Именно по этой
причине субъект навязчивости в своем анализе эти элементы
так или иначе непременно обнаружит.
Так, хорошо известно, что созерцание того, кто на глазах
у субъекта добивается признания, способно пробудить в нем
гомосексуальный посыл. Чувствительный к вещам такого рода
Фрейд зафиксировал этот факт, — правда, скорее в социально-
антропологической форме — описывая пресловутое «мужское
братство». Братство это, как известно, выполняет не только
социальную, но и защитную функцию — оно призвано в том
числе помочь субъекту, склонному к навязчивости, как-то
справиться с тем щекотливым фактом, что знание о мужской
кастрации находится на женской стороне.
То, что навязчивый невротик мужского пола в оцепенении
и бессилии застывает перед явленным ему или даже просто
подозреваемым им присутствием женского наслаждения по
поводу этого знания, — является для психоаналитиков хорошо из-
Глава 6
вестным общим местом. Тем не менее, относительная редкость, Эе
с которой данный факт подвергается подробному рассмотрению ь
в психоаналитической теории, указывает, что здесь есть нечто, |
вызывающее сопротивление, — в том числе и у самих предста- п
вителей аналитической практики. Так, например, почти никогда s
не заходит речи о том, что в точно таком же оцепенении опять- |
таки находится и навязчивый субъект женского пола. Более н
того, это обстоятельство, однажды промелькнув на горизонте je
и получив косвенное признание в философской мысли (что само | |
по себе примечательно) именно средствами той же
философской мысли было немедленно погружено в еще большее
забвение. Мыслительница, работа которой стала неоспоримым
свидетельством того, что у женщин дело может обстоять точно так
же, как и мужчин, тем не менее собственноручно приняла
участие в масштабном социальном движении, которое отклонилось
от аналитической перспективы и поставило в свою программу
ангажированный пункт, утверждавший, что женская
гомосексуальность отделена от мужской непроходимой стеной уже на
уровне отношений Бытия и Сущего.
Речь идет о Юлии Кристевой, работа которой,
посвященная отвращению к материнскому телу, в итоге послужила
полному и безоговорочному отделению материнской фигуры от
субъектной позиции — жест, политическая подоплека
которого при несомненном тогдашнем прогрессизме автора
сегодня выглядит все более амбивалентной.6 Тем не менее, линия,
которой Кристева держится, является поначалу бесспорно
психоаналитической, за вычетом того, что наслаждение
родительницы, сбивающее согласно ее изложению детского
субъекта с толку, является наслаждением не матери, а женщины.
С пресловутой жаждой поглощения ребенка, представляющей
собой один из широко распространенных культурных мифов,
это наслаждение не имеет ничего общего — женщина
испытывает его вне всякой связи с ребенком. Тем не менее, до тех
пор, пока субъект сталкивается с этим женским
наслаждением исключительно в роли того, кто своим появлением на свет
сделал женщину матерью, мысль Кристевой сохраняет
необходимый ориентир.
6 Кристева Ю. Силы ужаса. Эссе об отвращении. Харьков-СПб,
2003. I 159
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
ι6ο
Ее собственная мифология начинается чуть позже — в
момент, когда побуждения феминистского характера заставляют
французских мыслительниц этого периода начать решительно
отделять мир мужского влечения, тесно связанного с
порядком символического, от влечения женского, всячески отрицая,
что задается оно посредством той же самой функции. Именно
здесь возникает новая мифологема, в которой женскому
отводится возвышенная роль, связанная с прерыванием этого
порядка и с созданием совершенно независимой от него зоны.
В этой зоне размещается все специфически женское, «не-эди-
пальное», ставящее женщину в роль носительницы особых
культурных смыслов, завязанных на отрицании роли всякой
«эдипальной» членораздельности и артикуляции.
Символ задается отрицанием потери, однако
отказ от символа производит психическое
вписывание, весьма близкое к ненависти и к
овладению потерянным объектом. Именно это можно
расшифровать в пробелах дискурса, вокализмах,
ритмах, слогах лишенных жизни слов...7
Лишенное мужской членораздельности, связанной для
мыслительниц этого периода, во многом опиравшихся на Фуко
и самого Лакана, с отправлениями иерархии и власти, желание
женщины в описании Кристевой становится для этой
женщины утешением и прибежищем — местом, где она может,
примирившись в итоге с материнским началом, реализовать себя
сексуально не в различии, а в тождестве. Интересно, что весь
этот специфически женский мир, феминный парадиз
находится очень далеко от тех клинических данных, опирающихся на
факты психической сексуальной жизни, которых по мере сил
старался держаться фрейдовский анализ. Держался же он, как
Лакан напоминает, следующего:
Точно таким же образом, представляет дело
Фрейд, заявляя, — будем держаться его собст-
7 Кристева Ю. «Психоанализ как контрдепрессант». Глава из
книги «Черное солнце: Депрессия и меланхолия». // Журнал
практической психологии и психоанализа. М. 2011, №4.
Глава б
венных выражений, — что поначалу девочка, как X
и мальчик, желает мать.8 ^>
Тем самым аналитику приходится констатировать парадок- I ф
сальный факт, что влечение девочки к матери поначалу гете- | s
О
H
Л)
росексуально — что, другими словами, до окончания Эдипа
ребенок любого пола обладает фаллическими притязаниями.
Факт этот реконструируется задним числом, но он, тем не Ι ΐ
менее, клинически неоспорим, поскольку именно он и делает ξ
возможным вхождение в область, из которой субъект любого,
а не только мужского пола, выходит отягощенный
предрасположенностью к навязчивости.
Это означает, что ребенок женского пола точно таким же
образом «гетеросексуально» сталкивается с наслаждением
женщины, на попечении которой он находится — факт, который та
же Кристева заметила чисто феноменологически, но которому
в ее проекте сексуального раскрепощения женщины в
дальнейшем не нашлось места — в том числе, несомненно, потому, что
данному проекту факт этот в существенной степени угрожал.
В то же время то, что столкновение ребенка женского пола
с наслаждением матери имеет не одинаковый по сравнению со
случаями мужской навязчивости исход, объясняет
сравнительно более легкую — как, по крайней мере, видится из мужской
перспективы — участь женщины в сексуальных отношениях.
Имея в дальнейшем партнера мужского пола женщина, как
кажется, способна избежать того, от чего не удается уклониться
мужчине, для которого воспоминание о материнском объекте
в дальнейшем не стирается, а частично подкрепляется его
сексуальными связями.
Тем не менее, даже со всеми этими оговорками, анализ, как
правило, выявляет, что во всем остальном у женского субъекта
навязчивости налицо все те же компоненты, что и у
субъекта мужского. Некоторая смягченность, замаскированность их
проявления, по всей видимости, вызвана не отсутствием
органа, как долгое время по умолчанию предполагалось
аналитиками, а тем, что помещение в область тревоги другого в
пресловутом поиске признания и возникающая здесь идентификация
с отбросом другого в случае женской позиции недостаточно
8 Лакан Ж. Образования бессознательного, с. 320 I 161
Желание одержимого
CL
О
CU
I-
о
CÛ
О
X
ω
m
u
о
ш
τ
ОС
ш
ω
X
m
О
CL
m
<υ
Χ
162
устойчива и то и дело разрешается в том, что Лакан называет
«поддержкой желания другого».
Именно это раз за разом вызывает на свет призрак
истерической структуры, которая женскому субъекту в анализе почти
повсеместно приписана априори. На самом деле,
распространена она, по всей видимости, гораздо меньше, чем это
предполагают. Даже в самых бесспорных случаях истерического
отказа от тела присутствует что-то такое, что напоминает о
навязчивом поиске признания — другое дело, что речь в данном
случае идет о его крахе, о заранее предписанном ему
неудачном исходе. Знаменитые случаи женской гомосексуальности,
оставленные в наследство Фрейдом, содержат в себе загадку,
ставящую аналитиков перед необходимостью снова давать им
истолкование, и загадка эта, по всей видимости, отчасти
состоит в том, что данные случаи также были отмечены немалой
толикой навязчивости.
Все это, не отбрасывая основные фрейдовские ориентиры,
заставляет до известной степени иначе смотреть на вещи, с
которыми аналитики опять-таки привыкли иметь дело как с
проявлениями женской психической травестии, случаями сомнения
в своем женском поле, являющимися с их точки зрения
несомненным признаком истерического расстройства. До некоторой
степени удивительно, что эта травестия до такой степени
оказалась отделена от прочих процедур поиска признания,
характерных именно для навязчивости, при том, что ее цель даже
далекими от анализа людьми всегда считывалась совершенно
недвусмысленно. По всей видимости, непроходимая стена,
которой аналитическая классификация отделяет истерический
женский комплекс от прочей общей и повсеместно разлитой не-
вротизации, имеющей навязчивые черты, является одним из
последних бастионов пресловутой «мужской позиции аналитика».
Напротив, вступать в соревнование с другим, — какого
угодно пола, — женщину очевидно побуждает то же самое,
что и любого навязчивого субъекта, и лишь особенность
промежуточных исходов этого соревнования возвращает ее туда,
где ее положение начинает прочитываться как сугубо женское,
воплощенное в безоговорочной поддержке желания другого
и уменьшении навязчивых притязаний на роль представителя
его тревоги. Тем не менее, это отступление никогда не бывает
полным: женский субъект продолжает предпринимать попыт-
Глава б
ки, успех которых в конечном счете зависит точно от того же X
П)
фактора, что и у мужского навязчивого субъекта, — для того, ^
чтобы преодолеть базовый навязчивый комплекс, женщине от
представления тревоги другого предстоит отказаться.
При этом женскому субъекту для достижения цели
приходится сделать еще один предварительный шаг, чтобы снова
nein
Π)
2
рейти к тревоге с тех позиций, на которые она была отброшена | н
лизациеи структуры психосексуального развития, где женско- ι ξ
му субъекту также требуется еще один дополнительный, по
сравнению с мужчиной, шаг, чтобы достичь того, что по мысли
Лакана у обоих полов так и не достигается полностью — своей
генитальной позиции.
Даже если эта позиция недостижима, все это вполне
согласуется с предположением Лакана о возможности, благодаря
которой субъект в определенный момент может войти в
анализ. Речь идет о возможности истеризации субъекта
посредством анализа независимо от пола и вида невротического
расстройства. Истеризация эта на практике вполне достижима,
хотя даже при ее успешном оформлении очевидно, что субъект
все равно выказывает в ходе анализа сугубо навязчивые
честолюбивые устремления, связанные прежде всего с желанием
завладеть ускользающим от него в ходе анализирования
элементом, который субъект со своей стороны приписывает знанию
аналитика. Это наиболее щекотливый момент, поскольку, как
известно, и сами аналитики также возникают из собственного
анализа, причем предполагается, что в его ходе они не только
расправляются с интимными невротическими конфликтами,
но и заимствуют что-то из аналитической техники.
Все это должно по всей видимости вызывать
профессиональное беспокойство, поскольку подобное заимствование
в ходе обычного анализа очевидно не предполагается. В
противном случае, речь шла бы не об анализировании навязчивого
компонента, а о его поощрении, поскольку желание субъекта
навязчивости как раз и состоит в намерении во что бы то ни
стало овладеть навыком, носитель которого видится ему в
свете обладания знанием как объектом признанности. Остается
вопросом, как анализ, становясь анализом дидактическим,
разрешает этот конфликт, и каким образом разрешение это
вплетается в конечную форму желания аналитика.
Глава 7 Тревога,
дереализация
и картезианство
Еще одним характерным состоянием, посредством которого
субъект навязчивости сигнализирует, что он находится в
необычном и даже катастрофическом положении, как известно,
являютсяфобические явления При этом исследование фобий
сегодня, как и ранее, проходит под знаком дискурса медикали-
зации Его господство обычно оправдывается тем, что фобия,
согласно общему представлению, должна разрешиться,
освободив в психике место для свободной и здоровой активности
В этом смысле, Фрейд опять-таки стоит особняком ввиду
посетившего его откровения, что фобия способна разрешиться
разве что в нечто такое, что поставит вызвавшую ее тревогу на
новую основу Именно здесь заканчивается история
сотрудничества с медицинским подходом, под знаком которого
поначалу находился фрейдовский анализ
Тем не менее, как известно, исторически это
сотрудничество продолжается и по сей день, поскольку фактически оно не
отменено. Даже самые откровенные лакановские заявления,
дающие понять, что анализ не является разновидностью
лечения, не положили конца той флуктуирующей «междисципли-
нарности», которая царит в отношениях между аналитическим
дискурсом и «врачебным делом». Именно вопрос фобии
прекрасно показывает, что у психоанализа здесь нет никакой
собственной вотчины и что сам язык, которым он пользуется,
всегда до известной степени взят у врачебной практики напрокат.
Ограничена психоаналитическая мысль и тем, что в
вопросе фобий она волей-неволей имеет дело с номенклатурой,
основанной на феноменологическом принципе. Это значит,
что классификация фобий и нозологическое приращение в ней
всегда происходит в опоре на фобическую ситуацию или пред-
о
-ι
ш
мет. Чрезвычайно популярны внушительные списки, авторы ^
которых коллекционируют греческие названия фобий всех | 8
возможных типов. Субъекту лишь остается свое место в этом
списке определить, совершив нужный выбор — процедура,
маркетинговая логика которой просто бросается в глаза. Точно
так же действует и психотерапия, в которую субъект обычно I 2
приходит с уже готовым фобическим диагнозом. s
При этом фрейдовский анализ изначально движется путя- j¥
ми, которые от подобного подхода максимально далеки. На 1
этих путях то, что порой считается ограниченностью анали- s
тической логики, вновь становится ее неоспоримым преиму- | £
ществом. Так, известно, что для психоаналитического под- ■ ^
хода к фобии совершенно неважен предмет — просто по той s
причине, что предмет этот всегда один и тот же. Некоторые *
о
ошибочно думают, что речь идет просто о фаллосе, хотя уже | 3
Фрейд ясно показывает, что это не так — речь идет о
фаллосе того, кто был замучен и предательски убит. Именно возле
этого деликатного и выброшенного из истории предмета
организуется фобия маленького Ганса, оказавшегося не в силах
перенести саму мысль о том, что орган этот, даже не получая
никакого реального повреждения, может быть до такой
степени унижен, нивелирован самой драмой убийства и
предшествующей смерти агонии. Именно так появляется на сцене
его страха упавшая вспененная лошадь, в которой ребенок
узнает отца.
Это унижение, присутствие которого в гансовской фобии
совершенно прозрачно, тем не менее, чрезвычайно трудно
поддается описанию — вплоть до Лакана оно практически не
подлежало теоретизации. Тем не менее, изучение фобии
впоследствии продолжало продвигаться, причем в ту сторону, где
предложенные Фрейдом принципы первичной классификации
неврозов демонстрировали все большую сложность для
последующих поколений аналитиков.
Проиллюстрировать эту сложность можно указанием на
синдром, который терапевтический взгляд, не колеблясь,
относит именно к «фобиям», хотя синдром интересен тем, что
большинство его компонентов частицы «-фоб» как раз не
содержат. Речь идет о состоянии столь же уникальном по
своему характеру, сколь и распространенном среди невротических
субъектов, многие из которых параллельно страдают также I 1б5
Желание одержимого
CL
О
CU
I-
о
CÛ
о
X
m
u
О
ш
τ
ΓΠ
OC
CÛ
ω
X
m
О
CL
CÛ
<U
X
166
навязчивостями — ощущении дискомфорта и искажения
восприятия, которое, случаясь в момент пребывания вдалеке от
дома, сопровождается сильнейшим желанием немедленно туда
вернуться.
С ощущением этим сталкивается не каждый субъект, хотя
распространенность его в последнее время, если верить,
например, американским клиницистам, приобрела характер
масштабной пандемии. При этом состояние так и не получило
устойчивого наименования: некоторые говорят о сочетании
панической атаки с так называемой дереализацией, что,
несомненно, не является определением, претендующим на точность,
поскольку другие клиницисты справедливо указывают, что
паника и дереализация могут иметь место и по отдельности.
Тем не менее, многие авторы ощущают, что подходить к
этому необычному синдрому как к обычной агорафобии
недостаточно для того, чтобы уловить его специфику. Прежде всего от
агорафобии его отличает сложность описания — многие
страдающие им уверяют, что страдают они им не везде и что есть
определенные места или удаленные от их жилища зоны,
которые сами по себе не располагают к агорафобии, но которые эти
субъекты не могут посещать, притом что ни перед толпой, ни
перед самими по себе открытыми пространствами страха они
до того не испытывали. При этом напуган субъект бывает не
столько самим местом, сколько развившимся у него в момент
пребывания в нем измененным состоянием сознания.
Широта распространения и типичность этого синдрома
сочетается порой с крайне причудливыми описаниями от первого
лица — причем чем меньше выражен в атаках такого типа
соматический, вегетативный компонент, тем с большим трудом
страдающие атаками подбирают точные слова для передачи
своих ощущений.
При этом косноязычие их теоретически оправдано и
гармонизирует с точно такой же косноязычностью, проявляемой на
этот счет медицинской и психиатрической литературой, где
именно психическая сторона переживаний такого типа
передается крайне формально и блекло. Как и всегда, медицинский
дискурс чувствует себя уверенно лишь в области
физиологической — впрочем, многие не замечают его однобокости на
этот счет, потому что у дереализационных атак действительно
немало соматических сопроводителей.
Глава 7
Разворачивающаяся вокруг данного синдрома медицинская I ■£
и психологическая литература уделяет огромное внимание его S
последствиям — все возможные сценарии реакций на эксцесс g
панической атаки, все варианты наступившей после нее психо- | ^
логической дезадаптации получают самое подробное и
детализированное описание. В то же время поразительно мало вни- 2
мания уделяется самому приступу — практически никогда его s
психическая структура не подвергается разбору, имеют место JÏ
лишь феноменальные характеристики, большая часть которых | 1
сводится к перечислению отдельных проявлений синдрома,
в основном относящихся к физиологическим сопроводителям I ^
тревоги. В их многообразии не удается вычленить то, что мож- ^
но было бы назвать «стержневым» моментом. Большинство из s
признаков, которые с таким тщанием перечисляет
литература — переживание страха, сердцебиение, дрожание, холодный I ш
пот, плохое владение конечностями — носят типичный веге- ' °
тативный характер и ничего нового к пониманию феномена не
добавляют.
Все это резко контрастирует с тем фактом, что состояние
уличной панической атаки выступает для самого субъекта как
уникальное, почти непостижимое. Ее драматичность, на
которой обычно настаивают, сама по себе указывает, что в ней
с необходимостью должна быть какая-то уникальная
особенность — в противном случае, то огромное значение, которое
придает ей субъект, часто считающий ее переломным моментом
своей биографии, просто необъяснимо. При этом стоит только
заступить за территорию медицинского языка, как начинается
простор для самых вольных толкований. О панике и тревоге,
связанной с необходимостью покинуть жилище, рассуждают
способом, опирающимся на смесь психологических допущений
и житейского здравого смысла. В ходу здесь остаются чисто
антропологические представления о «стремлении к
безопасности», «поиске укрытия» и тому подобные вещи, которые далеко
не всегда стоит принимать на веру. На самом деле, сам субъект
хорошо понимает, что ни о какой объективной опасности речи
не идет.
Тем не менее, из-за отсутствия понимания общей
структуры дереализационного панического синдрома то и дело
приходится следовать двойному стандарту, допускающему те же
самые объяснительные схемы, которые уже были отвергнуты на I 1б7
Желание одержимого
CL
О
CU
I-
о
CÛ
о
X
m
u
О
ш
τ
ΓΠ
OC
CÛ
ω
X
m
О
CL
CÛ
<U
X
168
этапе предварительного объяснения. Так, например, психиатр
или терапевт, часто беря на себя роль психоаналитика,
предполагает, что страх у субъекта вызывает нечто постороннее,
непосредственно с необходимостью выхода из дома не
связанное и лежащее в сфере иного рода — например, в семейных
трудностях или в конфликтах на профессиональной почве.
Непонимание и разлад, царящие в клинической
корпоративной культуре возле выделенной Фрейдом инстанции
«тревоги», сказываются здесь с удвоенной силой. После всех благих
усилий психологов понять тревогу, ее становится невозможно
объяснить: распространяясь во всех направлениях, усматри-
ваясь в любом типе психического дискомфорта, она буквально
повисает в воздухе. Базовая психоаналитическая мысль о том,
что тревога не вытесняется и, стало быть, не подлежит
смещению в другие психические области, оказывается здесь забыта
ради удобства мимикрии под «психоаналитический взгляд на
вещи». Специалисты полагают, что допустив подобное
смещение тревоги они выказали лояльность фрейдовскому знанию
и продемонстрировали способность встать на
психоаналитическую точку зрения. При этом сказать что-то оригинальное
таким образом невозможно, поскольку все таким образом
сводится к пресловутому «внутриличностному конфликту» —
теме, в высшей степени бесперспективной.
С тем, что дереализационный панический синдром
описывается в подобных категориях чрезвычайно плохо и
искусственно, большая часть исследователей сталкивается при самом
первом к нему подступе. На самом деле, целью исследования
этого состояния должна быть концепция, которая позволила
бы обращаться с ним на теоретическом уровне, заданном
психоаналитической дисциплиной в ее приложении к неврозу.
Разница уровней в этом случае действительно поражает — те
же психотерапевтические инициативы, которые в прочих
случаях худо-бедно удерживают заданную психоанализом
теоретическую планку, в случае панического синдрома порой
совершенно теряются именно в момент необходимости объяснения.
Создается впечатление, что они как бы перенимают
убежденность невротика в том, что его состояние уникально и не может
получить полноразмерного аналитического толкования. В
результате большинство из исследователей паннического
синдрома или натыкается на Сциллу бессистемного перечисления
Глава 7
вегетативных симптомов панического расстройства, или же -5
терпит крушение возле Харибды его вульгарного объяснения | 8
посредством «скрытых внутренних конфликтов», смысл
которых по большей части оказывается не раскрыт и ссылка на ко- I ^
торые со временем превратилась в простую отговорку, фигуру -§
умолчания для непосвященных. Именно из-за этого в общест- 2
ве складывается мнение о том, что психоанализ предельно не- | s
внятен и неконкретен в своих выводах.
ш
Стоит ли по этой причине отказываться от возможности | i
извлечь из психоаналитического дискурса средства для более
глубокого объяснения панического комплекса? На самом деле, I Щ
если отбросить некоторые аналитические клише, то более при- ^
стальное расследование обстоятельств развития панического s
синдрома обнаруживает детали, намекающие на то, что здесь ^
надлежит взять слово именно психоаналитику. Й
Так, в паническом синдроме внимание может привлечь ' °
то, что психологами зачастую принимается за сужение круга
возможностей — особенность развития панического невроза,
заключающаяся в том, что после манифестной атаки субъект
не рискует не только удаляться от дома на значительное
расстояние, но испытывает затруднения даже при посещении
ближайших окрестностей. Зачастую эту особенность принимают
за превентивную защиту против панического приступа.
Объяснение это в ряде случаев соответствует действительности, но
чаще всего, особенно у субъектов, получающих ту или иную
терапию и обучающихся в ней «самоанализу», развивается
наблюдаемая ими зависимость не только от дальности
путешествия или поездки, но и от характера окрестностей, через
которые они прокладывают путь. Если в самом начале
развития паническая реакция напрямую зависела от тяжести
агорафобии, то впоследствии возникновение дереализации и ужаса
становится неподвластнымлогике: субъект обнаруживает, что
дойти до ближайшего магазина для него зачастую так же
сложно, как и посетить отдаленную местность.
Более того, в ходе той или иной терапии субъект, начиная
понемногу подмечать то, что было от него скрыто на первых
порах, часто с удивлением обнаруживает, что глубокая
неприязнь и подавленность с его стороны адресованы именно
ближайшим окрестностям, где прошло его детство или большая
часть жизни. Превалирование самой первой атаки, как будто I 1б9
Желание одержимого
CL
О
CU
I-
о
CÛ
О
X
ω
m
u
о
ш
τ
ОС
ш
ω
X
m
О
CL
m
<υ
Χ
170
замешанной на страхе перед незнакомой местностью, со
временем оборачивается своего рода припоминанием —
логическое первенство получают события иного рода. Так, в ходе
анализа, если он уделяет внимание биографии,
обнаруживается, что у анализанта на самом деле накопилось немало
двусмысленных и неприятных эпизодов, связанных с ближайшими
окрестностями, которые с доаналитической точки зрения
поначалу казались поводом исключительно для ностальгических
и светлых воспоминаний детства и юности. Обычно даже
самый недолгий анализ вскорости обнаруживает и какого-либо
фигуранта панической тревоги — персону, обычно выполняв-
шуюродительские или воспитательные функции и нередко
отмеченную специфическими свойствами — ее собственная
тревога и сопровождавшие эту тревогу эпизоды садистского
или психотического характера, как правило, постепенно
начинают связываться у субъекта с отвращением, которое
вызывает у него необходимость находиться на местности, отмеченной
памятью о нахождении в обществе этой фигуры,
сопровождавшей его, например, в посещении школы.
Тем не менее, все это еще не объясняет, почему синдром
приобретает именно такой облик, и потому недостаточно для
теоретического подхода к организации панической структуры.
С одной стороны, психоанализ способен сказать кое-что
ценное об этой структуре: сама повторяемость эпизодов тревоги,
характерное чередование напряжения и разрядки в ходе
панических приступов указывает на несомненную роль в них либи-
динального компонента и, более того, на наличие компонента
навязчивости с его характерной замешанностью на вопросе
преодоления препятствия. Обсессивный поиск
вознаграждения за труды в облике панического синдрома преображен до
неузнаваемости и, тем не менее, он там обнаруживается — это
становится особенно заметно в ходе его компенсации, когда
субъект зачастую приступает к более-менее успешным
тренировкам по преодолению своего паническогои агорафобиче-
ского дефекта. В этом случае все попытки с ним справиться
очень быстро приобретают типичную навязчивую динамику
с подсчетом достигнутых успехов, попытками спонтанной
самопроверки и т.п.
Тем не менее, нить эта не может быть ни единственной,
ни основной в формировании аналитического представления
о
Глава 7
о паническом синдроме. Для того, чтобы синдром мог распоз- ι -q
наваться как явление именно аналитического порядка, необхо- 8
димо описать его в терминах, сохраняющих его самостоятель- Я
ность и фиксирующих его особенный характер. Особенность ^
эта, очевидно, должна лежать именно в области того самого -§
измененного состояния сознания, которое отличает паниче- 2
ский невроз от фобий типичного предметного ряда. Состояние g
это слагается из дереализации и сопровождающего ее в сво- JÏ
ем роде «финального» ощущения, подсказывающего субъекту, | i
уже не станет прежней. Именно в этом состоит основной «пун- I _g
ктум» панического расстройства. ^
Термин «дереализация» следует употреблять с осторожно- | s
стью, как и все психиатрические термины, область
применения которых со временем была расширена под нужды клини- | 5
ки неврозов. Тем не менее, роль дереализации в паническом
синдроме настолько велика, что невозможно понять причину,
по которой многие справочники до сих пор упоминают ее
через запятую, в качестве рядового симптома тревожной атаки.
На деле, во многих случаях дереализация занимает особое
положение, выступая по отношению к панической атаке в роли
ее пускового механизма — уже знакомому с этим состоянием
субъекту достаточно только «философски задуматься» о том,
как необычны в целом обстоятельства его существования
в данном теле или в данном историческом времени, как почти
немедленно развивается деперсонализационно-дереализаци-
онный компонент с дальнейшей панической атакой.
Данное обстоятельство попадает в поле зрения сравнительно
редко — в целом, литература, посвященная паническому
неврозу, носит преувеличенно натуралистский характер и
практически полностью лишает описываемое состояние психической и,
главное, интеллектуальной нагрузки, хотя именно эта
нагрузка является в своем роде «патогномоничным», отличительным
симптомом именно данного синдрома и для других тревожных
и фобических состояний как раз не характерна. Специальная
медицинская литература по понятным причинам обычно до нее
не доходит, но вслед за ней этой особенностью пренебрегают
другие источники, претендующие уже на «психологический
анализ», хотя именно этот момент наилучшим образом указывает
на связь панического расстройства с навязчивостью. I 171
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
172
Точно такого же небрежения в ней удостаивается и
ощущение необратимости, в своем роде психической летальности атаки,
которое для панического расстройства чрезвычайно характерна.
Для большинства невротиков такого типа первая атака
представляет собой событие, в описании которого они склонны настаивать
на его сугубой важности, воспринимая его как необратимое
изменение характера их прежнего существования. Метафора «жизни,
разделившейся на период до и после панического приступа»
является в подобных изложениях самой частотной. В специальной
литературе это ощущение подается как следствие сугубо
вегетативного расстройства — закрепившегося в психике
воспоминания о неприятных минутах чисто физиологического ужаса. Тем
не менее, нетрудно заметить, что прочим фобиям такая роковая
финальность несвойственна — боязнь насекомых, высоты или
одичавших животных по большей части начинается и
заканчивается вместе с теми обстоятельствами, в которых субъекту
приходится с предметами страха сталкиваться. Даже сохраняясь всю
жизнь, фобия такого типа практически никогда не переживается
как жизненный крах.
Напротив, в случае панической атаки, если судить по ее
последствиям, речь для субъекта идет о вещах принципиальных
и, по всей видимости, относящихся к структурно значимым
устоям его психики. Именно здесь возникает искушение
попытаться объяснить панический невроз со стороны, которую
параллельно с медицинским подходом начинают разрабатывать
психологи, увидевшие возможность подверстать под свою
науку философскую мысль. Речь идет об онтологической
психологии, называющей себя также «экзистенциальной».
Психология эта склонна оперировать понятием «жизни», которую она
рассматривает как трагический вызов, бросаемый субъектом
в лицо смерти.
Существование панических атак оказывается для этой
психологии настоящим подарком, поскольку удачно ложится в ее
базовую гипотезу о той «предельности», трансгрессивности,
в положение которой с ее точки зрения субъект поставлен
перед «ужасом Бытия» и которая иногда может принимать
открытую форму. С точки зрения онтопсихологии паническая атака
представляет в своем роде демонстрацию истины субъекта,
«заброшенного», по заимствованному у Хайдеггера
выражению, «в мир» и сталкивающегося с ужасом самого Бытия.
Глава 7
■о
Тем не менее, объяснение это является не совсем
удовлетворительным. Так, следует поставить под сомнение уверенность 8
экзистенциально-онтологического анализа, будто бы в рассма- Я
триваемых состояниях следует видеть ужас субъекта, постав- ^
ленного на границу своего существования. Гипотеза эта, как
и большинство применений философского языка в прикладных I 2
целях, отмечена легковесностью и тривиальностью. С точки s
зрения сугубо соматической онтопсихологическое объяснение JÏ
является не более чем набором броских метафор, но при этом | i
ным этапам развития панического процесса. С одной стороны, I _g
процесс этот включает в себя переживаемый субъектом ужас, ^
выходящий далеко за пределы той боязни, которой отмечена s
обычная фобия. Это факт, и здесь онтопсихология до извест- ^
ной степени верно смотрит на вещи, не позволяя обсуждению Й
панической атаки свести ее к тривиальному проявлению «об- ' °
щей тревожности». Но ужас этот не является страхом небытия
или смерти — речь в панической дереализации идет именно
о сильнейшем замешательстве, связанном с неожиданным
обнаружением самоотчужденности. Паника разворачивается
именно на этой основе. Субъект в панической атаке
переживает вовсе не свою конечность — напротив, в его состоянии
ведущим является несколько иной компонент, аналоги
которого нужно искать в другой сфере.
Сфера эта, как ни странно, очень близка теме, любовно
обсуждаемой, например, в академической философии — теме так
называемого «удивления перед обыденным», которому часто
приписывают творческий и продуктивный характер, превращая
его переживание в учебный навык и требуя его применения от
тех, кто проходит курс обучения гуманитарным дисциплинам.
Ирония заключается в том, что именно на полных парах
удивления такого типа субъект и въезжает в паническую атаку. В то
же время преувеличивать трансгрессивный, предельный
характер такого опыта не стоит — никакого «переосмысления
оснований» он субъекту обычно не несет, о чем страдающие
паническим неврозом говорят совершенно открыто и цинично. Речь,
вопреки возвышенной онтопсихологической гипотезе, идет не
об экзистенциальном переживании, приводящем к «духовной
конверсии» или «перерождению», а к неразрешимому вопросу,
который субъект адресует общей неловкости своего положения I 173
Желание одержимого
CL
О
<V
I-
о
u
CÛ
о
X
m
u
о
m
τ
OC
m
ω
χ
m
О
CL
m
<u
X
174
и который, имея соматические последствия, на деле носит
теоретический характер. Именно здесь в состоянии субъекта
обнаруживается та философская брешь, которую экзистенциальная
психология тщетно возводит к Хайдеггеру и Ясперсу.
При этом дереализация, равно как и ее близнец,
деперсонализация, явно восходят к другой философской фигуре — к Декарту
и к формулировкам, положенным им в основу положения
субъекта в области знания. Возведение это может быть обманчивым,
если пользоваться имбуквально.Часто полагают, что сводя все
к тому, что испытываемое субъектом отчуждение от самого себя
происходит из-за растождествления, которое внес Декарт,
пытаясь поместитьв Я субъектаодновременно и наблюдателя и
наблюдаемого. Цель анализа, напротив, состоит в том, чтобы показать,
каким образом основания современного субъекта с присущей
ему обсессивностью восходят к вещам, которые появились в тот
момент, когда Декарт берет слово. При том вещи эти не
являются непосредственным продуктом философии Декарта и тех
кульбитов, которые ему пришлось для обоснования своей мысли
предпринять. Они появляются по причине его доктрины, но
непосредственно из нее не вытекают. Речь скорее идет об утечке
знания, о последствии, носящем побочный характер.
Механизм такой утечки ярко описан у Лакана в пассаже,
известном под заглавием «мозги плагиатора» и повествующем
об аналитике, который в ответ на свое аналитическое
вмешательство получает от пациента неожиданный отклик. Пациент
этот, ощущая себя жалким плагиатором и жалуясь на
творческую импотентность, на невозможность создать нечто такое,
что не было бы списано с уже имеющихся текстов,
выслушивает от аналитика, что его жалобы неоправданны и, по всей
видимости, сулят ему какую-то вторичную выгоду — то есть,
являются дымовой завесой истинной причины его тревоги.
После этого пациент отправляется в ресторан и заказывает там
телячьи мозги, как бы намекая тем самым, что аналитик
крупно ошибается на его счет. Происходит таким образом то, что
Лакан называет acting out. Acting out — это не ответ на
высказывание Другого, как можно подумать, а скорее, побочное
следствие данной в анализе интерпретации, ее side effect.
Acting out это то, что имеет место в силу
чего-то внешнего, не имеющего отношения к причи-
Глава 7
outue то, что наша интерпретация оказалась лож-
■о
не, которую только что привели в действие. Наш
опыт это ясно показывает. Провоцирует acting I 8
о
-ι
Ш
нои, а то, что интерпретация эта оставляет место | ^
чему-то такому, что приходит извне.1 -о
ш
Эффект этого «прихода извне» требует иначе подходить I s
к той несомненной связи, обнаруживающейся между некото- JÏ
рыми специфическими состояниями и расстройствами, кото- 1
рым современный субъект подвержен, и появлением в опреде- s
ленный исторический момент картезианских формулировок. _g
При этом по вопросу сыгранной ими роли сохраняются неясно- ^
сти: вклад Декарта при всей его несомненности остается для | s
о
существующих характеристик неуловим. Так, с исторической
точки зрения принято считать, что Декарт описал субъекта, | Й
зарождающегося в ту эпоху, представителем которой был он
сам — эпоху, в которой на первый план выходят качества
человека нового типа, соответствующего определенным
историческим задачам Нового времени. Этому мнению противостоит
позиция философская, которая в своем современном,
пронизанном структурализмом обличье привыкла, напротив,
говорить о том, что Декарт этого нового субъекта «создает»
практически с чистого листа и что последний выходит на сцену
благодаря самой картезианской программе.
На самом деле происходит нечто совсем иное: Декарт не
описывает и не порождает. Вместо этого он дает
интерпретацию — разумеется, в том ограниченном виде, в котором акт
интерпретации был ему доступен, учитывая, что говорил он
из позиции не аналитика, а философа. Интерпретация эта не
является ни причиной ни следствием описательного
характера — напротив, ее следует рассматривать именно как
действие Декарта.
В результате этого действия — пусть непреднамеренного,
хотя значения это не имеет — происходит нечто такое, что
выходит за его пределы. Интерпретация эта меняет субъекта
не сама по себе. Отпечаток, который на судьбу
современности накладывают картезианские размышления об инстанции
«рефлексирующего Я», якобы помещенного в субъекта, обо-
Лакан Ж. Семинары. Тревога. М, 2010, с. 399-400. I 175
Желание одержимого
CL
О
CU
I-
о
CÛ
О
X
ω
m
u
о
ш
τ
ОС
ш
ω
X
m
О
CL
m
<υ
Χ
«76
рачивается целым рядом непредсказуемых явлении, одним
из которых является тот самый вопрос о «месте» и даже об
«уместности» пребывания, потенциально способный вызвать
у субъекта замешательство и дереализацию.
В этом смысле, картезианская диагностика
предприимчивого и одновременно рефлексивного, самокритичного субъекта
Нового времени могла быть сколь угодно верна, и проблема
далеко не в том, что она оказалась ограниченной или даже
ошибочной — например, «не давала места» всему тому, что
выходило бы за пределы мышления как рациональной метапозиции
субъекта по отношению к себе самому. Критика подобного рода
сегодня адресуется картезианству постоянно, но она упускает
из виду то, что подобное ограничение не имеет никакой силы
и что подобным образом повлиять на судьбу субъекта нельзя.
Подобным внушениям со стороны философии — или, например,
со стороны мистики, поскольку по своей организации мистика
к философскому дискурсу очень близка — субъект
подвергается постоянно и никаких изменений в его самочувствии они
никогда не вызывают. Воздействие, которое оказали
картезианские высказывания, можно объяснить только тем фактом,
что они открыли ворота чему-то еще, вместе с ними вошедшему
в мир, который картезианская философия горделиво учреждала.
В этом смысле, воспринимать такие состояния как
деперсонализация или разнообразные, к месту и не к месту
настигающие субъекта «измененные состояния сознания» следует не
как отклонение от картезианской программы или же
компенсаторное ее следствие — тенденция, которая все еще в
гуманитарной психологии очень сильна. Параллельно ей движется не
высказываемое, но всегда подозреваемое предположение,
будто бы эти состояния — по крайней мере, в их невротической
части — являются в своем роде расплатой за те возможности
разума, которые Декарт перед субъектом открыл. Вместо этого
рассматривать их следует как проявление того, что к
декартовской философии прямого отношения не имеет и в то же время
восходит к тому, что субъект демонстрирует по той причине,
что картезианское толкование стало ведущим.
Избежать рессентиментного восприятия здесь довольно
трудно, и тем не менее непохоже, будто бы деперсонализация
или паническое состояние являются всего-навсего
мстительным ответом на предположительное всесилие декартовской
Глава 7
н
■о
структуры восприятия. Субъект не просто вступает в эти со
стояния совершенно непреднамеренно — более того, сами | 8
они картезианского измерения вовсе не исключают. Так,
известно, что любимым «развлечением» страдающего дереали- I ^
зациями является «проверка реальности на прочность» — ме- -§
роприятие, в ходе которого субъект прибегает к совершенно 2
картезианским если не по букве, то по духу процедурам, на g
высоте наиболее отчужденных ощущений многократно запра- JÏ
шивая себя о своем состоянии и самочувствии. То мрачное | 1
его, выражаясь фигурально, скомкан и выброшен на свалку, I _£j
может говорить о чем угодно, но только не об отвержении де- ^
картовской оптики. Напротив, панический субъект постоянно s
демонстрирует, что он намерен последовать желанию Декарта ^
и удостовериться в происходящем, и не вина Декарта в том, Й
что удовлетвориться этим удостоверением нельзя и что стоит °
только к нему прибегнуть, как демон неуверенности вырвется
наружу из сосуда «чувственной достоверности».
Как известно, точно такой же механизм лежит и в
отправлениях навязчивости вне измененных состояний сознания —
например, невротик долго смотрит на газовый кран и
запрашивает себя, точно ли он видит, что тот выключен. Вопрос в этих
тягостных состояниях по существу адресован не к фактам, а к
качеству регистрации данных системы восприятия. То же по
существу касается и других проявлений тревоги. Например,
в состоянии сильной тревожной атаки с проявлениями
дереализации вопрос о регистрации данных систем восприятия
ставится до такой степени принципиально, что субъект,
охваченный усиливающимися колебаниями на этот счет, пасует
и обращается паническое в бегство.
Психоаналитически рассматривать эти явления можно
по-разному. Так, существует классический, восходящий еще
к Фрейду угол зрения, заставляющий видеть в них
проявления изначальной агрессии — агрессии, направленной не на
некое лицо, как иногда решают, а той самой агрессии, с
которой субъект навязчивости встречает все явления мира по
той самой причине, что они являются предметом восприятия.
Большим достижением мысли Фрейда является то, что уже на
этом уровне, который все современные философские
системы считали отправным и совершенно нейтральным, он сумел I 177
Желание одержимого
CL
О
CU
I-
о
CÛ
О
X
ω
m
u
о
ш
τ
ОС
ш
ω
X
m
О
CL
m
<υ
Χ
178
разглядеть вполне развитые проявления инстанции желания,
которое всегда уже зашло так далеко, что его проявления то
и дело сбивают субъекта с толку.
Так, в распространенных компульсивных явлениях
классический анализ справедливо усматривает черты притязания
субъекта на всемогущество, которое в ряде случаев
обращается против него же самого. Ведь если реальность в конечном
итоге субъект назначает сам, то ему, как ему самому мнится,
вполне под силу усилием восприятия поместить тот же
газовый кран в открытое положение. Именно этого на самом деле
боится охваченный фобией или навязчивыми мыслями.
Проверяет он таким образом не дверь или газовый кран, а факт
того, что его собственное присутствие не нанесло этим вещам
того ущерба, которого он опасается. В этом смысле мнение,
которого иногда придерживаются даже классические
психоаналитики, согласно которому субъект навязчивости страдает
от того, что якобы не может все подчинить своему контролю,
по всей видимости, не совпадает с точкой зрения, выводимой
из фрейдовского анализа.
Одновременно, наследуя именно Фрейду, аналитик, не
останавливаясь на довольно тривиальной идее «жажды контроля»,
всегда должен восходить к причине, по которой субъект уже
уверен, что он контролирует все до такой степени, что одного
движения его зрачка достаточно, чтобы спустить курок. Это-то
и вызывает в нем тревогу, и продвигаться в подобном анализе
классический психоаналитик должен в направлении вопроса,
во имя какого чаемого им события навязчивый тип убежден,
что все вокруг него должно быть разрушено до основания.
Тем не менее, для понимания процесса образования навязчи-
востей одной лишь интерпретации недостаточно. Необходимо,
чтобы аналитик, даже если он считает себя в философии
профаном, тем не менее всякий раз восходил здесь к другой
интерпретации, пикантность которой, как было сказано выше, заключена
в том, что она была дана философом — то есть тем, кто сам себя
считал мыслителем, причем мыслителем этическим.
Ошибочность подобного самовосприятия должна являться
поводом не для переоценки роли Декарта — проблемы
философской историографии аналитика не интересуют — а для
более ясного понимания того, какое именно событие стоит
у истоков появления субъекта современности, структура ко-
Глава 7
торого вызвала к жизни необходимость психоаналитического ι -q
подхода, покончившего с философским пониманием разума 8
и блага. Нет никаких сомнений, что субъект, ставший объек- Я
том психоаналитического знания, восходит именно к Декарту, ^
но опираться на мнение философии о том, как именно он воз- -§
ник — значит не видеть механизма, посредством которого этот 2
субъект выходит из кузницы трансцендентальной философии s
всегда уже поврежденным по сравнению со своей философ- JÏ
ской моделью. 1
Тот факт, что картезианский субъект почти с
неизбежностью становится субъектом обсессивного типа, — то есть, I _g
в потенциале, невротиком навязчивости, — не может ни на- ^
прямую выводиться из декартовской пропедевтики, ни в то | s
существуют следствия, которые эта пропедевтика сама по ι Й
себе не вызывала, но которые она не может при всем своем ' °
желании исключить. Чем больше аналитик во вполне
картезианском трезвом духе уверяет пациента, что тот не
прибегает к плагиату и мыслит вполне самостоятельно и свежо, тем
чаще тот посещает ресторан, в меню которого входят
мозги — впрочем, тоже свежие. Чем сильнее философы
убеждают, что субъекту доступна система удостоверения из места
«собственного Я» и именно по этой причине он, якобы,
располагает способностью к свободному поступку и суждению, тем
ярче и неотступнее в симптоме проявляется нечто, то и дело
превращающее бытие субъекта в демонстрацию, в acting out
того, что приходит вместе с субъектностью, и паническая
атака является одним из наиболее концентрированных
проявлений этого acting out'a.
Тем не менее, это не все, что анализ может сказать о
паническом синдроме. Помимо своеобразной обреченности субъекта
на дереализационный acting out, у тревоги, вызывающей
панический синдром, есть и другие причины, укорененные в самих
структурах навязчивости. Другими словами, эта тревога, как
и любое симптоматическое проявление, сверхдетерминиро-
вана. Если происхождение из картезианского высказывания
лежит в устройстве современного субъекта и в этом смысле
неизгладимо, то другая совокупность причин фобических
реакций невротика навязчивости поддается анализу, поскольку
лежит в области формирования его желания.
Глава 8 Панический
субъект и его
компрометирующее
знание
Чтобы подойти к бессознательным механизмам панической
агорафобии, необходимо отбросить ее типичные описания,
сводящиеся к хаотическому перечислению субъективных
ощущений в момент атаки, и выделить в ней тот уникальный момент,
который, собственно, и делает ее тем, чем она для субъекта
является Другими словами, следует определить основной пункт,
вокруг которого разворачивается паническая сцена Чтобы
сделать это, необходимо вернуться к ее стартовой точке
Как, собственно, разворачивается приступ? Как правило,
хотя возможны разнообразные варианты, субъект, находясь
в каком-либо новом для него месте — если речь идет о
первичном случае — или же предприняв выход на улицу тогда, когда
паническое расстройство уже манифестировало, неожиданно
испытывает приступ «немотивированной» тревоги, которая
молниеносно поражает его, неуклонно нарастая и
требовательно понуждая его вернуться в исходную позицию — чаще
всего, в свое собственное жилище.
На необходимости этого возвращения следует заострить
внимание, поскольку многие авторы невольно подают его как
побочную, не главную частью происходящего. Мнение, что
необходимость возвращения вызвана самими вегетативными
и психическими симптомами атаки, является наиболее
распространенным и, по всей видимости, восходит к общекультурным
представлениям о недомоганиях и болезнях, которые субъекту
традиционно предписано переносить, оставаясь в своем
жилище. В то же время мнение это активно опровергается самими
страдающими панической агорафобией, которые неизменно
ставят акцент на том, что вернуться их побуждает
исключительно настигающая их после выхода из дома тревога. В ряде φ
случаев, субъект кроме нее ничего больше не испытывает и пе- *
реживает ее совершенно изолированно. s<
Уже по одной этой причине составить представление о ме- *<
ханизмах панической атаки можно только заострив внимание £
на ее кульминационном пункте. Пунктом этим является сам 5
момент принятия решения отступиться и вернуться домой. s
Отбросив чисто бытовые доводы, следует признать, что при- g
чина именно такого поведения неочевидна настолько же, на- *
сколько неочевидны сами глубинные механизмы панического
синдрома. -о
о
H
Π)
Если перевести это состояние на психоаналитический язык,
то становится ясно, что речь идет об обращенном в сторону
субъекта требовании. Субъект в ходе атаки ведет себя так, I -о
как будто к возвращению его что-то настоятельно понуждает. δ
Налицо принуждение, которое превалирует над прочей пани- -^
ческой симптоматикой. £
Именно этот механизм получает описание у Лакана в том | 5
месте, где он описывает навязчивость как механизм
одержимости, которая выражается в столкновении с невесть откуда
появляющейся помехой его действиям.
На месте помехи стоит у меня не мочь... О чем
идет речь? О том, что держаться за желание
субъекту не позволяют, мешают, что и проявляется
у одержимого как принуждение. Он не может
сдерживаться.1
Именно это в панической агорафобии и происходит —
субъект ведет себя так, как будто он столкнулся с многократно
превышающей его психические возможности силой, требующей
от него отказаться от дальнейших попыток продвижения в
избранном направлении. В то же время наличие в паническом
симптоме инстанции требования вуалируется тем фактом,
что сами страдающие агорафобическим синдромом
практически никогда в своих описаниях не представляют дело таким
Лакан Ж. Семинары. Тревога, с. 396 I 1о1
Желание одержимого
CL
О
CU
I-
о
CÛ
О
X
ω
m
u
О
ш
τ
ОС
ш
ω
X
m
О
CL
ffl
eu
χ
182
образом. С их точки зрения, они внезапно становятся жертвой
неизвестно откуда взявшегося сильного страха,
доставляющего мучительное неудобство и делающего их дальнейший путь
затруднительным вплоть до невозможности.
Проинтерпретировать этот момент именно с точки зрения
обращенного к субъекту требования остановиться психологам
общей практики мешает то, что страдающие паническим
неврозом в расхожей нозологии никогда не ассоциируются с
субъектами психотических расстройств, в отношении которых
допускается, что их поведение может быть определено приказами,
исходящими от «голосов свыше». Очевидно, что невротический
субъект не слышит «голосов» и что его восприятие, даже в
состоянии сильно измененного переживанием паники сознания,
не затронуто галлюцинацией. Решение вернуться принимается
им спонтанно. По этой причине наличие инстанции требовани-
яв панической атаке оказывается неочевидно для обеих сторон
терапевтического взаимодействия — ни субъект, ни терапевт не
имеют к этой инстанции никакого доступа.
В то же время только установив наличие этой инстанции,
действующей в ходе панической атаки, можно добиться выхода
за пределы беспорядочного описания, которого удостаивается
панический синдром в клинической литературе. Без этого
любой подход к панической симптоматике сталкивается с
непреодолимым препятствием — невозможность дать ему какое-либо
другое определение помимо того, которое способен дать сам
невротик, приводит к знакомой ситуации, в которой авторы по
сути занимаются несистематизированным перечислением
ощущений и сенсаций. Допущение действующей инстанции
требования позволяет систематизировать большинство описаний
панического синдрома, которые загромождают литературу, —
тем более, что все они не только создают банальную и неясную
картину, но и размывают саму терминологию, с помощью
которой синдром получает описание. Хорошо известно, что один из
самых центральных терминов психоаналитического аппарата,
«тревога», постоянно используется именно для объяснения
механизма панических атак и фобий, в том числе
пространственного типа. При этом его использование носит бытовой и в то
же время абстрактный характер — под «тревогой» понимают
как то, что испытывает страдающий паническим синдромом во
время атаки или в иные периоды, так и то, что он может «пере-
Глава 8
живать бессознательно». Исследование уходит здесь в область
необязательного и случайного.
Напротив, если придерживаться того, что в момент развер- η
тывания панической атаки субъект сталкивается с требова- *
нием, можно попытаться пролить свет на это состояние, про- | fe
должающее оставаться для психологов и врачей чем-то сугубо
η
загадочным. £
Откуда это требование берется? Чтобы установить его | 5
s
(Ь
-ι
О
ш
I
ω
ι
s
источник и начать восстанавливать структуру, в рамках
которой находится склонный к паническим и агорафобическим
состояниями навязчивый субъект, необходимо принять во | эс
внимание сторону его жизни, часто ускользающую от
терапевтов. Сторона эта, тем не менее, играет в формировании сим- -а
птома огромную роль, и с ней непременно сталкивается тот, s
кого судьба сводит с паническим субъектом. Речь идет о де- ' ф
ятельности, захватывающей страдающего атаками в большей I -о
или меньшей степени после того как панический эксцесс имел δ
место. Охарактеризовать эту деятельность можно как непре- -§
кращающееся свидетельство о реальности пережитого в ходе ' №
атаки и ее последствий. Свидетельство это не воспринимается
как особый акт высказывания врачом или психологом лишь
потому, что речь субъекта видится специалистом как
естественное желаниесообщитьо своем симптоме.
Тем не менее, с аналитической точки зрения, — если к
психоанализу такие субъекты прибегают, — трудно не заметить,
что речь идет ни о чем ином как о желании. Так, на уровне
обозначенной в терапии цели субъект только и помышляет
об избавлении от панических атак, но на уровне его желания
обнаруживается нечто иное: а именно, намерение просветить
свое окружение, дать ему знать о реальности панического
переживания и заставить общество признать его наличие. Вся
стилистика страдающего панической агорафобией носит ярко
выраженный просветительский характер — он намерен
сообщить всем сомневающимся о том, что дереализационные атаки
существуют и что следующий за ними агорафобический страх,
ограничивающий свободное передвижение, является
реальностью тоже. Скудость научных и клинических описаний этого
симптома, как ни странно, даже играют на руку паническим
субъектам. Многие из них испытывают специфическое
удовлетворение от того, что знают о существе этого состояния I 183
Желание одержимого
CL
О
CU
I-
о
CÛ
о
ζ
ω
χ:
(Ό
m
υ
Ο
ш
τ
m
CC
Ш
ω
ζ
m
Ο
Q.
ffl
<U
Χ
184
больше своих врачей и способны поведать о нем в более
яркой и предметной форме, нежели справочные пособия. Любой
панический агорафобик в мельчайших подробностях способен
рассказать, до какой степени его привычное существование
пошатнулось в ходе усугубления его симптома и до какой
степени неотвратима невозможность сопротивляться агорафобии,
не позволяющей ему покинуть место обитания.
С точки зрения специалиста общей практики все это лишь
сопровождающие данный синдром социальные
обстоятельства. Но с психоаналитической точки зрения борьба панического
агорафоба за лояльность окружения и доверие к его дефекту
более чем существенна, поскольку нетрудно усмотреть, что
речь опять-таки идет о вопросе соискания признания.
Соискание это налагает глубокий отпечаток на судьбу страдающего
атаками, поскольку именно с этой стороны субъект
начинает со своим окружением взаимодействовать, производя в нем
эффекты нового рода. На уровне этого взаимодействия
происходят довольно значимые вещи, которыми сам панический
субъект вслед за врачами склонен пренебрегать и считать их
лишь побочными следствиями своего состояния и зачастую
изменившегося образа жизни. Но анализ эти следствия в то же
время упускать не должен, поскольку они появляются в виде
постоянно исходящего от субъекта сообщения. Агорафобик
часами может доказывать не понимающим его
родственникам или собеседниками в интернете, что испытываемые им
состояния действительно существуют, что они не являются
плодом его преувеличения или симуляции и что миру
придется смириться с их реальностью. Тем самым, агорафобический
субъект претендует на небольшую социальную революцию, на
ниспровержение сложившихся в обществе воззрений,
согласно которым «страх выхода из дома» является в своем роде
экстравагантным и неоправданным нонсенсом, невротической
роскошью.
Все это не может не вызывать появление в окружающем
такого субъекта пространстве ряда разноречивых суждений, на
которые такой невротик опирается и в которых черпает силы
для дальнейшего противостояния со своей средой. По этой
причине окружающие часто усматривают в поведении агора-
фобика нечто виктимное и одновременно сверхценное. Того,
кто склонен отстаивать реальность своих панических атак,
Глава 8
zi
H
Π)
часто подозревают в своего рода зацикливании на симптоме, ^
и их интуиция имеет такое же отношение к происходящему, |
как интуиция тех, кого Фрейд в ходе описания детской сек- | £
суальности называет «внимательными няньками», умеющими
подмечать в поведении ребенка проявления сексуального же- I *<
лания там, где люди непредвзятые видят лишь упрямство или *<
случайность. «Няньки» же с точки зрения Фрейда уже стоят £
в своем роде на предварительной аналитической позиции и им
не достает лишь умения интерпретировать свои наблюдения.
Другими словами, нянька способна увидеть, что некоторые
действия ребенка имеют специфическую целесообразность ι *
с точки зрения удовлетворения желания, но выразить свои 2
соображения на этот счет она может лишь в форме конспиро- -о
логической — то есть, на языке разоблачения, критики и не- 2
довольства. н
Точно таким же образом организовано подозрение того -о
семейного и дружеского круга, в котором панический невро- δ
тик производит «пропаганду» своего симптома. Веры в непре- -§
одолимость панической реакции у зрителей по итогам такой £
пропаганды не прибавляется, но зато возникает стойкое ощу- J
щение присутствия у такого невротика какого-то дополнитель- | |
ного желания, связанного с публичной речью, посвященной
п>
настоянию на своем страдании.
Здесь коренится как проблеск верного наблюдения, так
и принципиальная ошибка. Дело не в том, что к паническому
симптому и связанной с ним навязчивой конфигурации
желания добавляется какое-то новое желание, а в том, что
панический обсессивный невротик в любом случае находится
в определенных отношениях с тем, что он воспринимает как
уникальное знание, носителем которого он себя после
развертывания панического синдрома считает. В этом смысле, вся
его деятельность в психологических дискуссиях или на
спецфорумах в интернете является продолжением организации
его собственного навязчивого желания, пленником которого
он оказывается и которое способен выразить теперь только
в такой форме. Другими словами, после манифестации
панического синдрома у субъекта впервые появляется отчетливый,
конкретный предмет для публичного сообщения — в
некотором смысле таким сообщением, в своем роде живым укором
становится он сам собственной персоной. I 185
Желание одержимого
CL
О
CU
I-
о
CÛ
о
X
m
u
О
ш
τ
ΓΠ
OC
CÛ
ω
X
m
О
CL
CÛ
<U
X
186
Тем не менее, его желание в целом остается слабо
освещенным. Сообщаемое им требование признать реальность его фо-
бического страдания лишь скрывает и замещает то, что в
любом случае продолжает его интересовать сильнее всего. Как
уже было сказано, навязчивое желание и его интерес целиком
организованы возле фигуры другого, которого этот невротик
подозревает в том, что тот, реализуя свое собственное
желание, оказался нечист в средствах. Другими словами,
навязчивый субъект ревниво подмечает, не пользуется ли этот другой
при достижении признания теми методами, которые на словах
критикует и объявляет недопустимыми, не нарушает ли он
заповеди вкуса, в то же время требуя его проявлений от своего
окружения. То, что этот другой предположительно предпочел
бы скрыть, хранится навязчивым невротиком со всем
тщанием — другой со всей своей биографией всегда находится
у него под наблюдением. Здесь всегда имеет место та самая
переоценка объекта, на которую обращает внимание Фрейд,
описывая при этом объект любовный, при том, что любовью
отношения навязчивого невротика с избранным им другим
назвать никак нельзя, хотя отношения эти до смешного на нее
похожи — в этих отношениях субъект так же ревностно следит
за мельчайшими и в целом незначительными проявлениями со
стороны избранного партнера. В то же время, если любовному
объекту обычно прощают все его, даже наиболее явные для
окружающих, недостатки, то с другим в навязчивом фантазме
обращаются крайне сурово: ему не позволено ни малейшего
отступления, каждый его промах фиксируется, — особенно
если объект имел риск подать своими действиями
определенные надежды и потом не может им в полной степени
соответствовать.
Как это ни парадоксально, речь при этом зачастую идет
о промахах, которые у всех на виду и при этом не вызывают
у остальной публики никакого беспокойства. Подозрение
в том, что занимаемая другим позиция отмечена натяжками,
может быть местами в высшей степени справедливо, но при
этом навязчивый субъект в своих разоблачениях большей
частью склонен ломиться в открытые ворота. Наблюдая за тем,
как другой постоянно нарушает свои же собственные
обещания, обсессик находится в комическом положении
разоблачителя, узнавшего секреты Полишинеля. Цинический настрой
Глава 8
по этому поводу, который обсессивныи тип зачастую перед . ш
своим окружением имитирует, удается ему довольно плохо, |
поскольку в глубине души он всегда недоумевает и возмущен. л5
Желание его поддерживается на плаву суррогатом морального *
требования, которое другой не выполняет и выполнить по всей s<
видимости не может. *<
В этом смысле, навязчивый невротик все время находит- £
ся в колебаниях: он не может решить, существует ли вокруг 5
присущих другому злоупотреблений некий сговор или же речь s
идет о вещах, которых никто, кроме него, просто не замечает. g
В том и в другом случае он ощущает себя призванным об этих | χ
вещах свидетельствовать, но необходимость этого
свидетельства, в зависимости от того, как он рассматривает свое окру- | -о
жение, расценивается им по-разному.
Именно этот момент недооценил Декарт, вообразив, что
существует позиция, с которой субъект может свидетельство- -о
вать за себя самого — то есть, быть субъектом рефлексии, на- δ
правляемым критическим разумом и тем самым занимающим | ^
максимально независимую позицию. На самом деле, подобной
позиции не существует, и вовсе не потому, что субъекту от I 5
природы недостает разумности или критической способности. 1
Причина заключается в том, что если за кого субъект и может
о
высказаться, то только за другого — того самого, который
различными злоупотреблениями добивается у него на глазах
своего успеха. Фигура эта приковывает все внимание невротика
навязчивости — в его мире нет ничего, что могло бы
сравниться по значимости с этой фигурой.
В этом смысле истина желания навязчивого субъекта,
выражаемая в панической фобии — а организовано его
желание, несомненно, как патологическое желание истины, на
что непременно после Лакана следует обращать внимание —
состоит в том, что в своей тревоге субъекта является в своем
роде агентом, причем агентом двойным. Именно в этом и
состоит основное последствие картезианского открытия — его
важнейший побочный и в то же время основной, поскольку
единственный, эффект. Открытие это, не произведя того, кого
оно тщилось породить на свет — субъекта свободного в
своем выборе и рефлексирующего — производит на свет именно
субъекта как агента, шпика. Субъект обречен подглядывать
и собирать знание — не то знание, которое предлагает последо- I 187
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
188
вавшая за Декартом просвещенческая программа с ее ставкой
на широкое научное образование, а скорее знание, которым
пользуется шпион, собирая его для своего агентства.
Выражаясь языком детективных романов, невротик навязчивости
всегда «слишком много знает» — такова в том числе его личная
убежденность, которая зачастую может соответствовать
действительности, поскольку его внимание и чувствительность
к тем мелким злоупотреблениям, которые другой неизбежно
допускает, могут простираться довольно далеко. Именно это
и делает положение обсессивного субъекта таким шатким,
вызывая у него ментальное головокружение, доходящее порой
до дереализационнои тревоги и ощущения, что он не может
позволить себе роскошь обходиться, — например, вне
собственного дома, — без подстраховки.
В этом смысле психоаналитический подход к тревожным
и фобическим состояниям, испытываемым при неврозе
навязчивости, должен пойти дальше типичного предположения, что
невротик такого рода страдает от «внутренних конфликтов»
или сексуальных ограничений. По всей видимости,
дидактика страдания, требующего исцеления, на стезю которого, едва
освободившись от Фрейда, прочно стал впоследствии
классический анализ, является недостаточным и неточным
инструментом для того, чтобы понять, как организован фобический
навязчивый симптом. Анализировать его можно только при
условии, что аналитику становится доступным представление
о том, как именно навязчивый невротик обращается с
наблюдаемым им материалом, который немедленно возводится им
в ранг «знания», превращаясь в знание доносчика.
Важно учесть, что материал для доноса собирается в
режиме, который менее всего похож по своей интенсивности на
стремления, например, вуайеристского характера. Другими
словами, получать сексуальное наслаждение от
подсматривания навязчивый субъект вовсе не склонен, хотя в его личной
биографии почти всегда есть те или иные указания на фантазм,
связанный с наблюдением за каким-либо деятелем —
например, другим ребенком, который совершил проступок и
подвергся наказанию. Визуальный фантазм ein Kind wird geschlagen
(«ребенка бьют») здесь также, безусловно, где-то недалеко, но
рассматривать его в случае навязчивости нужно не как
эротическую основу для будущей перверсии, а как подготовитель-
Глава 8
ω
ι
л>
-ι
о
ный этап, на котором в желании субъекта складываются
условия для будущего сближения инстанций знания и тревоги.
Именно на базе этого сближения и разовьется в дальнейшем Ι η
типичный навязчивый симптоматический комплекс. *
В дальнейшем у субъектов такого типа инфантильный фан- Si
тазм избиваемых за провинность сверстников почти полностью *<
уступает место развитой и глубоко укорененной структуре, £
где наблюдательная позиция становится местом не зритель- | 5
ного влечения, а скорее дежурства, неусыпного бдения около
другого, ставшего для субъекта Другим, фигурой фантазма,
благодаря чему активное наслаждение навязчивого субъекта Ι χ
трансформируется и низводится до поиска места, за которое
в этом Другом можно было бы уцепиться. Иного способа удер- -о
жаться в желании у субъекта навязчивости нет, что позволяет s
усомниться в бескомпромиссности, с которой, например, Брюс н
Финк в ключевой работе, посвященной лакановской клинике, тз
заявляет об усердии, с которым «обсессивный тип непрестан- δ
но пытается уничтожить Другого».2 Любопытно, что точно | -§
такое же подозрение часто адресуется в современной
философии и картезианскому субъекту, который по общему мнению I 5
буксует в своем миропонимании там, где ему необходимо при- |
знать, что реальность Другого по меньшей мере сопоставима
с реальностью его собственной.
Напротив, структура навязчивости показывает, что уделять
место Другому обсессивный субъект готов сколько душе
угодно — иное дело, что делает он это специфическим и
ограниченным образом. Как было показано, в Другом его интересуют
исключительно те стороны, о которых этот другой, достигнув
определенного положения в обществе, забывает как о
собственной смерти. Навязчивого субъекта бесконечно занимает вопрос
о том, где этот Другой оставил свою тревогу, — и места,
соответствующие ее пустующим зонам, обсессику обнаружить
вовсе не трудно. То, что он сам при этом получает, становится его
собственным достоянием, которое виснет на нем тяжким
грузом, поскольку речь всегда идет о потенциальном компромате.
Именно компромат на другого, которым волей-неволей
обладает невротик навязчивости, превращается для него са-
2 Fink В. A Clinical Introduction to Lacanian Psychoanalysis,
Cambridge: Harvard, 1999, p. 130. I 189
Желание одержимого
CL
О
CU
I-
о
CÛ
о
X
m
u
О
ш
τ
ΓΠ
OC
CÛ
ω
X
m
О
CL
CÛ
<U
X
190
Moro в тяжкий, хотя и ценный груз. Навязчивый субъект —
в этом и состоит его агентурная роль — может
засвидетельствовать обо всем, о чем другой забыл, поскольку у другого этот
материал тревоги уже не вызывает. Поскольку тревогу другого
невротик себе присваивает, рассказать во всех подробностях,
в каких узловых точках наблюдаемое им лицо, стремясь к
успеху, злоупотребило, передернуло или предало свою заявленную
ранее программу, для него не составляет ни малейшего труда.
Дело здесь не в идентификации, как порой ошибочно думают,
анализируя погруженность обсессивного невротика в
занимающую его фигуру, а в том, что присвоив тревогу другого,
невротик присваивает и тот дискурс, в котором интересующее его
лицо существовало до момента, когда его успех стал для
самого навязчивого субъекта бесспорным фактом. Обсессик хранит
в памяти то, что он сам воспринимает как историю соискания
признания — именно отсюда происходят все характерные для
него моменты переоценки, возвеличивания исторического
фактора, в котором шаткость позиции Другого становится
очевидной. Не желая другого как Другого полностью низвергнуть,
поскольку такое ниспровержение приведет к краху его
собственной опоры, субъект навязчивости фантазирует при этом
о моменте, когда у него возьмут свидетельские показания. Не
учитывает он лишь одного — того, что в этот момент его
позиция как свидетеля автоматически превратится в позицию
обвиняемого, поскольку ответственность, ввиду произошедшего
присвоения им чужого бэкграунда, будет лежать на нем самом.
Это объясняет тот факт, что паническая фобия в
представлении многих терапевтов устойчиво связывается с так
называемыми «кризисными периодами» — довольно бессмысленный
с аналитической точки зрения термин, поскольку навязчивый
субъект из кризиса в своем роде никогда не выходит. Тем не
менее, толика истины в этом наблюдении есть, но она лежит
не там, где термин «кризис» приобретает назойливо-пафосную
экзистенциалистскую окраску, а там, где субъект навязчивости
проходит через определенные стадии, связанные с соисканием
места, где отброшенная тревога Другого, добившегося признан-
ности, могла бы переродиться для навязчивого субъекта во что-
то иное, от чего он мог бы в своем движении оттолкнуться. В то
же время до такого превращения обычно очень далеко,
поскольку навязчивый субъект чрезвычайно склонен останавливаться
Глава 8
ш
H
Π)
в своем движении на определенных рубежах, из которых самый
яркий и главенствующий в общей картине и состоит в
пресловутом «сборе досье» о промахах блистательного Другого. | ç
Панический симптом, таким образом, опять-таки имеет
прямое отношение к вопросу признания, который, как было пока- I *<
зано выше, является основной причиной навязчивых затрудне- *<
ний. Это может отчасти пролить свет на тот хорошо известный £
психоаналитикам и терапевтам факт, что тревожные
проявления с паническим и дереализационным компонентом
обостряются в определенные периоды биографии субъекта. При этом
обострение обыкновенно сказывается наиболее сильно не тог- ι *
да, когда субъект достигает каких-либо рубежей, на которых 2
у него было бы реальное основание тревожиться за свое новое -о
положение, а тогда, когда субъект, напротив, находится в ожи- 2
дании — когда он невольно, не отдавая себе в этом отчета, н
занят наблюдением, из которого и состоит в основном его де- -о
ятельность в области влечения. Наблюдение это неизменно δ
приводит обсессика к предмету, вызывающему у него чувство, -§
что у предмета его наблюдения есть тайна, известная только ' ф
ему, навязчивому субъекту, самому горячему его поклоннику I ^
и завистнику. 1
1 п>
В этот момент субъект и становится «агентом», причем
агентом в пользу инстанции, о которой он практически ничего не
знает. Ответить, в пользу кого он собирает компромат на
Другого, он не в состоянии, равно как не в состоянии, как, впрочем,
и любой агент, точно узнать, имеет ли он дело с по-настоящему
ценной информацией или же подбирает за Другим всякий
незначительный мусор. Тем не менее, в экономике навязчивости
полученное им знание неизменно преображается в запись,
которая устроена как долговая книга с тем лишь различием, что
навязчивый тип вовсе не ждет, что долг будет выплачен ему
лично. По существу от Другого ему ничего не надо —
разоблачение, которому он мог бы Другого подвергнуть, никогда не
происходит или происходит лишь в фантазиях. Именно здесь
залегает причина той хорошо известной прокрастинации,
которой отмечена вся активность субъекта навязчивости — в том
числе, в области соискания успеха уже собственного, к поиску
которого навязчивый субъект не приступает именно потому,
что вопрос Другого остается нерешенным. Не зная, какую роль
он сам играет в разворачивающейся истории, будучи агентом I 191
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
192
неизвестного ему детективного агентства, субъект обсессии не
знает, как долго его происки смогут оставаться
незамеченными и не ждать ли скорого разоблачения ему самому.
Вся эта предыстория, — оставаясь, впрочем, по большей
части недоступной сознанию, — и ложится в основание
появления панического приступа, поскольку паническая атака
с дереализацией, если говорить именно о ее значении, в целом
очевидно выражает утрату презумпции присутствия. Субъект
теряет право на незаметное нахождение в качестве функции
наблюдающего взгляда. Именно по этой причине он вынужден
регистрировать свои ощущения, — ходьбу, дыхание,
сердцебиение, общую неуклюжесть своего неповоротливого тела, —
находя их странными, чуждыми и вызывающими панику.
Здесь, как уже было сказано, выявляются все
противоречия картезианской установки, в основе которой лежит то, что
Лакан называет «маленьким жульничеством», замешанным
на подтасовке res extensa и res cogitans — субстанций
протяженной и мыслящей. Протяженная субстанция, пресловутое
«тело» необходимо картезианскому субъекту, как
предполагалось, лишь для того, чтобы, зарегистрировав его реальность
посредством субстанции мыслящей, в итоге как можно прочнее
забыть о том, что сам субъект занимает какое-то место —
операция, позволившая Декарту предпринять свое самое дерзкое
изобретение: «Я», которое каким-то чудом место своего
присутствия аннулирует, уничтожает.
В ходе приступа паники субъект обнаруживает, что все
обстоит наоборот: занимаемое им место не может исчезнуть,
схлопнуться — факт, обнаружение которого по существу
и управляет паническим поведением, поскольку все оно по
своей сути сводится к невозможности отделаться, немедленно
выскочить из наличного состояния. Субъект, таким образом,
попадает в ловушку. Именно это и заставляет его искать
ненадежного убежища в собственном доме.
Панический синдром, таким образом, завершает
конструкцию, образуемую структурами навязчивости, одновременно
показывая место, занимаемое обсессивным субъектом при
Другом. Следует еще раз отметить, что в этом синдроме в
полной мере выступает присущая навязчивому субъекту
«одержимость», которая в прочих элементах его симптоматического
бытия проявляется лишь частично и не в полной мере. Субъ-
Глава 8
ект одержим и стремится из занимаемой позиции вырваться ι ^
не только потому, что приставлен к хлопотной должности, на |
которую его толкают отношения с успехом Другого и которая £
сопряжена с агентурными обязанностями. На финише жела- *
ние обсессивного субъекта отмечено тем же самым, чем отме- s<
чено любое желание в принципе — оно, как замечает Лакан, *<
ничего не желает знать. Никакого стигмата навязчивости £
Л)
в этом «желании не знать» как раз нет — напротив, обсес- | 5
сивное расстройство и заключается в том, что следовать этому
финальному желанию субъект просто не в силах, из-за чего
ему приходится совершать целый ряд телодвижений, которые I *
как его окружение, так и он сам рассматривает как чужерод- 2
ные. В то же время от их исполнения уклониться он не может, -σ
равно как не может довести дело до конца. 2
В этом смысле поведение субъекта навязчивости всегда от- н
мечено признаками готовности в случае чего, если все зайдет -о
слишком далеко, отыграть назад, чтобы вернуться к исходным δ
позициям. Именно это в ряде случаев и приводит его в анализ, | -§
где «желание не знать» может получить шанс вступить в игру.
Для этого как раз и необходимо желание аналитика — тем не I 5
менее, вопрос не решается так просто, поскольку у желания | |
аналитика в его генезисе, как в самом начале было показано,
также есть элементы, обязанные своим существованием
навязчивости.
п>
Глава 9 Топология
«желания
аналитика»
Трудности, возникающие с лакановским понятием «желания
аналитика», уходят своими корнями в две причины, одна из
которых является неспецифической, а вторая, напротив, укоренена
в положении, которое психоаналитики занимают в отношении
собственной практики. Неспецифической причиной, очевидно,
является общая непроясненность этого термина в лакановской
мысли. Как и в случае иных лакановских понятий, его
упоминание в тексте представляет собой невыполненное обещание
дальнейшего прояснения — это намек, непрорисованный контур
возможной теории. Специфическая же причина заключена в том
рискованном положении, в которое допущение существования
«желания аналитика» ставит саму аналитическую практику
Сочетание этих двух причин вызывает к жизни
своеобразную манеру, в которой это понятие имеет хождение у
лакановских публицистов — манера эта часто представляет собой
характерную смесь прекраснодушия и назидательности. Чаще
всего она оставляет читателя в убежденности, что аналитику
для выполнения его миссии положено быть «захваченным
желанием», и что это желание представляет собой нечто
особенное — с одной стороны, оно свободно от обычных требований
к психотерапевтическому вмешательству, но в то же время оно
налагает на аналитика определенную ответственность.
Выделяют также его элементы — так, например, замечают, что ему
присуще «желание дистанции с анализантом».1 В то же время,
1 Предварение к одиннадцатому лакановскому симпозиуму
Австралийского Центра Психоанализа 2010 года под заголовком
«Желание аналитика»: Чем оно может быть — желание аналитика?
Ответ, который дает Лакан, состоит в указании на желание, прошедшее
через определенный опыт, то есть желание проанализированное; это
поскольку желание аналитика само не анализируются, порыв, ι £*
заставляющий психоаналитическую публицистику ставить его о
в центр, гаснет в самом своем зародыше. Вместо психоанали- | g
тического подхода к желанию аналитика появляется, таким
образом, моральная философия этого желания, подменяющая . ¥
собой психоаналитический подход. Желание аналитика не ана- | го
ω
s
2
S
я
ω
лизируется — исследованию подвергаются лишь озвученные
к нему требования. При этом то, что подвергается у анализа
изъятию и философизации, склонно через какое-то время воз- I ^
вращаться в анализ как миф.
Эта философизация и, в дальнейшем, мифологизация
аналитического языка не является чем-то уникальным — то же gj
самое то и дело происходит и с другими лакановскими
понятиями. Так, понятием «Реального» психоаналитики в каком-то
момент перестают пользоваться вообще: оно полностью уходит
к философским авторам, начавшим вытворять с ним разного
рода вещи, приведшие в итоге к его обессмысливанию в
аналитическом регистре. В том же философском направлении
неуклонно двигалось и лакановское понятие «символического»,
в отношении которого также в итоге появилась определенная
философия социального толка, полностью переписавшая
контекст его употребления в языке аналитика.
Психоаналитики со своей стороны обращаются с этим
переписыванием по-разному. Если они в силах ему сопротивляться,
то происходит это посредством указания на то, что за этими
понятиями лежит некая практика. При этом ее склонны охарак-
теризовывать как «реальную аналитическую деятельность»,
противопоставленную, по всей видимости, чисто философским
измышлениям.
Противопоставление это кому-то может показаться вполне
удовлетворительным, притом что волевая,
институциональная попытка закрыть шлюз, через который дискурс аналитика
утекает в направлении философии, сама по себе не приводит
к обогащению аналитической теории. Более того, в
результате появляется второе, дублирующее перекрытие, касающееся
желание поддерживать дистанцию между аналитиком и анализантом.
Желание это уводит нас в направлении, противоположном
стремлению к идентификации. // http://Www.psychoanalysis.org.au/pdfs/
ACP_XIth_Lacan_Symposium_2010_full.pdf I 195
Желание одержимого
CL
О
CU
I-
о
CÛ
о
X
m
u
О
ш
τ
ΓΠ
OC
CÛ
ω
X
m
О
CL
CÛ
<U
X
196
того, что можно было бы назвать мыслью об аналитической
практике.
Иллюстрацией к этому моменту может послужить
обсуждение, которому в аналитической литературе подвергается
вопрос желания аналитика. Так, в сводной работе, посвященной
обобщению клинического опыта лакановской ориентации Брюс
Финк делает относительно желания аналитика следующие
бескомпромиссные выводы:
Желание аналитика — это желание,
сосредоточенное на анализе и только на анализе...
Желание аналитика представляет собой в своем роде
чистое желание, которое не покоится на каком-
либо определенном объекте и не имеет целью
внушить анализанту какие бы то ни было
соображения... Аналитическое желание
концентрируется на самом аналитическом процессе — оно
не является пожеланием пациенту того, что было
бы «наилучшим» для него, для его личностного
развития или карьерного роста. Не преследует
оно также целей подбора для него подходящего
партнера или помощи в обретении «личного
счастья». Желание это также не имеет ничего
общего с желанием услышать от анализанта
определенные вещи — у него нет заранее заданного
плана, по которому должен двигаться анализ.
Желание аналитика должно оставаться «непри-
стегнутым», свободно парящим,
удерживающимся от того, чтобы задать для пациента какое-либо
однозначное направление.2
Сказанное невозможно оспаривать со стороны
содержательной, и не только потому, что здесь предприняты все меры
предосторожности в отношении задачи сохранения чистоты
лакановского учения. Перед нами в первую очередь то, что
функционирует как предписание, как рекомендация. Другими
словами, это высказывание. При этом мы знаем, что у любого
2 Fink В. A Clinical Introduction to Lacanian Psychoanalysis,
Cambridge: Harvard, 1999, p. 6,7.
Глава 9
высказывания есть акт, и собственно лакановский вопрос, ко- ^
торый можно было бы задать к данному тексту, состоит в том, о
какого рода эффекты он производит именно на уровне акта. | g
Эффекты эти на первый взгляд сводятся, по всей видимости,
к тому, чтобы любые побочные соображения по возможности
исключить. Текст подан таким образом, чтобы у читателя — I л>
предположительно, речь идет о психоаналитике — не возникало
теричности постановки вопроса, идет именно о вполне конкрет-
36
ш
даже сомнении в том, что речь, при всей демонстративной эзо- | ξ
ш
ной, недвусмысленной рекомендации клиницисту и этим и огра- ι SJ
H
Ш
ничивается. Но это и делает данное заявление фактом в своем
роде внеаналитическим — его акт нацелен на сокрытие того, что
желание аналитика не сводится к его применению в анализе.
Речь в случае этого желания не может идти только о
респектабельной осторожности, в свете которой стремится подать его
автор. Желание аналитика — это не сумма приемов уклонения
от очевидного смысла, не санация возможной тенденциозности
или неосторожности специалиста. Если у аналитика есть
желание, то возводить его необходимо, — если это действительно
желание, — к желанию Другого: лакановская формула говорит
об этом со всей прямотой и очевидностью. Другим же в этом
случае является тот, чье желание лежало в начале анализа —
речь, стало быть, может идти только о Фрейде.
Это переворачивает всю картину, поскольку желание
аналитика в свете этого факта размыкается таким образом, что оно
теперь включает все те загадочные и в ряде случаев неудобные
элементы, которыми желание самого Фрейда могло
сопровождаться. Вместо пресловутой «чистоты» (purity), на которой
настаивает представитель аналитического института, оно
оказывается наполненным всем тем, что согласно лакановскому
замечанию в самом Фрейде «никогда не было проанализировано».
Если в желании аналитика и есть что-то загадочное, то сводится
оно, таким образом, не к чистоте, а к тому «дилетантскому», что
Фрейд привнес в свою практику, которая далеко не сразу
начала восприниматься как нечто респектабельное. Именно по этой
причине неверным было бы подменять желание аналитика
каким-либо «аналитическим желанием», к чему, похоже,
склоняется Финк. Желание аналитика — это не желание, непременно
связанное с анализом, хотя подобное решение и удобно для
сохранения профессионального статус кво. При этом речь, напро- I 197
Желание одержимого
CL
О
CU
I-
о
CÛ
о
X
m
u
О
ш
τ
ΓΠ
OC
CÛ
ω
X
m
О
CL
CÛ
<U
X
198
тив, идет о желании того, кто анализ осуществляет, то есть, об
образовании заведомо сложном, — и существование желания
Фрейда является тому доказательством.
Так, в этом желании, несомненно, есть элемент
истерический: Фрейд далеко не всегда знал, кем именно для своих
пациентов он является. Немаловажным является и то, что Фрейду
пришлось отказывать свои пациенткам в удовлетворении
желания именно как истеричкам — то есть отказывать тем, кто
сам от определенного удовлетворения успел отказаться и
пожелал возместить этот отказ за счет аналитика. Уже это делает
отказ с его стороны чем-то таким, что со стерильностью
институционального образа желания аналитика несовместимо.
Лакан со своей стороны делает единственную и в своем роде
безуспешную попытку привлечь внимание к этому моменту:
Истерия таким образом выводит нас на след
чего-то такого, что я назвал бы в анализе его
первородным грехом... Настоящий грех, наверное,
один — это желание самого Фрейда.3
Элемент навязчивости, несомненно, также сыграл в этом
желании свою роль, поскольку, по собственным признаниям
Фрейда, ничего он не хотел так сильно, как быть отмеченным
признанностью в обмен на собственное учение. При этом
поиск признанности в его случае был отмечен всеми элементами,
о которых выше шла речь — это тревога за знание Другого (в
его случае это был авторитетный врач, работающий с
невротиками, которому Фрейд поначалу испытывал искушение
подражать), а также за ту плату, которую Другой за свое знание
внес. Тревога эта была в его запинающемся поиске
определяющей — именно она и вызвала к жизни неповторимую
стилистику его текстов, которая для истинных ценителей Фрейда стала
со временем его визитной карточкой.
Все это означает, что желание аналитика не может не
лежать в измерении, которое обязано своим возникновением
тому непроработанному, что остается скрытым во
фрейдовской одержимости. Скрывать этот факт под внешней
холодноватой респектабельностью аналитической практики, делая
Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа, с. 19.
ω
s
Глава 9
вид, что он не имеет никакого значения — означает воссозда- | £*
вать новую почву для той насмешливой неловкости, которую о
по поводу фигуры психоаналитика испытывает публика и ко- о
торая существенно усиливает стыд, ощущаемый как теми, кто |
к аналитику обращается, так и теми, кто ведет анализ.
Неловкость эта связана с чем-то таким, что балансирует д>
в желании Фрейда на грани допустимого в психоанализе в прин- ^
ципе. Так, известно, что у его желания есть черты, которые до ξ
такой степени контрастируют с тем, чем стал анализ впослед- §!
ствии, что возникающий здесь разрыв не может быть заполнен
ничем, кроме совершенно искусственных объяснений. Это
касается, например, присущего Фрейду стремления распространять g
открывшееся ему знание, делать его достоянием широкой
общественности — стремление, которое подавляется в наследующем
Фрейду движении психоаналитиков, склонных образовывать
посредством своей практики закрытые сообщества, в которых
аналитическое знание подлежит консервации.
Было бы слишком простым решением объявить, что желание
распространения своего учения было внушено Фрейду научной
средой, стремившейся в то время сделаться для общества в
своем роде этическим регулятором, гарантом общедоступности
знания. В конце концов, знание Фрейда так и осталось неверифи-
цируемым, что ставит подобный диагноз под вопрос. Более того,
в случае Фрейда дело заключалось в передаче, в акте которой
субъект не уверен в тех, на кого он ставит и кому свое знание
щедро сообщает — факт, доказываемый теми дружественными
связями, которые сам Фрейд впоследствии склонен был считать
ошибочными действиями, как это случилось, например, с его
дружбой с Юнгом. Тем не менее, это не повлияло на
фрейдовское стремление добиваться условий, в которых анализ был бы
неограниченно передаваем — не сообщаем, а именно
передаваем, поскольку речь не шла о какой бы то ни было коммуникации.
Анализ делает аналитиков — вот та простая и в то же время
непостижимая максима, на основе которой психоанализ
сделался практикой мирового значения.
Сказанное означает, что желание психоаналитика
находится в зоне, которая со своей стороны открывается аналитической
оценке не тогда, когда речь идет о анализе предположительно
наивного субъекта — хотя таковых сегодня просто не бывает.
В любом случае, желание аналитика очевидно приобретает pa- I 199
Желание одержимого
CL
О
eu
I-
О
CÛ
о
ζ
ω
χ:
(Ό
m
u
Ο
ш
τ
m
CC
Ш
(Ό
Ζ
m
Ο
Q.
ffl
<U
Χ
200
дикальность и само становится подлежащим анализу именно
тогда, когда речь заходит о подготовке новых аналитиков.
Другими словами, свою осязаемость оно обретает именно в
анализе дидактической направленности.
Именно в дидактическом анализе приобретают значение
выявленные еще ранним Лаканом опорные точки, на которые
аналитики в силу некоторой предубежденности не всегда
обращают должное внимание. Так,очевидно, что первейшим из
бессознательных мотивов прохождения дидактического
анализа является поиск признанности в области, к которой анализ,
по предположению субъекта, открывает ему доступ. Поиск этот
нельзя скрыть за прочими сколь угодно гуманистическими
соображениями, лежащими в основе намерения сделаться
аналитиком. Не сводится он и к тому, что немедленно включается
в мотивацию такого анализа и выражается в терминах цеховой
солидарности. Субъект, входящий в такой анализ, привносит
в него не только определенные амбиции, но и тревогу,
связанную с тем неопределимым, но угрожающим, что может
последовать за удовлетворением этих амбиций.
Из этого вытекает важное положение, а именно: любой
дидактический анализ всегда организован как анализ структур
навязчивости. Независимо от того, невроз какого типа лежит
в основе субъектной композиции желающего стать аналитиком
(любопытно, что речь никогда не идет о психозе — заповедь
Лакана о том, что аналитик не должен останавливаться перед
психозом, на дидактический анализ, похоже, не
распространяется), такой анализ непременно будет определен желанием,
чья конфигурация будет иметь обсессивные черты.
Происходит так прежде всего потому, что психоаналитик —
и это культурный факт — незаметно приобрел черты, которые
с определенной точки зрения подходят ему менее всего:
именно на нем сконцентрировались надежды на так называемую
«иную признанность», мечта о которой была подготовлена всем
современным философским движением, делающим ставку на
то, что выходило бы за пределы признания, расположенного
в официальных символических координатах.
Не может быть простым совпадением, что координаты эти
вызывают недоверие именно у невротика навязчивости. При
этом аналитик представляется ему фигурой, которой такого
признания всегда недостает, но именно этот факт разворачи-
Глава 9
вает локус поиска в сторону психоанализа как места, где от- 51
сутствие университетских и прочих регалий компенсируется о
чем-то большим, присущим психоаналитику как бегущему от | о
официального признания и громкой славы в область, где от его
практики предположительно ожидают чего-то «трансгрессив-
ного». В этом смысле не будет преувеличением сказать, что п>
своей славой психоаналитик, как фигура, волнующая совре- &
менность и встречающая у нее своего рода эротическую ре- ξ
акцию, обязан именно невротику навязчивости. Аналитик, — ^
равно как и бытие аналитиком, — рисуется такому субъекту §j
в свете альтернативно понятой признанности, предположи- н
тельно лишенной тех официозных черт соискания признания, gj
которые вызывают у него сопротивление. Все это предполагает
возникновение специфических эффектов Воображаемого, с
которыми в полной мере сталкивается анализируемый и которые
получают наиболее яркое воплощение в тот момент, когда
анализ становится анализом дидактическим.
Следует сказать, что сами аналитики по мере сил делают
все, чтобы эскалацию этого Воображаемого предотвратить.
Именно так следует понимать их стремление воссоздать в
своей среде те же символические образования и иерархии, что
имеют место в потусторонней для них среде экспертной
науки — поведение, которое зачастую удивляет тех, кто ждет
от психоанализа борьбы с подобными институциями. В то же
время именно для того, чтобы субъект не ошибался и не
слишком обольщался на счет своего аналитика, существуют
специальные организации и союзы, призванные имитировать
легальные процедуры признания и по возможности убедить зрителя
в том, что у психоанализа есть все средства
продемонстрировать официальную признанность в полном объеме.
Данная мера служит не очарованию, не соблазну публики,
как иногда полагают те, для кого любое притязание на
символическую, профессиональную значимость является одновременно
притязанием и на власть. Напротив, речь идет о причинении
разочарования, поскольку официальное знание для обсессивного
невротика скорее непривлекательно и вызывает у него желание
оспаривания. Тем не менее, аналитик, если он не одержим
какими-либо сомнительными притязаниями на чудесное или
мистическое как это происходит в параллельных фрейдовскому
анализу царствах, — например, в юнгианской или экзистенци- I 201
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
202
альной психотерапии, — как правило, стремится избегать
всякого подозрения в том, что его знание хоть в какой-то степени
аналогично самостийной глубокомысленной мудрости.
Как уже было сказано, у этой чистоплотности, до какой
бы степени она ни была в ряде случаев необходимой, есть
эффекты, связанные с неизбежной потерей, выхолащиванием из
представлений о функции аналитика того основного
компонента, который как раз и делает его знание аналитическим —
компонента признанности вне существующих координат
символического. До какой степени бы эта «иная признанность»,
которая так дорога невротику навязчивости, не была
воображаемой уже в свою очередь, ее реальное функционирование
исключить не удается. Именно оно является началом — в
креационистском, естественно, смысле — психоаналитического
дискурса, запущенного Фрейдом. Запуск этот, казалось бы
выставив данный эффект на первый план (ибо ни у кого нет
сомнений в блестящем характере публичной фрейдовской
карьеры), в то же время немедленно погружает его в область
невидимого и игнорируемого в последующей респектабельной,
основывающейся на знании Фрейда практике.
Тем не менее, есть сферы, где игнорировать его попросту
невозможно, и речь идет именно о дидактическом анализе, где
субъекту предстоит не просто еще раз столкнуться с
собственными неудачами в поиске признания, но и быть в
определенной степени искушенным, совращенным маячащим перед ним
обещанием скорого и реального профессионального успеха —
и это притом, что для такого успеха, если исходить из самой
по себе навязчивой структуры анализируемого, как мы уже
видели, положительно нет никаких оснований.
Неудивительно, что градус тревоги, которую постоянно
испытывает психоаналитическая среда так резко
повышается, когда о дидактическом анализе вообще заходит речь.
В основании этой тревоги опять-таки скрыто лежит желание
Фрейда, его загадочный и непроницаемый характер. Желание
это — чтобы аналитики вообще могли существовать и
самовоспроизводиться — обречено быть похороненным в области,
к которой ни у кого не должно быть доступа.
Тем не менее, оно заново актуализируется, получает новую
жизнь всякий раз, как в анализ обращается будущий аналитик,
получающий, помимо символического аванса, поощрения, да-
Глава 9
руемого ему аналитической институцией, еще нечто такое, что £
связано с бесприютностью самого Фрейда и с его дерзостью, не о
вызывавшей у его окружения ничего, кроме сильной тревоги. | о
Разве не является вклад каждого (из аналитиков)
в область понимания инстанции переноса чем-то п>
таким, в чем, как и у Фрейда, желание его прекра- &
сно прочитывается? Я вполне могу проанализиро- ξ
вать Абрагама, исходя просто-напросто из его тео- &
рии частичных объектов... Абрагам, скажем, хотел
стать (пациенту) вполне законченной матерью. Что
касается теории Ференци, то я мог бы, смеха ради, *
прокомментировать ее на полях знаменитой
песенкой Жоржюса «сын-отец». Есть свои намерения и у
Нюнберга — в своей действительно замечательной
статье «Любовь и перенос»он явно претендует на
позицию судии сил добра и зла, в чем нельзя не увидеть
покушения на божественное достоинство.4
Пониманию переноса в аналитической среде, таким
образом, мешает не что иное, как перенос, совершаемый
аналитиками на Фрейда. Перед нами конструкция, которая требует
визуального выражения, поскольку это не что иное, как модель.
Здесь и находит свое применение система, которую Лакан
развивает в наиболее зрелый период его деятельности, и
которую, чтобы она получила смысл, необходимо возводить к тому,
с чего он начинал. Речь идет о системе топологической — об
иллюстрациях (или о том, что за иллюстрации принимают),
посредством которых Лакан переводит свою мысль на язык
систем поверхностей и их свойств.
Системы эти вызывают у аналитиков, — по крайней мере,
у лакановских, — немалый интерес. Тем не менее, поскольку
она является в лакановской грамматике в своем роде
авторским новшеством, у ее потенциального исследователя
зачастую не хватает ресурсов связности, чтобы она не была
обречена оставаться от прочего корпуса лакановских соображений
чем-то совершенно отдельным. Принято считать, что она
описывает субъекта как такового, и на этом вопрос о ее значении
Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа, с. 169. I 203
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
204
часто считают решенным.5 В то же время считается, что она,
если воспользоваться ей умело и рискнуть закончить то, что
лишь намечено Лаканом, способна описать невроз — то есть
дать представление о том, какую форму он мог бы иметь,
будучи объектом протяженным. Некоторые традиционно видят
в этом опасность «редукции», притом, что смысл этой системы,
по всей видимости, не в том, чтобы «описать субъекта», а в
том, чтобы зафиксировать нечто гораздо большее — ситуацию,
в которой находится его знание, окрашенное тревогой.
Это и является причиной, по которой Лакан обращается
к топологии, избирая для ее зрительного воплощения
конструкции с вывернутыми поверхностями — ленту Мебиуса
и емкость Кляйна. Поверхности эти отмечены отсутствием
переходного порога между внутренней и внешней сторонами,
причем емкость Кляйна в дополнение к этому в определенной
режиме презентации демонстрирует самопересечение,
чрезвычайно заинтересовавшее Лакана ввиду того, что оно отвечало
облику той системы, в которой функционирует желание
аналитика с одной стороны в логике его устройства, а с другой —
в его историческом воплощении. В анализируемую Лаканом
систему, таким образом, включен не просто субъект, а
положение, в котором он оказывается ввиду произошедшего
вмешательства знания аналитика. Отделить в этом расположении
так называемый исторический фактор, знание Фрейда, — по
преимуществу бессознательное и в то же время ставшее
причиной возникновения его теории — и, с другой стороны,
фактор того, что довольно неудачно называют «индивидуальной
аналитической работой», по всей видимости нельзя.
Именно эта неразделимость и вертится на языке у самих
психоаналитиков, — независимо от того, пользуются они теорией
Лакана или же нет, — когда они говорят о «неотделимости
психоаналитической теории от практики анализа». Неотделимость
эта, как известно, и гарантирует возможность анализа
дидактического. Тем не менее, формулируется эта мысль так, что
возникает искушение видеть отношение этих двух пунктов так, как
5 Для большинства читателей смысл этой системы предстал
в форме полуиздевательской цитаты из критической статьи о Лакане
Ж. Брикмона и А. Сокала: «Субъект это тор», т. е. нечто имеющее
пространственную форму бублика. // Брикмон Ж., Сокал. А.
Интеллектуальные уловки. Критика философии постмодерна. М., 2002.
Глава 9
обычно видят отношение практической деятельности к теоре- ô
тическому плану — как отношения конкретного к абстрактной о
идее. Здесь, по всей видимости, мы имеем дело со специфиче- | g
ской иллюзией знания — знания, которое поддерживается
философским дискурсом преимущественно марксистского порядка .
и которое буквально не находит себе места, если теоретическое | п>
ш
том, не сведено снова вместе в производительном синтезе. ι ξ
На самом деле, в анализе ничего подобного нет, и не только &
потому, что субъекты приходят в него уже покоренные, ера- SJ
женные самим фактом существования аналитиков, — и, зна- н
чит, существованием Фрейда — и по этой причине ни с какой *
конкретной фигурой дела не имеют. То, что является фактором
переноса — это не фигура аналитика, а аналитическое
знание. В этом смысле именно с теорией анализируемый субъект
и имеет дело, хотя безоговорочно назвать анализ
«теоретической деятельностью», безусловно, нельзя.
При этом именно как теоретическое рассмотрение, как
своего рода рекурсия с захватом и актуализацией доаналитического
знания, анализ и организован. Так, анализируемый никогда не
бывает до такой степени не осведомлен о феномене анализа,
чтобы не иметь необходимости постоянно, на каждом этапе
анализа, сталкиваться со следствиями своей посвященности,
подвергая ее переоценке. Так, если говорить о том же переносе, то
мнение, согласно которому анализант находится по отношению
к нему в какой-то менее теоретической и более
непосредственной позиции, нежели аналитик, является ошибочным. Субъект
вовсе не вступает в перенос как в морок, как в состояние транса.
Не подходит он к нему и так, как подходят к святому причастию.
Напротив, — точно так же, как и любой аналитик, — он имеет
дело с явлением ему самому непонятным, вызывающим у него
размышления, и не стоит думать, что он не отдает себе в этом
отчета. Напротив, если в состоянии субъекта, поступающего
в анализ, и есть какое-то Воображаемое, то состоит оно не в том,
что он одурманен переносом, а в том, что существующее у него
предпонимание этого явления находится на уровне содержания
высказывания, тогда как на месте акта в ходе анализа выпадает
нечто иное.
Момент этого выпадения Лакан фиксирует при помощи
двухмерного аналога кляйновской поверхности, который он I 205
Желание одержимого
Q.
О
(V
О
U
ш
о
X
03
U
о
ш
τ
m
DC
m
оз
χ
m
О
Q.
m
eu
206
именует «внутренней восьмеркой». Восьмерка эта является
иллюстрацией возникающего в аналитической ситуации
эффекта самопересечения.
Я попытался дать о топологии этого сюжета
наглядное представление, нарисовав фигуру,
которую назвал в свое время
«внутренней восьмеркой».
Это нечто, напоминающее
собой знаменитые круги
Эйлера с той лишь
разницей, что речь здесь идет
о поверхности. Кромка ее
непрерывна, но есть точка,
в которой она уходит за
поверхность уже
развернутую.
Поверхность эта
принадлежит на самом деле
другой поверхности,
топологию которой я в свое
время описывал —
поверхности, известной
под названием бутылки
Кляйна... Попрошу
обратить внимание на одну ее
характеристику, которая
легко бросается в глаза...
для того, чтобы
оказаться замкнутой, она
обязательно должна пересечь
поверхность по линии,
которую я только что на
второй модели воспроизвел.6
Если и существует то, для
чего емкость Кляйна,
выросшая из внутренней восьмерки,
6 Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа, с. 166-167.
Глава 9
подходила бы наиболее удачным образом, то это само воспро- 51
изводство психоанализа — аналитическая мысль в ее связи о
с желанием аналитика. | о
"Л
2)
Вывод этот лежит у Лакана на поверхности. Иллюстрирует
его указание на то, что аналитик не просто вызывает перенос, .
связанный со знанием, но и становится жертвой необходимо- п>
сти истолковать само понятие переноса так, чтобы его собст- ^
венная тревога по поводужелания Фрейда не стала слишком ξ
сильной. Лакановская пародия на различные способы понима- &
ния переноса в зависимости от организации желания конкрет- 5J
н
показывает, что никакого чистого желания аналитика, кото- I gj
рое выступало бы профессиональной максимой, не
существует. В этом плане бессмысленно применять к психоанализу тот
поистине кантианский подход, с которым к нему подступаются
некоторые авторы психоаналитических текстов, посвященных
этому желанию.
Есть у этой фигуры закономерная
особенность — для того, чтобы оказаться замкнутой,
она обязательно должна пересечь поверхность на
линии, которую я только что на этой модели
воспроизвел... Все зависит от этой линии, которую
мы назовем линией желания... Каково оно — это
желание? Вы думаете, наверное, что именно здесь
я усматриваю инстанцию переноса? Вы сами
поймете, что здесь не все так просто, когда я дам вам
понять, что это желание аналитика.7
В этом смысле пресловутый перенос, как мы уже увидели
на предмете лакановской шутки про «наших аналитиков»,
выступает в двойственности, которую невозможно списать на
наличие двух «видов» или же «типов» переноса, один из которых
касался бы только анализируемого субъекта и его отношений
с фигурой его аналитика, а другой парил бы в воздушных
эмпиреях исторического развития самой аналитической теории.
Перед нами, очевидно, то воображаемое раздвоение, которым
характеризуется используемая Лаканом форма, горлышко ко-
Лакан Ж. Там же, с. 167. I 207
Желание одержимого
CL
О
<υ
ь
>x
о
χ.
ω
о
ζ
03
m
О
ω
τ
гп
ce
m
ω
ζ
m
О
О.
m
<υ
Χ
торой совпадает с ее телом и в то же время требует
рассматривать себя как нечто отдельное, создающее эффект сепарации.
Именно этот момент обманчивой сепарации особенно ярко
сказывается тогда, когда дело касается анализа
дидактического, и Фрейд не случайно заповедовал ни в коем случае
не рассматривать такие анализы как нечто отдельное и
привилегированное. При этом отсутствие привилегированности
заключается не в том, что дидактический анализ
производится над субъектом, обладающим обычным невротическим
расщеплением, а в том, что любой анализ устроен точно так же,
как и анализ дидактический — в нем имеет место описанное
самопересечение на уровне желания, вызванное
существованием тревоги самого Фрейда. Если это самопересечение не
анализируется вплоть до пункта, в котором субъект
становится аналитиком, то так происходит не потому, что акт такого
анализа чем-то отличен или уступает по сложности, а лишь
по той причине, что не собирающийся становится аналитиком
просто-напросто выходит из анализа с другими намерениями.
Необходимо раз и навсегда развенчать предположение о том,
что у подобных анализов могут быть разные цели — любое их
различие касается лишь того, что находится за пределами
аналитического вмешательства. Устройство их идентично, но это
устройство вывернутой поверхности, которая иллюстрирует
эффект различия на месте самопересечения.
В этом плане любой субъект, вступающий в анализ, имеет
дело с тревогой его основателя, а стало быть, и с тем, что
выходит за пределы этой тревоги, поскольку желание основателя
психоанализа также, как и любое желание, является
желанием другого. Именно это отличает психоаналитическую
практику от прочих видов прикладной психологии, — будет ли это ге-
штальтпеихология или же символдрама, — которая стремится
к тому, чтобы щекотливые перипетии желания ее основателя
не имели в этой практике никакого значения. Напротив, в
анализе без этой щекотливости не обойтись, и эта необходимость
лежит также в анализе симптома навязчивости, по существу
представляющего собой плод желания проанализировать себя
без аналитика.
Глава ю Одержимость
и ее объект
В структуре навязчивого желания есть еще один
дополнительный элемент, который напрямую в нем не присутствует
и обнаруживается обычно только по мере того, как субъект
продвигается к концу своего анализа Этим элементом
является истина, с инстанцией которой субъект навязчивости также
вступает в особые отношения, и ее присутствие в анализе
может послужить серьезным препятствием к его окончанию
Лакановский подход показывает, что истина, вопреки
распространенному мнению — это не тот компонент, на
котором мог бы основываться акт аналитического вмешательства.
Очевидно, что перенос в том виде, в котором он был открыт
и выпестован Фрейдом, очень быстро снимает о ней вопрос,
поскольку любая степень готовности со стороны анализанта
услышать нелицеприятное и, возможно, даже сокрушительное
суждение аналитика наталкивается не на разоблачение,
которого требует истина, а на интерпретацию. Интерпретация же,
как показывает Лакан, даже исходя из места,
соответствующего в аналитическом дискурсе месту истины, является при этом
продуктом знания аналитика. Направлять анализ в сторону
разыскания истины — значит выйти за его пределы.
Я предостерег психоаналитика от того, чтобы
место, с которым он обручен знанием, метить
любовью. Я сразу сказал ему: на истине не женятся,
брачного контракта с ней не подписывают, а во
внебрачную связь и тем более не вступают. Она
ничего подобного не терпит. Истина — это в
первую очередь соблазн, она для того, чтобы вас
одурачить.8
Лакан Ж. Изнанка психоанализа, с. 233
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
210
Тем не менее, до анализа субъект навязчивости находится
с истиной в отношениях особого и даже близкого рода.
Любовью эти сношения не назовешь, но лишь по той причине,
что такой субъект считает себя истины недостойным. Тем не
менее, кружение возле нее он не прекращает и, более того, все
описанные в предыдущих разделах перипетии его
взаимоотношений со знанием, приводящие его навязчивый невроз к его
развернутой форме, он сам на глубоко бессознательном уровне
воспринимает как свои отношения с истиной. Именно в этом
состоит его основное заблуждение. Все свои усилия невротик
навязчивости направляет на организацию дистанции с этой
предположительной истиной, являющейся объектом его
поисков. В то же время именно против нее разрабатывается им
цепь ритуалов, обсессивных задержек и прочих характерных
для навязчивости мер, которые необходимо рассматривать как
меры предосторожности. Вся траектория движения
навязчивого субъекта в желании в целом характеризуется отступлением,
удержанием на расстоянии, постоянным откладыванием —
жестами, которые в силу инерции распространяются на
житейские ситуации и процессы, но при этом имеют в своей основе
отношения с гораздо более базовой инстанцией, благодаря
которой «одержимый поддерживает свое желание на уровне, где
препятствия, которые он встречает, непреодолимы».9
Толкований этого широко распространенного в клинике
навязчивости явления много, но все они до Лакана оставались
объяснениями скорее конституционального характера — речь
шла об особенностях организации пораженного неврозом
психического аппарата. Исследование навязчивости, изменяя
свои черты в зависимости от клинической школы,
поддерживающей ту или иную концепцию строения этого аппарата,
таким образом не двигалось с места. Движение стало возможным
лишь в тот момент, когда изменилась сцена, на которой
навязчивый субъект располагался в анализе, после чего он оказался
в окружении совершенно иных элементов, которых до лака-
новского вмешательства в аналитическом подходе просто не
существовало. Элементы эти — знание, тревога и истина —
поместили представление о желании невротика навязчивости
в совершенно иную ситуацию, где характерные для него пси-
Лакан Ж. Тревога, с. 402
Глава ίο
хические движения оказались поставлены в зависимость не от О
I Ji
симптома и его бессознательных конфигураций, а от связей .g
с инстанциями, носящими для субъекта в своем роде универ- Эе
сальный характер. Наиболее общие, типичные, — хотя и не s
стереотипные для каждого навязчивого субъекта, — жесты q
повторения или же избегания, лежащие в основе стратегий ξ
навязчивости, отсылают к этим инстанциям и именно в отно- β
шениях с ними получают повод для воспроизводства. о
По этой причине искать корень собственно «одержимо- &
сти» (obsession) необходимо не в отдельных ее проявлениях, | *
а именно там, где субъект в целом ведет себя как обсессивный,
завороженный. Завороженность эта настолько ярко носит
черты поиска, навязчивого кружения подле некоего пункта, что
охарактеризовать этот пункт как «истину» не составляет
никакого труда. Именно так истина функционирует в той известной
нам культуре, где современный субъект навязчивости
собственно и возникает, и где истина даже в наиболее
рафинированном, отведенном для нее поле философского знания всегда
в известной степени провоцирует состояние ажитированной
одержимости.
Именно поэтому Лакан задается вопросом, что именно
у невротика навязчивости находится на том месте, по
отношению к которому он ведет себя так, будто бы там присутствует
истина. Ответ на него находится в семинаре, известном под
названием «Тревога», где истина представлена в виде
объекта, обладающего особыми чертами, обеспечивающими с одной
стороны как ее выход на сцену навязчивости, так и
невозможность присутствие ее на этой сцене отследить.
Семинар «Тревога» является собранием наиболее
малоизученных и темных для аудитории лакановских заявлений. В то
же время работа с ним необходима, поскольку более
исчерпывающего подхода к обсессивной первопричине в более чем
столетней истории психоаналитического освоения навязчивости
просто не существует.
Первым делом Лакан замечает значимое для одержимости
несовпадение, которое чрезвычайно трудно воспринять, стоя
на философских позициях, но которое в то же время
определяет структуру желания субъекта, имеющего навязчивые черты.
Несовпадение это отделяет пресловутую «истину» от того, что
в лакановском анализе носит название «тревоги». Для взгляда, I 211
Желание одержимого
CL
О
CU
I-
о
CÛ
О
χ
ω
m
u
Ο
m
τ
ОС
m
(Ό
χ
m
Ο
CL
m
eu
Χ
212
отмеченного гуманитарным пафосом, несовпадение это
скандально, поскольку с общей точки зрения тревога должна была
бы идти с истиной рука об руку — иначе вся существующая
философская возгонка т.н. «ценности философского
познания», которой постоянно придают героические,
трансгрессивные черты, лишается своего смысла. Тем не менее, в анализе
корреляция между тревогой и истиной выдает присущую ей
обманчивость, поскольку истина, даже вызывая у субъекта
сильное беспокойство, для того и служит, чтобы тревогу
экранировать.
Итак, вот она — тревога.
Мы давно знаем, что она замаскирована,
отодвинута на задний план так называемым
амбивалентным отношением одержимого — отношением,
которое мы упрощаем, редуцируем, а то и вовсе
игнорируем, сводя его к агрессивности, хотя на
самом деле речь идет о совершенно другом.
Объект, которым субъект, удерживая его, дорожит,
является всего лишь отбросом, излишком.10
Мысль, заключенная в этом отрывке, остается непонятной,
если не вынести из него то, что объект желания обсессивного
невротика воспринимается им как навязанный извне.
Глубина этой мысли и ее значение для психоаналитической
клиники определяется тем, что данный момент задает направление
всему анализу, который без руководства, имея дело с внешне
покладистым и открытым переносу невротиком навязчивости,
зачастую блуждает в потемках, не понимая, что именно этим
невротиком в его желании движет. Всякий раз, имея дело
с жалобами такого невротика на внешний и потусторонний
характер его навязчивостей, стандартный аналитик естественно
склонен искать их место в самом субъекте, давая тому понять,
что за всеми причудами его психики ему надлежит искать себя
самого. При этом правота слов навязчивого невротика
остается недооценена — если привычная обсессия или бытовая
компульсивность и выступают в роли защиты, поддерживаясь
субъектом, то отвечают они тому, что приходит извне, — не
10
Лакан Ж. Тревога, с. 409
Глава ίο
из «мира», а из области, где невротичный субъект имеет дело О
с тем, что в терминах Лакана выступает как «отброс». _g
Отброс этот, как уже было показано в предыдущих главах, 36
выступает в неврозе навязчивости на разных уровнях. Так, 2
в области соискания признания субъект имеет с ним дело как η
с отчужденной, брошенной как отработанныйматериал трево- ξ
гой другого, к успехам которого обсессик ревнует. В области g
любовной отброс этот выступает как то наиболее отталкиваю- о
щее, что невротик обнаруживает в желании партнера, который &
намерен им насладиться. Но за всеми этими формами обнару- I *
живается объект иного рода, на котором субъекту приходится
задержаться и который, организуя его бытие как
симптоматическое, в то же время придает ему смысл. Именно для этого
невротику навязчивости так необходима пресловутая истина,
склеенная в его положении с тем, что психоанализ распознает
как объект, а лакановский анализ, придав ему более выпуклую
форму, именует объектом а.
Итак, истина для невротика навязчивости выступает как
объект. Что такое объект в психоаналитической перспективе,
аналитикам более-менее известно: речь идет об объекте
частичном, о предмете того, что Фрейд называл partialtrieb,
частичным влечением. Шаг, сделанный здесь Лаканом, поистине
необычен, поскольку, пойдя дальше Фрейда, он впервые
выводит истину за пределы того дискурса, которому до того она
преданно служила — дискурса философского, где истина
получает изображение максимально идеализированное. Лакан
показывает, что в экономике желания истина может быть именно
объектом и что обращаться с ней следует как с явлением,
вызывающим замешательство на уровне сексуального влечения.
Именно в форме вмешивающегося в его бытие объекта
истина и дана невротику навязчивости — факт, являющийся от
него самого вплоть до собственного анализа скрытым,
поскольку желание его неизменно организовано как конспирологиче-
ское: имитация поиска якобы скрытой истины пронизывает все
его побуждения. Навязчивый невротик — ив этом состоит его
наиболее существенная черта, с учетом которой к нему надо
подходить клинически — ошибочно и систематически
принимает за истину то, что дается ему как знание. Знание, как было
показано выше — это все, что он наблюдает (или домысливает)
в своем постоянном кружении возле Другого, которому уделя- I 213
Желание одержимого
CL
О
CU
I-
о
CÛ
О
X
ω
m
u
о
ш
τ
ОС
ш
ω
X
m
О
CL
m
<υ
Χ
214
ет большую часть своего времени. Путаница постоянно
усугубляется, поскольку действия этого Другого невротик склонен
принимать за истинную причину своего влечения.
Подлинно аналитическим шагом в этой ситуации
является разворот, в ходе которого обнаружится то воодушевление,
которое навязчивый субъект питает по поводу объекта,
лежащего от его знания несколько в стороне и при этом
обуславливающем его отношения с Другим. Как правило, —
аналитический опыт не дает в этом отношении обмануться, — речь идет
об объекте фекальном. Субъект навязчивости обречен на то,
чтобы обнаруживать этот объект как отброс — отброс
предположительно ценный, но в то же время носящий черты,
повергающие субъекта в состояние глубокого сомнения относительно
его статуса.
Связь этого объекта с желанием субъекта навязчивости
с одной стороны постоянно удостаивается упоминания в
аналитической литературе. С другой стороны роль этого объекта
является не проясненной — сама структура, в рамках которой
обсессивный субъект вступает с этим объектом в отношения,
остается смазанной и неполной.
В первом приближении анальный тип отношений,
формирующий горизонт навязчивости, сказывается там, где
деятельность Другого производит на свет нечто такое, что навязчивый
субъект считает постыдным. Так происходит не потому, что
деятельность эта никчемна, а поскольку она, напротив, с
точки зрения невротика навязчивости является многообещающей.
Тем не менее, та сверхценность, которую он этой деятельности
придает, сама по себе напоминает ни о чем ином, как о той
фантазматической ценности, которую субъект приписывает
фекальному объекту.
Тем самым высвечивается истинный смысл того
диалектического затруднения, в котором находится субъект, колеблясь
между соперничеством с признанным другим и критическим
отношением к нему. Претензии, предъявляемые одержимым
находящемуся в поле его внимания объекту, тревогу которого
он присваивает и с которой в конечном счете
идентифицируется, адресованы тому, что в этом объекте распознается им как
продукт. Продукт этот для субъекта навязчивости носит
анальные черты изначально, и в этом смысле все конкретные
претензии к нему являются ни чем иным, как рационализацией.
Глава ίο
Рационализация эта безусловно плодотворна в социальном О
смысле — в конечном счете, как же говорилось, именно она _g
позволяет субъекту выносить как моральное суждение, так 36
и суждение вкуса, отделяя удачные стороны поступка или 2
продукта, производимого другим, от промахов в реализации η
заявленного намерения. Именно так организовано, например, ξ
типичное суждение в области литературной или философской, g
где подлежащий суждению продукт восхваляется за обозна- о
ченную им творческую или интеллектуальную цель и в то же σ1
время упрекается за форму, в которую воплотилось намерение I *
эту цель реализовать. Нетрудно заметить, что именно так
организовано дискуссионное поле современности, где оппонента
ловят именно на тех соблазнах, которым он активно призывал
окружающих не поддаваться, но тем не менее поддался им со
своей стороны, — будь это соблазн интеллектуального или
художественного приема, влияние идеологии или обманчивость
средств массовой информации.
Тем не менее, с точки зрения обсессивного отношения к
объекту все суждения такого рода остаются именно
рационализацией. По сути, субъект навязчивости не в состоянии решить,
удовлетворен он объектом, за которым ведет наблюдение, или
же, напротив, раздосадован. Очарованность и глубокая
разочарованность идут здесь рука об руку. Колебания на этот счет,
которые оценивающий субъект испытывает, могут им самим
восприниматься как признак интеллектуального продвижения
или как рост критической искушенности в отношении
предмета своих наблюдений (и так вполне может быть с точки зрения
профессиональной), но при этом со стороны инстанции
истины ничего не меняется — объект сохраняет свою
двусмысленность, оставаясь объектом, не имеющим ко всем хорошо
знакомым невротику перипетиям с Другим прямого отношения.
То, возле чего колеблется навязчивый невротизированный
тип, является для него самого непрозрачным. Непрозрачность
эта в то же самое время невротику необходима, поскольку она
позволяет ему минимизировать тревогу, характеризующую его
отношения с объектом.
Я наметил путь возвращения к первичному
объекту, коррелятом которого и служит
тревога — ведь именно здесь обнаруживается причина I 215
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
216
возникновения и ее роста по мере того, как
анализ навязчивого невротика идет к своему концу...
Вопрос, таким образом, остается открытым...
Вопрос о том, что именно представляет собой
и откуда идет это вмешательство желания в роли
защиты, защиты против первого желания,
делающей все, чтобы сроки того, что назвал я
возвратом к объекту как можно дольше оттянуть...
То, чего одержимый, возобновляя тяжбу
желания ищет, и есть та причина, которая процесс
приводит в движение. А поскольку причиной этой
является не что иное, как... пакостный,
смехотворный объект, то субъект и остается в его
поисках, которые он продолжает... кружась на одном
месте до бесконечности.
Понять это можно лишь при условии, что
центральное место мы отведем желанию
сексуальному или, как еще говорят, генитальному.11
Разгадка собственно феномена одержимости находится
именно здесь. Принято считать, что невроз носит
наименование «навязчивого» по той причине, что субъект подвержен
обсессивным и компульсивным симптомам, вмешивающимся
в его бытие помимо его воли. Мнение это максимально долго
удерживалось в психологическом и медицинском сообществе,
и лишь Лакану удалось показать, почему в таком виде оно
бессмысленно и в каком именно аспекте оно действительно имеет
смысл. Навязчивым, или же одержимым субъект является не
потому, что он вынужден совершать нелепые с его точки
зрения действия, а по той причине, что в его желание
вмешивается желание другого плана.
Другими словами, существо навязчивости сводится к
вмешательству, которое субъект переживает на уровне желания.
Собственно то, что в клинике рассматривается как
навязчивый симптом в узком смысле, представляет собой лишь
репрезентацию, остаток более базовой формы этого
вмешательства. Уклониться субъект навязчивости не может не столько
от симптома, сколько от объекта, присутствие которого зна-
11 Лакан. Ж. Тревога, с. 397-398.
Глава ίο
менует присутствие другого желания. Именно это заставляет О
его проявлять черты одержимости. Объект, связанный с этим _g
другим желанием, намертво застревает в желании его собст- 36
венном, и вырваться из этого состояния субъекту не удается. 2
В то же время с другой стороны его подгоняет, торопит другое η
желание — то самое, остающееся для анализа ключевым и в то ξ
же время наиболее мало изученным — желание генитальное, £
с которым у субъекта навязчивости выстраиваются особые от- о
ношения в том числе и потому, что в навязчивом симптоме оно σ1
до известной степени становится от анального желания для | 5
субъекта почти неотличимо.
Именно здесь раскрывается смысл загадочного и по своему
наименованию и по форме «желания удержать». К желанию
без помех объектом насладиться, придержав его для себя,
оно нисколько не сводится, хотя многие данные, полученные
Фрейдом, долгое время заставляли его думать именно так. На
деле то, что субъект удерживает и, главное, во имя чего,
остается для него самого глубоко непонятным. Миф, будто
субъект знает, — пусть бессознательным образом, но знает, — что
именно и для чего им придерживается на анальном уровне, до
определенной степени является мифом самого
аналитического знания. Миф этот на определенном этапе развития этого
знания был необходим, и, тем не менее, он является именно
мифом, позволяющим возложить на субъекта определенную
ответственность за испытываемое им наслаждение.
Наслаждение это долгое время служило опорой интерпретации —
без его допущения и разоблачения фрейдовский подход не
смог бы состояться. В то же время оно не исчерпывает того,
что именно в навязчивости происходит, поскольку если
субъекту и доступно наслаждение на анальном уровне, то только
по той причине, что оно сопряжено с насилием определенного
рода.
Насилие в данном случае не сводится к его пассивному
и выжидающему переживанию — напротив, субъект берет
вмешивающееся в его структуру желание целиком, со всеми
его последствиями. Тем не менее, присущая ему на этом этапе
агрессивность, к которой в силу заданных Фрейдом начальных
условий классический анализ оказался так чувствителен,
обусловлена не поиском наслаждения, а реакцией на то
вмешательство, которое он претерпевает. I 217
Желание одержимого
CL
О
CU
I-
о
CÛ
О
X
ω
m
u
о
ш
τ
ОС
ш
ω
X
m
О
CL
m
<υ
Χ
218
Данное вмешательство оборачивается на краткий миг
воодушевлением — субъект, поставленный перед требованием
и им ангажированный, ищет опоры в пресловутом Я-идеале
и тем самым в некотором роде убежден, что дело его правое
и что в данный момент от него требуется какой-то поступок.
На этот поступок он оказывается в целом способен, и
именно это обуславливает ту картину навязчивости, которая ко
времени обращения к аналитику дозревает до такой степени,
что в анализ субъект приходит во всеоружии, готовый
выступить на стороне того, что кажется ему неправильно понятым
и оскорбленным — будет ли это идеал этический или же
интеллектуальный. Именно это обычно видит аналитик, и данная
картина поначалу, если он не имеет в понимании навязчивости
ориентира, убеждает его в том, что субъекту требуется свою
агрессивность как-то преодолеть. Здесь, как замечает Лакан,
и возникают типичные варианты лечения, обслуживающие эту
аналитическую неопытность и сводящиеся к попыткам
аналитика продемонстрировать навязчивому субъекту
безосновательность его желания — путь, ни к чему, кроме пробуксовки
анализа, не приводящий.
Построить работу со страдающим неврозом
навязчивости вокруг агрессивности — означает
положить в ее основу — пусть даже невольно —
подчинение желания субъекта желанию
аналитика... Оно идентифицируется в данном случае
с идеалом позиции, которую аналитику, как он
предполагает, удалось занять, идеалу, перед
которым желанию пациента остается лишь
преклониться.12
Самообман, которому подвержен такой анализ,
заключается в том, что вызывающее агрессивность вмешательство
объекта в структуру желания нельзя ни остановить ни
нормализовать. Аналитик над этим вмешательством не властен,
оно происходит на уровне, где субъект предрасположенный
к неврозу навязчивости, — то есть, фактически субъект как
таковой, — проходит через стадию, на которой для этого вме-
12 Лакан Ж. Там же, с. 411.
Глава ίο
шательства складываются условия. Стадия эта естественным О
образом соответствует тому самому объекту, возле которого _g
разворачивается драма истины — стадии анальной, к которой X
субъекту от стадии предшествующей, оральной, приходится 2
каким-то образом перейти. Оригинальность, основанная на q
лакановском опыте, заключается здесь в том, чтобы увидеть- ξ
новый смысл этого перехода: вместо того, чтобы усматривать £
здесь, частично опираясь на фрейдовский подход, замену одно- о
го (орального) объекта другим (анальным), с помощью контек- | £
ста навязчивости удается разглядеть в этом переходе событие
совершенно иного порядка. Лакан не случайно обращает
внимание на то, что объект оральный, будучи общепризнанным
объектом первичной потребности, тем не менее, на
протяжении всей первой стадии сексуального развития демонстрирует
часто не замечаемые, но важные черты сепарации, что
делается заметно как в случаях его замены объектом искусственного
вскармливания, так и в тех случаях, когда ребенок с грудью
играет. Другими словами, желание оральное изначально
сформировано как желание, вольное с объектом расстаться.
Неверно прежде всего уже то, что ребенка от
груди отнимают. Он ее отпускает сам. Он
отделяется, то отпуская грудь, то беря ее вновь — для
него это игра.13
Совершенно иначе обустроена связь субъекта с объектом
анальным. Объект этот, при всей его важной роли в жизни
субъекта, так или иначе демонстрирует по отношению к
последней признаки вторжения. За той неоспоримой стороной
его бытия, что связана с ним как с объектом требования
Другого (что многими аналитиками, начиная с Фрейда, считается
основанием для желания в ответ на это требование спрятать
объект и удержать), оказывается скрыта важная часть
отношений, в которой объект этот оказывается входными воротами
для вторгающегося в структуру желания чуждого ему
элемента — какого-то другого желания. Глубоко лежащее за более
заметным и привычным для исследователей анальным эротизмом
переживание, связанное с этим объектом, заключается в том,
13 Лакан Ж. Там же, с. 407 I 219
Желание одержимого
CL
О
eu
I-
О
CÛ
о
ζ
ω
χ:
(Ό
m
u
Ο
ш
τ
m
CC
Ш
(Ό
Ζ
m
Ο
Q.
ffl
<U
Χ
220
что для желания он сам оказывается инородным телом —
объект этот не только требуется Другому, но и в предыдущем
логическом такте Другим же и привносится.
Привнесение это, в отличие от уровня выраженного в речи
требования уступить анальный объект, остается для этого
Другого также совершенно бессознательным. Тем не менее,
несомненно, что именно оно вызывает те случаи ярко
выраженной и распространенной поруки в отношениях субъекта
с ближайшими ему Другими, начиная с отношений
материнских, основанных на кормлении и в дальнейшем на контроле
за выходящим продуктом пищеварения, и заканчивая более
сложными формами, в которых может иметь место передача
знания — например, в отношениях образовательных, где
оценка продукта, основанная на чисто анальном поощрении,
является ведущей.
Именно здесь возникает у субъекта «желание удержать»,
являющееся опосредованным — удержание, вызванное не
предположительной ценностью объекта и связанного с ним
наслаждения, а необходимостью каким-то образом принять
брошенный посредством вторжения этого объекта вызов. Субъект
не может от этого вызова отказаться — вот та первичная
единица, матричная клетка одержимости, черты которой в
дальнейшем, когда субъект сталкивается со своей генитальностью,
приобретают такие сложные и многокомпонентные формы.
Именно на этом заостряет Лакан внимание, настаивая на
вещи, для аналитического опыта беспрецедентной — на том,
что процесс, ранее зафиксированный Фрейдом под названием
«торможения», находит свое воплощение не в неврозе, а в той
новой ситуации, которую привносит с собой объект анального
влечения еще на ранних стадиях развития.
Первая форма в эволюции человеческого
желания оказывается тем самым сродни
торможению. Появившись впервые на втором уровне,
в сформированном виде, желание
противодействует тому самому акту, в котором оригинальность
желания как такового дала на предыдущей стадии
о себе знать.14
14 Лакан Ж. Там же,с.408.
Глава ίο
Субъект тем самым оказывается обречен на торможение О
фактом уже того, что ему не дают на оральном желании задер- .g
жаться. Удержание, исходящее от одержимого субъекта, воз- Эе
никает именно в этот момент. Анальный объект, возникающий 2
в мире субъекта вместе с чисто гигиеническими процедурами | η
приучения к культурному отправлению своих нужд, буквально
означает, что теперь есть нечто, что субъект принципиально I £
не в состоянии переварить, усвоить. Та двусмысленность, ко- о
торой фекальный объект отмечен, не может сводиться только | σ1
к проницательности первых психоаналитиков, подметивших,
что субъект в нем кровно заинтересован со стороны анального
наслаждения — хотя это, безусловно, тоже так.
Двусмысленность в любом случае возникает по той причине, что объект
этот неизбежно является предметом возни, суеты,
устраиваемой Другим, который этот объект от субъекта требует. Иными
словами, с данным объектом постоянно обращаются как с
первопричиной, с базовой истиной происходящего, и для
субъекта эта часть истории всегда в своей основе остается
глубоко непонятной. При этом недоумение, которое он подспудно
испытывает, не мешает ему немедленно в экономику точно
такого же обращения с этим объектом встроиться, поскольку
непонимание причин его возвышения нисколько не лишает его
притягательности.
Тем не менее, в случае развитой навязчивости
существует еще один аспект, который побуждает субъекта на анальном
объекте дополнительно задержаться. Выгода этой задержки
связана с отсрочкой, к которой субъект уже приучен на
анальном уровне и которая позволяет ему обращаться с
объектами так, как если бы они не содержали в себе ничего кроме
адресованного через них к субъекту требования. Требование
субъект может сколь угодно долго отклонять, что чрезвычайно
способствует характерной для навязчивости прокрастинации.
При этом вмешательство другого уровня влечения он также
воспринимает как требование, пренебрегая своей ошибкой на
этот счет.
Именно с этим связано то, что первые аналитики
воспринимали как «незавершенность сексуального развития» или же
«регрессию», побуждающую субъекта по возможности
уклоняться от того, в чем классический психоанализ видел его долг
и добродетель — от генитального отправления. I 221
Желание одержимого
CL
О
CU
I-
о
CÛ
о
ζ
ω
χ:
(Ό
m
υ
Ο
ш
τ
m
CC
Ш
ω
ζ
m
Ο
Q.
ffl
<U
Χ
222
Ведь желание одержимого, само наличие его,
как и его механизм, мыслимы лишь постольку,
поскольку оно восполняет то, что в другом месте
восполнить нельзя. Одержимый, одним словом,
как и всякий невротик, уже достиг фаллической
стадии, но поскольку получить удовлетворение от
генитального желания для него невозможно, как
раз и является на свет божий объект, экскремен-
тальное а, причина желания удержать.15
Желание это, даже будучи, как выше было сказано,
ловушкой, капканом, держащим субъекта гораздо сильнее, чем
способен его поддерживать он сам, тем не менее, несет
определенные выгоды. Именно поэтому обсессик раз за разом объект
этого желания избирает в качестве привилегированного.
Выгода, по замечанию Лакана, заключается в том, что субъект,
сделав вид, что ему не оставляют выбора, имеет возможность
пресловутое генитальное желание перелицевать под анальное.
Весь присущий этому субъекту пафос, его упорство в
отношении истины, за которую он склонен выдавать свое шпионское
знание о Другом, все силы, которые он направляет в сторону
того, что Лакан называет «обсессивной жертвенностью»,
поддерживаемой Я-Идеалом, соответствия которому он требует от
тех, кого в качеств агента сопровождает и ловит на лжи — все
это возможно только в том случае, если невозможно
генитальное желание само по себе.
Желание навязчивого субъекта поддерживает
себя старательным перебором возможностей
сделать происходящее на генитальном и
фаллическом уровне невозможным... Главное для него —
это добиться, чтобы желанию его ни за что не
было позволено проявить себя в действии.16
Именно в этом смысле навязчивый субъект до известной
степени чувствует себя неуловимым — пока он не сделал шага,
не проявил желание в действии, он в известной степени ни-
15 Лакан Ж. Там же, с. 398
16 Лакан Ж. Там же, с. 401
Глава ίο
чем не рискует. В то же время неуловимость эта, как было О
показано, иллюзорна — именно она оборачивается той спе- .g
цифической изоляцией, которая сосредотачивает невротика Эе
навязчивости возле его жертвенной и небезопасной миссии, s
расплатой за которую являются как обсессивные симптомы, q
так и те специфические, напоминающие фобии явления, чрез- ξ
вычайно часто такого субъекта в его жизни сопровождающие. β
Фобии эти, делая субъекта заметным и выделяя его из толпы, о
I о\
в то же время постоянно говорят об угрозе небытия, и это за- о1
кономерно, поскольку бытие одержимого всегда находится под | *
большим вопросом. Не давая Другому повода судить о его
собственном желании и его продукте, навязчивый субъект
вынужден вместо этого, обслуживая тревогу Другого и соперничая
с ним, оставаться для всех прочих, кто эту борьбу наблюдает
или о ней догадывается, лишь образом, намеком на некие
возможности, остающиеся неосуществленными.
Поддержание этого образа и есть то, что
побуждает одержимого так настойчиво поддерживать
по отношению к себе ту дистанцию, устранить
которую как раз и бывает в анализе трудней
всего. Именно поэтому один известный аналитик...
стал жертвой иллюзии, будто в самой дистанции
и заключается здесь вся суть дела. Но дистанция,
о которой здесь идет речь — это та дистанция
субъекта по отношению к нему самому, в силу
которой все, что он делает, остается для него, пока
он не начал анализа и предоставлен своему
одиночеству, чем-то таким, что воспринимается им
в итоге всего лишь как игра — игра, выгоду от
которой получает в конечно счете лишь другой...17
Как кажется, в этой игре обсессивного невротика
интересует многое — запальчивая дискуссия, которую он ведет со
своим Другим (на самом деле абсолютно глухим к нему),
никогда не замолкает и постоянно поддерживает его в активном
состоянии. Тем не менее, как справедливо замечали многие
аналитики в том числе и до Лакана, одержимому в конечном
17 Лакан Ж. Там же. I 223
Желание одержимого
Q-
О
CU
н
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
α:
ω
ίΌ
ι
m
Ο
Q-
ω
<ν
счете не хватает сосредоточенности на объекте; ему недостает
желания, из-за чего его интерес чрезвычайно редко доходит
до точки, где он мог бы получить воплощение в каком-либо-
продукте, где нашла бы выражение его собственная тревога.
Единственное, что может по-настоящему его заинтересовать
и поколебать контуры прокрастинации, в которых его
желание постоянно откладывается — это такой Другой, который,
предъявляя определенное знание, в обслуживании его тревоги
не нуждается. Если в анализе для этого находятся условия,
то лишь по той причине, что бремя собственной одержимости
психоаналитическая практика преобразует в продукт позиции
аналитика.
Приложение:
Лекция «Современный женский
субъект: истерия и обсессия»
I
Сегодня мы вплотную подойдём к измерению, которое
можно назвать клиническим, поскольку речь в нем пойдёт о типах
невротизации. С этими типами, как правило, большинство из
наших слушателей знакомы даже в том случае, если не совсем
хорошо ориентируются в лакановской пропедевтике. Так или
иначе, мы знаем, что этих типов два и что все происходящее
в клинике, имеющей психоаналитическое измерение и им
управляемой, происходит под знаком либо истерии, либо невроза
навязчивости. При этом для неофита здесь расставлена ловушка,
поскольку каждому из этих неврозов так или иначе приписан
определенный пол — истерия в основном уходит на женскую
половину, тогда как навязчивость в целом остается одним из
спорных достоинств мужского типа развития. С определенной
стороны это должно казаться крайне странным — тем более
в свете того, что существует, как известно, дискурс науки.
Будучи почетным представителем этого дискурса, речь медицины
с самого начала делает всё, чтобы от измерения пола уйти:
заболевание, за исключением редких случаев поражения
репродуктивной функции, никак не связано в речи медика с полом.
Мы привыкли к этому как к чему-то совершенно естественному
и тем самым не замечаем того влияния, которое вселенная
науки под видом сотрудничества с демократическим прогрессом на
субъект оказывает, подталкивая его к тому, чтобы совершенно
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
226
с метафорой пола порвать. Другими словами, нам доступны —
по крайней мере в виде соблазнительных слухов — достижения
научно-технической революции, но при этом мы никогда не
понимаем полностью, какое место она отводит нам в дискурсе.
Место это абсолютно прозрачно и сводится к тому, что
можно было бы назвать даже не бесполостью — потому что
бесполость это нечто относящееся, скорее, к эпохе
мифологической — а, скорее, вне-полость, нечто внеполовое как
отсутствие в актуальной речи средств отсылки к взаимоотношениям
полов. Именно поэтому наука, будучи, скажем, наукой о
пропедевтике болезней или даже наукой анатомической, всегда
тесно сотрудничающей с педагогикой и совершающей
реверансы в сторону сексуального воспитания молодёжи, тем не менее
в своём пределе так или иначе к этой внеполости стремится.
С одной стороны, когда вы посещаете лечебные учреждения,
вы сталкиваетесь с тем, на что обращают особое внимание
тендерные социологи: например, разделение по палатам. Тем
не менее поверх этого разделения всегда присутствует
обезличивающая речь — врача-терапевта или врача-психиатра,
которая, за исключением самых доверительных и факультативных
замечаний, никогда не берет пол в расчет.
Именно поэтому такой живой интерес всегда вызывает
клиницист, который всё же с полом, с фактом наличия у субъекта
определенной позиции в сексуации вынужден считаться — на
худой конец сойдет специалист по сексологии или
венерологии. Смех, который вырывается у субъекта в тот момент, когда
об этой сфере заходит речь в анекдотах или байках, связан не
с тем, что сфера эта в высшей степени деликатно-постыдна,
а лишь с тем, что изгнанный как будто бы навсегда из этой
сферы половой вопрос неожиданно оказывается в речь врача
и специалиста возвращен. Смешным это может быть именно
потому, что субъекту науки обычно в высшей степени
безразлично, идет ли речь о женщине или о мужчине, так что всякий
раз, когда его интерес в этом вопросе все же
обнаруживается — по большей части под влиянием начальства и
отчетности, — это предсказуемо создает юмористическое измерение.
Такова вселенная, заданная миром науки.
При этом во вселенной психоаналитической
обнаруживается нечто другое. В ней не просто имеет значение пол, но и
собственно наука о неврозах, та самая наука, которую Фрейд заим-
Приложение
ствует, чтобы развить свое учение, — наука, которая, казалось
бы, также должна оставаться на тех же внеполовых позициях,
вдруг обретает пол заново, в совершенно оригинальном виде.
Пол в ней — это тип невротизации. Именно тогда истерия
отходит на женскую сторону, а невроз навязчивости — на
мужскую. Всё это сопровождается показательной путаницей,
которую Фрейд частично наследует у своих учителей, в
частности у Шарко, и которая восходит ещё к античному
пониманию истерии, где та якобы проходит под знаком влияния на
душу определенных процессов в женском организме. Именно
так поначалу с этим расстройством Фрейд и обращается:
истеричка кажется ему откровенно соблазнительной именно как
женщина, к чему и восходит его беспокойство относительно
переноса и тех любовных метаний, которые субъект анализа
может, будучи субъектом женским, в отношении аналитика,
особенно мужского пола, испытывать. Фрейд как образцовый
невротик навязчивости приписывает любовное томление
противоположной стороне: это не он, Фрейд, желает истеричку,
а истеричка желает доктора Фрейда.
Это означает, что поначалу Фрейд встает на путь, который
намечает нам еще Аристотель — учению, где истерия
действительно представляет собой знак, даже символ пребывания
субъекта на женской стороне. Речь идет, как известно, о чем-
то таком, что касается матки. Не обязательно переводить это
состояние словом «бешенство», но, так или иначе, это какое-то
смятение. Истерия, таким образом, как будто не просто
является заболеванием сугубо женским, но она также оформляет,
дополнительно подчёркивает в женщине нечто такое, что
касается самого сердца её феминности. Поначалу Фрейд, как уже
было сказано, этой мифологии с энтузиазмом придерживается
до тех пор, пока не обнаруживает, что истерички ему врут,
причем врут беззастенчиво, пользуясь его доверчивостью и
готовностью услышать от них наиболее крамольные вещи. Не
без давления научной общественности, уже раздраженной его
штудиями, крайне разочарованный, Фрейд в ответ совершает
открытие, которое поначалу не имело никакого влияния, по
крайней мере в мире медицины. Тем не менее открытие это
напрямую касается того, что связано с наслаждением пола:
оно указывает на то, что, невзирая на действительно высокую
распространённость истерического невроза среди молодых
п>
Ä
η
о
го
■о
п>
2
П>
I
I
JT
Se
36
Π)
I
η
Se
η
Π)
Q
Π)
■о
о
a\
η
Π)
η
η
227
Желание одержимого
CL
О
CU
I-
о
CÛ
о
ζ
ω
χ:
(Ό
m
u
Ο
ш
τ
m
CC
Ш
(Ό
Ζ
m
Ο
Q.
ffl
<U
Χ
228
цветущих дам, тем не менее сама симптоматология истерии
указывает не на женское в субъекте, а на мужское.
Именно это позволяет уже раннему Лакану, опираясь на
работы Фрейда, сделать вывод о том, что субъект истерии —
это, по сути, субъект, который страдает не от того, что у него
слишком развита требовательная и жадная до удовлетворения
женственность, как считалось ранее, а, напротив, от того, что
он не может определиться, на какой он стороне. Женское его
совершенно не интересует, напротив, он в обостренной форме
демонстрирует крайний интерес и склонность ко всему тому,
что обычно остается привилегией мужчин. В этом смысле
истерический субъект всегда немного травести — чета,
которую Фрейд замечал, но которую относил к общей
неспособности истерички в области желания — мнение, которое сыграло
против него в известных нам случаях ведения истеричек в
анализе.
Заметьте, что тем самым мы исключаем принадлежность
субъекта истеризованного к какому-то полу и распространяем
его на сторону мужскую, потому что истерия, как известно,
встречается и у мужчин. Но на деле Лакан прав, и вопрос пола
здесь действительно вторичен, поскольку основное
содержание истерии сводится к тому, что субъекту небезразличен в
отношениях полов именно вопрос мужского наслаждения. То, что
ставит его в этом небезразличии на женскую сторону,
связано, скорее, с культуральными следствиями его положения, но
не с аналитическими. Истеричка заинтересована в мужчине,
в мужском, и собственно в том, что Лакан называет
нехваткой. Другими словами, если чем истеричка и интересуется, то
это результатами кастрации — в том самом виде, в котором
они были описаны ранее в нашем курсе, когда указывалось на
присущую мужчине изначальную повреждённость, его
интересную для истерички слабость в сфере получения
наслаждения. Большинство примеров истерии, приведённых у Фрейда
и Лакана, показывают, что истеричка так или иначе эту
слабость обслуживает и ее интерес всегда адресован именно ей.
В связи с этим можно напомнить эпизод, приведённый Ла-
каном в семинаре «Тревога», где описывается, как истеризо-
ванная девушка прогуливается вокруг пруда со своим отцом
в момент когда она, находясь на пике своей траповой фантазии,
имитирует субъекта мужского пола, с целью чего использует
Приложение
импровизированную трость, на которую она опирается так, как
это мог бы делать уважаемый всеми мужчина в годах. Отец,
разгадав этот манёвр, немедленно вышвыривает трость в пруд.
Лакан в связи с этим подчеркивает, что для истерического
субъекта характерно, с одной стороны, противостояние
мужской генитальности, а со стороны другой, сговор, в который
истерик вступает с отцовским субъектом, то есть с тем, кого
мы, следуя за Лаканом, назвали отцом реальным. Я напомню,
что реальный отец — это не просто папаша как он представлен
в документах, скажем, в свидетельстве о рождении, а некая
сущность, которую назвать субъектом временами довольно
трудно. Сущность эта в первую очередь нацелена на то, чтобы
предотвратить протуберанцы женского наслаждения, которые
ему кажутся идущими с символическим порядком вразрез.
Именно поэтому реальный отец всё время на страже, он
недоволен, у него, мягко говоря, не самое лучшее настроение,
потому что он всё время ожидает какого-то подвоха, ведь ему
приходится воспитывать женщину, наслаждающуюся с его точки
зрения беспорядочно, и ее неуемного ребёнка. С его точки
зрения это существа однопорядкового плана, потому что они
наслаждаются тем самым карнавальным наслаждением, которое
с точки зрения реального отца совершенно не нужно и
которого, как замечает Лакан эпохи семинара «Еще», «не надо бы»,
ибо в нем есть нечто непристойное превыше любой обычной
сексуальной непристойности.
При этом в анализе не всегда очевидно, что истеричка
имеет отношения не с отцом символическим, как мы часто делаем
вывод, читая Лакана, а именно с отцом реальным. Реальный
отец способен подметить, что истеричка наслаждается чем-то
непристойным, то есть она, так сказать, в фантазиях меняет
пол, поскольку хотела бы находиться на мужской стороне,
хотя особенность истерички при этом в том, что она
совершенно не понимает, что эта мужская сторона собой
представляет. То, что её интересует, как уже было сказано, это
мужская нехватка. Больше ничего она о мужчине не знает. Именно
поэтому в фантазиях истерички фигурируют разного рода
повреждённые мужчины — например, мужчины, получившие
военные ранения или, возможно, мужчины увечные как
мужчины, отмеченные достоинством кастрации в ее визуальном
измерении: например, мужчина в форме, рискующий своей
п>
Ä
η
о
го
■о
п>
2
П>
I
I
JT
Se
36
Π)
I
η
Se
η
Π)
Q
Π)
■о
о
a\
η
Π)
η
η
229
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
230
жизнью, или мужчина, который претерпел много страдании
и сломлен. Если вы возьмёте образцовый роман на эту тему —
я имею в виду «Джейн Эйр» — то увидите, что именно вокруг
фигуры истерички он и построен. Героиня является
образцовой истеричкой, невзирая на то что ни к скандальности, ни
к истерическому привлечению внимания к своей персоне она
не склонна. Потому данный роман является хорошим
описанием истерической позиции, поскольку он уводит от чисто
бытовых представлений, касающихся истерического и
прописывающих его по ведомству чего-то раздражающе поверхностного.
В повествовании Бронте перед нами довольно строгая к себе,
образованная, начитанная, неглупая, опередившая свой век по
меньшей мере на полстолетия девушка, которая, тем не менее,
обустраивает своё наслаждение возле мужских субъектов,
причем обустраивает его так, что с генитальным аспектом это
совершенно не связано. Та викторианская гармоничность
соотношения телесного и душевного, которая для романов этого
периода была крайне характерна, указывает на то, что, как бы
мы ни стремились возвести истерию к генитальному, там она
не находится. Генитальное измерение истеричку просто не
интересует. Интересует её, напротив, то, что из мужчины
выпадает в качестве его повреждённой части. Именно поэтому
поначалу она бывает строга и неприятна с мужчинами, которые
в свою очередь демонстрируют к ней шутливый и назойливый
интерес — то есть на свой лад даёт отпор их сексизму. Но как
только мужчина перестает ее добиваться и вместо интереса
сексуального демонстрирует интересную слабость, как
только он попадает в какие-то перипетии и его жизнь катится под
откос, она тут же подставляет своё плечо. Чтобы растаять, ей
достаточно увидеть его крах, пусть даже в романе, о котором
идет речь, это обыграно, пожалуй, слишком уж жестоко — м-р
Рочестер, этот Эдип периода правления Виктории, жертвует
ради благосклонности героини своим зрением. Именно этот
его дефект позволяет ей в конце концов отбросить все то, что
современницы, читавшие этот роман, рассмотрели в
качестве зачатков феминизма, благополучно выйти замуж и родить
ребёнка; и в данном случае причиной появления ребенка на
свет — здесь эта метафора является, конечно же,
неслучайной — является именно недостаток зрения его отца. Именно
потому, что он ничего не видит, она и производит существо,
Приложение
становящееся чем-то таким, чего, по ее мнению, мужчине не
хватает.
Истеризация здесь разрешается в романном, приукрашенно
благополучном виде, хотя так или иначе чему-то реальному это
вполне соответствует. Так, можно увидеть как в современной
педагогике, в частности в педагогике стихийной, педагогике
социальных сетей, на которую я часто указываю, потому что
она характеризует именно современную субъектность,
доступную нам как в наблюдениях социологических, так и в клинике,
в этих спонтанных педагогических историях также можно
увидеть, как девушки истероидного типа — а это всегда девушки,
которые претендуют на нечто мужское: скажем, отыгрывают
мужчин в ролевых играх, в так называемом косплее, — эти
девушки зачастую через некоторое время благополучно
разрешают свой симптом и приходят именно к идее подарка мужчине,
то есть достигают, насколько это вообще возможно, гениталь-
ности. Иными словами, с ними происходит буквально то, что
Фрейд предсказывал, рассматривая истерического субъекта
как зачаток чего-то будущего — то есть как девушек, прогноз
которых в целом, с его точки зрения, благоприятен. Как бы это
ни возмущало некоторых представительниц женских
движений, как бы они Фрейда ни костерили за присущий ему
шовинизм и за акцент на генитальности, мы видим, что сплошь и
рядом такие вещи происходят в действительности — иное дело,
что сам Фрейд на этом пути не добился того триумфального
успеха, на который рассчитывал, в том числе потому, что сам
невольно, не желая того, выступил для истерички причиной
ее сопротивления, ибо ничем другим истерический субъект не
бывает так раздражен, как умалением его желания, на
которое, как ему кажется, всегда покушается анализ.
При этом мы, конечно же, недостаточно хорошо понимаем,
что именно истеричкой руководит и почему она появляется
в определенный момент современности. Неоднократно
замечалось, что большая истерия — это история XIX века и всего
того, что в веке XX от XIX еще оставалось. Со второй
половины XX века истерия предстает в других формах, и это до
определенной степени аналитикам на пользу, потому что
вместо отвлекающих больших соматических симптомов в
истерическом бытии более четко проступает то, что характерно для
него на уровне его экономики — извлечение наслаждения из
п>
Ä
η
о
го
■о
п>
2
П>
I
I
JT
Se
36
Π)
I
η
Se
η
Π)
Q
Π)
■о
о
a\
η
Π)
η
η
231
Желание одержимого
CL
О
CU
I-
о
CÛ
о
ζ
ω
χ:
(Ό
m
υ
Ο
ш
τ
m
CC
Ш
ω
ζ
m
Ο
Q.
ffl
<U
Χ
232
знания о мужской кастрации и в дальнейшем довольно
успешная торговля им на самых разных культурных уровнях. Но
почему истерия вдруг появляется, почему так резко расцветает,
зачем девушке становится необходимой атрибутика
мужского величия и мужской же повреждённости, слабости — все
эти трости, костюмы, часы и прочая символика, позволяющая
девушке не сымитировать мужчину, вовсе нет, а показать, чем
он по ее мнению должен являться: субъектом, повреждение
которого возведено в статус символического и служит причиной
желания Другого?
Так или иначе, рассматривая истеричку с этой стороны мы
можем сразу указать, что приписывание истерии сугубо
женскому полу, как уже было сказано, совершенно беспочвенно
и что если истерия претерпевает какое-то развитие, то вектор
её направлен не к углублению женственности в ее тендерном
смысле — хотя немало было вполне достоверных
предположений о том, что в определенный период именно истерия вносила
существенный вклад в галерею подчеркнуто тендерных
портретов эпохи, особенно религиозно-аскетического плана, — но
прежде всего в сторону чего-то такого, что направлено именно
на реального отца в его несостоявшемся виде, ибо если с
точки зрения Фрейда генитальность представляет собой вершину
сексуального развития, то для истерички она — просто
досадное недоразумение и признак глубочайшей мужской
ограниченности в вопросах наслаждения.
Действительно, именно Лакан замечает, что истеричка
возмущена мужской генитальностью, что она ничего в ней не
понимает — зато с ее стороны нет недостатка в педагогических
замахах в сторону мужчин, с помощью которых она намекает,
чем они с ее точки зрения могли бы стать. Можно вообразить,
судя по так называемому истерическому поведению, что
воспитывает она их под себя, что она учит их прислушиваться
именно к женским потребностям, учитывать женскую слабость. На
первый взгляд, все в ее демонстративном поведении говорит
именно об этом, и тем не менее с чисто аналитической
точки зрения трудно представить более поразительную ошибку.
В прошлом году я неоднократно призывал обратить внимание
на актуальный истерический портрет новейшей эпохи: в
частности, на специфические тексты, которые несомненно
являются плодом именно истерического отношения с объектом, —
Приложение
так называемый женский фанфикшн, во многом являющийся
сегодня уделом очень юных особ. Забавно, что мы говорим об
этом сегодня, в тот самый день, когда вся страна взбудоражена
случившимся с двумя такими особами, несомненно
совершившими нечто такое, что чрезвычайно напоминает истерическую
демонстрацию с крайне печальным исходом.
Итак, если посмотреть на творчество представительниц
этого возраста, то можно увидеть, что мужчина в них представлен
в виде совершенно неестественном, притом что поводом для
письма, всегда вторичного, как правило выступает довольно
известный мужской персонаж, часто вполне достоверно
прописанный автором-мужчиной или неистеричной женщиной.
Это совершенно не препятствует тому, что в писаниях
пятнадцатилетней девушки, которая пытается продолжить какой-
либо знаменитый роман или сериал, используя
представленных в них мужских героев, под её пером они превращаются во
что-то совершенно другое. Нельзя сказать, что они полностью
превращаются в женщин — точнее, в самих авторо_к, феми-
нитив здесь оправдан — но это уже и не мужчины. Другими
словами, юная писательница делает все, чтобы появляющийся
под ее пером субъект ни в чем не напоминал реального отца —
ее собственного или же какого-либо иного.
Еще по фрейдовским случаям прекрасно было видно, что
с этим реальным отцом истеричка всегда несколько на ножах.
При этом она, конечно же, желает, чтобы он на неё посмотрел,
то есть она желает его взгляда, что Лакан первым делом в
анализе гомосексуальной пациентки и замечает. Находясь с этим
реальным отцом в противостоянии, истеричка тщательно
следит, чтобы ни одна черта этого неприятного мужчины —
мужчины, как будто бы не знающего нехватки и скрывающего свою
сексуальную и духовную ограниченность — в её писания не
проникла. Именно отсюда берутся неправдоподобные герои,
которые, будучи воплощены в соответствующей визуальной
культуре, например в аниме-живописи, опять же обладают
некоторой внеполостью и, что примечательно, вневозрастно-
стью — даже в изображении самых мрачных злодеев художник
рисует нечто юное и симпатичное.
Именно в измерении этого юного и симпатичного
протекает истерический фантазм, поэтому в нём всегда
находится место тому, что Фрейд совершенно верно отмечает как
п>
Ä
η
о
го
■о
п>
2
П>
I
I
JT
Se
36
Π)
I
η
Se
η
Π)
Q
Π)
■о
о
a\
η
Π)
η
η
233
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
234
гомосексуальную ноту. Истеричка гомосексуальна не потому,
что она каким-то образом извращена или её влечёт к своему
полу, для чего она стремится занять якобы мужскую позицию.
Ничего подобного. Хотя в ее поведении мы часто
наблюдаем именно это, но уже первейший анализ того, что
проступает в её письме в виде обломков фантазма показывает, что
гомосексуальность истерички происходит из того, что в её
случае имеет место назначение мальчика на место мужчины.
Нужно ей это исключительно для того, чтобы, провернув
сцену с мужской гомосексуальностью, в то же время не слишком
всколыхнуть собственную тревогу, для чего собственно и
надобен мальчик в ее собственном образе.
Эту операцию истеричка проделывает очень ловко, для нее
ей не нужно никакое специальное обучение, она на нее
нападает сама — ей достаточно заполучить в руки один-два
соответствующих романа и эта операция начинает производиться
совершенно автоматически. На месте мужчины оказывается
мальчик или, точнее было бы сказать, эфеб, юноша. Именно
таким образом истеричка способна отправлять свое желание,
в то же время не показывая его полностью, прикрывая его сама
от себя. Сама она, являясь именно этим эфебом, занимая его
место, с ним идентифицируясь, начинает желать женщину,
и поэтому её желание приобретает формально, скажем так,
«анатомически» гомосексуальные черты, но, тем не менее,
остается желанием гетеросексуальным, хотя и устроенным
по совершенно особому образцу. Образец этот представляет
для психоаналитиков предельный интерес, потому что
сегодня он не просто распространён статистически, но начинает
играть всё большую культурную роль. Искоренить его — если
бы цель вообще формулировалась таким образом — крайне
трудно, поскольку огромная часть молодых людей обоего
пола проходят через этот фантазм, и похоже именно он
определяет то противостояние, которое выразилось так ярко в
соответствующей перестрелке молодых людей с полицией. По
существу, это действительно противостояние истерии и
чего-то такого, что даже если и не является генитальным в
чистом виде, то во всяком случае имеет притязания на власть:
ситуация для истерички совершенно нестерпимая не потому,
что она нетерпима к власти как таковой, а потому что, как
показывает Лакан, ей необходимо, чтобы, реально существуя
Приложение
во сколь угодно могущественном виде, власть при этом
ничего никому не доказывала. Другими словами, ей нужны не
притязания на могущество, а тонкая слабость того, чье
могущество в остальном оказывается совершенно бесспорным
и тем самым бездейственным.
В любом случае, обманываться влиятельностью бойлавер-
ского компонента нашей культуры, в который именно
истерический субъект вносит огромный теневой вклад, все же не
стоит — вопреки мнениям поборников нравственности,
подозревающих в гомосексуальности лишь ширму для запретного
влечения к эфебу, истерический подход приоткрывает, что все
устроено иным образом: эфеб в фантазиях появляется там, где
истерическому субъекту не под силу признаться в том, что она
хочет, чтобы мужчины получали наслаждение друг от друга.
Невзирая на внешние данные ее демонстративного поведения,
хорошо известные психиатрам, ищет она наслаждения вовсе
не для себя. Другими словами, демонстрация своей
болезненности — обмороки, бесконечные нахождения у себя
смертельных недомоганий с оповещением окружающих, суицидальные
тенденции, проявляющиеся у истерички, впрочем, крайне
умеренно, на уровне одной лишь запугивающей речи — все
это выступает именно в роли того самого педагогического
компонента, о котором говорилось выше: истеричка показывает
мужчине, как именно он мог бы проявить ту самую слабость,
которая в итоге и приведет его, как истеричке кажется,
кратчайшим путем к наслаждению, в котором будет фигурировать
другой мужчина.
Таким образом, отсроченная «нормальная гетеросексуаль-
ность» истерички, на реальности и достижимости которой
отчаянно настаивал Фрейд, является не тем, чем она кажется.
Истеричка выбирает этот путь вынужденно: поскольку
сменить свою позицию ей не дано и интересует ее именно мужской
субъект, она волей-неволей вовлекается в фантазию, которую
Фрейд, привыкший доверять своим ушам, именно как
гетеросексуальную и расценивает. Упускает он из виду лишь то,
что в ней присутствует еще один субъект — другой мужчина.
В этом смысле истеричка всегда любит на троих — ее
позиция состоит в содействии любовному союзу каких-то других
воображаемых субъектов мужского пола. «Я люблю мужчин,
потому что хочу, чтобы мужчины любили друг друга», — вот
п>
Ä
η
о
го
■о
п>
2
П>
I
I
JT
Se
36
Π)
I
η
Se
η
Π)
Q
Π)
■о
о
a\
η
Π)
η
η
235
Желание одержимого
CL
О
CU
I-
о
CÛ
о
ζ
ω
χ:
(Ό
m
u
Ο
ш
τ
m
CC
Ш
(Ό
Ζ
m
Ο
Q.
ffl
<U
Χ
236
основное послание истерички, наиболее корневая часть ее
фантазма.
По всей видимости, именно этот фантазм очерчивает то
поле политической борьбы, которое сегодня наблюдается
повсеместно и которую мы, говоря о ней именно в терминах
политики, называем борьбой между консервативным и
либеральным. Возможно, стоит ожидать здесь кардинальных перемен,
которые, очевидно, восходят к тому, что истеричка все более
получает в своё распоряжение средства акта высказывания.
Она не только в последние пару столетий активно
подключается кобразованию и чтению — а можно заметить связь между
субъектом истеризованным и субъектом начитанным. Как бы
резко это ни прозвучало, но, как правило, в некоторых
измерениях это часто один и тот же субъект, хотя начитанность
его при этом своеобразная: тщательно избегая дискурса
науки, истерический субъект формирует собственный круг
чтения, в котором возвеличиваются соответствующие источники.
Получая в распоряжение доступ к высказыванию и к тексту,
истеричка немедленно формирует нечто такое, что
вмешивается в мужское желание и предъявляет к нему свои требования.
Следует заметить, что это требование совершенно не похоже
на то генитальное женское требование, которое мы разбирали
в прошлый раз. По существу, истеричке ничего от реального
отца не надо. Это резко отличает её от более-менее гениталь-
ной женщины, которой от него нужно очень много — от
ребенка до соответствующего поведения в семье. В любом случае,
это та линия отношений, которая была намечена в описанной
выше сценке, в которой отец лишает девушку мужской
атрибутики, притом что, разумеется, он это делает безошибочно и в
то же время охваченный заблуждением, поскольку понять
мотивы дочери ему не дано. Разумеется, если бы он был спрошен,
ему показалось бы что молодая девушка, его дочь, претендует
на роль мужчины, что совершенно с его точки зрения
недопустимо. Здесь он и ошибся бы, потому что, как мы увидели,
ничего подобного не происходит. Тем не менее не ошибается
он на уровне реакции, поскольку он лишает её педагогического
инструмента. Выбрасывая её трость в пруд или воспрещая ей
шляться с девушками по городу, он лишает её не фаллоса, как
может показаться ему самому или какому-либо «дикому
аналитику». Напротив, лишает он ее именно той самой нехватки,
Приложение
того признака, который Лакан называет признаком мужского
ветеранства, признаком того, что мужчина уходит на покой,
поскольку, формально сохраняя своё мужское достоинство, он
больше не может женщину обслуживать и, стало быть,
рассчитывать на поддержку с ее стороны.
Это положение наводит истеричку на мысль, что теперь,
когда женская генитальность больше не предъявляет к
мужскому субъекту своих требований, он может получить наконец
то, в чем все время себе отказывал — наслаждение без
необходимости создавать для женщины видимость мужской гениталь-
ности, заключающейся в том, что другое наслаждение, помимо
матримониального, ему воспрещено.
Вот на что указывает палка или строгий мужской костюм,
равно как и прочие атрибуты мужчины, скажем так, глубоко
женатого — мужчины, у которого, скорее всего, уже есть дети
и поэтому в желании он уже не особо прыток. Лишая
истеричку трости, отец лишает её доступа к возможности
вмешаться в сцену его собственного наслаждения и предложить
ему ее расширить. Вот на что, с его точки зрения, впрочем,
никогда им не осознаваемой, посягать она не смеет. Именно
это происходит в описанной сцене, и именно это повторяется
бесчисленное число раз, когда отцы запрещают дочерям идти
в мужские профессии или заниматься литературной
деятельностью. Я отсылаю вас опять-таки к тексту, который я
постоянно рекомендую в нашем курсе — это текст Вирджинии Вульф,
посвященный так называемой «своей комнате», «a room of
one's own». Текст она пишет исключительно для того, чтобы
доказать, что женщине нужна своя комната, чтобы писать. Но
как только женщина получает свою комнату и начинает
писать, она зачастую оправдывает целый ряд консервативных
подозрений, хотя происходит это, конечно, не всякий раз. Речь
сейчас вовсе не о том, что культурология называет «женским
письмом» — в последнем как раз крайне редко наблюдаются
признаки истерического фантазма, поскольку письмо это
зачастую чрезвычайно хорошо интегрировано в т.н. мировую
литературу, задающую иные стандарты, к исполнению которых
женский автор так или иначе приходит, пусть и
собственными путями, с использованием особых выразительных средств,
диктуемых ее генитальностью. Для женщин уже не закрыты ни
роман воспитания, ни детектив, ни исторический роман, и ее
п>
Ä
η
о
го
■о
п>
2
П>
I
I
JT
Se
36
Π)
I
η
Se
η
Π)
Q
Π)
■о
о
a\
η
Π)
η
η
237
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
238
способность чувствовать себя в этих жанрах как рыба в воде
давно никем не оспаривается.
Тем не менее тем более любопытно, что пример такого
низового, самодеятельного письма как fanfiction, показывает
мощный напор чего-то совершенно иного. Как только истерический
субъект получает перо, из-под него выходят не романы, а то,
что и называется фанфикшеном, то есть литературой, базовый
фантазм которой, выраженный в соответствующем поджанре
slash, заключается в том, что мужчина с той или иной
степенью косвенности сопрягается с мужчиной. Именно этим исте-
ризованная девушка интересуется, именно эту литературу, по
крайней мере до определенного возраста, она читает с
экрана, на котором в свою очередь пишет то же самое. Оценить
масштабы этого современного явления довольно трудно, о них
свидетельствуют лишь численные результаты
соответствующих сетевых запросов — и тем не менее даже они дают
представление о том, до какой степени эта деятельность
заразительна и распространена.
Интересно, что феминистское движение, даже при всем его
декларируемом внимании к уникальным женским нуждам не
смогло предсказать, что из-под пера освобожденной
женщины может выйти — пока феминизм узконаправленно борется
за право женского авторства в научной фантастике, он
упускает совершенно иное, гораздо более масштабное и
политически чреватое стихийное литературное движение, связанное
с желанием субъекта с истерическим фантазмом вмешиваться
в святая святых мужского мира — в существующий в этом мире
запрет на удовлетворение мужчины в иных формах, нежели
тех, которые соответствуют его генитальности. Последняя при
этом, как известно, может быть вполне гомосексуальной — не
случайно авторы, пишущие на гей-тематику, громогласно
заявляют, что не желают иметь с женским факфикшеном ничего
общего, что он никак их не касается. Говорят они истинную
правду, ибо то наслаждение, которое истерический субъект
силится им предложить, наталкивается в их случае на тот же
символический запрет, что и у всех прочих мужчин,
независимо от их любовного объекта.
В связи с этим требование Вирджинии Вульф приобретает
крайне подозрительный, по крайней мере с мужской точки
зрения, смысл — в своем роде именно истеричка оказывается от-
Приложение
ветом на мужской вопрос о том, что будет, если предоставить
женщине право на вход литературу — если быть настолько
последовательным в признании их прав, чтобы пустить их на
книжный рынок. Естественно, феминистки эпохи Вирджинии
Вульф уверяли, что если женщину допустить к литературе она
не будет ничем уступать мужчине, разве что более выпукло,
более чётко и правдоподобно покажет именно то, что касается
ее женской судьбы: некоторых сторон материнства, которые
мужчины не освещают, женской позиции в браке или в
адюльтере и т.п.. Всё это и взаправду произошло. Тем не менее у нас
есть серьезные психоаналитические основания предположить,
что в момент, когда мужчина по-настоящему боялся дать
женщине перо и выделить ей «свою комнату», его тревога
подсказывала ему именно то, что подсказывает она «реальным отцам»
истеричек. Другими словами, не предсказали ли
консерваторы-мужчины, намеревавшиеся закрыть женщинам доступ в
литературу, именно появления фанфикшена, с помощью которого
истеризованный женский субъект создает прецедент особого,
совершенно скандального наслаждения?
Очень важно, что Фрейд, похоже, несколько заблуждался
насчет его природы и что наслаждение это самодостаточно.
Нет никакой нужды покидать его, ничто генитальное
истеричку к себе не зовет, хотя именно на это очень рассчитывали
врачи фрейдовской эпохи, полагая, что стоит только поместить
истеричку в надлежащую среду, познакомить её с мужчиной
и естественное природное желание толкнёт её в его объятия,
придающие ее генитальности весомую основу.
Всё это совершенно не оправдалось. Уже Фрейд заметил,
что лечение истерии — дело не только очень хлопотное для
аналитика — истеричка гораздо строптивее любого, даже
самого закоренелого невротика навязчивости — но и во многом
заведомо безуспешное. Ни с позиции реального отца, которую
Фрейд волей-неволей пытался в отношении Доры занимать,
чувствуя, что ей, возможно, этого не хватает, ни с позиции
символических институтов мужской генитальности
нормализовать истеричку не удаётся. Если она неожиданно свой невроз
оставляет, если она переходит в статус взрослой женщины, то
здесь — на этом необходимо настаивать — нет ни малейшей
заслуги мужчины. С чисто структурной точки зрения,
наслаждение истерички своей комнатой в литературе, в которой она
п>
Ä
η
о
го
■о
п>
2
П>
I
I
JT
Se
36
Π)
I
η
Se
η
Π)
Q
Π)
■о
о
a\
η
Π)
η
η
239
Желание одержимого
CL
О
eu
I-
О
CÛ
о
ζ
ω
χ:
(Ό
m
u
Ο
ш
τ
m
CC
Ш
(Ό
Ζ
m
Ο
Q.
ffl
<U
Χ
240
сопрягает подобия мужчин, представляет собой наслаждение,
из которого никакого выхода нет. Оно совершенно
самодостаточно, оно полностью истерического субъекта удовлетворяет,
оно может продолжаться вечно. Есть основания полагать, что
мы находимся на том историческом этапе, когда бесконечность
этого наслаждения, его способность к самовоспроизводству
заявляет о себе очень ярко.
Именно в этом ключе нужно рассматривать целый ряд
событий, свидетелями которых мы являемся, если вообще
догадываемся об их существовании. То, что сегодня в привнесенных
со стороны женской сексуации текстуальных практиках имеет
место — это безбрежное наслаждение, наслаждение, которое
не нуждается в мужском, не нуждается в фаллическом и
которое ведет к совершенно определенному социальному порядку,
где никакое примирение на уровне символического, никакое
содружество на той основе, на которую нажимает пресловутая
мужская традиция — на основе хорошо распределенной
иерархии мест власти и средств обмена — невозможно. Ни силой, ни
улещиванием, ни подкупом изъять у истерического субъекта
наслаждение нельзя — об этом аналитику всегда следует
помнить. Исторические и культурные следствия этого положения
вещей, вероятно, будут самые что ни на есть любопытные.
я
Указав на тот факт, что, по существу, истерия имеет
непосредственную связь не с женским, а, скорее, с мужским,
потому что выстраивается она возле функции мужской
нехватки, я хочу перейти к характеристике невроза
навязчивости, опять же показав, что тендерное распределение, которое
прописывает один невроз по женскому ведомству, а другой
по мужскому, не просто недальновидно или ошибочно, но и,
по всей видимости, до известной степени злонамеренно. Есть
нечто такое в учении об обсессии, о неврозе навязчивости,
что медицина от нас хотела бы скрыть. Если психоанализ
изредка потакает этому сокрытию, если он также пытается
отвести обсессию именно мужскому субъекту, а женщину
Приложение
обсессии лишить, то, по всей видимости, это происходит по
той причине, что корень медицины из психоанализа изъят
не полностью. Даже смелый заход Лакана, потребовавшего,
чтобы психоанализ окончательно с делом медицины, под
которым он понимал прежде всего дело лечения,
размежевался, не приводит к тому, что медицина территорию анализа
покидает. Сегодня невротическая пропедевтика — это всё
же пропедевтика именно клинического характера. Говоря
о клинике, я имею в виду не просто взаимодействие с ана-
лизантом, но и то, что касается клинического измерения как
измерения преодоления невроза, т.е. измерения адаптации.
Психотерапия сегодня в целом представляет собой аналог
диспансерного наблюдения, нацеленного на профилактику
и оздоровление, и эта аналогия никак не может психоанализ
покинуть. По этой причине здесь и возникает смещение
границы с приписыванием отдельных феноменов полю, которое
их присваивает и меняет их смысл. Я попытаюсь показать,
почему так происходит и почему женская обсессия не
только является распространенным явлением, но и представляет
собой нечто совершенно незаменимое — не в том плане, что
она необходима или в ней есть какая-то телеология, то есть
разум, смысл и цель. Необходима она в том смысле, что ни
одному субъекту не удаётся из-под влияния этой женской
навязчивости уйти. Женская навязчивость, по существу, и есть
то, что в анализе мы называем материнством, понимая под
материнством не отношения с ребёнком, не заботу о ребёнке,
не уход за ним, а ту специфическую конфигурацию фантазма,
которую приобретает женский субъект в тот момент, когда
он получает в распоряжение объект в виде ребёнка. Вот что
такое материнство с точки зрения аналитической.
Характеризуя женскую обсессию, я не могу не сказать
сразу же о том, что замечают уже аналитики фрейдовской школы,
а именно о той роли, которую в ней играет анальное измерение.
Последнее бесспорно характерно для любой одержимости вне
зависимости от пола, но известно, что женская обсессия, в
отличие от мужской, всегда протекает с упором на нечто такое,
что помечает объект как грязный, как что-то нечистое. Вопрос
грязи действительно женщину интересует очень живо, и здесь,
конечно, наблюдается ироническое соположение с
традиционной тендерной ролью, приписанной женщине, которая, с точки
п>
Ä
η
о
го
■о
п>
2
П>
I
I
JT
Se
36
Π)
I
η
Se
η
Π)
Q
Π)
■о
о
a\
η
Π)
η
η
241
Желание одержимого
CL
О
CU
I-
о
CÛ
о
ζ
ω
χ:
(Ό
m
u
Ο
ш
τ
m
CC
Ш
(Ό
Ζ
m
Ο
Q.
ffl
<U
Χ
242
зрения общества, должна следить за чистотой в доме и тем
самым иметь дело с грязью непрерывно.
Можно, конечно, утверждать, что всё это является
следствиями чисто мужской власти, что женщине эта роль навязана
извне и что, как сегодня опять-таки учит нас тендерная теория,
ничего женщину к этим обязанностям, кроме мужской воли (и
мужской лени), не прикрепляет. Тем не менее обоснование
этого обстоятельства находится и на аналитическом уровне, и это
побуждает нас обозначить позицию, которую мы в данном
курсе занимаем. По существу, интересует нас то, что могло бы, ни
в коем случае не возвращая нас на консервативную позицию
буквально, тем не менее показать, что некоторые проблески
соображений консерватора небеспочвенны не только потому,
что за ними кроется его желание, но и нечто такое, что ставит
его позицию в отношения со знанием. Знание консерватора —
это нечто всегда искаженное, данное нам довольно грубым
пунктиром и потому закономерно вызывающее у прогрессист-
ского сообщества сильнейшее раздражение. Особенно это,
как было сказано выше, касается субъекта истеризованного,
политическая миссия которого состоит сегодня в том, чтобы
возражать консерватору как ведущему свое происхождение из
речей реального отца в те моменты, когда он в кругу своей
семьи рассуждает о политике.
Тем не менее в этом раздражении есть определённое
лукавство, потому что даже при всей своей грубости, при всём
присущем ему шовинизме консерватор что-то угадывает — его
знание соотносится со знанием аналитика, как знание
повитухи или бабки, ухаживающей за ребёнком, соотносится со
знанием врача. У Фрейда есть превосходный, как будто
специально отвечающий Гегелю и его критике кухарок пример в «Трёх
очерках», в котором он характеризует няньку, смотрящую за
ребёнком, как субъекта, который, конечно же, не может
самостоятельно открыть психоанализ, но хотя бы — и это уже
немало — не закрывает глаза на те материи, на которых
психоанализ основан. Другими словами, существуют такие вещи,
которые по определенным причинам скрыты от родителей, но
зато открываются няньке — в частности, это то, что Фрейд
называет ранним проявлением детской сексуальности. Если
родители могут полагать, что их ребенок вплоть до
четырнадцати лет остаётся невинным ангелочком, то нянька очень хо-
Приложение
рошо знает, что даже совсем маленький ребенок, еще сосущий
грудь, уже демонстрирует способность к прагенитальному
удовлетворению, чем, по замечанию Фрейда, нерадивые
няньки и пользуются, поглаживая детей в определенных местах,
чтобы те уснули и не донимали их своими криками.
Таким образом, нянька, даже не являясь владелицей
психоаналитического знания, тем не менее находится на уровне
близком к тому, где это знание может быть открыто: она у него
на пороге — и пусть даже ей никогда его не перешагнуть, она
все же находится в положении ином, нежели сколь угодно
демократично и прогрессивно мыслящие родители.
В этом смысле Фрейд неоднократно указывал, что его
учение гораздо более сообразуется с представлениями людей
простых, несведущих, возможно даже отмеченных какими-либо
народными предрассудками в отношении пола, родов,
менструаций, мужского желания, фаллоса и его функционирования,
нежели на стороне субъекта просвещения, науки, на стороне
медика и интеллектуала, который в этих вещах разбирается,
зажмурив глаза. Именно поэтому Фрейд утверждает, что своё
знание он возводит к знанию повитухи, к знанию няньки,
естественно придавая ему соответствующую форму, которой оно
заведомо не имеет и приобрести самостоятельно без
психоаналитика не может.
Это знание няньки Фрейд в итоге использует, кладя его
в основу своего учения о рано проявившейся сексуальности.
Вслед за Лаканом мы можем проделать похожую операцию,
которая в его семнадцатом семинаре названа операцией
«переворота», то есть операцией перевода господского знания в
аналитическое. В отношении этой операции Лакан показывает, что
существуют уровни сугубо консервативного представления,
которыми анализ может реально воспользоваться —
разумеется, не буквально, но при этом вполне основательно. Другими
словами, это подводит к мысли о том, что если анализ к чему-
то восходит, то не к секулярному проекту Просвещения, не
к дискурсу Университета, а именно к дискурсу Господина, то
есть к представлениям сугубо классическим.
Что такое дискурс Господина касательно вопросов пола?
Это и есть то самое знание, о котором я сказал, что он
доступно субъекту вплоть до наступления его латентной стадии.
Известно, что дискурс господина — это вовсе не гордый замысел
п>
Ä
η
о
го
■о
п>
2
П>
I
I
JT
Se
36
Π)
I
η
Se
η
Π)
Q
Π)
■о
о
a\
η
Π)
η
η
243
Желание одержимого
CL
О
eu
I-
О
CÛ
о
ζ
ω
χ:
(Ό
m
u
Ο
ш
τ
m
CC
Ш
(Ό
Ζ
m
Ο
Q.
ffl
<U
Χ
244
господина, не его повеление, а то, что он получает от своего
раба, способного наслаждаться. Господин справедливо
полагает, что раб знает в этом толк и что, будучи посланным на
исполнение какого-либо повеления, он употребит всю ловкость
и изобретательность в удовлетворении стоящего за ним
господского желания и, более того, вернется к своему господину
с новым знанием о том, как лучше с его желанием обойтись.
В этом смысле дискурс Господина, с определенной точки
зрения, является нам как сексуальность ребенка. Господским
состояние этого ребенка мы называем не потому, что ребенок
обладает своей сексуальностью целиком и полностью.
Напротив, он ей, как мы знаем, пользуется, не отвечая за то, откуда
она вообще берется. При этом его сексуальность, будучи им
отправляема, к нему так или иначе возвращается в виде
знания — в форме некоторых процедур и тем самым в виде
означающего: скажем, анального или орального характера, поскольку
за ними стоят манипуляции с соответствующими отверстиями.
То, что на его теле выступает в виде этих отверстий,
становится для него буквой, и буква превращается в текст: ребёнок
может прочитать свое тело с определенной точки зрения,
поскольку, к немалому стыду его воспитателей, он обнаруживает
эти отверстия непосредственно. Это не обязательно отверстие
ротовое или анальное, на их месте также может быть назальное
отверстие, которое выполняет в своём роде роль заместителя
анального, а вовсе не орального, как многие думают. Другими
словами, на его теле есть множество норок, к которым ребёнок
обращается с тем, чтобы, поковырявшись в них, доставить себе
немножечко наслаждения.
Это наслаждение принято недооценивать, поскольку оно
считается незрелым аналогом наслаждения генитального,
взрослого. Но на самом деле открытие Фрейда заключается
в том, что это не совсем так и что наслаждение ребёнка не то
чтобы было сильнее или непосредственнее, но оно, во всяком
случае, гораздо ближе отсылает именно к структурному
порядку дискурса, который оно при этом исключает. Речь,
разумеется, идет про дискурс генитальности, которому ребенок дает со
своей стороны «ответ Чемберлена», становясь для родителей
в этом периоде настоящей головной болью.
Прочитать дискурс генитальности очень трудно: именно по
этой причине в прошлом сезоне я и указывал на то, что если
Приложение
кто и владеет этим дискурсом — во всяком случае, знает, чего
от этого дискурса ожидать — это субъект латентный, исте-
ризованный необходимостью генитальному желанию и вместе
с тем его носителю возражать, тогда как на уровне генитально-
сти дискурс как будто бы совершенно себя не обнаруживает.
Мы видим, что маленький ребенок, в отличие от более зрелого
и нагруженного семейными обязанностями мужчины,
наслаждается совершенно дискурсивно: он владеет азбукой тела,
схемой его отверстий, поскольку он знает, куда и каким
образом можно засунуть в них пальчик. Именно по этой причине он
чрезвычайно расположен к тому, что можно было бы назвать
осведомлённостью, в том числе выражающейся в виде
отзывчивости к обучению. Он обладает якобы присущей всем детям
инфантильной умственной пластичностью лишь потому, что
его знание, связанное с наслаждением, у него еще не отнято.
Тем не менее, когда наступает период латентности и
ребёнок приступает к школьным занятиям, это знание для него
закрывается. К нему остаётся лишь один доступ, и этот доступ
обходным путем пролегает именно через обсессию. Выше было
сказано, что обсессия доступна женщине через измерение
порчи, что подчеркивает тот факт, будто женщина подходит
к своей обсессии образом несколько иным, нежели мужчина.
Все это, конечно, требует обоснования, поскольку
совершенно не очевидно. Принято считать — на это указывают многие
последователи Фрейда, — что мужская обсессия вынужденно
крутится возле анального измерения, сопрягая его,
соответственно, с паранойей, с желанием причинить боль или подчинить
другого. Другими словами, анальность во всей ее красе как
будто бы обнаруживается именно в мужском желании. Тем не
менее некоторые факты указывают на то, что если мужчина имеет
дело с анальным регистром, он всегда ограничен обхождением
с ним на уровне символического. Не случайно он вступает в
отношения закона, отношения иерархии, которые все
обустроены, скорее, как анальные, а не как генитальные, потому что
субъекту указывают на его место и вынуждают им
довольствоваться, извлекая прибавочное наслаждение из обладания
им. В разного рода грубых окриках, которыми один мужчина,
обладая властью, оттесняет другого, властью не обладающего,
всегда сказывается измерение дыры, отверстия, куда
обруганному необходимо отправиться незамедлительно, — туда его
п>
Ä
η
о
го
■о
п>
2
П>
I
I
JT
Se
36
Π)
I
η
Se
η
Π)
Q
Π)
■о
о
a\
η
Π)
η
η
245
Желание одержимого
CL
О
eu
I-
О
CÛ
о
ζ
ω
χ:
(Ό
m
u
Ο
ш
τ
m
CC
Ш
(Ό
Ζ
m
Ο
Q.
ffl
<U
Χ
246
настойчиво посылают, и в итоге оказывается, что обитать там
вполне возможно.
Другими словами, любая иерархия обустроена как
функционирование влечения на анальном уровне. Тем не менее именно
благодаря этому факту, с общей точки зрения открывающего
дорогу всяческим жестоким разнузданностям, можно
заметить, что это функционирование всегда оформлено — скажем
даже, сублимировано, облагорожено — символическим
регистром. Напротив, если посмотреть, как отправляет анальность
субъект женской сексуации, то здесь немедленно выступает
нечто такое, относительно чего возникает большое искушение
возвести его к уровню Реального. Этим термином по
завещанию Лакана злоупотреблять не рекомендуется — напротив,
в большинстве случаев, он, употребленный сочувствующим
гуманитарием, ничего особенного не означает, особенно если
мы не можем его поверить топологическими выкладками. Само
по себе Реальное — это не то, что бывает непосредственно
дано в опыте, даже сколь угодно трансгрессивном. Но в то же
время иногда этот термин просто напрашивается. Если
посмотреть на то, как женщина относится к факту существования
анального влечения, то видно, что оно во многих случаях
волнует ее гораздо более непосредственно и живо, чем мужчину.
Так, если для мужчины характерные шутки и пробные
обвинения в занятии оппонентом гомосексуальной позиции — это
нечто, относящееся к дежурному плану общения в среде,
называемой Фрейдом «мужским сублимационным союзом», на
что указывает Жижек, анализирующий регулярную армию,
в которой шутки на эту тему всегда чрезвычайно
распространены и выступают свидетельством грубоватого дружелюбия,
то в тех случаях, когда на эту тему высказывается женщина,
становится очевидно, что у неё это вызывает настоящее
возмущение и в то же время, как мы можем судить, опираясь на
материалы изучения истерии, страстный интерес. Если мужской
субъект не всегда имеет целью оскорбить собеседника и часто
пользуется намеками на возможную инверсию его ориентации
как провокацией или элементом инициации, как часто бывает
в закрытых мужских сообществах, где эта тема создает
сублимированный соревновательный фон, то субъект женский,
если он не обладает истерическим элементом, порождающим
в нем глубокую симпатию к любому отличающемуся и угнетен-
Приложение
ному, нередко отличается особой агрессивной и отвергающей
презрительностью к сексуально инвертированному мужскому
субъекту.
Рассматривать это явление необходимо, несомненно, в
рамках тех самых, описанных Лаканом отношений, которые
субъект выстраивает со своим объектом влечения, с малым а.
Согласно закону, которому эти отношения подчиняются, именно
экономика мужского желания неустранимым образом
опосредована объектом а, ускользающим виртуальным остатком, за
которым мужчина гонится и который он преследует в Другом
в виде возможной недостачи в его бытии, связанной со
способом, которым этот Другой получает свое наслаждение.
Именно поэтому мужчина является в своём первородстве
охотником за этим объектом, который может быть
представлен, например, в виде ускользающего в акте флирта женского
тела или каких-либо деталей криминального расследования.
Но было бы несправедливо не указать на то, что и у женщины
тоже есть с этим объектом свои отношения, особенно если,
как это часто бывает, представлен он в виде объекта влечения
анального. Женщину тоже преследует фантазия — причем
более ярко, глубоко и даже мучительно — о наличии грязи в виде,
например, участка плохо вымытого пола, который затесался за
кроватью или под шкафом. Женщин могут волновать — и
одновременно побуждать к отреагированию — потенциальные
частички слюны или иных, более деликатных выделений,
которые могут остаться на белье, что опять же прикрепляет
женщину к такой деятельности как стирка. Хорошо известно,
что если женщина страдает навязчивостью, то это может
выразиться в непрестанном мытье, скоблении, чистке, постоянном
запуске стиральной машины. Именно на это указывает Фрейд,
характеризуя мать Доры как женщину, помешанную на
домоводстве. Здесь во Фрейде проскакивает нечто
шовинистическое, выразившееся в подчеркивании того, что постоянно
чистящая и моющая, выскабливающая добела свой дом женщина,
по всей видимости, настолько ограниченна, что не способна
заслужить даже лавры своего невроза навязчивости, под
которым Фрейд, несомненно, понимает отправление симптома на
соответствующей интеллектуальной почве.
По всей видимости, это не совсем справедливо, и именно
об обсессии в случае матери Доры должна была бы идти речь,
J=
Ä
η
О
го
-о
п>
П>
I
I
jr
Se
Π)
л
η
χ.
s
Se
η
Π)
χ.
s
π
Η
Π)
■α
о
ο\
η
Π)
η
η
247
Желание одержимого
CL
О
eu
I-
О
CÛ
о
ζ
ω
χ:
(Ό
m
u
Ο
ш
τ
m
CC
Ш
(Ό
Ζ
m
Ο
Q.
ffl
<U
Χ
248
что позволяет нам в свою очередь кое-что прочитать и в
желании Доры. Если бы мы могли каким-либо образом блестящий
фрейдовский труд дополнить, то несомненно нужно было бы
указать на то, что Дора формируется в своём специфически
истероидном облике не только потому, что её отец являет
собой отца реального — то есть отца, который пресекает
наслаждение, которого «не надо бы», но и потому, что у неё была
чрезвычайно обсессивная мать, для которой возможный намек
на гомосексуальность был гораздо более тревожащим,
воплощенным в конкретных отправлениях тела и отвратительным,
нежели для отца.
Таким образом, мы с другой стороны возвращаемся к
хорошо известному специалистам факту, согласно которому
женская обсессия чрезвычайно сопряжена с функцией грязи
в фантазме. Известно, что мужчина в отношении грязи
проявляет не просто терпимость, но и в ряде случаев отчетливо
склонен прокрастинационно ей наслаждаться, откладывая
возможное очищение на потом. Шутки о «мужском носке»
могут и не отражать реального положения вещей для каждого из
мужчин, но трудно спорить с тем, что в измерении мужского
бытия всегда имеет место намек на какое-то свинство, которым
мужчина наслаждается прибавочным образом — это означает,
что для него наслаждение вытеснено совсем неглубоко и
находится неподалеку. С этой точки зрения, мужчине насладиться
совсем нетрудно: достаточно один раз не поменять носки или
оставить бардак на рабочем месте, и дело в шляпе.
Совсем не то происходит в случае женщины (мы говорим,
естественно, о женщине как таковой — не о женщине
конкретной, для которой может быть характерно совсем иное).
Для женского бытия, по всей видимости, характерны особые
отношения с возможным загрязнением, которые указывают на
гораздо более глубокое и острое наслаждение, нежели в
случае мужчины. Так, женщина не может насладиться грязью
прибавочным способом: напротив, ей необходимо поместить грязь
в регистр Реального, то есть оттеснить её на позиции того, что
Лакан называет Вещью. Именно для этого она поддерживает
чистоту — если дом выскоблен добела, то это означает лишь
то, что искомое пятнышко грязи притаилось в каком-то
недоступном месте. Моют и скоблят исключительно для того,
чтобы убедиться в том, что грязь запрятана достаточно надёжно,
Приложение
что ею нельзя насладиться немедленно, прибавочным образом,
поскольку пятно поначалу найти невозможно. Это пятно
маячит на краю сознания женского субъекта и обуславливает ту
специфическую обсессию, компульсивность, с которой
женщина вообще склонна с этими материями обращаться.
Именно с этой позиции субъекта женской сексуации
волнуют аспекты выделения. У мужчины отношения с выделениями
своего тела устроены довольно непритязательно — он опять-
таки получает от них прибавочное наслаждение, отчего и
происходят, например, игры в акте мочеиспускания,
начинающиеся у мальчиков в возрасте, совпадающем с моментом, когда
девочка так же временно воспринимает себя стоящей на
мужской позиции, как и мальчик по отношению к матери. Именно
тогда и появляются абсолютно общие для обоих полов игры
с грязью, которых девочка так же, как и мальчик, не
стесняется, и лишь потом, усилиями матерей, которые предпринимают
особо интенсивные шаги в направление окультуривания
женской анальности, возникает та специфическая брезгливость
и в то же время тот специфический интерес к выделениям,
который женщину так ярко характеризует. Особенно хорошо
эти различия представлены в среде младших школьников, у
которых впервые заявляет о себе латентность. Если акты
рыгания или испускания газов имеют место у мальчиков и могут
являться предметом соревновательной доблести, то у девочек
на этом месте возникает специфическая стыдливость,
чистоплотность, носящая черты реактивного образования, а с
другой стороны — сопряжение выделений с чем-то таким, что
носит характер обсессивного фантазма, в котором эти выделения
связаны не с чем иным, как с болезнью и заразой. Различие это
сохраняется до конца жизни: для мужчины случайное
выделение в публичном пространстве, конечно, может его замарать,
но замарывание это всегда выражается лишь на уровне
символического. Именно с этим связано пресловутое «опускание»,
выражающееся в испускании физиологических жидкостей на
тело и помечающее его социальное бытие как перешедшее
теперь в иное качество.
Тем не менее мужчина имеет дело с физиологическими
выделениями как с чем-то обесчесчивающим именно на
символическом уровне, но при этом не вызывающем у него тревоги
на уровне Реального. Напротив, женский субъект, похоже,
п>
Ä
η
о
го
■о
п>
2
П>
I
I
JT
Se
36
Π)
I
η
Se
η
Π)
Q
Π)
■о
о
a\
η
Π)
η
η
249
Желание одержимого
CL
О
eu
о
CÛ
о
ζ
ω
m
u
О
ш
τ
ОС
ffl
Ζ
m
О
CL
ffl
<U
X
250
находится в том положении, когда выделения помещаются на
уровень, где они уже не имеют никакого отношения к
социальному обесчещиванию — такого рода обесчещивание помешало
бы женщине исполнять свои бесчисленные обязанности по
отношению к ребенку, — но при этом они вызывают взрыв
тревоги, с которой женщине помогает справиться именно наличие
ребенка как объекта, который постоянно доставляет ей
хлопот по поддержанию его тельца в чистоте. Желание это
пробуждается именно в генитальном измерении, которое в то же
время помечено обсессией: женский субъект особым образом
интересуется всем тем, что касается болезней и, разумеется,
того повышенного количества телесных выделений, с фактом
которых болезнь всегда сопряжена. В том факте, что мужчине,
скорее, отводится роль воина и добытчика, тогда как женщине
отведена роль сиделки и сестры, сегодня видят лишь
наследие присущего традиционном обществу сексизма, — и тем не
менее на уровне того, что касается материй, появляющихся
на свет вследствие болезни или ранения, в женском желании,
похоже, обнаруживается нечто особенное, что, в частности,
может объяснить тот факт, что женщине долгое время было
довольно трудно подняться хотя бы до врачебного статуса,
поскольку врач имеет дело не столько с телесным
непосредственно, сколько с тем, что касается дискурса, описывающего
тело. Выделений врач имеет право не касаться — для него они
являются лишь симптомом, поводом для исследований в
рамках диагностической процедуры. Напротив, там, где
непосредственно происходит истечение крови, слизи или лимфы,
женщина как будто бы оказывается в сфере своего наслаждения,
и именно туда её отправляет мужское распоряжение,
действующее в рамках Имени Отца.
При этом говорить о том, что женскому субъекту все это
предписано природной частью ее материнской функции, не
приходится — речь идет исключительно о том, что получает
значение за рамками определенного означающего и коренным
образом от его границ зависит. Невзирая на то что в
аналитической теории критики то и дело обнаруживают нечто такое,
что внешне выглядит как консервативное побуждение,
консерватизм этот не предполагает, будто бы в женщине, равно как
и в мужчине, наличествует какая-то изначальная природа,
которая бы побуждала её наслаждаться определённым образом.
Приложение
Другими словами, всё это, разумеется, конструируется на базе
языка. Тем не менее эта сексуационная конструкция до такой
степени прочна, она выдает свое присутствие настолько рано
и до такой степени субъекта обосновывает и предпосылает ему
его судьбу, что было бы опрометчиво следовать за
конструктивистскими учениями на феминистской базе, которые уверяют,
что эти конструкции можно поменять буквально на ходу и что
достаточно воспитывать мальчиков и девочек одинаково,
чтобы на выходе получить субъектов, которые не будут отмечены,
с одной стороны, мужской генитальностью, препятствующей
мужчине удовлетвориться без символических ограничений,
и с другой стороны, женской неполнотой в символическом.
Если либертарианский феминизм верит, что с помощью
социальных процедур, восходящих еще к платоновским
политикам коллективного воспитания, можно пресечь
психологическое разделение полов на корню, то анализ показывает, что
сама укорененность сексуационных процедур в языке
оставляет нам на этот счет очень немного надежды.
Об этом следовало бы сказать подробнее, поскольку
некоторые подвижки в этом отношении то и дело принимаются за
проявления всеобщего прогресса. Какие-то из этих подвижек,
разумеется, возможны, но видеть в них взятое однажды раз
и навсегда направление не стоит, поскольку каждую из них
толковать следует отдельно. Откуда, например, сегодня
берется та пресловутая свобода мужского самовыражения, когда
мужчине больше не предпосылается строго генитальная роль
и когда он может удовлетвориться, используя отдельные
элементы женского наслаждения: свободнее одеваться, позволить
себе выражения чувств и т.д ? Очевидно, что через
революцию, произошедшую вместе с выходом истерического субъекта
в социальное пространство, иначе никак. Перед нами не
поступательное развитие прав субъекта, которое, с одной стороны,
состояло бы в освобождении мужчины от вериг сугубо
мужского поведения, продиктованного соответствующим
символическим кодексом, исполнение которого конечно для субъекта
довольно тяжело, и, с другой стороны, освобождение
женщины от «трёх К»: детей, кухни и церкви.
Подвижки в этом символическом порядке происходят не
потому, что продолжающаяся эпоха Просвещения даёт
инструменты для расширения тендерных прав и подключения
п>
Ä
η
о
го
■о
п>
2
П>
I
I
JT
Se
36
Π)
I
η
Se
η
Π)
Q
Π)
■о
о
a\
η
Π)
η
η
251
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
252
женщины к образовательным и общественным процессам, а
исключительно в силу того, что последовало за опистотонусом,
истерической дугой, форму которой в определенный момент
принимает тело женского субъекта, требуя признать его
собственное наслаждение. Перед нами то, что Лакан называет
революцией, переворотом в дискурсе. Только через революцию,
переворот в символическом можно было добиться изменения
в конфигурации соотношения полов, притом что мы видим
насколько эти изменения в целом ничтожны. Так или иначе,
даже мужчина, пользующийся косметикой или обучающийся
«женской эмпатии», все равно не способен от своей гениталь-
ности отмахнуться, она предъявляет к нему требования, в силу
которых он всё равно реагирует на женское наслаждение
определенным образом, поскольку есть в наслаждении нечто такое,
на территорию чего он не заступает, тогда как женщина
нарушает ее границы ежедневно. Указывая на то, что имеет место
нечто разделяющее мужчин и женщин, мы подходим к
вопросу женской обсессии, показывая, что организована она иначе,
чем мужская, и характеризуя это отношение через восприятие
тела и его продукции. В отношении этой продукции, как уже
было сказано, женщина питает совершенно особый фантазм.
Ей не дана возможность извлечь из этой телесной продукции
прибавочное наслаждение и на этом успокоиться, потому что
прибавочное наслаждение, по существу, и есть разрядка, ибо
оно имеет начало и конец, тогда как женщине приходится
иметь с этим дело перманентно. По всей видимости, именно
по этой причине изобретательный в эксплуатации мужской
субъект посылает женщину на кухню, к тряпкам и детям, как
бы намекая на то, что её наслаждение в этом отношении
неизбывно.
Последнее не означает, что женский субъект получает от
этой деятельности какое-то особое удовольствие — скорее,
напротив. Тем не менее психоаналитический разрез
происходящего это не опровергает, поскольку удовольствие и
наслаждение в нем, как известно, не совпадают: то, что скрывается
под маской неудовольствия, так или иначе оказывается
наслаждением того или иного сорта.
К наслаждению все это отсылает лишь потому, что
женщина соотносится здесь с тем объектом, который находится для
нее на уровне Реального. Первичным проявлением этого Ре-
Приложение
ального в положении женщины является то, что она никак не
может закончить свои дела. Известно, что воспитание ребёнка,
мытьё посуды, стирка и глажка никогда не прекращаются:
вымытую посуду необходимо мыть опять, она никогда не бывает
окончательно чистой. Именно этим характеризуется женский
труд, который феминизм проницательно охарактеризовал как
экономически непроизводительный, именно по этой причине
требуя, чтобы он оплачивался выше, ибо разрядка как
наслаждение законченным продуктом здесь всегда оказывает
отложена. Сама возможность этой оплаты — также с самого начала
навсегда отсроченной в неопределенное будущее — возникает
по той причине, что женский труд и вправду бесконечен, и
бесконечен он именно на уровне, где ему не может быть поставлен
символический предел. Женщина не может удовлетвориться
искоренением грязи так, как может той или иной своей
победой удовлетвориться мужчина, избывающий свое влечение
в социально подтвержденных достижениях или, если
достижения эти ему не по зубам, наслаждающийся актами прокрасти-
нации. Если мужскому субъекту открыто обсессивное
наслаждение, сказывающееся в том, что он порой не поддерживает
в доме порядок, не осуществляет уборку или не меняет бельё,
то соответствующим образом воспитанной женщине
приходится иметь с этим дело на уровне, на котором наслаждение
подобными действиями оттеснено на самые крайние рубежи,
где оно оказывается ей в большей части случаев недоступным.
Именно это обуславливает тот специфический облик
женского желания, с которым мужской субъект постоянно
сталкивается с самого детства, проявления которого вызывают в нем
озадаченность и ощущение чего-то отчужденного, как бы его
ни уверяло просвещённое общество в том, что между
мужчиной и женщиной нет никакой существенной разницы и что, по
крайней мере на уровне обязанностей социального характера,
оба пола равноправны. Мужской субъект на это не
соглашается не потому, что он не хочет уступать в своих привилегиях,
а по той причине, что ему никак не смириться с тем, что он
обнаружил в тот самый период, который в нашем курсе я назвал
периодом ознакомления ребёнка с женским фантазмом
матери. Становясь свидетелем его проявлений, ребёнок никак не
может понять, как ему с ним обойтись. Как ранее было
сказано, фантазм этот функционирует именно в анальном регистре.
п>
Ä
η
о
го
■о
п>
2
П>
I
I
JT
Se
36
Π)
I
η
Se
η
Π)
Q
Π)
■о
о
a\
η
Π)
η
η
253
Желание одержимого
Q-
О
CU
н
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
254
Но почему, может кто-то спросить, анальное так
непосредственно сопряжено с обсессивным?
Во-первых, что это так, мы знаем от самого Фрейда.
Известно, что обсессивность всегда обнаруживает себя интенсивной
поддержкой анального объекта, но мы не всегда понимаем,
почему это именно так. Что такого специфического в этом
анальном объекте, что он в итоге выделяется в совершенно
отдельную область бытия, захватывающую у генитального влечения
такой огромный куш?
Лакан отвечает на этот вопрос в одиннадцатом семинаре,
показывая, что влечение, обусловленное анальным объектом,
занимает в пяти выделенных Лаканом способах реализации
влечения (по количеству местоположений объекта)
совершенно особое место. Происходит это потому, что в нем имеет
место реверсивное, обратное движение.
Удобнее всего это отличие охарактеризовать с точки
зрения мастурбационного фантазма. Каков он в том случае,
когда, например, мы говорим о фантазме зрительного объекта,
представленном в акте взгляда? Очевидно, что этот фантазм
заключается в том, что мы подсматриваем за попыткой
реализации чьего-то желания. Это означает, что мы подвергаем
другого субъекта воздействию, которое пробуждает в нём
тревогу, потому что он не может скрыться с наших глаз. Другими
словами, вуайериста возбуждает не то, что он видит, а то, что
другому из-под его взгляда никуда не деться. Именно с этим
связан типичный мастурбационный мужской фантазм, в
котором предполагается, что женщина должна раздеться и что ей
некуда при этом из-под мужского взгляда сбежать.
Точно так же обустроен введенный Лаканом фантазм
голоса. Прежде всего он предполагает, что нас слышат. Именно
с этим связано (мы сейчас говорим о мужской стороне
отправления влечений) специфическое токование, то есть
задействование мужчиной собственного голоса, когда ему необходимо
женщину очаровать, прибегая к скудному запасу своего
интеллектуального могущества, который необходим, чтобы
женщина им прониклась. Другими словами, влечение голоса, как
и влечение взгляда, направлено вовне.
Что здесь происходит с влечением анальным, и какой
мастурбационный фантазм преследует здесь мужчину?
Очевидно, что это фантазм о том, что на него
Приложение
совершается акт дефекации.
Анальный фантазм среди прочих фантазмов голоса,
взгляда, а также фантазма орального и т. д., которые связаны с
выпусканием, оказывается от них отделенным, поскольку он
организован противоположным образом. Анальный фантазм
заключается в том, что, как Лакан выражается, на вас гадят.
Именно с этим связано перманентно ощущение, которое
субъект постоянно подспудно питает, — ощущение, которое
неизбывно и которое Лакан находит в основании чувства,
переживаемое нами с младых ногтей, а именно, ощущение того, что
мы обгажены с ног до головы и именно в таком виде предстаем
перед людскими очами. Измерение глубокого стыда за свое
бытие не случайно еще Фрейдом связывается с анальностью, но
Лакан совершает следующий шаг и возводит его к верховному
пантократору, к божественной инстанции, которая
осуществляет на субъекта гонение, выраженное в библейском мифе, —
гонение, которое оставляет субъекта в положении воробья
из известного анекдота: воробья, который оказался в навозе
и должен быть этим доволен, потому что если бы не это
обстоятельство, то, возможно, выжить суровой зимой ему бы просто
не удалось. Именно в навозе по уши изначально оказывается
человеческий субъект, и в нем он обречен находить свое
наслаждение, потому что это его среда обитания: тот характерный
бред «естественной среды», который долгое время
продуцировали мыслители 19-ого века, говорит лишь о том, что им так
и не удалось к этому основополагающему факту прорваться.
Перед нами, другими словами, то, чему учил гностический
миф, о котором в «Психике власти» напоминает Джудит Бат-
лер и который заканчивается тем, что субъект, освободившись
от обмана и разоблачив злого демиурга, воспаряет к небесам
и перед актом пересечения границы, отделяющей небесную
твердь от земной, совершает акт торжествующего
испражнения, последний раз поливая землю своим дерьмом и воспаряя
к небесам. Вот на чем основан Валентинов миф, который
неслучайно для официального христианства был так непереносим.
Миф тотальной обгаженности, так часто посещающий
субъекта в его фантазме и говорящий о том, что всё покрыто
ровным слоем испражнений, — миф, обуславливающий субъ-
ектность и удерживающий ее в состоянии, где стыд
является незыблемым фундаментом, лежащим под большинством
п>
Ä
η
о
го
■о
п>
2
П>
I
I
JT
Se
36
Π)
I
η
Se
η
Π)
Q
Π)
■о
о
a\
η
Π)
η
η
255
Желание одержимого
CL
О
CU
I-
о
CÛ
о
ζ
ω
χ:
(Ό
m
u
Ο
ш
τ
m
CC
Ш
(Ό
Ζ
m
Ο
Q.
ffl
<U
Χ
256
психических процессов, указывает на то, что субъект обречён
на обсессию, потому что обсессия, по существу, представляет
собой факт того, что вы не можете от реальности какого-то
факта отделаться. Именно поэтому её называют в немецком
языке «навязчивостью», поскольку это буквально калька с
немецкого, используя которую Лакан по-французски обозначает
это как obsession, одержимость. Одержимость, как известно,
выражает собой функцию по отношению к объекту и
заключается в том, что вы не можете от чего-то отойти, открепиться.
Что-то застряло — вот какую формулу я хотел бы
предложить для описания обсессивного измерения. В субъекте что-
то застревает, и именно это является хорошим выражением
функции объекта анального, потому что известно, что
анальный объект и есть то, что застревает внутри, то, что субъектом,
вопреки воздействию извне, удерживается.
Из этого и следует, что анальное наслаждение
противоположно всем прочим нам в анализе известным. Так,
наслаждение оральное — это наслаждение испускания, даже если
поначалу оно кажется обратным. Точно так же наслаждение
скопическое, наслаждение взгляда, голоса, равно как и самое
основное наслаждение,
фаллическое, генитальное всегда сопряжены с исходом.
Это может быть излияние семенной жидкости, плевок или
рвота, испускание взгляда (подсматривание), испускание голоса
(любовная песнь). Но анальный объект всегда дан в
положении задержанного: субъект получает наслаждение, как Фрейд
замечает в трех очерках о сексуальности, не тогда, когда его
испускает, а когда, напротив, его придерживает. Перед нами,
таким образом, объект совершенно особый, и Лакан даже
какое-то время колеблется относительно его роли, поскольку он
не совсем уверен, что его можно помещать в список пяти
выделенных им объектов влечения.
Известно, как обошелся с этой трудностью Ж. Делёз в
«Капитализме и шизофрении»: он заявил, что анальное
представляет собой такой же поток, как оральное и фаллическое.
Поставленную Фрейдом проблему несовпадения целей
анального влечения со всеми прочими он разрешает, таким образом,
крайне неизящным способом: для него испускание струи кала
то же самое, что испускание струи мочи, и поэтому он говорит
о потоках и их прерывании в области сфинктера. Здесь практи-
Приложение
чески полностью игнорируется затруднение, которое привнес
еще Фрейд, показывающий, что на анальном уровне
испускания как раз и не происходит.
Анальный объект для того и служит, чтобы никому его не
отдавать. Здесь возникают широко известнее проблемы
приучения ребёнка к горшку, связанные с функционированием
его кишечника, со способностью удерживать. Очевидно, что
в этом плане в том числе уретральный объект, связанный со
струей мочи, начинает функционировать как анальный: это то,
что удерживают или испускают в качестве подарка, как,
например, в фантазии о золотом дожде. В этом смысле неправильно
было бы возводить уретральный объект на генитальный
уровень, как иногда это делают некоторые психоаналитики,
полагая, что если он связан с соответствующим органом
анатомически, то и логика его бессознательного функционирования
устроена также.
Как уже было сказано, с анальным объектом у женщины
выстраиваются свои совершенно оригинальные отношения. Там,
где мужчина его рассматривает как объект символический,
возникает система обмена, которая восходит к мужскому
желанию, где деньги предстают в виде того, что переходит из
рук в руки и эквивалентно фекальному объекту, экскременту.
Именно отсюда предположение о том, что деньги в их
материальном воплощении представляют собой объект по
преимуществу грязный: всё это, разумеется, фантазм чистой воды,
связанный именно с их анальной функцией. На территории
мужского желания анальная функция разрешается в систему
символических обменов и связей, важным медиатором которых
выступает денежный объект — купюра или монета. Заметьте,
что в фантазии монету можно проглотить, как и драгоценный
камень — именно это подчёркивает её роль в анальном обмене,
поскольку это означает, что она непременно вернется. В этом-
то и весь смысл — любая манипуляция субъекта с деньгами
это всегда кража на алмазных копях, где проглоченный и тем
самым временно утраченный объект тем не менее сберегается
и рано или поздно может быть получен обратно.
Интересно, что в женском фантазме этого, похоже, не
происходит. Фекальный объект предстаёт в нем не как нечто
оформленное и встроенное в логику символического, а как имеющее
характер крайне дисперсный, рассеянный. Именно поэтому
п>
Ä
η
о
го
■о
п>
2
П>
I
I
JT
Se
36
Π)
I
η
Se
η
Π)
Q
Π)
■о
о
a\
η
Π)
η
η
257
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
258
женщине отведена роль кастелянши, то есть следящей за
чистотой белья, поскольку искомый ею анальный объект может
оказаться где угодно — в ее фантазии он распространяется,
измазывая все вокруг. Его анальная природа предстает чем-то
гораздо более буквальным и в то же время имеющим
неочевидные последствия для женского желания в целом.
Так, именно отсюда берутся у женского субъекта фантазии
болезни и заражения, которые крайне распространены у
женщин средних лет. Та самая почтенная матрона, которую Фрейд
часто описывает в качестве женщины более-менее нормальной,
генитальной, на самом деле скрывает в своём
бессознательном настоящий ад обсессивности, сопряжённый с фантазиями
распространения грязи, болезней, об эпидемиях и
скоропортящихся продуктах, которые несомненно восходят к
представлению о скоропортящейся плоти — женский субъект в своем
Воображаемом разлагается заживо, для маскировки чего им
принимаются определенные меры косметического характера.
Разного рода нозофобии, то есть боязни микробов и заразных
болезней — это тоже обсессивный фантазм, который задолго
до того, как Лакан заговорил об устройстве женской сексуа-
ции, возводился аналитиками именно к женской психической
жизни. Интересно, что у фобичности подобного характера есть
исторические вариации — так, в определенный, критический
для индустриального общества момент на первый план
выходит боязнь наиболее всепроникающего и вызывающего ужас
заражения — заражения радиационного. Если мужчина даже
перед лицом уже случившейся катастрофы склонен видеть
положение дел более воодушевленно, полагая, что надлежащие
меры будут вовремя приняты, то женский субъект напрямую
встает перед реальностью всепроницающей, пернициозной
и невидимой материи и передает этот ужас ребенку, что и
показывает анализ биографий, написанных теми, кто застал этот
период в самом нежном возрасте, получив о них обрывочные
сведения от родителей и учителей.
Другими словами, даже предварительное аналитическое
исследование обнаруживает специфический женский фантазм
на анальном уровне. Мужчина, естественно, тоже может быть
ему причастен и разделять привносимый им аффект, но это
никогда не происходит без поддержки со стороны женского
желания. Всё, что касается распространения грязи, заразы, отравы
Приложение
находится на этой территории: фантазм отравления
несомненно является женским, о чем свидетельствует соответствующая
классическая литература. Известные мужчины-отравители
также существовали, но интересно, что прибегание к яду
всегда в какой-то степени лишало их мужского достоинства.
Фантазм чего-то невидимого и вредоносного — это то, что
женщину преследует, равно как и то, с помощью чего она
начинает преследовать своего ребёнка, как только она получает его
в распоряжение. Выражается это, конечно, на уровне ухода за
его телом — постоянные подтирания, смазывания и
присыпки, которые вызывают у мужского субъекта, наблюдающего
за этими действиями, смешанные чувства, что запечатлено,
например, в семейных романах Эрве Базена. Речь не о том,
что действия эти непроизводительны, а о том, что в них нужно
видеть сопряжение между чисто природной необходимостью
и уровнем бессознательного, проявленного в определенной
сексуации. Хотя существуют люди, мягко говоря,
консервативного склада, которые считают, что женщина по природе
предназначена для определённых видов деятельности, и если
она убирает за ребёнком, то это потому, что ей это
доставляет наслаждение, как, скажем, это доставляет наслаждение
животному, вылизывающему новорождённого питомца с тем,
чтобы стереть его фекальный след, который может привлечь
хищников. Но на уровне аналитическом можно говорить разве
что о метонимии, то есть о параллелизме, о совпадении на
уровне структуры, где речь идет не об инстинктах, а о борьбе
субъекта с тревогой в определенном сексуационном профиле,
складывающемся на базе принадлежности к полу.
С одной стороны, очевидно, что ребёнок нуждается в уходе,
в содержании его в чистоте и в прочих мерах, которые
чрезвычайно трудно открепить от уровня биологического. Но тем
не менее очевидно, что у женского субъекта здесь есть и своё,
дополнительное наслаждение, которое ни в коем случае, по
завещанию Лакана, нельзя спутать с наслаждением
прибавочным, поскольку прибавочное — это то самое наслаждение,
которое можно избыть посредством символической инстанции.
Женщина, не будучи отчуждена этой возможности всецело,
в то же время лишена ее в самом сердце своей обсессивной
фантазии. Речь в этой фантазии напрямую идет о
наслаждении, скажем так, дополнительном и таком, которое является
п>
Ä
η
о
го
■о
п>
2
П>
I
I
JT
Se
36
Π)
I
η
Se
η
Π)
Q
Π)
■о
о
a\
η
Π)
η
η
259
Желание одержимого
α.
о
<υ
ι-
>s
о
ас
υ
m
О
χ
го
2С
ГО
m
υ
О
m
s
τ
m
ос
m
го
χ
m
О
α.
m
<υ
χ
2бО
женским патогномонично — то есть только и исключительно
принадлежащим женской сексуации и отличающим ее от
прочих ее видов.
Этот момент заставляет нас несколько иначе взглянуть на
то, как это наслаждение у женского субъекта функционирует.
Известно, как не чуждые лакановскому аппарату специалисты
на него зачастую смотрят — им трудно, следуя за пафосом
лакановского текста, противиться искушению его размыть,
представить чем-то наподобие неуправляемой и
недифференцированной стихии — тем более, что символическое из него
по большей части изъято. Нередко по мотивам чтения
лакановского семинара «Еще» возникает представление об этом
наслаждении как о чём-то таком, чему нельзя дать ни объяснение,
ни характеристику, ни интерпретацию, — перед нами что-то
совершенно заповедное. Трактуя его так, мы возвращаемся на
уровень женской мифологии, где женщина предстаёт тёмной
материей, морем без берегов, хорой, если говорить в греческих
терминах, то есть чем-то бескрайним и совершенно
недоступным для понимания и разметки.
При этом очевидно, что подобное понимание отбрасывает
теорию на долакановские и даже дофрейдовские позиции,
потому что, каким бы загадочным наслаждение женщины
Фрейдом или Лаканом ни представлялось, они никогда не возводили
его к
мифологии, особенно к мифологии консервативного
эзотерического толка, где женское помечено загадочностью,
текучестью, безбрежностью, в отличие от мужского, фаллически
оформленного начала. Напротив, я полагаю, что женскому
наслаждению, помеченному у Лакана термином encore («ещё»),
вполне можно дать определение. Более того, его можно
толковать именно с точки зрения фрейдовской теории влечений.
Другое дело, что в ходе этого не избежать оговорок,
указывающих на то, что это наслаждение не только обустроено не так,
как мужское, но в нем нет и собственно того эдипального
качества, которое Фрейд, как известно, распространял на оба пола.
Если говорить об обсессивном фантазме, где это отдельное,
самостоятельное наслаждение ярко дает о себе знать и где
спутать его с мужским прибавочным совершенно невозможно,
то приходится признать, что на территории этого «ещё», этого
encore, тем не менее, также лежит отсвет анальности — той
Приложение
самой, которая женщину прикрепляет к специфическим
отношениям с объектами, способными испускать разного рода
предположительно загрязняющие субстанции, которые
женский субъект не может избыть в символическом.
Именно здесь женщина показательно, демонстративно, во
многом, как часто замечают, мужчине в укор прикрепляется
к младенцу и её функции сводятся к тому, чтобы постоянно
подчищать, перепелёнывать, переодевать, купать. Принято
считать, что делается это все во имя отцовского
символического закона, требующего, чтобы ребенок был объектом
привилегированным и чтобы женщина ради него собой пожертвовала.
Тем не менее будь это так, воспитать ребенка мог бы и
мужчина, поскольку закон этот, невзирая на его неумолимость
и проницательность по отношению к увиливающим от него, не
знает ни тела, ни пола — мысль, на которой Лакан эпохи
пятого семинара укрепился настолько прочно, что это дало начало
формулированию общей для субъекта любого пола реальности
соотношения желания и требования. Если говорить о
требовании, исходящем от инстанции Имени-Отца, то, невзирая на то
что его исполнение в том, что касается ухода за детьми,
возложено на женщин, в нем нельзя найти указания на то, что
именно женщины приспособлены к этому лучше. Это указывает на
то, что в этом законе бесполезно искать причину, по которой
в подобной ситуации женщины оказываются на порядок чаще,
причем настолько, что все усилия по эмансипации женщин так
ничего и не смогли в этом положении вещей изменить.
Все это подталкивает к мысли, что источник данного
положения следует искать за пределами символического — в том
измерении, которое и вводит Лакан шаг за шагом, формулируя
гипотезу, призванную заменить лежащее в основе мысли
Фрейда различие полов в бессознательном на различия в сексуации.
Различие это сегодня полностью заглушено гуманитарной
наукой, которая также, совершив массированный удар по
категории полового различия, заменила его различием тендерным.
Замену эту принято приветствовать, но, оказав содействие
дискурсу Университета, она ничего не привносит в положение
психоаналитика, вынужденного иметь дело с вопросом пола
на свой лад.
Вопрос этот, будучи в анализе поставлен, немедленно
обнаруживает то самое, с чем столкнулся еще Фрейд, заметив,
п>
Ä
η
о
го
■о
п>
2
П>
I
I
JT
Se
36
Π)
I
η
Se
η
Π)
Q
Π)
■о
о
a\
η
Π)
η
η
261
Желание одержимого
CL
О
CU
I-
о
CÛ
о
ζ
ω
χ:
(Ό
m
u
Ο
ш
τ
m
CC
Ш
(Ό
Ζ
m
Ο
Q.
ffl
<U
Χ
262
что в желании женщины есть нечто непроницаемое.
Непроницаемым оно является при этом не всецело, не абсолютно,
а только со стороны мужской, что, впрочем, ничего не меняет,
поскольку никакой другой стороны обзора все равно нет.
Примечательно, что фрейдистских аналитиков это как будто
совершенно не беспокоило — выработанные ими за десятилетия
стандарты консультирования ни разу не обнаружили того, что
измерение женского желания вызывает у них какие-то
трудности. Эта мнимая легкость, несомненно, была обязана тому,
что большая часть сделанных Фрейдом заделов была ими
просто-напросто выброшена. Тем не менее, стоило только Лакану
заново вернуться к фрейдовскому тексту, как тут же все
нерешенные вопросы заново дали о себе знать, и вопрос отдельного
элемента в женской сексуации, вызывающий невозможность
в точности наложить на нее мужской субъектный контур,
выступил на первый план.
Именно в этом элементе берет начало побуждение, которое
по наблюдениям раннего Лакана непременно подтолкнет
женщину поэкспериментировать с ребенком и зеркалом — то, что
она ребенку при этом показывает, может поначалу показаться
сведенным к его собственному образу, но Лакан сразу
замечает, что помимо этого тут присутствует демонстрация и со
стороны самой женщины — она показывает ребенку, как можно
наслаждаться собой, а, еще точнее, тем элементом в
собственной субъектности, который присущ и ей самой. Женщина, —
говорит Лакан, — учит своего малыша красоваться. Тем самым
она передает ему нечто из своего наслаждения — того самого,
которое и позволяет ей на уровне ее бессознательного
находить в уходе за ребенком с точки зрения наслаждения нечто
трансцендентное.
Здесь есть нечто такое, что для мужчины совершенно
непонятно и несоизмеримо с его опытом. Постоянный глухой
отказ мужчин принимать на себя бремя ухода за грудным
ребёнком, требование мужчины дать ему подождать и отложить
свое отцовство, пока дитя не подрастёт, несомненно связано
не только с тем, что мужчина вообще склонен уклоняться от
обязанностей подобного рода — на самом деле, выполняет он
их при необходимости ничуть не хуже, — но и с тем, что здесь
есть нечто для мужчины крайне загадочное, нераспознанное,
касающееся именно матери. Видя, как женщина купает ребён-
Приложение
ка, меняет ему подгузники, гулит и воркует с ним, мужчина не
может понять, что при этом происходит с её желанием. Ему
это совершенно неясно, что и вызывает у него уклоняющуюся
реакцию, когда он втягивает своё собственное желание, как
амёба втягивает ложноножку. Другими словами, все это, по
замечанию Лакана, вызывает у него тревогу.
Что такое мужская тревога? Анализ говорит нам, что это
детумесценция — то есть, падение и втягивание органа,
которое происходит в момент, когда мужчина испытывает страх
или сильное смущение, что представлено у него буквально
на физиологическом уровне. Именно виртуальное
подтягивание органа, его устранение как органа желания совершает
мужчина, когда видит женщину, вступающую в характерное
взаимодействие с ребёнком. В этот момент мужской
субъект пасует, его желание прекращается, поскольку в
наблюдаемом им сказывается то, что Лакан называет Реальным.
Известно, что Лакан определял Реальное по разному — так,
поначалу оно у него вырисовывается как нечто непостижимое
и неусвояемое в наслаждении, указывающее на чужой
организм как на функционирующий кусок сырого мяса —
примечательно, что в приведенном им примере это организм женский.
Тем не менее в дальнейшем описание Реального усложняется,
и оно обнаруживается в самом по себе неусвояемом желании
другого и, в частности, в тайне его иной сексуации.
В любом случае, здесь для мужчины пролегает черта.
Разумеется, он может её преодолеть и в этом-то собственно
окультуривание мужчины и заключается, когда он всё-таки берёт
себя в руки и принимает на себя отцовские обязанности по
уходу за ребенком. Мужчине всё это становится доступно, его
всему можно обучить, но это не означает, что, даже пересекая
эту черту на уровне действий, он пересекает её на уровне
своего фантазма. Этого, по всей видимости, никогда не происходит
или происходит лишь изредка и в силу каких-то специальных
обстоятельств. И Фрейд, и Лакан были чрезвычайно строги
в этом отношении, считая, что различие сексуации
сохраняется; по всей видимости, их опыт подтверждается и сегодня
как в достаточной степени достоверный. Заметьте, что именно
так в нашем курсе и была охарактеризована женская любовь,
которая в ряде случаев целиком обязана тому факту, что
мужчина понимает в женщине не всё. Женская любовь, как
говорила
п>
Ä
η
о
го
■о
п>
2
П>
I
I
JT
Se
36
Π)
I
η
Se
η
&
Π)
Q
Π)
■о
о
a\
η
Π)
η
η
263
Желание одержимого
CL
О
eu
I-
О
CÛ
о
ζ
ω
χ:
(Ό
m
u
Ο
ш
τ
m
CC
Ш
(Ό
Ζ
m
Ο
Q.
ffl
<U
Χ
264
лось ранее, обязана тому факту, что женщина своим желанием
и присутствием ставит мужчину перед тревогой, которую он не
может отреагировать и вынужден терпеливо сносить.
Естественно, в первую очередь тревога эта связана с отправлениями
женской телесности, с ее продуктивностью: это беременность,
роды, кормление, менструация и все то, над чем может
стыдливо посмеиваться юнец в компании себе подобных, но что
требует от мужчины в браке смирения совершенно особого рода.
Во вторую очередь попадают специфические манипуляции
женщины с ребенком, который тоже постоянно совершает
выделения из своего тельца и требует манипуляций по их
заботливому устранению.
Мужчина не может на это отреагировать так, как он это
делал в архаических обществах, подвергая женщину
бесчисленным обрядам очищения от скверны, пытаясь тем самым
вернуть ее в лоно символического. Цивилизация также
лишила его описанной Фрейдом в «Тотеме и табу» привилегии
мужской территории, когда супруга с детьми изгонялась на
женскую половину, что позволяло мужскому субъекту не иметь
дела с отправлениями её тела и её желания. Современному
мужчине в браке приходится со всем этим мириться, но даже
мужчине традиционного сообщества тоже приходилось
скрывать свою тревогу, поскольку полное изгнание женщины было
ему недоступно. Запереть её на женской половине он мог, но
отделаться от знания о том, что она менструирует, рожает
и кормит, он был не властен.
Именно это в нашем курсе я назвал причиной женской
любви в браке — она обязана той высокой оценке, которую
женщина адресует успешным мужским попыткам скрывать и
придерживать свою тревогу по поводу ее женских дел. Именно
наличие и в то же время непроявленность этой тревоги в
мужчине и обеспечивает женскую к нему привязанность. Другими
словами, женщина любит в мужчине его неотреагированную
тревогу.
Тем не менее все эти экивоки теряют смысл, когда женщина
остается со своей навязчивостью наедине и где ее
наслаждение больше не имеет никаких средств выражения вовне. Этот
уровень никому не адресован и не знает никакого мужского
присутствия. Мужчина для него, другими словами,
необязателен. Для того чтобы женщина вступила в отношения с обсес-
Приложение
сивным анальным объектом, мужской субъект совершенно не
нужен — тем более что выше было уже сказано, что способ,
которым мужчина вступает в отношения со своим анальным
объектом, совершенно на женский не похож, так что женщина
ничему в этом плане у мужчины не учится.
Здесь наблюдается своего рода асимметрия, которая и
создает ту самую широко известную, но совершенно
непередаваемую в обычным языке многозначительность материнской
роли в воспитание ребёнка. Это достойно отдельного разбора,
тем более что кроме идеологов и политиков об этом давно
никто уже не говорит. Известно, что на этот счет думают
педагогика и детская психотерапия, указывающие на материнское
воспитание как на важнейшее адаптационное средство,
сопряженное с эмпатией женщины, ее способностью к
безусловному принятию и способностью по возможности мягко знакомить
ребенка с принципом реальности. В свою очередь мы должны
указать на ту роль, которую женщина играет в развитии
ребёнка именно на уровне подключения его к анальному фантазму,
поскольку именно здесь происходит что-то действительно
важное и оригинальное. Если в случае отцовского анального фан-
тазма ребёнок ничего от него не усваивает, а просто —
особенно если он является мальчиком — входит в соответствующие
символические практики посредством инициации, то женский
анальный фантазм, напротив, полностью включает ребёнка
в то самое измерение, которое я назвал измерением теории
или, другими словами, вопроса о том, что с желанием другого
субъекта вообще происходит.
Все это не преувеличение: ребёнку действительно
приходится совершать практически ту же самую работу, которую
совершает психоаналитик, исследуя желание, причем ребёнок
совершает её еще более тщательно, поскольку ему приходится
принять как данность то, что у женщины, данной ему в матери,
желание организовано каким-то особым способом. В наиболее
заметной его части оно представлено анальным образом,
поскольку заинтересовано именно в истечениях известных
жидкостей и вообще в пролиферирующимся объектах, которые при
этом нельзя напрямую свести к объектам непристойным. Это
тоже усложняет дело, поскольку если ребенок на уровне
своей активной анальности, достижения которой закрепляются
в дальнейшем на стадии фаллической, сталкивается с грязью
η
О
го
-о
п>
П>
I
I
jr
Se
Π)
л
η
χ.
s
Se
η
Π)
χ.
4
• ·
π
Η
Π)
■α
о
ο\
η
Π)
η
η
265
Желание одержимого
Q-
О
CU
н
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
266
и с некоторыми производящими ее органами как с чем-то
таким, от чего не только надо держаться подальше, но и что
может замарать его, лишить статуса, то женский субъект в этом
за ним, как известно, не следует. Даже способствуя
скорейшему выходу ребенка на уровень символического, с которым
сопряжено в норме мужское желание, всегда связывающее
грязь с чем-то унизительным, сама женщина остается на том
уровне, где в грязи ничего символического нет — она не
марает субъекта, и покуда у нее есть место в Реальном, оно есть и в
бытии. Женщина в этом смысле рассуждает подчеркнуто
антиплатоновским образом — знаменитый отказ Платона
допускать в идеальное бытие объекты грязные и ничтожные никак
ее замыслов не касается.
Может показаться, что сопряжение грязи и недостойного
в символическом отягощает положение мужчины, но все
обстоит, скорее, обратным образом: воспринимая грязь именно
так, он освобождается от тревоги по ее поводу, поскольку
назначить нечто унизительным означает уволить его в
символической операции и получить возможность больше с ним дела
не иметь, доверив его бытие языку. Субъекту мужского пола
совершить эту операцию легче по той причине, что в своем
наслаждении он включен в символическое целиком. Именно
поэтому ему удаётся, двигаясь по краю анального влечения,
сверяться с мерой собственного взаимодействия с его
объектом. Именно это позволяет ему получать от него своё
прибавочное наслаждение, что называется, не ударяя при этом
лицом в грязь.
С субъектом женским, как мы видим, всё происходит не так:
его политика обращения с экскрементами совершенно иная.
С одной стороны, это открывает женскому субъекту доступ
к ребёнку, потому что в противном случае, очевидно, ему
пришлось бы от идеи материнства отказаться вообще, поскольку
если позволить себе роскошь тестировать свое положение
в символическом всякий раз, когда ребенок срыгивает на
одежду матери или пачкает пеленку, то никакой уход за ним не был
бы возможен в принципе. Для того чтобы ухаживать за
младенцами, необходимо всем своим бытием настаивать на том,
что в их отправлениях нет ничего непристойного. Именно по
этой причине женский субъект стоит на позициях заявления,
звучащего как «ничего такого», и отвергающего всякое подо-
Приложение
зрение в непристойности. Это грязь, несомненно, но она легко
отмывается, и от нее на бытии субъекта не остается и следа.
Подобная позиция могла бы пролить свет на то, что обычно
восхваляется в виде женской терпимости, снисходительности
как нечувствительности к ситуациям, где мужской субъект
счел бы себя навеки или, во всяком случае, серьезно
опозоренным. Женский субъект чрезвычайно редко ощущает свое
бытие как непоправимо замаранное — позиция, вызывающая
у мужчин характерные всплески мизогинии, которой плохо
прикрывается откровенная зависть.
Но у этого явления есть и обратная сторона. Именно
потому, что грязь не является непристойной и легко смывается, она
возникает снова и снова и никогда не заканчивается, так что ее
присутствие в области женского фантазма становится
постоянным. Отсутствие символической границы, за которую
можно было бы оттеснить экскрементальныи объект как причину
падения и обесчещения, лишает субъекта, сексуированного
по женскому типу, тех возможностей, которыми пользуется
субъект мужской, использующий фекальный объект
исключительно для наслаждения прибавочного, взятого косвенными
средствами.
Использование это в конечном итоге придает мужчине ярко
характеризующее его ханжество в области сравнения разных,
с его точки зрения, возможностей полов. Плодимые им здесь
мифы бесчисленны, но кое в чем он попадает в цель, поскольку,
даже не зная аналитической сути дела, он улавливает, что
женщине не удаётся провести операцию извлечения прибавочного
анального наслаждения настолько же чисто, насколько её
производит субъект мужской сексуации. Поэтому ей приходится
находиться с другой стороны — то есть в мире, где нет ничего
непристойного и все отмывается подручными средствами
бытовой химии. На пути устранения следов фекального объекта
женщине приходится вступать с ним в довольно интимные
отношения, в каковые она посвящает и ребёнка.
Неоднократно ранее говорилось, что особенность
пресловутого материнства состоит в том, что женщина в определенный
момент проговаривается в своём фантазме. Случается это не
сразу — пока ребенок сам является производителем
тщательно убираемой грязи, адресовываться к нему не приходится, но
когда он вступает в свою анальную стадию и грязь для него
п>
Ä
η
о
го
■о
п>
2
П>
I
I
JT
Se
36
Π)
I
η
Se
η
Π)
Q
Π)
■о
о
a\
η
Π)
η
η
267
Желание одержимого
CL
О
eu
I-
О
CÛ
о
ζ
ω
χ:
(Ό
m
u
Ο
ш
τ
m
CC
Ш
(Ό
Ζ
m
Ο
Q.
ffl
<U
Χ
268
символизируется вовне — это примерно возраст,
соответствующий неплохому уровню овладения речью, что несомненно
находится с возможностью этого оттеснения в тесной связи, —
в этот момент мать посвящает его во все то, что касается ее
собственной анального фантазма.
Ранее я обращал внимание на то, что осуществляется это
средствами непрямыми, крайне деликатными и по большей части
представленными исключительно в речи: мать говорит с
ребенком, рассуждает на разные темы, комментирует телепрограммы
и в итоге косвенно проговаривается насчет своих предпочтений,
не связанных с мужчинами и не удовлетворяемых ее мужем —
то есть субъектом отцовским. О том, что желание матери как
женщины с отцовским законом совпадает не полностью и им
далеко не исчерпывается, ребенок получает представление очень
рано: как правило, ему еще не исполняется и трех лет. То самое
забвение событий достаточно раннего детства, которое Фрейд
возводил к причине собственной сексуальности ребенка,
вытесняемой и репрессируемой в латентном периоде, вполне может
быть также возведено к забвению акта материнского сообщения
о ее собственном наслаждении, которое для ребенка в большой
степени является неусвояемым.
Следует заметить, что информирование ребенком об
анальном фантазме воспитывающей его женщины происходит также
и другими путями. Например, хорошо известно, что ребёнок
получает от матери изобильные сведения о разного рода
заразных заболеваниях, не говоря уже о том, что и сам ребёнок
в определенный период взросления превращается в инкубатор
по хранению и воспроизводству вирусов. Хорошо известно,
насколько дети вирулентны: практически каждый осведомлен
об опасности для взрослого, исходящей от вирусных детских
болезней. Заметьте, что сам ребёнок при этом не просто
является носителем не вполне совершенной иммунной системы,
но и в этой своей особенности снова отвечает материнскому
фантазму. Если женщина находится в состоянии тревоги и в
то же время охвачена желанием по поводу возможного
распространения заразной материи, то не так уж странно будет
предположить, что дитя получает сообщение, обязывающее его это
материнское желание исполнить.
Полагаю, не стоит отворачиваться от того факта, что всё
это имеет отношение именно к стадиям сексуального разви-
Приложение
тия. Хорошо известно, что ребёнок болеет чаще, когда его
наслаждение дано ему на стадиях анальной и оральной; когда
он выходит на стадию латентную, его иммунитет как будто бы
укрепляется. Разумеется, здесь неуместны сугубо магические
аналогии — очевидно, что у всего этого есть вполне
физиологические объяснения, в которые анализ вмешиваться не будет.
Тем не менее, с аналитической точки зрения, этот факт все же
не стоит сбрасывать со счетов.
На его реальность может, например, указывать и
пресловутое тендерное разделение в том, что касается способности
переносить заболевание. Все наверняка знают американские
шутки про мужскую простуду, man cold, которую мужчины
переносят так тяжело, но подхватив которую женщина
порой едва ли ее замечает. Уместно задать вопрос, не обязано
ли это карикатурное проявление man cold тому, что мужчина,
бесповоротно покончив с латентной стадией, тем самым
возвращается в лоно той перманентной виновности, в которой он
находился, будучи эротизированным ребенком, находящимся
под влиянием кастрационной угрозы. Ситуация осложняется
еще и тем, что выйдя на уровень какой-никакой генитальности,
он отправляет сексуальность при помощи органа, тем самым
заходя на уровень, который феминизм прочно связывает с
насилием.
Измерение насилия оказывается за мужчиной закреплено,
и так происходит, даже если он хорошо воспитан и никогда не
проявляет себя неприятным или грубым, с точки зрения
женщины, образом. Тем не менее всё то, что находится за
пределами латентности, предполагает исходящую с мужской стороны
угрозу и сопряжено с его предположительной виновностью.
В этом плане мужчина всегда выказывает готовность быть
наказанным, с точки зрения чего не удивительно, что любое
недомогание встречается им как адресованная лично ему кара,
исходящая от инстанции самого высокого уровня.
Для женщины, как уже было сказано, всё это
представляет совершенно особый интерес, поскольку для неё болезнь
вообще представляет интерес как таковая. Около этой темы
ее удерживает многое: во-первых, болезнь со всей
откровенностью намекает на тот мужской ослабленный образ, который
для женского субъекта привлекателен в свете
истерического фантазма. Интересно, что эта черта в женском желании,
п>
Ä
η
о
го
■о
п>
2
П>
I
I
JT
Se
36
Π)
I
η
Se
η
Π)
Q
Π)
■о
о
a\
η
Π)
η
η
269
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
270
похоже, неустранима: даже если женщина становится гени-
тальной, с наследием истерическим она всегда прощается не
полностью. Есть нечто такое, в чем Фрейд был прав — а именно
том, что она сохраняет осколки этого фантазма в качестве
инструмента наслаждения, что позволяет ей к мужчине
прикрепиться. Именно поэтому её могут интересовать — пусть даже
не в качестве предмета непосредственного брачного
интереса — например, мужчины, имеющие увечья или страдающие
неизлечимым заболеванием. Известно, как долго порой
женщины способны удерживать верность именно тому мужчине,
здоровье которого пошатнулось. Даже если мужчина в силу
каких-либо причин оказывается импотентным, если его мужское
желание пострадало и не на высоте, женщина может с этим
мириться. Именно женщины способны долгое время иметь
близость с мужчиной, отмеченным инвалидностью и
находящимся в коляске, и не слишком переживать по поводу того,
что слабостью могут быть отмечены не только его конечности,
но и то самое, что оговорившаяся пациентка Фрейда назвала
«пятой конечностью», самой главной.
Что происходит при этом с наслаждением анальным?
Очевидно, оно показывает, что там, где в генитальном
наслаждении женщина испытывает возможность удовлетвориться,
практически не пострадав при этом от тревоги, на уровне анальном
тревогу она все равно продолжает испытывать. Именно из-за
этой тревоги она и проговаривается о своем фантазме
ребёнку. Дело не только в том, что женщина задумывает какие-то
специальные мероприятия по посвящению ребенка в
собственное наслаждение на уровне речи — через комментарии в его
присутствии, рассуждения на житейские темы, чтение вслух
детской литературы. Со стороны может показаться, что
женщину толкает к этому чисто педагогическая, нарциссическая
страсть, которая делает из ребенка собеседника, подобного
самой женщине и способного ее услышать так, как ее никогда
не услышит мужчина. Но даже в этой, доставляющей ей
удовольствие деятельности ее прежде всего подталкивает тревога.
Ей необходимо удостовериться, действительно ли её желание
имеет место и способно эротизировать. Именно поэтому она
нередко заводит с ребёнком соответствующие беседы,
рассказывает самодеятельные сказки, в которых опять-таки то
и дело фигурирует угроза заражения, колдовство или какой-
Приложение
то больной или ослабленный персонаж, которому приходят на
помощь.
Мощность производимого здесь воздействия
иллюстрируется той приверженностью, которую ребенок к этим
историям очень скоро начинает питать, отображая их в
собственных играх и фантазиях. Так, фантазия попадания в опасность
и последующего прихода подмоги является одной из наиболее
часто встречающихся основ для историй, которые достигший
достаточного уровня развития ребенок рассказывает самому
себе и стремится воплотить в игре. Тема эта всегда тесным
образом связана с наносимым телу ущербом и его
исправлением, и здесь возникает искушение прочесть ее образом,
скорее, юнгианским — то есть провести ее по ведомству
некоей образцовой фантазии, которая касается каждого субъекта
в силу универсальных механизмов, совершенно неведомых по
своему происхождению. Именно здесь необходимо конкретное
указание на ее источник, который без труда опознается, если
держаться фрейдовской линии.
Линия эта безошибочно указывает на след объекта, который
ребенок себе усваивает и который ведет именно к
материнскому фантазму изначального повреждения, порчи, нанесенного
ущерба. Если на уровне, где женщина этот фантазм
поддерживает, порча остается нелокализованной и выступает как нечто
ускользающее и представленное, скорее, на уровне Реального,
то передача этого фантазма ребенку превращает повреждение
в нечто символическое, переводя его в соответствующий
регистр. То, что для женского субъекта представлено в образе
своего рода космической порчи — то есть в виде гностической
по своему устройству вселенной, вселенной какой-то не
вымытой до конца грязи, в ребёнка через материнскую речь
попадает как сформированный объект дефекации на символическом
уровне.
Как только эта передача происходит, ребёнку становится
доступно то, что касается женского наслаждения, но доступно,
как уже было сказано, в отчуждённой форме: ничего об этом
наслаждении не зная, не понимая его природы, ребенок в
своей деятельности подает его как acting out, действие вовне.
Причем объект этот продолжает функционировать как
объект анальный. Нам в общем известно, что представляет
собой объект, называемый анальным — это объект, который
il
rt>
зс
л
s
21
ft
П
О
ГО
-Ό
Л>
2
л>
I
I
S<
rt>
л
η
зс
s
St
η
x<
σ\
&
л>
s
η
Η
π>
■α
s
21
S
о
σ\
η
л>
r>
r>
271
Желание одержимого
CL
О
CU
I-
о
CÛ
о
X
m
u
О
ш
τ
ΓΠ
OC
CÛ
ω
X
m
О
CL
CÛ
<U
X
272
нельзя ассимилировать, усвоить. Анальный объект — это то,
что неперевариваемо в принципе, потому-то он и исторгается
на уровне телесном, при этом — обстоятельство, которое ни
в коем случае нельзя упустить — придерживаясь на уровне
фантазматическом.
В этом смысле данный объект обречен застрять в
функционировании желания прочно и навсегда. С одной стороны, как
известно, именно это подключает ребенка к возможности
овладения навыками чистоплотности и поддержания себя в
порядке. Но то, что ребенок из этого объекта извлекает, вовсе не
сводится к запрету на игры с грязью — напротив, объект этот
открывает ему недоступную до того территорию ожидания,
связанную с фантазией о Другом, который мог бы внесенной
этим объектом порчей насладиться и проявить к ней особый
интерес. Именно отсюда на уровне Воображаемого
возникает фантазия о чудесном спасении, о сочувствующем и бдящем
Другом, которую в наиболее темном месте «Психики власти»
пересказывает Джудит Батлер, не обманываясь ее
происхождением и верно проводя ее по ведомству анального регистра.
В то же время наличие этого переданного объекта создаёт
в ребенке зону особой тревоги и ожидания, что мать расскажет
будоражащую историю до конца и механизм ее наслаждения
окажется обнаженным. При этом мать, естественно, никогда
его не раскрывает — в том числе и потому, что фантазм не
может быть полностью дан на уровне речи: помимо измерения
стыда, которое прочно удерживает мать от того, чтобы ребёнка
во все детали посвятить, существует и то, что не может быть
высказано в принципе, то есть то, что в фантазме несимво-
лизируемо. Поэтому ребёнок, уловивший отдельные сигналы
женского наслаждения, постоянно ждёт продолжения
неоконченной истории. Вместо этого мать предлагает ему другую
продукцию: она читает ему на ночь, она поёт ему, она учит
читать его самого. Ребёнок входит в книгу, и наслаждение,
которое она дает тоже, как ни странно это слышать,
организовано анальным образом — не случайно процессы дефекации
и чтения зачастую дополняют друг друга. Дело не только в том,
что книга является плодом символической дефекации автора,
как замечает Фрейд, поскольку издать произведение означает
испустить объект, подарить миру собственный
привлекательный экскремент. Но мы видим теперь, что у сходства есть иные
Приложение
основания не менее высокого порядка. Сами интимные
отношения с книгой, которые позволяют нам книгой наслаждаться,
носят анальный характер, поскольку восходят к замещению
того, что прошло мимо ребенка в средствах анального
женского наслаждения. Вместо рассказа об этом наслаждении,
которое мать не раскрывает до конца и на которое она лишь
намекнула парой слов — может быть, рассказанным ребёнку
анекдотом или случайно оброненными соображениями, — она
предлагает ребёнку текст написанной книги, сказки, рассказа,
истории, поэмы. Ребёнок учится читать, и читает он именно
взамен всего того, что мать ему о своём анальном фантазме не
могла рассказать в принципе.
Наслаждение, которое даруется чтением, то замирание,
которое чтение у нас вызывает — особенно тогда, когда мы
только приступаем к нему — хорошо известно как маркер
субъектности определенного типа: невзирая на повсеместное
запойное навязывание книги как средства наслаждения,
хорошо известно, что «читают» — в смысле постоянной и
устойчивой практики — далеко не все. Более того, известно также, что
чтение в качестве практики наслаждения склонно к
возрастному угасанию: так, дети при надлежащей склонности читают
больше, чем взрослые, равно как и субъекты, вошедшие в
возрастную категорию, читают меньше, чем субъект относительно
молодой. Даже если уже перешедшие возрастную черту к
чтению однажды возвращаются, то их политическая позиция по
поводу этой практики оказывается изменена: чаще они читают
нечто не усвоенное ранее, делая ставку скорее на повторение
своего опыта другими средствами.
Другими словами, чтение угасает вместе с проявлениями
общей потенции, и это тоже показывает нам, что оно
недалеко ушло от отправления сексуального наслаждения. Субъекты
юные, старшие школьники в фазе выхода из латентной фазы,
читают, как известно, запоем, если они, конечно, к чтению уже
подключены и им это практика доступна. То же касается и
детей в долатентном периоде: текст вызывает у них зачастую
такое сильное чувство, что есть места, которые они просто не
могут воспринять, что и выражается в известных ослышках
относительно содержания, если, например, им читают вслух.
Характерные для детского восприятия чтения на слух
склеивания означающих с появлением какого-то иного слова или же
п>
Ä
η
о
го
■о
п>
2
П>
I
I
JT
Se
36
Π)
I
η
Se
η
Π)
Q
Π)
■о
о
a\
η
Π)
η
η
273
Желание одержимого
Q-
O
<U
H
о
u
ω
о
I
(Ό
(Ό
ω
ο
ω
τ
m
σ:
ω
(Ό
ι
m
Ο
Q-
ω
0)
274
пропажа части слова с ее подменой, по всей видимости,
обязаны не только чисто возрастной и педагогической незрелости
слушателя, но и выполняют функцию регуляции в пределах
принципа удовольствия.
Ослышки эти сохраняются надолго, вплоть до конца
анальной фазы, и они не только говорят о предпочтениях читающего,
требующего от текста, чтобы тот говорил об определенных
вещах, — известно, как комично детская память на этих ослыш-
ках настаивает, — но и о том, что написанное до такой
степени приближается к тому, что касается фантазма, полученного
через материнскую речь, что слушающий перед ними просто
пасует. Как только ребенок получает книгу в свое собственное
распоряжение, возникает ряд условий, подталкивающих его
также ко вступлению в распоряжение регуляторами
собственного наслаждения, что и выражается в появлении поведения,
нацеленного в чтении на предпочтение предварительного
повествовательного удовольствия и избегание тех мест в наррати-
ве, где фантазм чисто случайно, в силу авторских намерений
представлен наиболее прямо.
Другими словами, все ведет к тому, что чтение
представляет собой «дурную привычку» в сугубо фрейдовском смысле
употребления этого термина: оно становится для субъекта
привычным способом получения наслаждения вне, так
сказать, магистральной линии влечения, то есть помимо,
украдкой — не случайно в ранней юности зачастую читают под
одеялом, тайком, что сразу наводит на очевидные
ассоциации. В то же время хорошо известно, что чтение
представляет собой не только замещение наслаждения органа, но и его
отклонение, выражающееся в возвращении на более раннюю
стадию, которую Фрейд с любопытной в данном случае
непреклонностью обозначал как «инфантильную» — то есть не
достигшую «зрелой сексуальности». До какой бы степени миф
этой зрелой сексуальности сегодня ни был объектом гонения,
невозможно не признавать, что в приложении к наслаждению
чтением линия мысли Фрейда приобретает особое и
нетрадиционное звучание, ведь повсеместно принято считать, что
чтение представляет собой средство неуклонного
личностного роста.
Интересно, что с чисто психоаналитической точки зрения
ничего подобного даже в самом прилежном и разнообразном
Приложение
чтении обнаружить нельзя: с этой точки зрения, чтение
представляет собой привычку того же сорта, что и, например,
замеченное Фрейдом задерживание фекального объекта как
продление с ним особых интимных отношений, долгое время
не заканчивающихся кульминацией выделения. Именно это он
полагает знаком того, что субъект намеревается получать
наслаждение уклоняющимся образом.
Все это ведет к тому, чтобы видеть в чтении не столько
сублимированную практику — мнение, к которому настойчиво
склоняет нас нынешнее состояние культуры, — сколько
нескончаемые попытки субъекта проверить, до какой степени
в пропагандируемом матерью измерении чтения может быть
выражено то, на что лишь намекает привносимая ей речь, в
выражении которой она себя постоянно в присутствии ребенка
обрывает. Тот факт, что в сложившейся культурной ситуации
навыкам чтения ребенка обучает именно мать, равно как и то,
что более-менее устойчивой и сформировавшейся привычкой
к чтению так называемой «большой литературы» субъект
также обязан именно матери, говорит о том, что все жесты
лояльности или же протеста против необходимости состояться
как читающий субъект ребенок совершает, исходя из своего
отношения к значимости ее фантазма.
В этом отношении то культурное значение, которое имеет
этот фантазм, переоценить невозможно. Сама по себе широко
распространенная приверженность чтению существует
именно благодаря существованию того самого женского
наслаждения, посредством которого матери невольно удаётся показать
подчиненному ей детскому субъекту нечто совершенно для
него неусвояемое. То ангельское терпение, которое
впоследствии проявляет этот — во всем остальном безудержный
и жадный до быстрого наслаждения — субъект в занятиях
чтением, днями и неделями продираясь через текст в
ожидании не самой интересной и вполне предсказуемой развязки,
обязано лишь той интриге, которую мать сумела создать для
него в тот момент, когда совершенно не имела этого субъекта
в виду.
Важно обратить внимание на то, что подобный итог мог
состояться только ввиду той особой функции, которую женское
наслаждение выполняет в свете его преобладающей роли
в семейных отношениях. Современная всеобщая культурная
п>
Ä
η
о
го
■о
п>
2
П>
I
I
JT
Se
36
Π)
I
η
Se
η
Π)
Q
Π)
■о
о
a\
η
Π)
η
η
275
Желание одержимого
CL
О
CU
I-
о
CÛ
о
ζ
ω
χ:
(Ό
m
u
Ο
ш
τ
m
CC
Ш
(Ό
Ζ
m
Ο
Q.
ffl
<U
Χ
276
приверженность чтению могла появиться лишь потому, что
функция этого наслаждения приобрела всеохватывающий
характер, но произойти это могло лишь по причине того, что от
объекта этого наслаждения нельзя отделаться на анальном
уровне.
Это привносит новое звучание в то, что мы вообще об
анальном объекте знаем, поскольку знакомы мы с ним
исключительно под маской объекта всеобщего обмена — не
случайно в качестве основного примера этого объекта то и дело
приводят денежную единицу как пример того, что объект не
обязательно менять на точно такой же и, если у вас вдруг не
оказалось в точности того самого, что другой требует или что
необходимо принести в жертву, всегда можно отдать какой-то
эквивалент.
Все это остается справедливым, но лишь с одной
оговоркой: это касается именно объекта мужского наслаждения —
что, впрочем, не опровергает того, то насладиться им таким
образом способна и женщина при условии, что этот объект
ее не слишком затрагивает. Если исход продукции
маскулинного наслаждения состоит в том, что его можно избыть — то
есть, если вы не можете с ним справиться, его нетрудно на
что-либо обменять, в чем денежная функция и
заключается, — то сугубо женский анальный объект, по всей
видимости, не обменивается в принципе. Получив его — например,
от своей матери, — субъект, причем субъект любого пола,
несет его с собой всю жизнь. Его можно избывать с помощью
отдельных актов получения прибавочного наслаждения, но
лишь частично — переработать его базовую часть,
вмешивающуюся в субъект в виде несомой им порчи, никогда не
удается: оно всегда оставляет нерастворимый остаток, лежащий
на вещах след.
Именно по этой причине объект этого наслаждения
становится объектом операции, которую Лакан, в
противоположность ассимиляции, называет инкорпорацией. Если при
ассимиляции попавший в вас чуждый объект в итоге усваивается
полностью, как, например, попадающее в ткани организма
лекарственное вещество, то инкорпорация представляет собой
нечто вроде попадания тела в полую трубу, где оно
перекатывается, гремит, вызывая возмущение в атмосфере, но не вступает
с окружающими тканями ни в какие реакции — точно так же,
Приложение
как и фекальный объект в кишечнике, который уже на базовом
физиологическом уровне обнаруживает свою неусвояемость.
Благодаря инкорпорации объекта анального женского
наслаждения в желание ребенка и происходит передача
последнему его собственного обсессивного симптома. Если бы не
эта специфическая обсессия материнского субъекта, которая
на деле находится на границе материнского и женского,
поскольку в материнском уходе она лишь реализуется, но им
далеко не исчерпывается и берет свое начало в независимом
женском фантазме, субъект не имел бы никаких шансов
узнать о существовании объекта, наслаждение которым ставит
его перед вопросом наслаждения вообще. Обсессия,
балансирующая на грани материнского и женского, посвящает
субъекта любого пола в навязчивость уже его собственную,
но при этом — это парадоксально, но об этом говорят
факты — приводит его в обсессивный фантазм, организованный
по мужскому типу. Другими словами, для развития невроза
навязчивости в том виде, который исторически сначала был
зафиксирован у мужчин-анализантов, необходим женский
фантазм, выступающий объектом передачи по нисходящей
семейной линии.
Следует сказать, что это именно тот процесс, который
мы наблюдаем с тех пор, как увиденный Фрейдом расцвет
истерии сменяется расцветом навязчивости,
захватывающей также и женщин. Сегодня субъект женской сексуации
подключён к обсессии так же, как и мужской, и первому
она доступна не в меньшей степени. Именно это приводит
к появлению ситуации, которую некоторые самодеятельные
социологи вслепую пытаются обозначить как процессы
уравнивания полов. Указывая на то, что подобное уравнивание
проводится под эгидой распространения маскулинной
повестки, на которую женщины якобы претендуют, они
упускают из виду, что видеть эти процессы необходимо не на
уровне подражания или зависти к мужскому, а в той области,
где дочери обнаруживают оформленный в материнскую речь
женский анальный фантазм как нечто настолько же им
чуждое, как и сыновьям. Никакого иного основания для
внезапно наметившейся перспективы солидарности полов, похоже,
не существует. Сам объединяющий их повод может лежать
только в сфере столкновения с одинаково неприглядным и в
п>
Ä
η
о
го
■о
п>
2
П>
I
I
JT
Se
36
Π)
I
η
Se
η
Π)
Q
Π)
■о
о
a\
η
Π)
η
η
277
Желание одержимого
CL
О
<V
I-
О
ш
о
ζ
го
*
m
u
О
ш
τ
ОС
m
го
ζ
m
О
CL
ffl
<V
X
то же время инкорпорируемым объектом, с которым субъект
любого пола имеет дело в режиме откладывания — будучи
не в состоянии его объяснить, он предпринимает отсрочку
прояснения на потом, что приводит к возрастанию его
тревоги. С этой точки зрения те довольно наивные прогнозы,
которые то и дело дает культура современного сексуального
просвещения, полагающего, что пресловутое тендерное
разделение склонно со временем сглаживаться, уменьшаться
в дистанции, упускают из виду, насколько серьезная тревога
сопротивляется этому процессу и до какой степени
непредсказуемо это сопротивление может возрасти в ответ на
угрозу аннулирования этого разделения.
Содержание
Невроз навязчивости и тревога психоаналитика.
Выступление на презентации
«Желания одержимого» 5
Введение Невроз навязчивости как продукт
аналитической мысли 47
Глава 1 О началах субъекта навязчивости 62
Глава 2 Симптом навязчивости:
от образа к образованию 76
Глава 3 Основные элементы невроза навязчивости 87
Глава 4 Навязчивость и поиск признания 102
Глава 5 Накопление и желание удержать 126
Глава 6 Желание и импотенция 144
Глава 7 Тревога, дереализация и картезианство 164
Глава 8 Панический субъект и его
компрометирующее знание 180
Глава 9 Топология «желания аналитика» 194
Глава 10 Одержимость и ее объект 209
Приложение:
Лекция «Современный женский субъект:
истерия и обсессия» 225
Смулянский Александр
ЖЕЛАНИЕ ОДЕРЖИМОГО:
НЕВРОЗ НАВЯЗЧИВОСТИ В ЛАКАНОВСКОИ ТЕОРИИ
редактор издательства И. А. Савкин
Дизайн обложки И. Граве
Оригинал-макет М. Валюх
Корректор Д. Былинкина
ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»
Заказ книг: тел. +7 (921) 951-98-99,
e-mail: fempro@yandex.ru, Савкина Татьяна Михайловна
192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 86 А, оф. 536, 532
Редакция: тел. (812) 577-48-72, e-mail: aletheia92@mail.ru,
191015, г. Санкт-Петербург, ул. 9-ая Советская, д. 4, офис 304
www.aletheia.spb.ru
Книги издательства «Алетейя» можно приобрести
в Москве:
«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. www.biblio-globus.ru
Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83
«Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2. Тел. (495) 915-27-97
«Фаланстер», М. Гнездниковский пер., 12/27. Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21
«Циолковский», ул. Б. Молчановка, 18. Тел. (495) 691-51-16
Книжная лавка «У Кентавра». Миусская площадь, д. 6, корп. 6
Тел. (495) 250-65-46, +7-901-729-43-40, kentavr@kpole.ru
в Киеве:
«Книжный бум». Тел. +38 067 273-50-10, gronllll@mail.ru
в Минске:
«Трэгросс-Бук», ул. Казинца, д. 123, оф. 4.
Тел. +37 517 338 95 23, www.tregross.com
в Варшаве:
«Centrum Nauczania Jçzyka Rosyjskiego»,
ul. Ptasia 4. Tel. +48 (22) 826-17-36, szkola@jezykrosyjski.com.pl
в Риге:
«Intelektuâla grâmata»
Riga, Kr.Barona iela 45/47. Tel. +371 67315727, info@merion.lv
Интернет-магазин: www.ozon.ru
Формат 60x88 Vie. Усл. печ. л. 17,11. Печать офсетная.
Заказ №
Главный
®